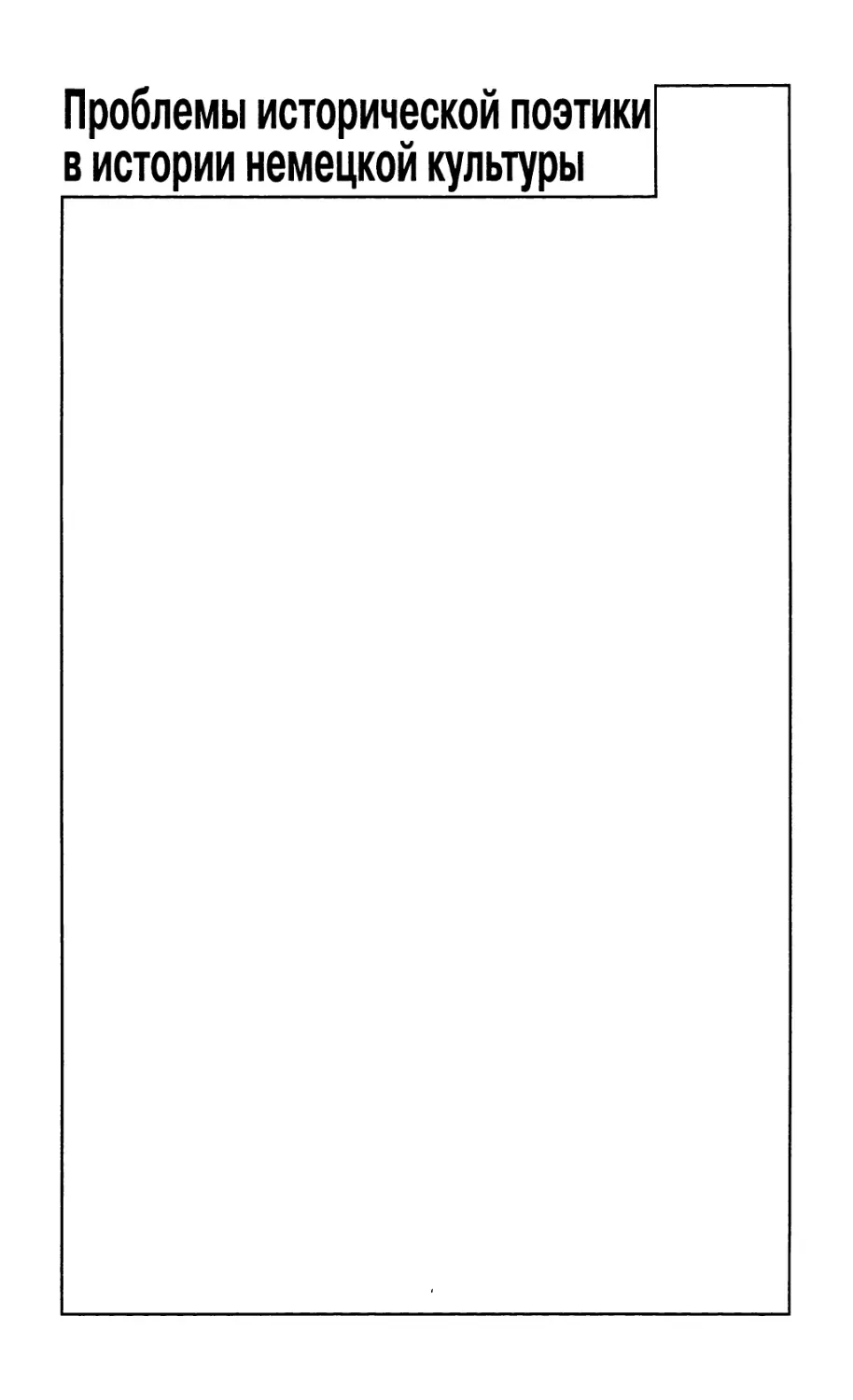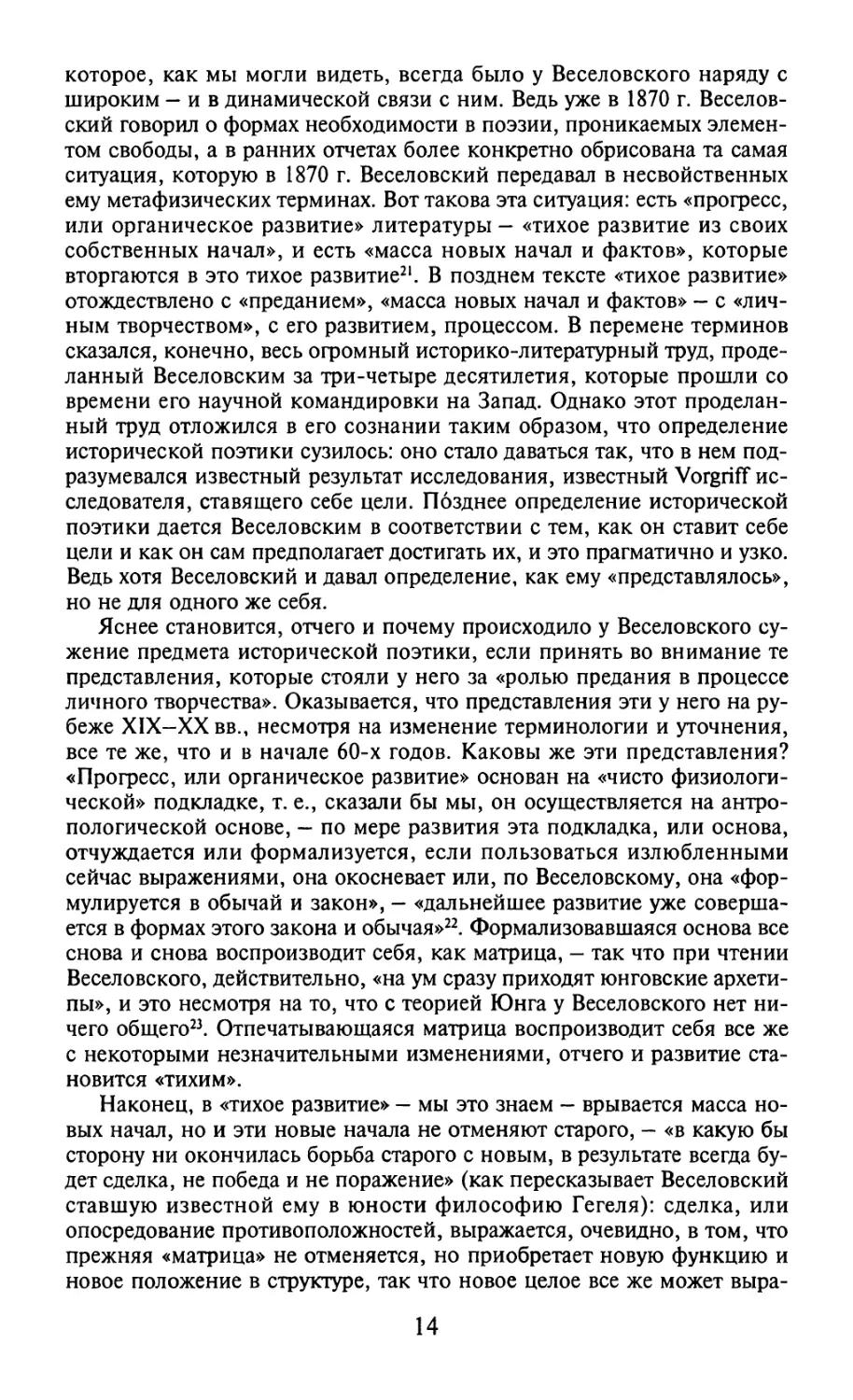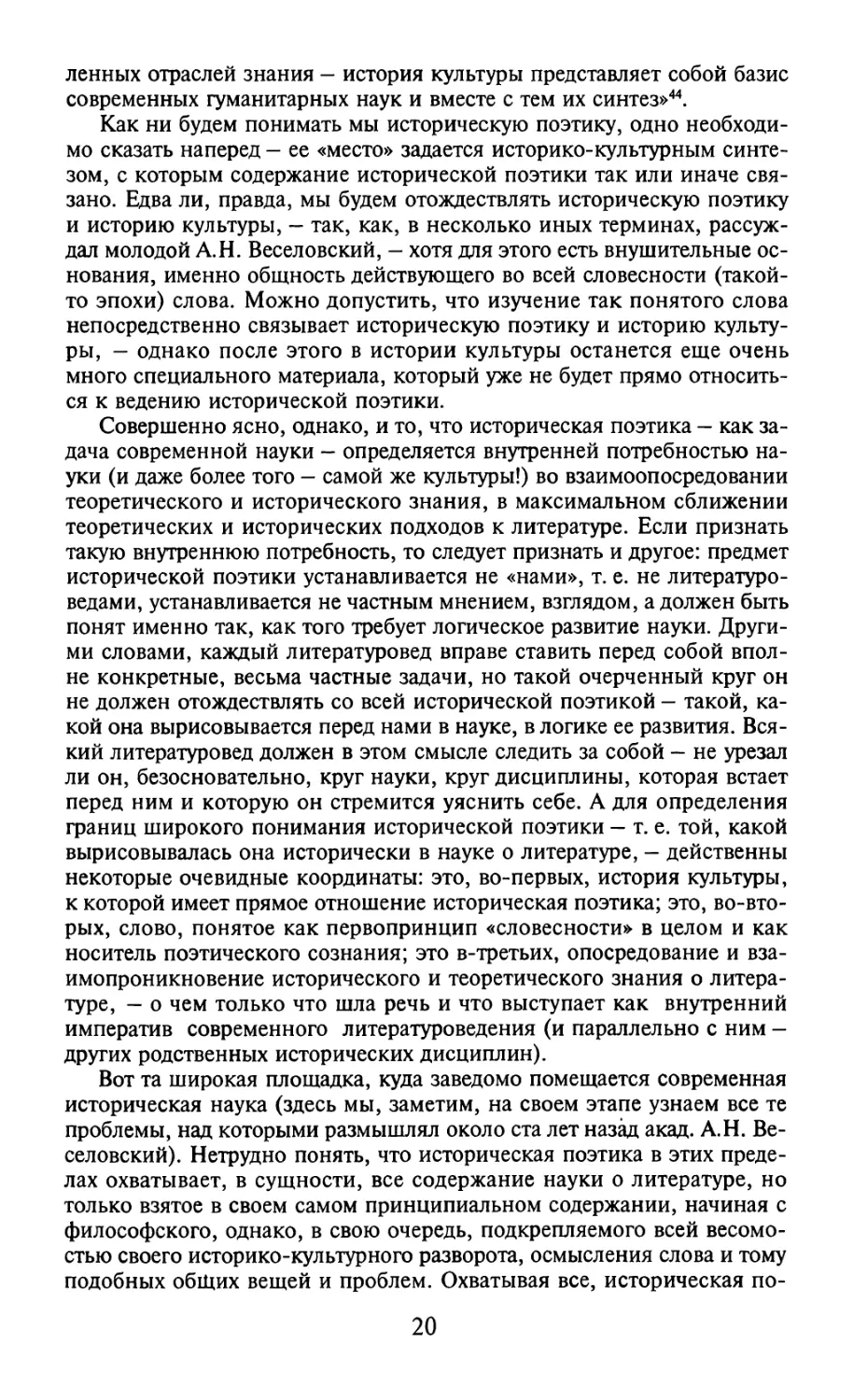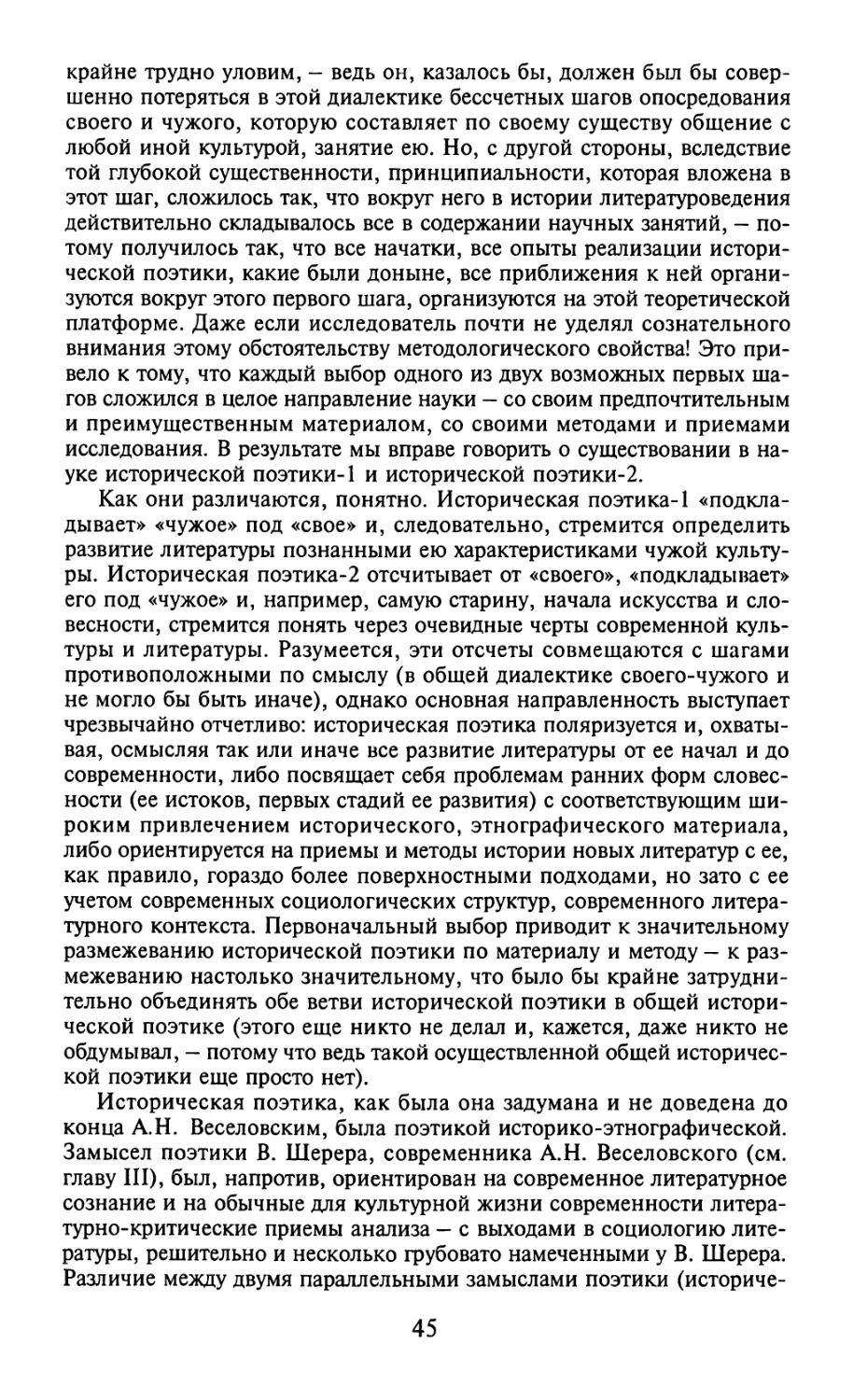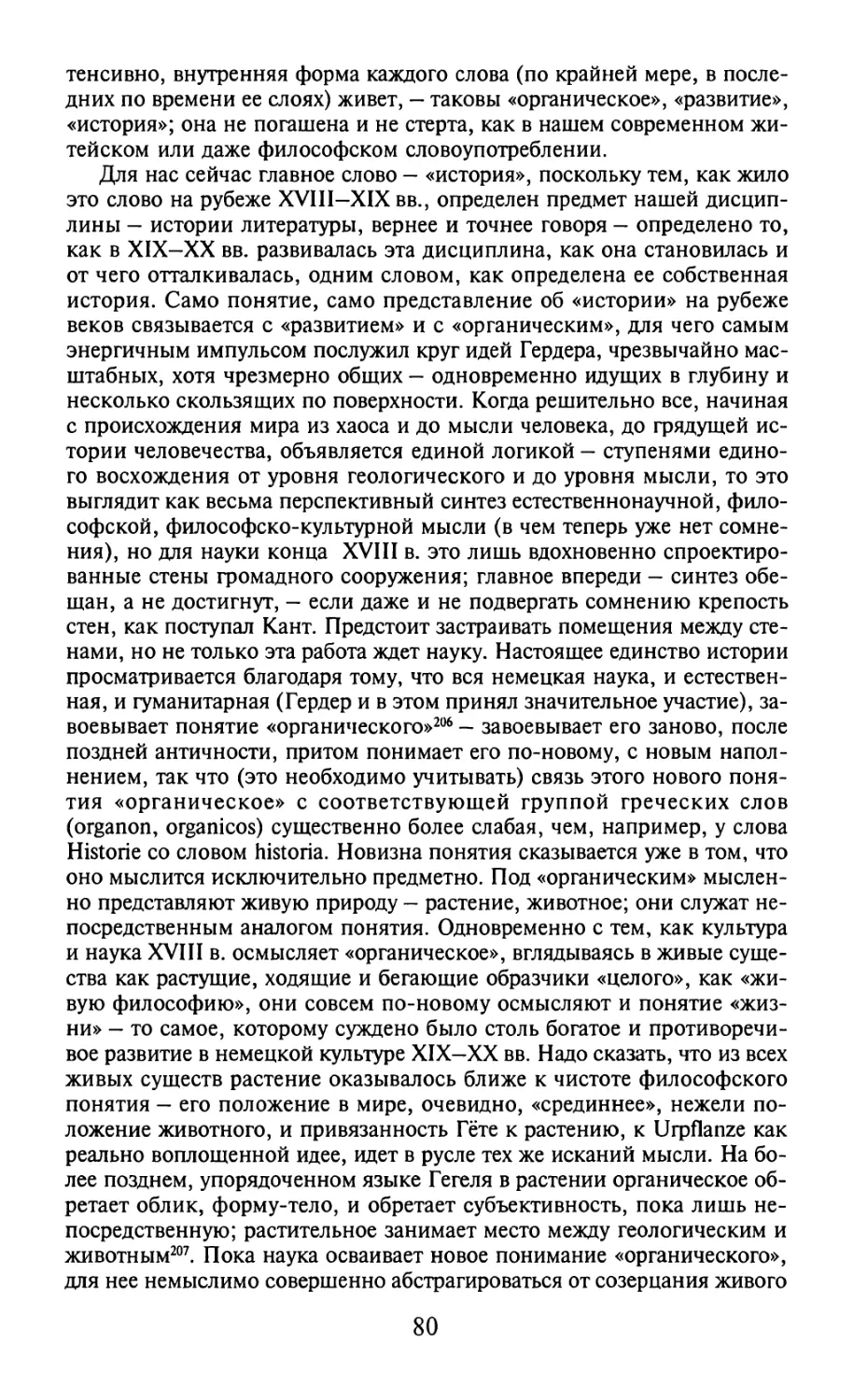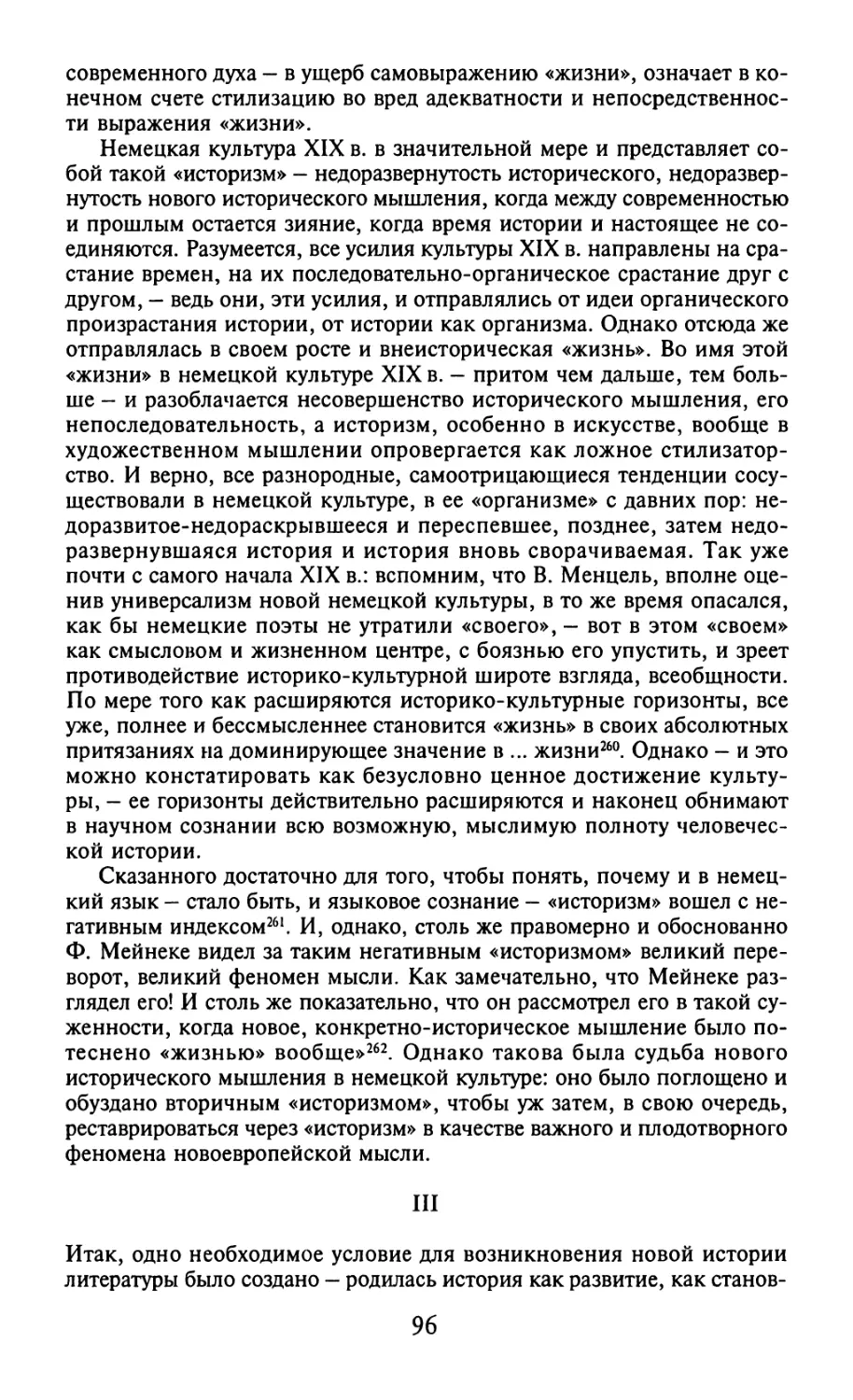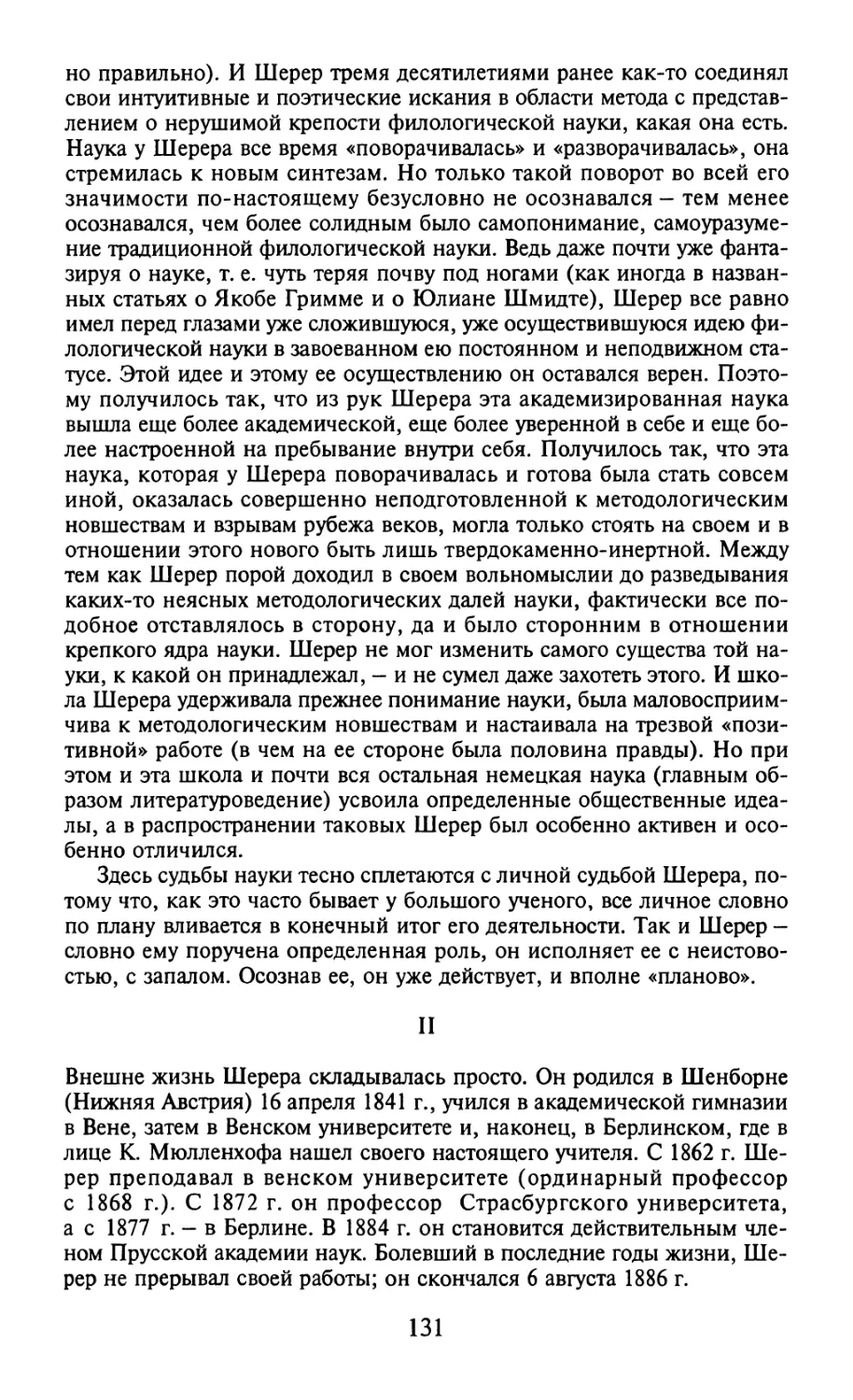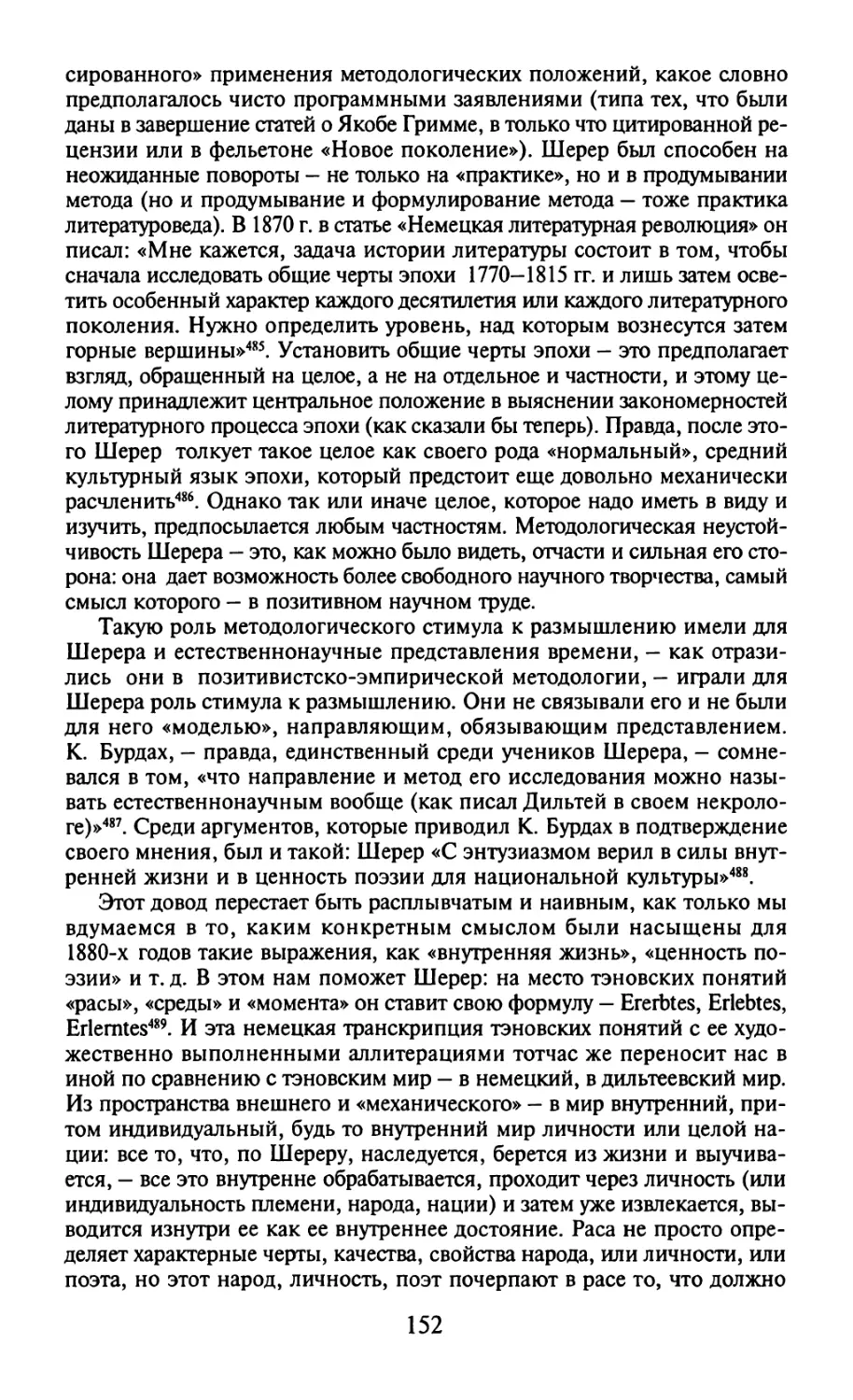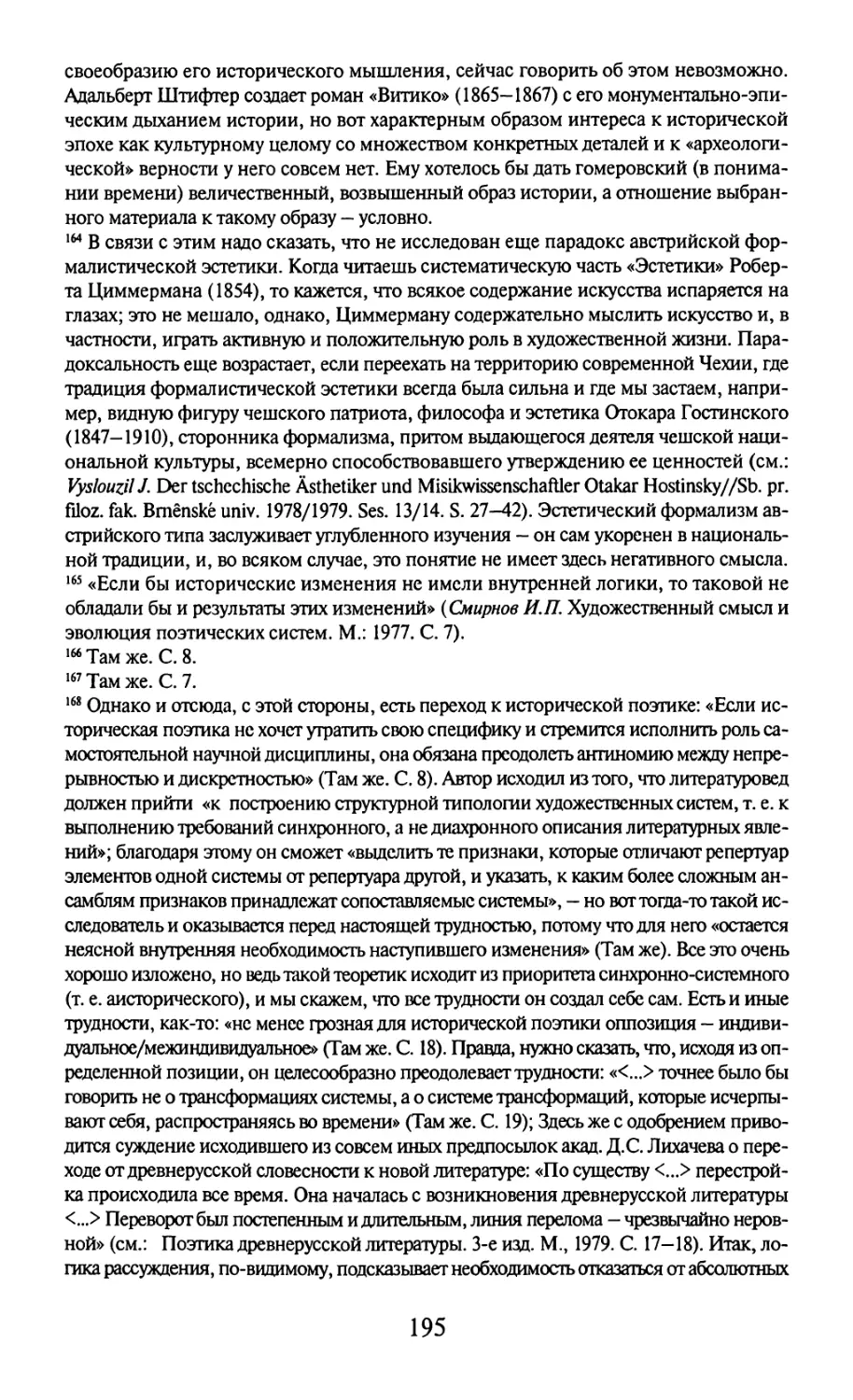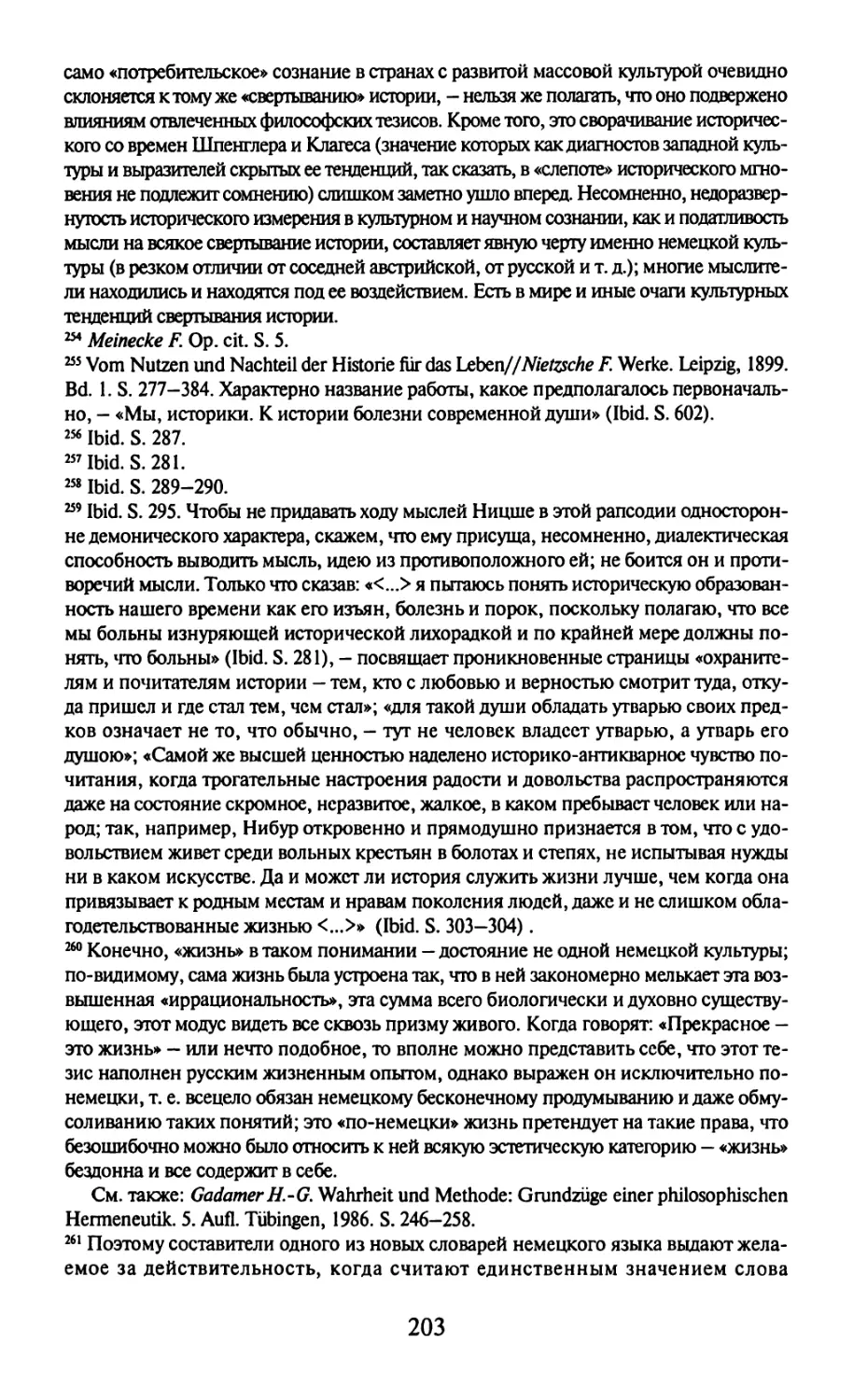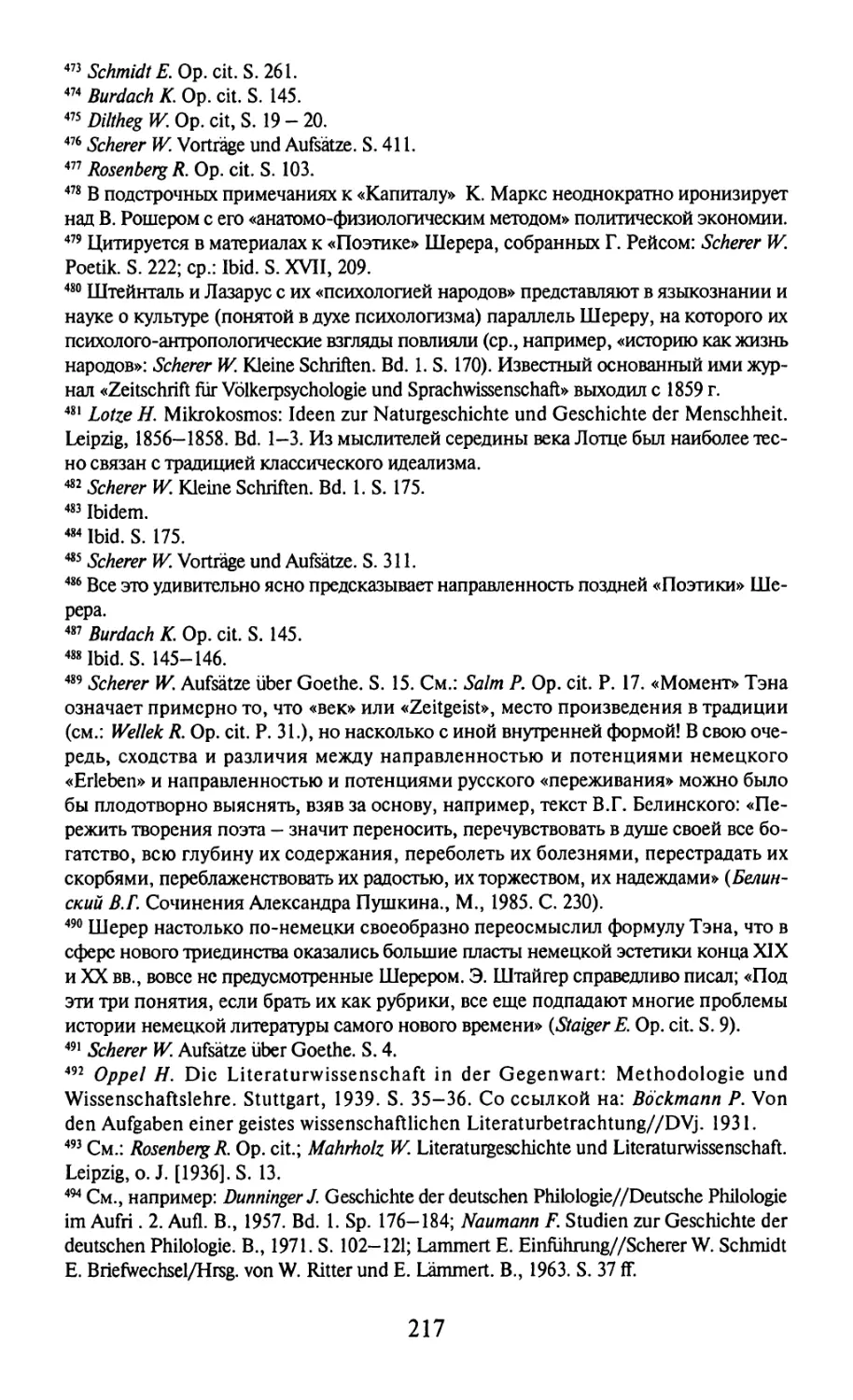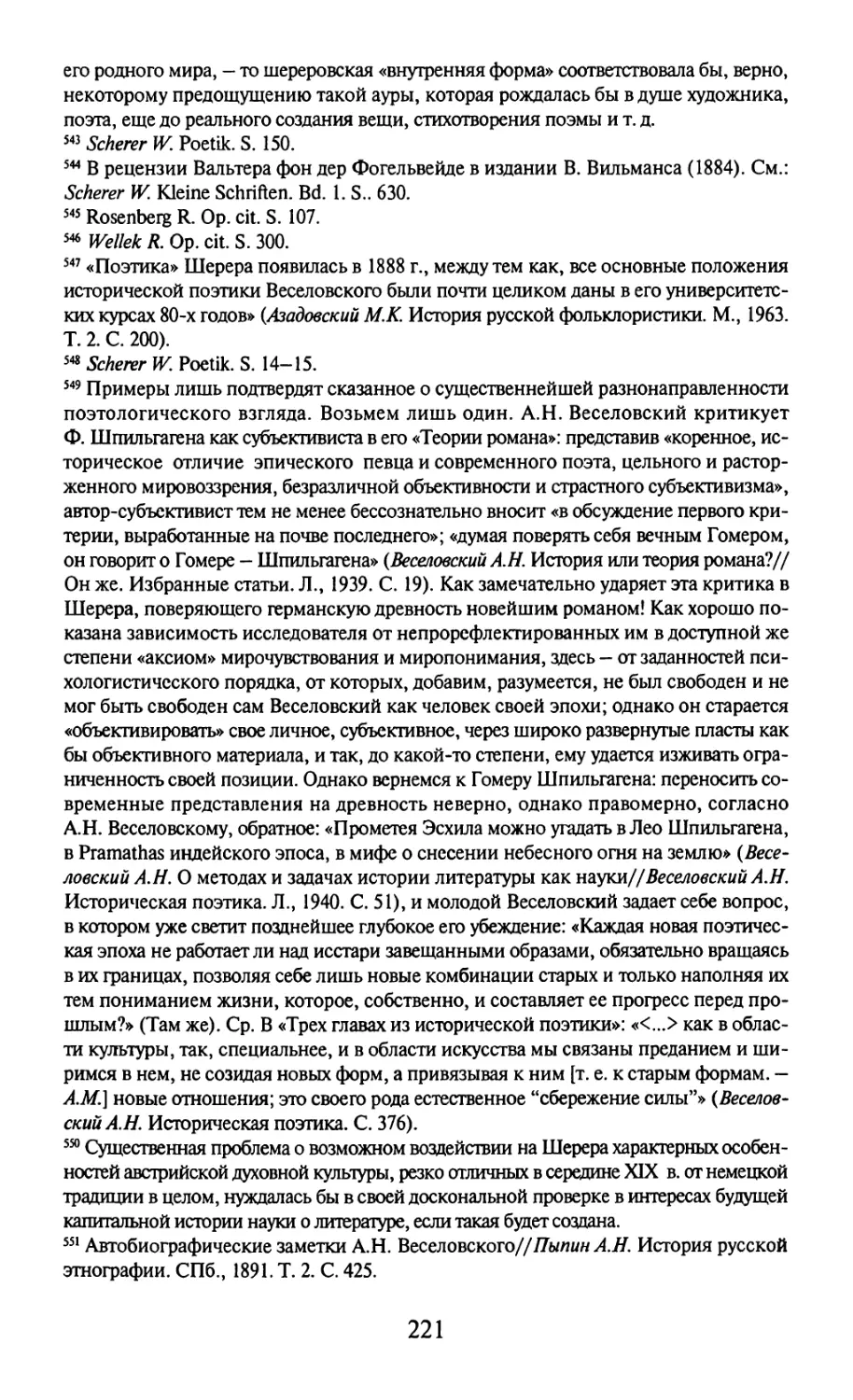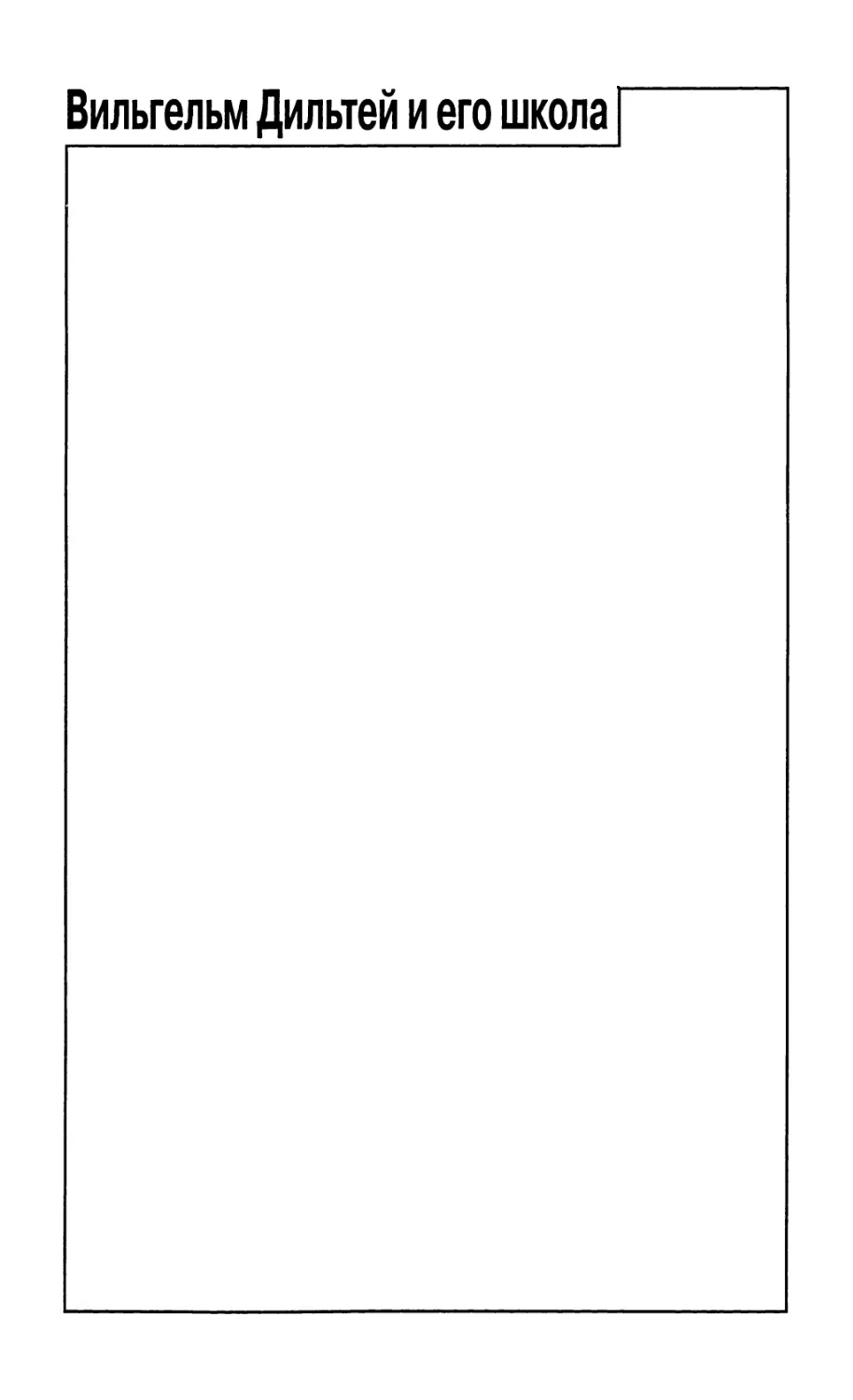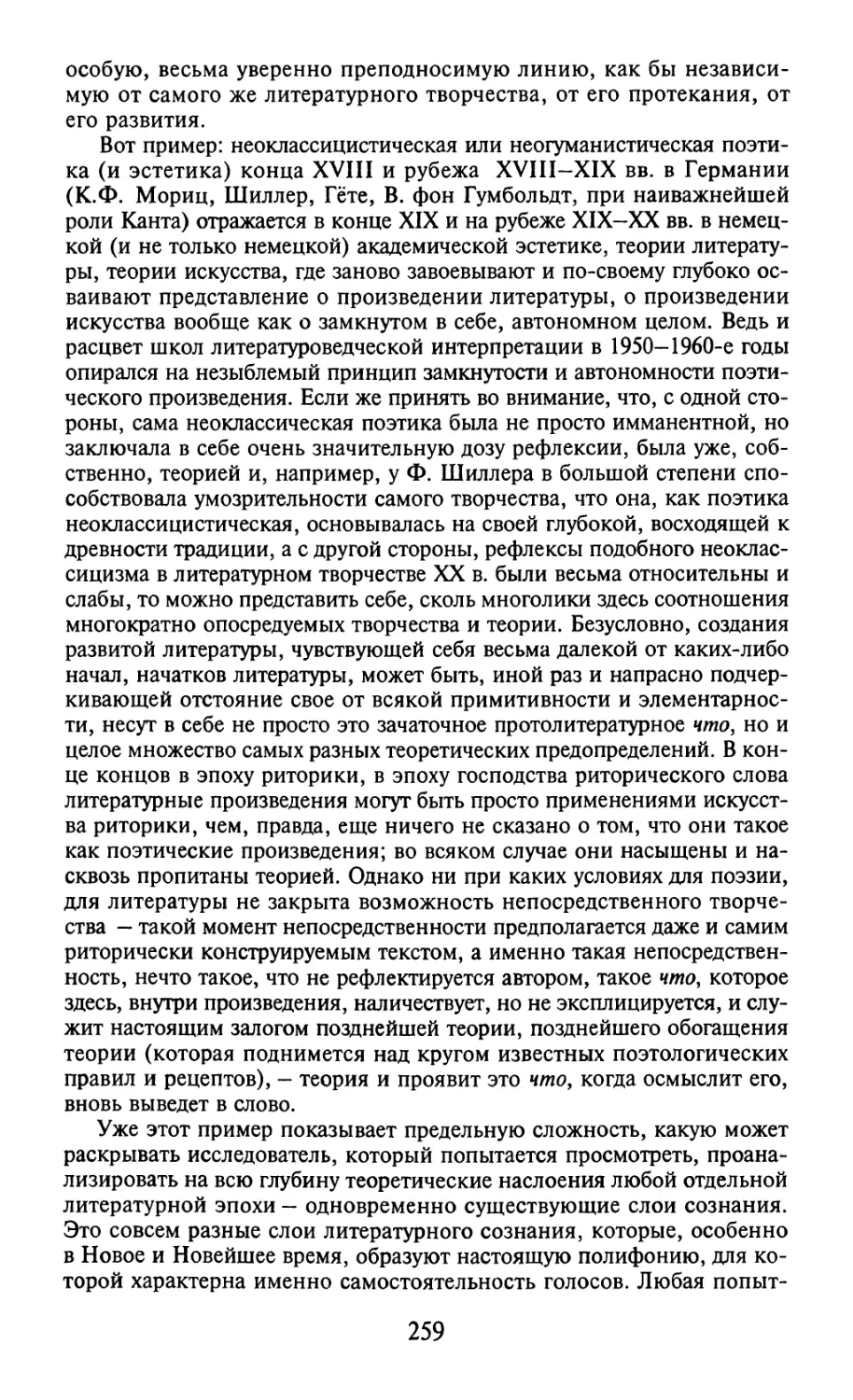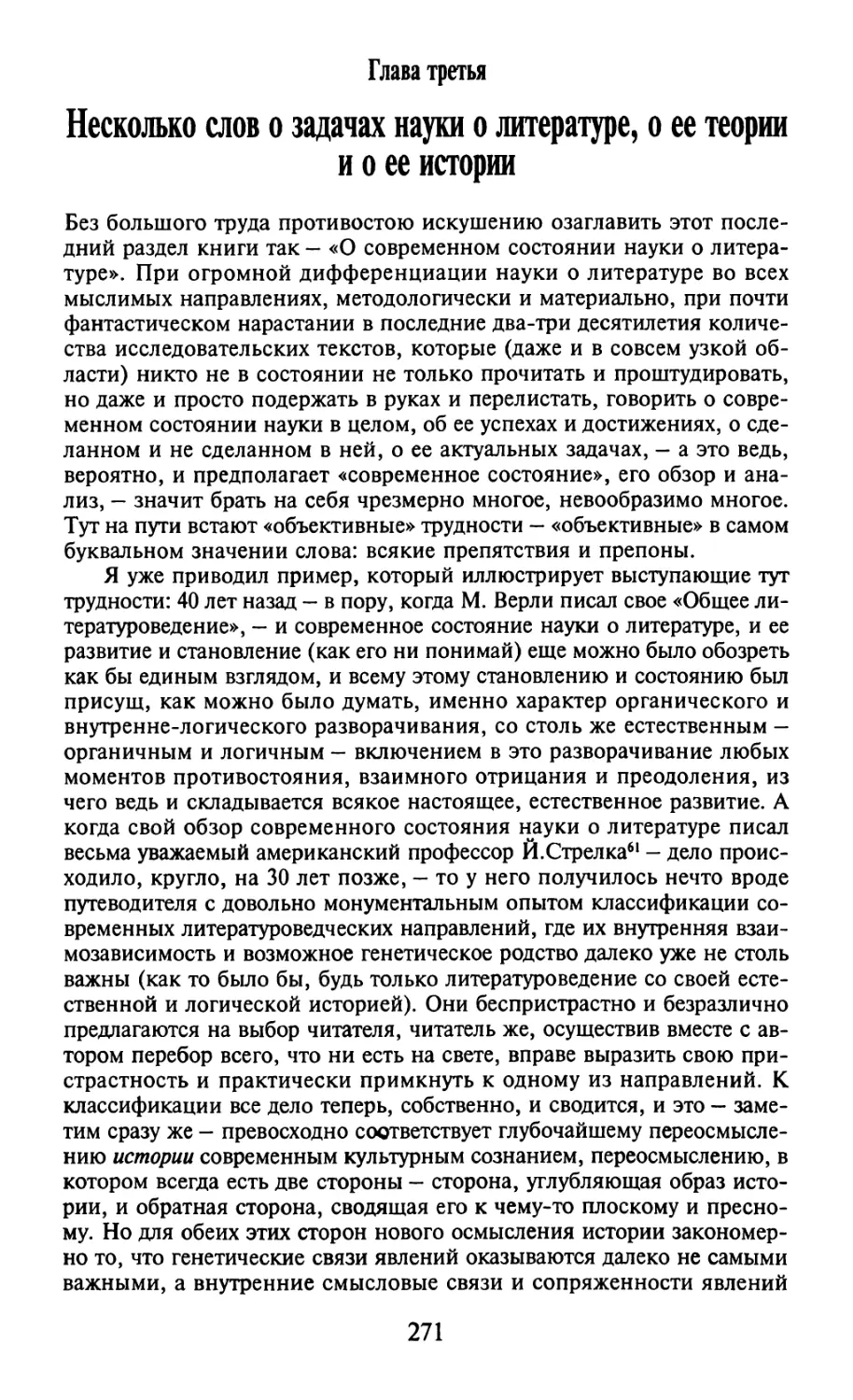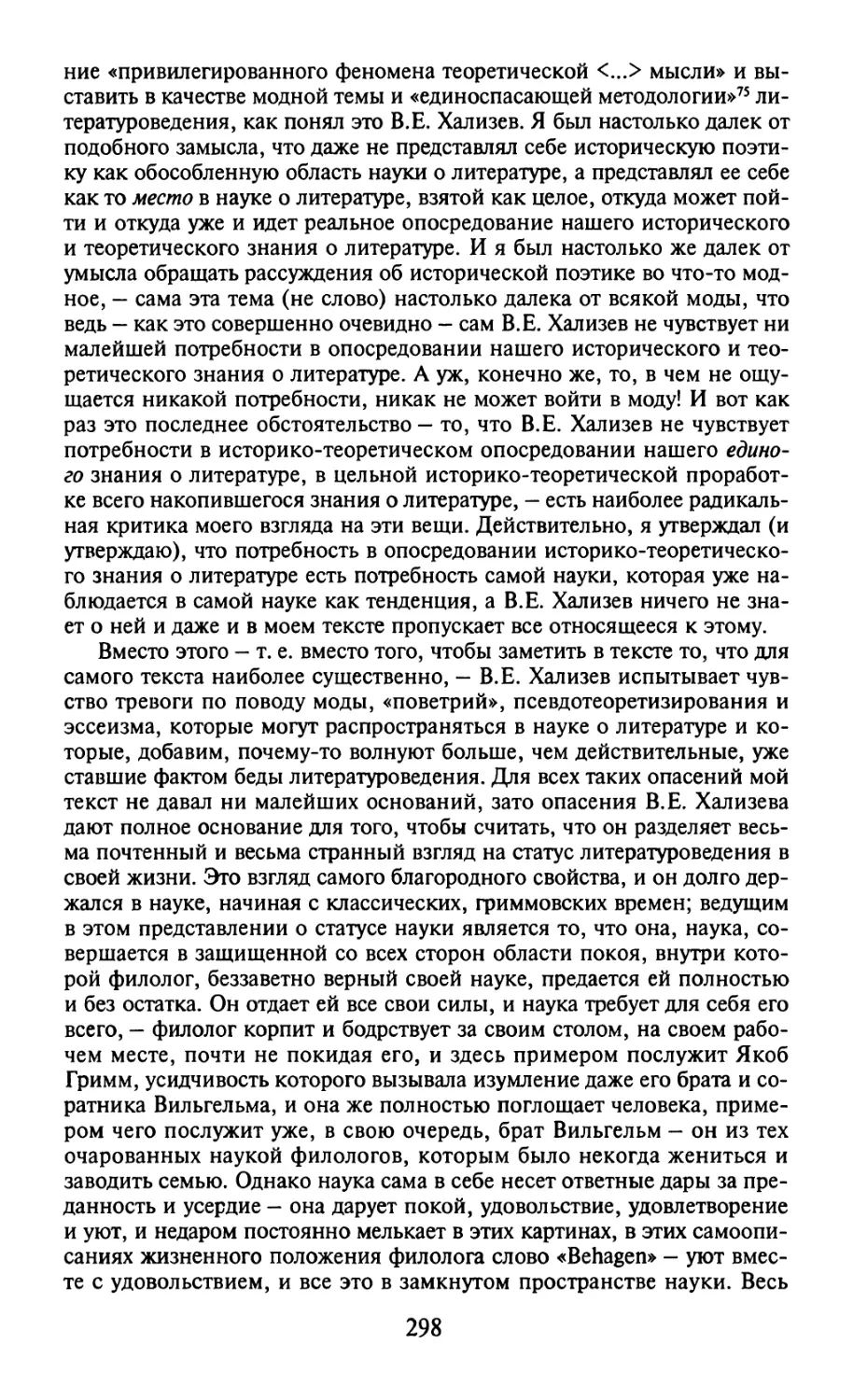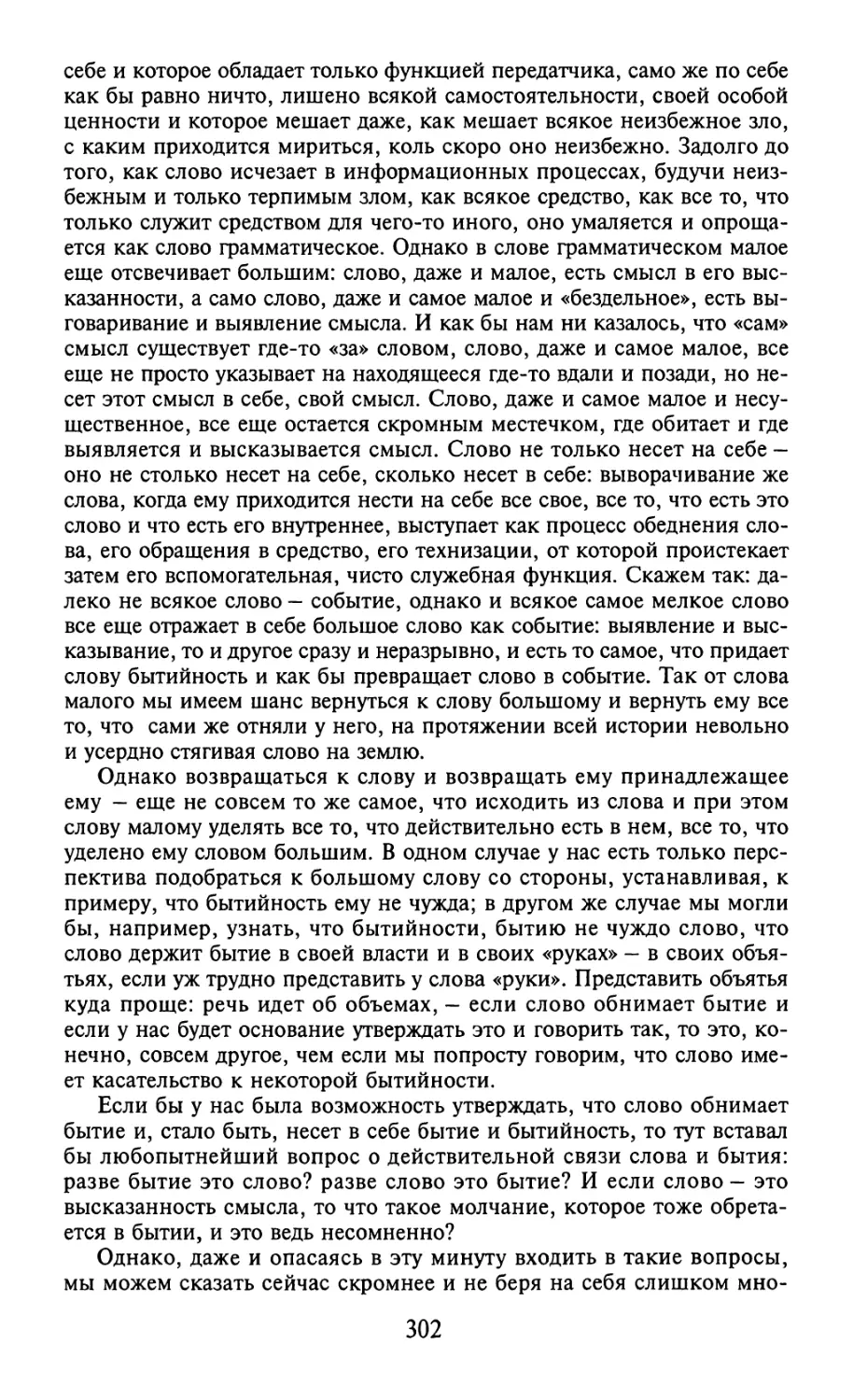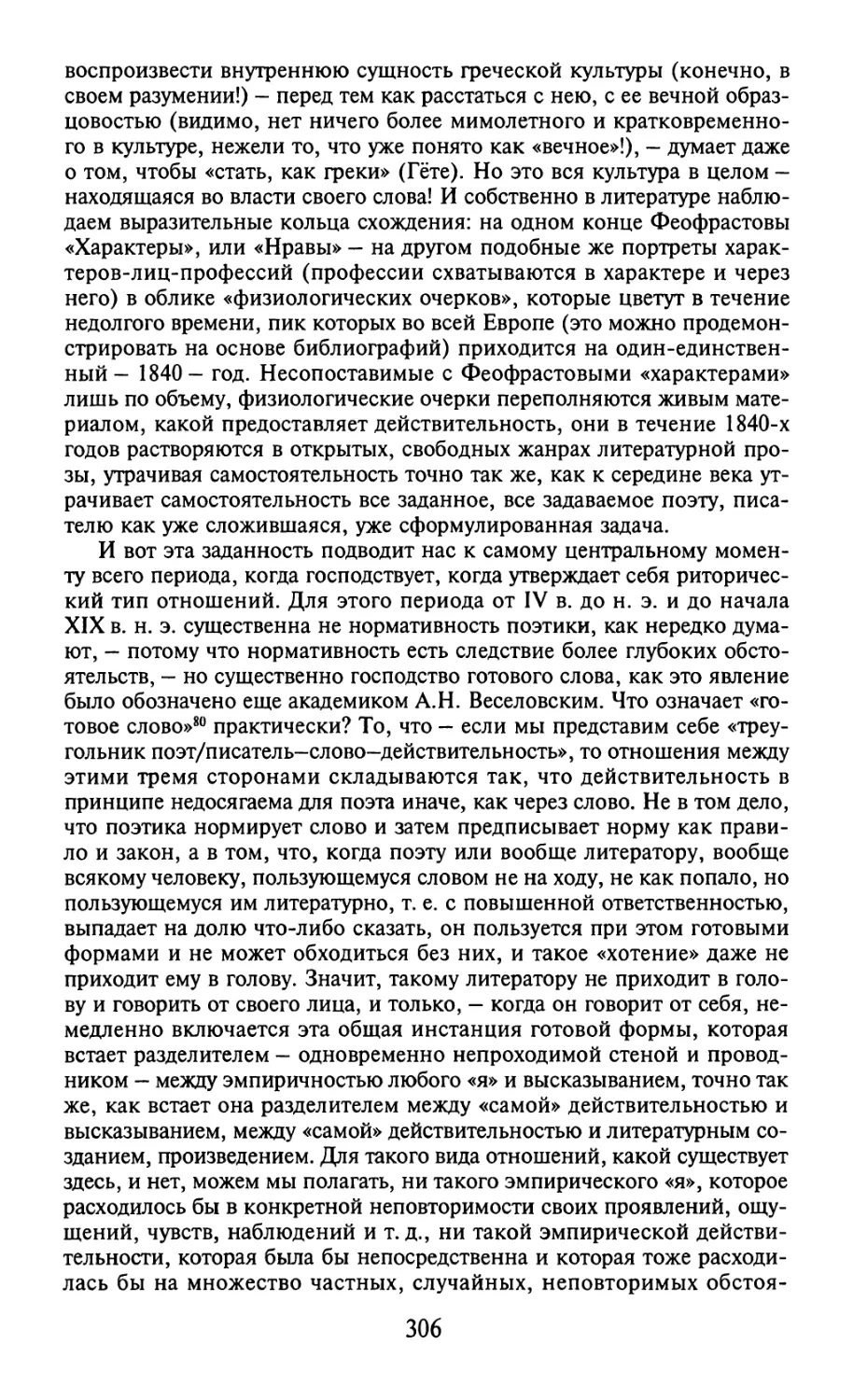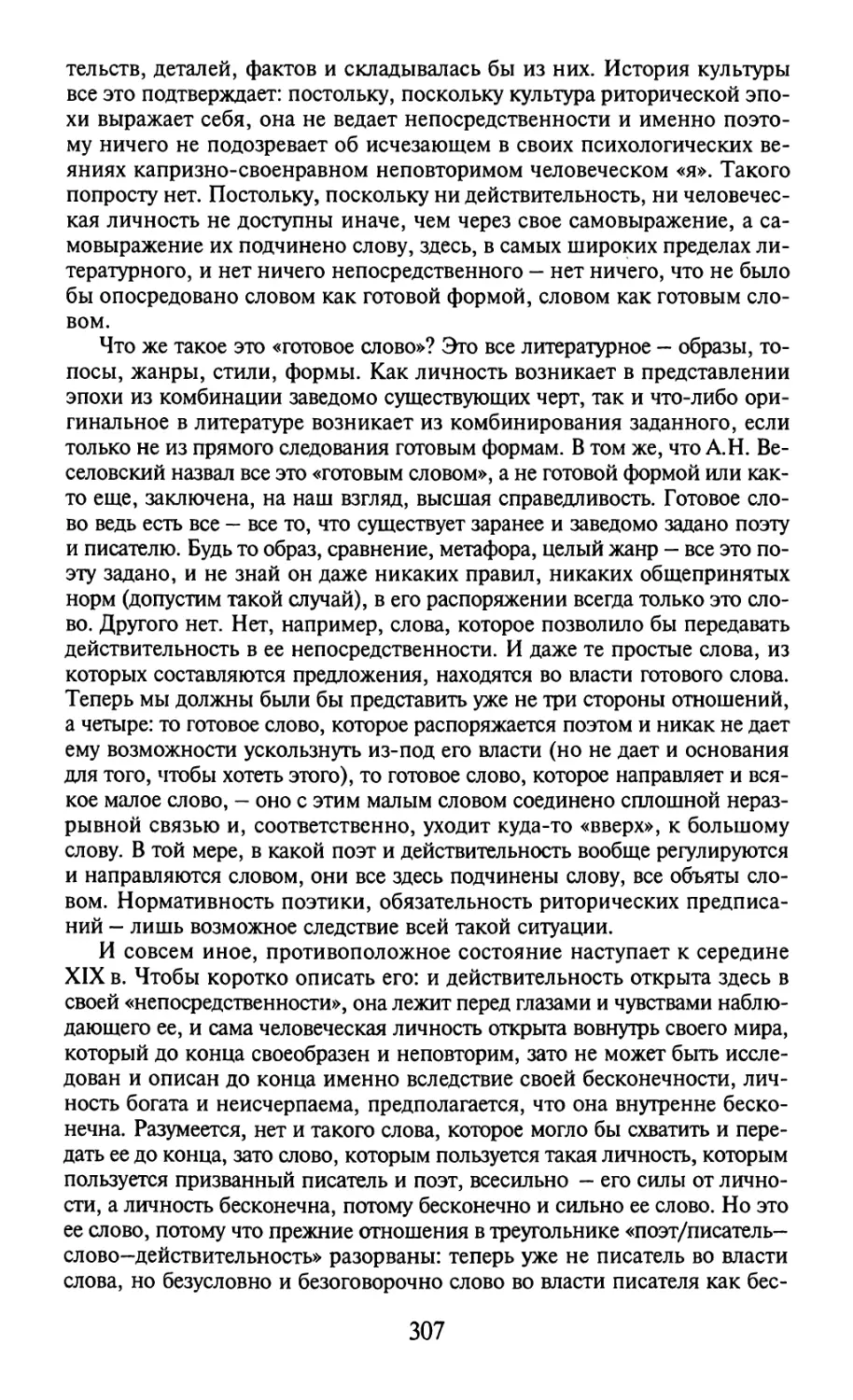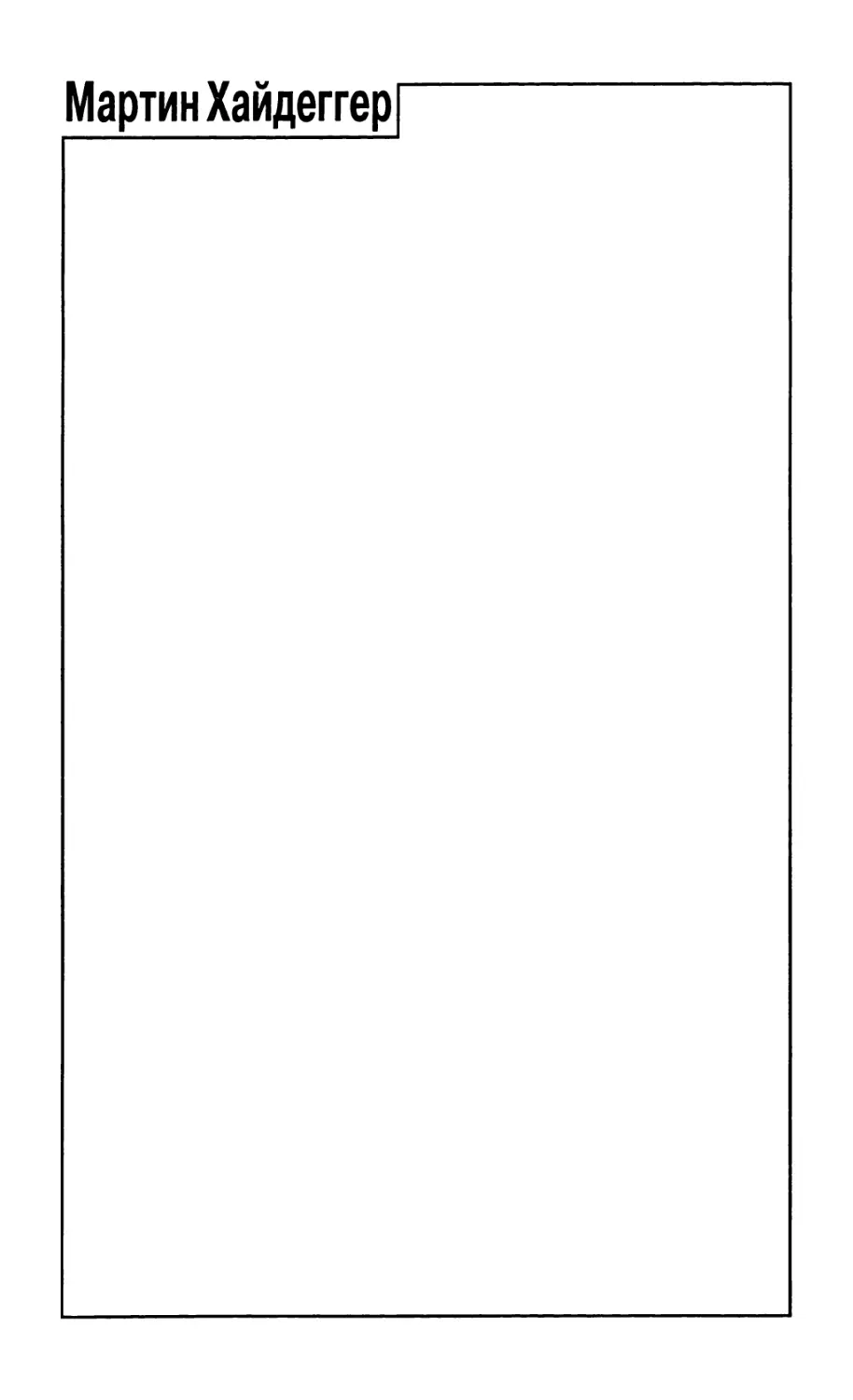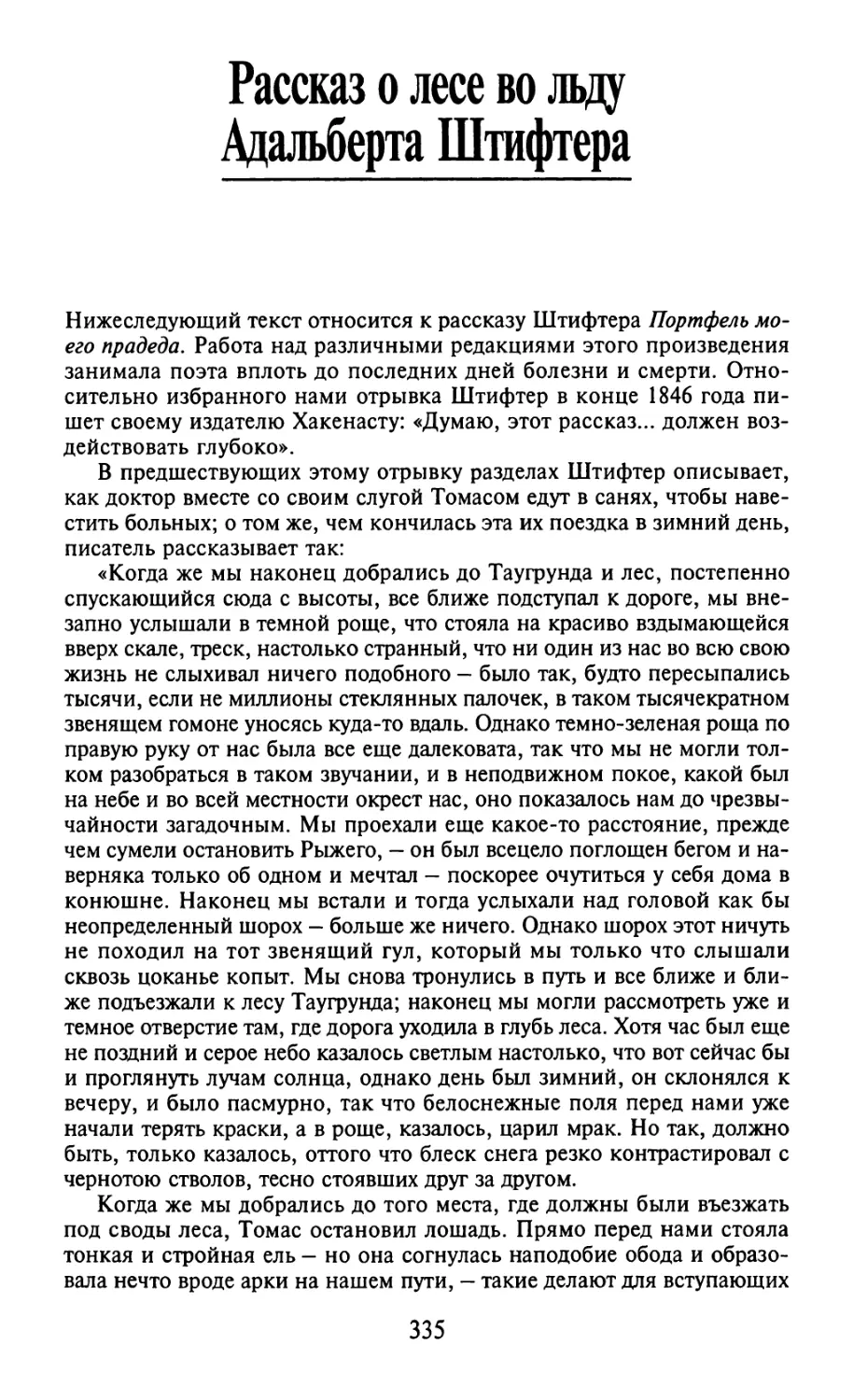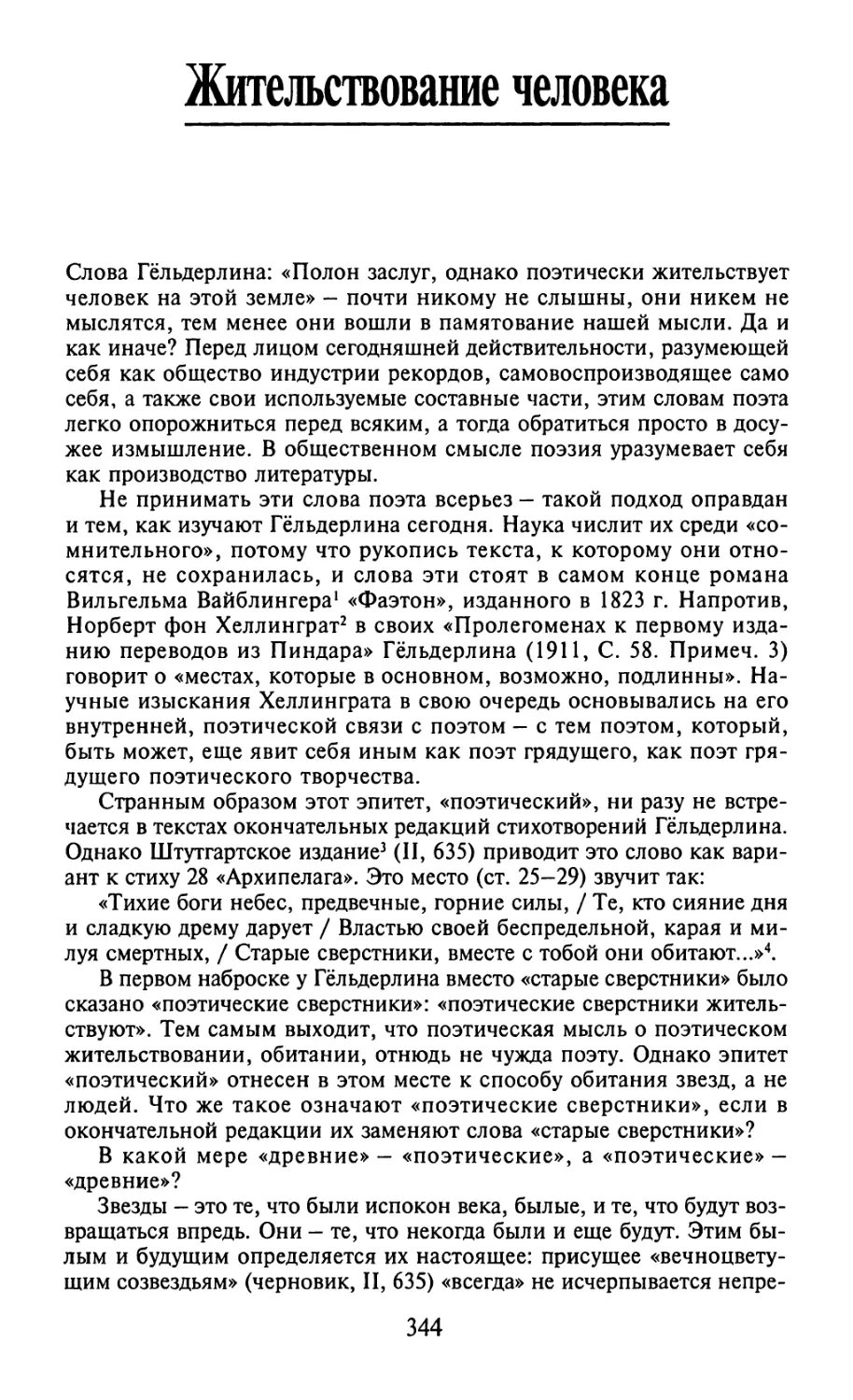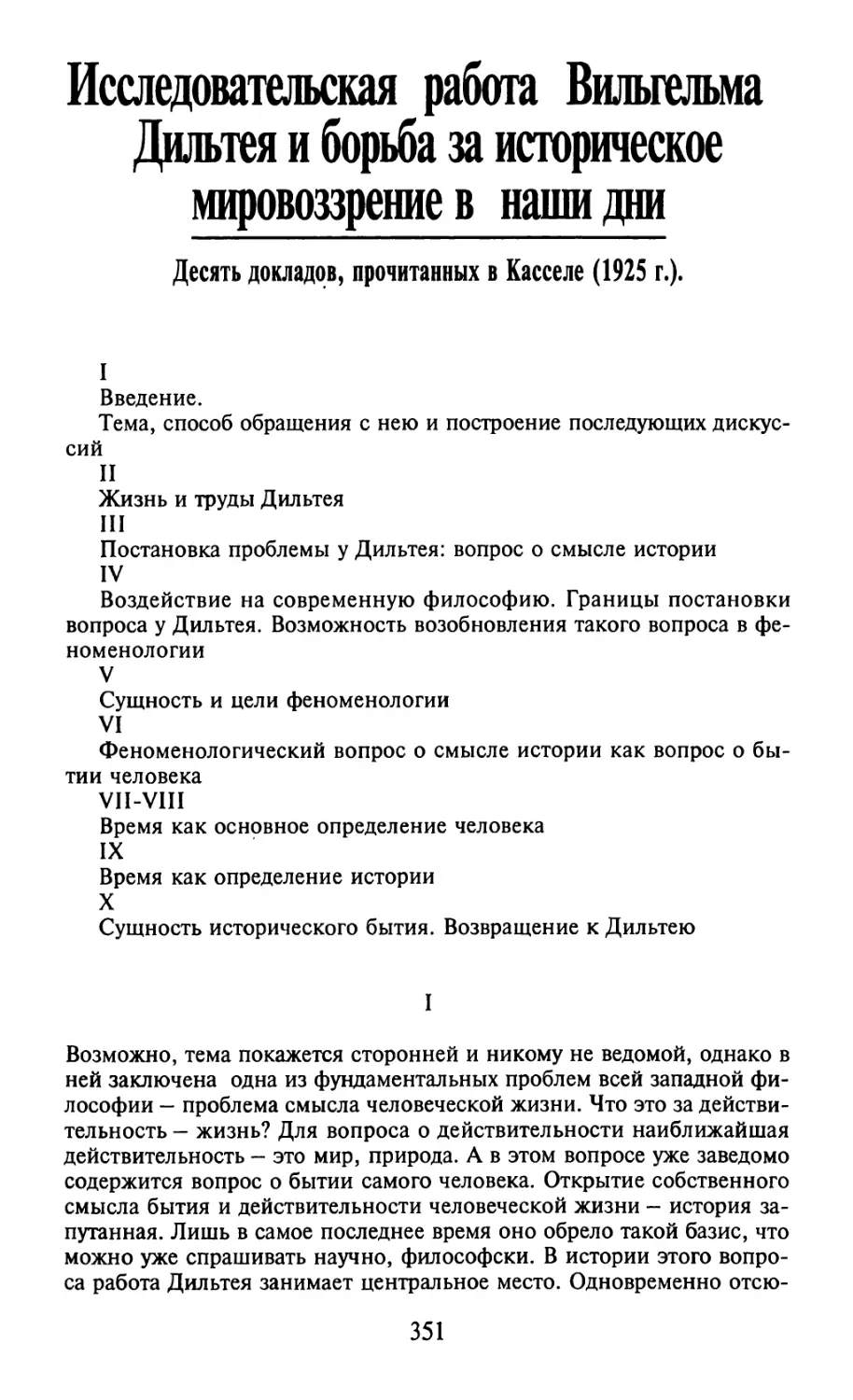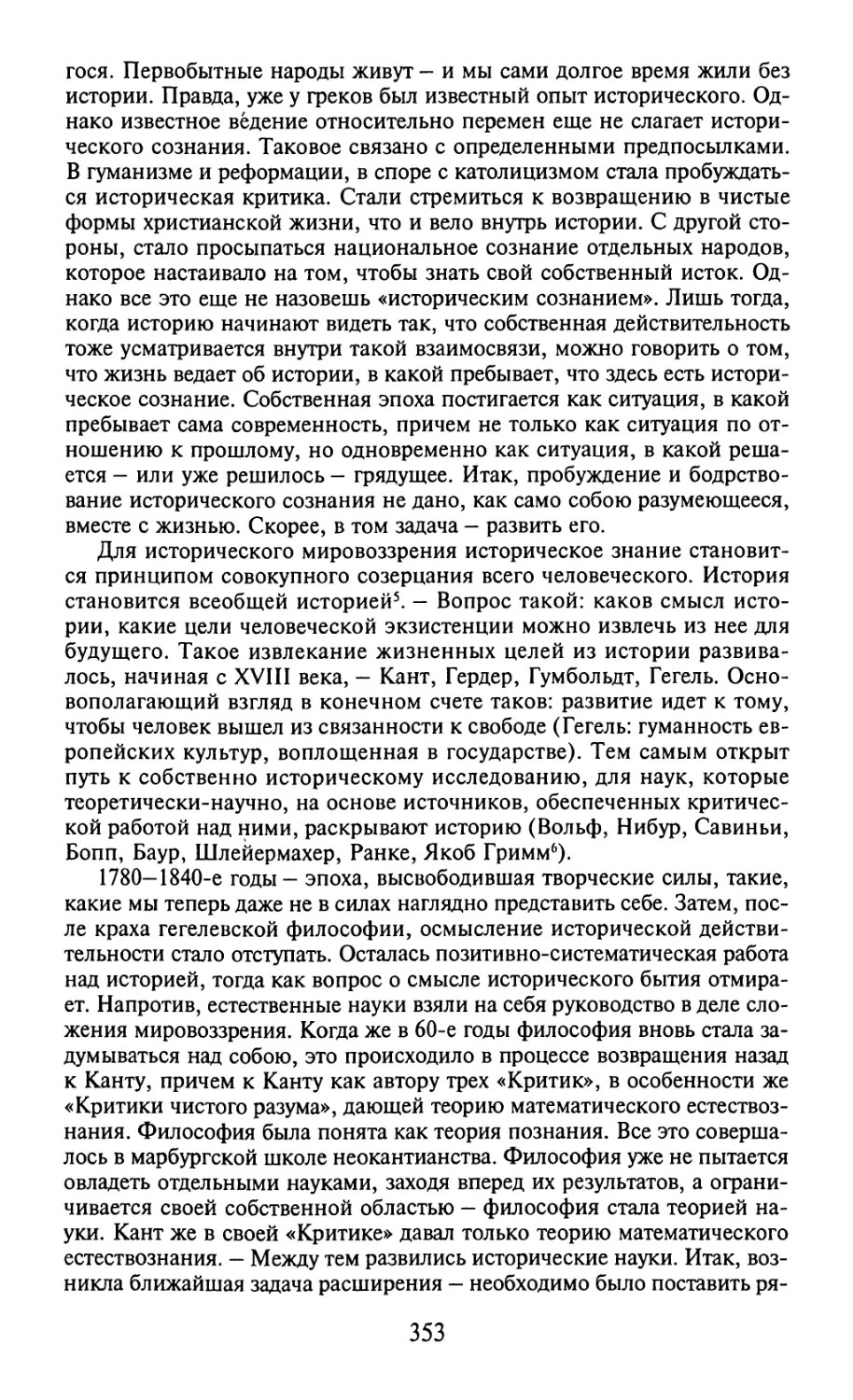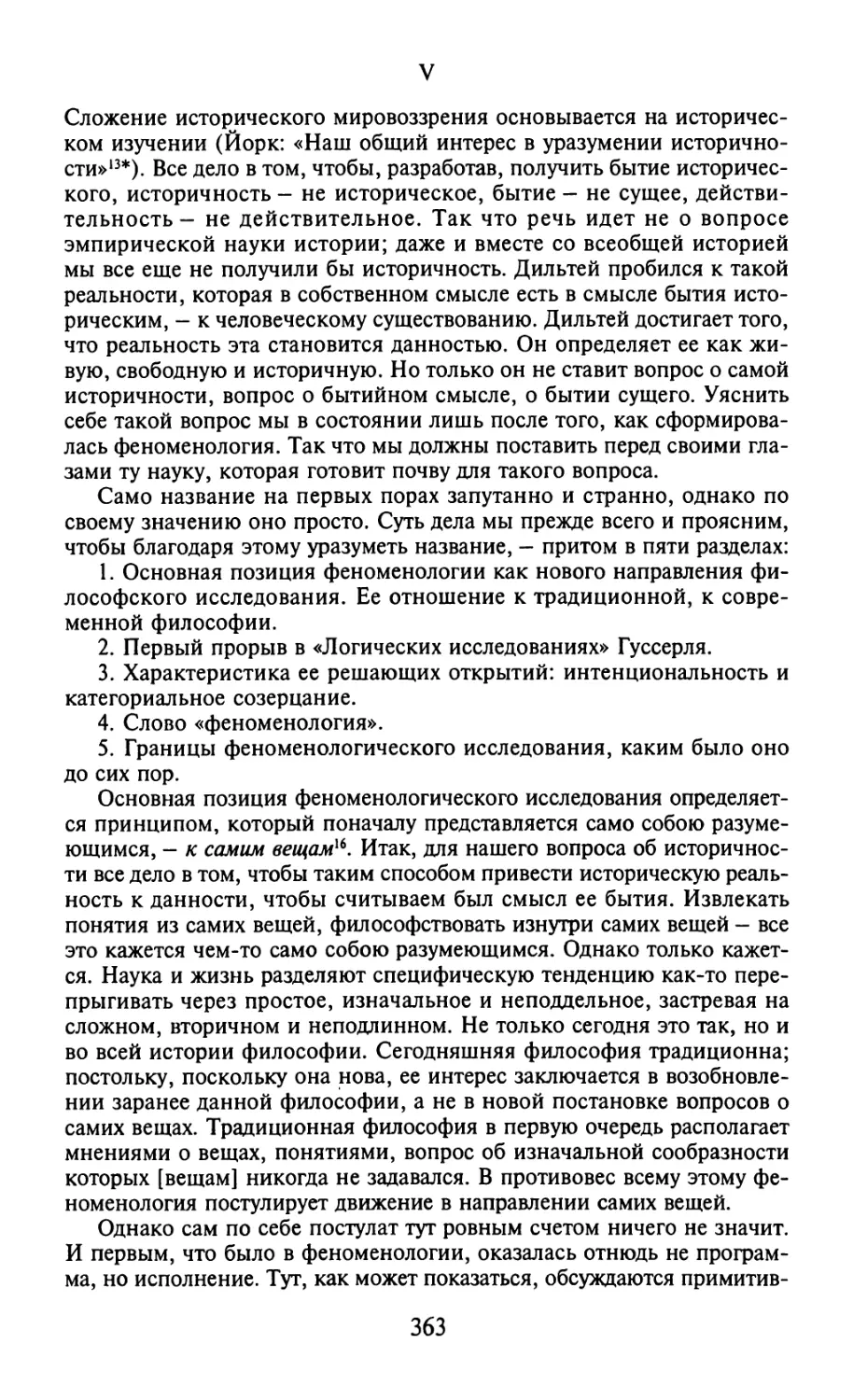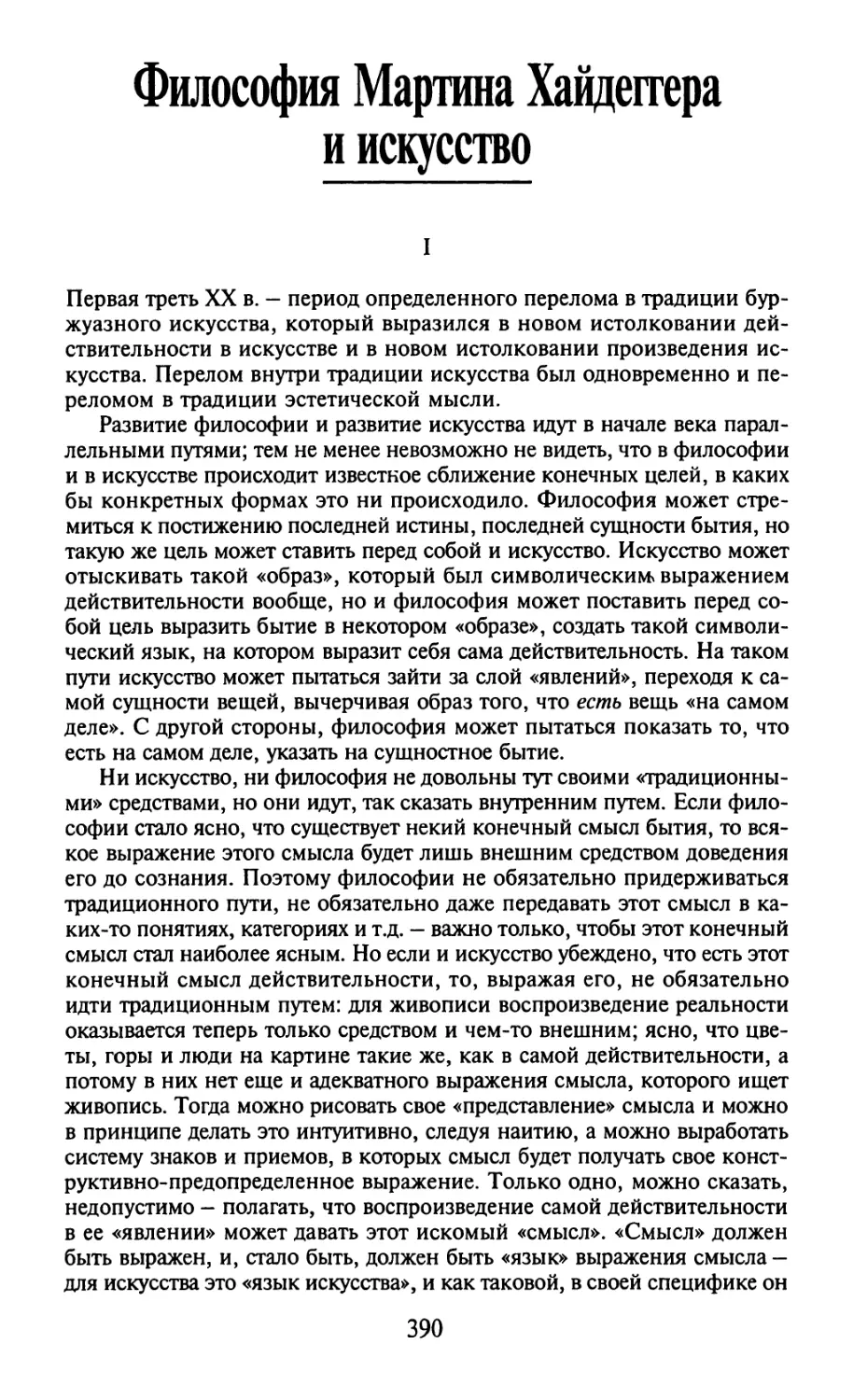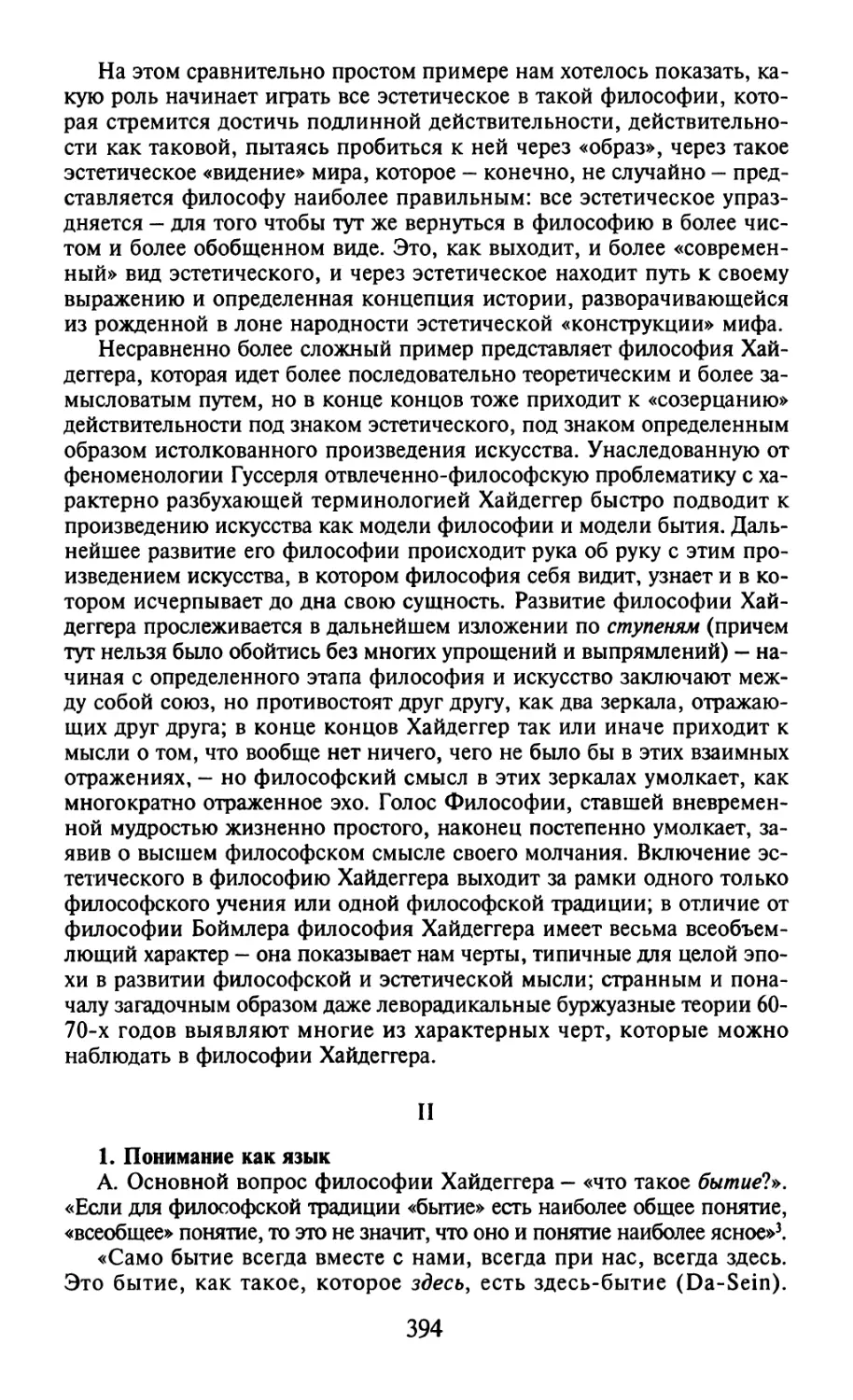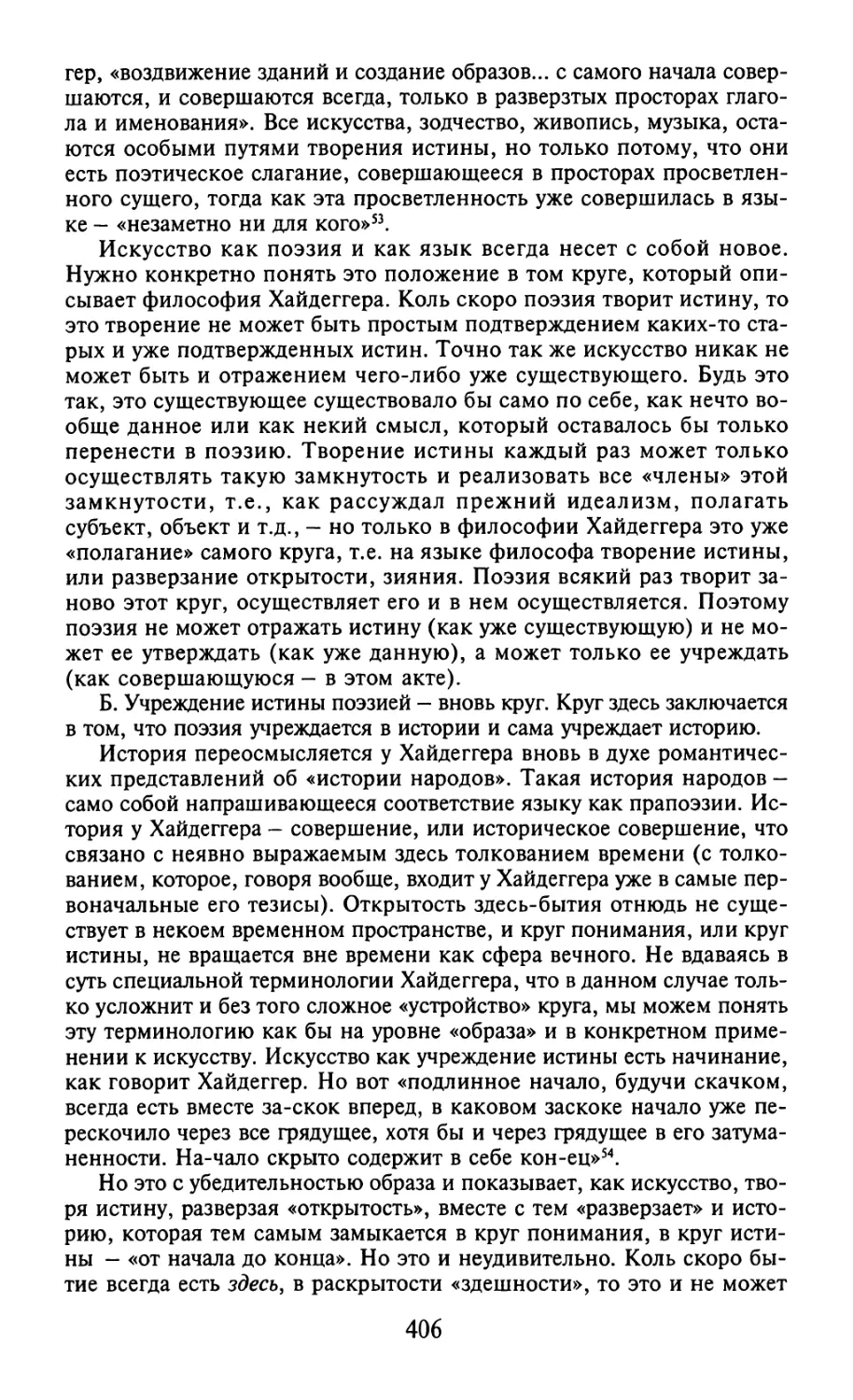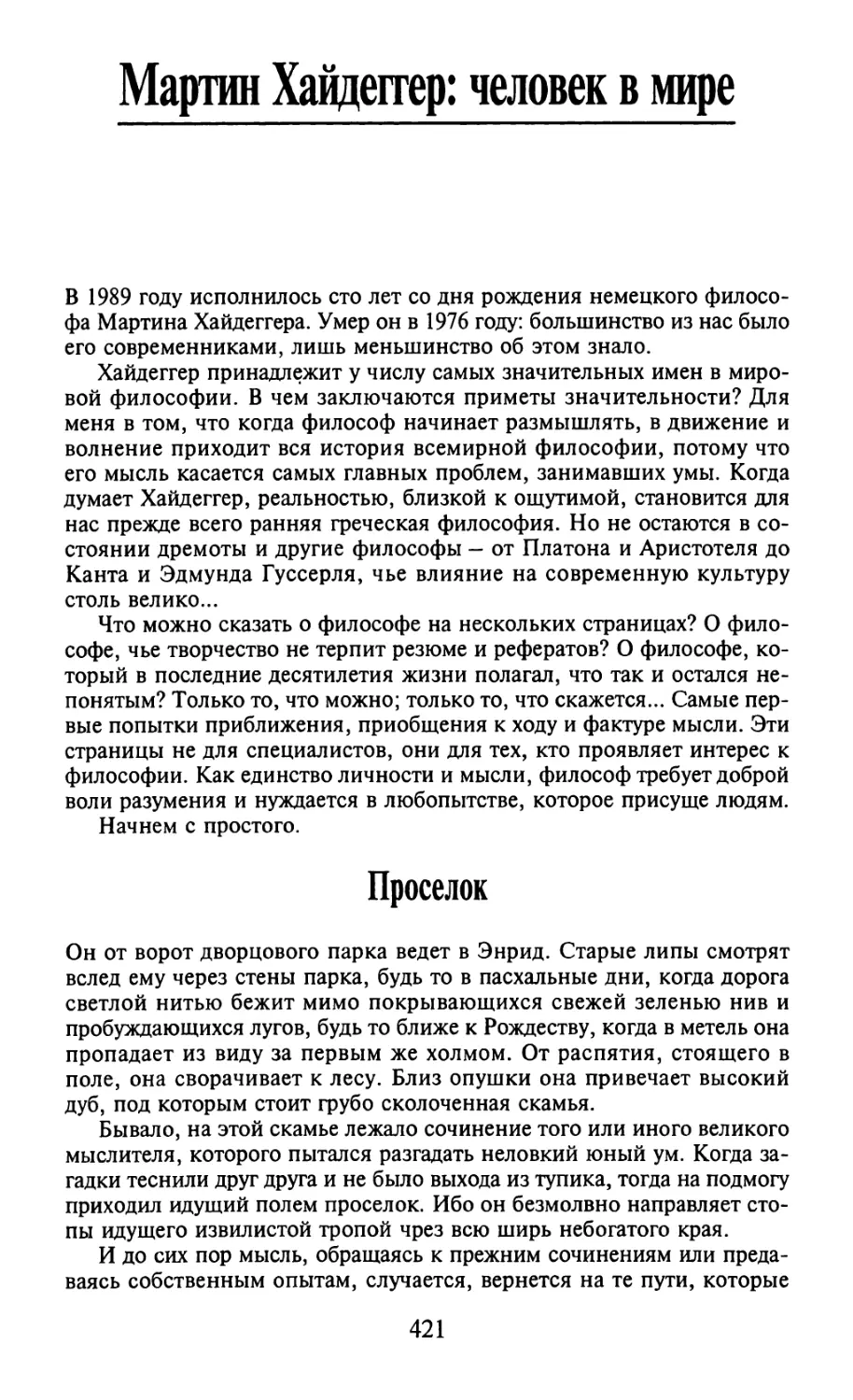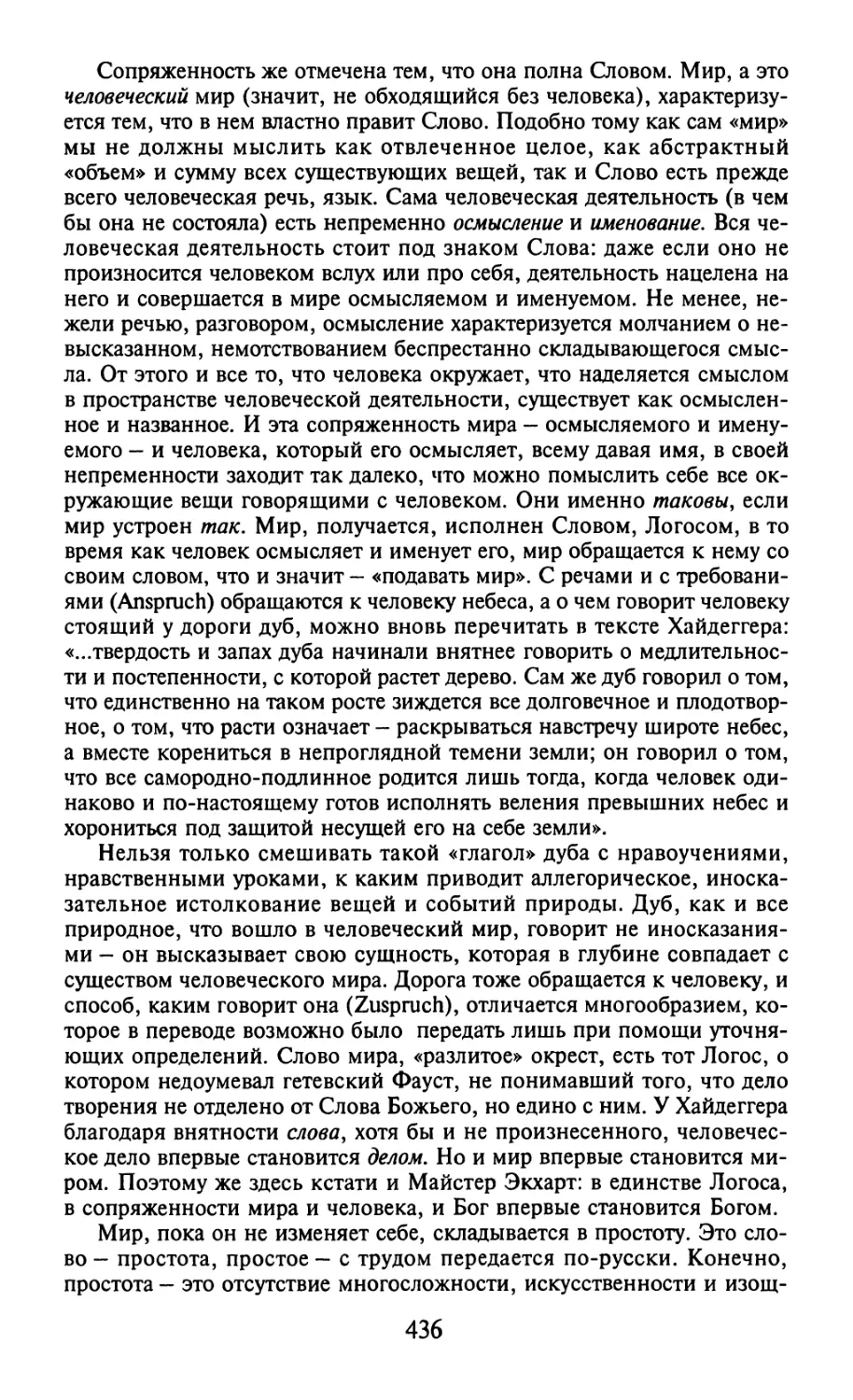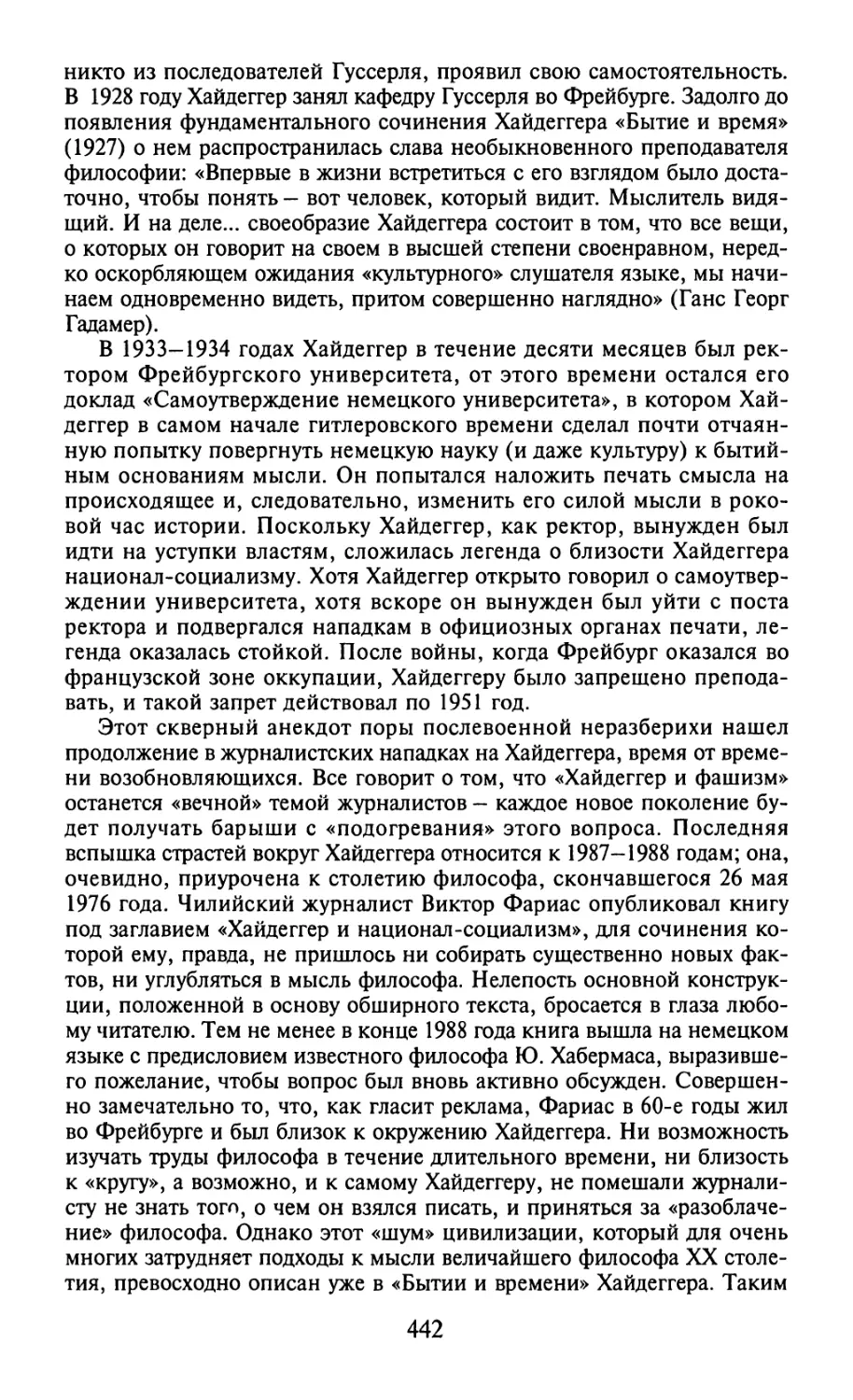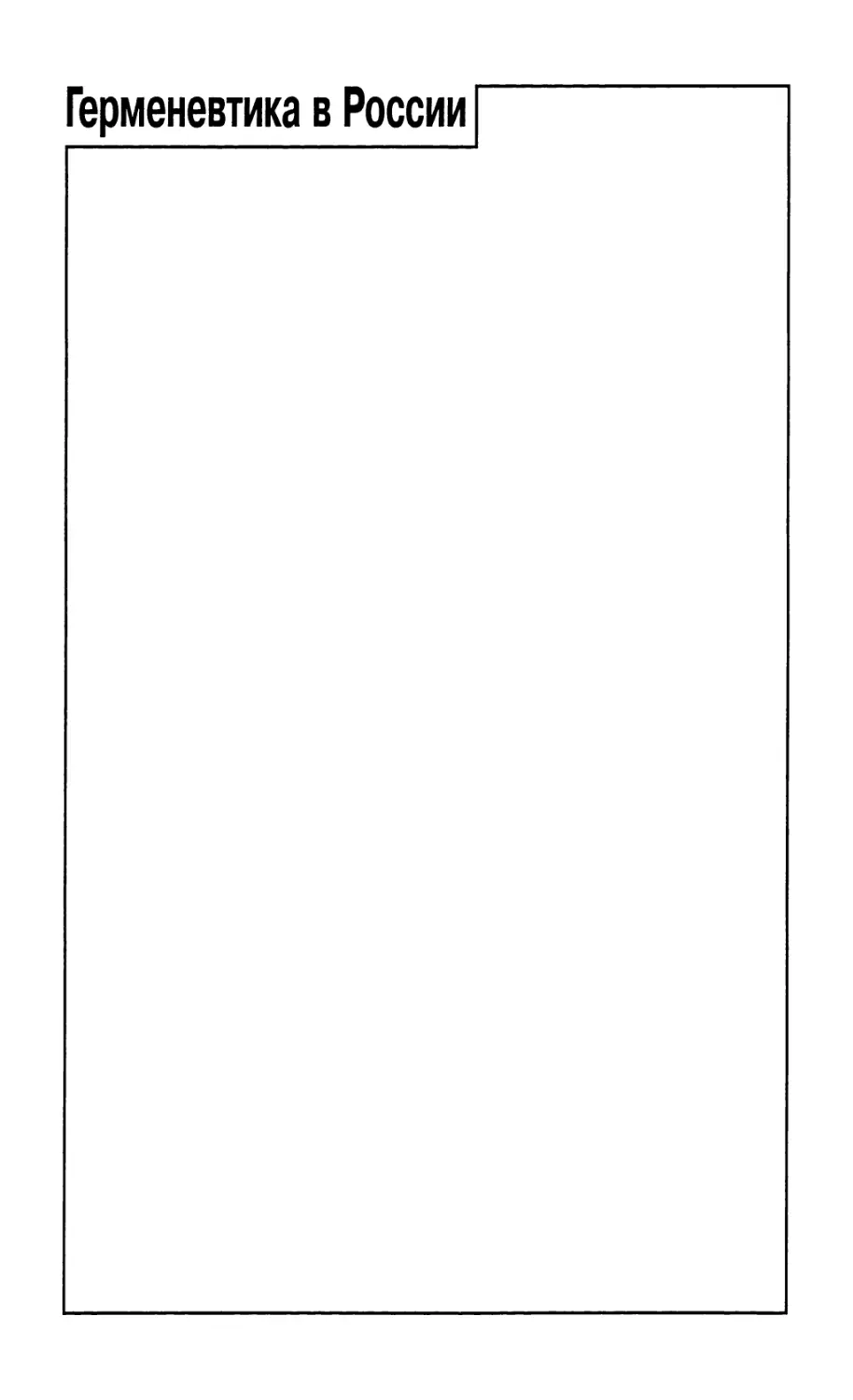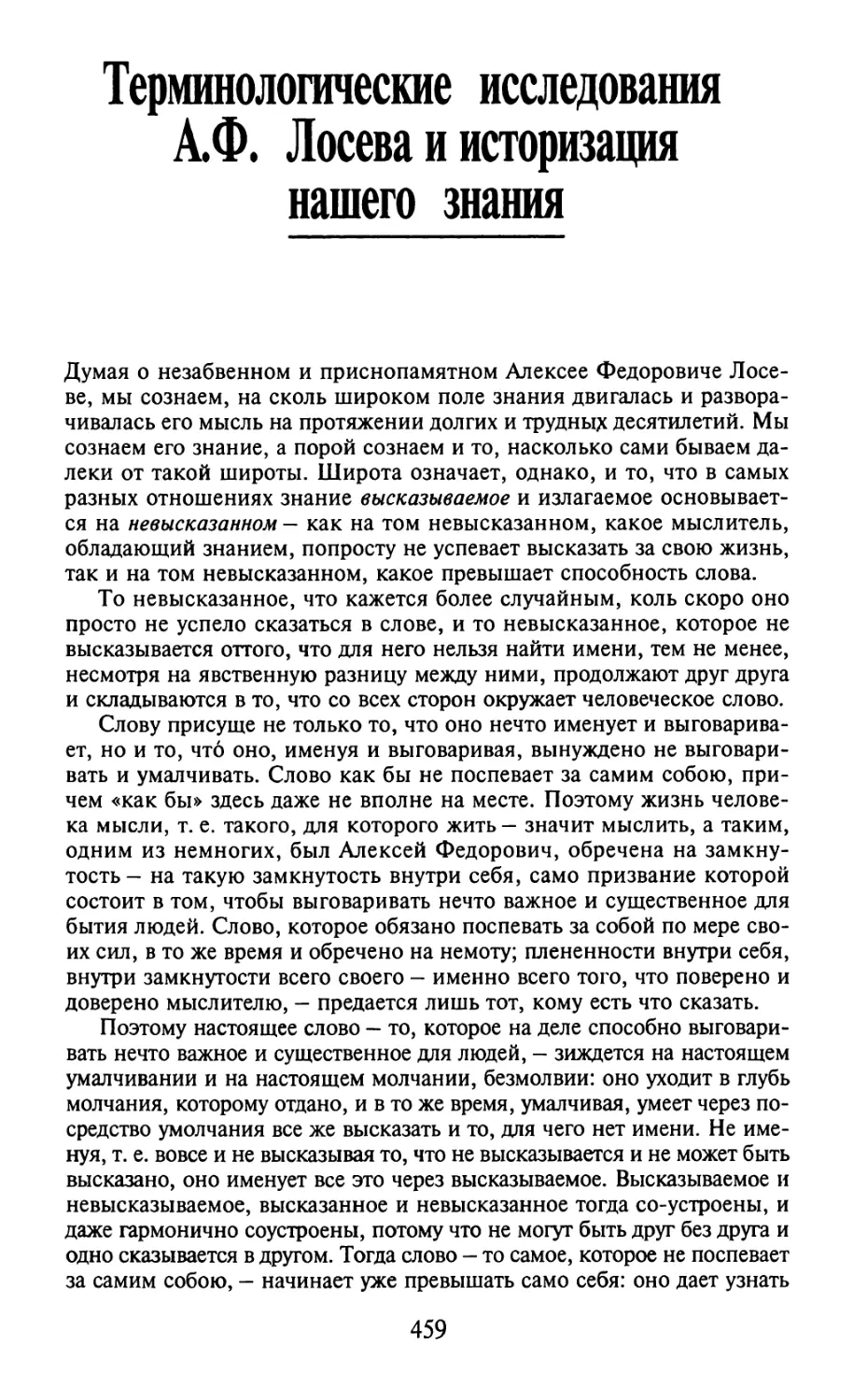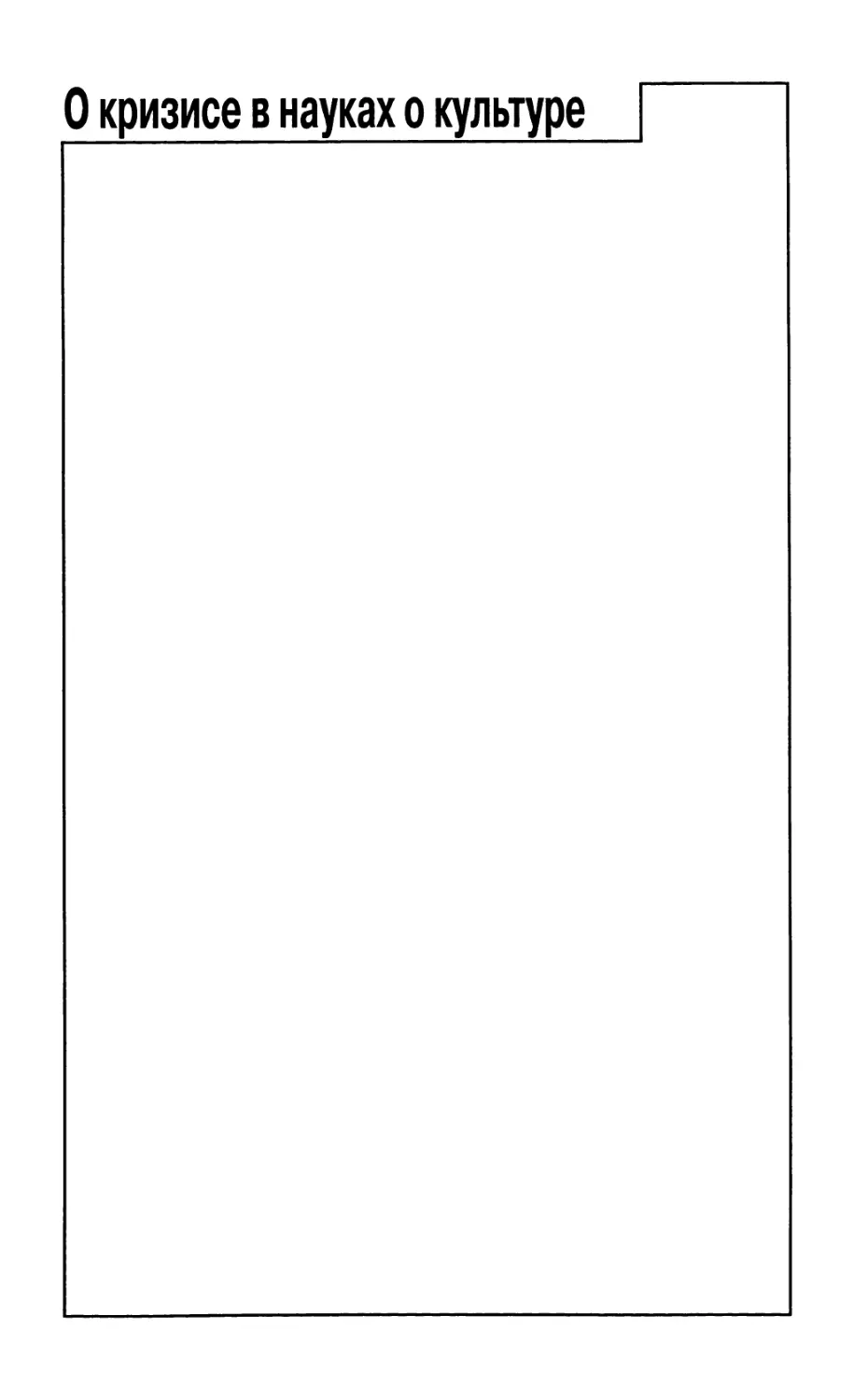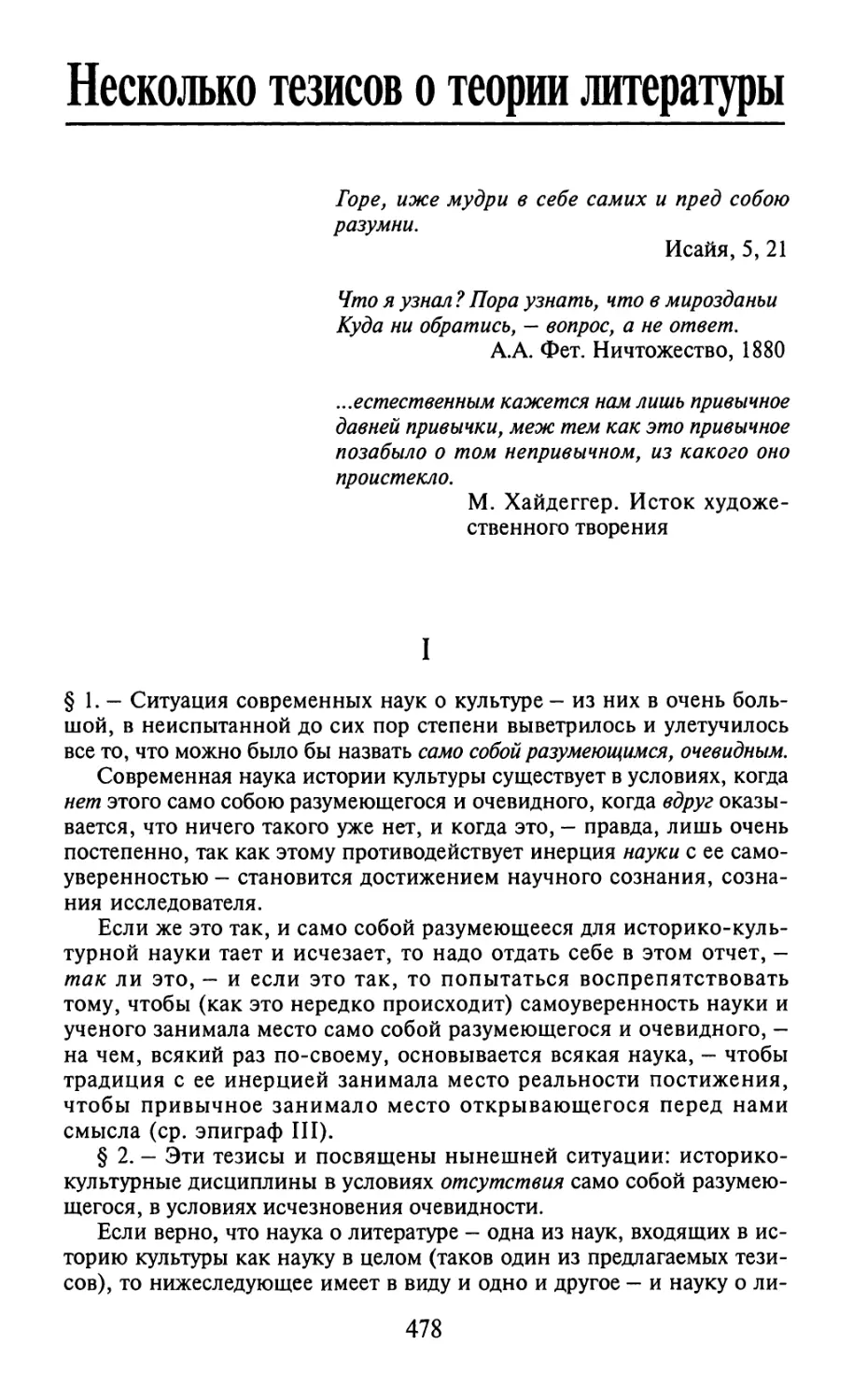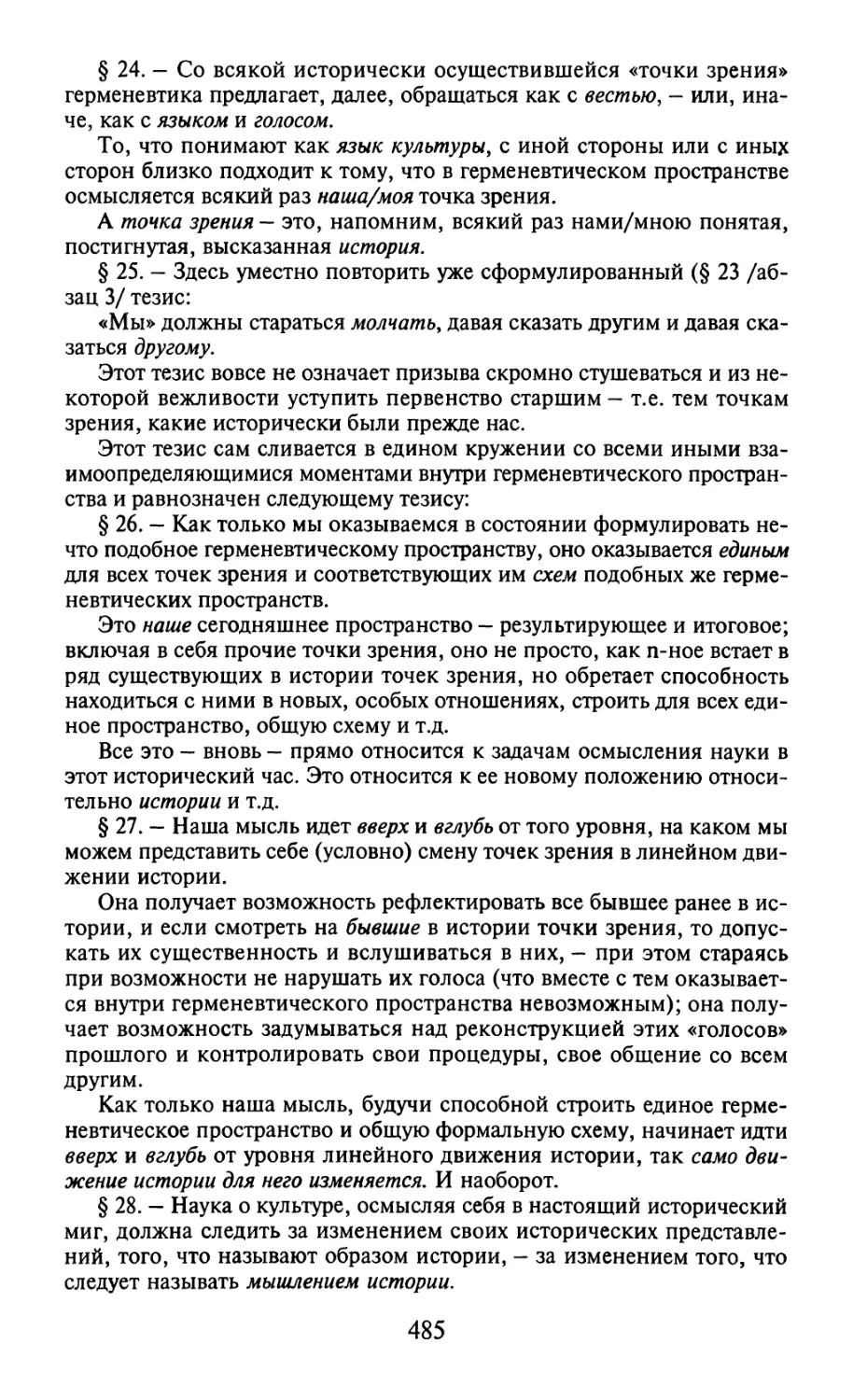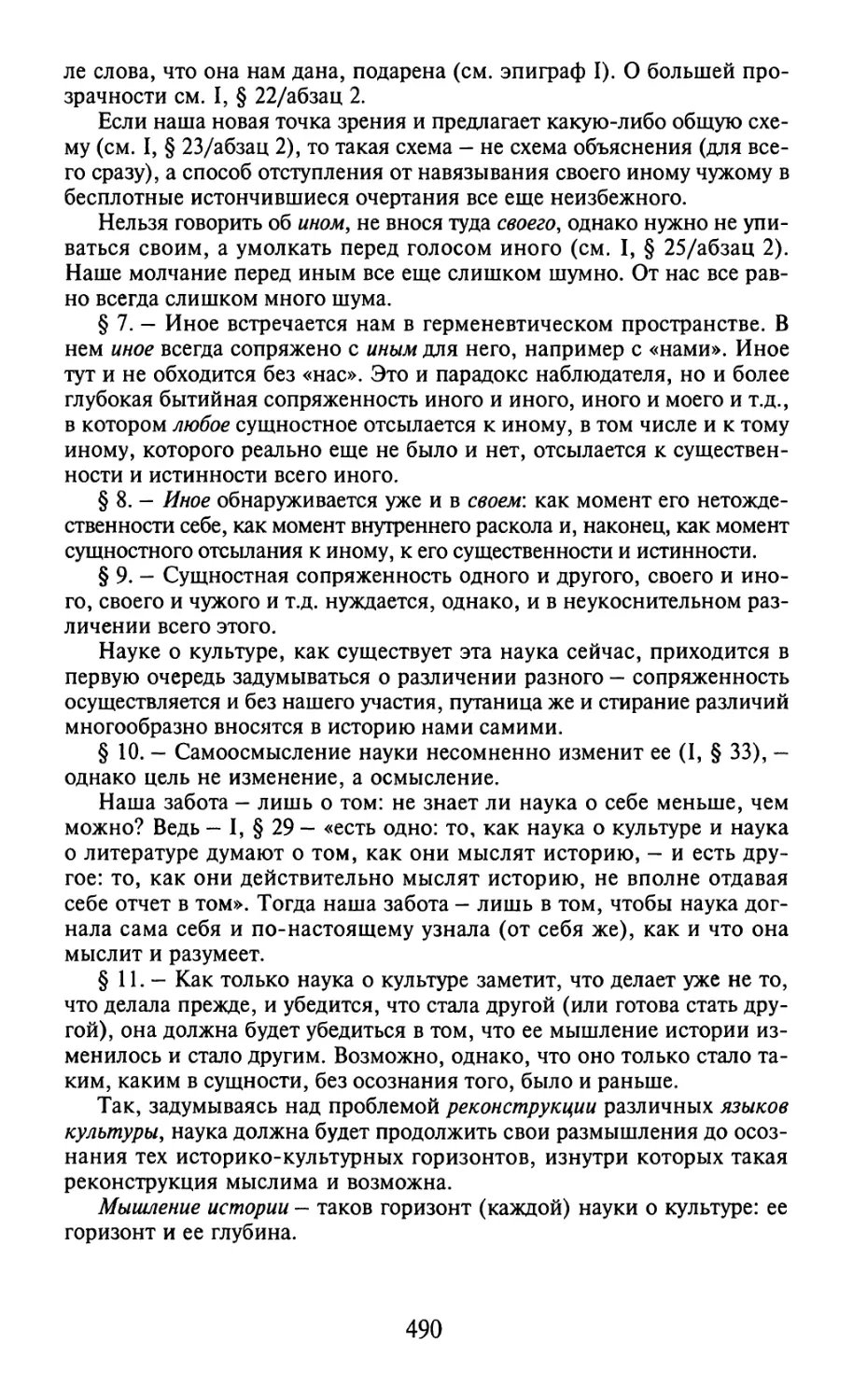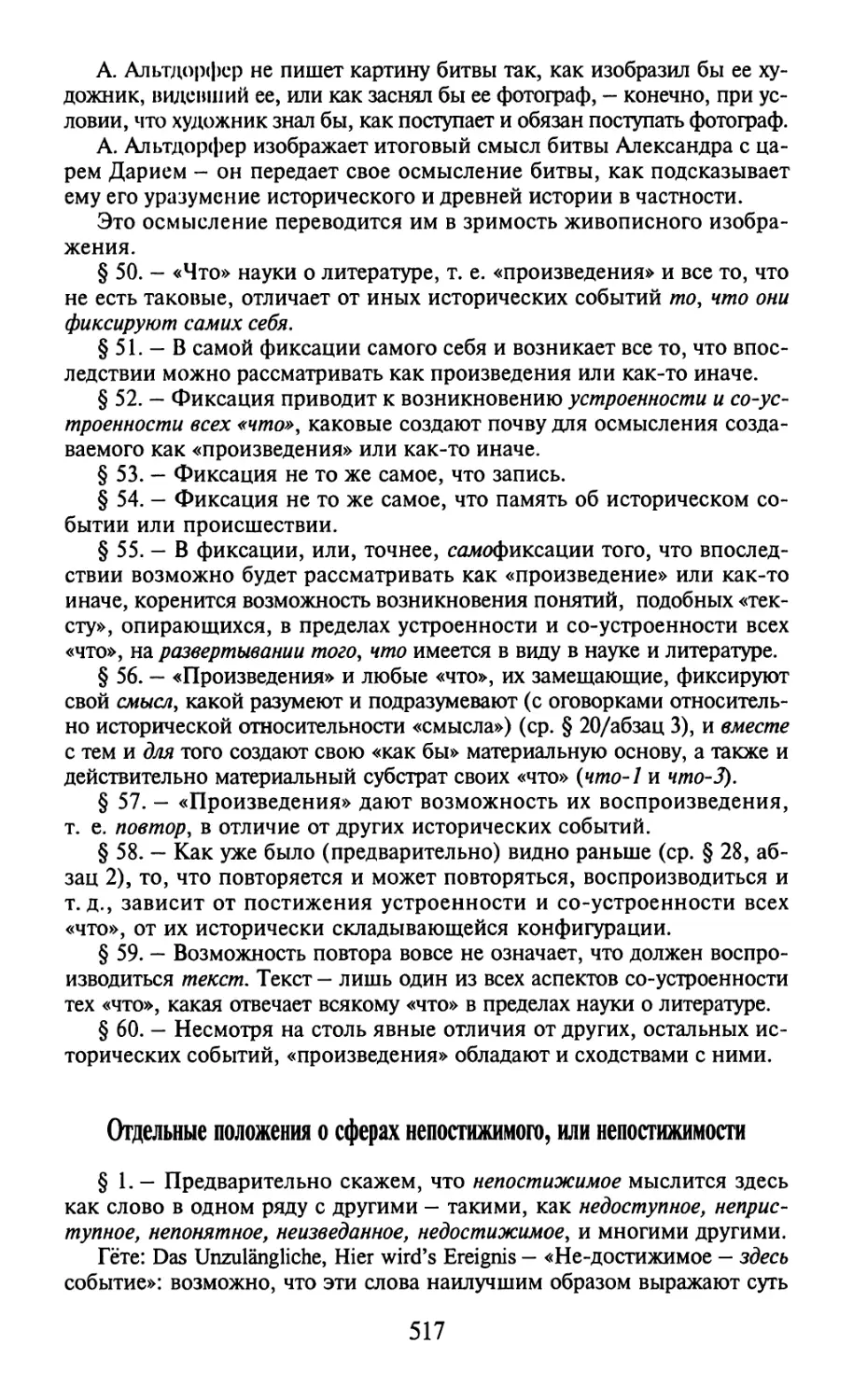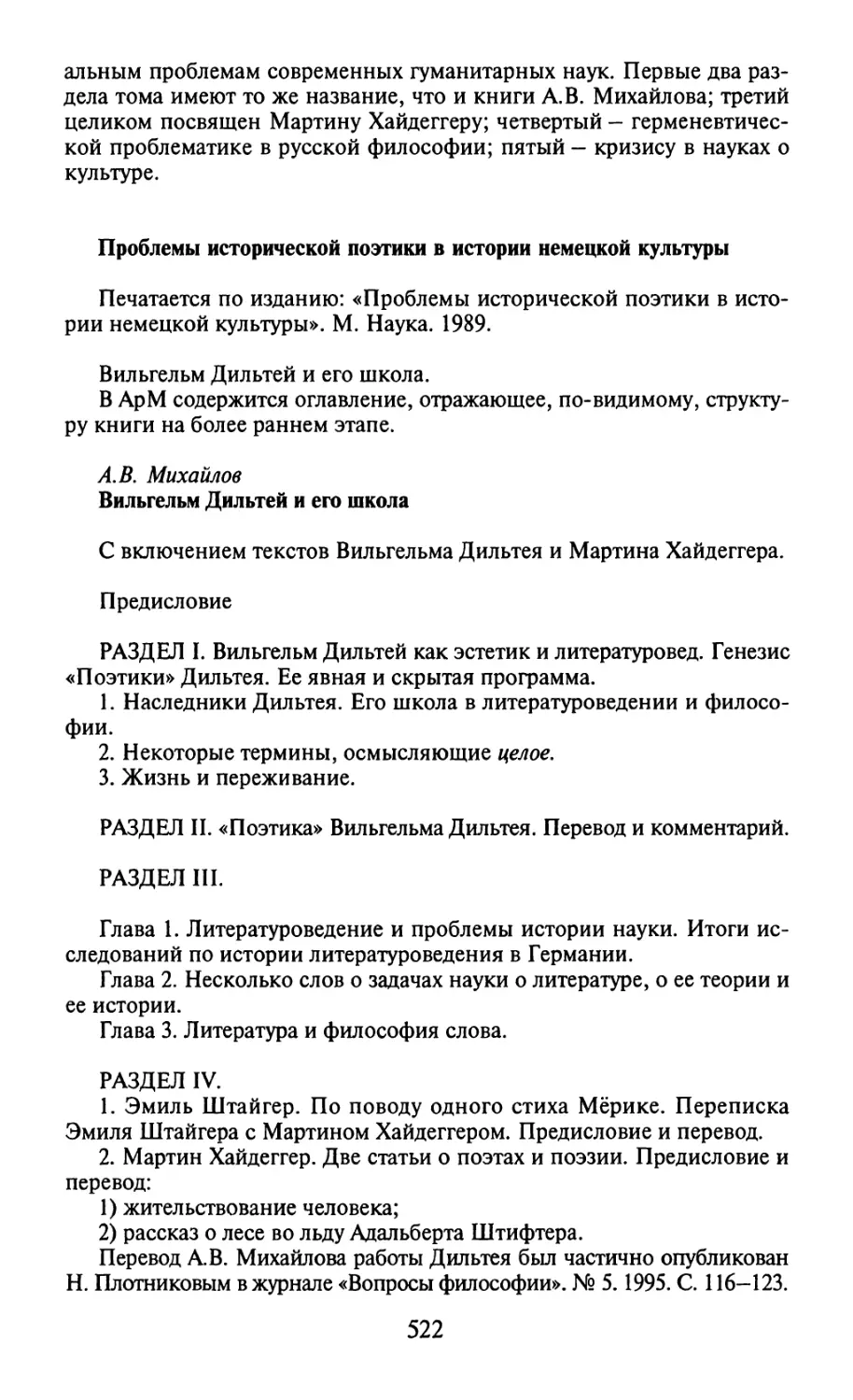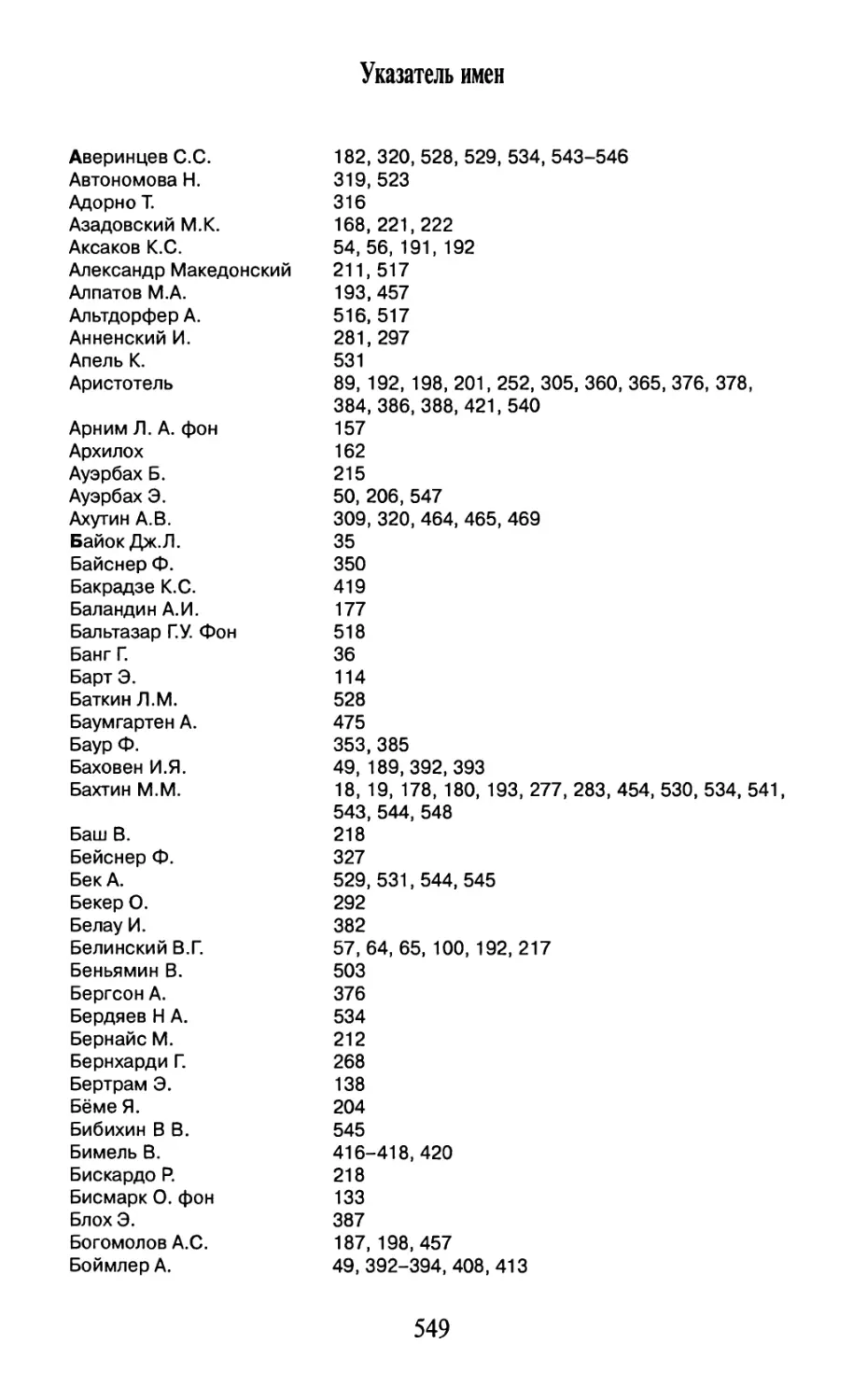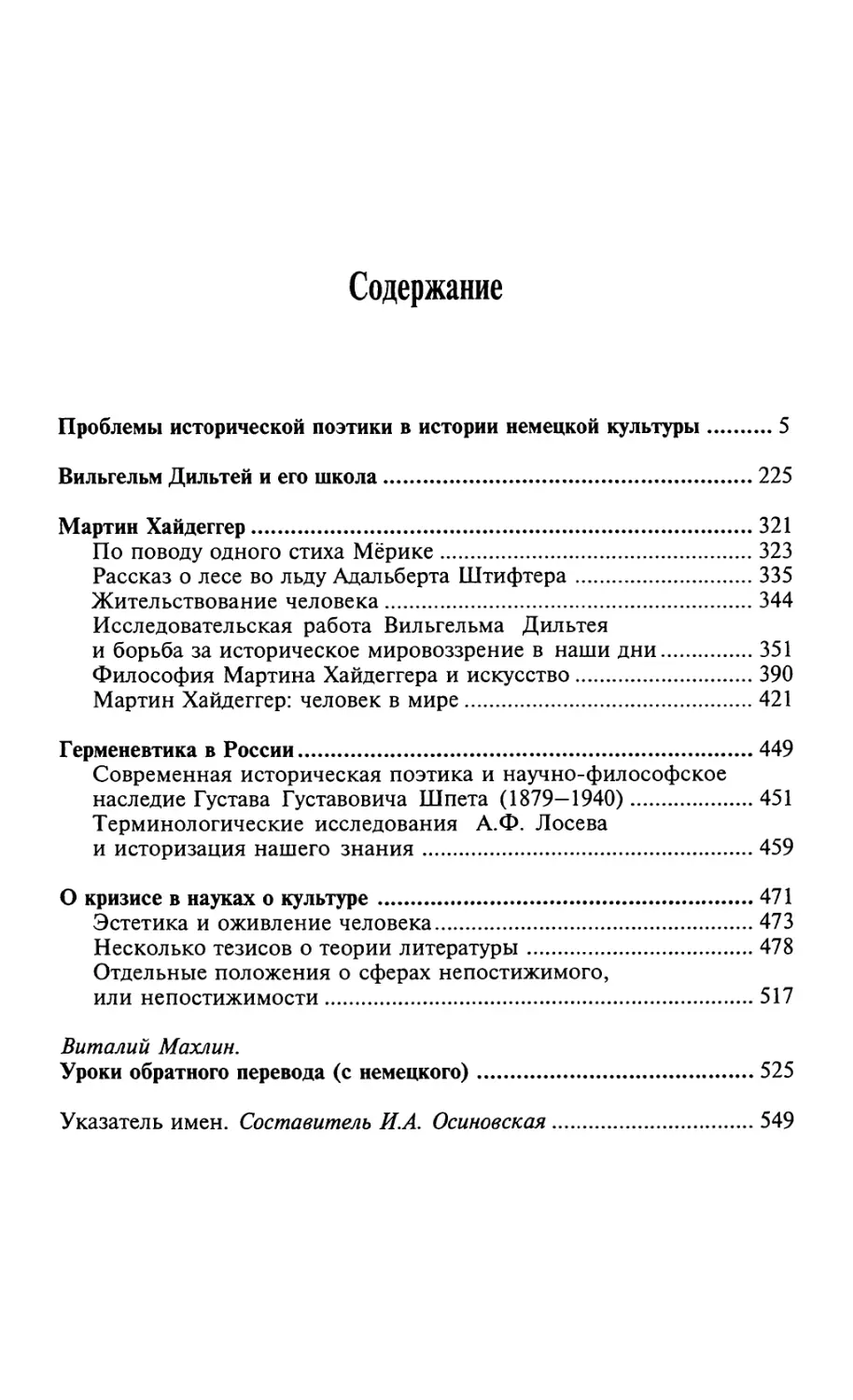Текст
Александр
Михайлов
Избранное
Историческая поэтика
и герменевтика
ИздательствоС.-Петербургского университета
2006
ББК87
M 69
Серия основана в 2004 г.
Главный редактор и автор проекта «Письмена времени»
СЯЛевит
Составители серии:
С.Я.Левит, ИА.Осиновская
Редакционная коллегия серии:
Л.В.Скворцов (председатель),! С.С.Аверинцев|, В.В.Бычков,
Г.Э.Великовская, И.Л.Галинская, АЛ.Гуревич, Л.Т.Мильская,
Ю.С.Пивоваров, Г.С.Померанц, Р.В.Светлов,
АК.Сорокин, П.В.Соснов
Составитель тома С.Ю.Хурумов
Ответственный редактор М.Я.Малхазова
Художник П.П.Ефремов
Михайлов A.B.
М69 Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. —СПб.:
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. —
560 с. (Серия «Письмена времени»)
ISBN 5-288-03807-4
Настоящее издание объединяет работы и переводы А.В.Михай-
лова, посвященные существенным взаимосвязям исторической
поэтики и герменевтики. История наук о культуре,
гуманитарных дисциплин в последние годы жизни привлекали его все
более пристальное внимание как самостоятельные формы
исследования. Помимо книги 1989 г. об исторической поэтике в
Германии, статей из книги «В.Дильтей и его школа», в настоящий
том включены работы о М.Хайдеггере, о герменевтике в
исследованиях Г.Г.Шпета и А.Ф.Лосева, а также перевод «кассельских
докладов» Мартина Хайдеггера о Дильтее. Первый раздел тома
посвящен исторической поэтике в Германии, второй —
Вильгельму Дильтею и его школе, третий — Мартину Хайдеггеру,
четвертый — герменевтике в работах русских философов, пятый —
кризису в современных работах о культуре.
© СЯЛевит, И.А.Осиновская,
составление серии, 2006
© H А. Михайлова, правообладатель,
2006
© Издательство Санкт-Петербургского
ISBN 5-288-03807-4 университета, 2006
Проблемы исторической поэтики
в истории немецкой культуры
Предисловие
Эта книга посвящена тем урокам, которые современная
историческая поэтика может извлечь из развития немецкого
литературоведения в XIX-XX вв. Развитие немецкой науки
рассматривается в связи с историей немецкой культуры — прежде всего
в ее внутреннем движении, в тех меняющихся внутренних
основаниях, которые выступают и как основания науки в процессе ее
самоосмысления.
В последнее время истории литературной науки уделяется у нас
больше внимания, чем прежде1. И все же трудов по истории
литературоведения у нас недостаточно, тем более переизданий
литературоведческого наследия. Разработка своей истории необходима науке для
того, чтобы уяснить и поверить свой путь, вспомнить и собрать все
ценное, что было создано ею. Однако сверх того, помимо этой
традиционной задачи, в наши дни намечается новая функция истории
литературоведения, связанная с осознанием историчности всякого
факта этой науки, с осознанием того, что любое относящееся к науке о
литературе знание включено в беспрерывный поток осмысления. Таким
образом, наука находится в движении относительно принципиально
движущегося материала. Вследствие этого истории науки как
носительнице и держательнице всей этой сложной динамики может быть
присуще фундаментальное значение, и у нее есть все шансы к тому,
чтобы из некоторого полуархивного приложения к собственно
творческим, продуктивным разделам науки о литературе сделаться в будущем
ее творческим центрам. Фактографическое изучение прошлого не
может не быть сопряжено при этом с всесторонним осмыслением всего
фактического2 и с анализом самого этого осмысления.
Обращение к прошлому науки под знаком такого совершающегося в
ней процесса не уводит литературоведение от назревших его проблем, но
по-настоящему подводит к ним. С этим процессом - его в целом
можно назвать процессом историзации всего знания - связана и та
авторитетность, какую в самые последние годы вновь завоевала идея
исторической поэтики, первоначально выдвинутая в конце прошлого века.
Перед исторической поэтикой стоят капитальные задачи. Самая
общая - сближение, опосредование и совмещение теоретического и
исторического знания о литературе, что требует преодоления давнего,
осознаваемого в наши дни как неоправданный и неплодотворный
раскол литературоведения на теорию (систематику) и историю. Конечно,
эта задача стоит перед наукой в мировых масштабах. Однако наука в
таких масштабах существует не абстрактно, но подразделяется на от-
7
дельные национальные школы, в которых развитие литературоведения
всегда совершалось чрезвычайно своеобразно, отражая в себе
глубочайшие предпосылки и закономерности национального сознания. Все это
сохраняется в науке и в ее современном состоянии3, и, если только
размежевание школ не приводит к внешнему и искусственному
затруднению общения, диалога между ними, отличия литературоведческих
школ служат положительным фактором развития науки, будучи
заданным ей способом бытия.
В этом отношении обращение к истории литературоведения в
Германии весьма полезно и поучительно: в нем долгое время
складывалась — но так и не сложилась (в оформленное целое) — идея
исторической поэтики, заготавливались для нее разнообразные материалы и
подходы. С одной стороны, это развитие негативно, безрезультатно, но,
с другой - оно же позитивно, так как сопровождалось типичным для
немецкой культуры крайним напряжением аналитической мысли,
доходившей на каждом этапе своего становления до возможных пределов
всего доступного для себя, нередко обнажавшее самое «дно», самую
основу своих предпосылок, допущений, гипотез. На фоне развития
немецкого литературоведения ярко вырисовывается все своеобразие пути
русской науки с ее достоинствами и упущениями. Поэтому книга о
судьбе исторической поэтики в Германии не может обойтись без
сопоставлений двух национальных школ литературоведения — русской и
немецкой; обращенная к материалу науки немецкой, книга рассматривает
его в интересах русской науки.
Несмотря на все несходства и расхождения, существующие между
русским и немецким литературоведением и только углубляющиеся по
мере того, как взгляд проникает в самые глубокие методологические их
предпосылки, возможно общее в конечном счете осознание
современных задач литературоведения. Такое общее тоже покоится на
фундаменте иных предпосылок и непременно поведет на деле к иным решениям
проблем, однако автор книги был счастлив встретиться с чрезвычайно
близким нашей науке (и весьма редким в немецком литературоведении)
осмыслением задач исторического литературоведения в книге Готфри-
да Виллемса, посвященной проблеме литературных жанров4. Начав с
разбора жанровых представлений Ф.Т. Фишера, продолжателя Гегеля,
Г. Виллемс вышел далеко за пределы этой частной темы, рассмотрев всю
проблему жанров по существу, так, как и должна мыслить ее
современная историческая поэтика. Настаивая на «историческом познании» в
противоположность «априорно-вневременным сущностным законам»
жанров5 (а проблема жанра стоит, как полагает Г. Виллемс, в центре
поэтики «literarische Theoriebildung»6), Г. Виллемс выступает и против
раскола литературоведения на «систематику» и «историю», вследствие
которого «предмет литературной теории состоит из внеисторически общего
и исторически особенного»7. Он приводит усложненные (в духе
немецкой традиции теоретической рефлексии), однако ясные, весомые и
доказательные соображения в пользу соединения «систематического» и
исторического подходов к любым предметам истории литературы.
Задача эта, все более явственно вырастающая перед
литературоведом, предопределила замысел и нашей книги.
8
Глава первая
К проблеме исторической поэтики
«Die Wahrheit ist eine solche Macht,
daß es auch im Falschen vorhanden ist,
und es nur einer richtigen Bemerkung
oder Hinsehens bedarf, um das Wahre an
dem Falschen selbst zu finden, oder
viebmehr zu sehen»9.
«Истина - это такая сила, что
она наличествует и в ложном, и
достаточно только правильно
посмотреть, чтобы обрести или, лучше
сказать, увидеть истинное даже в самом
ложном».
(Гегель).
I
Историческая поэтика, так, как понимаем мы ее сейчас, зародилась
в России.
В работе 1893 г. «Из введения в историческую поэтику» Александр
Николаевич Веселовский дал такое определение своего предмета - это
«эволюция поэтического сознания и его форм». К такой формуле
А.Н. Веселовский пришел, отвечая на вопрос о том, что такое история
литературы. Ответ получается таким: «История общественной мысли в
образно-поэтическом переживании и выражающих его формах.
История мысли более широкое понятие, литературы - ее частичное
проявление; ее обособление предполагает ясное понимание того, что такое
поэзия, что такое эволюция поэтического сознания и его форм, иначе
мы не стали бы говорить об истории»9.
В этом ответе нам важно зафиксировать движение мысли - оно
совершается от общего к частному и в сторону все большего уточнения
предмета. «История общественной мысли» скорее напомнит нам
предмет научных занятий А.Н. Пыпина: поэзия, литература исследуются
ученым в своем общественном звучании и значении наравне с
другими формами общественного сознания, другими его запечатлениями и
без особого умения и желания углубляться в тонкую специфику
художественного выражения и смысла. Общественная мысль - мысль
общества, и эта очевидная эквивалентность оставляет мысль в сфере
ясного сознания: мысль рождается обществом и выходит в него же, в его
борьбу. «История общественной мысли» у Веселовского несомненно
берется шире и тоньше — притом что много общих идейных и
методологических предпосылок связывало его с Пыпиным в рамках эпохи и
направления. Шире и тоньше — «общественное» здесь примерно тож-
9
дественно «общественно опосредованному», или «социально
опосредованному», причем, разумеется, социально опосредована и всякая ясная
общественная позиция (по Пыпину); однако «социально
опосредованное» подразумевало бы еще и свою самостоятельность, самоценность,
в пределах общественной детерминации. Соответственно расширяется
и «мысль»: у «общественного» отнимается тут его совсем короткая
замкнутость на обществе, а у «мысли» - ее чисто рефлективная ясность;
мысль начинает захватывать в себя «идею», идея через свою
целостность и принципиальность - представление и образ; поэзия мыслит
образами - эта известная Веселовскому формула (при всей ее
условности) выводит мысль совсем в иные горизонты10. А предмет истории
литературы заставляет задуматься уже о внутренних принципах самой
такой мысли — это принципы поэтического сознания; принципы, в свою
очередь, указывают на свои специфические, притом самостоятельные
и внутренне самоценные, формы выражения. От этого за историей
литературы встает «индуктивная поэтика», которую Веселовский называет
еще и «методикой истории литературы», т. е. такой дисциплиной,
которая должна направлять путь истории литературы: все это
необходимо «для выяснения сущности поэзии - из ее истории»11. Все
рассуждение начинается с истории и кончается историей: индуктивная
поэтика выясняет сменяющие друг друга принципы поэтического
сознания - она, как бы на другом этаже, прослеживает формы, в
которых запечатляется поэтическое сознание; в историческом движении
поэзии должна выявиться ее сущность. История — это первое и
главное измерение поэзии; общественная мысль, в которую поэзия
вливается, - другое. Поэзия — часть общественной мысли, но она выделяется
не механически выделяемая; такой она оставалась бы, если бы «мысль»
не выявила свою неоднородность. Сверх того, обособление поэзии
предполагает знание ее сущности (см. выше у Веселовского), а
сущность выводится лишь из прослеженной уже истории поэтического
сознания, так что, вероятнее всего, обособить поэзию наперед, ясной и
четкой линией, совершенно невозможно.
В самом определении предмета истории литературы у Веселовско-
го заключено внутреннее движение, которое привело его к
определению предмета индуктивной поэтики. Эту индуктивную (по методу,
который Веселовский стремился положить в основание своей науки)
поэтику он назвал исторической поэтикой.
Размышления об истории литературы и поэтике из работы 1893 г., в
свою очередь, входят как важнейшие в движение мысли Веселовского.
Во вступительной лекции 1870 г. Веселовский так определял предмет
истории литературы - «это история общественной мысли, насколько она
выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом и
закреплена словом». Это очень широко понятая история литературы, и
внутри ее необходимо выделить основное — это поэзия, «тесная сфера»
литературы. Новый сравнительный метод, рассуждал Веселовский,
откроет и совершенно новую задачу истории литературы - «проследить,
каким образом новое содержание жизни, этот элемент свободы,
приливающий с каждым новым поколением, проникает старые образы, эти
формы необходимости, в которые неизбежно отливалось всякое преды-
10
дущее развитие»12. И здесь, как видим, взгляд идет от широкого к
узкому - всякого рода словесность входит в историю литературы, зато в этой
широкой области выделяется узкий и центральный круг теоретической
проблематики, связанной с историей. Эта проблематика понимается
Веселовским на основе некоторых относящихся к истории развития
литературы предположений, которые казались (тогда и позднее)
очевидными ему: в развитии литературы складываются определенные формы
выражения (назовем это так в самом общем виде), с которыми позднейшие
этапы, или стадии развития литературы не могут не считаться, но
которыми они обязаны воспользоваться. Именно поэтому такие формы суть
«формы необходимости»: новая эпоха, новое поколение, новый поэт,
быть может, - представим себе, - и хотели бы выразить свое
содержание, свои потребности адекватно и свободно, однако такой
возможности у них нет - «элемент свободы» может и вправе проявить себя лишь
в «формах необходимости», проникая их и, вероятно, как-то их
модифицируя. Для Веселовского в 1870 г. задача исследования таких, видимо,
бессчетно повторяющихся узлов в историческом развитии, где новое
обязано привиться к старому, устойчивому стволу, выступает как
задача сравнительного метода. По сути же дела он формулирует задачу -
«идеальную задачу» - исторической поэтики - в духе того, как понимал
он ее и в позднейшие годы. Такая задача формулируется и общо, и
глубоко - глубина не раскрывается пока, но подразумевается. И все же
задача понимается уже того, как понимается она спустя четверть века: с
одной стороны, сложнейший процесс прорастания старого новым и
необходимости свободы не сводится, например, к средствам, к формальной
стороне поэзии, но, с другой — он не достигает и принципиальных
оснований форм поэтического сознания, на какие указывал текст статьи
1893 г. Кроме того, понимание врастания нового в старое чрезмерно
зависит от естественнонаучных представлений эволюционизма XIX в.,
ведь именно эволюция живых форм так зависит от достигнутого уровня
эволюции, так прикована к эволюционному стволу и не могла бы вдруг
начаться ниоткуда, минуя ствол, - всякий новый вид может вырасти
только на нем, как ветка не растет прямо из корня. Это надо отметить
на будущее. Отметим и то, что в лекции 1870 г. Веселовский понимает
предмет истории литературы шире, а задачу исторической поэтики уже,
чем в статье 1893 г.
Если обратиться к юношеским, весьма зрелым научным отчетам
А.Н. Веселовского, то можно видеть, что там он понимает предмет
истории литературы еще шире. «Наука всеобщей литературной истории»
обнимает всю словесность, а под определение словесности подойдут
«история науки, поэзии, богословских вопросов, экономических систем и
философских построений: "почему бы приходилось исключить из истории
словесности хотя бы историю науки?"»13. Нельзя думать, что здесь
Веселовский недостаточно четко и недифференцированно мыслит себе
предмет истории литературы: нет, Веселовский исходит из потребности науки
в новом синтезе14, в том, что мы назвали бы комплексным подходом к
известному кругу исторических проблем, — поэтому в сознании
Веселовского встает образ такой истории культуры, такой Kulturgeschichte,
которая охватила бы в единстве — а не только в соположенности и раз-
11
нородности - весь круг своих вопросов. И Веселовскому представлялось
в те ранние годы (1862-1863), что такой историей культуры и должна
стать история всеобщей литературы15. Веселовский решительно
протестует против ограничения истории литературы эстетической сферой,
против положения Г. Штейнталя, согласно которому «история литературы
есть история лишь художественных форм в собственном смысле слова»16.
Напротив, история культуры, или, что то же самое, история всеобщей
литературы, должна строиться так, чтобы собственно исторические
проблемы, а также история быта оказывались внутри нее - не как введение
в суть дела, не как приложение к ней, но именно как необходимая
внутренняя сторона истории культуры17.
Веселовским движит ставшая ясной для него потребность в соопос-
редовании всех без исключения сторон культурной истории - вовсе не
ясны наперед ответ и не ясны, к примеру, закономерности,
приводящие эту историко-культурную целостность в единство, не слишком
очевидно, как объединит все это история литературы, но направление
взгляда вырисовывается для молодого ученого со всей отчетливостью.
Направление взгляда и превращает историю культуры в историю
именно словесности: все, «история истории, история философии,
литературы и т. д.»18, связывается в единстве слова — слова, в котором
Веселовский так или иначе признает единство творческого начала. Для
русской историко-культурной школы, как она сложилась во второй
половине XIX в., было характерно нечеткое различение
поэтически-творческого слова и всех прочих видов словесности — тогда, когда она
сосредоточивалась на мысли как таковой. И Веселовский как будто тоже
разделяет в начале 60-х годов такой подход — подход, нивелирующий
специфику поэтического 19. Однако мы, во-первых, имеем возможность
читать раннего Веселовского в свете позднейших его высказываний, а
тогда становится понятным, что за общей «словесностью» у него
начинают проступать общие «формы сознания», — характерные для
культурных эпох, этапов и т. п. Во-вторых, мы сейчас лучше, чем когда-либо,
должны осознавать условность вычленения поэтических форм
словесности из всех прочих — и граница «собственно» поэтического и всего
остального в каждую эпоху проходит по-своему, круг «поэтического»
очерчивается по-разному, и границы, здесь, если только они вообще
существуют, зыбки и неопределенны, и все формы словесного выражения
тесно соседствуют и проникают друг друга. Есть общее в том, как
каждая эпоха (или какое-то историко-культурное единство) мыслит себе
вообще слово, и такое осмысление слова вообще предшествует
поэтическому его применению и его определяет, - хотя есть такие эпохи, когда
принято теоретически противопоставлять поэтическое слово всем иным
формам слова. Так, риторическое осмысление слова, будучи общим,
регулирует поэтическое пользование словом (чтобы не сказать —
подчиняет его себе), и, напротив, в XIX в. - по причинам весьма
глубоким - различия разных типов слова (по-разному осмысленных «слов»)
стали представляться доминирующими, а сходства - второстепенными
и несущественными. А.Н. Веселовский же, по сути дела, настаивает на
общности слова - на историко-культурном значении общности слова,
но зато, как мы уже видели, в последующем развитии своей мысли ста-
12
вит в центр всей «словесности» поэтическое слово. Он, заметим себе,
поступает при этом не так, как Штейнталь или, скажем, доброе
большинство людей XIX в., которые принимают поэтическое, эстетическое
за данность, и только, — поступая так по инерции (ибо для них
обособленность поэтического стала самоочевидной). Он вычленяет поэтическое
слово в пределах всей словесности, в пределах историко-культурного
единства слова20.
Однако в формулировках А.Н. Веселовского акценты со временем
смещаются — общее предпосылается скорее имплицитно. На деле же,
практически, А.Н. Веселовский в своих работах был занят отнюдь не
только поэзией — наоборот, он был занят такими формами
словесности с соответствующими им типами слова, где разные применения
слова, где разные функции слова либо не дифференцированы, либо
теснейшим образом взаимосвязаны. И поэзия берется им в пределах всей
словесности, и исследование «форм поэтического сознания»
предполагает такую опосредованность поэзии «всей» словесностью.
Вот каковы масштабы раннего Веселовского. История литературы в
его понимании вбирает в себя общеисторическое и
историко-культурное содержание.
Теперь обратимся к позднему Веселовскому - времени, когда он и
был занят разработкой проблем исторической поэтики. И тут мы
видим, что движение мысли Веселовского на протяжении двух-трех
десятилетий принесло с собой не только достижения, но и утраты.
Отчасти это прагматически объяснимо - ученый ведь не мог
заниматься действительно «всем» и, объяснив свои принципы, должен был
сосредоточиться лишь на части встающих вопросов.
Но это только частичное объяснение. Фактически предмет
исторической поэтики сужается. Общий историко-культурный интерес,
конечно, не исчезает, но он переносится вовнутрь отдельного, в отдельные
нити всей проблематики, и Веселовский сосредоточивается на таком
отдельном, будь то эпитет, или психологический параллелизм, или
поэтика сюжетов. Соответственно он и задачу исторической поэтики
определяет узко: «Задача исторической поэтики, как она мне представляется, —
определить роль и границы предания в процессе личного творчества».
Несомненно, «роль и границы предания» - совсем не то, что «формы
сознания» в их эволюции: второе, и более широкое, подразумевает
изучение содержательных оснований, принципов поэтического мышления с
прослеживанием всех тех путей, на каких эти основания отражаются в
строе поэтических (и, как мы видели, не только поэтических)
произведений. А первое, и более узкое, резко переключает взгляд на
соотношения внутри творчества - формально-структурный момент стоит теперь
в центре, хотя его изучение, несомненно, предполагает у Веселовского
и изучение литературы во всей ее длительности, и выяснение оснований
творчества. И тем не менее определение дано так, как если бы от
вопроса, по существу, надо было переходить к чистым отношениям. Не
просто сужен круг проблем, а изменен ракурс.
Позднее определение исторической поэтики дано Веселовским не
случайно — у него своя предыстория в мысли Веселовского, а именно
оно восходит к тому суженному пониманию задач истории литературы,
13
которое, как мы могли видеть, всегда было у Веселовского наряду с
широким — и в динамической связи с ним. Ведь уже в 1870 г.
Веселовский говорил о формах необходимости в поэзии, проникаемых
элементом свободы, а в ранних отчетах более конкретно обрисована та самая
ситуация, которую в 1870 г. Веселовский передавал в несвойственных
ему метафизических терминах. Вот такова эта ситуация: есть «прогресс,
или органическое развитие» литературы — «тихое развитие из своих
собственных начал», и есть «масса новых начал и фактов», которые
вторгаются в это тихое развитие21. В позднем тексте «тихое развитие»
отождествлено с «преданием», «масса новых начал и фактов» - с
«личным творчеством», с его развитием, процессом. В перемене терминов
сказался, конечно, весь огромный историко-литературный труд,
проделанный Веселовским за три-четыре десятилетия, которые прошли со
времени его научной командировки на Запад. Однако этот
проделанный труд отложился в его сознании таким образом, что определение
исторической поэтики сузилось: оно стало даваться так, что в нем
подразумевался известный результат исследования, известный Vorgriff
исследователя, ставящего себе цели. Позднее определение исторической
поэтики дается Веселовским в соответствии с тем, как он ставит себе
цели и как он сам предполагает достигать их, и это прагматично и узко.
Ведь хотя Веселовский и давал определение, как ему «представлялось»,
но не для одного же себя.
Яснее становится, отчего и почему происходило у Веселовского
сужение предмета исторической поэтики, если принять во внимание те
представления, которые стояли у него за «ролью предания в процессе
личного творчества». Оказывается, что представления эти у него на
рубеже XIX—XX вв., несмотря на изменение терминологии и уточнения,
все те же, что и в начале 60-х годов. Каковы же эти представления?
«Прогресс, или органическое развитие» основан на «чисто
физиологической» подкладке, т. е., сказали бы мы, он осуществляется на
антропологической основе, - по мере развития эта подкладка, или основа,
отчуждается или формализуется, если пользоваться излюбленными
сейчас выражениями, она окосневает или, по Веселовскому, она
«формулируется в обычай и закон», — «дальнейшее развитие уже
совершается в формах этого закона и обычая»22. Формализовавшаяся основа все
снова и снова воспроизводит себя, как матрица, - так что при чтении
Веселовского, действительно, «на ум сразу приходят юнговские
архетипы», и это несмотря на то, что с теорией Юнга у Веселовского нет
ничего общего23. Отпечатывающаяся матрица воспроизводит себя все же
с некоторыми незначительными изменениями, отчего и развитие
становится «тихим».
Наконец, в «тихое развитие» — мы это знаем — врывается масса
новых начал, но и эти новые начала не отменяют старого, — «в какую бы
сторону ни окончилась борьба старого с новым, в результате всегда
будет сделка, не победа и не поражение» (как пересказывает Веселовский
ставшую известной ему в юности философию Гегеля): сделка, или
опосредование противоположностей, выражается, очевидно, в том, что
прежняя «матрица» не отменяется, но приобретает новую функцию и
новое положение в структуре, так что новое целое все же может выра-
14
жать и новое содержание, — но не прямо и непосредственно, а
сообразуясь с давним обычаем и законом. В поздней «Поэтике сюжетов» так
именно и говорится: формула «могла и измениться <...> в уровень с
новыми спросами, усложняясь, черпая матерьял для выражения этой
сложности в таких же формулах, переживших сходную с нею
метаморфозу. Новообразование в этой области часто является переживанием
старого, но в новых сочетаниях»24. Другими словами, новое может
выразиться даже и без всякой «новости», просто переструктурировав
старую матрицу.
Что новое содержание не может выражать себя прямо и
непосредственно — оно должно считаться с сложившимися традициями,
в частности с традициями жанра, - обычно никого не удивляет
(хотя на деле, практически, большая часть критиков и
литературоведов, говоря о произведениях современной литературы, исходит из
прямого соответствия нового, задуманного содержания и его
выражения, откладывая в сторону «инерцию формы», — соотношения с
традицией обыкновенно отыскиваются на содержательном уровне).
У Веселовского удивительно лишь то, что новое содержание может
выражать себя просто через переструктурирование заданных форм.
Однако самое удивительное у Веселовского — это то, что в начале
развития предполагается как раз обратное подобной формальности:
тут, в начале развития, содержание может выразиться как раз
совершенно непосредственно и естественно. Правда, в каких же формах
и было тут выражаться содержанию, если никаких форм еще нет?
Само содержание и рождает такие простейшие формы - они
служат, по Веселовскому, абсолютно адекватным его выражением.
Содержание же составляет психика25. Вот ситуация, близкая к
«началу» истории (т. е. определенной линии исторического развития),
«где человек теснее связан с природой и его развитие еще не
успело создать себе своих собственных, преданием освященных законов
в ее противоположности с законами чисто физиологической
жизни»26.
Начало развития — это здесь как бы антропологическая точка во
времени, когда сущность человека совпадает сама с собой.
Сущность же человека - это его психика. Теперь, если учесть, что
психологизм был основной чертой науки второй половины XIX в., что
представление о психологической естественности выражения
действовало в науке как аксиоматическая предпосылка, то станет ясно, что Ве-
селовский именно этот аксиоматический момент теоретически
осмысляет как лежащий в начале, как начало развития. Заметим, что другие
мыслители XIX в., перед которыми выступила эта задача
антропологической трактовки сущности человека, помещают человека
«естественного» (в этом смысле обретения им своей сущности) как раз в
современность. Веселовский же в одном отношении поступает подобно
Якобу Гримму, который относил элемент творчества в собственном,
исконном смысле - к праистории, к доисторическому состоянию
поэзии и языка (взаимосвязанных и собственно тождественных): общее
у них — то, что полнота смысла находит адекватное себе выражение
именно в начале развития.
15
Итак, согласно Веселовскому, психика человека получила когда-то
(в его, скажем так, «антропологический момент»
самотождественности) естественное выражение. Психика была естественна и примитивна
(изначальна), она-то и родила первоначальные схемы и формулы
поэзии. Поздний Веселовский писал в «Поэтике сюжетов», нисколько в
этом отношении не отличаясь от совсем раннего Веселовского: «<...>
предание, насколько оно касается элементов стиля и ритмики,
образности и схематизма простейших поэтических форм, служило когда-то
естественным выражением собирательной психики и соответствующих
ей бытовых условий на первых порах человеческого общежития27.
Одномерность этой психики и этих условий объясняет одномерность их
поэтического выражения у народностей, никогда не приходивших в
соприкосновение друг с другом»28. Заметим - тем более действие
происходит в «антропологический момент» совпадения человека с его
сущностью, что человеческая сущность самых разных народностей (при
всей своей примитивности) вполне совпадает!.. Теперь можно сколько
угодно возражать Веселовскому по существу: так, «в большинстве
случаев песни являются не стихийным самовыражением хотя бы и
«коллективного субъективизма»29 (как считал А.Н. Веселовский), а
целенаправленной деятельностью, опирающейся на веру в силу слова»30, и
конечно же, и в самой примитивной песне отражается вовсе не
«естественность» как таковая, не «коллективный субъективизм» как
таковой, а целое опосредованных культурных форм - действующее как
сложнейшая система ограничений, через которые и внутри которых
осуществлялся смысл песни. Это ведь знал и Веселовский! И все же
всякое начало исторического развития («начало всякой истории») он
берет со стороны естественности как таковой.
Зачатые в естественном состоянии формулы и схемы поэзии
сохраняются в культуре, но заполняются новым психологическим
содержанием («представлениями и ощущениями»31), — это новое
психологическое содержание (важно отметить!) не создает своих формул и схем, хотя
оно, очевидно, не столь одномерно, как первоначальная психика, а
потому заведомо перерастает «простейшие поэтические формы»,
созданные для ее выражения. Таким образом, перед нами чрезвычайно
характерное представление Веселовского; оно не столь логично, сколь пси-
хологистично (продиктовано ему «аксиомами» психологического,
психологизированного воззрения на мир). Поскольку же и в
психологизме есть своя логика, своя последовательность, то она — при
определенном повороте, какой придал Веселовский психологистическим
аксиомам, теоретически их истолковывая, - то она и порождает, она и
имплицирует веру исследователя в нечто скорее невероятное.
Последствия этого поворота для исторической поэтики
Веселовского были весьма значительны. Коль скоро - при всех модификациях и
нюансах - почти с самого начала, с того времени, как распалось
естественное соответствие друг другу одномерной психики и примитивных
формул и схем, в поэзии множится формальность, накапливаются
пережитки форм, то историческая поэтика и отсылается к изучению
поэтических средств, приемов и отношений. Правда, формулы и схемы
могут заполняться новым психологическим содержанием, могут обоб-
16
щаться, усложняться, но доступ к поэзии, литературе, к их анализу мы
получаем через форму, через ее жизнь, видоизменения, скрещения и
т. д. Форма выступает как носитель зашифрованного в ней (и уже
впоследствии непонятного) содержания, так что движение литературы
осуществляется как варьирование формы, как, в частном случае,
переструктурирование заданных элементов. Сдвиги внутри формализованных схем
и изменения их оказываются центральными для исторической поэтики,
отмеченными моментами: «<...> если, например, такие темы, как
Психея и Амур и Мелюзина, отражают старый запрет брака членов одного
и того же тотемистического союза32, то примирительный аккорд,
которым кончается Апулеева и сродные сказки, указывает, что эволюция
быта уже отменила когда-то живой обычай: оттуда изменение
сказочной схемы»33. Более общо, центральным для исторической поэтики
оказывается соотношение предания как всего массива передаваемых по
традиции, формализованных схем и отклонений от него; весь этот
массив глубоко заходит в эпоху личного творчества, и по природе своей он
таков, что не может отмереть. Историческая поэтика в таком
толковании должна, по существу, сосредоточиться на изучении предания, и
отсюда этнологически-фольклорный ракурс ее у Веселовского.
Даже переходя к «личному творчеству», историческая поэтика
остается в пределах предания - граница предания не конец ему, и вся
поэзия есть шифр естественности своих начал.
Позднее определение исторической поэтики34 следует разуметь не
так, что поэтика ограничивает предание в пределах личного творчества,
но так, что и в пределах личного творчества она изучает именно
продолжающуюся жизнь предания. Она демонстрирует, как проявляется
предание сквозь все создаваемое личным творчеством: коль скоро
«всякий поэт <...> вступает в область готового поэтического слова», то,
«чтоб определить степень его личного почина, мы должны проследить
наперед историю того, чем он орудует в своем творчестве <...>»35.
Итак, историческая поэтика зародилась в России - в трудах А.Н.
Веселовского36.
Для дальнейших судеб исторической поэтики оказалось весьма
существенным широкое и узкое понимание ее задач. У А.Н. Веселовского
эти «два» понимания были сопряжены друг с другом, но только так, что
«узкое» все время вычленялось из общего и «широкого»: так и
широчайшее в своих антропологических основаниях предание сужалось в
форму и в формальность, призывало к поэтико-технологическому
обследованию литературы, как только она вступает в полосу личного
творчества, при фрагментарности анализа, как только произведения
личного творчества перестают отвечать антропологически-целостной
логике предания.
Для эмпирически-индуктивной науки, вырастающей на базе
позитивистской методологии37, самое трудное и почти недоступное — это
так или иначе мыслить целое, целостность: осмысление целого
считается недозволенным забеганием вперед, пока целое не выведено
индуктивно, запрещенным Vorgriff на результат, итог, вывод, - между тем
никакое целое невозможно вывести, не предположив его заранее, как
цель, и отказ от осмысления его наперед ведет к нарушению диалекти-
17
ческой сопряженности в осмысляемой области - к нарушению
сопряженности целого и частей, «всего» и его составных, общего и
отдельного. И для А.Н. Веселовского было очень трудно двигаться внутри
материала, не оставляя общих идей, была трудна идея «слова» и
возникающего на его основе историко-культурного единства «словесности».
Как раз самые блестящие идеи историко-культурной широты,
требовавшие от науки столь же широкого «фронтального» охвата своей
проблематики, и не находили у него адекватной разработки, -
только редкостная эрудиция исследователя38 отчасти, во вторую очередь
создавала впечатление целостности материалов в результате их
сугубо обильного накопления.
Историческая поэтика А.Н. Веселовского как постепенно
воплощавшийся замысел и отражала определенные возможности мыслить
целое - присущие и А.Н. Веселовскому, и науке его времени. Так и
строилась внутренняя динамика исторической поэтики: она вызывала
сужение взгляда, обращающегося к конкретной работе, и заставляла
откладывать на будущее общую картину. Этой внутренней
сопряженности, которая сложилась в исторической поэтике А.Н. Веселовского, где
связывалось все - от историко-культурных проблем, поставленных на
почву слова, до поэтических средств и приемов, суждено было
распасться. А между тем общая, «широкая» сторона задуманной
исторической поэтики была обращена в будущее науки! В ней заложена, как цель
и задача, та проблематика, которая еще острее стоит и сейчас перед
наукой. Это проблематика современной истории культуры под знаком
слова, понятого во всей своей значимости для кулгтры.
Но все же непосредственная судьба всего наследия А.Н.
Веселовского состояла в том, что единство его сторон распадалось, что
более простые линии движения мысли подхватывались по отдельности и
развивались, замещая собой целое. Так, не без воздействия
односторонне понятых идей А.Н. Веселовского сложилась школа
технологического изучения литературного произведения, называвшегося
«формализмом» и дополнявшая А.Н. Веселовского методичным вниманием к
тому, что А.Н. Веселовский никогда не изучал, - к отдельному
произведению и его анализу39. Так сложилась узколингвистическая
трактовка «слова» — и тоже не без опоры на отдельные высказывания и
рабочие приемы А.Н. Веселовского. В научном споре с формализмом
стало, однако, складываться широкое историко-культурное понимание
слова у М.М. Бахтина, соответствующее философским обобщениям
«слова» в мировой культуре XX в. и вместе с тем отличающееся
направленностью на историко-литературный и поэтологический материал. Во
всяком случае, единство исторической поэтики на время распалось,
чтобы собираться постепенно, — и на совершенно новых основаниях,
чем у А.Н. Веселовского. То общее, что оставалось между новыми
синтезами исторической поэтики и наследием А.Н. Веселовского, и
могло прежде всего заключаться именно в освоении всех родственных
историко-культурных материалов, поставленных на почву слова, и в
движении в глубину - к принципам, или первопринципам поэтического
(вместе с тем общекультурного) сознания и к развитию и смене этих
принципов в истории.
18
Такой общий, целостный подход начал заявлять о себе уже в 1930-х
годах - в работах, весьма различных по материалу, методологическим
принципам. Таковы многие работы М.М. Бахтина40, такова работа
О.М. Фрейденберг по поэтике сюжета и жанра41. Необходимо
подчеркнуть, что все достижения связаны здесь именно с широким и
целостным освоением историко-литературного материала. Эта широта и
целостность тоже завещана А.Н. Веселовским.
Историческая поэтика как замысел наших дней не может
проходить мимо прозрений акад. А.Н. Веселовского42 и, осваивая,
обрабатывая конкретный материал литературы, должна постоянно
соразмеряться с общими, всеобъемлющими проблемами истории культуры в
целом.
Построение исторической поэтики развертывается, таким
образом, во взаимопроникновении литературной теории и истории
литературы - и притом непременно так, что этот процесс
взаимопроникновения и слияния теории и истории литературы выходит в широту
истории культуры и в ней, в ее развитии, в ее многообразных
материалах, черпает свою внутреннюю логику.
Таковы «рамки» исторической поэтики, и поскольку эти «рамки»
столь чрезвычайно широки, то лучше говорить о том наделенном
относительной внутренней самостоятельностью, самозаконностью
целом, в которое естественно входит историческая поэтика. Притом
это, очевидно, первое такое относительно самостоятельное целое со
своей внутренней логикой, в которое вписывается и историческая
поэтика, и, стало быть, теория и история литературы, приводимые к
некоторой принципиальности своих оснований. Если можно так
выразиться, история культуры - это первое такое целое, которое
историческая поэтика встречает на своем пути, когда отправляется на
поиски своих начал, своего логического обоснования.
О значении истории культуры в общей истории человечества
замечательно писал акад. Д.С. Лихачев: «История культуры резко
выделяется в общем историческом развитии человечества. Она составляет
особую, красную нить в свитой из множества нитей мировой истории»43.
И остается только согласиться с А.Я. Гуревичем, который так пишет
об истории культуры как задаче нашей современной науки: «Если
понятие «историческая поэтика» не вполне разработано и определено, то,
пожалуй, в еще большей степени это можно сказать о понятии
«история культуры». Привычная трактовка сводится <...> к пониманию ее
как суммы слагаемых: совокупность развития языка, философии,
искусства, литературы, обычаев, быта и дает якобы то, что называется
«историей культуры». Такое кумулятивное «понимание» <...> тормозит
развитие нашей науки в одном из узловых ее моментов. Ибо, по
моему глубочайшему убеждению, многие решающие проблемы
гуманитарного знания упираются именно в необходимость разработки истории и
теории культуры. История культуры вырастает в настоящее время в
комплексную дисциплину, в рамках которой происходит встреча и
взаимодействие, по существу, всех наук о человеке, от психологии до
демографии, от этнологии до литературоведения. Но это взаимодействие
невозможно понимать как простое объединение результатов обособ-
19
ленных отраслей знания - история культуры представляет собой базис
современных гуманитарных наук и вместе с тем их синтез»44.
Как ни будем понимать мы историческую поэтику, одно
необходимо сказать наперед — ее «место» задается историко-культурным
синтезом, с которым содержание исторической поэтики так или иначе
связано. Едва ли, правда, мы будем отождествлять историческую поэтику
и историю культуры, - так, как, в несколько иных терминах,
рассуждал молодой А.Н. Веселовский, - хотя для этого есть внушительные
основания, именно общность действующего во всей словесности (такой-
то эпохи) слова. Можно допустить, что изучение так понятого слова
непосредственно связывает историческую поэтику и историю
культуры, - однако после этого в истории культуры останется еще очень
много специального материала, который уже не будет прямо
относиться к ведению исторической поэтики.
Совершенно ясно, однако, и то, что историческая поэтика — как
задача современной науки — определяется внутренней потребностью
науки (и даже более того — самой же культуры!) во взаимоопосредовании
теоретического и исторического знания, в максимальном сближении
теоретических и исторических подходов к литературе. Если признать
такую внутреннюю потребность, то следует признать и другое: предмет
исторической поэтики устанавливается не «нами», т. е. не
литературоведами, устанавливается не частным мнением, взглядом, а должен быть
понят именно так, как того требует логическое развитие науки.
Другими словами, каждый литературовед вправе ставить перед собой
вполне конкретные, весьма частные задачи, но такой очерченный круг он
не должен отождествлять со всей исторической поэтикой — такой,
какой она вырисовывается перед нами в науке, в логике ее развития.
Всякий литературовед должен в этом смысле следить за собой — не урезал
ли он, безосновательно, круг науки, круг дисциплины, которая встает
перед ним и которую он стремится уяснить себе. А для определения
границ широкого понимания исторической поэтики — т. е. той, какой
вырисовывалась она исторически в науке о литературе, — действенны
некоторые очевидные координаты: это, во-первых, история культуры,
к которой имеет прямое отношение историческая поэтика; это,
во-вторых, слово, понятое как первопринцип «словесности» в целом и как
носитель поэтического сознания; это в-третьих, опосредование и
взаимопроникновение исторического и теоретического знания о
литературе, - о чем только что шла речь и что выступает как внутренний
императив современного литературоведения (и параллельно с ним —
других родственных исторических дисциплин).
Вот та широкая площадка, куда заведомо помещается современная
историческая наука (здесь мы, заметим, на своем этапе узнаем все те
проблемы, над которыми размышлял около ста лет назад акад. А.Н. Ве-
селовский). Нетрудно понять, что историческая поэтика в этих
пределах охватывает, в сущности, все содержание науки о литературе, но
только взятое в своем самом принципиальном содержании, начиная с
философского, однако, в свою очередь, подкрепляемого всей
весомостью своего историко-культурного разворота, осмысления слова и тому
подобных общих вещей и проблем. Охватывая все, историческая по-
20
этика в любом случае не выступает как одна из дисциплин науки о
литературе наряду с другими, например наряду с историей литературы
«как таковой», теорией стиха «как таковой», теорией литературных
стилей «как таковой» и т. д. Ведь коль скоро новая историческая поэтика
рождается из таких общих внутренних побуждений как потребность в
опосредовании теории и истории, такая потребность не может
останавливаться перед чем-то отдельным, не заходить в такую отдельную
область и давать ей существовать, как прежде. Именно поэтому, заметим,
общие тенденции, идущие в русле новой исторической поэтики, т. е.
в русле нового синтеза теории и истории, проявляются в наши дни в
каждой из отдельных литературоведческих дисциплин, — как только
исследователи от узкой, технологической, прикладной постановки
вопросов переходят к общей, принципиальной, к исторической
жизни своих предметов, как только они перестают думать, что эти их
предметы нечто только внутринаучное и подлежащее логической
разработке внутри себя (как, например, полагали многие
стиховеды-теоретики в 20 — 30-е годы, как, совсем с другой стороны, рассуждают
многие историки литературы, считающие своим долгом только
изложение фактов, хотя бы и в их связях и зависимостях). Разумеется, и
область литературоведческой методологии оказывается в пределах
исторической поэтики; правда, «с литературоведческой методологией
поэтику пока еще никто не путал»45, однако возможна ли отдельная от
теории и истории литературы (т. е. вообще от практики
литературоведческих исследований) дисциплина методологии?
Однако если историческая поэтика оказывается не отдельной
дисциплиной науки о литературе наряду с другими, то это не означает, что
она поглощает всех их, включает в свой состав и т. д. За пределами
исторической поэтики остается всякая фактография, например,
биографические исследования, не претендующие ни на какую теорию, но
скрупулезно выясняющие всякого рода даты. Никоим образом нельзя
думать о таких исследованиях как-то пренебрежительно - хорошо
известно, что они способны складываться в весьма солидный слой науки
о литературе, со своими специфическими тонкими приемами. Вообще
историческая поэтика - так, как она задумывается теперь в самой
науке и самой наукой, — отпускает от себя все то отдельное, что в
пределах литературоведения способно доказать свое право на отдельное,
обособленное существование. Но только это отдельное и обособленное
может существовать не как замкнутая или завершенная в себе
дисциплина (такими в глазах многих до сих пор остаются и теория и история
литературы «сами по себе»), а именно как отпущенный на волю, не
охваченный всей общей теорией остаток. Другими словами:
историческая поэтика - историческая поэтика как задуманная в самой науке,
подчеркнем это еще раз, — соотносится с существующими
литературоведческими дисциплинами не механически, а динамически. Она все их
подчиняет себе, но не охватывает целиком все их содержание; ее
границы проходят поперек существующего, исторически сложившегося
членения науки о литературе, и проходят они — не побоимся этого
слова — неопределенно. Главное в исторической поэтике как научной
дисциплине - это то, что она стягивает к себе, как к центру, существен-
21
ное содержание науки о литературе, подчиняя его принципам
поэтического сознания, формам историко-культурного слова. Историческая
поэтика действует динамически, все существенно стягивая к себе как
к центру. Поэтому не столь важно то, как - поперек сложившегося
состава науки о литературе - пролягут ее границы: сама историческая
поэтика как тенденция опосредования теории и истории есть критика
прежних границ, установившихся между литературоведческими
дисциплинами.
По этой же причине не таким болезненным кажется и другой
вопрос - о том, не подменяет ли так понятая историческая поэтика
теорию литературы, не тождественна ли она ей настолько, чтобы и не
было необходимости в введении нового наименования? Ведь подобно
тому, как историческая поэтика обретает свою логику в истории
культуры, этом смыслообразующем, или смыслопорождающем, слое всей
человеческой истории, так теория и история литературы обретает свою
логику, свое обоснование и оправдание в исторической поэтике — так,
как она вписана нами в свои координаты, так, как заняла она
положенное ей место. Если, как пишет И.К. Горский, в понимании и Веселов-
ского, и Шерера «историческая поэтика означала попросту теорию
литературы, основанную на принципах историзма»46, то мы вполне отдаем
себе отчет в том, что в этом «попросту» и заключена вся сложность
задачи, не решенной до сих пор. Пусть историческая поэтика будет
только попросту теорией литературы. Если после этого теории будет что
сказать, она докажет право на свое отдельное существование. Однако
в этом можно усомниться: что в теории не связано с историей, что в
ней — аисторично, внеисторично?47
Итак, если историческая поэтика - это всего лишь теория
литературы на исторической основе (если допустить это), то отсюда не
вытекает, в свою очередь, что она повторяет строение какой-либо
существующей теории литературы. Если принять, что историческая поэтика в
самой своей глубине ориентирована на формы поэтического сознания,
сменяющие друг друга (то, что А.Н. Веселовский называл
«эволюцией»), на слово, функционирующее историко-культурно и как бы
задающее модус всякому словесному творчеству эпохи, то дальше
исторической поэтике необходимо прослеживать от начала до конца весь путь
воплощения слова в творчестве, в тех формах, какие создает оно для
себя, все преломления слова в творчестве, все средства, через которые
оно в творчестве проходит. О такой задаче исторической поэтики
весьма удачно писал М.Б. Храпченко: «<...> предмет исторической
поэтики целесообразно охарактеризовать как исследование эволюции
способов и средств образного освоения мира, их социально-эстетического
функционирования, исследование судеб художественных открытий.
Историческая поэтика не может не включать в себя изучение
изменяющихся принципов литературного творчества, тех принципов, которые
на определенном этапе развития литературы выступают как
художественный метод»48. Здесь раскрывается содержание того определения,
какое давал А.Н. Веселовский (от него сохранилось как бы не
переведенное на современный язык науки слово «эволюция»); лишь
меняются местами самая общая и более подчиненная задачи исторической по-
22
этики. Однако M.Б. Храпченко делал тем больший, оправданный
акцент на общем, на принципах творчества- эти принципы «придают
единство, качество системности различным поэтическим средствам», а
игнорирование принципов «приводит анализ поэтических средств к
разобщенному, раздробленному их описанию - вне всякой творческой и
исторической перспективы»49. Все это совершенно справедливо.
Теперь, кажется, выясняется, чем и в каких пределах должна
заниматься историческая поэтика — в соответствии с тем, как (на
протяжении свыше ста лет) складываются ее тенденции в самой науке, а не
с тем, что может полагать о ней тот или другой ученый.
Очевидно то, что уже сама историческая поэтика (как нарастающая
в нашей науке и движущаяся к обобщениям тенденция) есть фактор
истории культуры, фактор историко-культурного смыслообразования,
или смыслопорождения. Вместе с тем у нее особая функция -
отражения, анализа, осмысления поэтического сознания, или, шире, слова в
историко-культурном смыслопорождении. Ясно, что историческая
поэтика относится ко всем тем уровням, на которых осмысляется слово,
а тогда не только всякая словесность (с поэзией в центре), но и теория
литературы, и ее история, и поэтика, наконец, и сама же историческая
поэтика как осмысление слова — все попадает в ведение исторической
поэтики, все должно быть подвергнуто ею анализу, все должно быть ею
осмыслено, все становится ее материалом. Простейшая и достаточно
условная схема это покажет.
ЛИТЕРАТУРА
(словесность, поэзия в их историческом развитии)
ОСМЫСЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
поэтика, теория литературы, история литературы
история поэтики, история истории
история теории литературы литературы
ИСТОРИЯ НАУКИ О ЛИТЕРАТУРЕ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА
Самое простое, быть может, банальное, что можно сказать об
исторической поэтике, глядя на эту схему, - это то, что историческая
поэтика, по всей видимости, возникает тогда, когда творческое,
поэтическое слово уже не один раз в самой истории подверглось
опосредованию - исторически и теоретически. Историческая поэтика отражает
сильно разветвленное, разросшееся, опосредованное слово — слово,
которое накопило достаточно опыта для того, чтобы сами его
опосредования сложились в историю форм, в своего рода систему. Есть уже по
меньшей мере три уровня, на которых слово осмысляется, три формы
23
его существования, и каждый такой уровень, и каждая такая форма, в
свою очередь, демонстрируют определенное поэтическое сознание -
исследователь литературы являет его не менее показательно и
красноречиво, чем поэт и писатель, но только иными способами, чем они. У
исследователя литературы слово и уходит от себя, от своей
поэтически-творческой сущности, отражается и делается вторичным, а вместе
с тем и проявляется, проявляет свою сущность (но только с
неминуемыми искажениями, сопровождающими любой такой перевод в иное
состояние); это двойственный процесс, где исследователю
поэтического сознания легче подлавливать слово в его перекрестном освещении.
Уровни далеки друг от друга, они совсем иные, к тому же сама
история постоянно переводит слово в новые состояния, - и вследствие
всего этого уже на заре современной литературной науки, в самом
начале XIX в., у литературоведа-филолога, такого, как Якоб Гримм,
словно платоновская тяга к прообразу, возникает тяготение к
неискаженному изначальному поэтическому праслову, стремление раскопать его
среди исторических наслоений и так его обрести, — отблеск этого
тяготения обнаруживаем и у А.Н. Веселовского, с
генетически-эволюционным подкреплением такого подхода. Но разные уровни и близки
друг к другу, и можно думать, что поэтическое творчество, его
функционирование, его теоретическое осмысление гораздо ближе друг к
другу, чем обычно представляют себе, когда по инерции решительно
размежевывают непосредственность творчества и теорию. Творчество и
теория плавно переходят друг в друга, а нередко одно просто
заключается в другом или продолжается другим. Всякий творческий акт
вместе с тем уже акт своего осмысления, истолкования, а теория —
продолжение творчества другими средствами, как сказано — προ-явление
слова. Кроме того, слово поэтическое и слово научное в разные эпохи
по-разному, многоразлично, связаны явными и подспудными
нитями - так, еще в XVH-XVIII вв. связаны через риторику,
свидетельствующую именно об общности слова во всей словесности.
Сейчас же хотелось лишь показать, насколько расширяется и
насколько специфическим предстает в сравнении с традиционной
теорией литературы материал исторической поэтики, если формулировать ее
задачи так, как заставляет понимать и ставить их внутренняя тенденция
самой же науки. Круг вопросов и материал исторической поэтики
расширяется - в сравнении с теорией литературы - прежде всего
благодаря тому, что всякий носитель поэтического сознания, всякий его
документ в принципе оказываются в поле ее внимания. Сама теория
литературы становится таким документом. Так происходит тогда, когда
историческая поэтика направляет свое внимание на самое существо
дела, т. е. на выяснение принципов поэтического сознания, или
сознания слова. Когда же историческая поэтика начинает прослеживать
действие принципа в поэтическом творчестве, прежняя, современная
художественному явлению теория остается соосвещающим его,
оттеняющим, проявляющим моментом, как бы весьма компетентным
советником в нашем общении с прошлым, с его искусством, с его культурой.
Даже если историческая поэтика - это всего лишь теория литературы,
следующая принципу историзма, то теория литературы будет как исто-
24
рическая поэтика выглядеть совершенно иначе, нежели теория
литературы в привычном до сих пор виде50. Для новых книг, отражающих
современную тенденцию опосредования истории и теории литературы,
характерен учет как поэтических источников, так и старинных поэтик,
вообще поэтической теории, так как многие константы поэтического
мышления проявляются равным образом в творчестве и в теории или
одинаково участвуют в создании того и другого51.
Приведенная выше схема наглядно показывает, насколько мало
современная историческая поэтика соответствует по своему материалу и
задачам прежней поэтике, существовавшей на протяжении долгих
веков, - сколь бы разнообразными ни были, в сущности, типы
традиционной поэтики. О том, насколько четким и привлекательным по
своей известной конструктивности был сложившийся образ традиционной
поэтики, говорит тот факт, что даже В.М. Жирмунский в начале 20-х
годов стремится, формулируя задачи поэтики, сообразоваться с
прежней поэтикой: «Задачей общей, или теоретической поэтики
является систематическое изучение поэтических приемов, их сравнительное
описание и классификация»52. Между тем историческая поэтика уже
вследствие глубокого переосмысления самого предмета поэтики
резко расходится с традиционной поэтикой. «Поэтика» в составе
наименования «историческая поэтика» есть попросту нечто совсем иное,
чем «поэтика».
Однако традиционное понимание «поэтики» продолжает оказывать
давление на сознание исследователей и приводит к суженному
толкованию задач современной исторической поэтики. Так, исследователь,
показавший изменение предмета поэтики на протяжении XIX—XX вв.,
счел нужным, рассуждая о задачах будущей исторической поэтики,
повернуть ее вспять — к поэтике, понятой «как прикладная литературная
теория», а тогда получилось, что «поэтика должна стать нормативной»
и важнейшей ее задачей «станет рекомендация таких научно
обоснованных, выверенных обобщающих положений, опираясь на которые
литературная критика могла бы эффективнее, без нынешнего
субъективизма, с большим знанием дела и лучшим предвидением
перспектив развития влиять на практическую деятельность писателей»53.
Однако такое благое намерение или пожелание вступает в самое резкое
противоречие с современным литературным сознанием и даже с
литературным опытом наших дней. Ведь чтобы стать нормативной,
поэтика должна опираться на некоторую существующую в писательском
сознании внутреннюю меру правильного - неправильного,
подобающего - неподобающего и т. д.: «<...> только при условии, что она
отстаивает некоторую систему общеобязательных установок для данного
направления литературного развития, поэтика и может выполнять
свое назначение руководства в области текущей творческой
деятельности»54. Но если такой внутренней меры нет, то ее нельзя
выдумать - реальное взаимосогласие людей нельзя подменить
теоретическим постулатом; если, например, писательское сознание нацелено на
наивозможное многообразие творческих решений, то его нельзя
подчинить какой бы то ни было норме одним только теоретическим
усилием. Однако в конце концов писательское сознание, усматривающее
25
внутреннюю меру только в свободе от всякой поэтологической задан-
ности, по-своему отражает ту же самую ситуацию, что и историческая
поэтика, - это ситуация максимального накопления опыта,
историко-литературной умудренности. Все это — и в науке, и в творчестве -
связано с нашим современным способом относиться к истории, даже
с некоторым как бы аксиоматическим уровнем восприятия мира:
современное сознание очень часто даже готово как бы поступиться
«своим», чтобы затем вновь обрести это «свое» через все
многообразие исторически существовавших форм, - тогда как раньше, в
прежние эпохи развития культуры, интерес к истории, к прошлому, к
прежде существовавшим культурным, литературным, поэтическим и
любым иным формам по меньшей мере уравновешивался очень
четким и, на наш сегодняшний взгляд, быть может, чрезмерно узким
представлением о «своем», о том, что надо «мне», писателю, и о том,
что я считаю верным и правильным в творчестве (в отличие даже от
шедевров прошлого, которым «я», писатель, поэт, художник, могу
даже поклоняться).
Вся изведанная широта существовавшего в литературе, в
словесности в целом дает огромные преимущества историку культуры и
литературоведу, - однако это же самое приводит, как embarassement de
richesse, к известному (и очень острому!) кризису писательского
сознания. Тем не менее писательское сознание находится в ближайшем
родстве с сознанием теоретическим - при этом и то и другое
одинаково причастны к историко-культурным процессам наших дней, к
тому, что названо у нас историко-культурным смысл опорождением, и
к осмыслению этих процессов. Ситуация такова, что литературовед-
теоретик и писатель-практик пребывают в принципиальном согласии
между собой - еще до того, как они начали спорить, еще до того, как
они о чем-то договорились. Зато в абсолютно проигрышном
положении находится критик - такой критик, который вследствие
историко-культурного разделения труда очутился между теорией и
практикой, такой, однако, критик, который дожидается от теоретика
готовых результатов, чтобы, в свою очередь, разжевать их
писателю, - такой критик боится субъективности, единственного своего
«оружия», которое осталось у него в целости и сохранности; он
противопоставляет себя обеим сторонам, которые хотел бы связать, и
намерен что-то разъяснять людям, которые на основании своего
опыта давно уже убедились - как теоретик, так и писатель - в том,
что все уже было, что все возможно, что все допустимо, и которые
живут, окруженные изобилием литературных прецедентов. Ясно, что
в этой ситуации единственное лицо, которое еще вправе
предписывать какую-либо норму, — это не теоретик, а критик, если он
только продолжает уверенно стоять на своем; вот только он и мог бы
разработать нечто вроде нормативной поэтики. Человек же,
занимающийся теорией литературы и рассуждающий о возможностях и
задачах исторической поэтики, скорее представит себе наше время в
виде зеркала, поставленного на пути истории, — все эпохи
прошлого смотрятся в него, а теоретик обязан смотреть, что и как в нем
отражается, и должен разобраться во всем этом55.
26
II
Наука движется вперед не только через раскрытие новых фактов,
освоение ранее недоступных областей, создание новых методов, но - в
известные эпохи - не менее того через самокритику, через самопознание
своих начал, через анализ «аксиоматического уровня» научного
сознания.
Сказанное вполне относится к эстетике и к научной истории
культуры, как развивались они на протяжении двух последних столетий,
вполне относится и к многообразным, непрекращавшимся все это
время попыткам историко-теоретического синтеза в науке о литературе.
Чрезвычайно богатое, разветвленное движение немецкой теории в это
время дает возможность представить себе весь этот процесс внутренней
самокритики науки достаточно последовательно. Наука все это время
развивалась так, что она осваивала некоторые новые принципы
понимания, познания мира, благодаря этому существенно обогащалась, а
вместе с тем последовательно отказывалась от ряда наперед заданных,
как бы аксиоматических, автоматически действовавших положений,
которые долгое время считались совершенно естественными, а затем
признавались за необоснованные, за недопустимые Vor-Urteile, за
неоправданные предпосылки. Отказ от одного за другим таких
«предрассудков» происходит в науке достаточно редко и всякий раз означает в
ее истории довольно четкую и резкую цезуру - знаменует начало
нового этапа развития науки. Что нужно при этом прежде всего иметь в
виду, так это то, что этапы научной «самокритики» теснейшим образом
связаны с этапами осмысления человеческой личности, - в немецкой
культуре и эти этапы представлены наиболее полно и богато, их
логика выписана с наивозможной ясностью, а ведь осмысление
человеческой личности именно начиная с середины XVIII в. претерпевает
быстрые, решительные, существенные изменения.
«Аксиоматические» положения науки всякий раз взаимозависят от
того как понимается, как осмысляется человек. Теснота связи, степень
зависимости здесь совершенно очевидны - стоит только принять во
внимание, что XIX век может быть назван антропологическим веком,
что культура этого времени стремится осмыслить человека предельно
богато и полно, что она стремится понять человека как меру всех
вещей - в мире, в жизни, в обществе, в истории, стоит только принять,
далее, во внимание, что история культуры имеет дело не с каким-то
отвлеченным предметом, но именно с тем самым, чем занята культура
этого времени, - с человеком, с сущностью человека, с осмыслением ее.
Если это так, то становится тем более понятным, что любая историко-
культурная дисциплина в этот период - это наука о сущности человека,
причем такая, в которой и выражает свою сущность человек этого
времени, так, как он мыслит себя. Тогда ясно, что в такой науке человек
осмысляет и исчерпывает себя; поскольку же история культуры и всякая
относящаяся к целому истории культуры дисциплина должна все же
устанавливать историческую реальность прошедших эпох, то она не может
без конца удовлетворяться лишь тем, что внутри ее выражает себя все
одна и та же сущность человека, каким понимает он себя сейчас, скажем
27
в середине XIX в., не может удовлетворяться тем, что внутри ее сущность
такого человека встречается сама с собою и узнает в ней сама себя, и
поскольку это так, то именно в истории культуры, во всех ее
дисциплинах, и начинается осознание ограниченности антропологического образа
человека (как бы раз и навсегда «совпавшего с самим собою»),
начинается критика всего того, что в таком образе человека считалось
естественным и общечеловеческим, начинается преодоление такого образа
человека, подвергается сомнению вся его «аксиоматика». Сущность
человека исчерпывается и вы-черпывается! Только тогда, когда наука
теряет веру в то, что есть некая общечеловеческая естественность, что
человек во все времена — это одно и то же; а потому он всегда одинаково
чувствует и понимает вещи, - только тогда снимается одно из
важнейших препятствий, ограничений для исторического мышления, для
историзма, только тогда наука, история культуры получает возможность
более адекватно строить образ человека разных эпох, постигать особенный,
конкретный тип культуры, понимать разные языки культуры.
Вот почему науке необходимо было раз за разом отказываться от
своих «аксиоматических» положений, связанных с антропологической
трактовкой человека, — сбрасывать их словно пелену с глаз. Никак нельзя
считать, что этот процесс освобождения науки от «излишних»
предпосылок к нашему времени уже завершился, - можно сказать, что
сделано нечто существенное, однако при этом XIX век оставил в наследство
науке, прежде всего западной, весьма противоречивую ситуацию. Дело
в том, что XIX в. освоения принципов историзма был, как сказано, и
антропологическим веком, - одно было несомненно связано с другим,
в известной перспективе освоение истории как органического,
закономерного целого было взаимосвязано с освоением человека, личности во
всем ее реальном богатстве. Однако на деле одно перебивалось другим,
а именно конкретно-исторический подход к вещам и явлениям
перебивался принципом антропологической «естественности», когда
психологически трактовавшаяся сущность современного человека переносилась
на все исторические эпохи, признавалась общезначимой и
общечеловеческой. Выработанные немецкой наукой, философией, культурой
принципы историзма резко нарушаются в XIX в. этим психологизмом,
который решительно все ставит на почву «естественной» психологии,
«естественного» восприятия. Когда же такого рода «аксиомы» стали
подвергаться критике и отбрасываться, то как раз в западной, немецкой
науке о литературе это происходило весьма непоследовательно — в той
мере, в какой академическая наука, сложившаяся в своих формах,
стабилизировавшаяся, развивалась в некотором самодвижении, в
относительной методологической изоляции. Такой науке весьма свойственно
нести с собой груз полупреодоленных аксиом-предрассудков, а потому
неудивительно и в науке середины XX в. встречать все те же
психологические предпосылки, которые сужали кругозор ученого XIX в. и
мешали ему более адекватно и более целостно видеть и понимать культуру
прошлых эпох, попросту воспринимать ее как нечто целое - мыслить
как независимую от «нашего» восприятия, от «наших» современных
обычаев, привычек, способов постигать вещи. Можно сказать, что в
немецкой науке о литературе развивавшиеся (в ней, как и вообще в немец-
28
кой культуре) принципы историзма были серьезно нарушены этим
комплексом антропологического психологизма - последствия его не
преодолены и сейчас, не преодолены постольку, поскольку этот комплекс,
как бы смешавшись с историческими подходами, определил в XIX в. и
характер немецкой науки о литературе, и то, чем она по преимуществу
занималась, что предпочитала и чем пренебрегала.
В немецкой культуре как историзм, так и антропологизм были
одновременно заявлены И.Г. Гердером - мыслителем-провидцем, который
подхватывал импульсы живой культурной истории и, придав им на лету
первозданную внятность, передавал их, как тему, будущей историко-
культурной науке — далеко вперед. В 1777 г. Гердер писал:
«Художественный канон Поликлета ясен лишь на основе чувства и для чувства (aus
dem Gefühl und fürs Gefühl). Его дает пластическая форма»56. «Чувство»
здесь уже того, что понимаем под чувством мы теперь, и
проникновеннее: это прежде всего осязание, как бы чувство по преимуществу57, затем
же, как верно отметил Б. Швейцер, все — «от осязания до тончайших
движений души»58. «...Читать надо так, будто ты все видишь,
осязаешь...»59. Гердер говорит о греческом искусстве, однако как
высказывание о греческом искусстве его слова, как понимаем мы теперь, весьма
недостаточны - Гердер с самого начала вычитывает из канона
Поликлета логос — расчет и рационализацию художественного чувства, весь
процесс обобщения; по Гердеру, здесь, очевидно, царит
непосредственность - она создает пластическую форму, а пластическое произведение
означает собой канон, или правило искусства, просто равно ему. Тем
более полно выражает Гердер новые основания, на которых должен
утвердиться человек и его образ, — это сенсуалистические основания, и
они не вычитаны им из философии, но προ-явлены - на языке
философии - как тенденция самой жизни, как нарождающееся
самоосмысление человека, и высказаны не для одной только истории искусства, а
вообще для всей живой культуры. Гердер вычитывает и высказывает все
это в резчайшей оппозиции механически-рациональному истолкованию
человека. И воздействие гердеровского «прапереживания
пластического начала», как в духе Дильтея формулирует Б. Швейцер60, следует
искать не столько в художественной мысли и в истории искусства61,
сколько в самой жизни, в сплетении жизнеощущения и его
осмысления, когда, например, сначала у Ф. Шлегеля, затем спустя поколение
у младогерманцев вспыхивает идея «эмансипации плоти». Конечно, гер-
деровское «прапереживание» здесь огрубляется и, огрубляясь,
«эволюционирует», плотское опять разделяется с душевным, но это уже на
основе освоенности единства (психофизиологического единства) всего
человеческого. Историко-культурный замысел эпохи таков: человек должен
принадлежать самому себе, он должен быть о-своен самим собой, его
чувства - это не отвлеченные, философски расчисленные страсти, а
внутренняя, в конечном счете неуловимая и неописуемая конкретность,
«веяние», а не дефиниция, и т. д. Гердер вдохновенно проповедует все,
что требуется для того, чтобы укоренить человека внутри его души.
. Итак, человека надо было освоить - пересадить внутрь самой
личности. В этом была историческая потребность и необходимость.
Однако какие возмущения вносят подобные представления в осваиваемую
29
эпохой идею органического роста истории! Античность и
современность напрямик соединяются единством сенсуалистического
мироощущения, - однако именно такими бестрепетными средствами (вроде
того, что все сваливается в кучу) прокладывает себе путь новый
историзм. Он порой через нарочитое отождествление достигает
дифференциации и размежевания: на рубеже XVIII-XIX вв. немецкая культура в
большой своей части смотрит на Грецию как на идеал, который
надлежит восстановить, уподобив ему саму жизнь, - однако труды тех, кто
стремился к возобновлению античности, пошли на пользу
решительному различению античности и современности62.
А одновременно с этим переходом через узловой момент своего
отождествления-различения с античностью немецкой культуре необходимо
было расстаться и с гердеровским сенсуализмом, со всякими штюрмерс-
кими прокламациями его, со всем экспериментальным, что заключал в
себе этот сенсуализм: гегелевская Innerlichkeit,
внутренне-проникновенное начало человека, концентрируется в себе, как то и «положено» ей в
свете дальнейшего развития, дальнейшего осмысления сущности
человека. Так можно сказать, что начинающаяся история культуры сразу же
вынуждена была распрощаться с «аксиомой» сенсуализма как некоторой
чрезмерностью и излишеством. Однако дальнейшее развитие ведет к
новому парадоксу, как это обычно и бывает свойственно истории: чем
больше сущность человека сосредоточивается в его «внутреннем», теперь уже
безраздельно принадлежащем ему как его личное достояние и сокровище,
чем больше наука XIX в. начинает разбираться в этом внутреннем, тем у
же круг того, что способна понимать такая сконцентрировавшаяся
внутри себя личность — в несчастье и в блаженстве обладания самой собою! На
протяжении всего XIX в. сильно разрастается историческое и историко-
культурное знание, открывается доступ в неведомые прежде области
истории. Однако на всю эту широту в течение XIX столетия обрушиваются
волны суженного, замирающего на «своем» смысла: чем увереннее
личность обладает исконно-«своим» — центром внутреннего, тем
несомненнее для нее аксиомы психологизма, психологизированной культуры, тем
менее способна она постигать чужое в ином, тем легче узнавать ей себя в
ином, тем проще предаваться иллюзии общего подобия всех всем, -
например, психологических оснований любой культуры, любой культурной
эпохи. При всех внешних различиях все должно быть изоморфным
внутренне, психологически.
Когда же к концу XIX в. ограниченность психологических
(психологистических) аксиом и иллюзии всеобщей изоморфности стали в науке
очевиднее, науке о литературе предстояло вступить на тот трудный путь,
которым пошли философия и все искусства, - необходимо было
размежеваться с аксиомами психологизма, с аксиомами общечеловеческой
естественности и искать способы обнаруживать независимую от
субъективности современного человека, современной культуры логику историко-
культурного развития. Однако избавиться от аксиом психологизма
оказалось делом почти невыполнимым для литературоведения:
антропологически-психологическая позиция, где человек «приходит сам к себе»,
оказалась столь само собою разумеющейся, что встала в самый центр
историко-культурных дисциплин в их становлении. Так наука о литературе
30
и в конце XX в. только продолжает отрицать эту позицию, бороться
против заново воскресающих ее форм63 и идти вперед путем самоанализа
своих позиций, предпосылок, аксиом. Ведь, как сказано, прогресс в науке
отчасти (а, может быть, в большей части) достигается через такой
самоанализ, через критику своих оснований. На протяжении всего XX в.
наука о литературе продолжает как бы освобождаться от груза излишних
оснований - таких незаметно, невольно принятых на веру допущений,
Annahmen, которые выступили (и отчасти все еще продолжают выступать)
как следствия психологических аксиом науки (и всей культуры) XIX в.
Разумеется, такова ситуация не только западной, не только
немецкой, но и нашей науки. Она ставит литературоведа перед
необходимостью постоянно вдумываться, как бы пристально всматриваться в свои
положения (гипотезы, допущения, тезисы) с тем, чтобы удостовериться
в тех основаниях, на каких они принимаются.
Современная теория литературы и, естественно, историческая
поэтика постоянно пребывает в этой ситуации — в ситуации напряженного
продумывания своих оснований. Задачу исторической поэтики возможно
формулировать так, как это сделал А.Я. Гуревич в форме вопроса: «Не
входит ли в ряд первостепенных задач исторической поэтики расшифровка
художественного языка другой эпохи?»64. Это возможная и весьма удачная
формула, а если мы спросим себя, с чем, собственно, имеет дело
историческая поэтика (но и не только она, а вообще вся литературная наука, как
только она не довольствуется изучением современности «внутри ее»),
когда расшифровывает или, скажем, учится понимать художественный язык
другой культуры или культурной эпохи, то мы можем ответить так:
конечно, она имеет дело с иным, нежели свое, и, имея дело с иным, должна
стараться с возможной тщательностью разделить свое и иное, свое и чужое.
А такая деятельность предполагает углубление и в чужое и в свое — в иную
культуру и в свою собственную, анализ того и другого, анализ своего не в
меньшей мере, чем чужого. Это и на деле выглядит как «диалог» культур,
в котором происходит выяснение отношений между ними. А одно это уже
показывает нам, что в постижении чужого, или, если угодно, в
расшифровке языка иной культуры, для нас нет никакой непосредственности, -
познание заключается в длинном ряде опосредовании, в котором мы
чужое познаем через свое, свое через чужое и т. д.
Герменевтическая теория отдает себе отчет в этих сложностях
познания и всякое действие такого историко-культурного понимания
помещает в неразрывный круг, в котором может быть продвижение вперед,
но который знаменует бесконечность приближения к самой истине как
некоему пределу. «Свое» (т. е. неотмыслимая аксиоматика собственной
позиции) естественно подкладывается под все «чужое» в любом акте
понимания, и для герменевтических течений вследствие этого остро
встает вопрос о первом шаге в этом движении по кругу — узнавать ли себя в
ином, в чужом, или же сразу акцентировать момент чужого в этой
неразрывной корреляции своего и чужого; в зависимости от решения этого
вопроса строятся различные современные трактовки герменевтики; их
разнообразие охватывает, кажется, весь круг мыслимых возможностей.
Негерменевтическая теория литературы, осознавая ту же самую
сложность, выражает ее несколько прозаичнее, без оттенка роковой неизбеж-
31
ности, в какую ввергает себя герменевтик, постигая что бы то ни было.
Однако правило, какому следует теоретик в этой бездне опосредовании,
все то же: «Понимание языка иной культуры, понимание чужой
поэтики должно быть сознательным: язык нужно учить. При этом чем
меньше мы будем поддаваться иллюзии, будто в своей общечеловеческой сути
все языки всех культур в чем-то одинаковы, т. е. похожи на наш, - тем
лучше мы избежим многих ошибок в этой науке понимания»65.
Когда речь идет о «своем» и «ином», то может складываться
впечатление, что все это абстракции, малосущественные, например, для истории
литературы и для историка литературы. На самом деле это не так,
потому что наука о литературе в каждый момент своего развития доходит в
своем диалоге с чужой культурой - доходит в этом кругу опосредовании
до какого-то места, где начинает испытывать трудности с языком. Это и
есть для науки те тонкости, в которых ей еще предстоит разбираться. Так
что «свое» и «иное» существуют в науке в виде таких тонкостей, где
настоятельно необходимо учиться производить различения.
Вот некоторые примеры. Известно то обстоятельство, что в
исландских сагах не описывается психология персонажей - «мысли, чувства,
побудительные причины действий героя как бы не охарактеризованы»66. Это
можно объяснять так, что сочинитель не интересуется внутренней жизнью
персонажей67, что он не в состоянии описать ее и что он сознательно
умалчивает о ней68. Каждое объяснение подкрепляется своими доводами.
Так, М.И. Стеблин-Каменский полагал, что в эпоху создания исландских
саг сами по себе переживания, обусловленные сексуальными
отношениями, были, в сущности, теми же, что и в другие времена: люди так же
влюблялись, испытывали страсть, ревновали и т. д. Другой была только
оценка этих переживаний: не было их идеализации и романтизации»69.
Уже в этих высказываниях позволим себе рассмотреть некоторую
противоречивость: история культуры, которая опирается на слово и
которая его исторические преобразования ставит в центр своих
исследований, совершенно очевидно, берет чувства человека вкупе с их
осмыслением. Иначе история культуры и тем более историческая поэтика, еще
более, еще сосредоточеннее направленная на изучение слова, и не
могут поступать - исторической поэтике важно ведь установить, как что
именно выступает чувство для человека такой-то эпохи; поэтому для
исторической поэтики (и для истории культуры) чувство как исторический
факт и фактор - это всегда оно «само» плюс его осмысление. Более того,
исторической поэтике (и истории культуры) совершенно невозможно
вычленить чувство в «чистом» виде из процесса осмысления — мы
получаем эти древние или совсем недавние историко-культурные «чувства»
лишь как осмысляемые, лишь как так или иначе осмысленные. Но
вполне допустимо, что такое вычленение, если бы оно удалось и если бы в
нем была какая-либо корысть для нас, дало бы только нечто вполне
банальное - лишь некоторую психофизиологическую реальность, о
которой мы можем согласиться, что она на протяжении крайне долгого
времени остается неизменной. В приведенных словах чувство сначала
взято в общепсихологическом смысле, а затем дело представлено так, как
если бы «оценка» чувства производилась совершенно со стороны,
причем относительно чувства, данного как таковое до своего осознания, ос-
32
мысления. Между тем всякое слово, фиксирующее чувство или
переживание, передает единство того и другого, и именно такое единство и есть
историко-культурный факт. Тогда как его разложение на чувство как
таковое (или просто чувство, или чувство «само по себе») и на оценку
чувства есть операция, для которой, чтобы совершать ее, необходим уже
весь опыт новейшего времени, опыт антропологического XIX в. с его
освоением и с его анализом человеческой психики.
Однако в приведенном высказывании И.М. Стеблина-Каменского
(оно характерно для его работ) содержится главное из того, что может
интересовать историческую поэтику и историю культуры: как историко-
культурный факт, как фактор слова чувство, как запечатлено оно в
исландских сагах, есть нечто совершенно иное, нежели в более новой
европейской литературе. Уже то, что оно не идеализируется и не
романтизируется, чрезвычайно показательно. Чувство берется как-то вещно
и с внешней стороны своего проявления - берется через следствия,
через поступки человека.
Но этим сказано лишь нечто самое первичное. Потому что вслед за
этим открывается настоящее поле изучения, где исследователи
предлагают весьма различные интерпретации такого осмысления чувства в
древнеисландской саге. Тут нельзя заведомо исключать какой бы то ни
было вариант осмысления, и хорошим уроком служит для нас
гомеровская психология, т. е., шире, целый запечатленный в гомеровских
поэмах образ человека, где все внутреннее не передается как внешнее, но
именно осмысляется как внешнее и пространственное70, что в некотором
отношении вовсе не исключает проникновения в глубины человеческого
и что даже дает повод (вплоть до самого последнего времени) смешивать
гомеровскую психологию с самой новейшей71. Итак, история культуры
и историческая поэтика не могут заранее исключать любые
возможности осмысления человеческой психики - нельзя отвергать и такой
возможности, что интерес к человеку может быть чужд исландской саге72.
Отсутствие интереса к человеку может сколько угодно удивлять нас,
казаться странным и непостижимым. Ведь о чем и ведется рассказ в сагах,
как не о судьбах людей, семей? Но интерес к человеку может пониматься
весьма различно. Почему не представить себе такое осмысление
человека, при котором человек в своих внешних проявлениях, в своих
поступках очень хорошо вписан в мир совершения, понят как часть мира
совершающейся судьбы, между тем как внешнее в образе человека, ряд его
поступков никак не согласованы с его внутренним, со сферой
мотивации и дан просто в цепочке событий? Тогда интерес к человеку будет
погружен в интерес к этой слитости человека с событиями73.
Но если и не принимать такого отвлеченного предположения, то
остается еще очень много возможностей истолкования: если в сагах внутреннее
не описывается как внутреннее, то в какой мере допустимо предполагать у
сочинителя саги знание об этом внутреннем (о его наличии) и знание
этого внутреннего (по существу, по содержанию)? И.М. Стеблин-Каменский,
по всей видимости, допускал только то, что всякие переживания
сочинителю саги известны в самой общей форме, по тому, как они проявляются
в поступках, и по тому, как их последствия сказываются в самой жизни.
А.Я. Гуревич делает гораздо более смелые предположения: условный «ав-
33
тор» саги не только знает о внутреннем, но и знает содержание
внутреннего, и это содержание вообще известно исландцу древней эпохи — чувства и
намерения персонажей саги «выявляются в их деяниях, и ни у кого из
исландцев эпохи саг содержание их мыслей и эмоций не могло вызвать
никаких сомнений»74; «автор» саги не просто знает содержание внутреннего,
но сознательно умалчивает о нем; «автор» саги не просто сознательно
умалчивает о внутреннем, но осознает свое умолчание как литературный
прием, которым пользуется уверенно и обдуманно, «с особой остротой»
применяя его «именно в критических эпизодах повествования: как раз тогда,
когда нужно предположить подъем чувств, душевный кризис, когда
переживания героя достигают максимума, автор саги проявляет наибольшую
сдержанность, и молчание относительно внутреннего состояния героя
становится предельно выразительным»75. Умолчание как литературное
средство безусловно относится к историко-культурному слову,— об этом следует
сказать со всей отчетливостью; вообще молчание может быть
красноречивым и может быть напряженной формой выражения смысла, формой
сосредоточенности на нем. Однако естественнее было бы предположить, что
некоторое содержание сначала так или иначе обработано словом, прежде
чем о нем учатся умалчивать, прежде чем умолчание будет осознано как
литературный прием. Но и здесь, надо думать, «естественность» хромает:
история культуры по мере того, как она раскрывается перед нами,
опровергает любую «естественность» (того, что нам кажется), и мы вправе
предполагать и такой тип культуры, в котором люди, постигая внутреннее,
одновременно по каким-то причинам учатся его «скрадывать», так что,
прекрасно зная о внутреннем и о том, что там внутри находится, они
привыкают и как бы договариваются молчать о нем и передавать это
внутреннее только через внешнее, только через поступки персонажей. Это
странно и парадоксально, — но почему не быть и такому?! Разумеется, такой
странно выработавшийся язык речей о человеке крайне не похож тогда на
гомеровское постижение человека через внешнее: у Гомера внутреннее
существует как внешнее (и пространственное), не будучи интериоризирова-
но, не будучи введено внутрь, тогда как в исландских сагах и
соответствующем им воззрении внутреннее, согласно предположению, существует как
внутреннее, именно так осмысляется, но только о нем последовательно и
программно умалчивают.
Этот пример с передачей психологического в исландских сагах
показывает характерные трудности исторической поэтики, вообще всей
истории культуры: в ее изучении прошлых эпох (это может быть и эпоха
самого недавнего прошлого) наступает такой момент, где историк,
литературовед начинает испытывать трудности с языком (как это было уже
сказано выше). Трудность - в том, как говорить о совсем ином, о такой
культуре, которая устроена в целом совершенно иначе, нежели близкое
и привычное нам. Самое первое, что нужно в такой момент, - это
отметить такие затруднения и затем искать пути к их преодолению, будь то
анализ языка, на котором мы говорим о прошлом, будь то всякого рода
типологические сопоставления культур и иные обходные маневры.
Сейчас же важно обратить внимание на то, что каждый исследователь,
разбираясь в языке далекой культуры, по-своему пролагает внутри нее
границу между своим и чужим, между тем, что представляется ему похо-
34
жим, и тем, что кажется непохожим; важно отмечать, в каком месте он,
так сказать, ставит знак сходства со «своим», в каком - знак несходства.
Предположить, что культура не испытывает интереса к человеку, — это
знак несходства; предполагать же, что культуре известно содержание
внутреннего, психология человека, — это знак сходства и «свое».
Получается, что вся картина далекой культуры испещрена этими знаками,
причем расставленными весьма резко. Разумеется, это говорит о том, что
наука находится лишь на подступах к «расшифровке языка» такой
культуры; можно думать, что если бы такой язык был понят изнутри его
самого, то в нем были бы тоже черты сходства с нашей, привычной нам
культурой, но это были бы уже отметки, поставленные «самим» языком
как известного рода системностью; пока же мы видим, что в понимании
такой культуры очень большую роль играют самые первичные интуиции
каждого из исследователей, такие первичные гипотезы, которые сами
опираются лишь на чувство того, что возможно для далекой культуры и
чего в ней никак не может и не должно быть.
Вообще исландская сага - и благодарный, и неудобный предмет
историко-культурных изысканий. Между исследователями саг нет
согласия по самым коренным вопросам, - что проиллюстрируем в виде
маленькой схемы, пользуясь статьей Дж. Л. Байок76.
Происхождение саг
/ \
устное письменный источник
(freeprosists) (bookprosists)
(Sigurdur Nordal, Einar
01. Sveinsson)
Эта точка зрения возобладала
в 1950-е годы
Повествовательный стиль саг
Концепция европейского влияния
/ \
дохристианское германское прошлое латинская христианская
(героический эпос) культура ХИ-ХШ веков
(W.P. Ker, A. Heusler) (хроники, жития, гомилии)
/ \
Bjorn M. Olsen (1937-1939) Paul V. Rubow(1928)
подчеркивает важность подчеркивает значе-
местной традиции ние континентальной
культуры
35
К этому следует еще прибавить суждение К. Клоувера о влиянии на
сагу французских романов77; вообще сага входит и в общеевропейский
литературный контекст ХП-ХШ вв. и принадлежит родной традиции,
в которой, как полагает Дж. Л. Байок78 коренится и ее специфическая
техника повествования, построенная на свободном сочетании
мельчайших единиц («стрендов», по терминологии К. Клоувера) .
Современная наука скрупулезно анализирует структуру,
организацию, состав исландских саг, но при этом, можно сказать, сама сага как
явление весьма нечетко расположена в европейском
историко-культурном пространстве: то, что есть сага, известно гораздо меньше, чем то,
как она строится.
Это, конечно, совершенно обычная для науки ситуация, и она
показывает, сколь капитальные задачи стоят здесь перед исторической
поэтикой. Ситуацию эту можно передать и так: исландская сага не
вполне освоена современной наукой, а эта недоосвоенность означает
вместе с тем, что наука не дает ей вполне быть самой собою; это мы
видели - в понимании саги так или иначе отражается «наше», «свое»,
притом что каждый исследователь дает место «своему» в каком-то ином
отношении; это «свое», отражаемое в прошлое, в чужое, остается пока,
на этом уровне историко-культурных исследований, недостаточно
проанализированным. Пока наука в отношении к такому материалу
создает лишь разные комбинации своего - чужого, она, несмотря на
неоспоримые успехи, достигнутые ею в XX в., все еще, как можно думать,
находится на пороге решающего сдвига в изучении культуры прошлого;
сдвиг такой будет в известной мере определяться продумыванием
методологических оснований науки.
Если (чисто интуитивно) склоняться к взгляду А.Я. Гуревича на
умолчание в исландских сагах как литературный прием, то такое
предпочтение возможно мотивировать привычностью такого приема в
новой литературе начиная с позднего XIX в., с Г. Банга и К. Гамсуна, о
чем пишет сам А.Я. Гуревич79: создается «своеобразная перекличка
саги с новейшей прозой». Мало этого, можно предположить, что
психологически закрытые формы литературы (как можно назвать их)
достаточно распространены в европейской литературе не только
древнейшего времени, хотя они и значительно менее употребительны, чем
формы психологически открытые, которые с самого начала XIX в.
затопляют европейские литературы и воцаряются в ней. Воцаряются
почти безраздельно, но все же с исключениями, весьма
внушительными по воплощенной в них творческой потенции. Такие исключения
представляет нам, например, классическая австрийская культура
XIX в.: в драмах Ф. Грильпарцера умолчание выступает как тонкое
средство во внутренней экономии произведения, рассчитываемого на
театральное исполнение; зато в произведениях А. Штифтера
умолчание не просто прием и средство, но мировоззренческий момент. Вот
его рассказ «Турмалин» из сборника «Пестрые камешки» (1853)80:
когда читатель откладывает в сторону этот рассказ о странном человеке,
венском рантье поры бидермейера, он при желании может, пытаясь
разобраться в прочитанном, реконструировать этот рассказ как
историю супружеской измены с последовавшими за тем тяжелейшими пе-
36
реживаниями, которые надломили человека и из самодовольного
буржуа превратили его в нищего полубезумного музыканта, хранящего
свое внутреннее достоинство. Можно так реконструировать рассказ,
без риска ошибиться; однако в самом тексте Штифтер дает лишь
самые минимальные намеки на жизненную и психологическую
коллизию, а все психологическое передает прежде всего через описание
вещей, а затем уже через ситуации и поступки. Ясно, что это
сознательный и ненадуманный литературный подход, коренящийся в языке
своей культуры, и также ясно, что рассказ создан в противовес всему
психологизму литературы середины XIX в., тому психологизму,
который австрийским писателем воспринимался как нечто недозволенное
(как непозволительное вмешательство в чужой мир) и как
нравственная несдержанность. Видя в рассказе мельчайшие намеки на измену
и психологические переживания, можно даже представить себе, как
разрабатывал бы такой сюжет другой, открытый психологии писатель.
Однако Штифтер все то, что ему было открыто в психологии своих
современников, стремился закрыть и запечатать, а передавать лишь
непрямыми средствами, косвенно, даже только конструкцией и
ритмом своей прозы. Оппозиция психологической литературе была у
Штифтера следствием глубокой убежденности его в том, что
психология современного человека больна, что человек идет неподобающей
ему, неверной тропой; отсюда в позднейших произведениях
Штифтера «должные» отношения между людьми строятся как совершение
какого-то торжественного ритуала, как нечто церемониальное, так что
ни для непосредственности, ни для интимности отношений не
остается места, и даже самый глубокий душевный порыв должен находить
выход лишь в предельно сдержанных, несколько чопорных формах.
Неудивительно, что произведения Штифтера напоминают старинный
эпос, какую-то неведомую его трансформацию, отсюда и отзвуки
гомеровской «объективности», отсюда целенаправленные усилия
передавать внутреннее через вещи и поступки, что в известном отношении
сходится даже и с исландскими сагами, о которых, насколько можно
судить, Штифтер не имел представления. Штифтеровский
психологизм умолчания, психологизм «скрадываемый» - это необычайное (но
все же не совершенно уникальное) создание австрийской
национальной традиции, которая имела в себе силу настаивать на своем и в пору
психологической «распущенности».
Но если о том психологизме, который Штифтер стремился вновь
скрыть и зашифровать во внешнем, в вещах и поступках, мы можем
очень хорошо судить по аналогиям, которые обступают штифтеровское
творчество, как воды потопа, то не совсем понятно, почему, как пишет
А.Я. Гуревич, нам нет оснований «бояться того, что мы «вчитаем» в саги
чуждое им содержание»81. Ведь если, по мнению И.М. Стеблина-Ка-
менского, мы обнаруживаем в сагах все те же чувства и переживания,
что и теперь, а это, должно быть, ошибочно, то, что обнаружим мы за
умолчанием, все же не совсем ясно. Это ведь, как пытались мы понять,
не то гомеровское положение вещей, когда внутреннее существует как
внешнее и именно как внешнее и выговаривается, а положение, когда
о внутреннем молчат и когда его как бы нет, причем это молчание не
37
подготовлено никакими психологическими откровениями,82 как
повествование Штифтера с его молчанием было подготовлено
психологическими исповедями людей XVIII-XIX вв. Подобно Гомеру, подобно
некоторым произведениям самой новой литературы, подобно Штифте-
ру в большой части его творчества, исландские саги относятся к
психологически закрытым формам литературы, под которыми надлежит,
видимо, понимать такие, где внутренне психологическое не
высказывается, не передается именно как таковое, а лишь в разной степени
подразумевается. Вслед за тем в этих психологически закрытых формах
следует констатировать огромные различия.
Историк культуры, историк литературы, изучая культурную эпоху
прошлого, невольно комбинируют свое и чужое (как это описано
выше). Трудности, с которыми они встречаются, и те трудности, с
которыми встречаемся мы, стремясь интерпретировать итоги их
встречи с трудностями, - все эти трудности, наверное, возрастают по мере
того, как возрастает конкретность задач. Представления И.М. Стебли-
на-Каменского об «авторе» саг совершенно разрушают его же мнение
о тождестве психологии древней и новой, о тождественности чувств,
переживаний - неосознанный автор исландских саг живет в таком
мире, где все осмыслено иначе, чем в нашем мире, в том числе,
понятно, и чувства. Однако когда мы смотрим на то, как ведет себя этот
автор саг, то мы убеждаемся, что поступает он странно: он полагает, что
рассказывает одну только правду («Возможность сознательного
поэтического вымысла вообще неизвестна»83), между тем, рассказывая нечто
вымышленное, он выдает свой вымысел за правду точь-в-точь как
романисты конца XVII — начала XVIIIb.84, а когда мы ловим его на
вымысле, то оказывается, что такой не сознающий себя автор - весьма не
наивен. Действительно: «Вымысел очевиден в «сагах об исландцах» из
самой их манеры повествования о людях, а именно из того, что
подробно описываются действия отдельных людей и приводится все
сказанное ими в описываемой ситуации, иногда даже то, что никто не
мог видеть или слышать»85. Но ведь автор саги поступает точно так,
как греческий историк, который передает нам речи полководцев -
речи, которых он не слышал и которые никто не записывал; можно
представить себе, что греческий автор следует той риторически
понимаемой правде, которая вовсе не считается с нашими документалис-
тски-криминалистическими претензиями к истине, но притом никого
и не вводит в заблуждение: риторическая правда речей строится на
том, что полководец (или кто-то еще) в определенной ситуации
говорил именно то, что должен был и что положено было ему говорить,
автор, историк, переносит себя в эту ситуацию и воссоздает,
реконструирует (сказали бы мы) ее изнутри86, нимало не кривя душой; он
остается в пределах должного, отнюдь не замахиваясь на роль
стенографиста. Так, видимо, и поступал автор исландских саг.
Можно думать, что исландская литература развивалась резко
своеобразно. Если это так, то исследователь, который в своем
осмыслении этой литературы достиг лишь некоторого комбинирования
своего-чужого - на основе (как сказано выше) своих самых первичных
интуиции, - делает в своем познании ее лишь первый (герменевти-
38
ческий) шаг и прежде всего нуждается в (само) критике своих
интерпретаций. Вот в чем сложность положения любого исследователя (а
вместе с тем и всей науки): он должен был бы и не может отказаться
от своих психологических предпосылок (хотя давно уже отвык от
наивного психологизма XIX в.) — если он просто откажется от них, то у
него не возникнет даже контакта с познаваемым материалом, не
будет и почвы для «диалога»; если же он не откажется от них, то
материал останется для него в виде трудно разложимой смеси
аутентичного и привнесенного самим исследователем. И в истории литературы,
в истории культуры, в филологии вообще существует свой парадокс
наблюдателя.
Можно представить себе дело так: иллюзия антропологического
тождества (любой человек — то же, что и другой, по своей психологии),
давно разрушенная и развеянная в теории, любого исследователя в XX в.
держит словно пойманного на крючок, однако именно это и
обеспечивает историко-культурное познание, идущее в направлении большей
достоверности, и если случилось бы так, что исследователь сорвался с
этого крючка, то, очевидно, возможность исторически-конкретного
познания эпох прошлого, их культуры, исчезла бы вместе с этим.
Говоря об изучении исландской саги, мы убедились, что трудности
умножаются по мере углубления в материал, по мере вхождения в него:
говорить о психологии «автора» саг явно еще труднее, чем о
психологии, запечатлевшейся в саге. Комбинация своего-чужого, которую
создает и без которой не может обойтись исследователь, становится все
более непроглядной; -трудности разных порядков буквально соумножа-
ются, и если мы учтем, что в исландской саге пересекаются традиции,
или «языки» устного и письменного литературного творчества87, и
каждая традиция, в свою очередь, не может не представать в сознании
исследователя как особая комбинация своего-чужого, то можно
вообразить себе, сколь запутана в этом («психологическом») отношении
общая картина.
Есть еще некоторые представления, которые связаны с
психологической «аксиоматикой» и, во всяком случае, опосредованы ею. Одно
из таких представлений - убежденность в линейном прогрессе
культуры. Против этого сказано, видимо, еще недостаточно. В то время
как до сих пор принято говорить о наивности, недифференцирован-
ности, неполноте понятий, присущих культурам, отстоящим от нас
максимум на две-три тысячи лет, сейчас целесообразно делать акцент
на иной устроенности культур, на иной их внутренней акцентирован-
ности. Культура XX в. постоянно убеждается - в самых разных
отношениях и направлениях - в том, что древние культуры дают свои
особенные решения тех самых проблем, к которым европейская
культура подошла только теперь; таким образом, у современной культуры
появляется поучительная возможность не просто узнавать «свое» же
в отдаленном чужом, и тем более не просто узнавать в нем наивное и
неполное «свое», но и видеть, что ее же проблемы решались там на
совершенно иных основаниях, не менее глубоко, с суверенной
основательностью. Это относится, в частности, к философии, к
языкознанию, к теории поэзии, особенно древнеиндийской88. Так, в древних
39
культурах производят сложнейший и очень специфический анализ
слова89, — не так, как принято в новой грамматической традиции, но
на основе мышления слова как сущности и как творческого начала
(откуда представления о полагании имени как сотворения сущности).
Отсюда этимологизирование, где за этимон, за подлинное и
правдивое, принимаются конструктивно-онтологические связи между
словами, внутренняя связанность смыслов, что достигает вершины в «Те-
этете» и «Кратиле» Платона90. Такое этимологизирование не выглядит
наивным и фантастическим до той самой (совсем недавней!) поры,
пока (во времена молодого Якоба Гримма) оно не вмешивается
незаконным образом в одержавшее верх этимологизирование на истори-
ко- генетических основаниях, т. е. до той поры, пока
аксиоматическое допущение развития, эволюции не начало отменять
державшиеся тысячелетиями подходы к слову. Если в новейшее время работа по
установлению онтологических связей в языковой лексике
предоставляется в основном отдельным поэтам, готовым к эксперименту (таков
В. Хлебников), если она все еще производится на периферии
современной культуры и как бы незаконно, то это отнюдь не бросает тень
«наивности» на приемы и обычаи древних культур91. Поскольку во
всех таких случаях онтологического обращения со словом речь идет
об осмыслении слова не просто грамматического, но и
поэтического — творчески-поэтического, то историческая поэтика не может
проходить мимо всех таких осмыслений, коль скоро в центре ее
находится историко-культурное слово. Во всяком случае, теперь, видимо,
уместно (тем более после теории анаграмм де Соссюра)
воздерживаться от утверждений типа следующего: «... самый примитивный из
жанров— стихотворный перечень имен или каких-либо сведений»92. И,
разумеется, - это возвращает нас к самому общему плану
недоразумений, — от утверждений такого типа, согласно которым не сказать, что
древний поэт проникновенно изображает внутренний мир своих
героев, значит представить его искусство примитивным93.
Есть и иные, весьма распространенные воззрения, которые
опосредованы представлением о прогрессе и психологической
«аксиоматикой», - это воззрения в отношении их уже как бы второго порядка, и
они теснее связаны со всем историко-литературным знанием. Таков,
например, взгляд, согласно которому европейские литературы нового
времени проходят через одни и те же этапы своего развития:
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, натурализм, символизм...
Далее, родственный первому взгляд, согласно которому не только
европейские, но и восточные литературы на определенном этапе
переживают Возрождение, так что во всех них, в более мелком и в более
крупном масштабе, необходимо непременно обнаруживать нечто
типологически сходное. Разумеется, современная историческая поэтика не может
обходиться без установления известных стадий литературной истории, но
позволим себе думать, что эти стадии отнюдь не обязаны совпасть с
историко-литературными стереотипами, сложившимися в науке XIX—
XX вв. Скорее это будут стадии в истории слова, в его жизни.
Историческая поэтика никак не может обойтись без синопсиса целого
(«мирового») литературного развития, но можно предположить, что этапы,
40
которые вычленяются в этом развитии, будут связаны с поворотными
моментами именно в судьбе слова — т. е. того, что стоит в центре
исторической поэтики. А такие поворотные моменты — это эпохи
глубокого переосмысления слова, как-то эпоха рубежа XVIII-XIXbb., когда
все литературное сознание постепенно переориентируется с
риторически понятого слова на слово, стремящееся непосредственно и
непосредственно психологично отражать, воспроизводить все содержания
жизни; эпоха перехода от устной словесности к письменной литературе,
также вызвавшая резкие сдвиги в осмыслении слова, и т. д. Не будем
устанавливать наперед то, что еще не выявлено и не обобщено новой
исторической поэтикой. Однако можно думать, что историческая
поэтика должна гибко следовать за конкретным развитием литератур, не
допуская упрощений и ненужной схематизации94: конечно, конкретное
развитие каждой литературы во всех ее изгибах и поворотах - это как
будто бы дело истории литературы «самой по себе», но ведь
представление о «сентиментализме», «романтизме» и тому подобных понятиях
как о некоторых общеобязательных историко-литературных,
типологических категориях — это, в таком виде, есть произведение
литературоведческого эмпиризма и позитивизма, навесившего на историю
литературы такого рода априорные «шапки» на месте реального
представления о целостностях в историко-литературном развитии. Поэтому
историческая поэтика обязана вносить здесь свои поправки,
основанные на своем знании - как целостном, так и детальном.
История литературы показывает, что даже в столь недавней эпохе,
как XIX в., вследствие своей близости подвергавшийся особенно
усердной понятийной регламентации в трудах историков литературы, на
деле сочетается «все» или почти «все»: привычные и как бы
нормальные психологически открытые формы существуют с непривычными и
ненормальными психологически закрытыми формами, четко
напоминающими о старинных временах эпоса; целые литературы не
слушаются указаний литературоведа, велящего им сменять свои методы и
стили по старательно выработанному им общему правилу; в странах без
государственной и культурной централизации своенравие проявляют
даже отдельные области, в странах с государственной и культурной
централизацией об областном своеобразии крепко забывают, но оно не
перестает от этого существовать. Можно восхищаться уверенностью
историка литературы, который, привыкнув к типологическому сходству
всего и вся, глубоко убежден, что, например, романтизм выявит общую
свою сущность даже в литературе, ему совершенно неизвестной.
Историк что искал, то и нашел...
В Германии, стране, которая долгое время не знала
централизации, культурное развитие сильно дробится по областям и
«ландшафтам», несмотря на действие центростремительных сил, тоже весьма
сильных. Но немецкая наука о литературе, история немецкой
литературы выглядит в целом значительно централизованнее, нежели
сама немецкая литература, — это объясняется тем, что расцвет,
количественный рост и стабилизация немецкого литературоведения
пришлись на эпоху насильственной и торжественной-триумфальной
централизации германского государства. Уже развитие литературы в
41
Австрии, на которую немецкий литературовед в это время часто
смотрел с высокомерием, как на страну безнадежно отставшую в
своем культурном развитии, а к тому же злостно отколовшуюся от
остальных немецких земель, — уже развитие литературы в Австрии
протекало резко отлично от областей Германии. Этих отличий
долгое время не желали признавать - не только немецкие
литературоведы, но и ученые других стран спешили подвести литературное
развитие всей Европы под одинаковые понятия и, очевидно,
преуспели в этом. Между тем и в XIX, и в XX вв. это развитие отмечено
пестротой, в которой мы можем рассмотреть очаги исключительной
самобытности95. Различия, какие можно наблюдать в европейских
литературах XIX в. - различия в стиле, в способах воспроизведения
действительности, в методах творчества и т. д., — совершенно
очевидно сопоставимы по своему размаху, диапазону с теми
различиями, которые мы устанавливаем по всей истории европейской
литературы, от раннего эпоса до самых поздних ее форм. Но только это
всеприсутствие всевозможных литературных форм (отнюдь не
предполагает это их каталожной полноты!) организовано совсем иначе,
чем в литературах XX в. и в писательском сознании XX в. (где все
отражается как в зеркале - в виде готового репертуара
предоставляемых на выбор форм), — в XIX в. это не склад форм, а итог их
своеобразных нитей развития, по большей части вовсе не замечавшихся
и не принимавшихся во внимание!
Поэтому исторической поэтике, обладающей широким кругозором и
не боящейся упустить целое за частностями, следовало бы исходить
(профилактически!) из того, что каждая европейская литература
проходит в XIX в. путь своего особенного развития, с возможной его
внутренней, дальнейшей дифференциацией. Иначе говоря, следовало бы
исходить не из общего (относительно чего национальное развитие дает затем
некоторые не столь существенные нюансы), а из частного, отдельного,
совершенно конкретного, в чем, как бы заново, можно было бы открыть
затем свежим взглядом и существенные общие закономерности.
Мы говорим сейчас о XIX в. - эпохе укрепившегося
национального самосознания, об эпохе господства такого слова, которое с
готовностью уступает всем конкретным нуждам писателя, национальной
литературы и не нивелирует, но помогает выявить все
индивидуальные черты, все признаки самобытного творчества. Психологическая
аксиоматика развитого XIX в. тоже растет на этом
историко-культурном слове, которое совершенно податливо, гибко и которое
позволяет «человеку», этой, так сказать, антропологической постоянной,
«придти к себе», узнав себя в послушном себе, своем слове (своем -
коль скоро оно мыслится как совершенно адекватное выражение
человеческого). Но поскольку «пришедший к себе» человек
обнаруживает свою естественность — естественность «вообще», то его
психологические аксиомы идут вразрез с многообразием слова - все ведь
должно быть «вообще» естественным, всюду и всегда одним и тем же
общечеловеческим. Аксиомы подавляют слово, на котором
возросли, отсюда в литературоведении поиски вечно одинакового и
общего для всех.
42
Получилось так, что в условиях почти полной психологической
тождественности96 картина литературы XIX в. как никакого другого
периода истории литературы была литературоведением искажена —
выпрямлена, упрощена и обеднена. Искажения происходили именно в
оформлении пути литературы, тогда как психологически тут была
большая общность и литературовед безусловно находился внутри ее, видел
ее изнутри, с известным опозданием схватывая происходившие в ней
внутренние перемены.
Между литературой как языком своей культуры и наукой о
литературе как языком культуры, изучающей этот самый язык, есть известный
зазор. Речь, понятно, идет о литературе и литературной науке XIX-XX вв.,
когда только и появилось исторически ориентированное
(ориентированное на изменчивость языка культуры вместо его постоянства и
нормы) литературоведение. Наука о литературе, которая способна
критиковать сама себя, пересматривать свои основания, — а такой должна
быть историческая поэтика97, - могла бы вносить поправки даже в
представления нового и современного литературоведения и новейшей
и самой современной литературе.
Тем более такие поправки историческая поэтика должна вносить,
причем вносить систематически, с полным сознанием того, что творит,
в представления о литературных эпохах прошлого. Теперь уместно
вспомнить помещенную выше схему, которая показала, какие именно
уровни или какие группы материалов входят в ведение исторической
поэтики, и примыслить к ней историческое измерение. Это будет
означать, что литература (словесность) будет в нашем представлении
время от времени как бы переходить через крутые пороги, на которых
меняются самые ее принципы, переосмысляется слово, что за
литературой будет следовать поэтика и теория литературы, тоже время от
времени переживающие существенную метаморфозу, и те различные
формы, в которые выливается знание об истории литературы.
Преодолевая пороги переосмысления слова, литература не просто
существенно видоизменяется - подвергается изменениям весь образ
литературы прошлого, если только она сохраняется в культуре, в
культуре, определенной новым типом слова. Так это было в начале XIX в.,
когда вся литература прошлого (средних веков, Возрождения, барокко,
классицизма) была заново осмыслена, постигнута: переосмысление
произошло практически незаметно, плавно, а характер литературы,
способ ее чтения и восприятия изменился радикальнейшим образом,
можно сказать, вопиюще. Литература прошлого была насыщена теперь
психологизмом и реалистическими импульсами, акценты внутри ее
были резко смещены, произошел целенаправленный отбор — и вот
читатель на долгое время получил непредвиденную возможность читать
«Дон Кихота» как реалистический роман в духе литературы середины
XIX в., читать Шекспира как драматурга-реалиста, даже Данте
воспринимать как какую-то реалистическую фантазию в стиле Г. Доре, - и
притом все это с максимальной приближенностью к его, читателя,
психологическому восприятию. Нам хорошо известно, что Гомер столь
радикально переосмыслялся по меньшей мере дважды - тогда, когда он
вошел как почитаемый авторитет в круг риторического чтения с его до-
43
тошными и суровыми приемами толкования, «выжимания» смыслов, и
тогда, когда в середине XVIII в. был открыт как неграмотный певец-
бард, следовавший своему вдохновенному порыву.
История культуры, которая влачит за собой свое наследие (с
огромными утратами), заключается в переводе языков прошлых культур на
свой язык.
И только та эпоха, — добавим, которая породила идею исторической
поэтики, - впервые ставит вопрос об обратном переводе, т. е. о том,
чтобы вернуть произведения культур прошлого на положенные им
места в целом историко-культурном генезисе, в их мир, поместить их в их
родные дома и вместе с тем понять всю обстановку их места и дома, —
то, что названо расшифровкой языков культуры.
Итак, если вся история культуры — в той мере, в какой она помнит
свое прошлое, — состоит в том, что разные культурные явления
беспрестанно переводятся на иные, первоначально чуждые им культурные
языки, часто (и как правило) с предельным и безжалостным
переосмыслением их содержания, то задача исторической поэтики может
быть понята как «восстановление правды» — первоначально
задуманного смысла произведения искусства98.
Литературовед, занятый «обратным переводом» художественных
созданий на их исконные языки, и оказывается в положении такого
участника историко-культурного процесса, который «мешает» себе
переводить, но который никак не может быть исключен из этого процесса -
уже потому, что (будь только это возможно) весь процесс — и весь его
перевод - тотчас же обессмыслился бы.
Литературовед «мешает» себе тем, что не познает язык культуры как
совершенно сторонний для себя объект, - он и лишен возможности
познавать его так, - а создает такие первичные комбинации
своего-чужого, которые должен затем подвергать сомнению, критике и, по
возможности, анализировать, — он и не может не создавать их и не может
обходиться без них.
Коль скоро это так, то, условно говоря, тут перед литературоведом
всегда возникает проблема первого шага. Говоря условно, постольку,
поскольку исследователь, особенно в прежние времена, т. е. в XVIII—
XIX вв. (да и позже), далеко не всегда отдает себе отчет в той ситуации,
в какой оказывается по самой логике вещей.
Ситуация же (в самой простой форме) заключается в том, что,
занимаясь иной, чужой, далекой и т. п. культурой", он, исследователь, либо
отсчитывает от себя, от своего, либо от чужого, либо по преимуществу
«подкладывает»100 свое под чужое либо чужое под свое. Разумеется, это
он может делать лишь после того, как он войдет в ситуацию, т. е. лишь
после того, как он будет связан с иной культурой ситуаций «диалога»,
после того, как вообще эта ситуация сложится. Однако после того, как
она образовалась, выбор точки и направления отсчета действительно
принадлежит исследователю как первый его шаг. На практике всегда
получалось так. что решительно все в исследователе - его интересы, его
жизненный и научный опыт, даже его темперамент и внутренние
склонности — решительно все в нем объединялось, чтобы
предопределить этот первый шаг. Поэтому, с одной стороны, такой шаг как бы
44
крайне трудно уловим, - ведь он, казалось бы, должен был бы
совершенно потеряться в этой диалектике бессчетных шагов опосредования
своего и чужого, которую составляет по своему существу общение с
любой иной культурой, занятие ею. Но, с другой стороны, вследствие
той глубокой существенности, принципиальности, которая вложена в
этот шаг, сложилось так, что вокруг него в истории литературоведения
действительно складывалось все в содержании научных занятий, -
потому получилось так, что все начатки, все опыты реализации
исторической поэтики, какие были доныне, все приближения к ней
организуются вокруг этого первого шага, организуются на этой теоретической
платформе. Даже если исследователь почти не уделял сознательного
внимания этому обстоятельству методологического свойства! Это
привело к тому, что каждый выбор одного из двух возможных первых
шагов сложился в целое направление науки - со своим предпочтительным
и преимущественным материалом, со своими методами и приемами
исследования. В результате мы вправе говорить о существовании в
науке исторической поэтики-1 и исторической поэтики-2.
Как они различаются, понятно. Историческая поэтика-1 «подкла-
дывает» «чужое» под «свое» и, следовательно, стремится определить
развитие литературы познанными ею характеристиками чужой
культуры. Историческая поэтика-2 отсчитывает от «своего», «подкладывает»
его под «чужое» и, например, самую старину, начала искусства и
словесности, стремится понять через очевидные черты современной
культуры и литературы. Разумеется, эти отсчеты совмещаются с шагами
противоположными по смыслу (в общей диалектике своего-чужого и
не могло бы быть иначе), однако основная направленность выступает
чрезвычайно отчетливо: историческая поэтика поляризуется и,
охватывая, осмысляя так или иначе все развитие литературы от ее начал и до
современности, либо посвящает себя проблемам ранних форм
словесности (ее истоков, первых стадий ее развития) с соответствующим
широким привлечением исторического, этнографического материала,
либо ориентируется на приемы и методы истории новых литератур с ее,
как правило, гораздо более поверхностными подходами, но зато с ее
учетом современных социологических структур, современного
литературного контекста. Первоначальный выбор приводит к значительному
размежеванию исторической поэтики по материалу и методу — к
размежеванию настолько значительному, что было бы крайне
затруднительно объединять обе ветви исторической поэтики в общей
исторической поэтике (этого еще никто не делал и, кажется, даже никто не
обдумывал, — потому что ведь такой осуществленной общей
исторической поэтики еще просто нет).
Историческая поэтика, как была она задумана и не доведена до
конца А.Н. Веселовским, была поэтикой историко-этнографической.
Замысел поэтики В. Шерера, современника А.Н. Веселовского (см.
главу III), был, напротив, ориентирован на современное литературное
сознание и на обычные для культурной жизни современности
литературно-критические приемы анализа - с выходами в социологию
литературы, решительно и несколько грубовато намеченными у В. Шерера.
Различие между двумя параллельными замыслами поэтики (историче-
45
ской или на исторической основе) - разительно. В.М. Жирмунский
справедливо писал: «Сравнивая <...> «Историческую поэтику» с
аналогичными работами предшественников и современников Веселовского
на Западе, чрезвычайно ограниченными по своему материалу,
заимствованному по преимуществу из европейской литературной традиции,
мы не можем не изумляться широте научного горизонта и размаху
творческого замысла великого русского ученого»101. Это совершенно
справедливо и, в частности, очень точно передает различие между
исторической поэтикой А.Н. Веселовского и поэтикой В. Шерера—
разнонаправленными уже по выбору своего первого шага.
А.Н. Веселовский отдавал себе вполне ясный отчет в сущности
того, что названо у нас первым шагом (герменевтическим первым
шагом). Об этом он хорошо говорил в лекции 1893 г. и позднее писал.
«Старина отложилась для нас в перспективу, где многие
подробности затушеваны, преобладают прямые линии, и мы склонны принять
их за выводы, за простейшие очертания эволюции. И отчасти мы
правы: историческая память минует мелочные факты, удерживая лишь
веские, чреватые дальнейшим развитием». Исследователь настроен на
эту перспективу старинного, в которой и возникает, и обосновывается
у него картина форм раннего и традиционного искусства,
литературы, поэзии с ее клишированностью, с ее типизированностью, с ее
«готовым поэтическим словом» и т. д. Вот главное направление взгляда,
который в научной работе методологически организуется и
осмысляется. А затем А.Н. Веселовский говорит о той необходимой
поправке, которую в постижение перспективы развития, в постижение
всякой «старины» должен вносить современный опыт - это его второй
шаг102: «<...> историческая память может ошибаться; в таких случаях
новое, подлежащее наблюдению, является мерилом старому,
пережитому вне нашего опыта». Итак, новый опыт служит мерой старинной
культуры - тогда, скажем мы, мы «подкладываем» для проверки -
свое под то чужое, которое мы вначале подкладывали под свое.
Однако это свое мы подкладываем именно гипотетически — именно
потому, почему мы не могли исходить из своего как первого шага:
«Современность слишком спутана, слишком нас волнует, чтобы мы могли
разобраться в ней цельно и спокойно, отыскивая ее законы».
Заметим, - это важно, - что с таким высказыванием согласится не каждый
литературовед, и не согласится с полным основанием: это
высказывание справедливо и верно лишь при условии, что мы выбрали такой-
то свой первый шаг, т. е. что мы поначалу «подкладывали» чужое под
свое - и старинное под новое.
И вот еще раз оба эти шага — первый и второй: «Мы
конструировали религиозное миросозерцание первобытного человека, не
спросившись близкого к нам опыта, объектом которого служит наше просто-
народие, служим мы сами»103. Мы делаем первый шаг и ради поправки
и проверки делаем второй — видим всю перспективу в ином
историческом направлении, от современности. Однако этот второй шаг тут же,
немедленно влечет за собой третий - собственно повторение первого:
оказывается, что наш современный опыт сам по себе заключает в себе
архаику, взгляд от старины — в нашем современном опыте заключена
46
архаика, и под наше «свое» заведомо уже «подложено» чужое,
старинное, которое именно поэтому мы должны теперь осознать как чужое в
своем, как свое же. Обратим внимание на то, что такой ход мысли -
даже с экзистенциальным ее поворотом - был бы совершенно
невозможен, например, для Шерера: сторонник идеи безграничного
торжествующего прогресса высокомерно относился ко всяким
простонародным недоразвитостям и не стал бы открывать что-то подобное в себе.
Современная и народная культуры для него попросту бесконечно
далеки друг от друга. Зато он с готовностью обнаруживает «свое»,
современное, в чужом и далеком.
Итак, мы наблюдали у А.Н. Веселовского три последовательных
шага, из которых самый первый решительно все определяет в том, как
пойдет мысль ученого. Первый все определяет — это значит, что
современная литература должна быть понята по образцу старинной:
современная повествовательная литература - «когда для будущих поколений
она очутится в такой же далекой перспективе, как для нас древность,
от доисторической до средневековой, когда синтез времени, этого
великого упростителя, пройдя по сложности явлений, сократит их до
величины точек, уходящими вглубь, их линии сольются с теми, которые
открываются нам теперь, когда мы оглянемся на далекое поэтическое
прошлое, — и явления схематизма и повторяемости водворятся на всем
протяжении»104.
Вот граница историзма А.Н. Веселовского — ему представляется, что
литература в своем развитии не претерпевает никаких сущностных
перемен, что она всегда одинакова, а именно такова, какой определилась
она от старины. Т. е. она всегда пользуется типическими схемами,
готовыми формулами, и только взгляд от современности видит ее
неверно, неправомерно выделяя в ней нечто индивидуальное и
неоправданно подчеркивая значения новообразований и т.д. Первый
шаг оказался весьма неравноправным со вторым, который был для
А.Н. Веселовского лишь подсобным. Но если мы полагаем (и,
кажется, небезосновательно), что литература, словесность переживает
исторически самые существенные внутренние перемены, преобразуется (да
и не только внутренне, а и внешне - по своему объему), то первый шаг,
перспективу от старины, требуется дополнить столь же
основательным и веским шагом от современности105.
Может существовать иной взгляд, который считает возможным
пренебрегать качественными отличиями внутренней устроенности
литературы разных эпох: «<...> исследовать современную словесность так же,
как мы исследуем старинную словесность, трудно; однако трудно
совсем не потому, что ее система — иная. Это трудно потому, что
старинная словесность - это система, на которую мы смотрим со стороны, а
словесность нового времени - система, на которую мы смотрим
изнутри. В первой мы прежде всего видим общее, во второй частное», а
потому можно согласиться с А.Н. Веселовским в том, что «разница
между стереотипностью формы в фольклоре и архаической литературе и
оригинальностью («неповторимым своеобразием») формы каждого
произведения в литературе нового времени есть лишь иллюзия», и, кроме
того считать, что «программа исследования исторической поэтики» не
47
применима к такой литературе, которая будет выступать не как
стереотипная и клишированная106.
Два типа исторической поэтики по направленности
исследовательского взгляда были подготовлены предшествующим развитием истории
культуры (естественно, что коль скоро историческая поэтика обретает
свой смысловой центр в истории культуры, их судьбы крепко связаны
между собой), — главным образом в Германии.
В истории культуры по мере того, как она становится историей, с
акцентом на историческое развитие, становление, несколько раз
меняется направление перспективы, в которой рассматривается история.
Можно привести некоторые примеры таких переключений
перспективы:
- у Гёте или у Канта все историко-культурное развитие все еще
погружено в единое историко-культурное пространство, в котором в целом
еще царит единый и твердый критерий верного, истинного,
правильного; смысл задается греческой культурой (так или иначе понимаемой), ее
центральным и главным содержанием, ее пластической классикой; все
современное, как и вообще всякое искусство, всякая поэзия,
сопоставляется с греческим идеалом; отсчет ведется от греческого, - это первый
шаг такой истории культуры, и, естественно, он совершается на фоне
такой сопряженности современного и греческого, немецкого и
греческого, где даже вопрос об адекватности постижения греческой культуры
теперь, спустя два века, ставить весьма затруднительно;
- Ф. Гёльдерлин на рубеже XVIII-XIX вв. - в своих опытах
одической поэзии и в своих переложениях двух трагедий Софокла —
стремится заглянуть за Пиндара и греческих трагиков, открывая в основе их
творчества слой восточной неоформленности, который
обрабатывается формотворческими силами греческого поэта; Гёльдерлин в своих
переводах из Софокла делает, быть может единственную в истории
литературы попытку воспроизвести такой предполагаемый им генезис
гречески-классического языка поэзии; греческое отсчитывается им от
стоящего за ним и в нем восточного, а вместе с тем этот
восточно-греческий переход приводится в волнующую взаимосвязь с современным
состоянием немецких умов, так что эти две «точки» в истории
культуры выступают как два центральных момента культурной истории, где
все определяется мечтою о том, чтобы «быть, как греки»; это тоже
отсчет от греческого, только драматически осложненный, куда на месте
тождественной себе пластичности введено движение, страсть, бурное
преображение и как бы совершающийся на глазах перевод языка
культуры в новое состояние (из «восточного» в «греческое»);
- немецкие романтические мыслители в то же самое время, что и
Гёльдерлин, начинают понимать историю как существенно
генетический процесс, как движение; история культуры - это уже и не единое
культурное пространство, в каком царил бы общий всем смысл, и не
склад разнородного, что не было бы связано нитями внутреннего
превращения. Все единое и все разнородное устанавливаются в
органический ряд, уподобляются росту живого существа. Но на первых порах
романтические мыслители начинают раскручивать историю спереди
назад, от современности107, они заново осмысляют средневековье и то, что
48
находится за ним, они заново осмысляют античную культуру и то, что
находится за ней; их взгляд, проходя пространствами живого роста,
течет вглубь и впервые открывает историко-культурную первобытность,
первозданность и углубляется в ее темноту, открывает германскую и
немецкую древность как такую первозданность или ее отражение;
— однако вслед за этим немецкие романтические мыслители,
открыв для себя историко-культурную изначальность, перестраивают
историю культуры и начинают вести ее отсчет именно из глубины, от
изначальности, - от такой «точки», заметим, которая для Гердера,
Канта и Гёте вообще не существовала, иначе, как в совершенно
определенном и лишенном какой-либо неясности и сумеречности виде
начала библейского летосчисления; теперь же современное выводится —
как живой культурный ствол — из предысторического и мифического
состояния человечества (пример — «Мифология азиатского мира»
Й. Гёрреса, 1810, или пролог и эпилог его «Немецких народных книг»,
1807)108, изначальное принимается за царство первозданного,
нерастраченного, неразбавленного смысла (братья Гримм);
- знание ранних форм культуры, древнейшей истории все более
конкретизируется, а в то же время преобразуется в формы культурных
мифов; таков, с одной стороны, И.Я. Бахофен, открыватель
матриархата, - понятия, прочно вошедшего в научное сознание конца XIX в., и
в частности, в историческую поэтику А.Н. Веселовского; таков, с
другой стороны, Ф. Ницше, у которого дуалистически, в духе
романтической типологии понятая античность дает язык (дионисийское/аполло-
новское) для критики современной культуры; у Бахофена всякий отсчет
культурного развития ведется от мифа; у Ницше взгляд существенно
переносится на современность, а культура прошлого служит фоном,
прецедентом для нового, новейшего и как таковая утрачивает всякий
интерес; две крайности - опора на миф и опора на современность,
которая начинает застилать кругозор мыслителя; «Начало всякого
развития заключено в мифе. <...> Миф заключает в себе первоначальные
причины (Ursprünge), он один способен их приоткрыть.
Первоначальные причины обусловливают позднейшее поступательное развитие и на
все времена придают направление линии, которой развитие следует»109.
В 1920-х годах А. Боймлер в предисловии к своему изданию И.Я.
Бахофена создает, через соединение традиций немецкой истории культуры,
в том числе традиций Бахофена и Ницше, мифологию истории
культуры, отсчитанной отдионисийски-оргиастически осмысляемого мифа110.
Сейчас невозможно прослеживать развитие немецкой
мифологической науки, как и этнографии. Все это дисциплины, которые важны
в подготовке исторической поэтики, так как окружают с разных сторон
ее постепенно проясняющиеся вопросы и задачи. Важно только знать,
что позитивная работа над мифологией, равно как весь круг историко-
этнографических вопросов, который так занимал нашего А.Н.
Веселовского, оказалась в Германии в трудном положении между
философией культуры, склоняющейся к мифологизированию (как то было уже у
Ницше), и психологией, склоняющейся к неисторическому, аистори-
ческому рассмотрению любых предметов. Весьма символично, что
деятельность такого видного исследователя мифологии, как Макс Мюл-
49
лер, протекала в Англии, и он представлял собственно английскую
науку и английскую традицию. Вообще в поколении после Якоба
Гримма, примерно в середине XIX столетия, в Германии произошло
характерное перераспределение труда, при котором проблемы исторической
поэтики-1 совершенно выпали из поля зрения литературоведов,
историков литературы. Может ли быть более выразительная иллюстрация
положения дел, чем то, что В. Шерер строит свою поэтику как
историческую поэтику-2111 - со всеми ее недочетами в сравнении с
построениями А.Н. Веселовского, что кругозор немецкого литературоведа в
области истории культуры был сравнительно узок и что народная
песня и сага чувствовала себя не по себе в «старых барских покоях» -
поэтиках М. Каррьера, В. Вакернагеля и других, как писал А.Н. Ве-
селовский112. Ориентация немецкого литературоведения на
разработку различных эпох истории немецкой литературы, взятых каждая по
отдельности, внутри себя, оказалась стойкой, так что сама
дисциплина «исторической поэтики» была забыта, и в одной сравнительно
новой книге мы встречаем слова «историческая поэтика» как синоним
«истории поэтики»113.
Чрезмерная специализация немецкой науки о литературе не была
благоприятна для становления исторической поэтики, так как одно из
условий ее существования - это разработка целостной картины
мирового развития литературы, представление о закономерных стадиях ее
истории. Помимо этого, психологизм науки второй половины XIX в.
подорвал представление об историческом развитии, так блестяще
развитое немецкой философией и наукой XVIII — перс°й половины XIX в.
Вот причины, почему в немецкой науке не появилось ничего
подобного исторической поэтике А.Н. Веселовского.
Вместе с тем в немецкой науке, в различных филологических
трудах, изложено немало подготовительных материалов к исторической
поэтике литературы. Эти труды не складываются, насколько можно
судить, в какое-либо последовательное направление в немецком
литературоведении. Можно думать, что такие материалы создаются
представителями самых разных направлений немецкой науки; так,
основополагающая книга Рюдигера Шмитта о поэзии и поэтическом
языке в индоевропейскую эпоху114 использует методы
лингвистической реконструкции, ее задачи не собственно поэтологические, и тем
не менее все ее выводы идут на пользу исторической поэтике,
относятся к ее фундаментальным основаниям.
В немецкой романистике XX в. методологическое развитие
проходило несколько иначе, чем в германистике; немецкие романисты
(Л. Шпитцер, К. Фосслер, Э.Р. Курциус) были, благодаря более
тесным связям с европейской наукой, в частности с европейским
развитием компаративистики, лишены многих самоограничений
германистики115. «Мимезис» Э. Ауэрбаха (1946) — это выдающееся создание
именно немецкой романистики, сочетающее гуманитарный подход к
литературе с большой основательностью своего подхода к историко-
литературным явлениям. Наконец, прямо к области исторической
поэтики можно отнести классическое произведение Эрнста Роберта
Курциуса «Европейская литература и латинское средневековье»
50
(1947) - произведение, которое десятилетиями тщетно дожидается
своего перевода на русский язык.
Э.Р. Курциус выступал в защиту единства филологической науки,
и в качестве необходимого условия успешности
литературоведческого труда он выставлял требование освоения всех эпох литературного
развития и требование освоения целостности литературного развития.
Именно эти два требования столь необходимы для исторической
поэтики, и именно они не выполняются немецким академическим
литературоведением. Э.Р. Курциус писал так: «Кто знает средние века и
новое время, тот еще не понимает ни того, ни другого. Ибо на своем
малом поле наблюдения он находит такие феномены, как «эпос»,
«классицизм», «барокко», т. е. «маньеризм», многие другие, историю и
значение которых можно понять лишь по более древним эпохам
европейской литературы. <...> Видеть европейскую литературу как
целое можно лишь тогда, когда обретешь права гражданства во всех ее
эпохах от Гомера до Гёте. Этого не узнаешь из учебника, даже если
бы таковой и имелся. Права гражданства в царстве европейской
литературы обретаешь тогда, когда по многу лет поживешь в каждой из ее
провинций и не раз переедешь из одной в другую. <...> Разделение
европейской литературы между известным числом филологических
дисциплин, никак не соединенных между собою, препятствует этому
совершенно»116.
Глава вторая
Из предыстории исторической поэтики в Германии
I
Для того чтобы могла складываться историческая поэтика, должно
было происходить опосредование знания литературы и известного
представления об истории.
Это совершалось в весьма длительном процессе. Знание
литературы в этом процессе претворялось в знание истории литературы, в
знание истории разных литератур и, наконец, в знание некоторого
историко-литературного целого, которое соответственно может получать
наименования «мировой литературы», «всемирной литературы»,
«мирового историко-литературного процесса» и т. п.
Представление об истории также претворяется: из свода знаний о
событиях, из знания хронологии вырастает картина исторического
целого с его внутренней закономерностью, с его внутренним развитием.
Эта картина истории в своем становлении сходится с аналогичным
движением во всех областях человеческого знания - везде осваивается
идея развития, эволюции, движения, везде она осмысляется как идея
органической жизни, и в основе ее всюду оказывается образ живого
роста. Наконец, после всех интенсивнейших занятий всевозможным
историческим материалом, после освоения идеи развития, роста,
изменения, движения в приложении к самым различным предметам
исследования формулируется методологический принцип историзма, - само
наличие, само признание такого принципа означает уже, что всякому
предмету знания, всякому бытию приписывается историчность, т. е.
внутренне закономерная изменчивость, что всякое бытие
рассматривается как историческое. Принцип историзма, прилагаемый к разного
рода бытию, всякий раз особо преломляется; пользуется этим
принципом и литературовед, - только нельзя ожидать, что он будет
пользоваться им как готовым и сложившимся, как инструментом, заранее
припасенным для него, который ему осталось только применять.
Совсем иначе: если это инструмент, то такой, который в
исследовательском процессе должен быть заново создан и который должен отразить в
себе свойства материала, с которым взаимодействовал.
Давнее и длительное опосредование знания литературы и
представления об истории с начала и особенно с середины XVIII в. вступает в
решающую фазу, где все историзируется и где сам этот процесс исто-
ризации претерпевает быстрые, порой головокружительно
стремительные изменения, где он сам выступает как образ живой истории117. Эта
фаза не завершена и по сей день.
В этой фазе возникла и сама научная история литературы, т. е.
такая, которая признает историчность за бытием литературы. Эта фаза в
своих началах захватывает предысторию научной истории литературы,
а потому, казалось бы, говорить о предыстории исторической поэтики
52
тут еще рано. Однако импульсы к соединению знания литературы и
идеи исторического проявлялись очень рано, проявлялись с
первозданной силой еще и до возникновения научной истории литературы.
Напротив, когда сложилась академическая наука о литературе, эти
импульсы были ею обеднены, поскольку усвоенный тогдашней наукой,
прочно вставшей на ноги принцип историзма чрезвычайно зависел уже
от позитивистски успокоенного, ставшего «равнодушным» образа
истории. Чем больше материалов к исторической поэтике накапливала
наука, чем больше начинало разуметься для нее само собою некое
целое мировой истории литературы, тем слабее был порыв к осмыслению
всего данного в целом и в его внутренней логике. Напротив, на ранних
«предысторических» этапах мысль о литературе богата общими
подходами - при всей их возможной нерасчлененности, при всей их
материальной недоказанности. Многое из этих богатств было утрачено и
осталось поныне несобранным и невосстановленным.
Об одном таком моменте необходимо сказать предварительно и
сразу. Выше сравнивалась историческая поэтика конца XIX в. в виде двух
ее различных решений, русского и немецкого; это сравнение
предстоит еще продолжить (в главе III). Сравнение это не случайно - к нему
подводит сама логика становления (становления, заметим,
противоречивого, затрудненного и пока еще не дошедшего до какой-то степени
стабилизации) исторической поэтики и сама же судьба идеи
исторического, историзма. Невозможно говорить об истории исторической
поэтики помимо этих двух ее воплощений в немецкой и русской
культуре - в сходстве и противоположности этих воплощений.
Они, эти два воплощения, взаимно дополняют друг друга — как две
попытки увидеть свой предмет с противоположных позиций. Взгляд
каждый раз направлен на все целое историко-литературного (историко-
культурного) развития — и уже от конкретных обстоятельств зависит,
насколько он преуспевает в его постижении. За взглядом же всякий раз
стоит универсалистская черта культуры, как немецкой, так и русской; и
эта черта осмысляется самой же культурой (до тех пор, пока ее не
настигает «рок» специализации). Русскому читателю это известно по
ставшим классическими словам Ф.М. Достоевского — из «Речи о Пушкине»
1880 г. и сопровождающих ее текстов: Достоевский говорил о
«способности всемирной отзывчивости», какая была присуща Пушкину, - «эту-
то способность, главнейшую способность нашей национальности, он
именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный
поэт»118. «Способность эта есть всецело способность русская,
национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим, и, как
совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой
способности <...> Народ же наш именно заключает в душе своей эту
склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению <...>»119.
Итак, черта русского народа и русской культуры - это всемирная
отзывчивость. Гораздо менее, чем высказывания Достоевского о русской
культуре, известны подобные же высказывания деятелей немецкой
культуры. Их, кажется, до сих пор никто не собирал. Рихард Вагнер
говорит в своих воспоминаниях (о парижских годах, т. е. о начале 1840-х
годов): «Уже тогда меня радовало то, что в немецком духе я видел за-
53
датки, ведущие через тесные границы национальности к постижению
чисто человеческого в любых чужих одеяниях и определяющие
родственность немецкого духа духу греческому»120. Критик Вольфганг Мен-
цель более подробно развивал эту же мысль об «отзывчивости»
немецкого духа во второй половине 1820-х годов; он писал так, имея в виду
немецких писателей того времени: «Универсальность — вот характер
нашей эпохи. Каждый - все во всем. Переносятся во все времена и
страны, всему подражают. Образы отдаленнейшей предыстории,
отдаленнейшей натуры каждодневно примешиваются к образам
современности». В отличие от того, как поступал Шекспир, «наши поэты
вместе с чужим предметом заимствуют и чужой взгляд на него»; «Нет
народа, который так умел бы переноситься мыслью в другой народ, как
немцы. Смена ролей — это для наших поэтов предмет веры». И более
того: «Нет нации, которая отличалась бы столь универсальным духом,
как немецкая, - все то, что не удается нам как индивидам,
достигается многообразием таковых»121.
Немецкий универсализм — так по В. Менцелю — есть нечто иное,
нежели националистическое «тщеславие», и нечто иное, нежели
абстрактное «человечество»122. Гердер, отнюдь не заботясь о «тщеславии»
нации, «доставил ей честь величайшую», а именно «дух ее стал
способен к непредвзятой человечности (einer <...> unparteiischen Humanität
fähig)»123.
Вообще же Менцеля очень беспокоило прежде всего, как бы это
равновесие «отзывчивости» не было нарушено в сторону абстрактно-
человеческого. Так что не без иронии он пишет: «Глубочайший
источник той склонности [предпочтения всего чужого. - A.M.] — это
человечность [Humanität, так сказать, «человеческость». - A.M.] немецкого
характера. Все мы без исключения космополиты. Наше национальное
заключается в том, чтобы не желать быть национальным и против
национально-особенного заявлять нечто общезначимо человеческое. У
нас постоянная потребность реализовать в себе идеал «нормального»
философского народа. Мы хотим усвоить культуру всех наций, все
цветы человеческого духа <...> И другие народы тоже ценят чужое, но они
в отличие от нас не отбрасывают самих себя»124.
Можно по достоинству оценить ту философскую основательность,
с которой позднее К.С. Аксаков преодолевал колебания между
высокой оценкой универсальности и опасениями за утрату народом своего
лица. «Русский народ не есть народ, — писал он, — это человечество;
народом является он от того, что обставлен народами с
исключительно народным смыслом, и человечество является в нем потому
народностью»125. Это было сказано очень смело - а притом отнюдь не в
каком-то безотчетном запале мысли; поразительно сходство между
Аксаковым и поздним Шеллингом, в «Философии мифологии» которого
происхождение народов из единого человечества представало как
величественный процесс, захватывающий предысторию и историю, как
процесс, соответствующий мифологической теогонии, но только
обращенный на землю: в то время как одни племена, отколовшись от
единого человечества, уже становятся народами в их обособленности,
другие еще могут хранить свою первозданную сущность. К.С. Аксаков сме-
54
ло применил подобный ход мысли к современности, и русский народ
в его универсальности оказался у него, скажем так, «минус-народом»,
вся своеобычность которого объясняется контрастом между ним
(человечеством) и обособленностью окружающих его народов.
В осознании русской культурой важной своей черты -
универсальности — известную роль сыграла культура немецкая. Как мы видим, она
предоставляет в распоряжение русского мыслителя определенный язык
выражения. И это, разумеется, в историко-культурном отношении
наиважнейшая связь. Хотя вполне вероятно, что здесь мы имеем дело с
крайним, редким случаем рецепции немецкой культуры, ее
интеллектуальных достижений: существующее в «неразложенности»,
имплицитно, и может заимствовать язык самовыражения лишь там, где анализ
сущности проведен и стал эксплицитным.
Весьма глубоко видел такое взаимоотношение культур, - а притом
он совсем уж близко подводит нас к нашему кругу проблем, - князь
В.Ф. Одоевский (1844). Он начинает с того, что утверждает
универсализм русской культуры: это «стихия всеобщности или, лучше сказать,
всеобнимаемости». А затем он прослеживает, как эта стихия
проявилась «в нашем ученом развитии», — это выражение попросту
подразумевает здесь «культуру», Bildung, т. е. и науку, и поэзию: «<...> везде
поэтическому взгляду в истории предшествовали ученые изыскания; у
нас, напротив, поэтическое проницание предупредило реальную
разработку: История Карамзина - навела на изучение исторических
памятников, до сих пор еще не конченное; Пушкин (в Борисе Годунове)
разгадал характер русского летописца, - хотя наши летописи не прошли
сквозь вековую историческую критику, а самые летописцы еще какой-
то миф в историческом отношении <...>». Ясно, что русская
культура сопоставляется здесь с западной, прежде всего с немецкой: «<...>
есть народ, которого поэты, посредством поэтического магизма,
угадали историю прежде истории, и нашли в душе своей те краски, которые
на Западе черпаются из медленной, давней разработки веков
исторических <...>»126.
«Поэтический магизм» как способ объяснить предвидения русских
поэтов едва ли кого устроит. Но очевидно, что за наблюдениями
В.Ф. Одоевского стоит реальность, и реальность стоит за осознанием
русской культуры как универсальной, наделенной «способностью
всемирной отзывчивости». Мы можем предположить, что универсализм,
осмысляемый русской культурой, и универсализм немецкой культуры,
при всем сходстве, даже при совпадении форм выражения,
культурного выявления, строится на основании совсем разного, принципиально
и глубоко иного опыта истории. Сходства служат здесь причиной того,
что между культурами завязываются самые плодотворные отношения.
Однако и самые сходства понятны через заложенные в них
противоположности: одна культура несет свой опыт истории в предельно
эксплицированном виде— он обработан материально, методологически,
философски, он на протяжении веков изложен в самых разных формах,
подвергнут всяческому сомнению, доведен до высшей умудренности,
изощренности, даже до усталости от истории. Другая же культура
знает свой опыт истории совсем иначе, существенно иначе, - прежде все-
55
го в форме нерастраченной цельности, неразъятого, но при этом явного
богатства: своя отечественная традиция этому нимало не противоречит,
она и складывается иначе, чем на Западе (к этому времени). В опыте
этой другой культуры величайшее значение принадлежит тому, что
К.С. Аксаков красочно и точно назвал «хоровым чувством земли»127.
И вот оказывается, что обе на столь разных основаниях
организованные культуры приходят в удивительно гармоническое соответствие
друг другу: выведенный наружу, эксплицированный, построенный на
универсальном разумении всего иного и «чужого» исторический опыт
одной понятен другой культуре и эта другая представляет для него
благодатную почву. Они взаимодополнительны, поскольку достигли
крайностей, насколько вообще крайности осуществимы в истории. Под
воздействием тщательно разработанных в одной культуре исторических
методов, под воздействием сложившегося в ней (в течение веков, в
результате бессчетных шагов и опосредовании) мышления истории
исторический опыт другой культуры немедленно открывается для самого
себя. Опыт одной действует в другой как брошенная искра. Методы
одной соединяются в другой с неутраченным сознанием целого,
цельности. Это и создает, видимо, тот феномен, который проницательно
наблюдал В.Ф. Одоевский, - поэт угадывает конкретный характер
исторического явления, еще не изученного в науке и совсем не
установившегося в ней; поэт держится силой целого — только это целое
уже обрело язык, чтобы говорить о себе, и восприняло крупицы
исторического метода, рождающие изумившие писателя скорые и
стремительные плоды.
Теперь можно и необходимо вернуться к Ф.М. Достоевскому,
чтобы замкнуть весь круг, выводящий нас к исторической поэтике.
Подсказанная Шеллингом мысль К.С. Аксакова: русский народ — не народ,
а человечество, - отзывается в русском «всечеловеке» Достоевского128.
«Пушкин лишь один изо всех мировых поэтов, - писал Достоевский, -
обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую
национальность»129, - но только это не отказ от себя, а умение «вместить чужие
гении в душе своей, как родные». Не забудем и того, что, по
Достоевскому, все это — свойство русского народа, только необычайно
выразившееся у Пушкина130. И одновременно Достоевский делает
утверждения, которые едва ли бы решился обосновать прагматически
мыслящий литературовед: «Самые величайшие из европейских поэтов
никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого,
соседнего, может быть, с ними народа, дух его, всю затаенную глубину
этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин.
Напротив, обращаясь к чужим народностям, европейские поэты чаще
всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-
своему. Даже у Шекспира его итальянцы, например, почти сплошь те
же англичане. Пушкин лишь один изо всех мировых поэтов обладает
свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность <...>
Перечтите «Дон-Жуана», и если бы не было подписи Пушкина, вы бы
никогда не увидели, что это написал не испанец. Какие глубокие,
фантастические образы в поэме «Пир во время чумы»! Но в этих
фантастических образах слышен гений Англии <...> религиозные же строфы
56
из Корана или «Подражания Корану»: разве тут не мусульманин,
разве это не самый дух Корана <...>? А вот и древний мир, вот
«Египетские ночи» <...>»131.
Действительно, как доказать все это? Как доказать, что Пушкин
вполне перевоплощается в чужую национальность, что европейские
поэты «чаще всего» перевоплощают чужую национальность в свою, что
у Шекспира итальянцы — «почти сплошь» англичане? Где эта тонкая
мера различения? Это все действительно недоказуемо. И тем не менее
поэтическая экзальтация Достоевского схватывает реальное различие
в направленности западной и русской культур, и, если говорить о
немецкой и русской культуре XIX в., прежде всего различие в том, как
внутренне устроен их универсализм132. Один — это историзм, на все
распространяющий свой интерес, свой познавательный принцип, ко
всему подходящий с своими целями. Другой - это историзм, отмеченный
глубокой любознательностью к чужим интересам. Этот последний
готов растекаться по пространствам истории и почти забывать о себе и о
своем. Весьма символично в этом плане различие между исторической
поэтикой, как была она задумана соответственно А.Н. Веселовским и
В. Шерером. Это различие и проявляет то, что у Ф.М. Достоевского не
было доказано, подтверждая интуицию писателя. Один ученый исходит
из «своего» и из опыта современности, другой же и все «свое» хотел бы
вписать в линию издревле существующих закономерностей, и к
современному опыту прибегает как к корректирующему приему или как к
способу реконструкции старинных культурных форм. То самое, что
Ф.М. Достоевский утверждает как свойство русского народа и русской
культуры, то самое А.Н. Веселовский подтверждает и доказывает
направленностью своего научного пути.
Правда, отсюда же следует и иное - необходимость ограничить
высказывания Ф.М. Достоевского, сферу их значимости. Разумеется,
сказанное им великолепно отвечает той черте человечности и
терпимости, которая отмечается уже в средневековой русской культуре. А
вместе с тем, когда писатель сопоставляет русскую и западную культуру, он
имеет в виду позднее состояние западной культуры, ситуацию второй
половины XIX в., ситуацию, которую он распространяет и на прошлое.
Между тем, по крайней мере в Германии, этому позднему состоянию
предшествовала более открытая универсальность. А притом не что
иное, как эта открытая универсальность, и дала Ф.М. Достоевскому
язык выражения его мысли. Говоря иначе, в универсализме как
тенденции немецкой культуры на ее более раннем этапе содержались
задатки той же самой самоотверженности, которую Достоевский разглядел
внутри культуры русской. И этот немецкий универсализм точно так
же противопоставлял себя Западу, западному неумению и нежеланию
перевоплощать себя в «чужое», как русская культура словами
Достоевского (раньше - Белинского) противопоставляла себя Западу, включая
и Германию. Между русской и немецкой культурами тут открывается
поразительное единодушие.
Но только немецкий универсализм возникает, как тенденция, в
условиях высокоразвитой культуры с привычными для нее, а в XVIII—
XIX вв. нараставшими, как снежный ком, критико-аналитическими
57
процедурами. И этому универсализму чрезвычайно трудно удержаться
на своей высоте, - мы бы сказали, на высоте своего
интернационализма, опирающегося на национальный принцип всепонимания,
абсолютной отзывчивости; и этот универсализм тоже очень скоро
подвергается сомнению и разъятию, и его заливают волны односторонностей.
Такой немецкий универсализм возникает только через временное
отрицание, преодоление присущих культуре односторонностей, и его
прямая судьба в такой культуре - подвергнуться релятивизации, он
очень скоро будет поставлен на суровую и трезвую землю, получит свое
объяснение и будет упразднен. Тогда как, напротив, русский
универсализм, сказавшийся в Ф.М. Достоевском, зиждется на присущей
русской культуре субстанциальности (неразьятости, цельности), чувстве
целого. Как своего рода историческая «вещь в себе»133, русский
универсализм, воспринимая импульсы от немецкой культуры, проявляет
себя, — но от этого еще не разрушается.
И однако сколь же велико сходство между словами из «Речи о
Пушкине» Ф.М. Достоевского и тем, что за сто с небольшим лет до
него писал немецкий мыслитель, размышляя о Гомере и его судьбах
в культуре: «Французы, чрезмерно гордясь своим национальным
вкусом, все приближают к нему, вместо того чтобы приспосабливаться к
вкусу иной эпохи <...> Мы же, бедные немцы, напротив, — почти
лишенные даже публики, лишенные отечества и деспотов
национального вкуса, мы хотим видеть Гомера таким, каков он есть». Это слова из
работы И.Г. Гердера «О новейшей немецкой литературе. Фрагменты»
(1767). Гердер поясняет свою мысль так: «Гомер обязан являться во
Францию побежденным, обязан одеваться по моде, чтобы не
раздражать их взор; свою почтенную бороду он должен сбрить, простую
одежду - снять с себя, а если в нем все равно проглядывает
крестьянское величие, над ним еще посмеются как над варваром»134. Итак,
Гердер готов отдавать должное всему «чужому», готов уподобляться
ему вместо того, чтобы подчинять его своим народным и
национальным формам, и хотел бы постигать всякое явление, «каково оно
есть». Ему хотелось бы, чтобы такое отношение стало чертой
немецкой национальной культуры.
Но вот этот немецкий универсализм как программа вписан в
особенный исторический контекст. Мы сразу же понимаем, что, когда
Гердер противопоставляет свой культурный универсализм как замысел
отстоявшейся и привычной для себя французской культурной
традиции, речь тут идет, с одной стороны, о культуре классицистически
обуженной, остающейся в пределах строго прочерченного правила и
обязательной конвенции, а с другой стороны, о культуре, которая не
удовлетворяется риторическим типом литературы и пытается исподволь
расшатать рамки риторического ее разумения, - даже если эти рамки
в немецкой культуре были традиционно весьма просторны. Борьбу с
французской культурой как неким опасным тормозом в движении
немецкой литературы вперед вовсю вел уже Лессинг135. Правда, мы
знаем, что и французской культуре в это время был присущ свой
универсализм, опиравшийся на освоение прежде малоизвестных историко-
культурных горизонтов и на выработку представлений о зависимости
58
культуры от «нравов» и «климата»; все это дало свои непременные
стимулы тому же Гердеру. Однако французская культура действительно
очень четко фиксирует при этом свою позицию и не склонна
смешивать свое с чужим; K.M. Виланд, в творчестве которого французский
тип культуры отразился в эстетически тонком виде, показывает нам,
сколь плодотворны могли быть здесь своего рода обследования
историко-культурных областей и уголков в поисках «своего», верного, -
немецкий «роман воспитания» и возникал у Виланда («Агатон», 1773) -
в продолжение древнейшего, по-прежнему волновавшего топоса
«выбора пути» - через перебор разных возможностей существования, жиз-
нестроения, одновременно историко-культурных и экзистенциальных.
Вот это самое уже и перестает удовлетворять - то именно, что разные
типы культур можно выставлять на одну плоскость и предъявлять им
один и тот же вопрос, продиктованный знанием о
нравственно-риторической правильности. Как бы тут правило ни расшатывалось, оно
вместе с тем и актуализуется, герой может блуждать в своих исканиях,
но обязан сделать наконец правильный выбор. Немецкая культура
рвется к постижению истории как чего-то субстанциального,
заключающего в себе существенную несопоставимость и неодновременность
разных своих отрезков и разделов, так что, между прочим, отсюда
проистекает и ранняя несправедливая неприязнь к Виланду как чужой
ленте, вплетенной в немецкую национальную косу.
Итак, немецкий универсализм вспыхивает в какой-то момент, и
через него на деле происходит самоосознание немецкой культуры — в
противовес французской. У этого универсализма есть
непосредственные причины, его порождающие, - это именно нарастающее новое
осознание и мышление истории, а приводит к нему, к этому новому (и
неслыханному) мышлению истории, целый комплекс
историко-культурных и социально-исторических оснований. И вот, как мы видели,
одно из следствий совокупно действующих оснований: как пишет
молодой и уже зрелый Гердер, Гомера надо брать, «каков он есть», и,
разумеется, предполагается, что так следует относиться к любому
историко-культурному явлению: его надо не переодевать в свое, а принимать
как есть. Но не будем забывать, что культура, которая устами Гердера
провозгласила такой свой универсализм, вся давно уже шла путем
анализа, разнимания смыслов, - она, рождая новое мышление
исторического, уже приготовила инструменты его аналитического разложения.
Именно поэтому тут дело не в том, на чем позднее больше всего
настаивал Ф.М. Достоевский («Не в отзывчивости одной тут дело, а
именно в изумляющей полноте перевоплощения»136): коль скоро всякое
явление, «каково оно есть», встретится в Германии с языком анализа, то
это значит, что оно встретится прежде всего с ученой Германией и что
ему, следовательно, не дадут быть самим собою. Вот, стало быть,
будущие зерна разрушения того универсализма, который тоже только еще
будет, потому что он только лишь провозглашен. Итак, историю
культуры и всякое историко-культурное явление в его нетронутости и «не-
переодетости» ожидает в Германии ученый анализ, а не поэтическое
перевоплощение - как встречное движение и живой отклик. Ученая
Германия полномочно представляет всю культурную Германию, так это
59
и в глазах дерзновенно мечтающего молодого Гердера. Немцы хотят
видеть Гомера, каков он есть, пишет Гердер, и продолжает так: «И
самый лучший перевод не достигнет этого, если говорить о Гомере, -
нужно еще, чтобы прибавились примечания и разъяснения,
исполненные высоко критического духа»137.
И все это совершенно верно, и все это дельно увидено. И
насколько же это показательно: перевод Гомера действительно вставал уже
перед немецкой культурой как назревшая задача, как спустя небольшое
время встал он перед русской культурой, но Гердер отнюдь не
полагается на силу поэтического перевоплощения как на своего рода
окончательный акт, благодаря которому создание древней культуры
становится достоянием нового народа. Гомер как историко-культурное явление,
а вместе с ним и все иные явления обрекаются в Германии на
бесконечность истолкования. На герменевтическую бесконечность. Иного и не
может быть, сказал бы Гердер. Иного и не может быть, согласимся мы.
Иного не может быть в условиях определенной культуры, при
определенной ее направленности, такой, какая, пожалуй, разумеется сейчас
для нас сама собою. Культура, которая приближается к чужому и
далекому явлению критически и аналитически, обязана, имея в виду
схватить это явление, «каково оно есть», удостовериться в его
тождественности самому себе и сомневаться в этом; в итоге обе культуры, «своя»
и «чужая», вступают в дискуссию, которой нет конца. Как, согласно
излюбленному в просветительский век математическому образу, две
асимптоты бесконечно приближаются друг другу, но никогда не
соприкасаются138, так и две культуры, из которых одна критически
анализирует другую, никогда не могут сойтись в чем-то общем. Ситуация эта
оставляет темную печать сомнения на всем процессе постижения чужих
культур, и именно она отражается в наиновейших, относящихся
к 1980-м годам поворотах герменевтической мысли.
Между тем Ф.М. Достоевскому - спустя век после Гердера -
мысленно рисовалось нечто совсем иное. Поэт, носитель народной
культуры, перевоплощается в дух чужой культуры, проникая в нее с такой
убедительностью и очевидной достоверностью, что не возникает
никакого сомнения в том, что перевоплощение осуществимо и осуществлено.
Не встает об этом даже и вопроса. И сама же народная культура, или
«гений народа», по Достоевскому, сейчас же встает в такие отношения
ко всему чужому, что понимание здесь предпосылается, и оно не
исключает «трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и
извиняющего несходное, снимающего противоречия»139. Совершенно
ясно, что, хотя Ф.М. Достоевский и заимствует язык осмысления
своей культуры у западного, немецкого универсализма, высказывается он
все же о культуре, основывающейся на совсем иных началах, - сам
Достоевский и есть представитель такой культуры. Эта культура усваивает
даже и все средства критического анализа, но только они оказываются
совсем в ином окружении и как бы совсем в иной действительности.
Прежде всего здесь предпосылается, как норма, что всякое явление
целостно и субстанциально, что оно есть основательное и прочное
бытие. Но, главное, здесь предпосылается, что понимание любого явления
может простираться сколь угодно далеко. Точнее говоря, понимание не
60
есть здесь первоначально даже и проблема; все безусловно может быть
понято, или все даже вообще понятно. Итак, культурное явление — это
бытие своего рода, и различие между явлением и сущностью
стирается, а путь познания от явления к сущности предельно сокращается.
Подобно этому и вместе с этим сокращается та перспектива, в которой
мыслитель видит явление и в которой оно становится доступным для
него; выучив, что материальное, природное бытие существует
независимо от человека, от познания, мыслитель склонен думать, что он,
занимаясь кругом своих явлений, имеет дело непосредственно с
сущностью и с бытием, каковы они сами по себе. На явления истории
культуры такой исследователь легко переносит свои представления о
природно-материальном бытии вообще, не вполне учитывая то
обстоятельство, что такие явления по своему существу заведомо включены в
поток человеческого понимания, с самого начала суть нечто
понимаемое, уже возникают как нечто так или иначе понимаемое и даже «как
таковые» не существуют вне этого потока понимания. Этим историко-
культурные явления отличаются от природных, которые существуют и
независимо от познания, и независимо от человека вообще. Мыслитель
же, который привык подставлять на место историко-культурных
явлений своего рода природное бытие, обычно через силу, натужно
«объективирует» их. По этой же самой причине - потому, почему он не
склонен в своих «объектах» видеть процессы понимания, а намерен сводить
их к бытию «в себе», — такой мыслитель не расположен анализировать
и свою роль в познании такого бытия, так как весьма скромно
полагает, что роль непосредственно познающего такое бытие сводится к
передаче познанного другим людям и что передача познанного
составляет не большую проблему, нежели переход от явления к сущности. Все
лапидарно просто и весомо, все именно таким и предстает.
Эта лапидарная простота кажется иллюзорной, когда к ней
подступает искушенное аналитичностью сознание. Традиционная «беспроб-
лемность» отзывается до сих пор беззаботным, облегченным
отношением к герменевтическим проблемам, их недооценкой. Очень часто
кажется (и это частный случай подобного заблуждения), что все, что
может быть понято, уже и понятно, уже и понято. И еще один нюанс:
кажется, что все непонятное, выступающее в историко-культурном
процессе, - от лукавого и может быть отброшено как лишнее, как
надуманное и враждебное. Все это выражает присущую этому типу
культуры убежденность в силе и значении непосредственности: как бытие
доступно непосредственно, так и все в культуре должно быть
доступно непосредственно и не должно изменять основному свойству при-
родно-материального бытия - именно тому, что оно в принципе
доступно как таковое.
Напротив, мыслитель, обеспеченный критико-аналитическим
инструментарием своей культуры, подходит к материалу со всеми
возможными сомнениями и подозрениями, - порой для него становится
вообще немыслимым переходить от явления к сущности, так что, как то
было у Канта, вещь в себе, сущность, выставляется вовсе за пределы
познаваемого мира. А если говорить о явлениях культурной истории, то
одновременно с тем, как растет знание о них, возрастает дистанция
61
между ними и современностью, современной культурой, современным
восприятием вещей, между ними и современной наукой, возрастает
отчужденность от них. Хотя это возрастание совершается не гладко, так
как его (это известно из истории) перебивают волны иллюзорного
уравнивания любых историко-культурных явлений, когда они,
например, все должны отвечать непосредственности чувства (и как много
удавалось переосмыслить в этом духе!), тем не менее возрастание
дистанции, отчужденности совершается неукоснительно.
Современность и культурные эпохи прошлого словно пребывают в
вечной тяжбе, - и как бы все ни было обставлено согласно строгим
формальным правилам судопроизводства, которые со временем все
устрожаются, сторонам не удается договориться ни о чем, и, наоборот,
чем дальше, тем явственнее выступает вся их непримиримая
противоположность. Это положение дел можно было бы назвать ситуацией
герменевтической напряженности, или перенапряженности.
Перенапряженность приводит, наконец, к тому, что договориться становится
решительно невозможно. Мало того, что внимание все более отвлекается
от познания существа дела на, так сказать, процедурную сторону
вопроса, т. е. на то, как это познание осуществляется и как ему надлежит
осуществляться, мало этого, — герменевтическая мысль, все заостряясь
(а заостряться ей положено уже согласно ее роли аналитического
инструмента), рвет, наконец, нить познания, связывавшую современность
и прошлое, современного исследователя и культуру прошлого.
Познание невозможно, провозглашает герменевтик, и поскольку он здесь
хозяин положения — культура прошлого вынуждена молчать, как только
он откроет рот, - то он объявляет культуру прошлого бесхозным
имуществом, которому можно давать любое употребление, лишь бы оно не
пропадало. Как хочешь, так и понимай, все будет правильно, говорит
такой герменевтик-экспериментатор, и весьма любопытно, что ему
приходит в голову мотив суда, в формы которого весьма
целесообразно обрядить то, что еще осталось от процесса познания, -
противостояние не разумеющих друг друга тяжущихся сторон140.
Правда, можно думать, что такой экспериментатор уклонился в
сторону от генеральной, здравой линии герменевтики, хотя его
экспериментаторство лишь реализовало заложенные в ней тенденции, -
однако все равно ясно, что, даже если и не доходить до такой крайности и
не рвать нити научного познания, любое явление культурной истории
выступает здесь как максимально опосредованное. Поэтому
представим себе: если бы даже какому-либо поэту хватило смелости и
мастерства для того, чтобы перевоплотиться в нечто иное, чужое, то уже
никому не хватило бы смелости спуститься вслед за ним в прошлое по
расставленным остриям мечей и утверждать, что перевоплощение
состоялось. Тут мы находимся в мире, где все относительно, где ничто не
стоит на своем месте, как стоял бы предмет, послушный, как то и
подобает ему, и где ни о чем нельзя ничего утверждать непосредственно.
Однако ведь и история в современном смысле, и современное
мышление истории возникли именно вследствие того, что разные
культурные явления утратили свою одноплановость, однокачественность,
гомогенность и разошлись — на разные между собой дистанции - в таком
62
временном пространстве, которое не совпало с хронологическим
измерением, но, взаимодействуя и соразмеряясь с ним, выстроилось именно
как внутренний рост, как становление культурных форм. К таким
разошедшимся из «своего», занявшим свои дистанции явлениям стали
присоединяться и подстраиваться, на своих дистанциях, другие
явления, пришедшие из абсолютно «чужого», из того, с чем до тех пор не
было никакой коммуникации, из варварски-немого. Так начало
складываться целое культурных феноменов - наконец, целая всемирная
история культуры.
Становление нового исторического мышления было достаточно
длительным процессом сложнейшей перестройки, какая когда-либо
совершалась в европейской культуре. Благодаря ей обрели свою историю
и все европейские, и все неевропейские народы. В этом процессе были
использованы и систематизированы самые разные, иногда возникшие
еще в глубокой древности импульсы исторического мышления,
послужившие как бы подготовительными, запасенными с давних пор
материалами исторического мышления. Наиболее трудным процессом было
усвоение принципов исторического мышления там, где оно
затрагивало материал литературы, искусства, — здесь мы наблюдаем самый
мучительный, до крайности затягивающийся процесс подготовки и
мучительный же, хаотический, при этом довольно кратковременный,
момент перелома на рубеже XVIII-XIXbb. Можно даже сказать, что
только победа исторического мышления в области литературы и
искусства и была решающей для судеб нового исторического мышления. И
ранее можно было рассуждать об этапах, стадиях всемирной истории,
однако в риторическом типе культуры эти учения о разных стадиях
истории оставались умозрительными, отвлеченными. Риторический тип
культуры обязывал признавать общезначимые и рассчитанные на
вечность правила творчества, признавать неподвижность образцов, тоже
данных навечно, делить творчество на правильное и неправильное,
причем все «чужое» оказывалось на стороне неправильного. Правда,
можно говорить о «вынужденности» таких взглядов — с момента,
когда в самой культуре стало нарастать сопротивление риторическому
типу культуры. Однако, вынужденные или принятые по доброй воле,
такие взгляды, значимые исключительно, несовместимы с историей
как внутренним развитием. Освоение истории как внутреннего
развития могло начаться здесь только с периферии - с допущения того, что
«правильное» и единственно верное в искусстве было продуктом
исторического развития; можно было показать, как безусловно
«правильное» возникает в лоне неправильного, — такова, примерно, роль
египетского искусства в «Истории искусства древности» Винкельмана.
«Правильное» искусство начинает обстраиваться и оттеняться
побочными и исключительно своеобразными формами «неправильного»;
толкователю приходилось, как подметил уже Гёте, переодевать их
поначалу в чуждые формы европейского, античного и, например,
индийского поэта представлять под видом местного Горация или Гомера. Но
точно так же литература XVIII в., скрывая от себя свое своеобразие,
укрывалась в «образцовости» вообще и щедро рождала русских,
немецких, английских Горациев, Гомеров, Вергилиев, Анакреонтов и т. д.
63
Пока существовал риторический тип культуры, слово для нового
исторического мышления оставалось скованным, а вследствие этого было
сковано и историческое мышление, сделавшее так много завоеваний:
нельзя говорить об истории, привязав ее к одному типу слова и ставя все
в зависимость только от него, — так, как этого с полнейшей выверенно-
стью суждения требовал Кант. Напротив, необходимо дать сказаться
каждому слову, т. е. дать выразиться каждой культуре с ее
специфическим языком, не заставляя ее уподобляться чему-то «правильному», не
деформируя ее ради этого, не затирая ее ради ее явных
«неправильностей», не лишая ее своей ценности, не отстаивая только «свое».
То, как на рубеже XVIII—XIX вв. совершается процесс
переосмысления слова, как будто задерживавшийся до последнего, как вместе с
этим на вольные просторы выходит новое историческое мышление, -
все это редкостное по своей стремительности, почти неимоверное
явление, настоящий культурный переворот.
Но вот очень показательно то, как итоги этого переворота
усваиваются культурами с существенно разным историческим опытом.
Немецкая культура, как известно, вынесла на себе все трудности,
связанные с выработкой нового исторического мышления; вся
необходимая работа была проделана здесь буквально шаг за шагом, сюда же
влилось многое из того, что было выработано в иных европейских
культурах.
Вот этой работы, совершаемой шаг за шагом, безусловно не
производила русская культура. Она пользуется почти готовым результатом
западной культуры, притом в такой момент, когда в русской культуре
происходит перелом, когда в ней наблюдается известный кризис
самосознания, когда Белинский (и не он один) заявляет, что «у нас нет
литературы», когда культура должна как бы пойти с начала, а ее
многовековое прошлое словно уходит в тень141. В 1820-е годы немецкие
литературные веяния достигают России скопом, сразу за полвека, усваиваются
недостаточно расчлененно, но при этом как нечто чрезвычайно
существенное. Лишь немногие, как, например, Д. В. Веневитинов,
отличались более четким и подробным знанием истории немецкой
литературы и философии. Но можно думать, что и не в доскональном знании
того, что за чем следовало, заключалась здесь суть, — речь ведь идет
даже не о влиянии одной культуры на другую, но о внутренней
потребности русской культуры в самораскрытии, самообнаружении; вот она
несколько беспорядочно и впитывает из немецкой, вообще из западной
культуры все то, что нужно для этого самораскрытия. А для этого очень
часто достаточно лишь намеков, отраженных впечатлений. Так русская
культура вычитывала из сбивчиво преподнесенной ей немецкой
словесности и новое историческое мышление. Подобно тому как все же
очень немногие русские получали тогда немецкое университетское,
философское и филологическое, образование, для самой культуры
вопрос заключался не в том, чтобы идти в немецкие университеты, чтобы
переучиваться в них. Дело было именно во внутреннем самораскрытии
культуры. Заметим, что культура, перенимающая зарубежные
достижения, причем с опозданием и скопом, может выглядеть обидно
отставшей в своем развитии. Это несправедливый и неадекватный взгляд;
64
точно так же неверно думать, что Германия XVII, XVIII, XIX вв. с ее
«нищетой» только и делала, что отставала от Франции и Англии, —
начиная с форм политической борьбы и кончая лоском цивилизации и
модой. У каждой культуры свой путь, и она совершает его как целое
(впрочем, внутренне дифференцированное и многообразное). Вот
почему восприятие новых, идущих с Запада принципов оказалось для
русской культуры фактором внутреннего развития. Восприятие совпало с
переломом в самой культуре, после чего пришлось еще тратить
известные усилия на то, чтобы восстановить непрерывность традиции, чем
занимался уже и Белинский, столь решительно обозначивший этот
перелом.
Перелом способствовал тому, что русская культура с легкостью,
неведомой, западным культурам, освободилась от риторического типа
слова и от сопутствующих ему неподвижных моментов мысли.
Благодаря этому русская литература последовательно, как ни одна литература
Запада, вырабатывала реалистический тип творчества. И если такой
тип творчества соответствовал задачам времени, то русская литература
очень скоро оказалась впереди западных литератур. В то же время
немецкая литература очень долго испытывала влияние своих
классических образцов, возникших на культурном переломе, - они во
многом стесняли ее в ее развитии в направлении нового. От этого
влияния литература почти никогда не могла освободиться, а потому
нередко случалось так, что какие-либо переходные формы начала
XIX в., задерживаясь надолго, успевали соединиться с переходными
формами конца XIX в., отступавшими от реализма, так и не
достигнутого. Нечто подобное происходило и с мышлением истории, где
сознанию нередко не давалась имманентность развития и в нем почти
постоянно «отслаивались» в качестве фундамента для истории некие
вневременные основания.
В русской же культуре новый историзм (обретенный отнюдь не
путем длительного внутреннего вызревания или аналитической работы)
включился в традицию, мыслившую вещи субстанциально, цельно и
непосредственно. Иными словами, новое историческое мышление
усваивается русской культурой в своей существенности и как свое
кровное достояние. Как замечательно писал A.M. Панченко, «эволюция
культуры - явление не только неизбежное, но и благотворное, потому
что культура не может пребывать в застывшем, окостенелом состоянии.
Но эволюция все же протекает в пределах «вечного града» культуры142.
Нужно думать, однако, что усвоение нового исторического мышления
было не столько эволюционным актом, правда очень хорошо
подготовленным и опирающимся на известную эволюцию, в том числе и на
узенькую струйку исторической критики (во взаимодействии с
западной наукой143); оно было, в исторических масштабах, скорее внезапным
актом. При этом внутренним актом самораскрытия культуры. Актом,
совершившимся в ее известном критическом состоянии, но в то же
время и обеспечившим дальнейшее прочное и уверенное состояние
этой культуры. Это, конечно, был акт самоосмысления и -
переосмысления. Но в отличие от многих кризисов в западной культуре, вроде
ужасных «нигилистических» прозрений рубежа XVIH-XIXbb., он был
65
совсем лишен трагического характера. Напротив, он протекал как
достаточно плавный, как акт самоутверждения начал русской культуры.
Очевидно, в новом усвоенном историческом мышлении сказался и весь
присущий русской культуре субстанциальный и находивший свое
выражение в первую очередь вовсе не в научных формах вековой
исторический опыт144. Благодаря этому новое историческое мышление
воспринималось с этих пор как нечто безусловно свое и дорогое сердцу.
Вследствие этого русская наука, мыслившая историю и
занимавшаяся историческим материалом, развивается своеобразно, как наука
национальная. Охотно воспринимая научные представления,
методологические подходы западной науки, не боясь никаких влияний, русская
наука все это перерабатывает и ставит на почву своего взгляда.
Историк литературоведения хорошо знает, что, например, немецкие
мифологическая и историко-культурная школы получили свое продолжение
в России; однако продолжение было весьма самостоятельным, и, как
известно, весьма затруднительно бывает разграничить импульсы той и
другой школы в творчестве русских мыслителей, — импульсы
складываются в новые комбинации. Контакты между русской и западной
наукой на протяжении всего XIX в. весьма тесны, и в течение всего
этого времени они резко возрастают, - однако эти контакты несколько
односторонни, и если достижения западной науки относительно
свободно проникают в Россию (преодолевая внешние препятствия), то
обратное движение чрезвычайно затруднено. В этом сказывается,
безусловно, и отзывчивость и широта русской культуры, которой чуждо
упрямо стоять на своем, и только, и относительняя неотзывчивость
западной науки (хотя трудно упрекнуть, скажем, немецкого ученого в
нежелании знать «литературу вопроса»), - эта последняя была
склонна ощущать себя до какой-то степени самодостаточной, с оттенком
самоудовлетворенности и самодовольства. Можно думать и о
пресловутом принципе rossica non leguntur, действие которого, впрочем, в иных
случаях весьма ограничивалось. Однако настоящие причины весьма
глубоки, - и проявление их, в частности, в том, что русская наука, во
всяком случае гуманитарная, с большим трудом встраивалась в
мировую науку. Так, А.Н. Веселовский не был своевременно оценен на
Западе, хотя, казалось бы, все этому благоприятствовало. Первый его
труд, «Вилла Альберти», был издан в Италии, на итальянском языке, и
произвел впечатление; он много лет провел за границей, контакты его
с зарубежными учеными не прерывались, и он регулярно публиковал в
Германии небольшие научные заметки. Но лишь в последние годы
западной науке приходится осваивать наследие Веселовского и задним
числом встраивать его в историю науки.
Глубокие же причины расхождений между науками, западной и
русской, и между культурами заключались, видимо, именно в том, как они
осмысляли, как они переживали историю и историческое бытие. Все с
внешней стороны «заимствованное» русская культура вводит в самую
сердцевину своего осмысления мира и усваивает прежде всего в виде
таких исходных положений - бытие как развитие, развитие со своими
внутренними основаниями, бытие как конкретность, как исторически-
конкретное бытие. Это широко осваивается не просто наукой, но и во-
66
обще культурным сознанием и через литературу (главную проводницу
этого исторического мышления) переходит в самую гущу жизни. В
науке главенствующими становятся историко-генетические подходы. И
это не просто метод, но мировоззрение. Мировоззрение, которое
предпослано научному построению. Историчность, говоря иначе, присуща
самому бытию. Напротив, в немецкой науке, в немецкой философии,
как бы глубоко ни было разработано здесь новое историческое
мышление, — оно и было разработано здесь, - всегда ощущается большое
искушение свернуть историю как развитие, как процесс в некоего рода
конструкцию или структуру. Об этом еще пойдет речь. Для нас же
важно отметить то, что новому историческому мышлению приходится
вступать в очень трудную борьбу с прежними стереотипами
мышления, - например, с библейским синопсисом истории (где история, во-
первых, обозрима и кратка, во-вторых, подчинена заведомому плану и
покоится в лоне вечности); историческое выступает тогда как
наложенное на бытие, как вторичное в отношении его сущности; далее,
немецкой мысли весьма свойственно додумывать свои принципы до
конца, до их диалектического перехода в свою противоположность, - и
здесь опять же ничто не удерживает историческое в каком-то
фиксированном состоянии: как наложившееся на бытие (с иной природой!),
оно порой уподобляется чему-то вторичному, временному,
преходящему, что легко стереть с картины бытия, как случайные черты с лика
всепоглощающей вечности.
Зато насколько глубоко сливается идея историчности с бытием в
русской мысли, можно судить по образцу позднему и крайнему: «<...>
«история» ведь и есть в конце концов та действительность, которая нас
окружает и из анализа которой должна исходить философия»145. Эти
слова принадлежат мыслителю, который столь глубоко воспринял
представления и язык немецкой философии, что, казалось бы, в нем не
должно было остаться ничего от русской мыслительной традиции;
тогда Густав Шпет исключительно принадлежал бы к немецкой
феноменологии, а в перспективе— к интернациональному
феноменологическому движению. Шпет, которого высоко ценил Эдмунд Гуссерль146,
очень скоро придает новые, решительные акценты
феноменологической философии - это, главное, осмысление действительности как
действительности исторической, что должно было резко контрастировать
с аисторизмом мышления Гуссерля, затем соединение феноменологии
с психологией народов, или этнической психологией и, наконец,
отмеченное чрезвычайной важностью и оказавшееся поистине
провидческим синтезирование феноменологии и герменевтики147, - что в
немецкой философии было достигнуто лишь значительно позже. Все, в чем
Шпет обгонял развитие феноменологии на Западе (эволюция взглядов
Гуссерля совершалась постоянно и довольно быстро; кроме того, от его
философии все время отходили отдельные ветви, порой далеко
отклонявшиеся от основного ствола), - во всем этом сказывается
стержневое воздействие русской мыслительной традиции, опосредованной
западной мыслью. Скрещение традиций, их мотивов совершалось
именно так, как то подсказывала русская традиция, — и это при всем том
необычном для нее, что заключалось в творчестве Шпета.
67
Так, Шпет твердо уверен в объективности существования мира:
«<...> непредвзятое описание действительности во всей ее
конкретной — исторической полноте разрушает гипотезу о том, будто эта
действительность есть только комплекс «ощущений»»148. Такая
убежденность внутренне связана у Шпета, с одной стороны, с направленностью
феноменологии против психологизма XIX в., а с другой -
поддерживается русской традицией, которая и в XIX в. не склонна признавать и
допускать психологизм в таком оголенно индивидуалистическом и
субъективистском духе, со всеми его отражениями в философии и
науке, что западная, в том числе немецкая, культура. Вместе с тем
убежденность в объективности бытия, онтологическая предпосылка
философии Шпета, позволяет ему трактовать в социальном плане то, что в
феноменологии (во всяком случае, в некоторых ее течениях) надолго
остается отвлеченной проблемой интерсубъективности149.
В области эстетики и поэтики у Г. Шпета тоже происходит
скрещение, а поскольку оно не полно, то совмещение и сосуществование
различных интеллектуальных традиций. Например, у него чрезвычайно
сильно ощутимо воздействие формалистической эстетики, причем
следует иметь в виду, что формалистическая эстетика - это не какое-то
расплывчатое определение вообще, а обозначение вполне
определенной национальной школы, именно австрийской, вобравшей в себя
эстетический опыт австрийской культуры и переосмысленный на его
основе кантовский эстетический формализм. Эта традиция, например,
требует абсолютно жесткого, неумолимого разграничения искусств150,
каждого художественного жанра, поскольку между различными
жанрами будто бы нет и не может быть переходов. Присущий той же
традиции логицизм требует такого же размежевания научных дисциплин. Ей
же свойственный духовный аристократизм сказывается в оценках
литературы - реализм XIX в. для Г. Шпета совершенно неприемлем, как
что-то ценное он «сломался вместе с Гоголем»151, а впоследствии
остается лишь «натурализмом» — «чистым эстетическим нигилизмом»152.
Между тем феноменологическое тяготение к духовному предмету
неожиданно смыкается с онтологизмом русской традиции, и реализм
возвращается в эстетику в углубленном смысле: «Реальная вещь есть
фундирующее основание поэтической. Всякий поэтический предмет есть
также предмет реальный. Поэтому-то реализм есть specificum всякой
поэзии»153; «Реализм, если он не реализм духа, а только природы и
души, есть отвлеченный реализм, скат в «ничто» натурализма»154;
«Новый реализм, реализм выраженный, а не реализм быта, будет
выражением того, что есть, а не того, что случается и бывает, того, что
действительно есть, а не того, что кажется»155. Это относится к онтологизму, в
котором традиционно русская субстанциальная цельность как
мыслительная основа еще, кажется, усилена и философски прояснена -
подкреплена традициями, с одной стороны, родственными в позитивном
(опора на вещь), а с другой — родственными в негативном —
обращенными против субъективного идеализма и безудержного психологизма.
Теперь к историзму. Феноменологу (так это сложилось) всегда очень
к лицу ставить все на место - так это получается и у Г. Шпета с
поэтикой, которой вроде бы положено помнить у него свое очень скромное
68
место, занятое ею в старину: «Поэтика - наука о фасонах словесных
одеяний мысли»; «<...> поэтика - поэтический костюм мысли»156;
«Поэтика— не эстетика и не часть и не глава эстетики <...> Поэтика есть
дисциплина техническая»157. В начале 1920-х годов, в разгар нового
литературоведческого формализма, не могут же не напоминать о нем
слова мыслителя, который обладал самой капитальной и самой серьезной
формалистической выучкой. Тем более неожиданно после
приведенных слов Г. Шпета узнать, что его мысль и здесь, в поэтике,
устремляется к истории и имеет отношение к исторической поэтике. Прежде
всего «поэтики absolute, вне времени, не бывает»158, и, по всей
видимости, поэтике предстоит принять участие в поисках будущей, только
предстоящей подлинно исторической дисциплины: «Свои
диалектические законы внутренних метаморфоз в самой мысли еще не раскрыты.
Законы развития, нарастания, обеднения, обрастания, обсыпания и пр.
и пр., сюжетов, тем, систем и т. п. должны быть найдены, как законы
специфические. История значения слов, историческая семасиология,
история литературы, философии, научной мысли — все это еще
научные и методологические пожелания, а не осуществленные факты.
Слава Богу, что покончили хотя бы с ними как эмпирическими
историями быта, «влияний среды», биографий, - если, впрочем, покончили.
Настоящая история здесь возможна будет тогда только, когда удастся
заложить принципиальные основы идеальной «естественной»
диалектики возможных эволюции сюжета»159. Отсюда можно видеть, — при
всех неясностях, - что историческая поэтика в понимании Г. Шпета
должна была бы стать морфологией истории. Г. Шпету и здесь было
важно подчеркнуть онтологизм сюжета: «Идея, смысл, сюжет—
объективны. Их бытие не зависит от нашего существования»160.
С чего мы начали, тем можем и кончить, пройдя через некоторый,
впрочем ограниченный, материал мысли Г. Шпета: и для него
историчность бытия служит самым важным и ценным его свойством,
достойным самого глубокого изучения, и это важнейшее свойство бытия
перекрывает у него формалистическую структурность, аисторизм и вне-
временность той философской традиции, которую он усвоил и с
которой себя отождествил. Г. Шпет был не просто феноменолог и не
просто представитель гуссерлианства в русской культуре — он был
представителем русской культурной традиции в
феноменологическом движении.
Правда, историческая поэтика, которую можно было бы строить на
основе мировоззрения Г. Шпета, мало походила бы на современный
замысел этой науки. Это объясняется, конечно, не только духовной и
научной ситуацией 1910-1920-х годов, в которую Г. Шпет
превосходно вписывался со своей очень четко обозначенной философской и
научной позицией, но и внутренним складом его мировоззрения, где
культурные и научные традиции отчасти были синтезированы,
отчасти накладывались друг на друга, отчасти сосуществовали и,
направленные навстречу друг другу из разных историко-культурных углов, не
успели еще сойтись. Так, линия эстетико-формалистическая требовала
видеть в поэтике нечто только техническое и твердой рукой
посаженное на свое невидное место, а историзм, противостоящий чисто логи-
69
ческой структурности того же формализма и тогдашнему аисторизму
феноменологии, подсказывал мысль видеть в поэтике нечто глубоко
связанное с историей; но обе эти линии, насколько можно судить, не
успели еще соединиться. А пересекшись, они могли бы дать богатый и
едва ли предсказуемый по своему содержанию результат. Ведь
основную задачу, какая встала перед Г. Шпетом в его неоконченном
исследовании «История как проблема логики», когда он разбирал
Шеллинга и собирался перейти к Гегелю, можно, по всей видимости,
формулировать так: каким образом возможна философия истории как
конкретной полноты совершающегося без того, чтобы на историю как
на имманентный процесс накладывалась априорная схема?161. Но
осмелимся думать, что подобная же проблема - в своих терминах и на своем
участке— стоит и перед современной теорией литературы, примерно
так: как возможна теория литературы, которая не накладывала бы на
развивающийся материал истории словесности неподвижных или
априорных схем и была бы способна учитывать и анализировать его в
полной мере, не внося в него искажений, деформаций?
В силу такой общности задач, над которыми бьется поэтика, Густав
Шпет при всех отвлеченно формальных ингредиентах своего научного
творчества был и остается спутником всех задумывающихся над
построением исторической поэтики. «Все как эмпирическое все имеет у нас
еще одно название, это есть история»162.
Теперь можно видеть, до какой степени Г. Шпет расширил и тем
видоизменил феноменологию, оставаясь твердым в своих убеждениях
последователем Гуссерля. И по этому поводу уместно удостовериться в
самой возможности длительного, сколь угодно длительного
сосуществования культур, сохраняющих в нетронутости свои весьма различные
основания и свой резко различающийся общий склад. И это в условиях
теснейшего контакта между ними, равно как прямых и
существеннейших влияний одной культуры на другую! При всей интенсивности
коммуникаций вечные грады стоят неколебимо; даже принимая в свой
состав сугубо новые представления, которые могли бы, казалось бы,
изменить весь облик культуры, они остаются при своих фундаментах и,
меняя многое, меняясь во многом, сохраняют главное для себя.
Но что говорить о культуре русской и немецкой, столь различных в
своей родственности и способности воспринимать творческие влияния
друг от друга, если подобным же исключительным своеобразием
отличались и очень во многом отличаются и до сих пор, несмотря на
семимильные шаги нивелирования и ассимиляции, духовная культура
Германии и духовная культура Австрии, где общение и всякого рода
взаимообмен словно заданы наперед? Между тем здесь, и это чрезвычайно
ярко проявляется как раз в пору зарождения современной науки о
литературе и, шире, в пору становления нового исторического мышления,
различия доходят до полного неприятия культурных феноменов и до
почти полной непроницаемости культур друг для друга. Граница
между градами нечетка и невидима, но она есть - и еще какая!
И вот эта граница заявила о себе как раз тем, что в отличие от
культуры русской австрийская культура решительно отказывалась
реформировать свой образ мысли и подвергать его «историзации». И, как и в
70
случае русской культуры, не от того, что здесь не было своего опыта
истории, своей исторической науки, многообразного продумывания
проблем истории и т. д.163, а оттого, что все было принципиально иным.
Австрийская культура упорно не принимала нового образа истории, и
тем последовательнее, чем более интеллектуально высоки были
течения ее мысли. Это выразилось в том, что философия и эстетика (за
ними и другие дисциплины) упорно держались своих
логически-структурных подходов и эти подходы пронесли через весь XIX и XX вв., при
смене направлений и их размежевании. Феноменология — сам Гуссерль
принадлежал по своим истокам к австрийской традиции, и его
философским учителем был австриец же Франц Брентано - разнесла эти
логически-структурные подходы по всему миру; это же можно сказать и
о логическом позитивизме, еще более «австрийском» явлении. Через
философию и эстетику логически-структурные подходы оказали свое
влияние на русский формализм, а позднее, в больших масштабах, на
структурализм. Со строгостью логически-структурных методов связаны
успехи австрийской науки — и в математике, начиная с великого
Бернарда Больцано, философа, богослова, математика, утописта, и в
естественной науке (генетика!).
Все это мышление с его логической структурностью отличалось
аисторизмом, т. е. полнейшей незаинтересованностью в истории как
внутреннем процессе, в изучении развития, становления, его
диалектики (полемика с немецким классическим идеализмом в таких
обстоятельствах естественна). Когда думают об этом аисторизме, иной раз
поражающем воображение, начинают вспоминать об отсталости
Австрии, экономической и прочей, — но для историка культуры это
несерьезно, — а затем о католицизме, действительно противостоящем
немецкой протестантской культуре, и это уже гораздо существеннее.
Однако тут важен и значим не католицизм как таковой, а католицизм в
совокупности и во взаимоотражении со всеми прочими факторами
культуры, — ведь сам по себе католицизм не препятствовал мышлению
истории, и итальянская культура дала миру Дж. Вико, чрезвычайно
способствовавшего развитию нового исторического мышления,
историзма. Итак, дело не в католицизме, а в сумме культурных
обстоятельств, сложившихся в такой тип мышления, в котором на
протяжении почти двух веков воспроизводились и воспроизводятся как формы
познания, логические конструкции - аисторические, т. е. не зависящие
от истории и не заинтересованные в ней164.
В процессе культурного общения соответствующие методы
философии и науки выходят за пределы национальной культуры, и в
середине XX в,, в тот исторический момент, когда гуманитарные науки
(прежде всего лингвистика) испытывали потребность в логическом уяснении
своих процедур, накладывают на них, — наряду со всеми иными
родственными тенденциями, откуда бы они ни шли, — свою печать. То, что
в австрийской традиции и в ее ответвлениях было историческим,
отождествилось в современной лингвистике и ее отражениях с
синхронией - с изучением явлений в синхронии. Однако логическая выверен-
ность и системность, к которой стремилась наука, в свою очередь,
отождествлялись в научном сознании с синхронией — настолько, что
71
отрицание истории стало на какое-то время мечтой новой науки. Этот
приоритет аисторически-синхронно-системного сохранялся в науке
долгое время; поэтому не случайно в весьма взвешенном рассуждении
о методологии гуманитарных наук, написанном уже по окончании
напряженнейшего периода исканий сугубой точности и системности в
лингвистике и с учетом его опыта, когда стало ясно, что «диахронные
трансформации не являются бессистемными»165, - не случайно в этом
рассуждении сказано так: «<...> нельзя вообще отказаться от
диахронных изысканий, как бы это ни было соблазнительно для современных
гуманитарных наук, изнуренных дихотомией синхрония - диахро-
ния»166.И не случайно здесь же говорится, что метод синхронного
анализа был в свое время «подавлен диктатурой историзма, установленной
романтической эпохой»167. Ведь если для гуманитарных наук
соблазнительно отказаться от диахронных изысканий, а историзм трактуется как
диктатура, мешающая науке заниматься делом, то приоритет аистори-
чески-системного не нуждается в дальнейших подтверждениях. При
этом надо отдавать себе отчет в том, что «изнурена» дихотомией
синхронного и диахронного лишь та наука (отнюдь не вообще вся
гуманитарная наука), которая поддалась иллюзии того, что аисторически-син-
хронное гарантирует науке точность и системность168. И которая, сверх
того, не могла до поры до времени отдавать отчет в
историко-культурной ограниченности тех методов, которые по логике развития науки на
известном этапе оказались внутренне необходимыми для нее.
II
Национальные культуры покоятся на своих основаниях, и эти
основания в течение самого длительного времени остаются неизменными,
несмотря на интенсивность и проникновенность культурного общения
между народами. Неизменность эта - не неизменность
неподвижности, но неизменность самовоспроизведения в своем главном существе.
В эпоху утверждения нового исторического мышления оно
захватывает или хотя бы только затрагивает культуры с самыми различными
основаниями, и это определяет его сложную и противоречивую судьбу.
В Россию это новое историческое мышление пришло с Запада, в
первую очередь из Германии. Здесь в классической немецкой
философии оно получило универсальное идейное оформление, а вместе с тем
нашло и путь в жизнь, т. е. стало усваиваться широким культурным
сознанием. Однако новое историческое мышление не было немецким
«изобретением» — оно было подытоживанием многообразных
тенденций, пронизывавших духовную жизнь Европы последних веков, и не
могло быть чем-то иным. Германия этому новому итогу послужила и
своими критико-аналитическими научными приемами и методами, и
своим энциклопедизмом, и не в последнюю очередь подспудно
накапливавшимся, особенно в мистической традиции, опытом
психологически-конкретного, невыразимо тонкого переживания. На пользу
новому мышлению шло все - все, что противоречило риторически
упорядоченному миру культуры. Не меньший вклад в общий итог внесли
Франция, а прежде всего Англия и Италия, причем итало-британские
72
связи сыграли тут выдающуюся роль - всем тем, что можно назвать
завоеванием новой непосредственности, сначала в рамках риторической
культуры169, затем со все большей раскованностью и самоволием
чувства, — это и новое чувство природы, и искусство читать старинные
тексты, отбросив наслоения риторических толкований. Все это в
немецкой мысли приживалось и обобщалось.
Утверждение историзма было «одной из величайших духовных
революций, когда-либо пережитых западным мышлением»170. Так писал
Ф. Мейнеке. И это совершенно верно. Однако, можно усомниться в
том, что, пробуя описать или определить новое историческое
мышление, немецкий историк передавал его полно и точно и не находился
под впечатлением тех поворотов, которые это мышление
претерпевало именно в Германии. «Ядро историзма состоит в замене
обобщающего рассмотрения действующих в истории человеческих сил их
индивидуализирующим рассмотрением», - писал Ф. Мейнеке171. Слово
«историзм», столь уверенно почувствовавшее себя на русской почве,
возникло как обозначение нового исторического мышления
значительно позднее, чем само это мышление, но не в этом сейчас главное.
Главное в том, что в определении существа историзма сразу же упущено
нечто такое, что приходится тотчас же послать вдогонку, но что явным
образом не способно уже восполнить выговоренное поначалу.
Странно, но здесь забыто то, что историзм (т. е. новое историческое
мышление) должен предполагать прежде всего известное осмысление истории
как процесса, определяющегося своими внутренними
закономерностями, притом как процесса (сопоставимого с ростом растения —
излюбленный образ сторонников и пропагандистов нового исторического
мышления), где всякое явление, всякий факт может существовать лишь
на своем, предопределенном развитием, месте и где любые явления,
факты не могут быть связаны между собой иначе, как в самом процессе
развития, через него172. Но, впрочем, как бы ни представлять, как бы ни
мыслить процесс, историческое мышление должно характеризоваться
спецификой своего постижения истории. Ф. Мейнеке же продолжает
примерно так: индивидуальное рассмотрение явлений истории не
означает, что «историзм вообще исключает поиски всеобщих
закономерностей и типов человеческой жизни». Не исключая их, он «обязан
слить их со своим чувством индивидуального» - и если прежде, пока
господствовало «генерализующее суждение» (т. е. в эпоху
риторического упорядочивания мира как существенно неисторического, аистори-
ческого), индивидуальное недостаточно учитывалось «в своих глубоких
сдвигах и в многообразии своих форм», если все сводилось к
«вневременным, абсолютно значимым истинам», то теперь могут
исследоваться «самые глубокие движущие силы истории, душа и дух людей»173.
Как видно, истории, ее осмыслению (в этом, по крайней мере,
разделе книги) уделено совсем мало места, и новый историзм, по Ф.
Мейнеке, выглядит скорее просыпавшимся на землю изобильным дождем
всевозможных индивидуальных форм, которые прежде просто
удерживались в ежовых рукавицах абстракции, где никто не спрашивал о лице
индивидуального. Но раз такой дождь прошел, приходится как-то
соединять индивидуальные явления заново, - однако никто ведь не
73
сможет гарантировать здесь, что они выстроятся так, что образуют
внутренне закономерный процесс. Об этом не спрашивает, кажется, и
сам Ф. Мейнеке. Между тем очевидно, что новое историческое
мышление складывалось совсем иначе, - для него в решающую пору его
становления (И.Г. Гердер!) образ истории как развития и
(растительного) роста был, по всей видимости, единственной априорной
генеральной идеей, которая предпосылалась развитию (и всему миру
индивидуальных форм) и которая вместе с тем выражала отрицание любой
иной априорности в рассмотрении истории.
Загадочным образом подход Ф. Мейнеке к историзму лучше,
нежели исторической мысли, философии истории и т. п., отвечает
художественному мышлению эпохи историзма, — перед писателем
действительно открыта безбрежность индивидуальных образов, характеров, лиц и
чего угодно, причем он не обязан думать об истории, ее законах и т. д.
Но это, правда, так только на поверхности, потому что фактически
оказывается, что писатель этой эпохи либо сам напряженно думает об
истории, либо же пользуется плодами чужой мысли, отчего его образам и
присуща внутренняя историчность - они не просто индивидуальны, но
и вписаны в движение, в поток времени, принадлежат известному
моменту, этапу исторического развития, наподобие того, как об этом
писал Гегель: «История содержит вот эту единичную сторону,
обособленное, до крайности индивидуализированное — но в ней же
распознаваемы и всеобщие законы, силы нравственного»174. Однако тем не менее
положение писателя в отношении истории гораздо свободнее, чем
положение историка или философа, — все-таки он не обязан говорить об
истории в общей форме (как поступал Лев Толстой).
У Ф. Мейнеке же историзм выглядит каким-то растерянным, - от
него осталась, главным образом, конкретность индивидуальных
явлений, т. е., говоря иначе, историк, сколь бы иначе ни был устроен его
взгляд, стоит перед тем же самым, что и писатель. Все-таки и перед
писателем — эмпирия исторического, не процесс, а распад и развал.
Нам надо только иметь в виду, что Ф. Мейнеке в своем
капитальном труде пытается спасти позитивный смысл «историзма» - вопреки
его негативным переистолкованиям; при этом и он увлекается
ценностью всего совершающегося как такового. Но и это не личное решение
историка — он следует определенной традиции немецкой
историографии, связанной для него прежде всего с именем Ранке. В своей речи
памяти Леопольда фон Ранке (1936) Ф. Мейнеке впечатляюще
передавал принципы историографии Ранке - отчасти своими словами,
отчасти словами самого великого историка. «Господствующие над миром
события эпохи, — говорил Ф. Мейнеке, — всеобщие тенденции, или
идеи, и индивиды в их деятельности - все выступает у Ранке во
взаимосвязи, как единый могучий процесс, который благодаря полноте
составляющих его индивидуальных моментов неприступен ни для какой
абстрактной понятийности, но который представляется нам
многообразным и все же внутренне единым индивидуальным потоком жизни —
все индивидуально, и тенденции эпохи, и каждое отдельное событие,
и то, что Ранке называет «моментом», где сходятся все отдельные нити,
предопределяя в основных чертах грядущее развитие»175.
74
И Φ. Мейнеке выделяет такие основные положения историографии
Ранке:
1) «Во всем - всеобщая и индивидуальная духовная жизнь»; все
духовное связано с реальным — все «реально-духовно», как писал Ранке
в 1836 г.176;
2) «<...> каждая эпоха непосредственно сопряжена с Богом, и
ценность ее не в том, что проистекает из нее, но в самом ее
существовании, в ее собственном бытии (in ihrem eigenen Selbst)»177; «Пред Богом
все поколения людей выступают равноправными, и так должен
смотреть на вещи и историк»178.
У И.Г. Гердера как одного из первооткрывателей нового
исторического мышления люди с тех пор, как бог посадил две первые
человеческие особи в азиатский земной рай, названный Эдемом,
неукоснительно стремились к счастью, что поставлено перед человечеством
как конечная цель, и, неуклонно совершенствуясь, даже все великие
несчастья на своем пути почитали за ничто. Напротив, у Ранке это
крайне оптимистическое жертвоприношение всех людских поколений
конечному состоянию человечества, совершенному и счастливому,
теперь уже отвергается, но только история после этого отчасти
замирает на месте, и момент развития в ней, так понятой, значительно
ослабевает. Ей недостает внутренней энергии или внутренней идеи,
поскольку мысль о настоящем прогрессе, или поступательном движении
вперед, не допускается179. Ранке не признает даже, что возможно
какое-то накопление моральных ценностей, или какого-то морального
опыта, который позволил бы человечеству держаться на
большей высоте180.
Л. Ранке предельно объективен, и в этом его большая заслуга перед
наукой. История допускает лишь вполне достоверное знание («nichts als
ganz Gewisses und Sicheres» m) и «обязана держаться объекта»182, - она
и любое явление должна рассматривать вполне непредвзято. Так и
любая эпоха: «<...> нельзя говорить, что один век служит другому»183, и
«если бы прогресс состоял в том, что жизнь человечества во всякую
новую эпоху возводилась бы во все более высокую степень и
последующее поколение превосходило бы предыдущее, а это последнее только
бы несло его на своих плечах, то это было бы несправедливостью со
стороны божества. Поколение как бы медиатизированное лишено было
бы совсем значения как таковое <...>»184.
Необходимо требовать от историка «участия к отдельному»185. Такое
свойство историка дополнялось еще и другим — он одолжен держать
глаза открытыми, чтобы рассмотреть всеобщее186. Но главное все-таки
отдельное. А это отдельное есть жизнь — вот одна из центральных
категорий мысли Ранке, категория многозначительная, поскольку она
играет существенную роль в культурном сознании Германии с XIX в. и
потому небезразлична для истории литературоведения; жизнь как
категория непосредственно понятна и иррациональна, так как она
невыразима в слове и в понятии. И вот если историк будет чувствовать в
себе «склонность к живому явлению человека как таковому, то он,
безотносительно к какому-либо ходу вещей, будет радоваться тому, как
устраивал человек свою жизнь в любую эпоху (wie er allezeit zu leben
75
gesucht)»187. «Дело истории — наблюдать жизнь, которую не обозначить
одной мыслью, одним словом»188.
Вот в чем, значит, состоит смысл истории - в осмысляющем
наблюдении феноменов жизни, что не лишено даже и известного
предвидения (феноменологии) и отмечено философским содержанием,
которого не заметил сам историк. Историк же, напротив, выступил против
философии, а именно против Гегеля, сказав: «Являющийся в мире
дух — не столь понятийной природы»189. В другое же время Ранке
пояснил: в гегелевской схоластике «гибнет жизнь»190.
Коль скоро все это так, то, как бы ни поражал историка вид
«жизненных бурь» и исторического потока, он прежде всего
останавливается на отдельном и зорко вглядывается во все отдельное. Тогда,
просматривая в отдельном всеобщее и видя затем связи между всем
отдельным, борьбу и развитие,191 - все это уже дополнительно и во вторую
очередь, - историк даже «частично достигает божественного знания».
Это тогда, когда историк «либо с должным доверием к себе начинает
прозревать, либо же благодаря обостренному упражнением взгляду
вполне совершенно познает, куда, в какую эпоху склонился
человеческий род, к чему он стремился, чего достиг, что обрел»192. Божественное
полное знание отчасти доступно историку, - но зато и история не
вполне имманентна. Это не просто «человеческая» история, но
история, осуществляющаяся не без своеобразного участия бога. Правда, в
отличие от гегелевского, этот бог не нуждается в мыслительной
изощренности и довольствуется тем, что его признают. Как писал о Ранке
Ф. Мейнеке, Провидение у него, конечно же, руководит «человеческой
драмой истории», но историк далек от того, чтобы «обнаруживать, шаг
за шагом, перст божий в истории»193. Ранке же говорил так:
«Божество — если только осмелиться на подобное замечание — божество я
мыслю себе так: поскольку перед ним нет времени, то у него есть
обзор всего исторического человечества в его совокупности, и повсюду
он находит его равноценным»194.
Этот бог Ранке - все равно что совершенный историк.
Но между тем идея бога спасает от распада образ истории Л. Ранке.
Динамические связи эпох гаснут и в своем значении отходят на задний
план, целое истории тускнеет, утрачивая настоящую и во все времена
ощутимую цель195, тогда как всевозможные конкретные явления
притягивают к себе все внимание историка, увлекают его, доставляют ему
наслаждение и складываются в яркий и непостижимый феномен
жизни. Здесь и приходится кстати традиционная идея бога - при этом она
еще и меняется, потому что меняется представление об истории: для
имманентного объяснения истории она была не нужна, но зато
потребовался абсолютный свидетель истории, который свидетельствовал бы
от имени вечности, причем о всей и всякой истории, — это
совершенная объективность. Вот бог от всего и отрешен - он свидетельствует.
Он воплощает в себе объективность исторического знания, от этого он
лишь возвышеннее прежнего. Но и ближе прежнего: до бога высоко, но
меж тем он только старший коллега профессора истории. Профессор и
должен подражать ему по мере сил, перенимая его взгляд, его способ
все видеть. Кроме того, есть обширные области человеческой деятель-
76
ности, которые независимо от своей временной детерминированности
«непосредственно сопряжены с божественным», — это искусство,
поэзия, наука и законодательство (Staat), потому что «собственно
творческое не зависит от прошедшего и последующего»196. Все творческое
хранит в себе ту незатронутость историей, какой оно обладало и в
эпохи риторики, и мы можем наблюдать, как мысль историка середины
XIX в., реалистической эпохи, с удовольствием пользуется общими
идеями из наследия риторических времен, отвергая общие идеи
философской диалектики рубежа веков. Последние воспринимаются как
априорные и навязываемые историческому материалу, тогда как первые,
без достаточной рефлексии, — как пролившиеся в жизнь и ставшие
общими местами культурного сознания, а потому принадлежащие как бы
самому же материалу. Примерно так поступали и немецкие
литераторы середины XIX в.: они со всем своим пристрастием к земному миру
и (по-своему) к феномену жизни чувствовали потребность и в том,
чтобы их картину действительности освящало высшее начало, и, мало
этого, в том, чтобы самой действительности было присуще нечто
благостное, - вот почему и они редко обходятся без воспоминаний о
божественном и небесном197. Такую потребность чувствовал и Л. Ранке,
сугубый реалист в историографии и прозаик истории.
Однако мы теперь видим: картина истории, которая только что
рассыпалась на частности, на отдельные эпохи и феномены жизни, при
воспоминании о боге сейчас же свернулась в нечто вневременное. И
даже представилась чем-то по сути своей вневременным. Это
вневременное и крыша, и опора для образа истории Л. Ранке.
Таким образом, получается, что история может свертываться и
тогда, когда она конструируется из идеи, и тогда, когда она, отказываясь
от всякой идеи, сводится к эмпирическим явлениям198.
Немецкая мысль, рождающая историзм как новый принцип, как
новый способ видеть и понимать бытие, в то же время готова отказаться
от него - в пользу высшего. Тут, как можно думать, действуют две
историко-культурные силы (если на все эти материи смотреть исходя из
интересов истории культуры), из которых одна принадлежит прошлой
историко-культурной эпохе с ее аисторизмом, а другая - новой,
которая во всем призывает видеть конкретность, рост и развитие вещей.
Соотношение этих сил могло быть самым различным. Философ мог
выводить конкретность бытия из идеи, из логоса, из Всего - из какой-
либо целокупности, определяющей содержание мира. Всякое развитие
находится тогда в зависимости от высшей категории, так или иначе
порождается ею, и тут никак нельзя сказать, чтобы бытие было бытием
историческим, нельзя приписывать ему такой предикат; одна сила, а
именно аисторическое, одерживает верх над другой, над ростом и
развитием. Никак нельзя было бы сказать, что «все» исторично, что
бытие — это история. Как это происходит у Гегеля, мы уже видели. Как
бытие, так и истина, смысл, понятие изъяты из истории, и такое
состояние изъятости есть нечто высшее, чем пребывание в истории, что
означает пребывание лишь в эмпирическом. «Полностью признавая, что
Земля и ее обитатели имели эмпирическую историю, т. е. что ее и этих
ее обитателей свойства были результатом последовательных изменений,
77
Гегель в то же время считал, что эти эмпирические - а следовательно,
случайные — изменения должны стать предметом «мыслящего
рассмотрения». Последнее же имеет целью раскрыть нечто более глубокое и
основательное, чем простая эмпирическая последовательность во
времени, - внутреннюю связь, необходимое соотношение сменяющих друг
друга форм. «Требуется познать всеобщий закон этой
последовательности формаций, для чего нет надобности в форме истории <...> надо
познать в данной последовательности черты понятия». Сказанные о
последовательности геологических слоев, эти слова могут быть с полным
правом отнесены к любой последовательности»199.
Для историка же все может представать в виде бесконечного
многообразия почти разрозненных явлений, и уже от этих эмпирических
явлений он переходит ко всеобщему, причем поначалу отнюдь не с
помощью каких-либо общих положений, а способом усмотрения сущности:
«<...> во время наблюдения (Betrachtung) отдельного историку явится
путь, каким пошло развитие мира вообще»200. Представление о том, что
всеобщее откроется через наблюдение, или созерцание отдельного,
роднит Л. Ранке с Гёте, с одной стороны, с будущей феноменологией, с
другой стороны, и весьма адекватным кажется тогда уже приведенное
выше определение задач историка - это восприятие-наблюдение
жизни. Это очень точно — в плане той внутренней связи, которая (при всех
совершавшихся переосмыслениях) несомненно существует между
методом познания Гёте и феноменологией201, и можно небезосновательно
предполагать, что Л. Ранке не вполне отдавал себе отчет в
методологической обязательности высказанного им положения. Об этом можно
судить уже по тому, что, когда историк начинает переходить ко
всеобщему, его уже дожидается здесь понятие иной природы, которое свяжет
все отдельное и все всеобщее предначертанными линиями связи. Это
понятие бога, посредством которого аисторизм риторической
культуры вновь одерживает верх над принципом истории — притом уже в
стане «врага», на поле широко и своевольно распластавшейся истории.
История, которая доступна одному взгляду, что схватит ее всю, от
начала до конца, как бы и не совершалась, как бы и не совершится»202.
Вот, пожалуй, два диаметрально противоположных подхода к
истории, каждый из которых увенчивается, всякий по-своему, ее
отрицанием, или снятием. Правда, мы уже имели случай косвенно убедиться в
том, что в немецком идеализме рубежа веков делались попытки
мыслить историю так, чтобы у нее была возможность быть самой собою, в
своем эмпирическом облике (Шеллинг). Тем не менее в целом
ситуация в немецкой культуре была такой, что в противоборстве двух
тенденций (о каких только что шла речь) старая, вековая сила постоянно
пригибала к себе новую силу, одерживая над нею верх; отсюда
повсеместно наблюдаемый феномен свертывания истории. Точно так и во всей
немецкой культуре формы, жанры прежней риторической культуры
нависали над всеми новыми исканиями XIX в. и если не подавляли их,
то ощутимо видоизменяли. Поэтому в немецкой литературе середины
века и не было того расцвета реализма, что в русской или даже во
французской литературе, при необычайно богатом опыте воспроизведения
натуральной действительности, накопленном к этому времени. Новое
78
представление переводится, по возможности, на язык прежней
культуры. Правда, сам этот перевод уже создает нечто новое, и уникальными
оказываются эта встреча и это противоборство сил, тенденций и
рисующихся за ними языков культуры; вместе с тем это и компромисс, в
котором ни одна тенденция не получает сполна своего, - риторическая
картина мира ограничивается в своих притязаниях на всеобщность, в то
время как новый исторический подход ищет опоры для себя в старых
способах рассмотрения материала. Во всяком случае, в Германии, в
немецкой науке, кажется, почти не бывает так, чтобы историческое
мыслилось как совершенно неотъемлемое свойство бытия. Можно видеть,
на какой глубине, на какой реальной глубине заключают компромисс
обе тенденции у Гегеля: все же в конечном счете историческая
конкретность, реальное протекание истории обесценивается, лишается
субстанциальности (разворачивается некоторая «свернутость» — дух), - в
то же время можно убеждаться в том, что Шеллинг уже в самых
посылках своей мысли гораздо более открыт к истории как полноте всего
конкретно совершающегося и в этом отношении «новее»,
«современнее» Гегеля. Позднее мыслительный прорыв к истории, историчности
как совершенно универсальному свойству бытия и соответственно
рассмотрения всех вещей203, — «Мы знаем только одну единственную
науку, науку истории», - писали К. Маркс и Ф. Энгельс в ранней,
своевременно не опубликованной «Немецкой идеологии» (1845—1846)204, —
не нашел должного соответствия в немецкой науке, и «историзм» как
способ осмыслять вещи и обращаться с вещами оказался и в науке, и,
шире, в культуре в сложнейшем, противоречивом положении, -
именно так, сложно и противоречиво, разрабатывается в культуре, в языке.
В немецкой культуре получалось так, что действительно новые,
исторические подходы к действительности сразу же нейтрализовались или
сильно искажались риторическими, глубоко традиционными
мыслительными ходами, с переводом живого движения в план логической
классификации (которая представлялась, так сказать, заведомо выше
рангом). Но это означает, однако, что существенно новое все же
реально наличествует как все время возрождаемое начало мысли, как
начало, о котором культура время от времени вынуждена вспоминать и
напоминать себе самой, хотя и не в том решительном и радикальном
виде, какой оно получило в «Немецкой идеологии». Если сейчас
допустимо, в качестве первоначального и самого общего, такое определение
историзма — «принцип подхода к действительности как
изменяющейся во времени, развивающейся»205, — то это определение, для нашего
читателя лексически несомненно вполне стершееся, все же самой
возможностью своего существования обязано колоссальному
мыслительному перевороту рубежа XVIII-XIX вв. и, главное, его обработке (в том
числе и терминологической) в немецкой науке и философии того
времени. В процессе этой обработки все относящиеся к проблеме слова
находились не в мнимо откристаллизовавшемся состоянии, а в
предельно сложном - каждое наделено своей внутренней семантической
устроенностью, обычно весьма неожиданной и далекой от нашего
времени, — она отражает историю слова и несколько меняется от автора к
автору. Смысл каждого такого слова воспринимается чрезвычайно ин-
79
тенсивно, внутренняя форма каждого слова (по крайней мере, в
последних по времени ее слоях) живет, - таковы «органическое», «развитие»,
«история»; она не погашена и не стерта, как в нашем современном
житейском или даже философском словоупотреблении.
Для нас сейчас главное слово - «история», поскольку тем, как жило
это слово на рубеже XVIII-XIXbb., определен предмет нашей
дисциплины — истории литературы, вернее и точнее говоря — определено то,
как в XIX—XX вв. развивалась эта дисциплина, как она становилась и
от чего отталкивалась, одним словом, как определена ее собственная
история. Само понятие, само представление об «истории» на рубеже
веков связывается с «развитием» и с «органическим», для чего самым
энергичным импульсом послужил круг идей Гердера, чрезвычайно
масштабных, хотя чрезмерно общих — одновременно идущих в глубину и
несколько скользящих по поверхности. Когда решительно все, начиная
с происхождения мира из хаоса и до мысли человека, до грядущей
истории человечества, объявляется единой логикой - ступенями
единого восхождения от уровня геологического и до уровня мысли, то это
выглядит как весьма перспективный синтез естественнонаучной,
философской, философско-культурной мысли (в чем теперь уже нет
сомнения), но для науки конца XVIII в. это лишь вдохновенно
спроектированные стены громадного сооружения; главное впереди — синтез
обещан, а не достигнут, - если даже и не подвергать сомнению крепость
стен, как поступал Кант. Предстоит застраивать помещения между
стенами, но не только эта работа ждет науку. Настоящее единство истории
просматривается благодаря тому, что вся немецкая наука, и
естественная, и гуманитарная (Гердер и в этом принял значительное участие),
завоевывает понятие «органического»206 - завоевывает его заново, после
поздней античности, притом понимает его по-новому, с новым
наполнением, так что (это необходимо учитывать) связь этого нового
понятия «органическое» с соответствующей группой греческих слов
(organon, organicos) существенно более слабая, чем, например, у слова
Historie со словом historia. Новизна понятия сказывается уже в том, что
оно мыслится исключительно предметно. Под «органическим»
мысленно представляют живую природу — растение, животное; они служат
непосредственным аналогом понятия. Одновременно с тем, как культура
и наука XVIII в. осмысляет «органическое», вглядываясь в живые
существа как растущие, ходящие и бегающие образчики «целого», как
«живую философию», они совсем по-новому осмысляют и понятие
«жизни» - то самое, которому суждено было столь богатое и
противоречивое развитие в немецкой культуре XIX-XX вв. Надо сказать, что из всех
живых существ растение оказывалось ближе к чистоте философского
понятия — его положение в мире, очевидно, «срединнее», нежели
положение животного, и привязанность Гёте к растению, к Urpflanze как
реально воплощенной идее, идет в русле тех же исканий мысли. На
более позднем, упорядоченном языке Гегеля в растении органическое
обретает облик, форму-тело, и обретает субъективность, пока лишь
непосредственную; растительное занимает место между геологическим и
животным207. Пока наука осваивает новое понимание «органического»,
для нее немыслимо совершенно абстрагироваться от созерцания живого
80
существа — немыслимо было бы просто отождествлять «органическую
совокупность структурных составляющих», «внутренне связанное и
функционирующее целое» и «систему вообще», что сейчас оправданно
и привычно208. Живое существо и, главным образом, растение
остаются почти наглядно созерцаемой воплощенной идеей, что было великим
достижением. Так неустанно повторяет и Гегель: «<...> организм —
множественность не частей, а членов»209; «Части и члены органического
тела существуют лишь в своем единстве и вне его перестают
существовать как таковые»210; «живое — <...> организм в его почлененности»211 и
т.д.; вместе с понятием «органического» усваиваются углубленные
представления о живой системности и целостности.
Вместе с тем понятие «органического» и развивается в сторону
абстрактности (так это и у Гегеля), и распространяется на собственно
неорганическое. Гегель и в последнем отношении поступает смело — с
ощущением необходимости, вынужденного несоответствия
естественному выражению; отсюда такие формулы, как «геологический
организм»212 (включенный во всю систему органического); отсюда
ситуация, когда «органическое» делится на две крайности, из которых одна —
«неорганическая(!) природа»213; отсюда «организм механизма»214, когда
речь идет о Солнечной системе.
То, что делает философ, сознающий, что строгость мысли
вынуждает его не считаться порой с естественным языком, несколько менее
резко производили и до него. Когда философ говорит «организация
государства», то это иногда все же останавливает внимание
современника: к предмету весьма отвлеченному применено понятие, влекущее за
собой интенсивность созерцания и чувственного переживания; живое
приписывается неживому, или неживое наделяется свойствами
живого («организуется», - например, «организация саги», Ф. Велькер, 1835).
Вот что важно для нас: на рубеже XVIII-XIX вв. резко обозначается
потребность и привычка рассматривать все (по крайней мере, все, что
попадает в фокус внимания) по аналогии с живым, преимущественно
растительным организмом. Романтическое искусство начала XIX в.
лишний раз доказало это - особенно когда художник (Ф.О. Рунге)
испытывал потребность писать, изображать идеи, идеи-растения, идеи-
цветы. Метафоричность, ощущавшаяся в приложении «органического»
к неживым предметам и отвлеченным понятиям, послужила основой
для нового осмысления «органики» в качестве понятия
универсального и приложимого при необходимости ко всему на свете, - с чем и мы
очень хорошо знакомы. Вместе с тем определилась известная общая
«биологичность» присущего тому времени взгляда на мир, -
разумеется, она отлична от биологизма, присущего позитивизму второй
половины XIX в. или витализму 1910-1920-х годов, хотя осознававшая свой
биологизм натурфилософия романтической эпохи несет в себе намек
на этот последний.
Представление об «органическом» влекло за собой, далее, и
представление о развитии, и наоборот. История, исторические явления
стали пониматься по аналогии с организмом, органическим развитием. На
рубеже веков и в романтическую эпоху еще была возможность
подчеркивать в историческом развитии цикличность, повторяемость по ана-
81
логии с природой (ср. романтические натурфилософские
отождествления времен суток, времен года, человеческих возрастов и т.д.); цик-
лизм - вообще черта традиционного взгляда на историю, почва для
циклизма все еще оставалась, однако новый взгляд, исполненный
большей конкретности созерцания живого развития, роста, должен был
расторгнуть эту роковую фатальность исторических кругов и
прочертить общеисторическую линию развития: вся в целом история как
живой организм.
Натурфилософское убеждение, что в природе нет ничего мертвого
и что мир в целом есть большой живой организм, позволяет
рассматривать как автономные целостные системы сложнейшие явления,
такие, как история или история поэзии.
Правда, между убеждением и делом (подобно тому как то было у
Гердера) остается зазор - не исследованные наукой поля, и это
мешает соединить общий взгляд на вещи, ясное их «созерцание» с
конкретным материалом иначе, как самой зыбкой, неопределенной связью.
Естественной науке XIX в., чтобы двигаться вперед и получать осязаемые
результаты, пришлось надолго забыть о целом215 и отложить в сторону
общие идеи натурфилософов. А история литературы и другие
гуманитарные дисциплины в их новом обличье как раз в эту романтически-
натурфилософскую пору впервые могли начать формироваться — в виде
праформ будущих научных дисциплин, сколь бы прозаический вид ни
был присущ порой произведениям нарождающейся науки.
Новая история литературы формируется так, что очень яркие и
живые философские «интуиции» просматриваются гле-то на дальних ее
горизонтах. Трезвый историк литературы ближе к середине XIX в. уже
плохо помнит о них и чурается их наподобие того, как и многие
литературоведы в наши дни с опаской и неприязнью думают о философах.
Однако и самый недалекий и нефилософский литературовед XIX в.,
наделенный сознанием своего особого достоинства и знающий, что он-
то занят «делом» (а не досужими фантазиями), все-таки
расположился в пространствах, приготовленных для него, скажем даже так —
организованных для него на рубеже веков людьми со сказочно вольным
полетом мысли. Он же, суховатый человек дела, со своим энтузиазмом,
вспыхивающим исключительно от его прагматики, лишь постарался до
крайности урезать отведенные ему вольные пространства. Это
относится к сущностной противоречивости науки XIX в.
И действительно, мы читаем у A.B. Шлегеля («Лекции об изящной
литературе и искусстве», 1801-1803): «Античная поэзия- один полюс
магнетической линии, романтическая - другой полюс <...>
Впоследствии, возможно, откроется, что то, что мы считали вторым
полюсом, - это лишь переход, становление, а будущее принесет нам
соответствующее античной поэзии и противоположное ей целое»216 Что
должен был делать с таким текстом литературовед-специалист
позднейшего XIX в.? Наверное, отмести его как досужую фантазию вместе со
всей его наглядно зримой философией истории (фактически
поступали проще: такие тексты не читали и не переиздавали), - ведь для
специалиста не было решительно никакой необходимости в том, чтобы
представлять себе историю литературы по аналогии с магнитом, а то,
82
что для романтика магнетические силы завораживающе приоткрывают
тайну природы, мира, в своем целом всегда живого, как организм, и
объясняют ее, - он уже забыл. Для романтического же мыслителя, даже
и пренебрегшего натурфилософским естествознанием, как A.B. Шле-
гель, аналогия истории литературы и намагниченного тела — не просто
сравнение и метафора (хотя и это тоже), а ключ к целостному смыслу
истории как живого организма.
Романтический мыслитель видит свое явление по аналогии с
живым, но, отнюдь не прослеживая связи конкретно и детально,
загадывает наперед — нет ли здесь действительно сущностного единства — и
готов уже верить в него. Ясно к тому же, что такие натурфилософские
аналогии несут с собой и опасность упрощения (или несли бы, будь
они продолжены, развиты): что же в самом деле - неужели литература
в своем развитии должна будет лишь воспроизвести какую-то
формулу магнита? Не хуже ли такая «запланированность» развития любой
«свернутости», которой потом остается только разворачиваться, —
правда, в своем богатстве?
Между тем высказывание романтического мыслителя, помимо
натурфилософских идей и образности (кажущихся совсем схематическими,
когда теряются из виду живые интуиции в их основе), покоилось еще и
на тончайшем ощущении «часа» всей человеческой культуры - той поры,
какую она переживает, и это ощущение тоже питало романтический
образ. Ощущение же состояло в том, что культура в ее современном
состоянии начинает сходиться в некотором отношении со своими началами и
со всей своей историей, что эта новейшая культура соединяется со
своими началами как свой же, достигаемый ею конец и что, будучи концом,
она относительно самой же истории вынуждена занять совсем новую
позицию — ей суждено быть не столько просто развитием, сколько
снятием этого развития, его завершением, притом таким, которое еще раз
воспроизводит всю историю этого развития. Литература, поэзия,
наверное, тоньше всего передает ситуацию, и A.B. Шлегель говорил своим
слушателям так: «Универсальность культуры - единственно мыслимый для
нас путь возвращения к природе <...> Мы должны соединить самые
концы, и новая эпоха нашей поэзии должна представить как бы в
перспективном сокращении всю историю поэзии»217.
Едва ли посетители берлинских лекций Шлегеля могли понять всю
значимость его слов - тем более их трагическую остроту: ведь речь идет
о той ситуации «конца искусства», о которой несколько позднее
рассуждал Гегель; современник Шлегеля Генрих фон Клейст эту же
ситуацию передал так: в рай можно вернуться, лишь обойдя весь мир
кругом («О театре марионеток»). Следовательно, положение таково: к
природе уже нельзя вернуться так, как предлагал Руссо, — повернув назад,
а остается идти вперед, приняв на себя бремя крайней отвлеченности,
искусственности и... универсализма. Кажущаяся примитивность образа
магнита сопряжена у Шлегеля с тонкостью предвидения, для самого
начала XIX в., казалось бы, даже преждевременного.
Позднейшие историки литературы, в глазах которых литературные
произведения составляли несомненность, позитивность и
самотождественность, — почти осязаемую предметность их дисциплины, — до
83
этой самой философски-культурной проблематики добрались в лучшем
случае спустя век с лишним после Шлегеля и Гегеля. А для Шлегеля
культурная ситуация его времени была как бы пронизана незримыми
магнетическими силами, свойственными культурной истории как
целому218, — начала связывались с концами, и искусство и поэзия тех дней
словно вставали поперек всего движения, отражая его в себе подобно
зеркалу. Такое поставленное на пути движения зеркало не отменяет
развития, но собирает его воедино, снимает, переводит в новую вневре-
менность219. Таково и положение историка относительно истории (как,
собственно, уже свершившейся), которое Гегель выражал уже вполне
сознательно и систематично: «Всеобщая точка зрения философской
всемирной истории - не абстрактно-всеобща, но конкретна <...> дух
извечно пребывает при себе, и для него нет ничего прошедшего»220.
Этот дух, для которого нет ничего прошедшего, будучи познанным - в
философе, становится теперь взглядом философа на мир: он отдает
должное развитию духа, снимает развитие, производит его завершение
(«конец искусства»).
То, как ощущал A.B. Шлегель исторический «час» истории
искусства, поэзии, и то, как разумел его Гегель, заключало в себе
существенную «преждевременность», как бы момент забегания вперед —
теоретически конструировались «конец» развития и «одновременность» всего
исторического. Но как же важно, что такая «финальность» была уже
опробована - и в довольно зыбком ощущении, и в самоуверенной и
основательной философской мысли! Она выразила осознание истории
как органического целого и, наглядно очертив пределы развития,
позволила сосредоточить внимание и на развитии искусства, литературы,
и на их текущем моменте — то и другое, и развитие, и «текущее» в
полнейшей их автономии, в полнейшей их независимости от чего-либо
«метафизического», общего, от какого-либо начала, которое заведомо,
наперед предопределило и «запланировало» бы развитие искусства.
Разумеется, если так трактовать развитие, то появляется и возможность
позитивизма, причем позитивизма, не знающего удержу, как только
наука начинает иметь дело со своими «позитивностями», например с
произведением искусства лишь как значащей самое себя
самотождественностью, о сущности которой уже не спрашивают, обосновывая
изучение как отдельного «в себе» (всего, что относится к дисциплине,
к Fach, к «ящичку» знания). Так и произошло: науке надо было
отвергнуть сначала натурфилософские мечтательства, затем и гегелевскую
диалектику, чтобы к середине XIX в. пристать к берегу позитивизма.
Когда все мыслительные «излишества» были откинуты, то наука с
полновесным и уверенным сознанием своей самостоятельности как
дисциплина осталась на какое-то время наедине сама с собой.
Специализация и живет этой разъединенностью, - правда, коль скоро научная
работа все же достигает известного уровня, в нее возвращается (хотя бы
тайком) и философская мысль, и потребность сообщаться с
родственными дисциплинами (пример такого позитивиста, как В. Шерер, это
подтверждает). Однако парадокс из области истории науки о
литературе действительно заключается в том, что она почувствовала себя
настоящей наукой тогда, когда философские «крайности» показались ей не-
84
нужными и когда можно было расстаться с теми самыми
предпосылками, в результате которых наука о литературе и сложилась в своем
новом облике. Наука о литературе относится к числу тех дисциплин,
которым время от времени полагается заново обосновывать себя -
полагать себе новое начало. Так она заново рождалась в эпоху романтизма,
а затем в позитивизме, в поколении В. Шерера. Внутри самой этой
науки всегда живет обманчивая мечта - о том, что ей наконец удастся
сделаться по-настоящему научной.
Тем не менее, несмотря на все осаживания, наука о литературе
заново сложилась именно в обстоятельствах того беспримерного
мыслительного переворота и взрыва, каким можно по праву считать
рубеж XVIII-XIX вв., - а с тех пор она существовала прочно, отвергнув
все казавшееся излишним, однако претерпевая замысловатые
метаморфозы. Встав на ноги, наука первым делом освободилась даже и от
настойчивого продумывания «начал» и «концов» и предалась
изучению собственно процессов развития (внутри его самого, в его
рамках) - развития, опосредованного понятием и созерцанием живого
организма. Вообще говоря, вплоть до XIX в. культурному сознанию
(выше приведенный пример из Шлегеля!) любые «начала» и «концы»
поразительно близки - в сравнении с тем, как представляют и
мыслят их себе потом: ведь и начало самого мира - весьма недавнее, и
конец его - не за горами... Когда в философии Гегеля начинают
звучать мотивы финала и когда, например, оказывается, что и
философия достигает своего завершения и что искусство сделало свое дело
и теперь, именно теперь перестает удовлетворять высшей нашей
потребности, то такой обмирщенный эсхатологизм питается
традиционными представлениями (близость «конца»), крайне
интенсифицирует их, приближает к глазам и уму и на всю эту эпоху налагает печать
последних времен. Но как раз такое сознание, что наступили
последние времена, в XIX в. поскорее и откидывают - вместе с огромной
суммой традиционных представлений. Они начинают казаться
близорукими, и вся культура вступает в период «раз-очарования»221, - так и
в науке торопятся избавиться от «лишних» представлений, от
иллюзий - «раз-очароваться»222.
Наука о литературе в XIX в. чем позитивнее и прагматичнее она
становится, тем меньше замечает, что имеет дело с материалом,
обработанным философией и философией культуры рубежа веков, что этот
материал предобработан даже натурфилософски и вобрал в себя идею
органического развития по аналогии с живым организмом, с
растением, с его ростом. Вероятно, ей гораздо лучше известно и еще памятно
то, что она существует в мире, где во всем царит развитие, эволюция,
причем развитие, по сути дела, бескрайнее, бесконечное, - но ведь и
такое развитие тоже опосредовано натурфилософски, и оно в науке, в
науках тоже поспешило уже расстаться со всяческими излишествами
времен философской перевозбужденности, отделалось и от назойливых
«начал» и «концов».
Надо иметь в виду, что осмысление явлений культуры, и в
частности поэзии, с самых давних пор (с самого «начала») ориентируется на
образцы живого, органического, с одной стороны, и механического -
85
с другой. Оставим в стороне вопрос, в какой мере эти разные
ориентации не просто противоположны, но и в глубине своей соединены и
опосредованы223. Для XIX в. (и более позднего времени) это разные
ориентации, два разных основания, две почвы научной образности,
вообще научного языка: «Для понимания историографии науки прошлого
века важным является то обстоятельство, что историки осуществляли
как бы двойное моделирование законов: с одной стороны, прообразом
формулируемых ими законов служил живой организм, человек как
биологическое существо. С другой стороны, законы истории
моделировались с механики. У Конта и Бокля подчеркивается в первую очередь
механический аспект исторических законов: они должны быть такими
же точными и абстрактными, как и законы астрономии и механики»224.
В каждую эпоху и «органическое», и «механическое» получают свое
наполнение. На рубеже XVIII-XIX вв. натурфилософская мысль делает
резкий крен в сторону органического, и здесь происходит решающая
встреча заново осмысляемых органики, истории и развития.
Мгновение, когда естественнонаучное и историко-культурное приходят в
реальный контакт и ближе всего к тому, чтобы отождествиться на
основе одинакового созерцания организма как своего рода праидеи любой
науки, - это мгновение, по существу, дает начало науке XIX в., науке
и с ее позитивизмом, отрицающим собственные предпосылки науки, и
с ее невольными возвращениями к кругу традиционных представлений,
когда развитие вновь замыкается в круг, цикл и т. п. «Метафоры»
органического мы понятным образом встречаем по обе стороны этого
идеального «мига». Кроме того, стремительность смыкания смягчается, как
это всегда бывает с момента резких переломов, медленными
процессами ее подготовки, где, в отличие от самого переворота, все
измеряется бесконечно малыми шагами приближения. Одно скорее дополняется
и сопровождается другим, медленным. О «росте» ведь говорят все, и
этот «рост», в свою очередь, восходит к отождествлению, но - в
отличие от нового натурфилософского - к древнейшему. В
непосредственной близости к поворотному рубежу XVIII-XIXbb. И. Винкельман в
«Истории искусства древности» (1765) писал о задачах своего труда так:
он должен показать «происхождение, рост, изменение и падение»225
искусства. За «падением» стоит традиционное, древнейшее представление
о постепенном упадке всего существующего226, а за темой
«происхождения, роста, изменения и падения» просматривается столь же древнее
представление о мировых эпохах, собственно «возрастах мира»
(немецкое Weltalter специфически усиливает смысл aiôn'a и aetäs)227.
«Возрасты мира» выглядят схемой, которая накладывается на
историческое протекание и заведомо подчиняет его своей логике, -
однако «возрасты мира» отражают мифологически глубинное
отождествление «жизни» и бытия, в котором мировое бытие вообще мыслится как
огромное живое космическое тело. Отождествления романтической
эпохи, отождествления натурфилософские в сравнении со столь
глубоким уровнем часто кажутся куда более мелкими, поверхностными,
почти уже лишь настойчивыми попытками рационалистической мысли
мифологизировать - восстанавливать, прививать себе мифологический
слой мысли; вообще древнее отождествление и новоевропейское натур-
86
философское далеки друг от друга228. Перед завершением громадной
культурной эпохи ее представления суммируются, обобщаются229, -
между тем «мировое тело» давно почленено на обособленные части и
всему придан характер движения вперед, «прогрессивная» динамика.
Представления мифологическое и натурфилософско-романтическое,
по существу, далеки друг от друга, - тем не менее Винкельман с его
«возрастами» искусства, которым соответствуют четыре стиля: древний,
высокий, стиль красоты, стиль подражательный (упадок), одинаково
близок и древнейшему, и новейшему. «История искусства древности»
вычленяет из тела бытия свой предмет, предмет научный, и признает
за ним динамику (вполне, впрочем, согласную с динамикой в самой
мифологической «схеме»). Однако сам научный предмет - идеальный,
и потому, несмотря на то что формально «история искусства
древности» составляет лишь часть истории искусства в целом, на деле она
исчерпывает всю историю искусства (Винкельман говорил: есть лишь
одно прекрасное и есть лишь одно благое230). В эту эпоху античность
начинают отождествлять с подлинным бытием-жизнеустроением
вообще, и точно так же можно думать, что «история искусства
древности» — это единственная подлинная наука: в утопической
устремленности к античному эта область мнимоспециального знания означает,
собственно, всю науку.
Но пока специальная дисциплина мыслится как наука par excellence
и отнюдь не предполагает рядом с собой вполне равноправных
дисциплин, занятых иными областями знания, она совершенно особо
погружена в «эон» своего предмета — в «эон» четырех возрастов этого
особенного, выделенного, преимущественного бытия, в его бытийную
полноту. Бытие определенным образом устроено - в его средоточии
греческое искусство, рядом римское, вокруг - искусство других древних
народов. Дисциплина, будучи исторической, требует, однако, прежде
всего исчерпания смысла своего предмета, систематики,
систематической теории231 — того, что позднее, в эпоху классического идеализма,
было осмыслено как теоретическое, философское конструирование
предмета, и такая теоретическая систематика предшествует
«хронологическому рассказу» об искусстве и о «переменах в нем», изложению
его «внешних обстоятельств», а «сущность искусства», которую первым
делом всегда имеет в виду исследователь, предшествует по смыслу
«истории художников» и «памятникам искусства». Тонкое - у нас до
конца не проанализированное - разделение внешних и внутренних
областей научного знания! Благодаря этому «История искусства древности»
Винкельмана, с одной стороны, очень напоминает историю (и историю
искусства) в современном ее понимании, не будучи ею в строгом
смысле слова. Эта история - в первую очередь исчерпание смысла своего
«эона», представляющего (репрезентирующего) бытие в целом, мировое
бытие, выведение наружу этого смысла и, в дополнение к этой главной
задаче, рассказ о внешних судьбах искусства, о его творцах и его
произведениях. Систематика, теория отделена от внешних судеб
искусства, а история (в более новом смысле) не исчерпывается судьбами
искусства и его произведений, точнее, их «внешними обстоятельствами», не
исчерпывается ими, даже если удастся проследить в них «сущность ис-
87
кусства». «История» как научная дисциплина не сводится к истории,
«история искусства» - к истории искусства. Одновременно «история»
как дисциплина не сводится и к простой хронологической
последовательности событий. «История» есть именно исчерпание своего «зона»,
т. е. бытийно-жизненного целого, наделенного своими четырьмя
возрастами. И все временное входит в такую «историю» как вторичное и
сопутствующее: на «сущность искусства» «история художников <...>
имеет малое влияние <...> во второй же части тщательно указаны те
памятники искусства, которые сколь-либо могут служить для пояснения»232,
тогда как «возрасты» — это своего рода бытийные состояния, которые
сменяют друг друга в ином, сущностном времени, не в том, в каком
возникают и сменяют друг друга произведения искусства и их создатели
(последние с внешними событиями их жизни еще дальше от
«сущности»). Еще не совместились последовательность смысловых, бытийных
состояний (состояний «зона», бытийно-жизненного «тела») и
временная последовательность созданий искусства. Не совместились
смысловая и хронологическая последовательности, из которых последняя
мыслится как чисто внешнее, условное членение «тела» с его бытийными
состояниями.
Той же истории, в том числе истории искусства, истории поэзии и
т.д., которой предстояло заново сложиться менее чем через полвека
после выхода в свет великого сочинения Винкельмана, необходимо
было соединить и совместить временную и смысловую
последовательности, осознать смысл как настоящую последовательность, как
становление, соединить смысл с движением вперед, а не просто с
пребыванием внутри «бытия» с его состояниями, и с эмпирией движения. А для
этого предстояло взойти на горы и гребни множащихся, нарочитых
отождествлений, перейти через хребты самых настоящих
мифологизаций и мифологизаторских реставраций, через все сближенные и акту-
ализованные «начала» и «концы» - и уж тогда оказаться на вольной
плоскости бескрайнего и бесконечного развития, - ситуация, которая
после всех поистине гигантских осложнений рубежа веков
действительно могла показаться «спасительной», простой, освобождающей от
всяческих иллюзий.
Истории надлежало соединиться с развитием и органикой. И не
только соединиться, но еще и погасить в себе чрезмерный пыл,
излишнюю патетику соединения - принять простой, очевидный характер.
Книга Винкельмана была подступом к этим пугающе громоздким
вершинам, - их потом и взяла, и преодолела своими усилиями
философская и научная мысль рубежа XVIII-XIX вв.
Итак, в «Истории искусства древности» сама история вступает в
решающую стадию своего переосмысления. Это одно из соединительных
звеньев между историей, трактуемой еще на исконных мифологических
основаниях, и будущей историей, встающей на основание
органического развития. Одно из соединительных звеньев между традиционной
«историей», не ведавшей ни органики, ни смыслового движения во
времени (как мы видели, смысл мог быть сменой бытийных состояний,
а время оставалось внешним членением), и будущей «историей» как
органическим развитием.
88
«История» до истории (т. е. история в традиционном понимании до
истории переосмысленной) охватывает все в мире, что доступно
наблюдению, описанию233; поэтому история разделяется на освященную
историю» и «естественную историю» - первая пользуется «книгой
Природы» и «книгой Священного писания»234, вторая делится на историю
духовного и на историю телесного235 с последующим членением каждой
из них. Необходимость ввести сюда же историю прошлого (стран и
народов) приводит в некоторое смущение четкие разделения автора
старинного лексикона, так как описание того, чего уже нет, при чем
автор не присутствовал236, означает переход в иное измерение и требует
применения приемов филологической критики текстов 237, — хотя
автор лексикона с большой готовностью предлагает делить «историю»
также и по времени (на древнюю, новую и среднюю»238, и по месту
(«иудейская, греческая, римская, германская и т. п.»239). В том
морально-риторическом единстве знания, какое сохраняется и в XVIII в. и в
виде известного архаизма даже в начале XÏX в., для рассуждающего об
истории весьма естественно очень быстро переходить к определению
общего значения истории («она необходима, полезна и приятна»240, —
варьируется с древности известная формула, относимая к всякому
знанию, в том числе к поэзии и к риторике).
Одним словом, «история» есть описание, — откуда, впрочем, не
вытекает, чтобы «история» была простым синонимом «эмпирии» 241.
Напротив, отсылаемая к описанию, а через него к наблюдению
собственными глазами (текст как предмет «наблюдения» именно поэтому вносит
сюда чужеродный принцип), «история» в понимании XVII-XVIH вв.,
«история» до истории, выступает как наследница семантически сложно
устроенного, многослойного и едва ли даже единого греческого слова
(прибавим к этому еще и римскую его обработку): historia (связанная со
смыслом видеть/ведать) подразумевает свидетельство собственных
глаз - историческая традиция происходит из землеописания на основе
собственных наблюдений, de visu (история — из географии242), «история»
Аристотеля направлена в сторону естественной науки, естественной
истории; появляется и более близкое новейшему времени толкование
истории243. Внутренняя вибрация неомертвевшего греческого слова в
Европе замирает, - наука часто, осмысляя слово, имеет дело с его итогом,
тем не менее оно не омертвевает окончательно, а еще живет, и иногда
его отдельные семантические моменты неожиданно прорываются и в
новоевропейском словоупотреблении. Однако когда И. Винкельман
пишет: «Предпринятая мною история искусства древности - это не
просто изложение хронологической последовательности и перемен в
течение ее, но я принимаю слово «история» (Geschichte) в более широком
значении, какое оно имеет в греческом языке, и намерение мое
состоит в том, чтобы дать опыт систематического построения»244, — его
«история» берет греческое слово с более абстрактной итоговой его стороны,
со стороны заложенных в нем научно-философских тенденций245.
Вот положение, какое сложилось перед культурным переворотом
рубежа XVIII—XIX вв.: в понятии «история» заложен дуализм, который
пока остается наполовину скрытым. «История» как «наблюдение*
описание» хранит известное единство метода, имеет ли дело с материалом,
89
доступным (непосредственному) наблюдению, или с материалом,
отстоящим во времени и требующем для своего изучения напряженной
филологической критики текстов и герменевтики смысла. Пока время
продолжает оставаться чем-то внешним по отношению к сущности
явления, оно может служить принципом членения материала,
принципом его классификации, а тогда историк литературы, который
фиксирует существующие памятники, тексты, который распределяет их по
периодам, который даже устанавливает между ними внутренние связи
и зависимости, - может быть, по его собственному сознанию, точно
так же занят описанием и классификацией наличного материала, как
естествоиспытатель, классифицирующий растения или животных. Ведь
памятники литературы наличествуют в настоящем времени, а утрата
некоторых или многих из них является результатом внешнего,
случайного воздействия, и эти утраченные памятники тоже можно
фиксировать именно как утраченные. Поэтому все в целом памятники
литературы точно так же доступны фиксации, как доступны наблюдению,
учету, описанию и классификации существующие животные виды, хотя
бы эти наблюдение, учет и т. д. и были в известных случаях
сопряжены с большими трудностями: некоторые виды животных, очевидно,
вымерли под влиянием обстоятельств, быть может даже и не
случайных, и их, эти виды животных, тоже можно фиксировать - в качестве
исчезнувших с лица земли. Окаменелости, отложения, находки костей
вымерших животных начинают беспокоить мысль
ученого-естествоиспытателя, но идея субстанциальности изменений в живом мире до
поры до времени не приходит ему в голову и долго еще не овладевает
его сознанием до такой степени, чтобы подвергнуть сомнению вневре-
менность «естественной истории», вневременность ее предмета,
который, следовательно, по-прежнему дан, наличествует, хотя бы в
принципе доступен непосредственному наблюдению (знанию через
непосредственное видение, historia).
Историк (в нашем понимании), и ρ частности историк литературы,
находится, собственно, в ином положении: рассмотрение памятников
литературы в хронологической последовательности настолько
естественно и близко для него, чтобы в изложении фактов литературы он
следовал руководству общей истории, пользовался ею как нитью, а не просто
классифицировал свои «данности», чтобы, далее, в эпоху Винкельмана
он поступал подобно этому последнему и потихоньку начинал
примеривать хронологическую последовательность фактов литературы к
известной органике бытия, к органике с ее внутренними закономерностями
роста. Наконец, сам историк, историк политических, гражданских
событий, с самого начала занят таким материалом, который уводит от
прямого наблюдения, который находится в ином измерении, нежели
материал описательных наук, как бы под 90 градусов к нему, и тем не менее все
эти науки покрываются понятием «история», и историк так или иначе
должен был еще сознавать свое происхождение от такого
исследователя-наблюдателя от такого, от которого материал отстоит накоротко246.
Двойственность «истории» налицо, надо только осознать ее.
На рубеже XVIII—XIX вв. эта двойственность непременно должна
была проявиться - постольку, поскольку «история» соединяется с орга-
90
никой и развитием и поскольку тем самым обнаруживается
субстанциальность становления: материал существует в своем
становлении-истории. Понятие «истории», «исторического» должно было расслоиться,
или, вернее, от нового понятия «истории» должно было отслоиться, как
остаток, прежнее понимание «истории» (оно отныне порой
представляется как нечто сугубо эмпирическое и вспомогательное, даже как «не
та» история). Этому последнему продолжает соответствовать материал,
рассматриваемый как находящийся в наличии и доступный
наблюдению и описанию, фиксации, учету.
С такой реальностью двух понятий «истории» следует считаться,
занимаясь немецкой культурой начала XIX в. Когда В. фон Гумбольдт
или Якоб Гримм в начале XIX в. пользуются словом «исторический»,
они могут акцентировать первое или второе понимание «истории», не
говоря уж о том случае, когда оба они не вполне определенно
сочетаются и за одним просматривается другое, — прежнее, характерное для
определенной традиции мысли противопоставление исторического,
эмпирического, и философского247, как представляется, лежит в
несколько иной плоскости.
Однако когда мы говорим о реальности двух понятий «истории», то
сразу же необходимо иметь в виду несколько обстоятельств,
усложняющих дело и вносящих свои ограничения. Прежде всего в немецком языке
есть два слова, соответствующих слову historié, - это Historie и
Geschichte, и оба эти слова, по крайней мере для начала века (так это, в
основном, и позже), взаимозаменяемы и синонимичны. В конкретных
случаях предпочтение, иногда безусловно, отдается одному из слов.
Пишущий историю литературы, например русской или немецкой,
безусловно пишет Geschichte, и его предмет - это Literaturgeschichte, он
пользуется методами Literaturgeschichtsschreibung, однако сам пишущий -
Literarhistoriker. В начале XIX в. все это, однако, гораздо пестрее. Нельзя
только думать, что оба слова распределены между двумя понятиями
исторического; позднейшие, иногда крайне напряженные попытки248 -
разделить историю как Geschichte и историю как Historie, отнеся на счет
первой все существенное и сущностное, весьма искусственны; такие
попытки скорее идеологические маневры в головах исследователей, и в
них, разумеется, есть и своя основательность, намерение как-либо
справиться с расколом исторического знания и, еще шире, с расколом
исторического сознания, сознания и мышления истории.
Откуда же пошел сам раскол? Он в Германии явился следствием не-
довершенного культурного переворота рубежа XVIII-XIX вв.: мы все
время говорим об этом культурном перевороте, о его глубине и
капитальности, — однако фактически он не был доведен до конца (и не
только в Германии, но и во всей Европе); и, в то время как логика
самой истории все время действовала в одном направлении,
накапливались силы, которые пытались задержать движение вперед. Отсюда,
именно отсюда в Германии на всем протяжении XIX столетия нераз-
решенность, противоречивость исторического сознания в философии
и науке — тенденции замкнуть историческую имманентность на какой-
либо форме заданности, подчинить ее какому-либо «априори». Таковы
духовные причины этого положения дел.
91
Недовершенность культурного переворота и выразилась, в
частности, в том, что прежнее понимание «истории» не было преодолено
новым, — нет, новое надстроил ось над ним как своего рода метаистория.
Одно - фактично и случайно; другое - сущностно и ценно. Сущность
истории оторвалась от ее фактов, и возникающая время от времени
идея «истории искусства без имен» воспроизводит, по сути дела,
ситуации времен И. Винкельмана. Такая «метаистория» как история в
первую очередь идей и «духа», по отношению к которой писатели и
произведения играют, смотря по обстоятельствам, роль желанных гостей
или навязчивых услуг, в литературоведении заявляла о себе в духовно-
исторической школе (наиболее известный у нас пример - Г.А. Корф,
который, впрочем, с писателями обращался обходительно, как с
избранным обществом великих проводников исторической логики).
Раскол исторического сознания болезненно сказался на истории
литературы; он выразился здесь в давнем распаде научной работы на
огромное множество «позитивных» исследований, уходящих в «мелочи»
фактов, биографий и т. п., и на некоторое количество обобщающих
трудов, авторы которых свысока взирают на работу поденщиков и
чувствуют свою независимость как от фактов, так и особенно от
филологии текста. И здесь расхождение не было преодолено, по крайней мере,
до середины нашего века. В самой же истории (историографии)
соответствующая тенденция проявилась в постоянном нарастании
абстрактности содержания трудов, которые все меньше и меньше
рассчитывались на чтение в собственном смысле слова; в этом отношении самый
пик был достигнут мировой наукой едва ли не в наши дни.
Итак, хотя мысль XIX в. и прорывалась к имманентному
постижению истории как процесса, между фактором литературной истории и
ее смыслом постоянно возникал зазор — нечто подобное тому, что и до
поворота, до рубежа XVIII—XIX вв., было присуще исторической
мысли. Расхождение между фактической стороной литературного
процесса и его осмыслением как своего рода «метаисторией» заметно не
только в Германии: нередко, испытывая сильнейшее отвращение к
школьной поэтике риторического типа, в то же время считают вполне
возможным создавать теорию литературы, которая словно повисает над
конкретной данностью любой литературы, - продукт перетряхивания
литературной истории в поисках вневременных понятий и категорий,
такая теория оказывается в не меньшей мере школьно-узкой, нежели
самая захолустная и запоздалая риторическая поэтика. В Германии
XIX в. этот разлом между логикой и фактами застывает в каком-то
академическом равновесии: когда В. Шереру в 1880-е годы потребовалось
прочертить самые общие линии развития литературы, то он не нашел
ничего лучшего, нежели абстрактно-хронологическая схема
повторяемости вершин и спадов (см. главу III). Получилось, что история
литературы на худой конец может обойтись без всякой внутренней логики.
Если историческая поэтика нуждается в глубоком опосредовании
исторического ν теоретического подхода к литературе, в сближении и
совмещении фактографии и смысла, то немецкое литературоведение не
от чего не было дальше, чем от этой цели, а потому почва, в которой
могли бы корениться ростки исторической поэтики, создавалась не-
92
предусмотренно-парадоксальными условиями науки — не
методологически последовательно, но в форме незадуманных прорывов в глубину
опосредования из сугубой густоты противоречий.
Вот в такой противоречивой ситуации и разворачивается судьба
«историзма» в немецкой культуре. В первую очередь судьба самого
слова, поскольку это слово, очевидно, вобрало в себя общее впечатление,
вынесенное культурой из опыта общения с историей. Это впечатление
оказалось неудовлетворительным, и немецкое слово звучит «кисло»;
можно понять это, коль скоро немецкая мысль об истории на всем
протяжении XIX в. пребывала в раздвоенности. Ф. Мейнеке
красноречиво описал эту немецкую ситуацию:
«Слово «историзм» — новое, собственно на сто лет моложе того, что
мы разумеем под ним. Очень скоро оно приобрело критический
смысл — направленный на преувеличения или извращения.
Насколько я могу судить, первым это слово употребил, причем без
пейоративного оттенка, К. Вернер в 1879 г. - в книге о Вико, где он пишет о
«философском историзме Вико». А после него, и уже в пейоративном
смысле, Карл Менгер в своем памфлете против Шмоллера — «Ошибки
историзма в немецкой политической экономии», 1884. Под
«историзмом» Менгер понимал преувеличение ценности истории для
политической экономии, - по его мнению, Шмоллер был повинен в такой
ошибке <...> Случилось так, что именно благодаря критике <...>
пробудилось сознание того, что за эксцессами и слабостями стоит великий,
могучий феномен духовной истории - он нуждался в наименовании и
еще не имел такового. Люди поняли: то, против чего они боролись, то,
в чем они видели некий вред, на самом деле взошло на той самой
почве, которая в XIX столетии служила основанием всех наук о духе,
вступивших тогда в новую полосу своего расцвета. Бранные слова
становятся почетными титулами, когда подвергнутый критике человек
принимает их, чувствуя, что подвергшееся в нем критике взаимосвязано с
самым лучшим, на что он только способен. С критикой, если она
оправдана, он согласится, но не откажется от того лучшего, что носит в
себе. Примерно так и поступил Эрнст Трёльч. Еще в 1897 г. он вместе
со всеми сожалел о том, что в науке распространился «историзм»,
«который видит свою задачу лишь в постижении, а не в создании новой
действительности». Но незадолго до смерти, в 1922 г., он же
опубликовал свое большое исследование об историзме и его проблемах, и здесь
откровенная критика слабостей историзма сочеталась с глубоким
обоснованием его внутренней необходимости и плодотворности»249.
Так писал Ф. Мейнеке: он сказал больше, чем предполагал, а о
некоторых моментах здесь забыл. Слово «историзм», как бы запоздавшее
по сравнению с самим явлением, феноменом мысли (который
Мейнеке расценивал предельно высоко250), не просто отмечает сам принцип
нового мышления, но свойство, или свойства, мысли, которая следует
такому принципу, - специфическую качественность этой мысли.
«Историческое» как показатель нового мышления уже было обработано в
немецкой культуре (например, существовала «историческая школа»),
между тем как новое слово «историзм» уже снимает известный итог
мышления в соответствии с этим новым принципом, снимает в себе
93
опыт мышления на новых основаниях. В немецком слове «историзм»
сейчас же расслышали нечто негативное, хотя задумано оно было
«позитивно» (слова на -ismus, -isme, -ismo в европейских языках часто
выражают некую вторичность, что-то ненастоящее, и немецкий
«историзм», видимо, колеблется между «настоящим» и «ненастоящим»): в
этом и сказалось некоторое общее впечатление, вынесенное немецкой
культурой из опыта исторического мышления. Как в самом языке, так
и в немецкой культуре историческое мышление подвергается критике
и справа и слева: можно выступать против непоследовательности и
извращений, а можно— против самого принципа нового мышления.
Ф. Мейнеке пытался пробиться к реальным и рациональным
основаниям самого новоевропейского историзма, и его замысел был для
своего времени вполне удачен. Однако вот что показательно: как мы
видели, «историзм» сводится у него к «индивидуальному» - исследуется
индивидуальность событий, «социальных и культурных образований».
Вот это, пишет Мейнеке, не исключает «поисков всеобщих
закономерностей и типов человеческой жизни», более того, историзм должен
упражняться в этих поисках и «сливать их со своим чувством
индивидуального»251. Но ведь все индивидуальное, даже раскрытое предельно
глубоко - в своей конкретности и в своем философском смысле — еще
не дает движения, развития истории252. Зато историческое мышление
Мейнеке, предполагающее типологию индивидуальных форм, вполне
соответствует определенному характеру немецкой мысли в первую
половину XX в., - это известного рода «циклизм»: всякое индивидуальное
явление окружается кольцом, понимается в себе; такова историческая
типология человеческих личностей Эдуарда Шпрангера253.
Вот одно ограничение историзма - он не доходит до самой же
истории. А вот и другое, исключительно характерное для немецкой
культуры, - это понятие «жизни» и такой актуализм и активизм (как
жизнеустановка), который заставляет резко противопоставлять дело
размышлению, контемпляции, созерцанию, а современность,
«настоящее», - прошлому как уже ушедшему, а потому не столь
важному (что бы можно было в нем поправить?!). Мейнеке пишет так:
«Историзм становился все более плоским, а потому сложилось
мнение, что он ведет к безудержному релятивизму и сковывает
творческие силы человека»254.
«Жизнь» как всеобъемлющее понятие (с разными акцентами)
замыкается на индивидуальном, на ценности каждого отдельного момента
индивидуального существования, на ценности его «настоящего», на
максимальном выявлении такой индивидуальности в каждый момент
«настоящего», на максимальной интенсивности ее переживания, на
восприятии ею себя как абсолютного творческого начала. Иными
словами, эта «жизнь» предполагает такое «индивидуальное рассмотрение»
явлений и такой индивидуализм, при которых все сосредоточено на
«точке» настоящего; однако всякая индивидуальность готова
раствориться в индивидуальности высшего порядка - духовно-биологическом
единстве, пока все это покрывается «жизнью» как понятием
всеохватным и беспредельно творчески насыщенным, тоже сосредоточенным
на мгновении настоящего как на абсолютно ценном. Эта «жизнь» шире
94
собственно «философии жизни», для которой в немецкой культуре
XIX-XX вв. всегда был повод проявиться: «жизнь» далеко не
захватывает все явления немецкой культуры, - это отнюдь не так, - зато она
мыслительно оформляется в некоторых отмеченных особой важностью
моментах, а после середины XIX в. захватывает все более широкие
пласты самоистолкования культуры.
«Жизнь» и «дело», спонтанное, громадное, необдуманное,
самоценное, — это уже фаустовская философия. Ф. Ницше в своей ранней
работе «О пользе и вреде истории» (1874) в составе «Несвоевременных
размышлений»255 протестует против таких занятий историей, которые
парализовали бы творческие силы человека, против такого погружения
в историю, которое приводило бы к релятивизму; однако «для
здоровья индивида, народа, культуры равно необходимо и все
неисторическое, и все историческое»256. Ницше, который ощущает себя
«воспитанником древних времен, времен Греции»257, берет у истории уроки
«здорового» аисторизма. Он выступает «против своего времени ради своего
времени» и учит его тому, что «только состояние насквозь аисторичес-
кое, сплошь антиисторическое способно производить на свет как
любое неправое, так и, главным образом, всякое правое дело. Ни один
художник не создаст скульптуры, ни один полководец не одержит
победы, ни один народ не завоюет свободы, если они прежде всего не будут
желать своего и стремиться к своему в таком неисторическом
состоянии. Человек действия всегда бессовестен, по словам Гёте, - но он же
и не ведает ничего: он забывает обо всем ради одного, он несправедлив
к прошлому, он знает только одно право - право того, что должно
теперь произойти на свет»258. История ценна лишь тем, что она
активизирует силы человека и заражает его жаждой деятельности: «История
принадлежит деятельному и сильному, тому, кто борется великой
борьбой, кто нуждается в образцах, учителях, утешителях и не может
найти их среди своих современников» 259.
«Жизнь» как всеобщее, собирательное и не подлежащее анализу
понятие уничтожает внутри себя историю; оно впитывает в себя и
нейтрализует импульсы нового исторического понимания -
импульсы историзма. На таком широком культурном фоне, где все
историческое абсорбируется неисторическим, совершенно естественно
немедленное переосмысление «историзма» как положительной
характеристики в «историзм» как характеристику негативную. Это и
происходит в немецкой культуре XIX в. Коль скоро «жизнь»
становится центральной категорией культуры, - собственно говоря, «жизнь»
становится центральной категорией осмысления жизни и все
конкретно-историческое готово (на высотах мысли) переливаться в
собирательную неразличимость «жизни», в это необычайное
возвеличивание насыщенного деятельностью мгновения, — коль скоро «жизнь»
заслоняет собою все историческое и даже просто временное
(активность абсолютного мгновения обесценивает время), «историзм» и
можно понимать как отказ от своего, от своих жизненных интересов,
как уход в чужое, не свое. Такой «историзм» тогда даже нравственно
несостоятелен. А в искусстве «историзм» в таком случае означает
увлеченность стилями и формами прошлых эпох в ущерб выражению
95
современного духа — в ущерб самовыражению «жизни», означает в
конечном счете стилизацию во вред адекватности и
непосредственности выражения «жизни».
Немецкая культура XIX в. в значительной мере и представляет
собой такой «историзм» — недоразвернутость исторического, недоразвер-
нутость нового исторического мышления, когда между современностью
и прошлым остается зияние, когда время истории и настоящее не
соединяются. Разумеется, все усилия культуры XIX в. направлены на
срастание времен, на их последовательно-органическое срастание друг с
другом, - ведь они, эти усилия, и отправлялись от идеи органического
произрастания истории, от истории как организма. Однако отсюда же
отправлялась в своем росте и внеисторическая «жизнь». Во имя этой
«жизни» в немецкой культуре XIX в. — притом чем дальше, тем
больше - и разоблачается несовершенство исторического мышления, его
непоследовательность, а историзм, особенно в искусстве, вообще в
художественном мышлении опровергается как ложное
стилизаторство. И верно, все разнородные, самоотрицающиеся тенденции
сосуществовали в немецкой культуре, в ее «организме» с давних пор: не-
доразвитое-недораскрывшееся и переспевшее, позднее, затем недо-
развернувшаяся история и история вновь сворачиваемая. Так уже
почти с самого начала XIX в.: вспомним, что В. Менцель, вполне
оценив универсализм новой немецкой культуры, в то же время опасался,
как бы немецкие поэты не утратили «своего», — вот в этом «своем»
как смысловом и жизненном центре, с боязнью его упустить, и зреет
противодействие историко-культурной широте взгляда, всеобщности.
По мере того как расширяются историко-культурные горизонты, все
уже, полнее и бессмысленнее становится «жизнь» в своих абсолютных
притязаниях на доминирующее значение в ... жизни260. Однако - и это
можно констатировать как безусловно ценное достижение
культуры, - ее горизонты действительно расширяются и наконец обнимают
в научном сознании всю возможную, мыслимую полноту
человеческой истории.
Сказанного достаточно для того, чтобы понять, почему и в
немецкий язык - стало быть, и языковое сознание — «историзм» вошел с
негативным индексом261. И, однако, столь же правомерно и обоснованно
Ф. Мейнеке видел за таким негативным «историзмом» великий
переворот, великий феномен мысли. Как замечательно, что Мейнеке
разглядел его! И столь же показательно, что он рассмотрел его в такой су-
женности, когда новое, конкретно-историческое мышление было
потеснено «жизнью» вообще»262. Однако такова была судьба нового
исторического мышления в немецкой культуре: оно было поглощено и
обуздано вторичным «историзмом», чтобы уж затем, в свою очередь,
реставрироваться через «историзм» в качестве важного и плодотворного
феномена новоевропейской мысли.
III
Итак, одно необходимое условие для возникновения новой истории
литературы было создано — родилась история как развитие, как станов-
96
ление, история, построенная на историчности своих феноменов.
Недоставало, однако, другого необходимого условия, а именно литературы.
Т. е., другими словами, не было ставшего затем привычным понятия
«литературы» как предмета «истории литературы», в свою очередь
ставшего впоследствии привычным. По-новому понятая художественная
литература была вычленена из массы всей «словесности», — притом что,
как оказалось позднее, именно исторической поэтике как культурно-
исторической дисциплине недостаточно как раз такой, до конца
вычлененной поэзии, беллетристики в качестве «литературы». Если бы
современный историк литературы был перенесен на 160—170 лет назад,
он, усвоив тогдашнее понятие «литературы», конечно, убедился бы в
том, что предмет его занятий как-то неопределенно расползается и
ускользает из его рук, — но в те времена и не было, не случайно, кафедр
истории литературы или литературоведения: еще предстояло основать
филологические кафедры, из которых впоследствии, не спеша и
осторожно, выделились кафедры национальной, немецкой литературы263.
Этот трудоемкий, замедленный процесс завоевания историей
литературы академических учреждений был столь сложен не только из-за
инерции немецких университетов. Другой, внутренней причиной было
именно то, что сама «литература» осмыслялась принципиально иначе,
чем в наши времена, она находилась в иных связях с другими
понятиями и, так сказать, занимала место в семантической молекуле,
абсолютно чуждой позднейшим временам.
Сейчас можно осветить этот вопрос лишь в наикратчайшем виде,
исходя из потребностей нашего исследования. В XVIII в. поэзию
часто относили к «изящным наукам», а это понятие, будучи калькой с
французского (beaux arts), несло в себе традиционно риторическое
приписывание поэзии к кругу artes liberales. Если так, то поэзия - это
наука, и то обстоятельство, что «поэзией» именовали как «саму» поэзию,
так и знание о ней, ars poetica, поэтику, так же мало мешало, как мало
мешает нам неразличение «истории» как «самой» истории и как
научной дисциплины, историографии (а затем и неразличение
«историографии» как исторической науки и как истории самой этой науки).
Неразличение мешало тем меньше, что оно не было лишь внешним, - оно
опиралось на отождествление того и другого, поэзии и науки — ars
poetica. Пока продолжали отождествлять то и другое (наподобие того,
как долгое время «смешивали» букву и звук), поэзии можно было
учить, - само сочинение стихов оставалось наукой, знанием, и для
причастности к поэзии качественные различия оказывались не столь
существенными, как факт отнесения известного рода текстов к поэзии,
хотя различия между Горацием или Петраркой и кабинетными
опытами ученого были очевидны.
Но «поэзия» - это еще не «литература», и тут мы для немецкой
культуры должны учесть лишь то обстоятельство, что прежнее
риторическое понятие «поэзии» отсвечивает и сверкает в позднейших
немецких, в том числе и научных, представлениях о литературе и о ее
создателях: как только в немецкой культуре задумываются о самой
сущности, о самой сокровенной сущности поэта и поэзии, литературы,
писательства, литераторства264, так «поэзия» начинает возвышаться над
97
«литературой» (сужаемой тогда до «беллетристики», более или менее
презираемой), «поэт» начинает подниматься над писателем-«беллетри-
стом», и уж совсем на дне общества застревает негодный и бессортный
«литератор». Еще в XX в. Томасу Манну приходилось отстаивать
достоинство «писателя», который к тому же даже не пишет стихи. Слово
Dichtung выступило как немецкий синоним прежней «поэзии», Poesie,
как слово, наделенное своей смысловой глубиной265 и наследующее в
то же время возвышенность риторической поэзии высокого стиля.
Немецкое понятие «литературы», как сложилось оно в XIX в., собралось
вокруг так понятой «поэзии»266. Так оно центрировано, даже если
какое-нибудь изложение «истории немецкой поэзии» и достигает самых
плачевных берегов провинциальной беллетристики. Когда Теодор
Фонтане, прекрасный поэт, стал на склоне лет создавать
обессмертившие его имя романы, он очень много потерял в социальном ранге - что
проза после стихов! Лишь крайне медленно он, как прозаик, был
признан литературной наукой, и еще медленнее усваивалось все
художественное значение его прозы.
Но это пока только о соотношении «поэзии» и «беллетристики» в
тогдашней «литературе», как понималась она немецкой культурой. А
теперь - о вычленении «литературы» (художественной поэзии и прозы)
из неопределенности тогдашней «литературы».
Не следует думать, будто специфика поэтического на рубеже
XVIII-XIX вв. недостаточно учитывалась. Нет, она вполне учитывалась,
но только в формах риторического понимания, в формах,
приготовленных всеобщей значимостью риторики. Когда молодо" Фридрих Шлегель
писал о «гомеровской поэзии», когда чуть позже он начал писать и
бросил «Историю поэзии греков и римлян»267, он следовал традиционному
пониманию поэзии, поэтического- риторическому. А когда A.B.
Шлегель читал в Берлине, в 1801-1804 гг., публичный курс лекций о
литературе и искусстве, то этот романтический по духу курс чтений носил
такое странноватое название — «Об изящной литературе и искусстве»268. В
те же годы геттингенский профессор Ф. Боутервек приступил к изданию
своего монументального труда, в котором излагалась история новой
европейской литературы по странам; труд именовался так — «История
поэзии и красноречия с конца XIII в.»269. Поэзия+красноречие=изящная
литература. Это не вызывавшее сомнений равенство показывает, как
два современника, каждый по-своему, очерчивают круг того, что
спустя десятилетия будут просто именовать «литературой»; каждый
поступает по-своему, и каждый считается с риторическими понятиями
«литературы», «поэзии» и т. д. «Всеобщность» же риторики была основана,
в частности, на том, что от всего, от всякого знания требовалось то,
чего требовал Гораций от поэзии, - приносить пользу и доставлять
наслаждение, prodesse et delectare. Как мы видели, этого же требовали и
от истории. Риторика была не просто отдельной ars rhetorices, но была
целой морально-риторической системой, что начинает проясняться в
наши дни. Всякое знание prodest et delectat, и хотя риторика
(риторическая система) в XVIII в. подразумевает строгие разделения и точные
дефиниции всего, в известном отношении все смешивается -
приравнивается, поскольку все стоит на скрадывающем переходы морально-
98
риторическом единстве, на базе формулы prodesse et delectare. Тем
более трудно вычленить здесь нечто новое, что рвется из пут системы, т. е.
просто понятие «литературы», художественной литературы.
Однако мало и этой сложности. Слово «литература» соединило в
себе три значения, которые сохранились и в современном
словоупотреблении, однако в резко смещенном соотношении. Из этих трех
значений в современном языке два последних отодвинуты в специальные
контексты. Вот эти три значения: 1) художественная литература, т. е.
художественная поэзия и проза, - нарождающееся значение, которое
в самом начале XIX в., как мы видели, не представлялось очевидным
A.B. Шлегелю; 2) литература вопроса; 3) текущая литература. Второе
значение в наши дни принадлежит языку науки, но в начале XIX в.
сама поэзия оставалась наукой, наукой в морально-риторической
системе, и это значение было в ходу. В те времена второе и третье из
указанных значений сильно теснят первое и не сразу дают ему пробиться.
Поэтому требуется точно отличать значения слова «литература»,
когда мы обращаемся к текстам первой половины XIX в.
Например, если книга уже упомянутого Л. Вахлера «История
исторических наук»270 точно соответствует своему предмету -
историографии, то другая работа того же ученого271 разумеет «историю» в ее
прежнем, риторическом значении (так это, кстати, и в первой книге), а
«литературу» — во втором из приведенных значений. Книга эта
представляет собою обзор в хронологическом порядке научной литературы
всех имеющихся и учтенных автором дисциплин, притом в самой
краткой форме, с резким сокращением всех данных, с цитированием
титулов лишь наиглавнейших работ и т.д. Поскольку охвачены все
области знания, «литература» в этом значении соответствовала бы «научной
литературе» вообще; однако и поэзия, и музыка, и живопись, будучи
науками, естественно тоже входят сюда. Никакого «прогресса» за сто
лет- со времен Якоба Фридриха Рейммана (1668-1743), автора
«Введения в литературную историю» (1708)272, ценной книги, автор которой
отдает себе отчет в том, что «наряду с methodo chronologica, которая
внеположна сути вещей, можно аплицировать такую методу, которая
будет заботиться о сущности и внутреннем устройстве» вещей273.
Когда известный литератор, библиограф и текстолог Карл Гёдеке
(1817—1884) приступил в середине прошлого века к изданию своего
«Очерка истории немецкой поэзии»274 (поэзия - Dichtung), то это
биобиблиографическое пособие, увековечившее имя своего составителя,
включало в себя не только имена поэтов и не только их произведения,
но вообще имена всех, кто мог притязать на писательство, на владение
словом и слогом и т. д. Очевидно, К. Гёдеке пользовался таким
смыслом слова Dichtung, которое соответствовало широкому, однако
сконцентрированному на поэзии и «изящной литературе» пониманию
«писательства». Поэтому в книге учтены историки и философы с их
созданиями, с разной степенью полноты, тогда как библиография поэтов и
писателей стремится к полноте, с учетом и архивных материалов; в
ряде случаев приводятся и труды из области точных наук и т. д.
Интересно отметить еще некоторые детали построения «Очерка»,
отражающие особенности историко-литературного мышления автора:
99
прежде всего Гёдеке, видимо, был убежден в возможности отвести
каждому из многих тысяч учтенных им авторов положенное ему
органическое место в необозримом целом (в результате чего издание, не
снабженное пока подробными указателями требует значительного
времени для своего освоения). А поскольку составитель, очевидно,
мыслил свой труд как отражение организма немецкой
литературы-поэзии в ее развитии и продолжатели не нарушили задуманного им
строения, то в труде встречаются такие кажущиеся несуразицы вроде
той, например, что историки, философы, натурфилософы и
политики романтической поры попадают в одну группу параграфов с
поэтами и прозаиками под такой странной рубрикой - «фантастическая
поэзия», — наименование, которое можно интерпретировать как
осторожный и смущенный синоним «поэтического творчества».
Однако поскольку все в труде сконцентрировано вокруг «поэзии»,
«литературы», то присутствие здесь философов, историков и т. д., не
чуждых и писательству, более чем уместно.
Сказанное должно было лишь продемонстрировать, с какими
переливающимися оттенками неустоявшихся значений имеем мы здесь дело.
А потому теперь целесообразно обратиться к теме, чрезвычайно
излюбленной в последние годы, - к так называемому понятию «мировой
литературы» у Гёте. Теперь принято все творчество Гёте, всю
европейскую и восточную литературу рассматривать в свете гётевского понятия
«мировой литературы». Однако спросим себя - имел ли Гёте в виду,
говоря о Weltliteratur, мировую, или всемирную литературу в
распространенном в наши дни понимании? В том, в соответствии с которым
пишется и издается «История всемирной литературы»? Имел ли он в виду
под «литературой» в этом понятии литературу в привычном нам
понимании, т. е. литературу художественную, поэзию, belles lettres?
Безусловно нет. Говоря о «мировой литературе», Гёте имел в виду
«литературу» в третьем из указанных у нас значений слова —
«литературу» как текущую литературу, т. е. имел в виду всю ту новую печатную
продукцию, какая выходит в различных странах Европы, все то, что
публикуется в журналах, альманахах, в виде книг и может становиться
известным другим народам и литературам. И «литература» здесь - не
непременно художественная; это и публицистика, и критика, и
научная литература. Одним словом, это «литература», или «словесность» в
самом широком понимании, в том самом, в каком понимали
«литературу» еще и в середине XIX в., в том самом, в каком пользовались этим
понятием В.Г. Белинский и другие критики даже и после него, когда
они рецензировали книги, журналы, когда они составляли обзоры
литературы за прошедший год. В.Г. Белинский в таких рецензиях и
обзорах обсуждал также и специальные научные издания, - все это
входило в практически сохранявшее свою целостность понятие словесности.
Для критика все это и было «текущей литературой».
Если теперь непредвзято подойти к текстам Гёте, где говорится о
«мировой литературе», то мы ничего иного в них не найдем. И более
того, нетрудно убедиться в том, что, рассуждая об этой «мировой
литературе», Гёте в качестве своего главного интереса и своей главной цели
имел даже не «литературу», а нечто другое — некоторую культурно-по-
100
литическую задачу или проблему. Гёте очень хотелось, чтобы
известные вопросы культурно-политического свойства были решены в его
духе, и ему представлялось, что есть исторический шанс для такого
решения. Может быть, слово «хотелось» здесь чрезмерно
приземлено; — возможно, Гёте глубоко чаял этого, возможно, это было его
сокровенной мечтой.
К счастью, текстов о «мировой литературе» у Гёте очень немного, и
все они относятся к незначительному отрезку времени, с 1827 по
1830 г. Эти тексты собраны и прокомментированы, они вполне
обозримы, и поэтому, если современному литературоведу и очень лестно
узнавать себя самого во взглядах Гёте и подкреплять свою «концепцию
мировой литературы» Гётевским понятием, то всегда не слишком
затруднительно обратиться к первоисточнику и узнать его простую правду.
Текстов Гёте о «мировой литературе» не только немного, но все
они — об одном, все они варьируют один и тот же ход мысли.
Попробуем его воспроизвести: в настоящее время (т. е. во второй половине 20-х
годов XIX столетия) сложилась очень благоприятная обстановка для
развития и упрочения коммуникаций между культурными нациями;
взаимный обмен между нациями будет усиливаться и принесет им большую
пользу— он создаст атмосферу терпимости, даст возможность нациям
ознакомиться с тем, что создает каждая из них, а в результате каждая
нация сможет понять свои недостатки и преодолеть их; ценно не
национально-специфическое, а общечеловеческое, — по мере развития
коммуникаций национальные особенности будут стираться, возникнет
общая «мировая литература», и это будет очень полезно для всего
человечества. Однако в 1829 г. Гёте начинает испытывать некоторые сомнения
в полнейшей здравости процесса взаимообмена; он чувствует, что в этом
взаимообмене некоторые нации, например французская, могут искать
каких-то преимуществ для себя, а тогда, сказали бы мы, взаимообмен
уже не мирный процесс конвергенции, а борьба, в которой одни
выигрывают, а другие проигрывают, одни выгадывают, другие терпят ущерб.
Возможно, Гёте был разочарован первыми итогами межнациональной
коммуникации и перестал пользоваться словом «мировая литература».
Вот и вся история Гётевской «мировой литературы» - в кратком ее
курсе. А теперь подтверждения и небольшой комментарий. «Мировая
литература» — это для Гёте не то, что уже существовало или существует,
а то, что начинает существовать, то, что складывается275, чему самое
время появиться на свет276, то, что возникнет277, то что «на подходе», «на
марше» (die «anmarschierende Weltliteratur»)278, как очень выразительно
писал Гёте. Правда, Гёте «пророчествует» о мировой литературе,
«торжественно провозглашает» (verkündigen) ее грядущее наступление, но в
некотором смысле она существует уже с давних пор - ее приход не
означает, что «различные нации только теперь примут к сведению
существование друг друга и произведения (Erzeugnisse) каждой из них, в этом
смысле она давно существует, продолжается и обновляется»279. Мы
можем предположить, что и теперь она обновляется; теперь мало обмена
литературой, а надо, чтобы живые и активные литераторы (die lebendigen
und strebenden Literaturen) «лично знакомились друг с другом и,
испытывая симпатию, чувствуя общее, находили повод действовать сообща»280.
101
Последнее высказывание позволяет понять, какое место в
процессе межнациональных коммуникаций отводил Гёте «литературе» (даже
и в его собственном смысле этого слова). Точно так же, как
смехотворно было бы в 1828 г. делать вид, что европейские нации не знают друг
друга и что только теперь предстоит начать обмен «литературой»
между ними, точно так же нелепо полагать, что обмен этот заключается в
одной только «литературе». Нет, обмениваются любыми своими
«произведениями» (ср. устаревший смысл русского слова — можно было
говорить о «произведениях промышленности»), шире — «изделиями»
(Erzeugnisse - слово, сузившее свое значение до материальных изделий;
можно, однако, было говорить и о «порождениях духа», Erzeugnisse des
Geistes). Всякие произведения - порождения нации - вот чем она
обменивается с другими. Сюда же входит и «литература». Однако отнюдь
не только «изящная»! Гёте говорит о естествоиспытателях и понятным
образом тоже именует их «литераторами», т. е. людьми пишущими. За
«литератором» стоит соответствующая «литература»: как всякий
пишущий (если даже его работы сплошь состоят из алгебраических формул)
есть «литератор», так «литература» охватывает все написанное. Нации
и обмениваются тем, что пишут (среди всего того, что вообще создают,
производят и порождают). Вот и собственное значение Гётевской
«литературы» - это все, что пишется; нации же обмениваются тем, что
пишется в текущий момент; ученые обмениваются текущей литературой,
они принимают к сведению научную литературу вопроса. Когда же в
обмене участвуют все нации, можно осмысленно говорить о «мировой
литературе», - это значит, что в обмене участвуют все нации и к
сведению принимается вся текущая литература, в каких бы текстах она
ни заключалась.
Поскольку же понятие «мировая литература» возникло у Гёте в
переписке с Т. Карлейлем, который был большим любителем и
пропагандистом немецкой литературы в Англии, который распространял там
произведения Гёте, Шиллера и многих других немецких поэтов,
создалась иллюзия, будто Гёте подразумевал под «мировой литературой»
литературу художественную, как понимаем мы ее теперь. В
интерпретации литературоведов это выглядит даже так: Гёте «выдвинул»
«концепцию мировой литературы».
Разумеется, это не так, и Гёте ничего не «выдвигал». Хотя его
понятие «литературы», очевидно, центрировано вокруг поэзии (как у всех
его современников) Гёте в слове «Weltliteratur» акцентировал лишь
всеобщность обмена в качестве желательной цели, а не какой-то
особенный состав «литературы». Отсюда в необходимом случае характерное
уточнение: «<...> г-н Карлейль доказывает спокойное, ясное, глубокое
участие в немецких поэтико-литературных начинаниях (an dem
deutschen poetischliterarischen Beginnen)»281. «Weltliteratur» же была у Гёте
чисто окказиональным словообразованием, задержавшимся в его
исключительно своеобразном позднем языке на несколько лет
вследствие своего удобства.
Очевидно, что, хотя обмен всякими произведениями-изделиями
происходил всегда, Гёте возлагает особые надежды именно на
всеобщность обмена (между всеми нациями), а потому и ожидает от современ-
102
ной эпохи наступления подлинно «мировой литературы», т. е.
состояния обмена между всеми, где «текущей литературе», «печатной
продукции» (все значения Гётевской Weltliteratur) он отводит особо важную
роль. «Литература» участвует в обмене, а идея обмена выливается в
сознании Гёте в грандиозный образ кипучей деятельности, множащей
богатства человечества. Обмен производит и творит - он взаимно
обогащает, а внешнее богатство непосредственно продолжается и в
богатстве внутреннем, духовном и душевном. «Литератор» Гёте вспыхивает
восторгом не от слов, а от дел. Зрелище рынка его вдохновляет —
вспомним торговый пафос второй части «Фауста». Столь же
воодушевляет Гёте и образ посредничества. «Кто понимает, кто изучает
немецкий язык, находится на рынке, где все нации предлагают свой товар:
играя роль толмача, он обогащается сам»282. «Подобно курьерской
почте и паровым судам, ежедневные, еженедельные, ежемесячные
издания сближают между собою нации, и я, пока то мне суждено, буду
уделять особое внимание этому взаимному обмену <...>»283. В
«литературе» Гёте более всего привлекают именно периодические издания - в
них душа обмена, залог его регулярности, активности, должной
интенсивности. «Литература» - текущая печатная продукция.
Каковы же цели обмена? Мы могли бы ответить за Гёте так: это
конструктивная международная политика. Мы могли бы ответить так
еще и потому, что Гёте в известном отношении поразительно близок
нашему времени, близок даже в манере выражаться («взаимный
обмен») — именно в политическом отношении. Насколько далеко от
нашего времени Гётевское понимание «литературы», настолько он
близок в своем политическом мышлении, в его импульсах, — после
потрясений наполеоновских войн надо найти пути к мирному
сосуществованию народов, к их единению, к преодолению разногласий,
найти их во что бы то ни стало. Гёте можно с полным основанием
считать предтечей ООН, ее идеологом, - и в чем нет уж ни
малейшего сомнения, так это в том, что эта международная организация,
масштабов которой Гёте не мог вообразить себе (некоторые части
земли были в его время белыми пятнами на карте), сама идея такой
организации вызвала бы в нем искренний восторг. «Вот уже
некоторое время говорят о всеобщей мировой литературе, и не без
основания, — писал Гёте в предисловии к немецкому переводу
написанной Т. Карлейлем биографии Шиллера (1830), - все нации, жестоко
перемешанные между собой в течение ужаснейших войн, а затем
возвращенные по отдельности на свои места, имели случай заметить,
что восприняли, вобрали в себя немало незнакомого, что
испытывали иной раз неведомые духовные потребности. Отсюда возникло
чувство соседских отношений, и дух, вместо того чтобы замыкаться в
себе, как поступал он прежде, постепенно осознал свое желание,
чтобы и его приняли в более или менее свободный торговый
обмен»284. Последнее выражение («духовный торговый обмен»),
по-русски звучащее довольно непривычно и коряво, дословно передает то,
что было столь важно для Гёте: «торговый обмен» служит ему
образцом всякого обмена и общения по своей деловитости и
энергичности. Конечно, духом не торгуют, однако и всякий духовный обмен,
103
всякое духовное общение возводится к товарообмену как образцу
продуктивных отношений285. Вот и следует стремиться к тому, чтобы
вовлечь все нации в такой продуктивный товарообмен. «Литература»,
т. е. прежде всего решительно выдвинутые на первый план газеты и
журналы, должна сыграть тут посильную роль. А еще более важную
роль способны играть личные контакты между представителями
разных стран, в том числе между учеными, - тема, актуальная для
нашей эпохи, но мы видели, что именно так рассуждает и Гёте. Не
приходится удивляться тому, что Гёте личный контакт ставит выше
литературы, а газету и журнал - выше романов и беллетристики: можно
уже привыкнуть к тому, что превыше всего он ценил дело, а к
«художественной» литературе относился без всяких сантиментов.
Необходимо было дело: надлежало обеспечить мирную жизнь народов, а
для этого создать в мире обстановку терпимости286.
Однако если Гёте рассуждает удивительно современно (для нашей
эпохи) как политик, то это не вполне так, когда он переходит к
собственно культурной политике. Здесь все определялось убеждением
Гёте в идеальном характере греческого искусства, греческой культуры.
Вот что разъяснил Гёте Эккерману в разговоре, отнесенном к 31
января 1827 г., а это, заметим, единственное место во всем корпусе
Гётевских текстов, где понятие «мировой литературы» можно,
полагаясь на достоверность Эккермана, хотя бы косвенно связывать с
историей литературы и с историей культуры в целом. Гёте говорил
тогда так: «Как бы ни ценили мы иноземное, мы не можем
задерживаться на особенном и, скажем, рассматривать что-то особенное как
образцовое. Мы не должны думать, что вот, мол, китайское — это
образцовое, или сербское, или Кальдерон, или «Нибелунги»; нет,
испытывая потребность в образцовом, мы обязаны всякий раз
возвращаться к древним грекам, в созданиях которых всегда представлен
прекрасный человек. А все остальное мы должны рассматривать лишь
исторически287 и, насколько то будет возможно, усваивать оттуда все
хорошее». Идеальное прекрасное, согласно взглядам зрелого Гёте,
противостоит всему особенному, отдельному, характерному и
отрицает все такое. Именно поэтому все особенное, специфическое,
характерное, что присуще новым литературам Европы, в глазах Гёте значит
не так уж много. Это надо принять во внимание для дальнейшего. Не
следует лишь думать, что Гёте в этом отрывке говорит о «мировой
литературе» в современном ее понимании.
Итак, национальная специфика культуры и литературы не столь уж
существенна: «Национальная литература - этим теперь сказано
немного, теперь пора наступить эпохе мировой литературы, и всякий должен
действовать так, чтобы ускорить ее приближение»288.
Идеально-прекрасное противостоит всему особенному и как
общечеловеческое. Гёте вполне учитывал роль также и поэтов и писателей
(наряду с учеными и журналистами) в создании «мировой литературы»,
т. е. всеобщей мировой системы межнациональной коммуникации, -
они выполнят свое предназначение, если будут стремиться к
общечеловеческому. Так Гёте и писал в рецензии издания Т. Карлейля:
«Очевидно, устремления лучших поэтов и эстетических писателей289 всех на-
104
ций уже довольно длительное время направлены на общечеловеческое.
Во всем особенном - в истории, мифологии, баснословии, более или
менее произвольном вымысле - повсюду люди будут сквозь
национальное и личностное все больше видеть свет этого всеобщего»290.
Так Гёте смотрит и на всякую национальную культуру и
литературу. В ней есть «внешности внутренней своеобразности» - так это
названо у Гёте, — и они другим нациям «по большей части представляются
на удивление отвратительными или на худой конец смехотворными». А
«внутренностей» не знают не только чужаки, но часто не знает сама же
нация, «внутренняя природа нации <...> неосознанна»291. Поэтому- из
той же рецензии — «подлинно всеобщей терпимости мы наиболее
твердо достигнем при условии, что оставим в покое все особенное,
присущее отдельным лицам и народностям, придерживаясь того убеждения,
что подлинно достойное принадлежит всему человечеству и отмечено
этим»; необходимы «опосредование и взаимное признание»292.
Гёте, разумеется, хотел бы достичь греческого
идеально-прекрасного, бесхарактерно-идеальной красоты, - однако поскольку в
современной культуре это, очевидно, невозможно, то Гёте не имеет ничего
против известного нивелирования, «выравнивания» культур через
ознакомление их друг с другом. Поэтому он высоко расценивает возможную
«общечеловеческую» роль немцев и немецкой культуры в деле
«мировой литературы», но до крайности опасается и сторонится любого
подчеркивания немецкой национальной специфики. Гёте писал Сульпи-
цу Буассере: «<...> то, что я называю мировой литературой, возникнет
по преимуществу благодаря тому, что особенности, доминирующие у
одной нации, будут сглажены благодаря взгляду и суждению иных
наций»293. «Мировая литература», если бы она осуществлялась по-Гётев-
ски, привела бы к сглаживанию национальных особенностей
литератур - под знаком отвлеченно-общечеловеческого294. Впрочем,
«мировая литература», по Гёте, — лишь отчасти литература, тем более
«художественная». Это, по сути дела, даже не литература и не
культура, а система коммуникаций. Вот что, собственно, имеет в виду Гёте.
Поэтому, если бы надо было дать определение Гётевской «мировой
литературе», можно было бы сказать так: «мировая литература» — это
устанавливающаяся в мире в целях создания благоприятной атмосферы
терпимости и «социальности» в отношениях между нациями и
сближения их взглядов всеобщая система межнациональной коммуникации на
основе самого интенсивного обмена всеми «произведениями»,
система, в которой особая роль принадлежит обмену текущей печатной
продукцией, и прежде всего периодикой.
Однако Гёте неожиданно быстро стал замечать теневые стороны
всеобщей системы коммуникаций, — ведь в начале, когда новые
перспективы захватили его, он находился под впечатлением высококультурных
начинаний Т. Карлейля и ими измерял возможные успехи
межнациональных отношений, alias «мировой литературы». Весной 1829 г. Гёте
взглянул на весь этот процесс настолько отрезвленно, что у него был
повод утешать себя на предмет «мировой литературы»! Так
откликнулся он на театральные впечатления своего друга К.Ф. Цельтера: «Те
преувеличенности, на какие вынуждены идти театры огромного, обширно-
105
го Парижа, и нам наносят ущерб, хотя мы еще вовсе и не чувствуем в
себе потребность в них. Но таковы уж последствия идущей маршем
навстречу нам мировой литературы, — тут одно только может послужить
нам утешением: если всеобщему и приходится туго, то все отдельное
процветает и выигрывает, весьма замечательные свидетельства чего
поступают теперь ко мне»295. Как же внезапно перевернулось все: теперь от
«мировой литературы» выигрывает отдельное, а не всеобщее, одна
нация296, а не все!..
И, наконец, мрачнейшие заметки о всеобщей системе
коммуникаций, которая восторжествует с течением времени, «с ускорением
сношений»: «<...> безгранично распространится и придется ко двору, как
мы видим уже и теперь, то, что нравится толпе; серьезному же и
дельному это не удастся в той же мере». Правда, люди, «посвятившие себя
высшему, плодотворному в высшем смысле», те будут иметь от всего ту
выгоду, что «перезнакомятся между собой скорее и теснее
сблизятся», - ибо «повсюду в мире есть деятели, болеющие о твердо
упроченном и — исходя из него — о подлинном прогрессе человечества». «Эти
серьезные мужи составят незаметную — почти уже угнетаемую церковь,
ибо напрасно противиться широкому дневному потоку; однако им надо
будет упрямо отстаивать свою позицию, пока поток не сойдет»297. Вот
урок, завещанный поздним Гёте, — или его предсказание
относительно эпохи массовой культуры298.
Такова судьба Гётевской «мировой литературы» — скоротечная ее
судьба в мысли и творчестве Гёте.
Гёте потому столь своеобразно и воспользовался понятием,
возникшим у него окказионально, что место «мировой литературы» в нашем
понимании не было занято никаким термином.
Это не значит, что Гёте, его современники и его эпоха не знали
того, что называем «мировой литературой» мы. Они знали это - по-
своему, а кроме того, способ, каким Гёте использует в своем творчестве
богатства литературного наследия, производит столь яркое и сильное
впечатление, что литературовед нередко склонен бессознательно
соотносить эту картину оживающей в гётевском творчестве литературы
разных эпох и народов с Гётевским понятием «мировой литературы», и
наоборот. Но ведь Гёте, говоря о «мировой литературе», думал совсем
об ином! Прежде всего не о прошлом, а о будущем!299.
IV
В то время, когда Гёте размышлял о «мировой литературе» как будущей
гладко функционирующей системе коммуникаций, сущность мировой
литературы в привычном нам понимании уже была осмыслена -
осмыслена прежде всего как органическое единство
историко-культурного процесса, в который входит и литература (с поэзией в центре ее).
Осмыслению такому немецкие романтические мыслители уже
подводили убедительные итоги, именно устанавливая, утверждая широкую
картину единого культурного развития человечества. Все относящиеся
к этому этапу труды романтических мыслителей расположены на самом
коротком временном отрезке начала XIX в. Это прежде всего публич-
106
ные лекции, с успехом и с заметным резонансом прочитанные в
Берлине, Вене, Дрездене, - лекции A.B. Шлегеля («Об изящной литературе
и искусстве», Берлин, 1801-1804; «О драматическом искусстве и
литературе», Вена, 1808; «Теория и история изобразительных искусств»,
Берлин, 1828); Ф. Шлегеля («История древней и новой литературы»,
Вена, 1812), Адама Мюллера («О немецкой науке и литературе»,
Дрезден, 1806; «О драматическом искусстве», Дрезден, 1806; «Об идее
красоты», Дрезден, 1807—1808). Все эти курсы лекций, и это их первая и
главная историческая заслуга, чрезвычайно способствовали
вычленению собственно поэтического из всей массы литературы, словесности,
что (как можно было видеть) в целом далеко еще не было усвоено к
этому времени. Особую роль сыграла книга Ф. Шлегеля «О языке и
мудрости индийцев» (1808). Ее смысл - в идее мировой, притом
исторически-последовательно разворачивающейся, культурной традиции;
взгляд с излюбленных тогда типологических противопоставлений в духе
шиллеровского «наивного» и «сентиментального» (которым было
суждено небывалое распространение в виде подобных же пар вплоть до
Ф. Ницше, затем Г. Вельфлина с его исключительным влиянием на
литературоведение и т. д.), противопоставлений с заложенным в них
моментом неподвижности и нарочитой отвлеченностью, переключается
на развитие и последовательность переходов. Привычное разделение и
противопоставление «азиатского» и «европейского» уже не может
устроить Ф. Шлегеля: то, что именуют «азиатским», «восточным»,
выведено на основании произведений лишь некоторых народов - арабов,
персов, из некоторых книг Ветхого завета300, а в то же время присущий им
«восточный дух», основанный на характере «интеллектуальной
религии»301 таков, что его «равным образом можно встретить у очень многих
поэтов средневековья (итальянских и немецких, не только
испанских)»302. «Подобно тому как величайшие мыслители, самые глубокие
философы Европы всегда отличались решительной
предрасположенностью к восточной древности, многие, причем особо великие поэты
греков, да и новых народов (назовем одного Данте), приближались, хотя
и не столь сознательно, к восточному своеобразию и величию»303.
Греческая литература соединяет, как посредуюшее звено, литературу
Востока и европейское средневековье; римская обеспечивает переход от
греков к Средним векам304, а современная культура «основывается и
еще долго будет основываться на глубокомыслии Средних веков»305.
В конце первой главы нашей книги были намечены те этапы,
которыми проходит немецкая мысль, опускаясь в глубины прошлого,
расширяя горизонты известной и включаемой в единство мирового
процесса истории. Но только до определенного времени мысль о мировой
истории и мировой литературе обходилась без особого термина,
казалось бы столь естественного и удобного, для обозначения подобного
единства306. Сейчас невозможно исследовать те мыслительные
констелляции, которые делали ненужным или немыслимым такое общее
понятие, — хотя, надо сказать, все дело в них, в том стечении моментов, что
определило конкретность историко-культурной мысли эпохи.
Ф. Шлегель своими индологическими штудиями и совершал один
из важнейших разведывательных шагов в глубь истории - к неоткры-
107
тым еще истокам культуры и к единству истории (соответственно и
мировой словесности, поэзии). Рекомендуя занятия индологией
(известно, какую роль сыграли они в развитии наук, особенно в
становлении нового языкознания), Ф. Шлегель ожидал от них того, что
«все разделы высшего познания соединятся в неразделимое целое,
воздействуя с тем большей силой, и великолепные создания
древности живо внедрятся в наше время, оплодотворяя его для новых
порождений. Ибо подлинно новое никогда не возникало так, чтобы
древнее отчасти не побуждало и не вызывало его к жизни, чтобы оно
не было наущено его духом, вскормлено и воспитано его силой»307.
И подобно тому как то было у Ф. Гёльдерлина, Гомер и Эсхил, Пин-
дар и Софокл представляют собою «соединение и сплав изначально-
безудержного, колоссального с кротостию»308. Классическая Греция
сохраняет тем самым свое центральное положение в образе истории,
но только теперь это не замкнутый в себе смысл и не замкнутый в
себе образец, а открытая всему, предшествующему и позднейшему,
смысловая средина всей нашей, соединяющей свои концы, культуры.
«Как в истории народов азиаты и европейцы составляют лишь одну
великую семью, Азия и Европа — одно нерасторжимое целое, так
следовало бы стремиться к тому, чтобы и литературу всех культурных
народов рассматривать как последовательное развитие, как единое
взаимосвязанное здание и строение, как одно великое целое <...>»309.
Чуть позднее Гегель в своих лекциях по эстетике склонялся к тому,
чтобы всю известную историю поэзии рассматривать как завершенную
в себе и внутри себя вполне изученную картину: «Из всего
великолепного в древнем и современном мире, - говорил он, — я знаю, наверное,
все, и можно, и нужно знать все это, - «Антигона» представляется мне
наиболее замечательным произведением искусства»310. Не об
«Антигоне» сейчас речь — удивителен и невоспроизводим взгляд Гегеля:
оказывается, можно знать в истории поэзии «все», все достойное знания. То,
чем заняты романтические мыслители, — разведыванием недр истории
и сведением этих праначал с концами искусства (тут момент схождения
с Гегелем), — Гегель пробует на лету застопорить, навеки остановить.
Движение истории опровергло его в этом, потому что и поныне
мировая литература в таком ее новом, негётевском разумении осталась
живым полем изысканий, где (не меньше, чем в романтическую эпоху) все
время открывается новое и где во множестве произрастает еще все
неведомое и непонятное нам...
Вскоре после индийской книги Ф. Шлегеля Й. Гёррес издает свою
«Мифологию азиатского мира» (1810)311 - вдохновенную научную
рапсодию (если мыслим такой жанр) о путях мифа из Азии в Европу;
разведывание пределов историко-культурного мира в его единстве и
движении продолжалось... Процесс, в свою очередь, полный глубоких
переосмыслений.
В эту пору, когда романтические деятели Германии читали свои
лекции, посвящая публику в тайны всего открывавшегося перед ними,
когда Гегель читал свои университетские лекции по эстетике, сложился -
в одном чрезвычайно важном отношении - солидный фундамент для
исследований в области исторической поэтики. А именно возник один
108
неповторимо ценный элемент мысли — умение представлять себе целое
истории поэзии и в его единстве, и в его общей, обозримой логике, и,
главное, в живой динамической взаимосвязи всех составляющих ее
разделов, или этапов. Диалектическая мысль — едва ли не самая важная
предпосылка исторической поэтики. Ничто не мыслится
остановившимся, изолированным, застывшим в себе как удобный «предмет»
исследования. Наоборот, все отдельное захватывается общим потоком
движения, слышен бывает (как у Гёрреса) космический гул истории...
Всякое явление требует того, чтобы его видели и познавали в общей,
как бы максимально широкой логике истории312.
Как гибка в те времена мысль, и как живо ощущает она
необходимость познавать все отдельное в универсальных пределах целого с его
диалектикой... Далеко не самый тонкий мыслитель писал тогда, ясно
сознавая общий смысл такой исторической диалектики: «Как только
мы выставляем некое единство, — будь то принцип, или конечная цель,
или вещь в себе, — полно, абсолютно, изолированно, оно тотчас же,
мертвое и окаменевшее, испаряется в небытии <...>»; «Расширьте
понятие истории от ограниченной сферы, что отведена ей близорукой
наукой наших непосредственных предшественников, до высшего понятия
человеческой истории <...> оттуда до понятия высшей физики,
естествознания <...> и так до всеобщей истории <...> и вы ощутите, что
разумеем мы под словами, история самосознания» <...>»313.
Однако в этом сложении многообразных факторов, которые
обусловливают появление новой филологии и затем новой, заново осмысленной
истории литературы (для чего, как мы наблюдали, потребовалось
заново осмыслить и «историю», и «литературу»), очень многого недоставало
для реального осуществления этой науки, которая встает и перед нами
как все более настоятельная задача. История культуры последних двух
веков протекала так, что всей совокупности факторов, необходимых для
плодотворного осмысления литературы в единстве истории и теории ее,
не существовало никогда — не существовало одновременно. В первые
десятилетия XIX в. достигается максимум диалектичности и
исторической широты осознающей историческое целое мысли. А по мере того, как
складывается в особую дисциплину новая история литературы,
начинаются те противоречивые, во многом ставшие роковыми для развития
новой дисциплины, процессы ее институционализации, которые Я. Яно-
та остроумно выстроил в следующий ряд: мифологизация, германизация,
филологизация, популяризация, академизация... Неумолимые процессы,
тянущиеся почти с начала XIX в., отнимают у науки о литературе ее
общекультурный смысл, лишают ее широты горизонтов. За считанные
десятилетия из науки общекультурного значения, теснейшим образом
связанной с жизнью нации, она превратилась в сугубо специализированную
и нередко официозную науку, утратившую широту
всемирно-исторических горизонтов и сознание историко-культурного целого314.
Филология в поколении Якоба Гримма - это национальная наука,
однако взгляд филолога устремлен в неясную даль праистории, и им
руководит убеждение в том, что именно в этой опрокинутой назад,
взятой во всю ее ширь всемирной истории ключ к любому духовному
смыслу. М.И. Стеблин-Каменский дал (в связи с проблемой авторства)
109
совершенно справедливую оценку так называемой «романтической
концепции народного духа», сказав, что «в этой наивной концепции
больше историзма», чем в позднейшем литературоведении315, —
возможности историзма были потенциально велики. Позднее, в пору
позитивизма, немецкое литературоведение понимает себя как
национальную науку, но это уже наука, скорее отпавшая от
всемирно-исторического процесса, обособившаяся и очень часто за своими
инструментами забывающая о смысле.
Однако в начале XIX в. историзм в приложении его к поэзии
оставался почти «чистой» потенцией. Еще, пожалуй, и не к чему было его
«прилагать»: сам специфический предмет новой науки о литературе не
существовал, его просто не могло быть, пока не была вычленена из
«словесности» поэзия (и литература уже в новом смысле слова). Тем
более нет приемов анализа поэзии, литературы. Сами же романтики,
утверждающие в сознании новое разумение поэзии, находились на
историческом перевале, и их мышление поэзии отчасти было привязано
к старому, ученому филологически-гуманистическому толкованию
поэзии; таково вполне естественное противоречие переходного времени.
Между тем новое понимание поэзии (понимание как понимание,
уразумение внутреннее, становящееся естественным, аксиоматическим
осмыслением) складывалось издавна - более всего в Англии, начиная
с нового прочтения Гомера и с нового уразумения народной поэзии316.
В этом последнем, в проснувшейся способности адекватно осмыслять
народную поэзию, и содержалась, собственно, самая суть нового
понимания поэзии — ее предстояло осмыслить как непосредственное и
естественное излияние души, чувства, а в качестве такового и была
понята народная песня. В Германии новое понимание поэзии провозвестил
И.Г. Гердер, который воспринял идеи новой английской эстетики
творчества и глубоко воссоздал их на немецкой почве. Характерной чертой
устанавливавшейся со стихийной силой аксиоматики было
немедленное распространение нового разумения поэзии на крайне широкие ее
слои, включая и целые пласты вполне «ученой» поэзии. В этом
сказывается революционная суть нового взгляда на поэзию, взгляда, который
повлек за собой переосмысление, резкое смещение всей перспективы,
в которой видится вся мировая поэзия вообще, в которой вся она
перераспределяется согласно новому принципу, с предпочитанием всего
естественного и непосредственного. В «Песнях народов» (1778-1779)
Гердер объединяет тексты народных песен самого разного
происхождения; здесь и Сафо, Шекспир, латинские песни средневековых монахов,
тут же лапландские и гренландские песни, - новому взгляду весьма
важно было сразу же установить некую общую, коренную суть заново
увиденной поэзии, хотя бы и ценою приравнивания Шекспира к
прошедшей через сколько-то рук и не слишком достоверной
этнографической экзотике. И библейские книги — тоже прежде всего только поэзия,
поэзия непосредственная, безыскусная, - взгляд, против которого
позднее резко и обоснованно возражали. По словам Р. Гайма, для Герде-
ра Библия - «лишь раздел истории литературы»317, и это почти точно.
Итак, с одной стороны, историзм как общая форма мысли, с
другой - новая аксиоматика восприятия поэзии (а на деле еще куда более
110
общезначимая) - все это долгое время, питаясь из общих источников,
не сходилось в конкретности науки, научных занятий. Не сходилось за
отсутствием научной технологии, опосредующей общие принципы, их
реализующей. Такую технологию, технику анализа, как известно,
приходилось заимствовать (и неоднократно) в классической филологии (с
ее многовековым опытом и такой же инерцией) и лишь постепенно,
удостоверяясь в специфике новой дисциплины, приспособлять к ней.
Процесс длительный, драматичный. Противопоставление поэзии
«безыскусной», «природной», и поэзии как искусства служит в то время (в
начале XIX в.) неким компромиссом между тяготением к
конкретности постижения поэзии и чрезмерной общностью принципов:
противопоставление это, как показывает дискуссия тех лет318, никак не
удавалось четко и пластично оформить, оно кажется слишком общим,
грубым, но оно и не мешает, однако, тонкому действию чувства, которое
постигает поэзию не учтённо и не отвлеченно, а лично, личностно,
психологически чутко и этой своей внутренней работой вносит свой
бесценный вклад в науку, — наука не могла бы просто обойтись без
этого опыта интимно-личного общения с поэзией.
История, литература, поэзия, новая поэзия - все понято заново.
Постепенно площадь, на которой трудится наука, расчищается от
омертвевших вековых завалов, от предрассудков учености и риторики, от всего,
что со временем стало казаться ненужным хламом, — что, собственно, и
было обращено в «мертвое» этим историко-культурным поворотом.
Чтобы сложилась новая наука о литературе, все пришлось переосмыслить -
все сколько-нибудь важные понятия. И наука сложилась. Только расцвет
диалектико-исторических методов неблагоприятным образом
разошелся со стадией развитых приемов исследования литературы, анализа ее
произведений. В конце XIX в. самоуверенное историко-литературное
знание практически полностью изолировалось от всякой философии
истории. Такой была ситуация перед обновлением, нараставшим
подспудно к концу XIX в., и наконец, скорее, незаметно повернувшим
литературную науку в направлении историко-культурных синтезов. Такой
путь обновления вел к тому, что история литературы как дисциплина
вновь встретилась и соединилась с философской мыслью, а затем
начала продумывать свои основания, пересматривать свою аксиоматику,
насколько она могла быть осознана. Все это продолжается и поныне. В
итоге, впрочем, возник ни с чем не сравнимый плюрализм
методологических подходов, плюрализм, который за последнюю четверть века
перешел в новое качество319. Разные приемы, подходы, методы
исследования проявили свою способность замыкаться в себе в качестве философ-
ско-литературоведческих, социологически-литературоведческих
образований, как бы вполне автономных и, по существу, безразличных
друг к другу (следовательно, не заинтересованных и в подлинном
самоанализе). Необозримое многообразие безразличного — оно способно
вызвать отчаяние, и в сравнении с ним драматическая история науки о
литературе в XIX в. (когда, однако, совершилось для этой науки главное)
представляется одноколейной и безмятежной.
В становлении науки о литературе приняли тогда участие все силы
культуры - наука о литературе явилась истинным произведением на-
111
ции, ее культуры. В ближайшем же, более непосредственном смысле в
ее сложении участвовали и философская, и историческая мысль, и
филология, и литературная критика.
Можно назвать три необходимых и «идеальных» этапа становления
новой науки о литературе в Германии:
1. Эпоха лекций по всемирной литературе. Такие лекции
охватывали либо целиком всю «древнюю и новую» литературу, либо относились
к какому-либо ее фрагменту, но тогда с ясным осознанием пределов
целого, задающего общую логику.
2. Эпоха становления германской филологии. Это время Якоба
Гримма320, Карла Лахмана, Ф.Г. фон дер Хагена и других
основоположников изучения средневековой немецкой литературы.
3. Эпоха вычленения в качестве отдельной дисциплины истории
новой немецкой литературы с особыми методами; эпоха, в течение
которой перестраиваются взаимоотношения науки о литературе и
лингвистики.
Эти три эпохи хронологически не изолированы, а втекают друг в
друга. Суть развития — специализация и сужение.
Не только в третьей, но и во второй и даже в первой из
выделенных у нас эпох пишут истории немецкой литературы321, — тогда это
первые пробы ее разработки. Они отчасти как бы «донаучные», если
исходить из достигнутого в третью эпоху, когда пишущий историю
литературы ее знает как специалист. Подобно тому как первыми
профессорами новой немецкой литературы, еще не вполне
специализированного предмета, были в середине века писатели, литераторы, так во
вторую из названных эпох истории немецкой литературы создаются
историками и критиками. Вот лишь некоторые примеры.
Прогрессивным историком был Г.Г. Гервинус322, создавший солидное
произведение публицистической направленности, правда без должного чувства
художественной специфики поэзии. Критиком-писателем был
Т. Мундт, составитель обзора всемирной литературы, работавший
поспешно, но, как критик, хорошо справлявшийся с доступным ему
материалом323. Поэтом был Йозеф фон Эйхендорф, на склоне лет
создавший свои историко-литературные сочинения в духе исконно
романтической субъективности, уравновешенной и умудренной опытом
истории324. Крайне консервативным критиком был Август Фильмар,
сочинение которого охотно читали325.
Особенностью немецкой словесности XIX в. является огромное
число всевозможных «историй немецкой литературы», особенно
популярных; и после становления литературоведения как специальной
дисциплины такие «истории» продолжают создавать, издавать и
переиздавать326. Точно так же продолжают писать «поэтики» в общедоступном
изложении327.
Научная или критическая полубеллетристика, получившая
широкое распространение (как раз все ценное, как, например, книги Гер-
винуса или Эйхендорфа, читались вяло, и «рынок» их не принял), в
какой-то степени определяла облик литературного знания, его
общественный статус. Воцарилась (в «жизни») тенденция к «разжижению»
знания, а в самой науке этому соответствовали отказ от философии,
112
от «метафизики», позитивистский распад и разброс целого. В течение
двух поколений были растеряны важнейшие предпосылки
исторической поэтики, фундаменты теоретического продумывания историко-
литературного материала. Наука долгое время оставляла без
внимания, просто не замечала разного рода противодвижения, начатки
философского осмысления материалов науки, все то, что противоречило
академической самодостаточности литературоведения. В. Шерер
приступил к выполнению замысла своей «Поэтики» на позитивистской
основе. В это же самое время в творчестве Вильгельма Дильтея,
философа и историка культуры, нарастала герменевтическая
проблематика, которой было суждено захватывать в свою сферу все более
значительные зоны науки о литературе и создавать предпосылки для
нового осмысления самого предмета науки.
Глава третья
Вильгельм Шерер
«Филология объемлет все,
разумеет все, освещает все, - филолог
подчинен законам ограничения в
конечном».
(Вильгельм Шерер, 1877)
I
Вильгельм Шерер вошел в историю науки с этикеткой позитивиста328.
Однако позитивизм как методологический принцип в
литературоведении характеризуется тем, что в сознании исследователя распадается
диалектическая связь целого и частей, общего и отдельного, в
распоряжение исследователя отдана одна лишь индукция, и он, готовясь
к обобщениям, все собирает и собирает для этого факты. Между тем о
цели («о том, в направлении чего») этой индукции, о целом он не знает
или не хочет знать, - никакой смысл целого ему не дан, а в тот,
который дан (хотя бы научной традицией), он не верит, не хочет верить,
сомневается в нем, прагматически урезает и усекает всякий «заданный»
смысл. Нарушается диалектика процесса познания, в котором факт со-
опосредуется со смыслом, часть - с целым, частно^ - с общим и т. д.
Как кажется, очень точно сформулировал основную мыслительную
предпосылку позитивизма историк науки Э. Барт: «Истинное знание о
вещах можно приобретать без выдвижения какой-либо теории
относительно их изначальной природы, или, проще, правильное знание о
части можно иметь, не зная природы целого»329. Барт показал, как общие
метафизические идеи проникают вслед за тем в мысли позитивиста.
Позитивист ясно видит или предчувствует в соопосредовании целого и
части логический круг — то самое, что в ином философском
направлении было сформулировано как «герменевтический круг» понимания и
истолкования, - и, не уразумев его природы, силится разорвать его. Мы
же уже сейчас можем сказать, что Шерер помнил об истине и - более
того - что эта истина выговорилась у него на языке первого
учено-филологического поколения и в этом своем выражении, так сказать,
отстала от современного, тогдашнего положения науки. Как соотнесется
эта отставшая истина с принципами и приемами филологической
работы Шерера, с ее сутью и средствами, покажет конкретный анализ его
работ, но и в самом общем плане это наличие «идеи» истины все же
весьма существенно - как и то, что она заключается в «изначальности»,
«подлинности». Пора сказать сейчас о другом: подобно тому как в
библейской генеалогии уже самые первые поколения людей погрязают в
грехе, обмане и лжеучениях, подобно тому как люди сразу же
избирают себе различные и как будто несовместимые занятия, в которых
выступают первыми, так же стремительно развиваются и поколения
филологов - в этой заново основавшейся дисциплине. Конечно, новая
114
филология начинала не с абсолютного ничто, а унаследовала все
накопленные богатства знания (теперь лишь достаточно глубоко
переоформляемого); однако нельзя не поразиться тому, что уже во втором
поколении филология, и в частности наука о литературе, история
немецкой литературы, предстает в совершенно уже зрелом виде - научная
жизнь разветвилась, разошлась по направлениям и школам, которые
ведут дискуссии и споры между собой, сложились академические
формы и жанры, в каких преподносят материал, и представление об их
норме; все даже не просто академично, но чрезмерно заакадемизировано.
И это при том, что Шерер, к примеру, находил в Германии (1879)
только одного вполне достойного литературоведа: «Гервинус -
единственный историк литературы в большом стиле, которого мы имели»330.
Поэтому вполне можно было бы считаться с возможностью того,
что прежнее представление об истине будет забыто в этом обманчиво
молодом, втором поколении немецких литературоведов. Вспомним,
что среди берлинских профессоров Шерера был и Леопольд Ранке, а
вместе с этим великим ученым в историческую науку пришло
разочарование и отрезвление - убежденность в доступности, достижимости
истории «как таковой», как бы очищенной от любой субъективности,
от задаваемой «точкой зрения» исследователя перспективы. Впрочем,
Ранке уже в 1820-е годы лишь настоятельно выразил суть того
поворота, который происходил тогда в умах людей: по осознанным своим
задачам Ранке был как бы реалистом в области историографии.
Поколение Шерера и должно было нести возложенное на него бремя
протрезвленное™ — вдвойне ответственное и обязывающее, поскольку
уже и романтическая филология оказалась перед безбрежным
морем позитивной, притом мелкой и частной работы (типа
«Немецкого словаря», начатого Гриммами), вся необходимость которой была
ею вполне понята. Филология оказалась перед бездной материалов,
по своей сути «голых», т. е. фактичных «в себе», — так сказать,
реальных и реалистически прочитываемых, которые надо было
сортировать и приводить в порядок.
В позднем курсе «Введения в немецкую филологию» В. Шерер
следующим образом объяснял различия в задачах, какие стояли перед
первым и какие стоят перед последующими поколениями филологов:
«Между основанием дисциплины и временем ее дальнейшего
складывания есть существенные различия»; дело основания научной
дисциплины, по существу, еще не прекращается - «там, где нужно давать
новые импульсы. У кого они (гипотезы) есть, не должен скрывать их.
Области, оставленные без внимания, нужно рассматривать точно так, как
в эпоху основания». «Мы должны быть благодарны основоположникам
нашей науки за то, - прибавляет Шерер, - что они не были робки».
«Нужно иметь мужество совершать ошибки», - говорит Якоб Гримм»331.
Итак, соотношение двух поколений, или двух эпох в становлении
дисциплины, весьма гибко. Надо знать, что на долю Шерера нередко
выпадала роль научного первооткрывателя: вместе с Карлом Мюлленхофом
Шерер издал «Памятники немецкой поэзии и прозы VIII-XII веков»332
(«Сначала надо подготовить издания», - наставлял Шерер молодых
филологов333, а, по словам выдающегося филолога Конрада Бурда-
115
ха, он своей «Немецкой поэзией XI—XII веков»334 «в известном
смысле впервые открыл литературу той эпохи высоких устремлений»335.
Шереру представлялось, как объяснял он начинающим филологам,
что к предметам филологической науки можно прилагать три системы
ценностей. Прежде всего это система ценностей «как таковых» (или «в
себе» — вспомним истину как таковую»); далее, система ценностей в
конкретной ситуации науки и, наконец, система, соответствующая
индивидуальным способностям и наклонностям человека. Разумеется,
собственно научной оказывается лишь первая, и, очевидно, ее можно
сопоставлять с «истиной как таковой», к которой стремится филолог.
Вторая система отражает потребности науки на определенном этапе
развития. «Лучше всего ты будешь делать то, что наиболее необходимо.
Теперь же самое необходимое — это то, что занимает верхнюю
ступеньку в системе проблем»336.
Шерер разошелся с филологом-классиком Ф. Ричлем в том, как
следует понимать долг ученого. Ричль излагал взгляд, достаточно
распространенный в науке XIX в. Шерер реферировал его так: «... все
проблемы равноценны, большие и малые. Одинаково ценно -
восстановить текст Гая в его первоначальной (насколько это достижимо)
форме или подвергнуть критике и эмендации текст безвестного
средневекового виршеплета. Удачная конъектура и открытие закона
сохранения энергии равноценны; то и другое - дело успешной интуиции.
Одинаково ценно открыть нечто касающееся Гёте или же десятисте-
пенного автора XVII в., какого-нибудь Шульце или Мюллера.
Одинаково важно открыть и описать подлинник Праксителя, определив ему
место в истории искусства, и раскопать и тщательно описать вазу IV в.,
указав ее место в истории римского ремесла».
Такой взгляд Шерер считал «губительным и до крайности
ложным»: если ученый, усвоивший технику и метод исследования,
безразличен к предмету, он совершает грех против науки; «кому
безразлично, чем он занят, лишь бы исполнять свой долг, тот обязан прибавить
еще и следующее — и на войне безразлично, куда поставлен солдат и
как им командуют, - главное, чтобы он вовремя стрелял и хорошо
целился»337. Итак, «если ошибочно полагать, что большое и малое
одинаково ценно для науки, то малое и незаметное все же имеет
значение для решения больших проблем и безусловно требует одинаковой
тщательности»338.
И Ричль, и Шерер рассматривали филологические занятия как
исполнение долга, и в этом не расходились; долг же разумелся со всей
возможной серьезностью и беспощадно сурово — отсюда «прусское»
или, может быть, шиллеровское по духу сравнение филолога с бойцом
на войне, потому что, очевидно, неисполнение долга ученого
означает моральный дефект в душе человека и равнозначно, скажем,
предательству или малодушию. Весьма соответствует этому свидетельство
Эриха Шмидта, словно комментирующее лекцию Шерера: «Он привык
работать в полную силу, вкладывая в работу всю свою личность»339.
Программа Шерера ригористична, а притом вся нацелена на главный
смысл работы: наука - высшая ценность, а сама работа более или
менее ценна в зависимости от своего реального вклада в науку.
116
И программа Ричля тоже до крайности ригористична. Она восходит
к кантианскому моралистическому ригоризму. Ричль, видимо, заранее
предполагал осмысленность того, что делает филолог; коль скоро так,
всякое научное открытие, всякий научный вывод равноценны, как бы
абсолютны. Можно даже было бы считать, что различия между Ричлем
и Шерером не так уж велики - Шерер просто берет всякую научную
деятельность как бы изнутри и пристально всматривается в то,
насколько она полезна и осмысленна, не абсолютно, но именно относительно
потребностей и задач науки в ее конкретном состоянии. И все равно он
вынужден оправдать и любую мелкую деятельность ученого - как
особенно трудоемкая, она займет большую часть времени если не у
данного специалиста, то у всех вместе взятых: «Можно с большей
уверенностью описывать целую эпоху, например XII в., чем место и время
создания отдельных стихотворений; чтобы установить последнее, приходится
очень много работать, а над первым работают слишком мало»340.
Можно предположить, что Ричлю соотношение кропотливой
мелкой работы, всякого «буквоедства» и обобщений с выводами
представляется довольно постоянной величиной, при колоссальном перевесе
первой. Особенно это так при той направленности, какую получила в
те десятилетия классическая филология с ее здоровой опорой на
издания текстов (чего, естественно, ждал и Шерер от немецкой
филологии — К. Лахман, соединивший в себе филолога-классика и
германиста, не случайно был для него величайшим авторитетом), а притом и с
несколько школьной усредненностью. Гениальная ошибка,
совершенная Ричлем, когда он рекомендовал Ф. Ницше на кафедру в Базельский
университет, должно быть, и объяснялась тем, что никакого иного
соотношения мелкой и обобщающей работы он в филологии вообще себе
не представлял, а потому очень ранние филологические успехи Ницше
связывал с должной и необычной степенью усидчивости (которой
потом у Ницше вовсе не оказалось). Однако если понять подход Ричля к
филологическим занятиям совсем буквально, то ясно, какая опасность
из него проистекает - это как раз опасность самого безудержного
позитивизма, который уже не спросит о смысле своей работы, потому что
этот смысл будет считаться заданным самой наукой, ее организацией,
самим Wissenschaftsbetrieb. Тогда неизбежная (и благословенная)
позитивная работа над текстами и фактами обернется позитивистскими
приемами - извечного накопления данных в надежде на грядущее чудо
порождения смысла.
Все совсем иначе у Шерера. Вымуштрованный им специалист уже
не забудет задаваться вопросом о смысле своей работы. Зато
возникает другая опасность, ничуть не лучшая первой, - опасность разделения
ученых занятий на сорта, когда один ученый только обобщает и
снимает сливки с работ других, а другие занимаются конкретными
исследованиями или «черновой» работой. Вполне допустимо, чтобы один
продумывал общую «концепцию» издания того или иного автора, а
другой выполнял непосредственную текстологическую работу; однако
хорошо известно, до каких крайностей доходит расхождение этих двух
«этажей» - до престижного и беспредметного администрирования на
одном этаже, до отнюдь не престижной и включающей в себя всю пол-
117
ноту филологических обязанностей - на другом. Все это по-разному
сказывалось в немецком литературоведении после Шерера.
Разумеется, сам предмет новейшей филологии внутренне устроен иначе,
нежели предмет классической филологии (тем более в ее стереотипизиро-
ванном варианте середины прошлого века), а потому даже перенос
приемов критики текста и эдиционных процедур из классической
филологии в германскую всегда был методологически сомнителен341
Обобщающая или какая-то описательная работа всегда была здесь слишком
привлекательной, чтобы не оттеснять на второй и на задний план
твердую почву филологии - издание текстов, текстологию,
комментирование; утрата единства филологии, расхождение методов языкознания и
литературоведения тоже сыграло свою негативную роль.
Однако Шерер еще не представлял себе всех возможных
последствий своего видения науки. Для него филология существовала в
своем единстве, и здесь он оставался верен заветам основоположников
новой филологии в начале XIX в. И, главное, единство филологии - не
только в том, что знание еще не распалось и хранится целокупно, но
и в том, что разнородные занятия непременно соединяются в одном
ученом. Шерер выразил это образно так: немецкая филология - это «и
не оперная дива, и не подметальщица тротуаров»342 И все это единство
опирается на первоочередную филологическую задачу — подготовки и
издания текстов.
Итак, выходит, что шереровский подход к филологии
провоцирует раскол филологии «по вертикали», на аристократическую и
чернорабочую часть343. Но это пока лишь отдаленно. Шерер же держится за
единство филологии во всех отношениях. И тут, быть может, вызовет
удивление то обстоятельство, что знаменитый позитивист Шерер в
главных своих методологических посылках недвусмысленно антипо-
зитивистичен. Он прежде всего требует от науки обобщений - сооп-
ределенных с фактами, но не зависящих от них рабски; затем он
особым образом вписывает филологию в круг всех наук и налагает на нее
известные моральные обязательства. Наконец, он отбрасывает
методологические крайности, в том числе «ложную точность» и
«механические приемы». Вот некоторые положения лекции Шерера,
тематически сгруппированные.
1) Необходимы обобщения, и они относительно надежнее, чем
частности344. Однако следует, что, разумеется, обобщения не независимы
от частностей, от фактов, однако существует нечто подобное целому,
интуитивно снимаемому, или картине, относительно не зависящий от
совокупности фактов, всегда не полной.
2) Слишком далеко заходящая и ранняя специализация опасна345.
3) Немецкая филология связана с жизнью, сначала более узко
способствуя правильности немецкого языка и воздействуя на
«немецкий вкус»346.
4) Немецкая филология связана с жизнью в широком смысле -
изучая историю нашей духовной жизни, она подводит нас к источникам
нашей силы347.
5) «Немецкая филология держит зеркало перед лицами нации»:
являя нам пятна и изъяны, она способствует их исправлению348; взятые в
118
кавычки слова Шерер истолковывает как чужой, известный,
общепринятый текст.
6) Благодаря предыдущему понимаешь лабиринт, в который
приводит недооценка эстетической образованности — она сказывается в лож-
нонациональном направлении вкуса, в полемике против классических
ценностей («благ», Werte), в «ложной точности, нацеленной на
механические процедуры»349. Здесь Шерер переходит к чисто
методологическим проблемам литературоведения.
7) Филология, как и вся наука, не должна останавливаться на
фактах, а должна стремиться установить причины, законы350.
8) Филология вносит вклад в познание человеческой природы351, а
тем самым относится к числу наук о человеке (антропологических),
или гуманитарных.
9) Долг филологии - не просто множить запас знаний, но и
сохранять и распространять его352.
Положения Шерера, правда, не приведены в этой лекции (для
новичков) в логически безукоризненную связь. Однако они достаточно
выразительны. Среди всех этих положений можно выделить такие, в
которых слышны отзвуки прошлого - язык основоположников
филологии как новой научной дисциплины, а также классической немецкой
эстетики (откуда и «эстетическое образование» и несомненно
несколько архаичный «вкус»). Опытный методолог сразу же, конечно,
разберется, от какого положения Шерера оттолкнется его позитивизм, в чем
он разовьется в условиях того времени, — это наше седьмое положение;
однако в тексте нет указаний на то, как следует трактовать причины и
законы. Особенно же характерно то, что Шерер ни разу не упоминает
естественные науки и не выставляет их методологию как обязывающий
образец (тогда как это и есть черта позитивизма второй половины
века); наоборот, филология со своей стороны обогащает знание
человеческой природы и выступает как наука о человеке (хотя из этого
текста Шерера, собственно, нельзя сделать ясного заключения о том, как
классифицирует он науки).
Во всяком случае, если считать, что литературовед обязан во
вводном курсе дать общее понятие о науке и ее методологии, то нужно
признать, что Шерер до изложения позитивистских принципов здесь не
дошел, а потому, очевидно, существует наиболее общий и глубокий
уровень выражения методологии и существует менее глубокий и более
частный уровень ее выражения. Так это, видимо, у Шерера. Можно
было бы даже сказать, что существование двух таких уровней не должно
удивлять, поскольку нам известно, что осознание, понимание,
истолкование филологической науки у Шерера определяется также и
заповедями первого, романтического поколения филологов, а кроме того,
языком, каким пользовалась классическая эпоха немецкой культуры
(на рубеже XVIII-XIXbb.).
В то же время эта еще молодая наука, задачи и сущность которой
осознает Шерер, уже явно достигла зрелости - она внутренне
стабилизировалась, выработала свои академические формы и жанры, и Шерер
может уже как представитель такой науки, каким он себя ощущает,
заботиться о ненарушении внутренне сложившегося ее равновесия,
119
предостерегать против возможных уклонов в самые разные стороны и
т. д. Поэтому филолог, какой рисовался Ф. Ричлю, еще напоминает
героического и самоотверженного партизана-егеря эпохи
освободительных войн из какого-нибудь лютцовского батальона; такой выполняет
все, что ни потребуется от него на рейде, и хотя поступает с умением и
методично, но всегда готов сложить свою буйную голову. Между тем как
воин-филолог Шерера состоит уже в регулярных войсках, находится под
хорошим началом и прежде всего подчиняется общему распорядку.
Зрелость научной дисциплины непременно влечет за собой
перестройку всей ее внутренней экономии; наука как бы успокаивается в
себе, и во всем в ней производится методичная, последовательная
работа. На смену ярким, общим и чрезмерно общим идеям-гипотезам,
которые сразу же придают всей науке новое освещение, приходит
застраивание здания науки изнутри. Процесс замедленный в каждом
отдельном месте, зато производящийся одновременно во всех
направлениях. Особой трезвости труда, когда исследователю очень легко
полностью утратить сознание своих, а тем более общих целей науки,
соответствует та «отрезвленность» сознания, которая стремится видеть
любой предмет в полнейшей адекватности и уверена в достижимости
полной объективности науки, а любую общую идею, любую
системность склонна рассматривать как совершенно ненужное и, главное,
вполне устранимое «априори». У такой науки общие основы с
художественным реализмом середины века. Когда в 1850-е годы Рудольф
Гайм, впоследствии автор «Романтической школы» (1870),
задумывается над «планом истории развития немецкого духа в реалистическом
смысле353, то такой «реализм» означает веру в предметность мира,
подчинение исследовательского взгляда, или подхода, этой предметности,
убежденность в том, что можно изучать ее, ни в чем не нарушая ее
самотождественности; предметы доступны как таковые, а «как таковые»
значит не прежнее философское «an sich», «cat'ayto», т. е. сущность, к
которой еще нужно пробиваться и которая, таинственно замкнутая
сама на себе, словно отвергает приближающихся к ней354, но это «как
таковые» означает очевидную (осязаемую, зримую) данность всякого
предмета. Такую реалистическую картину своей предметности
филология сохраняла относительно долго, и известный историк литературы
Франц Шульц, вспоминая годы, проведенные в германистском
семинаре Берлинского университета в конце века (1896-1900), — семинаром
руководил Эрих Шмидт, ученик и последователь Шерера, -
рассказывал:
«Вопрос о «правильности» продолжал стоять во всей своей
остроте <...>. Он мог оставаться потому, что работа над немецкой
литературой была поставлена на почву всего постижимого опытным путем и не
допускала никакой субъективистской игры мыслей»; лишь
«последующие десятилетия принесли с собой несказанное замешательство,
затуманивание, - ибо науки о духе были вынуждены задать себе вопросы
о том, каковы их задачи, в чем заключаются их проблемы и как
надлежит подходить к ним»; все это и потрясло «надежность, или
самоуверенность (Selbstsicherheit) филологически-исторического образа
мира»355. Значит, хаос был еще впереди, и так было еще в конце века,
120
поскольку академическая наука медленно откликалась на «повороты»
духа, тем более повороты разрушительного в отношении ее внутреннего
устройства и самопонимания, в отношении достигнутой ею солидной
упроченности внутри себя. Шерер же представлял филологию и
литературоведение как раз в пору их зрелой солидности. И тут нужнее
всего был обзор целого, т. е. знание всех движений, которые
совершаются в науке, одновременно расстраивающейся во все свои концы.
Итак, наука достигла своего состояния зрелой солидности. Она все
еще остается единой. Однако ее единство предстает как существенно
расходящееся: разные «концы» науки забывают друг о друге. Вот
ситуация филологии в эпоху Шерера.
Как же представлял Шерер филологию и какой же представлял он
себе филологию?
Чтобы уяснить себе место Шерера в истории науки о литературе, в
истории поэтики, сейчас необходимо принять во внимание несколько
существенных моментов.
Прежде всего, никак невозможно брать его методологию как нечто
неподвижное — «этикеточная» фигура позитивиста Шерера356 принесет
мало пользы исследованию, которое поставило бы своей целью
показать, что исторически-значительное, исторически-значимое возникает
как пучки реальных противоречий, противоречивых и разнородных
тенденций; если бы его методология и оказалась совсем неподвижной,
то и такую неподвижность следовало бы объяснять из каких-то
особенных обстоятельств исторического движения. Карикатурно
сокращенный ракурс, в каком подает Шерера Рене Веллек, для наших целей
совсем не пригоден (к этому образу Шерера, как бы хрестоматийному,
все равно придется еще обратиться).
Далее, на «место» в истории науки может претендовать не голая
методология «в себе», а личностно-интеллектуальное единство творчества.
Личность — это субстрат научного знания, но не безучастный его
носитель, а осуществляющее его начало; благодаря ему тенденции
превращаются в дело, оформляются как «целостности» — обретают свою
действенность. Поэтому у ученого по-настоящему большого все значимо,
и даже случайное в его характере, жизни, ее обстоятельствах приходит
в сопряженность с творчеством, выглядит закономерным, и чем
значительнее ученый, тем теснее эта связь. Между творчеством и личностью
во всей ее характерности возникает словно бы типологический
параллелизм, и личность становится не просто фактором, а и фактом
творчества, отражая на себе его особенности, его закономерные стороны и
отражаясь в «объективной» сути дела. Поэтому углубляясь в анализ
творчества, в его противоречия, открываем там активно действующую
личность, а всматриваясь в личность, догадываемся, как складывается,
обретая широкую значимость, специфический узел противоречий. Речь
идет не о том, чтобы оживлять картину развития науки психологичес-
ки-портретно, внося в нее художественный элемент, — нет, личность
нужна для того, чтобы показать или, вернее, проявить то, как наука
живет, не исчерпываясь разными сочетаниями отвлеченностей.
Как очень часто можно убеждаться, даже темперамент ученого
находится в отношении «предустановленной гармонии» со смыслом и с
121
внутренней устроенностью его жизненного труда — гармония тем более
ценна, что ее никто не устанавливал. Конечно, кроме той реальной
логики, которая соподчиняет друг другу даже общие научные идеи и
свойства личности. История филологии должна была бы замирать
перед личностями — не только в почтении к ним, но и ради того, чтобы
удостовериться в личностной окрашенности науки, более того — в ее
существенно личностном характере. Наука нисколько не теряет от
этого в своей общей закономерности. Личностное - внутри науки, а не
просто ее двигатель и носитель. Самым скромным образом, без
пространности было бы важно взглянуть и на Шерера в его становлении:
от этого его методология - если даже нас интересуют самые ее
вершки — стала бы несколько более живой.
В очень существенном отношении ситуация филологии,
литературоведения в наши дни ничем не отличается от той, в какой эти науки
пребывали во времена Шерера, - хотя он был еще современником
Гриммов, Франца Грильпарцера и всех классиков европейского
реализма. И вместе с тем она столь же резко отличается от ситуации времен
Якоба Гримма. Наука начала расходиться и рас-страиваться, и этот же
процесс продолжается в принципе и сейчас; в филологии, в науке о
литературе, взятой отдельно, во всех ее обособившихся разделах
совершается кропотливая «позитивная» работа по добыванию фактов и
установлению и изданию текстов; факты и частности соотносятся и со-
опосредуются с общими идеями. Так, несмотря на все, что отделяет нас
от науки шереровских времен, несмотря на все методологические бури,
какие проносились над наукой и в самой науке, несмотря на все новые
синтезы расходящихся ее разделов и т. д., остается некоторая общая
основа, на которой и протекает все развитие. Есть такое позитивное ядро:
здесь, внутри обособившейся истории литературы, занимаются
причинными связями и установлением закономерностей в литературном
развитии. Поэтому нам нельзя не быть солидарными с Шерером -
особенно если представить себе, что его «позитивизм» был ответом, или
реакцией на то состояние науки, которое было задано ей логикой ее
развития, и что, если только это так, на Шерера надо смотреть как на
нашего собеседника, а не как на отвлеченного и злоумышленного
методолога, которого достаточно заклеймить и отмести.
В целом Шерер был обязан — вот роль, доставшаяся ему
исторически и взятая им на себя, - разобраться в задачах такой науки, такой
филологии, которая понимает сама себя как науку «позитивную» и
которой внутренне близко примерно такое самоощущение: каждый ученый
занят разрешением своих непосредственных научных вопросов, а все
эти вопросы, взятые вместе, сами собой составляют некоторую
совокупность с весьма нечеткими контурами. Шерер и обязан был
мыслительно оформить так понимающую себя науку, методологически
осмыслить ее внутреннюю экономию. Для этого надо было иметь обзор
ее как целого, осознать ее целостность (чему эта наука сама в себе
противилась!). Классики новой филологической науки должны были
по самой логике вещей заниматься частными, конкретными,
«позитивными» исследованиями с максимальной степенью детализации
материала, - однако всякий раз такие исследования выступали как подчинен-
122
ные известному целому (в свою очередь, определенному известной
идеей науки), которое представлялось вполне достижимым, реализуемым,
а притом всякий раз своей колоссальностью, своим объемом, своей
трудоемкостью превышало силы одного человека (таковы у Гримма
замыслы немецкой мифологии, созданной «на вырост», немецкой
грамматики, не завершенной автором, и, наконец, немецкого словаря,
потребовавшего более ста лет коллективного труда, протекавшего с
разной степенью интенсивности). Теперь, в поколении Шерера, все
радикально изменилось, однако идея целостности науки укоренилась
глубоко357. Важно знать, что она восходит как бы к
«непосредственному» созерцанию и осуществлению такой целостности в первом
поколении новой филологии; поэтому Р. Веллек, когда пишет: «Шерер
пытался обрести новую научную перспективу <...> однако все его корни и вся
его сила относились к романтическому прошлому»358, — отчасти прав.
Разумеется, представление о целом существенно меняется - ведь,
как сказано, оно должно соответствовать новому самопониманию
филологии. Шерер наследует от предшественников германскую
филологию в ее полном составе — он сам занимается и исторической
грамматикой на основе индоевропеистики, в том числе акцентологией и
метрикой, историей немецкой литературы, как древней и средневековой (в
их исторических контекстах и связях), так и новой. Универсализмом
Шерера восторгались его друзья и ученики; В. Дильтей писал о том, что
Шерер поставил «германистику, изучение немецкого языка и немецкой
поэзии» на службу универсальной, современно понятой задачи, и
видел в этом героическую черту его личности359.
Однако германистика претерпевала у Шерера сужение: германская
филология превращается в собственно «немецкую» филологию, а
филология — в науку о немецком духе360, какой постепенно становилась
история немецкой литературы. В. Шерер и стал одним из первых
ординарных профессоров «истории новой немецкой литературы» -
дисциплины, которая в это время с некоторым трудом доказывала свое право
на существование. Молодой Шерер, посвящая учителю - Карлу Мюл-
ленхофу — свою работу по истории немецкого языка361, говорит о такой
науке в несколько патетическом тоне: начиная с середины XVIII
столетия в Германии совершалось «поступательное движение», в котором
«немцы стремились возвыситься до сознательного исполнения своего
предназначения среди прочих наций. Мезер, Гердер и Гёте
исследовали сущность немецкого духа и искусства (deutsche Art und Kunst)362, и с
тех пор со всевозрастающей ясностью перед нашим народом
выступало требование исторического самопознания»; «изучение древнего
языка, древней поэзии, права, государственного строя, политики
получило широкий размах». По словам Шерера, «немецкий, отечественный,
посюсторонне-современный и практический элемент», пребывая «в
постоянном росте», «в течение ста лет совершенно вытеснил (!) основной
материал прежнего искусства и прежней науки, а именно христианство
и античность». Новую науку, которая обобщила бы все эти устремления
и была бы в одно и то же время «совершенно универсальной и
абсолютно актуальной, всеобъемлюще теоретической и совершенно
практической», Шерер назвал тогда, в 1868 г., «системой национальной этики».
123
Если у Я. Гримма собственно немецкое плавно и постепенно
вычленялось из общегерманского и было окружено им со всех сторон, —
против чего у Шерера были даже некоторые возражения делового
порядка363, — то для Шерера на периферии его научных интересов
фактически оказалось то, что у Гримма находилось в центре внимания, - не
только все древнее, «изначальное», но и немецкое в его
погруженности в германское и индоевропейское, а стало быть, проблемы
мифологии, общие вопросы эпоса, все «доисторическое». «Никогда он не
отдавал предпочтения первоначальному моменту развития — ни в
грамматике, ни в истории литературы», - писал К. Бурдах и приводил такие
слова Шерера: «Какими преимуществами духовное содержание праисто-
рического времени обладает перед штауфенским периодом, перед эпохой
Реформации и эпохой Революции? Какими преимуществами стиль
прагерманской поэзии обладает перед стилем Вольфрама фон Эшенбаха,
Лютера, Гёте?»364. Эти риторические вопросы подразумевали само собой
разумеющийся негативный ответ, и К. Бурдах видел в этом, т. е. в
таком ровном отношении ко всем эпохам истории языка и поэзии (по
крайней мере к эпохам их расцвета), универсальность требований
Шерера в отличие от принципов Гримма и Лахмана365.
Действительно, молодой Шерер в своих статьях о Якобе Гримме
пытается теоретически превысить осуществленный Гриммом
универсализм и мечтает о такой науке, в которой было бы по возможности
упразднено «разделение труда между филологией и историей».
Сначала Шерер обобщает сделанное Гриммом в представлении о такой
единой науке, в которой слились бы все те направления, по которым шел
в своих трудах Гримм: «<...> благодаря его бессмертным
достижениям мы можем позволить себе сделать шаг вперед и одновременно,
сразу, приступить к этим духовным направлениям <...>. Мы могли бы
попытаться раскрыть в языке, поэзии, в праве, религии и
нравственности общее, проникающее все стремление души, отыскать
породившие его условия, исследовать древнейшую историю нашего народа в
ту пору, когда он ответвляется от европейского пранарода <...>».
Однако такие гриммовские начинания в области древнейшей истории
необходимо перенести и на все иные эпохи, на современность.
«Время более развитой культуры в ее постепенном совершенствовании»
заслуживает такой же разработки; «нужно объединить» или даже
«принудить к единству» «различные направления духовной
деятельности». Тогда задача филологии представится в следующем виде -
«исследование хода развития человеческих идей, движущихся по
восходящей линии». А тогда филология в принципе и должна совпасть с
историей. «Человеческий дух един - так могут ли существовать две
науки о человеческом духе?»366.
Это изложенная с большим подъемом программа 23-летнего
филолога удостоилась заслуженных похвал со стороны К. Бурдаха: «научное
исповедание веры и обет», эта «смелая программа шаг за шагом
исполнялась в последующих работах» Шерера367.
Если, однако, внимательнее присмотреться, то можно убедиться в
том, что программа Шерера отличалась поразительной
неопределенностью. Начнем с того, что неизвестно, как идти во всех направлениях
124
одновременно, обнажая «стремление души», если пользоваться
методами Гримма. Видимо, Шереру представлялось нечто подобное
синтетической истории «души», где для каждой отдельной эпохи
устанавливается единство ее проявлений, а для каждого единства отыскиваются
определяющие их условия. О душе Шерер говорит на романтическом
языке; синонимами души выступают «духовная деятельность»,
«совокупная духовная жизнь», «человеческие идеи» (или «мысли»),
«человеческий дух». Все это для Шерера здесь одно. Манифестации духа или
души образуют в истории последовательный, причем восходящий
ряд368. Происходит развитие, восхождение души, или духа, -
прогрессивное движение.
Тут словно возникают какие-то воспоминания о Гегеле — но
только без идеи завершения истории; напротив, она движется как
однозначно положительный процесс, без конца. Такой выведенный
из тупика окончательности Гегель, конечно, всецело соответствовал
реалистически мыслившей эпохе. Подобно Гегелю, должен быть
«перевернут» и Гримм — вместо его представления об истории,
отпадающей от истины начал, торжествует идея безоговорочно
прогрессивного развития. Должен быть опровергнут и Г. Гервинус, сказавший, что
немецкая поэзия, литература «отжила свое» («Unsere Dichtung hat ihre
Zeit gehabt»)369. Но, разумеется, самое существенное здесь- это
единство науки, которое утверждается как единство предмета:
национальное развитие едино, а потому едина и наука.
Относительно философских реминисценций молодого Шерера надо
сказать, что в его представлениях и терминологии действительно
мелькает что-то гегелевское — тут есть «опосредования», есть периоды
объективности и субъективности, есть «самосознание», которое
возрастает, есть созерцающий себя индивидуальный дух и, помимо
всеобщего духа нации, есть «сознание всеобщего духа нации», которое также
растет. Кроме «самосознания», Шерер выделяет еще и «самопознание»
и по этому поводу приводит пример, в самой странности которой
отразилась вся весомость тех принципов, тех мировоззренческих
«априори» эпохи, которым должен был следовать Шерер: «Каким же низким
представляется национальное самопознание у вейссенбургского монаха
IX столетия, что перечисляет достоинства франков, чтобы
противопоставить их римлянам, — пишет Шерер, - если сравнить с ним тот
уровень развития, какой был достигнут благодаря идее геттингенского
профессора XVIII в., согласно которой национальные силы год за годом
учитываются в цифрах»370. Так историк Л. Шлёцер и современная
статистика легко берут верх над старинной поэзией371, и кажущаяся
несопоставимость поэзии и чисел находит для себя основание во вполне
определенном, трезво-деловом подходе к процессу самосознания. Этот
процесс берется со своей «объективной» стороны, а при этом
называется «субъективным»: «субъективно» знание нации о себе, и подобное
значение «субъективного» можно найти и среди гегелевских
переливающихся значений этого слова. Объективное же знание нации о себе в
эпоху усовершенствованных статотчетов безмерно превышает то
немногое, что сумел сообщить о франках Отфрид, и царь Ирод был бы
рад числить Шерера среди своих рассудительных сотрудников. Само-
125
познание как внутренний процесс углубления в свою сущность
переосмысляется как позитивное, внешне-информативное «знание о себе»,
которое и измеряется количеством зафиксированных фактов. Впрочем,
в «Истории немецкой литературы» Шерер высоко расценивает
национальное чувство древнефранконского поэта-новатора372.
Итак, развитие литературы (и всей культуры в целом) есть
непрестанное развитие-восхождение и вместе с тем самопознание
(субъективное!), которое выражается в количественном нарастании
отложившихся (как объективность!) фактов «знания о себе».
Конечно, уже только этого достаточно для того, чтобы определить
в наиболее существенных основаниях целое мировоззрение и вычитать
отсюда систему методологии; однако на деле мы находимся
по-прежнему лишь в преддверии научной методологии Шерера, как она
по-настоящему, конкретно будет становиться и разворачиваться.
Пока Шерер скорее задается вопросами - в том числе и
относительно процесса самопознания, относительно тех обстоятельств, которые
его обусловливают. Наперед ясно, что все явления души или духа -
взаимосвязаны. Но вот «что обусловливает их связь, ясно лишь в
редчайших случаях»373. Как ему особо близкие, Шерер приводит примеры
неясного из истории самой же филологии: «Откуда такая интенсивность
изучения англосаксонского языка в Англии со второй половины XVI в.
и особенно после революции в течение более полувека? <...> В чем
заключено более глубокое основание, которое определяет деятельность
всех этих ученых? Откуда в начале нашего века на первых порах вовсе
не связанные между собой лингвистические штудии немцев, датчан,
французов, славян? Какая сила одновременно приводит в движение
Гриммов, Раска, Ренуара, Добровского и Копитара?»374.
Чтобы ответить на такие вопросы, рассуждает Шерер, «необходимо
раскрыть взаимосвязи, существующие между созерцающим язык духом
и иными кругами представлений человеческой души <...>». Заметим, -
это любопытный момент, - что Шерер отнюдь не спешит объяснять
увлеченность лингвистическими занятиями по-тэновски, через milieu,
race и moment, а ищет посредующее между «обусловливающими
обстоятельствами» и наклонностями духа звено. Это интересно по двум
причинам: прежде всего что-то удерживает Шерера от прямолинейности,
от короткого смыкания духовных стремлений и причин, удерживает,
говоря иначе, от вульгарности социологического или любого иного
свойства, от упрощенных гипотез. Шерер пишет: «<...> следовало бы
показать, какие диспозиции духа [т. е. духа, созерцающего язык. -A.M.]
его затормаживают, а какие — ему способствуют»375.
По всей вероятности, исток таких понятий о душе и духе - в
философии И.Ф. Гербарта, и тут в молодом Шерере сказываются семестры,
проведенные в Венском университете, а может быть, и гимназические
уроки, - поскольку философия Гербарта, гербартианство, была долгое
время принята как официальная в Австрии. У Гербарта читаем:
«Представления, проникающие друг в друга в одной и той же душе,
затормаживают друг друга, будучи противоположными, и соединяются в одну
общую силу, не будучи таковыми <...>. Представления посредством
взаимного давления превращаются в стремление представлять», а такое
126
«стремление» (Streben) объединяет в себе все то, что обычно называют
тягой, жизнью, реальной деятельностью376. Отсюда можно было бы
заключить, что «общее, все проникающее стремление (Drang) души»,
какое предполагал обрести Шерер в языке, поэзии, праве и т.д., есть не
просто неопределенная романтическая реминисценция; такое
выражение отражает известное влияние гербартианской терминологии и его
идей. Метафизика Гербарта, система весьма сложная и даже
запутанная, как никакая иная философская система была способна перевести
взгляд с идеалистического самодвижения идей на прагматику, с
диалектического опосредования - на механику отношений, с
идеальности — на реальность. Такая парадоксальная роль философского
идеализма Гербарта вполне объяснима: своеобразно переосмыслив и переделав
кантовскую философию, Гербарт ввел внутрь ее требование реализма
(которое так привлекло австрийских социалпедагогов, несогласных с
немецкой классической диалектикой): хотя все в мире суть наши
представления, тем не менее «все, что само не реально, нужно возводить к
чему-то реальному»377, и Гербарт проводит скрупулезный анализ
представлений (прежде всего «простых представлений»: цвета, звуков),
всюду стремясь дойти до элементарных составных, до простейших
сущностей, откуда, в частности, понятно и то, что теории Гербарта оказались
в теснейшей близи и к «формалистической» эстетике отношений378, и
к экспериментальной психологии. Сам Гербарт призывал к тому,
чтобы рассматривать психологию «как часть прикладной метафизики и
математики»379, и демонстрировал такой подход.
Нет сомнения в том, что прагматические импульсы,
содержавшиеся у Гербарта, были и восприняты в позитивном духе реализма таким
ученым, которого философские туманности никак не могли увлечь.
Научно-философский оптимизм Гербарта тоже мог произвести на него
свое впечатление: истину следует искать не в философских системах
прошлого — «истина не позади нас, а впереди нас; кто ищет истину, тот
пусть устремит взор вперед, а не назад»380. Сейчас же мы видели, как
гербартианские представления вклинились в рассуждения Шерера о
задачах филологии и в частном случае помешали провести
примитивную связь между духовными феноменами и лежащими в их основе
обстоятельствами. Условия, причины и устремления опосредуются
диспозициями духа, т. е. некоторым итоговым целым духовной жизни, что
названо потом общим, или совокупным, всепроникающим
устремлением души (однако, по всей видимости, такая форма опосредования
действительно осталась у Шерера лишь частным случаем, так как мы
можем наблюдать в его раннем сочинении, что, пытаясь выстроить
свою программу филологической деятельности, он буквально мечется
между разными определениями того, что же изучает филология).
Что же касается истории, которую вспоминает здесь Шерер, то в
этом ее важном и показательном упоминании говорит как дух самой
филологической дисциплины, настроенной на историю, так и наследие
гриммовское, романтическое, идеалистическое, - потому что Гербарт
как философ, как психолог был совершенно аисторичен, т. е. не был
заинтересован в истории, а всюду преследовал задачи анализа
вневременных, постоянных структур381. Такие структуры понимаются как нор-
127
мальные и непременные. Шерер, видимо, тоже пытается мыслить так,
т. е. пробует посмотреть, не может ли духовное стремление быть понято
на основании так сказать, нормальной структуры души. Тогда одни
диспозиции духа сменялись бы, по еще неизвестным пока законам,
другими, а в таком случае все историческое развитие человечества
происходило бы как движение, или колебание в рамках такой духовно-
психической «нормальности». «Необходимость подобных исследований
пока почти еще не ощущается нашей исторической наукой»382, -
отмечает он здесь, т. е. историки не занимаются пока, как можно было бы
назвать это, механикой духовных диспозиций с выяснением того, что
и как комбинируется между собой, что оказывает тормозящее, что —
ускоряющее воздействие и т. п. Лишь потом уже Шерер вспоминает об
истории в гриммовском смысле, об истории как истории культуры, об
истории как задаче филологической науки, и его вроде бы влечет к
иному - по сравнению с чисто структурным - полюсу. Но только не
следует думать, что гербартовский аисторический подход остался
совершенно без влияния на то, как обобщает Шерер историзм Якоба Гримма.
Как было сказано, предмет филологии претерпевает у Шерера
известное сужение, и внимание исследователя в пределах прежней
дисциплины перераспределяется: оно концентрируется на истории
немецкого языка и немецкой литературы, но с равномерным вниманием ко
всем их этапам и периодам (вместо гриммовского предпочтения
изначальных этапов). А наряду с таким сужением осознается потребность в
расширении дисциплины, - все стороны культурно-исторического
процесса должны быть рассмотрены в ней в своем единстве383.
Складывается новое понятие об универсализме филологической науки и
единстве историко-культурного знания.
Становление Шерера происходило под знаком универсализации:
специальные работы, связанные с изучением и изданием текстов,
начиная с «Памятников немецкой поэзии и прозы VIII—XII веков»,
изданных совместно с Карлом Мюлленхофом, работы, требующие и
лингвистического и историко-литературного подхода, а потому остающиеся
для Шерера в центре филологического труда, — эти работы
постепенно окружаются статьями, эссе и рецензиями, в которых захватывается
широчайшая тематика и в которых Шерер мог проявить себя как
критик и как писатель. Мы все время наблюдаем разворачивание
научного творчества Шерера в широту, начиная с эдиционно-критического
ядра филологической науки, и это разворачивание,
сопровождающееся опытами переосмысления и методологии и даже самой науки
(которой ведь надлежало превращаться то ли в историю культуры, то ли в
историю духа), теоретически осознававшееся тем не менее далеко не
полно, должно быть указывало Шереру на не испробованные еще
возможности соединения научного и художественного. «Постепенно
Шерер все больше стремился к славе немецкого писателя, а не ученого»
(Э. Шмидт)384; «Ему от природы было свойственно нечто
художественное - каждая написанная им строка выдает это» (К. Бурдах)385. Слова
Шерера, о которых напоминал Ф. Шультц, - немецкий профессор
должен быть и немецким писателем386, - вполне возможно подспудно
означают все же нечто большее, чем просто требование быть хорошим
128
стилистом, как толковал это Эрих Шмитд387. Шерер вышел и в область
искусствоведения, написав статью об «Афинской школе» Рафаэля388.
Уже в «Памятниках» запечатлелись плоды его занятий средневековой
музыкой, потребовавшие основательных специальных знаний389.
Шмидт рисовал Шерера подвижной, гибкой натурой: полнота
мысли изливалась в точно найденных словах; «он не был кабинетным
ученым»; «твердо преследуя поставленную цель,, он иной раз был рад
поскорее отделаться от чего-то не готового»390. Дальше идет К. Бурдах,
вспоминая о Шерере: «Он боролся с так называемой осторожностью,
солидностью и точностью, если ими исключалось более смелое
субъективное предположение»391. Суждения Шмидта и Бурдаха следует
воспринимать на фоне их восторженных отзывов о своем учителе (Шерер
с молодости пользовался успехом у студенчества), а в истолковании
недоброжелателей все это приобретало совсем иной смысл, и филолог
Ф. Царнке в своем резком отзыве 1876 г. остроумно писал так: «Шереру
в германистике принадлежат несомненные заслуги - он впервые ввел ее
в журналистику. Ежедневные, еженедельные газеты, фельетоны,
политические ведомости - все заполнилось гулом проблем, которые прежде
разбирались эзотерически и по возможности скучно <...>. Но вот уже
несколько лет <...> он журналистику с ее легковесными методами
переносит назад, в германистику. И это большое зло. <...> Утверждениям автора
недостает необходимой предпосылки - солидной работы, благодаря
которой только и возможен прогресс в науке»392. «В сочинениях профессора
Шерера всегда содержалось нечто сомнительное, что напоминало
салонную мудрость, чтобы не сказать салонную болтовню <...>»393, -
отзывался уже после смерти Шерера писатель Юлиус Харт.
Можно «примирить» такие оценки, которые в чем-то сходятся -
хотя движутся навстречу друг другу с противоположных концов:
Шерер, видимо, плохо чувствовал себя в узких границах своей
собственной специальной науки, как понимала она себя в те десятилетия, и
ощущал потребность в расширении ее пределов, в экспансии на
близлежащие области с некоторой универсалистской целью в уме. С
построением соответствующей методологии у него, как мы могли
убедиться, обстояло дело не вполне складно: интеллектуальная дисциплина
ученого выстроилась по масштабам специальной академической науки,
и он, пытаясь отдать себе отчет в сути задуманного универсализма,
запутывался в мировоззренческих, философских вопросах. Из писем
Шерера, из его статей о Якобе Гримме мы узнаем, сколь строгих
понятий о характере научного труда он придерживался и сколь сурово судил
о нарушениях хотя бы внешних его правил и обыкновений.
Нарушение — все, что выводит научную мысль изнутри ее, все, что отвлекает
от сосредоточенности в себе, на своих задачах, все, что профанирует ее
хотя бы в малом. Экспансия в сферу «целого» совершалась неметодо-
логично, слишком вольно; свободные писательские импульсы
проникали в собственно научное творчество, и Шерер явно не относился к
числу тех исследователей, у которых осознанные методологические
принципы совпадают с практикой. Шерер живее и противоречивее
своей методологии, он живее и интереснее того стереотипного образа,
который мерцает в вялой памяти истории филологической науки.
129
Становление «германской филологии»394 и выделение из нее в
качестве самостоятельного предмета «истории немецкой литературы», затем
выделение внутри последнего «истории новой немецкой литературы»
(neuere deutsche Literaturgeschichte)395 — все это совершалось, в
сущности говоря, стремительно и в образ филологической науки, какой жил в
умах филологов, укладывалось с трудом. Карл Мюлленхоф был учителем
и другом Шерера, но он был убежден, что «истории новой немецкой
литературы» не место в университете, а Шереру как представителю такого
ненаучного предмета - нечего делать в академии наук. Начиная с 1849 г.
на кафедры новой немецкой литературы различных университетов,
кафедры впервые основанные, характерным образом приглашают поэтов
(Э. Гейбель), публицистов, писателей-литературоведов (Р. Прутц),
журналистов396, - их положение можно сравнить с положением
преподавателей эстетики в нынешних технических институтах, от них, видимо,
ждут какого-то эстетического и общеобразовательного дополнения к
сумме специальных знаний, какие получит студент. Спустя четверть
столетия положение заметно изменилось — стали устраивать настоящие
научные кафедры, и одним из первых профессоров истории новой
немецкой литературы стал В. Шерер (1877). Усвоенные им «строго»
филологические приемы и методы именно ему не мешали строить новый
предмет по его внутренней логике, не платя дань архаическому образу
науки; но когда дело доходило до формул методологии, все должно было
смешаться - старая «строгость», свои новые представления, еще не
познанные в своем предмете, «норма», «обычай» и новые задачи.
Одновременно совершалось размежевание методов между 1)
классической филологией; 2) историей литературы древнего и среднего
периода и 3) историей новой и новейшей литературы. Это размежевание
совершалось между методами изучения средневековой и новой
литературы. Конфликт методов продолжается в том, что названо у нас
исторической поэтикой-1 и исторической поэтикой-2 с существенно
различными для них точками отсчета. В начале XX в. можно было уже
подводить итоги тому размежеванию, какое произошло в XIX в., и
Эрнст Эльстер на съезде немецких филологов и педагогов в 1909 г.
говорил так: «Будем честны: мы подвергались заслуженным насмешкам,
когда стали буквально переносить методы классической или
старонемецкой филологии на историю новой литературы! Тот, кто Гёте,
Грильпарцера или Клейста интерпретирует по той же схеме, что От-
фрида или «Хелианда», доказывает, что у него нет глазомера, — он
совершает грех перед Гёте, Грильпарцером и Клейстом, а к тому же и
перед своими слушателями. И тем не менее эти попытки были в
некотором отношении целительны - они освободили историю новой
литературы от пут дилетантизма, возвысив ее до подлинной науки»397.
И все же итоги, какие можно было подводить в начале XX в., были
очень и очень условны — они ведь накладывались на беспокойную
методологическую ситуацию времени, на сдвиги и разломы, которые
академический литературовед, раз и навсегда усвоивший впечатление
солидности и крепости своей науки, мог до какой-то степени не замечать
(как Э. Эльстер, для которого «глубоко и надежно обоснованный метод
был альфой и омегой научной работы»398, - что само по себе
безусловно
но правильно). И Шерер тремя десятилетиями ранее как-то соединял
свои интуитивные и поэтические искания в области метода с
представлением о нерушимой крепости филологической науки, какая она есть.
Наука у Шерера все время «поворачивалась» и «разворачивалась», она
стремилась к новым синтезам. Но только такой поворот во всей его
значимости по-настоящему безусловно не осознавался - тем менее
осознавался, чем более солидным было самопонимание,
самоуразумение традиционной филологической науки. Ведь даже почти уже
фантазируя о науке, т. е. чуть теряя почву под ногами (как иногда в
названных статьях о Якобе Гримме и о Юлиане Шмидте), Шерер все равно
имел перед глазами уже сложившуюся, уже осуществившуюся идею
филологической науки в завоеванном ею постоянном и неподвижном
статусе. Этой идее и этому ее осуществлению он оставался верен.
Поэтому получилось так, что из рук Шерера эта академизированная наука
вышла еще более академической, еще более уверенной в себе и еще
более настроенной на пребывание внутри себя. Получилось так, что эта
наука, которая у Шерера поворачивалась и готова была стать совсем
иной, оказалась совершенно неподготовленной к методологическим
новшествам и взрывам рубежа веков, могла только стоять на своем и в
отношении этого нового быть лишь твердокаменно-инертной. Между
тем как Шерер порой доходил в своем вольномыслии до разведывания
каких-то неясных методологических далей науки, фактически все
подобное отставлялось в сторону, да и было сторонним в отношении
крепкого ядра науки. Шерер не мог изменить самого существа той
науки, к какой он принадлежал, - и не сумел даже захотеть этого. И
школа Шерера удерживала прежнее понимание науки, была
маловосприимчива к методологическим новшествам и настаивала на трезвой
«позитивной» работе (в чем на ее стороне была половина правды). Но при
этом и эта школа и почти вся остальная немецкая наука (главным
образом литературоведение) усвоила определенные общественные
идеалы, а в распространении таковых Шерер был особенно активен и
особенно отличился.
Здесь судьбы науки тесно сплетаются с личной судьбой Шерера,
потому что, как это часто бывает у большого ученого, все личное словно
по плану вливается в конечный итог его деятельности. Так и Шерер -
словно ему поручена определенная роль, он исполняет ее с
неистовостью, с запалом. Осознав ее, он уже действует, и вполне «планово».
II
Внешне жизнь Шерера складывалась просто. Он родился в Шенборне
(Нижняя Австрия) 16 апреля 1841 г., учился в академической гимназии
в Вене, затем в Венском университете и, наконец, в Берлинском, где в
лице К. Мюлленхофа нашел своего настоящего учителя. С 1862 г.
Шерер преподавал в венском университете (ординарный профессор
с 1868 г.). С 1872 г. он профессор Страсбургского университета,
а с 1877 г. - в Берлине. В 1884 г. он становится действительным
членом Прусской академии наук. Болевший в последние годы жизни,
Шерер не прерывал своей работы; он скончался 6 августа 1886 г.
131
Уроженец Австрии, Шерер с самых юных лет занял однозначную
пропрусскую позицию, заявляя о ней настолько, насколько это было в
возможностях филолога, - пока он оставался на территории Австрии,
дело доходило до конфликтов с властями. Можно оценить такую
позицию, исходя из политических обстоятельств 1850-1860-х годов, и не
переставать удивляться целеустремленности Шерера.
Можно только поражаться тому, с какой убежденностью, с какой
силой «предвидения» и, так сказать, телеологической заданностью
совсем юный Шерер в конце 1850-х-начале 1860-х годов проводит в
политической разноголосице того времени свою прямую линию. Она хотя
и не слишком быстро ведет его, уже чисто биографически, из Австрии
в Германию и из Вены в Берлин; она ведет его к роли самого
влиятельного германиста тех лет; она ведет его к утверждению германистики и
«немецкой филологии» как новой национальной науки, опирающейся
на основанную в 1871 г. империю как свою субстанцию и как
идеальную точку схода всей немецкой культурной истории.
Уже в юности Шерер решительно отрекается от всего
австрийского — он делает выбор, который глубоко захватывает всю его личность.
Шерер был воспитан на «Истории литературы» Юлиана Шмидта и на
его же журнале «Die Grenzboten», в котором пропагандировалась
прусская гегемония в Германии и выход Австрии из германского рейха399.
Из Берлина, по словам К. Бурдаха, «Шерер вернулся убежденным
почитателем прусской политики — спасение Австрии он видит в
поощрении немецкой культуры и в тесном сближении с Германией,
руководимой Пруссией»400.
Нельзя подозревать Шерера в слепом национализме: напротив,
соприкоснувшись в Австрии со славянской культурой, коснувшись, как
индоевропеист, славянской филологии (сам Шерер слушал лекции
Ф. Миклошича в Венском университете), высоко ценя ее
представителей, Шерер способен признать (1873), что «славяне во многих
отношениях обгоняют в Австрии немцев»401. Но под влиянием «национальной
науки» немецкой филологии, формированию которой сам Шерер так
способствовал, в представлениях Шерера-литературоведа возникает
нечто вроде комплекса национальной самоуверенности. В «Истории
немецкой литературы» он под влиянием личной увлеченности
способен сказать нечто патриотически-простодушное, например рассуждал
о немецкой лирике первых десятилетий XIX в.: «<...> никакая эпоха в
истории поэзии любого другого народа не может и отдаленно
сравниться с нею: лирика Гёте и его последователей - это высшая ступень,
какая достигнута лирикой вообще до сей поры»402. Для умудренного
опытом историка литературы (который обязан сознавать границы своих
знаний) фраза чрезмерно наивна и беспокойно-субъективна.
Зато Шерер совершенно беспощаден к Австрии и осуждает ее за все
мыслимое - за небрежение немецкой культурой, ее традицией, за
клерикализм, отчаянным врагом которого он всегда выступал403, за
чувственность и моральную распущенность, за отсутствие
«национального пафоса», за коммерческую предприимчивость и поклонение
золотому тельцу... «Австрийское государство, - писал Шерер в фельетоне
«Немецкой газеты» в январе 1872 г. - австрийское государство, где как
132
нарочно собрались все центробежные силы, государство, в котором
совсем еще недавно было близко к небывалому, неслыханному триумфу
ничем не прикрытое себялюбие этого надменного народца, — это
государство предстает теперь как не завершившийся еще эксперимент, в
ходе которого судьба миров намерена продемонстрировать последствия
эгоизма и необходимость духовного единения. Мы же закрываем
глаза перед очевидными фактами и набожно восклицаем: святой
Меркурий, молись за нас!»404. Г. Трейчке записал характерное восклицание
Шерера (относится к 1869 г.): «Как столица прусской провинции Вена,
может, еще станет приличным местом!»405.
Тогда нет ничего удивительного в том, что уже в 1867 г. у Шерера в
Вене, по выражению Э. Шредера, горела почва под ногами406. К
концу своих венских лет Шерер находился под угрозой дисциплинарного
(административного) расследования. Вовремя поступившее
приглашение в Страсбургский университет избавило его от служебных
неприятностей. На Берлин и на Страсбург, вновь присоединенный к Германии
после франко-прусской войны, Шерер возлагал все свои надежды;
К. Мюлленхоф делал все необходимое для его приглашения. Сам
Шерер в нужный момент (1871) подготовил вместе с историком
О. Лоренцом популярную «Историю Эльзаса от древнейших времен
до современности»407. Небольшой двухтомник, в котором Шереру
принадлежали главы по истории культуры и словесности, был
наилучшей рекомендацией для прогермански настроенного профессора;
впрочем, К. Мюлленхоф холодно отнесся к такой популярной работе.
В Страсбурге Шерер задержался на несколько лет; канцлер
О. фон Бисмарк был заинтересован в том, чтобы авторитетный
профессор обосновался в Эльзасе, который надлежало регерманизировать.
Известен относящийся к этому времени чрезвычайно
благожелательный отзыв канцлера о Шерере в письме куратору университета408. При
этом взгляды либерала Шерера не во всем совпадали с официальной
политикой канцлера, с официозной идеологией. Шерер подчеркивает
духовность культуры; бездуховная монументализация силы не
удовлетворяла его; в его письме Юлиусу Роденбергу (24 ноября 1875 г.)
говорится: «Хороший, успокоительный знак — в том, что политика не
поглотила еще все прочие интересы немецкого народа. Картина
прогрессирующего политического величия и регресса культуры, - нет уж,
благодарю покорно»409. Впрочем, расхождения либерала и власти не
заходили далеко - основа была общая и опора, государство, одна.
В докладе 1873 г. о «духовной жизни Австрии в Средние века»,
прочитанном в Берлине, в докладе ярком, выразительном и блестящем,
Шерер изложил такой историко-литературный взгляд, который должен
был объяснить леность и пассивность современной культуры Австрии,
отсутствие в ней «национального пафоса» очень глубокими
историческими причинами. Эпическая поэзия эпохи Штауфенов (ХП-начало
XIII в.) расходится на два русла: это, с одной стороны, рыцарский эпос,
заимствуемый во Франции, и, с другой— традиционный народный
эпос. Первый распространяется в Германии - за пределами Австрии,
второй же — почти исключительно в Австрии: «Австрия —
хранительница старинной отечественной поэзии. Древние сюжеты народных песен
133
обрабатываются здесь заново и записываются, - как правило, впервые.
Они записаны теперь черным по белому - и так приведены в
состояние, в котором им обеспечена долговечность, в котором они
сохранены для нас. Итак, Австрия занимает особое положение в области
духа»410. И в то же самое время, наряду с такой, казалось бы,
неоценимой ролью хранительницы национального наследия, тут начинает
заявлять о себе и австрийская инертность: «Не безразлично, чем утешать
свою душу — образом Зигфрида или Парциваля. Самое глубокое, что
волновало ту эпоху, самые тонкие проблемы нравственности,
величайшая серьезность, священное рвение в вопросах морали — все это
могло пробовать свои силы лишь в рыцарском романе. «Песнь о нибелун-
гах» в высшей степени наделена общечеловеческим содержанием, и все
же в каждую эпоху есть такое специфическое содержание, которое
должно возвыситься над уровнем общечеловеческого, - и вот
оказывается, что австрийцы и не пытались достичь вершины культуры
тогдашнего времени. Они безмятежно держались прошлого - и не участвовали
в прогрессе всей остальной немецкой литературы»411. Запоздалые
плоды рыцарского романа создавались в Австрии третьестепенными
поэтами, ненастоящими художниками.
Далее Шерер излагает свои гипотезы, объясняющие такое «глубоко
заходящее различие между Австрией и Германией». В Германии в
борьбе между шпильманами и образованными клириками верх взяли
вторые, которые ради того, чтобы одержать победу, вынуждены были
отказаться от библейских сюжетов и избрать сюжеты современные,
обратившись ради этого к французской поэзии. Австрийские же клирики,
напротив, ополчились против чувственности и утонченной куртуазной
культуры; пытаясь противодействовать «естественным влечениям» и
понять «интересы рыцарей», эти клирики и потерпели поражение в
борьбе с шпильманами, народными певцами. Рыцари, тоже начавшие
упражняться в поэзии, последовали здесь за шпильманами, — таков
итог категорической неуступчивости клириков. Восторжествовали
шпильманы - «навязчивые и бесстыжие, ненасытные и
распутные»412, - вследствие чего «литература и сохранила в Австрии свой
народный характер».
Такой ситуацией, сложившейся в Австрии, Шерер объясняет
явление Вальтера фон дер Фогельвейде: великий лирический поэт
опирался именно на народный характер австрийской поэзии, он принимает на
себя «журналистскую» роль413 шпильманов и ставит перед такой
журналистикой более высокие цели, он антиклерикален подобно
австрийским рыцарям, он ставит в один ряд христиан, иудеев и магометан,
предвосхищая Лессингова «Натана» и оказываясь среди самых
просвещенных своих современников. Во всем Вальтер, пишет Шерер, обусловлен
духовным своеобразием своей родины, - но, по существу, он был
немецким патриотом, который соответственно выступал против
церковности и засилья папства в немецких землях. Он «ввел национальный
пафос в нашу поэтическую литературу» - в литературу немецкую, и с
его смертью сошла в могилу «самая немецкая часть австрийской
культуры» - «национальный пафос австрийцев и, быть может, вообще весь
их пафос — способность вдохновляться идеей и жить ради нее»414. И
134
хотя Австрия не была оставлена своим эстетическим
ангелом-хранителем (в Гайдне и Моцарте все еще живо вальтеровское начало)415,
австрийская литература уже при жизни Вальтера стала приобретать
характер карнавальности416: «изнеженность и жажда наслаждений,
недостаток упорства и преданности» губят все благие намерения417. Можно
вспомнить, как рассуждал Шерер о долге, и принять во внимание, что
представление о долге укрепилось в нем под впечатлением от прусских
политических и военных успехов, коль скоро немецкий дух явил
плоды целенаправленного, собранного, самоотверженного труда418, Шерер
усваивает трудовую этику протестантизма. Разумеется, Шерер отметил
действительные различия в духовных и культурных установках,
возобладавших в разных областях Германии. Однако тут невозможны
объективная характеристика, объективное описание — в редчайших случаях
Шерер выступал как политик, в редких — как культурполитик, и,
наконец, в своей филологической области он выступал как такой историк
литературы, который сделал уже все необходимые выводы из своего
политического опыта и у которого эти выводы перешли, сознательно и
бессознательно, в способ мыслить всю историю немецкой
литературы — вся она более нежели тысячелетняя, заново организуется для него
и ставится на твердую почву благодаря новому
прусско-германскому государству.
Отпавшая от нового германского государства Австрия и в своей
литературе, в своей поэзии носит это клеймо греховного, - да,
действительно греховного, аморального отпадения.
Такой способ смотреть на историю своей литературы, - при
котором смысловой ее центр находится в современности, а научная
история литературы превращается в специфически-национальный
предмет419, - влиял на обращение с нею. Чтобы сказать вернее,
решительно все в способе видеть и осмыслять немецкую литературу
претерпевало сдвиги: ведь историко-литературный процесс, если он с
такой насильственностью стянут к современности, уже не
располагается во времени широко и спокойно и вовсе не призывает разбираться в
нем неспешно и дотошно. Отсюда «журнализм» австрийских
шпильманов и Вальтера, равно как великое множество таких окошек, через
которые современные представления проникают в прошлое и
перекрашивают его в свои цвета. То, что так сильно притягивается новой эпохой,
и судится тоже не по своему закону, а по тому новому закону, который,
как получается, все наделяет своим смыслом. Если же вспомнить, что
для складывающегося в середине XIX в. реалистического видения
действительности характерна внутренняя убежденность в существовании
некоторой нормы человеческого, общечеловеческого и что свой
психологический склад (с интересами, предпочтениями, способами
восприятия, даже нормами оценки и т.д.) человек этого времени
отождествлял с такой «нормой», то просто представить себе, сколь легко
историк литературы уступает соблазну примерять ко всему свою
психологию. Собственно, его не приходится искушать! «Своя»
психологическая естественность лежит в основе психологизма как метода420.
Итак, все еще и потому так удобно сбегало к современности — и вся
история национальной литературы устанавливалась на государственных
135
фундаментах этой современности, - что вся история литературы
стекалась к историку литературы как психологической личности. Он, этот
историк, вооружен ею как мерой всех вещей. Но это же означает, что
любая чужая мера ему недоступна или почти недоступна, — и уже
невозможен, например, такой (тоже удивительный) феномен, как грим-
мовское постижение инобытия литературы и культуры: ведь что такое
есть та «исконная», «изначальная» поэзия, к познанию которой
устремлялся Якоб Гримм, как не заведомо, с самого первого шага, иное,
нежели современная литература? Такое «иное», правда, влекло за собою
отрыв «доисторического» от исторически более близкого, зато оно не
мешало погружаться в сколь угодно широко распластанный материал
истории (если даже в ней всего лишь путь к «самому» началу!).
Теперь мы можем сказать: Шерер потому так торопился со своими
оценками, что оценка слишком близка, она напрашивается сама собою
(как голос «естественности»!). Шерер достаточно чуток к ситуации и
слишком силен, чтобы делать и все то, что не положено академически
работающему литературоведу. Университетский профессор обязан
делать свою науку, находясь внутри ее, а Шерер позволял себе выходить
за ее пределы.
Надо будет посмотреть, как этот обуженный психологизм с его
готовностью все судить на свой лад согласуется с позитивизмом и его
принципами — не согласоваться они не могут, потому что ведь и самый
отъявленный позитивизм того времени не мог бы отделаться от
исходной, заданной психологической ситуации.
Ошибается, однако, П. Солм, полагая, что Шерер разделял
известные симпатии Гердера и романтических филологов, а именно их
пристрастие к историко-культурным праформам («Ur-»!)421. Его ввели в
заблуждение два текста Шерера: венский доклад 1864 г. «Об истоке
(Ursprung) немецкой литературы» и страсбургский 1873 г. - «Об
истоке (Ursprung) немецкой национальности»422. Как филолог,
представляющий единство своего предмета и получивший в наследство всю
совокупность его тем, Шерер не мог не заниматься проблемой «истоков»,
и она во всех отношениях продолжала сохранять для него актуальный
интерес. Но ведь всякий «исток» мыслится теперь совсем не по-грим-
мовски! Вероятно, он гораздо научнее, позитивнее вводится в саму
историю, в ее последовательное движение.
Задача истории литературы — «видеть историю как сплошную
цепь причин и следствий» (1865)423. «Различие между
доисторическим и историческим развитием языка было устранено»424, - то же и
в истории литературы. Но ведь и «исток» получает теперь свой смысл
от современности.
И Шерер строит свой страсбургский доклад так, чтобы словно
нарочно продемонстрировать нам это различие! Он начинает его с
пространной характеристики книги современного писателя: «На ней
лежит печать волшебства, в ней творится откровение поэзии,
воздействию которой вряд ли возможно противостоять. Мы благодаря ей
видим мир, который поэтичен сам по себе, - так богаты его
нерастраченные силы, так наивен взгляд на жизнь, так просты и безыскусны его
отношения. Нам кажется, что нас перенесли в гомеровский век. И это
136
и есть гомеровский век - героический век нашей нации. ...Это - иное,
чужое время, и все же это индивидуальность нашего народа, это наше
мышление, наши чувства. Далекие, но родственные. Чуждые, и все же
близкие»425. Речь идет о романе Густава Фрейтага «Инго», тогда только
что вышедшем в свет. Фрейтаг, небесталанный, но давно уже
нечитаемый немецкий писатель и идеолог, был «идолом» юности Шерера, по
выражению К. Бурдаха, и Шерер считал его «про себя» величайшим
немецким поэтом426. Прошедшие сто с лишним лет показали, что
романист Фрейтаг, вероятнее всего, отнюдь не был так велик. Однако
ошибка Шерера в его оценке не только простительна, как все такие
бессчетные ошибки, когда о произведениях судят с чрезмерно малого
расстояния. Она по-своему замечательна - поскольку демонстрирует
нам психологическое схождение сторон: произведение постигается как
свое, близкое — и в своем качестве (здесь — в своем величии!)
утверждается самой непререкаемой естественностью.
Но ведь невозможно представить себе, чтобы Я. Гримм вводил
древнюю культуру через произведение новой литературы, и тем более
немыслимо, чтобы вся древность располагалась для него в мире нового
произведения, в открытом им пространстве. У Шерера вся перспектива,
в какой он рассматривает «начала» культуры, решительно изменена, и
это он превосходно показал нам. Своя-чужая древность до конца
освоена в своем-близком современного произведения, в его естественности.
Итак, Шерер (создатель национальный истории литературы) далек
от культа истоков — как национально мыслящий историк, он весь
сосредоточен на современности (как выражении духа нации), а потому
ему чуждо возвеличивание старого «германства» и всего того, что
кажется патетической реставрацией германской идеологии (Р. Вагнер и
вагнерианство). Все это перед лицом реально достигнутого,
политически осуществленного становится излишним, становится ложным
восторгом. По выражению И. Штернсдорфа, Шерер противопоставляет
«старопрусскую трезвость напыщенно-реакционному самообману в
стиле германской древности»427.
Психологическая естественность получает многообразное, в
основе своей четкое оформление и становится натуральной базой всей
истории немецкой литературы. Так что новое немецкое государство — это
лишь грандиозно-помпезное здание, выстроенное на этом как бы
природном фундаменте. Так это для Шерера и его поколения. Так это в
первую очередь для школы Шерера.
Теперь вполне понятно и то, что Шерер, как только в его сознании
утвердилась реалистически-психологическая установка, - а для этого
было самое время, 1850-е годы, когда Шерер учился в гимназии и
закончил ее, - должен был с холодностью отнестись к австрийской
литературной классике XIX в. То, что австрийская литература, вся
австрийская культура идет своими путями, резко отличными от развития
немецкой литературы, не было скрыто от Шерера. Он хорошо знал,
например, венскую комедию и в «Истории немецкой литературы»
выразительно писал о Ф. Раймунде, скончавшемся в 1834 г. Шереру лучше
была известна «чувственная» традиция австрийской культуры, и он
отверг ее, постаравшись принять прусски-суровый вид моралиста. В той
137
линии австрийской культуры, которую можно считать интеллектуали-
стически-духовной и которая тоже (как и венский театр) связана с
непрерывностью барочных и просветительных традиций, он не успел
разобраться. Эта традиция не устроила бы Шерера уже тем, что
стремилась отвергнуть психологизм культуры XIX в., поскольку видела в
человеке нечто более сложное, чем просто «пришедшую к себе»
естественность, и даже усматривала опасность в «самокопании», в
психологической глубине, в раскованной чувственности (этой традиции
были присущи свои морально-педагогические соображения). Поэтому
Шерер не пишет об Адальберте Штифтере, чьи романы ждали
нескольких десятилетий, пока не были прочитаны адекватно (во времена Гуго
фон Гофмансталя и Эрнста Бертрама); но ведь в романах Штифтера
почти нет того «естественного» психологизма, в каком просто было бы
узнавать свое, «вообще» человеческое. Зато о Франце Грильпарцере
написал очень длинную критическую статью с подробным анализом
почти всех его произведений. Статья начинается с признания в том, что
Грильпарцер никогда не был симпатичен автору, что в юности этот
поэт был совершенно непонятен ему, и с единственной в своем роде
критики собственной статьи: «Холодный объекгивный тон статьи,
серьезно стремящейся к уразумению, но ни разу не поднимающейся до
энтузиазма и о поэзии говорящей прозаично и деловито, насколько то
возможно, - этот тон проистекает из желания отдать должное
значительному поэту, который представлялся автору чужим и не пробуждал
в нем любви»428.
Все же статья Шерера о Грильпарцере — это серьезный образец
критической работы и вместе с тем такого первоначального исследования,
где историк литературы возделывает целину; видимо, это первый столь
солидный труд о Грильпарцере, основательный критический обзор его
творчества. Шерер должен был впервые устанавливать биографические
факты, влияния, о чем сейчас можно получить сведения в самых
элементарных книгах. Он не сумел почувствовать и оценить своеобразие
и тонкость поэтической дикции Грильпарцера429, однако ощутил то,
что речь теснейшим образом связана у него с действием, жестом, - все
это развито в современной литературе о Грильпарцере-драматурге.
«Слово — только одна часть того, что он поэтически творит»430.
И в этой внушительной работе (она заслуживает перечитывания,
как многое другое у Шерера) солидность, основательность
литературоведческой работы находятся в равновесии с явным непониманием, с
недоразумениями, корни которых, как мы старались показать, весьма
глубоки. Так, Шерер был способен придать Вальтеру фон дер Фогель-
вейде черты современного поэта и по-современному чувствующего
человека (и поэта, и еще журналиста), но с Грильпарцером это ему не
удавалось, - современник Шерера принадлежал к ставшей для него
чужой культуре, в духовных основаниях которой литературовед не
захотел всерьез разбираться. Иногда Шерер в состоянии перетолковать свое
представление об австрийской традиции в позитивную сторону, - ведь
Шерер убежден в самобытности любой национальной культуры:
«Национальная литература - космос взглядов народа по преимуществу»431-
.Однако результат получается относительно бедный: «Некая черта све-
138
жести, наивности, чего-то юношеского сопутствует всей австрийской
литературе с XII по XIX век»432, и тут, в статье 1872 г., выглядит радужно
все то, что в статье 1873 г. признается за большую беду- и победа
шпильманов над клиром, и приверженность старинным эпическим
идеалам и т. д., и Вальтер фон дер Фогельвейде тогда тоже очень
естественно вырастает в таком мире. Что австрийский поэт наивнее
немецкого относится к творчеству, об этом Шерер говорит и в работе о
Грильпарцере - он объясняет это непричастностью австрийцев к
«великому философскому движению», не подозревая ни о выдающейся
философской традиции самой Австрии, ни о глубоких духовных
кризисах, запечатлевшихся в австрийской литературе433.
«Естественность» сковывала Шерера, обрекая его
историко-литературные воззрения на своего рода «волюнтаризм». А в то же самое
время в Шерере жило представление о науке строгой и совестливой. Так,
он ничего не брал из вторых рук. Приступив к созданию «Истории
немецкой литературы», он писал о том, что мог и должен был знать;
каждая эпоха немецкой литературы была к этому времени уже
проработана им, освоена и осмыслена, в изучение каждой им был внесен свой
вклад. К. Бурдах справедливо писал о том, что эта история немецкой
литературы - первая из написанных к тому времени, «в которой все
периоды излагаются с одинаково хорошим знанием источников»434.
Наконец, уже ранние статьи Шерера о Якобе Гримме при своей
относительной краткости поражают колоссальной массой научного
материала, который был Шерером самостоятельно изучен, обдуман и изложен
в виде весьма уравновешенных, внутренне вызревших и пластически
представленных характеристик - филологических трудов и деятелей
филологической науки. Не только основные деятели филологии
выписаны здесь, не только очень четко представлены труды Якоба Гримма
во всех областях, каких он касался435, но выявлены общие тенденции
науки, обрисованы многие второстепенные фигуры. Между тем эта
книга была написана раньше основных трудов по истории науки и
немецкой культуры XIX в. - раньше непластичного и
информативно-безличного Ф. фон Раумера436, раньше «Романтической школы» Р. Гайма,
раньше «Жизни Шлейермахера» В. Дильтея. Перед каждой из этих
работ книга Шерера имеет преимущества концептуальной
насыщенности и ясной обозримости. К этому прибавляется еще достоинство
красивой, неманерной, рассудительно-спокойной речи. Редчайший
случай, когда молодой ученый может начать со столь обстоятельного
очерка истории своей науки! Две журнальные статьи, составившие
книгу, служат ясным показателем возможностей Шерера как ученого.
Странным образом книга Шерера (после ее второго, расширенного
издания 1885 г.) никогда не переиздавалась.
Именно потому, что деятельность Шерера опиралась на
основательнейший фундамент научной подготовки, нужно освободить образ
ученого от некоторых стереотипных черт, которые прочно пристали к нему —
как к давно уже неперечитываемому автору. Шереру нередко
предъявляются разные упреки - в произвольности его критических суждений, или
в отсутствии таковых, или в неумении оценивать поэтические
произведения вообще, в неумении обращаться с ними, в механическом к ним
139
подходе и т. д. Р. Розенберг утверждает, что у Шерера «уровень
теоретической рефлексии проблем истории литературы катастрофически
снижается — по сравнению с Гервинусом, Прутцем или Геттнером»437.
Р. Веллек еще раньше почти в тех же словах писал о «поразительном
падении критической способности Шерера - в сравнении с Геттнером и
Гервинусом»438. Итак, получается, что с Шерером в истории литературы
наступает упадок — но так ли это? и в чем тут правда?
Теперь кажется не так уж трудно ответить на эти вопросы.
Разумеется, психологизация взгляда на мир сопровождалась сужением
кругозора, сужением критериев оценки - все это должно было сказаться на
способности судить о литературе, на подходе к ней. Все это и
сказывалось самым решительным образом. Но и тут возникает своя логика —
или, точнее, здесь взаимодействуют разные смыслообразующие
логические ряды, которые историк литературы усвоил или от которых он
зависим, под воздействием которых он находится. Поэтому если мы,
открывая «Историю немецкой литературы» Шерера, находим в ней
нелепые оценки, несуразные суждения и все то, с чем сейчас никак
нельзя согласиться, то мы не должны повторять ошибки шереровской
эпохи и вставать на позицию психологического эмпиризма,
отбрасывая то, что кажется нам иным. К тому же итогу, какой реально
складывался в одновременно и слитно методологическом и личностном
процессе обдумывания истории литературы, довольно бессмысленно
предъявлять сейчас мелочный счет, не возводя «точечные» придирки
эмпирического свойства к общим принципам439. «Эклектическая смесь
классического, реалистического и академического вкуса»440 — то, что
Р. Веллек находит в работах Шерера, - это еще не принцип. Если Ше-
рер полагал, что Клопштоку следовало изучать путешествия в
Палестину для своей «Мессиады», что Гретхен (из гётевского «Фауста») не
могла давать отчет о внутреннем состоянии своей души в столь
продуманной форме и что она не могла сочинять подобные стихи441, наконец,
что Фрейтаг - это великий поэт и т. д., то мы знаем, что здесь - с
удивляющей нас силой! - заявлял о себе принцип психологической
естественности. Что делать поэту, сочиняющему религиозный эпос, как
поступить с девушкой, которой не положено за прялкой сочинять
гениальные стихи, - все это литературовед должен был твердо знать, потому
что мировоззрение эпохи обязывало его встречаться с поэтом, его
героями, с его произведением на поле натуральной психологической
естественности442. Вместо того чтобы, например, вживаться в «чужую»
действительность или, скажем, интенсивно сопоставлять «свое» и
«чужое», выявляя общее и различное в них.
Итак, одни «ошибки» Шерера закономерно вытекают из замкнутой
на себе, нерефлектируемой психологической естественности. Другие
ошибочные оценки, которые Р. Веллек ставит в вину Шереру, имеют
иную природу: оценка Ф. Гёльдерлина как «туманного» (конечно, у
Шерера куда более тонкая) содержится в одной из первых работ
научного значения об этом поэте443; такая оценка находится в русле
определенного толкования Гёльдерлина, которое просуществовало, по
крайней мере, до рубежа XIX-ХХвв. Если брать оценку Гёльдерлина
у Шерера лишь в столь общем смысле, то в ней и нет ничего индиви-
140
дуального — это обычный модус его восприятия, причем
реалистическая психологичность второй половины века (статья была написана в
1870 г., к столетней годовщине поэта) точно так же не позволяла
оценить психологический «эксцентризм» Гёльдерлина, как в
романтическую эпоху не могла быть осмыслена во всем своем значении пиндаров-
ская восторженность од и гимнов Гёльдерлина, его, поэтическая
дикция. Гёльдерлин никак не поддавался психологическому подходу — в
нем прочитывались туманность, непластичность и мировая скорбь, как
бы ни стремился Шерер воздать ему должное в своем уравновешенном,
по-своему тонком размышлении о его поэзии.
Совсем в ином отношении не поддавался психологическому
подходу Йозеф фон Эйхендорф, величайший немецкий лирик первой
половины века: обращенный к широкой публике своей простой стороной,
он и воспринимался как наивный и незамысловатый поэт, песни
которого были подхвачены студентами и пошли в народ. Потребовалось
немало времени, пока в литературном сознании не было
отдифференцировано особое качество лирики Эйхендорфа, ее смысловая глубина,
предстающая в четких образах, хотя и всегда овеянная дымкой
романтических настроений. Потребовалось еще больше времени для того,
чтобы наука открыла ту линию традиции, к которой принадлежал
поэт444, линию, восходящую к барокко и эмблематической культуре. В
обыденном же сознании образ простоватого компанейского поэта жив
и до сих пор. Так что когда в своей истории литературы Шерер
сопоставляет Эйхендорфа с малозначительным В. Мюллером, то можно
только констатировать, что никакого литературоведческого подвига он
не совершил. Это грех упущения. Несравненно худший
историко-литературный казус, когда Эйхендорф был до неотличимости смешан (не
сопоставлен, а смешан!) с Уландом, никого до сих пор, кажется, не
взволновал: «Какой превосходный поэт барон Эйхендорф: его песни...
неотличимы от уландовских, причем от самых лучших»445. Вскоре тут
же вспоминается и В. Мюллер, похожий на Уланда.
Очень часто Шерер как читатель-критик движется в том же потоке,
в каком плыли его современники, воспроизводя привычное для всех и
вторя общепризнанному.
Ни один историк литературы, даже если он проработал весь
доступный ему материал источников, не может пересмотреть все традиционные
оценки и быть независимым от них. Поэтому в вину Шереру никак
нельзя ставить то, что «он не подверг сомнению традиционный выбор
произведений и авторов - канон произведений и авторов, релевантных
в литературно-историческом смысле», и тем самым «некритично
воспроизвел традиционные оценки»446. По мнению Р. Розенберга, Шерер
позитивистски оправдывает такой «канон как результат
коллективного, общественного процесса оценивания, в котором отложилось
длительное воздействие» писателей и их произведений. Но в этом еще нет
ничего позитивистского - ведь любой историк литературы не может не
считаться с традиционным каноном ценностей, если он сложился в
обществе. Можно было бы упрекнуть Шерера в механическом или
количественном подходе к «канону» или сказать, что канон, перенимаемый
официальной «национальной наукой», тем самым приобретает какую-
141
то идеологическую форму (для этого есть основания), — но только
признание того, что известный канон ценностей откристаллизовался в
литературном сознании нации, совсем не то, что «программное
воздержание от оценок анализируемого материала»447. Такое «воздержание», как
мы видели, было совсем не свойственно Шереру, и совсем строгие
филологи имели повод бранить его за фельетонизм и «популярщину».
Романтические мыслители много потрудились для того, чтобы
установить такой канон; Якоба Гримма он не слишком занимал,
поскольку создания индивидуальной поэзии оказывались заведомо по другую
сторону подлинных ценностей. Шерер же, сдвинув внимание на
современность, мог воспользоваться сложившимся (хотя вовсе не
неподвижным!) каноном ценностей. Психологический критерий естественности,
наперед данный ему как ученому, приводил к существенному
смещению оценок - к любопытным нюансам оценок, и к тем оценочным
курьезам, малую часть которых можно было привести выше.
Вся та сугубая проблемность, которая заключена для нас в общении
с искусством, с его произведениями, проблематика «своего» и
«чужого», понимания культур прошлого (что иногда называют «диалогом» с
ними) - весь этот комплекс проблем представал перед Шерером в
слишком нерасчлененном виде. И, надо сказать, не слишком занимал
его. Современник и друг В. Дильтея, он теоретически коснулся
герменевтического круга вопросов, чтобы весьма показательным образом тут
же свернуть на естественную для себя ситуацию, которая и
охарактеризована им вполне достоверно: «Филология основывается на тончайшем
духовном разумении <...> Всякое разумение есть воссоздание: мы
преобразуемся в то, что мы постигаем; тон, задевающий наш слух, должен
пробудить в нас родственное звучание, — иначе мы глухи, и частичная
глухота - это, увы! общий удел людей»448. Вот в чем нерасчлененность:
мы, встречаясь с искусством преобразуемся, но это значит, что в нас
звучит родственная струна. А если она так и не зазвучит? Но именно
так устроено поле психологической естественности - во все то, что
сюда вовсе не попадает, мы и не можем преобразиться, превратиться;
можно двигаться навстречу даже тому, что чуждо, но только при
условии, что это чуждое все-таки хотя бы отчасти зайдет на наше поле.
Таковы были для Шерера получуждые ему явления австрийской
культуры, в которых он мог находить много близкого себе, но только так, что
эти близкие, родственные черты никогда не складывались в целое,
не исчерпывали его.
Другой областью своего-чужого стало для Шерера творчество Гёте
или даже, точнее, «гётевская филология», Goethe-Philologie (сам
термин принадлежит Шереру).
Гётевскую филологию Шерер рассматривал как область приложения
строгих методов науки, а потому здесь он методичнее и придирчивее в
своих оценках. Шерер глубоко чтил Гёте и видел в нем универсальное
явление: большой заключительный раздел его «Истории немецкой
литературы» построен так, что современные Гёте течения литературы и
культуры, творчество его современников излагаются на фоне жизни и
творчества Гёте — оно шире всего, обнимает все, это подлинная
«эпоха Гёте». Однако как филолог Шерер не испытывает трепетного пиетета
142
перед Гёте, и его биографические и историко-генетические штудии,
начатые во второй половине 1870-х годов, объективны и деловиты. Он
отбрасывает в них эссеистические вольности и охотно входит во всякие
мелочи, приставшие настоящей академической филологии. Эти штудии
вполне подготавливают позднюю «Поэтику» Шерера с ее
«объективностью».
Но что за «объективность» в этих работах о Гёте? Она ведь
заведомо вправлена в рамку психологической естественности, в рамку
психологизма, а потому строгий и придирчивый объективный анализ ведет
лишь к более пристальному разбору творчества Гёте на свое и чужое.
Внешне это выглядит как филологическая дотошность; для Гётевской
филологии это означало погружение ее на долгие годы в кропотливей-
шие детальные изыскания, вплоть до той крайности, когда
достигается «точность без смысла», - ее Шерер отвергал. Эстетически это вело
к несовместимости поэта и его исследователя, к осознанию
несовместимости — ситуация не легкая и потребовавшая впоследствии
значительных усилий по ее преодолению.
Сам Шерер в общем-то находится именно в таком положении: чем
глубже входит он в Гёте как филолог, тем заметнее эта
несовместимость. Для широкого читателя Шерер мог выводить из «Фауста»
идеологическую однозначность: «Фауст, который из объятий Елены спешит
к общественно полезным деяниям - это завещание Гёте немецкому
народу»449, - так что гётевская философия дела прямо переходила в
прусско-германский имперский оптимизм, впрочем, без его
идеологических крайностей450. Но «Фауст» переставал тогда быть трагедией. Зато
Шерер-филолог не справлялся с «Фаустом» как художественным
целым — не справлялся так, как не справлялись до него
философы-эстетики спекулятивного толка, как не справлялся умудренный опытом и
поэтически одаренный Ф.Т. Фишер, как не справлялись самые
ординарные и самые неординарные читатели.
Конечно, у Шерера все это совершается своеобразно, и он не делает
заимствований у других. Это относится к «Фаусту» и к иным, прежде
всего поздним произведениям Гёте. Внимание исследователя
переключается тогда на генезис произведений, который должен показать и
объяснить, почему и в чем именно они не полны и не цельны.
«Истинный метод историко-литературных исследований исходит из
дошедших до нас судеб и из тщательнейшего анализа духовного
содержания индивидов; он стремится вывести из первого естественные
задатки и внешние условия жизни, из второго — движущие духовные
влияния, связывающиеся в индивиде; обобщая родственное, он восходит
к реально всеобщему, представляя его как движущую силу, - ее
возникновение в качестве суммы индивидуальных усилий составляет
дальнейший объект исследования...»451. В литературе давно известно, что
Шерер сводит изучение произведения к его генезису452: небезукоризненно
изложенная мысль из рецензии 1865 г. ясно свидетельствует о том, что
Шерера действительно по преимуществу занимало все то, что стоит за
произведением, все то, что заканчивается созданием произведения. Все
такое «предварительное» (ein vorausgehendes Moment) должно
объяснить само произведение, точнее говоря, оно замещает собою произве-
143
дение. Целое же и полное, очевидно, мыслится как некое
психологическое пространство — как некая психологическая последовательность,
которая нигде не должна прерываться. Если такие пространство и
последовательность рвутся, исследователь обязан констатировать
неполноту целого, — пропуск в нем или его несовершенство. Генезис
показывает, что и когда автор не успел написать, забыл написать или не сумел
написать так, чтобы куски сочленились в последовательность.
Попутно исследователь должен высказывать свои предположения
относительно неизвестных этапов генезиса произведения.
Шереру принадлежат весьма проницательные гипотезы. Так, он
предполагал существование раннего варианта гётевского «Фауста»,
написанного прозой. Когда рукопись «Пра-Фауста» была обнаружена и
Э. Шмидт издал ее (1887), стало ясно, что мысль Шерера шла в верном
направлении, — по словам Шмидта, Шереру не пришлось бы
отказываться от своей гипотезы453. Обыкновенно же Шерер считает
возможным обнаруживать свою сверхпроницательность; и он еще не
обременен горьким опытом литературоведения, а первозданно самоуверен:
«Избегать несхождений в содержании - это в конце концов дело
внимания. Поэт очень внимательный и собранный, даже и делая
перерывы в работе, достигнет многого в этом отношении. Однако в целом
филолог будет более внимательны^, чем поэт» 454. Мы могли бы думать,
что исследователь разнимает создания поэта, предъявляя к нему
требования логической последовательности, непрерывности. Это и есть
логика - но только логика психологической последовательности,
мотивированности, «конгруэнтности», такой острый взгляд, который
следит за тем, чтобы все протекало естественно. Исследователь не то, что
читатель или зритель. «Зрителю кажется, что перед ним
последовательно происходящее действие, и он охотно смиряется с его странным
течением»455. «Бурная сила творческой фантазии поднимается над
несущественными деталями, и в «Фаусте» Гёте есть такие противоречия,
где мы должны допускать возможность того, что он намеренно
оставил их или же, говоря осторожнее, знал об их существовании, но не
устранил их»456.
Поэту, зрителю и читателю может казаться, а исследователь должен
обнажить то, что на деле есть. Исследователь словно совесть поэта,
который, например, не может знать свой стиль и свои средства так, как
филолог457. Начало первого монолога Фауста (стихи 1-32) - это
«ребяческая, с точки зрения утонченной техники недраматическая
экспозиция»458: «Фауст в первом монологе принял решение встать и уйти <...>
Мы думаем - вот сейчас он уйдет. Не тут-то было! Те духи, которые вот
только что пребывали где-то в недосягаемой дали, окружают его.
Почему? Какой волшебной силой привлечены они сюда? <...> Надо по
меньшей мере зафиксировать то, что Гёте внезапно и непонятно по
какой причине отбросил мотив, который только что развивал сам»459.
Исследователь уверен, что видит произведение внутри, и уверен, что
все намерения автора сможет вычитать из его текста. Раскрытая перед
ним книга автора - открытая книга смысла.
Произведение совершенно объективно и абсолютно доступно для
своего изучения. Любые трудности — это трудности филологического
144
метода, трудности временные, безусловно преодолимые. Это
внутренние трудности науки, но и их, можно сказать, почти нет. Произведение
просто объективно и доступно.
А вместе с тем эта объективность произведения находится в поле
психологической естественности. Критерии психологической
естественности тоже всегда с исследователем, внутри его. «Филология
объемлет все, разумеет все, освещает все»! Филолог почти
отождествляется с филологией.
Шерер так обобщал свой филологический подход к «Фаусту» — в
передаче Э. Шмидта, слушателя курса лекций 1883 г.: «Фауст» Гёте
возникал лишь очень постепенно; Гёте создавал его в разные времена, в
различных настроениях, в различных стилистических формах. «Фауст»
не был вполне завершен, он не стал совершенно цельным, единым.
Разумение не может состоять в том, что мы станем обманывать себя на
предмет несовершенств, что мы будем обманным путем интерпретации
опровергать несовершенства и облыжно приписывать произведению
единство, которым оно не обладает, — совсем напротив: мы должны
будем насколько возможно проникать в генезис произведения, учиться
различать первоначальные и позднейшие намерения и, насколько то
мыслимо, указывать каждой черточке, каждой сцене, каждому мотиву
их место в первоначальном замысле и все время напоминать себе о том,
что могут отсутствовать сцены и мотивы, которые первоначально
входили в намерение автора, но не были исполнены, — будь они
исполнены, взаимосвязь целого восстановилась бы, чего, однако, нет во внешне
завершенном произведении»460. В других произведениях Гёте, например
в романе «Годы странствия Вильгельма Мейстера», к незавершенности
прибавляется еще «плохая, поверхностная редакция»461.
Нельзя не сказать о том, что, выбрав для своей филологической
работы Гётевского «Фауста», Шерер оказался перед произведением,
которое в дальнейшем потребовало самых мучительных усилий для
постижения своей цельности и своего единства; нельзя сказать, — чтобы
такой процесс постижения был вообще завершен, тем более что в
«Фаусте» действительно есть пропуски первоначально
запланированных сцен. Однако литературоведение и философия, постепенно
осваивая «Фауста» как целое, следовали именно тому курсу, против
которого предупреждал Шерер, - интерпретировали и реинтерпретировали
текст в его взаимосвязи. Но, главное, переосмысляли само «целое» -
само понятие «целостности». Выше речь шла о том, что Шерер (и,
конечно, вся наука, вся научная традиция, которую он представляет)
никак не может мыслить целое там, где не способен психологически
отождествиться с предметом, обнаружить в нем естественность
психологического; всякие «обрезки» и «остатки» - а таким и предстал недо-
вершенный «Фауст» - не годились на роль целого. Но точно так же
Шерер не может вообразить себе, чтобы писатель, в течение долгих
лет, с перерывами, работающий над своей вещью, неукоснительно
преследовал свою цель, цель создания целого: ведь и писатель
погружен в тот же естественно-психологический процесс, который он
создает и в своем предмете — произведении, а потому он зависит от
такого процесса, от его скольжения, от всяких настроений (как это и
145
сказано у Шерера), ибо именно таким, ускользающим от себя
самого, мыслился процесс.
Вот какой могла бы быть аксиома Шерера: целое берет верх над
настроениями, а настроения - над целым; не цель берет верх над
настроениями поэта, а его настроения - над целью; писатель, преследуя свою
цель — создание целого, не может не уступать своим настроениям, если
только его работа не протекает в психологически охватываемое,
обозримое, достаточно небольшое время и не протекает без перерывов; в
последнем случае поэт еще может как-то помирить свой внутренний
психологический процесс с тем, что воссоздается в произведении, и
достичь в нем целостности.
Впоследствии наука о Гёте, размышляя о единстве «Фауста»,
отказывалась от подобных казавшихся естественными аксиом и
переходила постепенно к иным, прямо противоположным, — действуя,
впрочем самыми разными методами и подбираясь к «Фаусту» с самых
разных сторон. Наука о литературе с таким переходом обычно, однако,
запаздывала, и развитие психологии, а особенно философии отражает
его несравненно красноречивее. Теперь вряд ли кто сомневается в
том, что поэт, работая даже в самых неблагоприятных условиях,
способен твердо ставить перед собой цель создания целостного
произведения (цель целого) и в таких условиях исполнять свой идейный и
художественный замысел. Конечно, поэту приходится бороться с
трудностями психологического порядка и, например, преодолевать свои
настроения; зато и произведение может задумываться и выстраиваться
так, чтобы заранее считаться с разнородностью которая должна
улечься в целом и найти в нем свое место. Гёте, работавший над
«Фаустом» шесть десятилетий, как представляется, именно так и
замыслил его. Впрочем, это не отменяет всех тех трудностей и сложностей,
которые исследовал Шерер и которые в его понимании нарушают
целостность этого произведения. В соответствии с противоположным
подходом (целое интегрирует «настроения») они должны
преодолеваться в целом произведении.
Для Шерера же «Фауст» Гёте и другие его сочинения важны еще и
потому, что их особенности характерны для определенной части всей
литературы вообще: «Произведения Гёте ставят перед филологическим
исследованием примерно те же проблемы, что и большой народный
эпос или такие сочинения, в которых противоречия, бессвязность и
различия стилей вызывают подозрение в компиляции или в
интерполяции, т. е. в том, что сочинение лишено полного единства»462.
Итак, получается, что Гётевские произведения оказываются в одном
ряду с теми произведениями, которыми занимается и классическая
филология, когда изучает, например, эпические поэмы Гомера или тексты
древних трагиков, особенно же классическая филология шереровских
времен с ее гиперкритицизмом и увлечением атетезами и
конъектурами, что подвергал критике У. фон Виламовиц-Мёллендорф; Гётевские
произведения оказываются в одном ряду с теми произведениями,
которыми занимается немецкая филология, когда изучает произведения
древнего и среднего периодов истории немецкой литературы, например
«Песнь о нибелунгах»463.
146
Выходит, что произведения Гёте — в самой лучшей компании, и они
сами собою возвращают филологию в гриммовские времена с их
увлечением всяческой первозданностью. Здесь же и относительно новые
произведения словно возрождают такую первозданность - хотя бы как
проблему филологии и как предмет ее занятий. Поэтому вот что можно
представить себе: Шерер еще и потому совсем не боялся этих
разрушенных, нецельных и несобранных Гётевских созданий, что они попадали
для него в хорошую филологическую полосу и требовали возрождения
приемов филологической работы в старом солидном смысле. Вообще
Шерера и не удивляло и не смущало то обстоятельство, что у Гёте как
поэта почти ничего не получалось — так, как он, Шерер, понимал Гёте:
за что Гёте ни возьмется, почти ничего у него не выходило - либо не
клеилось с первого раза, либо так никогда и не складывалось в единство.
Не вышли с первого раза «Вертер», «Клавиго», «Родственные натуры», и
«если бы, однако, Гёте еще раз приложил руку к таким фрагментам, как
«Прометей», «Вечный жид», «Тайны», «Навзикая», «Ахиллеида»,
«Побочная дочь», «Пандора», то, по всей вероятности, ему не удалось бы создать
из них единое целое - как не удалось это ему с «Эгмонтом» или
«Вильгельмом Мейстером», или же удалось бы при исключительно
благоприятном стечении обстоятельств, и мы должны были бы обращать особое
внимание на то, в какой мере он преодолел трудности»464, — т. е. следить
за тем, чтобы тут не было обмана. «Таким фрагментом был «Фауст», —
продолжает Шерер, даже более того - он постоянно оставался
фрагментом и требовал от поэта все новых усилий».
Гёте-классик вновь пробуждал в Шерере филолога, прошедшего
хорошую школу и овладевшего ее строгими методами. А вместе с тем тут
напряженно работала поэтологическая мысль Шерера — он обдумывает
суть художественных, поэтических произведений. Можно сказать, что
мы уже давно находились в области его поэтики, сначала речь шла о
динамике, присущей поэтологической мысли Шерера, затем об
аксиомах его поэтики. Эти последние касаются психологической
естественности как способа, как модуса восприятия и понимания чего бы то ни
было в мире, в действительности, - в том числе и поэзии, и
поэтических созданий. Осознанные лишь отчасти, эти аксиомы самого общего
«мировоззрения» действуют автоматически, не спрашиваясь с ученым,
с его «волей». Осознанные наполовину, они выливаются в
представление об объективности и доступности поэтических созданий, в
представление о том, что психологические процессы в душе писателя
мощнее его нацеленности на целое и др.
Такие осознанные лишь отчасти аксиомы безусловно важнее и
существеннее отдельных теоретически формулируемых методологических
тезисов. Последние могут формулироваться неверно и неполно, могут
забываться и откладываться в сторону, они могут вступать в
противоречие друг с другом, они могут не исполняться на практике и вступать
в противоречие с ней. Тезисы могут формулироваться так, что они
неисполнимы - неисполнимы вообще или для выдвинувшего их
теоретика. Тезисы могут заключать в себе нечто такое, что раскроется лишь
спустя долгое время; все это можно было видеть у Шерера, в его
работах. Теоретик может набрасывать программы, которые потом не испол-
147
няются. Так, к примеру, выполнил ли Шерер свою задуманную в
юности программу соединения филологии и истории в одну науку?
Очевидно, нет. Можно лишь надеяться, что эта программа не была
беспредметной, не была благим пожеланием, и только. Конечно же, Шерер
сумел оформить как представление то, что уже носилось в воздухе и что
было затем воплощено в действительность в науках о духе. Ведь науки
о духе как исторические дисциплины и занимались как раз
«диспозициями духа», как очень метко назвал это - наперед - Шерер:
диспозиции духа - это такие его состояния, которые сменяют друг друга в
истории и выступают в ней в своем самобытии, так что к ним не надо
даже приискивать (hinzufinden, как выразился Шерер) причины и
условия — они заключают их в своем самодвижении; когда Г.А. Корф
кончал в 1950-е годы свою начатую в 1920-е годы книгу «Дух эпохи
Гёте»465, он исполнял (и завершал) программу, намеченную Шерером
еще в первую половину 1860-х годов.
Однако когда мы изучаем труды Шерера и пытаемся вникнуть в
руководившие им принципы, в его лейтидеи, то реже всего приходит
на ум история. Правда, филология — историческая дисциплина, а
Шерер занимался историей литературы и историей языка, однако само
это слово «история» для него слабо отмечено и слабо окрашено. Речь
шла о том, как переосмысляется Шерером история литературы как
предмет филологии: она стягивается к моменту современности и
ставится на базу нового германского государства, которое своим
явлением на свет освящает все ее прошлое и настоящее и придает ей свой
акцент - вот ведь Фауст как человек действия — это завет немцам;
Шерер и кончает свою книгу «Фаустом», потому что, ограничив свою
книгу годом смерти Гёте, он и должен завершить все «Фаустом» и
смертью Гёте - Фауста466: «Теперь немцы с самого начала настроены
на общественно полезную деятельность, к какой Фауст приступил
лишь после долгих блужданий, и благоприятные ветры надувают их
паруса; зато другие, кто живет по Гётевскому образцу и почитают
поэзию священным делом нашего народа, борются с ветрами и должны
трудиться вдвойне467.
Уклон всей истории литературы к современности таков, что и в
старинной литературе постоянно мелькают прообразы нового и
новейшего: журналисты-шпильманы, просветитель Вальтер фон дер Фогельвей-
де, в лице которого веротерпимость XIII столетия символически подает
руку просветителю Лессингу. Однако это натяжение в направлении
нового все же слишком слабо для того, чтобы история приобрела
внутреннее наполнение и напряженность — хотя бы в той степени, какая
была присуща гриммовскому представлению о доисторическом и
историческом, общном и индивидуальном творчестве, притягивающимся к
этим двум полюсам.
Историческое измерение у Шерера достаточно нейтрально, чтобы
вмещать в себя все что придется. Это означает, что одновременно и то,
что в ней движется, лишено настоящего внутреннего роста, своей
органики, хотя бы таких, как в творчестве писателя: сила еще не развитая -
сила развитая — сила слабеющая; стадия учения — стадия умения —
стадия оскудения. Это крайне схематично и выполнено Шерером по об-
148
разцу Гёте, как он понимал его. В историю же немецкой литературы
Шерер вынужден внести внешний хронологический прием: в ней
высшие точки расцвета сменяют друг друга через 600 лет — и
соответственно точки упадка. Кульминационные моменты приходятся на годы —
600, 1200, 1800; моменты упадка на годы 900 и 1500468. Трудно сказать -
мнемонический это прием, итоговая схема развития или нечто,
отражающее существо дела, какую-то природную закономерность;
комментаторы Шерера принимают последнее469. Такая схема работает плохо,
но Шерер настаивает на ее регулярности. Уже одним своим
существованием она доказывает то, что истории поэзии, истории литературы не
присуща никакая внутренняя закономерность. Ведь сами волны и
провалы никак не определяют то, что через определенные временные
интервалы будет составлять содержание поэзии. Это и означает, что истории
как внутреннего движения, как внутренней закономерности Шерер не
знает - по крайней мере, в своей «Истории немецкой литературы».
Однако «Поэтике», которую Шерер читал в университете в
последний год жизни, известна, по крайней мере, смена крупных
литературных форм.
В целом же история выглядит у Шерера слишком ровной
площадкой, на которой разыгрывается драма литературной жизни, - Шерер
сам призывал изображать литературную историю именно как живую
драму. Но драма драмой, — весь взгляд на мир, который лежит в
основе науки, в том как она понимается Шерером, отмечен столь
благополучным схождением индивида и объектов, личности и окружения,
исследователя и его материала, что и вся история в конце концов
овеяна безмятежностью (ср. начало главы); в таком пространстве и наука,
филология и история культуры, может строиться как замкнутый в себе,
обширный, почлененный внутри себя предмет, как наука позитивная
и может осмысляться как нечто позитивное, положительное;
редкостный оптимизм - оптимизм коллективного, общего дела, который
сопровождает всю научную деятельность Шерера, - это внешнее, далеко
не случайное отражение всей ситуации в «настроении» исследователя.
Не случайное, такое настроение вновь утверждает всестороннюю
«позитивность» науки470.
«Позитивизм» Шерера как научный метод восходит к таким чисто
жизненным «позитивностям», заданным как аксиомы, и только
придает им особое оформление.
Как уже было сказано, отношение теоретических тезисов и
конкретной литературоведческой (филологической) работы у Шерера
гораздо противоречивее, чем считалось прежде. Методологические
положения расслаиваются на различные теоретические ряды, а труды
литературоведа, филолога, в разной степени зависимы от задаваемых
установок. «Необходимо четко различать программные заявления
Шерера и их практическое исполнение», - пишет К. Веймар, имея в виду
и творчество Шерера, и особенно его школу471. Для истории науки не
менее, чем для истории литературы, искусства, важно то, что в ней не
действуют и взаимодействуют методы в их чистом виде.
Почти все, кто в первое время, начиная с учеников Шерера, писал
о нем, сходились на том, что ориентация на индуктивные естественно-
149
научные методы определяла характер его науки, его методологию472.
«Гердер, Дарвин вели его за собой, не Гегель и не Фишер»
(Э. Шмидт)473. «Он вжился в эволюционное учение Дарвина и
основания своего исторического метода обрел в философии современного
эмпиризма и позитивизма — у Конта, Бокля, Джона Стюарта Милля,
Тейлора, Герберта Спенсера» (К. Бурдах)474: «Его подход определялся духом
естественных наук, он стремился к распространению сравнительных
методов и последовательному проведению эмпиризма. Так у него
возникла универсальная и вполне современная мысль, в
соответствии с которой он связал древнюю литературу нашего народа с его
позднейшими поэзией и языком, поставил такое целое в четкие и
ощутимые отношения к жизни немецкой души и стремился
проникнуть и в подсознательные глубины поэзии светом
сравнительных методов» (В. Дильтей)475.
В статье «Новое поколение» Шерер писал: «Та самая сила, которая
пробудила к жизни (!) железные дороги и телеграфы, сила, которая
привела к неслыханному расцвету промышленности, умножила
жизненные удобства, сократила длительность войн, одним словом,
позволила сделать могучий шаг к установлению господства человека над
природой, - эта самая сила управляет и всей нашей духовной жизнью:
она отбрасывает догмы, перестраивает науки, она ставит свою печать и
на поэзии. Естествознание в триумфе следует на своей колеснице, к
которой привязаны мы все. Мало того, что для целого ряда важных
задач науки о духе мы вынуждены просить естествознание о помощи, —
весь метод, весь характер научной работы стал другим»476.
Из этой статьи (с ее местами невыносимой журнальной
патетикой) без труда выводятся «самые общие принципы позитивистской
историографии»:
«Немецкий идеализм отбрасывается как мировоззрение вообще и
как теория истории в частности»;
«Отклоняются ее методы диалектического мышления»;
«Социальные законы сводятся к законам природы»;
«Во всех областях духовной жизни царит строгая, линейная
причинность»;
«Индуктивная, эмпирическая работа исключает всякую оценку»477.
Мы знаем теперь, однако, насколько мало соблюдал Шерер, к
примеру, последнее из этих положений; первые два он безусловно
«разделяет» - они вытекают уже из жизненно-мировоззренческой позиции
Шерера, из «аксиом» его взгляда на мир, из приверженности
психологической непосредственности, и вопрос о том, насколько он в своих
работах следует естественнонаучному методу, сводится к тому,
насколько значимы для него приведенные третье и четвертое положения.
Шерер действительно внимательно изучал французских и
английских позитивистов и эмпириков; Г. Рейс обращает внимание на
сочинения Вильгельма Рошера (1817-1894), немецкого экономиста478,
работы которого Шерер читал в юности. Рошер, как сторонник
исторического метода в экономической науке, уже в работе 1841 г. связывает
изучение «народов в хозяйственном отношении», - «того, что они об
этом думали, чего хотели, к чему стремились и чего достигали», - с ис-
150
торией культуры в целом, с «другими науками о жизни народа»
вообще479. Этот «синтезирующий» момент мог оказать влияние на Шерера,
на его идею сочетания и слияния филологии и истории. Вопросы
методологии исторической науки продумывал ись молодым Шерером, о
чем особо свидетельствует рецензия Шерера на книгу историка Э. Пе-
че. Рецензия любопытна тем, что в ней Шерер отстаивает положения
Рошера против Пече и формулирует ряд методологических тезисов
безусловно в духе позитивизма.
1) Шерер различает исторический рассказ о событиях и общую
часть истории, методологию, или типологию, в которой «как один
феномен будет рассматриваться то, что в различные времена и в
различных местах действовало как одна всеобщая сила» - «общий элемент во
всем особенном — это предмет всеобщей историографии».
2) Он обосновывает индуктивный метод: жизнь каждого народа мы
должны разложить на отдельные области и затем наблюдать и
классифицировать их феномены; вопрос о причинах и следствиях всего
отдельного «само собой» приведет, по мнению Шерера, к соединению
жизненных областей в их взаимодействии, — объяснение воздействий
заставит перейти на почву психологии, которая и даст
окончательный ответ.
3) Милль в своей методологии истории дает образец,
удовлетворяющий всем требованиям реформы исторической науки,
поднимающий важнейшие ее проблемы; Милль ближе к такой цели, чем
немецкие труды от «Идей к философии истории человечества» Гердера до
«психологии народов» Г. Штейнталя и М. Лазаруса480 и до
«Микрокосма» Г. Лотце481 (напротив, практика немецкой историографии
обошла англичан, так как Бокль и Милль резко односторонни в
применении своих методов)482.
4) Шерер подчеркивает значение метода аналогий в духе Нибура,
Шлоссера, Гервинуса и Рошера для исторических обобщений и для
изучения того, что Шерер назвал «великими гармониями в истории»483.
Немецкая историческая традиция (и это очень важно) оказывается
для Шерера не меньшим источником вдохновения, чем принципы
английского эмпиризма, и он крайне характерно добавляет: «Признаю, что
принципы эти, быть может, лишь потому представляются нам столь
превосходными, что их формулы позволяют приписывать им такой смысл,
какой получен нами лишь из лучших образцов нашей практики»484.
Это многозначительная оговорка - она возвращает Шерера в
немецкую традицию, точнее, к целому комплексу немецких культурных
традиций, к которым у него сложилось внутреннее отношение. Английские
теоретики (широко читавшиеся тогда во всей Европе) лишь
подталкивают мысль Шерера к обобщению. Идти же он должен своим путем,
подсказанным немецкой наукой. Как Милль, так и немец Рошер
сыграли в жизни Шерера роль методологического стимула, - продумывая
основания исторической науки (с тенденцией к ее универсализации -
«синтезированию»), Шерер не мог воплотить их в дело ни
прямолинейно, ни последовательно, ни непротиворечиво. Тем более что, как мы
видели, историко-литературные штудии (если говорить о Шерере-лите-
ратуроведе) по разным причинам отводили его в сторону от такого «мас-
151
сированного» применения методологических положений, какое словно
предполагалось чисто программными заявлениями (типа тех, что были
даны в завершение статей о Якобе Гримме, в только что цитированной
рецензии или в фельетоне «Новое поколение»). Шерер был способен на
неожиданные повороты - не только на «практике», но и в продумывании
метода (но и продумывание и формулирование метода — тоже практика
литературоведа). В 1870 г. в статье «Немецкая литературная революция» он
писал: «Мне кажется, задача истории литературы состоит в том, чтобы
сначала исследовать общие черты эпохи 1770-1815 гг. и лишь затем
осветить особенный характер каждого десятилетия или каждого литературного
поколения. Нужно определить уровень, над которым вознесутся затем
горные вершины»485. Установить общие черты эпохи — это предполагает
взгляд, обращенный на целое, а не на отдельное и частности, и этому
целому принадлежит центральное положение в выяснении закономерностей
литературного процесса эпохи (как сказали бы теперь). Правда, после
этого Шерер толкует такое целое как своего рода «нормальный», средний
культурный язык эпохи, который предстоит еще довольно механически
расчленить486. Однако так или иначе целое, которое надо иметь в виду и
изучить, предпосылается любым частностям. Методологическая
неустойчивость Шерера — это, как можно было видеть, отчасти и сильная его
сторона: она дает возможность более свободного научного творчества, самый
смысл которого - в позитивном научном труде.
Такую роль методологического стимула к размышлению имели для
Шерера и естественнонаучные представления времени, — как
отразились они в позитивистско-эмпирическои методологии, - играли для
Шерера роль стимула к размышлению. Они не связывали его и не были
для него «моделью», направляющим, обязывающим представлением.
К. Бурдах, — правда, единственный среди учеников Шерера, -
сомневался в том, «что направление и метод его исследования можно
называть естественнонаучным вообще (как писал Дильтей в своем
некрологе)»487. Среди аргументов, которые приводил К. Бурдах в подтверждение
своего мнения, был и такой: Шерер «С энтузиазмом верил в силы
внутренней жизни и в ценность поэзии для национальной культуры»488.
Этот довод перестает быть расплывчатым и наивным, как только мы
вдумаемся в то, каким конкретным смыслом были насыщены для
1880-х годов такие выражения, как «внутренняя жизнь», «ценность
поэзии» и т. д. В этом нам поможет Шерер: на место тэновских понятий
«расы», «среды» и «момента» он ставит свою формулу — Ererbtes, Erlebtes,
Erlerntes489. И эта немецкая транскрипция тэновских понятий с ее
художественно выполненными аллитерациями тотчас же переносит нас в
иной по сравнению с тэновским мир — в немецкий, в дильтеевский мир.
Из пространства внешнего и «механического» - в мир внутренний,
притом индивидуальный, будь то внутренний мир личности или целой
нации: все то, что, по Шереру, наследуется, берется из жизни и
выучивается, - все это внутренне обрабатывается, проходит через личность (или
индивидуальность племени, народа, нации) и затем уже извлекается,
выводится изнутри ее как ее внутреннее достояние. Раса не просто
определяет характерные черты, качества, свойства народа, или личности, или
поэта, но этот народ, личность, поэт почерпают в расе то, что должно
152
стать и становится их внутренним сокровищем, и это не просто дано им,
но взято ими, как берут драгоценность или волшебный амулет,
доставшийся по наследству от седой древности. Среда не просто оказывает
свое воздействие на человека, но продумывается и прочувствуется в его
душе до тех пор, пока не станет неотмыслимои частью его внутреннего
мира. «Выученное» - что-то более внешнее: его можно не переживать,
а достаточно перенять. Однако и перенятое становится внутренней
принадлежностью личности, частью индивидуального мира.
Вот таковы трансформации тэновских координат! От трехмерности
внешнего культурно-исторического пространства взгляд обязан
перенестись внутрь индивидуального образования и все внешнее созерцать
изнутри его490.
Взгляд исследователя, перед которым встают личностные
пересечения, скопления таких хотя бы даже самых объективных тенденций, —
он должен быть устроен иначе, чем взгляд естествоиспытателя или
такого историка культуры, который все берет со стороны внешних
отношений, во внешнем пространстве.
И вот мы читаем: «Для уразумения духовных явлений не может быть
строгих методов; здесь нет возможности проводить неопровержимые
доказательства; никакая статистика, никакая априорная дедукция
здесь не помогают, не помогает эксперимент. В распоряжении
филолога нет ни микроскопа, ни скальпеля; он не может анатомировать, а
может только анализировать. А анализировать он может лишь одним
способом — ассимилируясь, уподобляясь. Однако человеческая
способность ассимилироваться обладает тысячью ньюансов, а потому один
и тот же поэт может быть понят на столько ладов, сколько людей
соберет он вокруг себя. Каждый находит в нем нечто иное <...> Каждый
филолог — своя особая секта»491.
Становится очевидным, что Шерер коснулся здесь самых основ
«понимающего метода» историко-культурных дисциплин. Он затронул
герменевтическую струю немецкой филологии - затронул настолько,
чтобы отойти затем в свою сторону позитивно-объективной филологии,
как бы предоставив то, иное, Дильтею, к ведению мысли которого она
относилась. База психологически-естественного восприятия любых
феноменов, в том числе, главным образом, и историко-культурных,
была у него меж тем общей с Дильтеем. Только Дильтей шел отсюда в
сторону психологически-культурных исторических относительностей,
их анализа, чтобы отсюда начать, наконец, исподволь преодолевать
ограниченность психологической, «аксиоматической» исходной позиции.
Шерер же от внутренного как проблемы понимания двигался в
сторону объективно-предметную, где позитивистские методы и
естественнонаучные представления, конечно, не заставили себя долго ждать.
«Вместе с Шерером и его поколением литературоведение вступило в
решающую стадию своего развития, для которой показательно
стремление к гносеологической разработке своей области знания с ее уже
достаточно твердо установившимися границами. Принципиальное значение
совершившихся перемен ничто так не прояснит, как указание на тот
вопрос, который со всей настоятельностью возник теперь перед
наукой, — вопрос о том, какие же задачи, наряду с собственно филологиче-
153
скими, ставит теперь текст. Ответ либо тяготеет к «возникновению»
текста, либо отсылает, в стиле науки о духе, к его «значению»»492. Это
старое разъяснение несколько упрощает реальное положение дел, -
однако несомненно одно, именно известная поляризация науки, которая
либо склоняется к фактологической позитивности и индуктивной
разработке своих материалов, либо же к интерпретации произведений, к
герменевтическим подходам. Ясно, что Шерер склонялся в сторону первого
и что иной раз его работы (например, статьи о Гёте) буквально
соответствуют только что приведенной формуле (автор занят «возникновением»
текста, который, как текст, не слишком интересует его), а потому дают
почти классические образцы литературоведческого позитивизма.
Литературоведческого! Т. е. сложившегося по внутренним потребностям своей
науки, во взаимодействии с филологическим материалом (а не вообще
безразличным, любым). Вместе с тем ясно и то, что Шерер, который чаще
всего не сковывал себя принципами методологии, заходил и на поле
иного направления, так что его отношения с Дильтеем отличались
взаимопониманием и при всем расхождении в тематике и направленности
работ тут чувствовалась общность и взаимополезность их деятельности.
Положение Шерера в науке его времени - живое, а потому
несводимое к определениям. Это же, собственно, подтверждает и самая
история науки. Существует множество взглядов на Шерера и, они
возникают в определенной последовательности. А самый ранний и наиболее
привившийся в сознании науки взгляд - безусловно не самый верный.
Согласно ему, Шерер воплощает в себе позитивизм в
литературоведении, является наиболее последовательным его представителем.
Итак, вот этот круг взглядов на Шерера:
Шерер — позитивист в литературоведении, который притом
следует методам современного ему естествознания493.
Шерер - позитивист, но позитивист sui generis, который во многом
отклоняется от научного позитивизма в его естественнонаучной форме494.
Шерер не может быть сведен к позитивизму495.
Шерер отнюдь не позитивист496.
Шерер не только не позитивист, но прямая ему
противоположность, и более того, подведение его под рубрику «позитивизма» на
протяжении десятилетий выполняло в литературоведении идеологическую
функцию борьбы с научным материализмом под предлогом борьбы
с позитивизмом497.
Можно наблюдать то, как всякий раз Шерер определяется через
«позитивизм» — хотя бы даже как отрицание его. Реальное отношение
Шерера к позитивизму — не мертвое, схематическое, а живое, которое
складывается из усвоения и отказа, следования и пренебрежения,
строгости и вольности, из попыток быть методологически четким и,
главное, из многообразных попыток «перехода» к творчеству по иным,
интуитивно ощущаемым, подсказанным внутренним чувством законам и
методам. Научное творчество Шерера протекало в исканиях (а потому
и было столь влиятельным в свое время), но все же нечто прочное он
находил в научных методах своих дней (даже методах образцово
естественнонаучных), а потому чувствовал потребность время от времени
возвращаться к их продумыванию.
154
Шерер и его творчество - это для науки «счастливый» случай,
такой, когда интерпертация созданного и оставленного им уже описала
круг и в большой мере исчерпала себя. Творчество Шерера (при том,
что ему была свойственна живая хаотичность) во всей истории науки
о литературе - самое ясное и (относительно) прозрачное. Достаточно
отбросить крайности во взгляде на него, чтобы понять, что в этом
историческом разворачивании его сути главное схвачено, - Шерер это и
не «просто» позитивист «в себе»: (как образец такового), но он и не
обратное ему. Шерер представляет собой закономерное тяготение
литературоведческой мысли эпохи к одному из ее полюсов498.
В своей поздней «Поэтике» Шерер не упомянул среди десятков
имен философов и филологов ни Бокля, ни Милля, ни Рошера.
Скорее всего потому, что продуманное при чтении их вошло уже в мысль
Шерера, стало ее внутренней стороной и принадлежностью, —
методология Милля или Рошера уже не вызывала у Шерера ни желания
интенсивно воспроизводить ее, ни упражняться в ней, ни пользоваться
определенной терминологией, как в 60-е годы. Тем более (это
очевидно) Шерер не считал целесообразным задавать ту же самую, уже
проделанную им работу слушателям лекций 1885 г.
В одном месте «Поэтики» Шерер прямо имеет в виду Рошера, не
называя его по имени. Он пишет так: «Способ рассмотрения, который
я предлагаю, возможен и в других областях, — например, в области
морали, и обычен в некоторых из них, - например, в политической
экономии: исследованию подлежит шкала всех возможных феноменов и
их действий. После этого устанавливается система правил (Regelung)
для конкретного случая: определенные ступени и формы ведения
хозяйства целесообразны для определенных эпох, - но истинной формы
хозяйства найти нельзя. В этом смысле история - наставница»499.
Сказанное в общем смысле соответствует, видимо, методологии
Рошера. «Тому, кто хотел бы разработать идеал народного хозяйства <...>
следовало бы, чтобы быть истинным и одновременно практичным,
поставить рядом друг с другом столько различных идеалов, сколько есть
на свете народов с их своеобразием, а кроме этого, сверх всего этого
числа идеалов ему следовало бы через каждые несколько лет
подготовлять исправленные издания этих идеалов — в связи с переменой
народов и их потребностей <...>» («Методы национальной экономии», 25).
«Вместо теоретической разработки таких идеалов мы попытаемся дать
простое описание сначала экономической природы и потребностей
народа, затем законов и институций, удовлетворяющих таковые, наконец,
реально достигнутого этими последними. Так что это как бы анатомия
и физиология народного хозяйства!» (§26)500. Шерер хорошо запомнил
текст Рошера, но взял у него лишь принципиальное содержание,
которое было пригодно для целей поэтики.
Поэтому в процитированном пассаже «Поэтики» допустимо
вместо «политической экономии» читать - «поэтика». Это не в экономии,
а в поэтике нельзя найти «истинной формы». Это в поэтике нужно
изучать все множество возможных феноменов, это поэтика формулирует
правила, пригодные для определенных исторически сложившихся
ситуаций. И довольно безразлично, — для результата, для итоговой мыс-
155
ли, — что максимы научной поэтики были добыты Шерером через
трансформацию такой-то политэкономической идеи. Полученное
прочитывается как самый общий замысел исторической поэтики.
III
Вот каков этот самый общий замысел исторической поэтики: «Задача
прежней поэтики отыскать истинную поэзию оказалась
неразрешимой»501. Поэтика «обязана во всем последовательно учиться у истории и
поступать непредвзято — она должна отдать справедливость всем
феноменам поэзии и всем народам земли, предусмотрев для них место в своей
системе, — и не спешить говорить о «хорошем» и «плохом», в лучшем
случае говорить лишь о больших или меньших воздействиях, лучше же
всего — о различных, какие производят разные виды поэзии. Впрочем,
в анализе воздействий отчасти содержатся оценочные суждения»502.
А в кругу такой поэтики оказывается все поэтическое творчество —
притом и реальное и возможное! Последняя мысль заслуживала бы с
нашей стороны продумывания: возможное - это «не осуществленные
комбинации известных средств»503. Так, если А. фон Платен
модернизировал содержание аристофановской комедии, воспроизведя ее
форму, то можно представить себе и модернизацию ее формы - хор был бы
развернут тогда в группу индивидуальных лиц наподобие группы
разбойников в одноименной пьесе Шиллера.
Нам нужно по достоинству оценить общий замысел исторической
поэтики Шерера, - так сказать, мелькнувшую в его сознании общую ее
идею. Такая поэтика, будь она выполнена, была бы исторической, т. е.
здесь, ориентирующейся на последовательную смену «поэтических
феноменов» и на их разнообразие в разных культурных традициях, и
системной, т. е., здесь, дающей полноту наличных феноменов. Итак, она
была бы исторической и системной.
Но, по достоинству оценив общую идею, нельзя не заметить, что
Шерер сейчас же сбивается на нечто иное. Уже вдруг возникшая мысль
о возможных поэтических феноменах переводит поэтику историческую
и системную в план классификационный и системный. Хотя Шерер и
просит не придавать чрезмерного значения этой идее «возможной»
поэзии, она уже пытается на место реального исторического течения
поставить исчерпывающую сумму всех явлений - что-то более абстрактное!
Дальше - больше, появляются все новые виды классификации: так, надо
классифицировать, причем полнее прежнего, поэтические роды, и надо
точнее прежнего классифицировать содержание лирики, а если
классифицировать содержание, то путем сравнения «без какого-либо учета
различия поэтических произведений по месту и времени, а глядя лишь на
существо дела»504. Анализ поэтического процесса должен сводить все
сложное к простейшим элементам, причем простейший элемент - это
такой, относительно какого возможен еще «непосредственный опыт,
переживание (Nacherleben) его»505. Все это напоминает процедуры Гербар-
та, когда он разлагает сложные идеи на простейшие элементы, - не
относятся ли и эти приемы к гербартианству Шерера, а отнюдь не к общим
«естественно-научным» воздействиям? Гербарту хорошо отвечает и ра-
156
дикальный логицизм, не останавливающийся ни перед чем. Вряд ли цель
Шерера состояла только в том, чтобы разрушать поэзию, — вероятно,
ему хотелось получить такие ее элементы, которые прямо
соответствовали бы фонетическим элементам языка, почему «историческая и
сравнительная грамматика Гримма» и выступает как образец506.
Одно совершенно очевидно: классификаторский подход вытеснял в
поэтологической мысли Шерера историю. Историко-генетические
представления о развитии, становлении литературы оказались слишком
слабыми, чтобы литературовед не уступал соблазну иных, скорее
лежащих на поверхности, внешних, осязаемых логических процедур.
Тенденция к отвлеченно-логическому исчерпанию определенного
материала (особенно если допустить, что ранняя выучка в солидной
австрийской школьной традиции сделала тут свое дело) соединилась с
подсмотренными всюду приемами объективной классификации,
оттеснила в сознании исследователя гриммовски-романтические
представления об истории как живом и несколько неопределенном в своих
очертаниях движении, как росте и, так сказать, субстанциальном
потоке, — все вылилось в итоге в схему, исчисление, пересчет.
Можно говорить о противоборстве разных методологических
тенденций в «Поэтике» Шерера, - но получилось так, что один из
подходов, а именно наиболее ценный и такой, постижение которого
складывалось и вырабатывалось у Шерера в течение всей жизни, подход
существенно исторический, был обречен в этой борьбе и должен был
уступить другому - логическому и аисторическому. И на осмыслении
истории этот последний тоже должен был отразиться, и вот мы можем
читать в «Поэтике» Шерера следующее: «Я. Гримм заходил настолько
далеко, чтобы полагать, что «народные песни сочиняются сами
собою», - неясное представление, опровергнутое уже Лахманом,
вычленившим в составе «Песни о нибелунгах» песни разных авторов. Такое
мнение опасно еще тем, что с ним связано представление о
радикальных различиях в поэтическом творчестве, - в то время как
поэтическое дело (das dichterische Geschäft) повсюду одно и то же»507.
Сейчас не имеет значения правота и неправота Гримма и Лахмана.
Последний переносил на «Песнь о нибелунгах» результаты и приемы
гомеровской филологии; до крайности занимательно, что Шерер встает в
споре с Гриммом на позицию Арнима, мыслившего историю в стиле
барочного романиста и верившего, что поэтическое творчество во все
времена одинаково. И для Шерера оно в каком-то отношении изъято из
истории — и это изъятое из истории творческое начало поэтического
творчества в реальных исторических условиях лишь обставляется затем всей
массой поэтических и конкретно-жизненных моментов. Весьма логично
тогда, что устная народная традиция, например, может приводить только
к тривиализации, к ухудшению поэтического материала, — и это взгляд, в
котором было едино большинство немецких фольклористов и историков
литературы на протяжении более ста лет — от Гриммов до Г. Наумана: ведь
и Якоб Гримм доискивался всегда праначала поэтического предания, и
литературоведы XX в. полагали, что функционирование какого бы то ни
было поэтического материала в народе приводит лишь к его
обесцениванию. «Типическое и формульное «народной поэзии» восходит к неполно-
157
ценности предания, - индивидуальное обладает меньшей властью над
распространяемой устно, не записываемой поэзией»508. Весь фольклор тем
самым становится лишь средой порчи индивидуально созданного;
несмотря на вздорность такого взгляда, нечто ему подобное встречается в
немецких литературоведческих трудах в первую половину XX в. В Шере-
ре же - это необходимо принять к сведению - говорит здесь радикальный
и односторонний представитель исторической поэтики-2. Мало того что
он все отсчитывает от современности: «Настоящее служит к объяснению
прошлого»509, он и вообразить себе не может, что возможна какая-то иная
мера творчества, кроме усвоенной им раз и навсегда: сущность творчества
всегда одна и та же, а по отношению к этому вечному и постоянному
моменту внутри истории литературы все ее исторические переменные
невольно должны выступить как нечто внешнее, не столь уж существенное.
А тогда нет ничего более естественного, как классифицировать их
согласно некоторым отстраненным, отвлеченным схемам. Хотел этого Шерер
или нет, он и классифицирует все лишь как внешнее, и внешним
оказывается все, кроме творческого акта «в себе», вечно себе равного!
Разумеется, почти не остается места для непредвзятого
«беспартийного» взгляда на поэзию разных народов - необходимость чего Шерер
ведь так хорошо понял! А вместе с тем в итоге поражения, какой
потерпел в «Поэтике» Шерера исторический подход к литературе, сюда
стали проникать мотивы и схемы прежней поэтики - то самое, что не
устраивало Шерера в известной книге В. Вакернагеля. Одним словом,
«Поэтика» Шерера принесла с собой разочарование - уже и для
свидетелей ее посмертного издания.
Мы же должны сначала отдать должное тем историко-поэтологи-
ческим положениям, к которым подбирался и в которых как-то минут-
но, без уверенности удостоверялся Шерер, а затем оценить и ту
исключительную противоречивость, какая воцарилась в его «Поэтике». Эта
книга — не свод заблуждений, а свод исканий, в котором соединились
разнообразные мыслительные тенденции эпохи. Это была творческая
неудача - не столько лично авторская, сколько общая: общий неуспех
немецкой мысли об истории во второй половине XIX в. Можно думать,
что область поэтики и ее истории - это не какая-то частная сфера
только приложения готовых идей истории, но такая область, где
представления об историческом движении и его принципах поверяются и
осмысляются на тончайшем материале духовного производства, — здесь
мысль об истории словно бы до крайней степени сосредоточивается на
себе самой, не имея возможности отгородиться от самых
принципиальных проблем грудами внешних тем, событий, обстоятельств. Тогда
неудача, подобная шереровской, выглядит особенно капитальной. И все
же надо сказать: мерой ее достоинства выступают как ее «светлые
моменты», проникающие быстрым взглядом в настоящую полноту
разнообразных форм поэтического мышления, так и способность выявлять
на своих страницах методологические противоречия эпохи.
«Поэтику» Шерера как обобщающий замысел последних лет его
творчества кратко упоминали уже Э. Шмидт и В. Дильтей в
некрологах, подробнее писал о ней К. Бурдах в статье 1893 г. — предисловии к
двухтомнику статей Шерера510. Всем было ясно, что посмертно издан-
158
ная работа — это эскиз, разработанный лишь в первой своей половине;
однако было ясно и то, что замысел поэтики возник обоснованно, -
Шерер чувствовал себя призванным охватить всю область
литературоведения, тем более что его собственные работы относились почти ко
всем разделам науки о литературе.
Не менее существенным и отвечавшим внутренним потребностям
науки было обобщение накопленных ею материалов. Густав Рёте в
рецензии 1898 г. хорошо показал, как в самых разных работах Шерера
постепенно накапливался поэтологический фонд, выражавшийся в
частных и попутных высказываниях, - наконец наступила пора изложить
его последовательно. Рёте отмечал выходы Шерера в мировую
литературу, включая восточную (обычно в форме рецензий), его этюды о
романе и драме и т. д. (позиция Шерера неблагоприятна для изучения
лирики в отличие от эпоса)511. О постепенной подготовке поэтики в
трудах Шерера писал P.M. Мейер (в предисловии к первому изданию
«Поэтики») и Э. Ротхакер512.
Быстро откликнулся на «Поэтику» Шерера А.Н. Веселовский:
«<...> поэтика Шерера, бесформенный отрывок чего-то, затеянного
широко и талантливо <...>»513; «Поэтика Шерера <...> осталась
наброском, остовом лекций: полным блестящих идей, но и недосказаннос-
тей»514; в «Трех главах из исторической поэтики» А.Н. Веселовский дал
критический реферат основных положений книги Шерера515. «Книга
Шерера вызвала более полемики, чем сочувствия», - пишет А.Н.
Веселовский, и Шерер в некоторых разделах «оставляет историческую точку
зрения для обычного схематизма»; вообще книга Шерера относится к
той современной литературе вопроса, в которой «старое и новое
чередуются, эволюционная точка зрения с умозрительностью, черпающей
свои обобщения из современного художественного опыта»516.
Проницательная критика А.Н. Веселовского должна еще стать
предметом сопоставления. Сейчас же предстоит выделить некоторые
характерные моменты в «Поэтике» Шерера, которые не исчерпают ее
содержания, но обнажат методологически характерные ее мотивы.
1. В начале своей «Поэтики» Шерер должен был дать определение
ее предмета, и это внезапно потребовало от него больших усилий. То
определение, которое у него получилось, вышло весьма формальным и
стало напоминать определения старой, традиционной поэтики или
риторики. Вот оно: «Поэтика есть по преимуществу учение о
стихотворной (gebunden) речи, но, кроме того, о некоторых применениях
прозаической (ungebunden), которые находятся в тесном родстве с
применениями речи стихотворной»517.
Впечатление, что тут варьируются старые риторические формулы,
небезосновательно - ведь поэтика оказывается лишь частью всеобъемлющей
риторики, которая должна учитывать все вообще жанры словесности, в том
числе и те, которые поэтика «вынуждена исключать»518. Трудность же для
определения представляет необходимость отграничивать подлежащее
ведению поэтики от всего остального. Шерер выставляет два ограничительных
принципа - «не всякая поэзия есть художественное применение языка» и
«не всякое художественное применение языка есть поэзия»519. Точнее же
линию разграничения приходится проводить внутри прозы, так как «вся
159
область стихотворной поэзии оказывается в пределах нашей задачи»520. Так,
Шерер исключает ораторскую речь. Сам же он признает, что «граница
внутри прозы» получается расплывчатой. Одновременно же и выясняется, что
«существует потребность во всеобъемлющем искусстве речи», причем
относительно такой универсальной риторики (как можно было бы назвать ее)
предмет поэтики «выбран произвольно»521. Конечно, уже одно это не
может не вносить в поэтику Шерера внутреннего противоречия - задуманная
как исторический обзор всех форм литературы, если не как генетическая их
морфология, его поэтика оказывается перед нечетко вычлененным
фрагментом своего же предмета. Такое упущение, как можно предположить,
болезненно сказалось на внутреннем строе «Поэтики» Шерера и
способствовало деформациям ее методологии.
Шерер, ориентируясь на современное состояние литературы, так или
иначе стремился сделать предметом своей поэтики все то, что отвечало
современному ему общему, «естественному» представлению о поэзии, о
поэтическом, поэтичном. То, что выступает как поэзия для
психологизированного литературного сознания его эпохи, то и должно было бы
рассматриваться в поэтике. Однако такое сознание не запечатлено в теоретической
форме, и трудный обходный путь через историю поэзии и ее формы
необходим уже для того, чтобы в конце концов прийти к требуемому
«собственно поэтическому» — к экспликации среднего литературного сознания.
Правда, отчертить его точные границы все-таки не удается, и, конечно, это
соответствует существу «обыденного» сознания (которое было и
сознанием самого Шерера). Итак, поэтика Шерера — это поэтика таких форм
поэзии, которые сознание второй половины XIX в. могло признавать за
таковые. Действительно, рассуждая и о поэзии, и о прозе (о том, что в прозе
все же еще «поэтично»), Шерер не мог не урезать на каждом шагу область,
подвластную поэтике. Так, он признает, что оставляет для рассмотрения
лишь «высокую» поэзию, т. е. поэзию, вышедшую из более ранних
синкретических форм (где поэтическое неразрывно связано с действием и т. д.)522.
Между тем сам же Шерер признает, что обычная для нас теперь печатная
и читаемая глазами поэзия обеднена и урезана в сравнении с ее «живыми»
формами. Так что укорачивание предмета поэтики производится тут Ше-
рером и вполне сознательно под разными предлогами. Раз уж теоретик
выбрал современность как точку схода всей литературы, раз он поступил так
под давлением аксиом своего жизневосприятия и миропонимания, ему
приходится прислушиваться к своему внутреннему голосу. И в то же
время теоретик, объявивший мыслью весь свой предмет — уже в его
отвлеченности, не перестает усердно классифицировать в сфере этой
отвлеченности и здесь выходит за рамки сколь угодно широко понятого поэтического.
2. Вот как это происходит. Если есть синкретические жанры, где поэзия
сливается с действием - стихи с пением и танцами и т. д., то можно
представить себе как бы неполный синкретизм: вот, например, люди танцуют,
представляя некоторое драматическое действие, - такое произведение
искусства будет поэтическим произведением без слов. А.Н. Веселовскому
бросилось в глаза это место, и он заметил: «Мы выйдем из противоречия,
поставив вместо «поэтического» хотя бы «художественное»»523. Верно, что мы
выйдем из положения, но Шерер писал не эстетику, а поэтику, и именно
в ней ему было важно представление о поэзии, обходящейся без слов!524
160
Именно таковая заполнит известную клеточку в мыслимой полной
классификации всех возможных поэтических форм. В такой классификации
будут, вероятно, встречаться «вырожденные» моменты — такой, к примеру, и
будет эта минус-поэзия без слов. Это крайность, - противоположную же ей
находим, по Шереру, на другом конце развития поэзии: если поэзию
начинают только читать про себя, глазами525, то почему, наконец, не представить
себе лист, заполненный буквами, символами, рассчитанными только на
рассмотрение. «Математическая формула - это диаметральная
противоположность поэзии»526 - но ведь не той же поэзии, которая допускает и
вырожденные свои состояния, практически осуществленные спустя много
времени после смерти Шерера527. Реальная полнота исторических форм
поэзии никак не может согласоваться у Шерера с предметом поэтики: поэзии
оказывается то чрезмерно «много», то слишком «мало», и она тяготеет то к
отвлеченной полноте форм, то к новому «искусству речи» —
всеобъемлющей риторике, которая, нужно думать, и должна была бы взять на себя
задачи, формулируемые Шерером для исторической поэтики.
3. Что касается ранних форм поэзии, то Шерер не пользуется
термином «синкретизм», в отличие от А.Н. Веселовского, и у него нет столь же
обобщенного понятия синкретического искусства. Шерер исходит из
наиболее вероятных древнейших «применений языка», заключая о них
на основании культурных обычаев сохранившихся примитивных
народов. Такие древнейшие «применения языка» суть хоровая песнь,
пословица и сказка — последняя в прозе, но поэзия по смыслу, по существу.
Пословица не существует как отдельное произведение. Исходные
«применения» постепенно порождают отпочковывающиеся от них
поэтические формы, не переставая существовать, и, таким образом, порождение
форм можно представить себе в виде следующей (сокращенной) схемы:
Песня (танец и пение) Сказка (проза)
Песня (пение) Эпос (в прозе)
Песня (декламация)
Эпос (в стихах)
ι
Эпос («смешанньй»)
Очень показательно для Шерера, в противоположность, например,
А.Н. Веселовскому, что проблема исторического вычленения
поэтических жанров из первоначальных синкретических форм не становится
самостоятельной проблемой поэтики — она отнесена к первому разделу
161
книги, где выясняются границы поэзии, предмет поэтики,
соотношение в истории поэтических и прозаических жанров, и выступает, по
сути дела, как вспомогательный вопрос для определения границ поэзии
и предмета поэтики. То, что составляет основное содержание поэтики
Веселовского, для Шерера - лишь вспомогательный или
предварительный вопрос, который требует своего уяснения, прежде чем автор
перейдет к основному, главному содержанию своей поэтики. Этого
различия между ними не акцентировал даже и Веселовский.
Но этот пример с чрезвычайной яркостью иллюстрирует отличие
исторической поэтики-1 от исторической поэтики-2, как сложилось
оно в науке. Этнографический и фольклорный материал Шерер не
собирает; миф не связывается у него с ранними формами поэзии и
получает обычное объяснение в рамках психологизма (миф возникает из
потребности в объяснении природных явлений), Шерер говорит об
этом мимоходом и также едва касается связи мифа и эпоса528.
4. Вопрос о функции поэзии вполне определенно зависит у
Шерера от современного усредненного и «бытового» сознания поэзии —
поэзия возникает из веселья и воздействует как удовольствие; лишь как
исключение, на высших стадиях ее развития, появляется удовольствие
от боли. Поэзия может быть использована для наставления, и все
сводится к обычной риторической формуле — prodesse et delectare
(ссылка на Горация), только что «польза» - скорее уже привходящее
обстоятельство529. Вообще «элемент развлекательного - вот подлинная
стихия поэзии»530, и Шерер с настоящей проницательностью знакомит
читателей с метаморфозами развлекательного в современной
культуре - новости в больших газетах, развлекая читателя, репрезентируют
поэзию531, вообще в газете представлены в превращенном виде многие
прежние поэтические жанры — дидактическая поэма, нения. В целом
в истории поэзии Шерера интересует как раз ее другой конец — не
первобытные ее формы, а современные с их метаморфозами и даже с их
особым синкретизмом.
В поэзии сменяют друг друга в разных сочетаниях разделение и
объединение труда. Рассмотренная под таким нетривиальным углом
зрения, история поэтических форм дает неожиданные результаты, и
развитие вовсе не ведет только ко все большему разделению: «Прежде
господствовала специализация: певцы эпических песен - только
эпические певцы, Архилох - сочинитель ямбов, и только; афинские
драматурги — только драматурги. Шекспир, Лопе де Вега — по
преимуществу драматурги. Но в наши новые времена все основывается на
объединении труда, на многообразии в поэзии — Гёте». Разделение труда в
современной литературе— существуют романисты, которые пишут
только романы, далее, такие, которые пишут только исторические
романы, далее, такие, которые пишут только исторические романы из
египетской или ассирийской истории. К древней поэзии, к эпосу и к
гомеровскому вопросу Шерер приходит через современность и
наблюдения над существующими здесь формами разделения (и соединения)
труда: древний эпос мог создаваться несколькими поэтами, причем тут
существует возможность совсем разных ситуаций — поэты трудятся, не
ведая друг о друге, продолжая друг друга, перерабатывая друг друга, ра-
162
ботая совместно, например, в такой форме, что один делает
интерполяции в уже наличное произведение, и т. д.532 Ранние, древние
формы поэзии находят путь в поэтику Шерера, но уже через
современность, служащую опорой и объясняющим моментом; древнее и новое
объединяются в своеобразном морфологическом подходе к литературе,
где вопреки чрезмерным первоначальным разграничениям,
учитываются, весьма целесообразно, самые разные виды текстов (Textsorten). По-
видимому, у Шерера нашлось бы сказать много интересного о
жанровых процессах современной словесности (взятой во всем ее объеме,
включая газету как соединение жанров), если бы у него была
возможность продолжить свои наблюдения.
5. Эта тема разделения-соединения труда подводит нас к наиболее
оригинальной (основной) части шереровской «Поэтики». Помимо
малоинтересных и стандартных для эпохи психологизма разделов ее
(вроде разделов о душевных силах поэта, о гении и безумии и т. п.)533, эта
глава содержит действительно новое, где Шерер мог, в частности,
воспользоваться переосмысленными им представлениями политической
экономии. «Поэзия; или, лучше сказать, поэтический продукт, -
сегодня такой же товар, как любой другой, — пишет Шерер, - и
экономические законы ценообразования и рынка приложимы и к поэтическому
продукту, как и вообще к книге»534. Несмотря на такое смелое
заявление (достаточно только подумать о его трезвой стилистике, так не
свойственной немецкому литературоведению), Шерер, конечно, не
экономист, не политик; точно так же его нельзя считать и обществоведом,
который интересовался бы социальной функцией литературы; он
совсем не похож и на историка литературы, который исследовал бы
общественные функции литературы. То, к чему приступает здесь Шерер,
следовало бы назвать структурой социальных коммуникаций
литературы в их влиянии на творчество. Шерер только приступает к изучению
этой структуры и пока перечисляет мыслимые связи литературного
«продукта» и воздействующие на него факторы. Шерер подходит к
предмету не со стороны его истории, но со стороны постоянно
действующих моментов - все исторически-конкретное служит в таком случае
лишь вариантом такой постоянной структуры. Впрочем, Шерер не
успел привести материал в должную систему. Однако уже то, что он
способен поднимать такие вопросы и формулировать дисциплины,
подобные «учению о литературном успехе», по своему смыслу требующие
привлечения разных наук и «комплексные», весьма оригинально:
«Учение о литературном успехе чрезвычайно сложно; даже самые опытные
люди <...> редко осмеливаются что-либо здесь предсказывать.
Неожиданно могут складываться такие обстоятельства, которые способны
погубить произведение»535.
Шерер говорит о меновой стоимости и идеальной ценности
поэзии536, затем, по аналогии с экономическими факторами
производства, - природой, капиталом и трудом, - о природе - материале поэта,
о капитале - сумме существующих поэтических продуктов, о традиции
и о труде освоения традиции537.
Экономические понятия, как это становится особенно ясно из
последнего примера, Шерер понимает не в их собственном смысле: речь
163
идет не об экономических отношениях, в которых участвуют
литературные произведения, а лишь о некоторых аналогиях им. В отношении этих
аналогических представлений понятия экономические выступают как
своеобразные регуляторы их смысла. Экономические отношения через
посредство аналогий, видоизмененно, переносятся совсем в иную
область. Эта область — структура замкнутой в себе литературной
коммуникации. Все то многообразное, с чем встречается литературное
произведение во внешней жизни, та судьба, которую претерпевает оно в
обществе, все факторы, которые влияют на произведение и его
распространение, наконец, даже и экономические отношения, в которых оно
оказывается, — все это берется лишь как момент такой структуры, все
это учитывается и входит в сумму возможных факторов. Здесь время
стоит. Никакие обстоятельства не организуются в историческую
последовательность.
6. Соображения Шерера о воздействии литературных произведений,
об их ценности взаимосвязаны, однако лишь внутри замкнутой
структуры литературной коммуникации (связь: «литературные продукты -
читатели/слушатели»). Тогда мы можем много говорить о разных видах
воздействия литературного произведения538, о том, какие они вообще
бывают, но мы не можем посмотреть, как такое произведение
воздействовало за пределами собственно «литературной» жизни, каким было
его восприятие в социальной действительности. В структуре
коммуникаций закреплены извечные, постоянные психологические
закономерности. О воздействии произведений можно судить не по существу, а по
симптомам: о долго читавшемся, долго воздействовавшем
произведении справедливо будет предположить, что оно особенно ценно; «о
произведениях, воздействовавших на благороднейших людей всех времен,
можно сказать, что они ценнее других»539. «Поэтический продукт будет
воздействовать тем надежнее, чем он короче. Наикратчайшие
произведения, «крылатые слова» производят - пропорционально —
наибольшее воздействие. Таковы пословицы - они всеобщи почти как сам
язык»540, — и это наблюдение следует понимать в психологическом
смысле; речь идет о внимании как факторе восприятия.
7. Учение Шерера о внутренней форме близко пониманию
В. фон Гумбольдта, а также и A.A. Потебни. Оно ориентировано на
слово с его внутренней формой541, как понимал это Гумбольдт, и
психологизировано, как у Потебни. Шерер не имеет в виду
неоплатоническое и Гётевское понимание внутренней формы542: когда оно было
перенесено Гумбольдтом на язык, на слово, оно было существенно
переосмысление. Шерер, в свою очередь, перенес это понятие со слова и
языка на поэтическое произведение и вновь переосмыслил его: теперь
под внутренней формой произведения он разумеет психологический
модус восприятия определенного содержания создателем произведения
(«charakteristische Auffassung»543). Такое понятие весьма зыбко и
неотчетливо, и Шерер поворачивает его в план Гётевских «природы,
манеры и стиля», толкуя их как психологическую направленность,
установку или даже темперамент поэта. Способ подачи материала в
произведение, даже то, что мы назвали бы стилем или методом (например,
натурализм), у Шерера непосредственно продолжает такую направлен-
164
ность, такой темперамент. Тогда «внутренняя форма» значит лишь то,
что у поэта вообще имеется какой-то психологический склад, что-то
особенное в характере. И, разумеется, это «что-то» продолжает
ощущаться до самых поверхностных моментов произведения. Таким
образом, психологическое начало, коренящееся в поэте, пронизывает все
поэтическое произведение. Вот что, например, значит исследовать
стиль, который не сводится к риторическим и поэтическим средствам,
в подлинно историко-литературном отношении: «Необходимо
проследить весь ряд от материала до внутренней и внешней формы - от
сырого материала, каким оказывается он перед глазами поэта, от выбора
из этого материала, производимого поэтом, от особого способа его
постижения до его конкретного облачения, до выбора поэтического
жанра, до языковых и метрических средств; одним словом, нужно
проследить весь поэтический процесс и повсюду обращать особое внимание
и указывать на свое-образие поэта и демонстрировать его»544.
IV
Познакомившись теперь, на примере основных черт, с
методологической ситуацией, отложившейся в «Поэтике» Шерера, можно
задуматься над связями и последствиями этого труда.
Немецкий литературовед пишет: «Метод Шерера был использован
и развит в России прежде всего так называемой
культурно-исторической школой (Александр Веселовский, Алексей Веселовский, Пыпин,
Тихонравов и др.). Представители этой школы открыто разделяли
присущую работам Тэна и Шерера тенденцию к переходу истории
литературы во всеобщую историю культуры»545. Такое мнение основано на
неведении и путанице, но главным образом свидетельствует о глубоко
въевшихся недоразумениях, касающихся истории науки. Конечно,
хорошо осведомленный Р. Веллек546 им чужд. Суждение о влиянии
Шерера на А.Н. Веселовского не нуждается в опровержении547.
Но теперь, насколько можно судить, соотношение двух поэтик -
незавершенной «Поэтики» Шерера и незаконченной «Исторической
поэтики» А.Н. Веселовского, — а также и соотношение их поэтологи-
ческого мышления можно представить значительно более отчетливо,
чем прежде. Даже отчетливее, чем фиксировал для себя сам А.Н.
Веселовский, у которого не было причин подробно разбираться в таких
обстоятельствах. При известном пересечении тем и проблем двух
«поэтик» оба замысла ориентированы диаметрально противоположным
образом: то, что находится в центре научных интересов
Веселовского, находится на самой периферии интересов Шерера; внимание
Веселовского направлено на ранние и фольклорные формы литературы,
в генетической связи с которыми оказывается все последующее ее
развитие, тогда как Шерер опирается на сложившуюся в новейшее
время литературную ситуацию, которая сознательно принимается за
ключ к прошлому, но еще более того бессознательно действует как
психологическая норма подхода к любой литературе. Таким образом,
обе «поэтики» в своем внутреннем устройстве резко отличны друг от
друга.
165
Можно было бы сказать, что оба поэтологических замысла
сходятся в общем для обоих исследователей единстве
индуктивно-эмпирического, позитивистского метода. Однако и это единство отчасти только
мнимое: мы видели, что Шерер, исследуя литературу, тяготеет к
описанию структуры имманентно-литературного порядка, структуры
литературной коммуникации по образцу современной литературной жизни
и с особым акцентом на ней (проявляя особую проницательность
именно здесь). Между тем Веселовский пользуется своими методами в
историко-генетических исследованиях. Так что и здесь сходство в
большей степени мнимое, и Шерер тяготеет к таким задачам, которые
предполагают скорее структурно-логическую постановку вопросов.
Различия огромны, если принять во внимание материальное
содержание двух «поэтик». Содержание, конечно, вполне отражает
многолетнюю направленность всей поэтологической мысли двух ученых, -
отражает, в конце концов, то, как тот и другой мыслили для себя, в
течение всей своей жизни, облик своей науки. Накопленному А.Н. Ве-
селовским богатейшему знанию этнографически-фольклорных
материалов Шереру нечего было бы противопоставить - одна-единственная
ссылка в тексте «Поэтики» на австралийские фаллические песни
сопровождается характерной оговоркой: «пример неприличен»548: Шерер не
успел обжиться в мире ранних художественных форм. Компаративных
материалов по истории литературы у Шерера тоже не было
приготовлено, так как он не занимался самостоятельно иноязычными
литературами. Здесь как бы нет и почвы для сравнения. Точно так же нельзя
было бы ожидать от Веселовского интереса к структурному
исследованию современной литературной жизни и навыков такового — у
Шерера это оригинальный, методологически нетривиальный поворот,
окончательно, впрочем, удаляющий его от какого-либо исследования
истории литературы; зато А.Н. Веселовский, обращаясь к литературе XIX в.,
чувствует себя в ней не вполне уютно, пользуется обычными
биографически-психологическими приемами тогдашней науки, хотя, подобно
Шереру, считает нужным пробовать свои силы и на таких далеких от
себя сюжетах. В этом сходство; остальное различно549.
И тем не менее есть почва для плодотворного сопоставления: обе
поэтики - это произведения типологически сходных эпох в двух
национальных культурах - русской и немецкой550. Ведь у Шерера и
Веселовского было много общих источников, - как Шерер, Веселовский
усваивал мотивы позитивистской науки. Он читал Бокля и Милля. У него
были общие с Шерером учителя, хотя К. Мюлленхоф в жизни
Шерера сыграл несравненно большую роль; он «слушал Нибелунги и Эдду и
немецкую метрику у Мюлленгофа; посещал лекции Штейнталя, Гоше,
Jürgen Bona Меуег'а (психология)»551. Наконец, общей была
атмосфера академической науки, в которой каждый прокладывал свой путь.
Общей для всей эпохи, для Шерера и для Веселовского, была аверсия
против философско-идеалистических умозрительных построений,
эстетической «спекуляции», против гегельянства. Общим было
продумывание индуктивно-эмпирических методов науки. Общим было
ощущение и осознание потребности в новых научных синтезах, в расширении
филологической науки.
166
Веселовского никак невозможно замкнуть в пределах позитивизма и
его методологии. Только естественно, что и в его работах нет
позитивизма как чего-то неподвижно сложившегося и машинообразно
функционирующего. В его работах есть методологическая неустойчивость,
которая в эпоху господства позитивистских соблазнов представляется
весьма плодотворной, — неустойчивость, которая была связана с тематикой
работ и не менее того - с известными научными жанрами. Некоторые
литературоведческие штудии выступали как форма предварительного
накопления и осмысления материала, и тогда, по словам И.К. Горского,
Веселовский попадал в «тот лабиринт погони за фактами, когда не
знаешь, где поставить точку и каким количеством конкретных наблюдений
можно ограничиться»552. В сознании Веселовского наличествовал
соответствующий образ науки, - она создается с замедленностью, с
отодвиганием выводов напоследок, считается с отсутствием таковых как с
возможностью; во всяком случае, таково одно из проявлений
позитивистской методологии в академической науке. Надо признать, что во многих
трудах А.Н. Веселовский был последовательнее Шерера в практическом
проведении такого образа науки. Но это лишь один из вариантов
реализации науки - на другой стороне стоят работы, написанные для более
широкой публики, и здесь Веселовскому оставались чужды
предубеждения немецких филологов против популяризации науки, и в его
сознании, очевидно, не было того же раскола между строгой филологией и
более общедоступной наукой. Свою индуктивно-эмпирическую
методику А. Н. Веселовский характеризовал весьма ясно553. В итоге осторожных
и последовательных шагов исследователь должен прийти к обобщению,
которое «подойдет к точности закона»554 (так в работе 1870 г.) Можно
предположить, что «закон» в сознании ученого того времени вообще
сопряжен с представлениями о точной и строгой науке — будь то
естественная наука, будь то лингвистика, история языка, устанавливающая свои
законы. Правда, уже в молодости Веселовский возражает против
попыток строить историю на основе естествознания (такие попытки или
предложения Бокля приветствовал тогда Шерер): «<...> мы не верим в
возможность физического построения исторических явлений. История
не есть физиология»; историю «следовало бы построить <...> из самого
человека, как физиологической и психологической единицы,
состоящей, разумеется, под влиянием окружающего, но имеющей достаточно
материала в самой себе, чтоб из самой себя развиться»555. В толковании
раннего Веселовского история получает антропологический оттенок, но
для дальнейшей его ученой деятельности показательно иное -
установление как бы двух взаимосвязанных рядов развития: один ряд - это
история в ее широте, другой — специальный ряд отдельной исторической
науки; от одного из всей широты, идут влияния и воздействия, другой их
испытывает, но имеет, однако, достаточно внутреннего содержания в
себе, чтобы развиваться имманентно и быть представленным в качестве
имманентного, со своей внутренней закономерностью, ряда. Это, как
пишет Веселовский, «внутреннее построение истории, по крайней мере
некоторых частей ее»556. Закон уже указывает на
органически-естественную, если не прямо естественнонаучную устроенность исторического
материала: «Элемент законности (Gesetzmäsigkeit) обнимает историю
167
всего человечества» (из лекции 1881-1882 гг.)557. В самых разных
отношениях научная мысль Веселовского находилась в зависимости от
методологии и представлений позитивизма. В самых разных отношениях он
в разное время выходил из ее границ: он отходит от позитивистского
эволюционизма, признавая в научном отчете 1863 г. возможность
неожиданных толчков в историческом процессе - толчков, которые
нарушают развитие организма, взятое как «последовательное» и
«изолированное» (имманентное)558. Но уже идея организма коррелирует с
естественнонаучными представлениями середины XIX в. (хотя не сводится
только к ним), и совсем в иную сторону делает колебание мысль
Веселовского, когда в лекции 1870 г. он утверждает, что существует
«эпическое, лирическое, драматическое миросозерцание», причем «формы
эпоса, лирики, драмы» суть «естественное выражение мысли», которым,
«чтобы проявиться <...> нечего было дожидаться истории»559.
Самоутверждение такого «априори» кажется соединением, совмещением разных
мировоззренческих мотивов.
В 1893 г. А.Н. Веселовскому удалось дать удивительно емкое
определение своей «индуктивной поэтики»560 как изучения «эволюции
поэтического сознания и его форм»561. Направленность на сознание такой
поэтики и определяло всю научную деятельность Веселовского. Тут —
в противоположность Шереру с его вызванными ситуацией
немецкого литературоведения внутренними конфликтами - направленность
научной мысли на историческое изучение поэтического сознания и форм
поэзии не перебивалось радикально иными по природе подходами.
Коль скоро не было такого разрыва, Веселовский мог сколь угодно
уступать позитивистским принципам или позитивистской методике
исследования, мог даже разделять ограниченность позитивистского
мышления562, - всем этим не отменялось и не перечеркивалось главное, а
именно глубоко понятая и четко поставленная перед собой цель
исторического изучения поэтического сознания и его форм. Там же, где
между этой целью и конкретной работой ученого возникал зазор (не
разрыв, как у Шерера), это создавало возможность суженных
толкований задач поэтики. Как это было и у Шерера, цели поэтики
формулировались с ясностью и должной общностью, - но только после этого
Веселовский иногда отступал в бескрайнюю ширь позитивистски
обрабатываемой литературы, у Шерера же, после данного им определения,
началось отступление по всем фронтам.
М.К. Азадовский назвал историческую поэтику Веселовского
типичным явлением «именно русской мысли»563. В то время как в работах
Шерера сказался кризис немецкой исторической мысли, Веселовский
опирался на традицию русской науки, на русскую культуру с ее в это время
сосредоточенным размышлением над историей, с ее передовыми
общественными идеалами. Кризис исторической мысли - это не обязательно
внутренний кризис, не только внутренний кризис: у Шерера, как и у
многих других немецких мыслителей, он был кризисом ложной общественной
ориентации. Кризис мысли об истории в академической науке сказывался
в Германии в отрыве науки от широкого общественного движения; наука
приобретала официозный характер, соединяя свои абстрактные идеалы с
реальностью государства, прусско-германской империи; абстрактность же
168
идеалов была основательно подготовлена осмыслением науки как
замкнутой в себе, — погружаясь в себя на протяжении нескольких десятилетий,
немецкая филологическая наука, - к тому же получившая в наследство
весьма неопределенные представления об истории, народе, нации,
государстве, - становилась все более консервативной564. Сложнейшее
взаимодействие самых разнообразных, разнородных факторов! Оно, в частности,
и у Шерера рождало внутренне ложный «прогрессизм» — как бы
государственную, официозную идеологию оптимизма.
Совсем иначе обстояло дело в России. Здесь наука в целом не
отрывалась от общественного движения, от его передовых идеалов и могла
опереться на полученный в XIX в. реальный, исключительно цельный,
субстанциальный, постигаемый как таковой опыт истории. И он был
ее почвой, потому что, с другой стороны, русская филологическая
наука ко времени выступления А.Н. Веселовского по своему развитию, по
своим позитивным достижениям, по массе накопленных результатов не
могла идти ни в какое сравнение с западноевропейской, и с немецкой
в особенности: за ней не было и долгих веков академического
преподавания, освятивших его формы, не было и столь же давней традиции
эдиционной практики, опыт которой в течение XIX в. был перенесен
с классических текстов на тексты новой, отечественной литературы и
заложил основы будущей «новой филологии» (в противоположность
«классической»), а затем основы для отделения «истории новой
литературы» от филологии как единой, внутри себя все расширявшейся
науки; не было и инерции, накопившейся в науке в связи с ее долгим
развитием и с ее необычайной экстенсивностью. Эта инерция в
течение всего XIX в. сказывается в Германии как фактор, тормозящий,
замедляющий внутреннее движение, идейное обновление. В России не
было таких внутренних академических тормозов - но не было,
однако, и того позитивного фундамента развития, и эта слабость была
одинаково и силой, и наоборот: сила была в слабости. Так,
существовал широкий простор для обдумывания задач науки в реальных
условиях русской жизни и с учетом реальной развитости самой науки: тут,
как известно по высказываниям самого А.Н. Веселовского, он с
самого начала отказался от многого из того, что существовало на Западе,
например от чрезвычайной дифференциации университетских курсов
лекций и семинаров, от их сугубой специализации, - тем самым
взгляд был обращен к целому, к общим темам и общей
проблематике. Общая, обобщенная мысль оказалась, в отличие от немецкой
ситуации, независимой от филологически-литературоведческого
«буквоедства» как смысла и нормы труда. На сознание цехового
литературоведа в Германии XIX в. совокупная риторико-академическая традиция
оказывает примерно такое же сильное давление, что на русского
литературоведа сама волнующая его живая история и общественная
ситуация. Опыт русского общественного движения, опыт русской
истории был воспринят и А.Н. Веселовским565. Об этом свидетельствуют
уже слова из научного отчета 1863 г.: «... вся история состоит в
Vermittelung der Gegensätze, потому что всякая история состоит в
борьбе. Изолируйте народ, удалите его от борьбы и тогда попробуйте
написать его историю, если история будет»566.
169
Нетипичные для Веселовского гегелевские термины попадают в
контекст, характерный для русской культурно-исторической школы, и
уже в том же раннем отчете он формулирует свою научную задачу в
противовес Штейнталю, идеи которого произвели в остальном
большое впечатление на Веселовского: для Штейнталя история
литературы - эстетическая дисциплина с акцентом на форму, а Веселовский
задумывается над тем, чтобы «проследить историю образования, не
ограничивая ее одною Geschichte der Dichtung, допуская в нее и историю
философских построений и религиозных исканий»567. («Задача, которая
многим покажется не по силам, по силам науке», - характерно
добавляет Веселовский.) То, как представлял себе
филологически-исторический научный синтез молодой Шерер (в те же годы — 1863—1864-й!),
не идет вразрез с такой программой, — однако он отступает от нее. А
русская культурно-историческая школа осуществила такой синтез, -
разумеется, в особых формах. Она сохранила широкий подход к
своему предмету, - и если А.Н. Пыпин в своих исторических трудах
пренебрегал спецификой поэзии, если для А.И. Кирпичникова история
литературы рисовалась частью социологии, то А.Н. Веселовский
заимствовал наиболее сильные стороны немецкой науки (значение
которой для русского литературоведения неоценимо), все инструменты
историко-литературного анализа, выработанные в ней, и соединил с
широтой и субстанциальностью взгляда на историю, мышление ее.
Так, народ, который у Шерера (и это тоже отражало известную
традицию) выступал скорее как негативная величина, разрушающая, а не
созидающая культуру, или превращался в «публику» как носительницу
усредненного вкуса, у Веселовского выступил как сила творческая,
как носитель литературного процесса; это отвечало передовой
русской традиции и русскому опыту истории: «<...> чтобы понять цвет
этой жизни, т. е. поэзию, надо, я думаю, выйти от изучения самой
жизни, чтобы ощутить запах почвы, надо стоять на этой почве», -
слова молодого Веселовского568.
Немыслимо было рассматривать литературу, поэзию, внутри ее,
только имманентно, как это получалось у Шерера даже тогда, когда он
старался учесть внешние, воздействующие на поэзию факторы; надо
было рассматривать ее исторически и в самых широких жизненных
связях. Научный синтез, который поставил себе целью молодой
Веселовский, нуждался еще в некоторой дифференциации, однако был задуман
именно так широко: «История литературы и есть именно история
культуры»569, даже и научные тексты не должны исключаться из истории
словесности (в ее полном объеме)570. А с другой стороны, А.Н.
Веселовский, как никто из его современников, уделял внимание внутренней,
имманентной стороне литературного развития, понимая, что
жизненные взаимодействия поэзии, ее вхождение в жизнь общества никак не
исключают внутренней логики ее развития, ее внутренней «законности».
Возможно, это наиболее важный и ценный диалектический момент
теории Веселовского. Связь поэтического произведения с жизнью, с
историей постигается Веселовским более сложно, чем его современниками;
соответственно и предмет истории литературы оказывается
значительно более сложным. От истории литературы мысль движется к истори-
170
ческой поэтике как теоретической дисциплине, основной для науки
о литературе.
Поскольку, однако, научное творчество Веселовского отличалось
внутренней противоречивостью и содержало в себе разные полюсы
мысли (и это естественно), поскольку между замыслом целого и его
конкретным исполнением, между замыслом и методологией
конкретных исследований, в которых замысел исполнялся, существовал зазор,
то и воздействие идей исторической поэтики Веселовского было
противоречивым. Однако оно было - в соответствии с духом работ
Веселовского, с их целенаправленностью - чрезвычайно широким.
Историческая поэтика как наука, опирающаяся на лингвистику571;
историческая поэтика как наука о поэтической форме по преимуществу -
примеры сужения замысла исторической поэтики Веселовского572;
причем основание для суженного истолкования замысла подали
работы самого же Веселовского, известные повороты его мысли, разные
аспекты его методологии.
Характерно, что и в «Поэтике» Шерера был заключен уклон к
формально-технической стороне поэзии, — правда в ином плане, нежели в
исторической поэтике Веселовского, что очевидно. В. Дильтей так
прочитывал эту тенденцию: «<...> наши современные573 работы по эстетике
и истории искусства пронизывает одна общая черта — мы
предпочитаем понимать созерцание художественных творений и постигать их
эстетическую ценность на основании конструктивной техники каждой
отдельной художественной области. Так и Шерер возвращался к
технике, как бы к ремеслу поэтов»574. Однако определить воздействие идей
«Поэтики» Шерера весьма затруднительно; после того как потерпели
крах его замысел исторической поэтики и его замысел единой
филологически-исторической науки, воздействие «Поэтики» Шерера не
могло идти по главному - т. е. поэтологическому - направлению и, скорее
всего, было, и помимо этого, достаточно узким575. «Все, что
происходило в немецком литературоведении рядом с Шерером и сразу после
него, стоит в его тени»576, - суждение чрезвычайно здравомыслящего
современного литературоведа, суждение, на которое, в свою очередь,
невольно легла тень от той шереровской, «героизирующей» эпохи.
Однако «Поэтика» Шерера «сразу же разочаровала»577 - впечатление
Оскара Вальцеля, который был идеальным читателем Шерера и в
юности переживал восторг, читая его «Историю немецкой литературы».
Рассмотреть же перспективные (на далекое будущее) ходы «Поэтики»
(среди ее порой грандиозно воздвигнутых руин) не было дано никому
в ту эпоху позитивистского разброда, интеллектуальной
несобранности. Лучшие ученики Шерера — Э. Шмидт, P.M. Мейер — не создавали
поэтики, не работали над кругом ее вопросов и сосредоточились на
истории новой немецкой литературы, на предмете, самостоятельность
которого уже не надо было доказывать и который внутри себя представал
как бескрайний мир позитивной работы, а вся школа Шерера
унаследовала от Шерера тот методологический развал, какой был запечатлен
в последней книге Шерера со стороны внешней578. «Для конца XIX в.
Шерер означал кульминацию не только историко-литературных
исследований, но и самопостижения этой исследовательской области. <...>
171
Его приверженцы создавали работы, столь пронизанные идеей родства
искусства с природой, что не останавливались перед объяснением
актов художественного творчества через половой акт животных»579.
Отдельных, частных реакций, откликов на содержание и методы
«Поэтики» Шерера было очень много580. Однако, насколько можно
представить себе, полного обзора многочисленных немецких поэтик,
созданных на рубеже XIX-XX вв., до сих пор не существует. Впрочем,
прослеживать детально, как отмирал или трансформировался шереров-
ский замысел исторической поэтики, не входит в наши задачи; он
погиб уже в поэтике самого Шерера.
Заключение
Литературоведение, как учит нас его история, - наука, до сих пор
пребывающая в своем становлении, все время заново определяющая себя,
круг своих занятий, благодаря этому наука весьма старая и совсем
новая или даже, как порой начинает казаться, не начавшаяся, еще не
осуществившаяся, не «ставшая». Это последнее мнение - несомненная
иллюзия, иллюзия, возникающая от того, что по каким бы то ни было
причинам литературовед видит свою дисциплину в чрезмерно узком,
обособленном облике - как нечто обособившееся и частное. Между
тем и о литературоведении справедливо сказать, что оно есть своя
история. Притом даже поставленная в особо благоприятные условия,
такие, когда момент становления - вместе с ним изменчивости и
неустойчивости — довольно легко бросается в глаза, осознается,
фиксируется. Становление и постоянное самоопределение литературоведения,
видимо, свидетельствуют о том, что такая историчность существования
этой науки, ее связанность с историей как со смысловым движением,
близка к самому существу такого знания, которое можно представить
так: оно всегда находится в движении, причем в отношении такого
своего «материала», который, в свою очередь, находится в движении.
Правда, как контраст к иллюзии, будто литературоведение как
наука вообще еще не осуществилась, еще гораздо чаще возникает иная
иллюзия - будто литературоведение есть стабильная, постоянная,
несомненная, академическая и университетская наука, идущая своей
определившейся дорогой твердо и уверенно, не ведая внутренних
кризисов. Трудясь в определенной области литературоведения, можно
разделять такую иллюзию - не столько теоретически, сколько практически:
из внутренних районов науки не видно ее краев или, иначе, как целое
она не воспринимается, что отнюдь не мешает продуктивно
разрабатывать свой участок. Это даже не требует дополнительных доказательств,
и это одна из реальных причин того, почему наука о литературе может
осмысляться как вполне беспроблемная - прочно существующая
«в себе» - дисциплина. Такое ее осмысление составляет даже
необходимый момент ее существования: чтобы функционировать, наука
должна быть замкнута на себе и образовывать нечто вроде организма.
Иллюзия беспроблемности и неподвижности науки тем не менее
остается иллюзией. И можно только удивляться тому, с какой невозмутимой
естественностью предается во второй половине XIX в. такой иллюзии
только что в очередной раз происшедшая на свет и весьма
основательно установившаяся наука о литературе. Она как бы то с редким
воодушевлением, то с педантической последовательностью использует
открывшуюся ей самозамкнутость - возможность твердо стоять на ногах,
173
притом как дисциплина признанная и наконец утвердившаяся в
университетских планах. Такая внутренняя и внешняя возможность
автономности науки поддерживается и необычайно усиливается общим
умонастроением того времени - вся эпоха тяготеет к тому, чтобы
толковать себя как мирную, беспроблемную и погруженную в покой; во
многих областях культуры такое самоистолкование, можно сказать,
ровно ничего, ни малейших усилий не стоит его носителям, оно
складывается само собой — такова идиллическая или, быть может,
викторианская черта этого времени. Вильгельм Шерер, один из главных
наших персонажей, столь же положительный, сколь и «отрицательный»,
выразил такую черту умонастроения эпохи с предельной ясностью,
когда в одной из статей на бегу заметил: «<...> для каждого филолога
стремление к истине как таковой, стремление к подлинному,
изначальному, аутентичному, становится своего рода спортом, которому мы
предаемся с юмористическим удовольствием»581.
Сказано Шерером действительно на ходу, и фраза совершенно
невинна, так что мы и не будем выискивать в ней каких-то грехов. Но
вместе с тем она вышла на редкость емкой: вот сколько разных сторон
участвуют в ней - и «истина как таковая», или «истина в себе»,
которая указывает на высокий философский идеал и его традицию, и
«подлинное, изначальное, аутентичное», за которым стоят высокий идеал
филологии и традиция ее мастеров, и со всем этим соединен «спорт»,
слово и понятие английского происхождения, и «юмор», понятие, для
немецкой культуры опять же опосредованное Англией. Но при таких
значительных участвующих сторонах ключевым словом всей фразы
оказывается все же «удовольствие», или «уют» (Behagen), т. е.
достигающая степени чувственного удовольствия, ничем не нарушаемая и даже
не могущая быть нарушенной отрешенность индивидуального труда
филолога, к которому можно и нужно относиться и с почтением и с
юмором, который соединяет в себе и возвышенное и житейское, и т. д.
Все это сказано здесь Шерером. Между прочим, это же самое
высказывание позволяет нам думать, что глубочайшая убежденность Шере-
ра в правильности своих научных приемов, своей методологии
восходила прежде всего не к урокам естественнонаучного позитивизма
середины века, а к истории - к тем филологическим образцам времени
Гриммов и Карла Лахмана, которые, как ни анализируй их, несли в
себе для Шерера печать классического. А у самого Шерера эта
тянущаяся из глубины веков и перенесенная на почву германской филологии
идея филологической правильности и методичности в поисках
«аутентичности» и «первозданности» как бы не успела еще переродиться, не
успела заразиться сомнениями. Отсюда некоторые гротескные
произведения шереровской самоуверенности, какие никак нельзя отрицать.
Однако и методологическая самоуверенность, и «уют»
филологической деятельности принадлежали всей эпохе, ее иллюзиям, захватившим
ее сознание, ее самоистолкованию. Но было и совсем иное -
катастрофическое сознание, которое для Шерера было абсолютно недоступно.
Так, Ф. Ницше писал: «Со времен Коперника человек катится из
центра в х»582. Сказать, что это совсем иной полюс мышления той же
эпохи, недостаточно или не столь уж интересно (коль скоро вся академи-
174
ческая наука конца XIX в. проходит мимо исторических катастроф и их
прозрений). Важнее то, что «катастрофическая» мысль эпохи имеет
касательство к литературоведению. Именно Ницше в 1880-е годы писал
в своих набросках: «Один и тот же текст допускает бессчетные
истолкования: нет «правильного» истолкования»583. Вот «мина», заложенная
под академическое литературоведение тех дней, мина столь
замедленного действия, что, по сути дела, лишь в последнее десятилетие, т. е.
через сто лет, западная герменевтика в одном из своих направлений
систематически-последовательным путем дошла до того, чтобы
провозгласить именно такой тезис. Итак, уже в мысли 1880-х годов есть два
полюса, только один ничего не подозревает или не желает знать о
другом (академическое литературоведение в своей самозамкнутости - о
широте возможностей самых «рискованных» мыслей). А сто лет
спустя, в наши дни, очень многое из того, что оставалось скрытым от самой
науки (собственно, уже находясь в ней), стало явным, и это, вероятно,
одна из главных характеристик науки о литературе (по крайней мере)
в ее современном состоянии: в то время как наука середины XIX в. в
своем позитивно-реалистическом порыве к «тому, что есть», к тому, что
есть реально, «раз-очаровывалась» (см. выше, с. 85), наука конца XX в.
«раз-облачается», - подводит свои итоги и при этом обнаруживает все,
что было сознательно и бессознательно нанесено в нее, разбирается со
всем тем, что вообще в ней есть, делает крайние выводы (можно ли
вообще пойти — в этом направлении — дальше, чем сказать, что
«правильного» истолкования вообще нет?), имеет дело с полным кругом или
спектром взглядов по каждому вопросу... «Разоблачению» подлежат,,
конечно, и иллюзии «раз-очарованного» позитивизма, которые для
науки не просто принадлежат прошлому, но прежде всего принадлежат
совокупности возможных взглядов, подходов и методов. Что касается
герменевтической проблематики литературоведения, то она на
протяжении ста лет разворачивалась между двумя намеченными выше
полюсами - между открыто провозглашенным позитивистским и
«умолчанным» ницшевским, герменевтически-релятивистским,— постепенно
находя в последнем все больше для себя смысла и притягательности:
одноколейность позитивизма с давних пор оттеснялась в западной
науке веяниями релятивизма. Однако релятивизм и, скажем, наличие в
науке исчерпывающего множества подходов к одному и тому же
(притом еще совершенно безразличных друг к другу!) - это не только знак
кризиса, который никто и не станет отрицать, не только знак
хаотического разрастания литературоведения584. В том самоисчерпывающемся
распаде - знак итогового состояния науки. Хаос означает
несобранность целого, но он же означает и существование хотя бы
относительного целого. Несобранное надлежит собрать. А тогда уже расположить
в историческом порядке, придав целостность целому.
В этом деле собирания целого главная роль выпадает на долю
принципа историзма, который глубоко заложен в русской традиции науки.
Этот принцип - повторим это еще раз - требует, однако, того, чтобы
исследователь не пользовался им как чем-то готовым и сложившимся,
а разбирался в тенденциях самого исторического сознания, в
изменениях или даже кардинальных метаморфозах образа истории.
175
«Сама» литература переходит в полноту знания о ней (см. схему на
с. 23). Каждый из ярусов относительно замкнут (сама же литература
есть свое истолкование), и самое важное - все эти ярусы,
надстраивающиеся над «самой» литературой, взаимосвязаны и соотражены.
Опосредование исторического знания литературы и ее теоретического
осмысления составляет заключительное звено всего перехода, последний
ярус. Но, что разумеется здесь само собой, такой ярус по своему
существу не означает какой-то неподвижной суммы знаний, чего-то
ограниченного. Он прежде всего указывает на те глубочайшие перемены,
какие в наше время совершаются в самих способах существования как
литературы, так и всего знания о ней. Об этих переменах мы почти
ничего не знаем и только начинаем отдаленно догадываться о них. Так
что именно здесь постепенно проясняется для нас новая капитальная
задача науки о литературе. А для ее решения, можно предполагать,
потребуется все накопленное доныне знание о литературе585.
Примечания
Примечание. Купюры в цитируемых текстах обозначаются отточием в угловых
скобках. Вставки заключены в квадратные скобки.
Принятое сокращение: DVj - Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte.
1 См., например: КуриловАС Литературоведение в России XVIII века. М, 1981;
Возникновение русской науки о литературе. М., 1975; Академические школы в русском
литературоведении. М., 1975; Русская наука о литературе в конце Х1Х-начале XX в. М,
1982; Урнов ДМ Литературное произведение в оценке англо-американской «новой
критики». М., 1982; Зарубежное литературоведение 70-х годов: Направления,
тенденции, проблемы. М., 1984; Ржевская Н.В. Литературоведение и критика в современной
Франции: Основные направления. Методология и тенденции. М., 1985;
Славяноведение в дореволюционной России: Изучение южных и западных славян. М., 1988;
Баландин A.M. Мифологическая школа в русской фольклористике: Ф.И. Буслаев. М., 1988.
2 На необходимость философской разработки проблем литературоведения
выразительно указал С.Д. Серебряный. См.: Серебряный С.Д. К анализу понятия «индийская
литературам/Литература и культура древней и средневековой Индии. М., 1987. С. 231.
3 Западная наука о литературе не склонна подчеркивать национальный момент
своей традиции и совершенно отвлекается от него. На деле же и самые новые работы
западных литературоведов, несмотря на кажущуюся интернационализацию
методологических подходов, в огромной мере зависят от предпосылок своей традиции,
воспроизводя ее даже и в моментах ограниченности. Можно представить себе, что
традиция захватывает в свой круг даже и то новое, что всячески демонстрирует свою
непричастность ей.
4 Willems G. Das Konzept der literarischen Gattung: Untersuchungen zur klassischen
deutschen Gattungstheorie, insbesondere zur Ästhetik F. Th. Vischers. Tübingen, 1981
(Hermaea, N. F. Bd. 42).
5 Ibid. S. 63. Содержание книги шире указанного в ее заглавии, которое вводит в
заблуждение читателя.
6 Ibid. S. 61.
7 Ibid. S. 48.
8 Hegel G. W.F. Werke. B„ 1832. Bd. 10/111. S. 414.
9 Веселовский A.H. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 53.
10 Ср. неудовлетворенность Веселовского формулой Ф. Брюнетьера: «поэзия - это
метафизика, проявляемая в образах и таким путем внятная сердцу» (Там же. С. 54).
Мысль и поэзия, мысль и образ для Веселовского опосредуются и соединяются, а
соединение метафизики и образов кажется ему туманным.
11 Там же. С. 53-54.
12 Там же. С. 52.
13 Там же. С. 387.
14 См. ниже (гл. III), как потребность в синтезе отразилась в те же годы в мышлении
В. Шерера.
15 Веселовский Α.H. Указ. соч., С. 389.
16 Там же. С. 395-396.
17 Там же. С. 389.
18 Там же. С. 389.
177
19 Веселовский пишет даже так: «Я не думаю, чтобы кто-нибудь в наше время
останавливался преимущественно на эстетических вопросах, на развитии поэтических идей».
В этих словах весьма ощутимы русские радикальные настроения 1860-х годов. Все же
и здесь Веселовский не пренебрегает поэзией, но только он требует для изучения
поэзии исследования ее основ: чтобы понять поэзию, «надо <...> выйти от изучения
самой жизни, чтоб ощутить запах почвы, надо стоять на этой почве» (Там же, С. 388).
20 Поэтому поэзия и то, «что относится к истории литературы, хотя и не имеет
претензии называться поэзией», прежде всего взаимосвязаны: «разделять то и другое
было бы так же неуместно, как если бы кто вздумал ограничить свое изучение
Данте одной поэтической экономией его комедии, предоставив специалистам его
исторические намеки, средневековую космогонию и богословские диспуты в раю» (Там
же). Понятие «словесность», объединяющее все возможные произведения, что
пользуются словом, подразумевает обобщенное понятие «слово»: словесность берет
слово и подразумевают его — но только не как основу, а как итоговую сумму,
совокупность всего им произведенного. Подобное понятие слова у А.Н. Веселовского
было. Так он писал: «Всякий поэт, Шекспир или кто другой, вступает в область
готового поэтического слова, он связан интересом к известным сюжетам, входит в
колею поэтической моды, наконец, он является в такую пору, когда развит тот или
другой поэтический род» (Там же. С. 448). «Готовое поэтическое слово» указывает на
целую стихию «слова», посредством которого творится вообще вся словесность;
В.М. Истрин характерным образом так писал об отдаленной (и не вполне
достигнутой) общей задаче всех работ А.Н. Веселовского - «указать те законы, по которым
движется развитие слова как выражение внутренней жизни человека, в сюю очередь
находящейся в связи со всей внешней обстановкой» (Истрин В.М.
Методологическое значение работ Α. H. Веселовского // Памяти академика Александра Николаевича
Веселовского, Пг., 1921, С. 14). Однако у Веселовского не бы;: так сказать, научного
пристрастия к обобщенному понятию «слова» — не было разработано то привычное
для нас (большей частью благодаря М.М. Бахтину), подчеркнутое, особо вьщеляемое
и притягивающее к себе все внимание понятие о слове (в том числе о слове
поэтическом, художественном, романном и т. д.), о слове социально-функционирующем
и отмеченном при этом значимостью и весомостью самостоятельной культурной
силы (параметра социальной жизни), - понятие, которое сопряжено с почвой (как
это названо у Веселовского) и которое выступает как культурное выражение,
преломление «жизни», а в то же время и как преломление языка, а именно как язык, из
разлитых в жизни энергий которого выковываются культурно-значимые и
фиксированные смыслы. А.Н. Веселовский был даже далек от того, чтобы останавливаться на
таких посредующих (между человеком и миром) стихиях, как слово. И его мысль, и
научное мышление его эпохи обычно понимают отношение творчества (и всякого
художественного произведения) к жизни и почве прямее, непосредственнее и, короче -
словно минуя соотражающие их инстанции. По сути же дела, подход Веселовского
к поэзии, литературе, словесности требовал вычленения «слова» как общей основы
всякого пользующегося словом творчества, от поэзии и до науки. Понятие
подразумевалось, но пока обычно пропускалось.
21 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. С. 393.
22Тамже.С391.
23 Мелетинский ЕЖ «Историческая поэтика» А.Н. Веселовского и проблема
происхождения повествовательной литературы // Историческая поэтика: Итоги и
перспективы изучения. М., 1986. С. 40.
24 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. С. 493.
25 Там же.
178
26 Там же. С. 391.
27 Обратим внимание на непоследовательность в словах Веселовского: если считать
поэзию выражением психики, то бытовые условия никак не могли бы выразиться в
поэзии, минуя психику. Однако в эпоху Веселовского литературоведы очень
склонны (по внушению аксиоматических представлений психологизма) к
«натуралистическому» пониманию всяких процессов отражения, к пропуску посредующих
звеньев. Когда же они начинают преодолевать такой психологизм, то это происходит
неравномерно. Так, ошибку (или оговорку) Веселовского не допустил бы В. Диль-
тей, у которого любое жизненное содержание доступно лишь через переживание
(Erleben), а потому и в поэзии выражаются лишь переживания. Зато у Дильтея все
настолько психологизировано, что трудно уже было бы говорить о поэтическом мире
отложившихся, устойчивых, затвердевших форм и формул, которым занимался Ве-
селовский, этим оттесняя заданную ему психологическую аксиоматику.
28 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. С. 493.
29 То же, что в ранее приведенной цитате «собирательная психика».
30 Мелетинский КМ. Указ. соч. С. 33.
31 Веселовский Λ.H. Историческая поэтика. С. 493.
32 К критике этого истолкования см.: Мелетинский ЕМ. С. 40-41.
33 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. С. 495.
34 Наряду с этим специфическим определением задач исторической поэтики
А.Н. Веселовский повторяет в сноске к «Поэтике сюжетов» самое общее
соображение: «Задача исторической поэтики: отвлечь законы поэтического творчества и
отвлечь критерий для оценки его явлений из исторической эволюции поэзии —
вместо господствующих до сих пор отвлеченных определений и односторонних условных
приговоров» (Там же. С. 498).
35 Там же. С. 448.
36 См. о А.Н. Веселовском (и его исторической поэтике): ПыпинА.Н. История
русской этнографии. СПб., 1891. Т. 2. С. 252-282; Истрин В.М. Указ. соч. С. 13-34; Пе-
ретц В.Н. От культурной истории - к исторической поэтике // Памяти академика
Александра Николаевича Веселовского. С. 35-42; Энгельгардт Б.М. Александр
Николаевич Веселовский. Пг., 1924; Предисловия В.М. Жирмунского к изданию
«Исторической поэтики» (1940) и к «Избранным статьям» А.Н. Веселовского (Л., 1939);
Шишмарев В.Ф. Александр Веселовский и русская литература. Л., 1946; Соколов А.Н.
А.Н. Веселовский - основоположник исторической поэтики // Учен. зап. МГУ. 1946.
Вып. 107. С. 161-172; Горский И.К. Александр Николаевич Веселовский
//Академические школы в русском литературоведении. М., 1975. С. 204-208; Он же. Александр
Веселовский и современность. М., 1975; Мелетинский Е.М. Указ. соч.; Он же.
Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986. С. 5—8.
37 О позитивистской методологии подробнее говорится в гл. Ill, в частности и в связи
с АН. Веселовским. Ошибочно представлять себе позитивизм только как
«эволюционизм» (см. об этом: Горский И.К. Александр Веселовский и современность. С. 95);
П. Сакулин, справедливо возражая в свое время против технологически-формального
сужения предмета исторической поэтики, ошибочно полагал, что такую поэтику
«предпочтительнее было бы <...> называть "эволюционной"» (Сакулин П. К
вопросу о построении поэтики // Искусство. 1923. § 1. С. 82). Сам А.Н. Веселовский и
здесь был шире своих толкователей, поскольку его представления об эволюционном,
«органическом развитии» осложнялись мыслью о нарушениях хода эволюции извне.
Не только совсем молодой Веселовский думал о «скачках» в развитии и осмыслял их!
Его представления могли быть наивны, но они не были нормативно-эволюционны.
«<...> русская литература не развивалась органически, - писал А.Н. Веселовский, -
179
как развивалась, например, греческая литература, в истории которой смена
литературных родов и форм в их преемственности, в их взаимной обусловленности
выдается наиболее рельефно» (Веселовский А.Н. Историческая поэтика. С. 448). Но вот в
таком-то образе «нормального» органического развития А.Н. Веселовский и
сомневался; например: «Европейская поэзия развилась таким именно путем: поэтическое
чутье возбудилось к сознанию личного творчества не внутренней эволюцией
народно-поэтических основ, а посторонними ему литературными образцами» (Там же.
С. 60); «Как бы пошло европейское литературное развитие, предоставленное
эволюции собственных народных основ, - вопрос, по-видимому, бесплодный, но
вызывающий некоторые теоретические соображения» (Там же. С. 63), - развитие, внутрь
которого входят посторонние влияния, тоже органично. А.Н. Веселовский
предполагал такой ответ: «Очевидно, органическая эволюция совершилась бы медленнее, не
минуя очередных стадий, как часто бывает под влиянием чуждой культуры,
заставляющей, иногда не вовремя, дозревать незрелое, не к выгоде внутреннего
прогресса» (Там же). Ориентация на биологическую органику эволюции сохраняется, но
только нет уверенности в ее правильности: «<...> мы владеем всеми главными
формами поэзии, а исторический опыт продолжает убеждать нас, что между ними есть
какое-то чередование, как бы естественный подбор в уровень с содержанием
сознания. Это, быть может, должное впечатление <...>»; поэтому вопросы генезиса форм
оставляются поэтике будущего (Там же. С. 66); европейские литературы дают такую
же последовательность выделения литературных родов, что и греческая литература,
вопрос только, органическая ли это для них последовательность (Там же. С. 65).
38 Об этом выразительно пишет и Р. Веллек, сдержанный в отношении А.Н. Веселов-
ского (Wellek R. A history of modern criticism. New Haven; L., 1965. Vol. 4. P. 278-280).
39 Об этом см.: Hansen-LoveAA. Der russische Formalismus: Methodologische Rekonstruktion
seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung, Wien, 1978. S. 370—376.
40 Одно из исследований M.M. Бахтина, готовившееся в 1937-1938 гг., — «Формы
времени и хронотопа в романе» - носит подзаголовок «Очерки по исторической
поэтике». См.:Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 235—407.
41 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра: Период античной литературы. Л., 1936.
42 Ничуть не умаляет значения его прозрений ни то обстоятельство, что сам ученый
отставал от них, когда позитивистски распластанный материал не отпускал его от
себя, ни то, что общая убежденность его в необходимости понятой через слово
истории культуры находилась в родстве с методологическими установками А.Н. Пыпи-
на, дававшими основательные, но более прозаические научные решения. А.Н. Пыпин
тоже понимал культуру как нечто целое, но у него не было именно представления о
глубинных основаниях этого целого. Напротив, А.Н. Веселовский заглянул далеко
вперед, в том числе и в философию культуры XX в. Но только этот взгляд не был
уяснен самим А.Н. Веселовским в той именно мере, в какой он не реализовался в его
работах. Поэтому я и говорю о его «прозрении». Тут невольно подходим к тонкому
моменту исследовательской стратегии и тактики — к тому внутреннему моменту,
который одного исследователя от общих идей влечет в глубину материала, между тем
как другой производит общие, хорошо работающие идеи, не имея возможности (и
даже желания) досконально подкрепить их анализом материала; примерно так
сложилось отношение, ставшее уже фактом истории нашей науки, между Л.В.
Пумпянским и М.М. Бахтиным, — можно думать, что у первого был большой запас идей и
способность их производить, при нежелании высказывать их в общем виде, тогда как
второй сосредоточился на общем. В работах Л.В. Пумпянского общее просвечивает
как потенция и направляющий смысл. Между тем степень известности каждого
соответствует тому, как каждый поставил себя в науке.
180
43 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М., 1979. С. 352.
Переношу продолжение этого важнейшего высказывания в сноску, чтобы обсудить
некоторые особые аспекты его содержания: «В отличие от общего движения
«гражданской» истории процесс истории культуры есть не только процесс изменения, но
и процесс сохранения прошлого, процесс открытия нового в старом, накопления
культурных ценностей. Лучшие произведения культуры, и в частности лучшие
произведения литературы, продолжают участвовать в жизни человечества. Писатели
прошлого, поскольку их продолжают читать и они продолжают свое воздействие, —
наши современники. И надо, чтобы этих наших хороших современников было
побольше. В произведениях гуманистических, человечных в высшем смысле этого
слова культура не знает старения» (Там же).
В то время как акад. Д.С. Лихачев подчеркивает нравственный смысл, или
нравственный урок истории культуры, мне бы хотелось обратить внимание на такую
сторону культуры, которую можно назвать сейчас смыслопорождающей, - ведь нигде,
как именно в культуре, происходит осмысление всего происходящего в жизни, а
следовательно, закладываются основы для того, что и как будет уразумеваться в
истории, и, далее, для того, какой будет сама эта история: таким образом, культура и ее
история - это на деле основная нить в «общей» истории, нить, в которую
решительно все (все осмысляемое) свивается и от которой все отходит, с которой все сбегает.
Поэтому для истории литературы, для теории литературы, если она исторически
ориентирована и не довольствуется отвлеченностями, история культуры — это
смыслообразующее целое, предел и естественная «рамка», и эта же «рамка» тотчас
же приводит науку о литературе в соприкосновение с самой историей и ее
закономерностями, - причем уже в специфически препарированном, обработанном и
зафиксированном виде, в виде произведений, художественных вещей, текстов и т. д.,
из которых литературовед выбирает то, что ближе ему по специальности, но не
должен, однако, упускать и общий смысл, общую логику, общие процессы.
Далее, история культуры как нравственный урок, история культуры, так прочитанная,
все время имеет в виду человечное в человеческом, т. е., иными словами, направляет
свой взгляд как раз на ту проблему, которая постоянно вставала перед
литературоведами и XIX в.: это проблема того исторического «места», или той исторической
«точки», в которой человеческое приходит к себе, к своей естественности. Современный
литературовед и историк культуры чужд былой метафизики в разрешении этой
проблемы, когда историку могло представляться, что «точка» естественности - это самое
начало развития человечества (хотя бы в области словесности, если не «вообще») или
его завершение, где человек и человечество «приходят к себе». Сама традиция
культуры как процесс передачи и непрестанного осмысления созданных человечеством
культурных запечатлений, или ценностей, выступает как залог человечного в человеческом,
но только традиция сама по себе есть часть и суть истории, а потому подвергается
опасностям и должна отстаиваться в борьбе: «человечное» погружено в исторический
процесс и не может быть выделено как некий абсолютный момент.
История культуры как нравственный урок предполагает определенную онтологию
истории и строится на ней. Образ истории резко отличен от того какой само собою
разумелся для единомышленников А.Н. Веселовского в XIX в.; в новом образе
истории отсутствует представление о непременной линейности развития, о строго
поступательном движении культуры, об однозначном прогрессе, - напротив, история
развивается, все время смыкая кольца смысла, так что самое новое соединяется с
прошлым, иногда самым отдаленным; в истории культуры акцентируется связь и
«диалог» культур, культурных эпох. Видимо, переосмысление истории в направлении,
преодолевающем линейность времени, захватывает все современное сознание.
181
44 ГуревичЛ.Я. Вопросы культуры в изучении исторической поэтики// Историческая
поэтика. С. 153.
45 Горский И.К. Историческая поэтика в ее соотношении с другими
литературоведческими дисциплинами//Там же. С. 144.
46 Там же. С. 136.
47 Если только не путать теорию литературы с пропедевтическими курсами, где
вводятся ее основные понятия, причем следует еще подумать над тем, как их вводить, -
непременно ли как систему вне истории?!
48 Храпченко М.Б. Историческая поэтика: основные направления исследований//
Историческая поэтика. С. 13. См., несколько ^же, с. 14: «В своем не музейном, а
живом облике историческая поэтика — это динамическая характеристика
социально-эстетической функции способов и средств образного постижения мира».
49 Там же. С. 13.
50 Академическая трехтомная «Теория литературы» (М., 1962-1965) выступает как
заметный шаг в метаморфозе теории литературы в направлении исторической поэтики.
51 Уже сам язык фиксирует плавность перехода от поэтики творческой,
«имманентной», к поэтике теоретической, называя то и другое равно поэтикой, наподобие
плавности перехода от «самой» истории к истории как науке. См. новые труды,
свидетельствующие о нарастающей в нашей науке тенденции изучения поэтики (в двух
взаимосвязанных ее смыслах): Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы.
М., 1977; КуделинА.Б. Средневековая арабская поэтика. М., 1983; Гринцер П.А.
Основные категории классической индийской поэтики. М., 1987. Называю только
книги, относящиеся к современной исторической поэтике и рассматривающие
существенные ее фрагменты.
52 Жирмунский В.М. Теория литературы, поэтика, стилистика. Л., 1977. С. 28. Куда
более узкое определение поэтики Р. Якобсон дает еще в 1973 г.! Оно во всем
восходит к ситуации 20-х годов (см.: Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 81): «в это
время у Якобсона поэтика подчинена диктатуре слова», и «поэтико-лингвистическая
заостренность у Якобсона <...> чувствуется сильнее, чем у его коллег (Иванов Вяч. Вс.
Поэтика Романа Якобсона/Дам же. С. 13).
53 Горский И.К. Указ. соч. С. 148-150.
54 Там же. С. 148.
55 Очень важно, что идея исторической поэтики все больше входит в наши дни в
кругозор литературоведов, овладевает их сознанием. Отсюда параллельно, независимо друг
от друга, предпринимаемые усилия по осмыслению исторической поэтики, ее
предмета, задачи, возможных методов. Все это диктуется ощущением необходимости вновь
опосредовать наши теоретические и историко-литературные знания — на этом этапе их
огромного накопления и перенасыщенности. Из публикаций, вышедших в свет после
издания сборника «Историческая поэтика» (М., 1986), см.: Тюпа В.И. О научном
статусе исторической поэтики//Целостность литературного произведения как проблема
исторической поэтики. Кемерово, 1986. С. 3-7. Естественно, что в процессе
осмысления исторической поэтики происходит описанное выше: историческая поэтика,
будучи как бы существенным ядром науки о литературе, притягивает к себе самые
разные исследования, так что не случайно и самые обыкновенные
историко-литературные или теоретические работы, выполненные в традиционном стиле, ощущают свою
принадлежность именно к исторической поэтике.
В том же году вышла в свет интереснейшая статья Г.Н. Поспелова «Общее
литературоведение и историческая поэтика» (Вопр. лит. 1986. № 1. С. 163-189).
Г.Н. Поспелов понимает общее литературоведение как «синтетическую историко-
литературную дисциплину сравнительного изучения национальных литератур» «во
182
всей сложности и богатстве их художественного содержания и формы».
Историческая же поэтика обслуживает общее литературоведение, разрабатывая систему
теоретических понятий и будучи наряду с «методологией изучения художественной
литературы» одной из двух частей «теории художественной литературы» (С. 177-
178). «<...> историческая поэтика может вооружить «общее литературоведение»
прежде всего такими исторически конкретными понятиями, которые имеют
прямое отношение к проблеме выявления стадиальности исторического развития
национальных литератур» (С. 179). Под «стадиальностью», где можно было бы
ожидать некоторые внутренне-закономерные этапы истории литератур, здесь
понимаются неповторимые в историческом развитии каждой литературы «литературные
течения» и «литературные направления» (с известным по прежним публикациям
Г.Н. Поспелова их разграничением). Все это теоретически продуманное построение
академической науки литературоведения спотыкается, как нам кажется, об одно с
давних пор заколдованное место литературной теории. А именно литературоведу
представляется, что теория литературы (и историческая поэтика как ее
составляющая) почему-то независима от истории, и главным образом и прежде всего от
истории независимы роды и виды литературы: сказка, повесть, поэма, эпическая
песнь, пишет Г.Н. Поспелов, — это не жанры, а «различные формы выражения в
эпическом роде литературы», и дело выглядит так (суть отнюдь не в перемене
номенклатуры), как если бы эпический род существовал от века, а формы, или
жанры, только объявлялись в нем (см. с. 182). Они как бы заведомо не конкретны и
существуют не конкретно, а заявляют при своем появлении о своей
принадлежности к эпическому роду. На этом же самом месте (его заговорил Гегель) споткнулся
и столь исторически мысливший А.Н. Веселовский (1870): «Что касается до форм
эпоса, лирики и драмы, от которых пошло название известных поэтических родов
и эпох поэзии, то они даны задолго до появления в истории тех особенностей
миросозерцания, на которые мы перенесли определение эпического, лирического и т.
п. Эти формы - естественное выражение мысли; чтобы проявиться, им нечего было
дожидаться истории!» (Веселовский А.Н. Историческая поэтика. С. 49).
56 Herder J. G Samtliche Werke/Hrsg. В. Suphan. В., 1882. Bd. 8. S. 105.
57 П. Сонди в своих лекциях по истории поэтики не сразу вспоминает о том, что
Gefühl — это осязание и что Гердер не просто противопоставляет чувство - ratio, но
и осязание всякому механически, рационально и отвлеченно понятому чувству.
См.: Szondi Р. Poetik und Geschichtsphilosophie I/Hrsg. S. Metz, H.-H. Hildebrandt.
Frankfurt a. M., 1974. S. 48 ff.
58 См.: Schweitzer В J.G. Herders «Plastik» und die Entstehung der neueren
Kunstwissenschaft. Leipzig, 1948. S. 13; см. также: Schweitzer В. Zut Kunst der Antike:
Ausgewählte Schriften. Tübingen, 1963. Bd. 1. S. 198-252. Верно сказано и у П. Сонди
о том, что «находившееся под сильным влиянием английского сенсуализма
мышление эпохи не различает между чувством как телесным осязанием и чувством как
душевным восприятием» (Szondi P. Op. cit. S. 52).
59 Herder J. G. Journal meiner Reise im Jahr 1769/Hrsg. K. Mommsen. Stuttgart, 1976.
S. 151.
60 Schweitzer ВJ.G. Herders «Plastik»... S. 25.
61 Б. Швейцер прослеживает значение гердеровского представления в истории
искусств - после знаменитого рефлекса в пятой «Римской элегии» Гёте («видящая
рука») и в письме В. фон Гумбольдта (1813) представление это методично
разрабатывается лишь в начале XX в. Алоисом Риглем; начиная с А. Ригля, Г. Вёльфлина и
В. Пиндера темой искусствознания становится «развитие живописно-глазного
искусства из искусства пластически-схватывающего» (Ibid. S. 7If; см. также: Schweitzer В.
183
Die Begriffe des Plastischen und Malerischen als Grundproblem der Änschauung//Ztschr.
Ästhetik und allgem. Kunstwissenschaft. 1918. Bd. 13).
62 См. об этом: Михайлов A.B. Идеал античности и изменчивость культуры: рубеж
ХУ1И-Х1Хвв.//Быт и история в античности. М, 1988. С. 219-270.
63 Наивность этих форм обычно проявляется в том, что литературовед никак не
может примириться с тем, что большинство культурных эпох вообще не знают ни
непосредственного самовыражения, ни непосредственного выражения в поэзии каких
бы то ни было жизненных содержаний, т. е. того, к чему стремилась и чего достигла
литература середины XIX в. Обычно в истории культуры бывает так, что, приступая
к творчеству, поэт переходит в мир многообразно опосредованных форм - вокруг
него всякие преломления и выявления «готового поэтического слова»: представим
себе, что он (будь то возможно для него) вознамерился бы передать в поэзии нечто
совершенно «непосредственное» (пусть то будет его чувство «как таковое»), - тогда,
чтобы это чувство вошло внутрь поэзии и стало ее фактом, ему следовало бы
провести его через все необходимые опосредования, т. е. сделать это чувство не «своим»,
а именно поэтическим, принадлежащем не «ему», поэту, а поэзии. Разумеется,
эмпирическая индивидуальность человека в такой поэзии претерпевает изменения и как
эмпирически конкретная перестает существовать. Однако «непосредственность»
продолжает подкупать литературоведов как некий желательный и весьма ценный момент
(каким он и стал в XIX в.). См. полемику об Овидии: Вулих Н. Поэтика без поэзии: (К
опыту построения поэтики «Тристий»)//Вопр. лит. 1985. № 7. С. 176-191; Гаспаров М.
Поэзия без поэта/Дам же. С. 192-199 (см. также: Гаспаров М.Л. Поэт и поэзия в
римской культуре//Культура древнего Рима. М., 1985, Т. 1. С. 300-335). Очень характерно
редакционное примечание, в котором о желательности того, чтобы все в поэзии было
совершенно непосредственно, сказано с прямодушной откровенностью: «Овидия она
[Н. Вулих. — А.М.] читает совершенно иначе, чем М. Гаспаров: там, где он видит
прежде всего прием, словесную «конструкцию», комбинирование тем, подтем и мотивов,
Н.Вулих видит прямое выражение помыслов и переживаний автора «Тристий». И при
всей возможной спорности толкования ею тех или иных конкретных текстов сам ее
подход к ним соответствует сегодняшнему живому читательскому восприятию
«скорбных» посланий Овидия из ссылки» (Там же. С. 200-201) Казалось бы, невольное и
простительное читателю искажение поэтики Овидия неизвинительно для
исследователя - но нет! - «в ее возражениях оппоненту есть свой резон» (Там же. С. 200), и
резон этот, выходит, в том, чтобы читать так, как читает неопытный читатель!
Читатель, который, читая текст (притом в переводе, т. е. текст уже вольно или
невольно перенесенный в иной мир представлений, как зафиксированы они уже в языке,
в его состоянии), не может не «о-сваивать» его вполне автоматически. Между тем
историку A.B. Подосинову пришлось написать капитальное исследование для того,
чтобы выделить некоторое реальное содержание стихотворений Овидия, получив его
через скрупулезнейший анализ его риторического языка, его topoi (в которых тоже ведь
запечатлелся язык культуры). См.: Подосинов A.B. Овидий и Причерноморье: опыт
источниковедческого анализа поэтического текста//Древнейшие государства на
территории СССР: Материалы и исследования. 1983. М., 1984. С. 8-178; Он же.
Произведения Овидия как источник по истории Восточной Европы и Закавказья. М., 1985.
Что сказать о непосредственности творчества поэта, который на румынском
берегу Черного моря видит снег, не тающий по нескольку лет, и переживает прямо-таки
полярную зиму! (Образ «скифской» зимы — историко-культурная константа,
которая преспокойно дожила до наших дней. См. некоторые примеры в комм, в кн.:
Эстетика немецких романтиков. М., 1987. С. 595-596).
64 ГуревичА.Я. Указ. соч. С. 161.
184
65 Гаспаров М.Л. Историческая поэтика и сравнительное стиховедение//Историчес-
кая поэтика. С. 189.
66 ГуревичА.Я. Указ. соч. С. 164.
67 Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика. Л., 1978. С. 124; Он же. Мир саги:
Становление литературы. Л., 1984. С. 75.
68 ГуревичА.Я. Указ. соч. С. 164.
69 Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика. С. 122.
70 См.: Иванов Вяч. Вс. Структура гомеровских текстов, описывающих психические со-
стояния//Структура текста. М., 1980. С. 81—117; Зайцев А.Н Свобода юли и
божественное руководство в гомеровском эпосе//Вестн. древ, истории. 1987. № 3. С. 139-142.
71 См., например: Сахарный Н. Гомеровский эпос. М. 1976. гл. 9 первой части.
72 См., напротив: ГуревичА.Я. Указ. соч. С. 165.
73 Мы живем в такое время, когда в языке, на котором мы говорим о человеке, очень
многое четко отдифференцировалось, а мы эти дифференциации (по видимости,
самые первичные) принимаем за само собою разумеющиеся и еще за данные от века.
Мы в философии слишком долго размышляли о границах «я» и подобных
абстрактностях, но что поделать, если, например, человека всего несколько веков назад (ср.
греч. bios, древнерус. «живот» и т. д.) можно было мыслить в единстве с его
имуществом, с его собственностью. См.: Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии:
Человек, судьба, время. М., 1983; Смирин В.М. Римская «familia» и представление римлян
о собственности//Быт и история в античности. С. 23.
74 Там же. С. 165.
75 Там же. См. также: Гуревич А.Я. «Эдда» и сага. М., 1979. С. 130—142.
76 ByockJ.L. Saga form, oral prehistory, and the Icelandic social context// New Lit. Hist.
1984. Vol. 16, N1. P. 153-173.
77 Ibid. P. 162. См.: Glover С The Mediaeval saga. Ithaca, 1982.
7* ByockJ.L. Op. cit. P. 166.
79 ГуревичА.Я. Вопросы культуры... С. 166.
80 Я коротко писал о нем, См.: Михайлов A.B. Искусство и истина поэтического в
австрийской культуре середины Х1Хв.//Сов. искусствознание '76. М., 1976. № 1.
С. 142-146; см. также: Он же. Варианты эпического стиля в литературах Австрии и
Германии//Теория литературных стилей: Типология стилевого развития XIX в. М.,
1977. С. 275-300, особенно с. 293.
81 ГуревичА.Я. Указ. соч. С. 166.
82 «<...> не подразумевает ли сознательное использование этого приема [умолчания. -
A.M.] уже не раз до этого применявшееся в литературе прямое изображение чувств
персонажа посредством прямого описания этих чувств?» (Стеблин-Каменский ИМ.
Мир саги. С. 213).
83 Стеблин-Каменский ИМ. Скалъдическая поэзия//Поэзия скальдов. Л., 1979. С. 112.
84 Речь идет о поздних сагах, когда «вымысел стал осознаваться как полноправное
литературное средство» (Стеблин-Каменский ИМ. Мир саги. Становление литературы.
С. 205). Лишь отчасти справедливо то, «что, каким бы неправдоподобным ни был
вымысел, который преподносится в литературном произведении, в той мере, в какой это
произведение литературы, фантастическое должно подаваться так, как будто оно
действительность» (Там же). Тут, однако, нужно различить два положения - одно, когда
писатель обставляет свой вымысел конкретными деталями (литература без известной
конкретизации, действительно, ничто), но не выдает вымысел за правду; таково
положение автора Лукианова «Луция, или Осла»; другое положение - когда писатель выдает
сознательный вымысел за правду: относительно некоторых «робинзонад» и тому
подобных романических созданий XVIII в., так и неизвестно, что это - вымысел или прав-
185
да. Не вымысел ли, например, «Путешествие к североамериканским дикарям» Клода
Лебо? (см.: Le Beau С. Aventures <...> ou Voyage curieux et nouveau parmi les Sauvages de
l'Amérique Septentrionale. 1738) - чего, к сожалению, никто уж не скажет нам.
85 Стеблин-Каменский K.M. Историческая поэтика. С. 119. «<...> если этот вымысел
все-таки не замечался в Исландии в течение многих столетий, то это, очевидно,
объясняется тем, что сохранилась способность поставить себя на место тех, кто
писал эти саги, взглянуть на этот вымысел с их точки зрения, т. е. наивно не замечать
его» (Там же). Но наивность ли это? Автор ставит себя на место персонажа в его
ситуацию, слушатель - на место автора и через него на место персонажа, и,
предположим, все это совершается в пределах усвоенной автором и слушателями
риторической правды, которая предполагает тесный союз истины и рефлексии, — тогда это не
наивность, а сильно развитое в определенном направлении литературное сознание.
86 Геродотовские материалы, связанные с традицией устной речи, изложенные и
проанализированные И.А. Перльмутером (Перльмутер И А. Синтактоко-стилистические
особенности ранней древнегреческой прозы: (На материале Геродота)
//Синтаксические особенности литературных языков на ранних этапах их формирования. Л., 1982.
С. 53-123), наводят на мысль о том, что брахилогические, избыточные,
эллиптические и прочие особенности геродотовского синтаксиса, требующие при переводе на
европейские языки непременной перестройки фразы и дополнения недостающих
членов предложения по смыслу, объясняются не столько неразвитостью
литературного языка, сколько присущей всей греческой словесности особенностью,
которая состоит в том, что ситуация передается изнутри и видима автору как бы
изнутри, — ведь особенности такой речи и такого синтаксиса, совершенно очевидно,
сохраняются и в поздней греческой прозе. Писатель, описывающий ситуацию
«снаружи» и не видящий ее, должен особо заботиться о точности всех своих
указаний, тогда как писатель, который видит то, что описывает (слушатель и читатель
переносятся в его положение), может поступать более беззаботно или «небрежно».
87 Вот еще одна проблема, в которой современная наука дожила до острого
герменевтического «криза».
88 Гринцер П.А. Основные категории классической индийской поэтики. М., 1987.
89 См.: Калыгин В. П. Язык древнейшей ирландской поэзии. М., 1986. С. 69-70.
90 См., например: Васильева Т.В. Беседа о логосе в платоновском «Теэтете»//Платон
и его эпоха. М, 1979. С. 286 и след.; Султанов Λ.Χ. Еще раз о диалоге «Кратил»//
Теория и методика ономастических исследований. М., 1986. С. 92-103.
91 Неслучайно к отдельным приемам этимологического конструирования прибегал уже
Гегель, а в XX в. ими широко пользовался М. Хайдеггер. Ср. замечания о «поэтической»
этимологии: Топоров В.Н. О ритуале: Введение в проблематику//Архаический ритуал в
фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 23,49, примеч. 34.
92 Стеблин-Каменский K.M. Скальдическая поэзия. С. 110.
93 Сахарный Н. Указ. соч. С. 110.
94 Не убеждают и ссылки на гегелевские слова: «История, которая задается
целью дать обзор продолжительных периодов или всей всемирной истории,
должна в самом деле отказаться от индивидуального изображения
действительности и прибегать к сокращенному изложению путем притеснения абстракций, -
это сокращение производится не только в том смысле, что пропускаются
события и действия, но и в том смысле, что мысль резюмирует богатое содержание»
(из «Философии истории» Гегеля; см. в связи с этим соображения,
высказываемые в кн.: Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. М, 1987. С. 75).
Конечно, необходимо резюмировать богатое содержание и тогда ради этого
жертвовать эмпирической пространственностью, обладать мужеством пропускать и
186
сокращать. Готовность схематизировать тоже способна вызывать уважение;
однако все дело в том, что и как сокращать и схематизировать, - нам следует
опасаться того, что мы будем сокращать, подводя богатство явлений под готовые
понятия с готовым смыслом - под какой-нибудь «романтизм» вообще или
«реализм» вообще. Сверх того, историю литературы и историческую поэтику в
истории занимает безусловно не совсем то, что занимало Гегеля, - надо дать
полный голос всему индивидуальному, которое, будучи на своем месте (пусть
малом), и составляет вместе со всем другим реальность истории. Гегелю было
«легче»: для него «всеобщее» существует вне и до всякого конечного и
единичного; они принципиально разделены. Отделив в абстракции всеобщее от
единичного, Гегель хочет теперь понять, как же они связаны в действительности;
поэтому в некотором смысле «в философии истории, как и в философии
природы Гегеля, действительного развития по существу нет» (Богомолов A.C. Гегель и
диалектическая концепция развития//Философия Гегеля: Проблемы диалектики
М., 1987. С. 63, 65). Гегель скорее, чем мы, согласится покрывать многообразие
исторического содержания общим понятием.
95 Централизация в литературоведении была таковой, что когда пражский германист
Август Зауэр (1855 — 1926), а вслед за ним Йозеф Надлер (1884-1963) обратили
внимание на необходимость изучения истории немецкой литературы по областям, то им
была гарантирована слава реакционеров, и в условиях политического развития
Германии не могло не проявиться все то реакционное, что было заключено как
потенция в обособленной точке зрения. Й. Надлер, которому принадлежат и
несомненные достижения (издание сочинений И.Г. Гаманна и особенно пролегомены к этому
изданию), стал любимцем немецких реакционеров и не всегда мог противостоять
этой «любви»; поэтому в его «Историю немецкой литературы», неоднократно
издававшуюся, проникло немало карикатурного, вздорного, искаженного и
этнографически несостоятельного материала; до сих пор сохраняется отрицательный взгляд на
него - в лучшем случае как на лжеэтнографа, а вовсе не литературоведа (Ф. Зенгле).
Однако в посылке Зауэра - Надлера, претворенной затем Надлером с большими
огрехами, было немало реалистически-здравого: «В своих незабвенных лекциях по
XVII в., - писал Надлер в 1912 г. — Зауэр однажды сказал, что наряду со всеобщей
историей литературы должно существовать и то, что можно назвать провинциальной
литературой племен. Великое богатство нашей литературы, сказал он, связано с тем,
что отдельные ландшафты вступали во всеобщее развитие в нужный момент и
после весьма плодотворного обособленного развития». «Если признавать, - продолжал
Надлер, — что национальное в литературе не есть нечто интернациональное,
различаемое лишь по языку, то во всем прошлом нашего народа нужно признать понятие
литературы племен. Отрицать его - значит отрицать внутреннюю сущность любой
национальной литературы» (Предисловие к первому изданию «Истории литературы».
Цит. по: Materialien zur Ideologiegeschichte der deutschen Literaturwissenschaft/Hrsg.
G. Rei. Tübingen, 1973. Bd. 1. S. 77-78). В допущении того, что развитие литературы
зависит именно от «племенного» начала (а не от определенного социокультурного
единства), заключалась ошибка Надлера, ставшая для него роковой. Между тем
Надлер в своих исходных положениях был прямой противоположностью немецкого
националиста: он ведь полагал, что немецкий народ составился из племен, «которые
едва ли на половину были германскими» (Ibid. S. 78), и, как никто, признавал и
подчеркивал значение славянского субстрата для немецкой культуры.
96 Дополнительная трудность состояла еще в том, что на XIX в. пришлись небывалые
для всей культуры по своей стремительности и интенсивности процессы
переосмысления слова.
187
97 В отличие от того, что нередко думают, мы считаем историческую поэтику скорее
задуманной, нежели реализованной дисциплиной.
98 Далеко не все эстетические и литературоведческие теории придают значение этому
первоначальному смыслу и первоначальному культурному контексту произведений
искусства, их, так сказать, естественной экологии, или их «миру» (термин М. Хайдег-
гера). Произведение живет и изменяется в истории, конечно, потому, что у него есть
и внутренняя потенция такого роста-изменения, что у него есть силы выжить во всех
экологических переменах — пережить свое радикальное переосмысливание.
Произведение способно поворачиваться разными своими гранями (и, значит, они у него есть),
а стало быть, его историческое развитие, разворачивание его смысла и есть его смысл.
В этом есть большой резон. Но нужно подумать и над тем, что произведение никогда
никем не задумывалось и не рассчитывалось на резкие трансформации смысла, что
подобно тому как Гомер не предвидел интерпретационных процедур, каким был
подвергнут в риторическую эпоху, так и вообще все искусство прошлого не могло
подозревать, что в наши дни станет добычей вольных стрелков от герменевтики — тех, кто
присвоил себе право судить обо всем вкривь и вкось, как придется.
99 Собственно говоря, эта ситуация вполне имеет место и тогда, когда исследователь
занят современной, «своей» эпохой, - поскольку, как мы видели, и здесь между
языком исследователя и языком его же культуры возникает известный зазор (да,
видимо, и не в одном только отношении). Однако этот частный, а может быть, особо
острый и тонкий случай не разбираем сейчас.
То, что мы пытаемся вычленить сейчас для наших целей в более чистом виде как
историческую поэтику-1 и -2, во всей своей широте зависит оттого, как мыслится
история и как решается герменевтическая проблема «диалога» настоящего и
прошлого. Эта последняя в современной западной науке предстает как максимальный
герменевтический плюрализм, где мыслимы любые комбинации «шагов». Такой
ситуации предшествовала более простая, несшая в себе зародыш будущих решений. Вот
два примера простейших комбинаций:
1) Т.С. Элиот (1920: «<...> the historical sense involves a perception, not only of the
pastness of the past; but of its presence»:
2) P. Веллек, А. Уоррен (1949): «So literary history is no proper history, because it is
the knowledge of the present, the omnipotent, the eternally present <...> There is a
distinction between that which is historical and ... still somehow present» (Marsch Ε. Über
Literaturgeschichtsschreibung//Über Literaturgeschichtsschreibung: Die historisierende
Methode des 19. Jahrhunderts in Programm und Kritik. Darmstadt, 1975. S. 5-6).
100 Слою «подкладывать» здесь и выше употребляется в смысле греческого hypotithemi,
которое, как и русское «подкладывать», следует понимать вполне конкретно и «вещно».
Действительно, познавая иное, иную культуру, исследователь первым делом создает
определенную гипотезу относительно того, что она есть, и в этот первичный акт
«подкладывания» входит и его опыт, и его теоретические убеждения, и его интуиция, -
складываясь вместе, в единый результат, они и предопределяют то, как начнет понимать
исследователь это иное, иную культуру. Все это можно было наблюдать на примере
осмысления исландской саги (где нас интересовала не чья-либо правота и
справедливость тех или иных представлений, но их самая первичная, первоосновная устроенность).
A.A. Фет с удивительной, завидной ясностью выразил самую суть
«подкладывания» (для условий XIX в.), говоря о Ф.И. Тютчеве: «Ведь поэтический образ
стихотворения подложен чувством, хотя и принадлежащим человеку мысли».
Исследователь, занятый исторической поэтикой, «подкладывает» свое под
чужое - как поступают и поэт, и историк литературы, — и только должен еще
пытаться осознать этот процесс, осознать это свое в себе.
188
101 См.: Веселовский А.Н. Историческая поэтика. С. 10.
102 А для В. Шерера он был первым!
103 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. С. 55.
104 Там же. С. 494.
105 Рассматривать последующие эпохи культуры через предыдущие, как бы их
глазами, — это присуще, конечно, не только исторической поэтике-1, а и всей истории
культуры, когда она именно так жестко фиксирует свой первый шаг. Выдающийся
польский искусствовед Ян Бялостоцкий именно так рассматривает живопись XIX в.:
тут вовсе нет ничего качественно иного (нет нового слова, как сказали бы мы), а
просто традиционные темы складываются в «новый типологический набор» и образуют
новые «иконографические стереотипы» {Бялостоцкий Я. Искусство и политика,
1770-1830//Сов. искусствознание '80. М, 1981. С. 251-252) Так думать - не то чтобы
какая-то примитивная ошибка, это — закономерное следствие выбора определенной
исторической перспективы, в которой видится весь материал истории искусства. Она
нам кажется очень односторонней, но, очевидно, польский автор глубоко убежден
в ее оправданности. Заметно сходство с тем, как А.Н. Веселовский смотрел на
литературу XIX в.
Рассматривать русскую литературу XIX в. как продолжение древнерусской традиции,
жанров ее литературы — в высшей степени своевременно. Таково ее все более
распространяющееся чтение, оправданное, пока мы не забываем, что литература XIX в.
опирается на свое, глубоко переосмысленное и переориентированное слово. В книге
Е.А. Смирновой (См.: Смирнова Е.А. Поэма Гоголя «Мертвые души». Л., 1987)
замечательно исследуется «подпочва» великого творения; чего только не вошло сюда,
начиная с патристики; однако так раскрытый Гоголь резко отличается оттого, который
всеми читается.
106 Гаспаров М.Л. Указ. соч. С. 193. 192.
107 Такая направленность взгляда представлялась совершенно естественной,
очевидной для Шеллинга, когда он работал над своей «Философией мифологии»; она
разумелась сама собою и оттого даже и не рефлектировалась. Весьма своеобразная манера
рассуждать такова: «Итак, — пишет Шеллинг, - историческое время не
продолжается в доисторическом, но, как совершенно иное, обрезано и ограничено таковым»
(Schelling F. W.J. Sàmmtliche Werke. Stuttgart; Augsburg, 1856. Bd. 11. S. 234).
Возникает в тексте и соответствующее понятие — «возвращаться назад во времени»:
доисторическое время — «последнее, к какому можно восходить во времени» ( Ibid. S. 237).
108 См.: Emrich W. Begriff und Symbolik der «Urgeschichte» in der deutschen Dichtung//
Idem. Protest und Verheißung: Studien zur klassischen und modernen Dichtung. Frankfurt a.
M.; Bonn, 1960. S. 25-47.
109 Предисловие к «Материнскому праву» (1861): Backofen J.J. Mutterrecht und
Urrehgion/Hrsg. R. Marx. Leipzig, 1927. S. 91.
110 Bachofen J.J. Der Mythos von Orient und Occident: Eine Metaphysik der Alten Welt/Mit
einer Einl. A. Baeumler; Hrsg. M. Schroeier. München, 1926; BaeumlerA. Das mythische
Weltalter: Bachofens romantische Deutung des Altertums. Mit einem Nachwort: Bachofen
und die Religionsgeschichte. München, 1965.
111 Надо сказать, что В. Шерер хорошо осознавал задачи исторической поэтики-1; в
1876 г. он удачно формулирует их: историческая поэтика должна исходить из всего
доступного материала, восходить от простых образований к более сложным и
открывать следы примитивных феноменов в более развитой культуре (в рецензии «Весны
миннезанга»). Когда же Шерер приступил к работе над поэтикой, замысел его
приобрел диаметрально противоположный вид.
112 Веселовский Α.H. Историческая поэтика. С. 317.
189
113 Wiegmann H. Geschichte der Poetik. Stuttgart, 1977. S. 122.
114 Schmitt R. Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit. Wiesbaden, 1969. В
637 параграфах этой книги излагаются следующие вопросы: история проблемы;
«слава» как центральное понятие индоевропейской героической поэзии (Р. Шмитт
всюду пишет, в соответствии с традицией немецкой науки, об «индогерманском»);
прочие следы индоевропейской героической поэзии: индоевропейская поэзия о богах;
индоевропейская сакральная поэзия; фразеологические совпадения, относящиеся к
неопределенным стилевым жанрам; индоевропейская поэзия заклинаний; поэт и его
песнь; индоевропейская метрика.
Нетрудно убедиться, что весь круг проблем, рассмотренный в этой книге,
интенсивно разрабатывается в нашей науке.
115 См.: Christmann H.H. Ernst Robert Curtius und die deutschen Romanisten. Stuttgart,
1987 (Akad. Wiss. und Lit. Abh. geistes- und sozialwiss. Kl.; Jg. 1987. № 3).
116 Curtius E.R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. 9 Aufl. Bern; München,
1978. S. 22. В 1944 г. Курциус писал: «Нельзя понять средневековье, занимаясь только
средневековьем» (см.: Christmann H.H. Op. cit. S. 13).
1,7 Весь этот процесс, в свою очередь, совмещен с еще более капитальным — и как
бы погружен в него; речь идет об изменении самого значения слова «история», т. е.
о процессе, который начался в раннегреческий период и продолжается до сих пор.
Само слово «история» заключает в себе историю; в новейшее время и эта история
идет ускоренными шагами. А коль скоро это так, то понятно, что в середине
нашего века это ускорившееся движение приводит к множеству разнообразных
срезов изменчивого смысла «истории», так что, например, литературоведы,
ссылающиеся на принцип историзма, могут подразумевать под ним до крайности различные
вещи Расхождения, прикрытые одним и тем же словом, требовали бы весьма
въедливого анализа. Мы говорим сейчас о моменте существенном и отнюдь не
отвлеченном. Вот пример в более широких масштабах (нежели просто современное
состояние): когда западный историк культуры говорит об «историзме XIX в.», он
разумеет нечто совершенно иное, чем советский литературовед, который рассуждает
о «принципе историзма». «Историзм» в первом случае может, в сущности, отрицать
то, что предполагает «историзм» во втором. «Историзм XIX в.» в общепринятом на
Западе словоупотреблении подразумевает такое отношение к истории, при котором
все исторические эпохи выступают как «безразлично одинаковые», когда все они
одинаково «самоценны», или, по выражению Леопольда Ранке, расположены
одинаково относительно бога. Такое представление об истории довольно наглядно
демонстрировал архитектурный эклектизм XIX в. Но, чтобы возникло такое
представление об истории, необходимо, чтобы сначала был усвоен историзм в ином
смысле - представление об истории как живом и «сквозном» развитии, чтобы затем
такое представление подвергалось важной модификации, а именно: связи между
этапами развития, роста, ослабевают, а тогда любая эпоха и начинает выступать
хотя как вполне самоценная, но зато как абсолютно отдельная, тяготеющая к
замкнутости в себе. Читатель сам может вообразить себе, как много исторических
теорий XIX и XX вв. построено на таком представлении об отдельности, об
обособленности, замкнутости историко-культурных эпох. Хотя каждой эпохе воздается по
достоинству, все-таки истории как процесса, как развития уже не получается.
Такое представление открыто прежде всего и для позитивистского «безразличия», для
такой Gleichgültigkeit, для которой все одинаково и все равно. Любой, кто
разумеет «историзм» в ином смысле, а именно в смысле последовательного и
закономерного развития, не согласится с тем другим «историзмом» - ложным объективизмом
и «равнодушием», Gleichgültigkeit.
190
Сказанное несет в себе некоторые уроки для нашего круга размышлений. Во-первых,
всякий исследователь так или иначе останавливает сам смысл «истории» в ее
движении - останавливает то, что необходимо мыслить себе движущимся и
развивающимся, Именно поэтому такая операция «останавливания» должна ясно
контролироваться самим же исследователем — насколько то в его силах. Во-вторых, если мы
настаиваем на углублении принципа историзма, то мы никак не можем быть уверены, что
такое углубление не приведет к парадоксальному повороту взгляда на историю, к
такому, при котором историческое развитие не будет перекрыто каким-то иным
принципом - пусть, например, таким, который можно будет назвать принципом
структурной одновременности всего «исторического». В-третьих, точно так же, как
принцип историзма не может быть для литературоведа готовым инструментом, он не может
быть и теоретически «чистым» принципом, — нет, он прежде всего зависит от того,
каков опыт истории, в каком виде он осмысляется вообще, за пределами науки и до нее,
и в каком виде поступает он к исследователю. Сколь бы отточены ни были
теоретические представления исследователя, философа, историка культуры, литературоведа, он
все равно продолжает зависеть от неизведанности самой истории, от неизвестного в
ней - оттого, если перефразировать А.И. Герцена, что не известно, что есть в ней.
«Чистота» и последовательность применения какого бы то ни было принципа очень
часто бывает обманчива - исследователь попадает в тупик тавтологии тогда, когда не
допускает в свой труд и в свою мысль «самой» истории с ее давлением, не допускает того,
что еще неизвестно и неясно ему в исторической логике. Это относится и к тому
моменту, где все, казалось бы, замыкается на себе, — там, где исследователь занят
мышлением самой истории. История, история литературы, историческая поэтика, история
мысли об истории - это целые гроздья таких самозамыканий истории, где в центре
оказывается «сама» история и где все сходится к ней и от нее исходит, Очень важно
поэтому тщательно исследовать любые «образы истории», какие складываются в
общественном сознании, в науке, в литературе. Добавим, «чистый» принцип всегда
одержит победу (достаточно лишь уметь изложить свой ход мысли с известной
солидностью), но только она бывает временной, мнимой, а мнимые победы только
задерживают реальное движение мысли, в нашем случае развитие мышления истории.
118 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. М., 1984. Т. 26. С. 145.
119 Там же. С. 131. Ср.: Там же. С. 211: «Дух народа - усвоение всего
общечеловеческого. Позволительно думать, что природа или таинственная судьба, устроив так дух
русский, устроила это с целью». Об этом см. также: Селезнев Ю.И. Мир как творчество:
(До<лосвский-крптк)//Достоевский Ф.М. О русской литературе. М., 1987. С. 44—45.
120 Wagner R. Mein Leben/Hrsg. Ε. Middell. Leipzig, 1985. Bd. 1. S. 245.
121 Menzel W. Die deutsche Literatur. Stuttgart, 1928. Bd. 2. S. 63, 64; Bd. 1, С 23.
122 Поэтому Менцель выступает против масонства - масоны «хотят оторвать человека
от нации, века и природы и выставить его звеном высшего всеобщего общества» (Ibid.
Bd. 2. S. 155). «Если предположить, что существует некое во всем одинаковое
всеобщее человечество, в котором стерты все различия между народами, что по всему свету
распространился один-единый масонский союз, - каким единообразным,
бескрасочным и пустынным показался бы он в сравнении с существовавшим в прошлом
полноцветным садом народов; если бы философам в конце концов и удалось бы
привести все народные потоки в океан одной-единственной братской общины всеобщего
человечества, то поэты отправились бы вверх по течению потоков и вернулись бы в
те горы, что стоят на горизонте истории» (Ibid. S. 178). Ср. у К.С. Аксакова,
который в 1857 г. писал: «Каждый народ пусть сохраняет свой народный облик; тогда
только он будет иметь человеческое выражение. Если отнять у человечества его
личные и народные краски, это будет какое-то официальное, форменное, казенное че-
191
ловечество» (Цит. по: ПыпинА.Н. История русской этнографии. СПб., 1891. Т. 2.
С. 208). Взгляд К.С. Аксакова несравнимо глубже обоснован.
123 Menzel W. Op. cit. Bd. 2. S. 162.
124 Ibid. Bd. 1. S. 44.
125 Аксаков КС. Поли. собр. соч. М., 1861. Т. 1. С. 630.
126 Одоевский В.Ф. Русские ночи. М., 1913. С. 420.
127 Аксаков КС. Указ. соч. С. 629.
128 Достоевский Ф.М. Указ. соч. С. 147.
129 Там же. С. 145-146.
130 Там же. С. 148, 147.
131 Там же. С. 145-146. Ср.: Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. М., 1985.
С. 273.
132 Литературовед едва ли может позволить себе такой сокращенный ракурс, что
писатель, и сопоставлять Шекспира и Пушкина, как если бы их не разделял язык их
культуры.
133 Этим мне не хотелось бы сколько-нибудь умалить значение русских исторических
штудий и, главное, русского мышления истории, - все то, что было в традиции, до
начала и до середины XIX в. Однако все дело в том, что это мышление истории было,
при всех параллелях и заимствованиях, совершенно иным, чем то, что складывалось
в новое время на Западе, и прежде всего в протестантской Германии, культура
которой оказала такое колоссальное влияние на осмысление истории, на сам ход
истории. Обостренное и впитывавшее в себя все возможные мотивы эсхатологизма и
нигилистического фатализма, стремительно исчерпывавшее себя уже на рубеже XVIII—
XIX вв. протестантское мышление истории отождествляло себя с научной культурой
вообще и было полно всяческого высокомерия. Немецкий универсализм был его
плодом — обреченным на гибель уже по внутренним причинам. Между тем всечеловеч-
ность русской культуры потребовала нечеловеческих усилий для своего истребления.
Язык немецкой мысли позволил ей осмыслить себя как таковую, однако ей не было
дано преодолевать свою односторонность.
134 Herder J. G. Über die neuere deutsche Literatur: Fragmente/Hrsg. R. Otto. В.; Weimar,
1985. S. 144.
135 Лессинг остается в пределах риторического, до крайности напрягая это
риторическое изнутри: Шекспир обязан подчиняться Аристотелевым правилам, но только сами
правила в новых условиях дают сугубо новый художественный результат. Французская
же трагедия будто бы лишь следует голой букве правил. Итак, правило сохраняет свою
общезначимость и неизменность, считаясь с изменчивостью; правило уже
взаимодействует с историей и благодаря этому может еще претендовать у Лессинга на вечность.
136 Достоевский Ф.М. Указ. соч. С. 130.
™ HerderJ.G.Op. cit. S. 144.
138 The spectator/Ed. H. Morley. L., S. a. P. 170.
139 Достоевский Ф.М. Указ. соч. С. 131.
140 См. разд. «Юридическая герменевтика»: Text und Applikation, München, 1981 (Poetik
und Hermeneutik. IX). S. 129 - 246. Собранные здесь статьи демонстрируют
приложение юридических мерок к художественным текстам отчасти относятся к тому, что
можно назвать экспериментальной герменевтикой. См. также: Liebs D. Rechtliche
Würdigung von Paul Valérys «Le Cimetière marin»//Ibid. S. 263-268.
141 В 1820-1830-e годы русская культура не впервые грозит прервать свое единство. Уже
в канун петровских реформ «старина и новизна демонстрировали взаимную
враждебность и настаивали на несовместимости. Девиз западников — забвение, ибо Древняя Русь,
по выражению Сильвестра Медведева, «шествовала во тьме» (Панченко A.M. Топика и
192
культурная дистанция//Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. М, 1986.
С. 238). Верно и другое: «Уже в XVIII в. стали «воскрешать» древнерусское искусство, и
этот процесс продолжается до сих пор» (Там же. С. 240). Однако вспоминаемое и
воскрешаемое по своему статусу весьма отлично от того, о чем культура просто помнит, не
забывая, а потому, как все мы знаем, процесс воскрешения протекает мучительно и,
например, в широком сознании древнерусская литература никак не сходится с
литературным наследием XIX в. (которое и считается «классическим»). В Германии такое
ощущение разрыва традиции и нового испытали в первую половину XVIII в.
142 Панченко A.M. Указ. соч. С. 248.
143 См.: Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII -
первая половина XIX в.). М., 1985.
144 Об этом (в первом подходе) хорошо говорится в трудах Д. С. Лихачева и в
названной статье A.M. Панченко.
145 Для полной ясности необходимо привести эти слова в контексте: «<...> мы
никогда не должны забывать, что первой проблемой философии является проблема
действительности, а ее конечной целью должно быть разрешение этой проблемы. Одно
это условие уже выдвигает с необычайной силой значение исторической проблемы,
так как «история» ведь и есть в конце концов та действительность, которая нас
окружает и из анализа которой должна исходить философия. Только в истории эта
действительность выступает в своей безусловной и единственной полноте - по
сравнению с историей всякая другая действительность должна представляться как «часть»
или абстракция. Всякая специальная наука извлекает свой объект в конце концов из
исторического целого, как анатом может извлечь из целого организма составляющие
его части <...>» {Шпет Г. История как проблема логики: Критические и
методологические исследования. М., 1916. С. 20—21).
146 См.: Holenstein Ε. Linguistik, Semiotik, Hermeneutik; Plädoyers für eine strukturelle
Phänomenologie.. Frankfurt a M., 1976. S. 17.
147 Шпет Г. Указ. соч. С. 23.
148 Там же. С. 22.
149 «<...> В этой действительности констатируется наличность фактов, не
разрешаемых в теориях и терминах индивидуальной психологии, а явно указывающих на то,
что человеческий индивид <...> не есть заключенный одиночной тюрьмы <...> Факты
и акты коллективного, «соборного», именно социального порядка так же
действительны, как и факты индивидуальных переживаний. Человек для человека вовсе не
только сочеловек, но они оба вместе составляют нечто, что не есть простая сумма их,
а в то же время и каждый из них и оба они, как новое единство, составляют не
только часть, но и «орган» нового человеческого целого, социального целого. Самые
изощренные попытки современной психологии «свести» социальные явления к
явлениям индивидуально-психологического порядка <...> терпят решительное
крушение перед фактами непосредственной и первичной данности социального предмета
как такового» (Там же). Для литературоведа здесь очевидна связь некоторых общих
посылок мысли Г. Шпета и раннего М.М. Бахтина.
150 «Нужны поэты в поэзии, а как не нужны в поэзии музыканты, так не нужны и
жиюписцы» (Шпет Г. Эстетические фрагменты. Пг„ 1922. Т. 1. С. 29), -
высказывание не частое в русской традиции, но для формалистической эстетики (Р.
Циммерман, его предшественники и последователи) не новое и не оригинальное.
151 Там же. С. 33.
152 Там же. С. 34.
153 Там же. Пг., 1923. Т. 2. С. 72—73. Очевидно, туг речь идет и об объективной вещи,
и о феноменологически понятой духовной предметности. Заметим, что опора на объек-
193
тивно существующую «вещность», «предметность» была характерна для целой
духовной традиции - той самой, которая служила основой и для эстетического
формализма, — со времен И.Ф. Гербарта с его «реалами», столь пришедшимися ко двору в
Австрии, и до новейших ответвлений этой традиции («реизм» Т. Котарбиньского).
154 Там же. T. 1.С.39.
155 Там же. С. 41.
156 Там же. Пг., 1923. Т. 3. С. 40.
157 Там же, Т. 2. С. 70-71.
158 Там же. Т. 1.С. 44.
159 Там же. Т. 2. С. 90.
160 Там же. С. 96.
161 В отдельно отпечатанных на одном листе «Тезисах к диссертации Г. Шпета <...>» (М.,
1916) это содержание завершающего раздела книги не получило отражения, и последний
тезис гласит только: «14. Шеллинг открывает новую эпоху в теоретическом понимании
исторической проблемы, восстанавливая [вопреки Канту. - A.M.] теоретический прин-
ципиальньш анализ ее, но не отожествляя задач исторической науки с задачами
математического естествознания». Суть скрывается за словами «новая эпоха в теоретическом
понимании исторической проблемы»; возможно, такая размытость объясняется
тогдашней поэтикой составления тезисов. В книге все яснее и взволнованнее: у Шеллинга,
согласно Г. Шпету, «формальное отрицание возможности философии истории тесно
связано с признанием факта существования истории: априорная история только потому и
«невозможна», что история по своему существу апостериорна. Но это, скорее,
недостаточно широкий взгляд на философию, чем недостаточное понимание истории как
науки и ее метода. В самом деле, объект философии, по Шеллингу, действительный мир, -
можно ли философии отказаться от рассмотрения апостериорного в нем? <...>» (Шпет Г.
История как проблема логики. С. 472). И Г. Шпет так свобода еферирует одно место
из «Системы трансцендентального идеализма» Шеллинга: «История как процесс и
предмет не есть «развитие», которое само только quasi-история [заметим: постольку,
поскольку Entwicklung есть лишь разворачивание чего-то «свернутого», т. е. данного наперед. -
A.M.], а есть история, т. е. процесс, который не предопределен, не имеет заранее и
извне данного плана. Человек сам делает историю и произвол есть бог истории» (Там же.
С. 470; см. Schelling F. WJ. von. Sämmtliche Werke. Stuttgart; Augsburg, 1858. Bd. 3. S. 589).
Последние выделенные курсивом четыре слова есть перевод фразы Шеллинга: «Die
Willkür ist <...> die Göttin der Geschichte», перевод не слишком целесообразный, если
иметь в виду семантическую эволюцию слова «произвол» к значению полнейшей
беззаконности. Перевод той же фразы в последнем русском издании вовсе искажает смысл:
«<...> историей правит произвол» (Шеллинг Ф.В.Й. Соч.: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 453), -
что вступает в противоречие с утверждением Шеллинга тут же: «<...> своеобразие
истории составляет только сочетание свободы и закономерности <...>». На деле Willkür в
немецком языке 1800 г. означает лишь «свободный выбор», «свободу выбора» и
подразумевает ту историческую потенциальность, которая оказалась столь близкой и Г. Шпету,
писавшему об эмпирической «истории как истории эмпирически осуществившейся
одной из возможностей или нескольких из возможностей» (Шпет Г. Эстетические
фрагменты. Т. 2. С. 90).
162 Шпет Г. Мудрость или разум?//Мысль и слово: Философский ежегодник. М,,
1917. Т. 1. С. 50. Ср.: Там же. С. 54; «Философия становится от этого исторической,
и мы по-новому применяем однажды высказанный принцип: «nihil est in intellectu,
quod non merit in historia, et omne, quod mit in historia, deberet esse in intellectu».
163 Из австрийских классиков Франц Грильпарцер писал и исторические драмы и дал
высокие их образцы; литературоведение, быть может, не уделяет должного внимания
194
своеобразию его исторического мышления, сейчас говорить об этом невозможно.
Адальберт Штифтер создает роман «Витико» (1865-1867) с его
монументально-эпическим дыханием истории, но вот характерным образом интереса к исторической
эпохе как культурному целому со множеством конкретных деталей и к
«археологической» верности у него совсем нет. Ему хотелось бы дать гомеровский (в
понимании времени) величественный, возвышенный образ истории, а отношение
выбранного материала к такому образу — условно.
164 В связи с этим надо сказать, что не исследован еще парадокс австрийской
формалистической эстетики. Когда читаешь систематическую часть «Эстетики»
Роберта Циммермана (1854), то кажется, что всякое содержание искусства испаряется на
глазах; это не мешало, однако, Циммерману содержательно мыслить искусство и, в
частности, играть активную и положительную роль в художественной жизни.
Парадоксальность еще возрастает, если переехать на территорию современной Чехии, где
традиция формалистической эстетики всегда была сильна и где мы застаем,
например, видную фигуру чешского патриота, философа и эстетика Отокара Гостинского
(1847—1910), сторонника формализма, притом выдающегося деятеля чешской
национальной культуры, всемерно способствовавшего утверждению ее ценностей (см.:
VyslouzilJ. Der tschechische Ästhetiker und Misikwissenschaftler Otakar Hostinsky//Sb. pr.
filoz. fak. Brnênské univ. 1978/1979. Ses. 13/14. S. 27-42). Эстетический формализм
австрийского типа заслуживает углубленного изучения — он сам укоренен в
национальной традиции, и, во всяком случае, это понятие не имеет здесь негативного смысла.
165 «Если бы исторические изменения не имели внутренней логики, то таковой не
обладали бы и результаты этих изменений» (Смирнов И.П. Художественный смысл и
эволюция поэтических систем. М.: 1977. С. 7).
166 Там же. С. 8.
167 Там же. С. 7.
168 Однако и отсюда, с этой стороны, есть переход к исторической поэтике: «Если
историческая поэтика не хочет утратить свою специфику и стремится исполнить роль
самостоятельной научной дисциплины, она обязана преодолеть антиномию между
непрерывностью и дискретностью» (Там же. С. 8). Автор исходил из того, что литературовед
должен прийти «к построению структурной типологии художественных систем, т. е. к
выполнению требований синхронного, а не диахронного описания литературных
явлений»; благодаря этому он сможет «выделить те признаки, которые отличают репертуар
элементов одной системы от репертуара другой, и указать, к каким более сложным
ансамблям признаков принадлежат сопоставляемые системы», - но вот тогда-то такой
исследователь и оказывается перед настоящей трудностью, потому что для него «остается
неясной внутренняя необходимость наступившего изменения» (Там же). Все это очень
хорошо изложено, но ведь такой теоретик исходит из приоритета синхронно-системного
(т. е. аисторического), и мы скажем, что все трудности он создал себе сам. Есть и иные
трудности, как-то: «не менее грозная для исторической поэтики оппозиция —
индивидуальное/межиндивидуальное» (Там же. С. 18). Правда, нужно сказать, что, исходя из
определенной позиции, он целесообразно преодолевает трудности: «<...> точнее было бы
говорить не о трансформациях системы, а о системе трансформаций, которые
исчерпывают себя, распространяясь во времени» (Там же. С. 19); Здесь же с одобрением
приводится суждение исходившего из совсем иных предпосылок акад. Д. С. Лихачева о
переходе от древнерусской словесности к новой литературе: «По существу <...>
перестройка происходила все время. Она началась с возникновения древнерусской литературы
<...> Переворот был постепенным и длительным, линия перелома — чрезвычайно
неровной» (см.: Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М., 1979. С. 17-18). Итак,
логика рассуждения, по-видимому, подсказывает необходимость отказаться от абсолютных
195
синхронных срезов (абсолютных в своей отрешенности от истории, от процесса), затем
от иллюзии, что синхрония гарантирует системность (срез пересекает рваные линии
действительных переходов), вообще от представления, что системность связана
непременно с чем-то вневременным или изъятым из времени, из развития, наконец, от
предпосылки, будто литература существует или функционирует как «система» или «структура»,
если только не пользоваться этими словами, вполне нивелируя их внутреннюю форму.
Я бы предпочел не предпосылать заранее большего, нежели то, что литература в
каждом отдельном случае (в такую-то эпоху и в такой момент) как-то устроена - но вот
как она устроилась, что там удалось согласовать, что там ладно, а что нет, что
системно, а что нет, есть ли вообще система и структура или нет и т. д., - это надлежит изучать
исторически-конкретно и одновременно теоретически осмысляя эту историческую
конкретность. Как нет заранее предпосланной системности, так нет здесь и абсолютности
среза (такое представление, которое естественно принадлежит к поэтике самой
литературоведческой мысли и как таковое должно изучаться), - можно было бы говорить о
диалектике целого и частей, с чем в первую очередь имеет дело наука о литературе.
Целое здесь, скажем, какой-то обозримый для данного литературоведа объем истории
литератур (чтобы не произносить таких выспренних слов, как «всемирная литература», и
не предаваться иллюзии о доступности подобных «объектов»), а части - это все то, что,
в каких бы то ни было направлениях, по времени, поперек времени или по диагонали,
вычленяется в целом, притязая на относительную самостоятельность, на внутреннюю
логику, будь то жизнь какого-то жанра, или творчество писателя, или
функционирование риторической фигуры и т. п, и т. д. Диалектика здесь - взаимоотношение и
взаимозависимость как-либо выделяющейся части и осмысленного целого, в котором часть и
частное черпают и свой смысл и в котором они получают свое объяснение. Очевидно,
есть не просто одно общее «целое», но градация, или иерархия целых. Как все здесь
соотносится и что, собственно, соотносится, от выделяемых и фиксируемых
исследователем частей и частностей до целого, и, наоборот, как все эти части устраиваются в целом
и как целому удается справиться с ними, - об этом можно сказать немало, перейдя к
конкретной устроенности такой-то литературы. Видимо, на этой основе может
возникать и возникает и описание разных типов устроенности, к чему при желании можно
применить и любезное литературоведам слово «типология». Особый разговор —о той
податливости на термины, о Termin-Hörigkeit и Terminsucht, которая возникает всякий
раз, как литературоведу в качестве опоры для мысли начинает мерещиться нечто
неподвижное. Иногда литературоведу удается преодолеть в себе эту болезнь, лишь перейдя
через Альпы терминов.
Возможно, что «устроенность» напомнит кому-нибудь «структуру». Верно!
Только тогда «структура» — это омертвелая, уснувшая «устроенность». Без
внутренней формы - между тем как можно быть уверенным: в литературоведении и
родственных науках за исследователя работают («думают») внутренние формы
обращаемых им в термины слов.
О синхронии/диахронии см.: Маковский ММ Лингвистическая комбинаторика: Опыт
топологической стратификации языковых структур. М, 1988. С. 116-117,125-126.
169 Развитие немецкой мысли и культуры в XVIII в. в огромной мере
предопределено Англией, ее философией и эстетикой; самораскрытие немецкой культуры
также совершалось под воздействием Англии, обобщаемой там европейской
традиции, под воздействием ее рвущейся вперед, обгоняющей события эстетической
мысли (с ее культом природы, с ее дыханием вольности), как самораскрывается
позднее Россия под действием западных ферментов мысли.
170 Meinecke F. Die Entstehung des Historismus. München; В., 1936. S. I. См. о
становлении историзма в Германии также: Hünermann Р. Der Durchbruch geschichtlichen
196
Denkens im 19. Jahrhundert: Johann Gustav Droysen, Wilhelm Dilthey, Graf Paul Yorck von
Wartenburg. Freiburg, 1967.
171 Ibid S. 2: «Der Kern des Historismus besteht in der Ersetzung einer generalisierenden
Betrachtung geschichtlich-menschlicher Kräfte durch eine individualisierende Betrachtung».
172 Всякие сходства, типологические соответствия и т. д., вообще все, что не
сносится и не соединяется в течении самого процесса, здесь, на первых порах по
крайней мере, пока новый образ истории устанавливается, опускается или теряет в
значении.
173 Meinecke F. Op. cit. S. 2-3.
174 Hegel G. W.F. Werke. В., 1840. Bd. 11: Vorlesungen über die Philosophie der Religion,
Th. l.S. 142.
175 Meinecke F. Op. cit. S. 640.
176 Ibid.
177 Ibid. S. 644; см.: Ranke L. Über die Epochen der neueren Geschichte [1854]//Ranke L.,
Geschichte und Politik/Hrsg. H. Hofmann Leipzig, S.a., S. 141.
178 Meinecke F. Op. cit. S. 644; Ranke L. Op. cit. S. 142.
179 См., например: Ranke L Op. cit. S. 133 («Geschichte und Philosophie», 1830-е годы);
S. 138-142 («Über die Epochen...»).
180 Ibid. S. 144.
181 Из университетской речи 1836 г., впрочем прочитанной на латыни. См.: Ranke L.
Op. cit. S. 121-122.
182 Ibid. S. 145.
183 Ibid. S. 146.
184 Ibid. S. 141.
185 Ibid. S. 135.
186 Ibid. S. 136.
187 Ibid. S. 135.
188 Ibid. S. 136-137. Немецкое слово Wahrnehmung, которое употребил здесь Ранке,
выразительнее и весомее «наблюдения» - это пристальное наблюдение, в котором
происходит и усмотрение сути явлений, это вместе и восприятие, и осмысление.
189 Ibid, S. 137. Ср.: Ibid. S. 124: «Если мы спросим теперь, чем живо государство <...>
то и здесь точно так же, как и у человека, жизнь заключена в духе и в теле, но
только отдуха, как части с большими преимуществами, зависит все остальное. И
поэтому хотя нам не дано извлекать сокровенное на свет, следить душу и ее деятельность -
источник и поток жизни, мы все же вольны наблюдать лежащее перед глазами и
отсюда, путем размышления, умозаключать о тайнах отдаленных причин».
190 Ibid. S. 143.
191 Ibid. S. 136.
192 Ibid. S. 122.
193 Meineke F Op. cit S. 645.
194 Ranke L. Op. cit. S. 142.
195 Что Провидение поставило перед человечеством определенную цель, это Л.
Ранке назвал «гипотезой, которую невозможно подтвердить исторически», на
историческом материале (Ibid. S. 145).
196 Ibid. S. 146.
197 Напротив, «нигилистические» взрывы сомнения в сопряженности
божественного и человеческого, небесного и земного сами по себе основаны на переживании
таких связей как самых фундаментальных, жизненно важных. Их отрицание
сопровождается великими писательскими муками и в культурной памяти тогдашнего времени
оставляет впечатление чего-то неудобного, не совсем приличного.
197
198 Характерное осмысление истории П.Г. Дройзеном на основе заимствованного у
Аристотеля выражения epidosis eis hayto («прибавление к тому же», De an. II 5,417b)
анализируется в Hünermann P. Op. cit. S. 70-83.
199 Богомолов A.C. Гегель и диалектическая концепция развития//Философия Гегеля:
Проблемы диалектики. М., 1987. С. 62-63.
200 Ranke I.Op. cit. S. 136.
201 Она совершенно очевидна, отмечена, в частности, в новой книге: Свасьян КА.
Феноменологическое познание: пропедевтика и критика. Ереван, 1987. С. 90—91.
202 По сравнению с Гегелем такая история как бы вывернута наизнанку, и там, где у
Гегеля начало движения (дух), там у Ранке полная неподвижность (бог), то, что у
Гегеля меньше всего стоит — случайность эмпирического движения, - то для Ранке
дороже всего. У Ранке, правда, еще сохраняется методологическая высота -
наследие начала века; она спасает его от позитивизма - поскольку Ранке действует не
пресловутыми индуктивными методами, а претендует на куда большее и куда более
философичное (вопреки типичным, в духе эмпиризма, антифилософским наскокам).
203 Этот взгляд выражен в романтическую эпоху Шеллингом, Ф. Шлегелем
(«Поскольку вся наука вообще генетична, то отсюда следует, что история должна быть
самой универсальной, всеобщей и высшей из всех наук». Цит. по: Historisches
Wörterbuch der Philosophie. Basel; Stuttgart, 1974. Bd. 3. S. 366), Адамом Мюллером
(в «Учении о противоположности», 1804. См.: Müller Л. Kritische, ästhetische und
philosophische Schriften/Hrsg. W. Schroeder. W. Siebert. В., 1967. Bd. 2. S. 206).
204 Маркс К., Энгельс Φ. Соч. 2-е изд. T. 3. С. 16. При этом вся немецкая наука
пронизана историческими подходами. Когда филолог пишет (в 1921 г.): «То, что есть
и чем должна быть филология, есть итог ее истории» ( Wilamowitz-MoellendotffU. von.
Geschichte der Philologie. Leipzig, 1959. S. 80), то в самих его словах - итог и
высший опыт науки, столетиями осваивавшей историзм мышления.
205 Грушин Б.Л. Историзм//Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
С. 227. Дальше в тексте статьи непонятно, с каким «бессодержательным
эмпиризмом исторической науки средневековья и провиденциализмом теологии» боролась
философия истории рубежа XVIII - XIX вв,; «провиденциализм» был формой, в
которой история не могла не мыслиться в широте культуры, а не только в узко
понятой теологии Средних веков, эмпиризм исторической науки никуда не мог
бы уйти от этой самой общей формы рассмотрения истории, а потому неясно, как
эмпиризм мог быть «бессодержательным» (значит ли это, что он был вполне
«беспринципным»?); кроме того, XVIII в. слишком далеко отстоит от средневековья,
чтобы бороться с его историческим эмпиризмом.
206 См.: Historisches Wörterbuch der Philosophie/Hrsg. J. Ritter. Basel; Stuttgart, 1984.
Bd. 4. Sp. 1317 - 1358 (Organ. Organisation. Organismus).
207 «Энциклопедия философских наук», С. 343: Hegel G. W.F. Werke. 2. Aufl. В., 1847.
Bd. 7/1. S. 470-471.
зов философский энциклопедический словарь. С. 228.
209 Hegel G. W.F. Op. cit. В., 1834. Bd. 5. S. 251.
210 Ibid. В., 1840. Bd. 6. S. 256.
2,1 Ibid. В., 1832, Bd. 12. S. 23.
212 Ibid. Bd. 7/1. S. 471.
213 Ibid. S. 466.
214 Ibid. S. 426.
215 Монументальные сводные произведения типа «Космоса» Александра Гумбольдта
(1845) пользуются в XIX в. несколько отвлеченным уважением, - хотя Гумбольдт уже
не был натурфилософом (т. е. мыслил несравненно более «позитивно»), его сочине-
198
ние отодвигают в сторону вместе с многочисленными натурфилософскими
«видениями целого»; оно не по нутру ученым середины века, и его спроваживают к более
широкому популярному читателю.
216 Schlegel АЖ Die Kunstlehre/Hrsg. Ε. Lohner Stuttgart, 1963.S. 25.
217 Schlegel АЖ Geschichte der romantischen Literatur/Hrsg. E. Lohner. Stuttgart, 1965. S. 80.
218 Натурфилософский образ-идея оказывается как нельзя кстати - он превосходно
соответствует субъективному переживанию истории в критический ее момент,
когда культурная традиция впервые осознана как целое, притом как органическое
(подчеркнуто!) целое. Впоследствии оказалось, что из этого живого осознания
исторического целого могут выветриваться как своего рода излишки и личное отношение,
созерцание, видение истории, но тогда получается совсем другая наука истории.
219 Вот что любопытно: ведь историческая картина мира не знала истории как
органического развития - теперь же выходит, что едва эта картина начала разрушаться,
как органического развития вновь нет, хотя бы потому, что оно подошло к концу
(следовательно, пока оно было, оно не осознавалось, теперь оно осознано, только его
нет). Новое видение культурной истории подлинно, как зеркало, отражает аисторизм
прежнего осознания ее динамики. Едва открывшееся тут же и закрывают. Однако
развитие, будучи «снятым», не исчезает, — оно-то и привлекает к себе основное
внимание; до того, что в сознании науки решительно оттесняется на самый дальний план
провозглашенное в философии его завершение. Но тогда для науки, для ученого
остается эмпирия этого развития, — в нее можно углубляться, совершенно оставляя без
внимания «начала» и «концы» - те, что «со-отразились» на рубеже веков и эпох. «Фи-
нальность», снимающая развитие, соответствует, по сути дела, той «норме», которая
не позволяет развитию искусства обрести свою самостоятельность.
220 Hegel G. W.F. Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte/ Hrsg. G. Lanson В.,
1970. Bd. 1.S.22.
221 Было бы полезно исследовать, какую роль в общеевропейских настроениях
разочарования, мировой скорби и т. п., помимо социально-экономических и иных
внешних и отдаленных причин, играли причины сугубо внутренние, как, например,
переживание резко изменившейся картины мира — ее основных координат: человек,
который вот только что, вместе со всем человечеством и природой, жил в весьма
ограниченном, узком мире, в мире сравнительно недавнем, хотя и успевшем постареть,
правда в мире, который уже обретал неслыханную космическую пространность и
умножался (как это к самому началу XVIII в. увлекательно и своевременно излагал Фон-
тенель), - этот человек вдруг выброшен в бескрайность, бесконечность, в том
числе и культурно-историческую, и летит в неизведанность, как позднее представлялось
это Ницше (в то время стали охотнее мыслить историческую бесконечность, чем
ограниченность и обозримость, и с презрением относиться к библейской хронологии
и ее рефлексам в науке). Пример метафизических страданий: как должен был
реагировать современник на далеко не ясно осознававшуюся им весьма резкую смену
координат? Как выражалось его по большей части смутное ощущение того, что оно
как-то иначе помещено в пространство мира с его историей? Изменившееся
положение очень скоро было философски осмыслено (ср. след. примеч.) — истолковано
в оптимистическом духе как сбрасывание всех и всяческих иллюзий, что было
весьма благоприятно для развития позитивной науки.
222 К. Маркс писал в работе «К критике гегелевской философии права»: «Критика
религии освобождает человека от иллюзий, чтобы он мыслил, действовал, строил свою
действительность как освободившийся от иллюзий, как ставший разумным человек»
{Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 415). Мысль об освобождении от
иллюзии — вместе с тем о «раз-очаровании» — созвучна умонастроению 1840-х годов и
199
выражает его в радикальной форме. См.: Эстетика немецких романтиков. М., 1987.
С. 39-42.
223 Если смотреть на сколько-то обозримый океан осмысления от античности до
наших дней, то можно видеть тут, в этом кипении и бурлении, сложное и запутанное
соединение и разделение слов и подразумеваемых смыслов, их переход, их перелив, -
для современного человека «автомат» идет по ведомству механического и
ассоциируется с заводским производством, между тем для грека «автоматическое»
соединено с «живым», с тем, что существует «само собою»; так может быть живой и
сделанная человеком статуя, она наделена жизнью, своей самостоятельностью См.:
Kenner H. Weinen und Lachen in der griechischen Kunst. Wien, 1960. S. 66. (Österr. Akad.
Wiss. Philos. - hist. Kl. S.-Ber.; Bd. 234/2). Но не надо даже заглядывать в такую
древность: семантика и такой тривиальной вещи, как рассказ Э.Т.А. Гофмана «Автомат»,
воспринимается современным читателем заведомо неверно. Для Гофмана и для
читателя его времени в этом заглавии звучит отголосок «скульптурного мифа», т. е. все
того же представления о статуе, скрывающей в себе таинственную жизнь и могущей
ожить. Как и многие иные представления, оно на пороге XIX в. сохраняет свою
власть над умами и лишь позднее подвергается разрушительному воздействию силы
«раз-очарования». См.: Fink G.-L. Pygmalion und das belebte Marmorbild: Wandungen
eines Marchenmotivs von der Friihaufklärung bis zur Spätromantik;//Aurora: Jahrbuch der
EichendonTGesellschaft, Würzburg, 1983. Bd. 43. S. 92-123; Манн Ю.В. «Скульптурный
миф» Пушкина и гоголевская формула окаменения//Пушкинские чтения в Тарту.
Таллин, 1987. С. 18-21; Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина//
Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 145-180.
224 Маркова Л.А. Наука: История и историография XIX-XX вв. М., 1987. С. 13. Ср.
интересный подход к изучению русской формальной школы: исследуется
имманентная поэтика литературоведческого направления, в частности модели, на которые
ориентируется мысль; автор выделяет три такие модели-метафоры - «машина»,
«организм», «система»: Steiner P. Russian formalism: A metapoetics. Ithaca; L., 1984.
225 Winckelmann J. Werke/Hrsg. H. Meyer, J. Schulze. Dresden, 1809. Bd. 3. S. II.
226 О топосе «упадка» (с литературой) см.: Fromm H. Riesen und Recken// DVj. 1986.
Bd. 60. S. 1-59.
227 См. «Weltalter» Шеллинга (1811-1813), «Ober die Grundlage, Gliederung und Zeitenfolge
der Weltgeschichte» Й. Герреса (1830), где возобновляется мифология мировых эпох.
228 Натурфилософские материалы, относящиеся к эпохам-возрастам. См.: Эстетика
немецких романтиков. М., 1987.
229 Так, широкое культурное движение конца XVIII в. к сближению с античностью,
ее духом и жизненным стилем завершается отходом от нее: погружение в античное
как форма прощания с ним.
230 См.: Meinecke F Op. cit. S. 319.
231 Как «систематическое построение» точнее всего перевести слово «das Lehrgebäude»,
употребленное Винкельманом ( Winkelmann J. Op. cit. S. 1).
232 Ibid.
233 «Ist eine Vorstellung, Beschreibung, oder Erzehlung einer geschehenen Sache» ( Walch J. G.
Philosophisches Lexicon... 2. Aufl. Leipzig, 1733, Sp. 1458).
234 Ibid. Sp. 1459.
235 Буквально - на историю «духов», или «духовных субстанций» (от человеческих
способностей и психологических свойств до призраков и чародейства), и на историю
«тел», или «телесных субстанций» (Ibid. Sp. 1460).
236 «Denn viele beschreiben Geschichte, dabei sie nicht gewesen» (Ibid. Sp. 1461).
Последний текст показывает, что филологическая и историческая критика свидетельств и
200
писательская, риторическая же разработка изложения какой-либо темы продолжают
находиться в неразрывном единстве («требуются истина и соответственное
изложение фактов, или изучение и композиция», от историка требуется «наглядность»,
«драматическое развитие событий», «сила воображения, сдержанная ясным сознанием
своей зависимости от материала и от отдельных фактов»). Еще в 1880-е годы такой
мнимый философский модернист, как Ф. Ницше, основой истории культуры,
философии и т. д. считает филологические методы - филологическое «умение хорошо
читать» (см.: Nietzsche F. Werke. Leipzig, 1906. Bd. 8. S. 290, 307).
237 Ibid. S. 1463-1464. Cp: Wachler L. Geschichte der historischen Wissenschaften.
Gottingen, 1812. Bd. I.S.5.
238 Walch J.G. Op. cit. Sp. 1458.
239 См.: Wachler L. Op. cit. S. 3 — 4. И. Г. Вальх и Л. Вахлер, разделенные почти веком,
рассуждают об истории по одной, в сущности, схеме.
240 Walch J.G. Op. cit. Sp. 1460, 1461, 1462.
241 Кацнельсон С. Д. Содержательно-типологическая концепция Вильгельма Гумболь-
дта//Понимание историзма и развития в языкознании первой половины XIX в. Л.,
1984. С. 140.
242 У Геродота historié - деятельность раз-ведывания, затем изложение итогов раз-ве-
дывания; уже у Аристотеля особый жанр. См.: Der Kleine Pauly. München, 1979. Bd. 2.
S. 777; (ср.: Ibid. Bd. 4, S. 640-641; Scholz G. Geschichte//Historisches Wörterbuch der
Philosophie. Bd. 3. Sp. 344).
243 «Historia est res gesta, sed ab aetatis nostrac memoria remota». Cic. De invent. 1, 27.
244 Winckelmann J. Op. cit. S. I..
245 Полнота описаний приводит к возможности классифицировать объекты — так это
в естественной истории от Аристотеля до Линнея и Бюффона; отсюда «история» как
эмпирически-классификационный подход, который, однако, не исчерпывает
сущность historia.
246 Именно поэтому историк XVIII в. и еще позднее чувствовал себя, и должен был
чувствовать себя писателем, художником слова: сколь бы ни был опосредован путь
исследования, он должен был подвести историка к наглядной ясности не просто
знания, но видения (хотя бы как охвата-обзора материала). Путь историка - путь
к наблюдению, к наблюдению того, что непосредственно наблюдать, как правило,
нельзя. Такой чуть архаический историк, как Людвиг Вахлер, ценен для нас уже
тем, что вполне осознает ситуацию в терминах старой исторической традиции
(риторической в общем смысле): историк связан материалом и отдельными фактами,
однако обязан добиться «сообразного изложения» с его «наглядностью» и
«драматизмом», - иначе история просто не достигает своей цели. Поэтому писательская
установка пронизывает все изыскания историка — он изучает факты и
одновременно их «компонует», он не просто изучает и обобщает их в форме, скажем, общих
выводов, а он сам учится их видеть. Неслучайно то, что в «истории» и в
«историке» время от времени акцентируют видение и наблюдение - этот семантический
слой не отмер в этих словах, а как бы спит в них: «Сочинитель истории 1812 года
должен быть воин, самовидец <...> Сочинитель должен быть: самовидец <...>»
(Глинка Ф. Письма к другу/Декабристы: Поэзия. Драматургия. Проза.
Публицистика. Литературная критика/Сост. Вл. Орлов. М.; Л., 1951, С. 318).
247 См.: Кацнельсон С.Д. Указ. соч. С. 140. Заметим, что, например, занятия
физикой для Англии относятся к области «философии», философских исследований;
в XVII-XVIII вв. в известной мере это так и на континенте. Оппозиция
доступного/недоступного наблюдения, конечно, связана с другими:
эмпирического/теоретического, исторического/умозрительного и т. п.
201
248 Различение восходит к богослову М. Келеру (1892). См.: Historisches Wörterbuch
der Philosophie. Bd. 3. S. 398-399.
249 Meinecke F. Op. cit. S. 1-2. См.: Rand G.G. Two meanings of historicism in the
writings of Dilthey, Troeltsch, and Meinecke //J. Hist. Ideas. 1964. Vol. 25. P. 503-508.
250 «Мы видим в историзме высшую из достигнутых до сих пор ступеней в
уразумении человеческих вещей и подлинную возможность развития, что касается и тех
проблем, какие занимают сейчас человечество» (Meinecke F. Op. cit. S. 5). Однако
историзм Мейнеке ограничен теми самыми характерными для немецкой культуры
пределами, которые вели и к отрицанию историзма, так что мысль Мейнеке в самых своих
начатках парадоксальна и питается парадоксами немецкой культуры.
251 Ibid. S. 2-3.
252 Определяя «историзм», Мейнеке забывал о развитии. Понятие «развития» он
обретал вновь через понятие «индивидуальность». Вот о том, что развитие присуще
индивидуальности, он помнил совершенно твердо, — все это особенность
культурно-исторической памяти этой эпохи. Сразу же возникает образ немецкого литературоведения,
занимающегося в одно время со штудиями Мейнеке проблемой так называемого
«романа воспитания», ßildungs- или Entwicklungsroman, и утрирующего ее. Все мыслимое
и немыслимое подводится под суть и схему юспитательного романа, и современник
Мейнеке и ученик В. Дильтея, находит лучший для себя способ понять «Парцифаля»
Вольфрама, представив его как «роман воспитания» (Misch G. Wolframs Parzival: Eine
Studies zur Geschichte der Autobiographie/DYj. 1927. Bd. 5. S. 213-315).
Литературоведческая мысль усердно воспроизводит психологические особенности и
стереотипы XIX в., отставая от реального литературного развития, от его
мировосприятия и мирочувствия, на 30-50 лет (часто это было просто неизбежно). Так и Мейнеке:
для него развитие есть нечто воплощенное в индивидуальности - в самую первую
очередь в человеческой личности. История тоже есть индивидуальность, однако она
напоминает личность с ее психологией, строится по ее образцу: таков один из вариантов
морфологической мысли, основанный на отождествлении истории и психологизированной
человеческой личности (отождествление - как мифологический фон мысли).
253 Чехословацкие философы пишут, об этой тенденции осмысления истории в
немецкой культуре так: «То, что Гегель лишь, предчувствовал, то, в чем он видел пародию на
научную историю философии, стало реальностью в современном буржуазном
исследовании. Уже у Шпрангера, Клагеса и Шпенглера историко-философский анализ целиком
подчиняется культурной морфологии. Французский и немецкий экзистенциализм
доводит дело до конца, до последней крайности <...> В поздних работах Ясперса <...>
история философии уже прямо трактуется как вневременная типология» (Нетопилик Я.,
Черны И. Отношение всемирного и национального как методологическая
историко-философская проблема//Проблемы марксистско-ленинской методологии истории
философии. М., 1987. С. 63). Авторы текста не вполне точны в одном: морфологические
подходы XX в. отнюдь не были лишь свертыванием историко-генетического мышления
предшествующей эпохи, - они развивают и оформляют то, что во времена Гете и
Гегеля в не меньшей мере было тенденцией немецкого осмысления истории. Поэтому
вовсе нельзя думать, что здесь, в немецкой мысли, перед нами «историко-философский
анализ, деградировавший до неисторических морфологии и типологий» (Там же). Это
«неисторическое» постоянно витало над немецким мышлением истории. Даже в эпоху
эволюционизма - стоило только немецкому историку, философу, литературоведу
попытаться осмыслить конечную базу своих воззрений. Но есть и еще одна сторона: мы
рискуем наделать больше шуму, чем толку, если к «морфологиям и типологиям» будем
относиться пренебрежительно. Ведь ясно, что в них отразились тенденции широкого
сознания истории в XX в., сознания общекультурного, сознания самой культуры. Даже
202
само «потребительское» сознание в странах с развитой массовой культурой очевидно
склоняется к тому же «свертыванию» истории, - нельзя же полагать, что оно подвержено
влияниям отвлеченных философских тезисов. Кроме того, это сворачивание
исторического со времен Шпенглера и Клагеса (значение которых как диагностов западной
культуры и выразителей скрытых ее тенденций, так сказать, в «слепоте» исторического
мгновения не подлежит сомнению) слишком заметно ушло вперед. Несомненно, недоразвер-
нугость исторического измерения в культурном и научном сознании, как и податливость
мысли на всякое свертывание истории, составляет явную черту именно немецкой
культуры (в резком отличии от соседней австрийской, от русской и т. д.); многие
мыслители находились и находятся под ее воздействием. Есть в мире и иные очаги культурных
тенденций свертывания истории.
254 Meinecke F Op. cit. S. 5.
255 Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben//'Nietzsche F Werke. Leipzig, 1899.
Bd. 1. S. 277-384. Характерно название работы, какое предполагалось
первоначально, - «Мы, историки. К истории болезни современной души» (Ibid. S. 602).
256 Ibid. S. 287.
257 Ibid. S. 281.
258 Ibid. S. 289-290.
259 Ibid. S. 295. Чтобы не придавать ходу мыслей Ницше в этой рапсодии
односторонне демонического характера, скажем, что ему присуща, несомненно, диалектическая
способность выводить мысль, идею из противоположного ей; не боится он и
противоречий мысли. Только что сказав: «<...> я пытаюсь понять историческую
образованность нашего времени как его изъян, болезнь и порок, поскольку полагаю, что все
мы больны изнуряющей исторической лихорадкой и по крайней мере должны
понять, что больны» (Ibid. S. 281), — посвящает проникновенные страницы
«охранителям и почитателям истории - тем, кто с любовью и верностью смотрит туда,
откуда пришел и где стал тем, чем стал»; «для такой души обладать утварью своих
предков означает не то, что обычно, - тут не человек владеет утварью, а утварь его
душою»; «Самой же высшей ценностью наделено историко-антикварное чувство
почитания, когда трогательные настроения радости и довольства распространяются
даже на состояние скромное, неразвитое, жалкое, в каком пребывает человек или
народ; так, например, Нибур откровенно и прямодушно признается в том, что с
удовольствием живет среди вольных крестьян в болотах и степях, не испытывая нужды
ни в каком искусстве. Да и может ли история служить жизни лучше, чем когда она
привязывает к родным местам и нравам поколения людей, даже и не слишком
облагодетельствованные жизнью <...>» (Ibid. S. 303-304).
260 Конечно, «жизнь» в таком понимании - достояние не одной немецкой культуры;
по-видимому, сама жизнь была устроена так, что в ней закономерно мелькает эта
возвышенная «иррациональность», эта сумма всего биологически и духовно
существующего, этот модус видеть все сквозь призму живого. Когда говорят: «Прекрасное -
это жизнь» — или нечто подобное, то вполне можно представить себе, что этот
тезис наполнен русским жизненным опытом, однако выражен он исключительно по-
немецки, т. е. всецело обязан немецкому бесконечному продумыванию и даже
обмусоливанию таких понятий; это «по-немецки» жизнь претендует на такие права, что
безошибочно можно было относить к ней всякую эстетическую категорию - «жизнь»
бездонна и все содержит в себе.
См. также: Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen
Hermeneutik. 5. Aufl. Tübingen, 1986. S. 246-258.
261 Поэтому составители одного из новых словарей немецкого языка выдают
желаемое за действительность, когда считают единственным значением слова
203
«Historismus» конкретно-историческое рассмотрение явлений жизни (Wörterbuch der
deutschen Gegenwartssprache, В., 1970. Bd. 3. Sp. 1865). Наделе слово
функционирует совсем иначе и значительно сложнее - в своей сложной устроенности оно
охватывает многое, от «историзма» в искусствоведческом понимании как ориентации
на воспроизведение стилей прошлого, на «нео»-стили, до конкретно-исторического
подхода к явлениям. См., например, содержащую 19 тезисов об историзме в
истории искусства статью: Klingenburg К.-Н. Statt einer Einleitung: Nachdenken über
Historismus//Historismus - Aspekte zur Kunst im 19. Jahrhundert. Leipzig, 1985. S. 7-
29. Bes. S. 2-26. Автор статьи об «историзме» в «Энциклопедии искусства»
пытается отделить «историзм» в значении конкретно-исторического мышления и «ис-
торицизм» как вторичное явление, искажение «историзма», а также и
стилизаторство (Lexikon der Kunst. Leipzig, 1971. Bd. 2, S. 294-295). Для составителей нового
очерка истории лингвистической германистики «Historismus» синонимичен
«историческому мышлению» (geschichtliches Denken), т. е. понят в смысле исторически-
конкретного мышления. Авторы очерка стремятся к диалектическому учету
стимулов и мотивов, определявших мышление истории, и прежде всего озабочены тем,
чтобы вывести рассмотрение истории науки из национально-ограниченных рамок
(так, многие интеллектуальные открытия Гердера целиком отнесены на счет
сенсуализма Кондильяка). В историческом мышлении Я. Гримма авторы находят две
модели - это модель связи истории языка и истории народа, «восходящая к
Просвещению», и модель организма, опирающаяся на «успехи классификационной и
сравнительной анатомии» (см.: Sprachwissenschaftliche Germanistik: Ihre
Herausbildung und Begründung/Hrsg. W. Bahner, W. Neumann. В., 1895, S. 14, 17, 46).
На деле обе «модели» опосредованы, а вторая из них имеет и несравненно более
глубокие корни.
262 Ф. Ницше с «панической» стороны своего мировоззрения все видел совсем
иначе: «Теперь не одна жизнь царит, укрощая ведение прошлого, - нет, все пограничные
столбы опрокинуты и все, что когда-либо было, опрокидывается на человека»
(Nietzsche F. Op. cit. Bd. 1. S. 311). Ницше был прав в том, что исторические
дисциплины в XIX в. взяли верх и совсем уже «одолели» человека, - однако «жизнь»
ощутимо мешала истории изнутри.
263 Первая кафедра «немецкого языка и литературы» была основана в Берлине в
1810 г.; ее занял Ф.Г. фон дер Хаген.
264 В гегелевскую эпоху напряженной мысли поэзия, переставшая быть наукой, опять
стремится «назад»; обнаруживаются внутренние связи поэзии и науки; «Поэзию мы
рассматриваем как первую и самую высокую из всех искусств и наук; ибо и наука она
тоже, наука во всей полноте смысла, то, что Платон называл диалектикой, а Якоб Беме
теософией, наука о единственном подлинно-действительном» (Ф. Шлегель, 1803:
Schlegel F. Literarische Notizen, 1797-1801/Hrsg. H. Eichner. Frankfurt a. M. etc., 1980.
S. 290 Anm.); «Чем решительнее обособляются наука и искусство <...> тем сильнее
сцепляются они друге другом <...>» (А. Мюллер, 1804: Müller A. Op. cit. Bd. 2. S. 211).
265 Слово Dichtung сближается в немецком с dicht, густой, и такая ложная
этимология слова наделяется своей привлекательностью и непременностью как факт
культуры. Об этом хорошо сказано в одной новой статье - в следующем отрывке
сначала идет цитата из «Неторных троп» М. Хайдегтера: «"Мышление есть изначальное
dietare. Мышление есть прапоэзия, которая предшествует всякому стихотворчеству,
равно как и всякому поэтическому в искусстве <...> Стихослагающее существо
мышления хранит силу истины бытия <...> мыслящий перевод тем самым стихослагает,
стихотеснит <...>". В словесной вязи этого пассажа переплетаются два
этимологических мотива: поэзия, dichten, сближается этимологически с латинским словом dietare,
204
а кроме того, значение обоих возводится к смыслу, сохраненному в немецком
прилагательном dicht - тесный, плотный, густой; отсюда и смысл притеснения в dictare,
и оттенок насильственности и диктата в понятии стихосложения» (Васильева Т.В.
«Стихослагающая» герменевтика М. Хайдеггера как метод историко-философского
исследования//Проблемы марксистско-ленинской методологии истории философии.
М, 1987. С. 199-200).
266 Естественно, отвлекаемся от всяких особенных случаев словоупотребления,
например, когда «литература» нарочито противопоставляется той самой «жизни»: «все
это литература», т. е. писанина, ничего не стоящая, и т. д. Так, например, у Ницше
(Nietzsche F. Op. cit. Bd. 8. S. 274).
267 Über die Homerische Poesie//Deutschland. 1796. Bd. 4; Geschichte der Poesie der
Griechen und Römer. В., 1798. Еще Φ. Шлегель в лекциях 1812 г. («История древней
и новой словесности») разделял такое риторическое понимание «литературы». Для
него «литература по ее истинному существу, полному объему и изначальному
предназначению и достоинству» включает в себя «все искусства и науки, все
произведения, имеющие своим предметом жизнь и человека», а затем историографию,
философию, красноречие, все, что «в своей совокупности составляет духовную жизнь
человека» (Schlegel F. Sämmtliche Werke. Wien, 1822. Bd. 1. S, 8-9).
268 Впервые издано: Vorlesungen über schöne Litteratur und Kunst/Hrsg. J. Minor.
Heilbronn, 1884. Выше цитировалось новое издание под редакцией Э. Лонера.
269 Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts.
Göttingen, 1801-1819. Bd. 1-12.
270 Wachler L. Geschichte der historischen Wissenschaften. Göttingen, 1812-1820. Bd. 1-
2. Вышла в той же серии, что и труд Ф. Боутервека (и отдельно, с несколько
видоизмененным названием).
271 Wachler L. Handbuch der Geschichte der Litteratur. Frankfurt а. M, 1822-1824. Bd. 1-
4; 3. Aufl. Leipzig, 1833. Bd. 1-4.
272 Reimmann J. F. Versuch einer Einleitung in die Historiam Litterariam. Halle, 1708.
Предисловие переиздано: Über Literaturgeschichtsschreibung/Hrsg. E. Marsch. Darmstadt,
1975, S. 33-52.
273 Über Literaturgeschichtsschreibung. S. 45. О соотношении классификационной
и «связной» истории немецкой литературы см.: Fohrmann J.
Literaturgeschichtsschreibung als Darstellung von Zusammenhang//DVj. 1987. S.-H. 174-177.
274 Goedeke K. Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. Leipzig, 1884.
Продолженное другими, второе издание труда начало выходить в 1884 г.; в настоящее
время выходят выпуски XVII тома, на котором его решено в такой форме прекратить.
275 Письмо К. Штрекфусу от 27 января 1827 г.: Goethe J. W. von. Werke. Hamburger
Ausgabe. München, 1982. Bd. 12, S. 362. Далее НА, с указанием тома и страницы.
276 Ibid.; Eckermann J.P. Gespräche mit Goethe/Hrsg. R. Otto, 2. Aufl. В.; Weimar, 1984.
S. 198.
277 Письмо С. Буассере от 12 октября 1827 г.: НА 12, 362.
278 Письмо К.Ф. Цельтеру от 4 марта 1829 г.: НА 12, 363; Briefwechsel zwischen Goethe
und Zelter/Hrsg. L. Geiger. Leipzig, [1900]. Bd, 3. S. 120.
279 Съезд естествоиспытателей в Берлине, 1828 г,: НА 12, 363.
280 Ibid.
281 НА 12, 351.
282 В рецензии издания Т. Карлейля «German Review» (1828): НА 12, 362
283 Письмо Т. Карлейлю от 8 августа 1828 г: Goethe J. W. von. Werke. Berliner Ausgabe.
В.; Weimar, 1972. Bd. 18, S. 882. Далее: ΒΑ
284 НА 12, 364.
205
285 Вот как выглядят немцы на всеобщих торгах «мировой литературы»: «Все нации
оглядываются на нас, они хвалят, они порицают нас, они принимают и отбрасывают,
подражают и искажают, понимают, не понимают, они открывают перед нами, они
закрывают от нас свои сердца, — ко всему этому мы должны относиться спокойно, ибо
особой ценностью отличается для нас целое» (из аннотации журнала «Искусство и
древность», т. 6, № 1,1827: НА 12, 361-362). А вот немцы, увиденные иначе: «Теперь,
когда начинается мировая литература, немец, если присмотреться, потеряет больше
других; он поступит благоразумно, если задумается над таким предостережением» («Из
архива Макарии» в «Годах странствия Вильгельма Мейстера», 1828: НА 12, 363).
286 См. рецензию «German Romance»: НА 12, 353, и аннотацию «Искусства и
древности», т. 6, № 2: НА 12, 362-363.
287 «Исторически» — в старом традиционном смысле «истории»: смотреть
«исторически» — значит взглядом «историка», который наблюдает явления беспристрастно,
внимательно, готовясь описывать и классифицировать их.
288 Eckermann J.P. Op. cit. S. 198.
289 Синоним «беллетриста»: Гете по-своему обходит трудность — отсутствие
специфического понятия «писательства», «писателя», «беллетриста».
290 НА 12, 352.
291 Из заметок 1829—1830 гг., которым Эккерман дал заголовок «Дальнейшее о
мировой литературе»: ВА 18,429.
292 НА 12, 353.
295 НА 12, 362. Ср. в разговоре с Эккерманом (15 июля 1827 г.): Гете рассуждает о той
«взаимной корректуре, которой подвергают себя французы, англичане и немцы в
настоящее время благодаря их тесным сношениям» (Eckermann J.P. Op. cit. S. 227—228).
294 Однако от Гете можно ждать неожиданностей; в 1829 - 1830 гг., уже начиная
разочаровываться в перспективах ускоренной «мировой литературы», он пишет так:
«Весь широкий мир, сколь бы пространен он ни был, не дает нам, если
присмотреться, больше того, что дала родная почва <...>» (ВА 18, 429-430). Это (в целом)
один из самых мрачных текстов Гете — он еще цитируется ниже.
295 НА 12, 363.
296 О французах в письме к графу К.Ф. Рейнхарду от 18 июня 1829 г.: НА 12,363—364.
297 ВА 18, 430.
298 «Главное свое утешение и даже самое превосходное ободрение эти мужи
непременно найдут в том, - говорится дальше в тексте, — что истинное одновременно
с тем и полезно: если они сами откроют эту связь, если, далее, они смогут наглядно
продемонстрировать и доказать свое влияние, то они не преминут энергично
воздействовать, притом на протяжении целого ряда лет» (Ibid.).
299 Совершенно справедливо заметил Эрих Ауэрбах: «<...> мировая литература, в ге-
тевском смысле относимая к настоящему и к тому, что следует ожидать от
будущего <...>» (Auerbach Ε. Philologie der Weltliteratur//Weltliteratur: Festgabe für Fritz Strich
zum 70. Geburtstag. Bern, 1952. S. 39).
300 Schlegel F. Über die Sprache und Weisheit der Indier. Heidelberg, 1808. S. 212.
301 Ibid.
302 Ibid. S. 214.
303 Ibid. S. 217
304 Ibid. S. 218-219.
305 Ibid. S. 218.
306 Ф. Шлегель пишет о «древней и новой словесности», и этого достаточно ему и его
современникам. Так осмысляется целое литературы — через два полушария с их
полюсами. По свидетельству «Deutsches Wörterbuch» Гриммов первые употребления сло-
206
ва «Weltliteratur после Гете относятся к 1837—1838 гг., когда оно возникает вдруг,
спорадически.
307 Schlegel F Op. cit. S. 211.
308 Ibid. S. 163.
309 Ibid. S. 217.
310 HegelG.W.F. Werke. В., 1838. Bd. 10/III. S. 556.
311 Görres Ρ. Mythengeschichte der asiatischen Welt. Heidelberg. 1810. Интересно, что в
этом употреблении - «geschiente» соединились сразу разные значения historia: historia
как описание и как развитие.
312 Романтической мысли нередко приписывают консервативно-реакционное
пристрастие к средневековью. Однако мыслящий романтизм, углубляясь в историю,
всегда видит в Средних веках лишь этап, одну из переходных эпох, в течение которой
совершается трансляция культуры, осуществляется передача традиции, восходящей
к самым первоначальным временам.
313 Müller A. Op. cit. Bd. 2. S. 208, 206.
314 В последнее время созданы важные труды по истории немецкого
литературоведения; ее разработка вступила в качественно новую стадию; в частности, планомерно
осуществляется программа «Wissenschaftsgeschichte der deutschen Literaturwissenschaft».
См.: Müller J.J. Germanistik- eine Form bürgerlicher Opposition//Germanistik und
deutsche Nation, 1806 - 1848/Hrsg. J.J. Müller. Stuttgart, 1974. S. 5-112; StrippelJ. Zum
Verhältnis von der deutschen Rechtsgeschichte und deutscher Philologie//Ibid. S. 113—166;
Götze K.-H. Die Entstehung der deutschen Literaturwissenschaft als Literaturgeschichte//
Ibid. S. 167—226; Peschken B. Versuch einer germanistischen Ideologiekritik: Goethe,
Lessing, Novalis, Tieck, Hölderlin Heine in Wilhelm Diltheys und Julian Schmidts
Vorstellungen. Stuttgart, 1972; Rosenberg R. Zehn Kapitel zur Geschichte der Germanistik:
Literaturgeschichtsschreibung. В., 1981; Weimar К. Zur Geschichte der
Literaturwissenschaft: Forschungsbericht//DVj. 1976. Bd. 50. S. 298-264; Historische und aktuelle
Konzepte der Literaturgeschichtsschreibung. Zwei Konigskinder? Zum Verhältnis von
Literatur und Literaturwissenschaft/Hrsg. W. Voßkamp, E. Lämmert. (Kontroverse, alte und
neue: Akten des VII. Germanisten-Kongresses; Bd. 11); Von der gelehrten zur disziplinären
Gemeinschaft//Hrsg. /. Fohrmann, W. Voßkamp. Stuttgart, 1987. (s. u. a.: Dainat H., Kolk R.
«Geselliges Arbeiten»: Bedingungen und Strukturen der Kommunikation in den Anfangen
der Deutschen Philologie. S. 7-41; Hunger U. Romantische Germanistik und Textphilologie:
Konzepte zur Erforschung mittelalterlichen Literatur zu Beginn des 19. Jahrhunderts. S. 42-
68; Weimar K. Interpretationsweisen bis 1850. S. 152-173).
315 Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика. Л., 1978. С. 147—148.
316 Вот некоторые этапы этого процесса:
1715 - Thomas Parnell. An Essay on the Life Writings and Learning of Homer.
1735 - Thomas Blackwell. An Enquiry into the Life and Writings of Homer.
1767 - Robert Wood. Essay upon the Original Genius and Writings of Homer.
См.: Foerseer D.M. Homer in English criticism: The historical approach in the eighteenth
century. New Haven, 1947; Finsler G. Homer in der Neuzeit von Dante bis Goethe: Italien,
Frankreich, England, Deutschland. Leipzig; В., 1912; Wagner F. Herders Homerbild, seine
Wurzeln und Wirkungen, Köln, 1960; Idem. Herderund Homerübersetzung//Forschungen
und Fortschritte. 1964. Bd. 38. S. 297-303, 341-345; SchroeterA. Geschichte der deutschen
Homerübersetzung im XVIII. Jahrhundert. Jena, 1882.
317 Haym R. Herder В., 1958. Bd. 2. S. 209.
318 См. материалы в: Эстетика немецких романтиков. M., 1987.
319 Достаточно сравнить известную книгу М. Верли (Верли М. Общее
литературоведение. М., 1957) и более новую книгу американского профессора Й. Стрел/си, чтобы
207
убедиться, в чем состоит тут прогресс: на книге М. Верли лежит отпечаток духовно-
исторического благородства, внутренней логики органического, движения мысли, а
у Й. Стрелки выстроен зал, в котором теснятся десятки лиц, произносящих
монологи, обращенные к самим себе. См.: Wehrli, M. Allgemeine Literaturwissenschaft Bern,
1951; StrelkaJ. Methodoljgie der Literturwissenschaft. Tübingen. 1978.
320 Denecke L Jacob Grimm und dein Bruder Wilhelm. Stuttgart, 1971; Ginschel G. Der junge
Jacob Grimm, 1805-1819. В., 1967; 2. Aufl. В., 1988.
321 В первую эпоху, например, И.Э. Кох, учитель В.Г. Вакенродера, во вторую -
Франц Горн.
322 Gervinus G.G. Geschichte der poetischen Nationalliteratur der Deutschen. Leipzig, 1836—
1842. Bd. 1-5; 4-е изд. под заглавием: Geschichte der deutschen Dichtung. Leipzig, 1853.
Bd. 1-5. См.: Gervinus G.G. Schriften zur Literatur/Hrsg. G. Erler. В., 1962; Erler G.
Einführung//Ibid. S. V-LXXIV; Dietze W. Georg Gottfried Gervinus als Historiker der
deutschen Nationalliteratur//Deitze W. Reden, Vortrage, Essays. Leipzig, 1972. S. 200-224.
323 Mundt Th. Allgemeine Literaturgeschichte. В., 1846.
324 См.: EichendorffJ. von. Werke. München, 1976. Bd. 3; Idem. Geschichte der poetischen
Literatur Deutschlands. Faks.-nachdruck//Hrsg. W. Frühwald. Paderborn, 1987.
325 Vilmar A.F.C. Vorlesungen über die Geschichte der deutschen National-Literatur.
Marburg, Leipzig, 1845. Переиздавалась почти сто лет. См.: Behm R. Aspekte reaktionärer
Literaturgeschichtsschreibung des Vormärz: Dargestellt am Beispiel Vilmars und Geizers//
Germanistik und deutsche Nation... S. 227-272.
326 См. их названия в общем перечне историй немецкой литературы: Rosenberg R. Op.
cit. S. 128-131.
327 См.: Enders H. Zur Popular-Poetik im 19. Jahrhundert: «Sinnlichkeit» und «inneres Bild»
in der Poetik Rudolph Gottschalls//Beiträge zur Theorie der Künste im 19. Jahrhunderts/
Hrsg. H. Koopmann, J. A. Schmollgen. Eisenwerth. Frankfurt a. M., 1971-1972. Bd, 1.
S. 66-84.
328 См. о Шерере: Groß F. Germanistik und Politik: Kritische Beiträge zur Geschichte einer
nationalen Wissenschaft. Stuttgart, Bad Canstatt, 1971; SternsdorffJ.
Wissenschaftskonstitution und Reichsgründung: Die Entwicklung der Germanistik bei Wilhelm Scherer.
Eine Biographie nach unveröffentlichten Quellen. Frankfurt а. M,; Bern; Cirencester, 1979
(с обзором литературы; S. 12-61, 297-304); Salm P. Three modes of criticism; The
literary theories of Scherer, Walzel and Staiger. Cleveland, 1968; Weimar K. Zur Geschichte
der Literaturwissenschaft. Forschungsbericht//DVj. 1976. Bd. 50. S. 338-343; Zeman H. Der
Weg zur österreichischen Literaturforschung - ein wissenschaftsgeschichtlicher Abriß //Dine
österreichische Literatur: Ihr Profil von den Anfängen im Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert.
Graz, 1986, Bd. 1. S. 1-48; Willems G. Das Konzept der literarischen Gattung. Tübingen
1981. S. 293-318.
Библиографию работ В. Шерера см.: Scherer W. Kleine Schriften. В., 1893. Bd. 2.
S. 391-415 (von К. Burdach; als Vorabdruck: Burdach K. Wilhelm Scherers Schriften. В.,
1890); дополнения: SternsdorffJ. Op. cit. S. 319 - 322.
329 Цит. по: Маркова ЛА. Наука: история и историография XIX-XX вв. М., 1987. С. 109.
330 Scherer W. Kleine Schriften. В., 1891. Bd. 1. S. 672.
331 Scherer W. Wissenschaftliche Pflichten: Aus einer Vorlesung...//Materialien zur
Ideologiegeschichte der deutschen Literaturwissenschaft/Hrsg, von G. Reiß. Tübingen, 1973.
Bd. 1. S. 49 - 50. Далее цитируется - Materialien. Наброски текста курса были
посмертно, в 1894 г., изданы Э. Шмидтом; стилистически они не безукоризненны.
332 Denkmaler deutscher Poesie und Prosa aus dem VIII. - XII. Jahrhundert. В., 1864. 2.
Aufl. В., 1873.
333 Materialien, S. 50.
208
334 Scherer W. Geschichte der deutschen Dichtung im elften und zwölften. Jahrhundert.
Strassburg, 1875.
335 Burdach K. Wilhelm Scherer//Id. Die Wissenschaft von deutscher Sprache: Ihr Werden,
Ihr Weg, Ihre Fuhrer. В.; Leipzig, 1934. S. 142. Этот текст - некролог 1886 г.
336 Scherer W. Wissenschaftliche Pflichten//Materialien. S. 49.
337 ibid. S. 48-49.
338 Ibid. S. 49.
339 В некрологе 1888 г.: Schmidt Ε. Wilhelm Scherer//Goethe-Jahrbuch. Frankfurt а. M.
1888. Bd. 9. S. 261.
340 Materialien. S. 49.
341 Есть несколько эпизодов такого в общем смысле безусловно плодотворного
переноса, и первый, самый принципиальный, — это деятельность Карла Лахмана,
относящаяся к периоду становления германской филологии как самостоятельной
дисциплины. Позднейшие эпизоды всякий раз поучительны; возможно, последний — работа
Эрнста Грумаха как Goethe-Philolog'a, в 1940-1950-е годы вызвавшая методологическую
дискуссию и рассчитывавшаяся на коллективный труд необычайной интенсивности
и экстенсивности.
342 Scherer К. Wissenschaftliche Pflichten//Materialien. S. 48; SternsdorffJ. Op. cit. S. 229.
343 Scherer W. Wissenschaftliche Pflichten//Materialien. S. 48.
344 Ibidem.
345 Ibid. S. 50.
346 Ibid. S. 47.
347 Ibid. S. 48.
348 Ibidem.
349 Ibidem.
350 Ibid. S. 47.
351 Ibid. S. 49.
352 Ibid. S. 50.
353 Haym R. Aus meinem Leben: Erinnerungen/Aus dem Nachlaß/ Hrsg. В., 1902. S. 218.
354 В приведенных выше методологических суждениях Шерера любопытно отметить
приверженность его смыслу старого «классического» «an sich» при пользовании
таким словом: проблемы науки, получается, существуют «в себе», а в конкретном
разворачивании научного знания, в истории науки, для нее, поворачиваются какими-то
более прагматическими своими сторонами, выражаясь через более непосредственные
конкретные цели, через постановку таких целей, хотя и самых насущных для науки
и жизненно необходимых для нее.
355 Schultz F. Berliner germanistische Schulung um 1900//Materialien zur
Ideologiegeschichte... S. 50-51.
356 Такая слишком хорошо известна. См.: Wellek R. A History of Modern Criticism. New
Haven; L., 1965. Vol. 4. P. 297-303.
357 Следует помнить о возобновляющихся время от времени в немецкой культуре
(на протяжении уже столетий) дискуссиях о немецком университете, об
универсальном образовании, об «идее немецкого университета». Все это связано с
живущей в культуре идеей целостного знания, все это оказывает воздействие на
самосознание каждой отдельной дисциплины. Борьба с распадающимся знанием -
один из лейтмотивов немецкой культуры. В. Шерер высказался на эту тему в
своей рецензии сборника работ А. Тренделенбурга (1871), в которой подчеркивал
традиционность задач университета и возражал против дробления наук и
размежевания философского факультета на реальное и гуманистическое отделения (см.:
Scherer W. Kleine Schriften В., 1893. Bd. 1. S. 723-725).
209
358 WellekR. Op. cit. P. 300.
359 Materialien. S. 13.
360 См. к предыстории переосмысления «духа» в Германии: Seeba B.C. Zeitgeist und
deutscher Geist: Zur Nationalisierung der Epochentendenz um 1800//DVJ Sonderheft 1987.
S. 188-215.
361 Scherer W. Zur Geschichte der deutschen Sprache. В., 1868.
362 Речь идет о знаменитом сборнике «Von deutscher Art und Kunst», изданном в 1772
г. по инициативе Гердера; удивительно выразительное заглавие сборника, в
сущности, не поддается переводу: немецкое Art, восходящее к индоевропейскому корню аг-
и родственное греческому «гармония» и латинскому ars, поразительно
всеобъемлюще; deutsche Art и знаменует специфику немецкого решительно во всем, от «породы»
до культуры. Сборник Гердера-Гете как первый по силе документ национального
самосознания оставался в центре внимания всех эпох и направлений немецкой
культурной истории. Антитрадиционалистский импульс, направленный против
установившихся ценностей, в пользу немецкого чувства формы и неудержимой бурной
стихийности отнюдь не был привнесен сюда Шерером. Последний лишь тенденциозно
преувеличивает, утверждая, будто античное и христианское совершенно уже
вытеснены, и в этом сказывается как раз характерный для Шерера романтический пафос
утверждений реалистически-практического взгляда на мир. См. также: Scherer W.
Vorträge und Aufsatze zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland und Österreich.
В., 1874. S. 341. Здесь Шерер, в частности, пишет об этом сборнике как «сигнатуре
революции», революции в литературе.
363 Гримм «полагал, — пишет Шерер, — что может начать германскую историю на
несколько веков раньше, и пытался доказать тождество фракийских племен гетов и да-
ков с готами и датчанами и в дальнейшем комбинировании пытался привлечь сюда и
азиатских массагетов и даков. Это доказательство ему не удалось, о чем между
компетентными критиками нет спора. Однако в своей «Истории немецкого языка» он все
снова с разных сторон возвращается к этой мысли, а в предисловии откровенно
сознается, что она послужила поводом к написанию всей книги. Итак, книга написана,
чтобы всеми мыслимыми способами заставить поверить в неимоверную гипотезу»
(Scherer W. Jacob Grimm. В., 1869. S. 157). Якоб Гримм, рассуждал Шерер, «всегда
отдает исключительное предпочтение первоначальному моменту, излагая историю нашего
языка, хотя какое-либо внутреннее основание для такого предпочтения невозможно
назвать» (Ibid. S. 123). Это непонимание внутренних духовных мотивов, какие
направляли мысль Гримма, весьма красноречию; оно заставляет скептически отнестись к
подчеркиванию роли романтического наследия в мировоззрении Шерера. Ср.,
например: Walzet О. Wilhelm Schererund seine Nachwelt//Zeitschrift für deutsche Philologie. 1930.
Bd. 55. S. 396.0. Вирт пытался увидеть в Шерере даже «единственного романтика» (а
sole survivor of romanticism) и философского идеалиста в эпоху материализма и
рационализма» ( Wirth О. Wilhelm Scherer, Josef Nadler and Wilhelm Dilthey as literary historians.
Chicago, 1937. P. 33). См. особ.: Rothacker Ε. Einleitung in die Geisteswissenschaften.
Tübingen, 1920, S. 207-252 (см.: SternsdorffJ. Op. cit. S. 21-23).
364 Scherer W. Jacob Grimm, S. 123; Burdach K. Op. cit. S. 137.
™ Burdach К. Op. cit. SA37.
366 Scherer W. Op. cit. S. 165.
367 Burdach K. Op. cit. S. 137.
368 Естественно, что такой ход рассуждения хорошо освещает сложение немецкой
«науки о духе», под знаком которой проходит затем почти век в истории
литературоведения.
369 Scherer W. Aufsätze über Goethe. В., 1886. S. 8-9.
210
370 Scherer W. Jacob Grimm. S. 163.
371 Старинный поэт - Отфрид, автор стихотворной «Книги Евангелий». Вот как
передает это место из Отфрида сам же Шерер в своей «Истории немецкой литературы»:
«Отфрид превозносит литературное искусство греков и римлян и особенно их
поэзию - тут все гладко как слоновая кость и все так прибрано, как когда сельский
житель очищает зерно; почему же не заниматься поэзией и франкам? Они так же
смелы и так же владеют оружием, как греки и римляне; они умны, предприимчивы,
богаты и неутомимы; все народы — если только не разделяет их море - их
страшатся; всех соседей они покорили себе; кто нападет на них, тот сразу же и будет
повержен; наставляют его не словами, а мечами и острыми копьями; франки происходят
из Македонии, они родственники Александру — завоевателю мира; потому даже ми-
дийцам и персам худо придется, если они станут воевать с ними <...> Они усердно
служат богу и учат его слово; потому пусть и на их языке раздается слово господне»
(Scherer W. Geschichte der deutschen Literatur. 6. Aufl. В., 1891. S. 50).
Ср. современный анализ литературно-теоретических положений Отфрида; Haug W.
Literaturtheorie im deutschen Mittelalter: Von den Anfängen bis zum Ende des 13.
Jahrhunderts. Darmstadt, 1985. S. 29-40. «Литературно-теоретические высказывания
Отфрида - это образец того, как посредством элементов традиционной топики
можно выразить в высшей степени индивидуальное содержание» (Ibid. S. 39); поэзия
понимается в различных смыслах («метафорическая игра»).
«В самом глубоком смысле слова поэзия есть жизнь по заповедям господним», и
соответственно перетолковываются термины поэтики — стопа (fuazi), такт (zit), régula,
girustit (ornatus. Ibid. S. 35): стопы, которые ходят по закону божию; реальное время
(zit) нельзя упустить в служении богу; шесть времен - возрастов или мировых эпох;
girustin/ornare значит приготовляться к седьмому времени, вечности (Ibid. S. 38).
Напротив, для Шерера была неприемлема сама система толкования, принятая в
традиции, и он говорил о «дурной методе тогдашнего толкования Библии, когда не
оставляют в покое ни одного факта» (Scherer W. Geschichte der deutschen Literatur. S. 48).
Следует оценить во всей его полновесности для Шерера слово «факт» — здесь,
очевидно, элемент повествования (евангельского рассказа), и более того - он
называет поэтику Отфрида «странной», потому что, по Отфриду, «для священных
песнопений важнее всего благочестие» (Ibid. S. 30). Как если бы учение о четырех смыслах
было только личным капризом Отфрида! Пример иллюстрирует сейчас не отстояние
современной науки от шереровских времен, а разрыв той эпохи с многовековой
традиционной культурой, разрыв, совершившийся — если исходить из внутренней
экономии науки о литературе - посредством переноса центра тяжести с «изначального»
на современное, путем почти незаметного перераспределения весов и вполне
закономерного (и благонамеренного) обобщения гриммовского метода в его культурно-
историческом приложении.
372 Scherer W. Geschichte der deutschen Literatur. S. 51.
373 Scherer W. Jacob Grimm. S. 163.
374 Ibid. S. 163-164.
375 Ibid. S. 164
376 Из § 158 «Учебника введения в философию» (1813); Herbart I. F. Lehrbuch zur
Einleitung in die Philosophie. Leipzig, 1912. S. 358-359.
377 Ibid. S. 303.
378 Среди последователей Гербарта был Адольф Цейзинг (Zeising Α. Ästhetische
Forschungen. Frankfurt a. M., 1855) и значительно более весомый Роберт Циммерман,
создавший завершенную систему эстетического формализма.
379#erto/f/.F.Op.cit.S.373.
211
380 Ibid. S. 302. Характерно, что Шерер сходится с Гербартом в осуждении пессимизма
Шопенгауэра. См.: Herbart I. F. Op. cit. S. 302; Scherer W. Vorträge und Aufsätze. S. 413.
381 Гербарт - среди предтеч позднейшего структурализма в его строгом варианте,
разумеется, самых отдаленных. Для того времени в подходе к логическим структурам
характерно смешение психологического с логическим, размежевание чего было еще делом
далекого будущего. Гербарт столь же рано почувствовал и то, что спустя несколько
десятилетий стало определяющей тенденцией позитивной, экспериментальной науки.
382 Scherer W. Vortrage und Aufsätze. Б. 413. Психология Гербарта предусматривает
изложение статики и механики духа {Herbart I. F. Op. cit. S. 309). Они излагаются
математическим методом на примере простых представлений; пример позволяет судить
и о сложных комбинациях, не доступных расчету.
383 Об этом сужении и расширении как общем процессе в германистике второй
половины XIX в. см.: Janota J. Einleitung//Eine Wissenschaft etabliert sich, 1810-1870.
Tübingen, 1980. S. 1-60. Bes. S. 7-13.
384Sc/z/mV//£Op.cit.S. 251.
385 Burdach K. Op. cit. S. 146.
386&Aw//z/:Op.cit.S.52.
387 см.: Ibidem.
388 Ueber Raphaels Schule von Athen [1872]. См.: Scherer W. Kleine Schriften. Bd. 2.
S. 191-212. В. Шерер планировал, по сообщению Э. Шмидта (см.: Ibid. S. 191),
издание сборника своих искусствоведческих работ. Поводом к написанию статьи о
Рафаэле послужил выход известной монографии о художнике Г. Гримма (1872).
Тенденция статьи - антиклерикальная защита ренессансных идеалов и опровержение
«тупой ограниченности», исказившей в течение века смысл картины.
389 Эдуард Ганслик, который в течение нескольких лет был коллегой Шерера в Вене,
оставил воспоминания о встрече с Шерером в Страсбурге в 1875 г.: «Он был
полностью погружен в литературные штудии; музыка была не так близка ему. Как
немузыкант, он не претендовал на то, чтобы судить о ней» (Hanslick Ε. Aus meinem
Leben 2. Aufl. В., 1894. Bd. 2. S. 143; см. также: Briefwechsel zwischen Karl Müllenhoff
und Wilhelm Scherer/Hrsg, von A. Leitzmann. В.; Leipzig, 1937. S. 630).
m Schmidt Ε Οχ>.ά\.$.2$\.
391 Burdach K. Op. cit. S. 146-147.
392 Цит. в: Briefwechsel zwischen Karl Müllenhoff und Wilhelm Scherer... S. 582.
393 HartJ. Eine schein-empirische Poetik//Scherer W. Poetik/Hrsg, von G. Reis. München;
Tübingen, 1977. S. 275.
394 Сам термин, собственно, поздний по происхождению; впервые он встречается в
предисловии Я. Гримма к «Deutsches Wörterbuch» - 1854 год! См.: Janota J. Op. cit. S. 10.
395 См.: SternsdorffJ. Op. cit. S. 175-181.
396 См. о датах основания новых кафедр (в 1868 г. такую кафедру занял Карл Тома-
шек в Вене, в 1874 г. в Мюнхене — Михаил Бернайс, в 1877 г. Шерер - в Берлине):
Weimar С. Zur Geschichte der Literaturwissenschaft: Forschungsbericht//DVj. 1976. 50. Jg.
S. 339, Anm. 233. Вполне резонно К. Веймар объясняет влиятельность Шерера в свое
время тем, что репутация была завоевана им в социально признанной области
филологии в отличие от истории новой литературы. См. также: Meves U. Die Gründung
germanistischer Seminare an deu preußischen Universitäten (1875-1895)//DVj Sonderheft
1987 S. 92-122.
397 Elster E. Über den Betrieb der deutschen Philologie an unseren Universitäten//
Materialien. S. 73.
398 Ibid. S. 73-74. Ср., однако, доклад Э. Эльстера, где при всей недифференцирован-
ности содержания уже ощущается неудовлетворенность дскггигнутой позитивностью
212
«молодой науки истории литературы» (Elster Ε. Die Aufgaben der Literaturgeschichte.
Halle, 1894. S. 1), позитивистской ограниченностью ее методов и выражается
пожелание вернуться к философским способам осмысления литературных произведений,
«что было намеренно пресечено некоторыми нашими исследователями» лет 30 назад
(Ibid. S. Π).
399 Burdach К Op. cit. S. 133.
400 Ibid. S. 139.
401 Scherer W. Vorträge und Aufsätze. S. 146. Впрочем, см. статью «Неополитические
примечания к политическому документу» (1872), где Шерер беспокоится о том, как
бы немцев не увели в чешское пленение, как евреев в вавилонское и ассирийское;
однако, что Шерер считал нужным различать, спасение Австрии может принести
немецкий дух, не немцы (Scherer W. Vorträge und Aufsätze. S. 320-321).
402 Scherer W. Geschichte der deutschen Literatur. S. 643.
403 Об этом пишет и В. Дильтей; «<...> он от всей души ненавидел католическую
иерархию и отеческий деспотизм, которые воспользовались чувственностью этого
племени, чтобы подавить его лучшие задатки» (Dilthey W. Op. cit. S. 16); «Он отверг
все понятия католической церкви» (Ibid. S. 19). Ср. также: Der junge Dilthey. 2. Aufl.
Göttingen, 1960. S. 233.
404 Scherer W. Vorträge und Aufsätze. S. 319.
405 Briefwechsel. S. 628; ср. также письма К. Мюлленхофу от 14 августа 1866 г. и 16
июля 1870 г. (Ibid. S. 160. 399).
406 Ibid. S. XII.
407 Geschichte des Elsasses... В., 1871.
408 SternsdorffJ. Op. cit. S. 177-178.
409 Ibid. S. 183.
410 Scherer W. Vorträge und Aufsätze. S. 129.
4,1 Ibid. S. 129-130
412 Ibid. S. 133.
413 О «журналистике» как призвании шпильманов Шерер много пишет в «Истории
немецкой литературы»; австрийское происхождение Вальтера принимается здесь
лишь предположительно (Scherer W. Geschichte der deutschen Literatur. S. 197).
«Песни Вальтера разлетались по свету, как брошюры, которые читает всякий, или как
блестящие речи, которые перепечатываются всеми газетами без купюр» (Ibidem.).
414 Scherer W. Vortage und Aufsätze. S. 139-141.
415 Ibid. S. 146
416 Ibid. S. 141.
417 Ibid. S. 146. Ср. с тем, что писал В. Дильтей еще в начале XX в.: «В Средние века
немецкая поэзия восприняла немало даров светлого радостного духа австрийского
племени, теперь же [в эпоху ужасов контрреформации. — A.M.] там с покорностью
духовным и светским властям соединилась беззаботная чувственная жизнь»
(Dilthey W. Gesammelte Schriften. В., 1927. B4. 3. S. 41), а духовное развитие Германии
связывается, естественно, с «реформационной проникновенностью» (Ibidem).
418 Scherer W. Op. cit. S. 320.
419 В вульгарном варианте такая наука становится оправданием действительности
средствами истории литературы! Но ведь и для вульгарного Шерера все прусское почти
идеально и совершенно. Такое не давалось без внутреннего труда самовоспитания, и
он был неизбежен, чтобы с полнейшей невозмугимостью понимать и одобрять
эльзасского писателя Людвига Шпаха так, как Шерер: «Всего того, что он, предаваясь
спокойному, развитому эстетическому наслаждению, воспринимает как помеху, всего того
он чурается как личного врага. Ужасный призрак социального вопроса постоянно
213
мелькает перед его внутренним взором. «Масса, бичуемая грубыми желаниями»,
«четвертое сословие, тяжелый кулак которого стучит во врата европейских государств» -
это для него словно мифологический волк, грозящий проглотить солнце культуры»
(Scherer W. Vorträge und Aufsätze. S. 417).
420 Еще в 1909 г. съезд немецких филологов и педагогов выносит решение, в котором
записано: «Академическое преподавание немецкой литературы должно строиться на
основе психологически фундированных вспомогательных дисциплин - поэтики,
стилистики и метрики» (Materialien. S. 76).
421 Salm P. Op. cit. P. 21 (см. примеч. 4).
422 Scherer W. Vorträge und Aufsatze. S. 71-100, 1-20.
423 Scherer W. Kleine Schriften. Bd. 2. S. 67.
424 Burdach £ Op. cit. S. 139.
425 Scherer W. Vorträge und Aufsätze S. 2.
426 Burdach K. Op. cit. S. 132 - 133.
427 SternsdorffJ. Op. cit. S. 218.
428 Scherer W. Vorträge und Aufsätze, S. 193.
429 Ibid. S. 217; Id. Geschichte der deutschen Literatur. S. 696.
430 Scherer W. Vorträge und Aufsätze. S. 216.
431 Опубликовано Ю. Штернсдорфом по неизданной рукописи «Введения в немецкую
филологию» (вместо Kosmos u. Ansichten читаем Kosmos der Ansichten. См.:
SternsdorffJ. Op. cit. S. 229).
432 Scherer W. Vorträge und Aufsätze. S. 310.
433 См.: Ibid. S. 303. Ср. в противовес позитивной картине единства австрийской
литературы высказывание в «Истории немецкой литературы»: «Около 1300 г. все было
решено: красота покинула свой трон, и бразды правления приняли набожность,
любопытство и развлекательность» (обо всей средневерхненемецкой литературе, см.:
Scherer W. Geschichte der deutschen Literatur. S. 231).
434 Burdach K. Op. cit. S. 143.
435 Шерер, останавливаясь на ключевых работах Я. Гримма, дает каждой
поразительно взвешенную критическую оценку. Направление мифологических работ
Гриммов Шерер, к примеру, считает ложным и искусственным: используются
сомнительные источники, какими Шерер считает сказки, затем далекая от
мифологического творчества развитая поэзия средневековья. Продолжатели гриммовских
начинаний, по мнению Шерера, опираются на их слабые стороны — «сказки и
саги рассматриваются не как проявления народного духа и как подлинная поэзия,
но как следы ускользающих богов, следы, которые тщательно перерисовывают и
скрупулезно изучают» (Scheier W. Jacob Grimm. S. 150). На недоразумении
основано исследование «Рейнеке-лиса» (1834), где Гримм необоснованно предполагал
мифологическое содержание (Ibid. S. 151.).
436 Raumer R. von. Geschichte der Germanischen Philologie vorzugsweise in Deutschland.
München, 1870.
437 Rosenberg R. Zehn Kapitel zur Geschichte der Germanistik. В., 1981. S. 116.
438 WellekROv.ùt. P. 301.
439 Зато автор настоящей работы, составляя комментарий к «Западно-восточному
дивану» Гете мог убедиться в том, что Шерер уже знал многое из того, к чему
комментаторы Гете пробивались долго и с большим трудом. Отчасти это характерным
образом касается тех вещей, где важна психологическая очевидность: так, Шерер уже знал,
кто такие «господин и госпожа» в стихотворении Гете «Величайшее благоволение», —
это герцог Карл Август и жена Гете Кристиана (см.: Гете И.В. Западно-восточный
диван. М., 1988. С. 741; Scherer W. Geschichte der deutschen Literatur. S. 657). Шерер был
214
уверен, что отношения Гете с Марианной Виллемер, одним из прототипов Зулейки
«Дивана», «были дружбой, которая могла позволить себе играть видимостью любви»
(Ibid. S. 658), и примерно к тому же вернулось теперь, после долгих изысканий и
блужданий, гетеведение. Такие «мелочи», верно, лучше всего свидетельствуют о том, какая
масса личного труда вошла в шереровскую историю литературы и каким интенсивным
было его живое общение с литературой - ее осмысление. См. также: Scherer W. Eine
Österreichische Dichterin//Id. Aufsätze über Goethe. S. 235-246.
440H>re//eA:/?.Op.cit.P.300.
441 Конечно, можно простодушно полагать, что тут нет никакой проблемы; однако
она существует и далеко не решена. Так, в книге В. В. Федорова «О природе
поэтической реальности» (М, 1984) настоятельно встает вопрос об антологическом статусе
героя поэтического произведения и в связи с этим о соотношении слова автора и
слова героя. В том состоянии нерасчлененности, в каком всегда выступает перед нами
наука прошлого, подобный вопрос так или иначе возникал, видимо, и в сознании
Шерера, но только он выразил его в наивной форме, столь удручившей Р. Веллека.
См.: Scherer W. Aufsätze über Goethe. В., 1886. S. 307-308.
442 Шерера не удовлетворял аскетический конец «Симплициссимуса» Гриммельсхау-
зена, и он восклицал: «Ну разве автор не мог подарить ему чего-нибудь получше
лесной хижины? Отчего лишил он его скромного счастья в крестьянской усадьбе?»
(Scherer W. Geschichte der deutschen Literatur. S. 382). Но с психологией и
идеологией (и поэтикой) немецкого крестьянского рассказа середины XIX в. (Шерер следил
за творчеством Б. Ауэрбаха - см. рецензию 1879 г. в: Scherer W. Kleine Schriften. Bd. 2.
S. 147-152) не подступиться к роману XVII в., к его образу мира и идее...
Не нужно думать, однако, что, например, к Шиллеру как классику Шерер
подходил с другой мерой - помимо психологической естественности: в стихотворениях
Шиллера, рассуждал Шерер, личности поэта нет, и «его собственное переживание
(Nacherleben) никак не воздействует на его поэзию. Он старается забыть о себе за
вещами», зато передает «жизненное многообразие объектов» (Ibid. S. 589—590).
Шерер высоко ставит «Мессинскую невесту», оценивая ее как «высшее создание
чистого искусства», но не потому, что изменяет своим принципам оценки (см.:
Wellek R. Op. cit. P. 302; впрочем, см.: Schmidt Ε. Op. cit. S. 258): трагедия Шиллера
и есть совсем иное, чем собственно близкое, он и ценит ее высоко именно как
создание «чистого» искусства; к тому же «чистота» не мешает психологической
содержательности и известному политическому смыслу драмы (психологизм же и
политика — в поле «своего»).
443 См.: Scherer W. Vortrage und Aufsatze. Ζ. 346-355.
444 См.: Bormann Α. von. Natura loquitur: Naturpoesie und emblematische Formel bei Joseph
von Eichendorff. Tübingen, 1968. Впрочем, представление Шерера о «более ясно
откристаллизовавшейся истине («die kristallhaftere Wahrheit») стихотворений Эйхендорфа
указывает на проблески лучшего разумения.
445 Heine Η. Werke und Briefe. В., 1961. Bd. 5. S. 150.
446 Rosenberg R. Op. cit. S. 115.
447 Ibidem.
448 Scherer W. Goethe-Philologie (1877)//Id. Aufsatze über Goethe. S. 3.
449 Scherer W. Geschichte der deutschen Literatur. S. 716.
450 Оптимистически-позитивное истолкование деятельности Фауста
неправдоподобно долго сохранялось в науке о Гете; трагедию Фауста надо было обходить всеми
средствами, как будто Гете это бог, «Фауст» — мир, а историк литературы - философ
XVIII в., сочиняющий очередную теодицею.
451 Scherer W. Kleine Schriften. Bd. 2. 68.
215
452 Для Шерера причина «приобретает столь большое значение, что в сравнении с нею
то, что ею порождено, das Erwirkte, т. е. художественное творение поэта,
оказывается совершенно на заднем плане», - писал Оскар Вальцель ( Walzel О. Wilhelm Scherer...
S. 295).
453 Schmidt Ε. Op. cit. S. 259.
454 Scherer W. Aufsätze über Goethe. S. 297. Отсюда уже ведет линия к close reading»,
к «пристальному чтению», придирчивому и проницательному, которое расцвело в
середине XX в. (см.: УрновД.М. Литературное произведение в оценке
англо-американской «новой критики». М., 1982. С. 145-174; ср.: Там же. С. 127, о «нажиме на
слово»). Это отдаленнейшая связь, но неудивительно ли, что Шерер нашел отклик
и понимание у, казалось бы, столь далекого от него и столь эстетически
утонченного Эмиля Штайгера, мастера в пристальном чтении, вскрывающем «подсознание»
художественной вещи и часто ее деформирующем. См.: Staiger Ε. Die Zeit als
Einbildungskraft des Dichters [1939]. München, 1976. S. 9.
455 Scherer W. Aufsätze über Goethe. S. 325; ср.: S. 287.
456 Ibid. S. 297. В сущности, верное наблюдение.
457 Ibidem.
458 Ibid. S. 316.
459 Ibid. S. 287.
460 Schmidt Ε. Op. cit. S. 260. Шмидт передает мысль Шерера весьма точно (ср.: Scherer
W. Aufsätze über Goethe. S. 286) и только более компактно.
461 Scherer W. Op. cit. S. 286. Ср.: S. 296.
462 Scherer W. Op. cit. S. 296.
463 Сама Goethe-Philologie, как уже указывалось в литературе, была обязана своим
ранним появлением «классичности» предмета; Шерер находит для гетевской филологии
внутренние основания и «освящает» его творчество как нечто почти вневременное.
464 Scherer W. Aufsätze über Goethe. S. 296.
465 KorffH.A. Geist der Goethezeit. Leipzig, 1923-1953.
466 См.: Scherer W. Geschichte der deutschen Literatur. S. 718.
467 Ibid. S. 720. Эти слова вполне отвечают уже ранним представлениям Шерера
(посвящение «Истории немецкого языка», 1868) о коллективном общественно полезном
труде нации (идея национальной этики); отсюда же мысли о строжайшей
внутренней экономии филологической дисциплины, где все должно быть подчинено
продуманному замыслу, плану.
468 Ibid. S. 18-20; Scherer W. Kleine Schriften. Bd. 1. S. 674-675. Возможно, эти
представления восходят к арифмологическим спекуляциям О. Конта. Шерер
гипотетически предполагает также смену эпох мужских и женских, что оказывается в
непредвиденном, надо полагать, соответствии с идеями романтической натурфилософии, от
Шерера чрезвычайно далекой. В рецензии (1866) книги Э. Пече (Petsche Ε. Geschichte
und Geschichtsschreibung unserer Zeit. Leipzig, 1865) Шерер считает возможным
ставить в параллель возрасты индивидов и возрасты народов, только предпочитает
говорить не о детстве, юности и т. д., но о периодах неразвитых, нарастающих и
убывающих сил (см.: Scherer W. Op. cit. S. 171).
469 См., например: Rosenberg R. Op. cit. S. 107 - 208; SternsdorffJ. Op. cit. S. 186-189.
470 Ср. в некоторых национальных литературоведениях показательный обычай
обозначать словом «позитивизм» целую эпоху художественного реализма середины
ХЕК в.
471 Weimar К. Op. cit. S. 340.
472 Р. Розенберг и сейчас рассматривает Шерера и его школу в разделе, озаглавленном
«Модель естественных наук» (Rosenberg R. Op. cit. S. 101-127).
216
473&/wfiw/f£Op.cit.S.261.
474 Burdach К. Op. cit. S. 145.
475 Diltheg W. Op. cit, S. 19 - 20.
476 Scherer W. Vortrage und Aufsätze. S. 411.
477 Rosenberg R. Op. cit. S. 103.
478 В подстрочных примечаниях к «Капиталу» К. Маркс неоднократно иронизирует
над В. Рошером с его «анатомо-физиологическим методом» политической экономии.
479 Цитируется в материалах к «Поэтике» Шерера, собранных Г. Рейсом: Scherer W.
Poetik. S. 222; ср.: Ibid. S. XVII, 209.
480 Штейнталь и Лазарус с их «психологией народов» представляют в языкознании и
науке о культуре (понятой в духе психологизма) параллель Шереру, на которого их
психолого-антропологические взгляды повлияли (ср., например, «историю как жизнь
народов»: Scherer W. Kleine Schriften. Bd. 1. S. 170). Известный основанный ими
журнал «Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft» выходил с 1859 г.
481 Lotze Я. Mikrokosmos: Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit.
Leipzig, 1856-1858. Bd. 1-3. Из мыслителей середины века Лотце был наиболее
тесно связан с традицией классического идеализма.
482 Scherer W. Kleine Schriften. Bd. 1. S. 175.
483 Ibidem.
484 Ibid. S. 175.
485 Scherer W. Vortrage und Aufsätze. S. 311.
486 Все это удивительно ясно предсказывает направленность поздней «Поэтики»
Шерера.
487 Burdach К. Op. cit. S. 145.
488 Ibid. S. 145-146.
489 Scherer W. Aufsätze über Goethe. S. 15. См.: Salm P. Op. cit. P. 17. «Момент» Тэна
означает примерно то, что «век» или «Zeitgeist», место произведения в традиции
(см.: Wellek R. Op. cit. P. 31.), но насколько с иной внутренней формой! В свою
очередь, сходства и различия между направленностью и потенциями немецкого
«Erleben» и направленностью и потенциями русского «переживания» можно было
бы плодотворно выяснять, взяв за основу, например, текст В.Г. Белинского:
«Пережить творения поэта - значит переносить, перечувствовать в душе своей все
богатство, всю глубину их содержания, переболеть их болезнями, перестрадать их
скорбями, переблаженствовать их радостью, их торжеством, их надеждами»
(Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина., М., 1985. С. 230).
490 Шерер настолько по-немецки своеобразно переосмыслил формулу Тэна, что в
сфере нового триединства оказались большие пласты немецкой эстетики конца XIX
и XX вв., вовсе не предусмотренные Шерером. Э. Штайгер справедливо писал; «Под
эти три понятия, если брать их как рубрики, все еще подпадают многие проблемы
истории немецкой литературы самого нового времени» (StaigerE. Op. cit. S. 9).
491 Scherer W. Aufsätze über Goethe. S. 4.
492 Oppel H. Die Literaturwissenschaft in der Gegenwart: Methodologie und
Wissenschaftslehre. Stuttgart, 1939. S. 35-36. Со ссылкой на: Böckmann P. Von
den Aufgaben einer geistes wissenschaftlichen Literaturbetrachtung//DVj. 1931.
493 См.: Rosenberg R. Op. cit.; Mahrholz W. Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft.
Leipzig, o.J. [1936]. S. 13.
494 См., например: DunningerJ. Geschichte der deutschen Philologie//Deutsche Philologie
im Aufri . 2. Aufl. В., 1957. Bd. 1. Sp. 176-184; Naumann F. Studien zur Geschichte der
deutschen Philologie. В., 1971. S. 102-121; Lammert Ε. Einfuhrung//Scherer W. Schmidt
Ε. Briefwechsel/Hrsg, von W. Ritterund E. Lammert. В., 1963. S. 37 ff.
217
495 См. уже работу французского литературоведа В. Баша (1889) и итальянского Р.
Бискардо (1937; о них: Weimar К. Op. cit. S. 340).
496 «В свою эпоху Шерер находился в изоляции; «термин «позитивизм» в
приложении к нему вводит в заблуждение» (Lee K.I. Wilhelm Scherer's two-fold
approach to literature//The Germanic Review. 1976. Vol. 51. P. 228, 210).
497 SternsdorffJ. Op. cit. S. 297-298.
498 И в предыдущем филологическом поколении были сюи полюсы - Якоб Гримм и
Карл Лахман убедительно их представляют, и только проблемы были иными
сравнительно с эпохой Шерера, Дильтея и научного позитивизма.
499 Scherer W. Poetik. S. 52.
500 Цит. в приложениях к «Поэтике» Шерера в издании Г. Рейса: Scherer W. Poetik. S. 228.
501 Ibid. S. 48. Ранее Шерер показал различия прежних поэтики и эстетики и
прежней филологии: «Прежде поэтика и эстетика были принципиально партийными
[априорными, предвзятыми. — A.M.]. Филология тяготела к непредвзятости.
Первые отыскивали истинный эпос, истинную лирику, истинную драму. Вторая
стремилась отдать должное различным разновидностям эпоса, лирики, драмы.
Первые сравнивали затем, чтобы предпочитать и отбрасывать, вторая сравнивала для
того, чтобы острее постичь родство и своеобразие, а потому запрещала, к
примеру, сопоставлять Гомера с «Нибелунгами» и отдавать предпочтение, скажем,
Гомеру. Если теперь попытаться со всей серьезностью отнестись к этой тенденции
филологии и строить поэтику, в которой эта тенденция получала бы
удовлетворительное решение, то представляется, что такая попытка была бы весьма
перспективным начинанием, — она дала бы пробиться такому направлению ума, от
которого в конце концов не могла бы уже отмахнуться и прежняя эстетика» (Ibid.
S. 47). Обратим внимание еще на то, что новая, ненормативная поэтика, как
представляет себе дело Шерер, не наследует, по существу, прежней поэтике, но
выступает как продукт филологии, как новая дисциплина, которая в своей тенденции
складывается, добавим, в определенных историко-культурных условиях. Такой
взгляд кажется плодотворным, - как раз история поэтики в XIX в. показывает, что
этой дисциплине, когда она стремится (а это так естественно и понятно!)
охватить весь тематический и предметный круг прежней поэтики, невероятно трудно
избегать инерции и не воспроизводить нормативную узость прежней поэтики, не
учить создавать поэзию, какой она должна быть, не учить писать стихи и т. п.
Сюда прибавляются еще и сложности и ограничения исторического понимания в
XIX в. Один пример неполучившейся поэтики приводит сам Шерер - это
«Поэтика, риторика и стилистика» В. Вакернагеля (1873), курс, прочитанный, впрочем,
еще в 1830-е годы: «Берешь в руки такую книгу [...] и думаешь, что ученый
исполнит все требования, однако разочаровываешься: материал ценный, а мысль
слабая, с одним материалом мало что можно поделать. Все еще только
предстоит сделать» (Ibid S. 47-48).
Другой пример неполучившейся поэтики, которой мешает инерция традиции, -
это, увы!... Шерер.
502 Scherer W. Poetik. S. 48.
503 Ibid. S. 49.
504 Ibid. S. 50. Отсюда возмутивший Р. Веллека пример: песня Миньон из романа Гете
заносится в рубрику «ботаника» оттого, что в ней упомянуты лимоны и апельсины
( Wellek R. Op. cit. P. 299). Но что же было делать классификатору, если лимоны и
апельсины упоминаются в песне? Они ведь лишь элемент ее содержания.
505 Scherer W. Poetik. S. 50.
506 Ibid. S. 50.
218
507 Ibid. S. 92. Интересно, что молодой Шерер думал совсем по-гриммовски (1865):
«Под поэтическим творчеством [Erfinden, т. е. inventio, изобретение. - A.M.]
понимают сознательную деятельность <...> О таковой не может быть и речи в те времена
[создания «Песни о нибелунтах». - A.M.]. Поэт и не подозревает, что он с его
духовными силами создает поэму».
508 Ibid. S. 94.
509 Ibid. S. 50. Приведем и контекст: «Отчетливое, полное, то, что лучше известно,
служит для объяснения того, что неясно, неполно, менее известно, а именно
настоящее служит к объяснению прошлого». Это по преимуществу логический, а не
историко-литературный подход. Далее Шерер характерным образом добавляет:
«Простые феномены поэзии современных дикарей (Naturvolker) служат для познания и
объяснения более древних ступеней, над которыми высоко поднялась поэзия
культурных народов» (Ibid. S. 50-51). Этот прием, хорошо известный этнографу и
фольклористу, находящийся в их постоянном репертуаре, мог бы характеризовать и
сторонника исторической поэтики-1. Но только Шерер, во-первых, вновь делает упор
на «простые феномены», которые должны дать как бы буквы языка поэтики, т. е.
вновь подчеркивает свой скорее чисто логический подход; во-вторых, разделяя
убеждение о безусловном прогрессе поэзии, он все «древнее» относит к некоей
примитивности. Конечно, литературовед в разных отношениях зависит от
историко-культурных представлений своего времени: «прогрессизм» мышления заставлял видеть
варварски-дикое в Гомере, противопоставлять развитое и «примитивное» и создавать о
последнем разные научные мифы; типология романтических противопоставлений
продолжала действовать и вынуждала все поляризовать.
Важно отметить, что в рецензии второго издания текстов миннезингеров («Des
Minnesangs Frühling»; 1876) Шерер рисует программу исторической поэтики-1:
«Чтобы не твердить старое, поэтика разумеется, должна черпать свои положения во всей
массе доступного материала, восходить от простых образований к сложным,
начинать с поэзии примитивных народов и отыскивать следы примитивного в более
высокой культуре» (Scherer W. Kleine Schriften. Bd. 1. S. 697). Программа изложена,
правда, чрезмерно лаконично и схематически, однако и ей Шерер, безусловно, не следует
в своей «Поэтике».
510 Ibid. S. V-XX; см. также: Burdach К. Op. cit. S. 152-163.
511 Переиздано Г. Рейсом: Scherer W. Poetik. S. 206-208.
5,2 Rothacker Ε. Einleitung in die Geisteswissenschaften. Tübingen, 1920. S. 236-237.
513 Веселовский Α. Η. Из введения в историческую поэтику//Собр. соч. СПб., 1913.
Т. 1. С. 31; Он же. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 54.
514 Веселовский Α.Η. Собр. соч. Т. 1. С. 291; Он же. Историческая поэтика. С. 246.
515 Там же. С. 291-293, с. 246-248.
516 Там же. С. 293, с. 247-248.
517 Scherer W. Poetik. S. 28.
518 Ibid. S. 27.
519 Ibid. S. 9, 13.
520 Ibid. S. 18.
521 Ibid. S. 27.
522 Ibid. S. 12.
523 Веселовский A.H. Собр. соч. T. 1. С. 292; Он же. Историческая поэтика. С. 247.
524 См. подобное же у Ш. Летурно (1894): первобытные танцы - все еще
«литература» (Горский И.К. Указ. соч.//Историческая поэтика. С. 138).
525 Scherer W. Юте Schriften. Bd. 2. S. 151.
526 Scherer W. Poetik. S. 12.
219
527 Следует подумать, однако, над следующим: коль скоро акт поэтического
творчества, вечно одинаковый, исключается из исторического развития, он, как общая
форма, лежит в основе всякого тюрческого произведения, поэтическое приравнивается
к творческому, художественному вообще, и уже отсюда тоже - возможность
поэтической пантомимы «без слов»; зато, правда, математическая формула уже не будет
таким произведением.
528 Scherer W. Poetik. S. 81.
529 Ibid. S. 82.
530 Ibid. S. 86.
531 «Новости в газетах не всегда берут из жизни. Если нет материала, их
сочиняют, выдумывают, причем тут сказываются поэтические традиции» (Ibid. S. 86).
532 Ibid. S. 102-106.
533 Очень малоинтересен и раздел о происхождении искусства, где Шерер, по его
словам, не боится тривиальностей; он смело сводит искусство к психологическим
стимулам и проявлению их.
534 Scherer W. Poetik. S. 85.
535 Ibid. S. 87.
536 Ibid. S. 84, 94.
537 Ibid. S. 101.
538 В этом отношении занимательно то, как представлял себе Шерер «воздействие
литературы на жизнь» (по опубликованным Ю. Штернсдорфом частям «Введения в
немецкую филологию»): литература воздействует на употребление языка, на вкус и
лишь затем, на третье, на «источники нашей силы», т. е. на моральные и
эстетические «пружины». «Воздействие» расчислено риторическим манером. Вот как крепко
риторическое наследие удерживает при себе немецкого мыслителя даже в самых
глубинах второй половины XIX в.!
539 Scherer W. Poetik. S. 48.
540 Ibid. S. 129.
541 Ср. в связи с этим у A.A. Потебни: отдельное слово «можно рассматривать как
поэтическое произведение» (ПотебняАЛ Из лекций по русской словесности.
Харьков, 1905. С. 113); ср. пословицу как (пра)жанр у Шерера.
542 О «внутренней форме» см.: Шпет Г. Внутренняя форма слова: (Этюды и вариации
на темы Гумбольдта). М., 1927. С. 93—117. Однако вся историко-культурная широта
переосмыслений «внутренней формы» осталась не рассмотренной у Г. Шпета,
поскольку он подходит к ней как переосмысленной на стадии гумбольдтовской мысли (ср.:
«<...> внутренняя словесно-логическая форма есть закон самого образования
понятия». Там же. С. 117), а таковая есть нечто иное, нежели внутренняя форма, понятая
как идея-конструкция какого-либо создаваемого бытия в неоплатонической традиции
до кембриджских неоплатоников XVII в., до Шефгсбери и затем до Гамана и Гете.
Переосмысленная же «внутренняя форма» есть лишь обратное проецирование такой
осуществляющейся в творении идеи-конструкции на слою, как может оно рождаться
в народном духе, в Volksgeist. Такое слово-замысел уже очень отлично от
идеи-конструкции как «внутренней формы» у Плотина — оно в сравнении с последней
выглядит как весьма частичная интенция, порой случайная (а потому удобная для
всякой психологистической своей переинтерпретации). И вот уже только эту резко
переосмысленную идею-интенцию Шерер переносит со слова назад на произведение
искусства: неудивительно, что все специфическое как для идеи-конструкции, так и
для реконструированной (в обратном движении) идеи-интенции растворяется у него
в неопределенном предварительном чувстве создаваемого «продукта». Можно сказать
и так: если произведению искусства присуща своя аура - некое дыхание, или запах
220
его родного мира, - то шереровская «внутренняя форма» соответствовала бы, верно,
некоторому предощущению такой ауры, которая рождалась бы в душе художника,
поэта, еще до реального создания вещи, стихотворения поэмы и т. д.
543 Scherer W. Poetik. S. 150.
544 В рецензии Вальтера фон дер Фогельвейде в издании В. Вильманса (1884). См.:
Scherer W. Kleine Schriften. Bd. 1. S.. 630.
545 Rosenberg R. Op. cit. S. 107.
546 Wellek R. Op. cit. S. 300.
547 «Поэтика» Шерера появилась в 1888 г., между тем как, все основные положения
исторической поэтики Веселовского были почти целиком даны в его
университетских курсах 80-х годов» (Азадовский М.К. История русской фольклористики. М., 1963.
Т. 2. С. 200).
548 Scherer W. Poetik. S. 14-15.
549 Примеры лишь подтвердят сказанное о существеннейшей разнонаправленности
поэтологического взгляда. Возьмем лишь один. А.Н. Веселовский критикует
Ф. Шпильгагена как субъективиста в его «Теории романа»: представив «коренное,
историческое отличие эпического певца и современного поэта, цельного и растор-
женного мировоззрения, безразличной объективности и страстного субъективизма»,
автор-субъективист тем не менее бессознательно вносит «в обсуждение первого
критерии, выработанные на почве последнего»; «думая поверять себя вечным Гомером,
он говорит о Гомере - Шпильгагена» {Веселовский Α. H История или теория романа?//
Он же. Избранные статьи. Л., 1939. С. 19). Как замечательно ударяет эта критика в
Шерера, поверяющего германскую древность новейшим романом! Как хорошо
показана зависимость исследователя от непрорефлектированных им в доступной же
степени «аксиом» мирочувствования и миропонимания, здесь - от заданностей
психологистического порядка, от которых, добавим, разумеется, не был свободен и не
мог быть свободен сам Веселовский как человек своей эпохи; однако он старается
«объективировать» свое личное, субъективное, через широко развернутые пласты как
бы объективного материала, и так, до какой-то степени, ему удается изживать
ограниченность своей позиции. Однако вернемся к Гомеру Шпильгагена: переносить
современные представления на древность неверно, однако правомерно, согласно
А.Н. Веселовскому, обратное: «Прометея Эсхила можно угадать в Лео Шпильгагена,
в Pramathas индейского эпоса, в мифе о снесении небесного огня на землю»
(Веселовский А.Н. О методах и задачах истории литературы как науки//Веселовский А.Н.
Историческая поэтика. Л., 1940. С. 51), и молодой Веселовский задает себе вопрос,
в котором уже светит позднейшее глубокое его убеждение: «Каждая новая
поэтическая эпоха не работает ли над исстари завещанными образами, обязательно вращаясь
в их границах, позволяя себе лишь новые комбинации старых и только наполняя их
тем пониманием жизни, которое, собственно, и составляет ее прогресс перед
прошлым?» (Там же). Ср. В «Трех главах из исторической поэтики»: «<...> как в
области культуры, так, специальнее, и в области искусства мы связаны преданием и
ширимся в нем, не созидая новых форм, а привязывая к ним [т. е. к старым формам. —
A.M.] новые отношения; это своего рода естественное "сбережение силы"»
(Веселовский А.Н. Историческая поэтика. С. 376).
550 Существенная проблема о возможном воздействии на Шерера характерных
особенностей австрийской духовной культуры, резко отличных в середине XIX в. от немецкой
традиции в целом, нуждалась бы в своей доскональной проверке в интересах будущей
капитальной истории науки о литературе, если такая будет создана.
551 Автобиографические заметки А.Н. Веселовского//Пыпин А.Н. История русской
этнографии. СПб., 1891. Т. 2. С. 425.
221
552 Горский И.К. Александр Веселовский и современность. М., 1975. С. 201.
553 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. С. 47.
554 Там же.
555 Веселовский АН. Из отчетов о заграничной командировке//Он же. Историческая
поэтика. С. 393 (относится к 1863 г.)
556 Там же.
557 Цит. по: Памяти академика Александра Николаевича Веселовского. Пб., 1921.
Прил. С. 20. Ср. в работе 1893 г. «Из введения в историческую поэтику»: «<...>
никакие теоретические соображения не мешают нам перенести <...> повторяемость
народной легенды к явлениям сознательно художественной литературы.
Сознательность не исключает законности, как статистические кривые - сознания
самоопределения» (Веселовский А.Н. Историческая поэтика. С. 68). «Законность» —
соответствие немецкому Gesetzmäßigkeit; в поэзию вложен закон, который действует в ней,
надо полагать, с непременностью природного закона. Употребление слова «закон»
в филологии второй половины XIX в. объяснялось специфической
методологической констелляцией, и это отражалось на самоуразумении науки; в естественных
науках закон (Gesetz) открывают, устанавливая то, что уже положено (gesetzt) в
природе, и это закон природы; в области права законы полагают (nomotheteô, nomoys
tithenai), дают (nomothetês-Gesetzgeber). Если теперь, в 1875 г., К. Вернер
открывает «связь между способом артикуляции германских согласных и местом
словесного ударения в древнеиндийском и в древнегреческом» (Герценберг Л.Г. Вопросы
реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981. С. 9) и эту связь называют
законом (таких примеров можно привести немало), то встает вопрос: куда, к какой
стороне, к природе или полаганию, к physis или thesis, ближе филология? В эпоху
позитивизма филологу представлялось, что он открывает в языке законы природы
(неотменимые, вечные, хотя и проявляющиеся исторически), однако он ощущал
себя законодателем, - он издает законы с чувством глубокой
самоудовлетворенности. Ср. об этом: DùnningerJ. Op. cit. Sp. 179.
558 Веселовский A. H. Историческая поэтика. С. 392.
559 Там же. С. 49.
560 Там же. С. 54.
561 Там же. С. 53.
562 Разумеется, сейчас не приходится отрицать причастность Веселовского к
позитивизму, и это не бросает на него тени.
563 Азадовский М.К. Указ. соч. С. 201.
564 Об этом хорошо пишет Й. Янота. См.: Eine Wissenschaft etabliert sich: 1810-1870/
Hrsg. von J. Janota. Tübingen, 1980. Bff. 181.
565 О воздействии на Веселовского идей русских революционных демократов писал
особенно И.К. Горский. См.: Горский И.К. Указ. соч. С. 53-54, 82, 103, 115, 122—
124, 174 и др.; см. также: Он же. Александр Н. Веселовский//Академические
школы в русском литературоведении. М., 1975. С. 204—280. Правда, вряд ли Веселовс-
кому приходилось заимствовать положения позитивизма именно из статьи
Чернышевского (см.: Соколов А.Н. А.Н. Веселовский — основоположник исторической
поэтики//Учен. зап. МГУ 1946. Т. 3, кн. 2. Ср,: Горский И.К. А.Н. Веселовский.
С. 123-125).
566 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. С. 393.
56Тамже.С. 395.
568 Там же. С. 388.
569 Там же. С. 389.
570 Там же. С. 387.
222
571 Ср. уже у раннего Веселовского; «Для такого [т. е. антропологически-
психологического. — A.M.] внутреннего построения истории, по крайней мере некоторых
частей ее, всего более сделает новая наука лингвистики» (Там же. С. 393).
572 См. обзор тенденций до 1920-х годов включительно (с литературой): Hansen-Love А.
Der russische Formalismus. Wien, 1978. S. 370-373.
573 В. Дильтей пишет в конце 1886 г.
574 Materialien. S. 26-27.
575 О ней, помимо общих работ и материалов переписи Э. Шмидта и В. Шерера, см.
очерк: Bonn F. Ein Baustein zur Rehabilitierung der Schererschule. Bonn, 1956.
576 Weimar K.Op. cit. S. 343.
577 Walzel 0. Wachstum und Wandel: Lebenserinnerungen. В., 1956. S. 27; ср.: Id. Wilhelm
Schererund seine Nachwelt. S. 391.
578 Такой солидный ученый, как Э. Шмидт, не мог избежать падения научного
уровня своих работ, поскольку держался рамок шереровского наследия, его приемов и
методов. С одной стороны, он создает основополагающую биографию Лессинга в
стиле времени, где жизнь и творчество связываются с историко-культурным
окружением, но, с другой стороны, как университетский преподаватель, он упражняет
студентов в голой технике науки, о чем любопытно рассказал Ф. Шульц (Materialien.
S. 53); наука словно остановилась, достигнув технического «совершенства», и,
остановившись, начинает распадаться.
579 Walzel О. Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters. В., 1923, S. 3 Подобные
возражения уже у Э. Вольфа, который критикует «непосредственный перенос животных
функций <...> на область человеческого духа» (Wolff Е. Poetik: Die Gesetze der Poesie
in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Oldenburg; Leipzig, 1899. S. 8).
580 Свыше десяти рецензий «Поэтики» (1886-1891) Г. Рейс поместил в приложении
к новому изданию «Поэтики» Шерера.
581 Scherer W. Aufsätze über Goethe. В., 1886. S. 3.
582 Nietzsche F. Werke. Leipzig, 1912. Bd. 15. S. 142. Приведем и предшествующее этим
словам: «Нигилистические последствия нынешнего естествознания <...> Из нее в
конце концов воспоследует саморазложение, обращение против самих себя,
антинаучность».
583 Ibid. Leipzig, 1903. Bd. 13. S. 69.
584 Понятно, сколь необходимо осмыслять до самой глубины, до самого дна
традиции русского и немецкого, вообще западного литературоведения. Русская и
немецкая науки о литературе в целом, видимо, дополняют друг друга, так что сильные
стороны одной соответствуют слабым сторонам другой. Недостаточно выявившая
различные возможности мысли о литературе русская наука (что отчасти произошло уже
вследствие колоссального количественного ее отставания) сохранила в себе то, что
можно назвать здоровой субстанциальностью.
585 Вся эта ситуация падает на литературоведа тяжким бременем, так как
постепенно яснее и яснее становятся общая связь и взаимозависимость всего со всем в
пределах нашего знания о литературе, и литературовед так или иначе вынужден
держать в голове хотя бы идею системы целого со множеством сторон и
факторов, понятных лишь в их взаимообусловленности. Все лучше выступает в
различных аспектах взаимосвязь исторического и теоретического знания. Именно эта
взаимосвязь и начинает все больше занимать исследователей. О необходимости
связывать «реконструкцию терминологических полей» с реконструкцией
теоретических подходов и делать это системно хорошо написал Г.-Г. Либ. См.: Lieb Н.-Н.
Der Status der Literaturwissenschaft und ihrer Sprache//Zur Terminologie der
Literaturwissenschaft: Akten des IX. Germanistischen Symposions der deutschen
223
Forschungsgemeinschaft, Wurzburg, 1986/ Hrsg. von Chr. Wagenknecht. Stuttgart, 1989.
S. 137. За дружескую присылку этого сборника сердечно благодарю д-ра Бернхар-
да Шольца (Утрехт), одного из его авторов. В том же сборнике см. статью К.
Веймара об истории обозначений «художественной литературы» и
«литературоведения» в XVI-XVIII вв., значительно конкретизирующую изложенное у нас в гл. II:
Weimar К. Literatur, Literaturgeschichte, Literaturwissenschaft: Zur Geschichte der
Beziehungen für eine Wissenschaft und ihren Gegenstand//Ibid. S. 9-23.
Вильгельм Дильтей и его школа
Предисловие
Эта книга - продолжение изданной работы «Проблемы
исторической поэтики в истории немецкой культуры», подзаголовок
которой звучит так: «Очерки из истории филологической
науки» (М., 1989). В этом заглавии и в этом подзаголовке были
намечены по меньшей мере три темы: историческая поэтика;
история немецкой культуры; история филологической науки. Темы
такие, что не требуется никаких подтверждений, они далеко не
тождественны одна другой; однако, вовсе не хотелось ограничиваться общей
частью их объемов, ставя проблемы прагматически-узко, - напротив,
представилось целесообразным вслушиваться в каждую из тем, чтобы
ощутить внутреннюю логику каждой из них. Хотя на деле изложение в
названной работе продвинулось лишь очень недалеко и остановилось
на весьма солидной, но уже мало знакомой для подавляющего
большинства и застланной туманами фигуре Вильгельма Шерера, хотя в
работе и фактически было достигнуто очень немногое, все же выяснилось
в ней следующее: чтобы осмысленно провести обозначенные три темы,
надо прибавить к ним по меньшей мере еще две - это тема русской
культуры и это современная наука о литературе в ее самосознании
собственных задач и, еще шире, в ее самопонимании. Или, говоря еще
иначе, все «немецкое» - немецкая культура, немецкое
литературоведение — не было тут самоцелью для исследования (хотя бы такая
«самоцель» и выглядела вполне академичной), и именно поэтому надо было
выстроить систему координат, в которой располагался бы всякий
выясняемый смысл, или пусть хотя бы шаткую систему опор для мысли.
Оказалось, что сами эти три взятые темы таковы, что и для того,
чтобы немножко разобраться в них и разобраться с ними, необходимо все
же до какой-то степени разобраться и в том, что такое
литературоведение, как оно существовало и существует, как понимает себя, как
практически поступало и поступает и т. д. Вот поэтому вместо трех тем и
надо выло вести сразу пять. А это не просто, однако автор утешает себя
таким соображением: если бы и ровно ничего не получилось в его
работе и если бы все факты и результаты, изложенные в ней, были
ровным счетом никому не интересны, то все же одно, может быть,
получилось, а именно то, что в литературоведческом исследовании
невозможно вести всего лишь одну тему, - нужно, чтобы получался хоть
сколько-то осязаемый смысл, вести сразу несколько тем и как бы
строить по возможности сложное уравнение со множеством переменчивых
величин, которые только в таком уравнении (при условии, следователь-
227
но, что оно будет достаточно сложным) приведутся в некоторое
подобие системы, в некий образ реальной (или напоминающей реальную)
взаимозависимость и таким путем объяснят друг друга. Вот почему в
конкретном случае, когда уже были намечены три темы, следовало
отдать должное каждой из них, не урезать их понапрасну, давать волю
центробежной устремленности каждой из них, а, пока они торопятся
разбежаться, постараться уловить их и вновь свести к общему центру.
Разумеется, речь идет об идеальной стороне - о том, что было
задумано. И такой центр, общий для всех — уже пяти, не трех тем — нашелся,
можно сказать, сам собою: вот общее для всех этих тем - это история.
История — это и центр, исток, и та стихия, в которую погружены все
эти темы: от нее и в ней они приобретают свою осмысленность. Тут
можно было бы, правда, возразить, сказав, что тогда таких тем не три
и не пять, а несравненно больше - тех, что сходятся к истории как
центру и истоку и погружаются в нее, как в свою стихию; и это верно. Но
ведь речь идет о минимальном количестве тем. Впрочем, сколько бы их
ни было, все они входят в историю как свой исток и свою стихию.
Но тут, правда, следует как можно скорее отделываться от
затвердевших в обыденности представлений об истории. Представления
такие имеют обыкновение застаиваться в научном сознании - в той
мере, в какой таковое окрашивается в тона недалекой обыденности.
Кому-то представляется, например, что истории противостоит,
именно противостоит, «современность», прошлому- актуальность
современного, и такие противопоставления, как всем нам понятно,
полагаются даже в основу псевдоидеологических обоснований того, чем в
первую очередь должны заниматься исследователи: все прошлое
тогда совсем уже не так важно, как современное и «актуальное», и уже
совсем неважно и незначительно прежде всего прошлое самой науки.
Но такой совершенно плоский взгляд на вещи имеет и более
серьезное собственно научное продолжение - это то, что один историк
языкознания называет «модерноцентризмом» науки и о чем (только под
иными именованиями) приходилось писать и мне в названной выше
книге. Для «модерноцентризма» характерно мыслить современное
состояние науки, во-первых, как вершину развития этой науки, а во-
вторых, вследствие этого, - как меру всякого научного материала.
Тогда современное и свое мыслится чем-то само собой разумеющимся -
оно не подвергается критике (внутреннему разбору) и - что то же
самое - изымается из истории и противопоставляется ей: не хуже, чем
у какого-нибудь идеологического администратора науки. Но
поскольку «модерноцентризмом» затронута вся почти и всякая историческая
наука - и вся наука, занятая историей, и вся, занятая своей историей
(а это уже, кажется, и вообще любая наука), то, естественно, встает
вопрос, чем он, этот «модерноцентризм», собственно говоря, плох, и
почему, - тем более что отказываться от восприятия современного
состояния науки как «вершины», и притом как вершины именно
«развития», до крайности затруднительно, и надо знать, для чего, во имя
чего это следует делать.
И тут (чтобы попытаться узнать это) и нужно задуматься над
«историей»: что это такое? И если мы утверждаем, что такие-то важные для
228
науки о литературе и для истории этой науки темы сходятся к истории
как к своему истоку, центру и как к своей стихии, то что это значит и
что за «история» имеется здесь в виду?
Тогда, по-видимому, выясняется, что «история» в самую первую
очередь разумеет разное (это во-первых) и не равна самой себе (это
во-вторых). Ограничимся «историей литературы» - это 1) «сама»
история литературы (как протекающая в действительности) и 2) история
литературы как наука (об этой «самой» истории литературы).
Далее: «сама» история и история литературы (как наука)
опосредованы значительным множеством соединяющих (вместе и
разделяющих) их форм: «сама» история литературы дана нам не «сама по себе»,
но в культурном сознании, которое содержит ее в себе в качестве
итоговой картины, а к этому же культурному сознанию относится и
история литературы как наука, которую можно рассматривать как
специализированную, особо сосредоточенную на своих предметам
(именно литературе) часть этого же сознания. История литературы «сама»
по себе «объективнее» всего дана нам в виде «текстов» — того, что
именуется первичными текстами в отличие от вторичных текстов науки
(Sekundärliteratur): однако вторичные тексты в ряде случаев, при
известных условиях, то и дело переходят в разряд первичных текстов
(например, вставая в один ряд с «беллетристикой» какой-либо из
прошедших эпох литературной истории), и это четкое деление текстов на
два разряда, принятое в западной науке, не мешает существованию
между ними достаточно плавного перехода.
Далее: всякий «текст», с каким мы имеем дело, предстает перед
нами, - сколь бы «объективным» ни мыслили мы себе его
существование, - в своей неразрывной сопряженности с его же истолкованием:
нет текста «самого по себе», а всякий текст - начиная с того, который
вот только что произошел на свет, — есть текст читаемый и
понимаемый. Вокруг любого текста создается как бы интерпретационный
ореол, напоминающий нам, например, ранние рукописные или печатные
издания «Божественной комедии» Данте, - несколько строк «текста» в
окружении толкований его, и все это в облике прекрасной соразмерен-
ности, расчерченности и расчисленности. Только что
интерпретационный ореол не позволяет вычленить текст «сам по себе» - текст и
существует только внутри его, в нем. Иначе текст нам не дан: если
литературный критик, даже и читая старое литературное произведение,
перечитывая его, нарочно ставит себя в положение его «первого»
читателя, то такая позиция искусственна, она артистична и
экспериментальна, - для науки такой прием одновременно и чересчур игровой, и
чересчур простой, простоватый: даже и читая что-то первым,
литературовед должен отдавать себе отчет в неотрывности немедленно
создающегося ореола от «самого» текста, отчего и возникает так или иначе
научная потребность в «исчислении» такого читателя, который был бы
совершенно адекватен тексту, читателя идеального - дающего текст уже
раскрытым в сознании, но притом не искаженным: видимо, полезная
иногда научная конструкция. Наука имеет дело с понимаемым текстом,
с текстом, заведомо понимаемым, а практически - с таким, который
включен в беспрерывный или иногда прерывистый процесс своего по-
229
нимания и который оброс следами таких пониманий. Сам ореол ведет
историческое существование, сам входит в историю литературы,
литературного сознания. Хотя всякий текст есть заведомо текст понимаемый,
наука о литературе тем не менее направлена на изучение текстов и
произведений «в них самих» — т. е. в той самотождественности каждого из
них, какая нам и не дана, айв сущности для нас недостижима. От
«самого» произведения и текста к нам протягивается соединяющая линия,
и только через цепочку отражений-пониманий, многосложную или
более простенькую, произведение (текст) и доходит до наших дней, и
существует «для нас». Я бы только не хотел, чтобы создалось впечатление,
будто я утверждаю, что наука о литературе имеет дело лишь с
произведениями и текстами, - нет, она имеет дело со всем тем, с чем имеет дело
практически и фактически, и, скажем, жизнь писателя - не менее ее
«предмет», чем текст и его истолкование; однако, среди всех тех
неуловимых, какие приходится осмыслять науке о литературе, «текст»
представляет собою, пожалуй, наиболее осязательную данность, - которая,
однако, порой точно так же вводит литературоведа в заблуждение
относительно своей «материальности», как и сам литературовед время от
времени склонен заблуждаться, думая, что вот только такими «материаль-
ностями», как текст и произведение, и следует заниматься его науке.
Итак, получается, что все историческое в известном смысле
существует только «сегодня» — в той «точке», которая отвечает
современному состоянию науки, и это для «модерноцентризма» неплохой довод в
свою пользу. Однако, с равным правом можно было бы настаивать на
том, что само современное состояние — лишь продукт прошлого,
всецело зависящий от него. Но дело даже не в этом, а прежде всего в том, что
та относительная единовременность, в какой во всякое время
существует история литературы (для нас), до избытка переполнена всяческой
разновременностью — она внутренне исторически дифференцирована и
несет в себе даже итоги, результаты, отпечатления и следы и разных
разумений истории литературы (не только отдельных произведений,
текстов), и даже разных разумений истории вообще. Все это именно в
рамках истории литературы как науки и приводится во всякое время к
некоторой - весьма относительной - упорядоченности образа истории
литературы, к известному единству литературного сознания (а ведь мы
знаем - хотя, быть может, и недостаточно! - как сложно устроено
литературное сознание в каждую отдельную эпоху, какой почти не
поддающийся охвату широкий мир оно представляет).
Но дело даже и не в этом, т. е. не в этой временной
дифференцированное™, на какую раскладывается «единовременность» истории
литературы и из какой она всякий раз и складывается, и не в той истории,
какая открывается за единовременностью, - эта наша
единовременность всего и сама есть лишь преходящий момент такой истории, не
более того, - но в изменчивости самих представлений об истории
литературы и, шире, о самой истории, какая стоит «за» всем этим
движением (какая, говоря точнее, лежит в самом этом движении). Сама
история, как она протекает и как она вкдна нам, не равна самой себе: это
тем более заметно тогда, когда мы обращаемся с вещами, смысл
которых доступен нам в ореоле понимания, толкования, интерпретации, а
230
таковы, надо думать, вообще все историко-культурные «вещи», все, чем,
в частности, занимается и может заниматься и наука о литературе. Как
только мы отказываемся от иллюзии, будто непосредственно
общаемся с «самими» вещами (произведениями, текстами), так для нас важным
и существенным становится сама их истолкованность, вся эта
обширная и нечеткая по контурам сфера истолкованности и все те основания,
по которым протекает история самой этой сферы. Что во всякую
эпоху и литературами история литературы, и вся вообще история
понимается по-разному, становится обстоятельством чрезвычайной важности
для истории литературы. А как только мы начинаем осмыслять это и до
нас доходит это обстоятельство, так эта глубокая изменчивость самого
того, с чем имеет дело наука о литературе, служит солидным доводом
для того, чтобы отказаться от всякого «модерноцентризма» и начать
бороться с ним в себе: как раз потому, что нам хотелось бы знать,
каковы вещи сами по себе, каковы сами по себе произведения и тексты, мы
и не можем позволить себе понимать их лишь по мере такого
понимания, какое задается нашим представлением о вещах; так и историю
литературы мы не можем уже позволить себе понимать в соответствии с
тем, какой представляется нам история литературы; так и все входящее
в историю литературы - всякий текст и всякое произведение - мы уже
не можем позволить себе трактовать совершенно однородно, в
соответствии с тем, какими мыслятся нам вообще произведение и текст.
Наоборот, если нам действительно хочется представить себе,
какими на самом деле были вещи в истории, то нам должно хотеться - что
невозможно - перевоплотить свое сознание в сознание иных эпох, а
потому ключом к ним (ко всем исторически существующим вещам)
оказывается именно история как процесс изменений, в котором
изменению подвержена и сама же история.
История не однородна, какой рисуется она сейчас в историях
литературы, а это такой процесс, в котором претерпевает изменения и
история, и литература. И это еще совершенно независимо от того,
будем ли мы продолжать мыслить историю литературы как развитие,
как, далее, развитие по восходящей линии, как прогресс, на вершине
которого стоим тогда мы со свойственным нам литературным
сознанием. Однако, как только мы перестанем довольствоваться своим
представлением об истории, так наше сознание окажется реально
захваченным историей, в какую погружены все мы (как и все
исторически существующие вещи), - уже не в нас мера исторического, а в
истории, причем изменчивой в самой себе.
Но что значит перестать довольствоваться своим, когда речь заходит
об истории? И можно ли перестать довольствоваться своим — усвоить
взгляд, который не был бы «моим»? Перестать довольствоваться
«своим», видимо, значит, что мы перестаем брать свой взгляд на вещи и как
исторически безотносительный, и как естественный, что мы на него
самого смотрим критически и не позволяем себе настаивать на каком-
то мнении просто потому, что нам оно кажется естественным, или
единственно правильным, или само собою разумеющимся, - пожалуй,
всем этим с разных сторон выражается все одно и то же. Мы можем и
даже должны запретить себе делать такие высказывания, которые как
231
бы напрашиваются для нас сами собой, высказывать суждения, которые
мы выносим автоматически, просто потому, что мы так думаем.
Правда, в таком требовании - чего-то не делать - легко видеть какой-то
пустой парадокс, который далек от какого бы то ни было реального
своего осуществления, нечто умозрительное, что никак невозможно
воплотить в действительность.
Однако посмотрим сначала, что такие требования (и такой
парадокс) могут все же означать практически. Когда мы формулируем
какое-то суждение просто потому, что мы так думаем, и оно
складывается у нас почти автоматически, то это слово — «думать» — берется
здесь не вполне буквально; «мы так думаем» значит здесь примерно:
мы так представляем себе вещи, мы так привыкли представлять их
себе, они такими рисуются нам в общих чертах. Это очень
приблизительное, самое приблизительное «думание» — не столько мы тут
думаем, сколько это нам так вообще почему-то думается. Требование
перестать довольствоваться своим и означает тогда, что мы должны
обратить свою рефлексию на такое свое приблизительное «думание» и
так или иначе извлечь из него нечто более четкое и ответственное. К
тому же если бы нам удалось после этого осуществить свой запрет на
как бы автоматические высказывания, то мы все равно можем быть
уверены в том, что и после этого у нас останется еще солидный запас
того, что в наших высказываниях не подвергнуто никакой
критической рефлексии и сказано нами лишь потому, что так сказалось.
Однако вполне возможно, что уже некоторого зазора между тем, что мы
говорим потому, что нам так кажется, думается и представляется
(вообще и приблизительно), и тем, что мы осмысляем в наших
высказываниях как исторически относительное, уже достаточно для того,
чтобы начало реализоваться наше место во всем историческом. Перестать
довольствоваться своим и значило бы тогда обрести настоящее свое -
особое свое место в истории. Вероятно, тогда нам уже и не захотелось
бы представлять себя стоящими на вершине исторического развития —
тем более, что и история едва ли представится нам тогда как прогресс
или как последовательное становление по нарастающей, по
восходящей линии. Однако как это будет тогда, прояснится уже только в
итоге хотя бы начатой реализации нашей рефлексии своего «думания».
А если мы решимся начать - т. е. решимся начать подвергать
критической рефлексии свое «думание», или, иначе; перестанем
довольствоваться «своим», или, иначе, положим запрет на
«автоматические» высказывания, - то что это будет значить? Это будет по сути
значить, что мы предаем себя истории и во всяком случае готовы
предать себя истории.
Это будет значить также и то, что по сравнению с тем историзмом,
какой начал усваиваться наукой («исторические школы») и широким
культурным сознанием на рубеже XVIII—XIX вв., мы принимаем на
себя новые обязательства историчности мышления. Вырисовывается -
притом явно согласно настоятельной потребности самой же истории,
нами переживаемой, - историзм новый, многоусложненный в
сравнении с «нашим», привычным, но все-таки недоосвоенным, историзмом
(или так называемым принципом историзма). Ясно, что и прежний
232
историзм, даже если сводился только к принципу
исторически-конкретного рассмотрения любых исторических явлений, означал в какой-
то мере послушание истории, смирение перед лицом истории: в науке
«я» исследователя обязывается подчиниться внеположной ему логике
движения исторического материала, т. е. логике движения истории.
Однако подчинение исследователя истории получалось достаточно
формальным по той причине, что, мысля себя субъектом,
исследователь отделял себя от своего предмета и сам по себе выходил за сферу
действия истории (как именно ему внеположной, — отсюда
естественное искушение встать над историей и мыслить себя разве что не ее
судьей). Ясно, однако, что новый, усложненный историзм - сам же
порождаемый историей (меняющей свое понимание в нас и через
нас) — настаивает именно на полной включенности исследователя в
процесс того, чем тот занимается: с него же, с исследователя и
вообще со всякого носителя исторического сознания, и начинает всякий
раз восстанавливаться, реконструироваться, и разворачиваться,
раскрываться, история. Занятые даже и своим «предметом», своим
материалом, исследователь и историческое сознание вместе с тем
занимаются анализом самих себя - т. е. анализом исторического сознания и
анализом той «самой» истории, которая сама теперь неоднородна и
которая сама же меняется ... в истории.
Но если это так, то исследователю истории литературы даны сразу
же, в нераздельности, все как бы наслаивающиеся друг на друга
потоки исторического, идущие к нему и проявляющиеся в нем. Это,
выходит, не только «сама» история литературы (как называлось это
выше), не только история литературы как наука, но и все то, что
соединяет/разделяет их - все интерпретационные ореолы, исходящие от
всего того, что, как содержание, входит в «саму» историю литературы (от
текстов и произведений до творчества и самих «жизней писателей), —
на самом слове «ореол» я, разумеется, нимало не настаиваю - и
история читательского сознания, и история самой литературоведческой
науки, которая, запаздывая в сравнении с самим историко-литературным
движением, в то же время особо бурно и с особо показательной
очевидностью меняется и перерождается, будучи теснейшим, самым
неразрывным образом связана и с читательским сознанием, и с
движущимися в истории и исторически живущими «ореолами», и с самими
произведениями и текстами, всякий раз немедленно погружающимися в
ореолы своей истолкованности, в теорию и умозрение. Все это весьма
насыщенный и сплошной поток. Он даже и неохватный по густоте
своих внутренних взаимоотношений и взаимоотражений. Но он так дан
литературоведу, хочет он признать это или нет, и он дан так, что (если
начинать с «самой» истории литературы) в потоке исторического
движения условно вычленяются пласты «самой» истории литературы, всех
многообразных «ореолов», читательского сознания, всевозможной
обобщенной «теории» всего литературного (куда относятся, например,
любые курсы риторики и т. п.), наконец, и сама наука истории
литературы (со всевозможными пластами уже внутри ее). Настолько
сплошным (в своем внутреннем переходе) выступает этот исторической
поток, что движение исторического, что здесь в конечном счете и как бы
233
глядя со стороны самого этого совокупного исторического потока
стираются формальные различия между «первичными» и «вторичными»
текстами и всякое свидетельство научной, историко-литературной
мысли точно так же подлежит историческому осмыслению, как и сами
произведения. Только естественно, что в реальной науке, в той, которая
практически себя осуществляет, и немыслимо, и невозможно иметь
дело со всей совокупностью этого исторического потока - если
припомнить еще здесь, весьма к месту, что сама история в своем
протекании не однородна и что историческая мысль обязана осмыслять и эту
неоднородность, т. е. исторические моменты различного постижения
самой истории (и истории литературы), а такое постижение бывает до
крайности различным (и притом закономерно и убедительно меняется
нередко на протяжении жизни одного-двух поколений). Иметь дело со
всем совокупным историческим потоком значило бы строить
уравнение немыслимой сложности; литературовед и строит всякий раз
посильное для себя уравнение, которое, однако, должно быть достаточно
сложным для того, чтобы в нем схватывалось нечто очевидно
осмысленное.
Так, исследователь, занимающийся поэтикой романа и, скажем,
пишущий на эту тему книгу, не вправе оставить в стороне и без
внимания исторический ореол «романа», т. е. как самого слова «роман» (в
его историческом существовании), так и обозначения определенного
литературного жанра (как ни трактовать его) в науке. Конечно,
литературовед может поступить и так — взять для своего рассмотрения всю
совокупность того, что в науке обыкновенно и привычно считается
романом, и изучать ее, делая акцент на том или ином материале. При
этом он может получить весьма интересные, ценные результаты. Он
может очень полезно или, как говорится, продуктивно рассуждать о
сущности романа, о закономерностях романной композиции или, к
примеру, о структуре романа. Однако, на наш взгляд, такое
исследование будет строиться по старинке, т. е. согласно некоторым
довольно давно уже принятым, а теперь устаревающим представлениям и
обычаям. Исследователь - по старинке же — ставит себя в такое
отношение к материалу, которое я называю «натуралистическим». В чем
его суть? В том, что исследователю кажется, что сам он и его
материал не разделены никакими сугубыми трудностями, что для него никак
и ничем не закрыт вид на его материал, что до материала этого ему
рукой подать, что материал этот всецело находится в его
распоряжении, что он лежит перед ним как более или менее ясный процесс, где,
положим, есть и малоисследованные уголки и где остается много
непрочитанных текстов, что ничего не меняет в сущности дела, —
отношение исследователя к материалу все равно прямое,
непосредственное, незатрудненное. И действительно, какие тут трудности? «Дон
Кихот», — разумеется, это роман. «Вильгельм Мейстер» — роман.
«Обломов» - роман. «Дафнис и Хлоя» — роман. А коль скоро все это
(и еще почти бесчисленное множество только хорошо известных,
читаемых произведений) — романы, то можно, например, писать о
структуре романа, полагая, что любому роману присуще нечто
структурно определенное — общее для любого романа.
234
Однако, задумаемся, так ли непосредственно отношение
исследователя к роману? Нет! Потому что, уж если говорить о разных
романах, то они находятся на разной дистанции от исследователя, они в
разной степени ему доступны, они и в историческом потоке находятся
на разном расстоянии от него (и этим часто определяется и степень,
доступность, возможность большего или меньшего, более или менее
конкретного вникания в них и т. п.). Но это только одна сторона. Она
безусловно требует от исследователя, чтобы тот весьма конкретно
отдавал себе отчет в этих дистанциях (и, стало быть, всевозможных
трудностях, преградах), которые отделяют его от конкретности же бытия
каждого романа. Однако, пусть эта конкретность не слишком
интересует литературоведа, который готов немедленно устремиться к
структурно общим чертам любого романа. Но тут есть другая сторона,
опосредующая (т. е. и соединяющая, и разделяющая) исследователя и
совокупность доступных ему романов. Даже и отвлекаясь пока от
совершенной особости этого жанра или вида литературы, спросим
себя: какие произведения, собственно, называются романами? С
каким основанием мы переносим наименование романа на
произведения античной литературы, которые в свою эпоху так не именовались?
С каким основанием мы распространяем это наименование на такие
произведения, которые не суть романы по своему самопониманию?
Почему и для чего мы совершаем такое насилие над историей
литературы и какую пользу извлекаем для себя из этого? Я охотно допускаю,
что на все эти вопросы можно давать и простой ответ, как бы вовсе и
не замечая здесь каких-либо трудностей. Можно ведь и попросту
сослаться на историю литературы (науку), которая со временем вот так
обобщила понятие романа, что распространила его на очевидно
близкие по каким-то показателям произведения. Однако, очевидна ли нам
теперь эта близость? Должна ли она непременно оставаться для нас
очевидной и теперь? А коль скоро мы ссылаемся на какое-то
определенное состояние историко-литературной науки, для которой
очевидно (или было очевидно) то или это положение, для которой,
например, была очевидной возможность распространять понятие романа на
очевидно близкие для ее восприятия и постижения произведения
литературы, то, очевидно, естественно бросить взгляд и на историю того
самого, что так выступило перед нами в своей историчности? Т. е.
здесь - на историю того самого представления о романе, которому
следует современный исследователь и которое, возникнув на
определенном этапе науки о литературе позволяло (или еще и теперь
позволяет) распространять понятие романа на близкие, согласно этому
представлению, литературные произведения. А если мы бросим такой
взгляд на историю представлений о романе, то, очевидно, нас
заинтересует и происхождение самого слова «роман», и, глядя на историю,
мы сможем так или иначе проследить (как бы сложна она ни была) и
изменчивость это слова, его смысла и объема, и его капризность,
сможем проследить и то, как в разные эпохи круг романов (круг того, что
входит в мыслимую совокупность романов) меняется, сможем отдать
должное, что в известную эпоху в число романов попадает
пушкинский стихотворный «Евгений Онегин», в несколько другую - замысло-
235
ватые создания немецкого романтизма, мало напоминающие
позднейшее обобщенное представление о романе, сможем увидеть, что
романами оказываются и замысловатые и громоздкие прозаические
построения, заключающие внутрь себя всевозможные жанры литературы,
включая и самые «обычные» романы, и т. д. Тут встретится очень
много такого, что озадачит исследователя. И, разумеется, дело самого
исследователя - выбирать, предпочтет ли он ставить себя в иллюзорно-
непосредственное отношение к некоторой совокупности романов с
возможностью получить на почве этой иллюзорности некоторые
бесспорно ценные результаты или же он предпочтет озадачиться всей
совокупностью исторических линий и «ореолов», идущих к нему от
«романа» (как слова и термина) и романов, от истории науки,
осмыслявшей романный жанр, и т. д. Несомненно, выбор первого для многих
окажется предпочтительнее, позитивно-предпочтительнее, — однако,
этот первый вариант выбора вынудит исследователя пройти мимо
реально-исторического бытия романа в жизни и в осмысляющем его
сознании, мимо анализа своего собственного, погруженного в историю,
сознания этого жанра, мимо исторически изменчивой сущности
романа, вместо которой ему придется направлять свои усилия на
сомнительную отвлеченность «структуры», будто бы свойственной всем
романам (или хотя бы большинству романов) — на самом же деле
свойственной лишь исторически ограниченной по основаниям своего
отбора совокупности романов (в итоге же слишком широкому их
множеству).
Разумеется, ни одно исследование не может решиться иметь дело
с максимальным числом линий исторического движения и должно
ограничиваться минимальным осмысленным числом исторических тем.
Там же, где исследование устремлено к самим закономерностям
исторического, оно не преминет хотя бы коснуться историчности самой
истории - такого обстоятельства глубинного свойства, которое в
самом последнем счете замыкает на себе и завязывает в единый узел
всякую существенную мысль об истории и «саму» историю.
О том же, как переосмысляется история в наши дни - чему мы сами
должны быть свидетелями, - еще будет повод сказать в дальнейшем.
* * *
Еще одно общее соображение.
Литературоведение очень велико и обширно. И если с одного
конца его можно заниматься, например, выяснением деталей биографии
писателя или другими конкретными вопросами, то тут можно
совершенно не знать и не подозревать о том, что на другом его конце
встают вопросы типа таких: из каких предположений исходим мы, когда
занимаемся историей литературы? Какие предположения делаем мы,
когда занимаемся анализом художественного произведения? А все
подобные вопросы указывают на основания науки о литературе. На
языке герменевтики те же самые вопросы можно формулировать так: на
какие предварительные суждения опираемся мы, когда занимается
изучением литературы? Какие предварительные суждения выносим мы,
236
когда отправляемся в эту область знания, приступая к специфической
деятельности литературоведа? Какие пред-суждения (Vor-Urteile)
руководят нами в нашей деятельности? Или, иначе, какой забег вперед мы
делаем, что наперед уже себе присваиваем и предрешаем, когда только
еще вступаем в область литературоведения? В этом смысл хайдеггеров-
ского понятия Vorgriff, который лежит в основании всякого целепола-
гания.
Занимаясь наукой о литературе, мы тоже исходим из некоторых
аксиом, о чем я уже писал. И с очень большой долей вероятности мы
можем думать, что те самые первоначальные аксиомы, из каких мы на
деле исходим, так и останутся неизвестными нам. Это, по-видимому,
вообще так в науках о культуре. Как бы постепенно ни просветлялись
для нас аксиомы прежних культурных эпох, какой бы критике
(анализу, разбору) ни подвергали мы все в своей деятельности (т. е. и в
исходных посылках современного литературоведения вообще), самый
глубокий слой, вероятнее всего, так и остается недоступным для нас.
И это создает совсем особый экзистенциальный климат всех наук о
культуре, об искусстве: сущность человеческого, которая проявляется
и осмысляется в них, - причем сущность эта развертывается,
разворачивается исторически, - как бы все время отступает вглубь, в свою
неизведанность, отступает перед медленным и стойким напором
человеческой любознательности.
Вообще же рост и разворачивание знания и заключается в том, что
рациональному просветлению-осмыслению поддаются все более
глубокие слои тех предположений, пред-суждений, исходных позиций,
какие предпосылаются и науке, и самой жизненно-практической
деятельности. Поскольку жизнь и знание, видимо, составляют здесь
прямой и сплошной переход.
Рост и разворачивание знания ведет вглубь: так, например,
современный философ едва ли вправе исходить из предположения о
бесконечной делимости отрезка прямой или о бесконечной делимости
числа, - он не вправе поступать так уже потому, что есть такие
направления математики (оснований математики), которые не признают таких
аксиом и строятся помимо них. И уже этого одного - того, что для
известных направлений науки эти аксиомы не существуют — достаточно
для того, чтобы уже лишиться права обращаться к прежней аксиоме
бесконечной делимости. Значит (это одно уже значит), что следует
искать иных исходных посылок, такой очевидности, которая предшествует
выбору между этими двумя возможностями, делимостью и
неделимостью. Однако, если в основаниях математики (согласно природе этой
науки) необходимо достигать некоторой осознанной очевидности и
останавливаться на ней (бессмысленно предполагать существование
аксиом - предпосылок, которые не были бы известны нам), то науки о
культуре в своих предположениях не могут не исходить из
возможности того, что как раз самые исходные посылки нам и не известны: мы не
знаем (может быть и так) наших же предположений, на основе
которых, исходя из которых рассуждаем. Мы о них судим по результатам:
мы выводим нечто, но не знаем, почему; так, нечто, какой-то взгляд на
вещи, какое-то мнение может представляться, может казаться нам ра-
237
зумеющимся само собою, «естественным» и - иного не дано. В
математике (по природе μάθημα, т. е. удостоверяющегося знания) это
бессмысленно. А в науке о культуре, в науке о литературе мы не можем
проходить мимо возможности таких предположений, которыми наша мысль
практически руководствуется и которыми совершается, но которые
теоретически пока не схватываются нами.
Ссылка на основания математики здесь у нас отнюдь не случайна:
дело в том, что и первые опыты выхода из круга классической логики,
и первые опыты выхода за рамки Евклидовой геометрии (в поколении
Н.И. Лобачевского) по существу параллельны процессам историзации
культурного сознания и по времени ненамного отстоят от них, чуть
запаздывая по сравнению с ними, — всякий раз эти опыты связаны с тем,
что подвергается сомнению (и появляется сама возможность сомнения)
математическая аксиоматика, а тем самым сама очевидность
математических аксиом утрачивает свою внеисторическую безусловность и
проводится в сопряжении с историей. И здесь тоже можно найти два
этапа: на одном, раннем, традиционная аксиоматика обнаруживает свою
относительность, на другом, более позднем, обобщается представление
о такой относительности и появляется возможность создавать
различные аксиоматические системы (логические исчисления и т.д.), и
очевидность свойственна уже не самому набору аксиом, а самой
возможности формулировать таковой. Подобно гуманитарным наукам, наука
математическая участвует в исчерпании человеческой сущности (и здесь
до крайности показательно сопряжение, в какое на рубеже XIX—XX вв.
вступают логика и математика, и та связь, какая обнаруживается у них
с языком): исчерпание же, видимо, означает здесь сразу двоякое - и
нахождение, обнаружение в человеческом все больших глубин, и
разрушение, преодоление во всем человеческом некоторой меры человеческой
«естественности», возможно, даже нарушение некоторой сущности
человеческого, ее равновесной «срединности» через выход за ее пределы
в теоретически осознанной свободе. Этот процесс Фридриху Ницше
рисовался как непоправимое нарушение бытийного лада - как
безудержный полет в неизведанность человечества, оторвавшегося от Солнца.
Я бы назвал этот процесс - после того, как пройдена точка
равновесия, - зовом бездны; он одолевает человека и в науке. Действительно,
неизведанность выступает перед любой наукой - науку в наши дни
трудно и наивно было бы рассматривать как органическое умножение
позитивного знания, и неизведанное — не просто то, что еще не
известно; равным образом любая наука может представляться
разведыванием глубин человеческого, человеческой сущности (едва ли не скрытой
«по природе», téi physei, и теперь насильственно раскрываемой);
неизведанность же наука разведывает, и эта же неизведанность способна
возникать внутри науки как эффективно проявляющаяся сила, сила
почти уже творческого порядка. Легко заметить, что и неизведанность
находится в близкой связи с историей (как «выведыванием»). Однако
вот эти две темы - о неизведанности как эффективной силе обретения
(или осмысления) знания и о связи ее с историей необходимо сейчас
отложить на будущее, чтобы затем подойти к ним вновь, возможно,
несколько более подготовленными. Сейчас можно только заверить всех в
238
том, что и эти темы несомненно касаются нашей науки о литературе и
ее забот: ведь прежде всего эта наука — одна из многих, и в ее судьбе
есть общая сторона с любой другой наукой (и у них - с нею), и вот то
разведывание человеческих глубин, в чем принимают участие даже и
«абстрактные» математические науки (включая сюда и логику),
производится в ней по-своему, не так, как в других, но в дополнение к ним,
со своими местами большей ясности и со своими темнотами; именно
благодаря этому, - только, по преимуществу, не зримо почти ни для
кого, на будущее, - науки даже соотражаются друг в друге, и особый
вклад науки о литературе никак нельзя было бы опустить и потерять.
Но, далее, наука о литературе — и сама по себе, и она сама должна
побеспокоиться о своей сообразности, о своем удостоверении, и,
конечно, она не должна закрывать глаза перед своими глубинами, если они
в ней находятся, и должна знать о них.
* * *
Теперь остается вернуться к основному содержанию этой книги.
Будучи продолжением вышеназванной работы, она представляет
собою, как и та, очерки по истории филологической науки. А
одновременно, принужденная вести несколько взаимосвязных тем, она
копается по мере своих сил в трудностях нашей современной науки о
литературе, которые связаны исторической преемственностью с
ситуацией науки столетней давности. Заглавие книги, в котором названа
«школа Дильтея», подразумевает прежде всего как раз
преемственность такого рода: затруднения, которые в науке наследуются,
преодолеваются, множатся. Потому что если под «школой» иметь в виду
только упрямых учеников и продолжателей Дильтея - именно здесь в
области литературоведения, - то, разумеется, у современника и
друга Дильтея — Вильгельма Шерера их было несравненно больше. И
понятно почему: Шерер был таким ученым, который привыкал не
столько рефлектировать внутренние трудности науки, сколько
сживаться с ними и находить с ними общий модус вивенди; поэтому если
о настоящем философски обоснованном позитивизме Шерера можно
спорить, то от такого позитивизма следует во всяком случае отличать
позитивность науки, такую черту, которая в творчестве Шерера
утверждается и оказывается крайне привлекательной для сотен
литературоведов - эта позитивность призывает ведь только держаться своего
материала, тщательно его разрабатывая, и быть сообразным этому
материалу (как понимает его исследователь и согласно со складывающейся
традицией такого понимания). Методология Шерера заключала в себе
«аметодологичность» — здесь в смысле неозабоченности своим
методом и отсутствия сколь-нибудь долгой рефлексии о нем. Она весьма
способствовала закреплению сознания
профессионала-литературоведа, уже обретшего свой прочный статус в обществе; нужно ощутить в
этом литературоведческом профессионализме такой логический круг,
который замыкает специалиста на «своем» и положенном ему.
В отличие от Вильгельма Шерера, Дильтей не был
литературоведом - он был философом, философом культуры, историком культуры
239
и наряду со всем этим литературоведом, так что само его
литературоведение входило в широкий круг того знания, представителем которого
был Дильтей. Вот то, каким было это знание, как оно осмыслялось, —
над сущностью такого знания следует еще поразмыслить, - и
определило прочную и благодарную память о Дильтее в современной философии
и науке о культуре. Мы же сейчас подходим к Дильтею с весьма
необычной стороны - со стороны неудобной, невыгодной, и вдруг
оказывается, что написанная Дильтеем «Поэтика» - весьма архаичный труд,
создание безмерно далеких для современной науки 1880-х годов. Но
ведь занимаясь Дильтеем как литературоведом, мы обязаны помнить,
что он - не литературовед, и тут, может быть, столь же неожиданно
обнаруживается, что архаичный строй его «Поэтики» заключает в себе -
скорее, неосознанно, невольно - заключает наперед движение
принципиальной философской рефлексии, которая естественно и приводит
нас к нашим дням, к современному состоянию науки о литературе -
через все, что чуждо цеховому профессиональному литературоведу
позитивной школы. Собственно литературоведов - учеников Дильтея -
не так уж много, зато его школа и преподанный им урок — велики и
значительны.
Вот основание для того, чтобы читать и перечитывать старую диль-
теевскую «Поэтику» - в итоге она, не оставляя своего соседства Ше-
реру и его временам, начинает быть разумным и полезным соседом
нас самих, соседом почтенного возраста, но большого опыта и
проницательного ума.
* * *
Несколько слов о построении работы. После первого, вводного
раздела, в котором рассматривается круг проблем Дильтея и его
школы, помещен текст «Поэтики» Дильтея с комментарием к нему*. Вслед
за этим идут разделы, подытоживающие отдельные темы всей работы
(включая уже изданную книгу), так, например, состояние изучения
истории литературоведческой науки в Германии, - и вычленяющие
отдельные аспекты этих тем, особо существенных для нашей
современной теории литературы, - о понимании сущности слова, о
литературоведческой науке в целом и соотношении теоретического и
исторического в ней. Несмотря на свою возможную затрудненность, эти
разделы задумывались как материал с практическими целями — для
совместного обдумывания и обсуждения его с нашими историками и
теоретиками литературы. Отсюда в последнем разделе книги,
служащем своего рода приложением к ней, вновь даются и кратко
комментируются такие переведенные с немецкого тексты, которые было бы
крайне желательно вновь осмыслить теперь.
* См. комментарии составителя в конце книги, с. 521.
Глава первая
Вильгельм Дильтей как литературовед и эстетик
I
Вильгельм Дильтей не был просто литературоведом; он и был им, но
только по логике той науки, которой он занимался. По логике этой
науки, согласно ее внутренней потребности, а также и по своей
внутренней склонности Дильтей, наряду с другим, должен был заняться и
историей литературы. Однако история литературы явно не была для него
обособленной дисциплиной. Она внутри той науки, какой занимался
Дильтей, была такой, какой должна была быть в соответствии с тем, как
понимал Дильтей эту свою науку. Но что это была за наука? Была ли это
философия, история философии, психология? Нет, это прежде всего
была наука, какой положил начало и которую осмыслил сам Дильтей,
притом в соответствии с тем, как осмыслялась им и наука вообще. Сама
же наука, какой положил начало и какую осмыслил Дильтей, не была
учреждена им однократным актом, но лишь постепенно
вырисовывалась и складывалась в его сознании и лишь постепенно осуществляла
себя. У нее, у этой науки, - существование скользящее или как бы
ускользающее от самой себя. С самого начала оно погружено в
непрестанное осмысление своей методологии, в такой процесс, в котором
заведомо нельзя поставить точку и формулировать нечто готовое и
совершенно законченное. Это наука в процессе своего самопостижения;
этим само существование такой науки сближается по типу своему с тем,
как осуществлялась несколько позднее, - однако успев еще
произвести сильное впечатление и на Дильтея, — философия Эдмунда Гуссерля:
схватив умственным взором нечто чрезвычайно важное, мысль в своем
стремлении адекватно выразить свое открытие лишь погружается, лишь
углубляется в него, в свое «что» (в то, чем занята), в этом процессе
меняясь и сама, так что и всякий тезис и даже самая пространная
разработка своего взгляда, почти уже системная, всякий раз оказывается
лишь недолгой остановкой на пути мысли вглубь и в иное. Нечто
подобное такому существованию присуще и науке Дильтея, и его мысли,
хотя все здесь совершается медленнее и, главное, в несравненно более
традиционном мыслительном пространстве, среди куда более
привычных тем, проблем и представлений. И тем не менее некоторое сходство
экзистенциальной формы осуществления и разворачивания мысли
знаменательно. Это мысль, которой придана некоторая безостановочность
движения, а коль скоро она все время имеет дело с осмыслением самой
себя, с осмыслением науки и других основополагающих «предметов»
мысли и науки, самого сознания, то и такой способ ее протекания и
разворачивания весьма не случаен. А поскольку такая мысль все время
направлена на самое основное — на основополагающие темы и
проблемы, - она в своем существе есть мысль философская.
Поэтому, если мы спросим, что же за науку основал Дильтей, то
ясно, что по существу это была философия, однако по-новому поня-
241
тая - и существующая в единстве с тем, как постигает ее мысль (как
мысль постигает себя в своем знании, в своей науке). Однако и
философия в пределах новой науки не остается просто философией. Диль-
тей трактует свою науку как науку о духе. Но само по себе такое ее
именование еще мало что говорит: Гегель с его феноменологией духа
занят чем-то очень близким к науке о духе или, скажем шире, к
ведению духа и едва ли стал бы категорически возражать против того,
чтобы его философию называли наукой о духе, - для Дильтея наука о
духе, или науки о духе, определяются своим отличием от наук о
природе. Оказываясь внутри науки о духе, или наук о духе, и сама
философия претерпевает большие изменения — внутренние и внешние.
Так, она перестает быть системой, этим порывая с немецкой
академической традицией, причем, разумеется, не просто внешне, - перестает
быть системой, т. е. перестает мыслиться как система, как замкнутая
в себе мыслительная завершенность и окончательность своего
существования, и перестает претендовать на системность. Так философия
встает в ряд с другими науками, но, правда, тут же и выходит из этого
ряда, занимая среди других наук особенное положение и все-таки
входя если не в ряд, то в круг наук.
Если же теперь посмотреть на положение философии в кругу наук
изнутри и в динамике, то можно сказать, что традиционно
сложившаяся немецкая философская энциклопедия (т. е. весь круг философских
дисциплин, какие читал в университете немецкий профессор, создавая
свою философскую систему), во-первых, отпускает от себя отдельные
дисциплины прежнего философского комплекса, давая им
существовать вполне самостоятельно, а, во-вторых, философия в круге таких
самостоятельных наук или дисциплин, постоянно отсыпается к своей
периферии, т. е. к тем частям философской энциклопедии, которые
занимали в ней более окраинное положение. Философия зависит от таких
прежде окраинных для себя областей, как эстетика и поэтика. Но что
значит зависит? Это значит, что именно в этих областях философия
находит в некотором смысле свое обоснование и оправдание. Это
значит, что философ по тому, как разумеет он философию, должен
заниматься прежде всего эстетикой и поэтикой. Он не может, к примеру,
ограничиться логикой или онтологией, сосредоточиться только на
этом - не может, потому что слишком хорошо чувствует внутреннюю
потребность философии, находящую в нем своего выразителя,
слишком хорошо ощущает ту форму существования, к какой тяготеет сама
философия, и именно так, в единстве со своими подсказанными
логикой истории чувством и ощущением, и разумеет философию.
Философию влечет проявляться и находить себя в эстетике и поэтике. Такова
ее исторически подсказанная наклонность. Но ее же тянет и вглубь. Но
что значит для философии - «вглубь»? Это здесь значит, что
философию — именно такой, какова она, с ее тягой проявляться и
обнаруживать свой смысл на прежней окраине философского, - тянет к тому,
чтобы обосновывать себя методологически, как среди всех отпущенных
на свободу самостоятельности наук и вместе с ними, так и отдельно от
них. Такая философия, лишившаяся многого (потому что многое уже
«отпущено» и существует на воле), обретает совсем новый фундамент в
242
виде методологии науки. А эта методология — одновременно как бы и
философская, в рамках философии, и отдельная, самостоятельная.
Итак, если и тянет тут философию «вглубь», то это потому, что она
отчасти раздала свои владения, отчасти рассталась со своими глубинами,
со своими исконно присущими ей глубинами, ей более всего
памятными из Гегеля и немецкого классического идеализма в целом. Такой и
предстает теперь эта философия - ей надо строить для себя новый
фундамент в виде методологии науки, и она отсылается к своей
периферии - к эстетике и поэтике, которым, однако, дозволена была
самостоятельность и которые обзавелись своими фундаментами. Так и
возникают науки о духе: философ еще вводит в них, и он призван к этому, и
эта роль отведена ему традицией, - однако, вводя в науки о духе,
философ внутри этого мира науки оказывается в новом и, в сущности,
скромном положении. Да он уже тогда, собственно, и не философию
представляет, а именно науку о духе — рожденную философией, но
строящуюся уже на новых основаниях.
Если же теперь мы представим себе, что такой новой науке о духе
уже положено начало и что она начала существовать, как положено
ей - скользя, ускользая от нее самой, - то мы должны убедиться
теперь в том, что внутреннее единство такой новой науки далеко еще не
достигнуто. Поэтому философ, представляющий новоосмысленную
науку о духе, - да и новоосмысленную философию, - должен
заниматься каждой из наук о духе и быть философом, психологом,
эстетиком, историком литературы, даже историком музыки. Всем этим и
был Дильтей. Но будучи всем этим, он все это отдельное ставит под
знак некоторого внутреннего интереса, или даже лучше сказать,
внутренней потребности таких наук, или дисциплин, во внутреннем
единстве. Только еще внутренней потребности, само обнаружение которой
следует ставить Вильгельму Дильтею в самую выдающуюся заслугу. В
этом отношении он выступает отдаленным предтечей того, что
далеко еще не реализовалось и по сей день - тенденции к синтезу
историко-культурного знания, тяги к складыванию такой философски
осмысляемой историко-культурной науки, которая являла бы
культурную жизнь эпохи во всем многообразии ее связей. Однако мы, наше
время разделены здесь с Дильтеем — решительно во всем - глубокими
цезурами радикального переосмысления всего, что предполагает такой
синтез, — от иного понимания методологии науки до иного
постижения самой истории, - зато мы, наше время крепко связаны с ним
единой линией устремления к новому синтезу, к новой науке
историко-культурного единства.
Разумеется, все, чем занимается Дильтей по отдельности,
внутренне соединено у него духовным интересом - интересом к логике
духа. Поскольку же получалось так, что философ внутри наук о духе,
т. е. внутри нового, только еще намечающегося
историко-культурного синтеза, постоянно отсылался к эстетике и поэтике, чтобы здесь
удостовериться в важных для него смыслах, для него опорой и самим
сосредоточением интереса была здесь история - история литературы,
поэзии, музыки и т. д., - история как путь духа, как проявление
духовного. Вот почему Дильтея затруднительно называть литературове-
243
дом или историком литературы: с одной стороны, едва ли Дильтей не
затронул хотя бы чего-то из тем и проблем современного ему
литературоведения (и теории, и истории литературы), однако, с другой
стороны, все его занятия литературой слишком явно обнаруживают
гораздо более широкую, историко-культурную постановку вопросов.
Конечно, здесь есть некоторая тонкость: Дильтей немало нового внес
в само литературоведение, а потому даже и сиюминутное, крайне
прагматически ориентированное сознание западной науки о
литературе (всегда знающей, что преподавать, а что нет, что давать студенту,
а что нет, что «релевантно», а что нет) твердо помнит о вкладе Диль-
тея в эту науку, охотно забывая о целых поколениях литературоведов
(все современники Э.Р. Курциуса выпали из этого сознания), и тем
не менее Дильтея никак не редуцировать до литературоведа. А
хорошо известный Г.А. Корф, автор «Духа эпохи Гёте», следующий, на
самом окончании идущего от Дильтея прямого импульса, его
программе наук о духе, разумеется, понимает себя как самого
настоящего литературоведа и воспринимается таким, хотя его «предмет» явно
трансцендирует науку о литературе - его ведь интересует сам дух,
чистый дух в его развитии. Все же Корф с его тончайшими (по
задаваемой им самим мере) анализами художественных произведений, с
его умением ненасильственно и точно проникать в их смысл и
схватывать его умным и тщательным словом, — это действительно самый
настоящий литературовед, только видевший вещи в широком
диапазоне и посвятивший себя обширной проблеме.
Только один пример того, сколь специфически могли разуметься
дух и духовное в относительно еще недавнее время, - Ф. Гундольф в
своей книге о Гёте пишет об его «Учении о цвете» следующее:
«То, что в наши дни воспринимал в качестве цели истории духа
Вильгельм Дильтей, пробуя достигнуть ее сам, совершено -
фрагментарно, но с принципиальной полнотой - исторической частью
«Учения о цвете»: развитие самого сокровенного, духа, прояснено,
объективно представлено, явлено конкретному созерцанию в этапах и
итогах этого развития. Гёте хотел показать не только откровение духа в
деяниях, творениях и людях, что было целью философов истории от
Гердера до Гегеля, т. е. перевод внутреннего в нечто исторически
осязаемое и зримое, но - воплощение духа в самом духе, в облике науки!
Для Гердера, а еще более того для Гегеля мировая история - это как бы
аллегория духа или Бога <...>. Гёте же сам дух постигал как нечто
чувственное, представляя его в его научной манифестации»1.
Я привел эти слова не потому, что они точны, а как раз по обратной
причине — для того, чтобы показать, как можно было — весьма
типическим образом - заблуждаться относительно «духа». Ведь у Гундольфа
(в этом небольшом отрывке) получилось сразу и одновременно, что дух
в самой его духовности превышает всякую зримость и осязаемость, что
его можно рассматривать как нечто чувственное, что в науке дух
воплощается как сам же дух в отличие от деяний, творений (вообще всего
производимого), личностей. В чем же он тогда воплощается? Как бы в
самом чистом знании, в самой чистой духовности. Воплощаться в чем-
либо незримом и неосязаемом - это ли не нонсенс! Однако можно и
244
несколько разобраться в этой высокопарной путанице на самом малом
пространстве: прежде всего любое «деяние» и «творение» разумеются в
столь высоком, возвышенном стиле и предполагают такую
пластическую явность и такое совершенство, что большая часть «воплощений»
попросту не может быть названа такими особо выдающимися словами
(какими прославляется любое истинное деяние и творение), - зато
наука, никогда не порождающая ничего столь же достойного, славна
своей «чистотой», т. е. собственно духовностью, и едва ли не это
написано под хотя бы косвенным впечатлением от философско-методологи-
ческих сочинений Дильтея. И точно так же ценно указание на то, что
дух — это самое «внутреннее», самое сокровенное, где «внутреннее»
мыслится, видимо, в духе психологизма, близко к Дильтею и его
времени.
Таким образом, хотя Ф. Гундольф и обнаруживает недюжинную
способность путать и мешать разное (что Гёте за полвека до Дильтея уже
выполнил программу науки, над которой потом долго корпел этот
историк культуры, - тоже относится к стиранию границ), и его
историческое чувство тает в тумане выспренностей, многое он помнит еще
отчетливо и, главное, неплохо передает саму фактуру слова «дух», как
звучало оно для людей его времени. Дело в том, что, конечно, Гундольф
был великим мастером преподнесения в возвышенном и
непререкаемом тоне, не допускающем спора, как раз всего среднего, усредненных
мнений, приятных каждому, элитарного приукрашивания всяких
тривиальностей, торжественной подачи в качестве чистой истины и
внезапного озарения даже и того, что другому стоило многолетних усилий
мысли, — он был мастером во всем том, что было глубоко чуждо
Дильтею как вечному академическому труженику в суровом стиле второй
половины XIX в., причем ученому, наделенному огромной
производительностью и творящему научные тексты по глубинной потребности
натуры. Однако именно потому, что Гундольф умел так передавать все
усредненное, с убежденностью отделывая всякую мысль, перед нами
сама стихия широкого дильтеевского влияния — не столько буква,
сколько культурное значение его мыслей, благодаря чему еще
придется вернуться к Гундольфу как продолжателю Дильтея в немецкой науке
о литературе, хотя и продолжателю крайне своенравному.
Итак, наука о духе, которой положил начало Дильтей и которой
занимался, отсылает философа к эстетике и поэтике, через поэтику к
литературе, в литературе же видит историю в выдающемся ее проявлении,
именно историю духа, - а как, о том речь пойдет позже, - и,
вследствие этого, вся наука о духе опирается на историю, есть историческая
наука. Однако отдельные научные дисциплины, которые отпустил от
себя философ, переосмысливая свою деятельность, успели, как уже
говорилось, обзавестись собственными фундаментами, и вот психология,
которая в этом союзе научных дисциплин, вышедших из прежней
философской энциклопедии, держится совсем рядом с философией
(остатком прежней систематической философии), основывается на
представлении о неизменности человеческой природы: человек как предмет
психологии и как психологическое существо всегда, во все эпохи
одинаков и равен себе. Такая психология в это время готовится стать экс-
245
периментальной наукой, она опирается на физиологию (хотя у Дильтея
это продолжение психологии в область физиологии и не заходит
далеко) и в известном смысле слова есть естественнонаучная дисциплина.
Она в это же время претендует на роль основополагающей науки -
основания всего здания наук, и Дильтей в известной степени готов принять
такую роль психологии. А поскольку психология оказывается аистори-
ческой наукой, так как считается, что ничто историческое ею
совершенно не затрагивается, то и получается, что наука о духе Дильтея
основывается сразу же на фундаменте исторического, причем на таком, где
история берется весьма принципиально и философски, и на фундаменте
аисторической психологии, в центре которой — представление о
человеке с его вечно неизменным психофизиологическим устройством.
В сущности, у науки о духе даже целых три основания — потому что
помимо истории и образа неизменного человека возникает еще и слой
методологии науки, предваряющий всякую науку. Однако главным
противоречием, какое заложено в науке о духе, главным внутренним
напряжением, какое существует в ней, оказывается противоречие между
историчностью знания и неизменностью человеческой психологической натуры.
Можно сказать, что наука о духе неравномерно осмыслена и
неоднородна: обратившись к поэтике Дильтея, можно будет особенно ясно увидеть,
что представление о психологической неизменности человеческой
натуры определяет в ней законы поэтического творчества и заходит очень и
очень глубоко внутрь литературы в ее истории. Историческое и аистори-
ческое, пересекаясь на поле литературы (и ее истории), должны были бы
вступить в спор. Дильтей не допускает такого спора и не замечает
противоречия сторон. Однако, чем меньше он его замечает, чем меньше
способен он его рефлектировать, тем сильнее внутри дильтеевской науки
напряженность ее двух различных оснований, - эта внутренняя напряженность,
тем более в пределах науки, которой в ее самоуглублении не дано
остановиться, замерев на достигнутом, обращает науку о духе, как задумана она
Дильтеем, в нечто чрезвычайно богатое потенциальным развитием.
И, как оказалось, этот неразрешаемый внутри дильтеевской науки о
духе диссонанс обладал такой энергией, которая — через все
(гигантского значения) переосмысления всех входящих в нее сторон и
моментов — сохранила актуальность наследия Дильтея вплоть до самых наших
дней: основание в самые последние годы особого посвященного Диль-
тею ежегодника говорит о том, сколь велики научные силы,
собирающиеся вокруг имени Дильтея, вокруг его творчества и, главное, вокруг
истории его творческого наследия. Эта последняя - не просто
продолжение, развитие идей Дильтея, но такой мыслительный процесс,
который заряжается энергией неоднородности, какая была вложена в
философский труд Дильтея, потребовав своего выравнивания, далее, той
напряженностью, какая заложена в сознании Дильтея. Мысль Дильтея,
как выражена она в его работах, оказалась, как ни оценивай ее «в себе»,
необычайно продуктивной; трудно вообразить себе современную
философию без внесенного в ее генезис дильтеевского фермента.
Однако, как бы ни важно было прослеживать историческое
разрешение внутренней напряженности, заключенной в работах Дильтея,
не менее важно объяснить, почему Дильтей хотя бы в этой форме ис-
246
торического - аисторического ее не замечал и скорее воспринимал
как нечто научно-уравновешенное и вполне позитивное. Читая
«Поэтику», текст весьма архаический, нужно оценить его научную
уникальность - он словно подводит мысль к такому порогу, за которым
она уже не может не претерпевать самые существенные модификации.
Текст этот продиктован внутренней убежденностью и исключительно
позитивен. Так, у автора нет ни малейшего сомнения в своей
принципиальной правоте, и, казалось бы, текст осталось лишь дополнить и
укрепить его новыми материалами (так это рисуется и автору), и тем
не менее он словно обречен на свое скорое и глубоко заходящее
переосмысление. Словно создан он в самый последний миг, когда еще
можно было написать его — потому что еще можно было думать так.
Мысль Дильтея, изменчивая и скользящая, как уже говорилось, но
только скользящая плавно, еще долго уживалась, однако, с этим
текстом. Нет сомнения в том, что Дильтей предполагал основательно
переработать его - наброски предполагавшихся изменений публикуем и
мы, - однако нет сомнения и в том, что у Дильтея переработка не
носила бы вполне радикального характера. При скольжении был в
сознании Дильтея и некоторый момент остановки, — хотя переработка
«Поэтики» относилась бы уже к «послегуссерлевскому» времени (т. е. ко
времени после выхода в свет «Логических исследований» с их
критикой психологизма), Дильтей все еще оставался в пределах своей
историко-философской фазы, и разрешать напряженности внутри его
творчества было суждено уже не ему.
II
Дильтей не был все же историком литературы, и уже другим выпало на
долю продолжать его так, как если бы он был «просто» литературоведом.
Читая Гундольфа и его современников, можно легче составить себе
представление о том, как специфически преломились намерения
Дильтея в сознании литературоведения, пусть и окрашенном в цвета
яркой и своевольной индивидуальности. Пусть и относительно, это
чтение покажет, что осталось от Дильтея в литературоведении, когда
была, как бы обособленно, воспринята литературоведческая струя
переосмысленной им науки. Все же сдвиги, которые совершились при
таком восприятии, непременно в дальнейшем прорисуются для нас.
Итак, в 1916 г. Фридрих Гундольф издает книгу о Гёте, которая
произвела огромное (по немецким масштабам) впечатление на немецкую
общественность; в 1925 г. была отпечатана 45-я ее тысяча (12-е издание).
Эта по-своему глубокая книга оказалась тогда очень своевременной.
И вот какие темы теоретического порядка задает Гундольф во
введении к своей книге:
1) Книга посвящена Гёте как единой фигуре, или, точнее, облику
(Gestalt). Прежде чем упорядочивать или толковать отдельные
создания Гёте, прежде чем осмеливаться это делать, необходимо пережить
Гёте как целое;
2) Лишь человек, лишь его фигура, или облик, даны нам сразу же
«и как становление, и как бытие, как отпечатлевшаяся форма и как жи-
247
вое развитие: ибо духовный, а прежде всего творческий человек не
делает сам и не испытывает ничего, он не движет и не развивает ничего,
что не творило бы его образ (Bild), что не закрепляло бы его облик, и
он не оставляет ни создания (Gebild), ни творения, ни образа, в
которых не было бы ощутимо и действенно движение его жизни»;
3) Напротив, обращаясь к творениям, мы должны держаться их
бытия, потому что то, что называется генезисом творения, есть нечто
совсем иное, нежели развитие, — «схватить и исторически представить
в произведениях» возможно не «становление», а только внешнюю
сторону - то, как они делаются, выступают на свет, производятся. У
произведений, или творений, как обособленных (Gebilde), - свои
собственные формы, свои закономерности, но только не развитие,
которое поддавалось бы нашей передаче;
4) Переживание и произведение непосредственно соединены - до
почти полного их тождества: будучи далекими от того, чтобы быть
отражениями или объяснениями жизни творца, «произведения суть не
знаки, означающие жизнь, но тело, ее содержащие»;
5) Жизнь творца неотделима от его творений, неразделима с ними:
жизнь, или, иначе, переживание с самого начала погружено в
творчество, руководствуется тем же инстинктом и направляется той же
силой, что и творчество;
6) Искусство — не предмет, следствие или цель человеческого
существования, а изначальное состояние человечества, отчего и нельзя
видеть в нем следствия, отражения или объяснения жизни2.
Здесь, в этих основных тезисах Гундольфа можно видеть всю его
поэтику. Можно видеть даже и некоторые выводы из них - то,
например, что отвергается обычный биографический метод, как и
вообще все, что отдает внешней механикой. Сами же тезисы пока еще
не раскрыты, однако, прежде чем раскрывать их, следует еще
особо выделить группу основных слов, вокруг которых эти тезисы и
конструируются: такие слова и есть собственно темы
теоретического порядка. Вот эти темы: 1) облик, или фигура; создание, или
образное построение (Gebild); 2) произведение, или творение-
(Werk): 3) жизнь, процесс жизни (Erleben), переживание. Я условно
выделил сейчас эти три группы тем — по их «предмету»; ими еще
придется тщательно заниматься - по текстам Дильтея. Сейчас же
условно выделим их по «предмету»: в первом случае такой
предмет — это постижение целого, или цельности (творческой
личности или его произведений); во втором— создаваемое творческой
личностью; в третьем - постижение жизни.
Нетрудно заметить, что группы тем динамически связаны между
собой. Связаны между собою первая и вторая группы, потому что всякое
«построение» (внутренний смысл его еще предстоит выяснять) есть
произведение, или творение, и наоборот. Связаны между собой третья
и вторая группы, потому что утверждается непосредственная
отождествленность «жизни» и творения. Далее, очень важно, что третья
группа тем представляет собою нарастающий ряд специфических
определений того, что в творческой личности непосредственно выливается в
248
творение, или произведение, - это жизнь (Leben), которую,
характерно замечает Гундольф, именуют теперь «переживанием» (Erleben; чуть
точнее - «процессом переживания»), между тем как произведения (или
творения) — это, во-первых, воплощение содержания «жизни»,
содержание ее «тела», а во-вторых, нечто тождественное, в сущности,
«переживанию». Ясно, что объяснить тезисы Гундольфа значило бы
предварительно объяснить его темы, т. е. основные понятия,
которые приводятся в известную смысловую взаимосвязь и над
которыми производятся здесь операции. Ясно и то, что каждое из этих слов
понимается в сугубо специфическом смысле, который не
предполагается обычным языком. То обстоятельство, что все эти темы переданы
у нас хорошо знакомыми русскими словами, еще ничего не значит, -
передача эта условна, традиционна, неточна. Иной раз это
совершенно не учитывается русскоязычными исследователями.
Все темы Гундольфа — это же и темы поэтики Дильтея. Гундольф
(что хорошо известно из истории литературоведения) своеобразно
развил одну из центральных тем Дильтея, проведя принципиальную
классификацию понятия «переживание» — «таинственного», по
наблюдению М. Верли, а нам еще «не известного» в своем значении.
Гундольф делит переживания на «прапереживания» и
«образовательные»: «Под прапереживанием, — поясняет Гундольф, - я разумею,
например, религиозное, титаническое или эротическое, - под
образовательными переживаниями Гёте я подразумеваю его переживание
немецкой древности, Шекспира, классической древности, Италии,
Востока, даже его переживание немецкого общества»3.
Таким образом, получается, что прапереживания, или переживания
изначальные, совершенно неопосредованны и принадлежат самой
личности в ее жизни, а образовательные переживания опосредованны:
через знание. Образовательные переживания — это вообще «материал
образования»; так поясняет и Гундольф: у нас есть такие поэтические
создания Гёте, «в которых прапереживание настолько преобладает, что
образовательное переживание кажется почти полностью поглощенным
им и испарившимся, как то в «Вертере» или в «Тассо»... В других же
произведениях прапереживание отличается значительно меньшей своей
степенью, оно сильнее прикрыто образовательным переживанием и
должно овладевать гораздо большей массой образовательного
переживания». Очень интересно, что произведения первой группы наиболее
приближаются в глазах Гундольфа к «чисто лирической поэзии» Гёте,
между тем как «аллегорическими» Гундольф именует те произведения,
в которых «образовательное переживание не просто преобладает, но
исключительно находит выражение, то ли вообще не пересекаясь с
каким-либо прапереживанием, то ли полностью подавляя его в таком
смешении». Поскольку пора создания книги Гундольфа была отмечена
очередным, причем затяжным, увлечением противопоставлениями и
основываемой на них типологией, особенно под сильным и
длительным влиянием Г. Вёльфлина, то Гундольф, видимо, и не обращал
особого внимания ни на почти механическую упрощенность своей схемы,
ни на то, насколько напоминает она энергетические схемы
натурфилософского романтизма. «Переживание» двух разных, противоположных,
249
противоположным образом заряженных видов переливается внутри
форм, образующих сплошной ряд - от форм чисто изначального
переживания до форм чисто образовательного переживания, со всеми
мыслимыми переходами между ними. Признаком аллегорических
произведений, в которых безраздельно царит образовательное переживание,
выступает то, как пишет Гундольф, что «в них говорит не
непосредственно пережитый, насквозь оформленный облик, но лишь
мыслительное отражение такового, вторичный образовательный мир, а не
изначальное потрясение поэта, не его созерцание, но мысли о
созерцавшемся, не формы, в которых Гёте переживает вещи в их облике, но
формулы, которыми он схватывает и упорядочивает их»4.
Как можно убедиться, тут охарактеризованы не только
аллегорические, строящиеся на образовательном переживании произведения, но и
символические, строящиеся на переживании изначальном, на прапере-
живании. Такое высказывание заслуживало бы самого тщательного
анализа, поскольку оно приводит в связь все основные темы поэтики Гун-
дольфа и поскольку производит это, как можно думать, со
специфической точностью и адекватностью. К такому анализу еще придется
вернуться. Сейчас же можно зафиксировать в этом высказывании
несколько важных моментов. Выше говорилось о том, что одни группы
тем продолжаются у Гундольфа другими, что переживание
непосредственно переходит в творение, или произведение, даже можно было бы
сказать - оборачивается творением: здесь же можно несколько
подробнее видеть, как представляется это изнутри. В основе творчества -
творчества первичного, полагающегося не на вторичные
переживания, - лежит жизненное потрясение, а результатом его творческого
перерабатывания оказывается само произведение; тем не менее,
несмотря на заведомую непосредственность потрясения, оно тождественно с
созерцанием самих вещей в их сложности, завершенном и полном
облике (все, что входит в семантику слова «Gestalt»), а само
произведение — это вновь облик, или сложность, или форма (Gestalt),
непосредственно пережитая и одновременно насквозь оформленная,
прооформленная, пронизанная формостроением (если можно так сказать).
Таким образом, все произведение, или творение - это воплощенная
психология переживания, восходящая, как к собственно творческому
моменту, к непосредственной потрясенности такой души, которой дано
творить и которая поэтому, еще только созерцая вещи и волнуясь ими,
видит их в известной форме, в облике. Вместе с тем вся эта
психология, восходящая к непосредственности мгновения, с самого начала
пронизана импульсами конструктивного: форма, или облик, заложены уже
в изначальности переживания. Переживание с самого начала
конструктивно оформлено, или, иначе, оно у гениального творца с самого
начала предполагает свое конструктивное оформление.
Непосредственность переживания как основу творчества и «спасает» у Гундольфа то,
что оно, это переживание, есть в некотором смысле уже само
произведение, т. е. насквозь «прооформленная» форма-облик. Такой взгляд на
произведение, да и на переживание, можно было бы, имея в виду
тогдашние тенденции эстетики и теории искусства, назвать предконструк-
тивистским, именно потому, что столь большое значение придается
250
«проформованности» переживания, творения, да и самой жизни поэта-
творца. Ведь и жизнь - то, с чего Гундольф начал свою книгу, тоже
форма-облик, такая же конструктивная «проформованность» всего.
Именно поэтому и наука, как мыслится она Гундольфу, есть наука о формах-
обликах, о «проформованностях», и литературовед, занятый жизнью и
творчеством писателя, поэта, не только может, но и должен опускать
всю механическую эмпирику генезиса произведений поэта, как и
несущественную, и недоступную научному анализу, опускать и всякое
постепенное вызревание произведения в душе поэта, потому что
получается, что такой путь опосредования (переживания, дающего
художественный результат в произведении) как бы лишен смысла и интереса,
он тоже не существен. Творчество поэта, если речь идет о настоящем
поэте, дано только через форму-облик, через «проформованность»
жизни-творчества как целого. Но вот только это позволяет сохранять
представление о том, что переживание и творение непосредственно
соединены и все в творчестве определено психологией непосредственного
мгновения переживания: ничто не разделяет переживание и творчество,
«между переживанием и творчеством нет ни «до», ни «после» (в
музыке такому взгляду до известной степени соответствует эстетика наития:
творческое мгновение рождает образ-смысл, уже несущий в себе
конструктивность своей формы). При этом Гундольф, конечно, знает, что
«пространное целое не может возникнуть лишь благодаря единократно-
му творческому мгновению», а «нуждается в разбирательстве
(Auseinandersetzung) между переживанием и тем символическим
материалом (dem sinnbildlichen Stoff), в каком он должен воплотиться, и
такое разбирательство требует рефлексии и даже теории»5.
Как все такое знание сочетается с исходными тезисами Гундоль-
фа, — об этом, разумеется, можно спрашивать и можно рассчитывать
на отрицательный результат («не сочетается»), но не для того, чтобы
предъявлять упрек в непоследовательности, противоречивости и
несостоятельности. Надо не упрекать, а удивляться, и вот уже удивляться в
полную меру (вопреки совету Спинозы между прочим и ничему не
удивляться). Иное же непременно заставит вспомнить евангельское
изречение о соринке и бревне в глазу; если же сказанное повернуть в
сторону методологии нашей науки, то следует, наверное, сказать, что
непротиворечивых, вполне последовательных и т. д. теорий в ней,
должно быть, вообще не бывает, и дело и задача всякой теории — вовсе не в
том, чтобы стараться быть непротиворечивой, последовательной, а в
том, чтобы стремиться понять себя и вместе с тем тот смысл, который
настойчиво предлагает нам себя для своего осмысления, который
навязывается нам по логике науки и истории. Но как только теория
справляется со своим делом и со своей задачей - до такой степени, чтобы ее
стали принимать во внимание и брать всерьез, — рано или поздно
наступает пора удивляться. Удивляться тому именно, что рисовавшееся
ученому непротиворечивым и достаточно последовательным - пусть и
всегда оставались какие-то неразрешимые проблемы и разного рода
моменты, требовавшие увязывания своего с целым, - столь явно
предстает перед нами как непоследовательность и странность. Не столько
несовпадение теории с самой собой должно нас занимать, сколько совпа-
251
дение ее со своим временем, с внутренней логикой науки и внутренним
движением истории, — произрастание всякой теории из истории, пусть
сколь угодно индивидуально преломленной. В особенности для
истории культуры именно такое совпадение первостепенно важно -
именно заложенная в самой, так или иначе преломленной или
преобразуемой, истории возможность, чтобы существовала такая-то теория или,
шире, существовал такой-то взгляд на вещи. Странность и
удивительность такого взгляда и есть самое ценное: как самовыражение истории,
как схваченный нами момент истины. А что касается удивления, то
именно оно продвигает теорию вперед, поскольку для последующей
рефлексии удивительная несообразность предшествующего (в большом или
малом) служит чем-то вроде диссонанса, требующего своего
разрешения. Поэтому, вполне вняв Платону и Аристотелю, следует вдосталь
удивляться, а в то же время, слушаясь хотя бы и Гундольфа,
представлять себе всякое удивительное как целое, как единый, внутренне
продуманный смысл и облик. При всех его возможных несуразностях!
Я и надеюсь, что мы уже начали удивляться, — хотя бы инаковости
того, как мыслит в поэтике, скажем, Гундольф. Однако, для удивления
пока только приоткрылась дверца: можно было, скорее всего,
убеждаться в том, какими странными, или загадочными, или
«таинственными» словами он пользуется, но было бы большой ошибкой
придавать таким словам свой, стало быть, близкий смысл, либо даже,
наоборот, противопоставлять тезисам Гундольфа что-то свое, будто бы
заведомо «правильное». До последнего дело еще и отдаленно не
дошло, а первое гораздо более заманчиво, чем это может показаться (что
доказывается типичными примерами цитирования отдельных слов,
понятий, без вникания в их собственный смысл). Удивительны же
сами слова и их сопряжения между собой. И еще более могли бы мы
удивляться (пусть, пожалуй, и поверив Гундольфу на слово), если бы
взяли для рассмотрения гораздо более академического последователя
Дильтея - Рудольфа Унгера. У него мы прочитали бы уже, например,
о «метафизическом прапереживании», в соответствии с которым даже
классифицируются типы миросозерцания и которое опрокидывает
даже и тезисы Гундольфа - насколько те были еще стройными «в
себе». У того же Р. Унгера читаем о «переживании, в полную меру
человеческом» (vollmenschliches Erleben), которое лежит в основе
всякого мироотношения взамен абстрактной мысли, как полагает
рационализм; у него же встречаем духовное и душевное переживание6.
Теперь и наступает время внедриться в самые слова - темы
поэтики Дильтея. Они же и темы поэтики Гундольфа. Однако, если
рассматривать последние, то можно видеть, что они по-разному
акцентированы. «Произведение», или «творение» (Werk) акцентировано, кажется,
слабее или более однозначно. Не только у Гундольфа, но во всей этой
эпохе переживает свой блестящий расцвет эстетика гениального -
превозносится великий ученый; поэт и — особо — писатель притязает на
роль выразителя нации, выразителя эпохи, «пророка»; расцветает в
благоприятных условиях дар великих музыкантов. Если иметь в виду
доведенную до мыслимой крайности эстетику гениальности, то слово
«Werk» подчеркнуто, насколько это вообще возможно, — оно безмерно
252
поднято над всей серой массой беллетристических продуктов, и нужно
по достоинству оценить звучащую в нем патетику. Она же звучит еще
и в заглавии относящегося к 1930-м годам текста М. Хайдеггера «Исток
художественного творения» — все семантическое богатство этого
заголовка тем не менее все равно не передается по-русски, однако речь там
идет именно о «творении», и даже при всей своей внутренней
патетике (она почтенна и на своем месте) у этого слова ясный денотат - оно
значит только «произведение», т. е. все то, что получается в итоге «про-
формования» переживания, оно указывает на этот конечный продукт
творчества, между тем как слово «облик», гештальт, то же самое
характеризует с внутренней стороны. Произведение - это «верк», опус, но
это же и гештальт. Поэтому это последнее слово Gestalt несет на себе
несравнимо большую нагрузку и при этом еще погружается вглубь
творчества. А погружаться вглубь — это значит здесь не то, как
создается произведение чисто эмпирически; это значит узнавать то, что: то
именно, что из переживания в смысловом плане складывается как
художественная вещь, этот самый «верк» и «опус». Слово «Gestalt» не
многозначно, но многообразно. И то же самое — начало складывания,
коренящееся в жизни, то самое ключевое «Erleben», «Erlebnis», которое,
как можно было узнать от Гундольфа, не позволяет нам даже увидеть
жизнь поэта как таковую за неразрывным сращением жизни его и
творчества; «переживание» уже вращено в творчество, в то смысловое
преобразование, которое с самого первого же мгновения насквозь
формирует, или проформует, произведение как «Gestalt».
Глава вторая
Литературоведение и проблемы истории науки
К выходу в свет новых работ по истории литературоведения в Германии
История науки о литературе - эта область знания в наше время по-
прежнему недостаточно развита, причем не только у нас в стране, но
и за рубежом. Исследования по истории науки недооцениваются и,
как правило, сознаются (осмысляются сознанием) как
вспомогательные для науки, как дополнительные по отношению ко всему тому, чем
занята она в первую очередь, а потому и не столь обязательные для
нее. Кому-нибудь представляется, что все исследования и публикации
по истории литературоведческой науки словно складываются в некий
довольно-таки пыльный архив, приберегаются впрок для
какого-нибудь сверх меры любопытного человека, который, быть может, когда-
то извлечет из всех этих материалов странную пользу для дела, хотя
это, собственно говоря, весьма маловероятно.
На самом деле соотношение истории науки о литературе с
другими отделами литературоведения может быть совсем иным, и оно даже
и сейчас внутренне совсем иное, чем это продолжает по инерции
рисоваться нашему сознанию. Мне уже приходилось писать о том, что
история науки о литературе может и должна была бы стать одним из
главных, если не основным источником умножения и удостоверения
наших знаний о литературе7. Все это, с одной стороны,
предопределяется положением литературоведения в кругу наук о культуре, где сама
история культуры заключает в себе общую логику того знания,
фрагментом которого, со своим особым устройством, является
литературоведение. А с другой, все это делается возможным и обусловливается
новой ситуацией в культуре (причем в мировых масштабах), новым
самоосмыслением, самоистолкованием культуры в теснейшей
взаимосвязи и в единстве с новым пониманием истории.
Вот именно такое новое понимание истории и заставляет нас
по-новому осознать роль истории науки в литературоведении. Однако в чем
же суть этого нового понимания истории? Прежде всего
предварительно отмечу, что понимание такое идет не от умозрительной установки на
поиски новизны, не от каких-либо методологических и прочих
размышлений теоретического толка, но от реального жизненного опыта.
Такой необозримо огромный жизненный опыт обобщается на
протяжении весьма длительного времени, и наконец начинают выступать и
осознаваться контуры крайне существенного исторического поворота.
Поворот совершается на уровне того, что названо у меня8 историко-
культурными аксиомами; они таковы, что их нельзя придумать, но
нельзя и не следовать им, если они направляют в определенное русло
всю человеческую жизнедеятельность, неотрывную от непрестанного
своего самоосмысления; такие аксиомы, которым в определенную
историческую эпоху следуют люди, и осознаются по-настоящему лишь
тогда, когда эпоха собирается уже отходить в прошлое и потому скла-
254
дываться в более отчетливое и ясное целое. А теперь о сути
глубинного исторического поворота, насколько он уже начал обозначаться в
сознании: история заново собирается воедино, а все неотмыслимое от нее
временное преображается в своего рода пространственность;
отступает на задний план развитие, предполагающее смену временных
моментов и отживание одних, отодвигаемых в прошлое, наступление иных,
имеющих над ними даже в чем-либо превосходство и большее право на
существование, а на передний план выходит складывание всех этих
временных моментов в своего рода единовременность.
История, таким образом, перестраивается в пространственность и
единовременность (оба эти слова, не будучи буквально точными,
очень буквально и вполне точно характеризуют направленность
всеобщего переосмысления истории). А в пользу общезначимости
такого перестраивающего прежний привычный образ истории процесса
свидетельствует то обстоятельство, что ему способствует решительно
все - от теоретических усилий осмысления всего того, что творится в
глубинах человеческого самоосмысления, и до банальнейшей
поверхности потребительской массовой культуры, где культура,
подвергшаяся коммерциализации, предстает как множество товаров, абсолютно
безразличных к какой бы то ни было истории - к какой бы то ни было
органичности, последовательности развития. И высокое, и мелкое, и
значительное, и малозначительное — все трудится ради нового
образа истории и уже внутренне определяется им. С таким новым образом
истории не так-то просто теоретически освоиться, так! однако для
всех нас это трудности освоения самих себя, т. е. своей же неясной до
конца, не реализовавшейся еще сущности.
Разумеется, такой новый образ истории не упраздняет прошлого
(своей «единовременностью» и «пространственностью»), не уничтожает
дистанции между временами, эпохами, однако он настоятельно
требует совсем иначе трактовать все временные удаления. Здесь решительно
смещаются акценты: всякое «прошлое» здесь - наше прошлое, с
решительным подчеркиванием в этом сочетании слов «наше прошлое»
слова «наше». Потому что всякое прошлое, сколь угодно давнее, сколь
угодно малоисследованное, остается, во-первых, сопряженным с нами
и всегда остается в нашем мире, в нашем окружающем, а, во-вторых,
оставаясь в нашем мире и пребывая, таким образом, с нами (пусть не
совсем «рядом», а на известном удалении), любая эпоха прошлого
никогда не бывает окончательно завершенной и в буквальном смысле
слова ушедшей в прошлое. Нет, совсем наоборот, так всякая эпоха
прошлого и, например, любой исторический факт остаются незавершенными,
пребывают в процессе своего осмысления и, находясь в одном с нами
пространстве, так или иначе, касаются нас, затрагивают нас.
В таком пространстве истории даже и все прошлое, даже и все
«ушедшее в прошлое» обретает большую значимость, существенность,
действительность, так ни о каком факте нельзя сказать, что он снят,
преодолен, превзойден и отменен последующим развитием: даже и
всякий факт, будучи по-прежнему осмысляемым, обладает известной
самоценностью; однако в первую очередь и по преимуществу это
следует сказать о духовной стороне вещей и явлений: ведь и отдельный
255
факт непреходящ именно своей смысловой стороной, и тем более
непреходяще все историко-культурное, всякое «прошлое и «настоящее»
состояние умов, все создания культуры и вообще все запечатлевшее в
себе человеческий дух. В новом образе истории даже и та вера,
которую мы не разделяем, становится неотъемлемым и непреходящим
моментом единой историко-культурной пространственности, к которой
принадлежим мы, а все «примитивное» уже не удостаивается
высокомерного взгляда (с позиции «развитого» человечества), и ему
возвращается достоинство заключенной в «примитивном» первозданности.
Ничто уже не захлестывается и не сминается здесь пресловутым
прогрессом. Я, естественно, говорю сейчас не об идеальном строе
нового образа истории как уже окончательно установившегося (что было
бы совершенно немыслимо уже по самим его посылкам), но о том,
как, в каком направлении такой образ истории в наше время
устраивается, складывается. Очень важно для нас то, что в таком образе
истории всякое культурное достояние ревальвируется, и оно наделяется
присущей ему актуальностью и существенностью. Тут в принципе
выражается готовность принять все и понять все по внутренней мере
каждого. Нарушения же такого принципа справедливости (которые
совершаются постоянно) говорят о том, что история продолжается,
что она отнюдь не обрела покой и не намерена просто так входить в
пределы заготовляемой для нее пространственности.
Так, обращаясь теперь, от культуры в масштабах всей истории к
совсем краткой и фрагментарной истории науки о литературе, мы,
следуя подсказкам нового, складывающегося образа истории, имеем
перед собой в науке о литературе не какую-то смену одних
методологически несовершенных «концепций» литературы и ее истории другими
столь же несовершенными или, быть может, более совершенными
(если верить тут в какой-либо прогресс), но мы видим перед собой
подлинное богатство закономерно-различного, и вот это самое
богатство - конечно, и не завершенное по сути, и не окончившееся, не
окончательное, — и есть самое наше знание о литературе. Если же мы
в истории науки, естественным образом, встречаемся по большей
части с тем, что нас не удовлетворяет и не устраивает, потому что мы
понимаем литературу иначе, то все это не устраивающее нас - вновь
в нашем окружении: как возможность иного, как наше (т. е.
касающееся, затрагивающее нас) иное, т. е. то, что вместе с нами (хотя иначе,
чем мы) вращается вокруг того же самого, занимающего нас смысла
литературы. Все это иное, выстраиваясь и перестраиваясь вокруг нас
по определенной внутренней логике, Äaef нам дополнительный путь
к смыслу — через уяснение сути своего в сопоставлении с иным.
Как только образ истории начинает перестраиваться и сама история
обретает черты пространственности, где все бывшее оказывается
удаленным от нас в окружающем нас пространстве иного, так и все, что
когда-либо было в истории науки о литературе и, шире, в истории
филологии, становится для нас иным в пространстве нашего, в нашем
пространстве. Все, что устарело и считалось устаревшим, любые
методы и приемы, наблюдения и подходы к поэтическому творчеству в этом
пространственном плане иного тоже приобретают для нас новую цен-
256
ность — не сомнительную ценность какого-то безразличного
антикварно-археологического материала из пыльных литературоведческих
комодов, но несомнительную ценность актуально-иного - того, что,
будучи иным (совсем не тем, что наше), хранит всю показательность и
поучительность иного. Не давность и не возможная устарелость выходит
во всех подобных вещах и явлениях на первый план, а то, что в них
реально запечатлены иные возможности того же человеческого, иные
возможности науки, которая со временем вовсе не становится лучше,
вовсе не получает права смотреть на свое прошлое свысока, а только
приобретает со временем больший опыт и отчасти разочаровывается в
себе (см. об этом также в разделе о задачах науки о литературе). Как
только совершается в сознании такая перестройка истории — в
направлении ее пространственности, — так вся наука вместе со своим
прошлым и настоящим начинает обретать цельность актуально
наличествующего. Все, что мы находим здесь, получает способность задевать и
затрагивать нас прямо, как и находящееся в нашем же окружении, - не
только через звенья долгих опосредовании.
Есть еще одно отношение, в котором - в сопряжении с названным
перестраиванием временного в пространственное — история науки
оказывается чрезвычайно существенной для нас. Она существенна как
верхний слой самой литературы, как самый верхний слой того же
самого, что есть литература. А если это так, то, углубляясь в историю
науки, мы углубляемся и в то самое, чем заняты, т. е. в саму же
литературу — в ее определенном закономерном рефлексе, в ее саморефлек-
тировании. Такая саморефлексия литературы, несомненно, берет
начало в самых скромных зародышах литературного творчества, еще как
бы не сознающего себя, она проходит через все литературное
творчество, через все его слои, а в то же время любая сколь угодно
умозрительная и отвлеченная и даже сколь угодно высокомерная в
отношении самого творчества теория литературы вырастает из зерна, из этой
заключенной в «самой» литературе саморефлексии. В таком случае
подразумевающая рефлексию относительно всякой теории
литературы история литературоведческой науки и будет именно верхним
слоем самой литературы. Или, иначе говоря, самым конечным
произведением того, что было заложено в самой литературе и постепенно
отслаивалось от нее, как литературно-критическая мысль, история
литературы как дисциплина, теория литературы и т. д.
Вот такое представление о сплошном переходе от литературы к
истории науки о литературе кажется первостепенным по значению; в
частности, всякая мысль о литературе встает при таком понимании всего
литературного поля в естественную зависимость от литературы и
лишается права быть (как это часто происходит) какой-либо чужеродной
конструкцией, порабощающей литературу и навязывающей ей
свой смысл.
Итак, чрезвычайно важно констатировать, что уже «сама»
литература есть саморефлексия, в которой - пусть даже неосознанно ни для
кого — «плавает» то, что, в качестве какого выступает некий текст
(обращу еще внимание на то, что в этом нашем предложении, как и во
всех подобных случаях словоупотребления, слово «текст» есть не что
257
иное, как просто замена наиболее общего что, так сказать, перевод
такого что в более привычную и осязательную сферу, перевод его на
более привычный язык, и не более того). Все «литературное поле» даже
чуть шире собственно «литературного» и «текстового». Пусть «текст»
будет устным, пусть даже он будет самым неопределенным по своим
очертаниям устным рассказом, пусть он будет, например, сказкой,
какую дед или бабка сказывают своему внуку между делом, всякий миг
отрываясь на иные дела и разговоры, и пусть даже они на худой конец
рассказывают свою сказку неумело, неловко и самым невыразительным
языком, - все равно в пределах самой житейской ситуации, без всяких
слов по этому поводу, обособляется (отличаясь от всего иного, его
перебивающего) это что своего особого смысла и назначения, так! - оно
шире «литературы», потому что не имеет дела ни с какой буквой, но
оно уже входит в орбиту того, что позже определится как литература,
как литературное, поэтическое творчество. Это что и обращается с
вопросом к себе - неслышно и незримо - и равно неслышно и
незримо отвечает на него своим бытием и своей вычлененностью среди всего
иного, окружающего. Мы могли бы дополнительно убедиться в том,
что такое протолитературное примитивное что существует не за семью
морями и семью горами от нас, а существует с нами и сейчас - хотя бы
во всех бессчетных попытках рассказывать друг другу о каких-то
событиях, жизненных эпизодах, случаях с их относительной фабульной
завершенностью и т. п., и это притом, что подобные протолитературные
«что» возникают вовсе не непременно с чего-то фабульного. Тогда не
только теория в виде внутренней рефлексии, в виде внутреннего
самоудостоверения любого литературного что в своем бытии и в своей
сущности рождается в недрах самой же литературы, но она возникает, если
угодно, до самой литературы, - так сказать, в протоплазме всего
литературного, в таком житейском и обиходном словесном материале,
который и окружает нас, и уже выделяется из всей массы окружающего
и над которым возвышается здание уже сознательно создаваемой,
конструктивно осмысляемой литературы (насколько же сильнее в ней
внутренняя рефлексия каждого что относительно себя самого).
Итак, теория возникает в недрах самой литературы, самого
литературного искусства. Это не значит, что эксплицитная рефлективная
поэтика просто проявляет (т. е. вновь выводит в слово) имманентную
поэтику9, - нет, отношение их многообразно опосредовано и
затруднено. Так, поэтика отдельного произведения (сколько примеров
можно привести!) может оставаться либо неясной, долгие
десятилетия или целые столетия ускользая от своего словесного,
теоретического выражения, либо даже непонятной, невнятной,
невразумительной на протяжении сколь угодно долгого времени (очень богата
такими произведениями история немецкой литературы). Далее, что
еще гораздо важнее: эксплицитно формулируемая, рефлективная
поэтика может сколько угодно расходиться с имманентной поэтикой
творчества своего времени, как, например, школьная или
академическая теория литературы - с практикой современного ей
литературного творчества10. При этом академическая теория литературы может
быть весьма последовательной в своем развитии, складываясь в свою
258
особую, весьма уверенно преподносимую линию, как бы
независимую от самого же литературного творчества, от его протекания, от
его развития.
Вот пример: неоклассицистическая или неогуманистическая
поэтика (и эстетика) конца XVIII и рубежа XVIII-XIX вв. в Германии
(К.Ф. Мориц, Шиллер, Гёте, В. фон Гумбольдт, при наиважнейшей
роли Канта) отражается в конце XIX и на рубеже XIX-XX вв. в
немецкой (и не только немецкой) академической эстетике, теории
литературы, теории искусства, где заново завоевывают и по-своему глубоко
осваивают представление о произведении литературы, о произведении
искусства вообще как о замкнутом в себе, автономном целом. Ведь и
расцвет школ литературоведческой интерпретации в 1950-1960-е годы
опирался на незыблемый принцип замкнутости и автономности
поэтического произведения. Если же принять во внимание, что, с одной
стороны, сама неоклассическая поэтика была не просто имманентной, но
заключала в себе очень значительную дозу рефлексии, была уже,
собственно, теорией и, например, у Ф. Шиллера в большой степени
способствовала умозрительности самого творчества, что она, как поэтика
неоклассицистическая, основывалась на своей глубокой, восходящей к
древности традиции, а с другой стороны, рефлексы подобного
неоклассицизма в литературном творчестве XX в. были весьма относительны и
слабы, то можно представить себе, сколь многолики здесь соотношения
многократно опосредуемых творчества и теории. Безусловно, создания
развитой литературы, чувствующей себя весьма далекой от каких-либо
начал, начатков литературы, может быть, иной раз и напрасно
подчеркивающей отстояние свое от всякой примитивности и
элементарности, несут в себе не просто это зачаточное протолитературное что, но и
целое множество самых разных теоретических предопределений. В
конце концов в эпоху риторики, в эпоху господства риторического слова
литературные произведения могут быть просто применениями
искусства риторики, чем, правда, еще ничего не сказано о том, что они такое
как поэтические произведения; во всяком случае они насыщены и
насквозь пропитаны теорией. Однако ни при каких условиях для поэзии,
для литературы не закрыта возможность непосредственного
творчества — такой момент непосредственности предполагается даже и самим
риторически конструируемым текстом, а именно такая
непосредственность, нечто такое, что не рефлектируется автором, такое что, которое
здесь, внутри произведения, наличествует, но не эксплицируется, и
служит настоящим залогом позднейшей теории, позднейшего обогащения
теории (которая поднимется над кругом известных поэтологических
правил и рецептов), - теория и проявит это что, когда осмыслит его,
вновь выведет в слово.
Уже этот пример показывает предельную сложность, какую может
раскрывать исследователь, который попытается просмотреть,
проанализировать на всю глубину теоретические наслоения любой отдельной
литературной эпохи - одновременно существующие слои сознания.
Это совсем разные слои литературного сознания, которые, особенно
в Новое и Новейшее время, образуют настоящую полифонию, для
которой характерна именно самостоятельность голосов. Любая попыт-
259
ка произвести синхронический срез литературы на всю ее глубину
обнаружит разновременные истоки и источники различных
сосуществующих сознаний литературы, так! — тут сосуществуют, опосредуясь и
разными способами сообщаясь между собой, разные времена, и
именно такая сосуществующая разновременность собирается в
пространство единовременности. Собирающаяся же воедино единовремен-
ность разного указывает в своем пределе на совместное пребывание
всех возможных слоев литературного сознания - от предлитературной
«плазмы» и до развитых и переразвитых созданий, умудренных
опытом всей мировой литературы, от неясно брезжащего на дальнем
горизонте что литературного произведения до давно отпочковавшейся
от непосредственности литературного изощреннейшей литературной
теории. Все это наличествует в единовременности и в последние, в
наши времена имеет тенденцию к собиранию всех возможных слоев
сознания в их исчерпывающей полноте: словно застывшими волнами,
вобравшими в себя энергию своего движения и еще хранящими ее,
высятся эти напластования словно перед стеной остановившейся
истории. А через эти слои и самые разные эпохи литературного
движения, отраженные в них, присутствуют в доступном нашему времени
литературном сознании. Ясно, что нашей, а еще более того -
последующей исторической эпохе выпало на долю обрести совершенно
новый, небывалый еще даже и как возможность, взгляд на всю историю
литературы (и на всю историю культуры) и что взгляд такой - на всю
собравшуюся и как бы сгрудившуюся близ своего завершения
историю, но из-под ее гнетущих масс, - не был дан даже и на столь
недавнем переломе середины XX столетия.
Так получается, что история науки - это самый верхний слой
всего того, что отслаивается от непосредственности литературного
творчества и, отслаиваясь, обретает относительную самостоятельность.
Это - так, однако есть нечто еще более высокое, обширное и
всеохватное — это рефлексия, которой объемлется все собирающееся в еди-
новременность литературное и которой ставится под вопрос, в
поисках смысла, все когда-либо существовавшее в литературной истории
и в Новейшее время приобретающее как бы новый способ
существования внутри собирающейся воедино единовременности, внутри
обретшей свою пространственность истории. И эта рефлексия
прорезывает все литературное на его мыслимую глубину.
Совершенно естественно, что в самом принципиальном плане такая
всеохватная рефлексия затрагивает язык литературоведения - его
терминологию и понятийный строй. Хотя в литературоведении всегда
накапливается огромная инерция и поэтому очень многое может делаться по
старинке, по давно заведенной привычке, все же можно отметить (и с
этим, наверное, согласится всякий), что отношение литературоведа к
сложившейся терминологии этой науки стало гораздо более чутким, чем
прежде. Слово «критичный» было бы здесь, на мой взгляд, неуместным,
так как перешедшая к нам по традиции литературоведческая
терминология обладает, как представляется, своей субстанциальностью и
способностью содержать в себе еще не выявленное нами знание11. В очень
многих случаях литературоведческая терминология в одно и то же время со-
260
вершенно произвольна и непременна, случайна и необходима, и такое
противоречие она реально заключает в себе. Вот, кажется, теперь это все
более проясняется, а потому внушает здравую мысль отказаться от
прежде распространенной мании уточнять и выпрямлять термины и понятия
науки и вместо этого внимательно вслушиваться и всматриваться в то,
что они несут в себе и к чему обязывают нашу мысль. А если во всем
сказанном действительно есть свой резон, то это означает, что и в своем
верхнем, пронизанном рефлексией и упирающемся в рефлексию слое
литературоведение, существенное знание о литературе, так! сохраняет
творческую непосредственность. И, таким образом, рефлективному что,
содержащемуся уже в самих предлитературных зачатках, отвечает
непосредственность (и, стало быть, известная неподконтрольность) творчества
в порождаемом литературой рефлективно-теоретическом слое. И это
еще раз говорит нам о единстве всего литературного — о том единстве,
которое не противоречит его существенной разнородности как по
горизонтали, так и по вертикали истории.
История науки о литературе обретается в теснейшей взаимосвязи
с критическим осознанием языка науки: одно органически
дополняет и продолжает другое.
В союзе с самым тщательным звучанием литературоведческой
терминологии в ее истории и самым пристальным вниманием к сути и
смыслу языка науки история литературоведения способна стать источником
умножения и упорядочивания нашего знания о литературе, она прежде
всего может быть способом эксплицирования нашего знания о ней.
Изложив некоторые соображения о современном состоянии
литературоведения и о положении и роли в нем истории науки (что было
совершенно необходимо сделать), я хотел бы обратить теперь
внимание на новые книги по истории науки о литературе в Германии.
Эти новые работы по истории науки важны не только по своей
фундаментальности. Их появление знаменательно, потому что
совершенно очевидно, что они обозначили новый, более высокий этап
немецкой науки о литературе.
До сих пор, несмотря на значительное в целом число работ и
публикаций по истории науки12, в немецком литературоведении с 1920 г., со
времени появления известного труда Зигмунда фон Лемпицкого13, не
появлялось обобщающих трудов по истории немецкой науки о литературе14.
Теперь же они появились, и, что весьма многозначительно, они появились
как итог планомерных коллективных усилий, так! - хотя коллективные
усилия и увенчались сейчас изданием, во-первых сборника по истории
науки15 и, во-вторых, главным образом, двух капитальных индивидуальных
монографий, созданных участниками билефельдского проекта по истории
науки, которым руководит проф. Вильгельм Фосскамп, в последнее
время перешедший из Билефельда в Кёльнский университет16. Монографии
Клауса Веймара17 и Юргена Формана18 отчасти параллельны друг другу по
материалу, который разворачивают, однако, вполне своеобразно и с
особыми акцентами в каждой из работ. Тот же материал истории немецкого
литературоведения рассматривает в своей недавно вышедшей книге, и
вновь со своими акцентами, еще один участник билефельдского проекта,
восточно-берлинский германист Райнер Розенберг19.
261
Симптоматично, что примерно в это же время увидел свет и
сборник материалов вюрцбургского симпозиума 1986 г., посвященный
терминологии науки о литературе. Построенный по иному принципу,
включающий в себя 31 развернутый и построенный на привычном для
современной немецкой науки широком охвате научной литературы
доклад20, этот сборник тесно переплетается с замыслами названных
историко-филологических исследований (в том числе отчасти и по
своему персональному составу)21.
Эти работы нам и важно охарактеризовать сейчас хотя бы в общих
чертах, чтобы извлечь отсюда поучительный урок для нашей
филологии и дать некоторый материал для сопоставлений22.
Итак, новые тенденции литературоведческой науки ведут к ее
углубленной историзации, - притом что сама история при этом
переосмысляется. Происходящая сейчас историзация литературоведческого
сознания — процесс глубинный и для очень многих трудный. Ведь
провозглашаемый и разделяемый столь многими так называемый
принцип историзма иной раз в своей интерпретации сводится всего-
навсего к требованию установления довольно-таки примитивного
соответствия между социоэкономическими и культурными условиями
известной эпохи и литературным творчеством.
Это - абсолютно необходимое и все же незадачливое требование по
сравнению с иным, которое постепенно овладевает сознанием
литературоведов, — с требованием мыслить науку как ее же историю, мыслить
науку как непрестанно движущуюся, меняющуюся и даже ускользающую
от самого же исследователя, как «нечто приводимое в движение
исторической изменчивостью» (Г.-Г. Гадамер23), предполагать и рефлектировать
при этом изменчивость даже своего собственного взгляда на изменчивый
и движущийся материал собственной науки, уметь рационально и
конструктивно работать в условиях, когда материал исследователя
движется и все время преобразуется и когда взгляд исследователя тоже движется
и все время преобразуется, так что нельзя и недопустимо раз и навсегда
фиксировать его как нечто неподвижное, далее, без конца и все снова и
снова разбираясь в одних и тех же словах, как то: история, литература и
т. п. и т. д., ощущать их в бесконечно пестрой и тонкой изменчивости их
смысла и мыслить по-настоящему исторически, т. е. в исторической
изменчивости, даже и самое первое и основное слово - история24.
Для этого исследователь должен брать на себя смелость иметь
некоторый обзор целого развития литературы (бесконечно пестро и
непредставимо многообразного внутри себя! ), так - и это в условиях,
когда, как обнаруживается, - и тут нельзя не ощутить всей тяжести
требования историзации, - «литература» в нашем столь
обыкновенном нынешнем разумении есть произведение совсем недавнего
прошлого, настолько недавнего, что объем и содержание понятия
«история литературы» на протяжении неполных двух столетий резко и
решительно меняется, так, видимо, и не остановившись в итоге на
чем-либо однозначно определившемся. А это ставит литературоведа
перед задачей анализа своего и вообще современного сознания того,
что есть литература, а такая задача в свою очередь «выбрасывает» его
в широту всей столь «неподъемной» истории литературы.
262
Таковы герменевтические в сущности своей требования и
трудности современной науки о литературе, если брать их на всю глубину.
И как раз немецкая история литературы и наука ее истории дают
чрезвычайно благоприятный материал для показательного
расследования того, что происходит в литературном сознании двух последних
веков (в первую очередь, этих двух последних веков). Материал
благоприятен по своей обширности и, как следствие, по своей
доскональной эксплицированности, - одних «историй литератур» в
Германии было создано много десятков, так что на их основании можно
ясно реконструировать и крупные изменения понятий «литература»
и «история литературы», и их внутреннюю вибрацию,
неустойчивость.
Поскольку, однако, вся эта проблема осмысления
историко-литературных проблем взаимосвязана с тем, как мыслим мы понятия
науки о литературе, начиная с самых первых, или даже идентична
этому, то здесь, в пределах современной науки, можно наблюдать борьбу
между тенденцией историзации знания (которую мы вправе
признавать реально осуществляющейся) и усилиями парировать всю
сложность встающих проблем абстрактно-логическими конструктивными
процедурами. Конечно, такой методологический конфликт внутри
науки не нов, а он только предстает в наши дни в новом виде, и
абстрактно-логические процедуры, совершаемые над
литературоведением, вполне могут устроить тех, кто рассматривает науку не такой,
какая она есть (в своей непрестанной изменчивости), а считает
возможным рассуждать о том, какой она должна быть, и навязывать ей
отвлеченный образ порядка, согласно своему разумению его. Когда
Г.-Г. Либ пишет о том, что «литературоведческая терминология должна
развиваться как терминология семиотическая», то очевидно, что этот
методолог возлагает свои надежды на общую теорию знаков, которая
не была бы исторической (не была бы, следовательно, подвержена
основным реальным условиям изменчивости всего утверждаемого,
постулируемого каким бы то ни было исследователем), а обладала бы
вневременной значимостью. Термины общей семиотики не
относятся к литературоведческой терминологии, и их следует
принципиально предполагать, продолжает Г.-Г. Либ, но это, на наш взгляд,
значило бы даже, что наука о литературе уже не принадлежит самой себе, а
находится во владении внеположной ей теории. Однако, допускает
Либ, ввиду неразвитости общей семиотики все же «рекомендуется»
рефлектировать общесемиотическую терминологию в рамках науки о
литературе. Далее следуют привычные для абстрактно-логических
построений различения: так, «необходимо старательно различать
терминологию литературоведения и терминологию науки о
литературоведении», причем, характерно добавляет автор, «первую следует развивать
с учетом второй»25, между тем как, по нашему убеждению, подобные
различения просто невозможны (неосуществимы) и убийственны для
науки при попытке их осуществления. Однако нет никакого сомнения
в том, что Г.-Г. Либ имеет дело с абстрактно-логическим концептом
литературоведения и такая наука, какую представляет себе он,
существует лишь в воображении логика и методолога (хорошо известно,
263
что и такие утопические сновидения имеют место в жизни и что для
них тоже необходимо блестящее владение своим научным предметом).
Нужно сказать, однако, что подобная благонамеренная
методологическая крайность не отвечает тому, как видит суть проблемы
современная наука в целом и как видели ее участники вюрцбургского
симпозиума по терминологии литературоведения. Участники симпозиума в
большинстве своем сошлись на том, что «понятийные образования
литературоведения должны обосновываться и устанавливаться со
взглядом на исторический материал и - по возможности - со взглядом на
историю применения понятия»26. Тут все сформулировано далеко не
безоговорочно верно, так! — так и представляешь себе, как профессионал-
литературовед сгибается под натиском методологов науки, требующих
четкого различения и разведения всего того, что сама литература
(которой все же занят литературовед) не различила и не развела, как
профессионал-литературовед уступает натиску и не решается опереться на
почву своей науки, которая буквально плывет (т. е. движется) у него под
ногами. Поэтому же, испытывая давление со стороны «строгой»
методологии, он не решается и провозгласить существенную историчность
своего знания. Правда, К. Веймар показал в своем докладе27
историчность «литературы» - по линии развития от «литературы» и «изящных
наук» в понимании XVIII в. до «истории» XIX в. и современного
понятия «литературоведение» (впервые совершенно случайно употребленное
в 1828 г., оно вошло в сознательное употребление в 1890-е годы,
начиная со статьи филолога-классика О. Фреде и книги известного историка
литературы Э. Эльстера, опубликованных соответственно в 1893-1894
и 1897 гг.). Гаральд Фрике весьма резонно предлагает расчленить
«совокупное лексико-семантическое поле истории терминологии на
историю слов с исторически варьирующейся семантикой и на историю
понятий с исторически варьирующимися наименованиями»28, однако, как
кажется, у Г. Фрике (как и у остальных участников сборника) нет
ощущения того, что историчность терминов и понятий имеет самое прямое
касательство к существу науки о литературе и затрагивает наше
понимание ее. Не литературовед, но философ - Готфрид Габриэль (Кон-
станц) - наиболее приблизился при этом к осознанию реального
функционирования литературоведческих понятий, нестрогость которых
вовсе не является уступкой некой популярности, требованию
доступности и общепонятности (против Г. Фрике29): точность (Genauigkeit)
литературоведческих терминов - не то же самое, что точная и строгая
терминологическая фиксация, точность (Exaktheit). Требуемая же от
литературоведческого термина степень точности есть, по мнению Г.
Габриэля, ясность (Klarheit), достигаемая приводимыми примерами (и
примерами от обратного), тогда как «отчетливость» (Deutlichkeit) требует
уже назвать все необходимые и достаточные признаки определяемого;
в литературоведении не возможна, как пишет Г. Габриэль, отчетливость
без ясности. К сожалению, Г. Габриэль рассуждает лишь об
«описательном языке литературоведения», совершенно без внимания оставляя
иной возможный подход к языку этой науки - подход,
основывающийся на исторической субстанциальности того, что сказывается на языке
этой науки, и в качестве первейшей необходимости выставляющий за-
264
дачу наивозможного просветления, прояснения всего того, что
говорится на этом языке (по самим условиям такого языка здесь мыслимы и
крайний произвол, и всякого рода злоупотребления, так! - что мы и
наблюдаем в реальности науки о литературе). Однако во всяком случае Г.
Габриэль уместно предупреждает литературоведа от (вполне обычных)
стремлений к совсем несообразной его науке строгости и точности (как
мы знаем, всякий раз, когда делается вид, что такая строгость и
точность достигнуты или возможны, наука о литературе утрачивает свою
специфичность и становится неточной, будучи уже знанием о чем-то
другом).
Слово «сообразность» Г. Габриэль употребил, говоря о
метафорических выражениях в литературоведении: «Речь идет не о признании
какой угодно метафизики, - пишет он, - но только той, которая
сообразна»30. Однако отметим, что это слово отсылает нас к
герменевтической сущности всего знания о литературе: нам важно принять это к
сведению. Как сообщает Д. Лампинг, мнения участников дискуссии о
проблеме метафоры разошлись, и они согласились лишь с тем, что
«следует считать недостатком, если в рамках науки невозможно
подняться над метафорическим описанием положения дел и перейти к
дальнейшему познанию и более точной терминологии»31. Однако и
здесь, как представляется, от внимания участников симпозиума
ускользнул важнейший слой метафорического словоупотребления —
слой исторически необходимый, слой, диктуемый историей и
предполагающий неизбежность метафорического как такого языка истории.
Однако об этом в последнее время блестяще высказался наш философ
В.П. Визгин, к книге которого я и отсылаю32.
В то же время в сборнике опубликованы работы, глубоко
заходящие в исторический смысл терминов, —такие, как доклад Б.Ф. Шоль-
ца о понятии эмблемы33 или В.Г. Мюллера об иронии и соседних ей
риторических терминах, так! — внося большую ясность в соотношения
таких терминов; В.Г. Мюллер вместе с тем отрывает риторическую
иронию от романтических преобразований ее (у Ф. Шлегеля и
особенно у К.Ф. Зольгера), которые все же восходили не к чему-то иному, но
к семантике риторической «иронии»34.
При несколько суженном горизонте сборник исследований по
терминологии литературоведения органически подключается к новейшим
разысканиям в области истории немецкого литературоведения. Тем
более, что проблематика доклада К. Веймара - это важнейшая составная
часть его обстоятельной книги35. Правда - особенно после прочтения
призывно озаглавленного («За систематическое исследование
немецкого литературоведения») введения В. Фосскампа к весьма успешному
сборнику работ по истории науки в Германии36, — встает вопрос, не
обедняет ли эта концентрация только на немецком материале смысл
исследований, не уводит ли она от животрепещущих проблем
литературоведения в целом в сторону чисто позитивистского изучения
увлекательных и, как правило, малоизвестных фактов истории науки? К
счастью, в целом этого нет: спасает прежде всего накапливающий
характер самой литературы, которая в своих слоях содержит все, что
вообще бывало в истории литературы, поэзии. Далее, выручает особая
265
интенсивность и экстенсивность немецкого литературоведения, где
обычно успевает проявиться все, что только заложено как возможность
в истории культуры и в истории духа. И, наконец, спасает та молодость
как современного (присущего нашим дням) понимания литературы, что
для многих наших читателей будет неожиданностью, - так и
современного литературоведения, науки, которая как знание о литературе
весьма стара (стара как всякая рефлексия о литературном вообще), но
весьма юна как знание о литературе в ее обновившемся (и всегда,
постоянно обновлявшемся) понимании.
Огромным достоинством новых изданий по истории немецкой
науки является как раз то, что в них широко исследовано (с
привлечением все новых и, кажется, неисчерпаемых материалов) и весьма
убедительно показано постоянно продолжающееся на протяжении
XVIII—XIX вв. (с перспективой в почти непроглядный XX век)
обновление науки о литературе. Как постепенно возникает университетская
дисциплина «история немецкой литературы» - сначала на фоне
классической филологии (для начала XIX в. «филологии» вообще, и
единственной научной по своим методам) и во взаимодействии с нею37, -
как отстаиваются права «немецкой» или «германской» филологии, как
из всей совокупности германской филологии (представленной еще
В. Шерером) вычленяется «история немецкой литературы», затем
«история новой немецкой литературы», в качестве дисциплин
университетской науки, как основываются семинары по немецкой филологии
или по истории немецкой литературы - те самые семинары, которые
и до сих пор остаются плодоносящими садами процветающей
немецкой науки. Все это увлекательнейшая для специалиста история, и в
исследовании Уве Мевеса38 и затем всесторонне в книге К. Веймара
она изложена подробно и даже наглядно в виде подытоживающих
таблиц. Из книги К. Веймара можно, например, узнать о германистских
университетских курсах, прочитанных задолго до институциализации
германской филологии (начиная с латинского курса «Об истории,
природе и достоинстве нашего немецкого языка», прочитанного
К. Заальбаахом в Грейфсвальде в 1697 г.39, об учреждении кафедр
истории немецкой литературы, начиная с Мюнстера (1801) и кончая
Кенигсбергом (1863)40, об учреждении кафедр истории немецкой
литературы, начиная с Кенигсберга (1835) и кончая Галле (1868)41, и т. д.
Все это на первый взгляд представляется не только внешней
историей литературоведения, но и историей дифференциации
научного знания, которое утрачивает все единство и целостность. На
отсутствие единства даже в рамках современной истории немецкой
литературы Нового времени сетует и К. Веймар42, и мы
действительно знаем, до каких мельчайших разбиений доведена здесь
специализация, притом в условиях гигантского перепроизводства
научной литературы в последние два десятилетия.
Однако на весь этот продолжающийся два столетия процесс
дифференциации науки можно посмотреть и с другой стороны - в нем не
только разрывание единства, но и экспликация самой же
литературной истории, ее выход наружу, в явь. И история литературы (т. е. сама
литература и знание о ней, ее историографии), и история науки о ли-
266
тературе стремятся - чем дальше, тем больше - к внутреннему
смысловому единству, к собиранию всего, всей уже явленной, развернутой
(эксплицированной), распластанной своей полноты в единовремен-
ность (как говорили мы об этом выше). Такое единство
осуществляется, правда, уже иначе - не так, как в первой половине и в середине
XIX в., когда вся филология в идеале собиралась, как материал, в
ведении одного ученого (Якоба Гримма или В. Шерера); она
осуществляется как новый онтологический статус истории литературы - в
связи с переосмыслением самой истории, с переосмыслением, которое
идет вовсе не от человеческого произвола, не от какого-то нового
методологического нововведения, но от самой же истории.
Таким образом, даже внешняя история немецкой науки о
литературе показательным образом представляет нам не процесс распада
единого знания, но, наоборот, процесс постепенного «рас-страива-
ния», построения, созидания единого здания литературы (оно,
разумеется, шире только немецкой литературы - это здание литературы как
своей истории вообще). Подобно тому как Карл Розенкранц различал
(1830), вслед за Ф.А. Вольфом, внешнюю и внутреннюю истории
литературы43, знанию о литературе присуща внутренняя история,
которая нелегко схватывается в своих глубинных слоях.
Конечно, ни одни историк национального литературоведения не
способен объять необъятное и строит свое исследование исходя из
каких-либо конкретных ее аспектов. К. Веймар создавал свою
книгу прежде всего как институциональную историю
литературоведческой германистики и при этом начинает даже с несколько суженной
постановки вопроса: «Сначала я выстроил в ряд компоненты
сегодняшнего немецкого литературоведения, - пишет он, - все то, что
может встретить в университете и любой посторонний: это немецкая
литература как учебный предмет, учебный процесс, который
ведется на немецком языке силами лиц, получивших образование
специально ради этого и особо на то поставленных, который получил для
этого особые институции, финансовые средства и библиотеки,
который имеет особый распорядок курсов и экзаменов, не в последнюю
очередь служит цели воспитания учителей и, естественно, в целом
финансируется государством. Затем я стал прослеживать каждый из
таких компонентов в истории - до тех пор, пока не прекращались
свидетельства их наличия»44.
Тем самым работа производилась как бы в обратном историческом
порядке, и автор даже допускает возможность такого обратного
временному течению изложения ее материала. И все же образ своей работы,
какой представляет нам К. Веймар своим предисловием к ней,
получился слишком прагматичным. Ведь помимо хорошо разработанной
внешней истории университетской дисциплины (в чем большая заслуга
автора) он уделяет значительное внимание и ее внутренней истории —
например, различным концепциям немецкой национальной
литературы от Ф. и A.B. Шлегелей до концепций конца XIX столетия (с
разделами о Гервинусе, Пр)ггце, Геттнере)45, «искусству интерпретации»46, т. е.
различным принятым в XIX в. «способам интерпретации» (отчасти уже
опубликовано ранее47), которые получают у К. Веймара весьма внима-
267
тельную и ясную характеристику. Таким образом, и духовная, идейная
история германистики и истории литературы именно как
университетской дисциплины. И вот эти рамки преподаваемой в высшей школе
дисциплины (с которой в условиях немецкой организации научной
жизни легко отождествляется в сознании сам научный предмет, сама
область знания), конечно, сказываются в книге К. Веймара. То, что
заведомо выходит за рамки дисциплины или лишено существенного
значения для современности (как точки отсчета), и остается без внимания,
например, складывание канона классических творений литературы в
эпоху романтизма (чему уделяют место Ю. Форман48 и особенно Р. Ро-
зенберг49 - важнейший для истории культуры момент, решительно
определивший все восприятие и понимание литературы в XIX в. (а теперь
в западной культуре почти сошедший на нет), - или Гётевское понятие
«мировая литература» (не имеющее решительно ничего общего с нашим
нынешним пониманием «литературы» в сочетаниях «история
литературы» или «мировая литература»). Все это у К. Веймара никак не
освещается - равно как и почти все, что творилось за стенами университетов.
Так что внутренняя история осмысления литературы в итоге предстала
несколько урезанной (не в ущерб несомненной значительности пяти-
сотстраничной книги).
Временные границы, в пределах которых движется исследование
Ю. Формана, - точно то же, что у К. Веймара. Есть и точки
соприкосновения, поскольку Ю. Форман должен был в известной мере осветить
и внешнюю историю университетской дисциплины истории
литературы50. В поле зрения каждого из исследователей попадает и
«национальный» концепт литературной истории, связанный с романтической
трактовкой нации, народа, которая повлияла на все немецкое
литературоведение XÏX столетия51. Существенное место уделено и
осмыслению и переосмыслению истории. Однако в целом угол зрения в книге
Ю. Формана предопределен тем отождествлением, какое неявно
присутствует уже в заглавии книги: история литературы отождествлена с
историографией поэзии, литература- с поэзией, и, таким образом,
Ю. Формана интересует то, каким образом мыслилась история поэзии
в немецком литературоведении до рубежа XIX-XX вв., как мыслилась
она и в пределах таких историй литературы, для которых «литература»
вовсе не была равна «поэзии» (т. е. в немецком разумении - примерно
тому, что мы называем по-русски «художественной литературой»; само
же слово «Poesie» для немецкого языка сейчас архаично и характерно
именно для ученого языка XIX в., когда наука училась вычленять
«художественную», или «творческую» литературу из всей массы
литературы-словесности, литературы-письменности). Такое выделение как бы
гораздо более современной дисциплины в пределах старого знания о
литературе производится Ю. Форманом весьма тонко — его занимает
то, что было уже темой его предварительной публикации: каким
образом историография литературы мыслит историю литературы как целое,
как возаимосвязь?52. Таким образом, главным содержанием книги
Ю. Формана становится внутренняя история литературоведческой
науки. Так, видное место занимают в его изложении уже упомянутое
выше различение «внешней» и «внутренней» истории литературы (по-
268
мимо К. Розенкранца также у историка римской литературы Г. Берн-
харди в том же 1830 г.53). Это раз произведенное различение
становится внешним выявлением настоящего конфликта в сознании целого
поколения людей, писавших об истории литературы, и следует считать
большой заслугой Ю. Формана, что он в свою очередь выявил и
представил нам этот внутренний конфликт литературоведческого сознания.
В 1830-е годы, очевидно, представляло значительную трудность для
историка литературы справляться с внутреннелогическим,
генетическим изложением истории литературы - там, где более простым и
многократно испробованным было классификационное,
перечислительное расположение всех литературных материалов: в то время как
«внешняя история литературы становится полем
топографически-антикварных усилий», встраиваемых (например, Я. Гриммом) в общую
историю литературы (т. е., здесь, памятников письменности вообще),
заявляет о себе потребность в генетическом изложении истории
литературы (т. е., здесь — с поэзией, с художественной литературой в
центре ее) — как, например, у Г.Г. Гервинуса, — а все внешнее (даты)
начинает восприниматься как история в «несобственном смысле
слова»54. Гервинус и Розенкранц видят резкую границу между своими и
прежними историями литературы, а совершенно забытый К. Ринне
пишет (1842) книгу «Внутренняя история развития немецкой
национальной литературы», где, по его словам, «делает весь акцент на
понятии внутреннего развития — с тем, чтобы основательно выявить все
относительные и абсолютные взаимосвязи в истории, постоянно
объясняя ее необходимость»55, — в таких словах сама квинтэссенция
нового исторического мировосприятия. По словам Л. Уланда (1830),
«историческое разумение знает становление и ставшее, оно
отличает существенное от случайного, оно соединяет разделенное в
действительности временем и пространством»56.
И тем не менее сочетание фактического материала со
«становлением» остается, как показывает Ю. Форман, почти неразрешимой
проблемой для историков литературы или критиков в 1830—1850-е годы:
«Присущий молодому движению литературно-исторический метод, -
пишет автор, - состоит в том, чтобы образовывать способом
простого нанизывания имен линии традиции, затем заставлять их выступать
друг против друга и выдавать эту «борьбу» за протекание духовной
истории. Подобные истории литературы всегда заканчиваются «ревю»
отдельных авторов, которым тут же назначается цена и тут же
воздается по заслугам - как черным или рыжим»57. Таковы же и приемы
литературно-критических работ Г. Гейне58.
Для нас же сейчас очень важно то, что характерный для
литературного, литературоведческого сознания середины прошлого века
конфликт вне всякого сомнения повторяется в наше время на
некотором новом уровне, так! - речь идет о завоевании (никогда не
дающемся без труда) нового качества исторического мышления, нового
«измерения» истории.
Что конфликты прежних времен далеко не тривиальны и что в них
дело заключалось в трудностях, сохраняющих свою значимость в
течение очень долгого времени, подтверждает и Р. Розенберг, говоря о не-
269
мецком литературоведении первой половины XX в., -тут вновь
возникает проблема объема «литературы»: словесность вообще или поэзия?59
Отметим, что при своем, скорее, очерковом характере новая книга
Р. Розенберга удачно дополняет капитальные исследования К.
Веймара и Ю. Формана, успешно интерферирует с ними, правда, при
подчеркивании идейной, или, вернее, идеологической стороны истории
науки.
В завершение, вполне убедившись в несомненной актуальности
истории немецкой литературной науки не только для немцев, но -
едва ли не более того — для нас самих, уместно будет лишний раз
изумиться самой материальной неисчерпаемости немецкой
словесности: подобно тому как до сей поры можно открывать неучтенные
никем изданные немецкие переводы Гомера, относящиеся к XIX в.60,
так почти неисчеслимо количество созданных тогда же историй
немецкой литературы: богатое и, как видим, не бесплодное поле
исследований, идущих в глубину!
Глава третья
Несколько слов о задачах науки о литературе, о ее теории
и о ее истории
Без большого труда противостою искушению озаглавить этот
последний раздел книги так - «О современном состоянии науки о
литературе». При огромной дифференциации науки о литературе во всех
мыслимых направлениях, методологически и материально, при почти
фантастическом нарастании в последние два-три десятилетия
количества исследовательских текстов, которые (даже и в совсем узкой
области) никто не в состоянии не только прочитать и проштудировать,
но даже и просто подержать в руках и перелистать, говорить о
современном состоянии науки в целом, об ее успехах и достижениях, о
сделанном и не сделанном в ней, о ее актуальных задачах, - а это ведь,
вероятно, и предполагает «современное состояние», его обзор и
анализ, — значит брать на себя чрезмерно многое, невообразимо многое.
Тут на пути встают «объективные» трудности — «объективные» в самом
буквальном значении слова: всякие препятствия и препоны.
Я уже приводил пример, который иллюстрирует выступающие тут
трудности: 40 лет назад - в пору, когда М. Верли писал свое «Общее
литературоведение», - и современное состояние науки о литературе, и ее
развитие и становление (как его ни понимай) еще можно было обозреть
как бы единым взглядом, и всему этому становлению и состоянию был
присущ, как можно было думать, именно характер органического и
внутренне-логического разворачивания, со столь же естественным —
органичным и логичным — включением в это разворачивание любых
моментов противостояния, взаимного отрицания и преодоления, из
чего ведь и складывается всякое настоящее, естественное развитие. А
когда свой обзор современного состояния науки о литературе писал
весьма уважаемый американский профессор Й.Стрелка61 - дело
происходило, кругло, на 30 лет позже, - то у него получилось нечто вроде
путеводителя с довольно монументальным опытом классификации
современных литературоведческих направлений, где их внутренняя
взаимозависимость и возможное генетическое родство далеко уже не столь
важны (как то было бы, будь только литературоведение со своей
естественной и логической историей). Они беспристрастно и безразлично
предлагаются на выбор читателя, читатель же, осуществив вместе с
автором перебор всего, что ни есть на свете, вправе выразить свою
пристрастность и практически примкнуть к одному из направлений. К
классификации все дело теперь, собственно, и сводится, и это —
заметим сразу же - превосходно соответствует глубочайшему
переосмыслению истории современным культурным сознанием, переосмыслению, в
котором всегда есть две стороны - сторона, углубляющая образ
истории, и обратная сторона, сводящая его к чему-то плоскому и
пресному. Но для обеих этих сторон нового осмысления истории
закономерно то, что генетические связи явлений оказываются далеко не самыми
важными, а внутренние смысловые связи и сопряженности явлений
271
очень легко рвать, перебирая разные явления одно за другим - словно
карточки каталога. Так и в том случае, когда «явления» - это разные
литературоведческие направления или методологии. Вот тогда все и
сводится к классификации, к перебору возможностей, между которыми и
предлагается выбирать. Так это более всего в англосаксонском мире, в
его весьма прагматически мыслящей науке62. Для молодых,
начинающих исследователей такой образ науки - как принципиальной
множественности подходов, как внутренне бессвязного плюрализма -
становится уже исходным и заданным, это самая первая научная
действительность, с какой они встречаются: распад и совместность разного не
как результат развития, а как самая первичная данность.
Однако если давать очерк современного состояния
литературоведения затруднительно и слишком претенциозно, то можно сказать что-то
существенное об экзистенциальном положении этой науки в наши дни.
Не об экзистенциальном самочувствии или самопонимании
литературоведов - таковое может быть весьма различным и к тому же зависит
от экзистенциальной ситуации самой науки, но именно об этой
последней - об экзистенциальной ситуации самой науки. А мы, уже и
сейчас, на своем коротком пути, накопили — задевая, затрагивая их, —
немало мотивов такой экзистенциальной ситуации науки. Вот один из
них: если наука не отражается в существенном своем содержании одним
сознанием, если она распадается на ряд отдельных дисциплин и, далее,
отдельных, сколь угодно узких, частных областей исследования, в
каждой из которых царит свой метод (в том числе и сколь угодно
беспроблемный и традиционный), и этот метод в каждой из них определяет
смысл всякого высказывания (служит как бы средством порождения
смысла), то это и характеризует ситуацию науки экзистенциально. Она,
наука - расстроившаяся до невозможности собрать ее в единое целое и
таким ее себе представлять, - оказывается тогда препятствием и
препоной для самой себя. Весьма «объективной» препоной!
Совершенно неправомерна была бы ссылка на то, что и вообще
всякая наука развивалась и развивается так — развивалась и развивается,
членясь и дифференцируясь, давая начало новым, обособленным
дисциплинам. Она неправомерна уже потому, что науке о литературе в ее
нынешнем состоянии отнюдь не присуще развитие и углубление в
прежнем его разумении. Но, далее, - что важнее, - всякая
дифференциация науки о литературе действительно уводит ее все дальше от
эмпирического материала, подчиняя ее в каждом ее «моменте» тому или
иному методу, — все это действительно так происходило и происходит и в
других науках, и всякий раз тут совершается то, что имел в виду
Ницше, когда говорил о победе метода над наукой, над ведением. Причем,
в связи именно с совершенно неустранимой и неуничтожимой
спецификой науки о литературе, эта победа метода над наукой, или над
смыслом вообще, очень часто проявляется именно в том, что над знанием,
наукой парадоксальным образом берет верх самый настоящий
антиметодологический эмпиризм - не рефлектирующий себя особо, не
«думающий», а притом даже освященный старинной инерцией. Однако, в
отличие от наук естественных и математических, наука о литературе как
раз и не вправе отрываться от того своего эмпирического материала, ко-
272
торый заключает в себе — только в неразвернутом виде - тот самый
цельный смысл, какого доискивается эта наука и который в этом
отношении и не есть, собственно, просто эмпирический материал.
Как бы ни критиковали мы теперь дильтеевское понятие «жизнь»,
как бы справедливо мы ни поступали при этом, нам всем никуда не
уйти от этой жизни — как такого места, в каком осуществляется и
смысл литературы, и смысл всякого знания о ней. Как бы далеко ни
уходила научная рефлексия от этого места, она все равно должна вновь
вернуться к нему. А потому и наука о литературе в целом обязана иметь
в виду цельный свой смысл или, говоря проще, некую главную свою
суть — то, ради чего она существует, то, ради чего ею занимаются.
Если же она теряет из виду такой общий свой смысл, то она
оказывается в путах разных частных методологий. Они плохи не сами по себе
(внутри себя они могут быть весьма продуманными), но плохи именно
тем, что в существующей экзистенциальной ситуации науки они
подавляют самый смысл науки, знания. Если же напомнить о том, что в
споре рождается истина и, стало быть, в споре различных
методологических направлений тоже рождается истина, то на это можно сказать, что
в настоящем своем положении - и чем дальше, тем больше, - в науке
о литературе направления главным образом не спорят, а
самоутверждаются в своей независимости. И именно потому, что целое науки уже не
схватывается сознанием и не схватываются - как единое и цельное -
даже и отдельные, достаточно частные ее области, ни
методологическому направлению, ни какой-либо частной отрасли науки обычно
просто не хватает времени на спор и дискуссии с другими подходами,
методологиями. То, что не хватает времени, - это просто иное выражение
экзистенциальной ситуации современного литературоведения: в нем не
схватывается общий смысл и, напротив, на месте целого утверждается
какая-либо частность, односторонность, нечто случайное - случайное
до тех пор, пока у этого случайного нет возможности соразмериться со
всем иным и вступить с ним в спор. Вот причина, почему и дискуссия
в современной науке о литературе по большей части искусственно
аранжируется и лишь очень редко бывает плодотворной. Спор - не столько
внутренняя потребность такой науки, сколь дань традиционному и
несколько отстающему от нынешнего дня образу науки.
А подобно тому как к экзистенциальной ситуации науки о
литературе можно подходить с самых разных сторон, обнаруживая в ней все
одно и то же, позволительно задуматься и над тем, что любые
положения, утверждения, высказывания, какие делаются в рамках ясно
очерченного литературоведческого направления и на основе определенной
методологии (т. е. опять же в рамках известного метода), внутренне
обесцениваются. Они внутренне обесцениваются, пока делаются в
рамках одного из направлений и методов. Таких направлений и методов,
которые только самоутверждаются, настаивая на своей истинности,
очень много. Они обесцениваются уже потому, что существуют в ряду
иных (которые так же самоутверждаются безотносительно к иным), в
безразличном ряду разных подходов. Такие положения, которые
настаивают на своей истинности «внутри» метода, экзистенциально
обесценены - они глухи и к общему смыслу, и к экзистенциальной ситуации
273
самой науки (то и другое взаимосвязано). Они делаются от имени или
«лица» направления и метода. И — как только обнаруживается, что это
так, - они автоматически попадают в безразличный ряд
самоутверждающихся положений, лучше даже сказать - самоутверждающихся
утверждений (т. е. таких, которые удостоверяются и оправдываются лишь
самими собою).
А что, можно спросить сейчас, - а что, если какой-нибудь из этих
оказавшихся в безразличном ряду методов все-таки «на самом деле» и
в отличие от других будет истинным? Мы ведь не можем исключить
такой возможности? Да, конечно, не можем. «Вдруг» это будет так! Но
тогда, очевидно, такому методу будет присуща чуткость к общему,
цельному и существенному смыслу того, чем занимается наука о
литературе вообще, чуткость к жизненным корням всего литературного; и затем,
разумеется, такой метод будет в полную меру рефлектировать
экзистенциальную ситуацию самой науки, а, стало быть, не будет
довольствоваться и просто пользоваться тем, что есть, теми возможностями, какие
предоставляет наука в том виде, в каком она сложилась. И только
естественно, что такой метод, если он осуществим, сразу же
преодолевает безразличие рядоположного - разных возможных направлений,
методов и т. д. И не только тем, что вступит с ними в спор, - потому что
спор между тем, что с самого начала самоутверждается в качестве
безразличного и безотносительного всему иному, может ведь стать и чем-
то вторичным и внешним, неким подкрашиванием ситуации, и только.
Метод, если в нем есть истина, непременно выдвинется из этого ряда
безразличностей. И - что одно и то же - сразу же перестанет
самоутверждаться, настаивать на своей исключительности и беспокоиться о
своей правильности. Если можно так сказать, такой подход будет
совершенно неметодологичным — уже потому, что он не будет устанавливать
каких-либо условий своей правильности, не будет делать заведомых
утверждений, какие не подвергались бы затем испытанию делом, - т. е.
самим материалом и смыслом, с каким имеет дело наука о литературе.
Самое главное - это то, что, очевидно, всякое осмысленное
высказывание должно подняться над всем рядом возможных одностороннос-
тей, — это так, как только для литературоведческого сознания
проясняется суть получающих методологическое обоснование утверждений
(тезисов, положений и т. д.) - они экзистенциально обесценены и
замкнуты на себе (обосновываются, удостоверяются и оправдываются
самими же собою). Те же неметодологичные высказывания, которые
опираются на экзистенциальную ситуацию науки, на ее осмысление, -
экзистенциально ценны, и они уже делаются не «от себя» (и не от имени
направления и метода науки).
Хотя бы несколько, хотя бы в чем-то раскрыть экзистенциальную
ситуацию современной науки о литературе, т. е. ту ситуацию, в какой
она находится именно теперь, и притом во всем мире — речь идет
действительно и о мировом уровне науки о литературе, и о
проявляющемся в ней сознании, — и значило бы осветить, хотя бы в чем-то,
современное состояние этой науки. Так что и здесь подход был бы во
всяком случае не перечислительный. Решаюсь что-либо говорить об
этом, сузив свою задачу, во-первых, до всей мыслимой скромности,
274
а, во-вторых, ограничив ее тем конкретным поводом, который дал
первоначальный повод ко всем этим размышлениям о науке, - то
был замысел публикации в одном из наших журналов «Антологии
современного зарубежного литературоведения».
* * *
Самая суть о литературе, то, ради чего она, - это, как можно
думать, нечто совсем простое: та простота, какая может возникать, когда
наше знание о литературе во всей своей обширности, несмотря на нее,
готово почти что совпасть с самой же литературой. Эта простота
дается нелегко и требует немалых трудов. Однако все же цель — простота
очевидного. Все равно как если бы суть дела была всего лишь в том,
чтобы открыть глаза - себе и другим.
Пробуя приступить к изданию «Антологии современного
зарубежного литературоведения», задумываясь над тем, как это делать, мы
пришли к выводу о том, что такая книга, издаваемая внутри журнала,
постепенно, должна быть прежде всего книгой открытой - такой,
«концы» которой не видны и не должны быть видны с самого начала и
материалы для которой должны поступать в наше распоряжение
постоянно и с самых разных сторон, знакомя нас с самыми разными
литературоведческими подходами, какие сложились в современной науке, с
самыми разными ее направлениями. Она, эта книга современного
литературоведения, должна быть заведомо открыта для своего роста.
Теперь подумаем, однако, и над этой открытостью. Конечно же,
слово «антология» само по себе нежно для задуманного издания. Оно
слишком ласково именует тексты, которые так или иначе вошли бы в
нее. «Антология» — это «собрание цветов», а ведь всякий, наверное, уже
знает, что за «цветы» литературоведческие тексты; в своей
совокупности это, скорее, не цветы, а какой-то колючий и неприветливый куст
с густо сплетшимися между собою жесткими ветвями и веточками,
среди которых если и попадутся где-то цветы, то до них не так-то просто
добраться, чтобы сорвать их, - хотя бы даже и для весьма
благоразумно составляемой «антологии». И это так не просто потому, что
литературоведение - это наука, а наука никому не готовит непосредственных
радостей, не стелет ковров перед каждым, но ждет, что человек
сначала затратит немало собственных усилий, чтобы войти внутрь науки,
внутрь ее языка. Так ставит себя сама наука. Сама наука в целом. Как
ставит она себя, так и воспринимает ее читатель. И вот уже много лет,
как достаточно широкий читатель, интересующийся
литературоведческими работами, проходит мимо множества весьма значительных,
выдающихся по своему уровню, по своему качеству книг, которые,
например, издает наше издательство «Наука», - проходит, часто даже и не
заглядывая в них, часто и не утруждая себя этим, проходит в поисках
чего-то заведомо лучшего и более интересного и при этом непременно
совершает немало ошибок - ошибок неверного выбора. Я не упрекаю
в этом читателей. Слишком часто наука предстает жилистым, и туго
растущим, и слишком выставляющим вперед пот своих усилий кустом
или деревом, чтобы сразу понравиться и привлечь благоуханием цветов.
275
Поэтому «антология» — это эвфемизм. Однако всегда есть цвет науки.
Вот на этот цвет, на это цветение растущей науки и было направлено
наше внимание, и наш читатель должен был получить какую-то пользу
от того, что мы будем стараться всматриваться в густой и непроглядный
куст современной науки или даже шарить руками между ее
корявыми колючками.
И слово «современный» мы тоже стараемся понять широко и
открыто — не ограничительно, а распространяя его на тот отрезок
недавнего прошлого, в продолжение которого постепенно начинало
проявляться и нарастать наше общее совокупное неведение того, что
творится в науке за рубежом. Изменив утвердившейся русской
традиции публиковать в переводе хотя бы самые значительные,
капитальные или просто привлекшие к себе научные труды, мы сразу
лишили себя очень многого.
Мы выпали из мировой науки, цельность и единство которой
определяется уже самой сущностью науки, которая — так или иначе,
несмотря на все нюансы своего самоуразумения, - есть познание истины. Мы,
плохо уча языки и, сверх того, упрямо отнимая у себя возможность
незатрудненно общаться с зарубежными научными текстами — они
обратились у нас в смехотворный дефицит и в предмет «добывания», а «до-
быватель» сделался предметом презрения даже самих библиотечных
работников, — гордо изъяли себя из мировой науки. Вследствие же
обнаружившегося технического отставания от Запада разрыв наш с
зарубежной наукой в последнее время лишь увеличивается, невзирая ни
на какие благонамеренные множащиеся контакты ученых.
Эта ситуация по-своему трагична, однако трагизм — вовсе не в том,
что «мы», т. е. наша наука, от кого-то отстала, и он не того свойства,
чтобы его можно было выразить или заглушить слезами покаяния или
воплями. Трагическая ситуация иной раз способна производить на
белый свет своих комических толкователей, и всякий раз, когда это так,
можно, пожалуй, убеждаться в том, что ситуация внутри себя не столь
уж плачевна. Так это и в нашем случае. Вот какие порывы чувства
вызвала публикация небольшого текста американского профессора
Дж. Хиллиса Миллера «Триумф теории и производство значений»63:
«...несмотря на все концептуальные резонансы и ситуативные
сходства, мы просто не имеем права рассуждать с Хиллисом Миллером
«на равных». Его размышления доносятся до нас, как голос с другой
планеты. Наше ли дело сражаться с многообразием теоретических
соблазнов, когда нам еще только предстоит по-провинциальному
нагонять заокеанскую и европейскую литературную практику и
литературоведческую теорию - ускоренными темпами, как мы привыкли это
делать во все времена после Петра Великого?»64. Отказ разговаривать
с уважаемым профессором Хиллисом Миллером «на равных» и
готовность склониться перед ним в глубоком поклоне (или, может быть,
по-восточному обычаю, пасть ему в ноги) доходит до того, что автор
приведенных строк вполне серьезно сожалеет о том, что не
располагает «опытом» Хиллиса Миллера: «Ничто не заменит нам опыта,
которого у нас нет»65. И это чистая правда! Но ведь никто и Хиллису
Миллеру не заменит опыта, которого «у него» нет, - например, опы-
276
та нашей науки (при всех невеселых сторонах ее истории). Я,
например, убежден, что опыт нашей науки показал бы американскому
профессору, что его утверждение - «теория литературы управляет
производством значений»66 — построено на совершенно ложном
представлении о литературоведческой науке и, кстати говоря, сильно напоминает
тот самый ориентирующийся на картину промышленного
производства и его развития тип мышления, которому столь предан и автор
русской реплики на его текст: модель экономического производства с
его непременным развитием и нарастанием несомненно лежит в
самой основе всех этих обгонов и отставаний, неготовности обсуждать
с иноязычным профессором некоторые научные тезисы весьма
принципиального свойства «на равных», желания отказаться от своего
собственного опыта и т. д. и т. п., — все это слишком напоминает нашу
публицистику политического и экономического содержания, чтобы не
было тут самой простой параллели. Не комичен ли образ человека,
готового ради чего бы то ни было отказаться даже от своего собствен-
ного опыта? Мне кажется даже, что и самая изощренная европейская
драматургия еще не создавала такого персонажа! «Ничто не заменит
нам опыта, которого у нас нет» - не значит ли эта тавтология
следующего: «я» сожалею о том, что «я» — это «я»; «мы» сожалеем о том, что
«мы» — это «мы», и т.д. Как философически глубока сокрушенность
по поводу того, что мое «я» никак нельзя поменять на другое, на
чужое «я»? Между тем, разумеется, и эта комически-неадекватная
реакция на скромный теоретический текст профессора Хиллиса
Миллера - тоже продукт нашей науки и нашего «опыта»; но только это
особый продукт, имеющий большее отношение к сентиментальной сфере
и к политико-экономическим стереотипам нашего перестроечного
мышления, чем к реальности науки о литературе или, скажем, к
философии.
После этого трагикомического эпизода нашей околонаучной жизни
все же нужно, как ни трудно, вернуться к серьезности ситуации,
сложившейся в нашей науке. Она, конечно, заключается не в том, что мы
безнадежно отстали от Дж. Хиллиса Миллера, от состояния
англосаксонской науки и т.д., - в том же самом отношении эта наука с ее
неизбежно «своим» опытом отстала от нас и от нашего опыта, которого у
нее, естественно, нет, - а в том, что мы начали отставать от самих себя,
причем здесь все огорчения процитированного мною советского
автора по поводу имевших место идеологических притеснений более чем
уместны и вполне разумеются сами собою (другой вопрос, как эта
удручающая система согласуется с явлением М.М. Бахтина, с наследием
которого западные исследователи столь охотно вступают в диалог, по
временам не замечая того, что им, с их опытом, нельзя с Бахтиным
разговаривать «на равных»). Нет, не в том беда, что мы отстали от чужого
опыта (чужой опыт, догони мы его, все равно останется чужим), а в том,
что мы начали отставать от самих себя. Реплика нашего автора на
статью Дж. Хиллиса Миллера с выраженной там готовностью пасть «на
лице свое» пред ним — это как раз свидетельство удручающего
отставания нас от самих себя, когда в отставшем стираются даже самые следы
памяти о собственном достоинстве и Бог отнимает у него разум.
277
Изъяв себя из мировой науки, мы во многом лишили себя и
своего собственного достояния, потому что всякую особенность и
своеобычность можно только отстаивать в споре с иным - в
противоположном случае она бесповоротно упускается, даже если и были
присущи нашему прежнему литературоведению какие-то черты
особенного и неповторимого. Эта же потребность науки, внутренняя ее
потребность — находиться всегда в споре (в споре, не в ссоре) с
иным - предопределяет существенную внутреннюю же
необходимость переводов чужеязычных научных текстов. И это даже при
наличии таких специалистов, которые читают на языке оригиналов.
Сама потребность эта - потребность науки, а не отдельных ученых.
Она заложена уже в языке науки, в слове как ее среде (в ее среде,
а не простом инструменте): слово науки должно уметь сказать и все
чуждое себе, и все иное, должно уметь сказать все это, отстаивая
себя и свое - через прояснение своего. Сейчас же мы можем
наблюдать, что языки разных национальных наук о литературе
сильно разошлись между собою и что перевод даже простых
литературоведческих текстов на русский язык в небывалой степени
затруднен: наше русское слово десятилетия как бы освобождало себя от
долга следить за иным и быть начеку. И это, как теперь уж
понятно, не потому не хорошо, что для нас свет заведомо идет с Запада
и что для нас весь свет в окошке - это Запад и Америка, а
нехорошо хотя бы ради самих себя. Быть самими собою значит
постоянно сравнивать и сопоставлять себя с другими, а сопоставляя,
удостоверяться - или, пускай, разубеждаться - в своей особенности.
Положение нашей науки тем более тяжко, что она начинает
осознавать теперь все горестные утраты и обидные ущемления
семидесяти лет, а вместе с тем должна осознать и все то, что не было готово и
не сложилось по-настоящему еще и раньше. В 1911 г. академик
В.И. Вернадский писал: «Мы знаем о великой русской литературе, о
русской музыке, открываем русскую живопись, русское зодчество. Мы
видим, как высоко и глубоко они входят в мировую жизнь
человечества. Но русское общество не сознает себя в научной работе
человечества»67. Это горькие слова, которые указывают на некую
непреодоленную грань, разделявшую русскую и мировую науку или даже
культуру в целом, - притом, что, возможно, вклад русской науки в
мировую и лучше узнан и усвоен с тех пор, пусть хотя бы только
самой же наукой, внутри ее. Однако, пожалуй, еще существеннее и
больнее для нас то, как академик Вернадский продолжает свои слова:
«Отсутствие этого сознания есть элемент общественной слабости, его
признание есть не только необходимое условие общественной силы,
но и залог дальнейшей плодотворной научной работы. Сила русского
общества и мощь русского государства тесно и неразрывно связаны с
напряжением научного творчества нации». Некоторые из
употребленных здесь слов хорошо нам известны - они у нас на слуху; например,
слова «дальнейшая плодотворная научная работа». Но вот, должно
быть, и все, что тут для нас привычно. А вот «общественная слабость»
и «общественная сила», «сила русского общества», «мощь русского
государства»?! Когда мы последний раз слушали такие слова? И, нако-
278
нец, «напряжение научного творчества нации»! Какие это
замечательные слова, и как полны они простым и ясным ощущением
ответственности науки перед нацией и нации перед наукой и по существу столь
же простого и очевидного вхождения всяких подлинно научных
усилий в реальное дело нации.
Все это сказано высоким слогом. От благородства такого слога нас
давно уже отучили. И не только словами, но и делами: можем ли мы
наше литературоведение, положив на чашу весов все его несомненные
успехи и достижения, ни в чем не умаляя их, как-либо связывать с
«напряжением научного творчества нации»? Сколь бы ни были велики
достижения и успехи, и пусть они будут сколь угодно велики, мы никак
не сможем с чистой совестью соединять их с таким высоким
состоянием ума и с таким ответственным представлением о сути
происходящего - не сможем до тех пор, пока нет этого высокого осознания научной
деятельности как творчества, пока не распространилось в обществе
осознание общности всех научных исканий и устремлений, пока нет
ощущения единства всего совершающегося в науке. Все подобное, все
такое осознание и ощущение, только убывает и падает с годами в
нашем обществе, наука понимается все более техницистски и
прагматически, значит, обедненно и умаленно, занятия наукой все более служат
личным, лежащим за пределами науки, целям, и ежегодная толпа
диссертантов, защищающаяся ради защиты, ради общественного
положения в кастовом обществе (строго отмеряемого формальными рангами
или чинами), заранее согласная с любыми положениями и
предписаниями, готовая принять любые «принципиальные» положения и
предпосылки и изменять их согласно «указаниям» (будем смотреть правде в
глаза), не имеет ничего общего с «научным творчеством нации», была
бы непричастна к нему, если бы таковое имелось, если бы сознание его
наличествовало и было общим, общераспространенным, была бы
непричастна к его «напряжению» в сознании общих, общенациональных
целей и интересов. «Сила русского общества», «мощь русского
государства» - такие слова стали всем нам абсолютно чужды до полной их
неупотребительности; если мы и говорим еще о силе своего государства,
то почему-то связываем ее только с военной мощью государства, даже
и таковая представляется теперь многим если не сомнительной, то
непростительной и неуместной; связывать же научный труд, тем более в
так называемых гуманитарных областях, с мощью государства, а
прежде того с общенациональным научным творчеством, нам как-то не
приходит в голову. И если литературовед за своей порой мелкой, нужной
работой иной раз забывает обо всем на свете, и это только хорошо, и
это только необходимое условие настоящего труда (против чего
ополчаются все внешние обстоятельства жизни), то мы можем сразу же, в
первоначальных грубых очертаниях, различить два вида такого
«забывания обо всем»: один вид, душевно приподнятый и способствующий
успеху работы, - это тот, внутрь которого незаметно и, быть может,
вовсе не осознанно входит общее осмысление задач науки, общее
ощущение движения науки, далеко превышающее и интересы, и
возможности отдельного человека, и другой вид, в который вложена и в котором
не утихает гложущая обыденная забота или заглушающий все прочее
279
личный интерес, личная «корыстная» заинтересованность. Как и в
искусстве, в науке общезначимым и общеполезным может быть лишь
«бескорыстное» - то, что делается не ради личной «корысти», не ради
эгоистического «интереса».
Теперь, быть может, яснее делается то, зачем нужна нам антология
современного зарубежного литературоведения. У нее много задач: нам
необходимо оттенить свое, чтобы лучше понять его; нам необходимо
лучше научиться говорить на иных языках науки, чтобы лучше уметь
говорить на своем и свое. Наконец, иностранные цветы должны будут
обратиться для нас в шипы, колющие нас ради того, чтобы побудить
нас лучше сознавать, лучше понимать, что делаем мы сами. Этого
нельзя сделать, не осмысляя самую сущность науки о литературе. Это
неразрывно связано с такими проблемами, которые мы назвали бы
моральными или экзистенциальными. Без них тоже нет настоящего
литературоведения, коль скоро это одна из наук не только о «человеческом»,
но и о «человеке», о самом человеке, который всегда присутствует в
этой науке и который — даже если этого вовсе и не желает — всегда
раскрывает и себя самого через раскрытие того, что он исследует.
Другими словами, литературоведение — не из тех наук, которые в состоянии
представить отстраненную от человека, как бы отодвинутую в сторону
сумму знания, — такая сумма потом одинаково доступна для каждого,
одинаково и сейчас, и спустя тысячелетие, — а из тех наук, которые это
делать не в состоянии. Не в состоянии, потому что всегда, всякий раз,
когда внутри этой науки что-либо исследуется, завязывается своя
особая связь между человеком и его научным «материалом», связь
неразрывная, которая и сама подлежит исследованию. Сумма знаний, так
сказать, положительная сумма, какую несет с собой наука о
литературе, в самую первую очередь текуча, изменчива, относительна, не
полна. И дело даже не столько в этой положительной сумме, в которую
входит и огромное множество всякого рода «дат», сколько в сумме
«отрицательной», во все более ясном осознании относительности того, что
мы знаем и что нам доступно, и во все более ясном осознании поля
неизвестного и недоступного, которое окружает наше знание. Если нет
ощутимого давления всего неизвестного на сумму наших знаний, наука
бывает склонна к самоудовлетворенности, к самоуспокоенной
систематичности, к «догматизму», - тогда знание высказывается в
беспрекословной и не ведающей сомнения форме. Более отчетливое сознание
того, что наше положительное знание окружено со всех сторон
неизведанностью - также и всем тем, что с нашей точки зрения недоступно
и невоспроизводимо, - обостряет взгляд на вещи и придает
интенсивность исследовательскому процессу, наделяет его всей силой сомнения,
что ищет своего разрешения.
В этом отношении идущие из-за рубежа литературоведческие
тексты могут в известной степени служить нам голосами из
неизведанного. И тут нельзя не признать, что мое общее впечатление совершенно
совпало с ощущением вышецитированного советского автора, для
которого голос Дж. Хиллиса Миллера прозвучал «как голос с другой
планеты». Однако последнее — дело частное, признание в своей
неначитанности или в своем нелюбопытстве к тому самому, что потом представи-
280
лось нашему автору столь дорогим, что впору менять свое «я» на чужое,
с иным опытом. Дело же в существе: всякий голос изнутри чужого
опыта - это всегда голос из неизведанного. И этого, как ни сокрушайся по
поводу недоступности чужого опыта, никак не избежать. Иное, как и
наше незнание, невозможно упразднить. И даже не в том
неизведанность, что голос изнутри чужого опыта поведет речь о неизвестном нам
материале (этого ведь может и вовсе не быть, и материал как таковой
нам может быть известен), а в том, что через этот голос и в нем перед
нами откроются не испытанные еще нами способы постигать
литературу или комбинировать наше знание. Тогда это будут сущностно иные
взгляды - мы не обязаны принимать и разделять их, однако они входят
во всю полноту науки о литературе - одновременно в «сумму» ее
знания и в полноту ее незнания, которая может, однако, становиться
более осознанной и обозримой. К комбинированию знания, если только
речь не идет о механическом перетасовывании известных науке данных
и сведений, тоже нельзя относиться с легкомысленным
пренебрежением: всякое новое комбинирование, если оно внутренне обосновано,
охватывает надиндивидуальную, далеко не «субъективную», не
произвольную логику смены взгляда на вещи, логику, предписываемую в
конечном счете самой историей.
Это можно проверить на примере: русский реализм середины XIX в.
мы понимаем совсем по-разному в зависимости от того, включаем ли
мы в него творчество Пушкина или, скажем, проводим грань между
творчеством Пушкина, с одной стороны, и Гоголем и натуральной
школой - с другой, если, к примеру, мы, по примеру Иннокентия Анненс-
кого, сочтем, что резкая грань отделяет русский реализм и творчество
Льва Толстого и т. д.; в зависимости от перемены взгляда реализм
всякий раз будет обретать иное материальное наполнение, будет
по-разному трактоваться, вследствие этого изменится наше толкование и других,
прилежащих к реализму, соседствующих с ним явлений, возникнут
новые центры тяготения, соседствующие по времени создания
литературы либо сблизятся друг с другом, либо, вероятно, удалятся друг от
друга, несмотря на временную близость, любая даже чисто
хронологическая дата в пределах таких тяготений получит новое освещение, и все это
не будет, конечно, только делом чисто рационального выбора каждого
из нас на основе до конца просмотренных и обдуманных нами доводов,
но тут будет сказываться и известная историческая заданность, которую
каждый из нас подхватывает и по мере нашего осмысления всего
известного нам литературного материала и, в частности, даже по мере
наших склонностей, темперамента каждого из нас и т. д.
Позволю себе краткую ссылку на пример из области другого
искусства: для покойного Алексея Федоровича Лосева в истории музыки
резчайшая граница пролегала между творчеством А.Н. Скрябина и
С.С. Прокофьева - первое было для него величайшим выражением
сущности музыки при ее тончайшей психологичности, а второе
воспринималось как чисто механическое, как, собственно, не-музыка,
как ее отрицание, как измена ей. Речь идет, напомню, не о каком-то
случайном взгляде на вещи, а о взгляде глубоко музыкального челове-
'\. каким был А.Ф. Лосев, усвоивший музыку в определенной перс-
281
пективе ее истории, когда в центре, как самое большое событие и
историческое осуществление музыки, стоял Рихард Вагнер; в этой
перспективе и вырисовывался между Скрябиным и Прокофьевым
глубочайший разрыв, осмыслить который в столь резком виде не дано уже
никому из тех, кто, как слушатель, думающий вместе с музыкой,
сложился значительно позже, когда музыка Скрябина уже перестала быть
совсем новой и созданное Прокофьевым тоже видится в довольно
отдаленной и растянутой исторической перспективе, когда выявилось
уже множество связей его музыкального мышления и стиля с
мышлением и стилем композиторов прошлого и настоящего и т. д. Такой
обманчивый шок абсолютной новизны переживал, быть может, каждый
внимательный, а не случайный слушатель музыки. Литературовед же,
обживающий разные эпохи из истории своего искусства или,
возможно, только одну из них, делает тоже свой, хотя, вероятно, и не столь
непосредственный выбор между явлениями, он вкладывает в них свое
разумение, проводит в них свои границы, прислушиваясь при этом и
к традиции своей науки и разбираясь в ней. Конечно, он не проведет
внутри этого материала границ случайных, чисто произвольных, -
однако при условии, что он обращается со своим материалом (и с самой
своей наукой) серьезно, а не играет ею, ее приемами, ее подходами и
т.д.
* * *
Наука о литературе обманчива; разумеется, она не одна такая на
свете. Вот в чем состоит такая ее обманчивость: все, что ни станет фактом
науки, т. е. всякий литературоведческий текст, книга, статья,
заметка и пр., немедленно и как бы автоматически поступает в общий фонд
литературоведческих текстов и входит в историю науки. Такие тексты
обязаны входить в кругозор последующих исследователей —
специалистов по какому-то вопросу, затронутому в тексте; конечно, это в
идеале, потому что охватить литературу вопроса, даже и относительно
узкого, сейчас почти не под силу отдельному человеку. Тем не менее любой
литературоведческий текст, который считается таковым по внешним
приметам, уже вошел в науку и сделался ее фактом. После этого
можно сколько угодно «махать руками», доказывая несерьезность и
ненадежность такого-то автора, - его тексты можно только опровергнуть,
но нельзя отменить: пусть они ни на что не годны, они все равно
остаются хотя бы для истории науки и библиографии.
В литературоведении (как и в некоторых соседних с ней науках)
очень трудно отличить настоящую науку от наукообразия и
наукоподобия и соответственно довольно легко их смешивать, — критерий
настоящего, подлинного здесь всегда только внутренний, т. е. наука
как бы замкнута сама на себя, и ее подлинность поверяется лишь ее
подлинностью и засвидетельствуется только тем или теми, кто сам
приобщился к ее подлинности. Далее: подлинное в этой науке может
представать - и даже по преимуществу и предстает перед нами -
в обычаях, совсем не похожих друг на друга, в таких, в которых
сложились и образовали нерасторжимое целое потребность самой на-
282
уки, ее историческая логика, и личность исследователя. Поэтому о
подлинном нельзя судить по прецедентам или по их отсутствию, что
было бы критерием внешним.
Отсюда невольная беда такой науки: стоит чему-то нарушиться в
обществе, стоит сместиться представлениям о качестве научного
труда, стоит нам забыть о «напряжении научного творчества нации» или
о таких же высоких задачах, какие ставит перед собой наука, как
открывается простор для наукообразия и демагогии — раздолье для
самоупоенной раздачи званий, чинов и рангов. Все это прочно
поддерживается всей той же прискорбной особенностью этой науки - коль
скоро критерий подлинного здесь всегда только внутренний, в самой
научной общественности, которая по понятным причинам в большой
своей части состоит из лиц только еще учащихся, только еще
осваивающих свой предмет, легко стираются и лишь с трудом осваиваются
сознанием различия между подлинным и ложным, между наукой и
наукообразием. Именно поэтому здесь можно десятилетиями
«затирать» М.М. Бахтина, в высочайшем научном достоинстве которого не
усомнится в наши дни даже и тот, кто не согласится ни с одним из
центральных его теоретических положений, — в наши дни хотя бы эта
кричащая несправедливость исправлена.
Однако, что особенно печалит, у подобной несправедливости есть
свои онтологические корни - они в сущности самой науки о
литературе, которая обманчива в той мере, в какой критерий подлинного в
ней - исключительно внутренний. Как бы ни возмущались настоящие
исследователи несправедливостью, совершаемой по отношению к
одному из них, демагог всегда может цинично спросить их: а вы сами кто
такие? Им же не остается ничего иного, как либо ссылаться на свой
авторитет (а его может и не быть, если общественное мнение
дезорганизовано и дезориентировано), либо на свои опубликованные труды (но
может случиться так, что они и не могли быть опубликованы), т. е.
пользоваться внешним аргументом, который находится и в
распоряжении демагога (тот уж, несомненно, с легкостью публиковался).
«Обманчивость» науки, возможность чего заложена в ее
онтологическом статусе, в ее сущности, сказывается, естественно, не только в виде
таких социальных последствий, более или менее тяжелых и наносящих
ущерб науке, но и внутри самой науки, в том, как ее строят, как ее
понимают. Тут есть две всем прекрасно известные крайности — одна
заключается в преувеличении научности науки о литературе, другая же в
недооценке ее научности. Разумеется, две эти (часто встречающиеся)
крайности упускают из виду настоящую научность литературоведения, т. е. то,
в чем оно есть наука и может быть наукой. Одна крайность - ее можно
представить себе и как вполне оправданную защитную реакцию, как
меру для охранения науки против недоверия и враждебности, - такова,
что науку уподобляют наукам, весьма далеким от литературоведения,
таким, как математика или логика. Эти науки, с их решительно
отличающимся от литературоведения внутренним статусом, характеризуются еще
и тем, что добытое ими положительное знание прекрасно сохраняется -
вспомним хотя бы аристотелевскую формальную логику или геометрию
Евклида, изучавшиеся даже и на нашей памяти в школах, когда там еще
283
преподавали что-то реальное. И та, и другая, логика, и геометрия, так и
не были опровергнуты в процессе развития науки, —лишь область их
значения, их применимости существенно сузилась.
Помимо логики и математики, прежде всего ее оснований, есть и
иные науки, круг которых более широк, где истина перекладывается
в метод и таким образом правильность применения метода
гарантирует научность, подобно тому как в математике правильность вывода
гарантируется, если соблюдены правила вывода из заданных аксиом. К
такому широкому кругу наук, которые перекладывают вопрос об
истине в метод, и тяготеет литературоведение тогда, когда стремится
твердо встать на почву научности или, говоря иначе, обрести внешний
критерий своей подлинности. Представители такой науки о
литературе должны тогда в той или иной форме заявлять о том, что они-то и
располагают гарантирующим истину, верно выбранным методом. Эта
тяга к научности единственно спасительного метода вполне понятна —
только чисто по-человечески. Если же посмотреть на историю, то
можно убедиться в том, что наука о литературе в Новейшее время,
стало быть, с тех пор, как была разорвана замкнутость чисто
риторического знания о литературе, с начала XIX в., только и делала, что
наконец-то вставала на ноги как настоящая наука. Так это было в эпоху
формирования сравнительно-исторического метода в языкознании,
затем в эпоху естественнонаучного позитивизма с его индуктивными
методами, затем в формализме и почти одновременно в вульгарном
социологизме, осваивавшем азы марксизма в качестве единственно
верного метода, затем в 1960-е годы во время весьма впечатляющей
вспышки структурализма: всякий раз литературоведение заново
основывалось как наука - наконец-то как наука!
Вот как в начале XX в. выглядело в глазах представителя нового
поколения, Рудольфа Унгера, позитивистское новообоснование
литературоведения как науки, совершавшееся столь влиятельным
Вильгельмом Шерером: «Подобно тому как за несколько десятилетий до этого
Лахман и Гаупт ввели в германистику строгий, прорабатывавшийся в
течение столетий метод классической филологии, теперь и история
более новой литературы должна была в полном объеме и со всей
строгостью подчиниться тому же методу. Казалось, что благодаря этому и для
этой дисциплины, в которой дотоле царил аметодичный дилетантизм
и не ведающий принципов произвол, пробьет час и начнется период
настоящей научности и строго упорядоченного исследования <...> С
полной аналогией методу классической и германской филологии в
центре исследований по истории новейшей литературы должны были
оказаться интерпретация и критика текста - деятельность
основополагающего порядка. К таковой же обязаны были примкнуть формальная
и содержательная обработка материала: с одной стороны, языковые,
стилистические и метрические исследования, с другой - вопросы
истории возникновения, авторства, источников, истории сюжетов и
мотивов, композиции, типов, тенденций, заимствований, аллюзий и
намеков, образцов, влияний, обработок, восприятия современниками,
критических оценок, воздействий <...> Все эти разделы
филологического метода нужно было довести до той же технической надежности и
284
точности (Präzision), какими уже обладали они в области классической,
а отчасти и германской филологии, занятой древними периодами
истории литературы. Зато все философское, что до того времени играло
столь значительную роль в истории новейшей литературы, нужно было
по возможности совершенно устранить из нее. Хотя об этом и не
всегда говорили вполне откровенно, философские приемы считались в
этой области более или менее дилетантскими, хотя Рудольфу Гайму,
Фридриху Фишеру и Куно Фишеру и не отказывали в признании, —
начинающих же филологов обязывали ограничиваться строго
филологической точностью (Exaktheit)»68.
Строгость, точность и отточенность! Теперь, спустя целый век
после этого позитивистского переустройства науки о литературе,
совершенно понятно, что уроки его не прошли даром, — не будь в науке о
литературе этой близорукой, в сущности, реакции против
философского, «рассуждающего» литературоведения, не состоялось бы и новое
сближение знания о литературе с философией на идущей от В. Диль-
тея линии традиции. В. Шерер подвергает литературоведение
строжайшей дисциплине послушания, в которой не столько на самом деле
вырабатывались какие-то действительно «строгие» методы, сколько
осваивалась внутренняя область литературоведения и расчислялись и
расчленялись по отдельности все те темы, которыми должна
заниматься наука о литературе и издающий тексты филолог как главный ее
представитель. Это размежевание тем и соответствующих им
внутренних отделов науки — которые столь дотошно перечислил Р. Унгер, —
и осталось в памяти науки, так что позитивистские уроки не прошли
для нее напрасно, как и уроки филологической аккуратности, той «ак-
ривии», с которой, правда, литературоведы позитивистского
направления далеко не всегда были в ладах и которая совсем
безосновательно смешивалась с точностью других, нефилологических наук. Новоза-
явленная строгость науки не привела к тому, чтобы наука о литературе
была впервые основана, зато был проведен эксперимент
(впоследствии он еще не раз повторялся в истории науки) по ее изоляции,
«самозамыканию» от философии и других наук о культуре. Не будем
забывать о том, что такой крайне односторонний эксперимент
проводился тогда, когда само историческое существование науки
осмыслялось как развитие и прогресс, а потому он и пошел на пользу
становлению науки: она действительно берет себя в руки, осваивает и в
этом смысле становится все более «научной». Однако совсем не
случайно произошло то, что наука, только что призванная служить
единственно и исключительно верному научному методу, вскоре после этого
испытала большие методологические затруднения (это уже в поколении
Р. Унгера), оказалась перед необходимостью заново продумывать свою
сущность, задачи и цели, которые, стало быть, утратили свою
очевидность, и вынуждена была перейти к тому методическому разнобою, к
той разноголосице, которые отняли у нее внутреннее единство,
сознание общности, а в последние десятилетия привели и к небывалому
плюрализму как бы независимых друг от друга, глухих друг к другу
методов. Так что филологическая строгость, внушавшаяся В. Шерером,
причем в качестве первого и последнего обоснования науки, оказалась
285
лишь прологом к беспримерным и безысходным испытаниям
самоосмысления и самообоснования. Нет ничего в истории науки
бессмысленного, и, пока наука развивается и понимает себя как развитие, она
чувствует потребность полагать себе новое начало.
Такое многократное новопорождение литературоведения как
науки тоже обладает своими онтологическими корнями в его
сущности и выявляет бытийный статус литературоведения, - наука о
литературе по своей сущности, по своей бытийной природе такова, что
она вынуждена всегда начинать с самого начала, - хочет этого
исследователь или нет, по душе это ему или нет. Однако к этому началу мы
еще должны будем вернуться.
Есть ведь и другая крайность - тогда, видя безуспешность все
нового и нового обоснования литературоведения как науки, вовсе
отказываются от научности знания о литературе и, так сказать, отдают
свою мысль на произвол стихий. Чтобы поступать так, надо быть
уверенным в том, что в науке о литературе нет ничего, кроме всего
непосредственного, что литературовед только тем и занимается, и должен
заниматься, что излагает эти непосредственности в особо совершенной
и изящной форме, становясь то ли писателем, то ли эссеистом, то ли
соединяя в себе писателя, философа, критика и мыслителя «вообще».
Критерий истинности здесь так или иначе — совершенство
изложения, собственно говоря, совершенство стиля изложения, которое и
может отличаться самыми несомненными достоинствами. Правда,
такой литературовед будет еще иметь дело со множеством всякого рода
«дат», данных, будто бы независимых ни от чего, ни от какого
метода, он будет с радостью пользоваться результатами чужих
исследований, добытых совсем не по его рецепту непосредственности, и будет
и во все остальном следовать принципу непосредственности. Так, он
будет твердо верить в правильность своих, и только своих
интерпретаций литературных произведений, потому что только они не
надуманны, а по-настоящему непосредственны, и будет все тверже верить
в свою непосредственность как принцип, безусловно верный и не
подлежащий никакому сомнению. Остальным же, кто верует в свою,
а не в его непосредственность, пусть будет хуже.
Такое «обожествление» своей непосредственности, - будто бы
совершенно непосредственно проявляющейся, - как будто вырывает
исследователя из всякой истории, даже из всякого движения вообще.
Как интерпретатор литературных произведений он, например, обязан
позабыть о том, что нет и не может быть «самой последней»
интерпретации, и не потому, что сколько читателей, столько и пониманий, а
потому, что движение истории непременно ведет к сущностному (не
случайному!) изменению взгляда на произведение. Между тем такой
затрагивающий на всем непосредственном исследователь становится
выразителем своего исторического момента, его голосом, иногда
блестящим! То, что для него истинно, потому что непосредственно, то для
истории - и для внутренней логики самой науки - один момент, и
отчетливое выражение такого момента ценно для истории науки. Наука
для такого исследователя всего только начинается и никуда не
продолжается, он всегда находится где-то поблизости от своих начал, по-
286
добно тому как древние греки, плавая на своих кораблях, всегда
держались берегов, суши. Можно, не боясь, сказать, что такой
исследователь на деле дорожит тем, что для науки о литературе существенно,
и опасается оставлять эти дорогие для нее начала. В то же время он
выступает как настоящий эксплуататор, потому что на каждом шагу
пользуется книгами литературоведов, историков и теоретиков
литературы, добывавших знание отнюдь не по его способу, - без них он не
мог бы и существовать, потому что вопреки убеждению в собственной
непосредственности выступает как их отрицатель, пользующийся
чужим урожаем, но отвергающий способы, каким он был выращен и
получен: таково уж высокомерие литературоведческого эксплуататора,
такова его барская психология...
Живое литературоведение, очевидно, располагается между своими
крайностями и их соединяет; оно избегает того, чтобы боготворить
метод, храня свободу в отношении любых методов, и избегает мнимой
непосредственности, которая в руках даже самого непосредственного,
пестующего свою непосредственность исследователя изобличает себя
как вторичность.
Литературоведение есть то, что оно было и есть; такое
малоутешительное на первый взгляд утверждение означает то, что наука о
литературе с тех пор, как она стала наукой истории литературы, была тем, чем
могла она быть по своим внутренним условиям, по своему
внутреннему устроению, по своему онтологическому статусу, и ничем иным; она
была выявлением тех возможностей, какие осуществились в ней во
взаимодействии со временем, с условиями эпохи и всеми прочими
историческими обстоятельствами; в том числе она была и своими
собственными крайностями, которые тоже реализовались по мере внутренних ее
возможностей. И всякие крайности это тоже принадлежность науки о
литературе, ее истории, и они тоже не могли в ней не проявиться, и они
как раз и очертили круг возможного для нее. Литературоведение было
тем, чем было, и в этом большое для нас утешение — мы спокойнее
можем брать все, что было, и на все смотреть без гнева.
* * *
Какие следствия проистекают для нас из того, что наука о
литературе выявляла и преодолевала, соединяла и опосредовала свои крайности?
Первое из них и самое важное - вся литературоведческая мысль
безусловно протекает на поле теории. Эту теорию, на поле которой
заведомо располагается литературоведческая мысль, нельзя, правда,
понимать как умозрение, как созерцание («спекуляцию» в буквальном ее
разумении). Но нельзя ее понимать и как такую теорию, какую принято
излагать как сумму общего знания о литературе — притом в
противопоставлении ее истории литературы. Вот такие отдельно взятые теории
литературы и история литературы, как если бы можно было по
отдельности излагать «умозрительную» теорию литературы и историю
литературы как собрание ни от чего не зависящих, как бы положительных и
абсолютных в себе данных и всякого рода сведений относительно
литературы, притом в отрыве от любого «умозрения», — такие отдельно
287
взятые предметы весьма сомнительны. Мы вот только что сказали, что
наука о литературе стала наукой истории литературы, - она стала
таковой, как только распалось единство риторического знания, а это
окончательно произошло довольно-таки поздно, - и все дело в том, что в
этот самый исторический момент история, или историческое
движение, вошла в самую сущность новой науки о литературе. Наука о
литературе сделалась наукой истории литературы в том смысле, что
развитие или движение литературы (последнее из двух слов - движение, быть
может, и точнее, и общее первого, - развития) стало неотмыслимым от
самой литературы. Это, конечно же, сразу отменило представление о
теории литературы как о таком знании, которое способно что-то
говорить о литературе «вообще», - литературы «вообще», строго говоря,
вовсе не стало, потому что оказалось, что и литература постоянно
движется, или развивается, и даже - мало того - само понятие
«литература» не стоит на месте, а порой решительно видоизменяется. Поэтому
само литературоведение есть наука о том, что постоянно движется и
нарочито, в подчеркнутом смысле слова, не равно себе. Вот почему с
этих пор - с тех пор, как история вошла в сущность литературы, с тех
пор, как история со-мыслится в понятии литературы, - наука о
литературе стала в самом глубинном своем существе наукой исторической.
Однако я только что говорил о том, что всякая литературоведческая
мысль протекает на поле теории. Такая теория есть не что иное, как
совокупность тех предпосылок, без которых и помимо которых мы не
можем высказать даже и самое простейшее суждение, относящееся к науке
о литературе. Сюда входит и весь наш опыт общения с литературой, и
знание литературы, какое присуще каждому из нас, сюда входит и то, что я
назвал «аксиоматическими» положениями науки, которые действуют
совершенно автоматически и до поры, до времени исключают всякую
критику и не становятся предметом рефлексии, - иначе говоря, сюда входит
все то, что мешает нашим суждениям о литературе в рамках науки о
литературе быть чем-то непосредственном. Всякая кажущаяся
непосредственность в этой области погружена в рефлексию - в обилие
выявленных и невыявленных опосредовании, поставлена на почву допущений и
предпосылок, она заведомо теоретически обоснована, и притом самым
фундаментальным образом. Теория литературы может спокойно брать
начало с выяснения того, что мы знаем, что мы думаем о литературе, и тут
же должно приходить понимание того, что все то, что думаем «мы», - это
элемент, или звено, исторического движения мысли о литературе. И хотя
практически литературовед очень часто по ходу дела занимается
совершенно частными вопросами, входящими в поистине необъятный круг
литературоведения, - он может, к примеру, долго и упорно выяснять дату
рождения поэта или писателя, историю создания какого-нибудь
стихотворения и т. д. и т. п., - все равно его вопросы в конечном счете опираются
на ту же почву теории и истории, которые переплелись вместе и
обосновывают и определяют друг друга. Исследователь может не вспомнить об
этом, но все равно это так. Он сам во всем своем мышлении литературы
определен этой всегда изменчивой, всегда зыбкой, неустойчивой почвой.
Теперь несколько слов о ее зыбкости - это тоже присущее самой
онтологии науки о литературе свойство. Когда история входит в самую
288
сущность литературы и с тех пор, как это произошло, сама-то
история — сама эта вошедшая в понятие литературы история — движется,
подобно тому движется и само понятие «литература». Наше
понимание того, что такое литература, изменяется, хотя порой оно и
устанавливается, как представляется, на века, и точно так же изменяется -
кажется, даже быстрее — наше понимание того, что такое история. И
вот то, как именно мы мыслим историю, определяет то, как мы
понимаем историю литературы.
Изменения лежат тут даже и на самой поверхности, хотя по
существу они уходят в глубь нашего миропонимания и не всегда уследимы -
они во многом ускользают от нашего постижения. Но и на
поверхности они бывают заметны - потому что если мы попытаемся свести
историю литературы к самому внешнему, что только может быть, к
перечислению в хронологическом порядке имен писателей и их
произведений, то мы увидим, что с каждым поколением понимание того, как
можно и как следует делать эту, казалось бы, совершенно внешнюю
вещь, заметно меняется. Итак, литература - это не только всегда,
всякий раз литература в ее истории, в ее движении, но движется и то, как
мы понимаем эту историю. И мы сами тоже меняемся, пока меняются
времена. Не только движется и изменяется то самое, что мы изучаем,
не только движется и изменяется все то, что мы изучаем и
продолжаем изучать, но движется и изменяется и то, что познает, - и те, что
познают, тоже изменяются. В науке о литературе совершается
одновременно несколько движений исторического - и «сама» история, которую
изучают, не стоит на месте, и тот, кто изучает, погружен в движение. Вот
настоящая сложность науки о литературе - она требует, чтобы эти
движения исторического относительно друг друга входили в сознание
литературоведа, учитывались и рефлектировались им - все это движение
в разных плоскостях и должен осмыслять литературовед. А поскольку
это немыслимо на основе каких-то схем, расчетов и умозрительных
построений, которые упростили бы дело, переведя его во что-то внешнее,
то литературовед должен приучиться к внутреннему соуравновешива-
нию всего того, что заведомо скользит одно относительно другого.
Науку о литературе нередко переусложняют - тогда, когда
представляют себе ее как здание, которое возведено самим методом:
такое замысловато спроектированное и чрезвычайно обширное, почти
необозримое здание, которое совершенно отстранено от каждого
конкретного человека, которое выдает себя за нечто абсолютно
непреложное, - оно подлежит разве что вызубриванию, потому что оно
ни для кого внутренне не воспроизводимо. Такая наука состоит из
формул, которые ни очевидны, ни доказаны, но требуют принятия
себя на веру и обещают успех тем, кто научится ловко пользоваться
ими. А формульность науки выдает себя в литературоведении
стереотипностью мысли и стиля. Часто эту же самую науку представляют
себе и до крайности упрощенно: что ни напиши о литературе, все это
сразу же оказывается наукой, а из зеленого студента без промедления
выходит готовый теоретик или сложившийся историк литературы,
который будет упрямо стоять на своем и, главное, будет с
необыкновенным почтением относиться к своим собственным мнениям.
289
Однако для науки о литературе, чтобы исследователь мог
соответствовать ей, ее внутренне строгим требованиям и критериям,
необходимо, чтобы знание о литературе отразилось в человеке, в личности, и,
заново подуманное, уложилось в своей новой, особой форме и чтобы
прошло увлечение всем внешним: словами, терминами, схемами,
методами — всякими демонстрациями мнимой неподвижности знания.
Упрощенные же представления о науке естественным образом сходятся с
представлениями переусложненными - о науке как отстраненной
громаде непоколебимого будто бы знания; сходятся потому, что именно в
такое здание удобно приносить и подкладывать что-либо свое, -
можно таким способом заявить о своих правах на все это сооружение,
между тем как само здание, никем не контролируемое, не охраняемое, не
соответствующее никакому субъекту знания, ни на что не реагирует —
это само воплощенное научное равнодушие и безразличие.
На самом же деле наука о литературе не вправе отрываться от
носителя знания, и литературоведческое знание, по всей видимости,
живо лишь до тех пор, пока оно есть чье-то знание. И в самом
материале этой науки нас постоянно дожидается, и очень часто тщетно,
кто-то — тот, чей смысл мы стремимся постичь в своих занятиях
литературой. Рассуждая о так называемом «историзме», нередко весь
этот принцип историзма сводят к тому, что произведения литературы
необходимо рассматривать в связи с эпохой, когда они возникли, -
однако это элементарное и крайне бедное представление, почти не
поднявшееся над позитивистским представлением о «среде», правда,
всегда готовое вписывать в себя разного рода односторонние взгляды
на то, как вообще протекает история — как она, так сказать, обязана
протекать. Историзм, этот охотно принимаемый принцип, должен
был бы докапываться до самого выражаемого в произведении
мышления истории - со всей возможной в нем противоречивостью. Но мало
этого - следовало бы, раскапывая прошлое, задумываться и о своем
собственном понимании истории, о том, как влияет она на наше
представление о мышлении истории, какое уже относится к
прошлому, как эти представления, наше и прежнее, былое, воздействуют друг
на друга, в какой мере исследовательское представление мешает
понять ему чужое и прошлое, мешает ему мыслить иное, не свое в его
конкретности, в какой мере они, возможно, находятся в генетической
зависимости — позднейшего от более раннего — и какими звеньями
они соединены. Можно даже думать, что раскапывание прошлого,
если оно доходит до того, что мы начинаем осознавать, как и сколь
особенно мыслится здесь движение времени, непременно приведет
нас к тому, что мы лучше узнаем себя и вдруг увидим свое мышление
в его конкретной особенности. Историк литературы - он же всегда, с
самого начала (или, лучше сказать, еще до самого начала) и
теоретик, - наверное, лишь тогда добирается до самой сути дела, когда,
занимаясь прошлым, начинает что-то осязаемое узнавать и о себе
самом, и о своем времени. Быть может, перед ним явственнее выступят
даже какие-то тенденции, ведущие в будущее. В будущее с его иным
мышлением истории, в будущее, подготовляемое нашим, не во всем
нам ясным и доступным мышлением истории.
290
* * *
Литературоведение в том, каково оно, что оно такое, определяется его
связью с жизнью; то, что называется онтологией литературоведения,
со-определяется с этой связью. Все истинное, что мелькает в этой
науке, что нередко фиксируется ею как момент истины, - это всегда чье-
то истинное, всегда чья-то истина, и сам «материал», каким
занимается наука о литературе, это всегда чей-то «материал» - не какой-то,
скажем, вечный смысл, а такой смысл, который всегда кем-то
осмысливается, осмысливается тем, кто его задумывает и создает,
воплощает, осмысливается теми, кто его заново продумывает,
восстанавливает для себя. Истины науки о литературе - совсем не те истины, о
которых Бернард Больцано, великий логик, математик, богослов и
философ, мог с полным основанием полагать, что они выше даже и
Бога, который, так сказать, хочет или не хочет, а обязан их мыслить.
Литературоведение совсем не с таким имеет дело, а с льющимся и
текучим, с движением смыслов, с определенной, особо и условно
выделяемой стороной движущейся истории.
Вот почему наука о литературе — всегда при своих началах; она
всегда пребывает при своих началах и не может оторваться от них. Сколь
бы колоссальное знание ни влачила она за собой, это знание всегда
должно как бы приспосабливаться к тому, что наука все равно,
несмотря ни на что, вот только что теперь начинается. Что касается
сложности литературоведения, то оно, очевидно, сложно не потому,
что это слишком «большая», обширная, слишком развившаяся,
развернувшаяся и расстроившаяся наука, а именно потому, что знание в
этой науке невозможно раз и навсегда удобно «упаковать» (и затем
носить его с собой, передавать другим в такой удобной упаковке).
«Упаковка» в применении к знанию - это, кажется, новое и
довольно модное слово; так вот литературоведение трудно и сложно
вследствие невозможности удобно упаковывать знание. Не будь этого, оно
было бы совсем просто — или вовсе не было бы наукой.
Начала науки о литературе, те самые начала, без которых она не
может обходиться, те самые, которые должны всегда оставаться при ней и
к которым она должна постоянно приникать, при всей своей важности
и солидности своего возраста, - естественно ведут нас к акту чтения. На
актах чтения, в которых осмысляются создания литературы, в которых
они заново восстанавливаются и в которых, постоянно заново
восстанавливаясь, они движутся в истории, на этих актах чтения и зиждется
все литературоведение, - в каких бы отдаленных от чтения специальных
областях оно потом ни основывало свои колонии. Причем
литературоведение зиждется не на каких-то особенных, ученых, многомудрых
актах чтения, а на тех бессчетных простых и в массе своей
незамысловатых и безыскусных актах чтения, которые уже даже слишком
претенциозно и называть «актами». Мы все, в общем, если не испортили себе вкус
к чтению, читаем просто; чтение совершается в незамысловатой
простоте, в которой литературное произведение, если оно настоящее,
подлинное, творит с нами чудо, о котором философ Мартин Хайдеггер писал
примерно так: мы были здесь, а одновременно побывали где-то еще, в
291
иной действительности. «Мы» тут нужны, чтобы творить такое чудо
искусства, однако это читающее «мы» или это читающее «я» выглядит
довольно бледно в таком со-творении чуда, хотя оно и непременно
нужно здесь. Чудо — в творении особой действительности, которая
объединяет наше «здесь» и свое «там»; как только настоящее создание
литературы, поэзии по-настоящему читается, так и возникает это чудо.
Правда, большая часть литературных произведений далеко не
чудесна, а большая часть «актов чтения» слишком несовершенна,
чтобы что бы то ни было творить. И тем не менее наука о литературе
стоит на этих актах— на целом безбрежном океане «читания».
Когда литературовед занимается своей дисциплиной, он либо так или
иначе осведомлен о совершающемся в чтении чуде искусства, либо
вообще не подозревает о нем... Литературовед сам по себе может
вовсе не заниматься толкованием литературных произведений, их
интерпретаций, он вправе вообще даже не интересоваться этим. И
все же и он тоже стоит на почве без конца производящейся
интерпретации произведений, а интерпретация как нечто более
специальное, требовательное, пристальное держится на поверхности океана
чтений, т. е. самых разных пониманий, осмыслений, оцениваний
самых разных литературных произведений. Бывает, что
литературоведы поправляют и одергивают читателей, дают им советы, как и что
читать; еще больше занят этим толкующий произведения критик.
Однако и тогда, когда литературовед поправляет читателя, доказывая
ему, что понимать произведение надо совсем иначе, и ценить его
совсем не так, как ценит его читатель, он, литературовед, все равно
зависит от читателя или, точнее, от читания как жизненной стихии и
опоры (сколь же непрочной!) литературоведения. Недаром немецкий
математик и философ Оскар Бекер столь выразительно писал о
хрупкости подлинного искусства, вслед за К.В.Ф. Зольгером.
Литературовед, даже самый сухой и даже самый нечитающий на свете (если
бывает такой), все равно носит в себе читателя и носит в себе образ
читателя. Даже самый высокомерный литературовед носит в себе
простого читателя, значит, такого, который читает просто,
безыскусно и незамысловато, т. е. так, как и нужно читать настоящее
произведение искусства, - без придирчивости, без надменности, без ложно-
мудрия, без того, чтобы что-то строить из себя, лукавить и хитрить.
Впрочем, и все последнее тоже растворяется во всепоглощающем
океане и тем почтеннее чтение по примеру Петрушки из «Мертвых
душ». Корявое или уверенное - все равно все в одном океане, а этот
океан в свою очередь как-то влияет на всякий отдельно взятый акт
чтения, влияет незаметно, но верно — влияние складывается из
тысячекратных мелких воздействий (чужого, да и своего прошлого
чтения).
Особо выделяемый акт чтения - это тот, с которого начинается
наука, начинается интерпретирование уже как специальная ученая
задача, начинается осмысление того, что читается, осмысление тех
смыслов, которые осмысливаются и восстанавливаются в чтении.
Очень хорошо рассуждает об этом швейцарский литературовед Клаус
Веймар в своей «Энциклопедии литературоведения», т. е. во «введе-
292
нии в литературоведение», написанном с непретенциозной
искусностью в общении с читающим книгу студентом, без навязывания
каких-либо готовых формул в качестве непреложных истин69. К.
Веймар написал так: «Чувство беспомощности перед литературным
текстом — одно из самых драгоценных, какие только есть. Храните его
в себе ради всего святого. И не позволяйте переубеждать себя
необходимостью учиться умствованиям70 виртуозов. Потому что это
чувство беспомощности есть национальное соответствие
фундаментальному рефлексивному уразумению того, что мы, разумеется, никоим
образом не схватили смысл текста в самом первом акте понимания
его. Каждый знаком с таким чувством. В нем указание к
интерпретации, к рефлективному разумению. А тот, кто делает вид, будто это
чувство ему незнакомо, будто интерпретация достается ему так, как
падает осенью лист с дерева, тот - ну хорошо, я отказываюсь от
продолжения фразы»71.
Я привел это выдержку, полностью соглашаясь с главным в ней.
Простой акт чтения и интерпретации как факт науки — они разделены
между собой внезапным осознанием своего неведения или своей
неспособности что-то прибавить к впечатлению от литературного
создания: я знаю, что я ничего не знаю. Светлая мысль! Тут произведение
переводится нами в поле неизведанности, возникая в нем как
существенная загадка, вместо того чтобы мы (как то нередко бывает)
набрасывались на него с готовым инструментарием фраз и приемов; вот
именно в этот миг неведения начинает зарождаться научная мысль о
литературе (что еще не гарантирует ее вызревание до конца) и в
очередной раз рождается, поначалу еще опять не умея говорить, наука о
литературе. Всякое знание в этой науке добывается — или по крайней
мере должно было бы добываться - с обостренным ощущением краев
нашего знания (за которыми продолжает простираться неизведанное
нами). Правда, литературное произведение вовсе не обязано
ошеломлять нас своей непонятностью - пусть только при самом первом
чтении. Ведь бывает иное - когда произведение ошеломляет нас явленной
полнотой своего смысла и естественностью своей понятности. Той
естественностью, с которой оно сразу же «вбирает» нас в себя, делая,
творя нас прямыми свидетелями своего созидаемого смысла. Это
прекрасно известно каждому из нас по шедеврам русской реалистической
литературы. Именно эту естественность смысла литературовед должен в
дальнейшем анализировать - в ней сомневаясь, а еще больше
сомневаясь в себе, чем в ней. И здесь тоже акт чтения'разделен с
интерпретацией порогом неизведанности, робости перед тем, чтобы говорить от
себя, от своего имени. К. Веймар, насколько можно судить, более
знаком с той литературной ситуацией, какая типичнее не столько для
самой западной литературы, сколько для одной давней традиции ее
истолкования. Тут литературное, поэтическое произведение
действительно рисуется в первую очередь как непонятное, своей непонятностью
ошеломляющее, а часто так и преподносит себя, — как создание
слишком теоретическое, умственное, чтобы поддаваться простому акту
чтения, слишком искусное, чтобы кто-либо мог разобраться в нем с
первого раза. Однако, как кажется, К. Веймар в следующем параграфе не-
293
сколько поправляет себя, формулируя такой тезис: «Талант и умения
литературоведа развиваются пропорционально способности
объективировать свое первое понимание и обращать к нему свои вопросы»72.
Вот самый корень науки о литературе, вот извечное начало, в какие
бы дальние отделы науки ни заносила филолога его жизненная судьба.
* * *
В книге К. Веймара есть такой тезис (§ 376): «Благодаря
герменевтике литературоведение получает обоснование в качестве
самостоятельной науки».
Хотя читателю может показаться - автор говорит здесь не о том, что
литературоведение впервые утверждает себя как наука, а только о том,
что она приобретает особо самостоятельный статус, - это все же не так,
и К. Веймар, как бы далека ни была его книга от обыкновенных
школьных введений в литературоведение, тоже разделяет старую иллюзию:
наконец-то литературоведение рождается как наука, и может
обосновать себя, и получает в свое распоряжение твердый метод и т. д.
Многие, наверное, согласятся со мною: в истории науки
собирается не только коллективная мудрость поколений, но собирается и
залеживается и коллективная глупость. Естественно, есть одно оружие
против нее - это рассуждение, осмысление, рефлексия. К. Веймар
знает, сколь превосходно это оружие, и совершенно справедливо он
пишет о роли рефлексии в науке о литературе, о ее идеальной роли:
«Герменевтика двояким образом обосновывает научность
интерпретации: во-первых, она сама по себе есть основа научности
интерпретации, потому что лишь благодаря ей понимание становится
пониманием рефлектируемым, приобретает и сохраняет* процессуальную форму
понимания; во-вторых, герменевтика всегда, в каждом отдельном случае
указывает причину, для чего необходима тут рефлексия, - чтобы
вывести понимание из плена самообмана, недоразумения и неразумия <...>
в поэтике и герменевтике нельзя в конце концов сделать и шага, - сколь
бы несовершенен он ни был, - который ускользнул бы от «третьего
глаза» рефлексии»73.
Как бы замечательны ни были эти слова, в них запечатляется все та
же иллюзия - словно вместе с герменевтикой идеальность научных
требований воплотилась (наконец-то!) в действительность и отныне
гарантирует научность («герменевтика <...> сама по себе суть научность
интерпретации»), а сознание науки выведено за пределы ее
онтологически заданных осложнений и движущихся, непрочных оснований и
твердо встает на свою собственную почву. Безусловно верно иное - со
всяким новым своим обновлением наука о литературе испытывает
некоторую встряску, во время которой она отделывается от известных
своих иллюзий, «чтобы вывести понимание из плена самообмана,
недоразумения и неразумия», или, вернее сказать, во время которой
наука получает возможность расстаться с рядом своих иллюзий, а также
имеет возможность не приобретать иллюзий новых. Все это дает шанс
прояснить онтологический статус науки о литературе. И это, можно
сказать, делает науку о литературе в большей степени ею самой — уже бла-
294
годаря тому, что множит ее исторический опыт и, так сказать,
открывает ей глаза на ее сущность.
Однако все это отнюдь не придает науке о литературе прочности, —
если не говорить о большей прочности ее знания о себе. Сама же
наука, чем больше она знает сама себя, тем более непрочной становится,
и это так и должно быть: чем понятнее, что эта наука имеет дело с
движущимися относительно друг друга сторонами, чем понятнее, что таких
сторон открывается все больше, — и само герменевтическое сознание
укрепляет в нас знание подобного движения, - тем меньше надежды на
какие-либо жесткие контуры и координаты «здания» науки, тем
труднее формулировать что бы то ни было в пределах такого знания, тем
условнее и относительнее всякое суждение, тем больше опасность все
условное и относительное принимать за своего рода буквальность и
строить на нем и ради него твердые методологические каркасы... Иначе
говоря: чем относительнее, чем подвижнее в себе знание, тем легче
строить на нем какой-либо научный метод (все более и более частного
свойства), тем легче отрывать одну, обособленную сторону целого от
всего остального, а это вполне соответствует представлению о
литературоведческой науке как огромной сумме самых разных, идущих в
разные направления отдельных, независимых друг от друга методов. Так
что новые возможности прояснения сущности науки на деле влекут за
собой все большие возможности утраты знания о такой сущности. Чем
шире и настоятельнее входит в науку о литературе существенная
рефлексия ее сущности, а это значит - и ее исторических основ, тем
больше опасность, что об этой сущности будет забыто.
К этой существенной хрупкости, или шаткости, науки о
литературе, - любая попытка строить твердыню знания изменяет
наиэлементарнейшему, что лежит в ее основе, - принадлежит и то, что она,
словно Рай в клопштоковской «Мессиаде», не защищена снизу (да и
ни с какой иной стороны): Жан-Поль шутил в свое время, что, пока
ангелы строят укрепления по всем сторонам Рая, черти
беспрепятственно проникают в него снизу. Вот примерно так поступают - как
ангелы — и сторонники литературоведческих методов, включая даже и
тех сторонников, которые с предельной чуткостью ощущают
позитивные возможности новой литературоведческой рефлексии. Они,
возможно, недооценивают, помимо общей совокупности сложностей,
еще и весь широкий, как бы поминутно втекающий в нее поток
«сырого вещества», поток живых впечатлений, суждений, оценок,
осмыслений — всего того, что можно назвать непосредственным (кажется,
теперь уже ясно, насколько способно само это слово -
«непосредственное» — вводить нас в заблуждение). Недостаточно сказать, что
все это «непосредственное» - донаучно, что теперь придет черед
рефлексии, которая должна взять теперь все в свои руки и поверить.
Этого недостаточно, на мой взгляд, уже потому, что сама эта
рефлексия незаметно и незримо подготовлена тем самым живым потоком —
настолько им подготовлена, что в нем наперед заложено даже и то, что
мы время от времени будем обманываться, полагая, что вот наконец мы
в состоянии обосновать подлинно научное литературоведение. И все
же - рефлексия и рефлексия! Рефлексия как единственный способ
295
схватить нечто осязаемое в нашей мысли, рефлексия как единственное
средство по-настоящему понять, сколь многое в этой науке зависит от
всего донаучного, от всякой донаучной, «простой» жизненной
рефлексии, сколь многое попросту твердо стоит на основе этих неуловимо-
скользящих и мимолетных жизненных процессов и насколько оно же
остается «ненаукой» даже и в сфере рефлексии. Все это поможет нам
понять, что это за особая наука - литературоведение, и, быть может,
позволит нам ощутить всю сложную, я бы даже сказал — головоломную
внутреннюю устроенность этой науки. Устроенность этой науки, как
она есть, — не как хочется видеть ее кому-нибудь из нас. Устроенность
такой науки считается не только с наличием в ней колючих и
неуживчивых растений, скажем, в виде каких-либо частных методов,
претендующих на свою исключительность и всеобщность, но считается, и это
разумеется, даже со своей фактической неустроенностью.
Продумывание того, что есть наука, исходит первым делом не из
некоторого идеального представления о ней, и не из того, что она
обязана стать тем-то и тем-то — в отличие от ее нынешнего состояния, -
такое продумывание видит свою первейшую цель лишь в том, чтобы
все наличное, весь реальный склад действительно существующей
науки, возвести к некоторым основаниям, на которых эта наука точно
так же фактически стоит, но которые, возможно, не осознаются, или
не вполне ясно осознаются, или неравномерно осознаются
различными исследователями или различными отделами науки.
Только такие, ближайшие цели преследует осмысление науки о
литературе. Если же в связи с этим заходит речь о некоторых задачах
науки, то лишь в связи с предположением о том, что, по всей
вероятности, осмысление науки и прояснение ее оснований может в чем-то
изменить ее. При этом даже не столь существенно то, что осмысляющий
науку о литературе человек, например, я, может решительно
ошибаться в своих суждениях относительно оснований литературоведения.
С этим гораздо легче смириться, нежели с иным - с предположением,
что нам нечего думать о таких общих основаниях, что совершенно не
стоит этого делать, что наука и без того хороша, если она «отвечает
современным (в глубоком смысле слова) представлениям о
литературоведении как науке многоплановой, дифференцированной, логически
расчлененной, преодолевшей познавательный синкретизм эссеистского
толка», как пишет В.Е. Хализев74. В своей книге «Историческая поэтика
в истории немецкого литературоведения» я, в отличие от такого
взгляда, пытался показать только одно - то, что сейчас я мог бы
сформулировать следующим образом: наука о литературе, если она пожелает
позаботиться об осмыслении своих общих оснований или, что то же
самое, об осмыслении самой себя, вероятно, должна будет прийти к
выводу о том, что эта наука, наряду со всеми остальными
дисциплинами культурной истории (в рамках которой, как я тоже пытался
показать, она только и может быть осмыслена), есть мышление истории, а
именно такой истории, которая на протяжении доступной нам истории
меняет свой смысл, свое осмысление. Наука о литературе есть такое
мышление истории, где этот родительный падеж - «истории» -
одновременно выступает и как родительный объективный и родительный
296
субъективный: это мы мыслим историю, и это она сама мыслит себя в
нас, как об этом, в числе последних, хорошо читал М.А. Лифшиц.
Разумеется, наука о литературе имеет дело не вообще с историей, но с
историей в связи с литературными созданиями самого разного рода, -
ведь вместе с изменением смысла «истории» меняется и смысл
«литературы» и «литературного», так что в руки исследователя приходят
совершенно разнородные явления, которые мы сводим к понятию
«литературы» (что, замечу, отнюдь не очевидно вообще и тоже требует кри-
тико-аналитического подхода к себе). Наука, занятая историей в связи
с разного рода созданиями литературы, через них и в них, должна
наконец осознать и то, что как только она начинает осознавать это, так
сразу начинает преодолеваться сложившееся в этой науке разделение на
исследования исторические и исследования теоретические, начинает
преодолеваться совершенно непродуктивное, на мой взгляд, и ложное
размежевание истории и теории литературы. Вследствие этого (если бы
я был прав и наука о литературе, начав осознавать эти свои основания,
уже преодолела бы различия исторического и теоретического внутри
себя) всякая многоплановость, дифференцированность и логическая
расчлененность науки о литературе - заметим, что «логика» в
высказывании, выше процитированном, изымается из всякой истории, столь
неотрывной от исторической жизни науки о литературе, и призвана,
так сказать, раз и навсегда благословить состоявшееся расчленение
науки, - конечно, не исчезла бы просто так, без следа, и, конечно, не дала
бы в итоге просто «синкретизм эссеистского толка». Я, правда, почти
уверен в том, что в науке, прояснившей по мере возможностей свою
сущность, стало бы куда меньше унылого наукообразия и игры в
методы ради методов или ради личного самоутверждения исследователей, -
но это уже другой вопрос; глубже понимать сущность науки в ее
зависимости от самой истории (которую наука мыслит и осмыслению
которой она всегда способствует) — это вовсе не значит впадать в
синкретизм и писать «эссе», независимо от того, плохо это или нет. Отчего
известное сближение и сращение истории и теории литературы. Кроме
того, дело не в жанре, - я не сомневаюсь, что статьи, или эссе, о
литературе Иннокентия Анненского до сих пор дадут для постижения
литературы больше любых наукообразных построений современных
ученых, однако столь же нелепо было бы ориентироваться на стиль статей
Анненского, глубоко выражающий личность исследователя, - вместо
того, чтобы опираться на свою собственную личность.
Далее, я пытался в своей книге показать, что то, что разумно
называть «исторической поэтикой», - как известно, такая наука еще не
установилась и существует целый ряд весьма разнообразных подходов к
ней, — весьма естественно располагается на том узле историко-теорети-
ческого опосредования литературоведческого знания, которому, на мой
взгляд, пора - если внимательно смотреть на тенденции науки -
сложиться и который сложится, как только науке заблагорассудится
задуматься над своими собственными основаниями, над тем, как,
собственно, осмысляет она сама же себя (как об этом только что шла речь).
Значит, дело никоим образом не заключалось в том, чтобы одну из
областей науки о литературе представить как целое, придать ей значе-
297
ние «привилегированного феномена теоретической <...> мысли» и
выставить в качестве модной темы и «единоспасающей методологии»75
литературоведения, как понял это В.Е. Хализев. Я был настолько далек от
подобного замысла, что даже не представлял себе историческую
поэтику как обособленную область науки о литературе, а представлял ее себе
как то место в науке о литературе, взятой как целое, откуда может
пойти и откуда уже и идет реальное опосредование нашего исторического
и теоретического знания о литературе. И я был настолько же далек от
умысла обращать рассуждения об исторической поэтике во что-то
модное, - сама эта тема (не слово) настолько далека от всякой моды, что
ведь — как это совершенно очевидно - сам В.Е. Хализев не чувствует ни
малейшей потребности в опосредовании нашего исторического и
теоретического знания о литературе. А уж, конечно же, то, в чем не
ощущается никакой потребности, никак не может войти в моду! И вот как
раз это последнее обстоятельство- то, что В.Е. Хализев не чувствует
потребности в историко-теоретическом опосредовании нашего едино-
го знания о литературе, в цельной историко-теоретической
проработке всего накопившегося знания о литературе, - есть наиболее
радикальная критика моего взгляда на эти вещи. Действительно, я утверждал (и
утверждаю), что потребность в опосредовании историко-теоретическо-
го знания о литературе есть потребность самой науки, которая уже
наблюдается в самой науке как тенденция, а В.Е. Хализев ничего не
знает о ней и даже и в моем тексте пропускает все относящееся к этому.
Вместо этого - т. е. вместо того, чтобы заметить в тексте то, что для
самого текста наиболее существенно, — В.Е. Хализев испытывает
чувство тревоги по поводу моды, «поветрий», псевдотеоретизирования и
эссеизма, которые могут распространяться в науке о литературе и
которые, добавим, почему-то волнуют больше, чем действительные, уже
ставшие фактом беды литературоведения. Для всех таких опасений мой
текст не давал ни малейших оснований, зато опасения В.Е. Хализева
дают полное основание для того, чтобы считать, что он разделяет
весьма почтенный и весьма странный взгляд на статус литературоведения в
своей жизни. Это взгляд самого благородного свойства, и он долго
держался в науке, начиная с классических, гриммовских времен; ведущим
в этом представлении о статусе науки является то, что она, наука,
совершается в защищенной со всех сторон области покоя, внутри
которой филолог, беззаветно верный своей науке, предается ей полностью
и без остатка. Он отдает ей все свои силы, и наука требует для себя его
всего, - филолог корпит и бодрствует за своим столом, на своем
рабочем месте, почти не покидая его, и здесь примером послужит Якоб
Гримм, усидчивость которого вызывала изумление даже его брата и
соратника Вильгельма, и она же полностью поглощает человека,
примером чего послужит уже, в свою очередь, брат Вильгельм - он из тех
очарованных наукой филологов, которым было некогда жениться и
заводить семью. Однако наука сама в себе несет ответные дары за
преданность и усердие - она дарует покой, удовольствие, удовлетворение
и уют, и недаром постоянно мелькает в этих картинах, в этих
самоописаниях жизненного положения филолога слово «Behagen» - уют
вместе с удовольствием, и все это в замкнутом пространстве науки. Весь
298
этот образ жизненного труда филолога - помимо того, что этот труд
совершается как бы в благодатном пространстве, вдали от бурь и
неурядиц жизни, - совмещен еще и с тем главным для него, что сущность,
задачи и цели филологической работы совершенно ясны, они ясны
настолько, что именно поэтому и можно предаваться как бы бесконечно
огромной по затрате сил безмерно обширной, но прозрачной по своим
целям деятельности. И этот образ не обманчив - можно приступить к
составлению словаря, который медленно и постепенно будет завершен
спустя 100 с лишним лет: усидчивость, таким образом, вполне
оправдывается несомненным результатом. Такова была ясность позитивной в
самом общем смысле слова науки. Когда Вильгельм Шерер писал об
этом образе науки после смерти обоих Гриммов, то он, безусловно,
разделял его и следовал ему, а при этом воспринимал его уже с легким
оттенком юмора: «Но для каждого филолога, - писал он, - стремление к
истине как таковой, стремление к подлинному, изначальному,
аутентичному, становится своего рода спортом, которому мы предаемся с
известным юмористическим удовольствием»76. «Спорт» и «юмор» — это уже
чуточку взгляд со стороны, чему, кстати говоря, вполне соответствует
новый характер филологической деятельности Шерера, которому мало
уже просто сидеть, не разгибая спины, окруженным грудой книг, но
которому позволительно уже что-то сделать наспех, а отвлекшись от дела,
высказываться и в ненаучной публицистической форме, заказанной
настоящему ученому: «Филологический эпос — сдержанная
ответственность перед самим собою, точность в деталях, почтение к
незначительному, замкнутый образ жизни, страх перед субъективистскими
забегами вперед и простыми впечатлениями, отрешенность во всем,
неприятие журнализма и фельетонизма, горделивое самоограничение», — так
обобщал позднее этот образ науки Франц Шульц77.
Что же осталось у нас от этого образа? Самое важное - что он при
всех своих модификациях все еще остается! После всего опыта
прошедшего столетия он все еще остается! Хотя мы не беремся уже
подробно расписывать его и хотя сами мы далеки от какого бы то ни
было уюта, мы все эти черты внутреннего покоя, — его дает твердое
внутреннее знание сущности, целей и задач науки, - переносим на
саму науку, т. е. с чисто жизненного ее статуса - на ее внутреннюю
устроенность. Отвлекшись в сторону, можно было бы по пути
вспомнить об идеологически препарированном и широко
распространявшемся образе ученого как человека не от мира сего, который,
несмотря на свой полный житейский «идиотизм», наделен знанием
чего-то жизненно важного, в соответствии с таким образом в
послевоенной Москве для ученых строили коттеджи в стиле помещичьей
архитектуры XIX столетия, архаичные, как сам образ науки. Так и в
науке — мы еще продолжаем перекладывать на самую науку ту
ясность и положительность задач и целей, какой мы сами давно уже не
обладаем: с тех пор, как наука вступила на рубеже XX в. в полосу
своих методологических затруднений, любая ясность не дается нам
сама собою - в отличие от поколения Гриммов, получивших ее в
наследие от глубокой и еще не подвергнутой критике традиции, и мы
можем в лучшем случае добывать эту ясность для себя в критическом
299
процессе, а такая ясность с самого начала лишена всеобщего
признания. Итак, мы продолжаем представлять себе науку как внутренне
полную покоя: тогда, например, каждая из областей
литературоведения, — а они, разумеется, и по отдельности пребывают в том же
научном покое и не нуждаются поэтому во все новом и новом своем
самообосновании, - не должны самоутверждаться «за счет иных
областей», а призваны вести «мирное, конструктивное, творческое
сосуществование и взаимодействие с ними»78. Прежде всего
стабильность - но где ее источник? Где то основание, благодаря которому и
положение, и само членение науки мы имели бы право представлять
себе стабильными? Откуда мы черпаем свое право не задаваться
подобными вопросами? Только в нашем образе науки — пока именно
такой образ есть у нас и пока мы еще не подвергаем его критике;
только он и дает нам это право. Тут хорошо ратовать за «обновление,
углубление и дифференцирование научной проблематики»79, - этот
лозунг хорош, пока он не затрагивает стабильность науки внутри ее
самой: ради бога, углубляйте и обновляйте, только не нарушайте
сложившейся структуры науки, только не трожьте ее внутренних
разграничений! Больше ведь ничего этот призыв не означает. А образ
науки, которая столь уже хороша сама в себе, что остается лишь
совершенствовать ее и нет никакой нужды задумываться над самыми
основами ее или переосмыслять ее задачи и цели, продолжает
существовать, будучи глубоко архаичным для нашего времени. Было бы
преуменьшением сказать, что он происходит из позавчерашнего дня
науки.
Всякий человек, осмелившийся что-либо написать не только для
себя, должен первым делом рассчитывать на то, что его поймут
неправильно. Однако у него есть еще право надеяться на то, что
обернувшееся ложью не было с самого начала ложным, а было мыслью.
Глава четвертая
Литература и философия языка
Заглавие этого раздела слишком претенциозно и обязывающе, и мы
сосредоточимся сейчас лишь на некоторых проблемах, которые
заявляют о себе перед нами. Эти проблемы относятся к слову, и мы
постараемся не придумывать ничего своего, а только отдавать себе отчет в
том, что вынуждает нас думать о себе слово, как выступает оно перед
нами в наше время. Вполне возможно, что здесь нам встретится и
нечто неожиданное — то, что мы, в сущности, знаем и сами, но еще не
привыкли к такому знанию.
Вот о чем пойдет речь — об онтологической области слова, об ее
исторической дифференциации, наконец, о ключевых словах
культуры, об их изучении и о том, что за ними стоит.
1. Когда мы говорим сейчас о слове, то имеем в виду не только и не
столько то слово и те слова, из которых, согласно грамматике,
составляются предложения. Делом истории было, как распределить значения
между словами, и вот получилось так, что слову, понятому
грамматически, досталось слишком большое наследие, и, напротив, более
широкое и значительное слово было умалено в таком грамматическом
слове, из которого еще что-то складывают, используя его как кирпичик для
построения фразы. Но и это тоже хорошо и достойно слова: в
умаленном слове сказалось большое слово, а оно преломилось, в свою
очередь, в малой, обыденной, повседневной, но неутомимой и
плодотворной деятельности малого слова. Когда говорится: в начале было слово,
то тут ведь не имеется в виду какое-нибудь слово, из которого что-либо
складывают, из которого еще только надо что-то сложить, чтобы что-
то из него вышло, чтобы что-то вообще получилось. Большое слово
само по себе уже есть смысл. Но, конечно, не смысл вообще, а смысл
выговоренный, высказанный. Греческое слово «логос», если по
отдельности брать случаи его употребления, имеет тысячу значений, из
которых весьма многие никак не связаны со «словом», - например, логос
как рациональное основание чего-либо, - и тем не менее выговорен-
ность и выявленность тут предполагаются и предпосылаются, а в свою
очередь выговаривание и выявление - это наиближайшие друг к другу
соседи и родственники, как свидетельствует все тот же греческий язык,
даже до конца не расставшиеся друг с другом: выявление тут все еще
есть сказанность, а сказанность, выговоренность все еще есть
выявление, они сопряжены между собой, однако по мере того, как одно
отрывается от другого, слово - от выявленности, сказанность - от
выявленное™, слово постепенно отходит от своей бытийной основы и, так
сказать, от своей реальной, действенной роли в бытии и во всем
существующем, в природе, и начинает умаляться. Так большое Слово сходит
до малого и как бы оказывается в прозаической посюсторонности, где
все мы на каждом шагу имеем с ним дело, на каждом шагу, с делом и
без дела, общаемся с ним. Одновременно, слово из слова бытийного
обращается в слово информативное, которое только несет что-либо на
301
себе и которое обладает только функцией передатчика, само же по себе
как бы равно ничто, лишено всякой самостоятельности, своей особой
ценности и которое мешает даже, как мешает всякое неизбежное зло,
с каким приходится мириться, коль скоро оно неизбежно. Задолго до
того, как слово исчезает в информационных процессах, будучи
неизбежным и только терпимым злом, как всякое средство, как все то, что
только служит средством для чего-то иного, оно умаляется и
опрощается как слово грамматическое. Однако в слове грамматическом малое
еще отсвечивает большим: слово, даже и малое, есть смысл в его выс-
казанности, а само слово, даже и самое малое и «бездельное», есть вы-
говаривание и выявление смысла. И как бы нам ни казалось, что «сам»
смысл существует где-то «за» словом, слово, даже и самое малое, все
еще не просто указывает на находящееся где-то вдали и позади, но
несет этот смысл в себе, свой смысл. Слово, даже и самое малое и
несущественное, все еще остается скромным местечком, где обитает и где
выявляется и высказывается смысл. Слово не только несет на себе -
оно не столько несет на себе, сколько несет в себе: выворачивание же
слова, когда ему приходится нести на себе все свое, все то, что есть это
слово и что есть его внутреннее, выступает как процесс обеднения
слова, его обращения в средство, его технизации, от которой проистекает
затем его вспомогательная, чисто служебная функция. Скажем так:
далеко не всякое слово - событие, однако и всякое самое мелкое слово
все еще отражает в себе большое слово как событие: выявление и
высказывание, то и другое сразу и неразрывно, и есть то самое, что придает
слову бытийность и как бы превращает слово в событие. Так от слова
малого мы имеем шанс вернуться к слову большому и вернуть ему все
то, что сами же отняли у него, на протяжении всей истории невольно
и усердно стягивая слово на землю.
Однако возвращаться к слову и возвращать ему принадлежащее
ему — еще не совсем то же самое, что исходить из слова и при этом
слову малому уделять все то, что действительно есть в нем, все то, что
уделено ему словом большим. В одном случае у нас есть только
перспектива подобраться к большому слову со стороны, устанавливая, к
примеру, что бытийность ему не чужда; в другом же случае мы могли
бы, например, узнать, что бытийности, бытию не чуждо слово, что
слово держит бытие в своей власти и в своих «руках» - в своих
объятьях, если уж трудно представить у слова «руки». Представить объятья
куда проще: речь идет об объемах, - если слово обнимает бытие и
если у нас будет основание утверждать это и говорить так, то это,
конечно, совсем другое, чем если мы попросту говорим, что слово
имеет касательство к некоторой бытийности.
Если бы у нас была возможность утверждать, что слово обнимает
бытие и, стало быть, несет в себе бытие и бытийность, то тут вставал
бы любопытнейший вопрос о действительной связи слова и бытия:
разве бытие это слово? разве слово это бытие? И если слово - это
высказанность смысла, то что такое молчание, которое тоже
обретается в бытии, и это ведь несомненно?
Однако, даже и опасаясь в эту минуту входить в такие вопросы,
мы можем сказать сейчас скромнее и не беря на себя слишком мно-
302
гого, сказать так, чтобы не стараться что-либо предрешать: наш
человеческий язык и наше человеческое слово, о котором мы не
смеем ведь так просто сказать, что оно обнимает собою бытие, — они,
язык и слово, постоянно задевают границы нашего знания и
незнания. И, вполне возможно, им именно на этих границах и самое
место: не там, где некий смысл уже схвачен, но там, где человек
только усиливается схватить такой еще никем не схваченный смысл и где
за него разворачивается борьба между знанием и незнанием. Там, где
знание вырывается у незнания, незнание выступает очевидно, и, так
сказать, как позитивная сила, - незнание, неведомое, неузнанное,
невысказанное в их сплошном родстве: незнание в явном родстве с
молчанием и умолчанностью, невысказанностью. Схватывая всякий
новый для себя смысл, человек разведывает и расширяет границы
своего мира, а потому, задевая границы своего знания и незнания,
пребывая прежде всего на этих границах, человек задевает и
границы своей сущности, он то ли меняет, то ли расширяет, то ли
обогащает ее: задевая границы своей сущности, человек прежде всего и
пребывает на них. Все иное, нечеловеческое становится явным на
языке и в слове человека по мере того, как человек отвоевывает
знание у неузнанного, сказанность у невысказанного, свое - у иного.
Слово, таким образом, имеет касательство не только к смыслу, какой
высказывается, к смыслу в его высказанности (и выявленности), но,
далее, и к смыслу в его невысказанности, и если слово, пребывая на
границе знания и незнания, высказывает схваченный им смысл,
выхваченный и завоеванный у невысказанности, то и этим дело еще не
кончается. За одной границей видна другая, и видна она опять же
благодаря слову: за границей знания и незнания, за границей
высказанного и невысказанного начинает вырисовываться другая граница,
граница высказываемого и невысказываемого, выразимого и
невыразимого, сказанного и несказанного (как бы ни называли мы ее), и
она становится видна для нас вновь благодаря слову же. И слово
точно так же бьется об эту границу, как бьется оно о границу знания и
незнания, и делает ее высказываемой и постижимой для нас, вводит
эту границу в наше знание, вырывает ее у незнания. Если язык
пребывает прежде всего у одной границы, то пребывает он и у другой, он
словно пребывает между двумя этими границами, перенося
человека через огромное поле незнания и ставя его перед самим
незнанием как окончательной гранью. Язык выносит человека за пределы
известного ему и переносит его прежде всего на границы его знания,
выглядывая вместе с ним «наружу», за рамки известного, а затем и за
рамки выговариваемого, могущего стать известным. Язык, казалось
бы, един с существованием человека, которого творит как человека:
чем и как ему быть. Однако он и не складывается до конца с
существованием человека: уже потому, что язык всегда несет ему весть об
ином и всегда, в любом случае принесет ему весть об ином, что не
есть уже существование человека, что ни в коем случае не будет
таковым. Язык шире человеческого существования и, творя его таким,
каким ему быть, обнимает все человеческое бытие. Язык - вот что
смелее всего в человеке, и говорящий о дерзости и страшности че-
303
ловека второй хор «Антигоны» Софокла — это дело, это творение
языка: язык смел, и дерзок, и дерзновенен, и страшен во всем, что ни
творит, что ни вытворяет человек, - и все ужасное, и все страшное
становится таковым через язык, бьющийся о границы
человеческого. Тут мы опять узнаем слово большое и слово малое в их делах:
слово большое держит в себе человека и обнимает его собою, а слово
малое, кажется, всецело в распоряжении человека как необходимое
для его жизни средство, мелкое, а не великое, пища на каждый день,
чаще всего приевшаяся, безвкусная.
Большое слово отражается в малом через человека, т. е.
одновременно через посредство его и минуя его. Уже это не дает гармонично
сложиться воедино существованию человека и его языку: язык — враг
человека потому и в том, что он не дается ему в руки попросту и
безусловно; когда человек бездумно пользуется малым словом, слово
большое вопиет в нем о неправде малого слова; когда человек
упивается малым словом, слово большое вопиет о злоупотреблении. Оно
вопиет молча, являя зазор двух слов, малого и большого; своим немым
воплем оно напоминает — вновь напоминает - нам о молчании, о
невысказанное™ внутри слова, внутри его высказанности, о молчании,
в котором есть, как можно думать, не одна только граница,
разделяющая его с высказанностью. Слово как смысл в его высказанности
постоянно говорит — говорит и молчит о невысказанном, говорит и
молчит одновременно, выявляя и высказывая, если вдуматься, сразу
же то и другое, высказанность и молчание. Отношения между
человеком и его языком не улажены и - при подобной дерзости языка, а она
восходит к тому, что есть, к бытию! - не могут быть улажены до
конца: самые последовательные попытки брать язык в свои руки,
определяя, что есть в нем, каково то, что есть в нем, и чему чем надлежит
быть в языке, непременно, как бы подражая самому языку, должны
разбиваться об язык, только в том единственно и обретая надежду на
большую широту и осмысленность своих высказываний.
2. Сказав все это, мы вовсе не думаем, что сколько-нибудь
приблизились к онтологии языка. Мы только задались вопросом о связях
языка с бытием, о связи слова с бытием и сделали некоторые
предположения относительно таких связей. Наши предположения - не то же
самое, что гипотезы: мы только думали над тем, как бы меньше всего
предполагать и утверждать относительные слова, как бы не говорить
ничего, что бы не было заведомо очевидным.
Если отношения человека и его языка не могут быть
окончательно гармоничными и проясненными — этому мешает уже сам язык,
постоянно, словно забегающий вперед человека, - то тем более
литература никогда не могла быть в гармонии с языком, так сказать, в
безоблачной дружбе с ним. Если даже литература и не в конфликте с
языком и словом (а мы, пожалуй, можем быть уверены, что их
бесконфликтность не самая лучшая ситуация), то сами-то язык и слово
всегда заведомо знаменуют конфликт, как это уже и следует из
вышесказанного, — итак, либо конфликт такой еще продолжается между
писателем, поэтом и языком, либо тут царит внешний мир, но конфликт
в любом случае существует. Этот частный случай - когда поэт и его
304
язык, его слово мирно обходятся друг с другом или когда они
враждуют между собой за смысл, - отражает непомерно большее: такие
установления, которые утверждаются между поэтом и словом на долгое
время, сверхличные установления. Такие установления - в одно и то
же время дело условности, конвенции, дело литературных нравов и
дело самого бытия в его истории: второе, как это и в других делах
бывает нередко, укладывается в первое, соединяется даже с
жизненными и житейскими, бытовыми мелочами и на время оправдывает и
освящает их. При этом то, как понимает себя само слово, - а это
самопонимание слова тотчас же переносит нас, стоит только нам
помыслить о таковом, к границам нашего знания и незнания,
высказанного и невысказанного для нас, сказуемого и несказанного и т. д.,
переносит нас к самым дальним границам всего нашего! — то, как
понимает себя само слово, сопрягается и согласуется на более или
менее долгие времена с тем, как человек и как поэт понимает слово, как
сама поэзия, или (шире) литература, или (еще шире) вся словесность
понимают слово. Как отдельная личность, поэт тут, можно сказать, во
власти надличных начал: поэзия над ним, как слово — над ним и над
поэзией. Все это творение слова! Что же еще?
Было бы занимательно перебрать все обозримые для нас сегодня
виды отношений между самопониманием слова и пониманием слова
со стороны поэзии и поэтов — все виды отношений, какие
существовали, какие доступны сегодня нашему знанию. Все доступные нам
виды отношений, пусть даже и эта проблема — лишь весьма
естественно! — уводит нас в неизведанность невыговоренного да и как иначе,
если самопонимание слова не в нашей власти, а притом и вполне
реальная «вещь»! Не будем замахиваться на слишком большое, а
ограничимся двумя ближайшими к нам видами отношений, - не
ближайшими, но самыми близкими, о которых мы еще мало что можем сказать,
так приближены они к нашим глазам. Итак, вот эти два вида
отношений, - одно из них я называю риторическим, и он характерен для
громадной полосы европейской истории литературы, начиная со времен
Аристотеля, значит с IV в. до н. э., и кончая рубежом XVIII—XIX вв.
Другой вид характерен, собственно, только для XIX в., и в течение
этого столетия он становится на ноги, утверждается в литературе,
убывает и подвергается сомнению. Это противоположный
риторическому вид отношений, его можно, не особенно заботясь о
красоте наименований, назвать нериторическим, антириторическим или,
поскольку он находит свое выражение в реализме середины века,
реалистическим (только не вкладывая в это слово какой-то оценки!).
Вот один вид, или тип, отношений: он настолько твердо стоит на
ногах, что уверенно переживает даже огромную цезуру двух эр, когда,
казалось бы, все вокруг ломается, — переживает, не меняясь (наверное,
единственное оставшееся неизменным!), Рождество Христово и затем
гибель Римской империи. Начала и концы всей этой эпохи господства
одного типа литературного слова зримо сходятся, закругляясь: на
конце эпохи мы с изумлением наблюдаем, как культура Западной
Европы напряженно и увлеченно припоминает свои греческие начала, как
вся культура и внешне подражает Греции, и одновременно стремится
305
воспроизвести внутреннюю сущность греческой культуры (конечно, в
своем разумении!) - перед тем как расстаться с нею, с ее вечной
образцовостью (видимо, нет ничего более мимолетного и
кратковременного в культуре, нежели то, что уже понято как «вечное»!), — думает даже
о том, чтобы «стать, как греки» (Гёте). Но это вся культура в целом -
находящаяся во власти своего слова! И собственно в литературе
наблюдаем выразительные кольца схождения: на одном конце Феофрастовы
«Характеры», или «Нравы» - на другом подобные же портреты
характеров-лиц-профессий (профессии схватываются в характере и через
него) в облике «физиологических очерков», которые цветут в течение
недолгого времени, пик которых во всей Европе (это можно
продемонстрировать на основе библиографий) приходится на
один-единственный — 1840- год. Несопоставимые с Феофрастовыми «характерами»
лишь по объему, физиологические очерки переполняются живым
материалом, какой предоставляет действительность, они в течение 1840-х
годов растворяются в открытых, свободных жанрах литературной
прозы, утрачивая самостоятельность точно так же, как к середине века
утрачивает самостоятельность все заданное, все задаваемое поэту,
писателю как уже сложившаяся, уже сформулированная задача.
И вот эта заданность подводит нас к самому центральному
моменту всего периода, когда господствует, когда утверждает себя
риторический тип отношений. Для этого периода от IV в. до н. э. и до начала
XIX в. н. э. существенна не нормативность поэтики, как нередко
думают, - потому что нормативность есть следствие более глубоких
обстоятельств, - но существенно господство готового слова, как это явление
было обозначено еще академиком А.Н. Веселовским. Что означает
«готовое слово»80 практически? То, что — если мы представим себе
«треугольник поэт/писатель-слово-действительность», то отношения между
этими тремя сторонами складываются так, что действительность в
принципе недосягаема для поэта иначе, как через слово. Не в том дело,
что поэтика нормирует слово и затем предписывает норму как
правило и закон, а в том, что, когда поэту или вообще литератору, вообще
всякому человеку, пользующемуся словом не на ходу, не как попало, но
пользующемуся им литературно, т. е. с повышенной ответственностью,
выпадает на долю что-либо сказать, он пользуется при этом готовыми
формами и не может обходиться без них, и такое «хотение» даже не
приходит ему в голову. Значит, такому литератору не приходит в
голову и говорить от своего лица, и только, - когда он говорит от себя,
немедленно включается эта общая инстанция готовой формы, которая
встает разделителем — одновременно непроходимой стеной и
проводником - между эмпиричностью любого «я» и высказыванием, точно так
же, как встает она разделителем между «самой» действительностью и
высказыванием, между «самой» действительностью и литературным
созданием, произведением. Для такого вида отношений, какой существует
здесь, и нет, можем мы полагать, ни такого эмпирического «я», которое
расходилось бы в конкретной неповторимости своих проявлений,
ощущений, чувств, наблюдений и т.д., ни такой эмпирической
действительности, которая была бы непосредственна и которая тоже
расходилась бы на множество частных, случайных, неповторимых обстоя-
306
тельств, деталей, фактов и складывалась бы из них. История культуры
все это подтверждает: постольку, поскольку культура риторической
эпохи выражает себя, она не ведает непосредственности и именно
поэтому ничего не подозревает об исчезающем в своих психологических
веяниях капризно-своенравном неповторимом человеческом «я». Такого
попросту нет. Постольку, поскольку ни действительность, ни
человеческая личность не доступны иначе, чем через свое самовыражение, а
самовыражение их подчинено слову, здесь, в самых широких пределах
литературного, и нет ничего непосредственного - нет ничего, что не было
бы опосредовано словом как готовой формой, словом как готовым
словом.
Что же такое это «готовое слово»? Это все литературное - образы, то-
посы, жанры, стили, формы. Как личность возникает в представлении
эпохи из комбинации заведомо существующих черт, так и что-либо
оригинальное в литературе возникает из комбинирования заданного, если
только не из прямого следования готовым формам. В том же, что А.Н. Ве-
селовский назвал все это «готовым словом», а не готовой формой или как-
то еще, заключена, на наш взгляд, высшая справедливость. Готовое
слово ведь есть все — все то, что существует заранее и заведомо задано поэту
и писателю. Будь то образ, сравнение, метафора, целый жанр - все это
поэту задано, и не знай он даже никаких правил, никаких общепринятых
норм (допустим такой случай), в его распоряжении всегда только это
слово. Другого нет. Нет, например, слова, которое позволило бы передавать
действительность в ее непосредственности. И даже те простые слова, из
которых составляются предложения, находятся во власти готового слова.
Теперь мы должны были бы представить уже не три стороны отношений,
а четыре: то готовое слово, которое распоряжается поэтом и никак не дает
ему возможности ускользнуть из-под его власти (но не дает и основания
для того, чтобы хотеть этого), то готовое слово, которое направляет и
всякое малое слово, - оно с этим малым словом соединено сплошной
неразрывной связью и, соответственно, уходит куда-то «вверх», к большому
слову. В той мере, в какой поэт и действительность вообще регулируются
и направляются словом, они все здесь подчинены слову, все объяты
словом. Нормативность поэтики, обязательность риторических
предписаний - лишь возможное следствие всей такой ситуации.
И совсем иное, противоположное состояние наступает к середине
XIX в. Чтобы коротко описать его: и действительность открыта здесь в
своей «непосредственности», она лежит перед глазами и чувствами
наблюдающего ее, и сама человеческая личность открыта вовнутрь своего мира,
который до конца своеобразен и неповторим, зато не может быть
исследован и описан до конца именно вследствие своей бесконечности,
личность богата и неисчерпаема, предполагается, что она внутренне
бесконечна. Разумеется, нет и такого слова, которое могло бы схватить и
передать ее до конца, зато слово, которым пользуется такая личность, которым
пользуется призванный писатель и поэт, всесильно — его силы от
личности, а личность бесконечна, потому бесконечно и сильно ее слово. Но это
ее слово, потому что прежние отношения в треугольнике «поэт/писатель—
слово—действительность» разорваны: теперь уже не писатель во власти
слова, но безусловно и безоговорочно слово во власти писателя как бес-
307
конечно богатой, и прежде всего психологизированной, психологически
понятой личности. Богатство всякой личности - в ее конечной
неуловимости, в том самом, что превысит силу и всякого самого сильного и
могучего слова. Личность неисчерпаема, а слово сильно и крепко тоже
только как момент личности. Зато личность и, стало быть, поэт и писатель
обладают теперь достойным их соответствием в виде противолежащего им
мира объектов: познаваем или не познаваем этот мир объектов, его
особенность в том, что, как и личность, он бесконечно богат и многообразен,
и затем в том, что он соединен с личностью напрямую. Нет между ними
посредников, нет посредников, соединяющих и разделяющих их как
мосты, но мир, действительность в принципе совершенно доступны
наблюдающему их, бесконечно богатому и многообразному «я», такому «я», в
котором главенствуют до конца принадлежащие ему (вовсе не заведомо
существующие, наличные наподобие «черт» характера!) чувства, ощущения,
целый поток не уловимых до конца ощущений, психологический поток,
в который нел^я войти дважды, но не войдешь, собственно, и единожды,
а только можно все входить и входить, поражаясь, удивляясь этому
открывающемуся, приоткрывающемуся богатству!
Действительность и «я» здесь напрямую соединены, и
поэт/писатель исследует и описывает именно эту напрямую соединенную и
доступную его ощущениям действительность. Бесконечная - и какая же
благодарная задача! Перед писателем прежде всего увлекающая его
действительность. И слово, которым он пользуется, - это его слово,
оно принадлежность его внутреннего мира, тогда как общая его
сторона, принадлежность его всем говорящим на том же языке людям, -
это реальное обстоятельство, а вовсе не вопрос о правах на
поэтическое слово. Конечно, в слове все неповторимо - своеобразное и
мимолетное, что сказывается в нем, приобретает некоторый общий вид, и
это даже беда: «Мысль изреченная есть ложь» прежде всего потому,
что слово не успевает вобрать в себя ее психологическую
конкретность и наполненность, - но и беда эта относительна, так как она
оборачивается выполнимым требованием, обращенным к поэту, быть
еще глубже и конкретнее в передаче действительности, в передаче
мира души, в частности. Но если действительность и «я» соединены
напрямую, то теперь слово языка и слово поэзии отрезаны от
большого слова. Слово поэзии хотя и наталкивается то и дело на осколки и
фрагменты бывших готовых слов, которые можно включать порой в
новую, своебычно-индивидуализированную ткань, однако исток
слова - в неповторимо-конкретной психологии души: пусть и с общей
стороной, слово в его конкретности, в его конкретном употреблении
должно заново зарождаться в душе, как непосредственно-уникально
бытующее слово. Вся заслуга слова приписывается творцу-поэту.
Вот эти два типа отношений, которые я постарался кратко
обрисовать. Нечего и говорить о том, что эти два типа, или вида,
отношений - лишь эпизоды из истории самого слова, т. е. не слова, которое,
скажем, попало под власть поэтов, или такого, которое своей общей
стороной держит под своей властью любого литератора, а такого
слова, которое понимает само себя и которое проводит себя через
человеческую историю и через историю литературы в последовательных
308
преломлениях и понятным образом не может дать себя сразу и
целиком. Последнее и противоречило бы той бытийности слова, которая,
как мы вправе полагать, простирается дальше человеческого мира.
3. И нам сейчас остается, коль скоро мы не беремся объять
необъятное, остановиться только на одной особенности слова, которая, как
мне кажется, яснее делается в последнее время - благодаря тому, что
наши представления об истории все-таки углубляются и усложняются.
Эта особенность, о которой я сейчас говорю, более всего заметной
становится в так называемых ключевых словах культуры, - таких,
которые именуют наиболее важные для культуры понятия, традируемые
из языка в язык, так что, в сущности, следует говорить не об отдельных
ключевых словах культуры, а о целых семантических гнездах, нередко
сложносоставных и пересекающихся с иными, родственными. Таково,
к примеру, слово «природа», если брать его не по отдельности, а в
целой истории словопонятийного гнезда. Хотя, правда, уже история
одного греческого слова «фюсис» обширна и многолика. В недавно
вышедшей книге нашего философа A.B. Ахутина очень хорошо
говорится об этом слове; в частности: «<...> одно и то же слово «фюсис» может
означать и порождающий источник <...> родник; и взращивающую,
пребывающую во взращиваемом (вообще возникающем) «силу» роста,
«способность» возникновения; и рост, «видность», зрелость
возникшего, родившегося, т. е. результат; и врожденную возникшему,
свойственную ему силу-способность к «делам». В разных контекстах
актуализируется то или иное преимущественное значение, но это не значит, что
другие могут существовать только в других контекстах или
литературных жанрах. Они так или иначе подразумеваются наряду с
терминологическим значением и иногда вопреки ему. А это значит, что в любом
контексте скрыто содержится вопрос: что такое «фюсис»? Поскольку
значения разрывают слова на разные «термины», смысл требует
понимания, допускает толкования»81.
То, что вполне справедливо подчеркивает наш автор в
приведенном извлечении, должно быть, достаточно ново для нас.
В то время как люди, пользуясь словам, полагают, что пользуются
им в том значении, какое имеют в виду, слово стоит на страже своего
(своих «интересов») и, будучи источником сплошных, переходящих
друг в друга или кажущимся образом обособленных и независимых
друг от друга значений, всегда имеет себя в виду как единый смысл.
Когда греческий автор пользуется словом «фюсис», то, как
замечательно сказано у A.B. Ахутина, любое словоупотребление подразумевает
то, что при этом неявно задается вопрос: что такое «фюсис»? Однако
не только присутствует здесь вопрос, но присутствует и ответ, который
дает себе слово, в очередной раз утверждая свой единый смысл. И это
можно сказать об огромном множестве ключевых слов культуры, не
только о греческих «фюсис» и «логос», которые выступают как,
пожалуй, ярчайшие примеры подобных самовольных слов - слов,
утверждающих самих себя, имеющих волю иметь себя в виду и никогда
окончательно не терять себя (свой единый смысл) из виду.
Отсюда, правда, следует и то, что мы, пользуясь такими ключевыми
словами культуры, а, в сущности, видимо, и любым словом, в каком мы
309
имеем в виду нужный и заботящий нас смысл, не знаем то, что,
собственно, имеем мы в виду, - мы, конечно, имеем в виду задуманный
нами смысл, но вместе с этим «вынуждены» иметь в виду и то, что мы
не осознаем и не можем осознавать. Это последнее и есть то, что
имеет в виду само слово, которое всякий раз, когда мы имеем с ним дело
и имеем в виду нечто в нем, имеет в виду нечто свое, что, так сказать,
падает на нас, на нашу «совесть», т. е. на наше со-ведение этого единого
смысла слова. Это такого рода со-ведение, в котором мы, так сказать,
не отдаем себе отчета - безотчетное для нас присутствие единого
смысла, смысловой цельности. Co-ведение есть тем самым для нас и
неведение. Однако в этом лишь чрезвычайно важное для нас свидетельство
о том, что слова не желают и не могут поступать в полное наше
распоряжение, что у них свои «виды» и что вследствие этого мы можем быть
уверены, например, в следующем: бывает такая духовная сфера,
которая хранит сама себя, которая умеет хранить сама себя, которая умеет
хранить себя от человека, которая в отличие от овеществленных
знаний, книг, всяких прочих культурных достояний не дается до конца в
руки человеку. Будь все иначе, человек вне всякого сомнения поступил
бы со словом точно так же, как поступает он со зданиями, картинами
и книгами, вообще со всяким достоянием, которое оказывается в его
руках, в его распоряжении, — он растрепал, исковеркал, испоганил бы
слово, подверг его всем мыслимым и немыслимым унижениям,
уничтожил бы все, что бы только захотел. Он именно это, впрочем, и
производит со словом - однако лишь по мере своих возможностей, лишь
по мере того, насколько он допущен к слову и в слово. Итак, есть
духовная сфера, которая умеет хранить сама себя, и эта сфера есть слово.
На него мы и можем возлагать всю свою надежду, при этом крепко
задумываясь над тем, откуда же берется в слове эта неприступность, это
его самовольное самостояние. Сберегая свою духовность, мы можем с
надежной воззреть на Слово, являющее нам пример крепости.
Именно ключевым словам культуры принадлежит прежде всего
такая способность сохранять себя в неприступности и непритронутости.
Совсем особыми выявляют себя в этом отношении ключевые
слова греческой культуры. Об этом превосходно написал Мартин Хай-
деггер: «Вслушиваясь в слова греческого языка, мы отправляемся в
особенную область. А именно: в нашем сознании начинает
постепенно складываться уразумение того, что греческий - отнюдь не такой
язык, как известные нам европейские языки. Греческий, и только он
один, есть λόγος <...>. В греческом все сказанное замечательным
образом одновременно и есть то, что именуется словом. Если мы
слышим греческое слово на греческом языке, то мы следуем тому, что
оно λέγει, непосредственно пред-лагает. Все, что оно пред-лагает,
лежит перед нами. Благодаря услышанному по-гречески слову мы
тотчас переносимся к самой полагаемой наличной вещи, а не
остаемся лишь при значении слова»82.
Со сказанным не согласится лингвист: как слово может быть тем, что
оно именует? Однако, если согласиться с тем, что слово имеет себя в
виду, имеет в виду свой смысл (а именно, как целый, единый, как весь
смысл сразу), то слово есть бытие своего смысла и есть свой смысл. Сло-
310
во, конечно же, не то же самое, что вещь; однако смысл, бытие
которого есть слово, имеет в виду, что есть вещь, имеет вместе с тем в виду, чем
ей быть, и такое слово есть смысл вещи. Тем более это относится ко
всему тому, что не есть вещь. Так это относительно всякого что и
относительно всякого смысла. Логос всегда есть он сам; любые переносы
«логоса» в иные языки, любые переводы этого слова на иные языки уводят
смысл от того, что он есть, уводят его от него самого; только
по-гречески есть и возможен логос. В сказанном у Хайдеггера начинает
просвечивать даже некоторая тавтология, которая наполнена, однако, великим
смыслом: задуманное греками слово «логос», и именно как оно само
осветило для нас, осветило бытием своего смысла все известное и все
неизвестное нам - весь известный и неизвестный нам наш мир. Потому
что и то Слово, которое «было у Бога», тоже есть греческий логос.
Освещая собой начала и концы всякого бытия, логос имеет в виду, что есть
оно, что бытие, что мир, чему быть каждому. Гётевский Фауст, напротив
того, переводя Евангелие от Иоанна, забывает или не подозревает о том
едином смысле, что есть логос; однако нельзя сказать этого о «логосе» в
том тексте, который он переводит, - вопреки неведению Фауста,
невзирая на него, логос и здесь есть то, что он есть.
Задуманное греками слово - оно προ-задумано. Оно про-задумано
и неотменимо. Очень часто и по разным поводам отмечают упадок
значения греческой культуры для современного мира: «Сегодня
никто уже не посмеет думать, что греки - возничий нашей культуры»83, и,
вероятно, в этом почти полная правда: роль греков свелась в нашей
культуре к тому, что невозможно у них отнять, к направлению нашей
культуры через слово, осмысленное в духе греческого логоса (коль
скоро и библийское Слово согласовано для европейской,
христианской культуры с греческим «логосом»), и к направлению нашей
культуры через те слова, за которыми у нее уже нет памяти, поскольку все
древнеиндийское уже с усилием вспоминается — реставрируется
нашим знанием и, как воссозданное, накладывается на уже
существующее, прибавляется к нему, подобно тому как могут привходить в наше
знание слова восточных языков, и никак уже не может направлять
наше сознание слов и слова. Напротив, греческим словам, о которых
наша культура помнит, приходится подвергаться переводу и переносу
в другие языки, их смыслу — обедняться, стираться, урезаться,
сужаться, расплываться, застилаться или даже на время совершенно
скрываться из виду, как это происходит, например, с «субъектом» и
«объектом» в языке школьной философии некоторых направлений. Скрытое,
застланное слово скрыто от философа, не от себя самого;
употребляемое без разумения, оно порой наказывает философа тем, что тот не
понимает сказанного им же самим. Однако всегда понимает себя и
отдает в себе отчет само употребленное слово, — глухо или громко,
оно все равно противодействует неосмысленному употреблению
самого себя, оно и тут не перестает стоять на страже самого себя.
Как «логос», так и многие другие слова греческого языка и
греческой культуры осветили для нас каждый свою сферу, более широкую
или, скорее, узкую, - они προ-задумали для нас, что есть что и чему
быть чем. Таковы «эйдос» и «идеа», которым посвятил столько глу-
311
боких размышлений А.Ф. Лосев. Таково особое положение греческих
слов нашей культуры - они вошли в нашу культуру, προ-задумав, что
тут есть что, чему тут быть чем, и в этом отношении их присутствие
в нашем мире всеобъемлюще и всепроникающе. Как бы ни тонули
они в неуразумении и переиначивании, их смысл неистребим,
потому что задан, - история, которая окончательно собирается
становиться исторической для самой себя, имеет совершенно особый
шанс отыскать любую первозданность смысла, всякую важную про-
задуманность смысла, - впрочем, разумеется, отыскать со своего
места, с того, с какого все начинает быть равно близким и
взаимосвязанным со всем. Времена обретают иное измерение, на место
развития как движения, оставляющего позади одно и достигающего
нового, чего не было прежде, приходит новизна собирания всего
бывшего как сущего для нас. Это новизна новая - она новая не ради
того, чтобы быть новой, не ради того, чтобы быть лучшей; это
новизна, всему знающая цену и, скорее, пожалуй, не знающая себя, — ей
важно все как упорядоченная собранность всего.
Впрочем, в той мере, в какой новая историчность приобретает
шанс открывать затаенное, скрытое и искаженное, она будет делать
это так, как то в возможностях человеческих: всякое существенное и
всякое ключевое слово языка и нашей культуры заключает в себе про-
задуманность, какой определилось то, что уже было и есть, что
перешло, собственно, в дела и жизнь, так и не уловленное никаким
определением, не улавливаемое и осмыслением, задумывающимся над
единым и над всем смыслом слова. Слово ускользает, будучи в сущности
над человеком и над сознанием: они в его распоряжении, оно их
направляет, пока человек думает и предполагает. В слово вложено куда
больше, чем знает человек, чем знает культура о себе - и отсюда
условность всякой «терминологичности», всякой дефиниции;
определения неизбежны в смирении, как дела людей в не ими созданном мире.
Ключевое, следовательно - особо нагруженное смыслом и
выдвигаемое вперед слово во всех случаях своего употребления функционирует
как некоторая целая семантическая устроенность; терминологическое,
т. е. ограничивающее, сужающее смысл слова употребление не мешает
слову функционировать как такое целое; терминологическое
употребление, обоснованное и оправданное, даже вступает в противоречие с уст-
роенностью слова. Заметим, что такой великий мастер в вычленении и
формулировании отдельных, отличающихся значений слов, каким был
покойный А.Ф. Лосев, все же меньшее внимание уделял именно
целостности слова как функционирующей семантической устроенности, как
установившейся конфигурации строго соуравновешиваемых значений
внутри целостности (так можно было бы сказать), и сейчас самое время
обратить особое внимание на приоткрывающееся нам постоянство слова
как целостной семантической устроенности - сохраняющееся на
протяжении длительной истории постоянство смысла слова84.
Что означает эта целостность функционирования слова? По всей
видимости, то, что с известного момента, когда определенное слово
выходит в языке на первый план особо важных культурных слов, оно
твердо знает себя и не утрачивает это знание себя даже и тогда, когда
312
по определенным причинам значение слова понимают суженно,
ограниченно. Слово идет по истории, твердо зная себя; оно движется по
истории как про-за-думанный смысл. Люди могут лишь частично
отдавать себе отчет в смысле слова и могут яснее представлять себе его
задним числом; в таком положении находятся и те, кто теперь
реконструирует значение слов древних языков, история которых предстает
перед нами и в своей завершенности, и в своей незавершенности
(коль скоро их смыслы не умерли вместе с ними, а были переданы в
новые культурные языки Европы). Реставраторы древних слов
находятся даже и в лучшем положении, чем когда-то живые носители этих
слов: им, вероятно, легче мыслить себе всю полноту таких слов, все
то, что задано, или про-за-думано в них на целую историю. Или,
возможно, мы сами со своим историческим опытом приблизились к
постижению таких функционирующих в истории целостностей.
И теперь встает такой вопрос: кому же принадлежит смысл слова,
если совершенно очевидным образом слово в своей сложной
семантической устроенности не могло быть прозрачно для «первых»
носителей его (для первых во время, когда слово выдвинулось вперед в
языке и культуре) и не могло ухватываться во всей своей цельности
последующими носителями его (для которых слово, скорее,
представало в различных отдельных, частных своих аспектах)? Кому
принадлежит эта целостность, которая носителями слова и мыслится, и не
мыслится в одно и то же время?
Заметим еще и то, что про-за-думанность такого слова - совсем
иная, нежели «готовность» готового слова в риторической культуре:
последнее, во-первых, есть нечто иное - образ, топос, форма,
жанр, - но и как именно «слово» отличается от функционирования
ключевых слов уже тем, что употребляется именно как то, что оно
есть, готовое слово. Напротив, ключевым словом пользуются не
так - его знают более узким и частным, чем оно фактически есть.
Его смысл беспрестанно продумывается, однако от продумывающих
его ускользает в своей подлинной цельности и сложности. Кто автор
этой цельности и сложности, кто держатель ее?
Прибавим к этому следующее: ключевые слова культуры продумы-
ваются наиболее интенсивно и последовательно, то это не означает,
что другие слова — те, что окружают эти ключевые слова, - устроены
принципиально иначе. Возможно, их историческое движение более
замедленно, менее явно. Так, логическая связка, то слово, которое,
собственно, вообще не «мыслится», обращаясь в сущую формальность,
обретается, при благоприятных обстоятельствах, в самой тесной
сопряженности с мышлением бытия.
Итак, слова оказываются над сознанием и, если угодно, над
языком - по крайней мере над языком как средством общения, передачи
информации. Они несут в себе большее, нежели предполагают те, кто
пользуется словами. Слова в пользовании ими несут в себе невысказан-
ность; они сопряжены с невысказанным и несказанным, они
сопряжены с молчанием и немотою. Представлять себе пользование языком как
обмен информацией недостаточно, так как придется признать, что
люди обмениваются тем, чего они не знают. Сведение речи к общению
313
и обмену информацией таково: человек рад обходиться тем, что есть у
него, он не беспокоится обо всем и о целом, и аристотелевские слова
о стремлении людей знать сказаны не о нем. Во всяком обмене
информацией наружу показывается лишь краешек смысла, которым можно
довольствоваться, — и как только человек объявляет о своей
готовности довольствоваться таким, он выбрасывается из истории и
становится господином мира. Господином мира того, который ему немедленно
и во всяком случае доступен; мир этот стоит на неизведанности и не-
высказанности и - в своем самодовольстве - столь же прочен, сколь и
зыбок. Человек безусловно и наверняка, и заведомо и заранее господин
и хозяин этого мира, зато мир этот сам не свой: он ведь лишь только
часть всего мира в его истории и в его историчности. Это та часть,
которая отдана в распоряжение человека, она в его руках, и он
пользуется и распоряжается им, не подозревая подчас о том, как тесно сдавлен
этот мир со всех сторон тем бытием, которое, сделавшись
историческим для самого себя, заключается в выведывании неизведанного.
Если же мы подумаем о новом мире, о том, который
складывается как исторический для самого себя, то в нем нам только предстоит
еще устраиваться. Хотя мы уже и устраиваемся в нем, подходя с самых
разных сторон, по-разному рефлектируя новую свою ситуацию. Как
умеем и можем, мы будем устраиваться в новом для нас мире, хотя и
он про-за-думан для нас - тем, что было, и тем, что было про-за-ду-
мано для нас словами, словом, тем же «логосом» - он осветил и наше
собирание смыслов, какое поручено по-новому повернувшейся
истории. Мы должны, еще оставаясь самими собою, тем, что мы есть,
учиться говорить иными языками знания. Вот наша ситуация,
которую справедливо называть герменевтической, потому что в
складывающейся взаимосвязанности всего со всем необходимо знание всех
языков. Прежняя же ситуация, совсем недавняя и даже прорастающая
еще в новую ситуацию, хорошо описана лингвистом, — это еще догер-
меневтическая ситуация знания: «Результатом поиска системы в
оторванных от целого частях будет груда фрагментов, допускающих
любую интерпретацию; одни будут названы гениальными (или
любопытными) догадками, ибо они совпадают с тем, что и как мы думаем
сегодня, другие <...> досадными заблуждениями, данью своему
темному времени, следствием общего упадка науки и культуры <...>
Подобная «история науки» ничего нам в прошлом не объяснит и ничему не
научит, расскажет только о том, что нам априорно было известно, что
сами мы сконструировали»85.
Учась говорить иными языками, мы учим их разуметь друг друга, и
это совершается в заново устанавливающейся всесвязанности, на
основе по-новому повернувшейся истории и становящегося
историческим для самого себя мира.
Теперь мы можем представить себе, что мы, собственно говоря, не
знаем, что мы мыслим и что из того, что мы мыслим, исторически
перспективно и заключает в себе подлинную загадку про-задуманно-
сти — ту самую загаданность наперед, которая раскрывается лишь
впоследствии и весьма не скоро. Это само по себе очень
огорчительно - хуже всего из всей истории мы знаем самих себя. Притом имен-
314
но в самом мыслительно-глубоком, философском отношении. Но это
же и подсказывает нам более внимательно относиться к тому, что
нами говорится. Видимо, между тем, что «мы говорим» и что «нами
говорится», есть многообещающая разница: то, что мы скажем,
вероятно, в любом случае меньше того, что «нами говорится» и нами
скажется. Граница между тем, что говорится нашими поэтами и нашими
философами, и нашими естественниками, при этом, должно быть,
стирается: самое важное, быть может, мыслится кем-то из них, мы не
знаем, кем. Коль скоро это так, это лишний довод к тому, чтобы
вслушиваться в слова наших поэтов и расслышать весомое в них. Хотя бы
стараться так делать: кто знает, откуда пойдет новый смысл?
Все это имеет касательство к истории литературы. Уже говорилось:
пользуясь словом, мы, разумеется, имеем в виду задуманный нами
смысл, но, сверх того, принуждены иметь в виду и все то, что мы даже
не осознаем и что несет в себе слово. Внутри слова уже
расположилось иное — неведомое, неизведанность. Наше неумышленное
со-ведение полного смысла слова есть знание соумышленника. Со-ведение
есть вместе с тем и неведение: мы не только не знаем, что творим, но
не знаем и того, что мыслим и что говорим. Так до известной
степени — и в свидетельство того, что слова не желают и не могут поступать
в полное наше распоряжение, что у них свои «виды». Только задним
числом, иногда по прошествии гигантского времени, узнается, что на
самом деле имели в виду и подразумевали люди, мысля и произнося
такие-то слова. Эти слова были произнесены буквально - в историю,
вовнутрь ее и добываются нами из истории. И эти же слова были
произнесены в общении и со-мышлении со словами, которые,
совершенно очевидно, думали свое и думали про себя, выступая в таком
общении и со-мышлении как величины самостоятельные, про-за-думываю-
щие себя наперед и задающие мысли большую загадку — загадывающие
свой смысл.
Само литературное произведение как слово и смысл содержит в
себе иное, неведомое. История и есть выведывание смыслов. С
читателем в мире произведения повторяется то же, что с человеком в
мире, - он на меньшем пространстве произведения выведывает иное
как несказанность и затем как невысказанность: все это заключает в
себе произведение.
Примечания
1 GundolfF. Goethe. 12. Aufl. В., 1925. S. 411.
2 Ibid. S. 1,5-6.
3 Ibid. S. 27.
4 Ibid. S. 1.
5 Ibid. S. 289.
6 Unger R. Weltanschauung und Dichtung: Zur Gestaltung des Problems bei Wilhelm
Dilthey. Zürich, 1917. S. 38, 36, 46.
7 См.: Михайлов A.B. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой
культуры. М., 1989 и раздел I наст. изд.
8 См. там же. С. 25 и ел., а также с. 27 наст. изд.
9 Ср. соответствующие различения у Б. Марквардта: Markwardt В. Geschichte der
deutschen Poetik. В. 1955. Bd.3.
10 Подобные несоответствия и отставания (теоретической поэтики и эстетики от
современных ей имманентно-творческих принципов) с показательной ясностью
прослеживаются в музыковедении и музыкальной эстетике. См.: Михайлов A.B.
Концепция произведения искусства у Теодора Адорно // О современной
буржуазной эстетике. М., 1972. Вып. 3.
11 См. об этом в моей статье: Михайлов A.B. Проблема анализа перехода к
реализму в литературе XIX в. Методология анализа литературного процесса. М., 1989.
12 Среди них следует отметить сборник, рассматривающий проблематику
истории науки в социально-политическом плане с острым взглядом на вещи и
массой нового материала: Germanistik und die deutsche Nation 1806-1848 / Hrsg. von
J.J. Müller. Stuttgart, 1974 (Literatur und Sozialwissenschaften, 2) [со статьями]:
Müller J. J. Germanistik - eine Form büirgerlicher Opposition. S. 5-112; StrippelJ. Zum
Verhältnis von deutscher Rechtsgeschichte und deutscher Philologie. S. 113-166;
Götze K.-H. Die Entstehung der deutschen Literatuwissenschaft als Literaturgeschichte.
S. 167-226.
13 Lempicki S. von. Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des
18. Jahrhunderts. Göttingen, 1920; 2. Aufl. Göttingen, 1968.
14 Вот как отзывается об этом хорошо начатом труде К. Веймар: «Лемпицкий
исследовал историю в ракурсе проблематики современного литературоведения,
а потому его изложение учитывает всевозможные подступы к характерным для
его дней способам рассмотрения, мнениям, выводам. Такая генеалогическая
историография науки вполне осмысленна, пока сохраняет еще хотя бы
относительное единство и пока историк в состоянии охватывать своим взглядом ее
современное состояние хотя бы в необходимой для его целей степени. Первая
предпосылка теперь уже не существует, а второе требование все менее и менее
исполнимо, чем больше заходишь в глубь XIX в.» ( Weimar К. Geschichte der
deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. München, 1989.
S. 7). К. Веймар видит трудности под знаком продолжающейся внутри
академической дисциплины дифференциации. Однако следует считаться с не столь
заметной, но явной, и притом более перспективной и идущей изнутри знания
тенденцией к единству.
15 Von der gelehrten zur disziplinären Gemeinschaft / Hrsg. von J.Fohrmann,
W.Vosskamp//Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte. 1987. 61. Jg. Sonderheft.
16 О В. Фосскампе см. материалы в: Контекст. 1990. М., 1990. С. 115-140.
17 См. примеч. 8. К. Веймар- цюрихский профессор, автор весьма
основательных и нетривиальных работ; см.: Weimar К. Zur Geschichte der Literatur-
316
Wissenschaft: Forschungsbericht // Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft
und Geistesgeschichte. 1976. 50.Jg. S. 298-364; Idem. Historische Einleitung zur
literarischen Hermeneutik. Tübingen, 1975; Idem. Enzyklopädie der
Literaturwissenschaft. München, 1980.
18 Fohrmann J. Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte: Entstehung und Scheitern
einer nationalen Poesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus und Deutschen
Kaiserreich. Stuttgart, 1988.
19 Rosenberg R. Literaturwissenschaftliche Germanistik: Zur Geschichte ihrer Probleme
und Begriffe. В., 1989. Эта книга примыкает к ранее изданной: Rosenberg R. Zehn
Kapitel zur Geschichte der Germanistik: Literaturgeschichtsschreibung. В., 1981.
20 Современное немецкое литературоведение резко отличается по своему
облику от немецкой науки между двумя войнами: различия разительны! Они
свидетельствуют о значительном возрастании общей филологической культуры, о
чем можно судить и по другим показателям - например, по резко
возросшему уровню текстологической подготовки даже и самых популярных изданий
классиков. Широкая осведомленность в научной литературе и
библиографическая акрибия сейчас столь же типичны, как типична филологическая
неряшливость диссертаций и монографий 1920-1930-х годов (с исключениями в
обоих случаях).
21 Zur Terminologie der Literaturwissenschaft / Hrsg. von Chr. Wagenknecht. Stuttgart,
1988 (Germanistische Symposien: Berichtsbände, IX).
22 Такие сопоставления настоятельно необходимы, и они не всегда в пользу
немецкой науки.
23 GadamerH.-G. Wahrheit und Methode. 5. Aufl. Tübingen, 1986. S. 314 (Ges. Werke.
Bd. I).
24 «Мы знаем только одну-единственную науку, науку истории», - писал в
середине 1840-х годов Маркс (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 16), и это,
как весьма последовательное выражение нового для той эпохи историзма, по-
своему предвосхищает сегодняшние задачи филологической науки, как и, с
другой стороны, относящееся к 1921 г. высказывание У. фон Виламовица-Меллен-
дорфа: «То, что есть и чем должна быть филология, есть итог ее истории»
(Wilamomtz-Moellendorf U. von. Geschichte der Philologie. Leipzig, 1959. S.80).
Ср. слова Дильтея в работе 1898 г.: «О том, что такое человек, скажет только
история» (Dilthey W. Die drei Grundformen der Systeme in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts// Gesammelte Schriften. Leipzig; Berlin, 1921. Bd. 4. S. 529).
Что такого рода высказывание делается впрок, об этом, конечно, знал и сам
Дильтей: история не завершена, а потому не завершена и та сущность
человека, о которой она говорит нам, - она говорит, но при этом только еще скажет
о том, что такое человек. Тем не менее самое высказывание возможно лишь на
основе истории: она уже сказала о себе достаточно для того, чтобы можно было
осмелиться сделать подобное высказывание. То, чего однако, по всей
видимости, не мог учитывать Дильтей, заключается в переосмыслении самой истории:
она не только нечто говорит нам, но, говоря, и видоизменяется и становится
иной. Ее слова в связи с таким видоизменением становятся иными, а потому
не просто продолжают прежде сказанное, но и начинают говорить заново и по-
иному. И в этом отношении слова Дильтея тоже сказаны впрок, однако так, что
сам философ не подозревал о том смысле, который вложится в его слова и
который, независимо от воли философа, προ-задуман в них, задуман наперед.
Само переосмысление истории едва ли может удивить кого-либо сейчас, если
принять во внимание, что смысл слова «Geschichte» радикальнейшим образом
видоизменился на протяжении всего лишь каких-нибудь трех веков (см.:
Geschichte Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel, 1974. Bd. 3. S. 344-
398). В дополнение к тому слово «Geschichte» взаимодействовало с
оказавшимся более широким греческим словом «ιστορία», смыслы которого способны до-
317
вольно неожиданно обнаруживать себя в нашем историческом опыте. В XIX же
веке слово «история», вместе с освоением в историческом опыте целой мировой
истории и по мере этого освоения, обрело новое свойство равномерности: его
стало возможным распространить, причем в одинаковом смысле, на все ставшие
доступными области исторического (включая историю Земли, историю
Вселенной и т.д.). Эта иллюзия равномерности истории и, следовательно,
постоянного равенства ее себе самой сама по себе была итогом истории, ее «словом»;
история в своем равенстве самой себе обнаруживает и свою независимость от
человека - от того, как она осмысляется им и как она «говорит» в нем, т. е. в том
самом, о котором говорит она, и только она сама. Вот две черты той истории -
ее равенство самой себе и ее независимость от человека (от того, как она
скажется в нем), - на основе которых делались в XIX в. и в его традиции наиболее
глубокие высказывания об истории; из числа их мы привели три — высказывания
К. Маркса, В. Дильтея и У. фон Виламовица-Меллендорфа.
25 Lieb H.-H. Der Status der Literaturwissenschaft und ihre Sprache // Zur
Terminologie der Literaturwissenschaft. Stuttgart, 1988. S. 137.
26 Lamping D. Erträge der Diskussion // Ibid., S. 143.
27 Weimar K. Literatur, Literaturgeschichte, Literaturwissenschaft: Zur Geschichte der
Bezeichnungen für eine Wissenschaft und ihren Gegegnstand // Ibid. S. 9-23.
28 Fricke H. Einfuhrung // Ibid. S.4.
29 Gabriel G Wie klar und deutlich soll eine literaturwissenschaftliche Terminologie sein //
Ibid., S. 29.
30 Ibid. S.28.
31 Lamping D. Op. cit. S. 144.
32 Визгин В.Л. Идея множественности миров. М., 1988. С. 59-61.
33 Scholz В.F. Das Emblem als Textsorte und als Genre: Überlegungen zur
Gattungsbestimmung der Emblems// Zur Terminologie... S. 289-308.
34 Müller W.G. Ironie, Lüge, Simulation, Dissimulation und verwandte rhetorische
Termini // Ibid., S. 189-208.
35 Weimar K. Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft... München, 1989.
36 См. прим. 9.
37 См. особенно: Kopp D., Wegmann N. «Die deutsche Philologie, die Schule und die
Klassische Philologie»: Zur Karriere einer Wissenschaft um 1800 // Von der gelehrten
zur disziplinären Gemeinschaft. S. 123—151.
M Mewes U. Die Gründung germanistische Seminare an den preussischen Universitäten
(1875-1895) // Ibid. S. 69-122.
39 Weimar K. Geschichte... S. 213.
40 Ibid. S. 244-246.
41 Ibid. S. 337-340.
42 Ibid. S. 9.
43 См. об этом: Ibid. S.301-309.
44 Ibid. S. 9.
45 Ibid. S. 254-346.
46 Ibid. S. 347-410.
47 Weimar K. Interpretationsweisen bis 1850 // Von der gelehrten zur disziplinären
Gemeinschaft. S. 152-173.
48 Fohrmann J. Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte... Stuttgart, 1989.
49 Rosenberg R. Deutsche Klassik und Romantik: Kanonbildung // Rosenberg R.
Literaturwissenschaftliche Germanistik... S. 85-160.
50 Fohrmann J. Op. cit. S. 211-240 (Kapitel «Wissenschaft, Philologie,
Literaturgeschichte»). См. краткое изложение становления дисциплины:
Михайлов A.B. Проблемы исторической поэтики... С. 113-117, а также с. 111-
113 настоящего издания.
51 Fohrmann J. Op. cit. S. 99-130.
318
52 См. Fohrmann J. Literaturgeschichtsschreibung als Darstellung von
Zusammenhang// Von der gelehrten zur disziplinären Gemeinschaft. S. 174-187.См.
также: Fohrmann J. Literaturgeschichte als Stiftung von Ordnung: Das Konzept der
Literaturgeschichte bei Herder, August Wilhelm und Friedrich Schlegel // Historische
und aktuelle Konzepte der Literaturgeschichtsschreibung / Hrsg. von W. Vosskamp,
E. Lämmert. Tübingen, 1986 (Akten des VII. Internationalen Germanisten-
Kongresses, Bd. 11).
53 Fohrmann J. Das Projekt... S. 43.
54 Ibid. S. 36.
55 Ibid. S. 44
56 Ibid.
57 Ibid. S. 141.
58 Ibid. S. 139-140.
59 «Literaturgeschichte als Geschichte der Dichtung?» - Rosenberg R. Op. cit. S. 77-84.
60 Hantzschel G. Der deutsche Homer im 19. Jahrhundert // Antike und Abendland.
1983. Bd. 29. S. 49-89.
См. неназванные выше новые работы по истории немецкой науки о литературе.
Grünewald Ε. Friedrich Heinrich von Hagen 1780-1856: Ein Beitrag zur
Frühgeschichte der Germanistik. Β; N.Y. 1988 (Studia Linguistica Germanica, Bd. 23);
Weigel H. Nur was du nicht gesehn...: Carl Lachmann und die Entstehung der
wissenschaftlichen Edition. Freiburg, 1989; Fohrmann J., Vosskamp W. (Hrsg.).
Wissenschaft und Nation: Zur Entstehungsgeschichte der deutschen
Literaturwissenschaft. München, 1991; Kolk R. Wahrheit-Methode- Charakter: Zur
wissenschaftlichen Ethik der Germanistik im 19. Jahrhundert // Internationales Archiv
für Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Tübingen, 1989. Bd. 14, H.l. S.50-73.
61 Wehrli M. Allgemeine Literaturwissenschaft. Bern, 1951; Sirelka J.P. Methodologie
der Literaturwissenschaft. Tübingen, 1978.
62 См., например: Eagleton T. Literary theory: An introduction. Oxford, 1983; немецкий
перевод: Eagleton T. Einführung in die Literaturtheorie. Stuttgart, 1988 (Sammlung
Metzler, Bd. 246), и мою рецензию в : Arbitrium. Jg. 8, 1990. H. I. S. 6-8.
63 Хиллис Миллер Дж. Триумф теории и производство значений. Вопр. лит. 1990.
№ 5. С. 83-87.
64 Автономова Н. Важна любая ступень // Там же. С. 102.
65 Там же. С. 107.
66 Хиллис Миллер Дж. Указ. соч. С. 87.
67 Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. М., 1988. С. 61.
68 UngerR. Philosophische Probleme in der neueren Literaturwissenschaft: Ein Vortrag.
München, 1908. S. 5-6.
69 Слово «энциклопедия» употреблено здесь в старинном смысле общего обзора
всех составляющих науку разделов - так, как у Гегеля в «Энциклопедии
философии». О подобном курсе введения в литературоведение, написанном
остроумно, без академической чопорности и без ученого высокомерия, нашей науке
приходится только мечтать.
70 В оригинале стоит другое слово, несравненно более пряное.
71 Weimar К. Enzyklopädie der Literaturwissenschaft. München, 1980. S. 178.
72 Ibid. S. 179.
73 Ibid. S. 226.
74 Хализев В.Ε. Историческая поэтика: перспективы разработки // Проблемы
исторической поэтики: Исследования и материалы. Петрозаводск, 1990. С. 5.
75 Там же.
76 Scherer W. Aufsätze über Goethe. В., 1886. S. 3.
77 Schultz F. Die Entwicklung der Literaturwissenschaft von Herder bis Wilhelm
Scherer // Philosophie der Literaturwissenschaft / Hrsg. von E. Ermatinger В., 1930.
S. 37; См. также: Kolk R. Wahrheit - Methode - Charakter: Zur wissenschaftlichen
319
Ethik der Germanistik im 19. Jahrhundert // Internationales Archiv der deutschen
Literatur. Tübingen, 1989. Bd. 14, H. 1. S. 52-53.
78 Хализев В.Ε. Указ. соч. С. 5.
79 Там же.
80 См. об этом у С.С. Аверинцева: «Готовое «слово» характеризует в общем виде
метафизическую, иначе говоря - риторическую, иначе говоря - моралистико-
казуистическую культуру, которой предстояло жить очень долго; как раз в
Греции, где эта культура родилась, ее слово было менее «готовым», более
пластичным и плавким, более связанным с материнским лоном живой жизни, чем где
бы то ни было позднее: в Риме или в Западной Европе от Средневековья до
классицизма включительно. Но в определенном смысле о «готовом слове»
уместно говорить и применительно к греческим истокам метафизико-риторической
культуры, потому что фундаментальная установка дедуктивного рационализма
предполагает такое отношение к каждой задаче, как если бы готовые решения
задач уже находились где-то за пределами мироздания, в некоем
умопостигаемом месте» (Аверинцев С. С. Античная риторика и судьбы античного
рационализма // Античная поэтика: Риторическая теория и литературная практика. М.,
1991. С. 11).
81 Ахутин A.B. Понятие «природа» в античности и в Новое время. М., 1988.
С. 115.
82 Heidegger М. Was ist das - die Philosophie? 4. Aufl. Pfullingen, 1966. S. 12.
83 Lange W. Tod ist bei Göttern immer nur ein Vorurteil: Zum Komplex des Mythos
bei Nietzsche // Mythos und Moderne. Begriff und Bild einer Rekonstruktion / Hrsg.
von K.H. Bohrer. Frankfurt a. M., 1983. S. 112.
84 См. об этом работы В.Η. Топорова по истории слов и смыслов. Работы эти
существенно отличаются от традиционных этимологических исследований,
поскольку охватывают всю широту истории культуры.
85 Эделыитейн Ю.М. Проблемы языка в памятниках патристики // История
лингвистических учений. Л., 1985, С. 183-184.
Мартин Хайдеггер
По поводу одного стиха Мёрике
Переписка Эмиля Штайгера с Мартином Хайдеггером
Осенью 1950 г. я читал в Амстердаме и во Фрейбурге-ин-Брей-
сгау доклад на тему «Искусство интерпретации». Чтобы
подкрепить свои методологические соображения примером, я
включил в текст доклада интерпретацию стихотворения
Мёрике «К лампе», написанного в 1846 г.:
Noch inverrückt, о schöne Lampe, schmückest du,
An leichten Ketten zierlich aufgehangen hier,
Die Decke des nun fast vergessnen Lustgemachs
Auf deiner weissen Marmorschale, deren Ran
Der Efeukranz von goldengrünem Erz umflicht,
Schlingt fröhlich eine Kinderschar den Ringelreihn.
Wie reizend alles! lachend, und ein sanfter Geist
Des Ernstes doch ergossen um die ganze Form -
Ein Kunstgebild der echter Art. Wer achtet sein?
Was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst.
[Еще на прежнем месте, о прекрасная лампа, украшаешь ты, /
Изящно подвешенная на легких цепях, / Потолок почти уж забытой ныне залы. /
На беломраморной твоей чаше, / Обвитой по краю плющом зеленой меди,
отливающей золотом, / Радостно водят дети хоровод. / Как все
прекрасно, как приветливо, и кроткий дух/ Серьезности все же разлит по форме
целого — / Художественное создание подлинного свойства. Кто внимает
ему?/ Но то, что прекрасно, блаженно светит в нем самом.J
В связи с ситуацией Мёрике-эпигона, в связи с его грустными
воспоминаниями об эпохе Гёте, которая была и которой нет, я в своем
докладе сказал между прочим следующее:
«Он в этом доме, где висит лампа, не чувствует себя хозяином. Да
он, кажется, и вовсе уже не господин. Но есть еще в нем какое-то
ощущение принадлежности своей к этому миру, и он еще осмеливается,
пусть наполовину, смотреть на себя как на посвященного. Именно на
том и основывается по всей видимости меланхолическая красота
чарующей пьесы. Он смотрит на лампу не столько как на творение
искусства, как смотрел бы на нее Гёте, почитая творение в создании своего
кровного родства с ним, не как на органическое создание,
архитектонические законы которого близки законам человеческого тела и
человеческого духа... Во всяком случае он не ощущает единства своего с та-
323
ким творением, как не ощущает уже и единства со своими
собственными детскими годами, печальную память которых, быть может,
пробуждают ведущие хоровод дети. Близкое-далекое - и радость, и стон, как
говорится в стихотворении «Весною».
В последнем стихе тон этот звучит наиболее явственно:
Прекрасное же - оно блаженным кажется в нем самом.
...— Прекрасное остается блаженным для себя самого, — так
говорит Гёте во второй части Фауста. Он-то понимал в этом толк. Он
высказывался на этот счет недвусмысленно, решительно. Мёрике так
далеко не заходит. Он не настолько полагается на самого себя, чтобы
знать, каково на душе у красоты. «Прекрасное же - оно кажется
блаженным...» - вот все, что решается он сказать. И наконец, с той
последней степенью утонченности, какой располагает лишь поздний
поэт, он слово «себе» («в себе») заменяет другим - «в нем». Напиши он
«в себе самом», это значило бы, что он уже слишком перенес себя в
ситуацию лампы. Если же сказать «в нем самом», то эта красота вновь
отодвигается в свою даль...»
Уже в Амстердаме Герман Мейер1 выразил сомнение в
правильности такой интерпретации. Он счел, что слово «scheint» следует
понимать как lucet, не как videtur2. И во Фрейбурге этот вопрос был вновь
поднят. Вальтер Рем и Гуго Фридрих поначалу колебались, но затем
убежденно склонились к videtur3. Гуго Фридрих вспомнил к тому же,
что «ihm» («в нем») - это древнее возвратное местоимение, до сих пор
сохранившееся на языке Швабии. И действительно, об этом я мог бы
узнать и сам из Словаря Гриммов, где это местоимение
засвидетельствовано для всего языка в период около 1800 года, а для Швабии еще
и в более позднее время. Между тем все это не побудило меня внести
изменение в свою интерпретацию. Мы сошлись на том, что Мёрике,
воспользовавшись особенностью своего диалекта, смог добиться того
самого впечатления, какое описал я. После этого мы поговорили еще
о трудности и многозначности даже самых невинных стихов, —
интерпретатор обязан проявлять предельную осторожность.
Случилось, однако, так, что на моем докладе во Фрейбурге
присутствовал и Мартин Хайдеггер. Он выступил решительным сторонником
интерпретации «scheint» в смысле lucet и был столь любезен, что
обосновал свой взгляд в письме:
«Чтобы достигнуть ясности относительно scheint в стихотворении
Мёрике, прежде всего необходимо - это же и раскроет, начиная с
конца, смысл всего стихотворения, - прочитать два последних стиха
после тире. Оба эти стиха - гегелевская эстетика in nuce. Лампа -
«светящееся» в своем качестве «создания искусства подлинного
свойства» - это σύμβολον художественного творения как такового -
«идеала» на языке Гегеля. Лампа, художественное создание («о,
прекрасная лампа»), все сводит воедино - чувственное явление
(Scheinen) и свечение (Scheinen) идеи как сущность художественного
творения. Как художественное творение языка, само стихотворение -
это покоящийся в языке символ художественного творения вообще.
324
Теперь же относительно scheint в особенности. Вы читаете «selig
scheint es in ihm selbst» так - felix in se ipso (esse) videtur. Слово
«блаженно» (selig) вы рассматриваете как предикат и связываете in se
ipso с felix. Я же felix понимаю как наречие, как способ («то, как»),
как основную черту «свечения», то есть самовыявления в свете, а
слова in ео ipso связываю с lucet. Я читаю так: féliciter lucet in ео
ipso; «в нем самом» относится к scheint, не к selig; «блаженно» - это
лишь сущностное следствие «свечения в себе самом». Артикуляция
и ритм последнего стиха ставят логическое ударение на ist: «Что же
есть прекрасное, то светит блаженно в нем самом» - то есть то, что
есть художественное творение подлинного свойства. «Бытие
прекрасным» есть чистое «свечение».
Перечитайте «Лекции по эстетике» Гегеля (1835) — введение и
первую главу первой части. Тут (см. первое издание, том Х/1, с. 144)
говорится так: «Прекрасное тем самым определяет себя как чувственное
свечение (Scheinen) идеи. «Прекрасный предмет... допускает в своем
существовании, чтобы его собственное понятие являлось как
реализованное, и показывает на нем самом субъективное единство и
жизненность» (там же, с. 148).
«В нем» - это не просто швабский говор, но, наоборот, этот
говор приспособлен для того, чтобы выразить сущностное различие,
для чего и пользуется им поэт: «в нем самом» - такие слова хотя и
имеют нечто «на нем самом», «само по себе» однако нечто такое,
что не обладает самосознанием самого себя, нечто такое, что, на
языке Гегеля, не есть «понятие», то есть не есть «чистое сияние в
себе самом» (с. 141), а есть некоторое сияние, или свечение без
самосознания, без «себя», стало быть не в «себе», но «в нем самом».
Однако, такое «свечение» никогда не бывает «просто кажимостью»
в смысле «кажется (scheint), как будто... кажется, что...». Поэтому
Гегель (с. 199 внизу) говорит так: «Истине искусства нельзя, таким
образом, быть просто правильностью, чем ограничивается так
называемое подражание природе, но внешнее должно согласовываться с
неким внутренним, какое согласуется в себе самом и именно
поэтому может открывать себя во внешнем как себя самого».
Так открывать себя и означает являть себя в свете, «светить». В нем
истинное выносит свое само-стояние наружу, в явление. Так Гегель и
говорит: «В этом отношении выше всего, как основную черту идеала
(то есть художественного творения) мы можем поставить светлый
покой и блаженство - самодостаточность в своей собственной
замкнутости и ограничении. Идеальный облик искусства стоит здесь перед
нами словно блаженный Бог» (с. 202). Féliciter lucens, прекрасное
создание само felix. Сказанным, вероятно, и достигается та
«достоверность», какая тут возможна. Ибо требовать достоверности
«математической» в декартовском смысле было бы догматизмом, который
невозможно обосновать - он вовсе не сообразен существу дела.
Ссылка на Гегеля самоочевидна. Потому что другом юности Мёри-
ке (как и он, выросшим в Людвигсбурге), постоянным советчиком его
в вопросах эстетики и поэтики, был Фридрих Теодор Фишер; его
Эстетика, или Наука о прекрасном выходила, начиная с 1846 г.
325
Кроме того, мы должны учитывать и то, что именующая сила
слова scheinen утрачена для нас, хотя мы и говорим по-прежнему
«Солнце светит». Однако, чтобы почувствовать контраст, прочитайте
стихотворение М. Клаудиуса (Сочинения Вандсбекского Вестника,
том 1): Колыбельная, чтобы петь при лунном сиянии, особенно
строфы 8, 9, 11 и 12"4.
Так писал мне Мартин Хайдеггер. Признаюсь, что письмо это
поколебало мою уверенность. Однако, спустя какое-то время
выяснилось, что мое чувство звучания и смысла стиха не желало
отступаться. И поэтому я потребовал, пользуясь средствами литературной
науки, подробнее разъяснить свое интуитивное понимание стиха. Я
писал Мартину Хайдеггеру:
«Позвольте начать с конца Вашего комментария. Вы называете
Фишера постоянным советчиком Мёрике в вопросах эстетики и
поэтики. Но тогда Фишер в нашем вопросе ближе к делу, чем Гегель. А
что говорит о прекрасном Фишер? В первом томе его Эстетики,
который, как Вы заметили, вышел в свет в том же году, что и
стихотворение Мёрике, в параграфе 13 (цитирую по 2-му изданию, Мюнхен,
1922. с. 51), значится:
«В соответствии с этим законом для него (духа) создается
видимость, будто нечто отдельное, наличествующее в своей
ограниченности временем и пространством, вполне соответствует своему понятию,
то есть будто в нем и прежде всего в нем полностью осуществлена
определенная идея, а через посредство таковой и идея абсолютная.
Правда, это лишь видимость - в том смысле, что ни в каком
отдельном существе не может полностью наличествовать его идея;
поскольку, однако, абсолютная идея - это не пустое представление, но она
действительно налична, хотя и не в отдельном сущем, то видимость
таковая - это видимость (Schein) содержательная или явление
(Erscheinung). Такое явление и есть прекрасное».
Здесь выражение scheinen в применении к прекрасному
сознательно употреблено в двояком смысле, однако больше в смысле vederi.
Впрочем, я не придаю слишком большого значения этому месту.
Потому что ведь как обстоит дело с поэтическими и эстетическими
советами Фишера? Мёрике 8 февраля 1851 г. пишет Фишеру по поводу
его Эстетики — по поводу второго, изданного в 1847 г. ее тома:
«Тем временем постараюсь побольше заглядывать в Твою книгу, к
которой не раз уже испытывал сильное влечение. Одна часть ее,
первая (то есть та самая, из которой выписаны процитированные выше
фразы), один раз два дня была в моих руках; я потолкался в нее словно
пес в круглый шар без единого угла, — хотелось быстренько извлечь из
нее что-нибудь дельное».
А как обстоят у Мёрике дела с Гегелем? 14 мая 1832 г. Мёрике
просит Фишера, чтобы тот «списал ему главные положения гегелевской
системы». Ф. Зеебас, издатель Неопубликованных писем Мёрике
(Штутгарт, 1945), комментирует это место так (с. 534): «О занятиях
Гегелем в последующие годы нет сведений».
Итак, ссылка на Гегеля далеко не самоочевидна. Напротив! Мы
увидим, что у Мёрике нет ни страсти к серьезной работе мысли, ни навы-
326
ка в ней. И как же обстоит дело теперь? Наверное, Вас возмутит столь
легкомысленное обращение с философией. Но здесь есть
существенный момент. Если вы позволите, я скажу так: Ваш подход к стиху Мё-
рике кажется мне слишком схоластическим для такого поэта; вразрез с
Вашими же собственными убеждениями, Вы, кажется, слишком
настаиваете на понятиях и проходите мимо всего неопределенного,
скользящего, неуловимого, предусмотрительно-осторожного, иной раз хитро
переливчатого, - мимо всего того, что характерно для языка,
выработанного Эдуардом Мёрике. Кто знает, может быть, старый лис и
подумывал про lucet, что, подобно выражению «в нем самом», было ближе
к его говору, чем к нам теперь. Но если и подумывал он, то
«немножечко», играючи, на пробу. В такого рода лирике едва ли встречаются
твердые значения, и весь спектр слова «scheinen», представленный словарем
Гриммов, должно быть, присутствует в этом переливающемся слове.
Никоим образом не хотелось бы мне отказываться от
потенциальности смыслов в таком высказывании, от неверности его смысла, от
отрицания в нем безусловной уверенности — от всего того «может быть»,
какое заключено в videtur. Это последнее значение я считаю
доминирующим. В нем бесподобно сказывается особая ситуация Мёрике, его
положение, которое он глубоко прочувствовал, отличие его формы
существования от гетевской (или от гегелевской, уверенной). Он, поэт
поздний, вправе лишь предполагать, в состоянии лишь считать нечто
возможным, а самая суть - она уже наполовину утаена. Так
пожертвуете ли Вы этим драгоценным, донельзя индивидуальным колером,
отличающим поэта и его стих, ради тезиса, который был бы не более, чем
запоздалым итогом гегелевской эстетики?
Очевидно, что между Вами и мной не простое, случайное различие
мнений, а существенное различие в постижении поэтического и
философского языков. Сильнее всего я чувствую разницу, когда Вы
говорите, что ударение лежит на «весь». Мне это представляется
совершенно немыслимым. Ударение на «прекрасном», «блаженном» и
«себе». Напротив, когда, говоря о стихах Гёльдерлина
Общего духа мысли [суть],
Тихо замирающие в душе поэта,
Вы поясняете, что логическое ударение приходится на «суть» и
подкрепляете свой комментарий не замеченной Хеллингратом
запятой, то я соглашусь с Вами и из соображений ритма, и по существу
дела. Эта деталь Вашей интерпретации «праздничного» гимна
Гёльдерлина5 всегда была для меня особенно ценна. Но ведь язык Гёльдерлина
безусловно более философичен, чем язык Мёрике. Гёльдерлин был же
и мыслителем, Мёрике - нет.
Позволите ли Вы опубликовать нашу переписку о стихе Мёрике в
«Тривиуме»? Думаю, что она в состоянии побудить к размышлению о
трудностях интерпретации даже и более широкие круги читателей.
Буду особенно благодарен Вам, если Вы скажете нечто
подытоживающее разговор. Я ведь совсем не заинтересован в том, чтобы
последнее слово оставалось за мной, тем более в обращении с Вами».
327
В письме из Тодтнауберга от 28 декабря 1950 г., целиком
посвященному вызвавшему разногласия стиху Мёрике, Мартин Хайдеггер
отвечал мне так:
«Дорогой господин Штайгер!
Спасибо за письмо. Благодаря ему Ваш доклад становится
прозрачнее; письмо содержит важные для меня соображения относительно
существенного, относительно основного настроения в стихотворении,
но в главном и решающем не убеждает меня, в истолковании scheint
в смысле videtur. Однако это побуждает вносить еще большую ясность
в существо дела и сводить в унисон наши взгляды.
Ради такой цели я вынужден отвечать более пространно. По этой же
причине я не могу претендовать и на заключительное слово, тем более,
что согласно доброму обычаю оно принадлежит Вам. Ведь и по
Вашему же мнению, как и всегда в наилучших из подобных случаев, Ваше
последнее слово - оно и останется лишь первым, потому что на кону
стоит иное — отнюдь не отдельный комментарий к такому-то стиху
Мёрике. И это иное, — быть может, скоро, быть может, и очень не
скоро, однако, несомненно, и притом оно одно, - предрешит отношение
языка к нам, смертным. Ссылка на Гегеля призвана была лишь
обозначить атмосферу, в какой произносится слово scheinen, когда Мёрике
пользуется им в связи с прекрасным. Приводя разные места из «Лекций
по эстетике» Гегеля, я вовсе не собирался доказывать, что философские
понятия прекрасного и явления возымели своим следствием
поэтическое употребление этих понятий в стихотворении Мёрике, причем через
послужившее прямой причиной опосредование этой действенной
взаимосвязи Гегеля и Мёрике Фридрихом Теодором Фишером.
Если теперь Вы доказываете, что Мёрике не волновала философия
Гегеля, что «Эстетикой» Фишера он занимался лишь бегло, то этим не
уничтожается моя ссылка на Гегеля, и я нимало не чувствую повода к
возмущению «столь легкомысленными» занятиями философией.
Последнее оттого, что я полагаю: поэт и не обязан заниматься
философией, — но только поэт делается тем более поэтически творящим, чем
более он задумчив и мыслителен.
Первое же не уничтожается потому, что в те времена благодаря
господству философии Гегеля и его учеников значение «scheinen» в
смысле «светящегося самовыявления налично присутствующего» висело в
воздухе, так что не было ни малейшей необходимости в том, чтобы
любой, кто понимал это слово в его старом значении или заново
научился понимать его так, обращался к произведениям Гегеля или к книгам
Фишера. По сути же дела, слово scheinen в смысле «только казаться,
будто...» никогда по-настоящему не мыслится, если не мыслится
лежащая в его основе область свечения в смысле выявляющего саморазвер-
зания чего-либо налично присутствующего. Греческое слово φα'ινεσθαι
разумеет и то, и другое. Причем греческое слово φαίνεσθαι в значении
«только кажется, что...» все равно продолжает говорить иное, нежели
римское videtur, которое исходит от наблюдающего. Так что я отнюдь не
«схоластически» полагаю, будто Мёрике по-школьному перевел
гегелевскую философию на язык поэзии, но я хотел бы лишь указать на то,
что исконное значение слов scheinen и Schein открывает ту область, где
328
разворачиваются, но притом и запутываются - хотя отнюдь не
произвольно - многообразные значения слов, именующих явление,
выяснение, свечение, видимость, кажимость и т.п.
Так и приводимое Вами из параграфа 13 Эстетики Фишера не
доказывает противоположности Гегелю. И Гегель в кругу
процитированных выше мест (ее. 132, 148, 149) тоже говорит о явлении в
смысле просто кажимости. В гегелевском понятии прекрасного и
явления-свечения собирается строго выстраиваемое многообразие
свечения, явления, простой видимости. Однако, кажимость -
например, то, что нарисованное дерево (дерево как создание искусства) это
не действительное дерево и что тем не менее оно именно как
дерево кажущееся показывает действительность дерева, - совершенно
неотъемлема от сущности всякого художественного творения, она
необходимо принадлежит к его подлинному явлению-свечению в
смысле показывания-выявления себя на нем же самом и им же
самим. Вот такую неотъемлемую от подлинного свечения кажимость
того, что кажущимся образом действительно, такую кажимость,
которая дает выявиться действительности, и разумеют Гегель с
Фишером. Совсем другое дело - та кажимость, которую Вы
предполагаете у Мёрике, в его «кажется», videtur. Такая кажимость вытекает из
взгляда на сущность и значимость искусства, который согласно
Вашему пониманию сложился у Мёрике-эпигона, между тем как
кажимость, о которой только что шла речь, принадлежит к тому
виду-выявлению, внутри которого сущностно обретается, стоит всякое
художественное творение. Если следовать Вашему толкованию, то тогда,
согласно взгляду Мёрике, и подлинное явление, то есть само-пока-
зывание художественного творения, должно бы быть просто
кажимостью, — коль скоро художественное творение кажется блаженным,
но не есть таковое. Предположим, Вы правы в своем толковании
глагола scheint — но тогда Вы не вправе приводить в свидетельство слова
Фишера, тем более как якобы противоположные Гегелю.
Для чего, однако, все это столь пространное обсуждение проблем
эстетики Гегеля и Фишера, если свидетельства их сочинений не
могут быть доказательными, если они не могут подтвердить influxus
physicus6 философских понятий о прекрасном вовнутрь поэтического
создания поэта? Обсуждение должно послужить своего рода
герменевтической прелюдией, призванной отчетливо показать, что
необычайная тщательность необходима уже и для того, чтобы разобраться
в сущностных отношениях подлинного и неподлинного- свечения,
явления, кажимости в смысле неустойчивого их подразумевания,
необходима уже и для того, чтобы пользоваться соответствующими
значениями слов ясно и уверенно. Предварительные замечания
слишком далеки даже оттого, чтобы с достаточной ясностью
представить хотя бы основной строй и сложение того, что мыслит Гегель
под именем «абсолютной идеи» и «идеала». Однако сама атмосфера
того, что таким образом мыслил Гегель, несмотря на всю
враждебность Гегелю художественной мысли XIX века, освещает собою всю
ее совокупность; правда, уровень мыслительных горизонтов, уровень
понятийного мышления неукоснительно снижается.
329
Однако, что касается «scheint» в последней строке стихотворения
Мёрике, то тут что-либо решать можно лишь исходя из самого
стихотворения. Стихотворение же продолжает оставаться в присущей
языковому духу его эпохе атмосфере, оно, - если только это
художественное создание подлинного свойства, - вибрирует в пределах
некоторого основного настроения.
Благодаря Вашему письму я стал внимательнее к существенному,
глубже задумался над ним - над тем, какого же рода основное
настроение выступает наружу в этом стихотворении. Вероятно, я не
разойдусь с Вами, если скажу, что настроение это - печаль, смотрящая
вспять. Что скажет само стихотворение?
К сожалению, я уже не помню в точности, что говорили Вы о
стихотворении в целом и в частностях в своем докладе. Но думаю, что не
ошибусь, если скажу, что Вы не занимались более точной характеристикой
стихотворения по его строению, тем более, что, как писали Вы позднее,
«в тот вечер методическая часть была для Вас важнее, нежели пример».
Десять строк стихотворения членятся следующим образом. Стихи 1-
3 говорят, что красивая лампа еще «не сдвинута с места», и говорят о
том, как именно она налично присутствует, а именно «украшая
потолок почти уже забытой залы». Украшенный прекрасной лампой
потолок благодаря блеску своего украшения сияет над всем пространством
залы. Прекрасная лампа, даже и не зажженная, пронизывает своим
светом пространство. Она уделяет этому пространству его просторы,
его сущность, «ныне уже почти забытую». Это означает: в свете
прекрасной лампы пронизанные ее светом просторы являются как уже
бывшее, былое.
В стихах 4-6 является вид-выявление, «то, что» прекрасной лампы,
той, что в своем украшающем пребывании еще не сдвинута с места.
Отливающая золотисто-зеленым медь плюща открывает вид на диони-
сийский пыл и жар роста. Хороводы детей, кружась, разносят блеск
торжественной залы. Появление на этой прекрасной лампе детей,
водящих хороводы, я понимаю не так, как Вы, — не психологически и не
биографически, как знак воспоминания об ушедших годах детства. И
венок из плюща, и хороводы детей - все это принадлежит к
прекрасной лампе как художественному созданию постольку, поскольку она,
эта лампа, пронизывая светом залу, уделяет просторы пространству
торжественной залы.
В стихах 7 и 8 выговаривается то целое, о чем велась речь в
предыдущих строках. Наличное пребывание прекрасной лампы является в
них как привлекательное и как серьезное (восхитительное и
восхищающее дух), однако не просто как сумма. Прелесть и суровая
серьезность пребывания — они кротко переливаются друг в друга, играя
вокруг формы целого. Слово «форма» означает сейчас не сосуд,
предназначенный для заполнения его содержимым, но оно разумеет forma как
μορφή - облик того, что видится, что вы-глядит. Форма целого -
наглядно пребывающее, что полностью вышло в явление, в то, как что
оно видится и вы-глядит; это еще не сдвинутая с места прекрасная
лампа, пребывание и вид которой перенесен в истине своей вовнутрь
стихотворения: дважды тремя стихами его (1-6).
330
Прекрасная лампа - это художественное создание благодаря стихам
с первого по восьмой столь прекрасно и, стало быть, столь сообразно
ее сущности вошло внутрь стихотворения, что только стихотворение
своей речью и позволяет вспыхнуть во всей ее красоте прекрасной
лампе. Правда, лампа не зажигается оттого, что создано стихотворение,
однако стихотворение возжигает прекрасную лампу. Почему же, однако,
стихотворение «К лампе» не заканчивается на восьмом стихе? потому
что еще не выговорено во всей своей завершенности и чистоте то, что
надлежало поэтически творить. Правда, прекрасная лампа вошла уже
внутрь слова как художественное создание, однако она еще не названа
«художественным созданием подлинного свойства». Еще не высказано
подлинное свойство прекрасной лампы, сама красота ее. В отличие от
предыдущих стихов, еще остается сказать нечто иное.
Потому-то в конце восьмой строки, после слова «форма», стоит не
точка, а тире. Тире означает различение - такое, которое
разъединяет и соединяет. Тире отделяет строки с первую по восьмую от
последующих двух заключительных стихов. Тире разделяет, а в то же время
приделяет одно другому: стихи 9-10 к стихам 1—8 в целом, к стихам
7-8 в особенности. Двум последним соответствуют тоже два
заключительных стиха, - и той и иной парой стихов именуется
художественное создание в целом, однако в разном отношении.
Сразу же после тире стих 9 начинается словами «художественное
создание подлинного свойства». Все прежде сказанное вбирается в
них, а в то же время эти слова отсылают нас к последующему. А что
следует за ними? Сначала вопрос — «Кто внимает ему?» То есть: кто
же еще внимает художественному созданию в его подлинности, в
его настоящей сущности? Вопрос задается так, что подсказывает
ответ: никто; немногие; считанные единицы. Вопрос проникнут
настроением печали. В стихотворении звучит горечь: художественное
творение в своей сущности ускользает от людей. Однако, поэт лишь
потому может быть определен и на-строен таким горестным
настроением, что принадлежит к числу тех, кто сохраняет еще
способность постигать сущность художественного творения. Поэтому
горесть не угнетает его. Опечаленный, он хранит прямоту. Ибо
ведает: правый образ художественного создания, красота прекрасного,
властно правит не по милости человеческой — не по мере того,
насколько внимают художественному творению, насколько не
внимают ему, пользуются ли и наслаждаются ли тем, что прекрасно.
Красота остается тем, что она есть, независимо от того, каков ответ на
вопрос «Кто внимает ему?»
«Но то, что прекрасно, — блаженно светит оно в нем самом»:
красота прекрасного - это выход в явление формы целого в ее
сущности. Однако мы не в праве поспешно миновать «но» в последнем
стихе, тем более не вправе не замечать его вовсе.
«Но» это говорит о противоположности, которая связует. Стих 10, в
котором стоит это «но», контрастен стиху 9, где говорится о
человеческом внимании к художественному творению. «Но» высказывается против
того, чтобы вниманию человеческому придавать решающий вес: то, что
прекрасно, становится таковым не оттого, что его принимают за таковое.
331
Однако, это «но», говоря свое, высказывает все так, что
одновременно, согласно ритму стиха, подчеркивается и непосредственно
следующее за ним слово- «прекрасно», и - по смыслу- слово
«есть». У слова «есть» не стершееся значение связки, как
применяем мы ее без всякой мысли в устной речи и на письме. Здесь «есть»
подразумевает «быть прекрасным в себе» в отличие от «просто
казаться прекрасным» вследствие внимания к прекрасному. У слова
«есть» значение «бытийно пребывать»: прекрасно то, что
пребывает по способу прекрасного... Итак, я вынужден придерживаться
того, что слово «есть» несет на себе логическое ударение; однако я
далек от того, чтобы отождествлять ударность этого «есть» с
ударностью слова «суть» в стихотворении Гёльдерлина. В стихе
последнего «суть» значит не пребывать, а экс-систировать в
метафизическом смысле «экзистенции».
То же, что пребывает как прекрасное, - на что иное способно оно,
как не на то, чтобы, украшая и пронизывая светом, давать являться
миру в его сущности — в его существовании? Прекрасное способно на
это постольку, поскольку само оно, сияя, пронизывается светом в нем
самом — светит. Поскольку scheint значит именно это, а «в нем самом»
относится к глаголу, стихотворение на этих последних своих словах
возвращается к своему началу: «Еще не сдвинутая с места, о
прекрасная лампа...»
И только с последним словом последнего стиха, - последнее
неразрывно связано с предпоследним, - округляется, достигая
совершенства, форма целого- на этот раз не форма прекрасной лампы, а
форма стихотворения «К лампе».
Пытаясь же идти Вам навстречу и слышать scheint в значении
videtur, я каждый раз спотыкаюсь, нарушая ритм стиха, —
стихотворение завершается, обретая совершенство, я же задеваю за углы.
Значение свечения в слове scheint — оно указывает не в направлении
«фантома», а в направлении «эпифании». Художественное создание
подлинного свойства есть само по себе эпифания мира, пронизываемого
его светом и им хранимого в его истине.
Если мы и вправе говорить о «предельной утонченности» этого
стихотворения Мёрике, то разве имея в виду следующее, -
стихотворение, в котором обретает язык сущностное свойство
художественного создания, в то же самое время есть стихотворение «на лампу».
Благодаря этому не только у того, что составляет предметность этого
художественного создания, у лампы, характер горения и свечения, но и
сущность этого художественного творения, красота прекрасной
лампы, сияет, просветляя и светясь. Уже погасшая, лампа все еще сияет,
потому что, будучи прекрасной, она светит и светится: показывая
(являя) себя, она дает явиться своему миру (залу).
Так разве это «утонченность»? Не дар ли это, скорее, неприметной
простоты - дар поэту позднего времени, который благодаря этому
стихотворению достигает близости к раннему и былому - к тому, что
было в начале западного искусства?
Предваряющее чувство находит в стихотворении Мёрике настроение
печали. Я следую Вашему предварительному чувству. И однако остает-
332
ся вопрос: что же именно настраивается, определяясь чувством печали?
Нет, не подлинное свойство художественного создания, сущностное
свечение которого сводилось бы тогда до простой кажимости.
Настроение печали затрагивает художественное создание постольку,
поскольку уже не окружает его сообразное его сущности внимание людей.
Художественное творение не в состоянии ни силой возвращать себе такое
внимание, ни сохранять его на веки вечные в неусеченном виде.
Возможно, поэт бросил взгляд на эту неотъемлемую от сущности
художественного творения неспособность и несостоятельность, и это горе
художественного творения преисполнило душу его горечью. Как эпигон,
он видел явно больше своих предшественников, и ему было тяжелее
влачить такое бремя.
Чтобы оставаться тем, что оно есть, стихотворение Мёрике
непосредственно не нуждается в наших обходных размышлениях. Зато
нуждаемся в таком мышлении мы же сами, не только для того и не в
первую очередь для того, чтобы уметь читать стихотворение, но для того,
чтобы вообще учиться читать.
А читать — разве не то же, что собирать: собирать себя,
собираться — для того чтобы внимать несказанному в сказанном?
Сердечно Вас приветствую,
Ваш Мартин Хайдеггер»
На это письмо я отвечал 6 января 1951 г.:
«Глубокоуважаемый господин Хайдеггер!
За Ваше чрезвычайно значительное письмо мне оставалось бы
только благодарить Вас, если бы не одно недоразумение, которое все-таки
вынуждает меня воспользоваться дружески предоставленным мне
правом на заключительное слово. Ни в своем докладе «Искусство
интерпретации», ни в своем письме Вам я никогда не толковал слово scheint
в смысле «только выглядит, но не есть...». Я не говорил, что «scheinen»
указывает в направлении «фантома». Во всех случаях я истолковывал
последние стихи так: «Художественное создание уже не пользуется
вниманием. Но (и я отнюдь не пропустил это слово мимо ушей!) что ему
от этого? Оно кажется блаженным в себе самом; оно, кажется, вовсе не
нуждается в нас. Кажется! Может быть, так это и есть. Вполне твердо
мы этого не знаем. Ибо кто мы такие, несчастные пришельцы в
поздний час, чтобы сметь надеяться на то, что немедленно же ясно и
недвусмысленно сможем сказать, каково на душе у красоты?»
После этих разъяснений, думаю, что не слишком расхожусь с Вашей
интерпретацией, насколько прояснилась она теперь. Я вполне согласен
с Вашей характеристикой строения целого стихотворения. В своем
докладе я высказался об этом весьма похоже. Кроме того, мы оба
признаем, что значение слова scheint во многих отношениях переливается. Вы
по преимуществу делаете упор на lucet (в угоду свечению лампы), я же
по-прежнему — на videtur. Благодаря этому я и самого поэта ввожу в
круг все тех же настроений печали, которые, как оба мы одинаково
признаем, проходят сквозь все стихотворение Мёрике. Поэт обуреваем
скорбью и печалью - не только потому, что он знает: художественное
333
творение в своем существе ускользает от большинства людей, — но и
потому, что он уже не осмеливается с уверенностью ощущать себя
человеком посвященным. Это личное настроение поэта могут
засвидетельствовать и «Художник Нольтен» (последний царь Орплида с его
погружающимся в сумрак сознанием7), и стихотворения без числа. И вот
как раз такая скорбная нерешительность и противоречит на мой взгляд
любому категорическому высказыванию о прекрасном, между тем как
согласно Вашему мнению таковое налицо. И все же речь может идти об
эпифании в Вашем смысле, впрочем, я бы сказал - об эпифании,
наполовину уже погрузившейся в туман.
Все остальное, что продолжает разделять нас, можно, кажется,
понять, если исходить из следующего различия между нами: Вы читаете
стихотворение как свидетельство поэтического творчества и красоты
в их простоте, не ведающей перемен. Я же читаю его, скорее, как
свидетельство особого, неповторимого способа творчества и явления
красоты — такого, какой и стал действительностью в поэзии Мёрике в
середине прошлого века. К прекрасному, какое имеете Вы в виду,
Мёрике тоже причастен (он его μετέχει). И я, как историк, тоже обязан
признать это. Однако, меня куда более должен занимать вопрос, как,
каким образом причастен он к творчеству и красоте, как Единое
преломляется в его индивидуальном явлении.
Больше мне не нужно ничего прибавлять к сказанному. Но я хотел
бы от всего сердца поблагодарить Вас за готовность входить в
существо занимавших меня вопросов, за толкование стихотворения,
причем я с большим удовольствием вменяю себе в заслугу то, что побудил
Вас толковать его. Наконец я хотел бы заверить Вас в своем
неизменном почтении - Ваш покорный
Эмиль Штайгер».
Рассказ о лесе во льду
Адальберта Штифтера
Нижеследующий текст относится к рассказу Штифтера Портфель
моего прадеда. Работа над различными редакциями этого произведения
занимала поэта вплоть до последних дней болезни и смерти.
Относительно избранного нами отрывка Штифтер в конце 1846 года
пишет своему издателю Хакенасту: «Думаю, этот рассказ... должен
воздействовать глубоко».
В предшествующих этому отрывку разделах Штифтер описывает,
как доктор вместе со своим слугой Томасом едут в санях, чтобы
навестить больных; о том же, чем кончилась эта их поездка в зимний день,
писатель рассказывает так:
«Когда же мы наконец добрались до Таугрунда и лес, постепенно
спускающийся сюда с высоты, все ближе подступал к дороге, мы
внезапно услышали в темной роще, что стояла на красиво вздымающейся
вверх скале, треск, настолько странный, что ни один из нас во всю свою
жизнь не слыхивал ничего подобного - было так, будто пересыпались
тысячи, если не миллионы стеклянных палочек, в таком тысячекратном
звенящем гомоне уносясь куда-то вдаль. Однако темно-зеленая роща по
правую руку от нас была все еще далековата, так что мы не могли
толком разобраться в таком звучании, и в неподвижном покое, какой был
на небе и во всей местности окрест нас, оно показалось нам до
чрезвычайности загадочным. Мы проехали еще какое-то расстояние, прежде
чем сумели остановить Рыжего, - он был всецело поглощен бегом и
наверняка только об одном и мечтал — поскорее очутиться у себя дома в
конюшне. Наконец мы встали и тогда услыхали над головой как бы
неопределенный шорох - больше же ничего. Однако шорох этот ничуть
не походил на тот звенящий гул, который мы только что слышали
сквозь цоканье копыт. Мы снова тронулись в путь и все ближе и
ближе подъезжали к лесу Таугрунда; наконец мы могли рассмотреть уже и
темное отверстие там, где дорога уходила в глубь леса. Хотя час был еще
не поздний и серое небо казалось светлым настолько, что вот сейчас бы
и проглянуть лучам солнца, однако день был зимний, он склонялся к
вечеру, и было пасмурно, так что белоснежные поля перед нами уже
начали терять краски, а в роще, казалось, царил мрак. Но так, должно
быть, только казалось, оттого что блеск снега резко контрастировал с
чернотою стволов, тесно стоявших друг за другом.
Когда же мы добрались до того места, где должны были въезжать
под своды леса, Томас остановил лошадь. Прямо перед нами стояла
тонкая и стройная ель - но она согнулась наподобие обода и
образовала нечто вроде арки на нашем пути, - такие делают для вступающих
335
в город императоров. Не описать, какое ледяное изобилие, какое
бремя свисало с деревьев. Словно люстры с укрепленными на них в
бесчисленном множестве перевернутыми свечами и свечками самых
разных размеров стояли хвойные леса. Все свечи отливали серебром, и
сами подсвечники были серебряными, и не все из них стояли прямо,
некоторые были повернуты в самых разных направлениях. Теперь нам
был знаком шум, прежде слышанный нами в воздухе над головой, -
вовсе и не был он в воздухе, он был совсем рядом с нами. На всю
глубину леса стоял этот непрерывающийся шум, потому что
непрестанно ломались и падали на землю ветви и ветки, большие и малые. Тем
страшнее было это зрелище, что все окрест стояло в недвижности;
среди всего блеска и искрения на деревьях не шевелилось ни веточки,
ни единой иголочки, пока наконец по прошествии недолгого
времени наш взор не останавливался на очередном согнутом в дугу дереве,
которое клонили к земле нависшие на нем ледяные сосульки. Мы все
еще ждали, не трогаясь с места и смотрели, — неизвестно, изумление
или страх мешали нам въезжать во всю эту вещь. Наша лошадь
видимо, разделяла подобные же чувства, потому что несчастное животное
осторожно подтягивая ноги, несколькими рывками сумело-таки чуть
подать сани назад.
Пока же мы продолжали стоять на месте и смотреть, - ни один из
нас не проронил ни слова, — мы вдруг снова услышали звук падения, -
его за сегодняшний день уже довелось нам слышать дважды. Падению
предшествовал оглушительный треск, напоминающий звонкий вскрик,
затем последовал сдержанный стон, свист или вой, наконец
раздавался тупой, грохочущий звук удара о землю, и могучий ствол дерева
лежал на земле. Словно эхо выстрела волной прокатилось по лесу, по
густым гасившим его сплетениям ветвей; теперь в воздухе стояло лишь
позванивание и позвякивание, как будто кто-то тряс и перемешивал
бесконечное множество осколков стекла, - наконец все сделалось как
прежде, деревья стояли и высились как всегда, все оставалось
недвижимым и только тянулся, словно застыв на месте, прежний шорох и шум.
Занимательно было наблюдать, как совсем рядом с нами на землю
срывалась веточка, или ветвь, или кусок льда, - не видно было, откуда они
падают, а только они проносились мимо быстро как молния, слышен
был тупой звук падения, но нельзя было уследить, как внезапно
взметывалась ввысь освободившаяся от тяжести льда ветвь, и все опять
замирало, и вся застылость длилась, как и прежде.
Теперь нам стало понятно, что въехать в лес мы не можем.
Где-нибудь путь наверняка преграждало всеми своими ветвями упавшее
поперек дороги дерево, — перебраться через него мы не смогли бы, не
сумели бы и объехать его, потому что деревья растут очень часто, их ветки
и иглы сплетаются друг с другом, а снег лежит по самые ветки и
сплетения нижнего яруса ветвей, а если бы мы тогда повернули назад,
пытаясь ехать тем самым путем, по которому углубились в лес, и если бы
тем временем на дорогу легло хоть одно дерево, то мы бы и застряли
где-нибудь среди леса. Дождь лил не переставая, мы сами обросли
толстым слоем льда, так что не могли и пошевелиться, не ломая наледь,
сани, покрытые ледяной глазурью, отяжелели. Рыжий нес свое бре-
336
мя, - в деревьях же если где и пребывало льда хоть на самую малую
унцию, то приходила им пора ломаться - и ветвям и целым могучим
стволам, и сосульки, на кончиках острые как колья, готовы были падать
наземь, — и без того перед нами лежало множество раскиданных во все
стороны льдинок, а пока мы стояли на месте, издали доносился не один
тяжелый тупой удар. Оглядываясь в ту сторону, откуда мы пришли, мы
не видели ни на полях, ни где-нибудь в целой местности ни одного
живого существа. Только я да Томас и Рыжий, - вот и все, кто разгуливал
тут на воле.
Я сказал Томасу, что надо поворачивать назад. Мы вышли, отрясли
сколько могли свою одежду и освободили гриву Рыжего от нависшего
на ней льда, о котором нам подумалось тут, что нарастал он теперь куда
быстрее, чем поутру, - то ли оттого, что утром мы внимательно, не
отрываясь, наблюдали за этим явлением, так что происходящее и могло
представиться нам более медленным, чем теперь, ближе к вечеру,
когда нам надо было думать о других вещах и когда мы только по
прошествии времени заметили, каким толстым покрылись льдом; то ли
действительно стало холоднее, а дождь припустил еще сильнее. Мы
этого не знали. Томас развернул Рыжего и сани, и мы как можно быстрее
покатили к Эйдунским холмам».
В последующих абзацах своего повествования Штифтер
рассказывает о том, как доктор и слуга оставляют Рыжего с санями в
близлежащей харчевне, а потом, вооружившись альпенштоками и крюками,
пускаются в пеший путь к дому.
«Наконец вырвавшись из леса и оказавшись перед огороженными
пастбищами, мы могли бросить взгляд вниз, в долину, где стоял мой
дом, - теперь заметно смеркалось, но мы были уже недалеко и не
опасались новых неожиданностей. Сквозь равномерно
распространившийся повсюду густой белосерый туман мы могли рассмотреть мой дом, -
голубоватый дымок шел от него вверх, прямо как свеча; возможно, то
был дым очага, на котором Мария, экономка, приготовляла нам
трапезу. Мы снова нацепили крюки и стали медленно спускаться вниз, пока
не достигли ровной поверхности, где опять могли снять их.
У дверей домов, стоявших поближе к моему, кучками собрались
люди, все они всматривались в небо.
- Ах, господин доктор, - восклицали они. - Ах, господин доктор,
откуда же вы в такой страшный день?
- От старухи Дубе и от Эйдунских холмов, - отвечал я. - Лошадь
с санями я оставил там и через Мейербахские луга и через пастбища
вернулся домой, потому что через лес уже нельзя было проехать.
Я немножко постоял с людьми. Действительно, день был ужасный.
Шум леса доносился со всех сторон даже до этих мест, а среди всего
шума то и дело раздавался грохот падающих деревьев, который
притом все учащался; даже и в высоко расположенном верхнем лесу,
которого и вообще не было видать из-за густого тумана, можно было
расслышать треск и падение ломающихся деревьев. Небо оставалось
белесым, как и во весь день, а к вечеру свечение его, казалось,
только усилилось; воздух был неподвижен, и тонкие струи дождя падали
на землю совсем по отвесной линии.
337
- Господь да хранит тех, кто сейчас в поле или того хуже в лесу, -
сказал один из стоявших в толпе.
- Нет, вот тот-то теперь наверняка спасется, - ответил другой,
потому что никто сегодня не путешествует.
Мы с Томасом несли на плечах тяжкий груз, он был почти
невыносим, а потому мы распрощались с людьми и направились к дому. На
земле вокруг каждого дерева был темный круг, потому что обломилось
огромное множество ветвей, словно сбитых крупными градинами.
Деревянная решетчатая изгородь, еще не достроенная, - она должна была
отделять двор от сада, - стояла вся посеребренная, как перед алтарем
в церкви; росшее неподалеку сливовое дерево, посаженное еще
стариком Аллербом, как срезало. Сосну же, под которой летними днями я
сиживал на скамье, люди пытались защитить от повреждений, сбивая
лед палками, куда только могли достать, а когда вершина ее стала
заметно накреняться, другой слуга, Каетан, забрался на дерево,
осторожно посшибал лед у себя над головой, а потом привязал к верхним
ветвям две крепкие пеньковые веревки, концы которых свисали к земле, -
за концы он время от времени дергал, сбрасывая вниз намерзавший лед.
Люди знали, как любо мне это дерево, да оно и очень красиво, его ветви
пышно зеленеют, а потому в них застряла невообразимая масса льда,
которого было достаточно для того, чтобы расколоть ствол или порвать
ветки. Я прошел в свою комнату, которая была хорошо натоплена,
выложил на стол вещи, какие забрал из саней, а потом сбросил с себя
одежду, - с нее пришлось сначала сбивать лед, а потом всю развешивать
на кухне, потому что все было насквозь пропитано влагой.
Переодевшись, я узнал, что Готтлиб отправился в лес, что у Таугрун-
да, и еще не вернулся, - он ведь знал, что я поеду на санях через Тауг-
рунд. Я велел Каетану съездить за ним, взяв с собой кого-нибудь, если
только сыщется охотник сопровождать его, — да чтобы захватили они
с собой фонарь, железа для обуви и палки в руки. Позднее они
привезли Готглиба, и он весь был покрыт панцырными кольцами, совсем как
настоящими, потому что он не везде мог стряхивать с себя лед.
Я поел от ужина, оставленного для меня. Вокруг совсем уже
смеркалось, наступила ночь. Теперь даже и в комнате можно было слышать
нестройный гул и грохот, и люди мои, объятые страхом, бродили внизу
по дому.
Спустя какое-то время ко мне явился Томас, который тоже
успел поесть и переодеться, и сказал, что люди из соседних домов
собираются вместе в величайшем испуге и недоумении. Я надел
теплое пальто из толстой ткани и, опираясь на шток, побрел по льду к
соседним домам. Совсем стемнело, только от обледенелой земли
исходило слабое и неверное мерцание, отраженный от снега свет.
Дождь можно было ощутить лицом, которое окружено было
мокрым, и можно было ощутить рукой, которой я переставлял горный
шток. С наступлением темноты громыхание усилилось, со всех
сторон, кругом, с таких мест, куда уже не проник бы теперь ничей
взор, словно доносился шум отдаленных водопадов - треск
обламывающихся ветвей был слышен все отчетливее: словно
приближались сюда несметные полчища или постепенно разгоралось, без
338
крика и рева, побоище. Подойдя ближе к домам, я увидел людей, но
они, сбившись кучками, держались поодаль от домов, чернея на
снегу, - только чтоб не стоять близ стен и дверей.
- Ах, доктор, помогите, ах, доктор, помогите, - послышались
голоса, когда люди, узнав по походке, покинули меня.
— Не могу я помочь вам. Господь всемогущ, велики чудеса его, он
поможет, он спасет, - сказал я, подходя ближе.
Мы постояли вместе, прислушиваясь к звукам. Потом я по
разговорам их понял, что они боятся, как бы ночью лед не продавил
крыши домов. Я сказал, что деревья, особенно если, как у нас,
преобладают хвойные леса, собирают на себе, на каждой веточке, на каждом
самом маленьком побеге, на самой маленькой иголочке, несказанно
много стекающей вниз воды, которая при той невиданной стуже, что
стоит сейчас на дворе, немедленно замерзает и, все время нарастая,
оттягивает вниз ветви, срывает иголки, мелкие веточки, большие
ветви и наконец гнет и крушит самые высокие деревья; однако, с крыши,
на которой снег лежит ровным слоем, вода стекает почти вся без
остатка, тем более, что обледенелая корка льда гладью своей
способствует этому. Стоит только попробовать сколоть куски льда с крыши, и все
увидят, что на косой поверхности крыши ледяная корка способна
дорастать лишь до совсем незначительной толщины. Словно
бесчисленные руки тянут за волосы деревья, пригибая их к земле, а на крышах
домов вся вода скатывается к краям, свисая вниз в виде сосулек,
которые либо не опасны, либо же срываются вниз сами и могут быть
сбиты с крыши. Своими речами я утешал их, и они поняли суть дела,
которое лишь потому сбило их с толку, что они никогда не
переживали ничего подобного, по крайней мере в такой мощи и силе.
Потом я снова отправился назад, домой. Сам я не был так уж
спокоен и внутри себя весь дрожал; ибо что же станется с нами, если
дождь не прекращается, громыхание обрушивающихся наземь
несчастных растений лишь учащается и на глазах нарастает, как это и
происходило именно теперь, достигая самой крайности. Тяжелый гнет уж
лег на леса; и достаточно было одного лота, одной четверти лота, всего
одной капельки, чтобы повалить дерево. Я зажег в своей комнате
свечи и не собирался ложиться спать. Слуга Готтлиб от долгого стояния
и ожидания в Таугрунде простудился. Я осмотрел его и послал ему
вниз кое-какие снадобья.
Через час явился Томас с вестью о том, что люди, собравшись
вместе, молятся; гул и громыхание устрашающи. Я отвечал ему, что
скоро все переменится, и он отправился восвояси.
Я продолжал ходить взад-вперед по комнате, в которую, словно гул
волн морских, бьющих о берег, врывался грохочущий шум лесов, а
поскольку чуть позже я прикорнул в кожаном спальном кресле, то от
усталости все-таки задремал.
Когда же я опять пробудился, то услышал над крышей свист и
завывание, чего поначалу не мог себе объяснить. Однако, встав и
приободрившись, я подошел к окну, открыл одну половину его и понял, что то
гудит ветер и что ветер этот самый настоящий ураган. Мне захотелось
убедиться в том, по-прежнему ли идет дождь и какой ветер - холодный
339
или теплый. Завернувшись в плащ, я прошел через переднюю комнату
и тут увидел, что из каморки Томаса через дверь падает свет. Томас
всегда находился рядом со мной, чтобы я в случае необходимости или если
что-то со мной стрясется, мог звать его к себе колокольчиком. Я вошел
в комнату Томаса и увидел, что он сидит за столом. Он даже и не
ложился, потому что, как признался он, очень боялся. Я сказал ему, что
сойду вниз, чтобы посмотреть на погоду. Он тотчас же поднялся с
места, взял лампу и стал спускаться вниз по лестнице. Когда мы были в
сенях, я поставил свой фонарь в нишу возле лестницы, а он поставил
туда же свою лампу. Потом я отпер ключом дверь, и, когда мы из
холодных коридоров вышли наружу, в лицо нам ударил теплый, мягкий
ветер. Необычное состояние вещей, продолжавшееся весь день,
разрешилось. Тепло, поступавшее с полудня и до той поры установившееся
лишь в верхних слоях, теперь, как то обычно и происходит, опустилось
к земле, движение воздуха, которое несомненно совершалось на высоте
уже и вчера, распространилось вниз и теперь перешло в настоящую
бурю. И на небе, насколько я мог видеть, все стало иначе. Единый
серый цвет неба разорвался, потому что местами можно было видеть
рассеянные по небу темные и черные пятна. Дождь уже не лил так
сильно, зато ударяли в лицо отдельные тяжелые капли воды. Пока мы так
стояли, подошло несколько человек, которые, должно быть,
находились где-то поблизости. Дело в том, что мой двор не такой, какой
обыкновенно бывает, а в ту пору он был еще менее огражден от
окружающего мира, чем теперь. Дело в том, что две каменные стены моего дома,
образуя прямой угол, служат и двумя сторонами двора. Третья же
сторона была снабжена деревянной изгородью, за которой предполагалось
разбить сад, куда надо было попадать через деревянную решетчатую
дверцу. Четвертая служила въездом, тоже из досок, в то время даже не
очень ладно пригнанных друг к другу, и с деревянными решетчатыми
воротами, которые обыкновенно были распахнуты настежь. Посреди
двора должен был располагаться водопой, который тогда еще и не
начинали строить. Так и получалось, что люди без труда проходили ко мне
во двор. До этого они долго стояли на улице, в великом страхе
обдумывая состояние вещей. Когда они заметили, что свет, горевший в окнах
моей комнаты, исчез, а затем увидели, что он стал показываться в
окнах, выходивших на лестницу, то они сообразили, что я скоро выйду во
двор, и подошли поближе. Поскольку ко всем бедам прибавилась еще
и буря, то они боялись теперь настоящих опустошений и неведомых им
ужасов. Я же сказал им, что это хорошо и что самое страшное теперь
позади. Следовало ожидать, что стужа, раз она стояла лишь внизу у
земли, но не на высоте, скоро пройдет. Коль скоро задул столь теплый
ветер, новый лед уже не будет образовываться, да и старого станет
меньше. И буря - этого они опасались - тоже не сокрушит деревьев
больше, чем упало их до обледенения; потому что когда поднялась буря, то
наверняка ветер не был настолько сильным, чтобы прибавить что-либо
ощутимое к тяжести, какой и без того были обременены деревья, и
сломать их, однако наверняка был достаточно крепким для того, чтобы
стряхнуть воду, застрявшую между еловых игл, и сбросить те куски льда,
что едва держались на ветвях. Последующие же, более сильные поры-
340
вы ветра обрушились на уже полегчавшие деревья и могли лишь
сбивать с них оставшийся лед. Так что безветрие, когда все могло
собираться и нагромождаться втайне, - вот что было страшно, а буря потрясшая
нагроможденное, явилась спасением. И если ветер даже и сокрушил
какое-нибудь дерево, то несомненно взамен того спас не одно, а
некоторые стволы, уже доведенные до крайности, и без того упали бы в
безветрие, пусть даже чуточку позднее. И не только стряхивал ветер
льдинки, но своим теплым дыханием он съедал лед сначала в более нежных
тканях, затем и в более жестких, и он не оставлял на самих ветвях
образовавшейся вследствие таяния и нападавшей с неба воды, что
совершил бы ветер теплый, но малоподвижный. И на деле, хотя из-за
свиста бури мы и не могли слышать прежнего шума лесов, однако тяжелые
звуки падения раздавались все же значительно реже, хотя мы по
временам и слышали их.
Спустя недолгое время, в течение которого ветер делался все круче
и, как мы полагали, теплее, мы пожелали друг другу доброй ночи и
разошлись по домам. Я в своей комнате разделся, улегся в постель и
крепко проспал до самого утра, когда уже наступил яркий солнечный день».
Теперь поясним свой выбор. В каком смысле этот рассказ о лесе во
льду должен, по словам Адальберта Штифтера, «глубоко
воздействовать»? Что мог подразумевать поэт под воздействием своего слова?
Его рассказ повествует о том, как доктор со своим слугой, навещая
больных в зимний день, на обратном пути подъезжают к
обледеневшему лесу. Это состояние леса, эту его обледенелость, Штифтер называет
просто — «вещь».
То, чем воздействует этот рассказ, - покоится ли оно в
необычности этой вещи, которая захватывает читателя? Или же
воздействующее - в том искусстве, с которым Штифтер описывает эту вещь,
давая читателю возможность изумиться ею? Или же воздействие
покоится в том и другом — в необычности вещи и в изумительности ее
наглядного изображения? Или же воздействие поэтического слова
заключает в себе еще и иной смысл?
В тот день и в последовавшую за ним ночь лед покрыл не только
леса, но и жилища людей. Поэтому история про обледеневший лес не
может обойтись также и без возвращения доктора домой, не может
обойтись без разговора его с соседями, которые стоят на улице, не
решаясь подойти к своим домам.
«Эта история должна воздействовать глубоко», - она могла бы
задеть читателя в самой основе его существования. Итак, как же
воздействует слово поэта? Оно воздействует, вызывая читателя выйти
наружу, а именно в слушание того, что говорится, то есть показывается в
слове. Слово воздействует так, что оно призывает и показывает. Оно
не производит незначительных воздействий, вроде тех, что
происходят в сфере механических процессов, где одно давит и толкает другое.
Однако на что же показывает слово истории о покрывшемся льдом
лесе? Боясь, что крыши домов будут продавлены ночью
накопившимся на них обледенелым снегом, люди покинули свои жилища. Они
опасаются за свое жительствование, за свое существование. Доктор
341
говорит с ними. Он рассказывает им о том, как течет, как сочится
вода, — она одним способом образует лед в ветвях и веточках
деревьев и совсем по-иному на плоских и пологих крышах. Доктор все
смотрение и думание своих соседей отсылает к этому просто, но скрыто
протекающему процессу. Так доктор отвлекает мысль людей от
ужасного шума и грохота, треска и падения на что-то неприметное, что
властно правит в тишине и кротости.
В своем предисловии к сборнику «Разноцветные камешки», в
предисловии, о котором Штифтер говорит - оно «никоим образом не
годится для юных слушателей», - он дает нам поразмыслить над
следующим:
«Дуновение ветра, журчание воды, рост хлебов, волнение моря,
зелень полей, блеск небес, мерцание звезд — вот что считаю я великим;
надвигающуюся мощную грозу, молнию, рушащую дома, бурю,
вздымающие морские валы, огнедышащую гору, землетрясения,
погребающие под развалинами целые страны, я не считаю явлениями более
великими, даже считаю их менее великими, потому что они — действия
более высоких законов. Подобное происходит в отдельных местах,
будучи результатом односторонних причин. Сила, которая заставляет
подниматься и переливаться через край молоко в горшке бедной
женщины, — та самая, которая гонит вверх лаву огнедышащей горы,
заставляя ее стекать по склонам гор».
На что направляет наши мысли Штифтер? Последуем за ним,
сделаем мыслью еще один неприметный шаг вперед, чтобы отчетливо
понять действие поэтически творящего слова.
Силы и законы, на которые указывает писатель, - сами по себе
тоже знаки. Ибо они указывают вовнутрь того совершенно
незримого, что однако заведомо и прежде всего определяет все, - этому
незримому и обязан соответствовать человек в самой основе
существования, если только должно быть так, чтобы он мог жительствовать на
этой земле. Поэтически творящее слово указывает в глубь этого
основания. Штифтер именует его великим. «Любое величие, — говорит
он, - просто и кротко, как и само мироздание» (письмо Хекенасту,
июль 1847 г.). В другом же месте у Штифтера значится: «Великое
никогда не трубит о себе, оно просто есть и тем воздействует» (письмо
от 22 августа 1847 г.; см. приложение к письму от 3 февраля 1854 г.).
Показывать истинно великое в малом, указывать вовнутрь
незримого, притом сквозь само же лежащее на поверхности и повседневное в
мире людей, давать услышать несказанное в сказанном, так слагать свое
глаголание - все это и совершается тем самым, что воздействует в слове
поэта Адальберта Штифтера, это и есть воздействующее в нем.
Непрестанные усилия, направленные на то, чтобы все показывать
именно так, помогают поэту обрести язык, который от произведения
к произведению становится все «глубже, кореннее, величественнее, а
тогда говорит исключительно чисто, и ясно, и прозрачно по форме»
(письмо Хекенасту от 26 февраля 1847 г.).
Однако поиски слова, которое позволило бы увидеть в
незримости ее именно ту вещь, которую надо показать, - они же порой
вынуждают поэта к признаниям в духе следующего, обращенного к издате-
342
лю: «Еще об одной беде должен я вам поведать — она касается
Портфеля. Это безбожно плохая повесть. Книга не нравится мне» (п'исьмо
Хекенасту, там же). Последняя фраза подчеркнута; она писалась, когда
поэт возобновил работу над рассказом, из которого почерпнули мы
историю о покрывшемся льдом лесе.
Зато в последней редакции Портфеля Штифтер говорит самым
совершенным своим языком; эта редакция не была, однако, доведена до
конца. Как часть наследия поэта, она была опубликована лишь
спустя почти сто лет после первой редакции. Поэт еще не успел
переработать для последней редакции рассказ о покрывшемся льдом лесе.
Всему своему творению Портфель моего прадеда Адальберт
Штифтер предпослал, в качестве напутствия, слова одного латинского
автора:
Dulce est, inter majorum versari habitacula, et veterum dicta factaque
recensere memoria.
Egesippus.
В переводе это означает:
«Приятно пребывать среди обыденных вещей предков и поверять
слова и дела древних памятливой мыслью».
Жительствование человека
Слова Гёльдерлина: «Полон заслуг, однако поэтически жительствует
человек на этой земле» - почти никому не слышны, они никем не
мыслятся, тем менее они вошли в памятование нашей мысли. Да и
как иначе? Перед лицом сегодняшней действительности, разумеющей
себя как общество индустрии рекордов, самовоспроизводящее само
себя, а также свои используемые составные части, этим словам поэта
легко опорожниться перед всяким, а тогда обратиться просто в
досужее измышление. В общественном смысле поэзия уразумевает себя
как производство литературы.
Не принимать эти слова поэта всерьез — такой подход оправдан
и тем, как изучают Гёльдерлина сегодня. Наука числит их среди
«сомнительного», потому что рукопись текста, к которому они
относятся, не сохранилась, и слова эти стоят в самом конце романа
Вильгельма Вайблингера1 «Фаэтон», изданного в 1823 г. Напротив,
Норберт фон Хеллинграт2 в своих «Пролегоменах к первому
изданию переводов из Пиндара» Гёльдерлина (1911, С. 58. Примеч. 3)
говорит о «местах, которые в основном, возможно, подлинны».
Научные изыскания Хеллинграта в свою очередь основывались на его
внутренней, поэтической связи с поэтом — с тем поэтом, который,
быть может, еще явит себя иным как поэт грядущего, как поэт
грядущего поэтического творчества.
Странным образом этот эпитет, «поэтический», ни разу не
встречается в текстах окончательных редакций стихотворений Гёльдерлина.
Однако Штутгартское издание3 (II, 635) приводит это слово как
вариант к стиху 28 «Архипелага». Это место (ст. 25-29) звучит так:
«Тихие боги небес, предвечные, горние силы, / Те, кто сияние дня
и сладкую дрему дарует / Властью своей беспредельной, карая и
милуя смертных, / Старые сверстники, вместе с тобой они обитают...»4.
В первом наброске у Гёльдерлина вместо «старые сверстники» было
сказано «поэтические сверстники»: «поэтические сверстники
жительствуют». Тем самым выходит, что поэтическая мысль о поэтическом
жительствовании, обитании, отнюдь не чужда поэту. Однако эпитет
«поэтический» отнесен в этом месте к способу обитания звезд, а не
людей. Что же такое означают «поэтические сверстники», если в
окончательной редакции их заменяют слова «старые сверстники»?
В какой мере «древние» - «поэтические», а «поэтические» -
«древние»?
Звезды - это те, что были испокон века, былые, и те, что будут
возвращаться впредь. Они - те, что некогда были и еще будут. Этим
былым и будущим определяется их настоящее: присущее «вечноцвету-
щим созвездьям» (черновик, И, 635) «всегда» не исчерпывается непре-
344
стайностью их пребывания. Древние сверстники ведут ясность дня,
дремоту ночи, предчувствие грядущего, уделяя все это «чувствующим
людям». Они ведут и уделяют, учреждают непреходящее на все время
жизни смертных, они - поэтически творящие. Древние сверстники,
они «поэтически жительствуют» вместе с Богом морей Эгейского
моря, вместе с его островами и насельниками.
Если окончательная редакция стихотворения и именует звезды
«древними», то этим не упразднен эпитет «поэтические». Лишь
последующие стихи (29-42) особо и прямо именуют самую возвышенную из
звезд «Солнцем дня», «всепросвЬтляющей». В стихе 38 она именуется
«поэтически творящей». Она учреждает высшую ясность - ту, что дает
всем вещам являться во всем присущем им, а смертным дарует меру.
Но только само стихотворение «Архипелаг» говорит обо всем этом
собраннее и богаче толкованием, чем в любом случае наши пробные
и отрывочные указания.
Меж тем встает такой вопрос. Эти засвидетельствованные
рукописью места законченного стихотворения - что, уменьшают ли они или,
быть может, даже вовсе устраняют все сомнения в подлинности
прозаического текста, что начинается так: «В прелестной лазури цветет...»
и из которого мы заимствовали слова: «Полон заслуг, однако
поэтически жительствует человек на этой земле»? Будь это так, все равно
осталось бы уже упомянутое различие.
В «Архипелаге» «поэтически жительствуют» звезды, а поэтически
творит возвышеннейшая из них — Солнце. Эпитет «поэтический»
присвоен «небожителям». В позднейшем прозаическом тексте
«поэтическое жительствование» «на этой земле» присвоено смертным. В
«Архипелаге» задают меру, склоняясь к смертным, небожители. В
прозаическом тексте смертные склоняются перед небожителями. И тоже
задают меру? — спросим мы и... споткнувшись на этом, услышим
вопрос: «Есть ли на земле мера?» И задумаемся над следующим за тем
ответом: «Нет таковой».
Поэтически творящие по-земному- они лишь восприемники
небесной меры. Поэтически творящие так, как то подобает смертным,
учреждают лишь прежде воспринятое ими. Поэзия для Гёльдерлина —
не своевольное творчество, но такое строительство здания творчества
в слове, что заимствует меру свою в мощи небожителей и поступает в
их пользование. Благодаря созидаемому зданию творения открывается
и удерживается в своей разверзтости местность, предназначенная для
местопребывания смертных.
Пусть же именуется местностью склонения та светлая прорежен-
ность, где, ошеломляя и раздаривая, небожители склоняются к
смертным на сей земле, где, благодаря и созидая, склоняются пред
небожителями жители земли. В области склонения сопринадлежны друг
другу в даровании-восприятии меры, то есть сопринадлежны
поэтически, смертные и небожители: жительствуя всякий на свой лад, они
едины и слиты меж собой.
Но не мечтания ли все это, не строй ли произвольного
представления, которому чужда всякая реальность, чужда всякая перспектива
возможного осуществления, чужды основательность и обязательность?
345
И самый беглый взгляд на нынешнее состояние мира, кажется,
принуждает так спрашивать. При этом мы, однако, слишком легко
забываем, что Гёльдерлин даже по сравнению с этой поэзией, какая во-
стребовалась с него, даже по сравнению со всей дерзновенной
рискованностью ее постепенно становился, постоянно находясь на пути,
идя своим путем, все богаче ведением, становился более сведущим,
нежели способны становиться мы, люди нынешних дней, что только
пытаемся следовать за ним мыслью.
Заключительная строфа «Странствия» (по второму изданию 4-го
тома Хеллинграта. с. 171; Штутгартское издание, II, 141):
«Но служительницы небес / Чудесны, / Как все божественно
рожденное. / Если кто покусится изведать, / Оно обращается в сон / И
карает тщащегося уподобиться ему; / Нередко неожиданно
навещает того, / Кто едва ли и думал о том»5.
Итак, даже и следуя Гёльдерлину указывать на слова: «Поэтически
жительствует человек...», а тем более претендовать на обязательность
таких слов, было бы излишней поспешностью. И даже если
усиливаться осмыслять их, эти слова, все равно даже и в самом крайнем
случае нам останется только подтвердить: ныне человек на этой
земле - не живет поэтически.
Однако, что это значит? И говорит ли Гёльдерлин о том? Норберт
фон Хеллинграт публикует под общим заглавием «Отрывки и
наброски» (IV, 257) краткий текст (N 25), озаглавленный «Ближайшее
наилучшее». Текст гласит:
«...отверсты окна небес / И опущен на волю дух Ночи, /
штурмующий небо, он оболгал / Нашу землю языками многими,
непоэтичными, и / Прах доволок / До этого самого часа / Однако грядет то, что
угодно мне...»
Означает ли здесь слово «непоэтичный» то же самое, что «не
поэтичный»? Нет, никоим образом. Но если оба выражения
подразумевают различное, в каком же отношении требуют они различать их? Ответ
не заставит себя ждать. Различие касается способа, каким производится
отрицание. «Не поэтический» - это, например, треугольник, но он
никак не может быть «непоэтичным», «апоэтичным». Для последнего ему
надо было стать поэтичным, чтобы затем ему могло чего-либо
недоставать, нехватать в этом отношении, и он мог бы упускать тогда
возможность быть поэтичным. В истории мысли различие простого отрицания
и изъятия известно с давних времен. Сейчас мы оставим открытым
вопрос, достаточно ли такого различия, чтобы хотя бы поставить вопрос о
«не-», чтобы впервые обнаружилось такое различие, потребовались
величайшие мыслительные усилия Платона в его диалоге «Софист».
А как мыслить «не-» в настоящем случае, мы узнаем лишь при
условии, что нам удастся точнее определить «поэтическое». К счастью
для нас, сам же Гёльдерлин оказывает нам необходимую помощь.
Слово «непоэтичное» лишь один-единственный раз встречается в
рукописях Гёльдерлина. В приложении (IV, 392) Хеллинграт
перечисляет варианты этого слова, замечая: «Над словом «непоэтичными»
надстраивается целая колонна из слов: нескончаемыми,
неумиротворенными, несвязными, неукротимыми».
346
Как мыслить нам вариантность таких вариантов? Сменяется ли
один другим, подчеркивается ли предыдущее последующим, так что
значимым для окончательного текста остается лишь самое последнее?
В Штутгартском издании (II, 868) перечислены все те же варианты
(отмечено, что они стоят «друг над другом»), но вместо
«непоэтичными» в окончательный текст поставлено стоящее на самом верху
столбца слово «неукротимыми» (II, 234, 237). Должно быть, это верно,
если исходить из определенного филологического правила (ср.
Штутгартское издание, I, 319). Если же мыслить поэтологически,
творчески-поэтически, такое решение не истинное, оно не разверзает того,
что хотел сказать, что хотел удержать в слове поэт. Варианты
указывают на усилия, призванные определить «поэтичность» в «поэтичном».
Последнее, «непоэтичное», именует несуть поэтичного,
зловеще-таинственное в нем. «Непоэтичный» - это эпитет к «многим языкам»,
какими вещает дух Ночи; он «оболгал нашу землю», он штурмует
небеса, он враждебен, он возмущается против небес.
В «непоэтичном» не исчезает «поэтическое», но презирается
«конечное», нарушается «мирное», развязывается «связное»,
«укрощающее» обращается в «разнузданное». Всем этим сказано, следующее:
задающее меру не допускается, восприятия меры не происходит.
Местность склонения засыпана прахом.
Бросается в глаза сопринадлежность приведенного отрывка,
который засвидетельствован рукописью и говорит о «непоэтичном», и
другим - признаваемым сомнительным текстом о поэтическом житель-
ствовании человека.
Однако оба текста все же различны. Опубликованный Хеллингратом
отрывок не говорит о жительствовании человека. По крайней мере
кажется, что не говорит. Однако как раз эту кажимость и устраняет
подготовленный Ф. Бейснером в Штутгартском издании текст «наброска
гимна» под заглавием «Ближайшее наилучшее». Все три редакции его
(II, 233-239) убедительно сложены вместе «в соответствии с
особенностями рукописей» (II, 867) и истолкованы как поэзия, «обозначившая
наступление нового периода исполнения после патриотического
поворота» в творчестве Гёльдерлина (И, 870). Этот поворот, обращение,
забота о его упрочении - все это творит элегию Гёльдерлина
«Возвращение» (ср. том IV Собрания сочинений Гёльдерлина, а также 5-е издание
моих «Разъяснений к поэзии Гёльдерлина», включившее два доклада -
«Небо и земля Гёльдерлина и Стихотворение»).
В заботе о «возвращении домой» упорно прибывает поэзия
Гёльдерлина. То забота об учреждении места поэтического жительствова-
ния человека, забота, настоятельно чающая спасения в этом земном
местопребывании. Не выговаривая этого, говорит о том и набросок
гимна «Ближайшее наилучшее», когда упоминаются в нем «языки
многие, непоэтичные».
Однако с тех пор как создавал свои гимны Гёльдерлин, слишком,
должно быть, ясно стало: и говорит, и чает это стихотворение
напрасно. Слово о поэтическом жительствовании человека не исполнилось, а,
не исполненное, оно останется одним сплошным обманом. Но только
и тут сомнительно, в достаточной ли мере способны оценить мы дол-
347
готерпение поэта, когда говорим так. И в нынешнюю мировую эпоху
человек жительствует поэтически - по-своему, а именно, если
воспользоваться словом, именующим его существование, непоэтично. Меру
своего волнения к производству самого себя и своих заменимых
составных частей человек заимствует у этой земли, избезображенной его
махинациями. Ему недостает слуха, чтобы расслышать ответ Гёльдерлина
на вопрос: «Есть ли мера на земле? Нет».
А «многие языки», ложью своей болтовни заливающие нашу
землю, - это лишь однообразие все одного и того же языка, который,
множась количественно, уравнивает любые формы говорения, -
информационный язык компьютера. Для человека, который не
разучился только еще считать, мера одна — квант.
Безусловно, Гёльдерлин не предвидел нынешнее состояние мира и
тем более не описывал его.
И все же остается, не преходит, учрежденное его словом, то, что
предоставлено им для нашего памятующего мышления.
Многому должно внять, познав мыслью. Наиближайшее к нам
таково:
Прежде всего мыслить непоэтичное нашего местопребывания в
мире как таковое, постигать человеческую махинацию как судьбу
человека, никоим образом не снижая ее до простого произвола и ослеп-
ленности; далее, таково: мыслить то, что на этой земле нет меры, и не
только нет, но что рассчитанная и исчисленная в планетарных
масштабах земля не только не может дать меры, но, более того, увлекает нас
в безмерность.
Правда, чтобы мыслить поэтическое в непоэтичном, для этого
достаточно найти выход в диалектику, которая кажущимся образом
ровняет все.
Мы все еще стараемся поспешно миновать мыслью тайну «не-» и
ничто.
Мы все еще недостаточно ясно постигаем, что преднамечается для
нас в отъятии, потому что не знаем пока самого отъятия, отказа, не
знаем поэтического в непоэтичном.
Приложения и комментарии
«Эмиль Штайгер. По поводу одного стиха Мёрике»
Текст написан вьщающимся швейцарским литературоведом Эмилем Штайгером
(1908-1987) и публикуется в числе его работ, а также в собрании сочинений Хай-
деггера. В письмах обсуждается стихотворение швабского поэта Эдуарда
Мёрике (1804-1875), в котором раскрывается в неразрывной взаимосвязи
поэтическая и философско-эстетическая проблематика, какую несет в себе уже само
думающее слово (тут, повторяя мысль К. Ясперса о Хайдеггере как толкователе
поэтов, вполне верно сказать, что поэт мыслит нечто такое, чего он не знает —
не знает до конца, во всей пред-носящейся ему глубине). Это стихотворение
можно привести в замечательном переводе С.А. Ошерова, передающем его
высокое качество, хотя, естественно, и утрачивающем семантические значения
последней строки:
К лампе
По-прежнему, о лампа, красота твоя
Живит собою зал полузаброшенный,
Где ты на легких столько лет висишь цепях.
Венком по краю чаши беломраморной
Из бронзы вьется плющ зеленый с золотом,
И хоровод теней на чаше вырезан.
Как все чарует! Подлинным искусством здесь
Слит дух веселья с истовой серьезностью.
И пусть тебя не видят - но прекрасному
Довольно для блаженства красоты его.
1 Герман Мейер (1911) - голландский историк немецкой литературы.
2 То есть «светит», а не «кажется».
3 Вальтер Рем (1901-1963) - историк немецкой литературы; Гуго Фридрих
(1904) - филолог-романист.
4 Маттиас Клаудиус (Г744-1815), северогерманский поэт, писавший в народном
духе; в стихотворении о луне (1770) глагол «светить» (scheinen) понят,
естественно, вполне буквально, «изначально».
5 В гимне «Как в праздник на поля свои взглянуть...», где цитируемым стихам в
переводе В.Б. Микушевича соответствует:
Помыслы всемирного духа
Тихо завершаются в душе поэта.
(Гёльдерлин Ф. Соч. С. 154).
6 Физическое воздействие, влияние (лат.).
7 Драма «Последний король Орплида» в романе Мёрике «Художник Нольтен»
(1832).
«Рассказ о лесе во льду Адальберта Штифтера»
Текст Хайдеггера был передан в январе 1964 г. по Цюрихскому радио и
впервые вышел в свет в том же году в Цюрихе, в малотиражном издании,
предназначенном для библиофилов. Это — совсем особый текст, проникнутый
преклонением перед великим поэтическим словом. «Портфель моего прадеда» —
большой рассказ австрийского писателя-классика Адальберта Штифтера (1805-1868),
349
в первой редакции изданный в 1841 г. и во второй в 1847 г.; над третьей
редакцией писатель работал в последние годы жизни. В своем тексте Хайдеггер
уступает место писателю - кроме двух больших сплошных отрывков из рассказа
приводятся вьщержки из писем Штифтера к его пештскому издателю Хекенасту. При
этом такой продуманный по-хайдеггеровски, весомый текст и уходит в свое
молчание и дает сказаться слову поэта. Хайдеггер и не пытается сказать о
произведении Штифтера все возможное и не ставит перед собой такой цели. Тут
осуществлена в своем роде концентрация на поэтическом слове - пример, который
заставит последовать себе едва ли не каждого читателя. Упоминаемый в тексте
сборник А. Штифтера «Разноцветные камешки» (или «Пестрые камешки)
опубликован в 1852 г.; предисловие к нему, из которого Хайдеггер приводит
отрывок, - неповторимо своеобразное философски-поэтическое произведение,
увлекающее уже своей величественной музыкальной формой; оно, вероятно,
произвело впечатление уже на совсем молодого Хайдеггера. Приводимое в самом
конце текста латинское изречение было заимствовано Штифтером, как
предполагается, из школьного учебника, оно было хорошо известно в то время,
однако происхождение его, кажется, не вполне ясно.
В переводе текста А. Штифтера приходилось передавать философски значимые
и стилистически необычные места, выдающие сознательную «странность»
мысли австрийского писателя.
«Жительствование человека»
1 Вильгельм Вайблингер (1804-1830) - швабский поэт-романтик,
вдохновлявшийся античной Грецией и борьбой современных греков за освобождение. Он
был знаком с великим немецким поэтом, тоже родом из Швабии, соучеником
в Тюбингене Шеллинга и Гегеля Фридрихом Гёльдерлином (1770-1843),
который, впав в 1806—1807 гг. в тяжелое душевное состояние, перестал участвовать в
литературной жизни Германии. Роман В. Вайблингера «Фаэтон» вышел в 1823 г.
2 Норберт фон Хеллинграт (1888-1916) - погибший на фронте литературовед,
духовно принадлежавший школе немецкого поэта Стефана Георге. Он
подготовил первое научное издание произведений Гёльдерлина (6 тт., 1913-1923)
после того, как на протяжении целого века творчество поэта в лучшем случае
встречало симпатию (как еще у заставших его в живых поэтов и культурных деятелей
Швабии) или полупонимание, иной раз соединявшееся с предчувствием его
подлинного поэтического и духовного значения.
3 Фундаментальное критическое издание сочинений Ф. Гёльдерлина,
подготовленное Ф. Байснером (издавалось с 1943 г.); им пользовался Хайдеггер.
4 Перевод В.Б. Микушевича (Гёльдерлин Ф. Соч. М., 1969. С. 144); стихи
размещаем так, как это сделано в статье Хайдеггера.
5 Здесь и ниже близкий к оригиналу перевод строка за строкой.
Исследовательская работа Вильгельма
Дильтея и борьба за историческое
мировоззрение в наши дни
Десять докладов, прочитанных в Касселе (1925 г.).
ι
Введение.
Тема, способ обращения с нею и построение последующих
дискуссий
II
Жизнь и труды Дильтея
III
Постановка проблемы у Дильтея: вопрос о смысле истории
IV
Воздействие на современную философию. Границы постановки
вопроса у Дильтея. Возможность возобновления такого вопроса в
феноменологии
V
Сущность и цели феноменологии
VI
Феноменологический вопрос о смысле истории как вопрос о
бытии человека
VII-VIII
Время как основное определение человека
IX
Время как определение истории
X
Сущность исторического бытия. Возвращение к Дильтею
I
Возможно, тема покажется сторонней и никому не ведомой, однако в
ней заключена одна из фундаментальных проблем всей западной
философии - проблема смысла человеческой жизни. Что это за
действительность - жизнь? Для вопроса о действительности наиближайшая
действительность - это мир, природа. А в этом вопросе уже заведомо
содержится вопрос о бытии самого человека. Открытие собственного
смысла бытия и действительности человеческой жизни - история
запутанная. Лишь в самое последнее время оно обрело такой базис, что
можно уже спрашивать научно, философски. В истории этого
вопроса работа Дильтея занимает центральное место. Одновременно отсю-
351
да же берет начало и переворот в философской постановке вопросов,
кризис философии как науки. И переворот этот не единственный. Все
науки и все группы наук пребывают в великой революции1, а именно
в революции продуктивного свойства, которая открывает новые
вопросы, новые возможности, новые горизонты. В физике появилась
теория относительности, в математике под вопросом оказались
основания, говорят о кризисе оснований; в биологии пытаются избавиться
от механицизма; в исторических науках ставится вопрос об
уразумении исторической действительности, о возможностях истолкования
прошлого; даже в теологии, т.е. в протестантской, совершается отход
от простой истории религии, заново осмысляют ее тему и пути
обработки ее. В таком кризисе пребывает и философия. - Кризис ведет
свое начало из довоенного времени. Так что он вырос из непрерывной
преемственности самой науки, и это залог серьезности и надежности
совершающихся в ней переворотов.
Прежде всего нам надлежит уяснить себе, о чем спрашиваем мы,
ставя свою тему. Что значит историческое мировоззрение2, что значит
борьба и кто такой Дильтей, какое имеет он к этому отношение?
Поначалу мы обсудим тему, способ обращения3 с нею и построение
последующих дискуссий.
Историческое мировоззрение
Что означает это выражение и как возникла сама проблема? —
Мировоззрение - это выражение появилось в XVIII столетии. Само по себе
оно многозначно и, если брать его буквально, дает, собственно, не то,
что подразумевает: иметь воззрение на мир, на природу.
Одновременно оно подразумевает и знание о жизни, о нашем собственном бытии
в мире. Изнутри этого знания складываются известные целеполага-
ния, которые направляют действия. Таким образом, в мировоззрении
заложена известная позиция. Мировоззрение не просто теоретическое
знание, но практическая позиция, и притом не какая-то
сиюминутная, а постоянно утверждающаяся - по отношению к миру и к своей
собственной экзистенции. Сам же человек ее слагает и сам же
усваивает себе. Такая возможность дана лишь начиная с Ренессанса, после
освобождения от религиозных связей. В дальнейшем значении
[слова] говорят также о естественном мировоззрении, которое всякий
человек приносит с собой и которое определено средой, задатками,
воспитанием и т.д. Таковое именуется донаучным в отличие от научного,
обретаемого на основе научно-теоретического познания.
Историческое мировоззрение - это то, в каком знание об истории
определяет постижение мира и человеческого существования. Оно
опирается на исторический характер развития мира и человеческого
существования. - Борьба — это борьба за овладение такой позицией
изнутри знания4 об историческом характере мира и существования. Она
направлена на то, чтобы определяющие силы истории сделать
первичными в складывании убеждений и сознания существования. Это
возможно лишь там, где история вступила в человеческое сознание как его
собственная действительность. Тут нет ничего само собой разумеюще-
352
гося. Первобытные народы живут- и мы сами долгое время жили без
истории. Правда, уже у греков был известный опыт исторического.
Однако известное ведение относительно перемен еще не слагает
исторического сознания. Таковое связано с определенными предпосылками.
В гуманизме и реформации, в споре с католицизмом стала
пробуждаться историческая критика. Стали стремиться к возвращению в чистые
формы христианской жизни, что и вело внутрь истории. С другой
стороны, стало просыпаться национальное сознание отдельных народов,
которое настаивало на том, чтобы знать свой собственный исток.
Однако все это еще не назовешь «историческим сознанием». Лишь тогда,
когда историю начинают видеть так, что собственная действительность
тоже усматривается внутри такой взаимосвязи, можно говорить о том,
что жизнь ведает об истории, в какой пребывает, что здесь есть
историческое сознание. Собственная эпоха постигается как ситуация, в какой
пребывает сама современность, причем не только как ситуация по
отношению к прошлому, но одновременно как ситуация, в какой
решается - или уже решилось - грядущее. Итак, пробуждение и
бодрствование исторического сознания не дано, как само собою разумеющееся,
вместе с жизнью. Скорее, в том задача - развить его.
Для исторического мировоззрения историческое знание
становится принципом совокупного созерцания всего человеческого. История
становится всеобщей историей5. - Вопрос такой: каков смысл
истории, какие цели человеческой экзистенции можно извлечь из нее для
будущего. Такое извлекание жизненных целей из истории
развивалось, начиная с XVIII века, — Кант, Гердер, Гумбольдт, Гегель.
Основополагающий взгляд в конечном счете таков: развитие идет к тому,
чтобы человек вышел из связанности к свободе (Гегель: гуманность
европейских культур, воплощенная в государстве). Тем самым открыт
путь к собственно историческому исследованию, для наук, которые
теоретически-научно, на основе источников, обеспеченных
критической работой над ними, раскрывают историю (Вольф, Нибур, Савиньи,
Бопп, Баур, Шлейермахер, Ранке, Якоб Гримм6).
1780—1840-е годы — эпоха, высвободившая творческие силы, такие,
какие мы теперь даже не в силах наглядно представить себе. Затем,
после краха гегелевской философии, осмысление исторической
действительности стало отступать. Осталась позитивно-систематическая работа
над историей, тогда как вопрос о смысле исторического бытия
отмирает. Напротив, естественные науки взяли на себя руководство в деле
сложения мировоззрения. Когда же в 60-е годы философия вновь стала
задумываться над собою, это происходило в процессе возвращения назад
к Канту, причем к Канту как автору трех «Критик», в особенности же
«Критики чистого разума», дающей теорию математического
естествознания. Философия была понята как теория познания. Все это
совершалось в марбургской школе неокантианства. Философия уже не пытается
овладеть отдельными науками, заходя вперед их результатов, а
ограничивается своей собственной областью — философия стала теорией
науки. Кант же в своей «Критике» давал только теорию математического
естествознания. - Между тем развились исторические науки. Итак,
возникла ближайшая задача расширения - необходимо было поставить ря-
353
дом теорию исторических наук. Вместе с отступлением такой
постановки вопроса в конце XIX столетия и нарастанием конкретных
исторических исследований все настоятельнее становился вопрос о смысле
самого исторического бытия. Вопрос о формальных основаниях сменился
вопросом о материальных (Трёльч, следовавший за Виндельбандом и
Риккертом, получившими импульсы от Дильтея. Изнутри этой позиции
и Шпенглер).
Современная философия истории обязана своими импульсами и
побуждениями Дильтею. Однако современная теория не поняла суть
тенденции Дильтея и даже прямо позаботилась о том, чтобы таковая
оставалась погребенной вплоть до сегодняшнего дня.
Попробуем теперь точнее постичь смысл исторического
мировоззрения, т.е. нам необходимо охарактеризовать знание об историческом
бытии мира. Складывание такого знания - это задача философии и
самих исторических наук. Возможность исторического мировоззрения
зиждется на достигнутой ясности и прозрачности человеческого
положения. Вот какую обусловленность мы должны уяснить себе в полную
меру. Таким образом, борьба за историческое мировоззрение
разыгрывается не в дискуссиях об историческом образе мира - но о смысле
самого исторического бытия. — Мы говорим об исследовательской работе
Дильтея. Надо посмотреть, как философская постановка вопроса
вырабатывает прозрачность, необходимую для складывания исторического
мировоззрения. Итак, мы спрашиваем: какая действительность
исторична в собственном смысле и что значит историческое?
Сначала мы последуем за Дильтеем на его путях. Дильтей (вместе с
графом Йорком) и был тем, кто в 60-е годы обладал подлинно радикальным
сознанием этой проблемы. Чтобы приблизить к нашим глазам эту
работу7, над надлежит спрашивать самим, самим ставить те вопросы, какие
волновали тогда Дильтея. Мы спрашиваем, решил ли он эту проблему,
были ли его философские средства таковы, чтобы он мог решить ее.
Значит, мы спрашиваем, уже выходя за его пределы, притом спрашиваем, стоя
на почве феноменологии («Логические исследования»1* сам же Дильтей
охарактеризовал как эпохальные). Мы увидим, что настоящая
действительность, действительность историческая, есть само же человеческое
существование, — действительность со структурами человеческого
существования. Основополагающее определение такового - не что иное, как само
же время. Исходя из времени как определения, мы сделаем понятным то,
что человек историчен. Вместе с вопросом о времени мы наталкиваемся
на иную проблему - время в теории относительности. Одновременно с
тем мы попытаемся сделать для себя философски понятным этот смысл.
От историчности существования мы вновь перейдем к Дильтею - с тем
чтобы поставить критический вопрос о целом его работы.
Вот чего должны мы достигнуть — такого отношения к вещам,
чтобы было видно - тут дело в вещах, которые затрагивают человека.
Должно быть пробуждено сознание того, что в современных науках
действительно совершается продуктивная работа и что нет ни
малейшего повода для разочарования и отречения. Тут работают без помпы
и без лишнего шума, и в том образцовость науки для существования
всей нашей нации.
354
π
Жизнь Дильтея с внешней стороны лишена событий. Наличествует
внутренняя жизнь и все то, что живо во всяком вопросе, какой
задает философ. Все это может получать выражение в трудах, в
сочинениях, которые согласно намерениям служат прежде всего деловому
обсуждению определенных проблем. Представим себе сначала внешний
очерк жизни, затем «духовный мир», определяющие силы его
духовной жизни, в заключение — труды.
Родился в 1833 году, сын пастора; изучал сначала теологию, затем
философию и исторические науки - это 50-е и начало 60-х годов. В
1867 году приглашен на профессорскую кафедру в Базель, в 1871 г. в
Бреславль, в 1882 году в Берлин. В 1887 году избран в члены Академии.
Умер в Тироле 1 октября 1911 года - Записи о его жизни в
студенческие годы в дневниках («Этика», 1854-1864)2*, они по большей части
остаются в сфере науки. В бытность приватдоцентом посещает «Клуб
самоубийц» (UJepej), Гримм, Эрдмансдёрфер, Узенер8). В 1877-1897
годах переписка с Йорком3*, характерная для философской дружбы,
[была] весьма редкой. Дильтей не раз мечтал о существовании
спокойном, не таком, как в Берлине. Он был не из тех, кто быстро
справляется со своей работой, так что Академия наук по меньшей мере
приневоливала его писать некоторые вещи, которых бы он в противном
случае никогда не издал бы.
Духовный мир был для Дильтея настоящим существованием. Мы
сначала рассмотрим внутренний рост и импульс, притом силы истории
и современности, какие определяли его. Поначалу Дильтей был
теологом, тем самым для него были даны определенные горизонты, а также
открытость к существованию, — они и впоследствии оставались
действенными в нем. Теология сопрягалась с философией и с историей -
с историей христианства и его освнополагающим фактом: жизнь
Иисуса9. Дильтей планировал <?> историю христианства на Западе, однако
изучение средних веков разбило и его план, и все его теологические
штудии. В борьбе между верой и знанием Дильтей занял позицию на
стороне знания, посюсторонности. Он отказывается от завершенности,
от окончательных результатов, всегда и везде он довольствуется тем, что
может начинать и брать пробы — только чтобы исследовать и «умереть
в странствовании»4*. Однако из теологии он вынес существенные
импульсы дня разумения человеческой жизни и истории. Его страсть
открыта для научного исследования человеческой жизни.
Отсюда понятно, как реагирует он на силы современности, своего
времени - таковы позитивизм - историческая школа - философия
Канта (на которого он по существу смотрит глазами Шлейермахера).
Французский позитивизм был критикой метафизики, он стремился
к чисто научному познанию, совпадающему с тем, что теперь
называют социологией. Позитивно воспринятое Дильтеем — это критика
метафизики и подчеркивание чистой посюсторонности. Однако
позитивизм ложно понимал как раз духовную жизнь и ее историю. Он пытался
определить дух как природу, естество. Так что Дильтею в качестве его
задачи и представилось то, что он должен сохранить своеобразие духов-
355
ного мира. Он воспринял тенденцию — «нельзя строить себе никаких
иллюзий»5* - однако отказался рассматривать дух как продукт
природы и воспринял позитивизм только как принцип познания, [как
принцип] определения вещей изнутри их самих.
Историческая школа: тут Дильтей научился мыслить исторически.
Он испытал на себе живую действенную силу духовного прошлого.
Такое впечатление сохраняло у него живость в течение всей его жизни
(см. «Речь к его семидесятилетию»6*). Мир истории и переживаемая
жизнь истории как науки - вот фундамент, на каком ставил Дильтей
вопрос об истории.
Философия Канта предстала пред ним в существенном отношении в
том ее понимании, согласно которому Кант ставит вопрос о сущности
познания. Однако, под влиянием Шлейермахера, Дильтей видел
познание во взаимосвязи жизни в целом. [Для него] 60-е годы были
определяющими не в том же смысле, что для неокантианства, но как раз
изнутри полного постижения человека, - [необходимо было] уразуметь
место и положение человека. Так что Дильтей никогда не разделял с той
эпохой крайних антигегелевских позиций. Он мог по достоинству
оценить позитивное значение Гегеля — еще и до неогегельянства.
Быть открытым ко всему, что субстанциально в себе, закрываться
для всякого пустопорожнего и беспочвенного мышления, которое
только кружит вокруг себя самого, никогда не достигая самих вещей, — вот
что сделало для него возможным вновь поставить проблему
фундаментальной значимости и способствовать [ее изучению]. Воздействие его
сочинений на первых порах было незначительным. Лишь немногие
смыслившие толк в деле воспользовались идущими от него
импульсами. Виндельбанд в своей речи при вступлении в должность ректора
(1894)7* - здесь глубочайшие замыслы Дильтея овнешнены и
поставлены с ног на голову. Опираясь на Дильтея, Риккерт пытается
разграничить науки о природе и науки об истории - совершенно пустым и
формальным способом. Способ воздействия зависел у Дильтея и от его
манеры публиковать свои книги. В свет вышло только два труда, причем
каждый застрял на томе первом: «Жизнь Шлейермахера»8* и «Введение
в науки о духе»9*. В остальном же он писал статьи, «материалы к...»,
«идеи к...», «опыты о...» - все предварительное, ничего законченного,
все в странствии и в пути. Вследствие того его работы в течение долгого
времени оставались без отклика; однако позитивные открытия
подобные дильтеевским невозможно бесконечно долго оттеснять на задний
план. Сегодня у нас есть возможность воспринять позитивные
действенные силы и не просто вторить, но ставить вопросы по-новому и
заходить с ними дальше прежнего.
III
Какой же вопрос ставит Дильтей? Каковы средства разрешения у него
в руках? Попробуем понять взаимосвязь его вопросов, исходя из трудов
его и по контрасту с его современниками. - Мы видели, что ни одна
работа Дильтея не закончена. Если сейчас мы попытаемся дать
содержательную характеристику его работ, то необходимо задуматься над тем,
356
что указание содержания вынужденно останется невразумительным -
до тех пор, пока не станет известным и не будет приближен к нашим
глазам сам фундаментальный вопрос Дильтея. Поэтому мы поначалу
сделаем лишь обзор трудов Дильтея в их исторической
последовательности и лишь с дальней перспективой этого его вопроса.
Диссертация - «Об этике Шлейермахера». И здесь уже тема не
теоретическая - проблема практического положения человека.
В это же самое время конкурсное сочинение - «О герменевтике
Шлейермахера», т.е. о его научной теории исторического понимания,
интерпретации сочинений. Шлейермахер впервые разработал эту
теорию как всеобщую теорию понимания10. Герменевтика - это
дисциплина, которая обретает фундаментальное значение в настоящее время и в
будущем. Дильтей так и не опубликовал эту работу. Кусок из нее он
включил в сборник, изданный в честь Зигварта («Возникновение
герменевтики»). Взаимосвязь с историей очевидна, так как история как
наука есть интерпретация источников, уже выверенных
филологически-исторической критикой. Габилитационное сочинение (1864) -
«Опыт анализа морального сознания». Вновь тема, вынудившая его
заниматься бытием человека. - Статьи о Новалисе, Гёльдерлине, Гёте
(«Переживание и поэзия»). Эти работы, кажущимся образом
выпадающие из творчества Дильтея, обретают в нем особый смысл. Он
пытается уразуметь конкретно исторических индивидов в их духовной
сердцевине («от их центра», как говорят в школе ГеоргеП). Дильтей говорит
о реальной психологии. — В 1870 году- «Биография Шлейермахера». -
В 1875 году статьи, содержащие центральную мысль «Введения в науки
о духе»: «Об изучении истории наук о человеке, обществе и
государстве». - «Введение в науки о духе» с подзаголовком: «Опыт
фундирования наук об обществе и истории». Книга первая дает обзор отдельных
дисциплин о духе и ставит проблему фундирования этой группы наук.
Книга вторая рассматривает метафизику как основу таких наук, ее
господство и ее падение. Человек как историческое существо не может
быть понят через включение свое во всеобщую взаимосвязь мира как
природы. Второй том этой книги так и не был написан, так что книга
завершается на средних веках. Дальнейшие попытки в том же
направлении антропологии Дильтей предпринимает в ряде статей:
«Постижение и анализ человека», «Естественная система наук о духе».
Антропология - это для Дильтея историческая наука, ставящая себе целью,
понимать то, как видели человека в прежние времена. - В 1890 году
выходят в свет «материалы к решению вопроса о происхождении нашей
веры в существование внешнего мира». Вопрос таков: как определить
фундаментальное отношение человека к миру? — В 1894 году издаются
«Идеи описательной и аналитической психологии» (они еще будут
занимать нас в дальнейшем). — Сюда же примыкают «Материалы к
определению человеческой индивидуальности». - Попутно Дильтей
продолжает свою работу над «Шлейермахером», «Историей немецкого
идеализма», «Историей молодого Гегеля». — В 1905 году выходят «Очерки по
фундированию наук о духе». Это сочинение показывает, что мышление
Дильтея в это время вновь пришло в движение. Возможно, что это
следует отнести к воздействию «Логических исследований» Гуссерля, с ко-
357
торыми Дильтей тогда познакомился, назвав их эпохальными, и
которыми он занимался со своими учениками в течение ряда лет. В 1907
году появляется принципиальная работа, в которой Дильтей
размышляет над своей собственной деятельностью, — «Сущность философии»;
в 1910 году - «Построение исторического мира в науках о духе»10*.
Какова же внутренняя взаимосвязь всего этого многообразного
творчества? Она не в системе понятий, но в живом вопросе
относительно смысла истории и человеческого бытия. — Спрашивать значит
искать в поле познания, какое имеет своей целью открытие какой-
либо действительности и определение ее. Спрашивая, всегда
обращаются к чему-либо с вопросом, это спрошенное спрашивают в
определенном аспекте, взгляде-на: у таким образом спрошенного что-либо
вы-спрашивают. Так что, для того чтобы ставить вопрос, требуется
изначальное созерцание объекта, к какому обращаются с вопросом. Но
где же этот объект «история», чтобы считывать с него смысл его
бытия, его бытия историей? Именно смысл этого вопроса составляет и
смысл некоторого научного кризиса. Всякий кризис определяется тем,
что прежние понятия начинают колебаться и вступают феномены,
ведущие к их пересмотру.
По какому же пути идет Дильтей, прокладывая свои подступы к
истории - так, чтобы можно было считывать смысл ее бытия? Он идет
по трем путям:
1) по научно-историческому,
2) теоретико-познавательному,
3) психологическому.
Первые два получают свое обоснование в третьем, имеют его в
качестве своей предпосылки, и мы увидим, каким образом они
указывают на него. Однако психология значит нечто вполне определенное,
и первое условие для того, чтобы понять Дильтея, - спросить, что
разумел под нею сам Дильтей.
Научно-историческая постановка вопроса начинается со статей о
герменевтике Шлейермахера, об изучении истории наук и др. Эти
статьи - не просто исторические исследования истории наук, но
Дильтей пытается показать в них, как же постигалась в прежние времена
жизнь. Конечный интерес — вопрос о понятии жизни. История
исторических наук наделена иным смыслом, нежели история естественных
наук. Прослеживать историю исторических наук значит прослеживать
жизнь в аспекте ее познания. Итак, жизнь как познающая
прослеживает самое себя в своей истории. Познающий есть познаваемое. Вот
смысл истории наук о человеке и его структуре.
То же основание - и у теоретико-познавательной постановки
вопросов. И здесь следует акцентировать вопрос о понятии жизни. Эта
тенденция до сих пор понимается неверно. Вопрос этот выступает в его
традиционной формулировке - как вопрос о разграничении наук о духе
и наук о природе, что пробовал сделать уже Стюарт Милль,
стремящийся понять историю с помощью естественно-научных понятий. Дильтей
стремится добиться своеобразного положения наук о духе. Но его
интерес - не в учении о методе и не в системе, и его не беспокоит, к
какому факультету будет отнесена та или иная наука. Последним позднее
358
заинтересовался Риккерт. Центральная проблема Дильтея заключалась
в том, чтобы видеть историческую действительность в ее же
собственной действительности, и его волновало не сохранение своеобразия
науки, но сохранение своеобразия реальности. Дело было в том, чтобы
становился понятным процесс самопознания человека. От смысла
человека неотъемлемо то, что он не только обладает сознанием мира, но
вместе с таким обладает знанием о самом себе. Историческое познание
есть сложившаяся форма знания о самом себе. В этом и весь интерес;
Дильтей не стремится к какой-либо изолированной теории науки.
Однако связанные с его намерением недоразумения простираются так
далеко, что его же собственная школа не поняла действительный смысл
его теории науки и подчеркивает, что в отличие от Виндельбанда и Рик-
керта Дильтей почерпнул свою теорию в действительном знании
исторического познания. Хотя последнее и верно, однако разумеется само
собой и несущественно. Для Дильтея же все дело было в том, чтобы и
на этом пути обрести понятие жизни. Для него характерно то, что он
был открыт всем подсказкам и стимулам. Так что даже и испытавшая
его влияние философия истории Виндельбанда и Риккерта могла в
свою очередь воздействовать на него так, что он в конце концов
начинал ложно истолковывать свою собственную работу в духе их
тенденций. Так что его подлинная интенция и осталась без употребления.
Итак, в качестве цели двух исследовательских направлений
выступает постижение и наглядное выявление феномена жизни. К этому
самому приступает Дильтей и в своей психологии, причем в известном
противоречии к традиционной психологии, отбрасывающей
своеобразное бытие жизни.
IV
Основной вопрос Дильтея - вопрос о понятии жизни. Спрашивать о
понятии жизни значит спрашивать о понимании жизни. Так что
прежде всего необходимо сделать жизнь доступной в ее изначально-
сти, чтобы затем постигать ее понятийно. Свою задачу Дильтей
постигает, подводя ее под традиционную рубрику психологии.
Психология - наука о душе, в современном разумении — о переживании.
Поскольку переживания выступают в определенной непрерывности,
принято говорить о потоке переживаний (Джеймс). Переживания —
это такая действительность, которая существует не в мире, но
доступна рефлексии во внутреннем наблюдении, в сознании самого
себя. Так сознание характеризует всю эту область переживаний
(Декарт: res cogitans). Психология как наука есть наука о взаимосвязи
переживаний, о сознании. Дильтей пользуется и еще одним особым
наименованием для этой науки, еще более отчетливо
показывающим, что тут для него главное, - это антропология. Он намерен не
рассматривать психологические процессы наряду с
физиологическими, но тема его - человек как духовное существо, структуры
которого он и намерен исследовать. Об этом же говорит и следующее
определение: реальная психология. Тем самым Дильтей
отмежевывается от специфически естественно-научной психологии. В таких своих
359
интенциях он зависим от попыток, производившихся задолго до
него, однако это толкование ничуть не умаляет принципиально
новое у Дильтея. В 1874 году вышла в свет книга Брентано
«Психология с эмпирической точки зрения»12. Сочинение в духе позитивизма,
подчеркивавшее необходимость учитывания фактов душевной
жизни, прежде чем будет поставлен вопрос о законах протекания
душевных явлений. Чтобы иметь возможность считывать закон,
необходимо знать первичные структуры. Первоначально Брентано был
католическим богословом, учеником Тренделенбурга13, в 1870 году он
снял с себя сан и перешел к изучению философии, однако
историческая традиция, в прикосновение с которой он пришел благодаря
теологии, оставалась для него живой и впоследствии (средние века
и Аристотель)14. Греческая психология была отнюдь не
экспериментальной психологией. Тут психология была учением о жизни, о
самом человеческом бытии (психология Брентано, отнюдь не
намеренная объяснять душевные процессы, но описывающая
фундаментальную устроенность души, предопределила взгляд не только Дильтея,
но и Гуссерля). Дильтей предполагает исследовать структуры
психического, и существенно то, что он разумеет под ними не простые
формы душевного существования, в какие они включаются, но
понимает их как принадлежащие к самой же реальности душевной
жизни. Этим отмечена та самая крайняя позиция, какой достиг Дильтей
в своем понятии жизни: структуры как первичное живое единство
самой жизни, не просто как схемы упорядочивания ее постижения.
Дильтей отмежевывается от позитивно-естественно-научной
психологии в своих «Идеях описательной и аналитической психологии»
(1894). Его психология описательна, а не объяснительна, от
расчленяет, а не конструирует. Естественно-научная психология переносит
на психологию методы физики, она пытается схватить
закономерности, подвергая измерению регулярно повторяющееся. Поскольку
поступает она так, не спросивши душевное о его бытии, то она
вынуждена переносить сюда известные гипотезы, предположения, которые
и не доказаны, и не доказуемы. Гипотеза оправдывается ее
результатами. Однако коль скоро гипотеза не обоснована предваряющим ее
созерцанием выспрашиваемой вещи, то все построенное на ней
отличается лишь гипотетической достоверностью. Такая психология не
имеет ни малейших шансов стать фундаментальной наукой для наук
о духе. Вундт пытался создать такую психологию в своей
«Физиологической психологии»11*. Психическое осмысляется во взаимосвязи
с физическим, причем и то, и другое должно стать доступным
благодаря одному и тому же методу.
Расчленяющей, но также и аналитической, Дильтей называет
свою психологию в противоположность тому конструированию,
какое служит основной позицией естественно-научной психологии.
Последняя, подобно физике, все стремится возвести к
первоэлементам. Физика строит все из элементов, и так же поступают с
душой. Такой конечный первоэлемент видят в ощущении. Из
комплексов ощущений пытаются сложить такие феномены, как воля,
ненависть и т.п. Нет ничего случайного в том, что такая психоло-
360
гия видела праэлементы в чувственных данных. Ибо именно здесь
научные методы постижения посредством измерений еще
возможны. Поэтому естественно-научная психология - это в
существенном отношении психология чувства (сегодня и такая разновидность
психологии, будучи соопределенной феноменологией, пришла к
новой постановке вопросов и выглядит совершенно иначе, нежели
во времена Дильтея). Для такой психологии конструирование и
было путем к объяснению душевной взаимосвязи.
В противоположность таким тенденциям для Дильтея все дело в
том, чтобы прежде всего и в первую очередь видеть душевную
взаимосвязь. Взаимосвязь такая всегда уже здесь, ее не приходится строить
из элементов. Вот первое, что надлежит констатировать, а уж из
этого целого можно вычленять отдельные звенья. И таковое вычленение
есть не разложение на элементы, но есть отделение структур, данных
первично и заранее. Душевная жизнь изначально всегда дана в своей
целостности, а именно с тремя основополагающими определениями:
1) она развивается
2) она свободна, и
3) она определена приобретенной взаимосвязью, т.е. она исторична.
Для контраста опишем, каким способом пытались уразуметь
зрение. Полагали, что зрение можно понять как нагромождение
ощущений. Не видят того, что видеть — первично, что именно оно и
определяет учет и истолкование данных ощущения, соответственно памяти
и воспоминанию, которые тоже пытались объяснить
ассоциированием. Напротив, уже одновременное и совместное связывание двух
фактов, относящихся к разному времени, есть воспоминание, а
ассоциирование есть лишь определенное событие в воспоминании.
Основополагающее определение душевной взаимосвязи — это
самость: тождественность лица, Я. Самость обусловлена внешним миром.
Внешний мир воздействует на самость, и наоборот, самость - на мир.
Существует определенная функциональная взаимосвязь между
самостью и внешним миром («О происхождении нашей веры в реальность
внешнего мира и ее правоте»). Вот вся эта взаимосвязь: самость и мир
во всякий миг - здесь. Однако быть здесь вовсе не непременно значит,
что жизнь ведает о такой основополагающей структуре. Взаимосвязь
такая постоянна и непрерывна. Для сознания всегда нечто наличествует
в настоящий момент. Для состояния сознания, если взять его, так
сказать, в разрезе, отсюда следует, что во всякий миг оно пребывает в
отношении - по мере мысли, по мере чувства и по мере воли.
Внутренняя сопряженность этих моментов и составляет собственную
структуру сознания. Такая структура есть нечто переживаемое самой же
жизнью, есть переживание, т.е. для душевной жизни есть опыт самой
себя, т.е. не что иное, как для человека опыт самого себя, насколько
определен он миром. Это не причинная определенность, скорее, это
взаимосвязь одного из мотивов и мотивации. Душевная жизнь
определена как целенаправленная взаимосвязь. Подобное определение
доказывается прежде всего индивидуальной жизнью. Постольку, поскольку
жизнь есть жизнь с другими, то надлежит создать структуры жизни с
другими. Как же изначально дается жизнь другого? Как вопрос теоре-
361
тико-познавательный, он встает как вопрос о познании чужого
сознания. Однако вопрос такой поставлен принципиально неверно, если не
замечают, что жизнь уже первично всегда уже есть жизнь с другими,
всегда уже есть знание о со-живущих других. Однако Дильтей далее не
вдавался в эти вопросы. Для него существенно то, что структурная
взаимосвязь жизни приобретается, т.е. она определяется через ее историю.
Как же были восприняты эти принципиальные исследования
Дильтея? Поскольку интересы неокантианской марбургской школы были
существенно определены теоретико-познавательной постановкой
вопросов, то она нимало не заботится о Дильтее. - Юго-западная же школа
помимо влияния Канта находилась и под влиянием Фихте. Она
восприняла импульсы Дильтея: ректорская речь Виндельбанда, «Границы
естественно-научного образования понятий» Риккерта12*. Здесь ложно
понятая проблема Дильтея овнешнена до полной неузнаваемости. Конечный
интерес Дильтея заключался в историческом бытии; Риккерта же не
интересует даже и познание истории, а только ее изложение. Его результат:
историк излагает неповторимое, естествоиспытатель - всеобщее. Один
занимается обобщением, другой - индивидуализацией. Но это просто
формальный порядок, вполне верный и неоспоримый, но до такой
степени пустой, что отсюда ничего нельзя почерпнуть. Для Виндельбанда и
Риккерта психология есть наука обобщающая, а раз так, то наука
естественная, а потому, заключают они, она не может быть основой науки о
духе, ибо наука, занятая всеобщим, не может быть основой науки об
особенном. Такое заключение по аналогии — позаимствованное из
отношения математики и физики, - полностью оставляет в стороне то, что в
таком отношении сама всеобщность есть лишь совершенно пустое и
формальное определение. Всеобщность математики иная по сравнению с
физикой, всеобщность математики есть лишь всеобщность простой
формализации, между тем как всеобщность физики следует разуметь как
генерализацию. Однако существенное не в этом, а в следующем: уяснить
себе, что позитивная тенденция Дильтея устраняется единым махом.
Никому нет дела до того, что Дильтей намеревался выставить такую
психологию, которая и не может и не хочет быть естественной наукой. Лишь
внутренне последовательно было то, что Риккерт обрушился на
философию жизни с поверхностными нападками, которые не способствуют
успехам научного исследования, однако - это очень показательно! — в
принципе верны. Он считает, что философии, которая исследует нечто15,
очень важно составить себе понятие об этом. Это верно, но ведь
философия жизни как раз и хочет выстроить понятие жизни, разработать ее
понятийность. Однако требование составить понятие - пустое;
собственная субстанция науки — это отношение к самой вещи. Изменение
отношения первично по отношению ко всякому переустройству науки.
Если мы взглянем теперь на жизненную работу Дильтея как на
исследовательскую деятельность, то мы обязаны поставить критический
вопрос, сколь же далеко продвинулся Дильтей и где и в чем сказался
несостоятельным. Мы обязаны повторить его вопрос и поступим так,
стоя на почве такого научного исследования, которое дает нам в руки
средства для этого, вполне способные продвинуть нас вперед по
сравнению с позицией Дильтея, - это феноменология.
362
ν
Сложение исторического мировоззрения основывается на
историческом изучении (Йорк: «Наш общий интерес в уразумении
историчности»13*). Все дело в том, чтобы, разработав, получить бытие
исторического, историчность — не историческое, бытие — не сущее,
действительность - не действительное. Так что речь идет не о вопросе
эмпирической науки истории; даже и вместе со всеобщей историей
мы все еще не получили бы историчность. Дильтей пробился к такой
реальности, которая в собственном смысле есть в смысле бытия
историческим, - к человеческому существованию. Дильтей достигает того,
что реальность эта становится данностью. Он определяет ее как
живую, свободную и историчную. Но только он не ставит вопрос о самой
историчности, вопрос о бытийном смысле, о бытии сущего. Уяснить
себе такой вопрос мы в состоянии лишь после того, как
сформировалась феноменология. Так что мы должны поставить перед своими
глазами ту науку, которая готовит почву для такого вопроса.
Само название на первых порах запутанно и странно, однако по
своему значению оно просто. Суть дела мы прежде всего и проясним,
чтобы благодаря этому уразуметь название, - притом в пяти разделах:
1. Основная позиция феноменологии как нового направления
философского исследования. Ее отношение к традиционной, к
современной философии.
2. Первый прорыв в «Логических исследованиях» Гуссерля.
3. Характеристика ее решающих открытий: интенциональность и
категориальное созерцание.
4. Слово «феноменология».
5. Границы феноменологического исследования, каким было оно
до сих пор.
Основная позиция феноменологического исследования
определяется принципом, который поначалу представляется само собою
разумеющимся, — к самим вещам16. Итак, для нашего вопроса об
историчности все дело в том, чтобы таким способом привести историческую
реальность к данности, чтобы считываем был смысл ее бытия. Извлекать
понятия из самих вещей, философствовать изнутри самих вещей - все
это кажется чем-то само собою разумеющимся. Однако только
кажется. Наука и жизнь разделяют специфическую тенденцию как-то
перепрыгивать через простое, изначальное и неподдельное, застревая на
сложном, вторичном и неподлинном. Не только сегодня это так, но и
во всей истории философии. Сегодняшняя философия традиционна;
постольку, поскольку она нова, ее интерес заключается в
возобновлении заранее данной философии, а не в новой постановке вопросов о
самих вещах. Традиционная философия в первую очередь располагает
мнениями о вещах, понятиями, вопрос об изначальной сообразности
которых [вещам] никогда не задавался. В противовес всему этому
феноменология постулирует движение в направлении самих вещей.
Однако сам по себе постулат тут ровным счетом ничего не значит.
И первым, что было в феноменологии, оказалась отнюдь не
программа, но исполнение. Тут, как может показаться, обсуждаются примитив-
363
ные, элементарные вещи. Однако возвращаться к само собою
разумеющемуся, к тому, что скрыто от обыденного сознания, - это всегда и
есть настоящий путь больших открытий. Каждый великий
первооткрыватель ставит, в элементарной форме, вопрос. Заявляя свой новый
принцип, который оставался скрыт со времен классической
[философии] и вновь был обнаружен феноменологией, она вовсе не намерена
поставить себя на какое-то место вне истории, как якобы незатронутая
ею. Таковое и невозможно, потому что любое открытие пребывает в
исторической непрерывности и соопределяется историей. В самой
феноменологии живы исторические мотивы, которые отчасти
обусловливают традиционную постановку вопросов, традиционные подходы и
прикрывают настоящий подступ к вещам. Феноменологии предстоит
сначала очень и очень постепенно и все больше и больше обретать
возможность освобождаться от традиции, чтобы затем освободить для себя
философию прошлого, а тем самым по-настоящему усвоить ее себе. Из
самого способа феноменологического исследования вытекает с
необходимостью различие ее направлений — направлений, в которых она
задает свои вопросы. Есть различные направления работы, которые
взаимно подвергают критике друг друга. Всякий тезис значим лишь в той
мере, в какой он может быть подтвержден. Личные мнения
невозможно исключить до конца, но они не имеют веса.
Первый прорыв такого рода исследований произошел в 1900—1901
годах в «Логических исследованиях» Гуссерля. «Логические
исследования» - это, собственно, основополагающая книга феноменологии.
Мы не можем обсуждать сейчас ее содержание. Это противоречило бы
и самому феноменологическому принципу, поскольку [для такого
пересказа] было бы невозможно подтверждение изложенного, а ведь как
раз следование вещам для нее самое существенное. Таковое требует
выучки, и тут нет никакого фокуса, нет чародейства, а есть научный
метод, для которого нужны, конечно, какие-то задатки, но который
может быть выработан и в многолетнем общении с вещами.
Мы же постараемся, скорее, прояснить два решающих открытия,
двигаясь обходными путями, - эти открытия и позволяют поставить
вопрос Дильтея с феноменологической новизной. Таковы интенцио-
нальность и категориальное созерцание. «Intentio» значит
нацеливаться на что. Такое выражение в средние века характеризует одно
определение психической расположенности. Всякое мышление есть
мышление чего-то, всякое воление воление чего-то, всякое переживание
переживание чего-то. Вот нечто само собою разумеющееся, что,
однако, отличается фундаментальным значением. Если мы наглядно
представим себе, как душа направляется на что-то, то одновременно и
вместе с этим нам дается «то, на что» направляется она - так, как
подразумевается это в соответствующем акте. Мы обретаем в опыте
подразумеваемое - в рамках определений того, как оно разумеется [в
своем бытии]. Итак, у нас появляется возможность выспрашивать
обретаемый в опыте мир в аспекте его существования. Мы можем
научиться видеть сущее в его бытии. Тем самым завоеван базис для
вопроса о бытии сущего. Далее: феноменологическое исследование не
ограничивается рассмотрением лишь одного региона бытия, но для него
364
крайне важно проработать все бытийные регионы, какие только ни
есть, в аспекте их бытийной структуры. Так философия вновь обретает
возможность идти вперед наук. Ей не приходится уже говорить,
обобщеннее и хуже, то самое, что уже точнее и лучше сказано
отдельными научными дисциплинами. Подобно тому как когда-то Платон
открыл путь для геометрии, философия вновь получает возможность
раскрывать перед каждой наукой ее область и посредством своих
основополагающих определений давать им руководящую нить их
исследований. Вот почему место феноменологии — рядом с самой наукой,
в университетах. Она не собирается обращать студентов в философов,
но намерена превратить их в людей науки, наделенных сознанием
своей собственной науки. Деятельность Платона и Аристотеля в
Академии и в Ликее отнюдь не была иной.
Второе открытие — категориальное созерцание — мы можем
затронуть сейчас лишь кратко. Мы уже отличили бытие от сущего17. Бытие
в отличие от сущего недоступно чувственному созерцанию. И тем не
менее смысл этого бытия, то, что подразумевается, когда я говорю
«есть», должно каким-либо образом подтверждаться. Акт,
открывающий доступ к этому, и есть категориальное созерцание18.
Итак, согласно требованиям феноменологии, философия обязана
не размывать понятие, не пользоваться им кое-как, а должна делать
доступным подразумеваемое им, так, чтобы оно являлось в нем самом:
φαινόμενον - λόγος. Итак, феноменология есть окликание и
определение того, что являет себя от себя же самого. Так что уже в самом
названии заключено указание на принцип: к самим вещам. В своем
первом прорыве феноменологическое исследование существенно
ограничивалось теоретическими переживаниями, мышлением. Однако легко
можно видеть, что в этом отношении перед нами не что иное, как
более радикальный вариант традиционной психологии. В значительной
мере работа еще продолжалась в духе прежней психологии, когда уже
было сделано открытие интенциональности, благодаря которому все
исследование перешло в иную плоскость. Гуссерль сам не понимал
своей собственной работы, когда писал предисловие к ней14*; он дал
совершенно неверную интерпретацию в духе понимания
феноменологии как улучшенной психологии.
VI
Для Дильтея собственно историческое бытие — это человеческое
существование. Дильтей выделяет в жизни определенные структуры, но он
не ставит вопрос о присущем самой жизни характере
действительности, не ставит вопрос: каков же смысл бытия нашего собственного
бытия здесь? Поскольку он не ставит такой вопрос, то у него нет и
ответа на вопрос о бытии историчном. Таково же и упущение всего
феноменологического исследования до сего времени. Оно заранее
предполагает жизнь. Спрашивая, что такое человек, оно не имеет иного
ответа, кроме традиционного: animal rationale. Чувственность, рассудок,
разум как более точные определения (у Канта). Что удерживает все эти
области в совместности? Каков бытийный характер всего бытия? Фено-
365
менология определяет человека как взаимосвязь переживания, какая
удерживается в совместности единством Я как центра актов. Вопрос о
бытийном характере этого центра не ставится.
Мы попробуем сейчас дать некоторое предварительное
определение бытия человека - в качестве почвы определения собственного,
настоящего, при котором будет выяснен смысл бытия человека — это
время. Мы попробуем прояснить в человеке феноменологически
определяемые бытийные характеристики, увидеть человеческое бытие
здесь таким, каким являет оно себя в повседневном существовании
здесь. Такова фундаментальная задача, которая кажущимся образом
вращается в сфере самого что ни на есть само собою разумеющегося
и самого что ни на есть наиближайшего. Однако мы увидим, что это
поле наиближайшего фактически менее всего открыто. Эта
действительность забыта за традиционной постановкой вопросов. Потому-то
мы, ради собственного, настоящего постижения, и исходим из
определенных ошибочных истолкований.
Одно основополагающее постижение определяет человека как Я.
Оно восходит к Декарту, который в своих «Meditationes» отыскивает
надежный фундамент достоверности и обретает его в ego как res cogitans.
На это всегда и ссылалась идущая от кантовской постановки вопроса
теория познания, которая затем стремится понять, - как субъект
изнутри самого себя приходит к объекту и может познавать его. Идя по
этому пути, современная теория познания полагает, будто она до
чрезвычайности критична. Декарт ориентировался на геометрию, и для него
все дело было в том, чтобы обрести для философии такие положения,
на основании которых он мог бы строить умозаключения, - значит, не
в том, чтобы наглядно являть все бытие человека, но в том, чтобы
иметь аксиому для своей дедукции. Это понимание - будто бы первым
делом и прежде всего дано лишь Я, - некритично. В качестве
предпосылки оно использует примерно следующее: сознание — что-то вроде
ящика, причем Я находится внутри, а реальность снаружи.
Естественное сознание как раз не имеет ни малейшего знания о чем-либо
подобном. Наоборот, изначальная данность существования здесь - в том, что
оно пребывает в мире. Жизнь и есть такая действительность, которая
пребывает в таком-то мире, причем так, что она обладает таким-то
миром. Всякое живое существо обладает своим окружающим миром не
как чем-то таким, что наличествует наряду с ним, но как таким, какой
раскрыт, развернут, для него. Такой мир может быть очень простым
(для простейшего животного). Но жизнь и ее мир никогда не бывают
двумя существующими рядом друг с другом вещами наподобие двух
стульев, которые стоят рядом, - совсем напротив, жизнь «обладает»
своим миром. Сознание этого начинает постепенно пробивать себе путь и
в биологии. Тут начинают задумываться над основополагающей
структурой такого-то животного. Однако самое существенное остается
незамеченным, если я не вижу того, что животное обладает таким-то
миром. Точно так и мы сами всегда пребываем в таком-то мире, так, что
этот мир раскрыт для нас. Предмет же, как, например, стул, лишь
попросту наличествует. Но жизнь всегда пребывает здесь так, что для нее
всегда есть здесь и ее мир.
366
Теперь все дело в том, чтобы видеть основополагающие структуры,
в каких разыгрывается бытие в мире. Каким образом мир дан?
Первоначально не как объект теоретического познания, но как окружающий
мир, как то самое, в чем я оглядываюсь, что-то делаю, что-то достаю
и добываю. Предметы — это первично не объекты теоретического
познания, но те вещи, какими я занимаюсь, с какими имею дело, - они
имеют в себе отсылки к тому, для чего они служат, к их применению,
к их полезности. Материальные вещи в смысле физики отнюдь не
даны первым делом. Когда в мире, наиближайшим образом нам
данном, отодвигаются засовы природы, — то это сложный процесс.
Ближайший мир —.это мир практических забот. — Окружающий мир и
предметы окружающего мира пребывают в пространстве.
Пространство окружающего мира - отнюдь не пространство геометрическое.
Оно в существенном отношении определено моментами близкого и
дальнего, полученными из общения, возможностью повернуться и т.д.
Поэтому ему и не присуща однородная структура геометрического
пространства. Оно, скорее, обладает определенными отмеченными
местами. Отстояния между шкафами и стульями, к примеру, даны не
как меры, но даны в таких измерениях, какие раскрылись в общении
с ними (до чего можно достать рукой, между какими вещами можно
пройти и т.д.). Именно такое пространство окружающего мира
призвана открывать живопись. А геометрическое пространство
вырабатывается из такого пространства лишь в определенном процессе.
Далее, существование жизни здесь определяется со-существовани-
ем других действительностей, отличающихся тем же бытийным
характером, что и у меня, — это другие люди. У нас особый способ
совместного бытия друг с другом. У всех нас один и тот же окружающий мир;
мы - в одном и том же пространстве. Пространство — для нас друг с
другом, и мы тут друг для друга. Напротив того, стулья вот в этой
комнате лишь наличествуют, они не пребывают здесь друг для друга, и
хотя они все в этом пространстве, но они не обладают этим
пространством здесь. - Итак, бытие в мире - это совместное бытие друг с
другом. Этим бытие друг с другом определяется даже и в том случае, если
фактически тут нет никого, кроме меня. В том, как все естественно
заведено в жизни, и я сам тоже не дан мне самому так, чтобы я
созерцал свои переживания. Я ближайшим образом и прежде всего дан мне
самому в том, с чем я имею дело, при чем я пребываю все свои дни.
Мир (комната, дом, город и т.д.) наделен определенным характером
известности. В этом мире я вижу самого себя - в поблекшем виде19 -
как реального. Я в своем окружающем мире — попадаюсь навстречу
самому себе. Окружающий мир ближайшим образом дан в
практическом осмотре. Возможность теоретического исследования возникает
здесь лишь после определенного изменения установки. Я могу
изменить установку, отделив осмотр от заботы о делах и обратив его в
простое озирание окрест, в θεωρία. Такое обращение его в нечто
самостоятельное и есть собственный, настоящий20, источник науки. Наука
есть складывание простого смотрения на вещь.
Но кто же это, кто есть это бытие здесь? По большей части и
ближайшим образом мы - это не мы сами. Скорее, мы живем изнутри
367
того, что говорит-ся21, о чем судят да рядят, из того, как вообще
смотрят на вещи, чего требуют. Вот такая неопределенность и правит
существованием здесь. Она ближайшим образом и по большей части по-
настоящему и владеет существованием здесь, даже и наука живет
изнутри того же самого. Все то же сказывается и в традиции - как
спрашиваю/и, как прйступа/ö/w к исследованию. Эта всеоткрытость22,
правящая существованием людей друг с другом здесь, со всей
отчетливостью показывает нам, что мы — это по большей части не мы сами, но
другие, - нас живут другие. Кто же эти? Оно незримо, неопределимо,
оно никто, - но не ничто, а самая собственная, самая настоящая
реальность нашего обыденного повседневного существования здесь. Это
существование здесь, будучи оно, тяготеет к тому, чтобы терять себя в
устраивании дел в мире, к тому, чтобы отпадать от себя самого. Человек
в повседневности — несобственный. И такое несобственное бытие и
есть присущий человеческому существованию здесь первичный
характер реальности. Яснее всего это видно по той устроенности человека,
какую видели уже греки, воспользовавшись ею для того, чтобы дать ему
определение. Человек — это χοον λογον έχον23. Человек для грека,
который говорил с охотой и много, определяется как человек говорящий.
Речь не берется как основополагающая структура нашего бытия
(впрочем, речь здесь нельзя разуметь естественно-научно-психологично как
шум). Речь — это всегда говорение о чем-либо, когда человек
выговаривается о чем-то, это речь к другим и речь с другими. То, о чем говорят,
раскрывается и становится доступным оттого, что об это говорят
другие. Λόγος значит δηλοΰν24. Но возможность говорения-болтовни как
раз в человеческом существовании здесь тяготеет к тому, чтобы
претерпевать падение. Вот возможность, какой овладевает оно. Характерно
при этом, что говорение по большей части вовсе не проистекает из
изначального знания дела. В широких масштабах речь проистекает из
того, о чем знают понаслышке, о чем слыхали. Речь как вторение
характеризуется тем, что сказанное затвердевает в своей общезначимости, а
притом удаляется от самой сути дела. Чем более воцаряется болтовня25,
тем более закрывается мир. Так что обыденное существование здесь
тяготеет к тому, чтобы застилать мир, а вместе с тем и самого себя. Такая
тяга к закрыванию — не что иное, как бегство существования от
самого себя - во всеоткрытость. Бегство во всеоткрытость будет важно для
уразумения феномена времени.
Мы сейчас обсуждаем здесь не акты и не переживания сознания, а
определенные способы бытия в мире. Мы определяем это бытие здесь
как заботливое устроение дел в мире через обхождение с вещами. Такое
заботливое устроение дел есть всегда и устроение меня самого.
Поэтому собственный, настоящий, бытийный характер существования
здесь — это забота26. Феномен этот открыт давно, понятие это древнее,
опыт заботы древний. Но только дело никогда не доходило до того,
чтобы принимать этот феномен в изначальность приступа.
В этом месте надлежит поставить критический вопрос: можно ли
вообще дойти таким путем описания до каких бы то ни было понятий,
которые определяли бы человеческое существование здесь в целом,
как замкнутую действительность27? Я могу всякий раз определять его
368
как то живое, перед которым всегда находится еще некое еще-не-бы-
тие28. Если же я более уже не живу, то я уже и не в состоянии
постигать целостность. Если жизнь предстает в целом, как готовая, то ее как
раз уже более и нет. Нельзя избегать такой трудности. Как
человеческое существование здесь может быть дано в своей целостности? - ибо
иначе нельзя договориться ни о чем касающемся понятия жизни.
Взять ставшую целой жизнь других - плохой совет. Ибо, во-первых,
этой жизни уже нет здесь, а, во-вторых, жизнь другого никогда не
сможет заменить мою собственную. Существование здесь - это
всякий раз существование собственное, мое, и такой характер неотделим
от него. Вот чего следует придерживаться, если мы хотим найти
конечный смысл бытия здесь, настоящей собственной экзистенции. Как
может быть постигнуто в его целостности человеческое существование
здесь — существование всякий раз мое собственное?
VII
Существование здесь осматривается окрест, руководствуясь
истолкованием, господствующим во всеоткрытости. Определенный этой всеотк-
рытостью мир доступен всякому в его усредненности. Истолкованность
существования здесь всеоткрытостью определяет жизнь во
всеоткрытости. Отдельная жизнь тяготеет к тому, чтобы опускаться в эту всеоткры-
тость и теряться в ней. Говоря о самом себе, бытие здесь видит себя
самого как нечто в мире наподобие других вещей. Вот почему к
размышлению о жизни поначалу приступали в понятиях мира, не в тех, какие
изначально принадлежат самой жизни. Ближайшим образом и первым
делом себя обретают в том, чем человек занят, что он заботливо устро-
яет, в своей специальности, профессии и т.д. Озабоченно устрояемый
мир предоставляет существованию первое понятие. Так, человек
первым делом определяется как animal. Специфически присущее ему
бытие находит свое выражение лишь в rationale. Эта дефиниция всецело
определена миром. У Канта же определение дается так, что человек есть
некое единство чувственного мира, наделенное рассудком и разумом.
Такие определения, вероятно, все едины и все вместе усмотрены в
некой действительности, но только не спрашивали тут о смысле бытия
единства, остающегося поэтому всего лишь суммой. Но ведь в сумме
члены предшествуют целому, целое же есть нечто вторичное, данное
задним числом. Целостность же, напротив, такова, что только ею и
определяются части. Так, например, машину нельзя постичь как сумму
колес и т.п., которые неведомо как собрались в одном месте, но целое
в своем значении определяет здесь вид и расположение отдельных
частей. Все дело в том, чтобы видеть жизнь в ее целостности. Мы
спрашиваем о том структурном моменте, который определяет ее как
целостность, и о том, в чем смысл этой целостности, и о том, не эта ли
целостность — то самое, на чем держится всякий миг наше бытие. Теперь
мы видели: жизнь в существенном отношении незавершена, перед ней
всегда еще остается часть. А целостность не может обойтись без
законченности - она готова. Вообще же привыкли к тому, что нечто и
существует лишь тогда, когда оно закончено и полностью сложилось. Одна-
369
ко жизни именно тогда-то и нет; когда она исчерпала все свои
возможности, то ее больше нет. Мертвец уже покинул мир. При этом вопрос
о бессмертии или не-бессмертии не играет тут никакой роли. Мы
видели, что выход из положения - жить жизнью другого, о смерти
которого мы узнаем, — это вовсе не выход, и путь этот для нас непроходим:
смерть другого — не моя смерть, а смерти вообще не бывает. Смерть —
это всякий раз «моя» смерть29. Если не замечаешь этого, то тема будет
выпущена из рук.
Подобно тому как для всякого существования здесь открыт его мир, так
и всякая жизнь отдается ей же самой, в ее распоряжение. Пока мы
говорили только о смерти как границе. При этом мы молча постигали жизнь
как процесс, который где-либо прервется. Жизнь понята как взаимосвязь
переживаний, которой где-то будет положен конец. Однако тем самым мы
вновь выпустили из рук то самое, о чем договаривались прежде.
Существование здесь - это не процесс, и смерть — это не что-то такое, что при
случае нагонит жизнь сзади. Смерть - это то, что предстоит людям, это то, о
чем ведает сама же жизнь. Однако это все еще не определение смерти. Мне
многое предстоит! Но тут есть разница! Если мне предстоит какое-то
событие, то это процесс, который затронет меня, и он попадется мне
навстречу изнутри мира. Смерть же никогда не выйдет мне навстречу
изнутри мира, но смерть есть нечто такое, что я сам есмь; я сам есмь
возможность моей смерти. Смерть — это самый крайний конец того, что
возможно в моем бытии здесь; она самая крайняя возможность моего
существования здесь. Итак, в существовании здесь заключена возможность,
которая предстоит существованию здесь, возможность, в какой само
человеческое существование здесь предстоит самому себе в своей крайней
возможности. Речь идет не о настроениях, а о том, чтобы видеть те движения,
какие совершает существование здесь из сознания, что смерть есть самая
крайняя возможность его самого, какая ему предстоит. Я сам есмь моя
смерть именно тогда, когда я живу. Так что для меня дело не в том, чтобы
описывать разные виды смерти, а только в том, чтобы уразумевать смерть
как возможность, какой обладает жизнь. Не метафизику смерти строим
мы, а стараемся понять ее бытийные структуры в жизни. Ибо трудность не
в том, чтобы умереть, а в том, чтобы совладать со смертью сейчас. Такой
идеи смерти нам следует придерживаться для последующего. Если смерть
есть нечто такое - самая крайняя возможность, которая есть само же
существование здесь, то существование должно обладать различными
возможностями того, как встанет оно к своей смерти. Прежде всего давайте
узнаем, в какую позицию по отношению к своей смерти встает
обыденность и отдельный человек, уловленный неопределенностью безличности;
какой являет себя в этом состоянии к смерти сама смерть; какой
встречается она сама нам в повседневности обыденного. Мы видели, что
обыденность определена тем, что существование каждоденно. Мы постигаем ее на
опыте, мы знаем о смерти, мы узнаем об уходе из мира кого-либо с
известным безразличием как о том, что, быть может, некогда стрясется и с
нами самими. В таком безразличии заключен следующий момент - мы
сами же оттесняем себя от смерти. Существование здесь стремится
избегнуть смерти, отодвинуть ее в сторону как возможность. И это убегание от
смерти заходит так далеко, что обыденность внушает умирающему, что он
370
не умрет, и пытается отвлечь его от его смерти. Думают, что оказывают тем
умирающему услугу. Существование не только утешает себя насчет своей
смерти, но и пытается оттеснить ее подальше способом ее истолкования.
Думать о смерти — это истолковывается как трусость или как бегство от
мира. Жизнь утешает себя насчет смерти и делает попытку отчуждения ее
от себя способом ее истолкования, она стремится устранить ее из
горизонта жизни. Озабоченно устраивая свои дела, существование здесь
заботится и о себе самом; к структуре заботы принадлежит и то, что она
заботится и о бытии здесь. Существование озабоченно отстраняет от себя
возможность смерти. Оно постоянно заботится о том, чтобы упустить
возможность более радикального постижения смерти как возможности. В
этом бегстве от смерти как раз и являет себя его бытие здесь. В «том, от
чего» этого бегства и являет себя смерть. Какова же смерть в этом
непрестанном бегстве от смерти? Каковы характеристики ее специфического
пребывания здесь? Вот ее неопределенность: эта возможность
существования здесь неопределенна. Когда придет смерть, это для существования
здесь совершенно неопределимо. Однако одновременно с тем эта
возможность есть возможность предстоящая с достоверностью, с уверенностью,
которая превосходит любую иную достоверность, какую мы только можем
помыслить себе. Для существования здесь вещь несомненная, что оно
умрет своей смертью. И эта уверенность не отменяет неопределенности, и эта
неопределенность не наносит ущерба уверенности. Они, скорее, только
лишь множат друг друга. Обыденность пытается оттеснить от себя эту
неопределенную уверенность. Она еще рассчитывает на то, что еще осталось
существованию здесь и считается с этим. Она заталкивает
неопределенность в долгий ящик медлительного запаздывания, а уверенность
втискивает в - только не думать о том!
Так смерть являет себя как самая крайняя, неопределенная, но
несомненная возможность существования здесь, в какой это
существование предстоит самому себе.
Такое структурное определение смерти - не какое-то произвольное, но
его следует постигать как априорное, как такое, какое лежит в любом
толковании смерти, как то самое, по отношению к какому обязана занять
свою позицию и вера. Такое определение должно иметь в виду и
подразумеваться и в христианстве. Благодаря христианской теологии проблема
смерти впервые вошла во взаимосвязь с вопросом о смысле жизни.
Мы определили существование здесь во всеоткрытости как
несобственное. Итак, несобственное, ненастоящее, предстояние смерти
есть избегание. Но каково же стояние перед смертью собственное,
настоящее, и что можно почерпнуть здесь для основополагающей
устроенное™ человеческого существования здесь?
VIII
Если замысел определения смысла существования должен быть
успешным, все дело в том, чтобы уловить его цельность. Целое определено
границей. Смерть — это граница для самого существования здесь. Эта
граница предстоит как неопределенная и несомненная возможность, и
этим характеризуется сущее, отличающееся присущей человеческой
371
жизни чертой. Во всеобыденности существование здесь стремится
избегнуть такой возможности. Мы уже характеризовали такой способ
несобственного, ненастоящего, стояния к смерти. — Так есть ли
собственный, настоящий, способ такого предстояния самому себе, способ,
который не был бы предопределен всеоткрытостью, но такой, в каком
существование здесь предстоит самому себе как всякий раз отдельное,
свое собственное и мое? Способ этот заключен в возможности
постижения и удерживания действительности такой возможности. Стоять
перед возможностью — это значит постигать ее как возможность.
Выстаивать перед смертью как возможностью означает так обладать ею
здесь, чтобы она предстояла в чистоте того, что она такое, —
неопределенное в своем когда, несомненное в своем что. Давать такой
возможности оставаться возможностью, не делая ее действительностью, —
скажем, посредством самоубийства, - значит предтечъ к ней. При этом
мир начинает отступать назад, он распадается в ничто. Возможность
смерти означает: когда-нибудь я покину этот мир, и когда-нибудь миру
не будет уж что сказать, и не будет что сказать ничему из того, к чему
я привязан, из того, чем я занят, из того, чем я озабочен, и ничему
нечем будет тут помочь. Тогда уже не будет мира, изнутри которого мог бы
я жить. С этой возможностью я обязан справиться лишь изнутри себя
самого. Так здесь и оказывается, что возможность выбора пред-задана
существованию здесь. Существование во всякий миг может
устанавливаться так, чтобы выбирать между собою и миром, он может принять
любое решение - изнутри того, что попадается ему навстречу в мире,
или же изнутри себя самого. Возможность для существования
выбирать — это возможность возвращать себя из затерянности в мир, т.е. во
всеоткрытость. Если существование выбрало себя, то тем самым оно
выбрало и себя, и сам выбор. Выбрать же выбор означает быть
решительным. Итак, предтечь значит выбирать; выбрать значит быть
решительным, - решительным не к смерти, но к жизни. Такое выбирание и
такая решительность и есть выбор ответственности, какую
существование здесь принимает на себя самого, чтобы всякое действование мое
было таким, чтобы с каждым своим действием я возлагал на себя
ответственность за него. Выбирать для себя самого ответственность значит
выбирать совесть™ как возможность, которая, собственно, есть человек.
Ошибка феноменологии в том, что она неверно поняла (Шелер)
собственно антропологическую структуру кантовской этики. Кант увидел,
что основополагающий смысл существования есть возможность - быть
самому возможностью, мочь воспользоваться возможностью. Выбирать
же совесть означает в то же самое время становиться виновным. «Тот,
кто действует, всегда бессовестен» (Гёте)31. Всякое действие - это в то
же самое время вина. Ибо по сравнению с требованиями совести
возможности действия ограничены. Так что всякое доведенное до конца
действие порождает конфликты. Итак, выбор ответственности за себя
есть возложение на себя вины в абсолютном смысле. Я становлюсь
виновным, коль скоро вообще я есмь, коль скоро я вообще действую.
Что означают такие взаимосвязи? Само предтекание в крайнюю
возможность меня самого, в возможность, каковая я пока еще не есмь, но
каковой я буду быть, есть будущее бытие. Я сам есмь мое будущее через
372
то, что я предтекаю. Не я в будущем, но я есмь будущее себя самого.
Становиться виновным есть не что иное, как ношение с собою прошлого.
Становиться виновным значит бытие в прошедшем. Прошлое удержано
и зримо в бытии виновным. А вместе с этим человеческое
существование здесь собственным, настоящим, образом входит в настоящее, в дей-
ствование. В бытии решительным существование здесь есть его будущее,
в бытии виновным - его прошлое, а в действовании оно входит в
настоящее. Существование здесь есть не что иное, как бытие временем.
Время32 - это не что-то такое, что происходит вовне меня в мире, но то, что
я есмь сам. В предтекании, виновности и действовании само время есть
здесь. Время определяет целостность существования здесь.
Существование не просто всякий раз есть в такой-то миг, но оно есть оно само на
всем протяжении своих возможностей и своего прошлого.
Замечательно то, что в действовании, направленном в будущем, оживает прошлое
и исчезает настоящее. В собственном, настоящем, смысле действуют так
те, кто живет изнутри будущего, - такие могут жить изнутри прошлого,
настоящее же творится само собою. Время составляет всю целостность
моего существования здесь и в то же время определяет мое собственное
бытие в каждый его момент. Человеческая жизнь не проходит во
времени, но она есть само время. Это можно сделать вразумительным, если мы
сможем показать, что и в обыденном способе быть то самое, что
определяет существование здесь, есть время.
Каким же образом время есть здесь в обыденности? Очевидно, оно
есть здесь, когда я что-либо решаю относительно его, когда я что-либо
устанавливаю относительно его, когда я гляжу на часы и говорю -
«сейчас». Что тут такое с этим «сейчас»? Что такое время, определяемое
через упорядочивание существования здесь посредством расписания
поездов, посредством дней, недель и годов? Уже по этим средствам
ориентации мы видим, что жизнь специфически определяется временем.
Всякие упорядочивания времени определяются озабоченным
устраиванием дел. У озабоченного устраивания дел тот смысл, что нечто еще не
находящееся в нашем распоряжении путем определенных операций
оказывается в нашем распоряжении, тот смысл, что нечто
предоставленное заботе переводится в настоящее. В заботе заключено
определенное ожидание, т.е. определенное отношение к будущему; я ожидаю
нечто такое, что затрагивает меня изнутри будущего, — то, что не есмь я
сам, но с чем я имею дело. Озабоченно устраивать нечто изнутри
будущего в то же самое время значит забывать. То, что озабоченно устроя-
ют, утрачивает характер чего-либо ставшего, - оно просто есть здесь.
Его история закрывается. Оно становится обыденным. Феномен,
противоположный ожиданию, — не воспоминание, но забывание.
Обыденность вечно живет в настоящем, по ней рассчитывается будущее, по ней
забывается прошлое. Эта тяга к тому, чтобы удерживаться в настоящем,
есть причина того, почему есть часы. Почему же есть часы? Потому что
обыденность желает, чтобы течение дел в этом мире находилось в ее
распоряжении в «сейчас». Теперь — потом, потом, потом... — сплошной
ряд дальнейших «сейчас», которые желают находиться в распоряжении
неопределенности безличного. Вот чтобы сделать такие «сейчас» всеоб-
щедоступными, и необходимы часы.
373
Каков генезис часов33, каковы подлинные мотивы измерения
времени? Платон, «Тимей»: время - это небо34. Такая дефиниция выросла из
исконного опыта, но она не могла быть понятийно схвачена Платоном.
Обыденность ориентирует озабоченное устраивание дел по моментам
«сейчас». Осмотрительность озабоченного устраивания дел определена
в своей возможности бытием дня. Ночь - это для первобытного
человека время покоя. День и его ход — вот что определяет трудовой день.
Утро, полдень, вечер — не астрономические даты, но полученные из
обихода точки ориентации, точки «сейчас», предназначенные для
озабоченного устроения определенных дел. Пока же человек определяет
свое «сейчас» по небу, он, делая высказывания о времени, окликает
небеса. Время — это небо. Дальнейшие определения времени
проистекали для греков из определения времени, когда устраивается рынок и
когда собирается народное собрание, которые в свою очередь
ориентированы на озабоченное устроение дел. По мере того как постепенно все
более развивалось озабоченное устроение совместных дел,
настоятельнее становилась потребность в определении времени и момента
«сейчас» для взаимосогласного действия. Греки изобрели для этого свои
часы — дерево, тень которого, измеряемая шагами, служит как мера
времени. Чем больше обыденное существование расходится в
совместно-озабоченном устраивании дел, тем меньше времени, тем точнее
идут часы. Даже и определение времени не должно занимать лишнего
времени (карманные часы). Собственное же, настоящее, бытие
временным, - это не действование во времени и не счет времени с помощью
часов. Пользоваться часами значит все время обращать в настоящее.
Весьма четко сказывается это в том, что мы пользуемся часами, чтобы
объективно определять процессы, происходящие в природе.
Существование здесь делает попытку определить мир с помощью часов. Почему
же существование определяет мир временем часов и какое время
подвергается измерению в естественных науках? Что означает пользование
часами, пользование подобной периодической системой измерения? Во
всем этом - предустраивание возможности постигнуть точку «сейчас».
Смотреть на часы значит говорить: «сейчас». Однако это «сейчас» — это
не мое «сейчас», но «сейчас» часов, «сейчас», какое мы называем,
будучи друг с другом, это всеобщеоткрытое «сейчас» бытия друг с другом;
это время есть неопределенно-безличное время всеоткрытости. В этом
безличном времени, через которое нас гонят вперед через все наше
существование здесь, в самом крайнем своем виде заявляет о себе
господство всеобщей открытости в существовании здесь. Такое время есть не
что иное, как само наше бытие друг с другом, то время, которое есть мы
же сами друг с другом.
IX
Бытие существования здесь в мире определено
осмотрительно-озабоченным устраиванием дел. При этом у существования есть возможность
отвлечься от устраивания дел, обратив свою осмотрительность в нечто
самостоятельное. Так возникает философия, так возникает наука
вообще. Наука — это рассудительное созерцание мира, раскрытие его в его
374
бытии. При этом собственно сущее мира есть вечно сущая природа;
итак, наука о мире есть первым делом отодвигание засовов с природы.
Природу надлежит обратить в настоящее таким образом, чтобы в
своем вечном бытии и своих закономерностях она сделалась доступной,
чтобы исключены были все моменты, которые идут за счет
рассудительного созерцания, определяющего доступ к природе. Тенденция такая
поначалу сложилась так, что не были выдвинуты определенные
закономерные взаимосвязи, но были получены руководящие
основополагающие понятия. Это произошло в греческой философии.
Современная физика настаивала на открытии законов движения и
определениях таковых, независимо от любых случайностей доступа,
измерения и определения. Теория относительности воспринимает эту
идею абсолютного познания природы с самой радикальной
серьезностью. Эта теория - не теория относительной значимости физических
законов, но она спрашивает об условиях, в каких даются определения и
производятся измерения, позволяющие постигать природу
исключительно изнутри ее самой, понимать законы ее движения. - Каково
философское значение такой теории в рамках отдельной научной
дисциплины? Вопрос такой правомерен постольку, поскольку всякая
подлинная отдельная научная дисциплина есть конкретная философия и
подлинна лишь постольку, поскольку философски фундирована. Пока
теория относительности недостаточно подтверждена фактами.
Впрочем, она получила два подтверждения исключительного значения - это:
1) искривление лучей света вследствие тяготения; 2) отклонение в
орбите Меркурия. Со стороны математической эта теория зависит от того,
что ей удалось обрести радикальное понятие геометрии. Не всякое
пространственное свойство фигуры есть свойство геометрическое. Верх,
низ, право, лево - все это безразлично для геометрии Евклида. Ее итоги
не зависят от сдвигов, поворотов, отражений. Ее теоремы
инвариантны относительно всех подобных трансформаций. На основании
подобных фактов математик Клейн35 определил геометрию как теорию
инвариантов для определенной группы трансформаций. Такая постановка
вопроса была вызвана спором об аксиоме параллельных, которую
невозможно было доказать. Тогда сделали методическое допущение, что
она утратила свою значимость, а тогда достигли того, что были
выдвинуты две геометрии, внутренне непротиворечивые, — геометрия
эллиптическая, путем допущения, что через одну точку не может пройти ни
одна параллель прямой (здесь сумма углов треугольника < 180°), и
геометрия гиперболическая, путем допущения, что через одну точку могут
пройти несколько параллельных прямых (здесь сумма углов
треугольника > 180°). Что же касается вопроса об определении законов
движения, то тут исходили из системы координат со временем в качестве
четвертого измерения, поставив вопрос о том, имела ли бы покоящаяся
система некоторое преимущество или же равенства сохраняются, если
система находится в движении. Законы Ньютона претерпевают
изменения, когда движение совершается с ускорением. Тенденция к
сохранению законов движения привела к такой модификации пространства и
времени, как условий измерений, что законы движения сохраняются
при любых движениях системы мер. Как же должна быть устроена для
375
этого система координат? Необходимое условие таково: время, которое
я измеряю, измеряется при движении, равно как и масштабы.
Пространство и время изменяются, они зависимы от материи. Так что
становится необходимостью заново определять понятие материи, понятие
силового поля.
Что же заключено в этих определениях относительно времени? Кан-
товское понятие времени уже не достаточно. Новое открытие — в том,
что время всегда есть время своего места, что оно зависит от того
места, где производится измерение. Измерять значит — так спрашивать
определенную меру, чтобы количество измеряемого становилось зримо,
чтобы посредством числа оно поступало в наше распоряжение и
вводилось в настоящее. Измерение есть способ придения в настоящее. Что
время - это всегда время места, становится понятным, стоит только
поразмыслить над тем, что собственное, настоящее, время - это только
самость, что время не есть что-либо совершающееся вовне, не есть
некий футляр для бытия, но есть лишь мы же сами; что совершающиеся
в мире процессы попадаются навстречу друг другу, направляясь
вовнутрь времени. Они наталкиваются на такой способ постижения, к
которому неотъемлемо принадлежит — говорить: «сейчас».
Итак, время - в этом и состоит открытие теории
относительности — даже и как время природы не может браться абсолютно,
метафизически. Со стороны физической время есть одномерное необратимое
многообразие более ранних и более поздних моментов. Любые
«сейчас» не повторимы как те же самые, у каждого свое однозначное
место. Конечное определение времени есть определение его как
времени открытости, у него нет ни начала, ни конца. Математическую
разработку на основе таких определений взял на себя Минковский,
который, приняв время за четвертую координату, развернул геометрию
в теорию относительности.
Всемирное время - это время, о котором договариваются. Если такое
измеряемое время и не настоящее, то все же Бергсон не прав со своим
утверждением, будто этим времени придается пространственность. Тут,
скорее время от будущего ведется к «сейчас». - Не случайно то, что
первое научное определение времени говорит о времени природы.
Аристотель уяснил себе, что же, собственно, измеряют, измеряя время.
Солнечные часы являют тень, постоянно меняющую свое положение - сейчас
она здесь, сейчас здесь, сейчас здесь... Итак, время, говорит
Аристотель, - это то, что подсчитывается в движении в аспекте более раннего
и более позднего36. Эта дефиниция во всем существенном удерживалась
вплоть до нового времени. И Кант тоже определяет время, исходя из
постижения природы. Теперь же все дело в том, чтобы уразуметь время как
реальность нас же самих. Несобственное бытие времени -
обыкновенное, а собственное, настоящее, время - это мы же сами: каждый сам по
себе. Отсюда проистекает трудность: как же, коль скоро всякое
существование здесь само есть время, несмотря на это может существовать
измеряемое время? Это вопрос о том, как надлежит понимать
специфический характер отдельного существования здесь в со-бытии друг с другом
во времени. - Однако для нашего вопроса о смысле историчности
довольно уже и сделанных нами ранее определений.
376
χ
Собственный, настоящий, вопрос Дильтея - он относится к смыслу
истории. Он, этот вопрос, шел в том же направлении, что и
тенденция уразумевать жизнь изнутри ее же самой - не изнутри чуждой ей
действительности. Это предполагает, что сама жизнь должна стать
зримой в своей устроенное™. Дильтей показал и подчеркнул, что
основополагающий характер таков: бытие историчным. Он и остановился
на такой констатации, и не стал спрашивать, что же это такое -
бытие историчным, и не показал, в какой мере жизнь исторична. Мы же
поставили этот вопрос на основе феноменологии и приготовили себя
к этому посредством анализа существования и его собственной,
настоящей, действительности — времени. Тем самым мы обрели, в
достаточной мере, почву для того, чтобы ставить вопрос об
историчности, и теперь обсудим его, проходя тремя этапами:
1. История и историчность.
2. Историчность и историческая наука.
3. Пример исторического познания как возможность бытия
историчным: философско-исторические исследования.
Для того чтобы приготовиться, мы возьмем определение терминов
«история» и «historia»37. У этих двух слов совершенно различное
происхождение, и тем не менее одним пользуются вместо другого. Такая
возможность - не случайна. История означает такое совершение,
какое есть мы сами, такое, где мы сами тут же. Так что есть различие
между историей и движением, например, движением звезд. Лишь в
предельно широком смысле имеется и история мира. История
формально есть определенный вид движения. Это такое совершение,
которое, как уже прошедшее, все еще здесь, о котором мы так или
иначе знаем, которое ложится на нас. В определении «прошлое,
прошедшее» выявляется момент времени.
Α ιστορία (ιστορεί ν - выведывать, подавать весть о
совершившемся) подразумевает познание совершающегося. Способ познания,
дающий возможность подавать весть о прошлом, называется
историческим. Он осуществляется как обнаружение, критика и интерпретация
источников и как изложение всего найденного в них. Почему же тем
выражением, какое означает знание о совершающемся, мы пользуемся
для обозначения самого совершающегося? Потому что это
совершающееся совершается с нами же самими. Совершающееся сохраняется в
знании о нем.
Для того чтобы научно определить историю, теперь требовалось бы
отграничить ее от самого движения. Однако сейчас нам придется
довольствоваться лишь несколькими указаниями. Мы различаем бытие и
бытие в мире. Движение же — другое понятие; оно разумеет феномен
смены, перемены, перехода от... к... Движения происходят в мире.
История же совершается со мною самим, я еемь это совершение. Предте-
кание есть движение, какое существование здесь выполняет в своем
собственном будущем. Вот такое предшествование самому себе и есть
то основополагающее движение, из которого возникает история, ибо
посредством предшествования раскрывается прошлое. Такое соверше-
377
ние и не смена, и не простое протекание, но - поскольку мы же сами
идем пред собою, мы есмь само же совершение истории. Структурно от
такового неотъемлемо то, что мы сами знаем о нас же самих38.
Историческое совершение исконно пребывает здесь в своей раскрытости. Эту
структуру историчности мы приближаем к себе тем же самым путем,
что приближаем и время. Мы есмы история, т.е. наше же собственное
прошлое. Наше будущее живет изнутри прошлого. Мы несем это
ложащееся на нас прошлое. Все это проясняется благодаря со-бытию друг с
другом, на примере поколения. Дильтей и открыл это понятие, важное
для феномена историчности. Каждый - не только он сам, но еще и свое
поколение. Поколение идет впереди каждого по отдельности, оно
забегает вперед и определяет существование отдельного. Отдельный
живет тем, что было прошлым, что тянется через настоящее и наконец
сменяется новым поколением.
Далее: прошлое может постигаться особо, т.е. та бытийная
взаимосвязь, изнутри которого живет жизнь, может раскрываться, становясь
темой особого направленного на него научного исследования. Прошлое
ближайшим образом есть здесь как настоящее, какое уже прошло.
Такое постижение прошлого всегда введено в определенные границы.
Возможность такового определена тем, как постигаем и определяем мы
наше собственное существование здесь. Так, например, абсолютное
рассмотрение истории у Шпенглера определено истолкованием культур
в их основополагающем определении символами как выражении
культурной души. В этом уже заключено определенное истолкование
феноменов, которое тем самым уже не допускает собственное, настоящее, их
определение. Сама культурная душа понимается исключительно
биологически. Такое рассмотрение у Шпенглера — эстетическое; оно
преследует не исторические взаимосвязи движений, а это просто какая-то
ботаника истории. Собственное настоящее — тоже просто одно среди
многих. - Подобные тезисы исторического истолкования, конечно,
сомнительны; сейчас же мы хотим только показать, что то, что
исследуется, заведомо пребывает внутри определенной интерпретации. Если же
должно в собственном, настоящем, смысле раскрыть прошлое в том,
что оно есть, то речь пойдет о том, чтобы удалять и отстранять любое
внесение сюда таких вопросов, какие находятся в противоречии с
соответствующей исторической ситуацией. Вот что заключено в
сказанном: фундаментальное замышление исторической науки направлено на
то, чтобы сложить и построить также и возможность обрести понятие
существования для возможности истолкования его истории. Такое
разрабатывание почвы — тоже основной участок исторического метода. В
объективной историографии по большей части делается наивное
допущение о том, что понятия, какие она подхватила и какими она
пользуется, разумеются само собою. Так, в истории философии марбургская
школа пыталась понимать и историю, пользуясь кантовскими
понятиями. В католической философии Аристотеля толковали, исходя из
Фомы Аквинского. А в споре разных школ одни ссылались на
Платона как будто бы идеалиста, другие на Аристотеля как будто бы
реалиста. Во всяком настоящем заключается опасность застроить историю -
не открыть ее, а сделать недоступной. Так что критическая задача - в
378
том, чтобы освободиться от подобных предсуждений и вновь задуматься
об условиях, какие делают возможным постижение прошлого. От
философского исследования неотъемлемо то, что оно есть критика
настоящего. В некотором изначальном раскрытии прошлое уже не только
предшествовавшее настоящее, но тут появляется возможность дать
прошлому стать независимым, так чтобы становилось зримо, что прошлое
и есть то самое, где мы обретаем собственные, настоящие, корни
нашего существования, чтобы, полные силы, перенять их в наше
собственное настоящее. Историческое сознание высвобождает прошлое для
будущего, - тогда прошлое обретает силу движения вперед и становится
продуктивным. И лишь потому, что существование здесь исторично в
себе самом и может иметь свое собственное прошлое, могут быть и
неисторичные эпохи, т.е. те, которые видят прошлое не как таковое, но
целиком расходятся в настоящем, что тоже есть только один
определенный вид бытия временным и историчным.
Историческую науку и ее возможность мы наглядно представим себе
на примере истории философии. Мы выбираем свой пример не
произвольно, а потому, что подлинная и радикальная тенденция
философии - феноменология - отмечена неисторичностью, враждебностью к
истории, потому что полагала, что может оттолкнуть от себя все
бывшее прежде как иррелевантное и может изнутри самой себя прийти к
вещам, - но только при этом застряла в традиционной постановке
вопросов. Однако от самого смысла феноменологического исследования
неотъемлемо все новое и новое осмысление самого себя — при этом все
более и более она сбрасывает с себя груз неподлинной традиции, дабы
прошлое благодаря этому становилось действенным в подлинном смысле.
Мы проводим свое рассуждение на такой основополагающей
проблеме, какую мы уже постоянно имели перед своими глазами и
только не ставили пока в явном виде, - на вопросе о бытии сущего. Вопрос
о бытии чего-либо определенного, что существует, еще не радикален,
коль скоро я еще не знаю, что же, собственно, понимаю под бытием.
Этот центральный вопрос первым поставил Платон в «Софисте».
Вместе с упадком философских исследований претерпевает упадок и сам
вопрос. Сегодня попросту говорят - бытие это самое общее понятие, а
потому оно неопределимо. Однако для понятия решающее - не
понятие, а то, как подтверждается оно самим положением дел. Итак, этот
критический фундаментальный вопрос - вопрос центральный.
Одновременно с тем это же и вопрос о пути, на каком может стать
постижимым смысл бытия. Если ставить вопрос так, то этот столь запутанный
аспект истории философии становится совсем простым. И вот что
самое замечательное во всем этом — греки интерпретировали бытие
изнутри времени: ουσία значит присутствование, настоящее. Коль скоро
бытие гласит так, то бытие в собственном смысле есть то, которое
никогда не бывает так, чтобы его не было здесь, - оно всегда здесь, это
αειόν. Традиция и восприняла это понятие бытия, чтобы с помощью его
уразумевать историческую действительность, - однако таковая не
всегда здесь. Так что становится ясно, что если некритически перенимать
греческое учение о бытии как абсолютное, то исследование тем самым
приводится в положение, когда для него вообще невозможно уразуме-
379
вать какую бы то ни было действительность как историческое
существование здесь. Доказательством того, что греческое учение о бытии
сохранилось вплоть до современности, служит Декарт. Он пользуется
томистским учением о бытии, а основные понятия такового -
исключительно греческие. Декарт забывает спросить, каков же бытийный
смысл того «я есмь», какое было найдено им. Он просто подставляет
сюда понятие бытия как наличия в мире. И это его упущение, и эта
неясность так и передавались из рук в руки вплоть даже и до
феноменологии. Ведь и Гуссерль тоже не ставит вопрос о бытии сознания. Так что
получается, что одна определенная интерпретация бытия протягивается
через всю историю философии, определяя собой всю понятийность
философии.
Итак, этим путем историко-философская постановка вопроса
вновь приводится назад — к фундаментальному вопросу о бытии. Мы
теперь обязаны ставить этот вопрос так, чтобы сохранить
преемственность с первой научной постановкой этого вопроса о бытии у
греков, - нам надлежит исследовать и ее оправданность, и ее
принципиальные границы. Если удастся вернуть научную философию к ее
настоящим, реальным темам, то это послужит залогом того, что
философское исследование вновь станет плодотворным для наук, того,
что логика - это не производимое задним числом формулирование
метода наук, но их водительница: забегая вперед, она раскрывает
фундаментальные понятия науки. Вот для всего этого и нужна
история философии - умение вновь понимать древних. Нам надлежит
настолько продвинуться вперед, чтобы вновь уметь справляться с той
постановкой вопросов, какую давали греки. - Вот эту необходимость
вновь задуматься обо всем историческом Йорк фон Вартенбург
предощущал, пожалуй, еще сильнее, чем Дильтей39; он пишет 21
августа 1889 года: «Колебания волн, вызванные тем эксцентрическим
принципом, какой четыреста лет тому назад привел к наступлению
новой эпохи, в наши дни, как кажется мне, стали до крайности
широкими и плоскими, познание в своем поступательном движении
близко к тому, чтобы снять самого себя, человек же настолько
удалился сам от себя, что уж и не попадает в свое поле зрения.
«Современный человек»15*; т.е. человек со времен Ренессанса, сложился до
того, что впору хоронить его»40. - Он же писал 11 февраля 1884 года:
«Коль скоро философствовать значит жить, то - не пугайтесь! - по
моему мнению, существует философия истории - кто бы только
написал ее!.. Поэтому впредь не будет никакого настоящего
философствования, которое не было бы исторично. Разделение
систематической философии и исторического изложения в самом существе
неверно. ...Меня страшит вид монастырской кельи, в какой заперся
современный человек, - в эпоху, когда волны жизни поднимаются
так высоко, когда знание (если вообще когда-либо) есть сила. Но
если только есть у науки почва, то это почва мира, который ушел в
прошлое, — почва античного мира»16*
Примечания издателя
,+ Husserl Ε. Logische Untersuchungen. 1.-2 Th. Halle, 1900-1901; s.: Husserl Ε.
Gesammelte Werke (Husserliana). Bd. XVIII / Hrsg. von E. Holenstein. Den Haag,
1975; Bd. XIX/1. u. 2 / Hrst. von U. Panzer. Dordrecht, Boston, London, 1984 (Text
der 1. und der 2. Aufl., im Bd, XIX erg. durch Annotationen und Beiblatter aus dem
Handexemplar).
2* Ethica: Aus den Tagebüchern Welhelm Diltheys (1854-1864). Berlin, 1915; auch in:
Der junge Dilthey: Ein Lebensbild in Briefen und Tagebüchern 1852-1870 / Zsgest. von
Clara Mischgeb. Dilthey. Leipzig, 1933.
3* Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul Yorck v. Wartenburg
1877-1897 / Hrsg. von Sigrid v.d. Schulenburg. Halle, 1923.
4* Der junge Dilthey. S. 87.
5* Vorrede // Ges. Schriften. Bd. V. S. 3.
6* Rede zum 70. Geburtstag (1903) // Ibid. S. 7-9.
7* Windelband W. Geschichte und Naturwissenschaft (Strassburger Rektoratsrede
1894) // Ders. Präludien: Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte.
2. Bd. 9. Aufl. Tübingen, 1924. S. 136-160.
8* Leben Schleiermachers. 1. Bd. Berlin, 1970; s. auch: Ges. Schriften, Bd. XIII.
9* Einleitung in die Geisteswissenschaften: Versuch einer Grundlegung für das Studium der
Gesellschaft und der Geschichte. 1. Bd. Leipzig, 1883; s. auch: Ges. Schriften, Bd. 1.
10* De principois ethicis Schleiermacheri. Diss. phil. Berlin, 1864 (s. aush: Kritik der
ethischen Prinzipien Schleiermachers // Ges. Schriften, Bd. XIV. S. 339-357); Das
hermeneutische System Schleiermachers in der Auseinandersetzung mit der älteren
protestantischen Hermeneutik (1860); s.: Ges. Schriften, Bd. XIV. S. 597-787; Die
Entstehung der Hermeneutik // Philosophische Abhandlungen, Christoph Sigwart zu
seinem 70. Geburtstag 28. Mai 1900 gewidmet. Tübingen, 1900. S. 185-202; s. auch:
Ges. Schriften, Bd. V. S. 317-331; Versuch einer Analyse des moralischen Bewusstseins
(1864) // Ges. Schriften, Bd. VI. S. 1-55; Das Erlebnis und die Dichtung. Leipzig, 1906;
16. Aufl. Göttingen, 1985; Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom
Menschen, der Gesellschaft und dem Staat (1875) // Ges. Schriften, Bd. V.S. 31-73
(Vorarbeiten ibid., Bd. XVIII. S. 17-37, 57-111 ; Auffassung und Analyse des Menschen
im 15. und 16. Jahrhundert (1890-91); s. auch: Ges. Schriften, Bd. II. S. 1-89; Das
natürliche System der Geisteswissenschaften im 17. Jahrhundert (1892-93) // Ges.
Schriften, Bd. II. S. 90-245; Beitrage zur Lösung der Frage vom Ursprung unseres
Glaubens an die Realität der Aussenwelt und seinem Recht (1890) // Ges. Schriften, Bd.
V.S. 90-138; Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie (1894) // Ges.
Schriften, Bd. V.S. 139-240; Beitrage zum Studium der Individualität (Über
vergleichende Psychologie) (1895-96) // Ges. Schriften, Bd. V.S. 241-316; Leben
Schleiermachers. 2. Bd // Ges. Schriften, Bd. XIV; Die Jugendgeschichte Hegels und
andere Abhandlungen zur Geschichte des deutschen Idealismus // Ges. Schriften, Bd. IV;
Studien zur Grundlegung der Geisteswissenschaften (1905) // Ges. Schriften, Bd. VII.
S. 3-75; Das Wesen der Philosophie (1907) // Ges. Schriften, Bd. V.S. 339-416; Der
Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften (1910) // Ges. Schriften,
Bd. VILS. 79-188.
"* Wundt W. Grundzüge der physiologischen Psychologie. Leipzig, 1874.
12* Rickert H. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen BegrifTsbildung. Tübingen,
Leipzig, 1902.
13* Briefwechsel Dlthey - Jorck, S. 185.
14* Husserl Ε. Einleitung // Logische Untersuchungen, Bd. 2.
15* Briefwechsel Dilthey - Jorch. S. 83.
,6* Ibid. S. 251.
381
Послесловие издателя
Первое упоминание о кассельских докладах Мартина Хайдеггера, прочитанных
им весною 1925 г., - относится к 1986-1987 годам, когда в томе 4 «Ежегодника
Дильтея» была помещена статья1, содержащая как развернутое описание всех
внешних обстоятельств, связанны с этой серией докладов ( о которых до этого
не было никаких сведений), так и предметный анализ связей этих докладов со
всем философским развитием Хайдеггера до выхода в свет его «Бытия и
времени»; все это можно сейчас лишь кратко резюмировать.
Хайдеггер делал свои доклады в Кургессенском обществе искусства и науки,
деятельность которого формировалась прежде всего тогдашним директором «Фри-
дерицианума» Иоганнесом Белау (1861-1941). По приглашению Белау Хайдеггер
выступал со своими докладами в течение пяти вечером (между 16 и 21 апреля
1925 г.). Доклады каждый раз продолжались около двух часов с небольшой
паузой; отсюда и десять разделов их конспекта.
Запись докладов принадлежит перу Вальтера Брекера, который уже в те годы
принадлежал к числу ближайших учеников Хайдеггера. Брекер стенографировал
доклады и непосредственно после этого расшифровывал свою стенограмму.
Впоследствии он передал свою рукопись в распоряжение Герберта Маркузе,
который перепечатал ее на машинке. Рукописный оригинал впоследствии был
утерян.
Один из экземпляров машинописи позднее оказался у Отто Фридриха Больно-
ва, который в начале 1980-х годов и передал его, вместе с записями еще
четырех лекционных курсов Хайдеггера, в Дильтеевский архив Бохумского
университета. С тех пор был найден первый экземпляр машинописи, хранящийся в
архиве Маркузе в Городской и университетской библиотеке Франкфурта-на-
Майне. О хайдеггеровских материалах, хранящихся в этом архиве, теперь
можно прочитать в сообщении Т. Регели, который описывает и экземпляр
машинописи докладов2. В основу нашей публикации положен бохумский экземпляр;
учтены и немногочисленные поправки, внесенные Г. Маркузе в свой экземпляр.
Издатель весьма обязан д-ру Т. Регели за помощь при сравнении обоих
экземпляров.
Текст написан на 31 листе формата 33 χ 21 см, из которых 29 напечатан с
минимальным интервалом. Слова «в наши дни» в заглавии добавлены издателем,
поскольку они встречаются во всех объявлениях о предстоящих докладах,
публиковавшихся в кассельской печати, а также и в письме Хайдеггера Белау от 7
сентября 1924 г.; в записи докладов они, очевидно, были опущены.
При подготовке текста к печати опечатки и неверные даты были исправлены,
устранены сокращенные написания, воспроизведены (курсивом)
подчеркивания (за исключением подчеркиваний в бохумском экземпляре, сделанных, по-
видимому, рукой одного из читателей машинописи). Добавлены
библиографические примечания.
В начале 80-х годов, когда всплыл этот текст, выяснилось, что кроме
супружеской пары Брекеров - Кете Брекер-Ольтманс и Вальтер Брекер - никто уже не
помнит и не знает о кассельских докладах и что о них нет никаких сведений
даже у издателей полного собрания сочинений Хайдеггера и хранителей его
рукописного наследия. По сообщению проф. Фридриха Вильгельма фон Германа
(Фрейбург) в рукописном наследии Хайдеггера не сохранилось никаких
материалов (например, заметок или конспектов), которые могли бы прямо
относиться к этим докладам. Поэтому уже в названной выше статье высказывалось
предположение о том, что существует тесная связь между кассельскими докладами,
неопубликованной своевременно работой «Понятие времени» и курсом лекций
382
«Пролегомены к истории понятия времени», читавшимся в летний семестр
1925 г. и ныне напечатанными в томе 20 Собрания сочинений Хайдеггера3.
Ситуация, в какой были прочитаны кассельские доклады, раскрыта во «Введении»
издателя этого тома, где прежде всего указано на то, что именно в то время
весомость философии Дильтея в глазах Хайдеггера решительно менялась. Как в
кассельских докладах, так и в работе «Понятие времени», Дильтей служит,
скорее, поводом для высказывания существенных идей, относящихся к «Бытию и
времени», книгой, над которой Хайдеггер тогда работал.
Издатель благодарен д-ру Герману Хайдеггеру за разрешение опубликовать текст
докладов. Глубокая благодарность Вальтеру Брекеру, к сожалению, уже
опоздала: Вальтер Брекер скончался *3 августа 1992 года в Киле. Издатель посвящает эту
первую публикацию сохраненных благодаря нему докладов его памяти.
1 Rodi F. Die Bedeutung Dilteys für die Konzeption von «Sein und Zeit»: Zum Imfeid
von Heideggers Kesseler Vortragen (1825) // Diltey-Jahrbuch für Philosophie und
Geschichte der Geisteswissenshaften, Bd. 4 Göttingen, 1987. S. 161—177. Auch in:
Rodi F. Erkenntnis der Erkannten: Zur Hermeneutik des 19. und 20. Jahrhunderts.
Frankfurt a. M., 1990. S. 102-112.
2 Regebly Tb. Übersicht über die «Heideggeriana» im Herbert-Marcuse-Archiv der
Stadt-und Univcrsitatsbibliotek in Frankfurt a. M. // Heidegger Studies. Vol. 7. Berlin,
1991. P. 179-209.
3 Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 20. Prologomena zur Geschichte der Zeitbegriffs /
Hrsg. von Petra Jaeger. 23. Aufl. Frankfurt a. M., 1988.
Фритьоф Роди
Комментарии
Кассельские доклады M. Хайдеггера переведены, с любезного разрешения проф.
Фритьофа Роди (Бохум), по тексту первой публикации: Dilthey-Jahrbuch für
Philosophie und Geschichte der Geistcswissenhaftcn / Hrsg. von Frithjof Rodi. Band
8/1992-1993. Göttingen, 1993. S. 143-180.
При этом в текст, помимо исправления очевидных опечаток, внесены
следующие смысловые поправки: с. 145 вместо an und Auseinendersetzung
предположительно читаем: in der Ausseinandersetzung; с. 157 вместо beweegt со знаком
вопроса читаем по смыслу глагол типа beweisen или ausweisen; с. 171 вместо die den
Zugang zu ihr bestimmen читаем bestimmt, как относящееся к Betrachtung.
В немногочисленных случаях в переводе для ясности добавлены слова в
квадратных скобках, однако в целом стиль текста связан с устным характером речи со
свойственными таковому пропусками, пробелами, а также и повторами, что
сохранено по мере возможности и в переводе.
1 ...пребывают в великой революции.. — точнее: стоят — слово, которое затем
появляется у Хайдеггера в различных принципиальных контекстах (стояние к чему;
стояние перед чем), выявляя свою особо нагруженную роль в пространственно-
понятийном мире философии Хайдеггера, - такая пространственность, в какую
вводятся многие понятия философии, в позднейших сочинениях Хайдеггера
складывается гораздо заметнее, но, впрочем, так и не достраивается до конца;
сама же она Хайдеггером почти никогда не «тематизируется». Ср. сходную
формулу: «Все громадное пребывает [или стоит] в буре...» в завершение знаменитой
ректорской речи М. Хайдеггера 1933 г., — слова, которые служат в этом месте
переводом отрывка фразы из «Государства» Платона (τά<...>μεγάλα πανταεπί
τφαλή) тогда как, скорее, слова Платона (R.P. 497 d. 9) можно было бы считать,
383
несколько смелым переводом устойчивой формулы Хайдеггера (см.: Heidegger M.
Die Selbstbehauptung der deutschen Universität. Breslau, 1933. S. 22; Heidegger M. Die
Selbstbehauptung der deutschen Universität. Das Rektorat 1933/34/Hrsg. von Hermann
Heidegger. Frankfurt a. Main, 1983. S. 19).
2 Мировоззрение (Weltanschauung) - слово это в немецком языке новое (впервые
употреблено Кантом в «Критике способности суждения», 1790) и пережившее в
XX в. бурную и полную драматизма и парадоксальности историю; ко времени
докладов 1925 г. оно, однако, прошло едва ли не меньшую часть своего
исторического пути, войдя (да и то лишь отчасти) в академическое словоупотребление;
так А. Тренделенбург, учитель Франца Брентано (относившегося к самым
истокам феноменологии), писал (1840) об «органическом мировоззрении»
Аристотеля; оно же в числе основных терминов у Дильтея.
3 способ обращения с нею (Behandlungsart) - выражение, свидетельствующее о
желании Хайдеггера избежать в этом месте слов типа «методология»; впрочем, в
докладах 1925 г. и еще в «Бытии и времени» (1927) Хайдеггер достаточно
эклектично соединял традиционно-философскую, латинизированную (и в
феноменологии еще умноженную и усугубленную) терминологию с поисками способов
«простого» называния вещей, - в чем впоследствии видел великое преимущество
и особую роль греческого языка (см.: Heidegger M. Was ist das — die Philosophie?
4. Aufl. Pfullingen, 1966. S. 12).
4 изнутри знания (aus dem Wissem) - перевод заведомо буквалистский, хотя
синтаксис фразы самый обычный для немецкого языка (кантовское «aus der Pflicht»
обращается иногда в переводе в — «из чувства долга», после чего в предметном
указателе возникает статья «чувство»!), — однако само выражение
подразумевает пространственные отношения, которые у Хайдеггера — чем дальше, тем
больше — актуализируются: речь идет о все более напряженном и как бы заряженном
огромной энергией почерпании изнутри чего-то (о чем бы ни говорилось).
Точно так же актуализируется и движение в обратном направлении - внутрь, или
вовнутрь, чего-либо.
5 Всеобщая история, т.е. historia universalis, которая от позднейшей, привычной
нам теперь «всемирной», или «мировой», «истории» отличается именно тем, что
завоеванная позднее историчность присутствует в ней поначалу лишь
латентно, - «универсальная история» вместе с «естественной историей» (historia
naturalis) относится к общей совокупности вообще всех сведений о мире или же
вообще к миру как источнику или сумме сведений, в полном согласии со
смыслом слова historia. Пока это слово еще не приведено в специфическое движение,
весьма глубоко изменившее его смысл, а мир остается «театром», в начале нового
времени, «historia означает <...> лишь широкое поле ученой традиции»,
«опосредуемое текстами пространство опыта», требующее особого умения читать его
(Zedelmaier H. Bibliotheca universalis und Bibliotheca selecta: Das Problem der
Ordnung des gelehrten Wissens in der frühen Neuzeit. Köln, Weimar, Berlin, Wien,
1992. S. 227).
6 Хайдеггер называет здесь несколько имен, во внутренней связи которых
необходимо разобраться. Видимо, за исключением Фридриха Августа Вольфа
(1759-1824), своими «Пролегоменами к Гомеру» (1794) знаменовавшему новую
эпоху в изучении раннегреческого эпоса, все остальные деятели немецкой
культуры могут быть отнесены к исторической школе XIX в. в самом широком
смысле слова: «Франц Бопп (1791-1867; «О системе спряжения...», 1816), как
и Якоб Гримм (1795-1863), стоял у истоков нового
сравнительно-исторического языкознания (см. об этом, в частности: Понимание историзма и развития в
языкознании первой половины XIX века / Под ред. A.B. Десницкой. Л., 1984),
тогда как историки Бартольд Георг Нибур (1776—1831; «Римская история»,
1811-1832) и Леопольд фон Ранке (1795-1886), формулировавший свои
методологические принципы в 1820-х годах и обозначивший уже переход к пози-
384
тивизму (поэтому относящийся, собственно, к следующему после
исторической школы поколению — см., однако, раздел «Эпоха Ранке и Нибура» в кн.:
Jaeger F., Rusen J. Geschichte des Historismus. München, 1992. S. 81-86),
переносят новые требования исторического сознания на заново понятую историю,
Фридрих Карл фон Савиньи (1779-1861) заявляет, причем очень рано
(«Право собственности», 1803, и особенно «О призвании нашего времени к
законодательству и правоведению», 1814) и очень впечатляюще (с сильным
воздействием на братьев - Якоба и Вильгельма Гриммов), об этих требованиях в
области права, Фридрих Даниэль Эрнст Шлейермахер (1768—1834) выступает как
основоположник новой, органически понимаемой герменевтики и как бого-
слов-герменевтик оказывает сильное влияние на Фердинанда Баура (1792-
1860), своего последователя, перестраивавшего библейскую критику в
направлении историзма. — Кстати говоря, это место записей, как и многие другие
обстоятельства, исключают мысль о стенографировании докладов Хайдеггера (ср.
послесловие Ф. Роди), - едва ли докладчик попросту высыпал перед
слушателями горсти фамилий без малейшего комментирования их, - речь, по всей
видимости, может идти об обычном конспектировании произносимого текста
(как бы технически оно ни осуществлялось).
7 Работа (Arbeit) - это слово (см. само заглавие докладов) нагружено здесь для
Хайдеггера особым смыслом (к счастью, доступным и для русского читателя):
работа методично-последовательна, заведомо нескончаема и, как внутренний
долг, беззаветна (почему и соответствует ей борьба, тоже беззаветная и
нескончаемая), чем она и отличается как от тяжкого труда, возлагаемого на
человека извне и ему чуждого, так и от создания (в качестве главной и
первоочередной цели) трудов (Werke), всегда законченных, завершенных и уже
отстраненных от автора. Кстати, то, что Дильтей в изложении Хайдеггера, из начатых
исследований ничего не заканчивает, если это и не прямой довод в пользу
правильности пролагаемого им пути, хотя бы косвенно подчеркивает суть работы.
Позднее высказывавшееся Хайдеггером убеждение - всякий труд человека есть
труд на земле (Erde) и работа с землей: «<...> место философской работы <...>
прямо среди работы крестьян. <...> моя работа - того же самого вида (die
philosophische Arbeit <...> gehört mitten hinein in die Arbeit der Bauern <...> meine
Arbeit [ist] von derselben Art». (Schopferiche Landschaft: Warum bleiben wir in der
Provinz [1933] // Heidegger M'. Denkerfahtungen 1910—1976 / Hrsg. von Hermann
Heidegger. Frankfurt a. M., 1983. S. 11) - находит свое впечатляющее выражение
и в кассельских докладах [раздел X]: «<...> разрабатывание почвы — тоже
основной участок исторического метода» - положение, отмеченное едва ли не
осознанной дву-смысленностью (Г.-Г. Гадамер), потому что почва здесь — и
основание (или основания) науки, и земля, Grundstück- и важный раздел,
участок науки, и земельный участок, и одно просматривается через другое: сквозь
научную работу светится работа на земле «в поте лица твоего» (Быт. 3, 19).
Философская терминология (основа, основание, основополагание и
фундирование, «почва», «корни», «поле», «граница» и т.д.), включая вполне
устоявшуюся и формальную, начинает у Хайдеггера переосмысляться через свое
чувственно-пространственное структурирование (иногда незаметно и для самого
философа).
8 Хайдегтер называет имена берлинских профессоров - литературоведа
Вильгельма Шерера (1841-1886); Германа Гримма (1828-1901), племянника В. Гримма,
писателя и искусствоведа, автора биографий Гёте и Микеланджело; историка
Бернхарда Эрдмансдёрфера (1833-1901); филолога-классика Германа Узенера
(1834-1905).
9 Жизнь Иисуса — здесь сам «основополагающий факт» христианства определен
через самоуразумение немецкой (прежде всего протестантской) теологии XIX в.,
начиная с «Жизни Иисуса» (2 тт., 1835-1836) Давида Фридриха Штрауса (1808—
385
1874), где в центре внимания находилась реконструкция реальной жизни Иисуса
(как протекала она «на самом деле» - потому что доверие к евангельским
рассказам как таковым никак уже здесь не допускалось); все это направление
новозаветных штудий было закреплено и терминологически: Leben-Jesu-Forschung,
и в начале XX в. Альберт Швейцер уже подводил итоги, существенно меняя
акценты исследований: Schweitzer А. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Tübingen,
1913 (6. Aufl. Tübingen, 1951).
10 См. последнее издание «Герменевтики» Шлейермахера: Scheiermacher F.D.E.
Hermeneutik und Kritik. Mit einem Anhang sprachphilosophischer Texte
Schleiermachers / Hrsg. von Manfred Frank. Frankrurt а. M., 1977.
11 Имеется в виду «школа» выдающегося немецкого поэта Стефана Георге (1868-
1933), собравшего вокруг себя значительную группу видных немецких ученых, -
литературоведов, историков и т.д. - и помимо этого в целом оказавшего
колоссальное влияние на немецкую культуру XX в., на «науки о духе». Сам Хайдеггер
был естественно затронут этим воздействием, и его поэтические пристрастия
почти полностью определились через установки «круга», или «школы» Георге, - это
и поэзия самого Георге, и, главное, поэзия Фридриха Гёльдерлина (1770-1843),
который на рубеже XIX-XX веков был впервые понят в его величии именно
Георге и его учениками. См. также: Winkler M. George-Kreis. Stuttgart, 1972.
12 Франц Брентано (1838-1917). См.: Brentano F. Psychologie vom empirischen
Standpunkt. 1. Band. Leipzig, 1874; Nachdruck: Hamburg, 1973 (Philos. Bibl., Bd.
192); Id. Von der Klassifikation der psychischen Phänomene. Neue <...> Ausgabe der
betreffenden Kapitel der Psychologie vom empirischen Standpunkt. Leipzig, 1911;
Nachdruck: Hamburg, 1971 (Philos. Bibl., Bd. 193).
13 Адольф Тренделенбург (1802-1872), с 1837 г. профессор в Берлине, автор
«Логических исследований» (Logische Untersuchungen. Berlin, 1840; 3. Aufl. Leipzig,
1870, рус. пер. - M., 1868). В частности, он много занимался и Аристотелем.
14 См. работы Ф. Брентано об Аристотеле: Brentano F. Aristoteles und seine
Weltanschauung. Leipzig, 1911; Nachdruck: Hamburg, 1977 (Philos. Bibl., Bd. 303);
Id. Aristoteles' Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes. Leipzig, 1911;
Nachdruck: Hamburg, 1980 (Philos. Bibl., Bd. 304); Id. Über Aristoteles. Hamburg,
1986 (Philos. Bibl., Bd. 378). См. более полно также в: Мееровский Б.В.,
Бирюков Б.В. Ф. Брентано - историк философии Аристотеля //
Историко-философский ежегодник '91. М., 1991. С. 146-152.
15 нечто и (ниже) отношение к самой вещи — взаимопонимание немецкой и
русской философской мысли серьезно затрудняется несовпадением семантических
полей таких элементарных слов, как вещь, Sache и Ding. Объем двух последних
слов, правда, пересекается, однако по настоящему «вещественен» только Ding.
Zur Sache значит и «к самой сути дела», и к тому «нечто», каким занята
определенная научная дисциплина, но в первую очередь не значит - к
«вещественности», или «вещности» тех «вещей», которыми она занята, хотя затем (во вторую
очередь) «вещь» и «вещность» могут знаменовать «осязаемый», «схватываемый»
аспект того, чем дисциплина занята.
16 к самим вещам - Zu den Sachen selbst. Та же ситуация, какая обрисована в
предыдущем примечании: к самим «вещам» здесь значит - к сути дела, или, иначе,
именно к тому, что имеется в виду. Философствовать «изнутри самих вещей»
значит тогда — «изнутри того, что имеется в виду, так как это имеющееся в виду
имеет само по себе в виду себя самое», причем, как можно предположить, мысль
философа, стремящегося зафиксировать нечто «самое» простое, еще до всякого
«герменевтического круга» вынуждена попасть в круг взаимных определений
одного «простого» через другое «простое» же.
17 Мы уже отличили бытие от сущего. - В записи доклада такого раздела явно
недостает, тогда как эта проблема и составляла главный предмет размышлений
Хайдеггера.
386
18 «Категориальному созерцанию» посвящен § 6 «Пролегомен к истории
понятия времени» (1925); см.: «категориальное созерцание» в феноменологическом
понимании есть «попросту схватывание телесно данного, как оно является
[каким оно себя являет] (schlictes Erfassen von leibhaftig Gegebenem, wie es sich
zeigt»). «Открытие категориального созерцания есть подтверждение того, во-
первых, что имеется такое простое схватывание категориального, таких
данностей в сущем, которые традиционно именовали категориями <...> Во-вторых
же, это прежде всего есть подтверждение того, что такое схватывание
вкладывается во всякое что ни на есть обыденное восприятие и всякий опыт»
(Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 20: Prolegomena zur Geschichte des ZeitbegrifTs.
2. Aufl. / Hrsg. von Petra Jaeger. Frankfurt a. M., 1988. S. 64. В дальнейшем
цитируется: GA 20).
19 в поблекшем виде — в подлиннике verblasst: либо испорченное в записи слово,
либо чрезмерно сокращенная запись, не дающая явного смысла.
20 собственный, настоящий - слово «настоящий» в некоторых случаях в
переводе добавлено (причем обязательно в запятых) только для ясности - чтобы
безусловно отличить его от слова «собственный» в значении «чей-то собственный».
21 что говорит-ся и т.д. - разумеется, это то самое обращаемое в субстантив man,
которому не прибавляется ясности (что уже многократно засвидетельствовано),
когда его оставляют без перевода и говорят, например, о «сфере хайдегтеровского
Man». Когда так говорят, то это и есть «сфера Man». Вот почему необходимо как-
то переводить и это - хотя бы беспомощно и хромо.
22 всеоткрытость — Öffentlichkeit. Вновь непереводимое, в сущности, слово,
какое имеет внутреннее отношение к «общественности», и «публичности», и к
«гласности» и, быть может, приводит в волнение сразу слишком много смыслов.
См.: «Бытие и время» (далее: БиВр) § 80 (S. 418) (все издания книги
идентичны): «die in der Zeitmessung veröffentlichte Zeit», т.е. время, «опубликованное /
ставшее публичным / общедоступным / общеизвестным / всеобщим через
посредство его измерения».
"Животное, имеющее дар речи (или: обладающее речью, логосом). Ср. БиВр
§34.
24 Логос значит делать явным.
25 О болтовне, или говорении - см. БиВр § 35; GA 20 28d, 29а.
26 О заботе - см. БиВ𠧧 39-43 и далее; GA 20 § 31.
27Тема, развиваемая в БиВр § 46 и далее, тоже в связи со смертью; GA 20 § 36.
28 еще-не-бытие — ein Noch-nicht-Sein. Это понятие Хайдеггера удивительным
образом совпадает с центральным мотивом леворадикального мыслителя Эрнста
Блоха (1885-1977) - от его «Духа Утопии» («Geist der Utopie», 1918/1923) до
«Принципа Надежды» («Das Prinzip der Hoffnung», Berlin, 1954-1955).
29 Смерть — см. БиВ𠧧 47-53, где все сказанное в кассельских докладах
получает дальнейшее развитие и уточнение. GA 20 § 33-34.
30 Совесть (и вина) - см. БиВ𠧧 57-58.
31 См. Гёте, Максимы и рефлексии (N 241 Hecker; 1824); «Действующий всегда
бессовестен; совестлив лишь созерцающий» (Goethe. Berliner Ausgabe. Bd. 18.
Berlin, Weimar, 1972. S. 509).
32 Время — из текстов Хайдеггера, предшествующих БиВр, пока остается
неопубликованной работа 1924 г. («О понятии времени»), которая должна войти в т. 64
Собрания сочинений, как и одноименный марбургский доклад 1924 г., который
уже опубликован отдельно: Heidegger M. Der Begriff der Zeit. Vortrag vor der
Marburger Theologenschaft Juli 1924 / Hrsg. von Hartmut Tietjen. Tübingen, 1989.
Первая работа Хайдеггера о времени и истории относилась к 1916 г.: Heidegger M.
Der Zeitbegriff in der Geschichtswissenschaft // Zeitschrift für Philosophie und
philosophische Kritik. Bd. 161. Leipzig, 1916. S. 173-188, Heidegger M. Frühe
Schriften / Hrsg. von F.-W. von Herrmann. Frankfurt F. M., 1972. S. 355-375. См.
387
также: Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 20: Prolegomena zur Geschichte des
Zeitbegriffs (Sommersemester 1925) / Hrsg. von P. Jaeger. 2. Aufl. Frankfurt a. M,
1988, а также: Heidegger M. History of the Concept of Time / Translated by Theodore
Kisiel. Bloomington, 1985.
33 генезис часов - в БиВр § 80 Хайдегтер в соответствующем месте делает
отсылку на книгу Германа Дильса (с главой об «античных часах»): Diels H. Antike
Technik. 2. Aufl. 1920.
34 См. Tim. 37 d-e: «<...> и устрояя небо, [бог] творит — тогда как вечность
остается в единице - некое идущее по порядку числа подобие (εικόνα), каковому мы
и дали имя «время» (6ν δή χρόνου ωνομακαμεν). Ведь поскольку дней, ночей,
месяцев и годов не было, пока не стало небо, он тогда вместе с небом устроил их
рождение, и это все части времени, и то, что было, и то, что будет, суть ставшие
виды (ειση) времени <...>»; 38 Ь: «Время <...> стало вместе с небом <...> (χρόνος
δ'οΰν μετ'ονανοΰ χέχονεν)» Ср. БиВр § 81 (S. 423). Seeck GA. Zeit als Zahl bei
Aristoteles. - Rheinisches Museum, 1987. N.F.Bd. 130. S. 107-124.
35 Франц Клейн (1849-1925), автор «Vergleichende Betrachtungen über neuere
geomötriche Forschungen» (Erlangen, 1872), о его значении в разработке
неевклидовой геометрии см., например: Рейхенбах Г. Философия пространства и
времени. М., 1985. С. 21-24.
36 См. Phys. IV 11, 219 b 1-3. Ср. БиВр § 81 (S. 421), где Хайдеггер приводит это
место в оригинале, несколько меняя свой перевод, примерно такой: «Время есть
посчитываемое в движении, встречающемся в горизонте того, что раньше, и
того, что позже», к чему замечает: «Сколь бы непривычной ни представлялась
эта дефиниция на первый взгляд, она столь же и «само собою разумеется» и
почерпнута в подлинности, если только определить
экзистенциально-онтологический горизонт, из какого заимствовал его Аристотель. <...> Его интерпретация
времени движется в направлении «естественного» разумения бытия». Ср. также:
Heidegger M. Der Begriff der Zeit. S. 8.
37 «история» и «historian. — В оригинале: Geschichte und Histotie. В XVII—XIX
веках оба слова, развиваясь, переплетаются своими смыслами (аналогичный
случай: слова sensus/sens/sense и Sinn). См. к истории «истории» статьи:
«Geschichte, Historie» (G. Scholtz) и примыкающие к ним в: Historisches
Wörterbuch der Philosophie. Bd. 3. Basel, 1974; Koselleck R. ua. Geschichte //
Historisches Lexicon zur politischsozialen Sprache in Deutschland. Bd. 2. Stuttgart,
1975.
38 ...неотъемлемо то, что мы знаем о нас же самих - dass wir um uns selbst wissen
(надо обратить внимание: не «то, что», а «то, что» мы знаем [ведаем] о себе
самих). В этом, как и во многих других местах текста, «знание о чем-либо» и «знать
о чем-либо», wissen um, существенно отличается от «знания чего-либо»: знание
о не столько предполагает, что мы знаем, что такое есть нечто, сколько то, что
мы 1) знаем о его существовании, наличии, 2) о том, что у этого «нечто» есть
своя суть и 3) что такая «суть», во всяком случае, может претендовать на
положенное ей, на свое (даже и в том случае, если мы не знаем, в чем эта суть);
далее, знание о есть знание за чем-то чего-либо и в этом отношении есть также и
знание чего-либо. Это, скорее, косвенное знание-признание, нежели прямое
знание (которому и соответствует глагол «знать» с прямым дополнением); знание
сдержанное или даже более смиренное, готовое признавать за всем его права.
Такое знание есть, скорее, ведение = знание + мудрость (признавания себя не
знающим). Такие мотивы развиваются в дальнейшем у Хайдеггера.
39 О Дильтее и Йорке фон Вартенбурге - см. БиВр § 77. Граф Йорк фон Вартен-
бург (1835-1897), философия которого до 1923 г. была фактически неизвестна;
издание переписки В. Дильтея и Иорка фон Вартенбурга (см. примеч.)
произвело столь колоссальное впечатление, что у современника (Г. Небель) могло
складываться впечатление, будто Дильтей - «это всего лишь не слишком удав-
388
шийся орнамент вокруг насыщенной субстанции его друга Йорка» / цит. по: Rodi
F. Die Bedeutung Diltheys für die Konzeption von «Sein und Zeit». Zum Umfeld von
Heideggers Kasseler Vorträgen (1925) // Dilthey-Jahrbuch Bd. 4 / 1986-87. Göttingen,
1987. S. 162). Восприятие Хайдеггера не слишком далеко от такого взгляда, и
Дильтей служит ему путем к Йорку, т.е. к усвоению взгляда на сугубую
историчность всего существующего.
40 С этим ярким выражением Йорка фон Вартенбурга: современный человек
fertig zum Begrabenwerden — он уже до такой степени «готов» — перекликаются
рассуждения самого Хайдеггера в разделе VII докладов; fertig werden заключает
в себе перфектное значение - достигнута такая степень совершенства, что
совершенное вынуждено, как уже законченное, окончившееся, до конца
сложившееся, отойти в прошлое, и, таким образом, это выражение можно числить среди
слов, которые самим языком задуманы как временные, в аспекте времени. С
такой перфектностью, таящейся или дремлющей внутри вполне «спокойного» или
простого слова fertig, можно сравнить разве что эмфатическое употребление
перфекта в таких немецких выражениях, как — du bist gewesen! — что по-русски
передается, и то ослабленно, только будущим временем — «Я тебя убью!», «Убью на
месте!» - или доходящую до крайности выразительность греческого перфекта,
когда живое словно на глазах у нас отрывается от настоящего и обрекается
прошлому в его безвозвратности:
...τέδνηκε fleioi/ Ιοκάστης κάρα
(Софокл, Царь Эдип, ст. 1235 Deve; по-русски в пер. Ф.Ф. Зелинского:
...погибла Великая царица Иокаста!
- цит. по изданию: Софокл. Драмы. М, 1990. С. 49; в переводе, очевидно,
найден наилучший для русского языка вариант — разделить фразу между стихами и
положить после глагола значительную паузу), — лапидарности этого стиха
весьма небезуспешно подражал Ж. Даниэлу, автор латинского текста «Царя Эдипа»
И.Ф. Стравинского, путем отказа от глагола вообще:
Divum Jocastae caput mortuum!
Таков здесь до крайности лаконичный и деловой, зато неоднократно
повторенный доклад Вестника - «Божественная Иокасты глава мертвая!» — схватывающий
непоправимость, рассекающую жизнь и безвозвратно уходящее в прошлое. -
Что же бы значило тогда, при такой заложенной в слово fertig перфектности,
вменяемое всякому в обязанность, согласно разделу VII кассельских докладов,
«трудное» - Fertig = werden mit dem Tod in der Gegewart - т.е. совладать или
справиться со смертью в настоящем? Видимо, встать (ср. о «стоянии» примеч.) со
смертью в те правильные временные отношения, какие предопределены
человеческим существованием в его существенности: если бы «я» справился со
смертью «в настоящем» (in der Gegenwart), то я знал бы о ней как о моем будущем или,
лучше, как о мне=будущем (о себе=будущем), но также и как о том, что всякий
миг (безвозвратно и непоправимо) отрывается от моего настоящего, чтобы
уходить в прошлое; итак, смерть — за которую взялись по-настоящему, чтобы
совладать и справиться с ней (если уж не победить и не попрать ее) - это
одновременно и настоящее, и будущее, и прошлое (перфект), причем в структурной
взаимосвязи: это время будущее через настоящее в уже прошлом.
Философия Мартина Хайдеггера
и искусство
I
Первая треть XX в. - период определенного перелома в традиции
буржуазного искусства, который выразился в новом истолковании
действительности в искусстве и в новом истолковании произведения
искусства. Перелом внутри традиции искусства был одновременно и
переломом в традиции эстетической мысли.
Развитие философии и развитие искусства идут в начале века
параллельными путями; тем не менее невозможно не видеть, что в философии
и в искусстве происходит известное сближение конечных целей, в каких
бы конкретных формах это ни происходило. Философия может
стремиться к постижению последней истины, последней сущности бытия, но
такую же цель может ставить перед собой и искусство. Искусство может
отыскивать такой «образ», который был символическим* выражением
действительности вообще, но и философия может поставить перед
собой цель выразить бытие в некотором «образе», создать такой
символический язык, на котором выразит себя сама действительность. На таком
пути искусство может пытаться зайти за слой «явлений», переходя к
самой сущности вещей, вычерчивая образ того, что есть вещь «на самом
деле». С другой стороны, философия может пытаться показать то, что
есть на самом деле, указать на сущностное бытие.
Ни искусство, ни философия не довольны тут своими
«традиционными» средствами, но они идут, так сказать внутренним путем. Если
философии стало ясно, что существует некий конечный смысл бытия, то
всякое выражение этого смысла будет лишь внешним средством доведения
его до сознания. Поэтому философии не обязательно придерживаться
традиционного пути, не обязательно даже передавать этот смысл в
каких-то понятиях, категориях и т.д. - важно только, чтобы этот конечный
смысл стал наиболее ясным. Но если и искусство убеждено, что есть этот
конечный смысл действительности, то, выражая его, не обязательно
идти традиционным путем: для живописи воспроизведение реальности
оказывается теперь только средством и чем-то внешним; ясно, что
цветы, горы и люди на картине такие же, как в самой действительности, а
потому в них нет еще и адекватного выражения смысла, которого ищет
живопись. Тогда можно рисовать свое «представление» смысла и можно
в принципе делать это интуитивно, следуя наитию, а можно выработать
систему знаков и приемов, в которых смысл будет получать свое
конструктивно-предопределенное выражение. Только одно, можно сказать,
недопустимо - полагать, что воспроизведение самой действительности
в ее «явлении» может давать этот искомый «смысл». «Смысл» должен
быть выражен, и, стало быть, должен быть «язык» выражения смысла —
для искусства это «язык искусства», и как таковой, в своей специфике он
390
не должен смешиваться с языком, на котором сама действительность
выговаривает свой смысл. Тогда, очевидно, в искусстве происходит
известное распадение языка и смысла. То, что есть смысл
действительности, остается за пределами живописного произведения, как и за
пределами явлений самой действительности; тогда искусство указывает на некий
смысл бытия и произведение искусства есть своего рода аллегория. Но
в то же время искусство, обретшее свою специфику и настаивающее на
ней, все замкнуто в себе самом; то, что есть на полотне, и есть
произведение искусства, тут его начало и конец, и от зрителя требуется
специфическое умение понимать это произведение «в нем самом», не
сопоставляя его ни с чем внешним. Всякий смысл произведения искусства как
таковой убран внутрь его самого и совпадает с ним самим, с его
материальным явлением.
Разумеется, это более или менее отвлеченные вещи. Но они
вполне конкретно воплощаются в истории западноевропейского искусства,
эстетики и философии XX в. Именно в произведении искусства с его
предельно широкими возможностями и его судьбой для буржуазной
философии заключены разные способы истолкования
действительности. Произведение искусства может оказываться образцом для
философской мысли. Цели произведения искусства и цели философии могут
совпадать: философия может стремиться к истине, но произведение
искусства уже заключает истину внутри себя. Даже если эта истина -
иллюзия и пустота, ничто, то она тем не менее уже «оформлена»,
построена, сконструирована в произведении искусства, и, таким образом,
получается, что произведение искусства дает показательный способ
построения, а вместе с тем и схватывания, постижения истины.
Произведение искусства, форма его существования, его судьбы могут
оказываться для философии живым примером постижения истины бытия.
Все это означает глубокое переосмысление самой философии.
Произведение искусства может оказываться не только чистой
конструкцией, вещью, образом, символом — целая цепочка радикальных
отождествлений, - но произведение искусства оказывается еще и
зданием философской мысли. Не приходится и говорить о том, что и
сущность произведения искусства при этом глубоко
переосмысляется. Оно становится всем и ничем, но между этими крайностями
разыгрываются существенные для современной философии и для
современного искусства процессы. Произведение искусства с наглядностью,
вещностью его «облика» («гештальт») становится для философии
мерой отношения к действительности. Разумеется, эта мера может
получать в философии самое разное истолкование. Наиболее
существенное при этом — наделяется ли произведение искусства эстетическим
содержанием, или же как модель отношения к действительности
вообще, как образ «истины» оно является выражением всего жизненного
вообще. В любом случае для нас здесь речь идет о судьбе
эстетического, о его перерождении и о перерождении философии.
Действительность в такой философии - это не непосредственная
действительность жизни в истории, и философ имеет тут дело с
действительностью над-эстетической и за-эстетической; в своих попытках
приближения к непосредственной реальности эта философия совер-
391
шает, можно сказать, обратное движение и достигает реальности
через деэстетизацию искусства.
Что такое эта лежащая за эстетикой реальность жизни? Приведем
один пример. Есть линия, которая ведет от Ницше к Альфреду Бойм-
леру и еще более широким тенденциям немецкой духовной жизни 20-х
годов. «Настоящая» действительность, какой нет вокруг нас, но какая
должна была бы быть, ничем не смягченная, не сдобренная никакой
чувствительностью и никаким эстетством, не разрушенная никаким
рассудком, - эта «страшная», или «колоссальная» (ungeheuer),
действительность. Откуда мы знаем о ней? Один путь - через романтиков,
через дух романтизма; другой — через Ницше и его преодоление. Об этой
действительности с ее дионисийским героизмом узнаем через миф, как
понимал его романтизм. А такой миф есть «выросший наряду с языком
в лоне народности изначальный символ бытия - зримое создание
первоначальных времен с его неисчерпаемым, все последующее
заключающим в себе смыслом»1. Создание— здесь Gebilde, т.е. своего
рода здание, построение; это «гебильде» с присущим ему смыслом -
вся история, или, скажем, судьба, заключенная в наглядность
образа — запечатленного смысла. Вот о чем говорит нам миф, и этого уже
достаточно, чтобы в самом общем плане увидеть, что философ
способен достичь своей «настоящей» реальности только через определенное
понимание «произведения искусства», которое он толкует, впрочем,
далеко не оригинально, а в полном соответствии с теоретической
эстетикой своего времени. Оригинальность — не в истолковании
произведения искусства, а в том месте, куда оно помещается. Получается, что это
художественное в духе 20-х годов произведение отнесено к
«первоначальным временам». Но такое произведение искусства есть нечто
вроде статуи вечности, коль скоро вся история вошла в него и зрима
изнутри него! Значит, и «страшную» действительность, это не зараженное
никакой рефлексией язычество, мы тоже видим через эту статую истории,
или же образ («гебильде») с его смыслом. Но откуда узнали мы об этом
поистине колоссальном строении? Через Бахофена и К.О. Мюллера,
которые впервые сумели его рассмотреть и дали нам понять, что это
такое. Оно вроде бы и находилось рядом с нами, и оставалось бы только
постараться разглядеть его через все исторические напластования, но,
с другой стороны, мы знаем о нем только через чужой рассказ - так что
это вновь нечто вроде эстетического опосредования - видение через ви
- дение. Однако есть еще один способ узнать об этой изначальной
статуе и эстетической конструкции — обратиться к Ницше; но это будет
сугубо критический путь. Ницше пишет: «Миф требует, чтобы его
наглядно почувствовали как единственный в своем роде пример
всеобщности и истинности, вперивающейся в бесконечное». Вот это не
устраивает Боймлера, равно как и другие определения мифа у Ницше -
«возвышенная притча», «свернутая картина мира», «аббревиатура явлений»
и т.д. Почему же? Потому что все эти определения даны с позиции
устаревшей эстетики, эстетики переживания и чувствования, которая,
разумеется, не удовлетворяет Боймлера, коль скоро для него
произведение искусства есть нечто более обобщенное — такой «гештальт», о
каком речь шла выше. Итак, «если когда-нибудь путали символ с
392
метафорой, изначальное с вторичным, так это тут! Просовывать
эстетическое переживание в мир мифа и его величайшего свидетельства -
античную трагедию; то, что не может не быть религиозной силой и
религиозным смыслом, превращать в игру и видимость, достойный
символ - в аллегорию, которая проходит мимо нас, - это ли не
профанация!». Вот эта «видимость» — это «самая ужасная фальсификация,
которую проделал Ницше», потому что ни «видимость», ни «артистизм» не
имеют ничего общего с мифом и трагедий греков. А хор как
«саморефлексия дионисийского человека» - это одна из «самых дерзких и
мерзких гипотез, которые когда-либо были выдвинуты». «Дионисийский
феномен не имеет ничего общего с гистрионом, а Аполлон - это не бог
иллюзии. Какой страшной реальностью обладает Аполлон как символ
отцовской власти у Бахофена!»2.
Эта дискуссия между Бахофеном и Ницше — сражение, которое
одна эстетика дает другой, эстетика «эстетической конструкции»
эстетике «психологического вчувствования». Тут очень мало спрашивают о
жизни и об истории, мало и о мифе, но сталкиваются именно два
эстетических мировоззрения, два видения действительности, и с
помощью Ницше Боймлеру удается показать, что действительность мифа -
это далеко не эстетика, а самая настоящая действительность. Но это
отнюдь не способ выскочить за рамки эстетического вообще, а,
напротив, путь к эстетическому в его новом понимании. Разумеется, это
новое понимание эстетического - не вообще понимание 20-х годов, а
только один из его, ставший возможным, вариантов. Эстетизации
подвергается здесь «страшная», кровавая действительность языческого
мифа, пусть даже заключенная в скульптурный облик, в здание
эстетического образа. Характерна и связанная с этим «судьба» искусства: Бой-
млер не мог не упомянуть греческой трагедии, не мог не сказать, что у
трагедии далеко не эстетическая сущность; получается, что трагедия
вырастает на почве мифа, т.е. на почве «страшной», но подвергшейся
эстетизации в глазах современного теоретика «самой»
действительности. Действительность, которую видит философ, - это эстетическая и
эстетизированная действительность; его претензии простираются на
всю историю, изваянием которой оказывается миф, и всю эту историю
философ готов очищать от любых остатков эстетической приукрашен-
ности, от любых следов эстетической видимости, для того чтобы
превратить ее в эстетическую конструкцию во всей страшной, голой от
всякого чувства и разума непосредственной ее реальности. Нельзя
думать, что такая эстетика не имеет отношения к самому искусству,
однако можно сказать, что она имеет равное отношение и к современной
философии, и к современной эстетике, и к современному искусству. И
она не ограничивается в своей тенденции 20-ми годами, но
простирается гораздо шире; ниже, в частности, мы встретимся с весьма
похожими истолкованиями древнегреческой трагедии.
Пример философского рассуждения, который мы привели сейчас,
отличается сравнительной простотой; Боймлер не принадлежал к
числу наиболее глубокомысленных философов, но он умел ясно увидеть
и убедительно выразить известные эстетические - исторически
двусмысленные - модели (образы) мысли и жизни.
393
На этом сравнительно простом примере нам хотелось показать,
какую роль начинает играть все эстетическое в такой философии,
которая стремится достичь подлинной действительности,
действительности как таковой, пытаясь пробиться к ней через «образ», через такое
эстетическое «видение» мира, которое - конечно, не случайно -
представляется философу наиболее правильным: все эстетическое
упраздняется - для того чтобы тут же вернуться в философию в более
чистом и более обобщенном виде. Это, как выходит, и более
«современный» вид эстетического, и через эстетическое находит путь к своему
выражению и определенная концепция истории, разворачивающейся
из рожденной в лоне народности эстетической «конструкции» мифа.
Несравненно более сложный пример представляет философия Хай-
деггера, которая идет более последовательно теоретическим и более
замысловатым путем, но в конце концов тоже приходит к «созерцанию»
действительности под знаком эстетического, под знаком определенным
образом истолкованного произведения искусства. Унаследованную от
феноменологии Гуссерля отвлеченно-философскую проблематику с
характерно разбухающей терминологией Хайдеггер быстро подводит к
произведению искусства как модели философии и модели бытия.
Дальнейшее развитие его философии происходит рука об руку с этим
произведением искусства, в котором философия себя видит, узнает и в
котором исчерпывает до дна свою сущность. Развитие философии Хай-
деггера прослеживается в дальнейшем изложении по ступеням (причем
тут нельзя было обойтись без многих упрощений и выпрямлений) -
начиная с определенного этапа философия и искусство заключают
между собой союз, но противостоят друг другу, как два зеркала,
отражающих друг друга; в конце концов Хайдеггер так или иначе приходит к
мысли о том, что вообще нет ничего, чего не было бы в этих взаимных
отражениях, - но философский смысл в этих зеркалах умолкает, как
многократно отраженное эхо. Голос Философии, ставшей
вневременной мудростью жизненно простого, наконец постепенно умолкает,
заявив о высшем философском смысле своего молчания. Включение
эстетического в философию Хайдеггера выходит за рамки одного только
философского учения или одной философской традиции; в отличие от
философии Боймлера философия Хайдеггера имеет весьма
всеобъемлющий характер - она показывает нам черты, типичные для целой
эпохи в развитии философской и эстетической мысли; странным и
поначалу загадочным образом даже леворадикальные буржуазные теории 60-
70-х годов выявляют многие из характерных черт, которые можно
наблюдать в философии Хайдеггера.
II
1. Понимание как язык
А. Основной вопрос философии Хайдеггера - «что такое бытие?».
«Если для философской традиции «бытие» есть наиболее общее понятие,
«всеобщее» понятие, то это не значит, что оно и понятие наиболее ясное»3.
«Само бытие всегда вместе с нами, всегда при нас, всегда здесь.
Это бытие, как такое, которое здесь, есть здесь-бытие (Da-Sein).
394
Это «да-зайн» можно, в философской традиции, понять как
простое переименование «субъекта» или «существования» или как
простой шифр для понятия «человек». Но это было бы слишком
просто и неверно4.
Бытие заключено в круге. Понятие бытия - «наиболее темное».
Само бытие должно проясняться. Чтобы бытие было прояснено, нужно
выбрать такое сущее, которое даст возможность подойти к бытию. Но
такое сущее и есть всегда здесь - это здесь-бытие, бытие-сознание»5.
«Здесь-бытие есть такое сущее, которое не просто бывает среди
прочего сущего. Оно, напротив, отмечено тем, что для такого сущего
в его бытии речь идет об этом самом бытии. Но тогда от бытийной
конституции здесь-бытия неотделимо в его бытии определенное
отношение к его бытию. А это значит: здесь-бытие таким или иным
способом, так или иначе понимает себя в своем бытии. Этому бытию
присуще то, что вместе с бытием и через бытие само бытие открыто
ему. Понимание бытия есть определенное свойство здесь-бытия»6.
«Итак, спрашивать о бытии — значит прояснить это вопрошающее
сущее, здесь-бытие, в его бытии. Само это вопрошание - о бытии -
есть модус существования здесь бытия. Но сам вопрос о том, что есть
бытие, сущностно определен со стороны того, о чем спрашивает
вопрос, со стороны бытия»7.
В виде вывода: «Уразумение бытия само есть определенность
бытия здесь-бытия»8 и «Здесь-бытие есть сущее, каковое в своем бытии
понимающе устанавливается к этому бытию»; это, между прочим, и
означает, что здесь-бытие есть экзистенция9.
Кроме того, здесь-бытие всегда определено тем, что оно каждый
раз есть «я сам»10. Это предельная конкретность здесь-бытия, которое
всегда есть здесь и всегда есть некое «я сам». Но это и предельная
конкретность бытия, которое всегда есть здесь и всегда есть «я сам».
Это первый круг того, что Хайдеггер называет герменевтическим
истолкованием. Бытие сопряжено пока с сознанием, через которое и
только через которое оно раскрывается, и сознание это существует
только благодаря бытию и в направлении бытия. Сознание,
здесь-бытие есть такое особое сущее среди всего сущего, которое «смотрит» на
бытие, «уразумевает и постигает» бытие11.
Б. Далее, круг сопряжения разворачивается, включая в себя под
таким углом зрения все богатство мира. «Создание» существует в мире,
существует как некая точка в культурном и в историческом мире, как
такое место в этом мире, с позиции которого этот культурный и
исторический мир так или иначе всегда понимается, истолковывается. Этот
культурный и исторический мир, разумеется, существует до «меня», до
отдельного человека, но он всегда существует «здесь», он всегда раскрыт
в таком «кто», которое говорит «я есмь». Со здесь-бытием неразрывно
связано бытие в мире, оно дано вместе со здесь-бытием12.
Но как и бытию в мире, здесь-бытию изначально присуще «со-бы-
тие» (с другими) и «со-здесьбытие». Таким образом, заметим, как будто
снимается острая проблема феноменологии (Гуссерль, Ингарден) -
проблема существования «чужого» «я». Здесь эти другие «я» всегда уже даны
через здесь-бытие как определенное место в смысловом пространстве.
395
Человек существует в своем «окрестном мире»13, в мире
непосредственно-практической деятельности. Бытие в мире распадается на
разные способы «внутри-бытия»; так «здесь-бытие имеет дело с чем,
составляет что, обрабатывает что и ухаживает за чем, пользуется чем,
расстается с чем и теряет что, предпринимает, осведомляется,
выспрашивает, наблюдает, обсуждает, предназначает...»14.
Точно так же и другие люди в нашем «со-здесьбытии» с ними
встречаются нам не как «наличные вещи», но мы «застаем их за
работой». Существование - это «озабоченное делание»15.
Непосредственно-практическая действительность «окрестного
мира»- это, скажем, социальность человеческого общежития,
существующая на основе понимания и непонимания, на основе
некоей общепонятности, которая столь распространена и столь
размельчена, что Хайдеггер уже на этом относительно раннем этапе своей
философии может приниматься за тему критики культуры. Это
такая критика культуры, в которой кризис культуры выступает как
вечная ситуация: непонимание возникает из всеобщей и заведомой
понятности, разлитой в «понятном мире», в «повседневном
совместном бытии»16. Таким образом, уже здесь изначальность понимания,
в план которого опрокинут весь реальный мир — в
«экзистенциальную пространственность»17, осмысляемую в «здешности» «я», —
оборачивается непониманием:
«...уже в наиближайшем окрестном мире сподручно находится и
озабоченно устраивается всеоткрыто-публичный «окрестный мир».
Пользуясь общественными средствами транспорта и средствами
информации (газета), всякий похож на всякого. Это совместное бытие
настолько растворяет свое здесь-бытие в способе бытия «других», что
«другие» еще больше исчезают в своей различности и
выразительности. В этой неприметности и неуловимости разворачивается
настоящая диктатура Среднего (Man)»18. «Мы наслаждаемся и
развлекаемся так, как вообще наслаждаются; мы читаем, смотрим и судим о
литературе так, как смотрят и судят вообще; но мы и отделяем себя от
«толпы» так, как вообще отделяют себя от «толпы»; мы
возмущаемся тем, чем вообще возмущаются. Среднее, будучи неопределенным
и будучи всеми, хотя и не суммой всех, предписывает способ бытия
повседневности»19.
Таким образом, здесь, в самых первоначальных тезисах об
устроенное™ мира, встречается фундаментальное противоречие понимания,
которое одновременно оказывается непониманием.
В. Но в более принципиальной постановке вопроса (§31)
понимание определяется как «основополагающий модус бытия здесь-бы-
тия»20. При таких кажущихся отвлеченными формулировках нельзя
забывать о том реальном, что они интерпретируют: очевидно, что
само реальное, до конца реальное, повседневное, обыденное
существование человека протекает, так скажем, в стихии понимания.
Существование не только не неотделимо от понимания, но и само
есть понимание. Всякое другое «понимание» в частном смысле -
например в том, в каком Дильтей «понимание» исторических наук
противопоставлял «объяснению» естественнонаучных дисциплин, -
396
вторично, оно выводит из основополагающего и может
существовать только на его основе.
Весь мир, который всегда «просматривается» с определенного
места в экзистенциальном пространстве, погружен в понимание.
Непосредственное понимание есть «полагание смысла», если пользоваться
традиционной терминологией идеализма: ««Вещь», согласно Хайдег-
геру, сама по себе ничто, она «делается» вещью в употреблении, в
форме орудия. В своем «наличном существовании» вещи не имеют
структуры, это хаос; только полагание смысла в процессе человеческого
употребления вещей придает им определенность»21.
Вот как это «полагание смысла» выглядит в мире
непосредственной человеческой практики по Хайдеггеру:
«Деятельно-заботящееся бытие, исходя из значимости, раскрытой
в понимании мира, дает понять, что касается (всего) находящегося в
распоряжении, в какие ситуации оно, это находящееся в
распоряжении, исконно может входить со (всем) встречающимся с ним
«Осмотрительность об-наруживает» - это означает, что «мир», уже понятый,
истолковывается. То, что находится в распоряжении, явным образом
попадает в понимающее про-сматривание. Всякое приготовление,
подгонка, ввод в действие, совершенствование (и т.д.) совершается
таким способом, что (все) осмотрительно находящееся в
распоряжении раскладывается в своем «для того, чтобы» как таковое и с ним
заботливо обходятся в согласии со ставшей очевидной разложенностью.
Осмотрительно разложенное в направлении своего «для того чтобы»
как таковое, явным образом понятое, имеет структуру такого нечто,
которое есть нечто: нечто как нечто... Указание этого «для чего» есть
не просто называние чего-то, некоего нечто, но называемое
понимается как то, как что, чем, в качестве чего следует на деле считать то,
о чем идет речь. Раскрытое в понимании, принятое всегда уже
настолько доступно, что в нем может быть явным образом выделено его
«как что». «Как» составляет структуру выразимости любого понятого;
оно конституирует истолкование»22.
Это непосредственное понимание не нуждается в высказывании:
оно есть «допредикативное немудрствующее видение находящегося в
распоряжении»:
«Видение этого взгляда есть искони уже понимающее и
истолковывающее. Оно заключает в себе выявленность соотносительных
связей («для того чтобы»), которые принадлежат ситуации делания, из
которой понято немудрено-случающееся. Членораздельное
выражение понятого в истолковывающем приближении сущего по образцу
«нечто как нечто» предшествует высказыванию о нем как о теме. В
последнем... впервые высказывается то, что возможно
исключительно оттого, что оно уже имеется как доступное выговариванию»23.
Итак, «находящееся в распоряжении уже всегда, неизбежно,
понимается из целостности ситуации делания. Эта последняя не обязана
схватываться эксплицитно, в своем тематическом истолковании. И
если она даже и прошла сквозь такое истолкование, она вновь
возвращается к неотличительному уразумению. И как раз в таком модусе она
есть сущностный фундамент повседневного, о-смотрительного истол-
397
кования». «Истолкование каждый раз основывается на некоторой
предусмотрительности...»24.
Понимание, будучи непосредственным практическим пониманием,
схватыванием, видением целостной ситуации, казалось бы, не
нуждается в слове, которое истолковывает то, что уже понято. И, далее,
понимание как будто не замыкается в сфере смысла, коль скоро
понимание осваивает не смысл вещей, а сами вещи.
Однако смысл — не то, что набрасывается на вещи как бы сверху и
без чего вещи существуют до и после их осмысления, и смысл вещей -
не их «ценность» — осмысленность, но смысл — это сами вещи,
раскрытые в понимании. Это, очевидно, есть круг понимания. «Смысл
понимания никогда не может оказаться в противоречии с сущим или
бытием как не-сущим «основанием», фундаментом сущего,
поскольку «основание» доступно исключительно как смысл, пусть то будет
даже отсутствие основания - бездонная пропасть бессмысленности»25.
Итак, во-первых, есть сами вещи: «В высказывании «Молот
слишком тяжелый» то, что обнаруживается для видения, не есть какой-
либо смысл, а есть сущее по способу находящегося в распоряжении»,
т.е. это есть «сам молот»26.
Во-вторых, вещи доступны как смысл, будучи всегда уже поняты.
В-третьих, «смысл есть экзистенциал здесь-бытия, а не свойство,
которое прилепилось к сущему, лежит «за» ним или же пребывает еще
где-то как «ничья земля» и - «смысл должен быть постигнут как
формально-экзистенциальный костяк раскрытости, принадлежащей
пониманию». Поэтому «смысл есть то, в чем заключает себя понятность
некоего нечто»27.
Но этот круг, который описывает смысл, есть разворачивание круга
здесь-бытия (см. выше)28.
Г. Сам смысл разворачивается в круге понимания. Круг этот
заключен в том, что «всякое истолкование... должно уже прежде понять то,
что должно истолковывать». «Круг в понимании принадлежит
структуре смысла, феномен, который укоренен в экзистенциальной устро-
енности здесь-бытия, в истолковывающем понимании»29.
Как пишет Хайдеггер, «разговор о порочном «логическом круге»
понимания есть выражение двойного несознавания, того: 1) что
понимание само составляет фундаментальный способ бытия здесь-бытия, 2)
что это бытие конституировано как забота30. Отрицать круг, утаивать его
или даже желать его преодоления значит окончательно укреплять это
несознавание. Усилия должны быть, напротив, направлены на то,
чтобы уже в приступе к анализу здесь-бытия обеспечить полноту взгляда
на кругообразное бытие здесь-бытия31. Не слишком много, но слишком
мало предпосылается заранее для онтологии бытия, когда исходят из
внемирского «я», чтобы затем создать для такового некий объект и
некое отношение, онтологически лишенное основания, к последнему.
Предмет бывает урезан искусственно, догматически, когда «для начала»
ограничиваются «теоретическим субъектом», с тем чтобы в прилагаемой
«этике» затем дополнить его «с практической стороны»32.
Д. Понимание всегда совершается в слове. Круг понимания
замкнут на языке:
398
«Речь экзистенциально-равноизначальна с расположенностью и
пониманием... Речь есть членораздельное выражение понятности. Она
поэтому уже лежит в основе истолкования и высказывания. То, что
доступно членораздельному выражению в истолковании, а еще изна-
чальнее - в речи, мы назвали смыслом»33.
«Речь выговаривает себя и искони выговаривала себя. Она есть
язык. А в выговоренном исконно уже заключается уразумение и
толкование. Язык как выговоренность хранит в себе истолкованность
уразумения здесь-бытия. Эта истолкованность, как и язык, не только
лишь наличествует, но самое бытие ее сообразно здесь-бытию. Ее
ответственности в первую очередь препоручается здесь-бытие, она
управляет возможностями усредненного понимания...»34.
Здесь появляется и культурфилософская апория понимания, при
которой понимание в самой жизни, в сфере усредненного, выступает
как непонимание, как болтовня вместо говорения (Gerede вместо
Rede). Эта «болтовня» — не случайное явление, отрицающее
сущностное «говорение», но «положительное» явление, необходимо
возникающее в «со-бытии». Так что «беспочвенность болтовни не закрывает ей
доступа к всеоткрытому бытию, а благоприятствует ей. Болтовня есть
возможность понимать все без предварительного усвоения вещи»35.
2. Истина как открытость
Место истины - не суждение, а сфера открытости здесь-бытия -
сознание, в котором совершается понимание. Хайдеггер не устает
иронизировать над такими «истинами», которые уносит ветер вместе с
бумажкой, где было записано «истинное» предложение36.
Эту сферу открытости Хайдеггер осмысляет как греческую «але-
тейю», т.е. истину (толкуя ее этимологически как «несокрытость»).
Этой греческой «алетейе» он посвятил десятки, если не сотни, мест в
своих сочинениях.
Хайдеггер так комментирует Гераклита, утверждавшего, что оракул
«не говорит, а утаивает» (Фр. 93 Diels): «Оракул не прямо открывает, ни
попросту скрывает, но он открывает, скрывая, и скрывает, открывая»37.
Такова же и сущность истины.
Мимо связи такого учения об истине с глубокой философской
традицией нельзя пройти. У Прокла истина, спрятанная у богов,
закрывается своим изображением, образом («эйкон») и даже превращается
в загадку. Мифический символ не столько просветляет смысл того, на
что указывает, сколько затемняет. Однако образом и символом
передается истина, постигаемая в слове. Сама суть не дает выразить себя
в слове, и поэтому образ все более непохож на суть, хотя в то же
время определяется ею и подобен ей. Заметим еще, что круг у Прокла, и
не только у Прокла, есть образ ума38.
Но важнее традиции место истины в круге Хайдеггера. Конечно,
Хайдеггер не имеет в виду, говоря об истине, диалектической сущности
относительной истины. Но истина есть именно открытость здесь-бытия.
Вот что значит «быть правдивым» в «бытийном» греческом смысле:
«Человек есть то, что созерцается сущим, то, что
саморазверзающимся сущим собирается для бытия при нем. Вот какова бытийная
399
сущность человека в великое время греков: быть созерцаемым
созерцающим его сущим, быть воспринятым в разверзтые просторы
сущего, быть гонимым его противоречиями и отмеченным его
двойственностью. И потому этот человек, чтобы исполнить до конца свою
сущность, должен собирать (legein) сущее в его разверзтости, и должен
спасать-хранить (sôzein) сущее в его разверзтости, и должен
предаваться всей раскалывающейся хаотичности (alêtheyein)»39.
Это одновременно и толкование известных слов Парменида о
тождестве «мышления» и «бытия», которые Хайдеггер вводит в свой круг
здесь-бытия.
Это греческое правдивое бытие только задача для человека
нового времени. Только задача - быть «по истине бытия»:
«Прежде всего и всегда требуется, чтобы сущность эпохи
постигалась по истине бытия, верховно правящей в ней, ибо только так
может быть вместе познано в своих глубинах и то самое, что наиболее
достойно вопроса и что прежде всего находится под вопросом, то, что
созидательное творчество выносит и выводит в грядущее, перенося его
через все наличествующее, и притом выводит и выносит начиная с
самой его основы, и тем самым связывает в целое40, то самое, что
допускает, чтобы человек преобразовался в необходимость,
проистекающую из самого бытия»41.
Здесь истина уже соединяется с проблемой истории. Истина может
утрачиваться, получая ложное истолкование (истолкование —
вторично), хотя сама-то истина никогда не наличествует «где-либо на
небесах», а всегда размещается «среди сущего»42, в его открытости.
Герменевтический круг истолкования замыкает всю
действительность на слове. Круг здесь-бытия — есть открытость здесь-бытия. Но
открытость есть истина. Истина тоже замыкается на слове. Будучи
существенной и будучи задачей, как сказано выше, истина замыкается
на особо существенном слове.
Если Гадамер пишет, что обращение Хайдеггера к
художественному произведению вызвало в 1936 г. удивление и было воспринято как
неожиданное43, то это, скорее всего, относилось к форме выражения
мысли, принятой Хайдеггером в его тогдашних докладах о создании
произведения искусства. По существу же обращение к произведению
искусства было подспудно подготовлено в более ранних
произведениях, в том числе в «Бытии и времени».
3. Поэзия как истина
А. У познания — двойственный характер: характер приказа и
поэзии. Приказ — это требование, утверждаемое как акт свободы.
Поэзия, как перефразирует Хайдеггер Канта, есть «безосновное осново-
полагание основы таким способом, который сам дает себе закон
своей сущности»44.
Эта кантовская самотождественность переносится у Хайдеггера на
его круг понимания. В самом круге понимания центр тяжести со
временем (т.е. для начала, от конца 20-х - к середине 30-х годов)
передвигается у Хайдеггера на как бы «объективное» (как могли бы сказать
мы) существование открытости бытия, причем иногда создается впе-
400
чатление, что сложное обоснование этого круга, содержащееся в
«Бытии и времени», оказывается словно забытым. Это впечатление, само
по себе наверное, улавливает, однако, действительный сдвиг
интереса и - пока еще не выраженную внешне - будущую «судьбу»
герменевтической проблемы у Хайдеггера.
В истине выступает в своих особых формах апория понимания.
Если раньше она была уловлена у Хайдеггера как культурфилософский
момент критики общества, «укореняемый» в самом бытии, как это
было с «Gerede» - болтовней, приписанной к общественной «всеотк-
рытости» вообще, то теперь в самой открытости здесь-бытия
обнаруживается эта апория, при которой понимание есть вместе с тем и
непонимание. Сама «открытость» становится ареной борьбы
противонаправленных сил:
«В we-сокрытости, каковая есть истина, вместе бытийствует и другая
«нетость» — нетость двоякого недопускания-запрета. Как таковая
истина бытийствует в противостоянии прореживания-просветления и
двоякого сокрытия. Истина есть извечный изначальный спор, в каковом
искони, одним из способов ведения спора, ведется спор за разверз-
тость, в какую вступает и из какой, выступая, выставляет свое стояние
все, что являет и утверждает себя как сущее. Когда бы ни разгорался и
ни совершался этот спор и как бы ни разгорался и ни совершался он,
в споре этом расходятся в противостояние друг другу спорящее
прореживание-просветление и спорящее сокрытие-затворение. И так в
споре ведется спор за разверзтость просторов этого спора».
И в этом смысле Хайдеггер даже говорит, что «истина есть
неистина»45.
Б. Он переводит понятия книги «Бытие и время» на новый
торжественный и красочный язык, в котором тают остатки прежней
феноменологической латинской терминологии: «Если сущность незатворенно-
сти сущего хотя бы каким-либо образом принадлежит самому бытию
(ср. «Бытие и время», § 44), то бытие само по себе, исходя из своей
сущности, допускает, чтобы совершилось поле разверзтости (переживание-
просветление здешности), и размещает его как такое поле, в каковом
всякое сущее распускается-расцветает в своем своеобразии».
Мгновенные, исчезающие акты понимания, присущие
непосредственно-практической жизни, поспешности обыденной суеты,
предоставляют теперь место истине, стремящейся запечатлеть себя в
устойчивом и постоянном, длительном виде. Этот вид для Хайдеггера,
конечно, не «приказывание» и не религия, но творения, которые
создают искусство и поэзия, занимающая преимущественное место
среди искусств. Собственно, само слово «творение», выбранное Хай-
деггером для характеристики устойчивого пребывания истины,
заключает в себе соответствие греческому слову «poiesis», т.е. деятельность,
или творческая деятельность. Художник творит, созидает — отсюда
«Werk», «творение»:
«Внутри разверзтости искони должно быть некое сущее, в каком
разверзтость обретает свое стояние и свое постоянство». Истина —
«в поле ведения спора» — устраивает себя вовнутрь открытого, и в
истине заключено влечение, «порыв к творению».
401
Но, разумеется, ненарушенным остается круг здесь-бытия, в
котором оказывается поэтическое творение и который замыкается теперь
на нем. Истина «устраивается» в творении, но до этого своего
устроения вовнутрь творения она не пребывает где-то среди звезд, ожидая
удобного для себя места. Это было бы невозможно, ибо «только из
разверзтости сущего следует возможность какого бы то ни было
размещения, любого «где-то», возможность места, исполненного бытий-
но-присутствующего»46.
В 1956 г. в новом «Добавлении» к своей работе Хайдеггер
специально подчеркивает связь проблематики «Истока художественного
творения» с основным вопросом своей философии «что такое
бытие?»: «Вся работа «Исток художественного творения» сознательно
идет по пути вопрошания о сущности бытия и, однако, нигде не
заявляют об этом явно».
Этими словами Хайдеггер берет назад по крайней мере одно - ту
художественную самостоятельность своего труда, которая позволяла
не высказывать в явном виде его общих философских целей.
Итак, «искусство здесь, то есть в «Истоке художественного
творения», - ни сфера достижений культуры, ни явление духа, его место -
внутри события выявления, на основе которого бывает определим и
определяется впервые и смысл бытия (ср. «Бытие и время»)»47.
Но «событие выявления» - это и есть открытость здесь-бытия как
круг понимания.
В «Истоке художественного творения» Хайдеггер не раз говорит,
что «истина полагается вовнутрь творения», и называет такой способ
выражения «сознательной двусмысленностью»48. Теперь, в новом
«Добавлении», Хайдеггер четко разъясняет эту двусмысленность. Это
высказывание — о том, что «истина полагается вовнутрь творения», —
означает, что «истина полагается и полагает-ся в творение» - в одном
случае «истина» выступает как «субъект», в другом - как «объект». «Та
и другая характеристика с истиной «несообразна». Если истина
«субъект», то определение говорит о ней, что она полагает себя в
творение. Итак, искусство мыслится на основе события выявления: оно
существует, выявляясь. Но бытие есть окликающее обращение к
человеку, и оно не бывает без человека. А поэтому искусство
одновременно определено и как полагание истины вовнутрь творения, причем
теперь уже истина- «объект» и в творении полагается, а искусство
теперь созидается и охраняется человеком».
Итак, существует «соотносительная связь» человека и искусства, а
за этой связью стоит другая «соотносительная связь»
основополагающего порядка. Это связь-сопряженность бытия и человеческого
существа, т.е. корреляция-круг «Бытия и времени» - «не дающая нам
покоя трудность», как говорит Хайдеггер49.
Именно изнутри и только изнутри этой принципиальной
корреляции можно понять сущность произведения искусства по Хайдеггеру.
Только в пределах этой корреляции выясняется, что произведение
искусства не есть предмет, объект, вещь или инструмент. Оно есть
именно творящаяся истина, истина, которая творит себя так, что человек
творит истину, создавая творение.
402
В. В качестве примера произведения искусства Хайдеггер приводит
греческий храм. Другое выбранное им произведение искусства - это
картина Ван Гога, изображающая крестьянские башмаки.
Хайдеггер не дает ни искусствоведческого разбора, ни
философского анализа этой картины, но интерпретирует ее таким способом,
при котором сама картина становится запечатлением
непосредственно-практического понимания, такого, какое осуществляется в самой
жизни, ежечасно, ежеминутно и - вечно. Таким образом, картина
Ван Гога выступает как истолкование, мы сказали бы, жизненного
опыта во всей его непосредственности. Но особый прием Хайдегге-
ра в интерпретации картины Ван Гога состоит в том, что он свою
интерпретацию дает не как таковую, а в связи с выяснением того, что
такое вещь - Zeug, т.е. вещь, находящаяся в пользовании, в
употреблении, как нечто «пригодное», как своего рода «годность».
Получается, что не философ определенным образом интерпретирует
художественное произведение, но творение искусства само говорит нам
о том, что есть эта «вещь житейского обихода». Разумеется, такое
отстранение своего анализа не есть простой прием, но есть
принципиальная реализация круга понимания, о котором постоянно идет у нас
речь, — опыт развертывания в словесном описания того, что
происходит в жизни «на самом деле».
Этот анализ заслуживает того, чтобы привести его полностью:
«Пока мы только пытаемся представить и вспомнить вообще пару
башмаков или же пока мы вообще видим на картине просто стоящие
перед нами пустые, остающиеся без употребления башмаки, мы
никогда не узнаем, что же такое есть на самом деле, по истине,
обиходность обиходной вещи (Zeugsein des Zeugs). На картине Ван Гога мы
не можем даже сказать, где стоят эти башмаки. Вокруг них нет
ничего, к чему они могли бы относиться, есть только неопределенное
пространство. Нет даже земли, налипшей на башмаки в поле или на
дороге с поля, а эта приставшая к башмакам земля могла бы по крайней
мере указать на их применение. Просто стоят крестьянские башмаки,
и, кроме них, нет ничего. И все же.
Из темного истоптанного нутра этих башмаков неподвижно гладят
на нас упорный труд тяжело ступающих ног во время работы в поле.
Тяжелая и грубая прочность башмаков собрала в себе все упорство
неспешных шагов вдоль широко раскинувшихся и всегда одних и тех же
борозд, над которыми стоит пронизывающий, резкий ветер. На этой
коже осталась сытая сырость почвы. Одиночество забралось под
подошвы этих башмаков, одинокий путь возвращения с поля домой
вечерней порой. Немотствующий зов земли отдается в этих башмаках,
земли, щедро дарящей зрелость зерна, земли с необъяснимой
самоотверженностью ее пустынных полей в глухое зимнее время. Тревожная
забота о будущем хлебе насущном сквозит в этих башмаках, забота, не
знающая жалоб, и радость, не ищущая слов, когда пережиты тяжелые
дни, трепетный страх в ожидании родов и дрожь перед близящейся
смертью. Земле отданы эти башмаки, в мире крестьянки - хранящей
кров вещи (Zeug). Из этой хранимой приверженности земле вещь
понимается, чтобы покоиться в себе самой.
403
Но мы, наверное, только видим все это в башмаках,
нарисованных на картине. А крестьянка просто носит их. Если бы только это
было так просто - просто носить их. Когда крестьянка поздно
вечером отставляет их в сторону, чувствуя тяжелую, но здоровую
усталость, когда она снова берется за них, едва забрезжит рассвет, или
в праздник проходит мимо них, всегда она, и притом без всякого
наблюдения и разглядывания, уже знает все сказанное.
Обиходность вещи (Zeugsein des Zeugs) хотя и состоит в ее пригодности, но
сама пригодность покоится в полноте существенного бытия вещи.
Мы это бытие именуем прочностью обиходной вещи. И вот в силу
этой прочности крестьянка приобщена к немотствующему
призыву земли, в силу этой прочности она уверена в своем мире (ihrer
Welt gewiss). Мир и земля для нее и для тех, кто вместе с ней
разделяет способ бытия, только и есть в этой пригодной вещи. Мы
говорим «только» и при этом заблуждаемся; ибо прочность вещи
только и дарует этому простому миру его укромность, а земле дает
волю для беспрерывного набухания и напора»50.
Как говорит Хайдеггер, «картина сказала здесь свое слово» и
«сущее вышло здесь в нескрытость своего бытия». Это и есть греческая
«алетейя»51.
С нашей точки зрения, эта интерпретация картины Ван Гога и есть
показательный образец круга понимания, какой мы находили у Хай-
деггера, причем образец, доведенный до насыщенности подлинного
художественного произведения. Но эта интерпретация для нас не
столько образец истолкования, сколько яркий пример того, как
создается мир, истолкованный как круг понимания, истолкования, - того,
как этот круг действительно вбирает в свои пределы реальное
жизненное содержание. В этом смысле само описание картины Ван Гога -
начиная с постановки цели - выяснить сущность обиходной вещи -
и кончая выводом, что «картина сказала свое слово и, оказавшись
вблизи творения, мы внезапно побывали в ином мире, не там, где
обычно бываем», - есть образец круга. Эта «корреляция» обиходной
вещи и художественного творения, проясняющих друг друга, —
«малый» круг и «открытость бытия» в произведении искусства —
«большой» круг. Вся проблематика «Истока» вошла в истолкование
картины Ван Гога. Определенным образом намечена здесь и тема
исторического бытия, что яснее станет позже.
Сущность вещи, а вместе с тем и истина явились в произведении
искусства. Сущее вышло наружу в картине. В картине совершилось
«растворение, распахивание сущего». Таким образом, вся
проблематика понимания как «открытость здесь-бытия», как «явление истины»
замкнулась, будучи кругом, на произведении искусства.
Теперь осталось убедиться в том, что произведение искусства в
существенном смысле есть поэзия и что поэзия по своему существу есть
речь, слово.
Это последнее очевидно, если войти внутрь герменевтического
круга хайдеггеровской философии. Ведь только что истина
произведения искусства (картины Ван Гога) раскрылась перед нами в
философском отрывке, в таком фрагменте, который превратился в художе-
404
ственное произведение, для того чтобы раскрыть истину, уже
раскрывшуюся в живописном произведении. Ясно, что перед нами была
поэзия, определенным образом истолкованная, поэзия как раскрытие
истины. И ясно, что она «совершалась» в слове, в языке.
И остается только убедиться, что и истина, раскрывшаяся в
живописной картине Ван Гога, тоже раскрылось в произведении
искусства как поэзии и слове.
Но коль скоро вся герменевтическая философия погружена в
стихию слова, то невозможно в принципе опровергнуть эту замкнутость
ее на слове. Остается ее «доказывать», причем новые «аргументы» едва
ли могут быть сильными. Хайдеггеру, собственно, только остается
подтянуть слово до вновь завоеванного уровня творческого созидания.
4. Творческое слово как истина и как история
А. «Сущность искусства есть поэзия»52.
Все искусства, очевидно, сводятся к поэзии, но только не к поэзии
как к «искусству слова», словесности, литературе, а к поэзии в более
широком смысле. Эта поэзия в более широком смысле есть «poiêsis»
как способ открывания истины. «Поэзия в этом смысле есть только
один из способов про-светляющего набрасывания истины, т.е. поэзии,
слагающей и сочиняющей». Значит, здесь «открывание истины»,
истолкованное теперь как творчество, названо поэзией.
Но, коль скоро это так, и поэзия в узком смысле является «наииз-
начальнейшей поэзией». Это воспроизведение романтического
понимания прапоэзии.
Далее — и это вновь тот же романтический взгляд — сам язык есть
эта прапоэзия.
Но это возвращает нас к самым исходным положениям «Бытия и
времени», к тому месту, где весь герменевтический круг замыкался на
речи как экзистенциале, «равноизначальном» с расположенностью и
пониманием. Открытость здесь-бытия дана в речи. Но теперь эта
открытость заключается в речи как прочном полагании, т.е. в творении
произведения искусства, или же, как говорит Хайдеггер, в учреждении
(Stiften) некоего бытия.
Итак, «язык впервые приводит в просторы разверзтого сущее как
именно такое-то сущее. Где не бытийствует язык, как не бытийствует
он в бытии камня, растения и животного, там нет и разверзтого
зияния сущего, а потому нет и разверзтого зияния не-сущего и нет и
разверзтого зияния пустоты... Именование, о-значая сущее, впервые
назначает его к его бытию».
Это именование есть «сказание»: «глагол мира и глагол земли,
сказание о просторах их спора и тем самым сказание о местопребывании
богов в их близости и в их неприступности».
Язык хранит изначальную сущность поэзии и освобождает истину
бытия от застилания, от обволакивания туманом, «от глухого и
тупого замешательства».
Остается понять нетрудное — что всякое искусство, разумеется, уже
творится в открытости бытия, коль скоро само «разверзание бытия»
отождествлено с языком и поэзией. Как выражает свою мысль Хайдег-
405
гер, «воздвижение зданий и создание образов... с самого начала
совершаются, и совершаются всегда, только в разверзтых просторах
глагола и именования». Все искусства, зодчество, живопись, музыка,
остаются особыми путями творения истины, но только потому, что они
есть поэтическое слагание, совершающееся в просторах
просветленного сущего, тогда как эта просветленность уже совершилась в
языке — «незаметно ни для кого»53.
Искусство как поэзия и как язык всегда несет с собой новое.
Нужно конкретно понять это положение в том круге, который
описывает философия Хайдеггера. Коль скоро поэзия творит истину, то
это творение не может быть простым подтверждением каких-то
старых и уже подтвержденных истин. Точно так же искусство никак не
может быть и отражением чего-либо уже существующего. Будь это
так, это существующее существовало бы само по себе, как нечто
вообще данное или как некий смысл, который оставалось бы только
перенести в поэзию. Творение истины каждый раз может только
осуществлять такую замкнутость и реализовать все «члены» этой
замкнутости, т.е., как рассуждал прежний идеализм, полагать
субъект, объект и т.д., — но только в философии Хайдеггера это уже
«полагание» самого круга, т.е. на языке философа творение истины,
или разверзание открытости, зияния. Поэзия всякий раз творит
заново этот круг, осуществляет его и в нем осуществляется. Поэтому
поэзия не может отражать истину (как уже существующую) и не
может ее утверждать (как уже данную), а может только ее учреждать
(как совершающуюся - в этом акте).
Б. Учреждение истины поэзией - вновь круг. Круг здесь заключается
в том, что поэзия учреждается в истории и сама учреждает историю.
История переосмысляется у Хайдеггера вновь в духе
романтических представлений об «истории народов». Такая история народов -
само собой напрашивающееся соответствие языку как прапоэзии.
История у Хайдеггера - совершение, или историческое совершение, что
связано с неявно выражаемым здесь толкованием времени (с
толкованием, которое, говоря вообще, входит у Хайдеггера уже в самые
первоначальные его тезисы). Открытость здесь-бытия отнюдь не
существует в некоем временном пространстве, и круг понимания, или круг
истины, не вращается вне времени как сфера вечного. Не вдаваясь в
суть специальной терминологии Хайдеггера, что в данном случае
только усложнит и без того сложное «устройство» круга, мы можем понять
эту терминологию как бы на уровне «образа» и в конкретном
применении к искусству. Искусство как учреждение истины есть начинание,
как говорит Хайдеггер. Но вот «подлинное начало, будучи скачком,
всегда есть вместе за-скок вперед, в каковом заскоке начало уже
перескочило через все грядущее, хотя бы и через грядущее в его затума-
ненности. На-чало скрыто содержит в себе кон-ец»54.
Но это с убедительностью образа и показывает, как искусство,
творя истину, разверзая «открытость», вместе с тем «разверзает» и
историю, которая тем самым замыкается в круг понимания, в круг
истины - «от начала до конца». Но это и неудивительно. Коль скоро
бытие всегда есть здесь, в раскрытости «здешности», то это и не может
406
быть вневременное, «сейчас» существующее бытие, а может быть
только «все» бытие, т.е. бытие историческое.
Однако история «выходит» для нас из пределов своего круга уже
совершенно переосмысленной, это не «сама» история, но история,
раскрывшаяся в истине, сотворенной поэзией.
Круг хайдеггеровской философии достигает здесь своей
предельной универсальности. История в этом круге есть «совершение». И весь
круг замкнут на поэзии:
«Всегда, когда сущее в своей целокупности, сущее как таковое,
требует своего основополагающего основания вовнутрь разверзтости,
искусство приходит к своей исторической сущности как искусство
основополагающее.
И такое основополагание почвы впервые на Западе совершилось в
Греции. И все, что стало впредь именоваться бытием, было положено
тогда вовнутрь творения, и бытию была задана мера.
И это сущее в его целокупности, разверзтое таким образом, было
затем преобразовано в сущее в смысле сотворенности его богом. Это
совершилось в средние века.
И вновь такое сущее было преобразовано на рубеже нового
времени и в продолжение нового времени. Теперь сущее стало исчислимым
и через исчисление овладеваемым и насквозь прозрачным предметом.
Каждый раз разражался новый, существенный мир. Каждый раз
устраивалась разверзтость сущего путем прочного полагания, или
утверждения, истины вовнутрь устойчивого облика, вовнутрь самого сущего.
Такая несокрытость сущего полагает себя вовнутрь творения, и это
полагание исполняет искусство».
Это «европейская» история как «история народов»:
«Совершение есть отторжение народа внутрь заданного ему, и
такое отторжение есть вторжение в данное и при-данное ему»55, что
понятно только в пределах того фундаментального круга, в котором
совершается истина и в который входит и время.
В историческом и культурно-историческом плане, в применении к
историческому бытию, к совершению, Хайдеггеру удобнее говорить не
об «открытости здесь-бытия», но уничтожая всякий след отвлеченной
терминологии, о «разверзтости мира». «Мир» есть то нужное,
короткое и конкретное слово, в котором кажущимся образом
«объективируется», опрокидывается в «самое» действительность круг объективно-
идеалистической корреляции. Но мир и есть этот круг, взятый как
«качество», как качественность круга. Это круг как круг
«органического» понимания, круг истолкованности. Это мир крестьянки, для
которой он сразу же и заранее понятен; это греческий мир в плане
культурно-историческом, «мир» Дильтея, когда он характеризуется и
философом, как уже заранее, сразу же понятый и понимаемый56.
Художественное произведение творит этот мир — так, что оно
воздвигает (учреждает) его:
«В трагедии ничто не выводится на сцене и ничто не
представляется, но здесь происходит борьба новых богов против старых богов»57.
Таким образом, в мире как универсальной «разверзтости» «члены»
круга выдают свое окончательное существо. «История» есть сама ис-
407
тория, но в пределах круга сама история есть «совершение», а
совершение есть «борьба новых и старых богов» — выражение, в котором
как бы суммируется самая суть действительной истории. Итак,
история в круге хайдеггеровской философии есть так или иначе
истолкованная история, а именно история как суть действительной истории,
или, как мы видели выше, история бытия. При этом «совершение» не
подразумевает каких бы то ни было, даже самых важных, событий в их
последовательности58.
«Когда творение языка воздвигается в сказании народа, то оно не
повествует об этой борьбе (старых и новых богов), а так преобразует
сказание народа, что всякое существенное слово борется теперь с этой
борьбой и ставит перед выбором, что свято, а что скверно, что
велико, а что мало, что доблестно, а что малодушно, что благородно, а что
нестойко, что господин, а что слуга (ср. фрагмент 53 Гераклита)»59.
На языке Боймлера это был бы миф и творение - это наглядный,
зримый облик, который творится народностью и в котором для
народности открывается вся история.
Но это история, которая раскрывается творением слова в
«органическом» мире Греции. В отличие от греческой борьбы богов новая
история есть «оставленность богами». Это боги - те же греческие боги,
ставшие теперь богами поэзии Гёльдерлина в «скудном» мире
современности. Как «истолкование истолкования», как воспроизведение
своего фундаментального круга, философия Хайдеггера замыкает мир
на этих Гёльдерлиновских богах.
Теперь уже можно говорить о той «судьбе», которую в философском
круге Хайдеггера испытывают и история, и искусство как поэтический
язык. Если внутрь «Истока художественного творения», этой
центральной работы философа, вошли совершенно реальные произведения
искусства, которые философ называет, на которые указывает, которые
разбирает и интерпретирует, если эти произведения вошли туда из
«самой жизни», то они стали теперь уже основой мира, а мир, раскрытый
в истине творения искусства, стал ареной борьбы богов или ареной,
которую оставили боги; вся корреляция в целом, весь круг, круг мира,
испытал в философии Хайдеггера сугубое преобразование.
5. Преобразование слова
Это преобразование всего герменевтического круга в целом не
может быть изложено в законченном виде, поскольку оно не приводит
к какому-либо зримому новому результату, а являет собой внутреннее
исчерпание самой проблематики, бесконечность которой в тех или
иных формах истолковывается как безнадежность. Кроме того, и по
чисто внешним причинам это преобразование может быть в
настоящем случае только намечено как направление движения, как
тенденция. В таком схематическом изложении общей тенденции достаточно
будет указать некоторые превращения языка как языка поэтического.
А. Работа Хайдеггера о Гёльдерлине переосмысливает то крайнее,
чего достиг философ в «Истоке художественного произведения», —
утверждение о том, что в поэзии происходит именование богов.
Философия Хайдеггера не становится мифологией или теологией от такого при-
408
знания, но перестраивается внутренне. Также как раньше, внимание
философа было перенесено с отвлеченного по форме феноменологического
выяснения фундаментального круга «открытости здесь-бытия» на, так
сказать, «качественную данность» этого круга в виде «мира», так теперь
этот «мир» конкретно осмысляется в виде владычествующих в нем богов,
присутствующих или уходящих в свою даль. Как бы при этом философ
не продолжал иметь в виду все тот же самый фундаментальный круг
бытия, как бы ни продолжал подчеркивать все тот же самый его смысл,
эти «боги» уходят в сторону от понятийного конструирования мира и
помогают строить космическую картину мира, которую как таковую все
труднее «убирать» каждый раз назад, укладывая все в ту же «речь» как
бывший «экзистенциал здесь-бытия». Не случайно, что этот
космический мир Гёльдерлиновских богов со стороны может казаться просто
объективным миром природы и поэтических и мифологических образов.
а. «Поэзия есть учреждение через слово и в слове.
Но что учреждается таким образом?
Нерушимое («das Bleibende», по слову Гёльдерлина).
Но может ли быть учреждено нерушимое? Разве оно не всегда уже
наличествует?
Нет! Нерушимое именно и должно быть остановлено, чтобы не быть
унесенным прочь, простое - вырвано из смешения, мера должна быть
предположена безмерному. То должно явиться в открытом, что несет на
себе сущее в целом и владычествует во всем нем. Бытие должно быть
раскрыто, разверсто. Ибо именно нерушимое и есть мимолетное».
б. «Поэт именует богов и именует все вещи... Так сущее
становится известным как сущее... Сказание поэта есть учреждение... в
смысле вольного дара... и в смысле прочного полагания человеческого
существования («дазайн») на твердую основу».
в. «Основа человеческого существования («дазайн») есть разговор
(диалог) как совершение языка. Но праязык есть поэзия как
учреждение бытия».
г. «Гёльдерлин поэтически творит сущность поэзии — но не в
смысле вечного понятия. Такая сущность поэзии принадлежит одному
определенному времени (эпохе)... Учреждая заново сущность поэзии, он
впервые определяет новую эпоху. Это - время улетевших прочь богов
и время грядущего бога. Это скудное время, ибо оно стоит под знаком
двойного отсутствия: уже нет отлетевших богов и еще нет грядущего»60.
Здесь нет возможности разворачивать сложную и противоречивую
картину самодвижения образов в этом «круге понимания», когда Хай-
деггер истолковывает Гёльдерлина через свою философию и
истолковывает свою философию через Гёльдерлина. Границы между Гёльдерли-
ном и Хайдеггером в этих работах нет (см. письмо М. Коммереля Хай-
деггеру от 29 июля 1942 г.61). В этом круге истолкования несомненное
особое, самобытное существование получают такие представления,
которые в лучшем случае только можно ввести в фундаментальный круг
бытия. Такова «природа», которая «временнее всех времен» и которая
как «чудесно-всеприсутствующая» «уже заранее раздаривает всему
действительному такую про-реженность, в открытости которой может
явиться все, что только ни есть действительное»62. Таково, для приме-
409
pa, представление о той «промежуточности» между богами и людьми, в
которую вброшен бывает поэт и изнутри которой он решает, кто
человек и где его жительство63. Связное изложение всех этих представлений,
которого не дает и сам Хайдеггер, совершенно немыслимо здесь и
вообще трудно. Но более важно, чем самобытное движение всех
отдельных представлений, именно то обстоятельство, что Хайдеггер в этой
встрече с Гёльдерлином нигде не дает связной картины и связного
изложения, но фактически понимает такую «встречу» как глубоко
существенный, нескончаемый диалог.
Б. Подобно всякой беседе, этот диалог протекает как внутренне
бесконечный и строит себя как свободный разговор, не связанный
никакими заранее намеченным планом. Если это так, то тогда словам
Хайдеггера о «разговоре», в котором только и совершается язык,
следует придать самое существенное значение.
Философ может в разговоре со своим собеседником иметь в виду
свою философскую платформу, она предполагается как основа, но
сам-то разговор служит для того, чтобы задаваться новыми
вопросами, и для того, чтобы в процессе разговора осмыслять разные
встречающиеся на пути вещи. Истолковывая речь как разговор, философия
истолковывает и сама себя.
Совершенно так, как истина была осмыслена как речь, речь как
поэтический язык, язык осмыслен теперь как разговор. Все подобные
переосмысления как будто остаются в пределах одного и того же или
примерно одного и того же. Но это «примерно» и решает здесь все.
Конечно, «абстрактно» говоря, и речь как разговор можно связать с кругом
понимания, обоснованным в «Бытии и времени» и воспроизведенным
в нашем изложении. Но конкретно, в развитии философской мысли,
эти переосмысления истины в речь, речи в поэзию, поэзии в разговор
суть ступени отхода от круга понимания. Философия, как это и
должно было быть в этом случае, берет на себя эти переосмысления и из
философского рассуждения превращается в «как бы» поэтическое
произведение, разыгрывая его внутри себя в своих формах, а из такого
поэтического произведения преобразуется в теоретически бесконечный
диалог. Значит, тот круг диалога, где замкнуты друг на друге
философское «вопрошание» и поэтическая речь, Хайдеггер и Гёльдерлин, - это
тот же (символически присутствующий здесь!) круг, что и круг в бытии,
это диалог человека и бытия, взаимно предопределенных у Хайдеггера.
Это тот же круг, но теперь осталось только размыкать его, ибо
тенденция переосмысления влечет в эту сторону. Круг остается, но остается
как заданный для философии самой этой философией, так что теперь
мысль может сколь угодно далеко уходить от него, коль скоро он задан.
Создается новая ситуация, истолкование которой не случайно
дается в сочетании, озаглавленном «Из разговора о языке».
а. «Выражение «герменевтика» выводится из греческого глагола
«hermeneyein». Глагол этот связан с существительным «hermeneys»,
которое можно сопоставить с именем бога - Гермес, играя в ту игру
мышления, которая обязательнее строгости науки. Гермес— вестник богов.
Он приносит весть о сужденном; «герменеуейн» — извещающее
толкование, коль скоро оно способно слушать весть. Такое извещение стано-
410
вится истолкованием того, что уже сказано поэтами, которые сами, по
слову Сократа в платоновском диалоге «Ион» (534 с), «hërmênes eisin ton
theôn», «вестники богов»... Из сказанного делается ясным, что
герменевтика означает не только лишь истолкование, но уже принесение
вести... Все дело в том, чтобы выявить бытие сущего - но не
метафизически, а так, чтобы бытие само явилось к своему сиянию (Scheinen)»64.
б. «Само бытие - это значит: раскол единства, раздвоенность
сложенности, раскрытость скрытого в себе. Вот что требовательно
окликает человека своей сущностью»65- это «герменевтическая
сопряженность».
в. «Мне кажется, мы движемся в круге. Разговор о сущности языка
должен быть вызван изнутри его существа. Но как же возможно это,
если не увлечься вначале слушанием, которое проникло бы в существо?
- Это странное отношение я назвал однажды герменевтическим
кругом.
- Он повсюду в сфере герменевтического, значит, везде, где
согласно вашему сегодняшнему объяснению господствует отношение вести
и принесения вести.
- Вестник должен уже προ-исходить от вести. Но он уже должен
отправиться за вестью.
- Не говорили ли вы раньше, что круг этот неизбежен?
- Конечно. Но необходимое признание герменевтического круга
не означает, что вместе с представлением о кружении изначально
познана в опыте герменевтическая сопряженность.
- Итак, вы отказываетесь от своего прежнего понимания.
- Несомненно — в той мере, в какой разговор о круге всегда
остается на поверхности.
- Как бы вы изложили герменевтическую сопряженность теперь?
- Я решительно избегал бы изложения, равно как говорения о
языке»66.
Разумеется, было бы крайне неосторожным пытаться
комментировать подобные «темные» места по отдельности. Важно установить
положение вещей в общих чертах. Эту новую ситуацию можно было бы
назвать переосмыслением разговора как молчания. Так новое положение
логично встает в цепочку прежних переосмыслений.
В. Рискуя свести рассуждения философа к некоторой банальности,
мы можем взять из них самое нужное для наших целей. Получается, что
бытие «как таковое», действительность «как таковая» не дают покоя
мыслителю. Но в поисках этой «самой» действительности он доходит до
границ языка; язык не дает этого «изначального» истолкования
действительности - ни как язык «замкнутый» в систему терминов,
понятий, ни как язык «открытый» в свободном диалоге. Но это, в общем, и
значит не что иное, как именно «банальность»: действительность, или
бытие, как бы ни было оно сопряжено со своим сознанием,
«скрывается» за языком и как таковое не может войти в язык. Но язык тогда,
по крайней мере практически, по-прежнему оказывается той стеной, в
которую упирается мысль философа. Мысль умолкает, поскольку есть
действительность, которая предшествует языку. «Сказание мышления
умиротворилось бы, войдя в свою сущность, если бы стало неспособ-
411
Ным выговаривать то, что должно остаться несказанным. И благодаря
такой неспособности мышление сразу же оказалось бы перед сутью»67.
Но это не отменяет самой «герменевтической сопряженности», когда
бытие окликает человека, а человек слушает бытие, внимает ему. Само
бытие есть при-сутствие, как раскрытие скрытого, раздвоенность
сложенного, раскол единства. Это и есть прежняя «раскрытость», или «раз-
верзтость», внутри которой, как говорилось в «Истоке», борются
земля и небо.
Но нам важно узнать судьбу, которую претерпевает искусство при
таком новом переосмыслении языка. Искусство, можно сказать
теперь, говорит молча. Но ведь на «поэтический глагол» опирается весь
мир в его раскрытости.
а. «Поэтически-творческое сказание есть «существование» («да-
зайн») — раскрытие бытия в его истине»68.
б. «Поэтически-творческое сказание есть пребывание при боге и для
бога... Пребывание «при»: дать, чтобы сказалось тебе присутствие бога».
в. «Дуновение ради ничего»69.
«Дуновение ради ничего» — эта цитата из третьего «Сонета к
Орфею» Рильке. Но для Хайдеггера эта строка есть образное выражение
молчащего поэтического слова. Это конечное молчание в диалоге
двух сопринадл ежащих друг другу сторон. «Дуновение», «дыхание»
Хайдеггер поясняет как «вдыхание» и «выдыхание», вдох и выдох.
Вот такое дыхание само по себе и есть диалог. Так что слова
«обращение» (за ответом) и «ответ» («дать сказать себе») - это менее
точные слова для выражения того, что более буквально выражается
словами «вдох» и «выдох». Но уже обращение и ответ есть
переосмысления слушания и ответа. Слушание и ответ были теми словами,
которыми воспользовался Хайдеггер, когда отходил от
«несообразного» освоения действительности с помощью философской
терминологии. Теперь же «слушание» и «ответ» оказываются слишком грубой
материей для молчащего понимания. «Вдох» и «выдох» как тонкий
эфир служат «материей» герменевтической сопряженности. Но в
этой материи все еще «вопрос» и «ответ» — в сублимированном,
снятом виде. Но «дуновение» есть еще и «дух», «логос» - направление
мысли, которое здесь у Хайдеггера даже не упомянуто и которое тем
не менее обязательно: оно связывает мысль Хайдеггера с исконно
мифологическими образами. Наряду с этим хайдеггеровский «бог»
отнюдь не указывает в сторону теологии; как уже было видно, это
«понятие» было более чем подробно разработано в хайдеггеровской
герменевтике, на многих ступенях ее переосмыслений.
Между прочим краткие замечания одной из последних работ
Хайдеггера проливают неожиданный свет на истолкование искусства в его
эстетической сущности.
«Дуновение ради ничего» делается у Хайдеггера определением
эстетической сущности искусства. Причем определение это, как далеко не
зашел Хайдеггер в своих переосмыслениях искусства, по-прежнему и
совершенно явно остается связанным с кантовской эстетической
традицией. Но еще важнее то, что в связи с этим сама «герменевтическая
сопряженность» осмысляется эстетически.
412
Пение, «поющее сказание» поэта, чуждо желаний, чуждо
стремления к чему-либо такому, что можно достичь как эффект в
результате человеческих усилий. И поэтическое «пребывание» есть
простая «готовность», которая ничего не желает, не «волит». Поэзия
существует не ради каких-либо целей, но «ради ничего». В этом
смысле она есть «дуновение».
Редуцированный до молчания, сублимированный до крайних
пределов «духовности» (до «дыхания») герменевтический круг бытия по-
прежнему осмысливается эстетически. Но такое осмысливание не
просто продолжает линию «Истока художественного произведения»,
а, скорее, стоит на диаметрально противоположном полюсе данной
здесь интерпретации, как исчерпание той «сопряженности»
искусства и бытия, искусства и истории, которая была чрезвычайно яркими
красками обрисована в «Истоке». «Исток», можно сказать, уничтожал
эстетическую сущность произведения искусства - тем, что
опрокидывал ее в само историческое бытие, которое стремился понять во всей
возможной полноте. В связи с этим, эстетическое в произведении
искусства как бы переставало существовать, поскольку сам мир должен
был раскрыться в произведении искусства и оно становилось полем
реальной борьбы, реальной истории, хотя бы и обозначенной в духе
древней трагедии как борьба «старых и новых богов». Но на деле
произведение искусства и могло выполнять такую функцию
«просветления сущего» только как специфически-эстетическое, только как
таковое оно могло служить соединительным звеном «двух действительно-
стей», смыкаемых в философии Хайдеггера.
Но это направление - а) в сторону сублимации герменевтической
сопряженности; б) в сторону поэтического слова как молчания, как
умолкания; в) «за» слово, в сторону того загадочного, что все же
толкуется как слово, как «дыхание» слова, — и есть судьба искусства у
Хайдеггера.
У Хайдеггера не просто разворачивается временной
«исторический» круг понимания - непонимания; такой круг просто «вбирал» бы
в себя всю историю и в этом смысле оказался бы опять «вечным», но
Хайдеггер так или иначе обнаруживает тот круг в историческом
движении, тем самым «снимая» историю в своих, кажущихся столь
отвлеченными, понятиях.
Миру органической понятности, истолкованности
противопоставляется и «вечный» мир ложной «всеоткрытости», и исторический мир,
утративший свою органичность. Эти противопоставления нельзя
никак просто «верифицировать», проецируя на реальную историю. И тем
не менее здесь начала (или начатки) критики культуры, которая, в
частности, осуществляется и как критика искусства и его «судьбы». В
этом смысле «мир крестьянки», обрисованный в связи с картиной Ван
Гога, имеет свое значение в исторической горизонтали и в социальной
вертикали. Но в первую очередь это «идеологический образ», нечто
вроде консервативной утопии, которой отведено место в самой
«конституции» мира, толкуемого по «Бытию и времени». Эта
действительность, которая занимает структурное место «страшной»
действительности «первоначальных времен» у Боймлера.
413
Итак, разобранные у нас ступени осмысления мира как
«открытости здесь-бытия» таковы:
1) истина истолковывается как творение;
2) творение истолковывается как произведение искусства;
3) произведение искусства истолковывается как поэзия;
4) поэзия истолковывается как язык;
5) язык истолковывается как диалог;
6) диалог истолковывается как молчание, умолкание.
Такая эстетика ставит своей целью преодоление субъективной
картины мира нового времени, а эта субъективная картина мира есть по
своему существу не что иное, как эстетика переживания. Эту
эстетику переживания Хайдеггер строит следующим образом:
1) Декартовский «переворот» в философии приводит к тому, что
бытие и сущее меняются местами: сущее понимает себя как то, что
«лежит в основе» (subjectum, греч. hypoceimenon), бытие понимается
как «противолежащее» (objectum). Проявляется «субъективное
сознание» и лежащая «напротив него» предметность: «Природа
приводится пред человека посредством пред-ставления человека. Человека
ставит пред собою мир как целокупность предметного пред стояния, а
себя ставит перед миром»70.
2) Субъективная картина мира дала возможность рассматривать
искусство «эстетически»: «Эстетика художественное творение берет как
предмет, как предмет чувственного восприятия, aisthesis, в широком
смысле слова». Такое восприятие «теперь» (т.е. в школе Дильтея и
вообще в «науках о духе») «именуют переживанием». «И, однако,
переживание есть, по-видимому, стихия, в которой гибнет искусство. И эта
гибель искусства происходит столь медленно, что занимает
несколько столетий»71.
3) Субъективное и эстетическое восприятие искусства сразу же
радикально переосмысливает все искусство. Так:
а) греческое творение (ergon), существующее как «энергия», — где
больше движения, чем во всех современных «энергиях», -
переосмысливается как «предмет», а предмет становится объектом переживания;
б) полагание (thiesis), которое подразумевает установление
произведения внутрь «открытости», истолковывается (уже Гегелем) как
«непосредственное полагание предмета»;
в) греческое произведение «запущено в свои пределы» (peras),
которые впервые «допускают, чтобы бытие сияло» в них, но теперь
«устойчивый облик» осмысляется как «строй», как «техническое устройство»72.
г) прекрасное как «явление истины в творении» понимается теперь
на основе переживания73.
Коль скоро философия Хайдеггера притязает на проблематику
универсально-историческую, все эти «трансформации» никак не могут
рассматриваться внутри нее как вообще «ложные», но, напротив, должны
истолковываться в связи с исторической судьбой «истины» и бытия.
Философия Хайдеггера в своем фундаментальном герменевтическом
круге стремится снять традиционные для идеализма нового времени
противопоставления типа «я— не-я», «субъект— объект»; поэтому она
и должна идти против «субъективного сознания» и не может не исхо-
414
дить именно из него. Из этого противопоставления субъекта объекту
получается круг, не снимающий сущности
субъективно-идеалистической позиции. Хайдеггер должен идти против «субъективного сознания»
и в области эстетического. И здесь он не может поместить себя в
«чистое» пространство и строить философию в пустоте, а должен сначала
преодолевать эстетическое и начать с эстетической позиции. В
философии Хайдеггера и не происходит ничего другого, кроме
разворачивания прежнего субъективно-эстетического сознания.
Но Хайдеггер - философ в критическую пору, философ, который
дает некий субъективно-идеалистический синтез, возможный как
завершение на принципиальном, глубоком уровне традиции идеализма,
приходящей к своему самосознанию и к своей универсальной
деструкции. Но то же самое происходит и с субъективно-эстетическим
сознанием, которое как критическое свое завершение довершает свое
самоуничтожение.
Это сознание не может уничтожить себя как позицию, но оно
ликвидирует сущность своей позиции, удаляясь в «молчание».
Далее, Хайдеггер никуда не может уйти со своей эстетической
позиции, но внутри круга своей философии может по-разному освещать
произведение искусства, которое при этом способно как бы
утрачивать свою эстетическую сущность. Но, становясь открытием истины,
произведение искусства не может переставать у Хайдеггера быть
произведением искусства, т.е. явлением эстетическим в более широком
смысле слова. И тем не менее «больной» пункт хайдеггеровского
подхода к искусству заключен именно в том моменте его
переосмысления, когда произведение, так сказать, наполняется до краев истиной
исторического бытия, раскрытого в нем. Это совершившееся в
философии Хайдеггера «отождествление» истины и искусства, проходящее
у него через много ступеней, смыкание истин исторического бытия и
искусства несет в себе иную возможность — возможность ликвидации
специфики искусства.
Эта возможность осуществляется, когда тождество истины и
искусства извлекается изнутри их тончайшей хайдеггеровской
«сопряженности». Искусство может тогда, к примеру, рассматриваться как
непосредственная, хотя и зашифрованная, истина исторического. Для такого
истолкования искусства «фатальными» оказываются слова Хайдеггера
о греческой трагедии как о «борьбе старых и новых богов», тогда как в
трагедии ничего не «представляется» и не «разыгрывается», -
положения, вполне понятные внутри философии Хайдеггера. Эти слова
остаются вполне прагматическим требованием, и они объективно ложатся
в основу «антиэстетики», сводящей всякое явление искусства к его
фактической, жизненной роли: искусство, коль скоро у него вообще есть
смысл, оказывается по этому самому уже жизненным явлением, оно
как раз поэтому отнюдь не есть уже что-то эстетическое. Что же
остается в таком произведении искусства от искусства? Искусство должно
еще называть здесь некоторую истину бытия, зашифровывая ее в
своем тексте, — в этом остается его специфика. Но разрушение
традиционной эстетики продолжается- оказывается, что не только всякое
«вчуствование» в произведение искусства, всякое его «переживание»
415
уже давно забыто, но и представление о произведении как «гештальте»
оказывается слишком отвлеченным и слишком эстетским. Не
приходится «опрокидывать» произведение искусства в жизнь - оно с самого
начала уже здесь, в жизни, - но можно только в теории догонять эту
жизненность искусства, а эта жизненность состоит в том, что
искусство раскрывает нам истину истории; это очень много, но тут есть
«традиционность»: то, в чем заключена истина, еще называется искусством,
но это искусство держится тем, что осуществляет великое
противостояние человека и бытия, человека и мира. Как оно осуществляет это
противостояние, выясняя его суть и истину, это еще может быть тайной,
но, во-первых, ясно, что это так и не может быть иначе, а во-вторых,
что будет, если эта ниточка порвется...
Но, конечно, не только в одном этом моменте философия Хайдег-
гера предопределяет развитие буржуазной эстетики в ее кризисных
моментах. Это объясняется универсальностью философии Хайдеггера
как философии катастрофы буржуазного сознания. Не составило бы
большого труда показать, что для псевдорадикальной буржуазной
мысли характерна эстетизация действительности и соответствующее
такой эстетизации (как «противочлен») насильственное раскрытие
искусства в сторону «жизни». Эстетизированная действительность и
деэстетизированное искусство в буквальном смысле встречаются и
почти отождествляются. Если это и выглядит карикатурой на чисто
теоретическое построение философии Хайдеггера, то общие корни
«оригинала» и «карикатуры на оригинал» ясны, несмотря на все
историческое отстояние «классического» Хайдеггера от сегодняшнего дня
искусства и эстетики. Эти корни - в «катастрофическом»
истолковании действительности под знаком «конца», в таком истолковании,
которое далеко не остается просто теоретическим положением, но
идет от самого восприятия жизни и ее переживания.
Буржуазное искусство издавна разыгрывает «историческую
катастрофу» в своих формах. Буржуазная эстетика разыгрывает
теоретическую «катастрофу истории», как только универсальное завершение
«эстетики» в философии Хайдеггера заставляет ее осознавать как
«переворот» произведенное у Хайдеггера кругообразное построение бытия.
Эстетическое сознание, переживающее как переворот завершенность
идеалистической традиции, вновь начинает подходить к искусству с
«просветительским» прозаическим рационализмом, возникающим
здесь как продукт распада.
Закончим одним примером. Вальтер Бимель,
философ-феноменолог, особенно четко выразил свою философскую концепцию
искусства. Воспроизведем ее в сжатой форме.
1. «Эпоха, которая сводила общение с искусством к
эстетическому наблюдению, кончилась»74. Этот тезис, несомненно,
предполагает хайдеггеровскую критику субъективно-эстетического сознания,
как уже совершившийся этап, но вопрос поставлен шире и
радикальнее. Под «эстетическим наблюдением» разумеется не пассивность
эстетического восприятия как восприятия субъективного (оно не
непременно пассивно), но имеется в виду рассмотрение искусства
именно как искусства.
416
2. Однако это «эстетическое наблюдение» внезапно оказывается
чем-то вроде практической точки зрения на искусство: хотя эпоха и
пришла к концу, но это не значит, что «мы не можем вновь и вновь
впадать в нее (лучше было сказать - «в него», не в эпоху, а в
эстетическое рассмотрение, наблюдение. - A.M.), поскольку такой способ
подхода, как кажется, непосредственно напрашивается, есть самое
элементарное (буквально: «ближайшее к нам». - A.M.), предъявляет
наименьшие требования к наблюдателю». Но это шаг назад и по
сравнению с Хайдеггером, который не разрывал «теоретическое» и
«практическое» сознание, а старался совместить их; по крайней мере
Хайдеггеру всегда было ясно, что теоретические требования нельзя
навязывать практике, т.е. например, нельзя навязывать исторической
действительности иной способ раскрытия истины, нежели тот,
который возможен в эту эпоху.
3. «Преодоление эстетического рассмотрения искусства
происходит в момент, когда мы начинаем серьезно относиться к искусству и
видим в нем язык, в котором не обычным образом называются вещи
и ситуации, но открывается способ господствующей сопряженности с
миром, впрочем, в некоего рода иероглифическом письме,
испытывающем потребность в интерпретации, для того, чтобы стать понятым».
Несомненно, здесь зафиксирован сам переворот в эстетическом
сознании, безусловно под прямым воздействием идей Хайдеггера.
Наиболее сомнительным является в этом контексте представление о
произведении искусства как иероглифическом письме. Это представление
удваивает «язык» искусства— потому что 1) искусство есть язык,
2) язык есть иероглиф, - а на деле переносит смысл в бесконечность,
поскольку сама интерпретация «шифра» уже есть язык — он или
сводит «необычность именований искусства» к чему-то банальному или
же сам говорит «необычным» языком. В отличие от хайдеггеровского
круга истолкования такое истолкование вновь оборачивается дурной
бесконечностью, потому что так или иначе понятая
«действительность» всегда остается за стеной языка, всегда отделена от «меня»
этой стеной.
Черный юмор состоит в том, что Бимель начинает свою книгу с
анализа рассказа Кафки «В штрафной колонии». Здесь машина
выписывает на спине приговоренного к смерти текст («Чти свое
начальство»), который осужденный должен прочитать «спиной», в то время
как заложенная в машину «программа» (говоря современным языком)
не дает прочитать себя даже и глазами. Нельзя не видеть в этом
жутком образе символ интерпретации, которая заранее, и притом строго
методически, запутывает себя, — это не значит, однако, что язык
искусства не есть, вообще говоря, в определенном смысле иероглиф.
4. Философский анализ произведения искусства «предпринимается
с целью узнать что-либо о «владычествовании близости, в которой мы
находимся». «Владычествование близости», или «близи», - это по
стилю заимствование у Хайдеггера. Но по существу этот тезис
противоречит изложенному у нас выше (пункт 2): анализ «близи» должен
начинаться с «самого близлежащего», а это «близлежащее» теоретически
отвергается. Что же такое «близость»? Это дильтеевская и хайдеггеровская
417
непосредственность понимания, основа «мирового отношения» («рас-
крытость»?).
5. Философский анализ произведения искусства разделяется на два
шага — на истолкование и интерпретацию, причем истолкование
«истолковывает» строение, структуру произведения искусства, чтобы
стало видимым, что и как в нем связано. Только потом уже встает
вопрос о значении — интерпретации. Неверно было бы думать, что
«строение» разумеет только все «формальное». Хотя это и не так, но
разделение это нарушает самое первое требование хайдеггеровского
герменевтического круга и не ставит на его место ничего более
убедительного. Но тогда само истолкование, предшествующее вопросу о
значении целого, обращается в формальную проблему.
Для нас главное в методологических положениях Бимеля,
конечно, не внешняя путаница, а внутреннее сознание эстетического
переворота, которое руководит философом. Этот эстетический переворот
и совершается на эстетических развалинах, ведущих к путанице.
Работа Бимеля приведена здесь только для примера. Однако в ней, по-
видимому, проявляются типичные, основополагающие черты целого
направления современной философской эстетики на Западе.
Примечания
1 Baeumler H. Das mythische Weltalter: Bachofens romantische Deutung des Altertums.
München, 1965, S. 268, 265. Впервые этот текст был издан в 1926 г.
2 Ibid., S. 265, 268.
3 Heidegger M. Sein und Zeit. 15. Aufl. Tübingen, 1979, S. 3, 4.
4 По-русски есть перевод-калька слова «да-зайн» — «тут-бытие», которым
пользуется, ссылаясь на В. Соловьева, Г. Шпет (см.: Шпет Г. Явление и смысл. М., 1914,
с. 39). Точный, но не буквальный перевод - «бытие-сознание» (В. Сеземан).
5 Heidegger M. Op. cit., S. 4, 7.
6 Ibid., S. 12.
7 Ibid., S. 7.
8 Ibid., S. 12, 52.
9 Ср.: «У всякой экзистенции — характер здешности», «здешность и
экзистенция — «эквивалентные»... выражения» (Metzger А. Der Gegenstand der
Erkenntnis. - Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, 1925,
Bd. 7, S. 666).
10 Heidegger M. Op. cit., S. ИЗ.
11 Ibid., S. 7.
12 Ibid., S. 52. Человек всегда как-то расположен в (историческом) мире:
«расположенность» - экзестенциал здесь-бытия («Бытие и время», § 31).
13 Ibid., S. 126.
14 Ibid., S. 56.
15 Ibid., S. 119,56.
16 Ibid., S. 126.
17 Ibid., S. 119.
18 Man - неопределенно-личное местоимение третьего лица; в этом «man»
«усредняется» все конкретное; ср. у Гегеля: «Что поделаешь, - бесцветная и безвкусная усред-
ненность: она ничему не дает сделаться ни по-настоящему дурным, ни
по-настоящему хорошим» (Hegel. Briefe / Hrsg. von J. Hoffmeister. Berlin, 1970, Bd. II, S. 61).
19 Heidegger M. Op. cit., S. 126-127.
418
20 Ibid., S. 142.
21 См.: Бакрадзе К.С. Интересная работа о Хайдеггере. - Вопросы философии,
1964, № 12, с. 165.
22 Heidegger M. Op. cit., S. 148-149.
23 Ibid., S. 149.
24 Ibid., S. 149.
25 Ibid., S. 151.
26 Ibid., S. 154.
27 Ibid., S. 151.
28 «Сущее, для которого как для бытия в мире дело идет о самом его бытии,
имеет аналогическую структуру круга» (Ibid., S. 153).
29 Ibid., S. 151, 153.
30 Здесь нельзя не остановиться на этом и многих других понятиях, которые
сделали бы картину более яркой и более верной.
31 Эта проблема разработана в книге Ганса Георга Гадамера (Gadamer H.G.
Wahrheit und Methode. Tübingen, 1960, 4. Aufl. 1976, S. 276-278).
32 Heidegger M. Op. cit., S. 315-316 (# 63).
33 Ibid., S. 160.
34 Ibid., S. 167.
35 Ibid., S. 169.
36 См.: Heidegger M. Die Frage nach dem Ding. Tübingen, 1962, S. 22.
37 Heidegger M. Wegmarken. Frankfurt a. M., 1967, S. 349.
38 См.: Beierwaltes W. Proklos. Frankfurt a. M., 1965, S. 170-171.
39 Heidegger M. Holzwege. Frankfurt a. M., 1950, S. 83-84.
40 То есть подразумевается то же греческое слово legei «собирает, высказывает,
открывает», согласно интерпретации Хайдеггера.
41 Heidegger M. Holzwege, S. 89.
42 См.: Heidegger M. Ursprung des Kunstwerkes. Stuttgart, 1967, S. 68.
43 Ibid., S. 107.
44 Heidegger M. Nietzsche. Pfillingen, 1961, Bd. 1, S. 611. См. также «Ursprung des
Kunstwerkes» (S. 68-69), где названо пять способов, какими истина
устраивается в сущем.
45 Heidegger M. Ursprung des Kunstwerkes, S. 67.
46 Ibid., S. 68-69.
47 Ibid., S. 99.
48 Ibid., S. 89.
49 Ibid., S. 99-100.
50 Ibid., S. 29-31.
51 Ibid., S. 32.
52 Ibid., S. 86.
53 Ibid., S. 83-85.
54 Ibid., S. 87. Особенная хитрость состоит в том, что русские слова «начало» и
«конец» однокоренные, так что «начало» действительно заключает в себе
«конец» — в отличие от немецких слов!
55 Ibid., S. 88-89.
56 Dilthey W. Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften.
Studien. I. Hälfte. Berlin, 1910, S. 77-78.
57 Heidegger M. Ursprung des Kunstwerkes, S. 43.
58 Ibid., S. 88.
59 Ibid., S. 34. Вот фрагмент 53 Гераклита: «Всего отец - борьба, война (полемос),
всего владыка, и одних он делает богами, других людьми, одних - рабами,
других — свободными».
60 Heidegger M. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. 4. Aufl. Frankfurt a. M., 1971,
S. 43, 47.
419
61 Kommerell M. Briefe und Aufzeichnungen. Ölten; Freiburg, 1967, S. 400-401.
62 Heidegger M. Erläuterungen..., S. 59.
63 Ibid., S. 47.
64 Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. Pfullingen, 1959, S. 121.
65 Ibid., S. 122. К сожалению, в этом пункте «б» может быть дан только
приблизительный и описательный перевод.
66 Ibid., S. 150-151.
67 Heidegger M. Aus der Erfahrung des Denkens. 2. Aufl. Pfullingen, 1965, S. 21.
68 Ср.: «Мы пришли слишком поздно для богов и слишком рано для Бытия.
Начатая поэма Бытия - вот что такое человек» (Ibid., S. 7). «Поэма» (Gedicht) - в
смысле творения как творения поэтического.
69 Heidegger M. Phänomenologie und Theologie. Frankfurt a. M., 1970. S. 47.
70 Heidegger M. Holzwege, S. 265.
71 Heidegger M. Ursprung des Kunstwerkes, S. 91.
72 Ibid., S. 97-98.
73 Ibid., S. 93-94.
74 Biemel W. Philosophische Analysen zur Kunst der Gegenwart. Den Haag, 1968,
Bd. 28. Phänomenologica, S. VII ff.
Мартин Хайдеггер: человек в мире
В 1989 году исполнилось сто лет со дня рождения немецкого
философа Мартина Хайдеггера. Умер он в 1976 году: большинство из нас было
его современниками, лишь меньшинство об этом знало.
Хайдеггер принадлежит у числу самых значительных имен в
мировой философии. В чем заключаются приметы значительности? Для
меня в том, что когда философ начинает размышлять, в движение и
волнение приходит вся история всемирной философии, потому что
его мысль касается самых главных проблем, занимавших умы. Когда
думает Хайдеггер, реальностью, близкой к ощутимой, становится для
нас прежде всего ранняя греческая философия. Но не остаются в
состоянии дремоты и другие философы — от Платона и Аристотеля до
Канта и Эдмунда Гуссерля, чье влияние на современную культуру
столь велико...
Что можно сказать о философе на нескольких страницах? О
философе, чье творчество не терпит резюме и рефератов? О философе,
который в последние десятилетия жизни полагал, что так и остался
непонятым? Только то, что можно; только то, что скажется... Самые
первые попытки приближения, приобщения к ходу и фактуре мысли. Эти
страницы не для специалистов, они для тех, кто проявляет интерес к
философии. Как единство личности и мысли, философ требует доброй
воли разумения и нуждается в любопытстве, которое присуще людям.
Начнем с простого.
Проселок
Он от ворот дворцового парка ведет в Энрид. Старые липы смотрят
вслед ему через стены парка, будь то в пасхальные дни, когда дорога
светлой нитью бежит мимо покрывающихся свежей зеленью нив и
пробуждающихся лугов, будь то ближе к Рождеству, когда в метель она
пропадает из виду за первым же холмом. От распятия, стоящего в
поле, она сворачивает к лесу. Близ опушки она привечает высокий
дуб, под которым стоит грубо сколоченная скамья.
Бывало, на этой скамье лежало сочинение того или иного великого
мыслителя, которого пытался разгадать неловкий юный ум. Когда
загадки теснили друг друга и не было выхода из тупика, тогда на подмогу
приходил идущий полем проселок. Ибо он безмолвно направляет
стопы идущего извилистой тропой чрез всю ширь небогатого края.
И до сих пор мысль, обращаясь к прежним сочинениям или
предаваясь собственным опытам, случается, вернется на те пути, которые
421
проселок пролагает через луга и поля. Проселок столь же близок шагам
мыслящего, что и шагам поселянина, ранним утром идущего на покос.
С годами дуб, стоящий у дороги, все чаще уводит к
воспоминаниям детских игр и первых попыток выбора. Порой в глубине леса под
ударами топора падал дуб, и тогда отец не мешкая пускался в путь
напрямик через чащобу и через залитые солнцем поляны, чтобы
заполучить для своей мастерской причитающийся ему штер древесины. Тут
он не торопясь возился в перерывах, какие оставляла ему служба при
башенных часах и колоколах, - и у тех и у других свое особое
отношение к времени, к временному.
Мы же, мальчишки, мастерили из дубовой коры кораблики и,
снабдив гребными банками и рулем, пускали их в ручье Меттенбахе
или в бассейне у школы. Эти дальние плавания еще без труда
приводили к цели, а вскоре оканчивались на своем берегу. Грезы странствий
еще скрывались в том едва ли замечавшемся сиянии, какое
покрывало тогда все окружающее. Глаза и руки матери были всему границей и
пределом. Словно хранила и ограждала все бытие и пребывание ее
безмолвная забота. И путешествиям-забавам еще ничего не было
ведомо о тех странствиях и блужданиях, когда человек оставляет в
недосягаемой дали позади себя любые берега. Меж тем твердость и запах
дуба начинали внятнее твердить о медлительности и постепенности,
с которой растет дерево. Сам же дуб говорил о том, что единственно
на таком росте зиждется все долговечное и плодотворное, о том, что
расти означает — раскрываться навстречу широте небес, а вместе
корениться в непроглядной темени земли; он говорил о том, что само-
родно-подлинное родится лишь тогда, когда человек одинаково и по-
настоящему готов исполнять веления превышних небес, и хоронится
под защитой несущей его на себе земли.
И дуб продолжает по-прежнему говорить это проселку, который,
не ведая сомнений в своем пути, проходит мимо него. Все, что
обитает вокруг проселка, он собирает в свои закрома, уделяя всякому
идущему положенное ему. Те же пахотные поля и луга по пологим
скатам холмов во всякое время года сопровождают проселок на его
пути, приближаясь и удаляясь. Все одно: погружаются ли в сумерки
вечера альпийские вершины высоко над лесами, поднимается ли в
небеса, навстречу летнему утру, жаворонок там, где проселок пролег
грядою холмов, дует ли со стороны родной деревни матери
порывистый восточный ветер, тащит ли на плечах дровосек, возвращаясь к
ночи домой, вязанку хвороста для домашнего очага, медленно ли
бредет, переваливаясь подвода, груженая снопами, собирают ли дети
первые колокольчики на меже луга или же туманы целые дни
тяжкими клубами перекатываются под нивами - всегда, везде, и
отовсюду в воздухе над дорогой слышится зов - утешение и увещание, в
котором звучит все то же самое.
Простота несложного сберегает внутри себя в ее истине загадку
всего великого и непреходящего. Незвана^ простота вдруг входит в
людей и, однако, нуждается в том, чтобы вызревать и цвести долго.
В неприметности постоянно одного и того же простота таит свое
благословение. А широта всего, что выросло и вызрело в своем пре-
422
бывании возле дороги, подает мир. В немотствовании ее речей, как
говорит Эккехардт, старинный мастер в чтении и жизни, Бог впервые
становится Богом.
Однако зов проселка, утешающий и увещевающий, слышится лишь
до тех пор, пока живы люди, которые родились и дышали его
воздухом, которые могут слышать его. Эти люди покорны своему истоку, но
они не рабы махинаций. Если человек не подчинился ладу зова,
исходящего от дороги, он напрасно тщится наладить порядок на земном
шаре, планомерно рассчитывая его. Велика опасность, что в наши дни
люди глухи к речам проселка. Шум и грохот аппаратов полонили их
слух, и они едва ли не признают его гласом божиим. Так человек
рассеивается и лишается путей. Когда человек рассеивается,
односложность простоты начинает казаться ему однообразной. Однообразие
утомляет. Недовольным всюду мерещится отсутствие разнообразия.
Простота упорхнула. Ее сокровенная сила иссякла.
Вероятно, быстро уменьшается число тех, кому еще доступна
простота - благоприобретенное достояние. Однако те немногие - они
останутся; и так везде. Питаясь кроткой мощью проселочной дороги,
они будут долговечнее, чем гигантские силы атомной энергии,
искусно рассчитанные человеком и обратившиеся в узы, что сковали его же
собственную деятельность.
Настоятельный зов проселка пробуждает в людях вольнолюбие -
оно чтит просторы и от печали в удобном месте не преминет
перешагнуть к светлой радости, что превышает все. Она же отвратит их от той
неладности, когда работают, лишь бы работать, потворствуя
ненужному и ничтожному.
Светлая радость ведения цветет в воздухе проселка, меняющемся
вместе с временами года, радость ведения, на первый взгляд нередко
кажущаяся мрачноватой. Это светлое ведение требует особой струнки.
Кому она не дана, тому она на веки чужда. Кому она не дана, у тех она
от проселка. На пути, каким бежит проселок, встречаются зимняя
буря и день урожая, соседствуют будоражащее пробуждение весны и
невозмутимое умирание осени и видны друг другу игры детства и
умудренная старость. Однако в едином слитном созвучии, эхо
которого проселок неслышно и немо разносит повсюду, куда только заходит
его тропа, все приобщается к радости.
Радость ведения - врата, ведущие к вечному. Их створ укреплен на
петлях, некогда выкованных из загадок здешнего бытия кузнецом-
ведуном.
Дойдя до Энрида, проселок поворачивает назад к воротам
дворцового сада. Узенькая лента пути, одолев последний холм, полого
спускается к самой городской стене. Едва белеет полоска дороги в свете
мерцающих звезд. Над дворцом высится башня церкви Св. Мартина.
В ночной тьме медленно, как бы запаздывая, раздаются одиннадцать
ударов. Старинный колокол, от веревок которого горели когда-то
ладони мальчика, вздрагивает под ударами молота, лик которого,
угрюмый и потешный, не забудет никто.
С последним ударом колокола еще тише тишина. Она достигает до
тех, кто безвременно принесен в жертву в двух мировых войнах. Про-
423
стое теперь еще проще прежнего. Извечно то же самое
настораживает и погружает в покой. Утешительный зов проселочной дороги
отчетливо внятен. Говорит ли то душа? Или мир? Или Бог?
И все говорит об отказе, что вводит в одно и то же. Отказ не
отнимает. Отказ одаривает. Одаривает неисчерпаемой силой простоты.
Проникновенный зов поселяет в длинной цепи истока.
Этот небольшой текст, написанный Мартином Хайдеггером
спустя несколько лет после окончания войны (впервые он был
опубликован в 1949 году), не показался ли он совсем далеким от всякой
философии? Разве это не автобиографический рассказ, автор которого
припоминает детство и свои родные места? Разве это не художественный
текст, в котором применительны характерные больше для лирики
разреженность и густота слов? Разреженность - потому что каждое
слово, полнясь и горя своим собственным внутренним смыслом,
отодвигается и отгораживается от соседних слов, зато приходит с ними в
новые, цепкие связи, где их уж ни оторвать друг от друга, ни разодрать
никакими усилиями, не уничтожив сам текст и смысл... Отсюда и
густота - связанное соединилось не кое-как, но такой существенной
связью, которая жива неистраченными первородными силами,
заключавшимися в слове (даже когда оно, совсем затертое, истаскалось в
обыденной речи), а теперь высвобожденными. Когда настоящая
лирическая поэзия перешагивает через трезвую и многословную
обстоятельность, она спаивает между собой слова, очистив их до яркости и
обнаженности. Не так ли и в этом тексте Хайдеггера?
Так, может быть, он из числа стихотворений в прозе, наподобие
тех, какие писал И.С. Тургенев? И может быть, тогда он отмечен той
лирической необязательностью высказывания, вследствие которой
поэтический текст как бы и невозможно притянуть ни на какой
строгий суд - ни на суд логики, ни на суд права, ни на суд науки, -
стихотворение всегда ведь может отговориться тем, что оно совсем «о
другом» и не подсудно ничему отдельному.
Текст Хайдеггера, только что приведенный в русском переводе, -
совсем другое дело. Он явно не чужд поэтического качества, но между тем
на самом деле есть текст философский - заключающий в себе
философское содержание. Но, правда, это совсем особый философский
текст, и если бы не очень боялись словесной игры, даже кажущейся, то
могли бы сказать: если лирическая поэзия - это нечто другое, или иное,
чем логика, философия, право и точная наука, то философский текст
Хайдеггера - это нечто иное, нежели поэзия, это словно некое
инобытие поэзии, что придает ей особую замысловатость. Она непроста для
понимания. Ведь этот текст— «иное иного», если поэзия — «иное»...
Хотя речь в замысловатом тексте идет не о чем-то, а именно о
простоте, о простом! Вот парадокс... Уже и поэзия непроста: и она,
несомненно (если только она поэзия), говорит нечто определенное и
обязательное, заключает в себе ясный смысл, но между тем этот смысл никак
нельзя сводить на трезвую определенность, на что-то частное и
прозаически, «попросту» значимое. Однако поэзия эту свою особость и
«непростоту» очень часто умеет преподнести нам просто и доступно, так
424
что нам не приходится ломать голову, а мы сразу же понимаем, что
хотел сказать поэт, и не думаем перелагать сказанное им.
Текст Хайдеггера - это не поэзия, в то же время его невозможно
пересказывать своими словами. Если читателю он показался поэзией,
автобиографическим рассказом в лирическом тоне, то это очень
хорошо - в этом залог и начало более глубокого его понимания. Мысль
Хайдеггера приобщена к поэзии, к ее иному — к тому, что
поднимается над всем остальным и частным или лежит в стороне от всего
такого. Она приобщена к поэзии, но этим не довольствуется. Стремясь к
определенности мысли, она берет с собой это свойство поэзии -
вполне определенно, понятно и так просто говорить о своем
собственном ином, о своем содержании, чтобы все сказанное не смешивалось
ни с чем-то отдельным, особенным и частным, ни с чем-то
банальным, обыденным, прозаически-трезвым, прагматически-узким. Не
смешивалось с таким смыслом и содержанием, которые были бы
слишком поверхностны для того, чтобы не говорить о них иначе, чем
«как попало». А мысль Хайдеггера стремится схватить, осознать и
словесно выразить нечто коренное и основополагающее, что присуще
миру и бытию, где живем все мы. И обо всем этом надо научиться
говорить так, чтобы коренные смыслы и содержания жизни, бытия и
мира не переставали быть самими собою, чтобы они не сводились на
что-то частное, узкое, обособленное, чтобы они осознавались нами во
всей своей значимости.
Однако пока речь у нас шла лишь о том, что такое приведенный
текст философа, и, собственно, даже о том, как он написан. И тут,
строго говоря, сначала обязан дать отчет переводчик - в том, что он сделал,
когда передавал текст Хайдеггера на русском языке. То, что не
пригодно для пересказа, не годится, в сущности, и для перевода. Переводя
лирическое стихотворение, поэт еще не может полагаться на некую самую
общую обязательность и необходимость заключенного в словах
смысла, по праву отвлекаясь от множества частностей. Поэтому иногда и
случается так, что вольное переложение стихотворения - в духе тех,
какие делал в свое время В.А. Жуковский, - настолько успешно кружит
вокруг самого общего смысла поэтического создания, что выявляет его
своими словами четче и ярче, чем сам оригинал. Иное поэтического
произведения допускает такой подход к себе - перевод в общем
смысле не перестает быть адекватным и тогда, когда схватывает самую суть
его содержания и настроения, когда воспроизводит для иноязычного
читателя самую его уникальность. Никак не может позволить себе
таких свобод переводчик текста Хайдеггера: слова в этом тексте
наделены своим весомым смыслом, почти каждое из них обозначает самого
себя со всей мыслимой определенностью, а вместе с тем каждое из них
именно в этом столь поэтическом тексте показывает только самую
свою вершину, скрывая, утаивая свою предполагаемую глубь
(настолько, что совершенно неопытный в чтении подобных текстов читатель и
не догадался бы о ней). Итак, переводчик обязан обращаться с каждым
словом так, как если бы оно было наиточнейшим термином, а между
тем каждое - есть гнездо сцепленных между собою смыслов, гнездо,
которое свито на почве реального немецкого языка в его многообраз-
425
ном употреблении — от высокой поэзии до повседневной речи. Ясно,
что и на других языках существуют такие слова-гнезда смыслов,
однако, увы! внутренняя их устроенность в разных языках не совпадает и не
имеет шансов совпасть.
Коль скоро на чужом языке нет даже и соответствий словам
оригинала, переводчику не остается ничего, кроме как дать перевод, на
котором лежит густая тень непривычных для его языка условий и
обстоятельств (норм языка), на котором стоит печать условности и
который, несмотря на все усилия, в итоге остается приблизительным.
Проблему, не разрешимую на уровне одного слова, приходится
перенести на целый текст — переводчик пытается настроить ключевые
слова текста так, чтобы система их взаимоотношений напоминала
систему отношений оригинала. Конечно, такая настройка все равно отстает
от требований хорошей темперации - читателю вместе с
переводчиком приходится играть в четыре руки на расстроенном инструменте.
Далее, переводчик твердо помнит, что оригиналу свойственна
некоторая природная «странность», - недаром же он имеет дело с «иным
иного», как называли мы это выше. Вот переводчик и надеется, что
смысловая странность вкупе со странностью стилистической (и
чужеродным отблеском иного языка) парадоксальным образом создаст
некоторую интуитивно доступную читателю смысловую
тождественность. Одними, скорее внешними, странностями достигается другая
странность — странность точного, улавливаемого за словами смысла.
А странностей в нашем - русском - тексте, конечно, немало. Что
такое, к примеру (начиная с конца), «отказ», да еще «отказ, что
вводит в одно и то же»?! И что это за «одно и то же»? А что значит
«широта... подает мир», где, между прочим, современное русское
правописание подводит и автора и переводчика. Правда, оборот «подавать
мир» построен по образцу «подавать милостыню», «подавать руку
помощи», но только совсем не ясно, что за «мир» подает «широта» - в
этом случае не тот «мир», который прежде писали через «и»
восьмеричное (как пишем мы и теперь) и который означал «тишину, покой»,
а тот «мир», который писали через «и» десятиричное (с точкой) и
который означал вселенную, космос, все бытие в целом. Вот широта и
подает здесь если уж не милостыню, так мир, целое, однако почему-
то не сказано, кому она его подает— мне, нам?..
Но, конечно, таким странностям тут нет конца, читатель сам
отметит их, и все эти странности, отчасти идущие от оригинала, отчасти
родившиеся на границе языков, - все они имеют своей задачей
только одно — точную мысль. И если какая-то из странностей не достигает
такой цели, а кажется более внешней, то будем считать ее задачу
вспомогательной - она призвана не дать читателю успокоиться, не дать
ему начать клевать носом над текстом, словно над лирическим
произведением в прозе (в котором, мол, кроме общего настроения, все
равно ничего нет), и должна научить его тому, что в этом тексте
решительно все требует своего буквального и точного принятия к
сведению. Должна заставить думать, что здесь нет ничего необязательного...
Итак, перед нами текст, отмеченный собственно поэтической
разреженностью и густотой. Он допускает лирическое настроение, но
426
не позволяет сказаться и проблеску пресловутой лирической
необязательности. Текст, дважды сгущенный, сконцентрированный.
Было бы беспредельным абсурдом разбавлять теперь такой текст,
опрометчиво полагая, что если мысль в более «жидком» виде
доступнее, то и смысл самого текста понятнее. Нет, здесь так, а не иначе
устроена сама мысль, она именно такой степени сгущения требует
своим существом, и если писатель при этом соединяет особую точность
мышления с поэтическим видением, да еще с некоторыми
воспоминаниями юности, то это вовсе не элемент свободы и раскованности
мысли, а знак того, что она, мысль, вынуждена так поступать. Мысль
живет своей жизнью, и давайте обратим внимание на то, что «мысль»
вдруг выступила у нас как самостоятельная, дееспособная личность.
Все равно как если бы дело обстояло так: философ выбрал особый
путь рассуждения, и, коль скоро он его выбрал, теперь путь за него и
«думает» — не мысль принадлежит философу, а философ мысли (как
если бы это была не «его» мысль). Разве не так? Если философ
выбирает известную логику рассуждения, то разве не господствует логика
над «его» мыслью? И разве после того, как выбор пути сделан,
философ не оказывается во власти пути?..
Что же? Мы не смеем «разжижать» текст - прозаический пересказ
лирического стихотворения тоже не приближает к его подлинному и
конечному смыслу, — а поступаем скорее наоборот: будем
обнаруживать в нем сгущения и глубины — сгущения глубины. Ведь читать текст
Хайдеггера как лирическое воспоминание - это далеко не какая-то
ошибка, он это самое и есть. Этого достаточно для чтения. Но и мало.
Потому что следующим шагом было бы чтение того же текста как
содержащего в себе всю суть философии Мартина Хайдеггера. Правда,
философия на известном этапе ее продумывания, где потребовалось
приобщить ее к поэзии, даже превратить в нечто поэтическое и
обратиться к воспоминаниям. Мы только начнем чтение этого текста, но
уже и здесь откроется удивительное. Вчитываясь в переводной текст,
мы будем иной раз уточнять перевод.
Так о чем же текст? Он - о пути, и о пути не в каком-то переносном,
образном смысле, а о пути-дороге, причем дороге самой обыкновенной.
По-русски они называются проселочными, что вполне верно сказать о
дороге, какую имеет в виду Хайдеггер. Главное, что, в каком бы
состоянии такие дороги ни находились, они мало похожи на
благоустроенное шоссе (даже местного значения) и пролегают так, как когда-то
протоптали и проложили их, ни с кем не советуясь, исходя только из
своих надобностей и нужд, сами люди. Вот самое важное для той дороги,
для того проселка, который описывает Хайдеггер. Конечно, хорошо
знать, где происходит действие, — это городок Месскирх, который
расположен на юго-западе Германии, в Швабии, к северу от швейцарской
границы. В Месскирхе Хайдеггер родился, а в юго-западном углу
Германии протекла почти вся его жизнь и деятельность. Сейчас это земля
Баден-Вюртемберг в Федеративной Республике Германии; ближайшие
от Месскирха города покрупнее - Тулинген и Зигмаринген; Штутгарт
лежит далеко на север, на юг, километрах в двадцати, — северная
оконечность Боденского озера. В 1950 году в Месскирхе не было и пяти
427
тысяч жителей - городок маленький. Я сообщил эти не совсем нужные
сведения для того, чтобы обрисовать дорогу. Она ведет в Энрид -
местность, которой нет на картах довольно крупного масштаба. Нам
достаточно того, что дорога - маленькая, проселочная, обжитая и
исхоженная-изъезженная, как любой путь и любая тропа, которыми изо дня
в день пользуются местные жители. Она связывает близлежащее, и
можно представить себе, что по ней ходят взад-вперед, и даже не один
раз на дню. Такая дорога живет, и живет не так, как большое шоссе.
Последнее в отличие от нее почти уже не живет: шоссе если и не всем
чужое, то от всех отчужденное, в нем практическая цель берет верх над
«бытием в себе», плановость сооружения вытесняет все природное,
технический расчет - живое столкновение, рост. Так это по Хайдеггеру.
Проселочная дорога, о которой говорится в тексте, — средоточие
всякой жизни в этой местности. В большей степени даже, чем луг или
поле, на котором люди работают. Все, в чем заключается жизнь людей,
не минует этой дороги. Однако дорога — не просто средство связи. Уже
потому не средство, что она совсем особого рода самостоятельное
сущее, существует сама по себе и ради себя, а не ради чего-то иного, она
не используется для чего-то постороннего ей, а собирает в себе все, что
только ни есть в жизни живущих тут людей. Такая дорога
действительно находится в самом центре всей местности, в центре целого
обжитого, но и более того - живого пространства. Сама дорога, на которой
происходит (в этом смысле - встречается и сосуществует) все, что
совершается в жизни живущих здесь людей, отражает на себе, сказали бы
мы, все содержание человеческой жизни и деятельности. Сама такая
дорога не просто отражает человеческое содержание, но она вобрала его
в себя, она есть оно. Дорога живая, и она сама идет своим путем! Ведь
по-хайдеггеровски можно сказать: дорога идет своим путем, дорога идет
своей тропой. Это соответствует и древнему постижению дороги,
которое закрепилось в нашем: «дорога бежит между полями» — формальной
теорией это понимается как метафора, застывшая в языке. У Хайдеггера
древнее постижение дороги воскресает, но не в изведанных еще
формах. Дорога у него не просто бежит или вьется, не просто сворачивает
и приветствует дуб у дороги, она направляет стопы человека «своей
извилистой тропой», и более того - она безмолвно «носит с собою» взад
и вперед, в ту и в другую сторону эхо гармонического звучания всего
целого. Дорога говорит - причем мы можем либо слышать ее, либо
можем разучиться слушать ее, оглохнув для подобных речей.
Таким образом, дорога - не какая-нибудь, а именно ставшая, или
выросшая сама собой - есть средина некоторого человеческого
пространства, о котором мы можем пока сказать, что оно отличается
внутренней цельностью, даже замкнутостью в себе.
Пока же не сойдем с дороги... Читателям Хайдеггеровского
«Проселка», должно быть, ясно, что основное настроение и вместе с тем
основная тема текста - это настроение и тема возвращения. Возвращения к
себе, к своему, π свое, или, как сказано у Хайдеггера, - в одно и то же,
в то же самое. «Отказ, вводящий в одно и то же» не столько «отказ от
чего-либо», сколько вхождение в то же самое, в извечно одно и то же.
Тема возвращения выразительно и впечатляюще звучит в конце «Про-
428
селка» - сама простота выглядит теперь еще проще, чем раньше, и сама
тишина - тише, чем когда-либо. Ясно, что без нажима, а с прекрасной
поэтической экономией средств и слов это «возвращение»
действительно отмечено характером воспоминания: мысль о родном, об истоке и
происхождении явственнее звучит в старости, когда подводить итоги и
вспоминать о юности, собирая плоды начатого в давнюю пору, весьма
уместно. Так и получается, что возвращение, как тема, заглушает в
тексте Хайдеггера другое - уход. Однако, чтобы вернуться, надо уйти.
Между тем возвращение торжественно провозглашается здесь как бы
абсолютной, безусловной целью, а об уходе, непременном условии
возвращения, как бы нет и речи. Гармония покоя почти бесследно стирает
трагедию ухода. Вернее, по контрасту с благостью возвращения и
«отказа» всякий уход начинает восприниматься уже как непростительная
измена себе и своему, измена «тому же самому» как тождеству,
самотождественности бытия, заданного тебе, написанного тебе на роду.
Конечно, человек, дошедший до Энрида от самых городских стен
или от дворцового парка Месскирха, а затем вернувшийся назад в
город, не чувствует всей значительности своего возвращения - он ведь
даже и не покидал родного пространства, собравшегося вокруг дороги,
вокруг проселка как своей средины. Значимым или даже
торжественным путь домой делается тогда, когда на это малое возвращение
накладываются кольца все больших возвратов. Мы могли бы сказать, что
дорога от Масскирха до Энрида и обратно становится символом всякого
пути, уводящего из дома и приводящего домой. Однако для
Хайдеггера это не символ: дорога есть то, что она есть, но она уже вобрала в себя
все возможные человеческие содержания, она ожила и очеловечилась,
и то, например, что дорога от Энрида до Месскирха есть путь, которым
в один прекрасный день окончательно вернется «к себе» старый
человек, забрав с собой все пережитое и передуманное им в жизни, есть не
символ, а сама реальность. Она настолько реальна, что этот старый
человек, все более и более возвращаясь к себе, домой и на родину, вовсе
и не нуждается в том, чтобы ступать ногами по дороге, ведущей в Мес-
скирх. Он и без того совершает этот путь по мере того, как
возвращается к себе, по мере того, как осознает свою родину и родной дом (свой
исток) как высшее достояние и цель. И совершает и осознает он его
«все больше», поскольку именно такой путь и возвращение заданы
ему - заданы его истоком. От юности до старости — один круг ухода и
возвращения. Его природный круг - так всякий год оживает и
умирает и вновь оживает природа. Индивидуальное соединяется и
сосуществует с природным, а в жизни отдельного человека заключено то, что
присуще каждому. Дорога в Энрид и обратно тоже предполагает
поворот и возвращение, тоже означает круг, круг ухода и возвращения, тоже
соединяется и совмещается со всякими иными кругами.
И эти круги - неизбежность и необходимость для каждого.
Проселок идет в такт шагам идущего и идет в такт шагам мыслящего: он
запечатлевает человеческую деятельность, трудится и мыслит вместе с
человеком. В одной из своих статей (1933) Хайдеггер писал так:
«Молодой крестьянин с трудом затаскивает тяжелые розвальни на самую
вершину холма, а затем, до верха нагрузив их буковыми поленьями,
429
пускает их в небезопасный путь к дому; пастух неспешно и
задумчиво гонит стадо вверх по склону холма; в своей комнате крестьянин по
всем правилам искусства в бессчетном множестве готовит кровельную
дрань для крыши своего дома — и мой труд тот же по своей сути».
Статья, из которой мы взяли эти строки, была названа так —
«Творческий ландшафт: почему мы остаемся в провинции?» Творческий
«ландшафт», или местность, - это в конце концов и тема позднейшей
статьи, приведенной здесь полностью. Между тем можно не без
основания полагать, что по тексту 1949 года Хайдеггер уже не дал бы такого
названия. Верно передавая мысль философа, оно не отвечает
позднейшей продуманности и завершенности, с какой осмыслял Хайдеггер
живое пространство человеческой деятельности, когда находил в нем
свой круг-центр, свою средину, отвечающую сущности всякого
человеческого существования. Верно и то, что в так понятом
«ландшафте» всякий подлинный, осмысленный труд един по своей природе.
Но что же это за сущность человеческого? Великий
философ-неоплатоник поздней античности Прокл писал о трех ступенях,
которыми проходит душа человека, — это пребывание, исхождение,
возвращение (моне, проодос, эпистрофе). Подобная же триада лежит и
внутри хаидеггеровского человеческого пространства, в нем сущность
человеческого отпечатлелась даже пространственно и ландшафтно,
нашла себе природное соответствие в самой местности и соединилась
с ней в нерасторжимую сопряженность.
В тексте Хайдеггера, в котором речь идет о возвращении и в
котором возвращение утверждается как благой и торжественный итог
жизни, окончательное совпадение «ландшафта» и человека, пути жизни и
родного пути, родной дороги, - в этом тексте все же сказано и об
уходе. Жизненное пространство человека с детских лет непрерывно
расширяется: поначалу оно ограничено, пишет Хайдеггер, руками и
голосом матери, но затем выходит и за пределы пространства, в котором
родной кров человека. Уход- это и неприметность, и измена, и риск:
уходя от истока человек оставляет свой дом и все свое в недосягаемой
дали. Уход не ручается за возврат. Как сила неприметности, уход
властвует над человеком. Возвращение - благой дар, урожай жизни,
венец существования: оно тоже властвует над человеком как сила
целого и цели, как обретение. Человеческое существование в
некотором коренном своем смысле есть именно уход, выхождение из себя,
буквально - ис-ступление: латинское слово «экзистенция» (точнее
«экс-систенция»), то есть существование, и означает «стоящее
вовне». Отсюда и «экзистенциализм» как характеристика одного из
направлений философии XX века, к которому принято относить и
Хайдеггера. Близко, родственно «экзистенции» не менее известное
греческое слово «экстасис» (от глагола «экзистеми»), которое
привычно нам в форме «экстаз». Размышляя о человеческом
«существовании», или «экзистенции», Хайдеггер имел возможность
всесторонне обдумать все значение «стояния вовне» - «исхождения» в жизни
человека. Всякое возвращение, как и прокловская эпистофе,
предполагает и то, что человек (наподобие тяжело груженной снопами
подводы из текста Хайдеггера) везет домой все освоенное им, узнан-
430
ное и обретенное во время своего «исхождения». «Уход»
характеризует человека и человеческое даже точнее, нежели возвращение.
Здесь к месту одно культурно-историческое напоминание: Хайдег-
гер относился к тому поколению, которое взрослело в эпоху
экспрессионизма, то есть того выдвинувшегося на передний план в немецком
искусстве художественного направления, которое тяготело к
необузданно-несдержанному, оголенному, выплескивающемуся через край
выражению человеческого чувства и человеческой природы — словно
переливающейся в чувство и в «волю к выражению». Экспрессионизм
разных оттенков получил широкое распространение в немецкой
живописи, музыке, поэзии, в немецком театре. Вместе с тем он был
родствен разнообразным тенденциям европейского искусства перед
первой мировой войной, тенденциям в целом более широким. Всем им
был присущ экстатический склад чувства и мысли, рвущихся вон, за
пределы существующего, данного, стремящихся к абсолютности.
Основную направленность такого искусства четко выразил Александр
Николаевич Скрябин, назвав гениальное свое симфоническое
произведение «Поэмой экстаза» (1907). В средний период жизни Хайдегге-
ра самыми близкими для него поэтами были P.M. Рильке, Георг
Тракль, Стефан Георге - именно их тексты Хайдеггер выбирал для
своих философских раздумий. Из них только Тракль, не выдержавший
ужасов мировой войны, может быть назван экспрессионистом, но
несомненно, что и Рильке и Стефан Георге при всем несходстве их
поэтических натур относились к той же экстатической волне
европейского искусства, сложившейся до первой мировой войны. Тогда же,
начиная с рубежа веков, начали перечитывать, открывать и заново
оценивать Фридриха Гёльдерлина (1770-1843) - великого поэта эпохи
немецкой классики, который воспринимается как подлинный поэт-
пророк, наследник грека Пиндара, созвучный современному
экспрессионизму и экстатизму. Из комментариев к поэтическим текстам
Гёльдерлина — из опытов сомышления с поэтом — к середине 40-х
годов у Хайдеггера составилась целая книга.
Как будет видно чуть ниже, в те годы, когда Хайдеггер писал свой
текст о проселке - о возвращении, искусство иного склада начало
вытеснять в его сознании поэтов экспрессионизма и экстатизма,
искусство, отмеченное уравновешенностью, гармоничностью и
позитивностью, близкое позднему Хайдеггеру своими идеями собирания и
возвращения. Экспрессионизм соответствовал уходу и исхождению в
жизненной триаде-круге самого Хайдеггера: дорога, как мы помним,
поворачивает (эпистрефей) к дому - начинается возвращение
(эпистрофе), в котором сходятся и смыкаются все круги существования.
В мысли, отмеченной возвращением как конечной, позитивной
целью, появляется то, что можно было бы назвать бытийной мерой
живого человеческого пространства. Дорога, или проселок, - не средство,
а средина, она есть сущее, объединяющее все человеческое -
окружающее, обжитое - пространство; она вбирает в себя всю человеческую
деятельность так, что каждый идущий по дороге «получает от нее
свое», — и это как бы идеальная соотраженность идущей дороги и
идущего по ней человека, их гармония. Все, что собиралось вокруг дороги
431
как своего смыслособирающего центра, «подает мир» всякому
идущему, пишет Хайдеггер. Здесь мир, конечно, не космос и не вселенная, но
живая органическая цельность человеческого пространства - такого, в
котором живет человек, обжитой круг его жизни, не что-то предметное
и неподвижное, обозначаемое топографически. Нет, этот мир все
время заново возникает в человеческой деятельности, в соотражении его
со всем природным, это замкнутая, относительно ограниченная от
остального сфера живого смысла. Она же и не абстрактна, и не
односторонне «духовна» — напротив, она возникает, утверждается,
укрепляется и складывается заново в человеческом, собственно, в коллективном
человеческом труде на земле: люди трудятся и живут в совместном
бытии, самым первым и естественным воплощением которого
оказывается такая округа, все хозяйство которой тяготеет к известному единству.
Не только работа на земле есть образец, или прообраз, всякого труда,
но в некотором смысле всякий труд есть работа на земле. При этом
условии любой труд непосредственно заключает в себе духовность,
рождает и несет ее в себе. Даже и духовное и поэтическое творчество есть
«работа с землей», о чем в русской культуре - совершенно независимо
от немецкой традиции - ясно заявил Н.В. Гоголь: «Не будут живы мои
образы, если я не сострою их из нашего материала, из нашей земли, так
что всяк почувствует, что это из его же тела взято» (письмо А.О.
Смирновой от 10 (22) февраля 1847 г.; см.: письмо Данилевским от 6 (18)
марта 1847 г.).
Каково же условие непосредственной духовности всякого труда? Это
условие - мир, то есть наличие такого пространства, в котором человек
находит свое подлинное место и свой смысл. Именно потому, что есть
такой мир, всякий настоящий труд равно духовен, он творит живое
целое, для осознания которого не нужно абстракций: оно существует в
деятельности, которая уже есть в себе самой и мысль и умозрение. Не
только человек, но и все человеческое, все осмысленное получает свой
смысл именно в мире как живом пространстве человеческой
деятельности. Так, произведение искусства существует на своем месте, пока
существует в мире, для которого оно было задумано и создано. И пока
оно существует в этом мире, оно на своем месте. Когда произведение
искусства отнято у такого мира, когда этот мир перестал существовать,
произведение искусства изгнано, исторгнуто из своего бытия - ему
принадлежит лишь вторичное существование изгнанника: «Место
«Сикстинской мадонны» - в Пьяченце, в церкви; место не в историко-
антикварном смысле, а по сущности этого образа. В соответствии с
такой сущностью этот образ всегда будет тянуть туда» (Хайдеггер, 1955).
Само человеческое существование, существование индивида
определяется у Хайдеггера как место в мире: немецкое Dasein
(существование) - это, собственно, бытие здесь, здесь-бытие. Простейшим
образом мы можем понять такое человеческое существование как некое
место, в котором особым образом, всякий раз иначе проявляется —
выходит наружу, «высвечивает» и осознается («приходит к себе», по
Гегелю) - сам мир и само бытие. Человек - это такое бытие в мире,
которое, пребывая в бытии, сопряжено с бытием - озабочено им,
печется о нем, задается вопросом о нем и вопрошает его. Будучи далеким
432
от того, чтобы пониматься как «субъект», человек есть место в бытии.
Следовательно, человек - не случайный элемент целого, он получает
в бытии свой смысл, он соотражен с целым - в первую очередь с
миром-окружением, но также с небом и землей. Но и бытие обретает в
нем свою цельность и свой смысл.
Такое постижение человека резко противоречит субъективизации
человеческой личности, то есть тому процессу, который дошел до
крайности в культуре последних столетий. Субъективность
человеческой личности означает то, что человек, индивид, вообще всякое «я»,
становится фундаментом и мерой всего бытия, он притязает на такую
свою роль, противопоставляя себя бытию, миру, природе. Латинское
слово «субъект» и значит ведь, собственно, брошенное или положенное
в основание, причем осмысление личности как такого положенного в
основание на деле знаменовало поворот в сторону
индивидуалистического обособления личности. По Хайдеггеру, это, правда, некоторый
роковой поворот внутри самого бытия, причем намечавшийся в весьма
давние времена. И заметим: как раз потому, что в мире дело вовсе не
во мне и не в нас, не в том, что я - это я, мы — это мы, а в смысловом
соответствии и сопряженности целого и «здесь-бытия». Хайдеггер
склонен опускать такие дополнения, как «мне», «нам», «меня» (хотя
немецкий язык разрешает это легче, чем русский).
Итак, человек есть место в мире, и это наделяет любое
человеческое существование особостью. Правда, человек может выпадать из
своего мира и уходить со своего места в нем, предаваться
ненастоящему, неподлинному существованию. И это даже больше, чем
возможность, - необходимость: не просто опасность, которая подстерегает
человека, но и неизбежное свойство человеческого существования.
Жизнь и рост человека предполагают выход из себя, экстаз (ис-ступ-
ление), что может оборачиваться трагедией и изменой себе и своему
миру. Человек несет в себе начало опасности и риска, идет рука об
руку с риском, как сказано у Рильке, человек страшен, силен и
опасен (дейнос), как гласит уже хор в «Антигоне» Софокла. Однако это
опасное свойство существования требует восстановления
нарушенного мира и нуждается в нем — в восстановлении тождества, в
возвращении к себе, к «тому же самому», о чем столь проникновенно и столь
наглядно пишет Хайдеггер в выбранном нами тексте.
Мы пользуемся словом «смысл», и мир, жизнь, бытие, человек
действительно не бессмысленны. Но здесь слово «смысл» все же слишком
абстрактно: и все осмысленное, и все бессмысленное существует не в
застылом, опредмеченном и окаменелом виде, а совершается (как акт,
как жизнь, как деятельность), и это совершение складывается в
итоге в то, что мы называем историей. Истина в бытии — это не тезис
(философский или научный), не предмет, не само бытие: истина - это
тоже совершение, акт, который разыгрывается в человеческом мире
«между землей и небом», это совершение, которое разверзает,
открывает, высвечивает бытие. Истина — это открытость, а человек, если уж
он место в бытии, открывает бытие, дает ему проявиться, выйти
наружу, раскрыться. Все сочинения Хайдеггера посвящены осмыслению
истины как открытости, как разверзания бытия - выясняется то, что
433
любой акт, раскрывающий или разверзающий бытие, подчиняется
древней диалектике (схваченной изречением Гераклита). Получается
так: то, что открывается, то и скрывается; то, что открывает, то и
скрывает; то, что выступает наружу, то и скрывается во тьме. Таков и
человек: он открыт небу, но по-настоящему открыт лишь тогда,
когда его хранит и бережет земля, когда он хранится землей, живет под
кровом своей земли. Выходит, что истина «бытийно», по самой
сущности, заключает в себе «не-истину», свет истины — тьму, явлен-
ность - тайну, открытость - укромность. Не «ложь» (в расхожем
смысле слова) заключает в себе истина, а закрытость и утаенность, что
означает: истина укоренена в жизни, бытии, в «земле» и как истина
выходит наружу лишь в такой своей укорененности в «земном». Это и
не удивительно, если она сущностно сопряжена с человеком как
место в мире, бытии, то есть одновременно между небом и землей.
Какова диалектика истины как совершения, как разверзания бытия,
такова и диалектика существования, коль скоро «здесь-бытие» есть
«открытое место» в бытии. В нашем тексте Хайдеггера речь на первый
взгляд вовсе и не идет об истине, но это не так! И здесь продолжается
обсуждение истины, ее существа: «... расти означает-
раскрываться...» — уже это высказывание вводит человеческое существование в
совершение истины в мире и в ее диалектику. Человек раскрывается
навстречу небесам и коренится в земле, он исполняет веление небес и
живет под защитой земли, он приобщен к свету и мраку.
Откуда взялись здесь небеса и земля и что они здесь значат? О
земле мы говорили, что земля ровно ничего не значит, кроме самой себя,
это та земля, которую пашут и на которой живут люди: между
пахотным полем и земным шаром нет никакого противоречия - одно
помещается на другом, одно продолжается другим, одно и другое -
опора и место любой человеческой деятельности. Точно также ничего не
«значат» и небеса — эти самые настоящие небеса над нашей головой
с их голубизной (хотя порой затянутые тучами). Не где-либо, но
именно в этих просторах неба и земли протекает человеческое
существование и разверзается — совершается истина. В мысли Хайдеггера
отразились древние представления культурной традиции о небе и земле,
о свете и тьме, о причастности человека двум таким началам;
отразившись, они остались позади как своего рода условность и метафизика.
Теперь все небесное и земное надлежит понять как «физику», то есть
как растущее, природное (как подсказывала понимание всего сущего
греческая мысль о природе, «фюсис»), а в то же время как духовное.
Хайдеггер иной раз именует истину «просветом», «просекой» или
«поляной» бытия (по-немецки Lichtung) - прореживание бытия есть
вместе с тем и просека-просвет. И когда мы читаем, что отец Хайдеггера
отправляется в лес за древесиной и идет напрямик через лес и
освещенные солнцем поляны, то нам надо сообразить, что и здесь
совершается нечто духовно-значительное. Не то чтобы нечто
«символическое», или нагруженное посторонним смыслом, или рефлективное и
умозрительное, но сама эта «ходьба по делу» именно есть
человеческий путь. Все духовно-значительное, как убеждает нас Хайдеггер,
заложено в простом и совершается в простоте. Духовное - в непремен-
434
ности совершающегося, в самой же простой деятельности человека, и
прежде всего в ней. Но простота - это для нас особая тема. Пока же
необходимо договорить до конца о мире, в котором живет человек.
Итак, человек в мире замкнут некоторым кругом подлинной
человеческой деятельности, из которого ему суждено выпадать и
вырываться, но в который он обязан вернуться, восстанавливая тождество
«одного и того же». И только эта замкнутость — человек живет под
защитой земли, она его хранит - дает возможность открытости, дает
совершиться истине. Тогда границы живого человеческого пространства
расширяются до предела, и небеса над нами объемлют собою все. В
это «все» и входит тогда все, что есть. Это «все» погружается в бытие
и вырастает из него. Сейчас самая пора вспомнить то единственное
имя философа, которое названо в тексте Хайдеггера. Это - Майстер
Экхарт, великий мистик-богослов немецкого средневековья. В связи
с этим именем у Хайдеггера связаны странные слова о Боге — есть
условие, при котором «Бог впервые становится Богом». Но разве Бог
согласно религиозным представлениям не существует до мира, разве
не он его создатель? Отчего же ему приходится «впервые становится
Богом» и почему об этом приходится спрашивать?
Самая общая причина такова: мистическое богословие с давних
пор стало приводить Бога в непременную, неразрывную связь с
человеком и с природой. Получалось так, что Бог, хотя он наделен
свободным выбором - он мог сотворить мир, а мог его и вовсе не
творить, приходил в некоторую зависимость от мира, который творил.
Представлялось, что само «его бытие» влечет за собой логическую
необходимость сотворения мира (природы и человека), а Бог, еще не
сотворивший мира (природу и человека, - не вполне Бог. Природа
же, а прежде всего человек, - это зеркала, в которых отражается Бог,
и существование таких зеркал есть непременное условие того, чтобы
Бог был «вполне» Богом. Так Бог попадает в зависимость от
человека—в том смысле, что связь человека и Бога неразрывна и взаимна,
и внутри такой неразрывности отнюдь не безразлично, что видно в
зеркале человека - как мыслит он Бога. Не только человек - в том,
что он есть - зависит от Бога, но и Бог зависит от человека - в том,
что он есть... У Хайдеггера же мир заключает в себе именно такого
склада зависимость, хотя Хайдеггер пришел к ней совсем не прямо
от богословия: бытие и человек, мир и человек образовали у него
именно неразрывную сопряженность и взаимозависимость. И она
такова, что между ней и мистической сопряженностью Бога и
человека нет противоречия: если вообразить себе, что человеческий
«мир», по Хайдеггеру, расширяется, начиная с обжитого людьми
окружения, то Бог в таком мире пребывает вдали - в темноте тайны. О
Боге здесь обычно не принято говорить, но не потому, что нечего
сказать: собственно философские задачи у Хайдеггера решаются по
эту сторону тайны, и уже по эту сторону можно сказать все (о мире
и бытии), что вообще может быть здесь сказано. Тем не менее, хотя
как бы и нет Бога, и нет разговора о нем, есть неразрывная
сопряженность человека и мира. Поэтому Хайдеггер на своем «пути
домой» не случайно вспомнил имя Майстера Экхарта.
435
Сопряженность же отмечена тем, что она полна Словом. Мир, а это
человеческий мир (значит, не обходящийся без человека),
характеризуется тем, что в нем властно правит Слово. Подобно тому как сам «мир»
мы не должны мыслить как отвлеченное целое, как абстрактный
«объем» и сумму всех существующих вещей, так и Слово есть прежде
всего человеческая речь, язык. Сама человеческая деятельность (в чем
бы она не состояла) есть непременно осмысление и именование. Вся
человеческая деятельность стоит под знаком Слова: даже если оно не
произносится человеком вслух или про себя, деятельность нацелена на
него и совершается в мире осмысляемом и именуемом. Не менее,
нежели речью, разговором, осмысление характеризуется молчанием о
невысказанном, немотствованием беспрестанно складывающегося
смысла. От этого и все то, что человека окружает, что наделяется смыслом
в пространстве человеческой деятельности, существует как
осмысленное и названное. И эта сопряженность мира — осмысляемого и
именуемого — и человека, который его осмысляет, всему давая имя, в своей
непременности заходит так далеко, что можно помыслить себе все
окружающие вещи говорящими с человеком. Они именно таковы, если
мир устроен так. Мир, получается, исполнен Словом, Логосом, в то
время как человек осмысляет и именует его, мир обращается к нему со
своим словом, что и значит — «подавать мир». С речами и с
требованиями (Anspruch) обращаются к человеку небеса, а о чем говорит человеку
стоящий у дороги дуб, можно вновь перечитать в тексте Хайдеггера:
«...твердость и запах дуба начинали внятнее говорить о
медлительности и постепенности, с которой растет дерево. Сам же дуб говорил о том,
что единственно на таком росте зиждется все долговечное и
плодотворное, о том, что расти означает - раскрываться навстречу широте небес,
а вместе корениться в непроглядной темени земли; он говорил о том,
что все самородно-подлинное родится лишь тогда, когда человек
одинаково и по-настоящему готов исполнять веления превышних небес и
хорониться под защитой несущей его на себе земли».
Нельзя только смешивать такой «глагол» дуба с нравоучениями,
нравственными уроками, к каким приводит аллегорическое,
иносказательное истолкование вещей и событий природы. Дуб, как и все
природное, что вошло в человеческий мир, говорит не
иносказаниями - он высказывает свою сущность, которая в глубине совпадает с
существом человеческого мира. Дорога тоже обращается к человеку, и
способ, каким говорит она (Zuspruch), отличается многообразием,
которое в переводе возможно было передать лишь при помощи
уточняющих определений. Слово мира, «разлитое» окрест, есть тот Логос, о
котором недоумевал гетевский Фауст, не понимавший того, что дело
творения не отделено от Слова Божьего, но едино с ним. У Хайдеггера
благодаря внятности слова, хотя бы и не произнесенного,
человеческое дело впервые становится делом. Но и мир впервые становится
миром. Поэтому же здесь кстати и Майстер Экхарт: в единстве Логоса,
в сопряженности мира и человека, и Бог впервые становится Богом.
Мир, пока он не изменяет себе, складывается в простоту. Это
слово - простота, простое — с трудом передается по-русски. Конечно,
простота - это отсутствие многосложности, искусственности и изощ-
436
ренности. Однако сказать о ней по-русски положительно (не через
отрицание) почти не удается: пожалуй, просто лишь то, что сведено к
самотождественности — без недостатка и излишества, просто
существующее в наивозможной для себя «скромности». И вот такое
«простое» задает и всему человеческому такую «идеальную» меру, которая
обретается лишь при «возвращении» на пути домой. Она скажется во
всем нравственном и художественном. Для Хайдеггера это мера,
укорененная в бытии, и ей послушен тот, кто прислушивается к слову или
зову бытия. В «простоте» — единократности ощутим призвук
уникальности, какой наделяются вещи, люди и творения, когда, сворачивая с
исступленного экстатического пути, они («по дороге домой») умеют
найти подлинное свое место и совпасть с самими собой.
Простота - не начало, а итог. Отсюда величие, которое берет
начало с незаметности и тоже «простоты» окружающих вещей мира,
находящихся рядом с нами, «под руками». Все, что есть во всем мире,
доступно нам через наше окружение, в котором наш мир, которое
«подает» нам мир. Однако необходимо задуматься и над тем, что в конечном
итоге войдет в наш мир. Это ведь не только пространство вселенной, но
и развернутость истории. Таков важнейший момент, в постижении
которого человеку наших дней предстоит еще сделать решающий шаг.
Ведь если люди любой, а тем более исключительной кризисной эпохи
должны так или иначе заново устраиваться в своей действительности,
то в конце XX века человечество все явственнее осознает, что мир, в
котором мы живем, это не только Земля, вселенная, космос, но и мир
истории. Такова, по сути дела, культурно-историческая задача
небывалого масштаба, какую суждено решать современному человечеству. Оно
ее и решает- впрочем, с колебаниями и промедлениями. Труднее
всего осознать, что мир совершения, называемый нами историей, - это
такая же реальность и такая же неотъемлемая наша принадлежность, что
и пространства вселенной. Историческое совершение вовсе не отошло
в прошлое, а точно так же существует с нами, существует для нас, как
и просторы неба доступны для нас через наш окружающий мир и
благодаря ему, постижимы для нас благодаря нашей земле и нашему небу.
В осознании такого бытийного существа истории Хайдеггеру
принадлежат выдающиеся заслуги. Его направленная на бытие
философская мысль существенно дополняет то, что было достигнуто русскими
мыслителями, такими, как В.И. Вернадский и П.А. Флоренский, то, что
лишь сейчас встает перед нашим сознанием как общая, касающаяся
всех задача. Как человек западной культурной традиции, Хайдеггер в
лекции 1929 года мог с полным правом говорить: «Корни наук в их
бытийном основании отмерли». Но как раз опыт русской мысли (еще не
усвоенный нами) показывает, что полнота осмысления бытия не была
утрачена до конца - отсюда столь незатрудненный и столь
естественный переход от философии к науке и технике (и обратно), какой мы
наблюдаем в творчестве В.И. Вернадского и П.А. Флоренского.
Напротив, Хайдеггер мог представить себе науку и технику (первую как
следствие технического мышления) лишь как роковое отпадение от бытия,
от мышления бытия. Вместе с тем в своем переосмыслении бытия и
времени, их неразрывной взаимосвязи Хайдеггер шел вперед, в неизве-
437
данное, шел необычайно далеко, и теперь становится очевидным, что
здесь заключена не какая-либо абстрактная, лишь умозрительная, но
реальная историко-культурная проблема, которую необходимо решать
человечеству на его критическом этапе. Онтологичность (бытийность)
времени и временная суть бытия - это тема, обдумывавшаяся Хайдег-
гером (и одновременно выдвинутая физикой и другими науками), в
наши дни становится животрепещущей проблемой непосредственной
жизни людей. Она становится все более острой по мере того, как
осознается, как на деле оправдывается вполне реальная связь всей нашей
жизни (в ее непосредственности!) с историей и культурой всего
человечества. Как никогда, в жизни человечества устанавливается всеобщая
взаимосвязь самых отдаленных (в традиционном понимании) вещей:
все к одному! Именно Хайдеггер выявил то, что можно назвать
упорядоченной сложенностью всего существующего в культурном горизонте
человечества. Через окружающий человека обжитой мир (стало быть,
через тот, который «подают» ему вещи его окружения с их голосом и
словом) к нему приходят не только все содержания мировых
пространств, но и все содержания мира истории, мира совершения. Но при
условии, что мир в котором живет человек, несет на себе хотя бы
отблеск бытийного лада, если человек живет в своем мире, если он не
утратил сужденного ему места.
«Слово дороги поселяет в длинном истоке происхождения» —
последнее предложение хайдеггеровского «Проселка» (один из вариантов
возможного перевода). Его смысл: человеческое существование
обретает свое место (свою родину) на пути, что протянулся от самого
истока сюда - сюда, где наше здесь. Это все равно что родная река -
родной путь. «Исток происхождения» — то родное, что роднит человека
со всем историческим совершением.
Человек, живущий на своем месте в мире, - человек не без места
и не без родины, человек не безместный и не безродный. Лишь от
родного истока путь ведет в широту исторического совершения, как от
«мира» - в просторы бытия. Лишь возвращаясь к себе, к
самотождественности своего, можно воспринять что-то в мировой истории и
мировой культуре. Лишь сходясь в мире людей, мировая история и
культура обретают свою цельность.
После нескольких десятилетий напряженных размышлений о
сущем и бытии Хайдеггер ощутил в себе всю силу зова дороги -
дороги, ведущей к родному дому, изведал всю творческую мощь
возвращения. Возвращения из странствий, где в недосягаемой дали остаются
родные берега. Возвращения, которое есть собирание (опять же логос)
в противоположность разбрасыванию, собранность в
противоположность рассеянности.
Уже и в более ранних сочинениях Хайдеггер писал о тех стихиях
бытия, которые нивелируют личность, превращая общность людей в
безликую массу, слово и смысл - в болтовню и «говорильню». Никто не
писал об обезличивании человека с таким внутренним накалом
страсти, как он. Считая искажения человеческого тоже чем-то бытийным,
следовательно, укорененным в самом бытии, Хайдеггер тем не менее
верил в сохранность устоев существования (тоже ведь принадлежащих
438
бытию!). Более того, он верил даже в незыблемость тех жизненных
форм, какие застал в годы детства. С тех пор исторический опыт
человечества включил в себя такие ужасающие феномены массовой
человеческой «безместности» и «бездомности», которые не укладывались даже
в воспитанное экспрессионизмом сознание Хайдеггера. Так, массовый
сгон с родных мест десятков миллионов людей не был ведом прежним
векам - в подобных явлениях своего рода «торжество» техницистско-
планомерного мышления, которое далеко не всегда прямо стремится к
разрушению, но часто руководствуется совершенно отвлеченными,
оторванными от человеческого мира представлениями о благе.
Порождение разладившегося целого, «безместный» человек даже против
собственной воли вносит разруху в хозяйство и природу, поскольку ничто
в окружающей действительности не признает своим, относясь к
окружающему как к чуждому и враждебному себе. Неприкаянный, он
отравляет - всегда «чужие» - воздух, воду и землю, порой добровольно
отравляет даже плоды своего труда, произрастающие на земле, и несет на
себе невольное проклятие отрыва от земли и бытия. Все это
непоправимо множится и усугубляется с годами и поколениями. И все это
развивается и ширится именно в русле тенденций, описанных Хайдегге-
ром, однако, по всей вероятности, в масштабах, им не предвиденных.
В своем тексте Хайдеггер писал о «кроткой власти проселочной
дороги, которая сможет быть долговечней гигантских сил атомной
энергии», то есть в конечном итоге возьмет над ними верх. Хотелось бы
вместе с Хайдеггером надеяться на это - на возвращение человечества
к целостно постигаемому миру, потому что без этого нельзя ждать
преодоления раскованных энергий разрушения и уничтожения.
В только что приведенном противопоставлении («кроткая» власть -
гигантские энергии) должна броситься в глаза необычность
выражения - «кроткая власть дороги». Да, оно необычно и тоже стоит под
знаком возвращения домой, собирания смысла. Источник «кротости»,
противопоставляемой колоссальности и разнузданной безмерности,
источник самого выражения однозначен - это творчество великого
австрийского писателя Адальберта Штифтера (к сожалению, мало
известного у нас), захватившее Хайдеггера на его философском пути домой.
Еще в 16 лет Хайдеггер читал сборник рассказов Штифтера
«Разноцветные камни» (1852). С предисловием к этому сборнику может
познакомиться и русский читатель (в «Памятниках мировой эстетической
мысли», т. 3. М., 1966). Здесь проникновенно и в форме небывалой,
музыкальной по своей внутренней интенсивности, писатель говорит о
превосходстве кротости над силой, малого над огромным, простого над
сложным и нагроможденным. В обыденных явлениях природы -
подлинное величие и возвышенность. В мире правит «кроткий закон».
Читавший Штифтера уже никогда не забывает слова «кротость». Оно как
бы незаметно, само собою вошло в позднюю мысль философа.
«Кротость» - сила самотождественности в ее полноте, в ее истине,
разверзающая мир, рождающая истину. Отказ от «рассеяния» ради собирания
в самотождественности обжитого мира, родного дома человека - в этом
суть возвращения: «Отказ не отнимает. Он дает. Он наделяет
неисчерпаемой силой простого». Хайдеггер писал (1963): «Подлинное дельное
439
истолкование искусства дарует нам сам художник - совершенством
своего творения, заключенного в малый круг простоты. Дарует,
пресуществляя, преображая многообразное в односложность того же самого,
в чем и является тогда сияние истинного». О Штифтере Хайдеггер
сказал так: «Вот что творится в слове поэта Адальберта Штифтера - оно
указывает подлинно великое в малом, указывает на незримое сквозь
явность и сквозь обыденность человеческого мира, дает услышать
невысказанное в сказанном...»
И наконец, во всем тексте «Проселка» есть еще такой важный
слой, которого мы до сих пор почти не касались. А без него
непонятен в своих глубинах ход мысли Хайдеггера. Вот что это за слой: мысль
Хайдеггера определена греческими понятиями, и философ
вдумывается в их изначальную суть, стремясь вернуться к первозданным
реальностям смысла, схваченного ими со всей непосредственностью. Так
это представлял себе Хайдеггер: «Вслушиваясь в слова греческого
языка, мы отправляемся в особенную область. А именно: в нашем
сознании начинает постепенно складываться уразумение того, что
греческий — отнюдь не такой язык, как известные нам европейские языки.
Греческий, и только он один, есть логос... В греческом все сказанное
замечательным образом одновременно и есть то, что именуется
словом. Если мы слышим греческое слово на греческом языке, то мы
следуем тому, что оно «легей», непосредственно полагает. Полагаемое им
лежит перед нами. Благодаря услышанному по-гречески слову мы
тотчас переносимся к самой полагаемой наличной вещи, а не остаемся
лишь при значении слова» («Что такое философия?», 1955).
Все сказано так, что, видимо, может оспариваться лингвистом,
привыкшим к иному строю представлений. Возможно, лингвист
сочтет наивным сугубое обособление греческого языка среди прочих;
возможно, что он сошлется и на древнейшие очаги
философствования, предшествовавшие ранним грекам. Все это не отменит, однако,
уже того обстоятельства, что именно греческие понятия
сформулировали европейскую мысль, которая не могла — и поныне не может - не
считаться со смыслом коренных греческих понятий, зависит от них,
даже переосмысляя их в полную противоположность исконному
смыслу, а в последние десятилетия все тщательнее вдумывается и
вчитывается в остатки раннегреческой мысли, обнаруживая в ней все
более близкое себе. Как убеждает нас опыт, отрыв от греческих понятий,
от внутренней их формы во всяком случае гарантирует философской
мысли бесплодие.
Все основные понятия хайдеггеровского текста о проселке
неразрывно связаны с греческими понятиями. Таков прежде всего «логос» во
взаимосвязанности его многоразличных смыслов - об этом так или
иначе говорилось. Такова «эпистрофе», стоящая за «возвращением», -
о чем тоже шла речь. Но о большинстве понятий мы не говорили: что
греческие «небо» и «земля» были с первотворческой смыслоутвержда-
ющей силой воссозданы Ф. Гёльдерлином, соединившим Грецию и
новоевропейскую мысль прочной связью конкретной и вещной мысли-
представления, очевидно. За «тем же самым», тождественностью,
стоит «то ауто» греческой философии. Простое - это «то гаплун», слово,
440
именующее «простое» с осязательной... простотой, утерянной в этом
случае русским языком. Все представления о росте и пребывании
насыщены у Хайдеггера той сочной бытийностью, какая присуща греческим
словам с корнем «фю» (например, «фюсис», «природа», — слово, более
точное наполнение которого прояснилось уже в наш век, отчасти
благодаря изысканиям самого же Хайдеггера). Наконец, «алетейя» -
слово, о котором Хайдеггер настойчиво размышлял всю свою жизнь,
которое он толковал как «несокрытость»-истину, часто вызывая
несогласие филологов, — это слово пронизывает всю подпочву статьи
Хайдеггера. Напоследок — «светлая радость ведения» — словосочетание,
которым переводчик почти тщетно пытается реконструировать
простоту и очевидность немецкого слова «Heiterkeit». В этом своем повороте
оно почерпнуто прямо из житейского опыта родного швабского Мес-
скирха. Мудрое знание, которое с внешней стороны порой кажется
угрюмым или самоуглубленным, каким бывает неразговорчивый или
погруженный в себя человек, - это мудрое знание оставило позади себя
суету мира и, распознав ее, поднялось над ней, отнюдь ее не чураясь и
не страшась. Оно ведает: смысл целого, смысл мира, утвержденный в
нем, и на каждом шагу нарушаемый лад- превыше и сильнее всего;
мощнее всего превышающая все отдельная сила кротости, царящая в
мире. Такое мудрое ведение хотя бы отдаленно родственно святости -
пусть даже и изнутри всего мирского. Тем не менее «светлая радость ве
дения» - в русской комбинации слов слишком много прямого света,
явной радости — это итог замечательного сотворчества языков
немецкого, латинского и греческого, давший в немецком слове осязательный
отблеск латинского «hilaritas» и греческого «гиларис» — лучащуюся
ясность, которая может наполняться мудростью и самой трагедией
жизни, не утрачивая главного своего свойства.
На этом перечень греческих соответствий не закончен. Не будет
преувеличением сказать, что в выбранном нами малом тексте
Хайдеггера заключена философская бездна, над которой мы ходим, —
вероятно, слишком самоуверенно. Времени же спускаться вниз
неторопливо и с расчетливой осторожностью скалолаза у нас нет.
Интермеццо о жизни философа
Научная биография Хайдеггера еще не написана, а о внешних
обстоятельствах его жизни можно рассказать совсем коротко. Мартин
Хайдеггер родился 26 сентября 1889 года в Месскирхе, учился в иезуитском
училище в Констанце и в гимназии во Фрейбурге-ин-Брейсгау,
которую окончил в 1909 году. Там он поступил в университет и в 1913 году
защитил диссертацию. Здесь же преподавал до 1923 года, когда стал
экстраординарным профессором в Марбурге (до 1928 года). В годы
первой мировой войны Хайдеггер был призван в армию, но на фронт не
попал. Как философ Хайдеггер находился под сильнейшим влиянием
феноменологии Эдмунда Гуссерля, преподававшего с 1916 года во
Фрейбурге. Хайдеггер был, в сущности, его продолжателем, однако, как
441
никто из последователей Гуссерля, проявил свою самостоятельность.
В 1928 году Хайдеггер занял кафедру Гуссерля во Фрейбурге. Задолго до
появления фундаментального сочинения Хайдеггера «Бытие и время»
(1927) о нем распространилась слава необыкновенного преподавателя
философии: «Впервые в жизни встретиться с его взглядом было
достаточно, чтобы понять - вот человек, который видит. Мыслитель
видящий. И на деле... своеобразие Хайдеггера состоит в том, что все вещи,
о которых он говорит на своем в высшей степени своенравном,
нередко оскорбляющем ожидания «культурного» слушателя языке, мы
начинаем одновременно видеть, притом совершенно наглядно» (Ганс Георг
Гадамер).
В 1933—1934 годах Хайдеггер в течение десяти месяцев был
ректором Фрейбургского университета, от этого времени остался его
доклад «Самоутверждение немецкого университета», в котором
Хайдеггер в самом начале гитлеровского времени сделал почти
отчаянную попытку повергнуть немецкую науку (и даже культуру) к
бытийным основаниям мысли. Он попытался наложить печать смысла на
происходящее и, следовательно, изменить его силой мысли в
роковой час истории. Поскольку Хайдеггер, как ректор, вынужден был
идти на уступки властям, сложилась легенда о близости Хайдеггера
национал-социализму. Хотя Хайдеггер открыто говорил о
самоутверждении университета, хотя вскоре он вынужден был уйти с поста
ректора и подвергался нападкам в официозных органах печати,
легенда оказалась стойкой. После войны, когда Фрейбург оказался во
французской зоне оккупации, Хайдеггеру было запрещено
преподавать, и такой запрет действовал по 1951 год.
Этот скверный анекдот поры послевоенной неразберихи нашел
продолжение в журналистских нападках на Хайдеггера, время от
времени возобновляющихся. Все говорит о том, что «Хайдеггер и фашизм»
останется «вечной» темой журналистов - каждое новое поколение
будет получать барыши с «подогревания» этого вопроса. Последняя
вспышка страстей вокруг Хайдеггера относится к 1987—1988 годам; она,
очевидно, приурочена к столетию философа, скончавшегося 26 мая
1976 года. Чилийский журналист Виктор Фариас опубликовал книгу
под заглавием «Хайдеггер и национал-социализм», для сочинения
которой ему, правда, не пришлось ни собирать существенно новых
фактов, ни углубляться в мысль философа. Нелепость основной
конструкции, положенной в основу обширного текста, бросается в глаза
любому читателю. Тем не менее в конце 1988 года книга вышла на немецком
языке с предисловием известного философа Ю. Хабермаса,
выразившего пожелание, чтобы вопрос был вновь активно обсужден.
Совершенно замечательно то, что, как гласит реклама, Фариас в 60-е годы жил
во Фрейбурге и был близок к окружению Хайдеггера. Ни возможность
изучать труды философа в течение длительного времени, ни близость
к «кругу», а возможно, и к самому Хайдеггеру, не помешали
журналисту не знать того, о чем он взялся писать, и приняться за
«разоблачение» философа. Однако этот «шум» цивилизации, который для очень
многих затрудняет подходы к мысли величайшего философа XX
столетия, превосходно описан уже в «Бытии и времени» Хайдеггера. Таким
442
образом, в непрекращающейся «говорильне» (или «болтовне») нет
ничего непредвиденного, и она парадоксальным образом увековечена
самим же Хайдеггером - как феномен бытийный или, скажем, как
явление культуры.
Нам осталось немногое. Вновь послушать самого Хайдеггера -
сначала отрывок из его доклада о P.M. Рильке (1946). А заключительный
текст вернет нас к воспоминаниям Хайдеггера — в воспоминаниях, как
можно было лишний раз убедиться, одно из начал философии.
...Но мы,
Мы прежде, чем растенье или зверь,
Идем одной дорогой с риском, волим риск...
То, что названо здесь волением, - это пробивание себе пути. Такое,
какое уже пред-положено миром — миром как целым со-ставляемых
предметов. Такое воление определяет сущность человека нового
времени, хотя он поначалу и не ведает всей широты воления, не может
уже сегодня знать, какая именно воля, будучи бытием сущего, из-во-
лила такое воление. Человек нового времени таким своим волением
выставляет себя наружу как такого, который во всех своих
отношениях со всем, что есть, а стало быть, и с самим собой, восставляет себя
и восстает как пробивающий себе путь со-ставитель всего,
устраивающий свое восстание как безоговорочное господство. Целое
предметного состава, каким представляется мир, предоставлено произволу
составления, пробивающего себе путь, оно отказано его со-ставлению и
подчинено его приказу.
В соответствии со сказанным и человеческое воление может быть
лишь по способу пробивания себе пути, так что это воление уже
заранее втискивает в свою округу все, еще не имея полного обзора
всего. Для такого воления все наперед (потому и в дальнейшем)
неудержимо обращается в материал со-ставления, пробивающего себе путь.
Земля и атмосфера земли превращается в сырье. Человек делается
людским материалом, который в нужный момент пускается в ход ради
достижения предварительно по-ставленных целей. Преднамеренное
со-ставление мира неукоснительно пробивает себе путь, и все это
устраивается как состояние человеческого приказывания, - вот
процесс, который выступает наружу из скрытой сущности техники. Лишь
в современную эпоху эта сущность начинает разворачиваться как
судьба истины сущего в целом, тогда как прежде отдельные случайные
проявления и опыты технического оставались встроенными в
обширную область культуры и цивилизации.
Современная наука и тоталитарное государство, будучи
неизбежными следствиями сущности технического, вместе с тем составляют ее
свиту. То же можно сказать и о тех формах и средствах, которые
пускаются в ход в целях организации мирового общественного мнения и
повседневных представлений людей. Не только все живое
опредмечивается средствами техники путем разведения и потребления, но полным
ходом идет наступление атомной физики на явления живого как тако-
443
вого. В принципе скоро сама бытийная сущность жизни должна будет
выдать себя на милость технического со-ставления. Если сегодня люди
на полном серьезе находят в успехах атомной физики и в ее позиции
возможности для доказательства человеческой свободы и для
формулирования нового учения о ценностях, то это есть знак владычества
технических представлений, между тем как власть их разворачивается так,
что она уже изъята из сферы личных интересов, мнений отдельных
людей. Сущностная власть техники проявляется даже там, где еще
пытаются, как бы на не затронутых техникой вспомогательных площадках,
овладеть техникой, пользуясь притом прежними масштабами
ценностей: усиливаясь таким путем побороть технику, прибегают к помощи все
тех же технических средств, тогда как в них далеко не только внешняя
форма. Ибо, говоря вообще, использование машинной техники и
производство машин и механизмов — это еще не сама техника, а только
соответствующий ей инструмент, с помощью которого техника устро-
яет свою сущность в предметности своего сырого вещества, сырья. Уже
и то, что человек делается субъектом, а мир - объектом, есть следствие
устрояющейся сущности техники, а не наоборот.
Коль скоро разверзтость Рильке постигает в своем опыте как
непредметность ни в чем не урезанной полноты природы, то в
противоположность этому мир волящего человека будет отличаться своей
предметностью. И наоборот: взгляд, ищущий неущербной целокупно-
сти сущего, разглядит в явлениях поднимающейся техники указание
на такие области, из которых, быть может, придет преодоление
технического, - оно создаст тогда более изначальные образы.
А безобразные создания технического производства закрывают
разверзтость чистой всесопряженности. Вещи, которые некогда росли,
теперь быстро хиреют и вянут. Они уже не могут явить свою
своеобычность сквозь опредмеченность. В письме от 13 ноября 1925 года
Рильке пишет: «Еще для наших дедов «дом», «колодец», хорошо знакомая
башня и даже их собственная одежда, плащ были чем-то бесконечно бо
- льшим, были им роднее; почти всякая вещь служила сосудом, в
котором они находили человеческий смысл, - для таких вещей они
приберегали свое человеческое отношение. Теперь же из Америки, из-за
моря, к нам навязчиво лезут пустые и безразличные вещи, вещи
мнимые и ложные, всякие приманки... Дом в американском понимании,
американское яблоко и тамошняя лоза — у них нет ничего общего с
домом, с плодом, с гроздью винограда, в которых запечатлелись
надежды наших предков и их задумчивость...» («Письма из Мюзо»).
Однако это «американское» есть лишь собранная в кулак энергия
отдачи: сущность Европы нового времени, сущность, как она волилась,
отдается теперь в Европе, для которой, правда, уже заранее продуманы,
продуманы метафизикой, завершенной Фридрихом Ницше, по крайней
мере, существенные сферы сомнительности такого мира, где начинает
господствовать бытие как воля к воле. Не один «американизм» угрожает
нам, людям современной эпохи, но уже для наших предков, для вещей
наших праотцев угрозой была непостигнутая сущность техники. То, что
в раздумьях Рильке указывает вперед, отнюдь не состоит в его
попытке спасти вещи наших предков несмотря ни на что. Нам надлежит, на-
444
стоятельнее задумываясь, то есть мысленно заходя вперед, познавать,
что же ставится под вопрос и становится сомнительным вместе с
сущностью вещей. Рильке уже и раньше, 1 марта 1912 года, пишет из Дуи-
но: «Мир сморщивается и уходит в себя, ибо и вещи тоже, с их
стороны, поступают точно так же, они все больше и больше перекладывают
свое существование в неустойчивую дрожь денег, создавая здесь некий
вид духовности, который уже теперь начинает превосходить их
осязательную реальность. В ту эпоху, которой я сейчас занимаюсь — Рильке
имеет в виду XIV столетие, - деньги еще были золотом, металлом,
красивой вещицей, самой удобной и самой вразумительной из всех...»
Что прежде содержавшийся в вещах и сохранявшийся тут в своей
истине мир щедро раздавал и раздаривал изнутри себя, место всего
такого ныне все торопливее, бесцеремоннее и'всеохватнее занимает
предметность технического овладения землею, господства над землей.
Техническое господство над землей не только представляет все сущее
как нечто доступное со-ставлению в процессе производства, но и все
продукты своего производства доставляет и поставляет через рынок.
И человечность человека, и вещность вещи - все, по мере того как
пробивает себе путь составление, расходится и растворяется в
рассчитанной рыночной ценности, признанной рынком, каковой, будучи
мировым, не только опутывает всю землю, но и, будучи волей к воле,
устраивает торги внутри самой бытийной сущности бытия, переводя
таким образом в торговый расчет все сущее, обо расчет упрямее
всего держится там, где нет нужды в числах.
Стихотворение Рильке мыслит человека как существо,
отважившееся на воление — такое, которое волится волей к воле, уже не имея
возможности узнать о том. Будучи таковым, человек может идти
одной дорогой с риском и отвагою, так что он сам себя, как
пробивающего себе путь, заранее ставит впереди любого своего поступка -
действия и бездействия. И потому человек отважнее растения и
животного. И потому он рискует и окружен опасностями по-иному, нежели
растение и животное».
О чем идет речь в этом отрывке? О технике, о роли ее в нашей
жизни, о том, что такое техника в своих глубинах, в своей сущности.
Вот одно: техника — это все механическое, все то, что ставят, строят,
составляют, пускают в ход, — такое механическое («со-став» и «по-став»,
как иной раз пишет Хайдеггер) вытесняет все то, что растет, пребывает,
становится и умирает само собою (и что связано, как мы знаем, с
греческим ростом-»фюсисом», с природой, понятой по-гречески).
Механическое - делается, изготовляется, продуцируется, причем область
технического все расширяется, так что, мы теперь знаем, появляется возможность
воздействовать, например, на гены живых существ, тем самым
вмешиваясь в живое, в жизнь. Возможности «генной инженерии» Хайдеггер,
как видно, уже предвидел в 1946 году. Обратимся вновь к прежде
читавшемуся нами тексту: люди, живущие в воздухе проселка, писал там
Хайдеггер, «послушествуют своему истоку, а не рабствуют махинациям». Эти
«махинации» (от греческого «механе», откуда и «машина») резковато
звучат в своем контексте (у Хайдеггера стоит «Machenschaften»), однако — со
445
всей должной резкостью - Хайдеггер имеет здесь в виду именно все
механическое, противоречащее самобытному росту вещей. Но не
механическое, как сам мертвый, сделанный, изготовленный предмет —
устройство, аппарат, машину. Не это в первую очередь.
Потому что есть другое: техническое не сводится к наличному, к тому,
что есть. Оно коренится в бытии, в том, что суждено человеку (пишет
Хайдеггер), а это значит, что вся производимая человеком техника по
своему существу с самого начала, заведомо осуществляет свою власть над
человеком: не техника во власти человека, а человек во власти техники.
Мы бы сказали, что техника влияет на сознание людей и решительно
меняет его. Хайдеггер смотрел глубже: уже для того, чтобы в
человеческом сознании появилась возможность технических решений, планов,
замыслов и расчетов, сознанию человека должно быть придано известное
наклонение, уже в недрах бытия должно явиться нечто такое, что
подчиняет себе человека, покоряет его себе. Такое покорение человека
техникой, как бы задуманное задолго до ее утверждения в жизни, состоялось
очень давно. И сказалось оно прежде всего в том, что вещи, окружающие
человека и входящие в его мир, и вся природа, и весь мир в целом начали
выступать как нечто противостоящее человеку, как предмет. С этим
связано все то бесконечное множество последствий, которые как явления
многообразно описывались и в нашей литературе: если вдаваться в
бессчетные случаи планового, планомерного, рассчитанного надругательства
над природой (без плана и помимо плана оно совершается ежеминутно
и повсеместно), то окажется, что каждый такой случай начинается с
попрания — и кончается попранием человека, его сущности, его
достоинства. И все человеческое стало нам чуждо. Стало чуждо в той мере, в
какой разнообразными путями установилась власть техники над человеком,
в той мере, в какой человек выброшен из своего мира и даже у себя дома
живет на чужбине, вчуже, отчужденный от самого себя, в той мере, в
какой человек не признает своей окружающую его действительность -
природу, местность, ландшафт, в какой он, пользуясь всем этим,
внутренне, порой неосознанно презирает все это и подвергает мелкому и
мелочному унижению - засорению, замусориванию, оплевыванию.
Размышляя о возможности преодоления власти техники, Хайдеггер
задавал вопросы, не давая ответа. Вместе с Гёльдерлином и в духе
позднего Шеллинга он спрашивал: явится ли грядущий Бог? «Гёльдерлин
для меня, - говорил Хайдеггер, - не «какой-нибудь» поэт... он
указывает в будущее, он чает Бога...» Вот от этого Бога и зависит, как понимал
это Хайдеггер, вернется ли человек, вернется ли человечество к
органическим началам жизни. Это новый Бог, потому что в той неразрывной
сопряженности, какая существует между человеком и Богом, время
христианского Бога, как можно предположить, уже прошло (все это лежит
в тайне для Хайдеггера). Если бы человечество начало свое возвращение -
а мы теперь знаем, сколь нагружено смыслом это слово и сколь
многообразно, а притом едино пролегают все пути домой! - то это и значило
бы приход нового, неведомого Бога, который осенит своим явлением
человечество. Нельзя не сказать о том, что мысль Хайдеггера
останавливалась даже перед самой такой возможностью. Все это для него — и
грядущий Бог, и сама возможность его явления - пребывает в тайне. Он су-
446
шествует лишь как вопрос, как вопрошание, как нечто достойное
вопроса и вместе с тем сомнительное. Но именно в таких существенных
«вопрошаниях» и состоит суть философствования по Хайдеггеру.
В 1966 году Хайдеггер, размышляя все о том же, говорил: «Кто из
нас может поручиться, что в один прекрасный день в России и в
Китае не проснутся древние предания мышления, которые будут
способствовать тому, чтобы человек обрел свободное, независимое
отношение к технике?»
Теперь же - слово Хайдеггера о его родном доме, прочно стоявшем
в своем мире под звон часов, под звон колоколов с церковной
башни: у них, слышали мы, свое отношение ко времени, и они заронили
свое в мысль будущего философа. Он написал этот текст в 1956 году.
О тайне башни со звоном
В рождественское утро, в ранний час, примерно в половине
четвертого, в дом пономаря пришли мальчишки-звонари. Мать уже накрыла
на стол и подала кофе с молоком и печенье. Стол стоял рядом с
рождественской елкой, и благоухание ели и свечей заполнило всю
комнату еще со святого вечера. Долгие недели, если не целый год,
радовались мальчики тому, что ожидало их в этот час в доме пономаря. В чем
же таилось очарование этого часа? Конечно, не в том, что было так
вкусно поедать в столь ранний час, войдя в комнату из самой зимы,
среди ночи. Многие из мальчишек у себя дома ели лучше. Волшебство
таилось в чудесной странности дома, в необычности часа, в ожидании
звона и самого торжества. Возбуждение овладевало всеми уже в доме,
когда мальчики, насытившись, зажигали в передней фонари - каждый
свой. То были огарки, снятые с алтаря; пономарь собирал их для
такой надобности в ризнице и держал там в особом ящике. Оттуда и мы
сами, дети пономаря, забирали свечи, чтобы ставить их на «свой»
алтарь, у которого, играя в игру серьезную, мы «читали мессу».
Справившись с фонарями, мальчики - впереди старший звонарь -
бодро топали по снегу и затем пропадали в дверях башни. В
колокола, особенно в большие, звонили, находясь в звоннице. И
несказанно волнующим было предварявшее звон раскачивание колоколов -
тех, что побольше, языки которых были накрепко перехвачены
веревками и отпускались лишь тогда, когда колокола совсем уже
раскачались, - для этого надо было знать определенные приемы. Делали так,
чтобы каждый колокол, вступая в свой черед, сразу же звучал
полногласно и мощно. И лишь опытный человек мог определить,
«правильно» ли звонят, потому что и оканчивать звон требовалось точно так
же, но лишь в обратном порядке. Било колокола надо было
перехватить, пока колокол еще звучал во всю свою силу, - и беда, если
неловкий звонарь давал колоколу «ускользнуть»...
Как только в рождественскую рань отзвучали четыре удара,
отметившие час, вступал самый маленький из колоколов,
именовавшийся трехчасовым, потому что в него всегда били в три часа пополудни.
447
И это тоже входило в обязанность мальчиков-звонарей, отчего вечно
и прерывались их игры в дворцовом парке или на «мосту у рынка»
перед ратушей. Однако нередко, особенно летом, звонари переносили
свои игры на звонницу или на самый верхний ярус башни в
непосредственную близость от циферблата башенных часов, где свили гнезда
галки и черные стрижи. Но тот же трехчасовик оповещал о смерти и
тогда подавал «знак». В таком случае звонил всегда сам пономарь.
Когда в четыре часа начинался «страшный» звон (нужно было
заставить в страхе вскочить с постели тех, кто заспался), то следом за трехча-
совиком вступал томно-сладкий глас «альвы», затем «дитяти» (обычно
звавший на детское богослужение, на уроки закона божия и на чтение
розария), затем «одиннадцатый», в который тоже звонили каждодневно,
обычно сам пономарь, потому что мальчики в это время были в школе,
потом «двенадцатый», тоже каждодневно возвещавший полдень, затем
колокол, по которому ударял молот часового механизма, и, наконец,
«большой». Полновесными, тяжелыми, далеко разносившимися
ударами «большого» завершался утренний перезвон в дни больших
праздников. Вскоре после того начинали звонить к службе ангелов. Точно так
звонили и ко всенощной в предпраздничные дни, и тогда, как правило,
дети пономаря не отсиживались в стороне, хотя, конечно, они же были
и причетниками, а с возрастом, естественно, становились старшими
причетниками. В число звонарей они не входили, однако, нужно думать,
били в колокола почаще тех, кого особо отбирали для такого занятия.
Кроме названных семи колоколов над самой верхней лестницей в
звонницу висел еще «серебрянный колокольчик», от которого к
самому входу в ризницу, во всю высоту башни, свисала тонкая бечева.
Когда свершалось св. таинство Пресуществления, пономарь при посредстве
этого колокольчика подавал знак к началу и завершению перезвона.
Но вот куда звонарей не приходилось особо приглашать, так это к
«перестуку». Начиная с чистого четверга на Страстной неделе и до
вечера Великой субботы колокола оставались немы, а тогда на службу и
на молитву прихожан созывали «трещотки». Вращением вала в
движение приводился целый ряд деревянных молотков и молоточков,
которые ударяя по твердому дереву, производили треск, приличный для
скорбных дней Страстной недели. «Трещали» сразу со всех четырех
углов, начиная с ближайшего к ратуше, так что «трещотки» одна за
другой приводились в движение сменявшими друг друга мальчиками.
В эту пору ощущались уже предвестия грядущей весны, и с
высоты башни, откуда открывался дальний вид, невыразимые, неясные
ожидания плыли навстречу лету.
Таинственный лад, соединявший и сопрягавший в целое
последовательность церковных праздников, вигилий, времен года, утренних,
дневных и вечерних часов каждого дня, так что единый звон проникал
и пронизывал юные сердца, сны и мечты, молитвы и игры, - он, этот
лад, видимо, и скрывает в себе одну из самых чарующих, самых
целительных и неисповедимых тайн башни со звоном, - он скрывает в
себе тайну затем, чтобы в непрестанной смене и с извечной
неповторимостью раздаривать ее вплоть до самого последнего погребального
звона, призывающего в укромные недра Бытия.
Герменевтика в России
Современная историческая поэтика
и научно-философское наследае
Густава Густавовича Шпета
(1879-1940)
Современная историческая поэтика - это, скорее, заново
рождающаяся, нежели уже осуществившаяся научная дисциплина.
Задача ее - не просто продолжить грандиозный для своего
времени замысел академика А. Н. Веселовского, но продумать его
заново и исполнить (насколько то в силах человеческих) по-
новому. Для этого совершенно необходимо разобраться в тенденциях, в
логике развития мировой науки в последние полтора-два столетия и
рассмотреть в ней все то, что - как материал, как идея, как аналогия или
прямая подготовка - может способствовать тому историко-теоретичес-
кому синтезу знания о литературе, в чем только и может состоять (в
самых общих чертах) суть новой исторической поэтики. Здесь речь
непременно зайдет и о том, что историку литературы может показаться
далеким от его предметов, - например, о том, как в науке и вообще в
культуре, в культурном сознании, мыслилась и мыслится история.
Однако рассуждения о таких, казалось бы, отвлеченных материях помогут и
историку литературы прояснить свою мысль, обнажить ее основания
(почему он думает об истории литературы так-то, а не иначе). А тогда
прояснение оснований своей мысли позволит литературоведу свободнее
увидеть и развитие своей науки, и все близкое и сопутствующее ей. Тогда
задумывающийся над проблемами исторической поэтики литературовед,
очевидно, не преминет указать на творчество русского философа
Густава Густавовича Шпета, имя которого оказывается среди вдохновителей
современной исторической поэтики. Почему это так — на это можно
сейчас, в этом тексте, лишь обратить внимание читателей, без
подробных анализов и доказательств.
Начать следует, однако, с более раннего этапа русской мысли. На
рубеже XVIII-XIX в. и в особенности в 1820—1840-е годы русская
культура осваивает принципы нового исторического мышления,
принципы историзма. Судьба этих принципов в России была
особенной - они были восприняты здесь как свое, как принадлежащее к
существу своей культуры.
451
Как замечательно писал А.М. Панченко, «эволюция культуры —
явление не только неизбежное, но и благотворное, потому что культура не
может пребывать в застывшем, окостенелом состоянии. Но эволюция
все же протекает в пределах "вечного града" культуры»1. Нужно думать,
однако, что усвоение нового исторического мышления было не столько
эволюционным актом, - правда, опиравшимся на известную эволюцию
и в том числе на узенькую струйку исторической критики (уже под
воздействием западной науки)2; оно было — в исторических масштабах, —
скорее, внезапным актом. При этом, главное, - внутренним актом
самораскрытия культуры. Актом, на долгое время обеспечившим прочное
и уверенное состояние этой культуры. Для русской культуры это был
акт своего самоосмысления и переосмысления. В отличие от многих
кризисов в западной культуре, вроде ужасных нигилистических
прозрений в немецкой философии и литературе рубежа XVIII—XIX в., он был
совсем лишен трагизма. Напротив, он совершался как самоутверждение
начал русской культуры. Нужно полагать, что в новом усвоенном
историческом мышлении сказался и весь присущий русской культуре
субстанциальный и находивший свое выражение в первую очередь вовсе
не в формах науки вековой исторический опыт - с его опорой на
прочное, неразъятое бытие. Представим себе теперь, что это бытие
впитало в себя принцип историзма и что к нему применены все возможные
аналитические приемы новой исторической науки, но что оно все-таки
упорно сохраняет свою цельность, - возможно, это представление
поможет понять, что происходило с русским культурным сознанием, когда
оно стало усваивать достижения западной мысли, ее научные приемы
и методы. Охотно воспринимая всякие научные понятия и
методологические подходы западной науки, не боясь никаких влияний и
воздействий, русская наука все это перерабатывала и ставила на почву своего
исконного взгляда. Вследствие этого русская наука, мыслившая
историю и занятая историческим материалом, развивалась своеобразно, как
национальная наука. Так развивалась и филология.
Контакты между русской и западной, в том числе немецкой наукой
на протяжении всего XIX в. весьма тесны, и в течение этого времени
они резко возрастают, — но эти контакты несколько односторонни, и
если достижения западной науки легко проникают в Россию
(преодолевая любые внешние препятствия, коль скоро таковые возникают), то
обратное движение чрезвычайно затруднено. В этом безусловно
сказывается отзывчивость и широта русской культуры, и в этом же
сказываются известная самоудовлетворенность западной науки. Коренные
причины так поставленного общения культур весьма глубоки — проявление
их, в частности, и в том, что русская наука, во всяком случае
гуманитарная, с большим трудом встраивалась в мировую науку. Так, научное
творчество А.Н. Веселовского не стало своевременно известно на
Западе, хотя внешне все благоприятствовало этому - первый капитальный
труд ученого, «Вилла Альберти» (1870), был издан в Италии, на
итальянском языке, и произвел впечатление. А.Н. Веселовский много лет
жил за границей, его контакты с зарубежными учеными не
прерывались, и он регулярно дублировал в Германии небольшие научные замет-
452
ки. Но лишь в последние годы западной науке приходится осваивать
его наследие и задним числом встраивать его в историю науки.
Коренные же причины расхождений между науками, западной и
русской, и между культурами заключались, видимо, именно в том, как здесь
видели и осмысляли историю и историческое бытие. Все с внешней
стороны только «заимствованное» русская культура вводит в самую
сердцевину своего осмысления мира и постигает в виде совокупности
примерно таких основных мотивов — бытие как развитие с его внутренними
основаниями, бытие как конкретность, как конкретно-историческое бытие.
Это широко осваивается не просто наукой, но и вообще культурным
сознанием и через литературу переходит в самую гущу жизни, в гущу ее
повседневного осмысления. В науке главенствующими становятся истори-
ко-генетические подходы. В них не просто метод, но и мировоззрение,
предпосылаемое научным построениям. Историчность представляется
здесь присущей самому бытию. Напротив, в немецкой науке, в немецкой
философии, как бы глубоко ни было разработано здесь новое
историческое мышление, всегда ощущается искушение свернуть историю как
развитие, как процесс в некоего рода конструкцию или структуру или
перевести историю в некоторый вневременной, структурно-логический план3.
Но тогда историческое выступает лишь как наложенное на бытие, как
вторичное в отношении его сущности, — что, быть может, легко стереть с
лика бытия, как случайные черты - с всепоглощающей вечности.
Зато о том, сколь глубоко идея историчности слилась с бытием в
русской мысли, можно судить по такому ее образцу - позднему и
крайнему, — где она проявляет готовность и способность мыслить строго
логически-структурно: «<...> "История"ведь и есть в конце концов та
действительность, которая нас окружает и из анализа которой должна
исходить философия... по сравнению с историей всякая другая
действительность должна представляться как "часть" или абстракция»4.
Эти слова принадлежат мыслителю, который столь глубоко усвоил
представления и язык немецкой философии, что, казалось бы, в нем не
должно было остаться ничего от русской мыслительной традиции, -
тогда Густав Шпет принадлежал бы исключительно к немецкой
феноменологии, а в перспективе к интернациональному феноменологическому
движению. Г. Шпет, которого высоко ценил его учитель Эдмунд Гуссерль5,
очень скоро придает, однако, новые акценты феноменологической
философии - главное, - это осмысление действительности как
действительности исторической (что должно было резко контрастировать с аисторизмом
мышления довоенного Гуссерля6), затем соединение феноменологии с
психологией народов, или этнической психологией, и, наконец,
отмеченное чрезвычайной важностью и оказавшееся поистине провидческим
синтезирование феноменологии и герменевтики7 — что в немецкой
философии и науке было достигнуто лишь значительно позже.
Во всем, в чем Г. Шпет обгонял развитие феноменологической
школы в Германии8, сказывается стержневое воздействие русской
мыслительной традиции, в свое время опосредованной Западом.
Скрещение традиций, их мотивов совершалось именно так, как то
подсказывала русская традиция, - и это при том нетипичном для нее,
что заключалось в творчестве Г. Шпета.
453
Так, Г. Шпет не может усомниться в объективности бытия -
данного первично, цельно и субстанциально: «<...> непредвзятое
описание действительности во всей ее конкретной - исторической -
полноте разрушает гипотезу о том, будто эта действительность есть
только комплекс "ощущений"9, — и такая убежденность, с одной стороны,
подкрепляется антипсихологизмом феноменологии, а с другой -
определяется русской традицией, которая и в XIX в., в разгар
психологизма, не склонна была признавать и допускать психологизм в таком
оголенно-индивидуалистическом и субъективистском духе (со всеми
его отражениями в философии и науке), как западная, в том числе
немецкая культура; соответствующее понимание бытия,
онтологическая предпосылка Шпета, позволяет ему трактовать в социальном
плане то, что в некоторых течениях феноменологии так и осталось
отвлеченной, структурно-логической проблемой интерсубъективности10.
Для литературоведа здесь прежде всего интересна связь мысли Г.
Шпета и раннего М. Бахтина.
Та же бытийность мысли прослеживается и в области эстетики и
поэтики, тут у Г. Шпета тоже происходит скрещение различных
интеллектуальных традиций - поскольку же оно неполно, то неизбежно их
совмещение и сосуществование. Так, у Г. Шпета резко ощутимо
воздействие формалистической эстетики, под которой мы имеем сейчас в виду
строго определенную, идущую от И. Канта - И.Ф. Гербарта и от Б. Боль-
цано и его учеников традицию, оформившуюся на австрийской почве
(Роберт Циммерман) и, в частности, получившую солидное
продолжение в Чехии. Такая формалистическая эстетика требовала, например,
абсолютно жесткого, неумолимого разграничения искусств и, далее, любых
художественных жанров, между которыми будто бы нет и не может быть
переходов11. Присущий той же традиции логицизм требовал такого же
размежевания научных дисциплин. Ей же свойственный духовный
аристократизм сказывается у Г. Шпета в оценках литературы — реализм
XIX в. для него совершенно неприемлем, как что-то ценное он
«сломался вместе с Гоголем»12, а впоследствии остается лишь «натурализмом» -
«чистым эстетическим нигилизмом»13. Между тем феноменологическое
тяготение к чистому духовному предмету смыкается с онтологизмом
русской традиции и реализм возвращается в эстетику в углубленном
смысле: «Реальная вещь есть фундирующее основание поэтической. Всякий
поэтический предмет есть также предмет реальный. Поэтому-то реализм
есть specificum всякой поэзии»14; «Реализм, если он - не реализм духа, а
только природы и души, есть отвлеченный реализм, скат в "ничто"
натурализма»15; «Новый реализм, реализм выраженный, а не реализм быта,
будет выражением того, что есть, а не того, что случается и бывает, того,
что действительно есть, а не того, что кажется»16. В таком онтологизме
традиционно русская субстанциальная цельность как мыслительная
основа еще усилена и философски прояснена, - с одной стороны,
традициями, родственными в позитивном (опора на вещь), с другой же -
родственными в негативном - своей обращенностью против
субъективного идеализма и психологизма.
Теперь к историзму. Феноменологу (так это сложилось) всегда к
лицу все ставить на свои места — так это получается и у Г. Шпета с по-
454
этикой, которой вроде бы положено помнить у него свое очень
скромное место, занятое ею в старину: «Поэтика - наука об фасонах
словесных одеяний мысли»; «<...> поэтика- поэтический костюм мысли»17;
«Поэтика - не эстетика и не часть и не глава эстетики <...> поэтика
есть дисциплина техническая»18. В начале 1920-х годов, в пору
расцвета нового литературоведческого формализма, эти дефиниции
мыслителя с самой капитальной формалистической выучкой не могут не
напоминать о нем. Тем более показательно, что мысль Г. Шпета и в
поэтике устремлена к истории и имеет отношение к исторической
поэтике. Прежде всего «поэтики absolute, вне времени, не бывает»19,
и поэтике предстоит принять участие в поисках будущей, только еще
предстоящей подлинно исторической дисциплины: «Свои
диалектические законы внутренних метаморфоз в самой мысли еще не
раскрыты. Законы развития, нарастания, обеднения, обрастания, обсыпания
и пр. и пр. сюжетов, тем, систем и т. п. должны быть найдены, как
законы специфические. История значения слов, историческая
семасиология, история литературы, философии, научной мысли - все это
еще научные и методологические пожелания, а не осуществленные
факты. Слава Богу, что покончили хотя бы с ними как
эмпирическими историями быта, "влияний среды", биографий, - если, впрочем,
покончили. Настоящая история здесь возможна будет тогда только,
когда удастся заложить принципиальные основы идеальной
"естественной" диалектики возможных эволюции сюжета»20. Отсюда
можно видеть - при очевидных неясностях, - что историческая поэтика
в понимании Г. Шпета должна была бы стать морфологией сюжета,
притом на основе мышления истории как тоже морфологии. Г. Шпе-
ту и здесь было важно подчеркнуть онтологизм сюжета: «Идея, смысл,
сюжет— объективны. Их бытие не зависит от нашего
существования»21. Тем более они принадлежат истории как бытию.
С чего мы начали, тем можем и кончить, — пройдя через
некоторый, впрочем ограниченный, материал мысли Г. Шпета: и для него
историчность бытия служит самым важным и ценным его свойством,
достойным самого глубокого изучения, и это важнейшее свойство бытия
перекрывает у него формалистическую структурность и аисторизм той
философской традиции, с которой он себя отождествил. Г. Шпет был
не просто философ-феноменолог и не просто представитель гуссерли-
анства в русской философии — он был представителем русской
культурной традиции в феноменологическом движении.
Правда, историческая поэтика, которую можно было бы строить на
основе мировоззрения Г. Шпета, мало бы походила на современный
замысел этой науки. Это объясняется, конечно, не только духовной
ситуацией 1910-1920-х годов, в которую Г. Шпет превосходно
вписывался со своей очень четко обозначенной философской и научной
позицией, но и внутренним складом его мировоззрения, где культурные
и научные традиции отчасти были синтезированы, отчасти
накладывались друг на друга, отчасти сосуществовали и - направленные
навстречу друг другу из разных историко-культурных углов - не успели
еще сойтись. Так, линия эстетико-формалистическая вынуждала
видеть в поэтике нечто только техническое и твердой рукой посаженное
455
на свое невидное место, а историзм, противостоявший чисто
логической структурности того же формализма и тогдашнему аисторизму
феноменологии, подсказывал мысль видеть в поэтике нечто глубоко
связанное с историей; но обе эти линии не успели еще пересечься и дать
ясный совокупный результат. Каким бы он был - о том мы не можем
теперь судить. Но вот что важно. Основную задачу, какая встала перед
Г. Шпетом в его неоконченном исследовании «История как предмет
логики», когда он разбирал Шеллинга и собирался перейти к Гегелю,
можно, по всей видимости, формулировать так: каким образом
возможна философия истории как конкретной полноты
совершающегося без того, чтобы на историю как на имманентный процесс была
наложена априорная схема. Запомним это.
У Шеллинга, писал Г. Шпет, «формальное отрицание
возможности философии истории тесно связано с признанием факта
существования истории: априорная история только потому и "невозможна",
что история по своему существу апостериорна. Но это, скорее,
недостаточно широкий взгляд на философию, чем недостаточное
понимание истории как науки и ее метода. В самом деле, объект
философии, по Шеллингу, - действительный мир, - можно ли философии
отказаться от рассмотрения апостериорного в нем по своим методам
и со своими приемами? Разве философское и априорное
тождественны и разве не может быть апостериорной философии»22? И Г. Шпет
так свободно реферирует одно место из «Системы
трансцендентального идеализма» Шеллинга: «История как процесс и предмет не есть
"развитие", которое само только quasi-история23, а есть история, т. е.
процесс, который не предопределен, не имеет заранее и извне
данного плана. Человек сам делает историю, и произвол есть бог истории»24.
Выделенные курсивом последние четыре слова - это перевод фразы
Шеллинга: «Die Willkür ist die Göttin Geschichte», перевод не слишком
целесообразный, если иметь в виду семантическую эволюцию слова
«произвол» — в направлении полнейшей беззаконности и безосно-
ванности; этот перевод противоречит и утверждению Шеллинга тут
же: «... своеобразие истории составляет только сочетание свободы и
закономерности...» На деле Willhür в немецком языке 1800 г.
означает лишь «свободный выбор», «свободу выбора» и подразумевает ту
историческую потенциальность, которая оказалась столь близкой и
Г. Шпету, писавшему об «истории как истории эмпирически
осуществившейся одной из возможностей или нескольких из
возможностей»25.
«Произвол есть бог истории» - подлинный смысл этого
высказанного в со-мышлении с Шеллингом суждения Г. Шпета налагает
запрет на конструирование истории - все равно, задним числом или
наперед, - поверх фактов, поперек фактической сложенности
процесса, запрет на конструирование истории посредством внешних в
отношении ее понятий.
Такие мысли кровно близки современной теории литературы.
Осмелимся думать, что сейчас нет для нее проблемы более острой и
горячей, нежели та, которую попробуем формулировать так: как
возможна теория литературы, которая не накладывала бы на исторически
456
становящийся, осуществляющийся материал словесности, на
материал словесности и литературы, неподвижных и априорных схем и была
бы способна учитывать и анализировать его в полной мере, не внося
в него искажений и деформаций, не повторяя историю литературы с
ее эмпиризмом?
Для синтеза истории и теории литературы как возможности ответ
на подобный вопрос заключает в себе его судьбу.
В силу такой общности задач, какие встают перед культурным
сознанием, Густав Шпет- при всех формалистически-структурных
элементах его философии — был и остается мыслителем, близким
всем тем, кто задумывается над построением новой исторической
поэтики. «Все как эмпирическое все имеет у нас еще одно название,
это есть история»26.
Примечания
1 Панченко A.M. Топика и культурная дистанция // Историческая поэтика:
Итоги и перспективы изучения. М, 1986. С. 42.
2 См.: Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII -
первая половина XIX века). М., 1985. А.Л. Шлёцер, прибыв в Россию в
1761 г., не обнаруживает здесь исторической науки, так как критерием ее
считает применение приемов историко-филологической критики текста. В
новейших авторах российской истории, В.Н. Татищеве и М.В. Ломоносове, он
не может признать историков, поскольку ими не освоен в должной мере
исторический метод (который, конечно, был шире техники приемов). См.: там
же. С. 36-37.
3 Так это происходит в Германии с самого же начала становления историзма, и
это знаменательным образом сказалось на переосмыслении самого слова
«историзм» (Historismus) в негативном плане — как отказа от «своего», безразличной
стилизации под прошлое, эклектизма и т. п. В немецкой мысли «свертывание»
истории и перевод ее в ту или иную конструкцию начинает осуществляться с
самого становления нового исторического мышления: «... в философии истории,
как и в философии природы, гениальный замысел Гегеля - представить историю
общества как закономерный процесс при конкретной его разработке
превращается в свою противоположность <...> смысл и источник общественного
развития <...> переносится <...> вовне самой истории, последняя оказывается лишь
временной формой...» (Богомолов A.C. Гегель и диалектическая концепция
развития // Философия Гегеля: проблемы диалектики. М., 1987. С. 65).
4 Шпет Г. История как проблема логики: Критические и методологические
исследования. М., 1916. Т. 1. С. 20-21.
5 См.: Holenstein Ε. Linguistik, Semiotik, Hermeneutik. Frankfurt a. M., 1976. S. 15, 17.
6 Этот аисторизм был наследием определенной культурной традиции: развитие
феноменологии должно было потеснить его, предоставив место рефлексии
исторического.
7 Г. Шпет до сей поры недооценен, не прочитан и даже не дочитан до конца.
Неизданным остается его труд «Философия истолкования (герменевтика и ее
проблемы)» (1918), который ни в чем не утратил своей актуальности и
современного звучания. В частности, он перекликается с книгой Г.-Г. Гадамера «Истина
и метод», особенно с ее историческими разделами (см.: Gadamer H.G. Wahrheit
und Methode. Tübingen, 1960; см. теперь также: Gesammelte Werke. Bd. 2.
Tübingen, 1986).
457
8 Эволюция взглядов самого Гуссерля совершалась довольно быстро; кроме того,
от философии Гуссерля постоянно отпочковывались отдельные ветви, иногда
далеко отклонявшиеся от основного ствола. Соединение феноменологии с
проблемами истории, философии культуры, герменевтики потребовало
значительного времени; у Г. Шпета, который одновременно оставался верен Гуссерлю
этапа его классических довоенных трудов и был исключительно своеобразен, все
эти соединения предусмотрены и во многом развиты.
9 Шпет Г. Указ соч. С. 22.
10 «... человеческий индивид <...> не есть заключенный одиночной тюрьмы. ...
факты и акты коллективного, "соборного", именно социального порядка так же
действительны, как и факты индивидуальных переживаний. Человек для
человека вовсе не только со-человек, но они оба вместе составляют нечто, что не есть
простая сумма их, а в то же время и каждый из них, и оба они, как новое
единство, составляют не только часть, но и "орган" нового человеческого целого,
социального целого. Самые изощренные попытки современной психологии
"свести" социальные явления к явлениям индивидуально-психологического
порядка <...> терпят решительное крушение перед фактами непосредственной и
первичной данности социального предмета как такового» (там же).
11 «Нужны поэты в поэзии, а как не нужны в поэзии музыканты, так не нужны
и живописцы» (Шпет Г. Эстетические фрагменты. Т. 1. Пб., 1922. С. 29), -
высказывание, не частое в русской традиции, но для формалистической эстетики не
новое и не оригинальное.
12 Там же. С. 33.
13 Там же. С. 34.
14 Там же. Т. 2. Пб., 1923. С. 72-73. Очевидно, туг речь идет и об объективной
вещи, и о феноменологически понятой духовной предметности. Заметим, что
опора на объективно существующую вещность, предметность была характерна
для целой духовной традиции - для той самой, которая служила основой и для
эстетического формализма, - со времен И.Ф. Гербарта с его «реалами» и до
ответвлений этой традиции в XX в. («реизм» Т. Котарбиньского).
15 Там же. Т. I. С. 39.
16 Там же. С. 41.
17 Там же. Т. 3. Пб., 1923. С. 40.
18 Там же. Т. 2. С. 70-71.
19 Там же. T. 1.С.44.
20 Там же. Т. 2. С. 90.
21 Там же. С. 96.
22 Шпет Г. История как проблема логики. С. 472.
23 Заметим: постольку, поскольку Entwicklung есть лишь разворачивание
«свернутого», т. е. данного наперед.
24 Там же. С. 470. См.: Schelling F. W. J. Sämmtliche Werke. Bd. III. Stuttgart;
Augsburg, 1858. S. 589.
25 Шпет Г. Эстетические фрагменты. T. 2. С. 90.
26 Шпет Г. Мудрость или разум? // Мысль и слово: Философский ежегодник.
Т. I. М., 1917. С. 50. Ср.: Там же. С. 54: «Философия становится от этого
исторической, и мы по-новому применяем однажды высказанный принцип: nihil est
in intellectu, quod non fuerit in historia, et omne quod fuit in historia, deberet esse in
intellectu».
Терминологические исследования
А.Ф. Лосева и историзация
нашего знания
Думая о незабвенном и приснопамятном Алексее Федоровиче
Лосеве, мы сознаем, на сколь широком поле знания двигалась и
разворачивалась его мысль на протяжении долгих и трудны* десятилетий. Мы
сознаем его знание, а порой сознаем и то, насколько сами бываем
далеки от такой широты. Широта означает, однако, и то, что в самых
разных отношениях знание высказываемое и излагаемое
основывается на невысказанном— как на том невысказанном, какое мыслитель,
обладающий знанием, попросту не успевает высказать за свою жизнь,
так и на том невысказанном, какое превышает способность слова.
То невысказанное, что кажется более случайным, коль скоро оно
просто не успело сказаться в слове, и то невысказанное, которое не
высказывается оттого, что для него нельзя найти имени, тем не менее,
несмотря на явственную разницу между ними, продолжают друг друга
и складываются в то, что со всех сторон окружает человеческое слово.
Слову присуще не только то, что оно нечто именует и
выговаривает, но и то, что оно, именуя и выговаривая, вынуждено не
выговаривать и умалчивать. Слово как бы не поспевает за самим собою,
причем «как бы» здесь даже не вполне на месте. Поэтому жизнь
человека мысли, т. е. такого, для которого жить — значит мыслить, а таким,
одним из немногих, был Алексей Федорович, обречена на
замкнутость - на такую замкнутость внутри себя, само призвание которой
состоит в том, чтобы выговаривать нечто важное и существенное для
бытия людей. Слово, которое обязано поспевать за собой по мере
своих сил, в то же время и обречено на немоту; плененности внутри себя,
внутри замкнутости всего своего - именно всего того, что поверено и
доверено мыслителю, - предается лишь тот, кому есть что сказать.
Поэтому настоящее слово — то, которое на деле способно
выговаривать нечто важное и существенное для людей, - зиждется на настоящем
умалчивании и на настоящем молчании, безмолвии: оно уходит в глубь
молчания, которому отдано, и в то же время, умалчивая, умеет через
посредство умолчания все же высказать и то, для чего нет имени. Не
именуя, т. е. вовсе и не высказывая то, что не высказывается и не может быть
высказано, оно именует все это через высказываемое. Высказываемое и
невысказываемое, высказанное и невысказанное тогда со-устроены, и
даже гармонично соустроены, потому что не могут быть друг без друга и
одно сказывается в другом. Тогда слово — то самое, которое не поспевает
за самим собою, - начинает уже превышать само себя: оно дает узнать
459
и о том, что вроде бы никак нельзя ни сказать, ни рассказать. Это и есть
настоящее слово: хотя оно терзается тем, что одновременно отстает от
себя самого и забегает вперед себя самого, оно полнится
напряженностью немоты и молчания, поселившихся в нем. Таково по-настоящему
полновесное слово: то, что недосказано им и в нем, уравновешивается
доложенным и приложенным к нему, а приложена бывает к нему
именно не-высказанность, несказанность, начинающая издалека мерцать
внутри слова. И это тоже знал Алексей Федорович.
Говоря о слове и о языке, никак нельзя миновать этот мир невыс-
казанности и несказанности, который со всех сторон окружает слово
и язык; этот многосложный и разный мир сказывается на языке
человека и в счастливых случаях сказывается в нем. Это язык человека,
т. е. он таков, каким только и может быть язык человека: как вообще
дано существовать человеку, так существует и его язык, - он
существует в человеческом и в мире человека, однако этому миру присуще
быть окруженным иным и заглядывать в недоступность иного.
Однако в мире человеческого у языка особое положение, и он не
просто складывается с существованием человека и не входит в
существование человека без остатка: не что иное, но именно язык несет
весть об ином - несет ее и тогда, когда человек не подозревает об этом
и ничего не желает знать об ином. Язык — вместе с человеком и
отдельно от него: словно стихия, какой нельзя до конца овладеть, язык
разведывает границы человеческого мира, унося от них к человеку
явственный отголосок неизведанного и неизвестного, невысказанного и
несказанного. Язык смелее всего в человеке, и говорящий о дерзости
и страшности человека второй хор «Антигоны» - это дело, это
творение языка: язык смел, и дерзок, и страшен во всем, что ни творит, что
ни вытворяет человек, и все ужасное, и все страшное становится
таковым через язык, бьющийся о границы человеческого. Отношения
человека с языком не улажены и при такой дерзости языка едва ли
могут быть улажены до конца: и самые последовательные попытки
«брать язык в свои руки», определяя, что есть в нем, каково то, что
есть в нем, и чему чем надлежит быть в языке, непременно, как бы
подражая самому языку, должны разбиваться об язык, для того чтобы
благодаря этому обрести надежду на большую широту.
Весьма трезво излагаемые терминологические штудии1,
соображения и замечания А.Ф. Лосева остаются в пределах осознания
философией пройденного его пути: имеют ли они отношение к языку,
взятому в его полноте, к языку, который, будучи человеческим, начинает
превышать человеческое, расширяя его? Безусловно, да. Ведь
терминологические штудии в рамках самой философии - это внедрение
сущности языка в такую область мысли, которая весьма нередко
мнила себя самодостаточной в своей систематичности. Но если система,
положим, гарантирует истину философской мысли, этим оправдывая
себя, и если в то же самое время одна система опровергает другую,
развивая или сменяя прежние системы, то, как мы знаем из истории
философии, это в течение весьма долгого времени может не
производить ни малейшего впечатления на философов. Каждый из них
продолжает искать истину, копая глубже своих предшественников или
460
начиная копать в ином месте, чем они. Лишь по прошествии
времени, иногда по прошествии многих веков, после накопления и
осознания огромного опыта такого движения в сторону истины философия
начинает осознавать свою историчность, т. е. осознавать то, что вся
она, несмотря на свои попытки обеспечивать истину исчерпывающей
системностью, поставлена (как на фундамент) на движение,
поставлена на основу движущегося и ускользающего и зиждется только на нем.
Тогда философия начинает становиться историей для самой себя. А
поскольку вместе с таким самоосознанием философии как истории
совершается множество подобных же процессов, она обретается и
видит себя в мире, ставшем историей — существенно и по преимуществу,
в мире, ставшем историей для самого себя. Мир становится
историческим, и вместе с ним становится таковой философия.
Однако что значит здесь «история» - слово', настолько широко
распространенное, что не требуют, например, никаких усилий ссылки на
близкий нам принцип историзма, требующий историчности подхода ко
всякому явлению природы? Эта «история» замкнута на себе - она
стала историей для самой себя. Точно так, как и все остальное - вокруг нее
и в ней. Иногда несколько смущаются тем, что слово «история»
означает как «саму» историю, так и знание (науку) о ней. Между тем
история, ставшая историей для самой себя, уже не должна смущаться
этим - «сама» история и знание о ней здесь едины, если они вообще
когда-либо по-настоящему расходились. История есть тогда знание о
себе, положенное, как знание, в слово. Что такое «история»? Скажем
так: это выведывание неизведанного через слово и в слове. Это
выведывание неизведанного, потому что, строго говоря, слова «через слово
и в слове» уже излишни, они предполагаются самим «выведыванием
неизведанного». Однако такое «выведывание неизведанного» есть не
что иное, как первоначальная, геродотовская «история», στρνη. «Сама»
история проста или была бы проста, будь у нас простой доступ к
непосредственности, первоначальности исторического. История проста:
человек видит и рассказывает другим то, что видит, но рассказывает он то,
чего другие не знают; такой рассказ об увиденном и есть выведывание
неизведанного - неизведанное выводится в ведение, т. е. в знание.
Сегодня эта же история обернулась для нас полнотою всего
прожитого мира. Опосредование непосредственного - опосредование всего,
что было прожито непосредственно, - вот ее задача. Для истории,
ставшей исторической для самой себя, историей сделалось и всякое бывшее
знание. Для истории философии, ставшей исторической для самой
себя, всякая бывшая философия - тоже своя история. Вообще все вещи
в таком мире, который стал историческим для самого себя, сделались
иными, чем прежде. Вся эта область есть по своей сущности область
неизведанного: все большое и малое необходимо все снова и снова
выведывать; необходимо все снова и снова заново удостоверяться даже и
в известности известного. Все вещи повернулись в таком мире - хотя
еще и нельзя твердо сказать, как в конце установятся все они и
установятся ли они, - совсем иначе к нам, чем прежде: близкие и далекие,
они начинают в равной степени затрагивать нас, касаться нас, потому
что все в таком мире взаимосвязано, и в этом мире все взаимосвязано,
461
потому что все равно близко к нам и равно затрагивает нас, все
взаимосвязано, потому что все равно зависит от нас. В таком мире все
бывшее, то, что уже прошло, начинает получать новый акцент: не столько
существенно «прошедшее» в нем, сколько то, что это наше бывшее, и
прошедшее даже и не прошло - в той мере, в какой оно «наше».
Становящаяся исторической для самой себя, всякая история начинает
складываться и постепенно образует единый и общий для всего равно-
затрагивающий нас мир, в котором все важно для нас, в котором все
весомо, в котором нет пустого и незначительного, - все зависит от
всего, и «сегодняшнее» конкретно зависит от давно прошедшего и
забытого. Забытое же, может быть, и находилось бы «за» бытием, ненужное
нам, если бы не жизненная потребность вспомнить о нем, чтобы
объяснить себе себя; в таком мире и все забытое - это - пусть с усилием -
вспоминаемое. Это, в частности, все, что требует своей реконструкции
или реставрации.
О таком мире, который только что еще складывается - на наших
глазах и все явственнее заявляя о себе, - трудно сказать решающее
слово. Весь такой мир есть неизведанность, нуждающаяся в своем
выведывании; будучи новым, он уже потому неизведан, и все известное
в прежнем мире нуждается в том, чтобы мы удостоверились в нем, в
его известности нам. О таком мире, который только еще
складывается, трудно сказать что-то окончательное, - несомненно, однако, что
это трудный мир. Он существует как выведываемая неизведанность. В
такую единую и общую для всего неизведанность собралось все, что
было и есть; но в такую единую и общую для всего неизведанность
собралось — или собирается - и то, что только еще будет; однако это
будущее будет уже не в том смысле, в каком было бы оно в прежнем
мире, — не собранном еще в единую и общую для всего
неизведанность, не ставшем еще историческим для самого себя. И вся эта
неизведанность вобрала в себя и все известное, которое, оказавшись в
новом для себя мире, обнаружило неизведанность своего нового
положения, своих новых связей.
И эта же выведываемая неизведанность, требующая того, чтобы ее
неукоснительно и неутомимо выведывали, приложилась к тому не-
высказываемому и несказанному, что со всех сторон окружает нас.
Невысказываемое и несказанное прилепилось к той неизведанности,
которая окружает нас куда более тесным кругом, которая
начинается совсем близко от нас - с самих же нас. Все неизведанное и невы-
ведываемое, не-высказываемое и несказанное плотнее окружило нас,
весомее легло на нас; его напор сильнее. Таков мир, ставший -
становящийся - историческим для самого себя. Он вспоминает забытое,
пробуждает уснувшее, возрождает умершее.
Новый, становящийся и уже просматривающийся в разнообразных
тенденциях времени мир - культурный мир истории - еще заметно
усложняется по сравнению с тем временем, когда как личность и как
мыслитель складывался А.Ф. Лосев. Тогда пробивались лишь отдельные
ростки той историзации нашего знания, которые только теперь
складываются в единый и общий для всего мир. От той эпохи начал А.Ф.
Лосева до ситуации наших дней было дальше, чем до робких приступов к
462
изучению философии как своей истории, как, например, до вышедшей
в 1879 г. книги Рудольфа Эйкена, содержавшей очерк истории
философской терминологии2. Несмотря на робость, такая книга заключала
в себе небывалое, будучи попыткой уже собрать воедино, пусть и не
полно, всегда имевшееся знание об изменчивости значений терминов.
Собранное воедино, это знание было призвано подготовить переворот
в отношениях философа, слова и мира. Вот что должно было
проявиться и затем выступать со все большей убедительностью: не философ,
который привык властно править словом, полагая слова и их значения,
полагая термины и их значения, давая по своему усмотрению
определения понятий, вводя новые понятия, переиначивая слова, — не
философ, столь властно распоряжающийся словом, не философ правит
словом, но слово правит им, делая его своим посредником и проводником.
С такой силой и властностью, что остается простор даже для
кажущегося произвола философа. Философ - это орудие управляющего им
слова. Но даже не это главное. Главное — это, по-видимому, то, что
слово мыслит себя в философе и через него, и мыслит себя так, что смысл,
вкладываемый философом в свои слова, Уже того смысла, который
вкладывает в себя слово, — этот смысл, не предвиденный или отчасти
не предвиденный философом, открывается уже впоследствии, по мере
того как мир историзируется и знание наше становится историческим,
как историческим для самого себя становится сам мир. Что такое вот
такое-то слово (быть может, прожившее в философии два с лишним
тысячелетия), каков его смысл, становится, по всей видимости,
известно лишь тогда, когда история его подходит к концу, т. е. когда это
слово предстает как своя история. Тогда она, история, снова, видимо,
созревает для того, чтобы открывался его изначально заложенный в
историю смысл, чтобы открывалось слово в его истории — слово в своем
существенно историческом бытии.
Итак, вот различие между тем временем, когда проходил свою
школу А.Ф. Лосев, и нашим: тогдашняя степень историзации знания (и
мира) требовала от философа очень многого, но все еще позволяла ему
оставаться в пределах изучаемого и философски и филологически,
философски-филологически осмысляемого слова: одно неотрывно от
другого и объединяется в любви к Логосу. Философская терминология как
особо отмеченный, лучше видимый и уследимый уровень слова хотя и
отбрасывала свои лучи на все культурно-историческое состояние мира,
но еще, возможно, не нуждалась в изучении слова как
культурно-исторического в самом широком значении этого понятия — слова как
языка культурно-исторического состояния мира (который издавна наметил
для себя стать единым и общим для всего и для всех). Ситуация уже
изменилась. Ситуация даже парадоксальна: мы все говорим о
необходимости историко-терминологических исследований и сожалеем об их
недостаточности и запущенности в нашей стране (что, увы, оказывает
неблагоприятное воздействие на общественное сознание, резко снижая
то, что называют философской и филологической культурой), однако
мы вынуждены, к сожалению, сказать и другое: будь даже такие штудии
развиты у нас до полного расцвета, этого сейчас уже мало. Они будут
иметь скорее вспомогательный характер, если только не будут осмыс-
463
лять то, что названо сейчас культурно-историческим смыслом (и
призванием) слова.
И здесь А.Ф. Лосеву принадлежит решающий для нашей науки шаг.
Уже его разъяснение общекультурного смысла греческих эйдоса и идеи,
совпавшее по времени и с реакцией против абстрактности
неокантианства на Западе, привело к самому существенному расширению
постановки вопроса. «Эйдос» есть философский термин и может быть
таковым при двух условиях: при том, что это слово есть слово живого,
непосредственного языка, откуда оно черпает и свою силу, и свой смысл,
и свою заведомую понятность, которая только и обеспечивает его
способность становиться термином и получать формальные определения,
и при том, что это слово есть некоторая заданность смысла, которому
суждено и которому поручено жить в истории, поворачиваясь, как
всякое такое слово, разными своими сторонами, утрачивая свой смысл,
теряясь за другими словами, но при этом все еще сохраняя свою
семантическую устроенность, — оно проносит ее через века, чтобы
напоследок, по всей вероятности, установиться в своей - делающейся
исторической — истории. Таковы два условия, и они, конечно, всякий
существенный философский термин переводят в новый план — делая его
прежде всего ключевым словом культуры, рассматривая его в качестве
именно такового, возвращая ему достоинство и полноту живого,
непосредственного, просто житейского, бытового слова, обретая в нем,
наконец, загадку заданности смысла. Продумываемое так, слово получает
себя назад — изнутри суженно понятой философской мысли (как если
бы она была самодовольно отделена от стихийной жизни языка и
независима от нее). В самой стихийности есть умысел: как иначе можно
объяснить появление в языке таких слов, которыми люди пользуются,
не отдавая себе отчета во всей полноте и во всех импликациях их
смысла, слов-предвосхищений, которые для взгляда, брошенного назад,
прочерчивают логику культурного развития, какая скажется лишь спустя
столетия; как объяснить то, что люди пользуются такими словами, как
бы зная вложенный в них план?
Ключевые слова культуры, к которым относятся и многие из
основных слов философии, и целые гнезда слов, оказывающиеся
ключевыми для истории культуры, можно рассматривать как сложные устроен-
ности смыслов, которые развертываются в истории (это одна сторона),
но которые (это другая сторона) не забывают сами своей смысловой ус-
троенности и воспроизводят ее - весьма часто попросту незаметно для
того, кто пользуется словом (полагая, что пользуется им лишь в том
значении слова, какое он сознательно имел в виду). Наши современные
философия и филология стали несравненно лучше отдавать себе в этом
отчет по сравнению с прежним временем, и, несомненно, почва для
этого была хорошо подготовлена упорными, хотя не громкими
уроками А.Ф. Лосева. Так, в книге A.B. Ахутина справедливо сказано
следующее: «... одно и то же слово "фюсис" может означать и порождающий
источник ... родник; и взращивающую, пребывающую во
взращиваемом (вообще возникающем) "силу" роста, "способность"
возникновения; и рост, "видность", зрелость возникшего, родившегося, т. е.
результат; и врожденную возникшему, свойственную ему силу - способ-
464
ность к "делам". В разных контекстах актуализируется то или иное
преимущественное значение, но это не значит, что другие могут
существовать только в других контекстах или литературных жанрах. Они так или
иначе подразумеваются наряду с терминологическим значением и
иногда вопреки ему. А это значит, что в любом контексте скрыто
содержится вопрос, что такое "фюсис"? Поскольку значения разрывают слова
на разные "термины", смысл требует понимания, допускает
толкования»3. В то время как люди, пользуясь словом, полагают, что
пользуются им в том значении, какое имеют в виду, слово стоит на страже
своего (своих «интересов») и, будучи источником сплошных, переходящих
друг в друга или кажущимся образом обособленных и независимых друг
от друга смыслов, всегда имеет себя в виду как единый смысл. Когда
греческий автор пользуется словом «фюсис», то, как замечательно
сказано у A.B. Ахутина, любое словоупотребление подразумевает то, что
при этом неявно задается вопрос: что такое «фюсис»? Очень важно это
осознание ключевого слова как такого, какое во всех сколько-нибудь
существенных случаях своего употребления задает себе вопрос: что это?
(Например, что такое «фюсис»? Что такое «бытие»? Что такое
«субъект»?) Однако мы, по всей видимости, должны думать, что не
только присутствует здесь вопрос (вопрос слова к себе), но
присутствует и ответ, который дает себе слово, в очередной раз утверждая свой
единый смысл. И это можно сказать об огромном множестве ключевых
слов культуры, не только о греческих «фюсис» и «логос», которые
выступают как, пожалуй, ярчайшие примеры подобных самовольных
слов: слов, утверждающих самих себя, имеющих волю всегда иметь себя
в виду и никогда окончательно не терять себя (свой единый смысл) из
виду.
Отсюда, правда, следует и то, что мы, пользуясь такими ключевыми
словами культуры, а в сущности, видимо, и любым словом, в каком мы
имеем в виду нужный и заботящий нас смысл, не знаем то, что,
собственно, имеем мы в виду. Мы, конечно, имеем в виду задуманный
нами смысл, но вместе с этим «вынуждены» иметь в виду и то, что мы
не осознаем и не можем осознавать. Это последнее и есть то, что
имеет в виду само слово, которое всякий раз, когда мы имеем с ним дело
и имеем в виду нечто в нем, имеет в виду нечто свое, что, так сказать,
падает на нас, на нашу «совесть», т. е. здесь на наше со-ведение этого
единого смысла слова. Это такого рода соведение, в котором мы, так
сказать, не отдаем себе отчета, - безотчетное для нас присутствие
единого смысла, смысловой цельности. Это неумышленное соведение
соумышленника. Co-ведение есть тем самым для нас и неведение.
Однако этому неведению никак не следует огорчаться, потому что в этом
лишь чрезвычайно важное для нас свидетельство того, что слова не
желают и не могут поступать в полное наше распоряжение, что у них свои
«виды» и что вследствие этого мы можем быть уверены, например, в
следующем: есть такая духовная сфера, которая хранит сама себя,
которая, далее, умеет хранить сама себя, которая умеет хранить себя от
человека; она в отличие от овеществленных зданий, книг, всяких прочих
культурных достояний не дается до конца в руки человеку. Будь все
иначе, человек, вне всякого сомнения, поступил бы со словом точно
465
так же, как поступает он с зданиями, картинами и книгами, вообще со
всяким достоянием, которое оказывается в его руках, в его
распоряжении, — он растрепал, исковеркал, испоганил бы слово, подверг его всем
мыслимым и немыслимым унижениям, уничтожил бы все, что только
захотел бы. Он именно это, впрочем, и производит со словом -
однако лишь по мере своих возможностей, лишь по мере того, насколько он
допущен к слову и в слово, насколько слово в его власти. Итак, есть
духовная сфера, которая умеет хранить сама себя, и эта сфера есть слово.
На него мы и можем возлагать всю свою надежду, при этом крепко
задумываясь над тем, откуда же берется в слове эта неприступность, это
его самовольное самостояние. Сберегая свою духовность, мы можем с
надеждой воззреть на Слово, являющее нам пример крепости.
Именно ключевым словам культуры принадлежит прежде всего
такая способность сохранять себя в неприступности и непритронутос-
ти. Совсем особыми выявляют себя в этом отношении ключевые
слова греческой культуры. Об этом превосходно написал Мартин Хайдег-
гер: «Вслушиваясь в слова греческого языка, мы отправляемся в
особенную область. А именно: в нашем сознании начинает
постепенно складываться уразумение того, что греческий - отнюдь не такой
язык, как известные нам европейские языки. Греческий, и только он
один, есть Αογος. В греческом все сказанное замечательным образом
одновременно и есть то, что именуется словом. Если мы слышим
греческое слово на греческом языке, то мы следуем тому, что оно λέγει,
непосредственно пред-лагает. Все, что оно пред-лагает, лежит перед
нами. Благодаря услышанному по-гречески слову мы тотчас
переносимся к самой полагаемой наличной вещи, а не остаемся лишь при
значении слова»4.
Со сказанным не согласится лингвист: как слово может быть тем,
что оно именует? Однако если согласиться с тем, что слово имеет
себя в виду, имеет в виду свой смысл (а именно, как целый, единый,
как весь смысл сразу), то слово есть бытие своего смысла и есть свой
смысл. Слово, конечно же, не то же самое, что вещь; однако смысл,
бытие которого есть слово, имеет в виду, что есть вещь, имеет
вместе с тем в виду, чем ей быть, и такое слово есть смысл вещи. Тем
более это относится ко всему тому, что не есть вещь. Так это
относительно всякого «что» и относительно всякого смысла. Логос всегда
есть он сам; любые переносы «логоса» в иные языки, любые
переводы этого слова на иные языки уводят смысл от того, что он есть,
уводят его от него самого; только по-гречески есть и возможен логос. В
сказанном у Хайдеггера начинает просвечивать даже некоторая
тавтология, которая наполнена, однако, великим смыслом: задуманное
греками слово «логос», и именно как оно само, осветило для нас,
осветило бытием своего смысла все известное и все неизвестное
нам - весь известный и неизвестный нам наш мир. Потому что и то
Слово, которое «было у Бога», тоже есть греческий логос. Освещая
собой начала и концы всякого бытия, логос имеет в виду, что есть
оно, что бытие, что мир, чему быть каждому. Гётевский Фауст,
напротив того, переводя Евангелие от Иоанна, забывает или не
подозревает о том едином смысле, что есть логос; однако нельзя сказать это-
466
го о «логосе» в том тексте, который он переводит, - вопреки
неведению Фауста, невзирая на него, логос и здесь есть то, что он есть.
Задуманное греками слово — оно προ-задумано. Оно прозадумано и
неотменимо. Напротив, ему приходится подвергаться разворачиванию,
разбору и разъятию, осмыслению и переосмыслению. Ему приходится
подвергаться переводу и переносу в другие языки, при которых его
смысл обедняется, стирается, урезается, сужается, застилается или даже
совершенно скрывается, как это происходит, например, с «субъектом»
и «объектом» в языке школьной философии некоторых направлений.
Скрытое, застланное слово скрыто от философа, не от себя самого;
употребляемое без разумения, оно порой наказывает философа тем, что
тот не понимает сказанного самим собой. Однако всегда понимает себя
и отдает в себе отчет само употребленное слово — глухо или громко, оно
все равно противодействует неосмысленному употреблению самого
себя, оно и тут не перестает стоять на страже самого себя.
Как «Логос», так и многие другие слова греческого языка и
греческой культуры осветили для нас каждый свою сферу, более
широкую или, скорее, узкую, — они прозадумали для нас, что есть что и
чему быть чем. Таковы «эйдос» и «идеа», которым А.Ф. Лосев
посвятил столько глубоких размышлений. Таково особое положение
греческих слов нашей культуры — они вошли в нашу культуру, прозаду-
мав, что тут есть что, чему тут быть чем, и в этом отношении их
присутствие в нашем мире всеобъемлюще и всепроникающе. Как бы ни
тонули они в неуразумении и переиначивании, их смысл
неистребим, потому что задан, — история, которая окончательно
собирается становиться исторической для самой себя, имеет совершенно
особый шанс отыскать любую первозданность смысла, всякую важную
прозадуманность смысла, — впрочем, разумеется, отыскать со
своего места, с того, с какого все начинает быть равно близким и
взаимосвязанным со всем. Времена обретают иное измерение, на место
развития5 как движения, оставляющего позади одно и
достигающего новое, чего не было прежде, приходит новизна собирания всего
бывшего как сущего для нас. Это новизна новая — она новая не ради
того, чтобы быть новой, не ради того, чтобы быть лучшей; это
новизна, всему знающая цену и, скорее, пожалуй, не знающая себя, - ей
важно все как упорядоченная собранность всего.
Впрочем, в той мере, в какой новая историчность приобретает шанс
открывать затаенное, скрытое и искаженное, она будет делать это так,
как то в возможностях человеческих: всякое существенное и всякое
ключевое слово языка и нашей культуры заключает в себе ту
прозадуманность, какой определилось то, что уже было и есть, что перешло,
собственно, в дела и жизнь, так и не уловленное никаким
определением, не улавливаемое и осмыслением, задумывающимся над единым и
всем, полным смыслом слова. Слово ускользает, будучи, в сущности,
над человеком и над сознанием: они в его распоряжении, оно их
направляет, пока человек думает и предполагает. В слова вложено куда
больше, чем знает человек, чем знает культура о себе, - и отсюда
условность всякой «терминологичности», всякой дефиниции; определения
неизбежны в смирении, как дела людей в не ими созданном мире.
467
Весьма знаменательно и, собственно, естественно, что в пользу
метафорического мышления - как совершенно неизбежного и уже
поэтому необходимого — высказался не «гуманитарий», а философ,
ориентированный на физику и естествознание, - это В.П. Визгин:
«Никуда от метафоры познание не ушло. Метафора - инвариантное
познавательное средство, и оно не списывается на
эпистемологическую свалку в ходе прогресса знания»6. Эта более чем уместная
апология метафорического мышления не оставляет желать ничего лучшего:
физик и математик, как приходится убеждаться в жизни, нередко
гораздо лучше филолога знают границы человеческого, границы
точности слова, которое человек стремится забрать в свои руки. Однако
метафорическое - это и (естественно!) человеческий подход к делу: то,
что называем мы метафорическим, - это наш способ справляться со
смыслами, превышающими нашу способность все забирать в свои
руки. Во всякой метафоре, употребленной для дела, а не всуе, есть
своя непременность, что прекрасно показал ВП. Визгин. И вот эта
непременная сторона метафорически употребленного слова есть то,
что, собственно, принадлежит вообще слову: и метафорически (в
наших глазах и глядя с нашей стороны) употребленному слову присуще
то, что оно бдит — оно имеет себя в виду, имеет в виду свой смысл, оно
есть свой смысл и оно стоит на страже своего смысла. Оно имеет в
виду, короче говоря, именно то, что имеет в виду, - и для самого
слова тут нет никакой метафоры, оно приходит на свое место и
приходится на свое место, оно занимает не чье-нибудь, а только свое место, что
и показано в названной философской книге. То, что для нас есть
метафора, притом непременная, для слова есть оно само, нашедшее свое
место. В непременности смысла встречаются человеческий замысел и
единый смысл слова, утверждающего себя и самовольного в своей
самостоятельности.
Итак, слова оказываются над сознанием и, если угодно, над
языком - по крайней мере над языком как средством общения,
передачи информации. Они несут в себе большее, нежели предполагают те,
кто пользуется словами. Слова в пользовании ими несут в себе невыс-
казанность; они сопряжены с невысказанным и несказанным, они
сопряжены с молчанием и немотою. Представлять себе пользование
языком как обмен информацией недостаточно, так как придется
признать, что люди обмениваются тем, чего они не знают. Сведение речи
к общению и обмену информацией по сути своей таково: человек рад
обходиться тем, что есть у него, он не беспокоится обо всем и о
целом, и аристотелевские слова о стремлении людей знать сказаны не о
нем. Во всяком обмене информацией наружу показывается лишь
краешек смысла, которым можно довольствоваться, - и как только
человек объявляет о своей готовности довольствоваться таким, он
выбрасывается из истории и становится господином мира. Господином мира
того, который ему немедленно и всегда доступен, хотя мир этот
стоит на неизведанности и невысказанное™ и - в своем
самодовольстве — столь же прочен, сколь и зыбок. Человек безусловно, и
наверняка, и заведомо, и заранее господин и хозяин этого мира, зато мир
этот сам не свой: он ведь лишь только часть всего мира в его истории
468
и в его историчности. Это та часть, которая отдана в распоряжение
человека, она в его руках, и он пользуется и распоряжается им, не
подозревая подчас о том, как тесно сдавлен этот мир со всех сторон тем
бытием, которое, сделавшись историческим для самого себя,
заключается в выведывании неизведанного.
Если же мы подумаем о новом мире, о том, который
складывается как исторический для самого себя, то в нем нам только предстоит
еще устраиваться. Хотя мы уже и устраиваемся в нем, подходя с самых
разных сторон, по-разному рефлектируя новую свою ситуацию. Как
умеем и можем, мы будем устраиваться в новом для нас мире, хотя и
он прозадуман для нас — тем, что было, и тем, что было прозадумано
для нас словами, словом, тем же «логосом». Он же осветил и наше
собирание смыслов, какое поручено по-новому повернувшейся истории.
Мы должны, еще оставаясь самими собою, тем", что мы, учиться
говорить иными языками знания. Вот наша ситуация, которую
справедливо называть герменевтической, потому что в складывающейся
взаимосвязанности всего со всем необходимо знание всех языков культуры.
Прежняя же ситуация, совсем недавняя и даже прорастающая еще в
новую ситуацию, хорошо описана лингвистом - это еще догерменев-
тическая ситуация знания: «Результатом поиска системы в оторванных
от целого частях будет груда фрагментов, допускающих любую
интерпретацию; одни будут названы гениальными (или любопытными)
догадками, ибо они совпадают с тем, что и как мы думаем сегодня,
другие - досадными заблуждениями, данью своему темному времени,
следствием общего упадка науки и культуры... Подобная "история
науки" ничего нам в прошлом не объяснит и ничему не научит,
расскажет только о том, что нам априорно было известно, что сами мы
сконструировали»7.
Учась говорить иными языками, мы учим их разуметь друг друга, и
это совершается в заново устанавливающейся всесвязанности, на
основе по-новому повернувшейся истории и становящегося
историческим для самого себя мира. И тут, как долголетнее непрестанное
наставление и всемерная поддержка, останутся с нами работы Алексея
Федоровича Лосева с привычным для него вниманием в единый и
цельный смысл Слова - поскольку оно может постигаться нами.
Примечания
1 Сейчас для наших целей не так важно перечислять терминологические работы
А.Ф. Лосева. Библиография трудов А.Ф. Лосева публиковалась неоднократно, и
она у всех в руках; кроме того, я обращаюсь к тем, кто читал и штудировал их.
Несравненно важнее для нас то, что А.Ф. Лосева во всех его работах отличало
тончайшее знание конкретности и историчности всякого термина. А такое
знание предопределялось его сознанием, знаменательным свойством его сознания,
направленного на новое, углубленное осмысление истории.
2 Eucken R. Geschichte der philosophischen Terminologie im Umriss. Leipzig, 1879.
3 Ахутин A.B. Понятие «природа» в античности и в Новое время. М., 1988.
С. 115.
4 Heidegger M. Was ist das - die Philosophie? 4 Aufl. Pfullingen, 1966. S. 12.
469
5 Развитие развивает и разводит историю; представление о развитии разводит
историю во временное, где не может быть одного, единого пространства.
История как развитие забывает сама себя, а вспоминая, вспоминает смутно и
переиначивая бывшее: бывшее — это уже не свое, зато сказать о нем можно только
своим языком. Есть даже и единое развитие, но нет общего для всего
пространства. Поэтому не-до-ступное заменяется по-за-бытым.
6 Визгин В.П. Идея множественности миров: Очерки истории. М., 1988. С. 59.
7 Эдельштейн Ю.М. Проблемы языка в памятниках патристики // История
лингвистических учений. Л., 1985. С. 183-184.
О кризисе в науках о культуре
Эстетика и оживление человека
Невозможно говорить о состоянии эстетических
исследований в нашей стране, не думая о том положении, в
котором она оказалась. Однако о последнем можно сказать
сейчас лишь очень кратко. Жестокий кризис, в котором
оказалась страна, характеризуется несколькими основными
моментами.
Первый из них: наше общество в целом потеряло свою историческую
цель, потеряло хотя бы отдаленную видимость цели, и можно
представить себе, сколь безнадежна ситуация, когда такая громадная территория
Земли существует, не зная цели, не зная, куда и зачем она движется.
Второй момент: вместе со всей накопившейся за долгие десятилетия
ложью нашей жизни, которую мы разоблачили и всемирно прокляли,
выбросили, стараются забыть и ту несомненную правду, которая
пробивала себе путь сквозь ложь. И так совершилось величайшее
предательство - оно заключается в том, что на место прежней, теперь
открывшейся лжи водрузили новую, огромную и непроглядную ложь,
которая, под звон лозунгов о возрождающейся духовности, попирает
всякую правду человеческих отношений, всякую нравственность, всякую
духовность и культуру. Вспомним М.А. Лифшица, человека, о котором
у меня есть потребность сказать доброе слово: Михаил Александрович
до конца своих дней жил марксистской правдой, о которой люди,
жившие рядом с ним, постепенно совсем забыли. Думаю, что в свете этой
правды нынешний день выглядит во всей своей зловещей
карикатурности, во всем своем неистовом лицемерии.
Третий момент: это самоблокирование всякого пути к лучшему,
всякого выхода из кризиса. Что это значит? То, что ложь старая и ложь
новая, дружно объединив свои усилия, довели страну до такого положения,
когда она уже не в состоянии обновляться и возрождаться. Что стоят
разговоры о нравственности в ситуации, когда общество поставлено не
столько перед реальной перспективой всеобщего обнищания, сколько
перед образом, картиной ожидающей его нищеты, - перед картиной,
которую рисуют тем усерднее и мрачнее, чем меньше усилий
прилагают, чтобы не допустить ее осуществления. Что стоят разговоры о
нравственности в ситуации, когда общество в целом подавлено,
деморализовано настолько, что не в силах уже адекватно реагировать на
творящиеся ужасы, на разгул уголовщины, на ужас межнационального
террора и - что из всего самое страшное - на те дикие преступления, ко-
473
торые совершаются среди самой серой обыденности людьми, от
которых этого никто не ждет? Все это имеет прямое отношение к нашей
теме: ведь эстетика как наука - это часть культуры, но обществу
подавленному, деморализованному, такому, у которого отнимают
надежду (цель), не нужна культура, как не нужна она человеку, которому
втолковали, что жизнь его проходит в погоне за куском хлеба, и
который забыл: не хлебом единым жив человек.
При этом первыми забывают о культуре те, у кого на поверку кусок
хлеба выходит непомерно больших, прямо-таки колоссальных
размеров. Но если обществу не нужна культура, то не нужна ему и наука, не
нужна, естественно, и эстетика, не нужна и эстетическая культура, и мы
видим, как наше общество шаг за шагом, по доброй воле и
подстегиваемое государством, отказывается от культуры, отказывается (на самом
обыденном уровне) от каких-либо научных интересов и обращается в
какое-то неслыханное натуральное состояние. Этим времена наши в
дурную сторону отличаются даже от темных послереволюционных лет,
когда у многих была цель, к которой нередко приставали и культурные
интересы разного рода, когда у других слишком жива была память о
нормальных человеческих культурных потребностях. Одичание же
нашего общества - это совершающийся факт, и им естественно должна
заняться и наука. Та самая наука, которая, чуть-чуть только
освободившись от произвола идеологических божков, снисходящих до ее
материальных нужд, уже вынуждена выискивать глазами будущих
купцов-меценатов, которые, может быть, окажутся настолько культурными,
чтобы финансировать даже и науку. В том и в другом случае наука (и в том
числе эстетика) должна, как в сущности вовсе не нужная, доказывать
свою необходимость; и в том, и в другом случае ее существование в
обществе не введено ни в какую систему (в отличие от западных условий),
и вместе со всем обществом, на свой лад разделяя свою судьбу, она
ведет свое существование только по чьей-то милости.
Но ведь, с другой стороны, в обществе совершилось уже, и это
несомненно, осознание потребности и в науке, и в культуре, и в
эстетике - совершилось вопреки широкой тенденции к культурному дича-
нию. Да, это так, это осознание совершилось, и, как это часто бывает,
совершилось в противоречивом отношении к общему течению дел. А
это общее в свою очередь - не произведение только последних пяти-
шести лет, когда ему было придано ускорение, а произведение в
основном и главном поспешно произведенной семь с лишним десятилетий
тому назад ликвидации всей образовательной системы России -
вызревавшей, как и требуется, медленно и органически в течение столетий и
десятилетий и тоже с постепенным, но только положительного
свойства ускорением. Новую систему быстро и прочно не построишь, и мы
пожинаем и всегда будем пожинать все новые плоды разрушения
старой образовательной системы. А стремительное перекрашивание
невежественных преподавателей атеизма в «культурологов» приведет лишь
к тем же результатам, что и всякий великий перелом, — в России ли, в
Китае ли. Страшно подумать о том, что нам так никогда и не отвязаться
от нечеловеческой системы жизнеустройства, которая так и будет
продолжать побивать нас своими последствиями. Это и есть самоблокиров-
474
ка, когда общество, в какой-то своей части убедившись в
необходимости знаний и культуры, видит, что, в сущности, некому учить, -
слишком мало людей со знаниями, о чем бы ни шла речь. В таком
положении многие из нас надеются лишь на нечто экстраординарное, что
может разорвать самовоспроизводящийся заколдованный круг, - на Бога,
на случай, на то, что тьма родит свет и т.д. А нет ли все же внутренних
сил, которые будут способствовать этому? Если же есть таковые, то
нашей эстетике принадлежит здесь выдающееся, особое место.
Однако в чем оно? Разве эстетика - это не академическая научная
дисциплина, несущая на себе, как никакая, всю бесплодную тяжесть
наукообразия, науки ради науки, всю тяжесть подмалеванных под науку плодов
самоуверенного знания-незнания? И это так: ведь подавляющая часть
эстетических текстов последних десятилетий обличает сама себя, будучи
жестоким испытанием терпения для историка науки в грядущие времена.
Да, но одновременно с этим в нашей науке существует
фундаментальнейшая «История античной эстетики» А.Ф. Лосева. О ней некоторые думают,
что эта многотомная книга лишь потому история именно эстетики, что в
прежние времена автору затруднительно было бы писать историю
философии, между тем как эстетика попала под благосклонно дремлющее око
начальства и под ее флагом можно было провезти в недружественные
науке пределы весь материал глубокой философии и напряженной мысли о
ней. Это так и не так: ведь очевидно, что эстетика в сегодняшнем
разумении имеет мало общего с эстетическим в понимании Баумгартена или
Канта и имеет в виду настолько всеобщее отношение человека к жизни,
что она в некотором смысле затрагивает все и включает в себя все - коль
скоро в этом отношении участвует человек в его целом, или целостная
человечность. Без такого обобщенно-эстетического отношения к жизни
вообще нельзя помыслить себе никакого человека. Отсюда и гигантская
«История античной эстетики» АФЛосева, которая хотя и не совпадает с
возможной историей античной философии, какую написал бы А.Ф.
Лосев, но в некоторых разделах берет и осмысляет сугубые тонкости
именно философской мысли. Кроме того, античная культура с ее далеко не
полным расчленением всех тех аспектов, которые были разъяты
неумолимой европейской аналитикой, — это заветное поле эстетики, изучающей
суть целостного живого отношения. Сверх того, в античности же
коренится весь категориальный аппарат современной эстетики, очень часто
склонной забывать об историчности, об исторической сути своих
терминов и понятий, об их неотрывности от истории слова, от истории языка
и от истории мысли в языке. Наукообразная отвлеченность и бесплодие
эстетики (как и философии и гуманитарных наук) и начинается всегда с
забвения своей собственной истории. А.Ф. Лосев же, работавший над
историей античной эстетики, одновременно выполнял еще и труд эстетика-
теоретика, систематизатора - в то время как большинство людей,
начинавших с системы и с категорий (не с истории), со своими задачами
вовсе не справлялись.
Однако, что здесь самое главное, замысел А.Ф. Лосева - писать
историю античной эстетики - оказался во взаимосогласии не только с
ограниченными возможностями нашей науки, но и в согласии с
тенденциями современной общекультурной мысли и, в самом конечном
475
счете, вновь в согласии с тенденциями современной философии. Дело
в том, что современная философия на определенном этапе своего
развития открыла (или вновь открыла для себя и для всей культуры с ее
самоуразумением), что философская мысль - это не только достояние
кафедры и университетская дисциплина, гордая своей высоколобос-
тью, не только достояние книг по философии, но и достояние
человека вообще. Философия начинается не с кафедры, а с
человеческого ума, который чаще всего даже и не подозревает о философии, о
существовании университетской философии. Однако всякий человек
занимается осмыслением мира и самого себя, самоосмыслением, и эту
не сознающую себя мысль выводит наружу, осмысляет, формулирует и
систематизирует философия. Та же прямая зависимость от не
сознающей себя мысли у эстетики — та же, и еще большая, если принять во
внимание, что в область эстетического человек входит как в своей
большей полноте и целостности, так и в еще большей
непосредственности, входит, в частности, и как человек мыслящий и сознающий
себя. Эстетическое самоосмысление такого человека, его эстетическое
самосознание и даже самочувствие (последнее слово - с намеком на
историческое движение самого слова «чувство» в его общекультурном
осмыслении и переосмыслении) эстетическая наука и должна
улавливать и постигать своим словом, и это, конечно, ее задача — куда более
центральная и настоятельная, чем придумывание порядка, схем и
системы для взятых в качестве совершенно готовых и внутренне
неподвижных так называемых эстетических категорий. Эстетика должна
сама чувствовать и понимать свою зависимость от живых людей, в
которых — ее исток и оправдание. Сам живой человек, это удивительное
произведение истории, культурной истории, с его исторически
сложившимся самопостижением, - вот основание для науки эстетики и
даже эстетики, читаемой с кафедры. Об этом живом человеке,
самоосмысление которого отнюдь не идет попросту от
непосредственности его психологической ситуации, как порой склонна думать сама
наука и как, наверное, склонен был бы представлять вещи он сам,
если бы только подозревал об этом происходящем в нем
непрестанном процессе самоосмысления, и не должна забывать эстетика. И не
для того, чтобы «воспитывать» его и для этого испробовать на нем
всякие свои несусветные рецепты (к этому-то наука, становящаяся
безответственной, весьма бывает расположена), но для того, чтобы
положить свое прочное историческое начало. Ведь реальный человек
в его живом существовании — это для эстетики, как и для
философии, - единственно зримая опора в ее мысли, ориентированной на
историю, это единственное место, где сама история становится
доступной, зримой, вещественной. Именно история, потому что для
всяких психологических, социологических и прочих экспериментов, в
которых не было и тени мысли об истории, человека использовали
уже много раз, и безрезультатно для самой эстетической сути дела.
Если бы мы поняли эту существенную зависимость науки от
человека в его истории, мы, возможно, стали бы несколько равнодушнее к
методологическим страстям, разыгрывающимся в науке мировой, ко
всякого рода нововведениям, «современным» методам и т.д., которые
476
в значительной мере замкнуты в присущем научной жизни (жизни
любой науки) характере игры, как бы во внутреннем дворике здания
науки. Мы бы не стали так много думать над тем, где, от кого и в чем мы
отстаем, а вспомнили бы, что наш исторический опыт, который мы
принесли с собой в 1991 год, - это опыт совершенно уникальный, что
ему принадлежит, даже и в мировых пределах, некоторая
неповторимость и в этом отношении — абсолютность, что выведение этого
опыта в слово - во всем его трагизме и во всей неразрывности его с
историей - это насущная задача нашей науки. Что даже брошенный на
произвол судьбы в ее бесцельности, преданный, обреченный на «ди-
чание» человек - это человек, реально очерчивающий и реально
осмысляющий границы и суть эстетического, человек, который - пусть
и без слов — уже продумал, и не мог не продумать, то самое, что
только еще предстоит отыскать и сказать эстетической науке. Если бы мы
вдруг узнали обо всей настоятельной необходимости этой связи с
человеком как продуктом и носителем своей истории, мы бы, наверное,
поняли и то, как далеко отстали в области эстетики от самих себя, от
своего же собственного, неповторимого эстетического опыта.
Несколько тезисов о теории литературы
Горе, иже мудри в себе самих и пред собою
разумни.
Исайя, 5, 21
Что я узнал ? Пора узнать, что в мирозданьи
Куда ни обратись, — вопрос, а не ответ.
A.A. Фет. Ничтожество, 1880
...естественным кажется нам лишь привычное
давней привычки, меж тем как это привычное
позабыло о том непривычном, из какого оно
проистекло.
М. Хайдеггер. Исток
художественного творения
ι
§ 1. — Ситуация современных наук о культуре - из них в очень
большой, в неиспытанной до сих пор степени выветрилось и улетучилось
все то, что можно было бы назвать само собой разумеющимся, очевидным.
Современная наука истории культуры существует в условиях, когда
нет этого само собою разумеющегося и очевидного, когда вдруг
оказывается, что ничего такого уже нет, и когда это, - правда, лишь очень
постепенно, так как этому противодействует инерция науки с ее
самоуверенностью — становится достижением научного сознания,
сознания исследователя.
Если же это так, и само собой разумеющееся для
историко-культурной науки тает и исчезает, то надо отдать себе в этом отчет, -
так ли это, — и если это так, то попытаться воспрепятствовать
тому, чтобы (как это нередко происходит) самоуверенность науки и
ученого занимала место само собой разумеющегося и очевидного, —
на чем, всякий раз по-своему, основывается всякая наука, - чтобы
традиция с ее инерцией занимала место реальности постижения,
чтобы привычное занимало место открывающегося перед нами
смысла (ср. эпиграф III).
§ 2. — Эти тезисы и посвящены нынешней ситуации: историко-
культурные дисциплины в условиях отсутствия само собой
разумеющегося, в условиях исчезновения очевидности.
Если верно, что наука о литературе - одна из наук, входящих в
историю культуры как науку в целом (таков один из предлагаемых
тезисов), то нижеследующее имеет в виду и одно и другое — и науку о ли-
478
тературе и науку о культуре, говоря об одном и подразумевая другое,
говоря, в зависимости от обстоятельств, о науке о литературе и
подразумевая всю совокупность наук о культуре, и наоборот, поступая
иной раз так для краткости, и т.п.
Теория литературы - одна из дисциплин, входящих в
литературоведение, или науку о литературе. Как в этом случае одно входит в другое,
как теория литературы соотносится с наукой о литературе в целом -
это, вместе со всем остальным, есть основная забота этих тезисов.
§ 3. - Если я говорю об утрате само собою разумеющегося и
очевидного науками о культуре, и если бы нам как-то удалось
действительно удостовериться в том, что это так, то тогда cq всей крайней
остротой перед нами встал бы вопрос -
что же тогда оказывается само собою разумеющимся для наук о
культуре?
что же оказывается тогда само собою разумеющимся для науки о
литературе?
что же оказывается тогда само собою разумеющимся для теории
литературы?
§ 4. — Такие вопросы о само собою разумеющемся и очевидном
вовсе не находятся в противоречии с исчезновением всего такового, —
для любой науки (уже не только наук о культуре) не может не быть
такого близлежащего, из чего она исходит и на основании чего она может
строить себя.
Такое близлежащее, или самое близлежащее, должно быть и для
наук о культуре, и для науки о литературе, и для теории литературы.
Однако, спрашивая о нем, мы отнюдь не непременно получим
ответ. Такого ответа может для нас и не быть- см. эпиграф II. Вопрос
никогда не останется без ответа, однако в том смысле, что, видимо,
может быть указано направление, в котором можно его искать, и,
соответственно, та область, к которой относится/относился бы ответ. Сам
вопрос «невольно» указывает в этом — «искомом» - направлении:
говоря о близлежащем, или самом близлежащем, я «невольно» и
преднамечаю направление возможного ответа - направление, которое
само напрашивается для меня;
когда говорили и говорят о связи науки с жизнью — говорят из
добрых, а иногда из демагогических побуждений, - то этим до
крайности расплывчато и завуалированно передают некоторую суть дела,
сущность того, что действительно имеет место: в то время как
неизвестно еще, что такое «жизнь» и как следует ее разуметь, - тут
«жизнь» разделяет судьбу всех ключевых или основных слов
культуры (об этом ниже), - я, пытаясь говорить о близлежащем, или самом
близлежащем для науки, стараюсь направить ситуацию в сторону
большей очевидности;
если допустить, что каждая наука есть свой особый и существенный
взгляд на мир (или, проще, на окружающее нас), то можно допустить и
то, что такой взгляд встретит нечто такое, что будет первым на его
пути, - такое допущение достаточно просто, элементарно. Оно еще
мало чего требует от нас; можно даже допустить, что самым первым
будут некоторые слова, вроде слова «жизнь».
479
Можно даже допустить, и, кажется, с достаточным основанием, что
самое первое, что встречает на своем пути наука в ее сложившемся и
устоявшемся виде, — это и есть слова. С еще большим основанием это
можно допустить относительно наук о культуре и с еще большим - для
науки о литературе. Это допущение даже составляет один из основных
моих тезисов (см. ниже).
Однако даже если слова и самое первое, то не наиболее
близлежащее: слова еще могут анализироваться в том, что они и как они
разумеются, между тем как близлежащим, самым близлежащим или наиболее
близлежащим для науки будет то, что определит собою даже и выбор
слов, и их разумение.
§ 5. - Говоря «мы», «близлежащее», я пытаюсь ничего не
«вписывать» в науку наперед, ничего не приписывать ей наперед. «Мы»,
«близлежащее», «окружающее», безусловно элементарнее, нежели, скажем,
«наука» и «жизнь».
Ситуация, может быть, даже несколько иная, чем представилось
выше, - § 4/абзац 6: «...каждая наука есть свой особый и
существенный взгляд на мир... такой взгляд встретит нечто такое, что будет
первым на его пути...» Возможно, что есть такое близлежащее к нам,
такой вид близлежащего, который предопределяет собой суть науки,
такой-то науки: тогда не научный взгляд встречает на своем пути что-
либо первое для него, а это «первое» предопределяет взгляд науки. Во
всяком случае, есть мы, близлежащее к нам и окружающее нас, и,
видимо, они во всякой научной области образуют какое-то конкретное
свое отношение: то, что есть близлежащее для вот этой науки, и
определяет конкретность отношения «нас» и «окружающего».
§ 6. - Близлежащее, если только оно есть для науки, указывает на
ту сферу, которую с некоторыми основаниями можно назвать
аксиоматикой науки.
§ 7. — Возможна такая аксиоматика, которая никак и ни в каком
случае не может быть осознана и осмыслена той самой наукой, которая
строит себя на ней и благодаря ей, аксиоматика, которая никак не
может быть «взята в руки» самой такой наукой.
Напротив, возможна и существует такая аксиоматика, которая
заведомо «взята в руки» самой наукой, которая осознана и осмыслена ею и
формулируется ею наперед.
Второе из положений § 7 не подлежит никакому сомнению, - на
основе осознанной и формулируемой, по возможности строго,
аксиоматики строит себе издавна математическая наука. Однако необходимо
иметь в виду следующее:
1) само постижение всего аксиоматического в математике имеет
свою историю — оно претерпело глубокие исторические
видоизменения, этапы каковых по всей видимости находятся в столь же
глубоком родстве с этапами становления европейской культуры,
особенно культуры новоевропейской; существующий здесь
несомненный параллелизм - какой надо еще исследовать и исследовать -
безусловно весьма красноречив и указывает на глубокое родство
математической науки с наукой о культуре, - родство, которое мало
исследовано, которое коренится в общности историко-культурно-
480
го совершения и которое, как можно думать, станет в будущем
одной из самых важнейших проблем науки;
2) математическая наука строит себя так, что она с самого начала
и заведомо замыкает себя в рамки, очерченные ее аксиоматикой; как
бы ни разумелась аксиоматика, математическая наука строит себя как
некую смысловую замкнутость «в себе», как такую, какая получает
возможность оставлять за своими пределами все то, что не включается
в смысловую замкнутость; - при этом чрезвычайно красноречивым
математическим выводом XX в. явилось как раз осознание того, что
никакая замкнутость такого типа не может быть абсолютной.
В то время как математическая наука находится в до крайности
опосредованном отношении к «жизни» и к историко-культурному
совершению (именно к тому, с которым она, как можно полагать,
обретается во внутренней «гармонии» и единстве), всякая наука о культуре
«напрямую» связана с этим историко-культурным совершением и его
основаниями: все то, что математическая наука имеет возможность и право
«элиминировать», определяет суть и характер всякой
историко-культурной науки (см. Приложение, § 8).
Если наука о культуре имеет касательство к какой-либо
аксиоматике, то эта аксиоматика — более глубокого слоя, нежели та, какую
осознает, формулирует и «берет в свои руки» наука математическая.
Однако и это положение, и тезис, сформулированный в абзаце 1 § 7,
не могут быть просто доказаны: их обоснование - дело совокупного
осмысления всего того, что обязана осмыслить наука о культуре
сегодня, — совокупного осмысления всех ставших перед ней проблем, их
взаимоосмысления и взаимоосвещения.
Единственным указанием на существование такой аксиоматики
служит то, что по прошествии известных историко-культурных эпох на
поверхность выходят, осознаются и тогда уже формулируются -
задним числом - некоторые исходные положения, какими, не сознавая
их, руководствовалась культура эпохи; таковые касаются и
пространства, и времени, и истории, и числа, и множества иных понятий и
представлений, в отношении которых сама эпоха бывает либо
совершенно слепа либо полуслепа.
То, во что эпоха действительно верит, как Евклидова геометрия в
свои аксиомы, ничуть в них не сомневаясь, однако в отличие от
геометрии, ничего о них не зная, - это и есть действительная
историко-культурная аксиоматика, в которой, если это так, естественным образом
коренится и всякая наука, и всякая культура вообще и, конечно,
математическая наука в том ее предварительном слое, который именно в
математике никак не формализуется и не может быть формализован.
§ 8. - Наука о культуре поставлена в особые отношения ко времени.
Она прямо уставлена в будущее, поскольку именно будущее -
источник ее основных и наиболее глубоких пред-положений, или аксиом.
Наука о культуре поставлена в особые отношения к истории.
§ 9. - Находясь именно в таких отношениях со временем и
историей, наука о культуре поставлена на свое незнание о себе.
Это ее незнание, или неведение о себе — существенно для нее и сущ-
ностно для нее.
481
Наука о культуре не ведает себя в том отношении, что она, по всей
видимости, не может составить никакого представления о том самом
глубоком слое, какой предопределяет ее существо.
Такое незнание, или неведение, присущее науке о культуре,
выступает в ней даже как позитивный момент, позитивно работающий в ней
момент, - как только мы узнаем о своем незнании, так это незнание
как таковое оказывается в наших руках и в нашем распоряжении, мы
можем определяться и самоопределяться с ним, считаться с ним, и
осмысление нашего незнания как незнания становится неотмыслимои
составной частью нашего общего осмысления своей науки, ее сущности
и ее исторического часа.
Все сказанное здесь равно относится и к науке о литературе.
Сюда же относятся некоторые представления о непостижимом,
которые формулируются в «Отдельных тезисах о непостижимом» ниже.
§ 10. — Настоятельное самоосмысление науки — наук о культуре и
науки о литературе, в частности, — и есть ее исторический час
сегодня, ее первоочередная и первостепенная задача.
§ 11. — Эта задача отсылает нас к началу этих тезисов — к утрате
само собою разумеющегося и очевидного для этих наук.
Эта «утрата» - уже как предположение и вопрос - отсылает нас к
сфере аксиоматического — той, которая существует и для истории
культуры, и как она существует для истории культуры.
§ 12. — Существует то, что можно назвать обоснованием науки о
литературе.
Существует то, что можно назвать обоснованием наук о культуре.
§ 13. - Если только верно, что существует обоснование науки о
литературе, то этим обоснованием создается для науки о литературе то,
что я называю полем дометодологического.
Это поле и представляется мне весьма обширным и
пространственным; оно, скорее, даже безгранично широко. В то время как
современное литературоведение все более приучается мыслить себя как рядопо-
ложность и плюрализм безразличных друг к другу методов, а всякая
научная дисциплина уже приучила себя мыслить себя как нечто
замкнутое в себе, причем над отдельными дисциплинами поднимается (будто
бы столь желанное для всех!) здание «междисциплинарности», поле
дометодологического располагается там, где пока никто — ни один
литературовед, ни один историк искусства и культуры, - не решился
следовать какому-то одному методу.
На этом - как бы предварительном - поле дометодологического
можно даже спокойно предаваться всякого рода недоумениям, - вроде
того, что непонятно, мол, почему, на каком основании, из каких
соображений мы выбираем такие-то литературоведческие методы, затем
следуем им и т.д.?! - ведь неясно еще, как их следует выбирать, не
исходить же просто из того, что оно есть?! Это область предрешений.
Все такие недоумения отсылают нас, однако, к предельно
серьезному - к тому исключительно серьезному, что связано с
самоосмыслением науки. Конечно, на этом поле можно обсуждать наперед любые
методы, исследуя их предпосылки, насколько их можно рассмотреть
и сформулировать, - но, главным образом, здесь должны быть осмыс-
482
лены — вновь, насколько то мыслимо, — отношения науки о
литературе и всей науки о культуре с историей.
§ 14. - У науки о литературе и наук о культуре - свои особые и
вместе с тем существенные отношения с историей.
В самом конечном счете наука о литературе есть свое мышление
истории.
В самом конечном счете наука о литературе есть такое мышление
истории, где слово «истории» - и родительный объективный, и
родительный субъективный: история мыслится, и она мыслит себя в науке,
в ее рамках, в ее пределах.
§ 15. — Это последнее утверждение § 14/абзац 3 — формулируется с
тем же самым основанием, с тем же самым правом, с которым в § 6
говорилось об аксиоматике науки, - т.е. и без всякого основания и
права, и с полным основанием и правом. Объясняется это тем, что вместе
со своим самоосмыслением, если только таковое будет осуществляться (и
уже осуществляется, как я предполагаю), наука о литературе и наука о
культуре оказываются в той ситуации, которую на современном языке
можно назвать герменевтической.
§ 16. — Осмысление герменевтического относится к
самоосмыслению науки. Это то, что задано науке как идущее от ее исторического
часа.
§ 17. — Герменевтика и герменевтическое заданы науке как одно из
очень многих заданных ее осмыслению слов, затем как одно из
немногих новых и «свежих» слов, далее как слово, претендующее на то,
чтобы определить собою способ и строй самоосмысления науки в ее
сегодняшний исторический час.
§ 18. - То, что претендует на то, чтобы определять способ и строй
самоосмысления, очень нелегко схватить, - тем более что все
охватываемое, все, что еще схватывается, оказывается рядом со всем тем, что
еще не схватывается, что пока не схватывается и что не схватывается
вообще, с непостижимым и его сферами.
§ 19. — Герменевтическое схватывается трудно: самое первое, что
можно сказать о нем - в том плане, в каком мы встречаемся с этим
сейчас, - герменевтическое есть кружение в пределах того
самоосмысления, в котором все затрагиваемые нами и затрагивающие нас
смысловые моменты получают взаимное обоснование, - так в
самоосмыслении науки о литературе или в самоосмыслении науки о культуре, или
какой-либо отдельной ее дисциплины, - или же, иначе, кружение в
пределах того обоснования науки, которое совершается как ее
самоосмысление с «учетом» (как принято говорить) всех тех факторов и
моментов, которые, как оказывается, зависят друг от друга и отсылают
друг к другу.
§ 20. - Насколько можно судить, есть во всем этом кружении такие
его участники, такие «силы», которые и дальше всего отстоят друг от
друга, и ближе всего подходят друг к другу, которые и более всего
зависимы друг от друга, и наиболее зависят друг от друга, которые
достаточно далеко расставлены в герменевтическом пространстве, чтобы
обрисовывать для нас его границы, центр и его глубь. Таковы, видимо, мы,
история и то, что осторожно (или неосторожно) названное близлежа-
483
щим, опускает нас в непроглядность непостижимого (мы не знаем в
конечном счете, что там, что оттуда направляет нас).
§ 21. - Все, что обсуждается в науке о литературе, оказывается
внутри этого пространства, где выступают— мы, история и
близлежащее. Шире его здесь, кажется, ничего нет, и если только можно
говорить о таком пространстве (которое называлось бы
герменевтическим), то такое «пространство» было бы в пределах науки о
литературе (и науки о культуре) единственным представлением, которое не
затрагивалось бы всесилием исторического движения и, напротив,
стремилось бы пол*шиить историческое движение внутрь себя, внутрь
своего кружения.
Такое представление о герменевтическом пространстве было бы
именно по этой причине для науки о литературе, какая осмысляет себя,
представлением условным и как бы рабочим, - готовым приносить
себя в жертву тому идущему из будущего, что прояснится, и вынудить
нас думать иначе, чем сейчас.
§ 22. - Со всем тем, что попадает внутрь пространства кружения,
герменевтика, согласно своему замыслу, предлагает обращаться по
преимуществу как с существенными (субстанциальными) точками зрения,
или «перспективами», строящими всякий раз нечто подобное тому,
захватывающему всякий раз доступную «нам» историю,
герменевтическому пространству, как сформулировали мы его только что.
«Наше» герменевтическое пространство заключает в себя не только
и не просто «наше» пространство, но и все когда-либо бывшие в
истории, всякий раз «наши» пространства, по мере их доступности нам.
§ 23. - «Наше» пространство, как может складываться оно сейчас,
в наш исторический час, по всей видимости, отличается от ситуаций
прошлых времен тем, что оно включает в себя наибольшее количество
всякий раз «наших» пространств, включает в себя потенциальное даже
вообще все число таких пространств, какие только осуществлялись
исторически.
Эта тема заявлена сейчас лишь на будущее, и здесь не раскрывается.
С другой стороны, необходимо и еще раз напомнить, что само
понятие такого «герменевтического пространства» — условно: коль скоро,
как окажется, для науки о культуре чрезвычайно важно учиться
говорить на языках других, бывших культур - прежде всего это означает, что
«мы» должны стараться молчать, давая сказать другим и давая
сказаться другому, - переносить наше сегодняшнее возможное понятие такого
пространства на прошлое можно лишь при условии, что это понятие и
представление будет, насколько то возможно, сведено до значения
некой чисто формальной, бесплотной и ни на что особое не
претендующей схемы. Нельзя заставить кого-либо пользоваться таким понятием,
и в этом нет никакой необходимости. Нам же сейчас это представление
в своей роли формальной схемы может принести некоторую пользу.
К недостаткам настоящих тезисов и, в частности, сказанного в
предыдущем абзаце следует отнести то, что в них и в нем многое
приходится формулировать на ходу и забегая вперед, - что облегчается
существенным кружением, какое устанавливается в герменевтическом
пространстве.
484
§ 24. - Со всякой исторически осуществившейся «точки зрения»
герменевтика предлагает, далее, обращаться как с вестью, - или,
иначе, как с языком и голосом.
То, что понимают как язык культуры, с иной стороны или с иных
сторон близко подходит к тому, что в герменевтическом пространстве
осмысляется всякий раз наша/моя точка зрения.
А точка зрения — это, напомним, всякий раз нами/мною понятая,
постигнутая, высказанная история.
§ 25. - Здесь уместно повторить уже сформулированный (§ 23
/абзац 3/ тезис:
«Мы» должны стараться молчать, давая сказать другим и давая
сказаться другому.
Этот тезис вовсе не означает призыва скромно стушеваться и из
некоторой вежливости уступить первенство старшим — т.е. тем точкам
зрения, какие исторически были прежде нас.
Этот тезис сам сливается в едином кружении со всеми иными вза-
имоопределяющимися моментами внутри герменевтического
пространства и равнозначен следующему тезису:
§ 26. - Как только мы оказываемся в состоянии формулировать
нечто подобное герменевтическому пространству, оно оказывается единым
для всех точек зрения и соответствующих им схем подобных же
герменевтических пространств.
Это наше сегодняшнее пространство - результирующее и итоговое;
включая в себя прочие точки зрения, оно не просто, как n-ное встает в
ряд существующих в истории точек зрения, но обретает способность
находиться с ними в новых, особых отношениях, строить для всех
единое пространство, общую схему и т.д.
Все это - вновь - прямо относится к задачам осмысления науки в
этот исторический час. Это относится к ее новому положению
относительно истории и т.д.
§ 27. - Наша мысль идет вверх и вглубь от того уровня, на каком мы
можем представить себе (условно) смену точек зрения в линейном
движении истории.
Она получает возможность рефлектировать все бывшее ранее в
истории, и если смотреть на бывшие в истории точки зрения, то
допускать их существенность и вслушиваться в них, - при этом стараясь
при возможности не нарушать их голоса (что вместе с тем
оказывается внутри герменевтического пространства невозможным); она
получает возможность задумываться над реконструкцией этих «голосов»
прошлого и контролировать свои процедуры, свое общение со всем
другим.
Как только наша мысль, будучи способной строить единое
герменевтическое пространство и общую формальную схему, начинает идти
вверх и вглубь от уровня линейного движения истории, так само
движение истории для него изменяется. И наоборот.
§ 28. — Наука о культуре, осмысляя себя в настоящий исторический
миг, должна следить за изменением своих исторических
представлений, того, что называют образом истории, - за изменением того, что
следует называть мышлением истории.
485
§ 29. — Есть одно: то, как наука о культуре и наука о литературе
думают о том, как они мыслят историю, - и есть другое: то, как они
действительно мыслят историю, не вполне отдавая себе отчет в том.
§ 30. - Историческая ситуация науки (и всех «нас») такова:
история в прежнем смысле приходит к своему завершению.
§ 31. - Наука и «наша» мысль в этот исторический миг
оказываются перед лицом неизведанного и непостижимого и углубляются в них
(насколько то вообще возможно по сущности непостижимого).
§ 32. - Углубление и неизведанное (и т.д.) оказывается вместе с
тем, одновременно и по смыслу, углублением в наше собственное
сознание, разведыванием его возможностей.
Осмысление науки, встающее перед нами как задача этого
исторического часа, оказывается разведыванием возможностей нашего
сознания и, в частности, осознанием - осмыслением как нашего знания,
так и нашего незнания, удостоверением всего, что может быть
достоверно для нас и т.д.
§ 33. - Если представить, что мы уже осмыслили науку, которая
выступает сейчас как настоятельная проблема осмысления, то она
выйдет из этого осмысления иной, чем была раньше.
Само это самоосмысление науки не может не видоизменить ее
самым решительным образом (см. ниже, II).
Само это самоосмысление науки обеспечивает ей в будущем то, что
прежде называлось «прогрессом» науки. Теперь это самоосмысление
(включая сюда и то наше знание о нашем //^знании, какое мы должны
приобрести) науки, ее внутреннее просветление становится также
позитивным фактором ее существования, как и овладение новым
«материалом» и т.п.
Незнание - это сила
§ 34. — Как только мы пробуем приступить к самоосмыслению
науки, в ней обнаруживается, насколько сложно устроено то, что мы по
традиции привыкли упрощать:
для науки о литературе исторический процесс развития литературы
становится чрезвычайно многоголосным и многослойным;
«сама» история литературы оказывается в одном пространстве со
всеми опосредованиями этой «самой» истории литературы, начиная с
имманентной поэтики творчества и кончая историко-литературными
концепциями, учебниками теории литературы и историческими
исследованиями истории науки.
§ 35. - «Сама» история литературы оказывается опосредованной для нас
многими слоями своего самопостижения и сомнительной в своей прямой
доступности: историк литературы может делать вид, что он занимается
«самой» историей литературы, однако занят он другим - изучением той
недостаточно просветленной и ясной для него традиции, которая передала ему
не знание о «самой» истории литературы, но традицию знания о ней.
§ 36. — Первой задачей истории литературы оказывается не
погоня за фантомом труднодостижимой «самой» истории литературы, а
анализ и прореживание опосредующих ее слоев.
486
§ 37. - Всякий взгляд на историю литературы, на литературу,
поэзию и т.д. выступает для науки о литературе во всей своей
существенности.
Всякий взгляд во всяком случае истинен в отношении себя самого,
хотя, вероятно, и не противоречив.
Все, что отделяет «нас» от самой истории литературы, — это
вовсе не рефлексы и рефлексии по поводу литературы, которые нам
хотелось бы отбросить, как излишние, но существенные и истинные в
себе способы ее существования и постижения, которые необходимо
изучать.
§ 38. - То, что первым делом и в наибольшей степени отделяет
«нас» от «самой» истории литературы как реальности своего рода, -
это то же самое, что крепче и существеннее всего соединяет нас с
нею, — это язык литературоведения, язык науки о литературе именно
в том виде, в каком сложился он теперь.
Сам этот язык есть традиционная, нарастающая и сменяющаяся
внутри себя, испытывающая сдвиги и сбои форма сгшопостижения
литературы.
За этим языком как постижением литературы стоит ее
самопостижение, которое наделено своей истинностью, но которое не единственно
возможно и не исключительно.
Язык науки о литературе, каким он сложился, его понятия и
основные слова - это первое, чем должна заниматься наука о литературе в
своем самоосмыслении.
§ 39. - Шире науки о литературе: вся история культуры
погружена в слова, и она окутана словами, однако, по сущности их, не как
непроглядным туманом (за которым не видна была бы «сама» суть дела),
но как сферой самопостижения, саморефлексии. Сфера эта
относится к самой же культуре и ее истории. Она отделяет нас, однако, от
того, что, не будь этой окутывающей ее сферы, было бы, конечно,
совершенно иным и разумелось бы нами совершенно иначе.
Однако реально существует не такое «иное», но именно окутанная
словами культура, которая и для истории культуры, и для всей науки о
культуре есть самая первая, самая важная и наиболее реальная
реальность.
§ 40. — Вся история культуры держится для нас словами —
ключевыми, или основными понятиями культуры, понятиями ее
самопостижения, самоистолкования.
У каждого такого слова — сложнейшая и нередко почти
непроглядная история.
История ни одного из таких слов не изучена пока сколько-нибудь
полно и досконально.
Все такие слова, какие направляют самопостижение культуры,
обретаются на самой границе непостижимого для нас.
§ 41. — Специально о теории литературы можно думать все что
угодно. Для такой же науки, которая рассмотрела задачу своего
самоосмысления в свой исторический час, теория литературы - это не
столько отдельная дисциплина со своим «предметом», сколько
вообще знание наукой самой себя.
487
§ 42. - Настоящие трудности наук о культуре сейчас - это
трудности их положения по отношению к истории, истории — по
отношению к ним. Это же относится и к науке о литературе, и к так
называемой ее теории.
Вместе с этими трудностями мы возвращаемся к § 1. Что значит, что
более нет для этих наук само собою разумеющегося и очевидного?
Это значит, что нет более и не может быть непосредственной веры
в себя, в свою точку зрения, в свое. Ср. II, § 6: «...Ее, нашей новой
точки зрения, высота — в том, что она не верит так, как то всегда было,
в свое: она не верит в свое так, как раньше, и, в отличие от прежнего,
не обесценивает все иное — а верит в историю как смену и
существование разного иного и если что-то и обесценивает, то только свое
"иное", — которое другого порядка».
Вместе с этим изменившимся положением в отношении истории и
всего иного в ней, - значит, в отношении всякого содержания истории
вообще, например в отношении всей истории литературы, — исчезла
само собою разумевшаяся и очевидная сфера исходных принципов
исследования.
Эти исходные принципы исследования можно было понимать как так
называемые методологические принципы и верить в них. В них почти во
всей современной науке и продолжают верить с тем фанатизмом,
который исключает всякое обдумывание подобных принципов и всякое
сомнение в них, - сомнение в них было бы для многих смерти подобно.
Однако методологические принципы своим кажущимся подобием
некоторой аксиоматической системе лишь загораживают вид на
подлинную аксиоматику о культуре.
Такая аксиоматика для наук о культуре - весьма неудобным для
обращения с нею образом! — заключена в неочевидности очевидного,
выведываемого у непостижимого и лишь с большим опозданием
переводимого в слово (см. Приложение, § 6, 7).
§ 43. - Вместо мнимой аксиоматики и кажущейся методологии
настоящая наука о культуре, настоящая наука о литературе должны были
бы заняться своим самоосмыслением, в котором, естественно, можно
было бы обсудить и любые возможные методологические
принципы, - однако происходило бы это не в состоянии слепой
приверженности одним принципам и заведомого отвергания других, но на поле
дометодологического, на котором для науки о литературе открываются
дающие ей смысл общие горизонты истории культуры.
II
Наука о литературе как реальность и как должное
(см. I, § 29)
§ 1. - Если говорить о науке о литературе и о теории литературы, -
что это такое, то, конечно, мы должны начать не с того, что
перечислим обычно входящие в учебники теории литературы разделы, -
теория литературы есть прежде всего знающая себя наука (ср. I, § 41), и
этим, как я предполагаю, она в наше время отличается от той науки,
которая умела и могла создавать учебники теории литературы, введе-
488
ния в литературоведение. Та наука знала, что относится к ней, к ее
ведению, а эта наука должна знать, почему.
§ 2. - Замечание относительно только что употребленного слова
«должна».
Что наука что-то должна, не означает, что мы хотим изменить ее,
заставить ее делать не то, что она делает, реформировать ее и т.п., —
если наука и должна перемениться, то об этом-то нам не приходится
заботиться (ср. эпиграф I), она и сама изменится.
Наука «должна» означает здесь лишь только то, что, как я полагаю,
наука уже стала другой и только не всегда отдает себе в этом отчет, надо
только подтолкнуть ее к знанию себя самой; знание себя самой
предполагает самоосмысление — этим и должна заняться наука, причем в
этом последнем выражении слово «должна» имеет уже несколько иной
смысл, смысл некоторого весьма скромного и тихого подталкивания
науки к ней самой.
§ 3. - Всякое «почему» (§ 1) требует самообоснования. Такое
самообоснование и должна получить наука о литературе, и это самая
«актуальная» задача, какая только стоит перед ней. Это же относится и ко
всем наукам о культуре.
§ 4. — И еще одно долженствование: научиться отдавать должное
всякому из существовавших и существующих языков культуры (см. I,
§ 24, абзац 2).
§ 5. — Отдавать должное — не то же самое, что научиться говорить
на ином языке. Последнее невозможно: то, что именуется языком
культуры, можно реконструировать, но нельзя уйти от своей сущностной
точки зрения и нельзя усвоить иную — двойное воспрещение.
А отдавать должное значит:
а) признать за иным права иного, признать его существенность и
истинность;
б) отказаться от накладывания на чужой язык чего-либо своего —
привычек, схем, систем, отказаться в той мере, в какой это доступно
и подконтрольно нам.
Общее, отвлеченное теотеризирование, какое, видимо, уже отжило
свой век, исходило из признания правомочности общих, ко всему
относящихся и будто бы во всем действующих схем, систем, понятий и т.д.
§ 6. — Однако наше сегодняшнее разумение науки, по всей
видимости, показывает нам (ср. I, § 27), что нам недостаточно понимать что-
либо только для себя, для «нас».
Если «наша» точка зрения теперь отличается по своему существу и
статусу от прежних, какие были в истории, то наше «иное», что несет
наша точка зрения, не просто стоит после бывших прежде, но и
переносится над ними (не «возносится над ними» и не «заносится над
ними», как надо надеяться!). Её, нашей новой точки зрения, высота —
в том, что она не верит так, как то всегда было, в свое: она не верит в
свое так, как раньше, и, в отличие от прежнего, не обесценивает все
иное, - а верит в историю как смену и существование разного иного и
если что-то и обесценивает, то только свое «иное», — которое другого
порядка. Отсюда и несравненно большая прозрачность и доступность
всего исторического для нашей точки зрения - для нашей в том смыс-
489
ле слова, что она нам дана, подарена (см. эпиграф I). О большей
прозрачности см. I, § 22/абзац 2.
Если наша новая точка зрения и предлагает какую-либо общую
схему (см. I, § 23/абзац 2), то такая схема - не схема объяснения (для
всего сразу), а способ отступления от навязывания своего иному чужому в
бесплотные истончившиеся очертания все еще неизбежного.
Нельзя говорить об ином, не внося туда своего, однако нужно не
упиваться своим, а умолкать перед голосом иного (см. I, § 25/абзац 2).
Наше молчание перед иным все еще слишком шумно. От нас все
равно всегда слишком много шума.
§ 7. - Иное встречается нам в герменевтическом пространстве. В
нем иное всегда сопряжено с иным для него, например с «нами». Иное
тут и не обходится без «нас». Это и парадокс наблюдателя, но и более
глубокая бытийная сопряженность иного и иного, иного и моего и т.д.,
в котором любое сущностное отсылается к иному, в том числе и к тому
иному, которого реально еще не было и нет, отсылается к
существенности и истинности всего иного.
§ 8. - Иное обнаруживается уже и в своем: как момент его
нетождественности себе, как момент внутреннего раскола и, наконец, как момент
сущностного отсылания к иному, к его существенности и истинности.
§ 9. - Сущностная сопряженность одного и другого, своего и
иного, своего и чужого и т.д. нуждается, однако, и в неукоснительном
различении всего этого.
Науке о культуре, как существует эта наука сейчас, приходится в
первую очередь задумываться о различении разного - сопряженность
осуществляется и без нашего участия, путаница же и стирание различий
многообразно вносятся в историю нами самими.
§ 10. — Самоосмысление науки несомненно изменит ее (I, § 33), —
однако цель не изменение, а осмысление.
Наша забота - лишь о том: не знает ли наука о себе меньше, чем
можно? Ведь - I, § 29 — «есть одно: то, как наука о культуре и наука
о литературе думают о том, как они мыслят историю, - и есть
другое: то, как они действительно мыслят историю, не вполне отдавая
себе отчет в том». Тогда наша забота - лишь в том, чтобы наука
догнала сама себя и по-настоящему узнала (от себя же), как и что она
мыслит и разумеет.
§11.- Как только наука о культуре заметит, что делает уже не то,
что делала прежде, и убедится, что стала другой (или готова стать
другой), она должна будет убедиться в том, что ее мышление истории
изменилось и стало другим. Возможно, однако, что оно только стало
таким, каким в сущности, без осознания того, было и раньше.
Так, задумываясь над проблемой реконструкции различных языков
культуры, наука должна будет продолжить свои размышления до
осознания тех историко-культурных горизонтов, изнутри которых такая
реконструкция мыслима и возможна.
Мышление истории — таков горизонт (каждой) науки о культуре: ее
горизонт и ее глубина.
490
Ill
§ 1. - «Теоретическое» противопоставляется, по меньшей мере,
а) практическому; б) эмпирическому; в) историческому.
Такого рода противопоставления так или иначе обрабатываются в
истории науки о литературе, так что, например, существует
«эмпирическое литературоведение». Но главным образом такое
противопоставление проявилось в существовании теории литературы наряду с
историей литературы, как бы ни разумелись их взаимоотношения.
§ 2. - Сложившееся различение истории и теории литературы как чего-
то отдельного, обособленного друг от друга — условно, временно и скорее
всего несостоятельно вообще. Теория не может относиться к чему-либо
кроме данности литературы (того, что, как принято говорить, составляет ее
«предмет» или «материал»), а такая данность — существенно историческая.
§ 3. - Правильнее говорить не о теории и - наряду с этим - об
истории литературы, но о единой науке о литературе. (Замечу, что такое
наименование имеет даже некоторые преимущества по сравнению с
более обычным - литературоведение).
Внутри таковой, в связи с естественными потребностями экономии
и разделения труда, образуются свои центры тяжести, которые имеют
тенденцию затвердевать в своей обособленности и в таком виде
институционализироваться в качестве отдельных дисциплин. Однако всякий
такой центр тяжести, или особый центр внимания, следует
рассматривать не как обособленную дисциплину, но именно как динамический
центр тяжести в пределах существенно единой науки о литературе.
§ 4. — Напротив, если бы была признана дисциплина оснований
науки о литературе, которая осмысляла бы ее в единстве и обосновывала
бы ее, отдельным центрам тяжести было бы даже легче и проще
существовать в своей отдельности, удовлетворяя своей потребности в
специализации: общая сторона науки о литературе, будучи осмысленной,
стала бы гораздо доступнее для постоянного продумывания; мотивы
единства знания не только возникали бы в научном сознании время от
времени, но были бы учтены и изложены.
§ 5. - Наука о литературе вычленяется на протяжении XVIII-XX вв. -
путем неоднократно повторяющихся актов такого своего вычленения и
становления своего в качестве именно науки — из круга знания о литературе.
Наука о литературе существенно принадлежит к кругу знания о
литературе, и их взаимоотношения должны быть вновь продуманы.
§ 6. — Наука о литературе остается в пределах знания о литературе.
Наука о литературе, или литературоведение, — более узкое
понятие, а знание о литературе - более широкое или даже всеобъемлющее.
Все литературоведческие суждения входят в круг знания о литературе,
но не всякое знание о литературе входит в состав науки о литературе.
§ 7. - Знание о литературе исторически предшествует науке о
литературе и подготавливает ее.
§ 8. - Заметим - преждевременно - для продумывания наперед: хотя
в дальнейшем и выяснится то совершенно несомненное, что слово
«литература» в пределах науки о литературе лишь условно обозначает все то,
что оказывается в поле знания о «литературе», в поле соответствующего
491
знания и затем науки, но если называть все это (условно и с осознанием
такой условности) «литературой», то знание о литературе исторически
предшествует не только науке о литературе и не только подготавливает
таковую, но оно предшествует и литературе и подготавливает таковую.
Первый текст европейской «литературы», «Илиада» Гомера,
начинается с чрезвычайно краткого, однако зрелого и продуманного
изложения известного знания о литературе, т.е. о том, что поэт творит, и
это предшествование знания о литературе, или поэтики, чрезвычайно
знаменательно: вообще говоря, понимание чего-то, что мы делаем, в
некотором смысле обязано предшествовать тому, что мы делаем, хотя
вместе с тем и с другой стороны это понимание поверяется самим
«делом», складывается с ним, взаимодействует с ним и становится внутри
него. Однако, делая что-либо, мы имеем в виду некоторое что, хотя
порой и достигаем чего-то иного в сравнении с задуманным. Есть
момент логического предшествования замысла деланию и изготовлению.
Есть всегда некоторое задуманное «что». И такое «что» становится
сейчас огромной проблемой для нашей науки - поскольку она,
возможно, не согласится в дальнейшем попросту мириться с условным и
нейтрализующим употреблением слова «литература» в отношении
всего, с чем имеет она дело. Если нет, — если не согласится, — в
наиострейшей форме встанет вопрос о том, с чем же имеет она дело, и тут
даже самые основательные ответы, какие давались еще в недавнем
прошлом, едва ли удовлетворят сейчас: едва ли согласимся мы с тем,
что все, с чем имеет дело наука о литературе, тем более знание о
литературе, суть «произведения», или «творения».
Все содержание § 3 изложено на будущее — для того чтобы мысль
по возможности «цеплялась» за уже заявленное и выявленное.
§ 9. - Наука о литературе остается в пределах знания о литературе
(ср. § 6).
Однако: отношение науки о литературе как науки ко всему кругу
знания о литературе — иное, нежели у других наук (за пределами наук
о культуре, которые, видимо, в одинаковом или почти в одинаковом с
наукой о литературе положении) в отношении к соответствующим
кругам знания, предшествовавшим им и их подготавливавшим.
Видимо, для математики или для физики всякое знание, которое
предшествовало их становлению в качестве наук, должно исчезнуть в
пределах научного знания и для него, во всяком случае получив свое
переоформление на новых основаниях и пределах особым образом
выстраиваемого «здания» науки.
В науке о литературе положение иное: знание о литературе
остается одним из оснований науки о литературе. Помимо этого у него и нет
никаких шансов куда-либо исчезнуть, так как знание всего того, что
именуем мы «литературой», должно непременно возникать вновь и
вновь, наряду с наукой о литературе и помимо нее: всякое самое
непосредственное понимание и разумение всякой литературы в самой
«обыденности», в самой «жизни» возникает и проявляется
совершенно непременно, и такое понимание - не антинаучно и не безразлично
для науки, и оно не идет мимо нее, а это «живой» субстрат всякого
научного знания в этой области, субстрат- плохо ли, хорошо ли то, -
492
непрестанно забирающийся в область собственно науки и очень
часто своей непереработанной обыденностью мешающий ей,
вмешивающийся в науку. Однако всякие «непрофессиональные» вмешательства
в науку обыденных суждений о литературе (их можно наблюдать на
каждом шагу) возможны лишь потому - и они показатель того, - что
наука о литературе особым образом соединена и сопряжена с таким
«живым» субстратом (сколько бы ни возражать против такого
неопределенного слова, как «живой»).
К обыденным суждениям о литературе, пытающимся как-то
выразить непосредственное понимание, уразумение всего литературного,
нельзя относиться с высокомерием, — сколько бы заведомо абсурдно
ни было какое-то отдельное из таких суждений. Само научное знание,
по крайней мере с одной своей стороны, основывается не на чем ином,
как на получающих известную систематизацию, или «утончение», или
наукообразное препарирование обыденных суждениях.
Различие между обыденными суждениями непосредственного
разумения и суждениями «научными», видимо, в том, что последние
оправданы традицией науки, т.е. некоторой преемственностью способов
обработки «до»-научных суждений. Однако до тех пор, пока сама эта
традиция не осмыслена по-настоящему, как и вся наука о литературе, ее
опосредования условны и в известной степени «непосредственны»
(непосредственны, коль скоро научная рефлексия недостаточно
захватывает также и их).
Неразрывность связи науки о литературе с «обыденными»
суждениями приоткрывает «человеческий» аспект этой науки (откуда вовсе не
следует, что наука о литературе относится к числу так называемых «наук
о человеке», — она таковая, надо думать, не более, нежели любая
другая). «Человеческий» аспект— в том, что наука эта не может
размежеваться с обыденными «просто человеческими» суждениями, и это
бытийная ее черта. Напротив, попытки превратить науку о литературе в
науку точную, работающую точными методами, несостоятельны не
потому, что они, скажем, не осуществимы:
всякая такая попытка, если бы она увенчалась успехом, создала бы
иную науку по сравнению с той наукой о литературе, какая уже имеет
свою традицию,
и вместе с тем не имела бы ни малейших шансов упразднить ту
науку о литературе, какая уже имеет свою традицию.
Любые попытки реформировать существующее
литературоведение не хороши и не плохи - они должны разуметь себя не как
реформы, а как попытки основать новую науку, и никак не должны
претендовать на то, чтобы занять место прежней науки. Эта прежняя
наука — та, что существует пока, — строится на известном
существующем реально, наличествующем в окружающем нас мире способе
отношения ко всему тому, что мы условно именуем «литературой», и
этот способ нельзя устранить точно так же, как никому
невозможно претендовать на то, чтобы впредь не высказывались никакие
«обыденные» суждения о литературе. Пока они высказываются и
пока их нельзя запретить, существует почва для той науки о
литературе, какая сложилась и уже имеет свою традицию, восходящую
493
к знанию о литературе, к знанию более широкому и
предшествующему науке о литературе.
§ 10. - «Человеческая» сторона науки о литературе: никакой
литературовед не в силах отрешиться в себе от человека, «просто»
судящего о литературе, а попытки добиться этого приводят, как известно, к
парадоксальным результатам, одним словом - к омертвению
литературоведческой «продукции».
Невозможность отмежеваться от «обыденных» суждений для всей
науки и от «просто» человека в себе для литературоведа - это просто
реальность этой науки, реальность, с которой надо просто считаться.
Те же «проблемы» известного рода реальности и невозможность
попросту сжиться с ними стоят и перед другими науками, включая
историю. В последней науке они, вероятно, и встают во всей их тяжести и
весомости.
Если только слово «тяжесть» влечет за собой некоторые негативные,
а «весомость» - некоторые позитивные коннотации, то нам следует
«переделывать» тяжесть подобных проблем в их «весомость», т.е.
осознавать их в деловом стиле, а не «переживать» как нечто прискорбное.
Такова природа науки о литературе (и некоторых других наук).
Такова их реальность.
Такова же, в частности, и природа науки об искусстве: глаз выносит
свои суждения прежде их ученого обоснования. Правда, глаз может
быть неопытным и может быть многоопытным. Однако и опытный глаз
знатока искусства и затем искусствоведа - все же только опытный
глаз, и таков же, по природе, «глаз» и «слух» литературоведа.
§ 11. — Предшествующее позднее складывающейся науке о
литературе и подготавливающее ее знание о литературе никуда не пропадает
вместе со становлением науки о литературе, но по-прежнему
предшествует ей и подготавливает ее. Оно служит одним из реальных, а
именно «жизненным» основанием науки о литературе.
В широкий круг знания о литературе входят, между прочим, и такие
высокие образцы поэтики, как начало «Илиады». Это теоретическое
знание, хотя и не наука о литературе, поскольку под наукой следует разуметь
науку в ее новоевропейском самопостижении, какому отвечает и
представление о науке о литературе, складывающейся на протяжении XVIII—XX вв.
§ 12. - Знание о литературе - всеобъемлюще, а наука о
литературе — не вечна. Как всякое научное, научно оформляемое знание, она
имеет начало и конец и существует, пока длится новоевропейское
самопостижение науки (как самопостижение знания).
Поэтому у науки о литературе есть еще шанс перейти в иное
состояние - пока (почти) не известное еще нам или малоизвестное.
В пределах науки о литературе нам следовало бы наперед разузнавать,
каким могло бы быть такое будущее, наследующее научное состояние
знания о литературе. Для этого полезно сверяться с опытом всех иных наук,
подсказывающих ту же перспективу (перехода в иное состояние знания).
§ 13. - Науке о литературе не следует обольщаться собою и видеть в
себе высшую форму знания о литературе. Этого и вообще не следует
делать никакой науке, однако в особенности - такой, которая не в
состоянии отрываться от предшествующего ей и подготавливающего ее знания.
494
Такие науки, как наука о литературе, постепенно отсылаются к
человеческому опыту всего того, что становится их «предметом», и
обязаны сверяться с ним. Они настолько обязаны это делать, что не могут не
делать этого.
§ 14. - Есть науки, в которых невозможно, немыслимо
отложившееся знание и в которых нет почвы для самодовольного обладания
таковым. «Отложившееся» знание, замыкающееся в себе и повторяемое
внутри себя. Последнее получает возможность удостоверяться внутри себя
(математические науки). Такое знание достигает степени практически
полной независимости от непосредственного человеческого опыта.
§ 15. - Наука о литературе тоже должна удостоверяться в
истинности своего знания и делает это лишь недостаточно.
Однако всякое удостоверение здесь - дело необычайно тонкое и
почти немыслимое, поскольку оно предполагает обращение к опыту
сознания и к анализу такового.
Поэтому истинность в науке и литературе — дело хрупкое. В этой
науке, возможно, это и очевидно /?/ - нет истины для всех, а бывает
только истина для нас.
Зато истина для нас стоит крепко, ибо основывается на внутренней
убежденности опыта и сознания, на их «само собой разумеющемся».
§ 16. - Однако именно поэтому не могут быть истинными «вообще»
в науке о литературе какие-либо теоретические тезисы о существовании
чего бы то ни было, что удостоверялось бы внутри самой науки.
Конечно, «русская литература» существует, однако это и не
обосновывается внутри науки о литературе.
Напротив, все суждения о так называемых методах, стилях и т.д.
заведомо не могут быть истинны для всех и вообще. Это всякий раз могут
быть истины только для соответствующих «нас».
§ 17. - Все написанное и «наговоренное» в науке о методах -
реализма, соцреализма, о стилях и направлениях, не только не может
никому навязываться в качестве «истины», а в лучшем случае может
претендовать на статус кем-либо принятого. Можно почему-либо
настаивать на целесообразности таких понятий или представлений.
Однако можно сомневаться в том, что как суждения о методах,
направлениях и стилях и т.п., так и сами эти понятия непременно обязаны
наличествовать в науке о литературе. Скорее, их можно рассматривать
как некую надстройку внутри науки - настойку, возникающую из
стремления быть во что бы то ни стало научным или, скажем, системным.
§ 18. — Место в науке есть, собственно, только для того, что может
получить внутри ее свое обоснование.
Пока «метод» и прочие понятия такого типа не получили
обоснования, лучше говорить о них как о том, что называется или что
называют методами и т.п.
§ 19. - Поскольку необходимо безоговорочно признавать в науке о
литературе любую истину для нас, то за всяким традиционным учением
о литературе в рамках науки следует признать такое право на истину для
него и затем уже разбираться во внутренней устроенности такого учения.
§ 20. — Вера в то, что науку надо строить именно так, и есть
истинность учения в нем самом и для него самого. Часто такая вера восхо-
495
дит лишь к традиции, перенятой /^критически в том смысле, что
оснований для критики традиции еще не было в самом сознании науки.
Раньше, и еще недавно, таких оснований, видимо, еще не было. Теперь
они, по-видимому, есть. И в этом «вся» разница между учебниками
теории литературы, написанными относительно недавно, и нашей нынешней
ситуацией. Эта последняя такова, что она вынуждена не вставать в один
ряд с бывшим ранее: наша точка зрения (какая обеспечивала бы нам
истинность для нас наших утверждений) существенно отличается от прежних
точек зрения и встает, в отличие от них, в иное отношение к истории.
§ 21. - «Системность» такого научного знания, которое не имеет
возможности оторваться от человеческого опыта с его
непосредственностью, - весьма особого свойства.
Ни литературоведам, ни искусствоведам не следует поддаваться
очарованию таких формул, как «системность научного знания».
Есть два положения, которые необходимо осмыслить и которые,
возможно, воспрепятствуют чарам любых формул:
1) всякое слово, попадающее внутрь науки, должно быть осмыслено
внутри ее в соответствии с ее опытом, и это «вдвойне» значимо для
таких наук, в которых назрела необходимость исторического осмысления
всех своих основных слов и понятий;
2) для науки бессмысленно перенятие готовых слов, понятий и
формул — они должны быть приведены в некоторое соотношение с
опытом самой науки, осмыслены изнутри ее, и это «вдвойне»
значимо для таких наук, которые вот только сейчас, кажется, подошли к
тому, чтобы осмыслить себя изнутри и в том числе конкретно осознать
и осмыслить свой опыт.
§ 22. - Литературовед, очутившийся перед формулами типа
«системность научного знания», имеет все шансы внести свой особенный,
вполне реальный вклад в уяснение этой и других подобных формул,
причем вклад, вытекающий из (далеко еще не уясненной нами)
природы именно его научного знания.
Залогом такого реального и дельного вклада служит существенное
отношение науки о литературе (и всего знания о литературе) к слову, ей
присущей и данное только ей, общение со словом, - при условии, что
существенность такого отношения будет одновременно, насколько то
возможно и мыслимо, уясняться.
IV
Обратное проецирование как неизбежность
§ 1. - Обратное проецирование сопутствует всей культуре и,
видимо, присуще ей вообще.
§ 2. - Обратное проецирование - частный случай о-своения иного
как у-своения и при-своения его себе.
§ 3. - Видимо, только сейчас наше (научное) сознание подошло к
тому, чтобы видеть относительность таких операций, подвергнуть их
разбору и в принципе подчинить их своему контролю, «взять в руки».
496
§ 4. — То, что в современной литературе именуется «диалогом
культур» и «диалогом» в более общем смысле, обязано считаться с
ситуацией - т.е., во-первых, с тем, как осуществлялось и осуществляется о-
своение в истории культуры, с обратным проецированием, и во-вторых,
с осознанием относительности (исторической относительности) таких
операций.
Теоретики «диалога» должны соответствовать этой ситуации, а не
удовлетворяться лишь переводом традиционной ситуации о-своения на
новый, свой язык.
Вообще же говоря, понятие «диалог», переносимое на всю историю
культуры, тяготеет к тому, чтобы проецироваться на все и посягать на
все.
§ 5. - Можно предположить следующее: обратное проецирование
можно редуцировать, ограничить, но нельзя устранить вообще.
Ограничить обратное проецирование и поставить его под свой
контроль желательно потому, что эта «операция» наиболее
фундаментально нарушает самотождественность истории.
Наверное, дело науки - не в том, чтобы вводить в систему акты
переноса своего на чужое, в чем суть обратного проецирования, а в том,
чтобы поставить под контроль такие неизбежные «операции».
§ 6. — Задачу сегодняшней науки о культуре в этом отношении я
представил бы так:
ей следовало бы научиться разворачивать в обратном направлении то,
что исторически осуществилось как обратное проецирование.
§ 7. - Вся наука, какая была доныне, и вся научная традиция,
какой сложилась она, выступает едва ли не как самая первая «данность»,
подлежащая обратному разворачиванию в своих операциях.
По мере того как наука погружалась в свою сущность, как задумана
она была в европейской культуре, и по мере того как она,
соответственно, предавалась мечтаниям о своей «системности» и т.п., она
склонялась к безоговорочному, полному и бесконтрольному обратному
проецированию.
Такая наука в своем углубленном виде, кажется, к настоящему
времени вполне исчерпала себя.
Можно допустить, что науки о культуре - по причине своей
внутренней вялости, инертности - осознают это недостаточно отчетливо.
Однако именно науки о культуре, находящиеся в своем, данном им
отношении к истории, и призваны к такому осознанию. Таковое -
аспект их столь назревшего самоосмысления.
§ 8. — Как бы ни представлять себе протекание истории культуры,
она происходит как смена и как со-существование того, что
называется языками культуры. (Правда, как говорилось уже, - само это
понятие сводимо к более первичным, однако им не противоречит, т.е. не
противоречит и тому направлению, в каком наука о культуре
призвана сейчас к самоосмыслению.)
Каждый язык - свой, при всех внутренних осложнениях такого
своего (в котором не может не вырисовываться также и иное себе).
Каждый язык — свой. Он несет в себе истинность своей
самотождественности, истинность своей точки зрения, истинность своего
497
мышления истории. Каждая точка зрения вправе говорить на своем
языке, каждый свой язык вправе претендовать на все свое, по мере
всякий раз своего. (Правда, последнее - это утверждение, какое
предположительно следует из нашего своего языка, из соответствующего ему
образа истории и мышления истории.)
§ 9. — Правда, никакой язык культуры не дан нам «сам по себе» -
дан не более, нежели «сама» история литературы и «сама» литература.
«He-данность» всякого языка культуры и не превышает, однако,
неданность любого другого культурно-исторического «явления».
То, что закрывает от нас и для нас подступ к «данности» как
таковой, и обеспечивает его же, и делает его возможным.
Поэтому такая «не-данность» и есть сама реальность любого
культурно-исторического явления, есть реальная его данность.
§ 10. — Нельзя лишь недооценивать «не-данность» любой данности.
«He-данность» реальна, она ставит всякую культурно-историческую
реальность в поле непостижимого (см. Приложение) и «обрекает» ее
всему тому, что творится на этом поле.
§ 10. - Любое приближение к своему, как к чужому своему, так и к
нашему своему, совершается как вторжение, или внедрение, в непостижимое.
ν
§ 1. — Науки о культуре таковы, что они имеют дело со словом в
различных его /само/выявлениях и сами пользуются словом.
Науки о культуре имеют дело со словом в его существенности, в его
бытии словом - в отличие от наук, которые пользуются словом, но не
располагаются в направлении слова как слова.
§ 2. — Сказать что-либо о существенности слова сейчас и на этом
месте невозможно, а наше предположение о том, что науки о культуре
располагаются в направлении существенности слова, достаточно
формально и оправдано сейчас и на этом месте тем, что мы были
принуждены и имели возможности сказать о слове в других своих тезисах.
§ 3. - Если же предположить, что и наука о литературе
располагается, наряду с другими науками о культуре, в направлении
существенности слова, то ей слово дано - или даровано - в особом его аспекте.
О том, как дано ей слово, говорить сейчас было бы поспешно.
Во всяком случае, весьма поспешным было бы утверждение, будто
наука о литературе имеет дело со словом литературным, поэтическим,
творческим, со словом литературы, поэзии. Ограничительное в таком
утверждении пока не оправдано: есть такие эпохи истории литературы,
в применение к которым понятие литературного расширяется и
распространяется на все написанное вообще, и можно задаться вопросом,
не верно ли было бы распространять его во всех случаях.
§ 4. — Что наука о литературе имеет дело с творческим и
поэтическим словом, пока было бы лишь красивыми словами.
Целесообразнее задуматься над следующим:
не имеет ли наука о литературе дело со словом как словом создающим
особого рода «что», о каких преждевременно было бы говорить, что это
за «что», и запечатляющимся в них.
498
«Ничего не говорящая» сторона подобного высказывания всерьез
считается с тем обстоятельством, что, пытаясь говорить о чем-либо
подобном, мы входим в поле непостижимого и, конкретнее, того, что
вовсе нам не известно.
§ 5. — Вот обо всем подобном — о том, что вовсе и действительно
нам неизвестно, неведомо, наука о литературе склонна забывать по
присущей ей инерции.
Чтобы напомнить ей об этом, скажу лишь одно: наука о литературе
безусловно и несомненно не знает того, о чем она, так как неизвестно,
что такое та «литература», наукой о которой она претендует быть.
§ 6. — Что такое литература, какую мы имеем в виду, когда говорим
о науке о литературе, действительно неизвестно, хотя бы потому, что
объем того, что относится к «литературе» в каждую из рассматриваемых
в науке о литературе эпох ее истории, всякий раз различен.
Говорить о «науке о литературе» возможно лишь потому, что все мы
имеем в виду под нею примерно одно и то же. Мы, возможно, знаем то,
что должны еще эксплицировать.
§ 7. - Что же такое «литература», какой занята наука о литературе?
Это одно из самых основных понятий науки о литературе.
Оно собирает в себе всю внутреннюю проблематику этой науки.
«Литература» - это, далее, одно из слов, которое в настоящий
исторический час должно быть, наряду с остальными основными словами
о литературе и наук о культуре, подвергнуто историческому анализу.
Должна быть создана, говоря проще, история этого слова (как и
других слов).
Как одно из слов, далее, посредством которого наука осуществляла
и осуществляет обратное проецирование, слово «литература» должно
быть развернуто в обратном направлении (см. V, § 6).
§ 8. — Скажем иначе: литература — это одно из тех основных слов
науки о литературе, с помощью которых мы приходим в связь
именно с тем, чем занята эта наука, и посредством которых мы никогда не
достигаем того самого, чем заняты и с чем имеем дело в этой науке.
Как такое основное слово, слово литература функционирует
совершенно безукоризненно.
Однако сейчас, в связи с необходимостью самоосмысления науки, и
этому понятию придется отказаться от автоматизма всего само собою
разумеющегося и перейти к историческому статусу своего
существования.
Историческое существование слова для науки означает первым
делом, что оно вынуждено перестать быть просто и мнимо
тождественным себе и обязано выявить историческую конкретность и
историческую изменчивость своего смысла. Т.е. неравенство себе и свою
несводимость к одному смыслу.
Наступила пора, когда перед словами следует ставить прямые
вопросы «в лоб»: что же это такое!
Так, говоря о литературе, мы и должны спрашивать себя,
обнаруживая все свое (действительное) незнание: что же это такое!?
Вместе с тем все это вопросы, которые - в пределах наших наук -
задаются нам же, которые ставятся перед нами же.
499
§ 9. — Весь мир и все бытие — все окружающее — предстает для
науки о литературе и для наук о культуре (наук о духе) как погруженный
в слово в его существенности, как «укутанный» в слово.
§ 10. - Все те слова, в которые «укутано» для науки то, с чем имеет
она дело, все те слова, которые соединяют ее с тем и разделяют ее с тем,
с чем имеет она дело, — все эти слова, которые иногда называют
терминами науки, гораздо ближе к этой науке, нежели любая литература. Они
принадлежат к близлежащему, к тому, что совсем близко к нам и близко
от нас по дороге к тому, чем заняты мы в самой науке.
Все такие слова (или «термины»), какими пользуется наука
(думающая иногда, что это она, наука, выработала их, чтобы «пользоваться»
ими), гораздо реальнее для науки о литературе любых произведений
литературы, какими она занята и каким посвящает она свои сознательные
усилия, гораздо реальнее для нее и писательских судеб, и той «самой»
истории литературы, которой занят историк литературы.
§ 11. — Все основные слова науки о литературе выступают в ней и
для нее как носители исторической действительности, как держатели
исторического опыта, как те данные и заданные науке смыслы,
посредством которых осуществляется связь со всем тем, что было и есть
в истории, посредством которых такая связь устанавливается и
нарушается, посредством которых многообразно осуществляется перенос
своего на чужое и все операции обратного проецирования.
§ 12. - Понятие «основные слова науки о литературе»
предпочтительнее, нежели «термины»: понятие «термин» есть результат
переноса некоторого смысла в науки о культуре из других наук. «Термин» в
этих науках перестает удовлетворять своему значению, какое получили
они в другой области знания.
В науке и литературе и «пользуются» словами иначе: настоящий
термин - это инструмент замыкающегося в себе научного знания,
между тем как основные слова науки о литературе - не столько слова,
которыми «пользуется» литературовед, сколько слова, которые держат
его в своем и при своем смысле и, не отпуская его от себя, заставляя
его «пользоваться» собою, держат его «в своих руках».
Кто же тут кем и что тут чем «пользуется»?
§ 13. - Основные, или ключевые, слова науки о культуре и
основные слова науки о литературе - это слова, поднимающиеся из недр
самой культуры в ее непосредственности.
Сколь бы ни опосредованы они были и как бы иной раз ни вводились
они с прямым умыслом внутри самой науки, как бы они ни сочинялись
и ни нарочито изобретались, они все еще продолжают непосредственное
существование самой культуры. Если бы мы были вправе не раздумывая
пользоваться словом «жизнь», то могли бы сказать, что и во всех этих
«опосредованиях» все еще продолжается непосредственная жизнь
культуры и что все они сразу же и немедленно вливаются в эту общую жизнь.
У основных слов науки о литературе есть и это непосредственная
сторона, и есть сторона опосредованная: со стороны
непосредственной в них продолжение «жизни» культуры, со стороны
опосредованной они суть язык культуры, говорящей о самой себе, язык
самопостижения культуры.
500
§ 14. - Язык ошопостижения культуры и все слова такого самопо-
стижения - в них прямое продолжение «обыденного» и «жизненного»
понимания, его актов и процессов, то прямое продолжение, какое не
прерывается и в пределах науки о литературе, сколь бы научной ни
пожелалось ей быть, то прямое продолжение, которое науку о
литературе делает продолжением и наследницей несравненно более обширного
знания о литературе.
§ 15. - Все такие основные слова науки - это своего рода
наросты на культуре, посредством которых она удаляется от простой
своей непосредственности. Именно поэтому все основные слова
культуры - не просто запечатления самопостижения культуры, в
которых и благодаря которым мы просто-напросто могли бы приходить
в связь с «самой» культурой, но и такие способы, которые
закрывают и скрывают ее от нас.
В них, этих основных словах, есть истинность того, что существует
так, а не иначе, истинность сялюпостижения, которое такое, а не
иное, — однако никто не гарантирует нам истинности такого
самопостижения культуры. Напротив, чем дальше, тем больше,
укореняющиеся в традиции мысли и затем науки слова начинают претендовать на
свою самоцельность и самозначительность, наконец, даже на статус
настоящих научных терминов.
§ 16. — Для нас сейчас все такие основные слова - это та
реальность культуры, которой нам не миновать.
В науке они для нас ближе, чем что-либо (см. § 10). Это самая
близлежащая к нам реальность истории литературы и всей культуры.
§ 16. — Примечание. Вот одно из практических предложений того,
что осознано, если только осознано нами: несколько приутихшие в
последнее время протесты против так называемого «европ[е]о-
центризма» не достигают своей цели и остаются чистой демагогией до
тех пор, пока не распространяются на ключевые понятия культуры и,
в частности, не возражают против таких понятий, как «мировая
культура», «мировая литература» и т.п. Однако ведь все такие слова
сделались возможными и сложились лишь в итоге европейского
культурного развития; однако не только слова, но и то, что стоит здесь за ними,
сделалось реальностью лишь благодаря европейской истории, как ее
итог. Пока протестуют против так называемого европоцентризма,
перенимая основные слова европейской культуры и не возражая против
понятия и сути «мировой культуры», эти протесты абсурдны.
Противникам «европоцентризма» следовало бы возражать против самой идеи
«мирового», а затем настаивать на полнейшей непереводимости и
несопоставимости как языков культуры, так и в первую очередь языков
самопостижения различных культур. Впрочем, следовало бы
протестовать на языке, заведомо не переводимом ни на какой европейский
язык, без чего совершенно немыслим какой-либо яеевропоцентрист-
ский взгляд на какую бы то ни было культуру. Надо отказаться и от
европейской науки, и от ее языка. Впрочем, нелепость подобных
требований лишь выявляет исходную нелепость протеста, который,
впрочем, и вскормлен был самой европейской культурой в той мере, в
какой она перестает разуметь себя. Не будь европейской культуры, наш
501
мир, хорошо ли то или дурно, и не объединился бы в то целое, к
которому приложимо слово «мировое»; весь этот «мир» и постижим
только изнутри языка европейской культуры, изнутри языка ее
самопостижения, и никак иначе.
§ 17. - Начиная с самых первых слов науки о литературе, мы
встречаемся с «операциями» перехода граней внутри истории.
Такие первые слова - история литература.
§ 18. — «История» принадлежит всей культуре. Само это слово в
наше время само оказалось на грани нового перехода, и «куда» этого
перехода только еще предстоит нам осмыслять, вместе с осмыслением
нашей науки и внутри его.
§ 19. - Наука о литературе, как и всякая иная наука о культуре,
весьма естественным путем при-сваивает себе «историю» («история
литературы» как одна из основных дисциплин литературоведения).
Судьба «истории» не разрешается в пределах науки о литературе или
науки о культуре. Скорее, наоборот: их судьбы решаются в пределах
истории.
Однако наука о литературе способна внести свой особенный вклад
в продолжающееся осмысление этого слова и сказать о нем свое, а
именно по-своему осознать и осмыслить то самое, что сейчас, в этот
исторический час, ставит его перед гранью нового, крайне
существенного переосмысления.
§ 20. - Вообще говоря, от каждой науки, с ее стороны и в ее
существенной перспективе виден весь круг проблем сегодняшней
действительности, виден так, как только и может быть увиден он именно
отсюда, с такой-то точки зрения и в такой-то перспективе.
Одно из следствий этого понятия (ср. III, §21,2): науке о литературе
следует остерегаться перенимать что бы то ни было в готовом виде из
других наук и следует стремиться разглядеть все именно так и именно
в том свете, как и в каком просматривается все с ее стороны. При этом
следует сверяться с тем, что происходит в других науках. А то общее и
предшествующее разделению научных дисциплин (которое лишь
относительно) выявится при этом с большей ясностью. Наука о литературе
должна, таким образом, смотреть за тем, что и как видно с ее
позиции, и это относится и к самым общим «вещам», таким, как время,
пространство, история, число, - обо всем этом наука о литературе
может сказать нечто такое, что может знать только она одна, и то, что
она скажет, будет непременно соотноситься с физическими,
математическими и прочими представлениями о всех таких «вещах».
§ 21. — Вопрос о подлинной, внутренней связи и общности наук-
даже самых различных и внешне далеких друг от друга, - вопрос об
этом, вполне вероятно, может оказаться в числе самых главных и
первоочередных, какие будут занимать научное сознание в ближайшие
десятилетия. Возможно, он и выйдет «на поверхность» уже в ближайшее
время. Пока же в его почти сплошной темноте появляются самые
первые лучи самой возможности нового и для традиции неожиданного
подхода к такой внутренней взаимосвязи наук. Так, они сказываются
в первых попытках подобраться к анализу самого сознания науки в
определенную эпоху.
502
§ 22. — Как и все другие основные, ключевые слова культуры,
история обнаруживает свою историю.
§ 23. — История как основное слово культуры отличается еще и
тем, что держит в себе, в своем кругу, все остальные слова науки и
культуры. История (см. I, §), - это и горизонт всего герменевтического
пространства культуры.
§ 24. - Не потому история держит в своем кругу основные понятия,
что она - самое общее понятие, а потому, что судьба истории -
глубокое переосмысление, случившееся с ней на исторической памяти
культуры, - затрагивает судьбу всякого другого слова.
Так, для любого другого слова небезразлично, например, то, что на
рубеже XVHI-XX вв. история была переосмыслена из «суммы сведений»
в процесс движения и развития во времени, в существенно
эволюционный процесс и прогресс. Столь глубокое переосмысление - не
единственное в истории культуры, не единственное из тех, что памятны ей.
§ 25. - Любое переосмысление истории не отменяет прежних и
иных ее осмыслений, их истинности.
§ 26. - Тезис § 25, если только он воспроизводим для нас, сам по
себе уже равносилен тому, что мы притязаем на переосмысление
истории и, соответственно, на новое, по сравнению с прошлым, ее
осмысление и уже следуем ему.
§ 27. — Примечание. Найденное нами сейчас слово
«воспроизводимость» (Nachvollziehen), по всей вероятности, очень важно для
осмысления науки о культуре сейчас. Воспроизводимость {для нас) есть как бы
редуцированная, ослабленная степень само собой разумеющегося и
очевидного. Последнее требует непосредственного усмотрения и основывающейся
на нем веры; «воспроизводимо» же то, что мы еще - при известных
обстоятельствах, при известных условиях - готовы повторить и тем самым
взять на себя, что не означает той же степени очевидности и веры.
§ 28. — Новое осмысление истории, или, иначе, новый облик
истории, о котором мы можем предполагать, что мы уже следуем ему,
хотя он еще не установился, подготавливается, как можно думать, на
протяжении достаточно длительного времени.
На протяжении этого времени новый облик истории собирается к
себе, стягивается в свое.
Представление об истории, допускающей «цитирование»
различных исторических эпох (В. Беньямин), принадлежит к этому
стягивающемуся к своему, собирающемуся в себе облику истории.
§ 29. — И по своей внутренней сути новое осмысление истории, ее
новый облик, по-видимому, отвечает такой динамике:
История, которая допускала бы «цитирование» всего разного
бывшего, - это история, собирающая по направлению к себе и в себе все
когда-либо бывшее в истории.
§ 30. — Все бывшее выступает для такой истории все более как быв-
шее-в-настоящем: то, что было, именно поэтому (по причине своей
неотменимой истинности) получает право на то, чтобы быть сейчас (и
сейчас тоже), однако как уже бывшее.
Как уже было сказано, такое бывшее-в-настоящем надо еще
представлять себе как бывшее-в-настоящем-из-будущего.
503
§ 31. — То бывшее, что, как бывшее, продолжает существовать и
сейчас, как бывшее-в-настоящем, получает свой статус, нежели,
например, тот, каким обладает древний храм, рассматриваемый как
памятник своей культуры.
Всему бывшему-в-настоящем, если бы таковое действительно было,
свойственно входить в окружающее нас. Если таковое и памятник, то
прежде всего и в первую очередь памятник нашей культуры.
Говоря иначе, всякое такое бывшее-в-настоящем есть элемент или
часть той настоящей, т.е. относящейся к настоящему времени,
культуры, которая имеет основания (и смелость) брать на себя и принимать в
свое все когда-либо бывшее, все когда-либо бывшее истинным для
«нас» в одном из частных герменевтических пространств.
§ 32. — Новому осмыслению, мышлению истории соответствует
герменевтическое пространство, о котором можно сказать, что оно по
своему замыслу - собирательное, или итоговое.
Те же герменевтические пространства, которые - путем обратного
проецирования - мы получаем для прошлых эпох, выступают в нем
как пространства частные.
Относительно сомнительности представления о герменевтическом
пространстве.
§ 33. - Культура, которая, в соответствии с своим мышлением
истории, имела бы основания вводить в свое окружающее также и все бывшее,
имела бы основания (и.смелость) вводить в свое (в «свое» свое) также и
все иное (со всеми переходами и гранями между всем иным, со всеми
теми перераспределениями, которые как бы «задним числом», но теперь
уже «в настоящем», будут еще происходить между «разными» иными).
§ 34. - Такая культура делала бы небывалую еще попытку, а
именно: не проецировать свое на чужое и иное (что вполне привычно), но
проецировать иное на свое и подчинять свое несомненной
существенности иного.
§ 35. - Такому новому осмыслению истории, способному мыслить
бывшее-в-настоящем-из-будущего, соответствовал бы и свой историзм.
В некотором отношении он радикальнее отличался бы от всякого
существовавшего ранее - и от историзма науки XIX в., и от того
историзма, какой провозглашался в советской науке, в том числе в
литературоведении.
Прежнее понимание историзма соотносилось с научным
пониманием истории, т.е. с пониманием ее в рамках замысла науки. Прежнее
понимание историзма основывалось на неосознанном как принцип
допущении обратного проецирования научных представлений,
понятий, схем, систем и т.п. и, соответственно, на неосознанном
допущении переноса своего на все иное.
В случае своей тривиализации историзм означал лишь требование
вписывать культурно-исторические явления в их исторический
контекст, сам контекст же - в эволюционный ряд истории, в ее процесс
и прогресс.
§ 36. - Лишь постепенно и неохотно тривиальное представление
об историзме отступало от представлений об историческом
прогрессе и процессе, об эволюции истории и т.п. Это отступление происхо-
504
дило под давлением нового мышления истории, которое изнутри
теснило старое и сделавшееся вполне привычным (см. эпиграф III).
§ 37. — Новый историзм, т.е. известное качество, соответствующее
новому мышлению истории (где «истории» — это и родительный
объективный и родительный субъективный), строился бы на:
а) (вполне осознанном, как принцип) переносе иного на свое (см.
выше § 34);
б) предположении о сложной связи между «прошлым», «настоящим»
и «будущим», в какую первым делом вступает и поступает все, с чем
имеет дело культура и наука о культуре.
§ 38. - Сама формула «бывшее-в-настоящем-из-будущего» есть
попытка высказать нечто изнутри нового мышления истории, высказать
наперед, причем эта формула, как и представление
«герменевтического пространства», должна разуметься и приниматься лишь как способ
отступления, т.е. как наивозможно минимальное означение того, в
рамках чего можно было бы рассматривать далее конкретность реальных
отношений внутри истории культуры.
§ 39. - Новое мышление и новый образ истории имели бы дело
уже не со сменяющими друг друга в эволюционной
последовательности, но прежде всего с со-существующими формами, или способами
иного — с такими языками культуры, которые в этом образе истории
предстают и как совместность, и как некоторая, взятая внутрь
совместности, последовательность и смена.
§ 40. - Для такого мышления истории и для такого образа истории
существовало бы, по-видимому, не развитие, но существовали бы
развития, реальность которых неоспорима и которые представляют собой
переход от одного к другому. Всякое развитие продолжается лишь до тех
пор, пока развивающееся или меняющееся не предстает как иное.
§ 41. — Вполне возможно предполагать, что на крайний случай сами
эволюционные представления об историческом развитии, процессе,
прогрессе могут быть переложены на «язык» иного, иных и развитии,
совершающихся между ними. Такой крайний случай может и даже должен
быть допущен, коль скоро и эволюционная теория истории заключает в
себе истинность для себя и, как таковая, вовсе не может быть «отменена».
§ 42. - Все то, с чем имеют дело история искусства, история
литературы, — все их непреодолимые «что» (ср.) - вступало бы в сложные
временные отношения внутри истории.
Как можно предполагать, этим наукам внутри уже осознанного
образа истории пришлось бы не столько обучаться чему-то новому
(каким-либо новым «операциям»), сколько приводить в порядок уже
известное им из их практики и отучаться от многого лишнего (начиная
со ссылок на понятый в прежнем смысле принцип «историзма»).
То, с чем имеет дело история искусства и история литературы, - то,
что называлось и еще называется «произведениями», - соотносится
или как-то «взаимодействует» со всей полнотой истории - вперед и
назад, — со всем наполнением «герменевтического пространства».
§ 43. - Культуре и ее истории присуще не только развитие, но и
стояние на месте, не только смена одного другим, но и
сосуществование разного, и опосредованность разного и т.д.
505
Само «герменевтическое пространство» - если только есть основание
мыслить таковое — есть способ очень основательно стоять на месте.
§ 44. - Более конкретные, узкие и частные и тем более
выразительные и красноречивые способы стоять на месте проясняются
тогда, когда мы начинаем обращаться к близлежащему для «нас», т.е. к
исторической жизни основных слоев науки о культуре, науки о
литературе.
VI
§ 1. - Каждое основное слово науки о культуре (и науки о
литературе) наделено своей внутренней устроенностью - своим особым
взаимоотношением с полнотой исторического; каждое по-своему
обнаруживает грани исторических переходов-переосмыслений.
§ 2. — Тезис § 1 прежде всего чисто эмпирический: надо
всмотреться в историю хотя бы нескольких основных слов, чтобы убедиться, что
каждое из них ведет себя на свой лад, у каждого свои особенные фазы,
или этапы, истории, свои границы и грани переосмыслений.
Это и понятно, так как всякое основное слово науки о культуре
следует понимать и как ашопостижение культуры, которая в каждом из
них мыслит свою историю в известном важном и основном аспекте.
§ 3. — Лишь изнутри слов как запечатленных способов мыслить
реальность истории в некоторых важных аспектах можно составить
представление о культурно-исторических фазах, или этапах, вообще говоря,
о том, как членится история.
§4.-0 слове литература. То, что стоит за литературой в
сочетаниях «история литературы», «наука о литературе» и т.п., далеко не
очевидно - это упирается в непостижимость - и это лишь «естественно».
§ 5. - Однако тому «что», какое стоит за «литературой»,
соответствует целый ряд переосмыслений, переключений, проецирований,
относящихся к самым разным эпохам истории.
Так, та культура, для которой образованность вообще, или даже
культура вообще, постигалась как слово, совершала некоторый шаг и
принимала решение, которое еще «откликается» в нашем понятии
«литература» и в пользовании им.
§ 6. — Так, еще и для нас все дописьменное и устное, что
оказывается в пределах науки о литературе, доступно лишь через грань,
отделяющую устное и дописьменное от литературы, основанной на
письменности и на письменной фиксации того, что внутри ее создается.
Через границу: те «что», которые фиксируются принципиально
иначе, нежели то привычное для нас, доступны нам лишь через эту границу.
Само то, что позднее было осмыслено как «литература» и названо
«литературой», перешло через такую границу.
Так, думать, что наука о литературе занимается устным поэтическим
творчеством, слишком просто. Она, конечно, занимается им, и имеет на
то право, и должна заниматься им. Однако она занимается им только как
прошедшим через грань. Это так даже и чисто «технически» - трудно было
бы заниматься не фиксированными письменно текстами. Но так это и по
существу: для сознания, уже перешедшего через ту границу, все еще не
506
перешедшее доступно лишь через нее, и слово «литература», покрывающее
собою и все такое, свидетельствует о том, что такая граница перейдена.
Возможно, что это ничего не значит для фольклористики. Однако
для науки о литературе, пытающейся осмыслить себя, идти в этом
направлении важно и неизбежно.
§ 7. - Можно было подумать, что достаточно переменить название
науки и называть ее не «наукой о литературе», а как-то иначе. Однако
этого и при всем желании нельзя было бы сделать просто так.
Как и все основные слова культуры, слово «литература» есть
некая истина ашотостижения культуры. Такую истину нельзя просто
отбросить, а можно лишь постигнуть в ее исторической
относительности (чего для слова «литература» пока еще не сделано). Для этого
же требуется обратное разворачивание обратных проецирований, т.е.
по сути дела фундаментальная работа по осмыслению науки, такая
работа, которая вовсе не может быть произведена относительно
какого-либо взятого по отдельности основного слова культуры и науки.
Поэтому науку о литературе нельзя было просто переименовать, и
труднее всего что-либо переименовать именно в этот исторический
час науки о литературе.
В слове «литература», как пользуемся мы им в науке, запечатлелись
исторические переходы и обратные проецирования.
§ 8. - В пределах науки о литературе оказывается даже и так
называемое раннее синкретическое искусство, само наименование которого
запечатлело акт обратного проецирования, - такое искусство должно
соединять в себе то, чего, когда оно существовало, еще не было как
отдельного: поэзии, музыки, танца...
Имея дело с так называемым синкретическим искусствам, наука о
литературе в некоторых случаях имеет дело с таким искусством, в
котором вовсе нет даже и слов, — казалось бы, самого первого, что
необходимо для «литературы» и науки о ней. Однако науке о литературе
приходилось заниматься и этим, с достаточным основанием.
§ 9. — В пределах литературы оказывается и то, что соединяет в
себе рисунок и письмо, и такие соединения, как скорее всего
оказывается, проходят через всю историю литературы.
В пределах науки о литературе оказывается даже и то, что вовсе
нельзя прочитать, — такие «написанные» рисунки, которые не
рассчитаны на «чтение».
Все это оказывается внутри науки о литературе с достаточным
основанием.
§ 10. — Едва ли кто в наше время склонен будет думать, что
«литература», какой занята наука о литературе, тождественна а) поэзии или
б) текстам.
Ни понятие «поэзия», ни понятие «текст» не очевидны, и им
принадлежит свое историческое движение.
Кроме того, такое отождествление, кажется, уже вполне
опровергается предыдущими параграфами.
§ 11. - Примечание. В науке о литературе иногда бывают рабочие
определения, которые и разумеют (должны разуметь) себя как леса,
как временные постройки для временного удобства мысли.
507
Именно поэтому нельзя рассуждать так: значение «литературы» или
«текста» зависит от того, как мы определим их. Как мы определили их
в рабочем порядке, совершенно безразлично для науки о литературе, но
зато для «нас» в герменевтическом пространстве - в том, в каком
совершается замысление и науки о литературе, — чрезвычайно важно, как
определят себя «сами вещи», в каком направлении, по меньшей мере,
они будут требовать своего определения. И это уже совершенно
небезразлично для самоосмысляющейся науки о литературе.
Не будь ситуация с «определениями» именно такой, мы
по-прежнему имели бы дело с «очевидностями», - в частности, с
«очевидностью» того, что такое «литература», что такое «текст», что такое
«поэзия» и т.д. и т.д.
Итак, все, что мы сейчас пишем, всецело зависит от нашего ответа на
вопрос: по-прежнему ли очевидно для нас все это? Или же от какого-
либо иного, равносильному этому.
Наше рассуждение исходит из отрицательного ответа на такой
вопрос — все такое не очевидно — и отсылает далее к историческому
бытию всего того, что для нас уже не очевидно.
§ 12. — «Литература», какую имеют в виду «наука о литературе»,
«литературоведение» и т.п., подразумевает то, что неоднократно
переходит в истории границы своего переосмысления и вводится в
границы иного постижения такого «что».
«Литература» — это итог всех таких переходов. Итог, который до сих
пор еще брали как понятый и потому как само собой разумеющийся.
§ 12. - Каждое основное слово культуры, науки о культуре, науки
о литературе - это своя история, со своей картиной переходов и
обратных проецирований. Ср. § 2/абзац 2.
§ 13. — Назовем для примера несколько основных слоев культуры,
у каких всякий раз есть своя история:
миф
смысл
характер
ирония
§ 14. — Такие же примеры из несколько более узкой области науки
о литературе:
метод
стиль
жанр
роман
§ 15. - Подобных слов огромное множество, и у каждого своя
история.
Одни из слов теснее замыкаются в пределы науки о литературе,
другие осмысляются в других науках о культуре.
У каждого из этих основных слов свои отношения с обыденным
языком.
Все слова и каждое слово идут из обыденного языка - т.е. из
«самой» культуры.
Некоторые из слов в своем обыденном употреблении носят сейчас
на себе, скорее, отпечаток их научного употребления.
508
§ 16. - До сих пор всеми этими словами и каждым из них по
преимуществу еще пользуются как простыми итогами их истории.
Сегодняшняя задача - обратное разворачивание их свернувшейся
в итог истории.
§ 17. - Если же пользование такими словами как простыми
итогами своей истории более уже не очевидно, то их можно в первую очередь
понимать как призывы обратиться к существенности истории,
запечатленной в каждом из слов с присущей каждому из них своей
перспективой осмысления истории.
§ 18. — Если бы у нас была чисто практическая необходимость быть в
своей речи предельно точными, то в условиях исчезновения из науки о
литературе всяких оневидностей нам пришлось бы говорить примерно так:
в той области знания, которая именуется сейчас по традиции
литературоведением и рассматривается как одна из так называемых наук,
речь, между прочим, идет о том, что принято называть «поэтическими
произведениями» или «произведениями так называемой литературы»,
причем еще не известно, с каким правом называется тут
«произведением» то, что имеется в виду под таковым, и с каким правом именуется
это условно называемое «произведением» нечто произведением поэзии
и литературы. И все это - вместо того, чтобы сказать:
литературоведение занимается произведениями литературы.
Разумеется, не надо быть сторонником нарочито пространной, усложненной
и утрированной манеры выражаться. Но от этого не меняется суть дела:
мы должны обрести сознание того, что в настоящее время наша
речь внутри науки о литературе — резко сокращенная, по
практической необходимости, и что мы допускаем в своей речи множество
необходимых оговорок.
Если мы опускаем такие оговорки и это не препятствует нашему
взаимопониманию - это одна ситуация.
Если же мы разумеем друг друга и не подозреваем об опущенных
оговорках или в том вообще, что они должны тут быть, — это другая
ситуация.
§ 19. - Язык науки о литературе существенно отсылается к
естественному языку в его обыденной непрорефлектированности. Наука о литературе
имеет в таком языке свою существенную опору и, видимо, не может
обходиться без того, что можно назвать простым, безыскусственным говорением.
§ 20. - Необходимо практически совместить критическое внимание
к основному слову как всякий раз своей истории и простое говорение.
§ 21. - Как вроде бы показывает нам опыт, совмещение такое
совершается так, что в поле нашего внимания попадает лишь одно или
всего несколько основных слов, между тем как все языковое окружение
остается в тумане мнимой очевидности.
Видимо, практически невозможно, чтобы все одновременно
находилось в фокусе внимания.
§ 22. — Если угодно, то и само простое говорение указывает
литературоведу на сферу непостижимого, от которой он никуда не может
уйти. У простого говорения - своя ясность и своя же темнота и непрог-
лядность. От него - простого говорения - и от нее — темноты -
литературоведу никуда и никогда не уйти. Это условия его существования.
509
VII
Об устроенности «что» в науке о литературе
§ 1. - То, с чем, - то «что», с которым имеет дело наука о
литературе, ускользает от нас точно так же, как «что» литературы ускользает
от науки о литературе.
§ 2. — Примечание. «Ускользание» (см. эпиграф к § 3 Приложения)
есть один из способов, какими обнаруживает себя установленность
мысли вовнутрь непостижимости, что присуще мысли во всяком
существенном знании.
§ 3. — «Что» литературного произведения ускользает от нас точно
так же, как ускользают от нас «что», с которым имеет дело наука о
литературе и «что» литературы.
§ 4. - Наука, конечно, знает о том, чем она занята и чем ей
заниматься, но нам только еще хотелось бы узнать, чем же.
§ 5. — Примечание. Тезис § 4 обращает наше внимание на то, что и
внутри науки существует непосредственность знания и понимания.
В таком случае литературовед знает больше того, что способен он
вывести в слова и формулировать в виде тезиса. Так это, видимо, и
должно быть, если наука о литературе и науки о культуре действительно
черпают свою «аксиоматику» из будущего.
Возможно, и вообще всякая наука - в том же положении, если она
добирается до своего глубокого слоя, связывающего ее с
непосредственностью культурно-исторического протекания. В математике, возможно,
нет никакой ясности и нет никакого согласия относительно того, что есть
число, и в таком случае математика находится лишь на пути к числу.
Замечу, что вопреки иногда высказываемым утверждениям математика все
же сущностно имеет дело с числом, т.е. с тем, что работающим в области
наук о культуре следовало бы, вероятно, представить себе как особого вида
словом/словами, открывающими особенную перспективу на окружающее
в культурно-историческом герменевтическом пространстве.
§ 6. — Все сказанное выше относительно науки о литературе
значимо и для других наук о культуре, и соответствующие рассуждения
могут быть повторены относительно их.
§ 7. — Так с чем же имеет дело наука о литературе, что есть то «что»,
с которым имеет она дело?
§ 8. - Этот вопрос, кажется, вполне правомерен и принципиален.
Однако он не однозначен. В известном отношении вполне не
банальным ответом на него служит простое: все, чем реально занималась и
занимается наука о литературе, и есть ее «что».
VIII
Так, нельзя отрицать, что наука о литературе занимается и
биографиями писателей, и это тоже входит в то, чем она занимается.
§ 9. - Ничуть не пытаясь суживать занятия и заботы науки о
литературе и вместе с тем не берясь перечислять все, чем она занималась
и занимается, обратимся лишь к тому отношению, которое еще не-
510
давно разумелось самим собою, — и к отношению и сопряженности,
в каких находились и находятся наука о литературе и литературное
произведение, и к тому месту, которое занимало и еще занимает в
науке о литературе литературное произведение.
Мы поступим так, вовсе не настаивая на том, что литературное
произведение обязано занимать в науке о литературе главное или основное
место. Это решается не здесь — постольку, поскольку здесь
решительно ничего не пред-решается.
Мы поступаем так лишь для того, чтобы сузить до приемлемых
очертаний наш вопрос о том, «что», и в этих более узких пределах
рассмотреть неоднозначность вопроса о том, с чем, с каким «что» имеет
дело наука о литературе.
§ 10. — Итак, наше «что» сейчас обращено к тому месту, которое
еще недавно занимало и, возможно, еще продолжает занимать в науке
о литературе литературное произведение.
Наше предположение сводится лишь к тому, что и понятие
литературного произведения утратило, вместе со всем, свою само собою
разумеющуюся очевидность, хотя, надо признать, это понятие еще
вполне воспроизводимо для нас.
Мы займемся тем, что попробуем отступать в пределах того места,
какое занимало или еще занимает литературное произведение.
§ 11. - Вот разные смыслы «что», относящегося к этому месту:
что как бытие того, что есть «что» (1);
что как смысл того, что есть «что» (2);
что как разворачивание бытия того, что есть «что» (3);
что как разворачивание бытия того, что есть «что» (4).
§ 12. - Нетрудно видеть, что эти четыре «что» составляют две пары
и что им соответствуют такие понятия — бытие и разворачивание.
§ 13. - То новое, на что осмеливается претендовать
сформулированное в § 11, сводится к следующему:
вопрос о том, «что», относящемся к месту, занимавшемуся или
занимаемому литературным произведением, расходится в двух
направлениях, которые можно по преимуществу иметь в виду и которые не
непременно должны совпасть.
§ 14. — «Литературное произведение» и его место выступают тогда
как свернутые в себя (§ 11, 1-2) и как развернутые, или
разворачиваемые (§11,3-4).
§ 15. Различие свернутого и развернутого, кажется, понятно:
когда мы говорим о «Войне и мире» или об «Илиаде», то имеем в
виду эти «произведения» в «целом», или, иначе, соответствующие им
места, или, иначе, их бытие (1);
либо же мы имеем в виду некий целый, или, иначе, итоговый
смысл этих «произведений», или мест (2).
§ 16. - Сказанное в § 15, 1 имеет в виду больше, и в первую очередь
бытийную сторону «произведения», сказанное же в § 15, 2 —
смысловую сторону.
Нетрудно вспомнить случаи соответствующих словоупотреблений:
(1) в таких русских романах XIX в., как «Накануне», «Война и
мир», «Анна Каренина»...
511
(2) идея «Войны и мира» состоит в следующем... и т. д. и т. п.
§ 17. - «Произведение» в целом может иметься в виду
(1) либо по преимуществу как «место» (и соответствующее ему
«бытие»).
(2) либо как смысл по преимуществу.
§ 18. — Одно даже «тянет» в сторону как бы материального, другое
же - в сторону духовного как такового.
§ 19. — Можно иметь в виду смысл по преимуществу, и важно
установить, что «произведения» могут выступать как свой свернутый смысл.
Так (зафиксированный случай), если говорить о пожаре, губящем
целый город, и называть этот рассказ «Илиадой», то, очевидно,
гомеровская «Илиада» выступает для автора рассказа как целый,
собирательный, итоговый смысл. Он имеет в виду не то, о чем «Илиада», а то, что
значит она в целом. Говоря о пожаре города, автор рассказа отсылает
нас к такому культурно-историческому месту, которое значит именно
то, что имеет он в виду.
§ 20. - Примечание. От сказанного выше, особенно в § 19, мысль
может разветвляться по двум направлениям:
во-первых, уместно будет указать на малоисследованную пока
функцию заглавий, названий «литературных произведений», где надо будет
установить, как и в какой мере эти названия собирают смысл всего
взятого «в целом»;
во-вторых, уместно будет указать на условность пользования словом
«смысл» (ср. VII, § 13). Пользуясь этим словом, мы, хотя и весьма
скромно, осуществляем «операцию» обратного проецирования:
надо думать, что «произведения» отнюдь не столь однозначно
претендуют на какой-либо свой смысл, как это представляется в
философии XX в.; вероятно, обратное разворачивание слова «смысл»-
как культурно-исторического и затем, в особенности,
философского слова позволит нам свести все, что может иметься тут в виду, к
куда большей очевидности. Важно, однако, что всякое
«произведение», а также и то куда более скромное «что», занимающее его
место, склонны выступать в двух аспектах:
бытия и смысла, или места и смысла
в двух аспектах, из которых один «как бы» более «материален», а
другой - «как бы» более «духовен».
§ 21. - Бытие же, или место, склонны сворачиваться в себе и
разворачиваться.
И этому вновь соответствуют различные способы обращения с
«произведениями», различные способы, из которых одни тяготеют к «как
бы» более «материальному», к месту, а другие — «как бы» к более
«духовному» и смысловому.
§ 22. - Весьма затруднительно показать сейчас, что во всех
письменных культурах «произведение» мыслится как некоторый объем —
как, впрочем, такой объем, который вовсе не требует какого-либо
материального воплощения, но с последним связан точно так же, как все
духовное с несущим его материальным субстратом.
Легче показать это, напомнив, что в культурной традиции весь мир
может мыслиться как книга, а это позволяет нам понять, как же мыс-
512
лится книга, - которая выступает как материальный субстрат
«произведения», однако сама по себе вместе с тем осмысляется вполне
духовно, как бытийное место.
Книга мыслится как объем, «страницы» которой (как бы ни была
устроена «книга» - как свиток, как кодекс) и открывают нам сам «объем»,
и выявляют «объемность» места. Книга - это здесь место того, что.
Книга мыслится по образцу платоновской «идеи», а вместе с тем
следует обратить внимание на то, что она мыслится существенно
иначе, чем вообще «объем», с одной стороны, и совершенно иначе,
чем что-либо подобное «миру произведения», или его
«художественному миру».
§ 23. — От таких понятий, как «мир произведений», мы здесь пока
еще предельно далеки.
Что же касается того, как мыслится «объем», то достаточно указать
на то, насколько иначе мыслится, например, «логический объем
понятия» и «объем книги». Настолько же иначе мыслятся:
объем как место («произведение» как место) и
объем «произведения» по образцу «книги».
§ 24. — «Произведение», или место, как книга, мыслятся, в
сущности, - чтобы сказать об этом коротко, - как разворачивание
посредством //^вворачивания.
Объем как книга мыслится как то, в чем, внутри чего можно
«переворачивать» или, во всяком случае, замещать одну «полосу» другой.
§ 25. — «Примечание». Понятие «книги» относится, как кажется,
к числу таких понятий и представлений, сложившихся в самой
культуре, пользуясь которыми мы почти совершенно не осуществляем
«операции» обратного проецирования, - не считая той культурно-
исторической грани, или порога, когда мы переходим кдописьмен-
ному творчеству, которое вновь начинает претендовать у нас и для
нас на место книги.
Берущее начало в древности мышление книги, дающее как бы
зримую идею «книжного объема», одновременно показывает нам все
глубину переосмысления, связанного с переходом от письменной
литературы к дописьменной и устной.
§ 26. — Наряду с «как бы» материальностью книги как объема
«произведение» разворачивается перед нами в своей последовательности.
Есть «целый» и итоговый смысл произведения, и есть то, что
сходится, давая такой итог. Есть «целый» и итоговый смысл, и есть то, как он
разворачивается.
§ 27. — Свернутый и разворачиваемый смыслы сопряжены друг с
другом, однако их сопряженность не абсолютна.
Легко представить, что человек, ссылающийся на «Илиаду», как
упомянутый выше рассказчик, никогда не читал поэмы Гомера. Он лишь
ознакомился со свернутым и общим смыслом поэмы, который был так
или иначе доведен до него.
§ 28. — Примечание. Необходимо отметить сейчас, как
недостаточно разработанную тему науки о литературе, все косвенные способы
существования литературных произведений - в виде пересказов,
кратких отсылок, всякого рода аннотаций и т. д.
513
Можно было бы показать, что задолго до того, как «произведения»
были осмыслены в самой литературе как произведения, они могли
существовать в ней как то и как такое «то, о чем», которое подлежало
постоянному пересказыванию. Ср. эпос Средних веков.
Может быть, говоря иначе, такая ситуация, в которой то, что
«литературного произведения» выступает по преимуществу и первым
делом как то, о чем.
То, о чем может пониматься по преимуществу как рассказ о чем-
либо. Притом как рассказ, который ничуть не притязал бы на то,
чтобы быть текстом в позднейшем разумении, но притязал бы на то,
чтобы его непрестанно вновь и вновь пересказывали.
§ 29. - Сказанное только что - § 28/абзац 4 - позволяет нам
понять то, что разворачивание смысла может исторически постигаться
весьма по-разному.
Разворачивание смысла может постигаться как разворачивание,
соответствующее известному уже данному объему и месту, — и это более
новая и привычная ситуация, - однако
разворачивание смысла может постигаться как разворачивание того,
что только еще складывает объем, который в сравнении с самим
«фактом» разворачивания (рассказывания) отступает тогда на второй план
или оказывается вовсе несущественным.
Сказанное сейчас — подсказка для того, чтобы представить себе
вопросы относительно «что», пребывающими в исторической
констелляции колебаний и изменчивости.
§ 30. - Наши четыре «что», - которыми дело не кончается, -
складываются в некоторую устроенность и со-устроенность,
устанавливающую логическую зависимость между ними.
Есть основание говорить именно об устроенности и
со-устроенности всех «что».
§ 31. - Всякий вопрос о «что», соответствующий в пределах науки
о литературе тому месту, какое занимало и занимает «литературное
произведение», относится ко всей устроенности и со-устроенности всех
«что».
Если обозначить четыре «что», названных в § И, как что-1, что-2,
что-3 и что-4, то что-1 будет логическим основанием для мышления
что-2, что-3 и что-4.
§ 32. — Вопрос о том, что- в зависимости от того, какое «что»
имеется в виду прежде всего и по преимуществу, - образует нечто
подобное особой конфигурации всех «что» в пределах устроенности и со-
устроенности всех «что».
§ 33. - Такие конфигурации образуются и тем, как мыслится «что»,
или тем, что соответствует «что», в истории литературы, в истории
культуры.
Исторически одно подчеркивается, другое отставляется назад и
уходит в тень.
§ 36. - Дело не обходится только четырьмя «что».
Когда мы спрашиваем, например, о жанре произведения, такого-то
произведения, мы остаемся внутри устроенности и со-устроенности
всех «что».
514
Вопрос о жанре остается внутри устроенности и со-устроенности
всех «что» и по-своему складывает конфигурацию всех «что». О том,
как это происходит в случае этого что-5, не приходится сейчас
говорить, так как, по всей видимости, чем больше «что» мы называем, тем
исторически-конкретнее выглядит конфигурация всех «что».
§ 37. - Все «произведения литературы» или «произведения
поэзии» — это (исторически) сначала свои «что» (то, что имелось в виду),
а потом уж «произведения».
Они логически сначала суть свое бытие и свои места, а затем уж (на
время) становятся произведениями.
Появление «произведений», т. е. таких «что», которые
осмысляются именно как произведения, само по себе есть событие или
происшествие в истории культуры.
Как событие или происшествие, произведение вызывает к жизни и
влечет за собой целый каскад обратных проецирований — с
последствиями такого «потопа» мы и отдаленно не справились даже по сю пору.
§ 38. — В истории музыки понятие «произведения» складывается
лишь на протяжении XVI - конца XIX в., причем она продолжает
складываться и тогда, когда оно уже начинает подтачиваться и
разлагаться.
Произведения музыки складываются по образцу литературных
произведений, причем не вообще, а в аспекте что-3, т. е. «что» как книги. В
списке сочинений Гектора под соч. 14 значится «Фантастическая
симфония», а под соч. 10 — его «Трактат об инструментовке». Оба сочинения
(или опуса - произведения) связаны тем, что они мыслятся как книги.
Определяет сущность произведения не то, что оно (как это
привыкли думать теперь) есть некое целое, как бы таковое ни разумелось,
а то, что оно записано и предстает в облике книги.
§ 39. — «Произведение» не разумеется само собою, а может лишь
либо мыслиться, либо вообще не мыслиться на основе того, что - или
же, иначе, того, что в полном логическом виде выступает как устро-
енность, или со-устроенность всех «что» (с которыми можно
обратиться к тому, с чем имеет дело наука о литературе).
§ 40. - История литературы, наука о литературе и вся наука о
культуре должны со всем упорством и настойчивостью задаваться
вопросами наподобие следующих;
что такое «Илиада»?
что такое «Божественная комедия» Данте?
что такое «Фауст» Гёте? и т. д. и т. п.
Такие вопросы обращены к тому, что имеется в виду, и они
затрагивают как устроенность и со-устроенность всех «что», так и их
конкретную историческую конфигурацию.
§ 41. - Рассуждения относительно «что», какие проводил Роман
Ингарден в рамках несомненности для него многих понятий, должны
быть продолжены теперь вне таких рамок - ибо многое несомненное
сделалось с тех пор сомнительным и многое «неподвижное» -
исторически относительным.
§ 42. - Даже и у Мартина Хайдеггера («Исток художественного
творения», 1936, 1950), т. е. у мыслителя, открывшего во многом подлинные
515
горизонты историчности многих основных понятий истории культуры
и философии, открывшего историческую перспективу исторической
открытости, или открытости к истории, - даже у Хайдеггера понятия
«художник» и «произведение искусства» (взаимосопряженные)
продолжают оставаться само собою разумеющимися — притом создающими
историю, но и отключенными от истории, незатронутыми ею.
Эти понятия закрывают вид на то самое, что сам же Хайдеггер
начал рассматривать в присущей этому самому историчности.
Настоящая утрата само собою разумеющегося произошла в науке
о культуре уже после Ингардена и после Хайдеггера.
Эта утрата (см. эпиграф III) есть нечто подобное разразившейся
над нашими головами непривычности.
§ 43. - «Произведения», как и все то, «что» литературы, в качестве
исторических событий.
Предлагается на то, что в науке о литературе по праву
рассматривается как «произведения», и на то, что рассматривается так не по праву,
посмотреть как на вид исторических событий.
§ 44. - Разумеется, такое предложение делается не без сознания
заключающегося в нем обратного проецирования и в намерении
обосновать его как отступление к минимуму.
§ 45. - Некоторая связь с понятием «события» (Ereignis), по Хай-
деггеру, тоже несомненно сразу же просматривается.
§ 46. - Это предложение (§ 43) не намерено создавать новую
терминологию и заменять ею существующую
Наибольшее, на что оно хотело бы претендовать, есть следующее:
чуть потеснить существующую терминологию в ее неправомочных
претензиях на не положенное ей сверх значимости в пределах
исторической относительности;
поставить на место такой «захватывающей чужое» терминологии
нечто по возможности скромнее.
Отступление совершается из того, что явно перестало быть само
собою разумеющимся и очевидным.
§ 47. — Обоснование понимания бывшего произведения литературы,
поэзии, искусства как вида исторических событий могло бы быть дано
лишь по совокупности разных аргументов — позитивных и негативных:
позитивных, суть которых в том, чтобы назвать стороны,
напоминающие в «произведениях» исторические события; негативных, суть
которых в нашем незнании, неведении того, с чем же имеем мы дело.
§ 48. — Примечание. И наше незнание тоже становится
созидательной силой, коль скоро определение характера нашего знания,
именно как частичного, входит в осмысление нашего знания и, как
непременная составная часть, укладывается в эту задачу осмысления.
§ 49. - Исторические события и произведения встречаются хотя бы
в том, что выше, в § 11, названо что-2.
Альбрехт Альтдорфер, создавая «Битву Александра», поступает
подобно рассказчику, ссылающемуся на «Илиаду» Гомера. Как в
последнем случае отнюдь не непременно чтение «Илиады», так в первом
исключено присутствие при самом историческом событии, при его
разворачивании (которое соответствовало бы тогда что-4).
516
А. Альтдорфер не пишет картину битвы так, как изобразил бы ее
художник, видевший ее, или как заснял бы ее фотограф, - конечно, при
условии, что художник знал бы, как поступает и обязан поступать фотограф.
А. Альтдорфер изображает итоговый смысл битвы Александра с
царем Дарием - он передает свое осмысление битвы, как подсказывает
ему его уразумение исторического и древней истории в частности.
Это осмысление переводится им в зримость живописного
изображения.
§ 50. - «Что» науки о литературе, т. е. «произведения» и все то, что
не есть таковые, отличает от иных исторических событий то, что они
фиксируют самих себя.
§ 51. - В самой фиксации самого себя и возникает все то, что
впоследствии можно рассматривать как произведения или как-то иначе.
§ 52. — Фиксация приводит к возникновению устроенности и
со-устроенности всех «что», каковые создают почву для осмысления
создаваемого как «произведения» или как-то иначе.
§ 53. — Фиксация не то же самое, что запись.
§ 54. — Фиксация не то же самое, что память об историческом
событии или происшествии.
§ 55. - В фиксации, или, точнее, самофиксации того, что
впоследствии возможно будет рассматривать как «произведение» или как-то
иначе, коренится возможность возникновения понятий, подобных
«тексту», опирающихся, в пределах устроенности и со-устроенности всех
«что», на развертывании того, что имеется в виду в науке и литературе.
§ 56. — «Произведения» и любые «что», их замещающие, фиксируют
свой смысл, какой разумеют и подразумевают (с оговорками
относительно исторической относительности «смысла») (ср. § 20/абзац 3), и вместе
с тем и для того создают свою «как бы» материальную основу, а также и
действительно материальный субстрат своих «что» (что-1 и что-3).
§ 57. — «Произведения» дают возможность их воспроизведения,
т. е. повтор, в отличие от других исторических событий.
§ 58. — Как уже было (предварительно) видно раньше (ср. § 28,
абзац 2), то, что повторяется и может повторяться, воспроизводиться и
т.д., зависит от постижения устроенности и со-устроенности всех
«что», от их исторически складывающейся конфигурации.
§ 59. — Возможность повтора вовсе не означает, что должен
воспроизводиться текст. Текст — лишь один из всех аспектов со-устроенности
тех «что», какая отвечает всякому «что» в пределах науки о литературе.
§ 60. - Несмотря на столь явные отличия от других, остальных
исторических событий, «произведения» обладают и сходствами с ними.
Отдельные положения о сферах непостижимого, или непостижимости
§ 1. — Предварительно скажем, что непостижимое мыслится здесь
как слово в одном ряду с другими - такими, как недоступное,
неприступное, непонятное, неизведанное, недостижимое, и многими другими.
Гёте: Das Unzulängliche, Hier wird's Ereignis — «Не-достижимое — здесь
событие»: возможно, что эти слова наилучшим образом выражают суть
517
того положения, в каком обретается в наши дни вообще всякое
историко-культурное знание. Конечно, поэт об этом нашем не думал, а это
наше положение так видно сейчас, видно нам и для нас.
§ 2. — Если думать, что есть непостижимое, то оно обязано тотчас
же образовать несколько кругов, или сфер. Вот эти как бы
концентрические круги, как можно представить их себе:
1) непостижимое как (пока еще) не постигнутое; непознанное, пока
еще не познанное; то, что кажется непостижимым сегодня, может еще
быть постигнуто нами завтра или со временем; это - небезнадежное
для постижения непостижимое; граница познанного имеет тенденцию
отодвигаться в глубь непостижимости; это переходящее в познание
непостижимое - еще не вполне настоящее;
2) однако это первое располагается в поле настоящего
непостижимого - и это уже «безнадежное» непостижимое, о котором мы дожны
сказать себе, что оно навсегда так и останется для нас непостижимым;
3) но и такое настоящее и «безнадежное» непостижимое — далеко
еще не последнее для нас; мы ведь все же постигаем его постольку,
поскольку умеем назвать его своим именем. Подбирая для него слово из
своего, из нашего языка, называя его «непостижимым», мы все же
успеваем перевести его на свою, доступную нам сторону бытия; внутри
непостижимого обнаруживается тогда новая граница; итак:
1) «постижимое» непостижимое— граница- и за ним 2)
«непостижимое» непостижимое, которое переведено, однако, на нашу
сторону - граница и, наконец, то непостижимое, для которого уже
не будут годиться никакие наши слова и которое, несмотря на все
наши усилия, ускользает для нас даже и как «непостижимое»
непостижимое, и таково «третье» по счету непостижимое, однако есть,
надо думать, и
4) где должна стоять пустота: есть и такое, пред чем
бессилен наш язык и где мы должны признать, что есть и такое, где мы
дожны сказать: оно не только ускользает от нашего именования, но мы даже
и предположить не в силах, как подступиться к нему, с нашим языком
и нашими словами. Это уже не «непостижимое», но то, что стоит за ним,
то самое, для чего все наши слова исчерпаны, мы ничего о том сказать
не можем, и вот тут-то и пребывает самое настоящее
Вот четыре сферы непостижимого.
«... не будем забывать, что это целое совершается в сфере неизреченной
тайны божественного триединства, просторы которого раскрыты на все
стороны и которое ускользает от всех путей, пролагаемых человеком...»
Ганс Урс фон Бальтазар
§ 3. - Очевидно, причем в самой обыденной действительности,
уже в ней, есть и слово, и то, что предшествует слову, и то, что
превышает наше слово и его возможности.
Науке о литературе и всей науке о культуре необходимо убедиться в
том, что даже и все предшествующее слову, и все превышающее слово
находятся для нас в сфере слова и делаются нам доступны сущностно
через слово. Но дело не в одной лишь доступности — все это, все, что
518
до слова, и все, что после слова, становится возможным лишь как
слово и благодаря слову.
§ 4. — Когда я говорю: есть и такое непостижимое, надо думать, где
должна стоять пустота, и т. д. — то это значит, что наш взор упирается
в такую полнейшую непроглядность, где не видно и где даже не
невидно ничего; так же и с нашим словом - если есть, вообще говоря,
непостижимое, то должна быть сфера, куда совершенно не проникает
наше слово, — уже и после того, что оно, слово, сказало все, что могло
и умело, о непостижимом и т. п.
Однако мы не должны полагать, что эта последняя сфера, которую
мы не можем ни назвать, ни помыслить, ни исчислить, не имеет
отношения к нашему слову, а потому не имеет отношения к нашей сфере
знания, и к нашим попыткам осмыслять то, чем мы заняты, и то, чем
занято то («наука»), чем заняты мы. Логос идет к нам из той сферы
непостижимого, что осталась для нас за второй и третьей границей.
Если же полагать, что все доступное счету все еще находится по
нашу сторону мира, — тогда и «четвертое» непостижимое, — то мы
должны будем предположить еще и следующую сферу непостижимого, -
которую даже и включать в общий счет бессмысленно. Но вот это уже
выходит сейчас за рамки наших вопросов, тех, какими осмысленно
задаваться сейчас.
§ 5. — Итак, Логос идет к нам из-за второй и третьей границ
непостижимого, а по нашу сторону мира и бытия совершается непременная
встреча нашего слова и Логоса, нашего логоса и Логоса. Наше слово и
наши слова зависят тогда от этого Логоса (см. эпиграф I и выше
эпиграф к § 3 Приложения) и даже проникает в него до самой границы
доступного нам, до первой границы внутри непостижимого.
§ 6. - Сказанное имеет практическое продолжение, поскольку
позволяет указать на ту сферу, в которой располагается столь
занимающая нас и вполне реальная неочевидность самоочевидного. Т. е.
аксиоматический слой наук о культуре. Это та сфера, где работает
человеческая мысль, когда она вторгается в непостижимое и пребывает
на границе в нем, отодвигая ее вглубь. Она бьется о границу внутри
непостижимого, которое отчасти оказывается «ненастоящим»: наш
думающий взор уже проникает сюда, однако, что и подтверждается
историческим опытом, назвать, наименовать все увиденное здесь
бывает возможно лишь задним числом. Пока мысль еще не в состоянии
отдать себе отчет в том, что она мыслит, она имеет дело с тем над и
за-словесным, что пока еще превышает наше слово и наши слова.
Таково и есть неочевидно-очевидное, на которое и опирается всякая
наука о культуре.
Такова пограничная территория, завоевываемая и осваиваемая
бегущей вперед, в будущее, мыслью, область историко-культурной
аксиоматики.
Будущее есть здесь то, что только что еще станет нашим словом.
Историко-культурная наука, как и вся культура вообще,
опирается на будущее; ее предпосылки — в будущем; это их настоящее
основание, опора, фундамент; и культура и наука в самом существенном
отношении обращены в будущее, существуют из будущего.
519
Необходимо будет показать и что все прошлое, с чем
сопряжено наше настоящее, идет к нам из нашего будущего и существует
из будущего.
Тот статус, какой получает в современной культуре всякое
культурное явление прошлого, - бывшее-в-настоящем, - на деле еще более
сложен и замысловат: это бывшее-в-настоящем-из-будущего.
§ 7. - Будущее - это основание наук о культуре и, следовательно,
в частности, науки о литературе.
Будущее — однако, и основание всей культуры, а потому, в
частности, и основание математических наук.
Однако (см. I. § 7, пункт 2) у последних значительно более
обособленное положение, они отомкнуты от этих временных отношений с их
непосредственностью и замкнуты в себе.
Между тем науки о культуре преданы будущему, отданы ему «с
головой», они отданы в распоряжение будущего и оставлены наедине с
его непроглядностью, неизведанностью и непостижимостью - столь
явно и явственно подающей о себе весть.
§ 8. - Возможно, что в этом и состоит предназначение историко-
культурных наук, всего знания истории культуры и, наконец, самой
культуры - за вычетом тех ее областей, которым поверено уже более
методичное, последовательное обстраивание и упорядочение всего
уже завоеванного в свете слова, знака и числа.
§ 9. - Наука о литературе - в частности - опирается на будущее и
упирается в него. Она — вместе с другим знанием - вынуждает
будущее быть будущим и в то же время существует из него, за его счет - за
счет того, что станет по-настоящему ясным и доступным слову лишь
впоследствии.
От составителя
Список сокращений
АрМ -Архив A.B. Михайлова (собственность H.A. Михайловой)
ЯК — Михайлов A.B. Языки культуры / Сост. Н.С. Павлова,
СЮ. Хурумов. М.: Языки русской культуры, 1997.
ОП - Михайлов A.B. Обратный перевод / Сост. Д.Р. Петров,
СЮ. Хурумов. М.: Языки русской культуры, 1999.
Настоящее издание объединяет работы и переводы A.B. Михайлова,
посвященные существенным взаимосвязям исторической поэтики и
герменевтики. История наук о культуре, самоуразумение
гуманитарных дисциплин в последние годы жизни привлекали его все более
пристальное внимание как самостоятельные темы исследования.
Единственной прижизненной монографией A.B. Михайлова оказалась
книга 1989 г. «Проблемы исторической поэтики в истории немецкой
культуры». Ее должна была продолжить книга «Вильгельм Дильтей и
его школа», подготовленная автором к печати и направленная как
плановая работа в июне 1991 г. в издательство «Наука» Институтом
мировой литературы им. A.M. Горького РАН. Помимо ряда статей,
посвященных проблемам герменевтического литературоведения
(«Вильгельм Дильтей как литературовед и эстетик»,
«Литературоведение и проблемы истории науки», «Несколько слов о задачах науки о
литературе, о ее теории и о ее истории», «Литература и философия
языка»), в ее состав входили перевод работы Вильгельма Дильтея
«Воображение поэта. Элементы поэтики» и перевод трех текстов
Мартина Хайдеггера: «Жительствование человека», «Рассказ о лесе во льду
Адальберта Штифтера», «По поводу одного стиха
Мёрике»(Переписка с Эмилем Штайгером). Из-за возникших в издательстве трудностей
книга не была опубликована. Нам представлялось логичным издать
теперь обе книги A.B. Михайлова под одной обложкой. Однако это
оказалось невозможно по ряду причин юридического характера.
Тогда родился замысел собрать в книгу труды A.B. Михайлова,
посвященные исторической поэтике и герменевтике, и включить в эту книгу
работу «Вильгельм Дильтей и его школа» настолько, насколько это было
возможно. Помимо книги 1989 г. об исторической поэтике в
Германии, статей и переводов из книги «Вильгельм Дильтей и его школа»
(исключая переводы текстов самого Дильтея) нам показалось
оправданным включить в настоящий том работы A.B. Михайлова о М. Хай-
деггере и переводы из него, статьи о герменевтике в исследованиях
Г.Г. Шпета и А.Ф. Лосева, тексты выступлений, посвященных акту-
521
альным проблемам современных гуманитарных наук. Первые два
раздела тома имеют то же название, что и книги A.B. Михайлова; третий
целиком посвящен Мартину Хайдеггеру; четвертый -
герменевтической проблематике в русской философии; пятый - кризису в науках о
культуре.
Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры
Печатается по изданию: «Проблемы исторической поэтики в
истории немецкой культуры». М. Наука. 1989.
Вильгельм Дильтей и его школа.
В АрМ содержится оглавление, отражающее, по-видимому,
структуру книги на более раннем этапе.
A.B. Михайлов
Вильгельм Дильтей и его школа
С включением текстов Вильгельма Дильтея и Мартина Хайдеггера.
Предисловие
РАЗДЕЛ I. Вильгельм Дильтей как эстетик и литературовед. Генезис
«Поэтики» Дильтея. Ее явная и скрытая программа.
1. Наследники Дильтея. Его школа в литературоведении и
философии.
2. Некоторые термины, осмысляющие целое.
3. Жизнь и переживание.
РАЗДЕЛ II. «Поэтика» Вильгельма Дильтея. Перевод и комментарий.
РАЗДЕЛ III.
Глава 1. Литературоведение и проблемы истории науки. Итоги
исследований по истории литературоведения в Германии.
Глава 2. Несколько слов о задачах науки о литературе, о ее теории и
ее истории.
Глава 3. Литература и философия слова.
РАЗДЕЛ IV.
1. Эмиль Штайгер. По поводу одного стиха Мёрике. Переписка
Эмиля Штайгера с Мартином Хайдеггером. Предисловие и перевод.
2. Мартин Хайдеггер. Две статьи о поэтах и поэзии. Предисловие и
перевод:
1) жительствование человека;
2) рассказ о лесе во льду Адальберта Штифтера.
Перевод A.B. Михайлова работы Дильтея был частично опубликован
Н. Плотниковым в журнале «Вопросы философии». № 5.1995. С. 116-123.
522
Предисловие
Источник: Машинописная копия (АрМ): 23 л. Авторская
полистная пагинация. Авторские рукописные пометки: исправления
опечаток, редкие исправления текста, иноязычные слова и выражения.
Вильгельм Дильтей как литературовед и эстетик
Источник: Машинописная копия (АрМ): 22 л. + 1 л. с
примечаниями. Авторская полистная пагинация. Авторские рукописные пометки:
исправления опечаток, редкие исправления текста, иноязычные слова
и выражения.
Литературоведение и проблемы истории науки. К выходу в свет новых
работ по истории литературоведения в Германии
Источник: Машинописная копия (АрМ): 30 л. + 8 л. с
примечаниями. Авторская полистная пагинация. Авторские рукописные пометки:
исправления опечаток, редкие исправления текста, иноязычные слова
и выражения. Ранее опубликована в журнале «Филологические науки»
за 1991 г. № 3. С. 3-12; № 4. С. 3-13.
Несколько слов о задачах науки о литературе, о ее теории и ее истории
Источник: Машинописная копия (АрМ): 53 л. + 2 л. с
примечаниями. Авторская полистная пагинация. Авторские рукописные пометки:
исправления опечаток, редкие исправления текста, иноязычные слова
и выражения.
Литература и философия языка
Статья была опубликована Н. Плотниковым в журнале «Логос».
№ 8. 1996. С. 52-68.
Источник: Машинописная копия (АрМ): 27 л. + 2 л. с
примечаниями. Авторская полистная пагинация. Авторские рукописные пометки:
исправления опечаток, редкие исправления текста, иноязычные слова
и выражения.
Философия Мартина Хайдеггера и искусство
Печатается по изданию: «Современное западное искусство». Под.
ред. Е.А. Автономовой. М. Искусство. 1982. С. 142-184.
Мартин Хайдеггер: человек в мире
Печатается по изданию: «Мартин Хайдеггер: человек в мире». М.
Московский рабочий. Серия «Первоисточники». 1990.
523
По поводу одного стиха Мёрике
Печатается по изданию: «Мартин Хайдеггер». М. Гнозис. Серия
«Феноменология Герменевтика Философия языка». М. 1993. С. 243-257.
Хайдеггер. М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и
борьба за историческое мировоззрение в наши дни. Десять докладов,
прочитанных в Касселе
Печатается по изданию: «Два текста о Вильгельме Дильтее». М.
Гнозис. Серия «Пирамида». Вып. 5. 1995. С. 137-183.
Современная историческая поэтика и научно-философское наследие
Густава Густавовича Шпета
Источник: Машинописная копия (АрМ): 11 л. + 5 л. с
примечаниями. Авторская полистная пагинация. Авторские рукописные пометки:
исправления опечаток, редкие исправления текста, иноязычные слова
и выражения.
Терминологические исследования А.Ф. Лосева и историзация
нашего знания
Печатается по изданию: «А.Ф. Лосев и культура XX века:
Лосевские чтения». Под ред. A.A. Тахо-Годи. М. Наука. 1991. С. 51-62.
Кризис эстетики? Материалы «круглого стола»
Печатается по публикации в журнале «Вопросы философии». 1991 г.
№ 9. С. 3-6.
Несколько тезисов о теории литературы
Источник: Машинописная копия (АрМ): 56 л. Авторская полистная
пагинация. Авторские рукописные пометки: исправления опечаток,
редкие исправления текста. Отсутствующая в тексте нумерация III—V
разделов восстановлена нами.
Виталий Махлин
Уроки обратного перевода
Виталий Махлин
Уроки обратного перевода
(с немецкого)
В дискуссии «Кризис эстетики?», состоявшейся до и
опубликованной после августовских событий 1991 г., автор
этой книги, Александр Викторович Михайлов, среди
прочего сказал:
«Сам живой человек, это удивительное произведение истории,
культурной истории, с его исторически сложившимся
самопостижением, - вот основание для науки эстетики и даже эстетики, читаемой
с кафедры»1.
Человек как произведение истории: не сконструированный
теоретически-идеально, но «живой»; не производный от и не
предустановленный для истории, но лично устанавливающийся и
участвующий в значимом для него самого бытии-событии, со своими
«исторически сложившимися» презумпциями и предпочтениями,
предвосхищениями и предрассудками, авторитетами и приоритетами - вот
здесь (а не где-либо) и вот так (а не иначе): как это возможно? Под
знаком этой мысли и этого вопроса стоит если и не все написанное
Александром Викторовичем, то все же те именно его работы, в
которых проявляется преобладающий теоретический интерес, интенци-
ональная доминанта Михайловского мышления в его проблемно
узнаваемом облике; исследования и переводы, собранные в этой
книге (как и название ее), дают представление как раз об этом
своеобразном облике.
Методически более надежный способ не оставить чужой вопрос на
произвол судьбы, не отдать чужую мысль на откуп вкусам, о которых,
как говорится, не спорят, - это попробовать удержать помысленное не
нами, разделить чужой вопрос во встречном напряжении, поставив
под вопрос общую проблему. Попробуем принять всерьез слова о
человеке как «удивительном произведении истории», удивившись
человеку, которому принадлежат эти слова, - германисту, историку
культуры, русскому переводчику: ведь и он тоже был некоторым
созданием истории в Михайловском смысле — «произведением»,
авторизованным, что ни говори, определенным временем в самом своем
персонально единственном авторстве и «самопостижении».
527
Парадокс филологии
Первый повод удивиться живому человеку и живой мысли - тот, что,
живя, казалось бы, «от себя», мы вживлены и движимы в так
называемом духе не произвольно собой, но тончайшей социокультурной пнев-
мой сознания, исторически сложившейся и потому в принципе
узнаваемой, поддающейся усмотрению и пониманию. Здесь не так важно,
каким словом именовать эту духовно-историческую среду сознания2 ;
важно то, определенность чего мы примем в случае A.B. Михайлова за
такую «среду».
Ему было 30 лет в 1968 г.; и, однако, ни его, ни, скажем, С.С. Аве-
ринцева, язык не повернется назвать «шестидесятником», хотя и не
потому, что это не так. Современники, люди одного поколения, живут
одновременно в одном и в разных мирах и временах, дышат одним и тем
же и все же не одним и тем же «воздухом». Если спросить, в
соотнесении с чем вне себя нужно понимать и оценивать, в самом общем виде,
склад мышления A.B. Михайлова, то такою творческой
средою-сообществом (и фоном восприятия), скорее всего, окажется филология.
«Филология» не как определенная научная дисциплина, отличная от других
наук о «культурной истории», но скорее как гуманитарный принцип, не
всегда теоретически, но фактически всегда находившийся в
конфликтных отношениях и с философией, и с теорией, и с понимаемой в духе
естествознания «научностью». Уместно отдать себе отчет в том, чем был
этот конфликт конкретно в советских условиях, а еще конкретнее - в
ситуации, так сказать, советского постмодерна 60-80-х годов, т. е. уже
не «во льду», но еще под ярмом вероучительной «научной идеологии»,
которую Г.П. Федотов в свое время окрестил, имея в виду своеобразную
почвенность русского коммунизма, «новой богословской школой»3.
Когда сегодня, в заметно иной и незаметно той же самой научно-
инонаучной ситуации, пытаешься понять, каким образом и почему
работы A.B. Михайлова, С.С. Аверинцева, МЛ. Гаспарова, Д.С.
Лихачева, С.Г. Бочарова, Л.М. Баткина, Ю.М. Лотмана и других
литературоведов, историков культуры, семиотиков оказались у нас в 70-е годы и
позднее своего рода филологической нишей внутри исчерпавшей и
пожравшей себя «богословской школы», то приходится иметь в виду, по
меньшей мере, два взаимосвязанных фактора в истории новейшей
русской гуманитарии.
Первый фактор - негативный: философский «переход от мира
науки к миру жизни»4, о котором говорит Г.-Г. Гадамер в обращении «К
русским читателям» как об основном событии в западной мысли
XX в., - в русской философии не произошел ни в советском
материалистическом, ни в религиозном идеалистическом мечтательстве «о
главном». Это означает, что так называемая смена парадигмы
по-настоящему не могла быть осмыслена и даже осознана у нас в отношении
гуманитарного познания — исторического опыта как такового и в
отличие от так называемых опытных наук5 . В условиях нового
средневековья и нового богословия - филология (A.B. Михайлов, как я
помню, предпочитал более модернизованный, неокантианский термин
«науки о культуре»), имея историческую предметную ретроспективу,
528
не имела ни исторической, ни теоретической перспективы, кроме той,
которую давало известное обратно-богословское «мировоззрение».
Здесь, как всегда, частный русский случай был только крайним —
наиболее идеальным и наименее цивилизованным — выражением
общеевропейской ситуации, когда единство филологии, как гуманитарно-
гуманистического принципа «наук о духе», было, по точной
констатации С.С. Аверинцева, «взорвано во всех измерениях»6.
Но и обратно: конфликт, по терминологии Джамбаттисты Вико,
между «Философией» и «Филологией», между истинами всеобщего и
необходимого разума, с одной стороны, и истинами достоверности и
здравого смысла - с другой, между «verum» и «certum»7, - заложенная
в природе вещей гетерогенность человеческого мышления обернулась,
в отдельно взятом советском случае, трагикомедией исторического
мышления в целом; так стало басней глубокомысленное утверждение
Августа Бека, последователя Шлейермахера: филологическое
мышление, в отличие от всякого иного, - это «основной инстинкт
образованных народов; φιλοσοφείν (философствовать) может и
необразованный народ, но он не может φιλολογειν (заниматься филологией или,
иначе, любить слово. — В.М.)»*
Во-вторых, «смена парадигмы» в русской гуманитарии, в
противоречие и в подтверждение только что сказанному, произошла и у нас (в
10—20-е годы) — не столько там, где «философствовали», сколько там,
где «любили слово», т. е. в историко-филологической органике и
органоне гуманитарного мышления с его особой логикой встречной
историчности. Именно в России, где глобальные смены исторических
циклов, похоже, регулярно принимают характер национального бедствия
(так сказать, «дефолта»), борьба за логос против «логоцентризма»
началась едва ли не раньше, чем на Западе, и, главное, органически
вырастая из более общей у нас с Западом в начале XX в. научно-инонаучной
проблематики. В стране, в которой и до, и после Революции имели
обыкновение смешивать историю с историософией, а историчность
реального мира жизни - с формальным историзмом в духе XIX в., уже
анахроничным, зато радикализованным в духе
славянофильски-западнической мессианской утопии, свободной от нечистот мира сего (как и
подобает в «Республике Платона»), - у нас в свое время с большей или
меньшей отчетливостью определилась новая историческая задача,
которая с такой остротой и нудительностью не переживалась, не
выражалась и не формулировалась уже никогда - ни в прежние, ни в
последующие времена. Задача, с разной степенью адекватности и научности
осознанная в России в первые пореволюционные годы именно
филологами (и философами как филологами), заключалась в том, чтобы
поставить под вопрос историю всех так называемых традиций и через это
спасти их от них же самих — от «Кащеевой цепи» прошлого, по
выражению М.М. Пришвина. Задача была теоретически та же, а
нетеоретически не та же самая, что вскоре будет формулировать ранний
М. Хайдеггер в своей программе «деструкции» западной метафизики;
в России, как нигде буквально, нужно было спасать историческое
прошлое и самый принцип историчности от всеразвоплошающего фу-
туристически-платонизирующего суда-расправы над воплотившейся
529
историей — суда, чинимого, по выражению О. Мандельштама,
«всепожирающим и голодным до слов мышлением»9.
Вообще тогда, в «столетнее десятилетие» (выражение Е.
Замятина) 1914-1923 гг., русская гуманитарная мысль в некоторых своих
проявлениях встала настолько «с веком наравне», что уже не
подражательно, но с научно-теоретической зрелостью, самобытно и
даже с опережением взялась за разработку только
подготавливавшегося тогда на Западе соединения «критики исторического разума»,
запрограммированной В. Дильтеем, с феноменологическим
возвращением «к самим вещам», а также с «лингвистическим поворотом»
в так называемой философии языка — направление
историко-филологической (герменевтической) ревизии «Разума», теоретического
концепта «теории». Достаточно назвать в этой связи М.М. Бахтина
и Г.Г. Шпета, культурфилософскую прозу О. Мандельштама, идею
новой научной парадигмы — «доминанты на лицо другого» A.A.
Ухтомского, национально-персоналистическую программу прорыва
«Кащеевой цепи» в поисках исторического сыновства и в критике
формалистически -утопических изнанок старого мира - в
новаторской прозе М.М. Пришвина. Когда A.B. Михайлов в своей статье об
А.Ф. Лосеве ставит в связь, казалось бы, такую специальную
филологическую вещь, как терминология, с глобальным процессом «ис-
торизации нашего знания»10, то на этом частном примере
достоверно заявляет о себе событие, одним из самых ярких и теоретически
чутких участников которого в нашей стране (но уже в другое время)
был, конечно же, сам Александр Викторович.
Это событие достаточно парадоксально: подлинными воспреемни-
ками магистальных (а не периферийных) тенденций в философии
XX в. - при всех необходимых оговорках и неизбежных, к счастью,
исключениях - были и остаются у нас по сей день скорее филологи -
литературоведы, критики, историки культуры, переводчики-толмачи11.
Оба зафиксированных культурно-исторических фактора и
обусловили, надо полагать, духовно-исторический парадокс, в соответствии
с которым в научном, как отчасти и в общественном, сознании
эпохи, именуемой «застоем», смог начаться и состояться на, так сказать,
легально-неофициальном уровне (нишеобразно) некий сдвиг или
поворот, противоположный и противостоявший как бы общему
положению вещей. Не философские или исторические науки, а менее теоре-
тизированные дисциплины, филологически укорененные в иных
культурных мирах (т. е. в иных мирах исторического опыта жизни),
оказались у нас реальным противодействием тому, что A.B. Михайлов
называет в этом томе своих работ «модерноцентризмом»12.
У него самого можно найти, по меньшей мере, два
научно-продуктивных и ярких определения филологии, из которых ни одно не является (и
не стремится быть) «определением» филологии и оба уязвимы в научном
отношении, хотя и по разным причинам.
Метод гуманитарных наук, соответствующий их историко-интер-
претативной природе, в противоположность даже не столько «наукам
о природе», сколько тоже по-своему гуманитарному и историчному
«модерноцентризму», Михайлов, как известно, назвал — с не всегда
530
свойственными его лавинообразно растекающейся мысли ясностью
и отчетливостью- «обратным переводом»13. Полемическая
односторонность этой формулы будет тематизирована ниже; но в ней
схвачено как раз то, что практически связывает идею «филологии» с
идеей «перевода» — пересказа, передачи, переложения, переосмысления,
воспроизведения-воссоздания «своими словами» уже сказанного, по-
мысленного, созданного кем-то и когда-то до нас, другими. Фр. Шле-
гель в заметках к своей «Философии филологии» называет переводы
«филологическими мимами»14. Но главное, что понимание историко-
культурного исследования (дела филологии) как «обратного перевода»
само по себе может рассматриваться как более или менее удачный
перевод (с немецкого) знаменитого герменевтического определения
филологии, данного упоминавшимся выше А.Беком: «познание
познанного» (Erkenntnis des Erkannten)15. Такой перевод, заметим сразу, - не
только «обратный»; ведь идея, заключенная в Михайловской сжатой
формуле и методически утверждающая необходимость некоего, по-
хайдеггеровски выражаясь, «КеИге»-поворота, возвращения или
обращения, тем не менее заявляет о себе и переживается (если и не
осознается) как нужда и как задача. Иными словами, здесь имеет место не
только ретроспектива, но и перспектива; а всякая реальная, практи-
чески-нудительная, задача (даже в филологии) событийно обращена
все-таки не «назад», а «вперед»...
Как бы там ни было, читатель этой книги, где
литературно-теоретические и историко-культурные размышления автора соседствуют с
его переводами (естественно перетекая в них и в них как бы
утверждаясь), может с большей определенностью судить о том, какие
теоретические традиции питали мысль Александра Викторовича, а равно и
почувствовать отмеченный парадокс, «удивительным произведением»
которого, ни на кого персонально не похожим, он сам, Михайлов,
похоже, и был.
Ведь «любовь к слову» по своей фактической
заинтересованности, по характеру и направленности своего внимания не столько
«теоретична», сколько «практична»: она в принципе реагирует не на
«общие слова», а на событийные подробности исторически
всесильного бога деталей, на такую, опять по-хайдеггеровски,
«герменевтическую фактичность», на которую теоретические обобщения (тем
более осуществляемые с исторической дистанции) вообще не
реагируют - «в упор не видят». Осознание этого в современной
западной философии как бы заново открыло ей ее же историю. У нас же,
напротив, процесс «трансформации философии»(К.-0. Апель),
насильственно прерванный, действительно, «в свое время», -
фактически выпал из времени, а потому и потерял смысл для
«философов» и «теоретиков» — навечно ослепленных счастливых граждан
платоновской республики, описанных в русской прозе, страшнее и
смешнее всего Андреем Платоновым.
Еще раз: смена гуманитарной парадигмы в советское время могла
быть воспринята скорее всего филологами, как бы они ни
назывались - «литературоведами», «искусствоведами» или просто
«переводчиками». Филолог, т. е. переводчик-герменевт, по складу своей мысли
531
и по сути своего дела, лучше подготовлен к встрече с другим,
«иностранным» языком и миром понятий16.
Другое неформальное михайловское определение филологии
настолько же удачно, насколько непритязательно; его стоит извлечь из
предисловия к книге покойного пушкиниста М.Ф. Мурьянова - так
оно хорошо и «питательно»17.То, что теоретически можно сказать о
филологии как «познании познанного» с ссылками на немцев, здесь
выражено или, если угодно, переведено совершенно по-русски, не
теоретически, зато внутренне как-то свободно, гибко и с юмором -
просто изнутри общепонятной культурной памяти:
«Даже если бы наша пушкинистика была совсем плоха или даже
если бы она была совсем хороша и довольна собою, - для нее было бы
лишь одно спасение, — да оно и есть: это Пушкин»18.
Так, наверно бы, и надо вообще «переводить», т. е. понимать: через
имманентное узнавание в чужом и другом не вообще чего-то общего и
чего-то другого, но именно своего общего, своего другого. Единственное
«спасение» филолога, как бы плох и, тем более, как бы хорош и
доволен собою он ни был, - это то, что составляет его, как филолога,
очень конкретное условие возможности (в обратном переводе на
немецкий - «историческое a priori»).
И отсюда же, надо полагать, общественно-политический аспект
филологии - особенно в России и особенно тогда, когда
филологическая мимика переводов вступала в сложные, подчас мучительные
взаимоотношения с вероучительно бдящей цензурой. Поистине толмач в
России больше, чем толмач; филолог - это идеолог просто потому, что
он по роду своей деятельности поставлен русской культурной
историей на защиту реального мира говорящей и мыслящей жизни (в ее
фактической «неофициальной» значимости и бездонной историчности) от
разномастных идеологов «теоретизма» — теоретически чистого,
свободного от земли и истории у-топоса, от того, что Кант по-немецки, а
Достоевский по-русски определяли одним и тем же словом: мечтатель-
ство, Schwärmerey, — от слепой к миру и все более агрессивно мстящей
ему за свою слепоту и бессилие безумной умственной хищи. По
отношению к этой последней мы вправе сегодня снова и по-новому узнать
окрест себя уже давно узнанное и познанное исторически априорным
классиком: Ты, дядюшка, вор и самозванец!.. Самозванство (в немецком,
ницшевски-хайдеггеровском переводе читай: «Nihilismus» — что,
впрочем, в свою очередь, как известно, - перевод с русского) именно у нас,
в «стране философов», оказалось в более благоприятных условиях, чем
у исторически «образованных» (опытных) западных народов19.
Конечно, «филологическая ниша», как специфическая среда
обитания последних советских десятилетий, имела и свою изнанку или,
скажем мягче, - свою тень; это не могло не сказаться при изменении
духовно-идеологической ситуации в начале последнего десятилетия
века. Имя этой тени филологии — «филологизм».
Научная и экзистенциальная серьезно-смеховая драма советской
филологии (как по-особому и нашей философии, историографии,
психологии и т.д. и т.п.) в новых условиях стала явью, и то, что прежде
казалось или было на самом деле противодействием «модерноцентризму»,
532
вдруг обернулось — в науке не меньше, чем в политике и в
общественном сознании, — более глубокой зависимостью от либерально
отторгаемого или ретроградно идеализируемого прошлого, от того, что на
языке упоминавшегося Гадамера называется Wirkungsgeschichte,
«действенная история». Никто, может быть, не выразил с такой остротой и,
пожалуй, надрывом, как A.B. Михайлов, реальные трудности и
опасности, с которыми столкнулась, в ситуации нового «конца века»,
отечественная гуманитария (как везде по-своему и зарубежная). Должны
были рухнуть все Берлинские и иные внешние стены для того, чтобы
науки о культуре вдруг как бы сходу врезались во внутреннюю стену
предпосылок и предрассудков собственной культурной истории -
ближайшей и отдаленной; литературоведы тем меньше стали
контролировать свой предмет - литературу, чем больше сами стали походить
на собственный, все более беспонятный, предмет изучения - на
литературных героев, но уже не в «тексте», а в затексте. Впрочем,
процессы эти начались или подготавливались так давно, что сегодня уже
просто некому помнить или отдать себе отчет в том, когда
собственно советская «действенная история», действуя, как говорится, всерьез
и надолго, привела к духовно-историческому бездействию
(оправданию застоя) уже не «сверху», но «снизу». Вместо «трагедии
интеллигенции», по Федотову, после краха Первой империи, мы получили
«сатирову драму» советской гуманитарии после краха Второй
империи. И тогда даже филология с ее, казалось бы,
обнадеживающе-традиционной практикой «обратного перевода» оказалась незащищенной
и несвободной сама от себя - от собственного двойника и изнанки и
от своего же предмета, потерявшего (одновременно с
духовно-историческим крахом модерноцентризма) свой двойной -
ретроспективно-перспективный - творческий центр, как бы ни называть такой
всегда новый центр исхождения как научной, так и всякой иной
жизненно-практической активности, — «диалогом», «герменевтикой»,
«диалектикой обоюдности», «встречной историчностью» или «познанием
познанного».
То обстоятельство, что Михайлов откровеннее других, но и
мучительней для себя, сумел сказать о таком положении вещей в некоторых
публикуемых в этом томе текстах последних лет своей жизни, как-то
еще связано не вообще с филологией и не с индивидуальным складом
этого автора самим по себе, но с более специальной областью его
научных интересов и переводческих предпочтений, вдумчиво и рельефно
представленных составителем этой книги.
Магистральный сюжет
Теперь, когда читатель имеет фон, вводящий в затекст Михайловских
текстов, в тот «мир жизни» с его почти испарившейся сегодня
атмосферой, которым дышала и одушевлялась, была исторически определена
и опосредована мысль A.B. Михайлова, - можно попробовать
поставить решающий вопрос. Речь пойдет теперь об объективной
значимости этой мысли для нашей гуманитарии на современном этапе ее
развития или, скажем трезвее, - ее наличного состояния.
533
Нетрудно восхищаться и любоваться Александром Викторовичем,
еще проще не принимать (не понимать) у него ничего и, в лучшем
случае, пожимать плечами, недоумевая перед иными пассажами,
извергнутыми как бы в состоянии аффекта (сам он, впрочем, говорил, с
оглядкой на Ницше и романтиков, — об «экстатическом человеке»), а
по-моему, - в состоянии живого ужаса перед надвигающимся совсем не
эстетическим «хаосом родимым». Конец Второй империи (после петровско-
петербургской - кремлевско-советской) Михайлов, похоже, готов был
иногда чуть ли не отождествить с «концом всех вещей»20, — еще один,
особый повод удивиться «удивительному произведению истории».
Вопрос, однако, в другом. Важно назвать и обосновать такую
доминирующую интенцию Михайловской мысли, которая сразу узнавалась бы как
именно ему, автору мысли, принадлежащая, но в то же время как
общезначимая и общепонятная в ее, этой мысли, личном напряжении,
заинтересованности, озабоченности, самоутверждении и самоотрицании.
Отчасти такая постановка вопроса подготовлена С.С.Аверинце-
вым, который на правах коллеги и друга начинает свое вступительное
слово к Михайловским работам, собранным в книге «Языки культуры»,
с определения, тематического места A.B. Михайлова в русской
традиции последних трех веков. Это место - «диалог с Германией», «русско-
немецкая тема» в истории самоопределения отечественной культуры21.
Все упоминаемые Аверинцевым исторические примеры - вехи
перевода с немецкого. В самом деле: мы говорим: «Державин», а,
зная биографию и историю, подразумеваем: «Фридрих»; говорим:
«русские мальчики», а подразумеваем: «Шиллер»; говорим:
«славянофилы», а подразумеваем: «Шеллинг» и т. д., — подразумеваем,
конечно, не в «обратном»(обидном для самих переводчиков) смысле. Ведь
как бы ни оценивать перевод в каждом отдельном случае (включая
такие явления русской мысли, упоминаемые Аверинцевым, как
Бердяев, Лосев, Шпет и Бахтин), - это всегда нашедшие себя (так
сказать, свою подкову) русские люди. Но где не вообще место, но
исторически уместное место A.B. Михайлова в его (и нашей)
современности или, по-немецки, «временности» и «конечности», как
персонально-общезначимого участника и продолжателя «диалога с Германией»?
Какой магистральный сюжет русско-немецкой темы дает основание
предметно говорить о ней сегодня - не риторически и не
эстетически, — на самом деле усматривая в единично-единственном случае
Александра Викторовича подлинную историческую нить и суть дела?
Говоря о «теме» любого высказывания, произведения или
жизненно-личной судьбы, мы обычно лишь предварительно и
приблизительно локализуем то или иное индивидуальное авторство в общеизвестном
и общепонятном («нашем») пространстве-времени. Лицо и голос как
бы допускаются в общий хор «темы», а тема служит фоном понимания
голоса данного «лица». Такой ход мысли, явным образом, необходим,
но недостаточен для ответа на поставленный вопрос о личном,
отвечающем на общий, общественный вопрос, осознаваемый или не осознаваемый
как проблема.
Диалог с Германией - что это могло означать и чем быть на
самом деле после всего, что уже необратимо произошло в стране и
534
что еще предстояло осознать не только в сторону объективного
«вообще», но и в сторону «самопостижения» (в обратном переводе на
немецкий — ключевой инонаучный паратермин философской
герменевтики: «Selbstbesinnung»)?
Ведь увидеть и осознать себя предстояло «после перерыва»,
который — и в этом все дело, потому что история не математика, не
физика и не метафизика! - не был, похоже, ни только перерывом, ни даже
разрывом с прошлым, а чем-то гораздо более жутким и смешным?..
Это еще целая задача — воспринять самих себя на руинах эстети-
ко-риторической эпохи с ее официальным утопическим
исповеданием, - не риторически и не эстетически, «поворачивая взгляд нашего
слуха», по удивительному выражению A.B. Михайлова. Т. е. не в
зеркале идеализирующих «традиций» (или изнаночно-утопического
разоблачения-деконструкции «предрассудков» традиции современными,
как сказано у классика, тупицами прогрессивными), а примерно так,
как сумел увидеть и сказать С.Г. Бочаров по поводу Абрама Терца —
А.Д. Синявского: по уже «размежеванной и перепаханной почве»
подчеркнуто эстетически как бы прогуливается как бы с Пушкиным
антисоветский (и постольку советский и никакой иной)
интеллигент-филолог — «мутант исторический»22.
Актуальный вклад автора этой книги в нашу гуманитарию я вижу в
том, что было и остается по сей день почти уникальным усилием — не
вкладом, но делом его мысли, как исследователя и как переводчика.
Делом, которое методически следует строго отличать от того, что он, как
говорится, «сделал» (или «не сделал»), — только так вообще можно
понять и оценить дело каждого в «общем деле» (не утопически понятом).
Таким «делом», интенциональной доминантой Михайловской
мысли, было возобновление и усвоение, в условиях «мутации» (а не просто
«идеологизации») нашей гуманитарии, не историософски понятой
проблемы истории, как реальной задачи и реального предмета наук о
культуре — наук исторического опыта в объективной ситуации краха
советской модели истории, а тем самым - как бы утраты
исторического телоса, «смысла» вообще.
На этом проблемном фоне «русско-немецкая тема» — не риторика
и не эстетика, а нечто вполне «близлежащее», если только употреблять
это слово Александра Викторовича, родственное языку позднего
Хайде ггера, не «поэтически», а «прозаически» — поворачивая взгляд
нашего слуха на себя. Ведь задача, как сказано, в том, чтобы принять всерьез
слова о «самопостижении» человека, который, с одной стороны,
является достойным удивления «произведением истории», а с другой -
исторически не совпадает с собою же в своей способности осознать и
перерасти свою, так сказать, «исторически сложившуюся» ветхость —
«ветхую соборность», как выразился однажды совсем не
символически теоретик русского символизма Вяч.И. Иванов23.
В той мере, в какой мы сегодня в состоянии отдать себе отчет в том,
каким образом и на каких основаниях ключи исторического мышления
остаются в немецких замках, — постольку мы, возможно, сумеем оценить
и разделить основную направленность теоретических интересов
A.B. Михайлова. Он на разные лады говорит (особенно в текстах, писав-
535
шихся, как бы вдогонку монографии об исторической поэтике, т. е.
вокруг 91-го года) - о «новом историзме». Новый историзм как теоретико-
методологическая парадигма, как самопостижение «процесса историза-
ции всего знания»24 в науках о культуре - вот, очевидно, подлинная ин-
тенциональная доминанта (внутренняя тема) Михайловской мысли, год
от года все настойчивее заявлявшая о себе и явно возобладавшая в
незавершенной книге о Вильгельме Дильтее и его школе, а также в
примыкающих к ней по магистральному сюжету статьях, выступлениях и
переводах последних отпущенных Александру Викторовичу лет.
Мы здесь не можем, конечно, сколько-нибудь детально
анализировать сказанное Михайловым в той или иной связи по поводу
запрограммированного им для постсоветского литературоведения и других
наук о культуре перехода к «новому историзму». Нас интересует лишь
соотношение этого понятия с магистральным сюжетом немецки-цен-
трированной смены философско-гуманитарной парадигмы в XX в., т. е.
«русско-немецкая тема» в ее современном звучании.
В отличие от идеи «обратного перевода» и тем более от понятия
«модерноцентризма» (которое, в качестве модернизованной
постсоветской версии традиционной советской критики «модернизма»,
должно казаться многим убедительно-передовым), термин «новый
историзм», выражаясь современно, почти не имеет шансов у наших
постсоветских современников, вызывая, по иронии истории, скорее
американские, чем немецко-русские ассоциации (да и те, конечно, без
особого энтузиазма). Между тем «новый историзм» - это опоздавшая
на 70-80 лет и потому опережающая сегодняшний день попытка
герменевтической трансформации концепта «историзм» -
мыслительного образования, теоретически обоснованного на
опытно-исторической почве германского идеализма и романтизма. Историзм вошел
в плоть и кровь русской науки и общественнного сознания XIX в.,
поэтому он сыграл достаточно роковую роль в следующем, в
советском столетии именно в качестве исторически сложившейся
традиции, цепко державшей в своей власти даже тех, кто, начиная с
Ницше, был одержим отрицанием историзма...
A.B. Михайлов на разнообразнейшем материале старается показать,
что традиционный историзм - это не только некоторая «идея» и не
просто то, что, по распространенному выражению, «было давно и
неправда». Историзм сам исторически возник и исторически же менялся;
как тоже произведение истории, авторизованное философской
рефлексией и авторитетом Гегеля, он на протяжении XIX и XX вв. оставался
продуктивной традицией лишь постольку, поскольку был
понуждаем—в Германии в большей мере, чем где-либо, - ставить себя под
вопрос25. Не будет преувеличением сказать, что Михайлов переводил с
немецкого на русский, среди прочего, именно магистральный сюжет
гуманитарного познания последних двух столетий, стараясь
восстановить, в «перепаханном» культурно-речевом сознании, распавшуюся
связь времен. А это значит - связь с магистральным сюжетом того
самого «Гейста немцев», без которого довольно наивно, хотя и не без
резонов, надеялись «обойтись» наши формалисты 20-х годов и с
которым еще более наивно «обошлись» у нас в последующие три десяти-
536
летия, когда гегелевское видение мирового духа на коне (1806),
раньше или позже покинув «загнивающий» Запад, обернулось
неузнаваемо-узнаваемой мечтой «опоздавшей нации» (так определил
положение дел в Германии Хельмут Плесснер в середине 30-х годов) -
ставшей как бы былью русской сказкой, на которую с благоговением или
страхом как бы смотрит весь мир, но которая была только
пушкинской пародией (Уж не пародия ли он?) и достоевским фантастическим
реализмом - «грандиозной карикатурой на западную цивилизацию»,
как показал Ойген Розеншток-Хюсси26.
...«Немецкое» глубже других иностранных влияний определило
русский научно-теоретический язык понятий и, еще глубже, — то,
что можно назвать внутренней формой мыслительных созерцаний.
Этот принципиально нериторический язык «само собой
разумеющегося» (в обратном переводе с Михайловского словоупотребления на
современный немецкий получаем гадамеровский философский
прозаизм: «Vorurteile»- «пред-рассудки», пред-мнения, пред-посылки,
пред-восхищения и т.п. — трансцендентально-историческое a priori
«мира жизни») даже в научных кругах подчас уже не помнит ни
авторства, ни родства, исторически действуя теперь в качестве
худшего — ибо не осознаваемого по месту рождения и подробностям
биографии — «предрассудка».Не оттого ли именно новая немецкая
философия, внешне безпрепятственно переводимая в наши дни на
русский, в большей мере, чем какая-либо другая современная
философия, остается внутренне почти непереведенной или непереводимой
на живой русский язык?27
Замечательный критик поколения «столетнего десятилетия»,
Владимир Васильевич Вейдле, писал в середине XX в.: «Русская философия
начинается с Шеллинга и Гегеля, русская наука — с западной науки.
Даже русская богословская мысль столько же исходит из собственной
восточно-христианской традиции, сколько из традиции западной
философской и богословской мысли. Дело тут не в нашей переимчивости
и не в западном засильи, а в том, что на Западе и в России XIX век —
един»28=.
В отличие от людей поколения и склада Вейдле, для которых такое
единство было ни больше ни меньше, как предпосылкой, - для
автора этой книги (как и для нас с вами, любезный читатель) оно просто-
напросто не было дано; в лучшем случае, оно было задано; но и как
«заданность» оно нуждается еще в целом систематико-герменевтичес-
ком обосновании, как и в последующем менее специальном
«доведении до ума» образованной публики. Работу в направлении такого
переобоснования и переобразования понятий (перевода), как
представляется, и начал A.B. Михайлов. Он поставил дело своей мысли, диалог с
Германией, как грандиозную задачу соединения русской традиции
«исторической поэтики», возникшей тогда, когда век для Россини и
Германии был един (почему и сопоставление научной программы А.Н.Ве-
селовского и «Поэтики» В. Шерера не кажется натянутым), и
германского проекта самокритики философского разума (не «ихнего», а
собственного «Гейста»). Решающие фазы и драмы магистрального сюжета
имели место тогда, когда век для Германии и России уже не был един —
537
и постольку связал обе нации «Кащеевой цепью» неспасенного,
взбунтовавшегося прошлого, ближайшим задним числом - как раз XIX в., о
котором A.B. Михайлов, как известно, много и напряженно
размышлял29.
Магистральный сюжет, о котором читатель может судить в
особенности по переведенным Михайловым «Кассельским докладам» М. Хай-
деггера (1925), берет свое начало (хотя и «начало», и «сюжет», и
персоналии сюжета не следует отождествлять с сутью дела) от В. Дильтея
(1843—1911) и через феноменологию Э. Гуссерля (1859—1938) ведет к
самому Хайдеггеру( 1889—1976), ученику Гуссерля, а от того — к его
ученику, поныне здравствующему Г.-Г. Гадамеру (род. 1900). Последний, как
мы помним, и определил, обращаясь к новым для него русским
читателям 1991 г., основное и открытое событие магистрального сюжета
(«переход от мира науки к миру жизни» в самом научно-философском
сознании и познании), т. е. смену гуманитарной парадигмы. «Новый
историзм» Михайлова соотносится именно с этим немецким сюжетом
в целом ряде взамосвязанных мотивов и акцентов. Я позволю себе
указать только на три из них, одновременно подготавливая вопрос о
внутренних трудностях разрабатывавшегося A.B. Михайловым историко-
культурного метода. Вопрос собственно в том, насколько метод
«обратного перевода» совместим с концепцией нового (герменевтического)
историзма, т. е. можно ли считать этот метод обоснованной позицией,
а не только оппозицией, «модерноцентризму».
Во-первых, у наследников немецкой классической философии,
немецкой «исторической школы» и немецкой классической
филологии XIX в. дело идет не об ограничении исторического мышления, а,
наоборот, о его существенном углублении, радикальной
конкретизации и деэстетизации. Истории реально принадлежит также и тот, кто
ее изучает, со своим собственным, исторически сложившимся,
«близлежащим» и «само собой разумеющимся» - общественным
миром жизни в горизонте незавершенной современности; отсюда
акцентированный, в частности, Хайдеггером (но далеко не им
одним) приоритет бытия истории (Geschichte) над историографией
(Historie). Здесь правильнее, наверно, говорить не столько об
«обратном», сколько о «встречном» переводе идеи истории и концепции
истории на немодерноцентрический язык «современности». Иначе
говоря, магистральный сюжет неклассической немецкой философии,
филологии и смежных наук духовно-исторического опыта толкует
о таком поворачивании взгляда нашего слуха на себя
(«Selbstbesinnung»- «самопостижение»!), при котором мы, «новые», не
столько модернизируем историю, сколько по-новому открываем и
понимаем себя и свою современность не бесконтрольно «в себе», а в
прогрессирующей ретроспективе давнего и иного, откуда, по
выражению Э.Ю. Соловьева, «прошлое толкует нас»30, будучи
освобожденным от эстетизованно-дистанцированных, «историцистских»
представлений о нем как в научном, так и в общекультурном
сознании последующих поколений. В итоге немецкой критики
историзма последний скорее выиграл, чем проиграл, за счет разработки и
обогащения постклассического и постидеалистического понятия
538
«историчность» (Geschichtlichkeit), терминологически
закрепленного и авторизованного В. Дильтеем31.
Во-вторых, от Дильтея же идет принципиальная переоценка и
переобоснование «второго полушария интеллектуального глобуса»32 —
всей области духовно-исторического опыта, как специфического
предмета гуманитарных наук в их методическом отличии от
естествознания и, главное, от естественнонаучной модели «опыта» (ею
руководствовался и Кант). Отсюда, в дополнение к трем кантовским
критикам, дильтеевская четвертая — «критика исторического разума».
Предмет гуманитарных наук — историческая природа человека и
общества - не есть объект конструирующего, экспериментирующего
познания (пассивный, безопасный и безответный «материал для
оформления», как умышленно будут настаивать в годы Русской
революции наши формалисты); мы находим (исторически преднаходим)
этот предмет как другого для нас, но соприродного, сочеловеческого по
миру жизни и в принципе поддающегося несциентистскому способу
познающего разумения - «проникновению» (Innewerden) и
«пониманию» (Verstehen)33.
Как всякий значительный шаг вперед или новое слово в истории
духовно-исторического познания, начатая Дильтеем (и многими
другими) «смена парадигмы» была, конечно, не утопическим «началом»,
а возобновлением и развитием, в определенных исторических
условиях, давно начатого и известного («познанием познанного»); вспомним
того же Дж.Вико, на которого опирается Дильтей и из которого, в
определенном смысле, исходит и Гадамер в своей главной книге.
Философская герменевтика, которая учит не только и не столько
«обратному», сколько «новому» (обновленному) переводу старого и чужого,
сама собой воплощает идею новой парадигмы (встречная
историчность «понимания») в собственной магистральной истории. Дело идет
здесь о живом, а не мертвом человеке как «произведении истории»;
поэтому все подлинные акты понимания-перевода имеют не
полукруговую (регрессивно-реактивно-ретроспетивную - «обратную»)
структуру, а совершенно круговую структуру (прогрессивно-перспективную).
Такова сплошная историчность - всякий раз уникально
возобновляемая и воспроизводимая, по-кантовски (практически) расширяющая
область уже, казалось бы, готовых понятий и "предрассудков" -
герменевтическая историчность «мира жизни». Мира, который реально,
конечно, не повторим и не переводим «обратно», в свое прошлое
(разве что в филологической утопии), подобно тому как было бы нелепым
или умышленным произволом, скажем, немецкий термин «науки о
духе» вернуть обратным переводом «на свое первоначальное место» на
том основании, что-де само это слово «первоначально» было, как
известно, всего лишь переводом с английского и чем-то, конечно,
«иным»34.
В-третьих, наконец, необходимо остановиться на таком еще
аспекте магистрального сюжета, который существенно проникал и определял
научные интересы A.B. Михайлова в целом и имеет особое отношение
к настоящему изданию его трудов. Это — проблематика искусства,
точнее, взаимосвязь философской эстетики, поэтики и истории культуры.
539
Читатель должен знать, что в план книги Михайлова «Дильтей и
его школа» входил и выполненный автором перевод значительной
работы философа - «К построению поэтики» (1887)35; соответственно в
замысел этого Михайловского тома, названного составителем
«Историческая поэтика и герменевтика», входила публикация перевода,
которая, к сожалению, не смогла состояться. Тем более уместно сейчас
вернуться к тому, с чего мы начали, - к мысли Михайлова в
дискуссии о кризисе 1991 г. об «основании науки эстетики и даже эстетики,
читаемой с кафедры». Ведь это основание, как дает понять наш автор,
скрыто не в науке самой и не в искусстве самом, а в исторической
природе «живого» — т. е. смертно-вечного — человека.
Изнутри своей конкретно-исторической и кризисной ситуации-за-
текста Михайлов фактически возобновляет (а не «модернизирует» -
дьявольская разница!) центральный вопрос германской
идеалистической классики, от Винкельмана до Гегеля, - вопрос о «humanitas», уже
возобновленный за 100 лет до него в немецком же магистральном
сюжете постидеалистического и постметафизического мышления, от
Дильтея до Гадамера. Такое герменевтическое возобновление, или
«познание познанного», на исходе почти 100 лет советского одиночества
мог инициировать только германист, эстетик и филолог-классик в
одном лице; ведь русский диалог с Германией в более глубоком
историческом смысле подразумевает, предполагает или предвосхищает
немецкий диалог с античностью - с «греками» как «вызовом для нас», по
выражению Хайдеггера. Вызовом — вспомним название труда
А.Ф. Лосева— «истории античной эстетики»36.
Магистральный сюжет, который нас здесь интересует постольку,
поскольку он явным образом стоял в центре Михайловского замысла о
Дильтее и его последователях в XX в., исторически и по самой сути дела
нужно увидеть и понять как немецкий ответ на вызов античного
наследия. «Поэтика» В. Дильтея (в дословном переводе — «Строительные
камни поэтики») - тоже такой ответ (один из многих за более чем два
столетия): по-дильтеевски осторожный и предварительный, но все же
ответ на исторический вызов античной классики (в первую очередь,
конечно, «Поэтики» Аристотеля).
Георг Миш, автор классической «Истории автобиографии», ученик
(и зять) Дильтея, писал в своем ставшем этапным для изучения диль-
теевского наследия предисловии к 5-му тому издававшегося под его
редакцией «Собрания сочинений» философа (1923) по поводу
«Строительных камней...»: «Это сочинение он (Дильтей. - В.М.) хотел
переработать в некоторое новое целое. Поэтика в соединении с теорией
истории была зародышевой клеткой его идей о жизни и
жизнепонимании, он ее все время подпитывал и развивал дальше»37. Замысел
Дильтея — соединить теорию поэзии с теорией истории, заново найти и
познать познанное Аристотелем и всей классической традицией - вот
что, похоже, действительно отвечает интересам и задачам A.B.
Михайлова, как переводчика и исследователя Дильтея.
Вся та нелицеприятная критика современного отечественного
литературоведения и гуманитарии, которую читатель найдет
практически во всех вошедших в этот том текстах 90-х годов, не имеет ничего
540
общего с поверхностным самодовольным критиканством, в известный
период захватившим у нас как бы передовые позиции даже в научной
периодике, - с «пенкоснимательством и западническим чванством,
никогда не исчезавшим из русской действительности», как писал в
свое время В.В. Вейдле38. Тем глубже и «питательней» эта критика в
объективной ситуации, как выражается Михайлов «утраты само собой
разумеющегося». Ситуации, когда даже эстетика, читаемая с кафедры,
лишившись своей советской, слишком ветхой соборности и когда-то
переведенной с немецкого презумпции-традиции всего прекрасного и
высокого, — эстетика сейчас вообще, как известно, может остаться без
кафедры; бессильная умереть и возродиться (всерьез ответить на
вызов времени), она вынуждена только переодеваться в самые передовые
сегодня, — так сказать, обратные — сугубо «духовные» одежды,
принимая за лицо традиции ее обратные общие места39.
Конечно, «опоздавшее» возобновление диалога с магистральным
немецким сюжетом, которое представляется мне делом мысли и
жизни A.B. Михайлова, не могло не быть чем-то достаточно одиноким и
почти безответным по научным последствиям, нередко темноватым в
себе и даже «обратным» — в глубоком инонаучном смысле обратного
жеста, который знает за собой известный «положительный герой»
Достоевского. Зато в Михайловских вариациях русско-немецкой темы
можно заметить тенденцию, которую трудно переоценить и о которой
обязательно надо сказать в заключение. Это — попытка вступить в
разговор, где нас, как говорится, «не стояло», с живым убеждением в том,
что прошлое отечественной гуманитарии, как и великой русской
литературы, и даже «советское» прошлое, — не только то, чем они
кажутся на отстраненный и отстраняющий, идеологизированный и теорети-
зированный взгляд.
A.B. Михайлов говорит (в предисловии к книге о Дильтее), что
«немецкое» для него — не самоцель. И это правильно. Нельзя
пройти чужой путь, можно пройти только свой путь. Отсюда особый
интерес Михайлова к таким мыслителям-гуманитариям, как А.Ф. Лосев
и Г.Г. Шпет, М.М. Бахтин и Л.В. Пумпянский, т. е. к особой и
уникальной в русской науке духовно-исторической генерации
исследователей, вышедших из символизма и уходивших от него каждый по-
своему на несоветских основаниях и путях.
О «преодолевших символизм» в русской философии и русской
филологии мы сумеем составить себе ясное представление лишь тогда,
когда со своего исторического места сможем посильно возобновить их
усилия, более или менее общие у них тогда далеко не с одной только
«школой Дильтея». Явным образом то были усилия освободиться от
влияния, как писал Г.Г. Шпет в 1922 г., «философов-командиров»
германского идеализма, утвердивших, в тесной связи с романтизмом,
монологический культ «внутреннего» (Innerlichkeit), т. е. не «овнешнен-
ного» в жизни и бытии сознания и духа40.
Осознать те усилия как незавершенное в своем смысле и своем
бытии общее дело отечественной культурной истории - куда как трудно
сегодня. В докладе «Хайдеггер и греки» (1989) Гадамер говорил, что
«всякое мышление всегда должно будет при выходе из своего собствен-
541
ного родного языка определять величину открытости миру»41.
Отечественная гуманитария, для которой A.B. Михайлов много сделал и
еще больше мог бы сделать, находится сейчас, со всей страной, при
очередном русском и мировом «выходе из своего собственного
родного языка», т. е. из своей, исторически сложившейся, относительной
идентичности. Почти прекратилась либеральная болтовня о «диалоге»,
потому что диалог, задача всякий раз заново самоопределяться в
своей «открытости миру», сделался, без всякой риторики, вопросом
исторической жизни и смерти.
Прочитавший эту книгу литературовед, филолог, гуманитарий
найдет чему поучиться у ее автора, переживавшего и осмыслявшего
ситуацию в нашей науке и мире жизни именно так - как личное
испытание и как общую задачу.
Примечания
1 Михайлов A.B. Эстетика и оживление человека. - «Вопросы философии», 1991,
№ 9. С. 5.
2 Как бы научнее (объективнее) сказать: «дискурс»; но точнее сказать
просто: «воздух» или (но опять не по-русски): «социальная атмосфера». Это
серьезная, если не роковая, проблема нашего речевого мышления и
сознания, которую с особой остротой претерпевает переводчик: отчего это
мысль, естественно проистекающая из духа русского языка (т.е.
исполненная памятью опыта), выигрывая в глубине, проигрывает в
«образованности» (переводимости на научную и общекультурную общезначимость) и
вытесняется «образованщиной»? О духовно-исторической среде сознания с
гениальной необязательностью писал на полях чужой книги
физиолог-богослов A.A. Ухтомский: «С кем поведешься, таким будешь и ты сам.
Собеседование с Церковью Христовой не может не оставить на тебе того
воздуха, каким живет и она, и ты само собой понесешь его к встречным
собеседникам обыденности. Люди будут чувствовать то новое и совершенно
особое, доброе, что переносится к ним. Но это не от тебя, а от того воздуха,
в котором ты побывал и которым обвеялся». См.: Ухтомский A.A. Из пометок
на полях книг личной библиотеки(публ. В.Е. Хализева) //»Философские
науки», 1995, № 1. С. 204. То же, но строже у М.М. Бахтина (при
определении «жизни-веры»): «Наивна жизнь, не знающая воздуха, которым она
дышит». См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.М., «Искусство»,
1979. С.127.
3 Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции (1926)// Федотов Г.П. Судьба и грехи
России.Т.1,СПб.,1991.С95.
4 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., «Искусство», 1991. С. 7.
5 Философско-мировоззренческое выпадение из истории прикрывалось и как
бы компенсировалось у нас еще в 60-е годы официально престижной и
мифологически убедительной идеализацией «науки и техники». Эта мифология, с
ее бэконовским девизом «Знание — сила» и в соединении с провинциальным
убеждением, что «мы впереди планеты всей», пришло в уже очевидное
историческое противоречие с ходом вещей, а равно и с «принципом историзма» -
в 70-е годы. Тогда именно и наступило время филологии, т.е.
историко-культурного замедления и углубления в философски, казалось бы, давно
преодоленную «предысторию человечества». Тогда же в гуманитарию и вообще к
«духовному» потянулись математики, физики, химики, биологи: общественный
идеал — советская эстетическая метафизика европейской «фаустовской
культуры» - покинул соответствующие области. Но изменить более глубокие,
исторически сложившиеся, навыки вне- и антиисторического мышления было уже
трудно.
6 Аверинцев С.С. Филология// «Краткая литературная энциклопедия», т. 7. М.,
1972. Кол. 979.
7 То, что на языке Фр.Шлегеля называлось «философией филологии» и что в
XX в. столетии развернулось в полномасштабное преобразование так
называемой классической немецкой философии и западной метафизики в целом, —
по существу является только развитием концепции «Филологии» Дж. Вико,
как совокупности наук об историческом опыте, имеющем не «разумную»
(идеально-всеобщую), но достоверно-убедительную природу с опорой на
исторически сложившиеся авторитеты и на «здравый смысл» (sensus communis).
Филологию, как «Философию Авторитета», Вико, как известно,
противопоставил картезианству (с его естественнонаучным индивидуализмом и естес-
тенно-монологической «рефлексией»), этой, в тенденции, философской эк-
543
стреме Нового времени, абсолютизировавшей научно-утопический
(теоретический) элемент, присущий философии самой, как «Республике Платона»,
в отличие от более прозаической, но и более живой, действительности
истории - «гражданского мира» (mondo civile). «Философия, — писал Вико, -
рассматривает человека таким, каким он должен быть; таким образом, она
может принести плоды лишь немногим, стремящимся жить в Республике
Платона, а не пресмыкаться в нечистотах города Ромула». — Джамбаттиста
Вико. Основания новой науки об общей природе наций. Москва—Киев,
1994. С. 75.
8 Boeckh Α. Encyclopädie und Methodologie der Philologischen Wissenschaften. 2 Aufl.,
Leipzig 1886. S. 12. Философ Г.Г. Шпет в своей книге «Герменевтика и ее
проблемы» (1918; опубл. 1989-1992) и его ученик, филолог Г.О. Винокур в
незавершенной работе «Введение в изучение филологических наук»( 1944—1945; опубл.
1978), оба цитируют эту мысль при изложении взглядов А. Бека См.: Шпет Г.Г.
Герменевтика и ее проблемы // «Контекст» - 1991/Под ред. A.B. Михайлова. М.,
«Наука», 1991. С. 166; Винокур ГО. Введение в изучение филологических наук/
Сост. и коммент. СИ. Гиндина М., «Лабиринт», 2000. С. 44.
9 Мандельштам О. О природе слова (1922)// Мандельштам О. Слово и культура.
М., «Сов.писатель», 1987. С. 59, По мысли Мандельштама, глобальная угроза -
«Европа без филологии» — для России еще опаснее, чем для Запада: мы можем
оказаться бессильны перед «бесформенной стихией, небытием, отовсюду
угрожающим нашей истории»(там же. С. 63).
10 См.: Михайлов A.B. Терминологические исследования А.Ф. Лосева и истори-
зация нашего знания//А.Ф.Лосев и культура XX века. М., «Наука», 1991. С. 51-
62. Перепечатано в кн.: Михайлов A.B. Обратный перевод. М., «Языки русской
культуры», 2000. С. 485-497.Перепечатываемая в этом томе книга о русской и
немецкой науке о литературе XIX-XX вв.начинается с постановки проблемы
«процесса историзации всего знания».
11 «Начала и концы, — писал A.B. Михайлов, высказывая, что для него
характерно, по частному поводу вдруг — глобальную главную мысль, - это сначала не
теоретическая проблема, но проблема реального исторического опыта». См.:
Михайлов A.B. Предисловие// Мурьянов М.Ф. Пушкинские эпитафии. М., 1995.
С. 7. Когда «проблема исторического опыта» была осознана теоретически как
выходящая за пределы того, что на языке М.М. Бахтина начала 20-х гг.
называлось «теоретизмом», — тогда собственно произошла, в 20-е годы, «смена
парадигмы», не столько в теоретико-познавательном (сциентистском), сколько в
духовно-историческом мышлении.
12 В СССР в авангарде борьбы с культуравангардом парадоксально оказались,
в объективной исторической ситуации постмодерна, самые как бы отсталые
даже среди гуманитариев профессионалы - «античники». По свидетельству
лучших наших филологов-классиков, самый выбор профессии у них в 50-е гг.
был тихим личным дистанцированием от модерноцентризма современности -
отторжением не столько политическим или идеологическим в расхожем
смысле, сколько духовно-историческим, филологическим. М.Л. Гаспаров
вспоминает: «Мы жили, окруженные малоприятной современностью: все, что
выходило за ее пределы, казалось интересным, и чем дальше, тем интереснее...
Древняя история была занимательней: там было меньше обобщающих слов, вроде
"способ производства", и больше увлекательных эпизодов». Гаспарову вторит
С.С. Аверинцев: «Можно сказать, влияние оказывала вся старая культура как
целое... А от противного действовала советская современность, всякие там
споры физиков и лириков и прочая; куда же тут идти, как не в классическую
филологию, если все согласились, что это уж точно что не нужно?» См. взятое
Е. Димитровым параллельное интервью «Филология и поэзия» в газетном
приложении к сборнику в честь С.С. Аверинцеева: «Среща и книга» (София).Ок-
544
томври 1999. С. 16. Парадокс филологии, возродившейся (и возрождавшей) «от
противного», A.B. Михайлов подытожил в своей статье об С.С. Аверинцеве
(1991) со стороны некоторой устойчивой ситуации русского ученого среди
русской жизни: «Чем труднее наука, чем больше затрата сил и средств на ее
освоение, тем серьезнее - в наших условиях - ученый».См.: ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ: В чест
на Сергей Аверинцев. Българо-руски сборник. София,- «Славика», 1999.
С. 150.
13 Эту формулировку A.B. нашел в дискуссии «Личность и общество» в журнале
«Одиссей» (1990). Его выступление, названное автором «Надо учиться обратному
переводу», цитируется в дальнейшем по изданию: Михайлов A.B. Обратный
перевод. М., «Языки русской культуры», 2000. С. 14-16.
14 См.: Friedrich Schlegels. «Philosophie der Philologie»//«Logos», Bd. XVII, Heft 1
(Mai 1928), S. 38. Называя свою мысль «очень продуктивной», Шлегель
добавляет: «Мы собственно еше и не знаем, что это такое — перевод»(там же).
Шлегель обдумывал замысел «философии филологии» особенно интенсивно в пору
сближения с Фр. Шлейермахером (1797), которого он увлек, наряду с другими
своими идеями, задачей перевода на немецкий язык диалогов Платона. Как
известно, задача эта была реализована самим Шлейермахером; идея
«философии филологии» в XIX в. получила развитие в теоретической герменевтике
Шлейермахера и А. Бека.
15 Boeckh A. Op.cit., S. 11. См. в этой связи книгу статей Фритьофа Роди,
редактора «Ежегодника Дильтея», «Познание познанного», в которой
прослеживается история и традиция преобразования философской логики в духе
гегелевского историзма в логику герменевтической историчности - от А. Бека и Ф.
Шлейермахера через Дильтея к Хайдеггеру и Гадамеру, Георгу Мишу и Гансу Липпсу,
а также к Г.Г. Шпету: Rodi F. Erkenntnis des Erkannten: Zur Hermeneutik des 19 und
20 Jahrhunderts. Frankfurt a.Main, 1990.
16 Чем не парадокс: одно из ключевых и поворотных произведений
философской мысли XX столетия, «Бытие и время» М. Хайдеггера (1927), покамест
доступно русскоязычному читателю (во фрагментах или целиком) в переводах двух
филологов - A.B. Михайлова (1993) и В.В. Бибихина (1997); первый, прежде чем
стать доктором филологии и заведующим «сектором теории» в И МЛ И, был
кандидатом искусствоведения, а второй, насколько мне известно, окончил
Институт иностранных языков им. М. Тореза и остается по сей день кандидатом
филологических наук.
17 «Питательными» назвал тексты и само мышление A.B. Михайлова в
телефонном разговоре со мной С.Г. Бочаров.
18 Михайлов A.B. Предисловие в кн.: Мурьянов М.Ф. Пушкинские эпитафии. 19
Только филолог, притом чуткий к современности, мог увидеть и оценить
духовно-идеологическую ситуацию распада советской империи в свете
«семантического кризиса самого языка», происходившего у нас в сталинские времена..Ср.:
«...старые слова, забытые всеми, кроме допотопных интеллигентов (как раз и
окружавших мое отрочество), не подходили к новой действительности, для которой
в наличии был только набор официальных обозначений, альтернативы которым
можно было создавать только общей языковой работой, но таковая была
абсолютно невозможна. Единственной альтернативой официальному языку оставалась
лагерная "феня", или можно было в одиночестве выдумать собственный язык для
индивидуального употребления - занятие, привычка к которому ощутима и у
Солженицына, и у Л. Гумилева, и особенно у Дм. Панина (послужившего моделью
для солженицынского Сологдина)». — См.: Аверинцев С. Сети неба не вовсе пус-
ты»//«Пилигримы», №9(1-7 марта 1991 г.). С. 8.
20 См., например: Михайлов A.B. Нагорная проповедь и конец всех вещей//«Ли-
тературная учеба», 1994, кн. 5. С. 210-218. Как это часто бывает у
по-настоящему незаурядных, крупных людей, почти все наиболее резкие или даже безог-
545
лядные полемические выпады, встречающиеся у A.B. Михайлова как в
публицистике (вокруг 1991 г.), так и в научных работах, как правило, сопровождаются как
бы оговорками или самокоррекцией. Так, порассуждав в связи с
задержавшимся на многие десятилетия появлением русского «Заратустры» в переводе Я.Э. Го-
лосовкера об «экстатической личности» и, конечно же, об «экзистенции»,
Михайлов трезво добавляет: «...экстатическому человеку, который живет
пониманием своих устремлений к высшему и большему и который таким путем
утверждает себя и свой мир перед лицом решительно всех, очень просто сорваться на
крик, истерику и как бы сорваться с цепи: он как-никак должен вытеснить из
мира всех остальных, а такая — пусть внушенная эпохой — задача весьма
двусмысленна». - Михайлов A.B. Вместо предисловия. Несколько слов о книге Ниц-
ше//Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Стихотворения. М., 1994. С. 16.
21 Аверинцев С. Путь к существенному// Михайлов A.B. Языки культуры.
«Языки русской культуры», М., 1997. С. 7.
22 Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М. «Языки русской культуры»,
1999. С. 554.
23 Иванов В. Борозды и межи. М. «Мусагет», 1916. С. 12. У Вяч. Иванова (в
статье «Достоевский и роман-трагедия») ближайшим образом говорится о
«рыцаре печального образа» и об авторской позиции в романе Сервантеса, с которой
«тот, кто посвятил свою жизнь служению не во имя свое, обличается, как
самозванный и непрошеный спаситель мира во имя свое; трагическое обращается
в комическое, и пафос разрешается в юмор» (там же).С точки зрения
«самопостижения» (в обратном переводе с немецкого: «Selbstbesinnung» - слово,
принципиальное для герменевтической традиции в философии, от Дильтея до Гада-
мера; его нужно отличать от более привычного нам «самосознания»,
утвердившегося у нас под влиянием германского идеализма и романтизма образца
1800 г.) способность отнестись к себе всерьез, как ни парадоксально, стоит в
связи с умением посмотреть на себя не с «пафосом», а, наоборот, с юмором,
трезво-прозаически, так сказать, без зеркала.
24 Михайлов A.B. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой
культуры. М., «Наука», 1989. С. 3.
25 См. в этой связи написанную весьма критически немецкую же «Историю
историзма»: Jaeger Fr., Rusen J. Geschichte des Historismus. München, 1992.
Известный филолог-классик Карл Рейнхардт писал (в статье «Классическая филология
и классическое»), что коренной пересмотр самой исторической дистанции
между античностью и Новым временем - научная и мировоззренческая ревизия,
происходившая примерно между 1800 и 1930 годом, - «был возможен и
представлялся необходимым только в Германии» (см.: Reinhardt К. Die Krise des
Helden. München 1962. S. 117), что понятно: ведь диалог с античностью для
германского «Гейста» традиционно означает нечто подобное русско-немецкому
диалогу примерно до 1930 г. В том же духе, не имеющим ничего общего ни с
национализмом, ни с модерноцентризмом,часто высказывается и Гадамер. Так, в
цитировавшемся обращении «К русским читателям» говорится или имеется в
виду следующее: именно потому, что в «немецкой культуре XIX в. преобладал дух
науки, которому и обязана она своим всемирным значением», - осознание
границ (и ограниченности) мира науки, по сравнению с
общественно-политической и гуманитарной «культурой слова», с «жизненным миром», только в
немецкой культуре XX в. могло быть столь радикальным, научно самокритичным и
продуктивным; во всяком случае, «выход за пределы научного факта должен был
означать для Германии нечто совсем иное», чем аналогичный и одновременный
духовно-исторический опыт в других странах. См.: Гадамер Г.-Г. Актуальность
прекрасного. Цит. изд. С. 7.
26 Rosenstock-Huessy О. Out of Revolution: Autobiography of Western Man (1938).
Providence (Oxford) 1993. P. 73. Русский перевод: Розеншток-Хюсси О. Великие
546
революции: Автобиография западного человека. Hermitage Publishers. 1999.
С. 62.
27 В послесловии к недавнему переизданию Михайловского перевода «Мимесиса»
Э. Ауэрбаха, впервые напечатанного у нас без малого четверть века назад, у меня
был, к сожалению, хороший повод задуматься над социокультурным парадоксом
«непереведенности переведенного» - так приходится расценивать судьбу ауэрба-
ховской книги в отечественном литературоведении .То, что в советское время было
скорее исключением, сегодня оказывается едва ли не правилом.
28 Вейдле В.В. Россия и Запад//«Вопросы философии», 1991, № 10. С. 70
29 М.Хайдеггер в своем курсе лекций «Ницше: Воля к власти как искусство»,
прочитанном в зимний семестр 1936-1937 гг. во Фрайбургском университете, писал
(в связи с проблемой Р. Вагнера) о XIX в.: «Это двусмысленнейшее столетие
невозможно понять путем последовательного описания частей, составляющих его
хронологию. Его подлинные границы выясняются только путем выхождения за
хронологические границы с двух сторон, направленных друг к другу в
противоположных направлениях: со стороны последней трети XVIII в. и со стороны
первой трети XX в.» См.: Heidegger M. Gesamtausgabe, Bd. 43. Frankfurt a. M., 1985.
S. 100.
30 Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: Очерки по истории и философии
культуры. М. Политиздат, 1991.
31 См. в этой связи: Renthe-Fink L.V. Geshichtlichkeit.: Ihr terminologischer
Ursprung bei Hegel, Haym, Dilthey und Yorck. Göttingen 1968; Hunermann P. Der
Durchbruch geschichtlichen Denkens im 19. Jahrhundert: J.G. Droysen, W. Dilthey,
Gr.R. Yorck von Wartenburg. Ihr Weg und ihre Weisung fur die Theologie. Freiburg
etc. 1967.
32 Дилыпей В. Введение в науки о духе: Опыт построения основ для изучения
общества и истории (1883)// Зарубежная эстетика и теория литературы
Х1Х-ХХвв.//Под ред. Г.К. Косикова М., МГУ, 1987. С. 114, 125.
33 Когда Йохим Вах, ученик Дильтея, во второй половине 20-х гг. писал
трехтомную историю новой (герменевтической) парадигмы, излагая и систематизируя
немецкие теории «понимания» в XIX в., он осознанно завершал предысторию
дела, история которого разворачивалась на его глазах. См.: Wach J. Das Verstehen.
3 Bd. Tübingen 1926-1929.
34 Знаменитый термин «Geisteswissenschaften», более или менее
соответствующий по-русски «гуманитарным наукам» (в меньшей степени - «наукам о
культуре»), а по-английски переводимый в наше время скорее как «human studies»,
чем «human sciences», появился в немецком переводе (1849) «Системы логики»
Джона Стюарта.Милля (1843). Переводчик (Й. Шиль) передал подзаголовок 6
книги миллевской «Логики», «On the Logic of Moral Sciences», так: «Von der
Logik der Geisteswissenschaften oder moralishen Wissenschaften». См.: Bodamer Th.
Philosophie der Geisteswissenschaften. München 1987. S. 23-24. С тех пор слово
употреблялось спорадически, пока не получило терминологический чекан в
школе В. Дильтея, начиная с упоминавшегося «Введения в науки о духе»
(1883). Перевод в какой-то мере оказался оригинальнее оригинала, учитывая,
с одной стороны, его укорененность в немецкой духовно-исторической
традиции, с другой - его «обратное» влияние, сделавшее уже невозможным
обратный перевод.
35 Dilthey W. Die Einbildungskraft des Dichters: Bausteine der Poetik//Dilthey W.
Gesammelte Schriften, Bd. VI./Hrsg. von Georg Misch. 3 Aufl., Stuttgart-Göttingen
1958. S. 103-241.
36 По поводу лосевской «Истории античной эстетики» A.B. Михайлов отмечал,
что, при всех советских ограничениях, «замысел А.Ф. Лосева - писать историю
античной эстетики - оказался во взаимосогласии не только с ограниченными
возможностями нашей науки, но и в согласии с тенденциями современной об-
547
щекультурной мысли и, в самом конечном счете, вновь в согласии с
тенденциями современной философии». — Михайлов A.B. Эстетика и оживление
человека. Цит. изд. С. 473. Критический обзор немецких концепций античности, от
Й. Винкельмана до О. Шпенглера, см.: ЛосевЛ.Ф. Очерки античного
символизма и мифологии. М., 1930. С. 9—96.
37 Misch G. Bericht des Herausgebers// Dilthey W. Gesammelte Schriften, Bd. V, 2
Aufl., Stuttgart-Göttingen 1957. S. IX.
38 Вейдле В.В. Россия и Запад. Цит изд. С. 68. На такие вещи A.B. реагировал как
раз очень резко и не всегда с пользой для «общего дел а»,именуемого на языке
западной риторической культуры «дискуссией» или, менее риторически и
более по-немецки, «разговором» (das Gesprach). Тем не менее он очень чутко
реагировал на подпочвенный нигилизм, никогда не исчезавший из русской
действительности. Ср.: «...вместе со всей накопившейся за долгие десятилетия
ложью нашей жизни, которую мы разоблачили и всемирно прокляли,
выбросили,стараются забыть и ту несомненную правду, которая пробивала себе путь
сквозь ложь.И так совершилось величайшее предательство, — оно заключалось в
том, что на месте прежней, теперь открывшейся лжи водрузили новую,
огромную и непроглядную ложь, которая, под звон лозунгов о возрождающейся
духовности, попирает всякую правду человеческих отношений...». - Михайлов A.B.
Эстетика и оживление человека. С.З.
39 Ср. рецензии A.B. на книгу М.А. Лившица «Поэтическая справедливость: Идея
эстетического воспитания в истории общественной мысли» (М.,1993): «И таким
же «призраком» идеологии былого оказалась, по всей видимости, и идея так
называемого «эстетического воспитания», с пиком казенного увлечения ею в 1960-е
годы, — идея, находившаяся в вопиющем и кощунственном отношении к
«жалкой действительности», если воспользоваться излюбленным выражением
классиков марксизма». См.: «Вопросы философии», 1994, № 10. С. 178. См. также
рецензию A.B. на книгу Л.Н. Столовича «Красота. Добро. Истина» (М.,1994). В
статье о В.М. Жирмунском можно найти едкие, но меткие замечания о
«рукотворном здании Науки» — подобии «бюрократического государства; оно,
вымывая изнутри себя последние воспоминания об этической высоте ученого,
нимало не потрясено и в самые последние годы русской истории продолжает
строиться по инерции; в таком здании очень удобно устраиваться всем любящим удобно
устраиваться, причем научные занятия выступают тогда лишь как случайная форма
достижения должных жизненных удобств». - Михайлов A.B. Ранние книги
В.М.Жирмунского о немецком романтизме//«Филологические науки», 1994.
С. 32-33.
40 Шпет Г.Г. Сочинения. М., «Правда», 1989. С. 364. Здесь, в первой части
своих «Эстетических фрагментов» (1922-1923), Шпет, среди прочего, разрабатывает,
по существу, целую теорию «овнешнения», как принципа жизнедеятельности и
культурного творчества вообще. Овнешнение внутреннего (а не внутреннее «в
себе») - реальная предпосылка, герменевтически-фактическое условие
возможности всякого познания; отсюда у Шпета относительный приоритет
эстетического над «чистым» познанием и одновременно резкая критика традиционной
философии и философской эстетики, не ведавших или забывших про «бога
разумения, Гермеса».Ср.: «Нужно "перевести" - traducere ad suam intuitionem-
трансцендентное на язык внешности, чтобы узреть и уразуметь» (там же.
С. 365).Тогда же, в начале 20-х годов, М.М. Бахтин, как известно, осуществил
(особенно в работе «Автор и герой в эстетической деятельности») радикальную
систематическую критику монологизма в философии - «гносеологизма всей
философской культуры XIX и XX веков», оперируя в своих феноменологических
анализах как раз понятием «овнешнения».
41 «Логос», 1991, №2. С. 67.
Указатель имен
Аверинцев С.С. 182, 320, 528, 529, 534, 543-546
Автономова Н. 319, 523
АдорноТ. 316
Азадовский М.К. 168, 221, 222
Аксаков К.С. 54, 56, 191, 192
Александр Македонский 211,517
Алпатов М.А. 193,457
АльтдорферА. 516,517
Анненский И. 281, 297
Апель К. 531
Аристотель 89, 192, 198, 201, 252, 305. 360, 365, 376, 378,
384,386,388,421,540
Арним Л. А. фон 157
Архилох 162
Ауэрбах Б. 215
Ауэрбах Э. 50, 206, 547
Ахугин A.B. 309, 320, 464, 465, 469
БайокДж.Л. 35
Байснер Ф. 350
Бакрадзе К.С. 419
Баландин А.И. 177
Бальтазар ГУ. Фон 518
Банг Г. 36
БартЭ. 114
БаткинЛ.М. 528
Баумгартен А. 475
Баур Ф. 353, 385
Баховен И.Я. 49, 189, 392, 393
Бахтин М.М. 18, 19, 178, 180, 193, 277, 283, 454, 530, 534, 541,
543, 544, 548
Баш В. 218
Бейснер Ф. 327
Бек А. 529,531,544,545
Бекер О. 292
БелауИ. 382
Белинский В.Г. 57, 64, 65, 100, 192, 217
Беньямин В. 503
Бергсон А. 376
Бердяев H А. 534
БернайсМ. 212
Бернхарди Г. 268
Бертрам Э. 138
Бёме Я. 204
Бибихин В В. 545
Бимель В. 416-418, 420
Бискардо Р. 218
Бисмарк О. фон 133
Блох Э. 387
Богомолов A.C. 187, 198, 457
Боймлер А. 49, 392-394, 408, 413
549
Бокль Г.
Больнов О.Ф.
Больцано Б.
Бопп Ф.
Борис Годунов
Боутервек Ф.
Бочаров СП
Брекер В.
Брекер-Ольтманс К.
Брентано Ф.
Брюнтьер Ф.
Буассере С.
Бурдах К.
Буслаев Ф.И.
Бюффон Ж.Л.
Бялостоцкий Я.
Вагнер Р.
Вайблингер В.
Вакенродер В.Г.
Вакернагель В.
Вальтер фон дер
Фогельвейде
Вальх И.Г.
Вальцель О.
Ван-Гог В.
ВартенбургЙ. фон
Васильева Т.В.
ВахЙ.
Вахлер Л.
Вейдле В.В.
Веймар К.
Веллек Р.
Велькер Ф.
ВеневитиновД.В.
Верли М.
Вернадский В.И.
Вернер К.
Веселовский А.Н.
Веселовский А. (Алексей)
Вёльфлин Г.
Визгин В.П.
Вико Дж.
Виламовиц-Мёллендорф У.
Виланд K.M.
Виллемер М.
Виллемс Г.
Вильманс В.
Виндельбанд В.
Винкельман И.
86, 150,151,155, 166,167
382
71,291,454
353,384
55
98, 205
528, 535, 545, 546
382,383
382
71,360,384,386
177
105,206
115, 116, 124, 128, 129, 132,137,
159,209,211,213,214,217,219
177
201
189
53, 137,191,281,547
344, 350
208
50, 158,218
134, 135, 138, 139, 148, 213, 221
201
171,216,223
403-405,413
363, 380, 388, 389
86, 205
547
99,201, 205
537,541,547,548
149, 207, 212, 213, 217, 223, 224,
270, 292, 293, 294, 316, 318. 319
121, 123, 140, 165, 180, 188, 209,
219,221
81
64
208, 249, 271
278,319,437
93, 222
139,
261,
210,
150,
264-
214,
9-20, 22, 24, 45-47, 49, 50, 57, 66, 159, 16'
165-171, 177-181, 183, 189, 219-
451,452,537
165
107, 183,249
265,318,468,470
71,93,529,539,543,544
146,318
59
215
8
221
354, 356, 381
63, 86-90, 92, 200, 201, 540, 548
-223,
306,
152,
-268,
215,
I, 162,
307,
550
Винокур ГО. 544
ВиртО. 210
Вольф Ф.А. 384
Вольф Э. 223, 267, 353
Вольфрам фон Эшенбах 124, 202
ВулихН. 184
ВундтВ. 360,381
Габриэль Г. 264, 265, 318
Гадамер Г.-Г 204, 262, 317, 385, 400, 419, 442, 457, 528, 533,
538-541,543,545,546
Гайдн Й. 135
ГаймР. 110, 120, 139,285
Гаманн И.Г 187
Гамсун К. 36
ГансликЭ. 212
Гаспаров М. 184, 185, 189, 528, 544
Гаупт М. 284
Гегель Г.В.Ф. 8, 14, 70, 74, 76-81, 83-85, 108, 125, 149, 177,
183, 186, 187, 197-199, 202, 203, 242-244, 319,
325, 326, 328, 329, 350, 353, 356, 414, 418, 419,
456, 536, 537, 540
ГейбельЭ 130
Гейне Г. 269
Гектор 515
Георге С. 350, 386, 431
Гераклит 399, 408, 419, 434
ГербартИ.Ф. 126, 127, 156, 157, 194, 212, 454, 458
Гервинус ГГ. 112, 115, 125, 140, 151, 267,269
Гердер И.Г 29, 49, 54, 58-60, 74, 75, 80, 82, 110,123, 136, 149,
151, 183, 192, 204, 210, 244, 353
Герман Ф.В. фон 382
Геродот 186,201
Герцен А.И. 191
ГерценбергЛ.Г. 222
ГеттнерГ 140,267
Гёдеке К. 99, 205
Гёльдерлин Ф. 48, 108, 140, 141, 327, 344-350, 357, 386, 408-
410,431,440,446
Гёррес Й. 49, 108, 109, 200, 207
Гёте И.В. 48, 49, 51, 63, 78, 80, 95, 100-106, 116, 123, 124,
130, 132, 142-148, 154, 162, 164, 183, 203, 205-
207, 210, 214- 216, 219, 220, 244, 247, 249, 250,
259, 306, 311, 323, 324, 357, 372, 385, 387, 466,
515,517
Гиндин СИ. 544
Глинка Ф. 202
Гоголь Н.В. 68,189,281,432
Голосовкер Я.Э. 546
Гомер 34, 38, 43, 51, 58-60, 63, 108, 110, 146, 188, 218,
219,221,270,492,513,516
Гораций 63, 97,98, 162
Горн Ф. 208
Горский И.К. 22, 167, 179, 182, 220, 222
Гостинский О. 195
551
Гофман Э.Т.А. 200
Гофмансталь Г. фон 138
Грильпарцер Ф. 122, 130, 138, 139, 194
Гримм Я. 15,24,40,49,50,91, 109,112,115, 122-126, 128,
129, 131, 136, 137, 139, 142, 151, 157, 204, 207,
210, 212, 214, 218, 267, 269, 298, 299, 324, 327,
353, 355, 384, 385
Гримм В. 298, 299, 324, 327, 385
Гримма Г. 212,385
Гриммельсхаузен Х.Я.К. 215
ГринцерП.А. 182, 186
Грумах Э. 209
Грушин Б.А. 198
Гумбольдт А. 199
Гумбольдт В. фон 91, 164, 183, 201, 259, 353
Гумилев Л. 545
Гундольф Ф. 244, 245, 247-253, 316
ГуревичА.Я. 19,31,34,36,37, 182, 184, 185
Гуссерль Э. 67, 70, 71, 241, 357, 360, 363-365, 380, 381, 394,
395, 421, 441, 442, 453, 458, 538
Даниэл Ж. 389
Данте А. 43, 107, 178, 229, 515
Дарвин Ч. 149
Дарий 517
Декарт Р. 359, 366, 380
Десницкая A.B. 384
Джеймс У. 359
ДильтейВ. 29, 113, 123, 139, 142, 150, 152-154, 159, 171,
179, 197, 202, 213, 217,218, 223, 239-249, 285,
317, 318, 351, 352, 354-365, 377, 378, 380, 381,
383-385, 388, 389, 396, 407, 414, 419, 521-524,
530, 536, 538-541, 545-547
Димитров Е. 544
Добровский Й. 126
Доре Г. 43
Достоевский Ф.М. 53, 56-60, 191, 192, 532, 541
Дройзен П.Г. 197, 198, 547
Евклид 283,375
Жан-Поль 295
Жирмунский В.М. 25, 46, 179, 182, 548
Жуковский В.А. 425
Заальбаах К. 266
Зайцев А.И. 185
Замятин Е. 530
ЗауэрА. 187
Зеебас Ф. 326
Зигварт X. 357
Зольгер К.-В.-Ф. 265, 292
Иванов Вяч.Вс. 182, 185
Иванов Вяч.И. 535, 546
Ингарден Р. 395, 515, 516
Ирод 125
ИстринВ.М. 178, 179
Калыгин В.П. 186
552
Кант И.
Карамзин Н.М.
Карл Август
Карлейль Т.
Каррьер М.
Кафка Ф.
Кацнельсон С.Д.
Келер М.
Кирпичников А.И.
Клагес Л.
Клаудиус М.
Клейн Ф.
Клейст Г. фон
КлопштокФ.Г.
Клоувер К.
Клочков И.С.
Коммерель М.
Кондильяк Э.Б. де
Конт О.
Коперник Н.
Копитар В.
Корф ГА.
Косиков Г. К.
Котарбиньский Т.
Кох И.Э.
Кристиана, жена Гёте
Куделин А.Б.
Курилов A.C.
Курциус Э.Р.
Лазарус М.
Лампинг Д.
Лахман К.
Лебо К.
Лемпицкий 3. фон
Лессинг Г
Летурно Ш.
Либ ГГ.
Лифшиц М.А.
Линней К.
Липпс Г
Лихачев Д.С.
Лобачевский Н.И.
Ломоносов М.В.
Лонер Э.
Лопе де Вега (Вега Карпье)
Лоренц О.
Лосев А.Ф.
Лотман Ю.М.
Лотце Г.
Лукиан
Лютер М.
48, 49, 61, 64, 80, 194, 259, 353, 355, 356, 362,
365, 369, 376, 384, 400, 421, 454, 475, 532, 539
55
215
102-105,206
50
417
201,202
202
170
202, 203
326, 349,
375, 388,
83, 130
140
36
185
409, 420
204
86, 150,216
174
126
92, 148,216,244
547
194,458
208
215
182
177
50,51, 190,244
151,217
265,318
112, 117, 124, 157,174,209,218,284
185
261,316
58, 134.148,192,223
220
263,318
296, 473, 548
201
545
19,181,193,195,528
238
457
205
162
133
281,311,312, 459, 460, 462-464. 467, 469, 475,
521, 522, 524, 530, 534, 540, 541, 475, 544, 547,
548
528
151,217
185
124
553
Майстер Экхарт (Эккехардт) 423, 435, 436
Маковский М.М. 196
Мандельштам О. 530, 544
Манн Т. 98
Манн Ю.В. 200
МарквардтБ. 316
Маркова Л.А. 200,209
Маркс К. 79, 198, 199, 217, 317, 318
Маркузе Г. 382
Медведеве. 192
Мееровский Б.В. 386
МезерЮ. 123
Мейер Г. 324, 349
МейерР.М. 159,171
Мейнеке Ф. 73-76, 93, 94, 96, 197, 200, 202, 203
Мелетинский Е.М. 178, 179
Менгер К. 93
МенцельВ. 54,96, 191
Мёрике Э. 323-330, 332-334, 349, 522, 524
Микеланджело Б. 385
Миклошич Ф. 132
Микушевич В.Б. 349, 350
МилльДж.С. 150, 151, 155, 166,358,547
Минковский Г. 376
Михайлов A.B. 184, 185, 316, 318, 521, 522, 524, 527, 528, 530,
531,533-548
Миш Г. 540, 545, 548
Мориц К.Ф. 259
Моцарт В.А. 135
МундтТ. 112
Мурьянов М.Ф. 532, 544, 545
МюлленхофК. 115, 123, 128, 130, 131, 133, 166,213
Мюллер А. 107, 116, 198, 204. 207
Мюллер В. 141,265, 318
Мюллер К.О. 392
Мюллер М. 50
НадлерЙ. 187
Науман Г. 157
Небель Г. 388
Нетопилик Я. 202
НибурБ.Г. 151,203,353,384
Ницше Ф. 49, 95, 107, 117, 174, 175, 199, 201, 203-205, 223,
238, 272, 392, 393, 444, 534, 536, 546, 547
Новалис 357
Ньютон И. 375
Овидий 184
Одоевский В.Ф. 55, 56, 192
Орлов Вл. 202
Отфрид 125,211
Ошеров С.А. 349
Панин Дм. 545
Панченко A.M. 65, 192, 193, 451, 457
Парменид 400
ПеретцВ.Н. 179
554
Перльмутер И.А.
Петр 1 Великий
Петрарка
Пене Э.
Пиндар
Пиндер В.
Платен А. фон
Платон
Платонов А.
Плесснер X.
Плотин
Плотников Н.
Подосинов A.B.
Поспелов Г.Н.
Потебня A.A.
Пракситель
Пришвин M. М.
Прокл
Прокофьев С.С.
Прутц Р.
Пумпянский Л.В.
Пушкин A.C.
Пыпин А.Н.
Раймунд Ф.
Ранке Л. фон
Раек Р.
Раумер Ф. фон
Рафаэль Санти
Ре гели Т.
Реймман Я.Ф.
Рейнхард К.Ф.
Рейс Г.
Рейхенбах Г.
Рем В.
Ренуар О.
Рёте Г.
Ржевская Н.В.
Ригль А.
Риккерт Г.
Рильке P.M.
Ринне К.
Ричль Ф.
Роди Ф.
Розенберг Р.
Розенкранц К.
Розеншток-Хюсси О.
Ротхакер Э.
Рошер В.
Рунге Ф.О.
Руссо Ж.-Ж.
Савиньи Ф.К. фон
Сакулин П.
186
276
97
151,216
48, 108
183
156,544
40, 204, 252, 346, 365, 374, 378, 379. 383. 421,
529, 545
531
537
220
522, 523
184
182. 183
164,220
116
529,530
399
281,282
130, 140.267
180,541
53. 55-57. 192, 200, 217, 281. 532, 535
9. 10, 165, 170, 179. 180. 191, 222
137
74-78, 115, 190, 197, 198, 353, 384
126
139,214
129,212
382
99, 205
206, 546
150.217-219.223
388
324. 349
126
159
177
183
354, 356, 359, 362, 381
412,431,433,443-445
269
116, 117, 120
383, 385, 389, 545
139, 141. 207. 214-218, 221, 261, 269, 270, 317,
318
267-269
537, 547
159,211,219
150, 151. 155,217
81
83
353. 385
179
555
Сафо (Сапфо)
Сахарный Н.
Свасьян К.А.
Сеземан В.
Селезнев Ю.И.
Сервантес С.М. де
Серебряний С.Д.
Синявский А.Д.
Скрябин А.Н.
Смирин В.М.
Смирнов И.П.
Смирнова Е.А.
Смирнова А.О.
Соколов А.Н.
Сократ
Солженицын А.И.
Солм П.
Соловьев В.
Соловьев Э.Ю.
Сонди П.
Соссюр Ф. де
Софокл
Спенсер Г.
Спиноза Б.
Стеблин-Каменский М.И.
Степанянц М.Т.
СтоловичЛ. Н.
Стравинский И.Ф.
Стрелка Й.
Султанов А.Х.
Татищев В.Н.
Тахо-Годи А.
Тейлор Э.
Тихонравов Н.С.
Толстой Л.Н.
Топоров В.Н.
Тракль Г.
Трейчке Г.
Тренделенбург А.
Трёльч Э.
Тургенев И.С.
ТэнИ.
Тюпа В.И.
Тютчев Ф.И.
Узенер Г.
УландЛ.
Унгер Р.
Уоррен А.
УрновД.М.
Ухтомский A.A.
Фариас В.
Федотов Г.П.
Феофраст
Фет A.A.
110
185,186
198
418
191
546
177
535
281,282,431
185
195
189
432
179,222
410
545
136
418
538, 547
183
40
48,108,303,389,433
150
251
32-34,37,38, 109, 185, 186,
186
548
389
207, 208, 271
186
457
524
150
165
74, 281
186,320
431
133
210,360,384,386
93, 354
424
165,217
182
188
355, 385
141,269
252,284,285,316,319
188
177
530,543
442
528, 533, 543
306
188,478
207
556
Фёдоров В.В. 215
ФильмарА. 112
Фихте И.Г. 362
Фишер К. 285
Фишер Ф.Т. 8, 143, 149, 285, 325. 326, 328. 329
Флоренский П.А. 437
Фома Аквинский 378
Фонтане Т. 98
Фонтенель Б. ле Б. де 199
Форман Ю. 261, 268-270, 316, 317-319
Фосскамп В. 261, 265, 316, 319
Фосслер К. 50
Фред О. 264
Фрейденберг О.М. 19,180
ФрейтагГ. 137,140
Фридрих Г. 324, 349
ФрикеГ. 264,318
Хабермас Ю. 442
Хаген Ф.Г. фон дер 112, 204
Хайдеггер М. 186, 188, 205, 253, 291, 310, 311, 320, 323. 324,
326, 328, 333, 349, 350, 382-390, 394-421, 424,
425, 427-443, 445-447, 466, 469, 478, 515, 516.
521-524, 529, 535, 538, 540, 545, 547
Хакенаст 335, 342, 343, 350
Хализев В.Е. 296, 298, 319, 320, 543
ХартЮ. 129,212
Хеллинграт Н. фон 327, 344, 346, 347, 350
Хиллис Миллер Дж. 276, 277, 280, 319
Хлебников В. 40
Храпченко М.Б. 22,23,182
ЦарнкеФ. 129
ЦейзингА. 212
ЦельтерК.Ф. 105,206
Циммерман Р. 193, 195, 212, 454
Черны И. 202
Швейцер А. 386
Швейцер Б. 29,183
Шекспир В. 43, 54, 56, 57, 110, 162, 178, 192, 249
Шеллинг Ф.В.Й. 54, 56, 70. 78, 79, 189, 194, 198, 200, 350, 446,
456, 458, 537
Шерер В. 22, 45-47, 50, 57, 84, 85, 92, 113-172, 174, 177,
189, 208-221, 223, 227, 239, 266, 267, 284, 285,
299,319,355,372,385,537
Шиллер Ф. 102, 103. 156, 215, 259
Шиль Й. 547
Шишмарев В.Ф. 179
Шлегель A.B. 82-85, 98, 99, 107, 199, 267, 543, 545
Шлегель Ф. 29, 98, 107, 108, 198, 204, 205, 207, 265, 267, 531
Шлейермахер Ф.Д.Э. 353, 355-358, 385, 386, 529, 545
Шлёцер А.Л. 457
ШлёцерЛ. 125
ШлоссерЮ. 151
Шмидт Э. 116, 120, 128, 129, 144, 145, 149, 159, 171,209,
212,215-218,223
557
Шмидт Ю. 131,132
ШмиттР. 50,190
Шмоллер Г. 93
ШольцБ.Ф. 224,265,318
Шопенгауэр А. 212
ШпахЛ. 214
Шпенглер О. 202, 203, 354, 378, 548
Шпет ГГ. 67-70, 193, 194, 220, 418, 451, 453-458, 521, 522.
530,534,541.544,545,548
Шпильгаген Ф. 221
Шпитцер Л. 50
Шпрангер Э. 94, 202
Шредер Э. 133,198
Штайгер Э. 216, 217, 323, 328, 334, 349, 521, 522
Штейнталь Г 12, 13, 151, 166, 170, 217
Штернсдорф Ю. 137, 211, 212, 214, 216, 218, 220
Штифтер А. 37, 38, 138, 195, 335, 337, 341-343, 349, 350, 439,
440,522
Штраус Д.Ф. 385
Штрекфус К. 205
ШультцФ. 128, 209, 212, 299, 319
ШульцЭ. 120
Эдельштейн Ю.М. 320, 470
Эйкен Р. 464, 469
Эйхендорф Й. фон 112, 141, 208
Эккерман И. П. 104, 205, 206
Элиот Т.С. 188
ЭльстерЭ. 130,213
Энгельгардт Б.М. 179
Энгельс Ф. 79, 198, 200, 317
Эрдмансдёрфер Б. 355, 385
Эсхил 108,221
Юнг К. 14
Якобсон Р. 182, 200
ЯнотаЯ. 109,222
Ясперс К. 202, 349
Содержание
Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры 5
Вильгельм Дильтей и его школа 225
Мартин Хайдеггер 321
По поводу одного стиха Мёрике 323
Рассказ о лесе во льду Адальберта Штифтера 335
Жительствование человека 344
Исследовательская работа Вильгельма Дильтея
и борьба за историческое мировоззрение в наши дни 351
Философия Мартина Хайдеггера и искусство 390
Мартин Хайдеггер: человек в мире 421
Герменевтика в России 449
Современная историческая поэтика и научно-философское
наследие Густава Густавовича Шпета (1879—1940) 451
Терминологические исследования А.Ф. Лосева
и историзация нашего знания 459
О кризисе в науках о культуре 471
Эстетика и оживление человека 473
Несколько тезисов о теории литературы 478
Отдельные положения о сферах непостижимого,
или непостижимости 517
Виталий Махлин.
Уроки обратного перевода (с немецкого) 525
Указатель имен. Составитель И.А. Осиновская 549
Научное издание
Александр Викторович
Михайлов
ИЗБРАННОЕ
Историческая поэтика и герменевтика
Директор издательства проф. Р. В. Светлов
Главный редактор Т. Н. Пескова
Корректор Н. С. Сотникова
Компьютерная верстка В. Д. Лаврсникова
Лицензия ИД № 05679 от 24.08.2001
Подписано в печать 20.08.2005
Гарнитура NewtonC. Формат 60х90'/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 35.
Уч.-изд. л. 40. Тираж 1000 экз. Зак. №260
Издательство С.-Петербургского университета.
199004, Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., 11/21
тел. (812) 3289617; факс. (812) 3284422
Email: editor@unipress.ru
www.unipress.ru