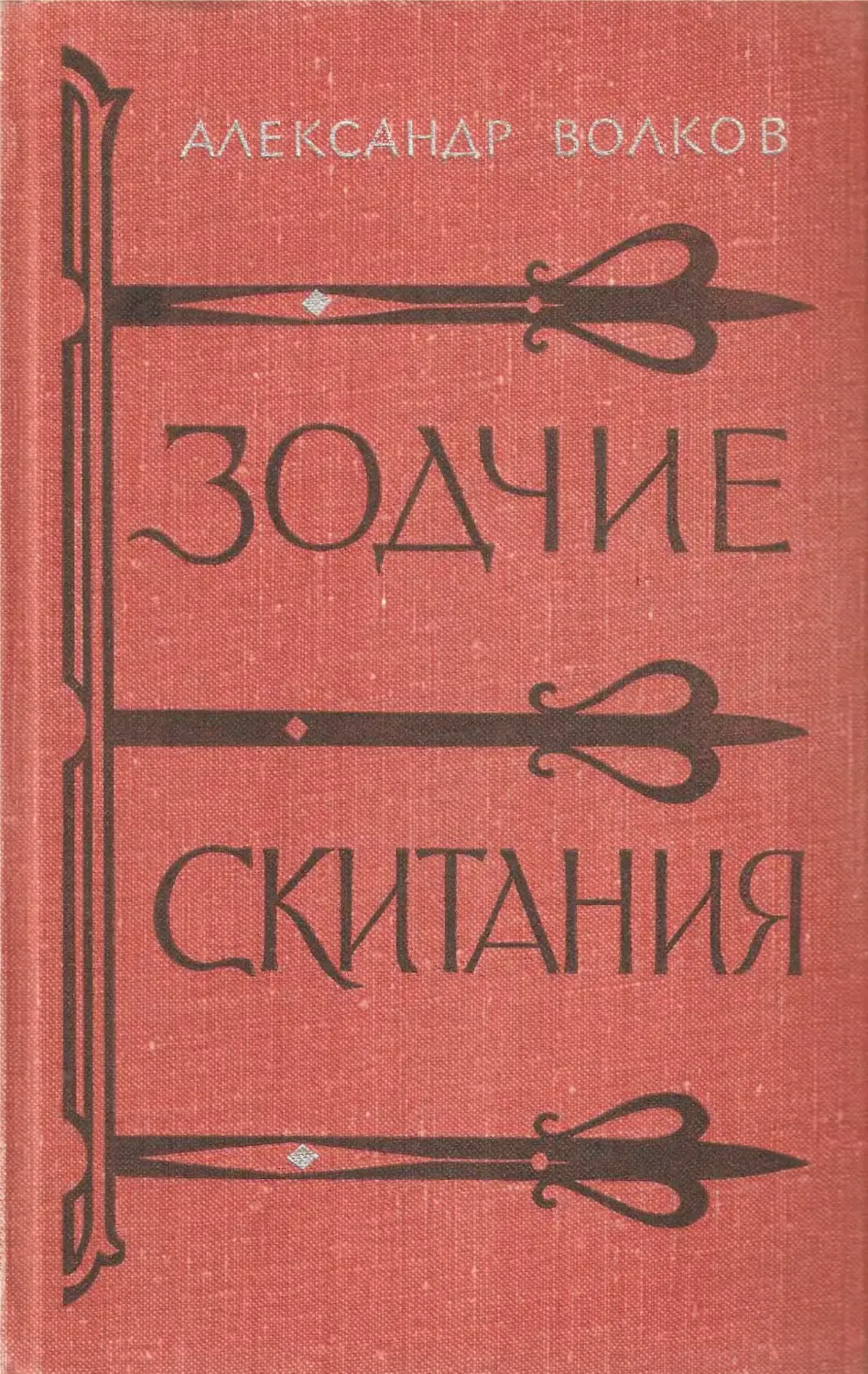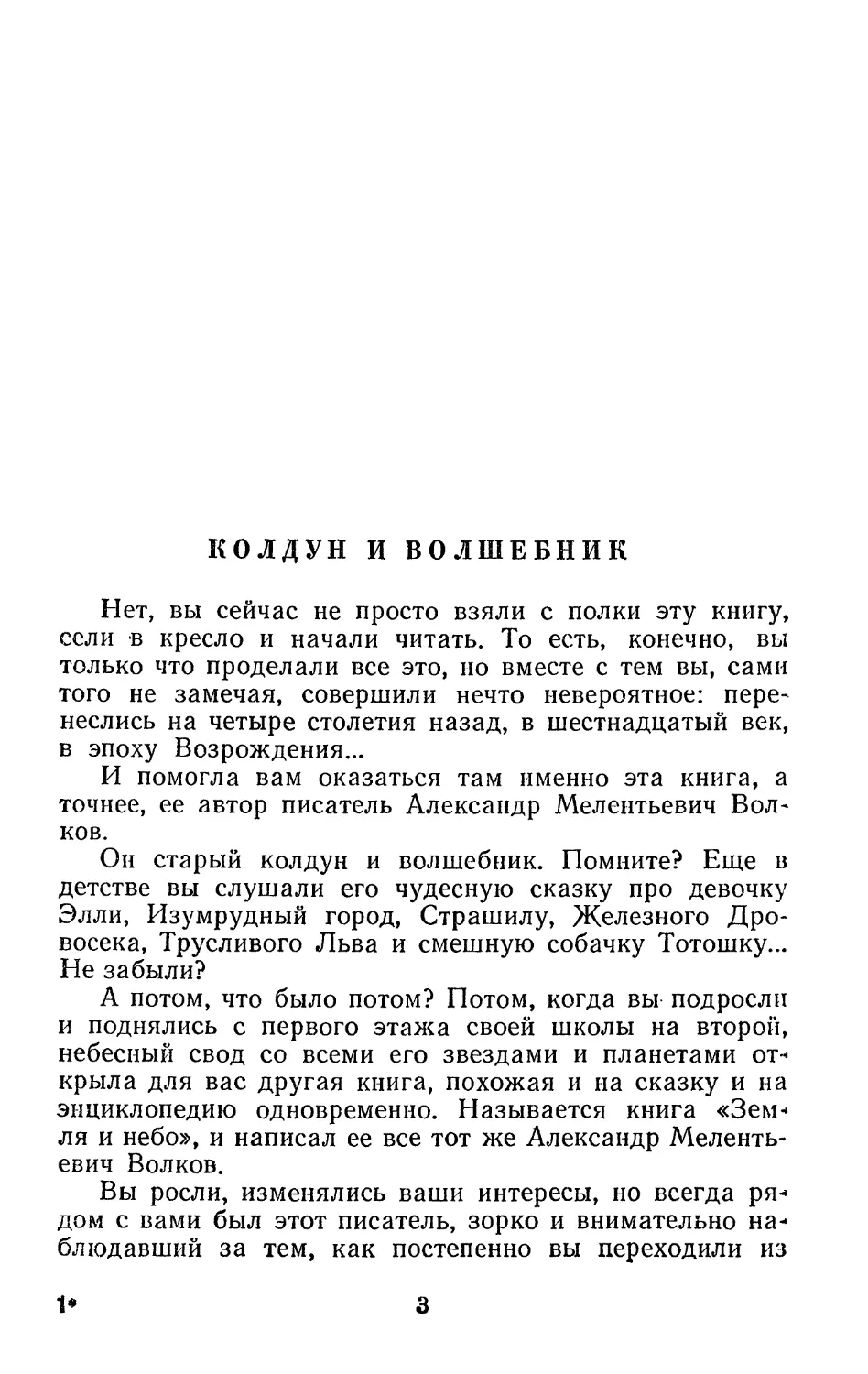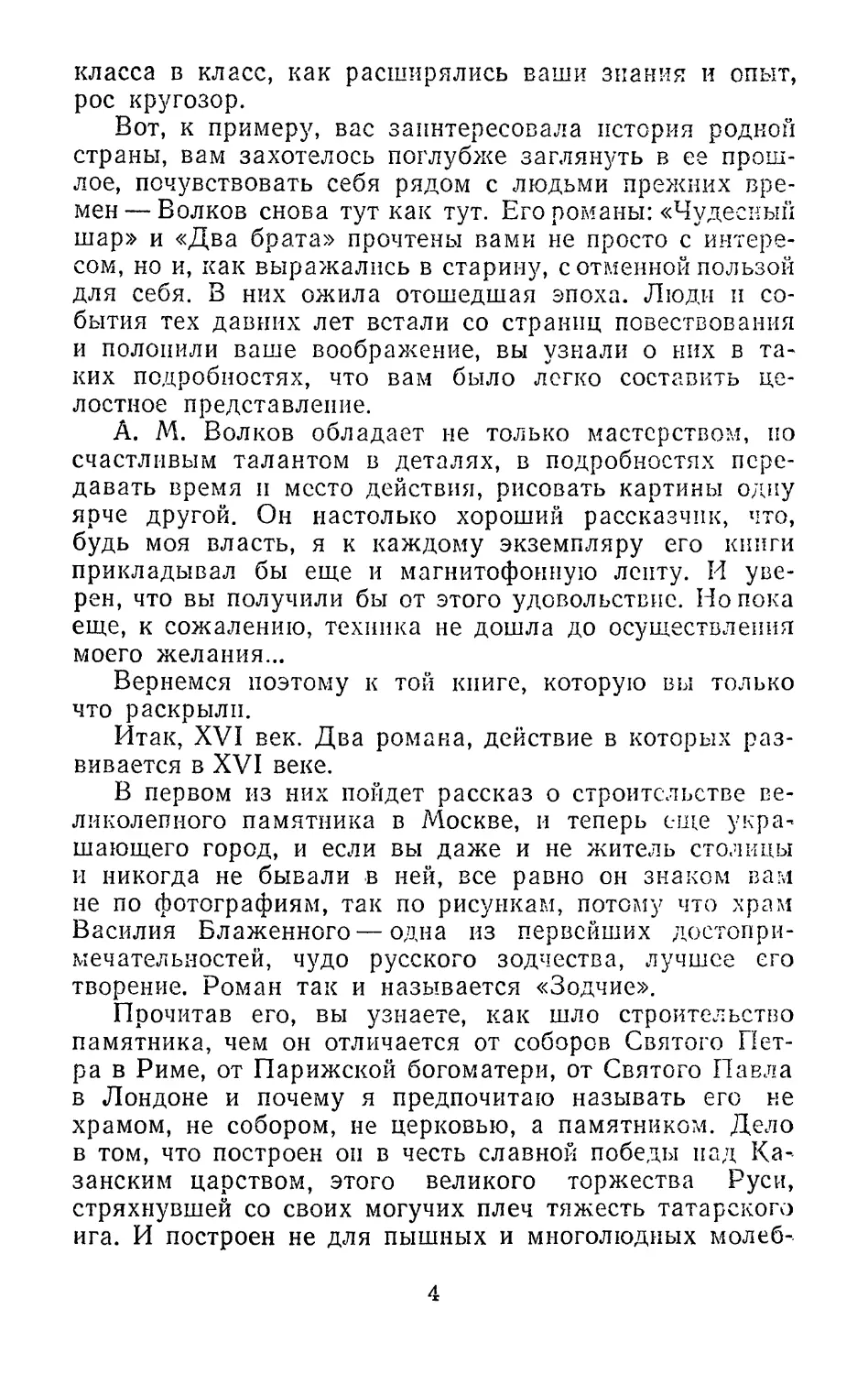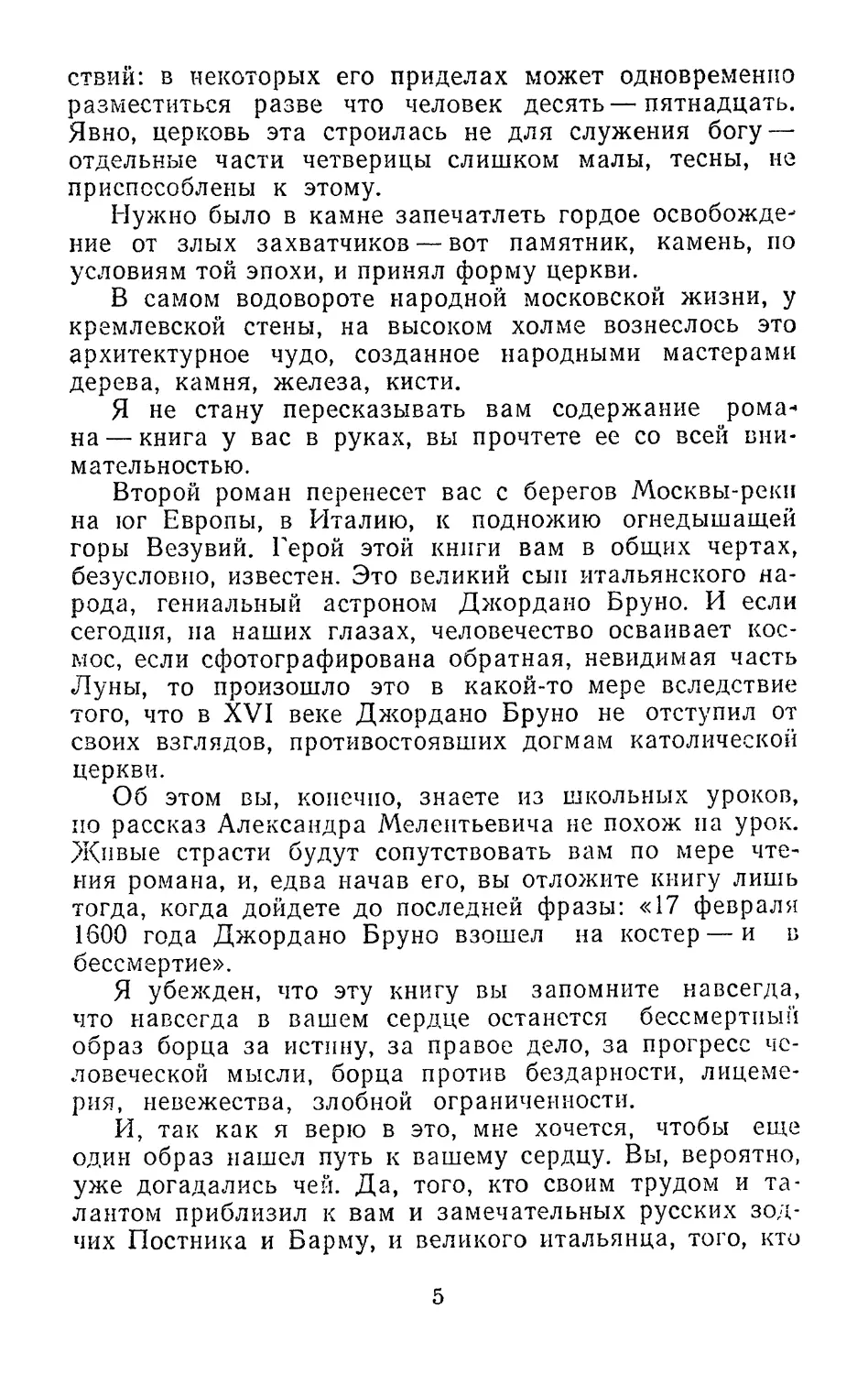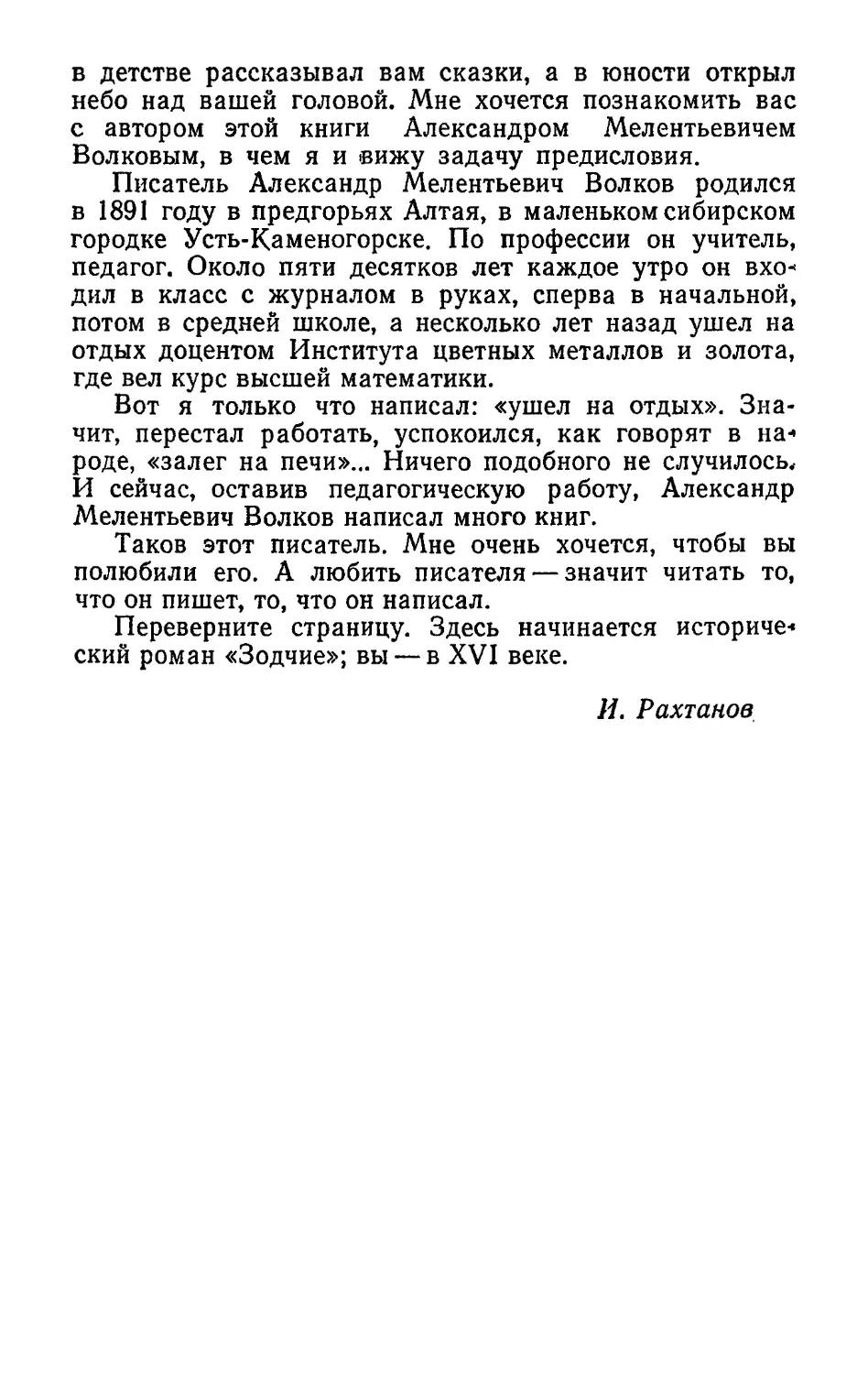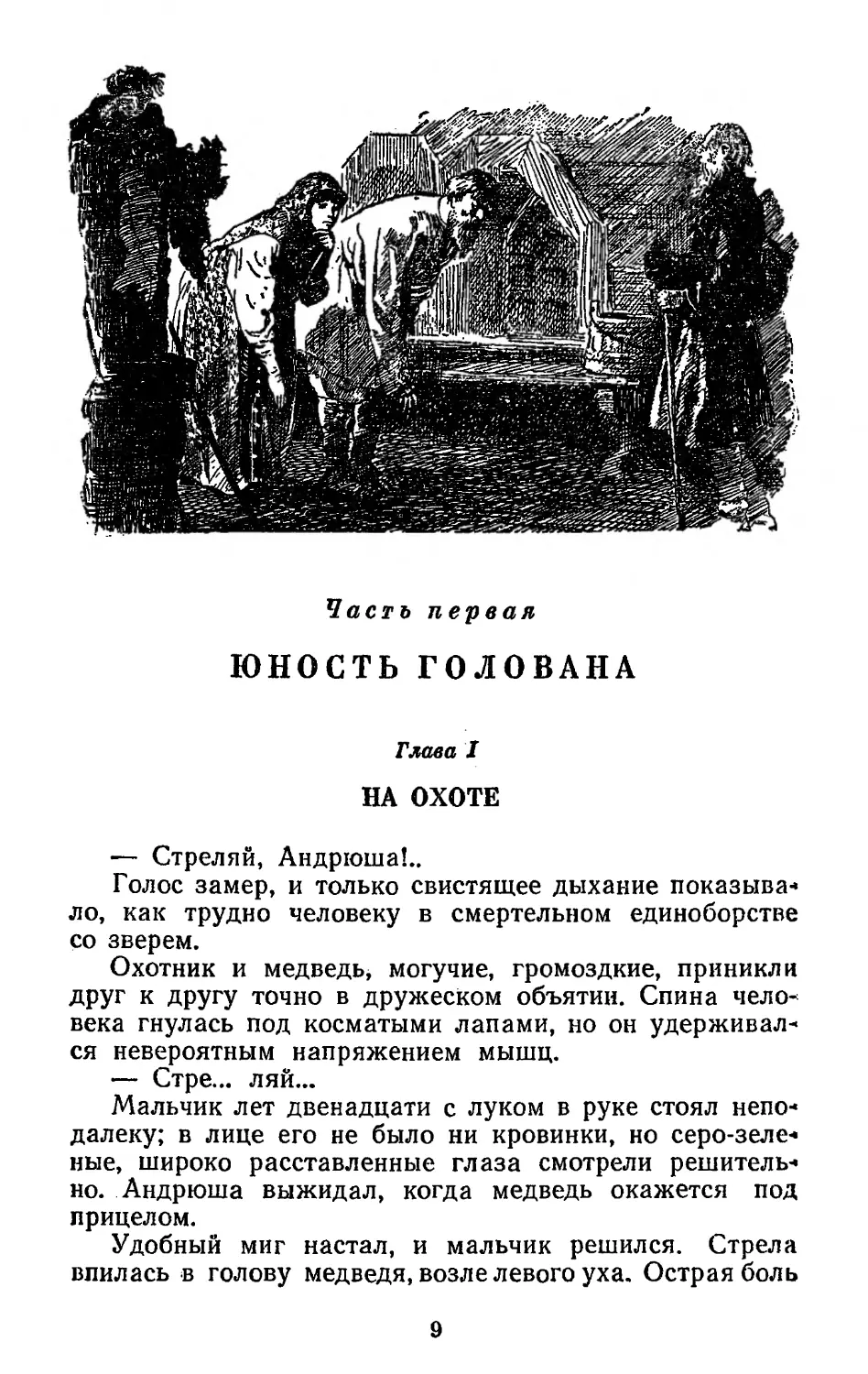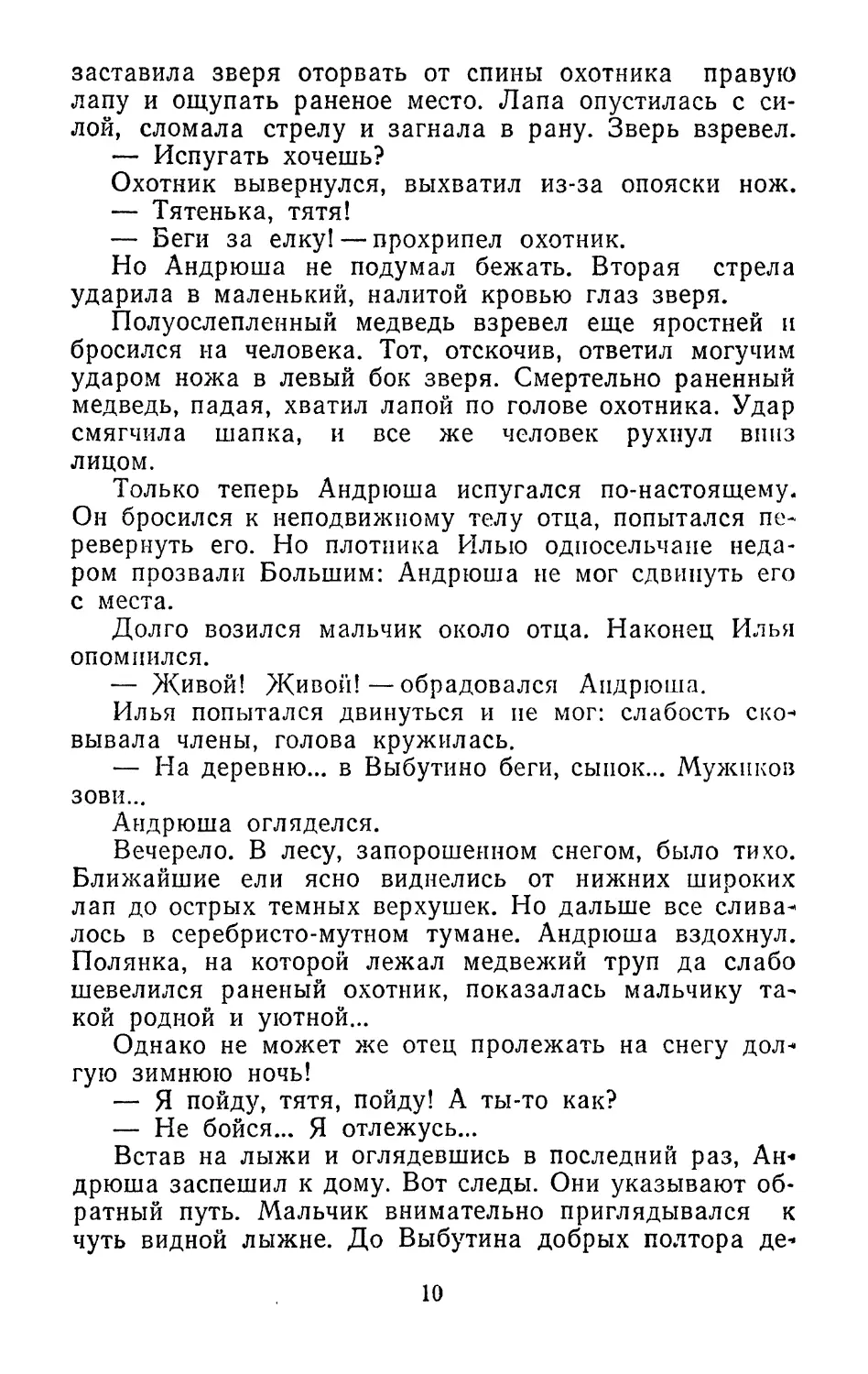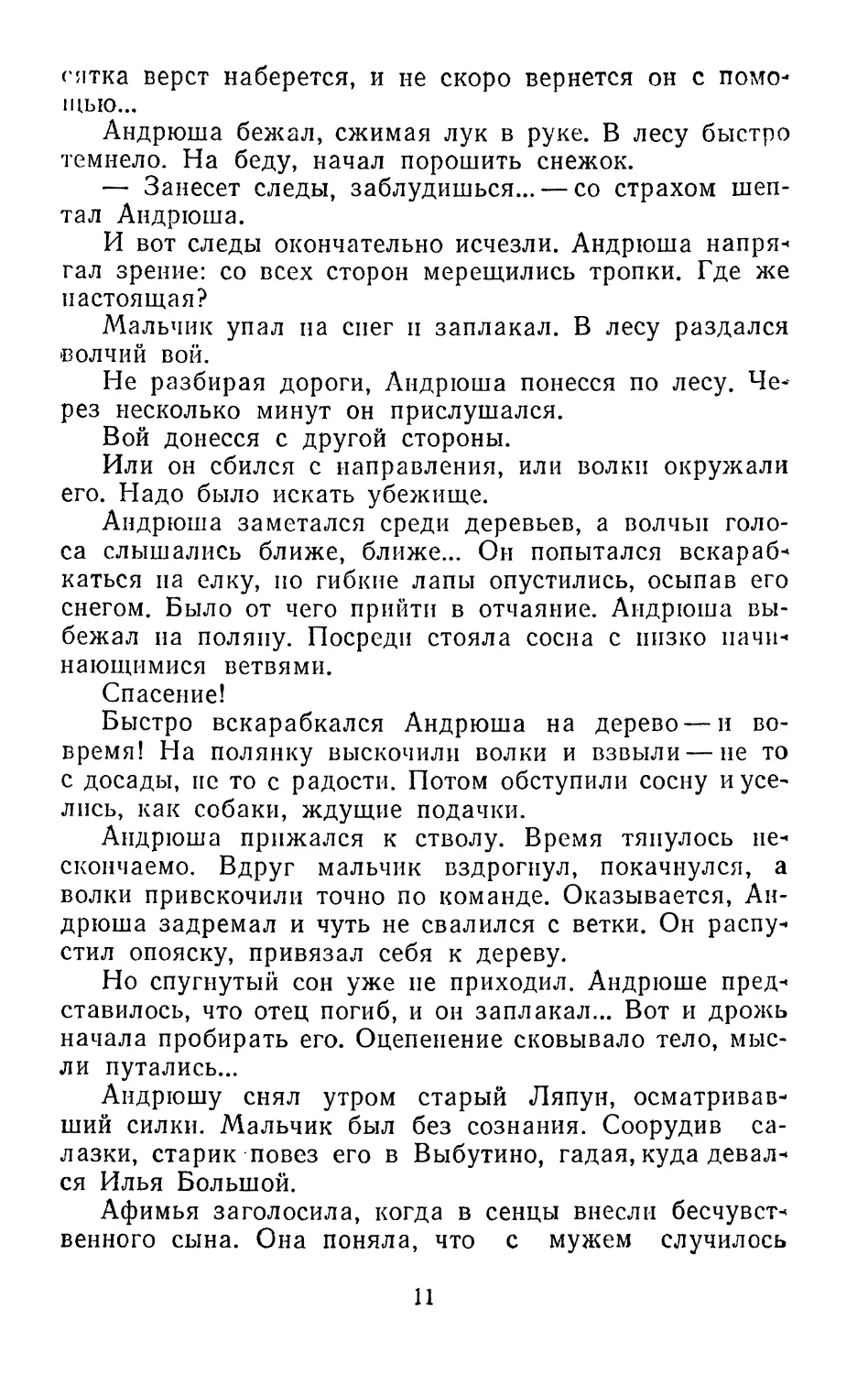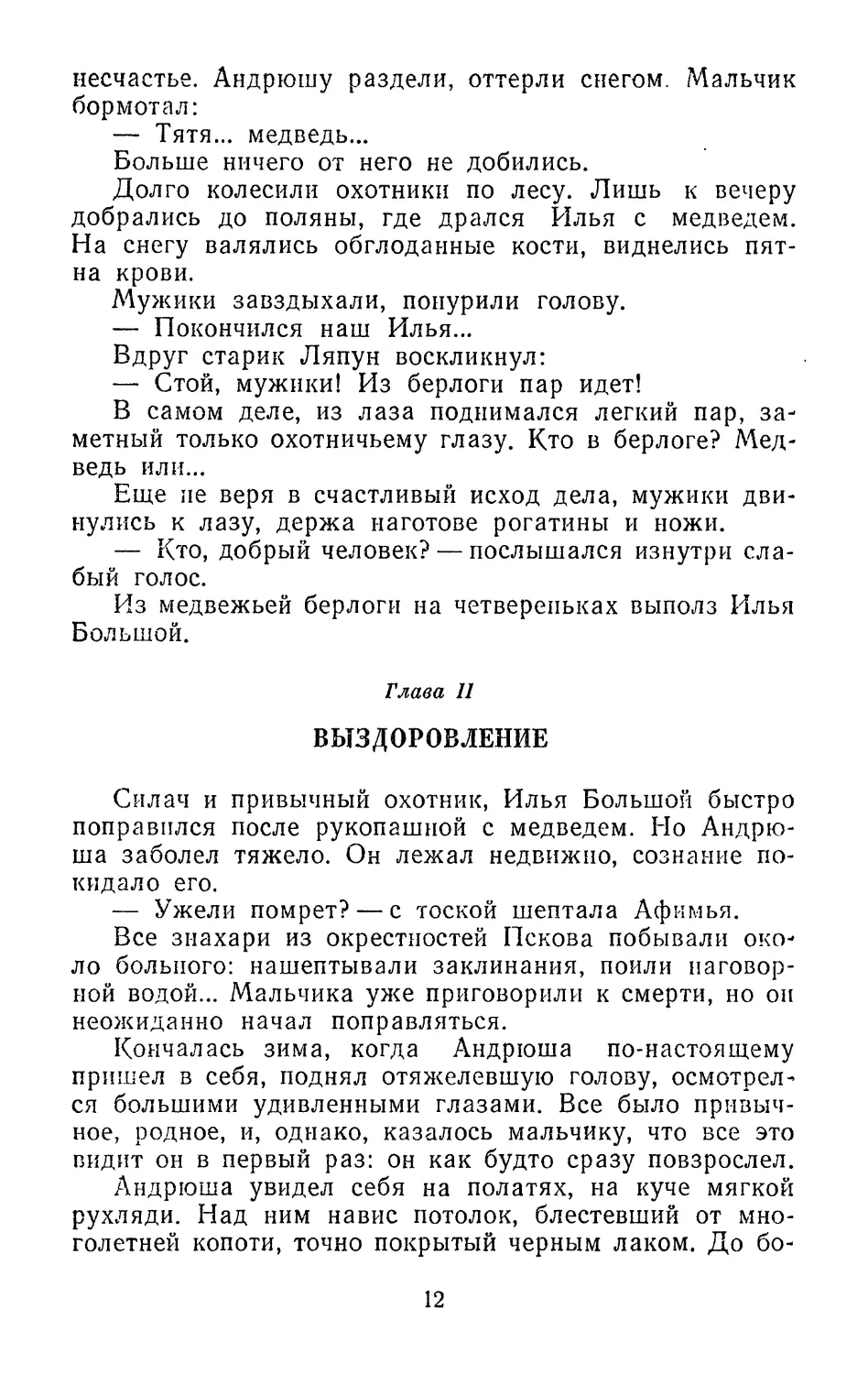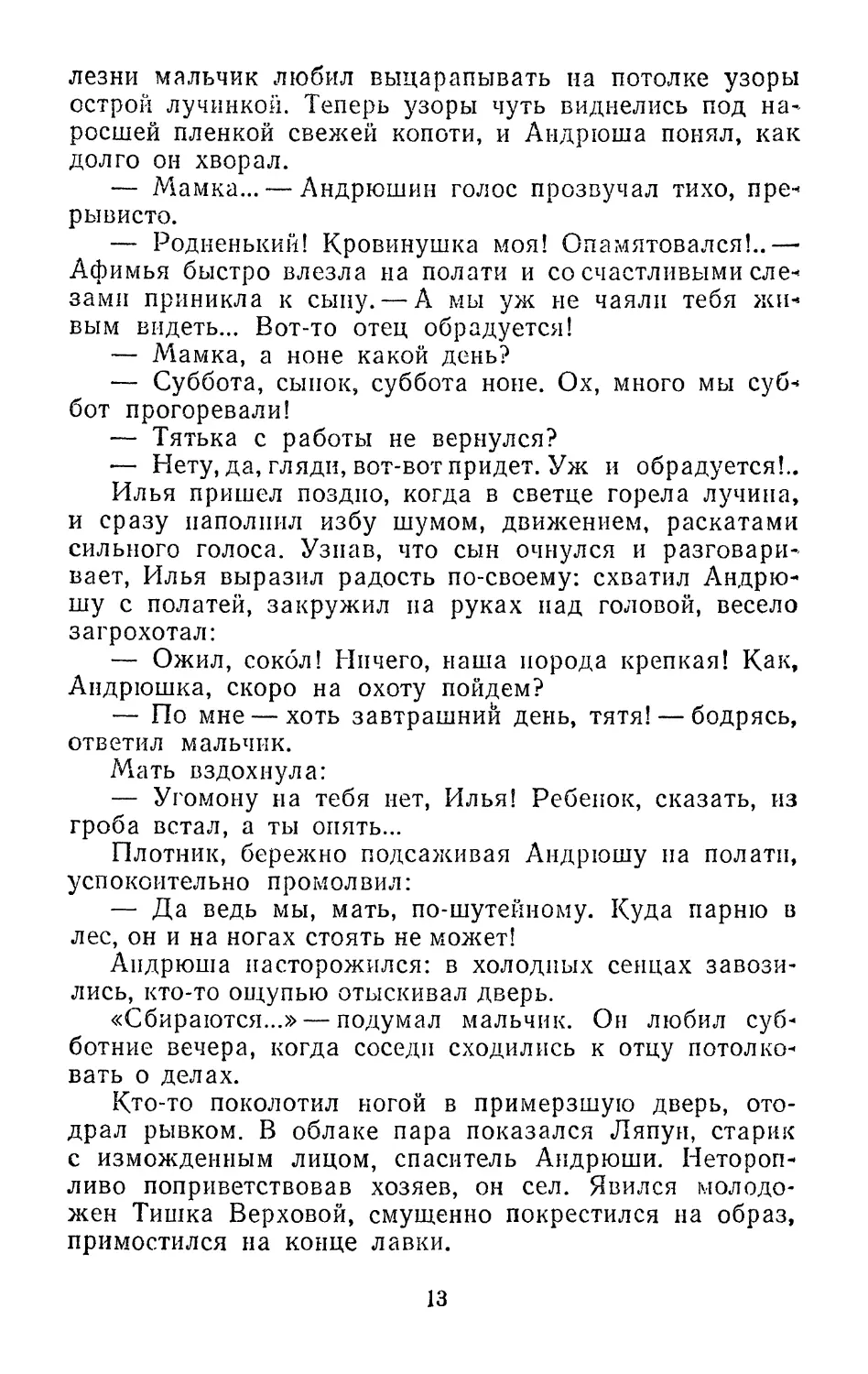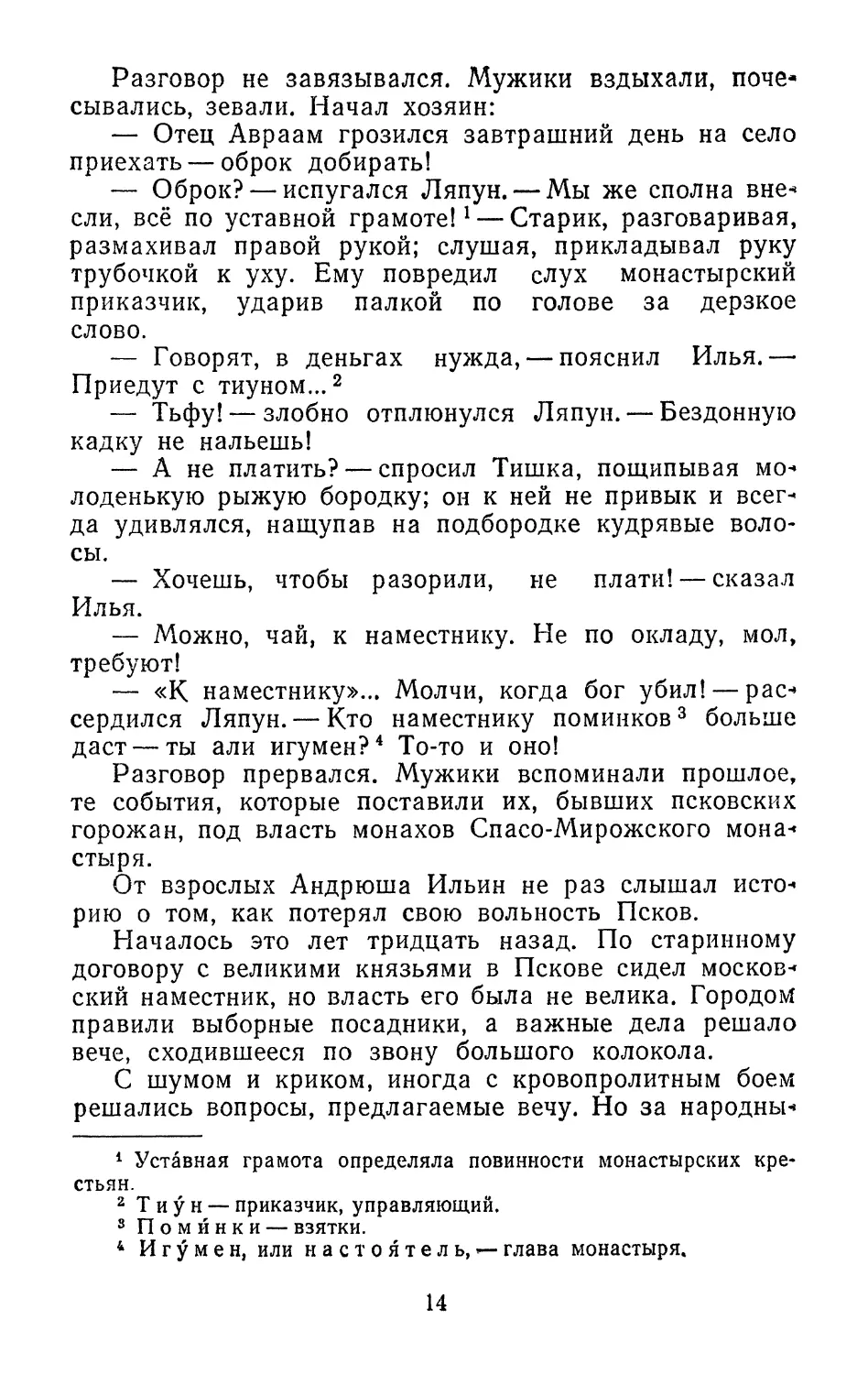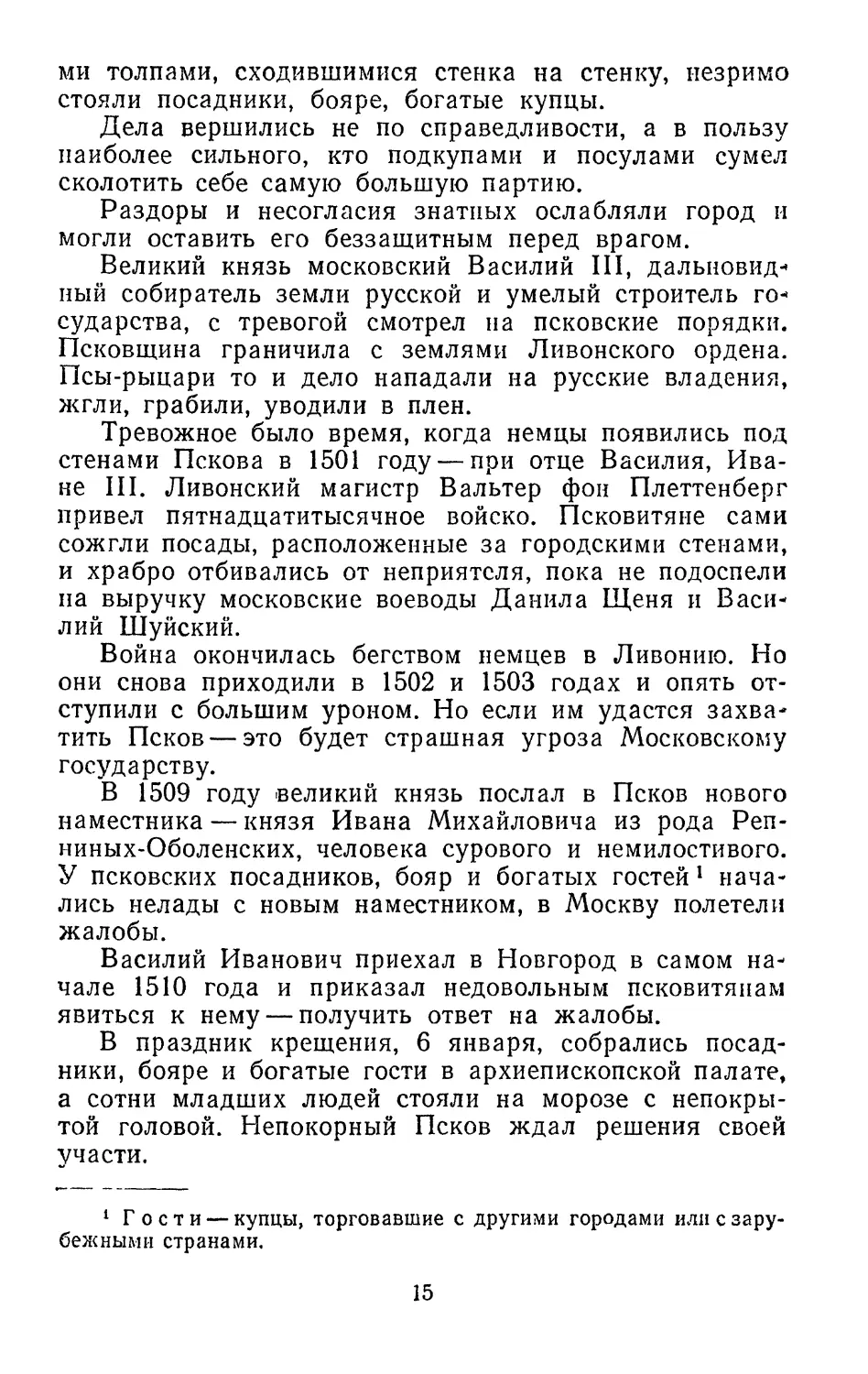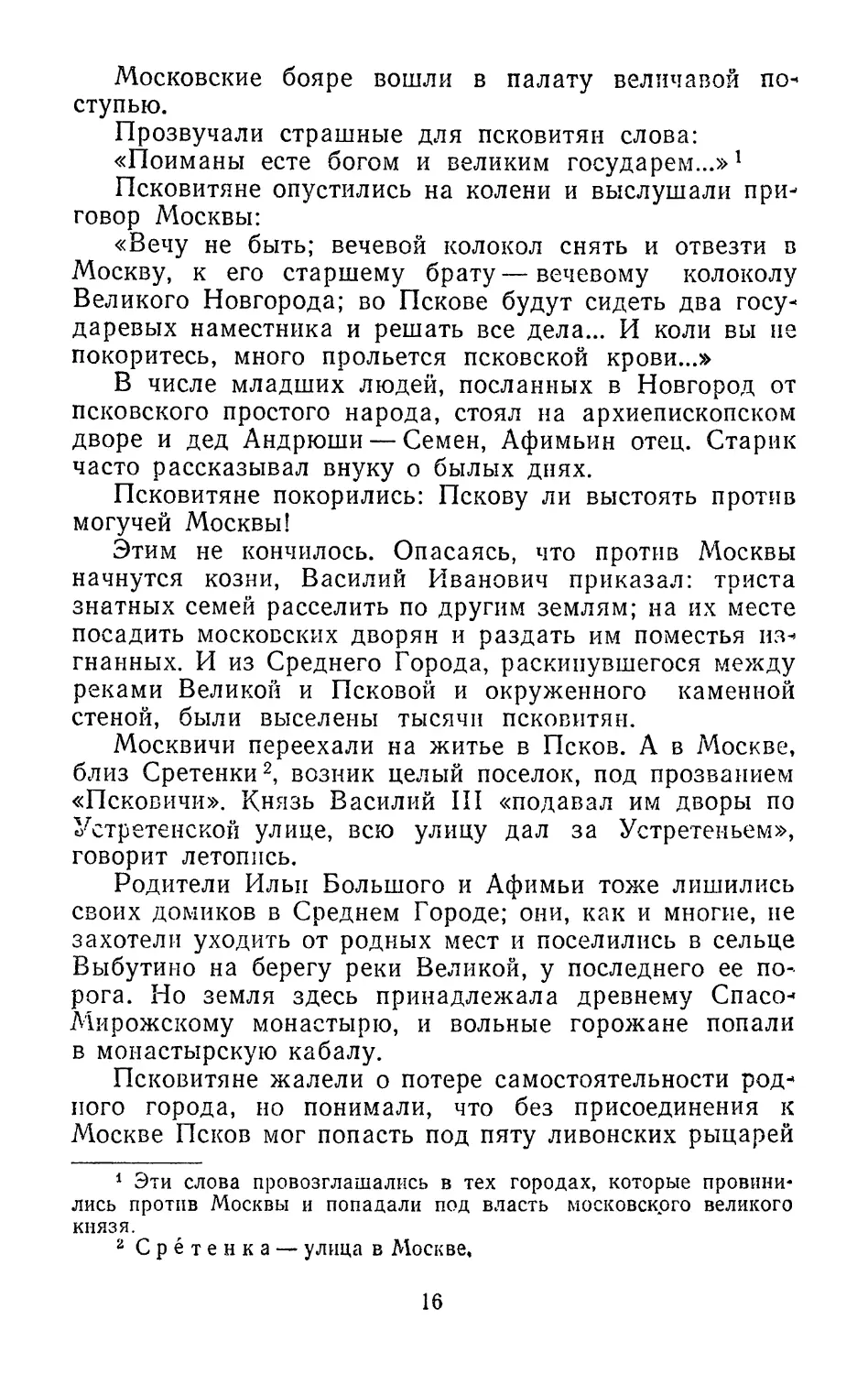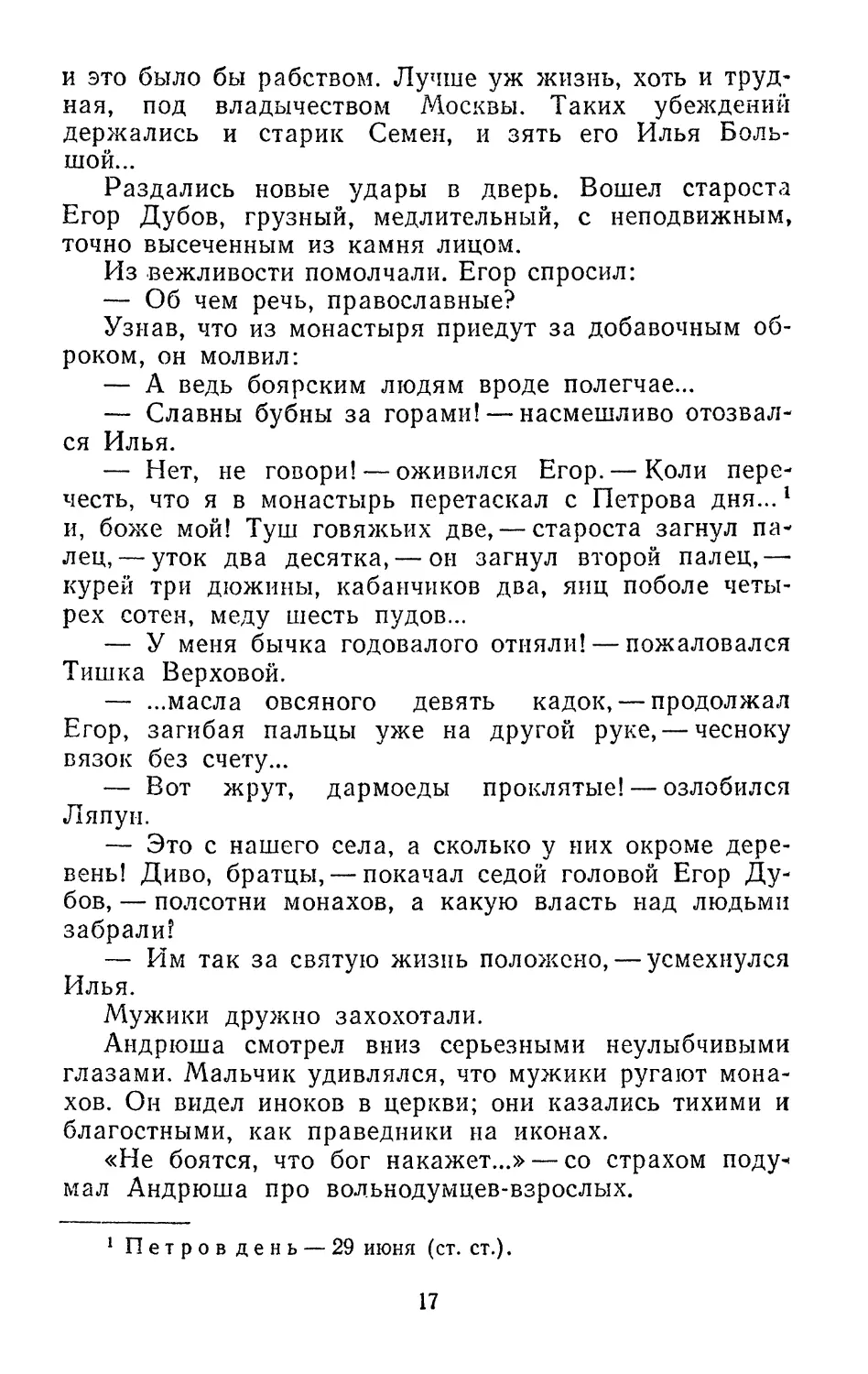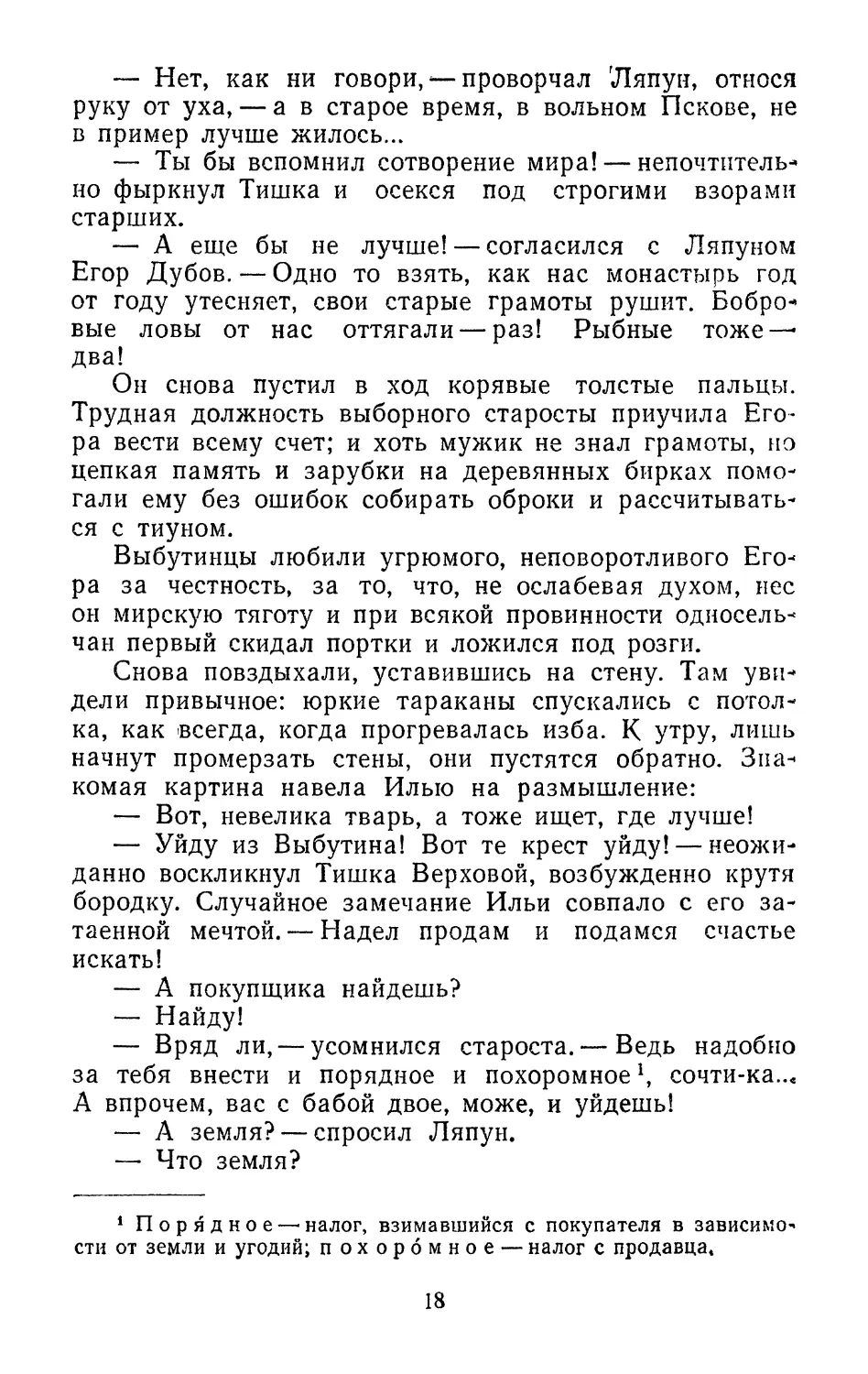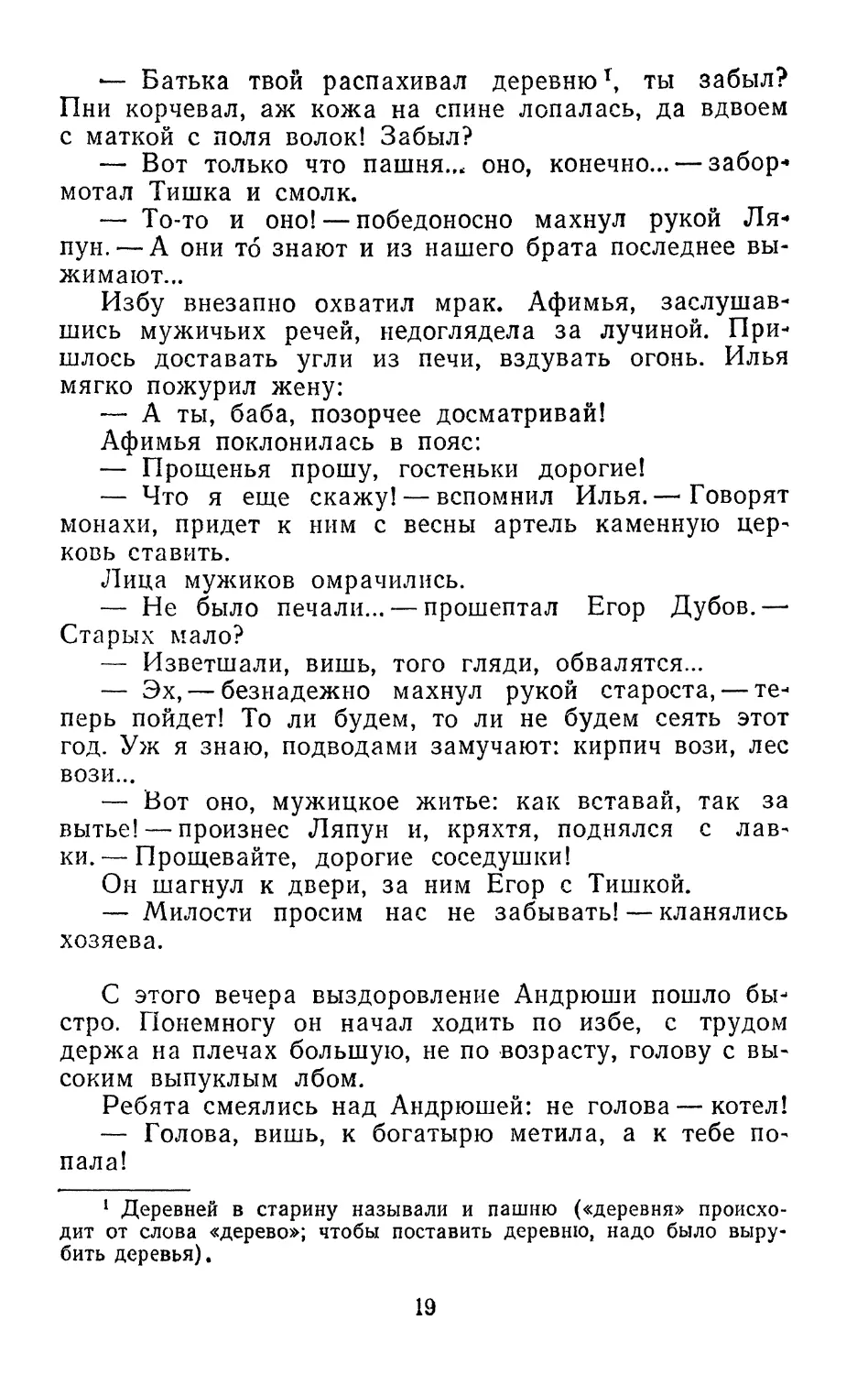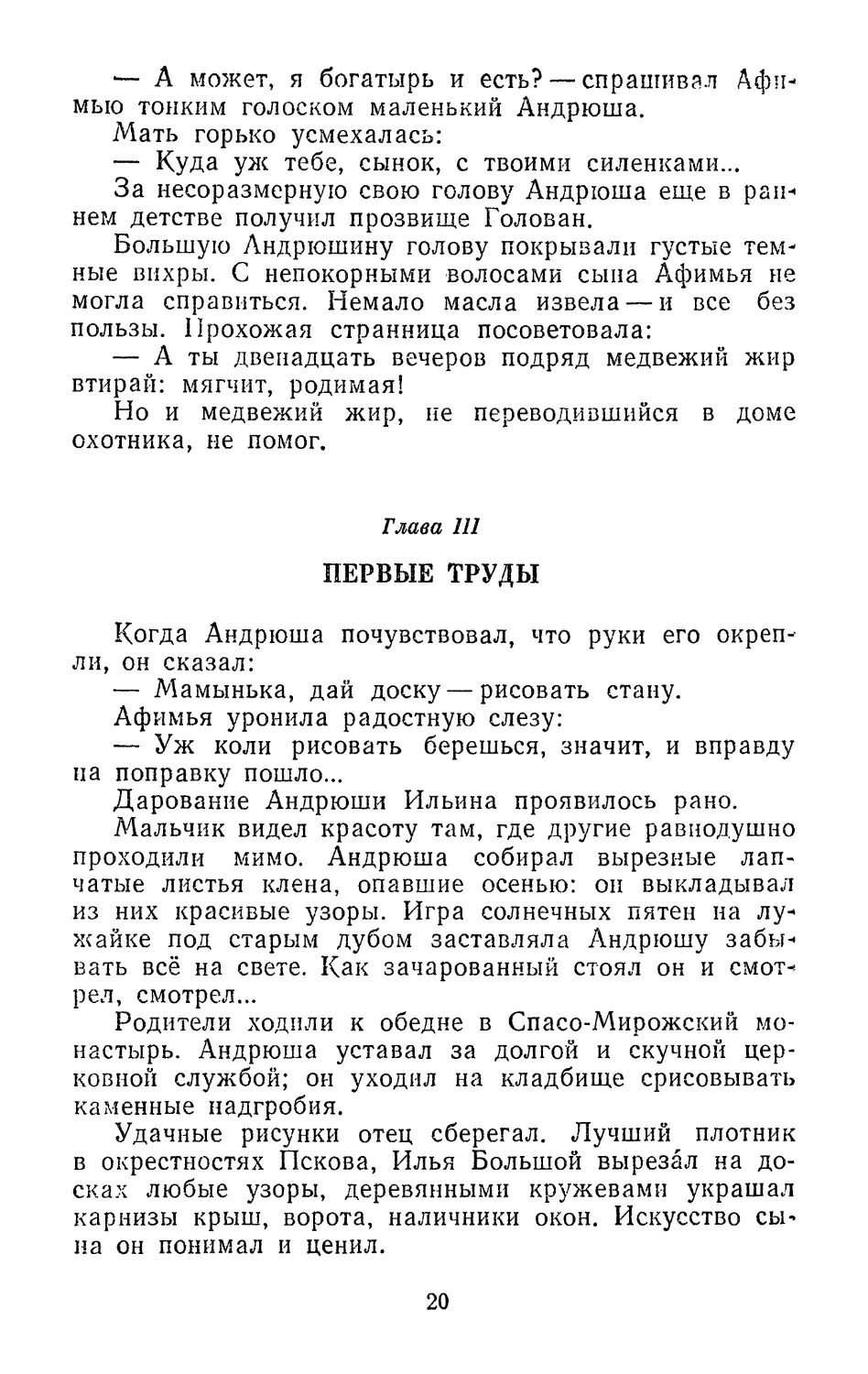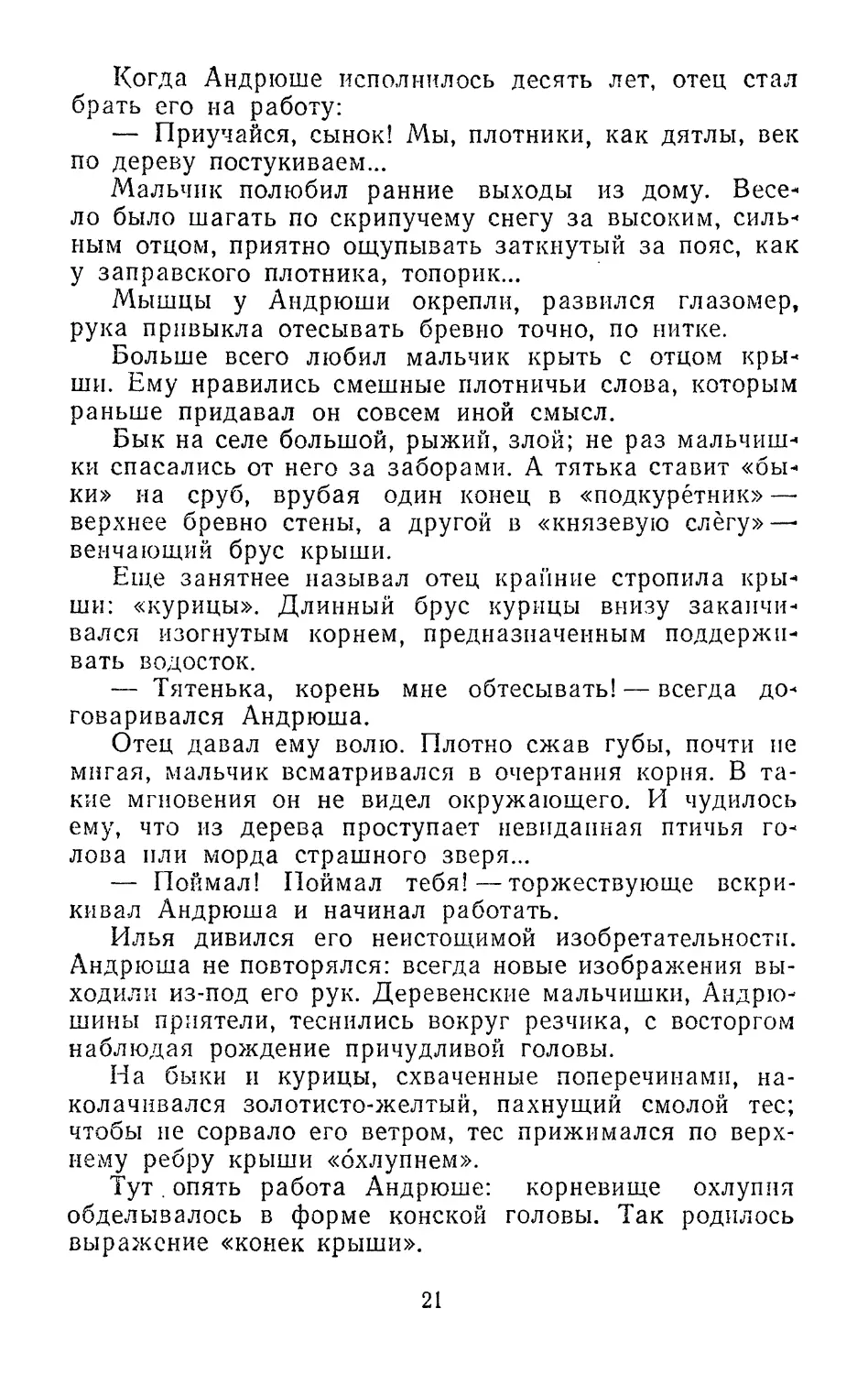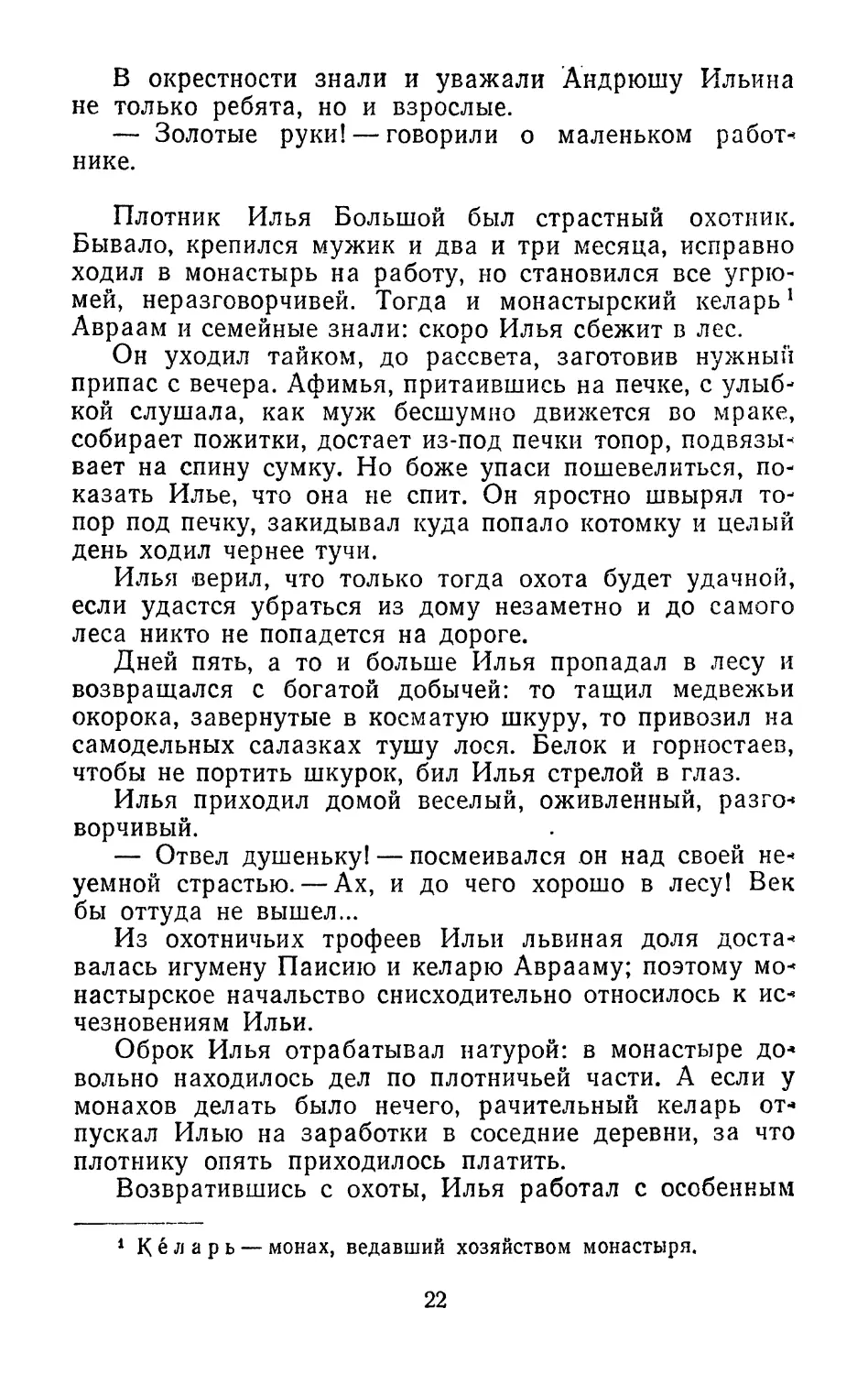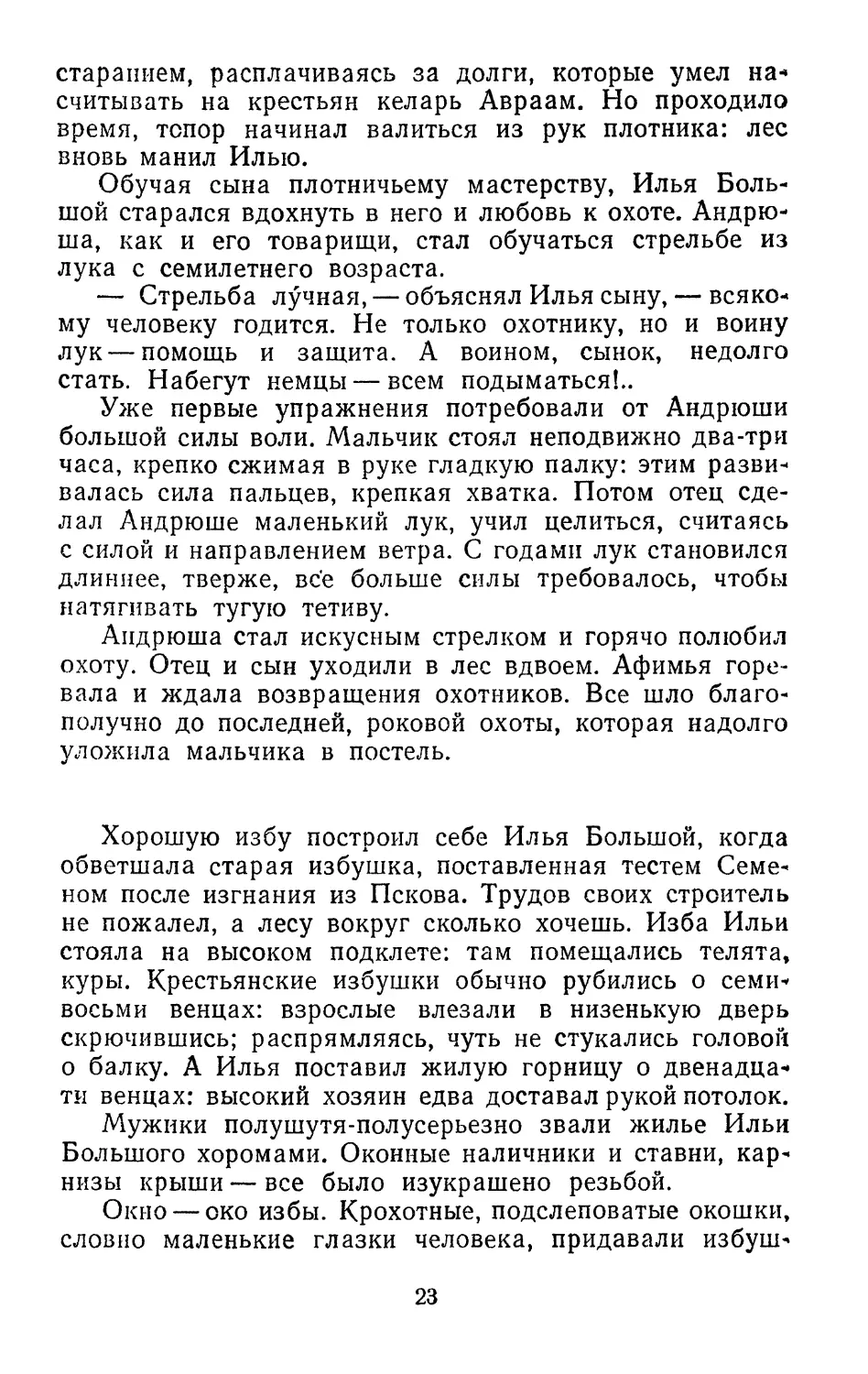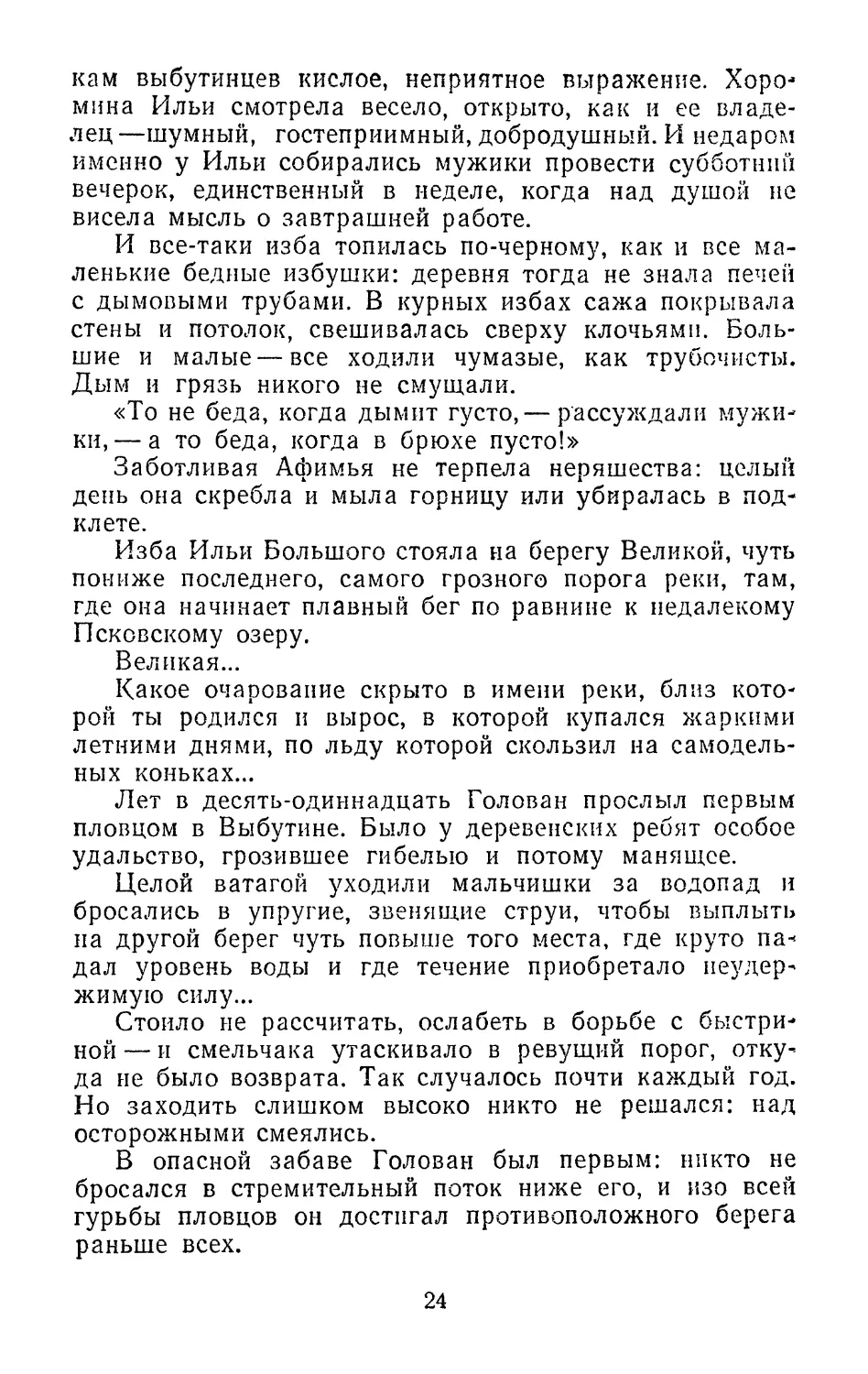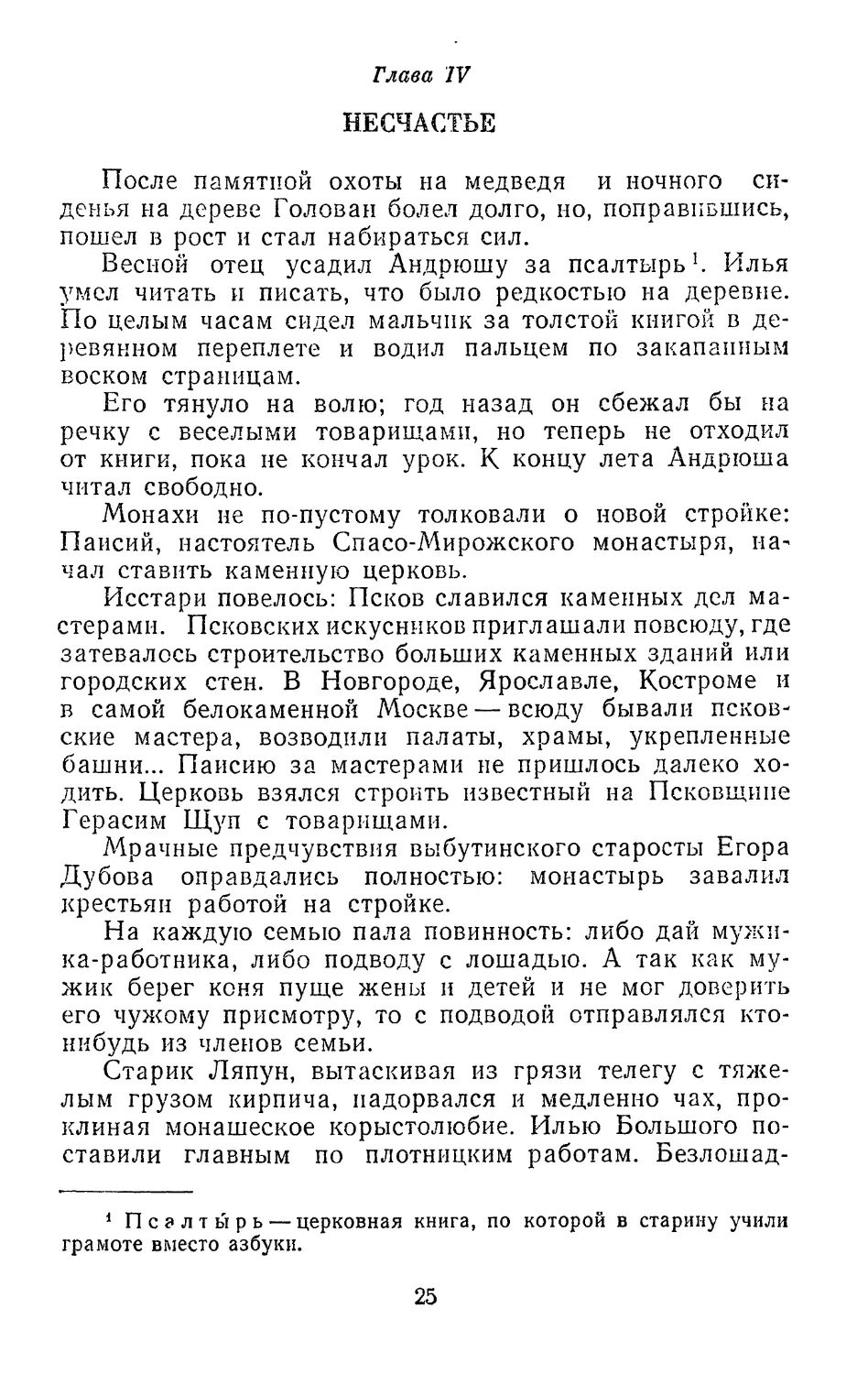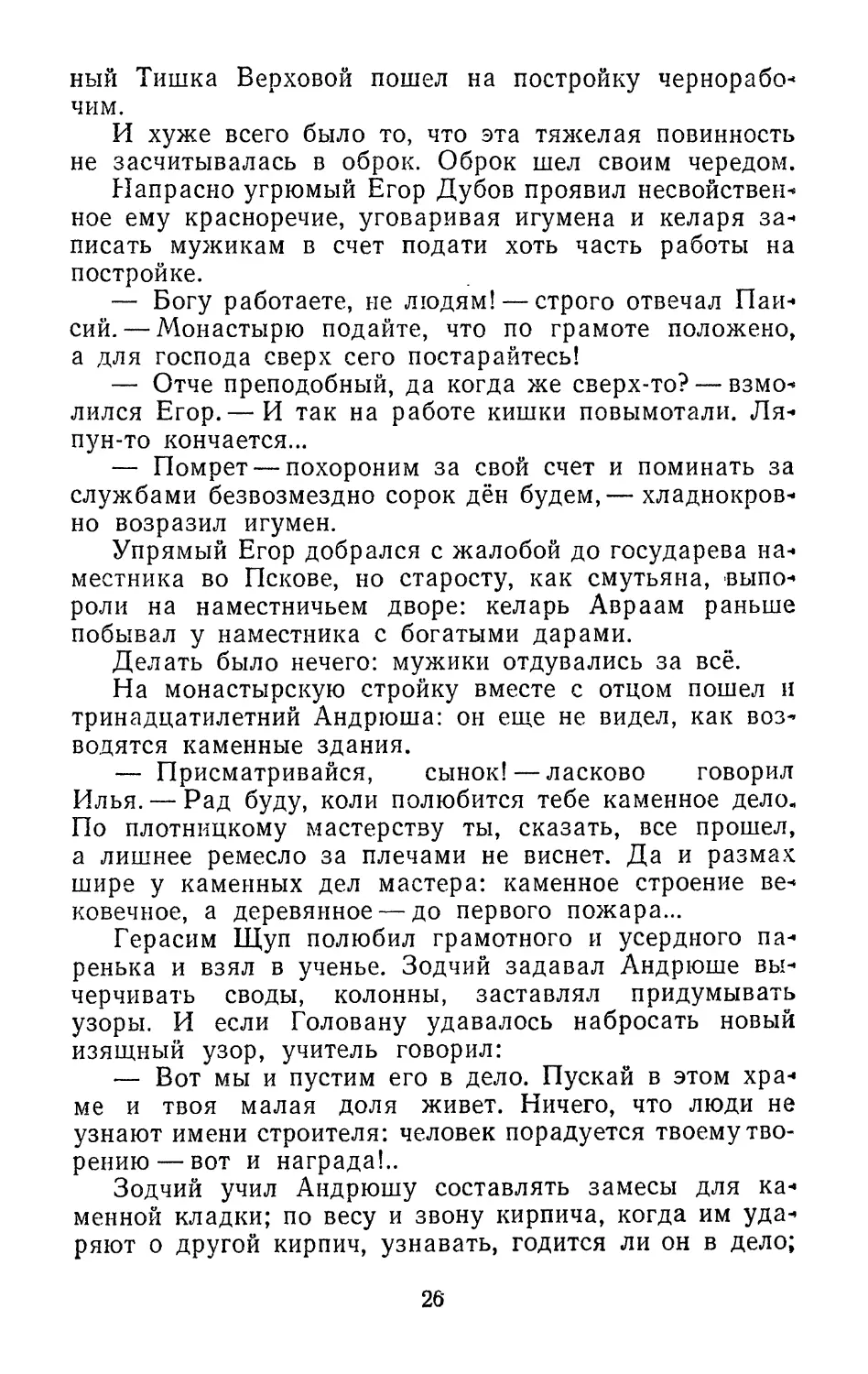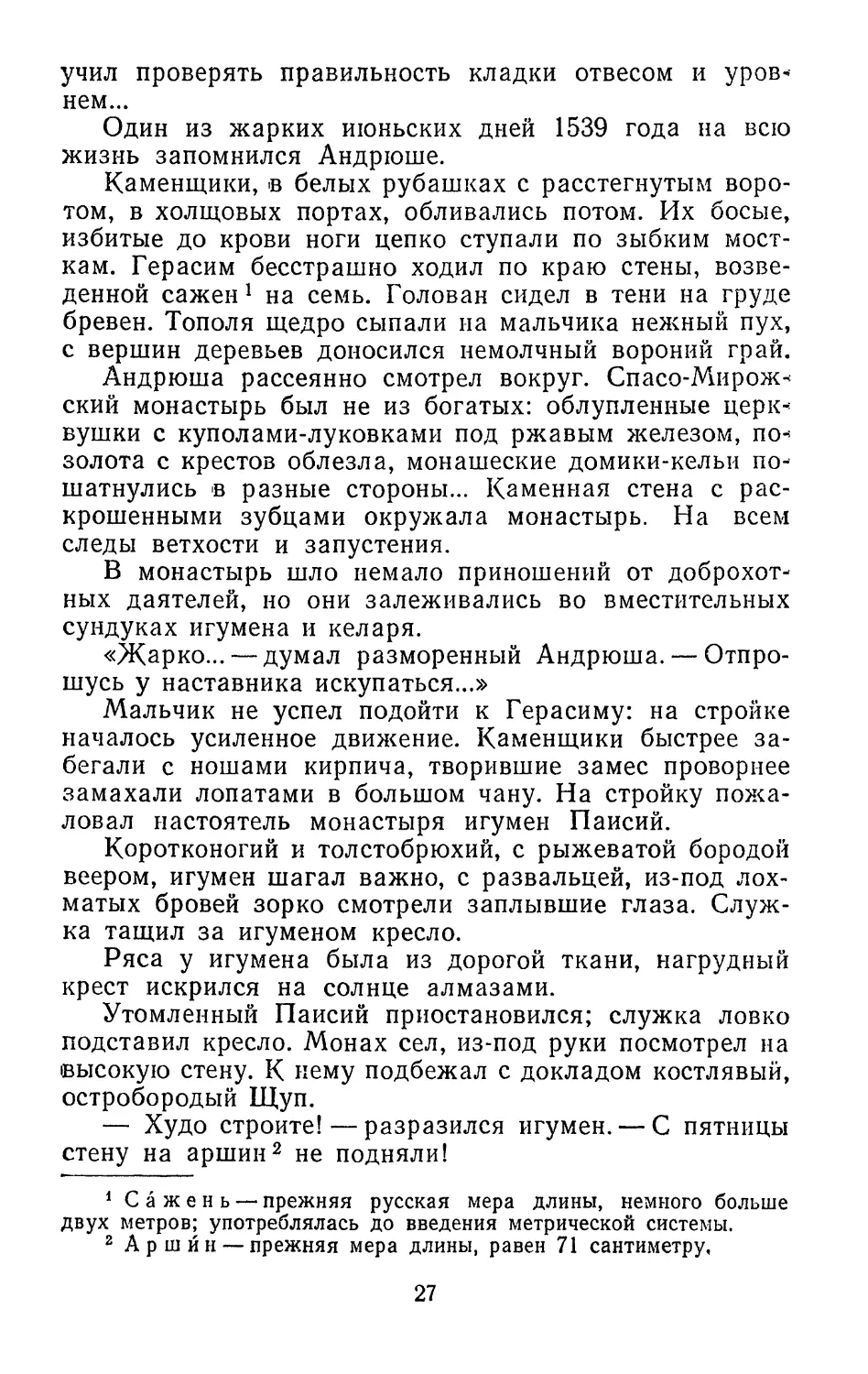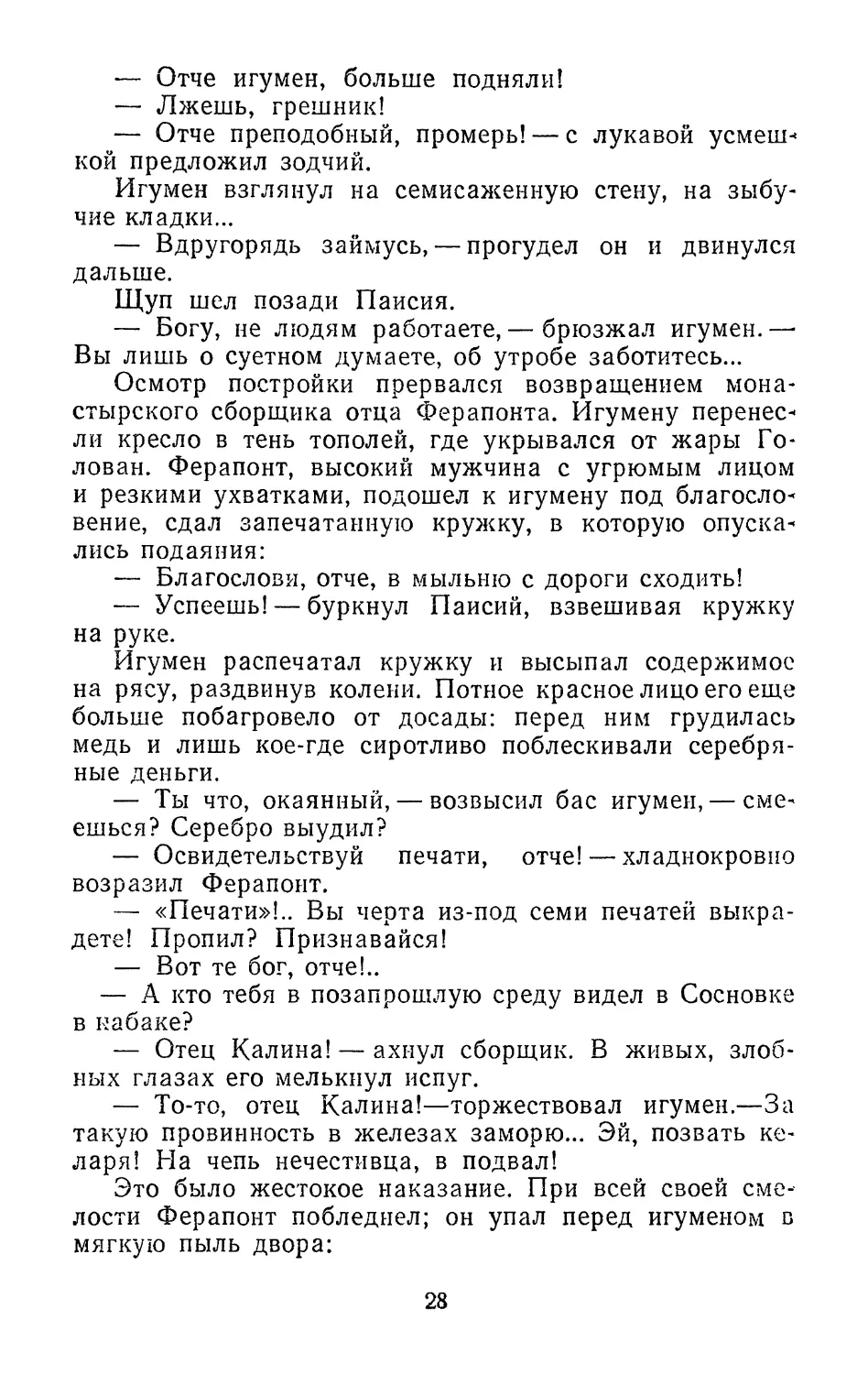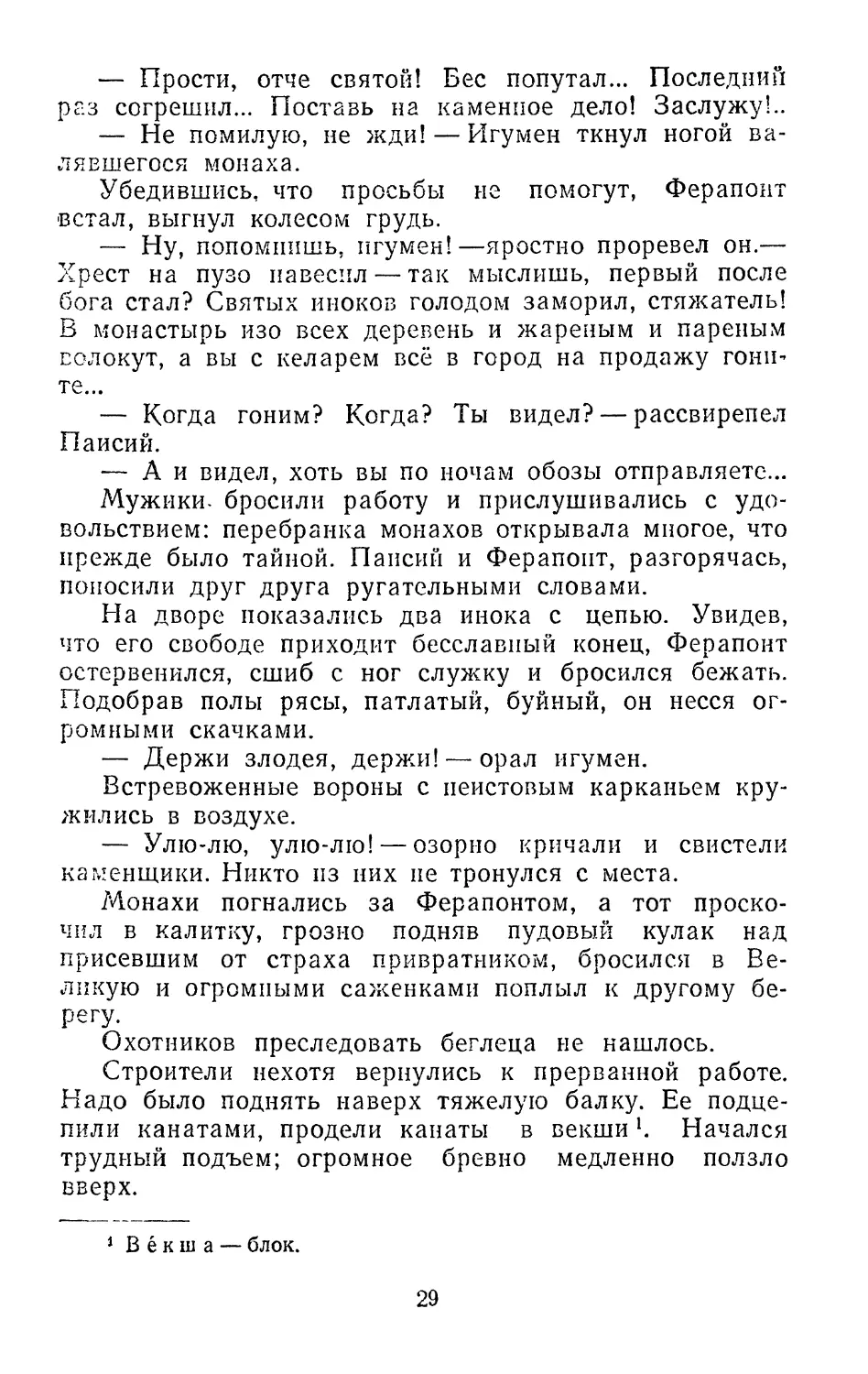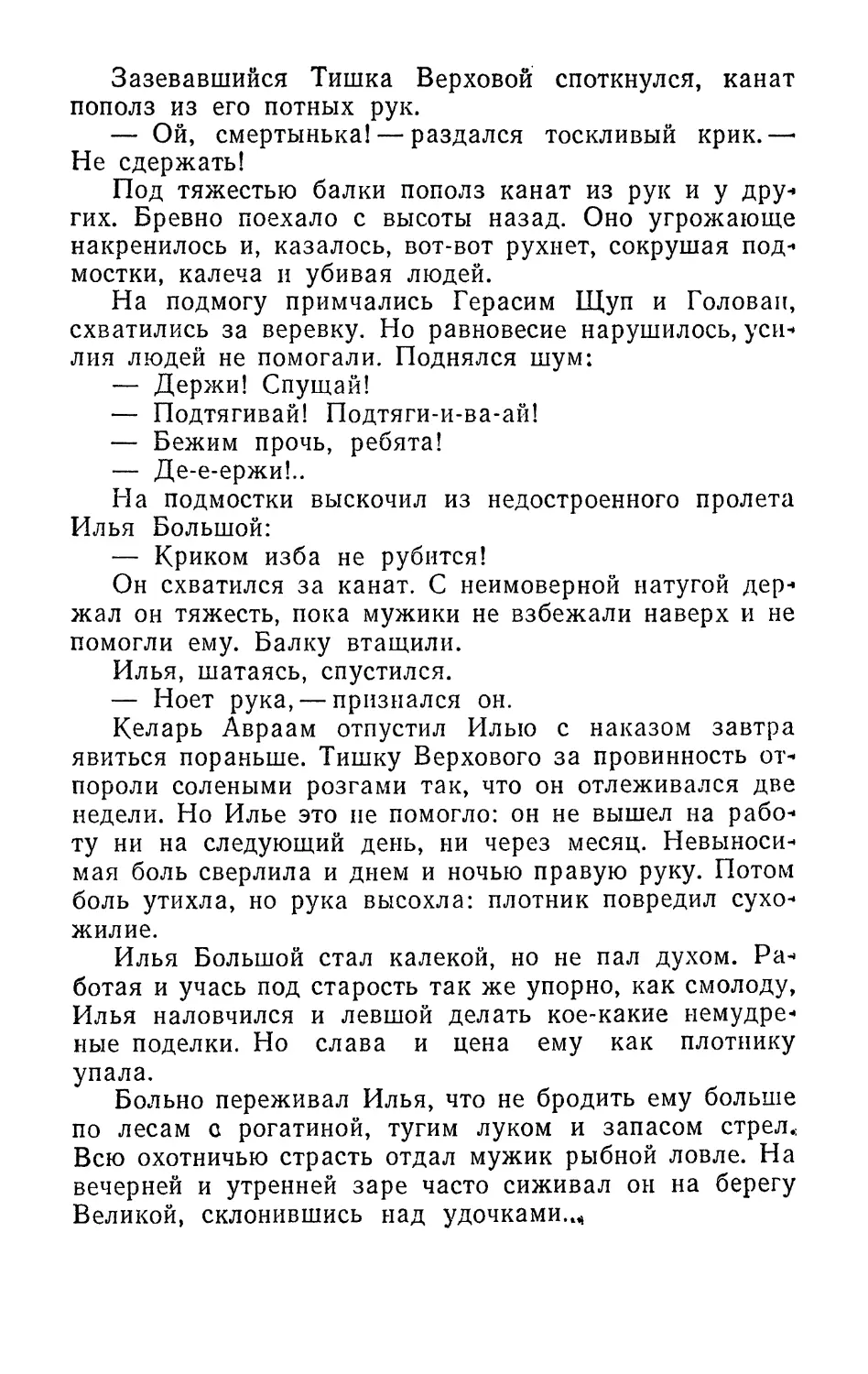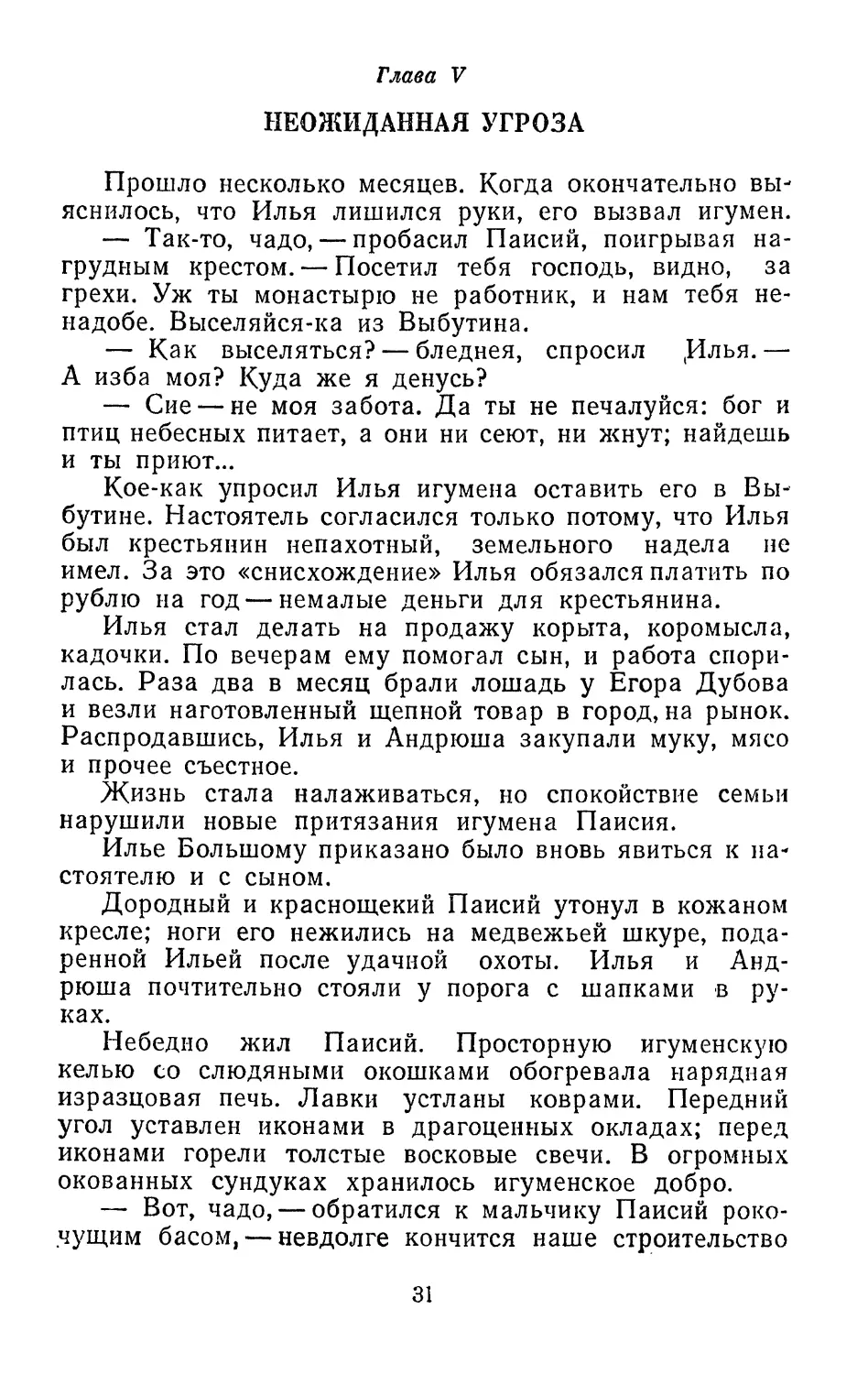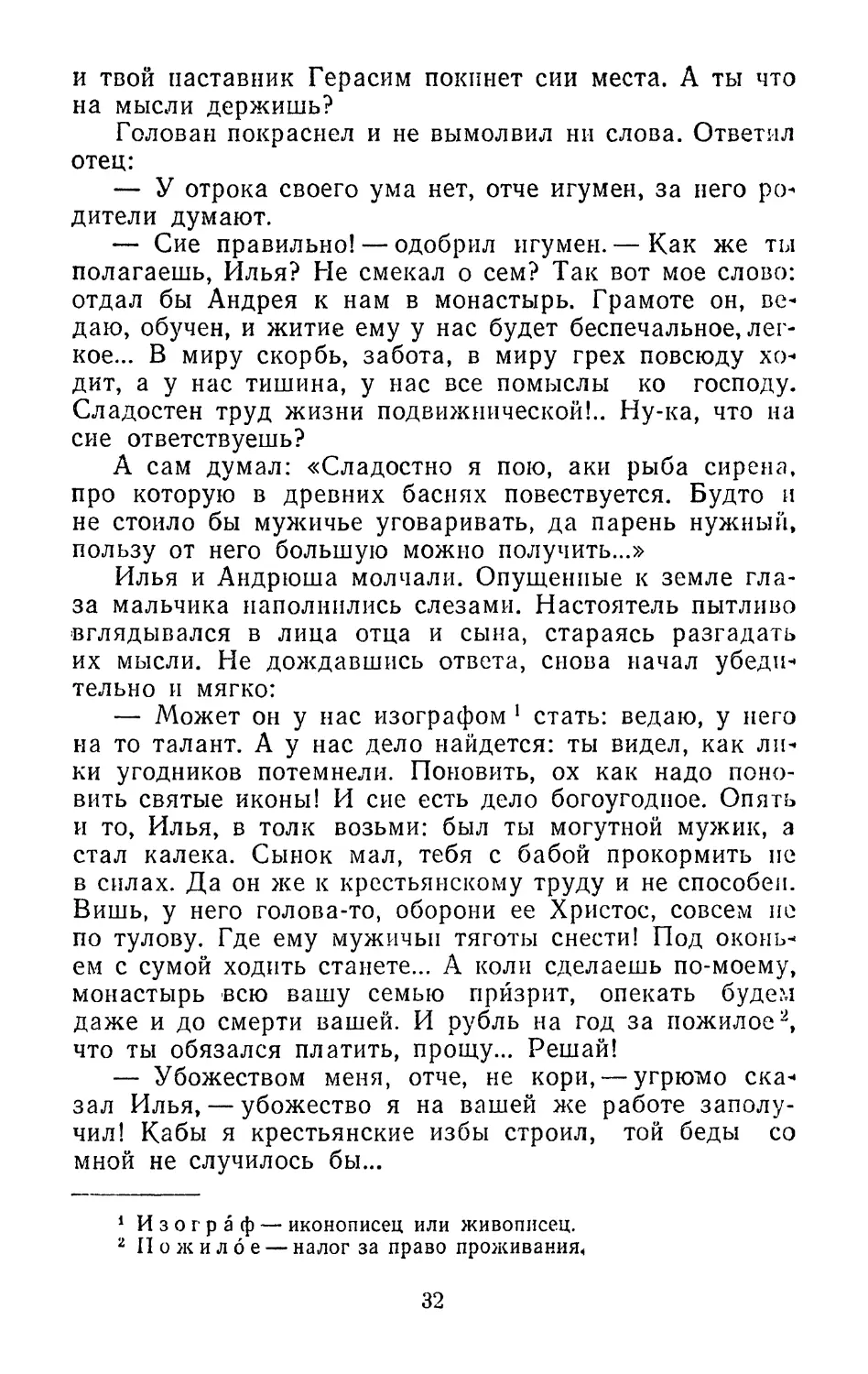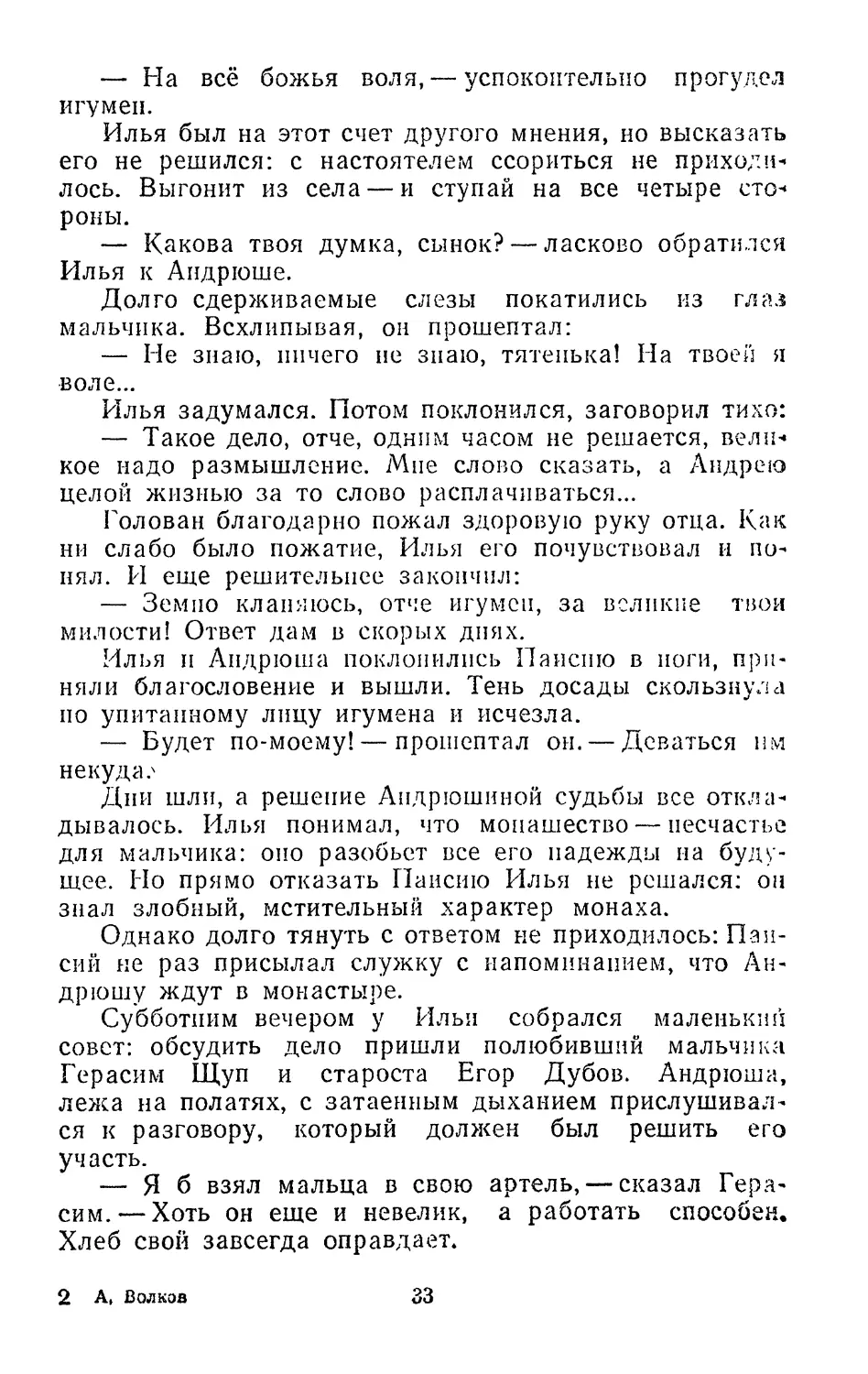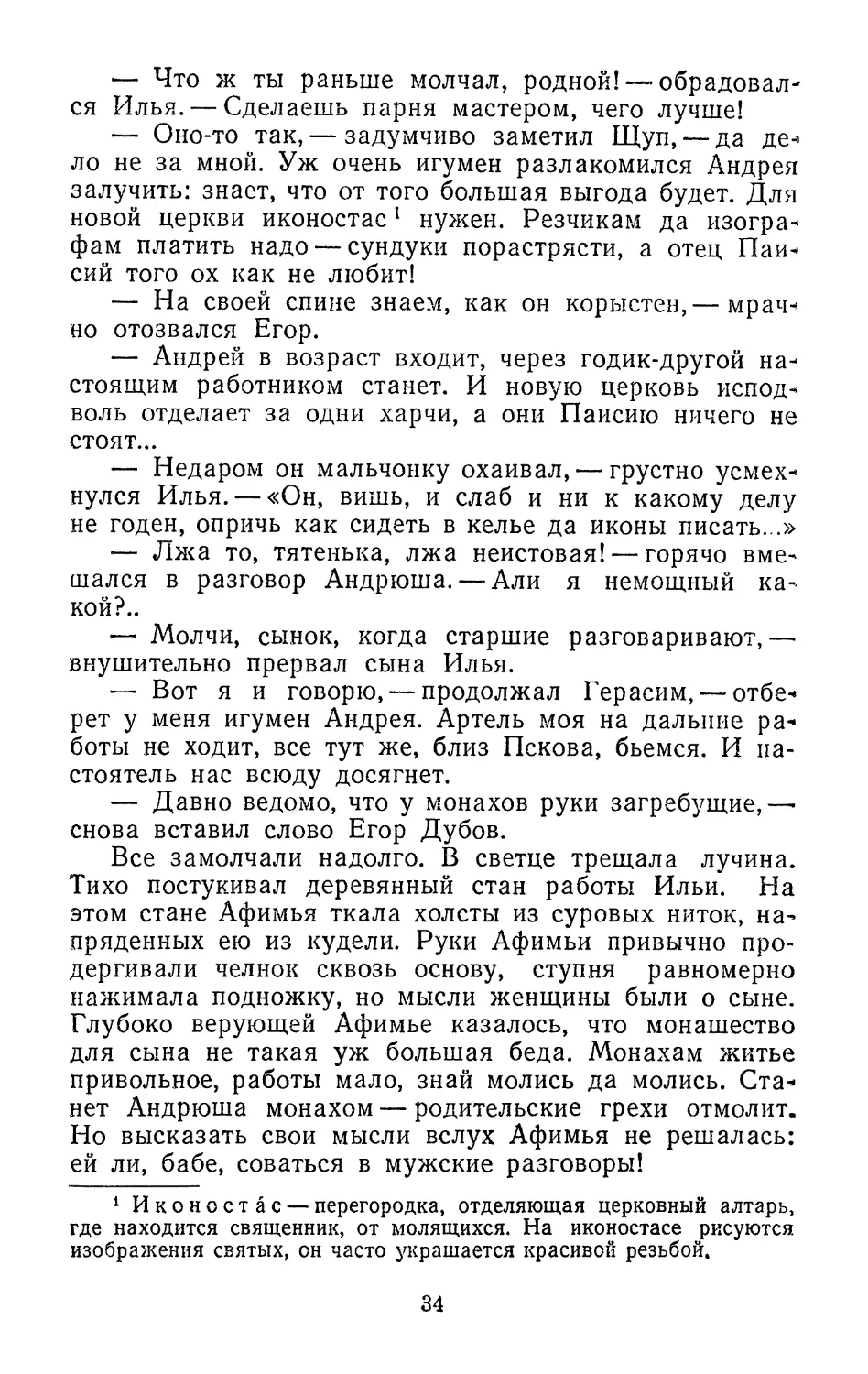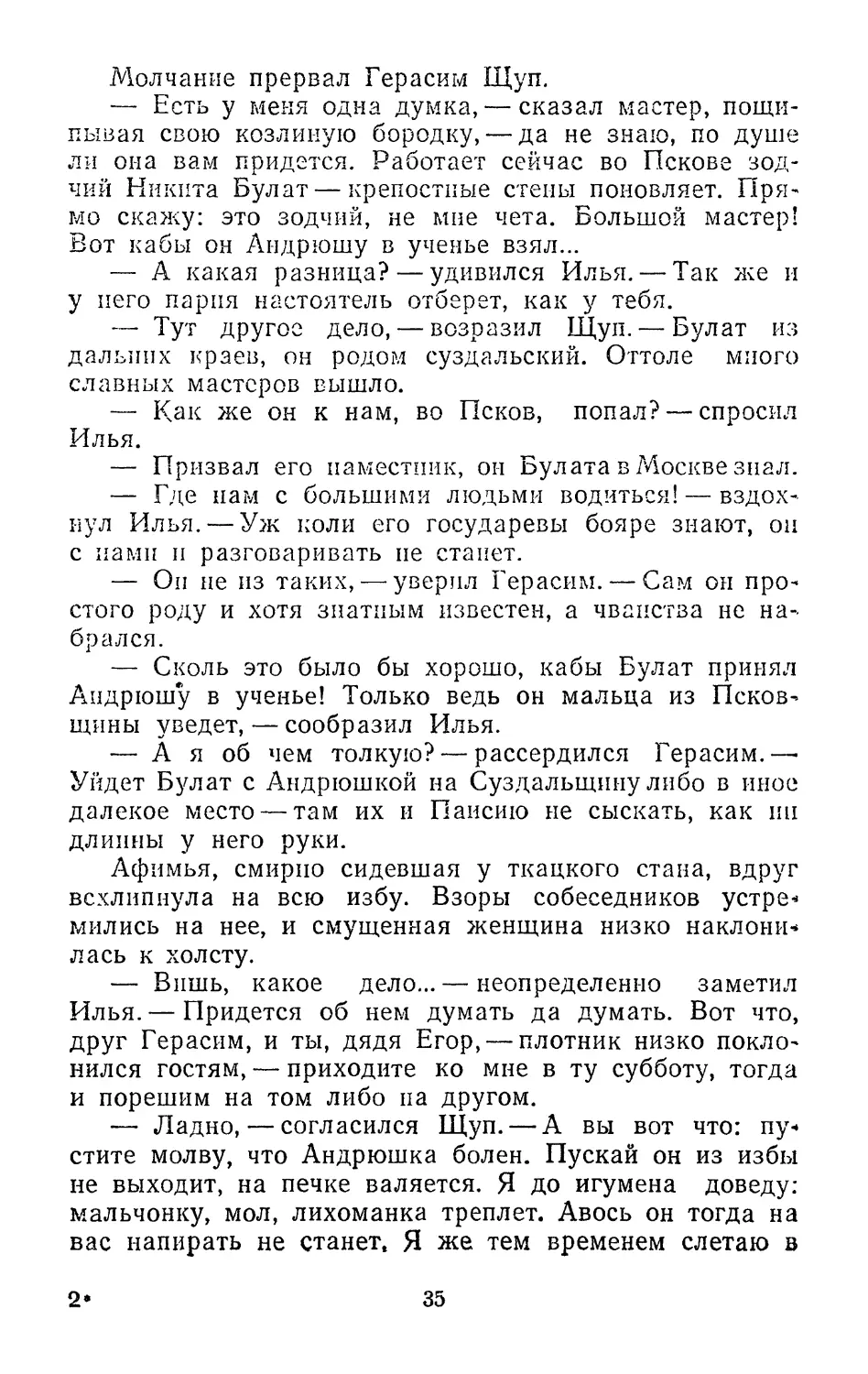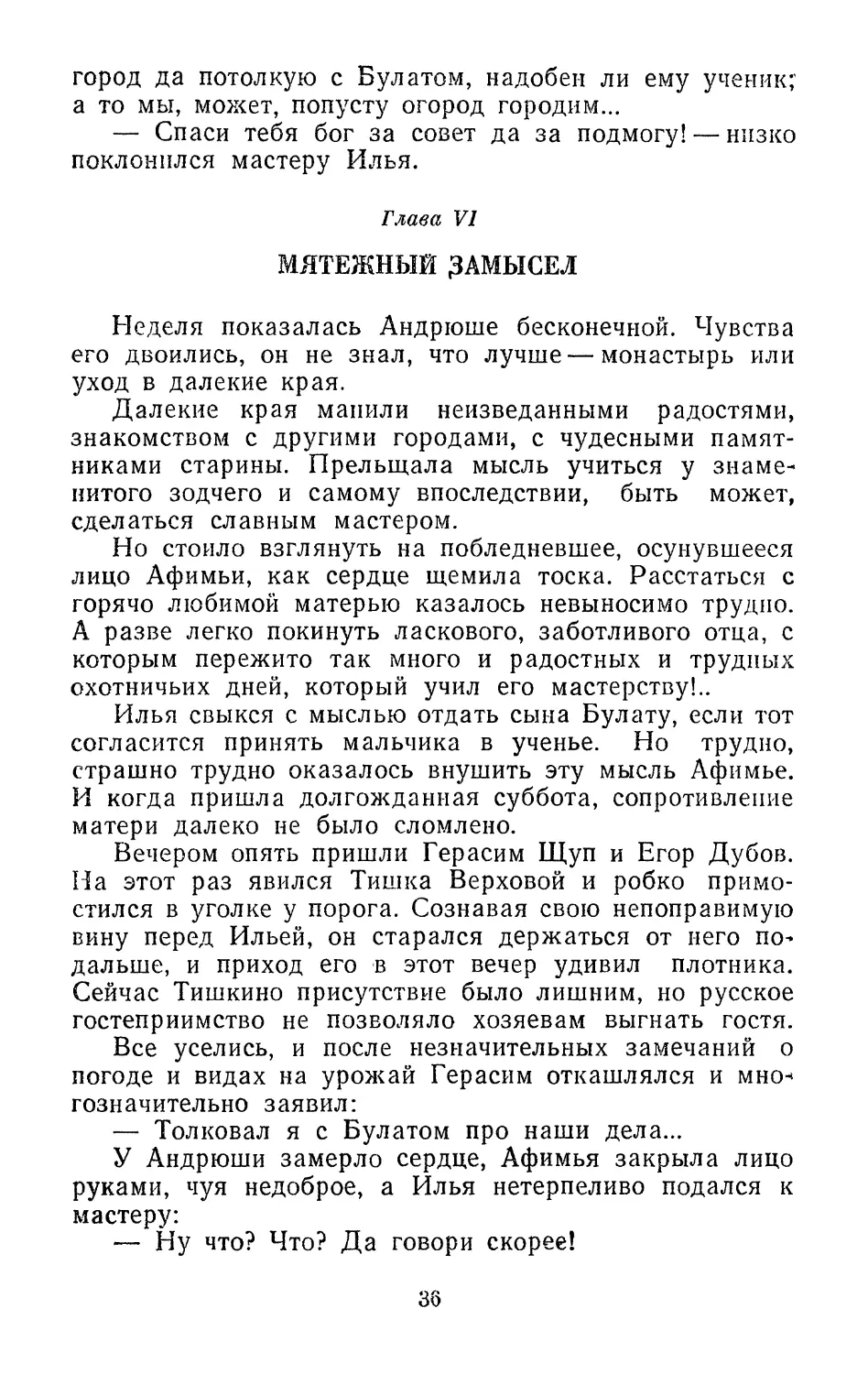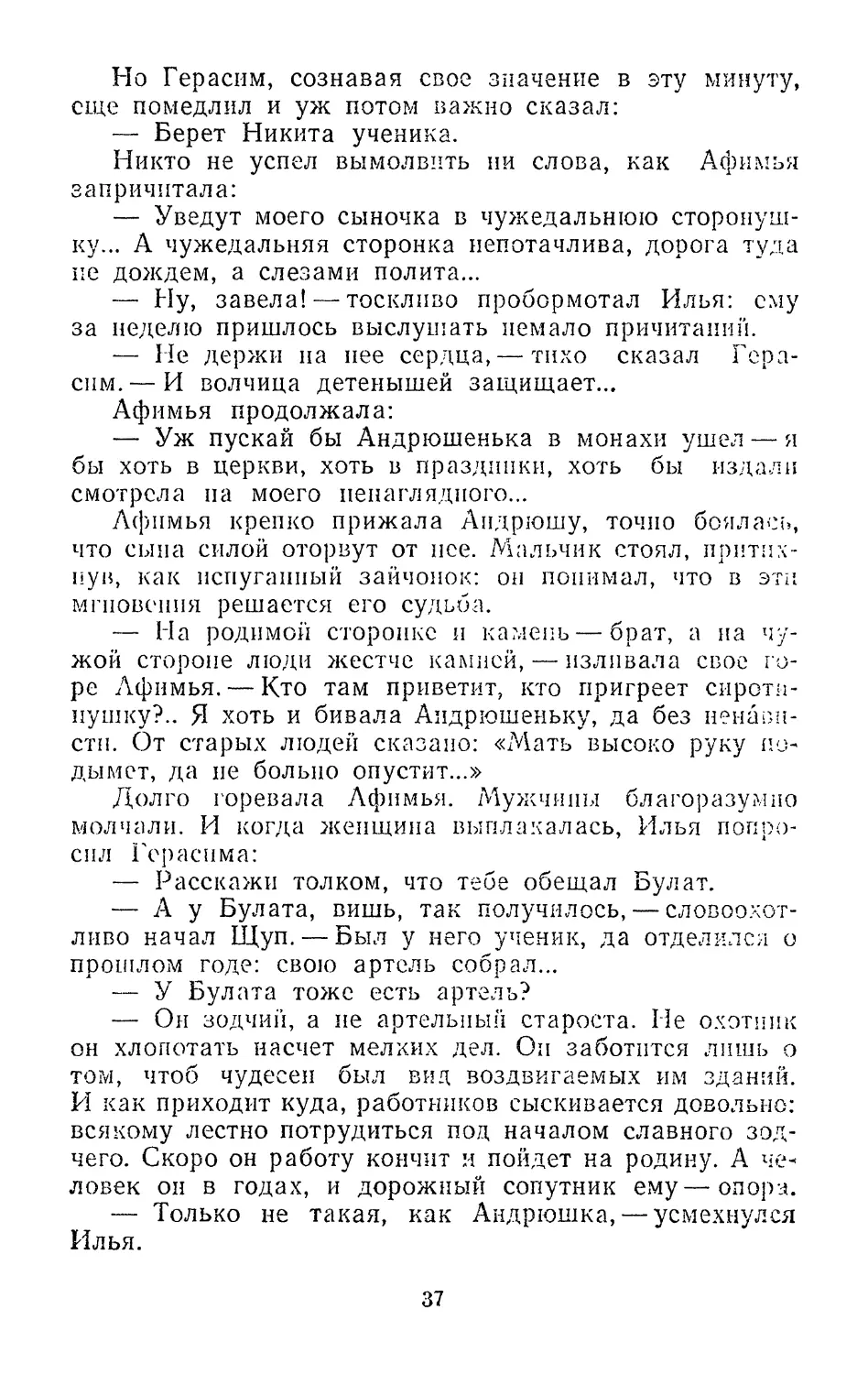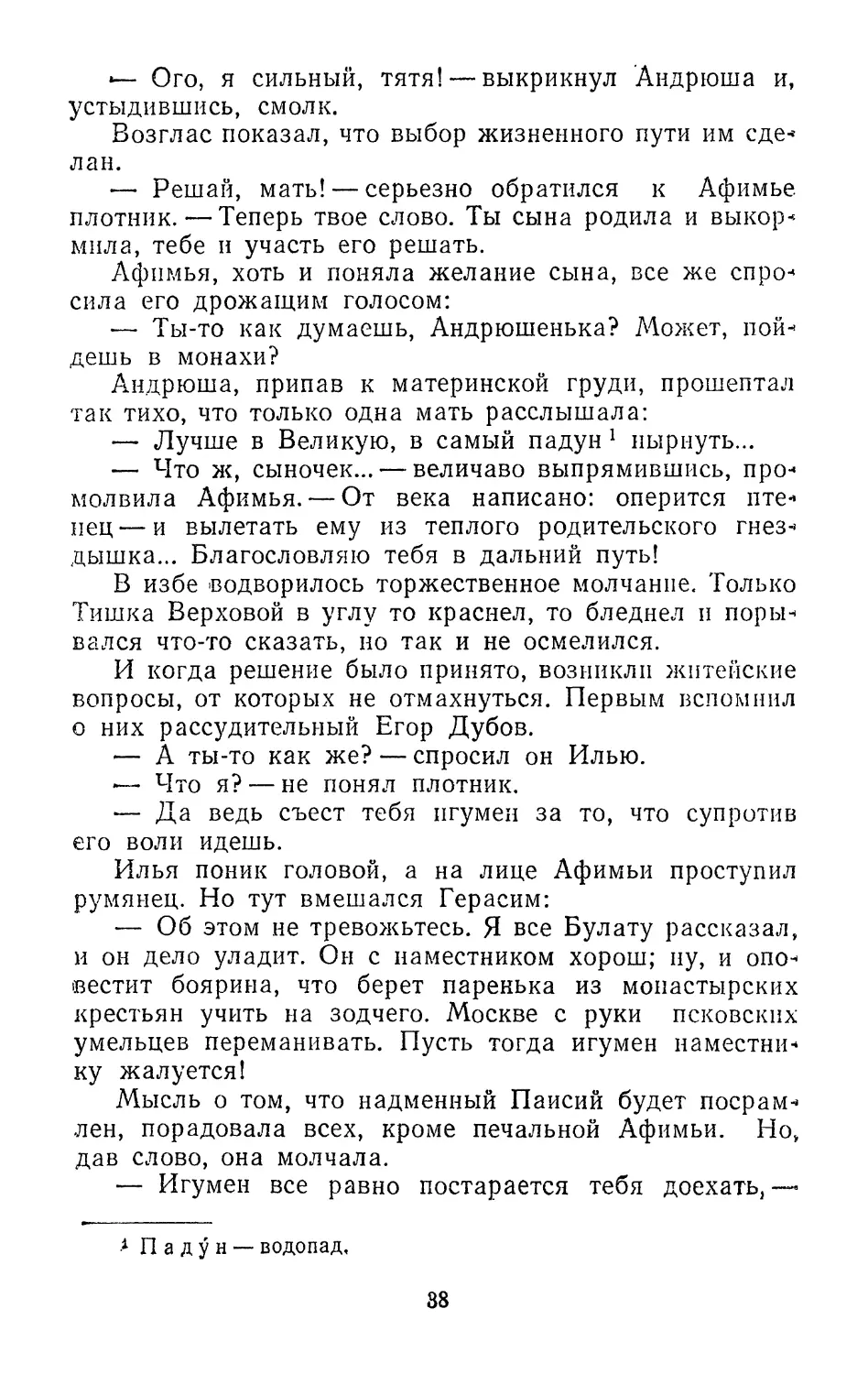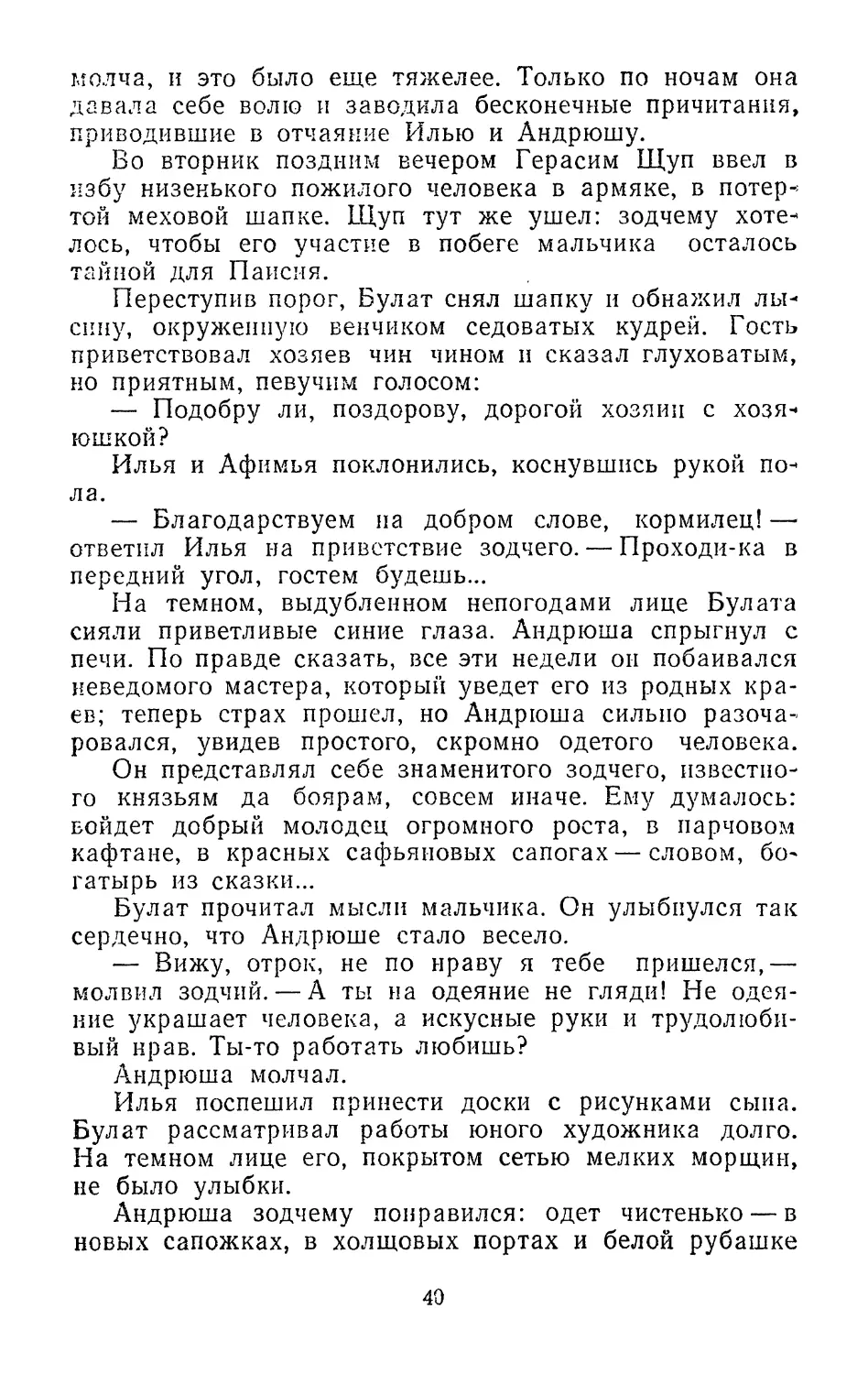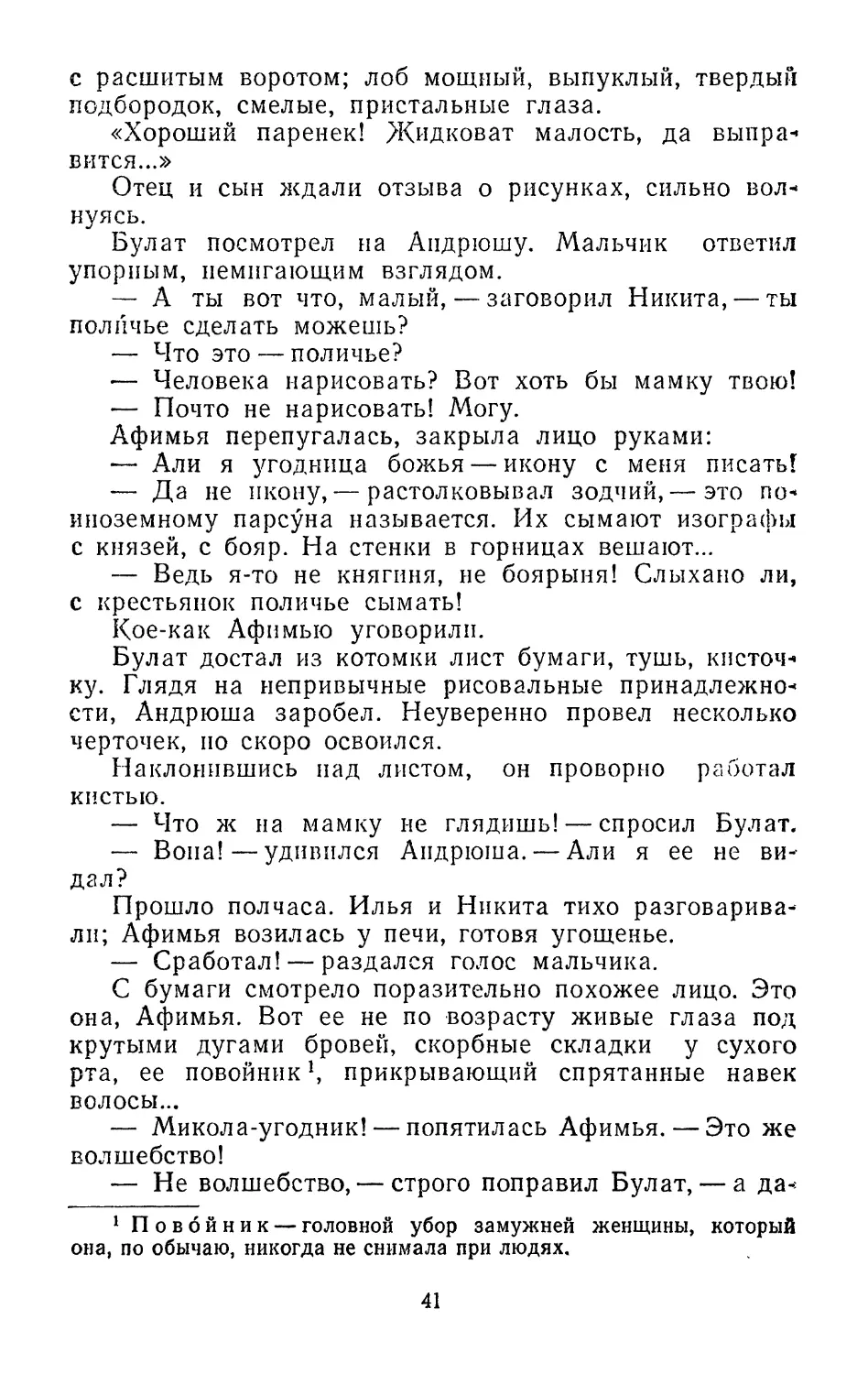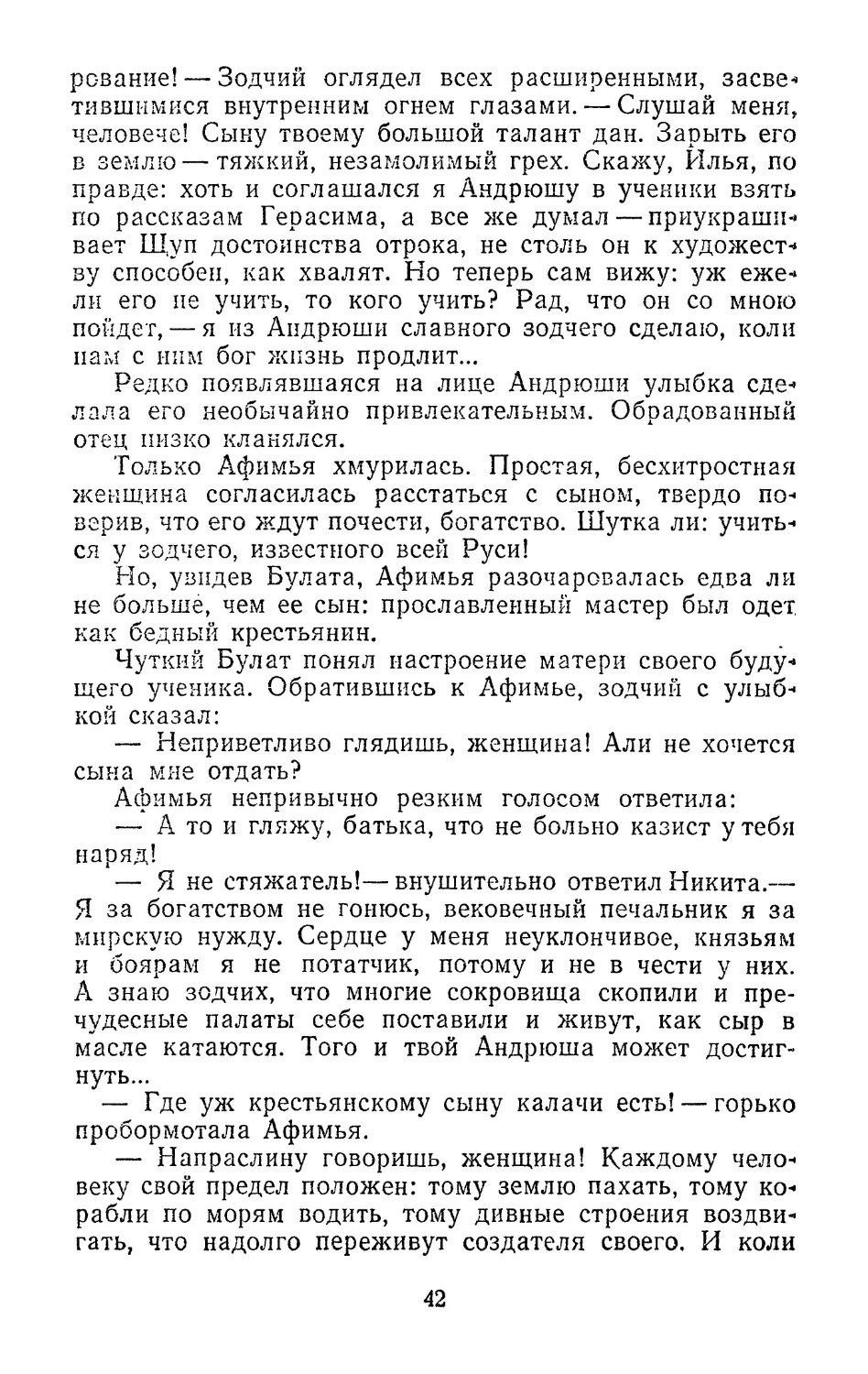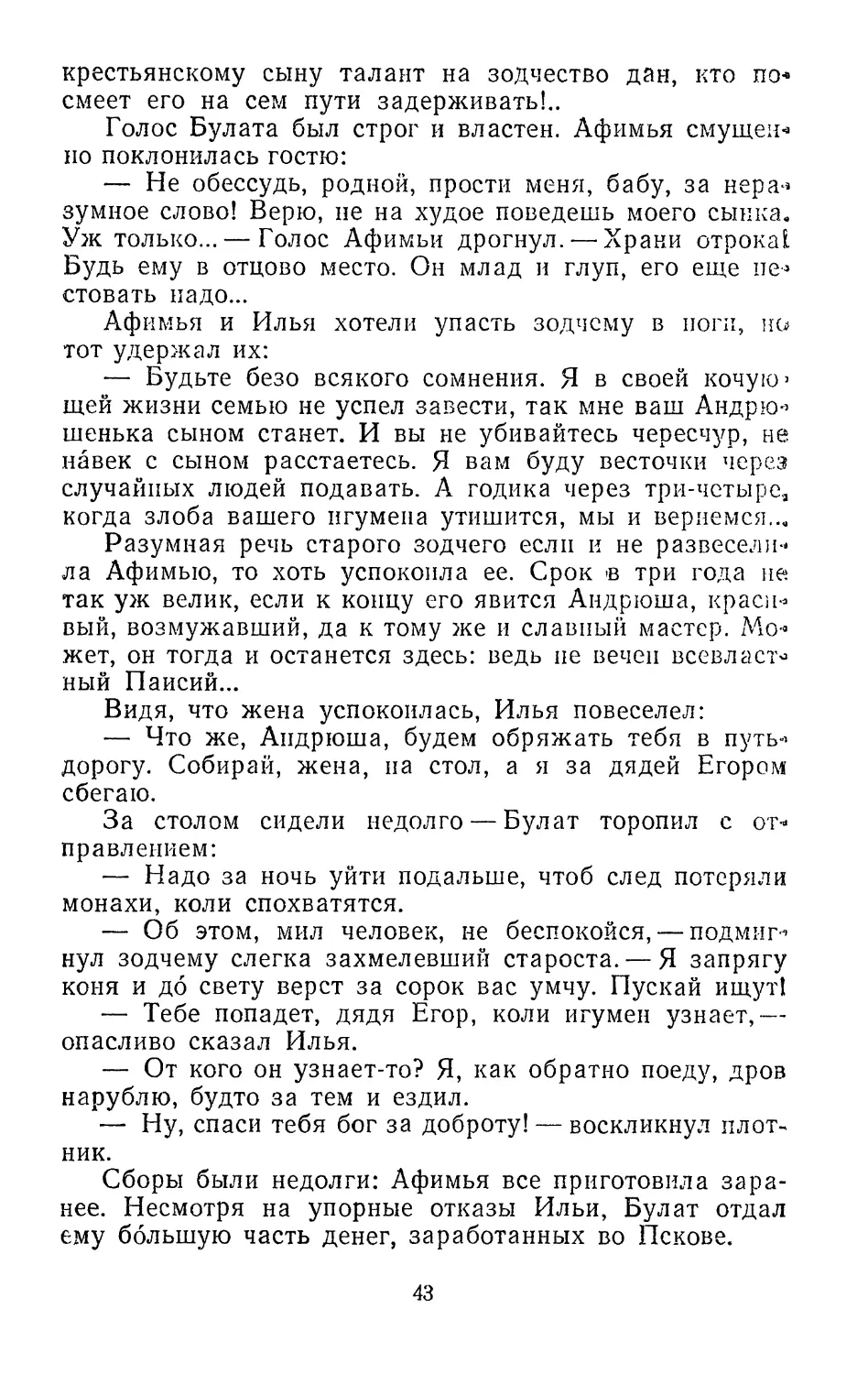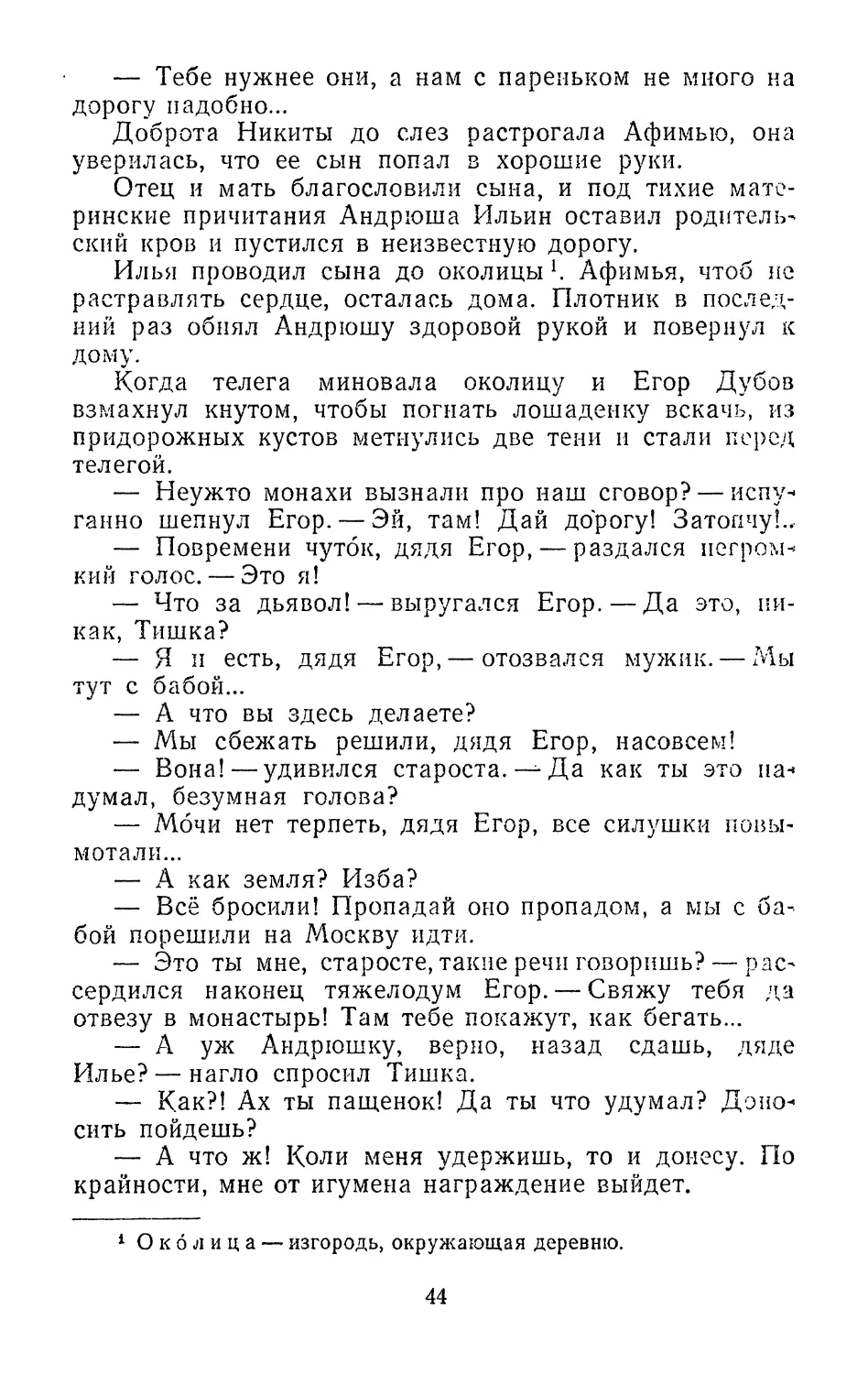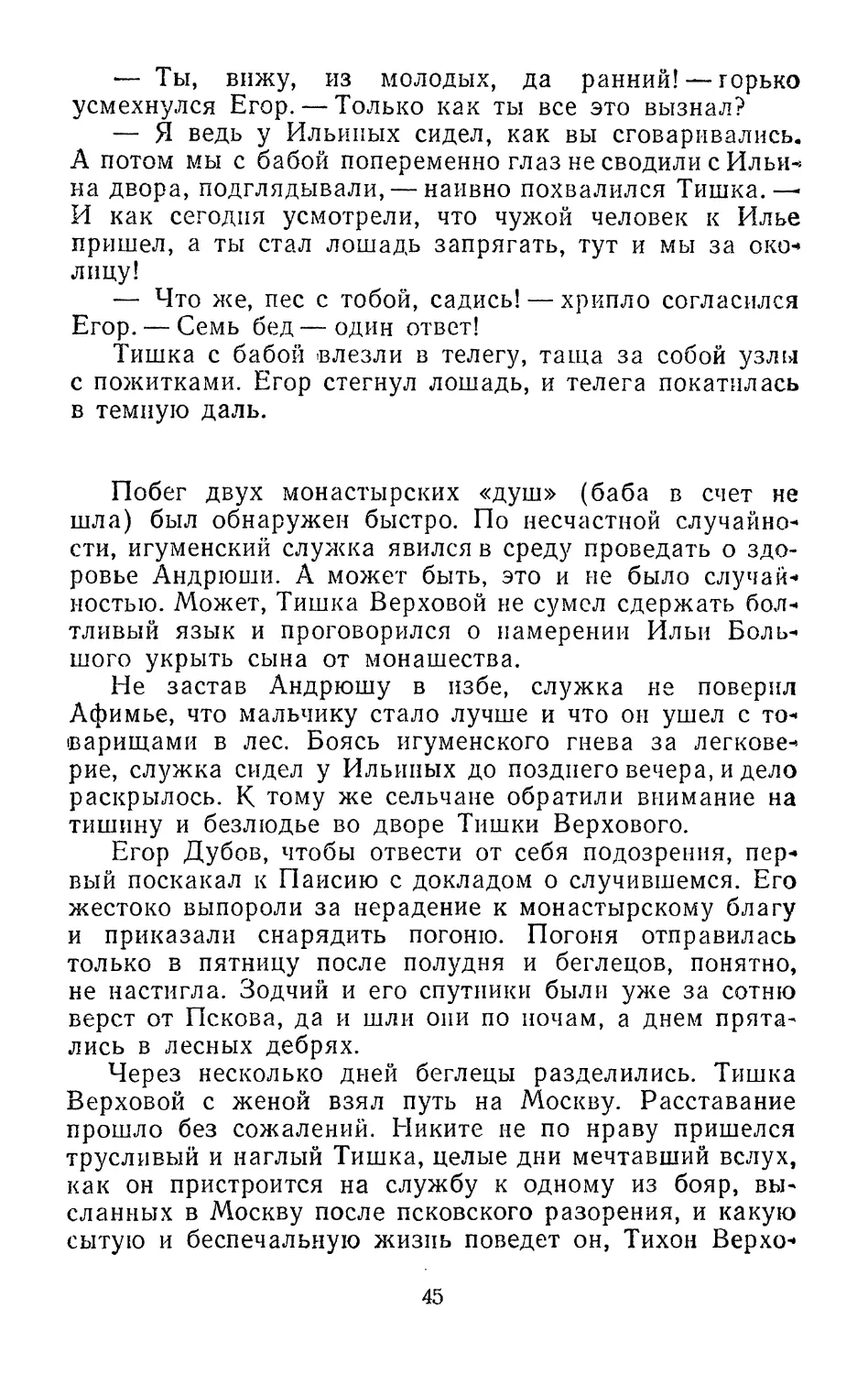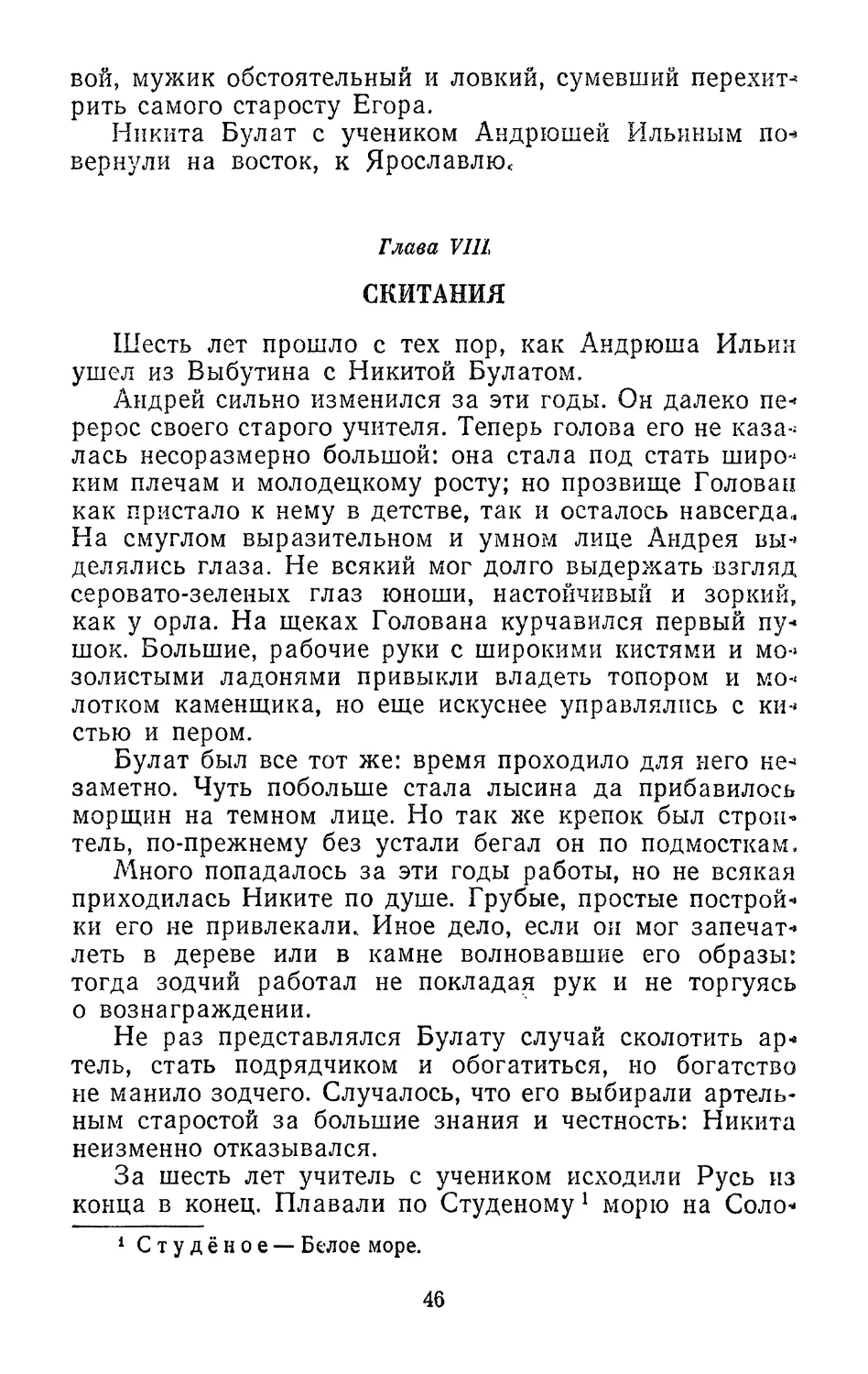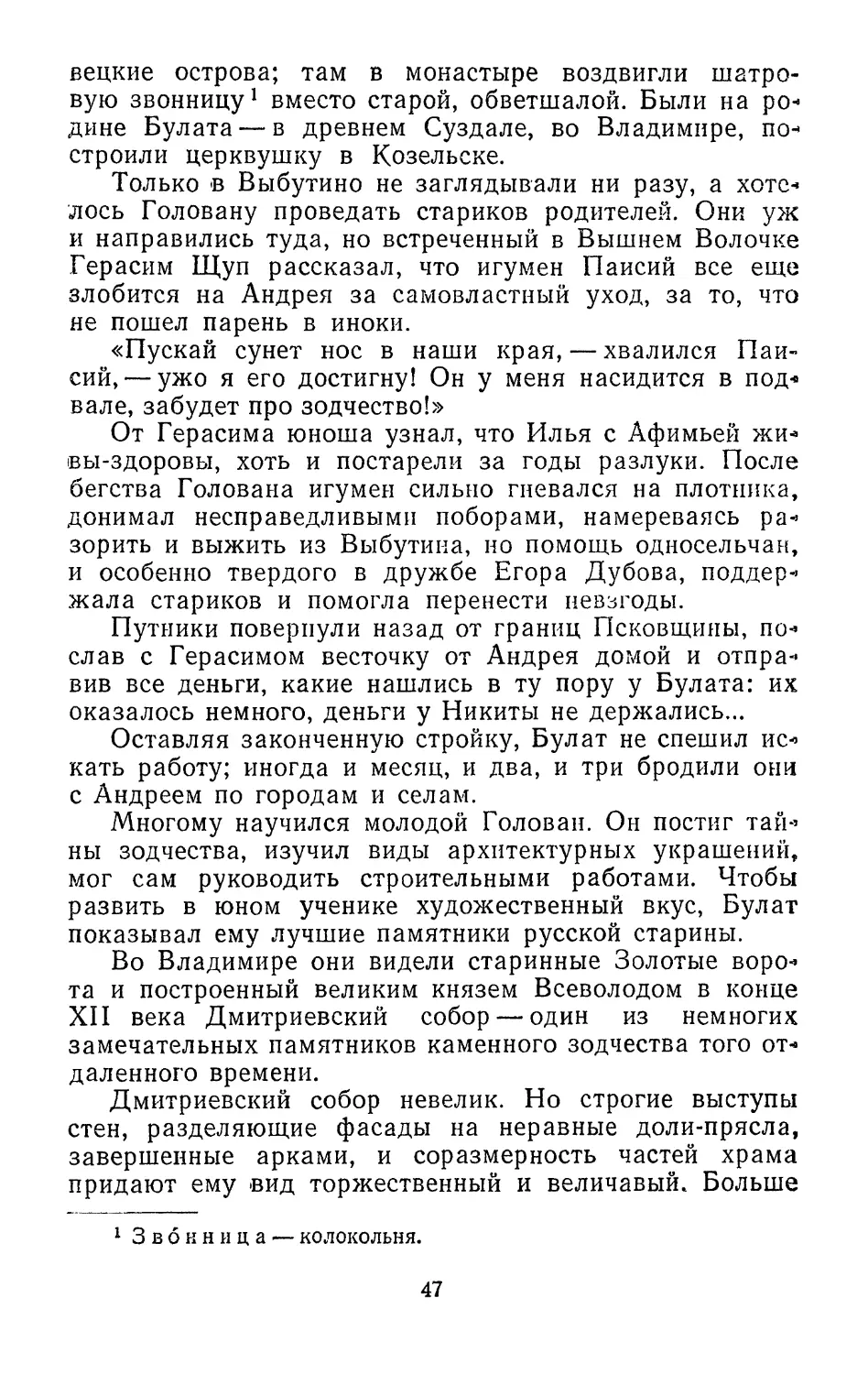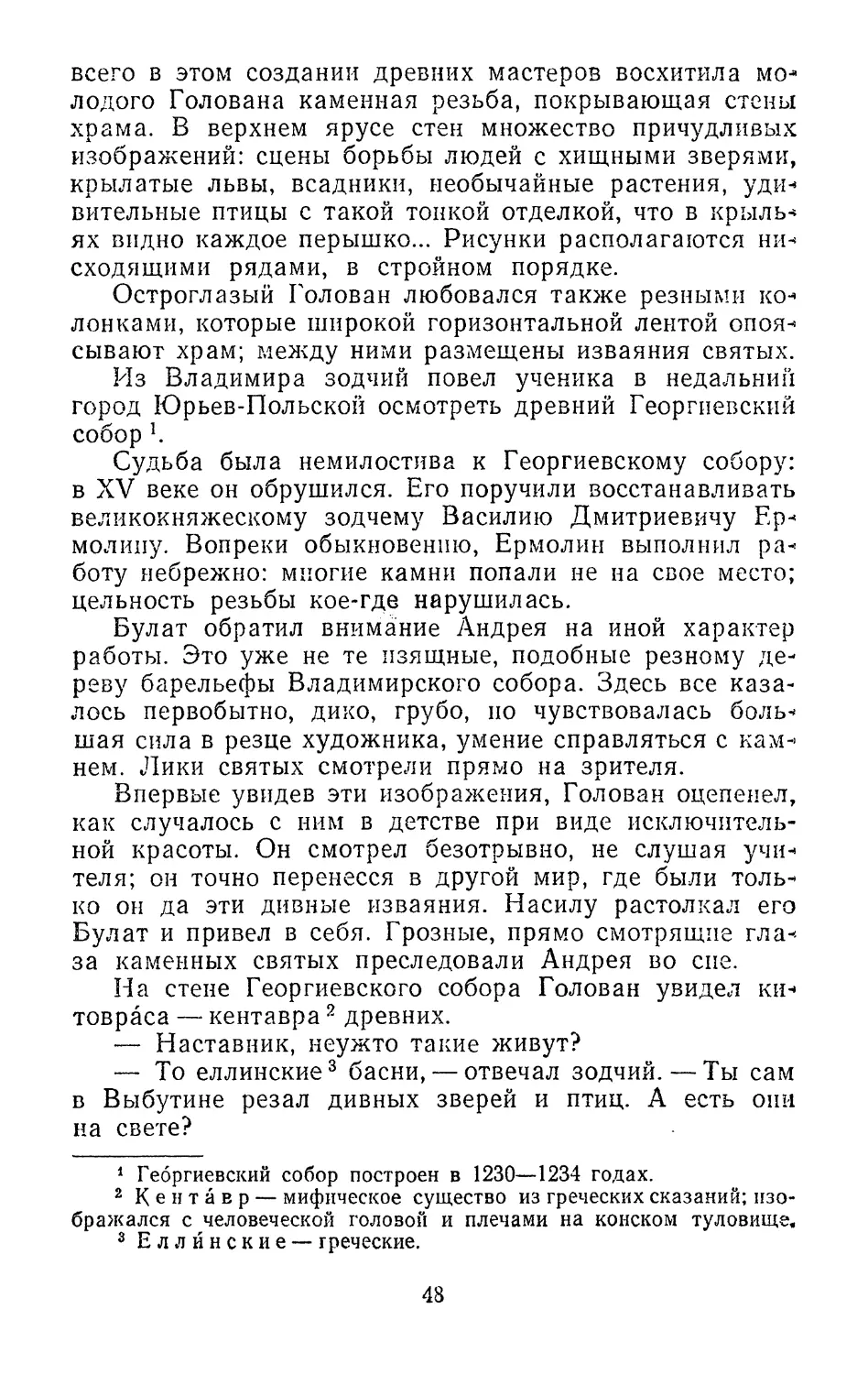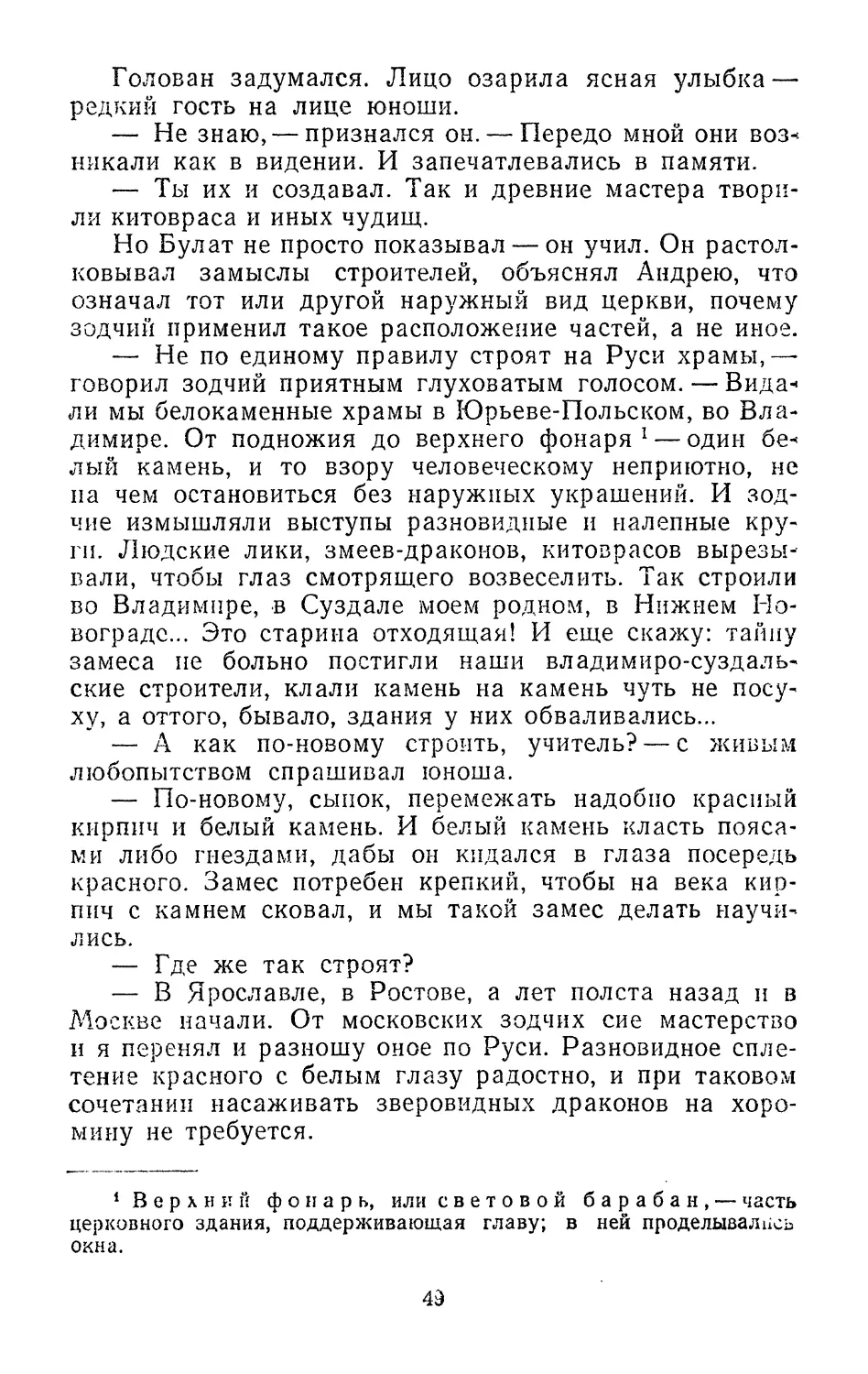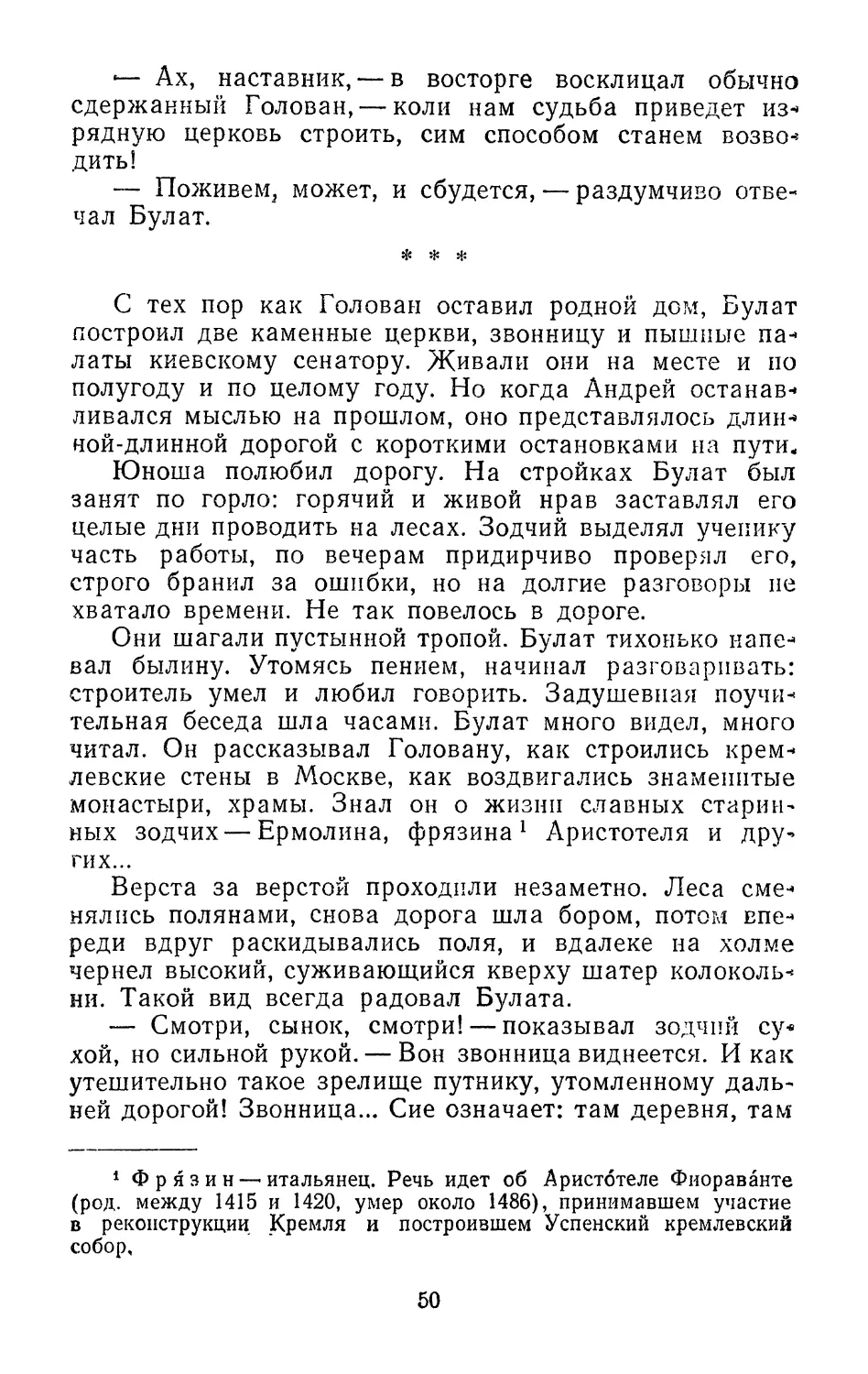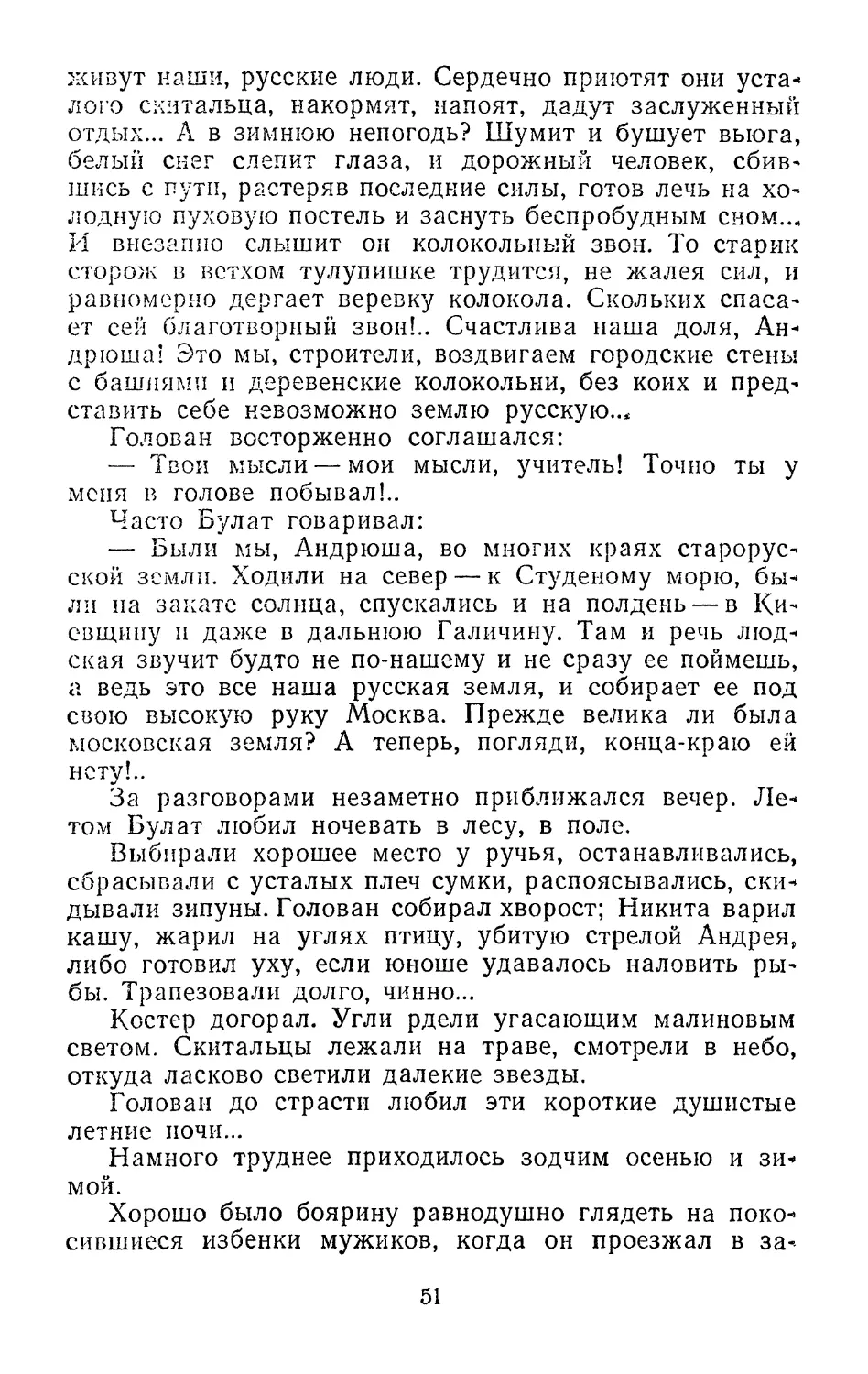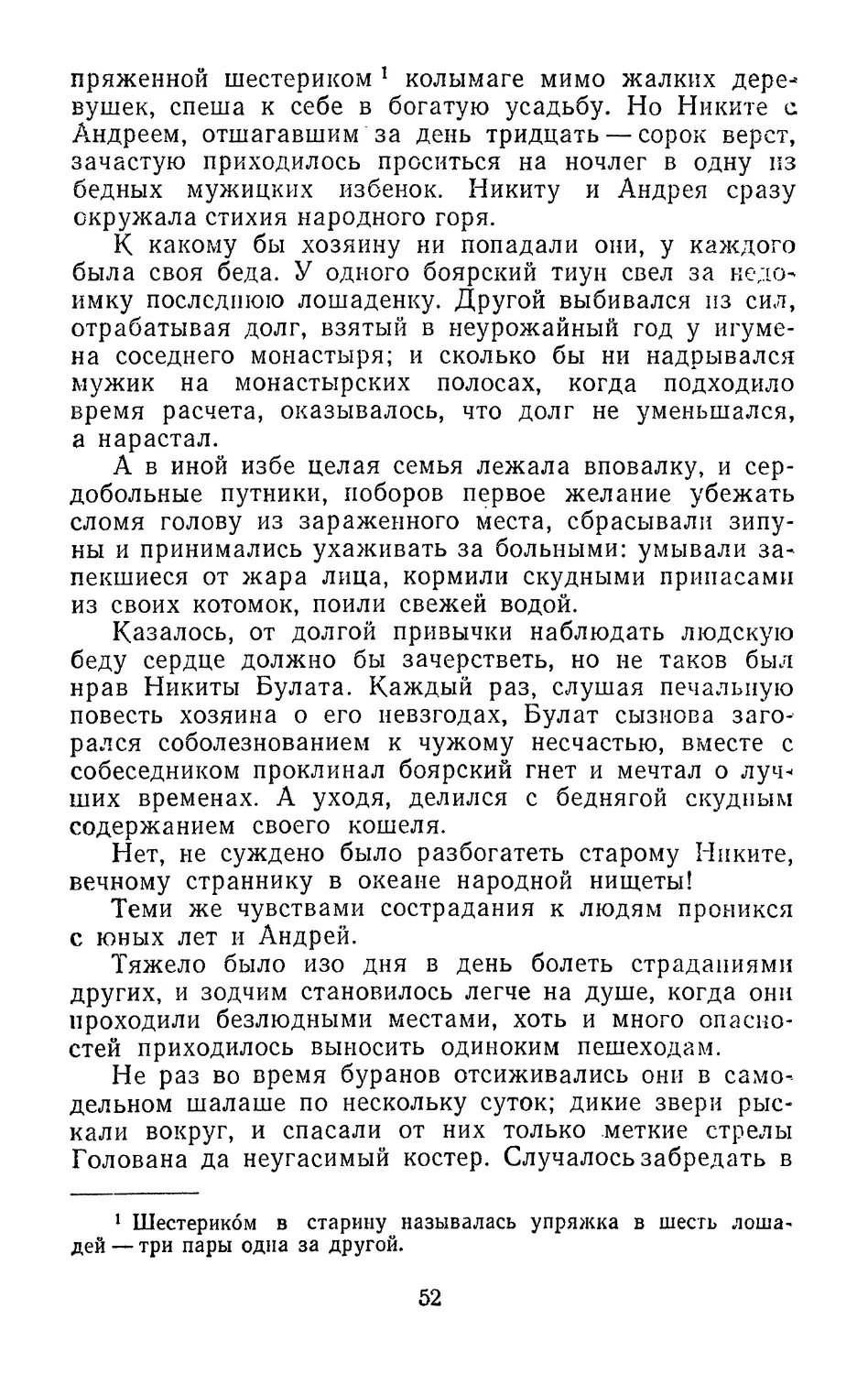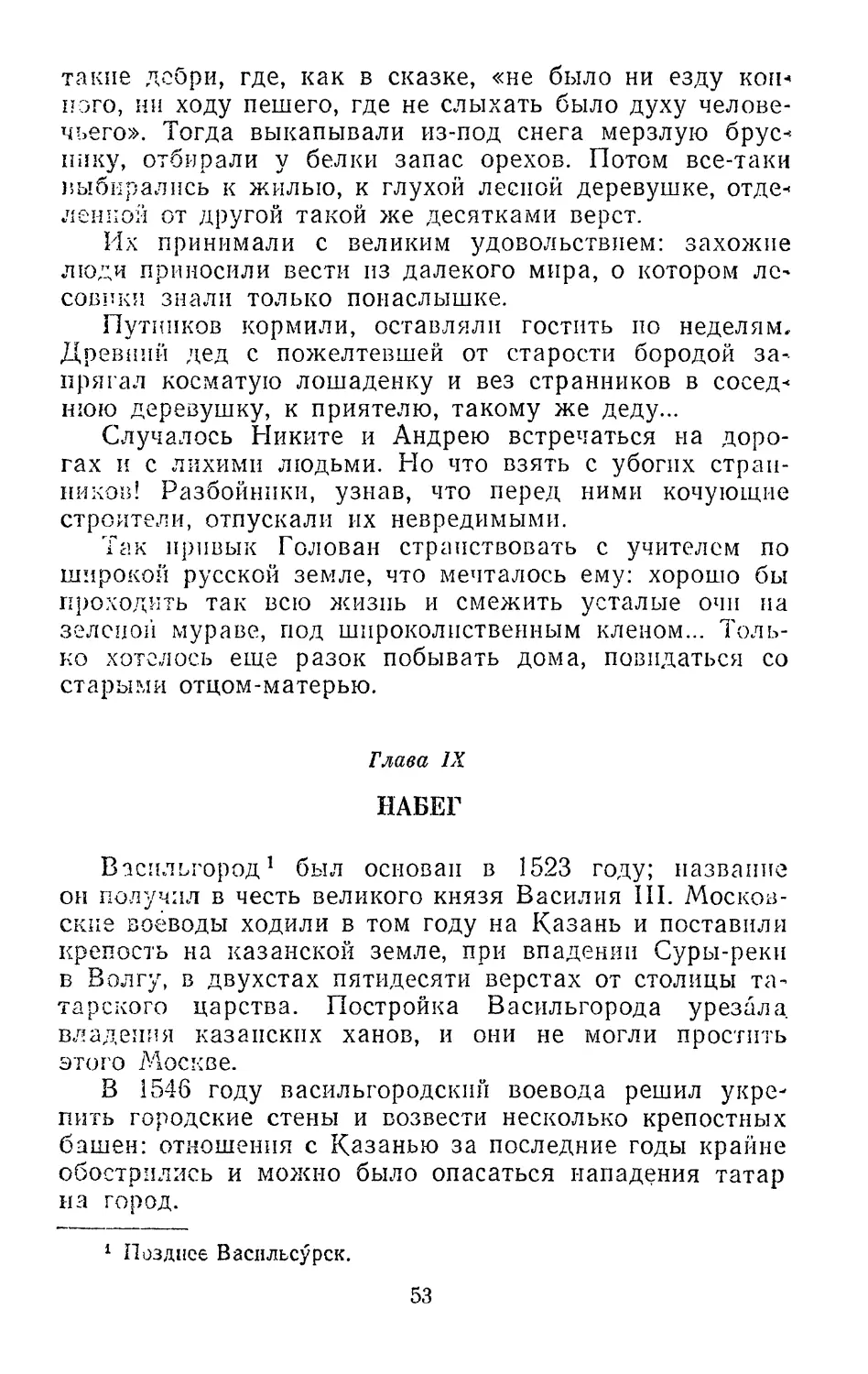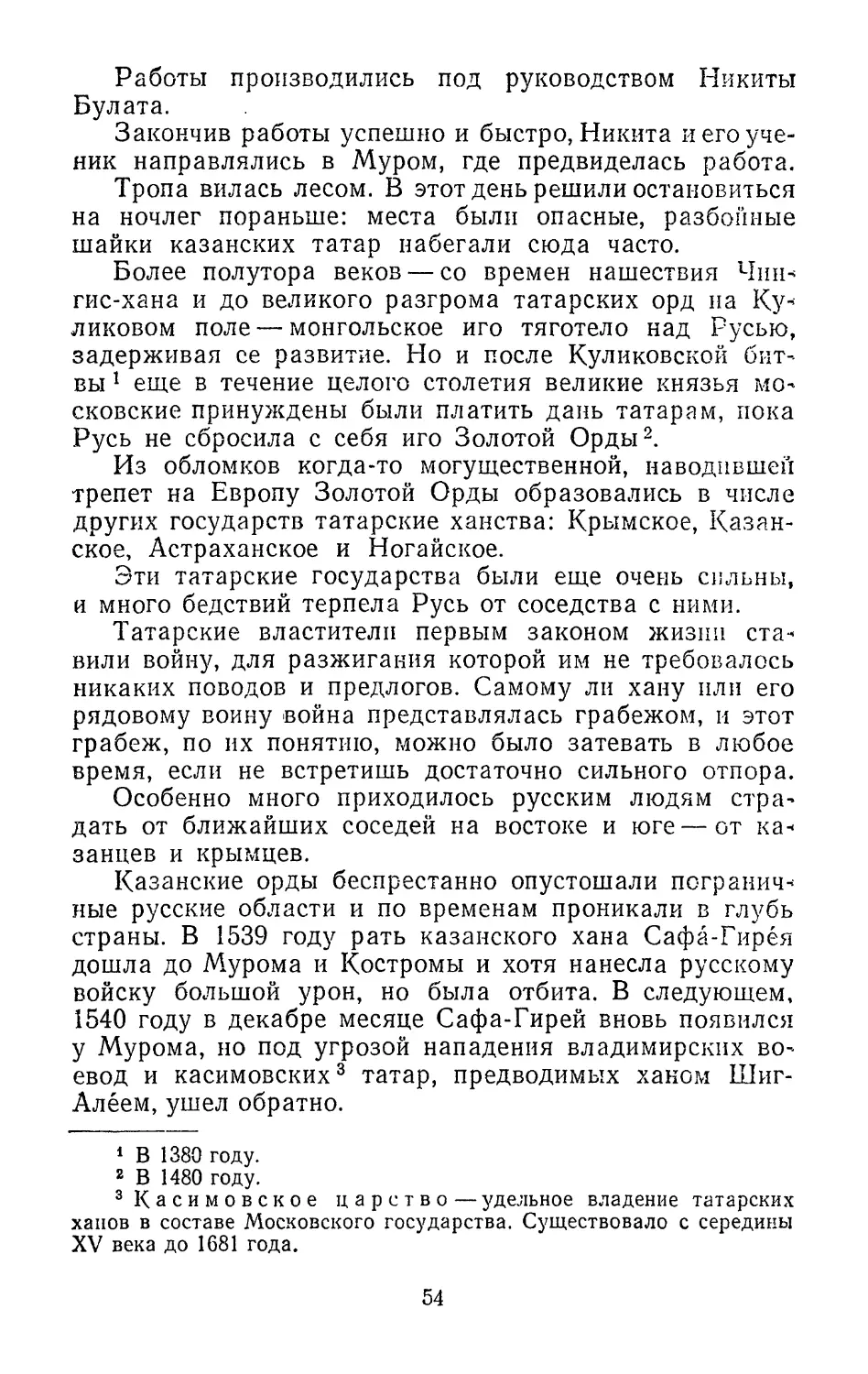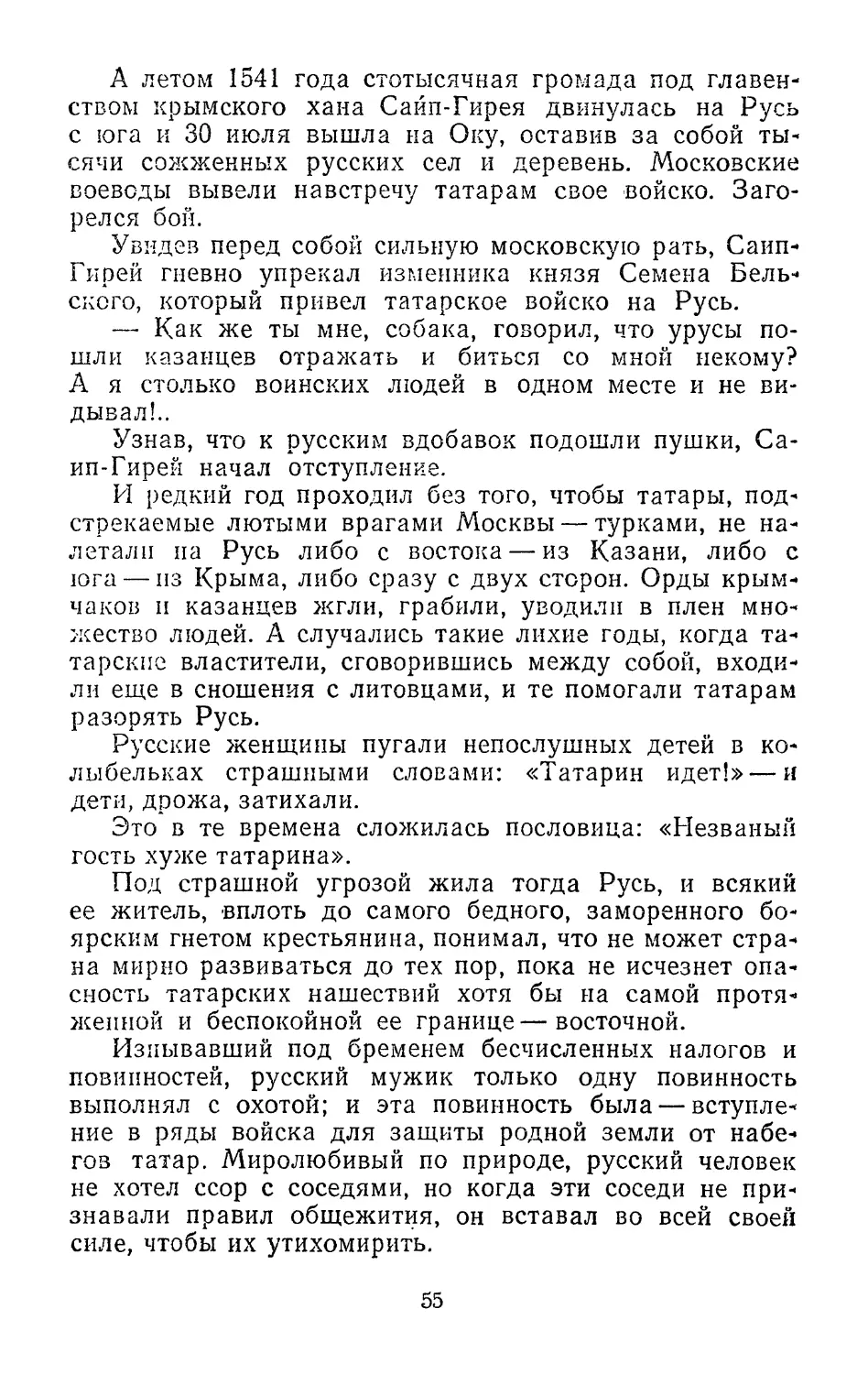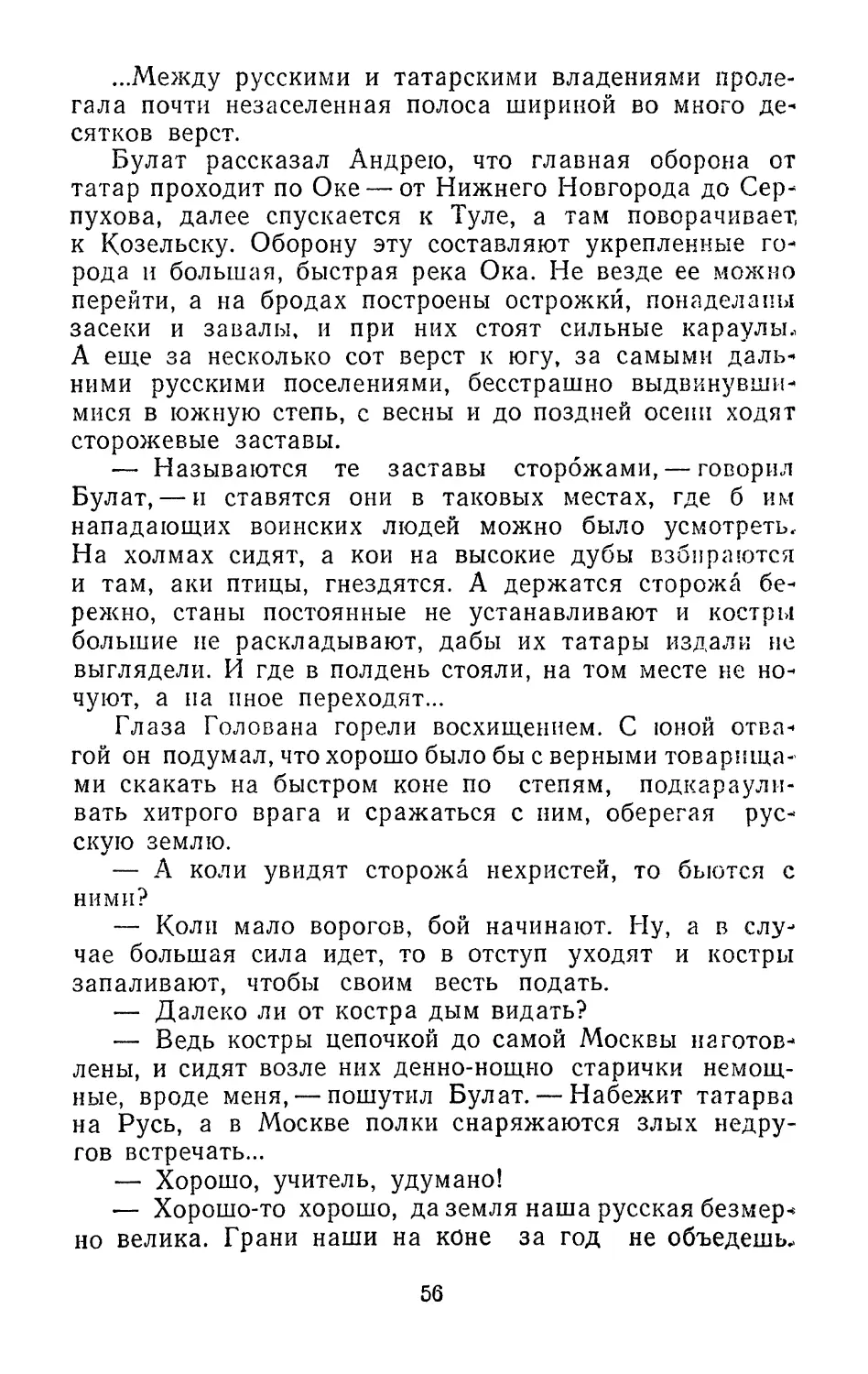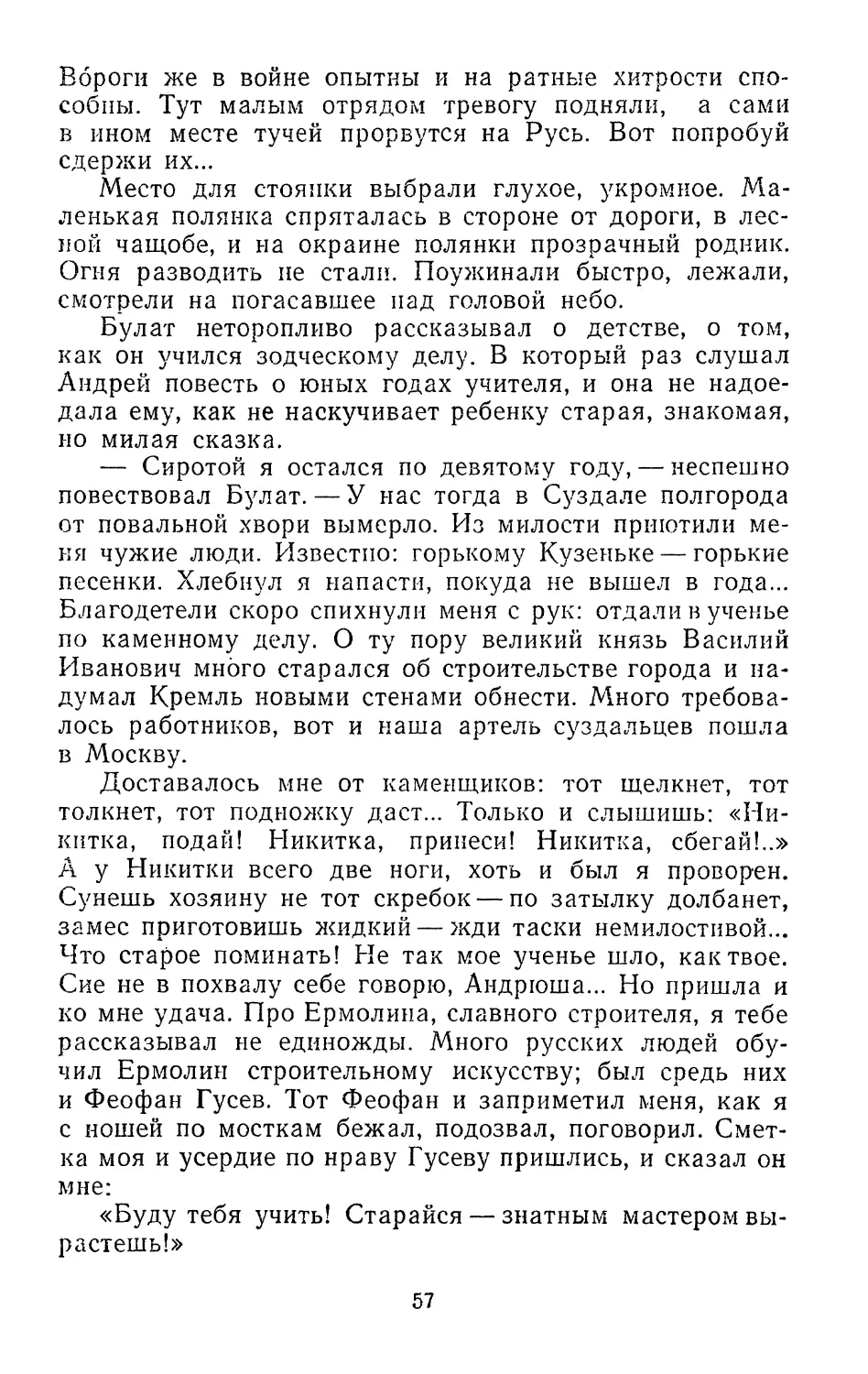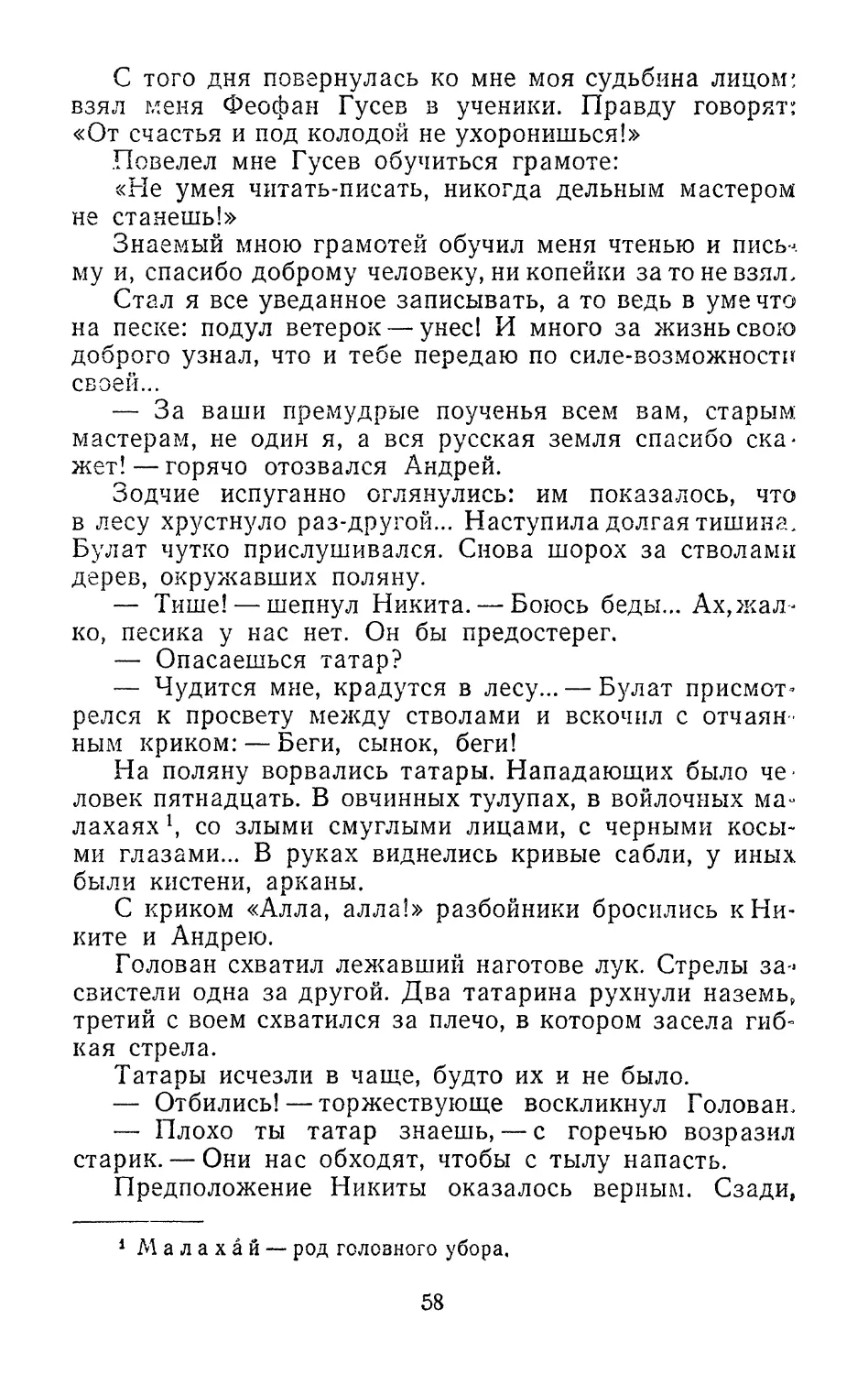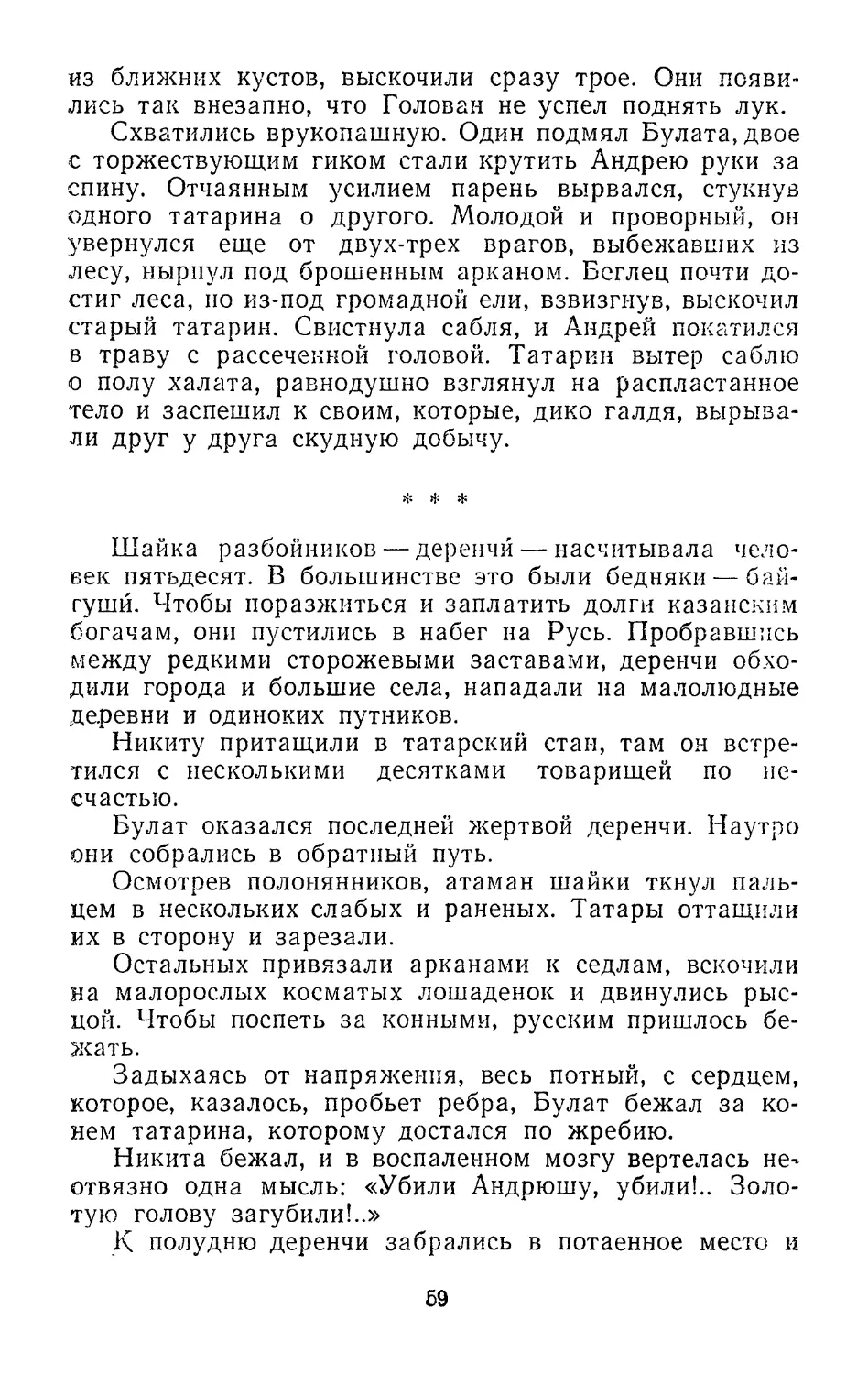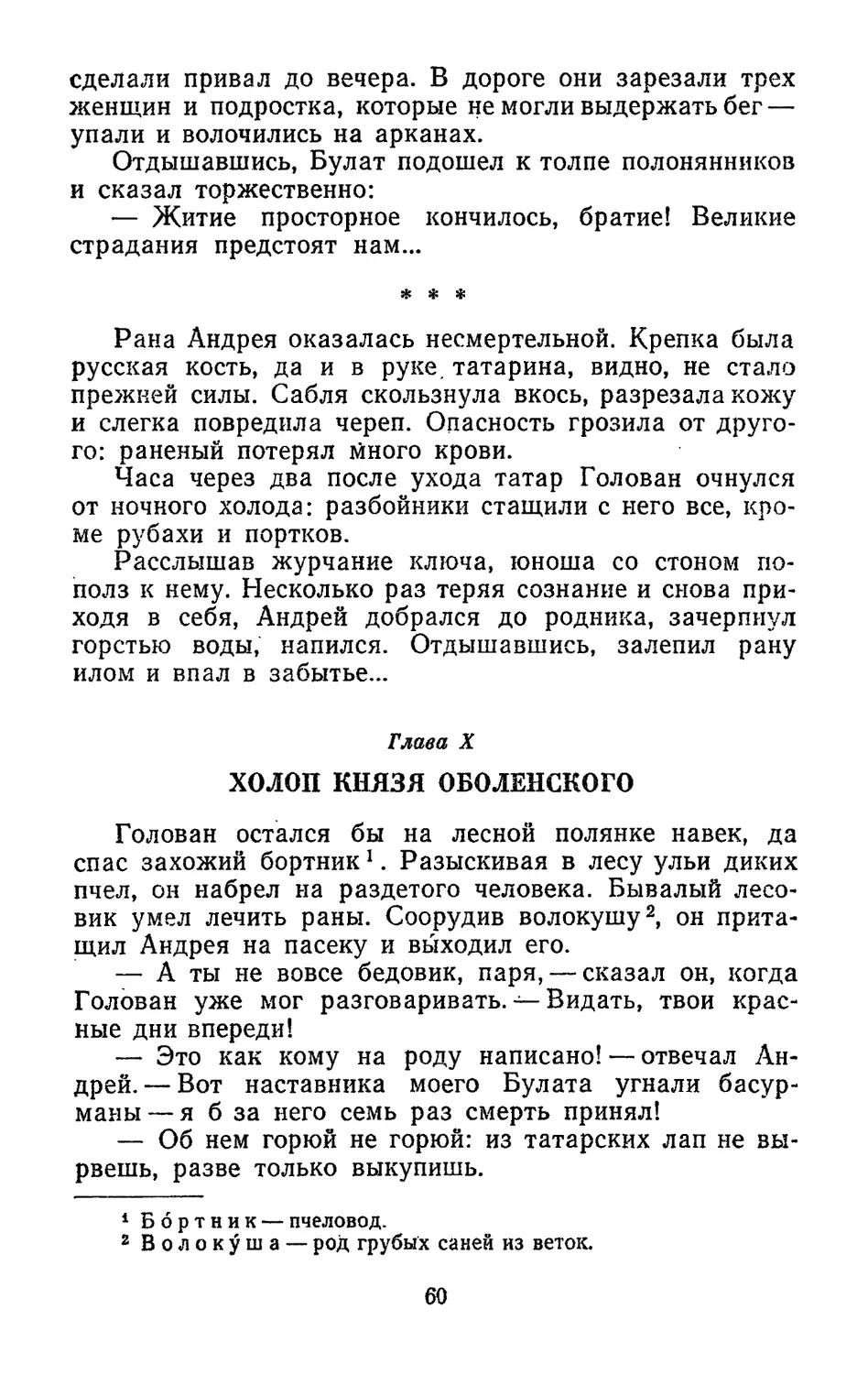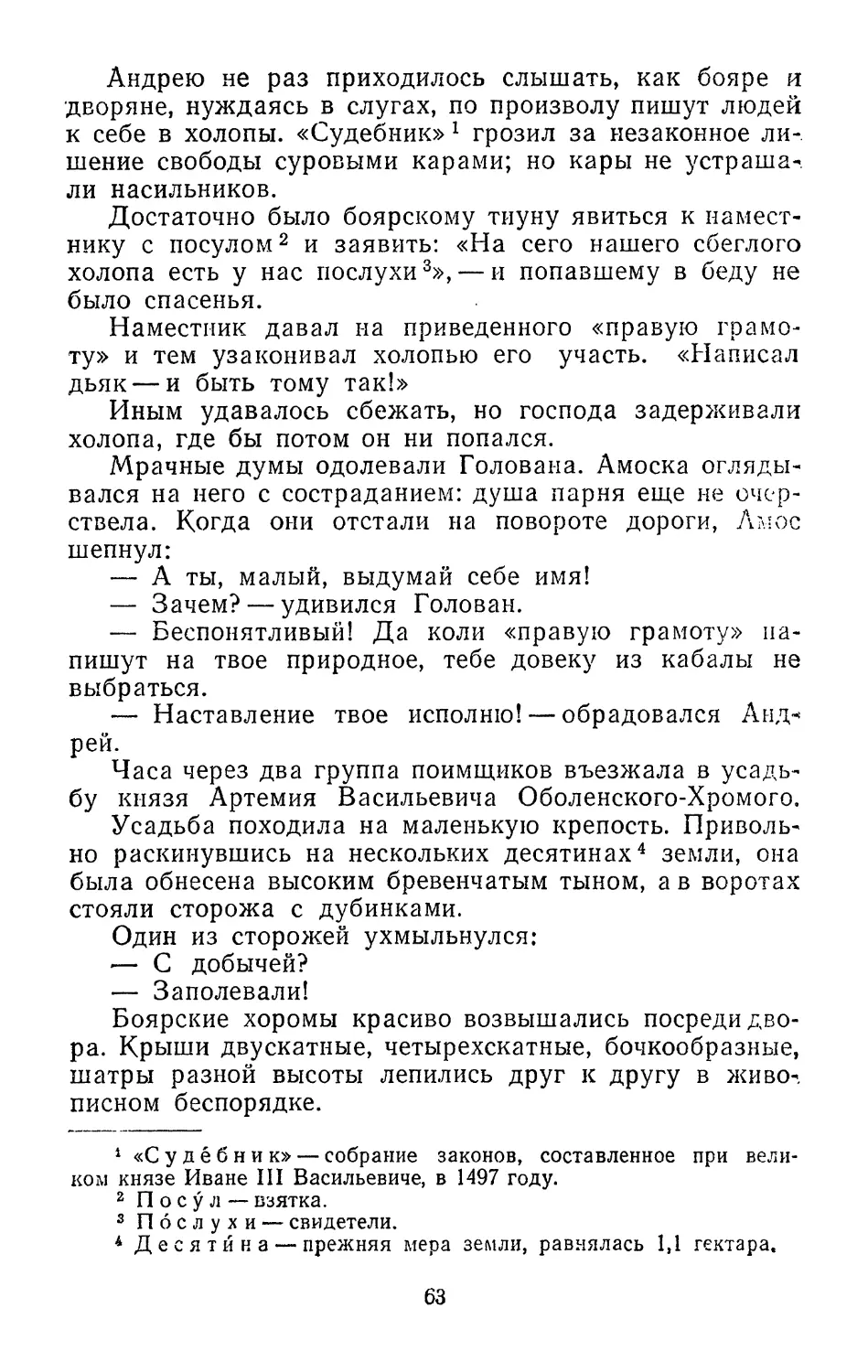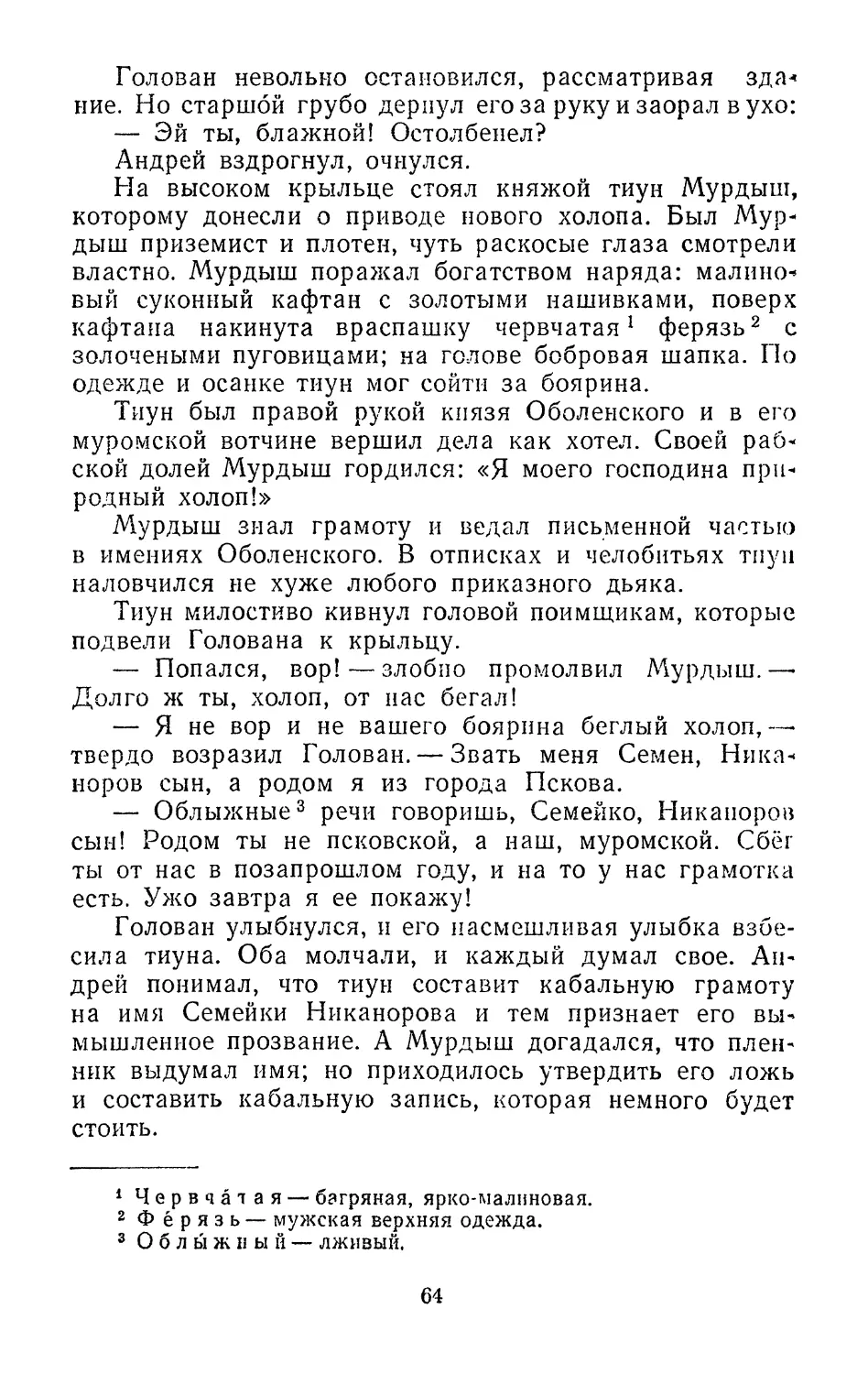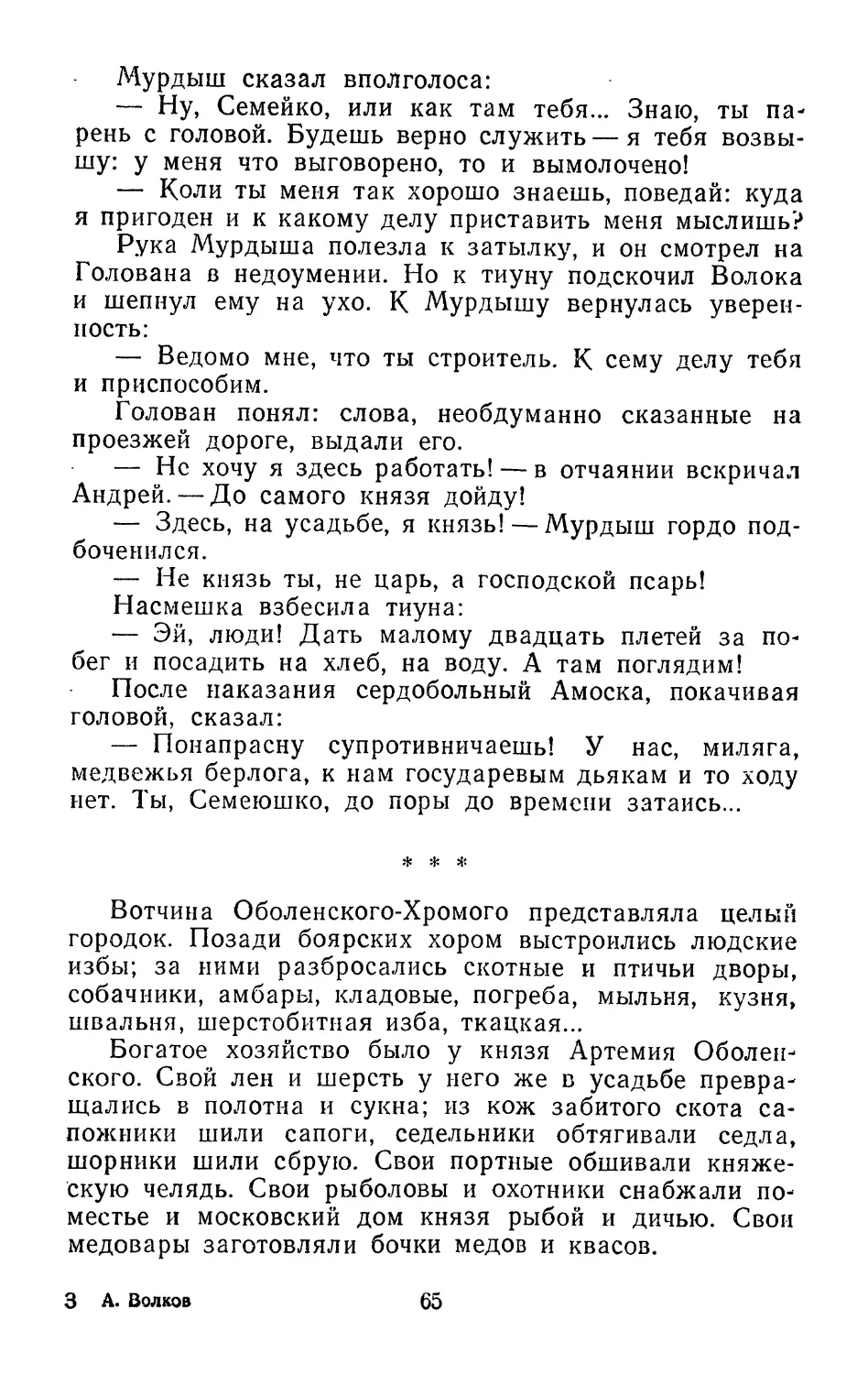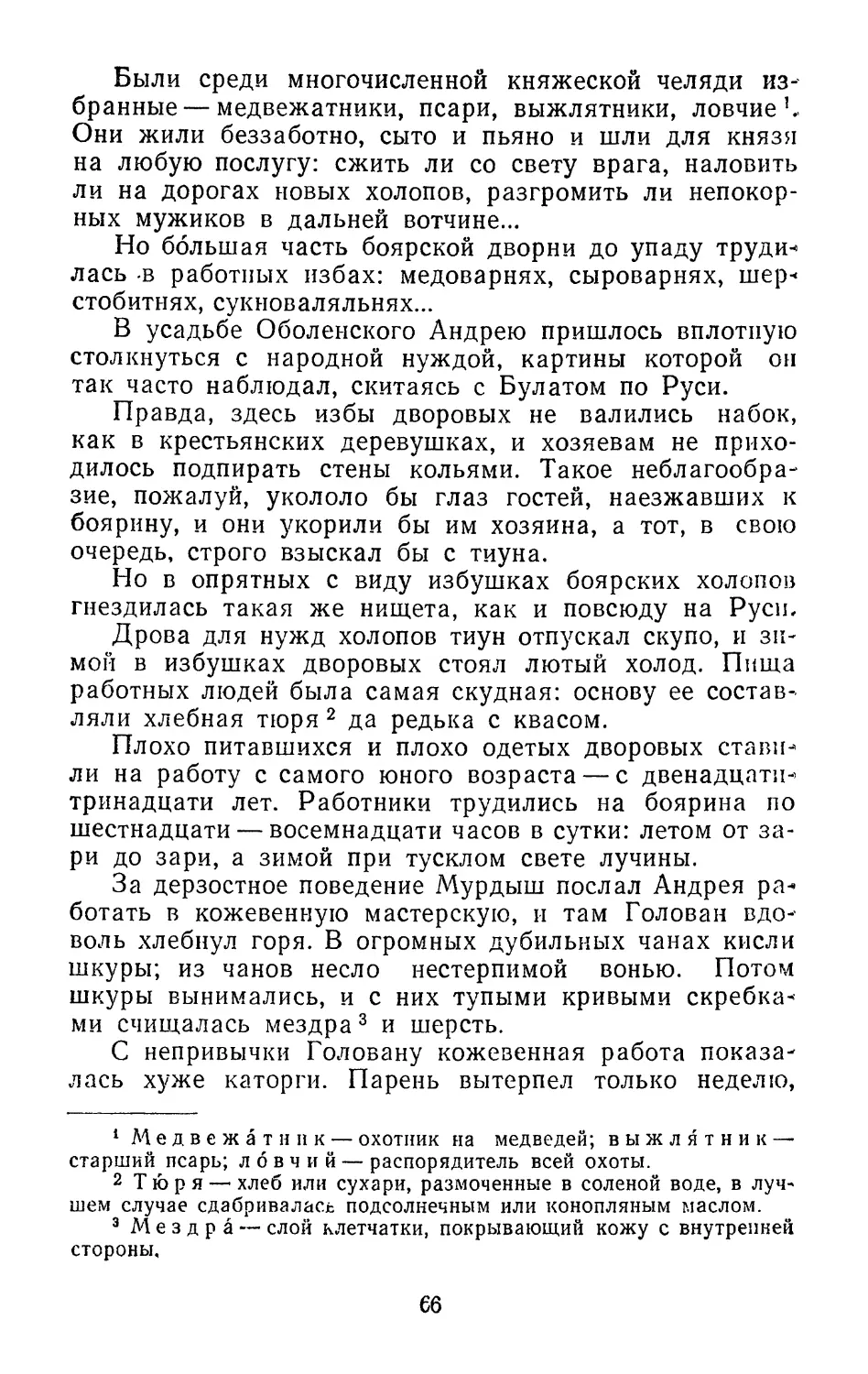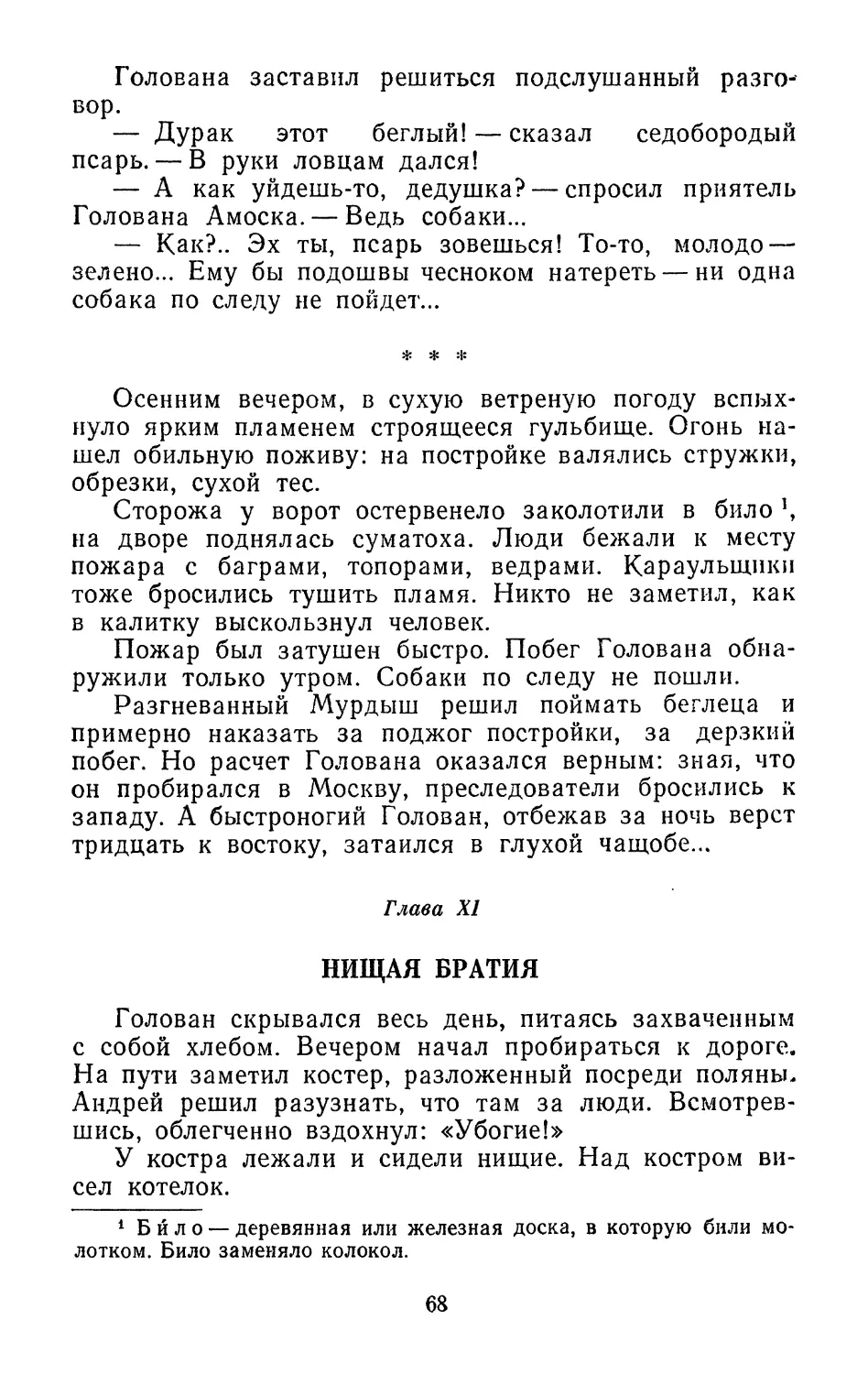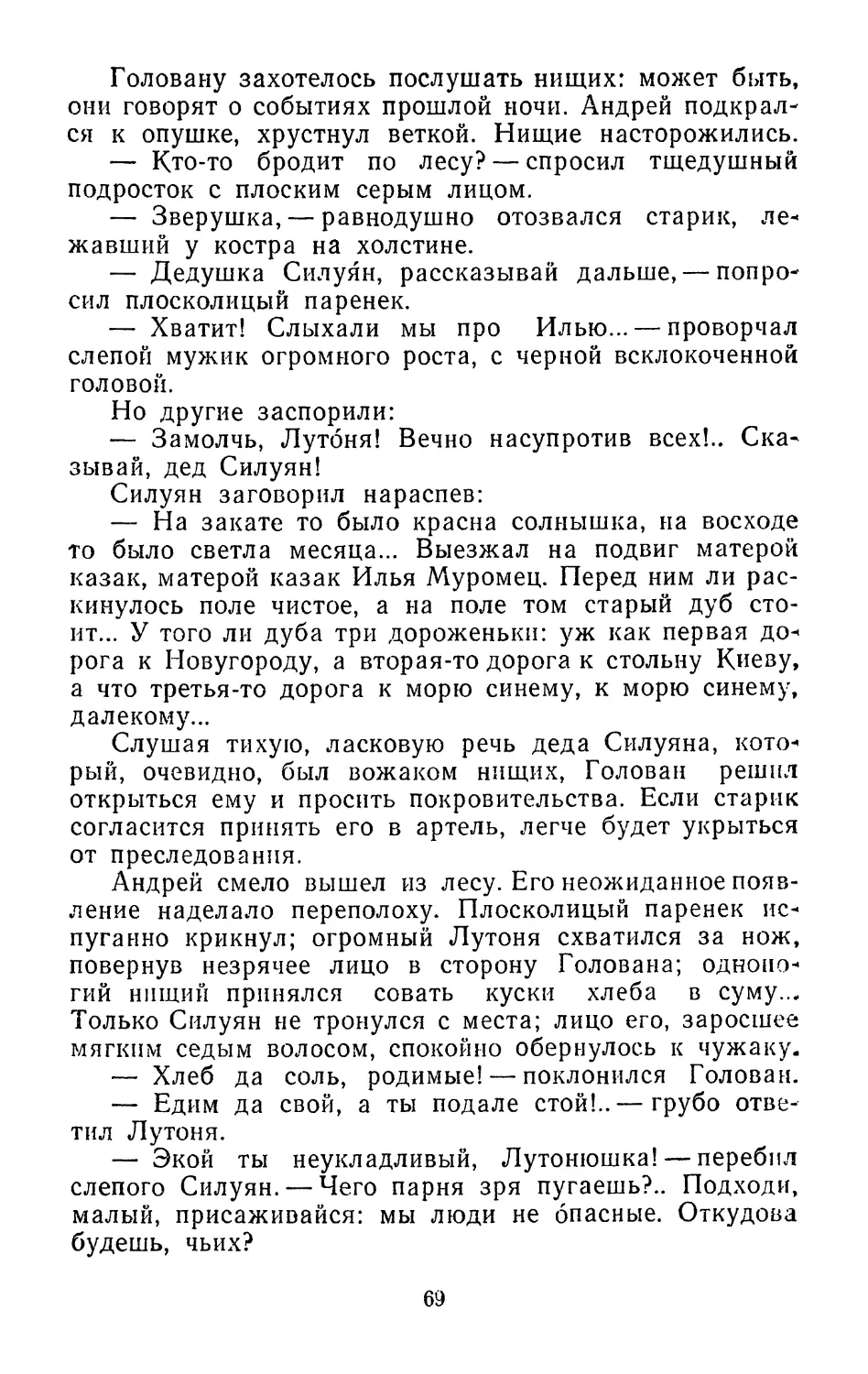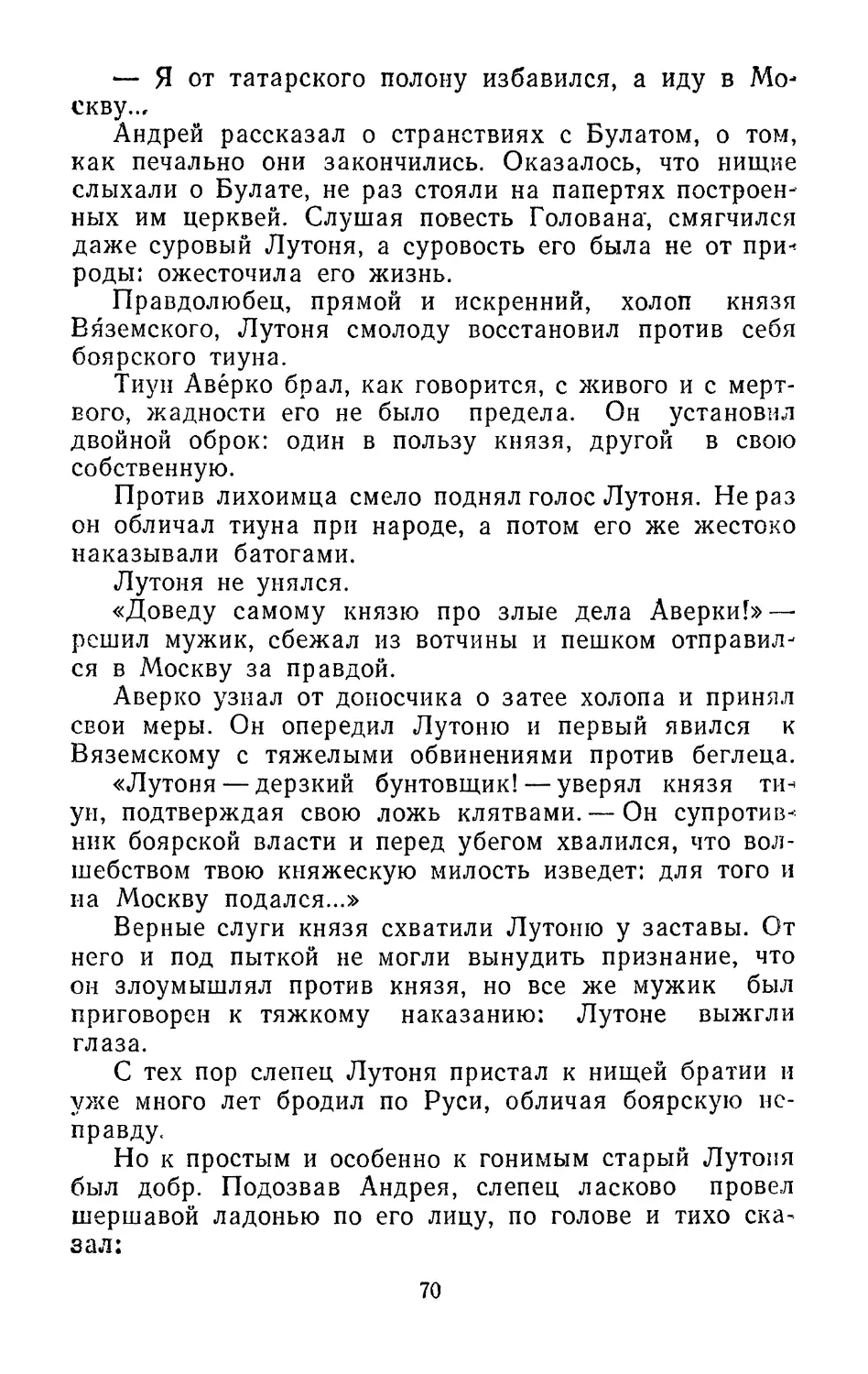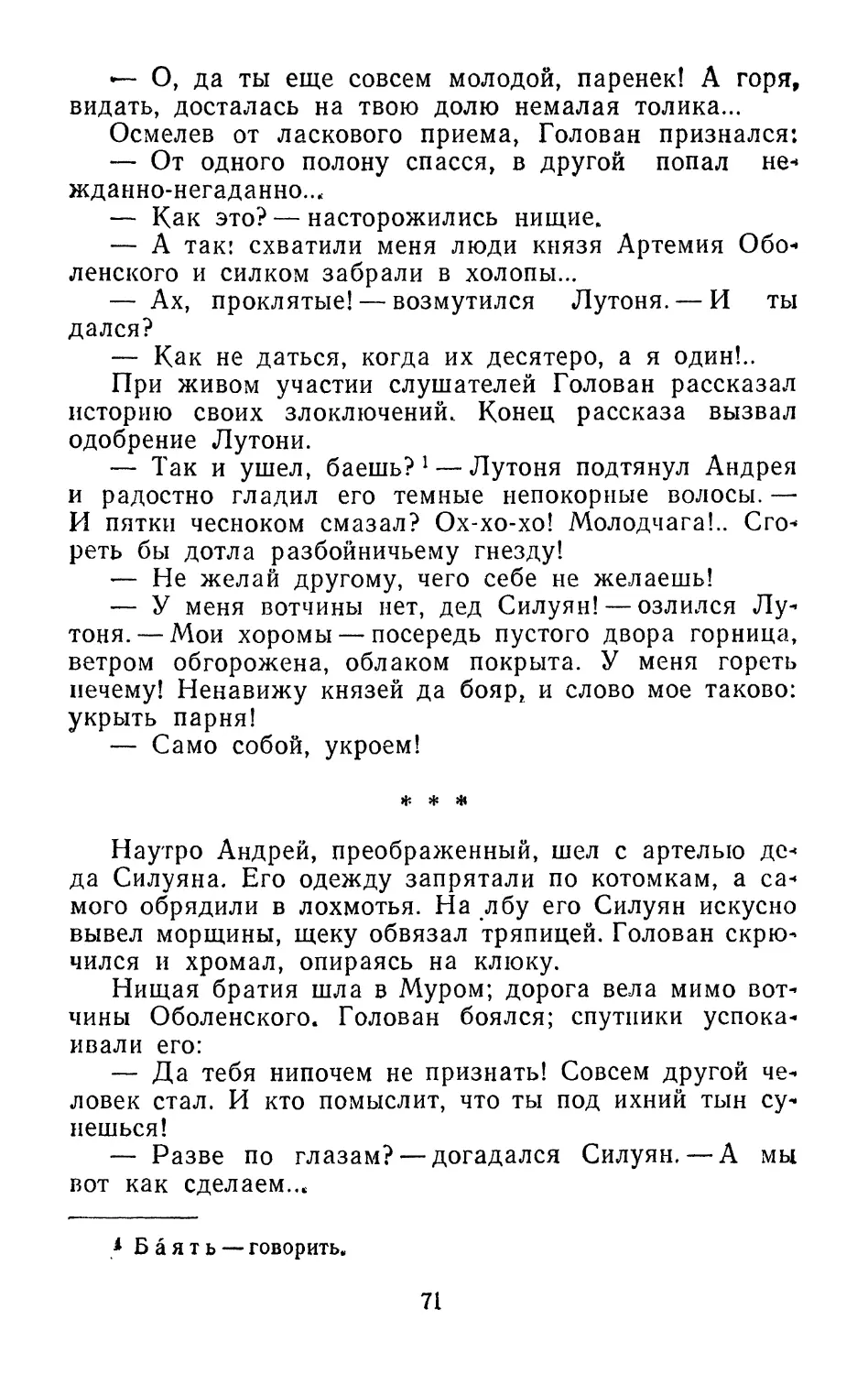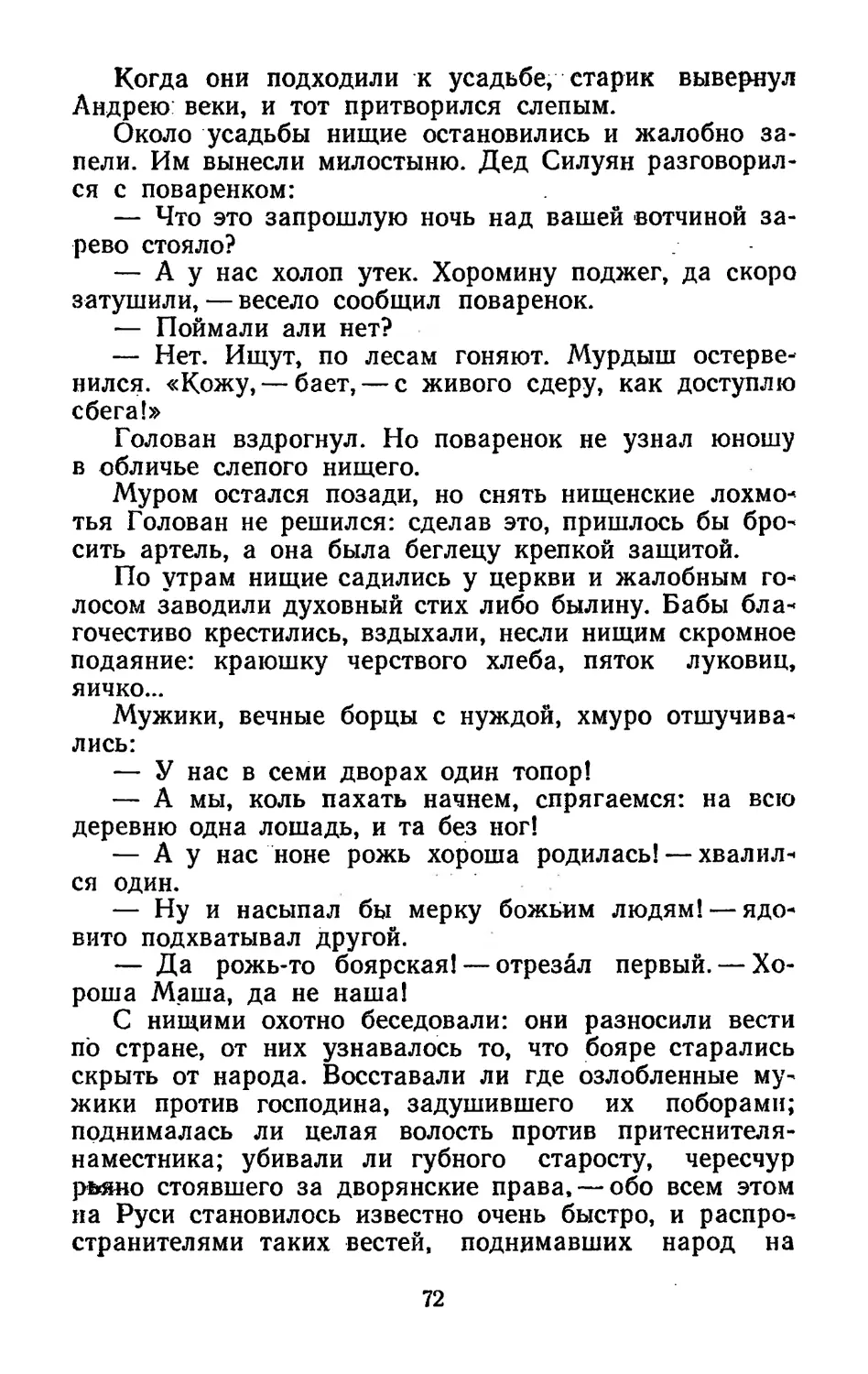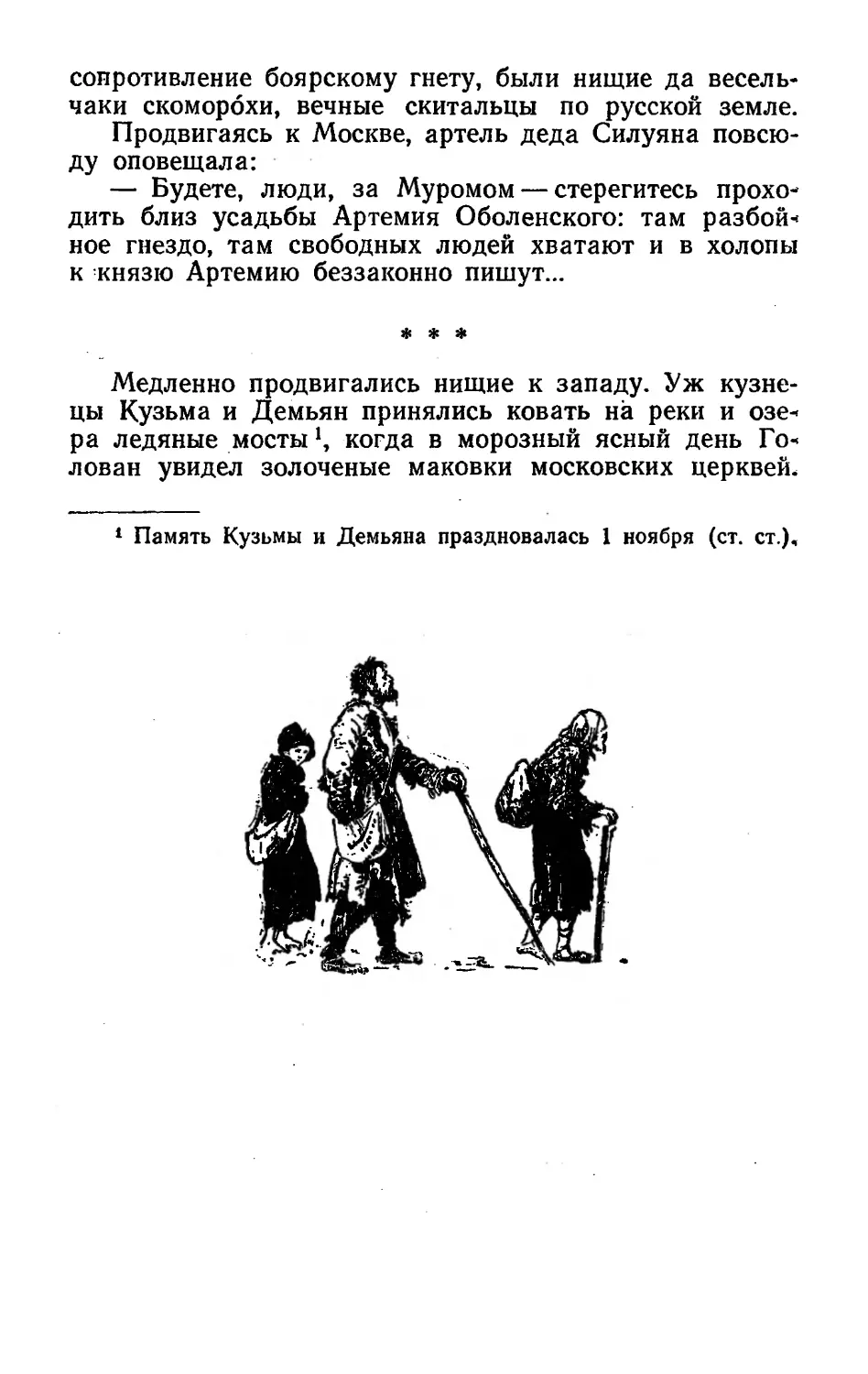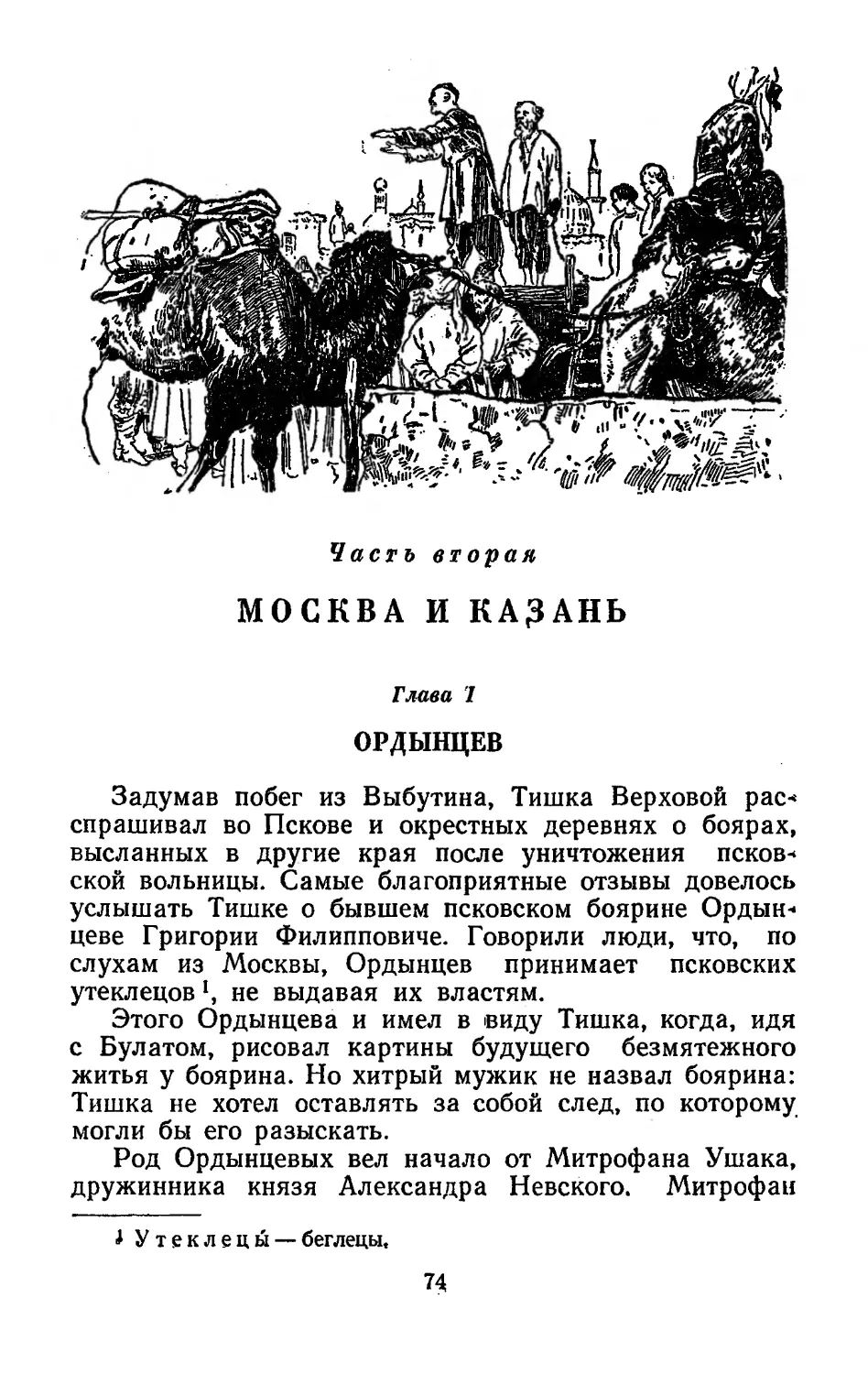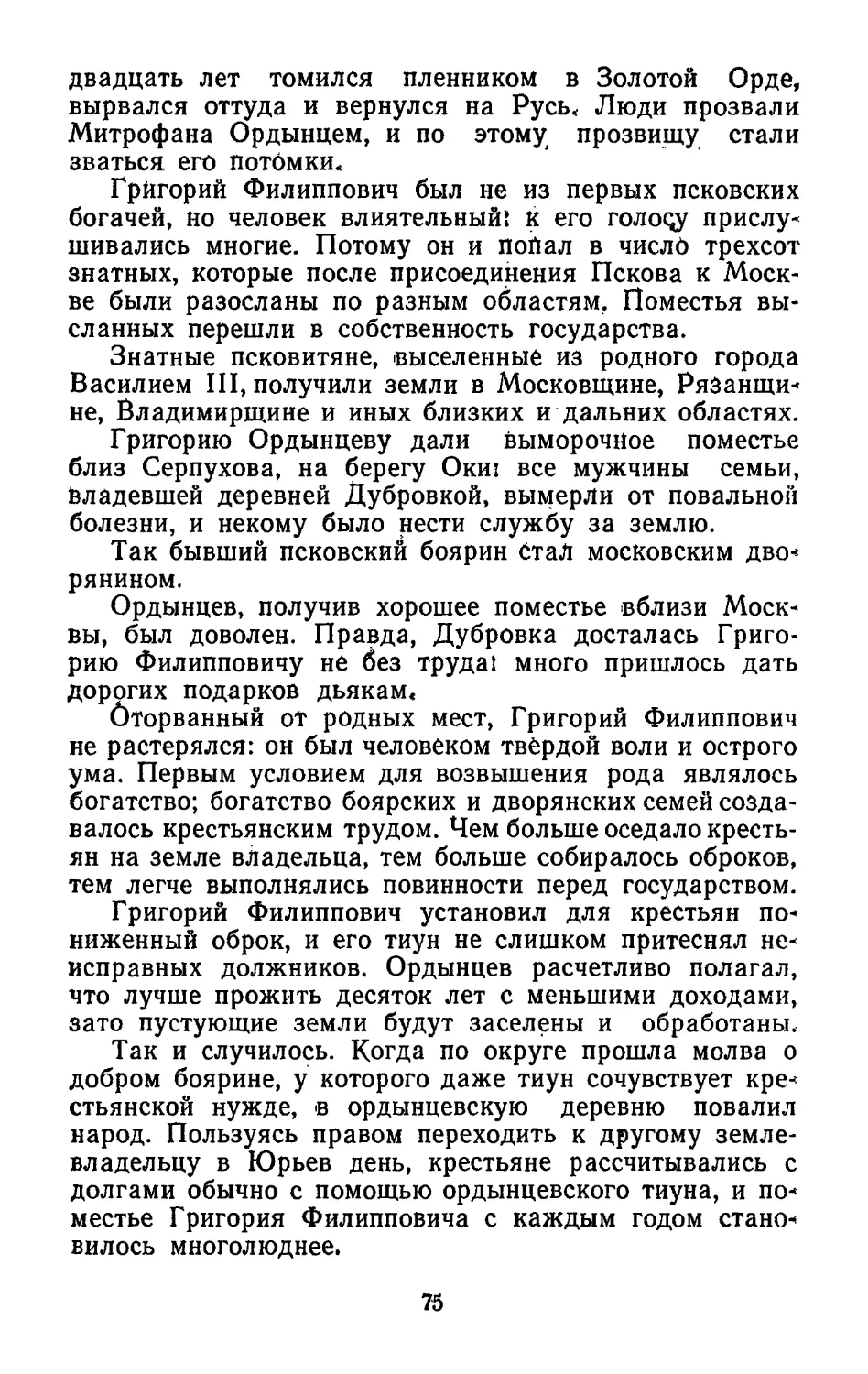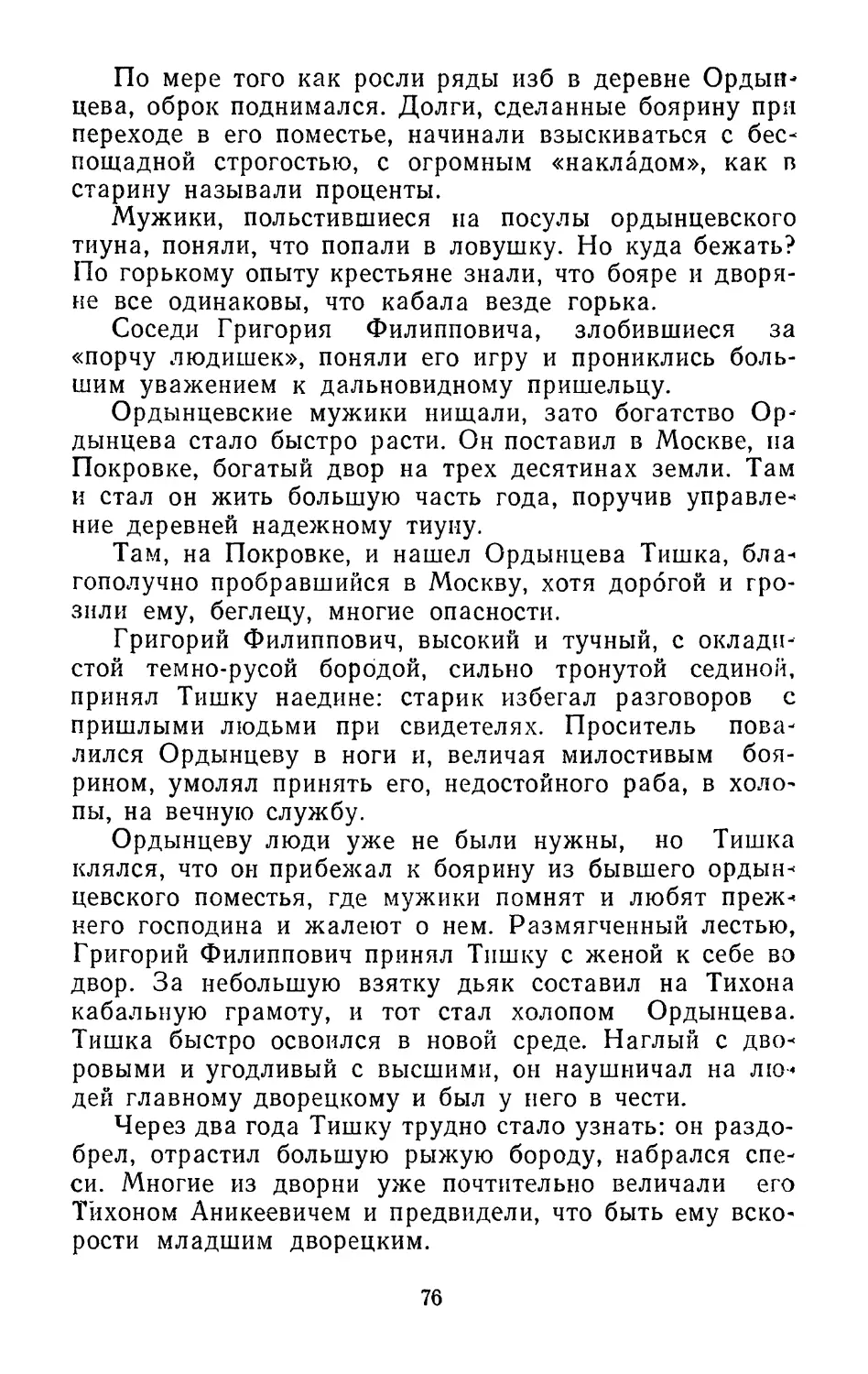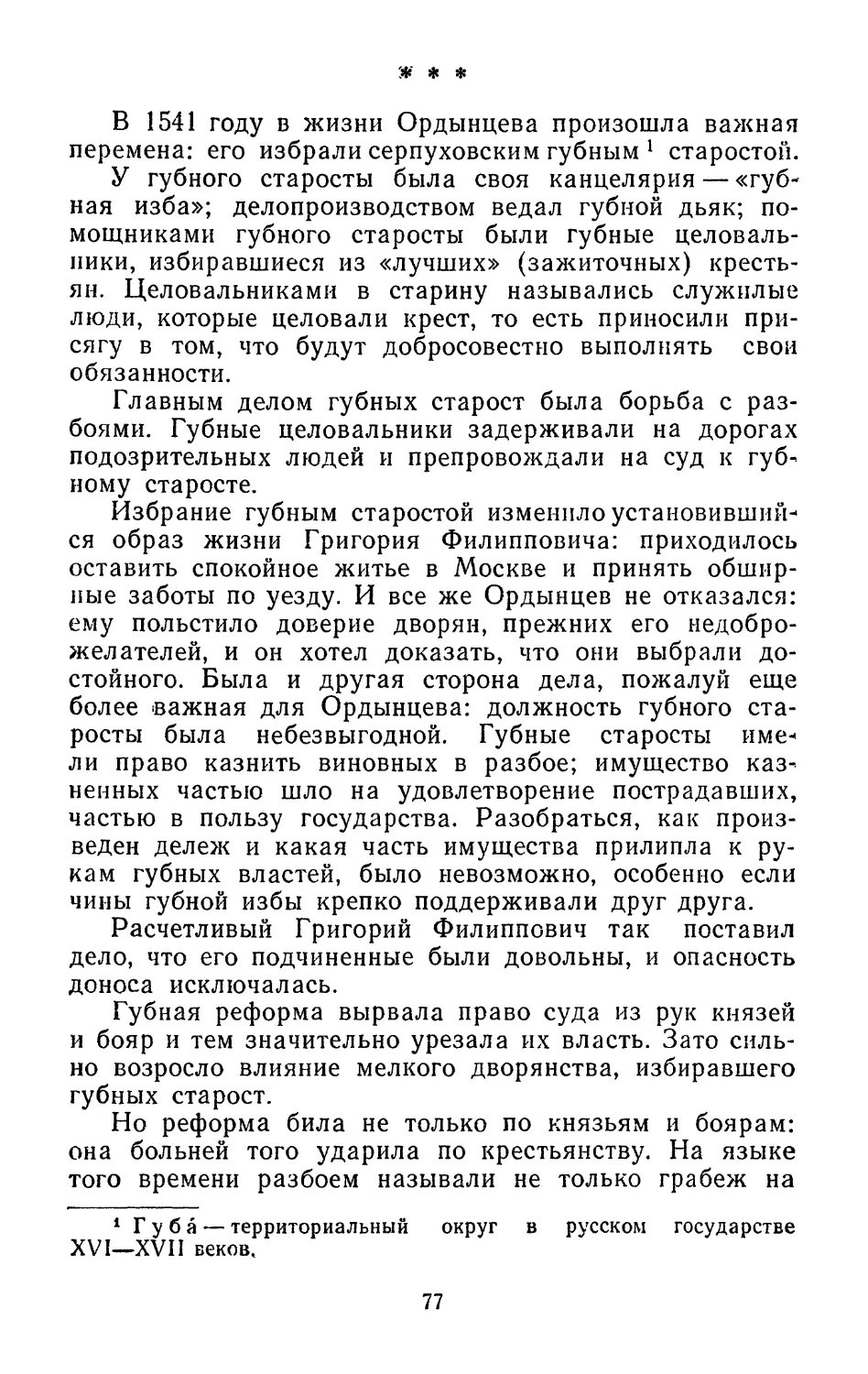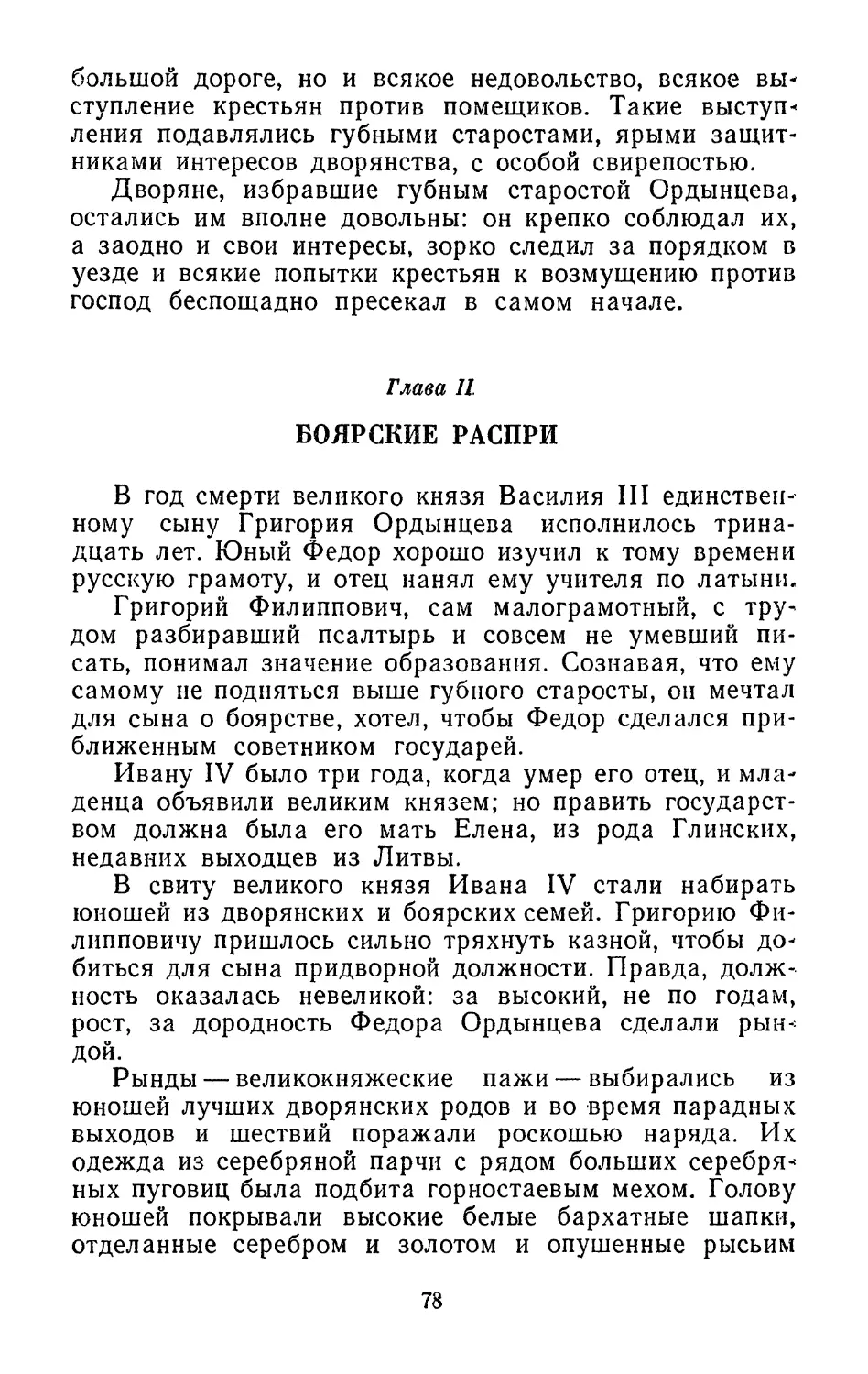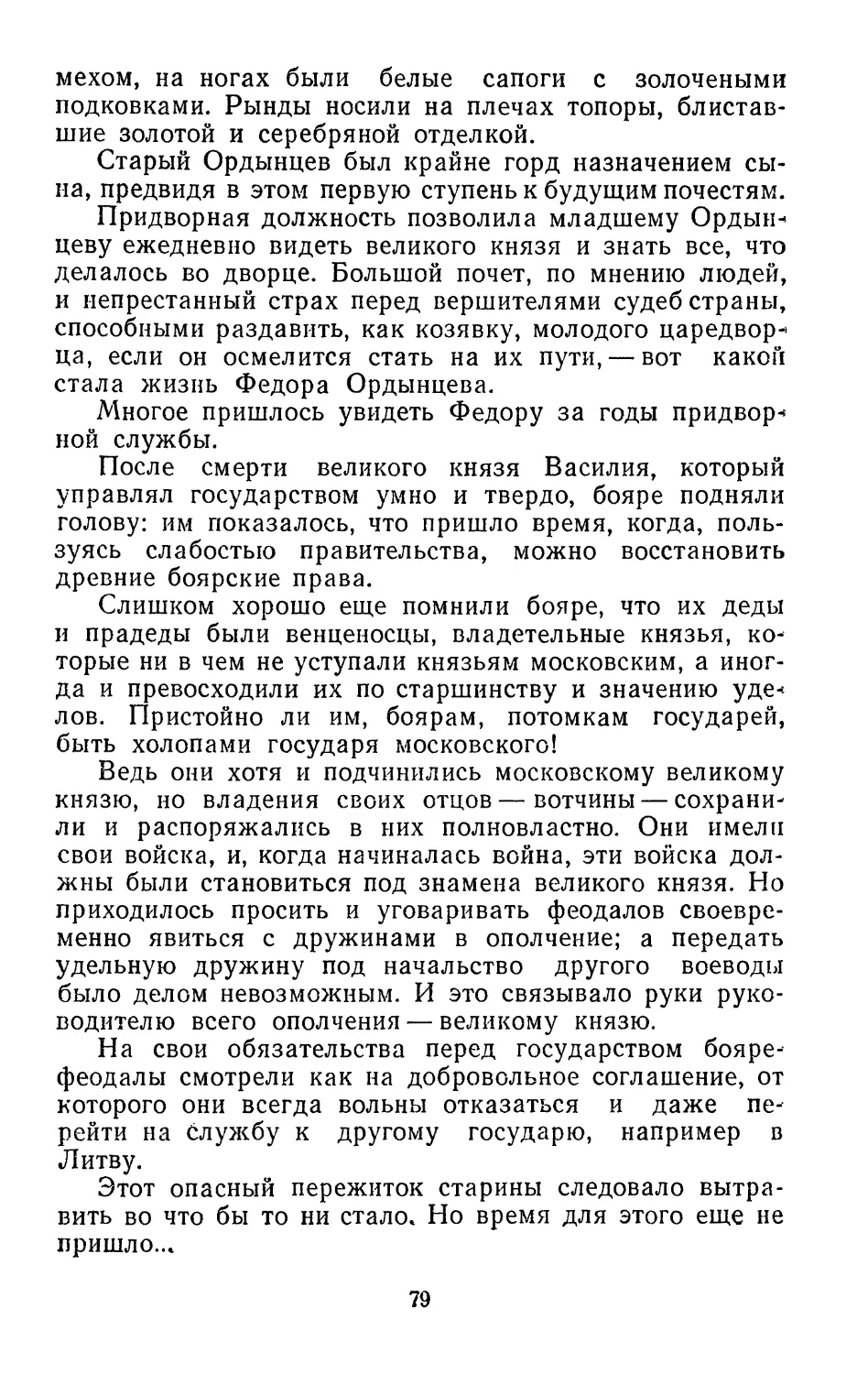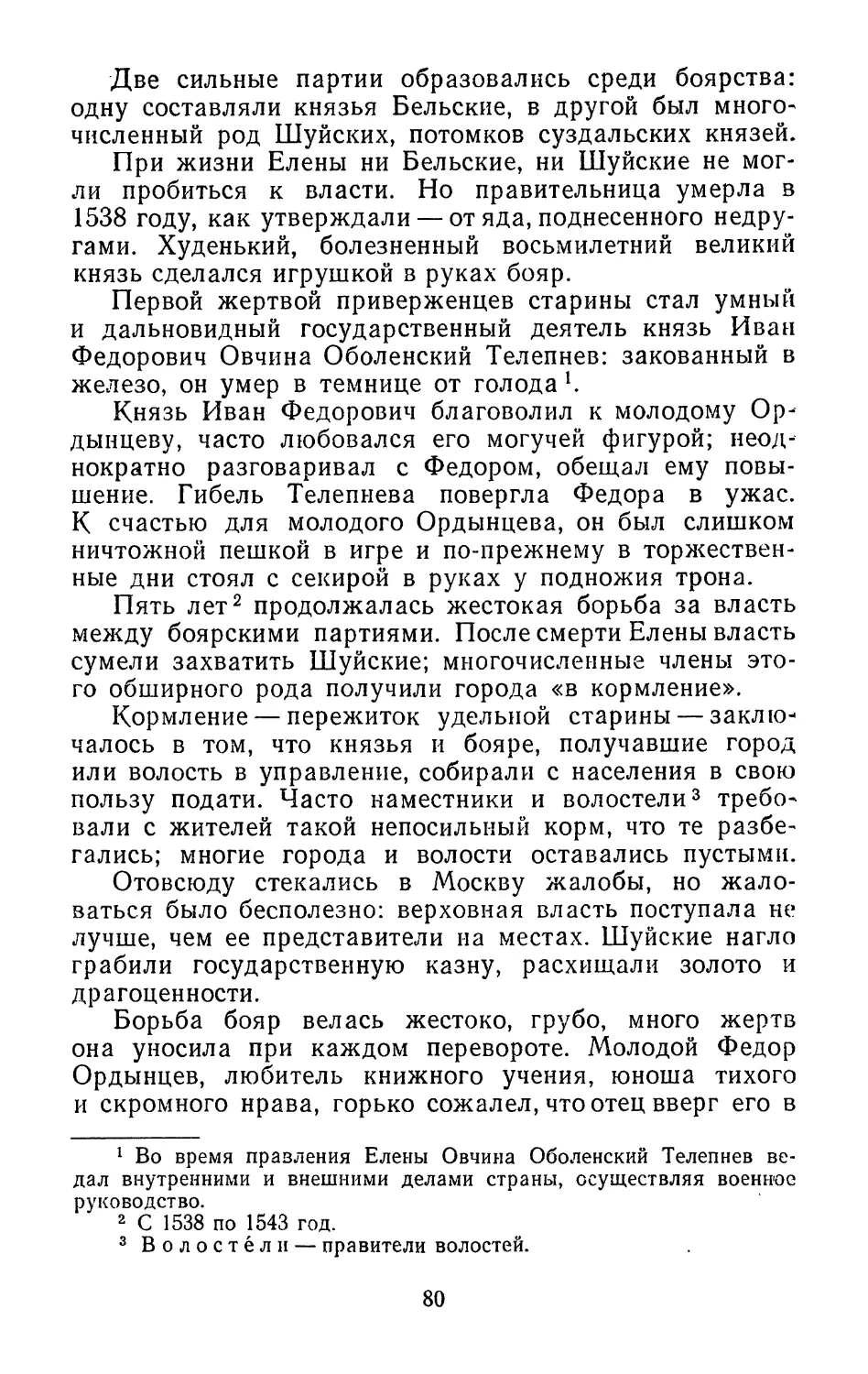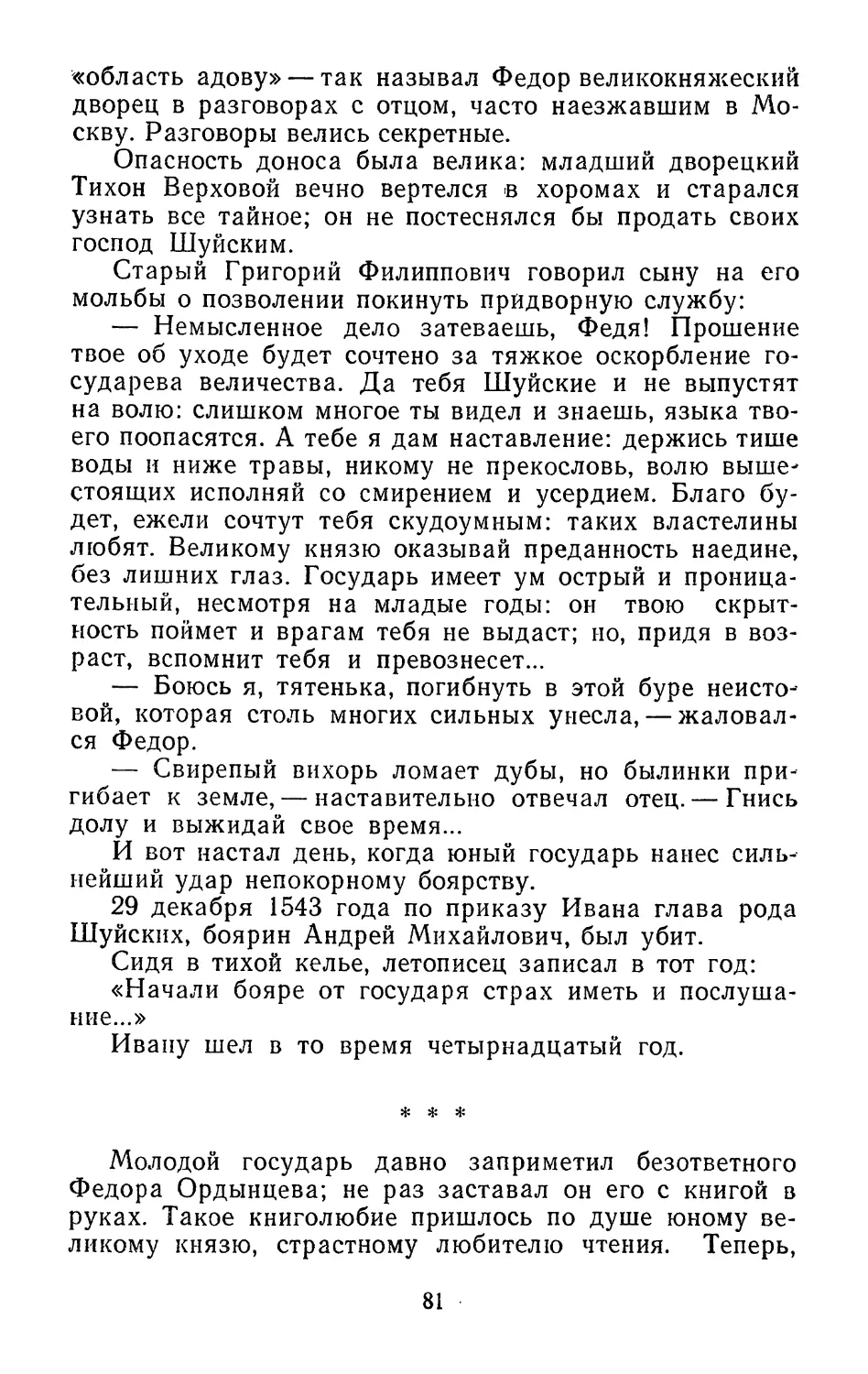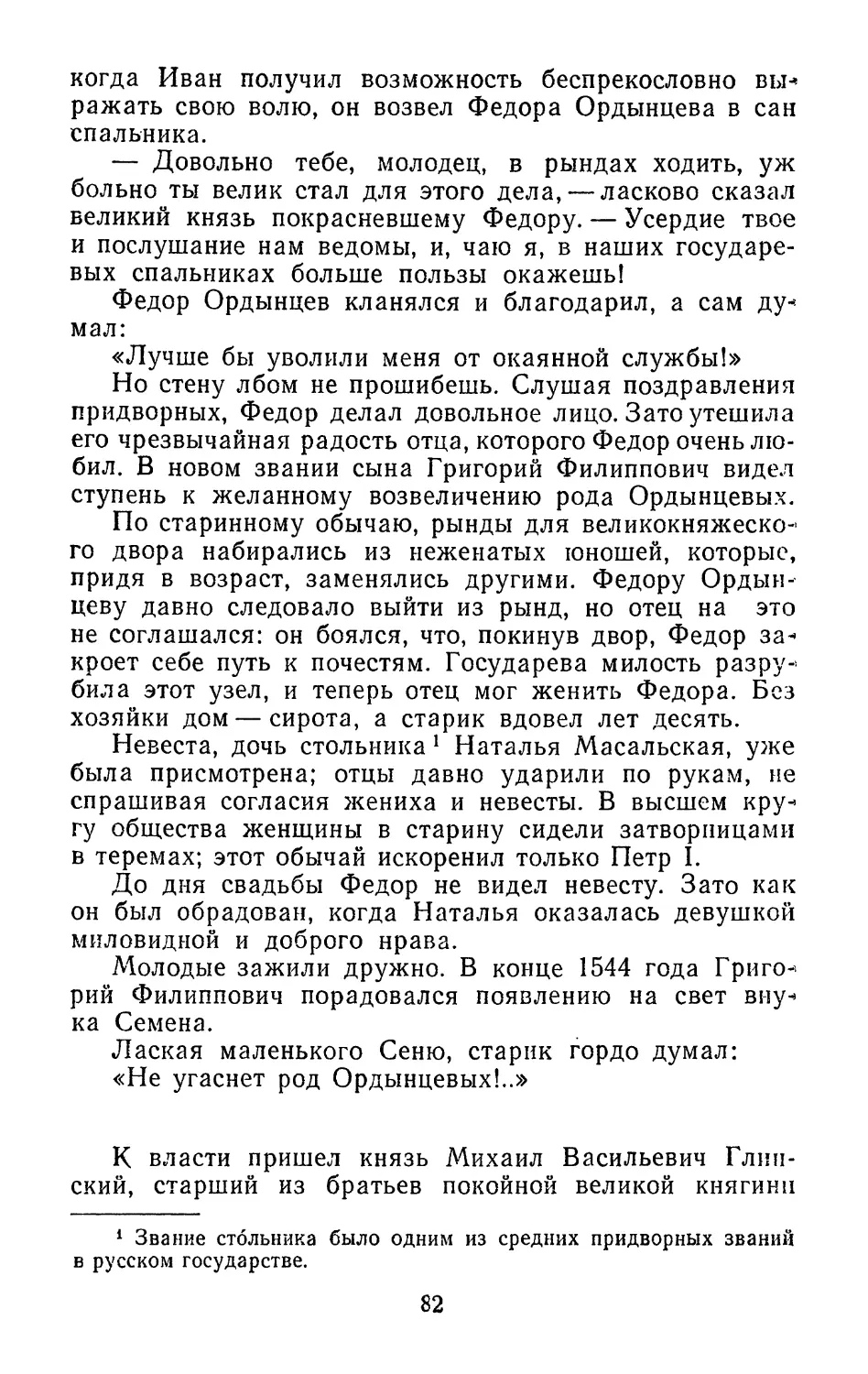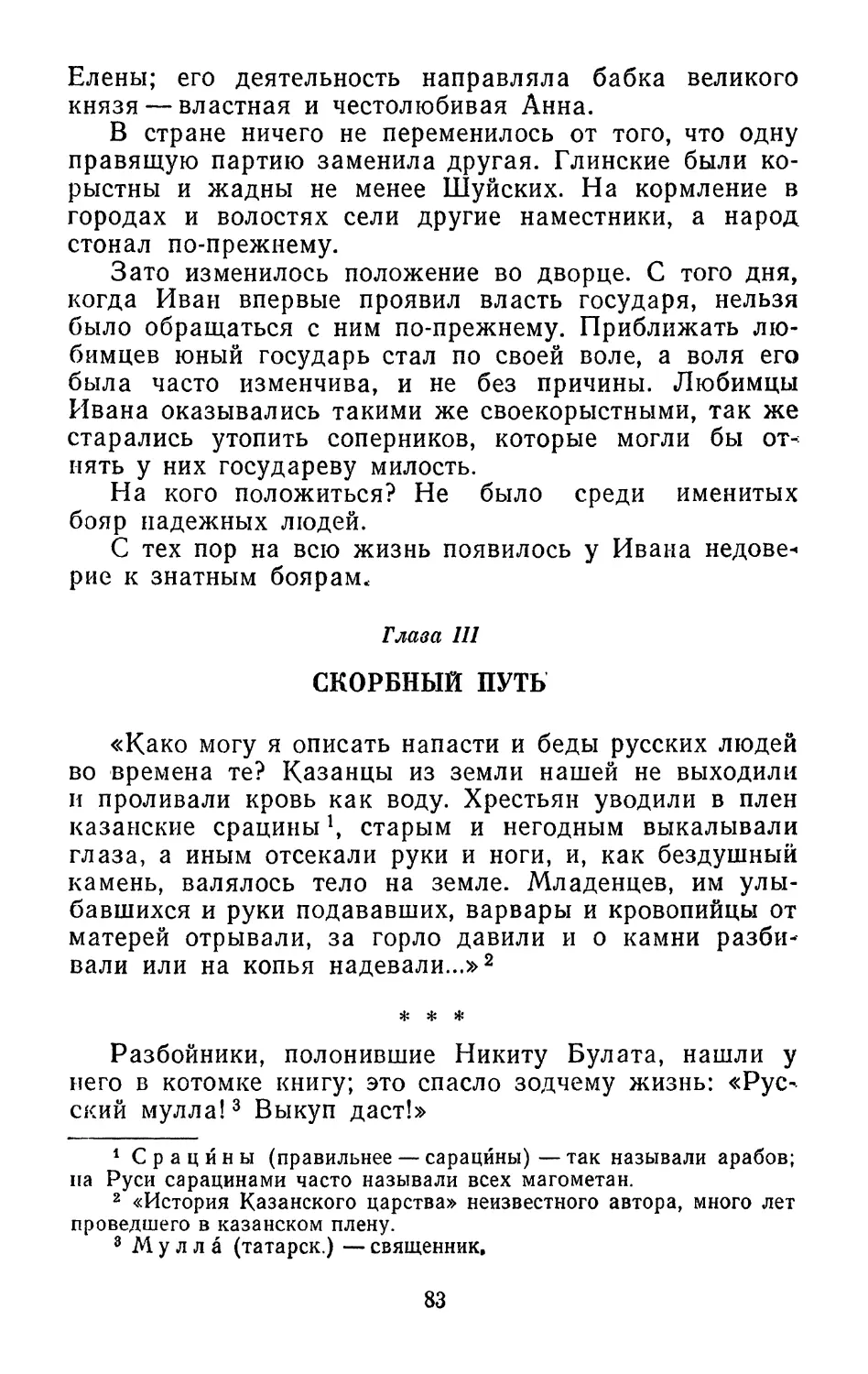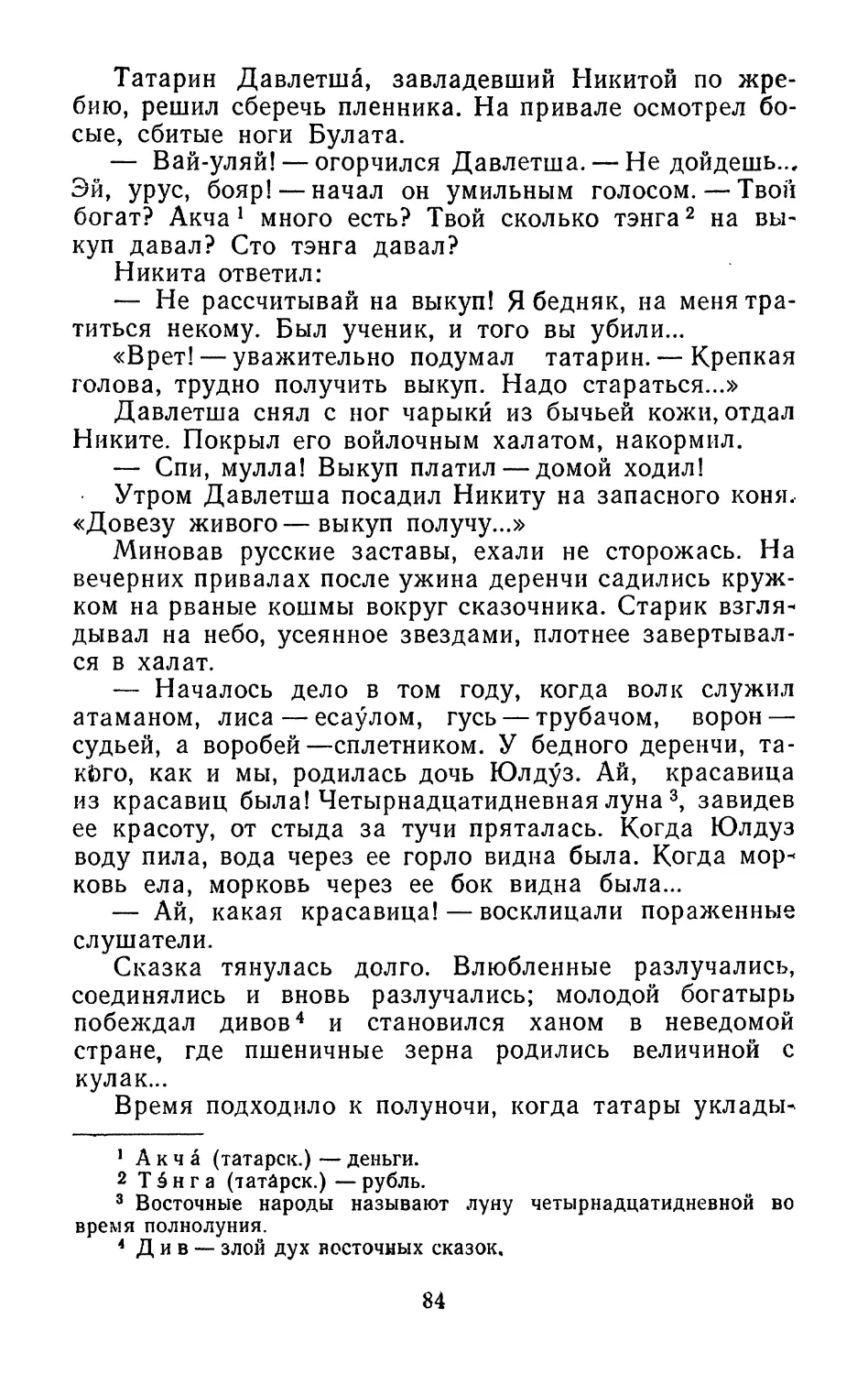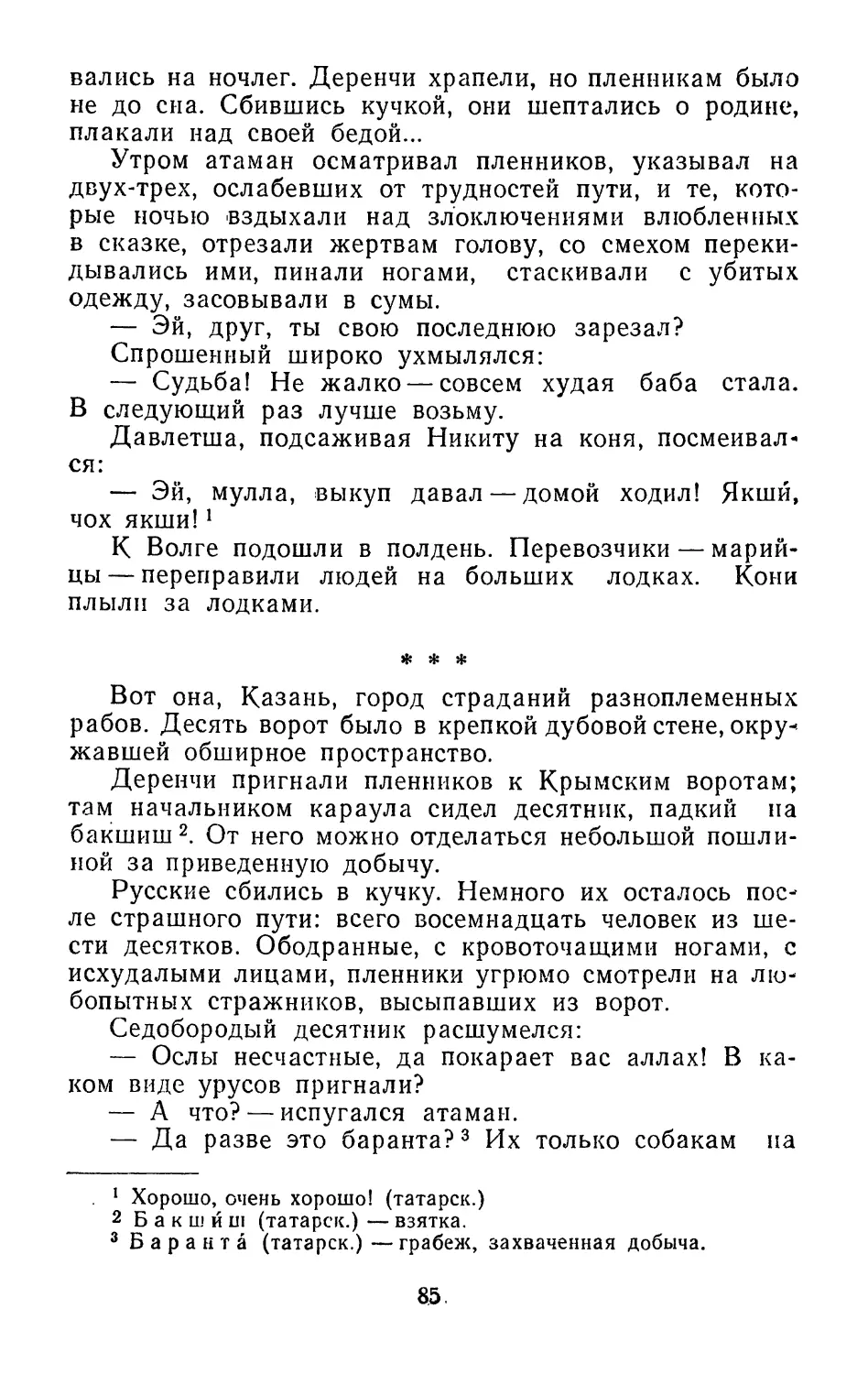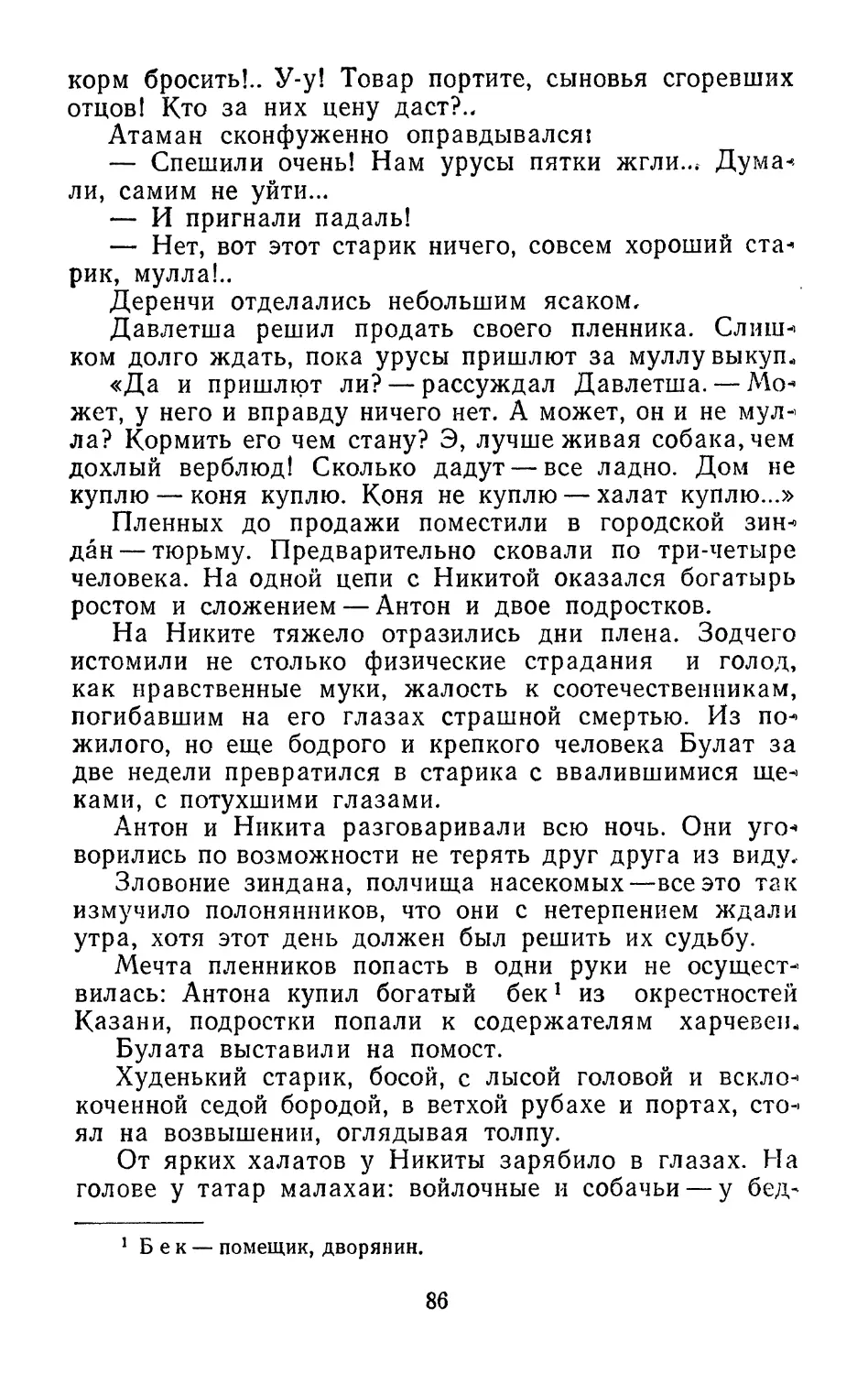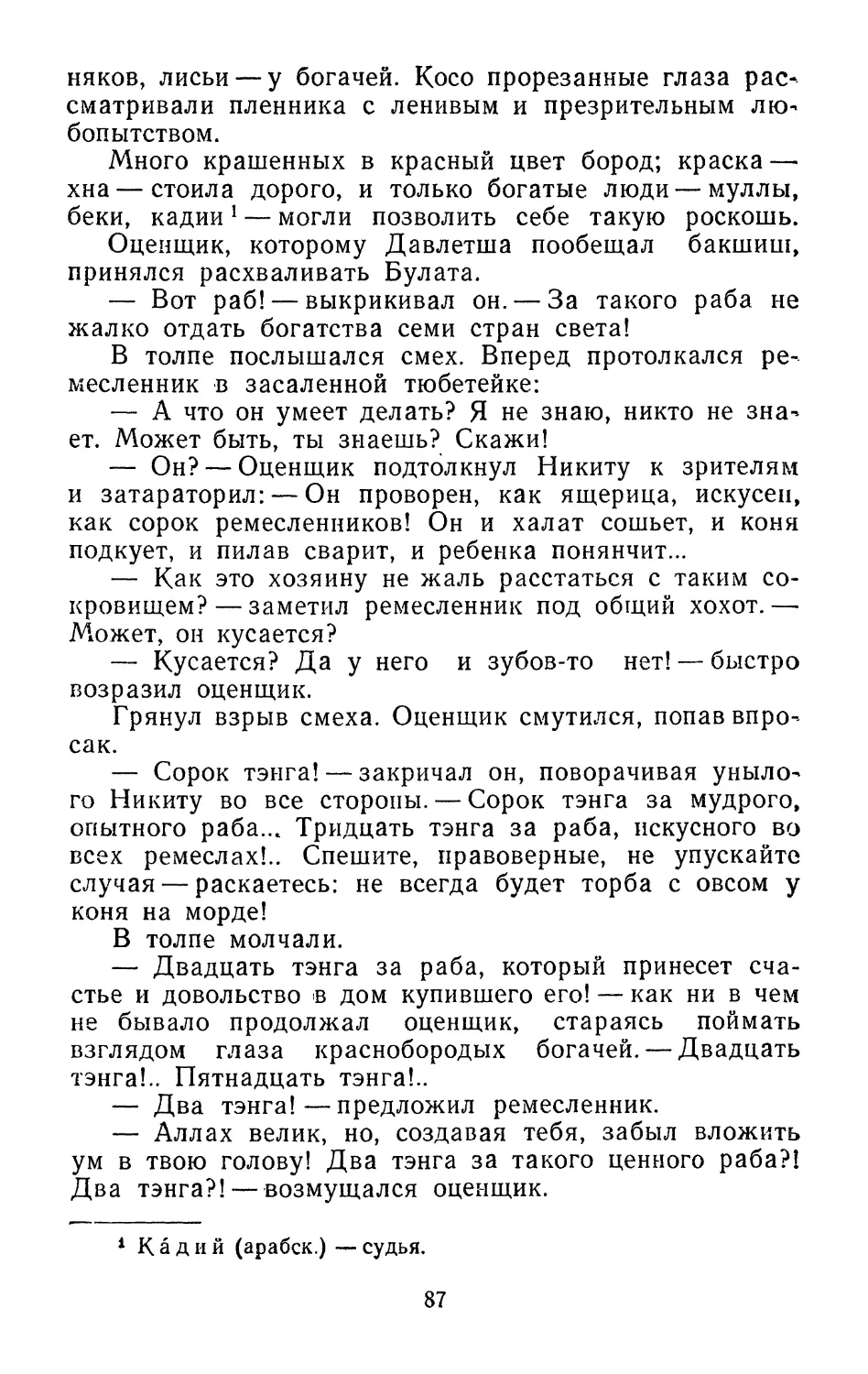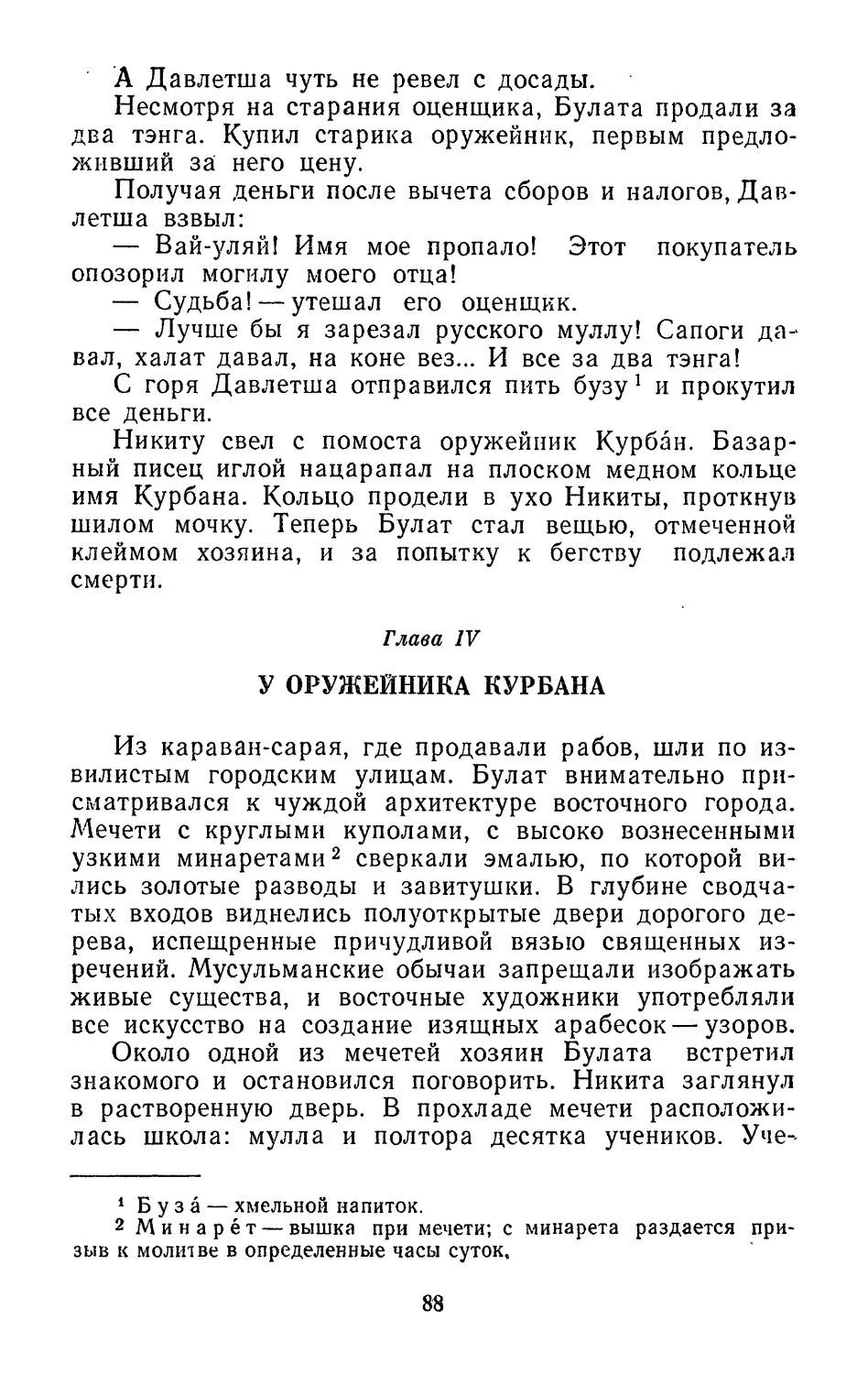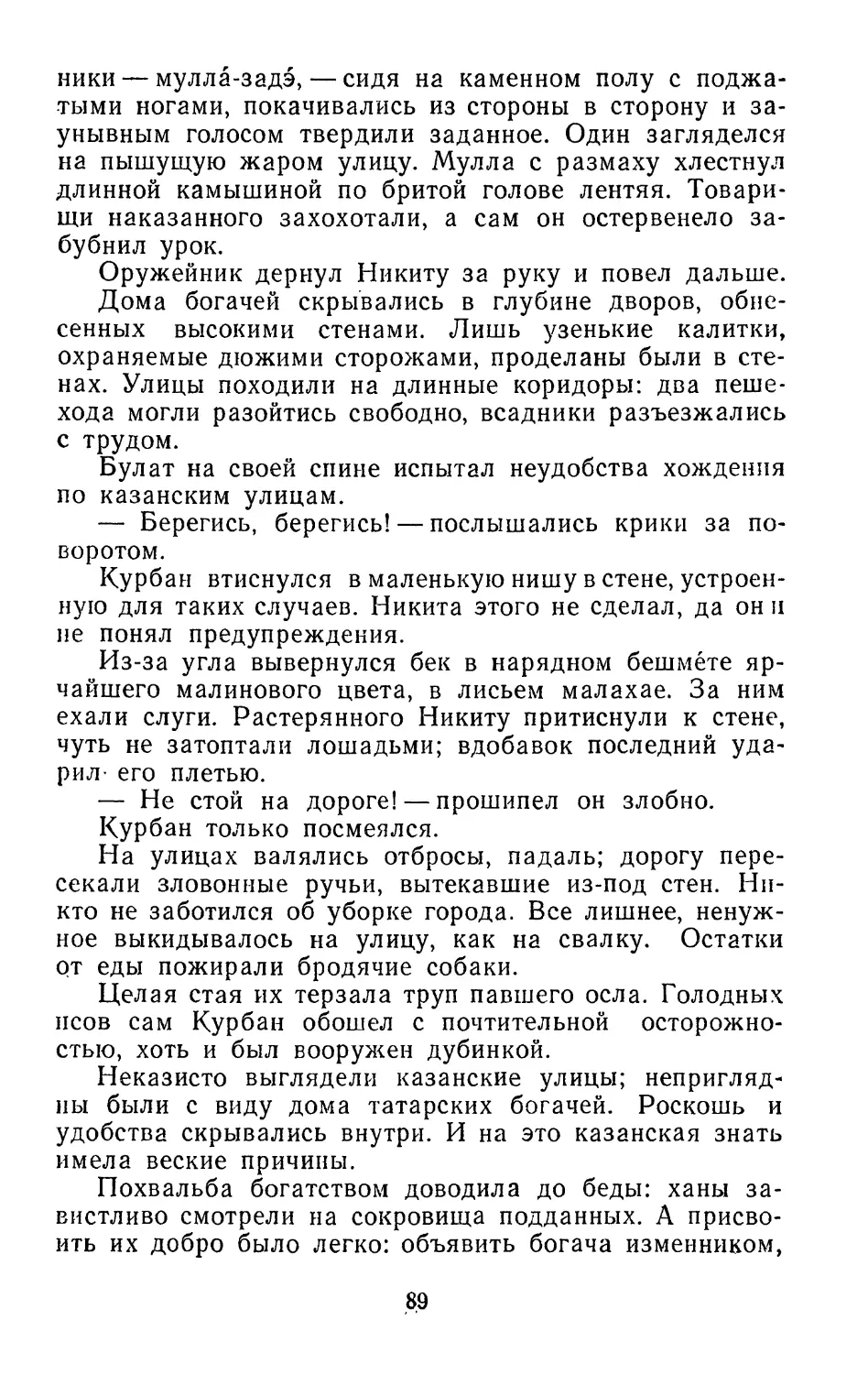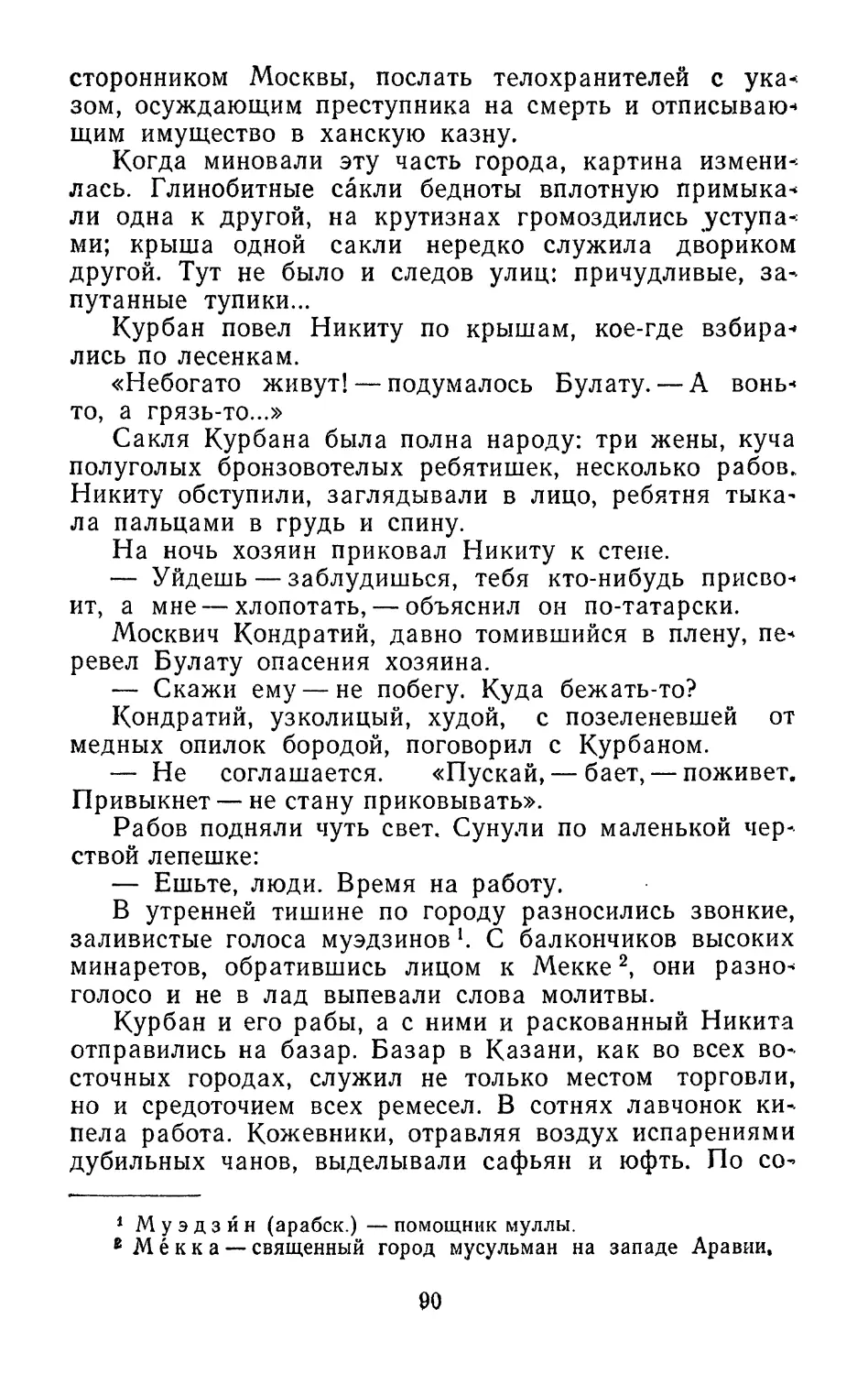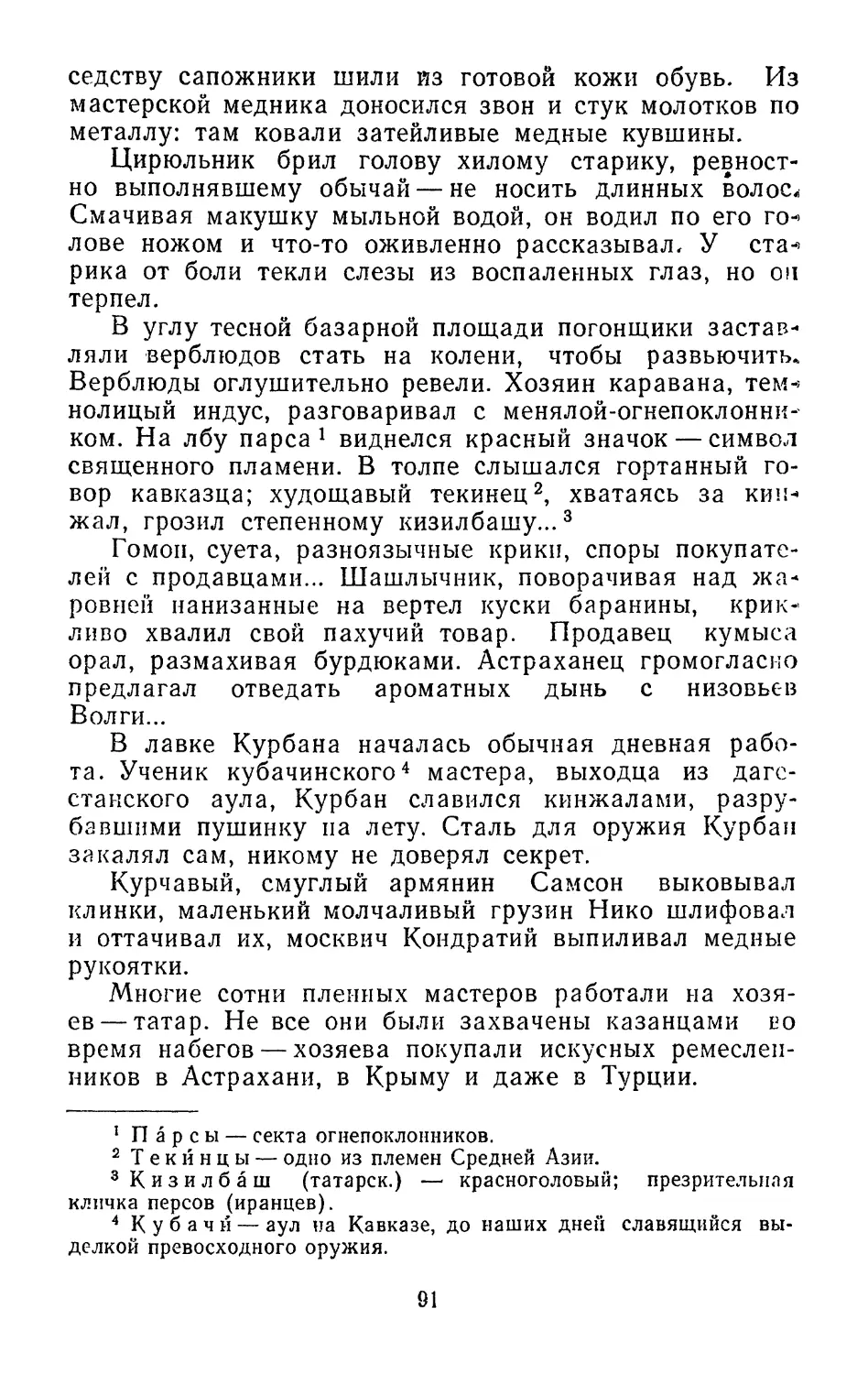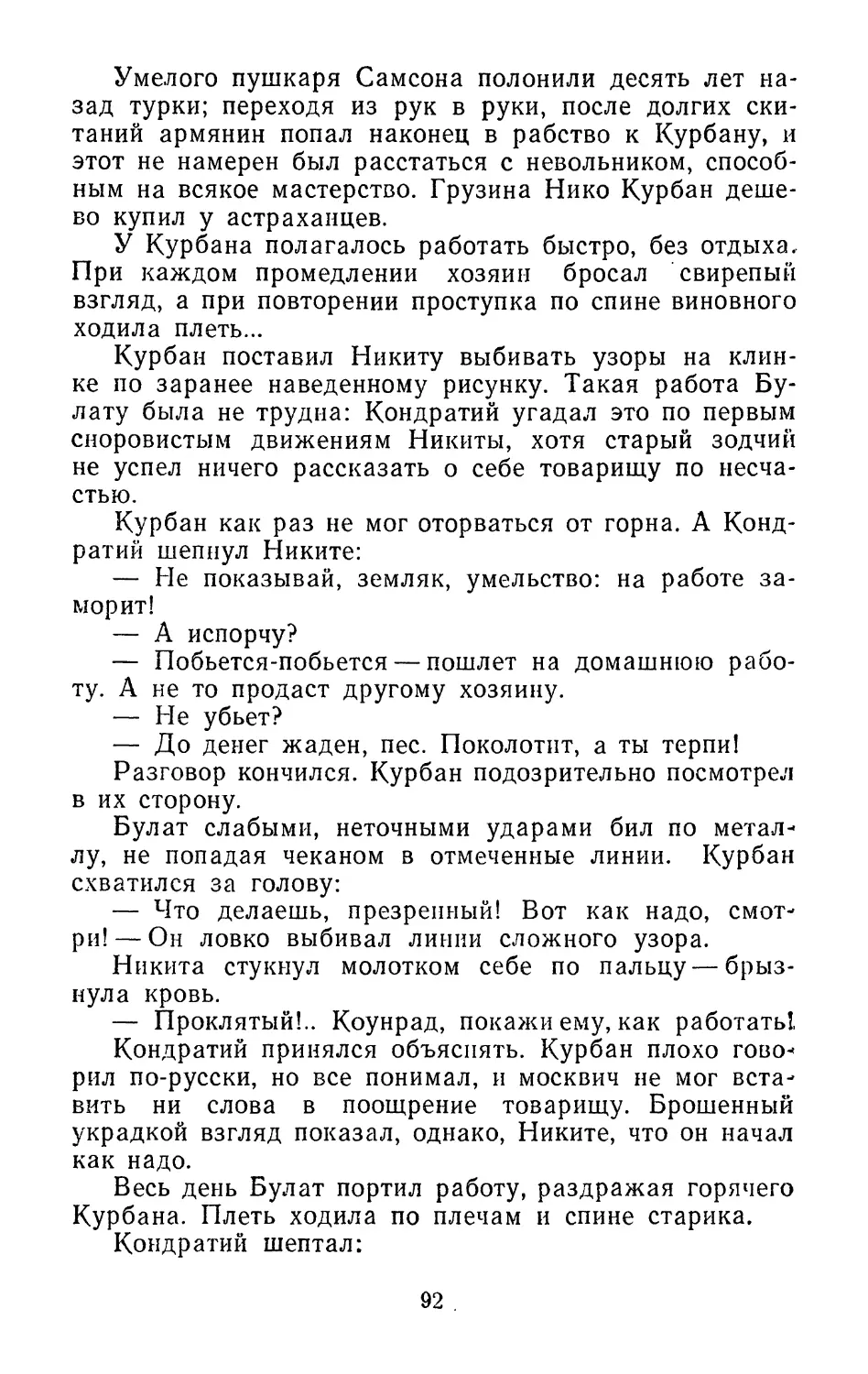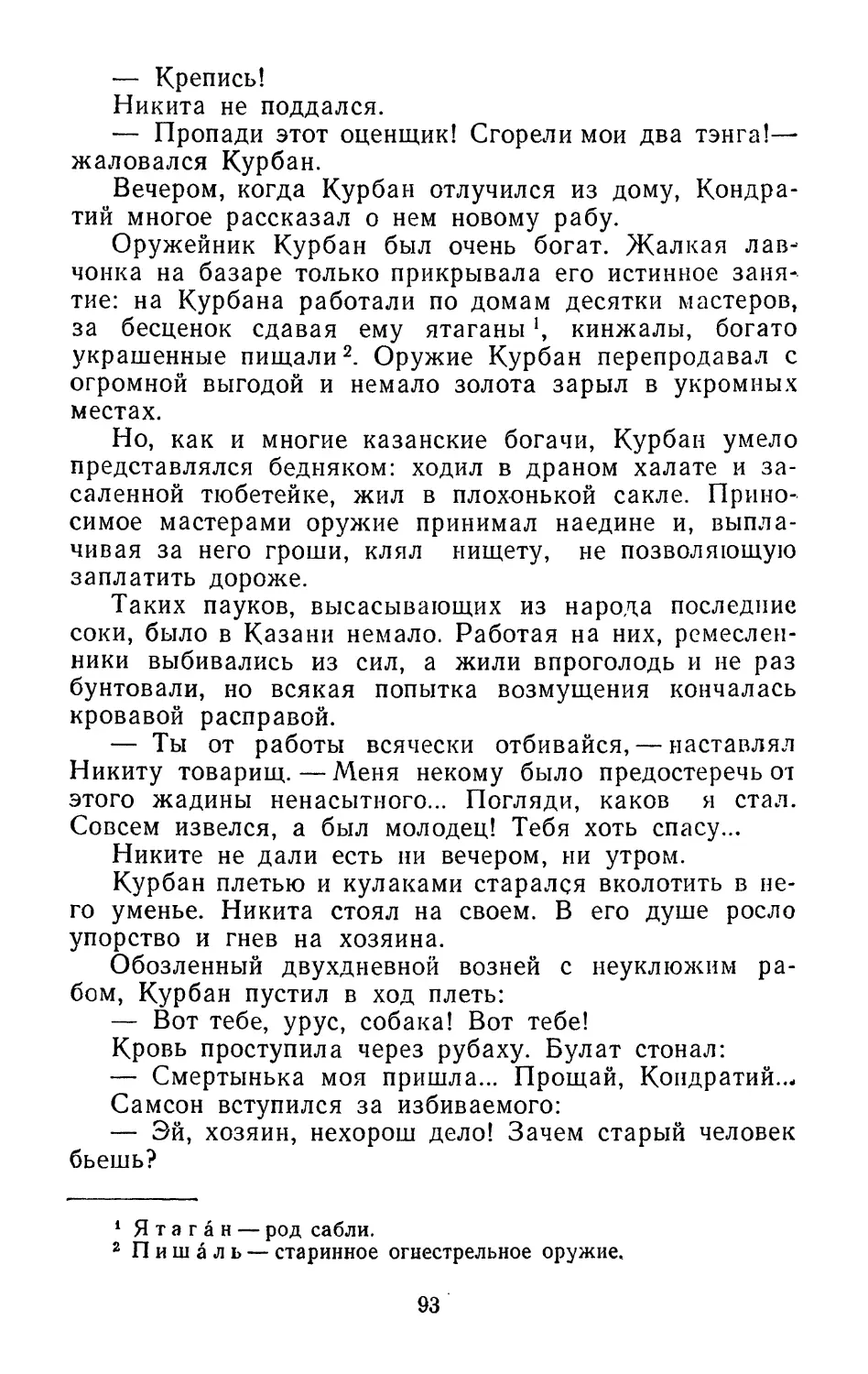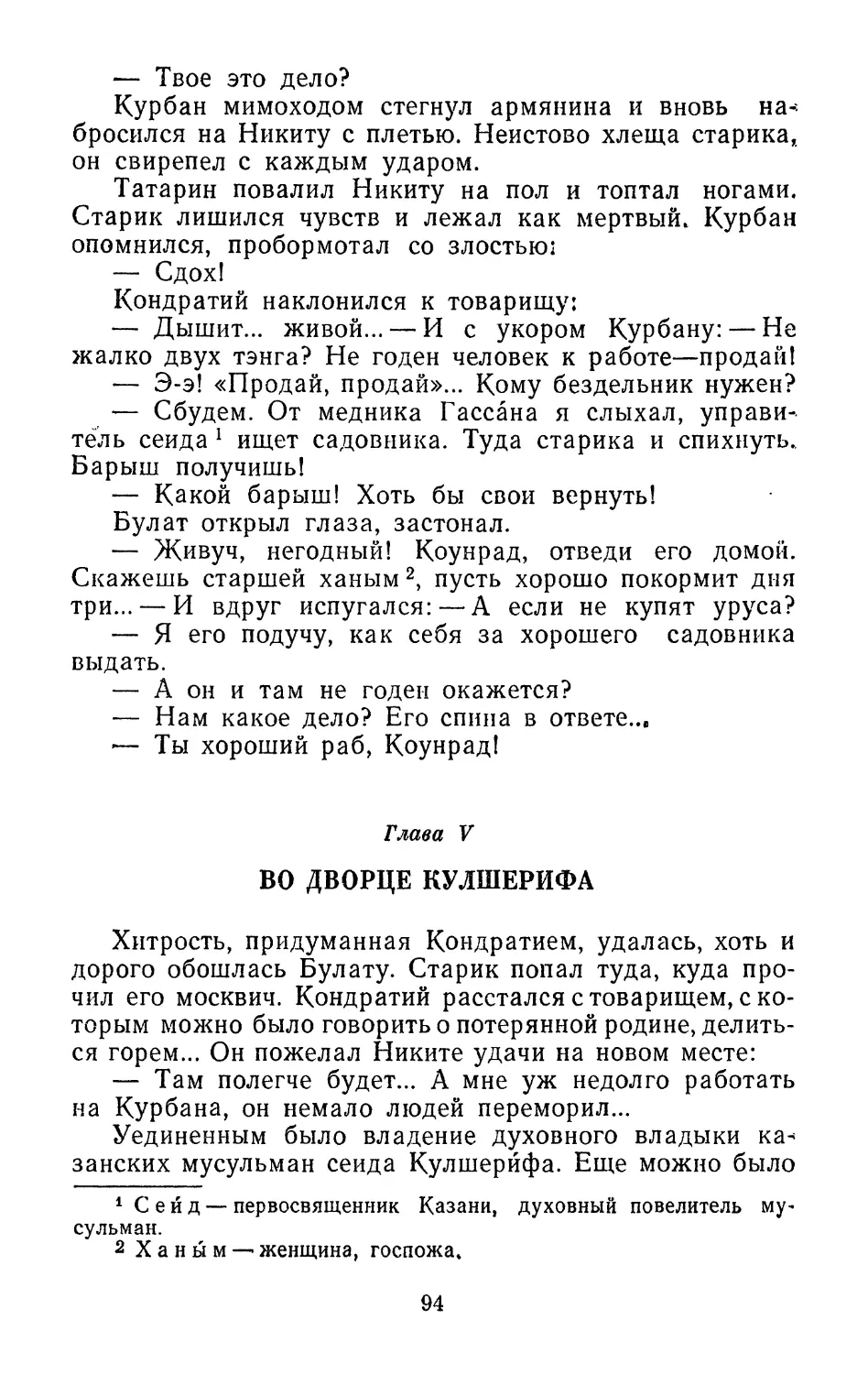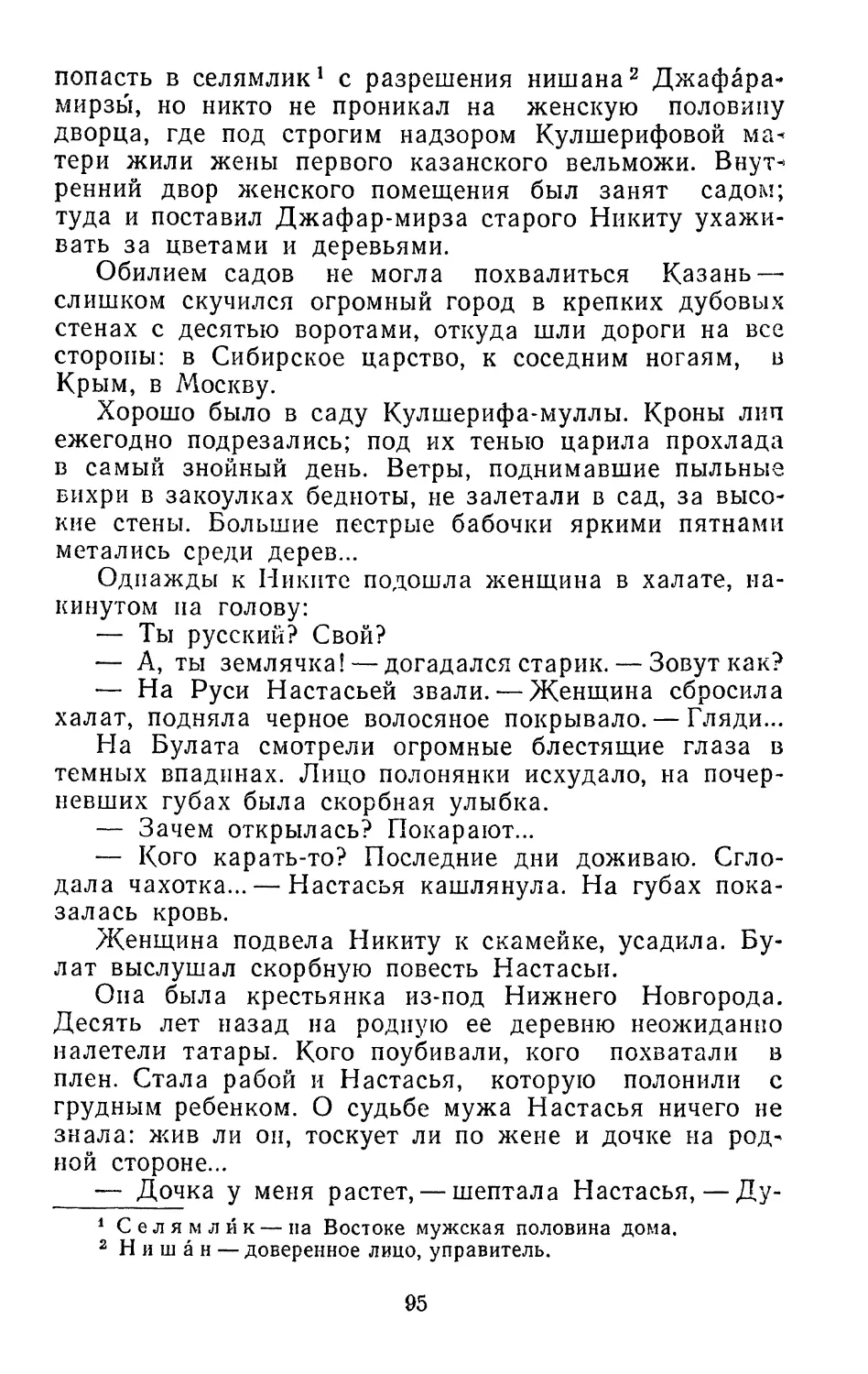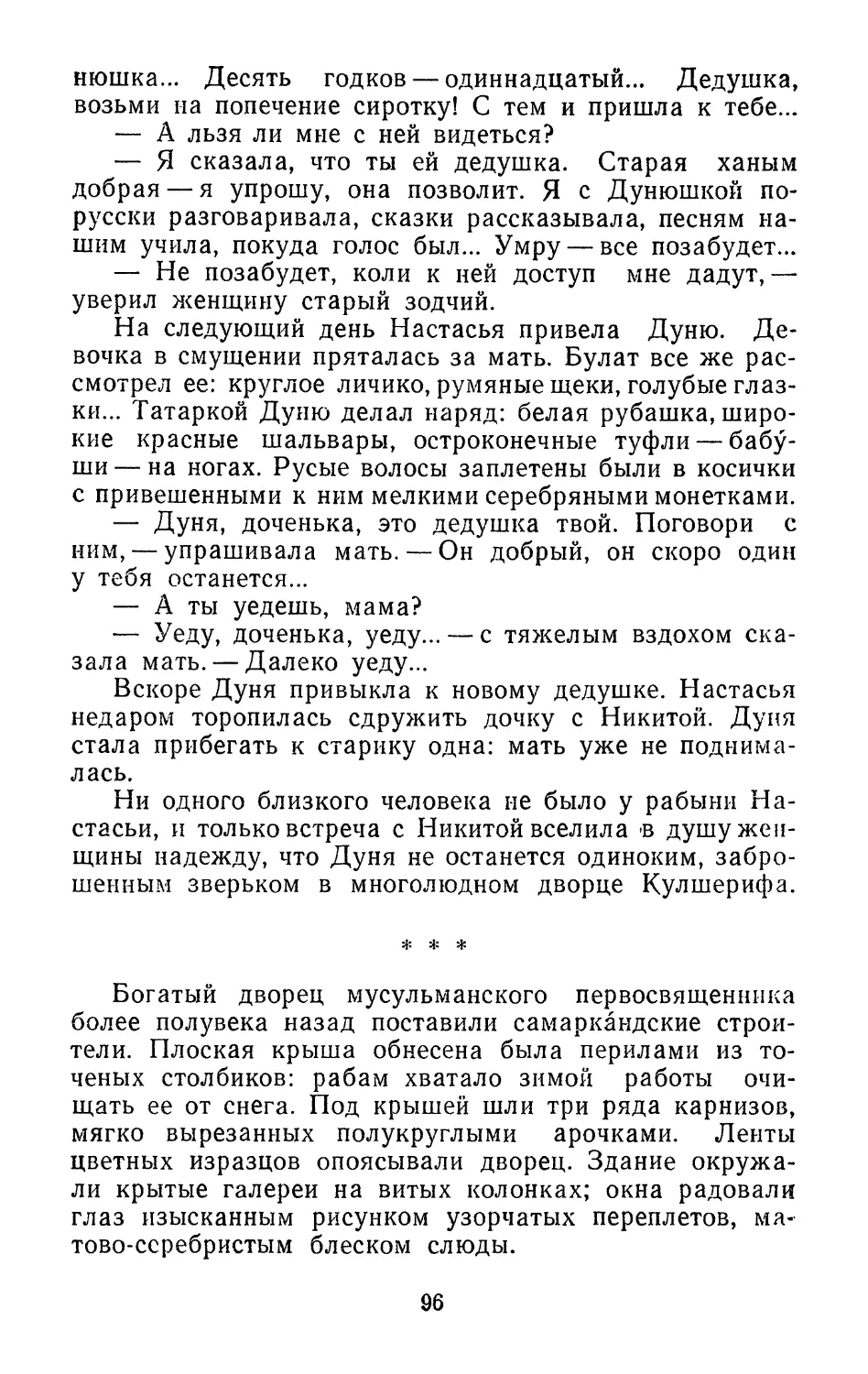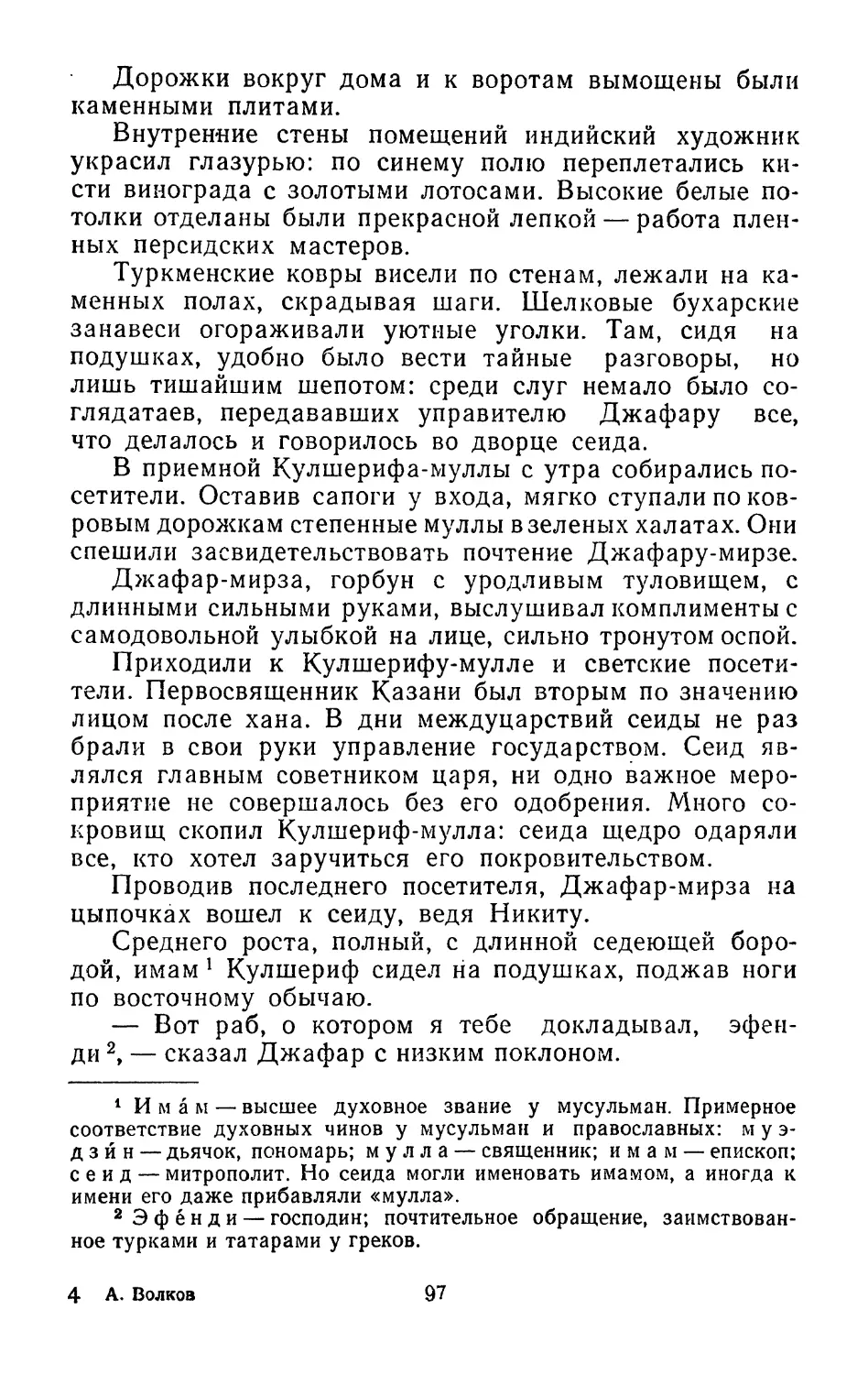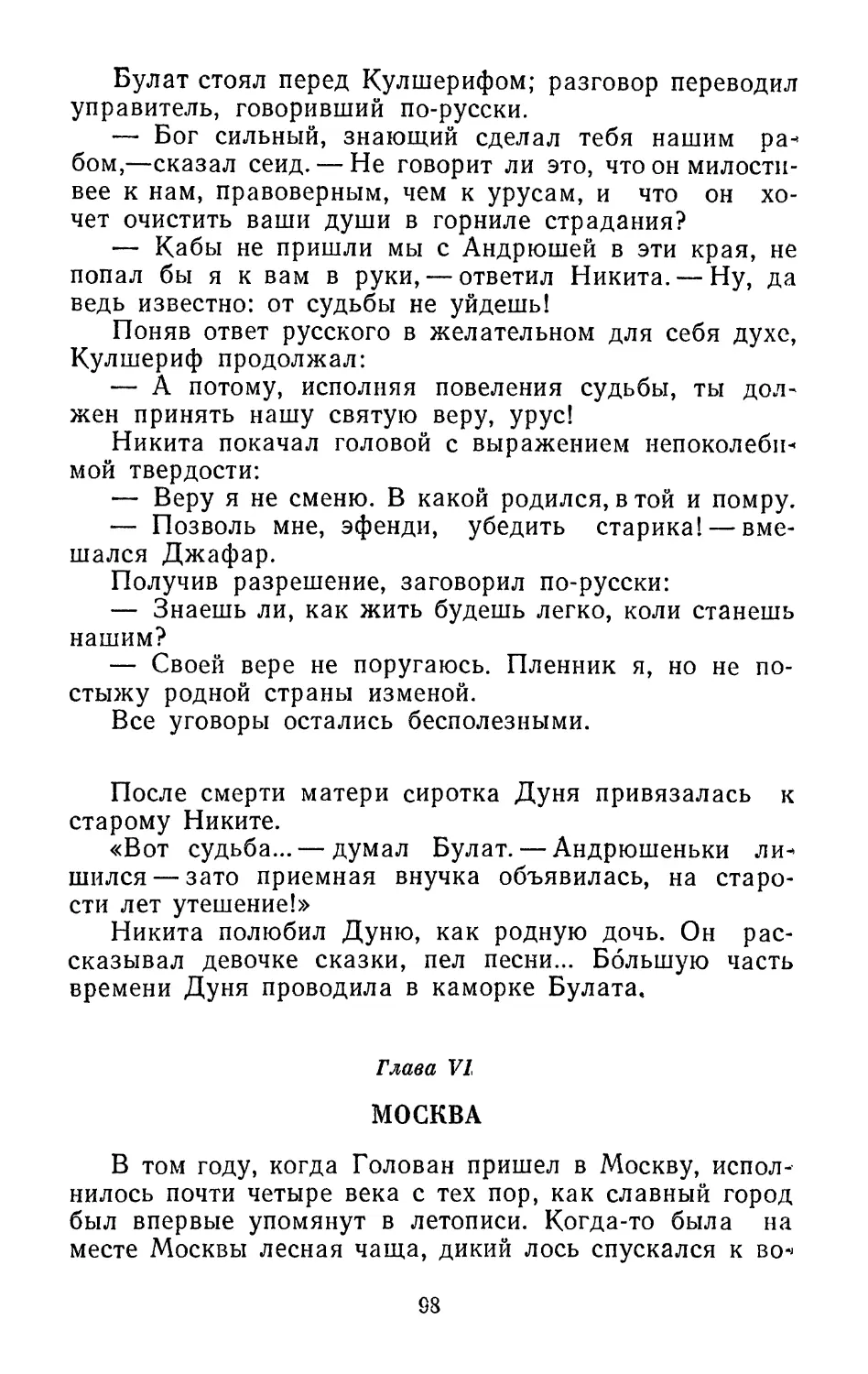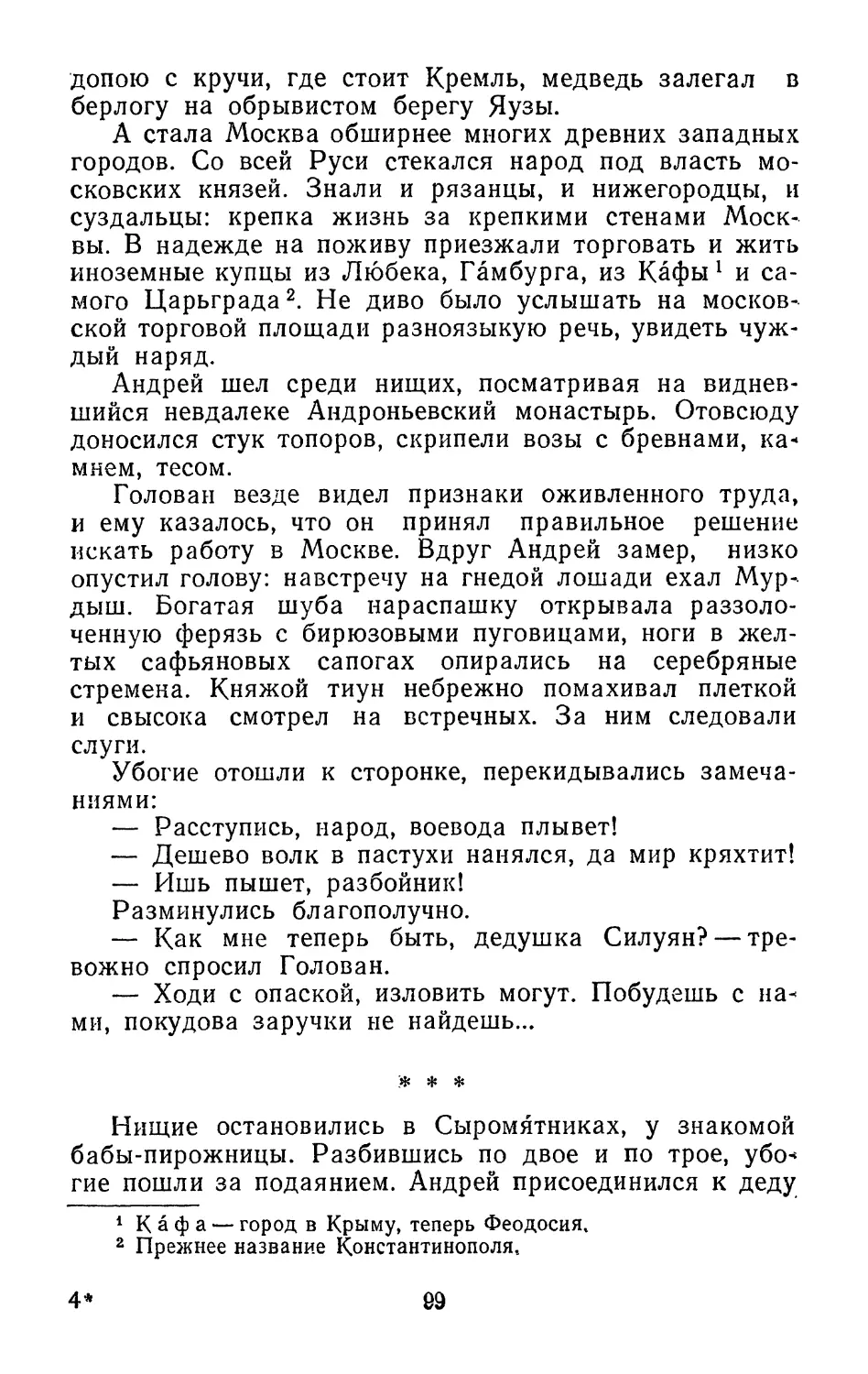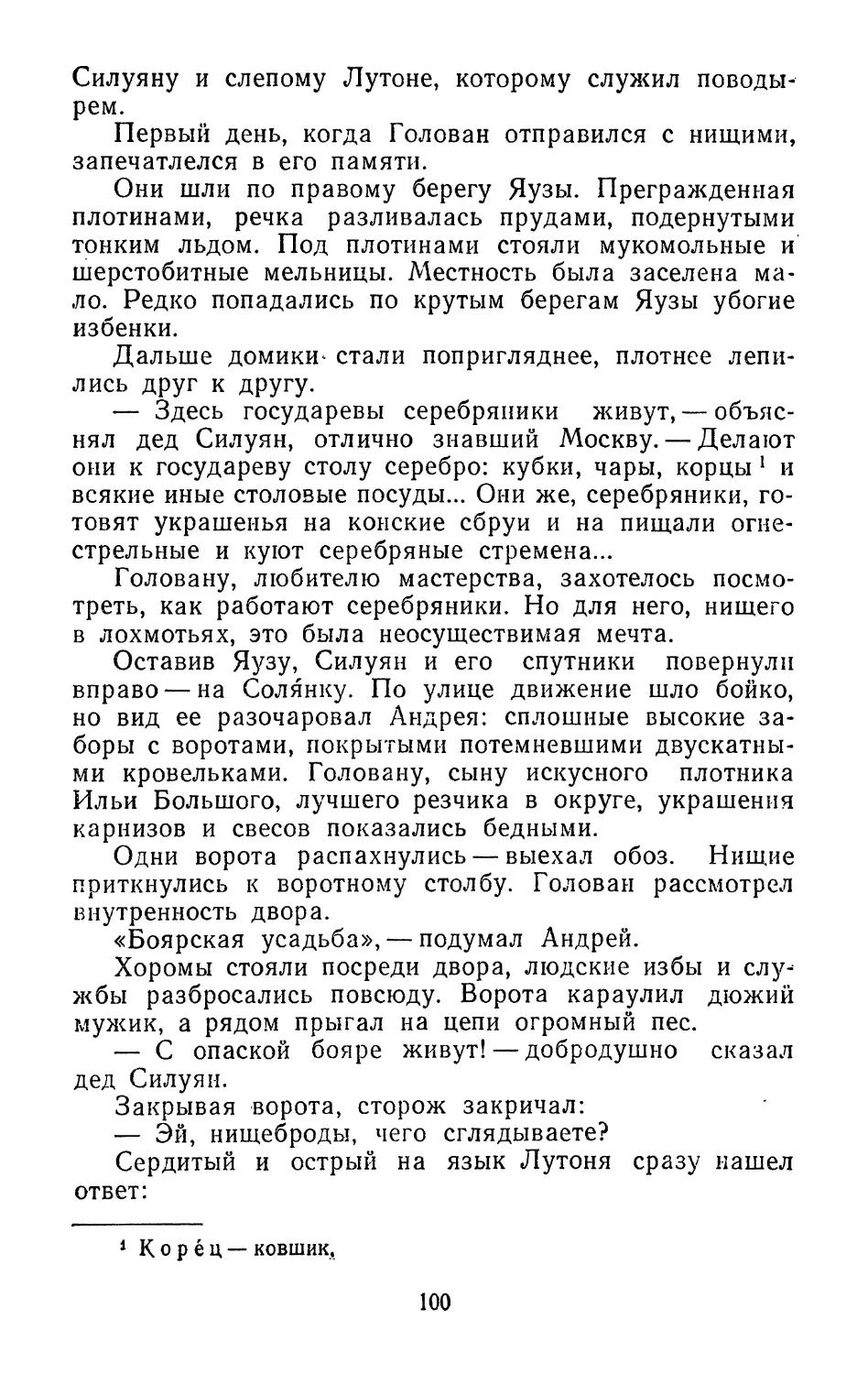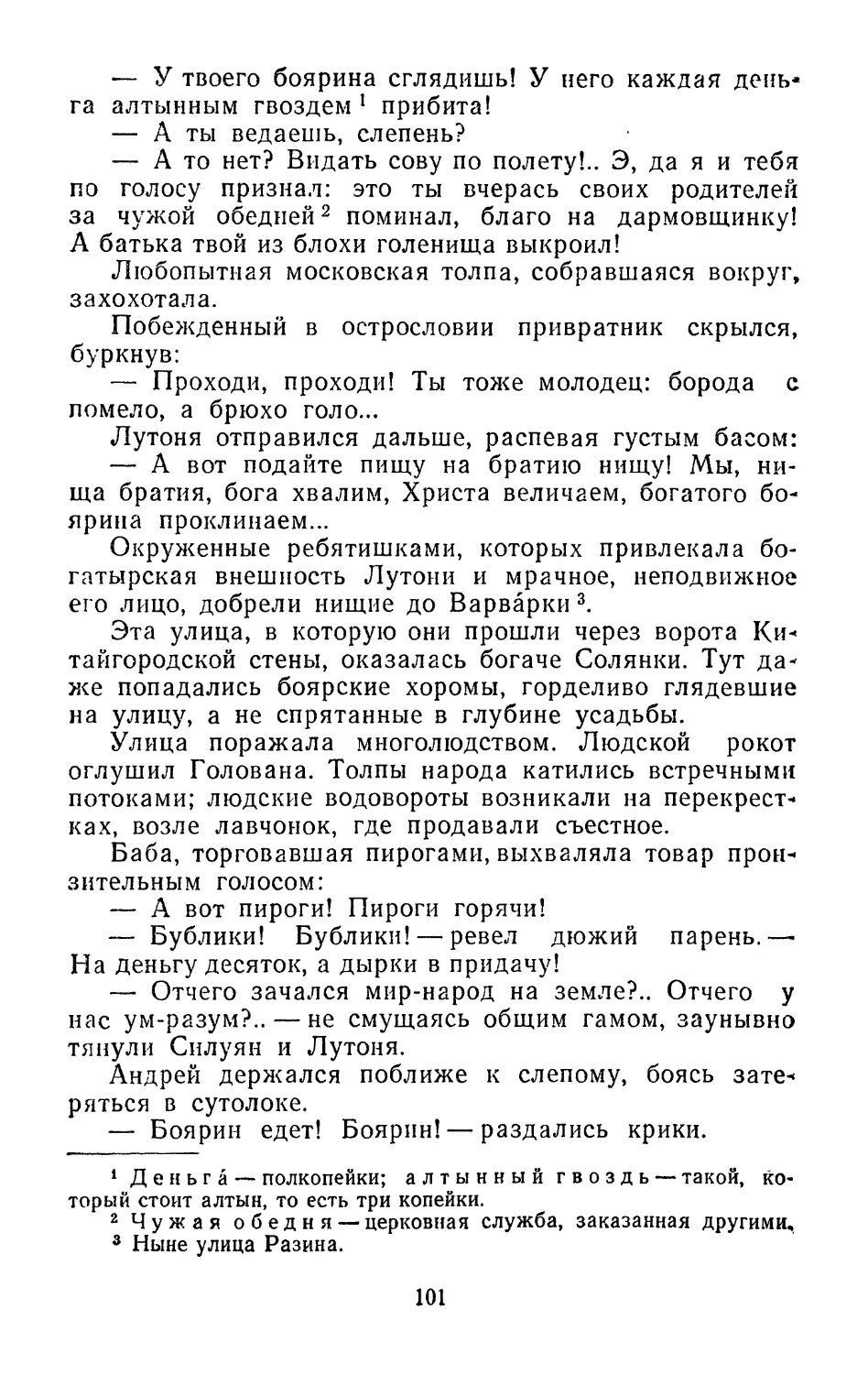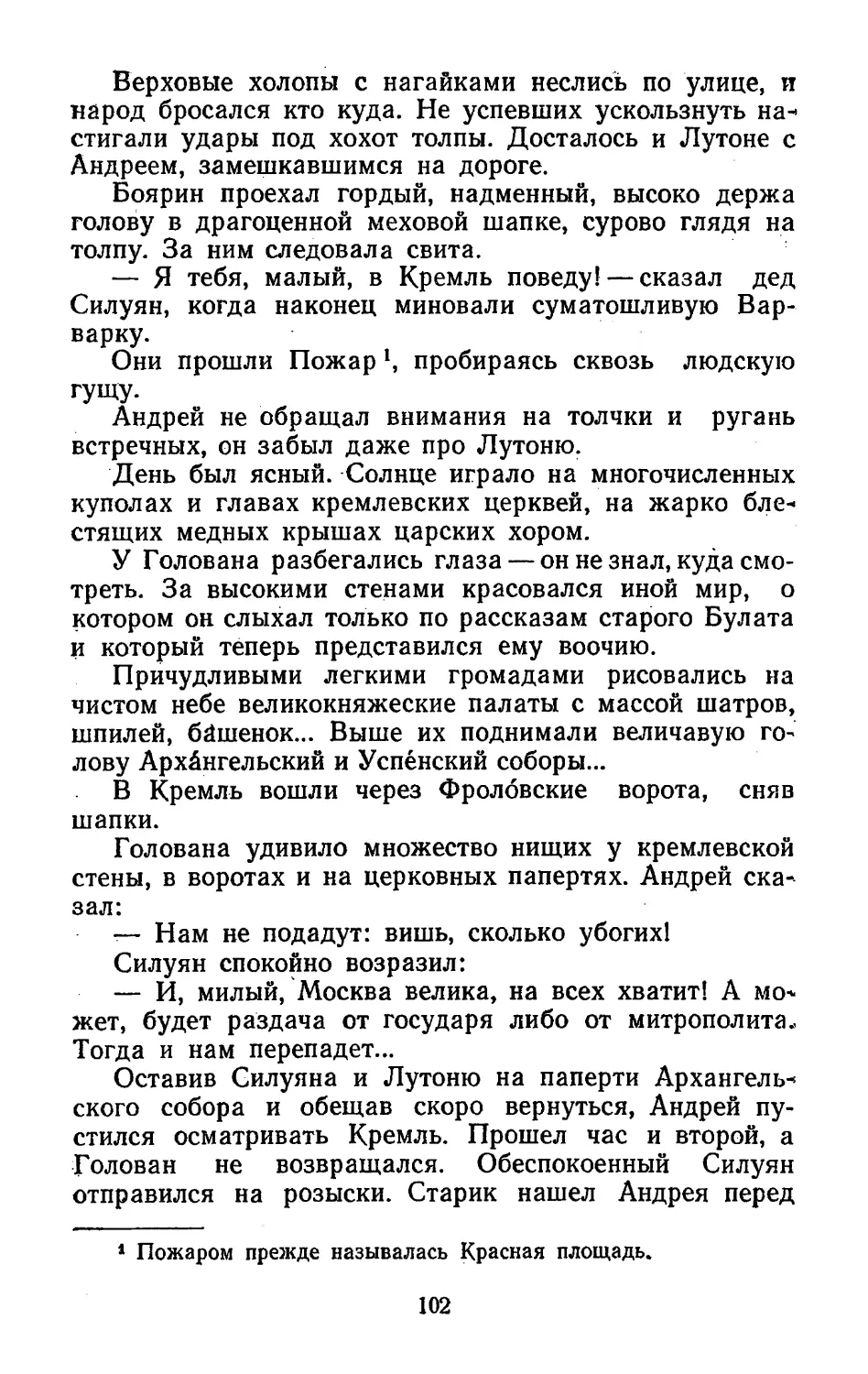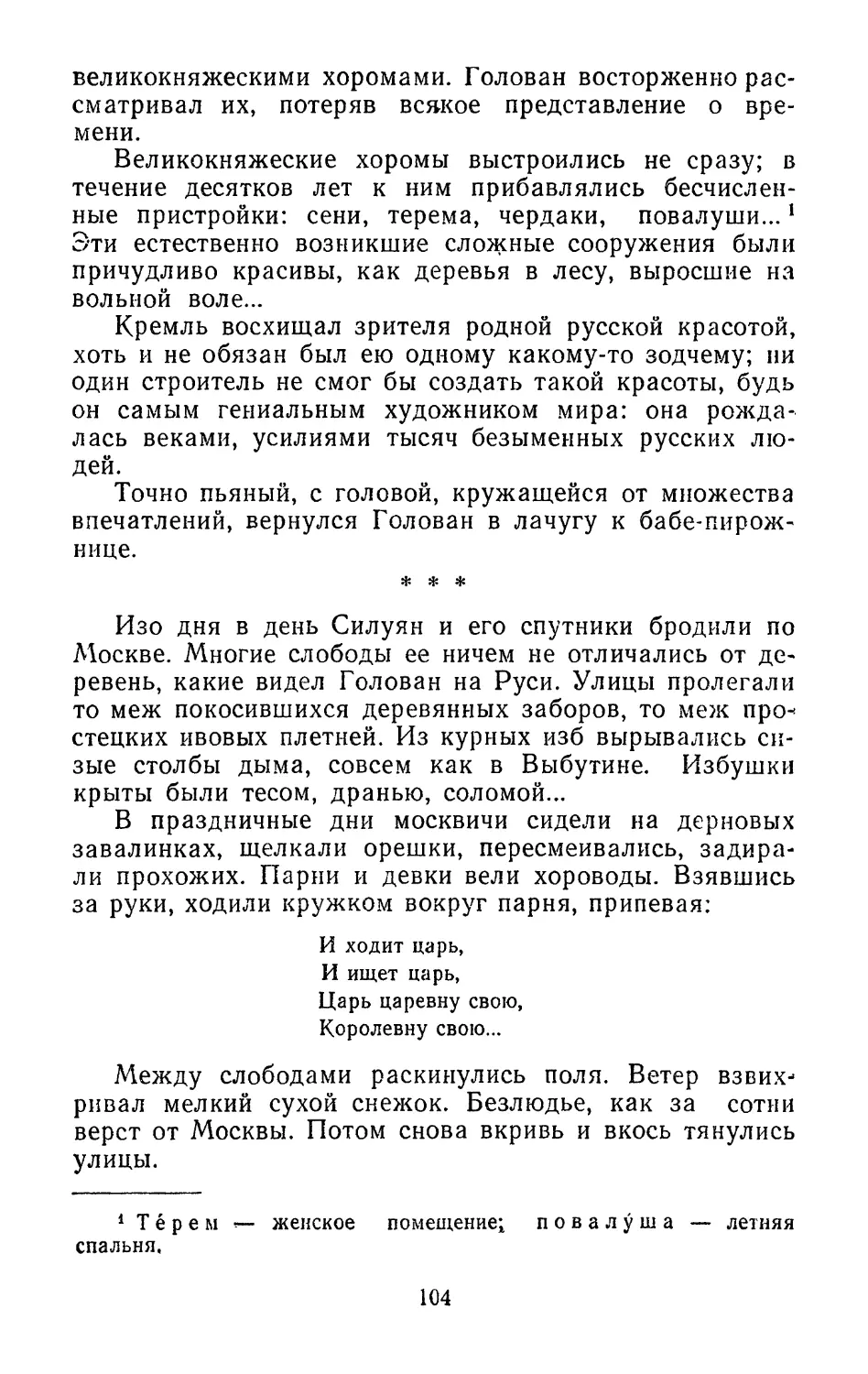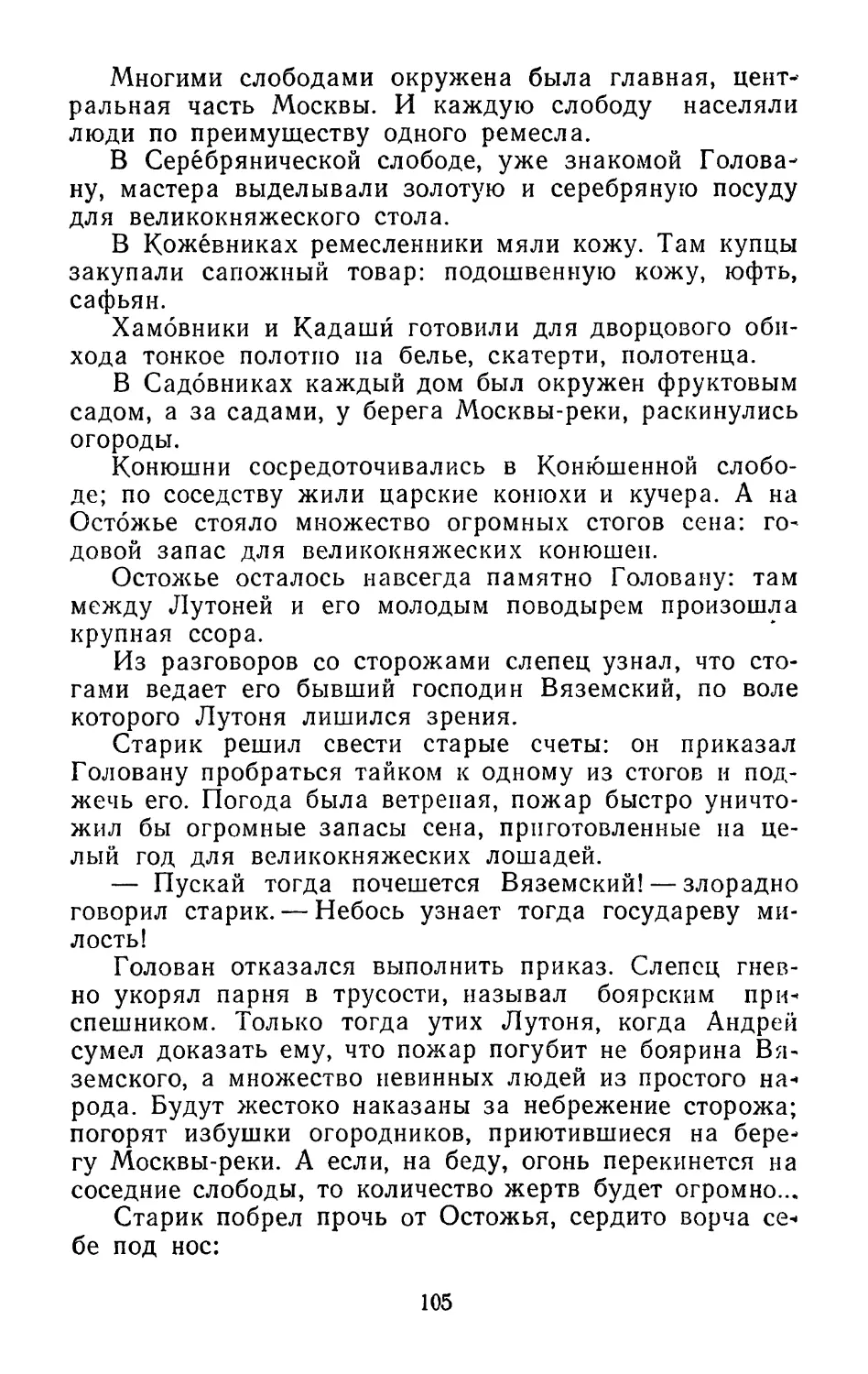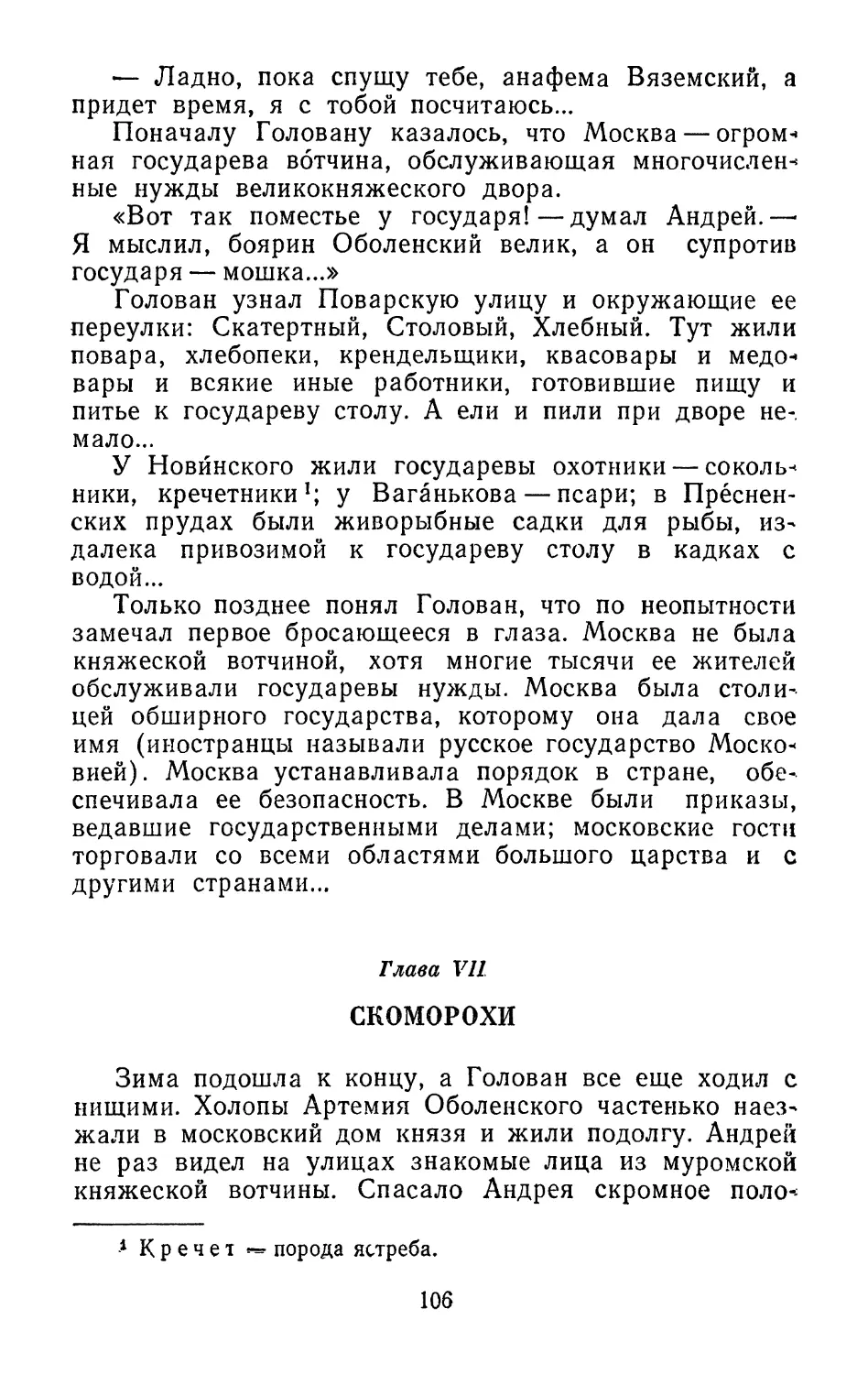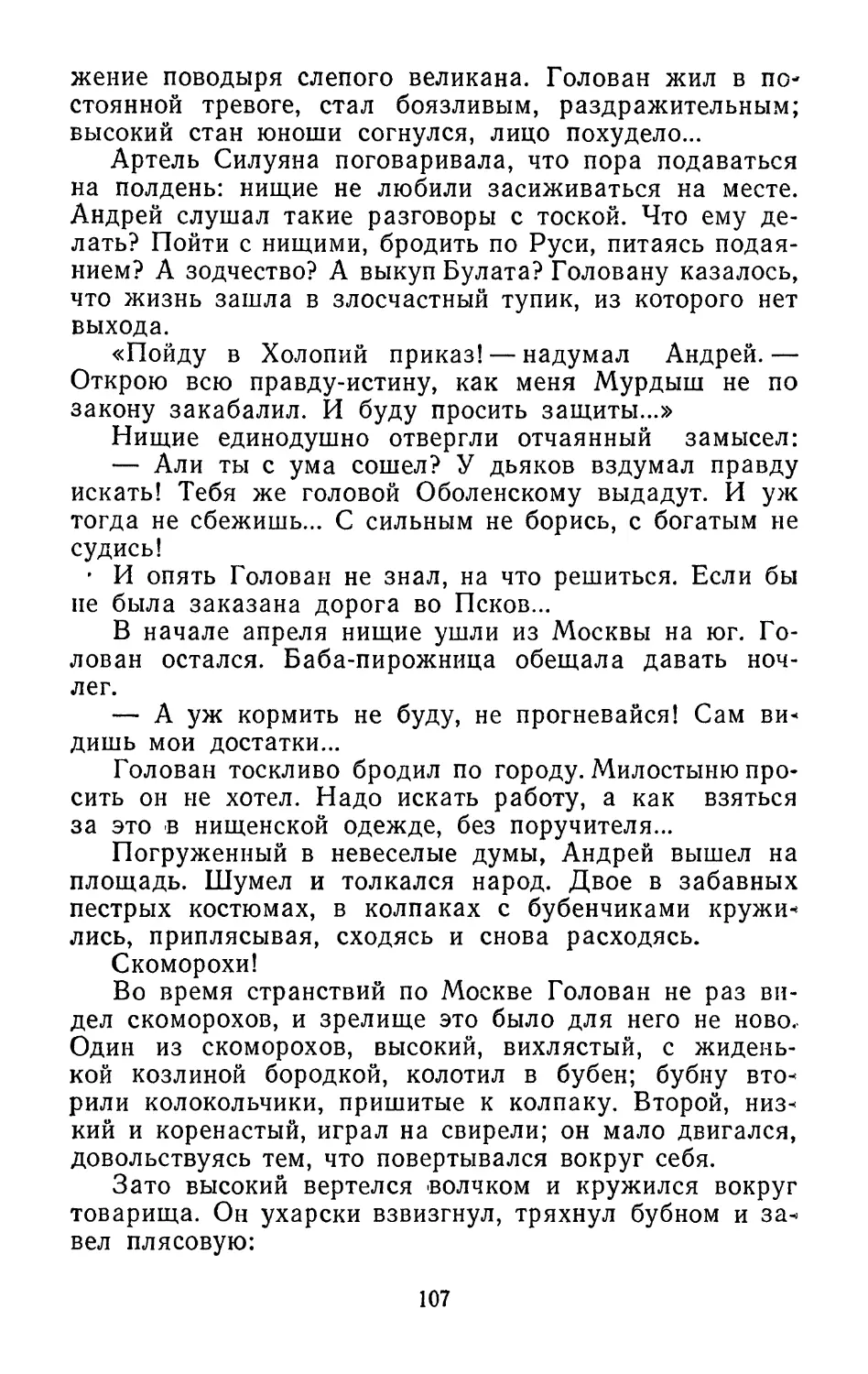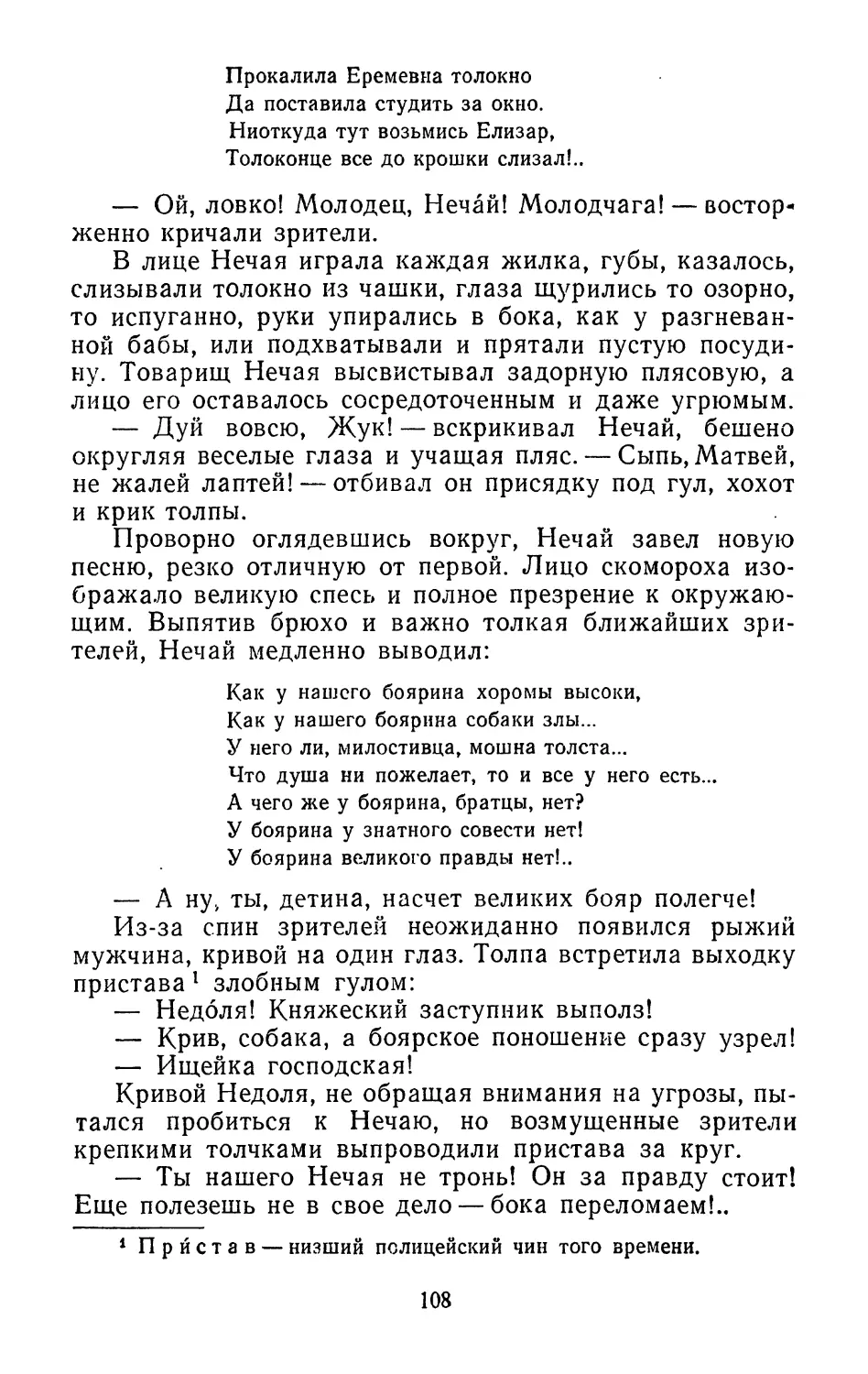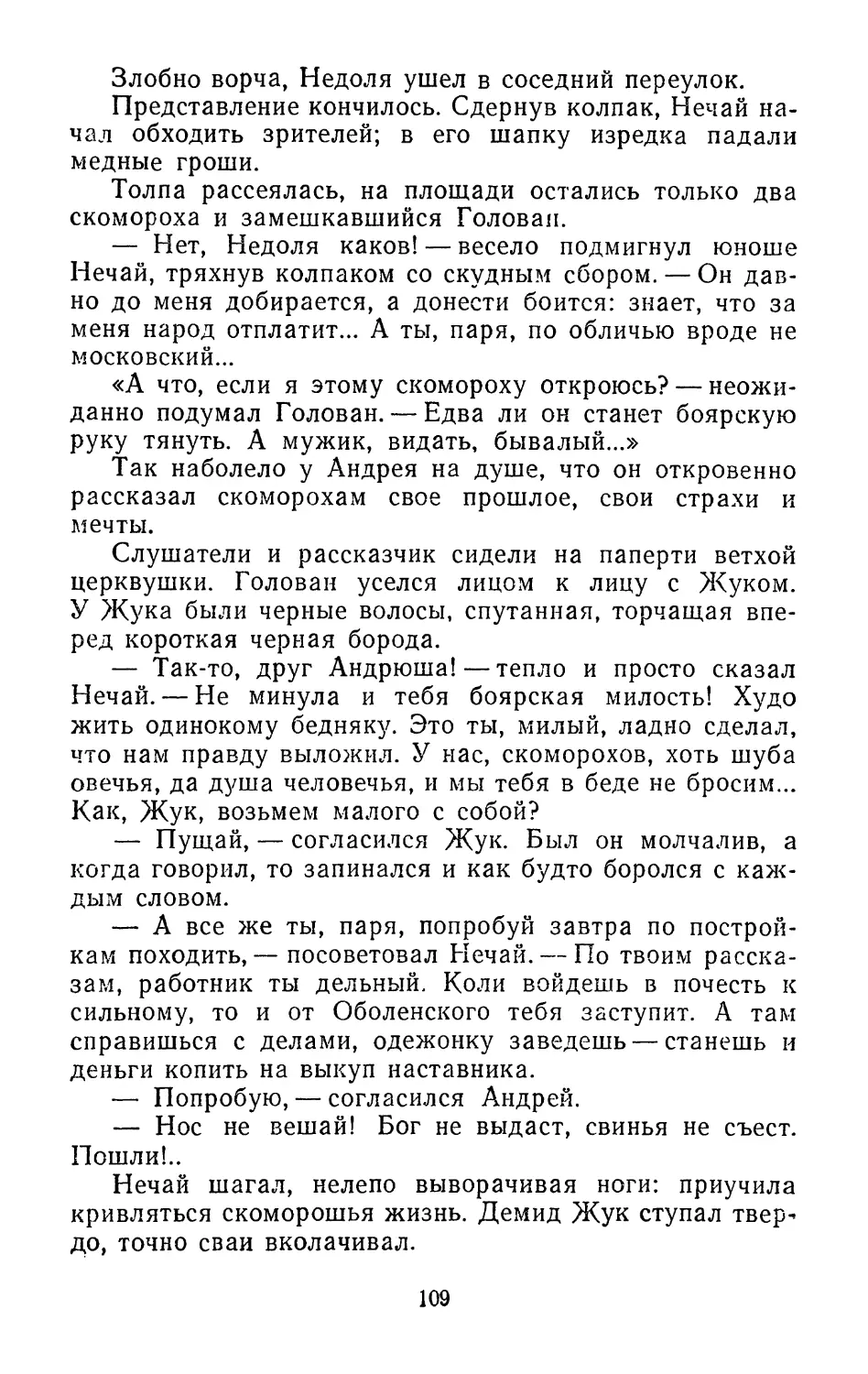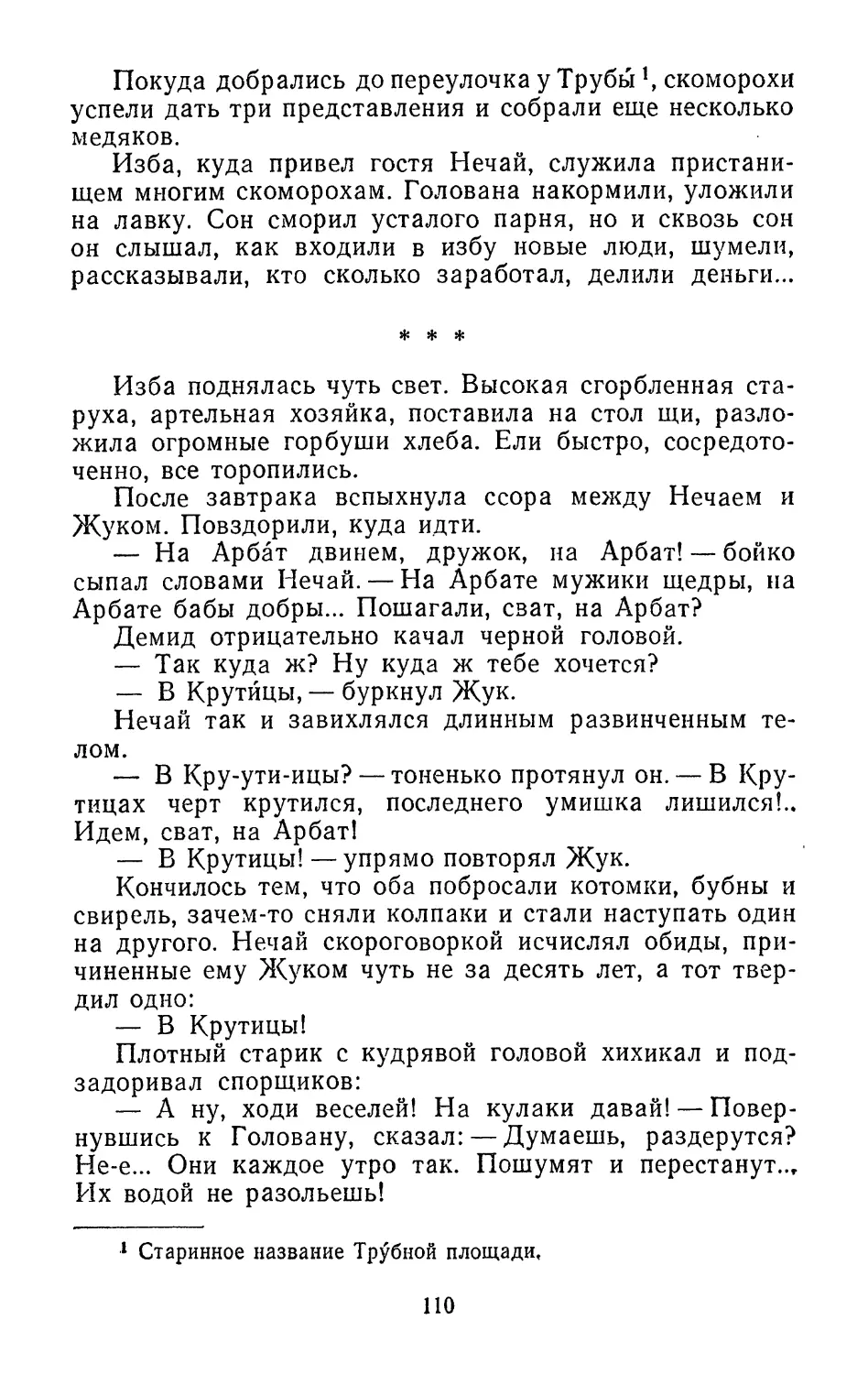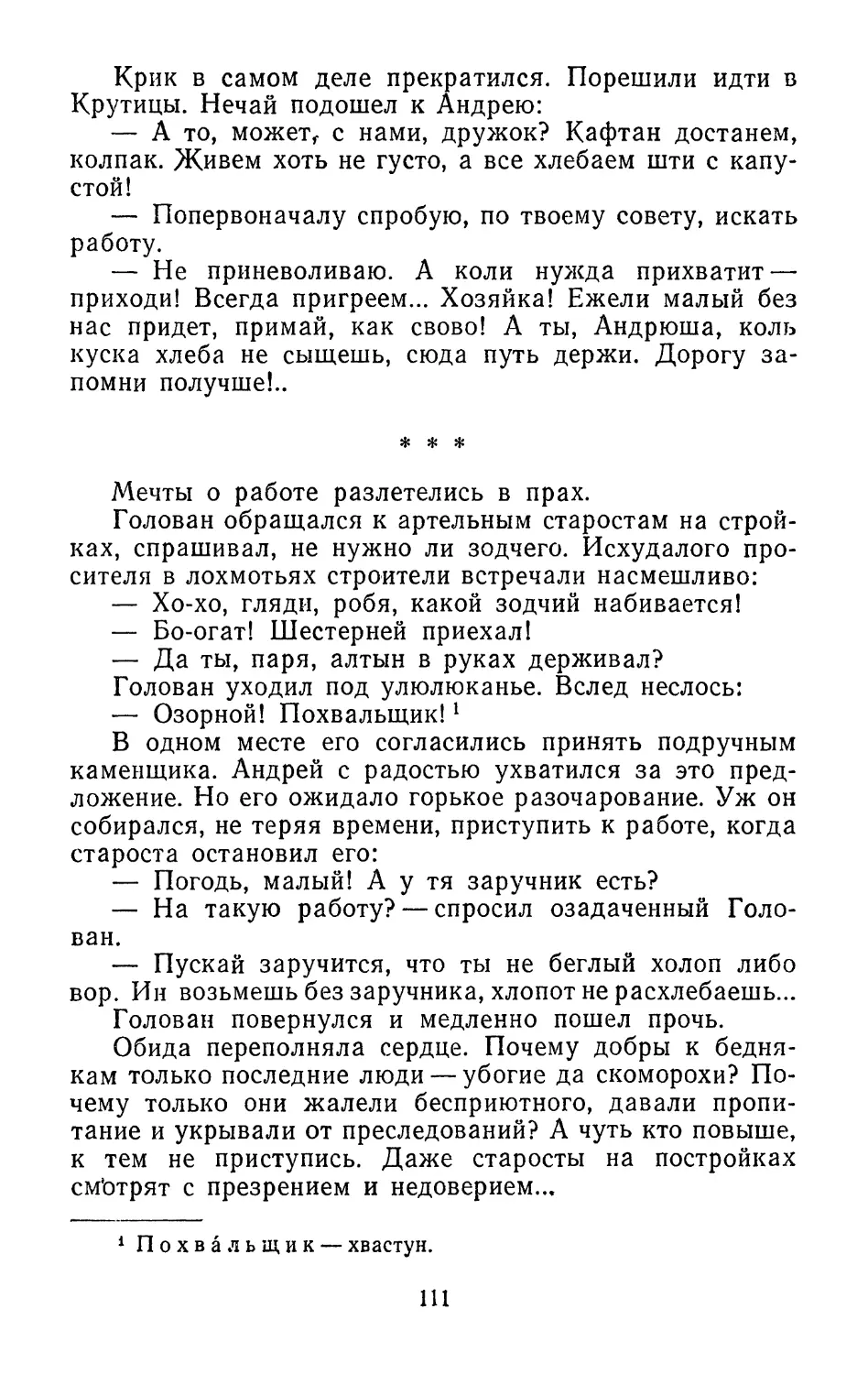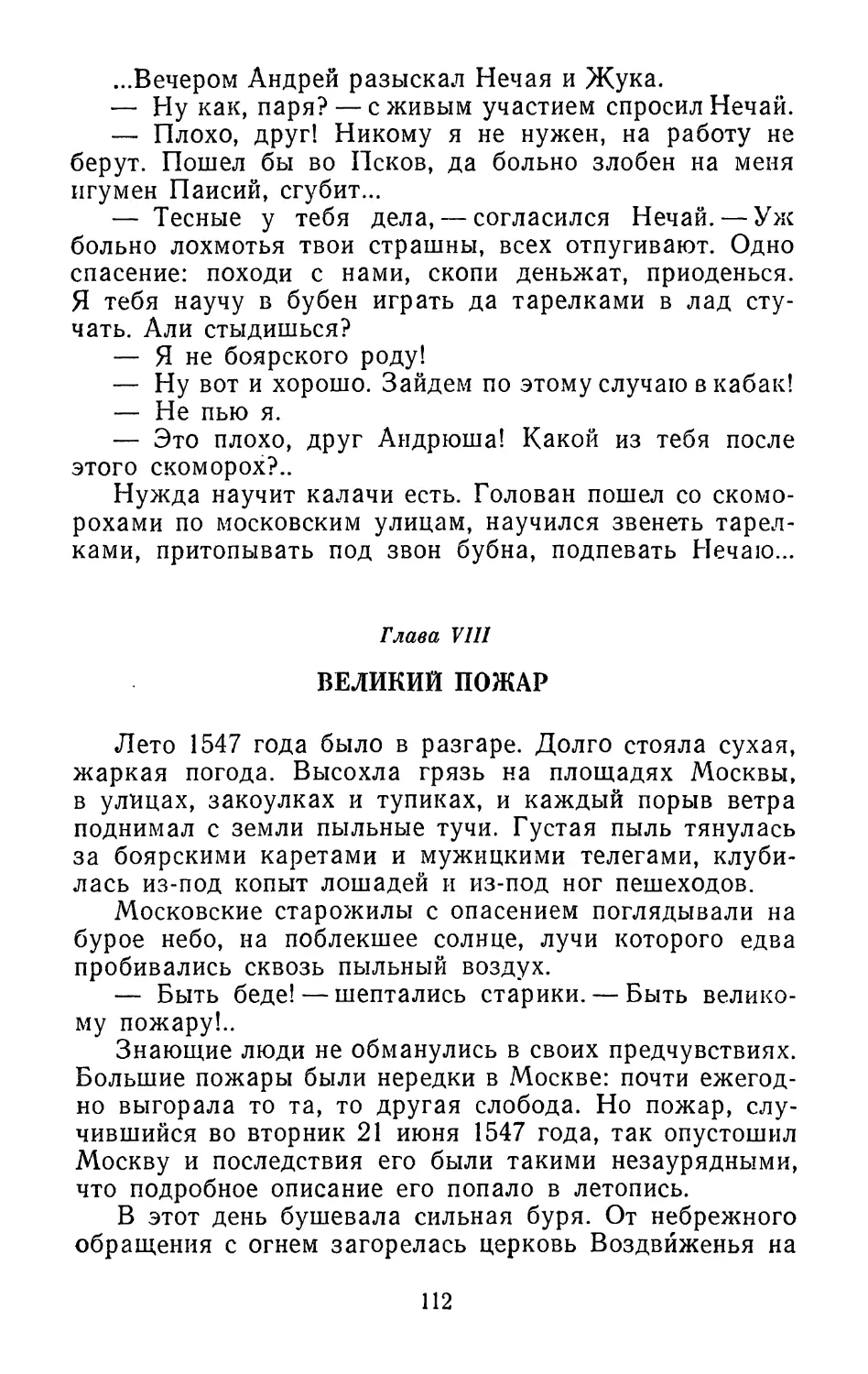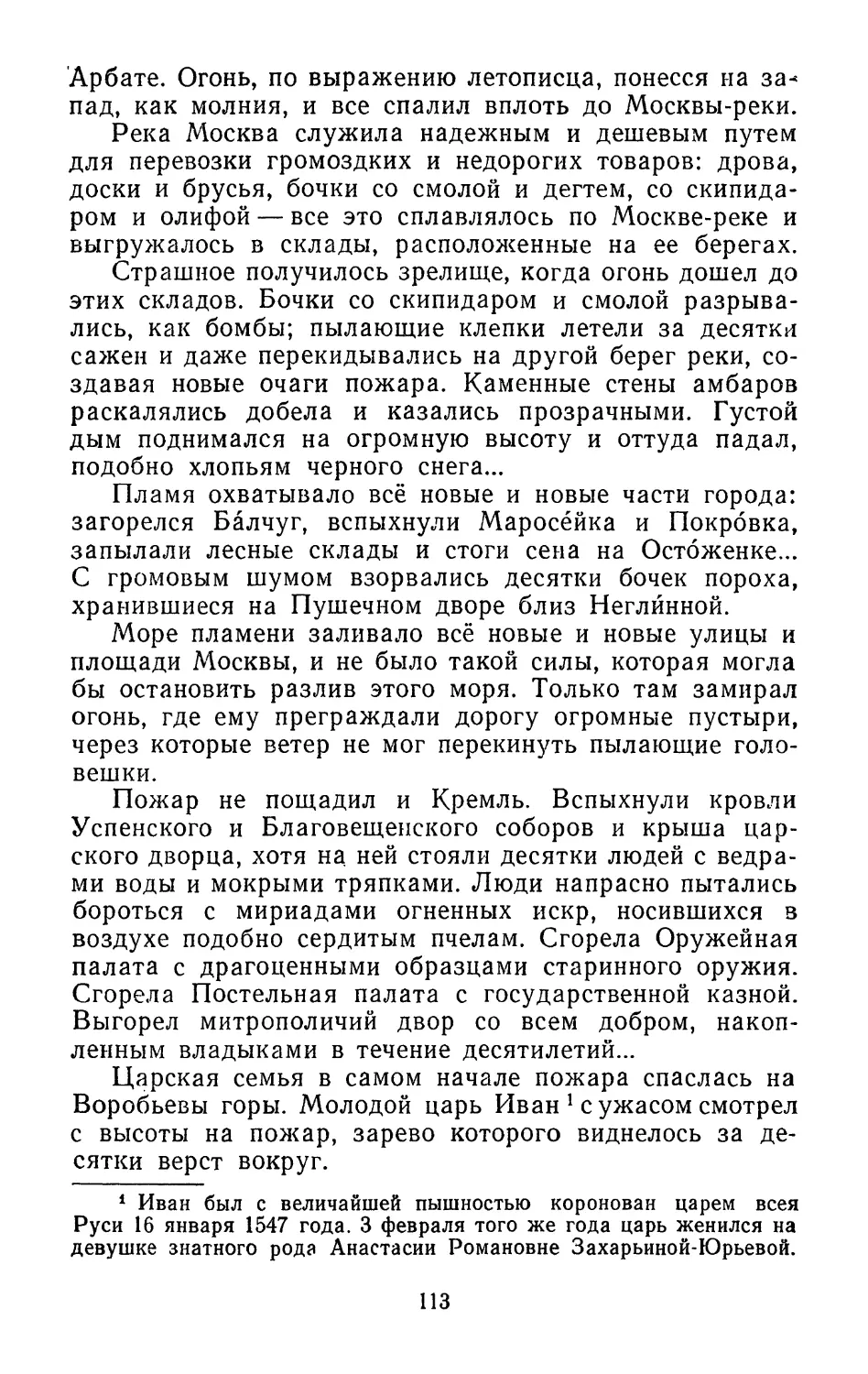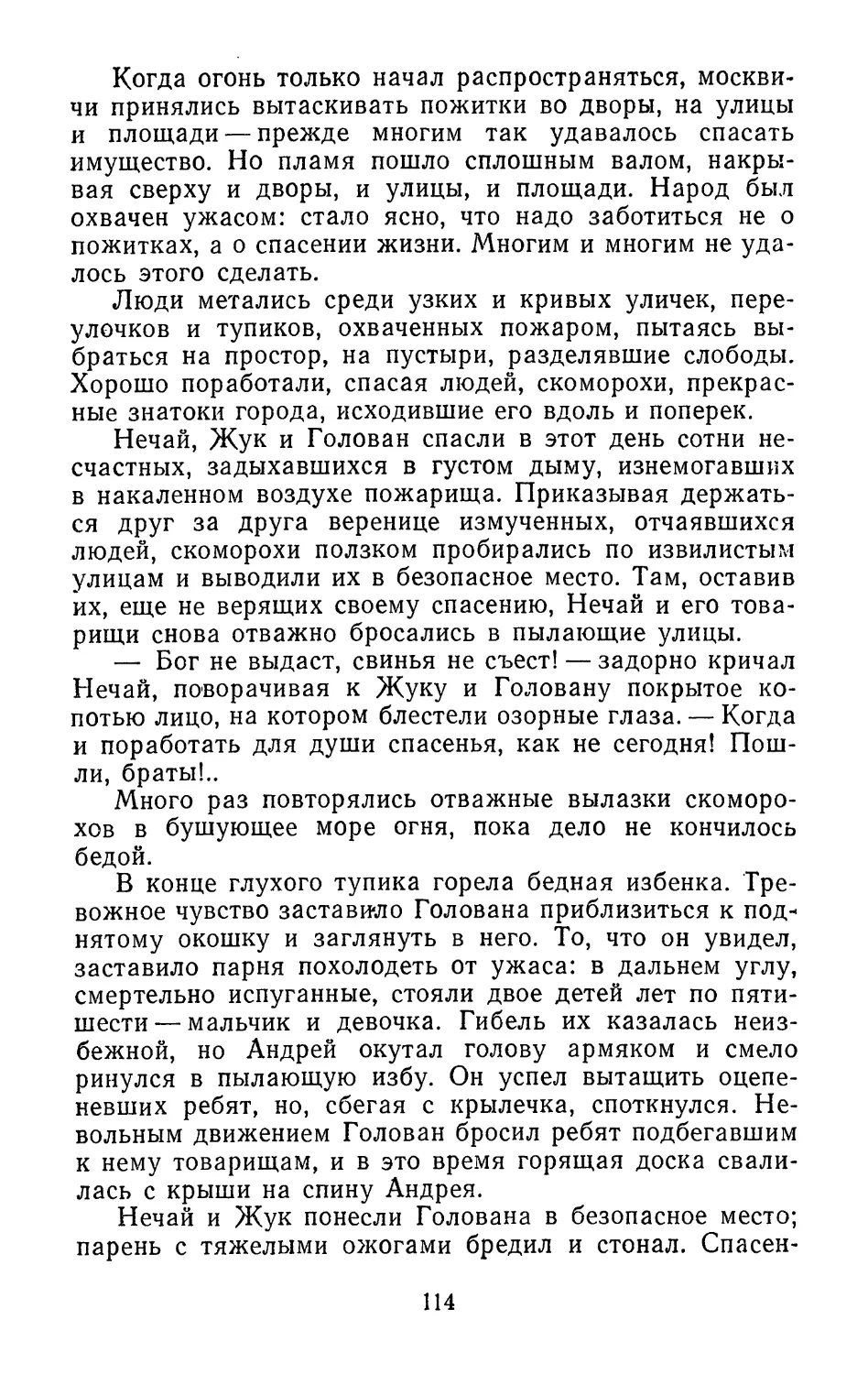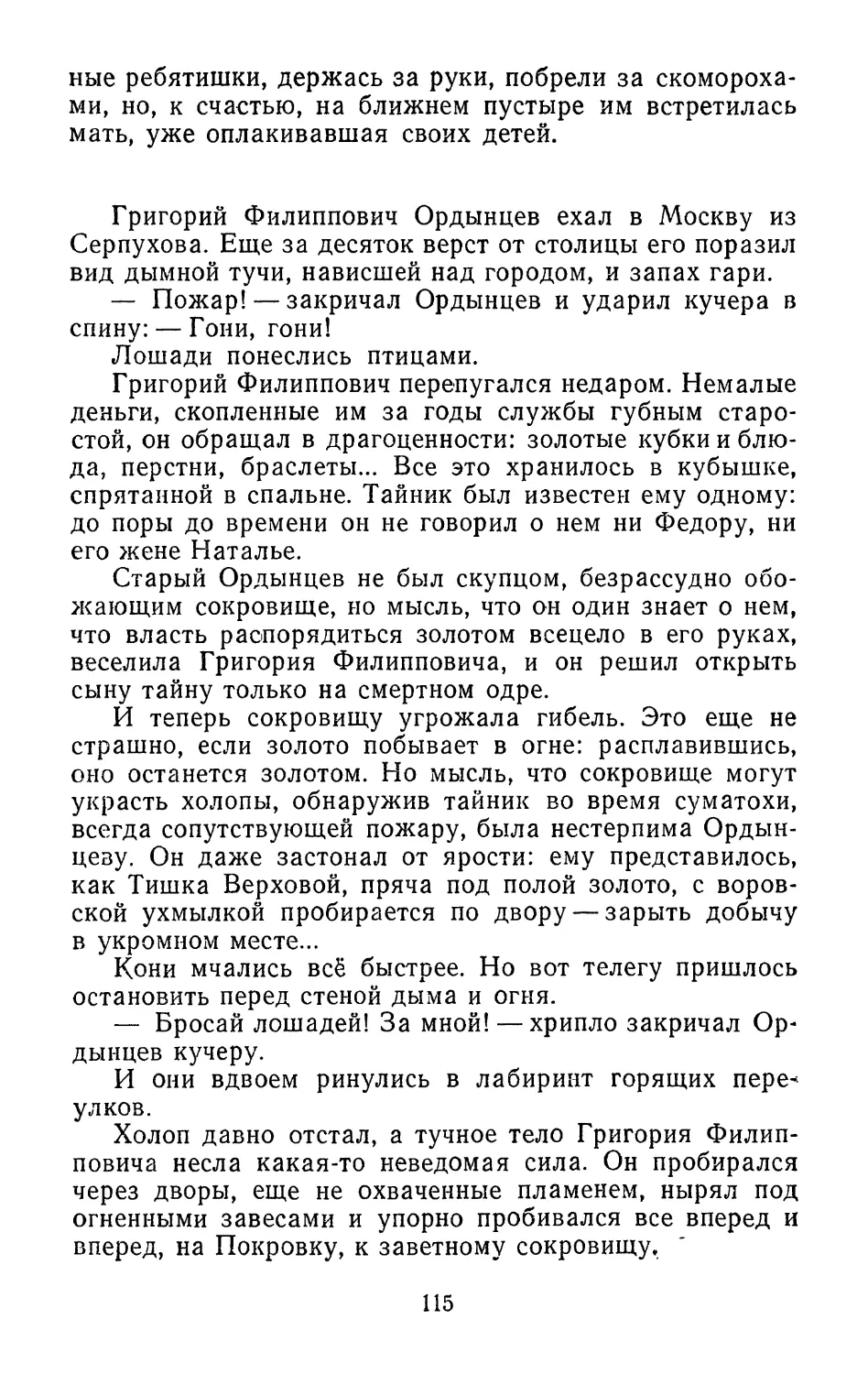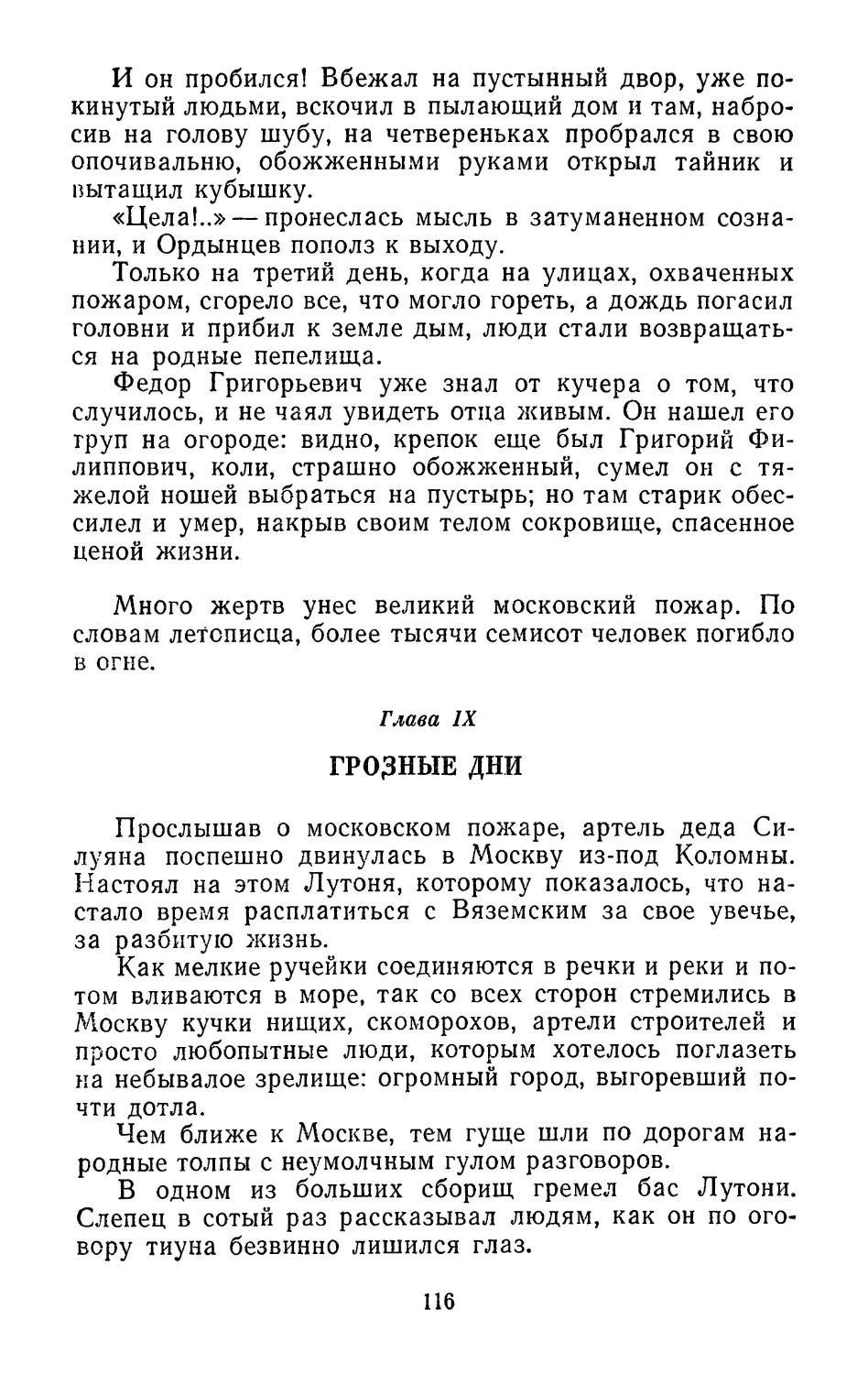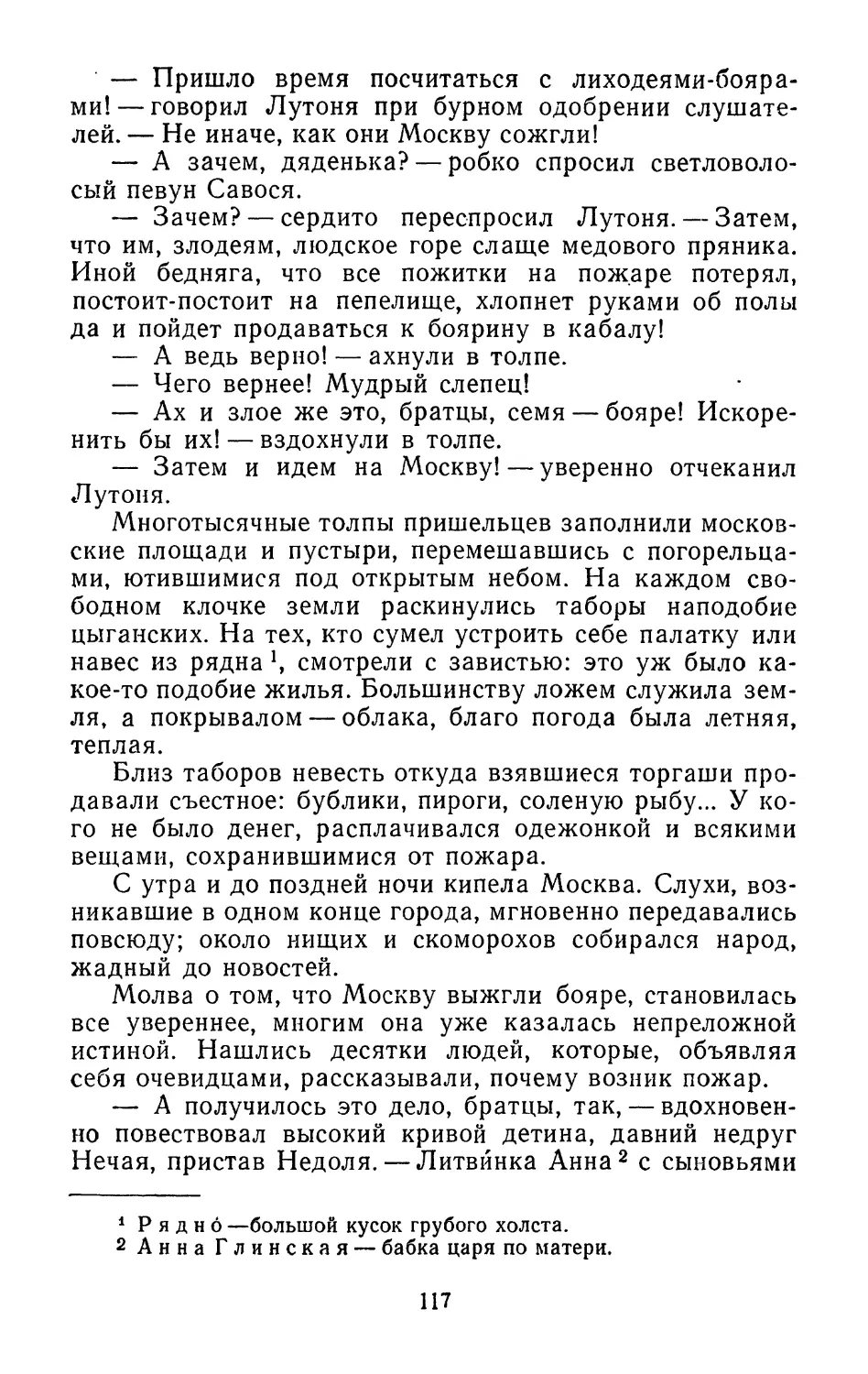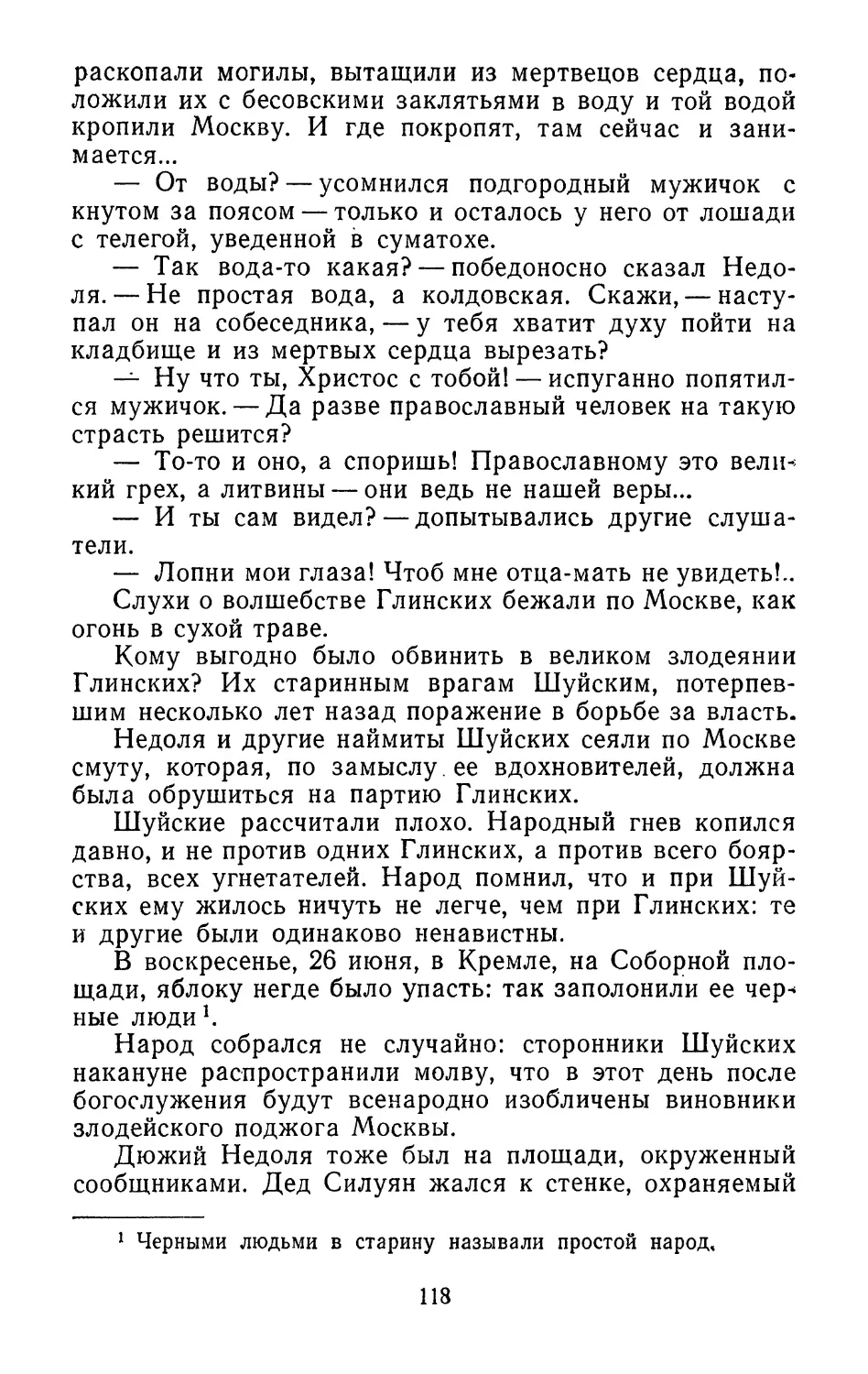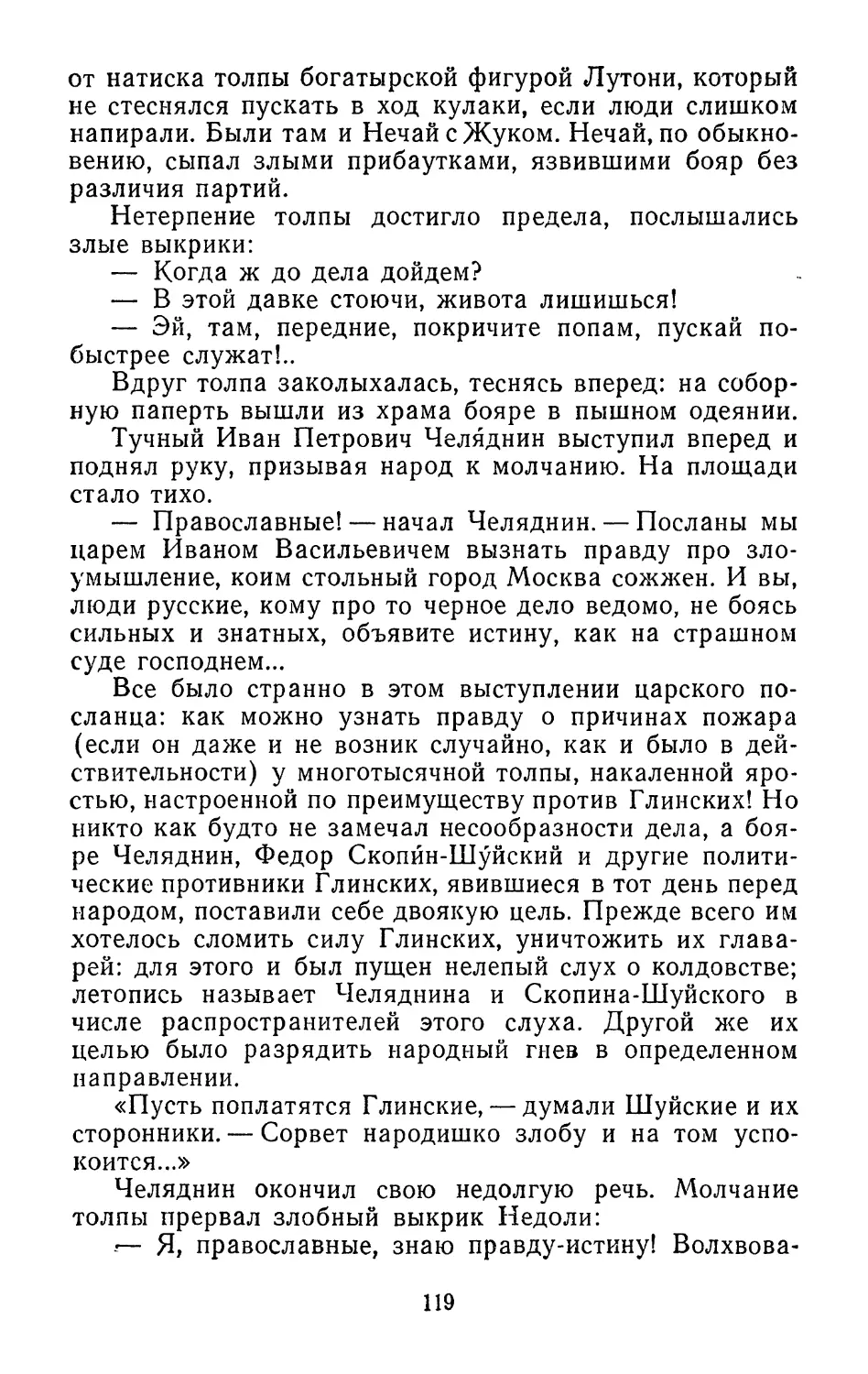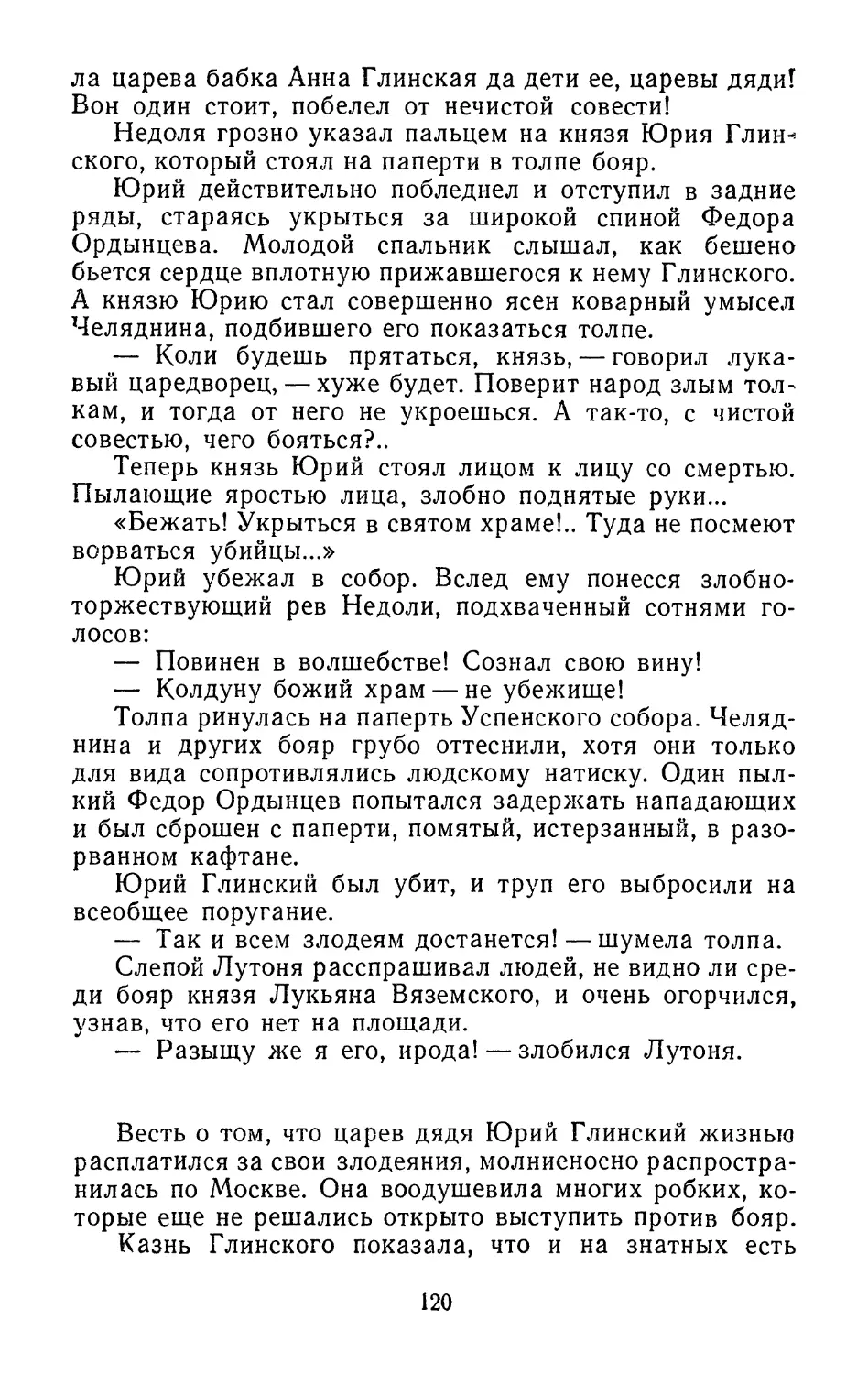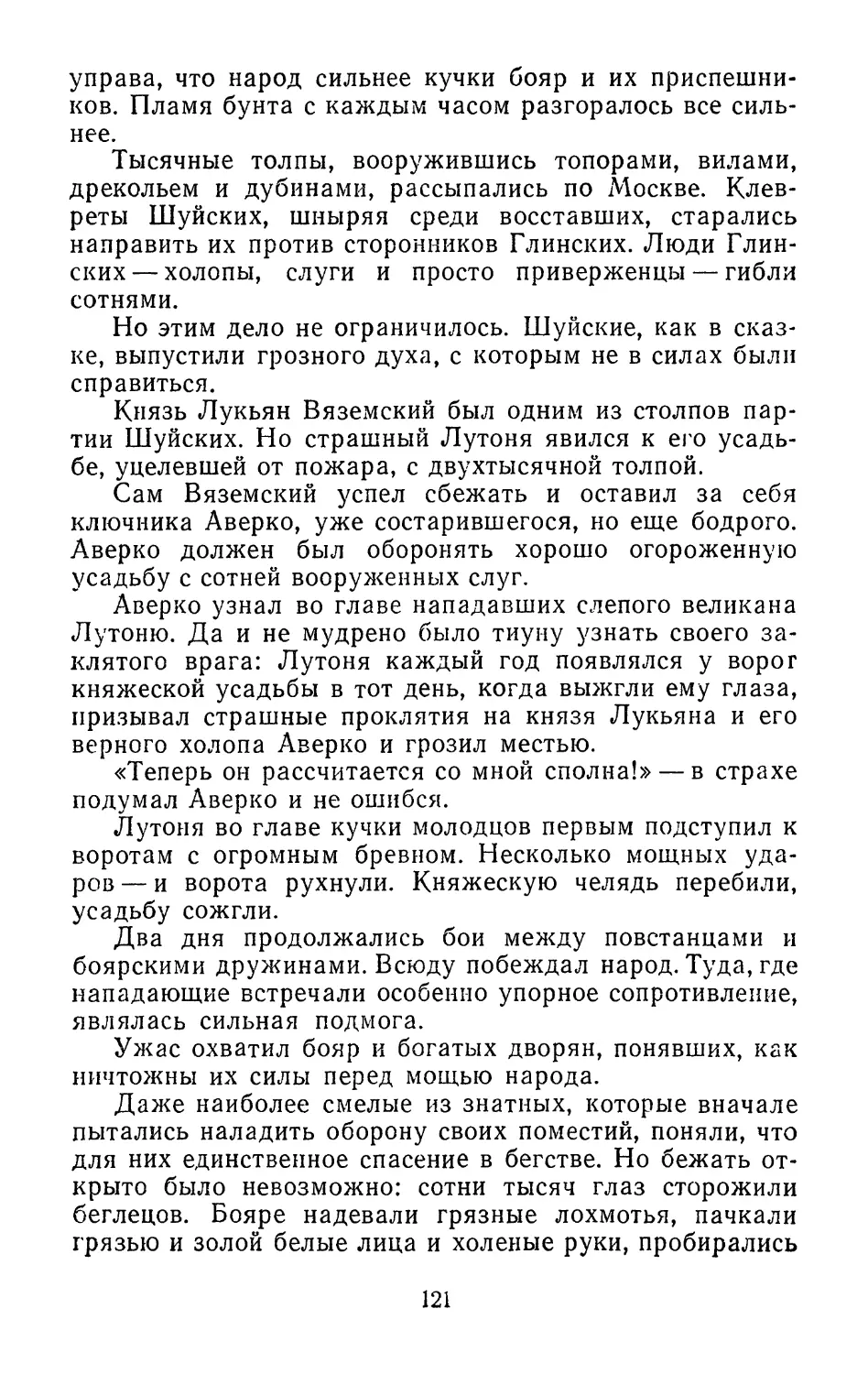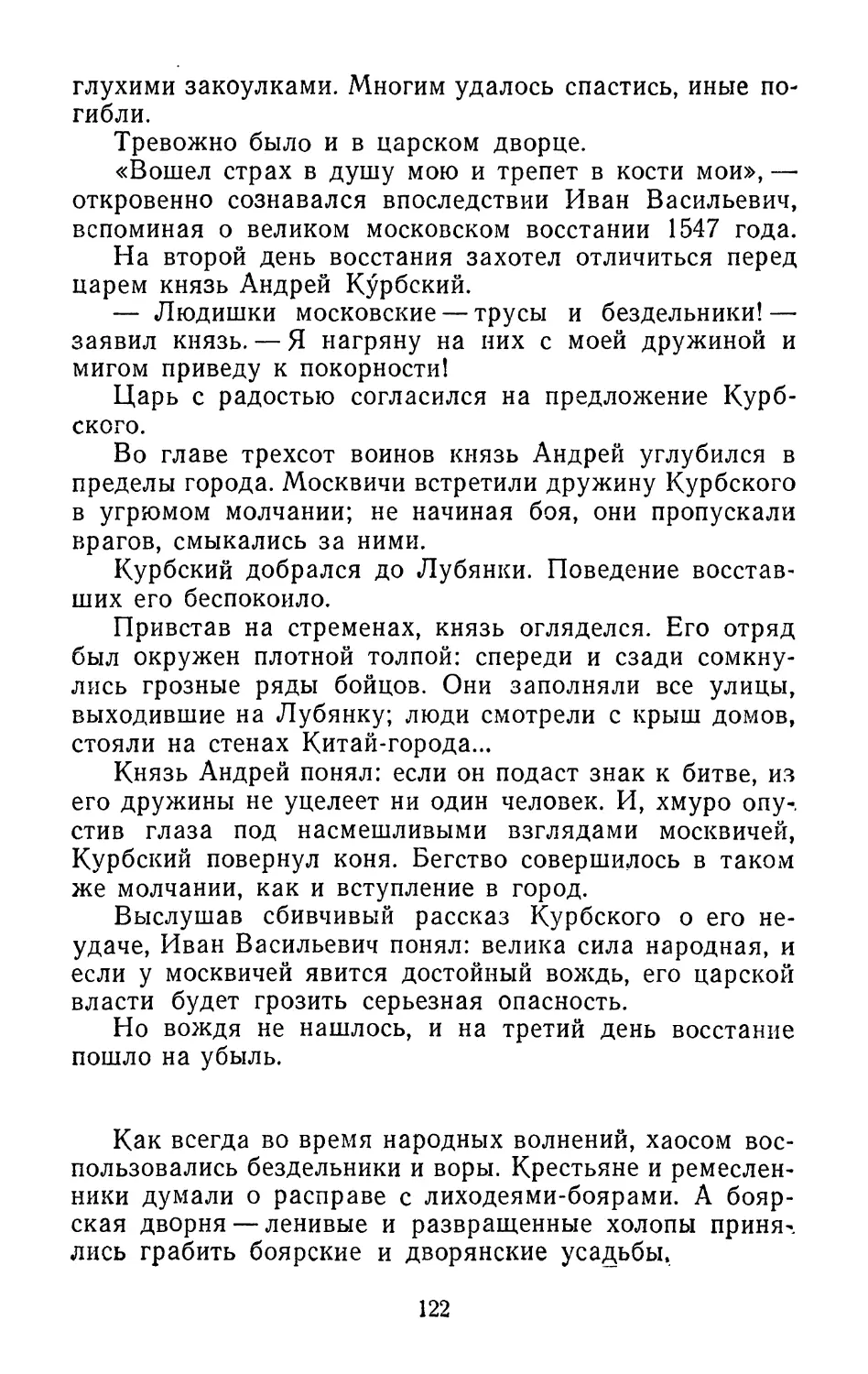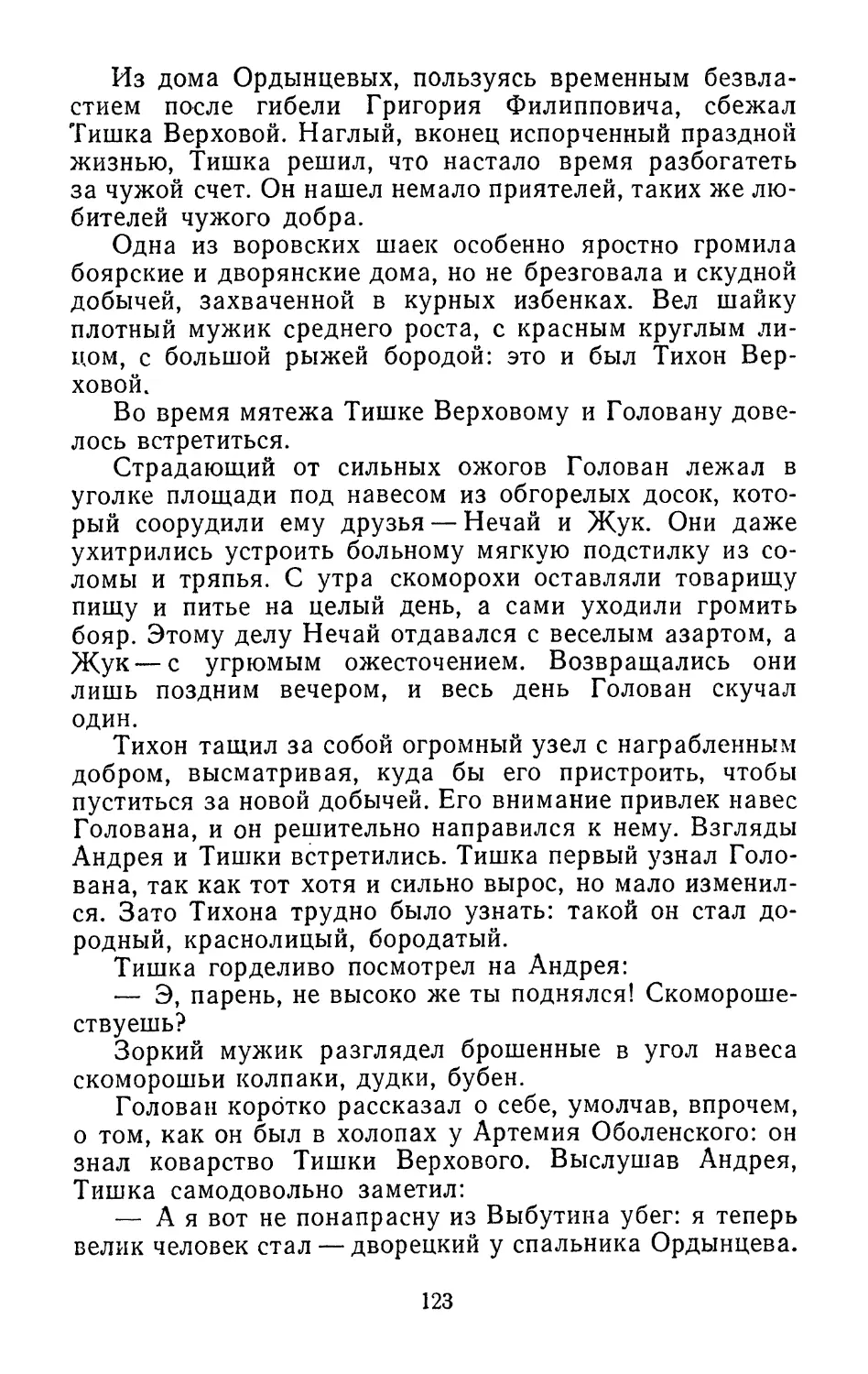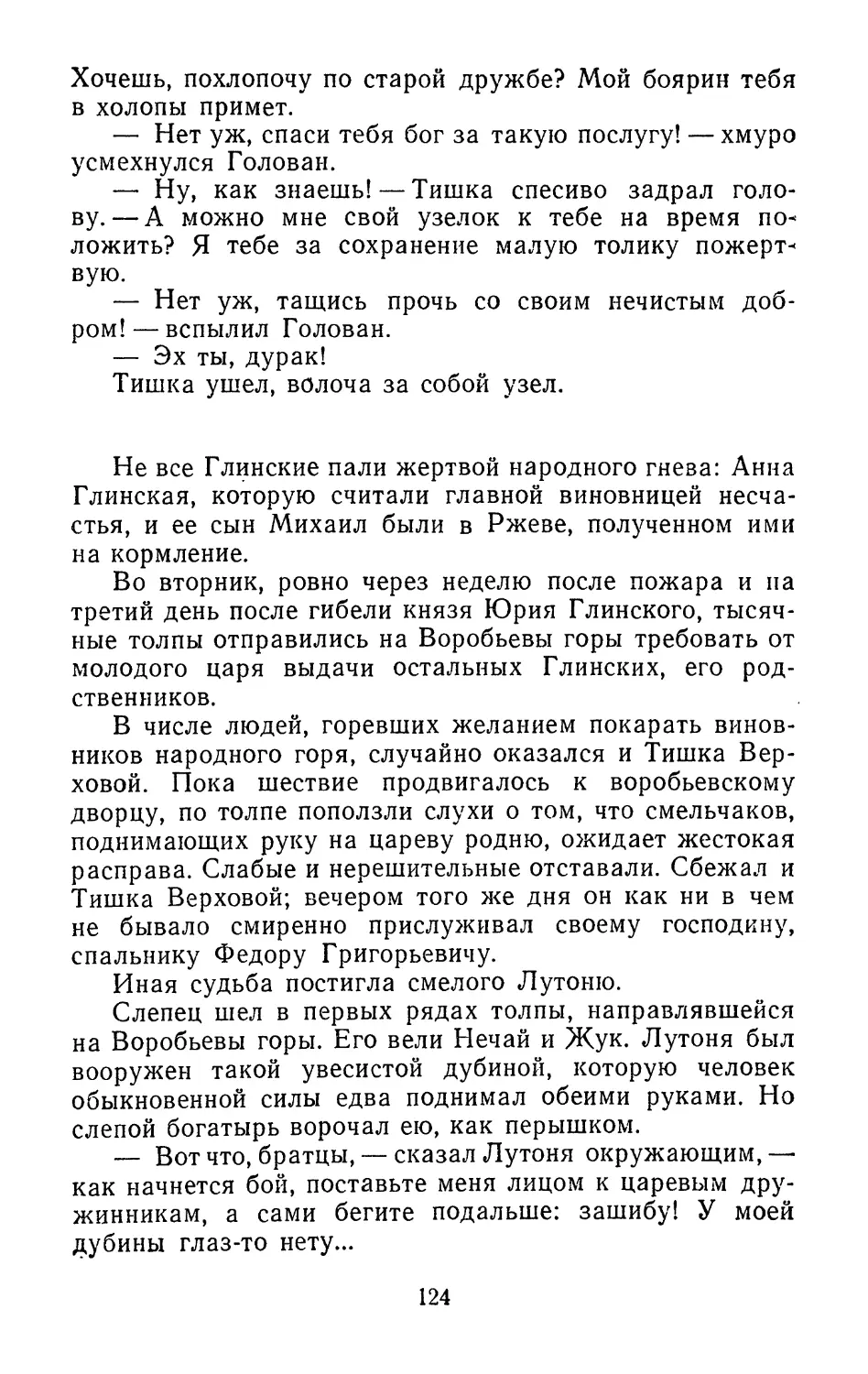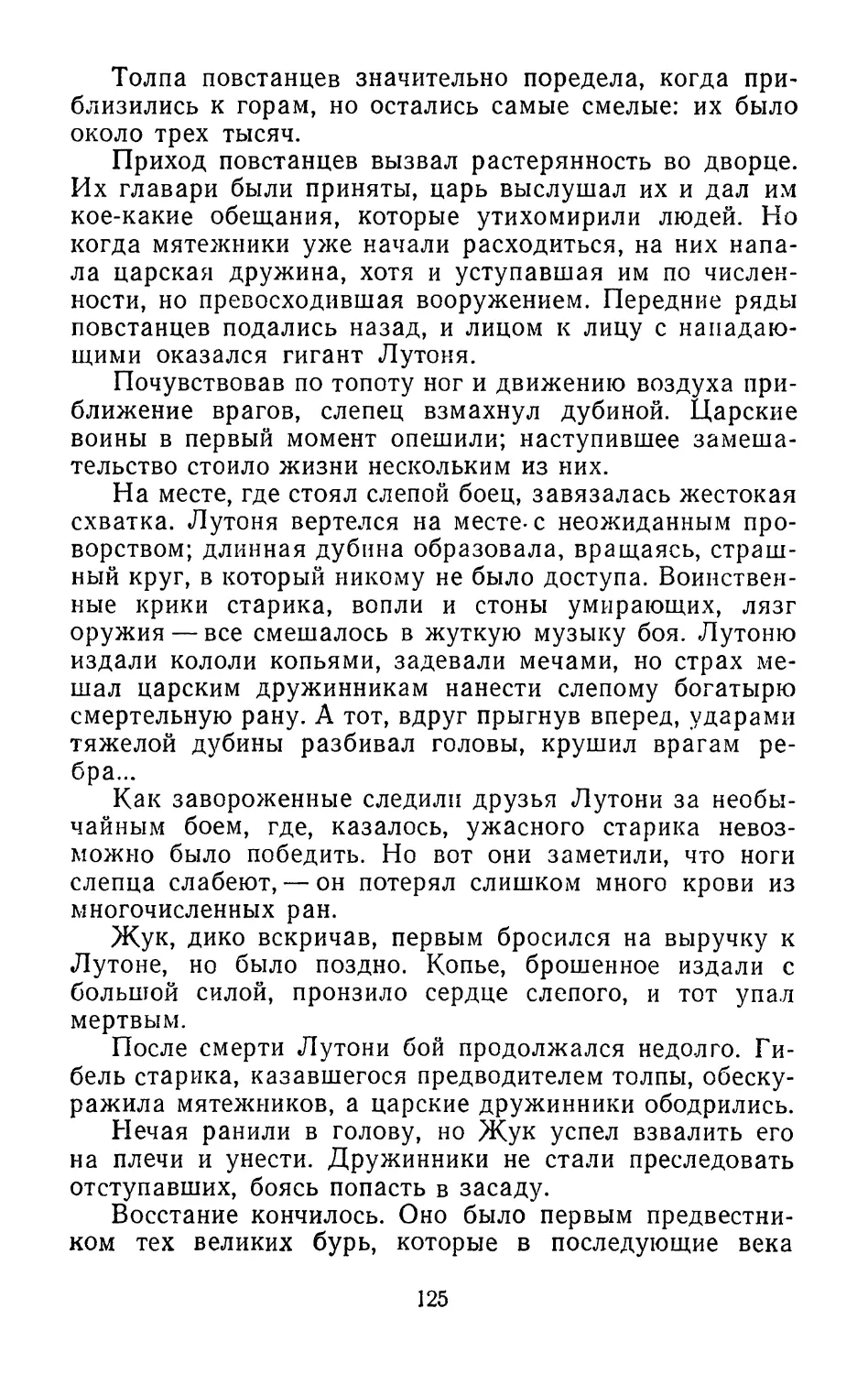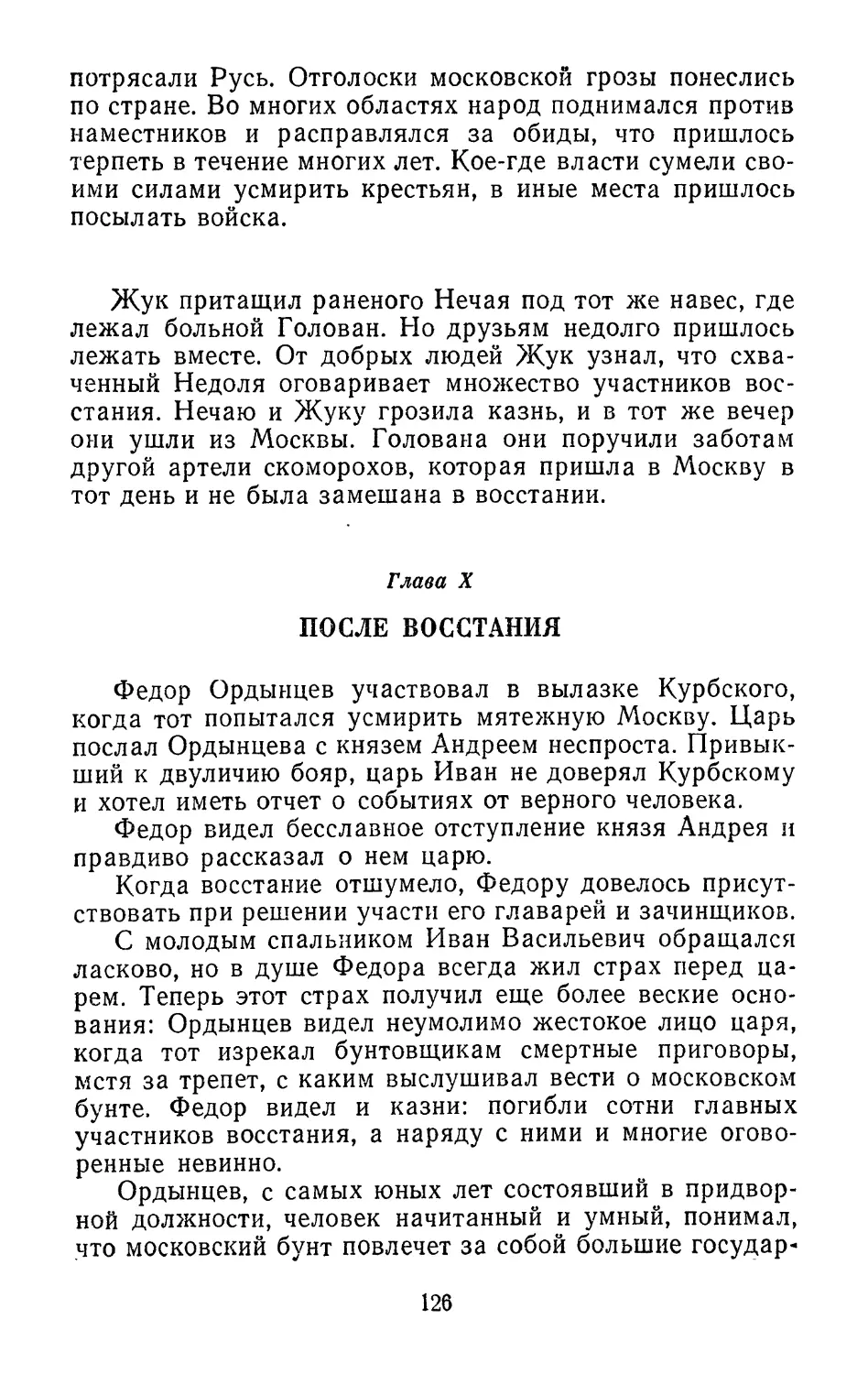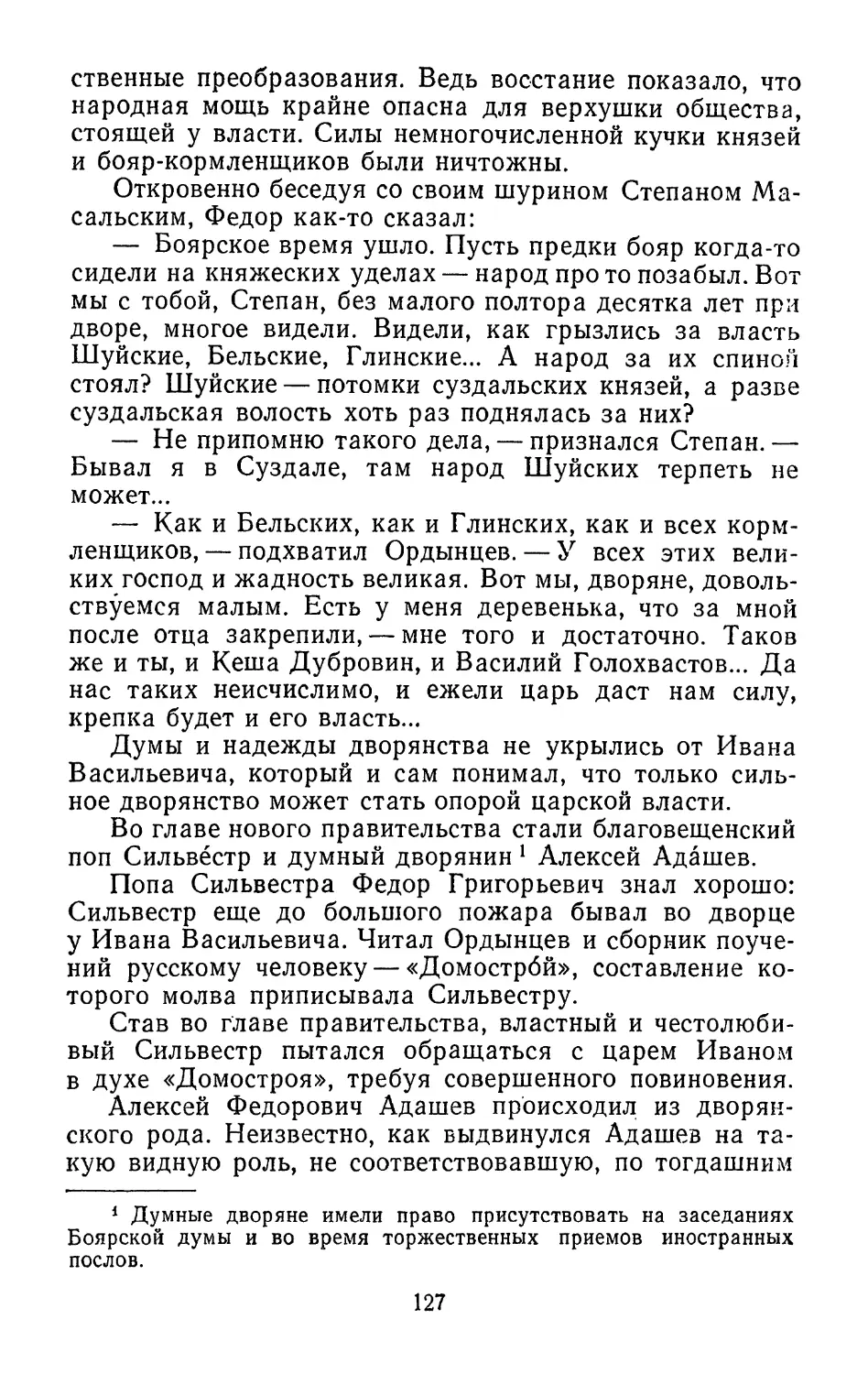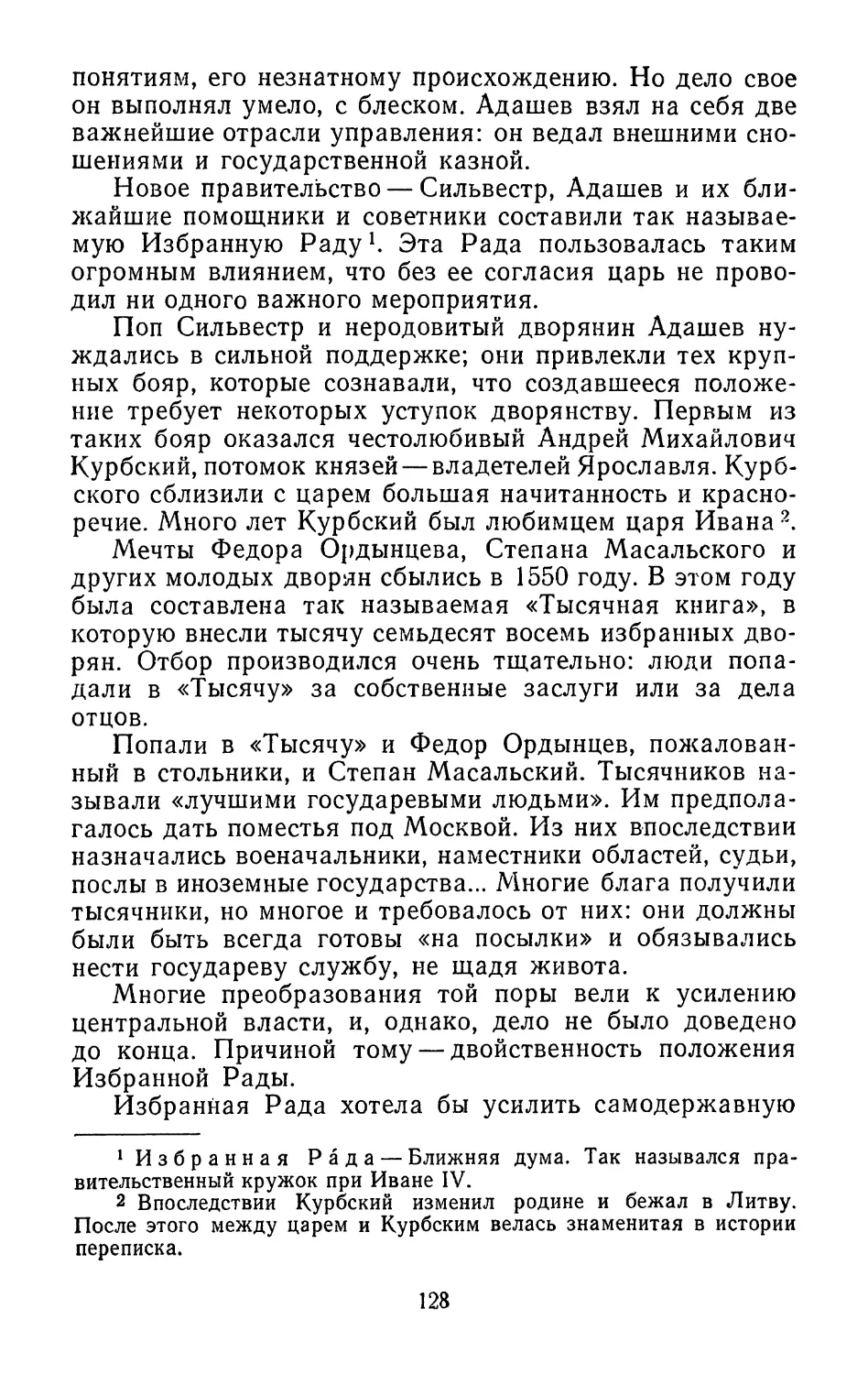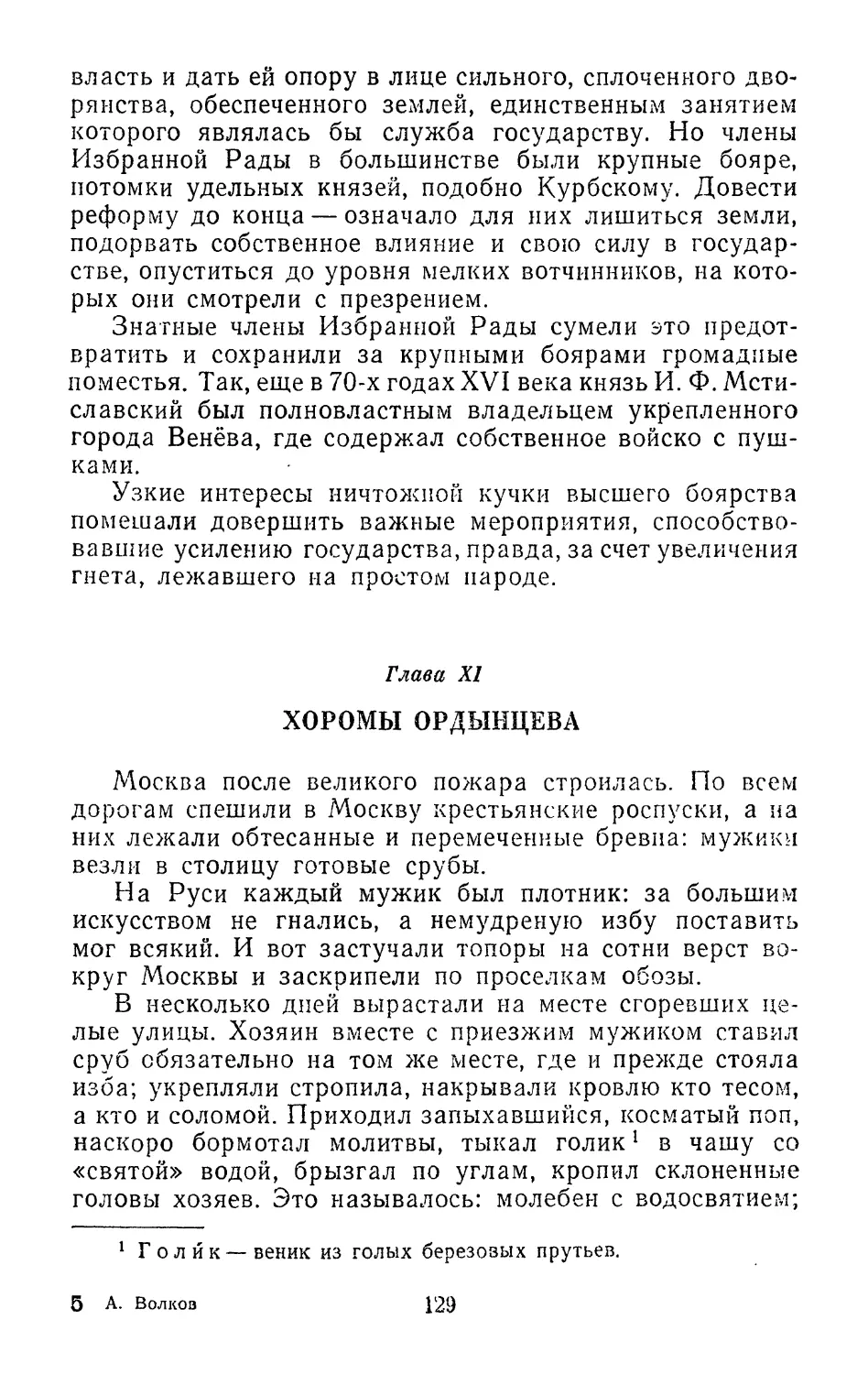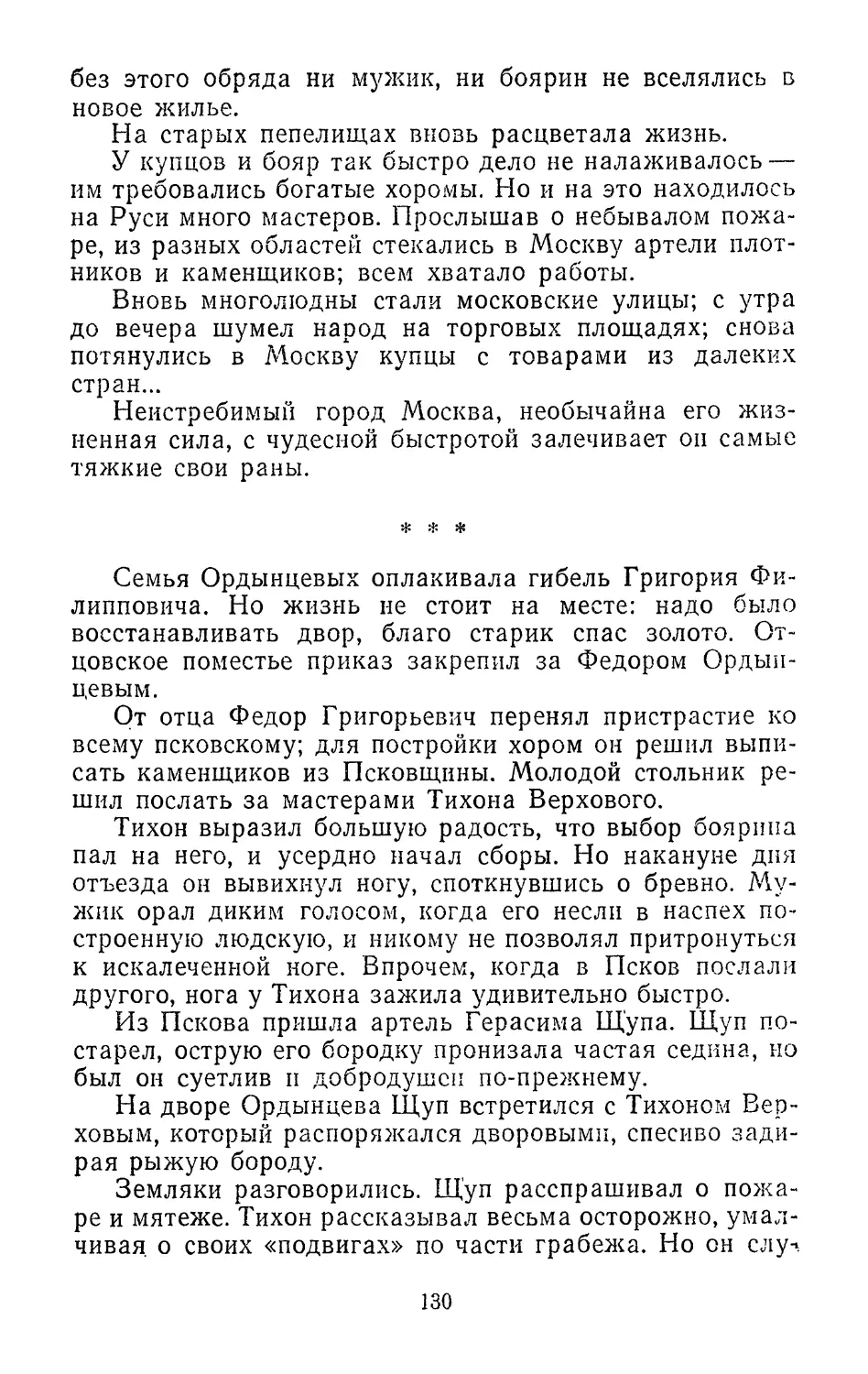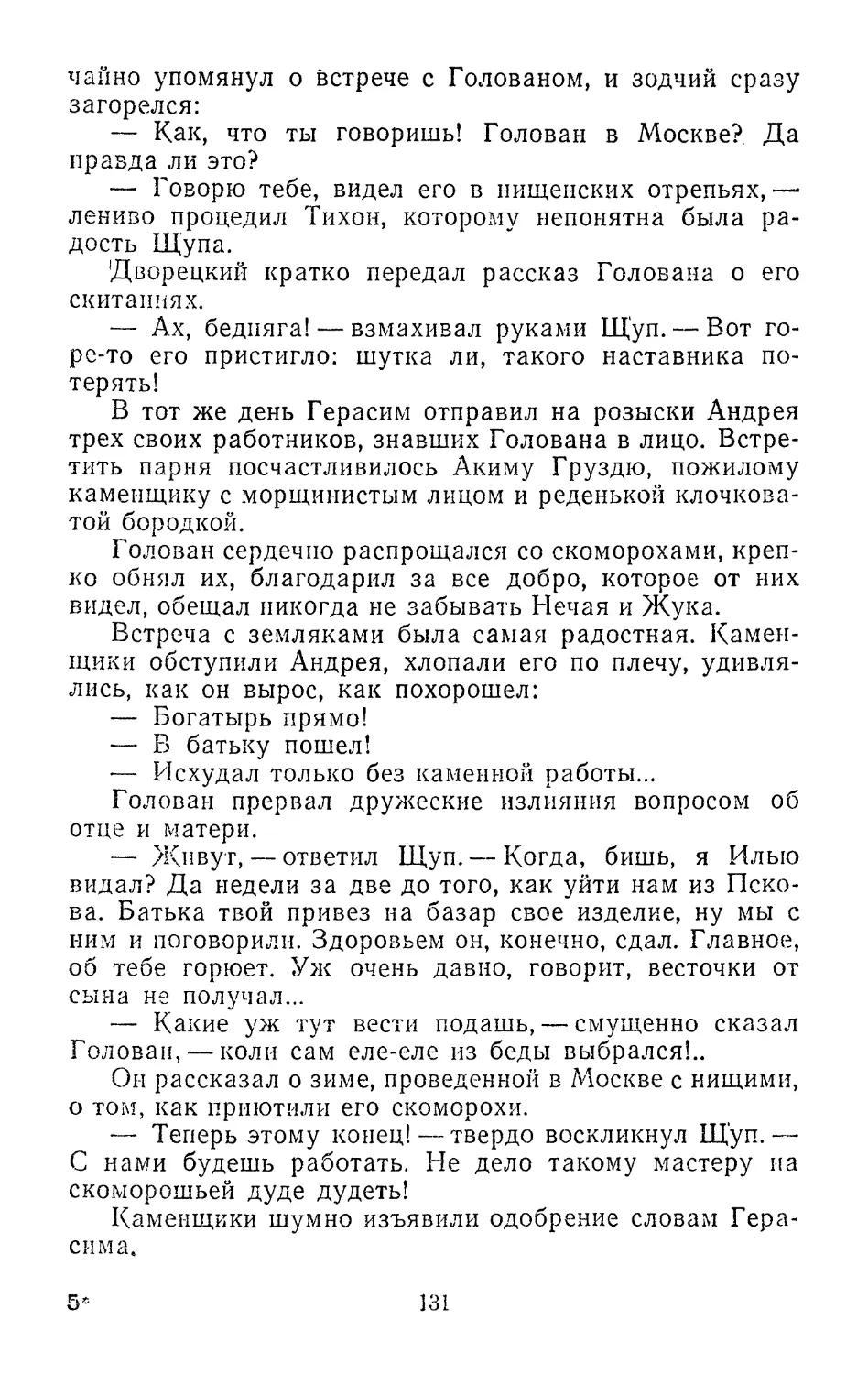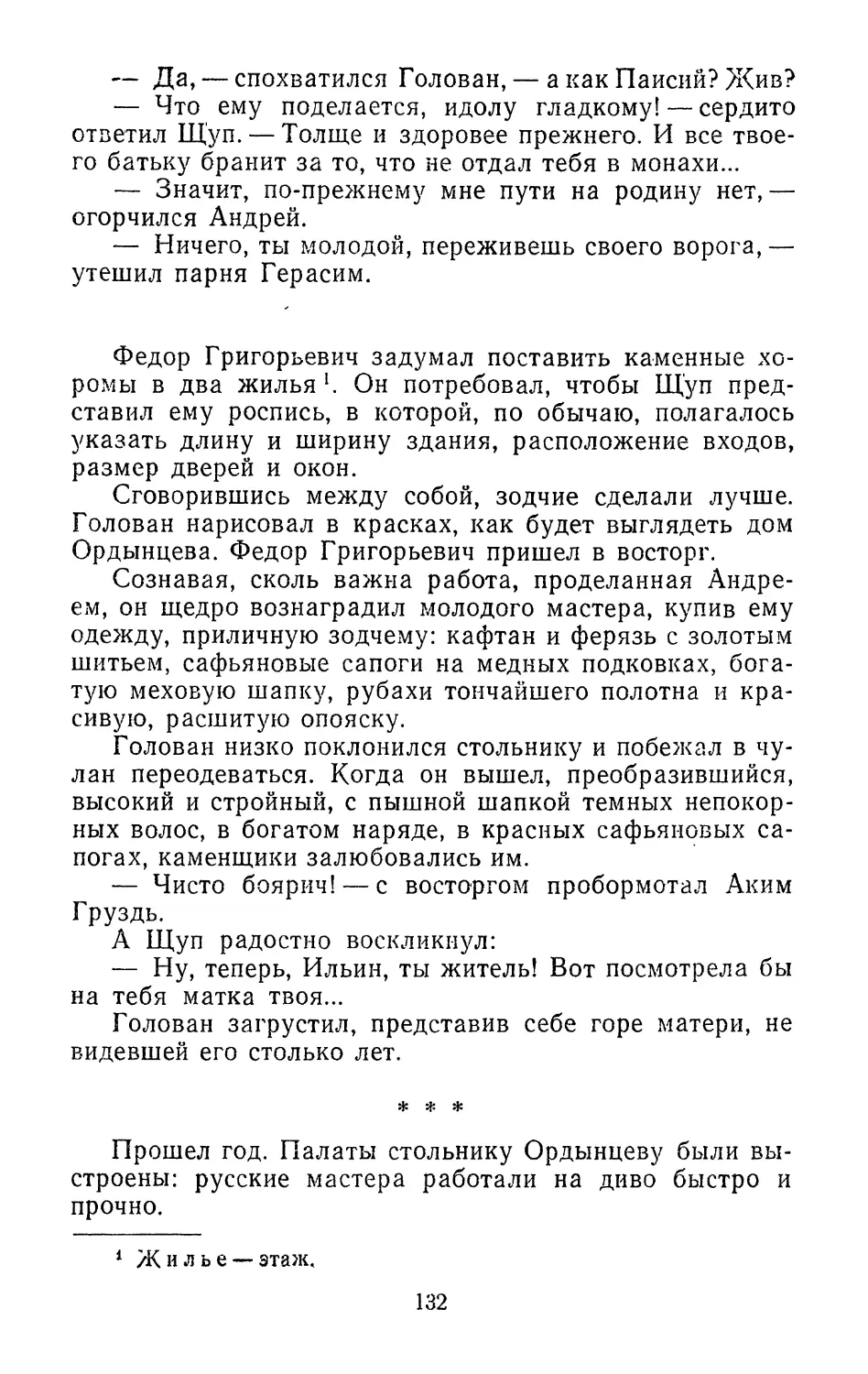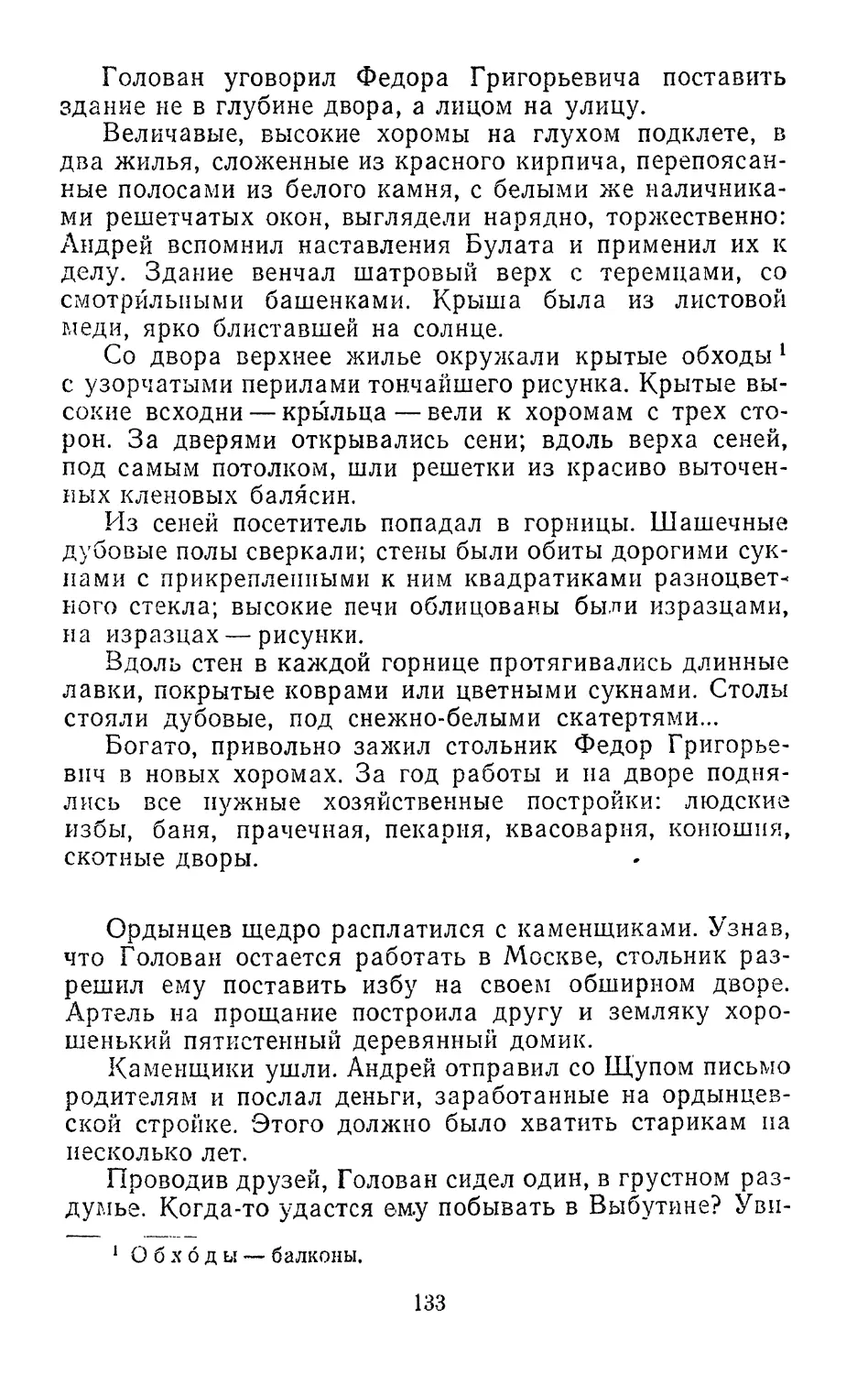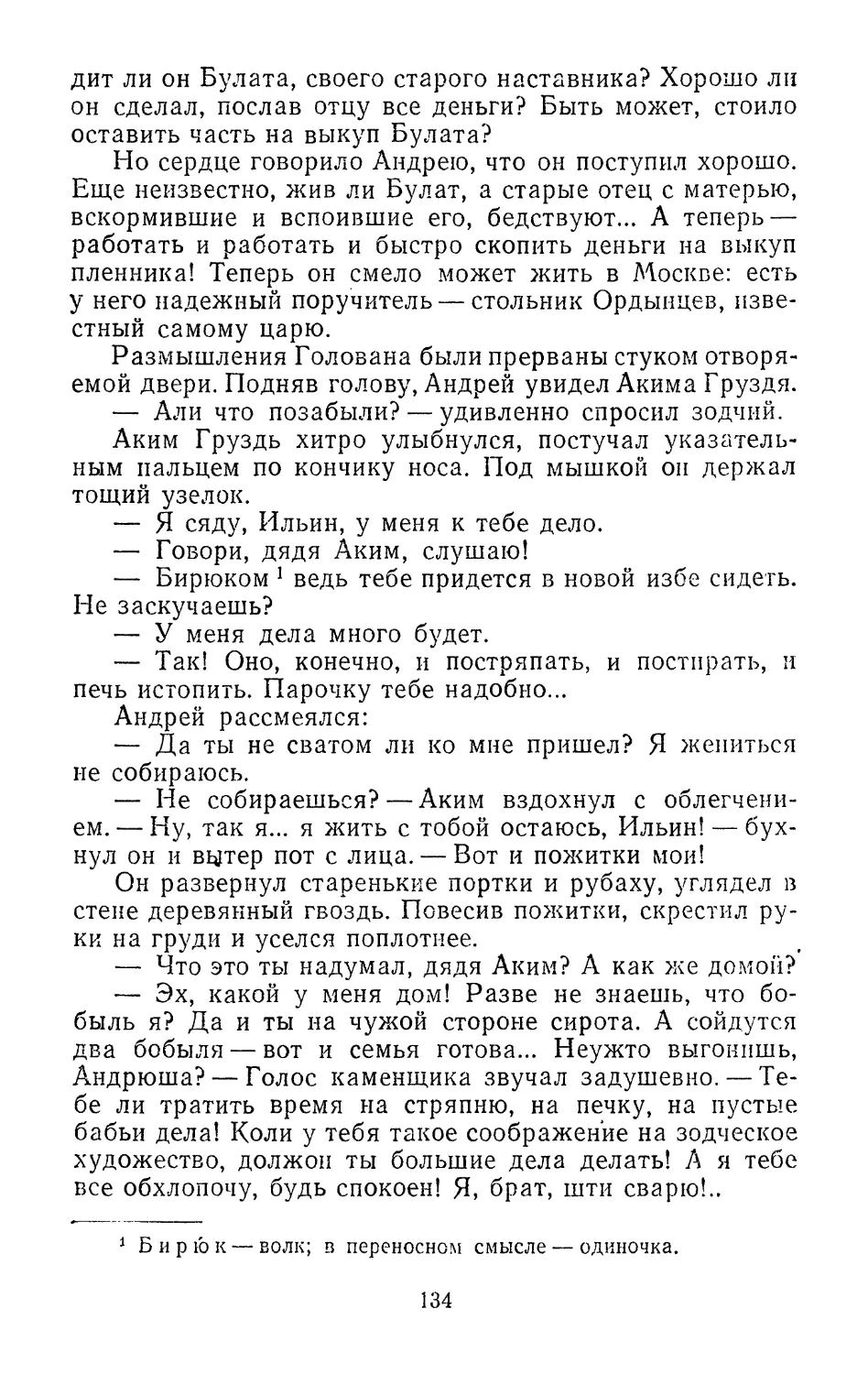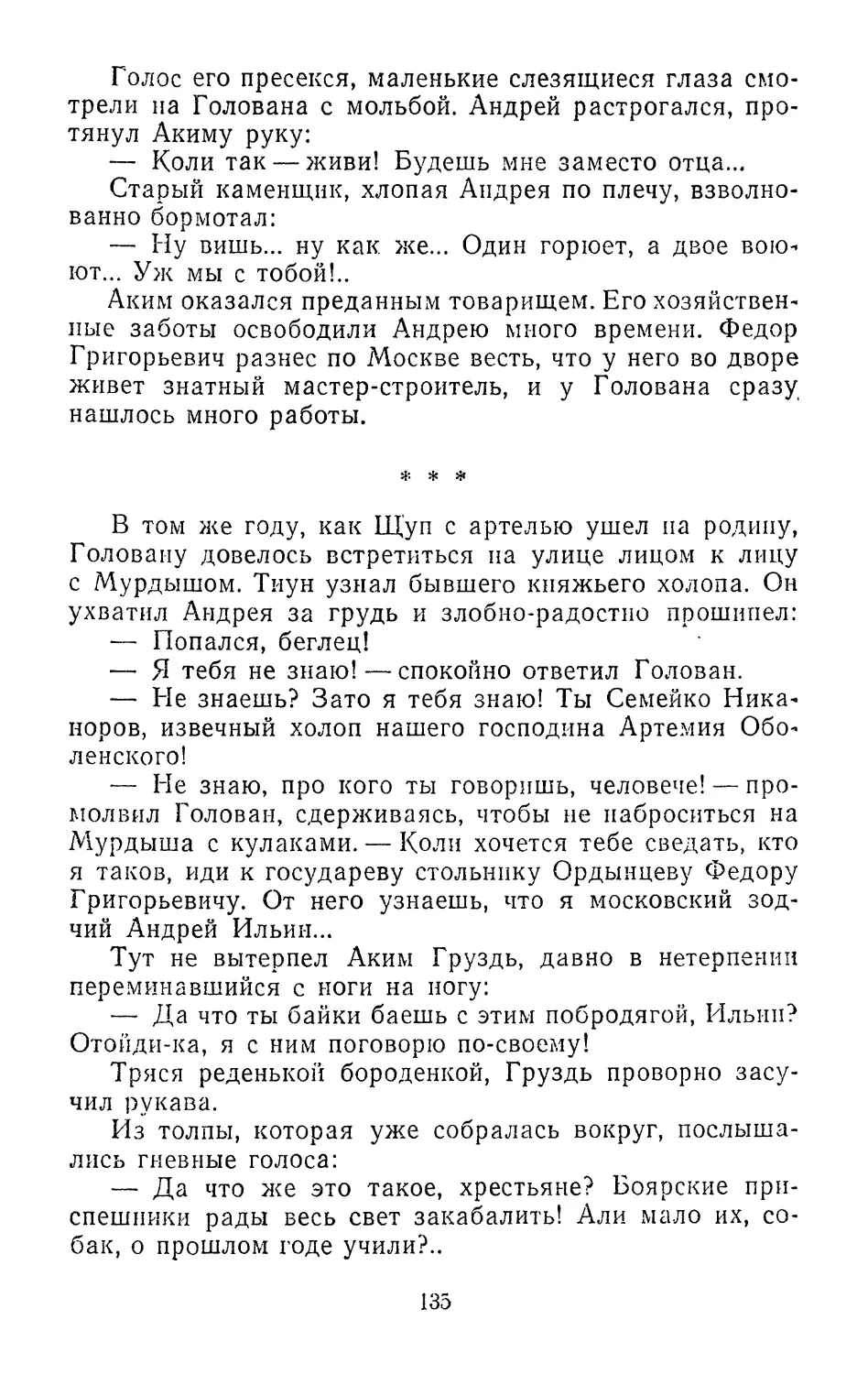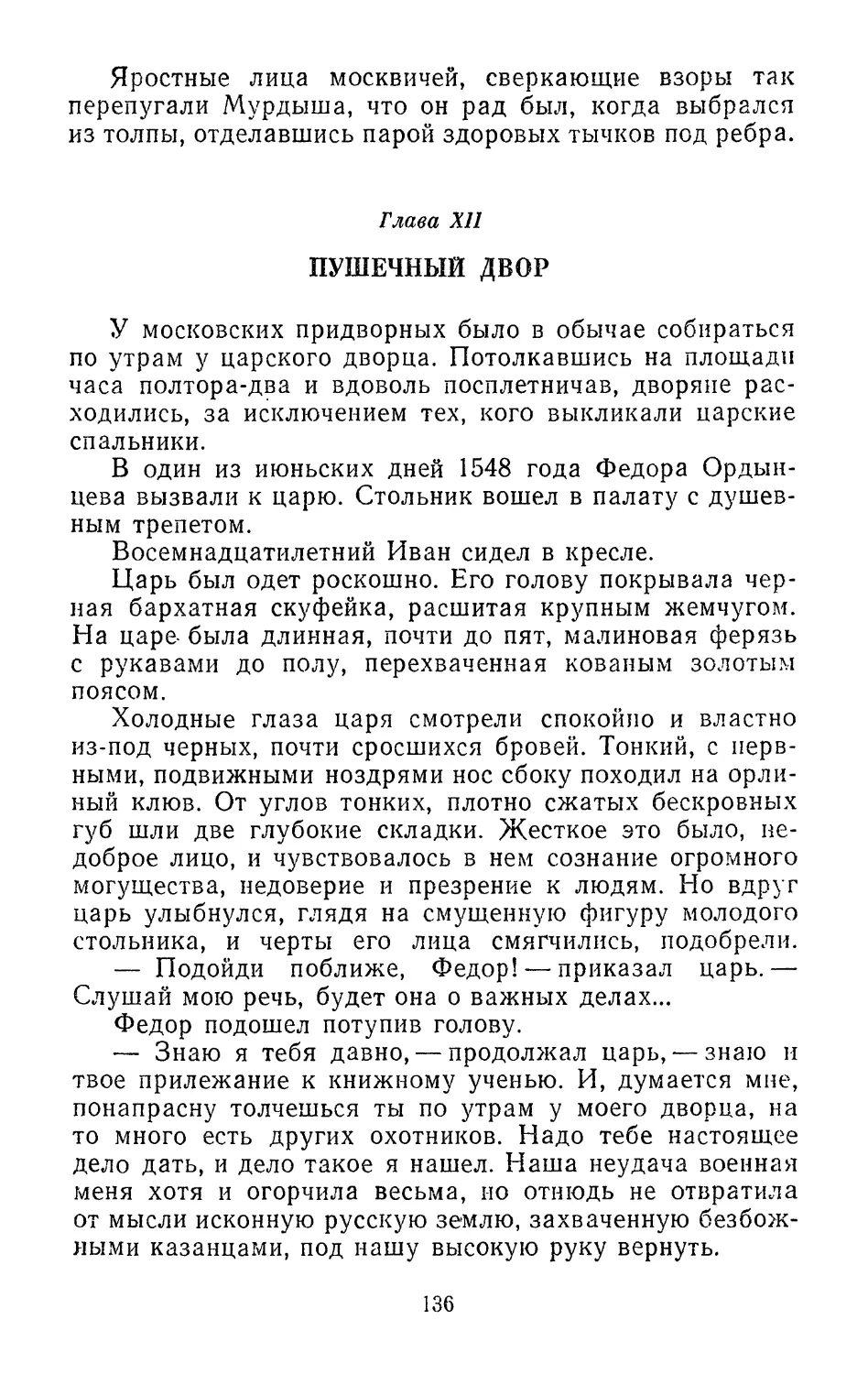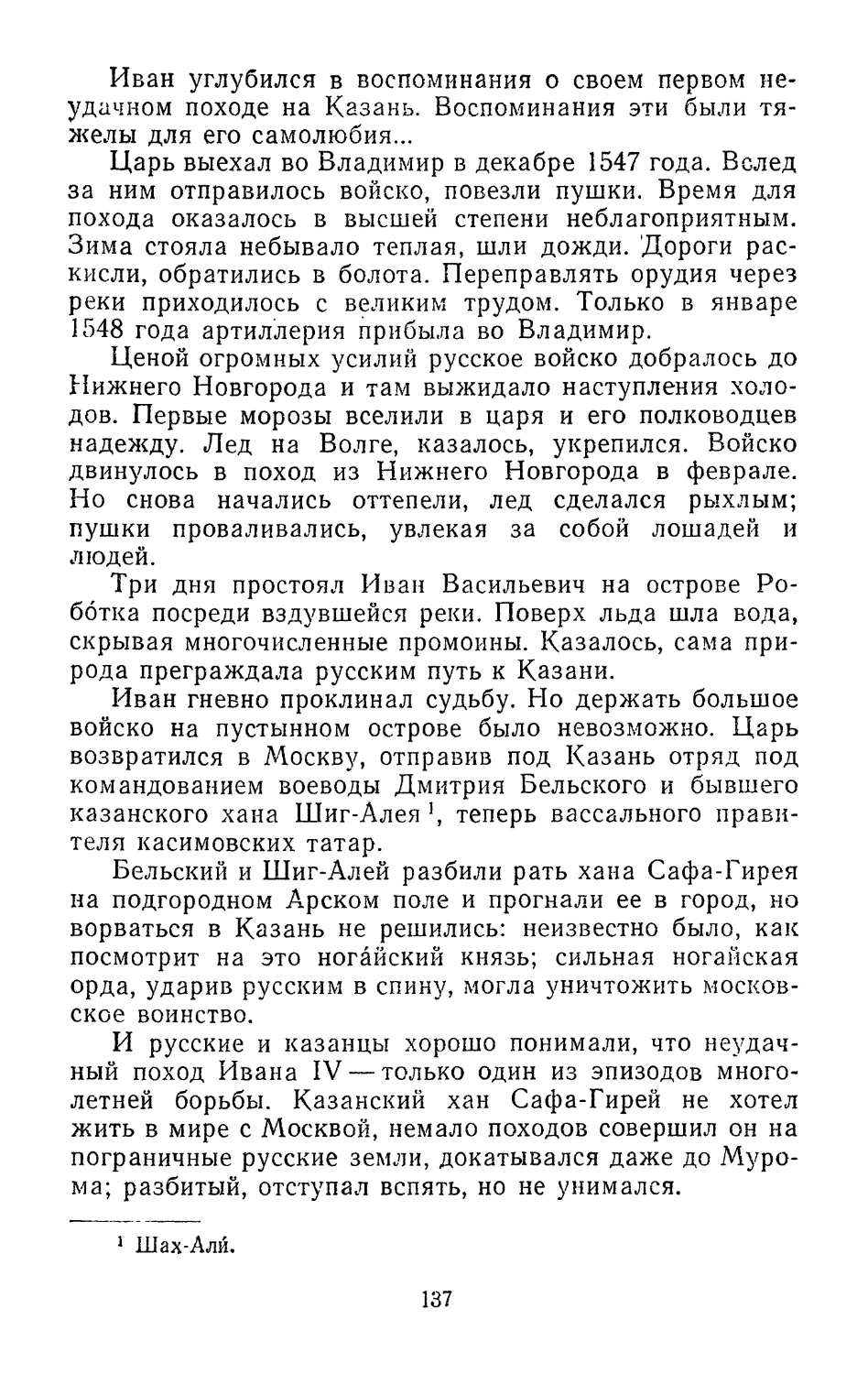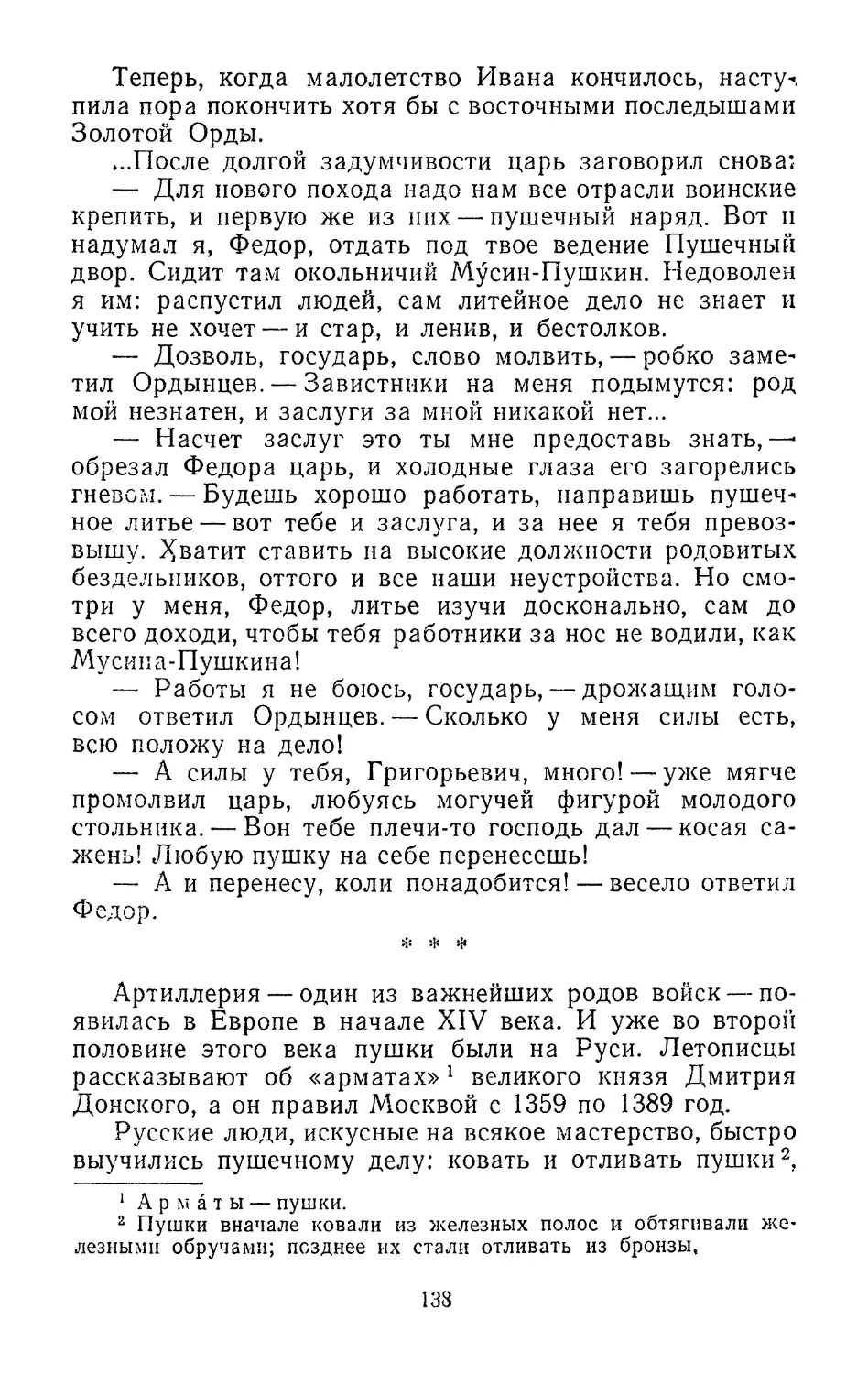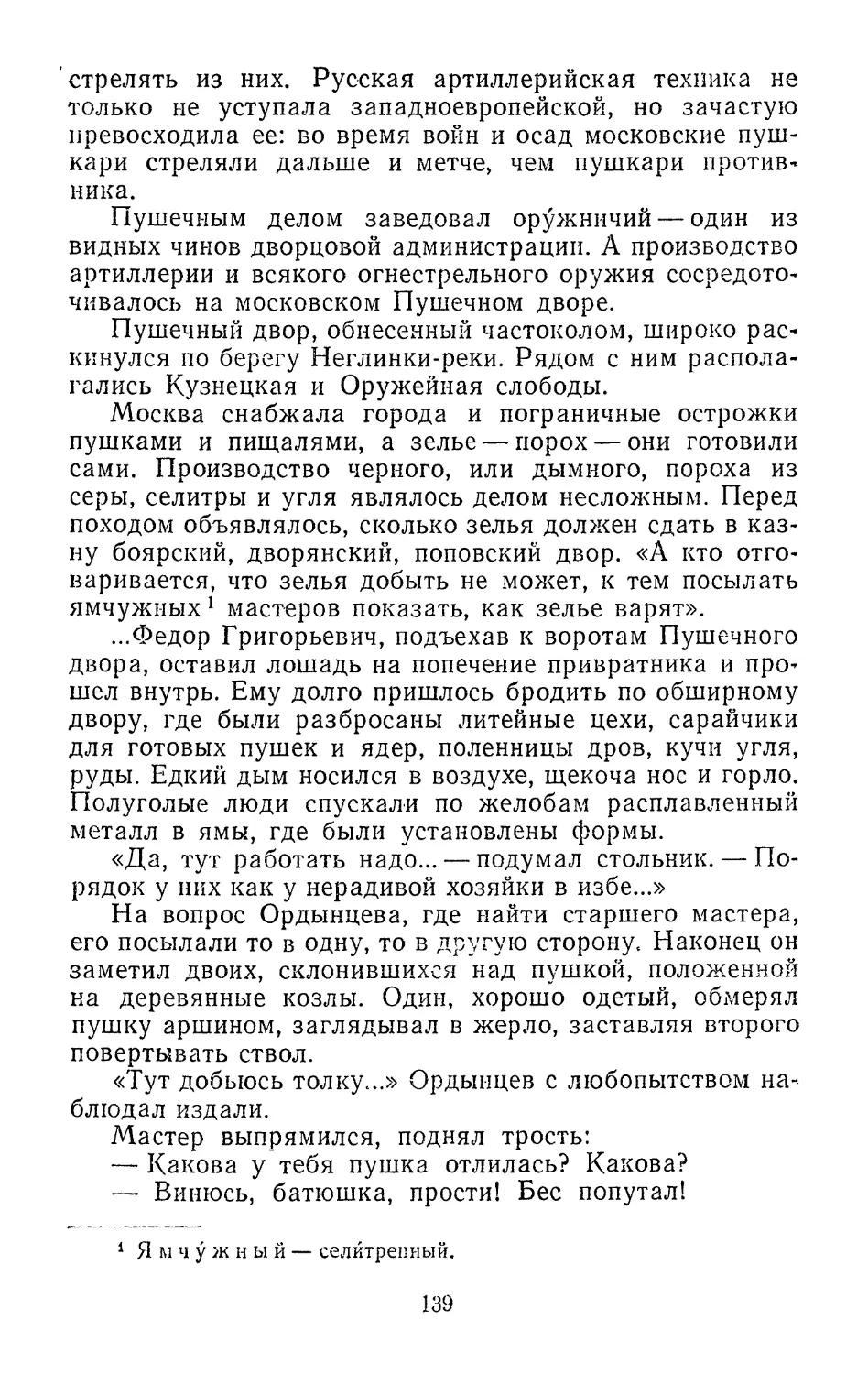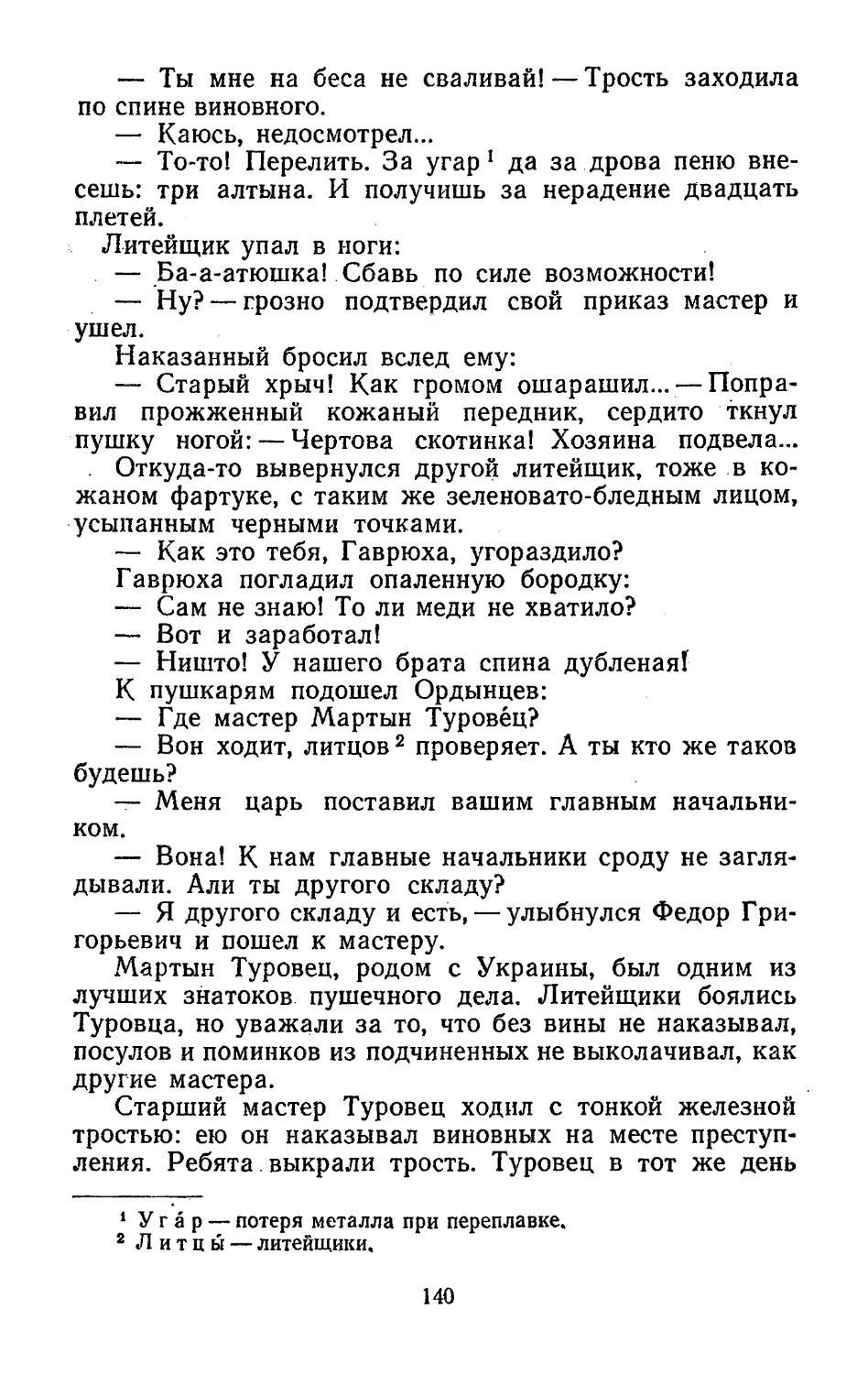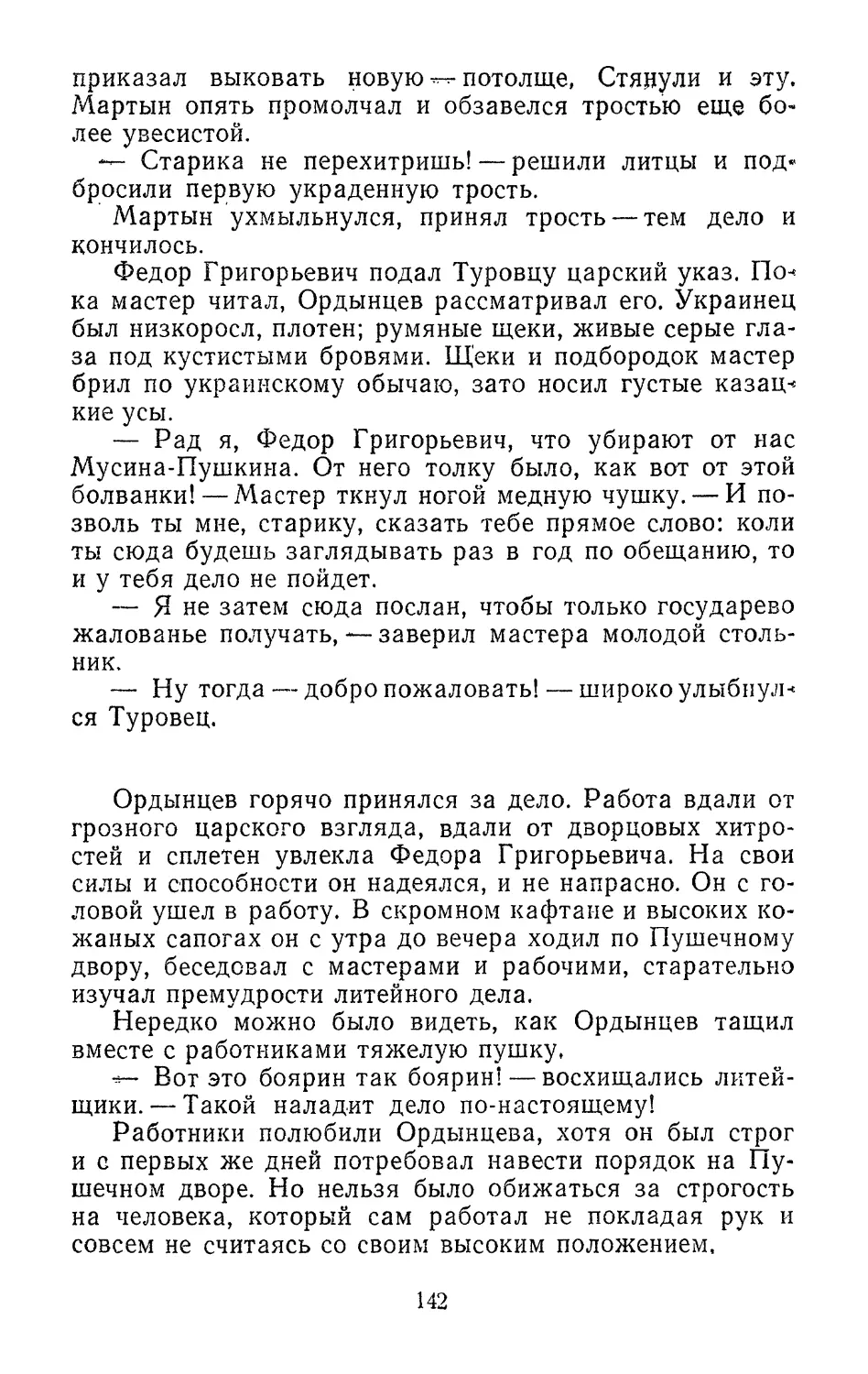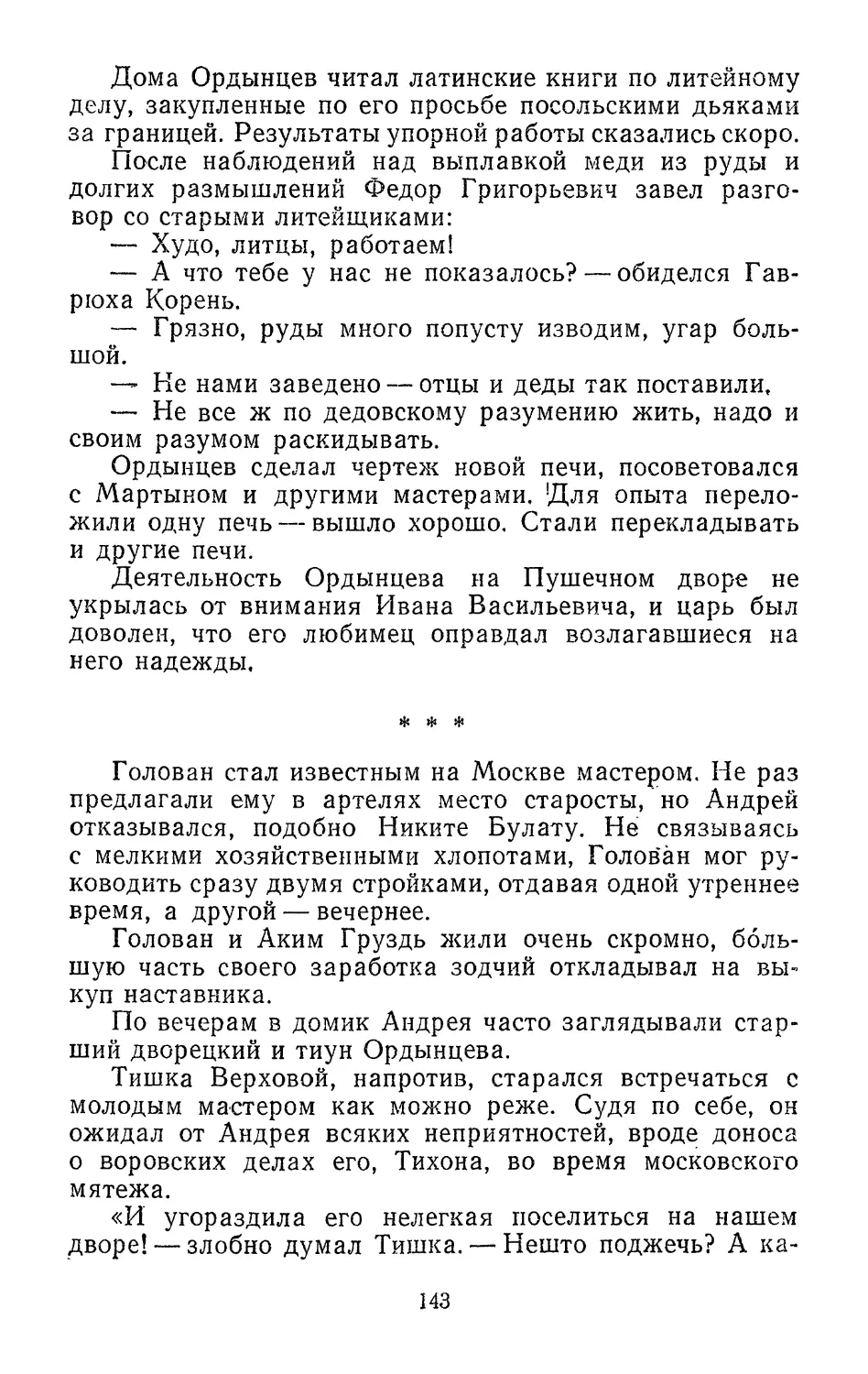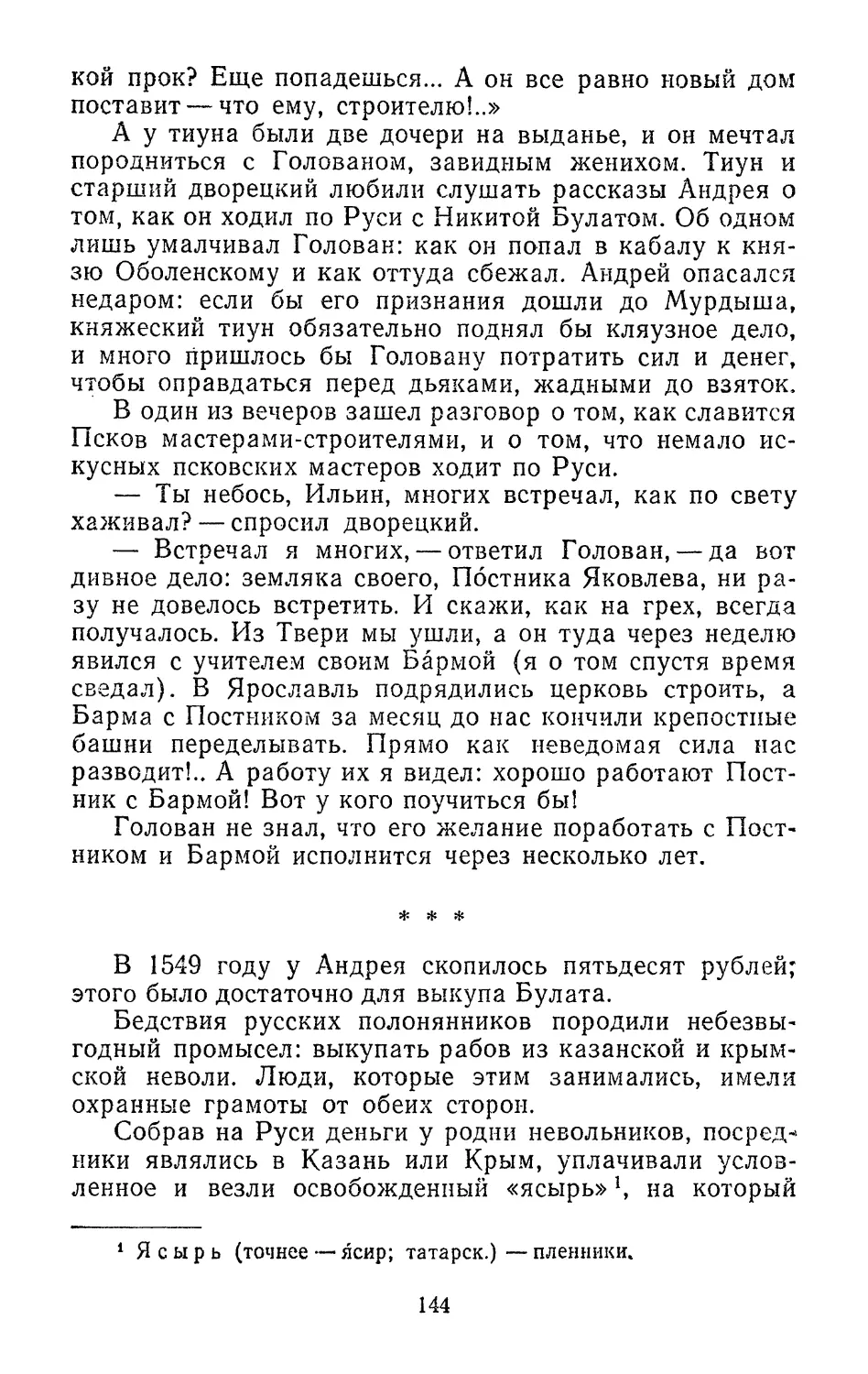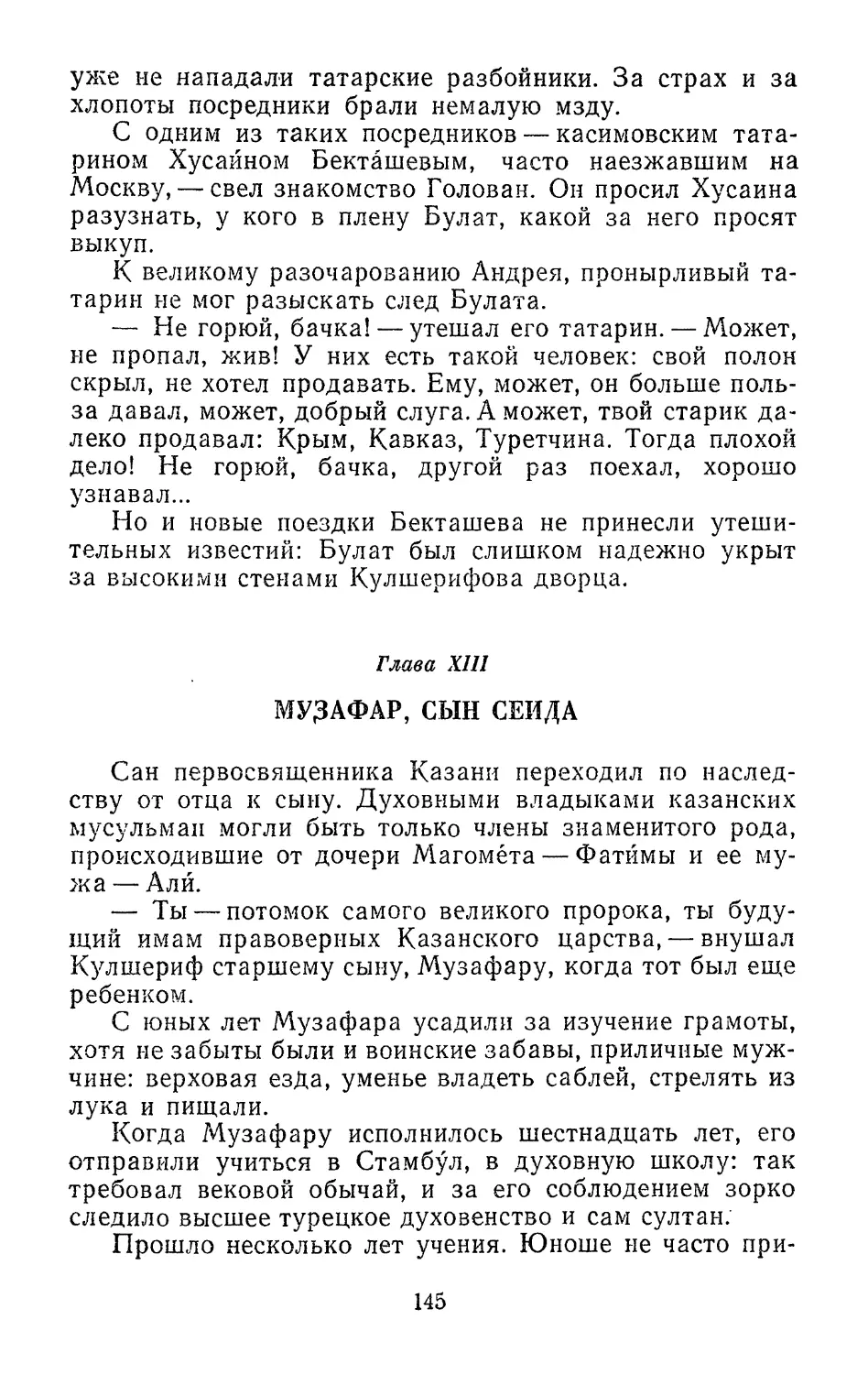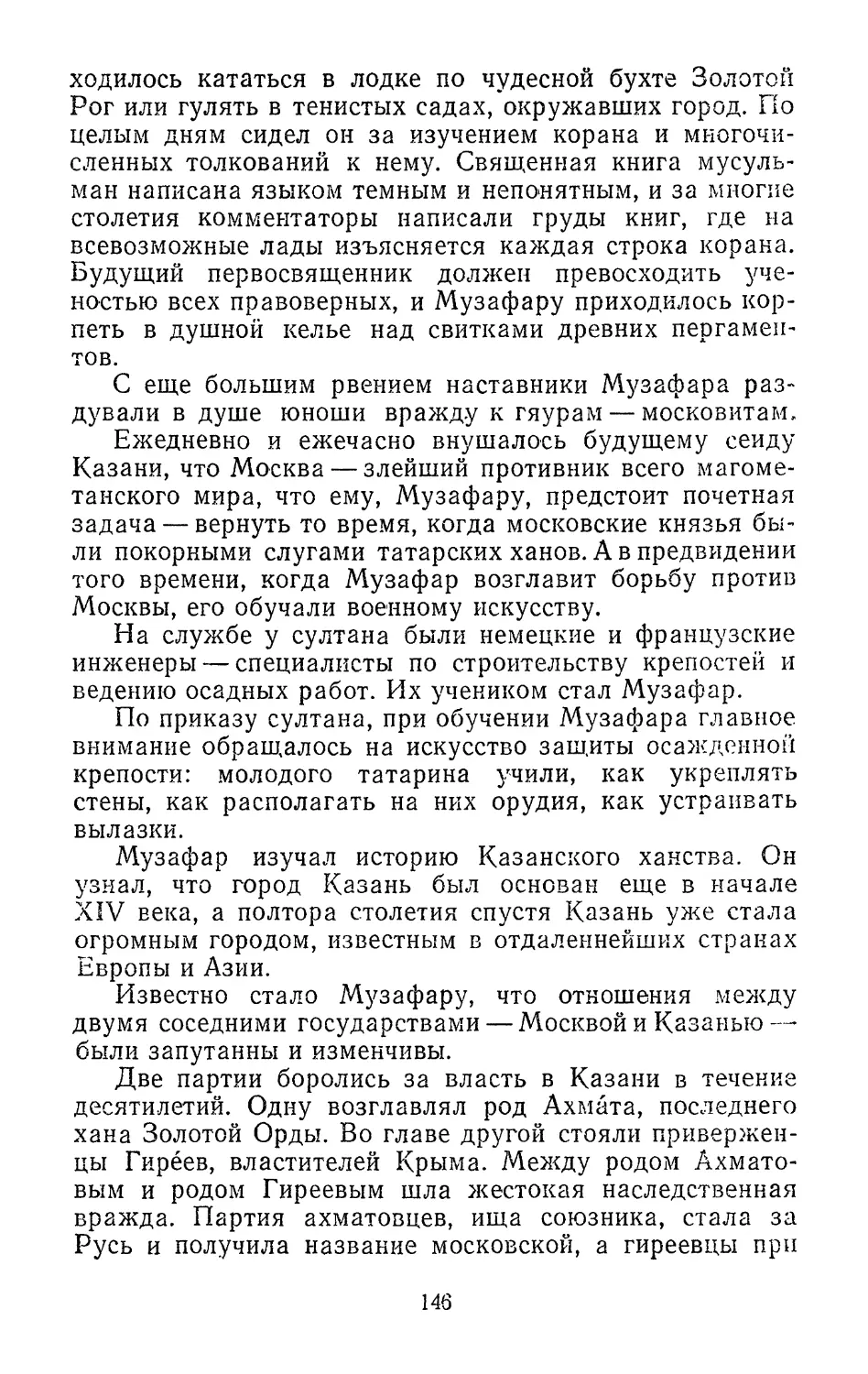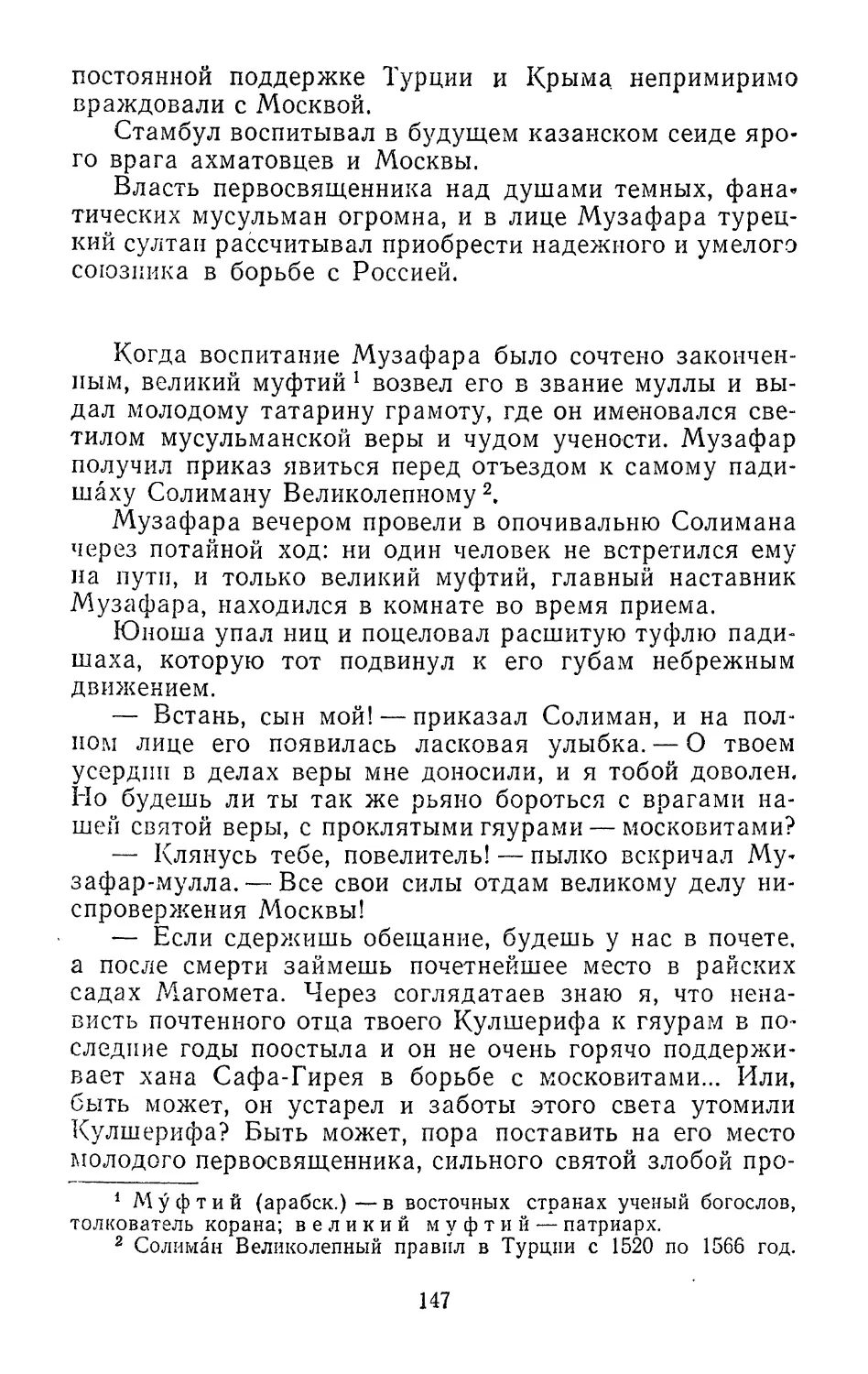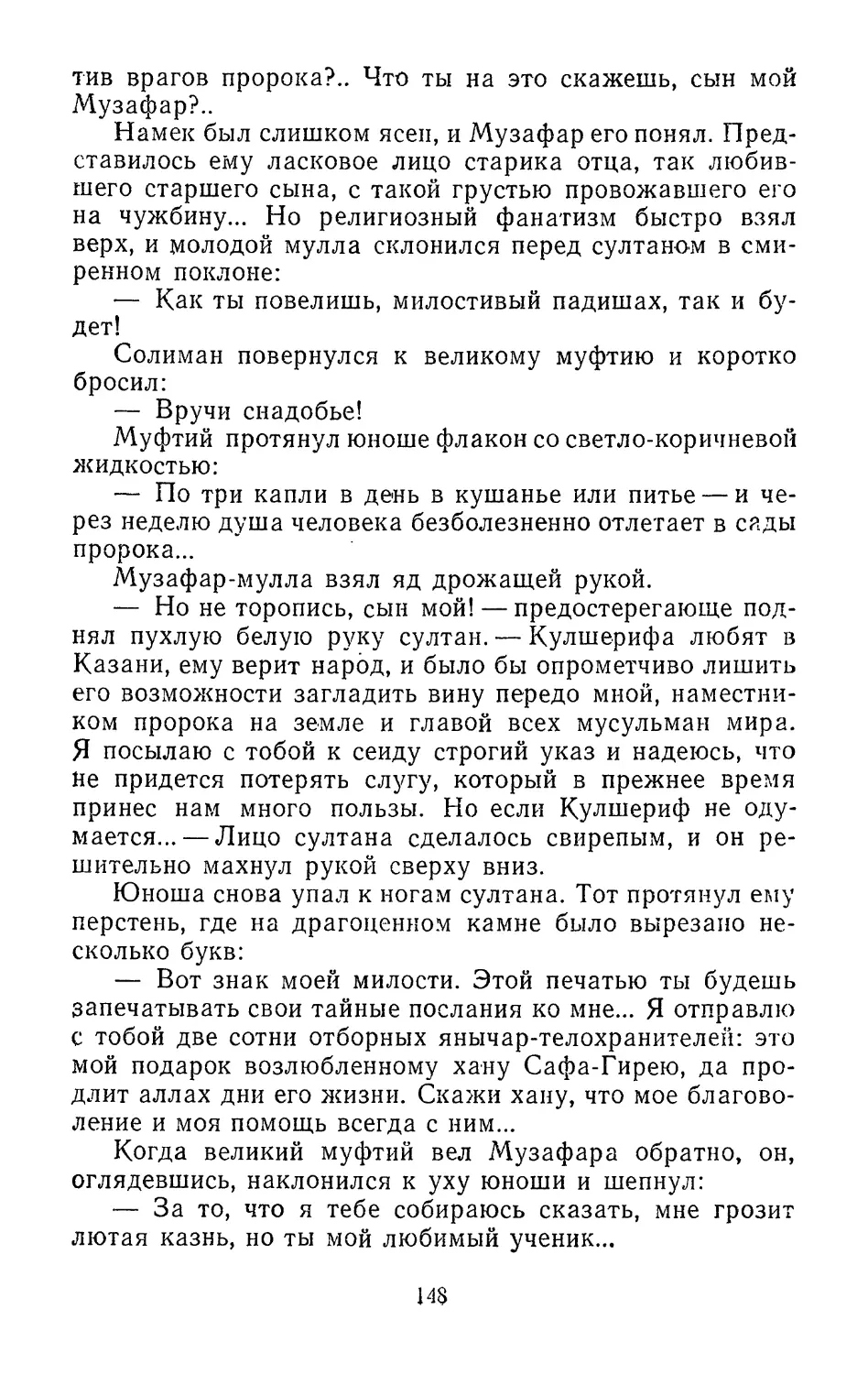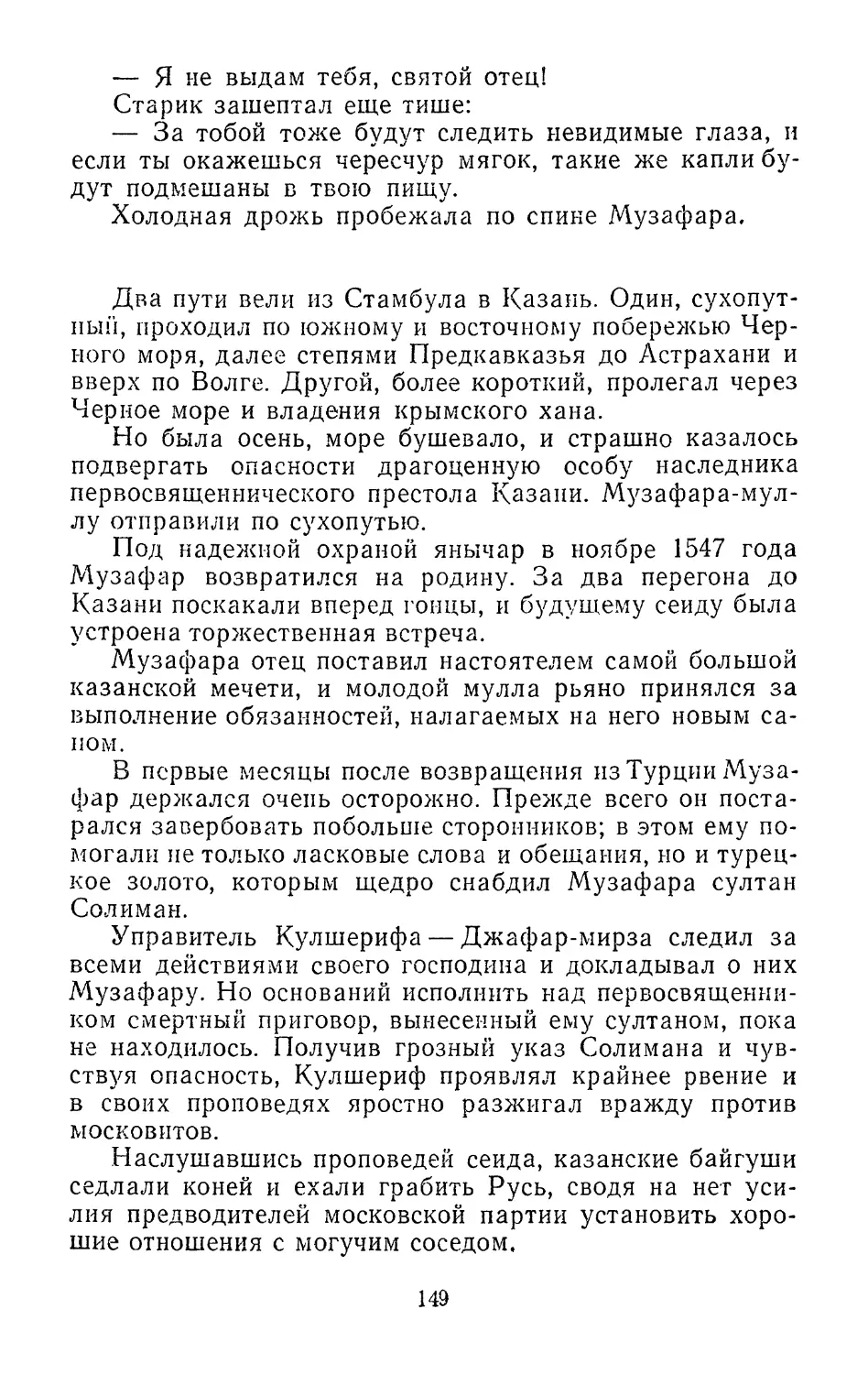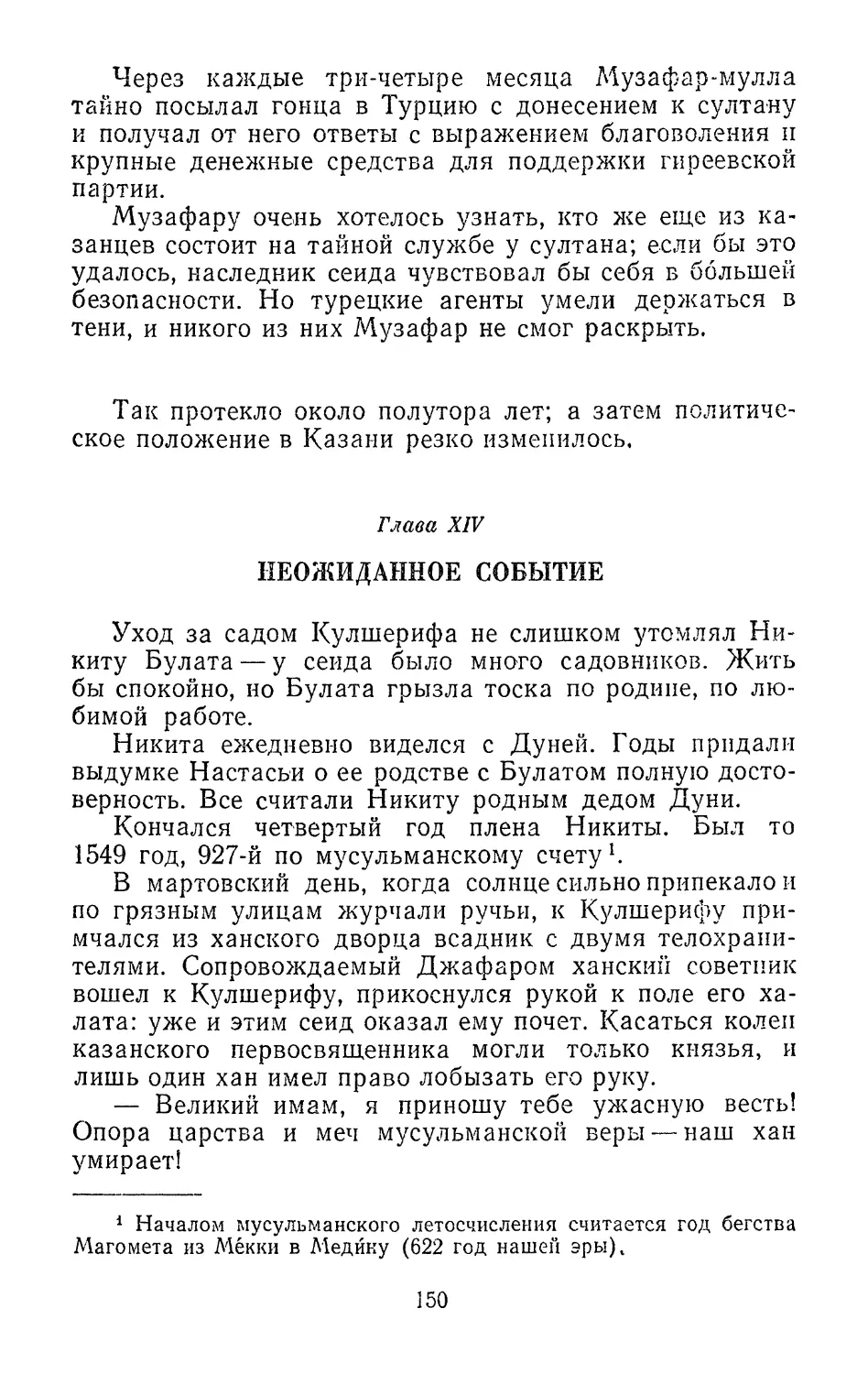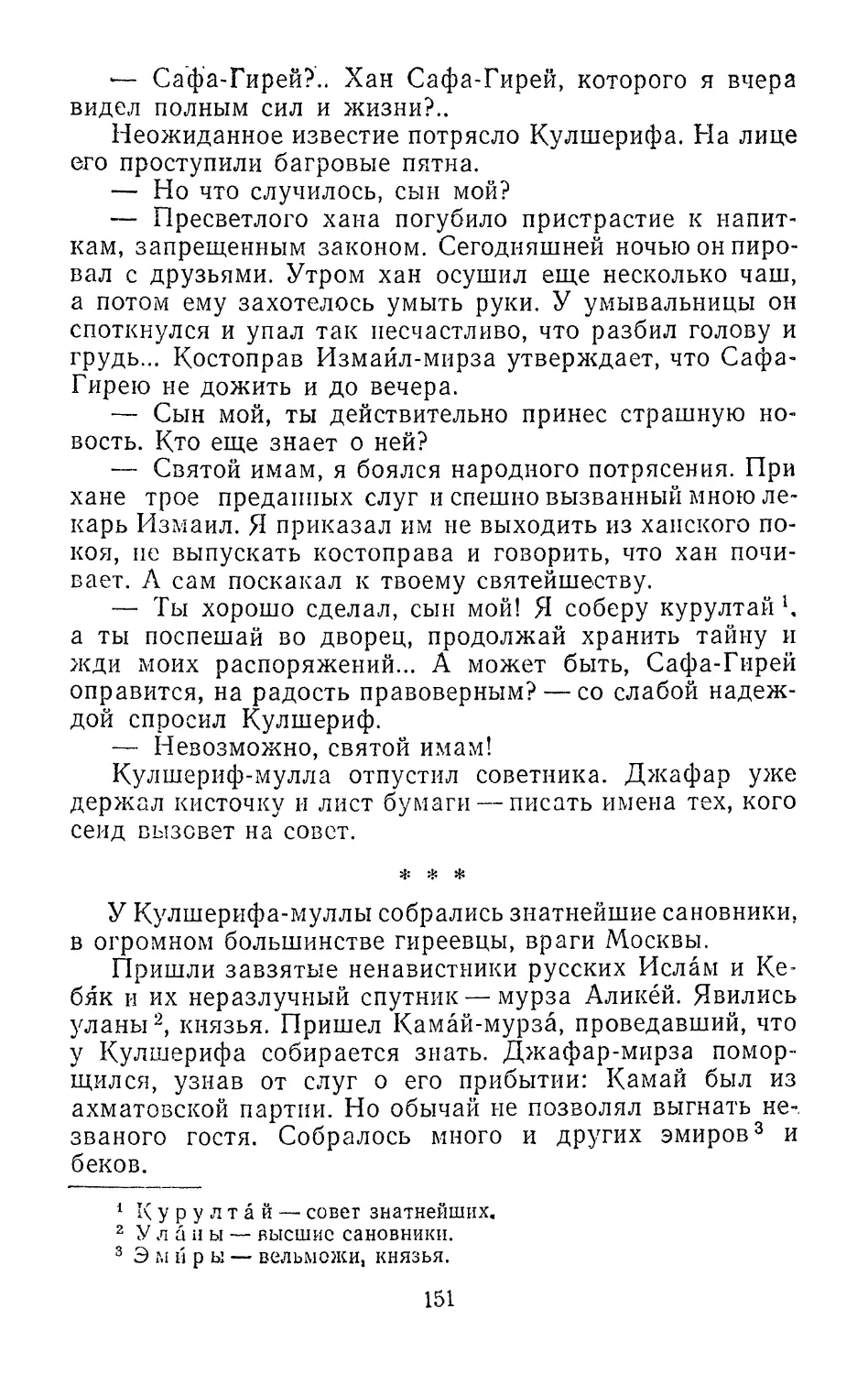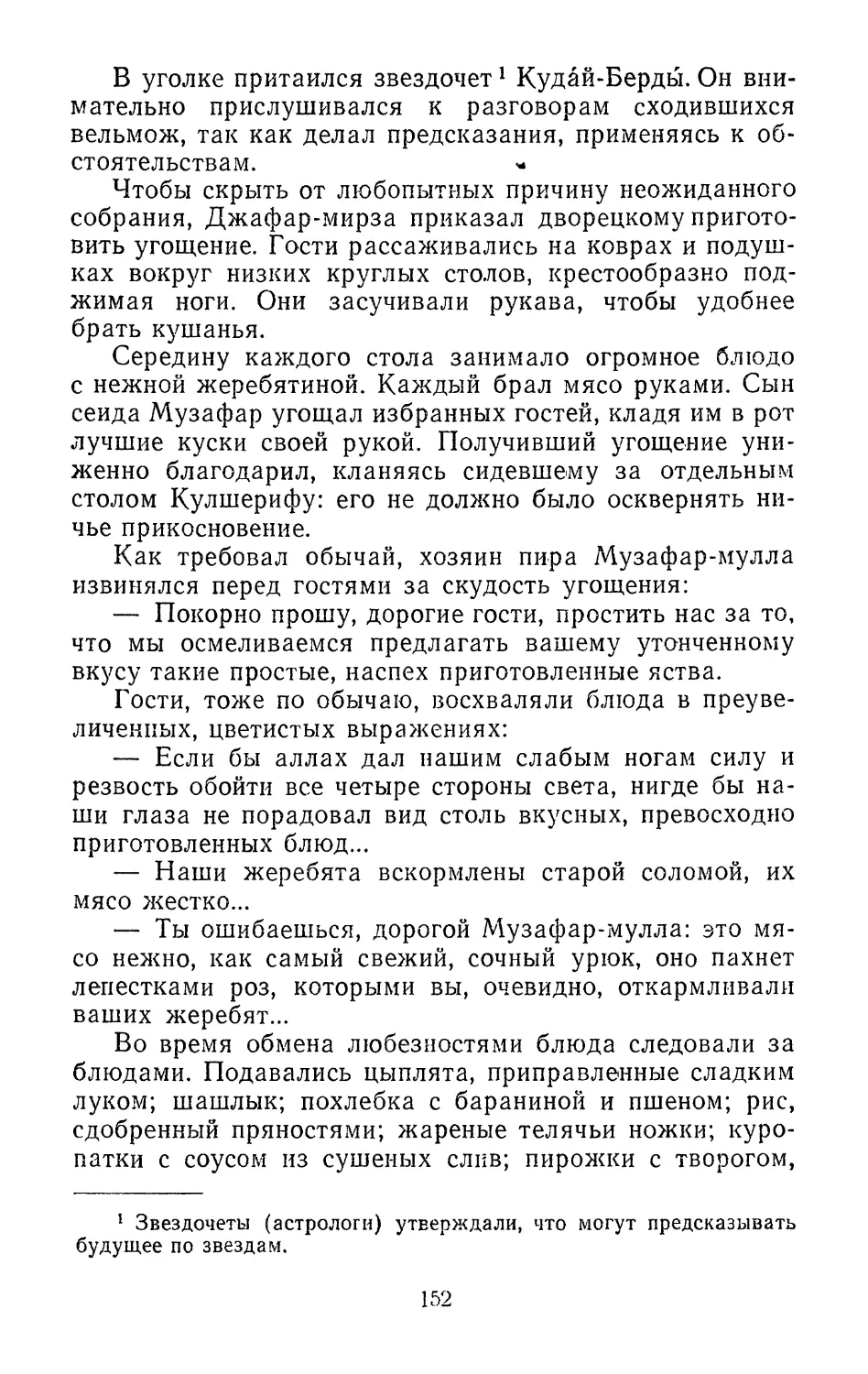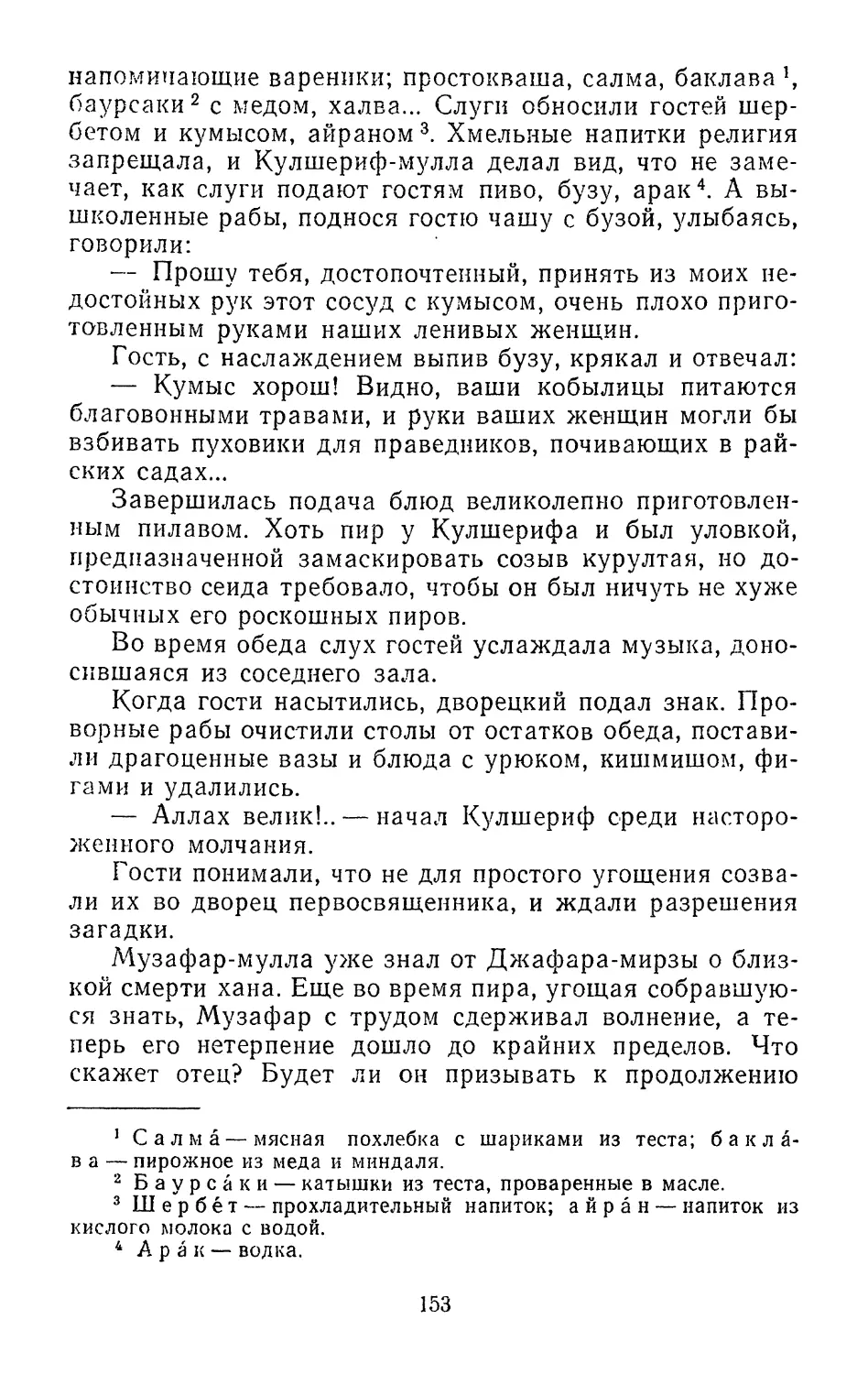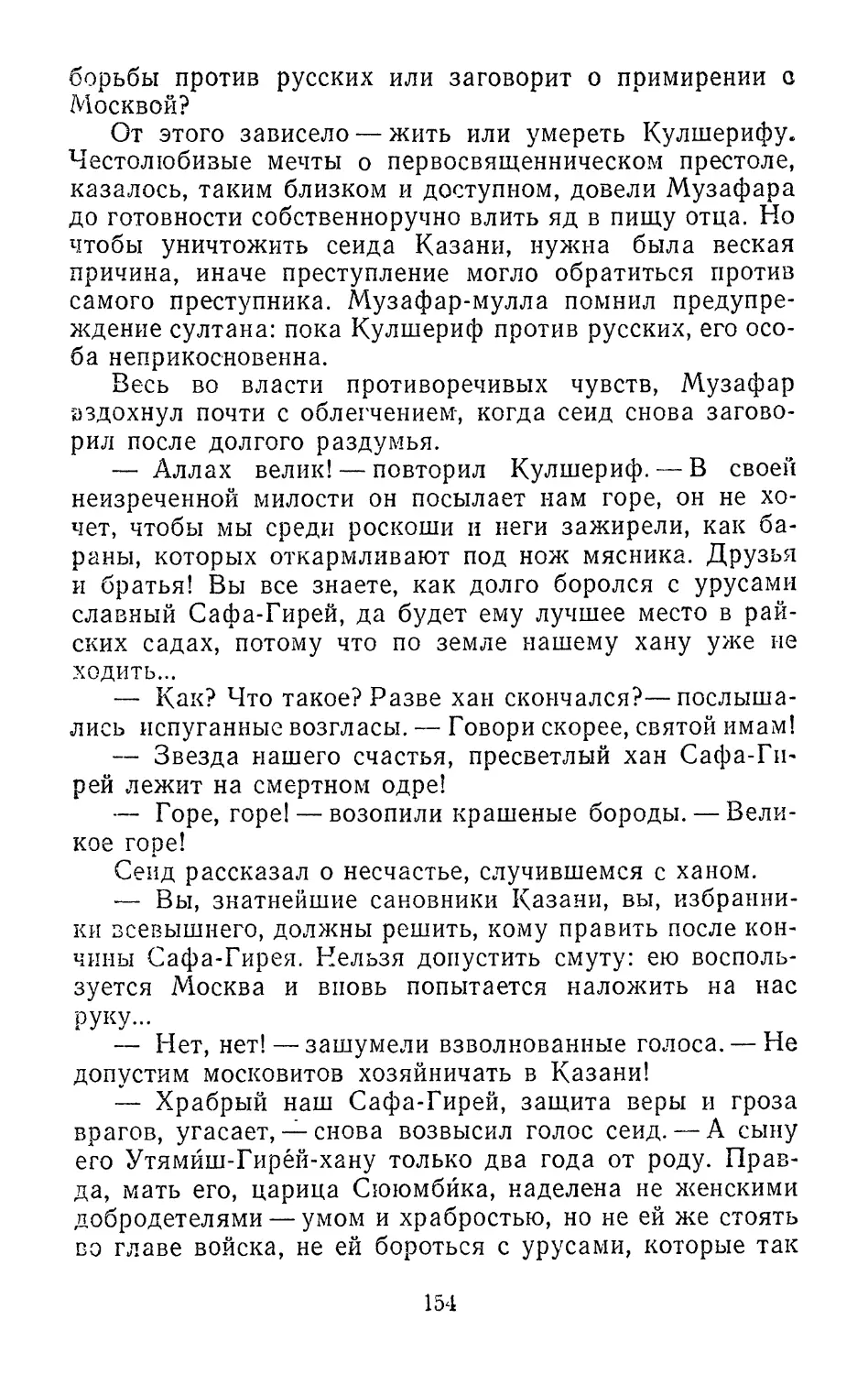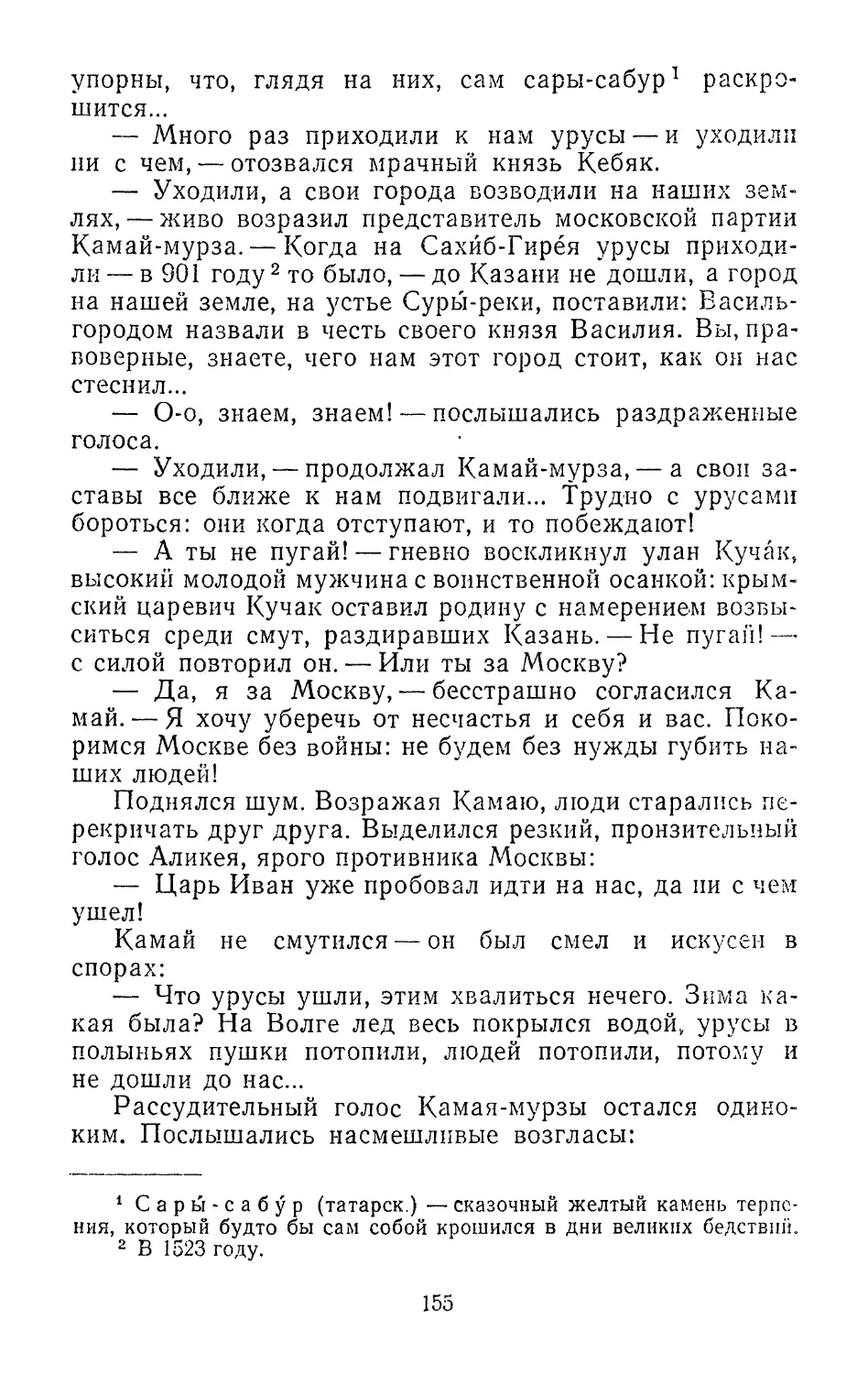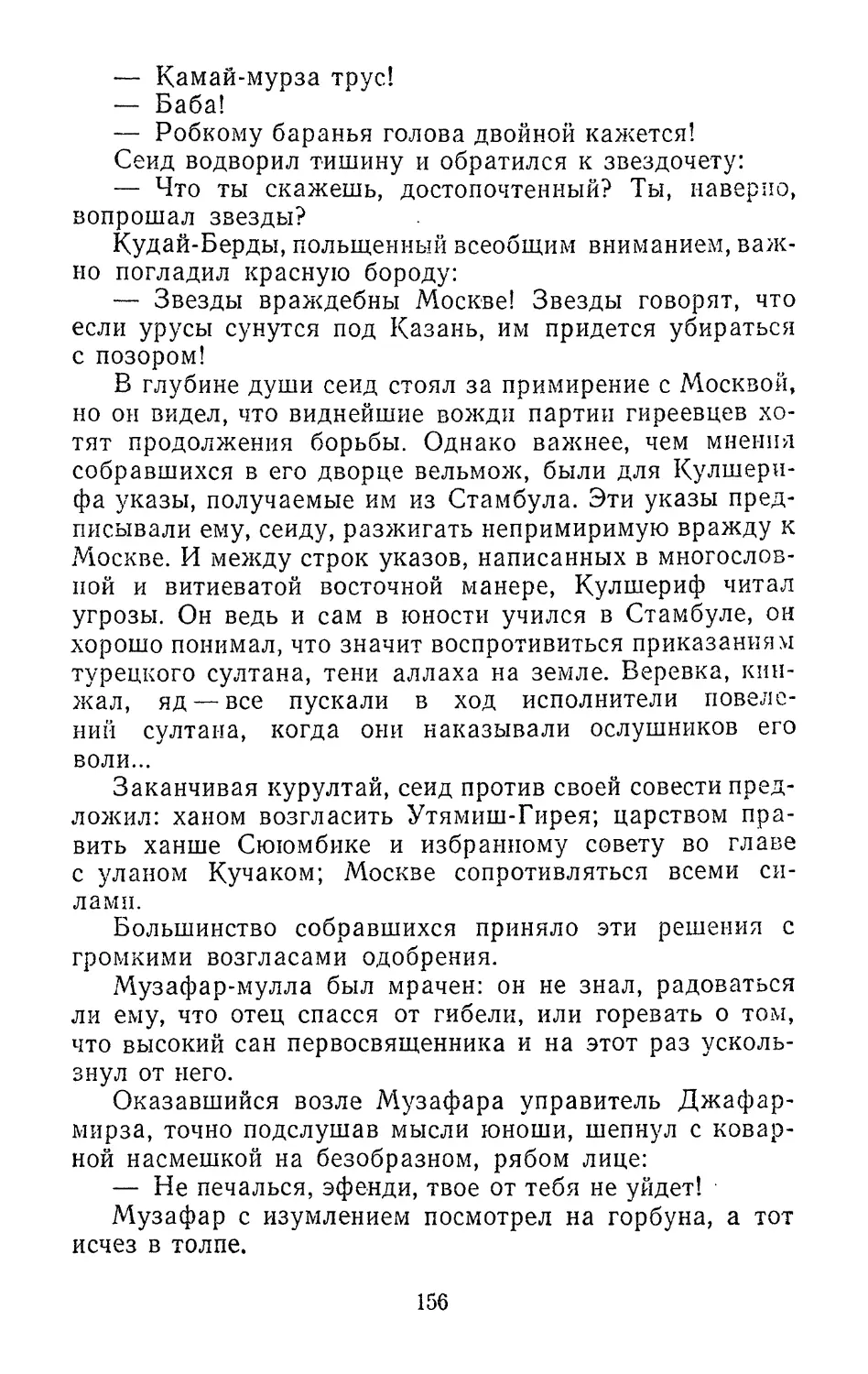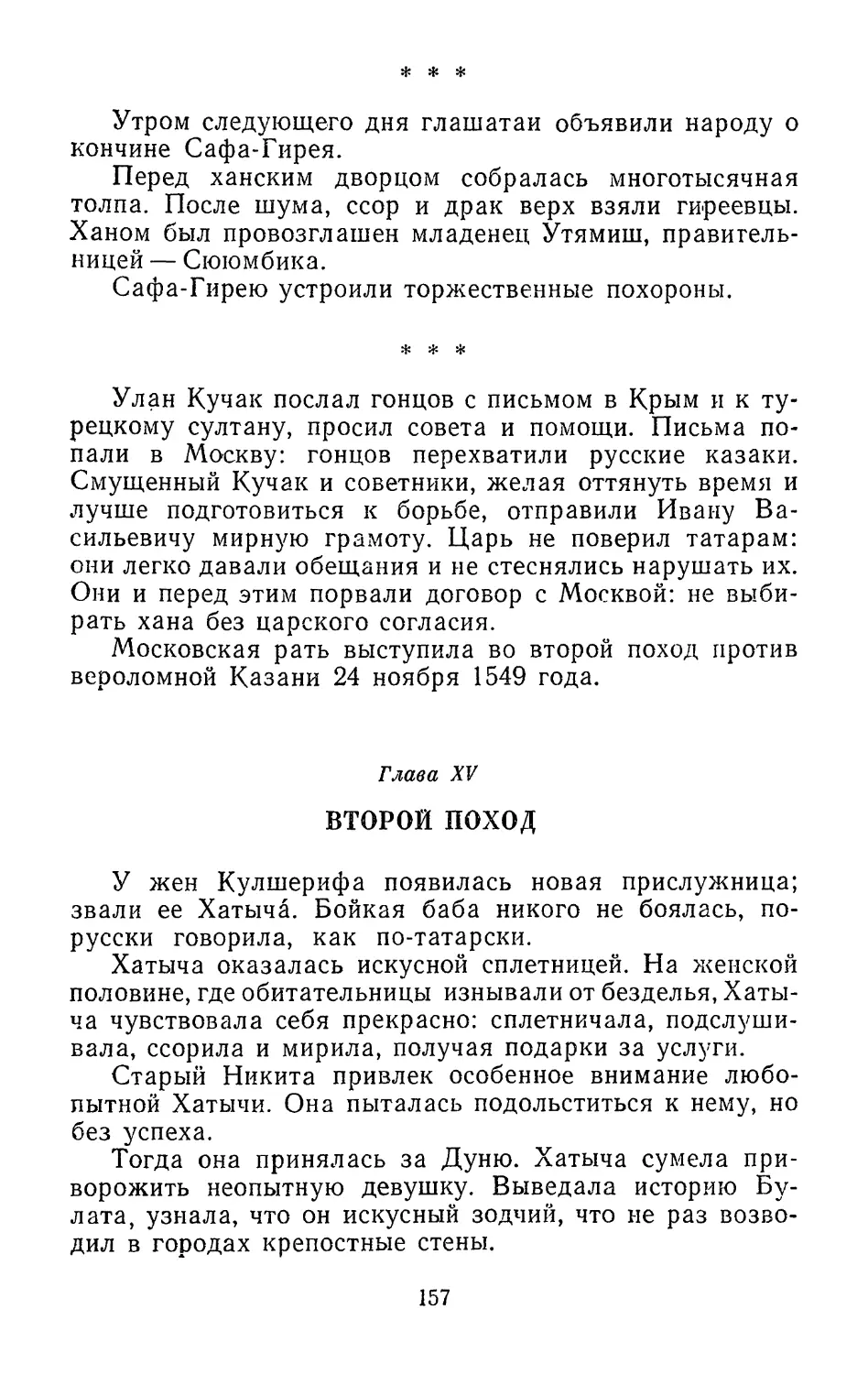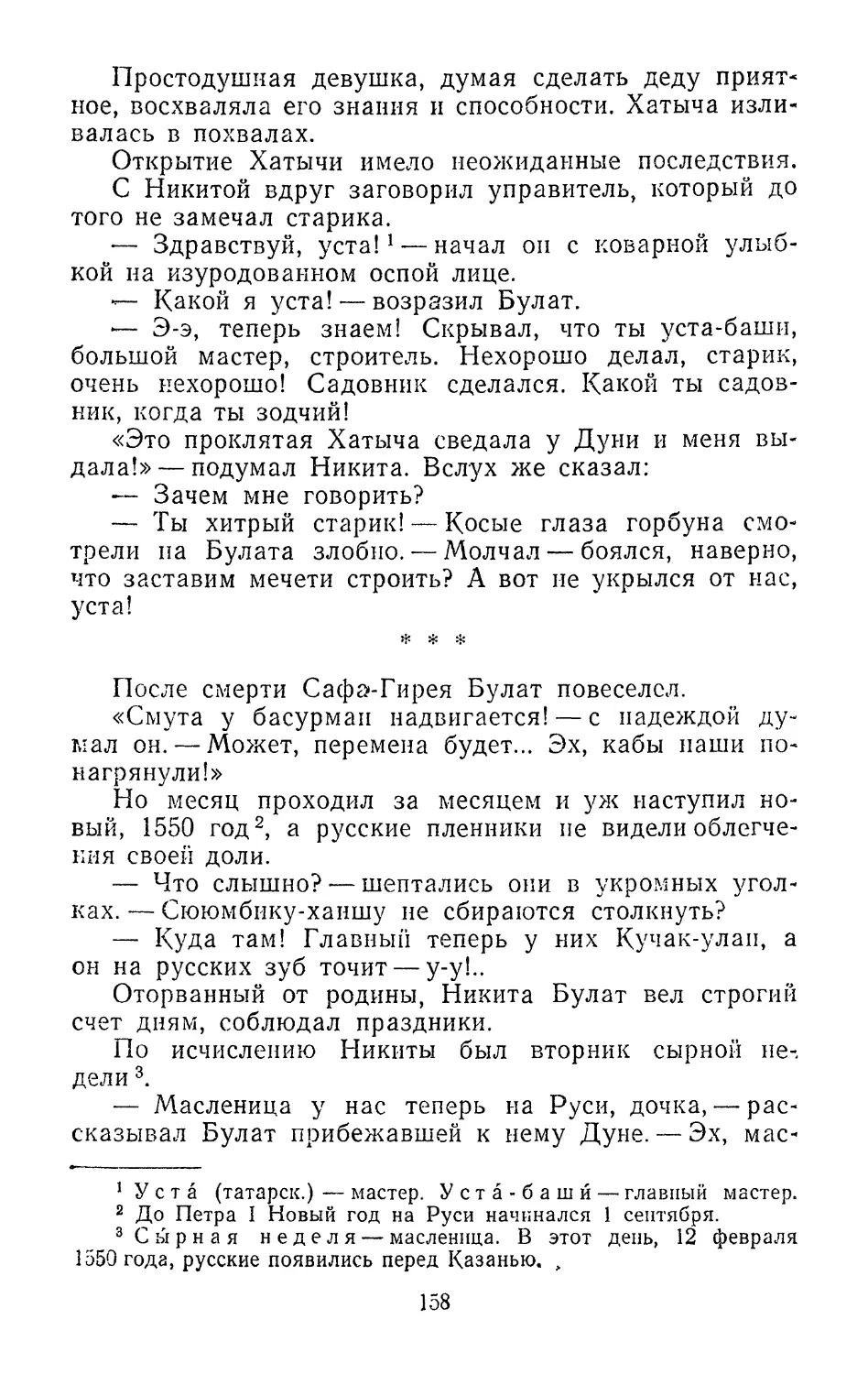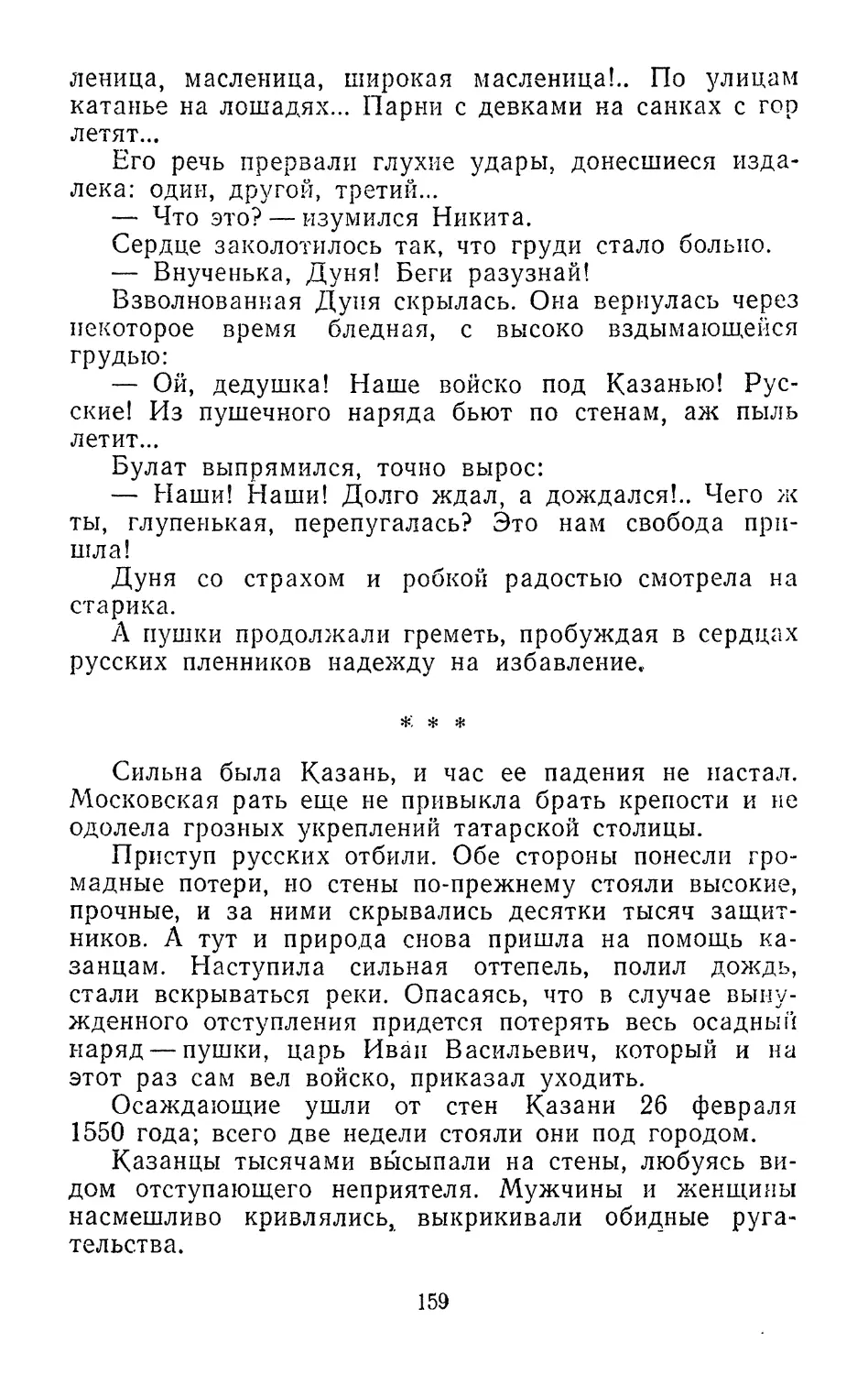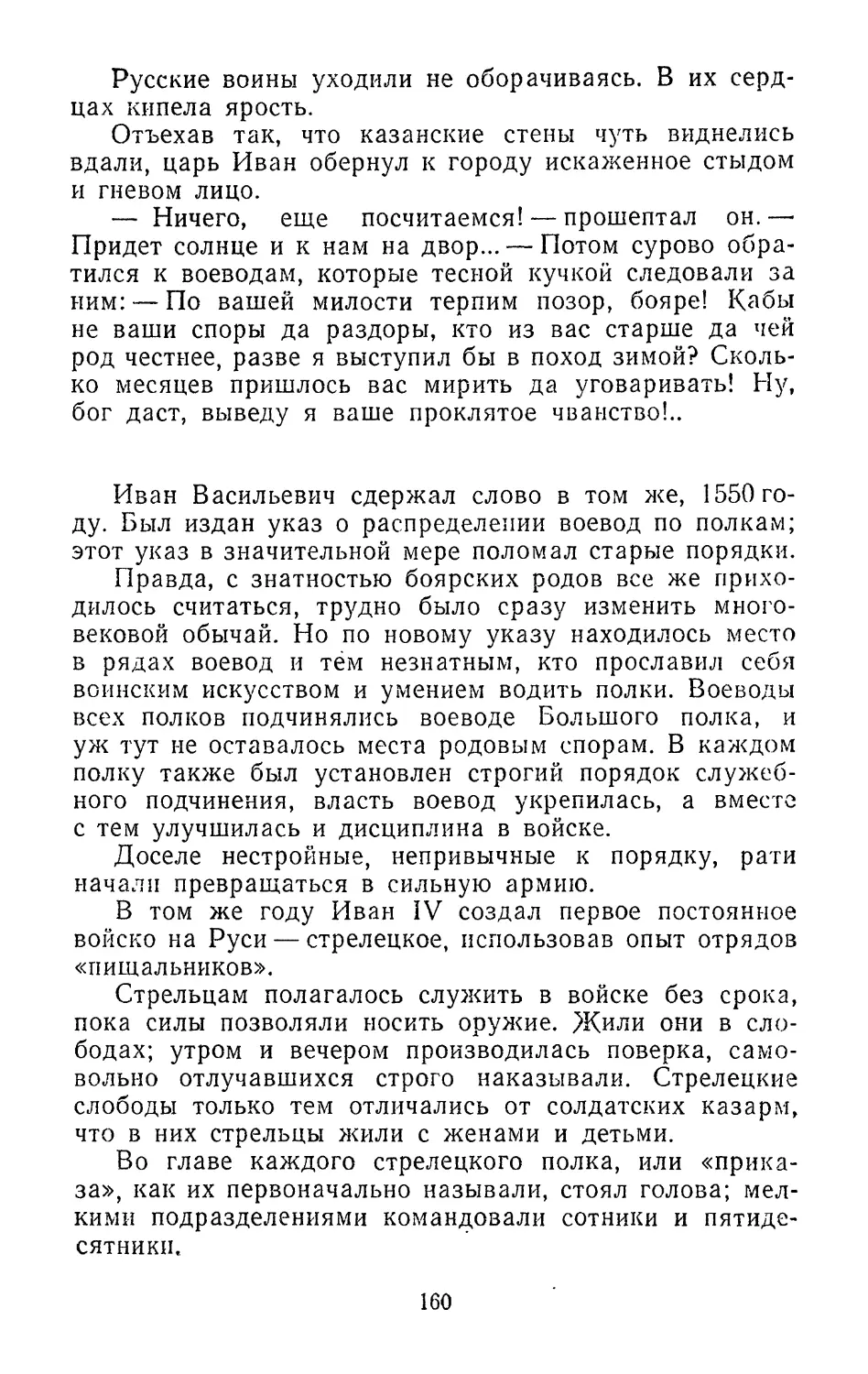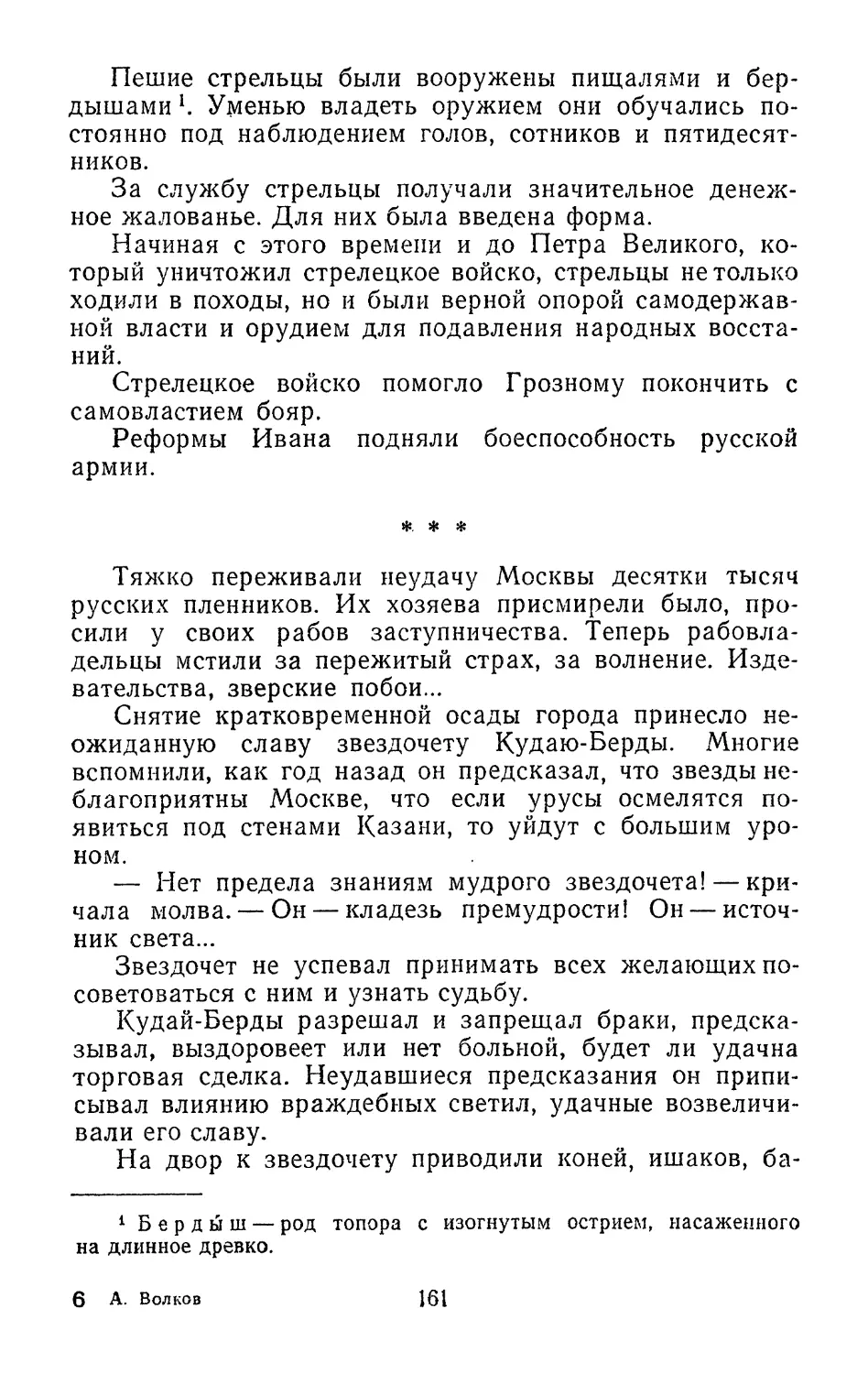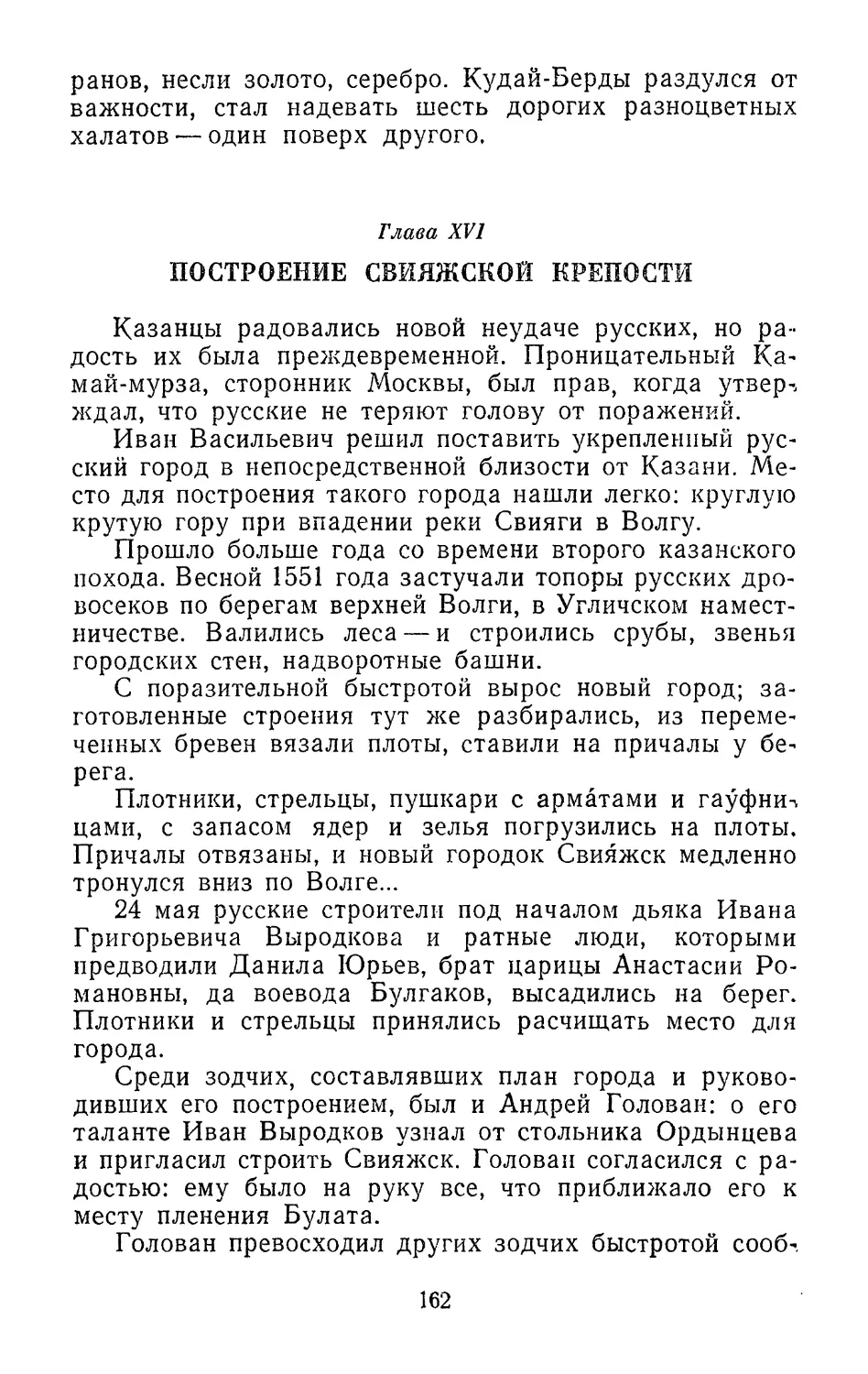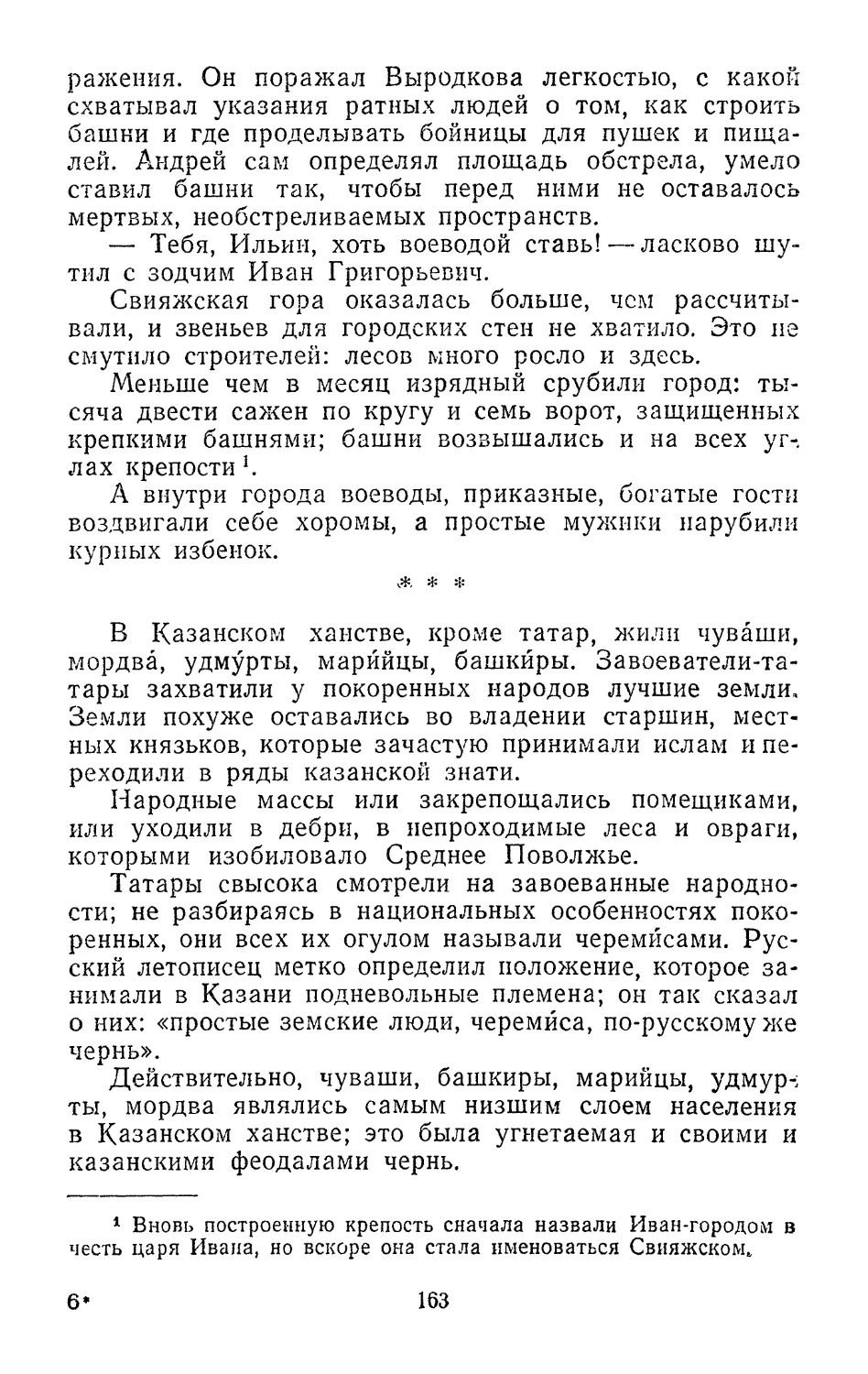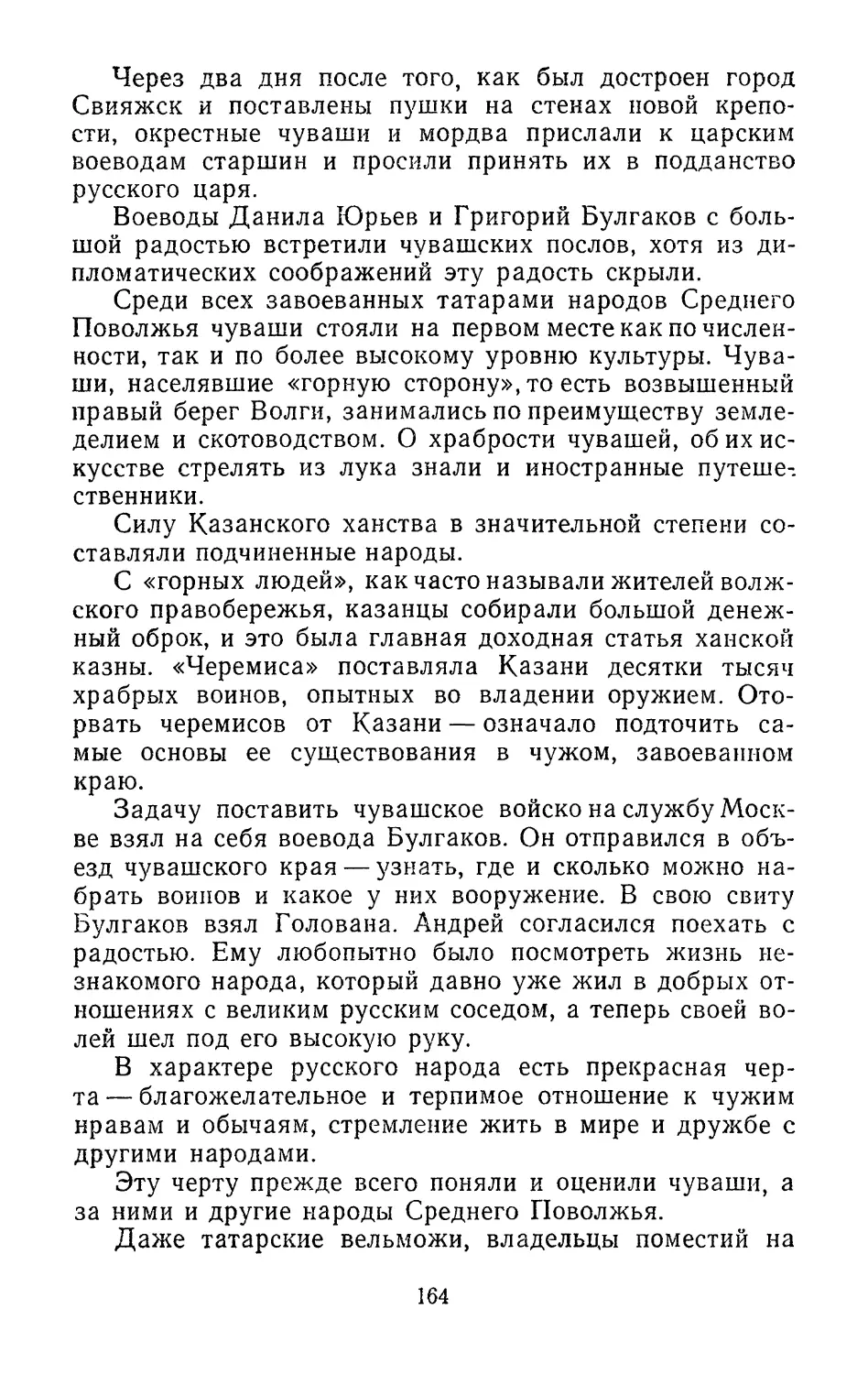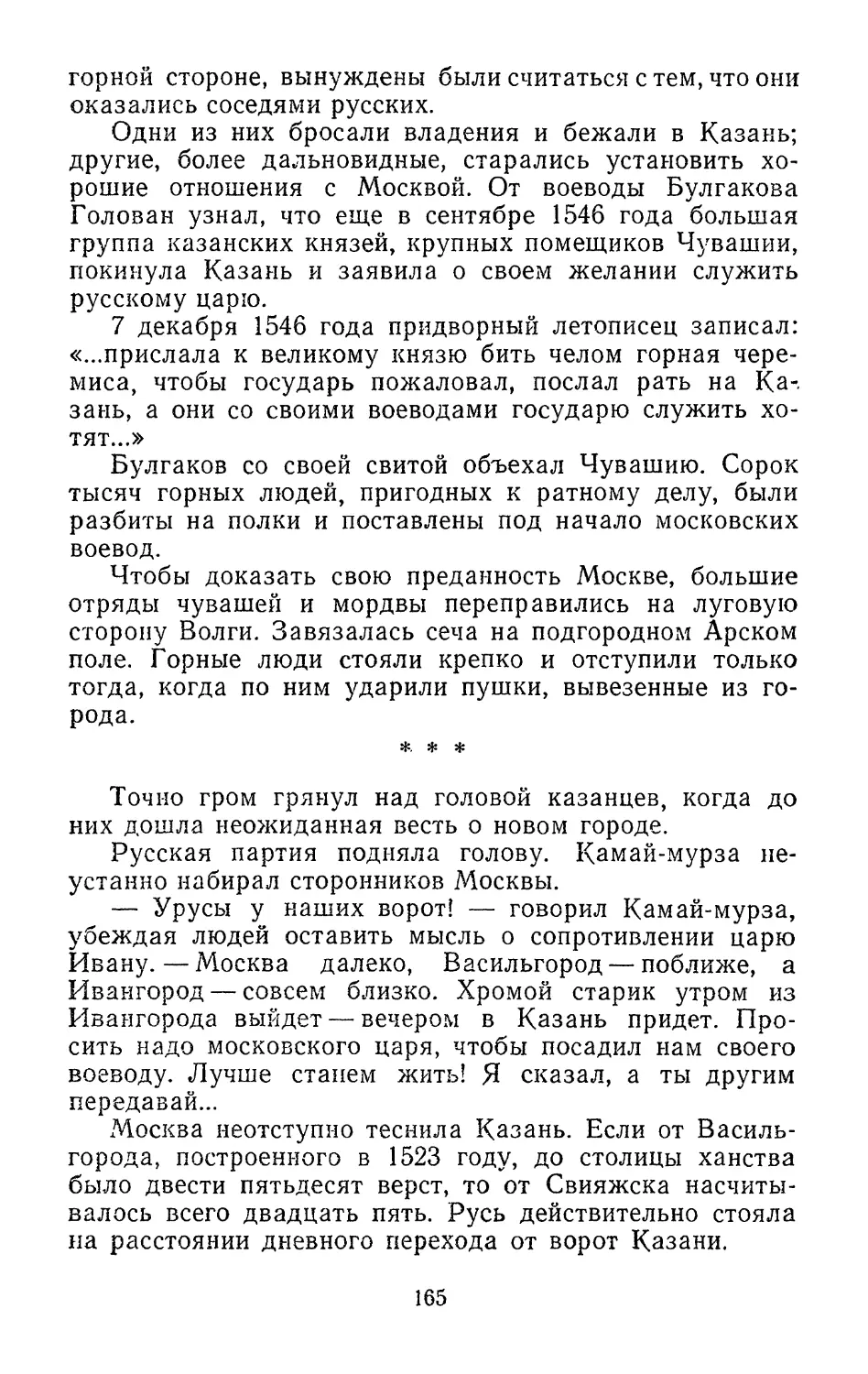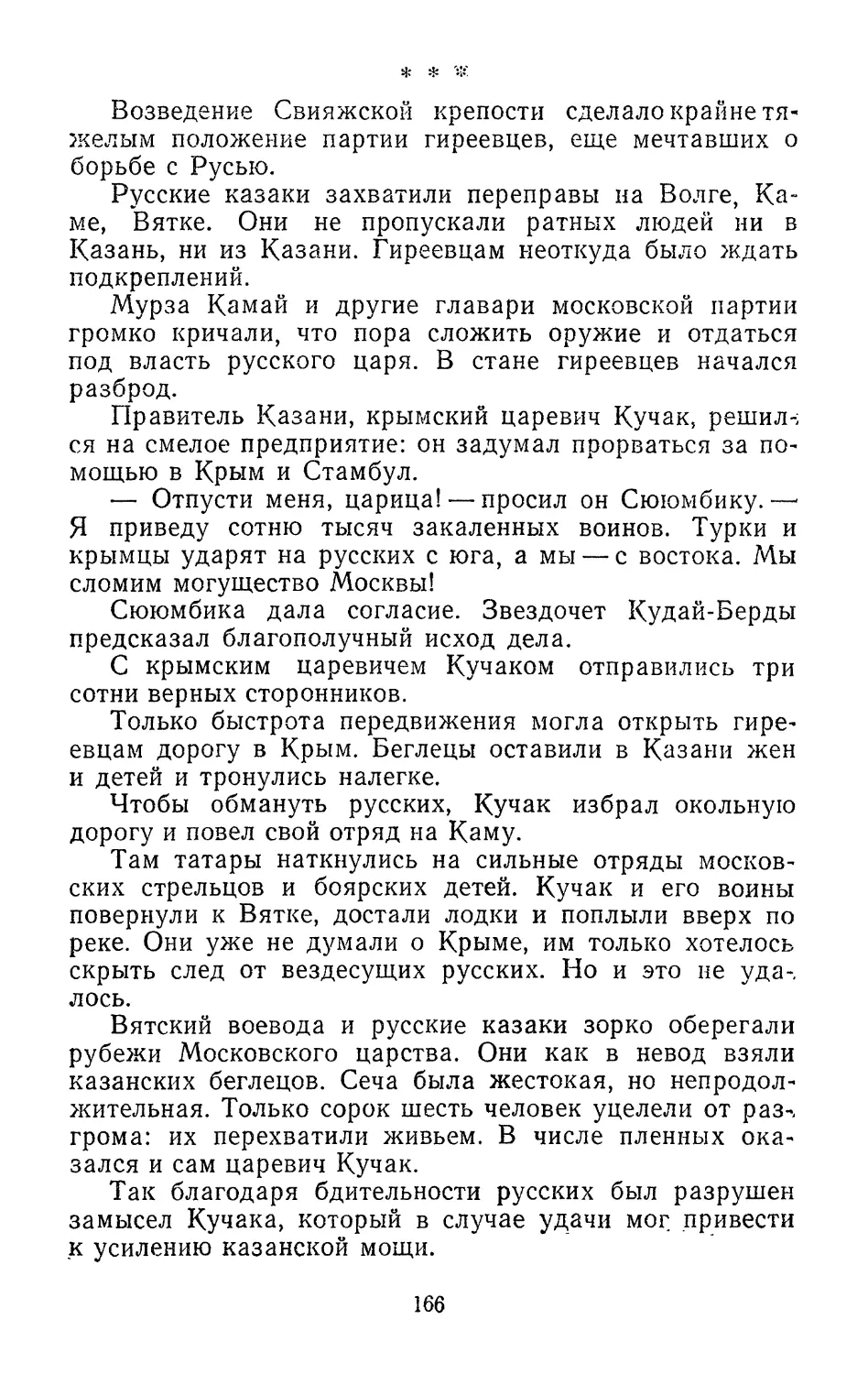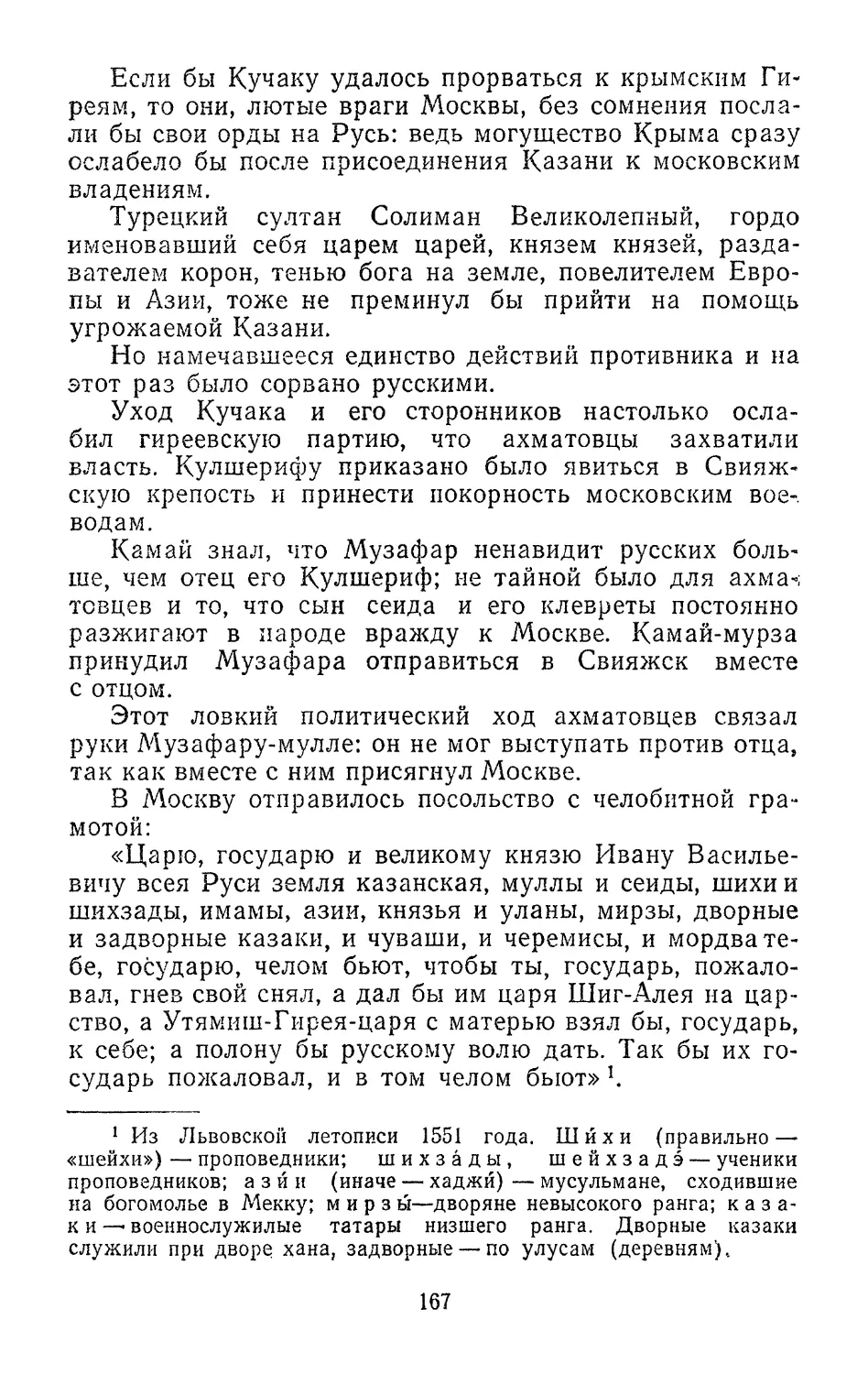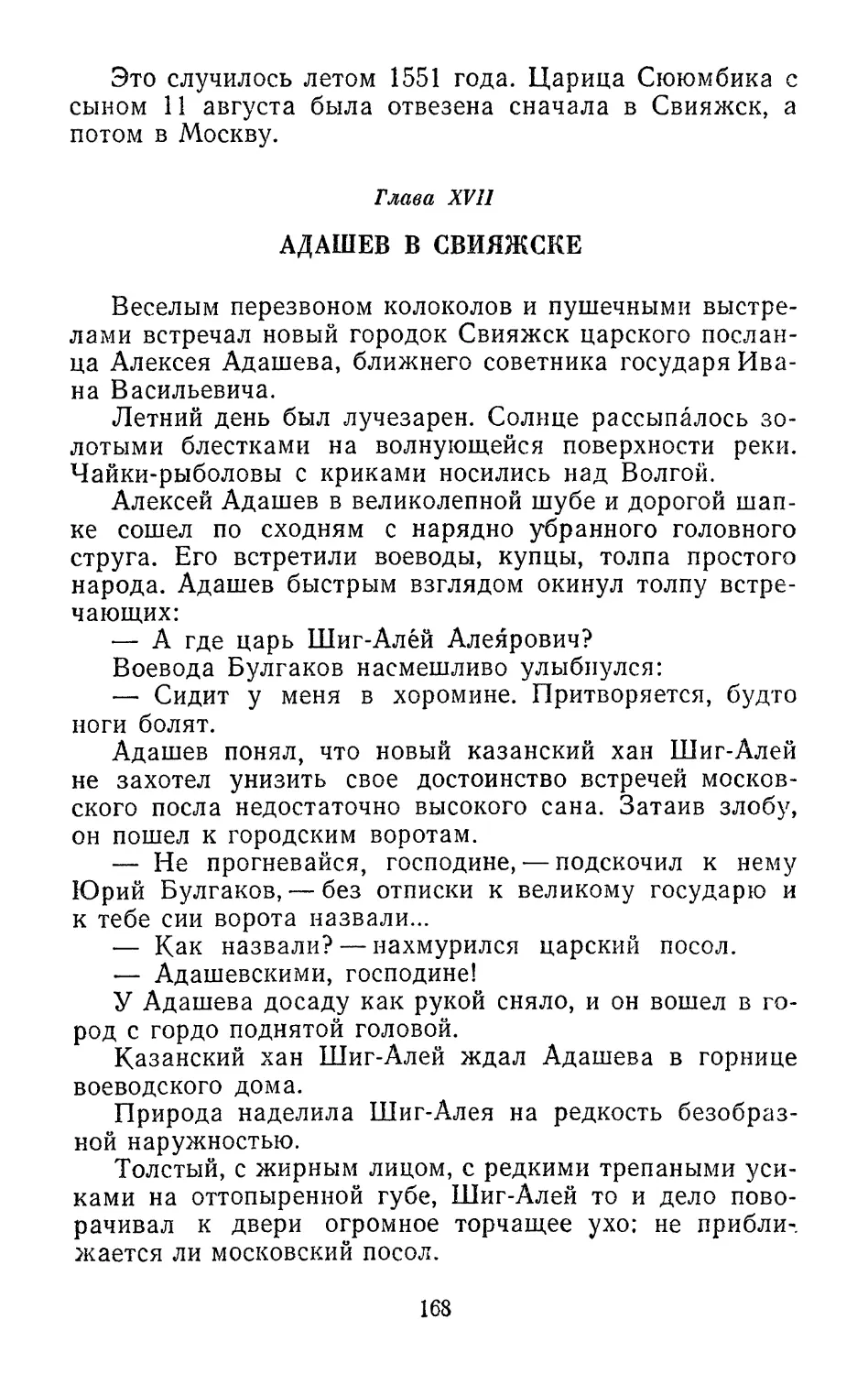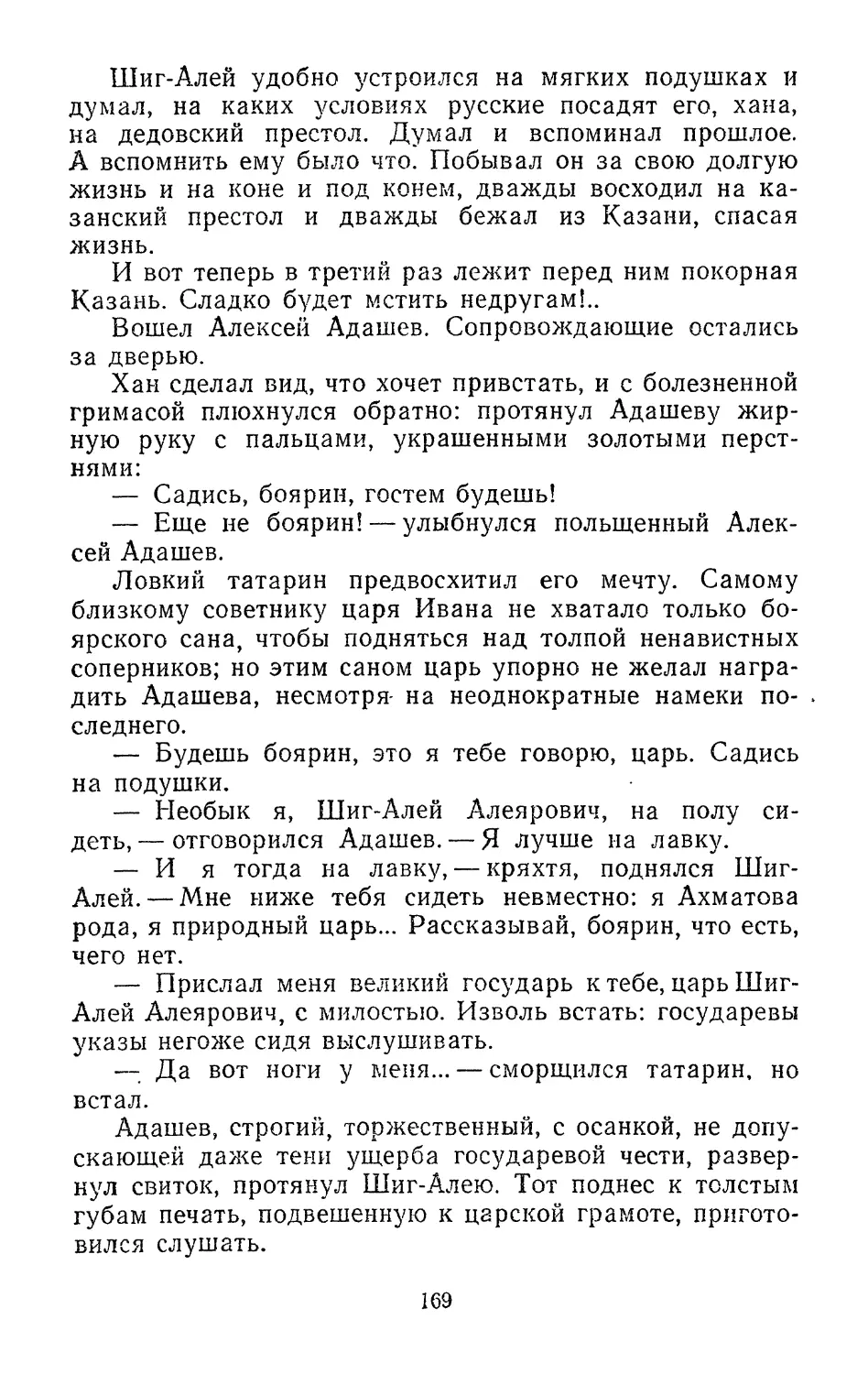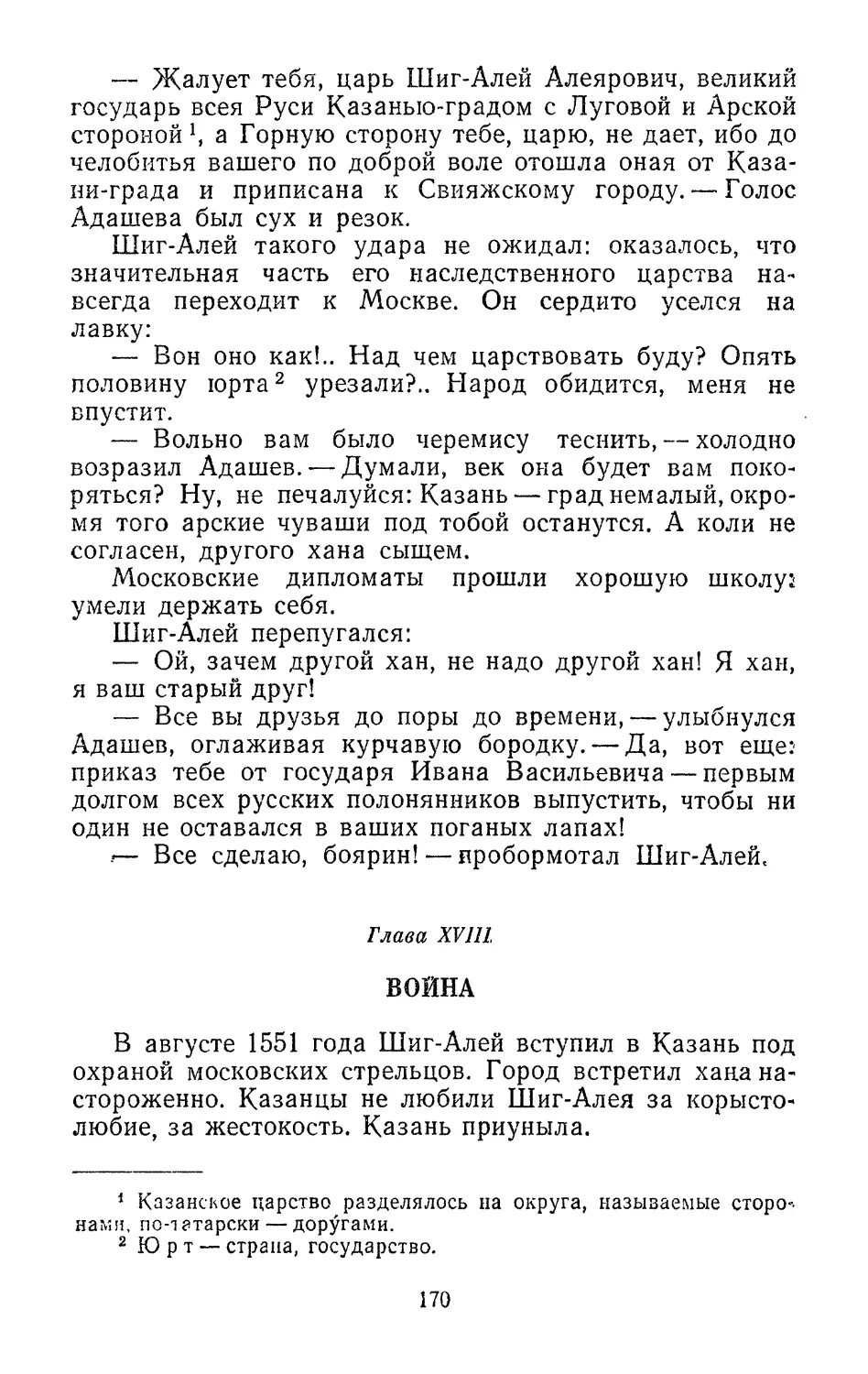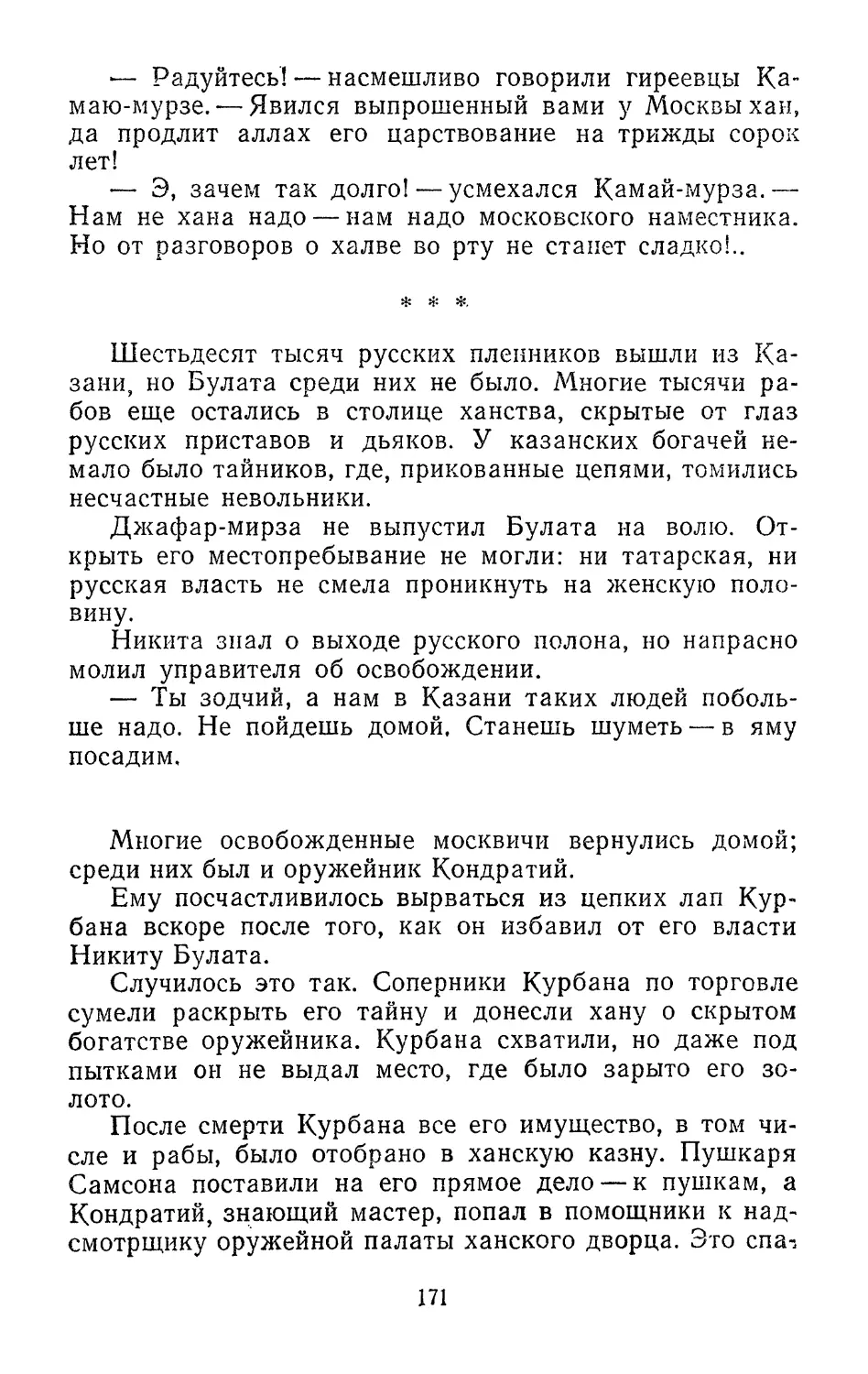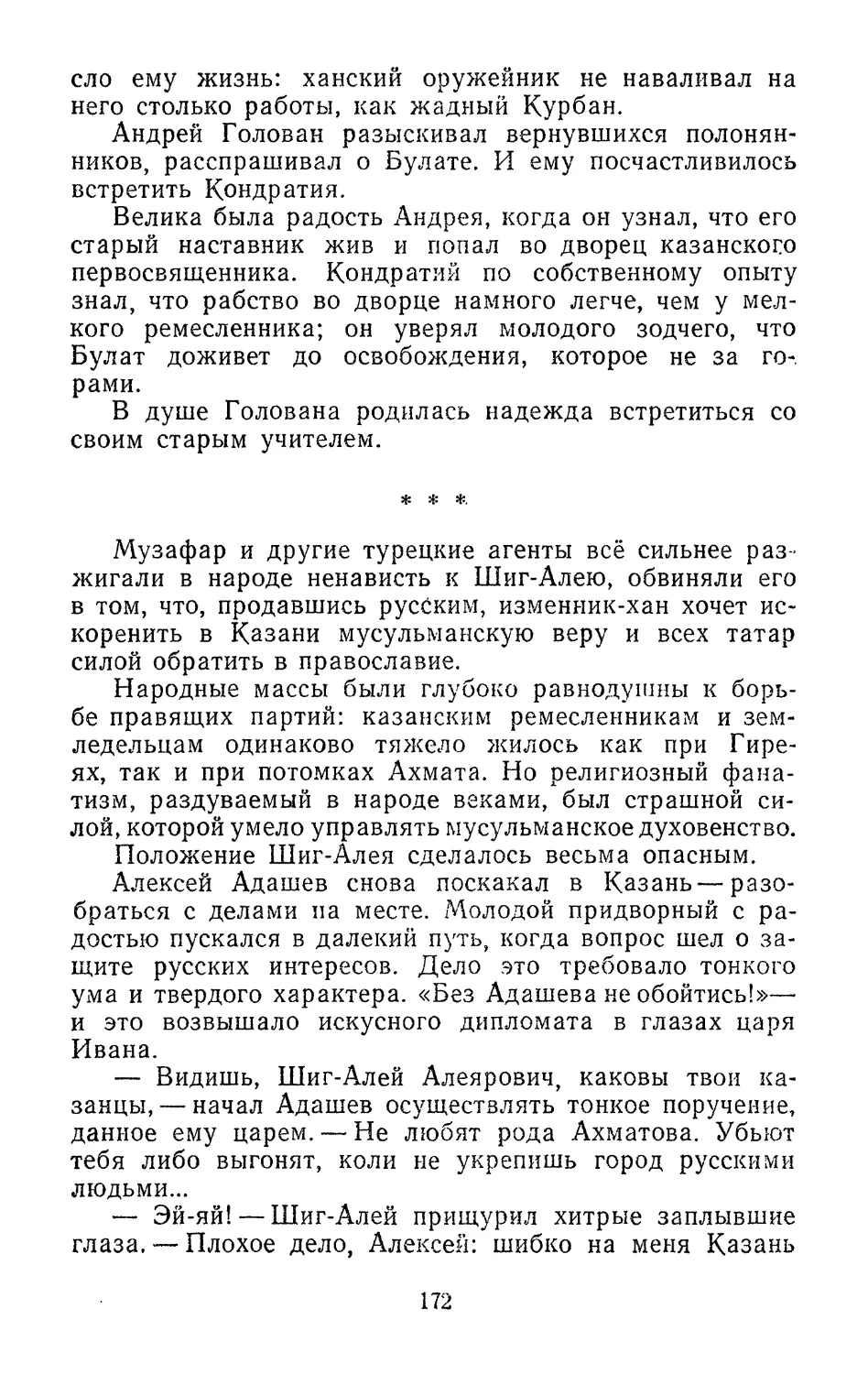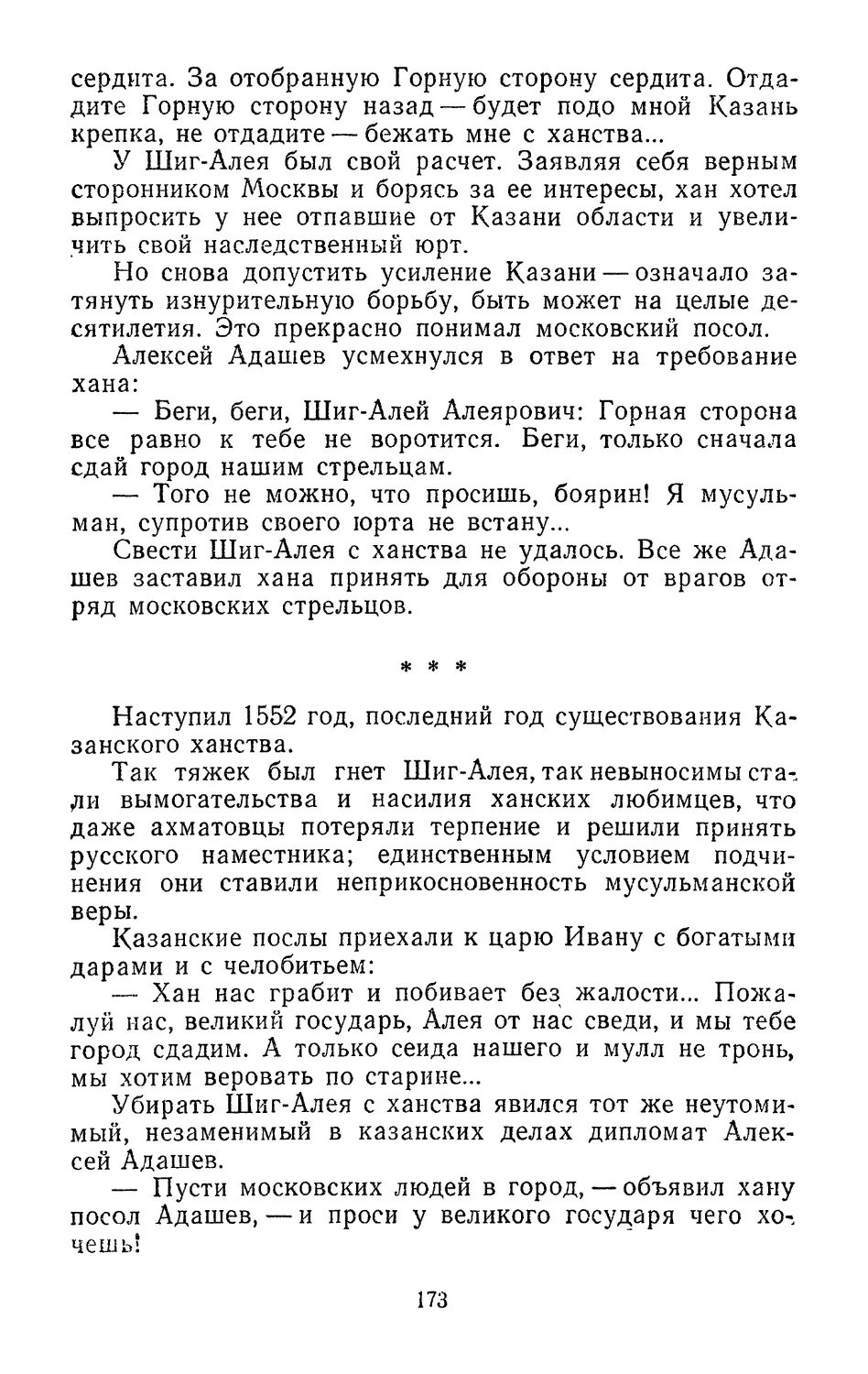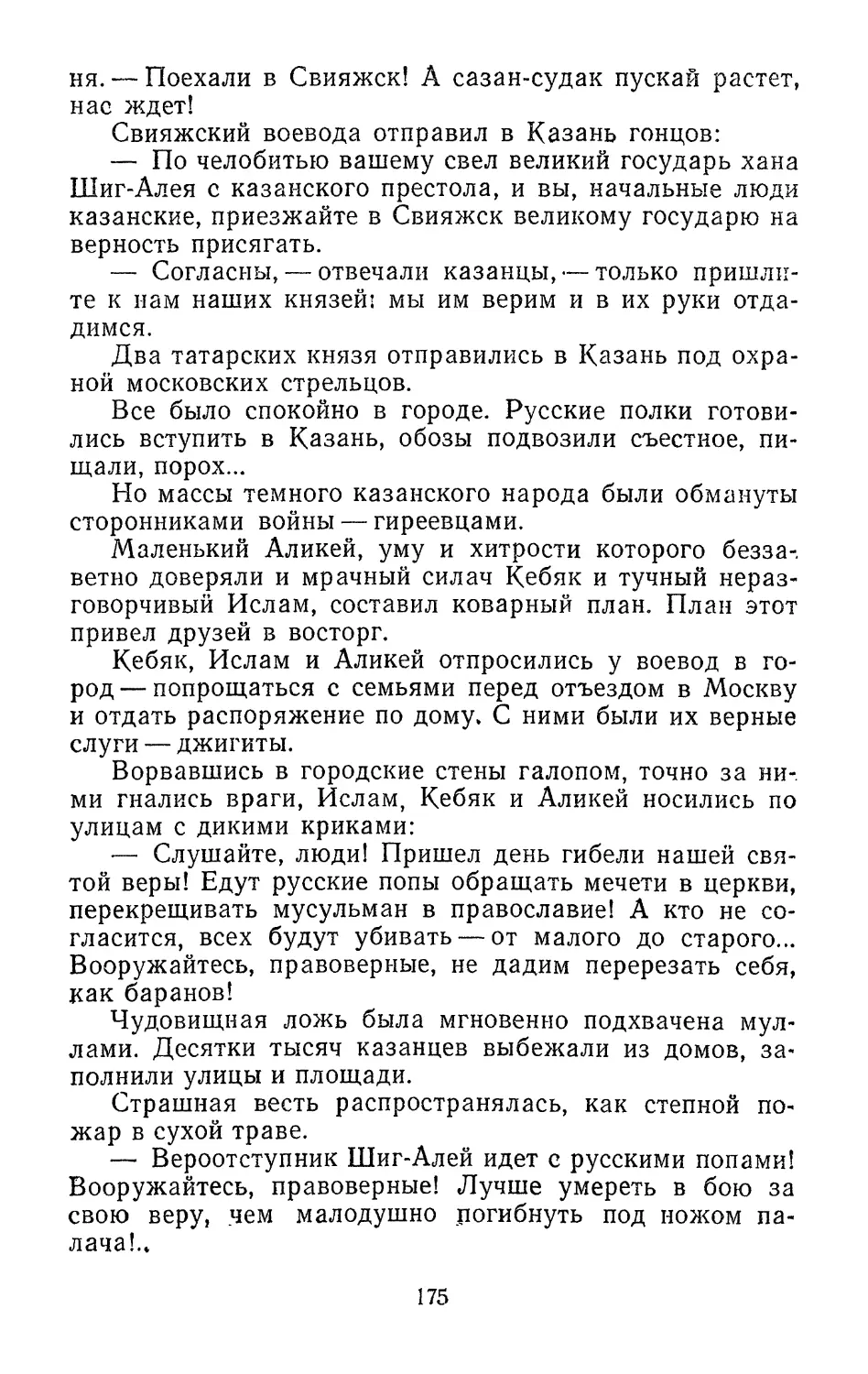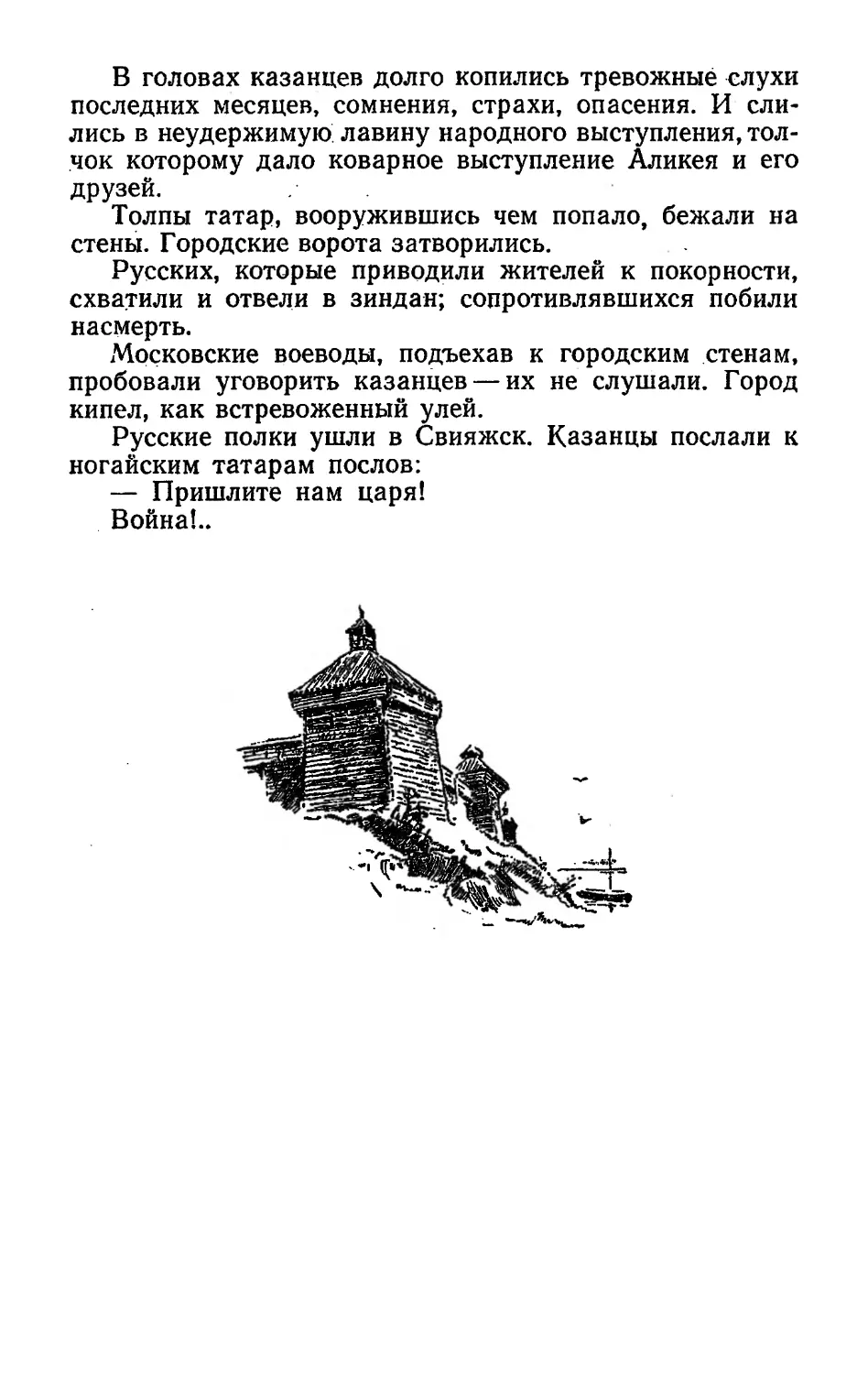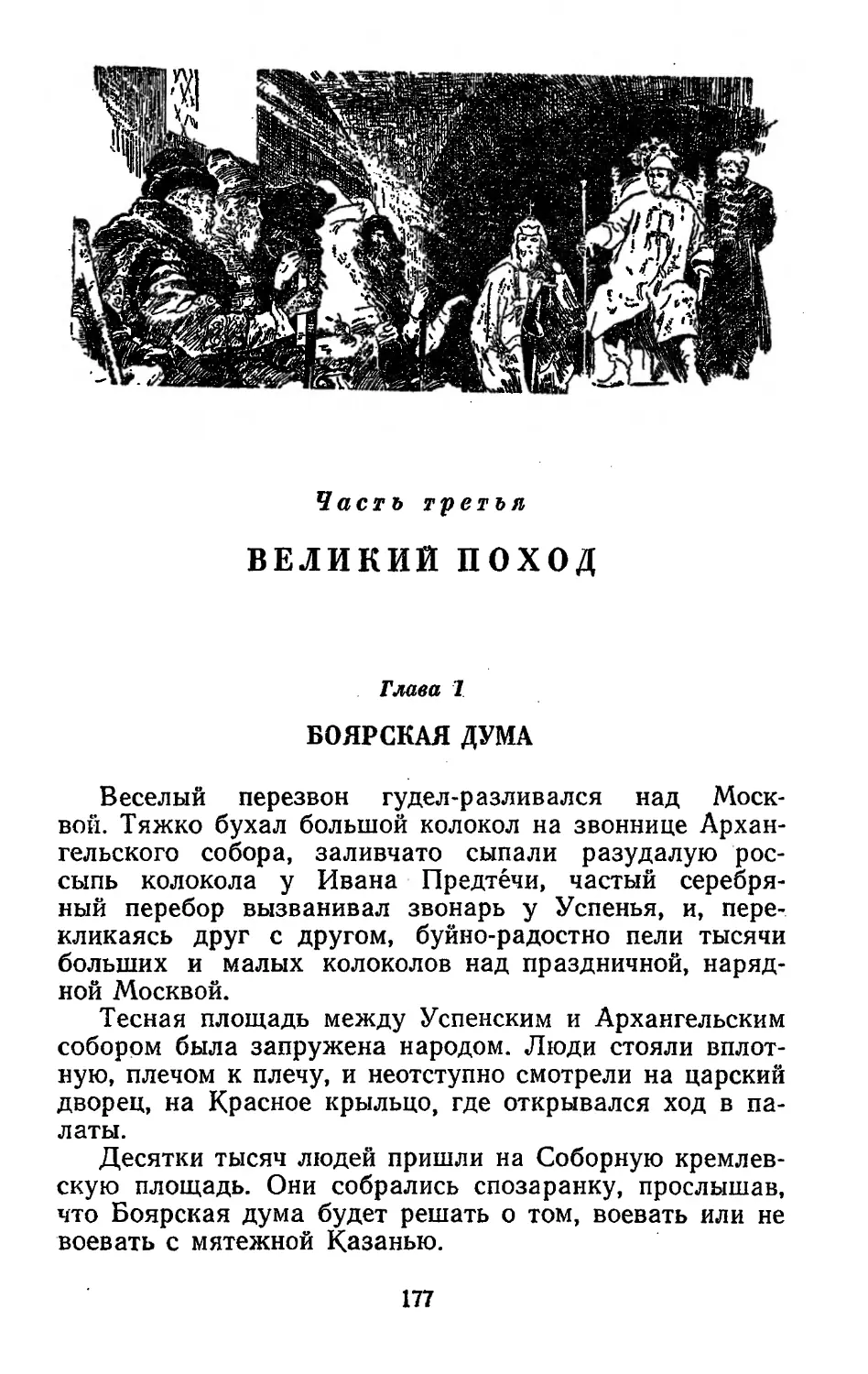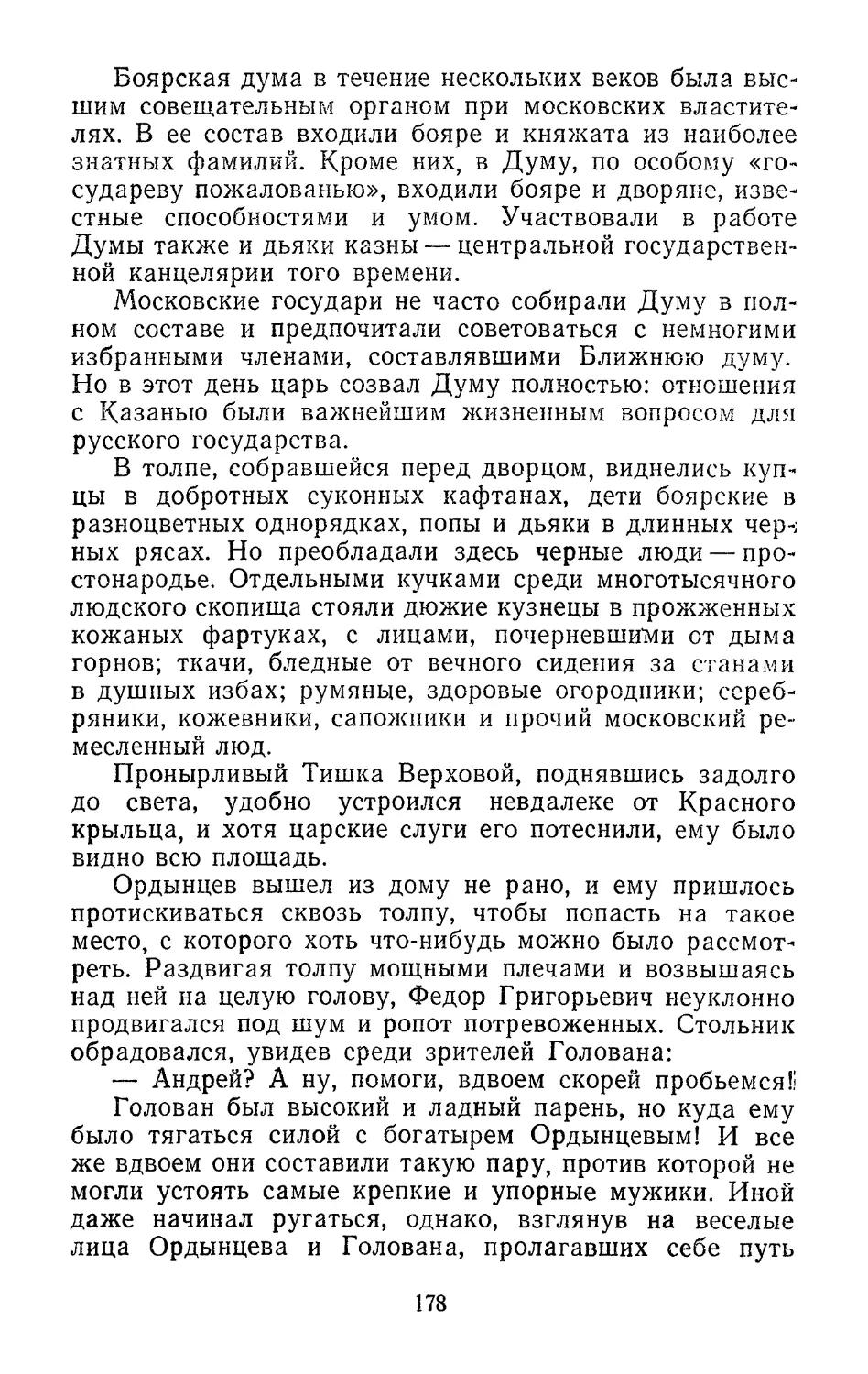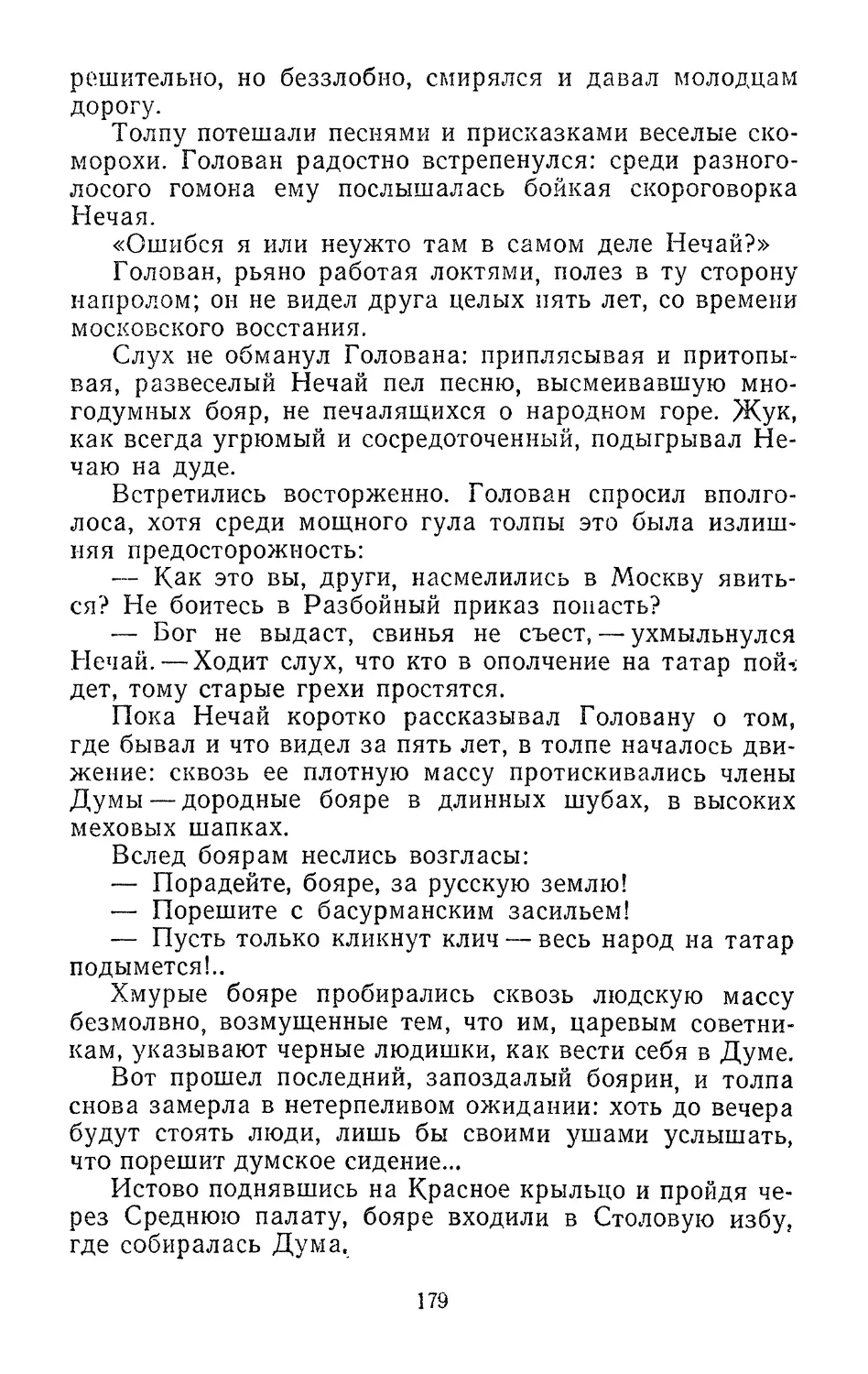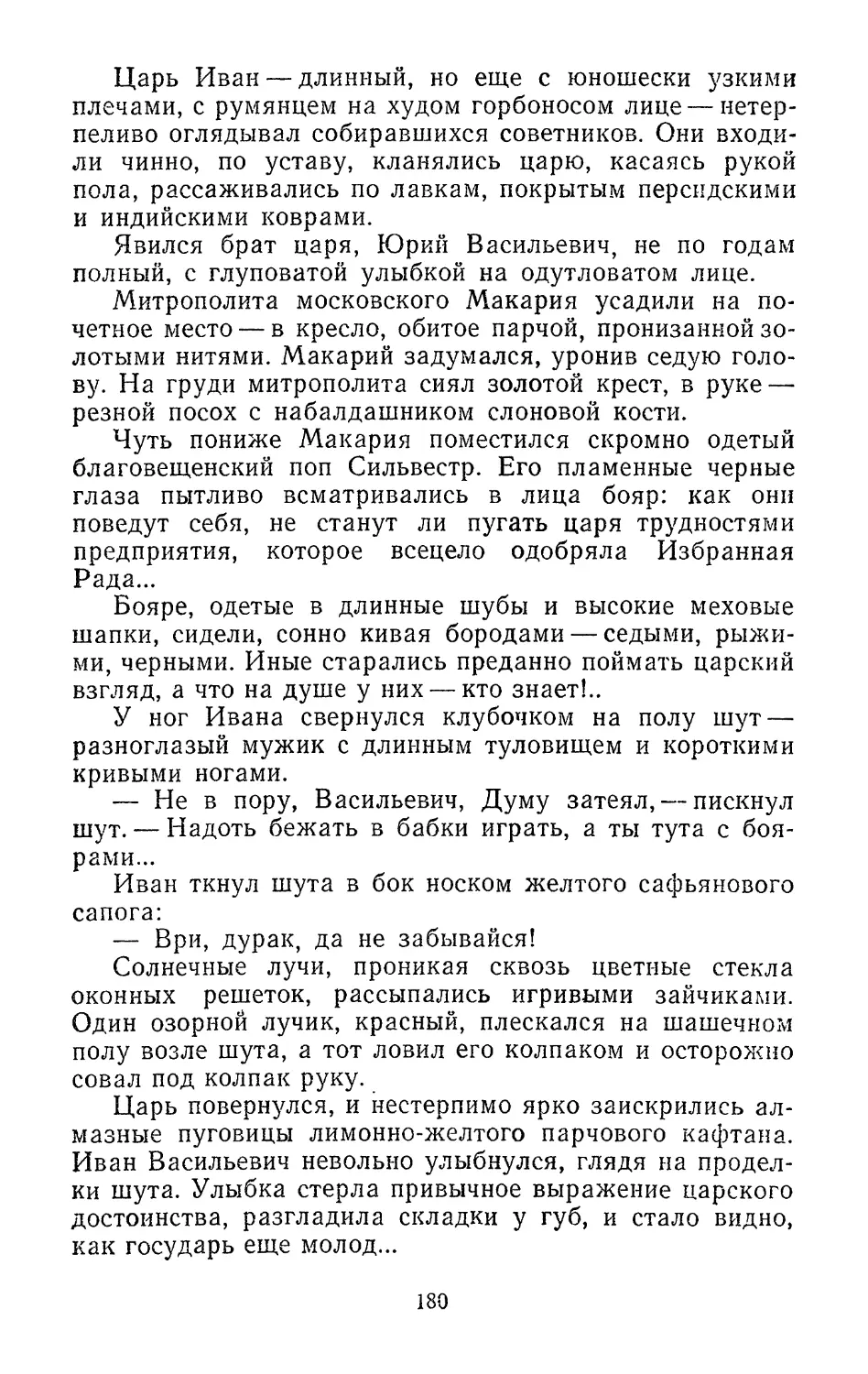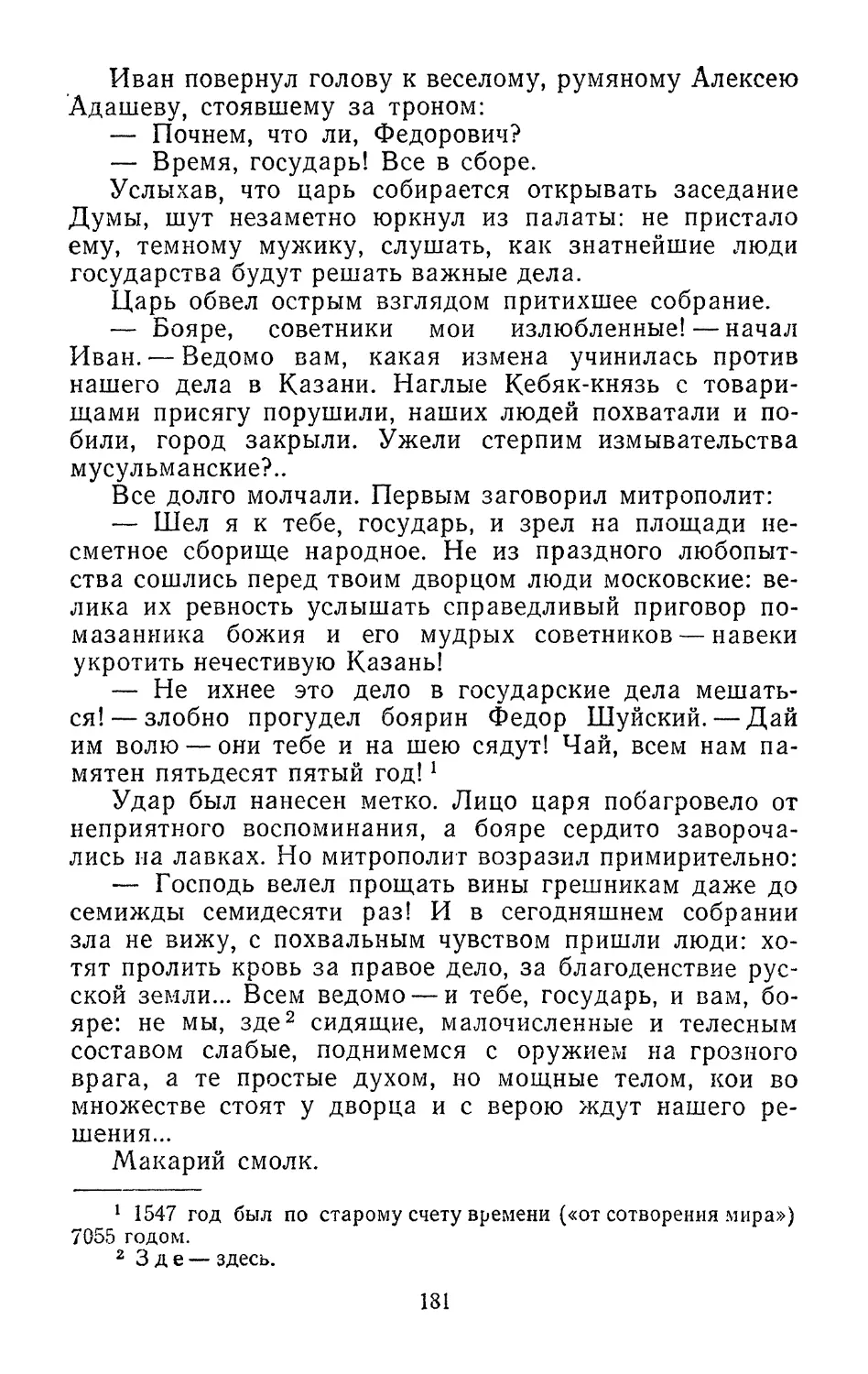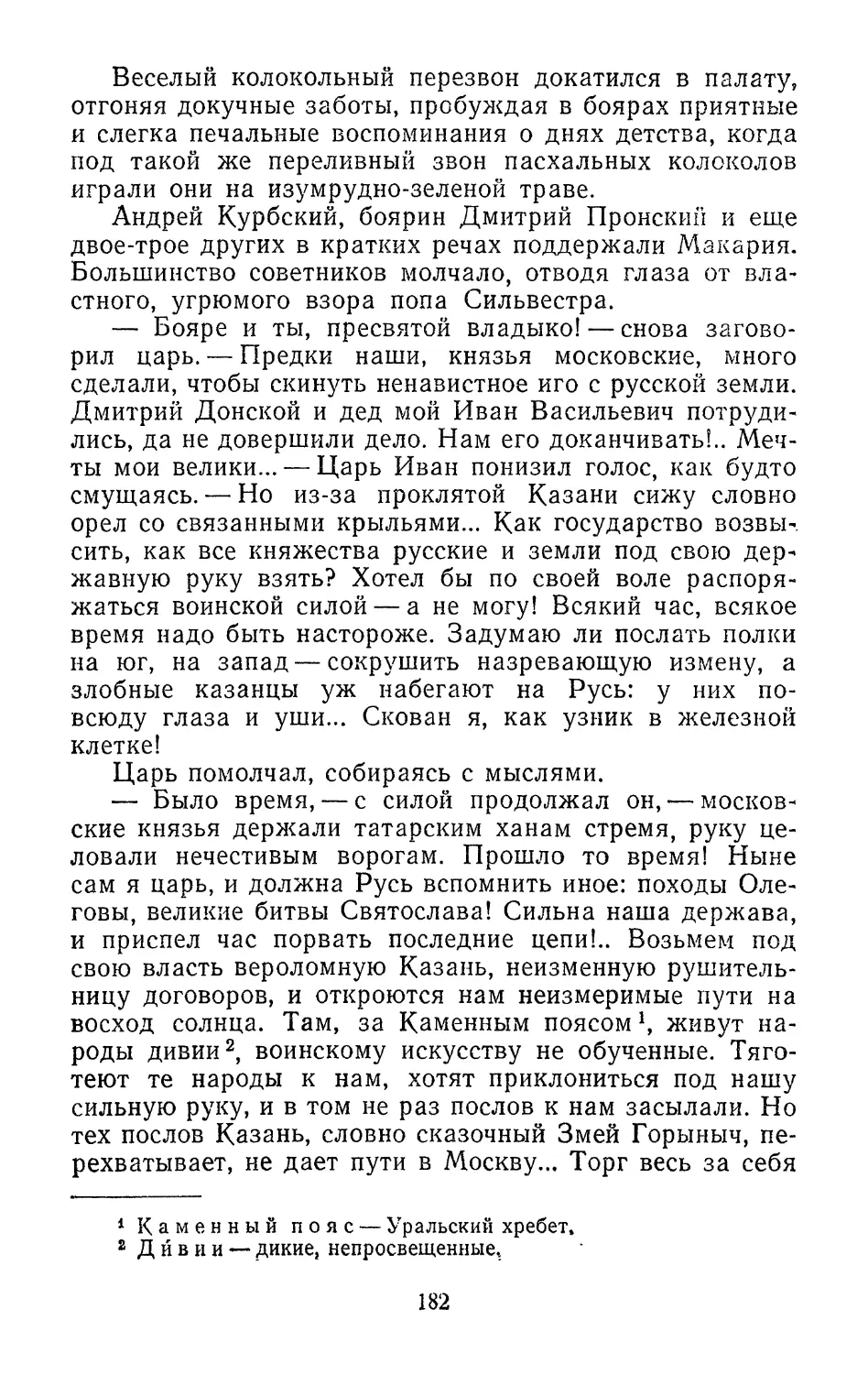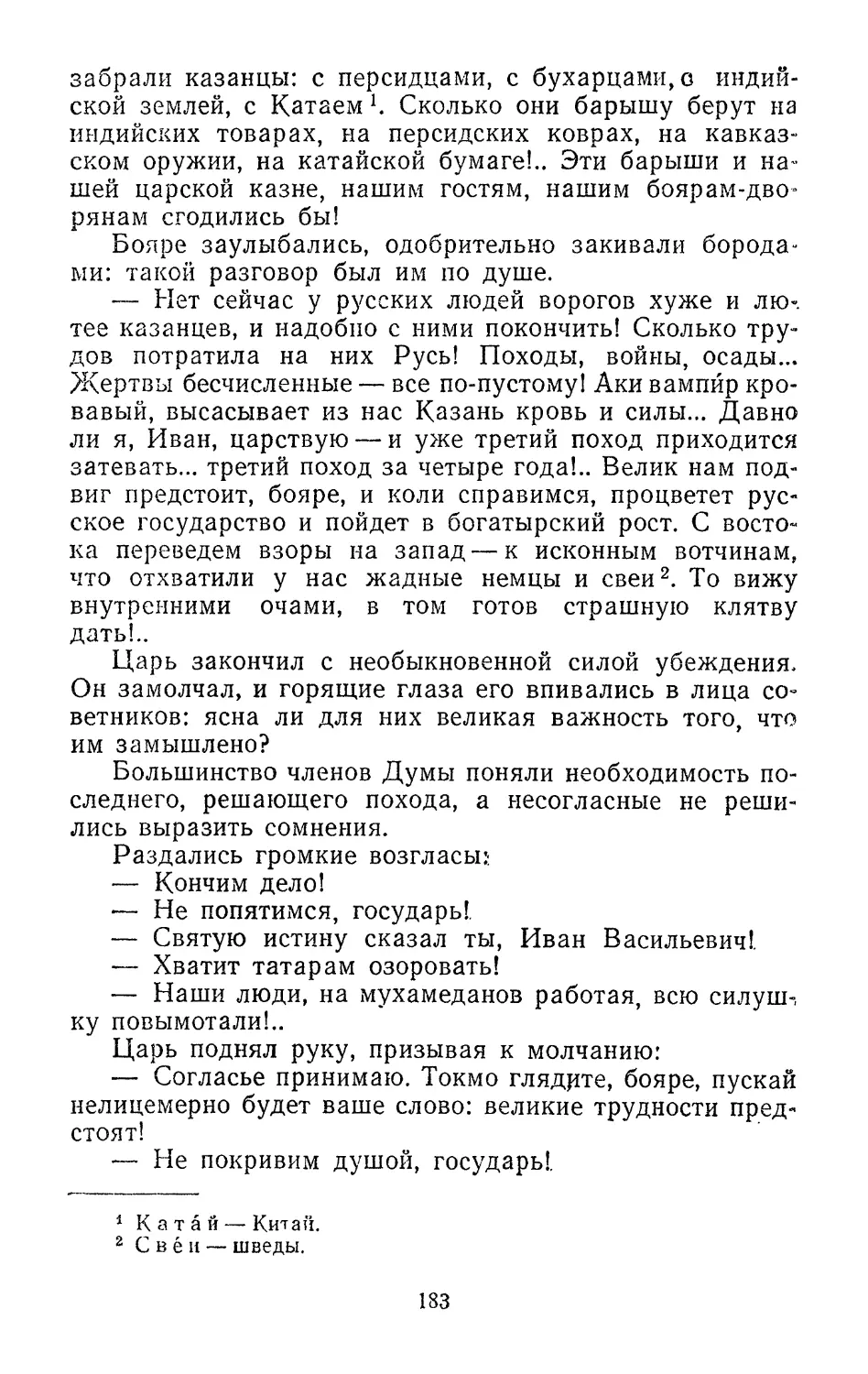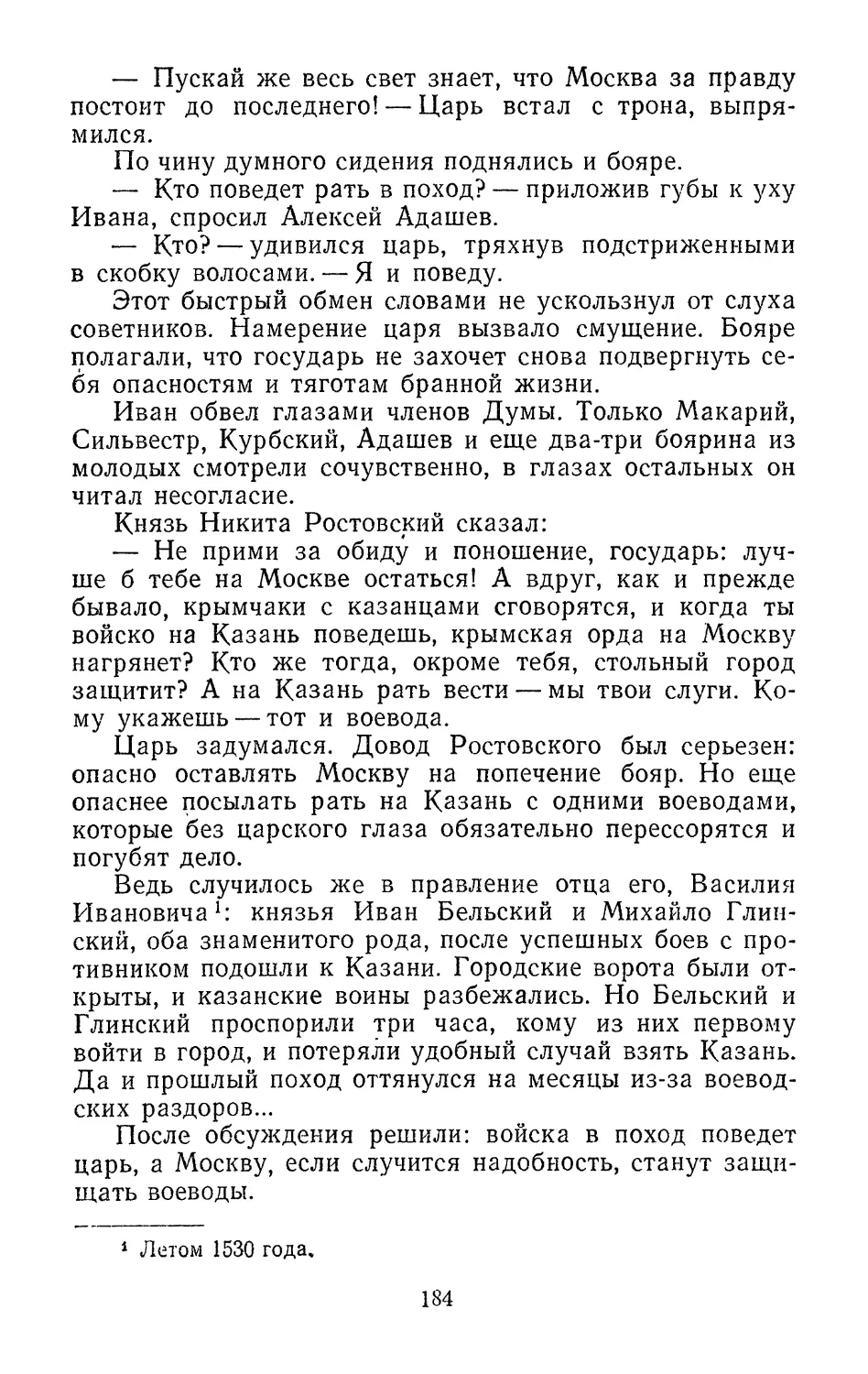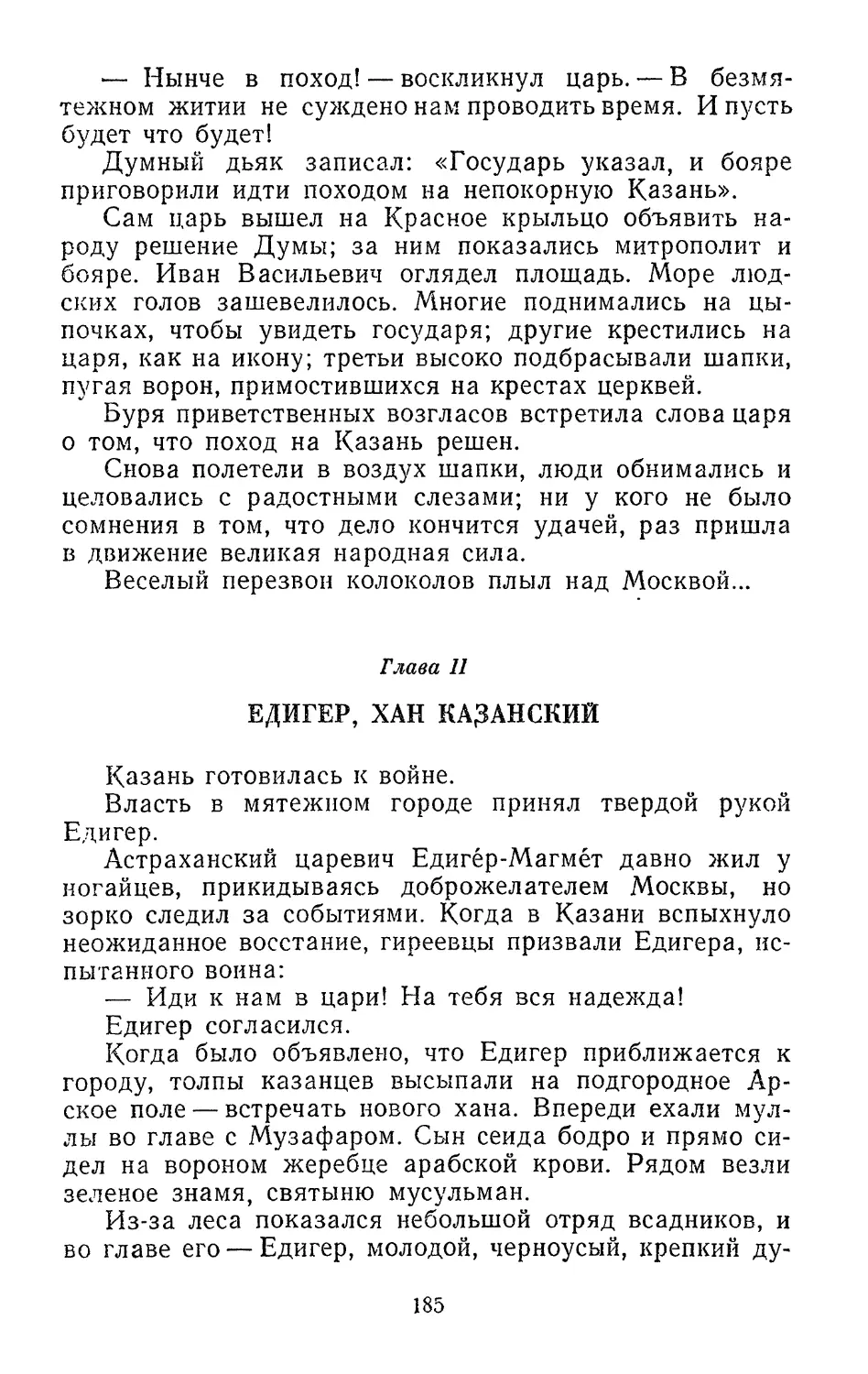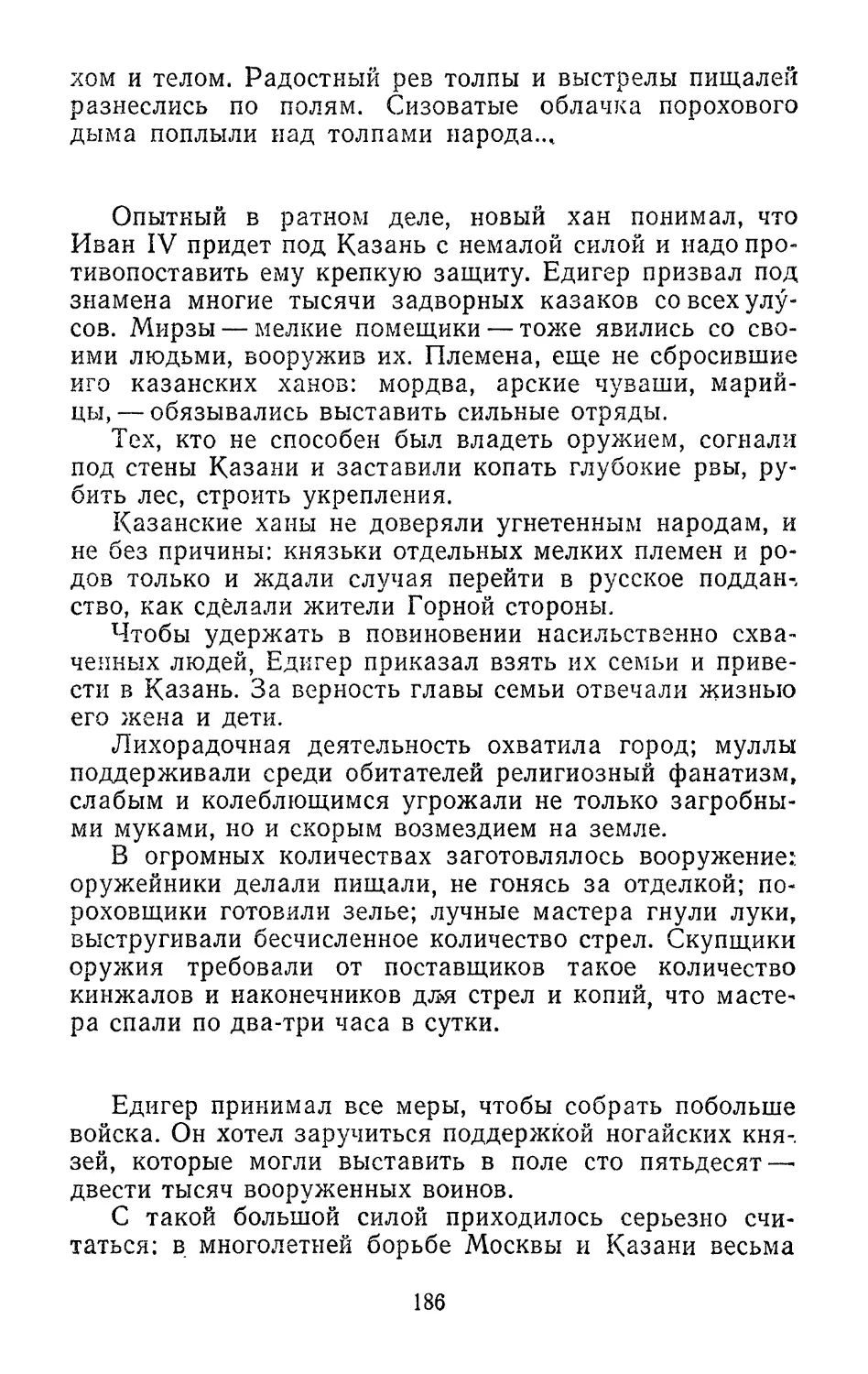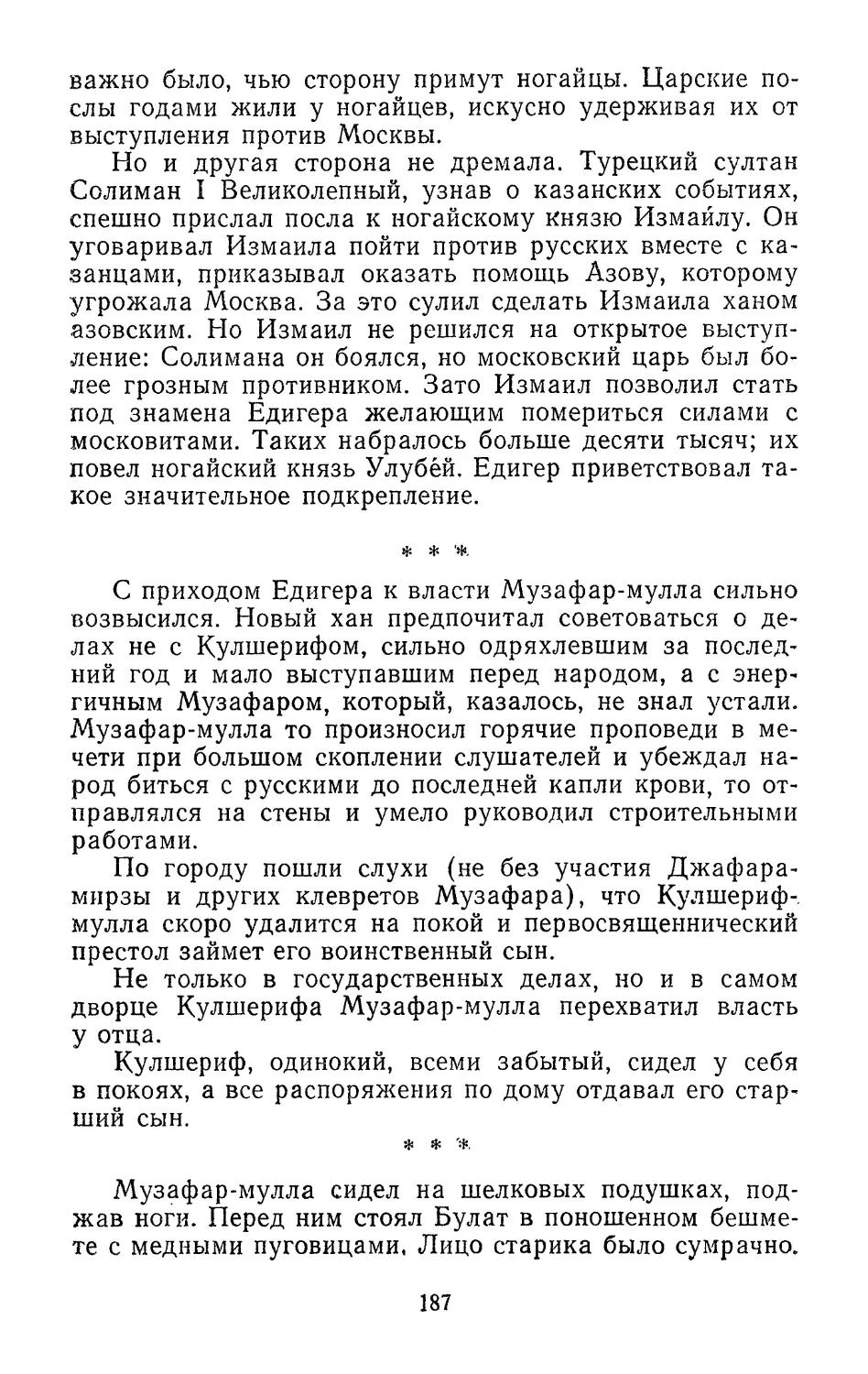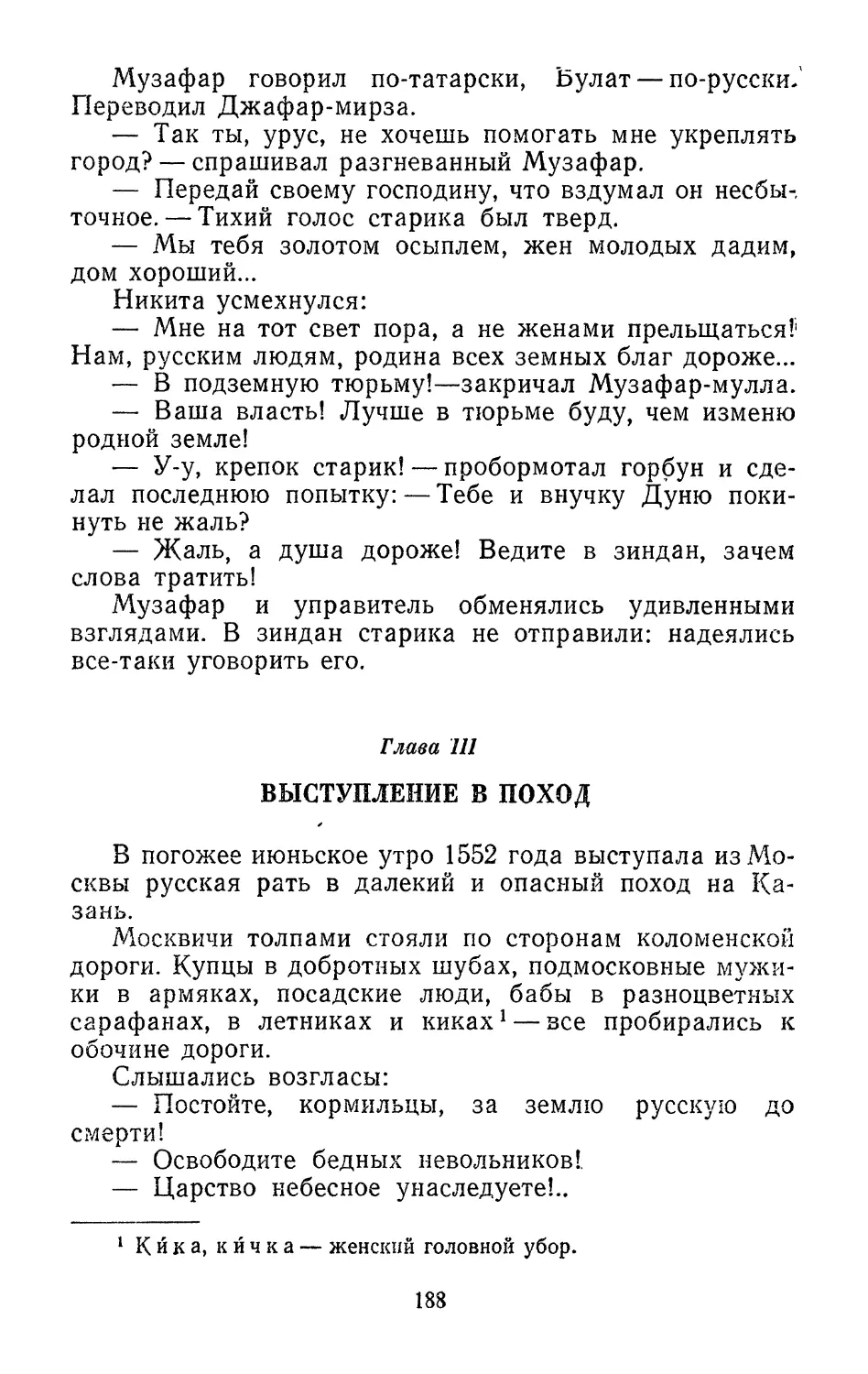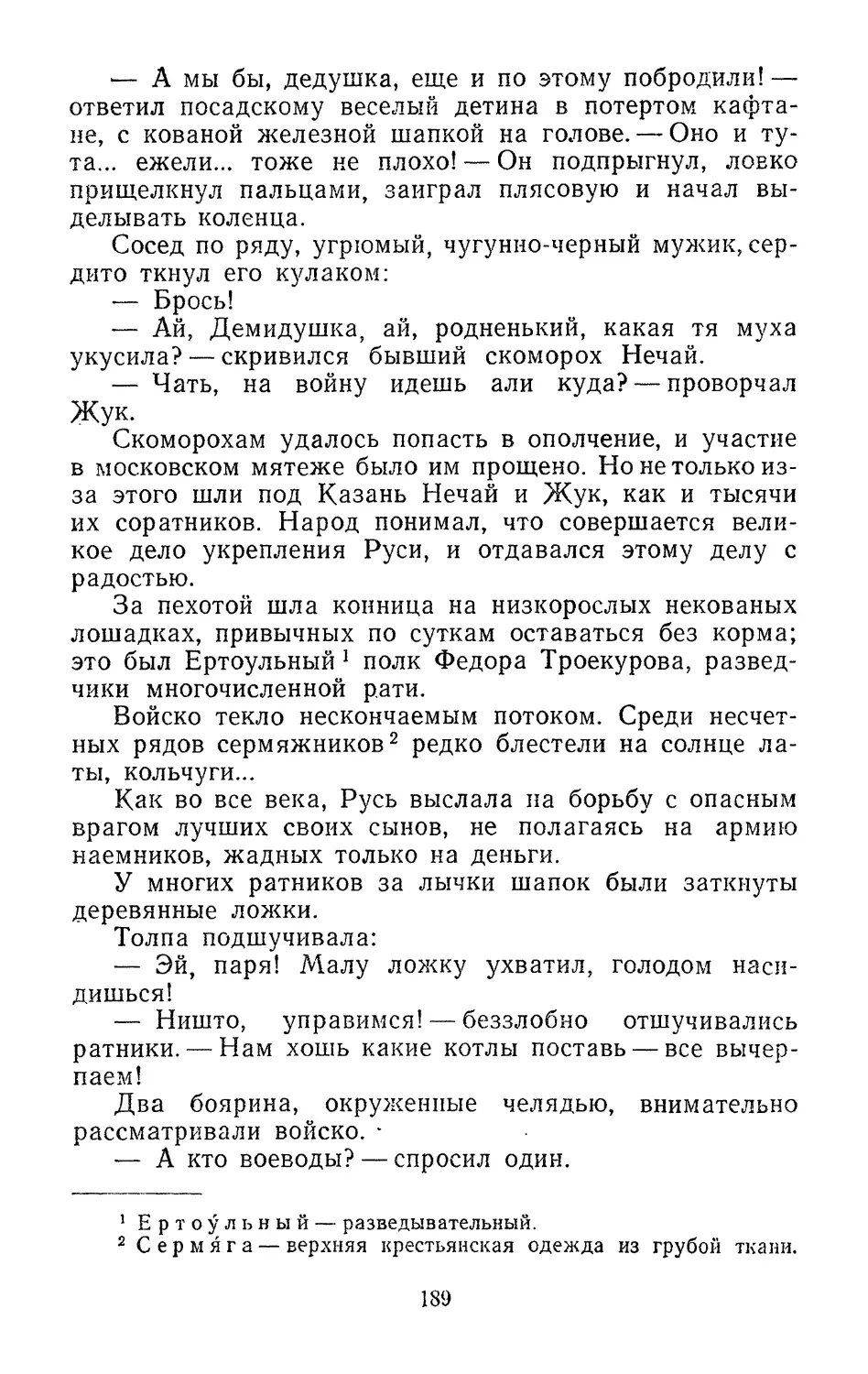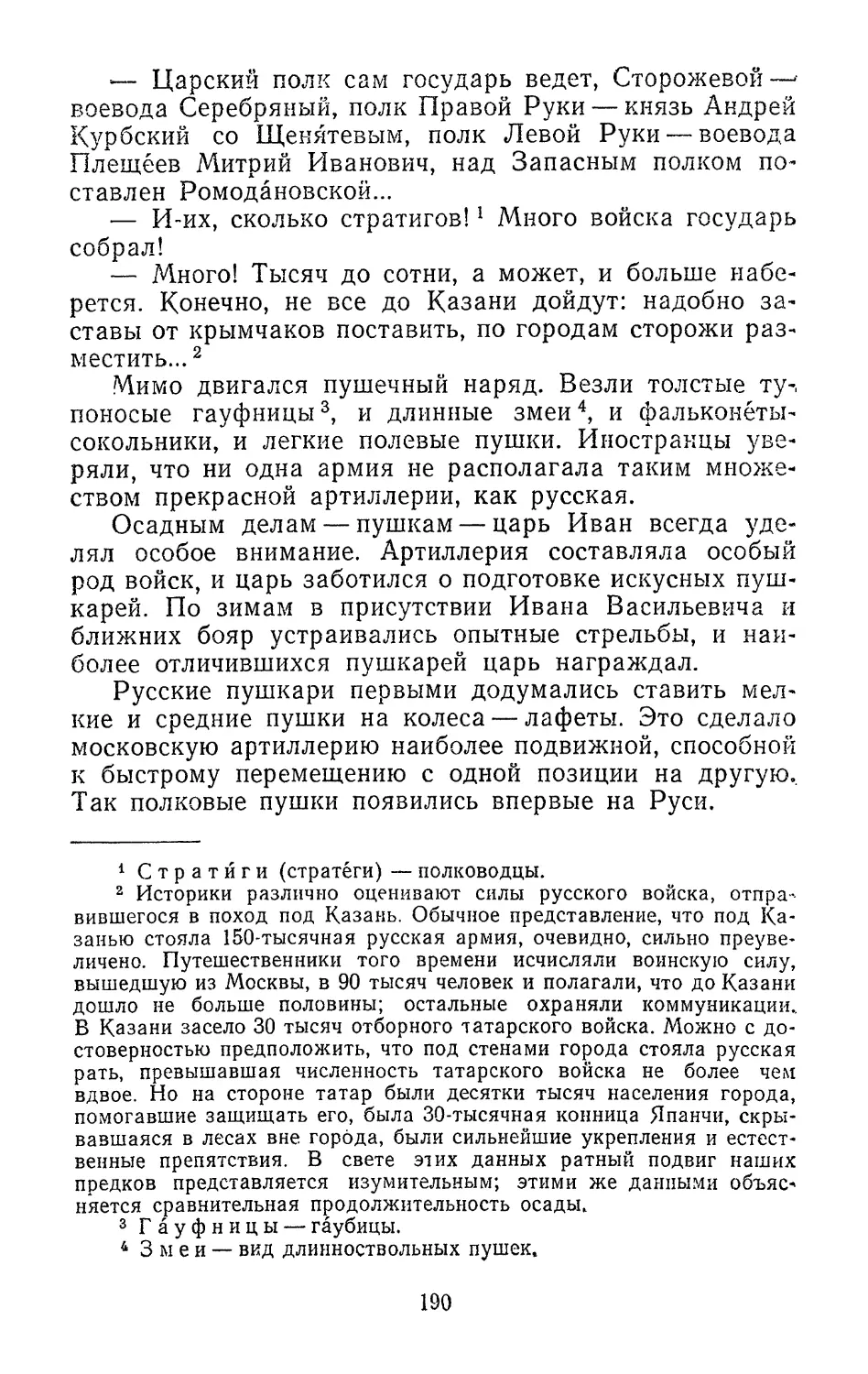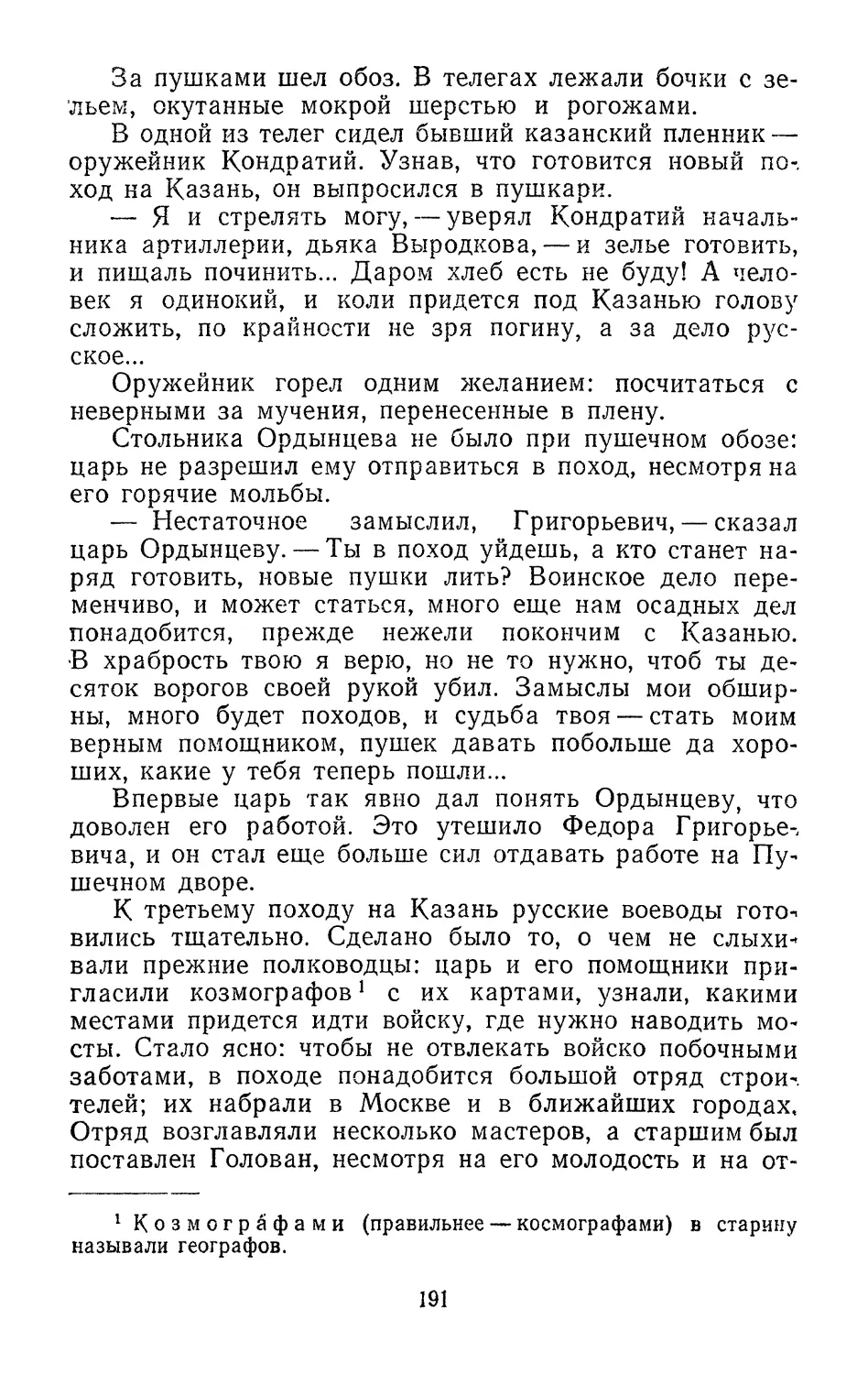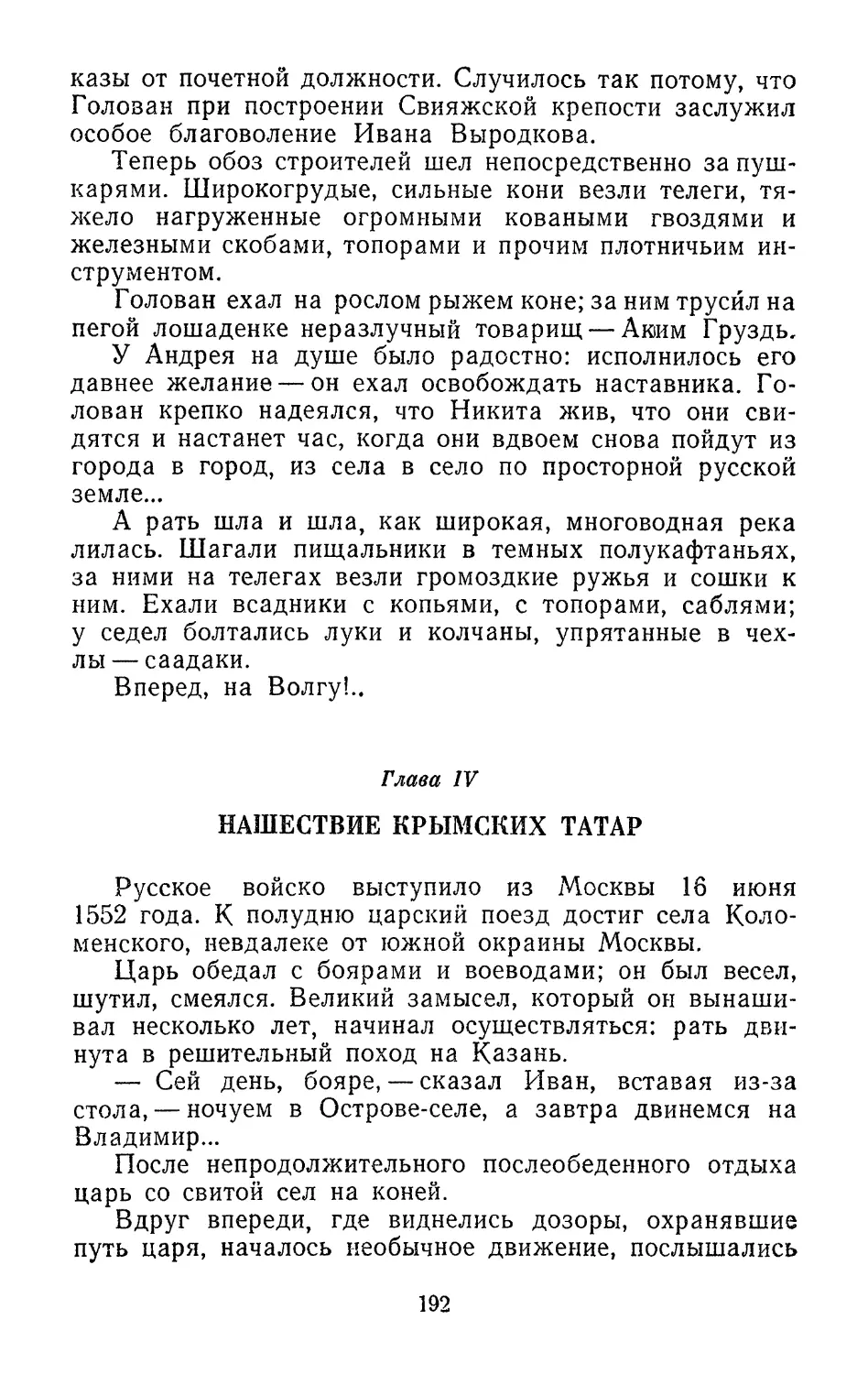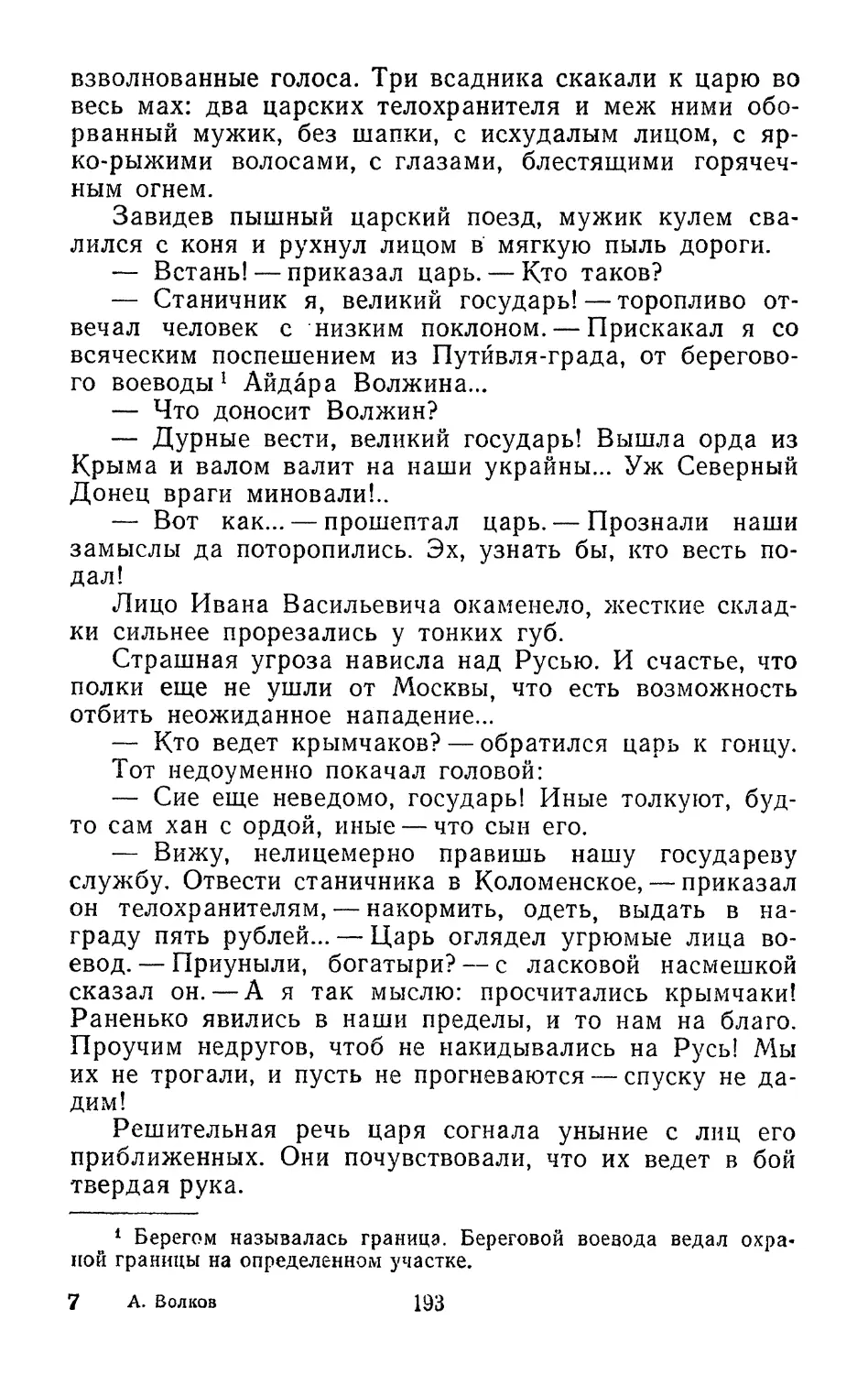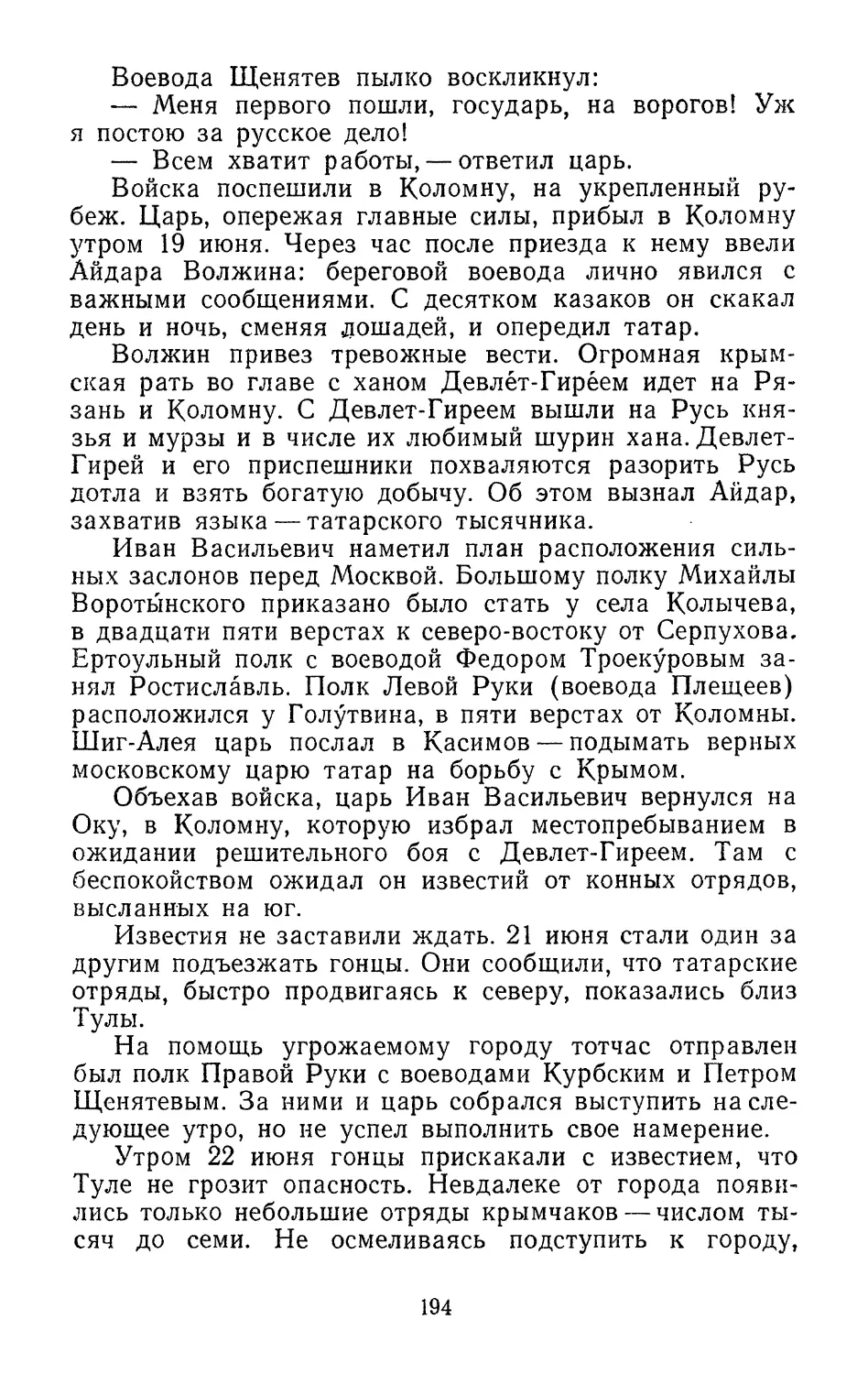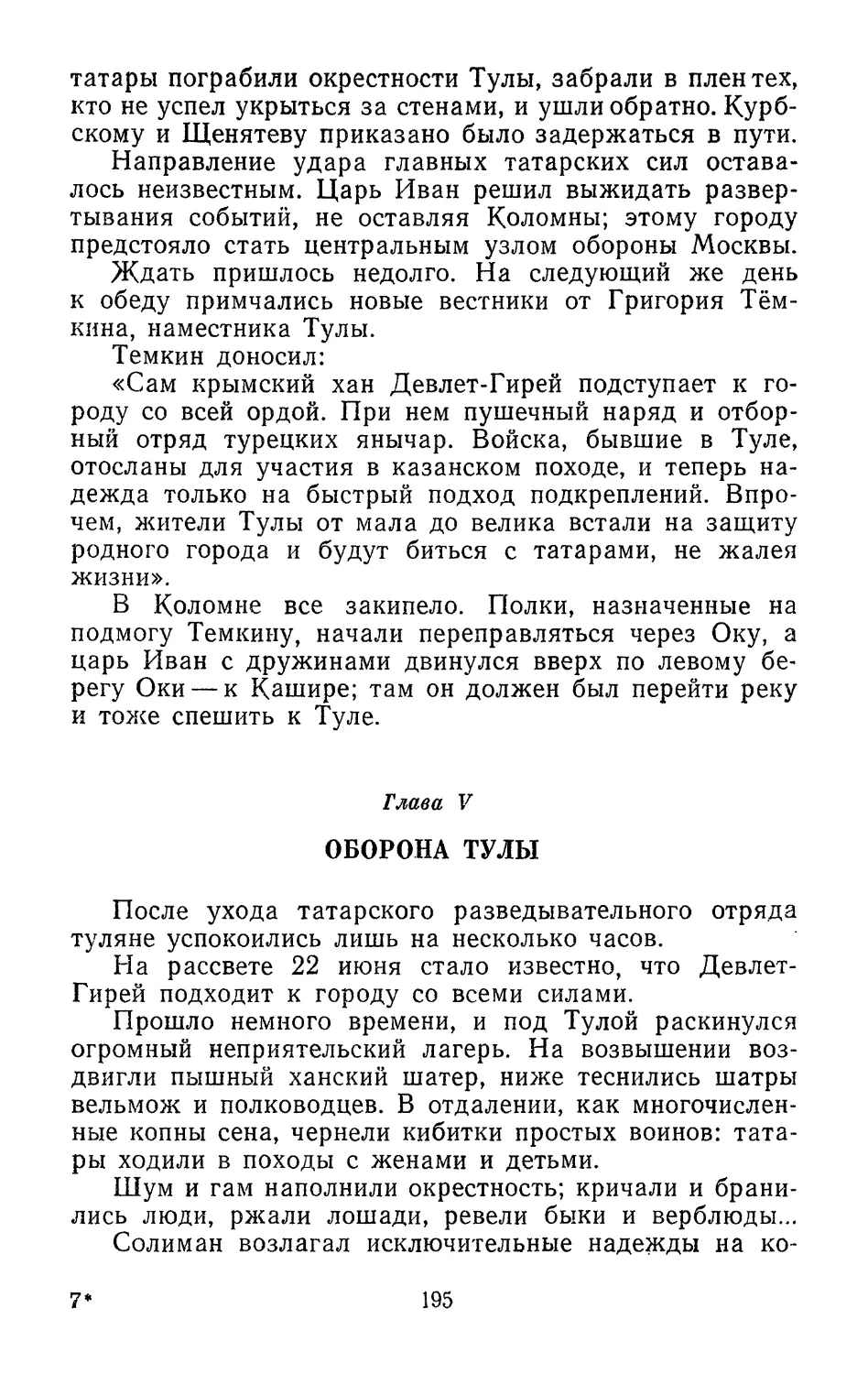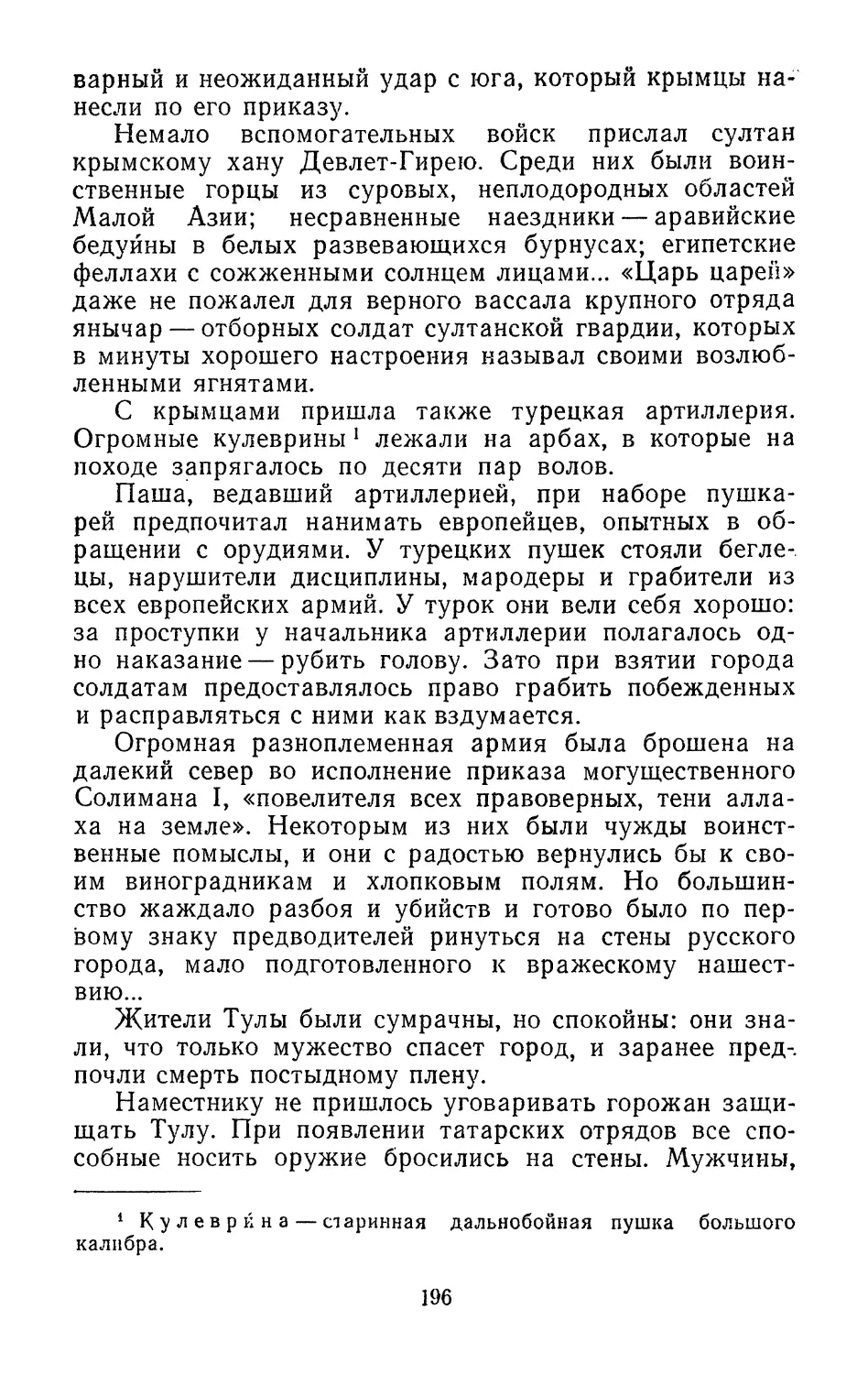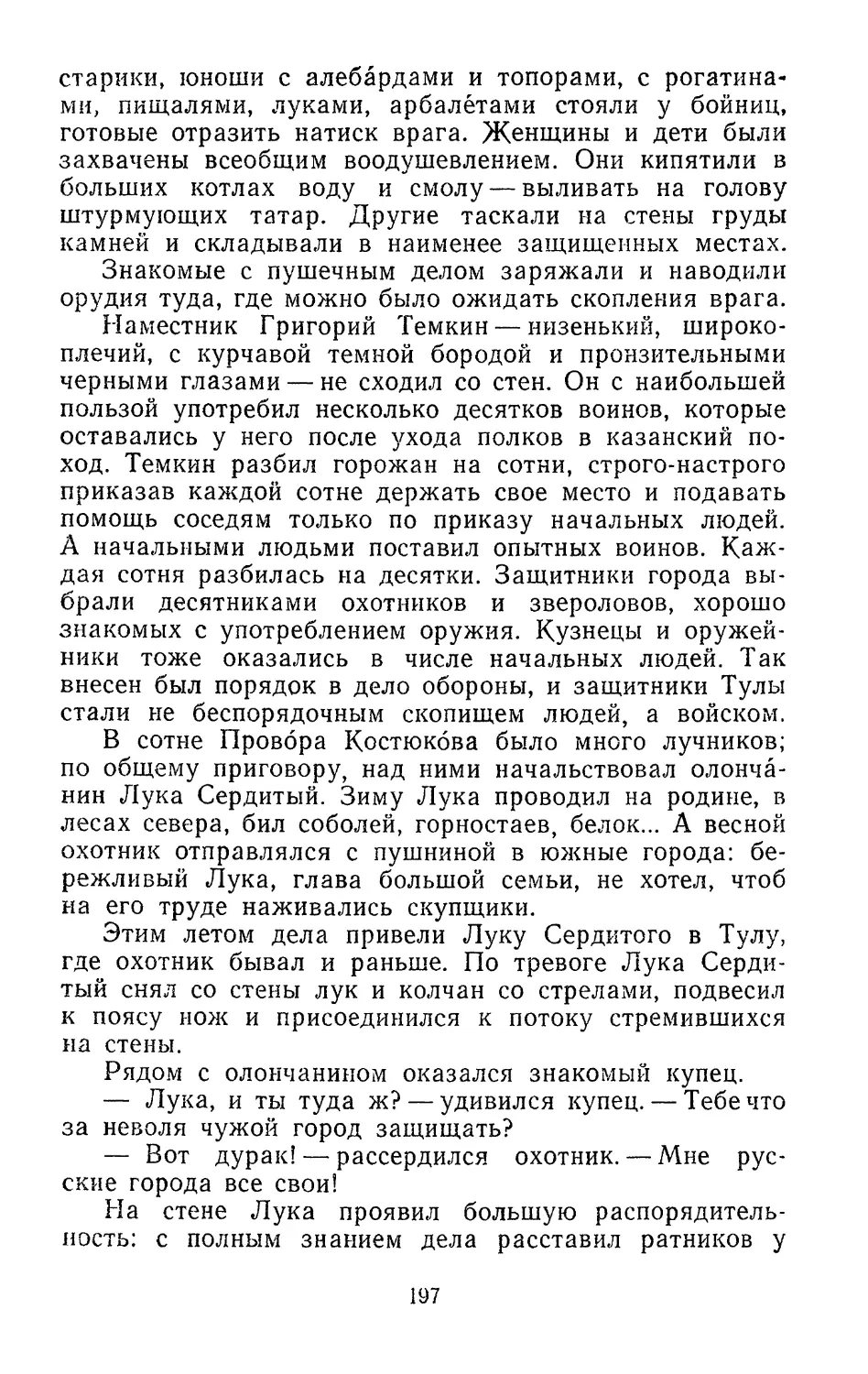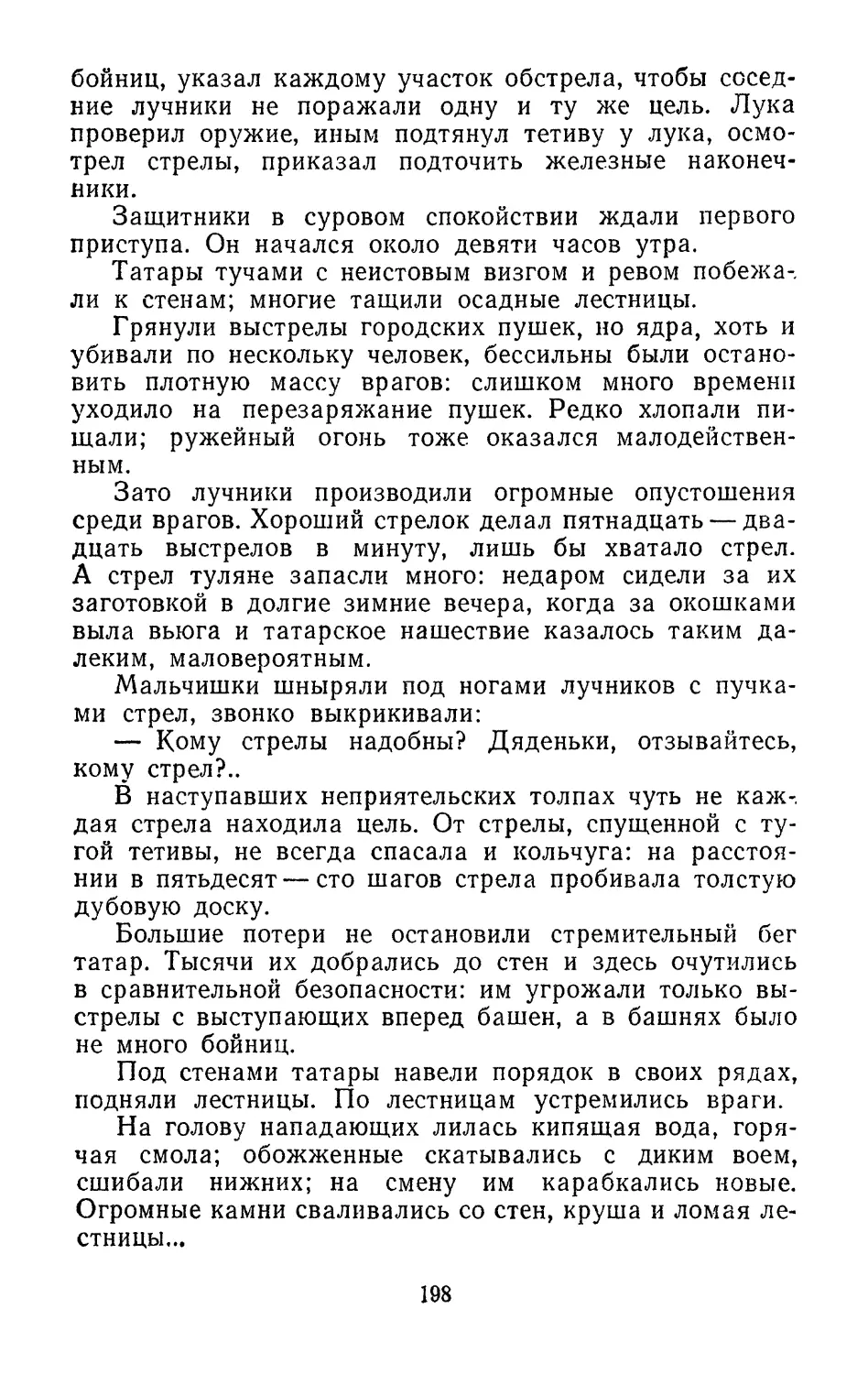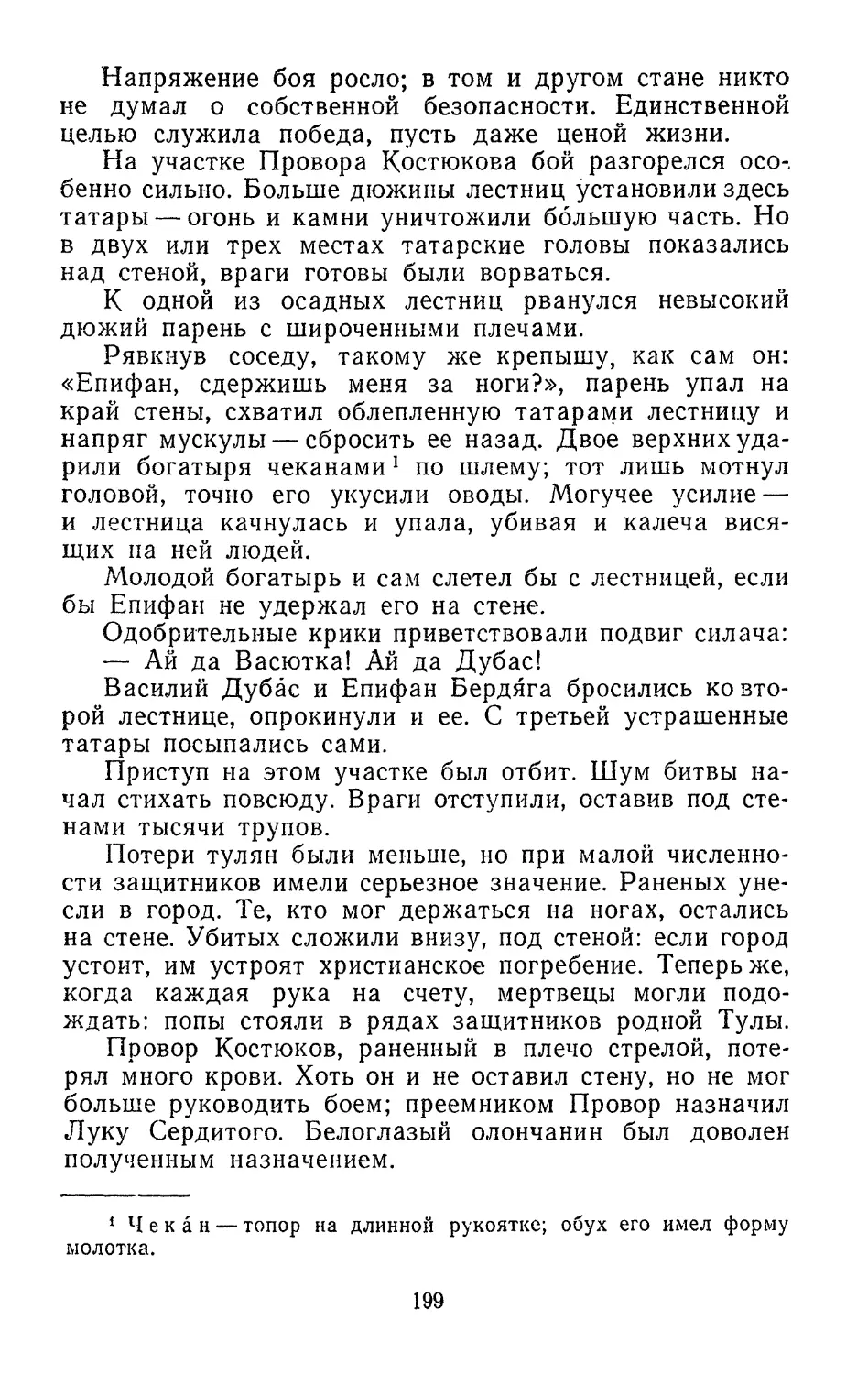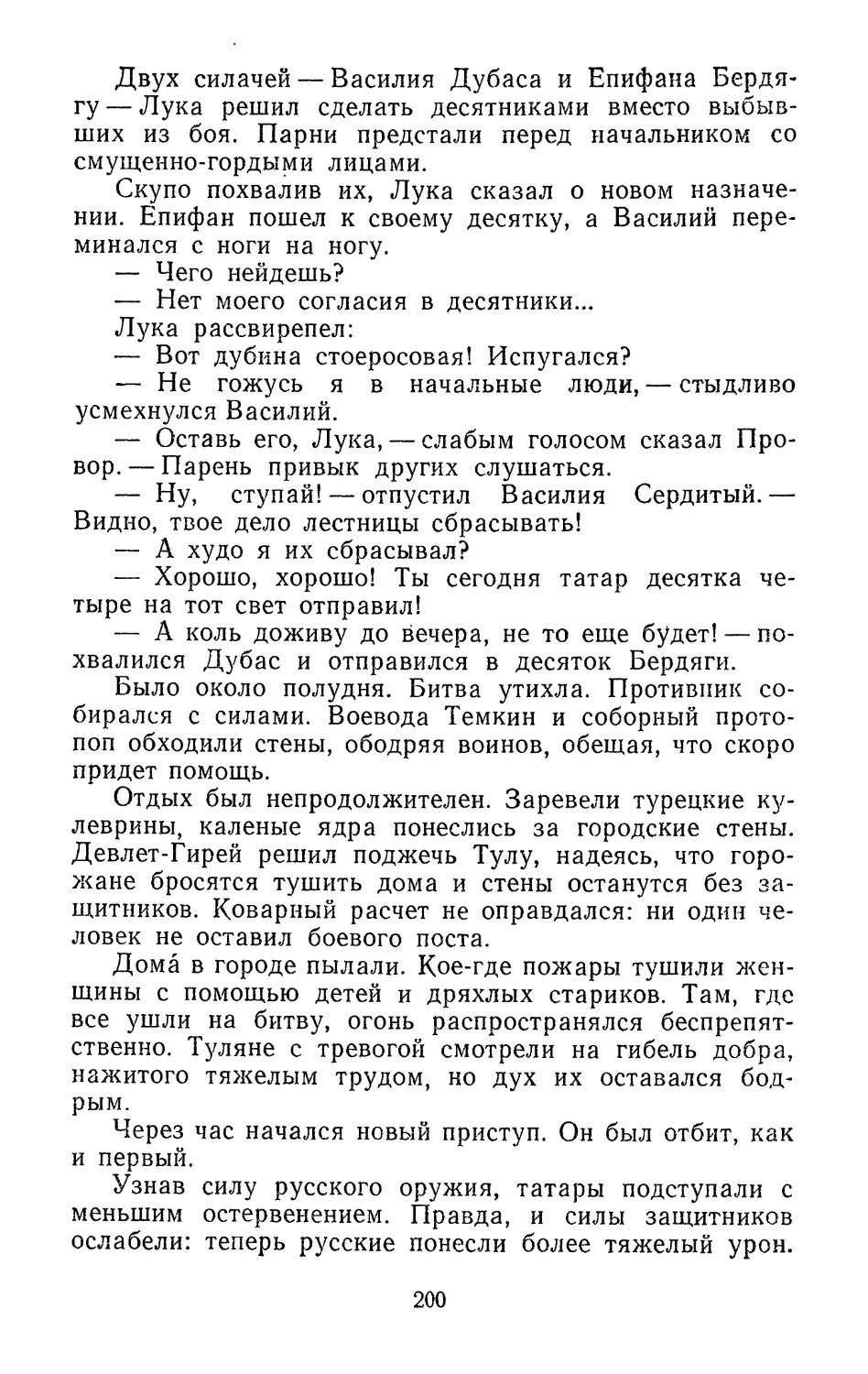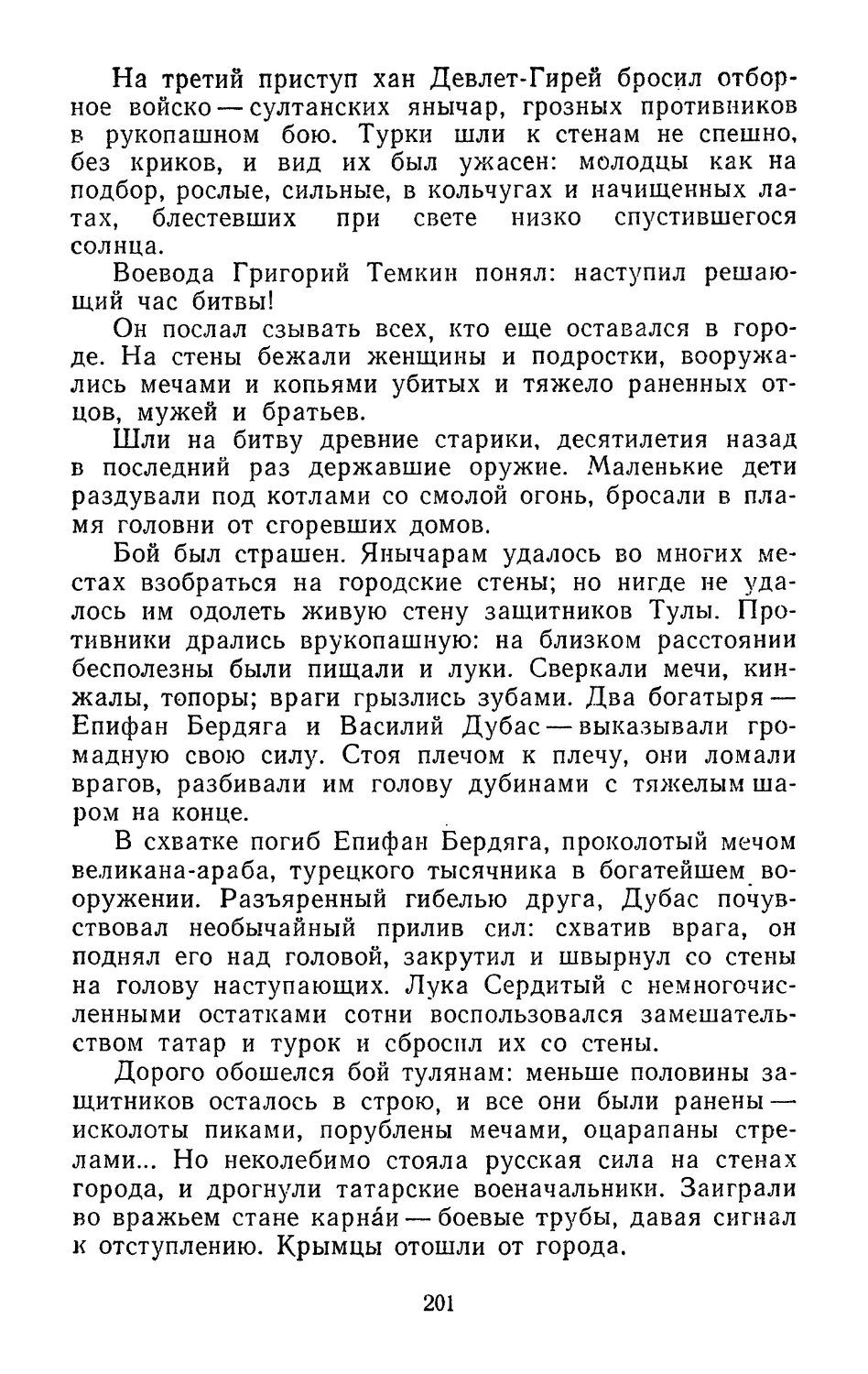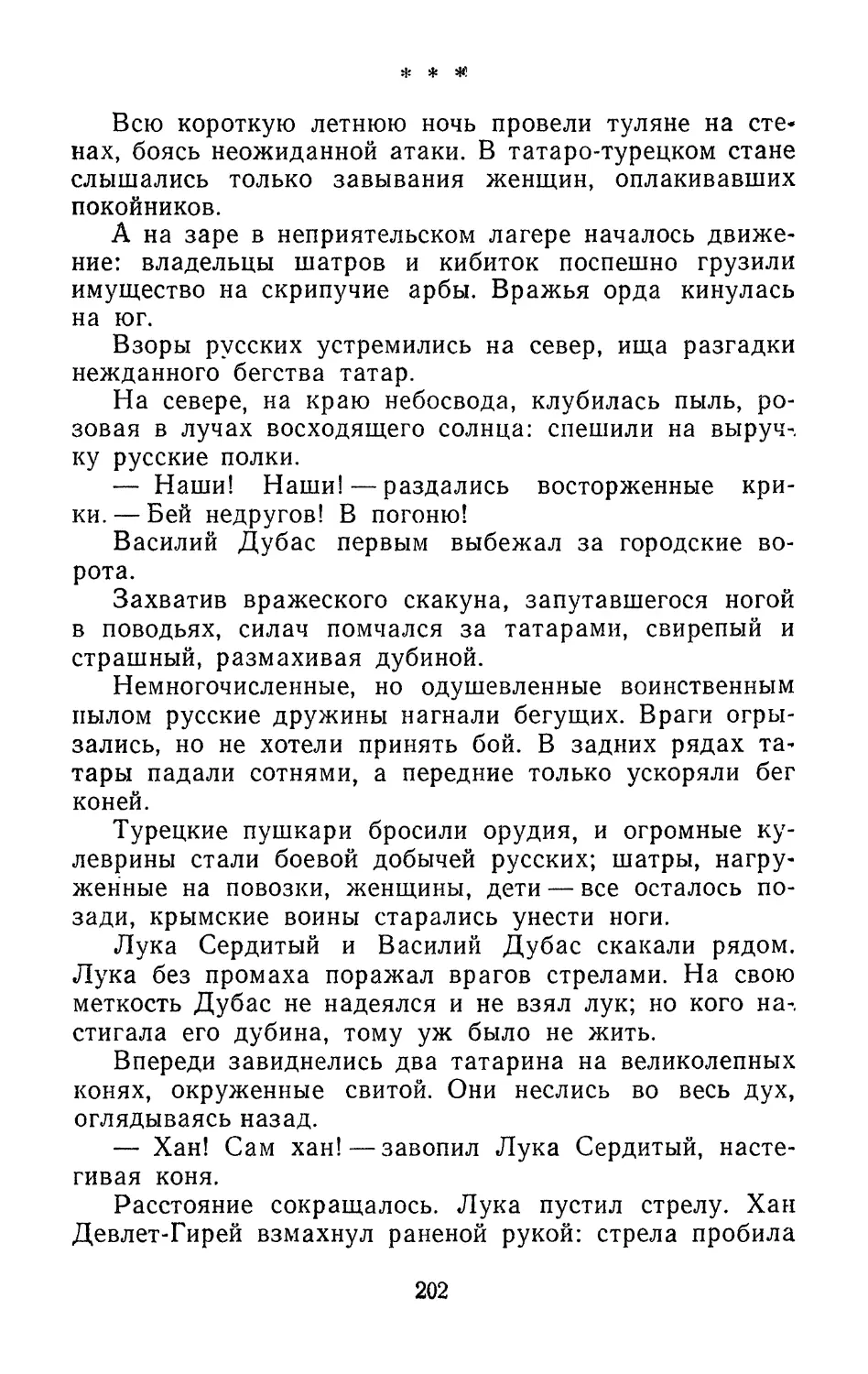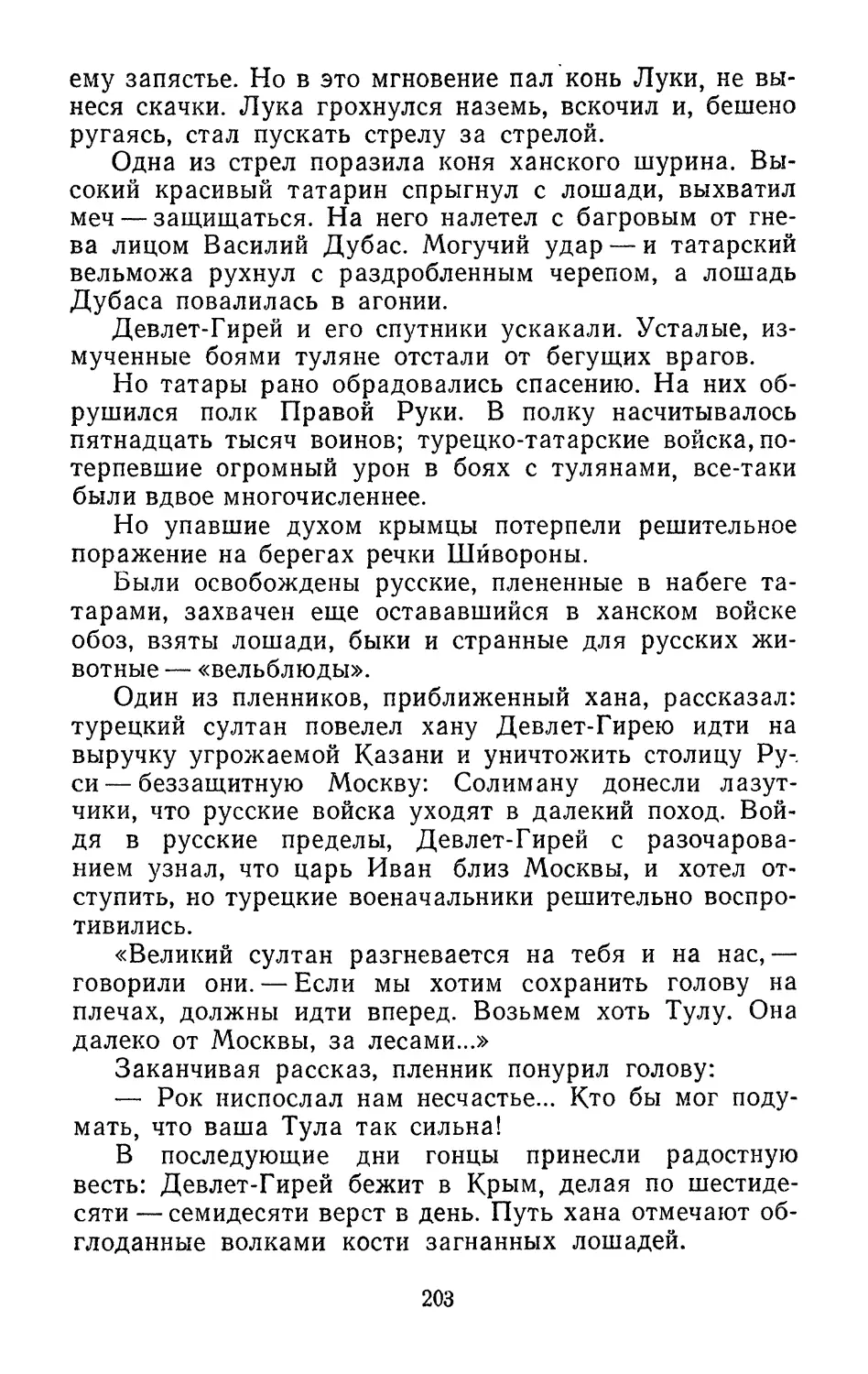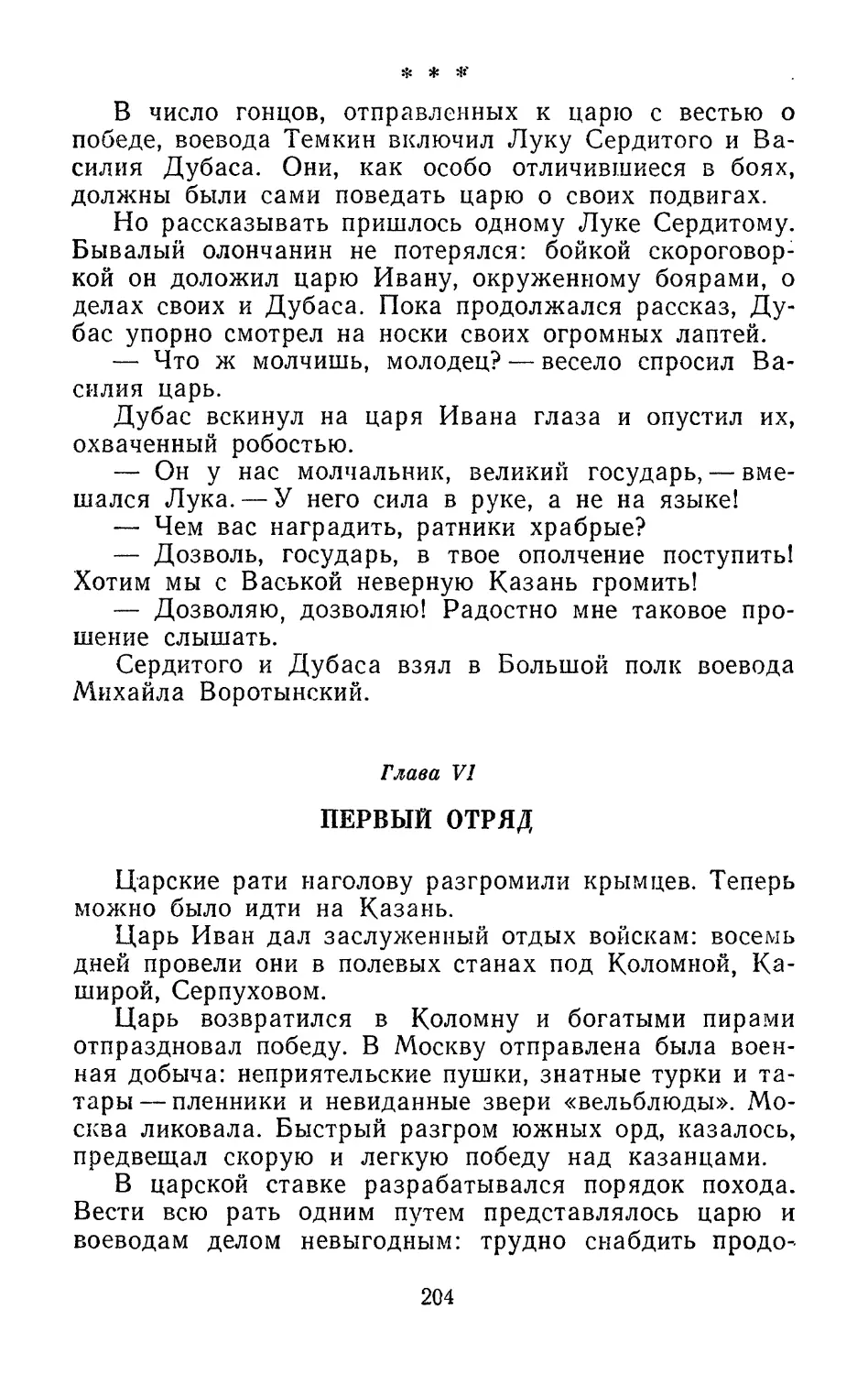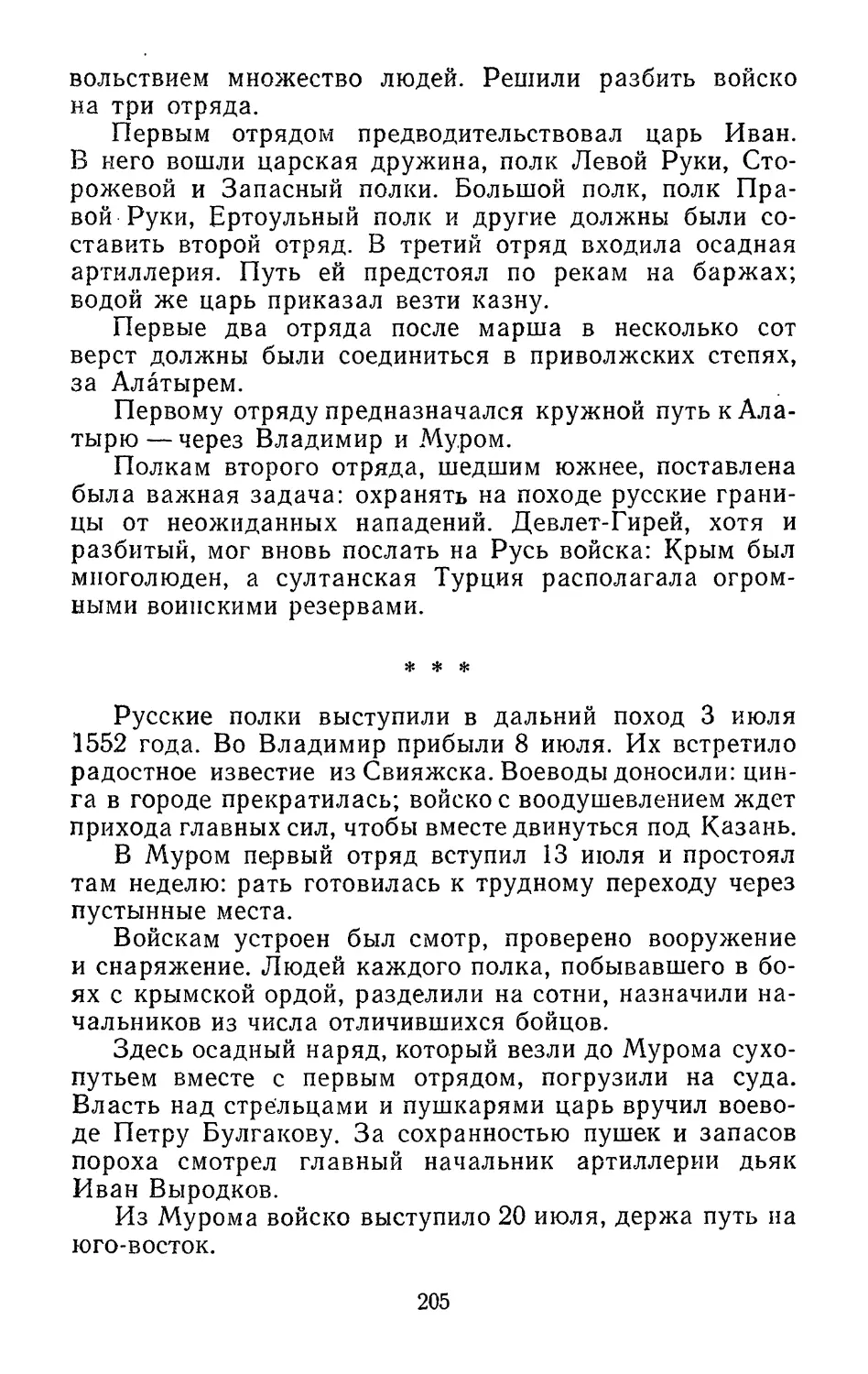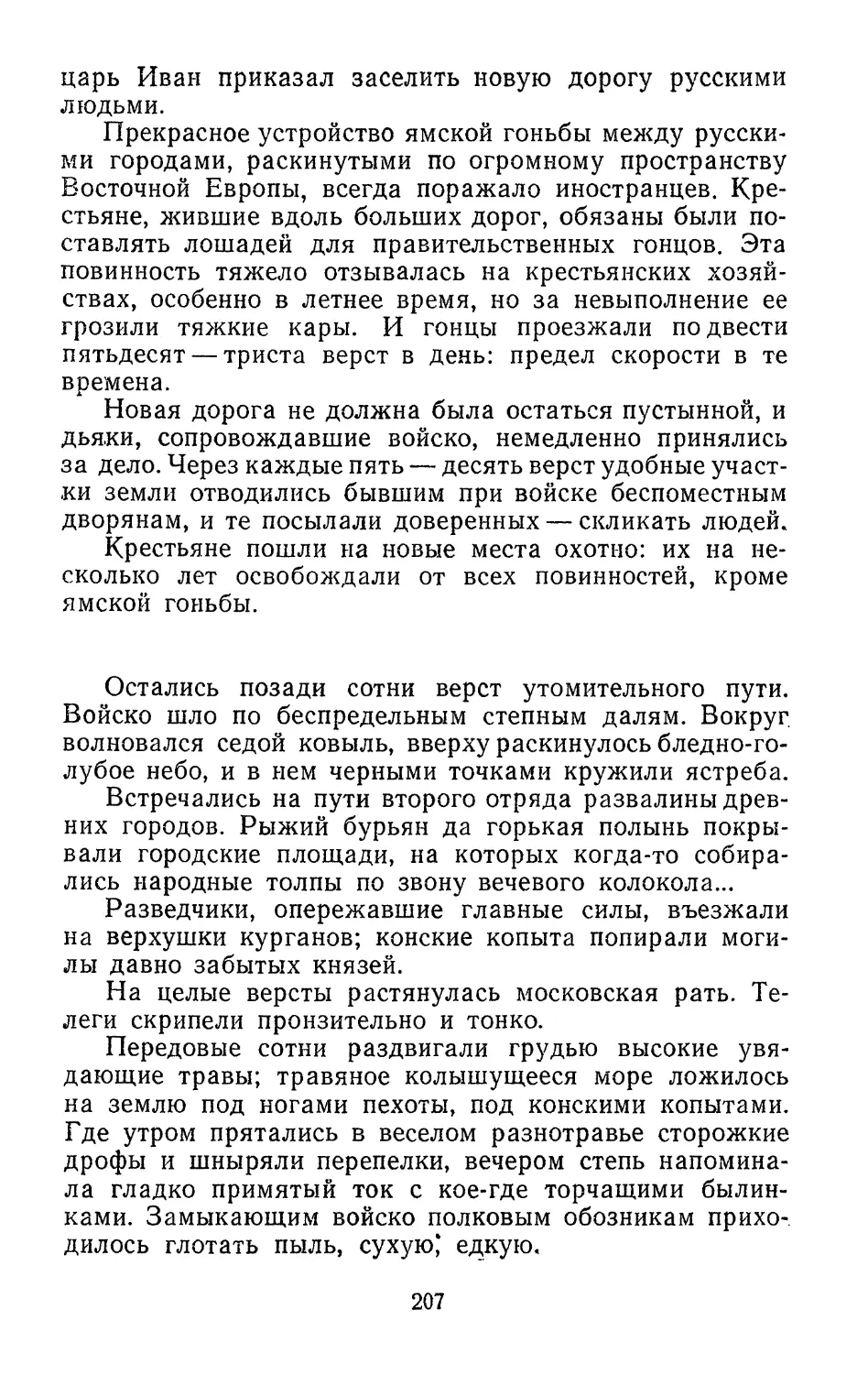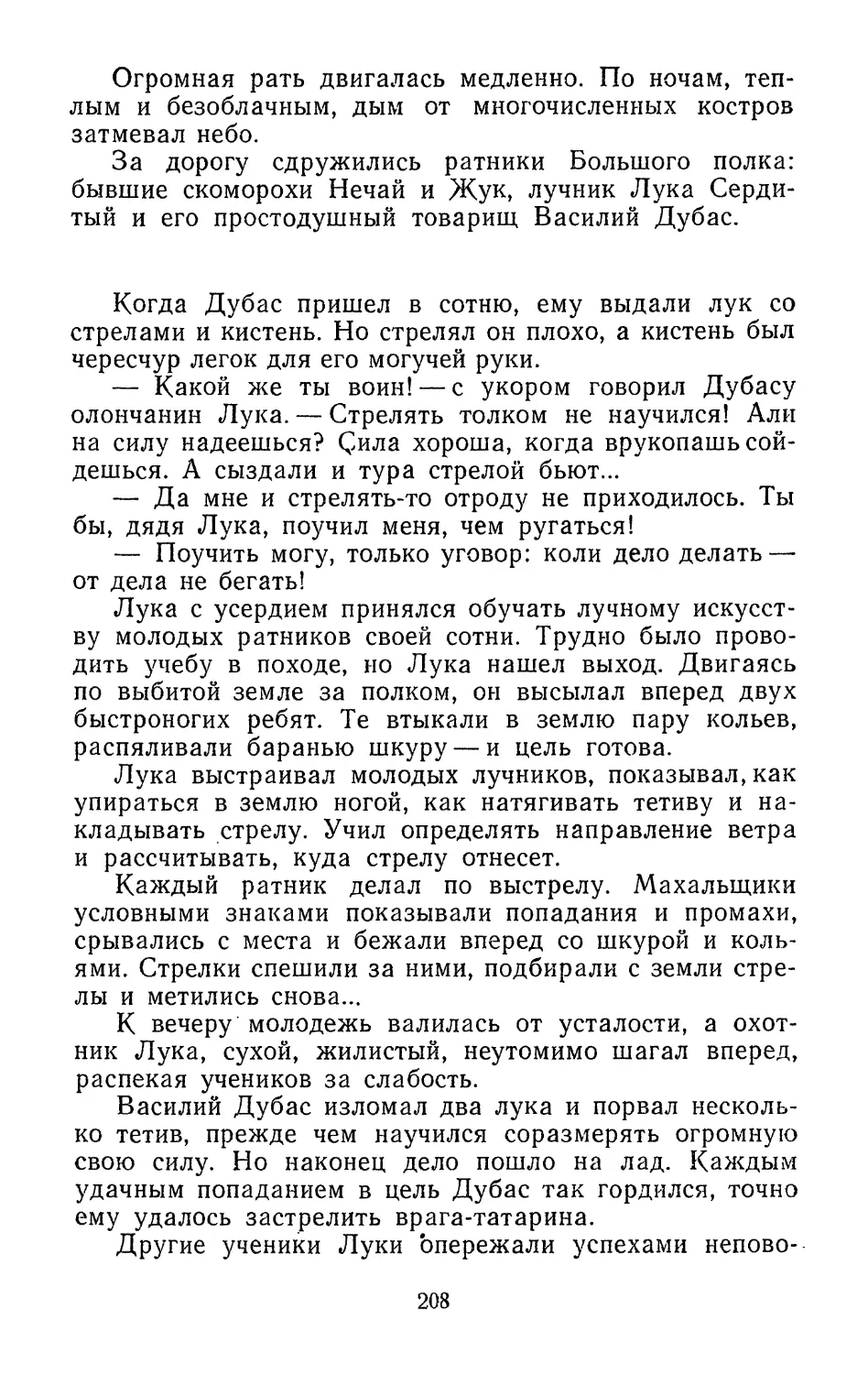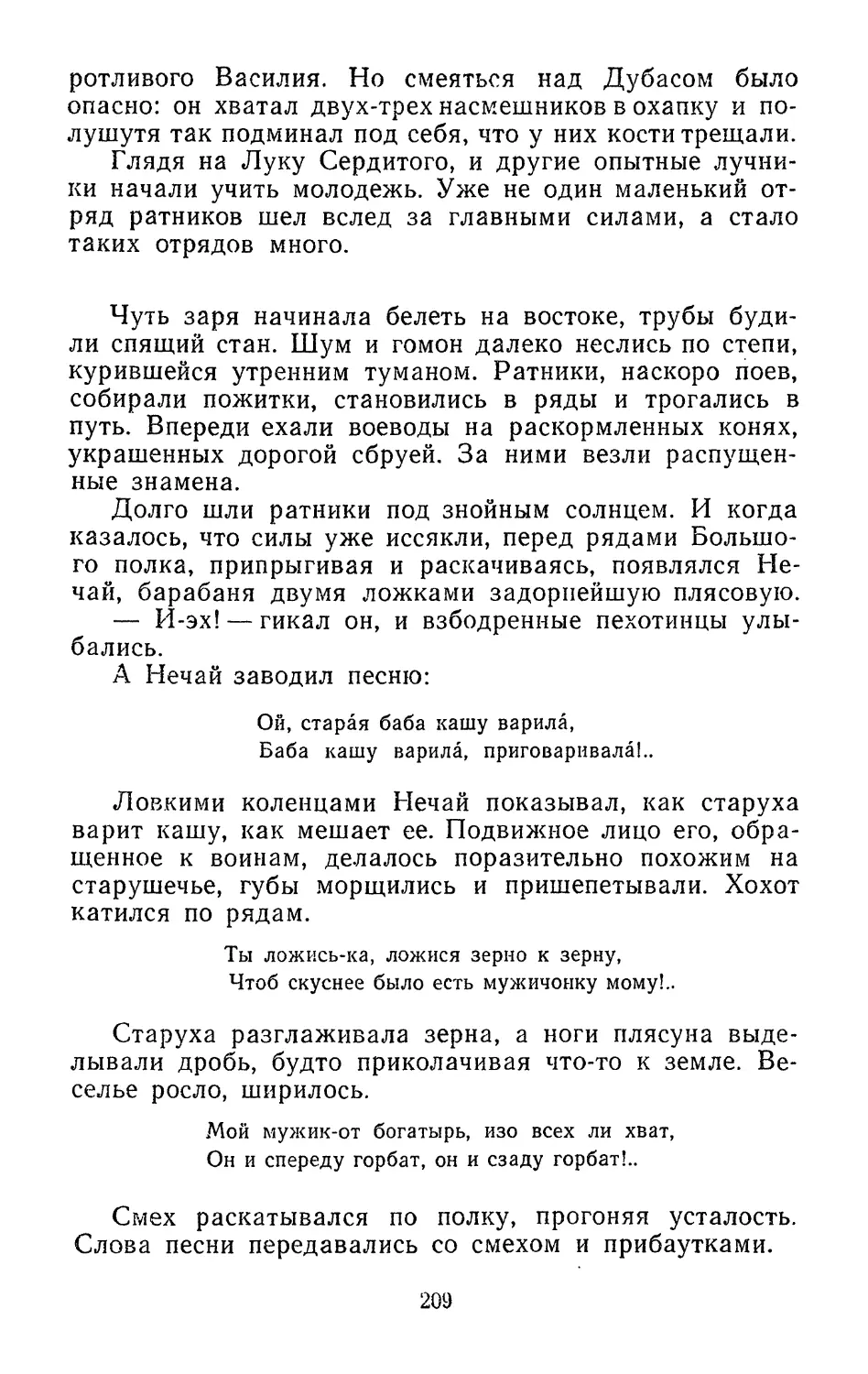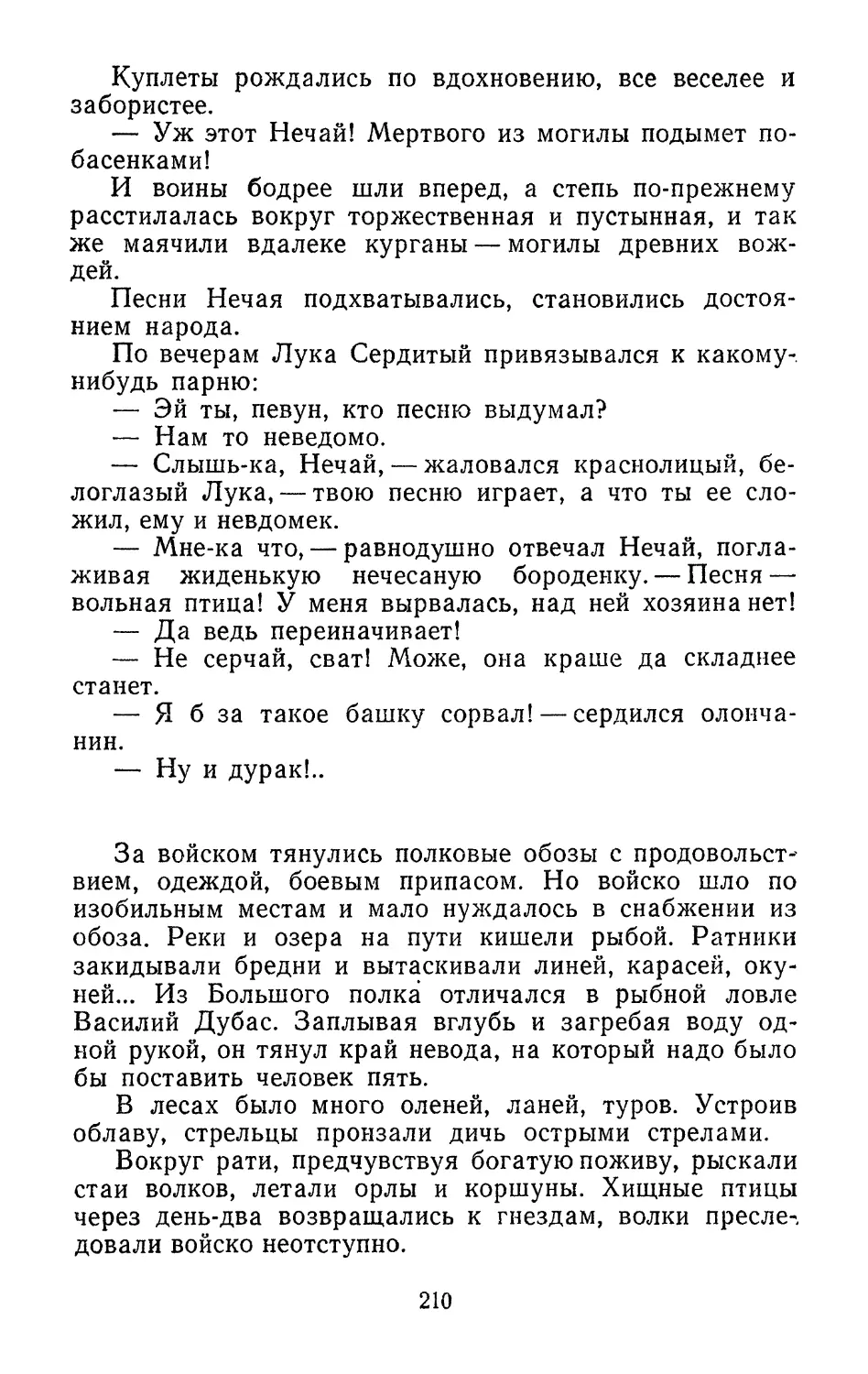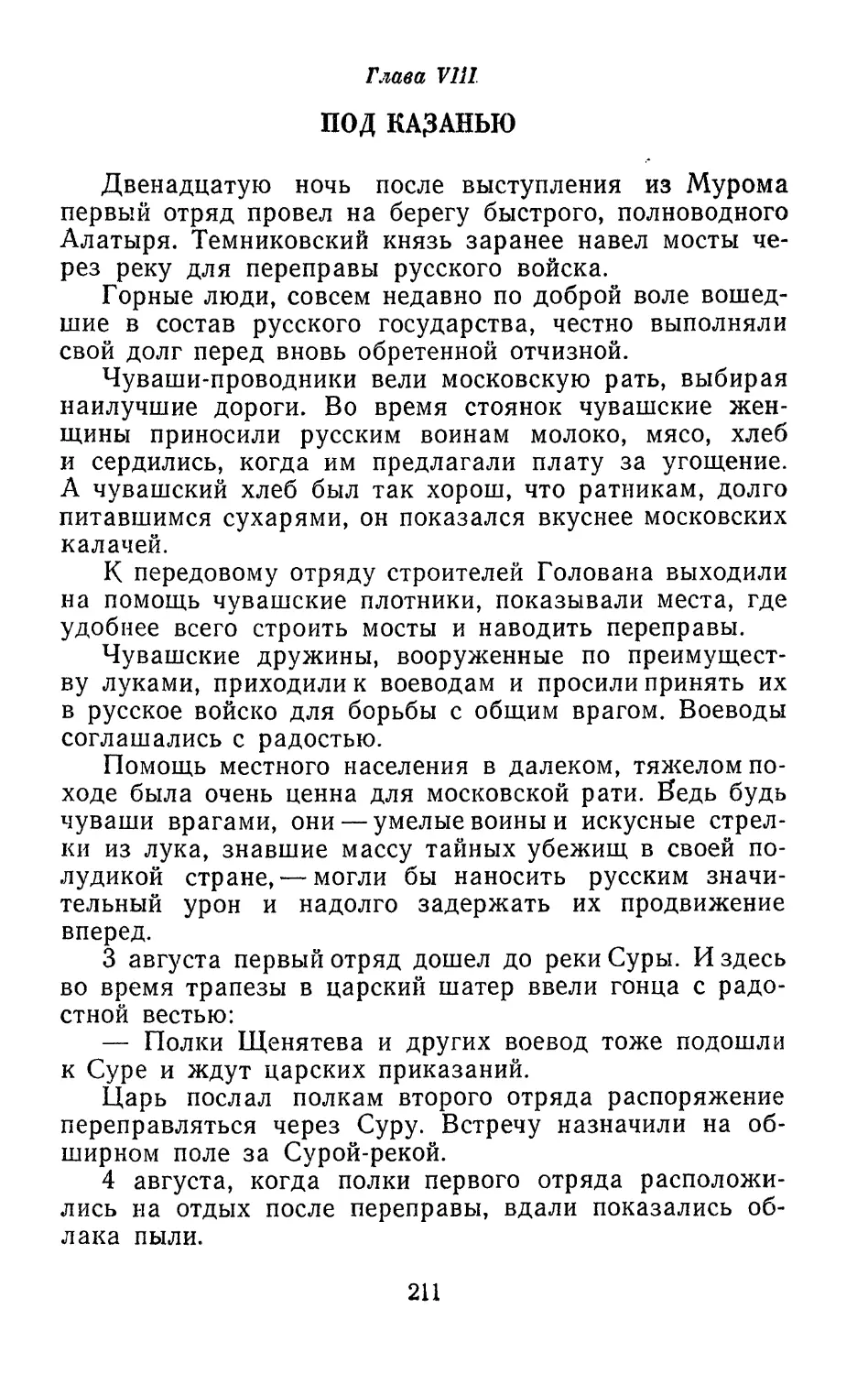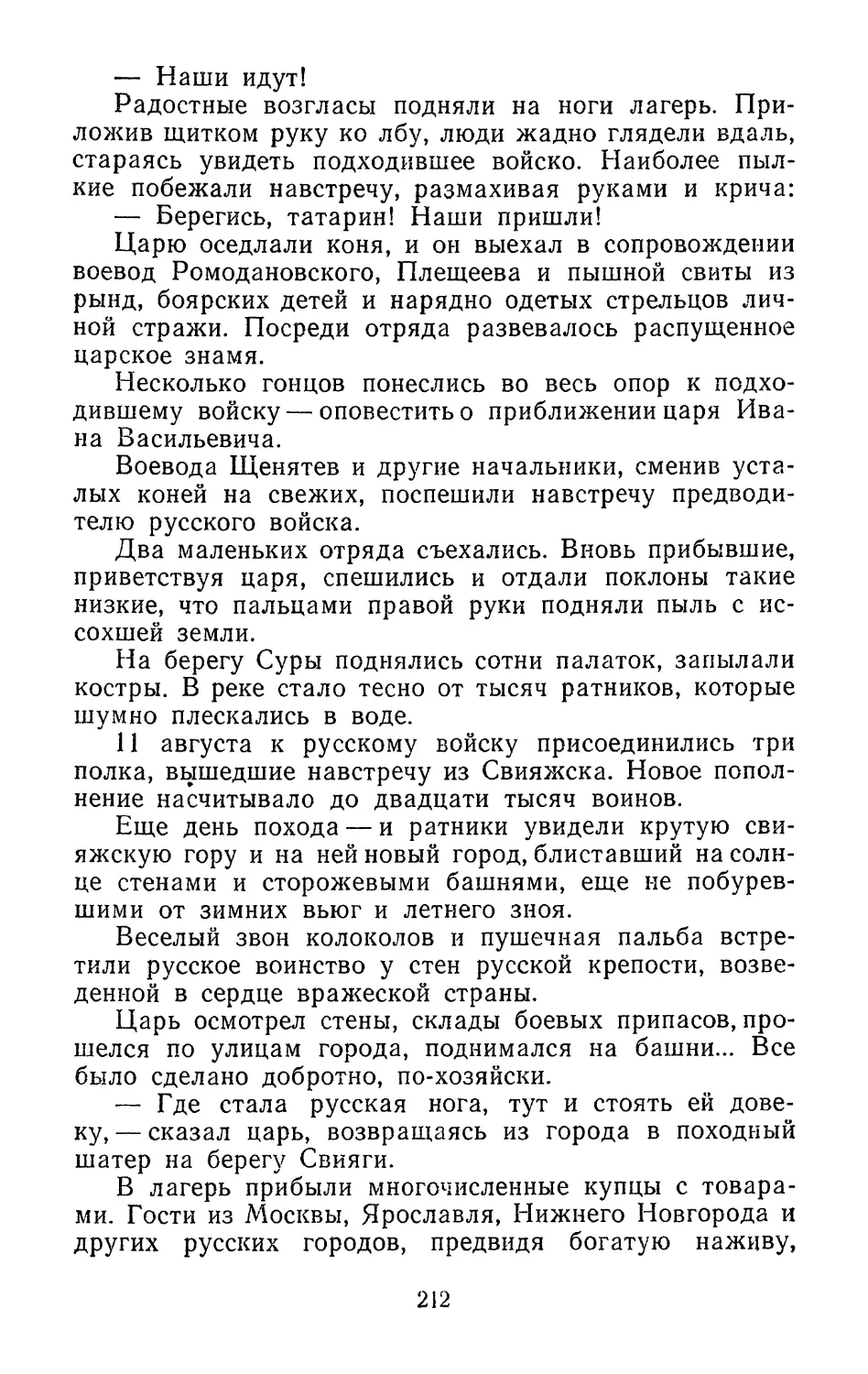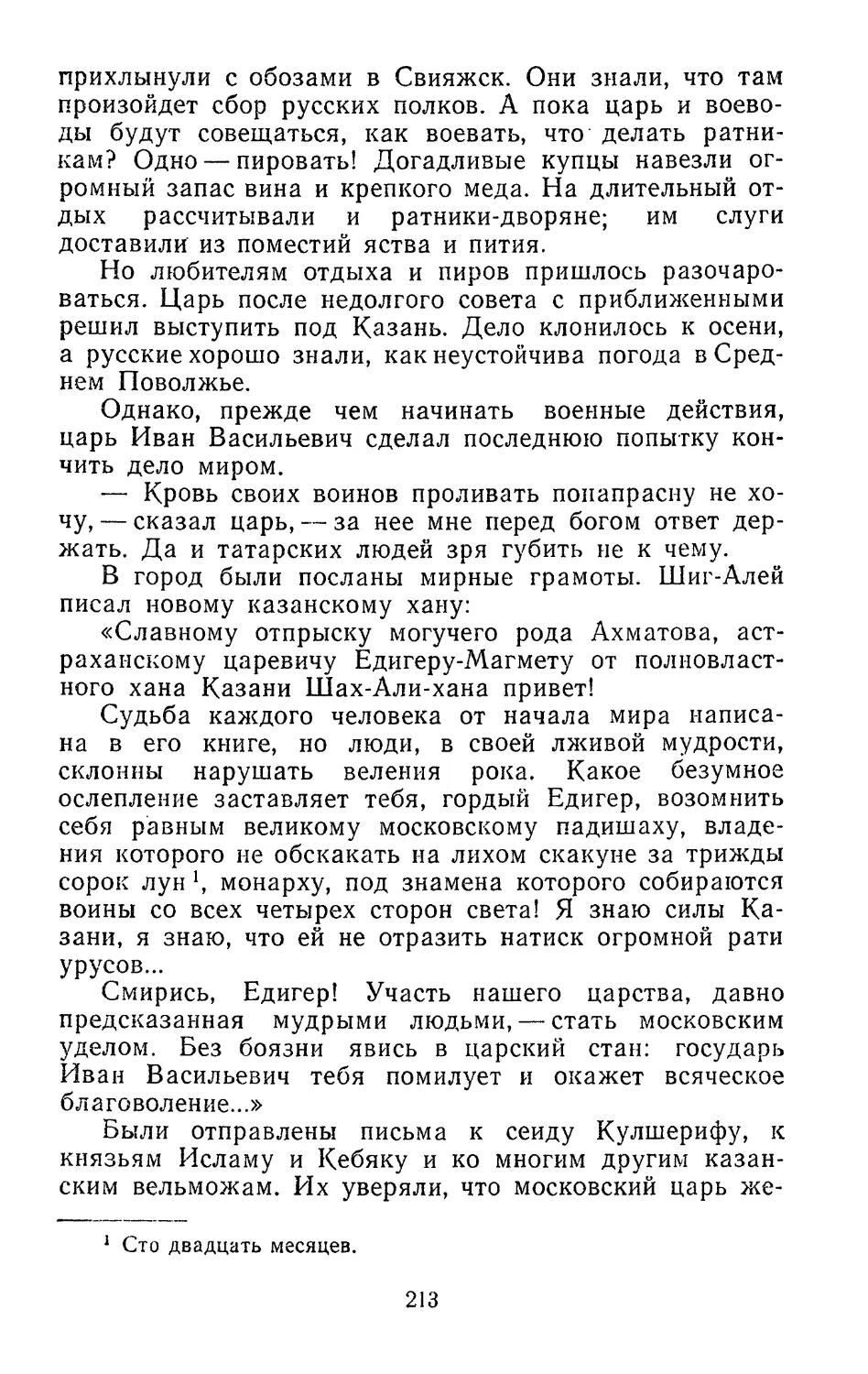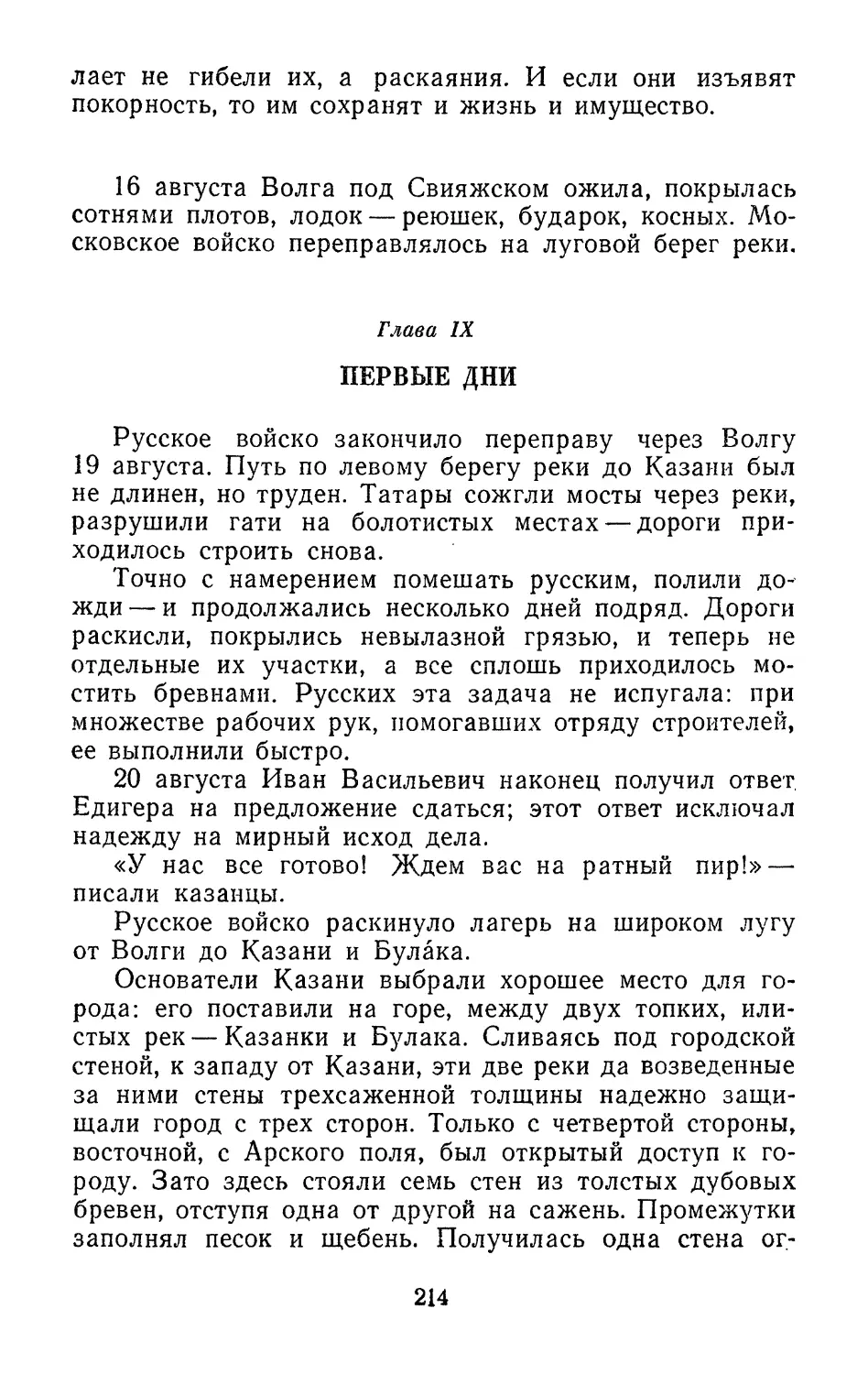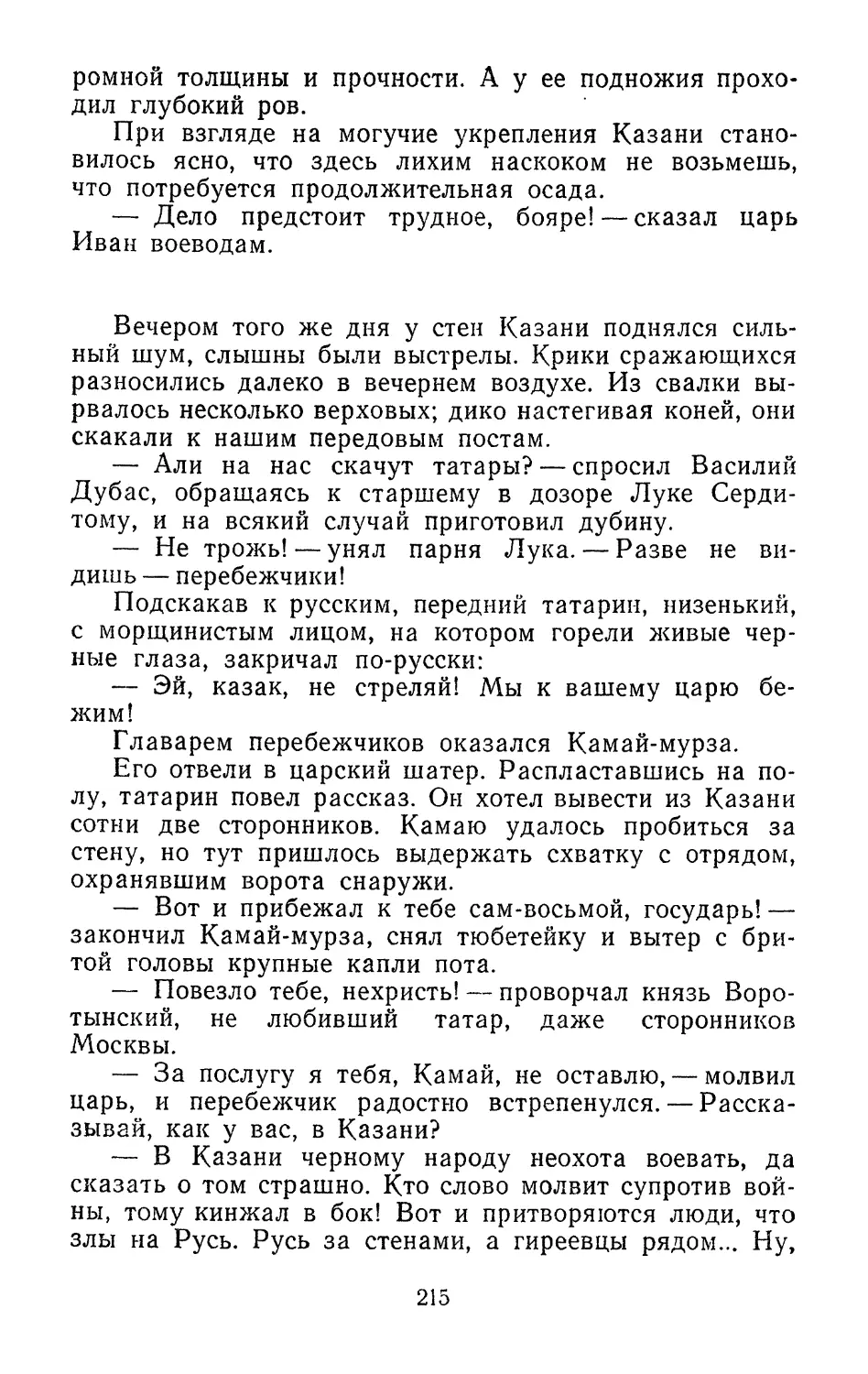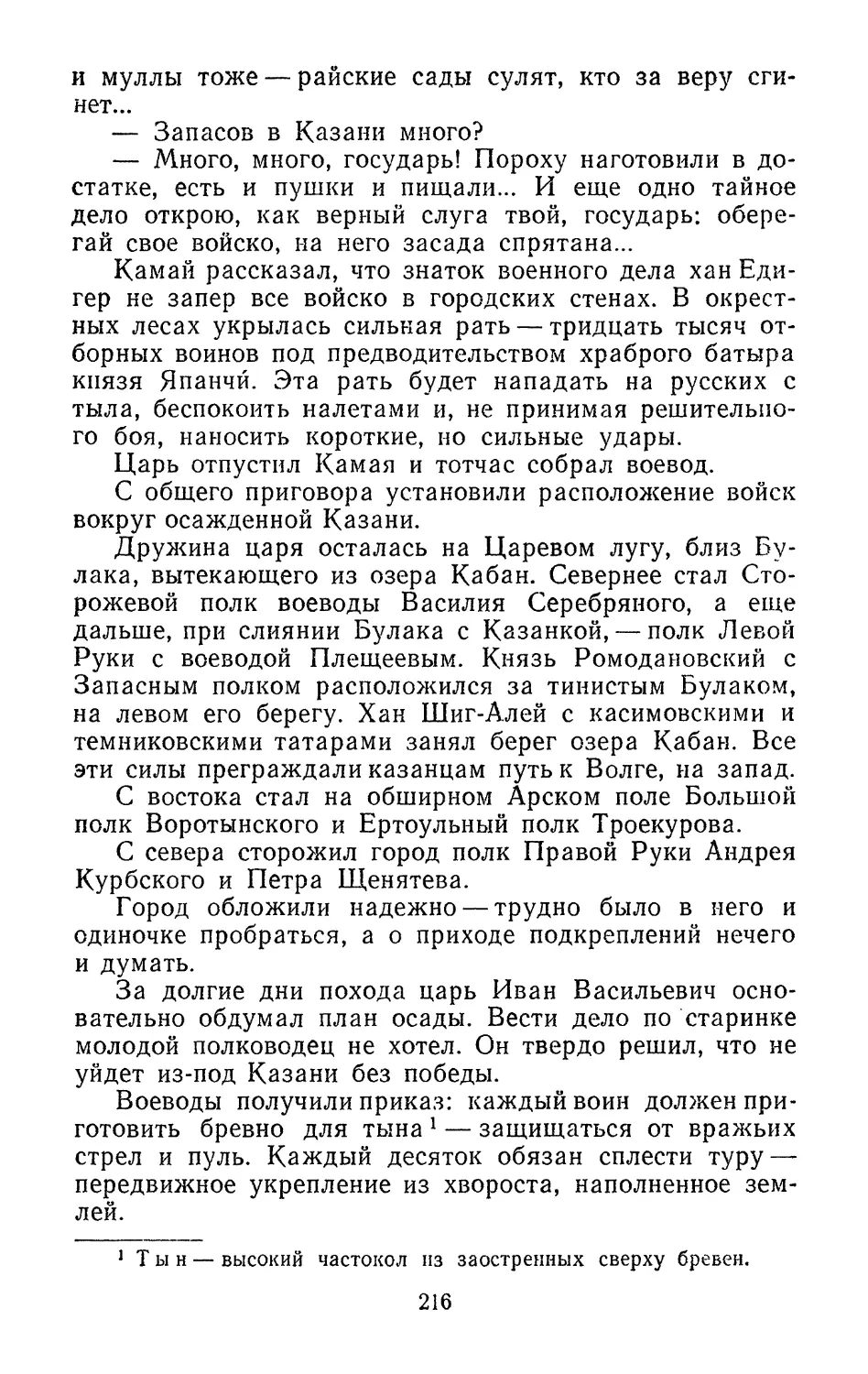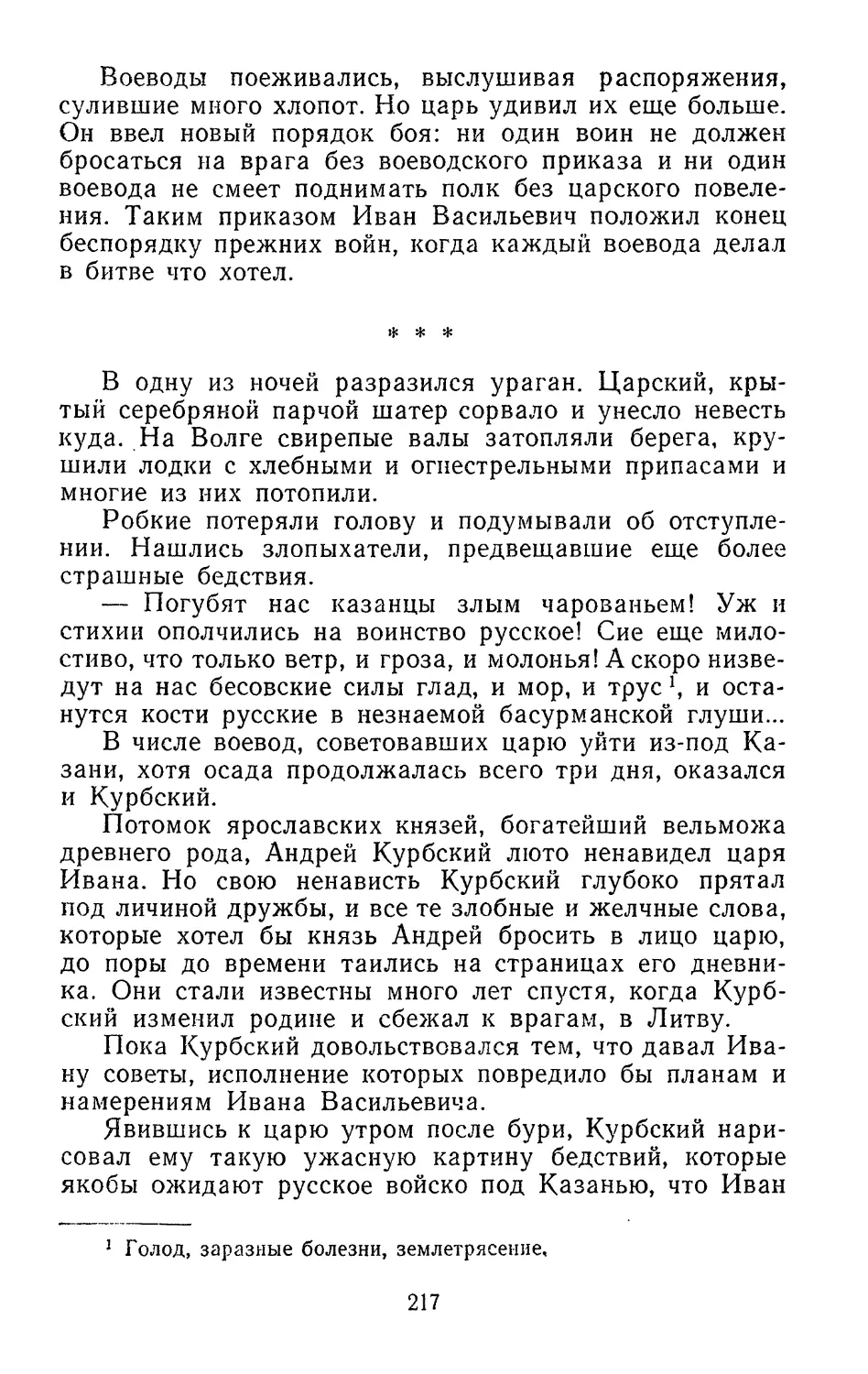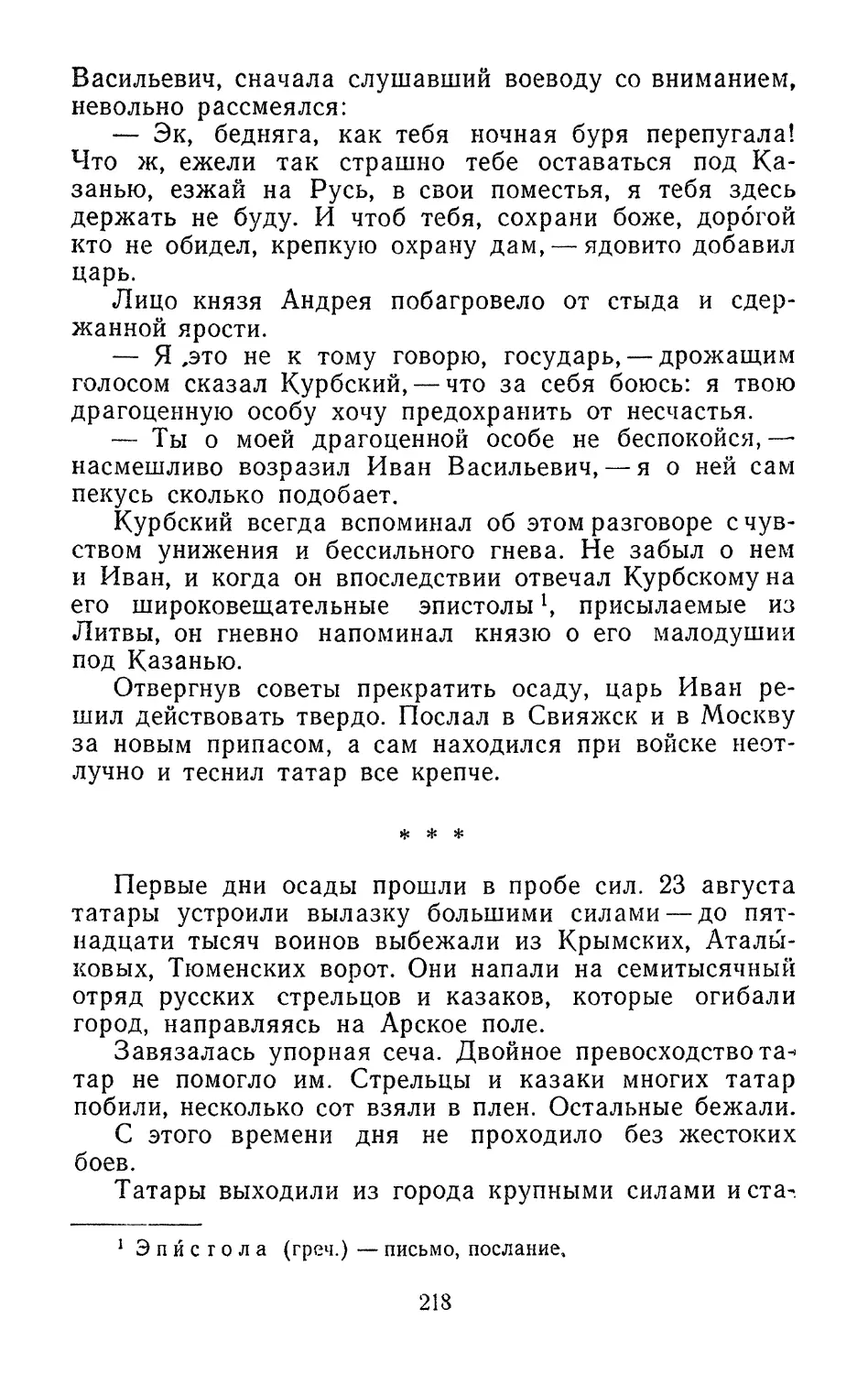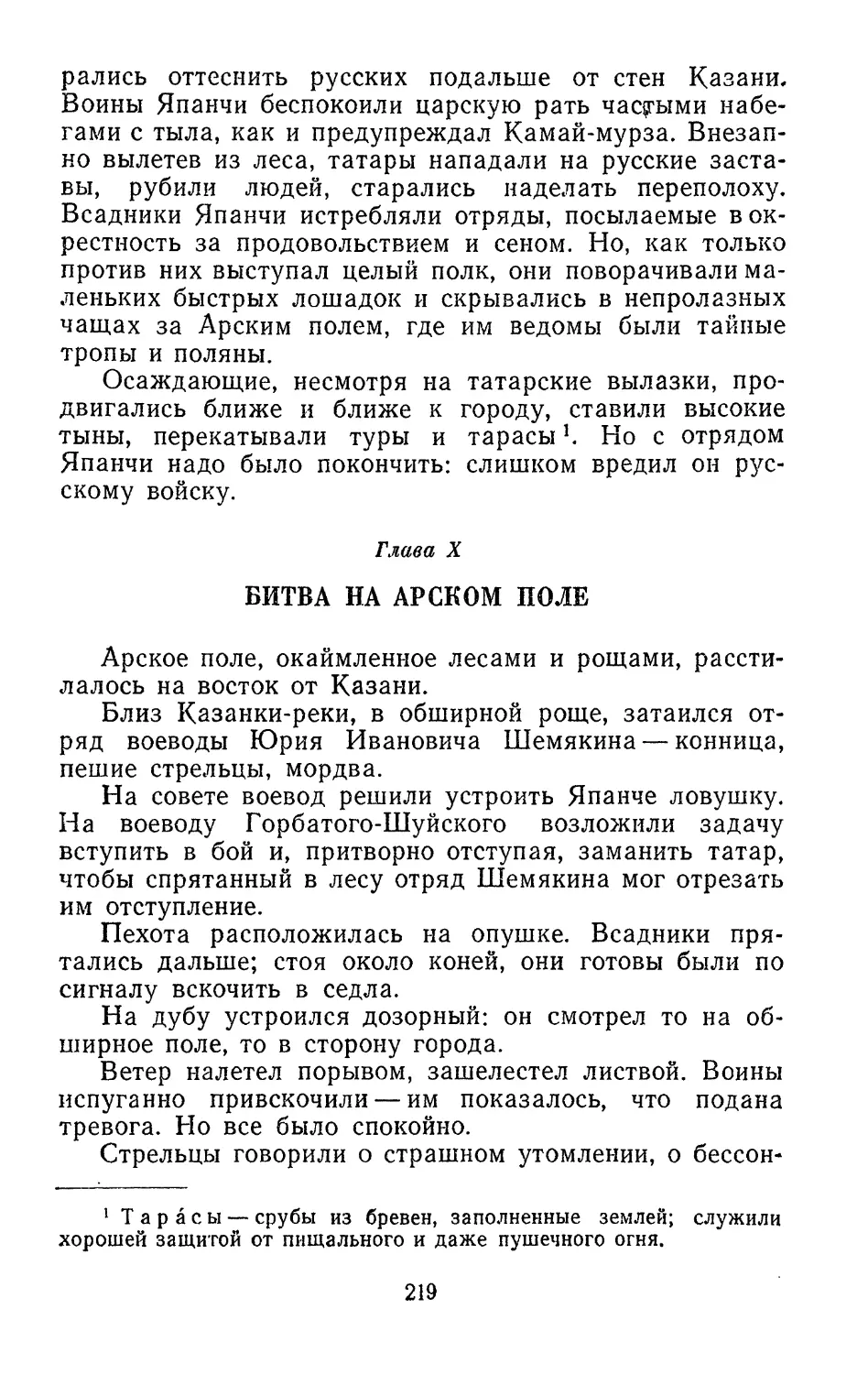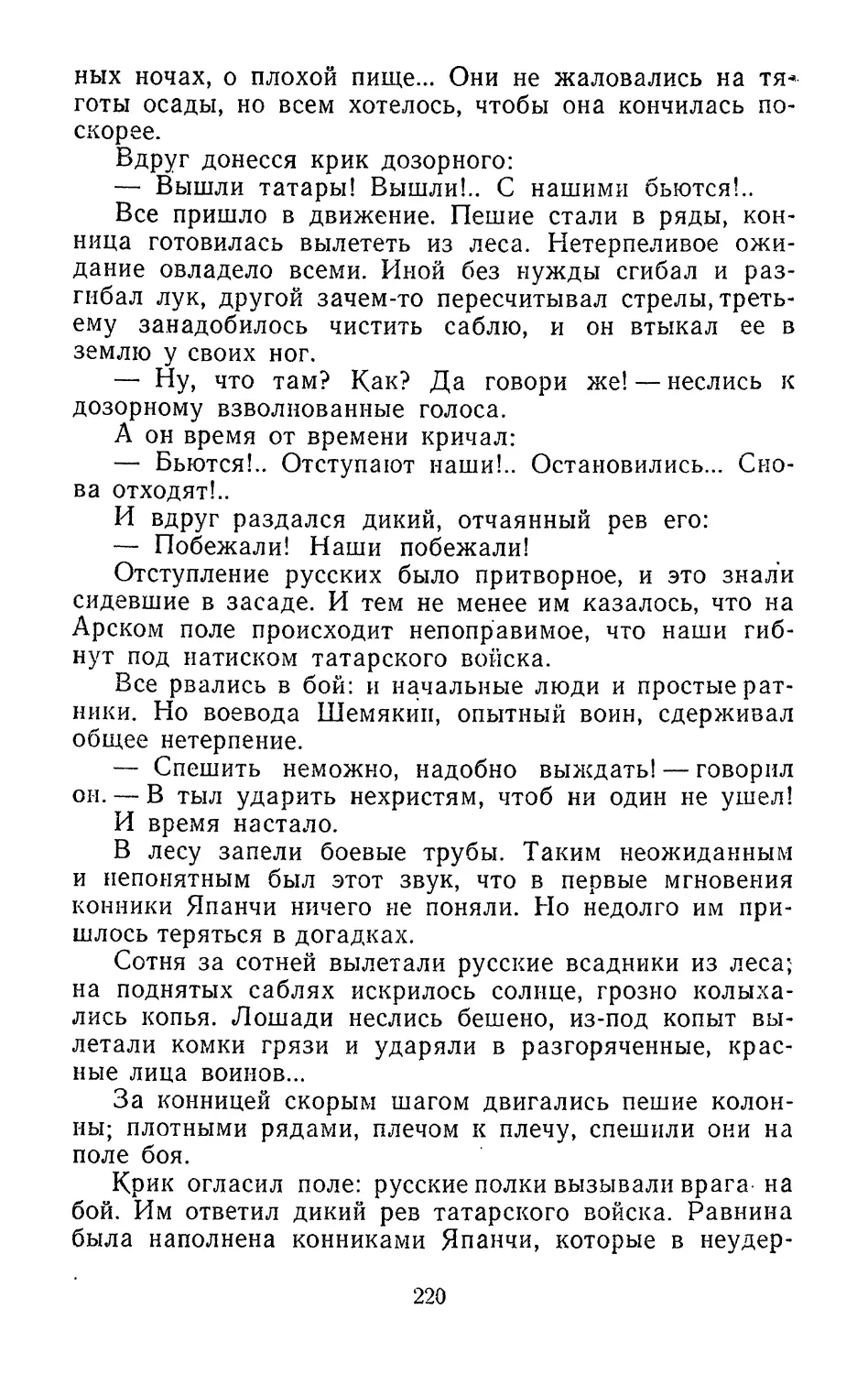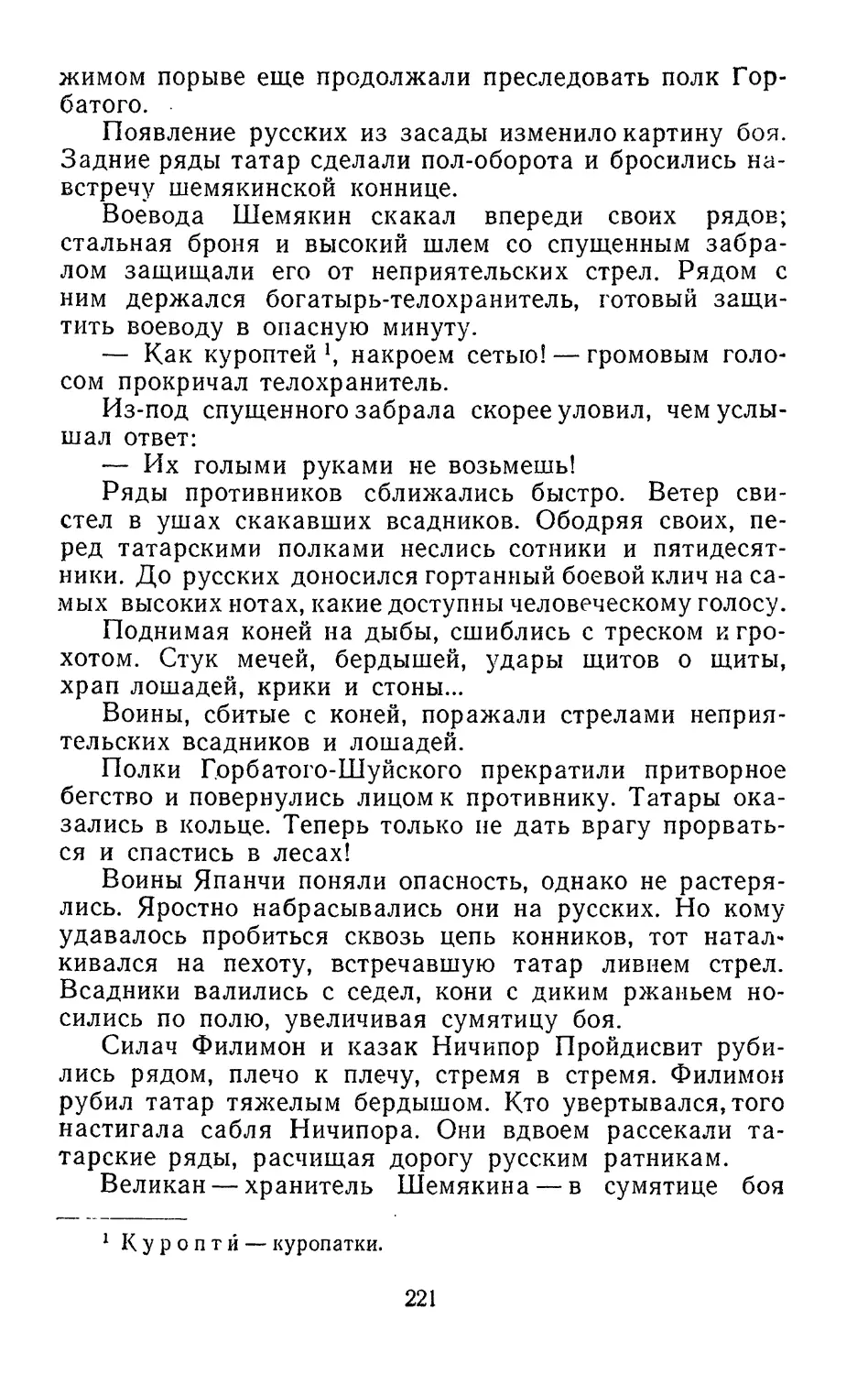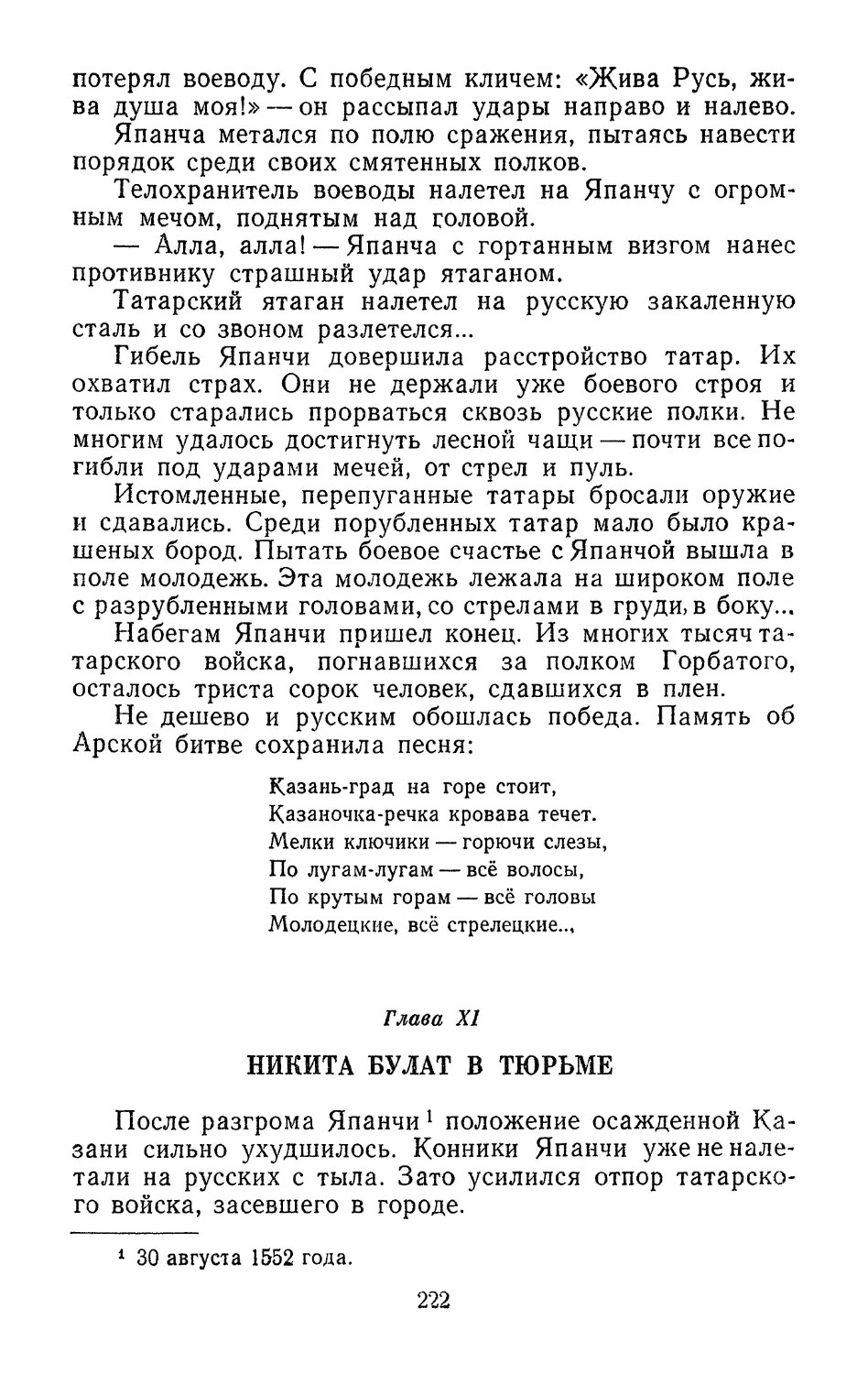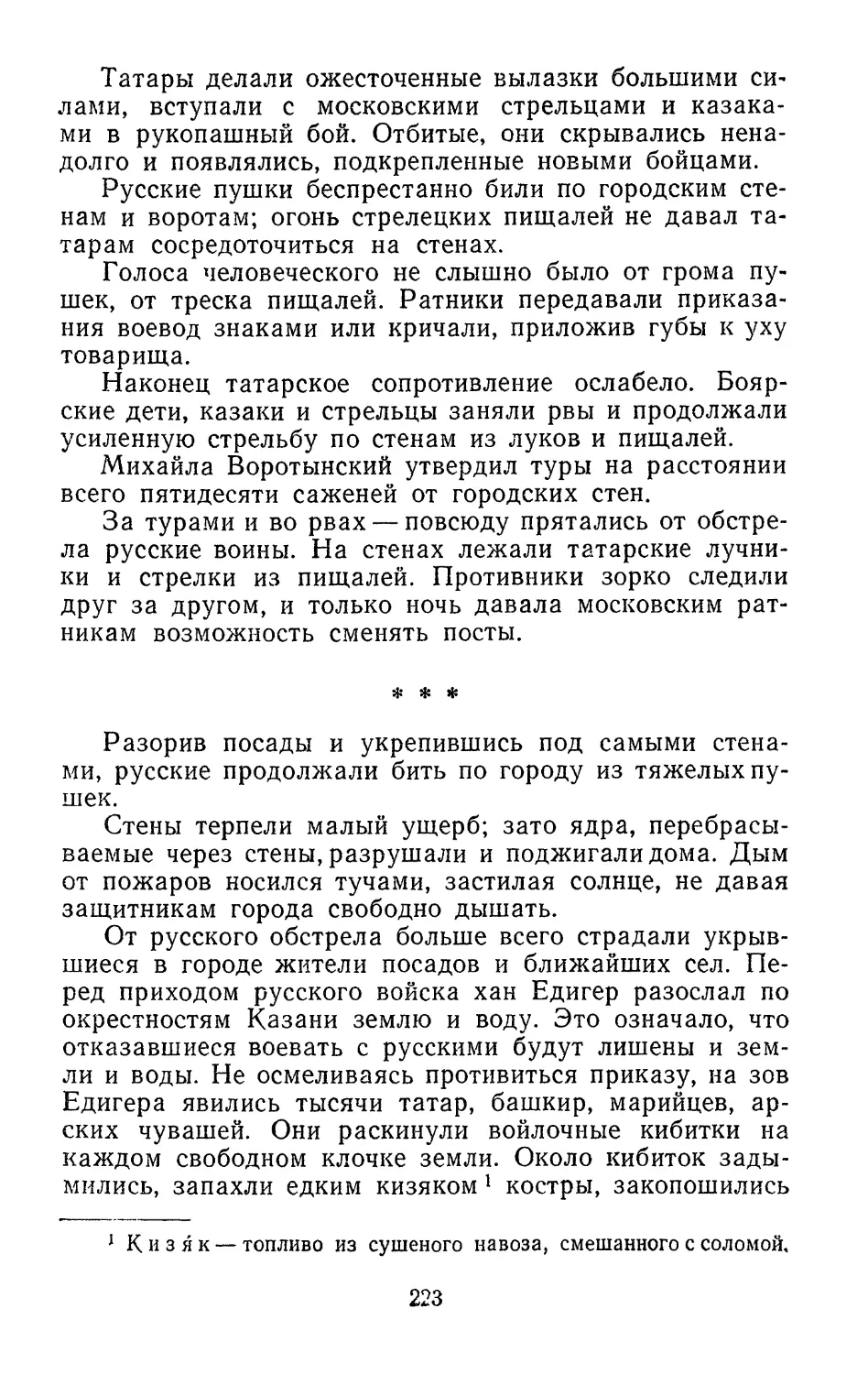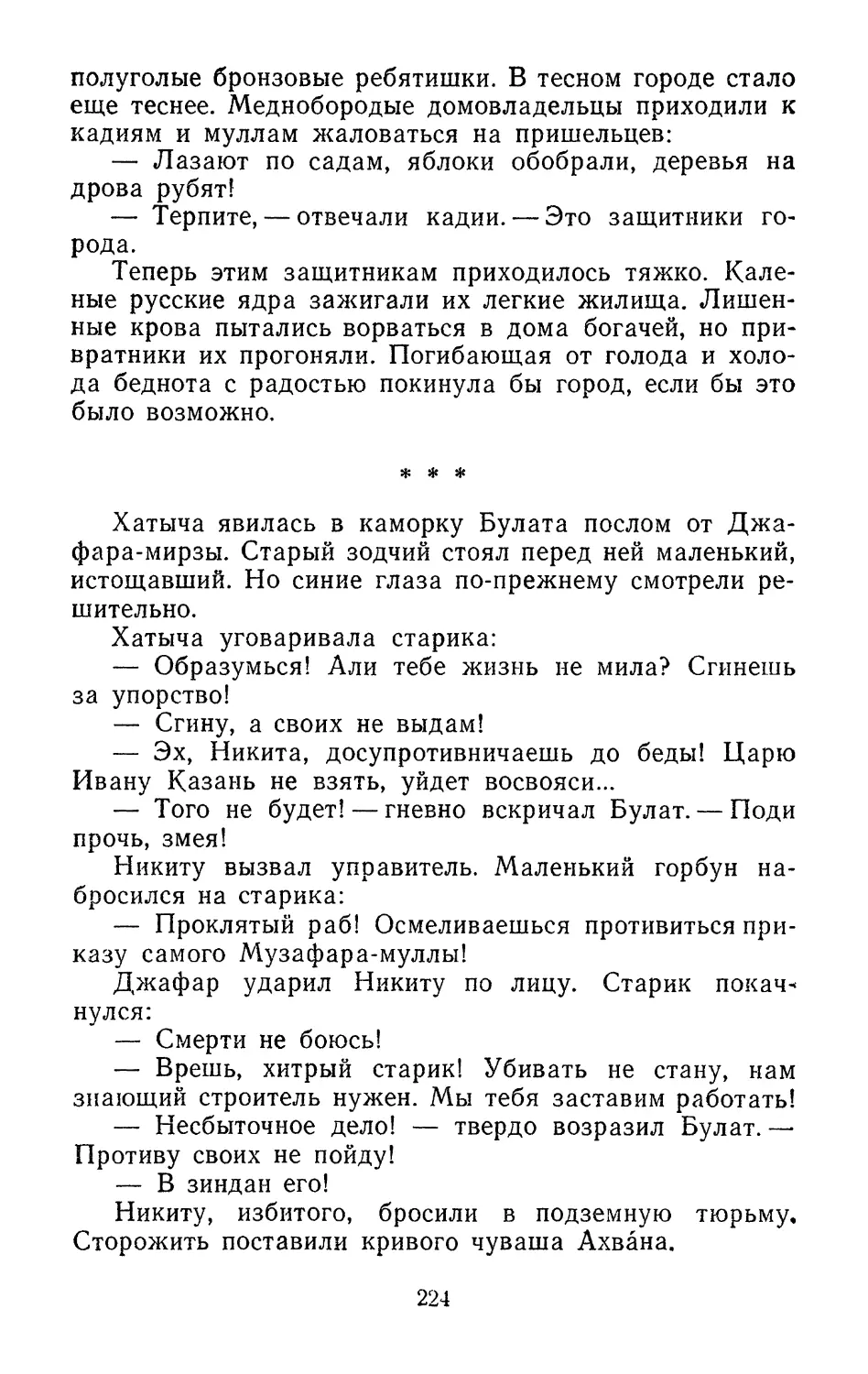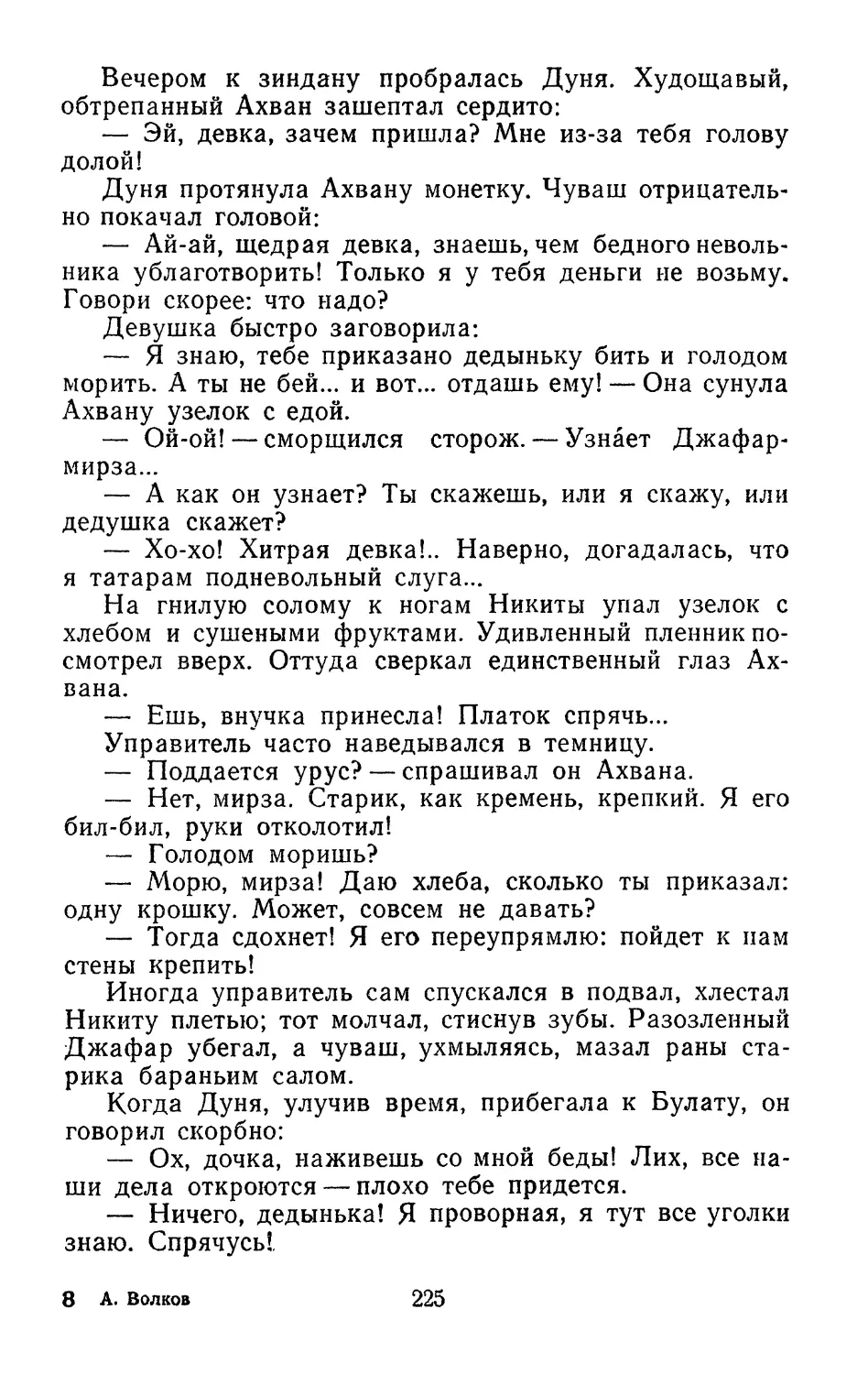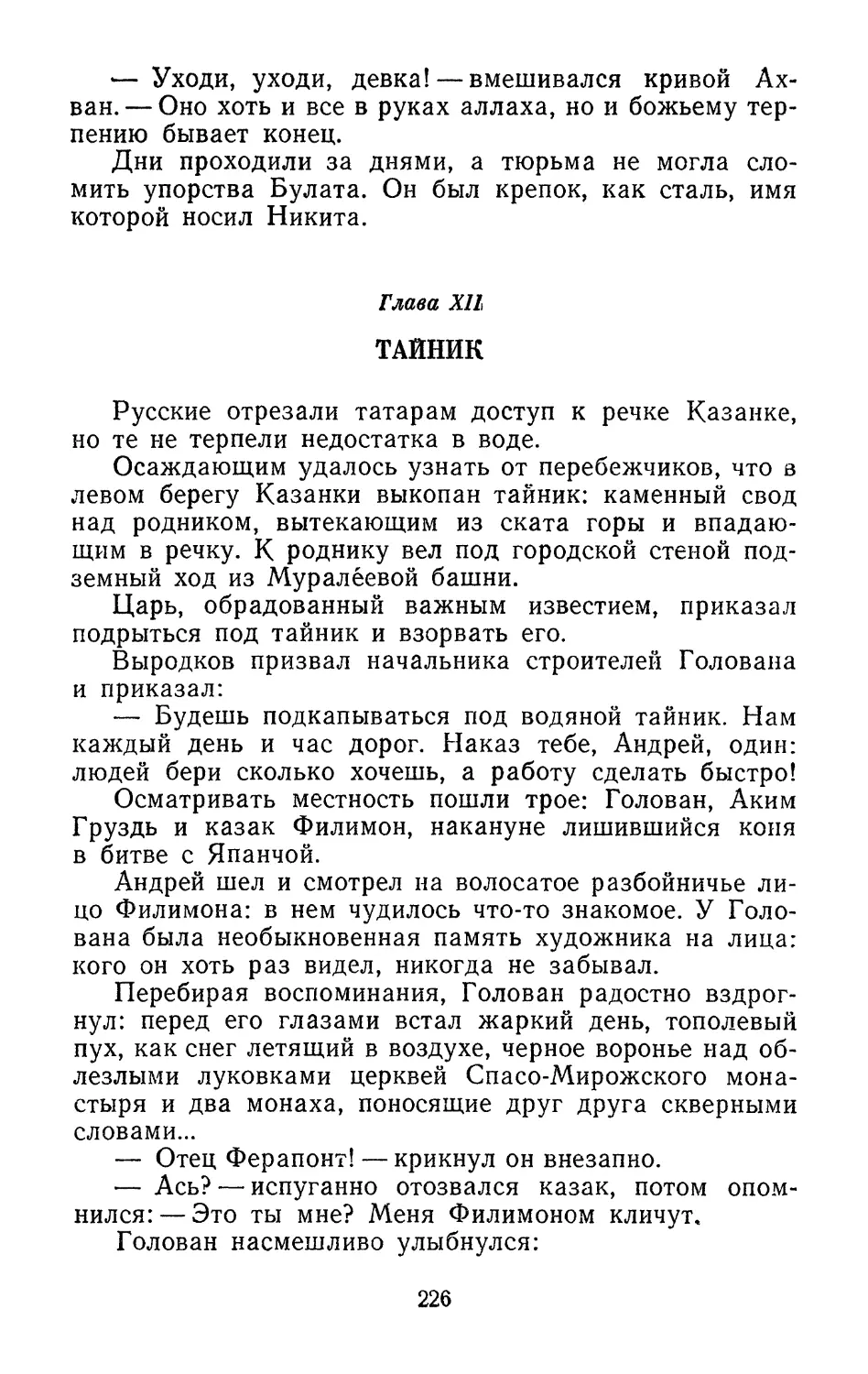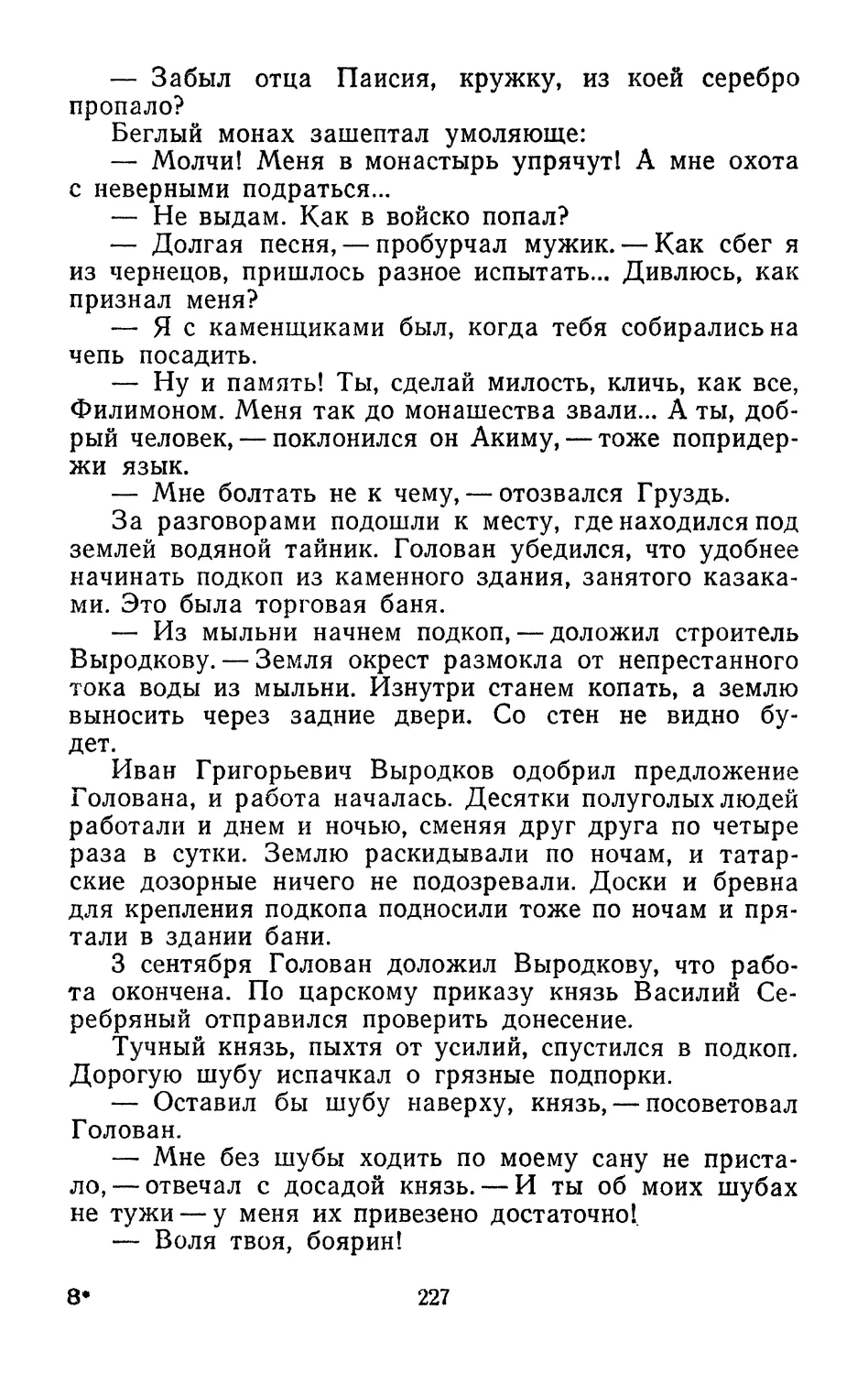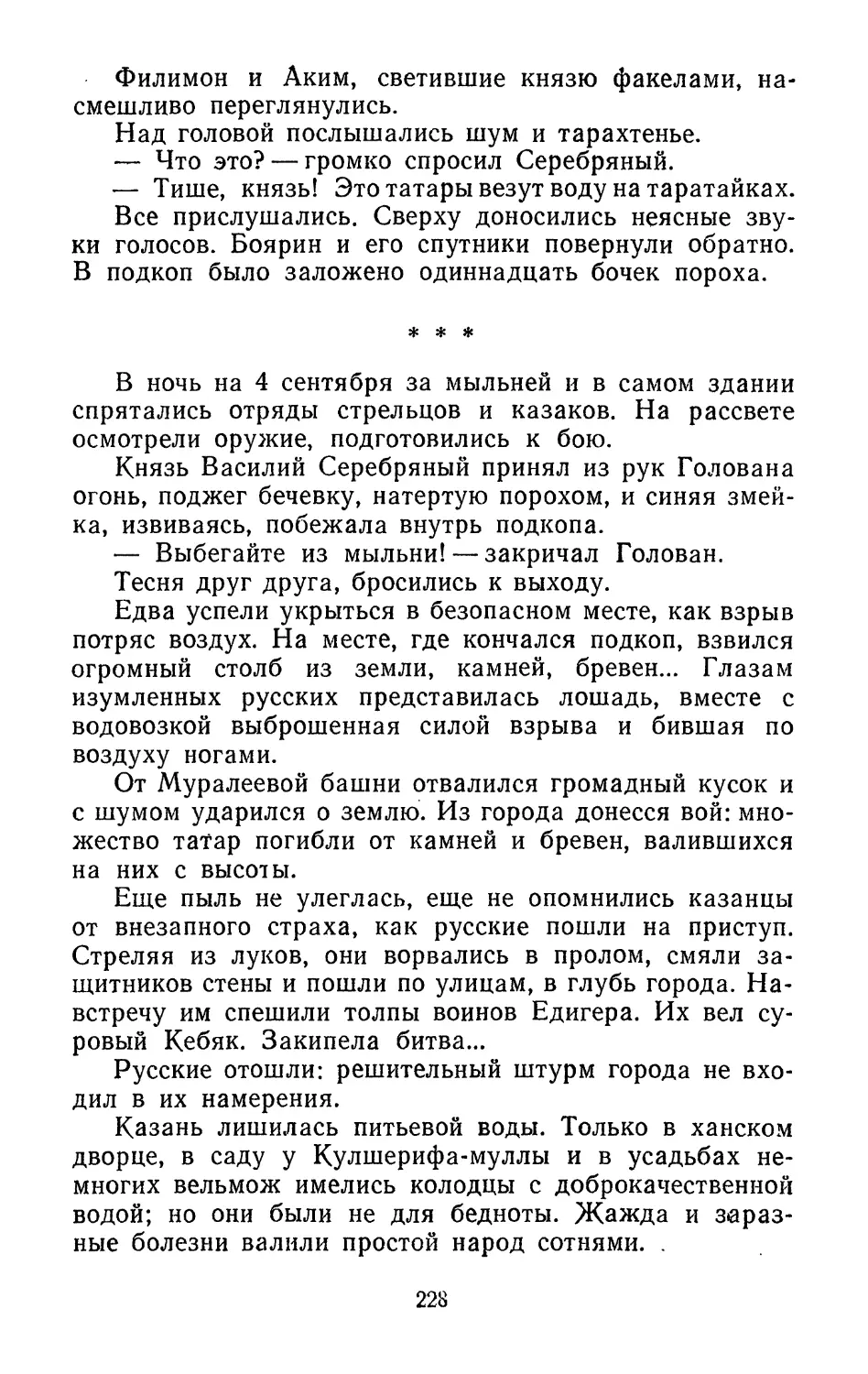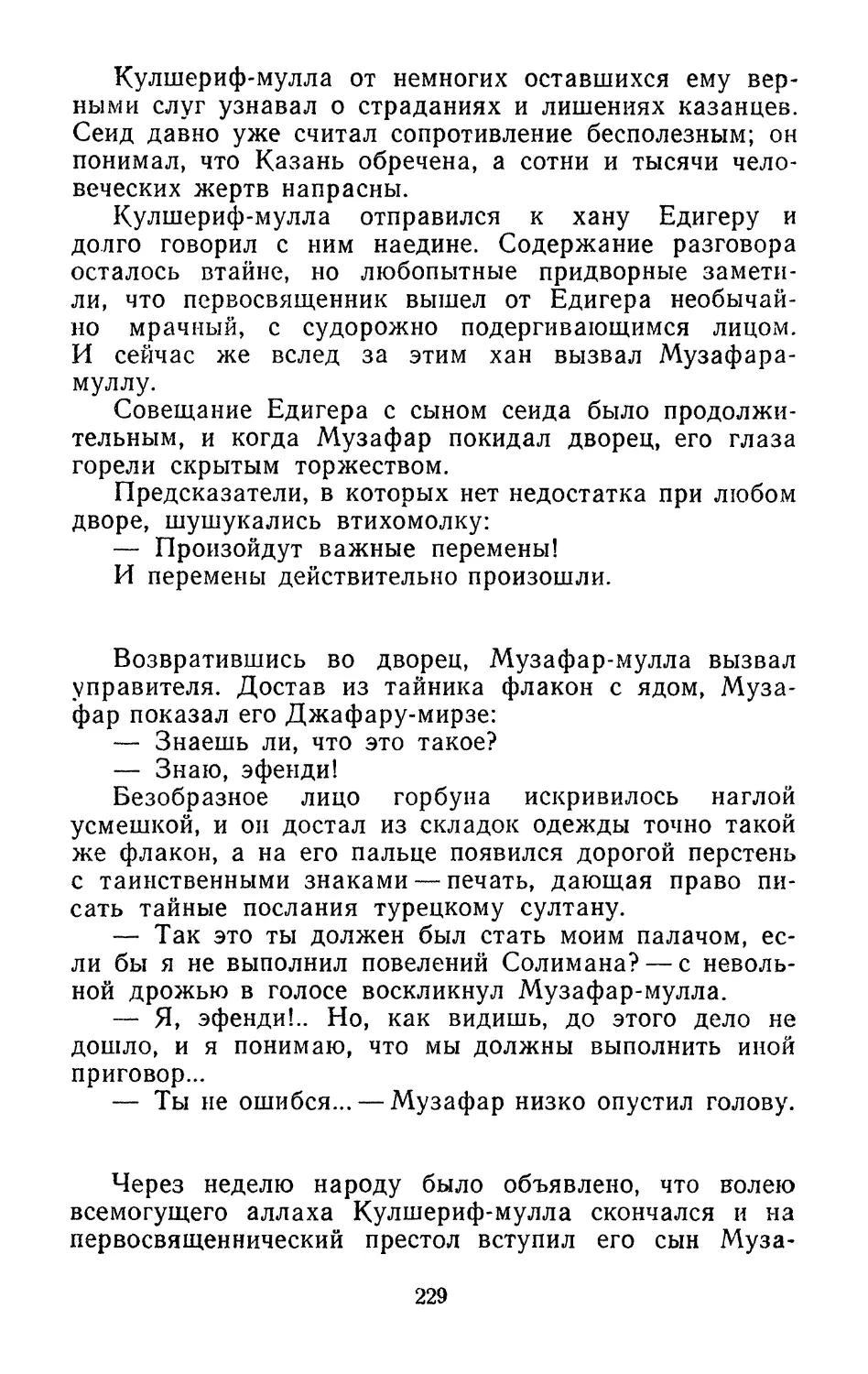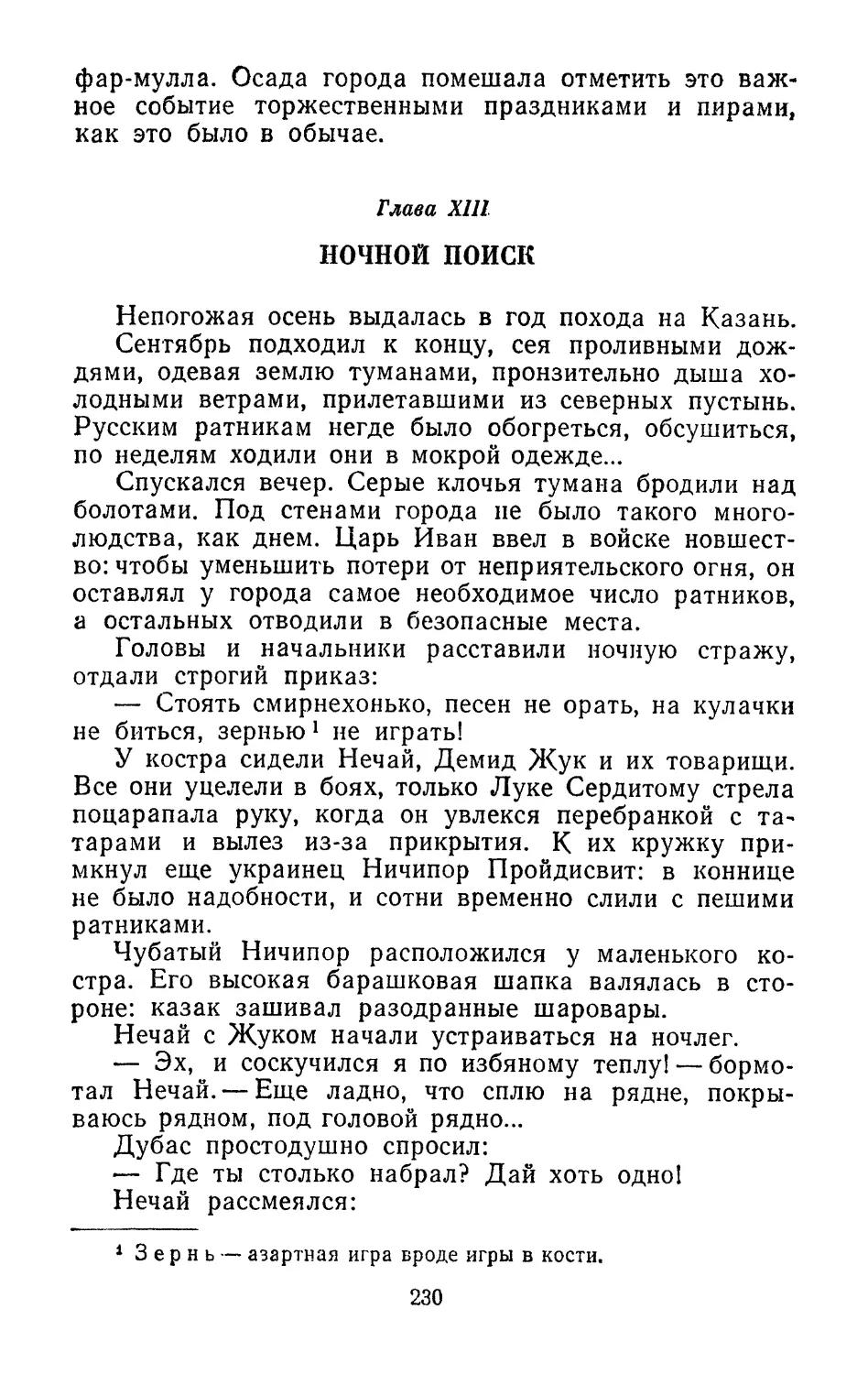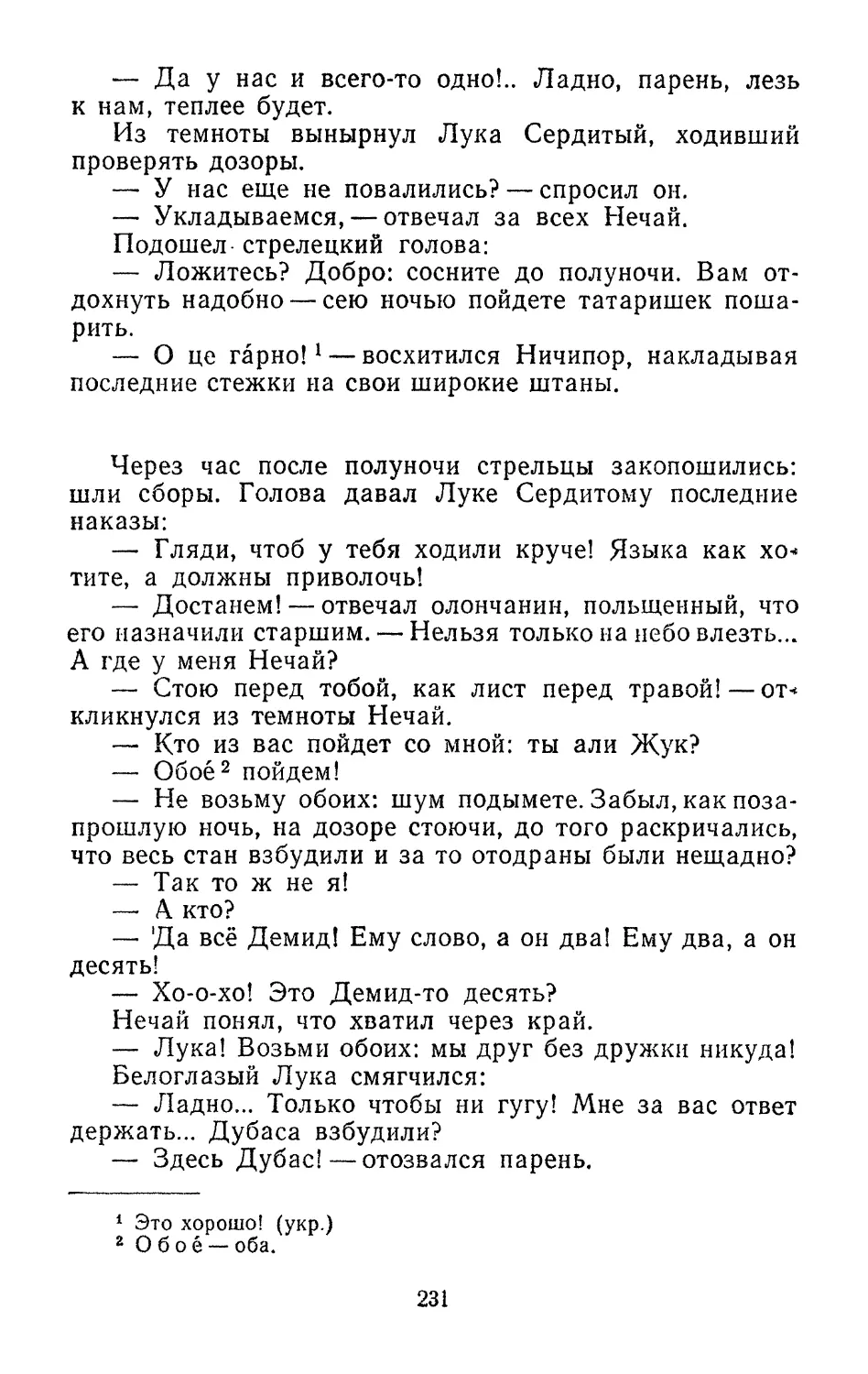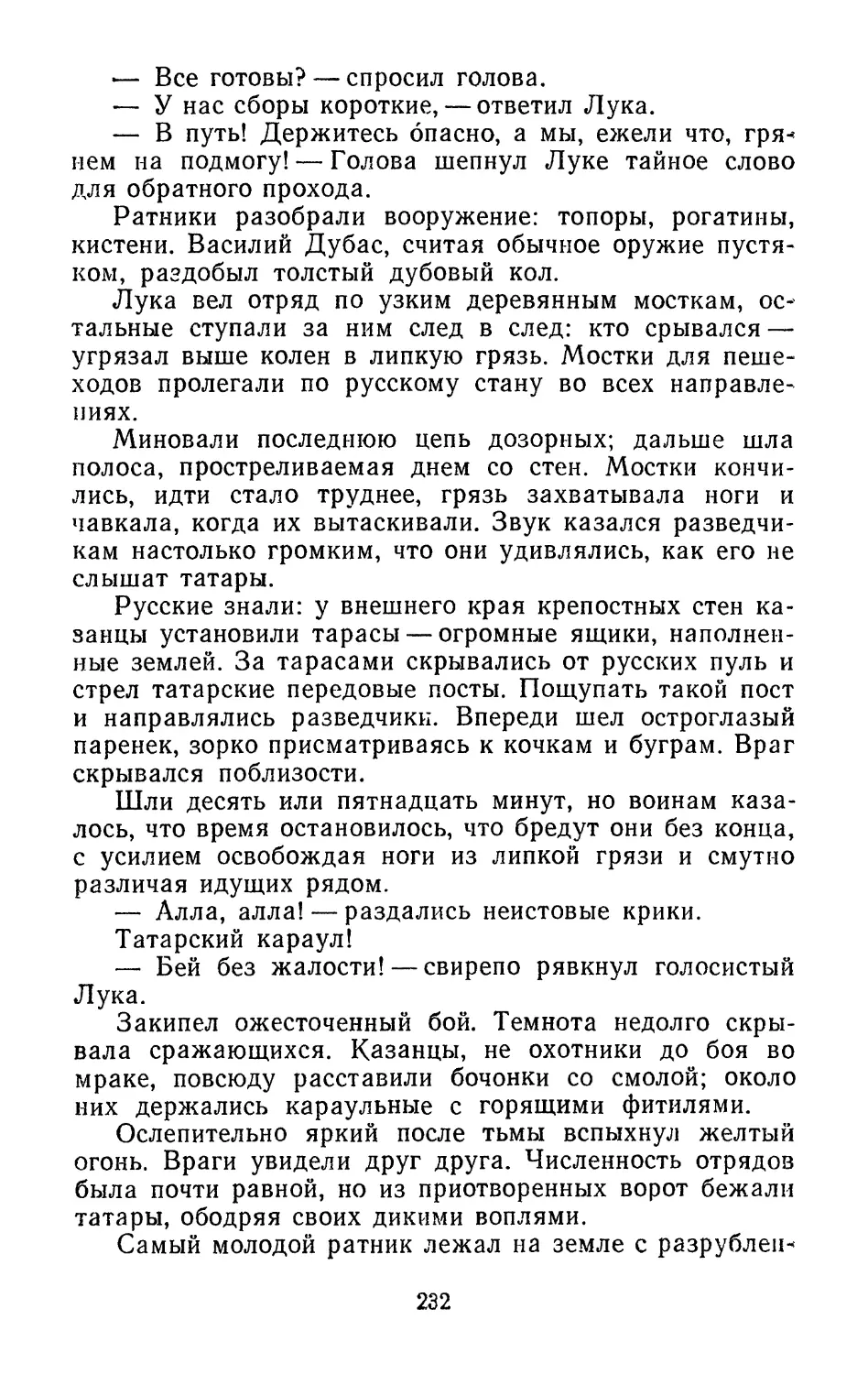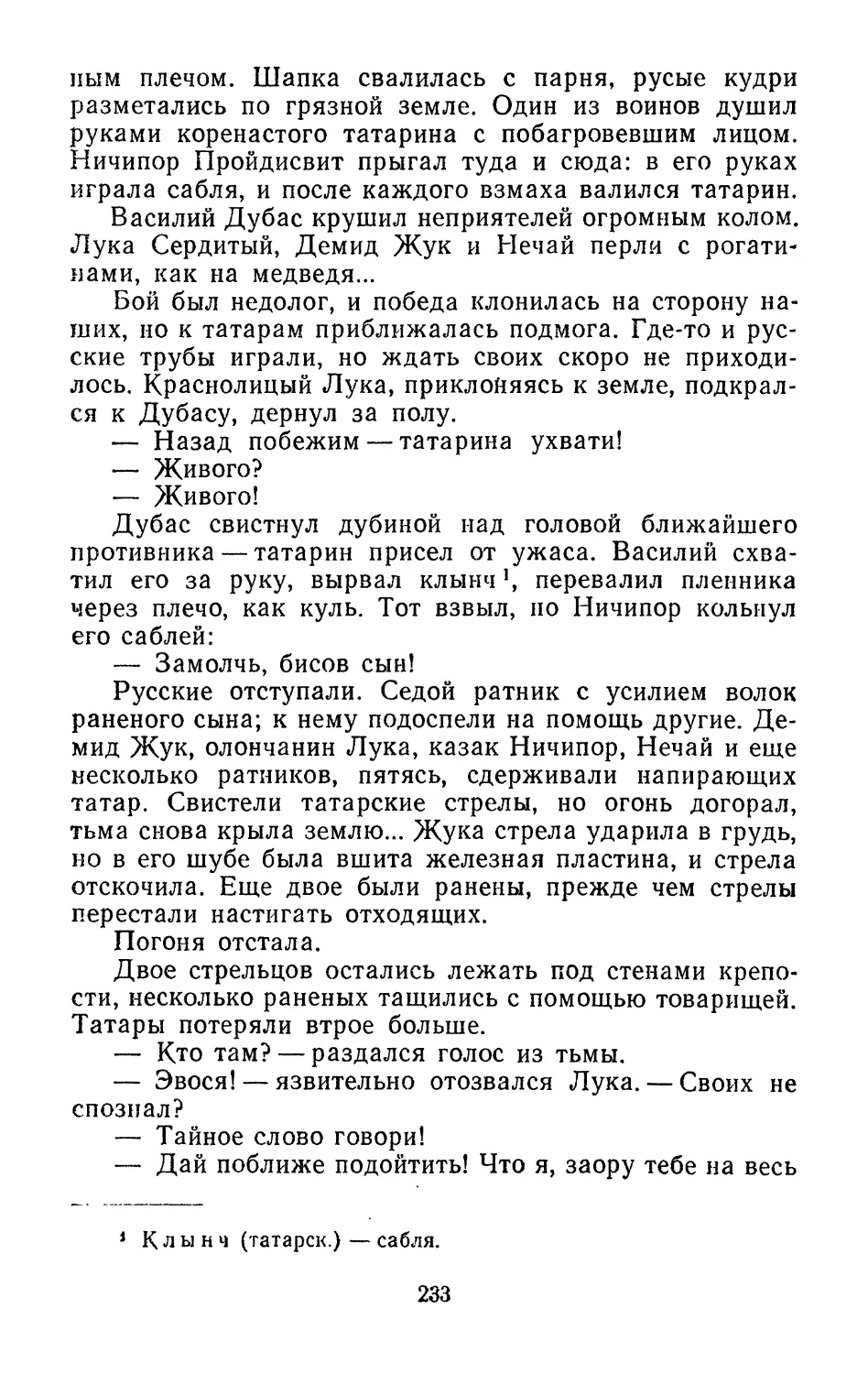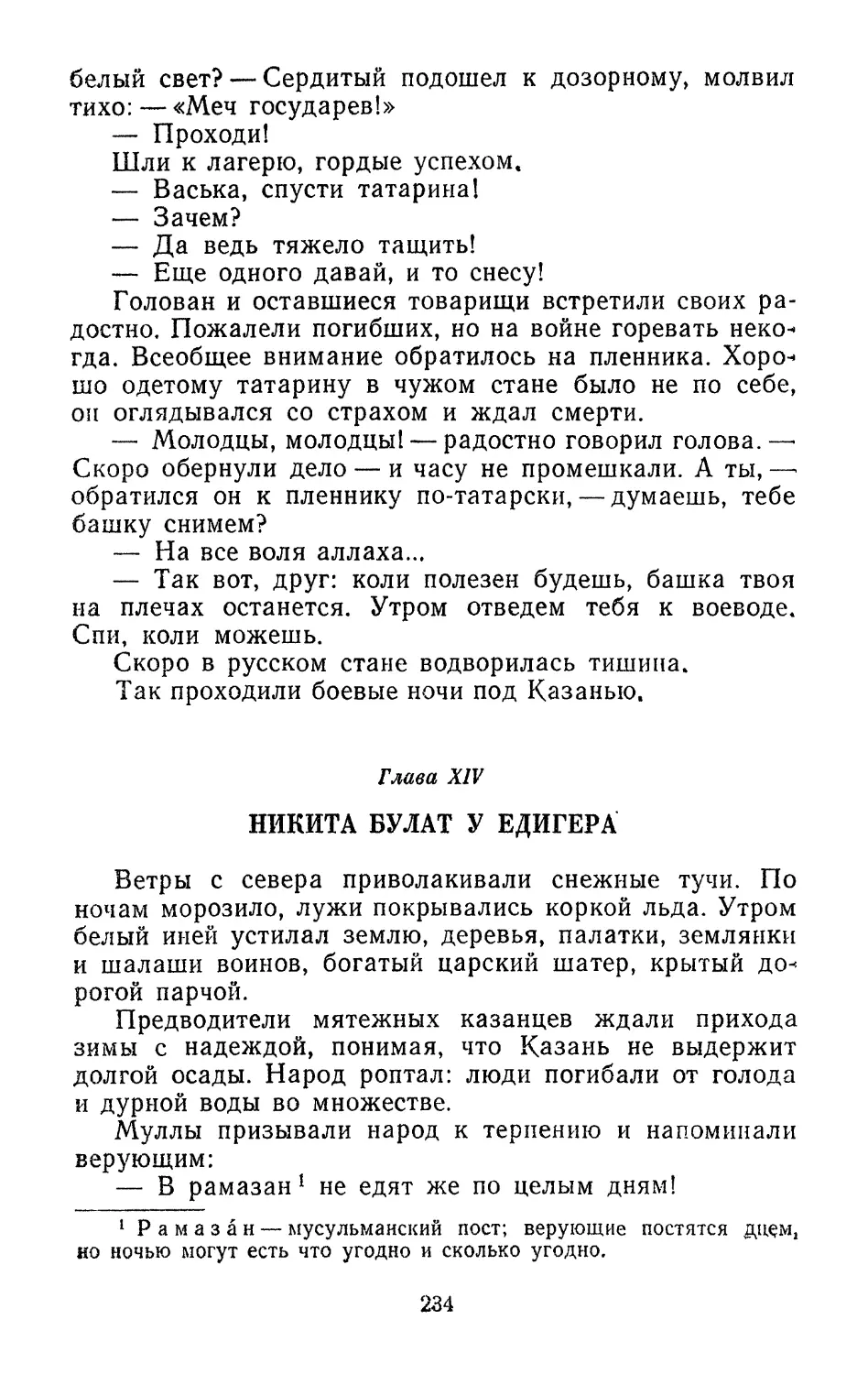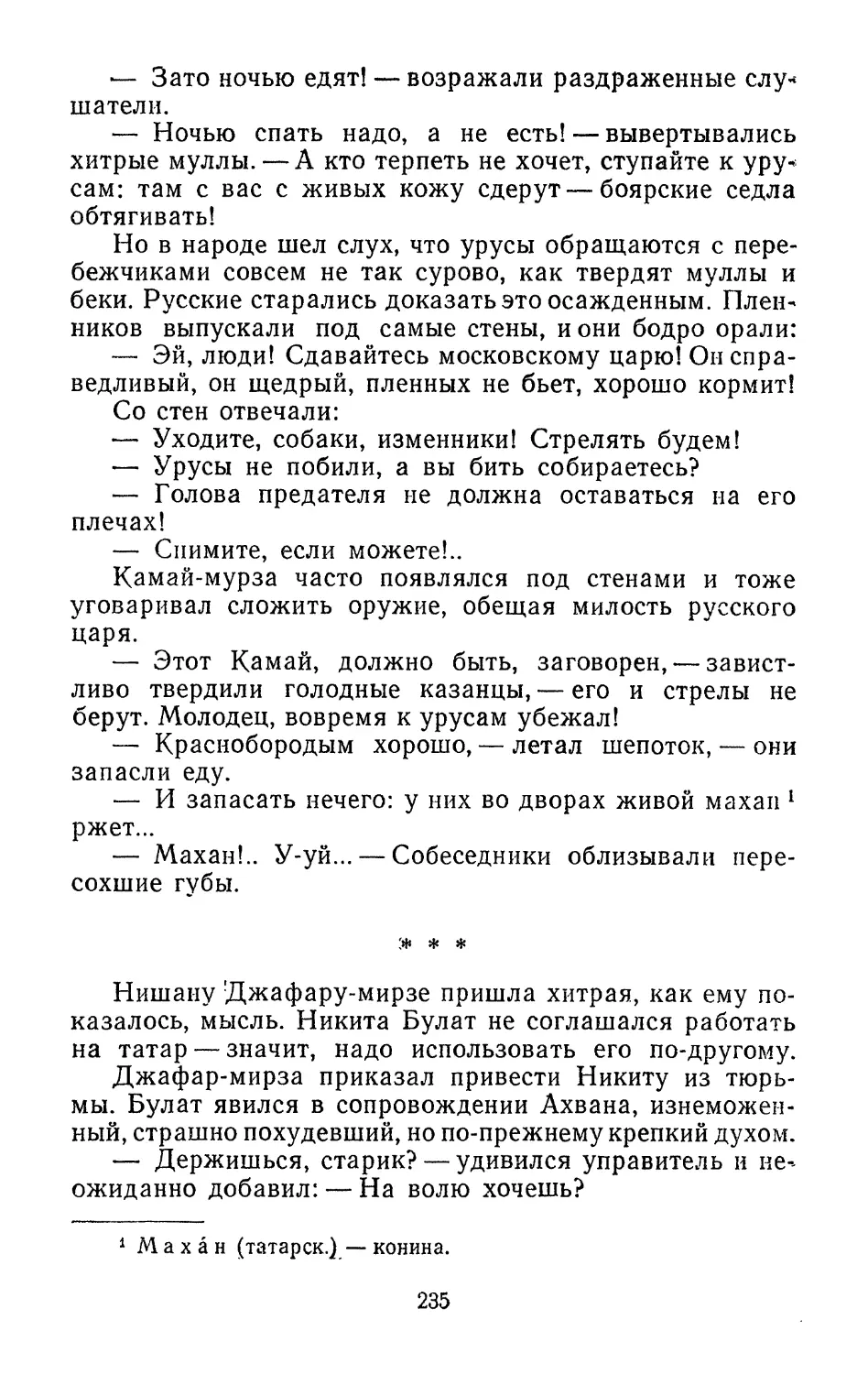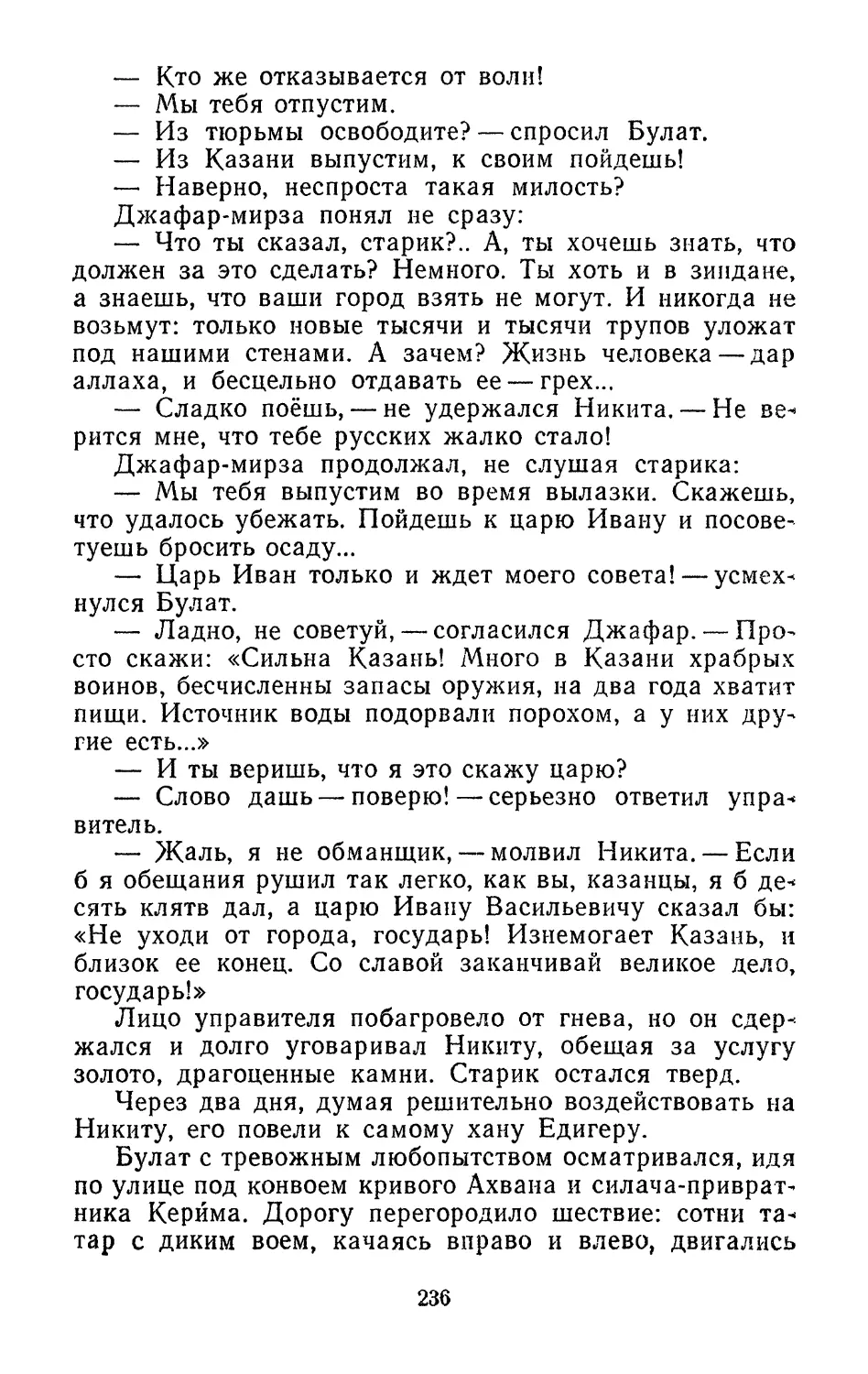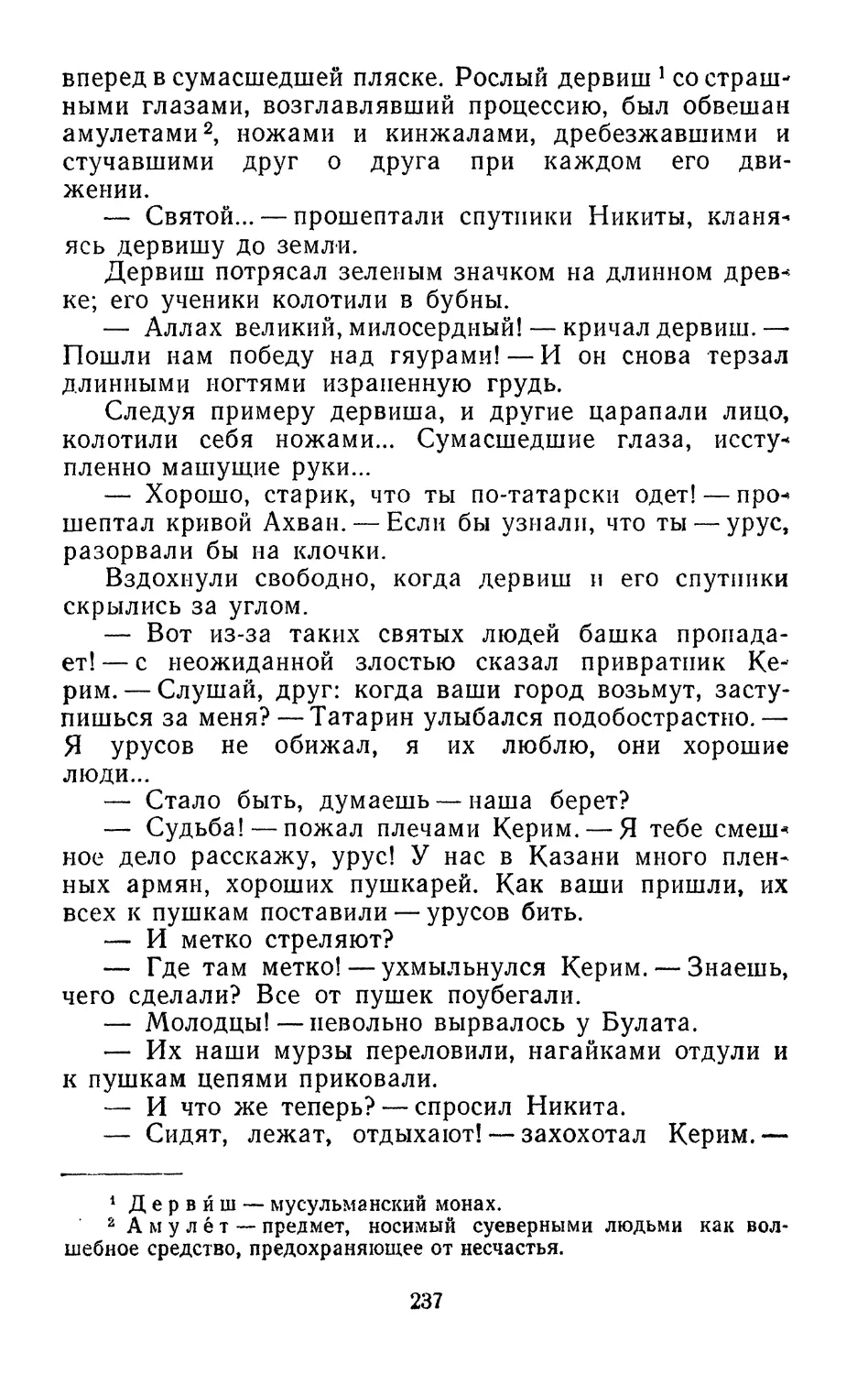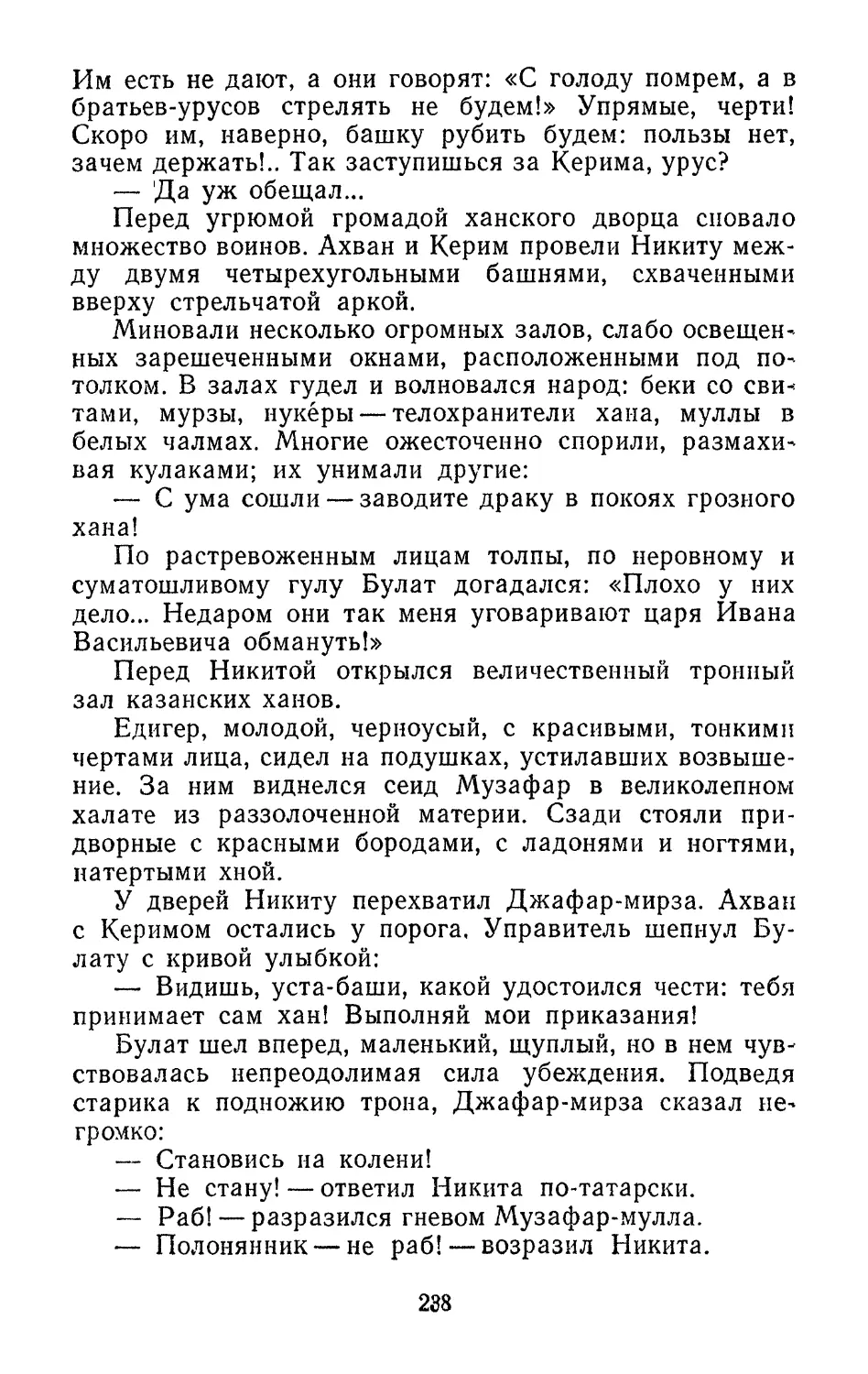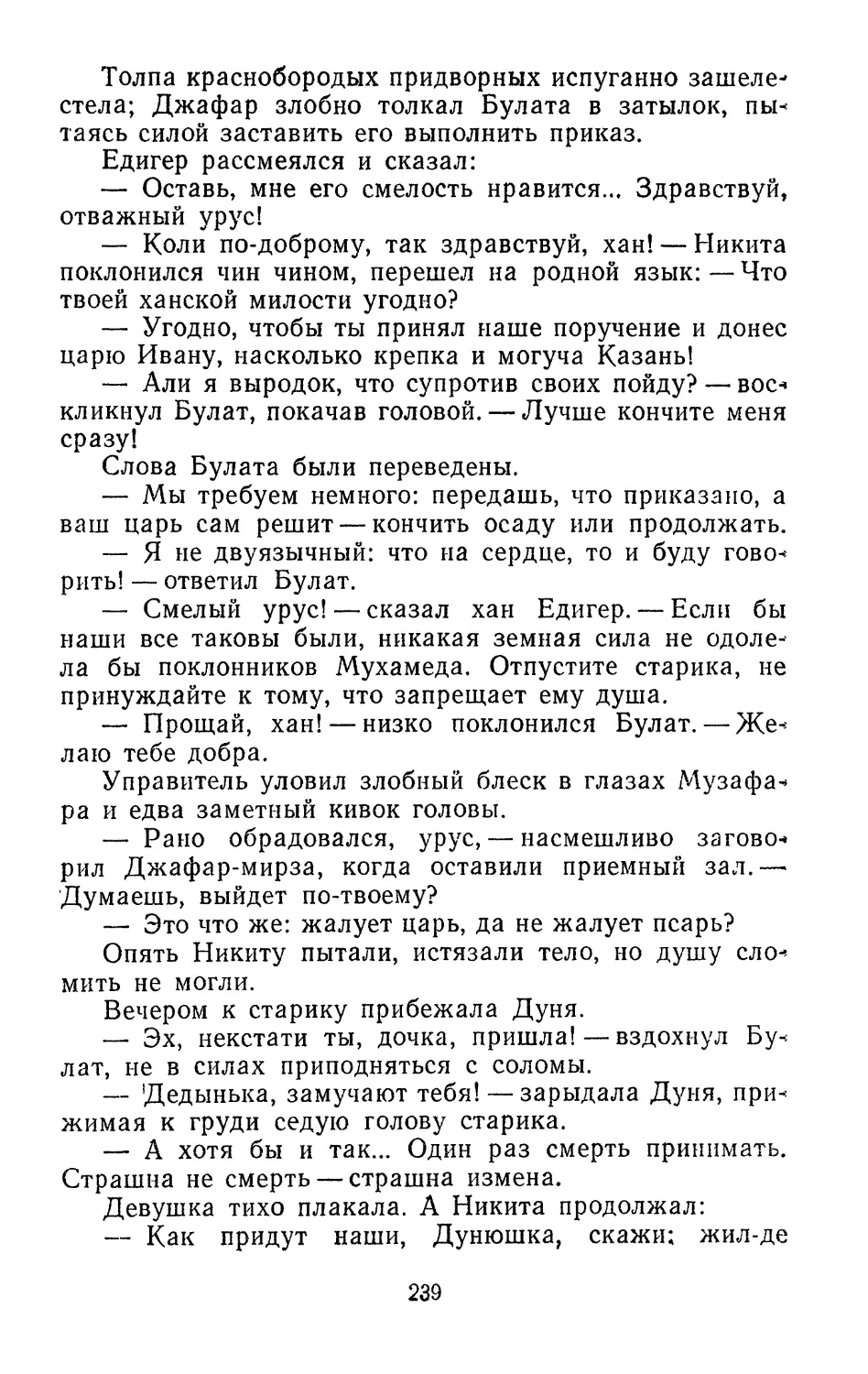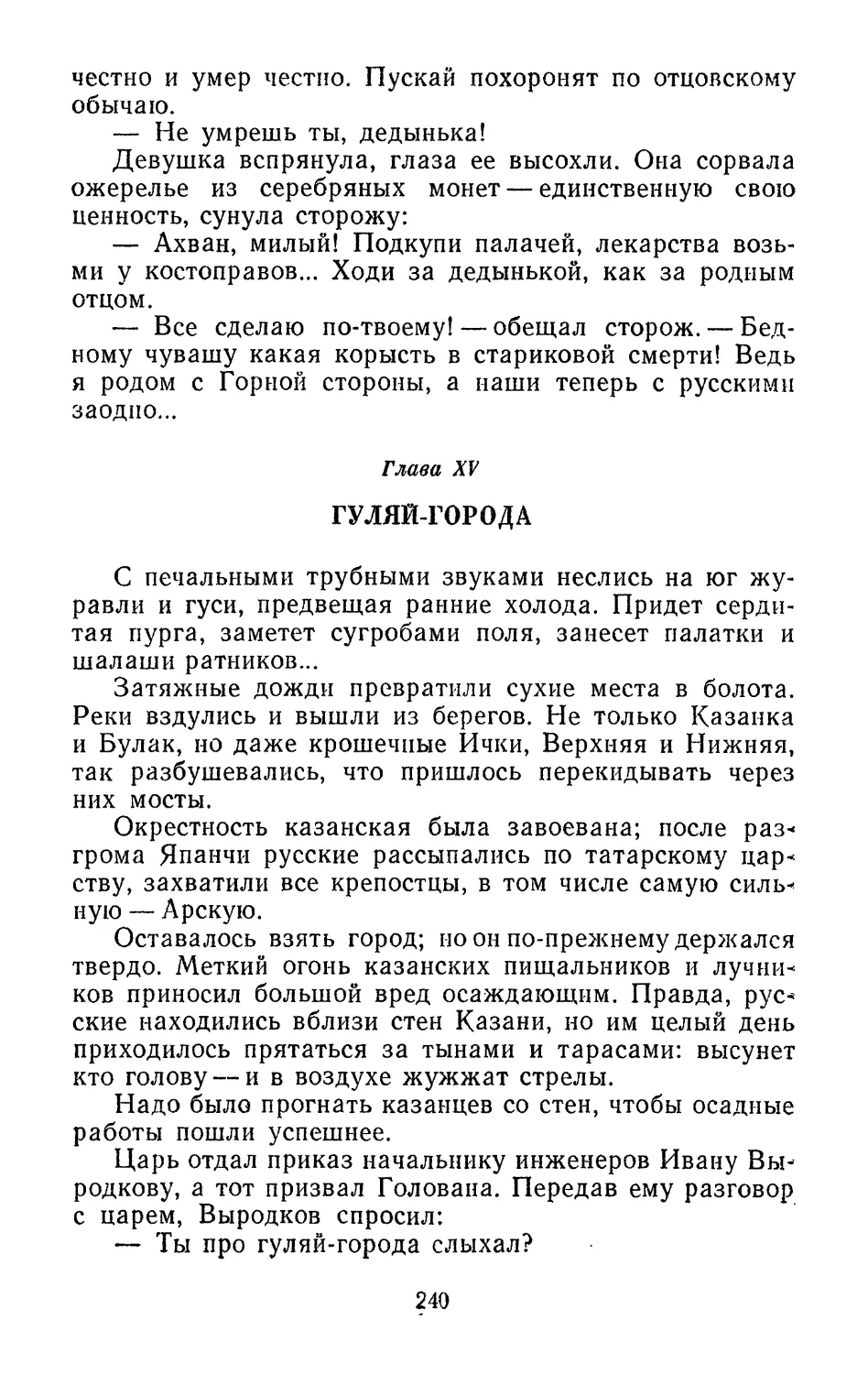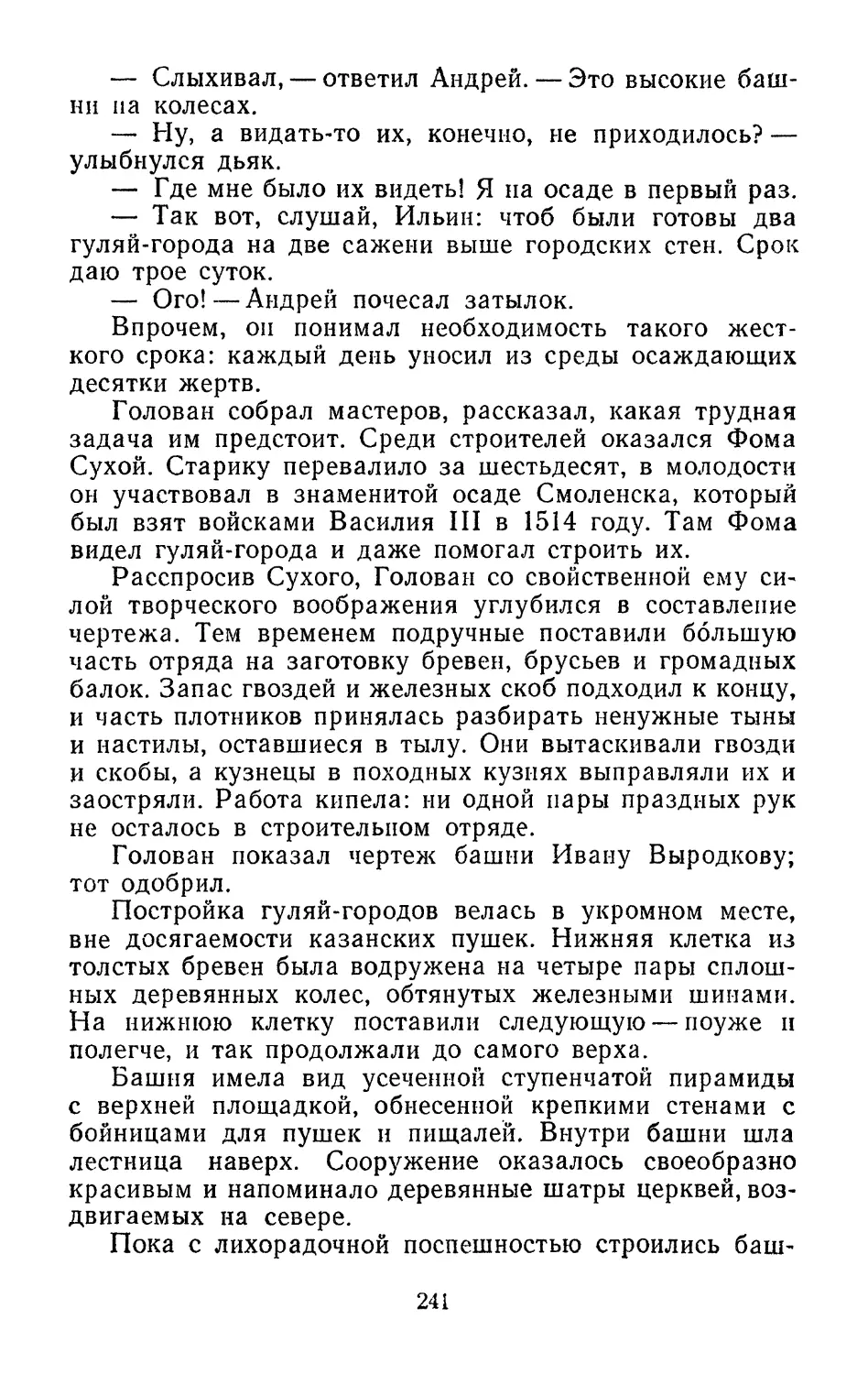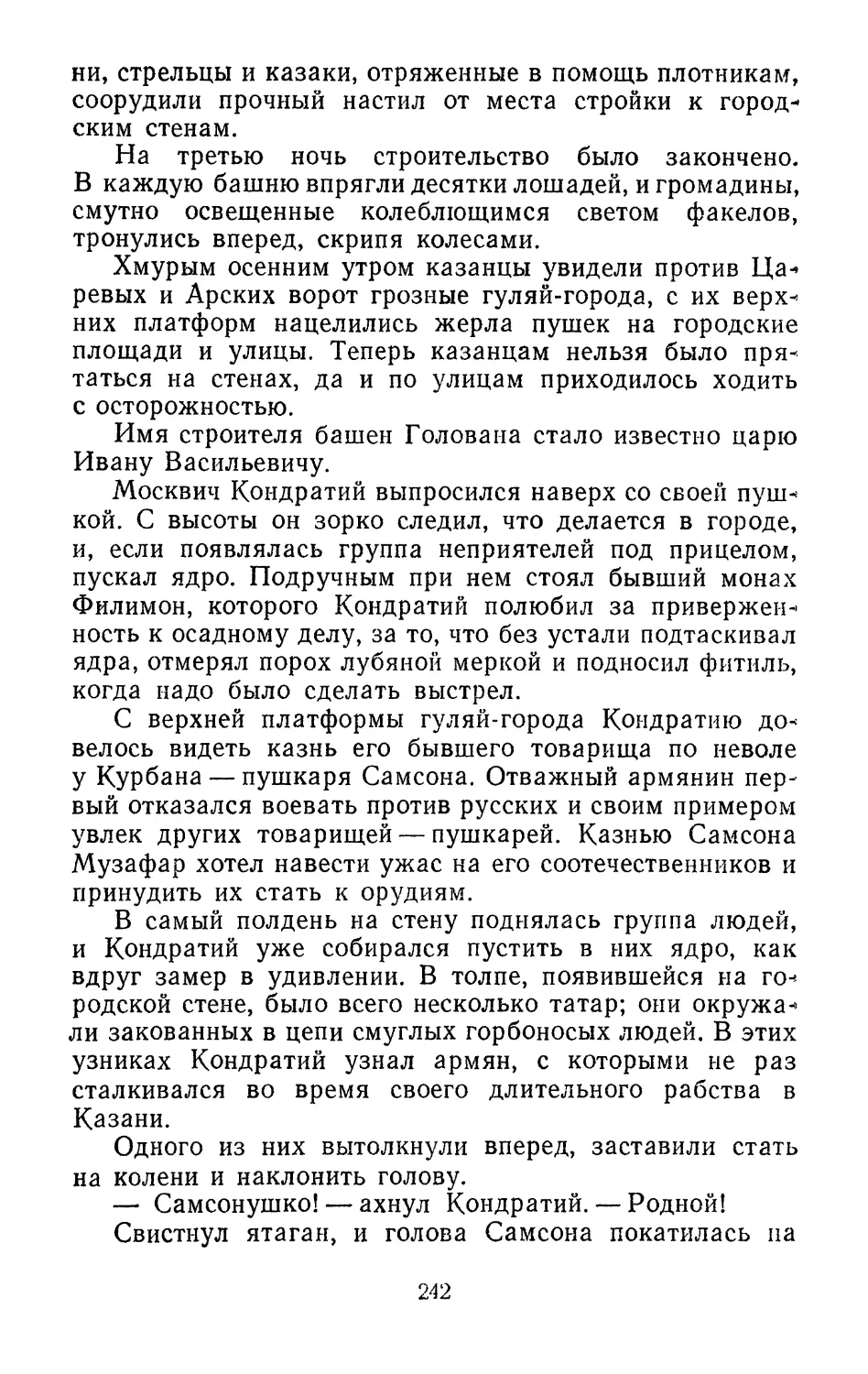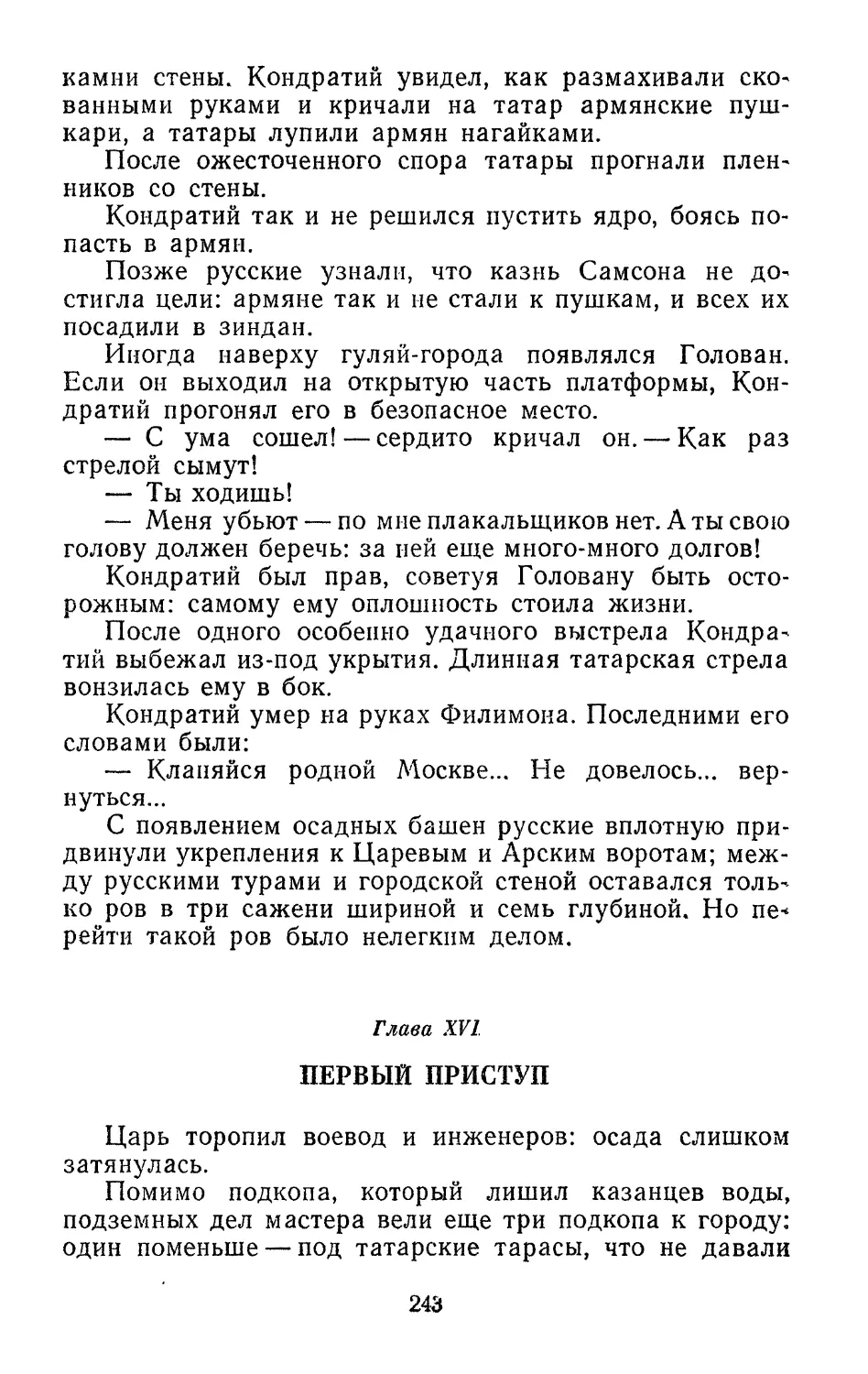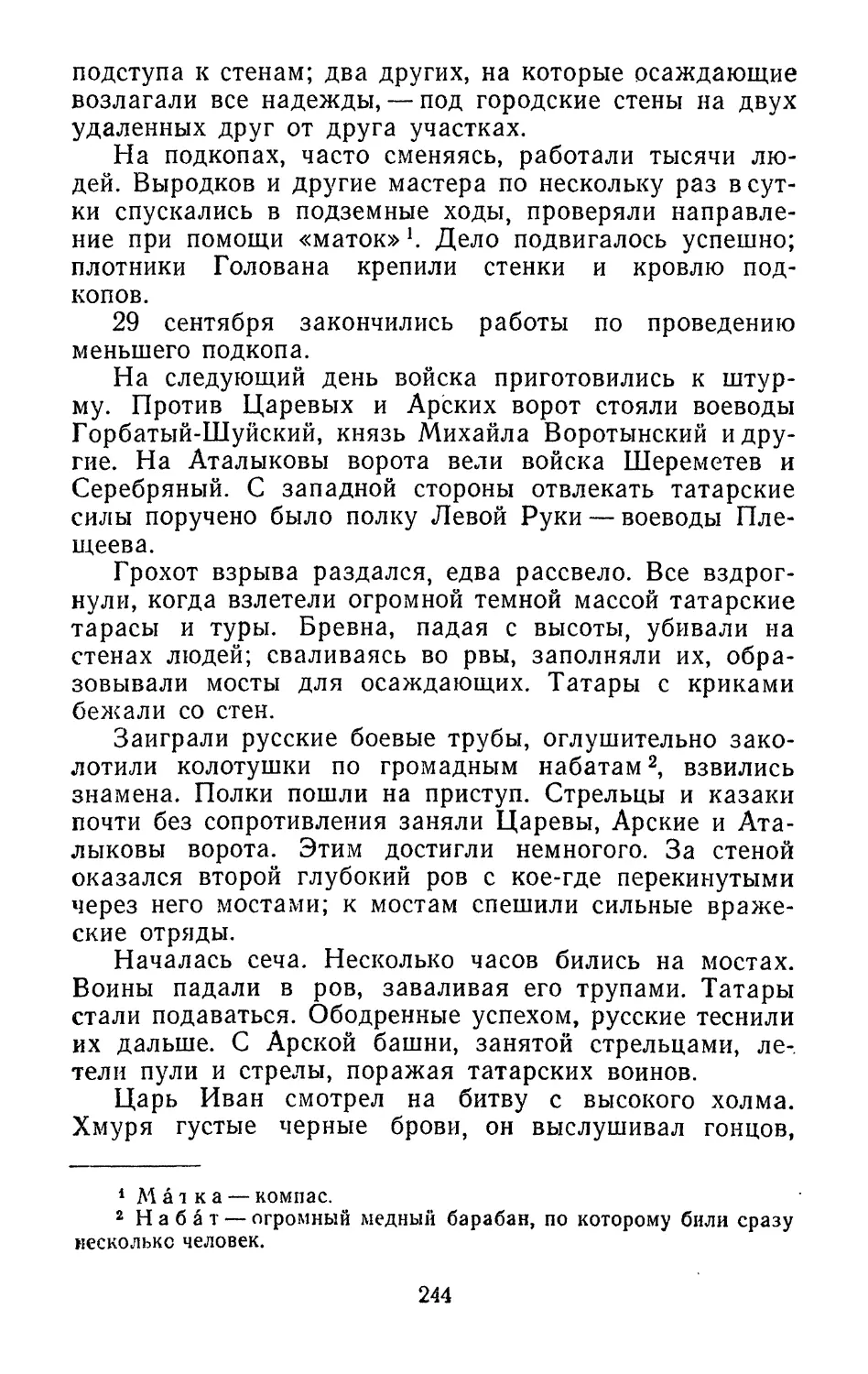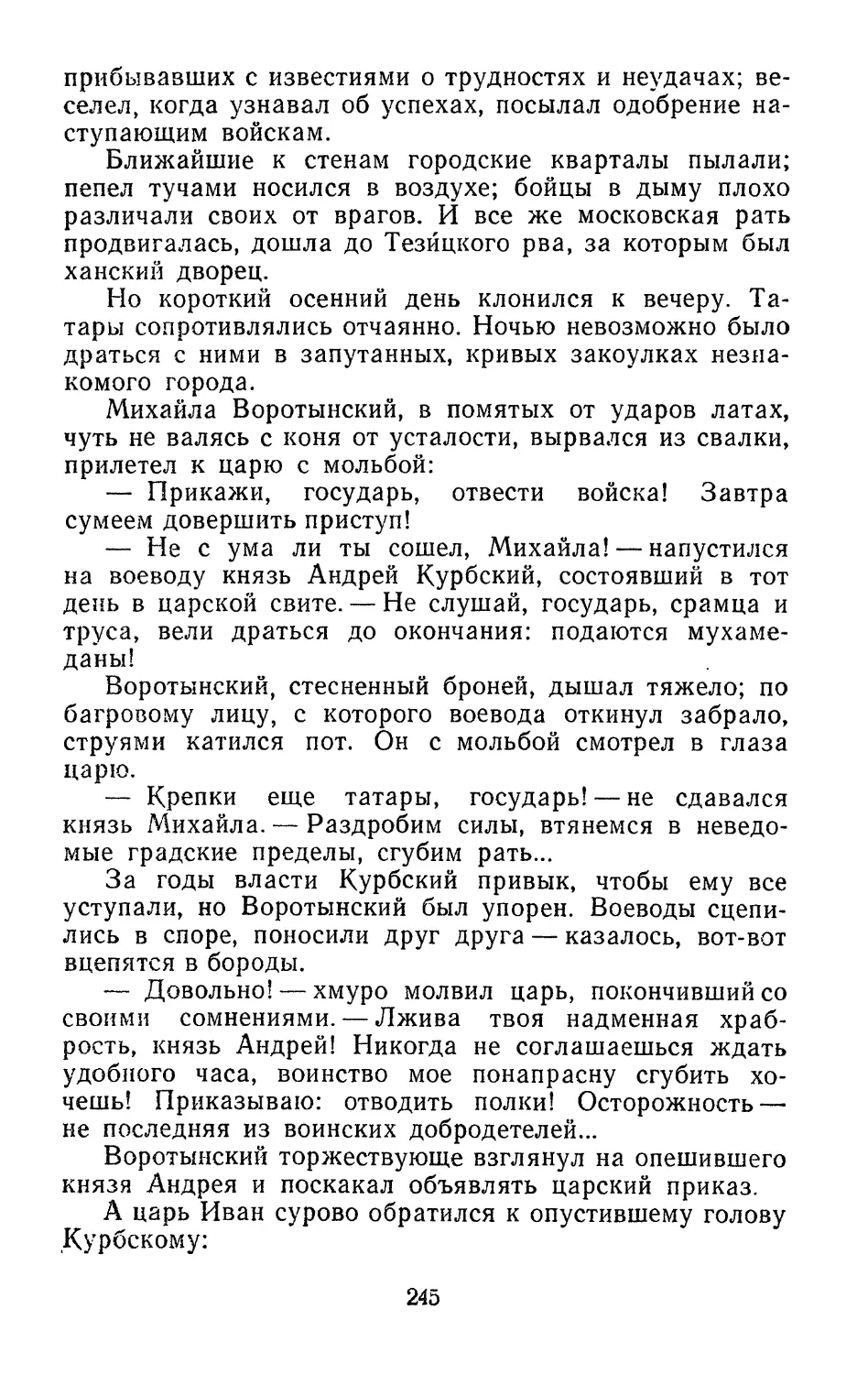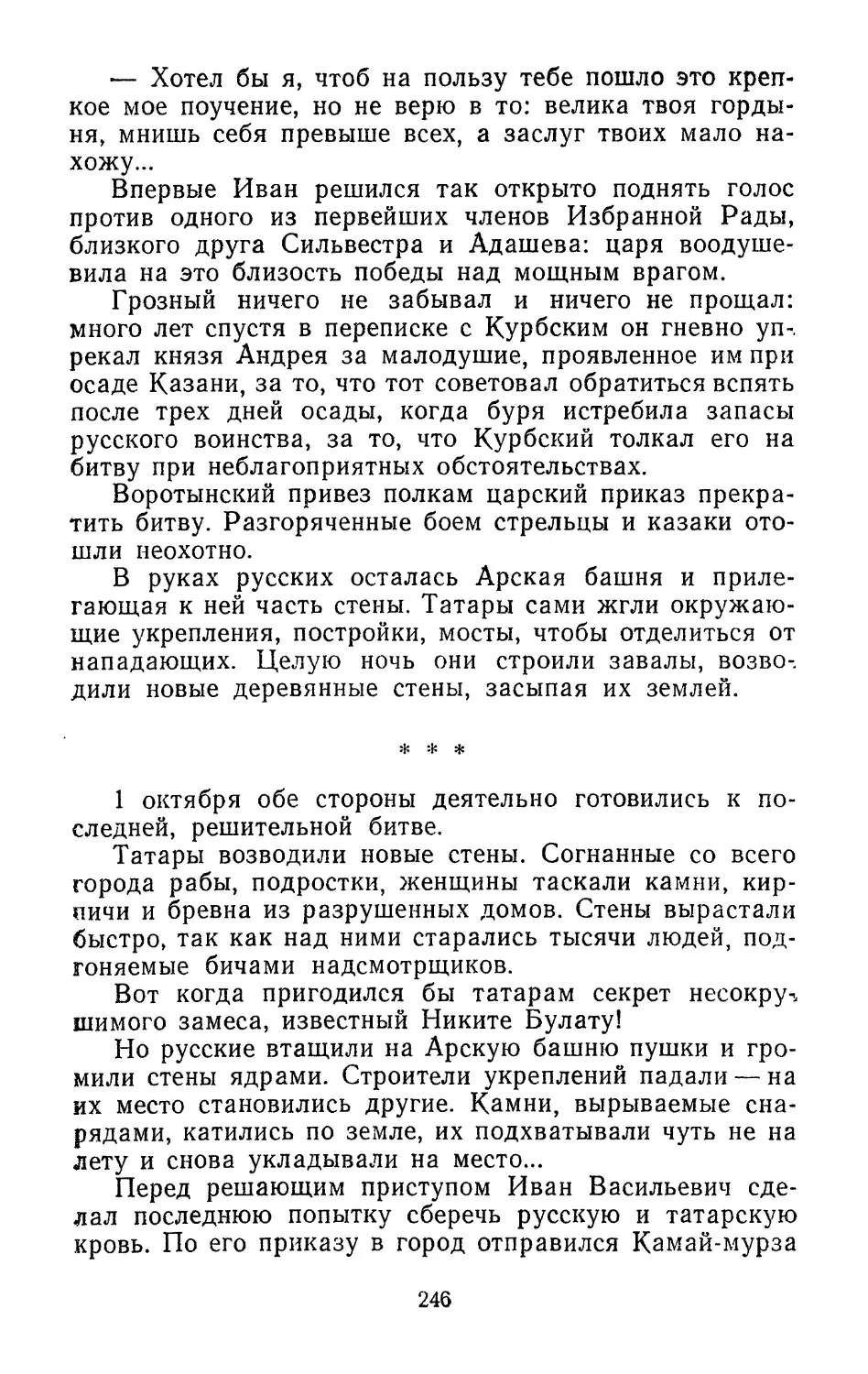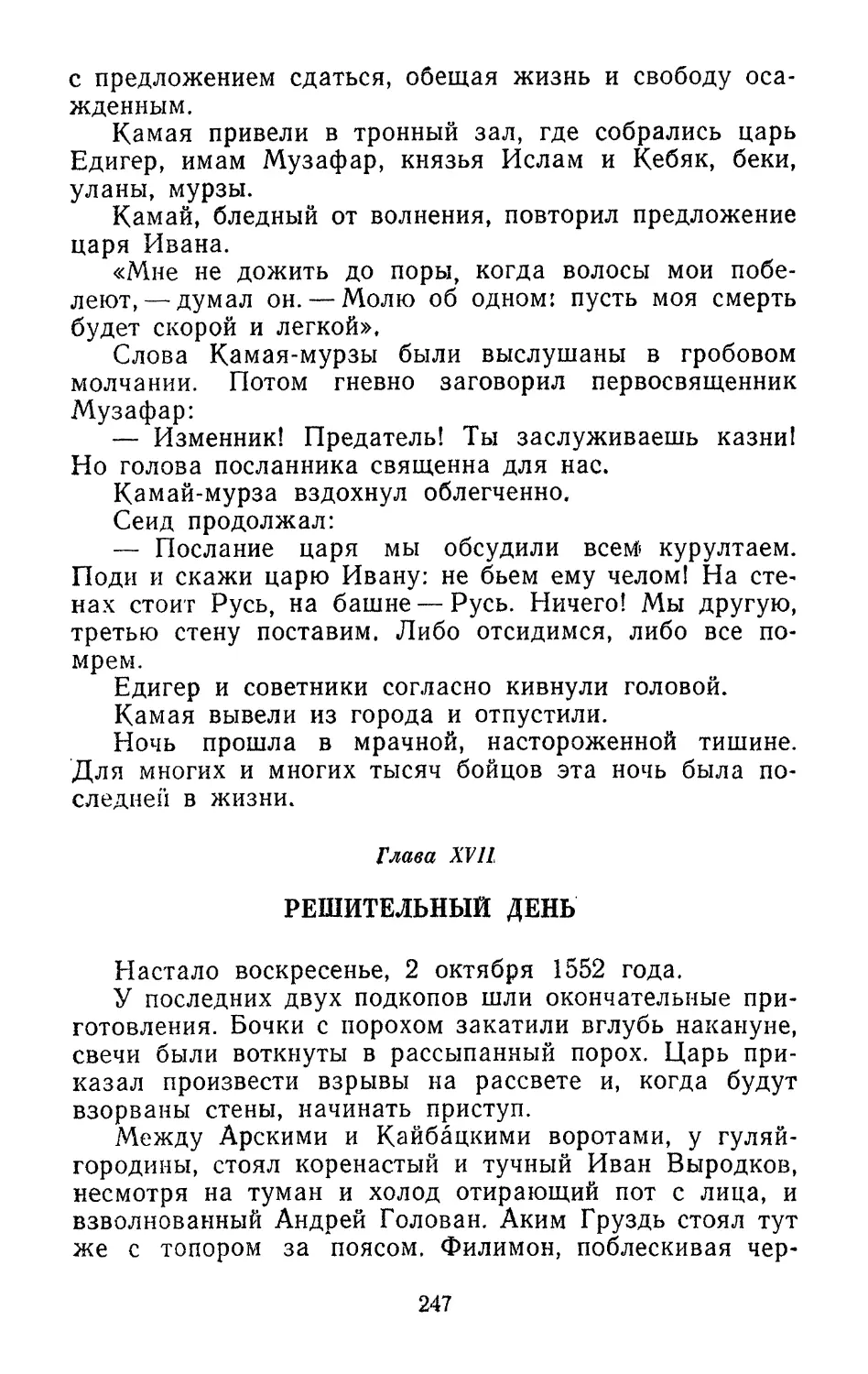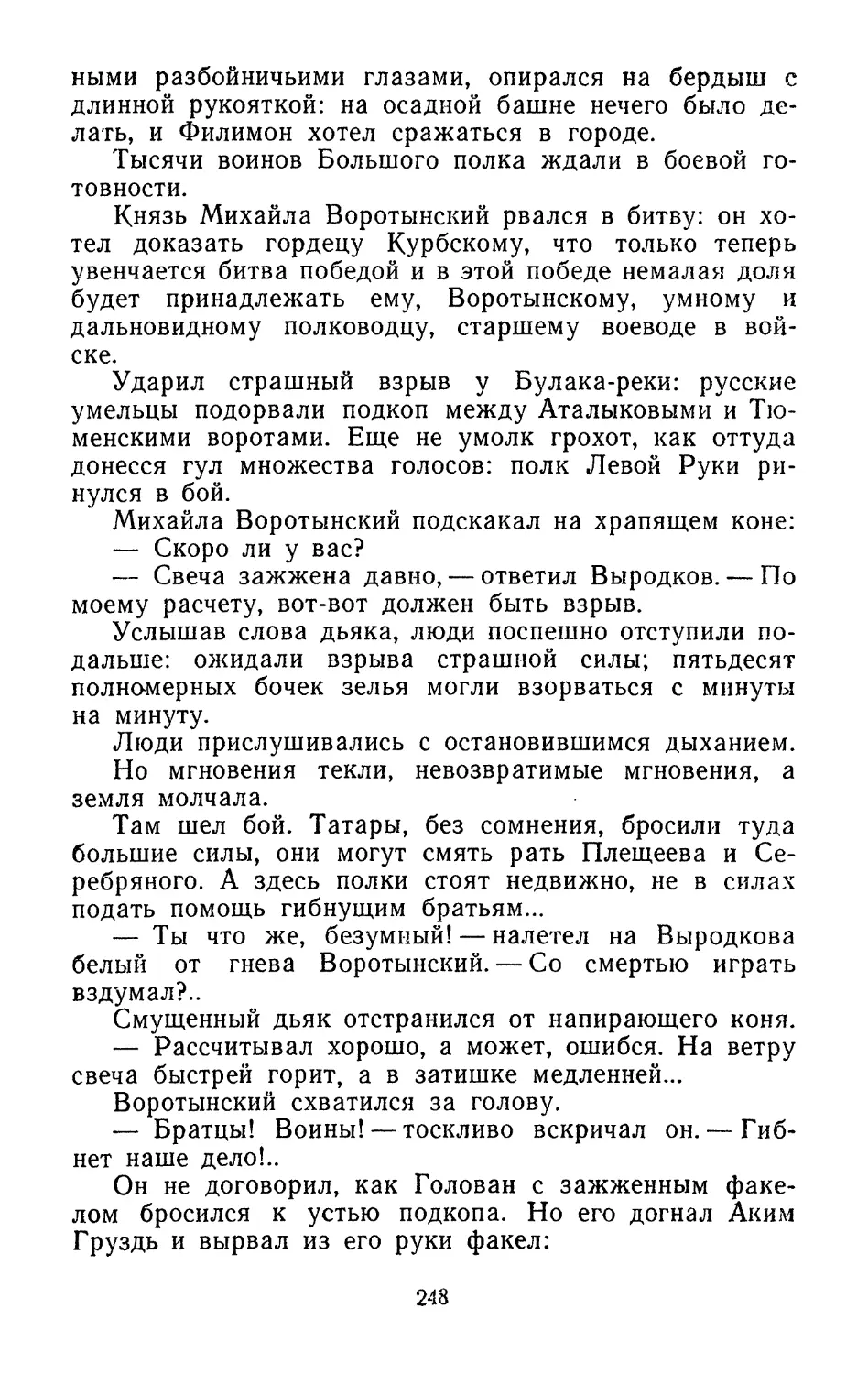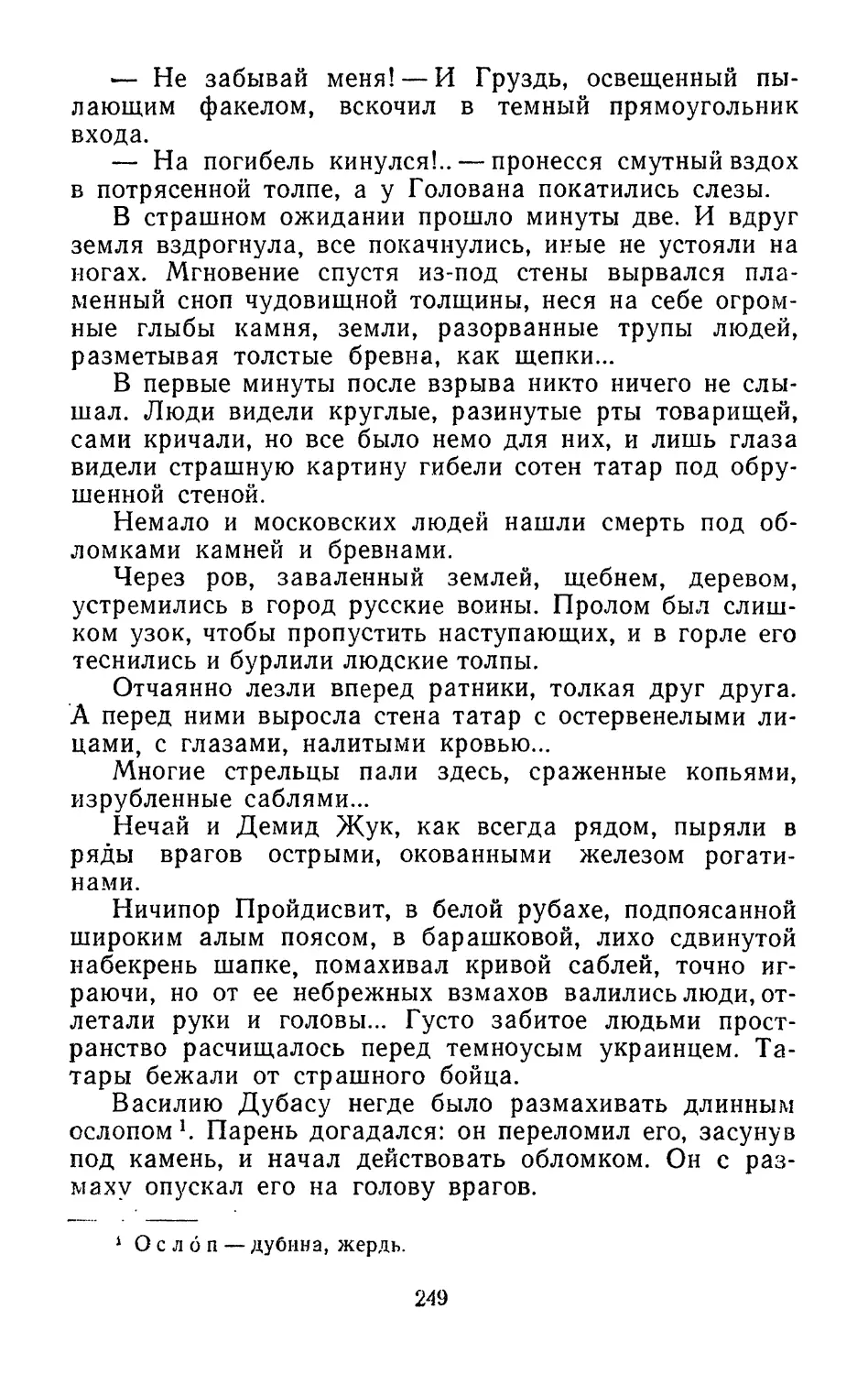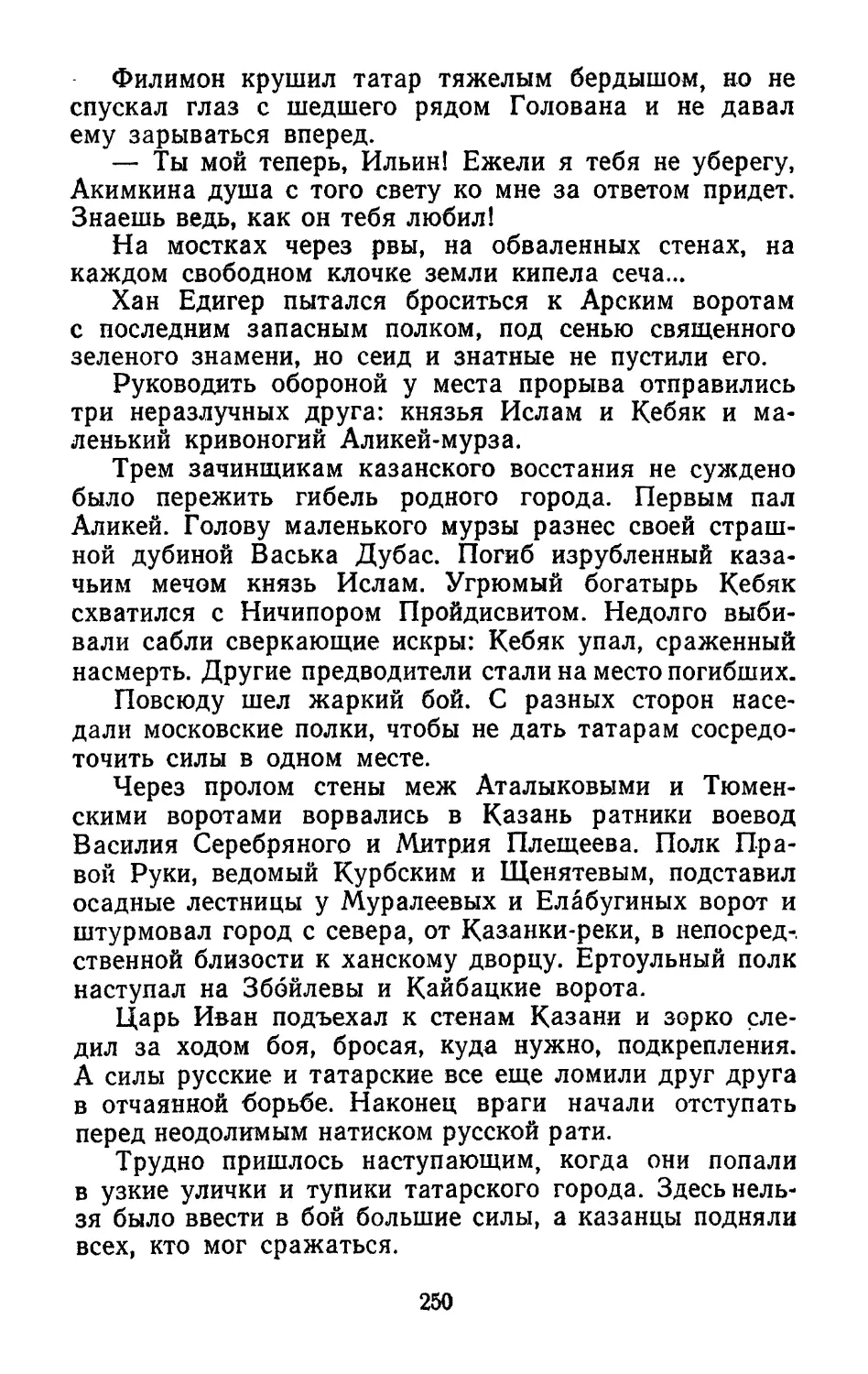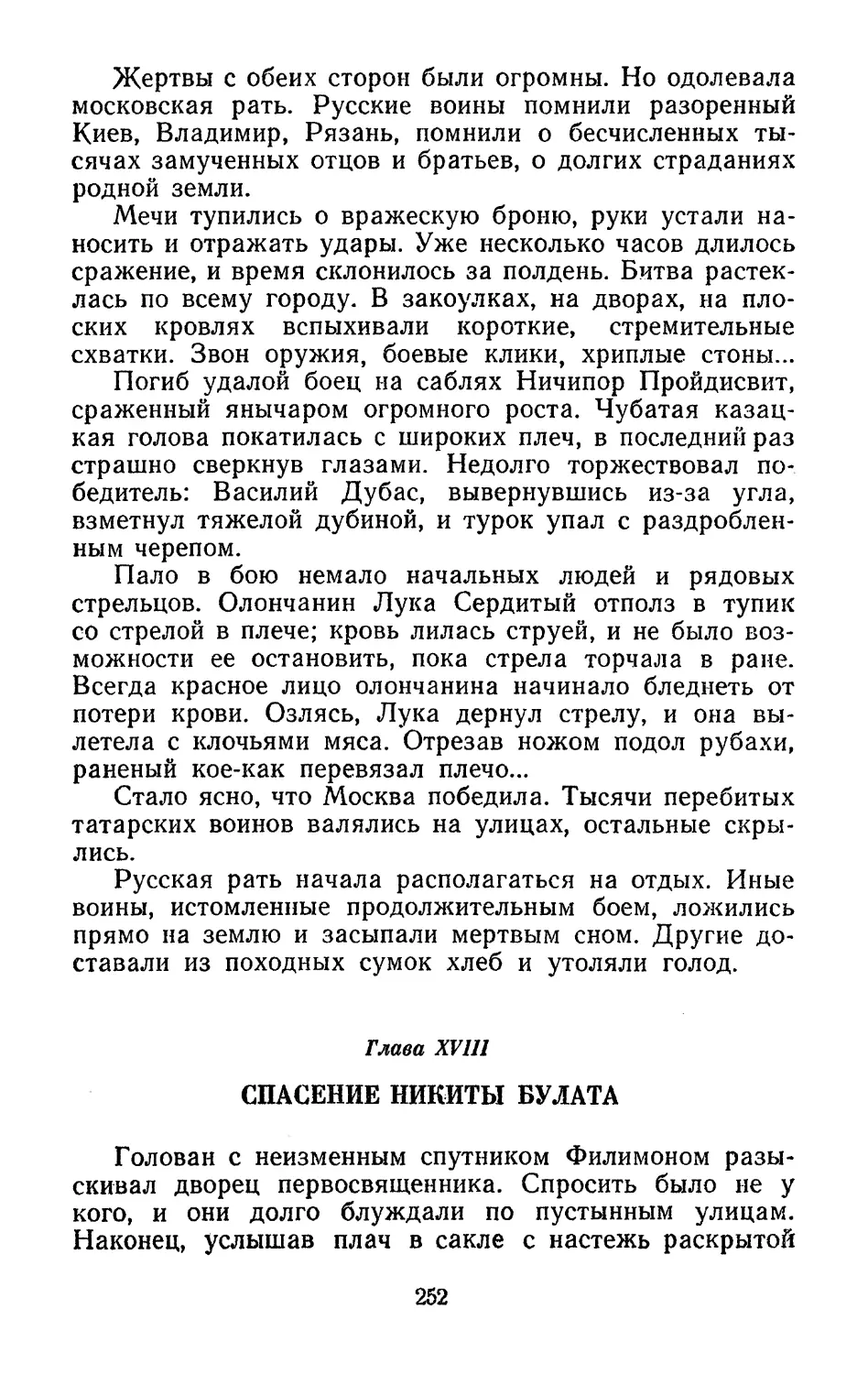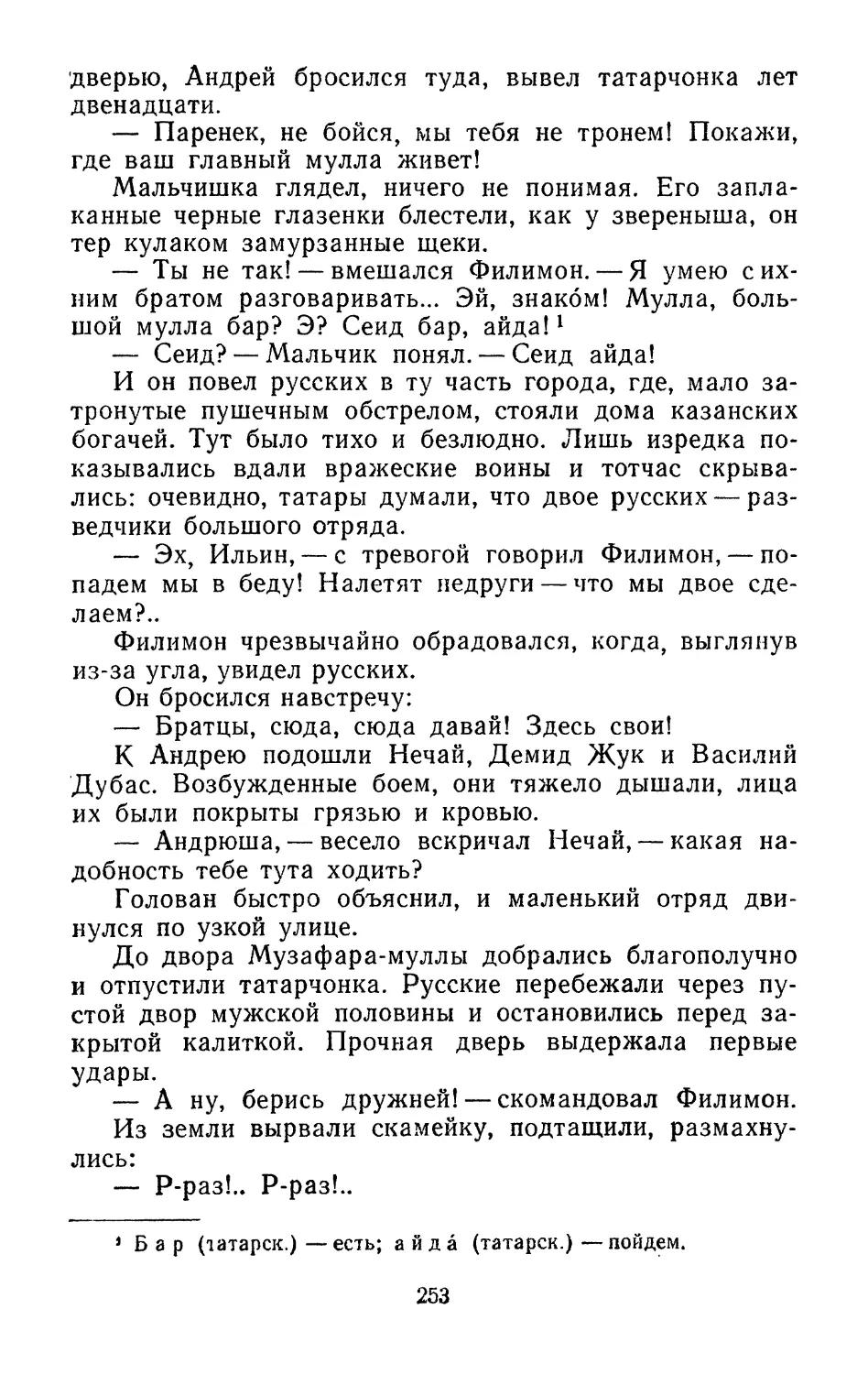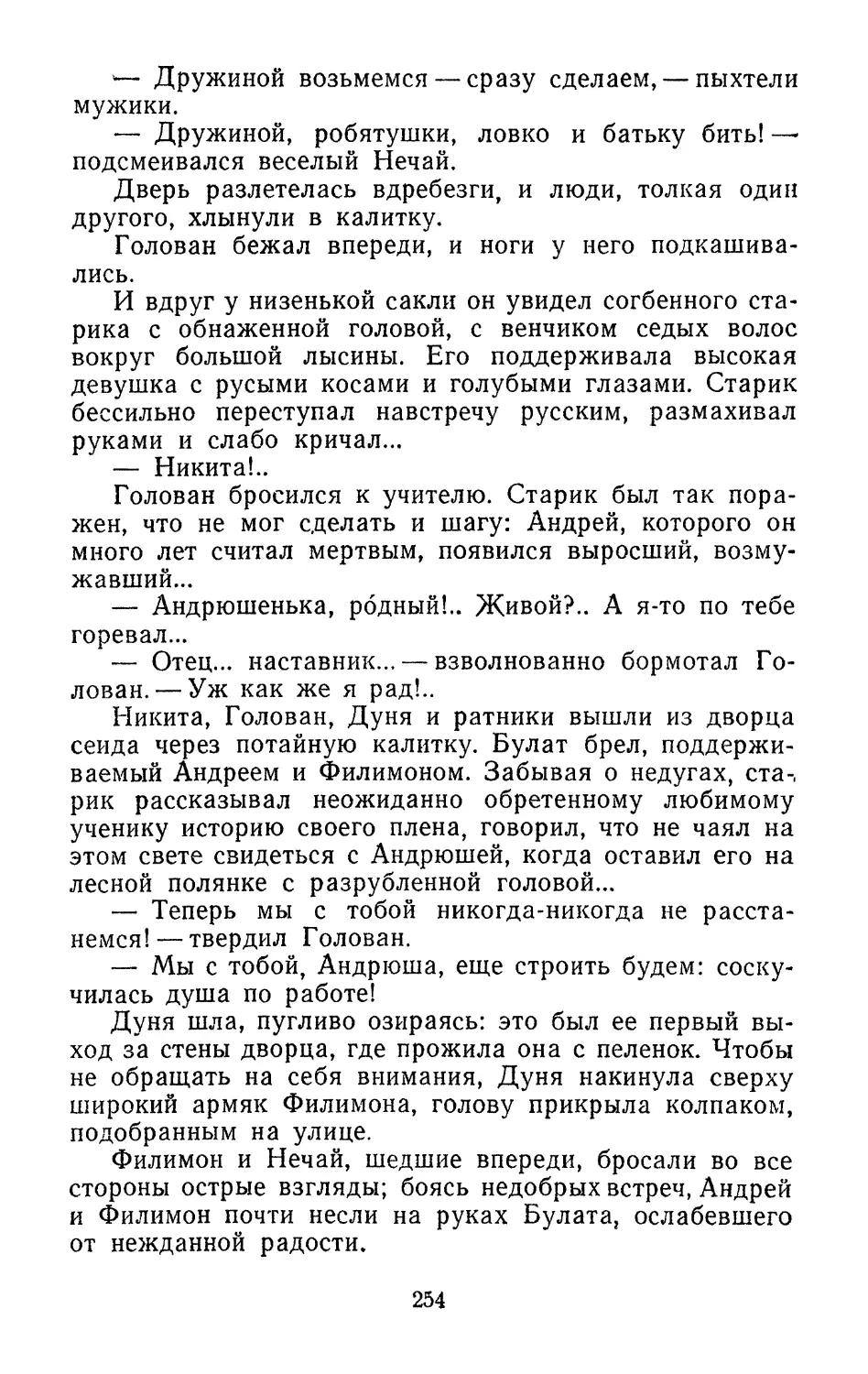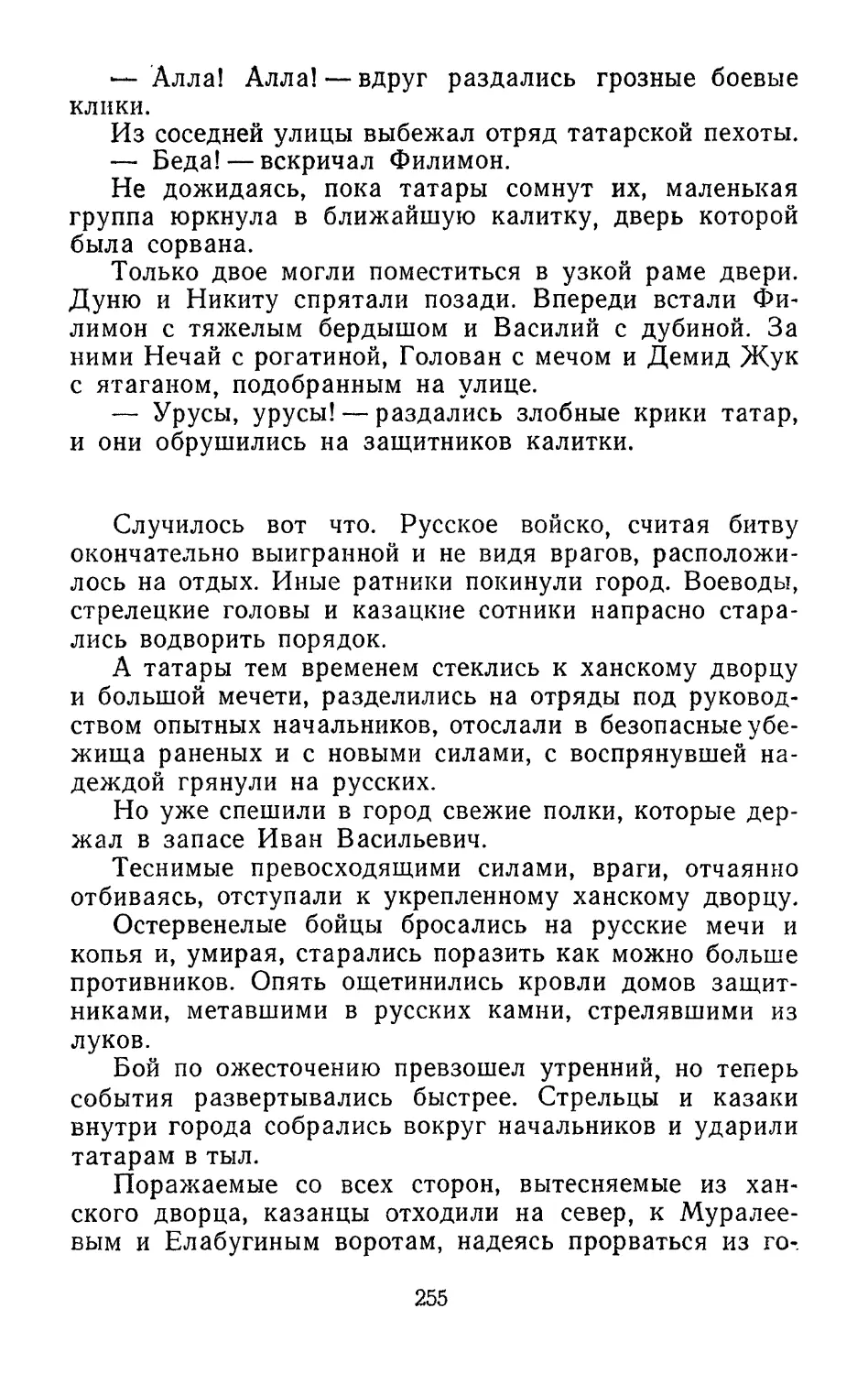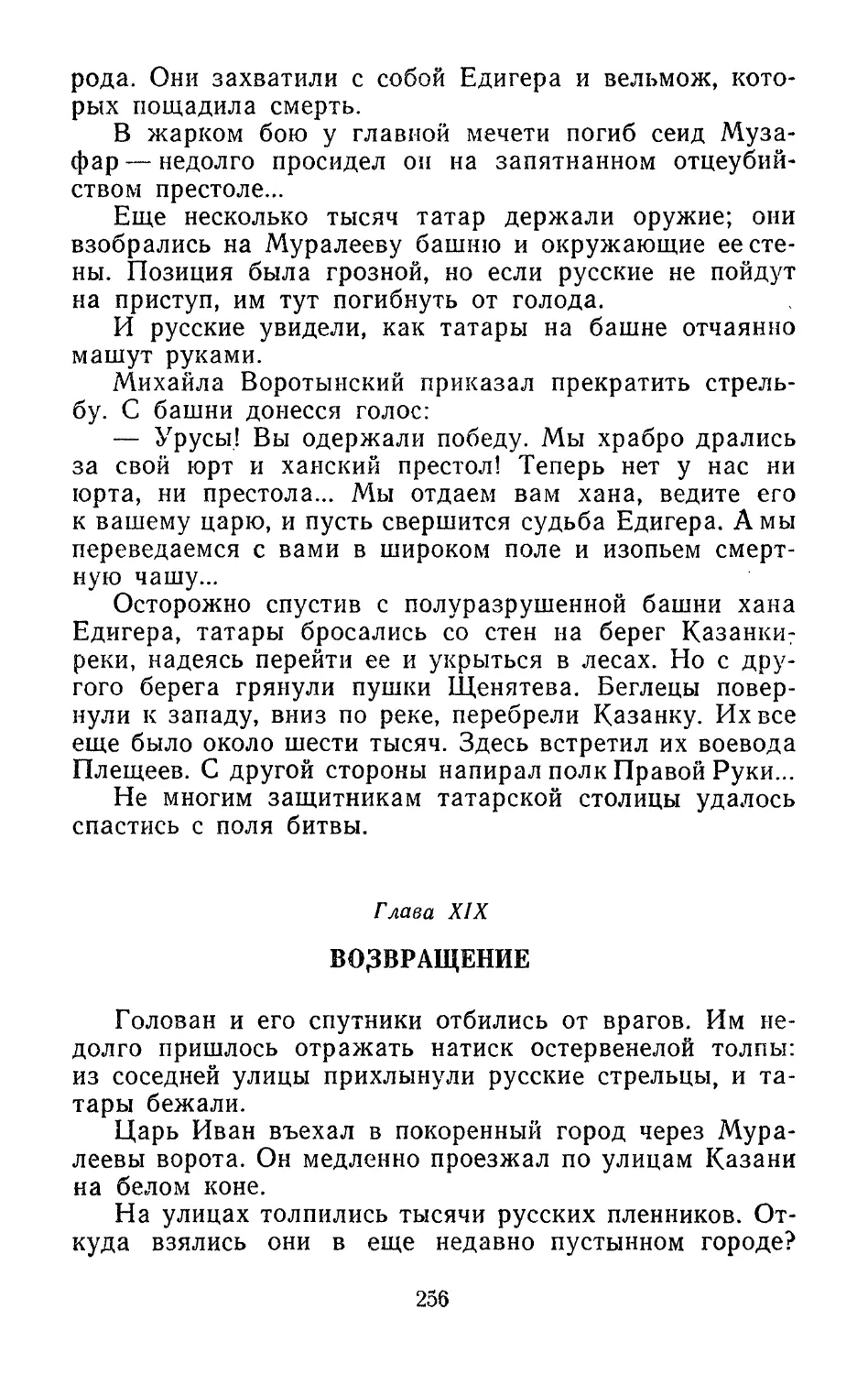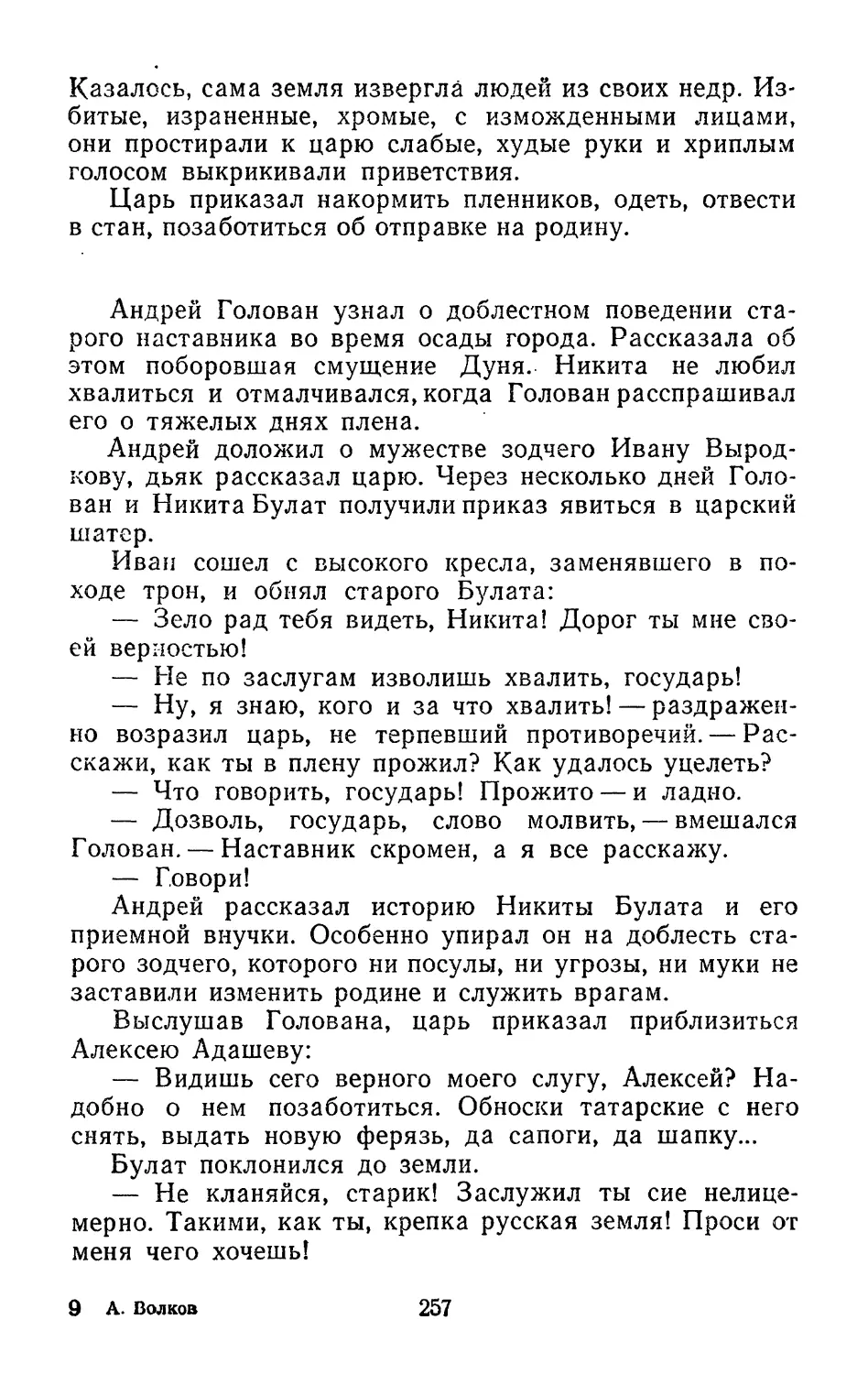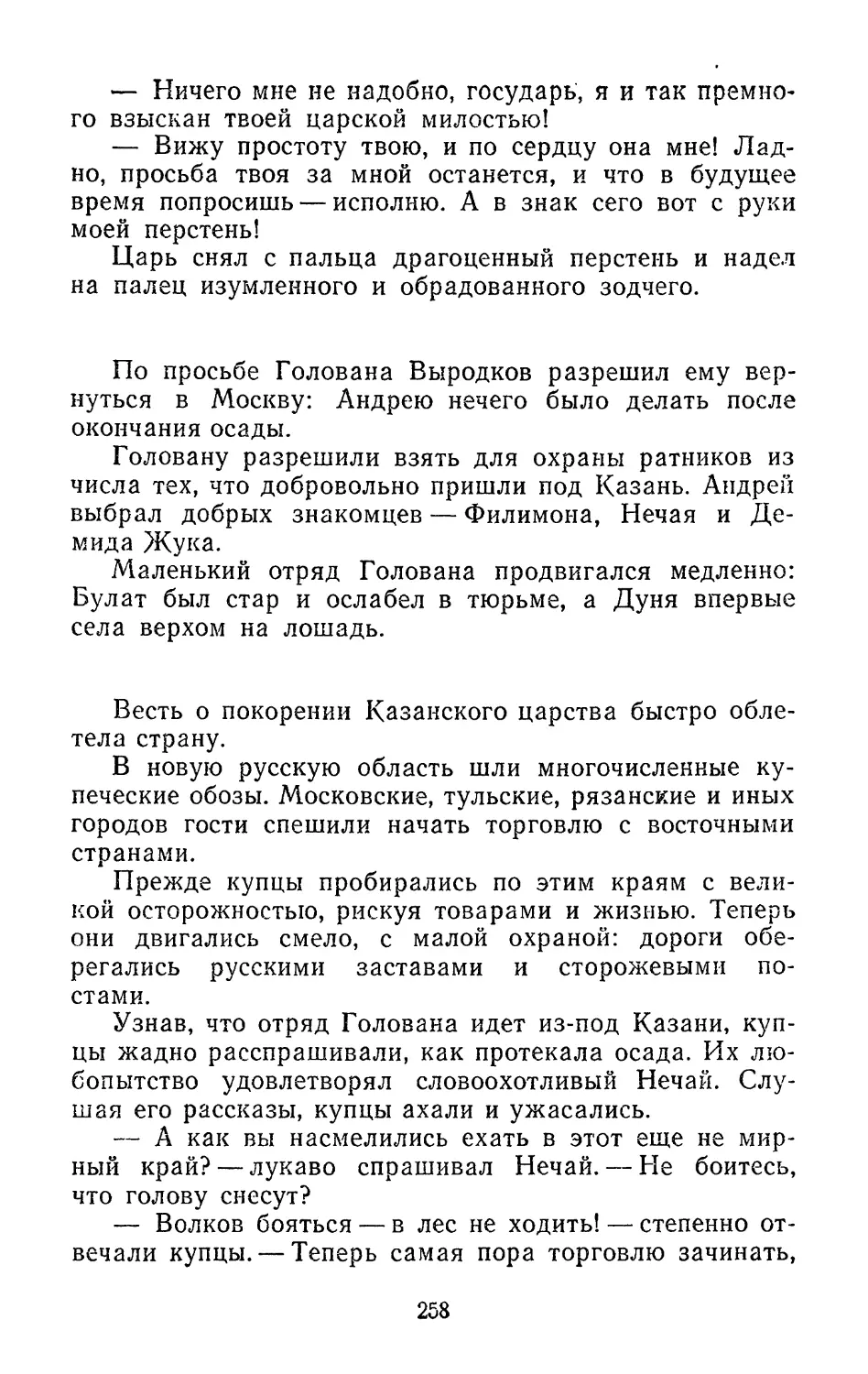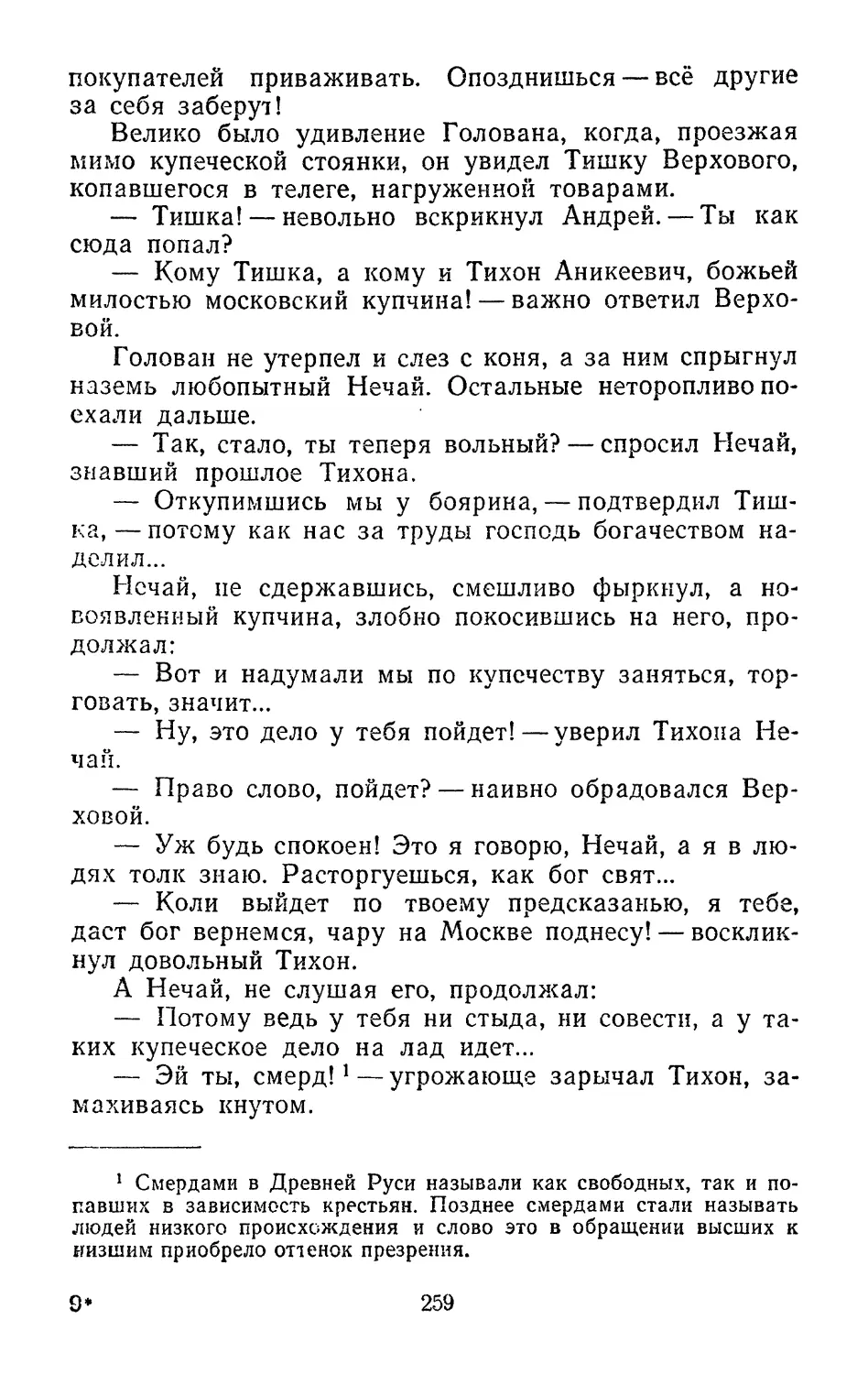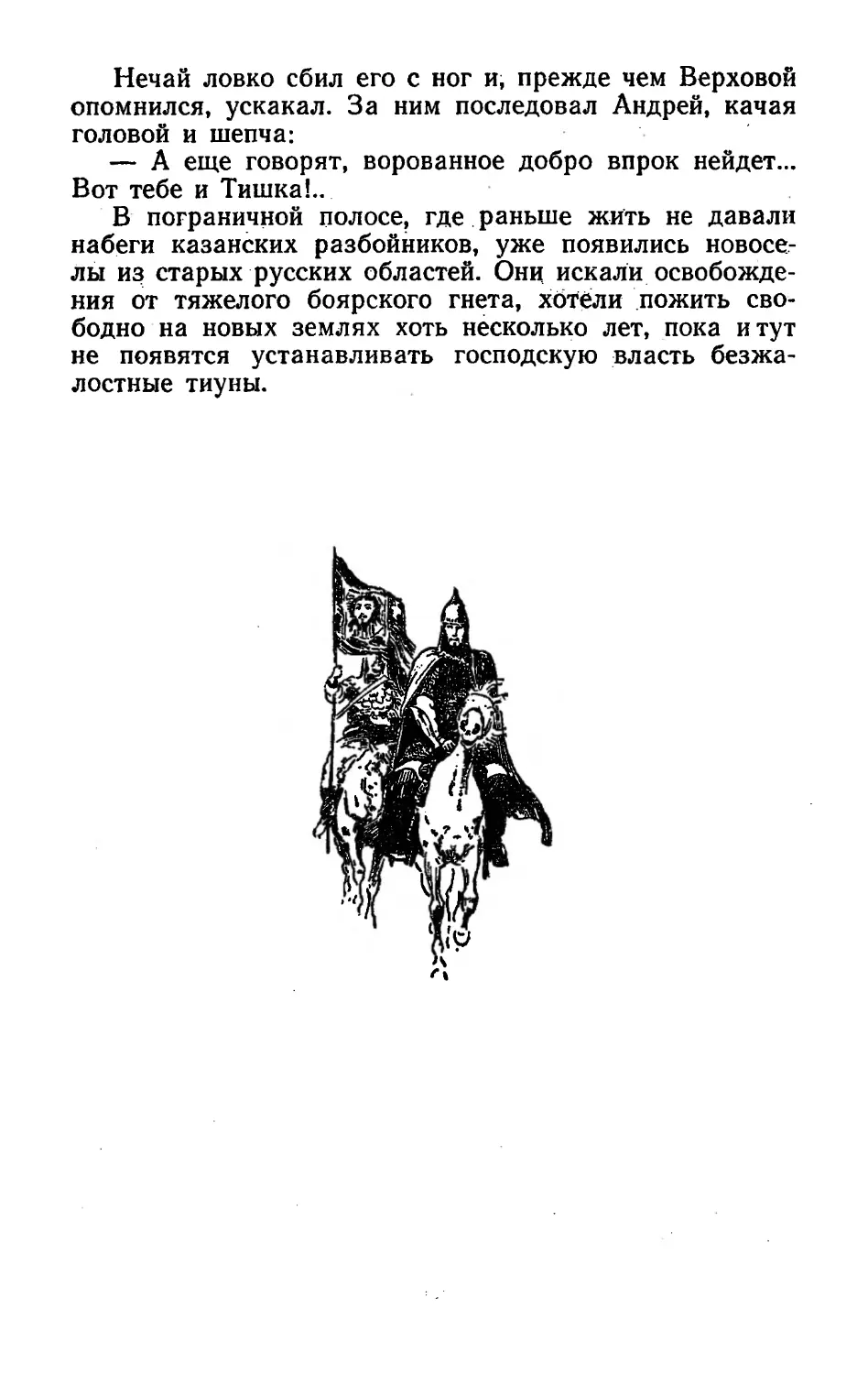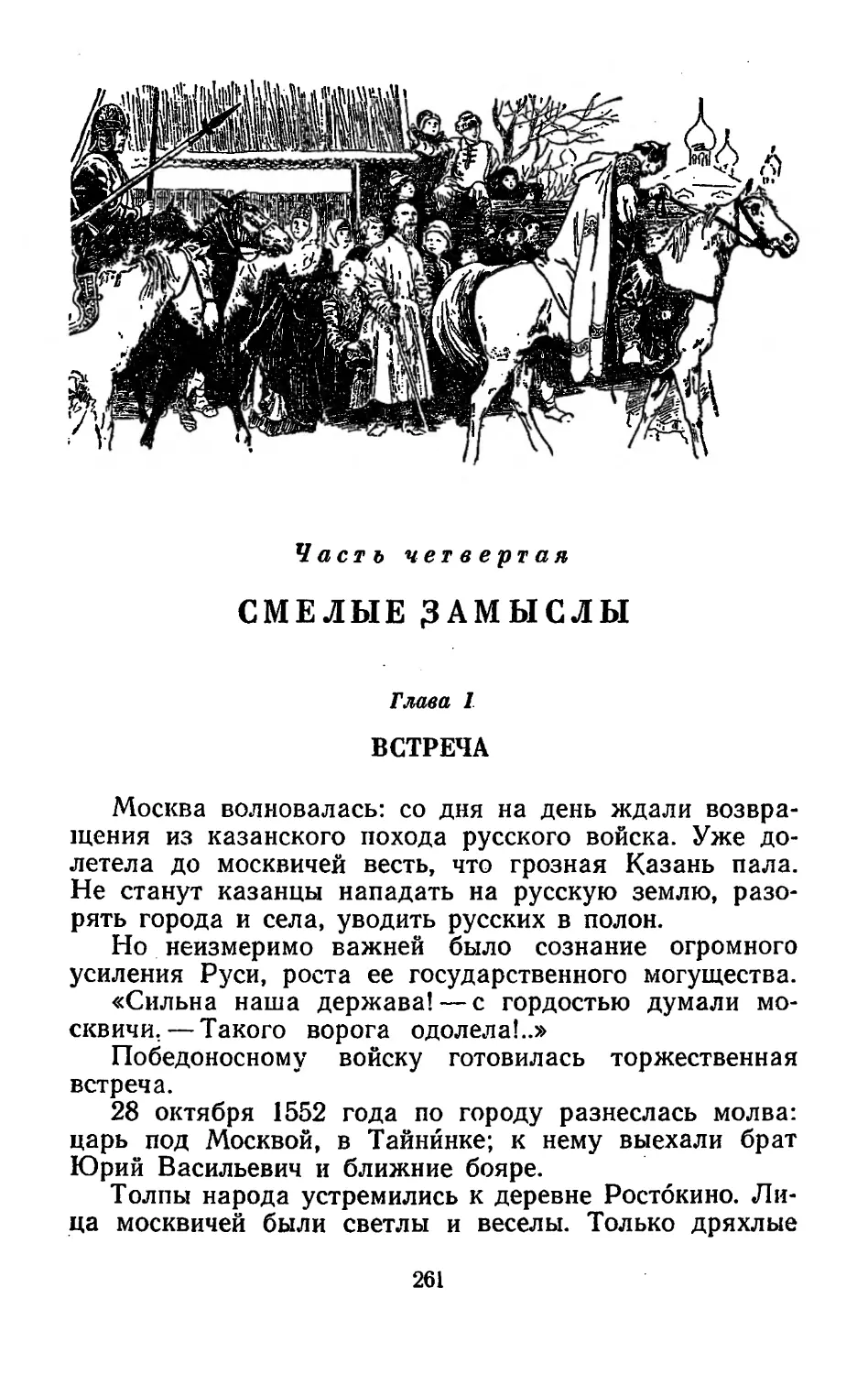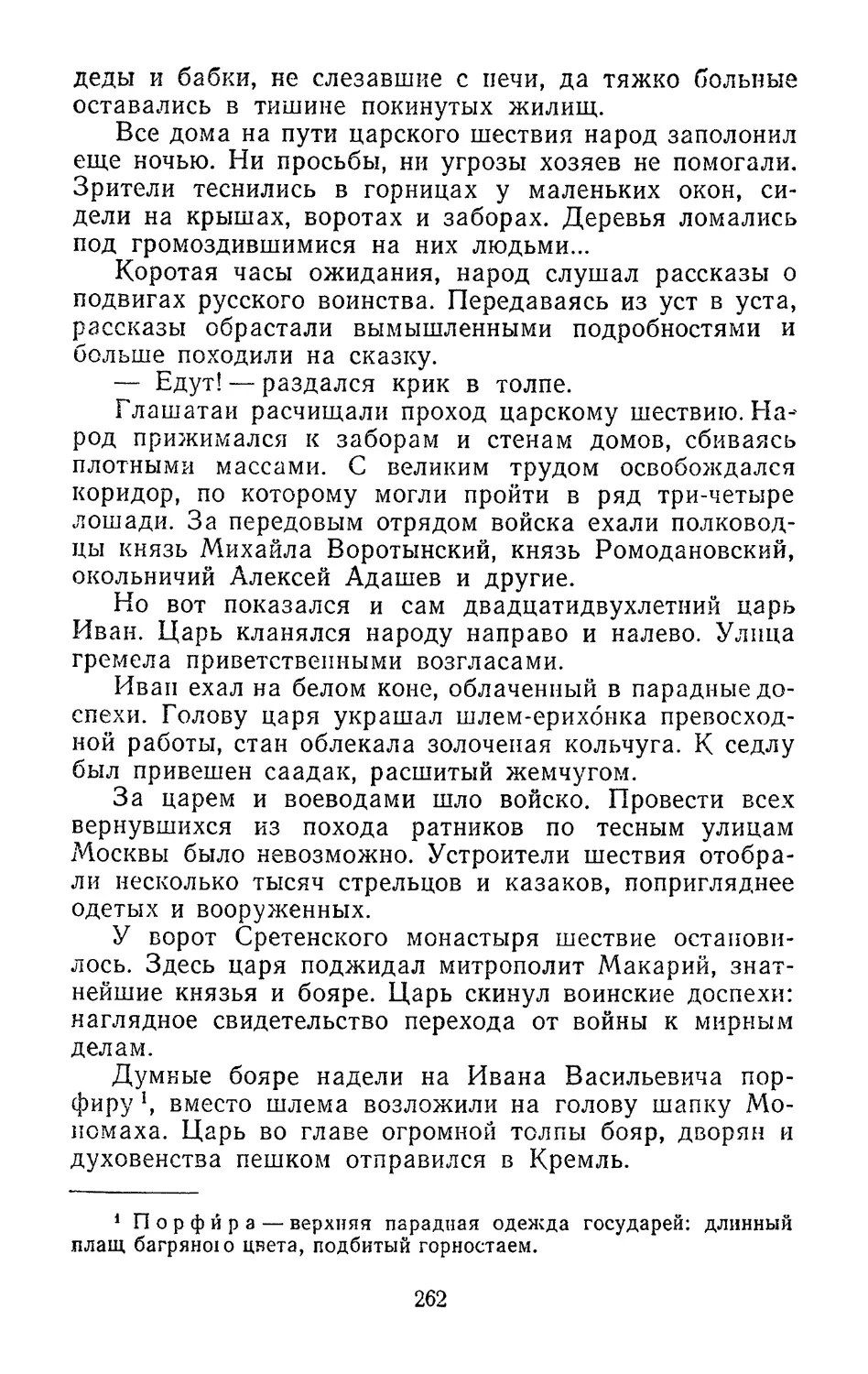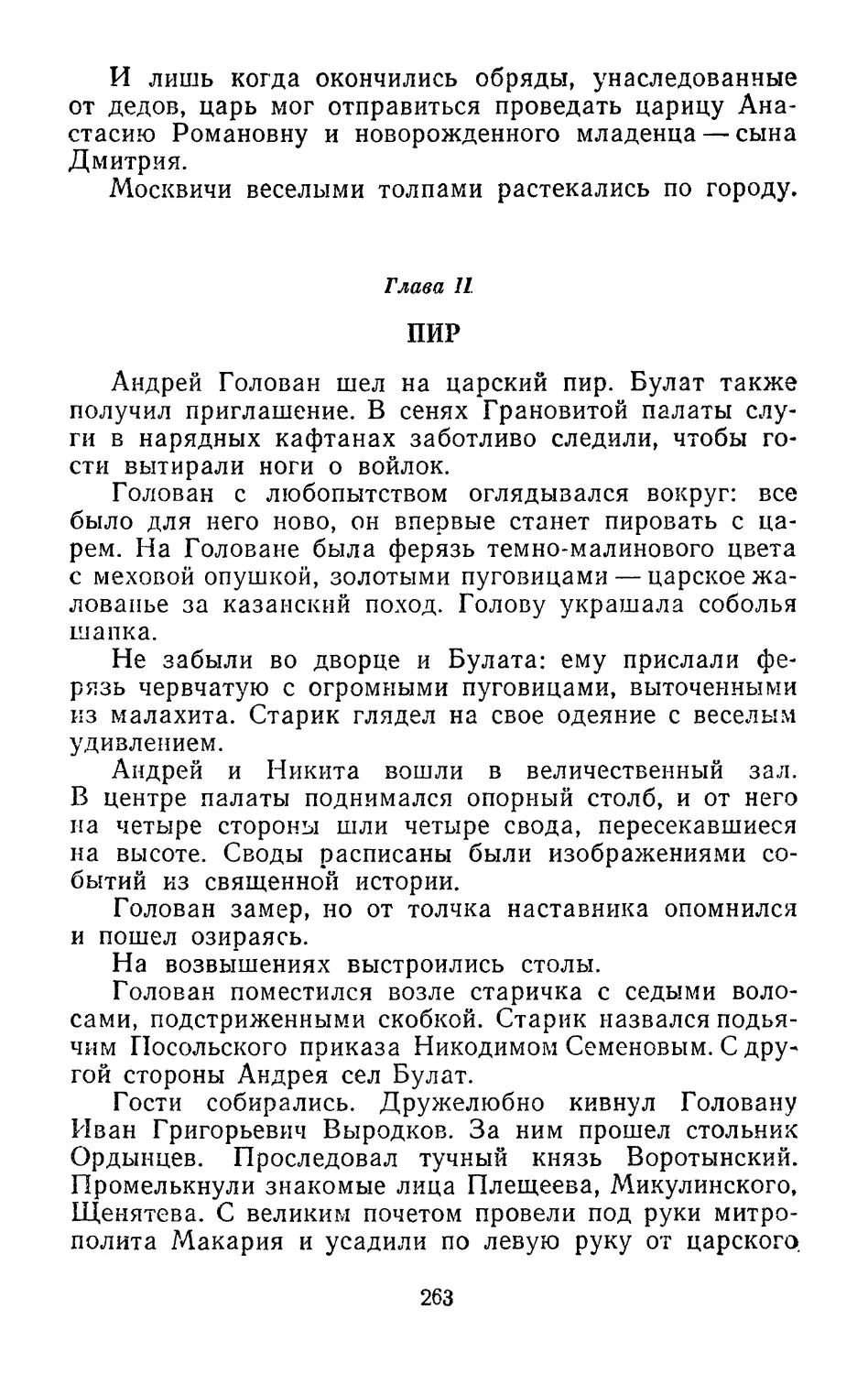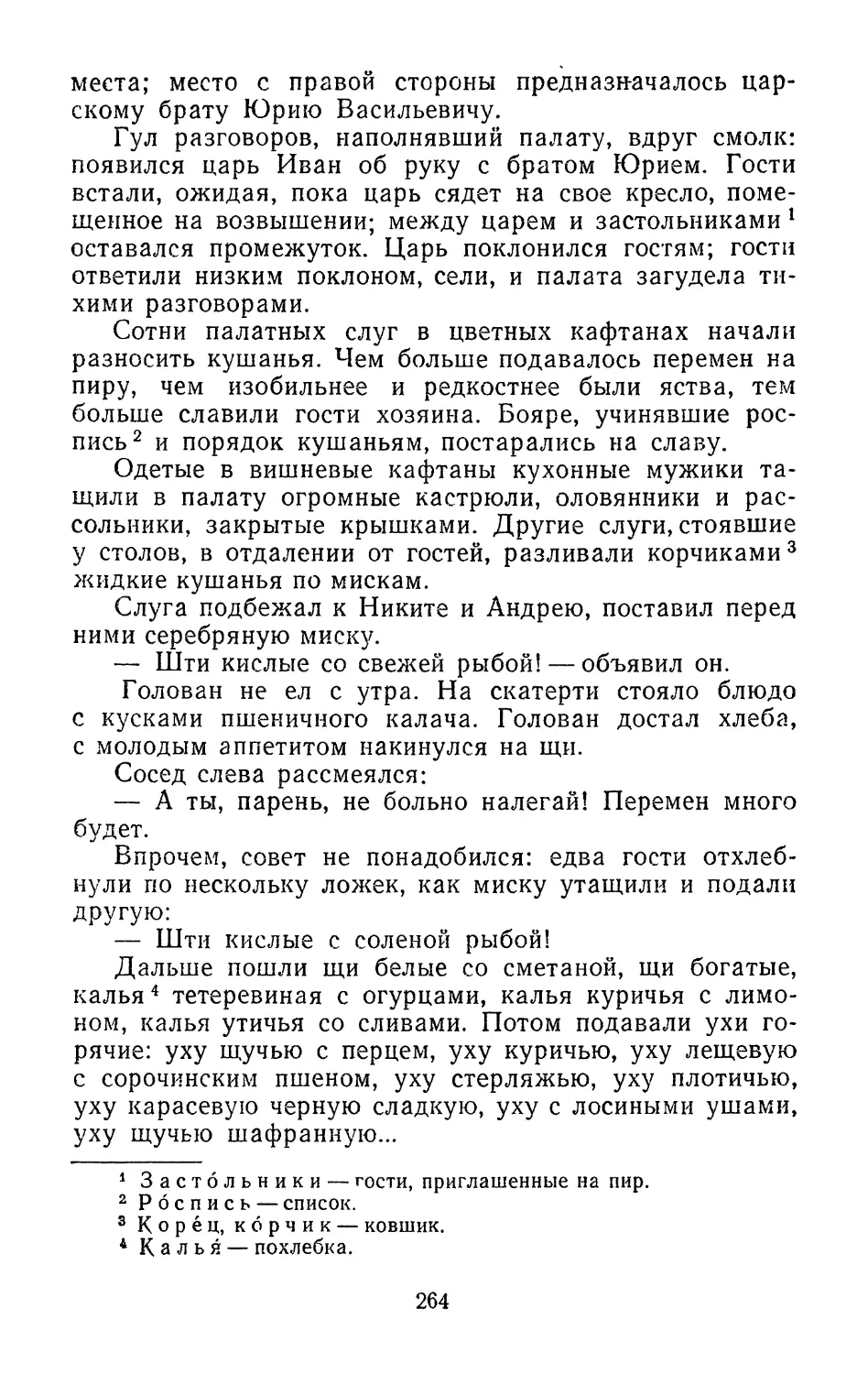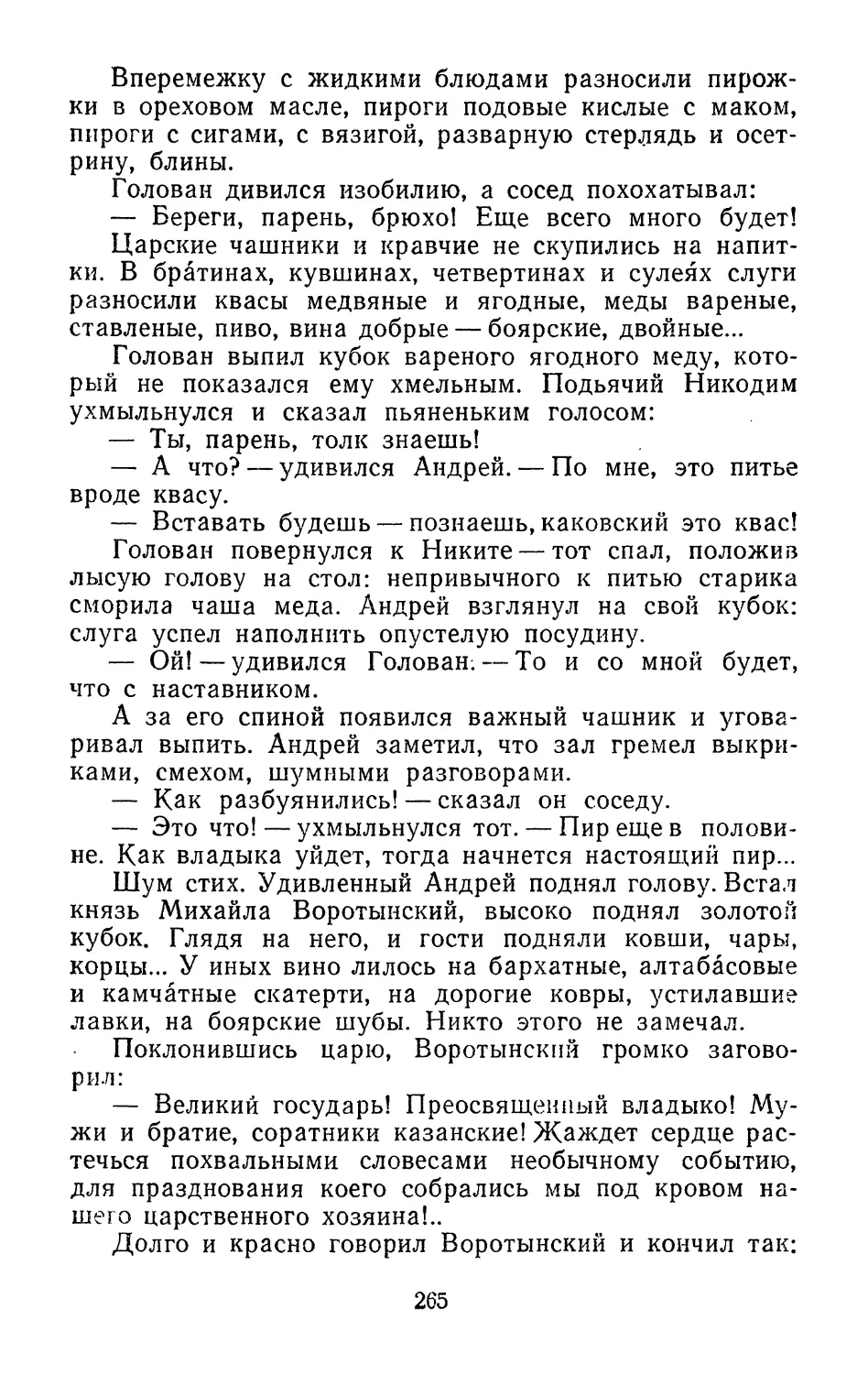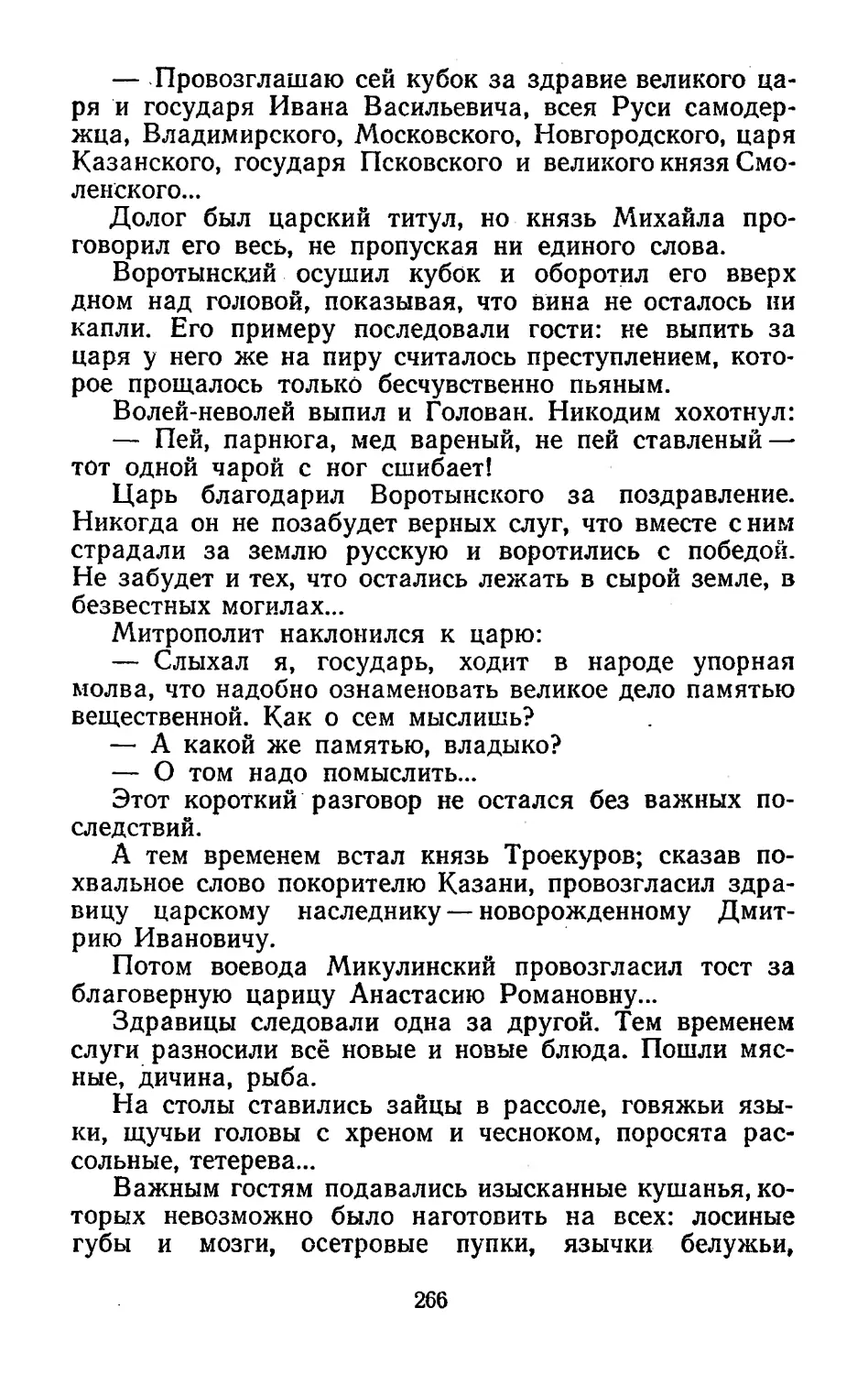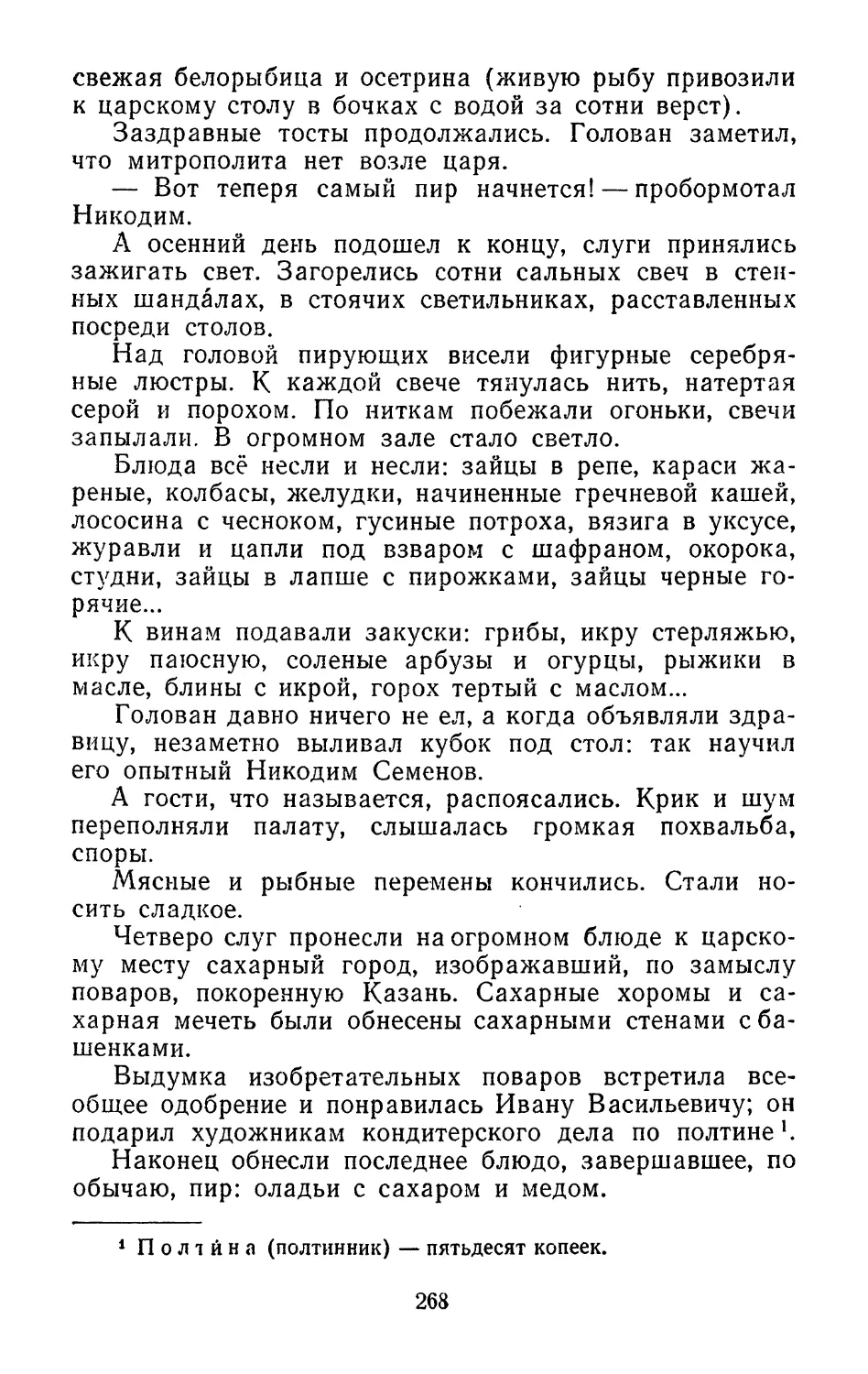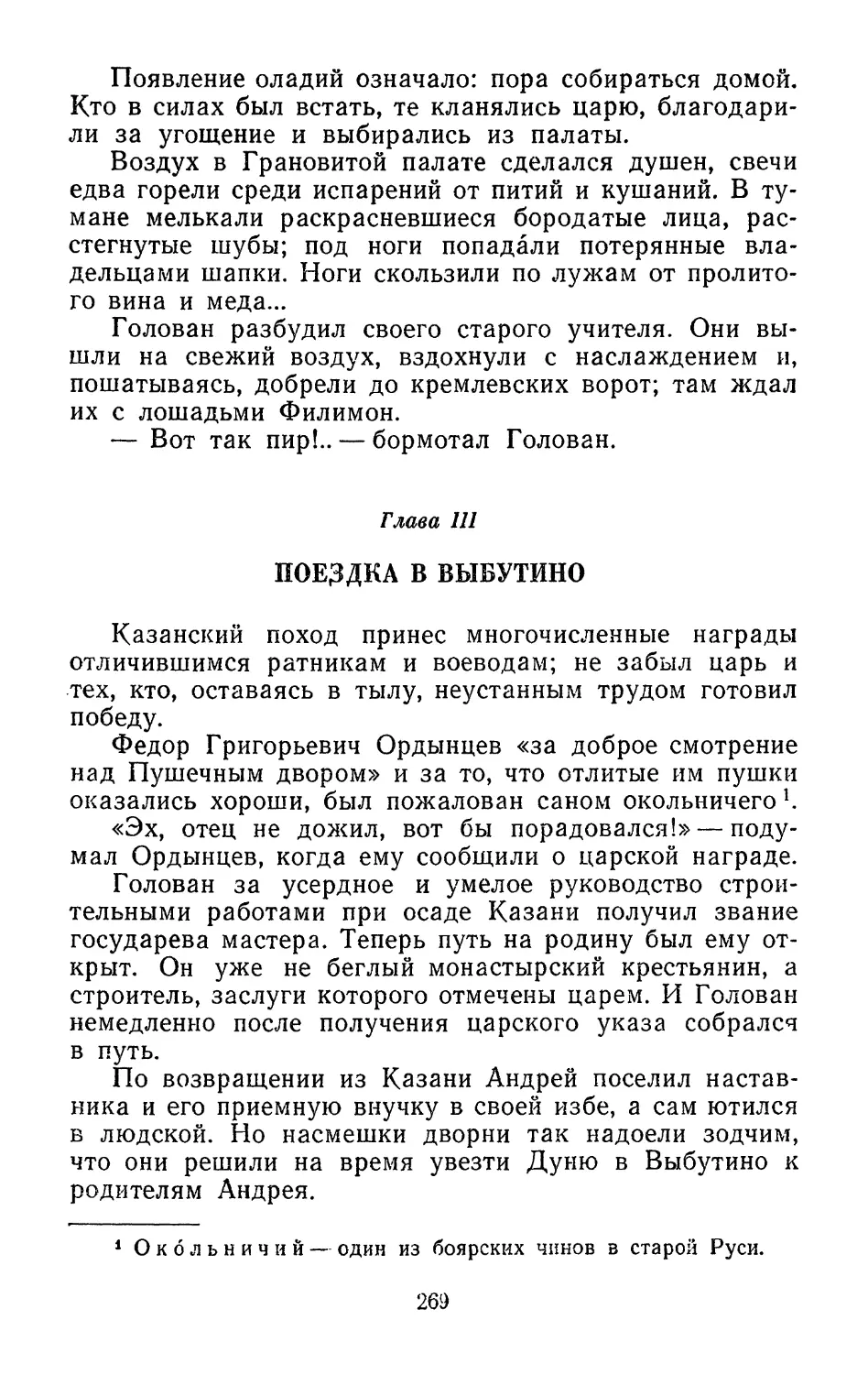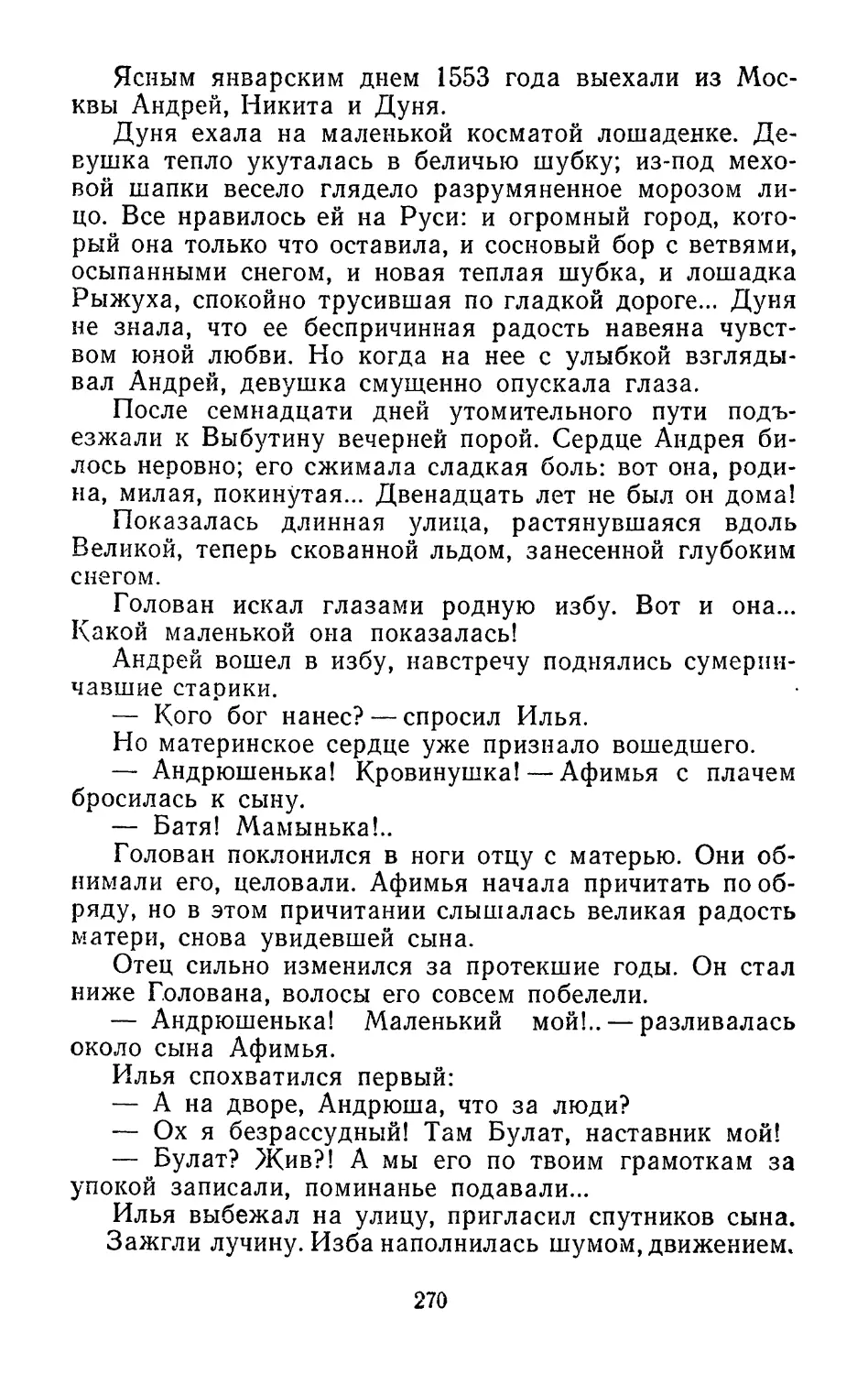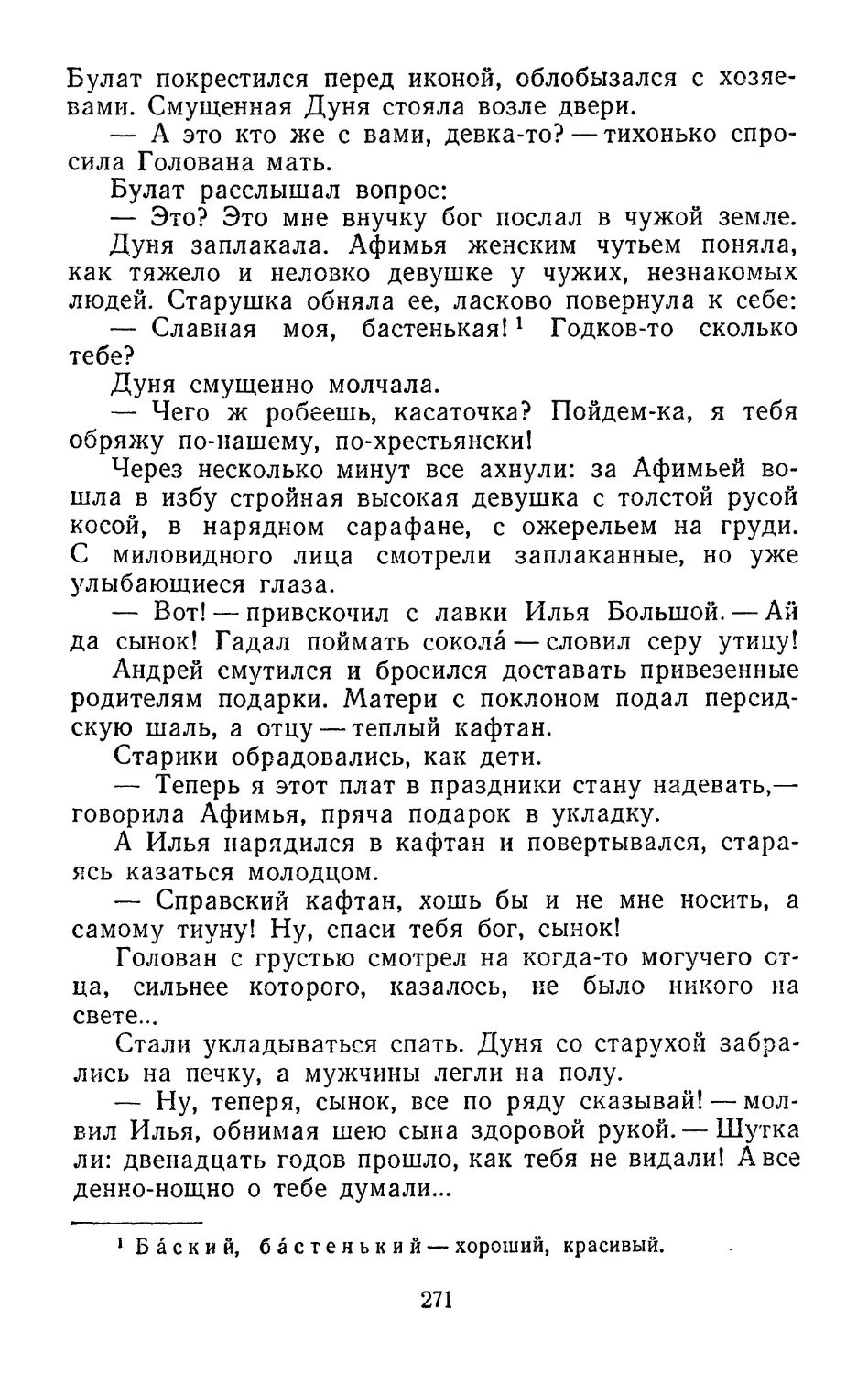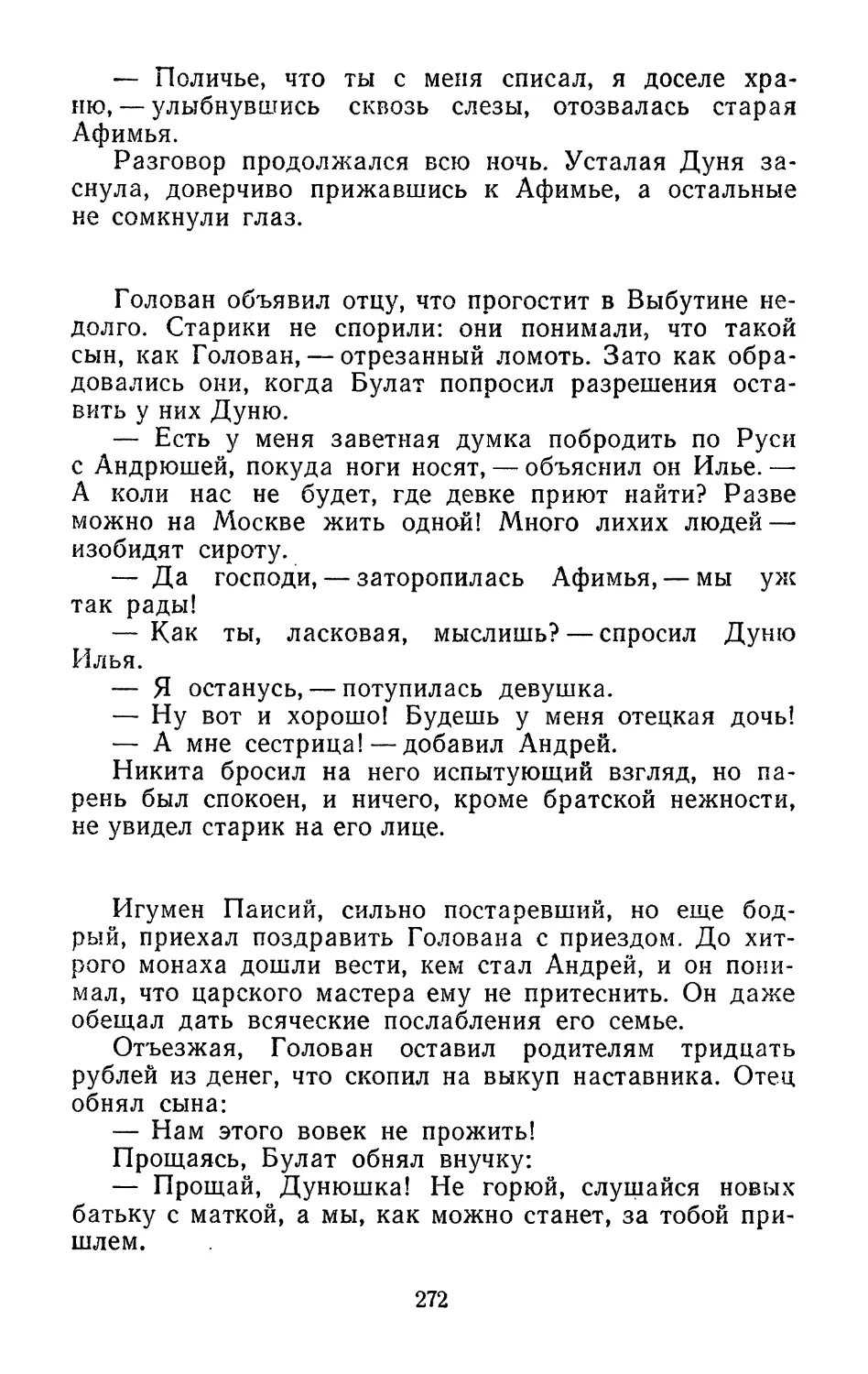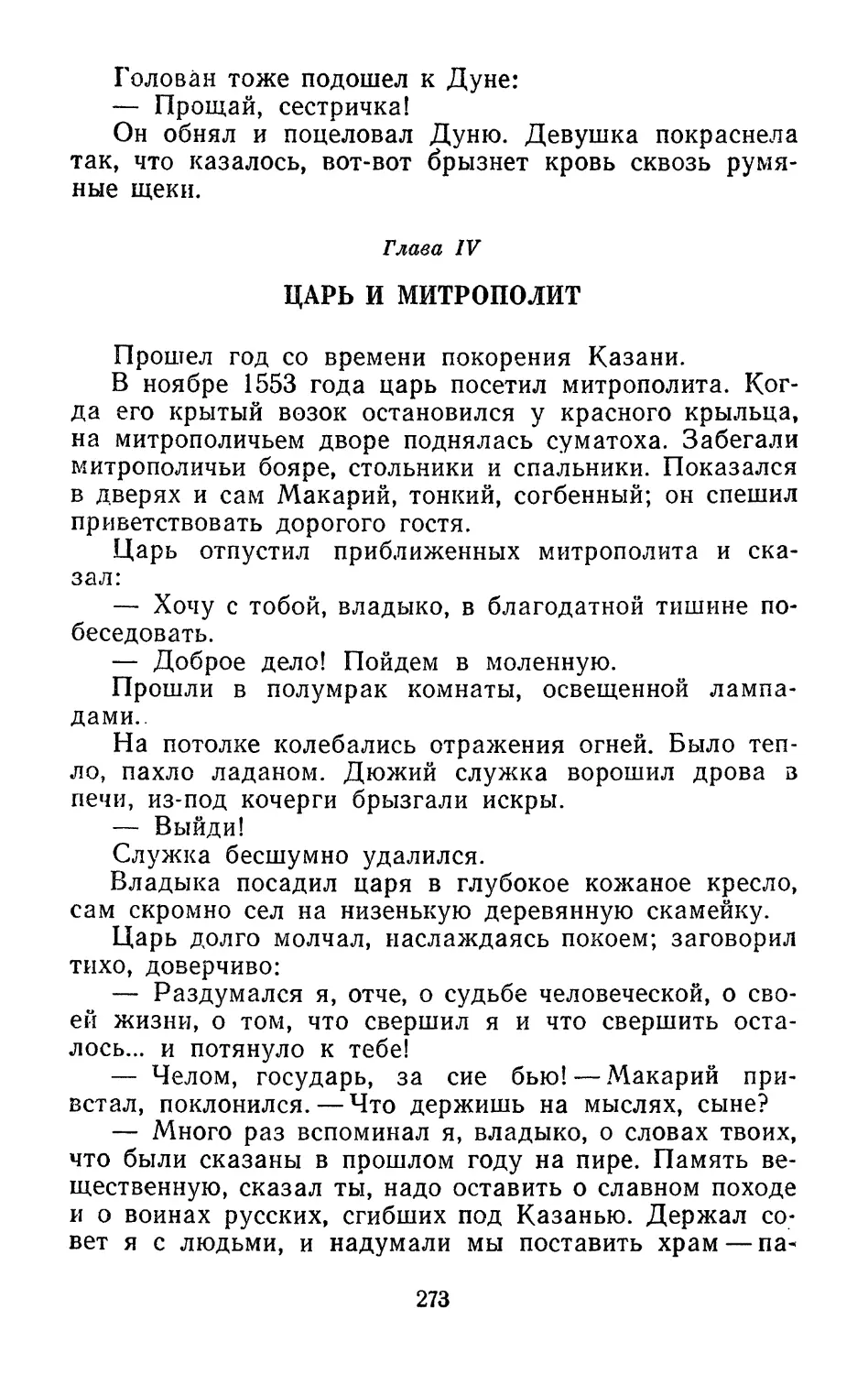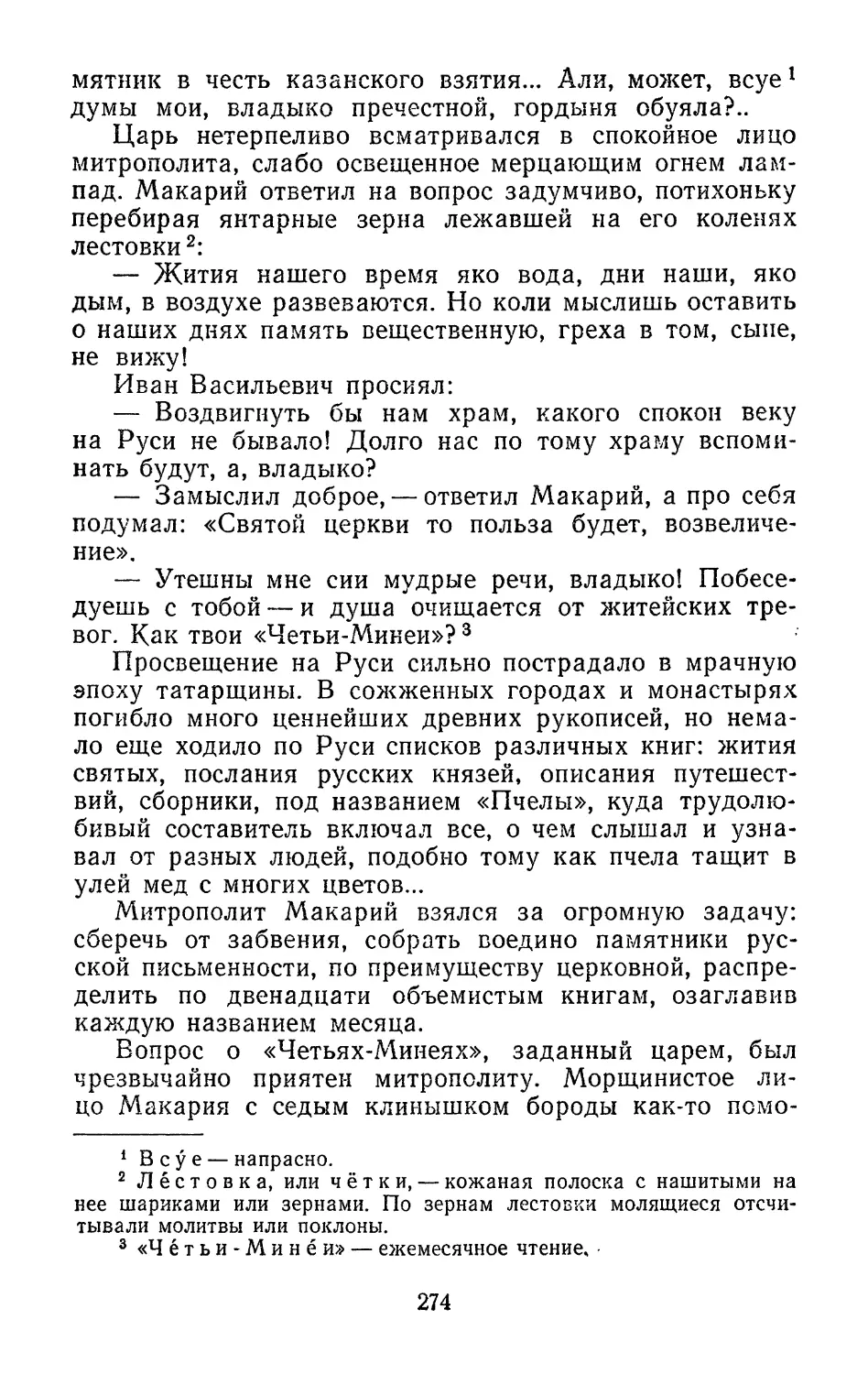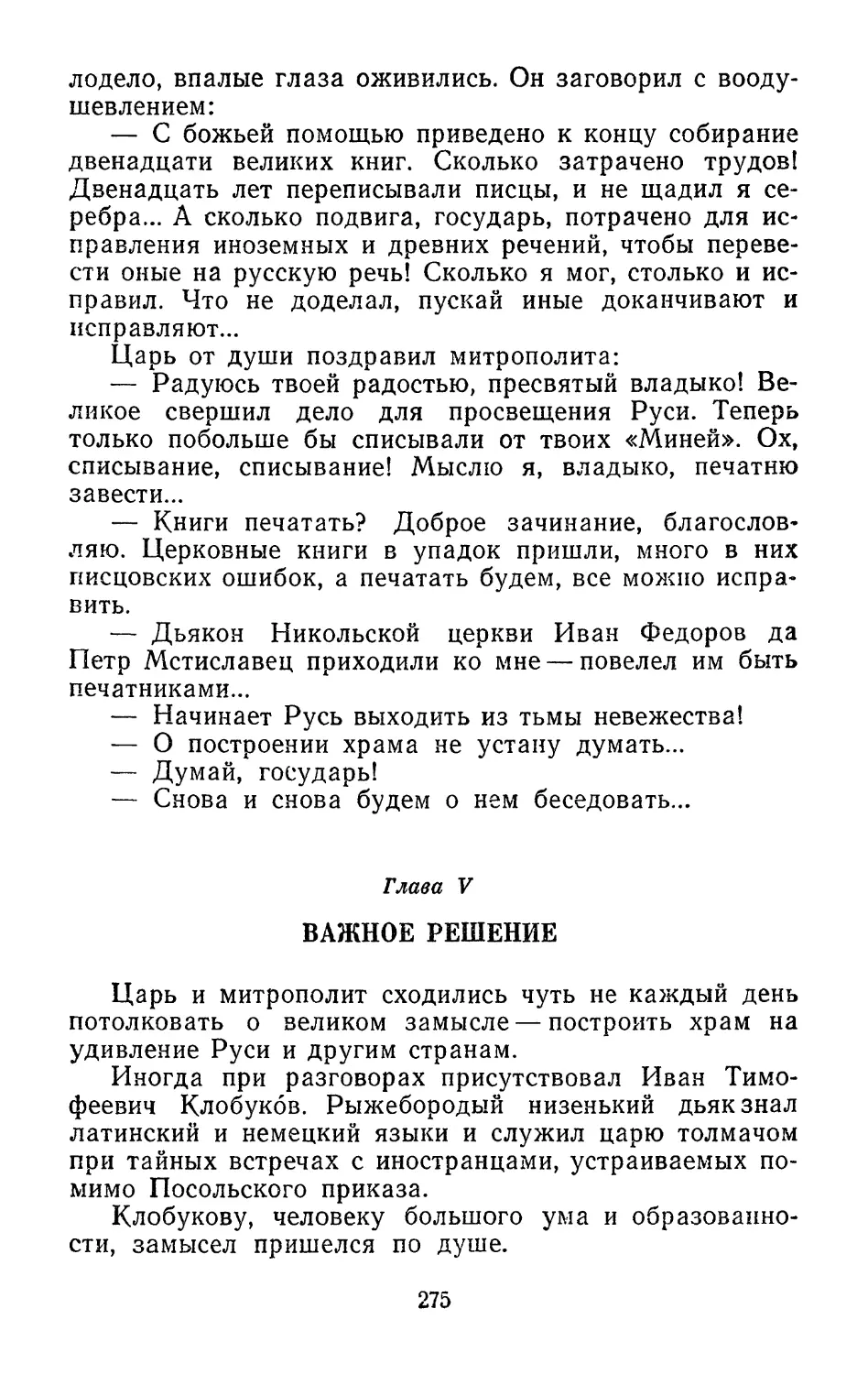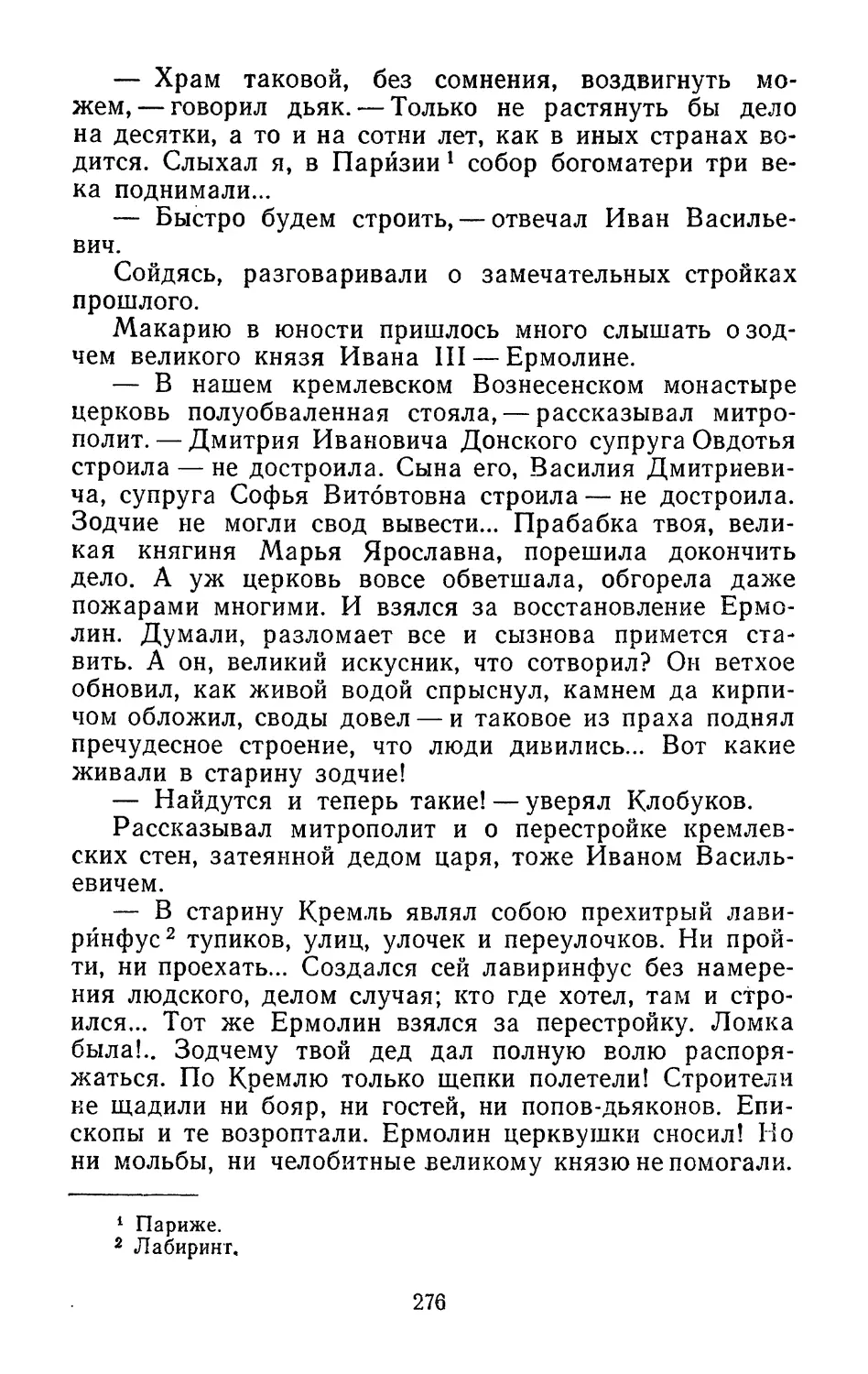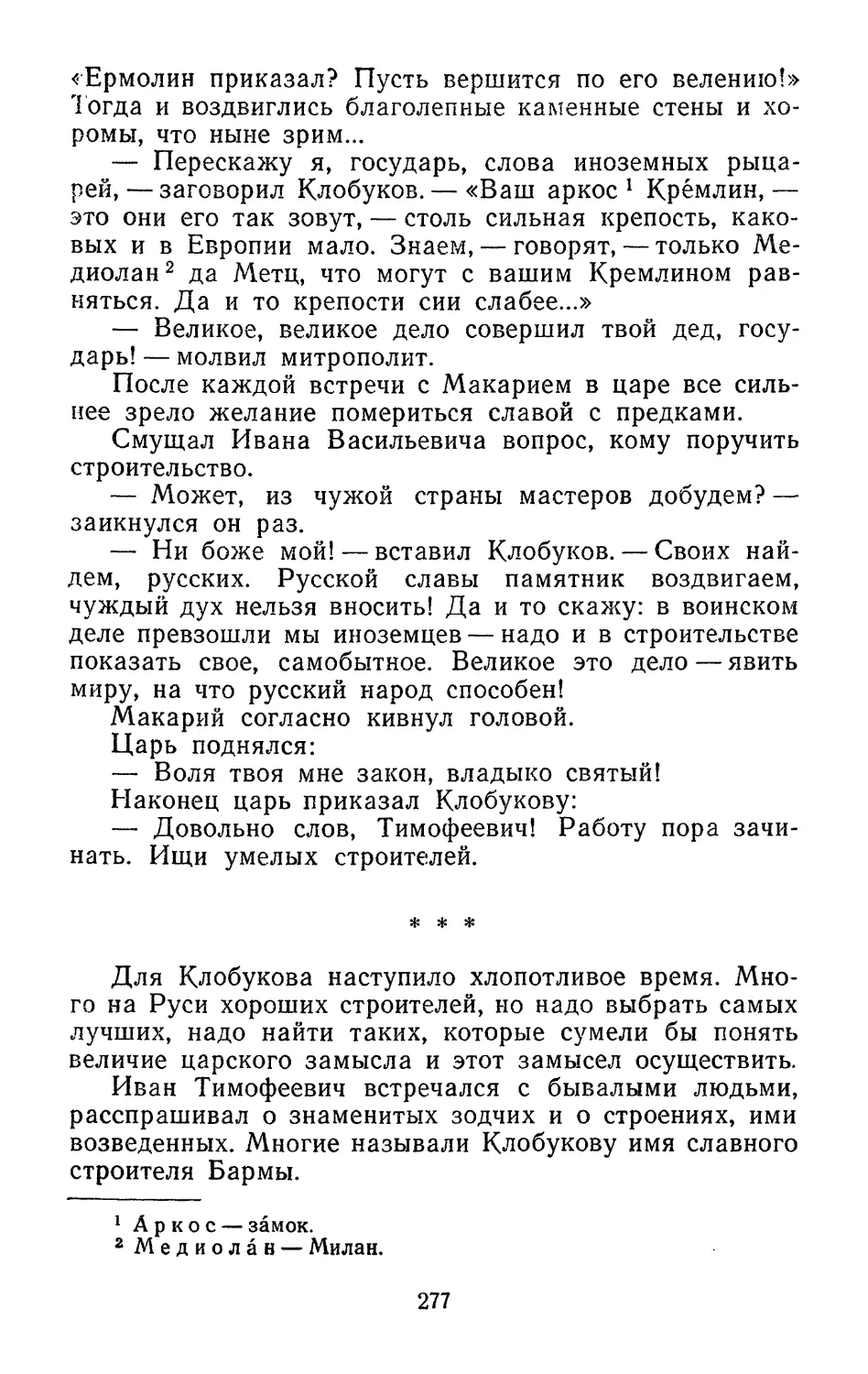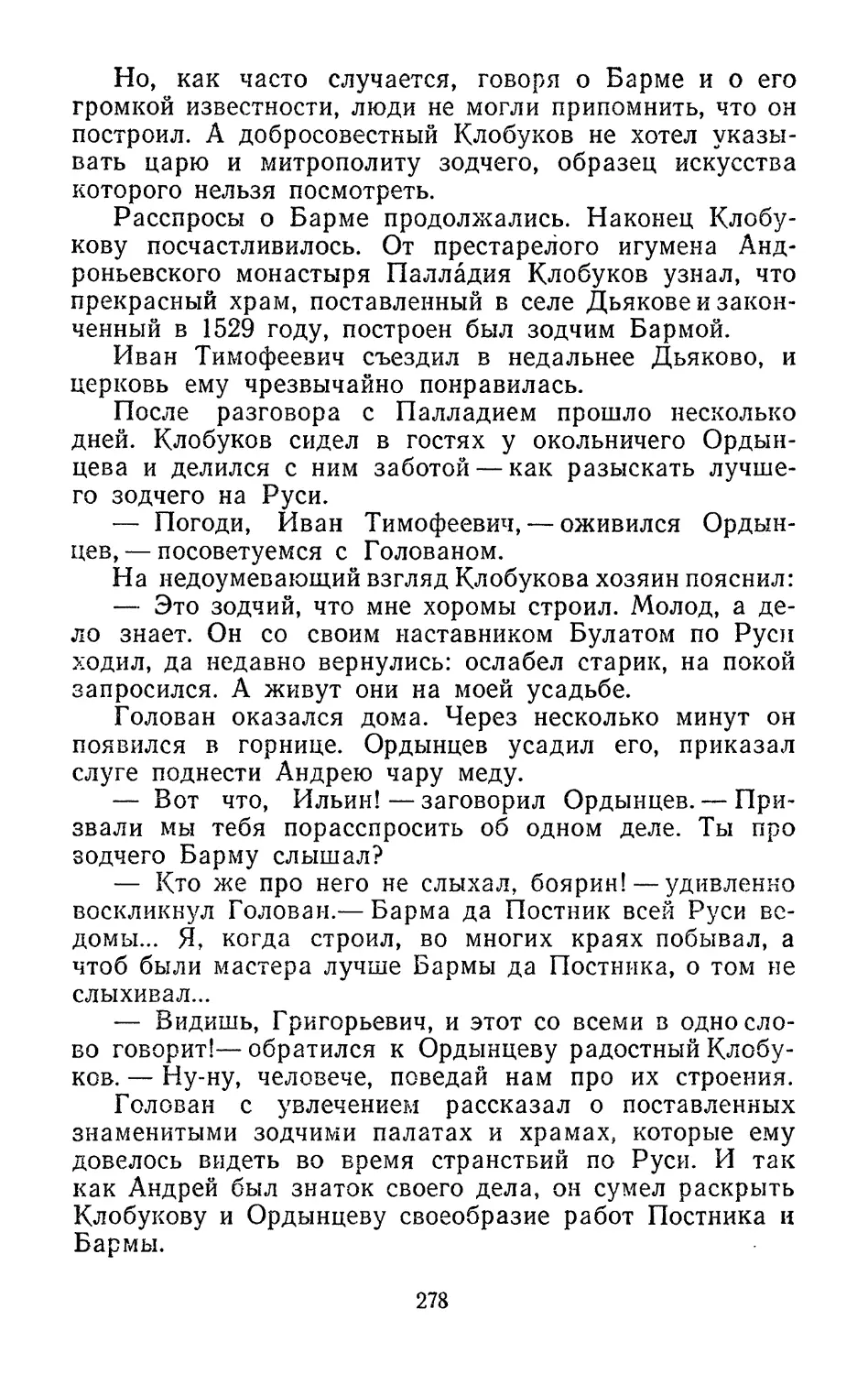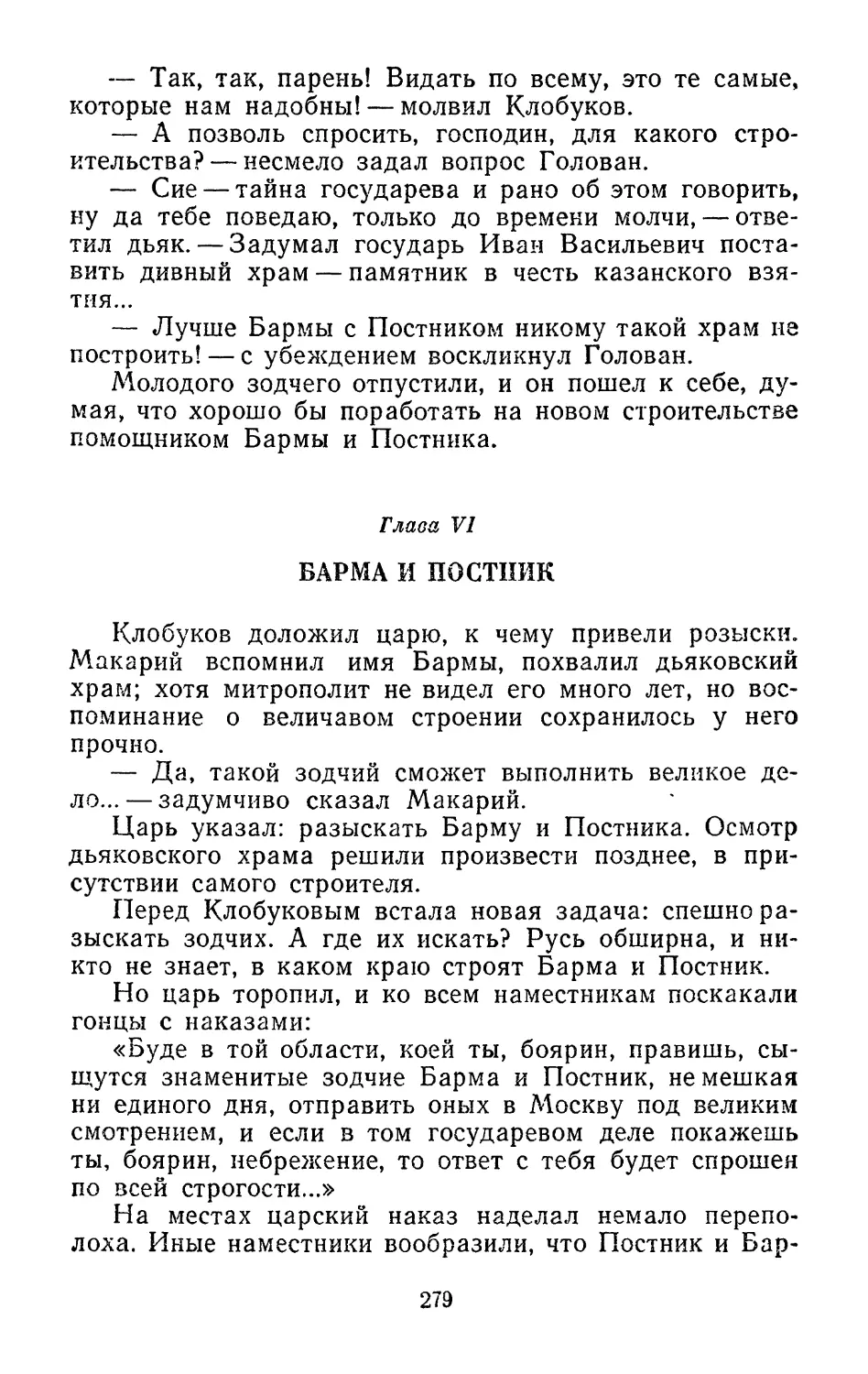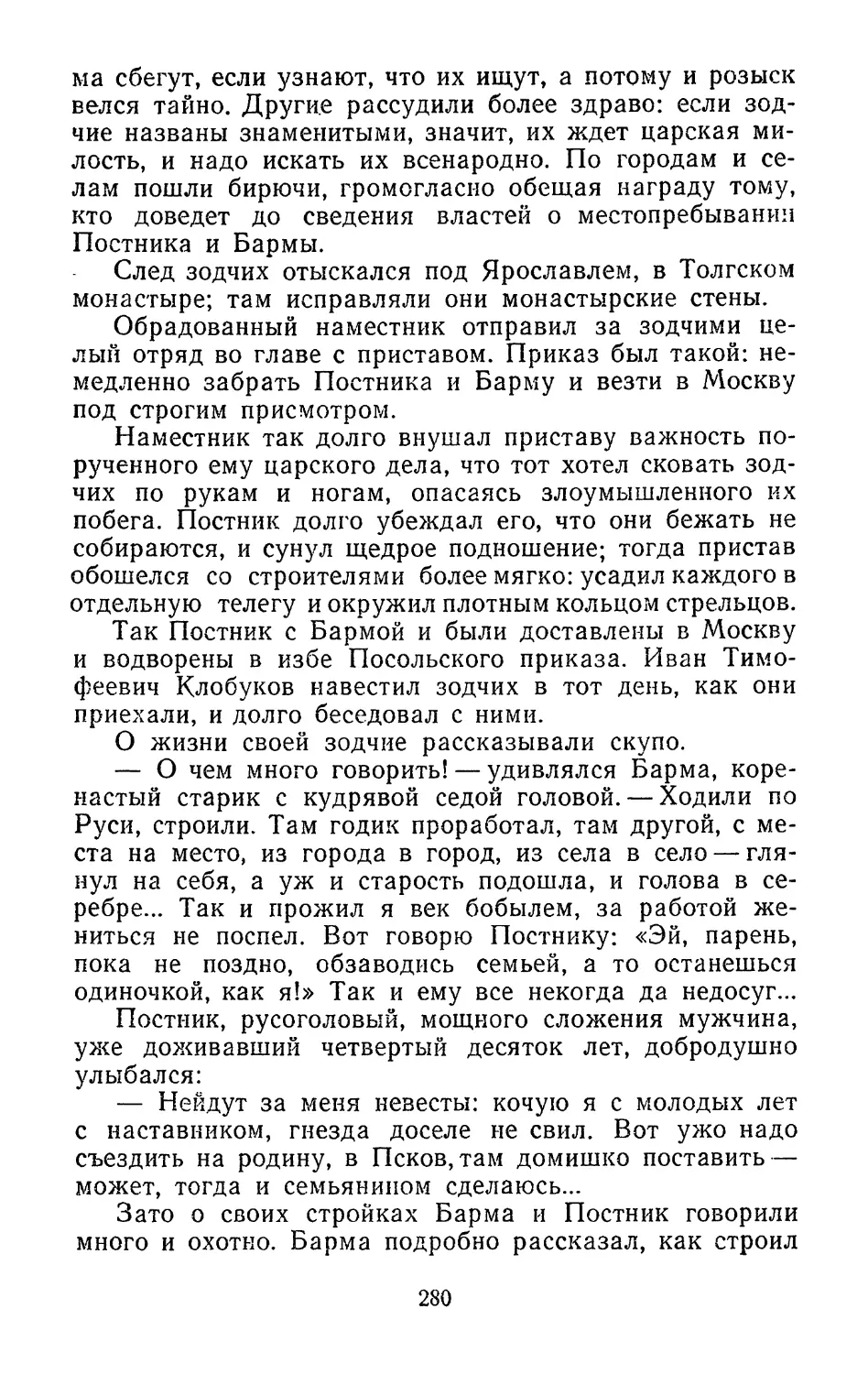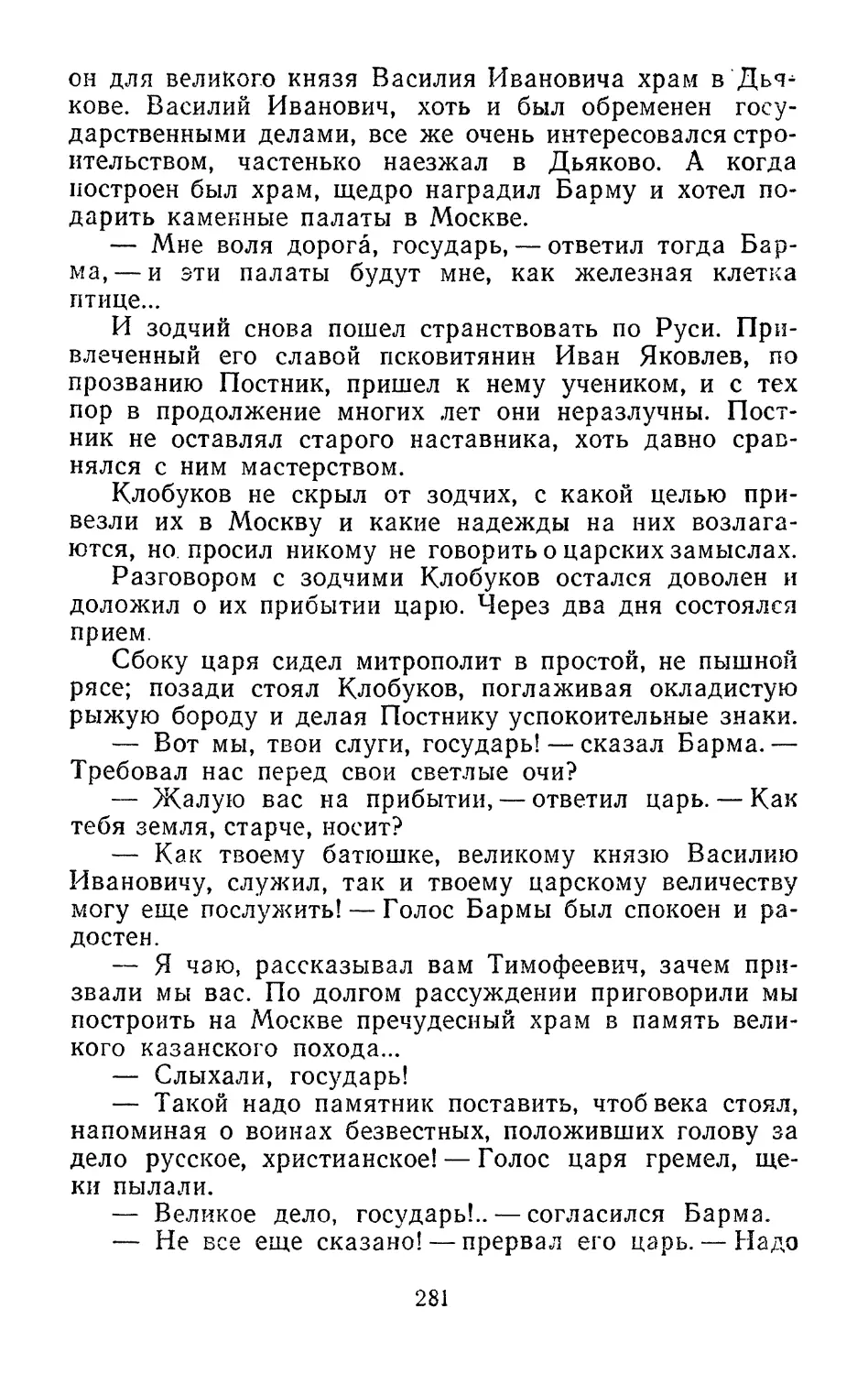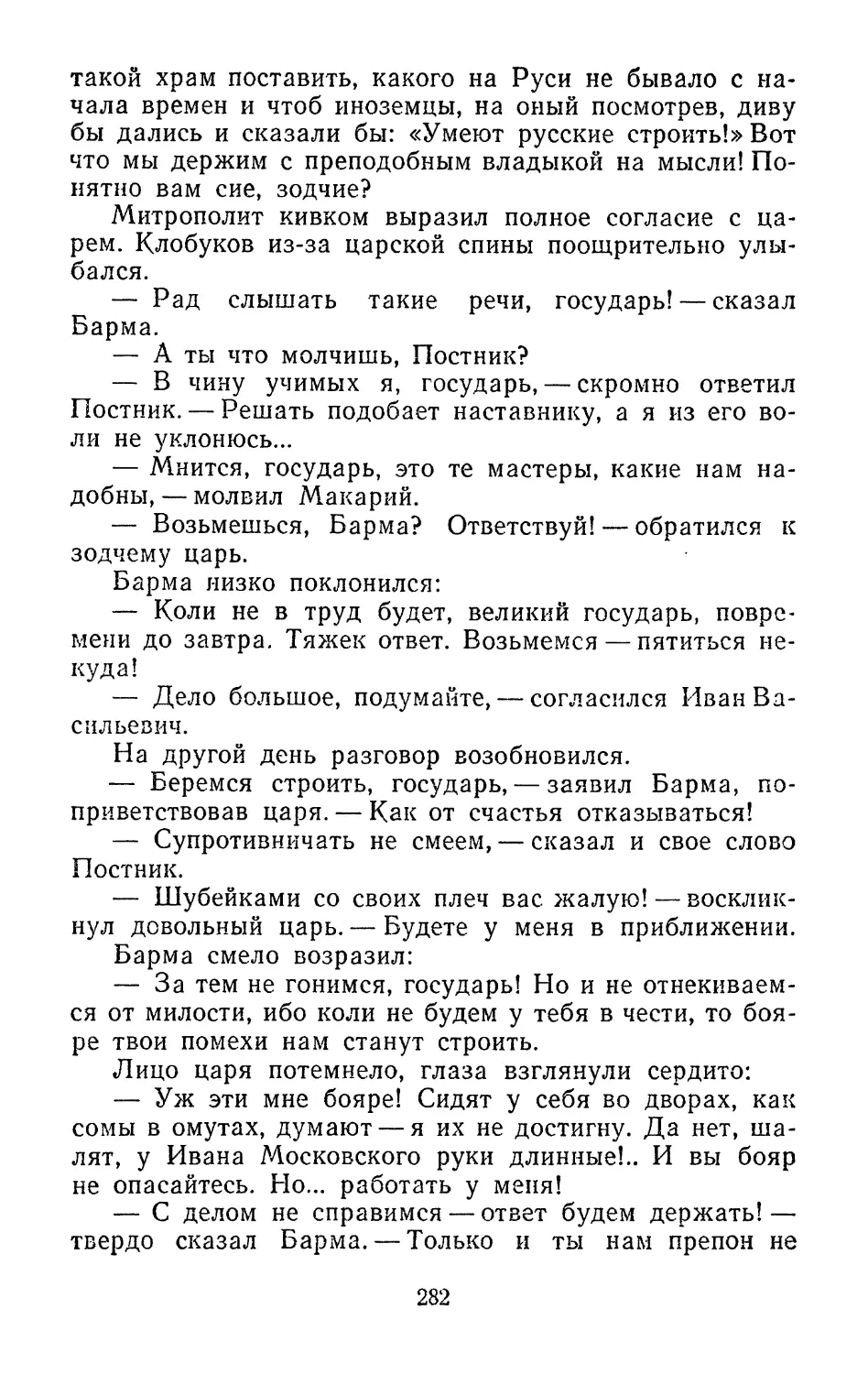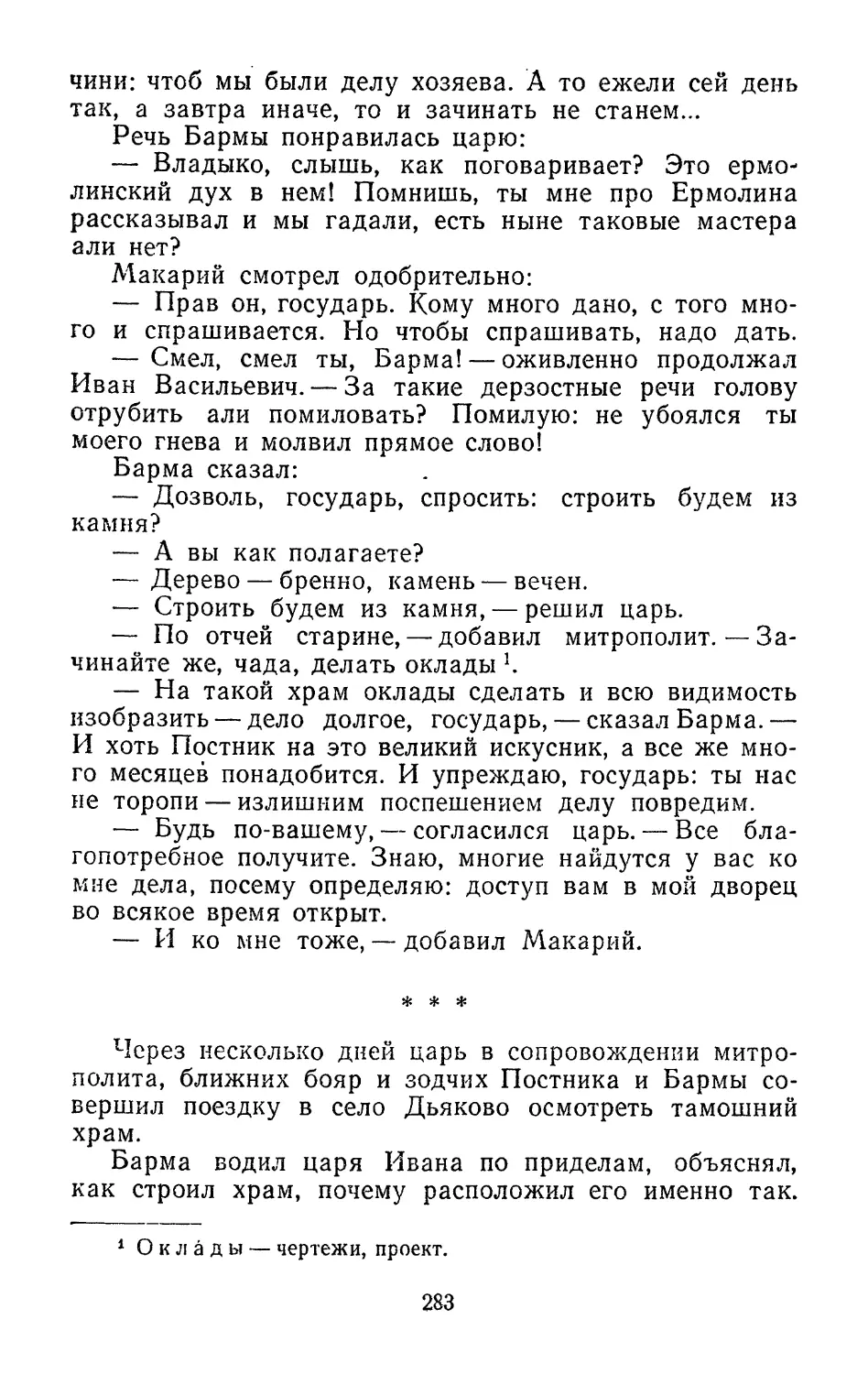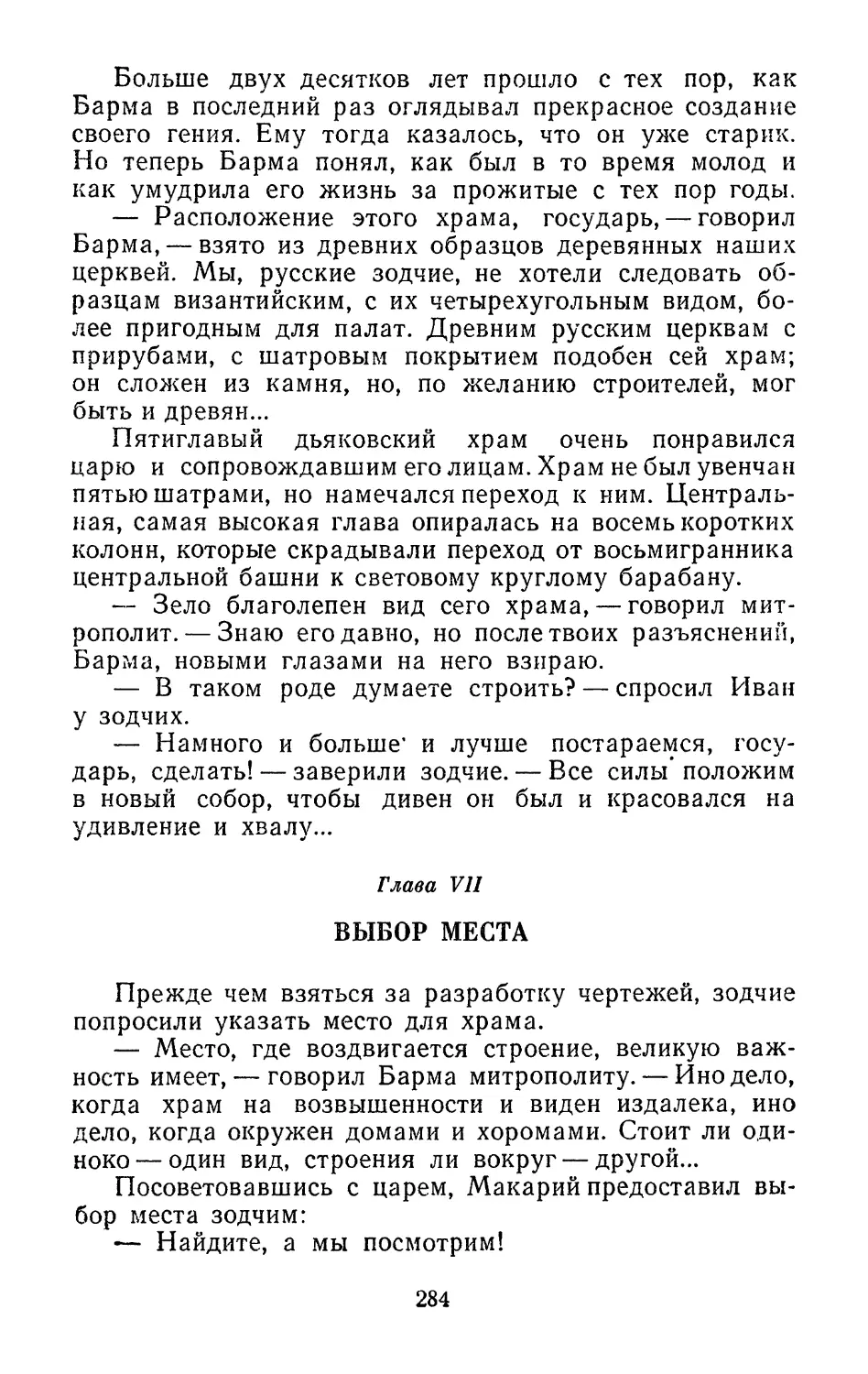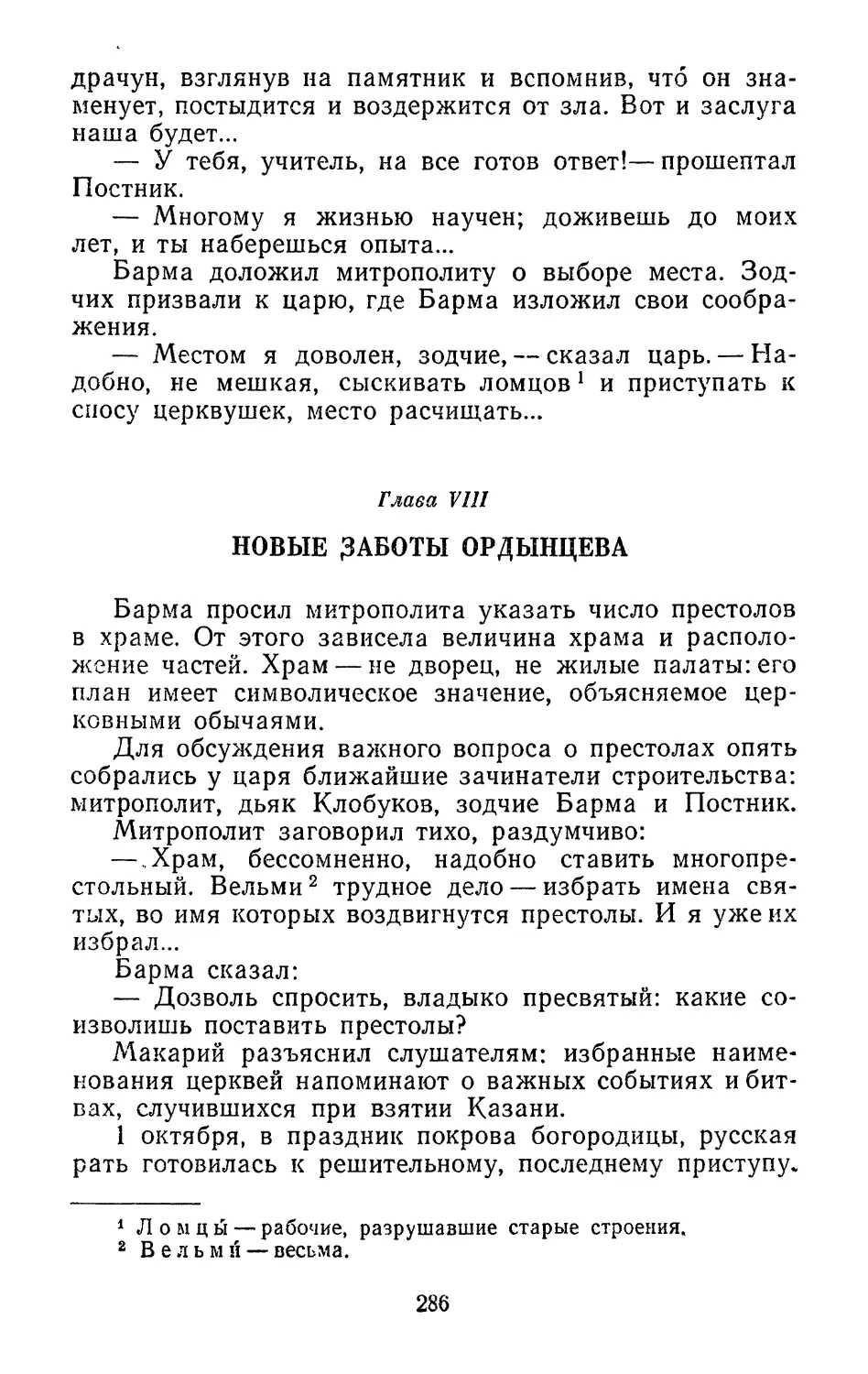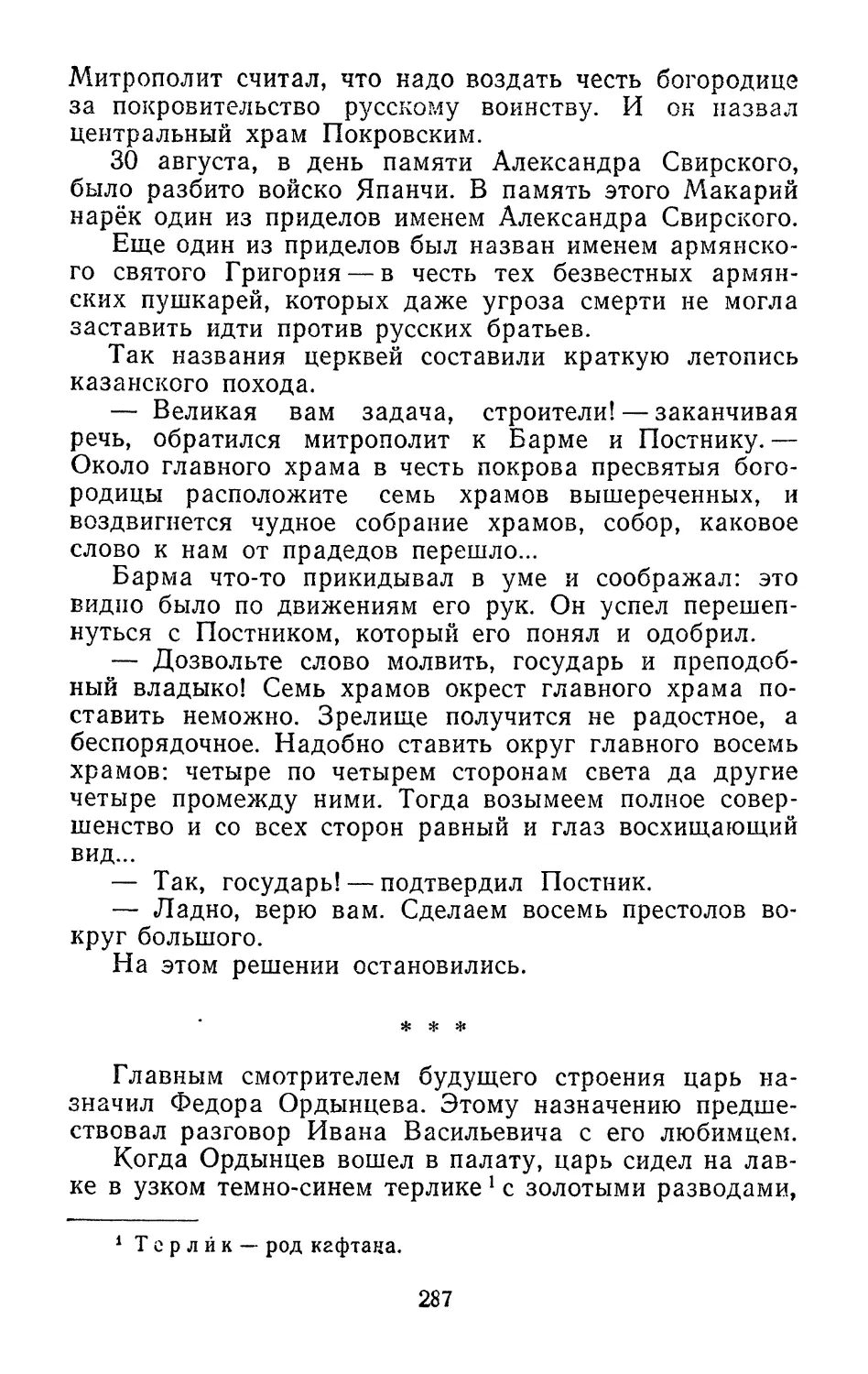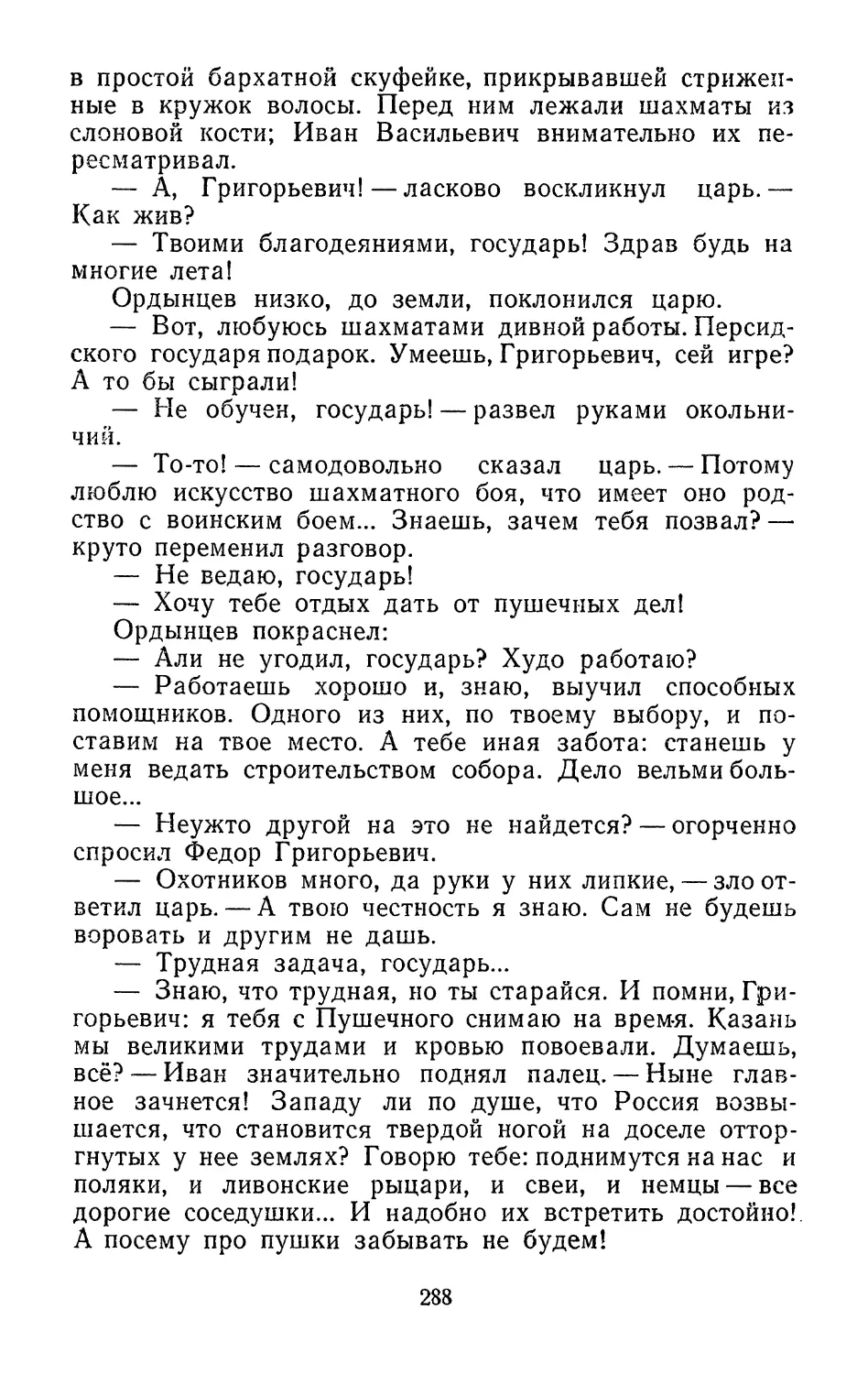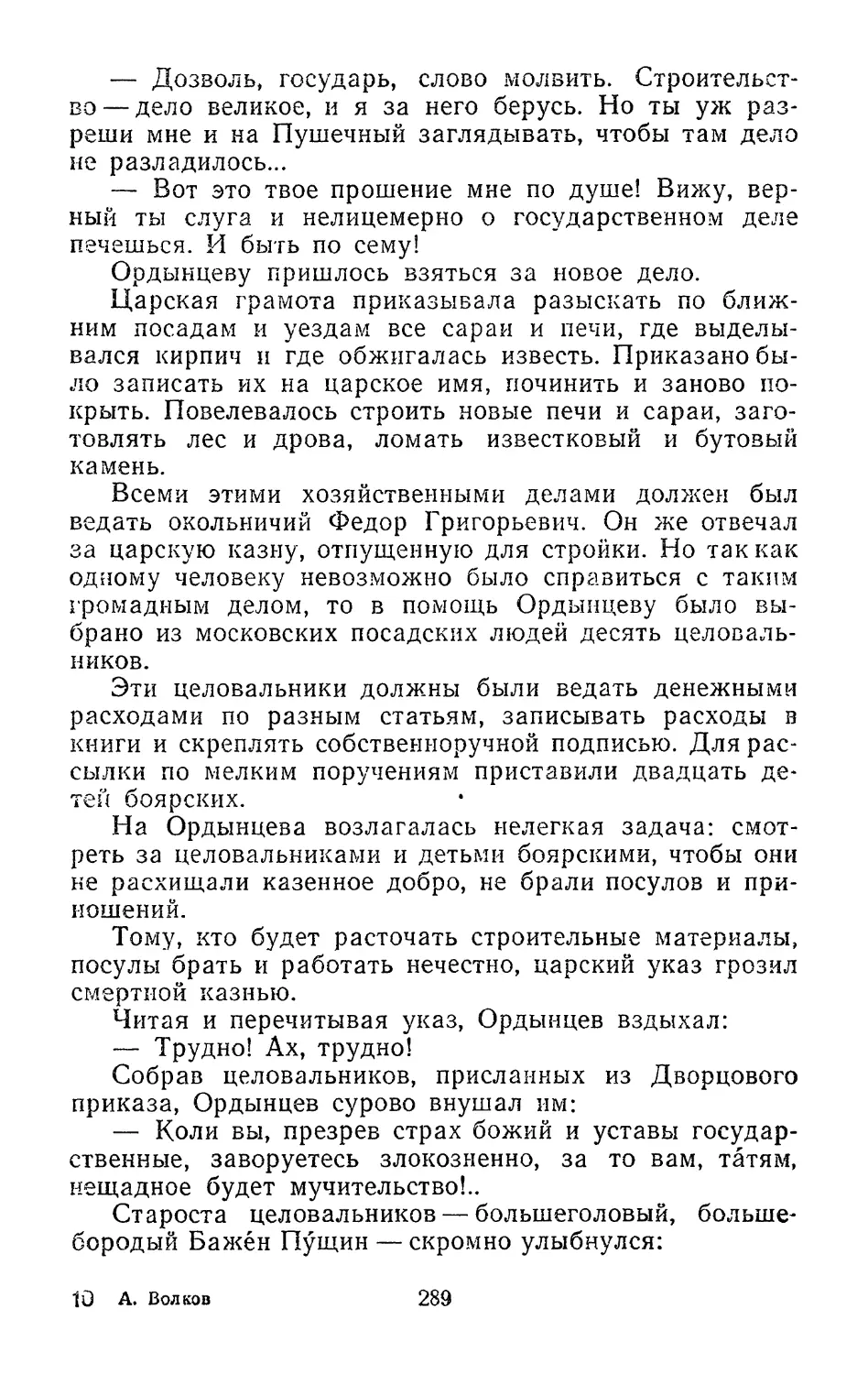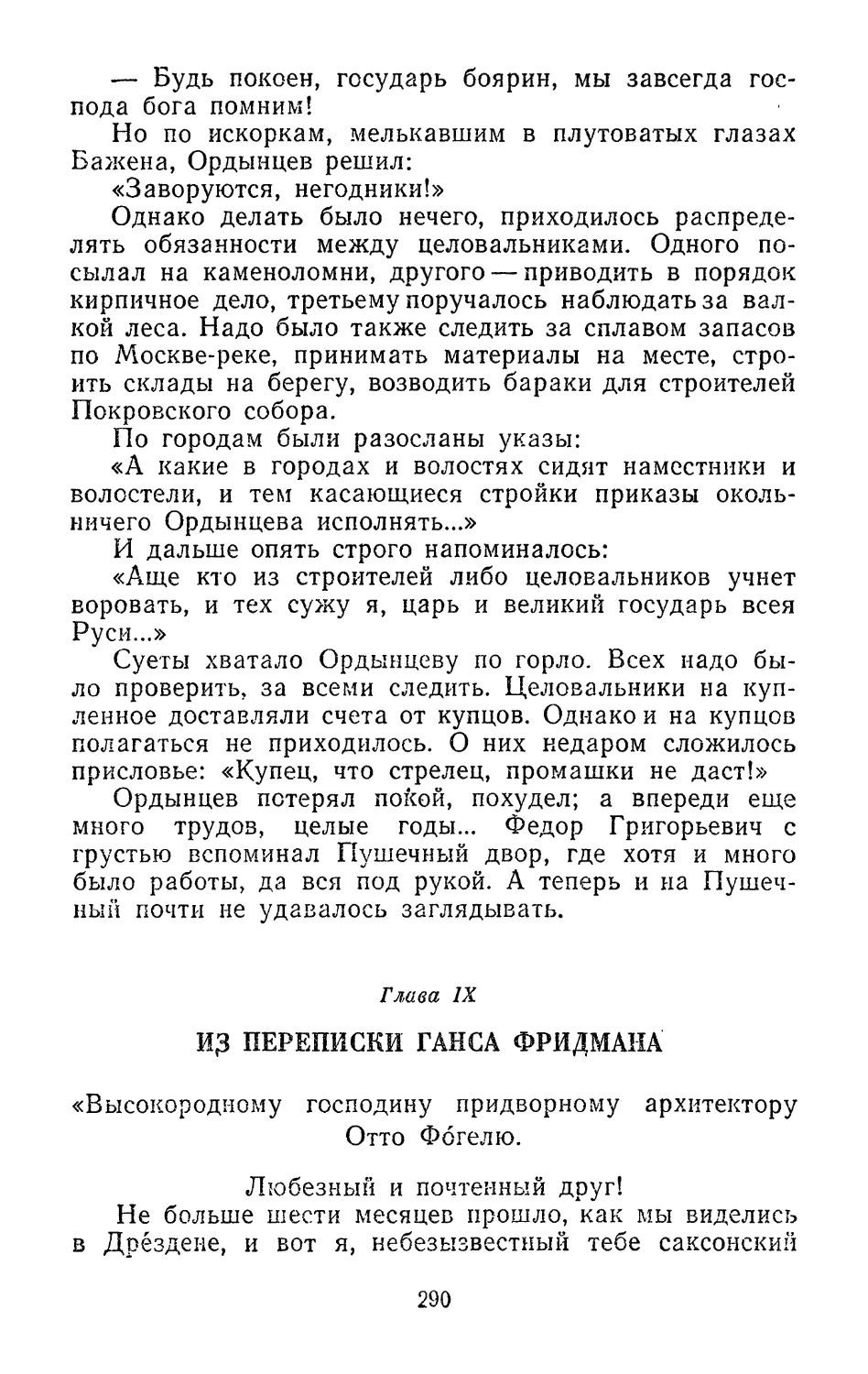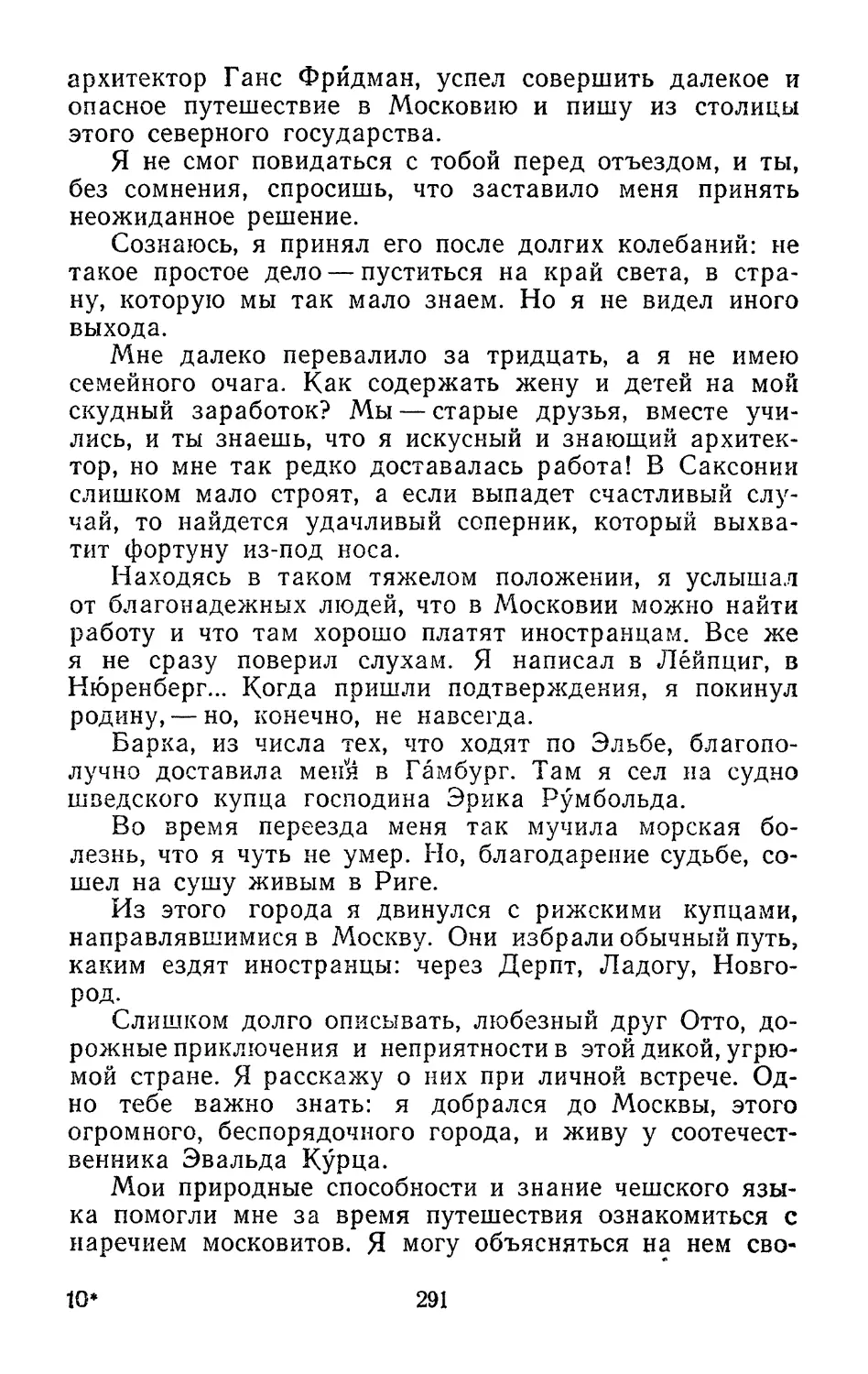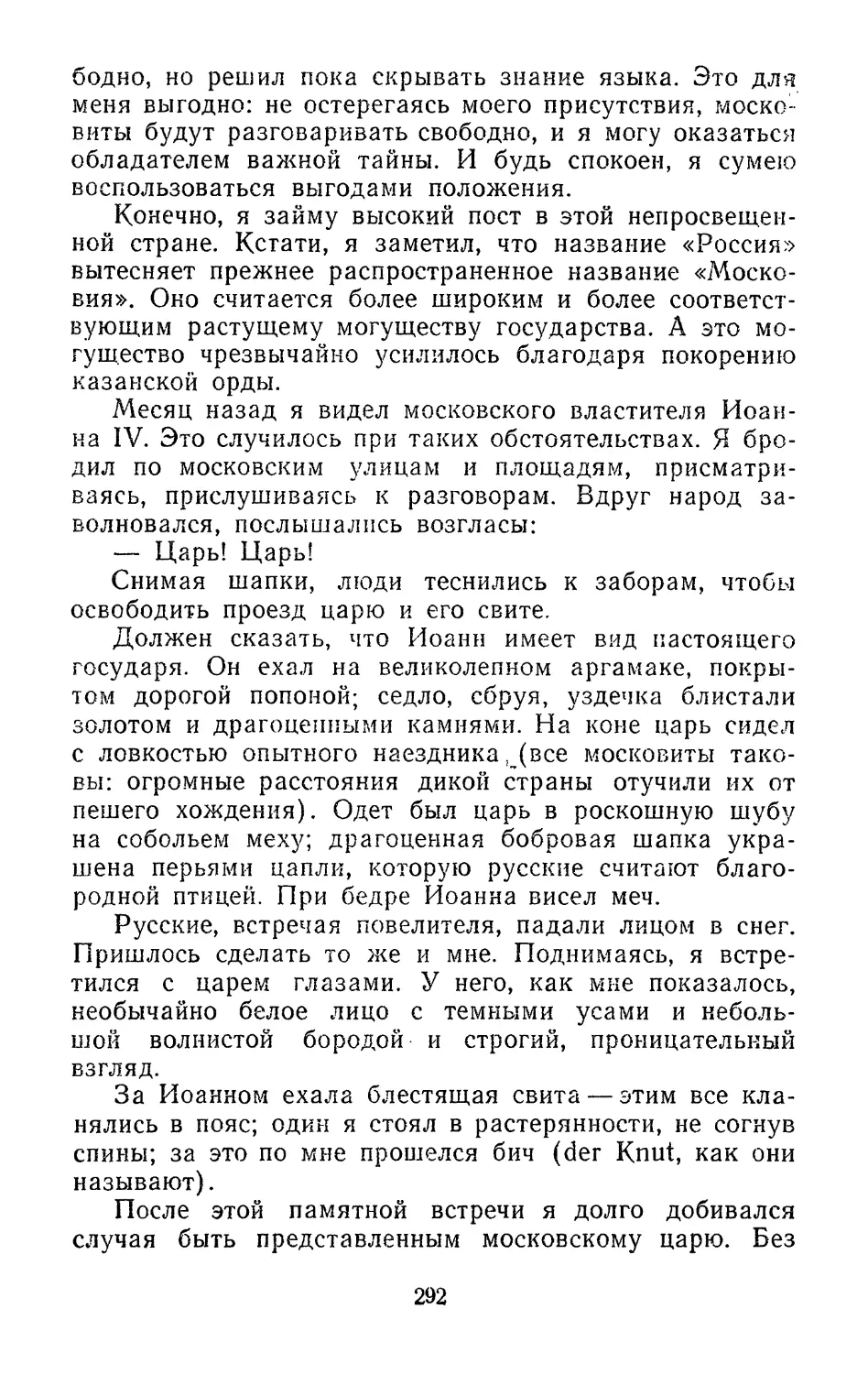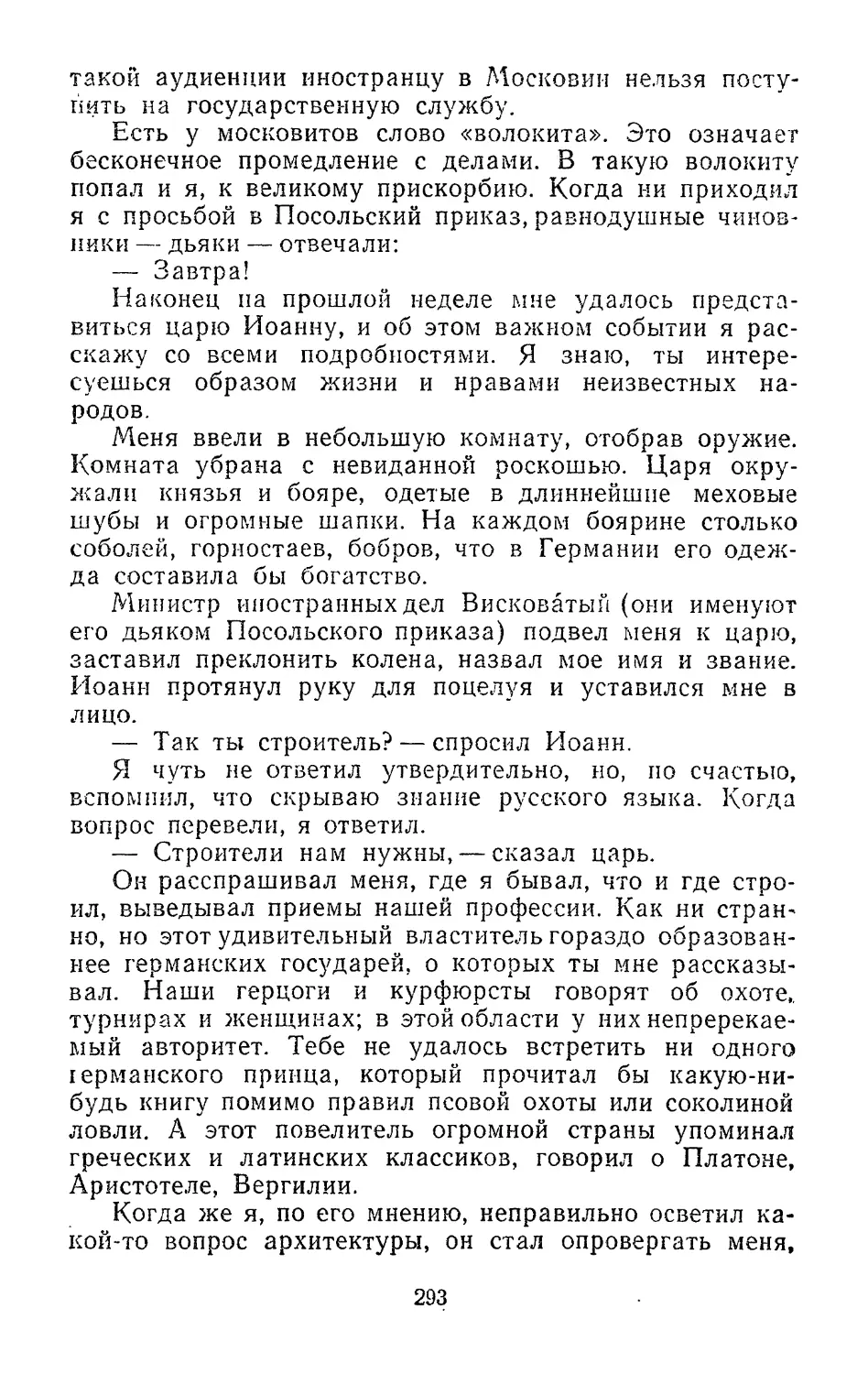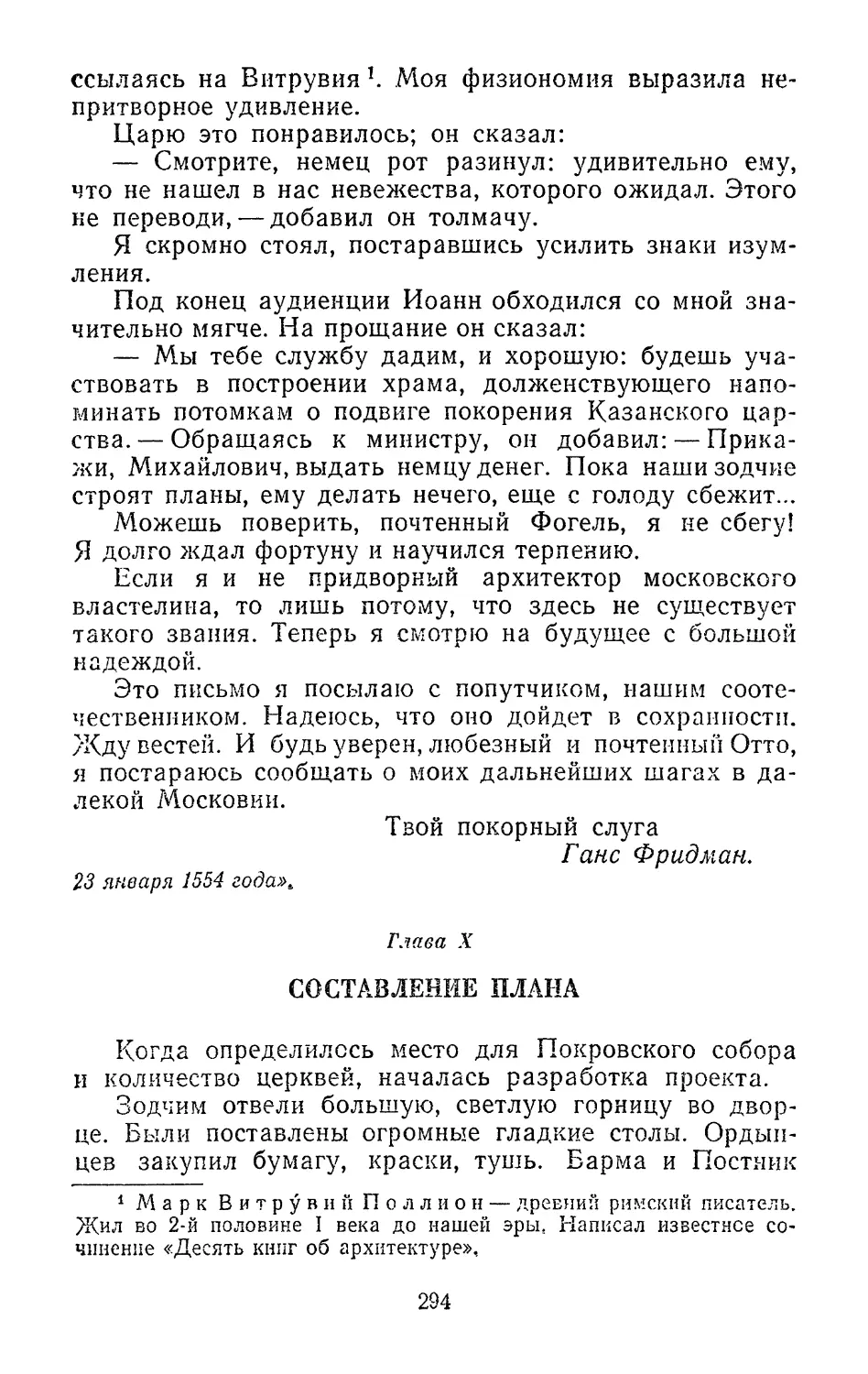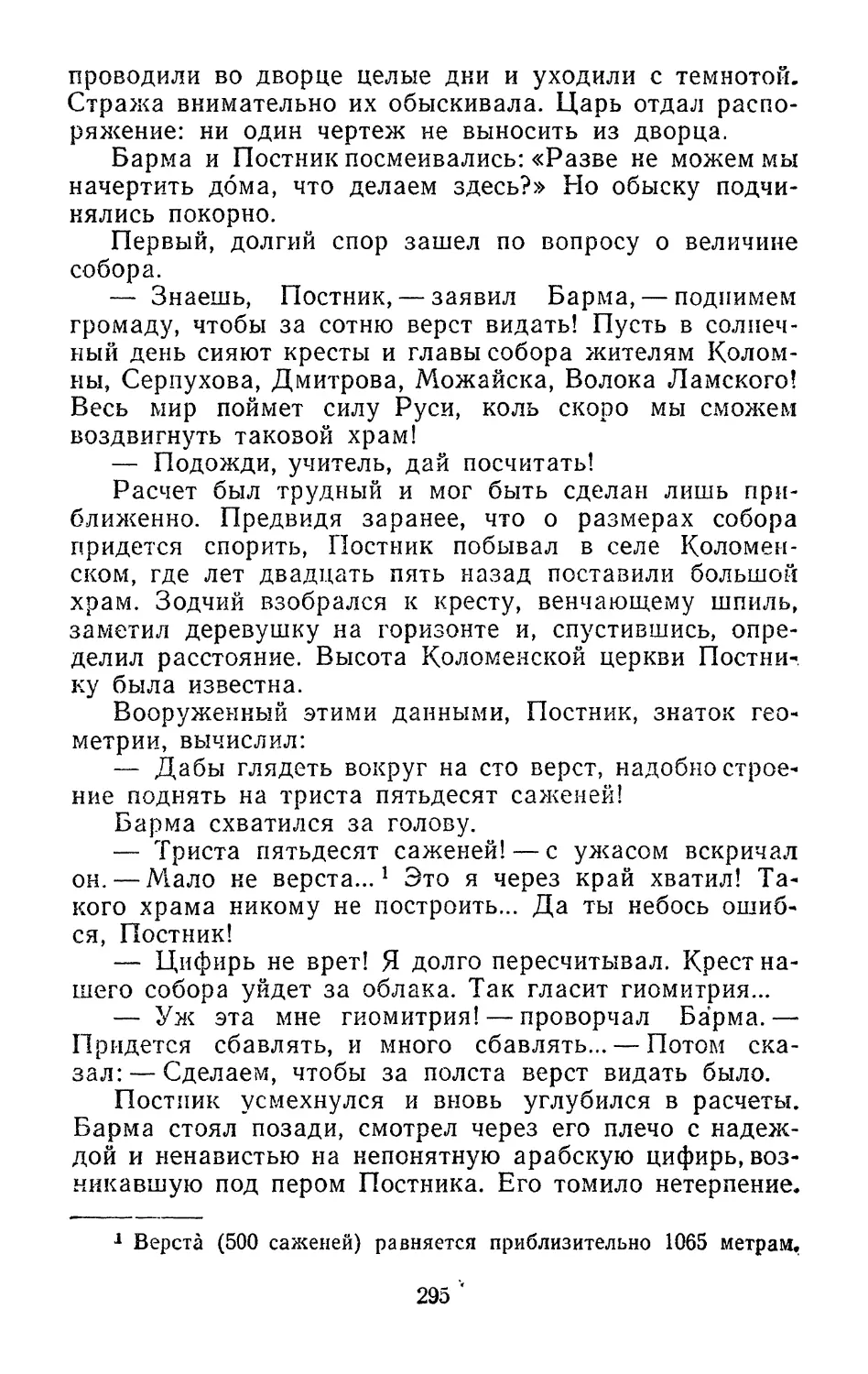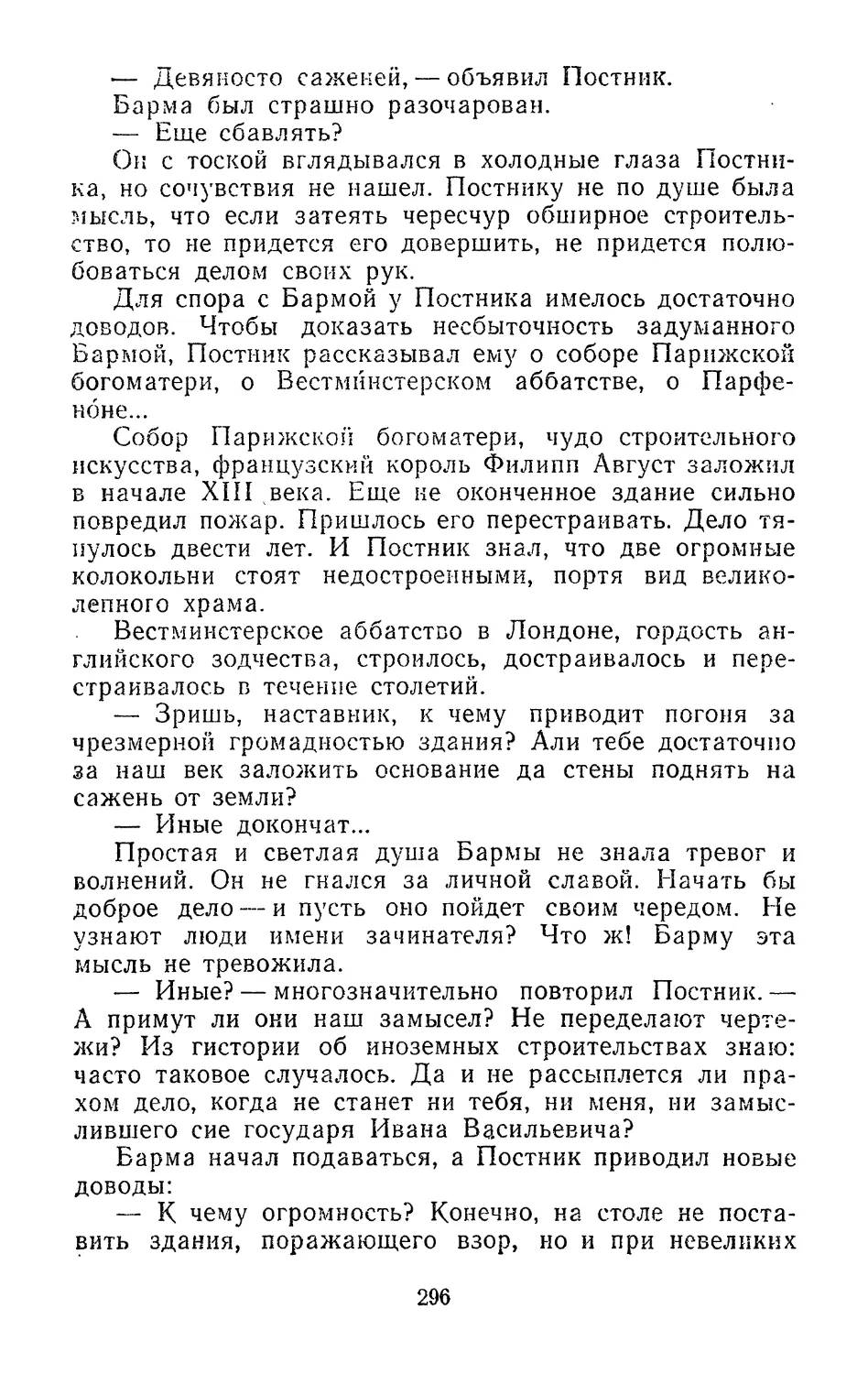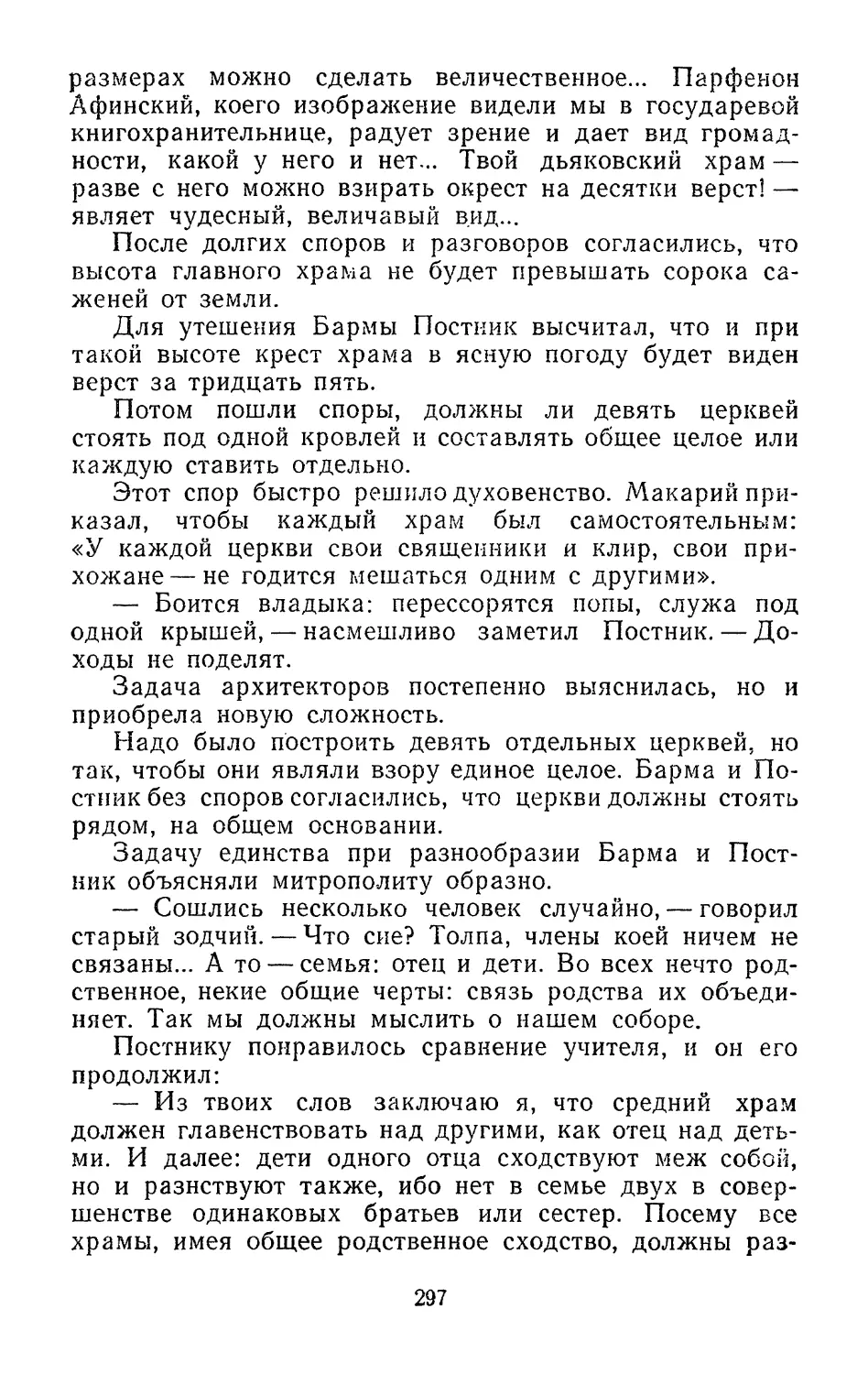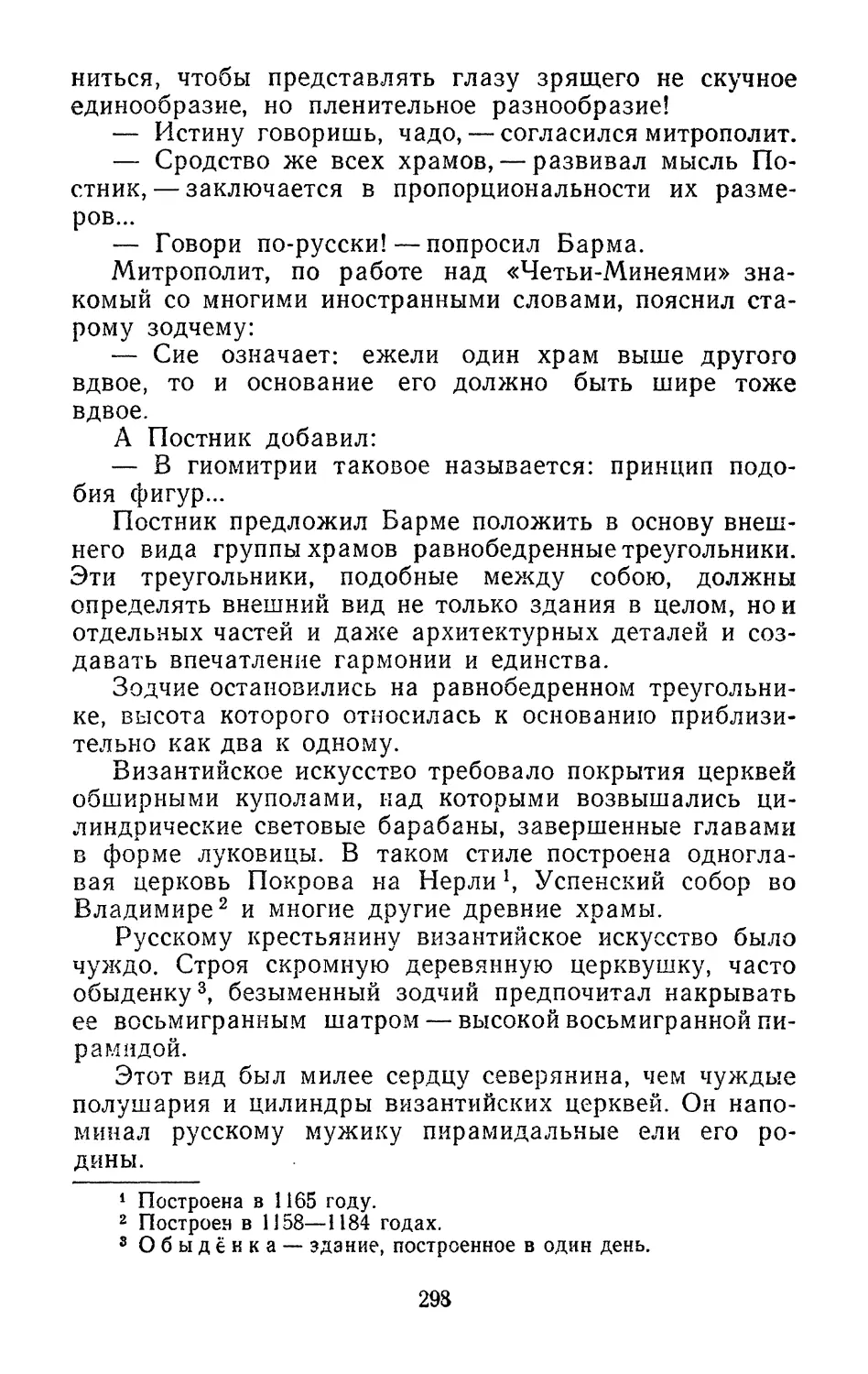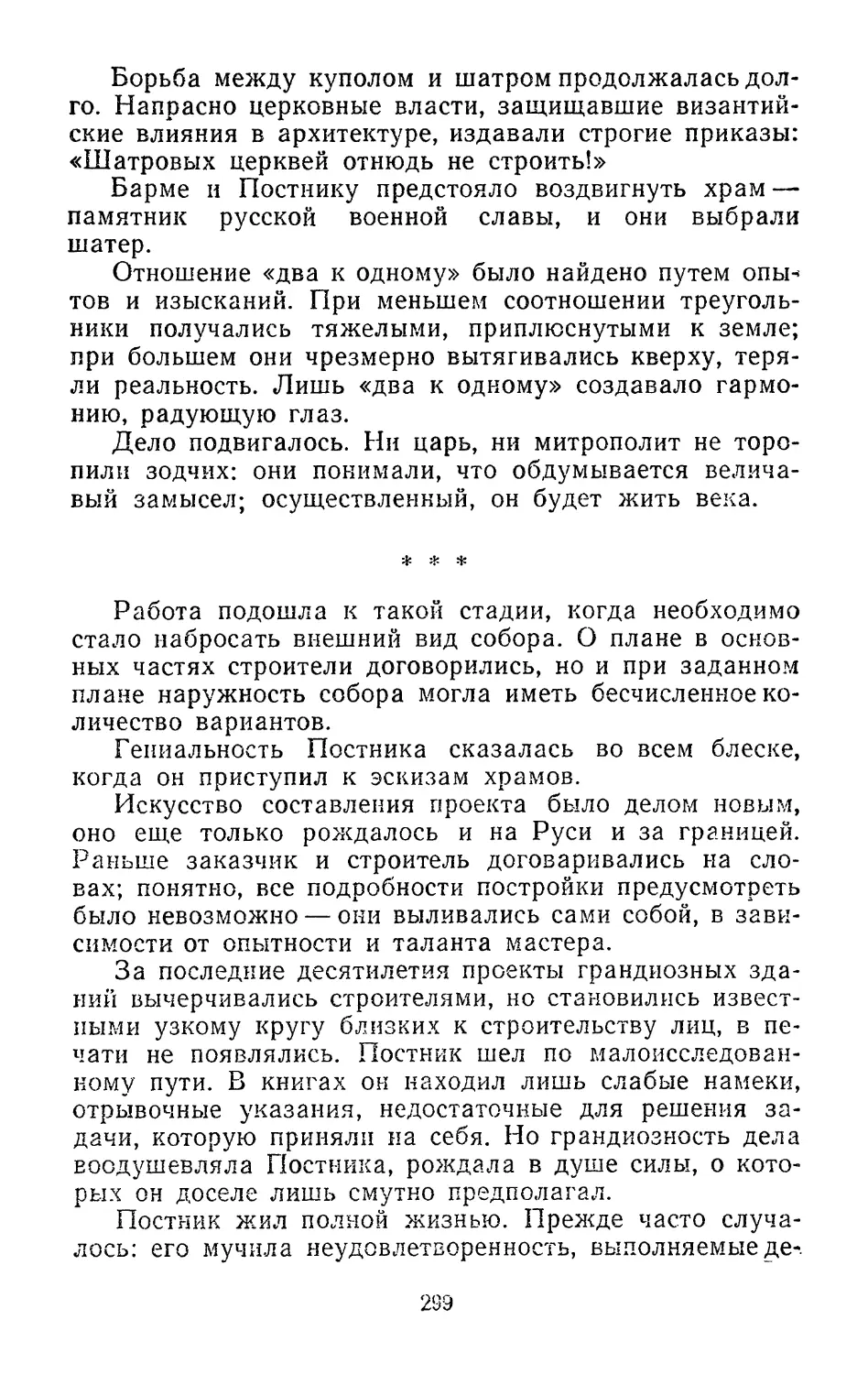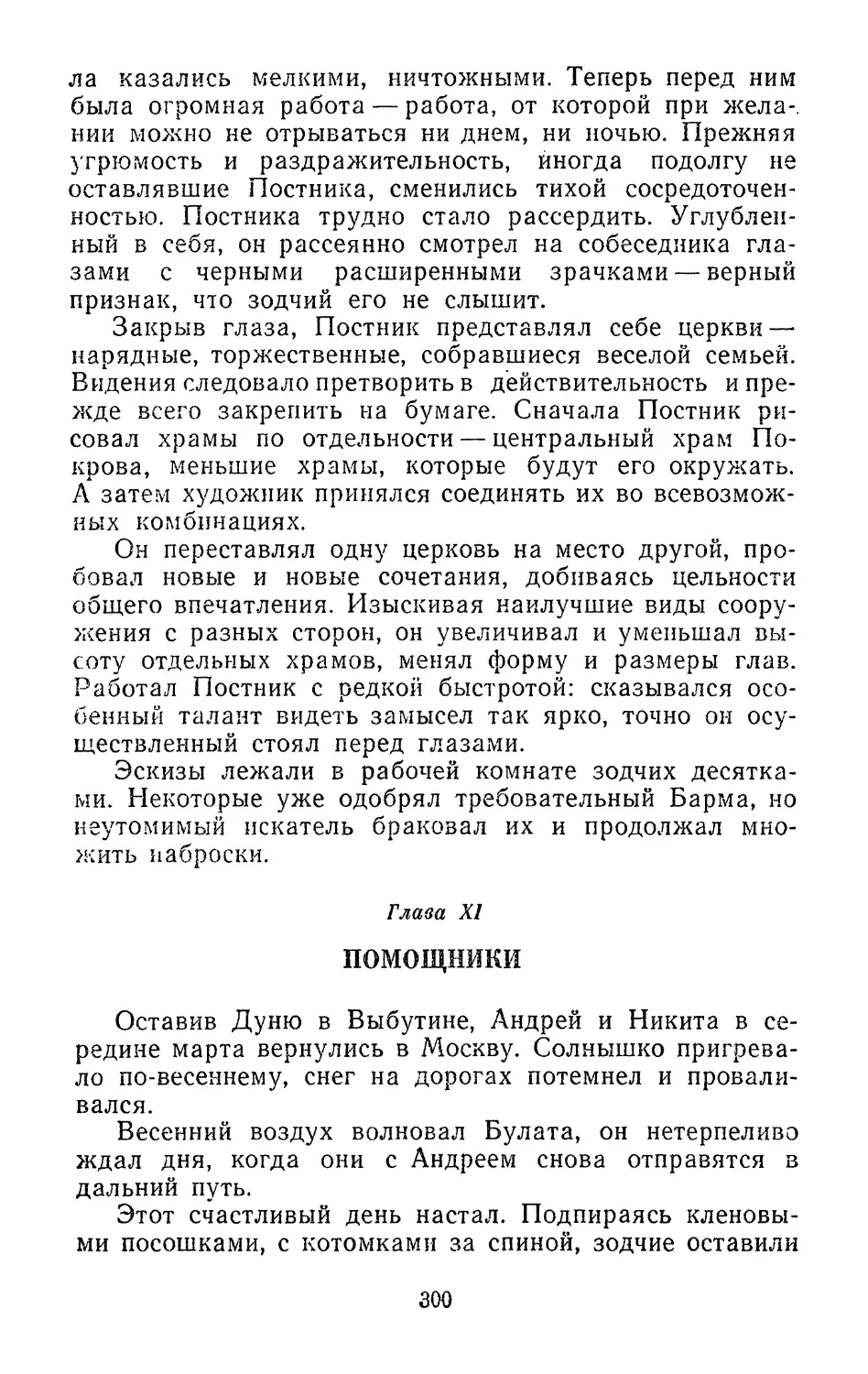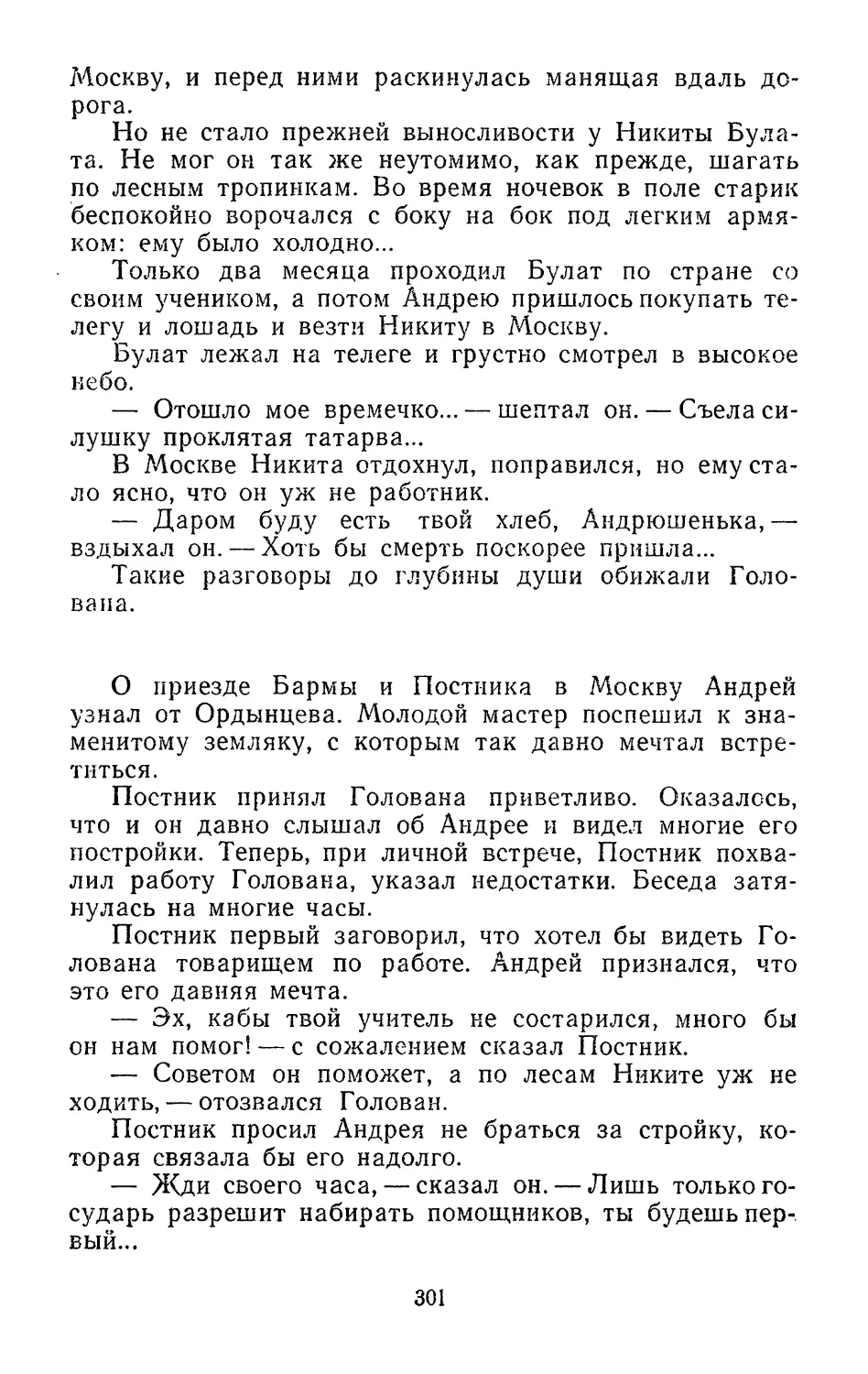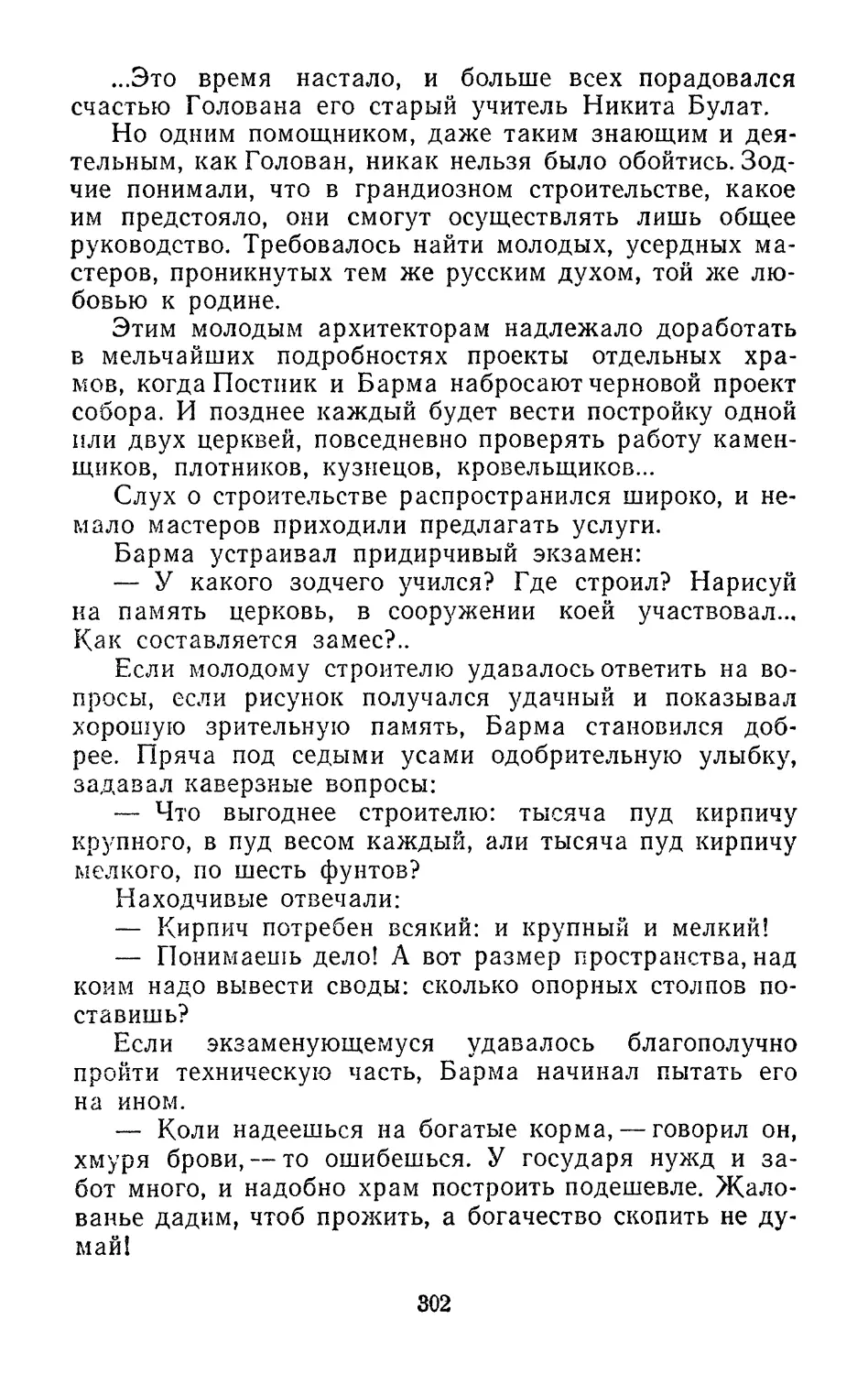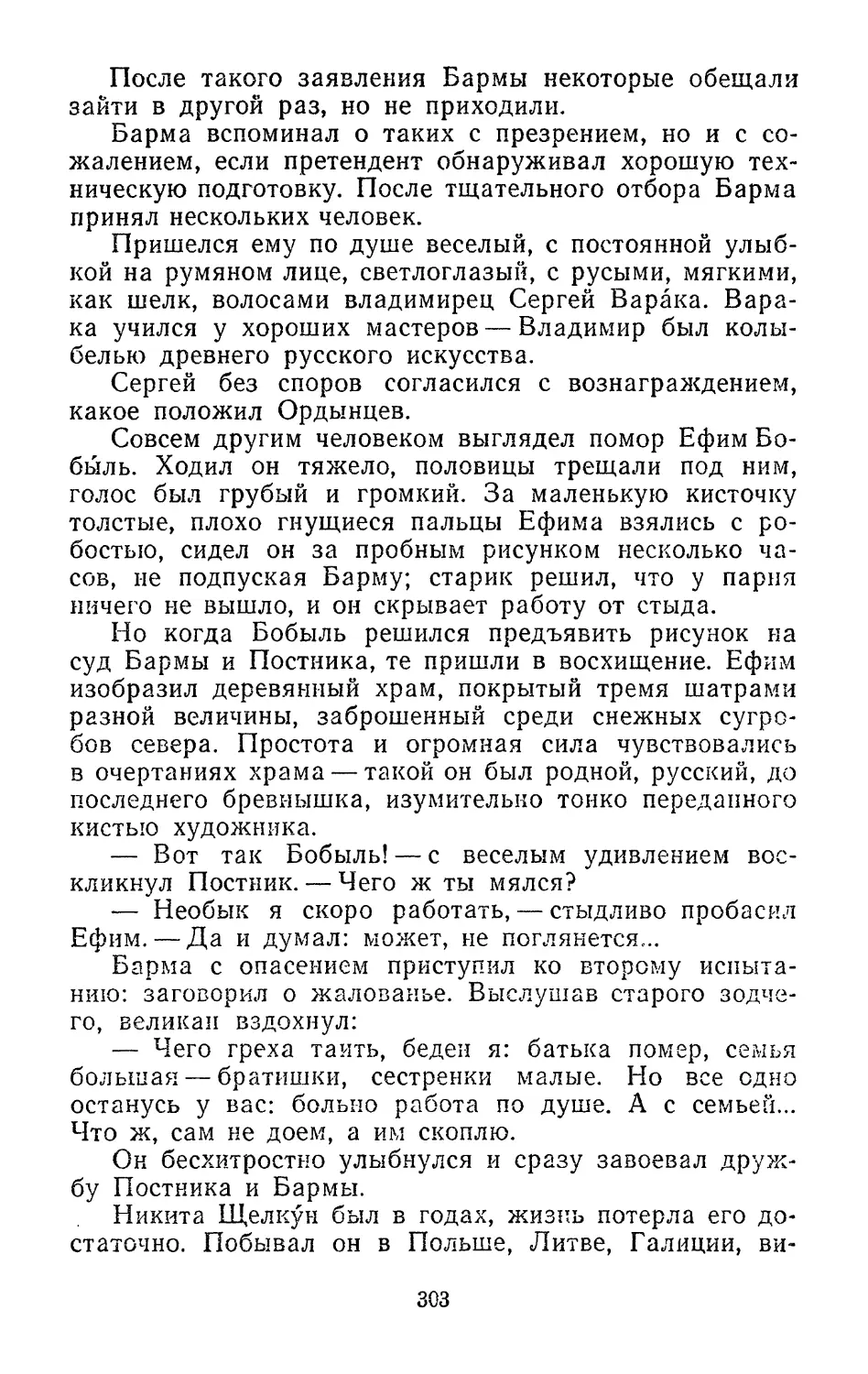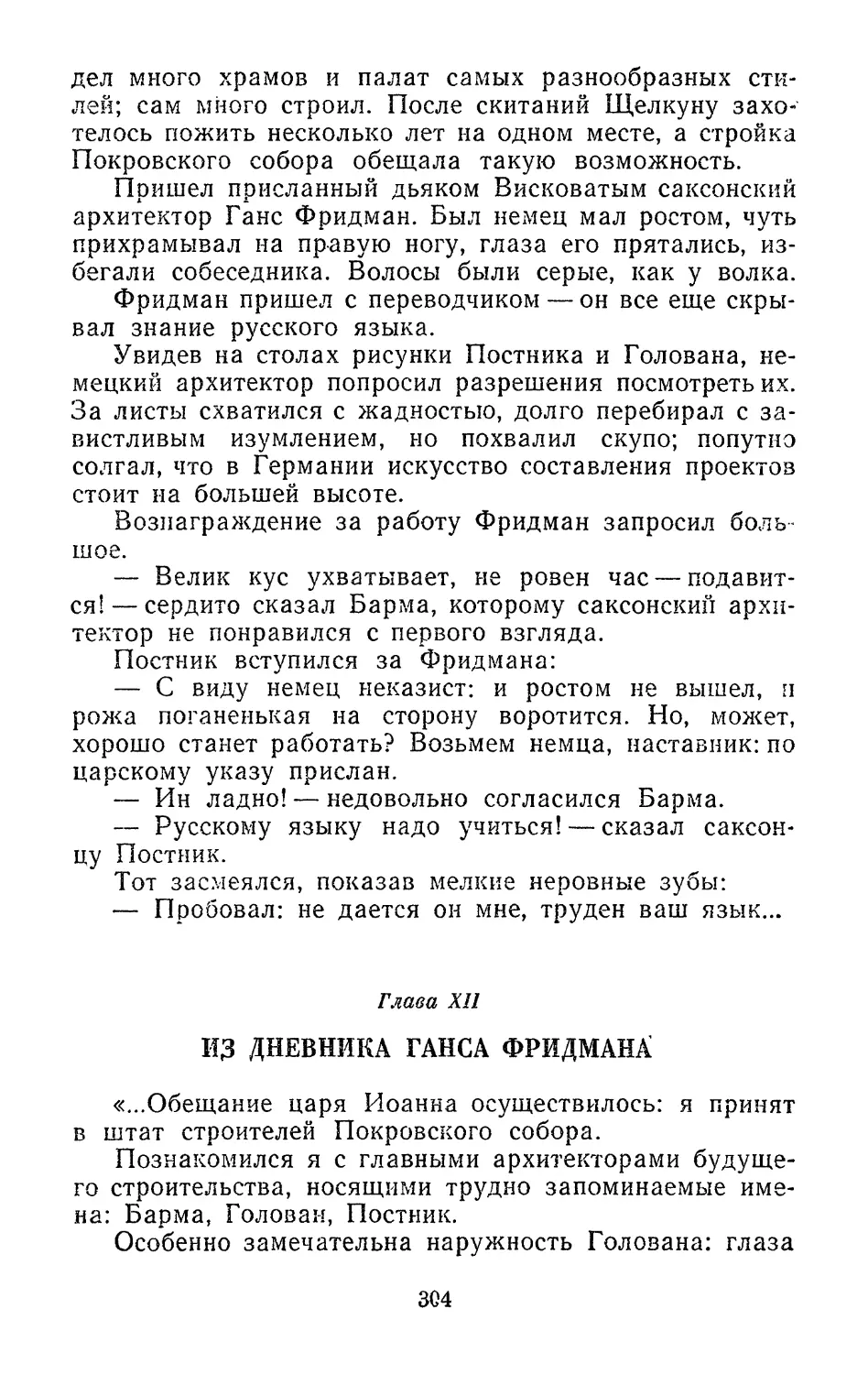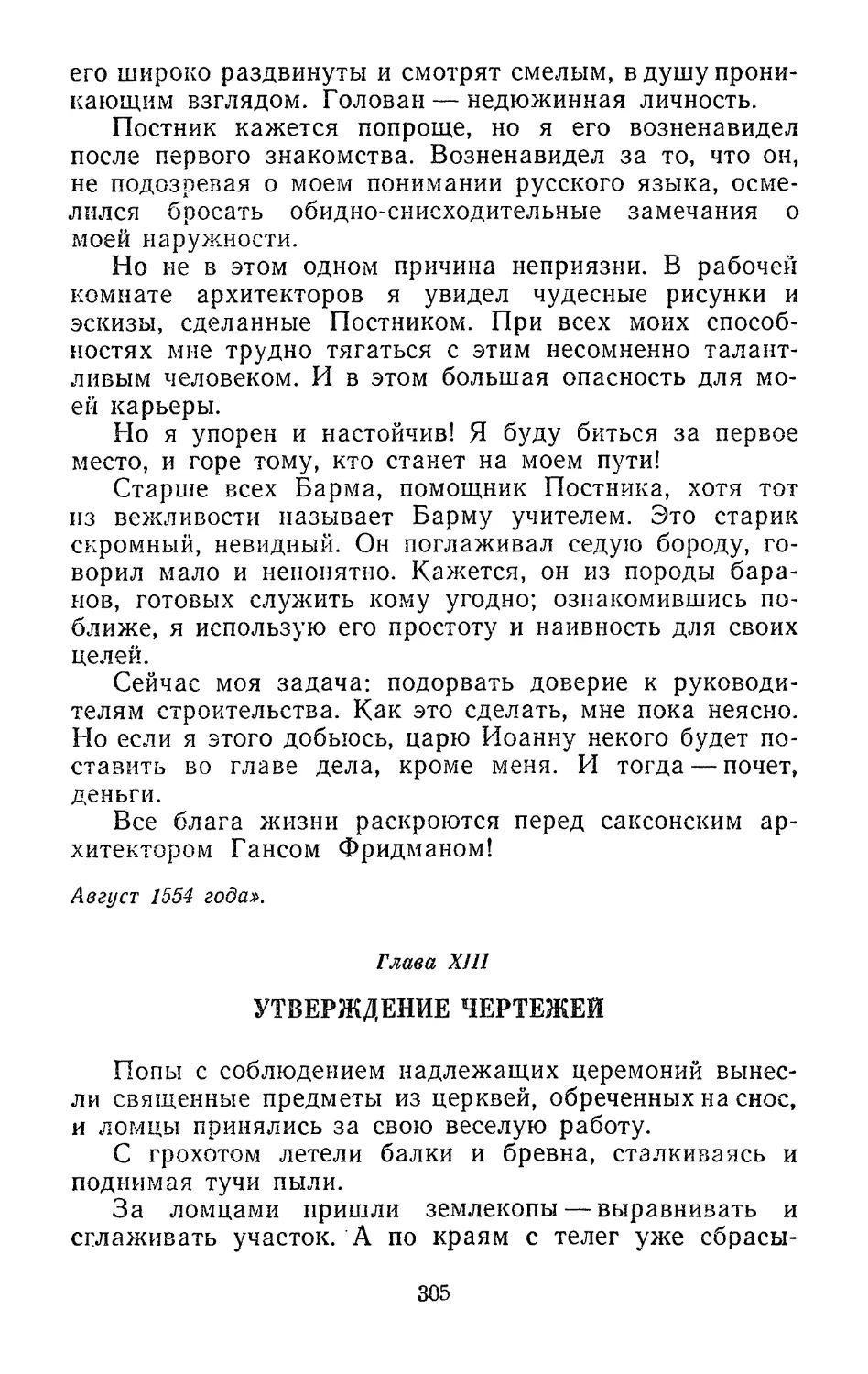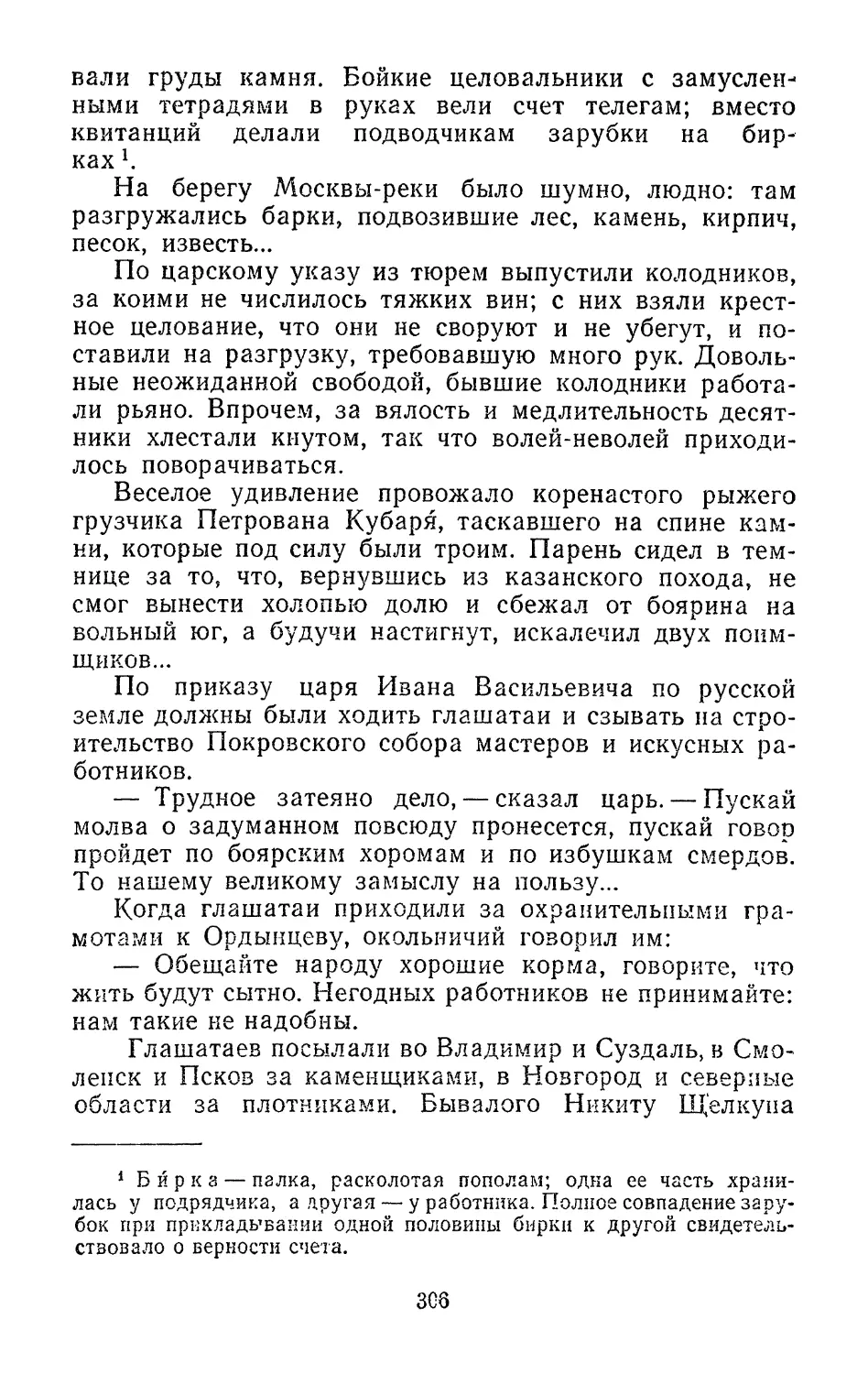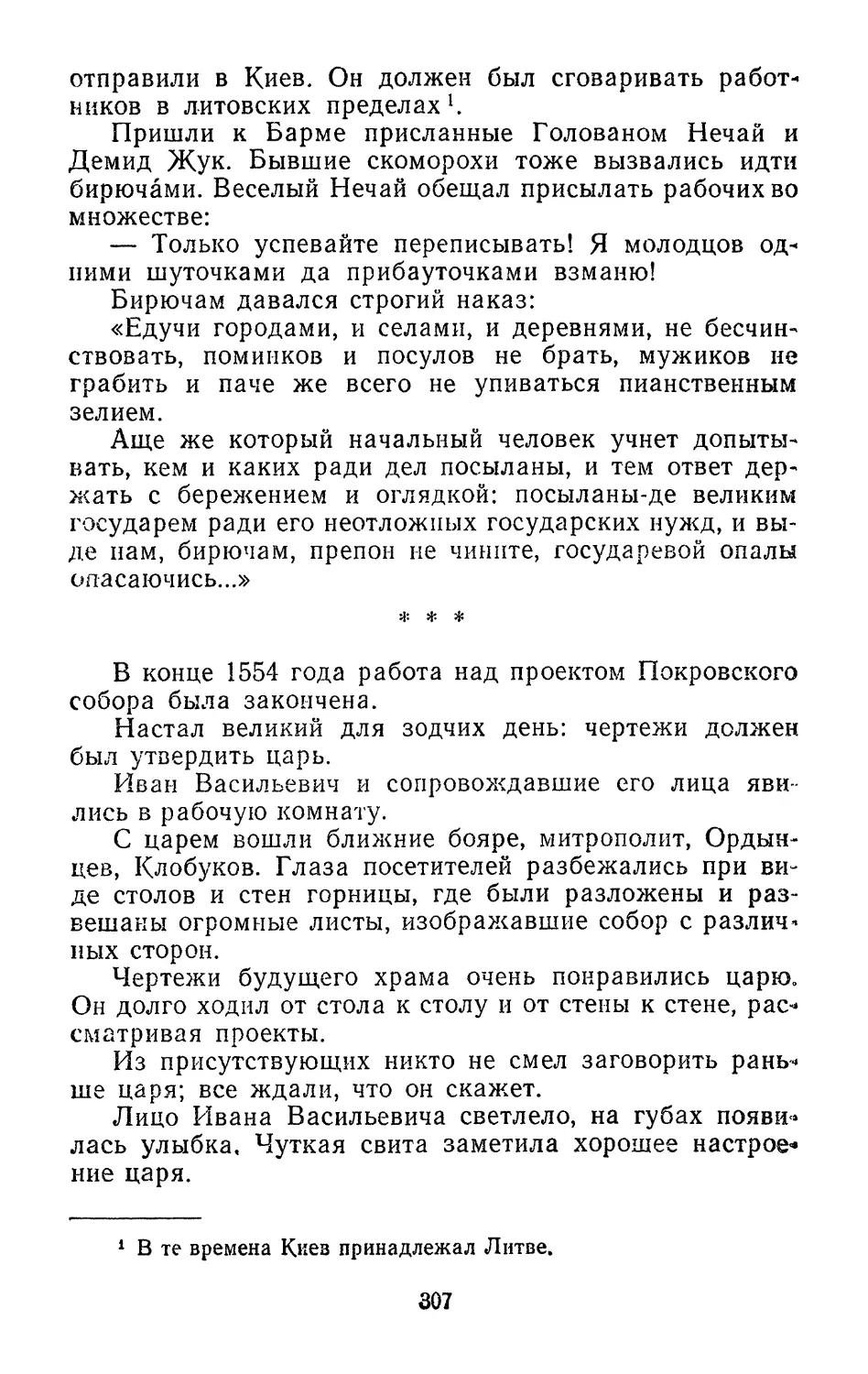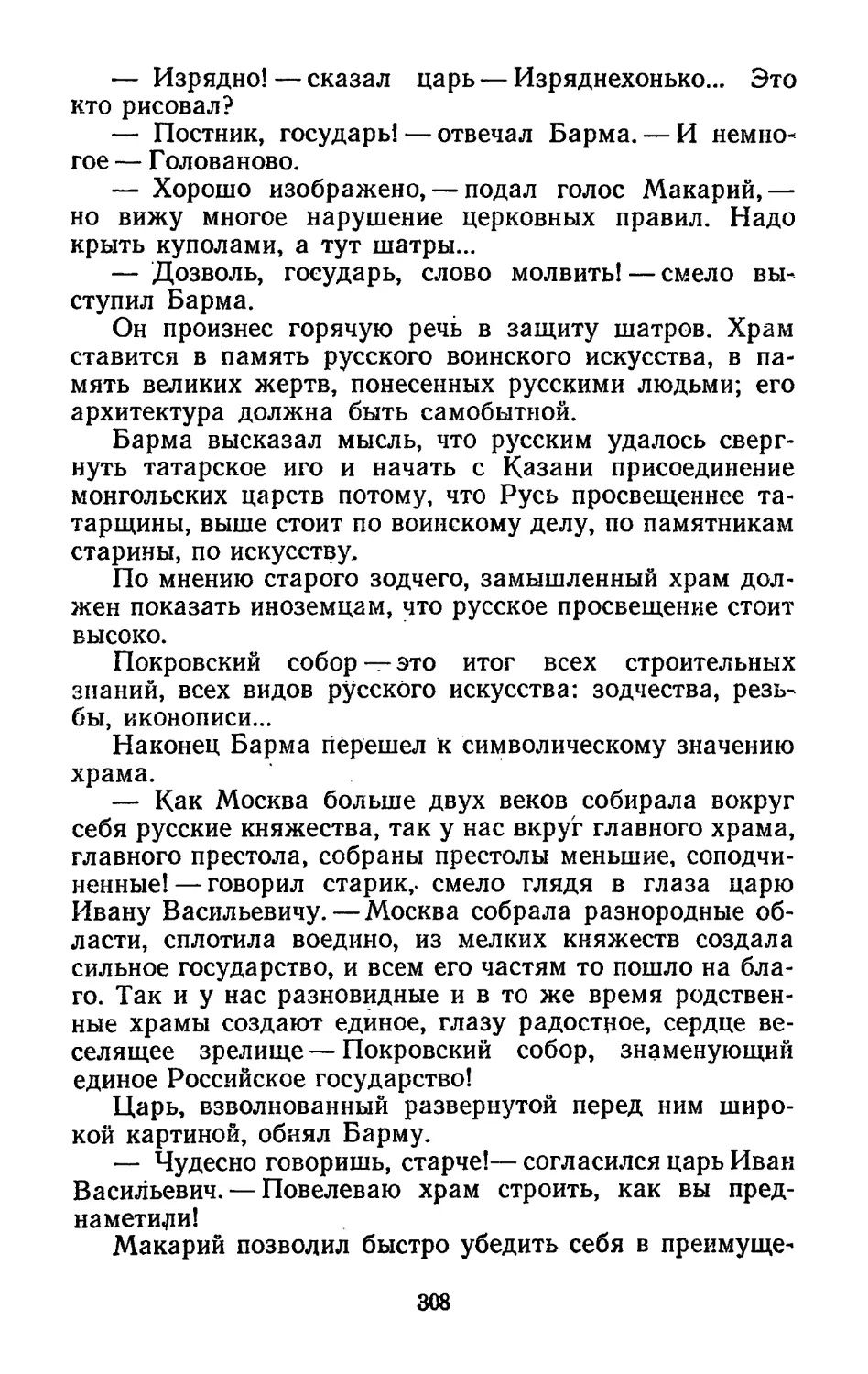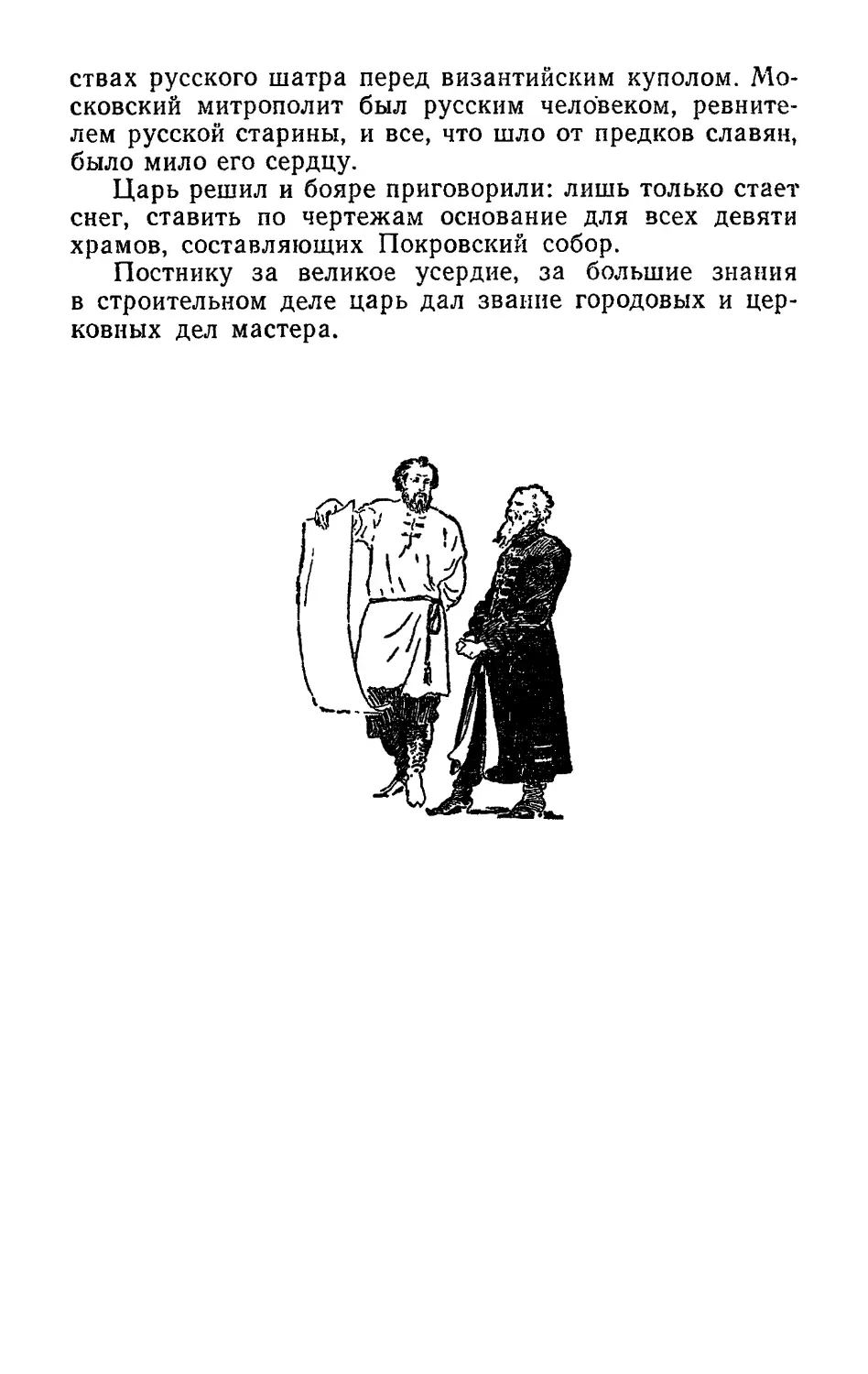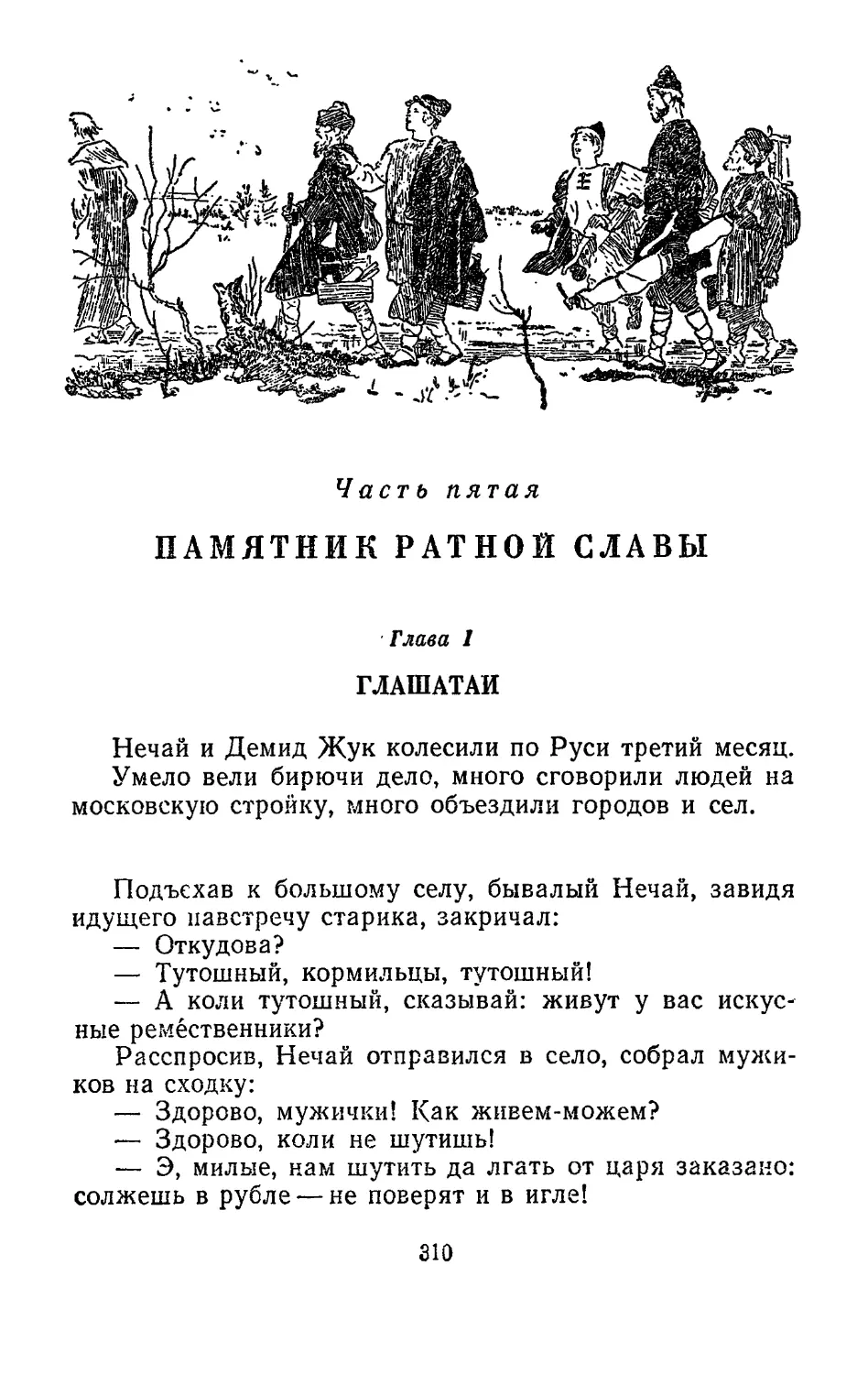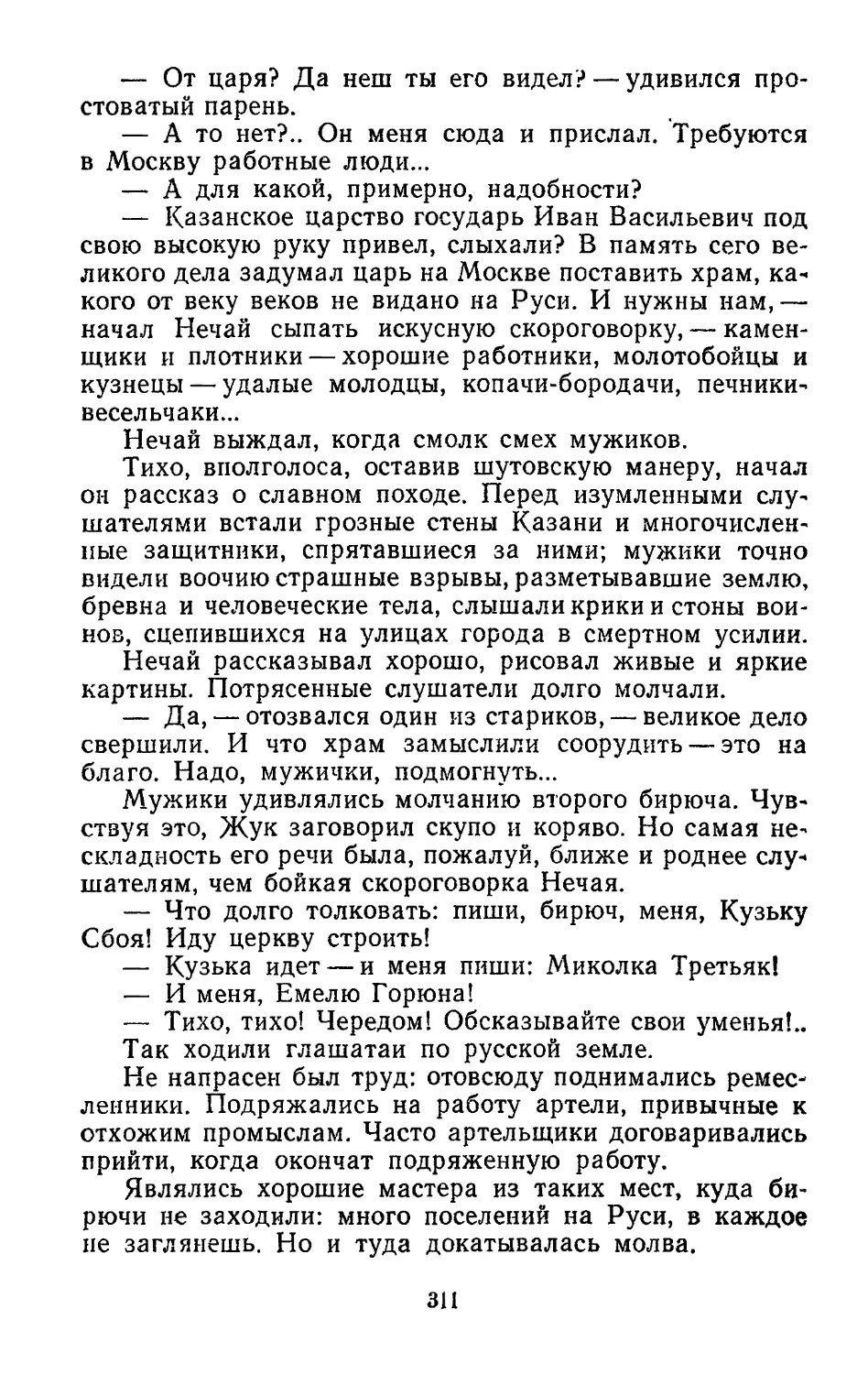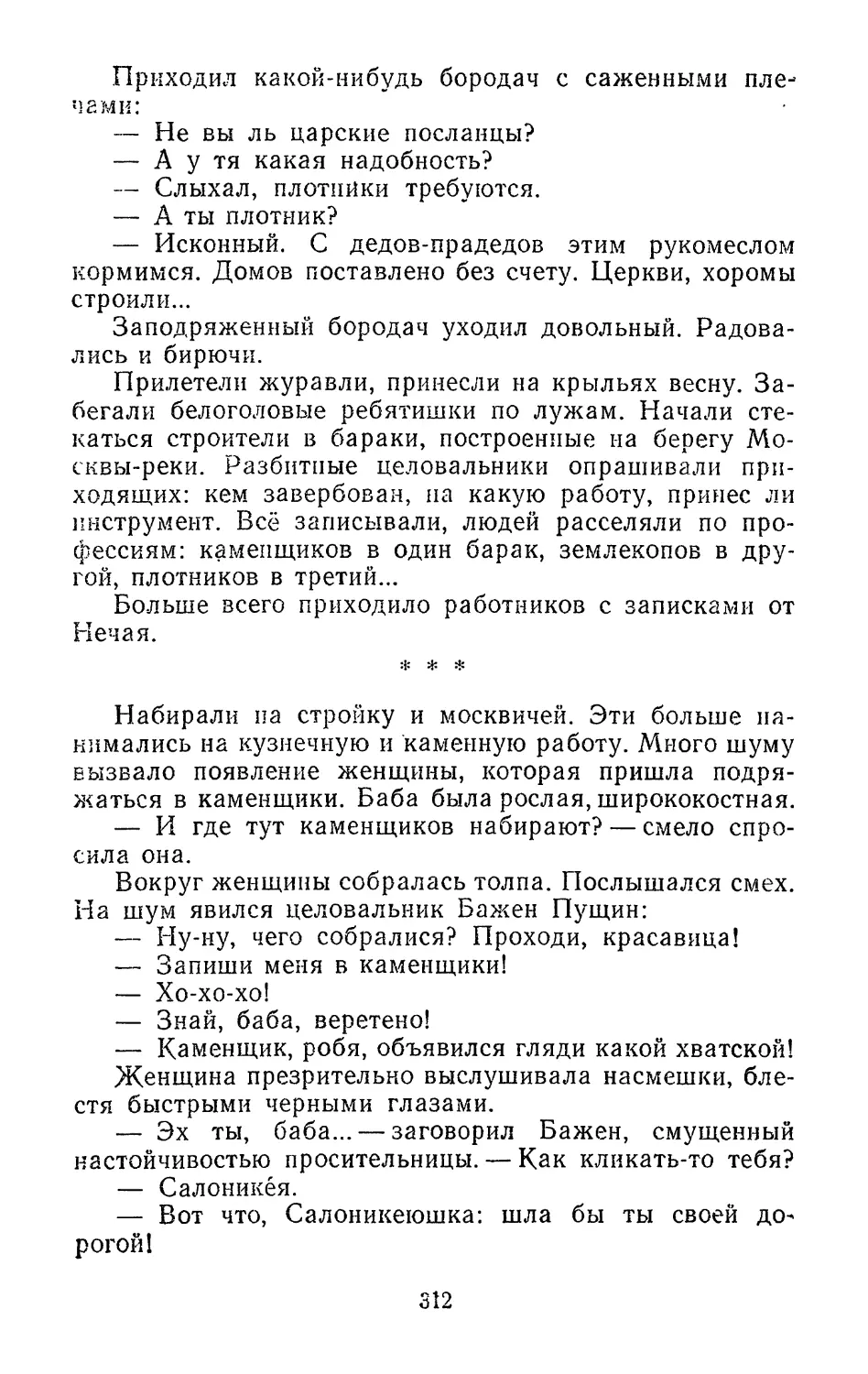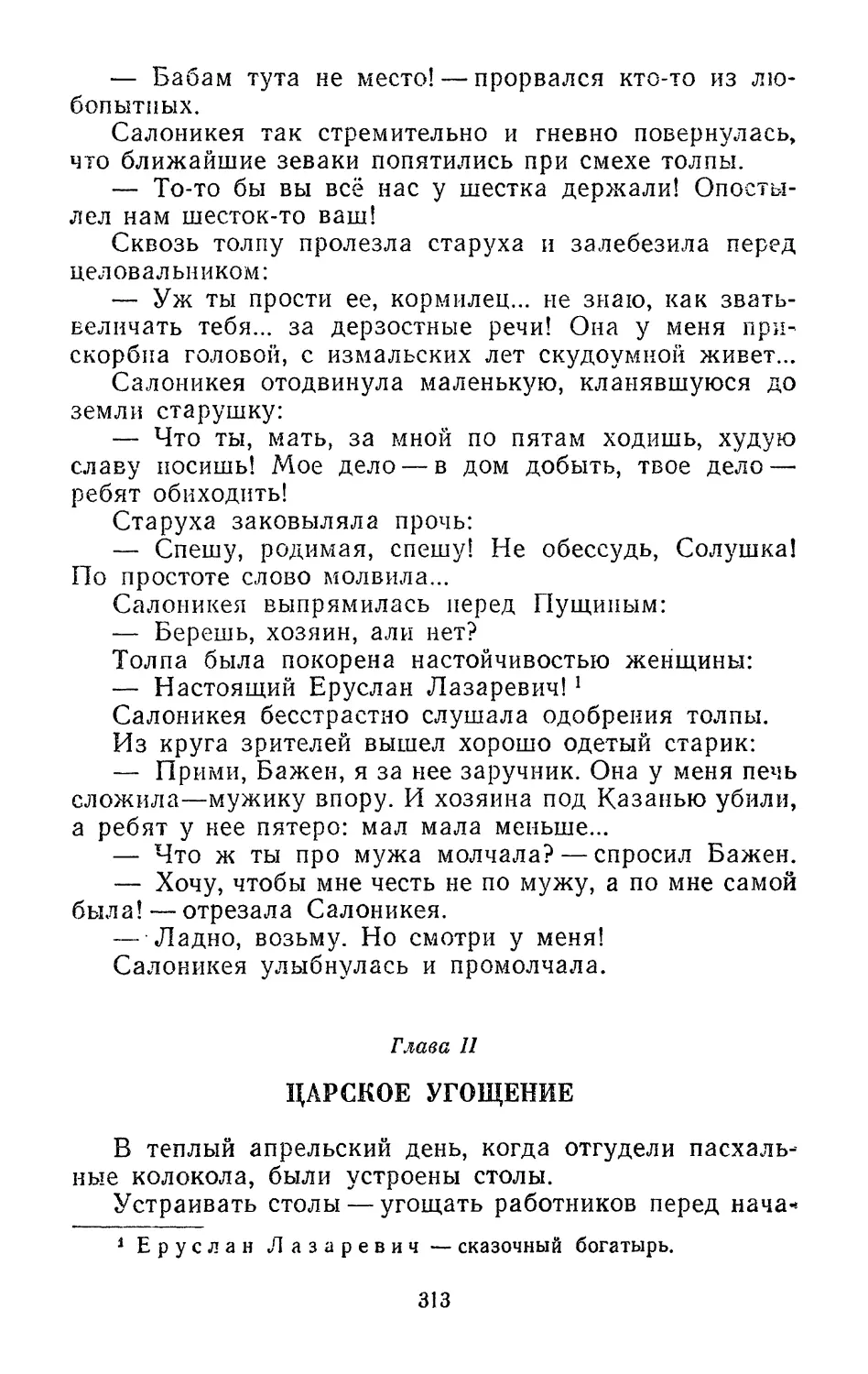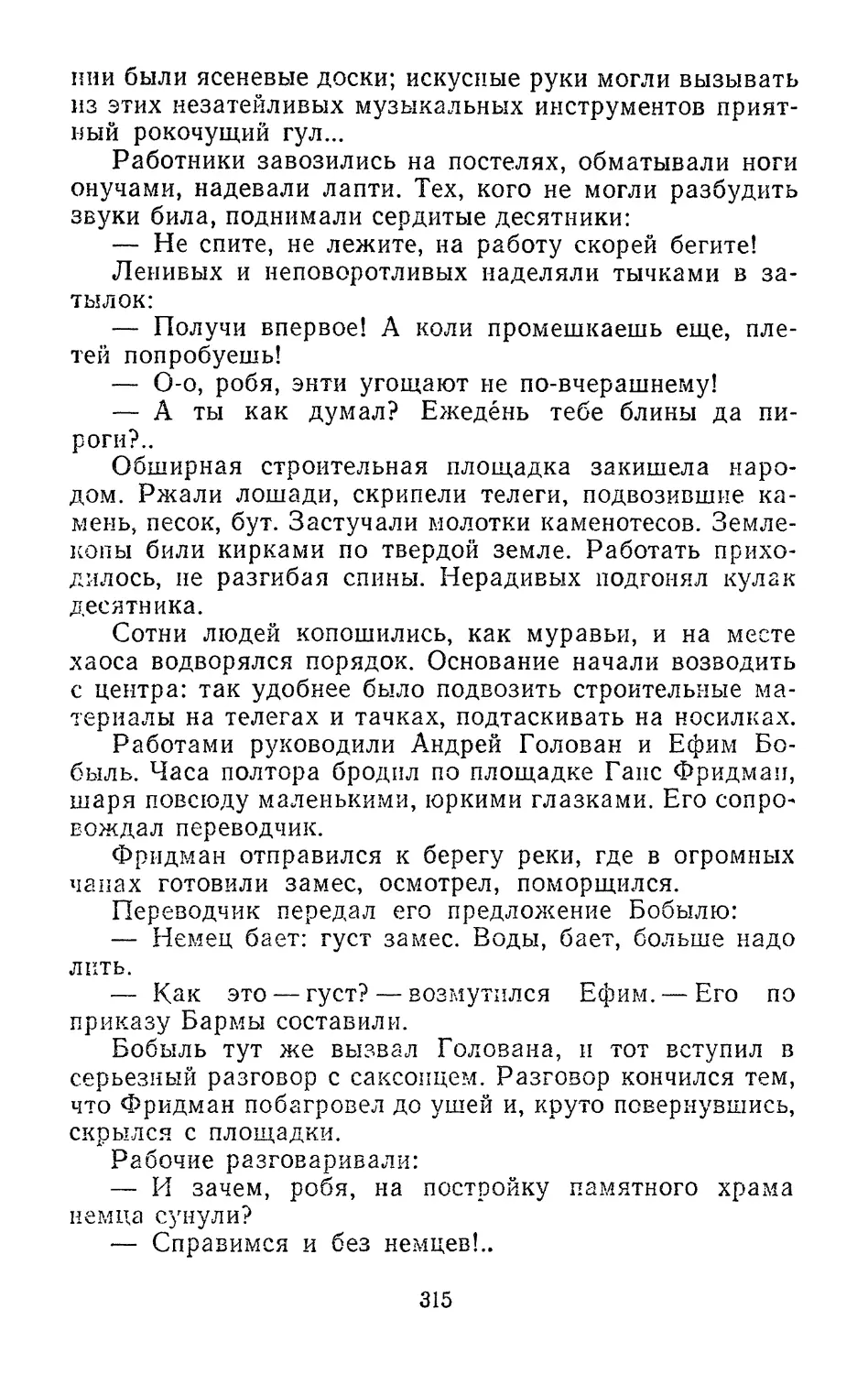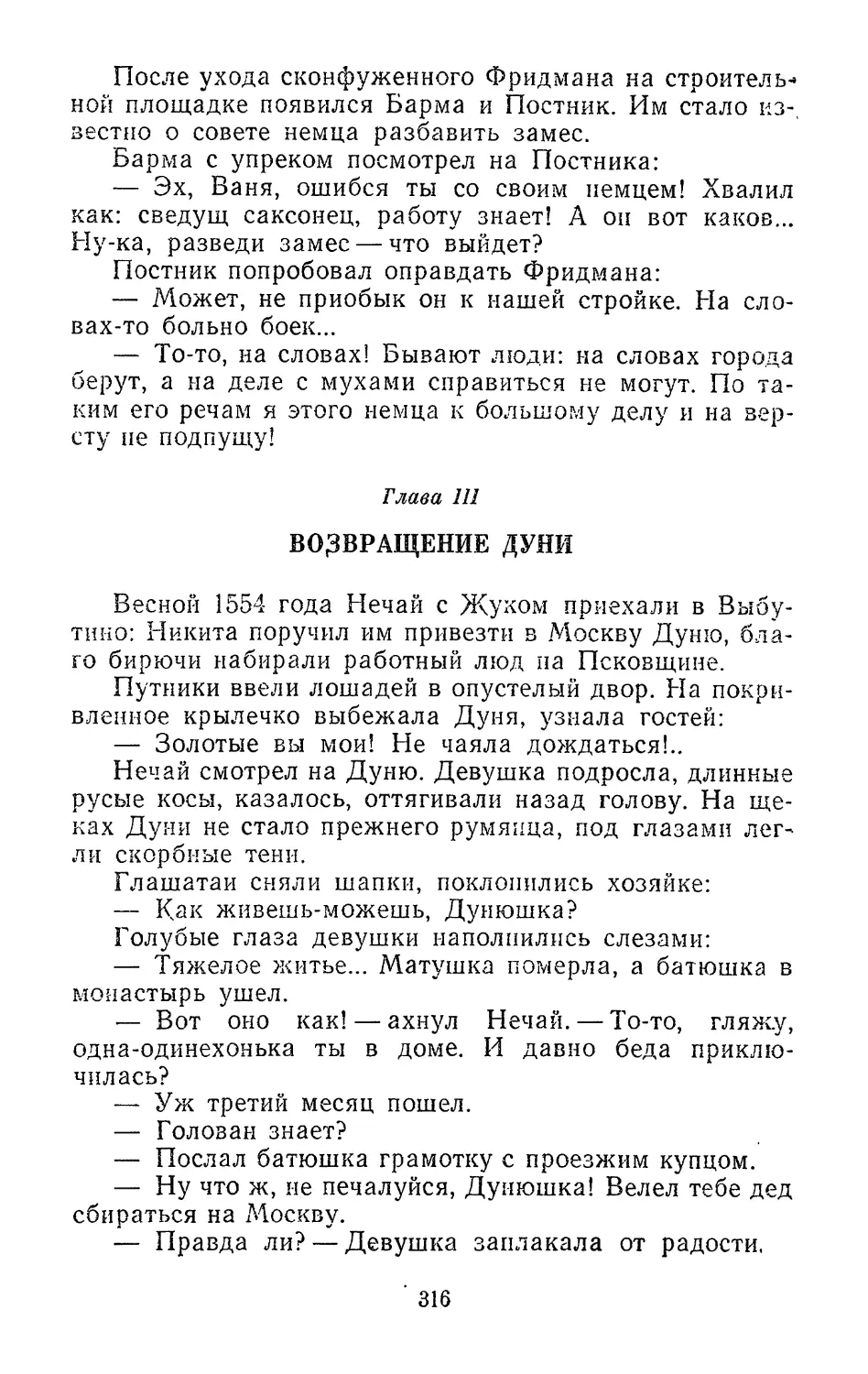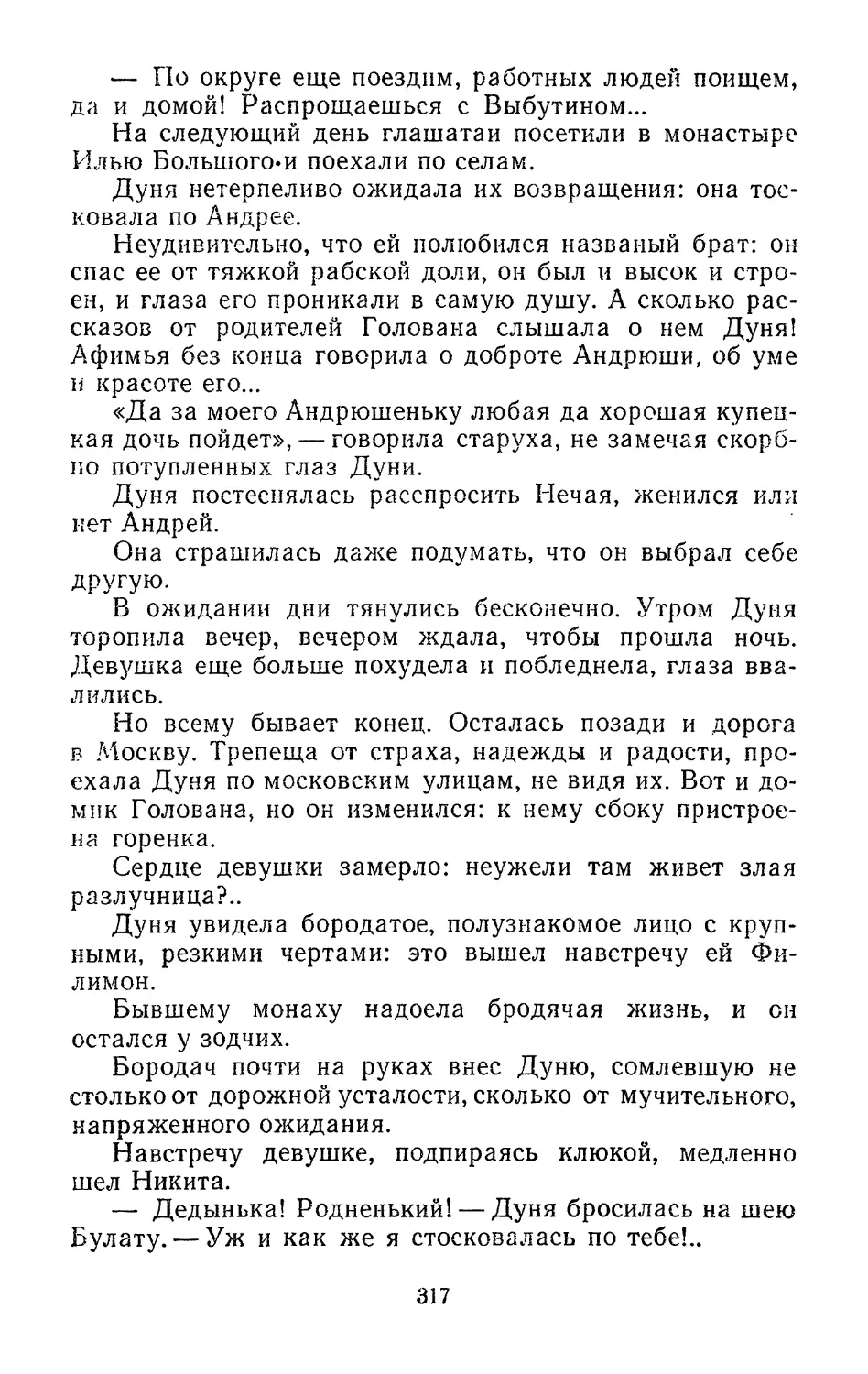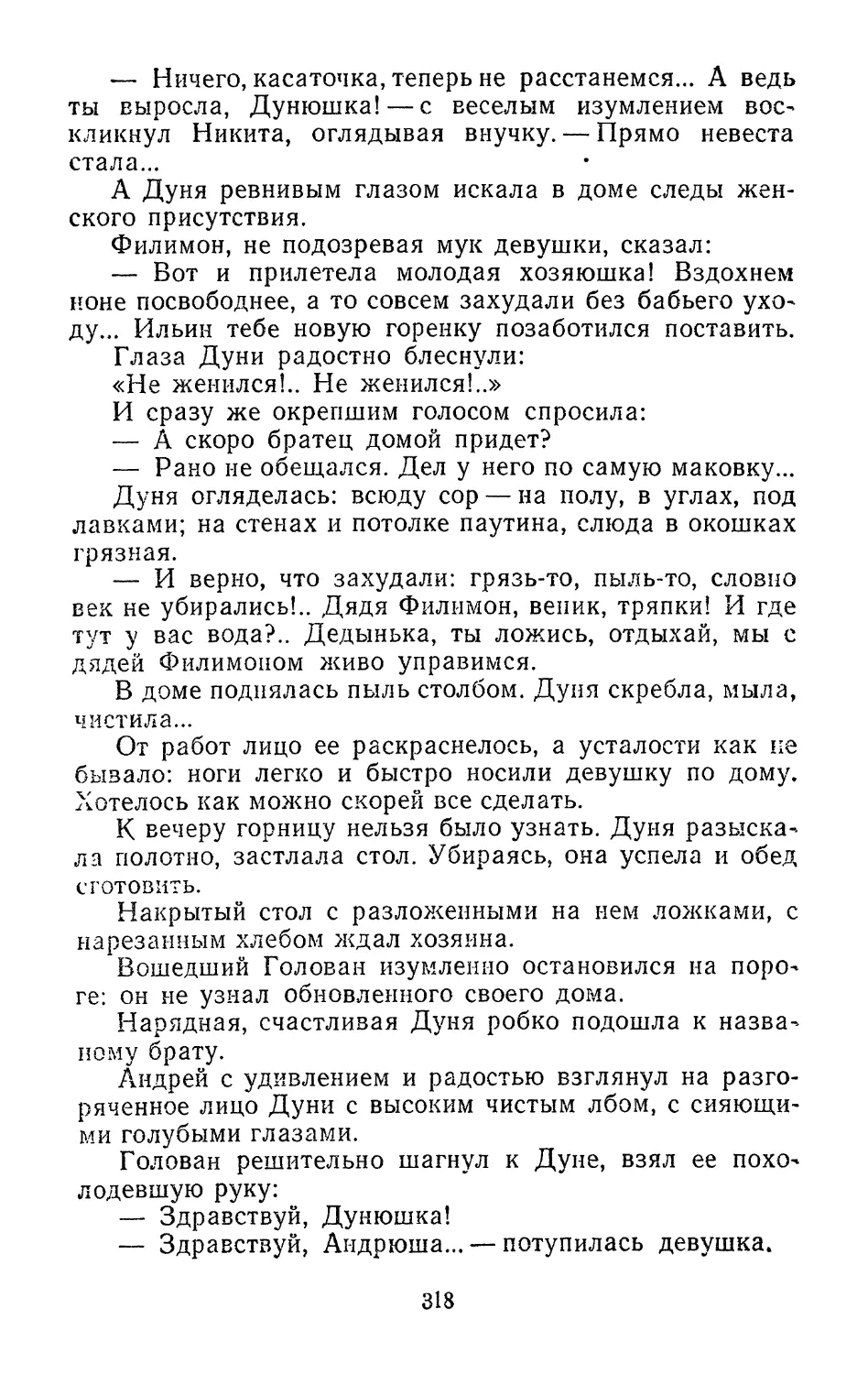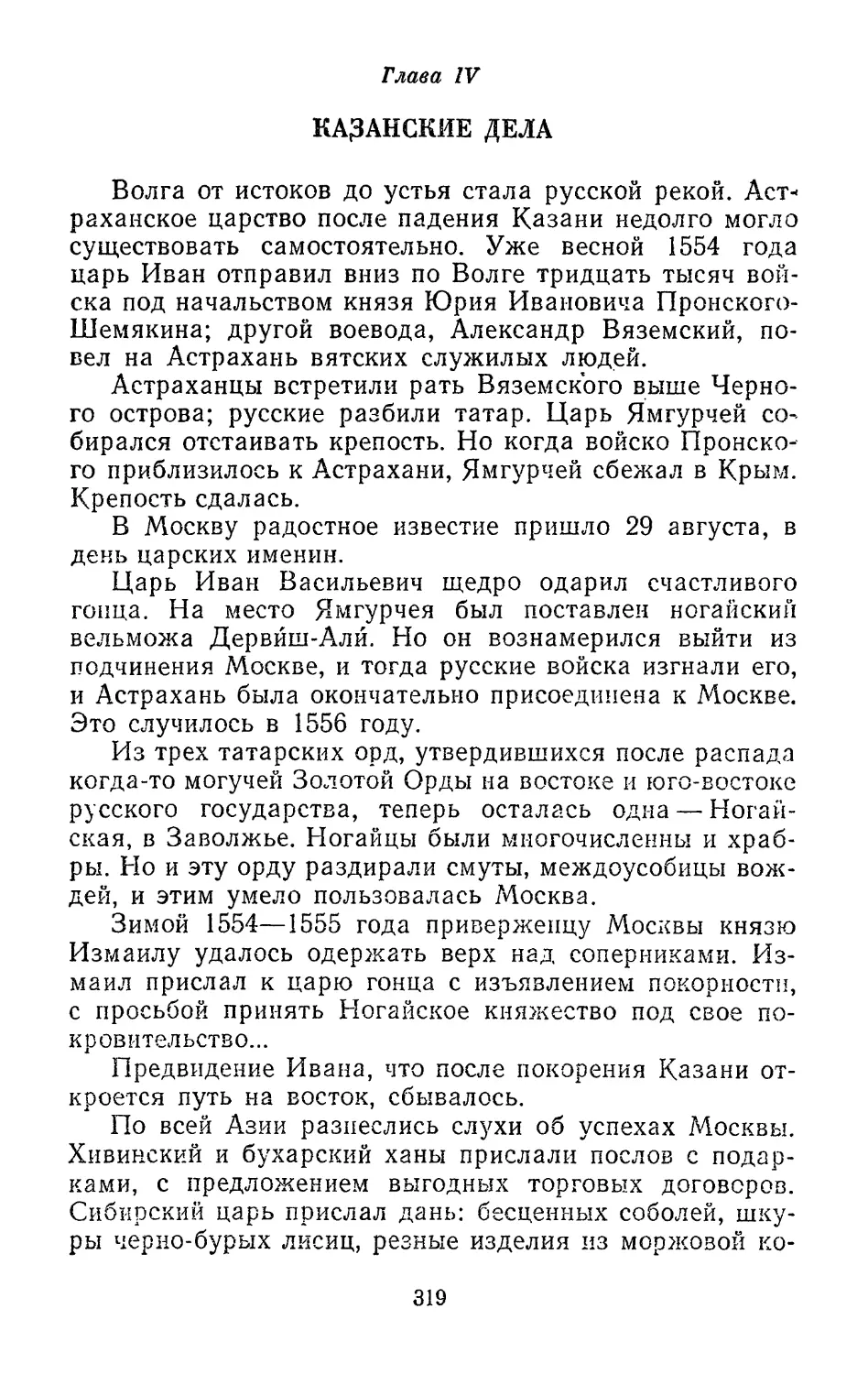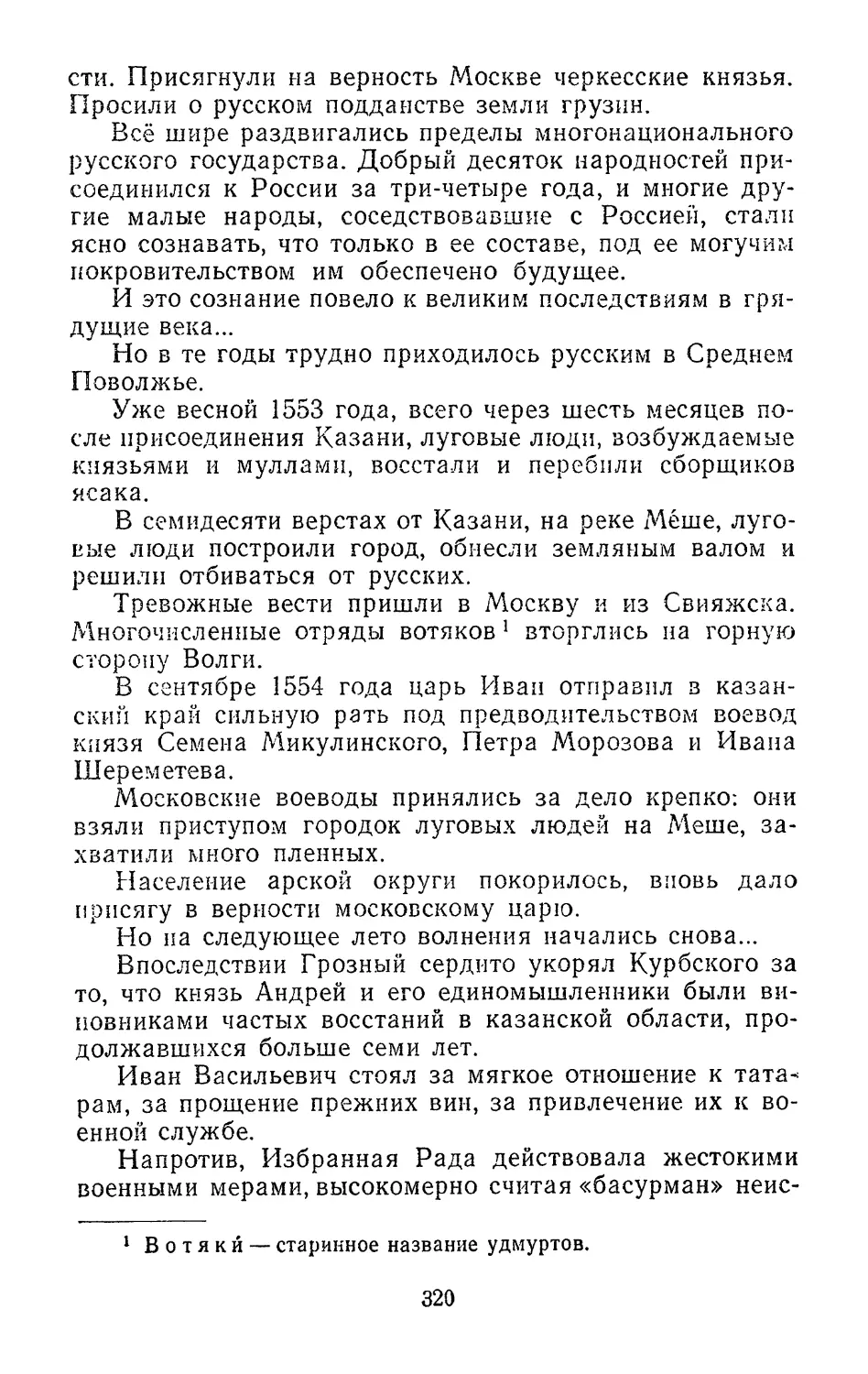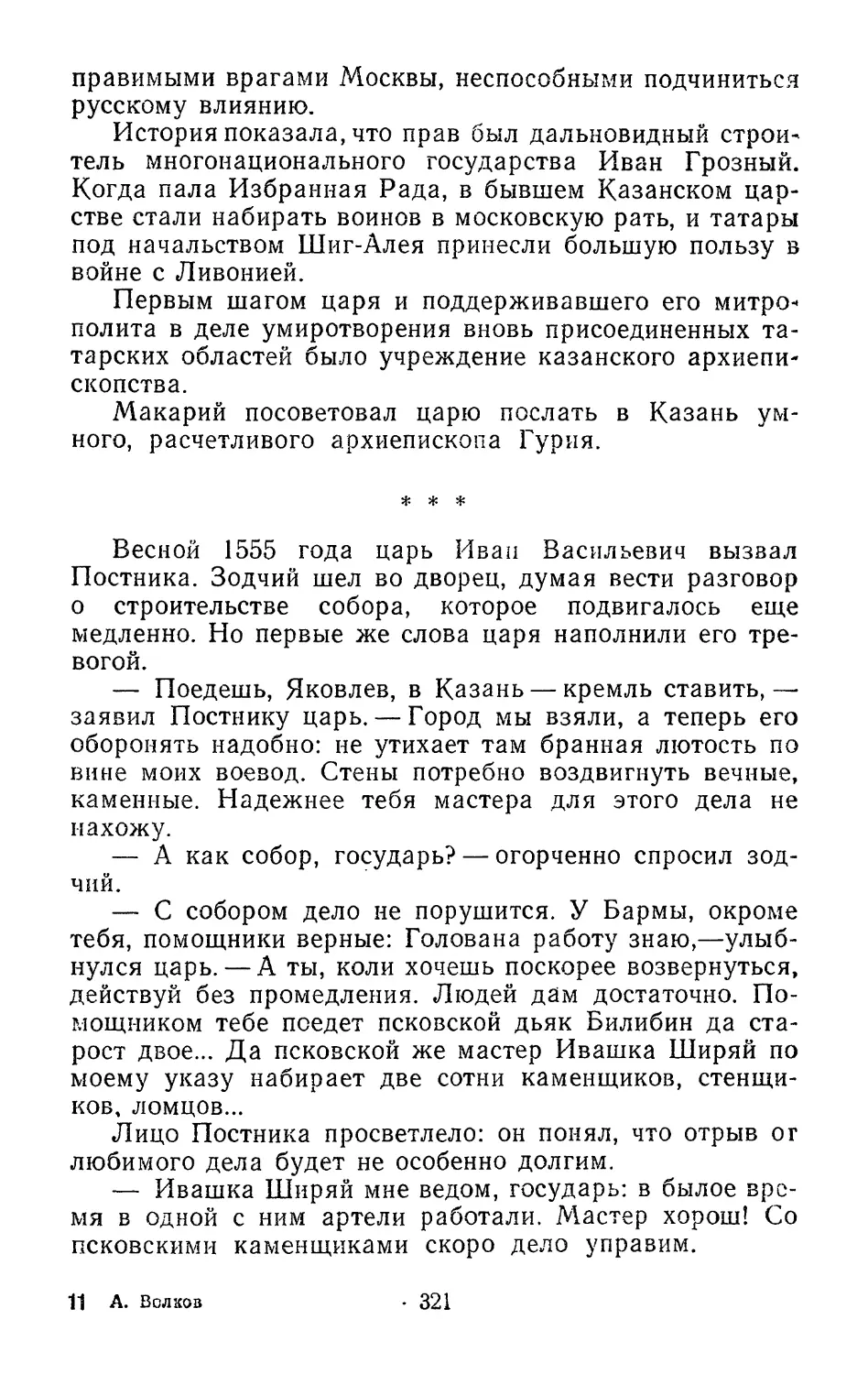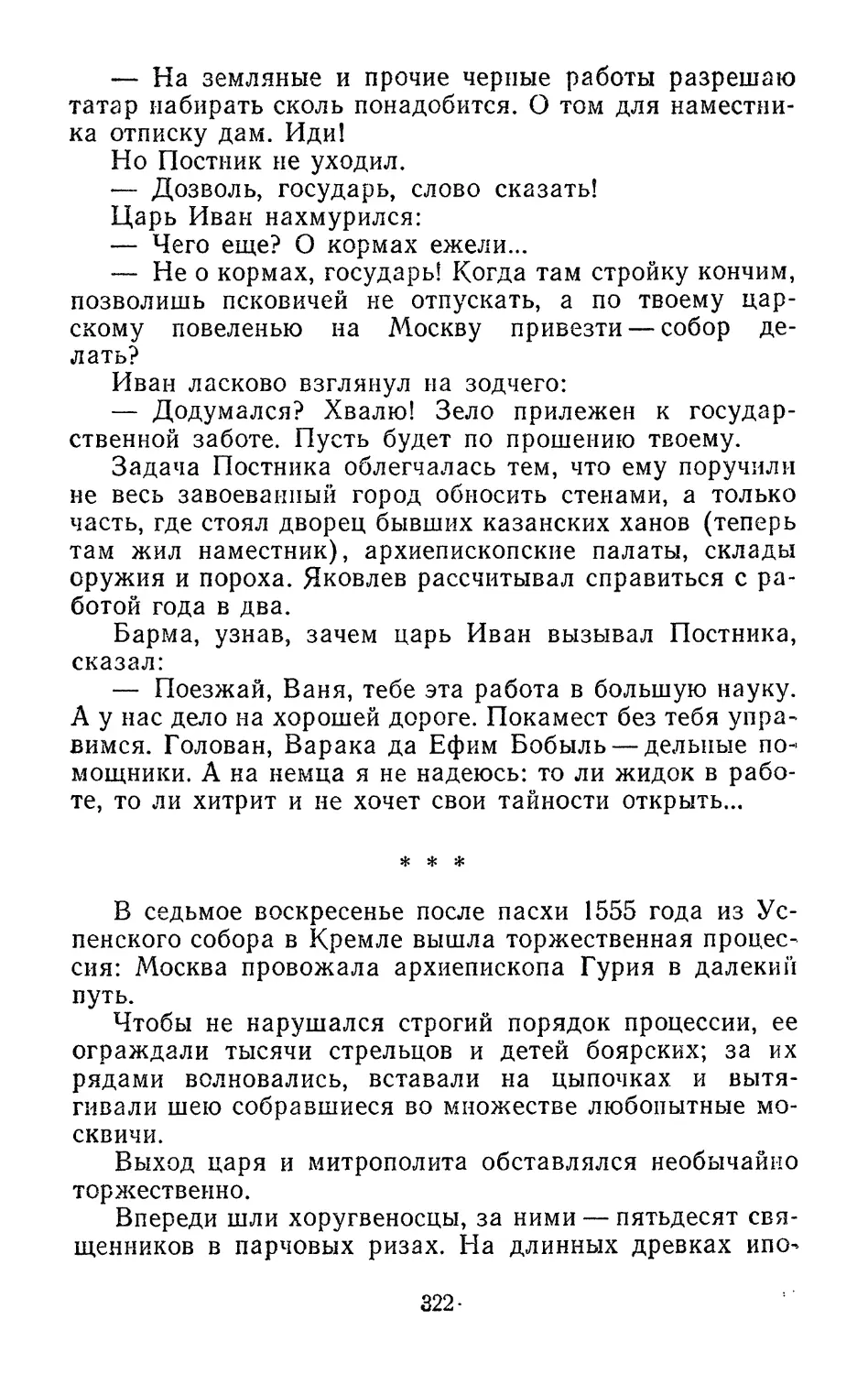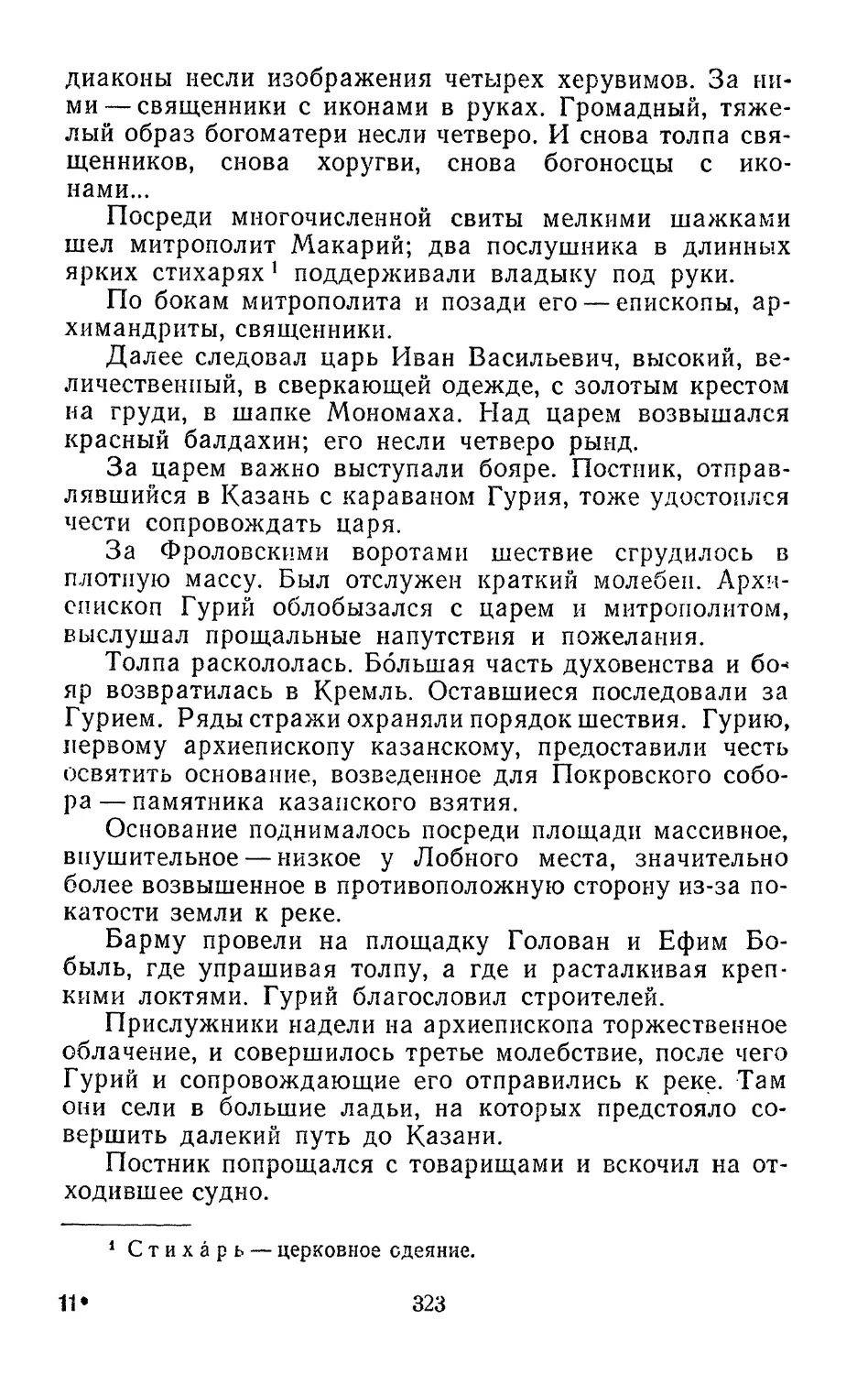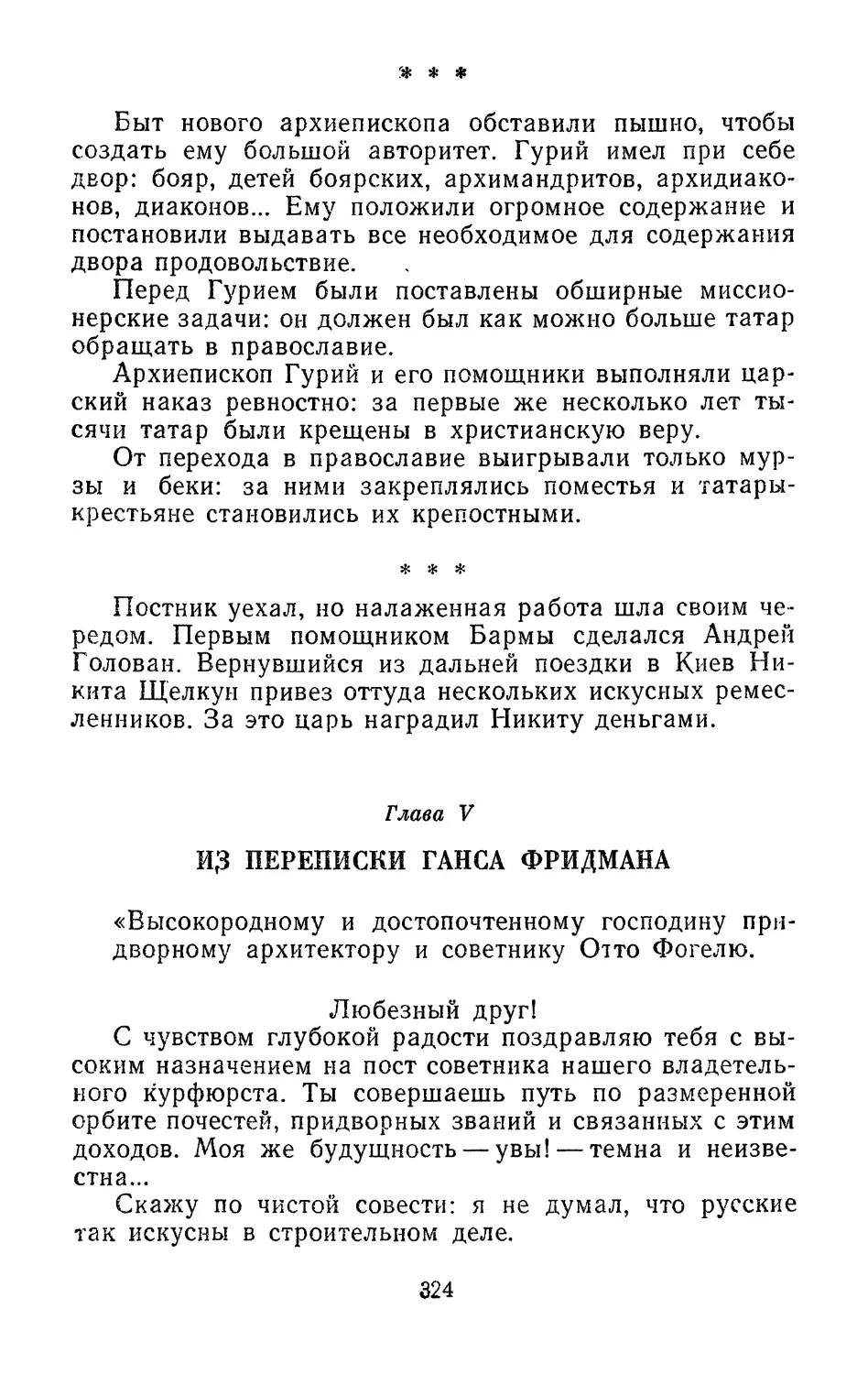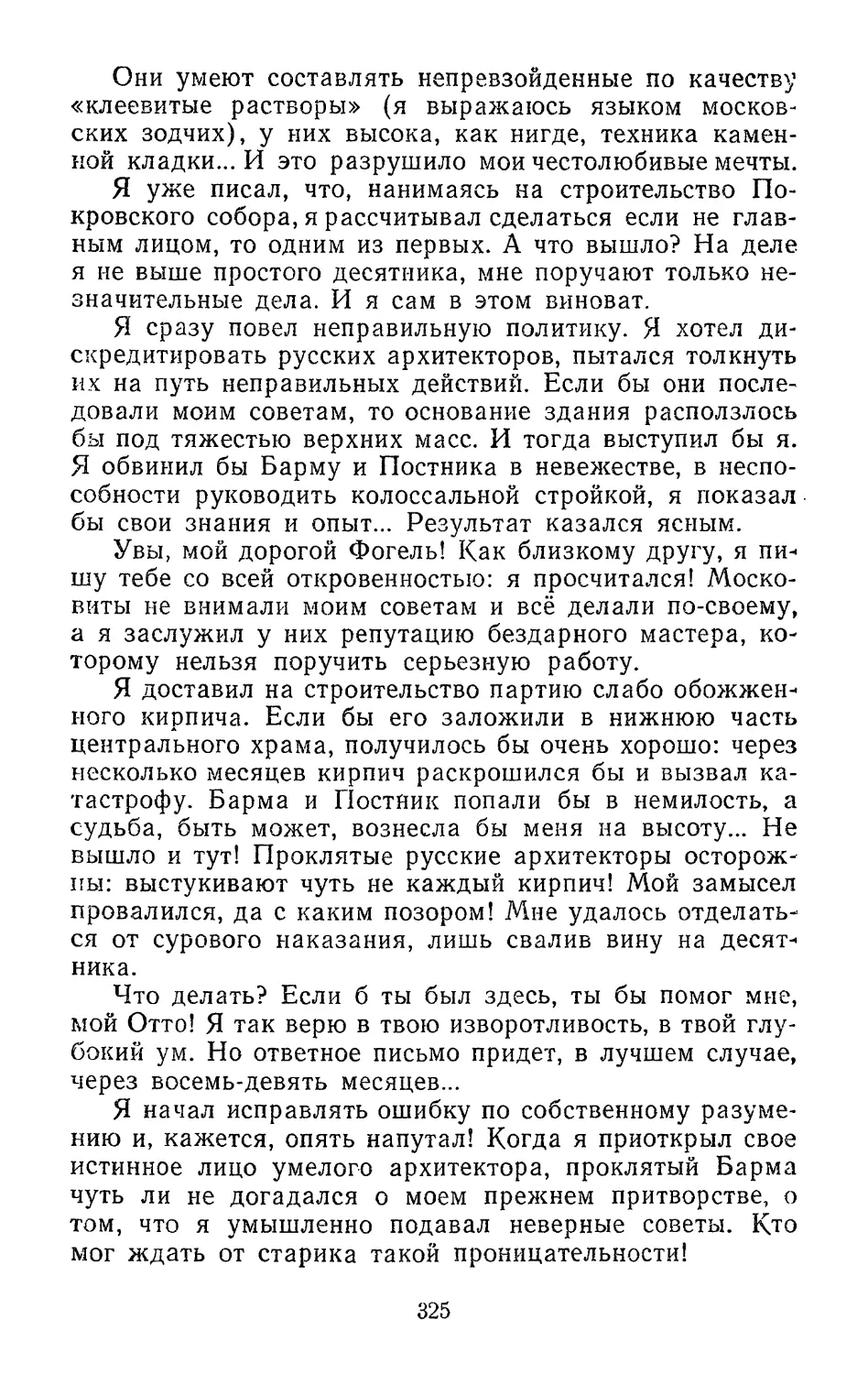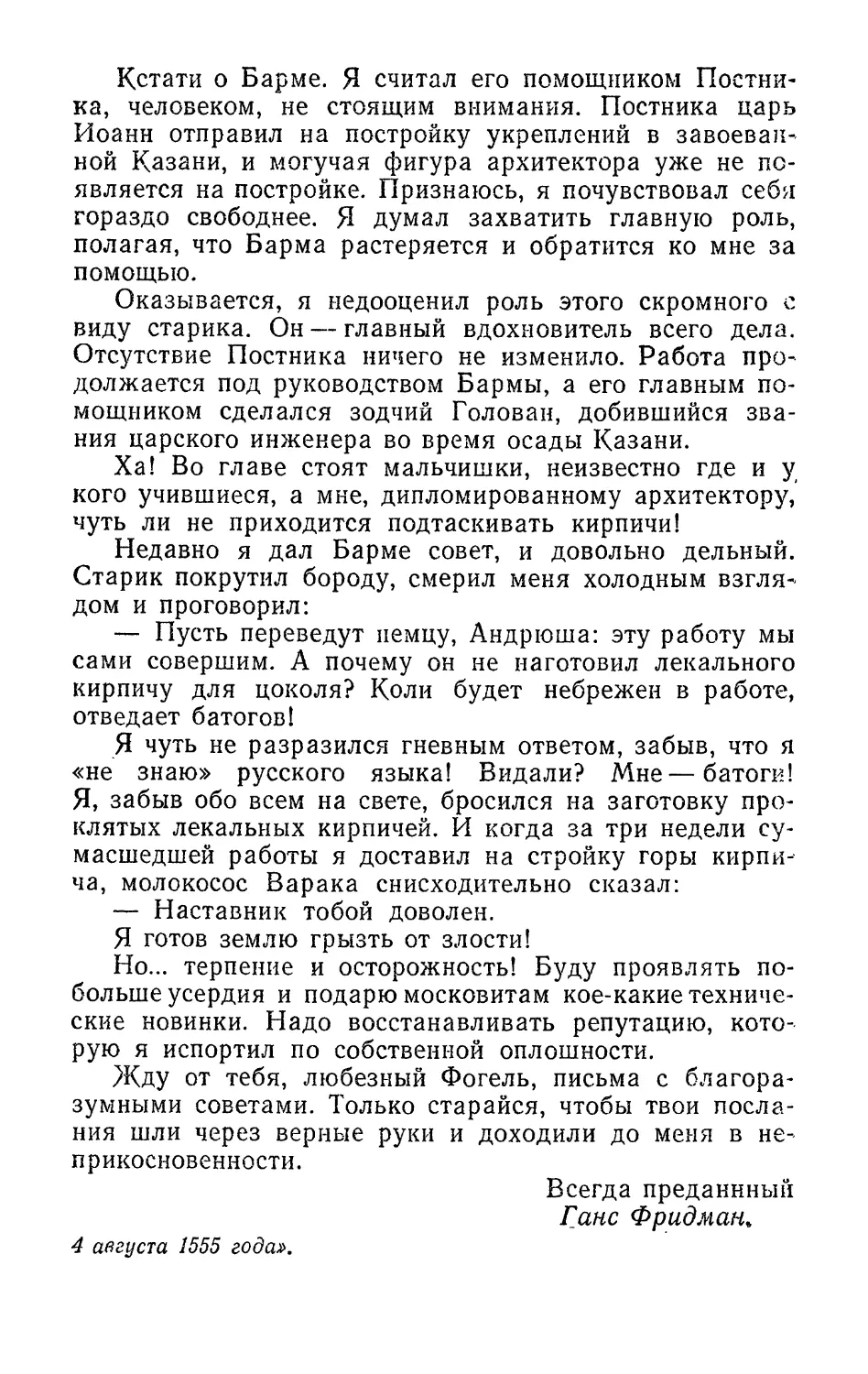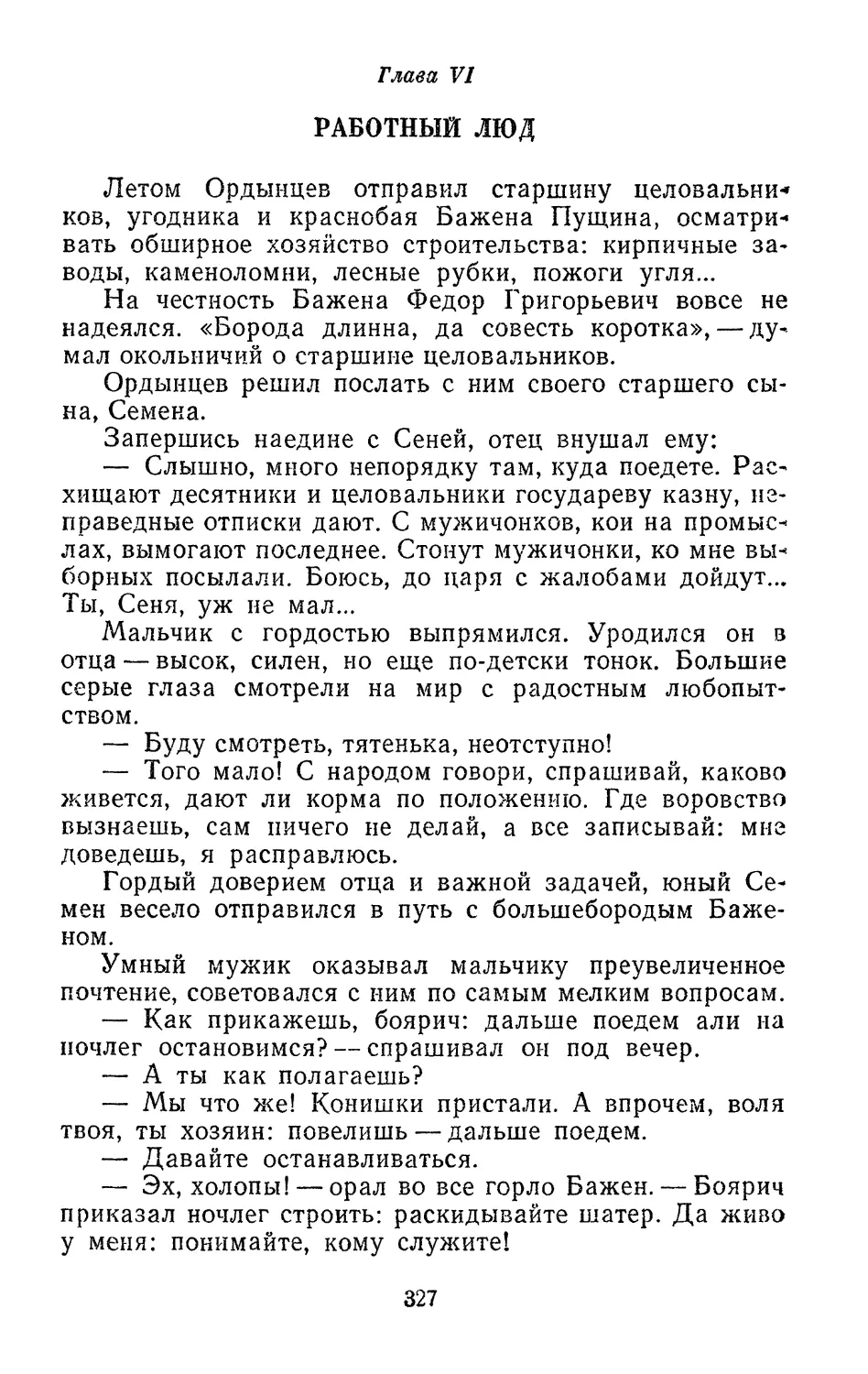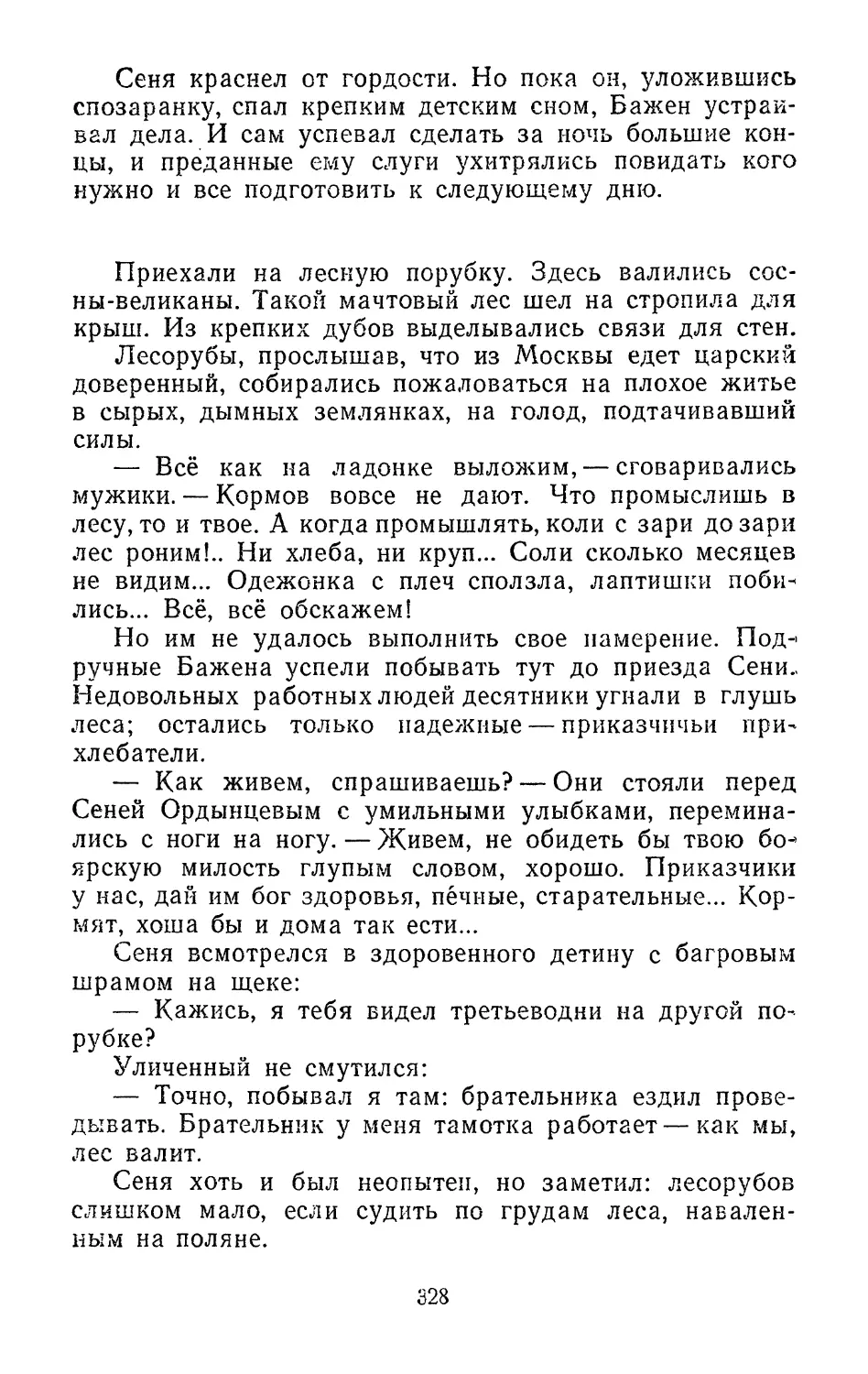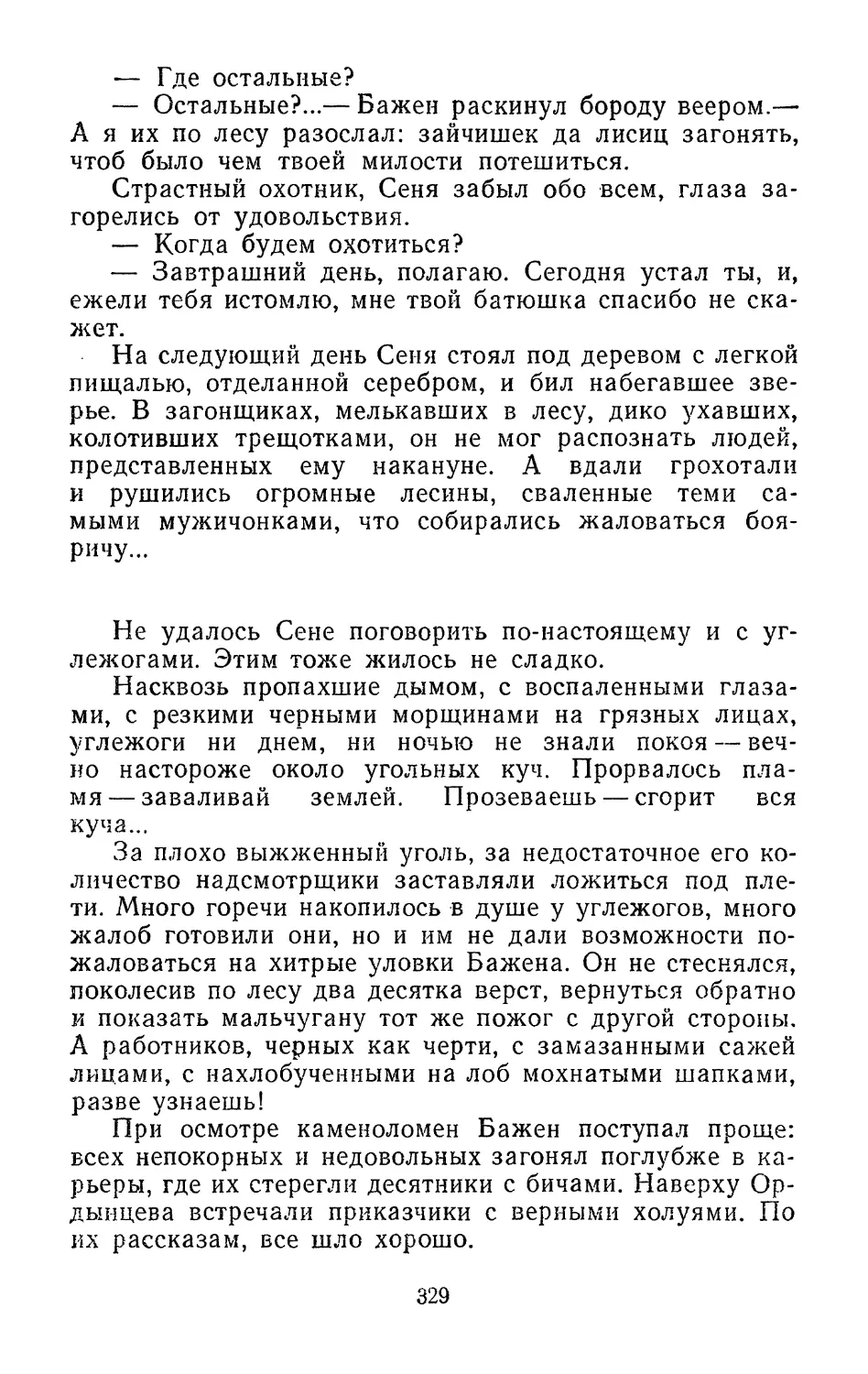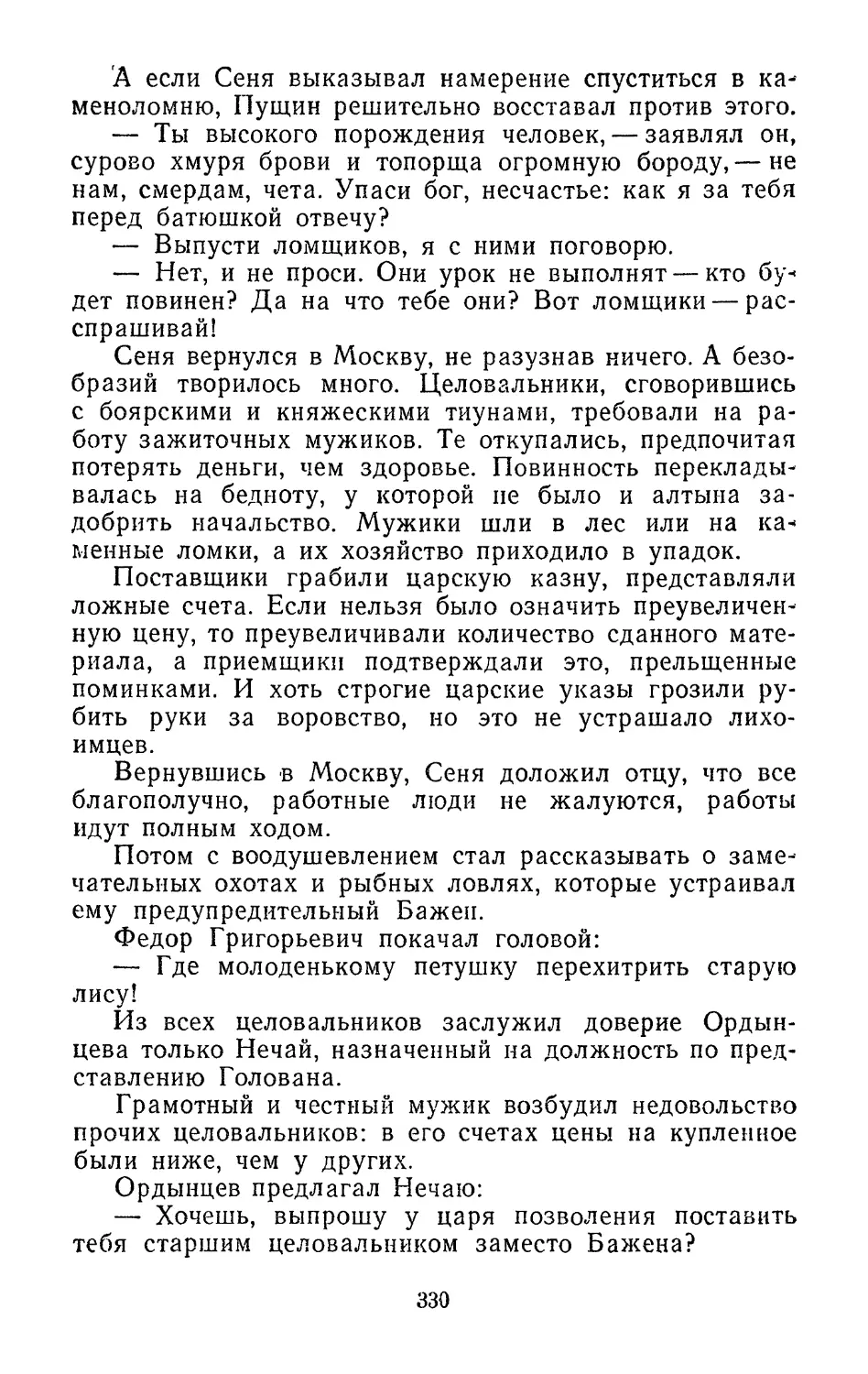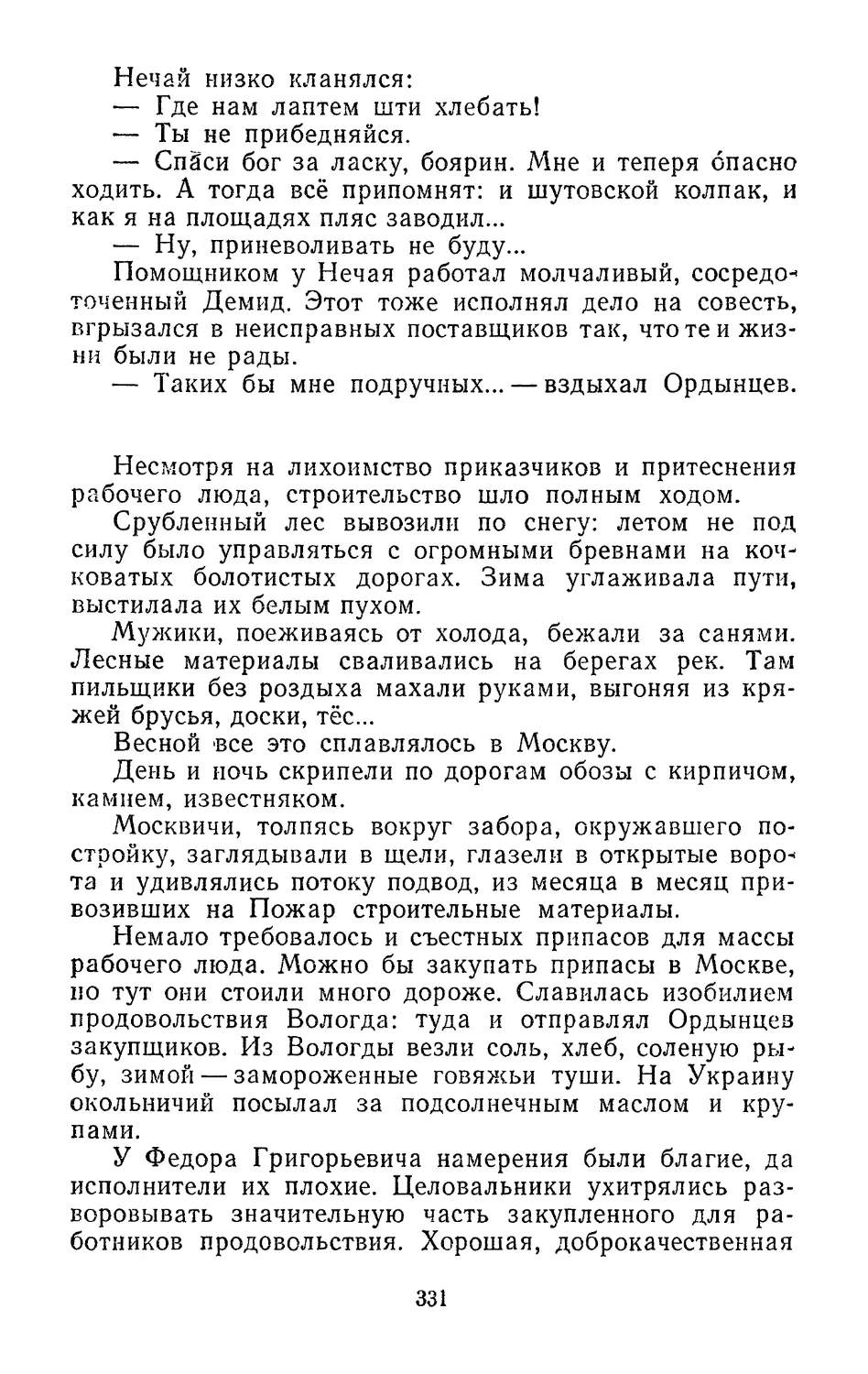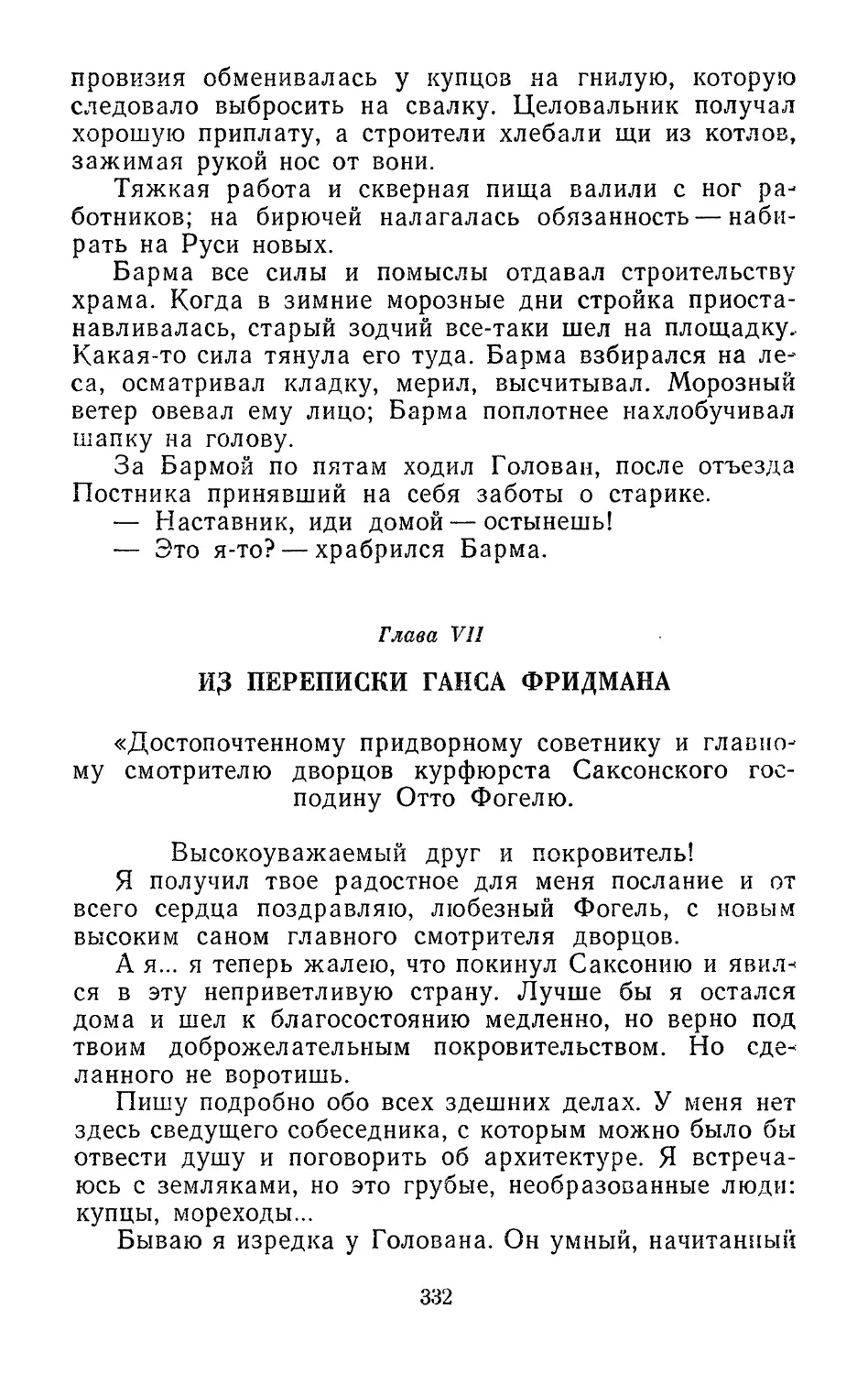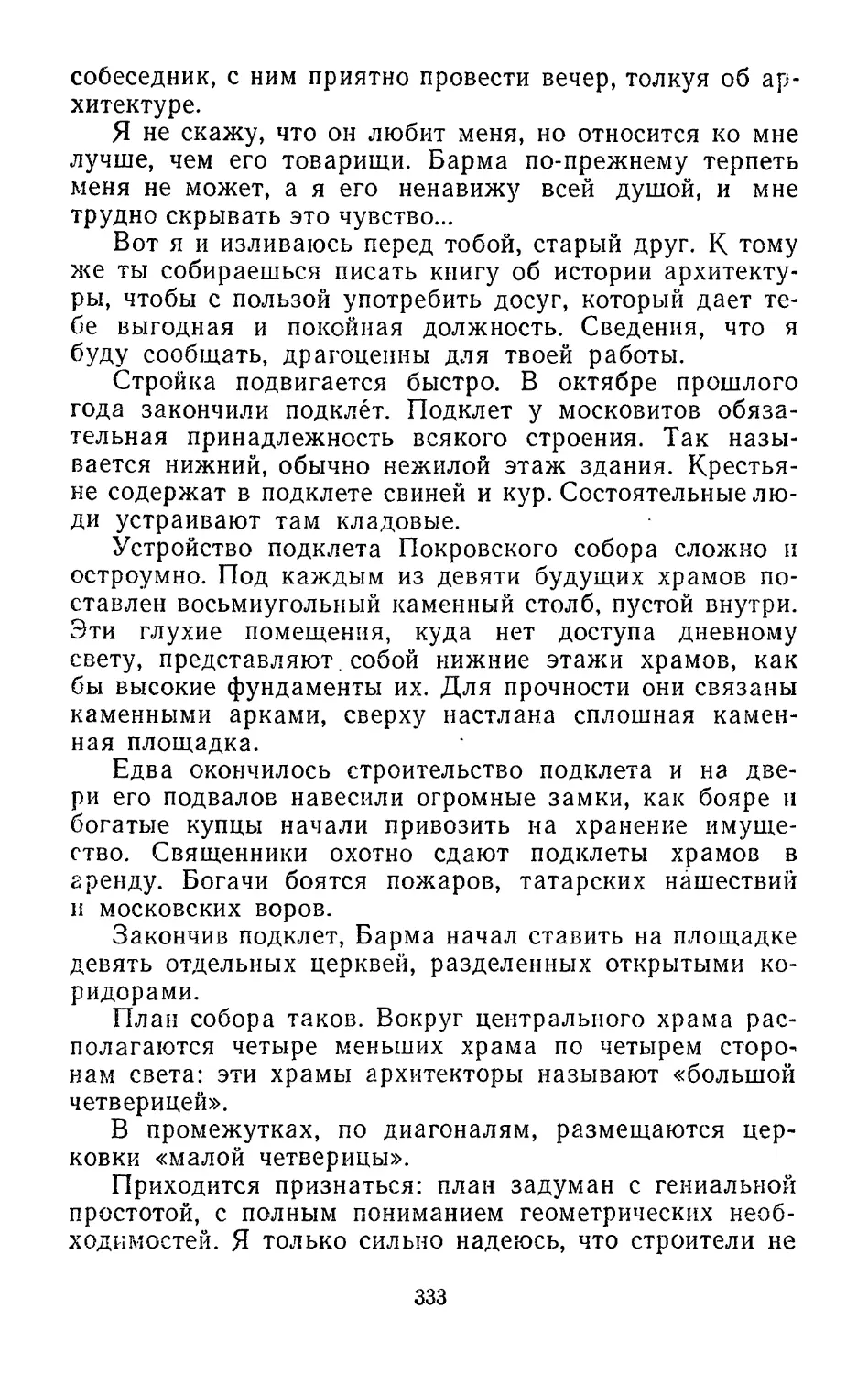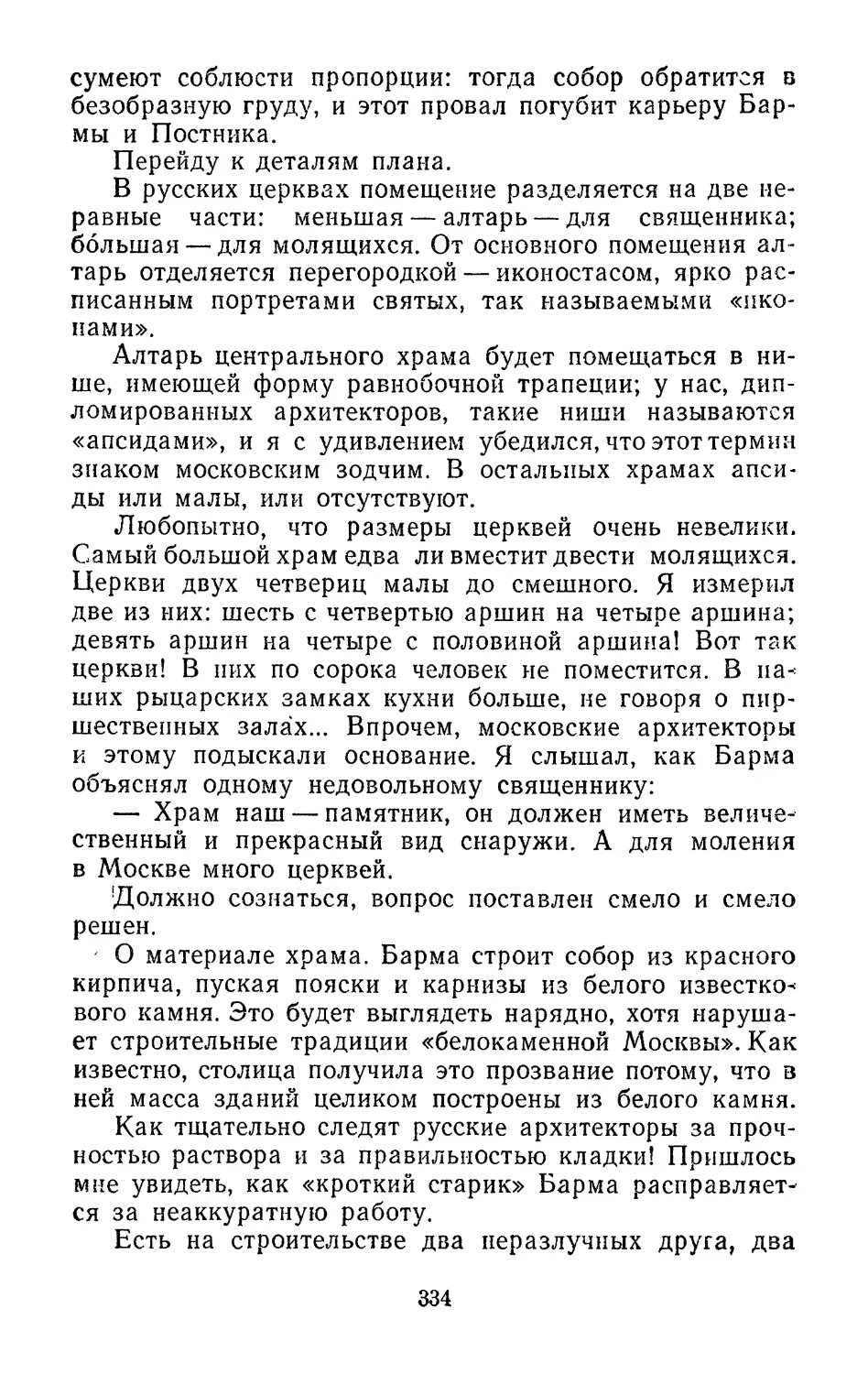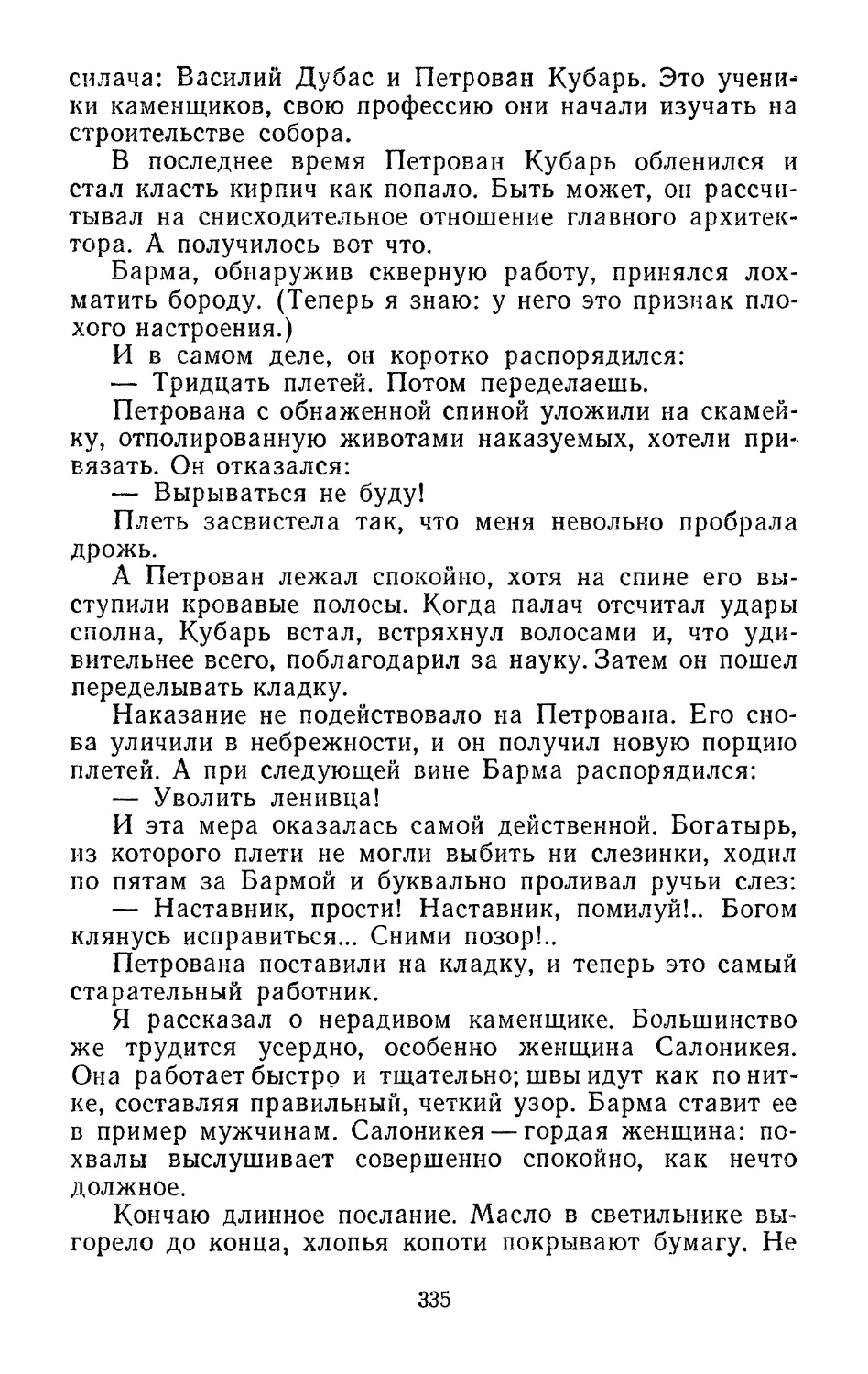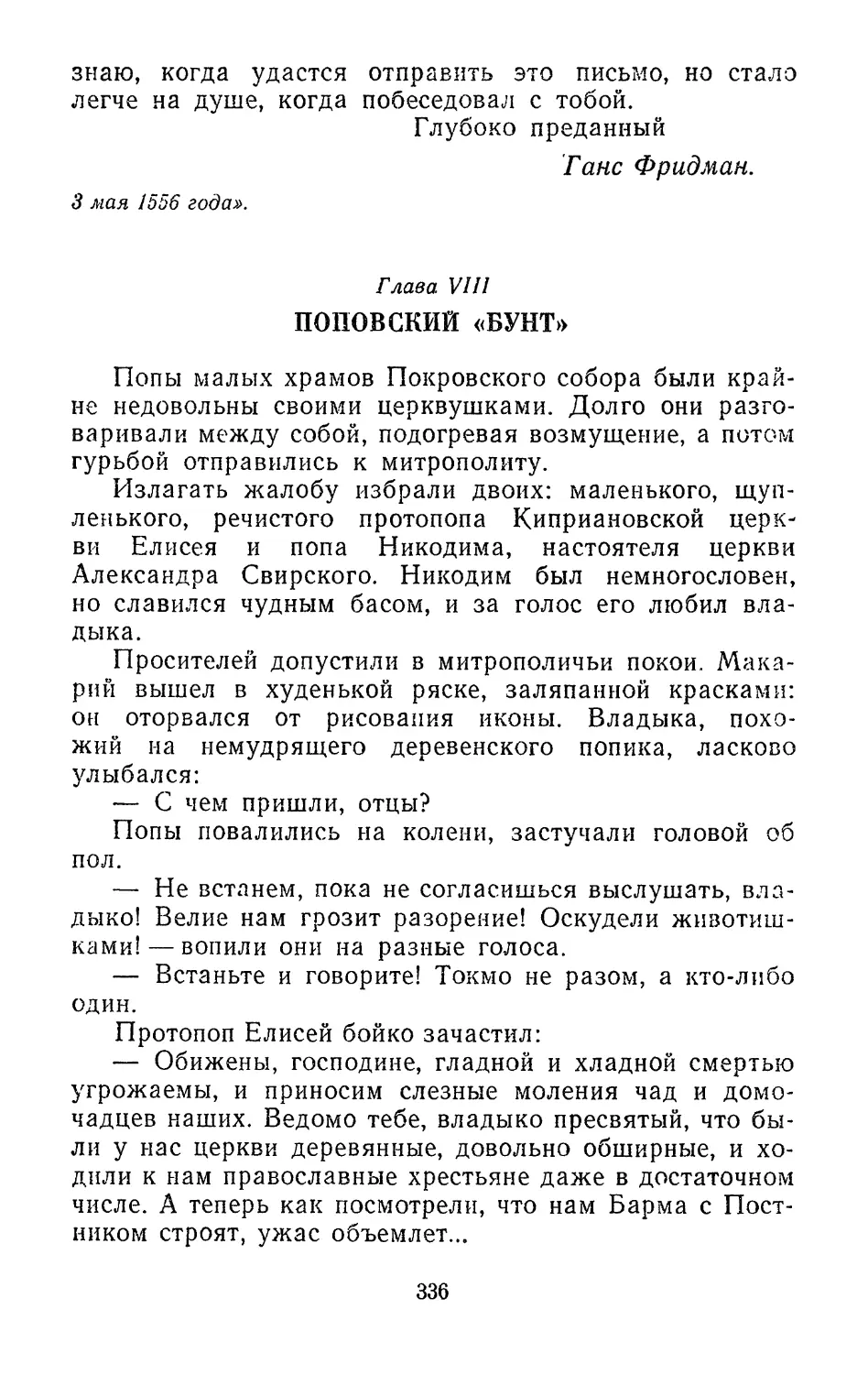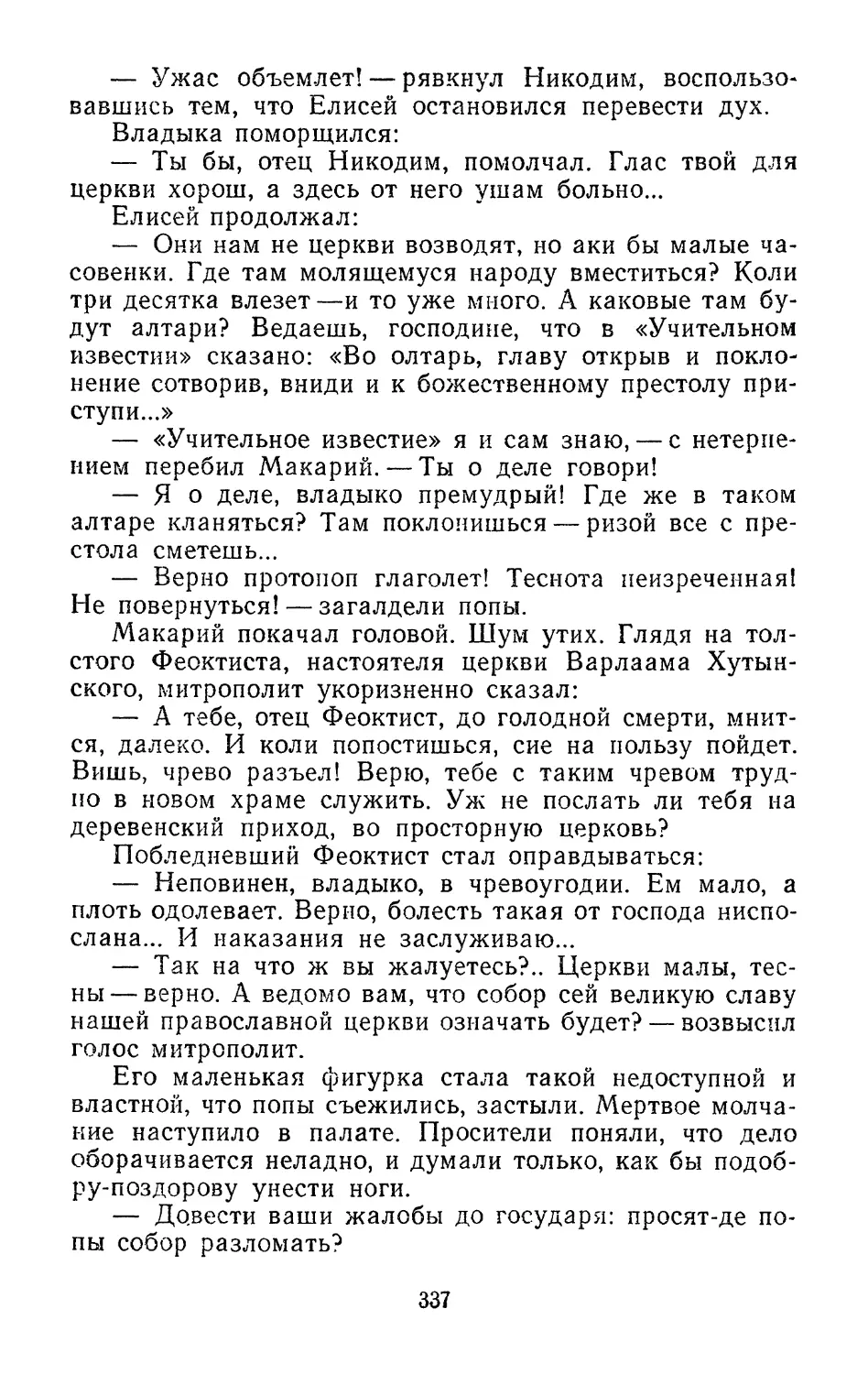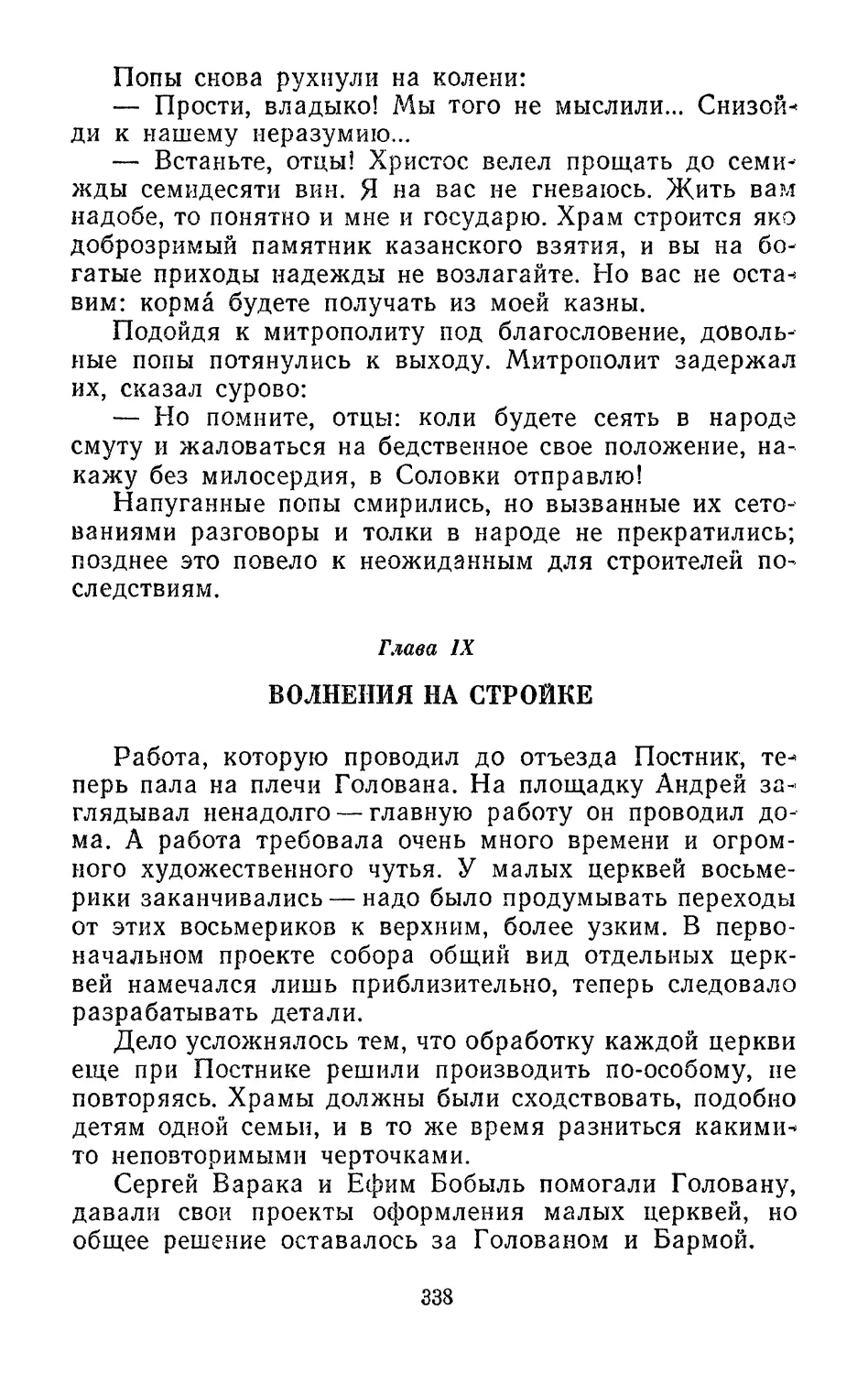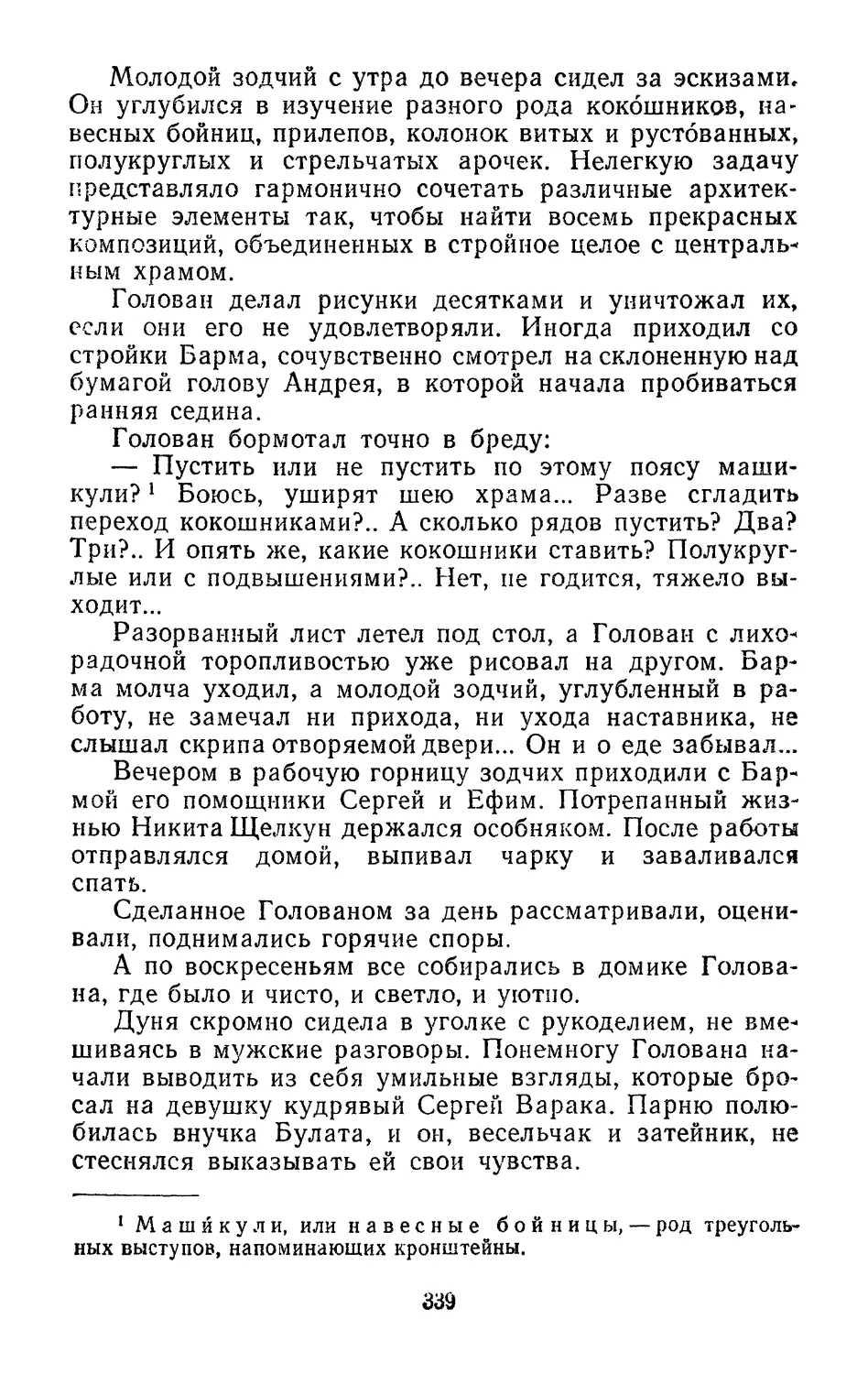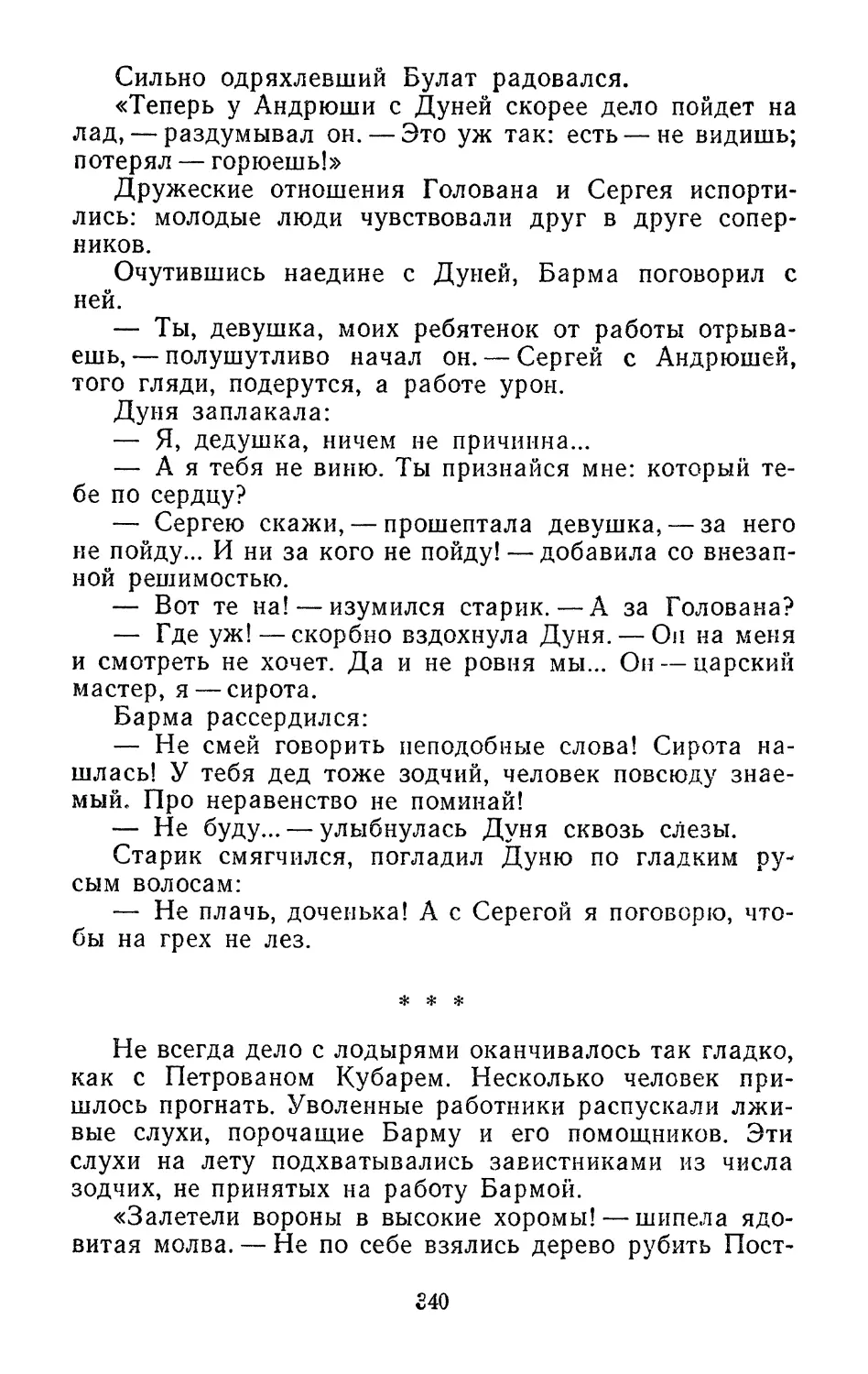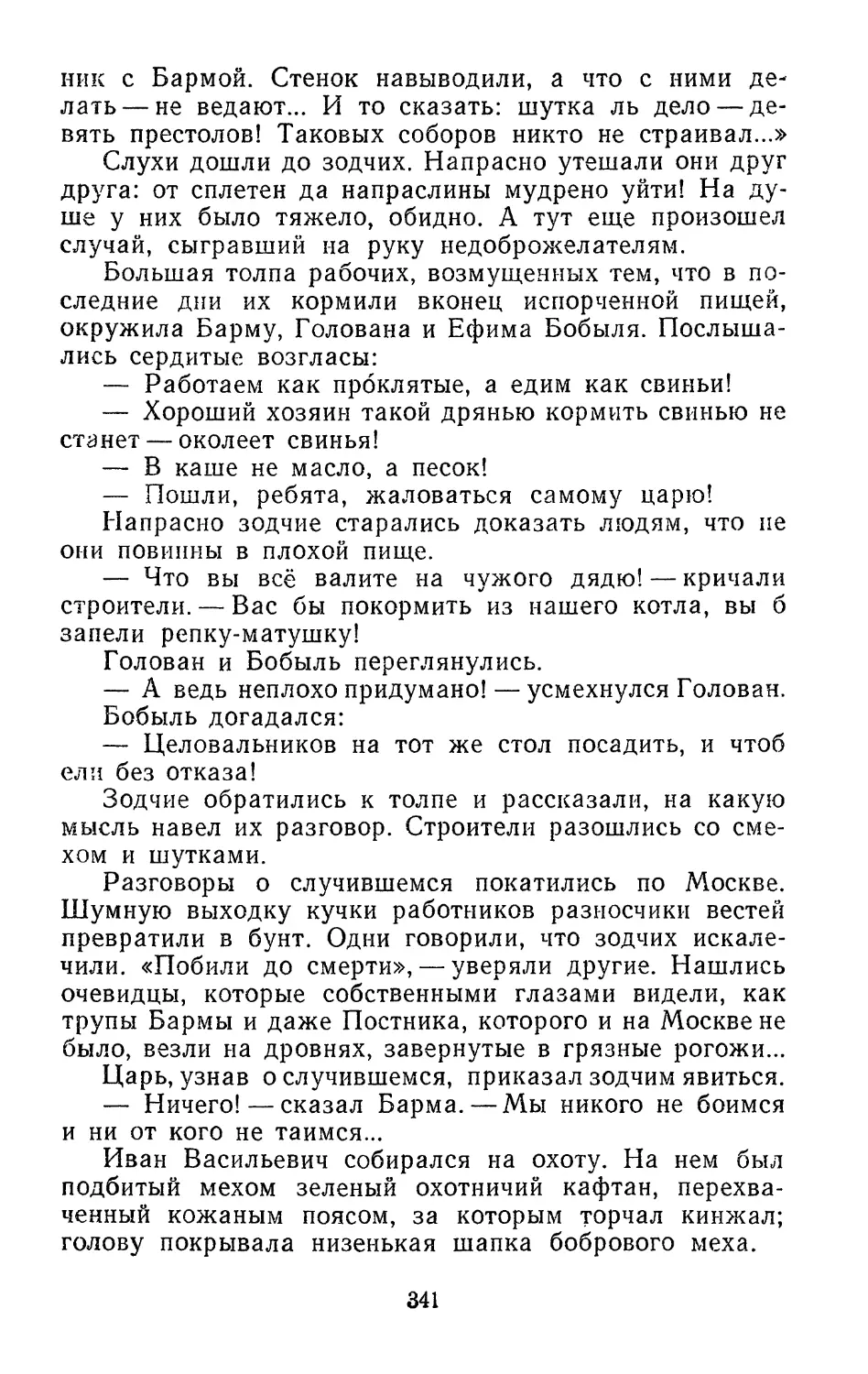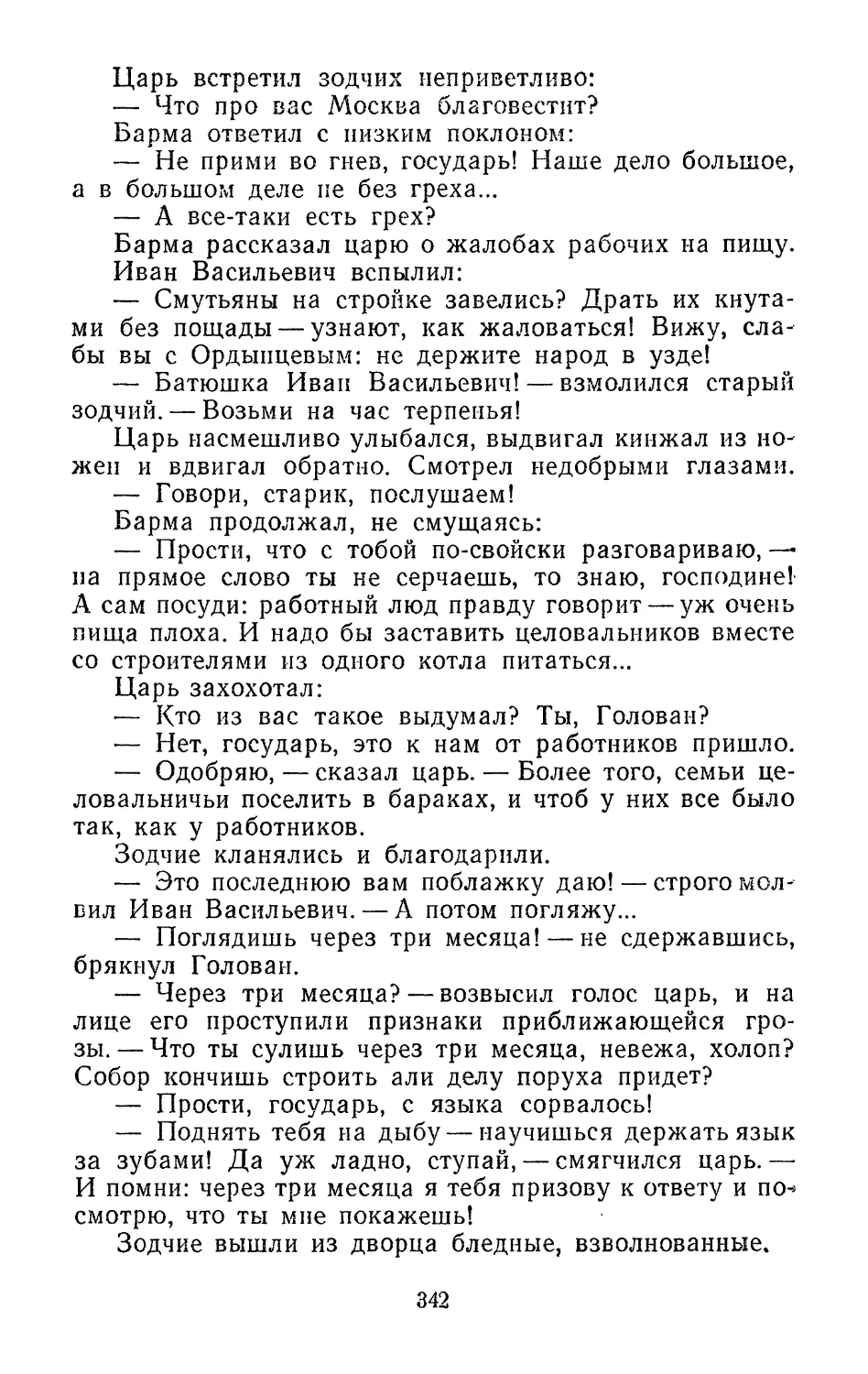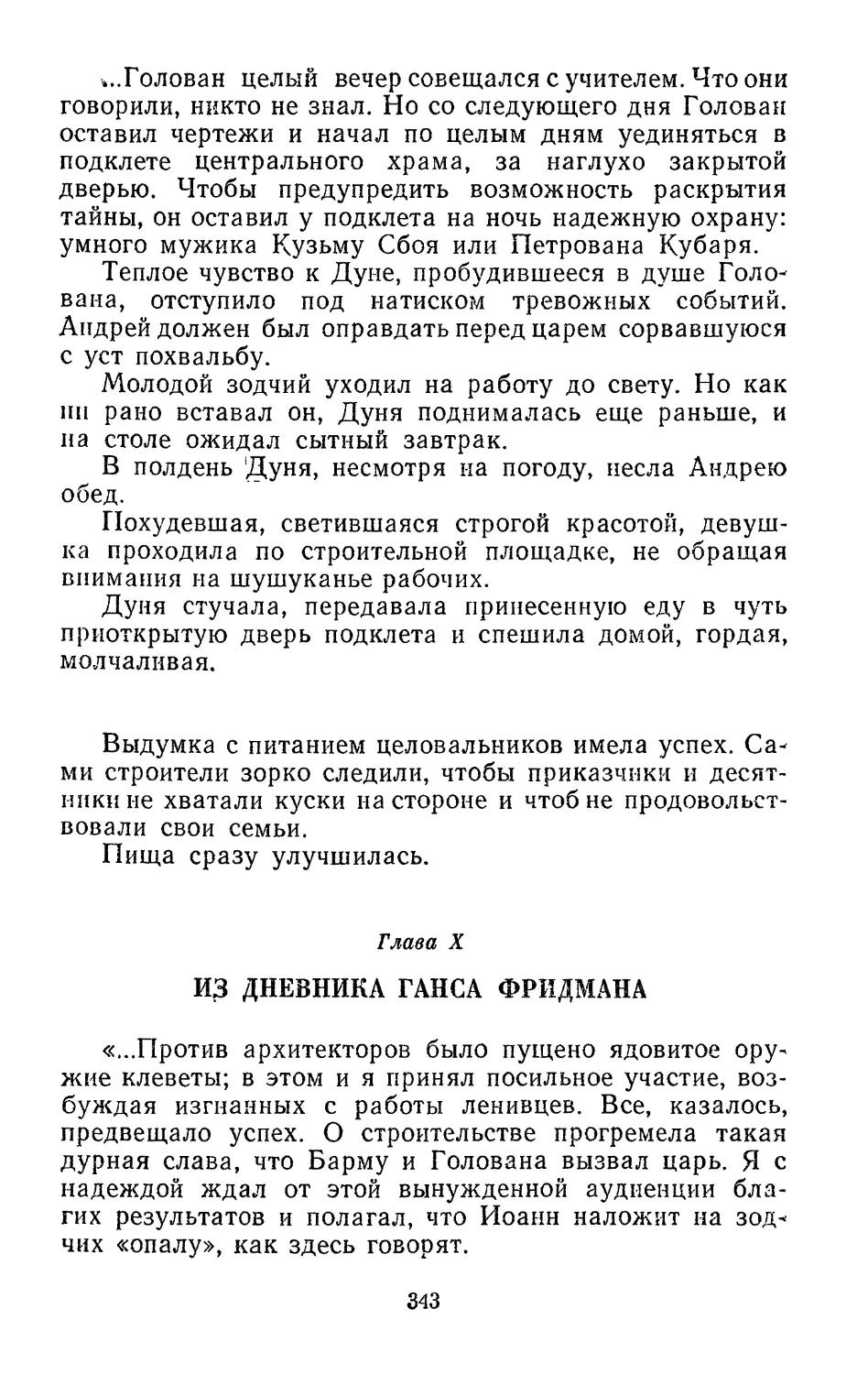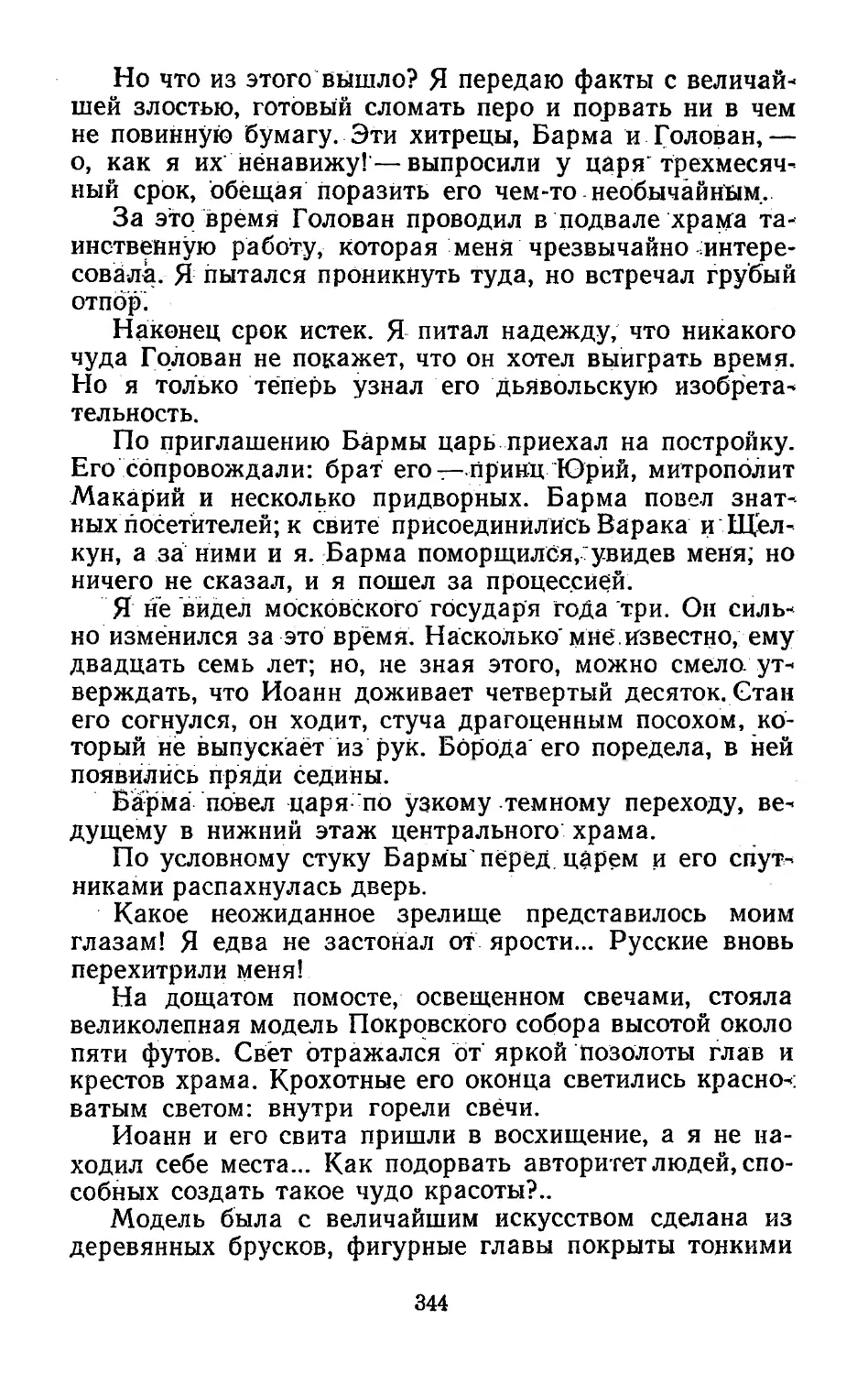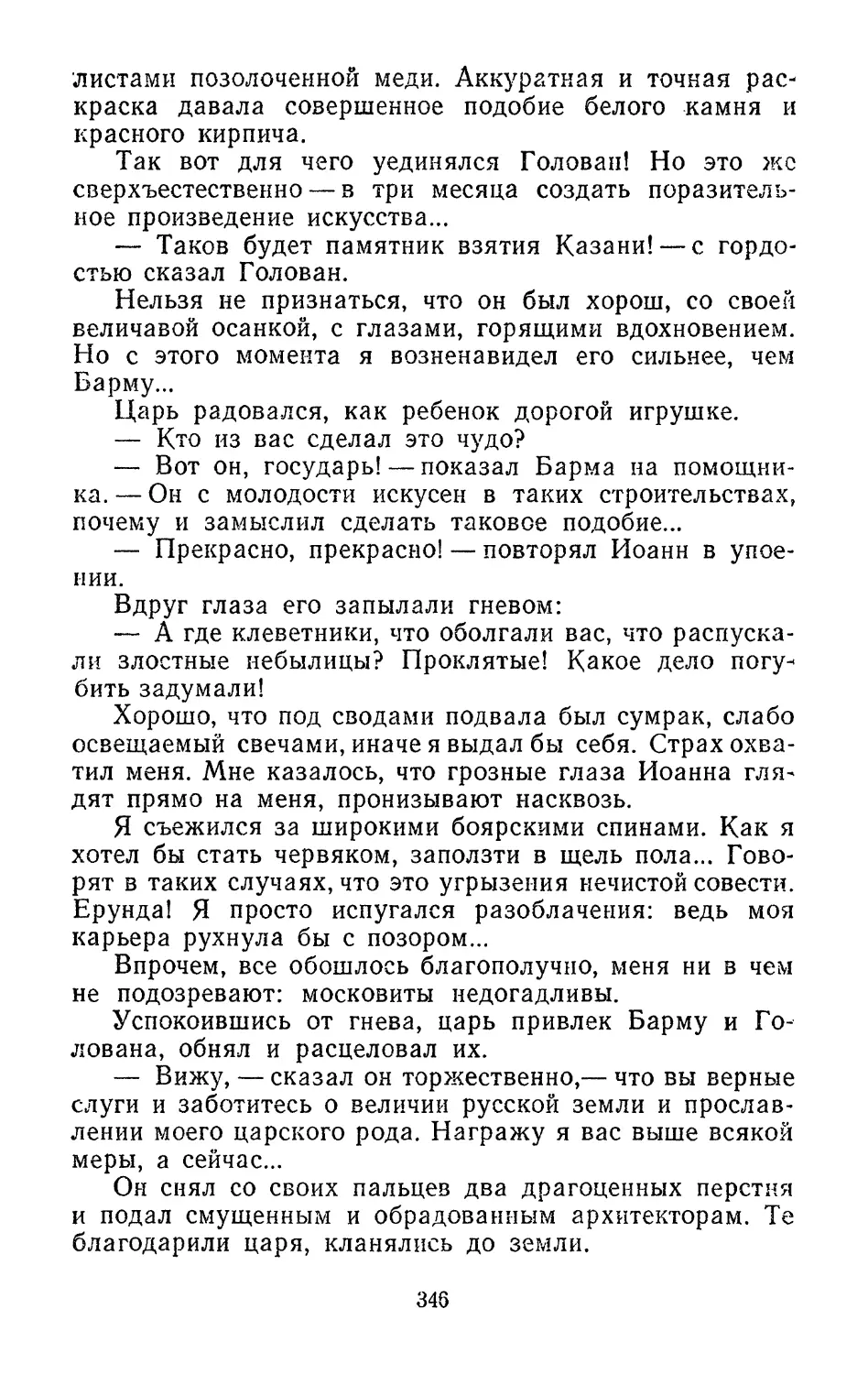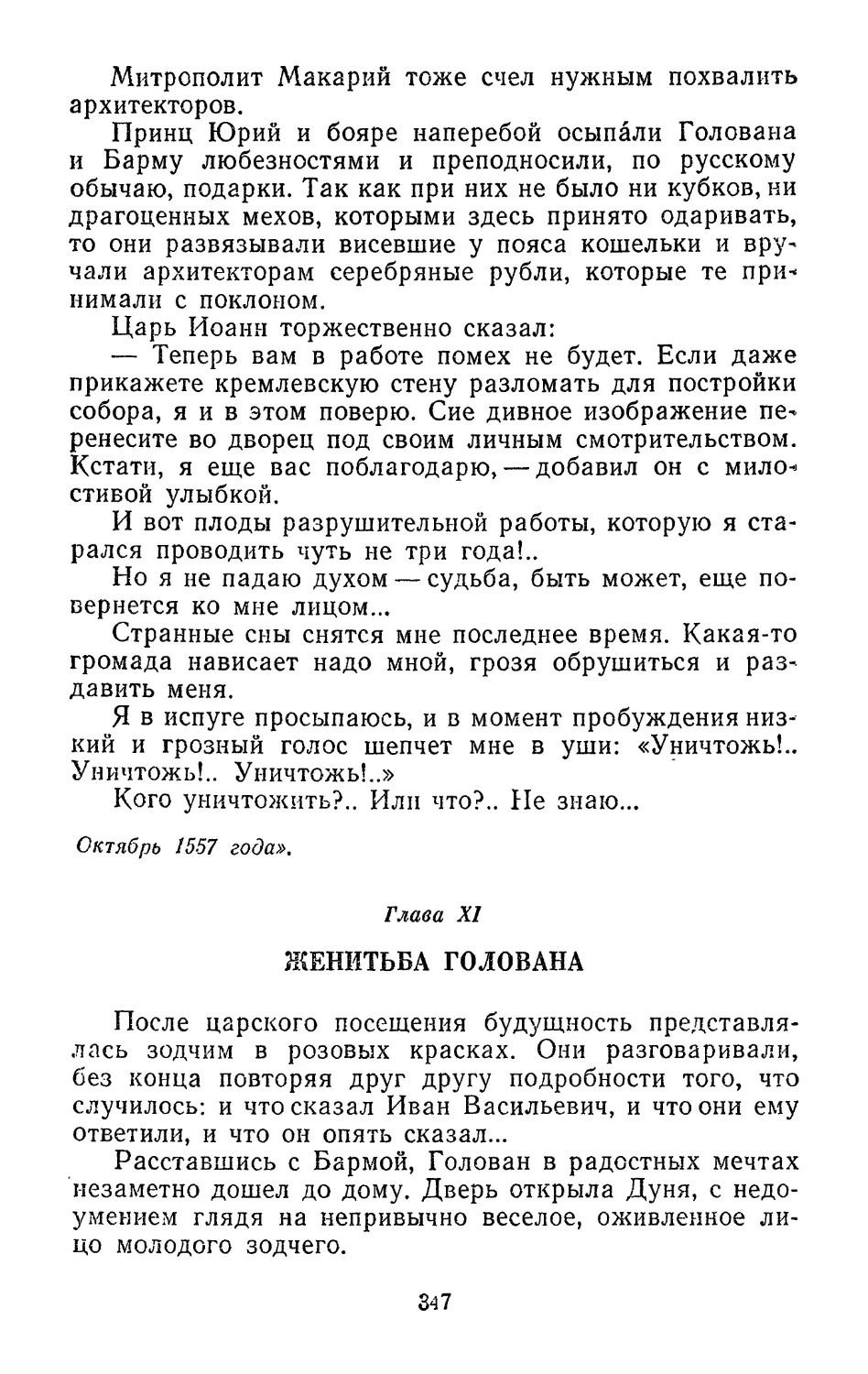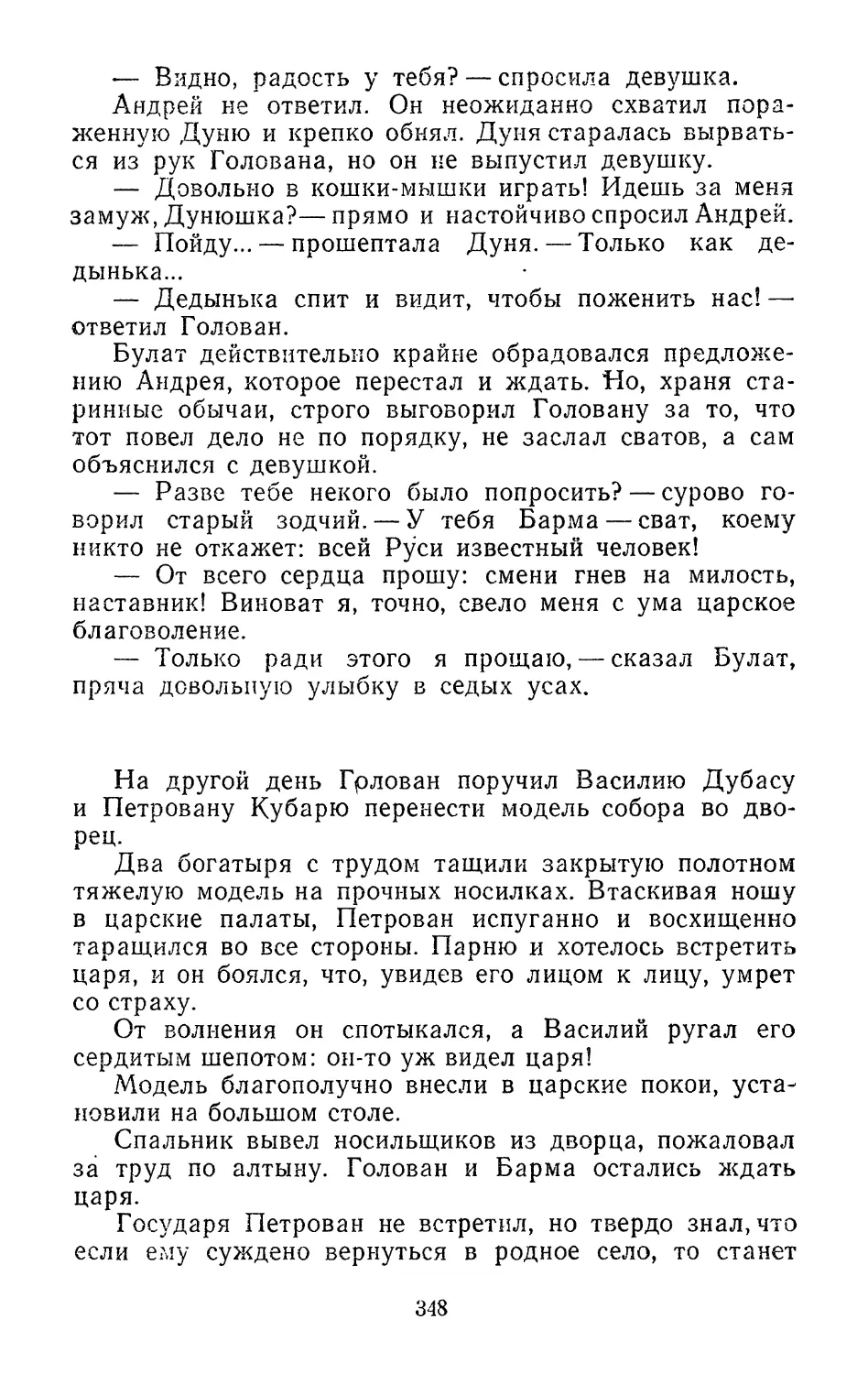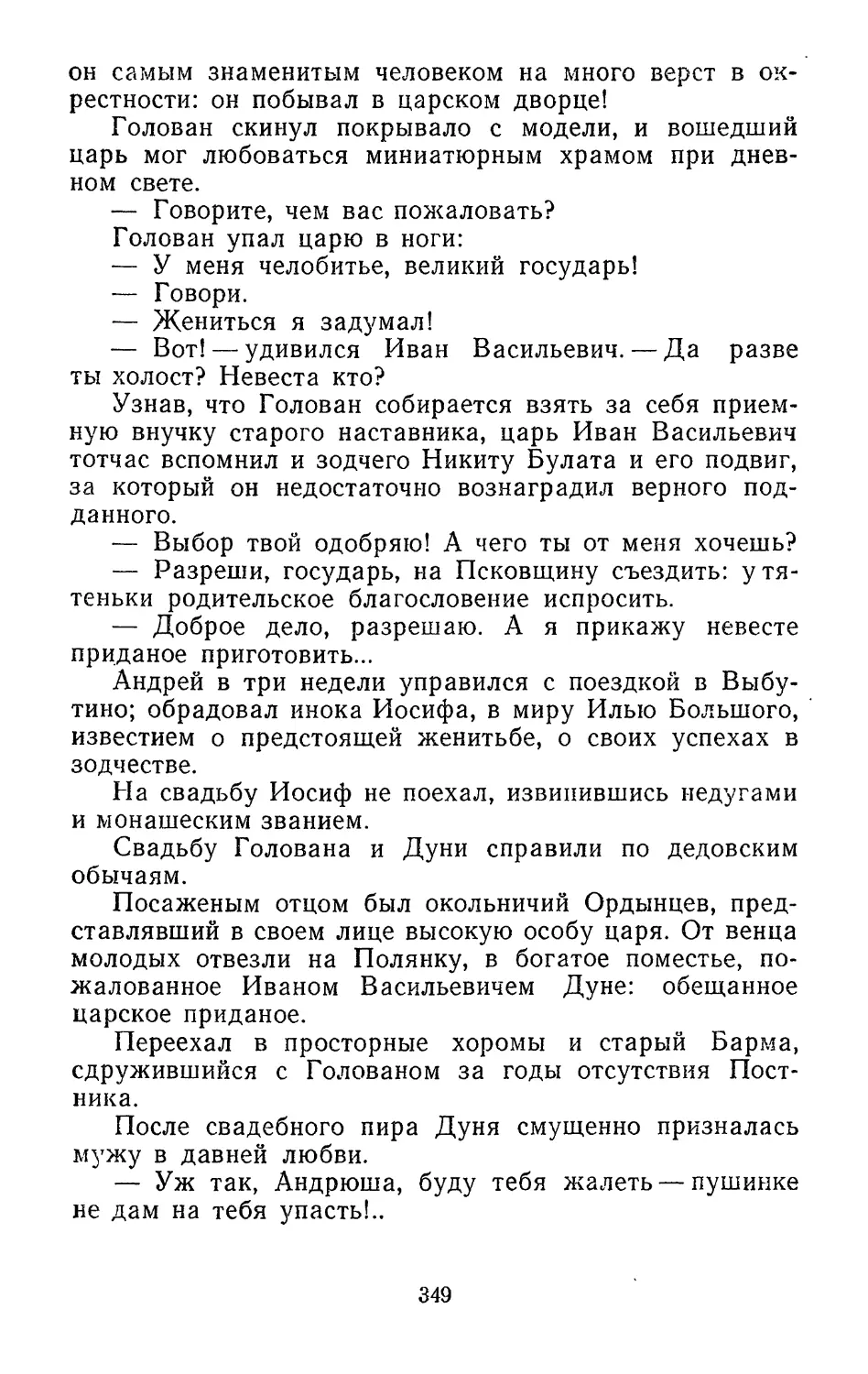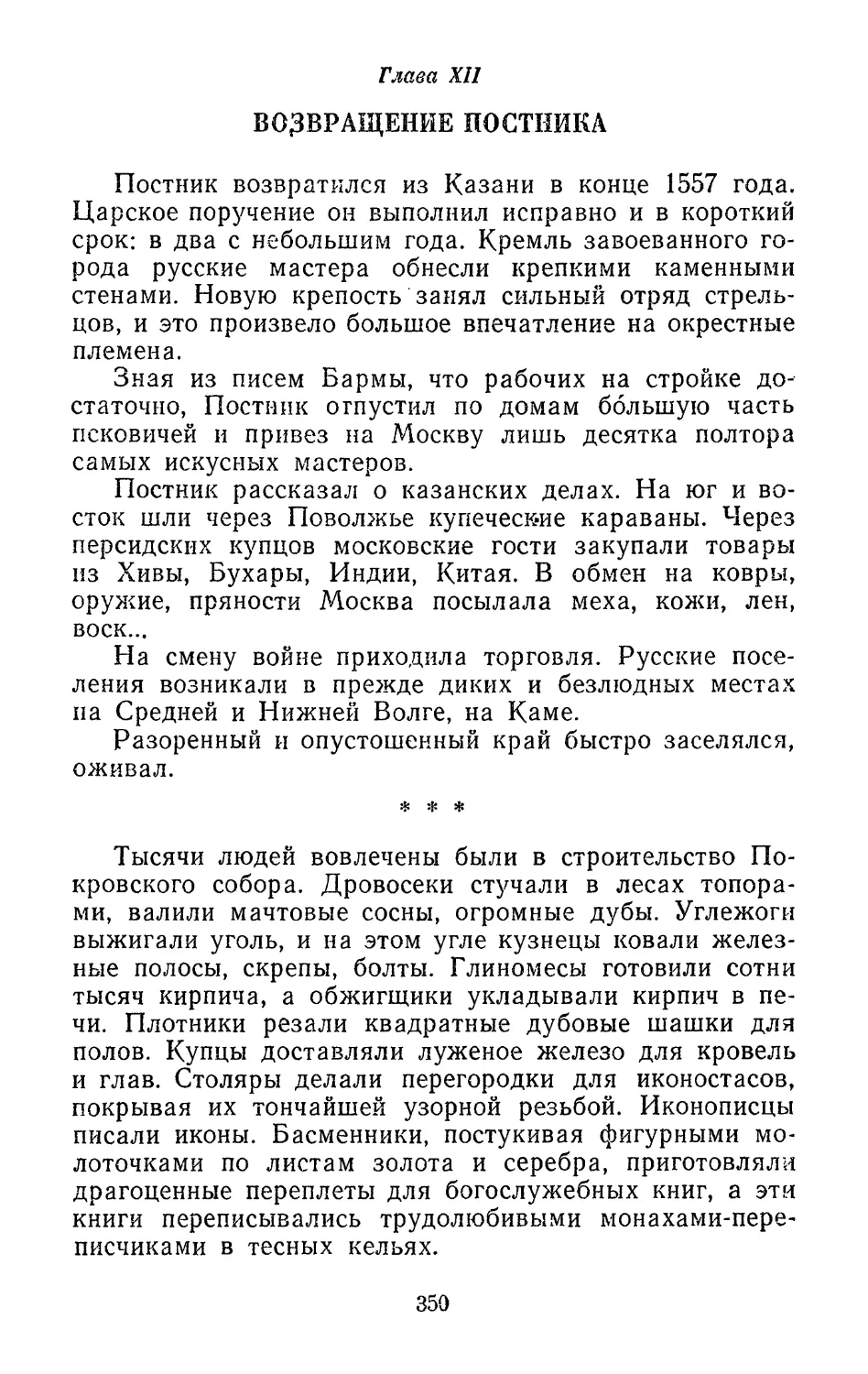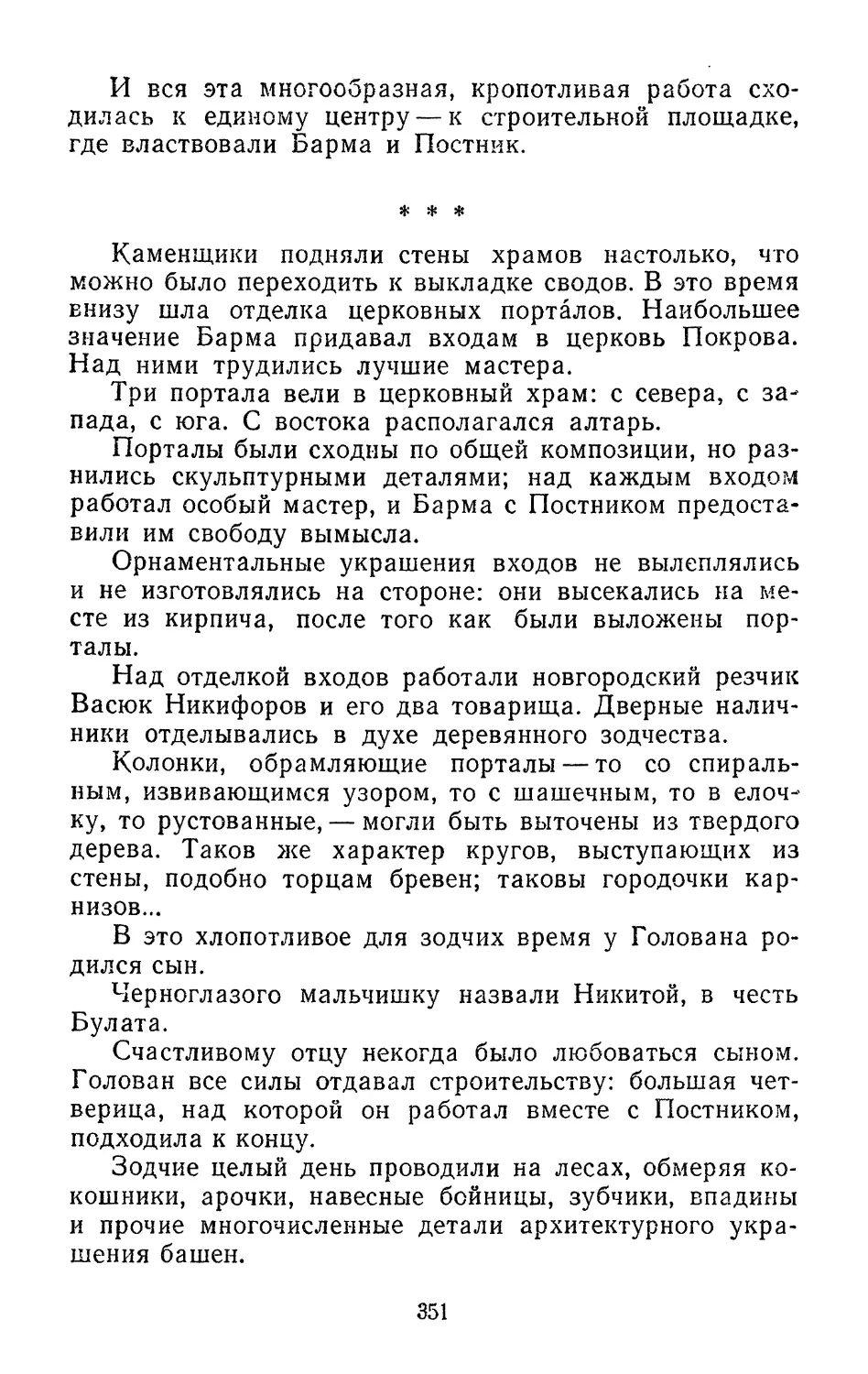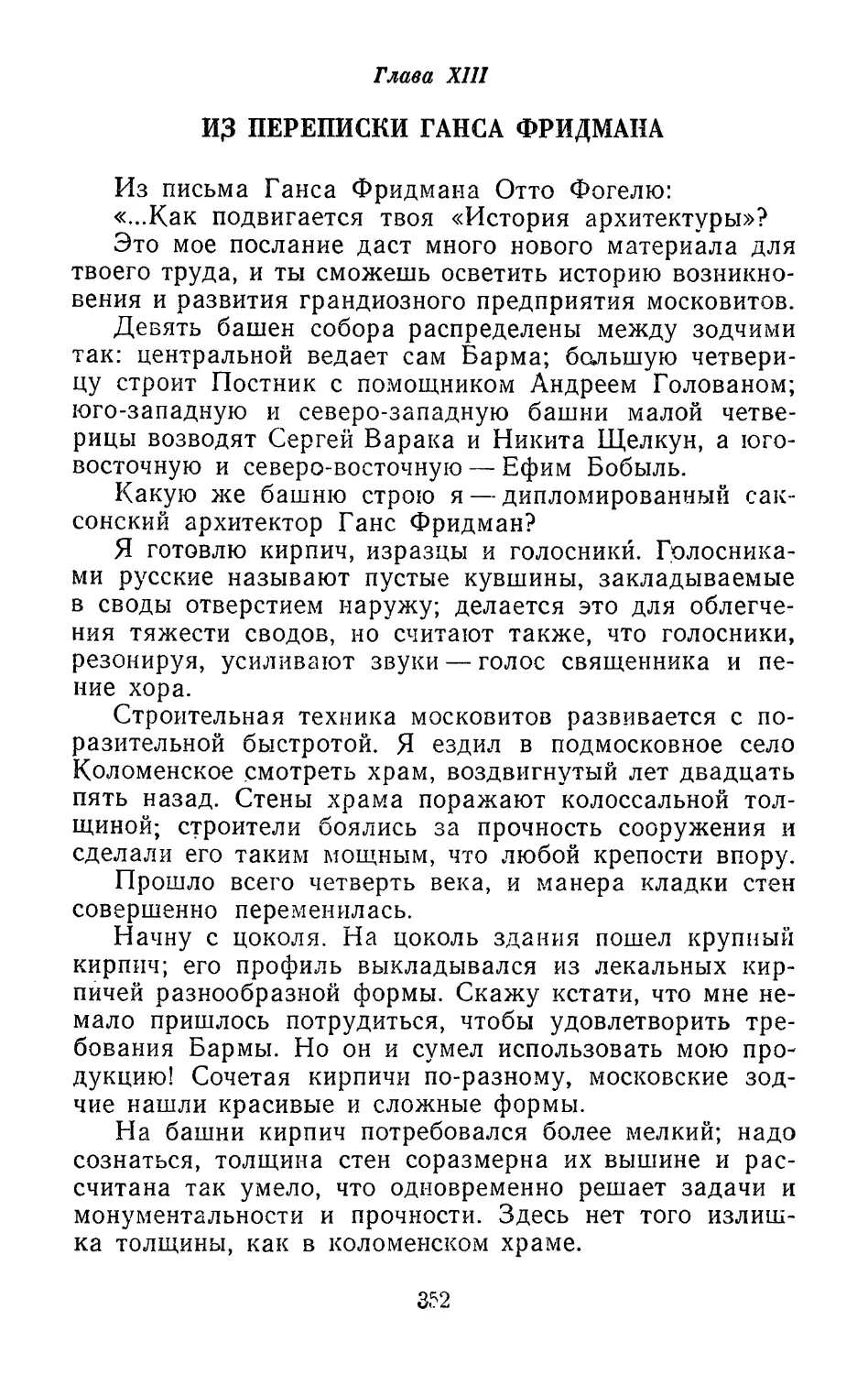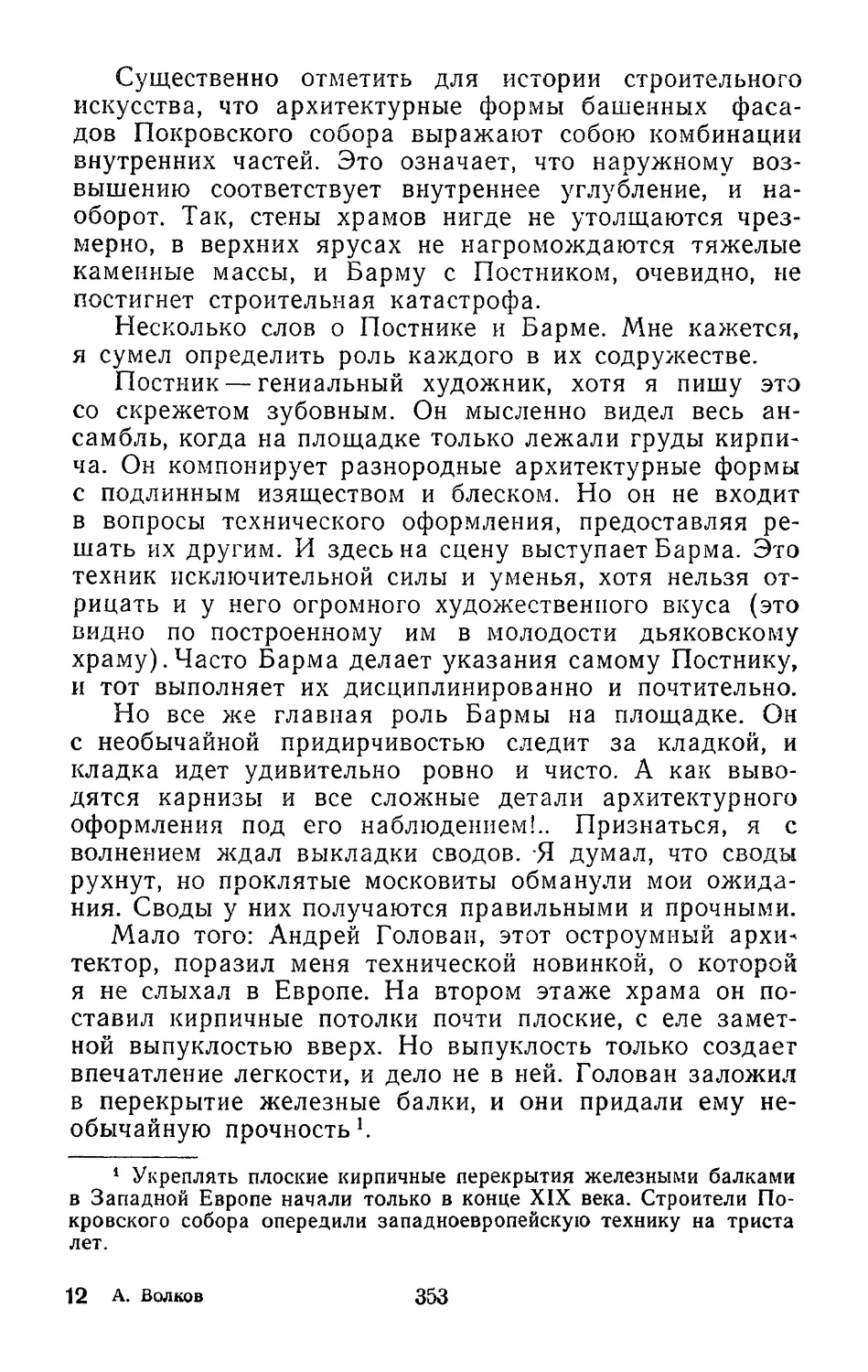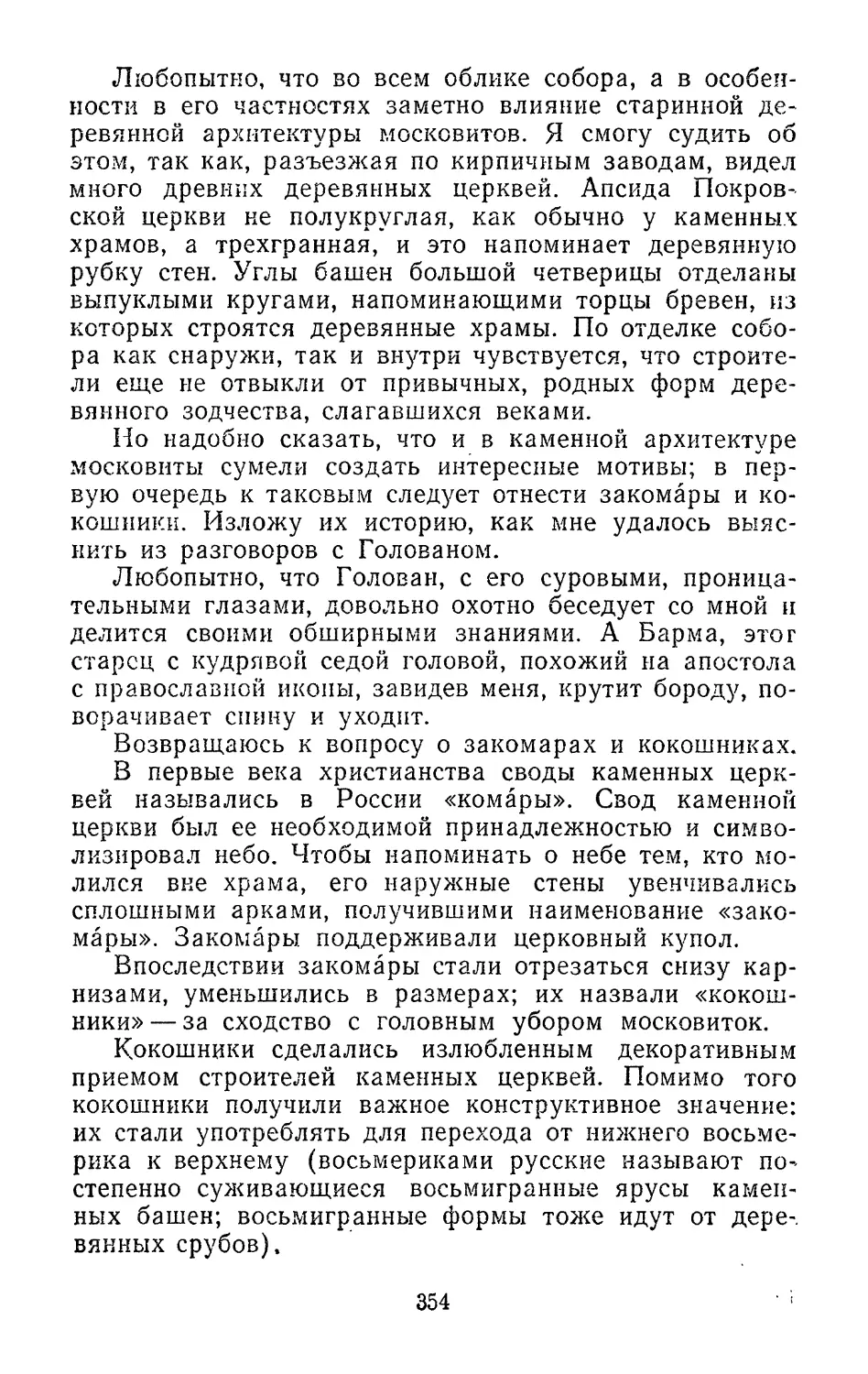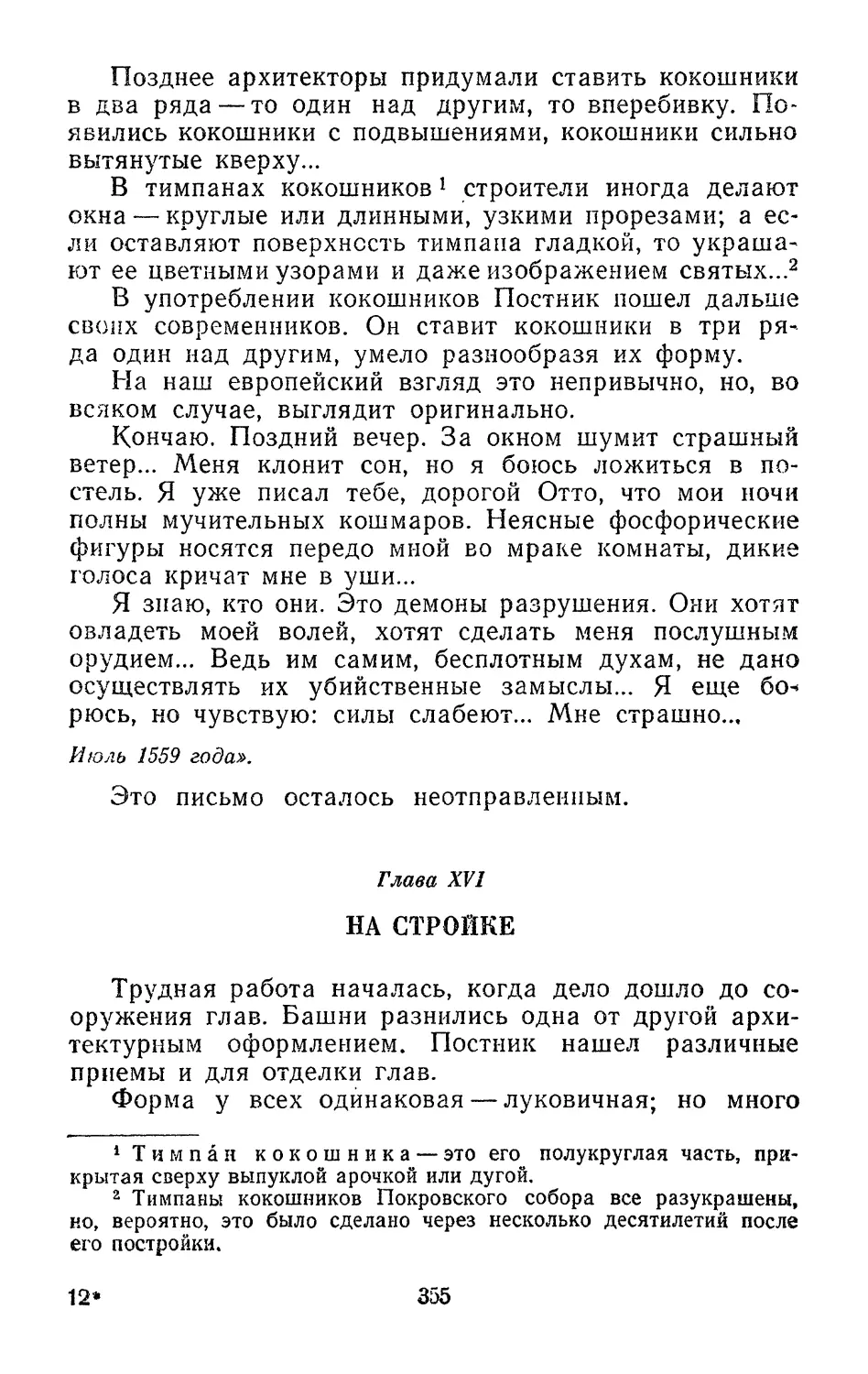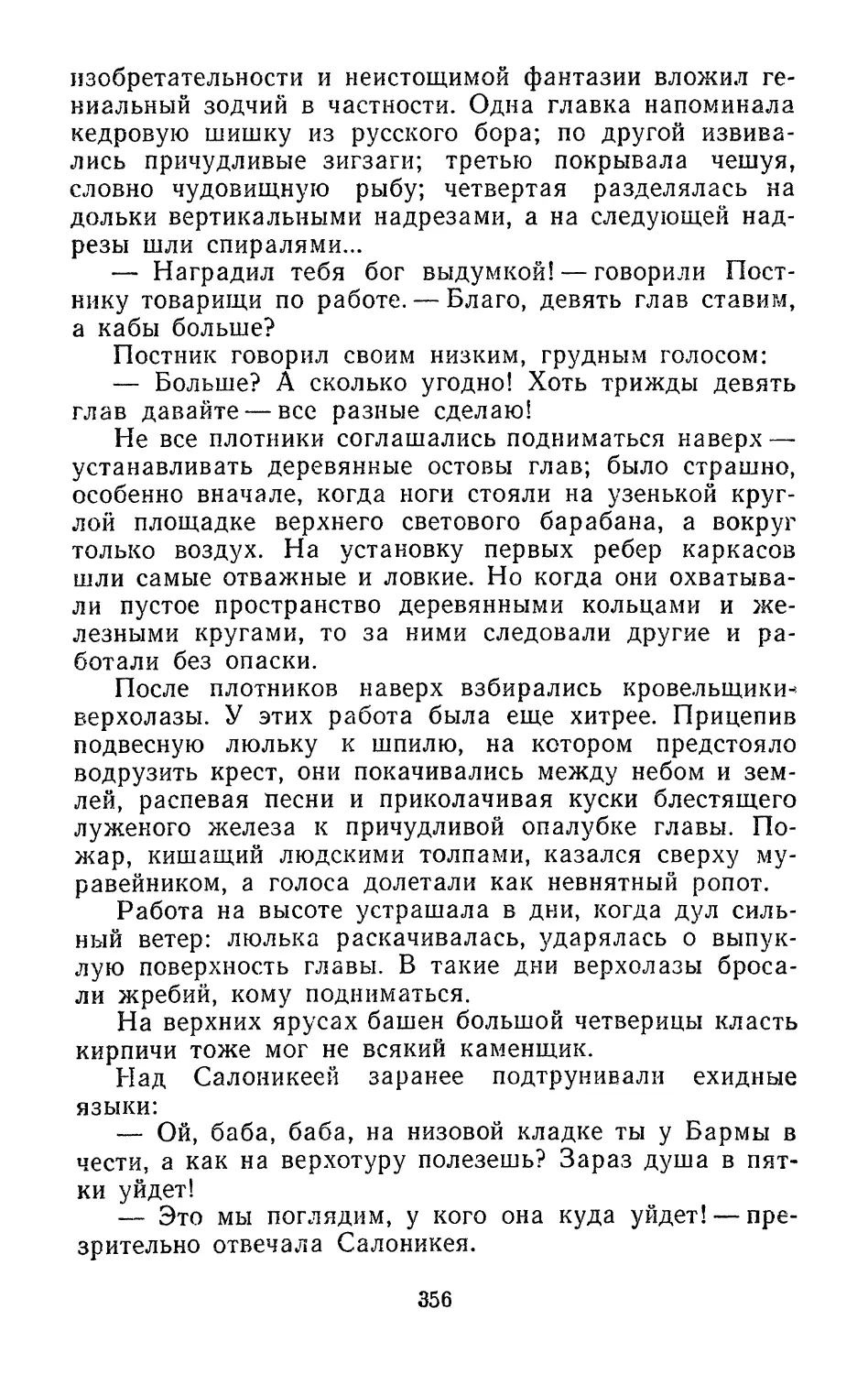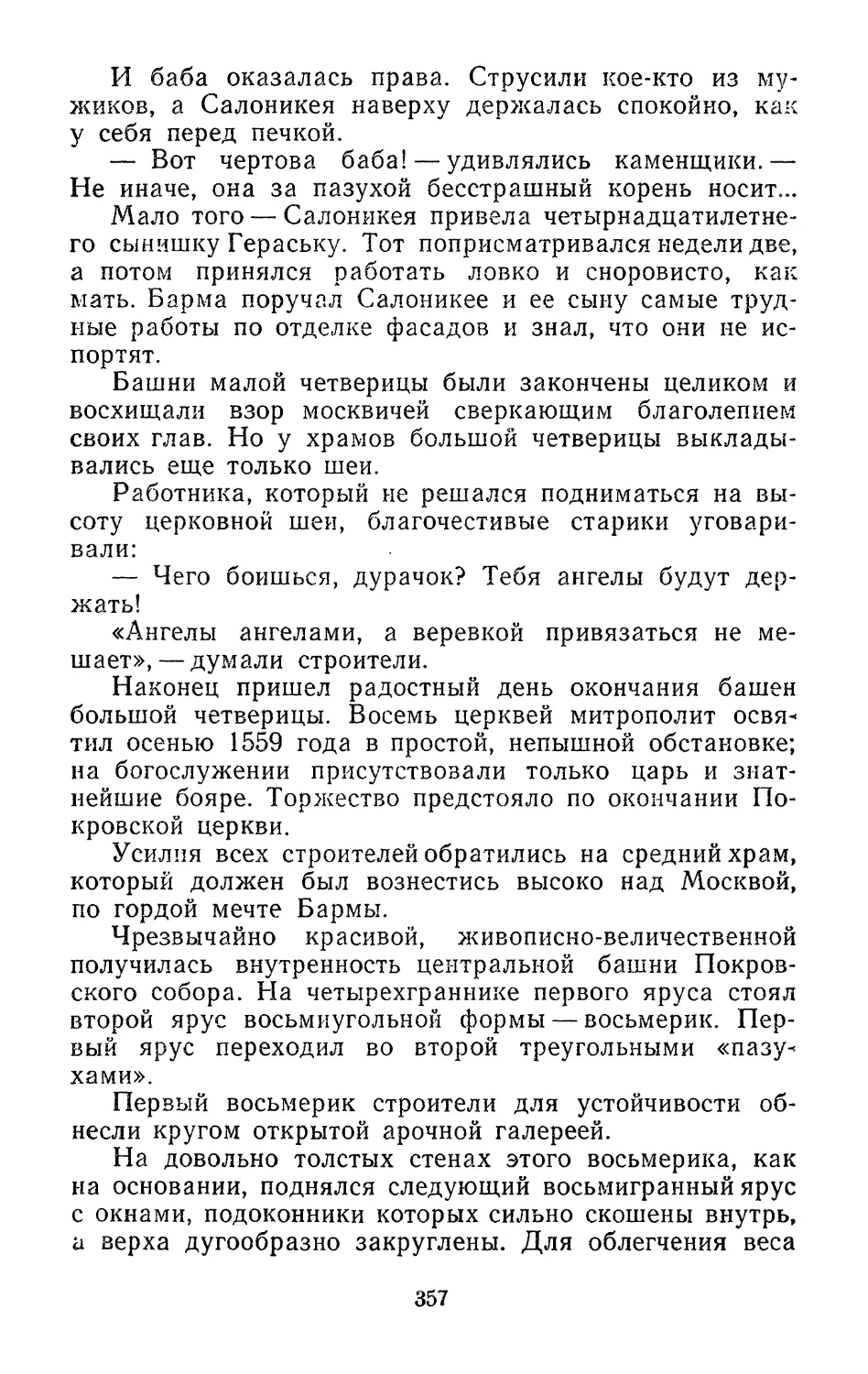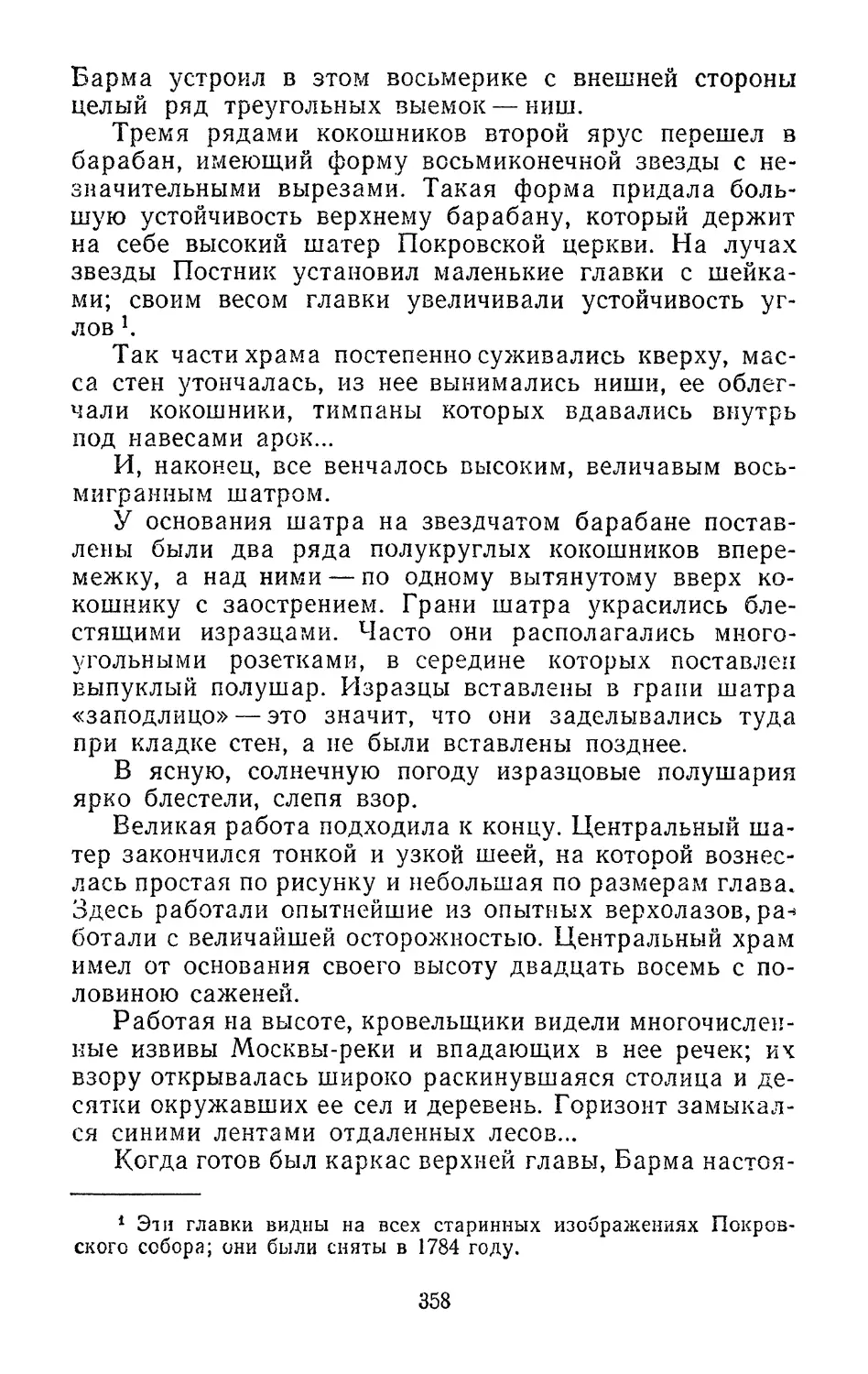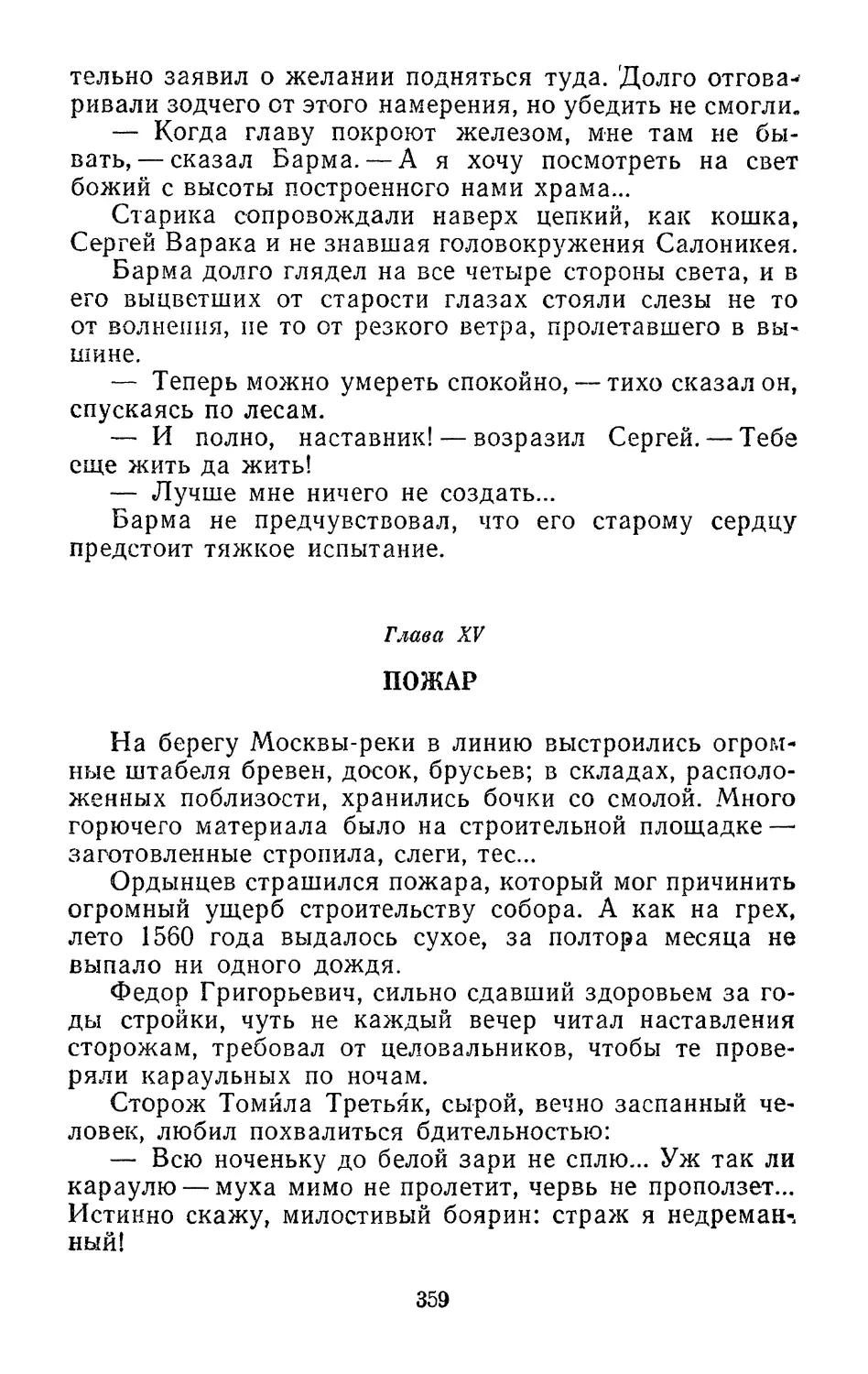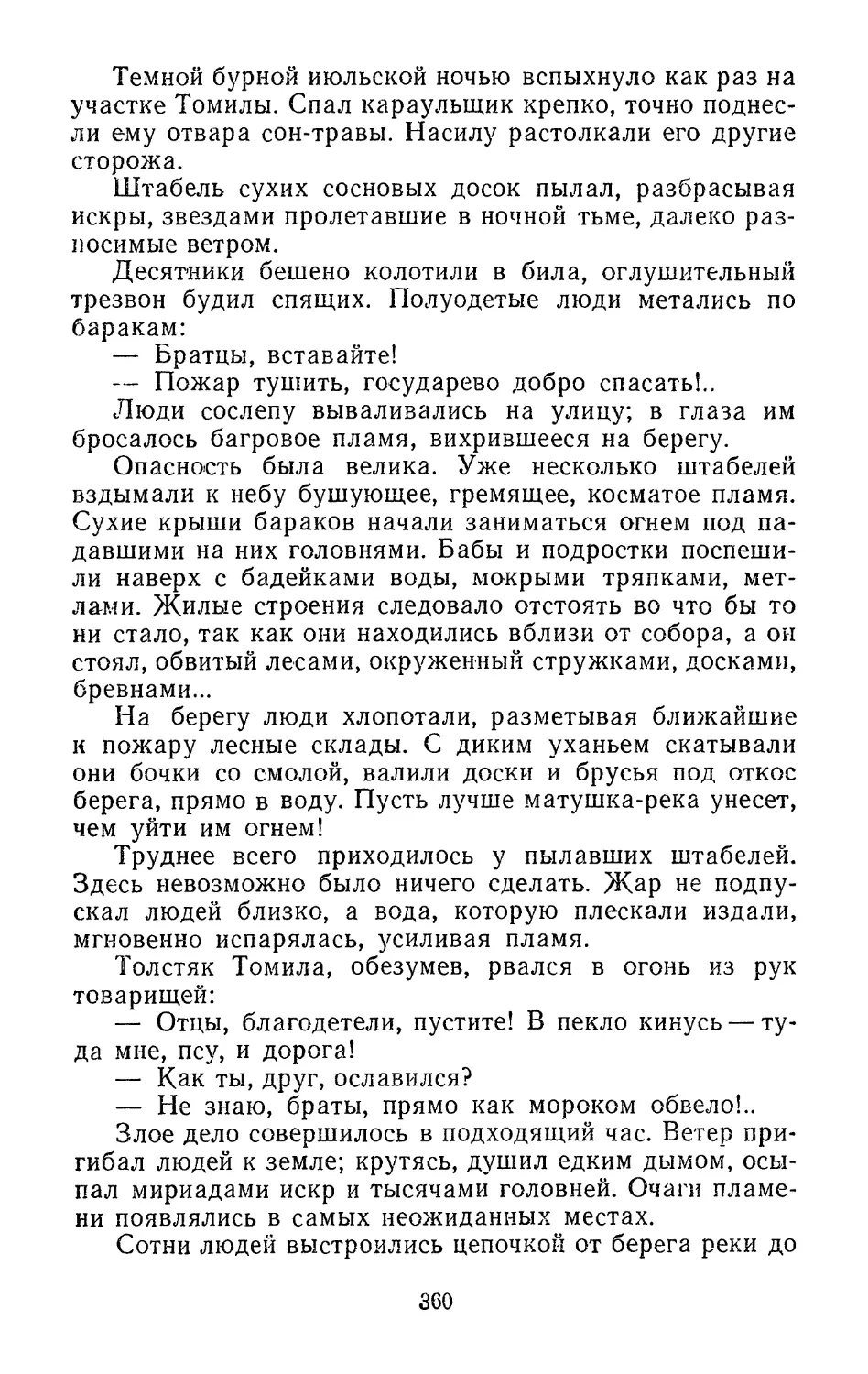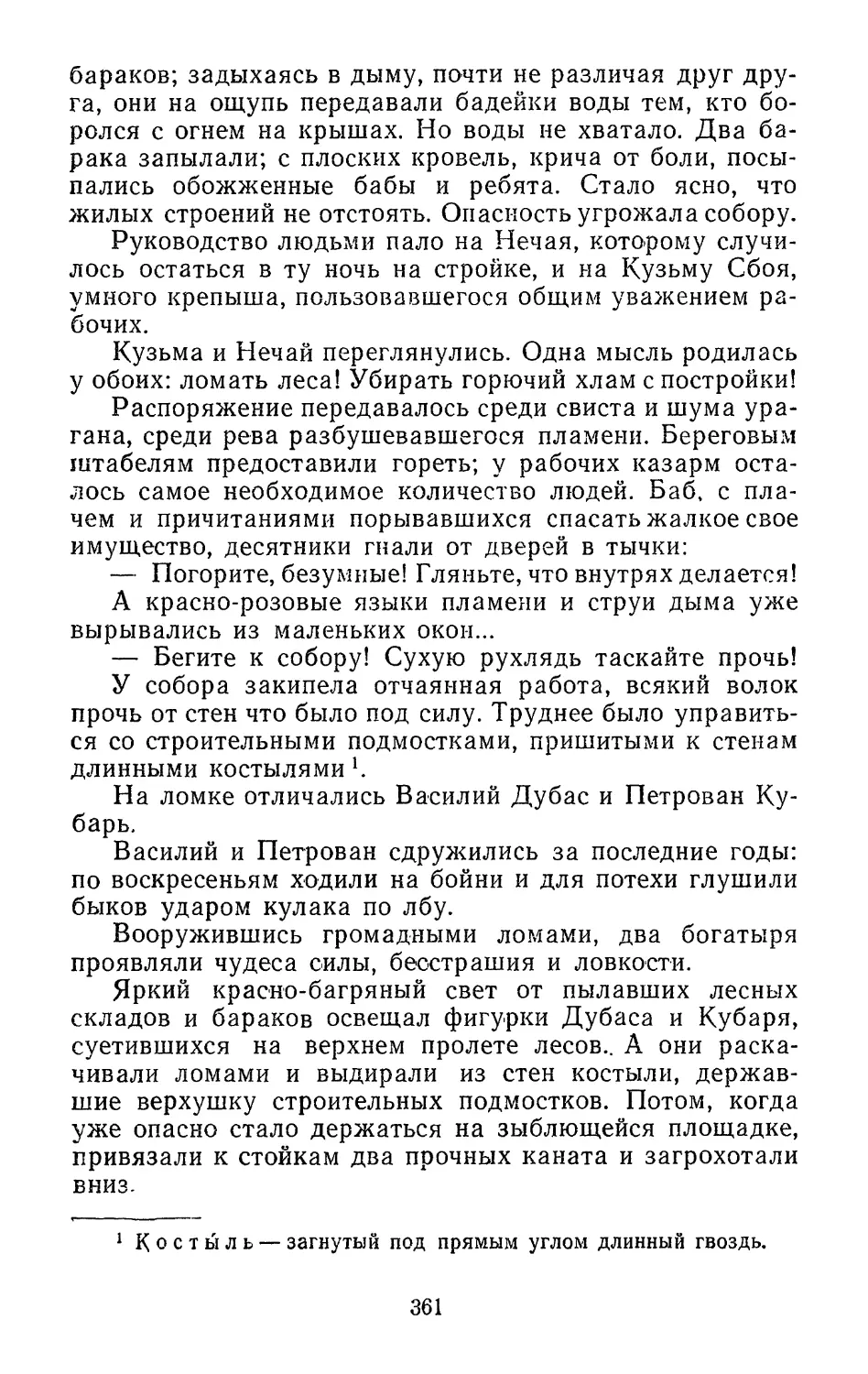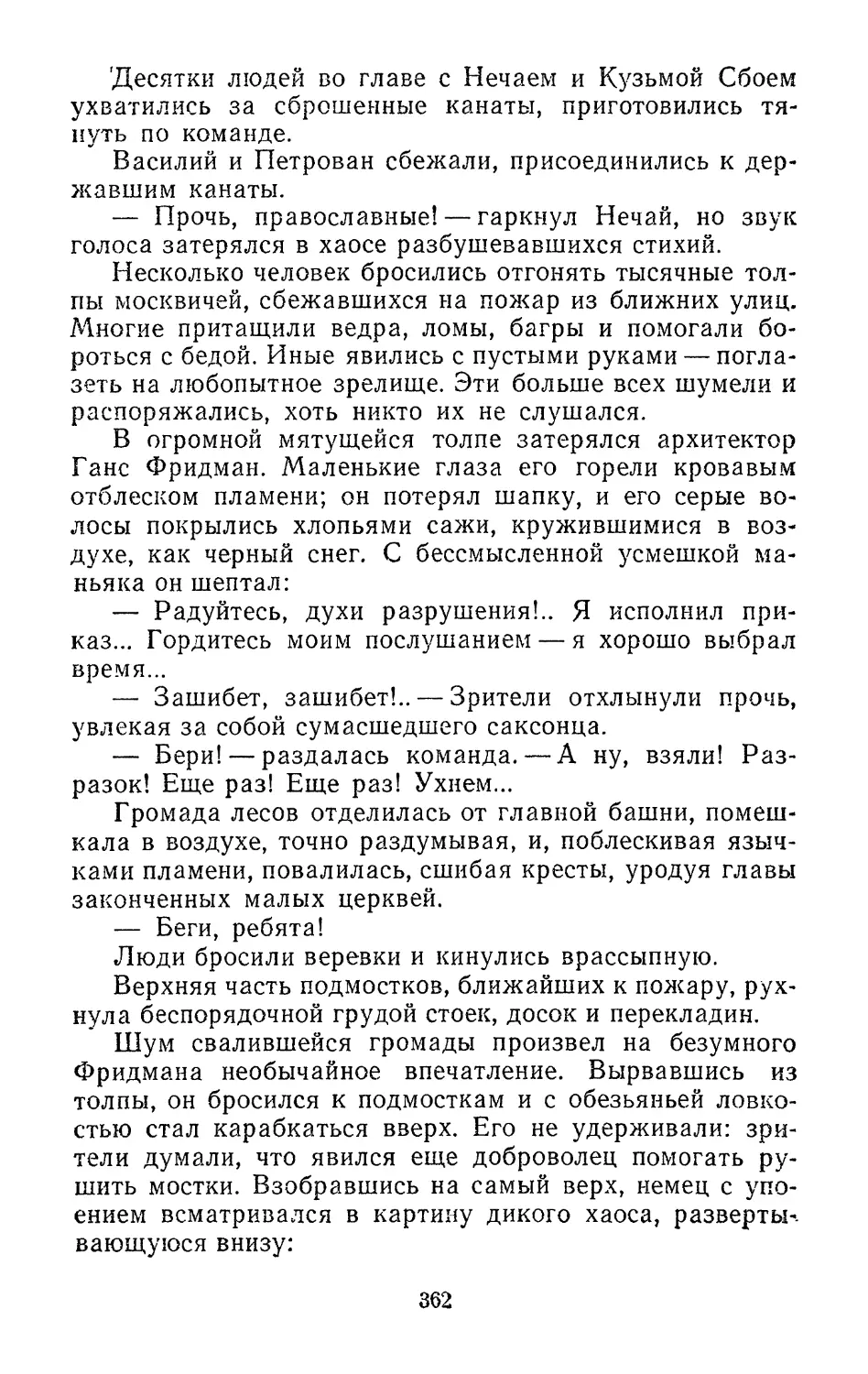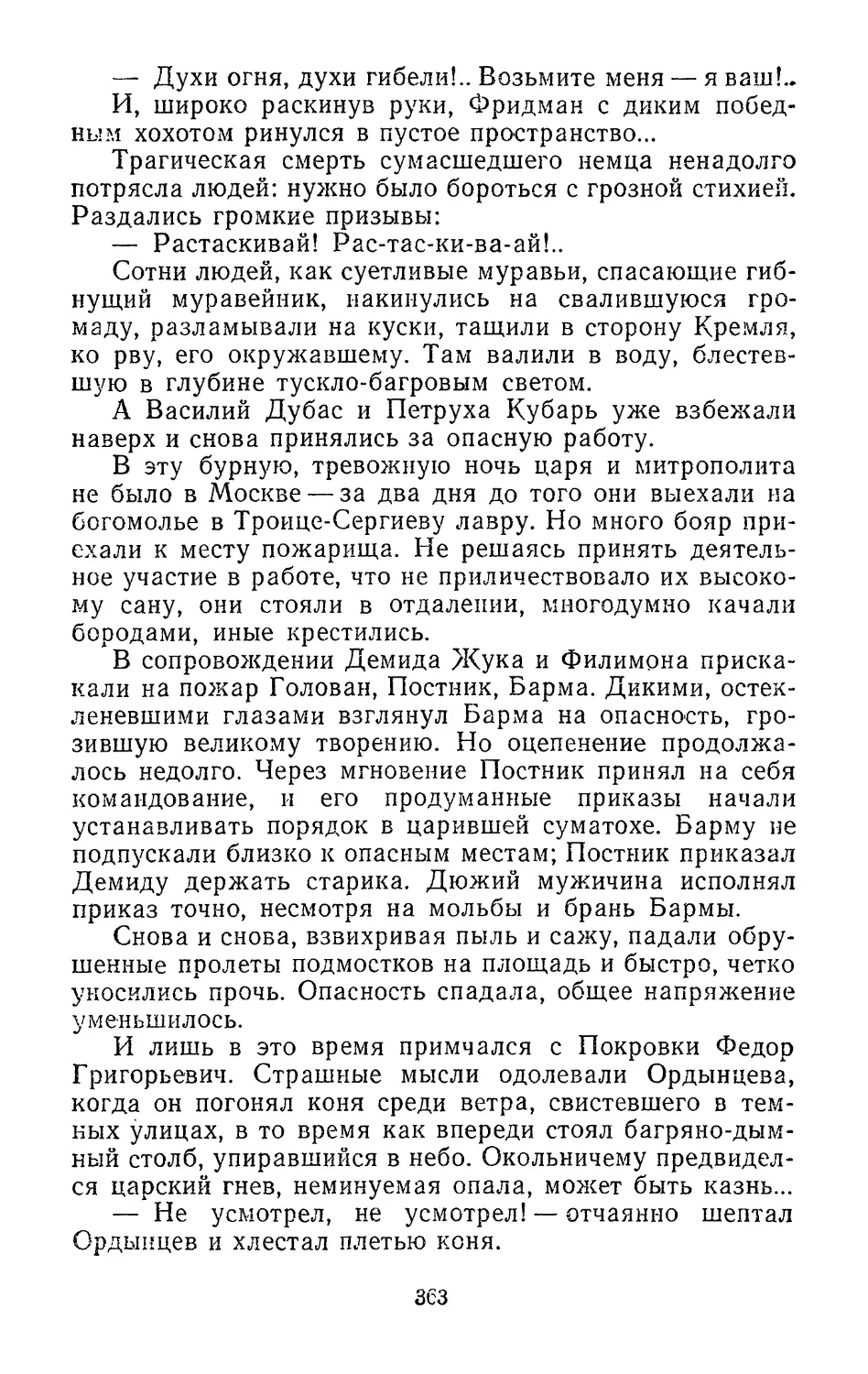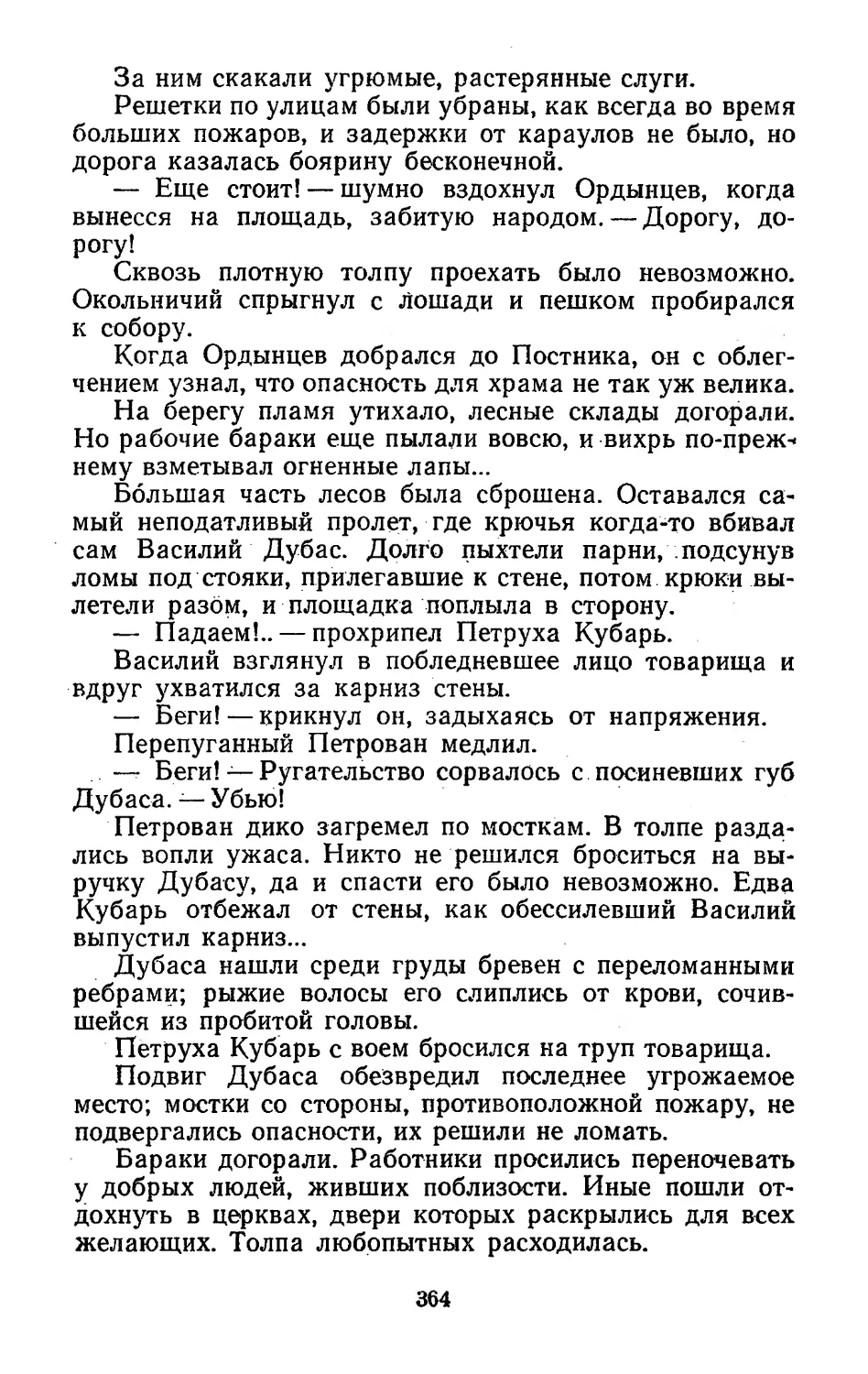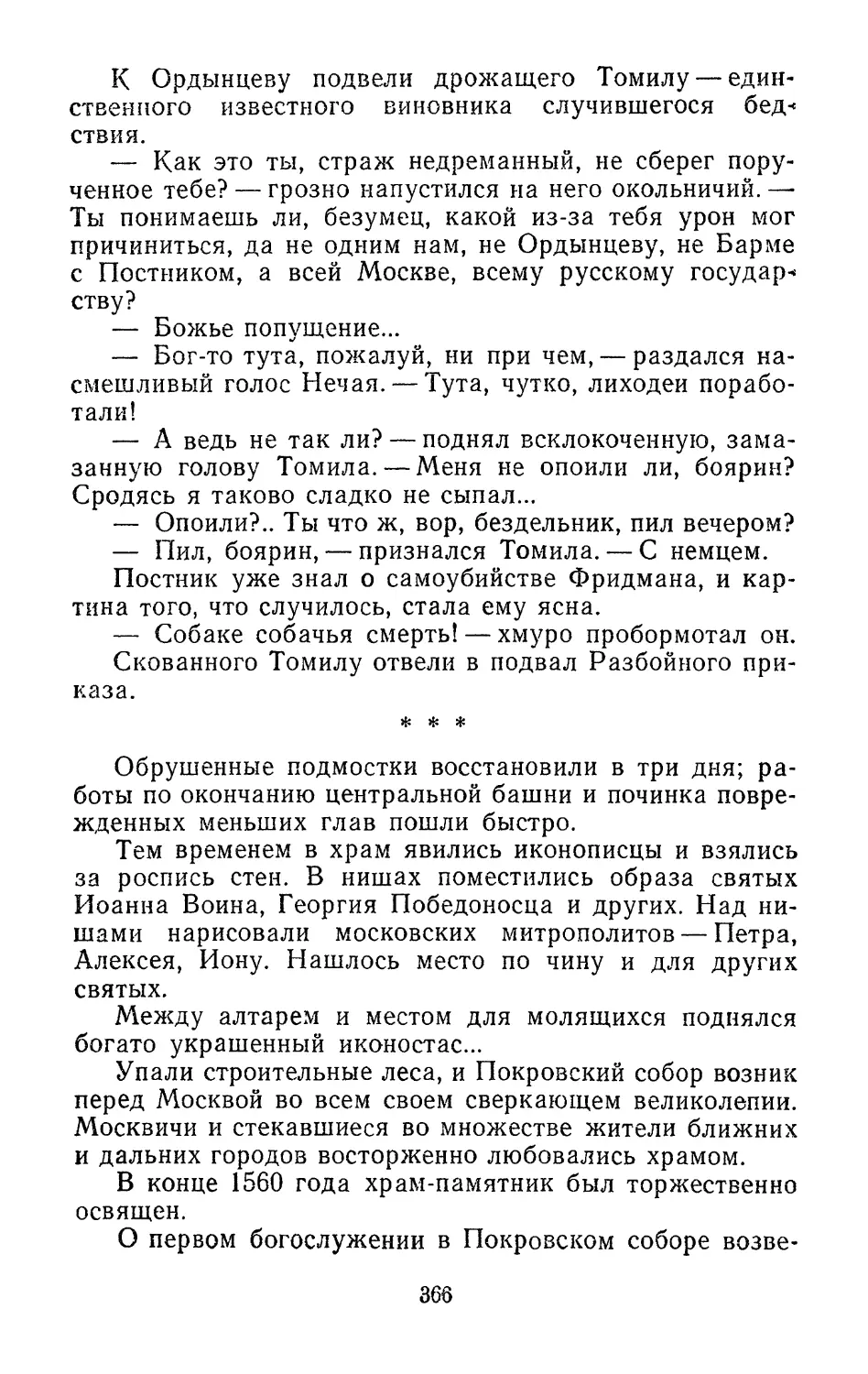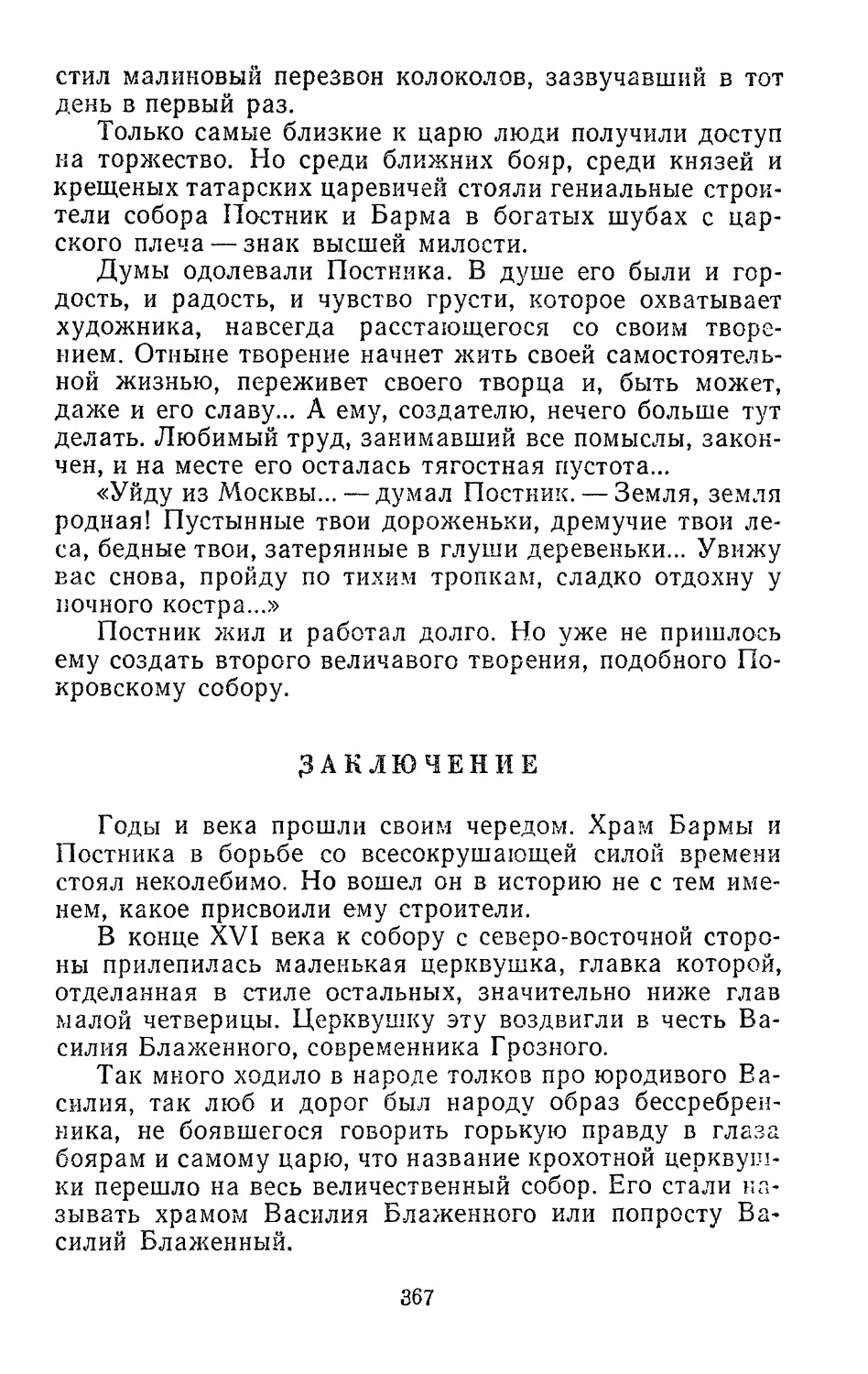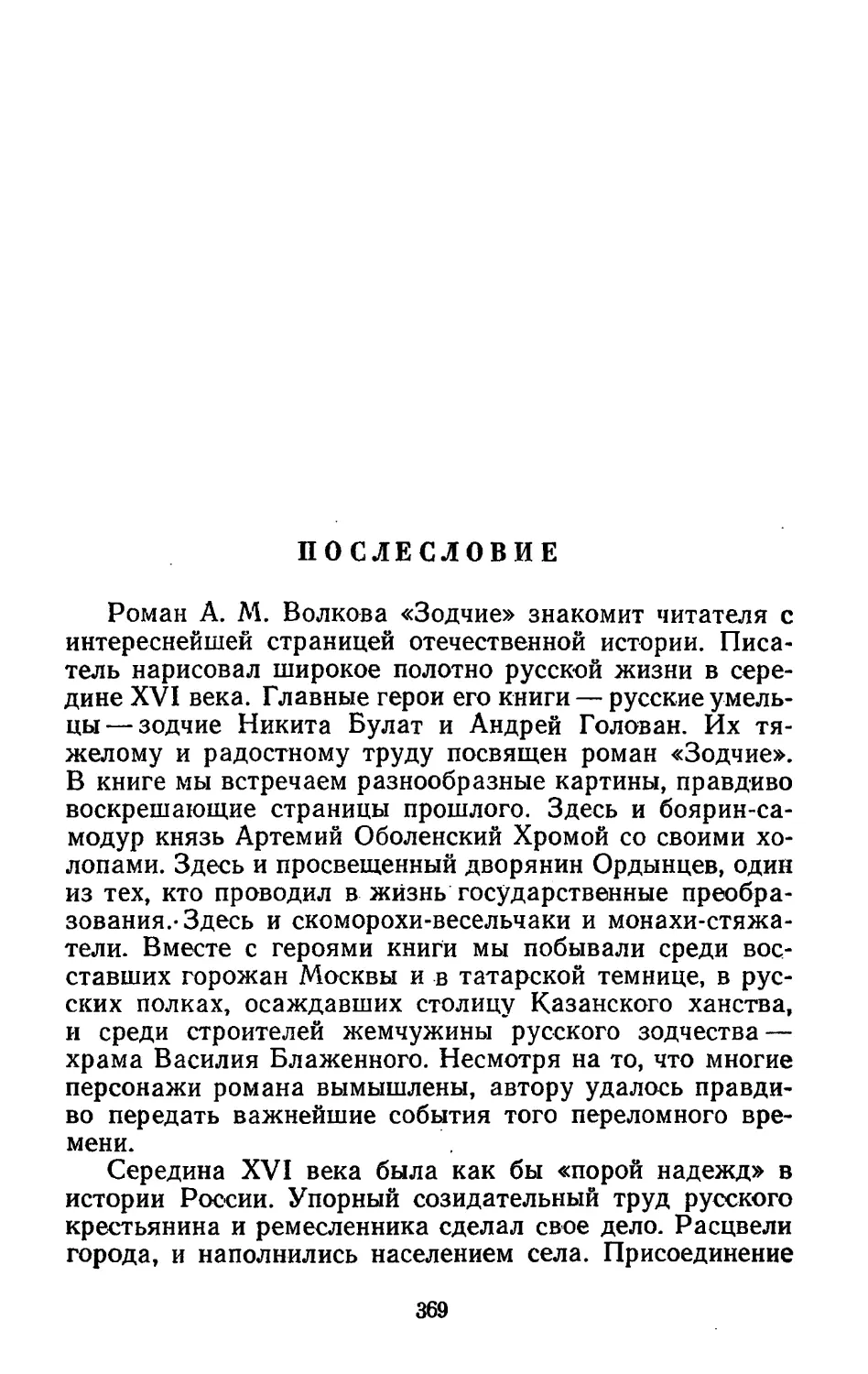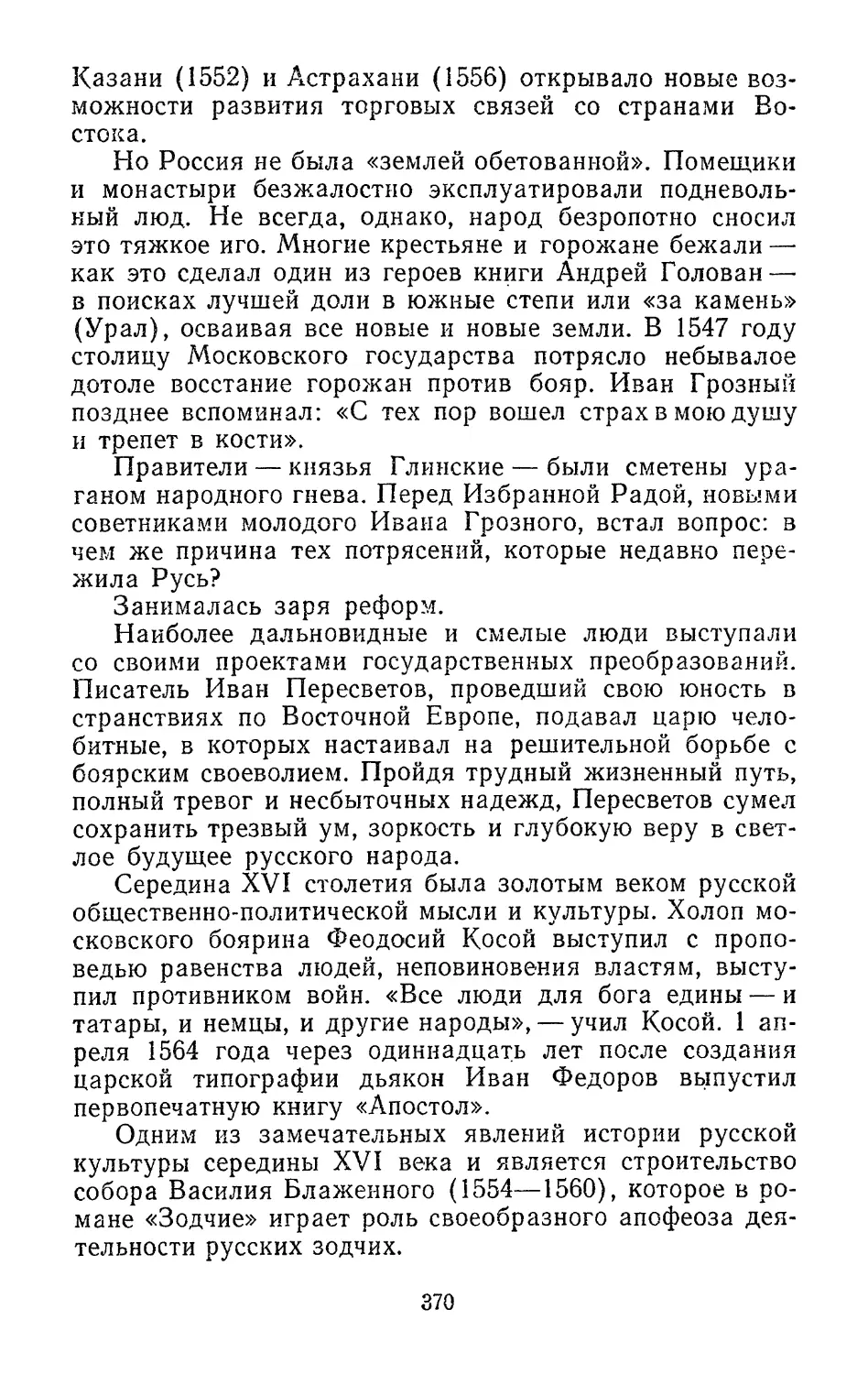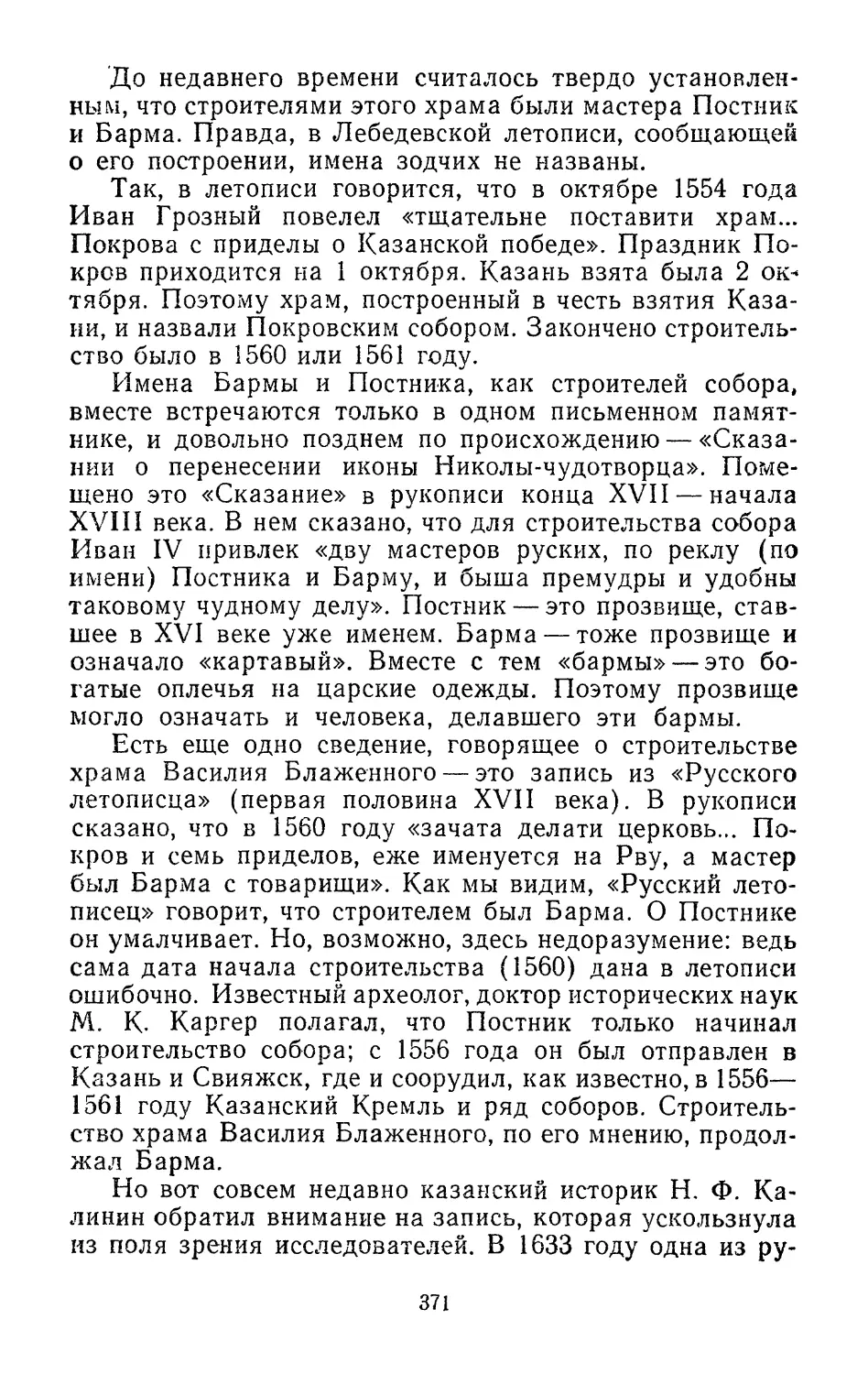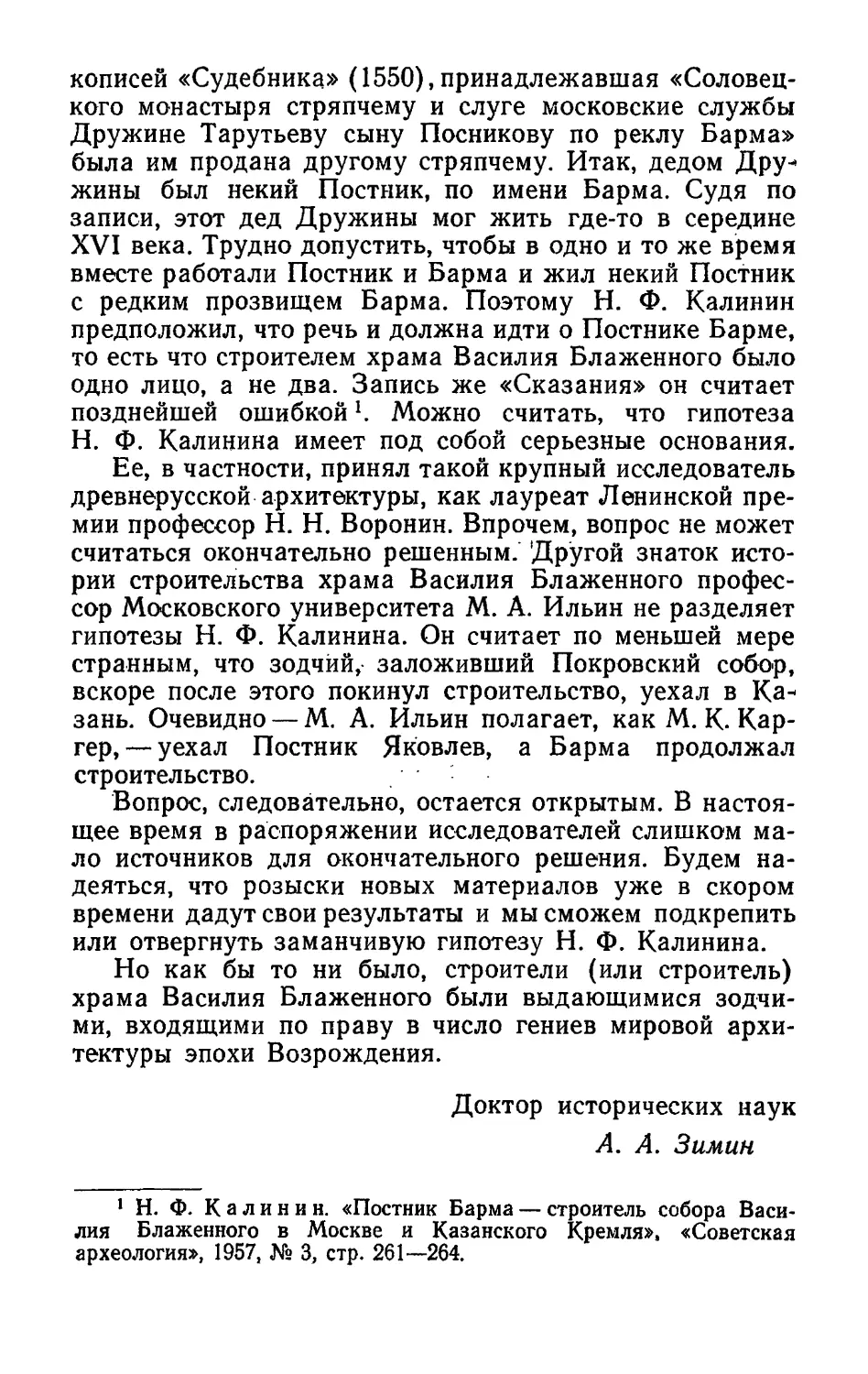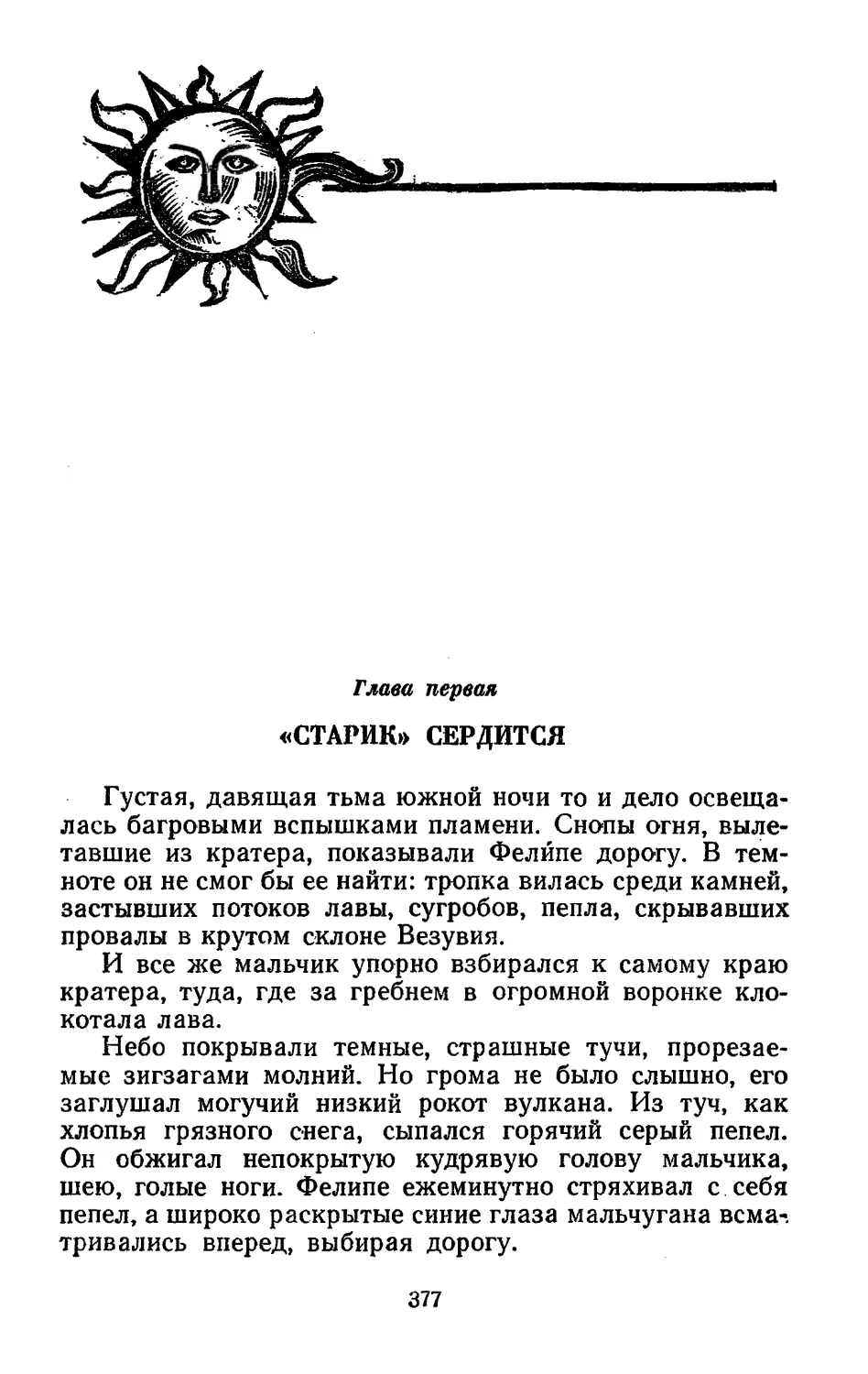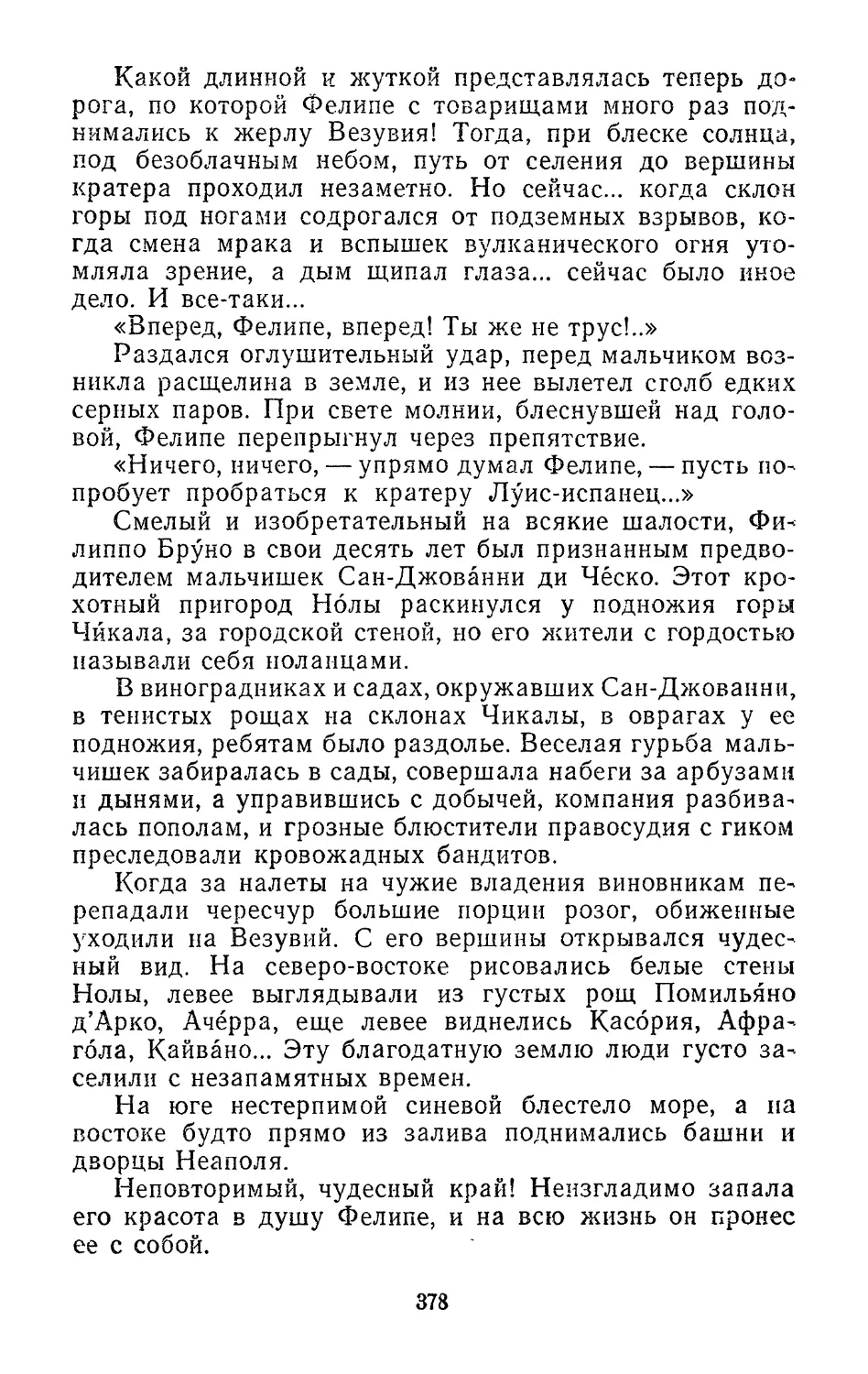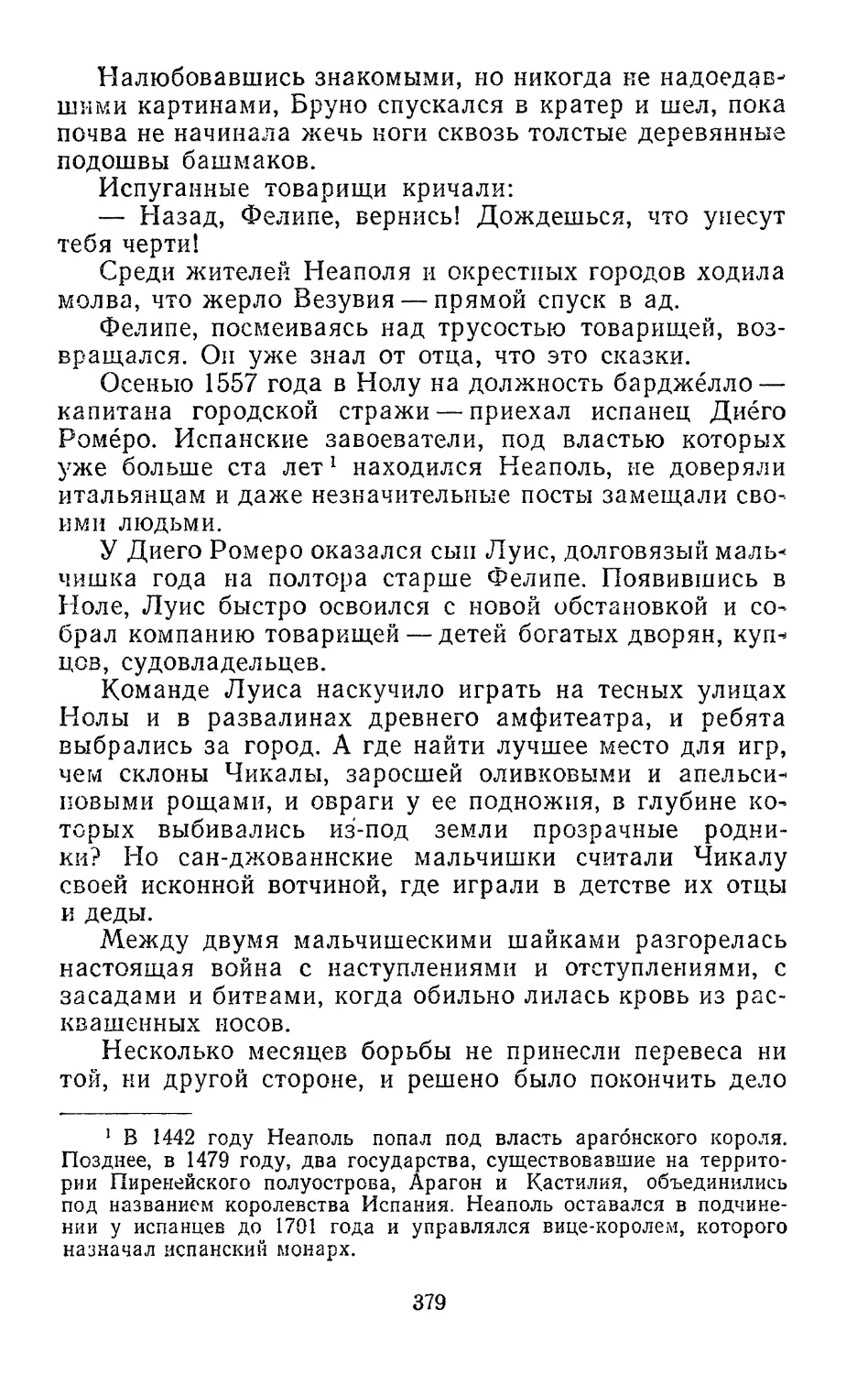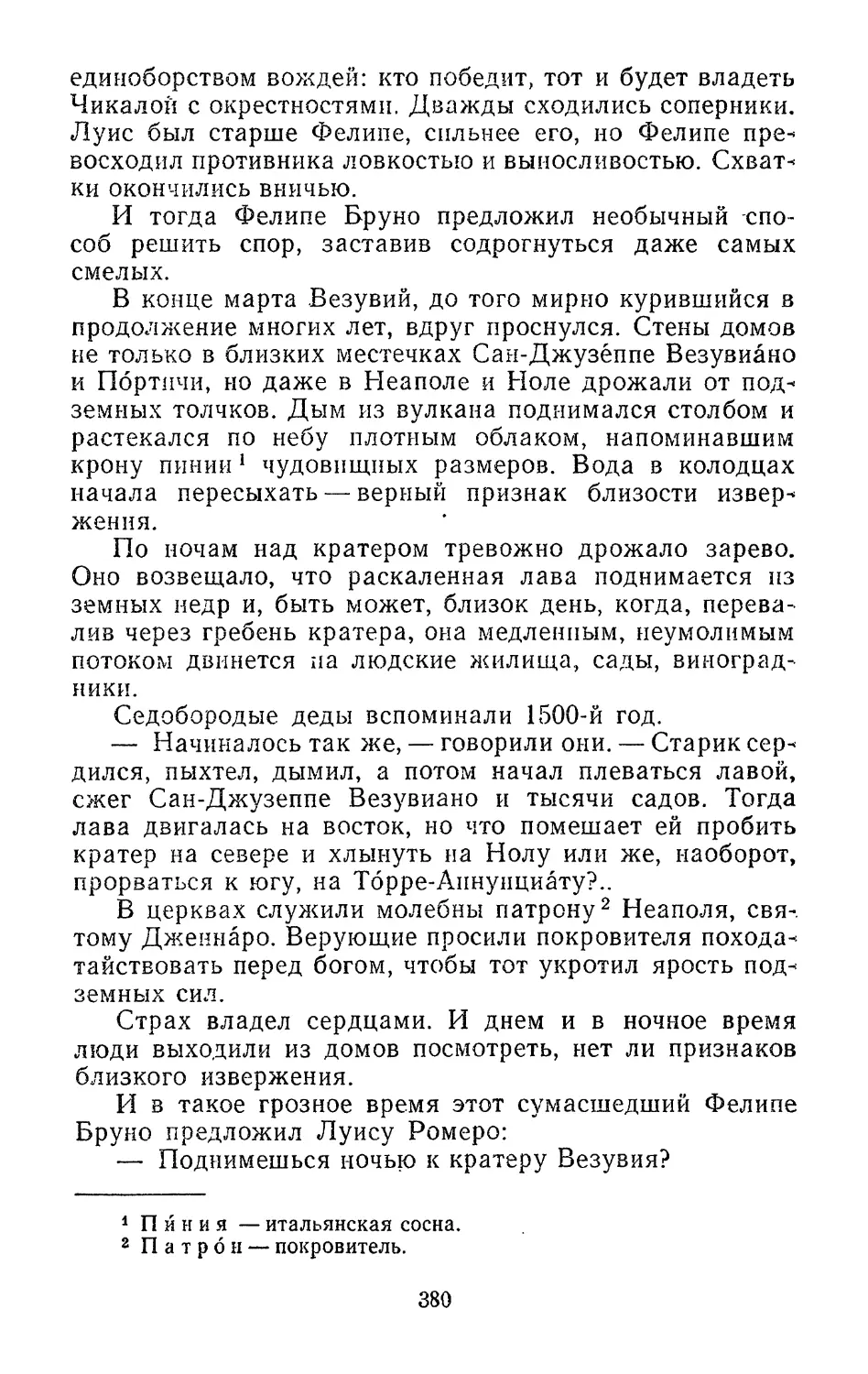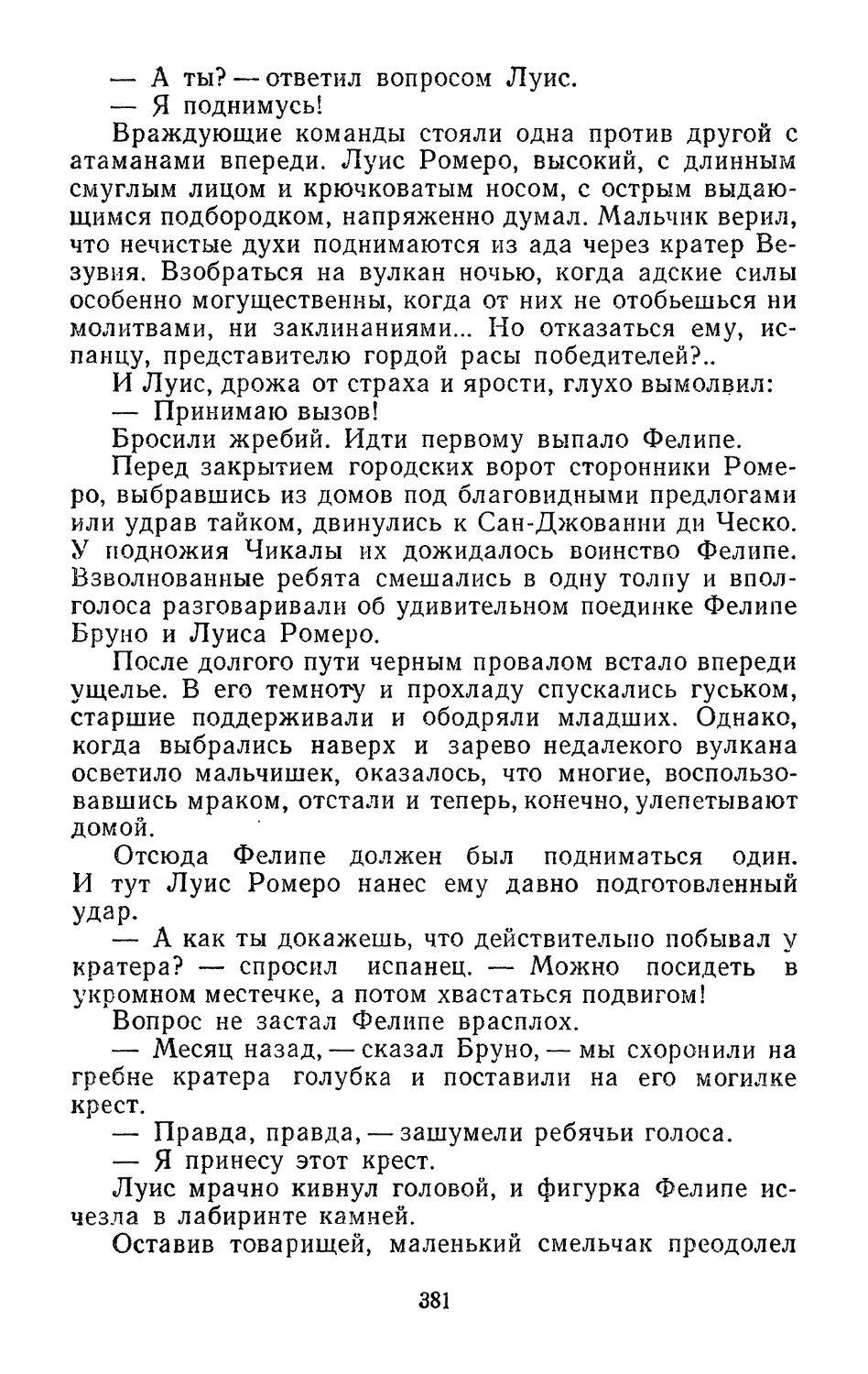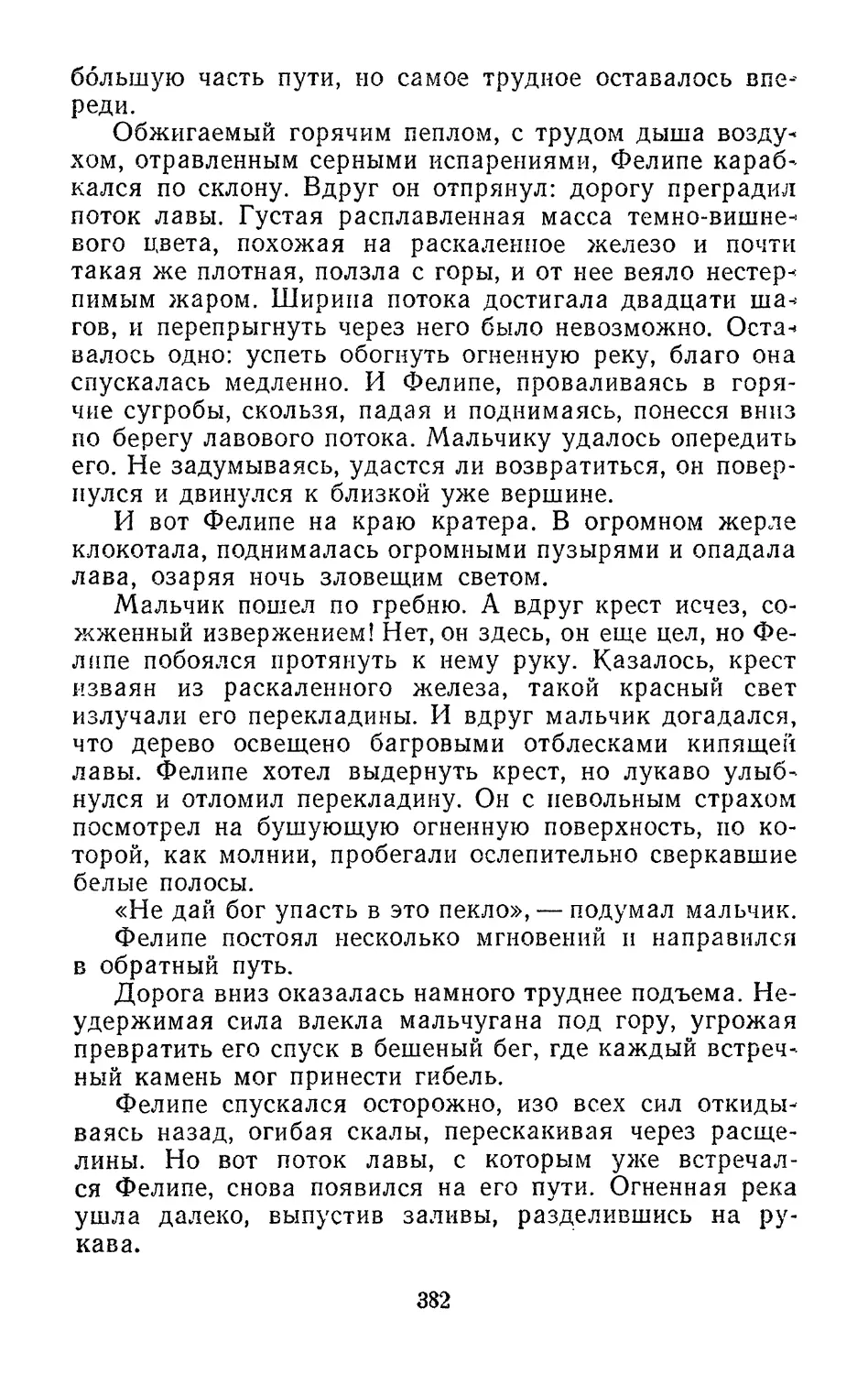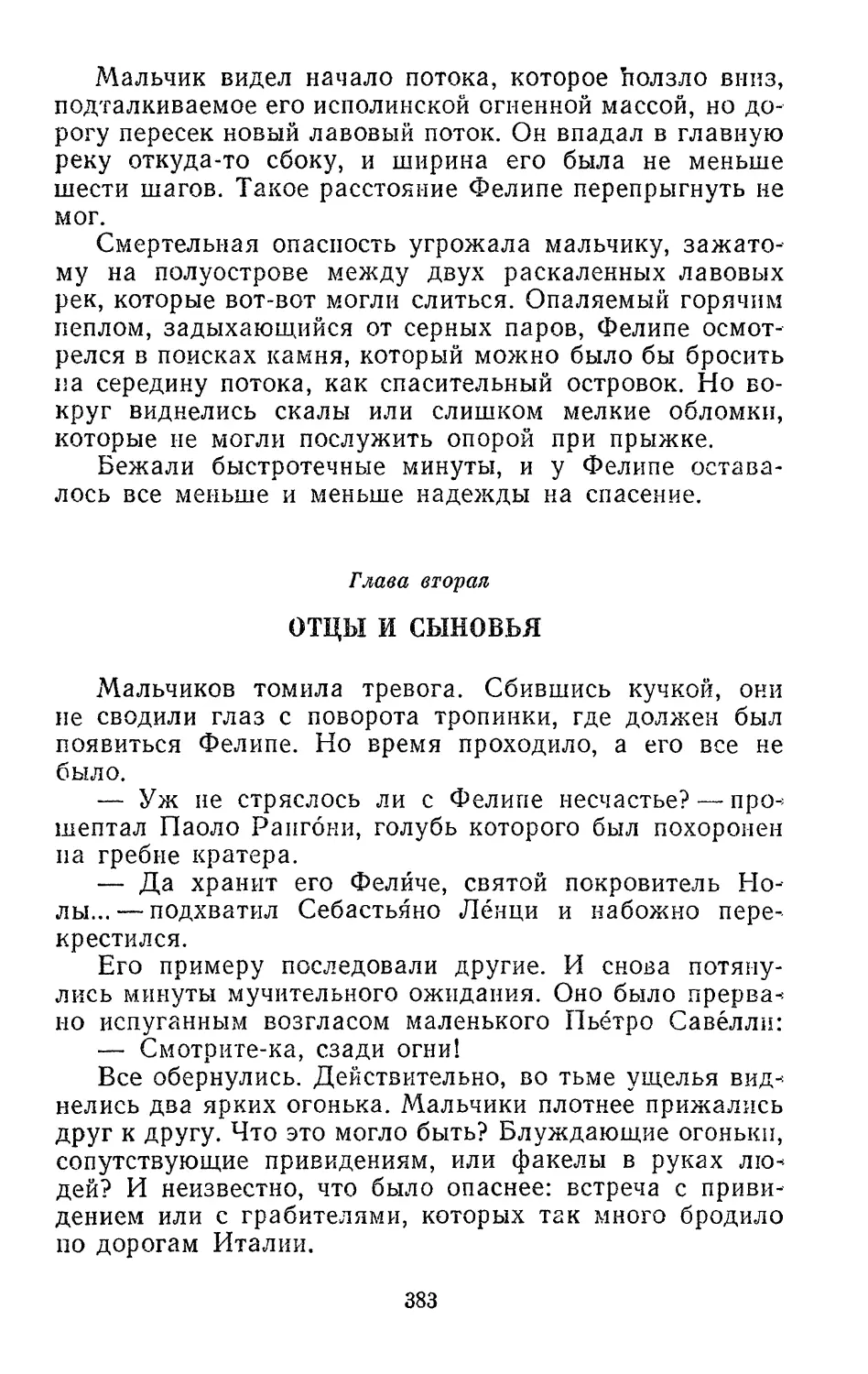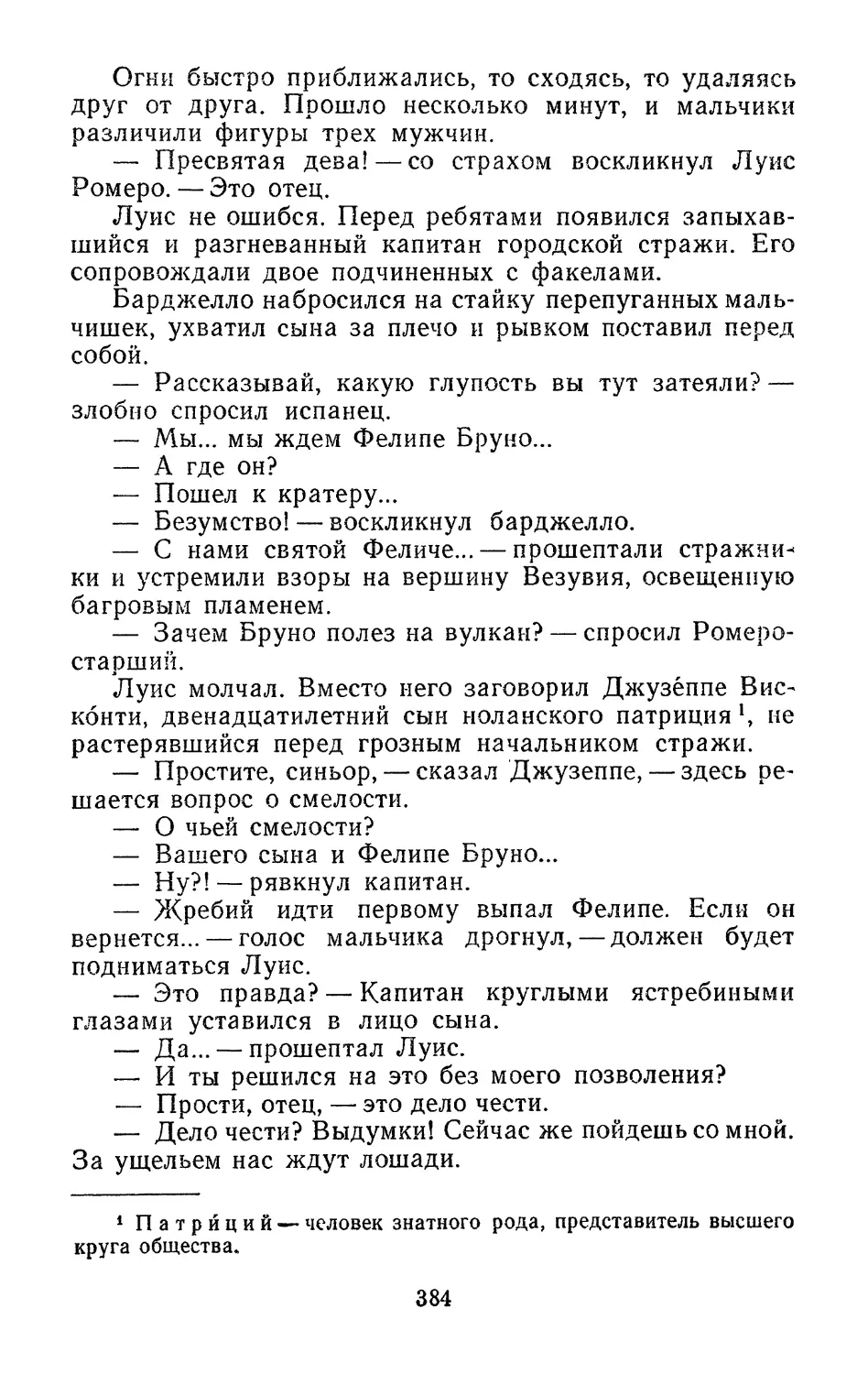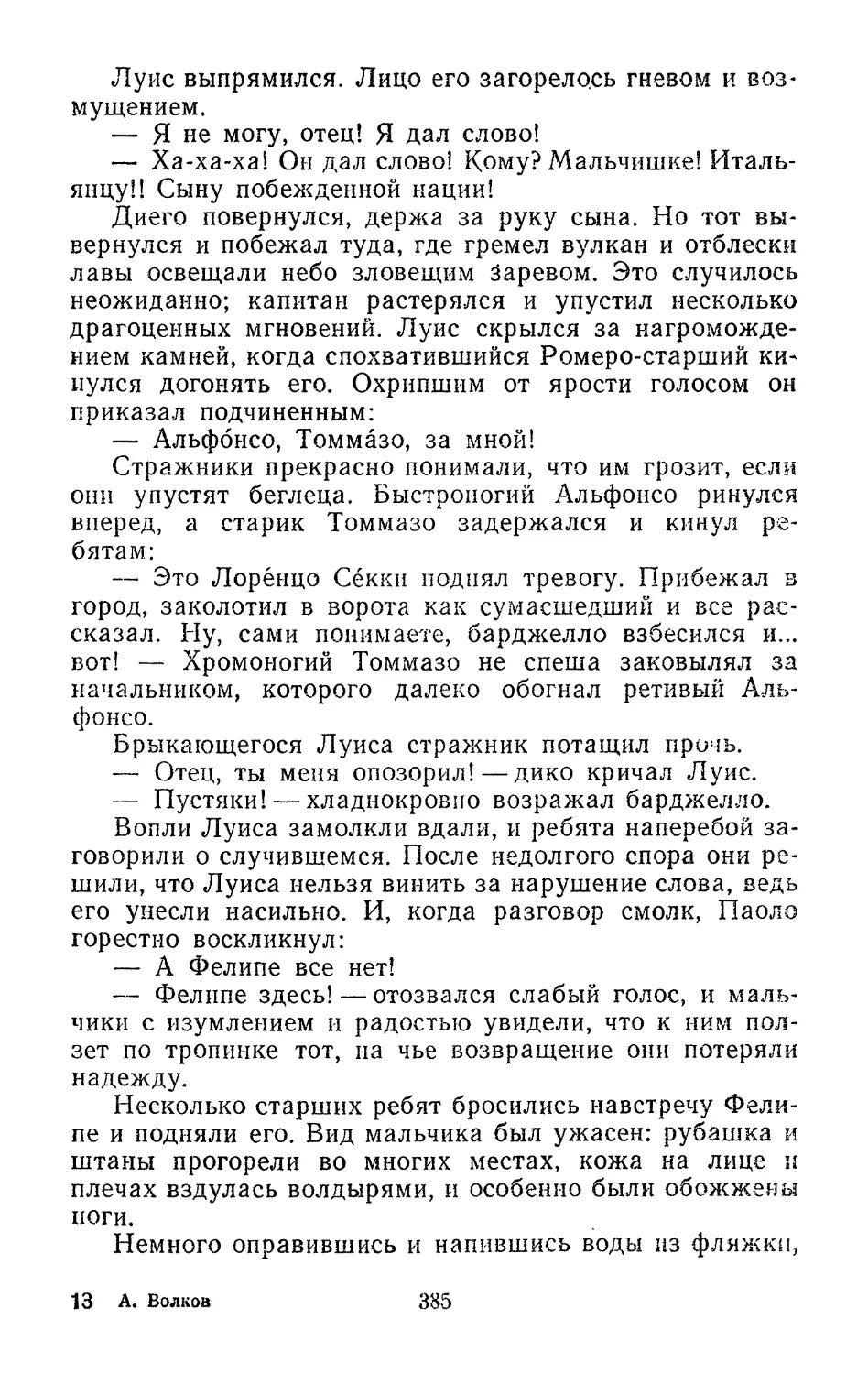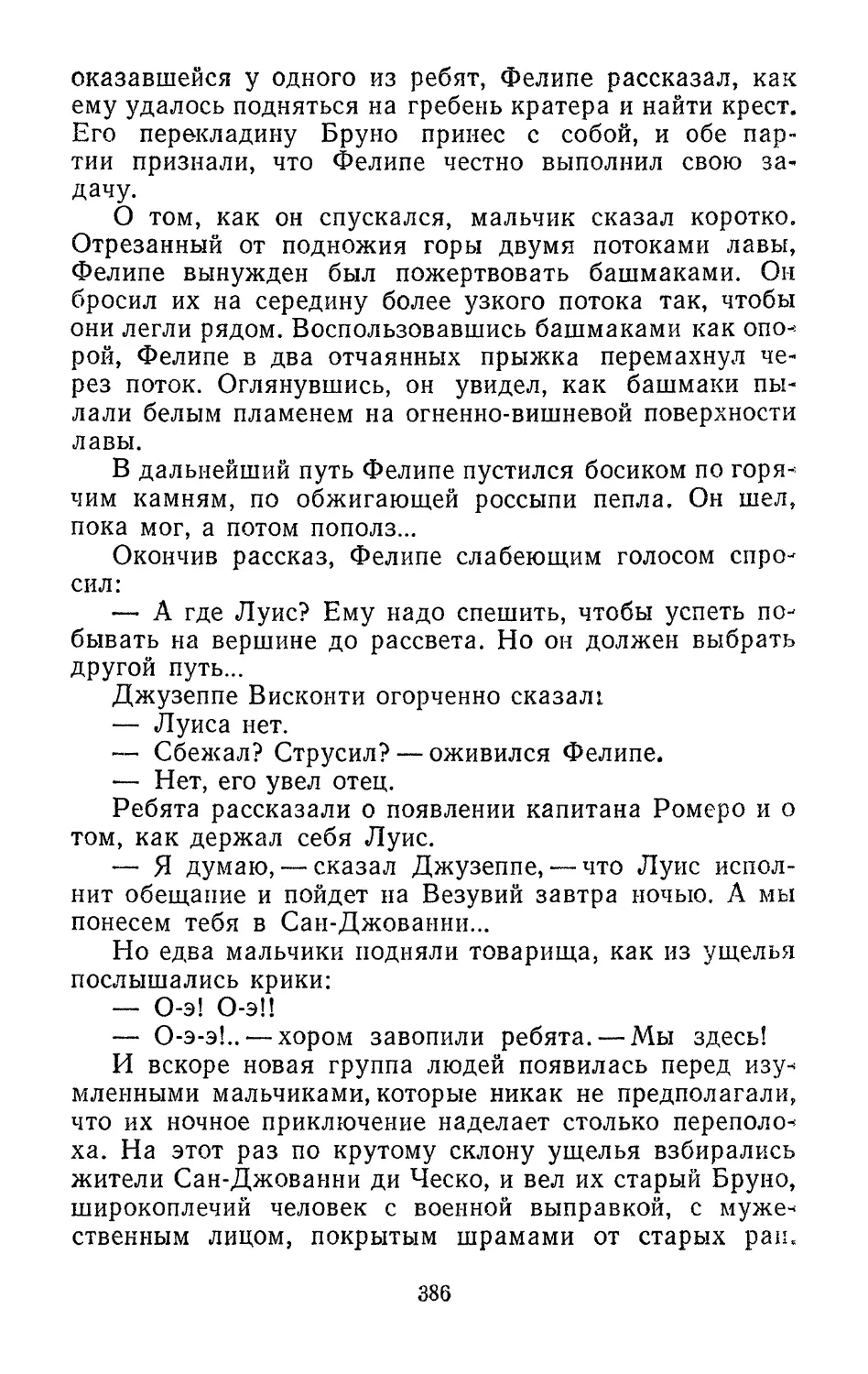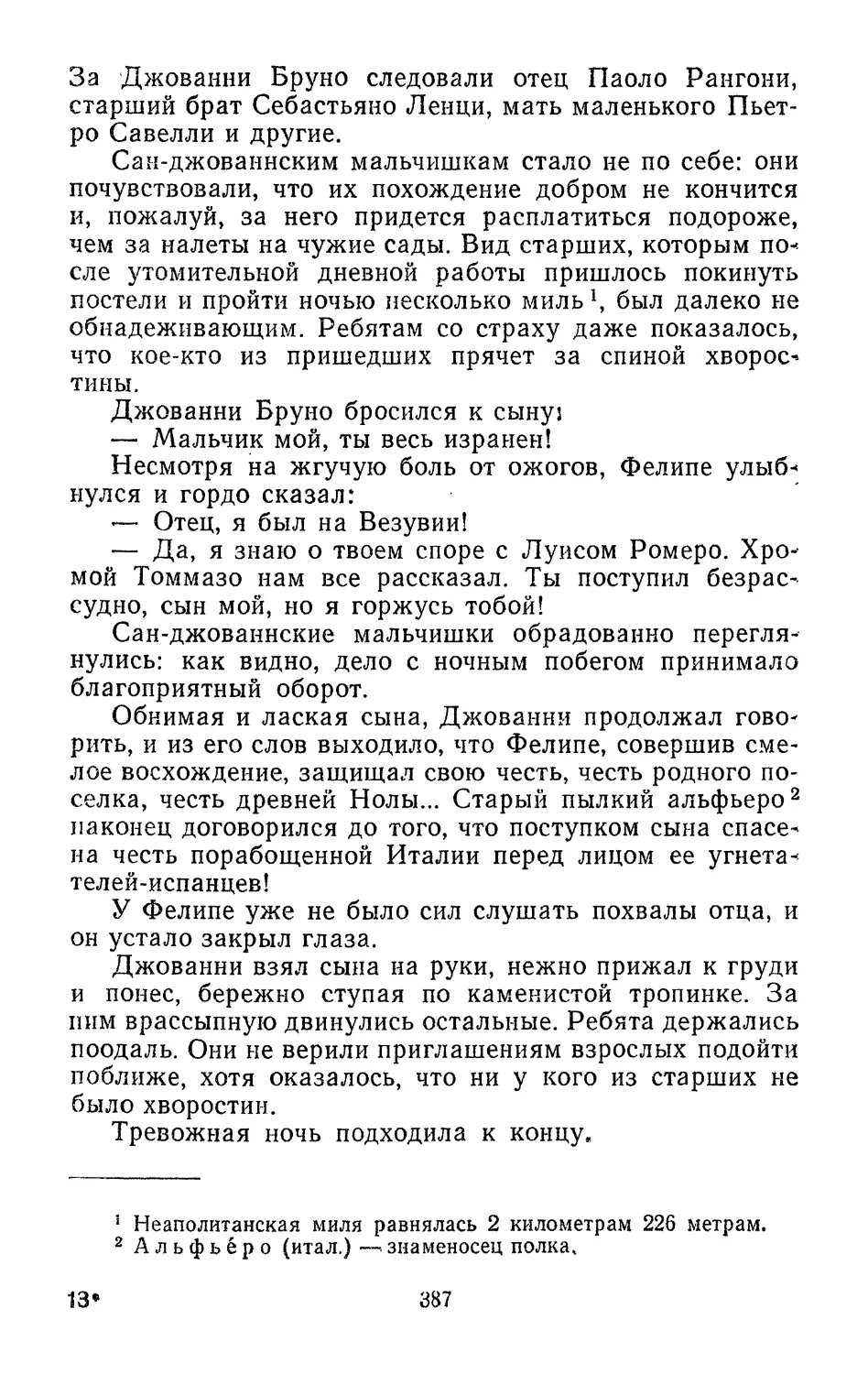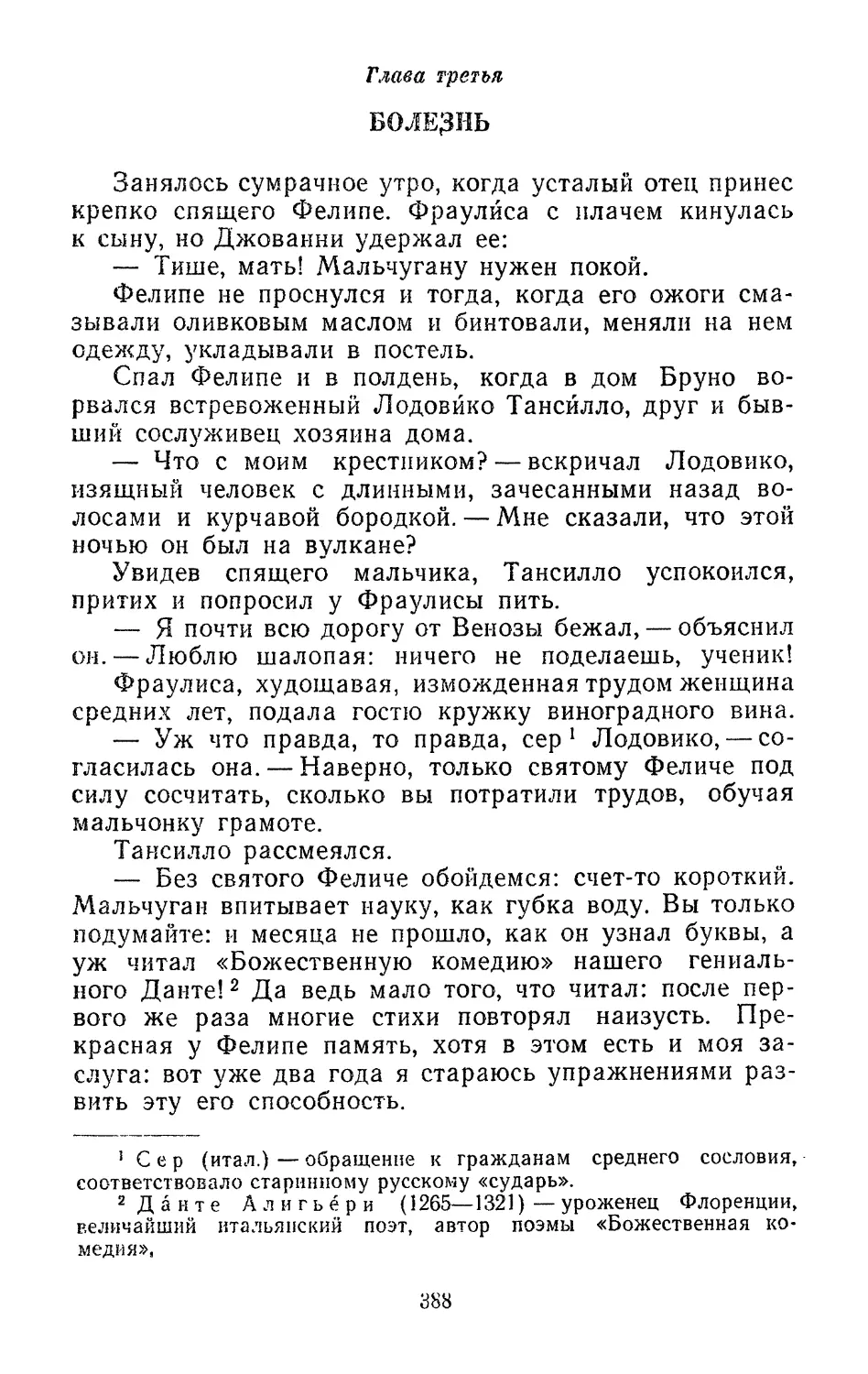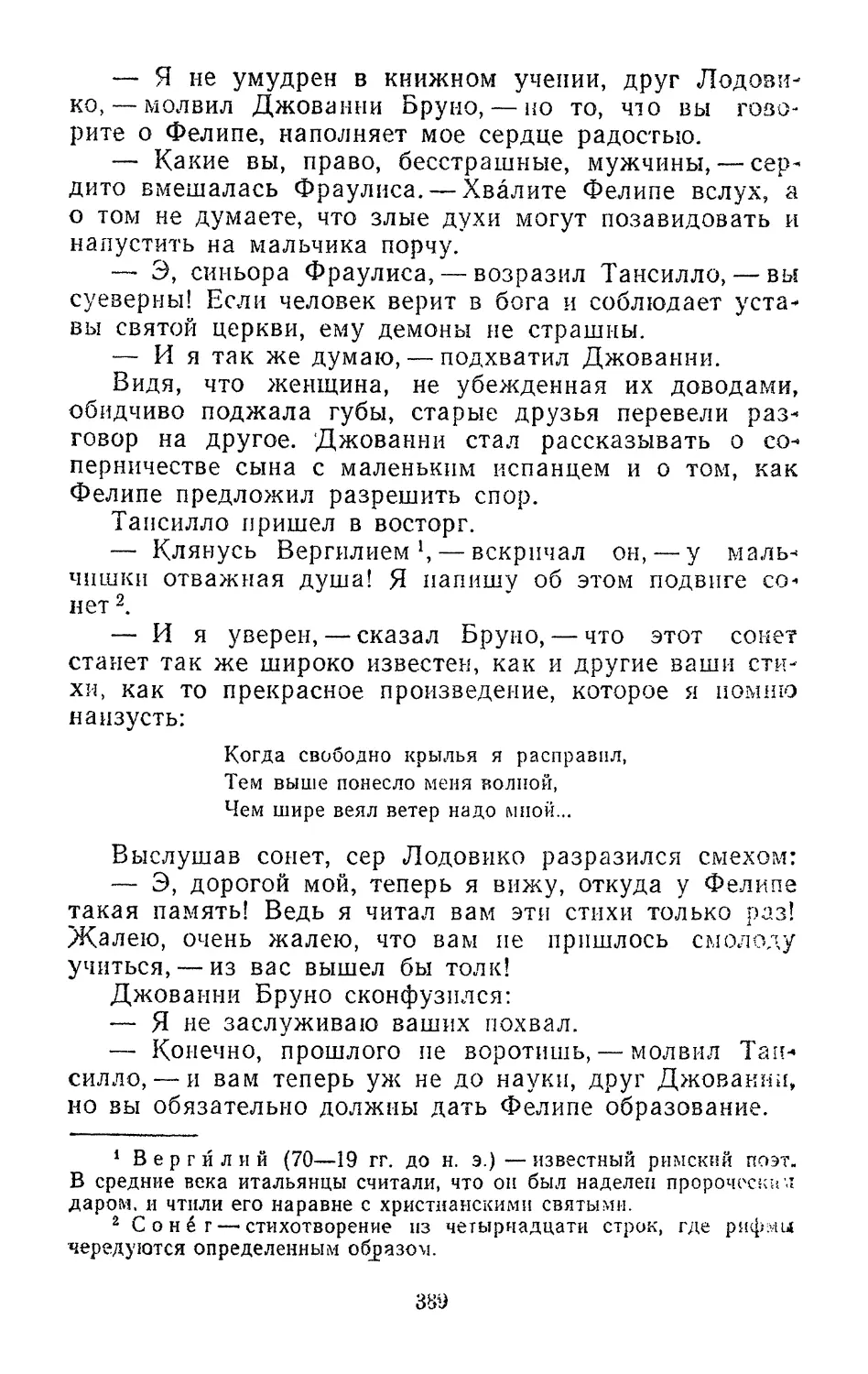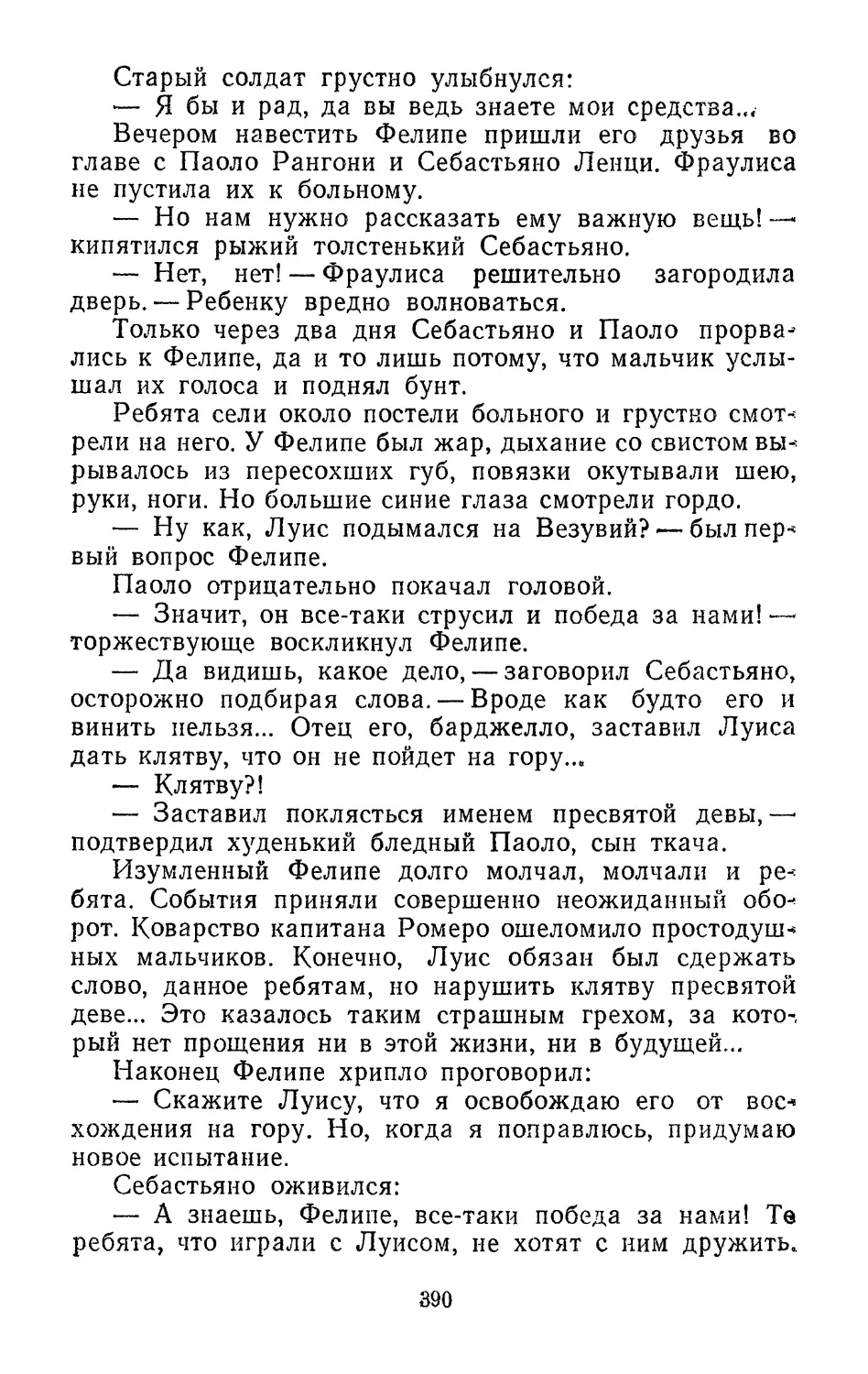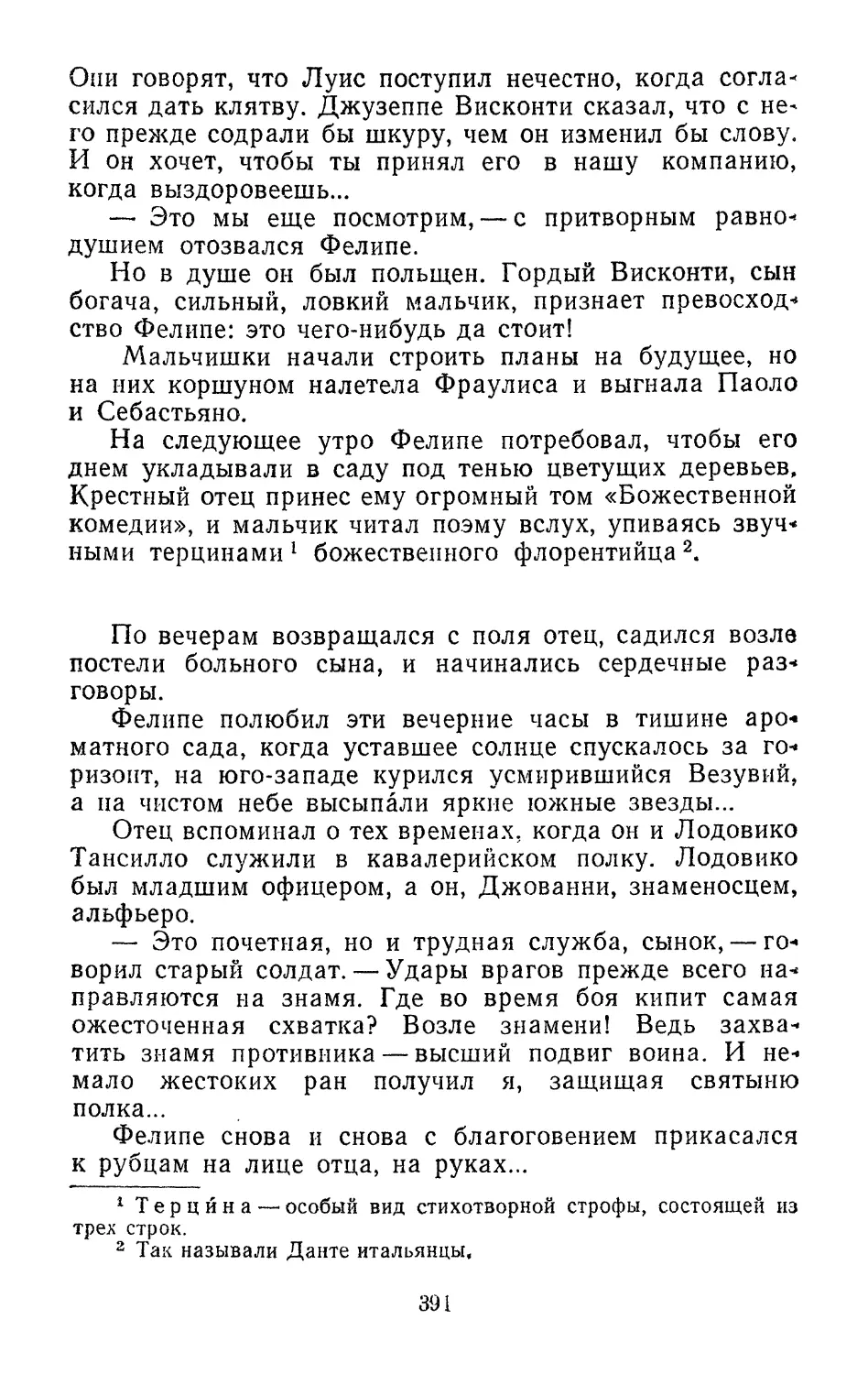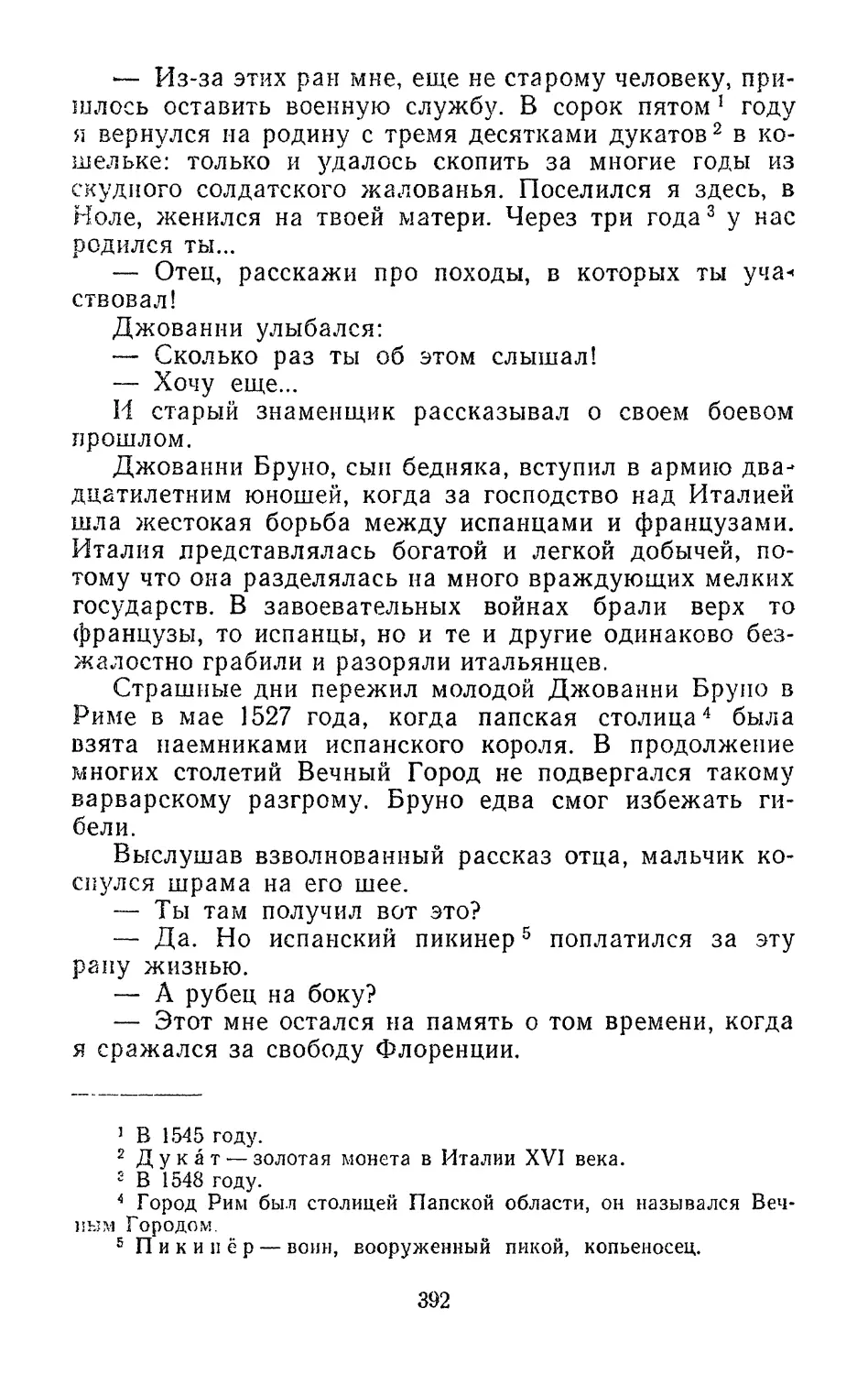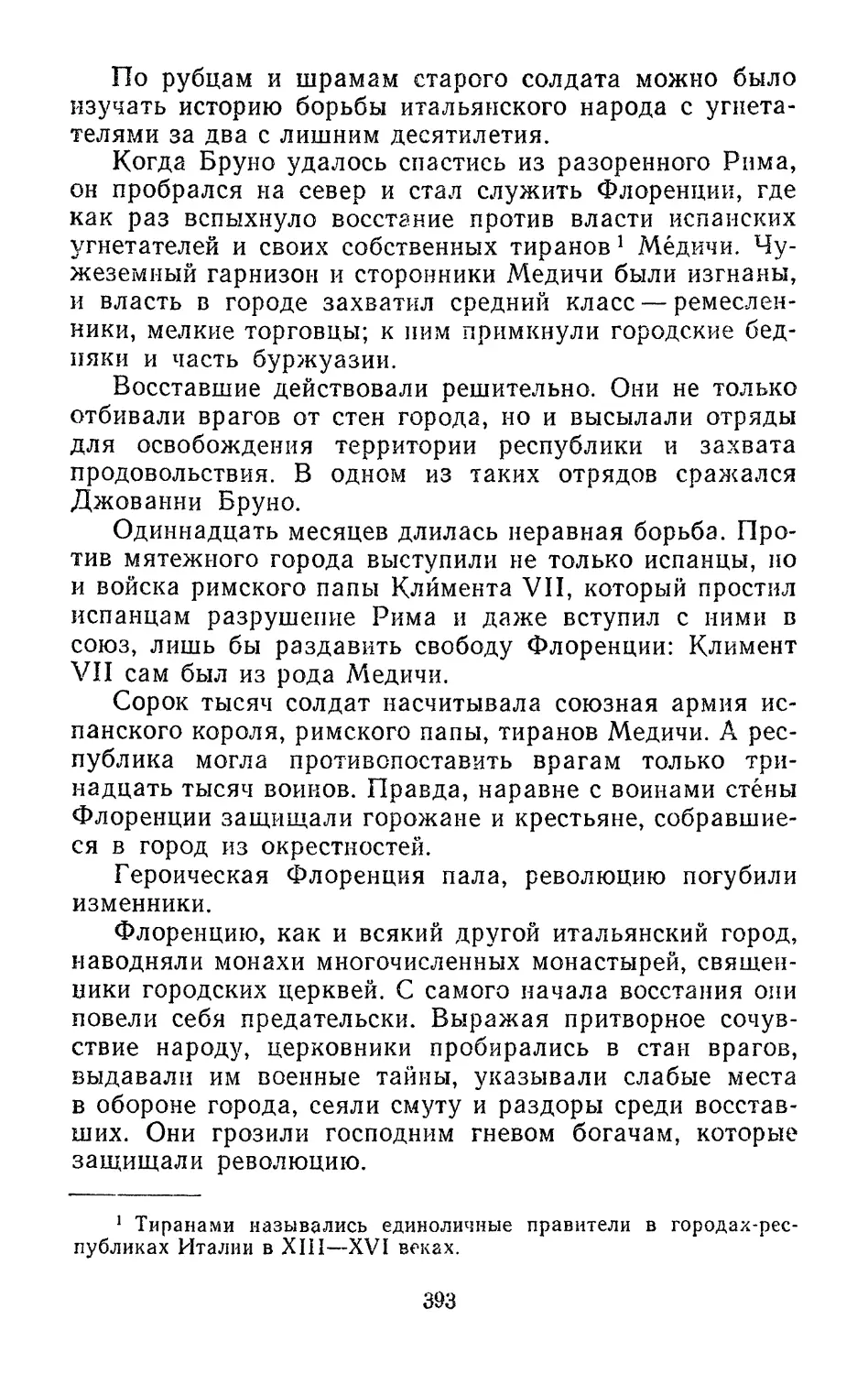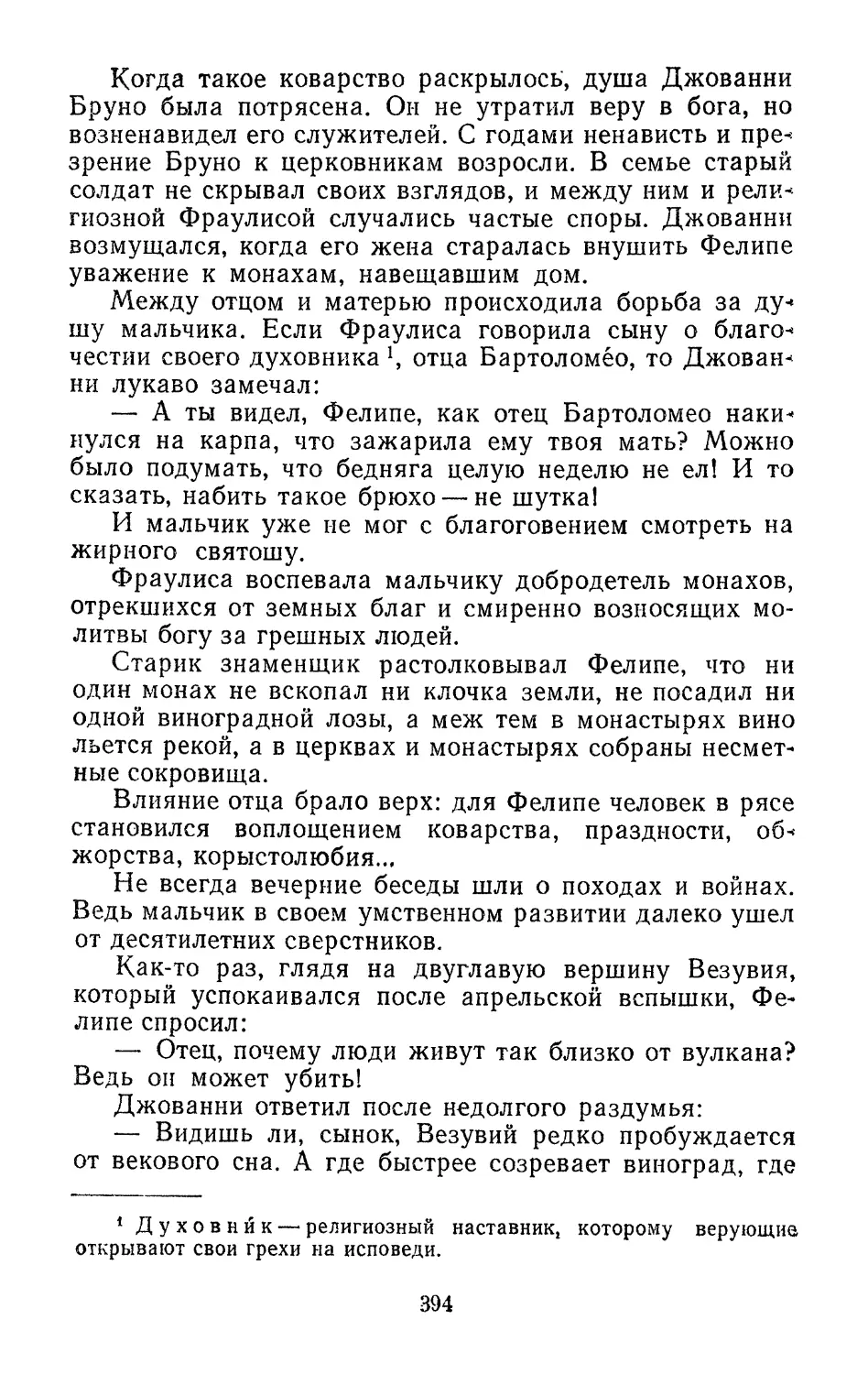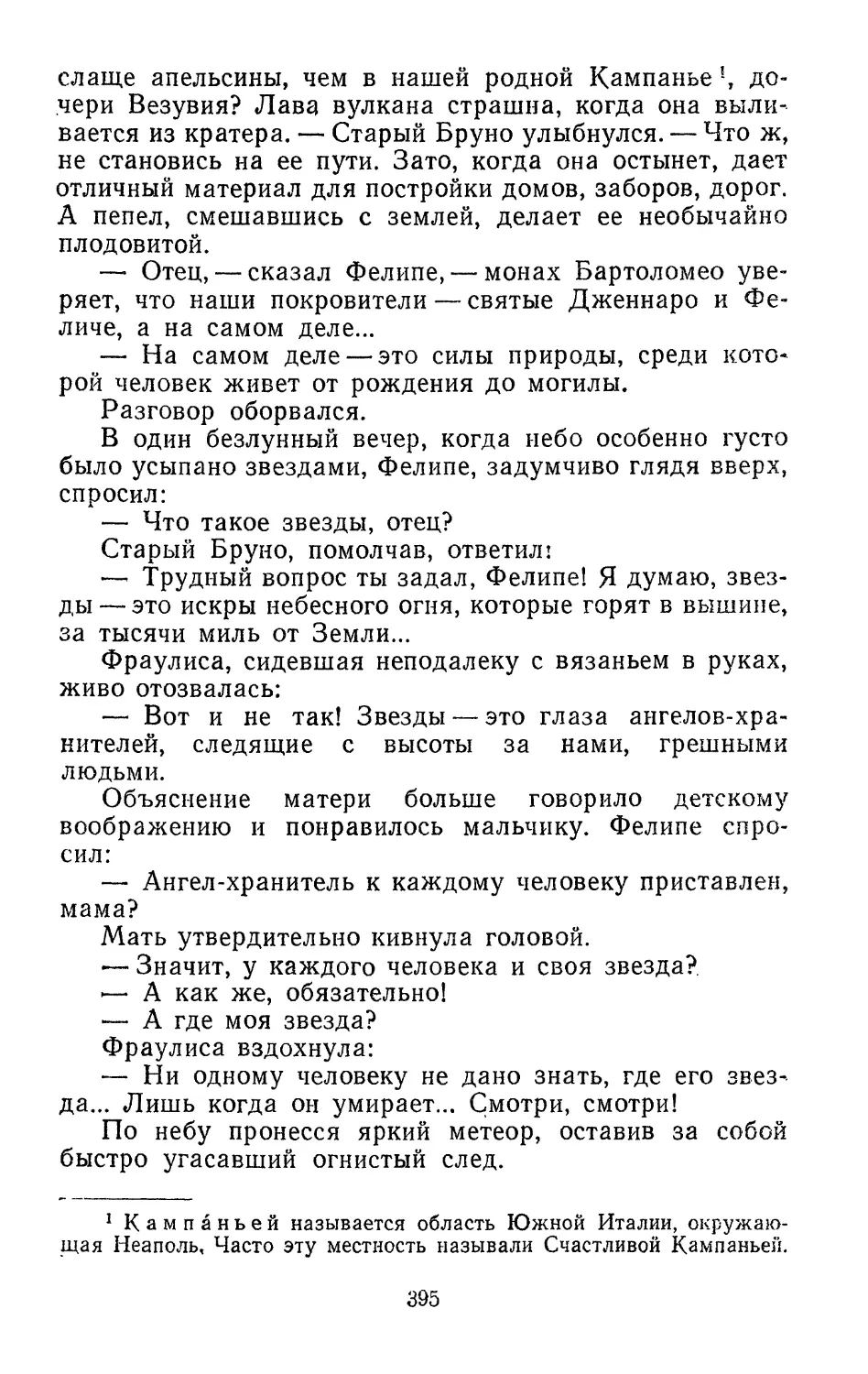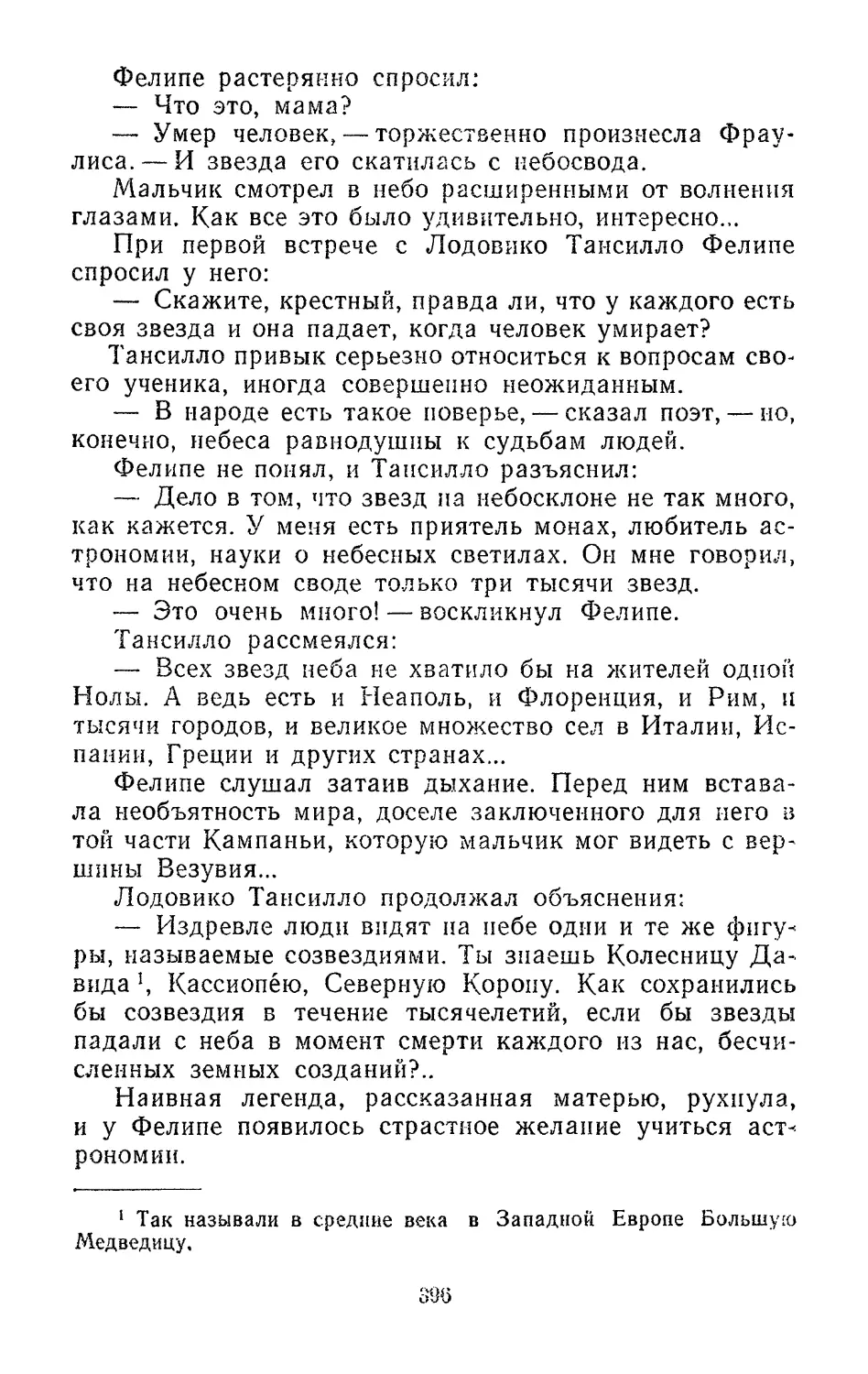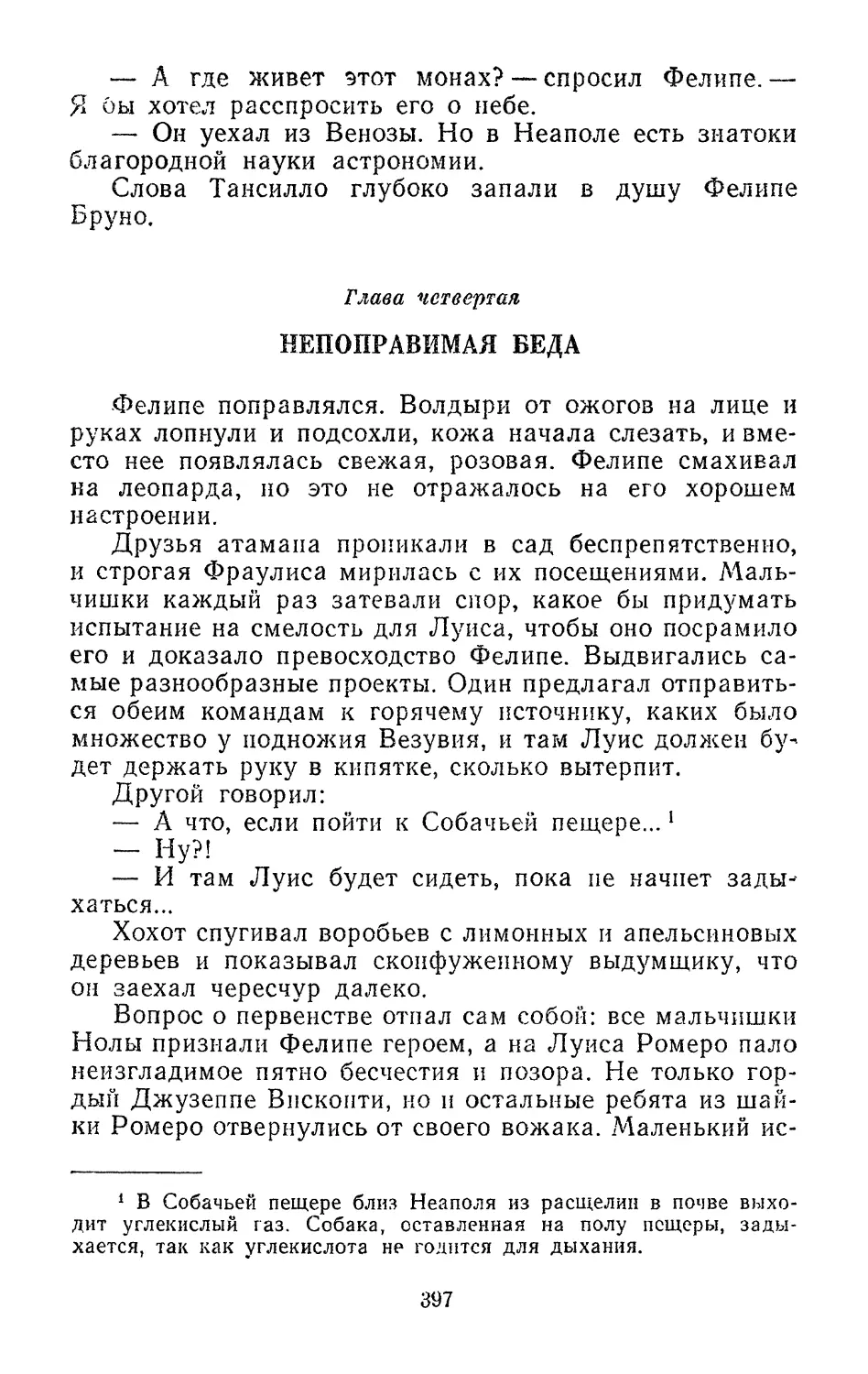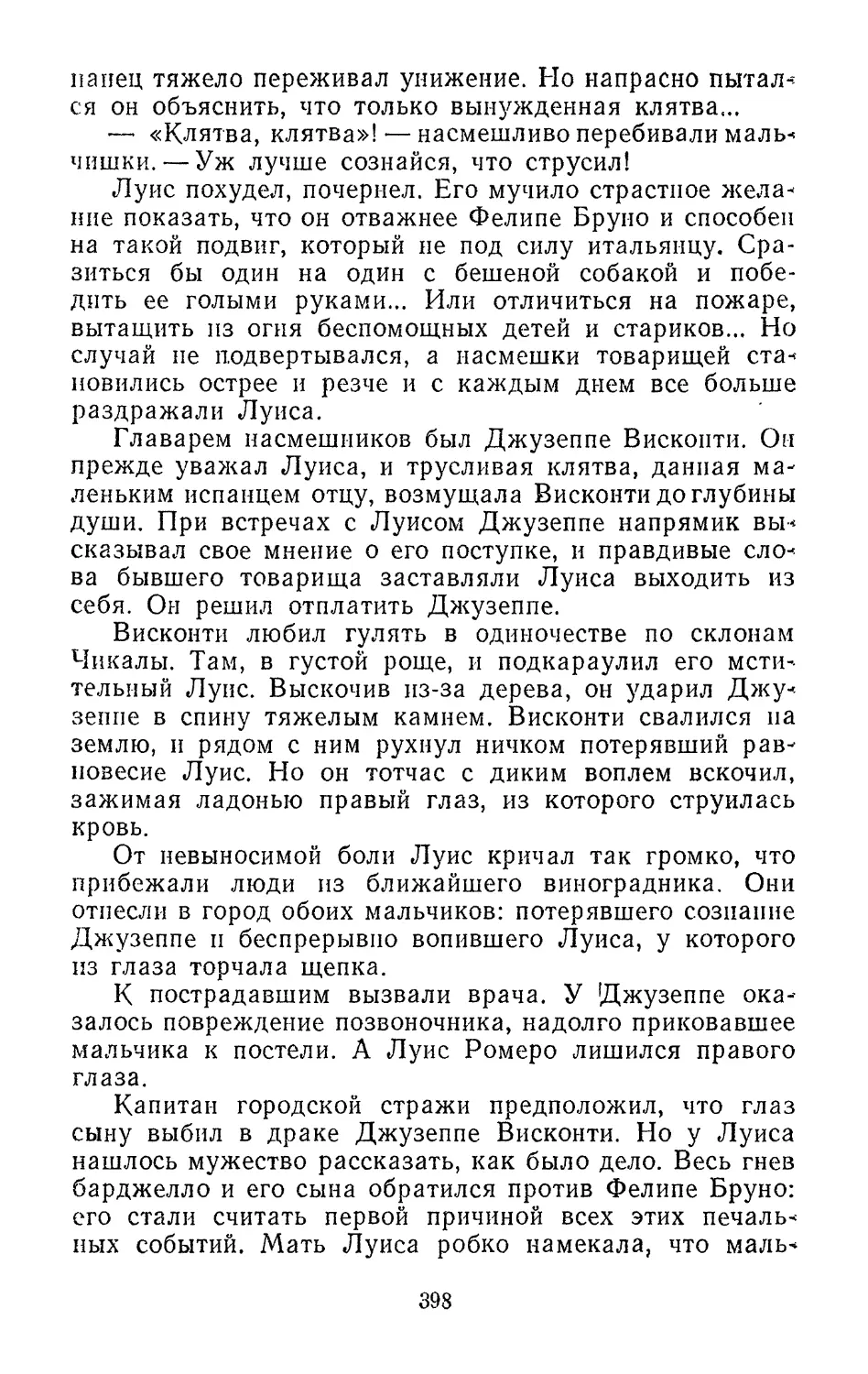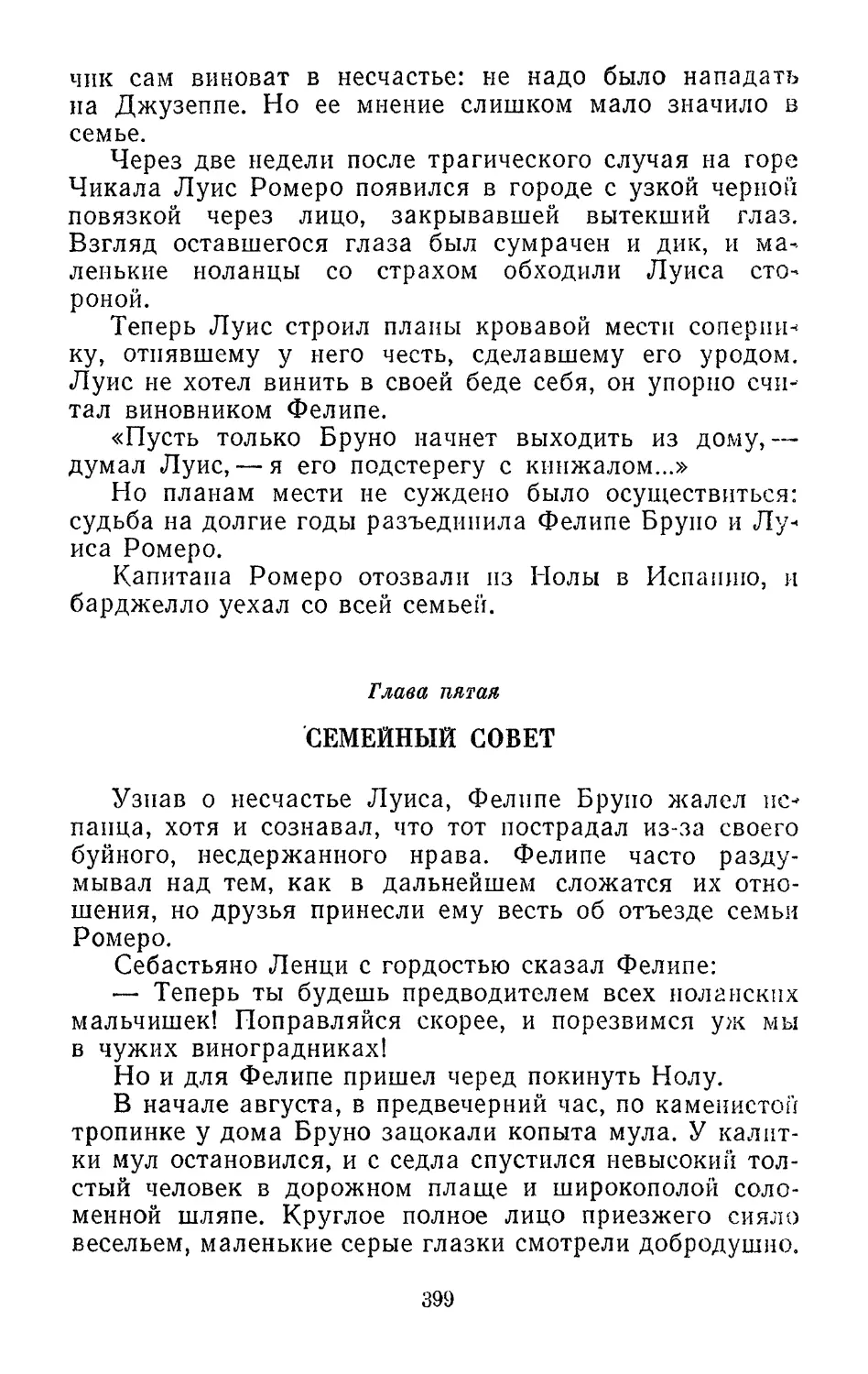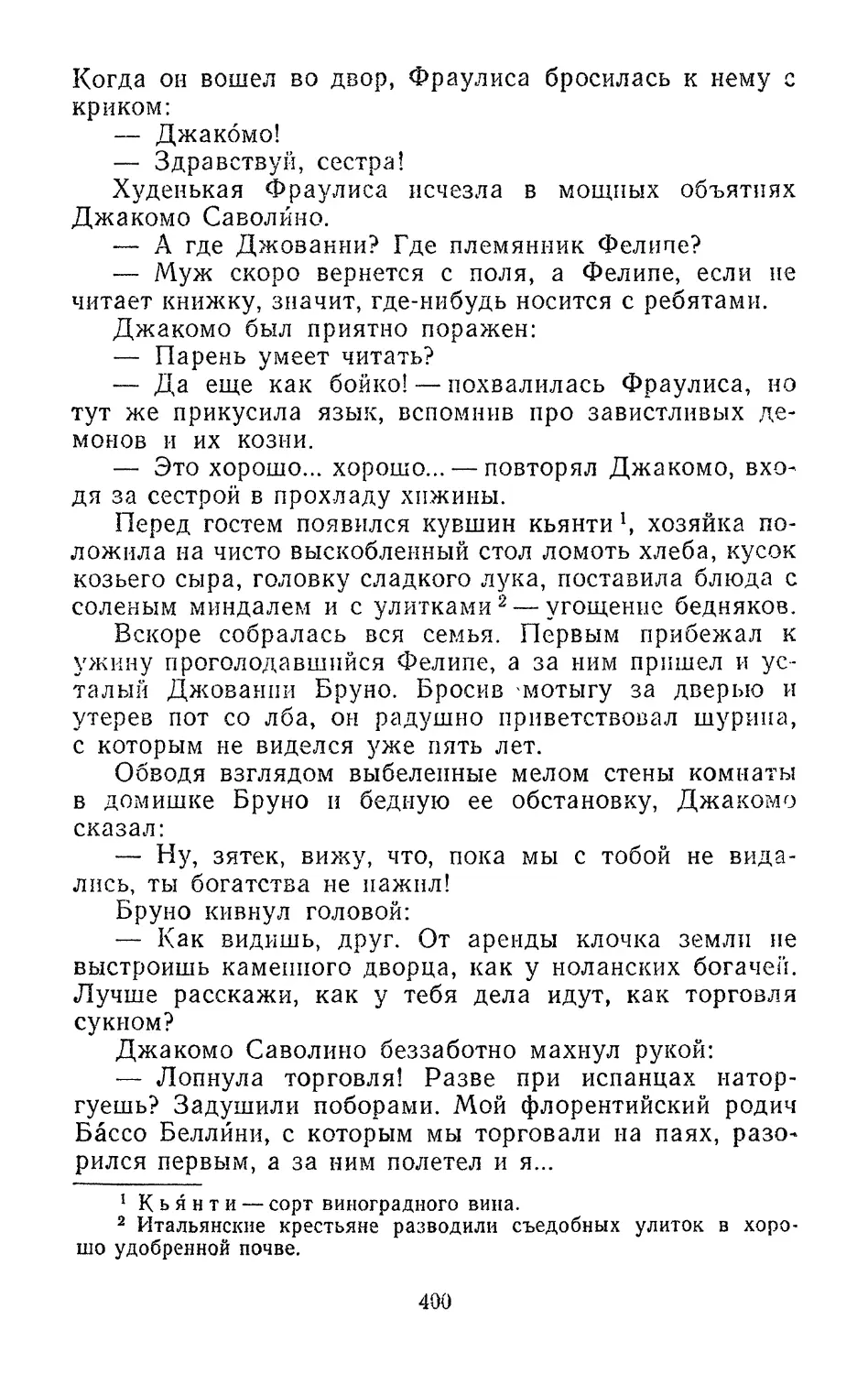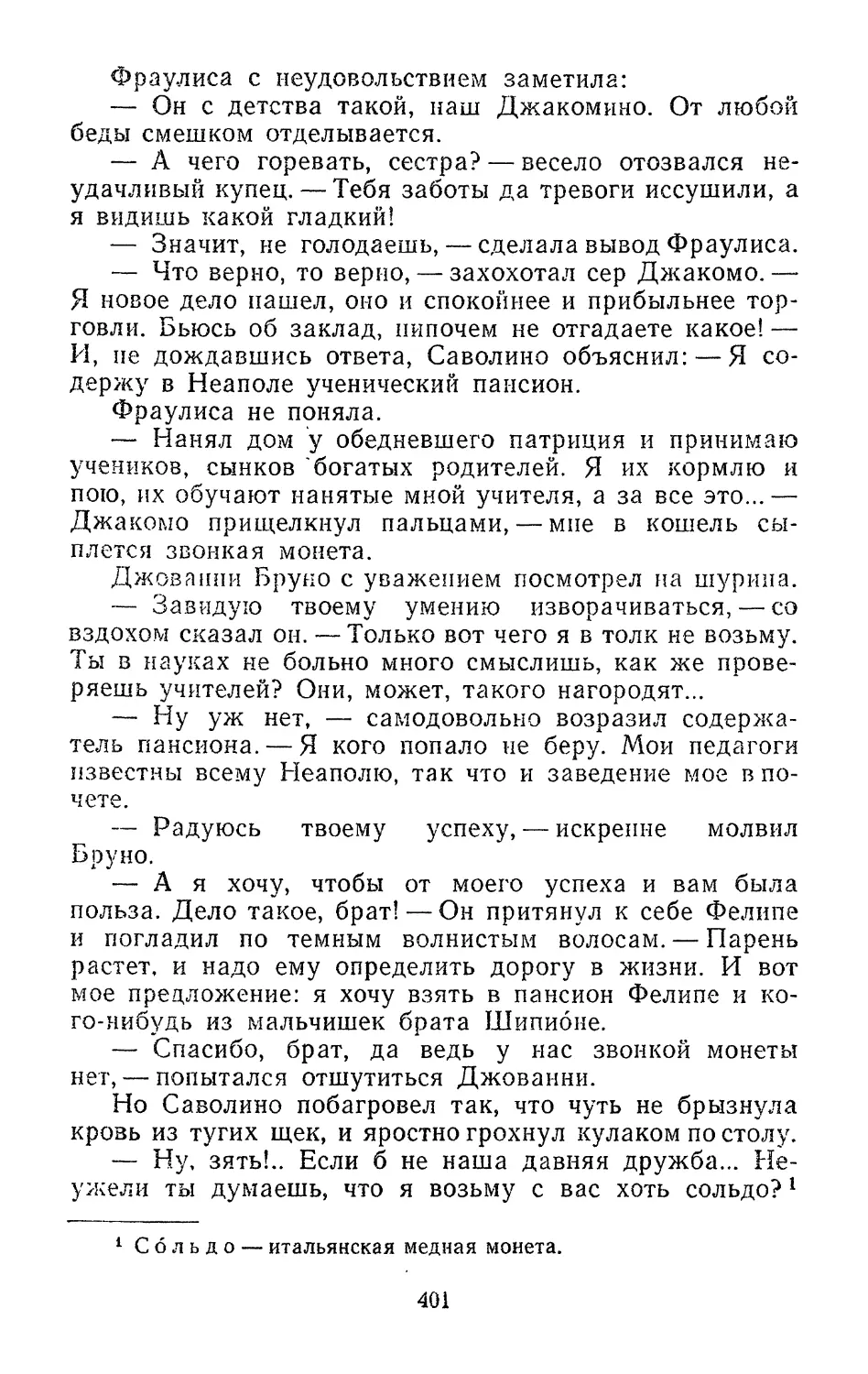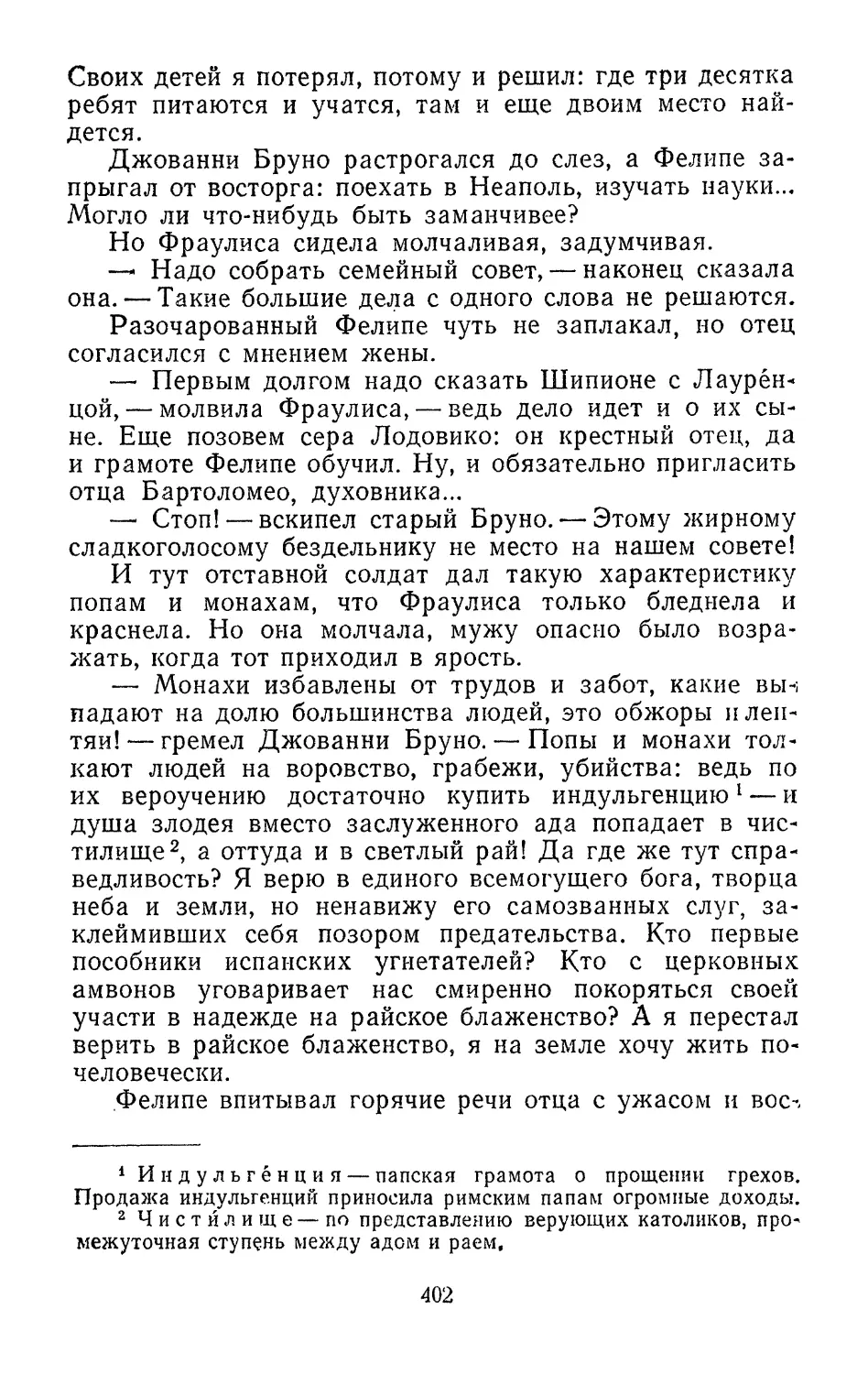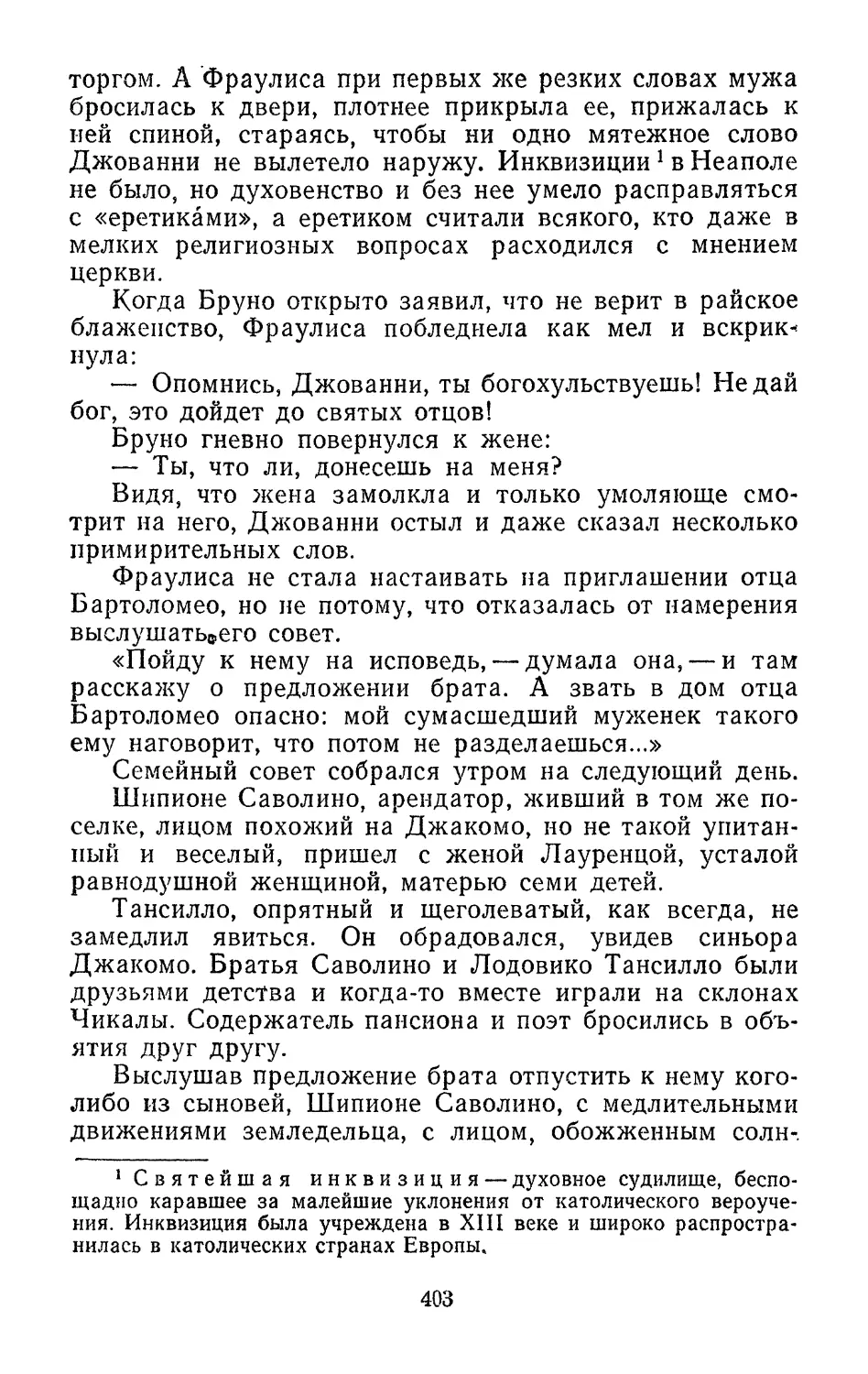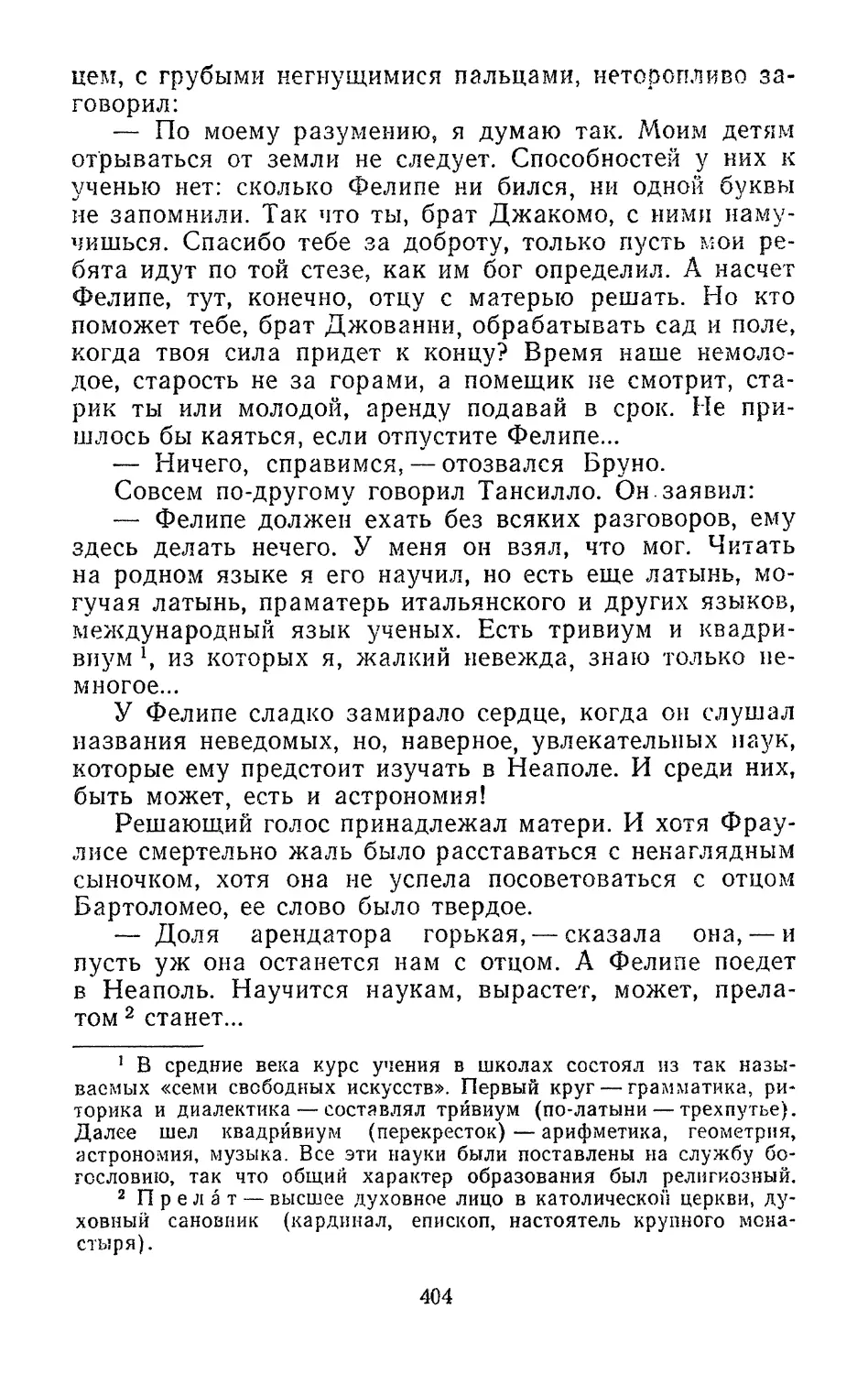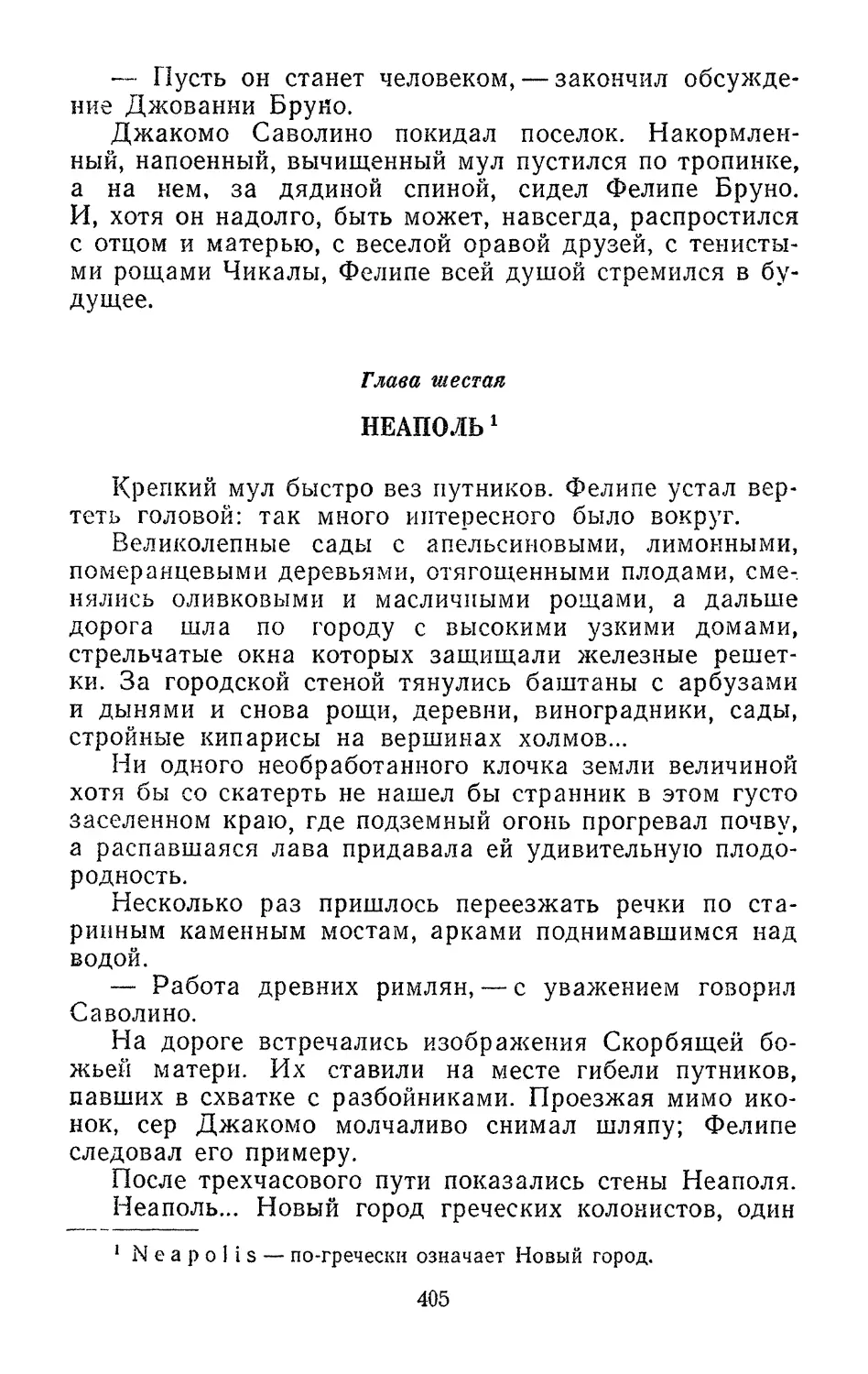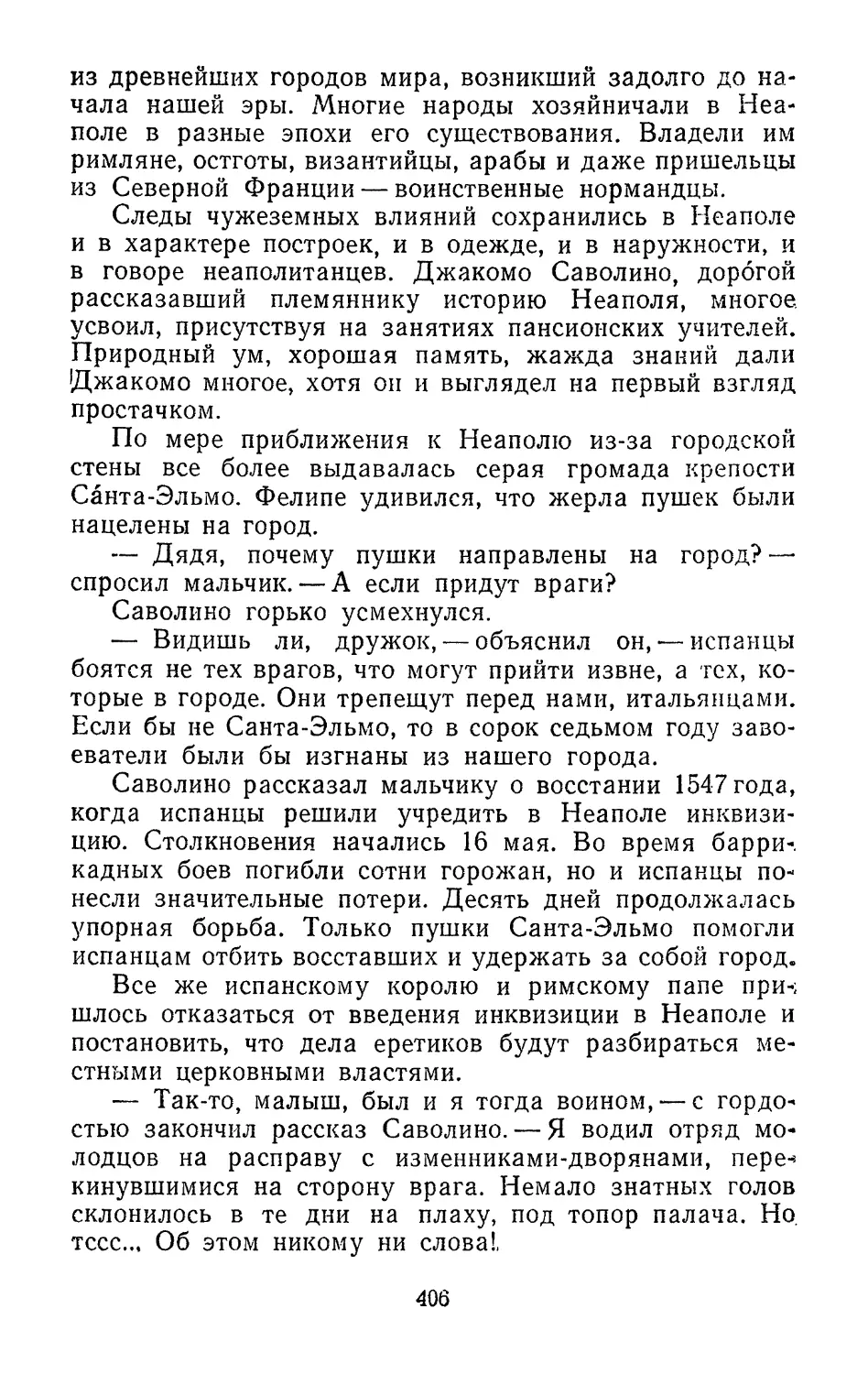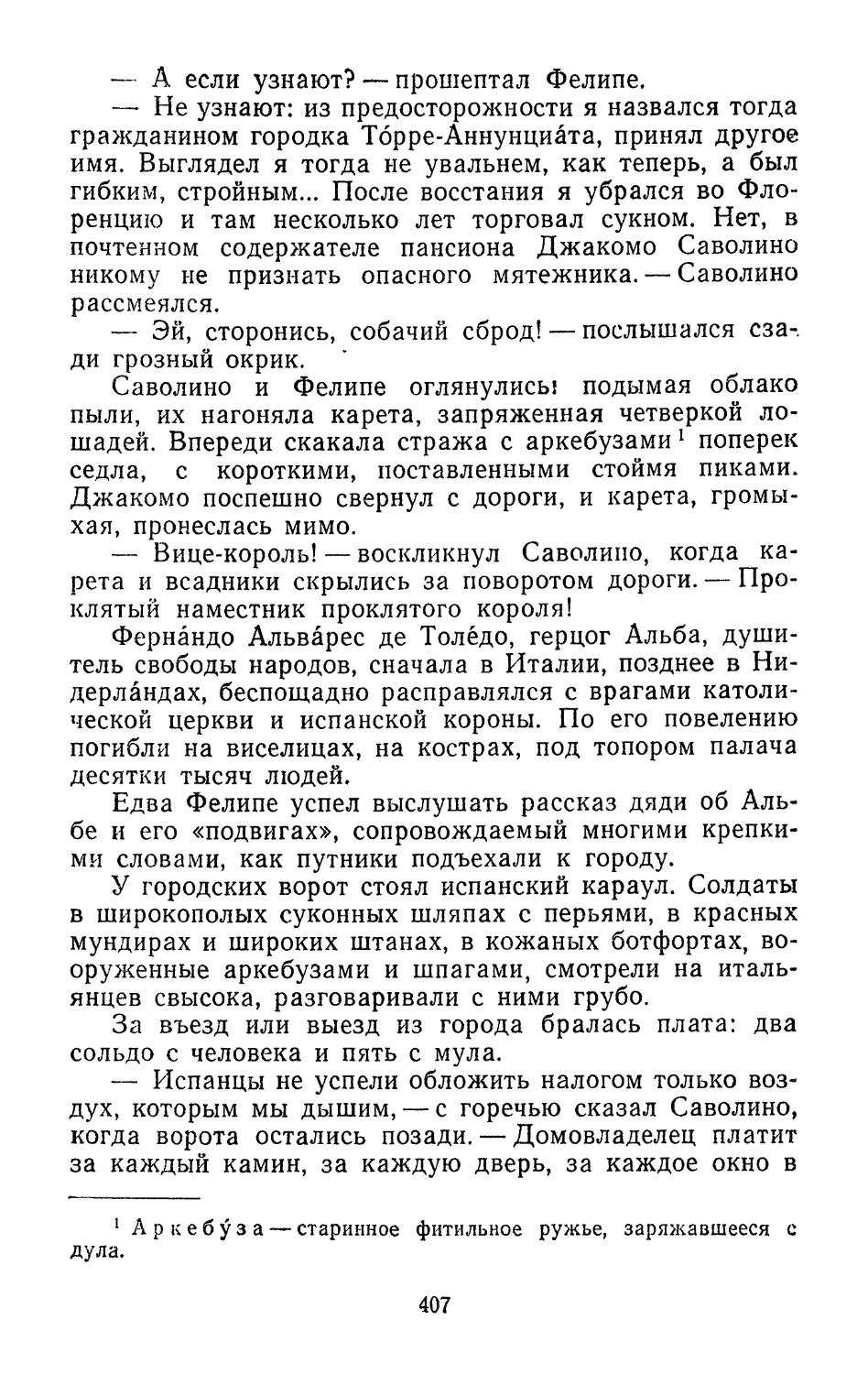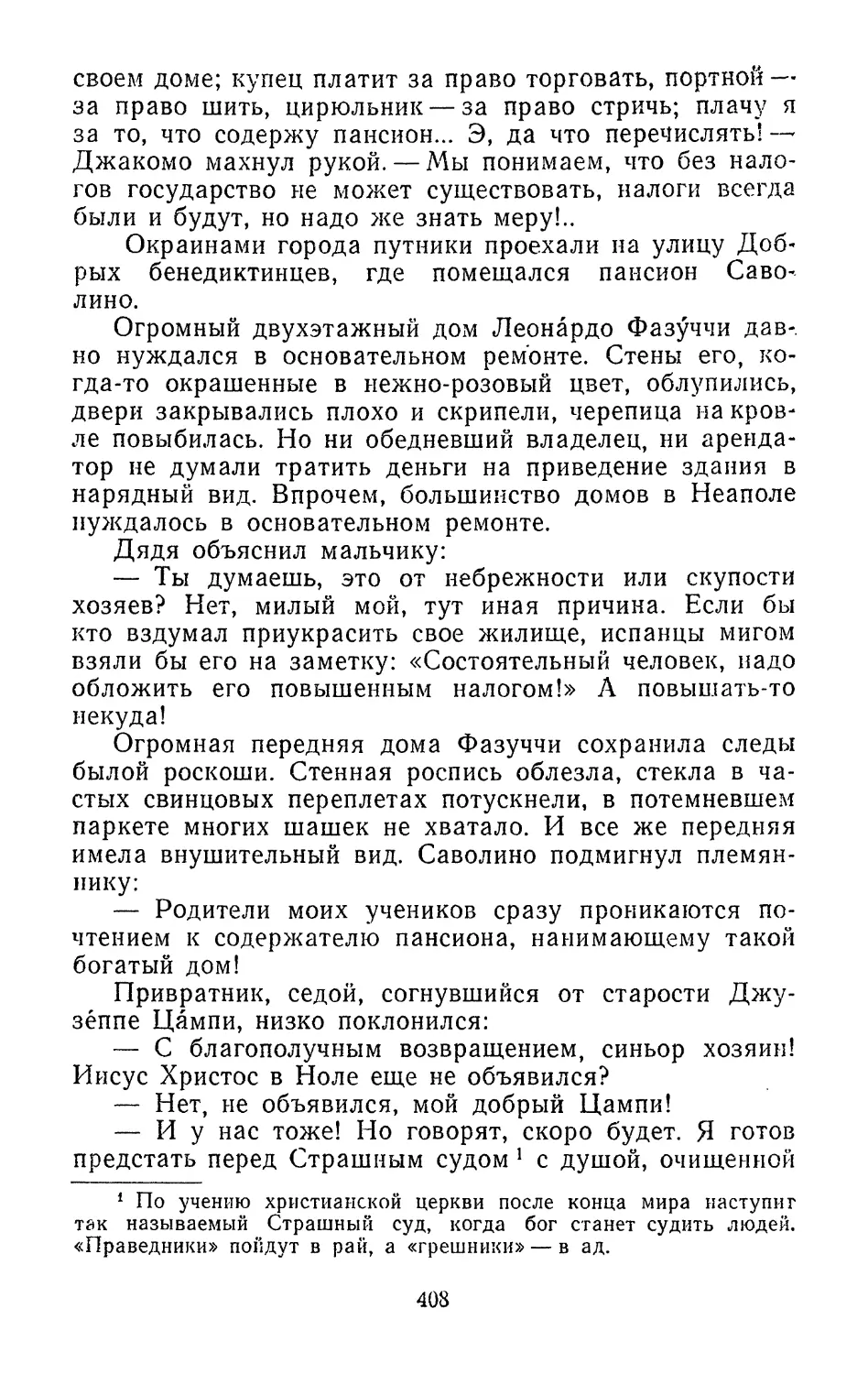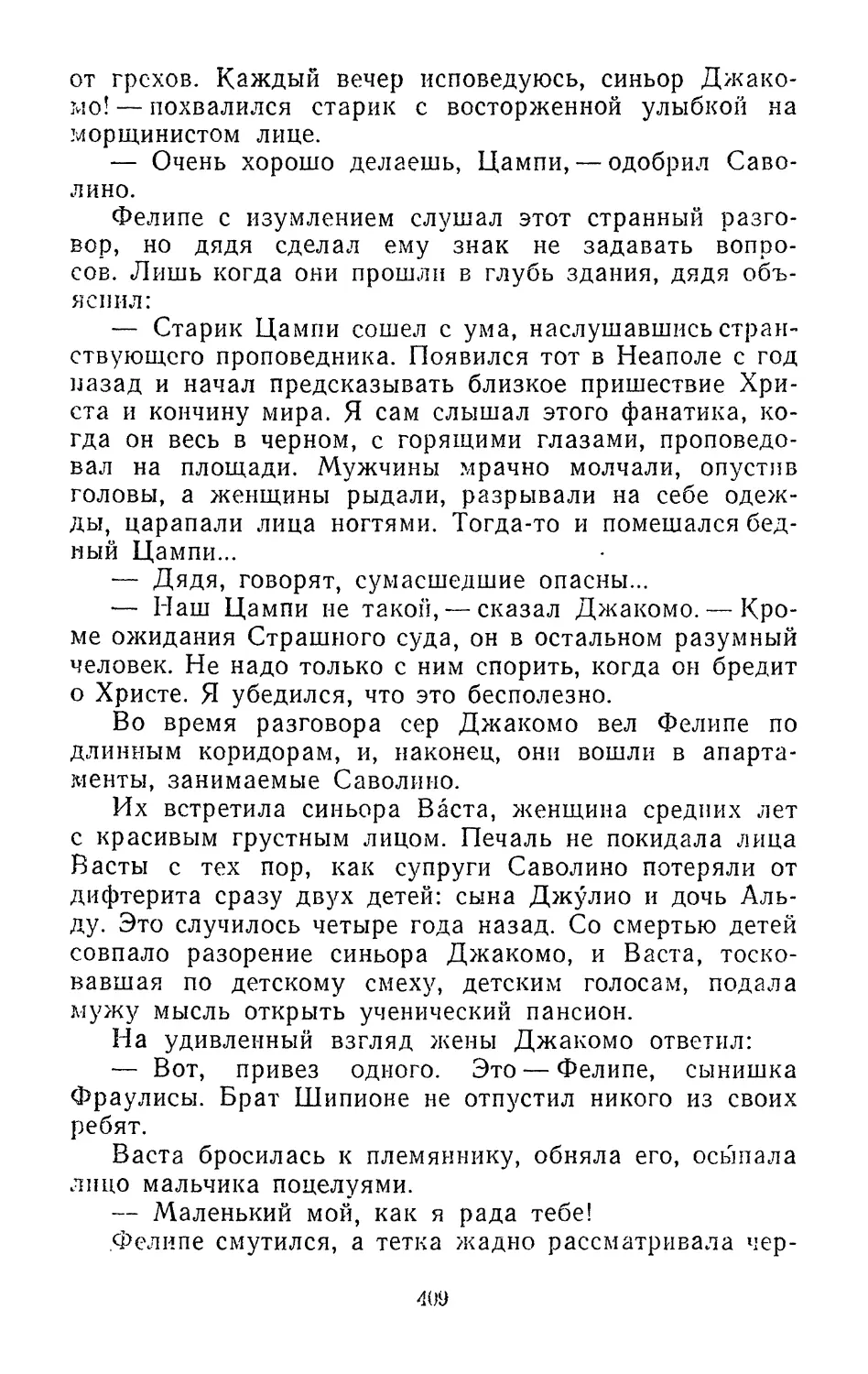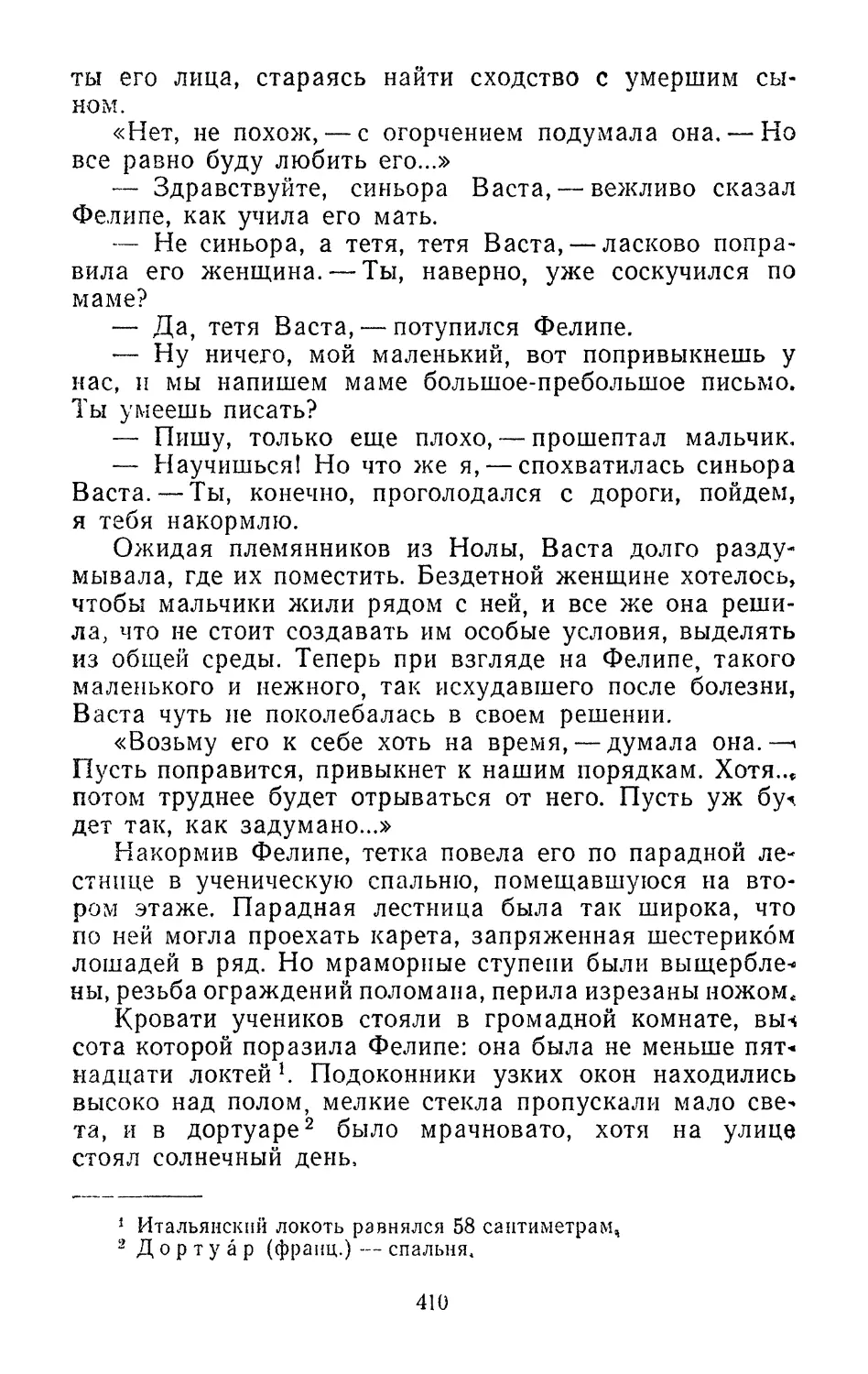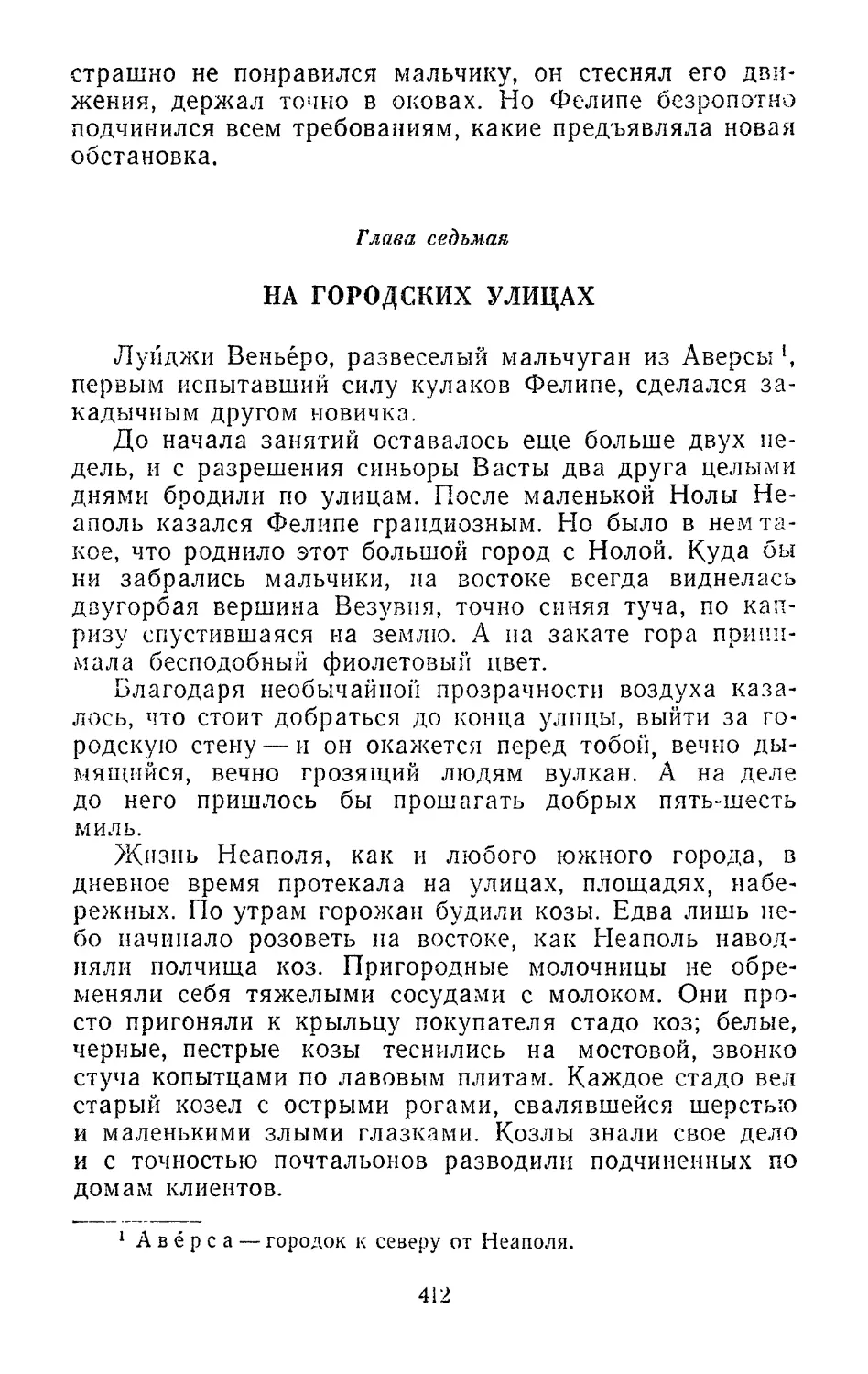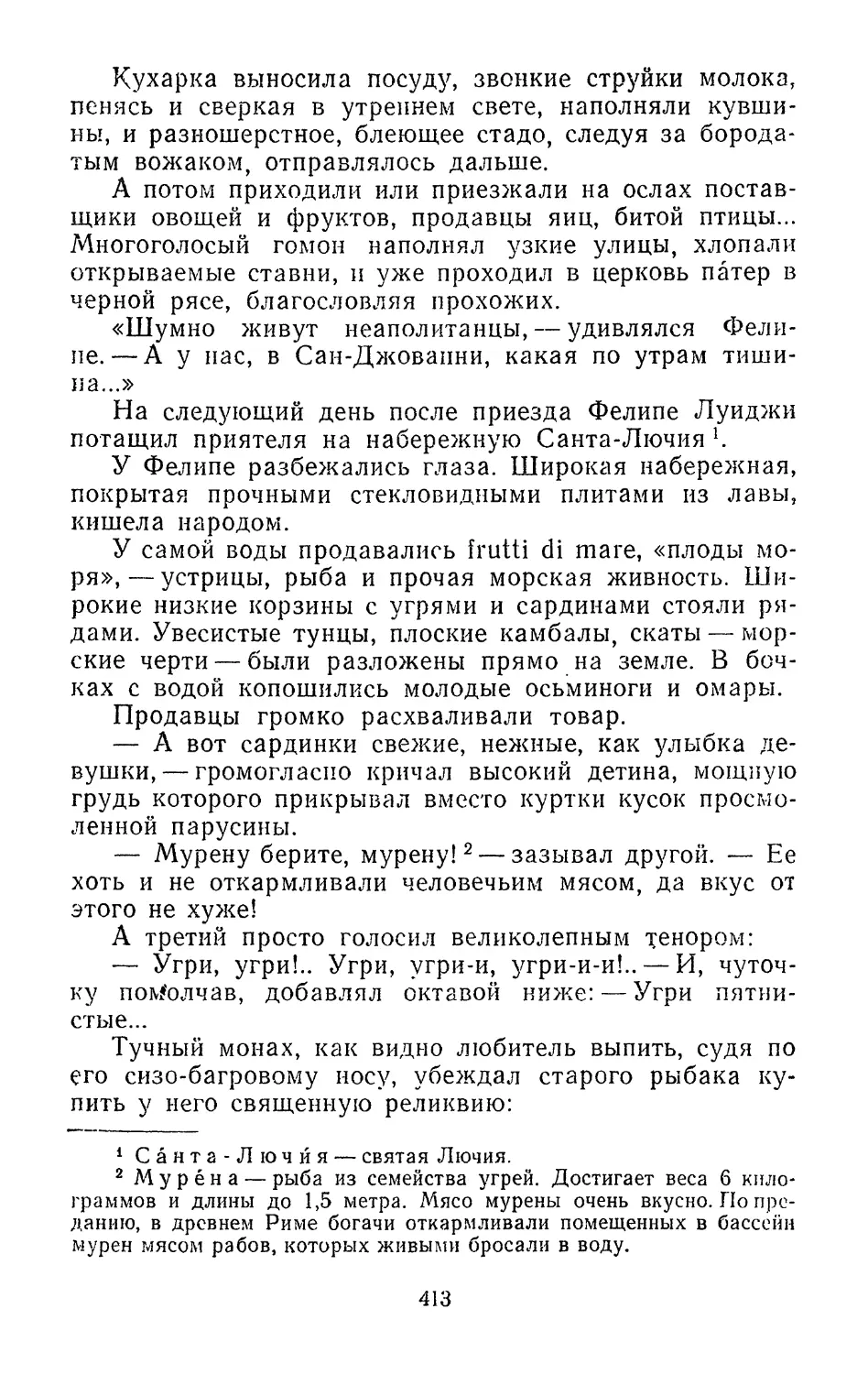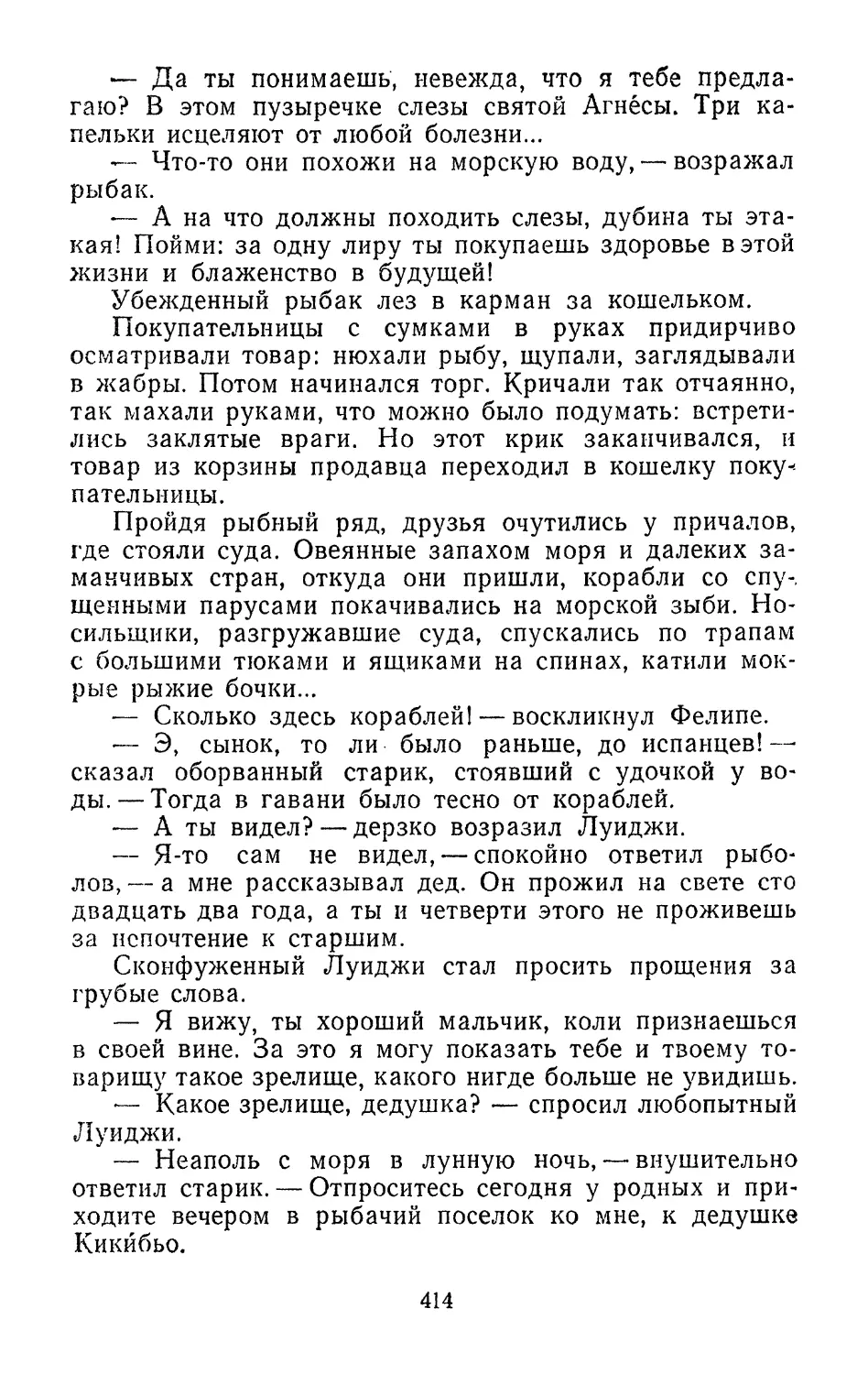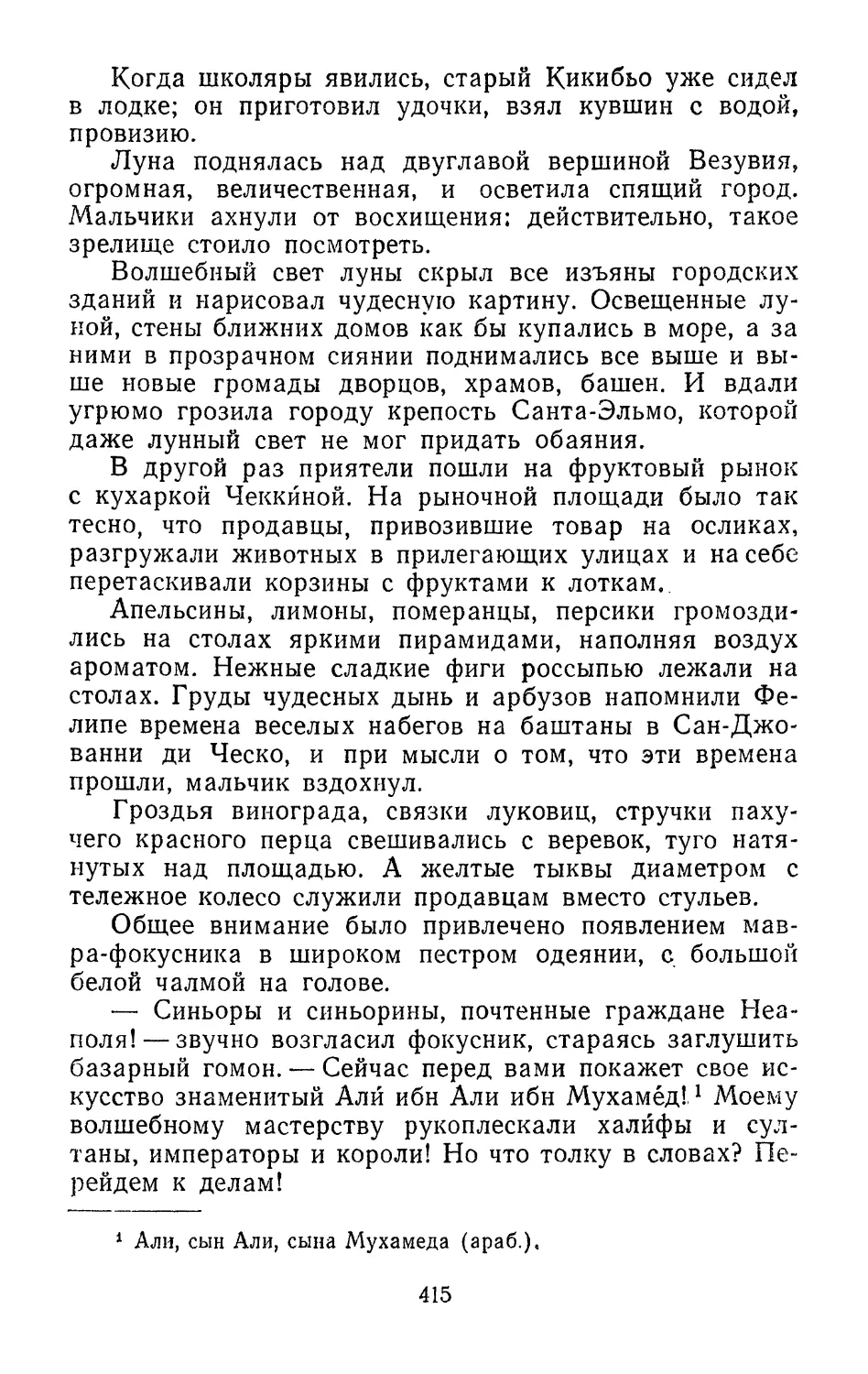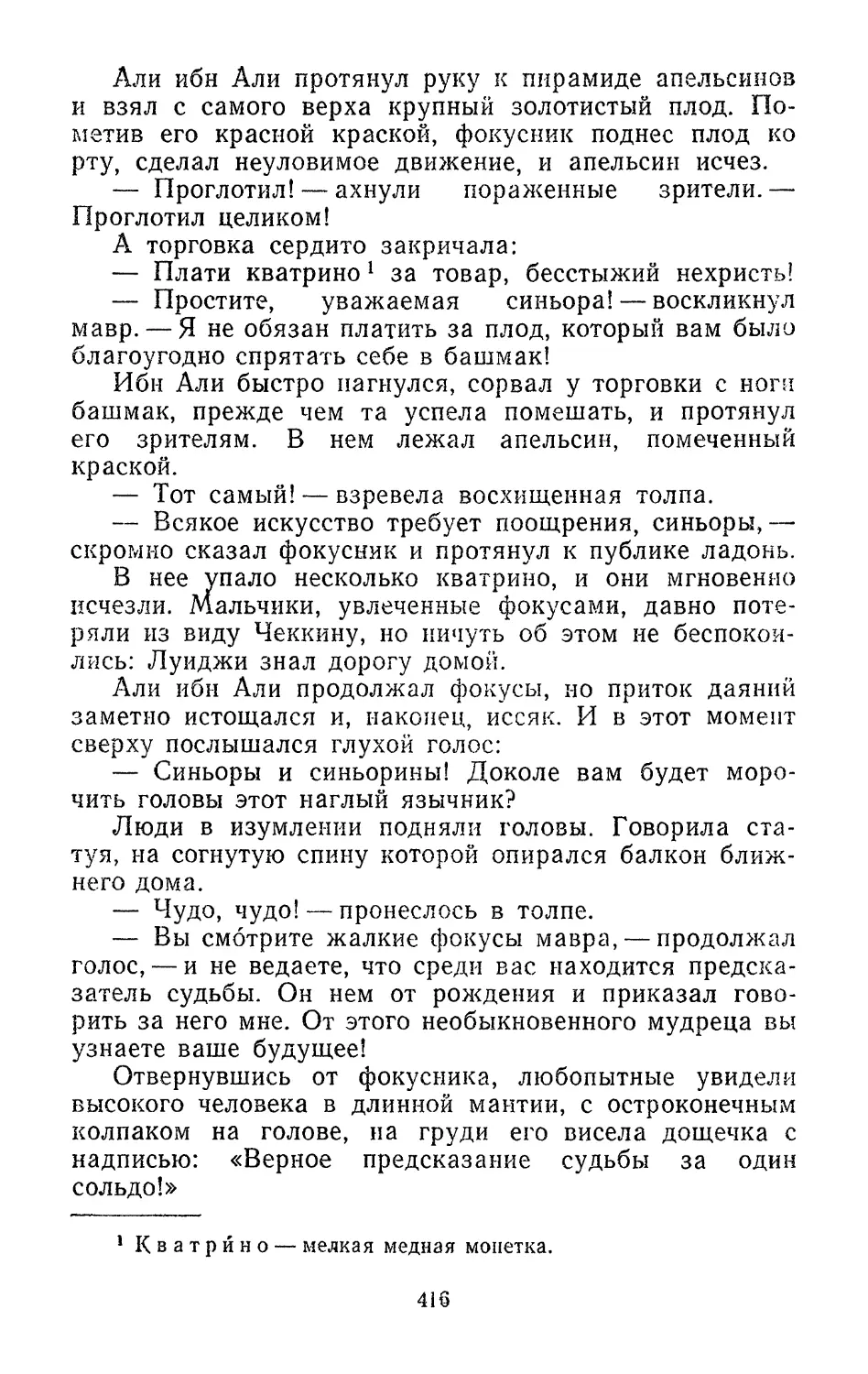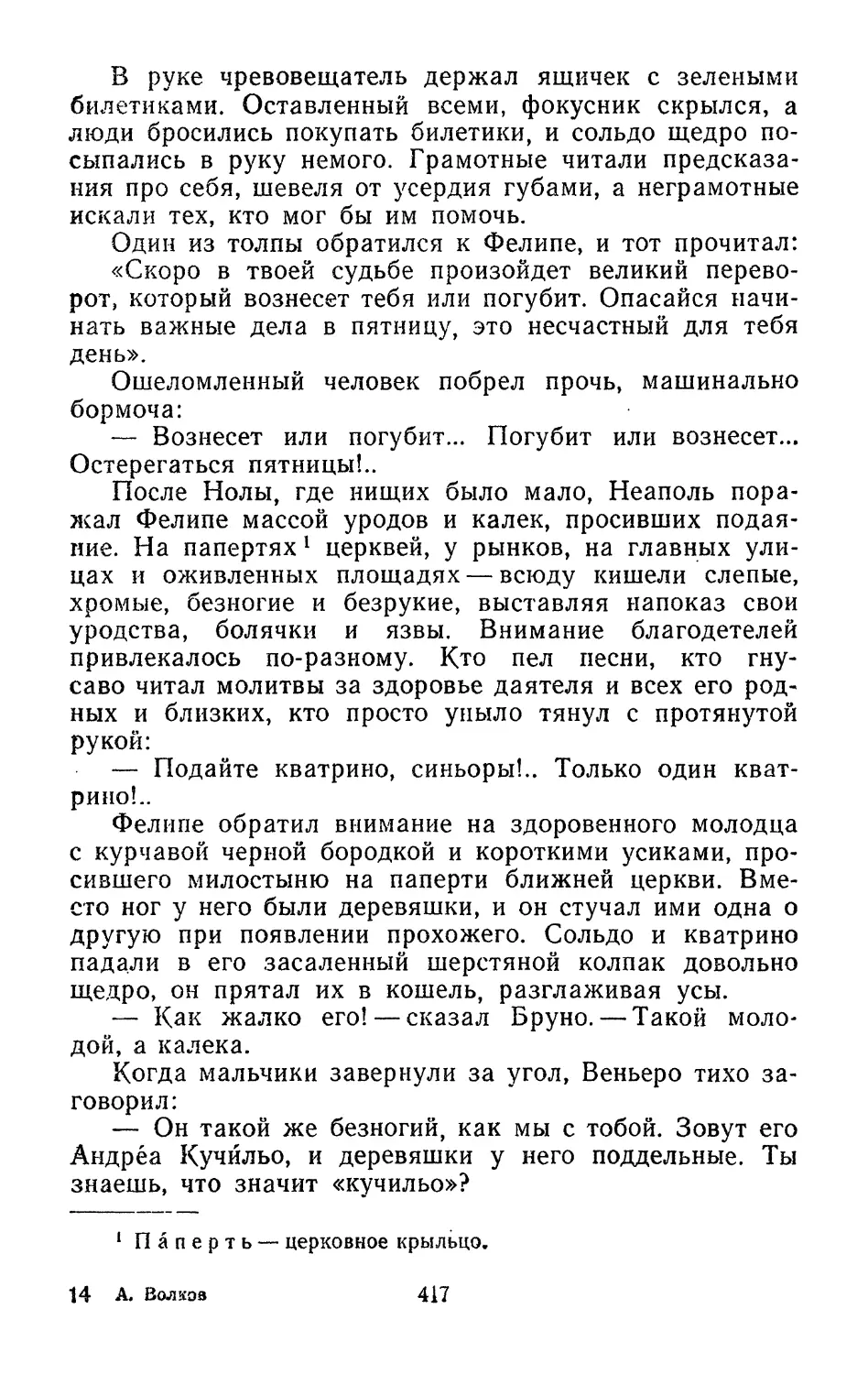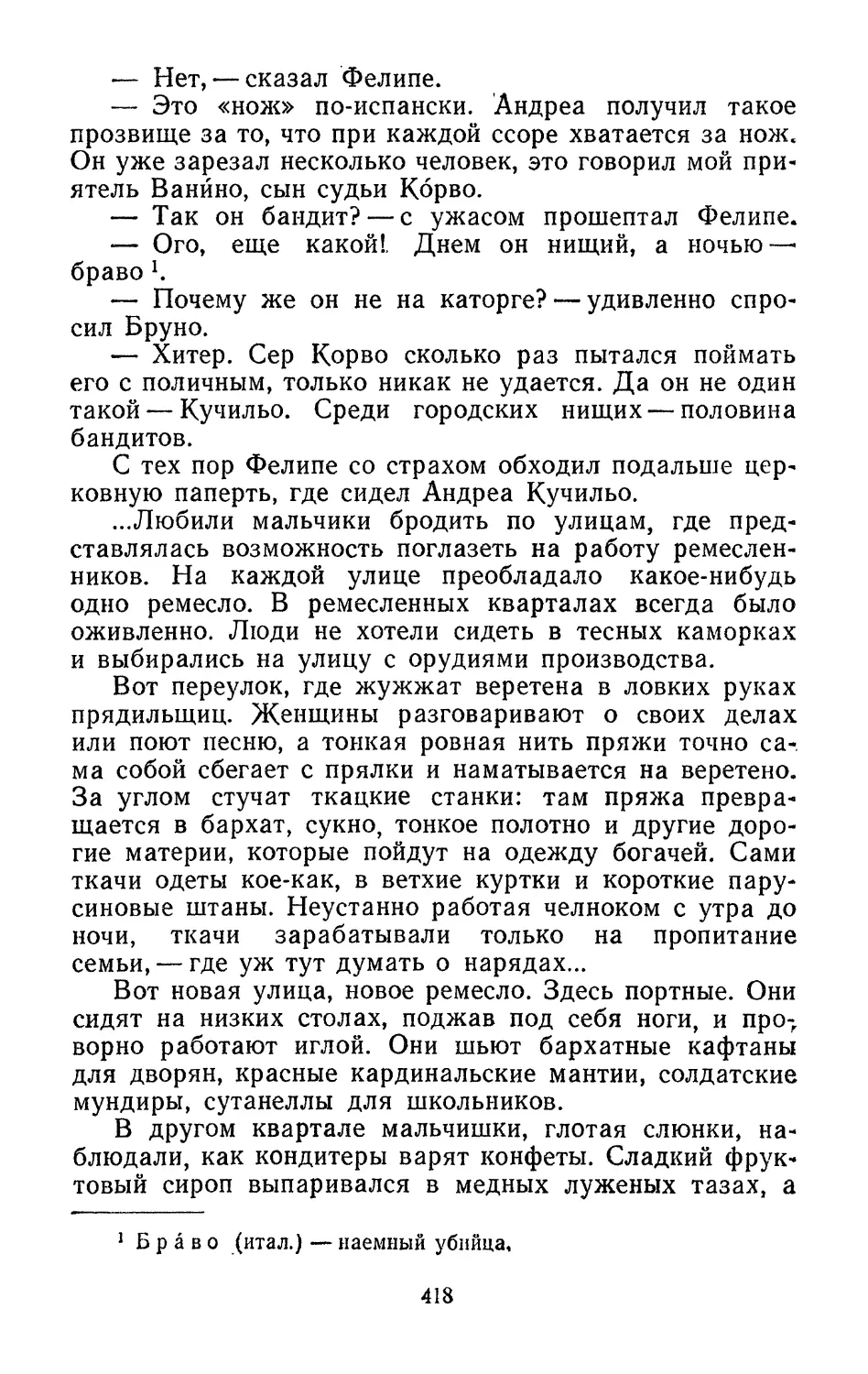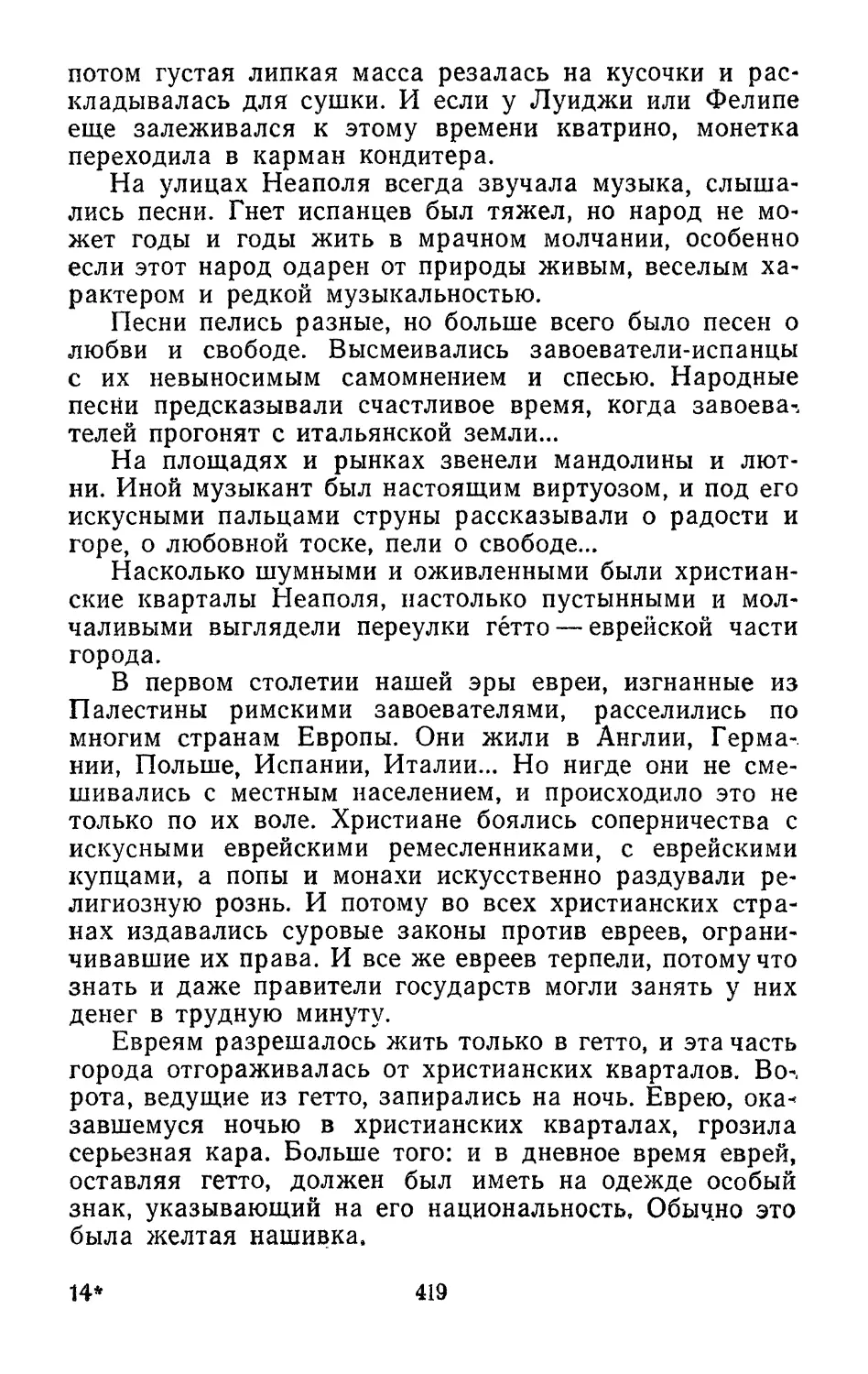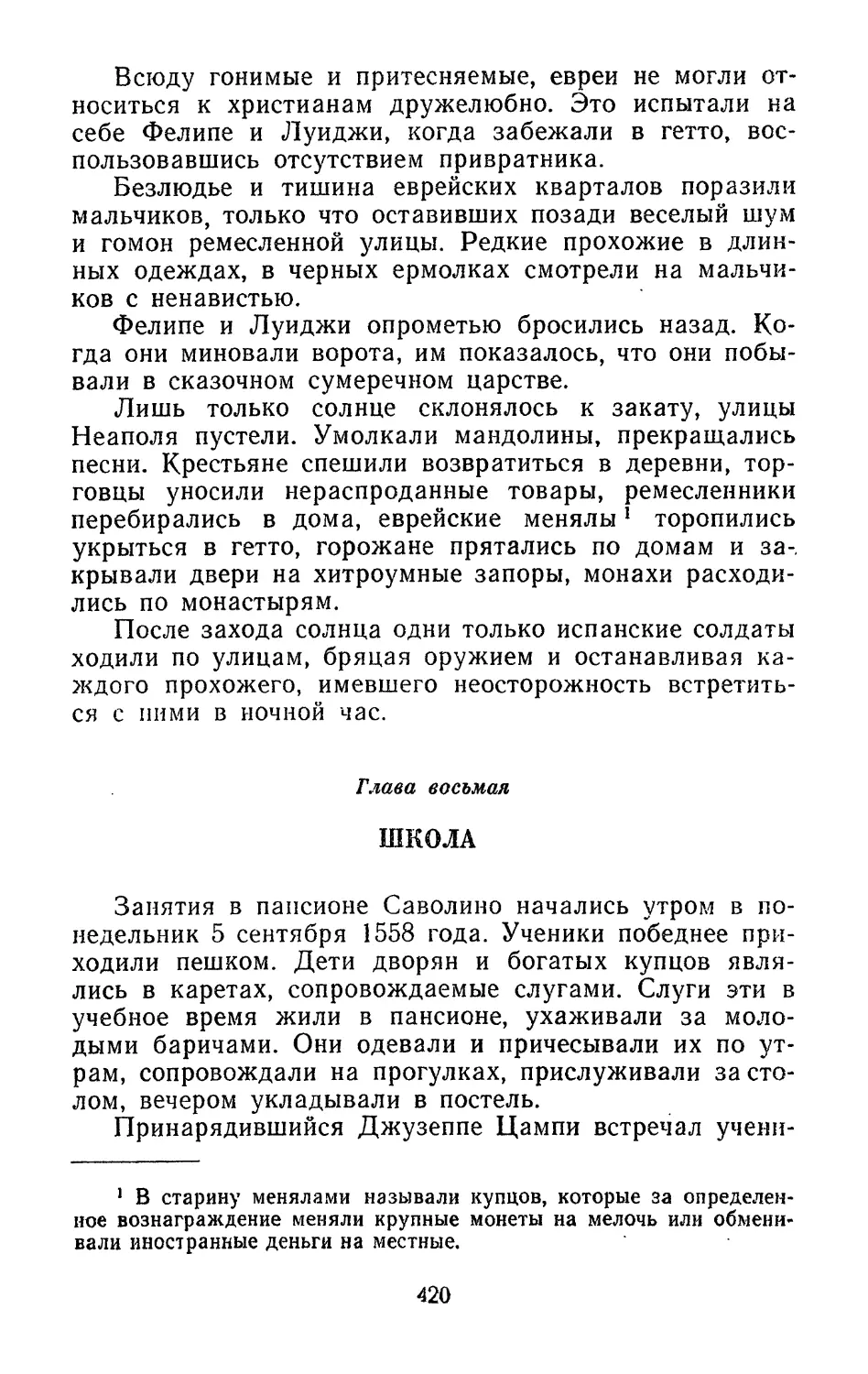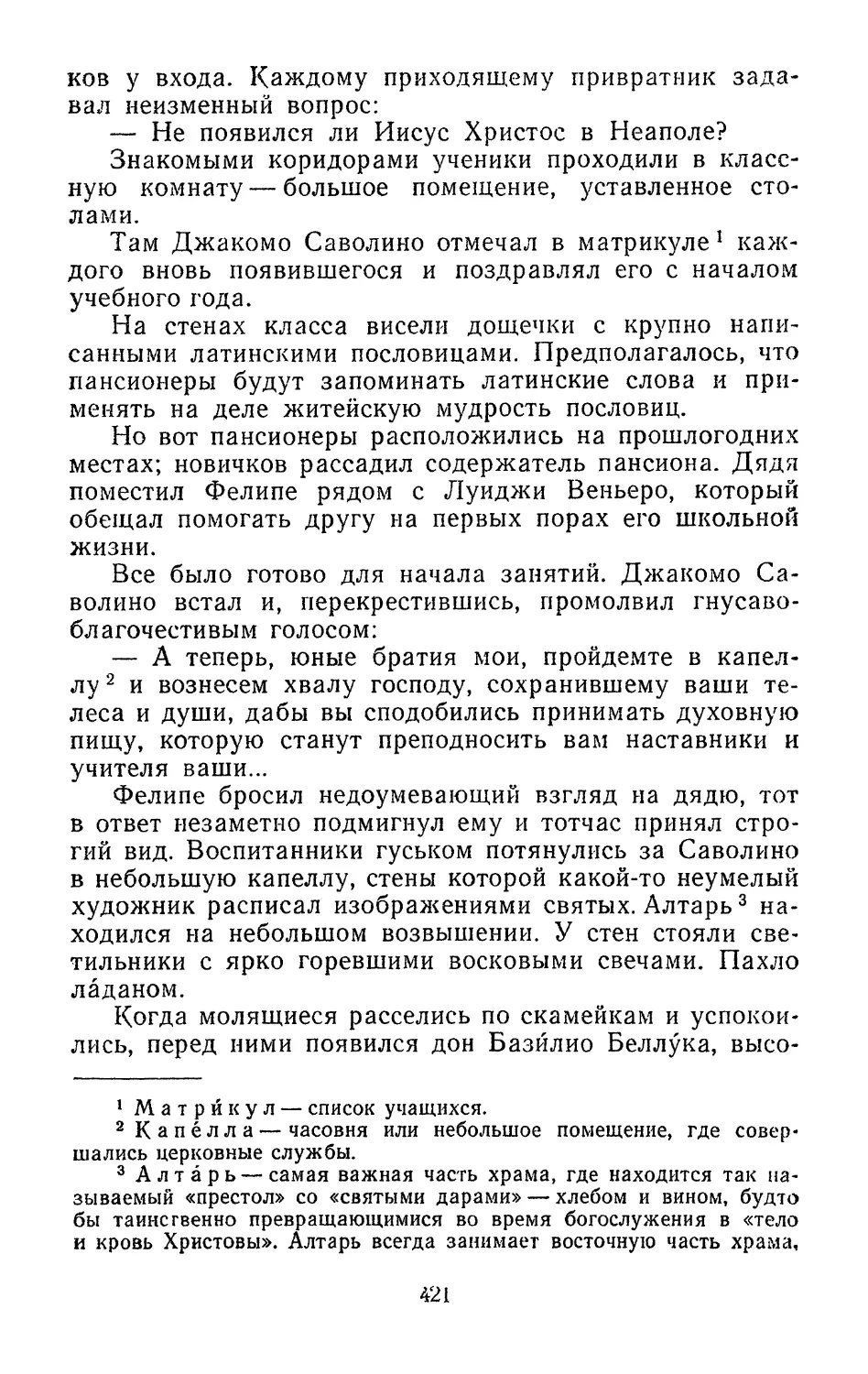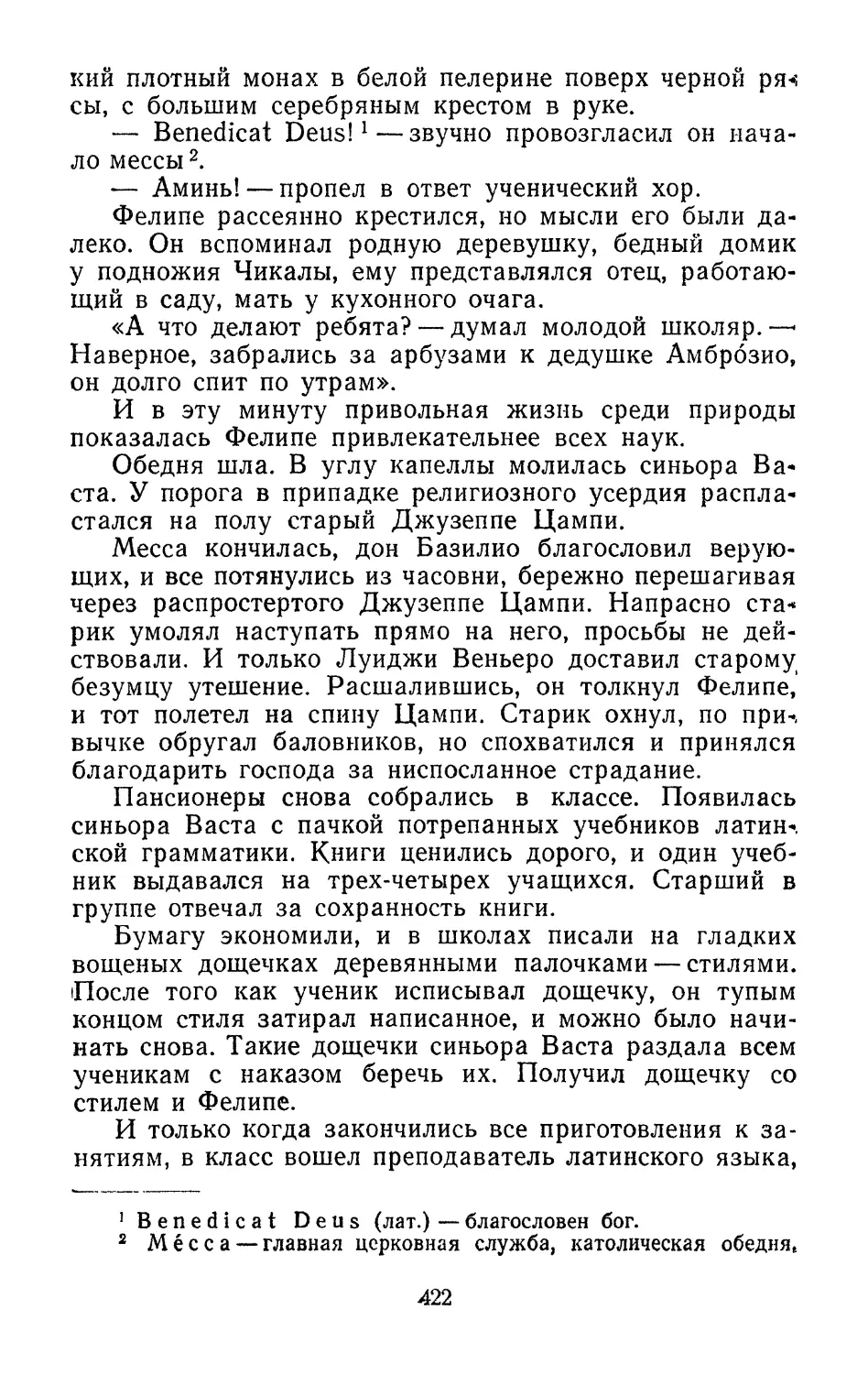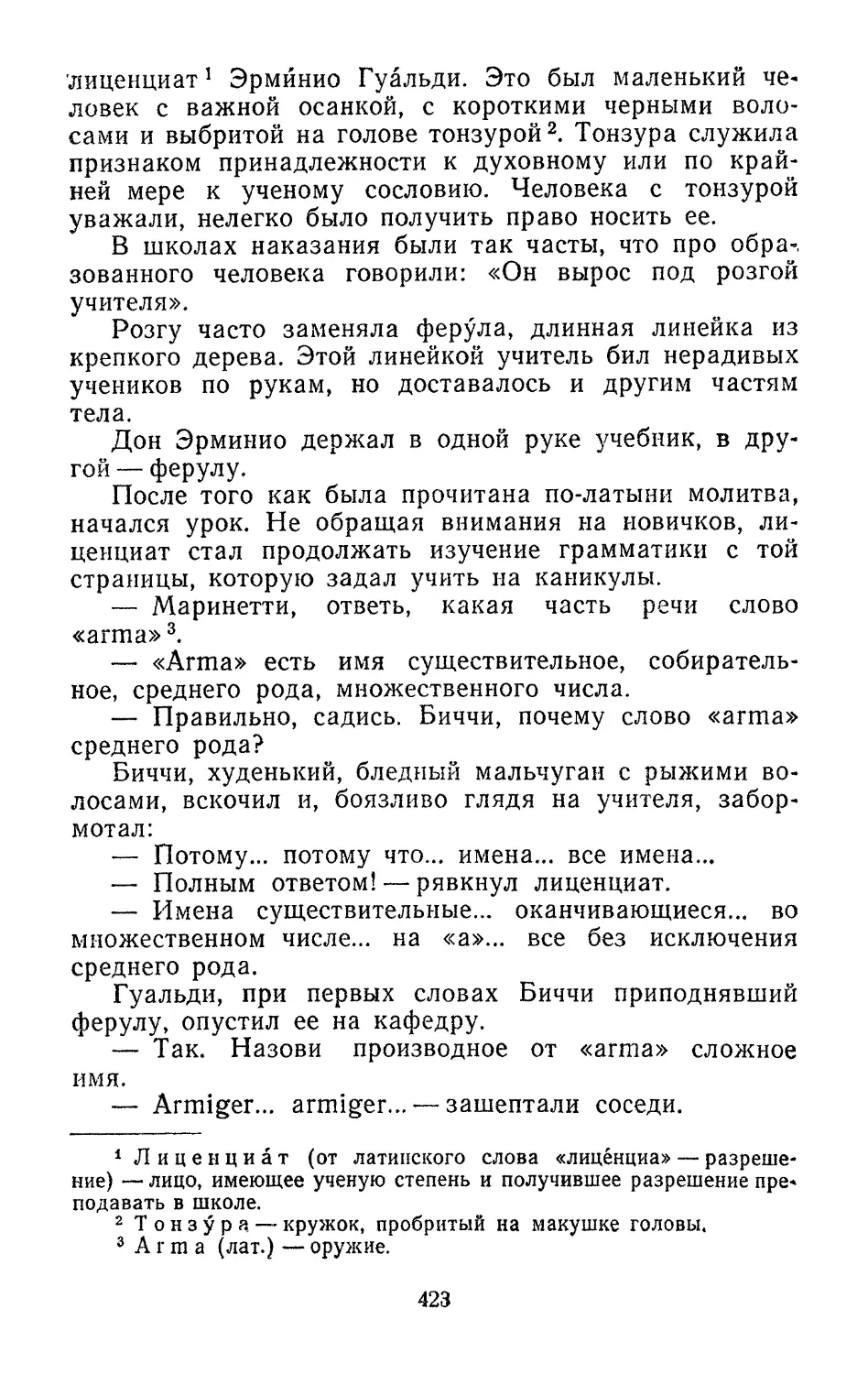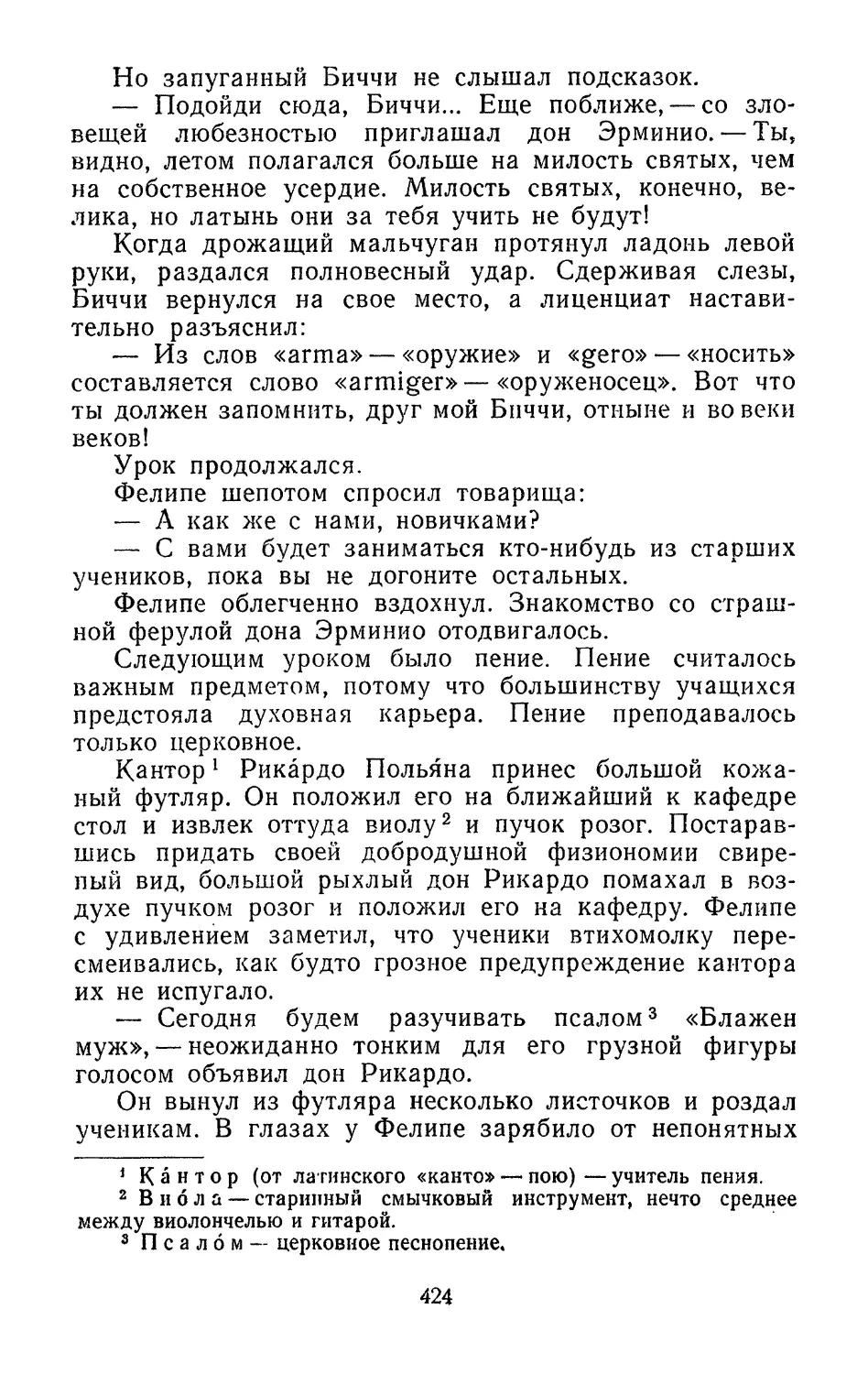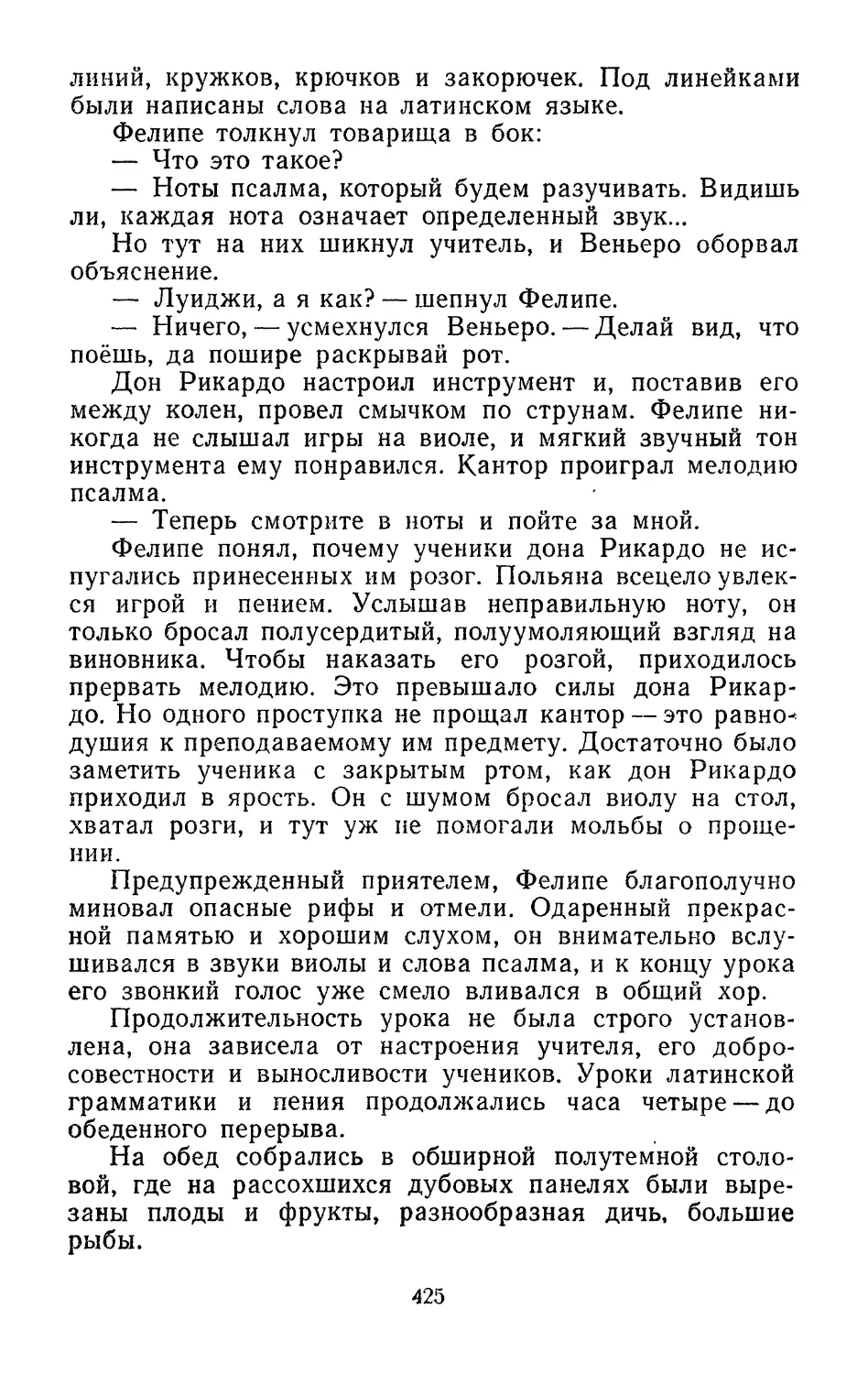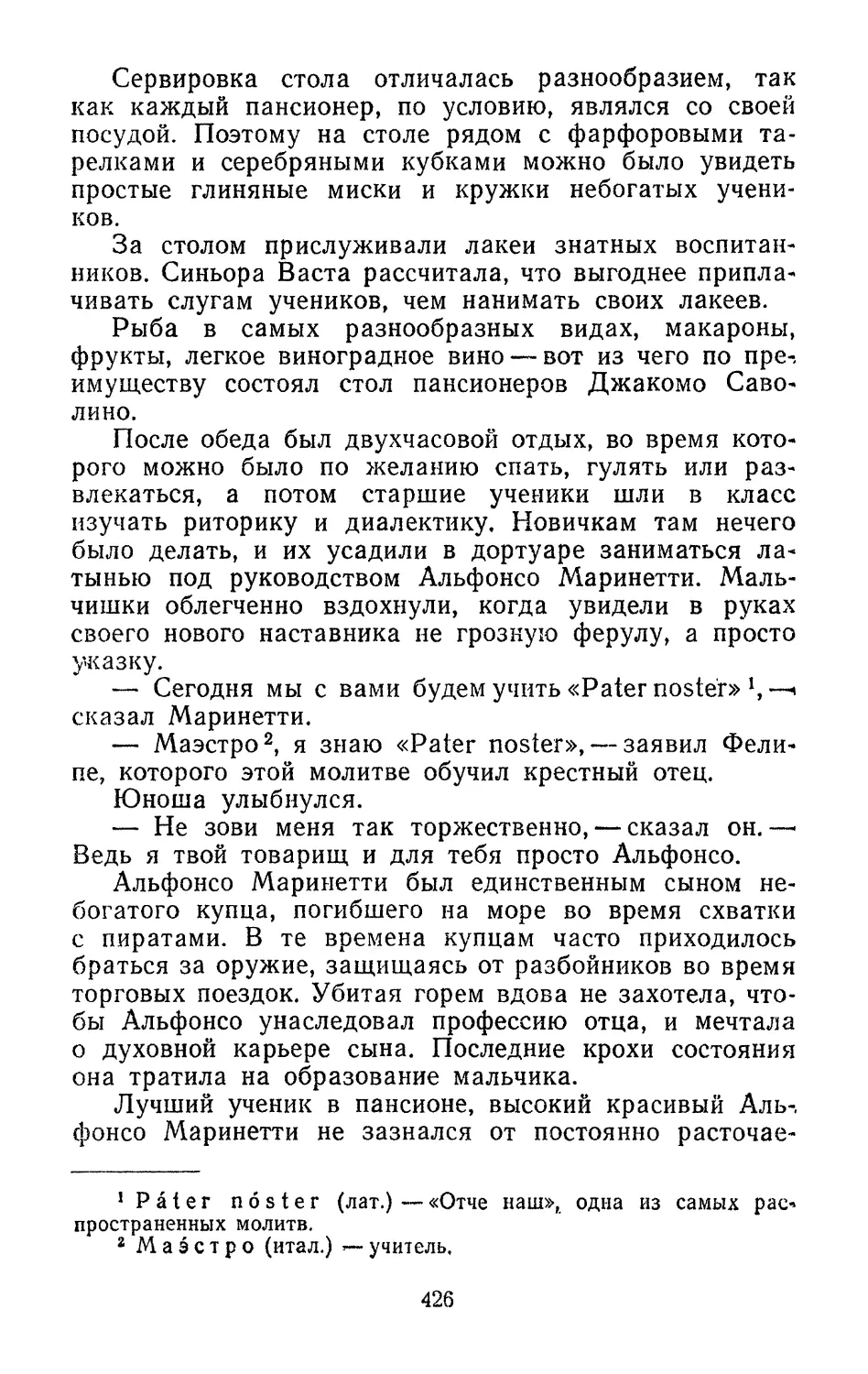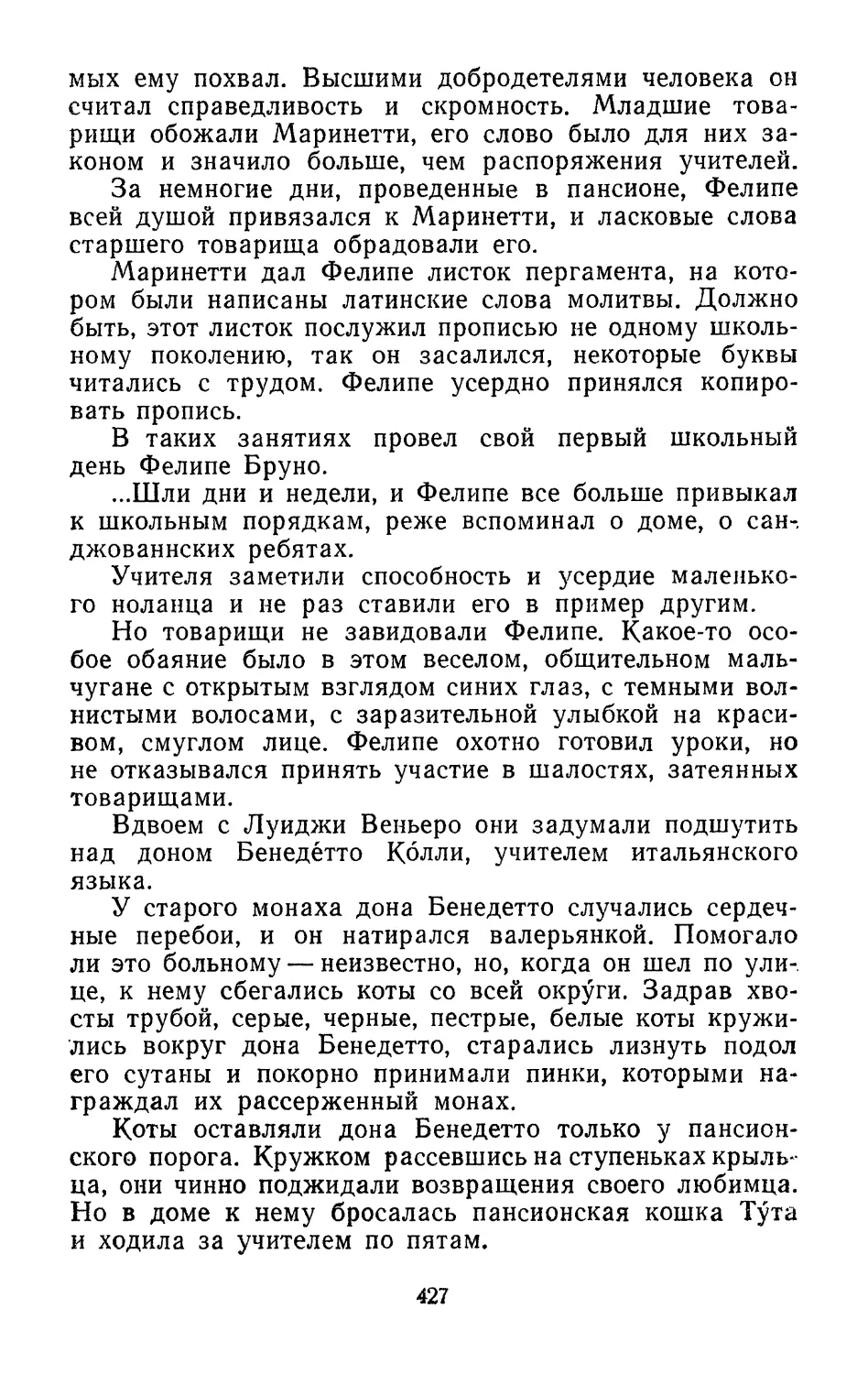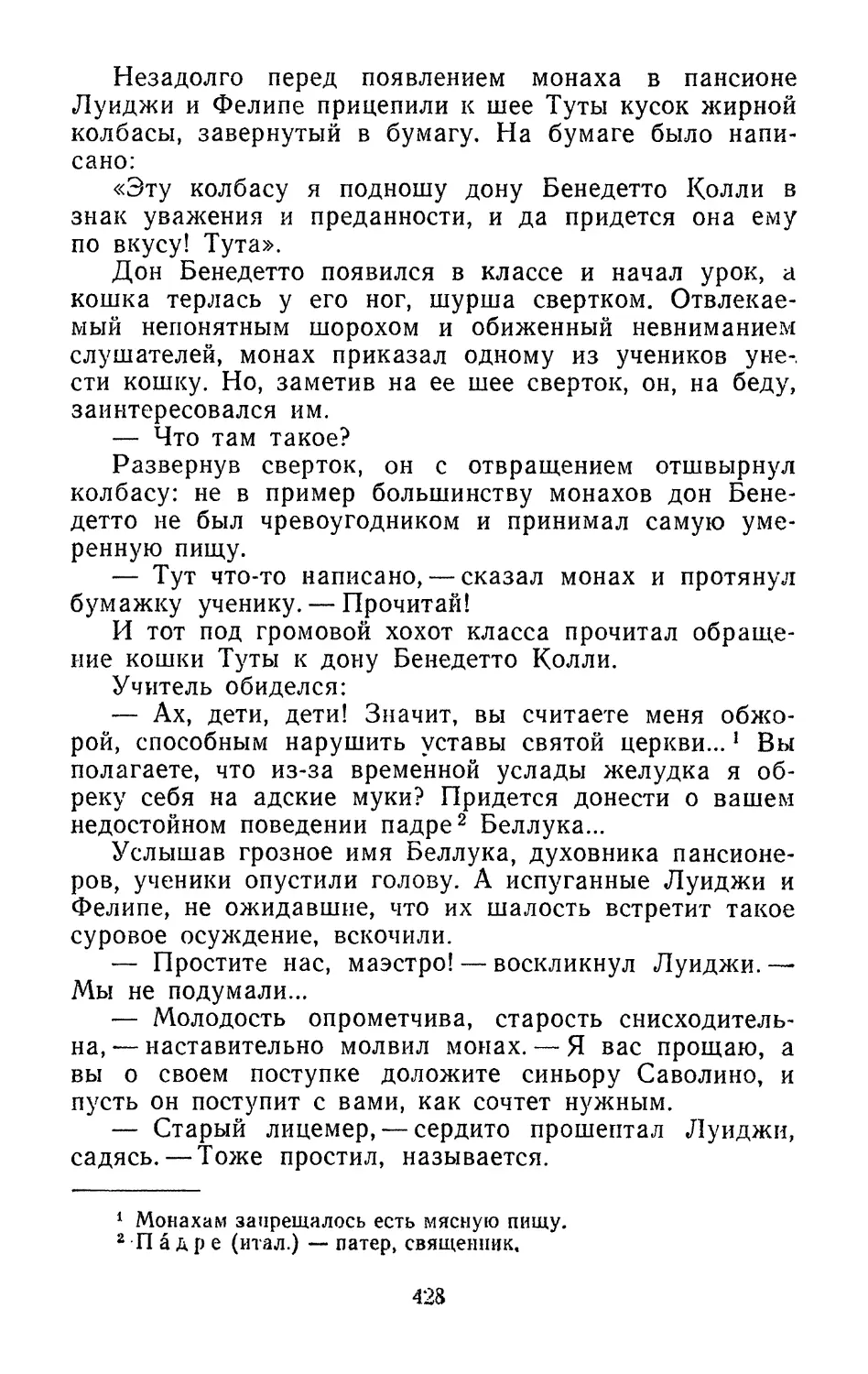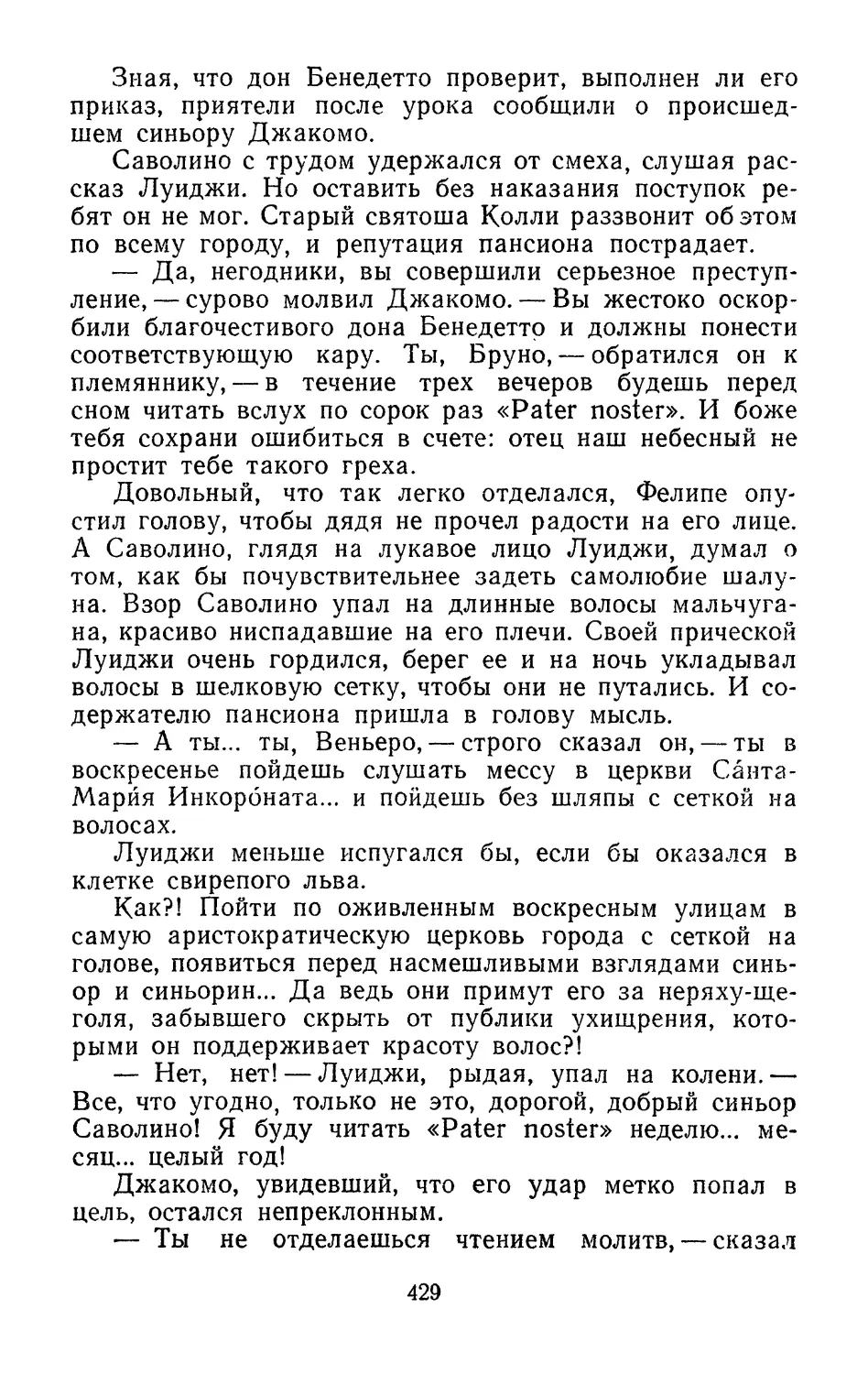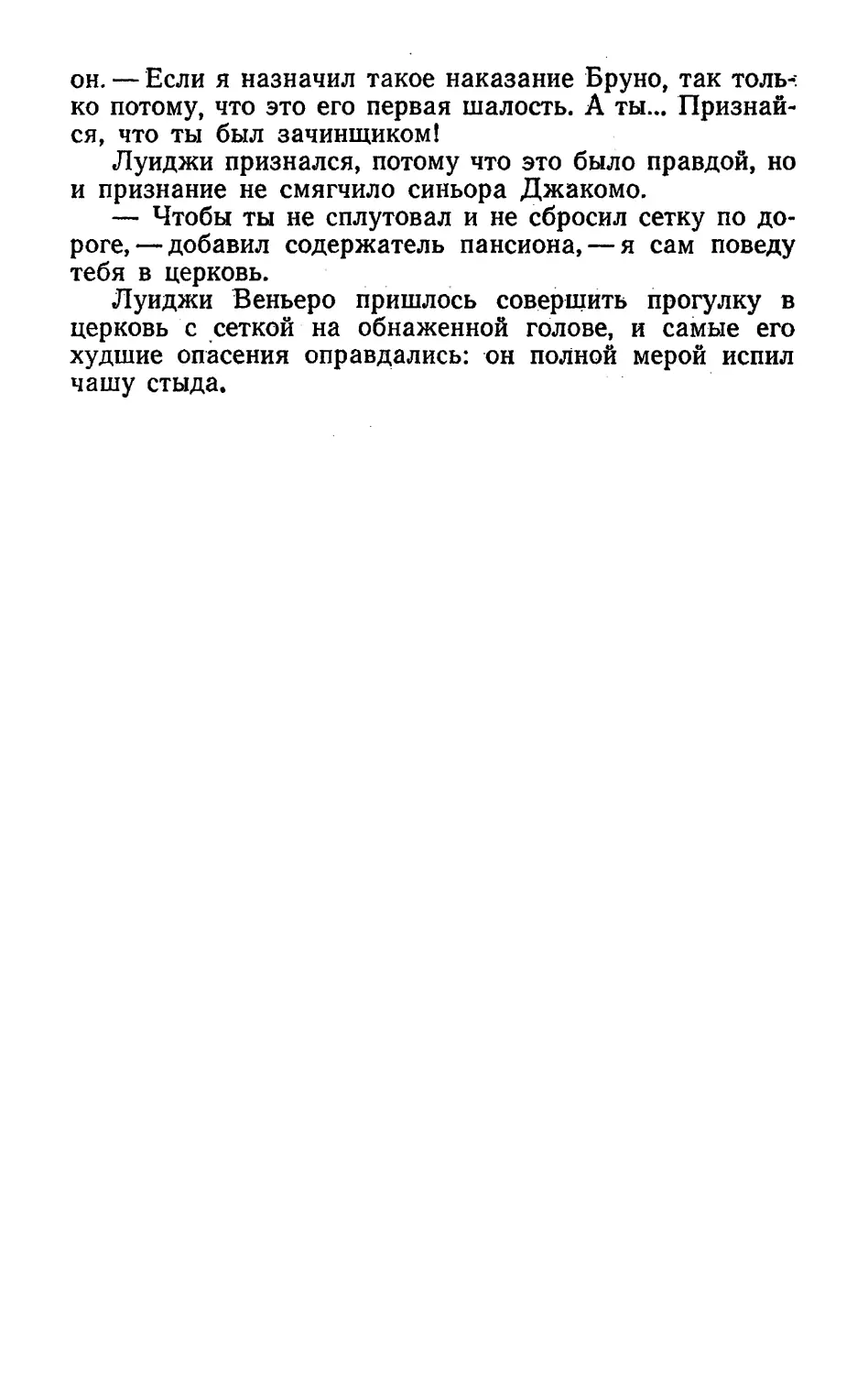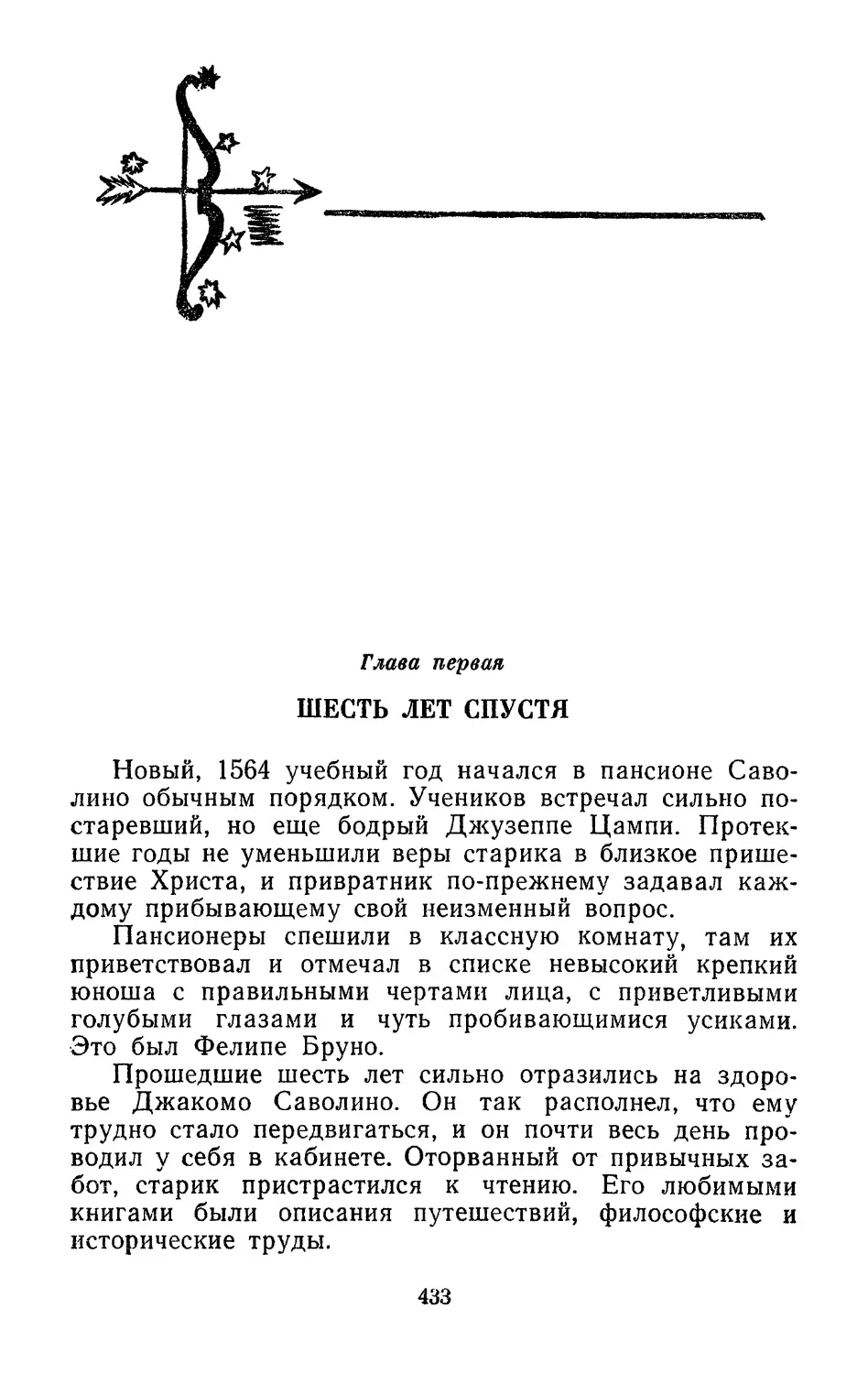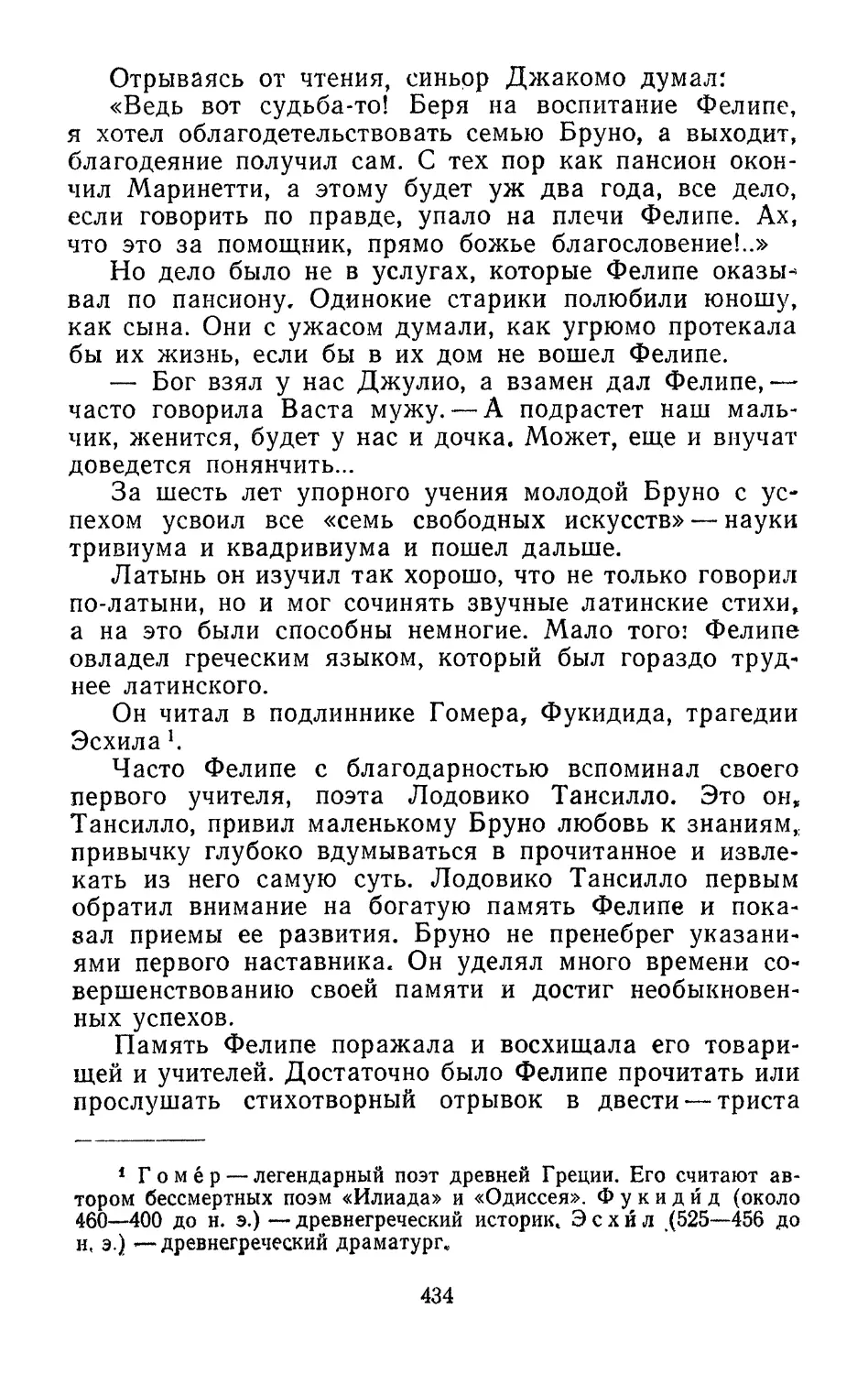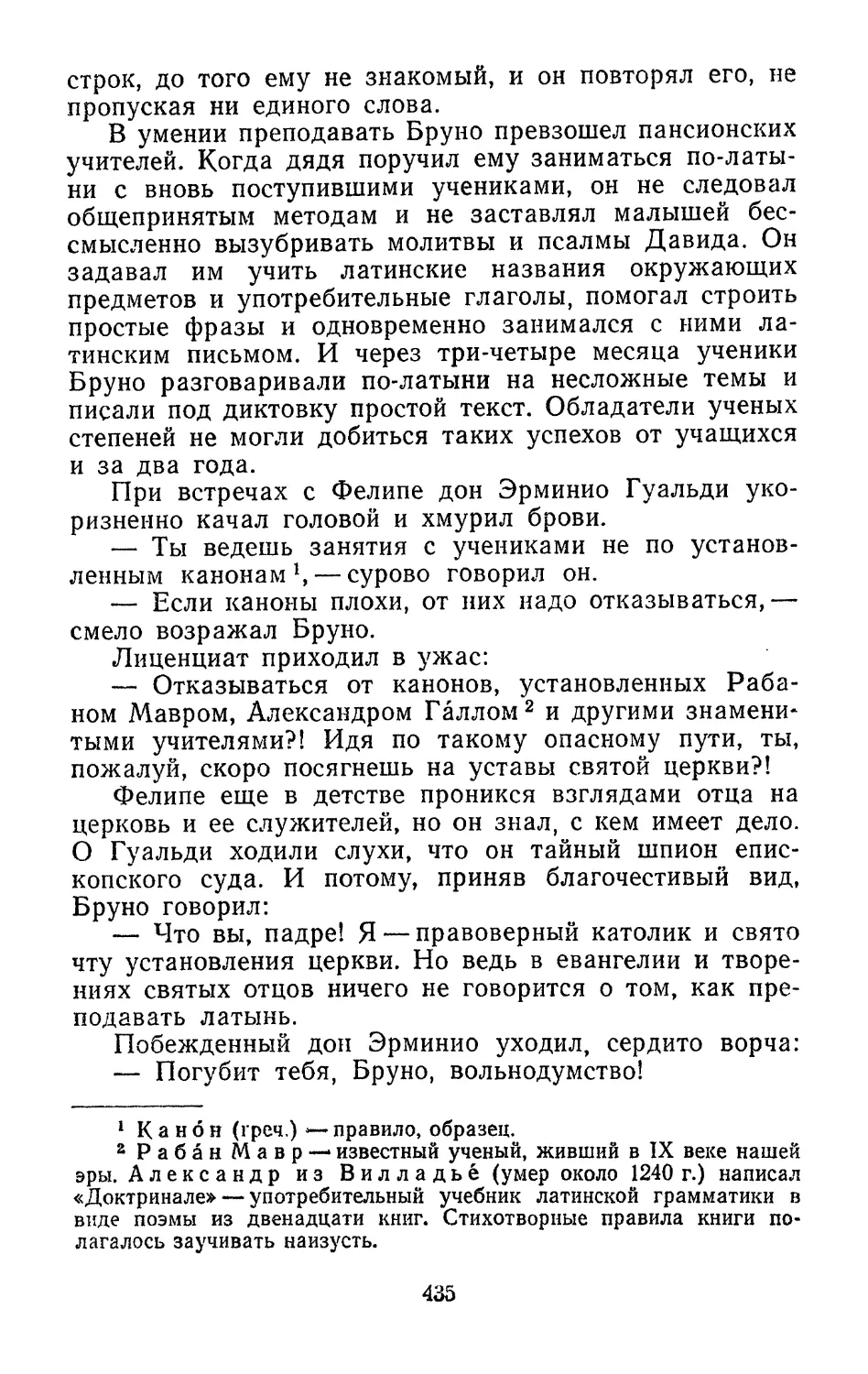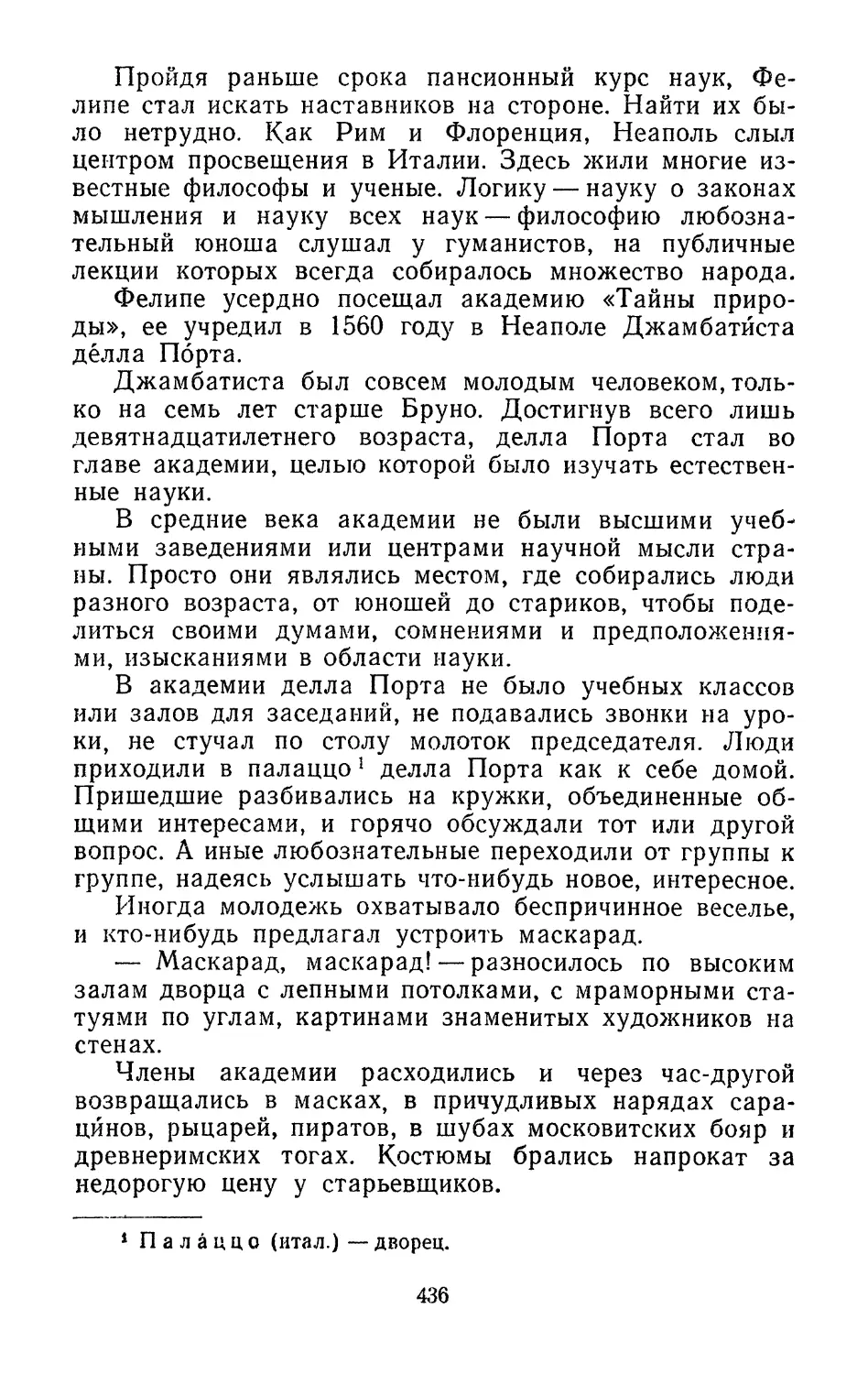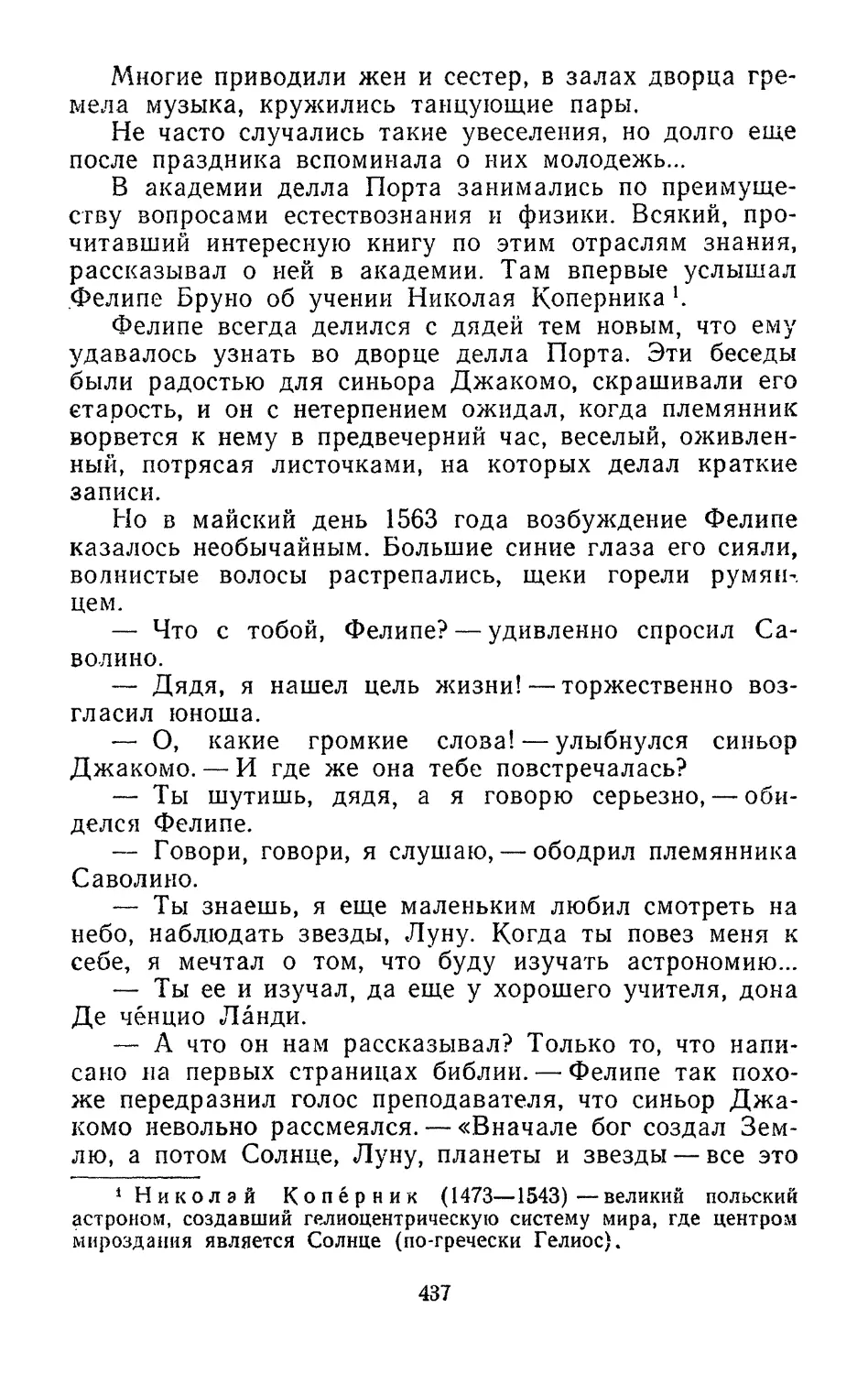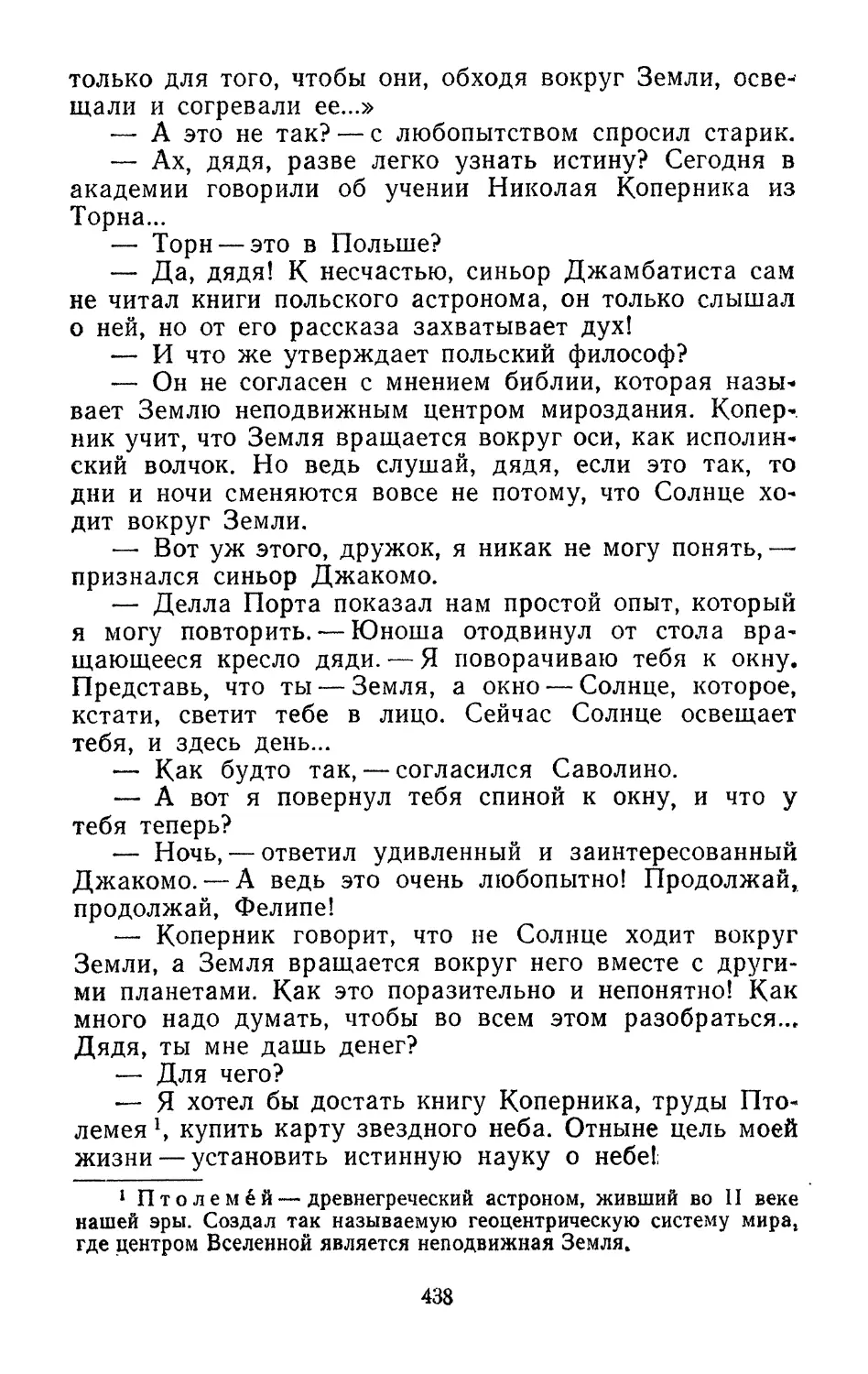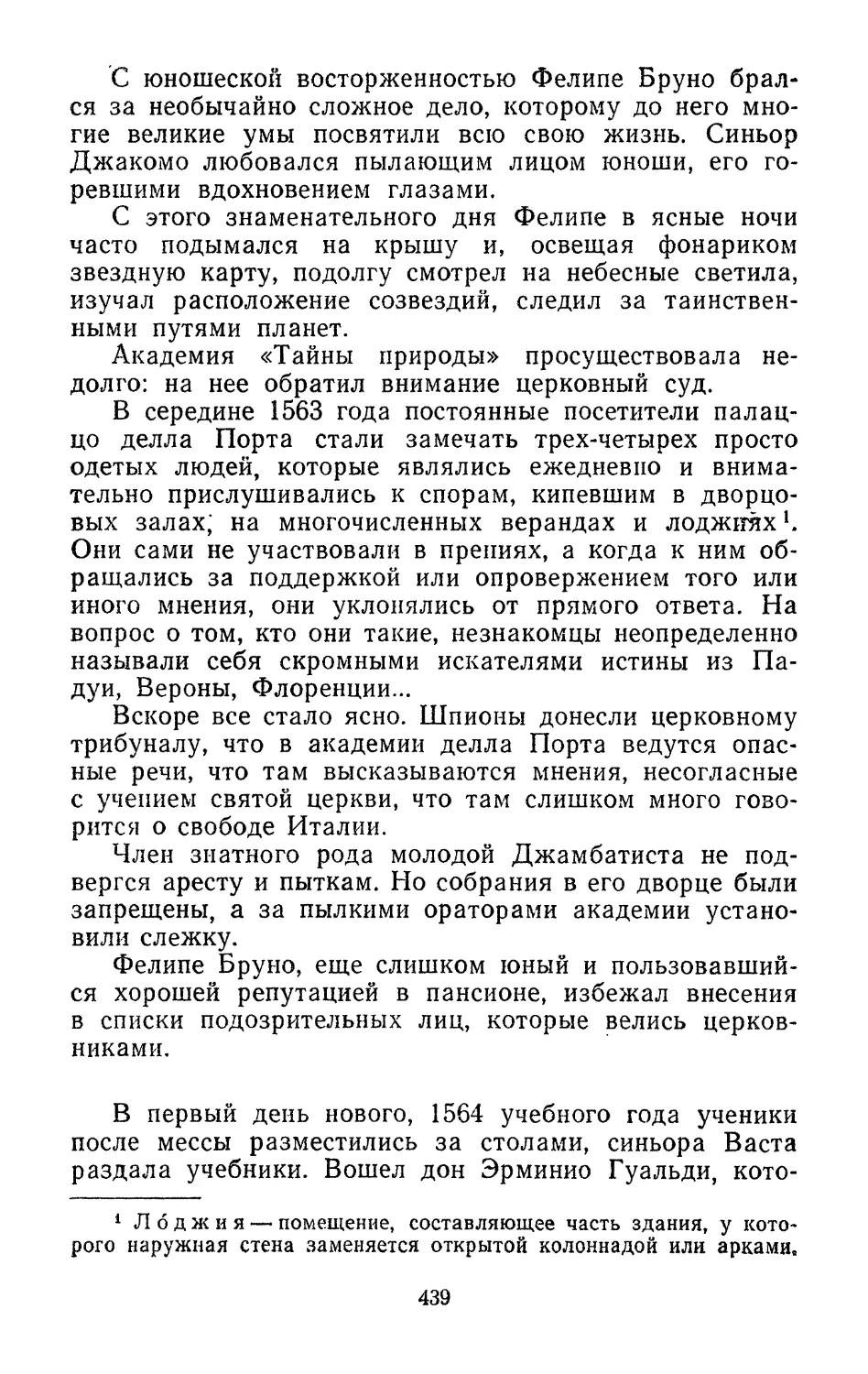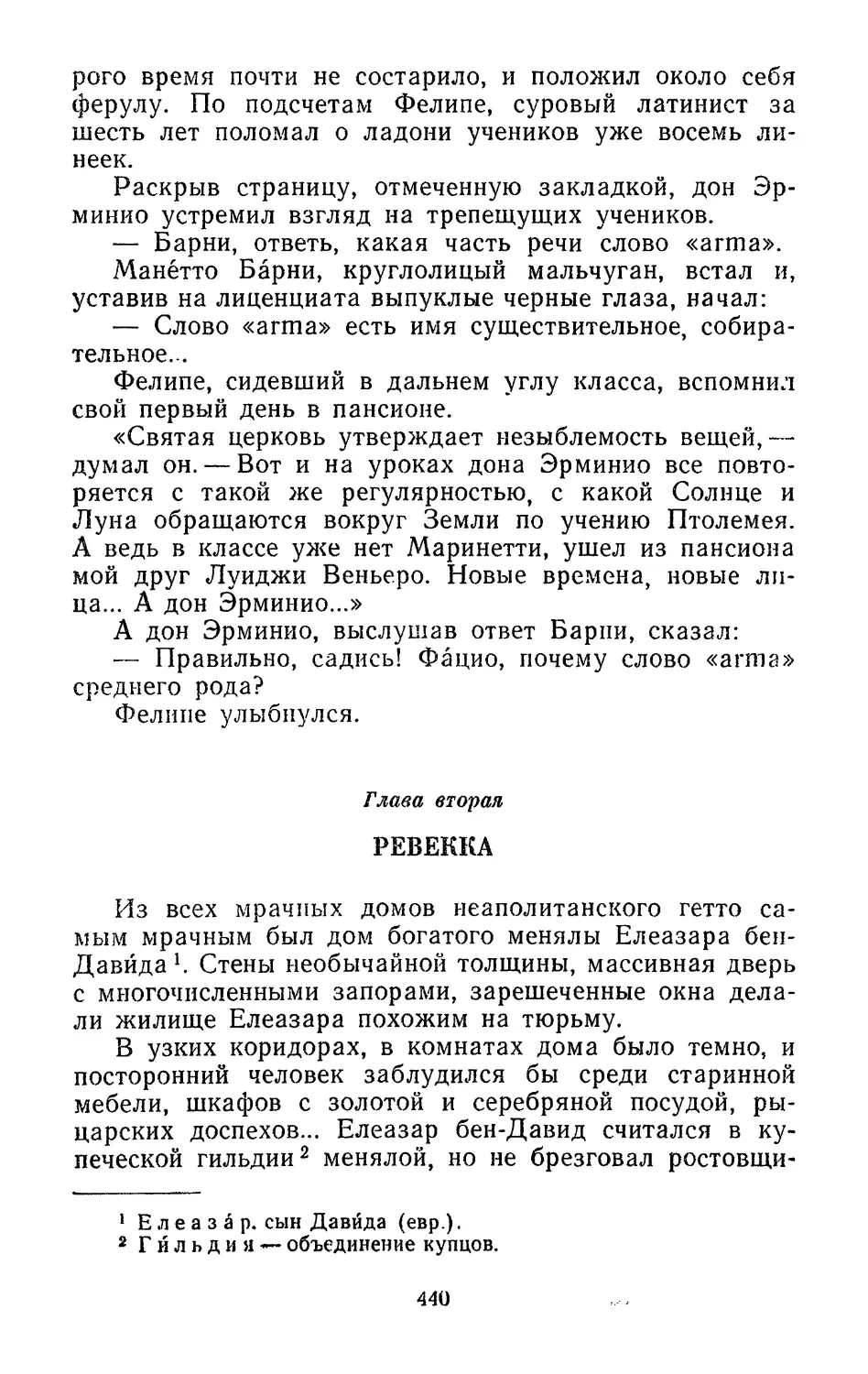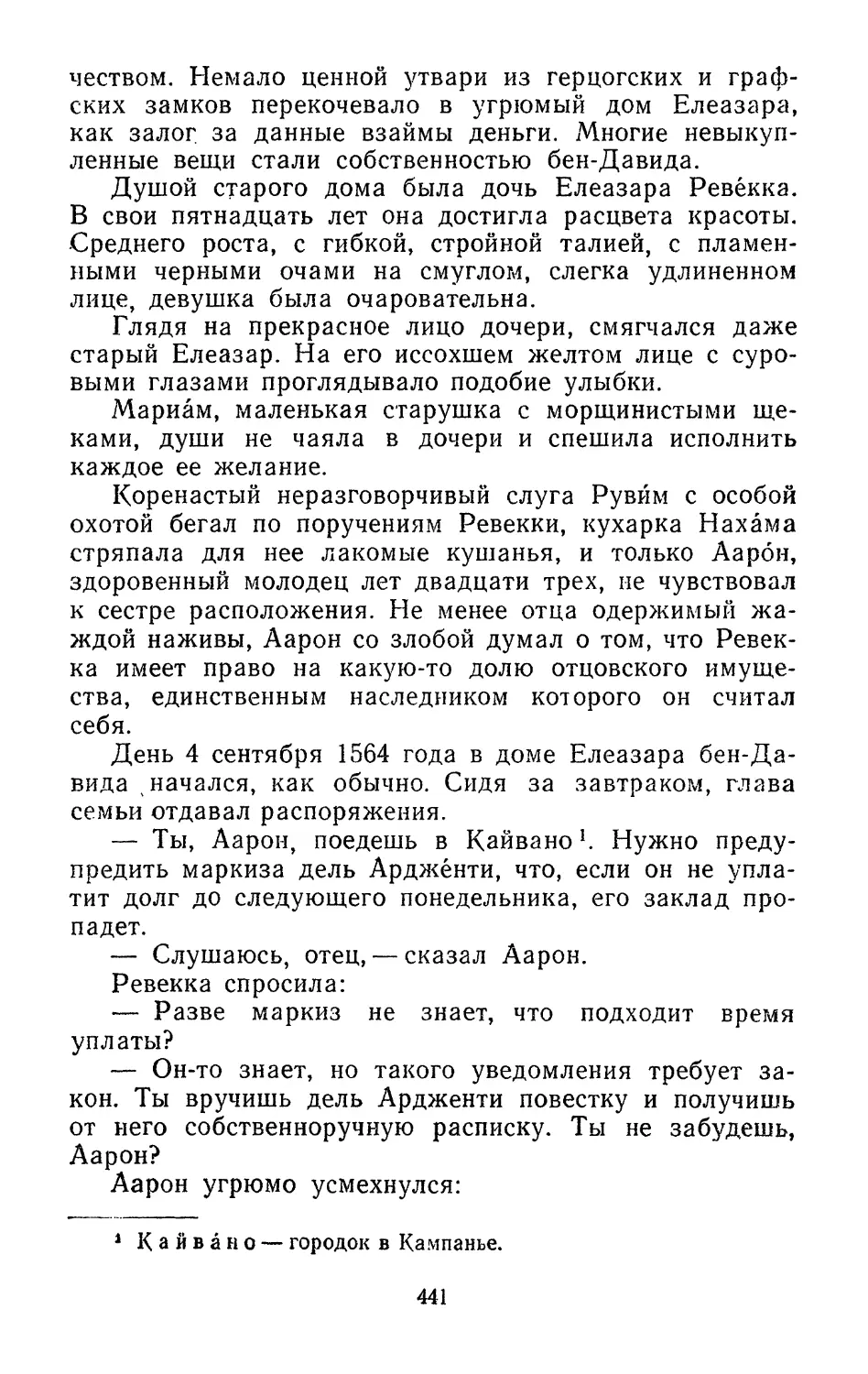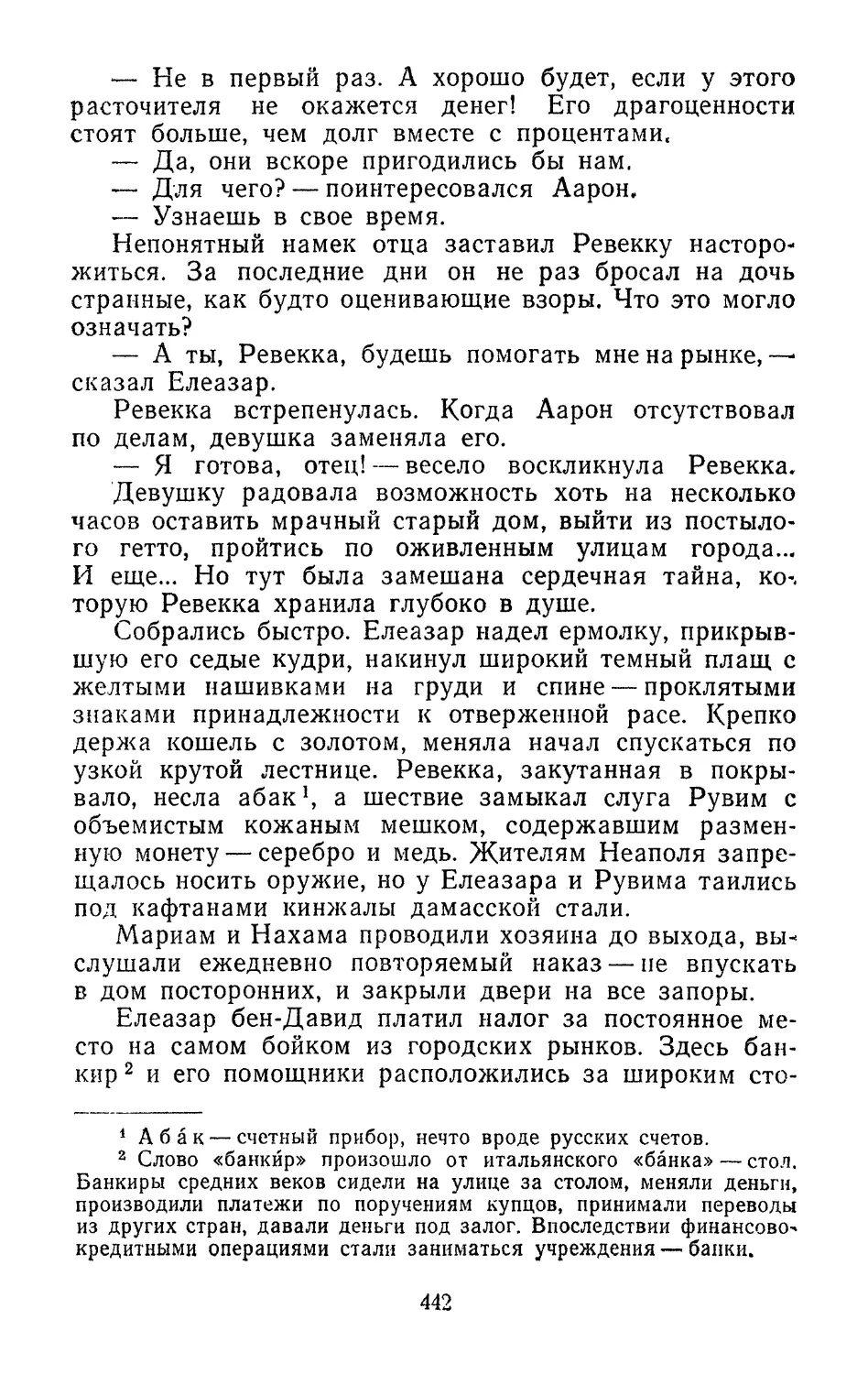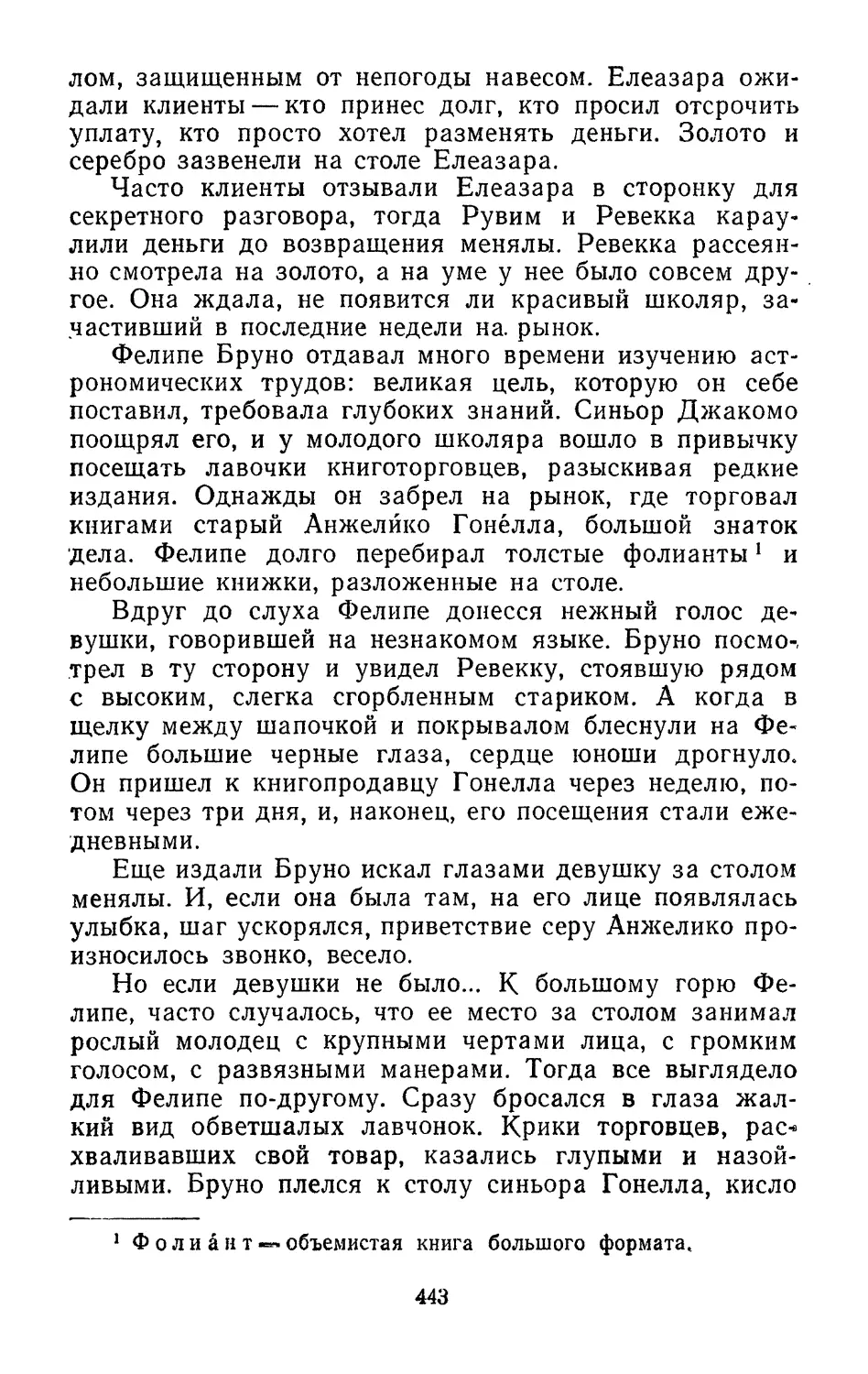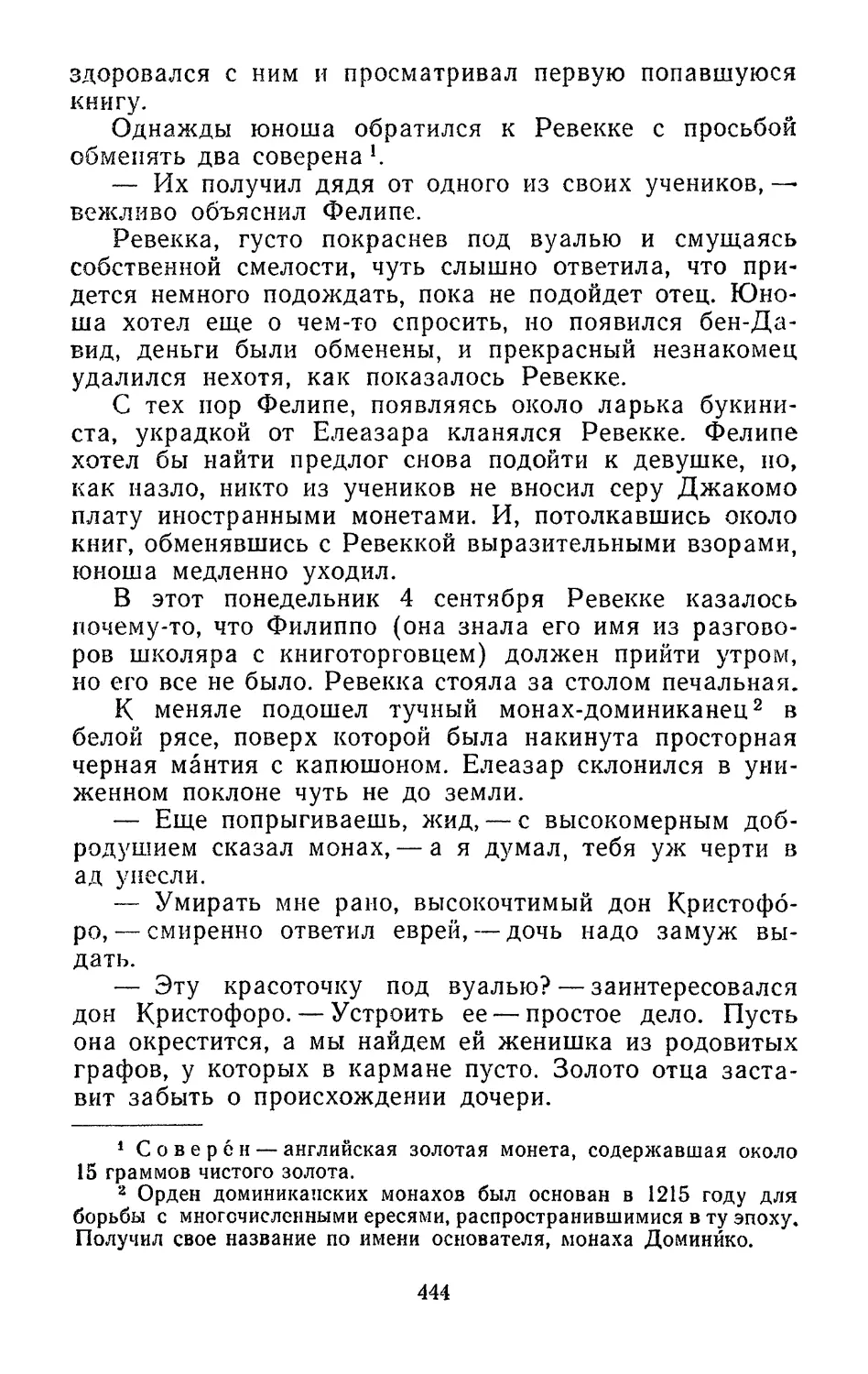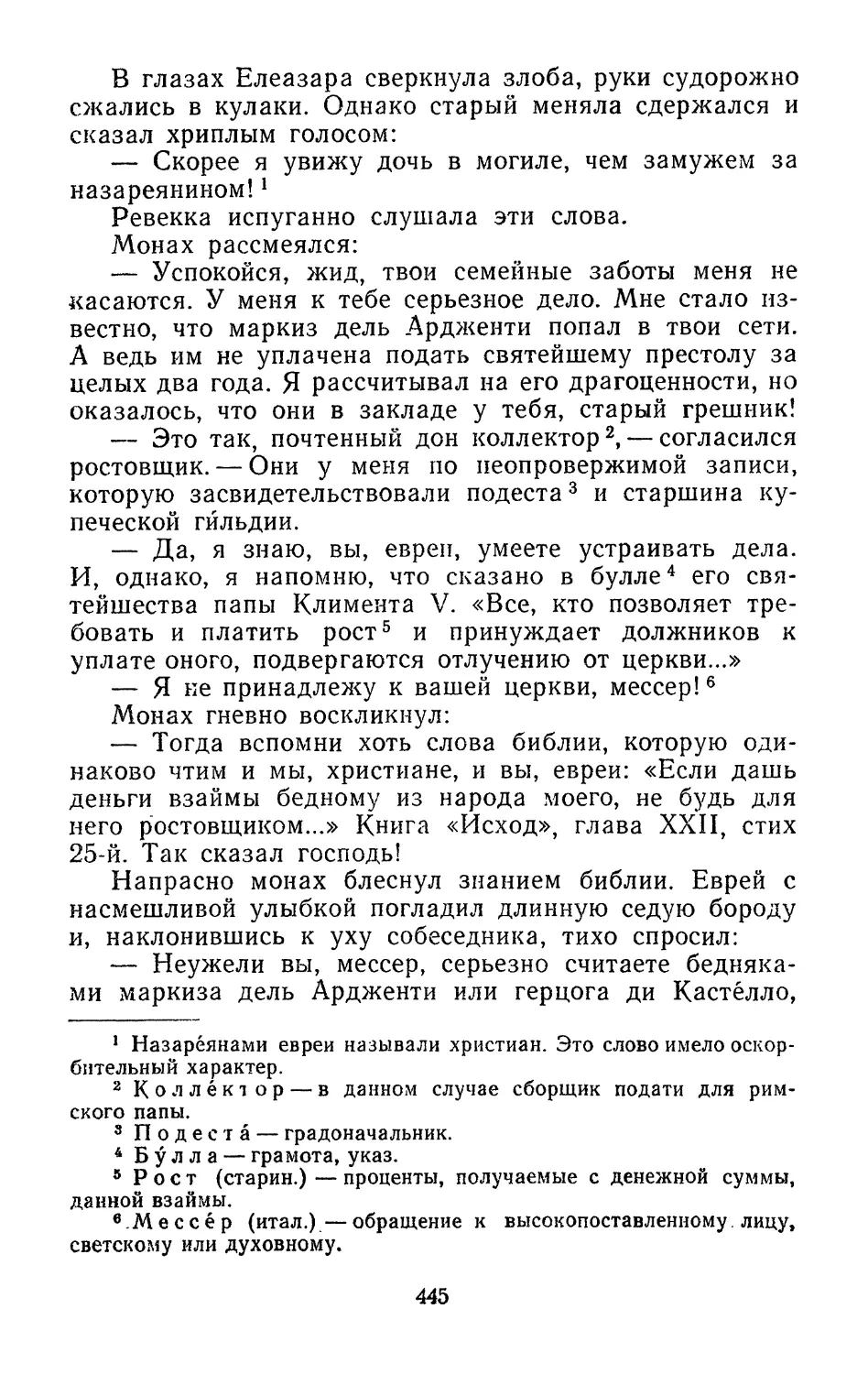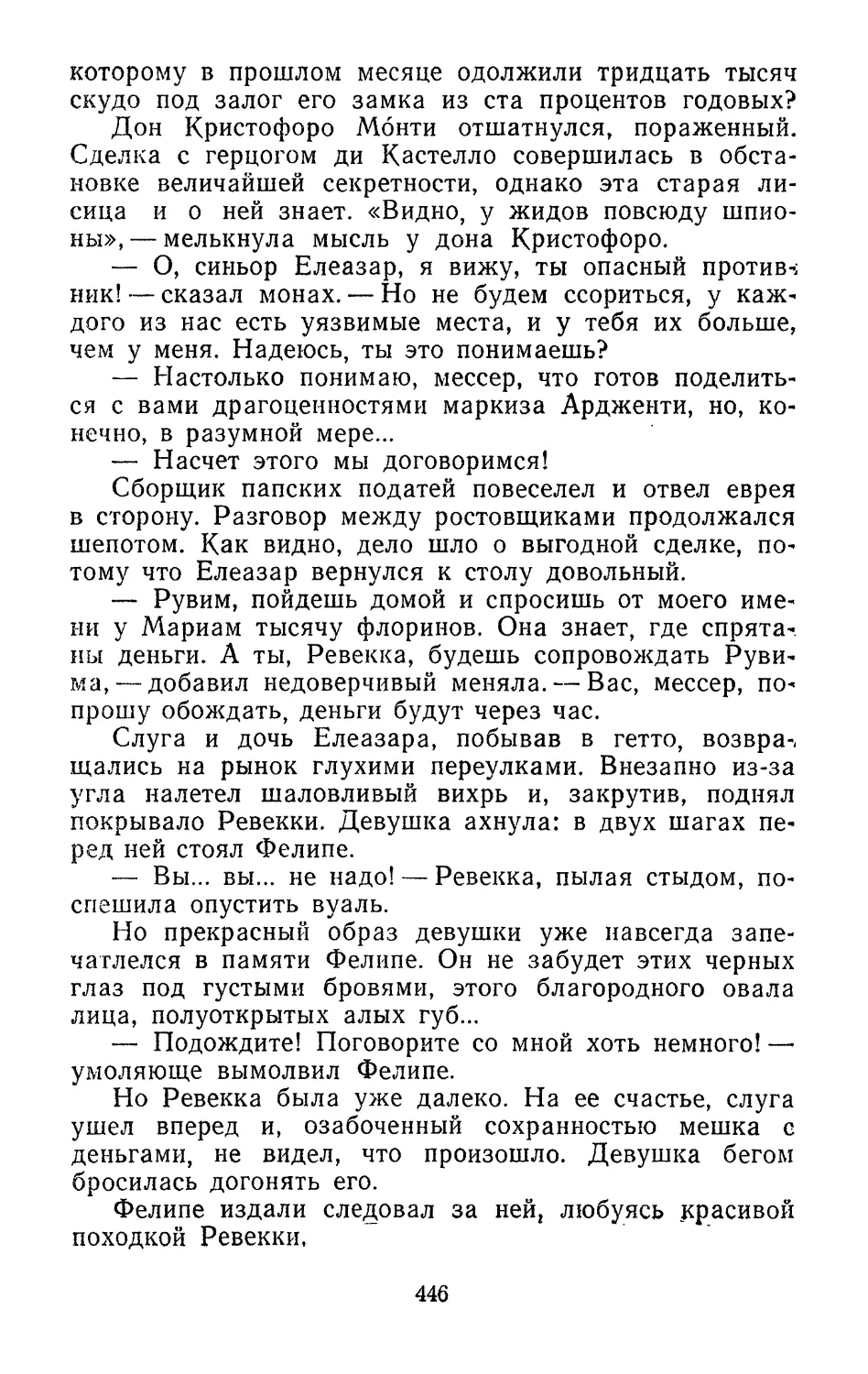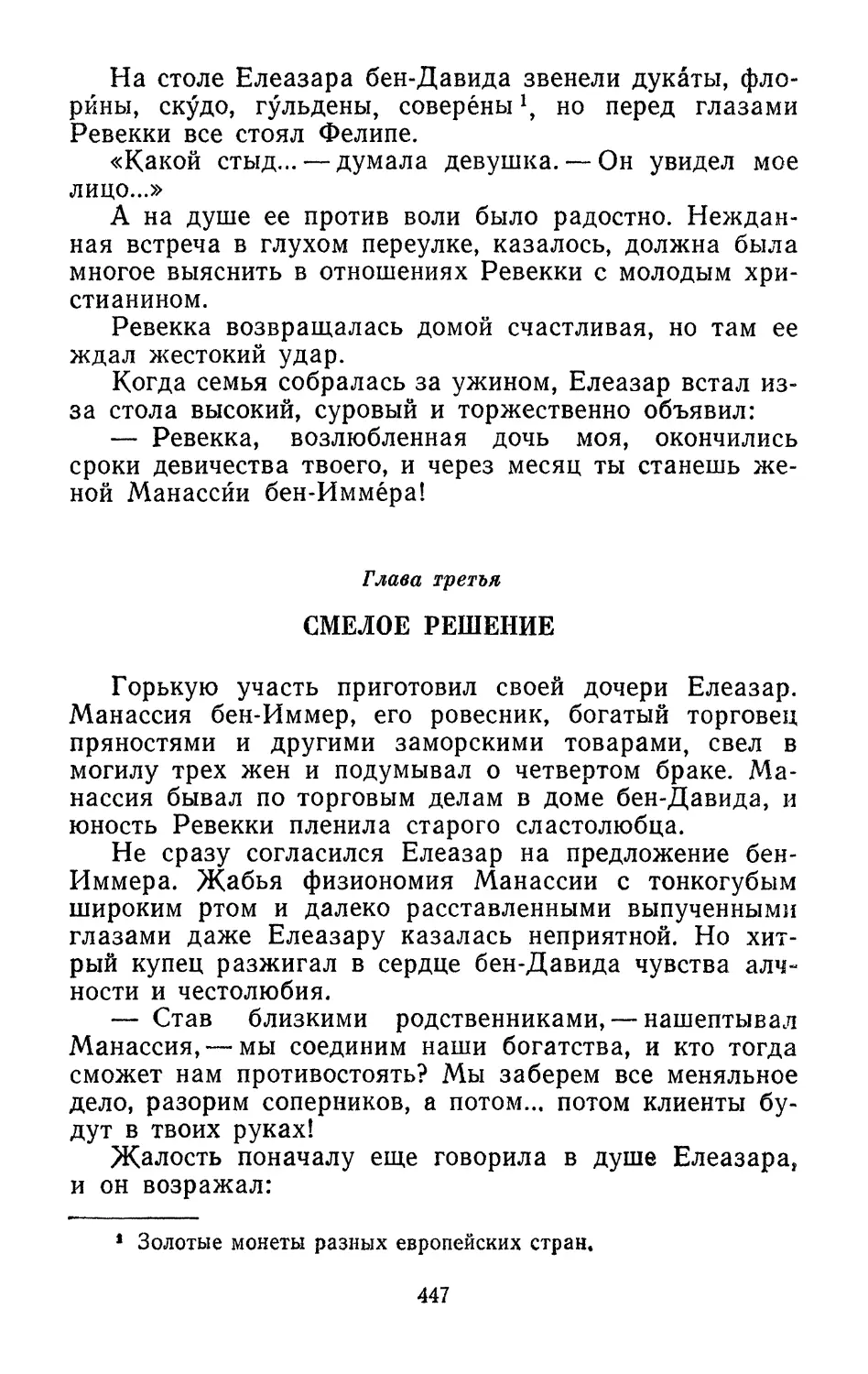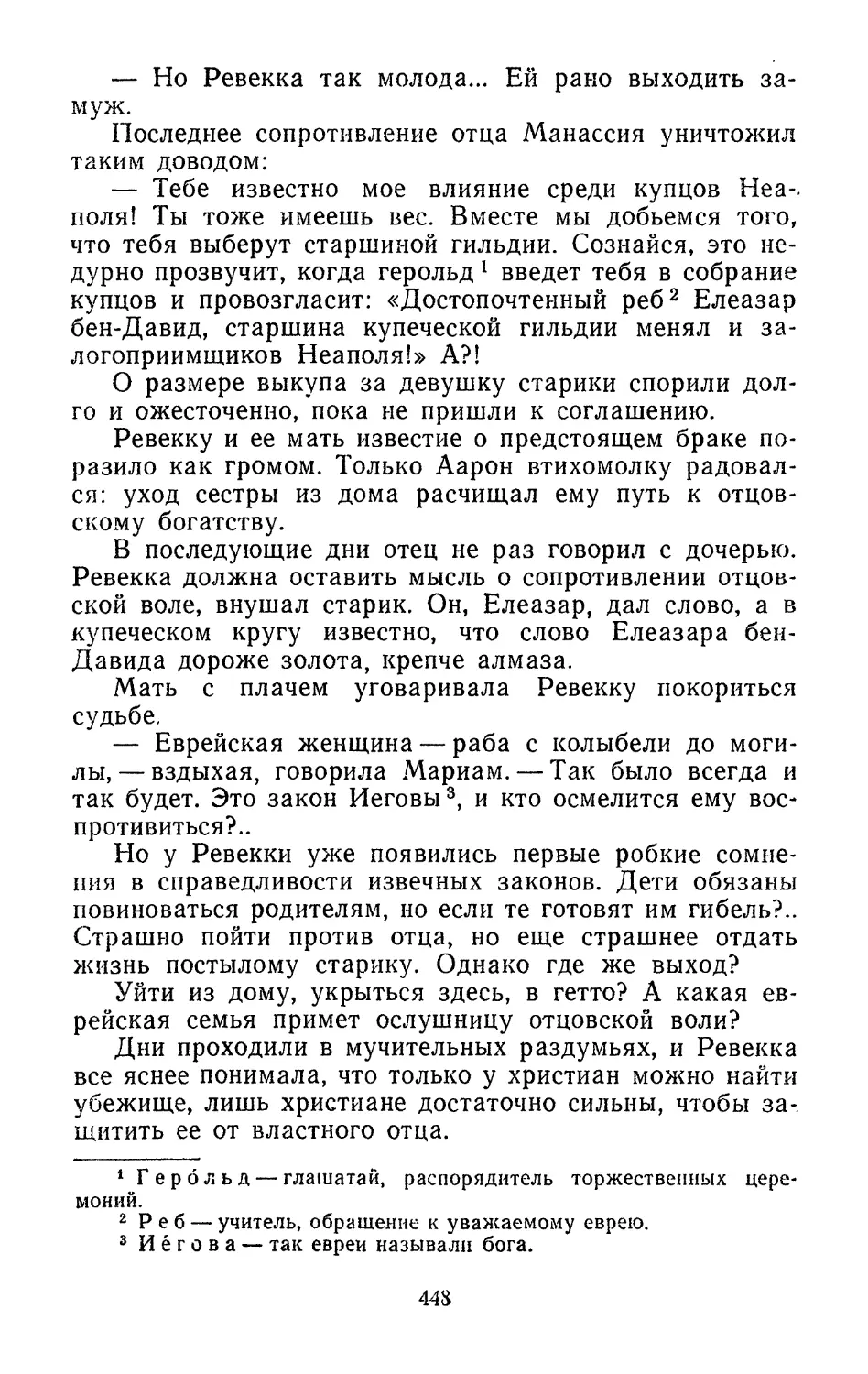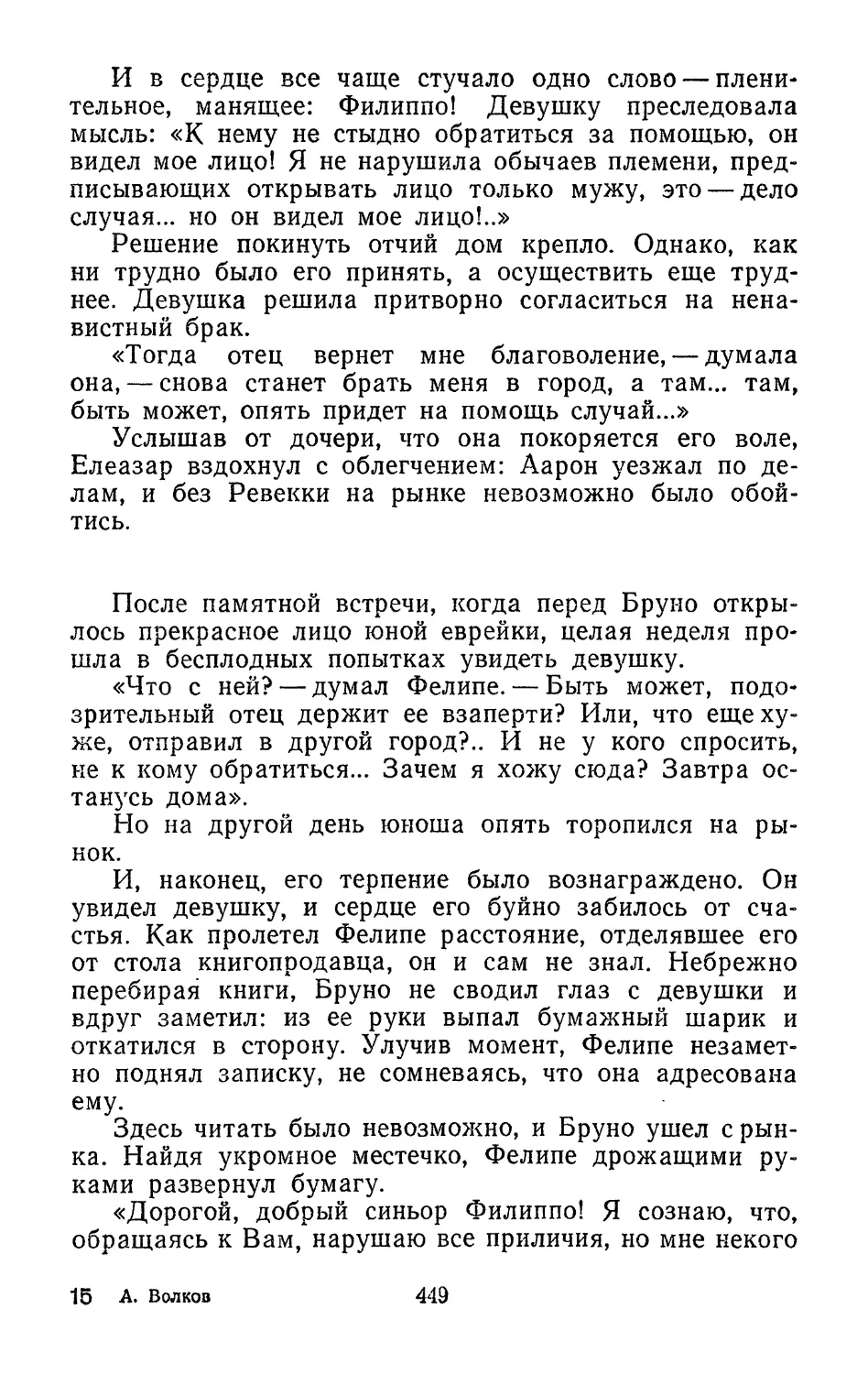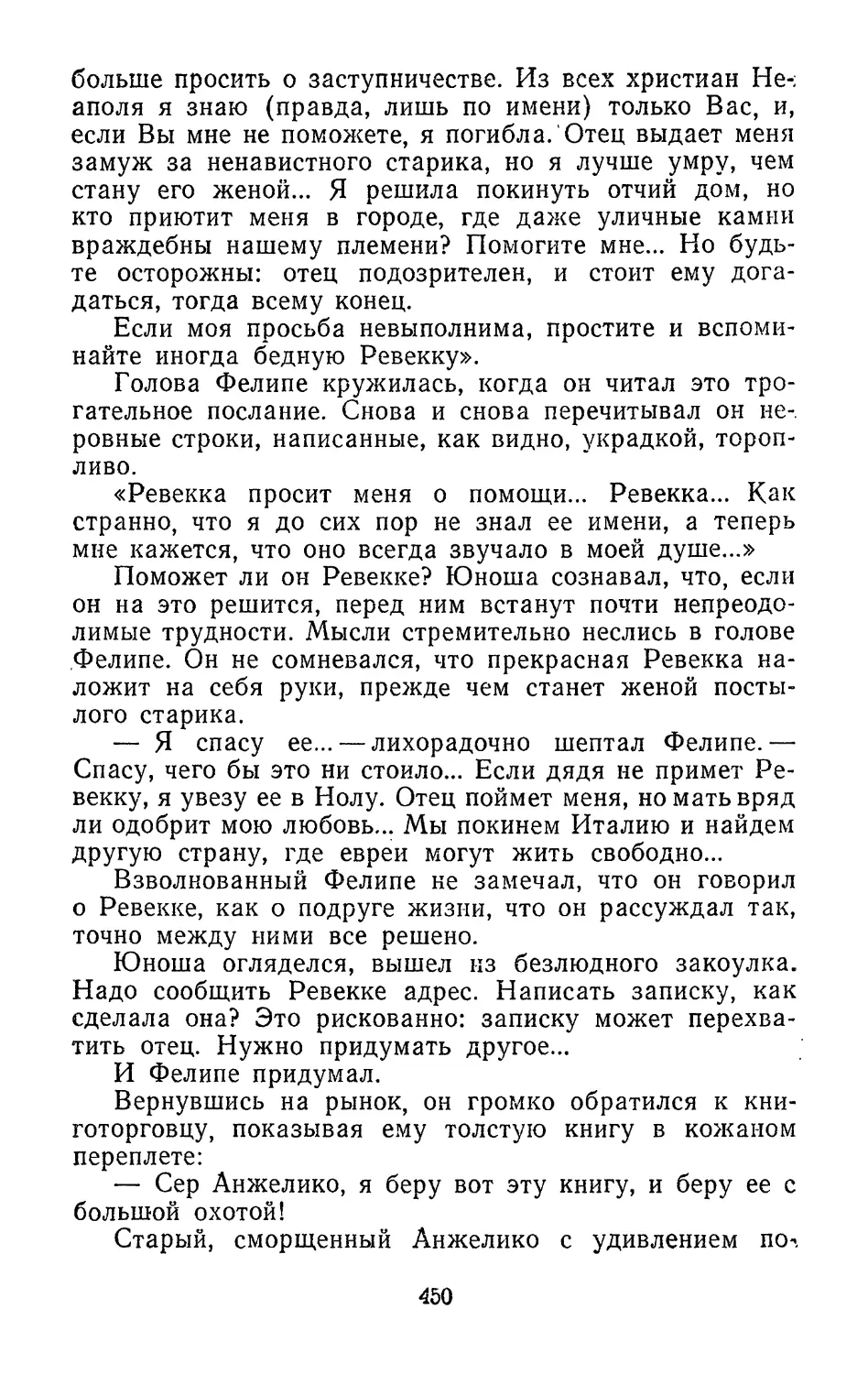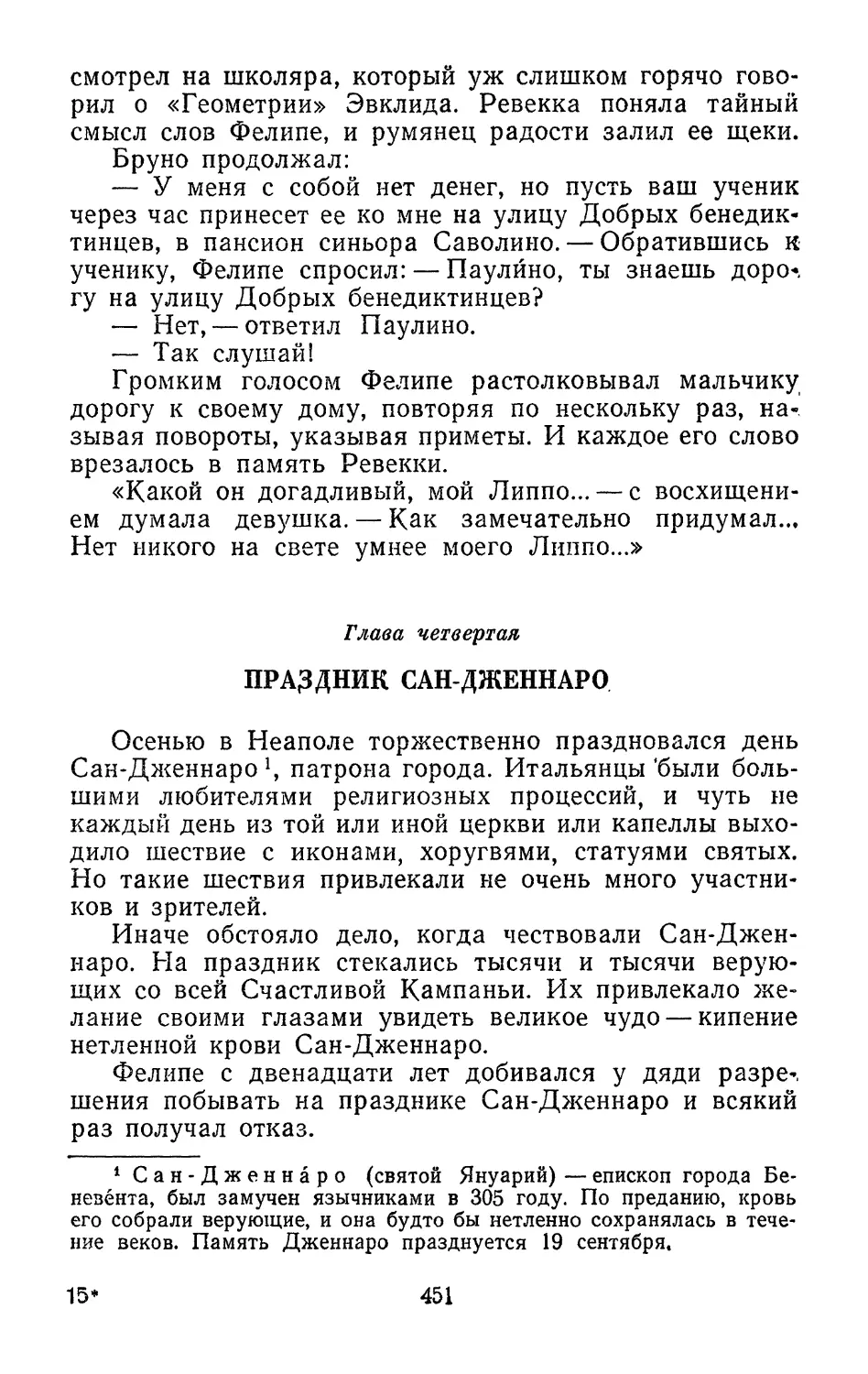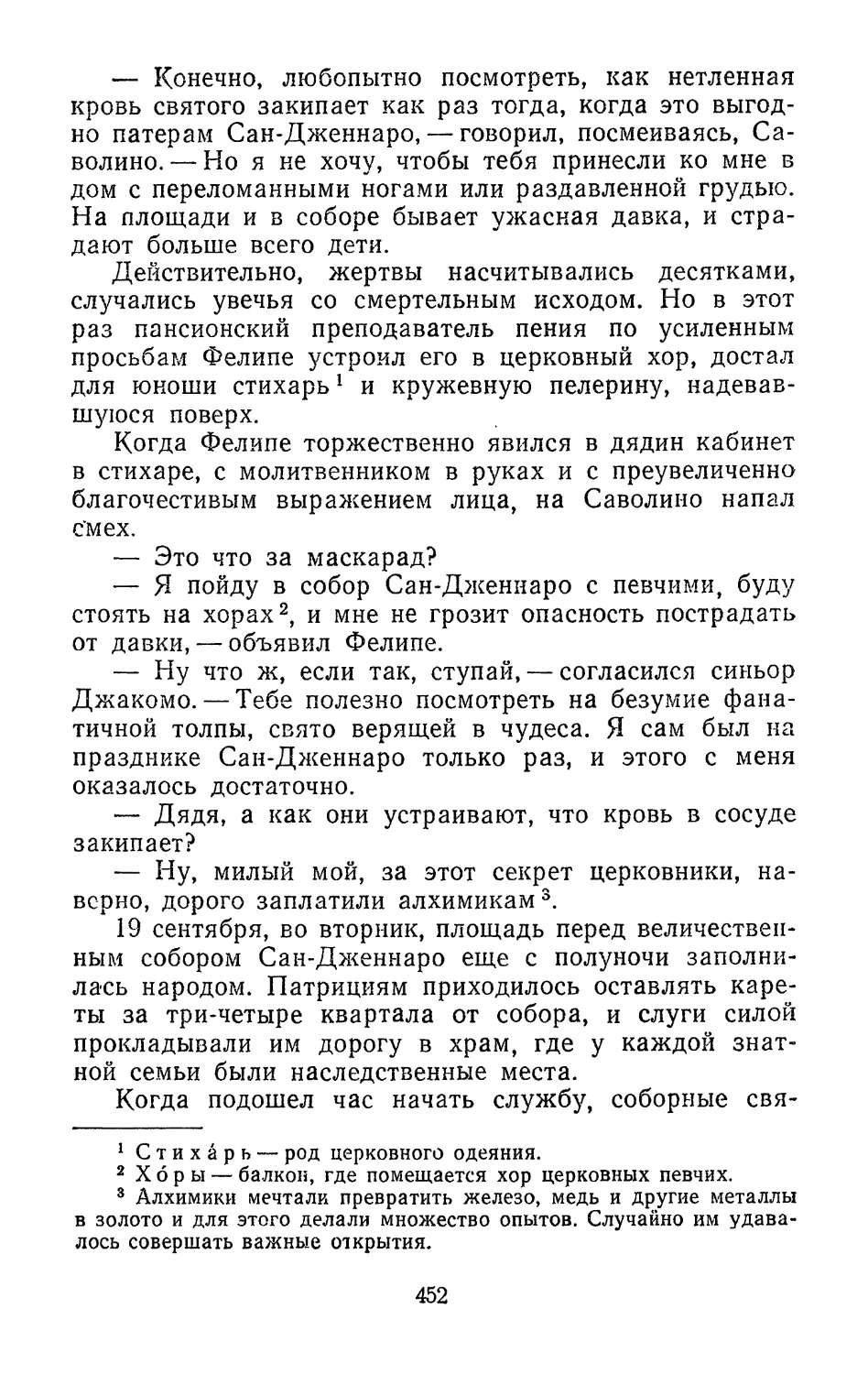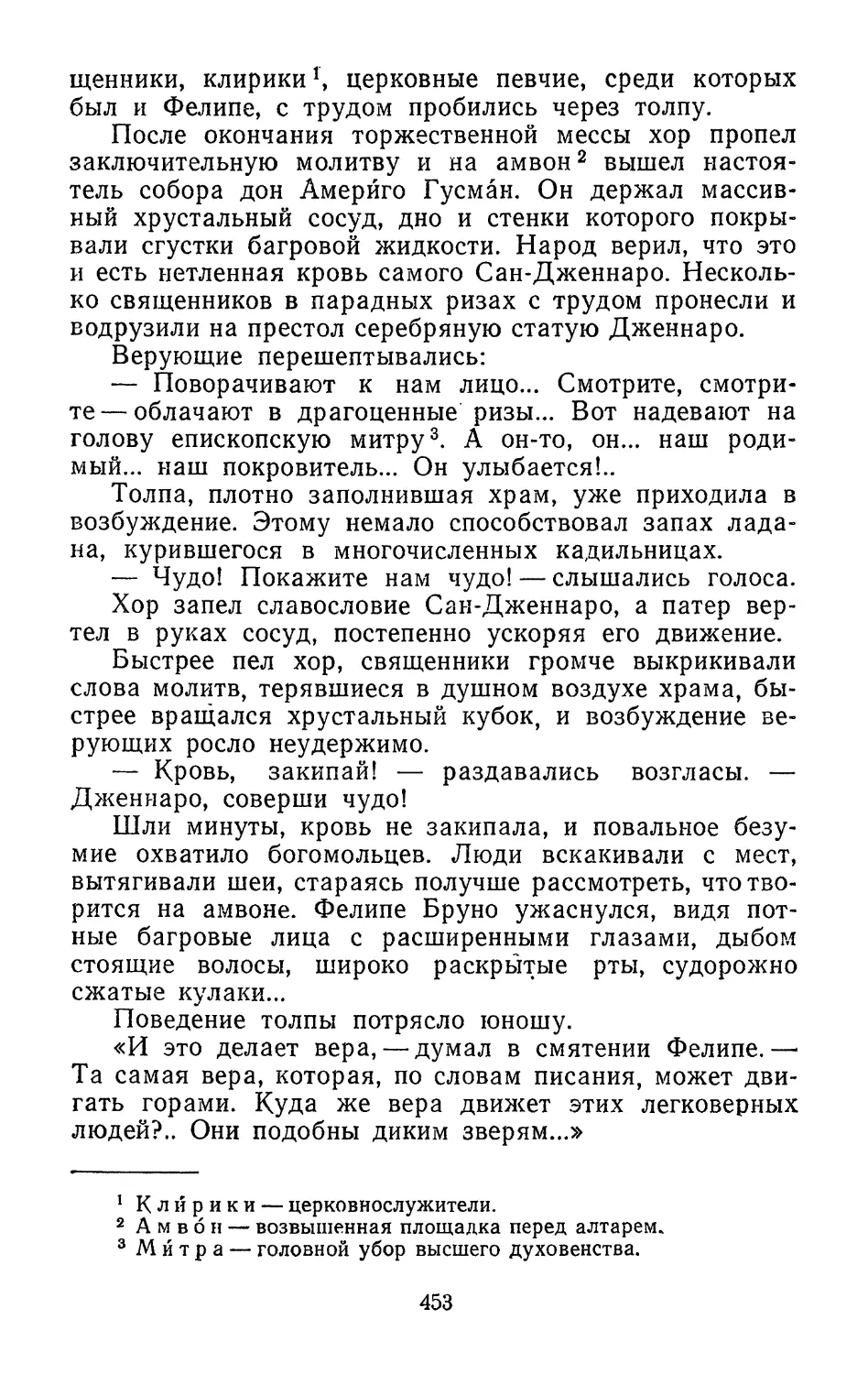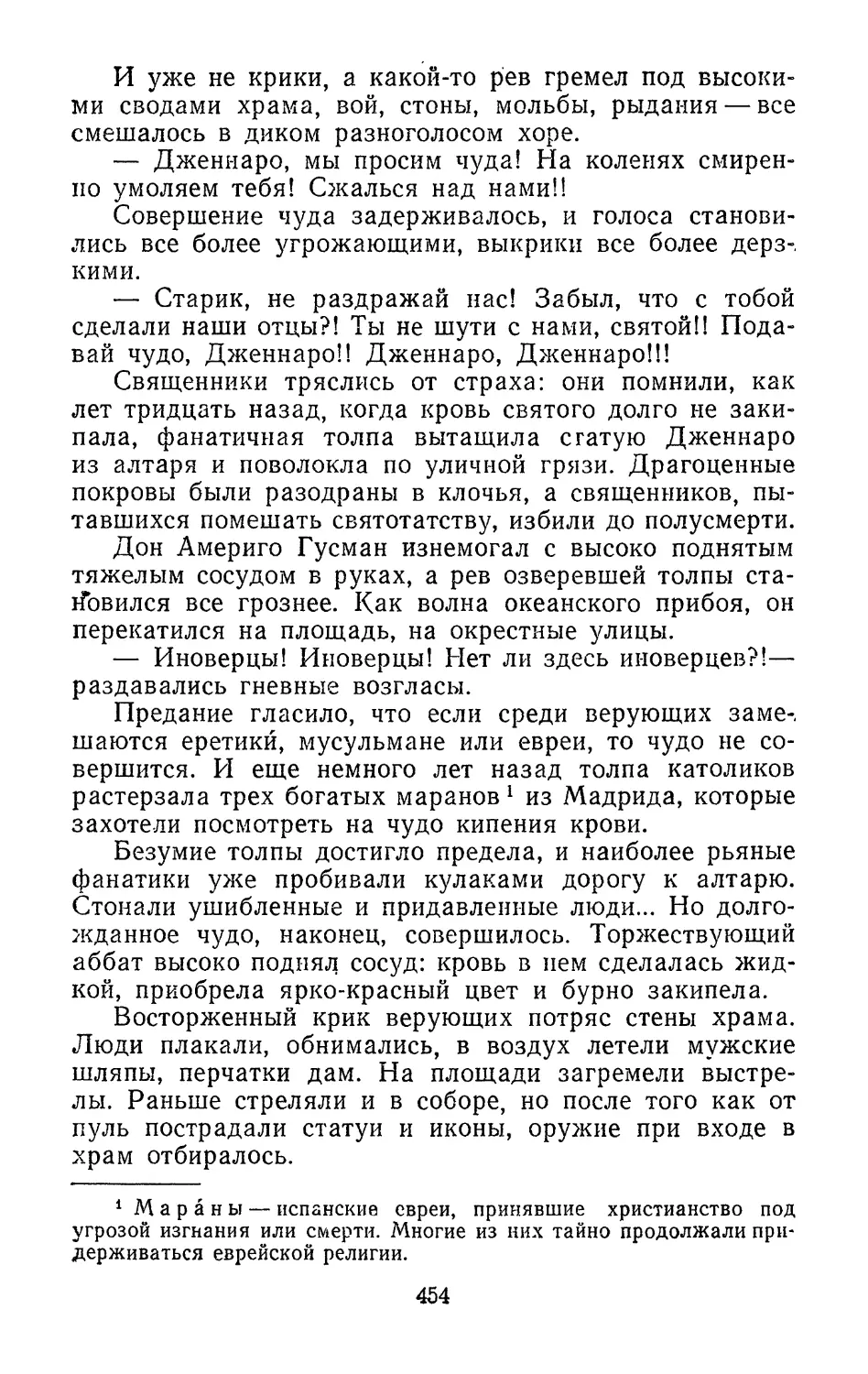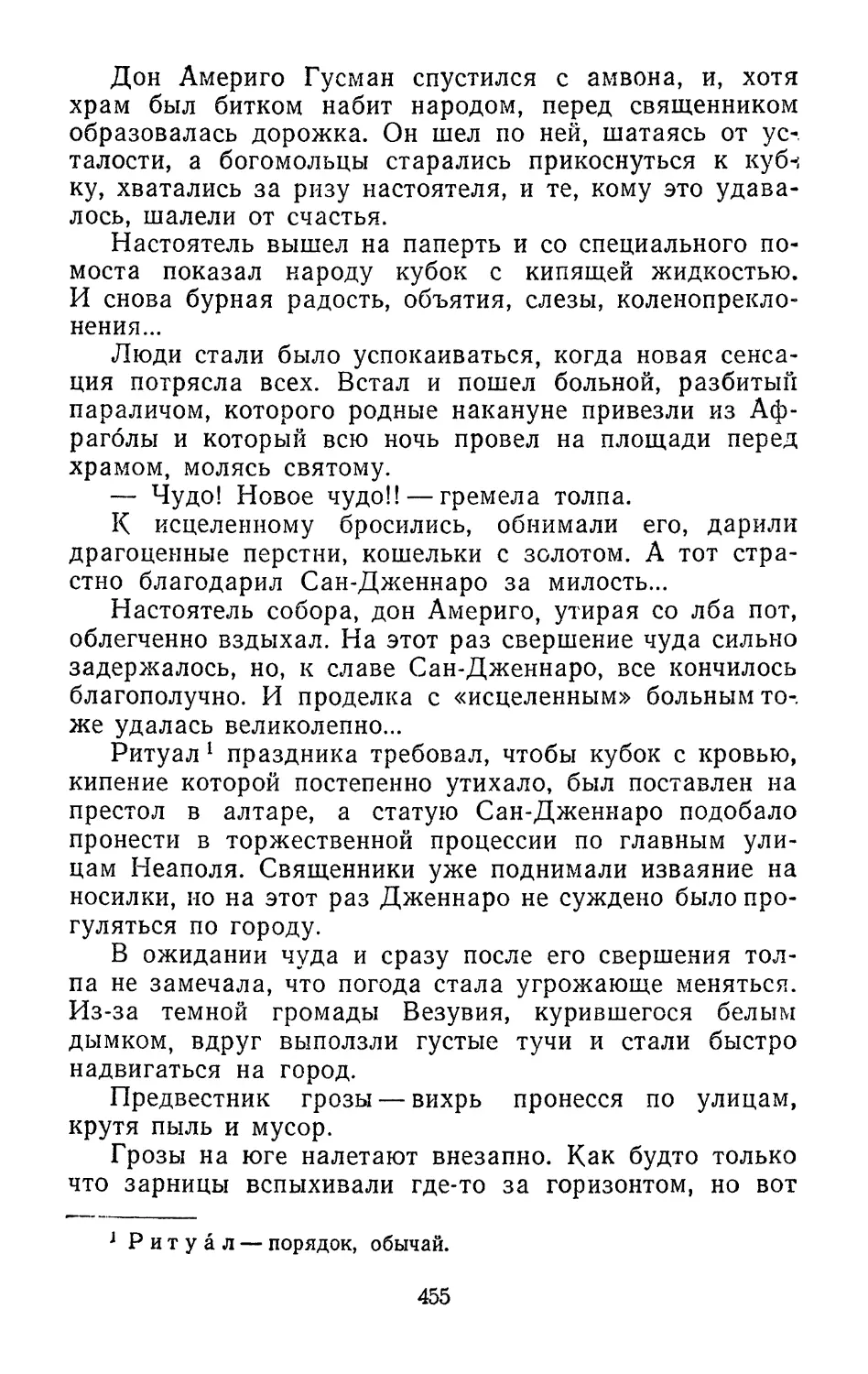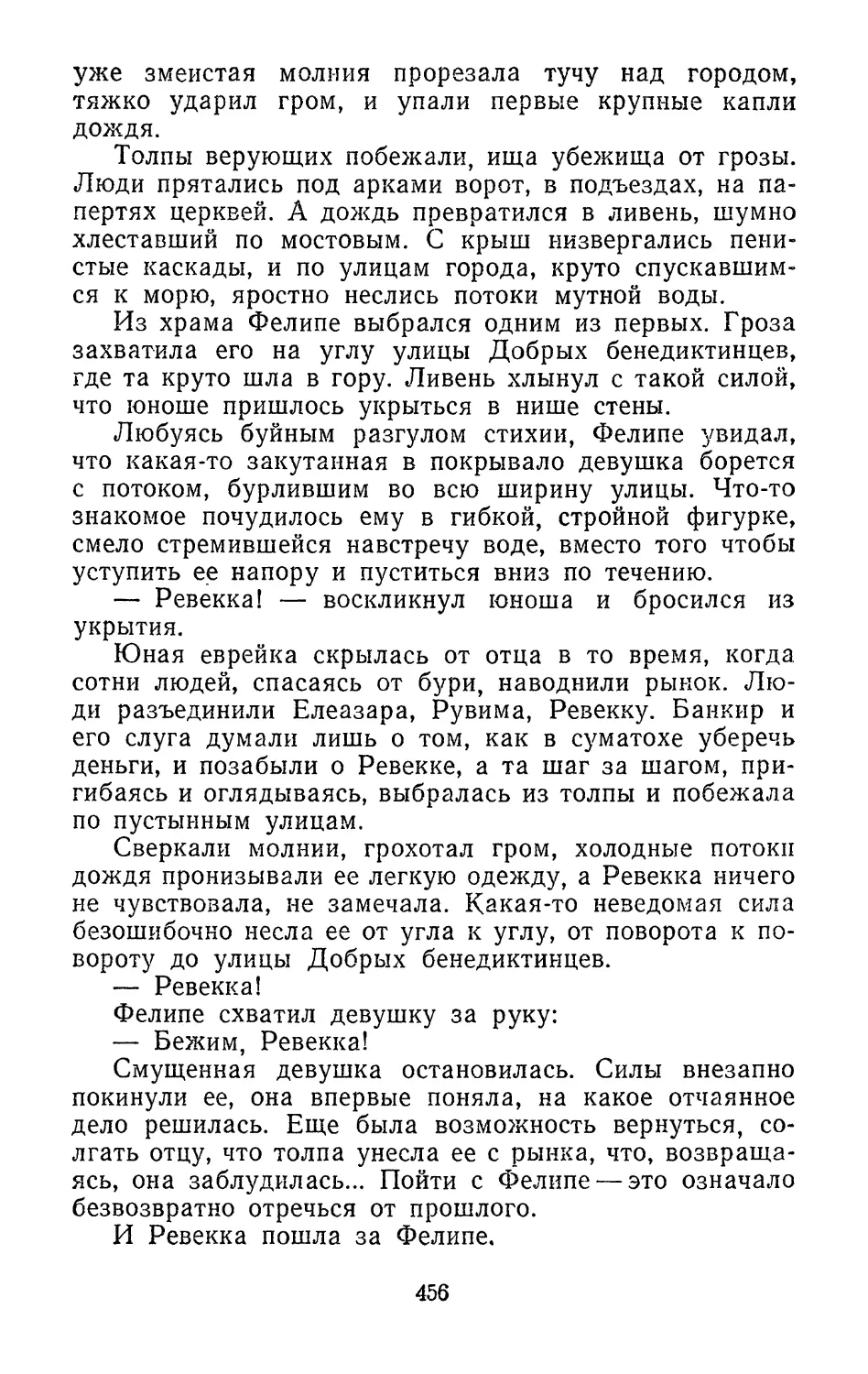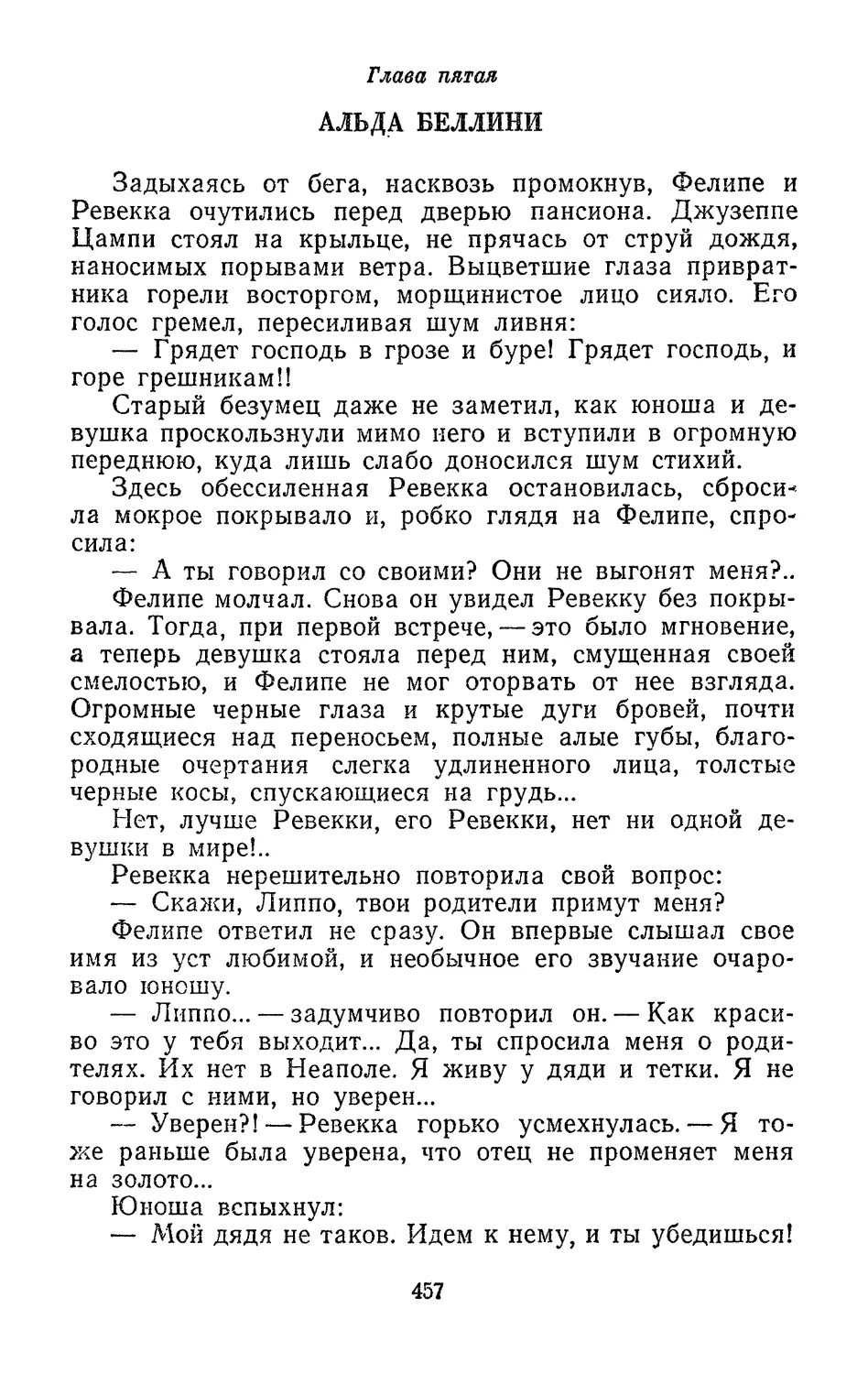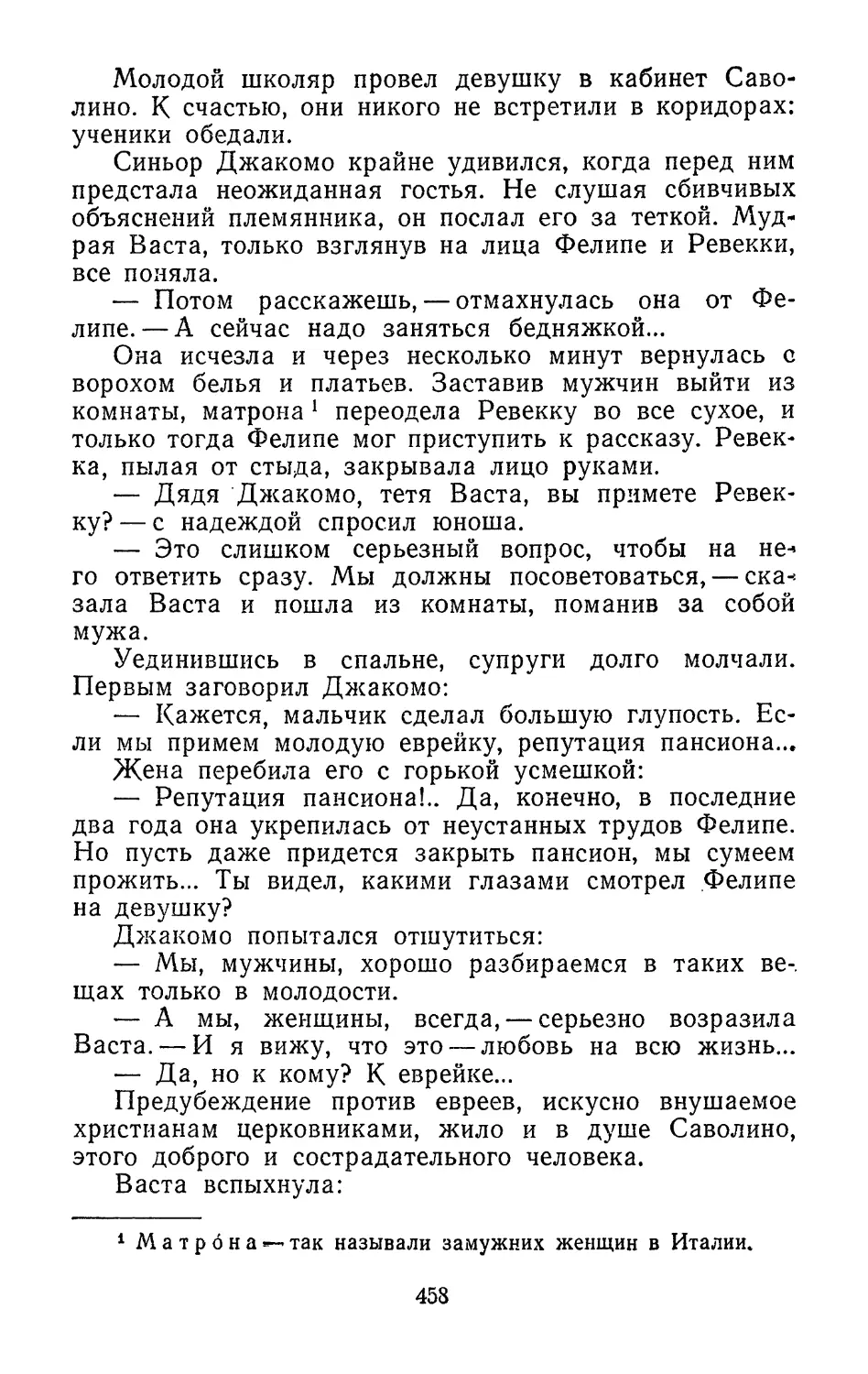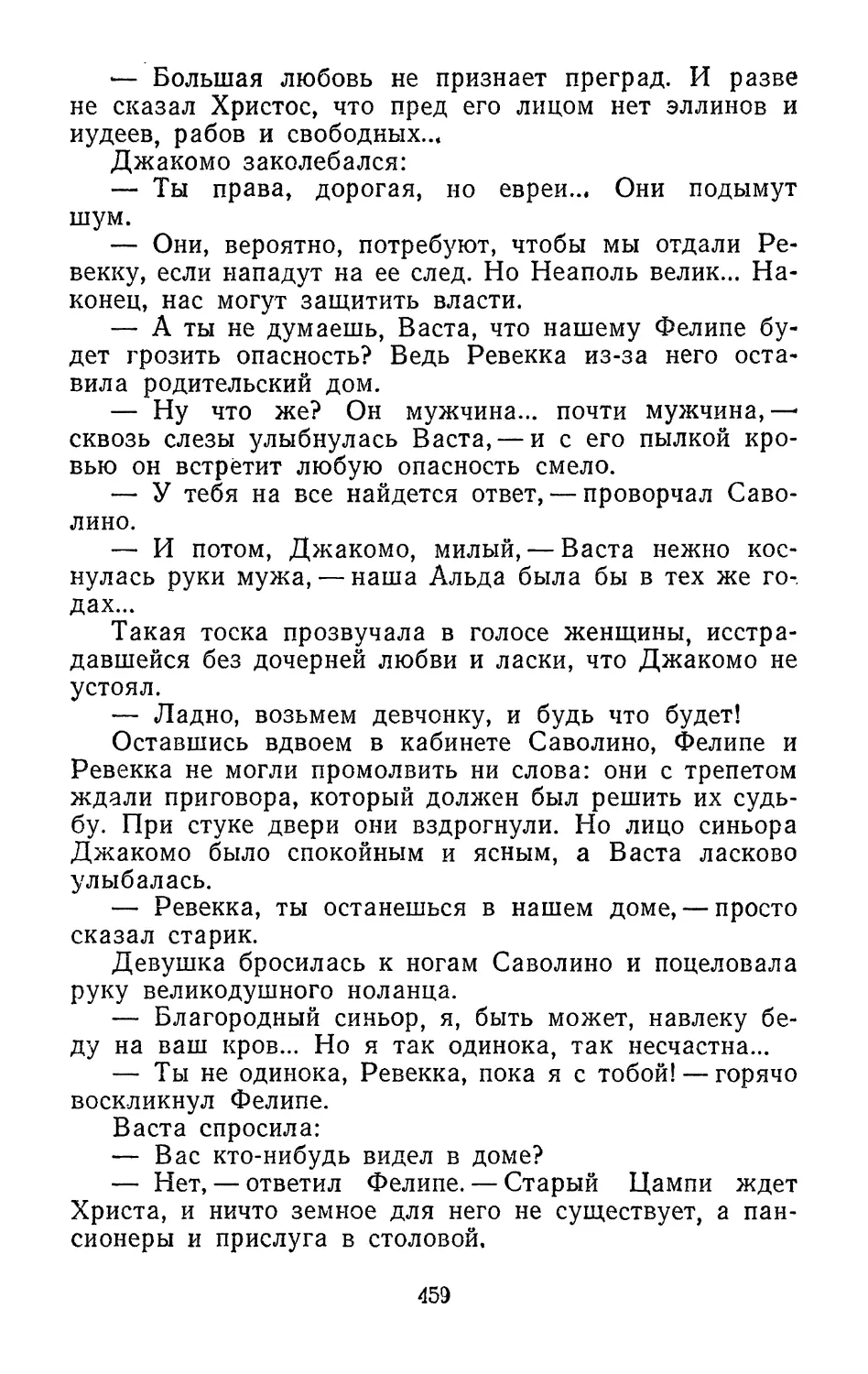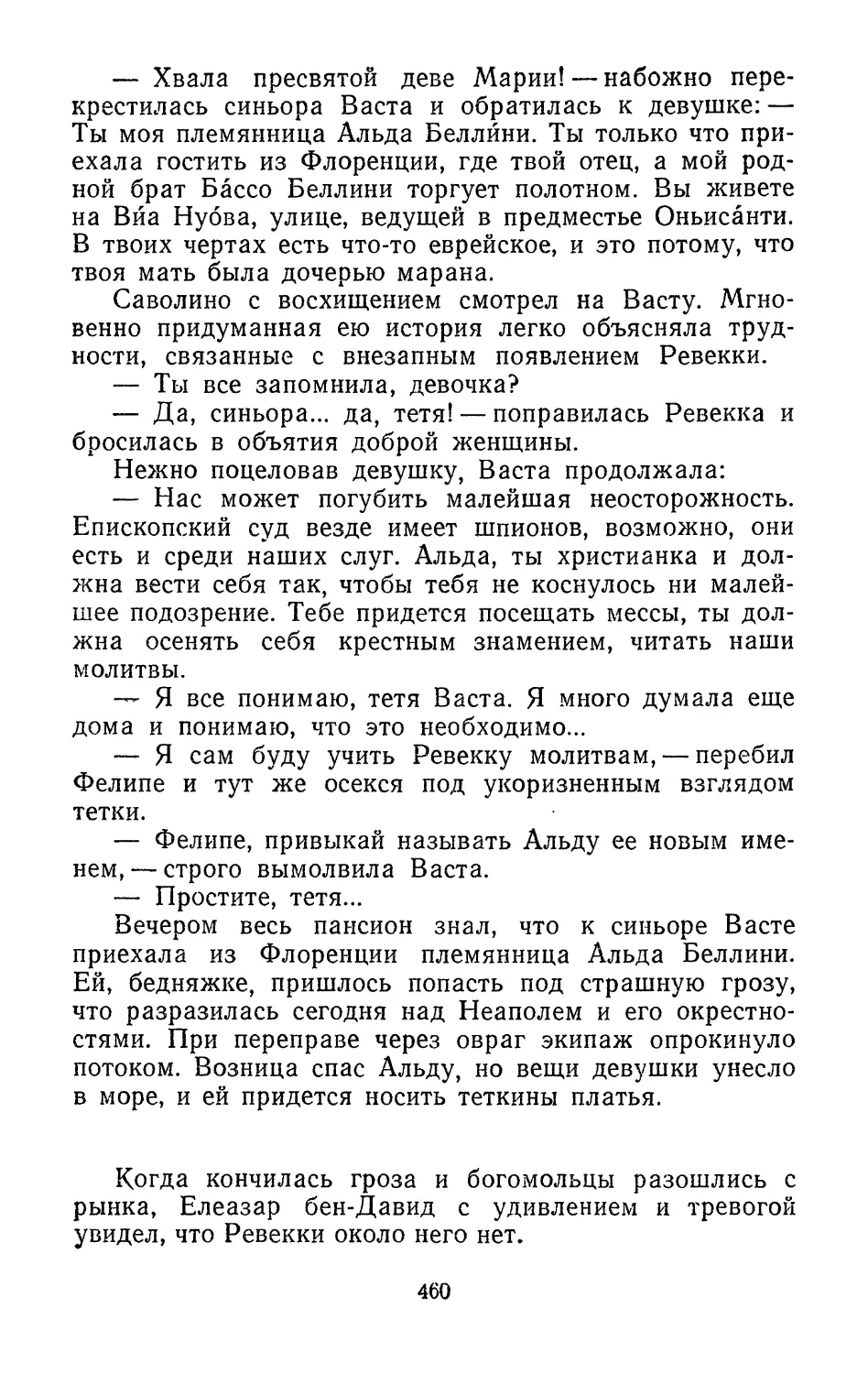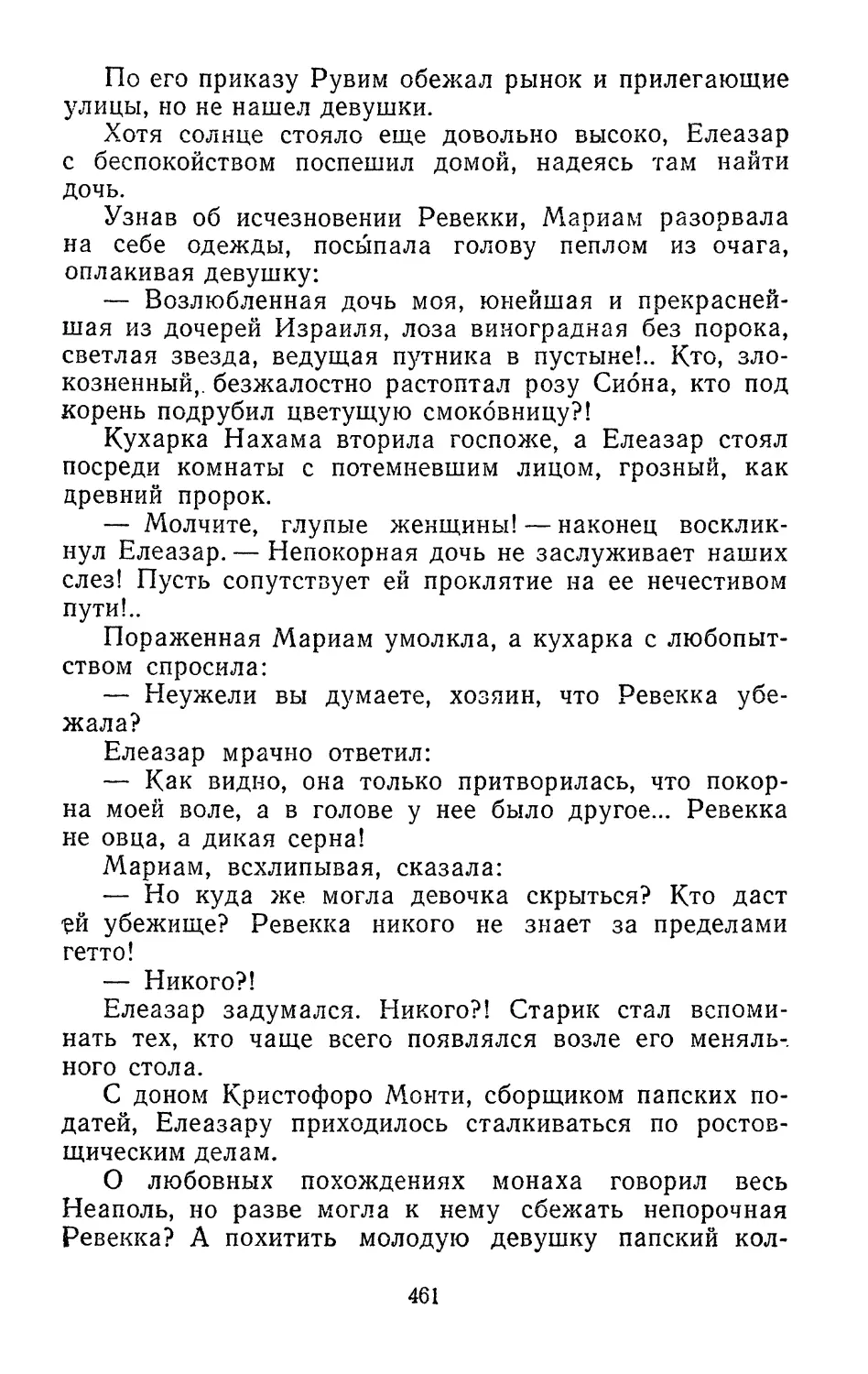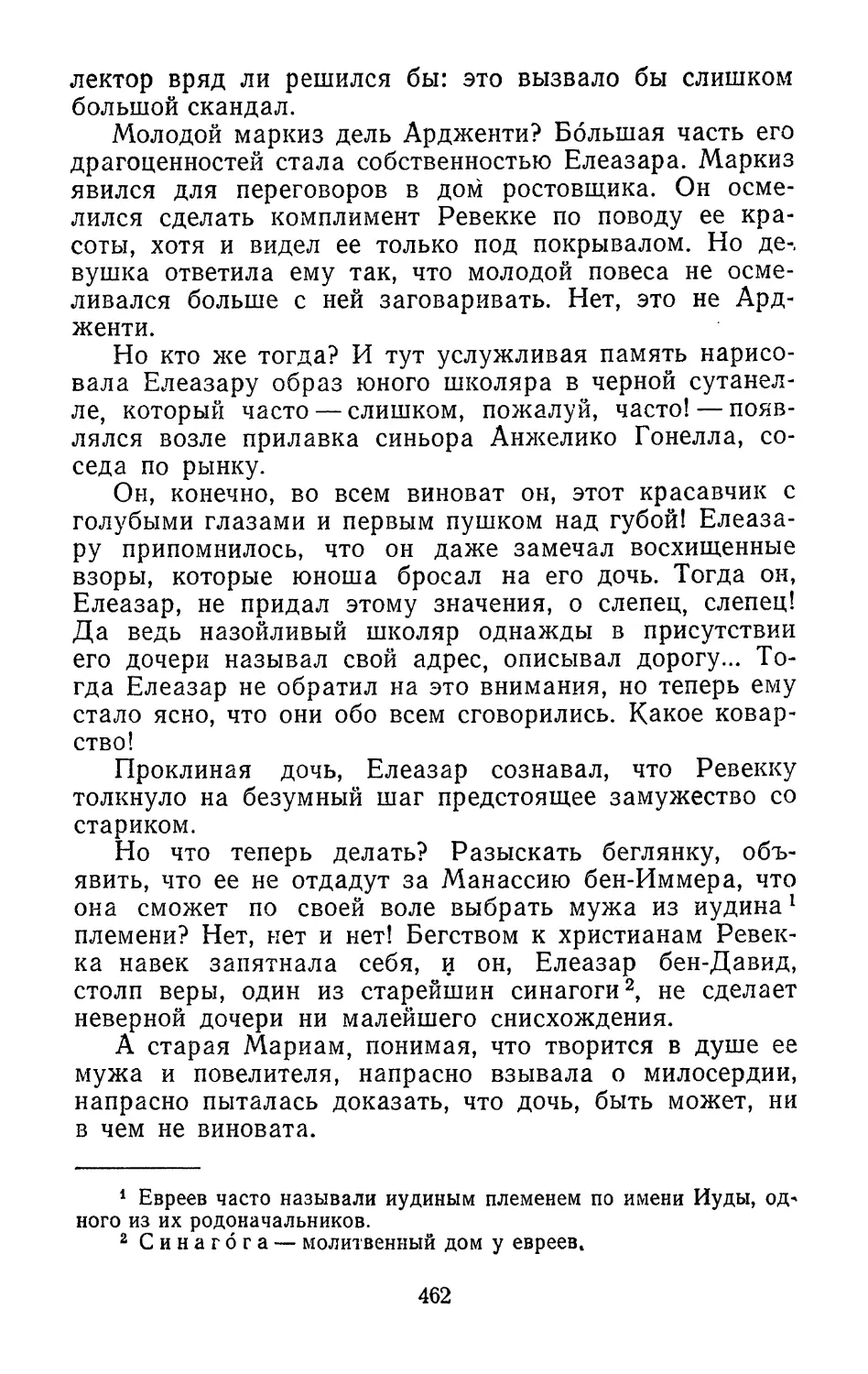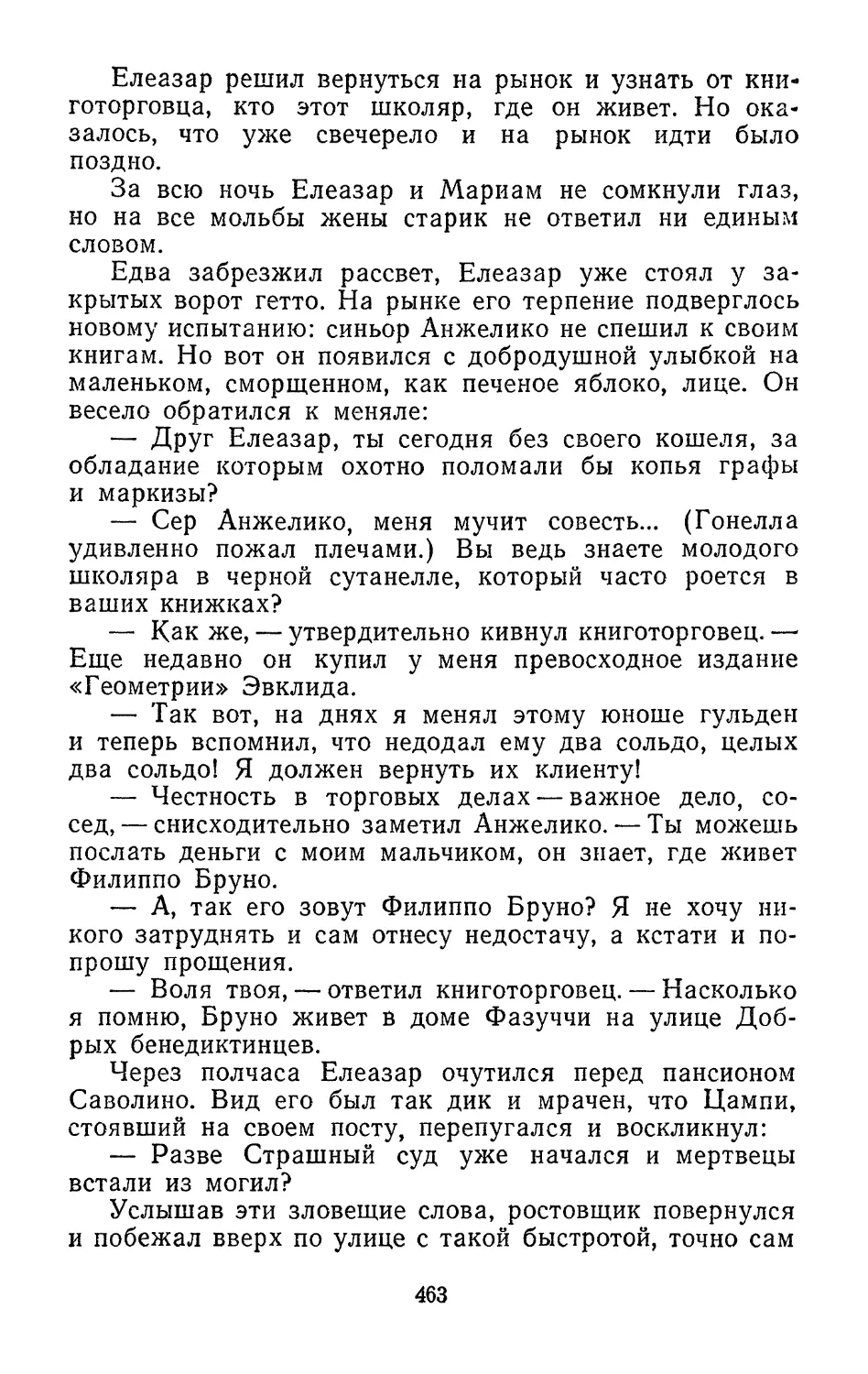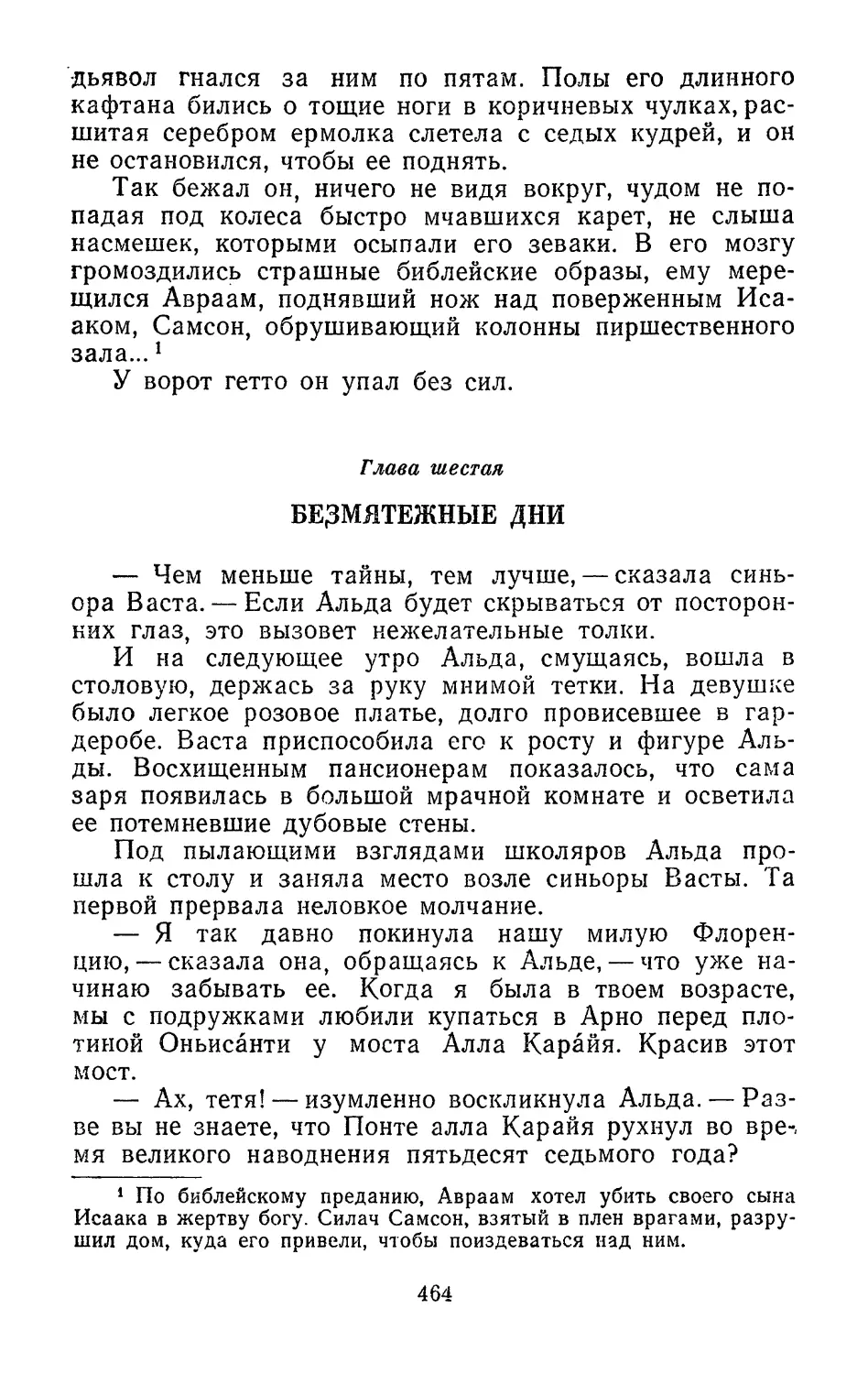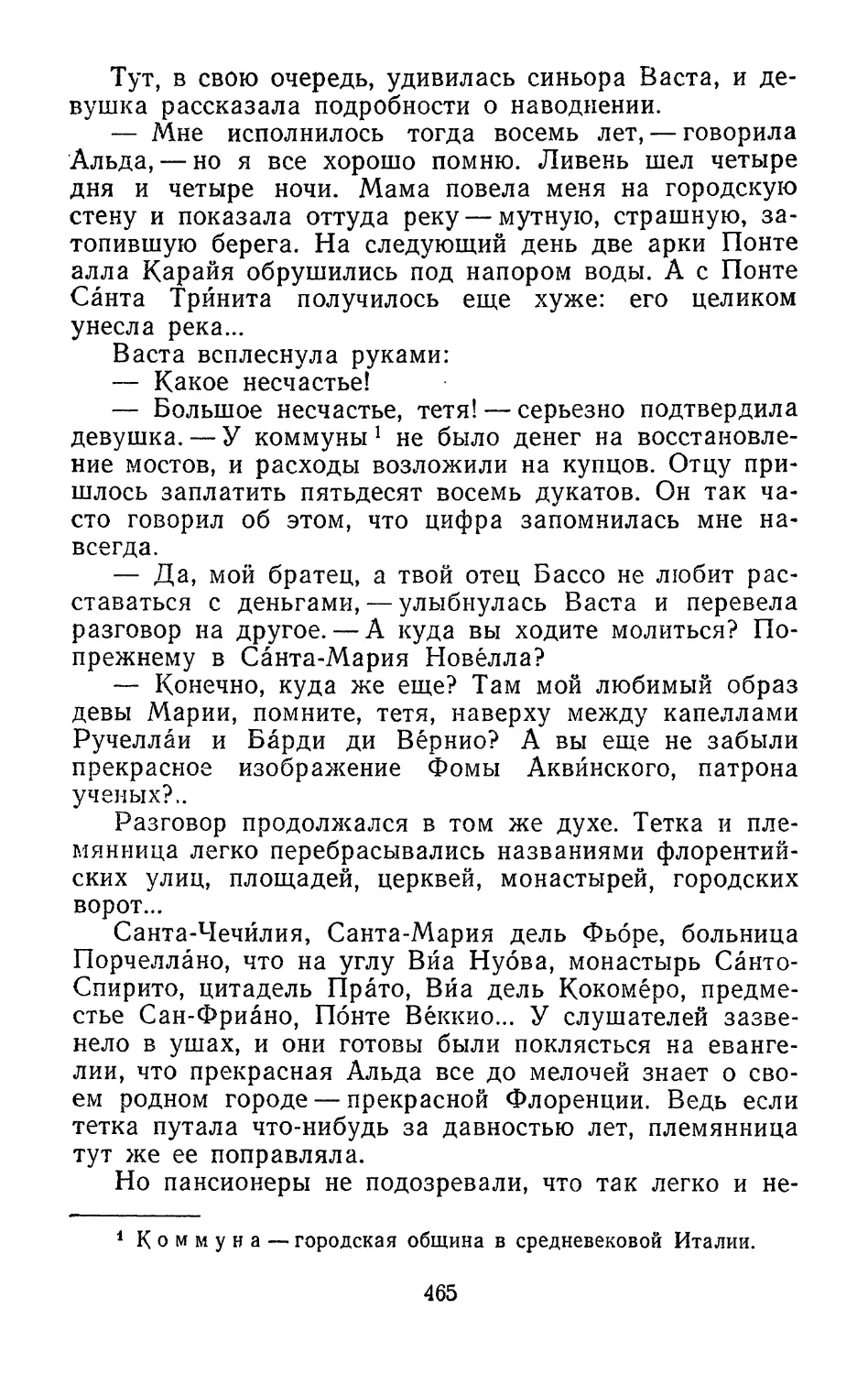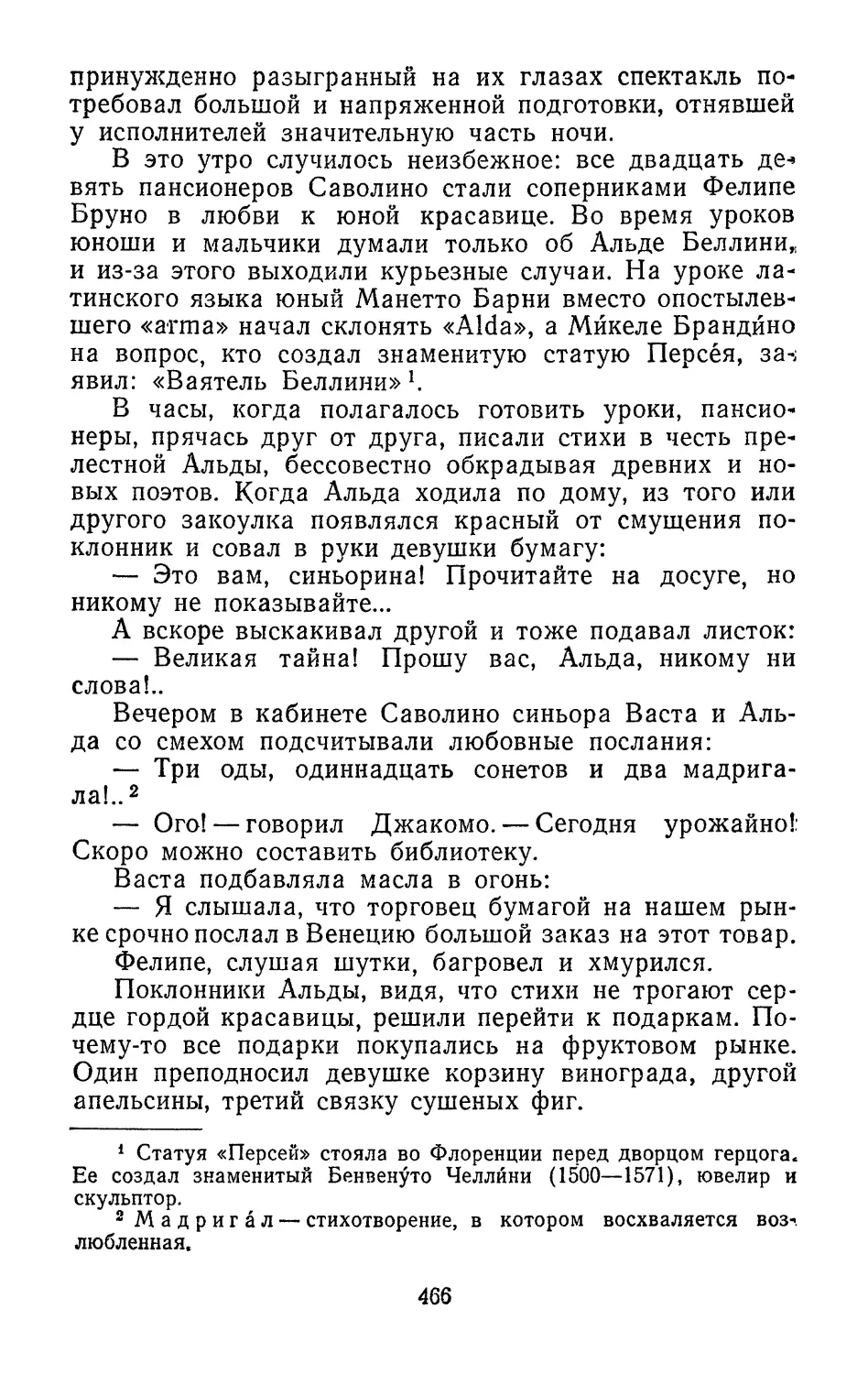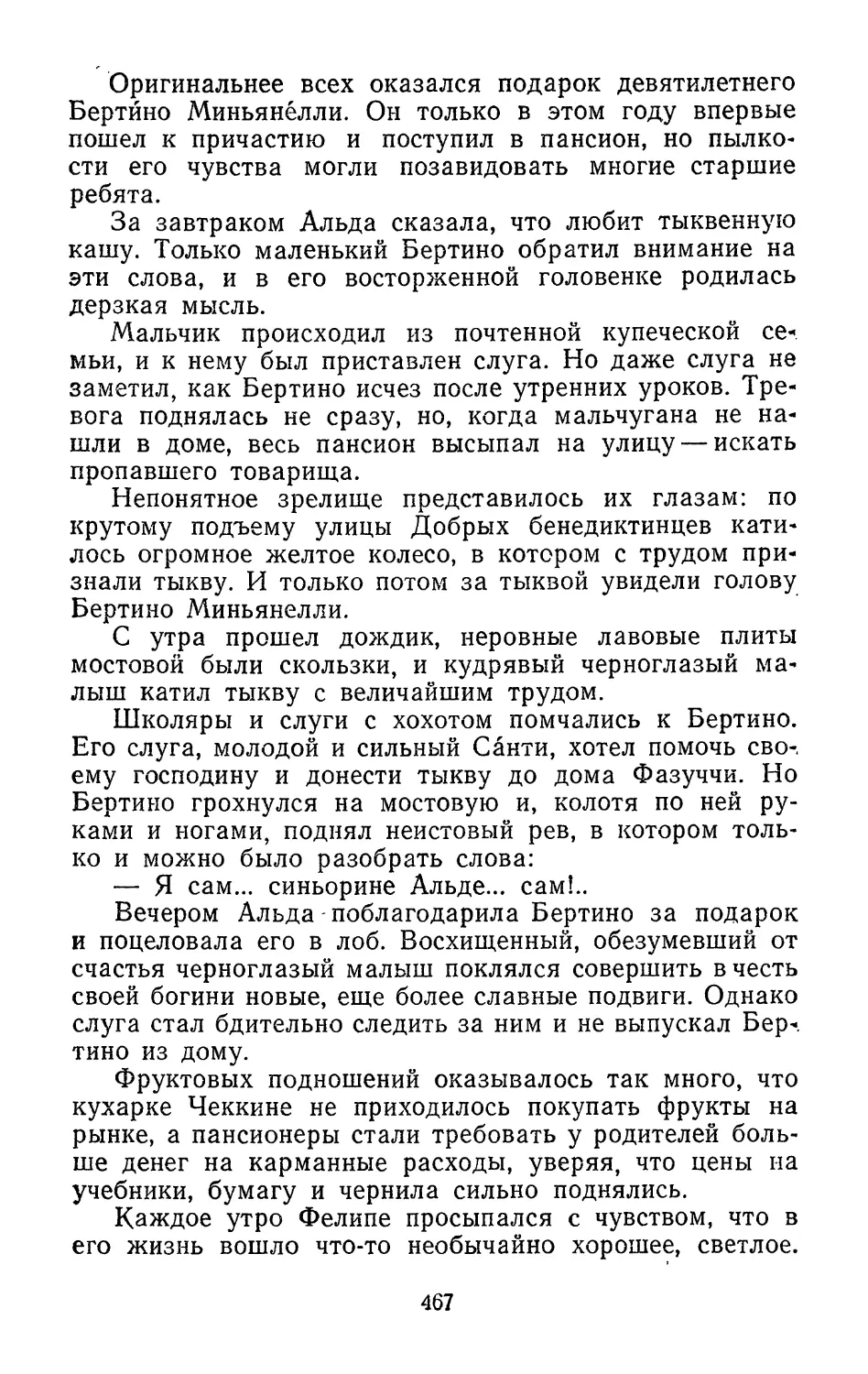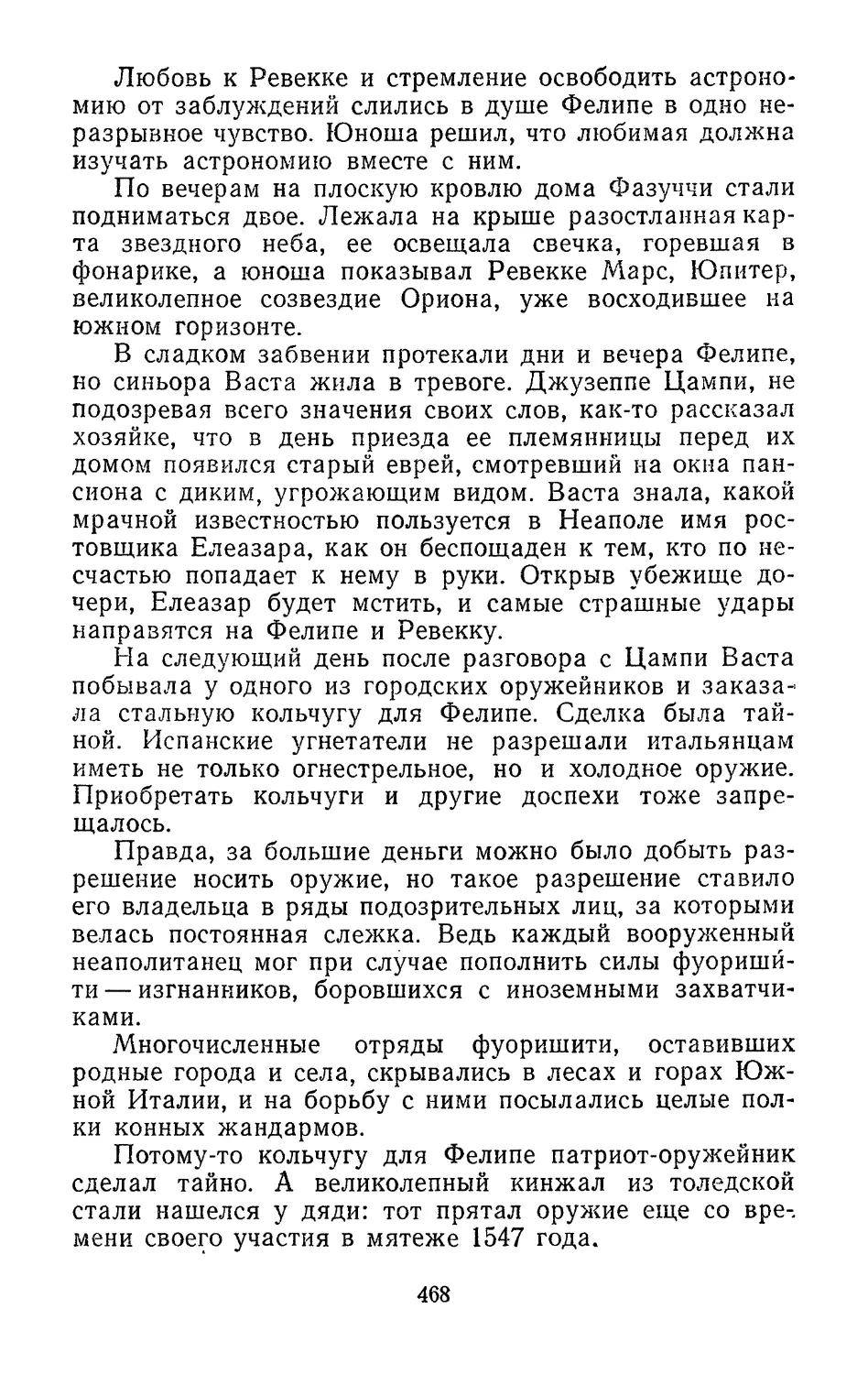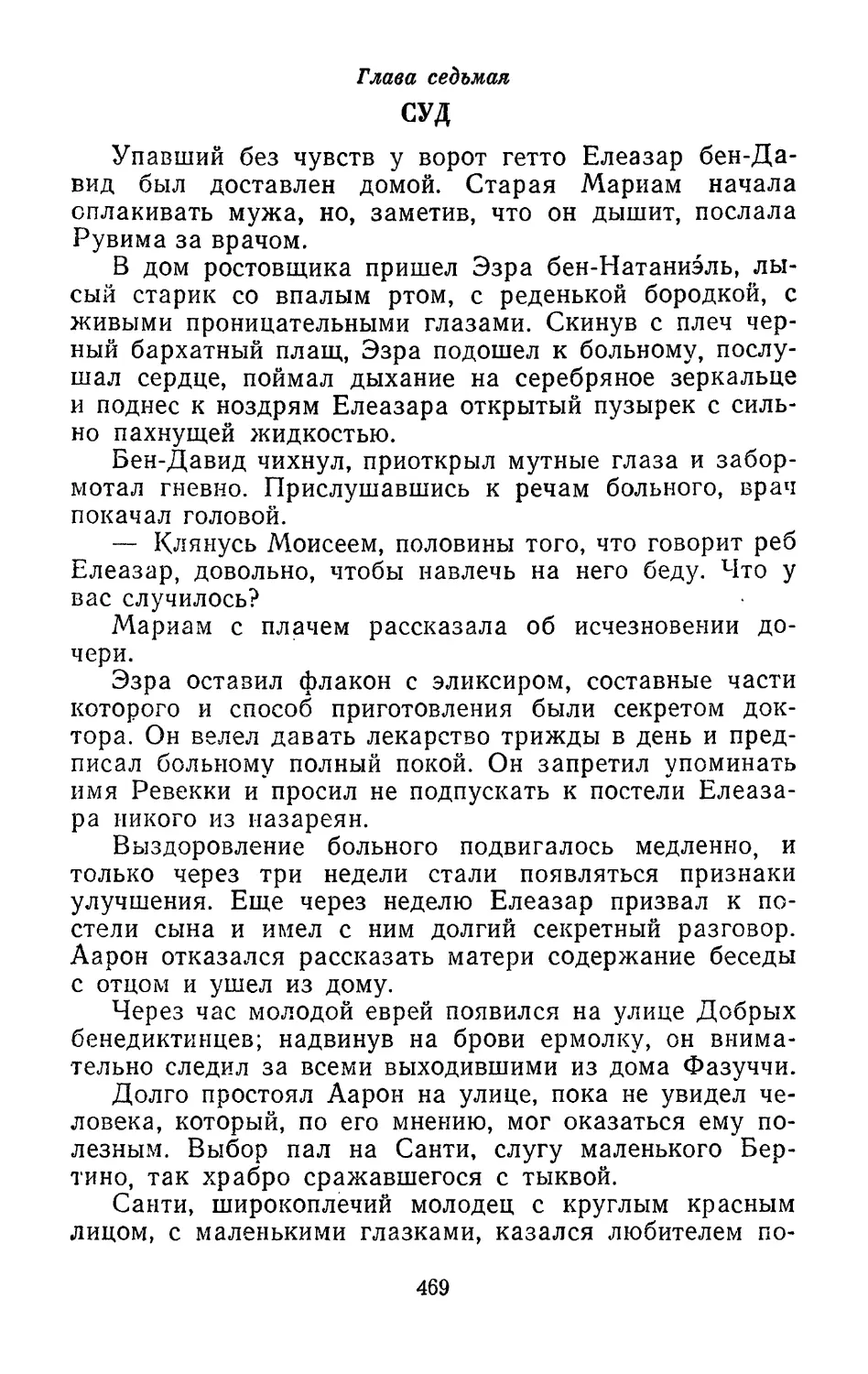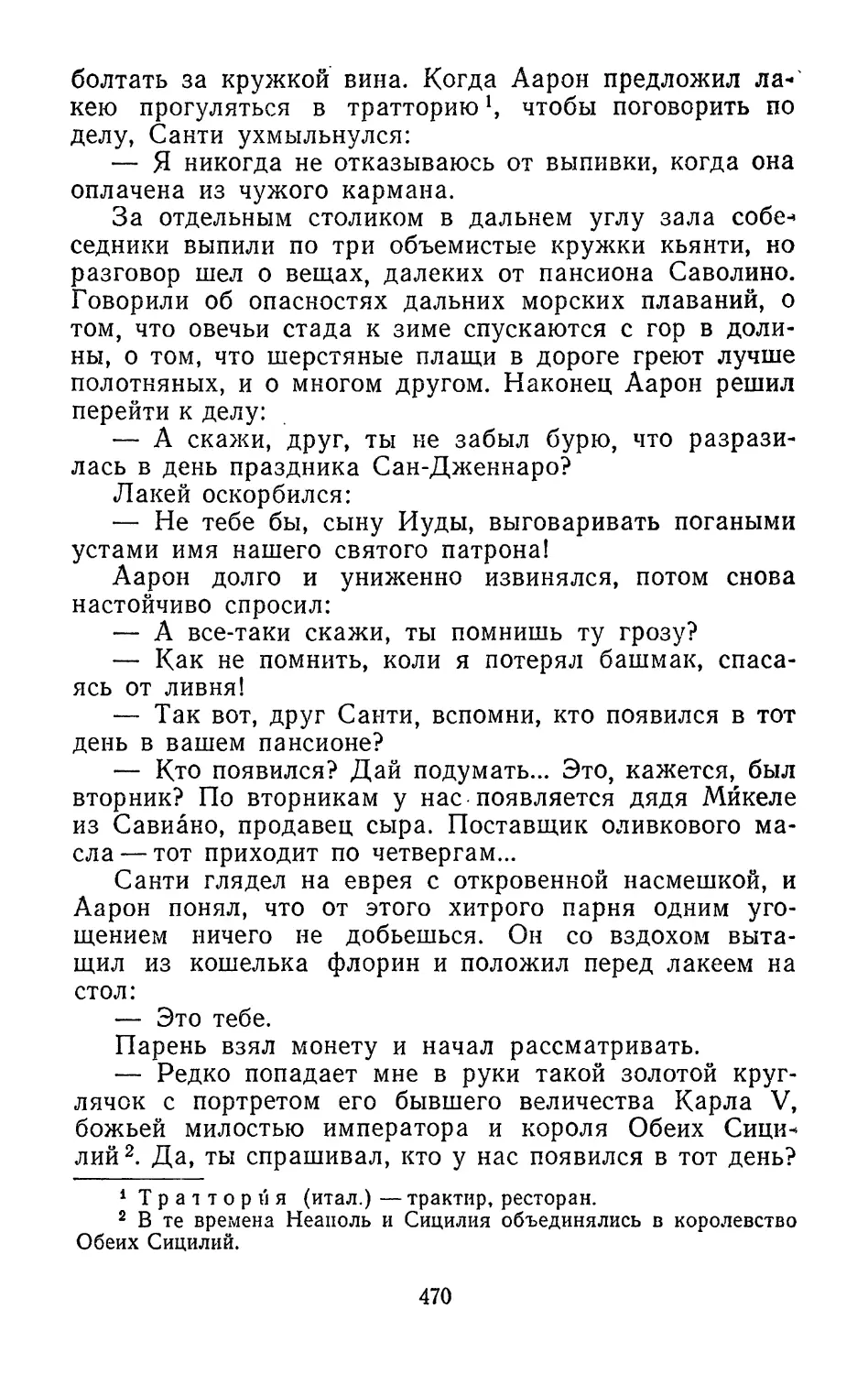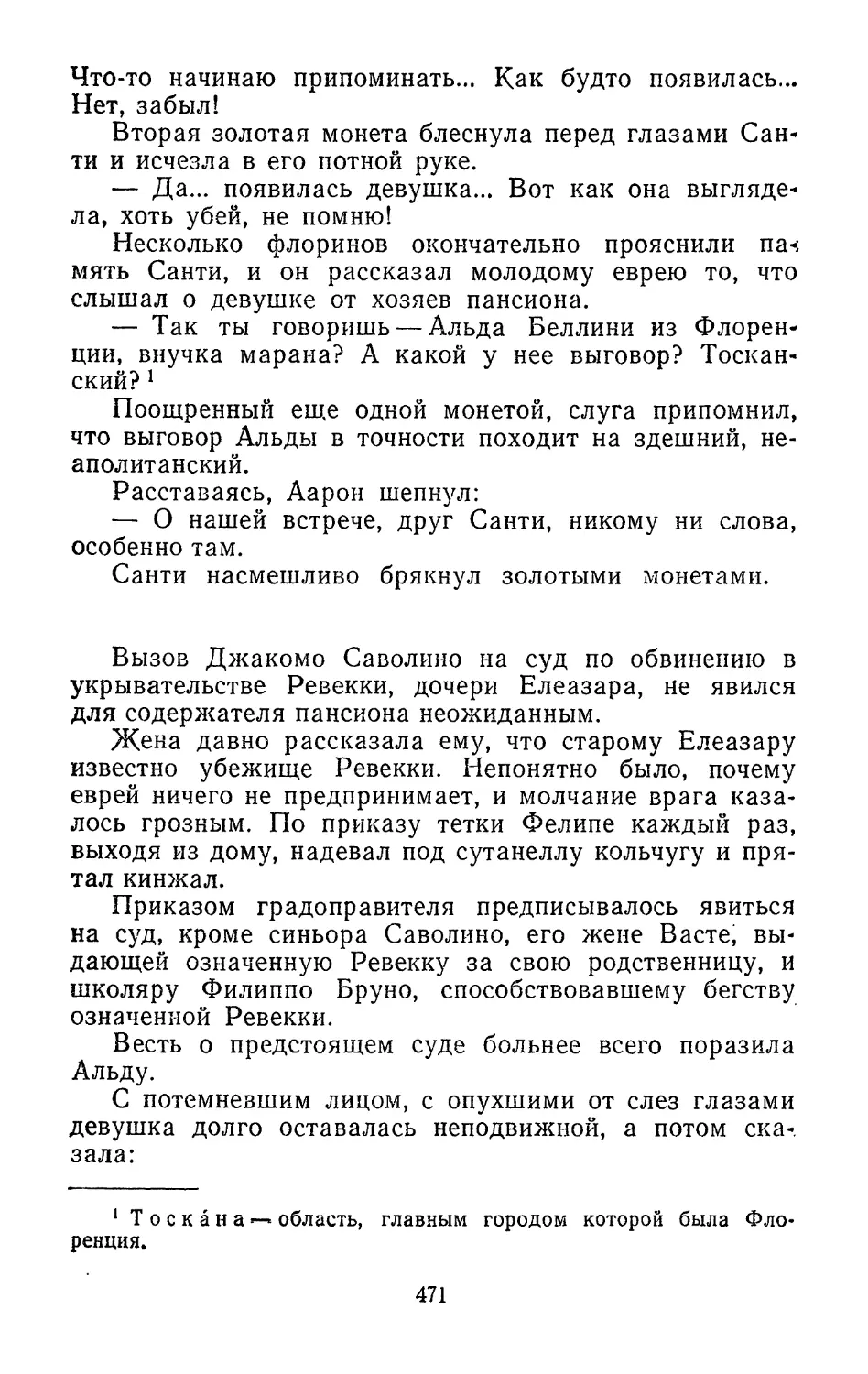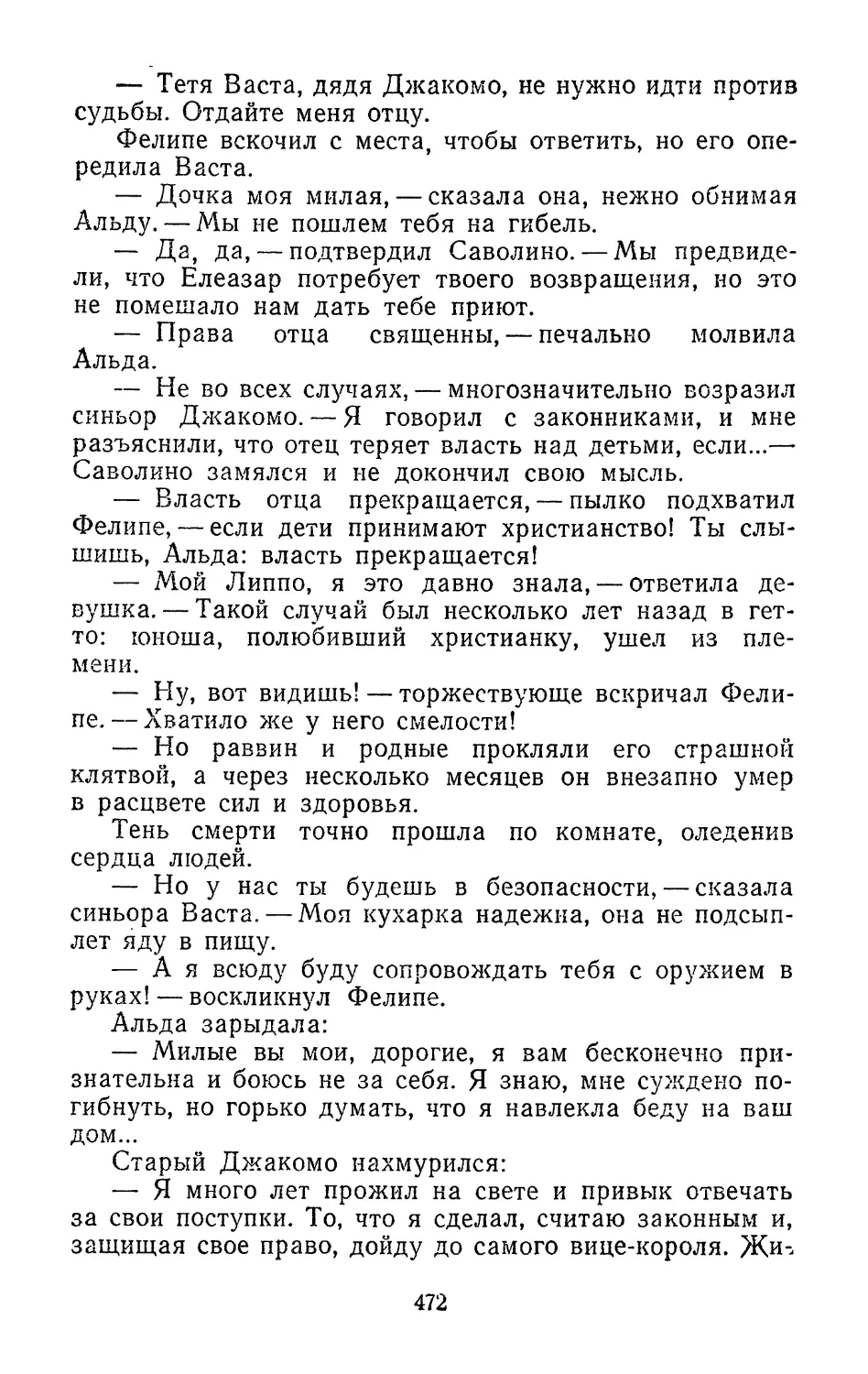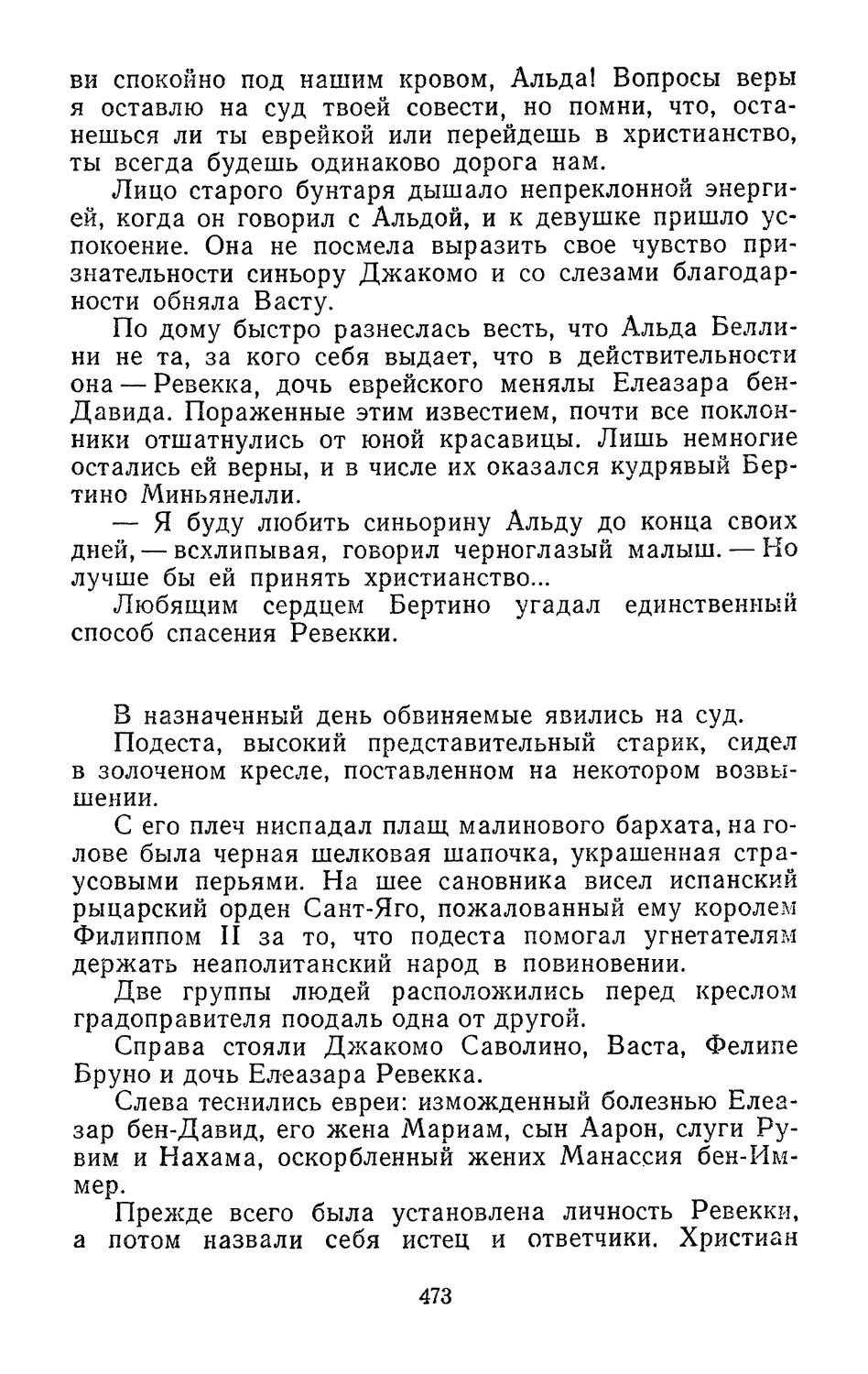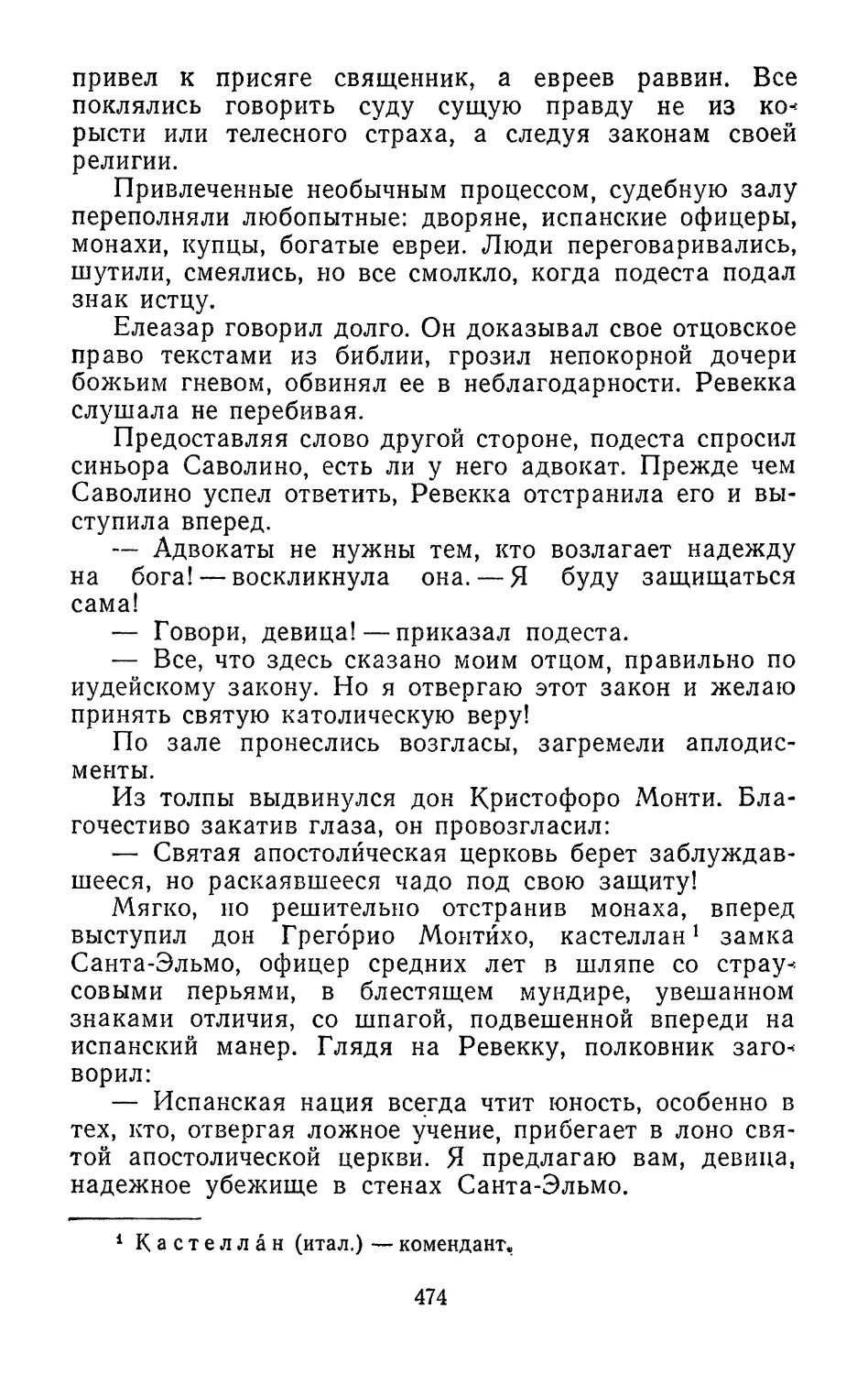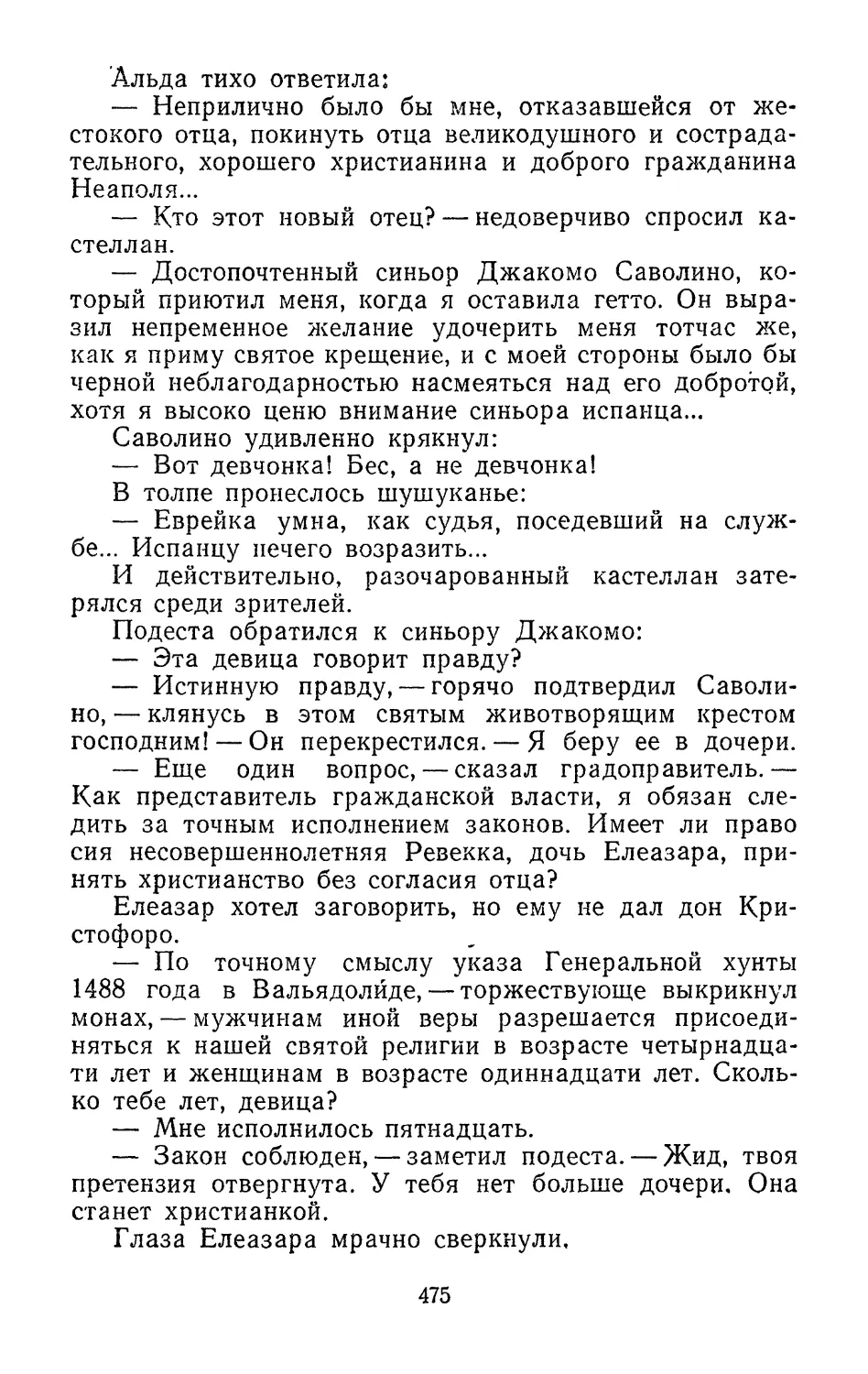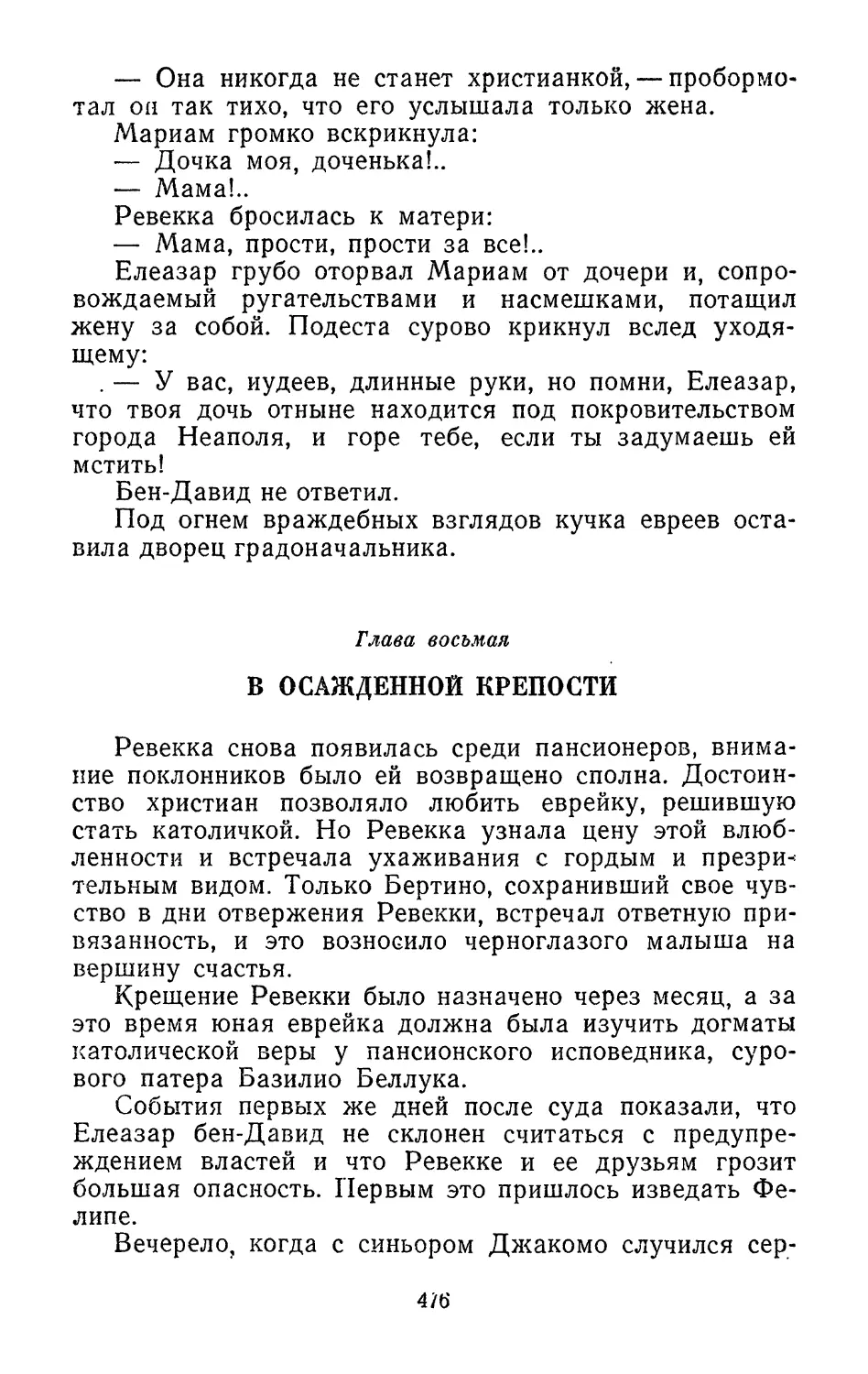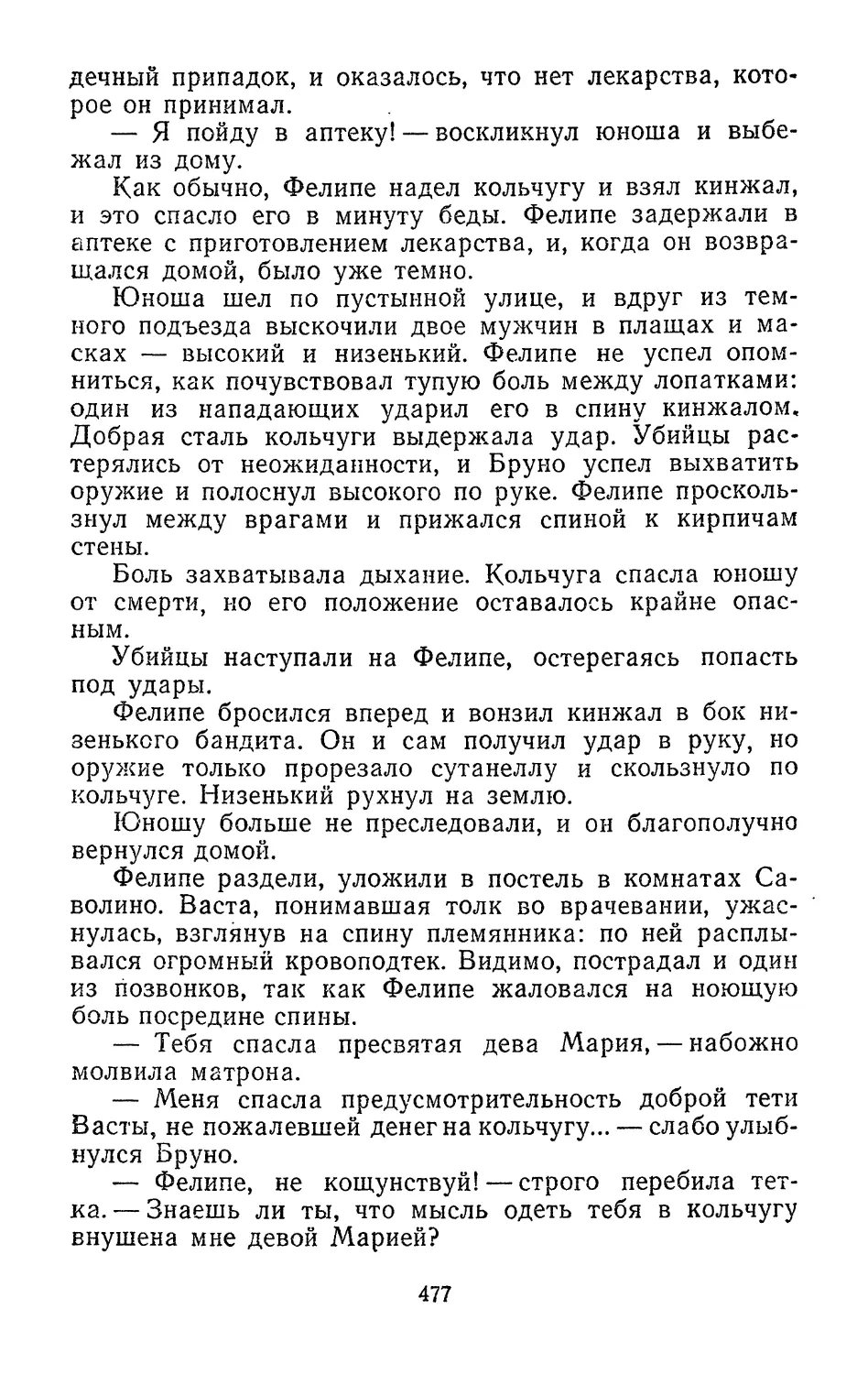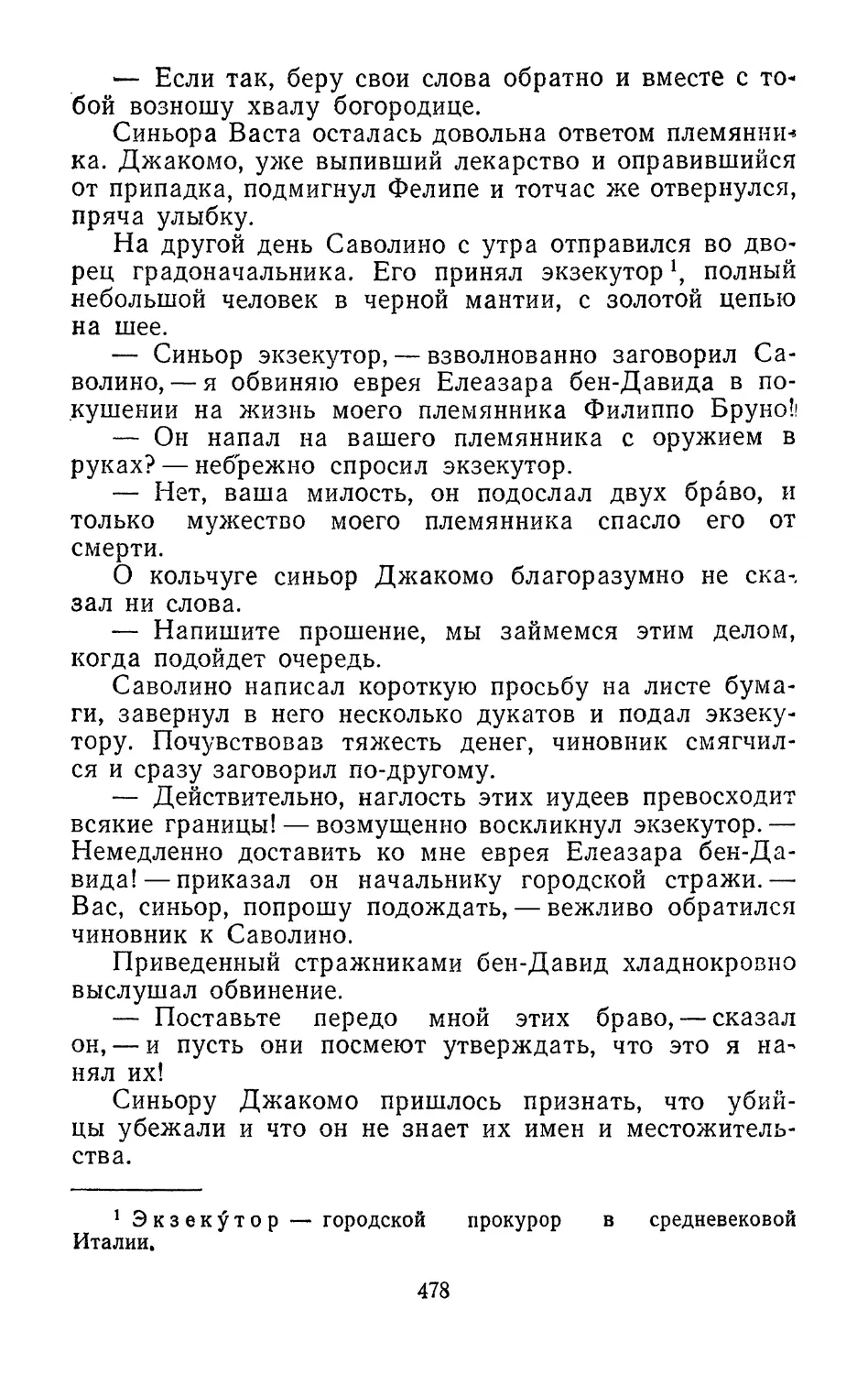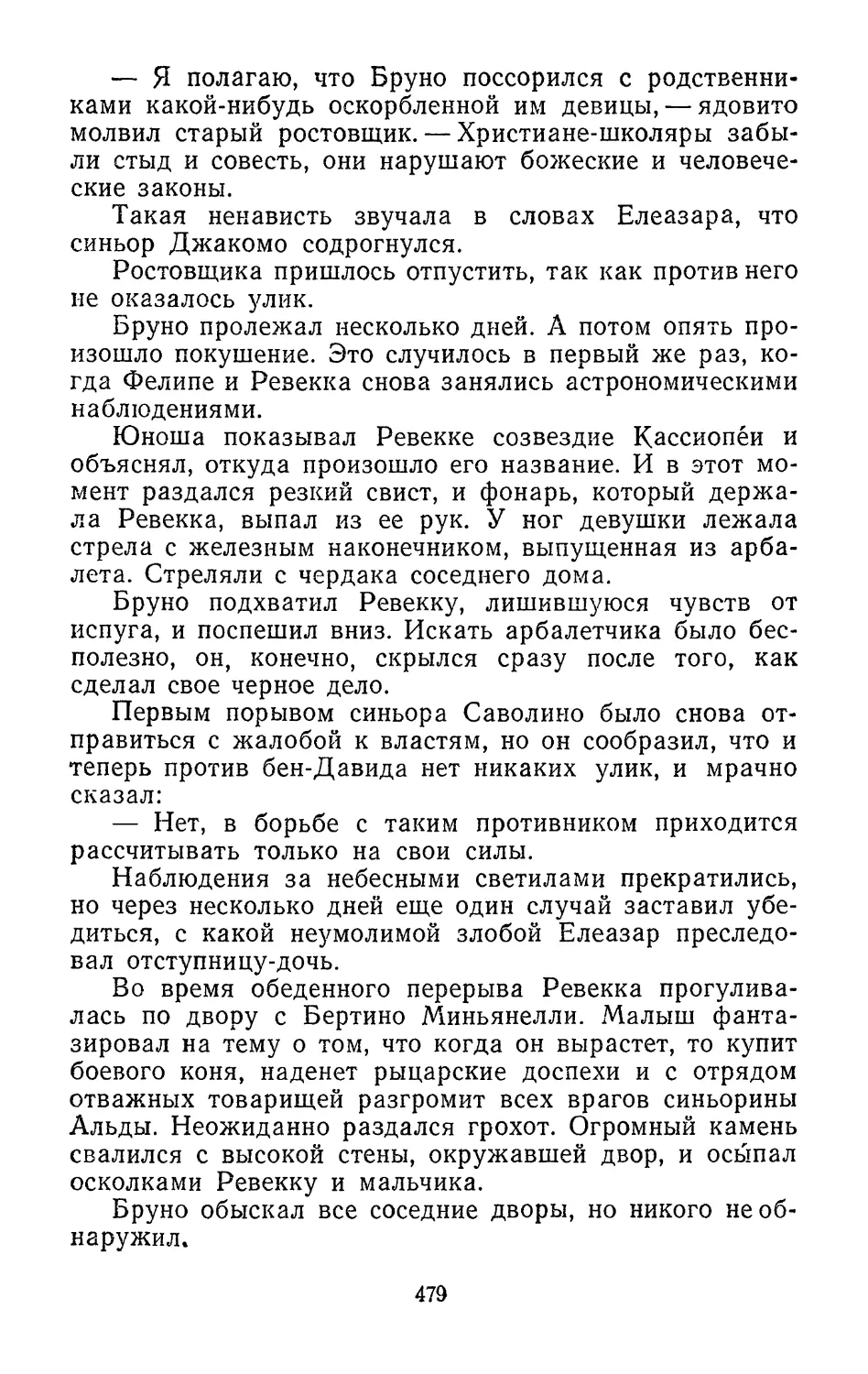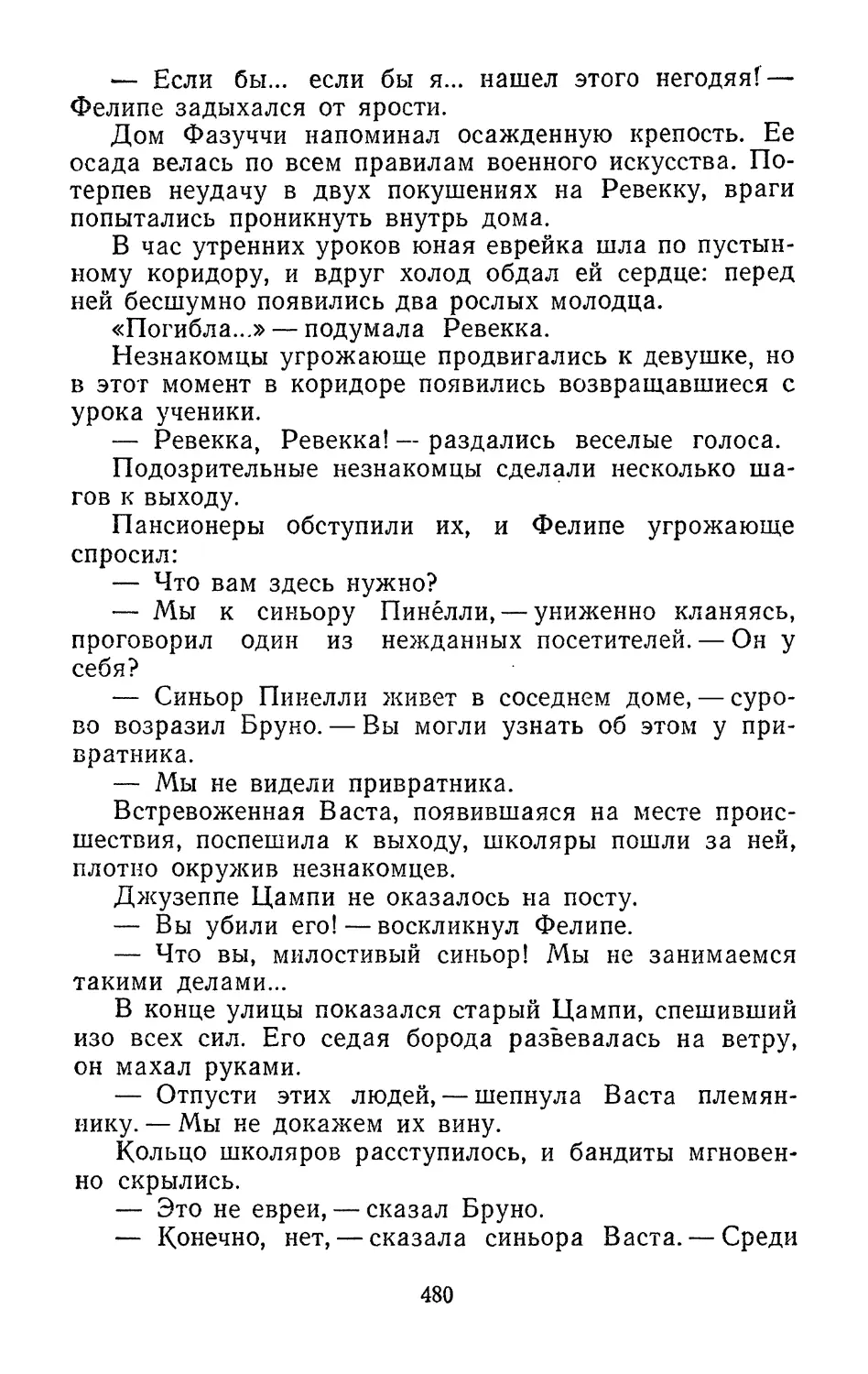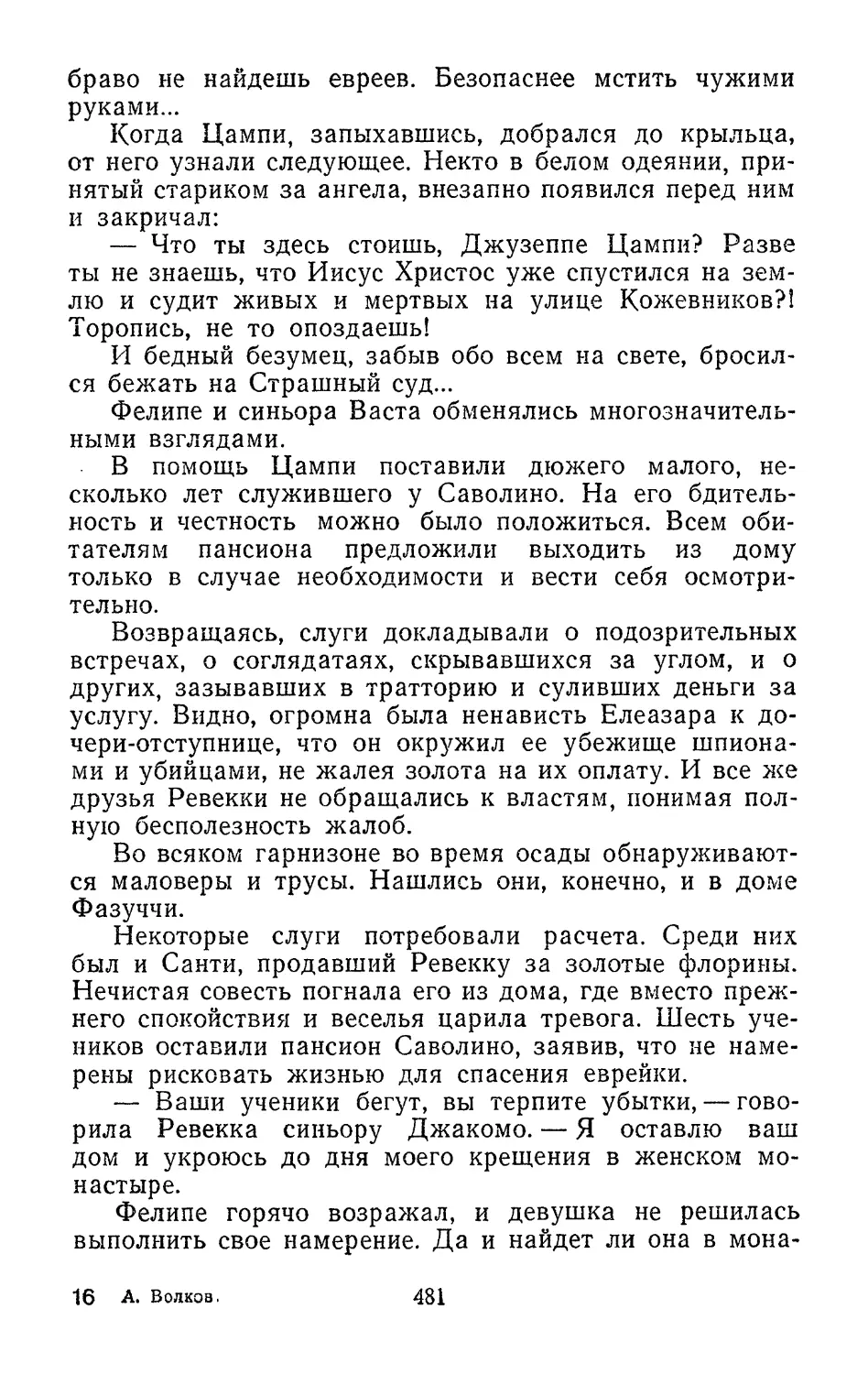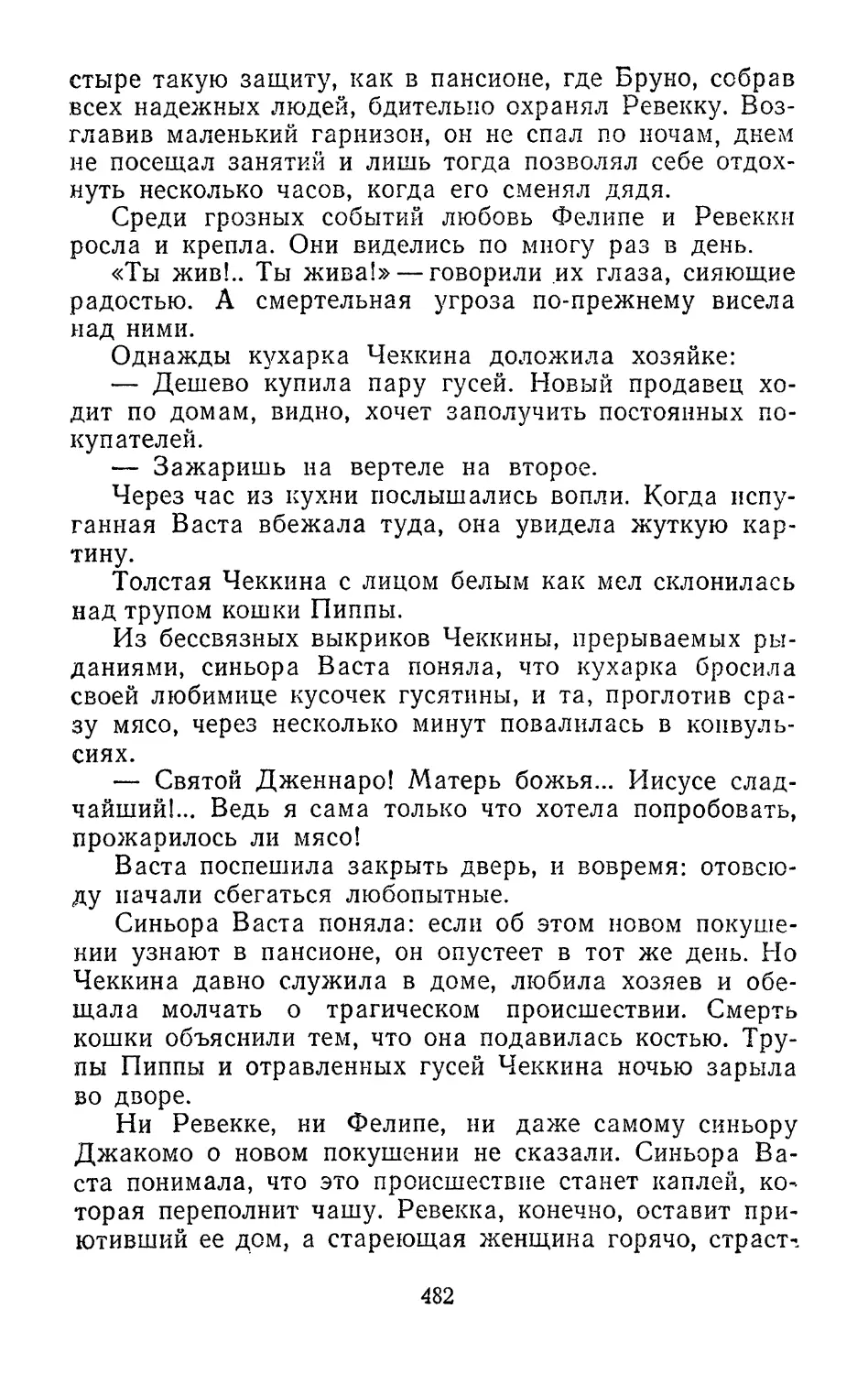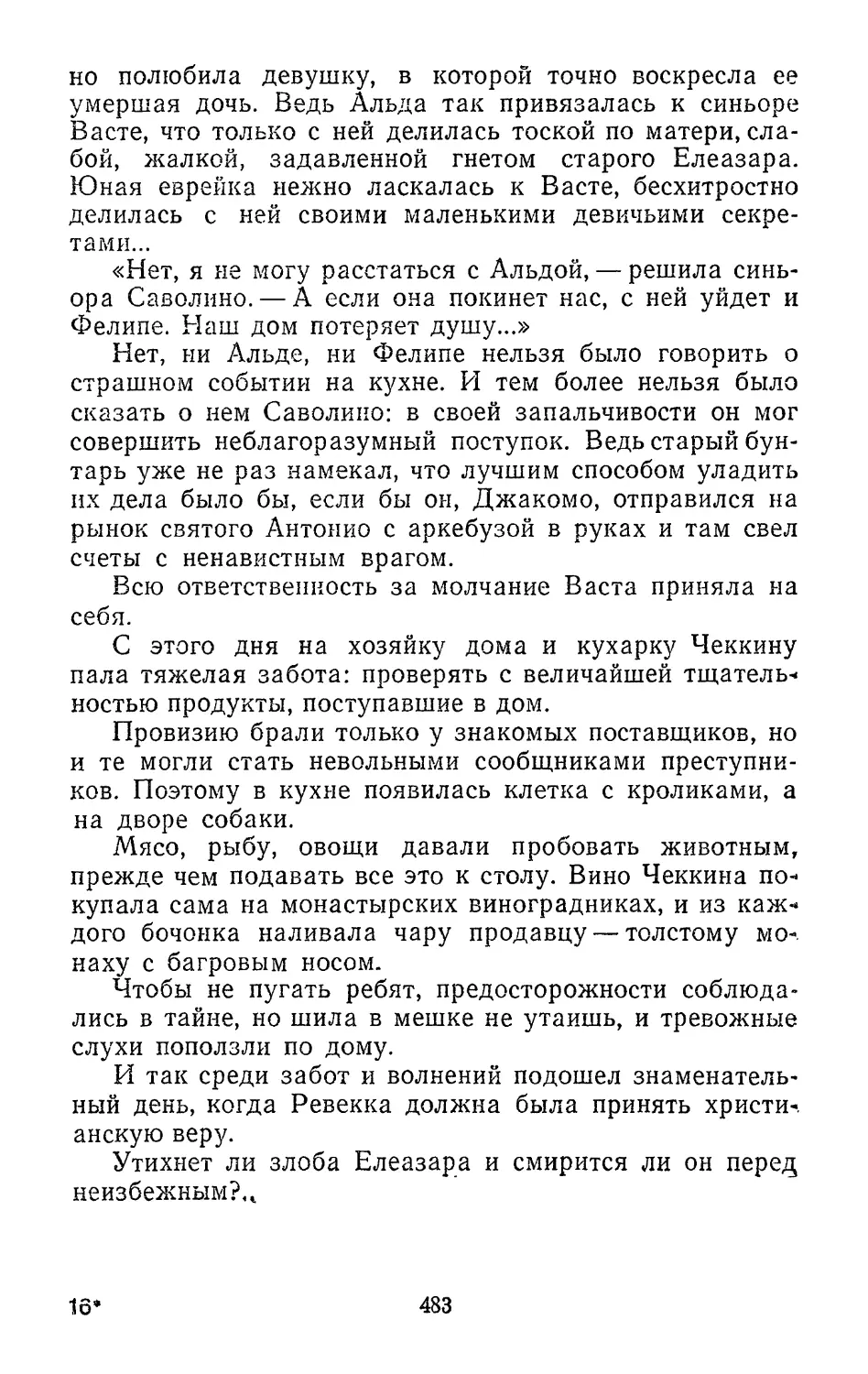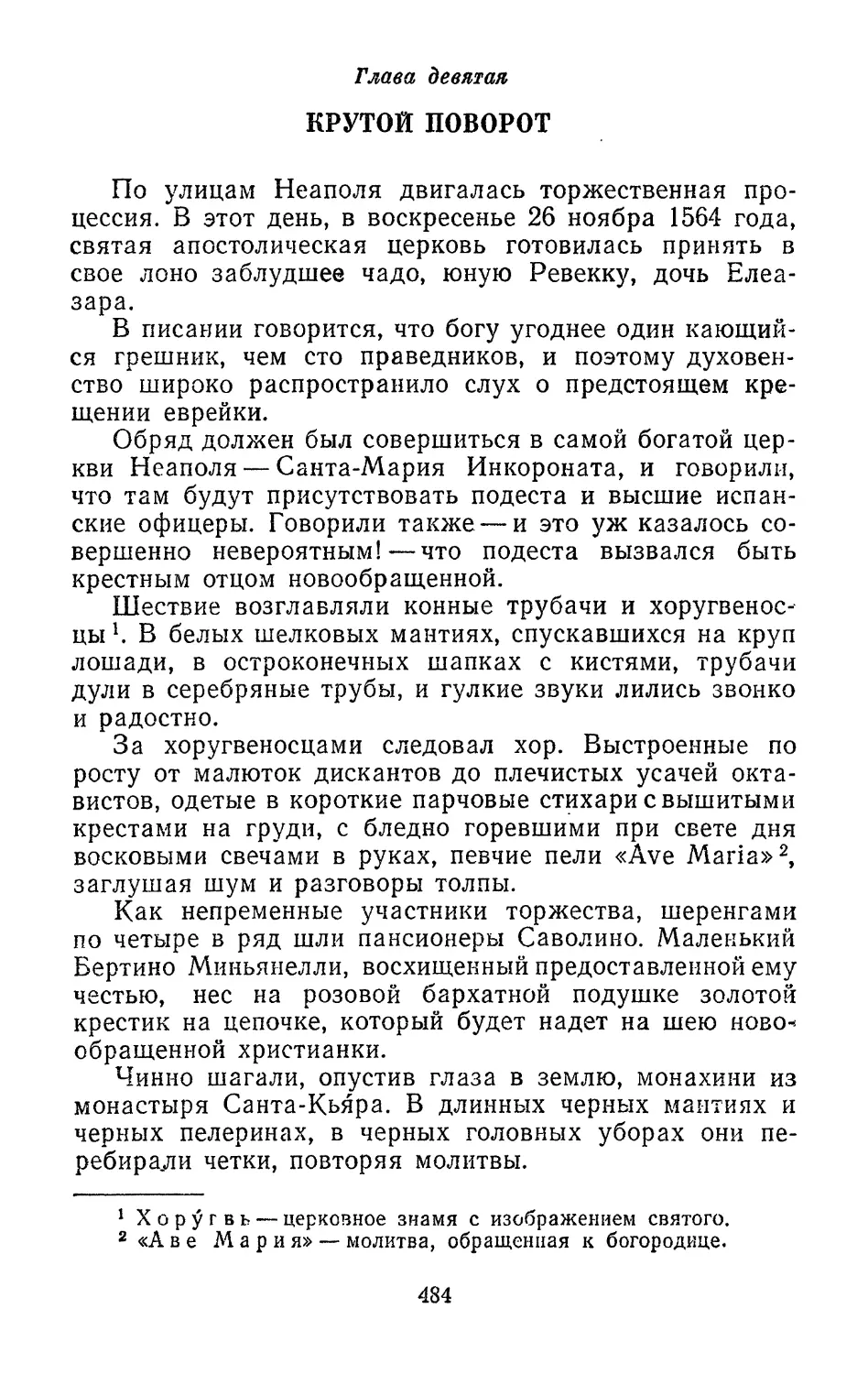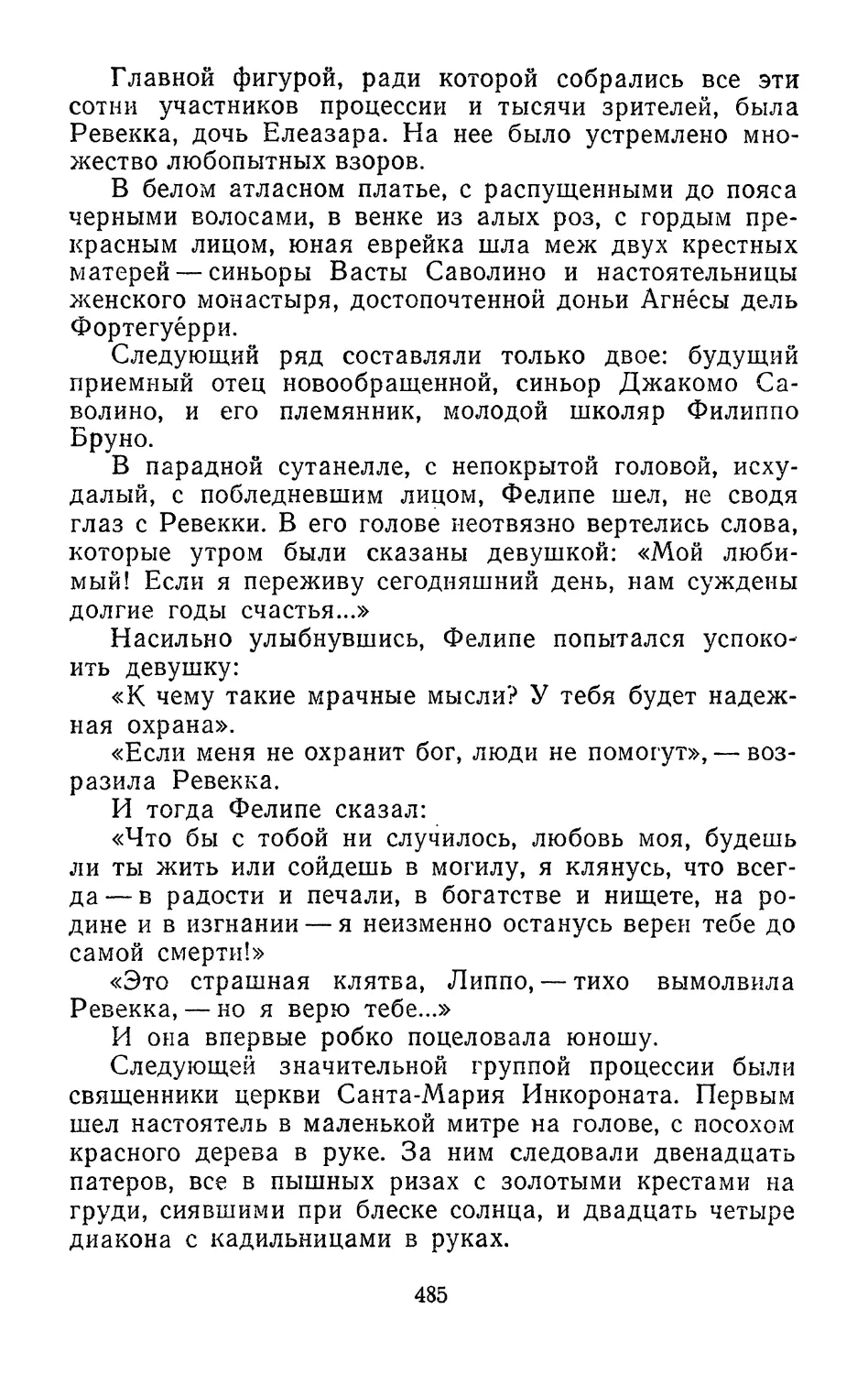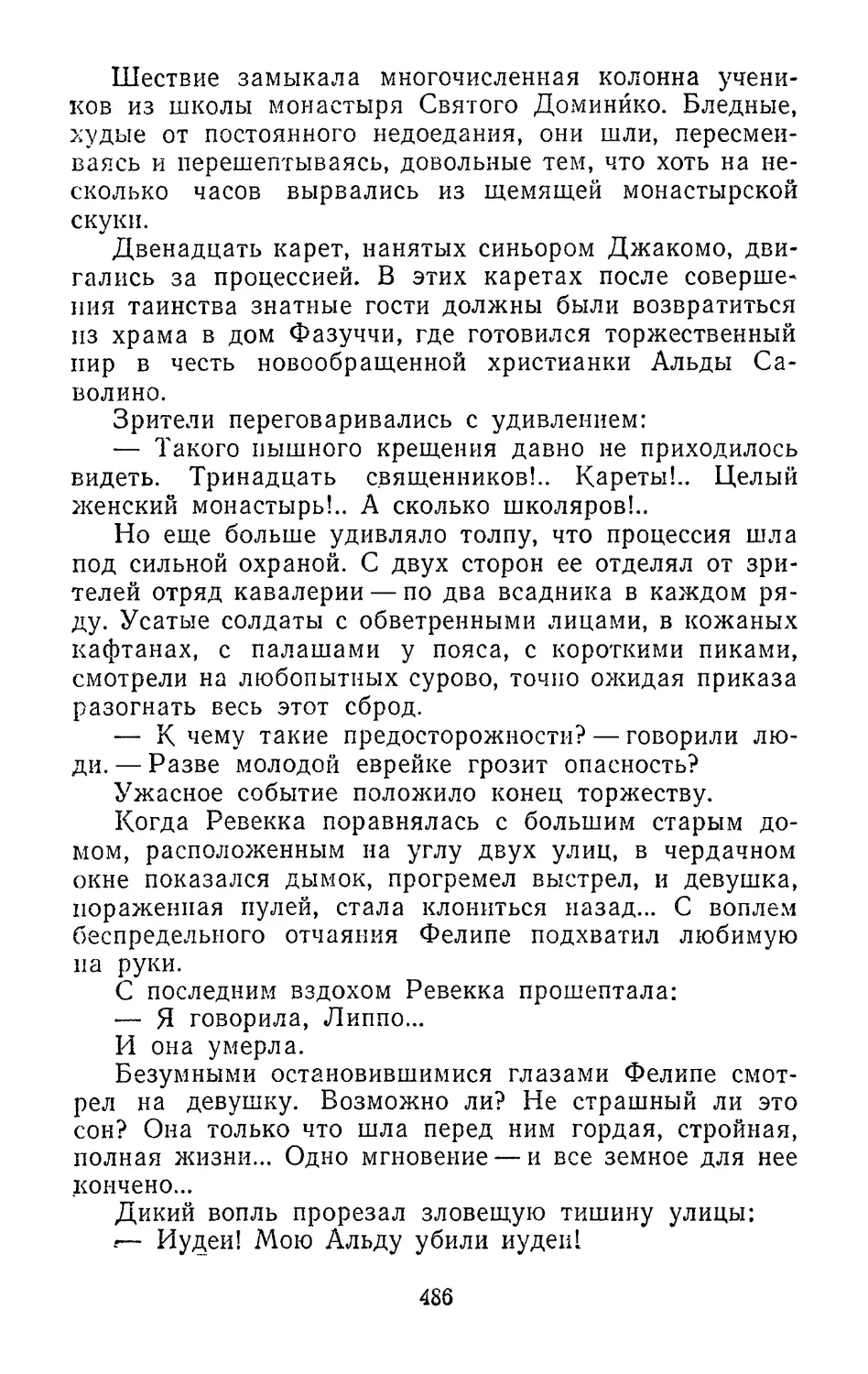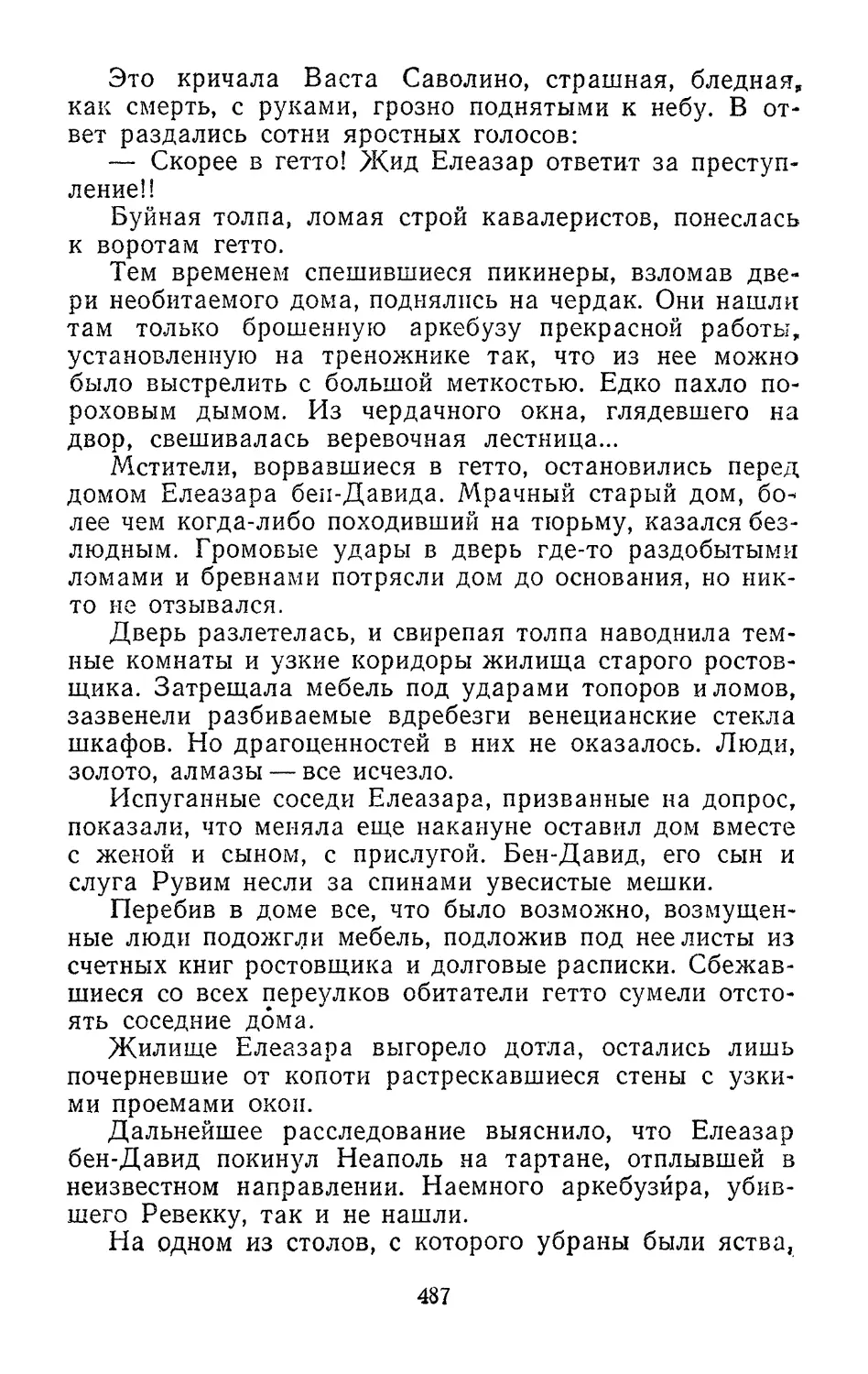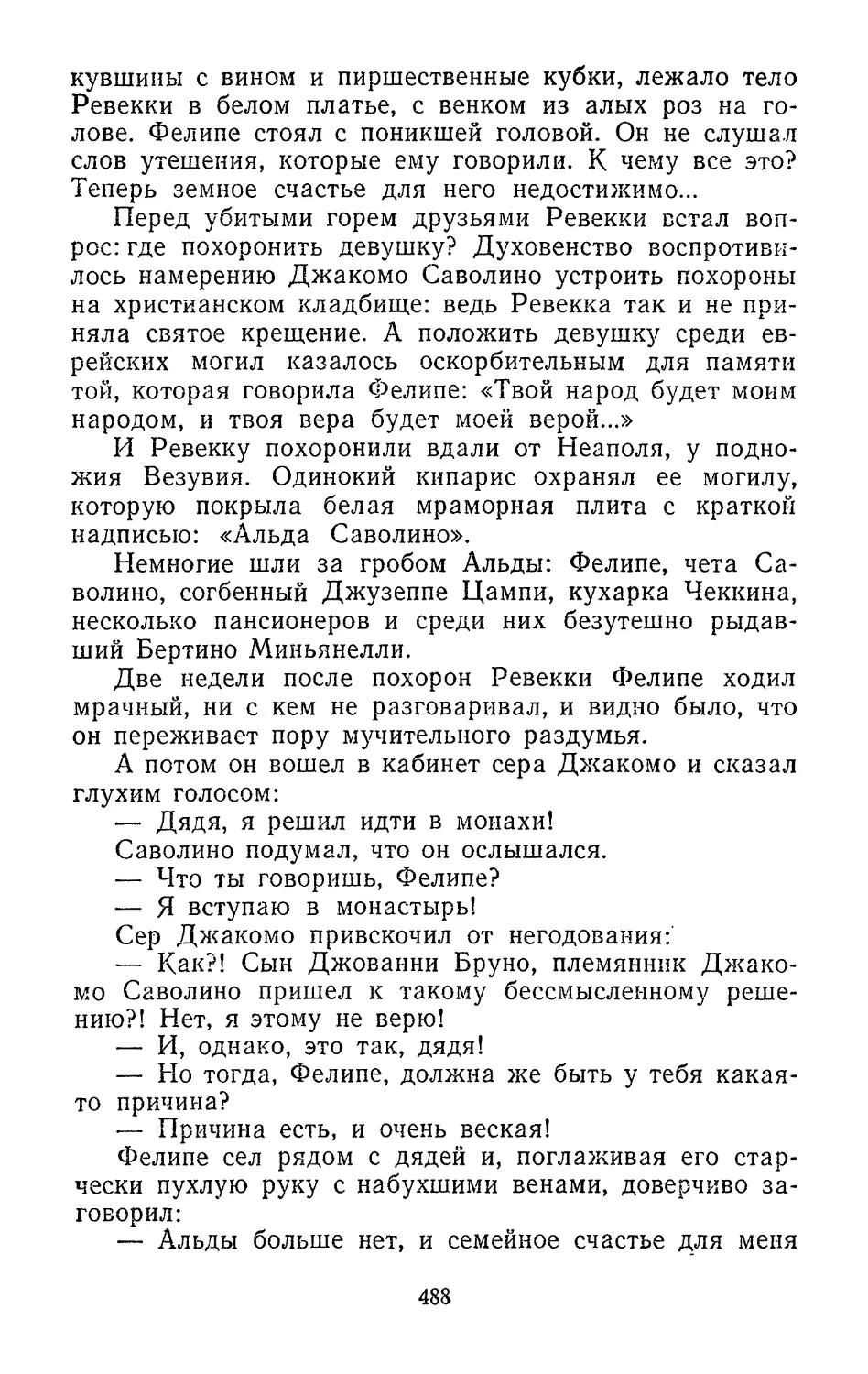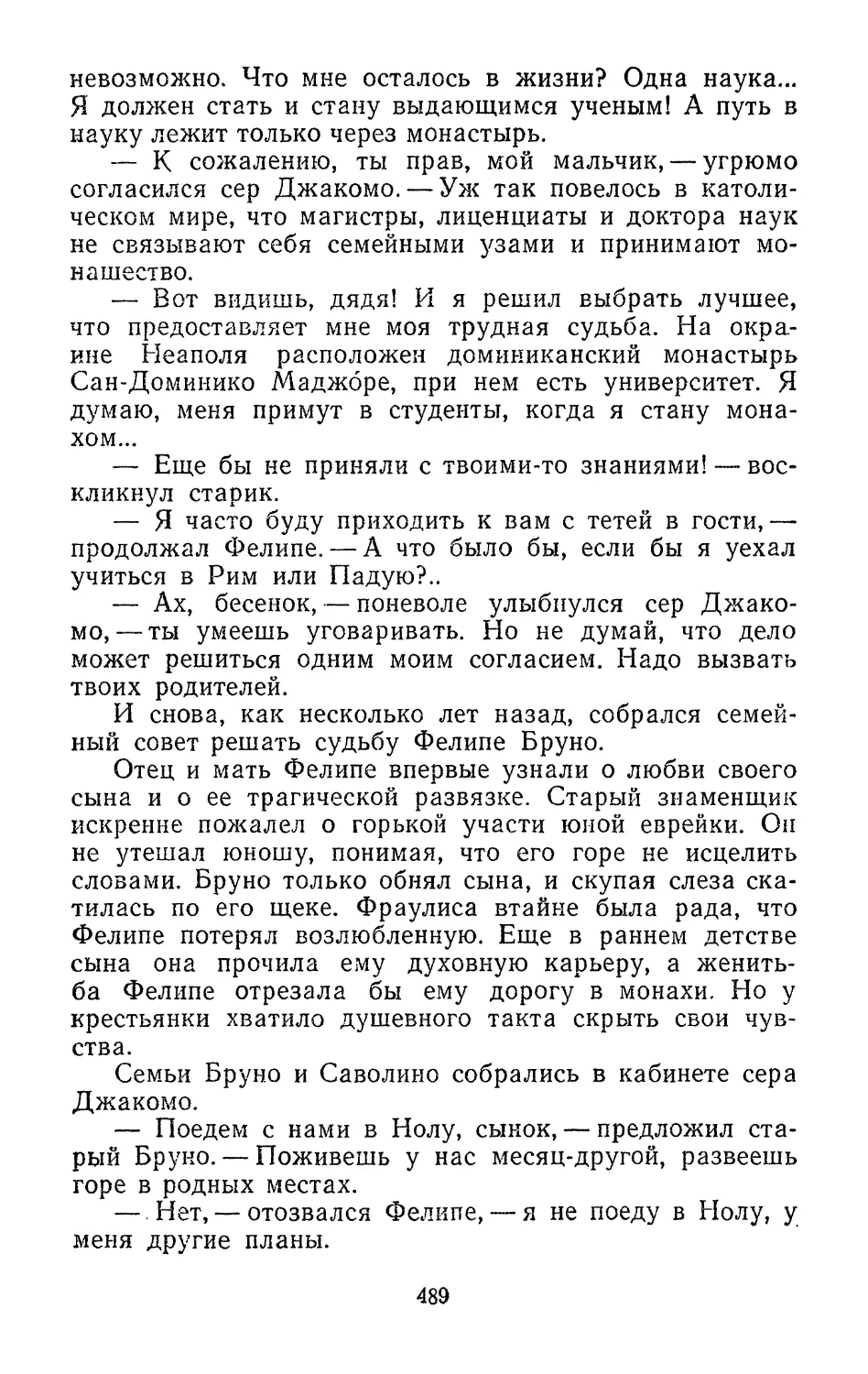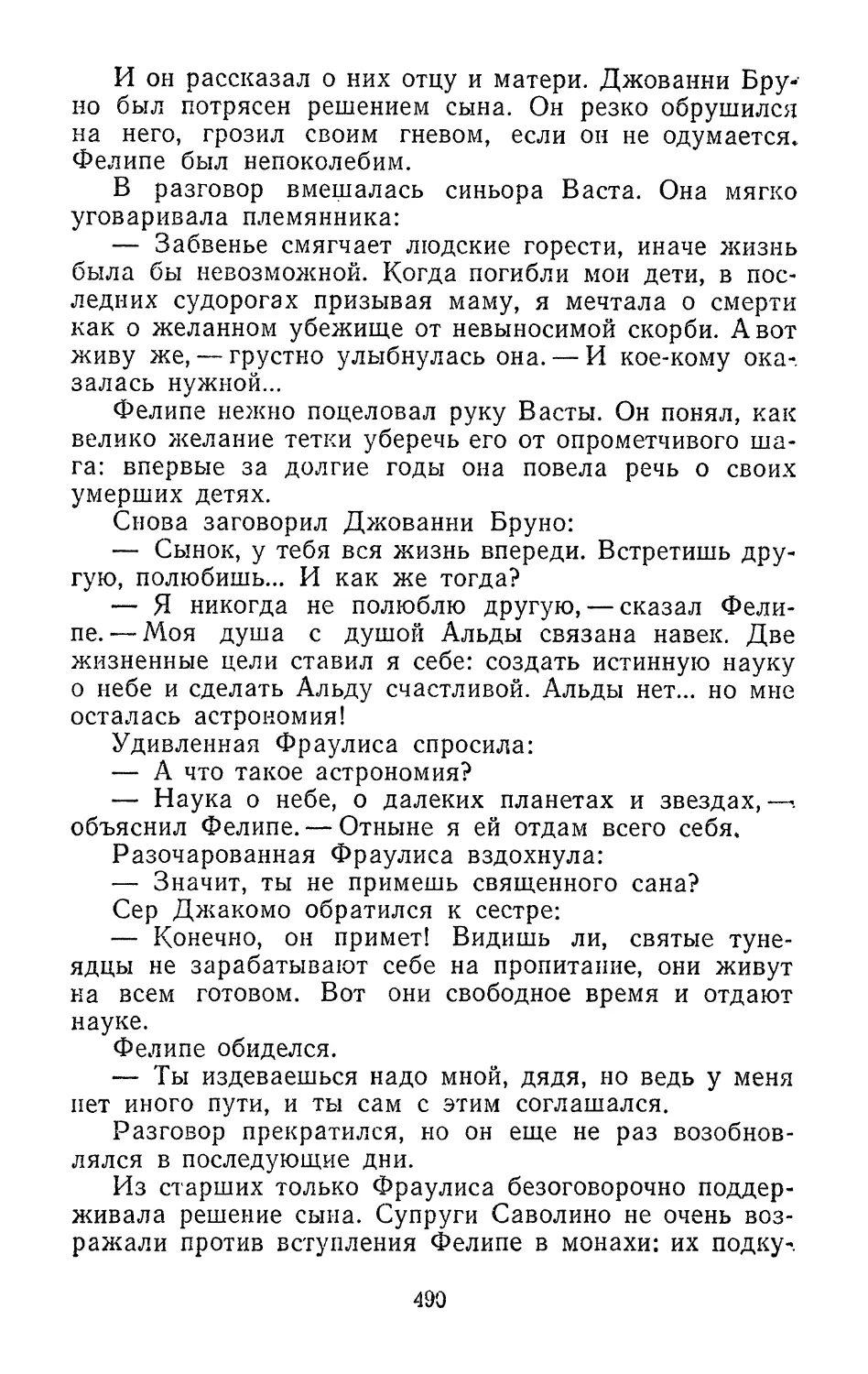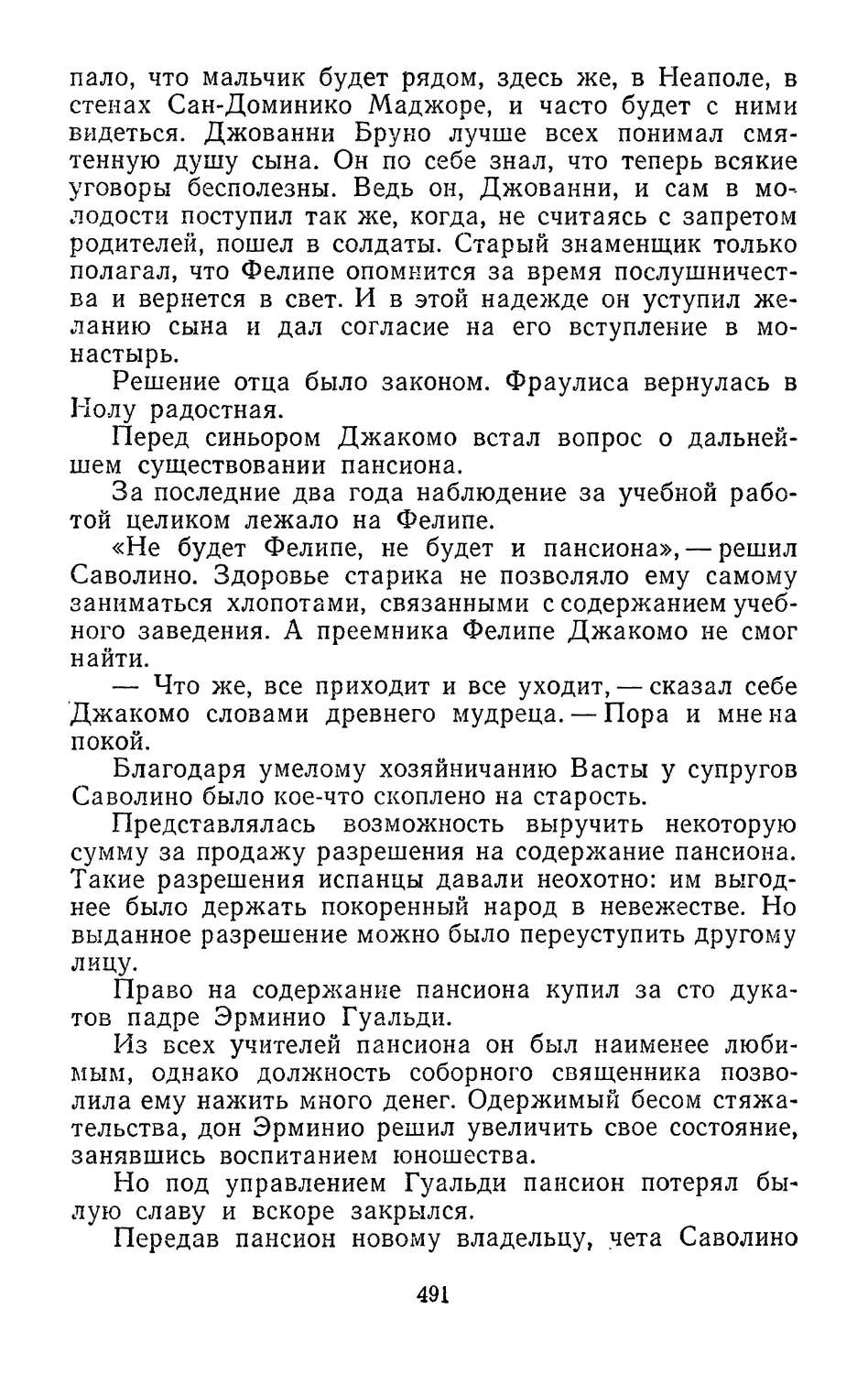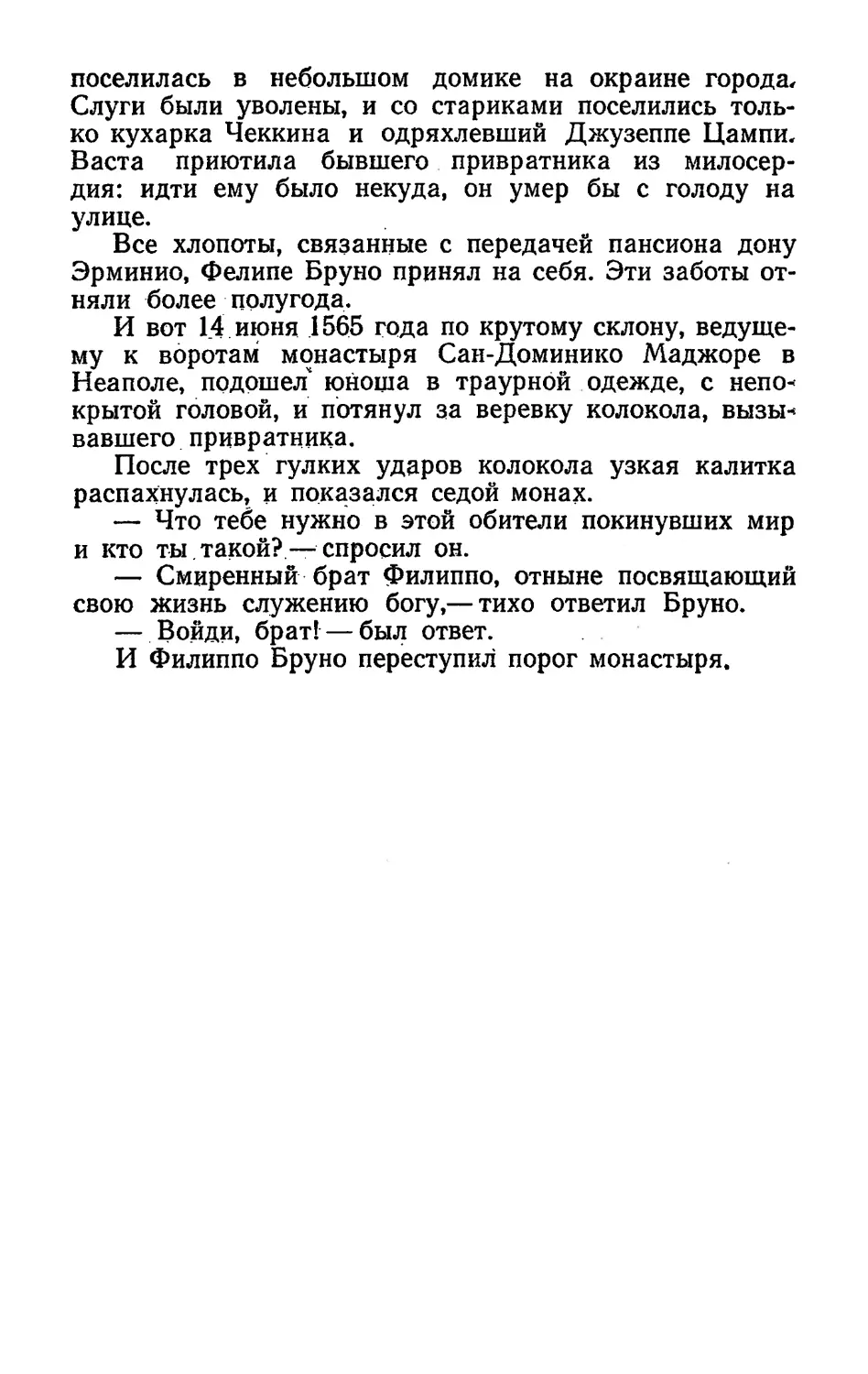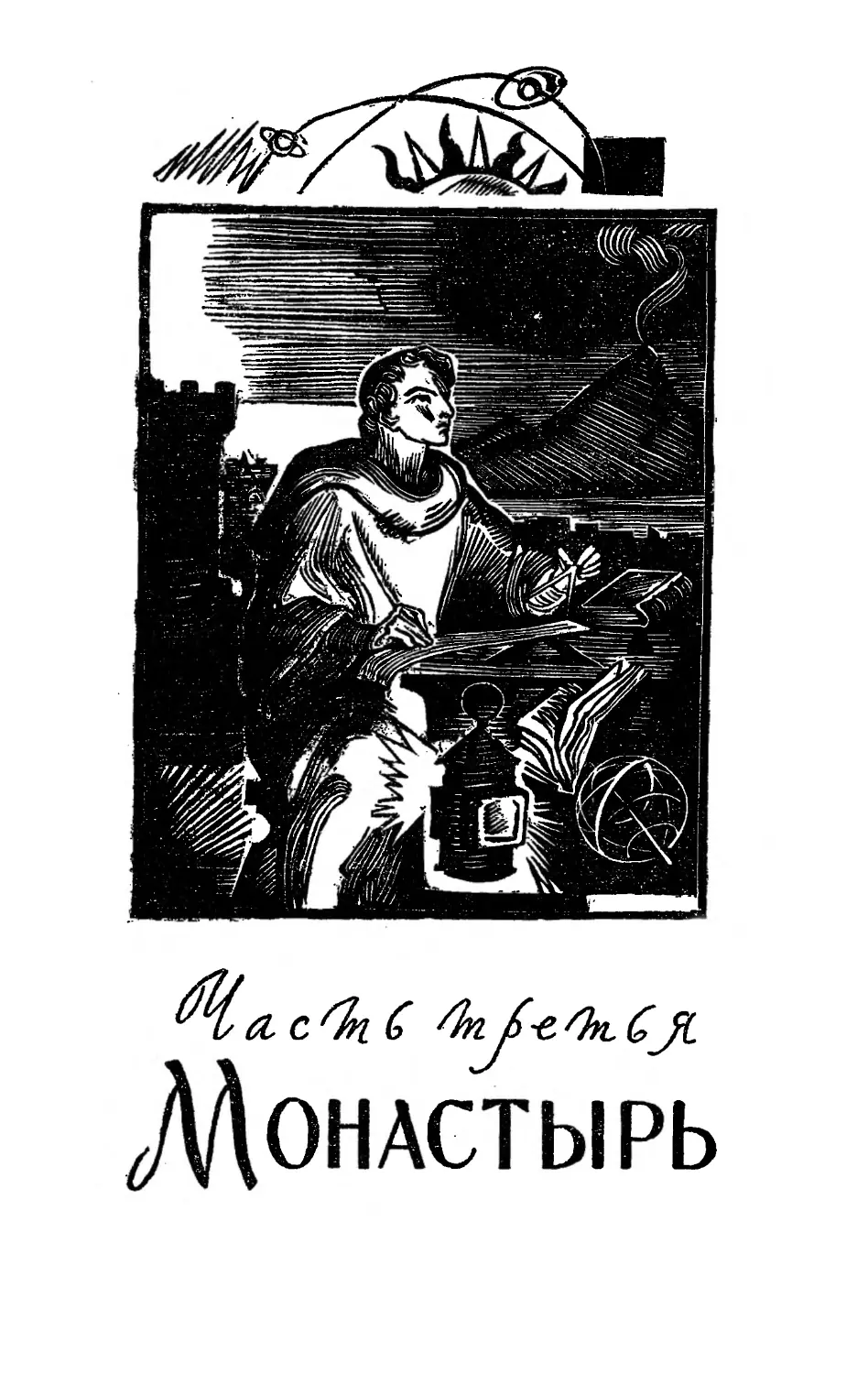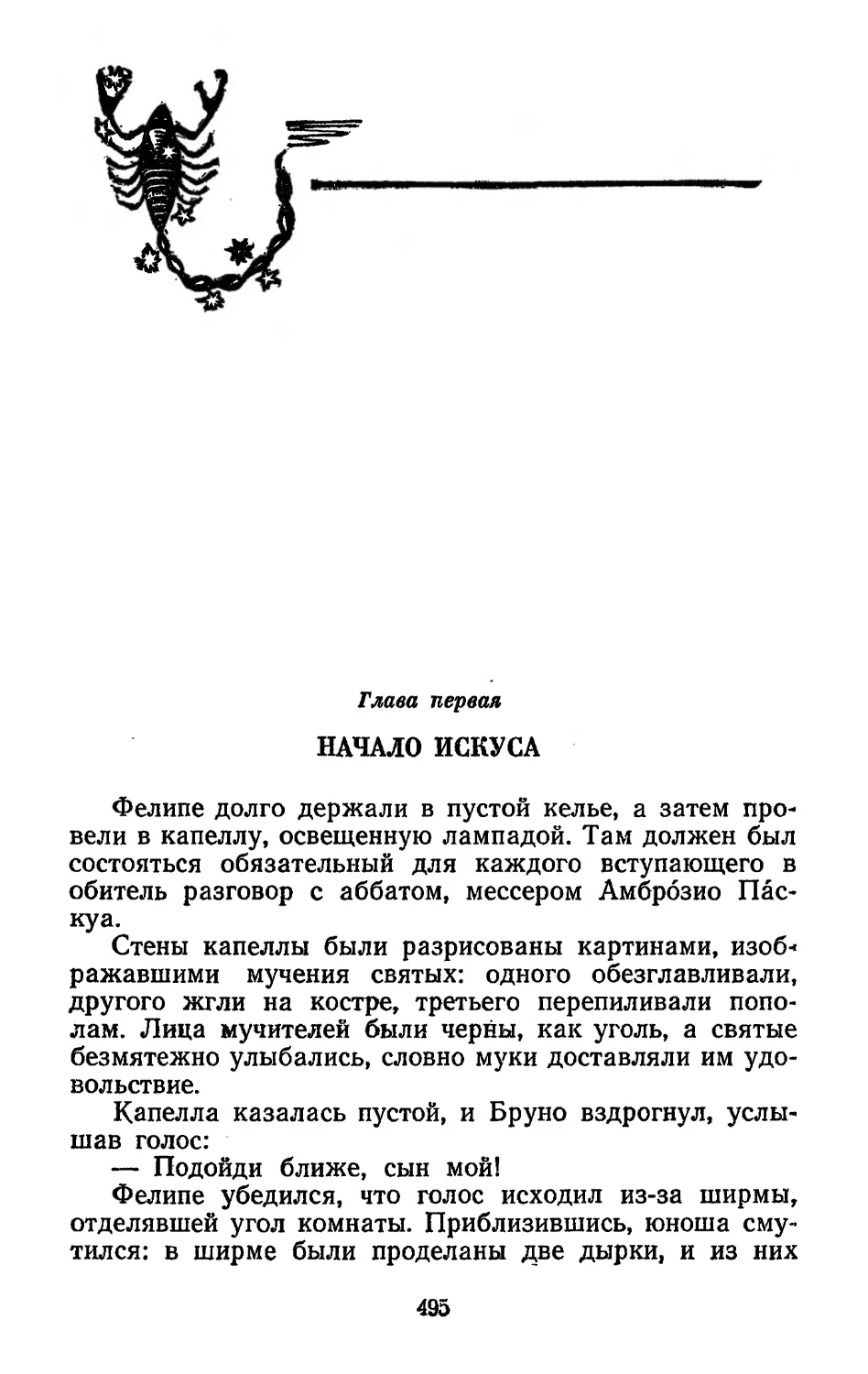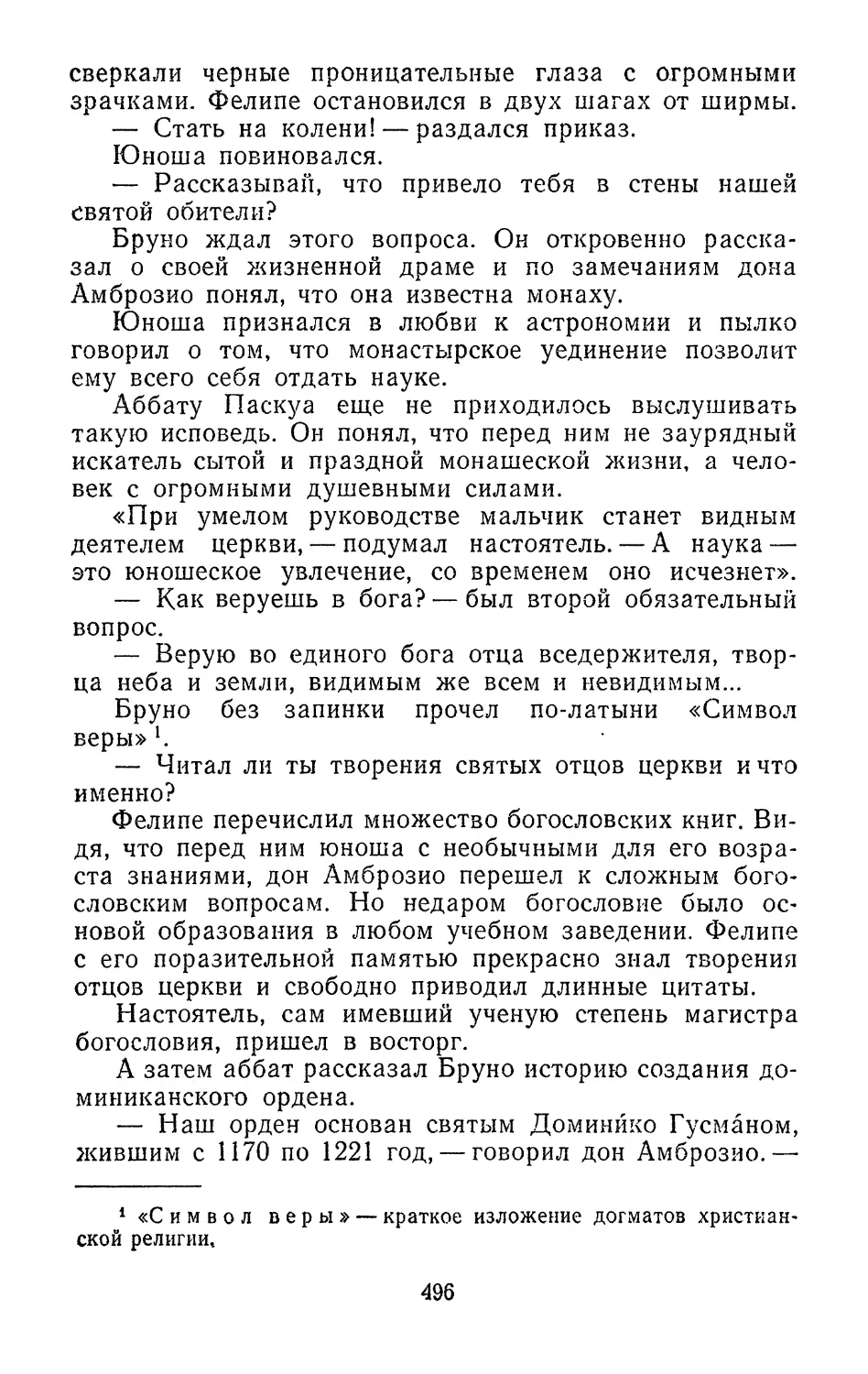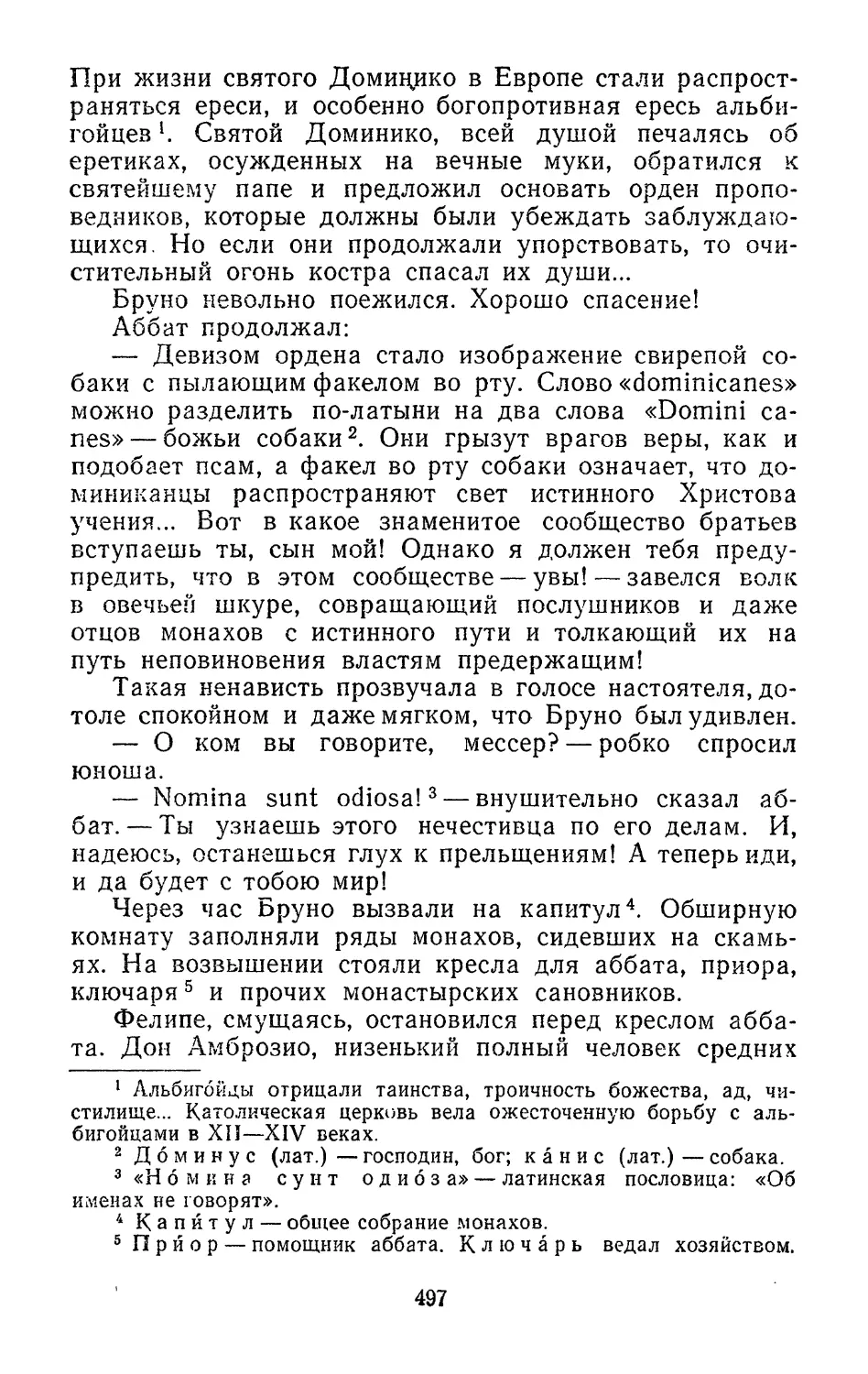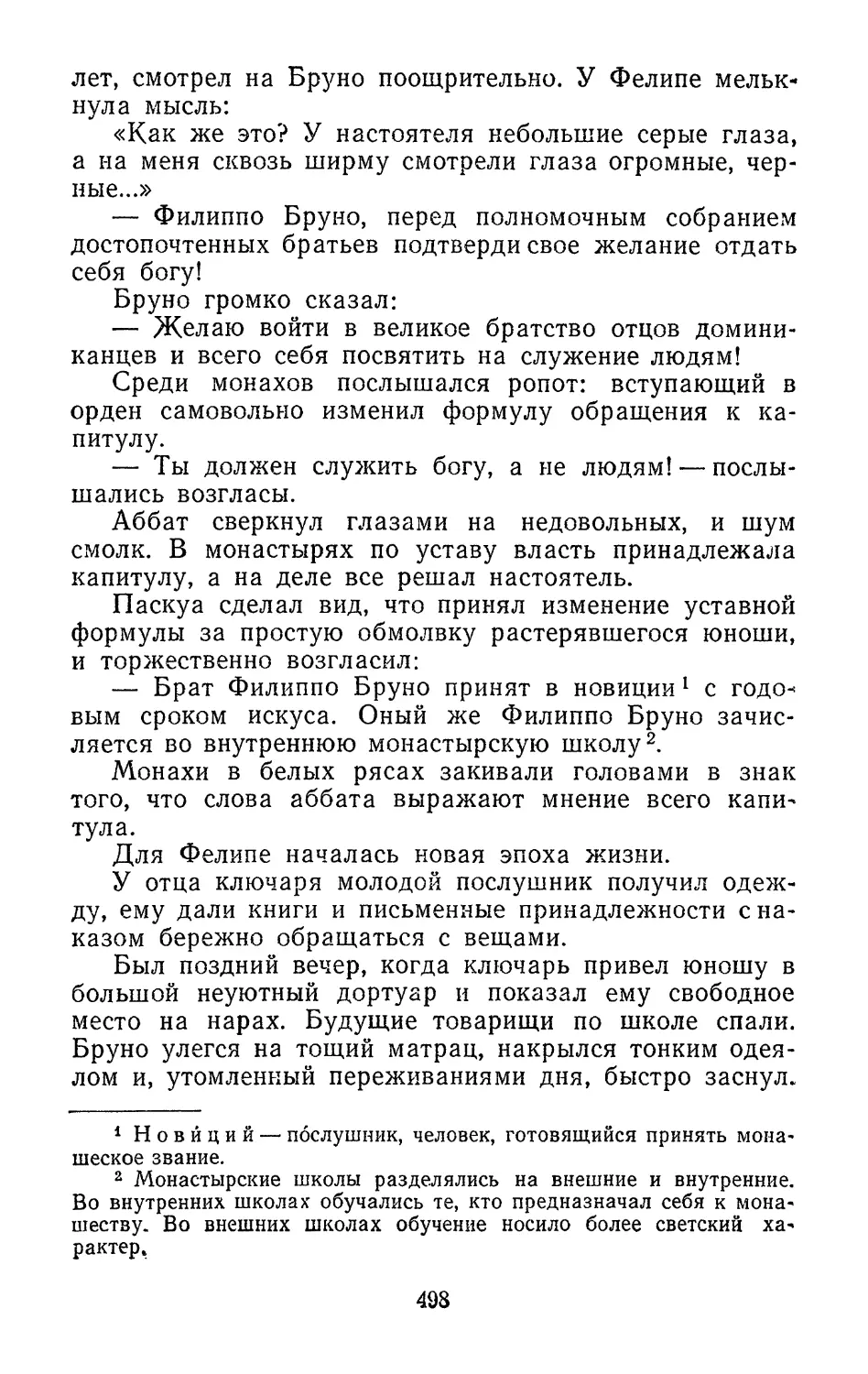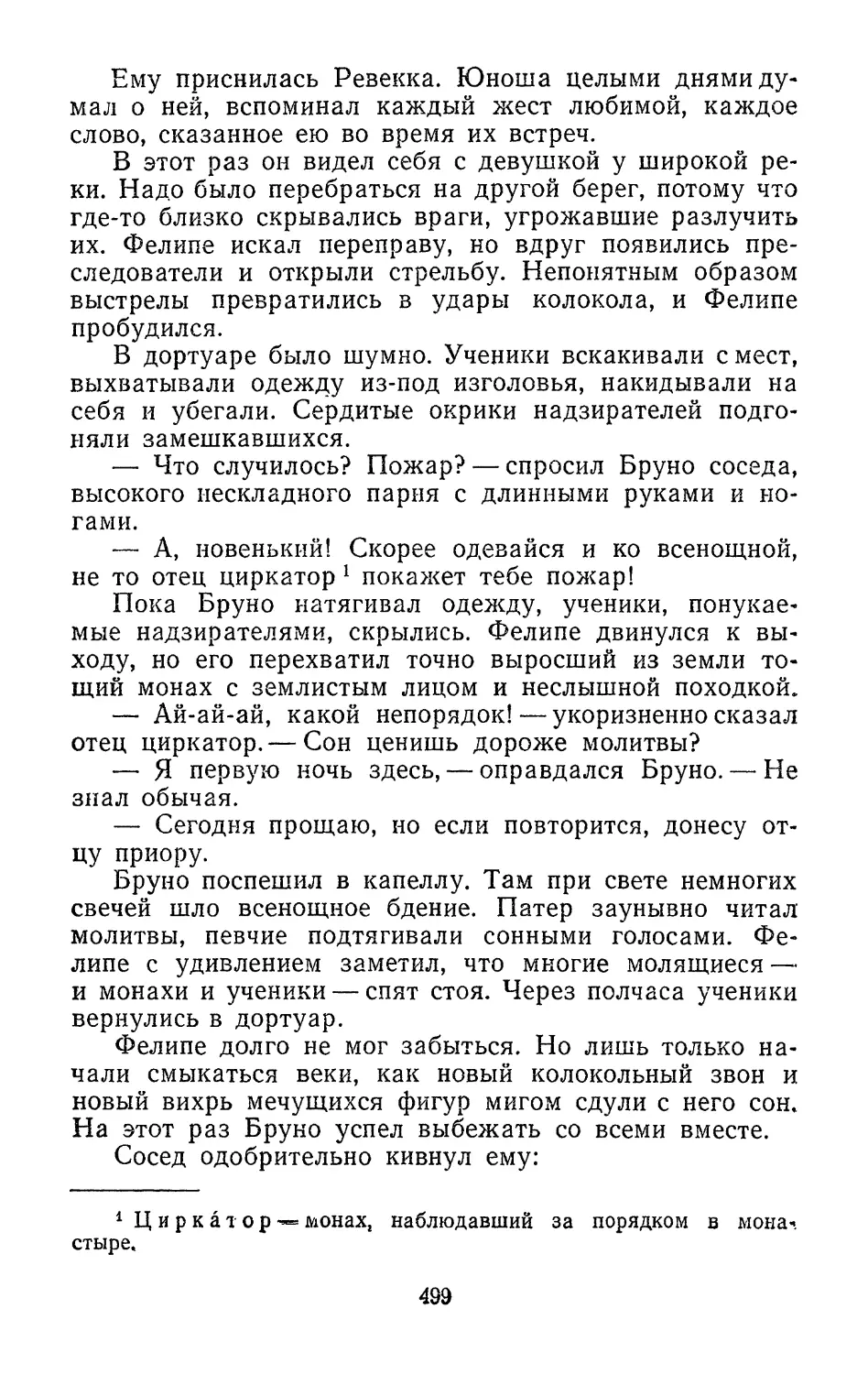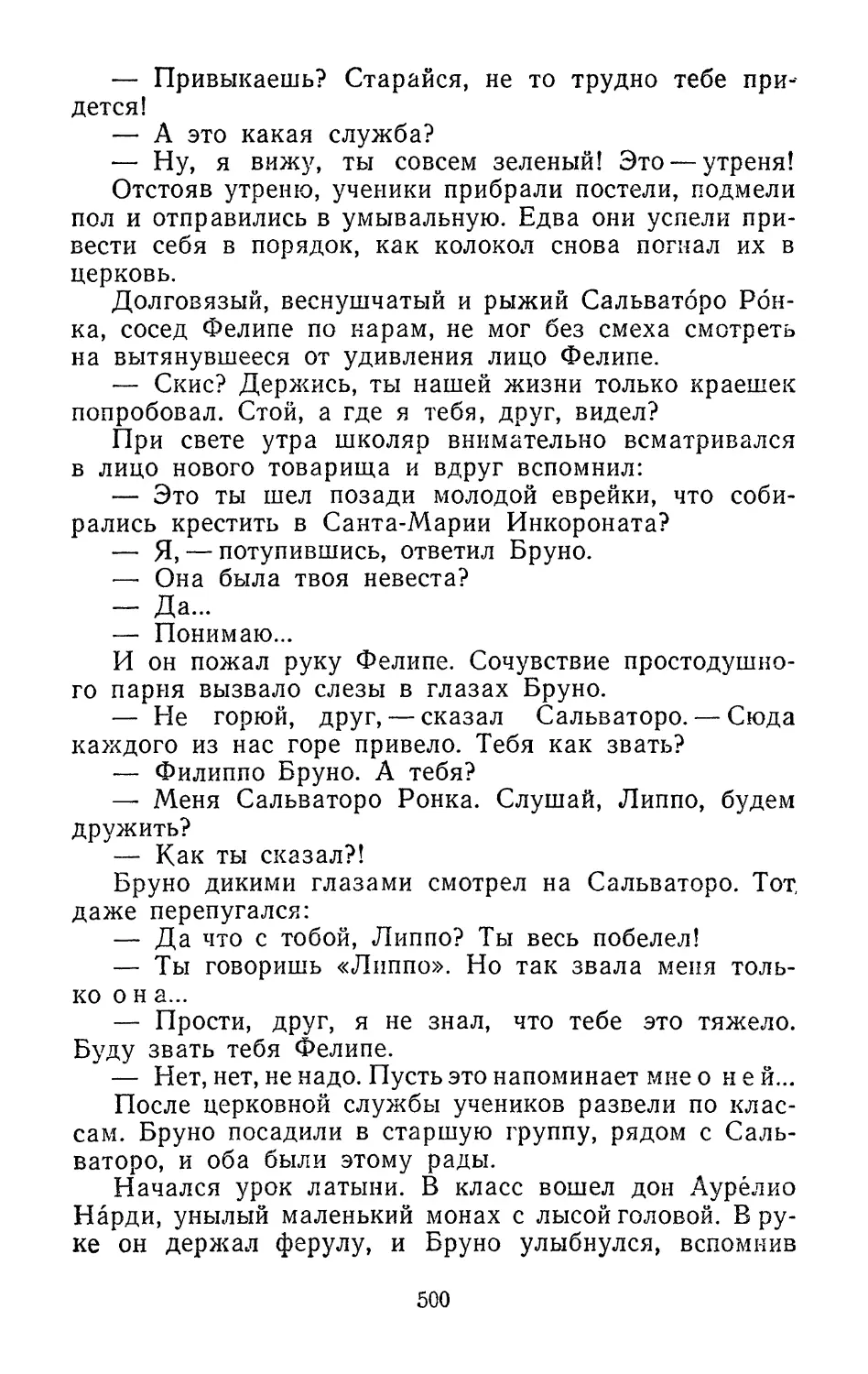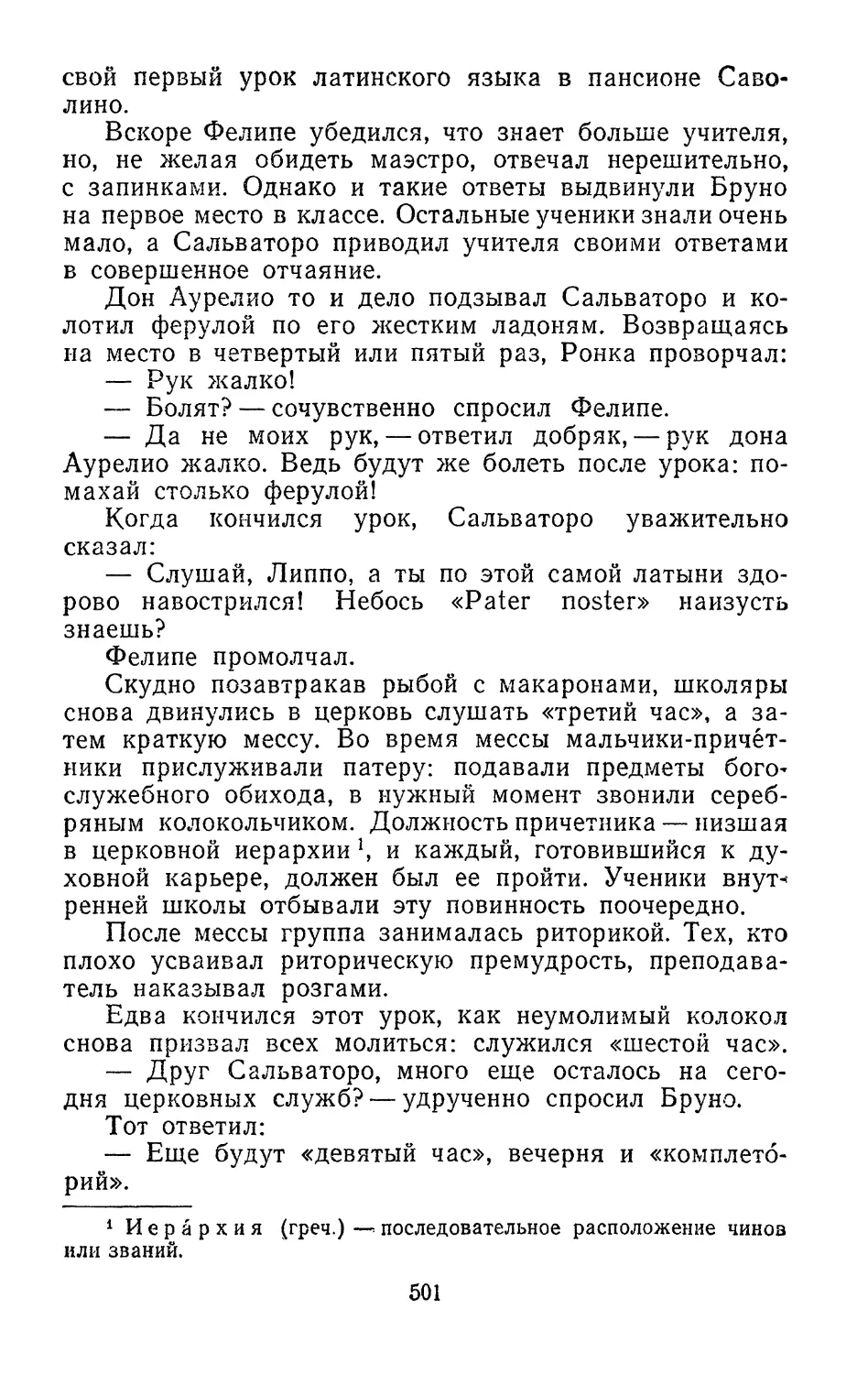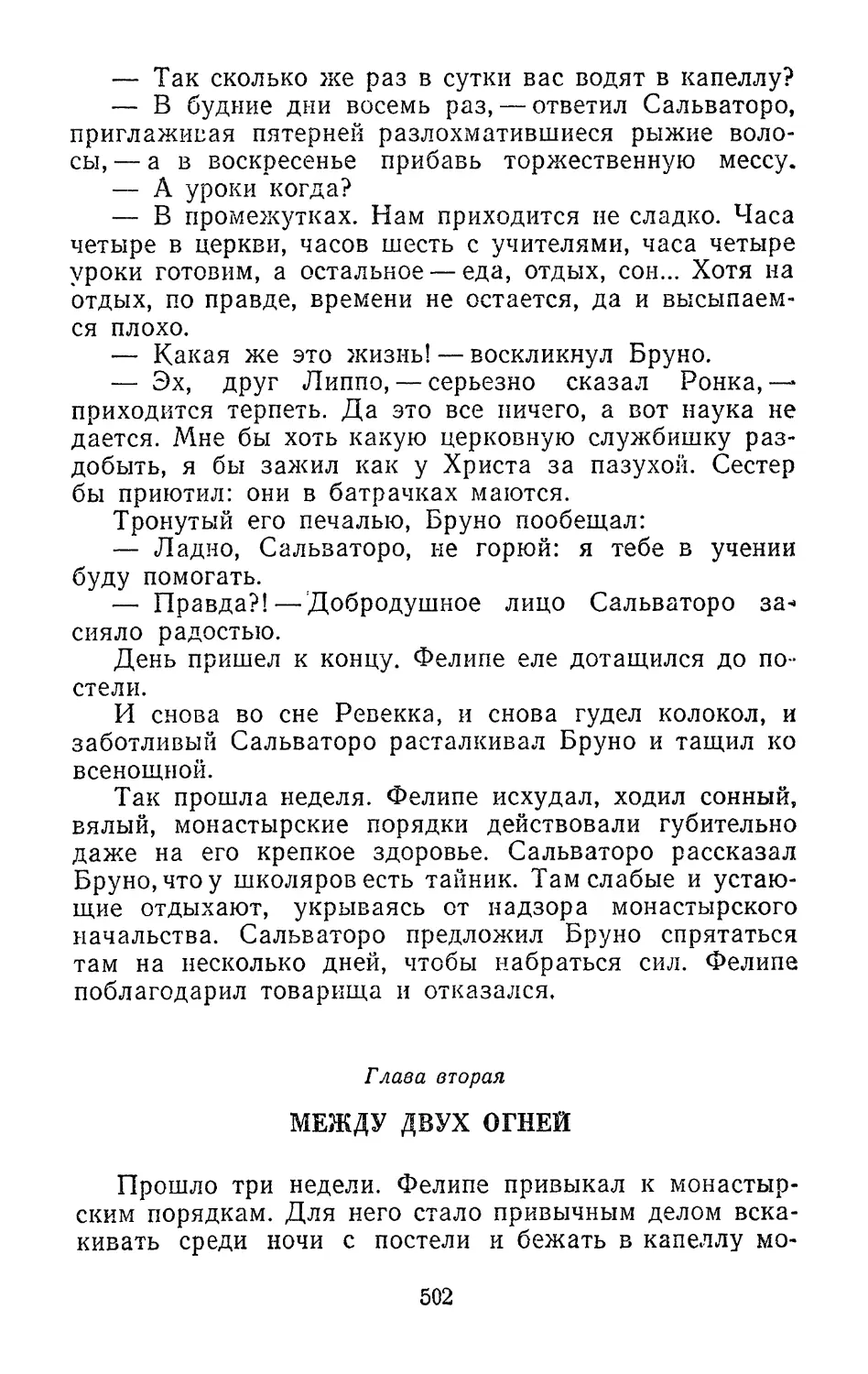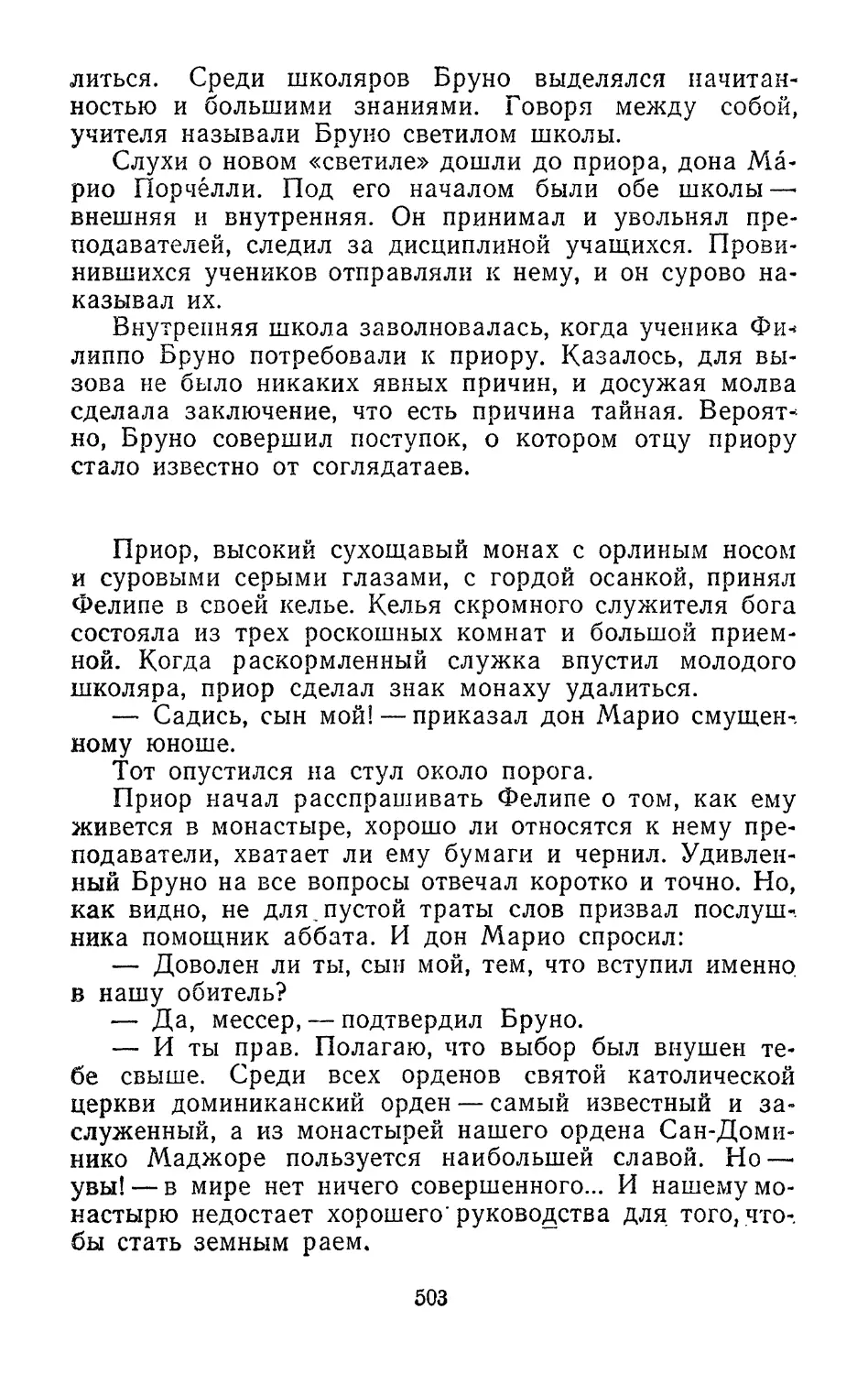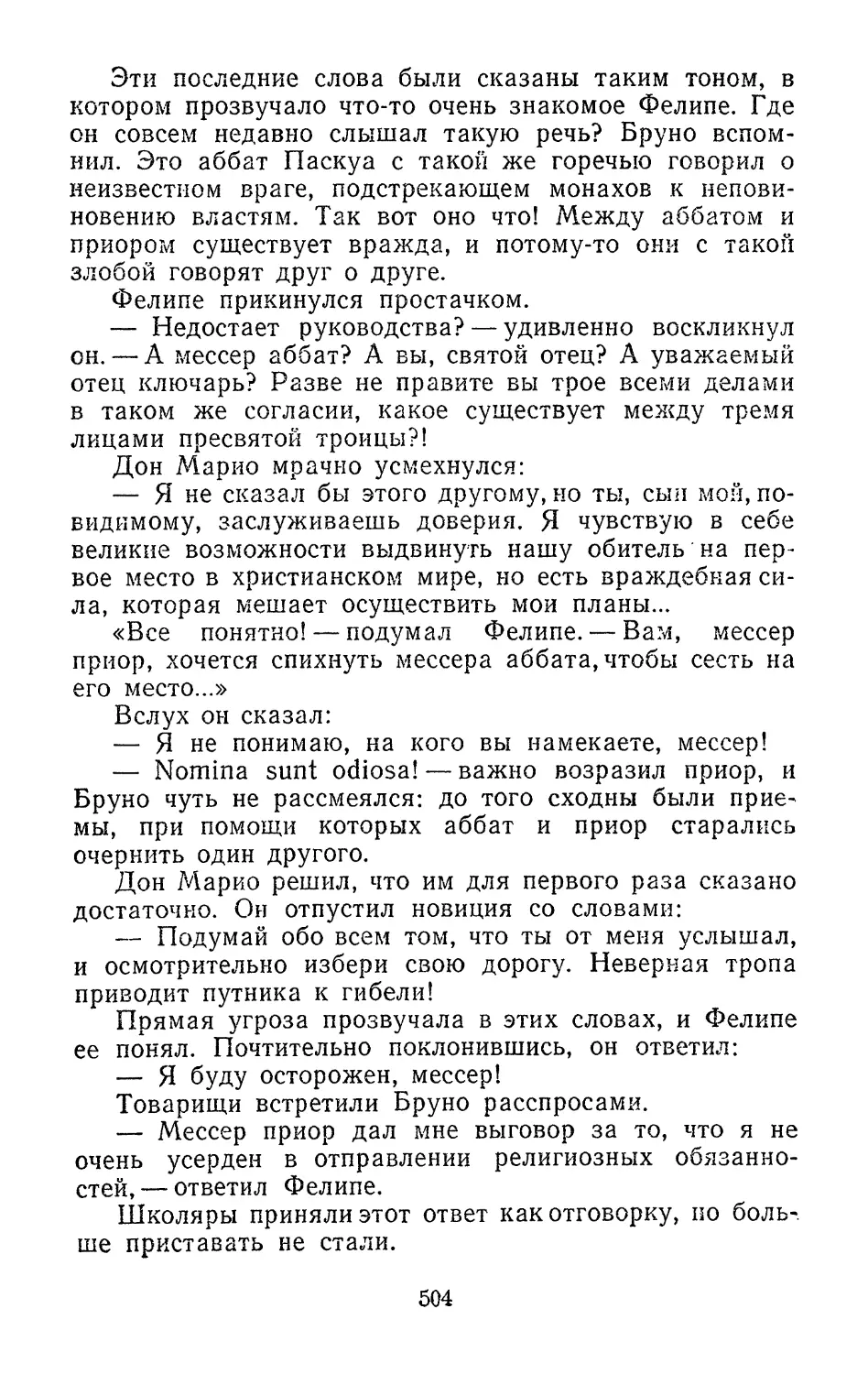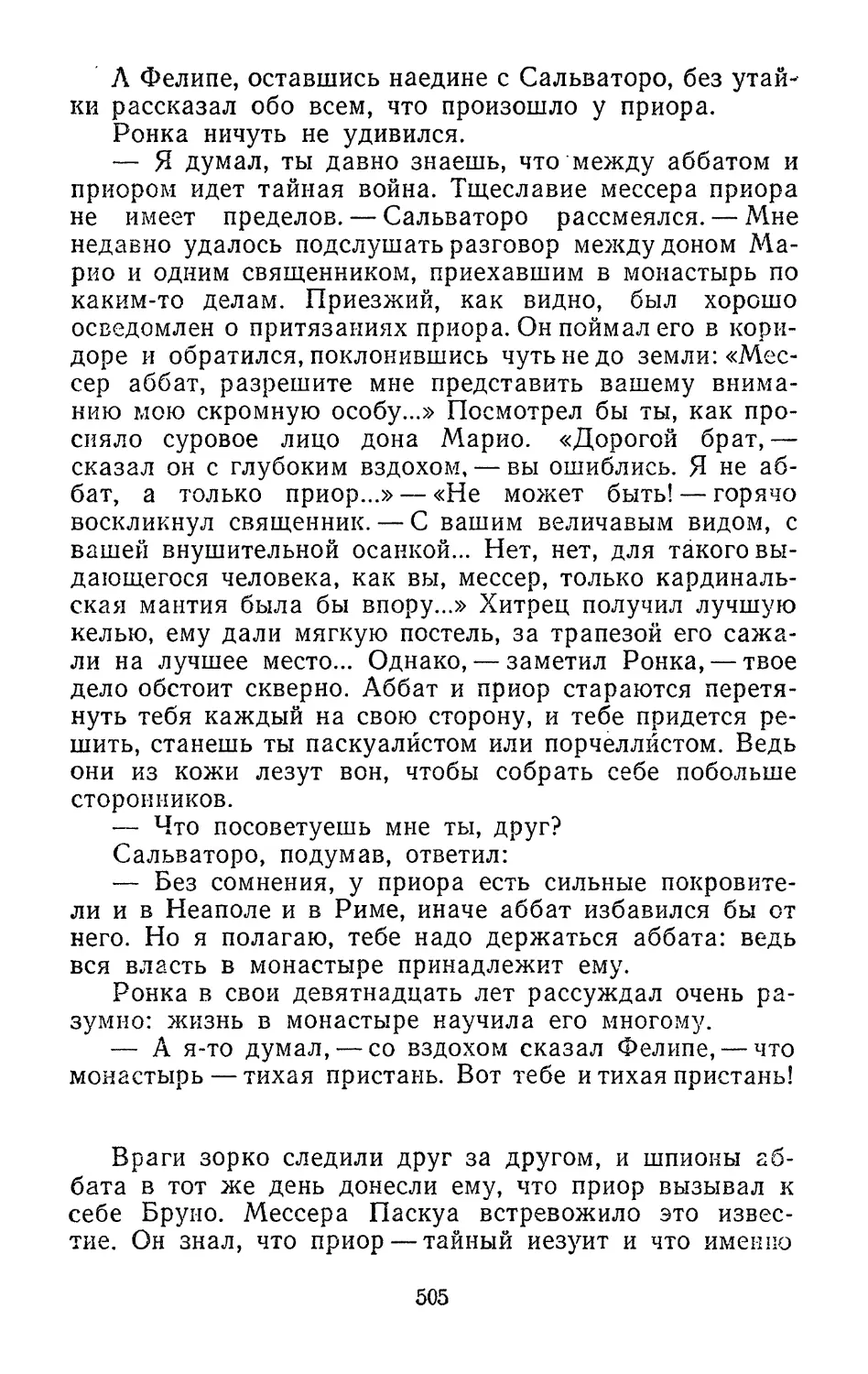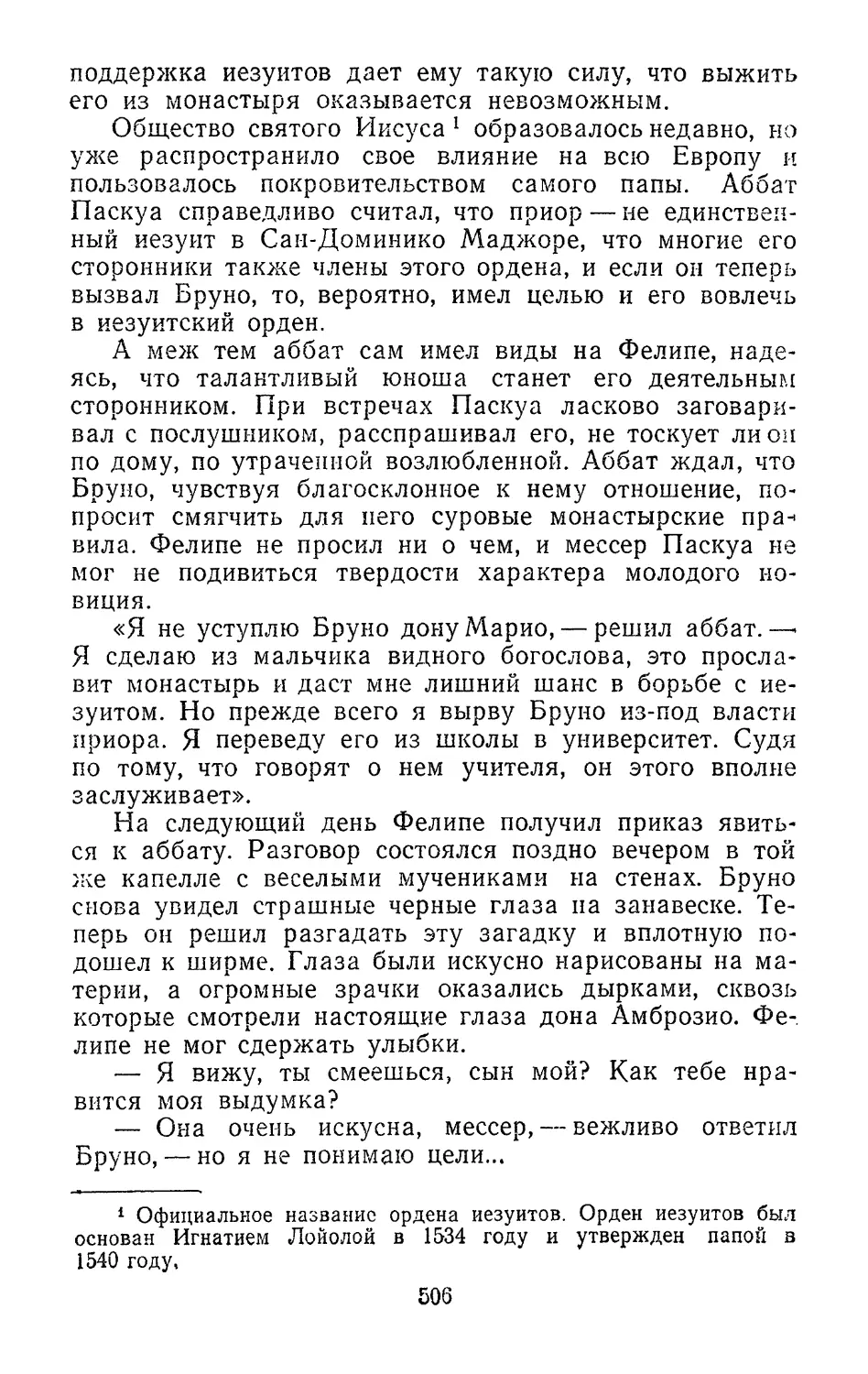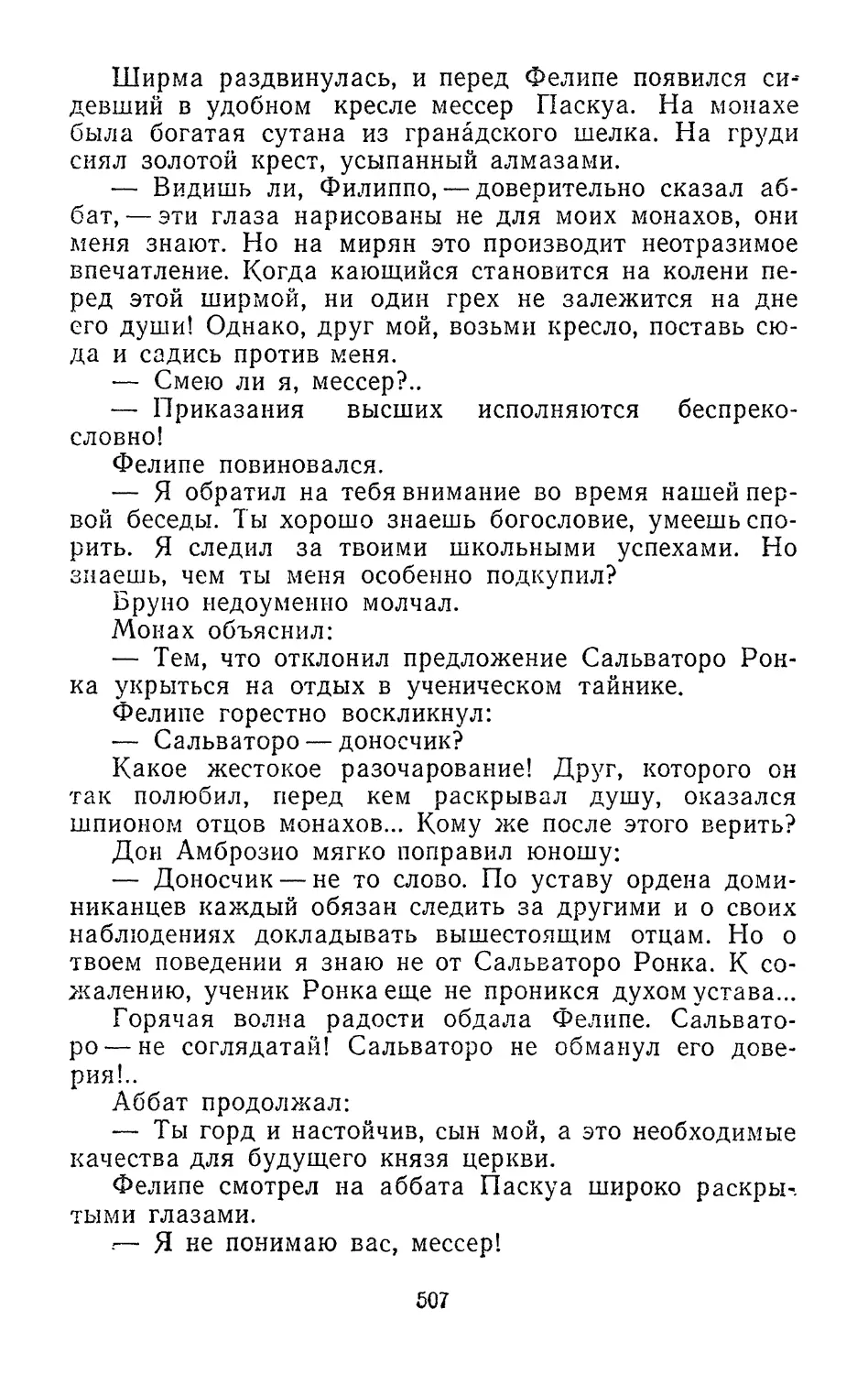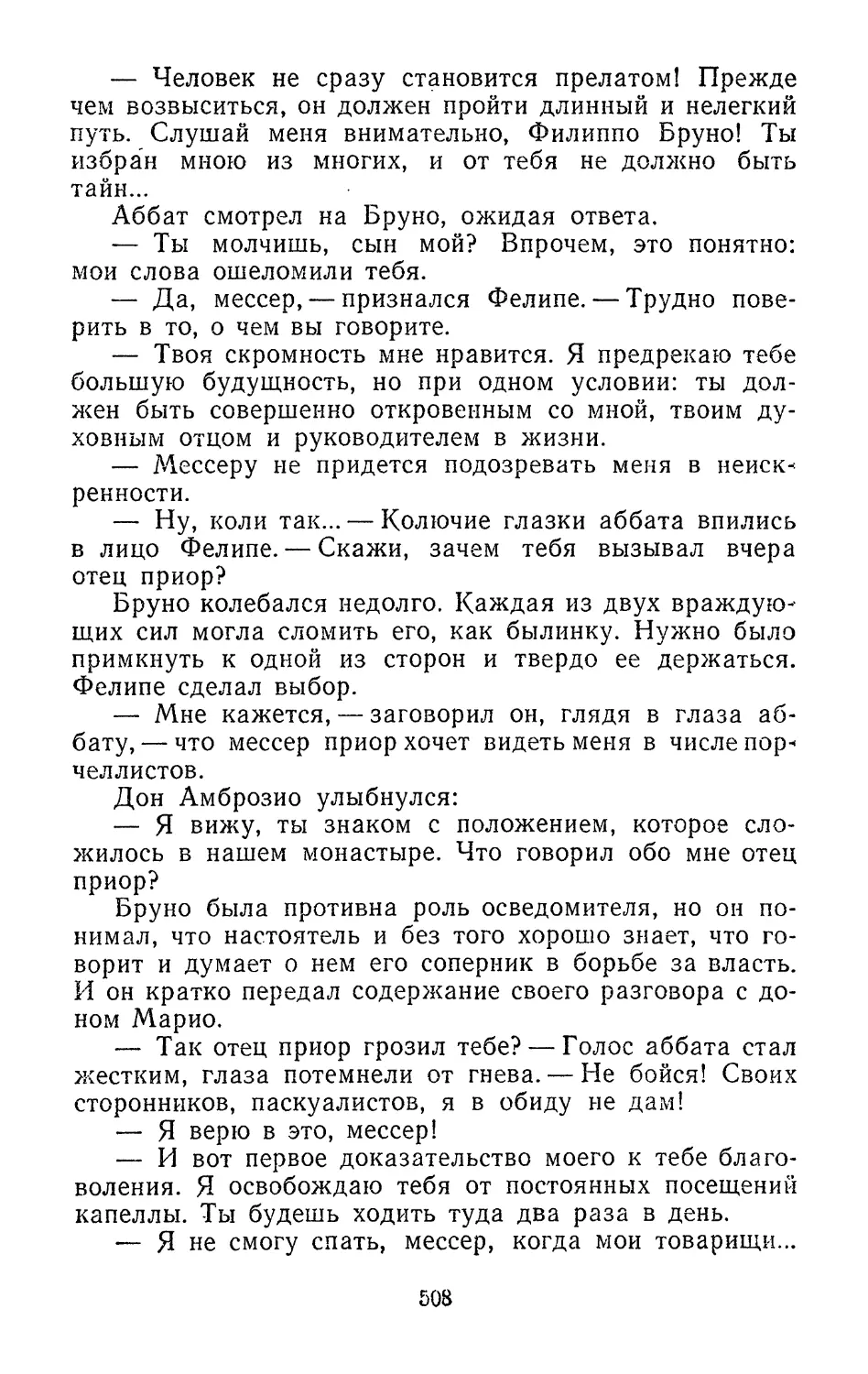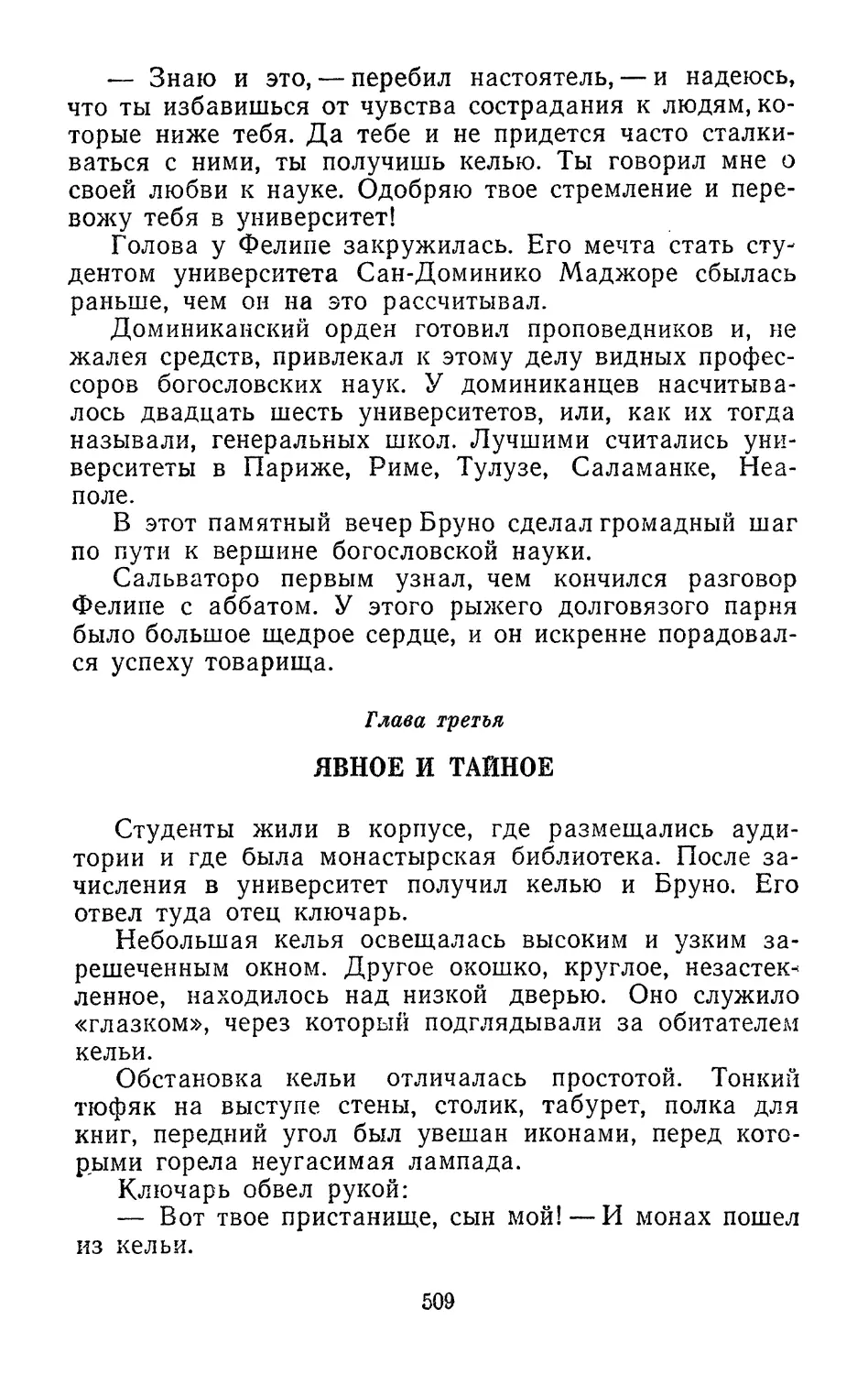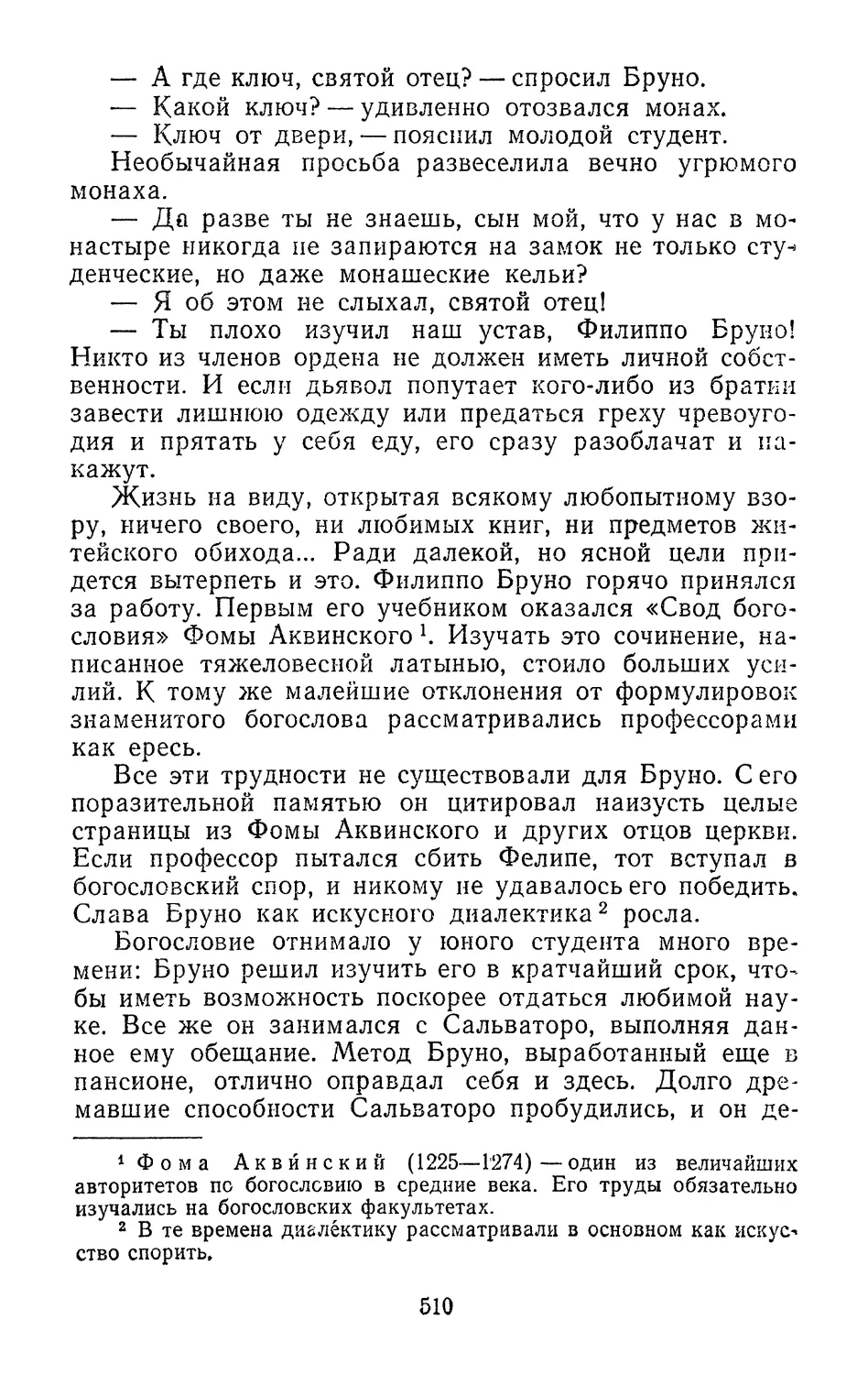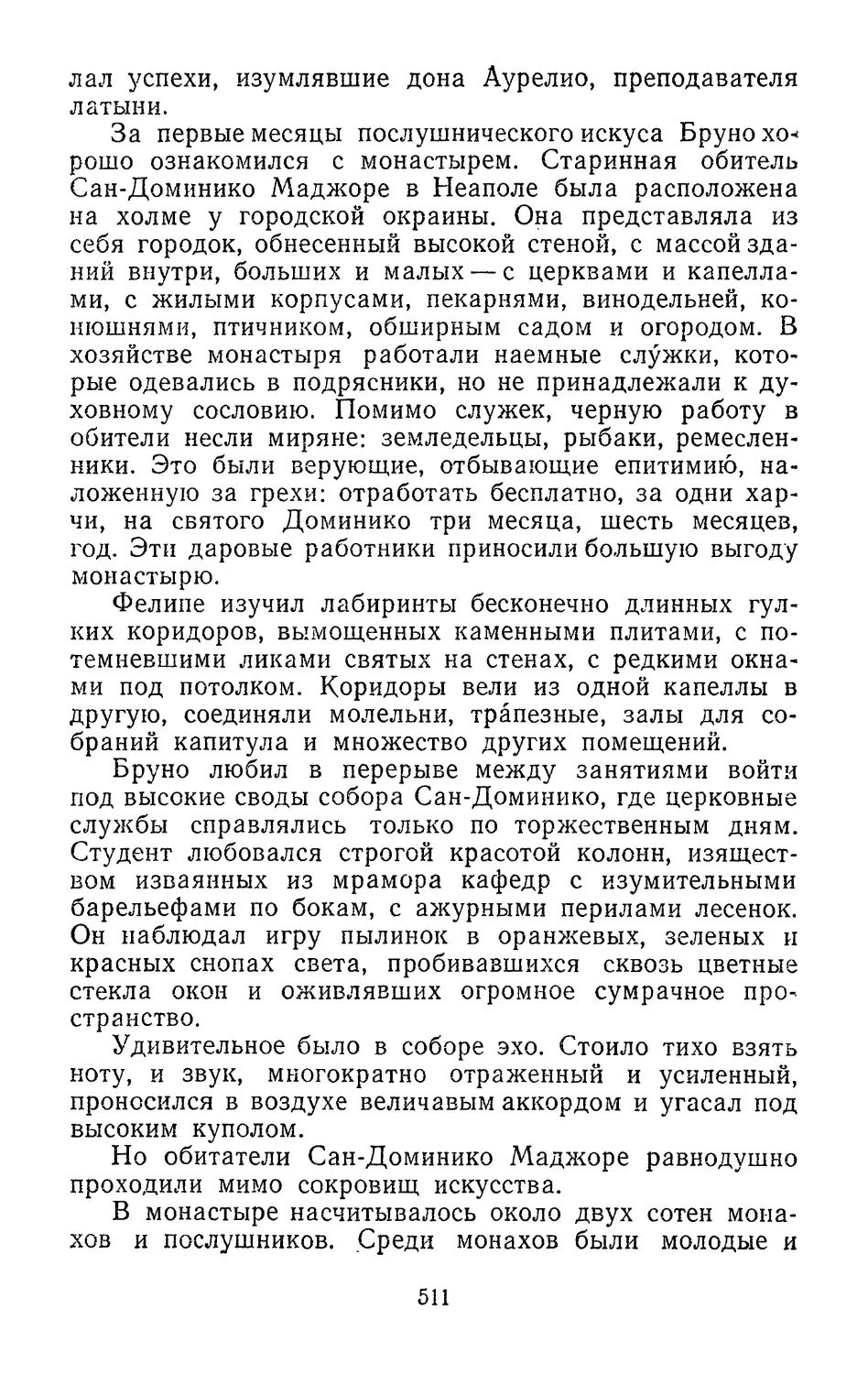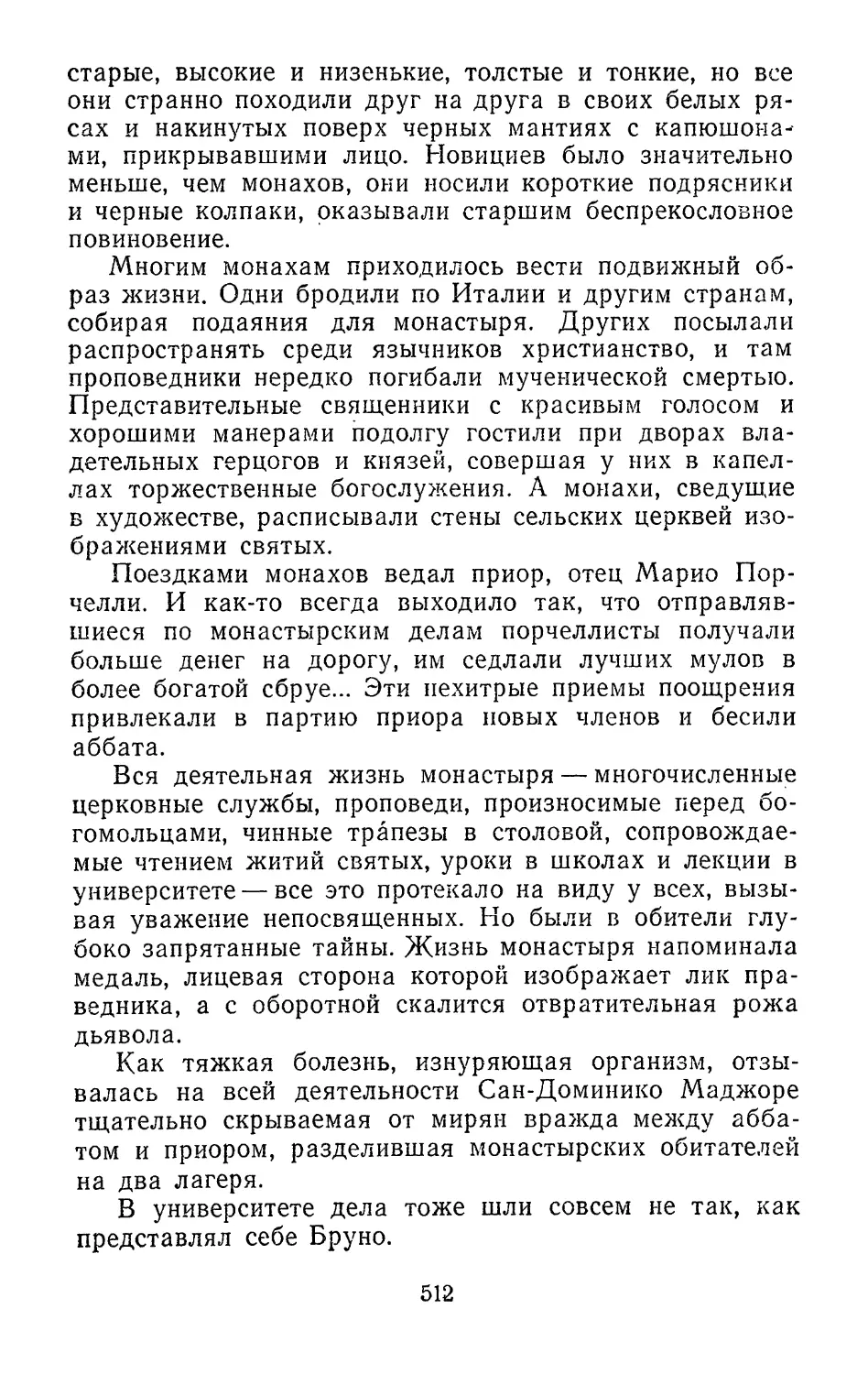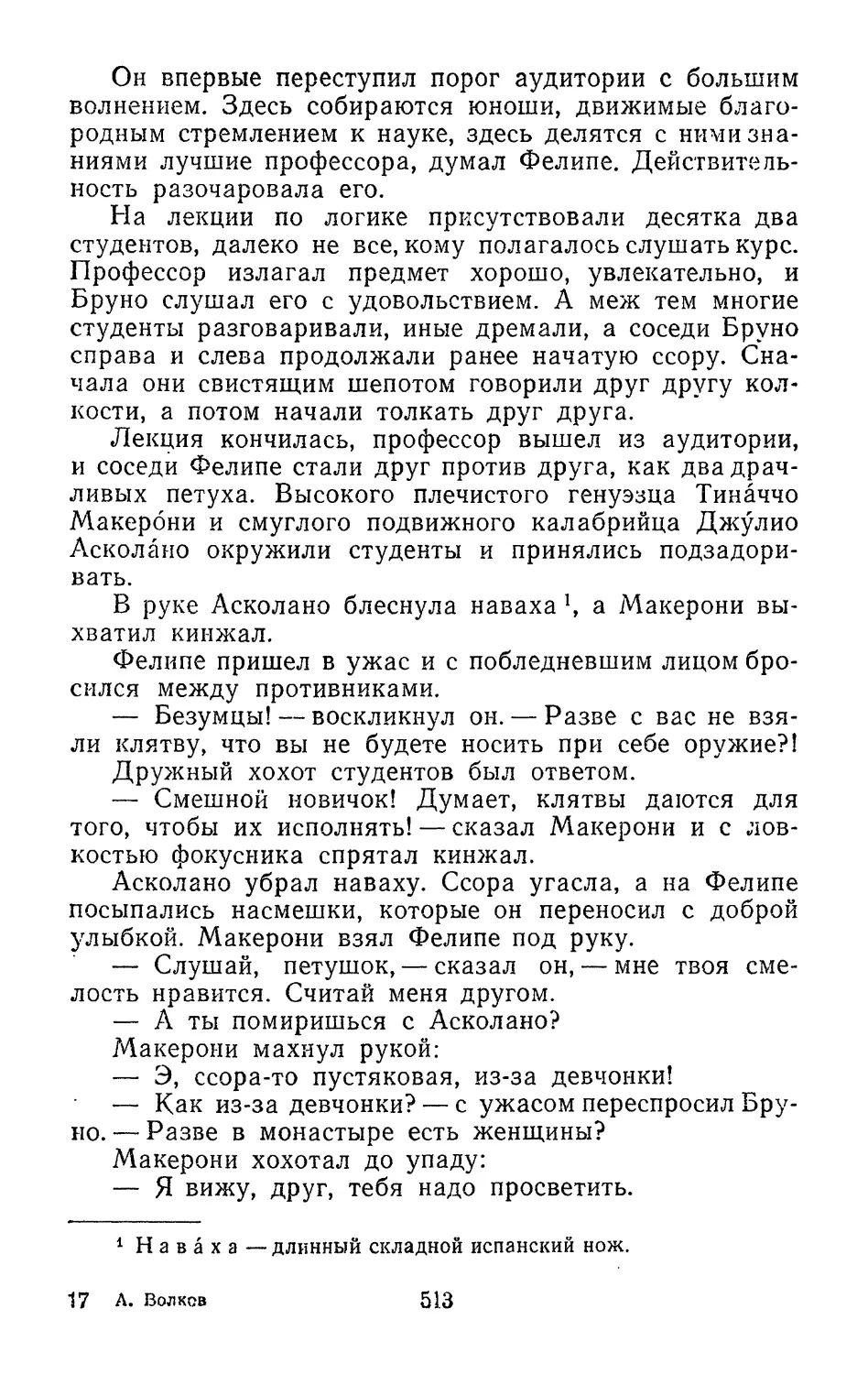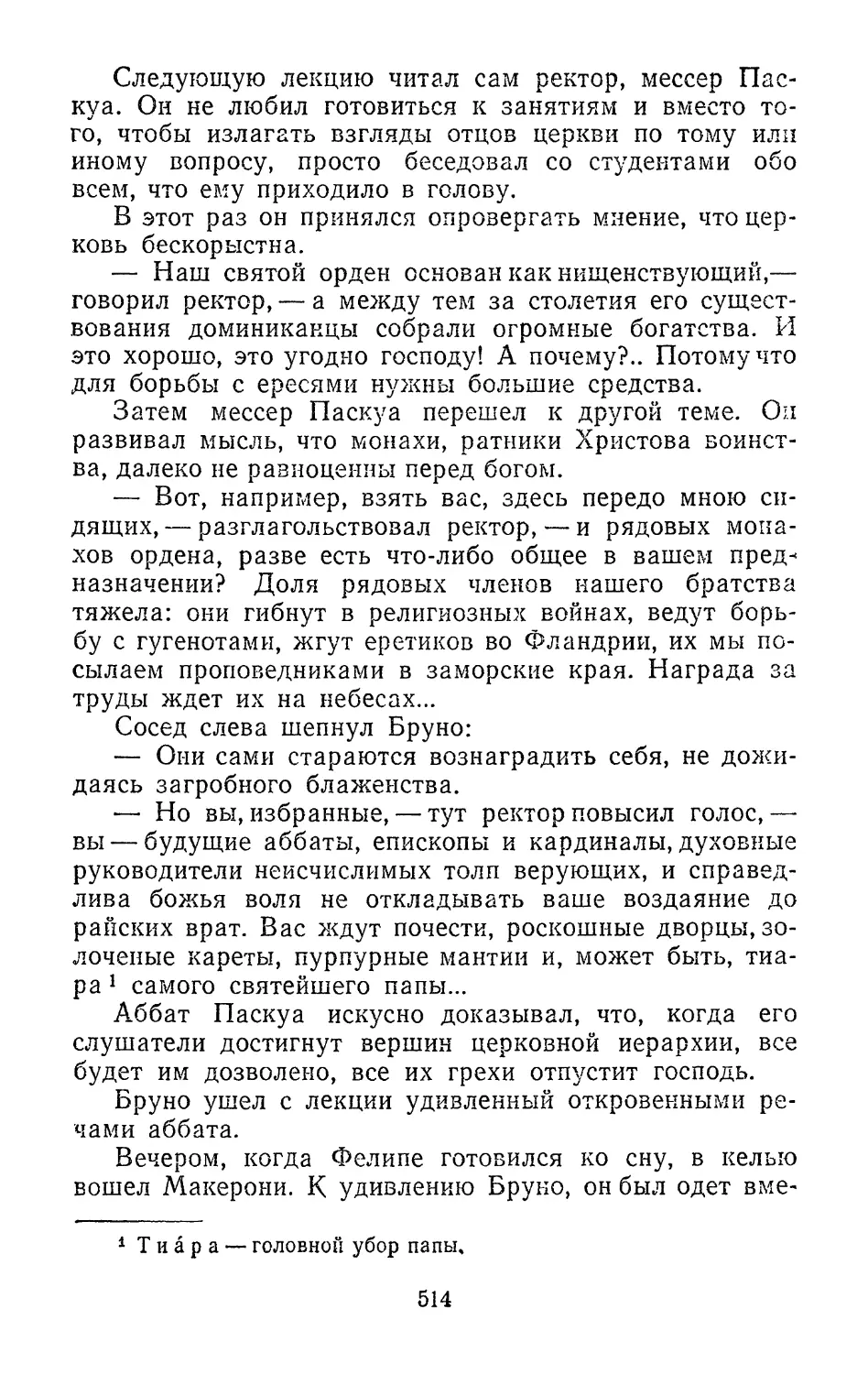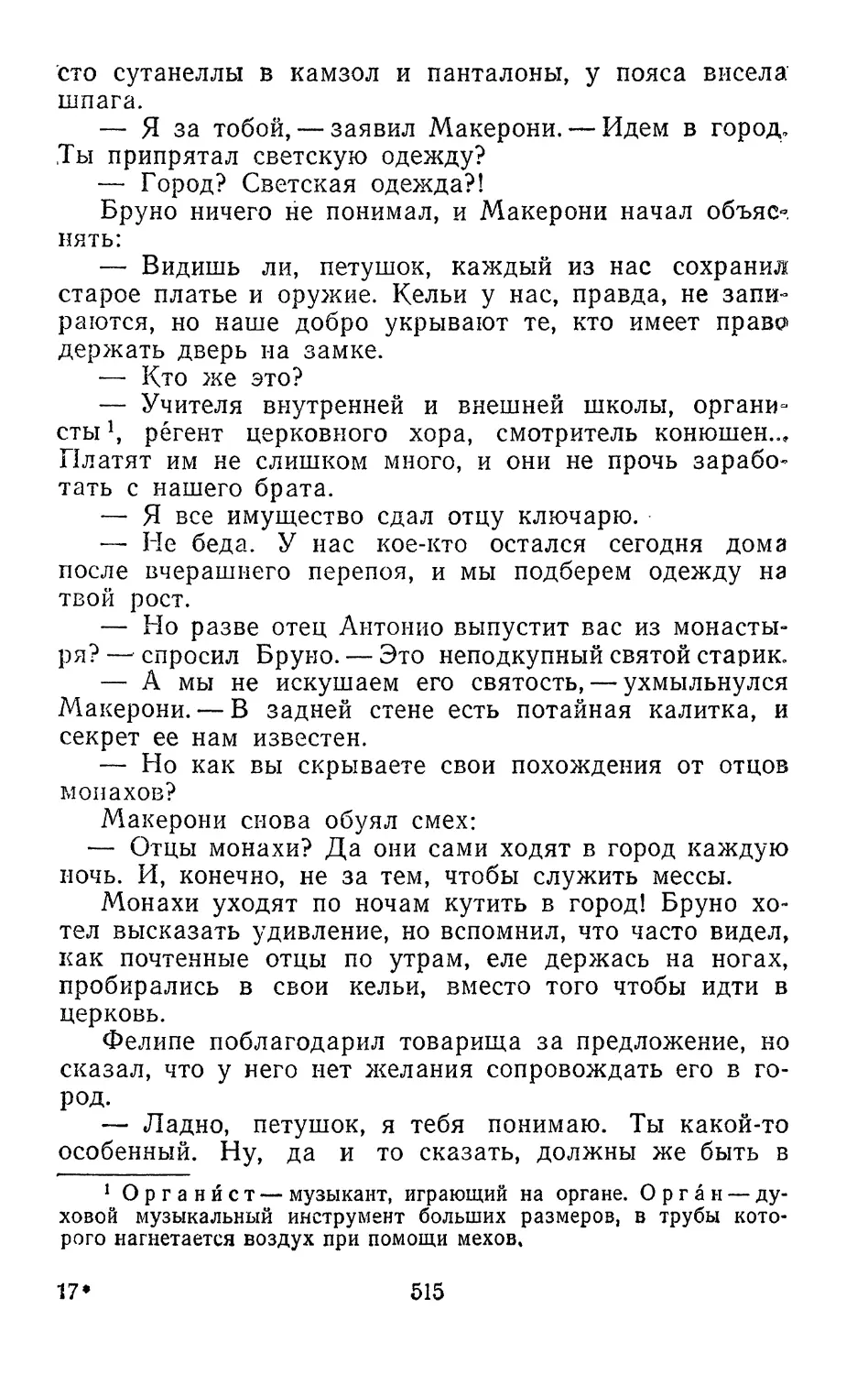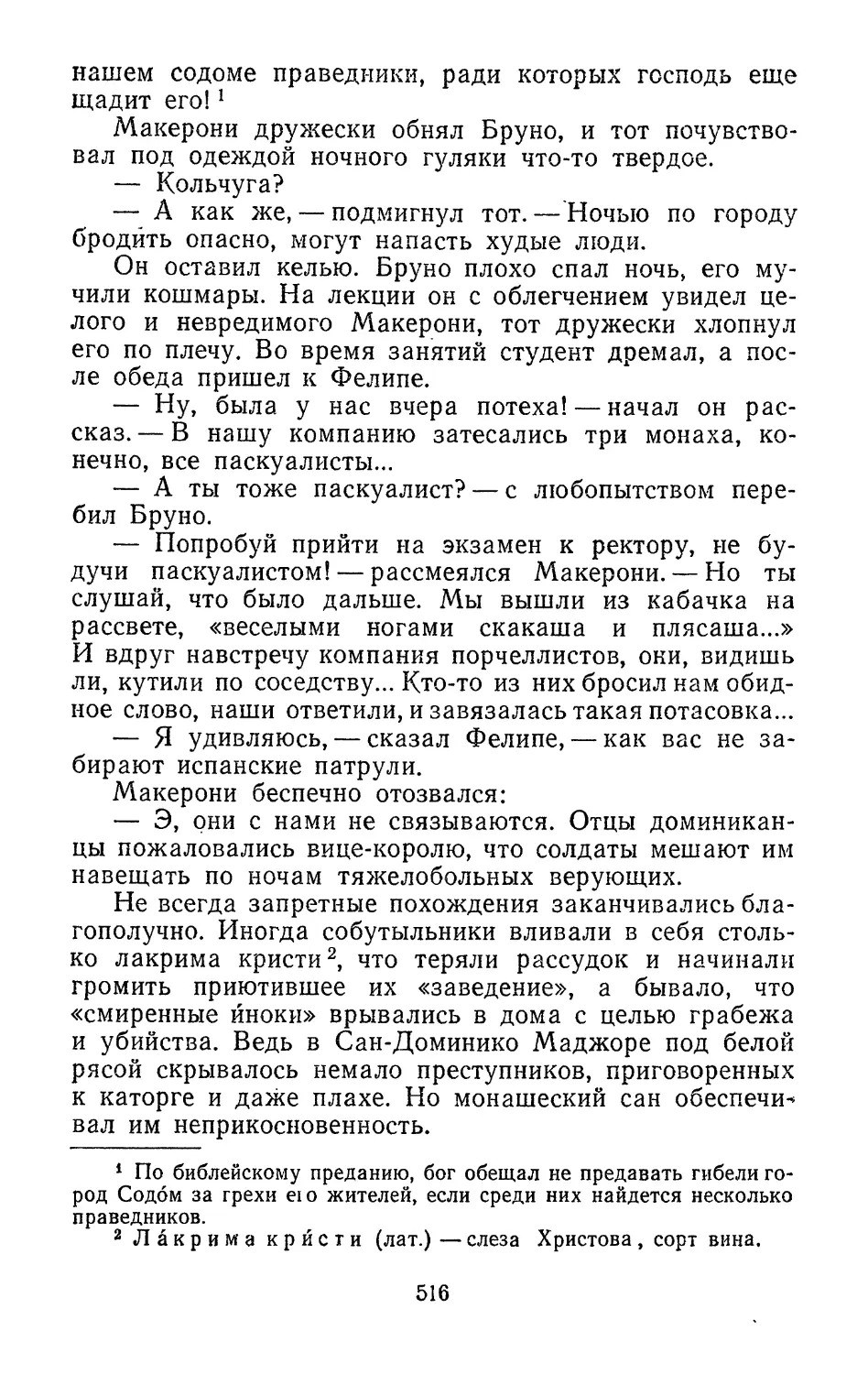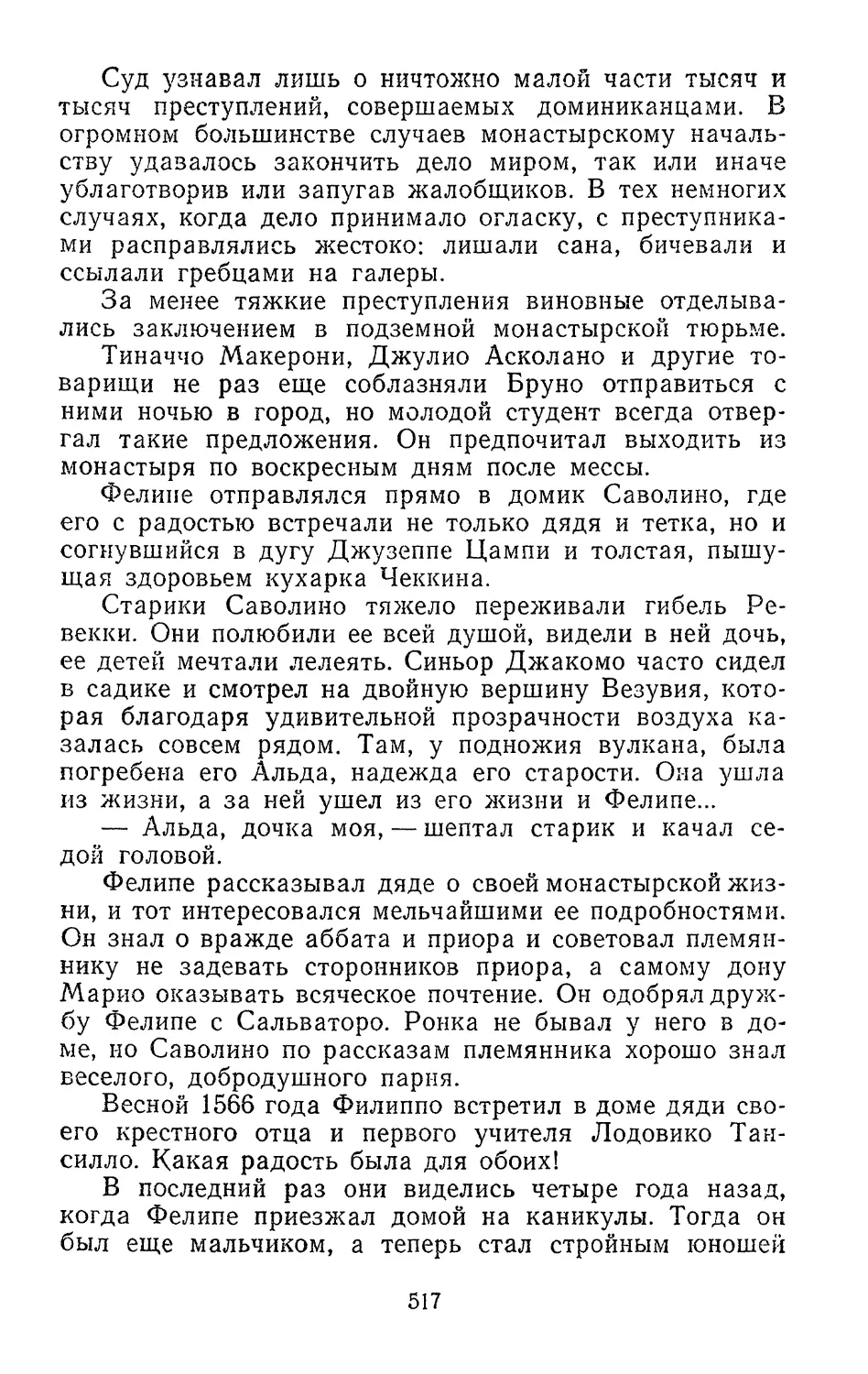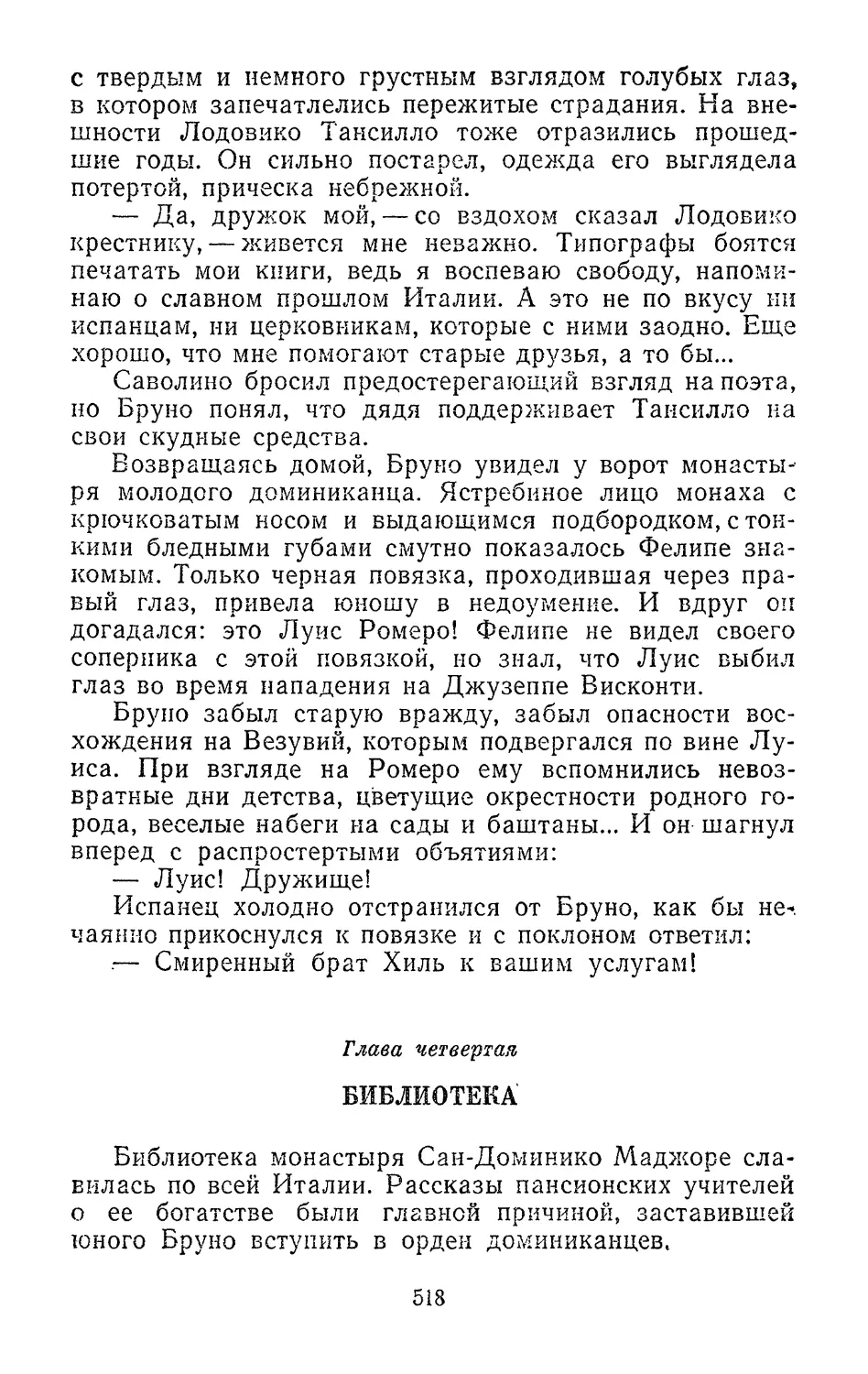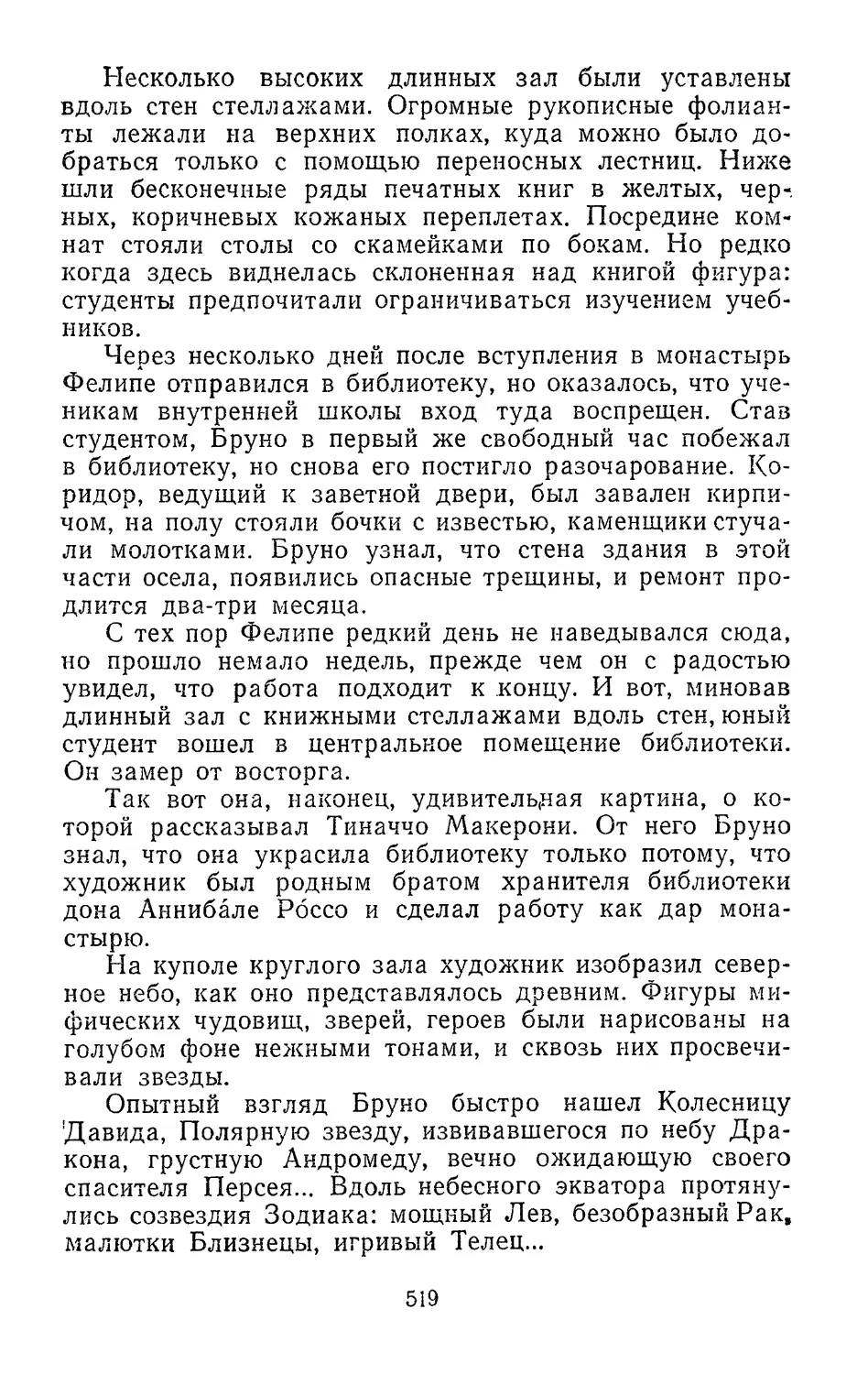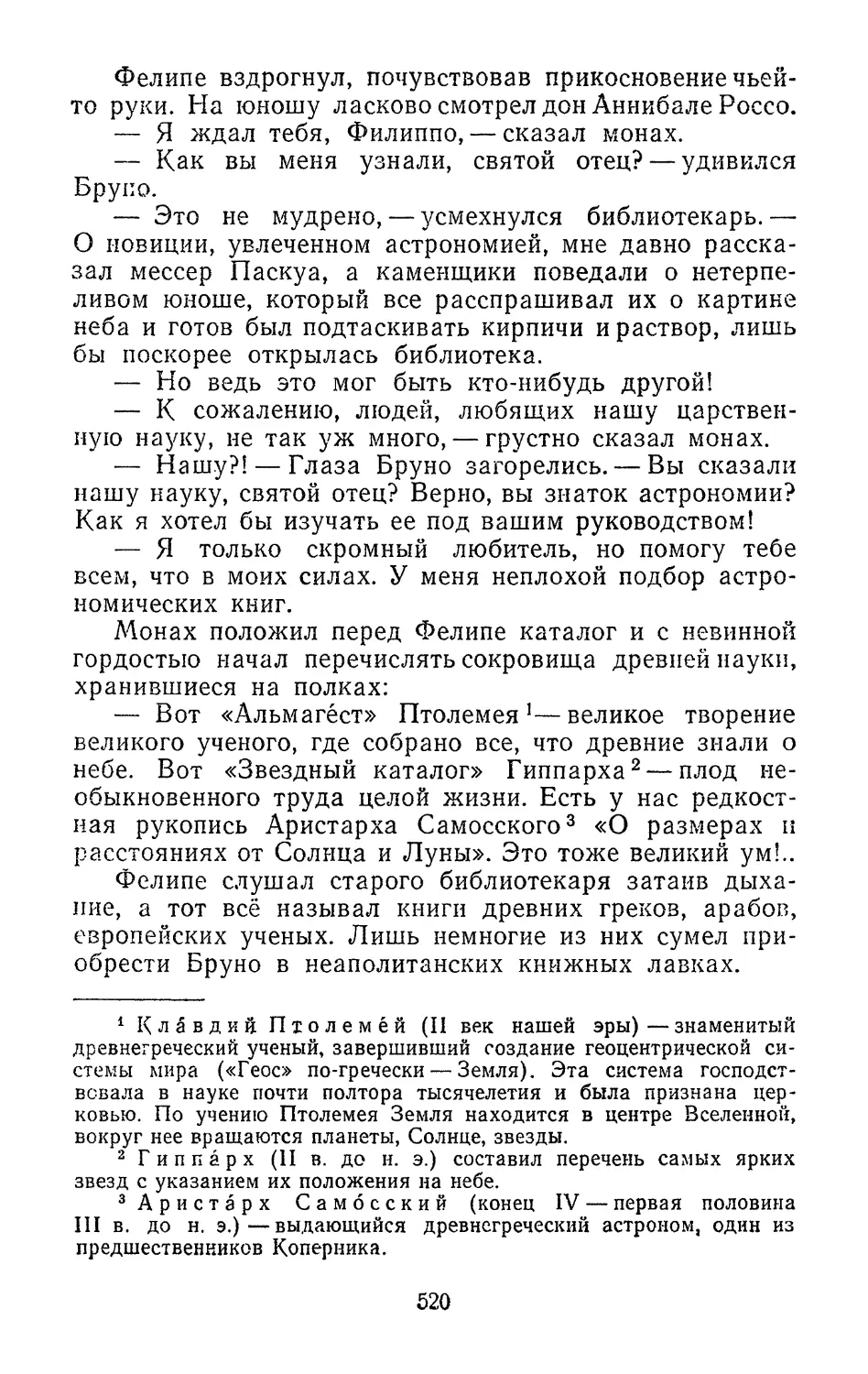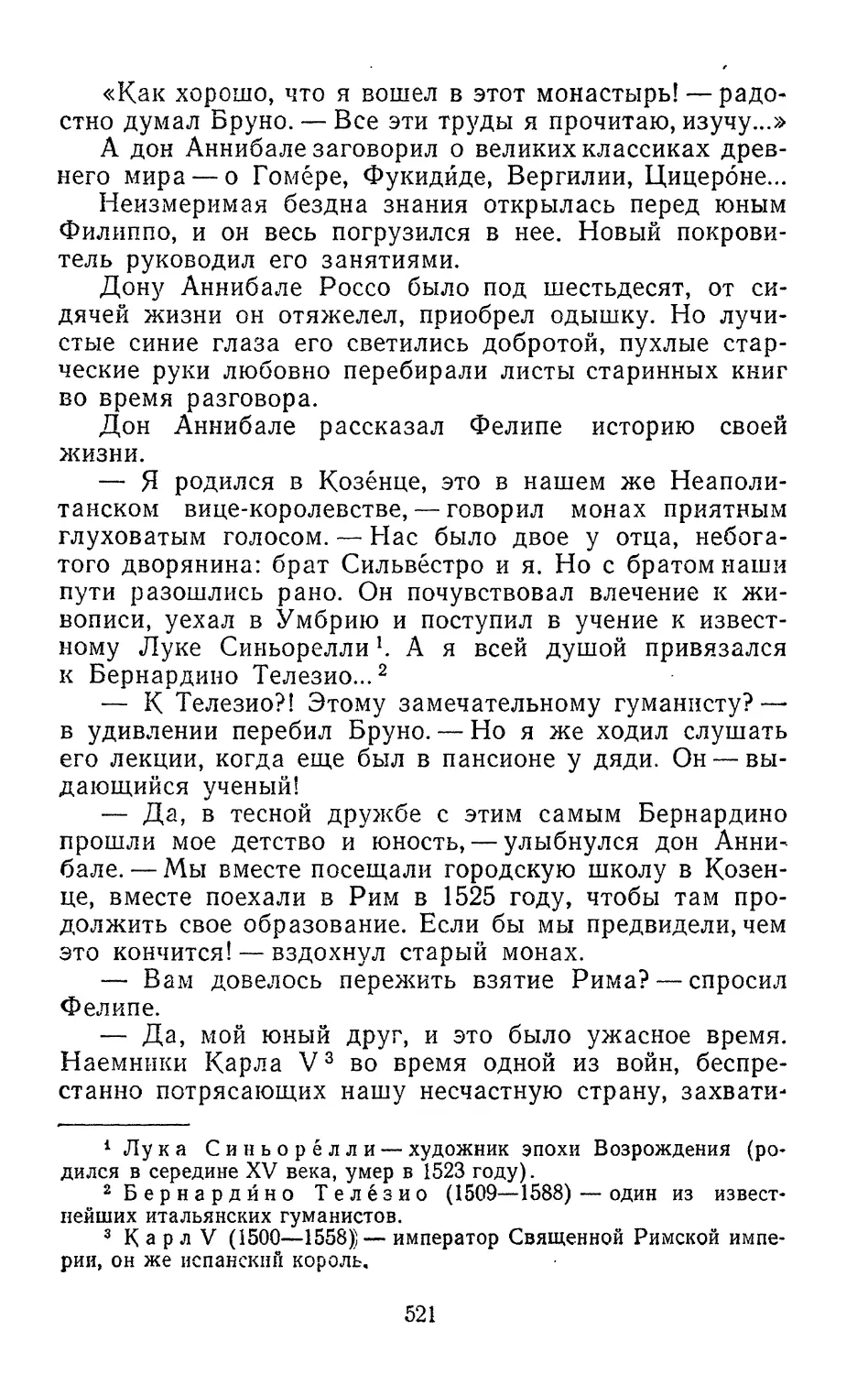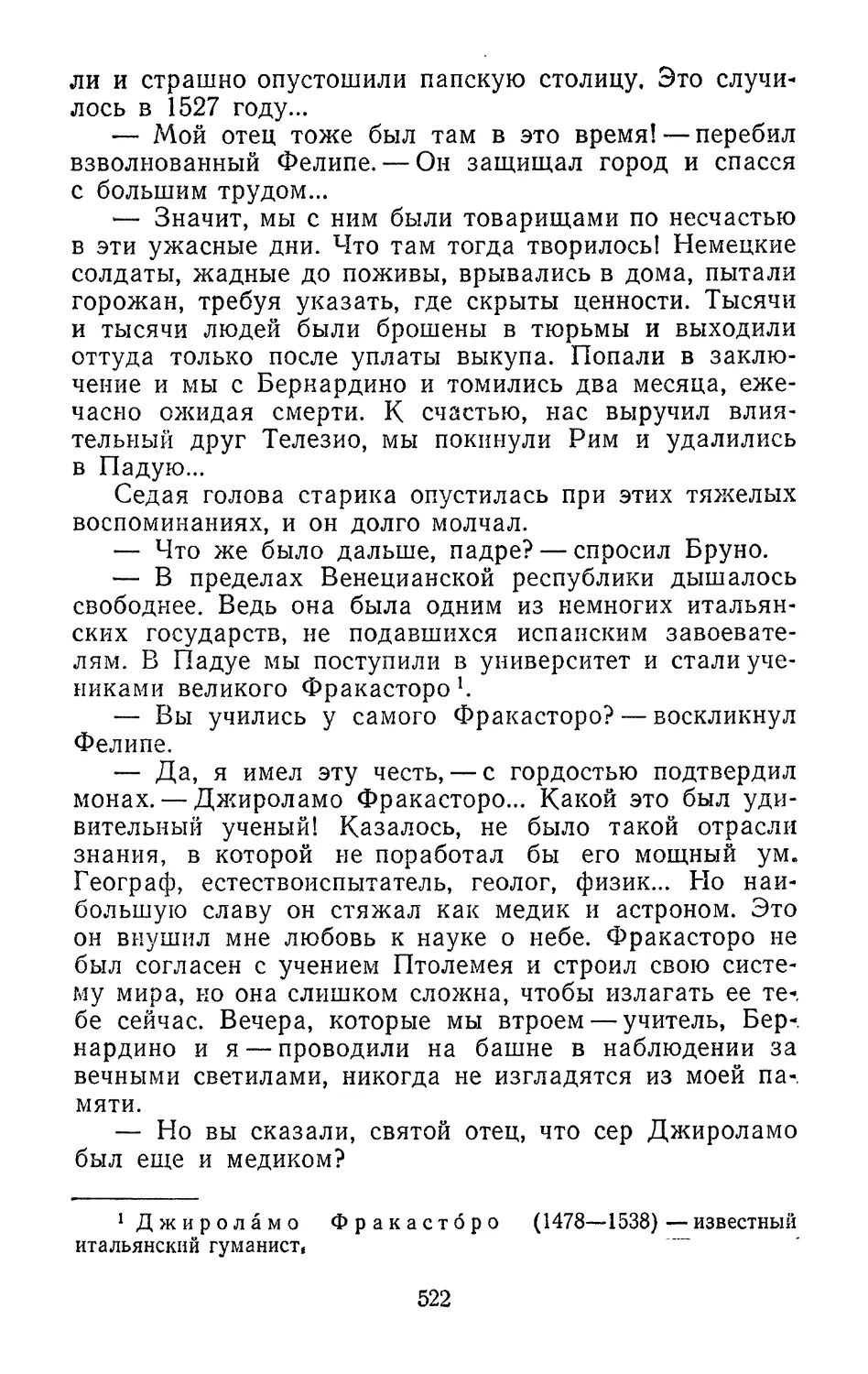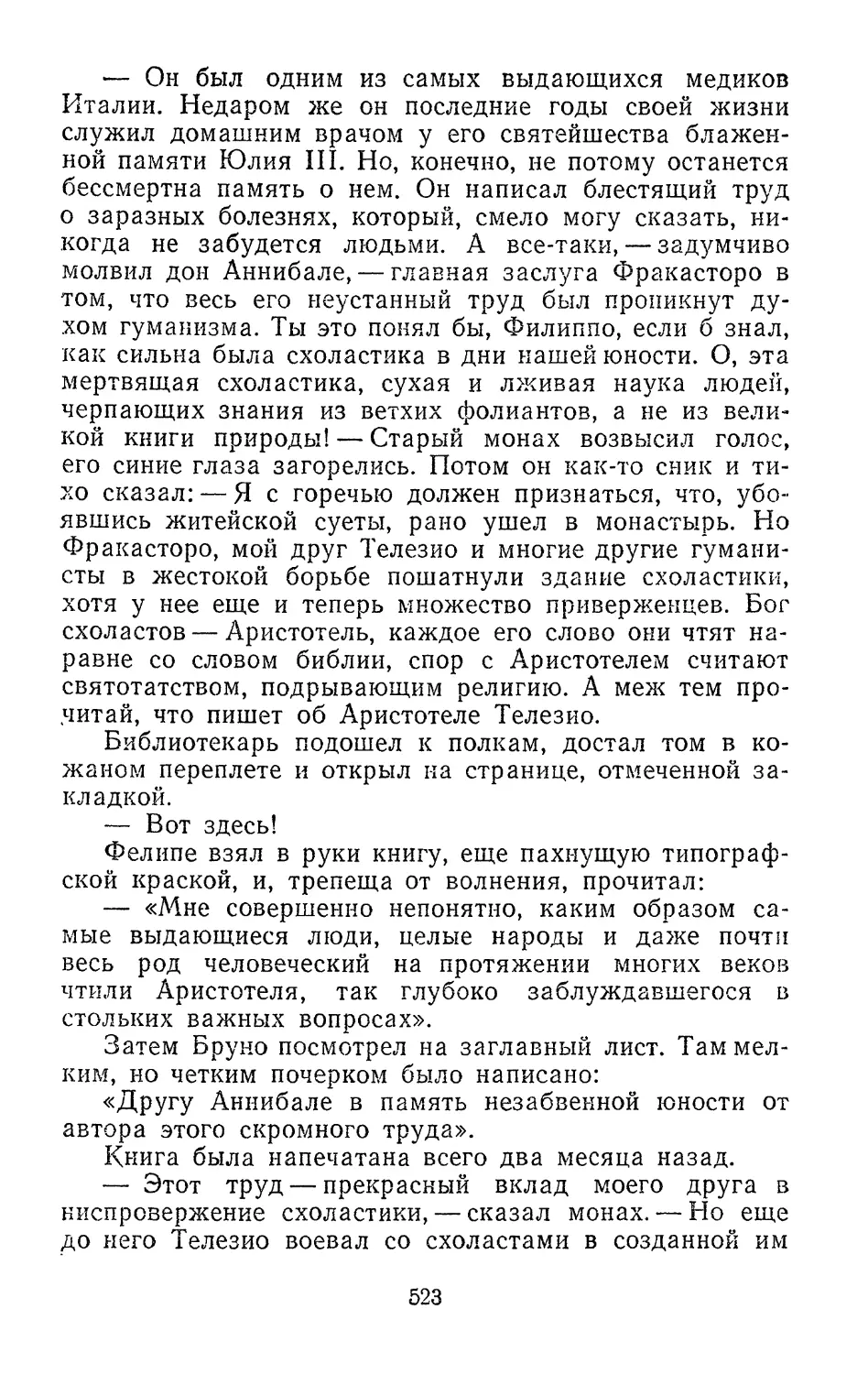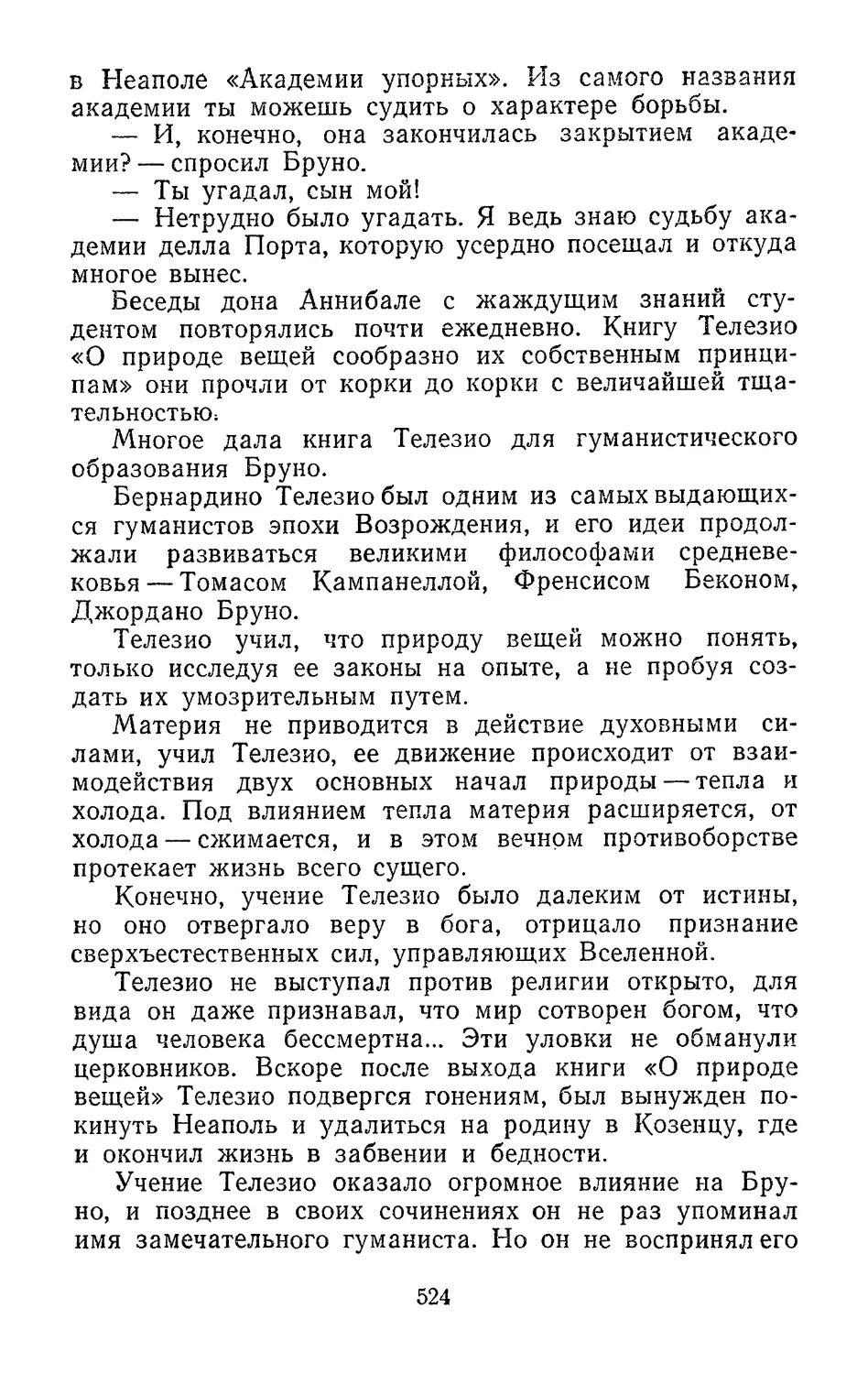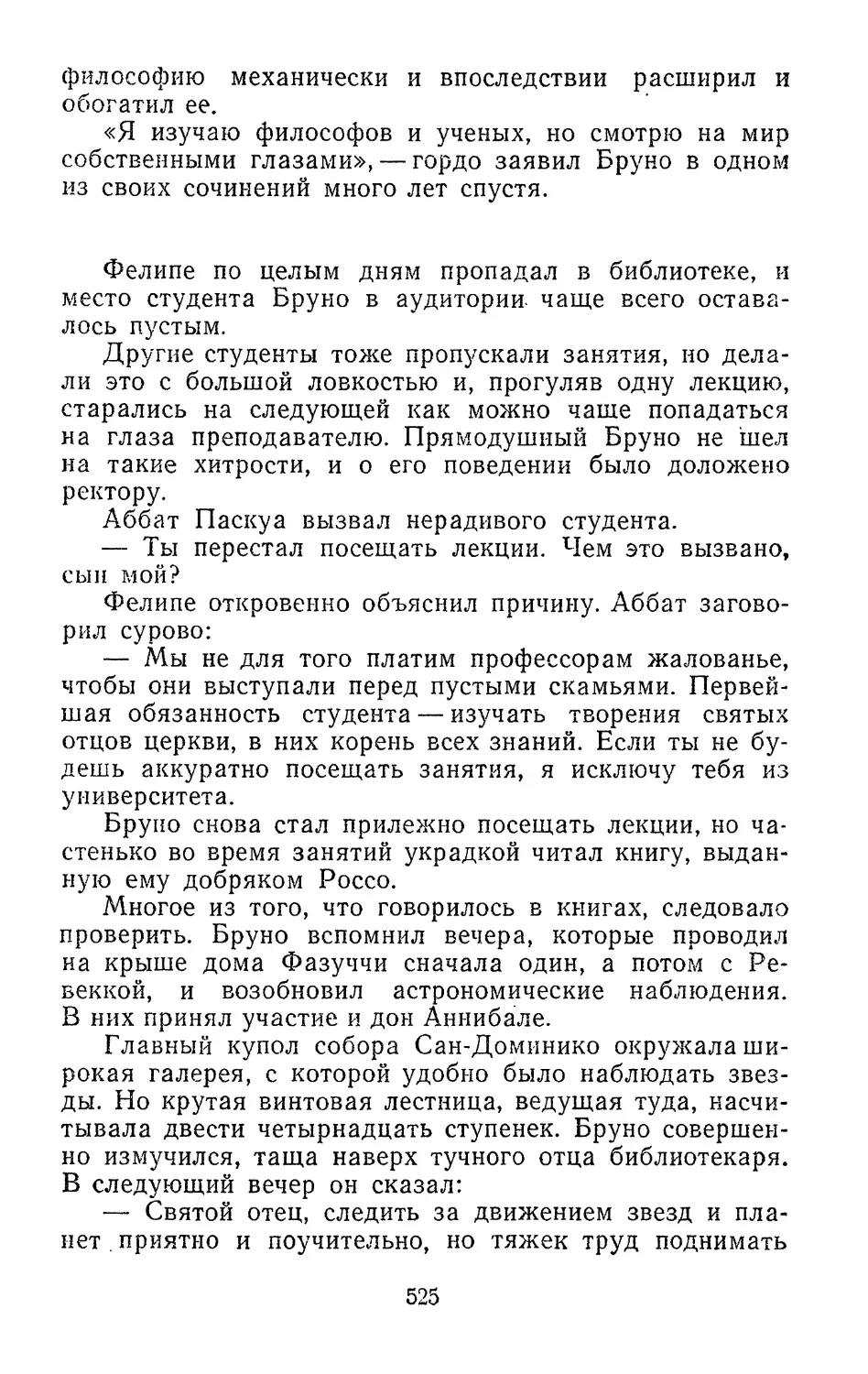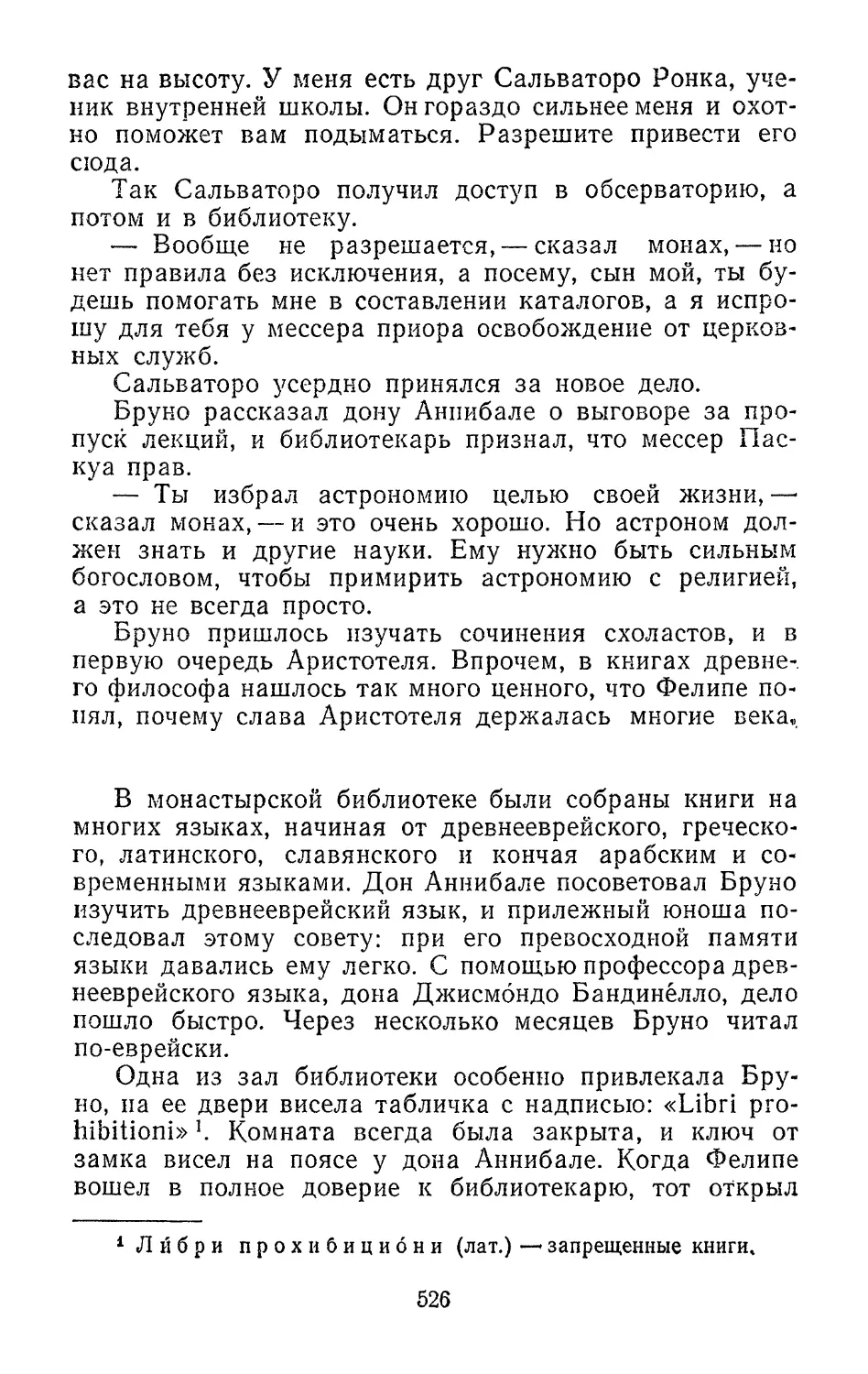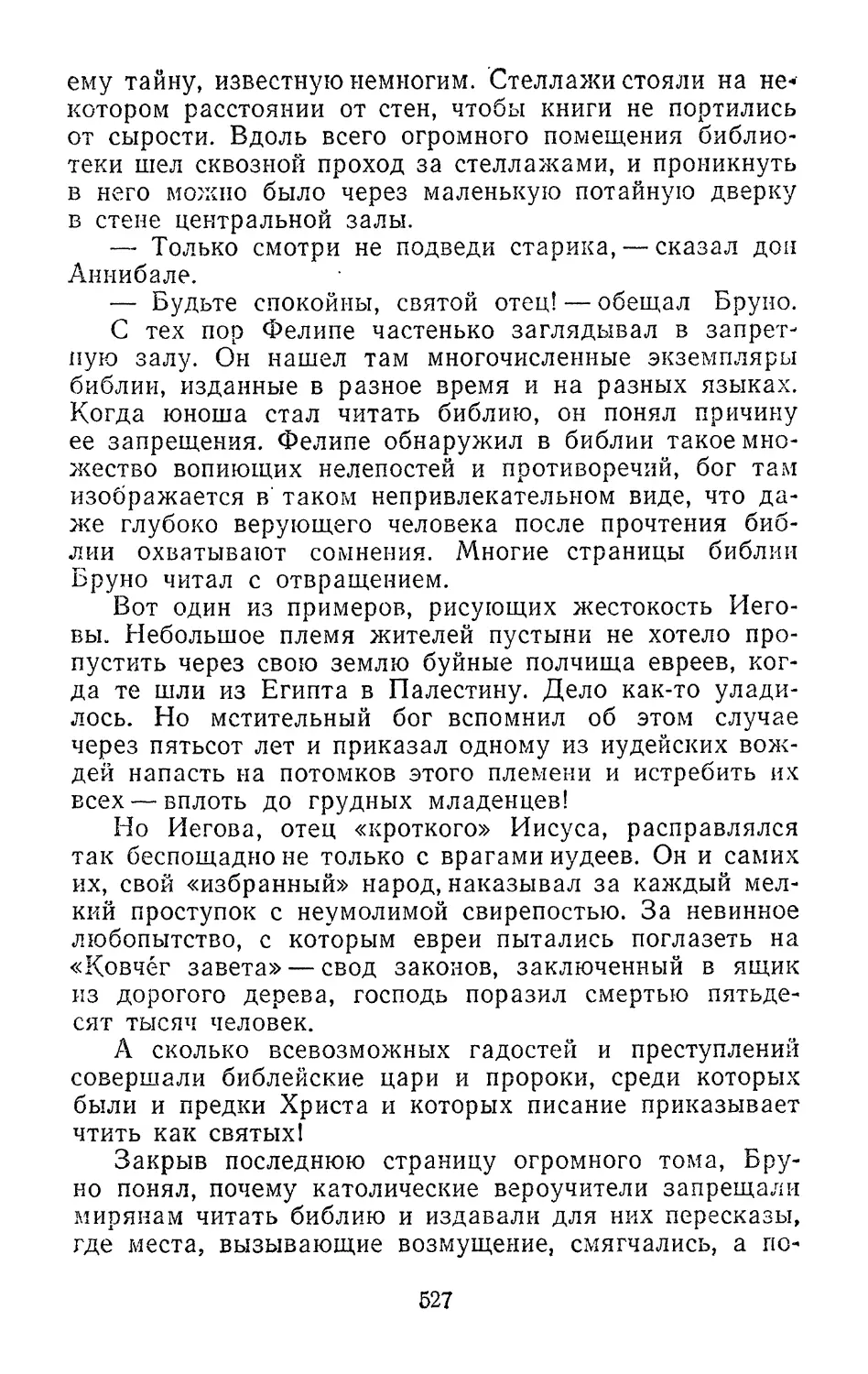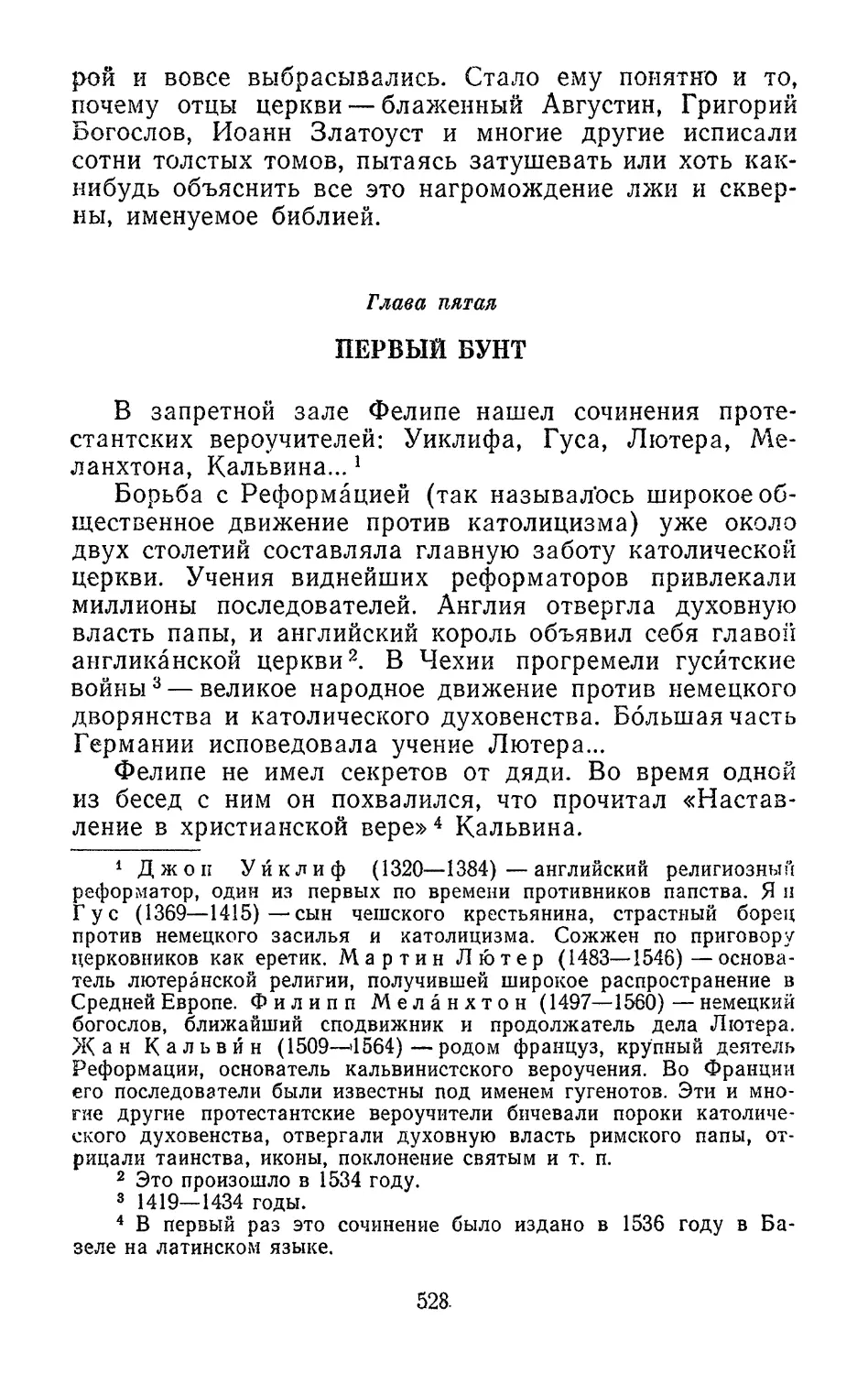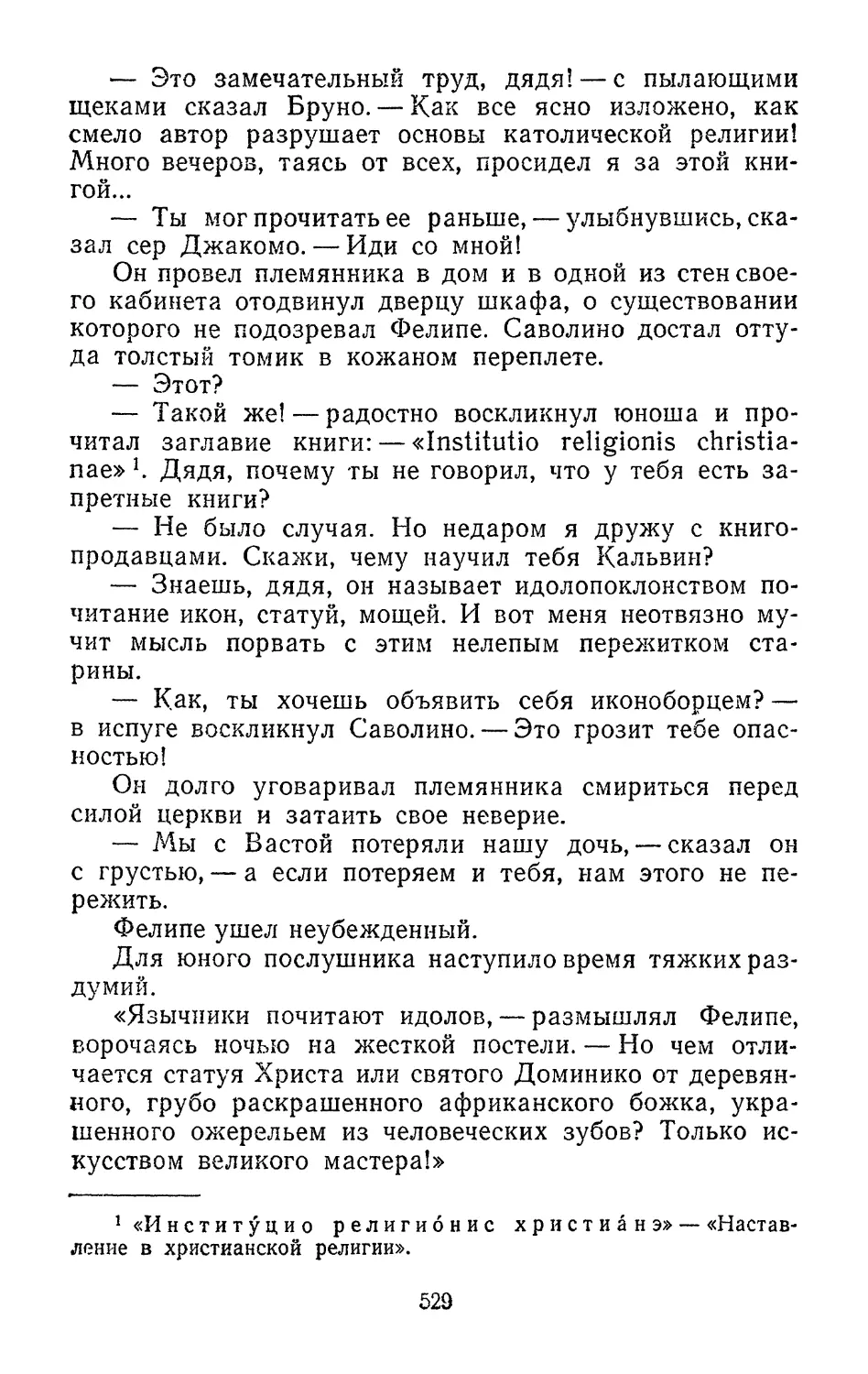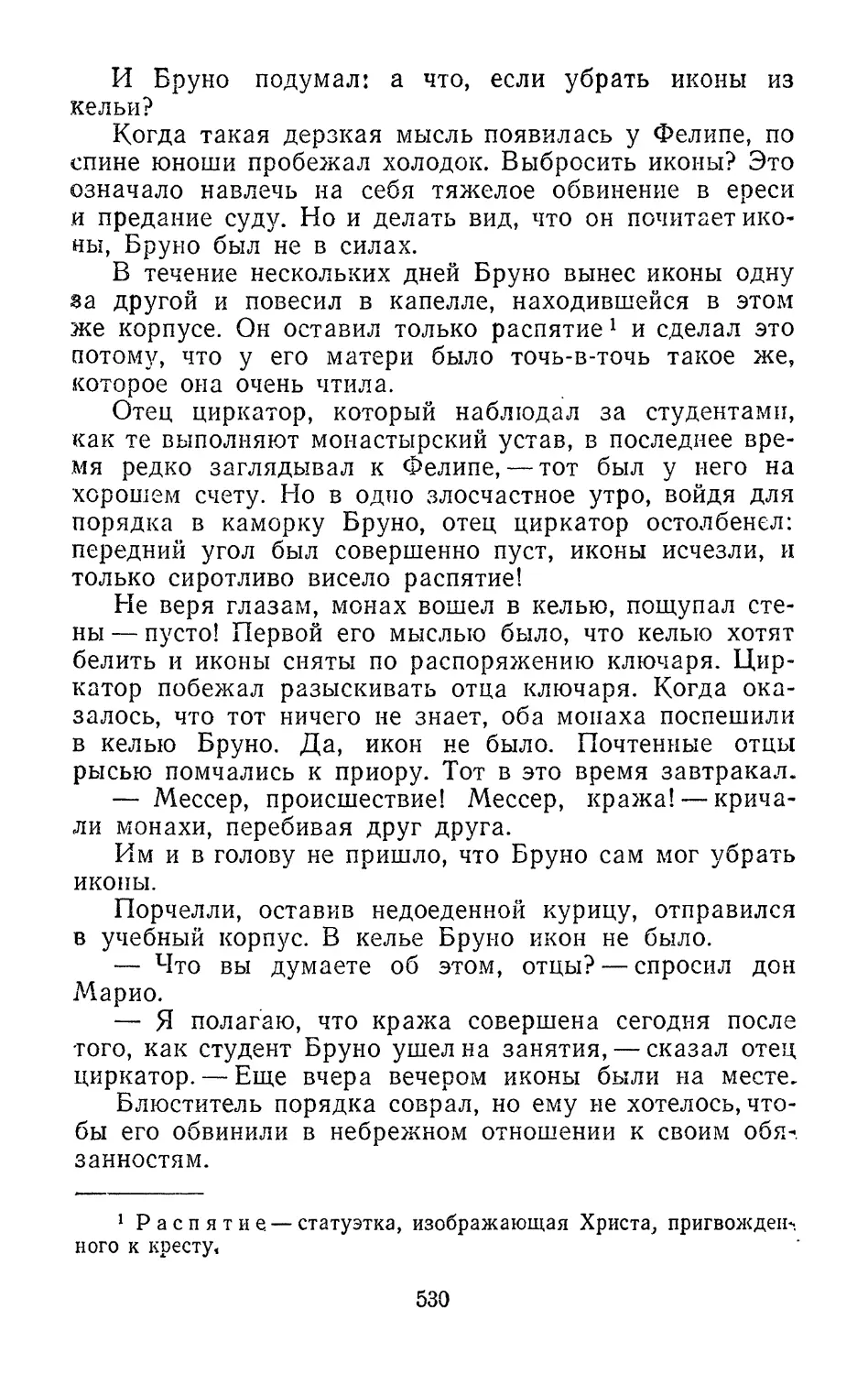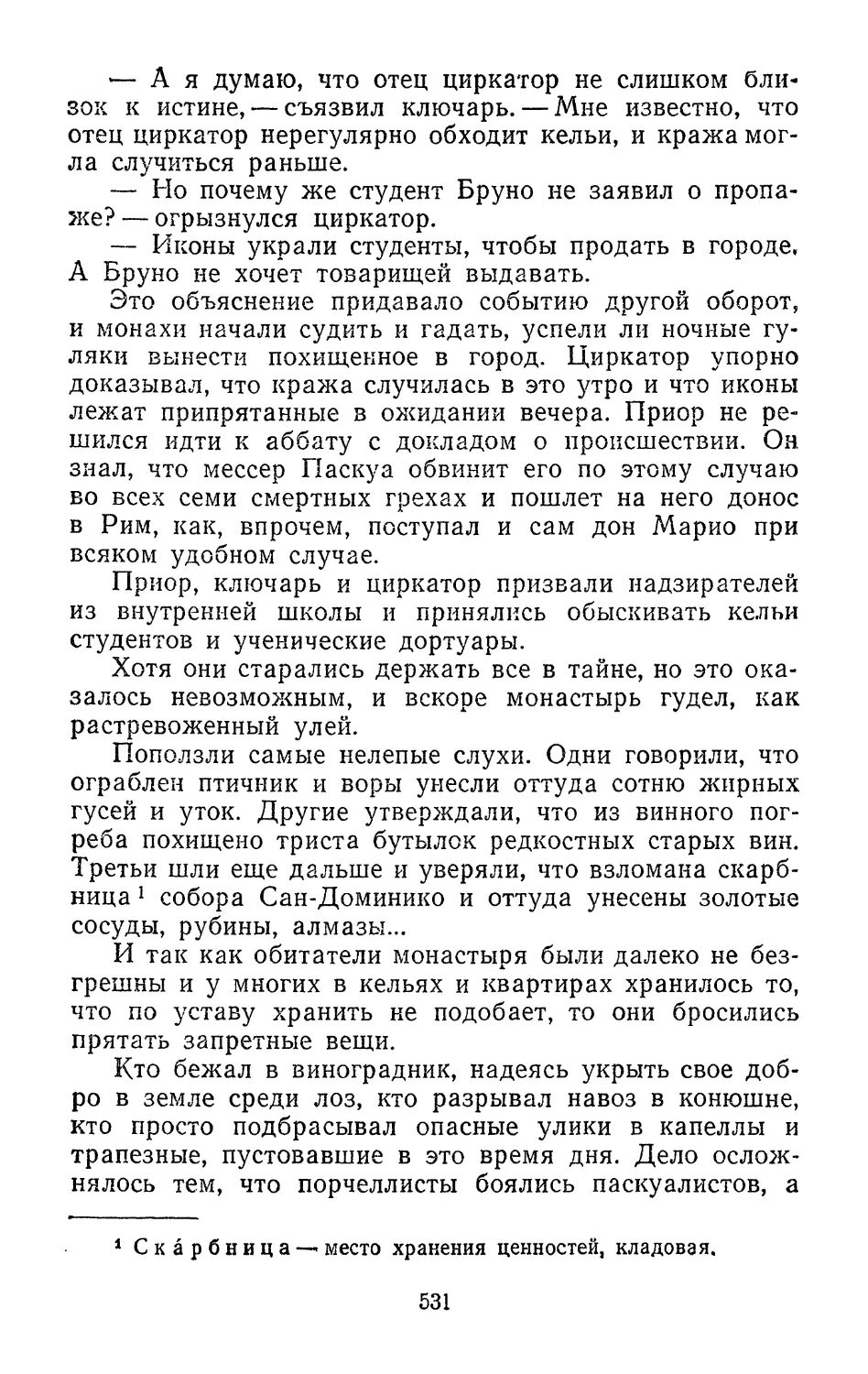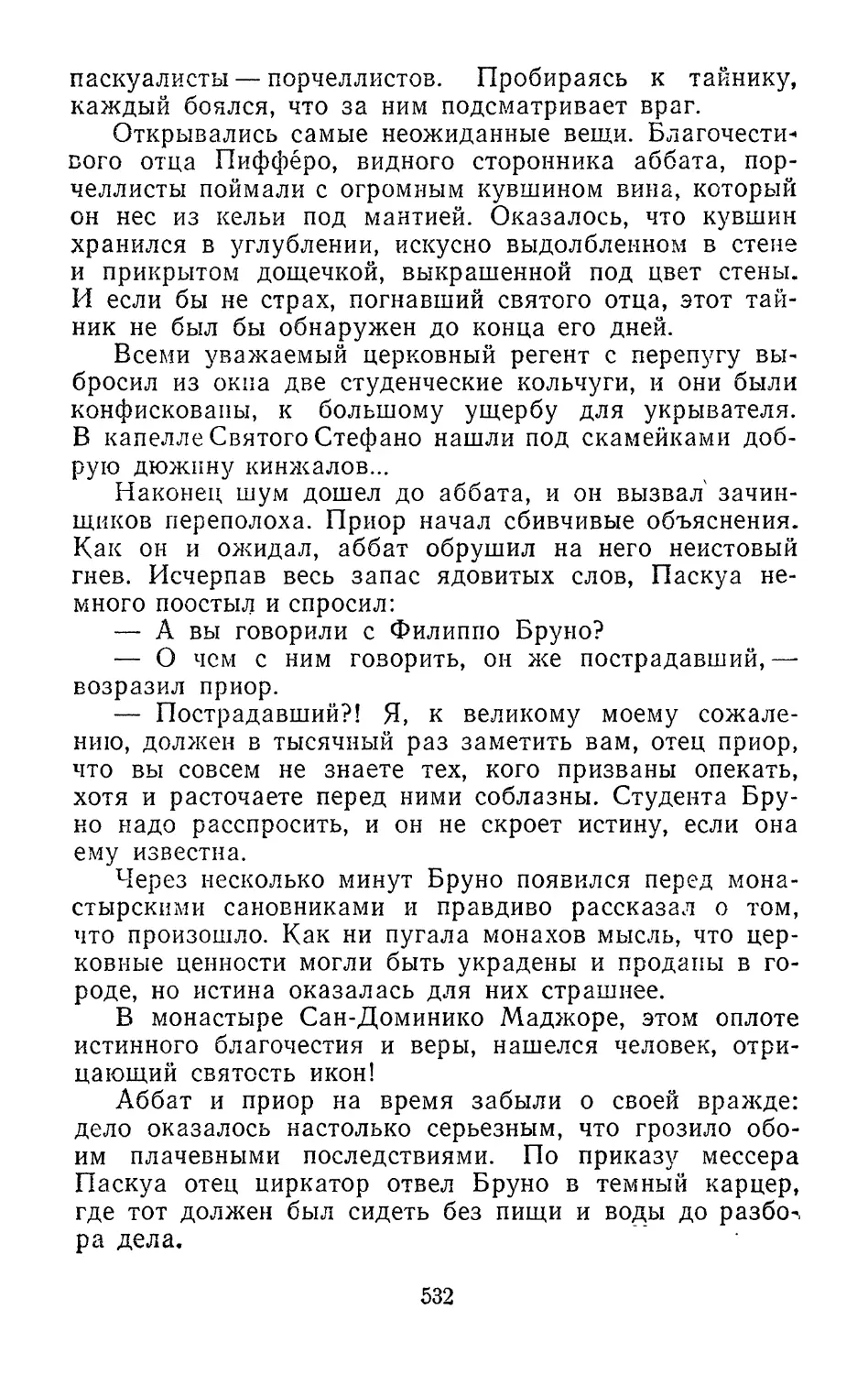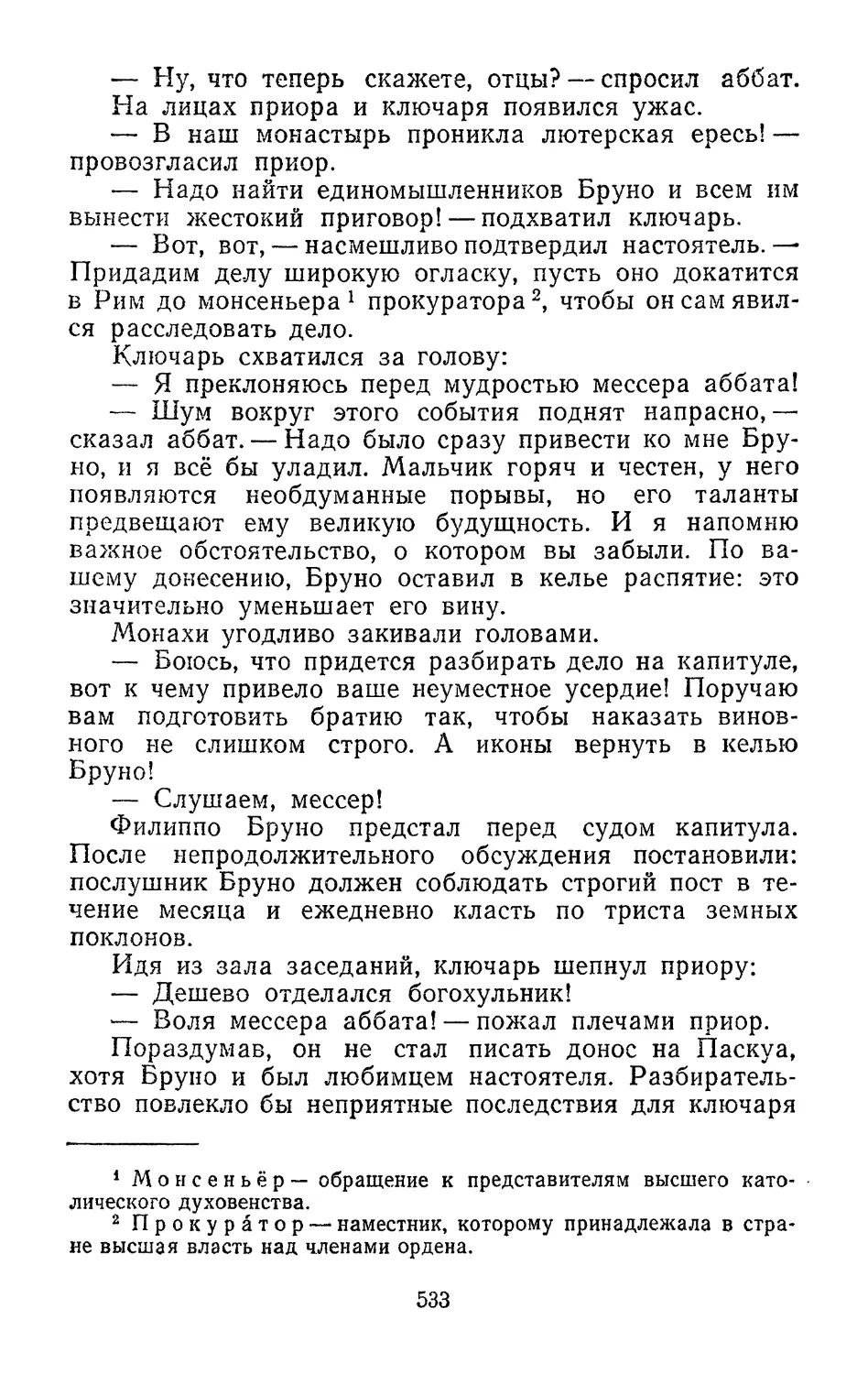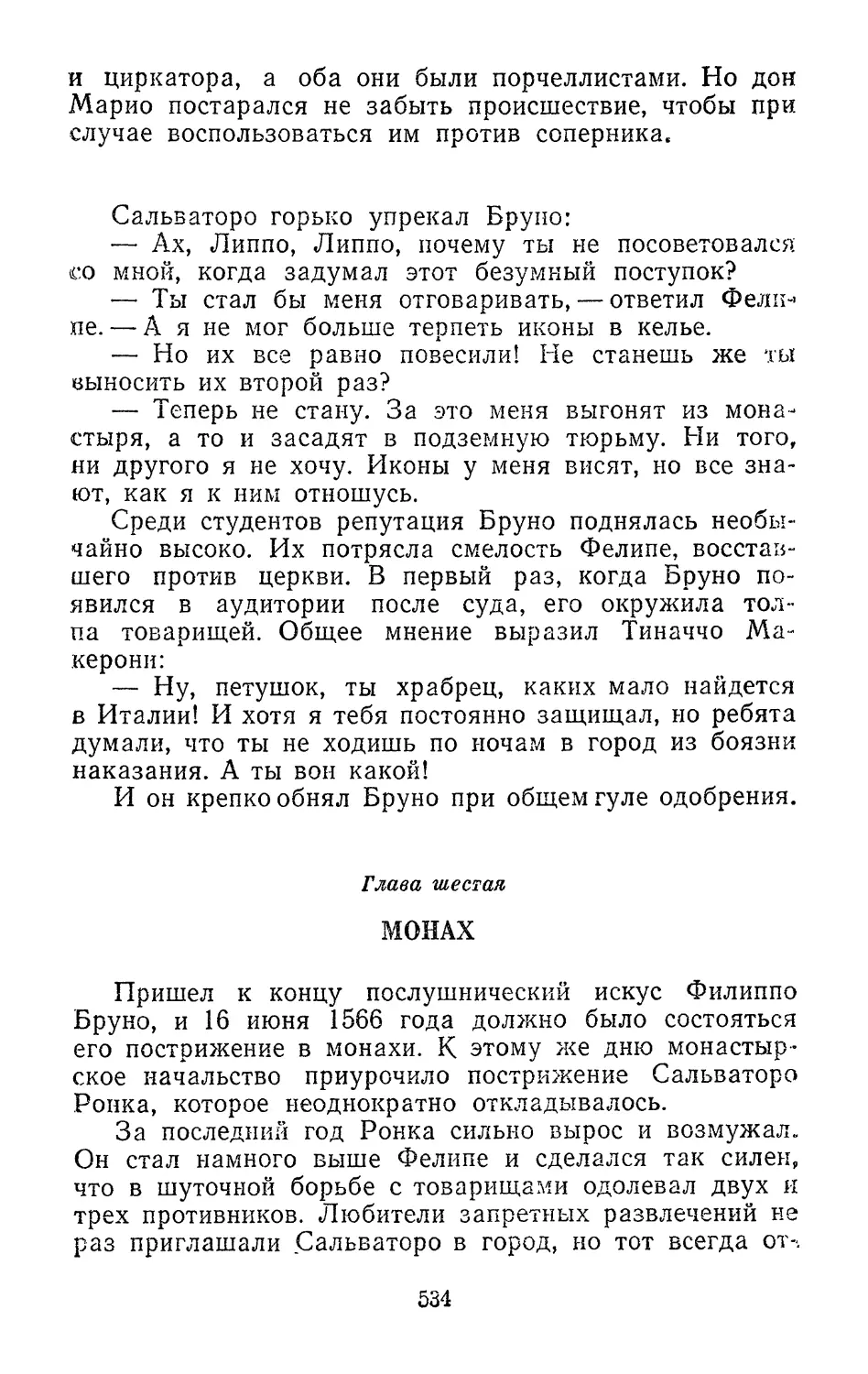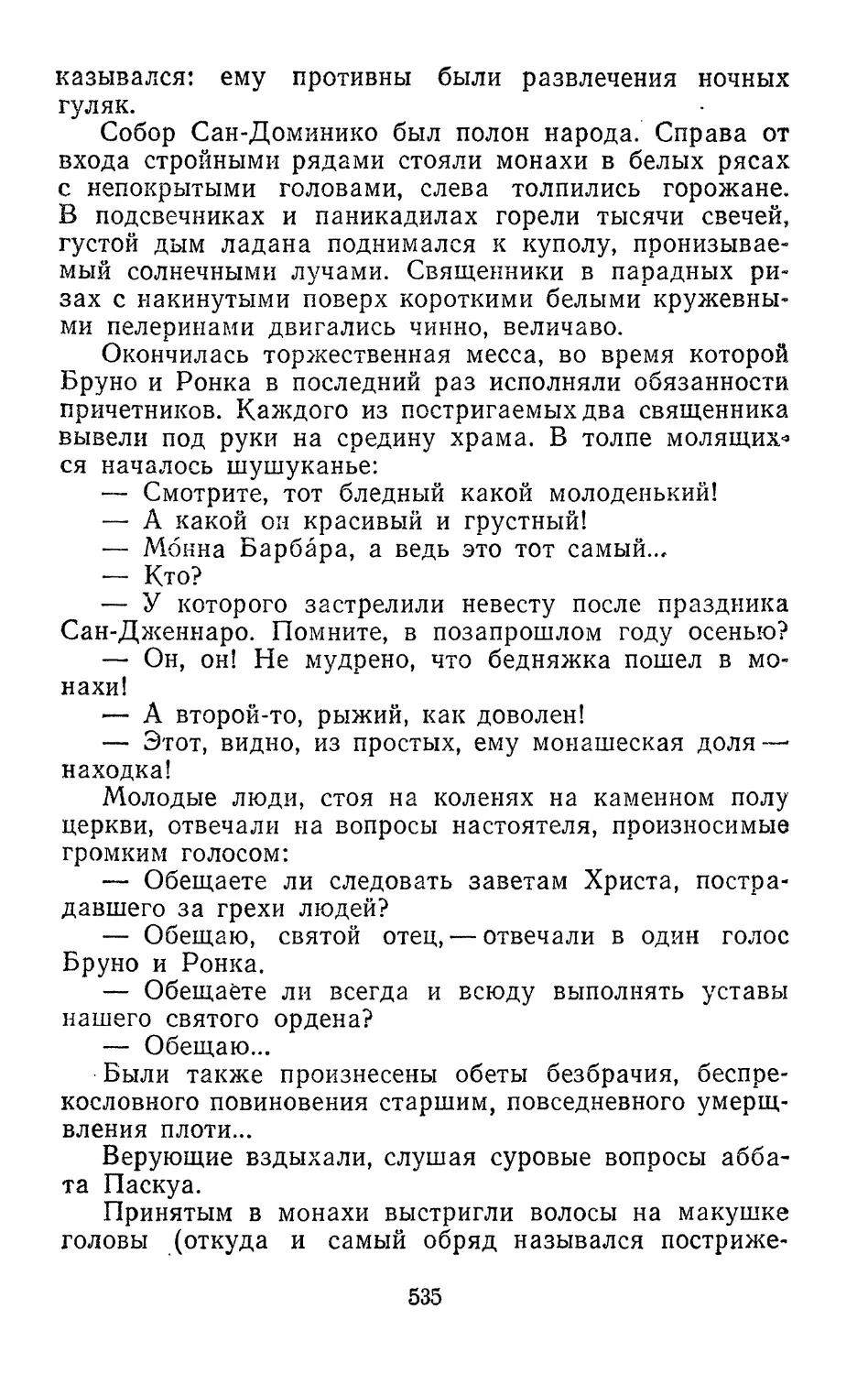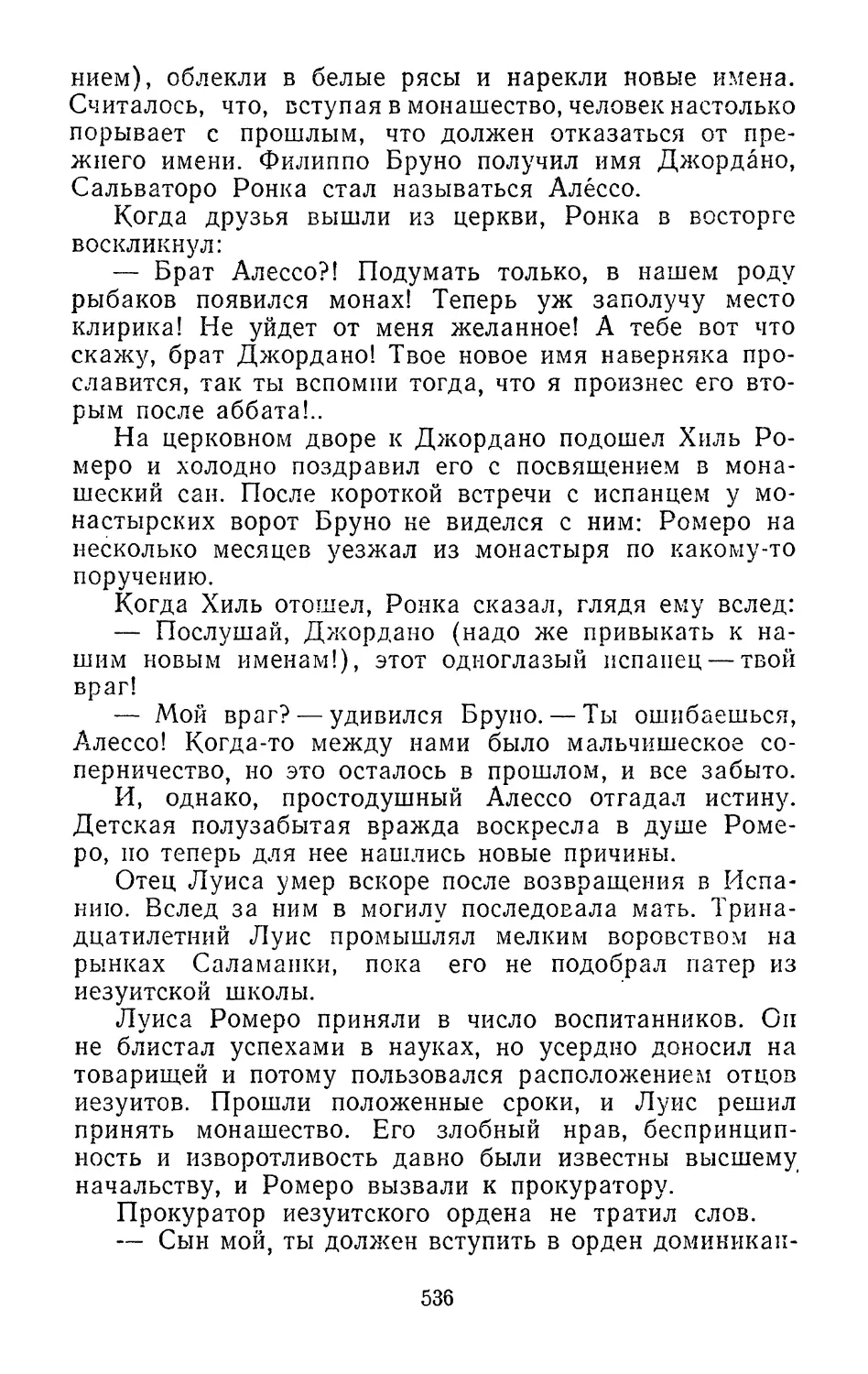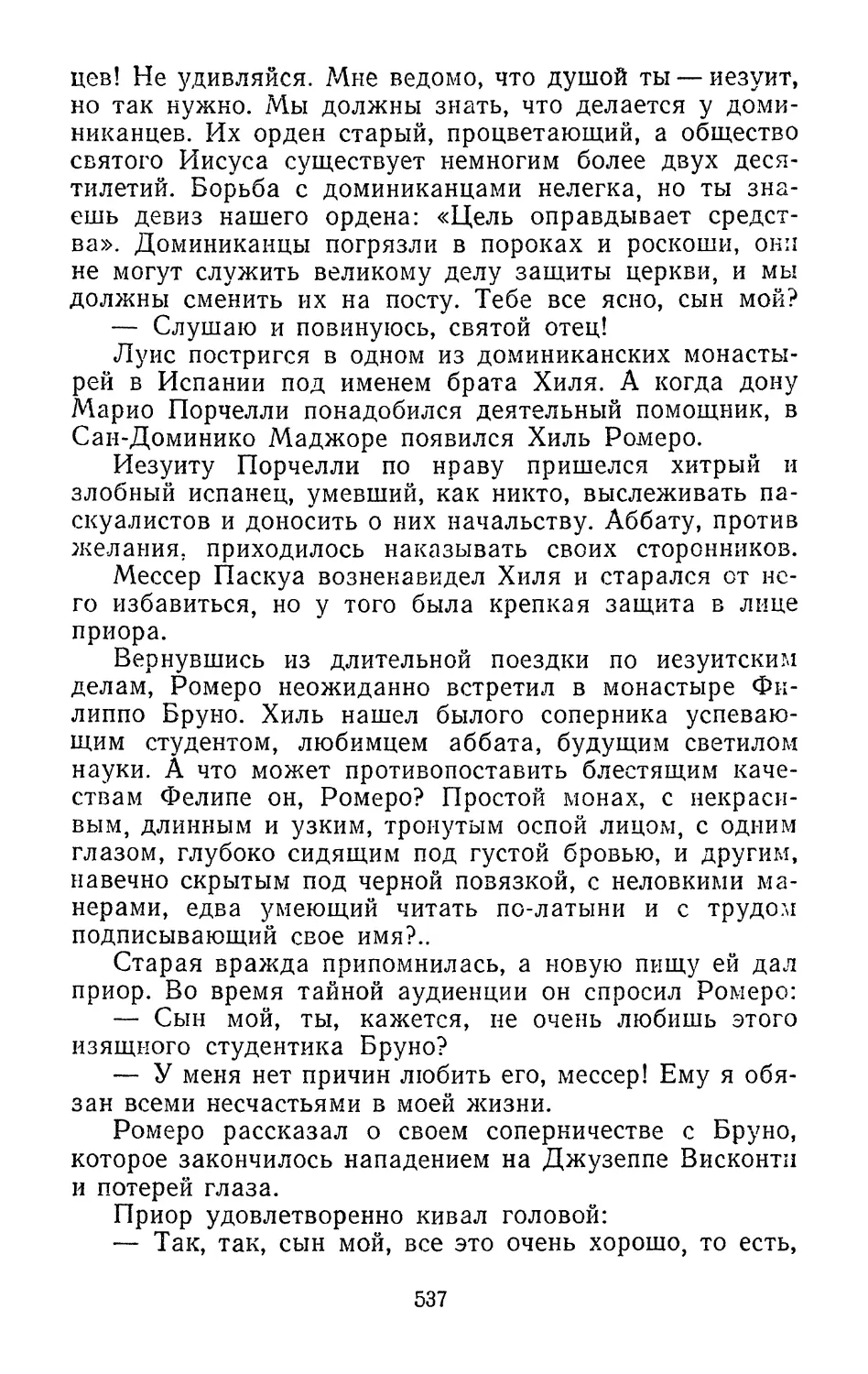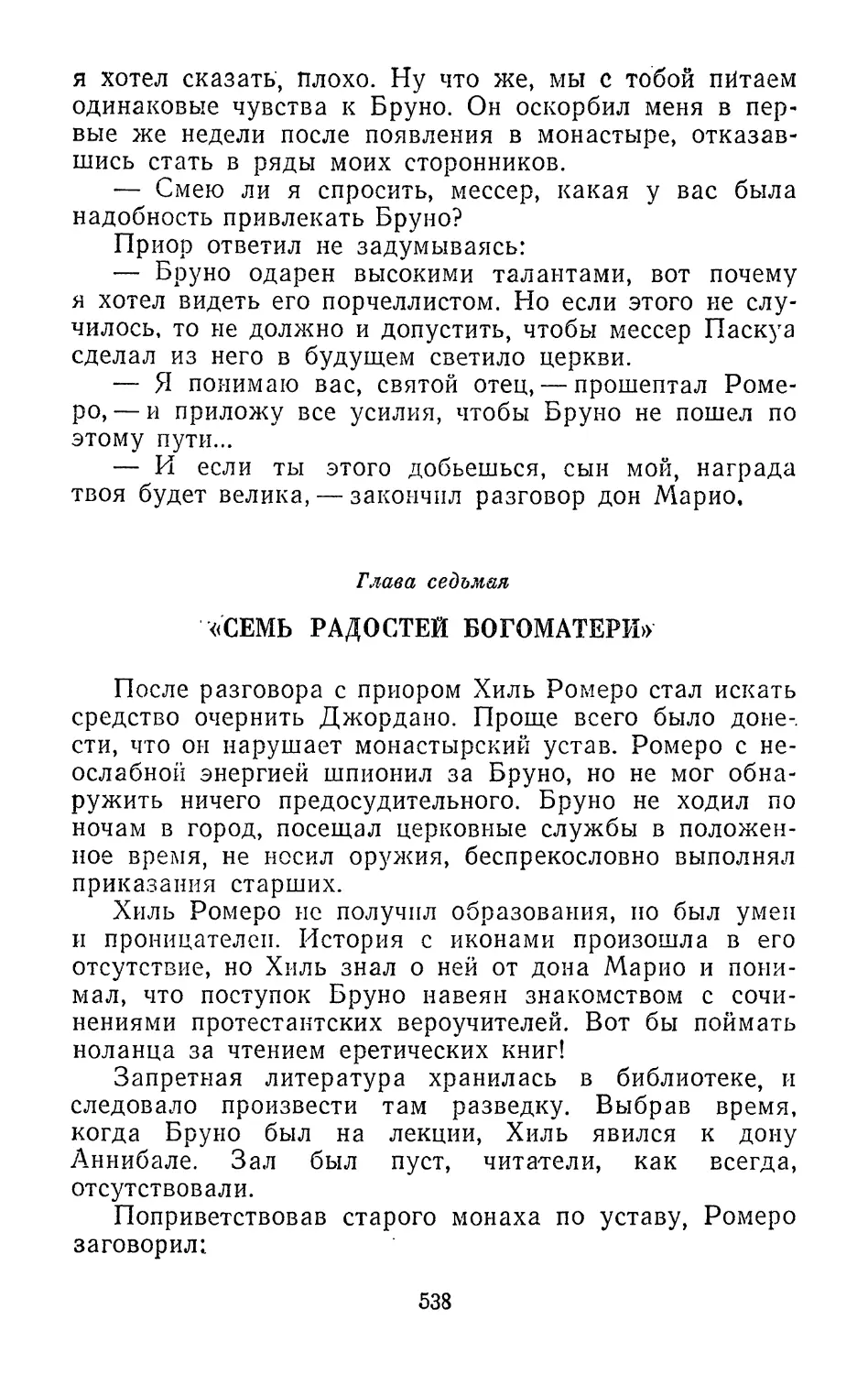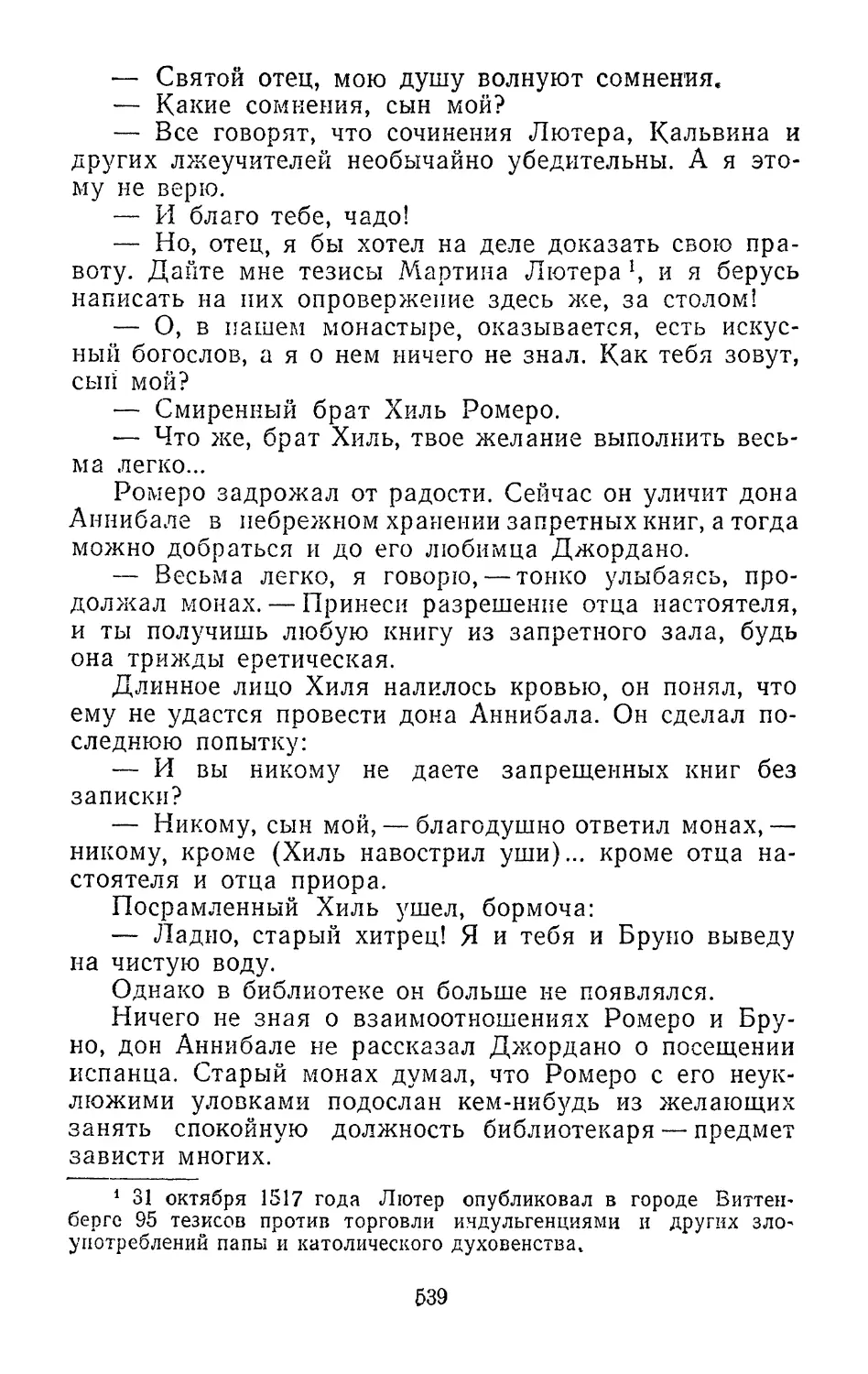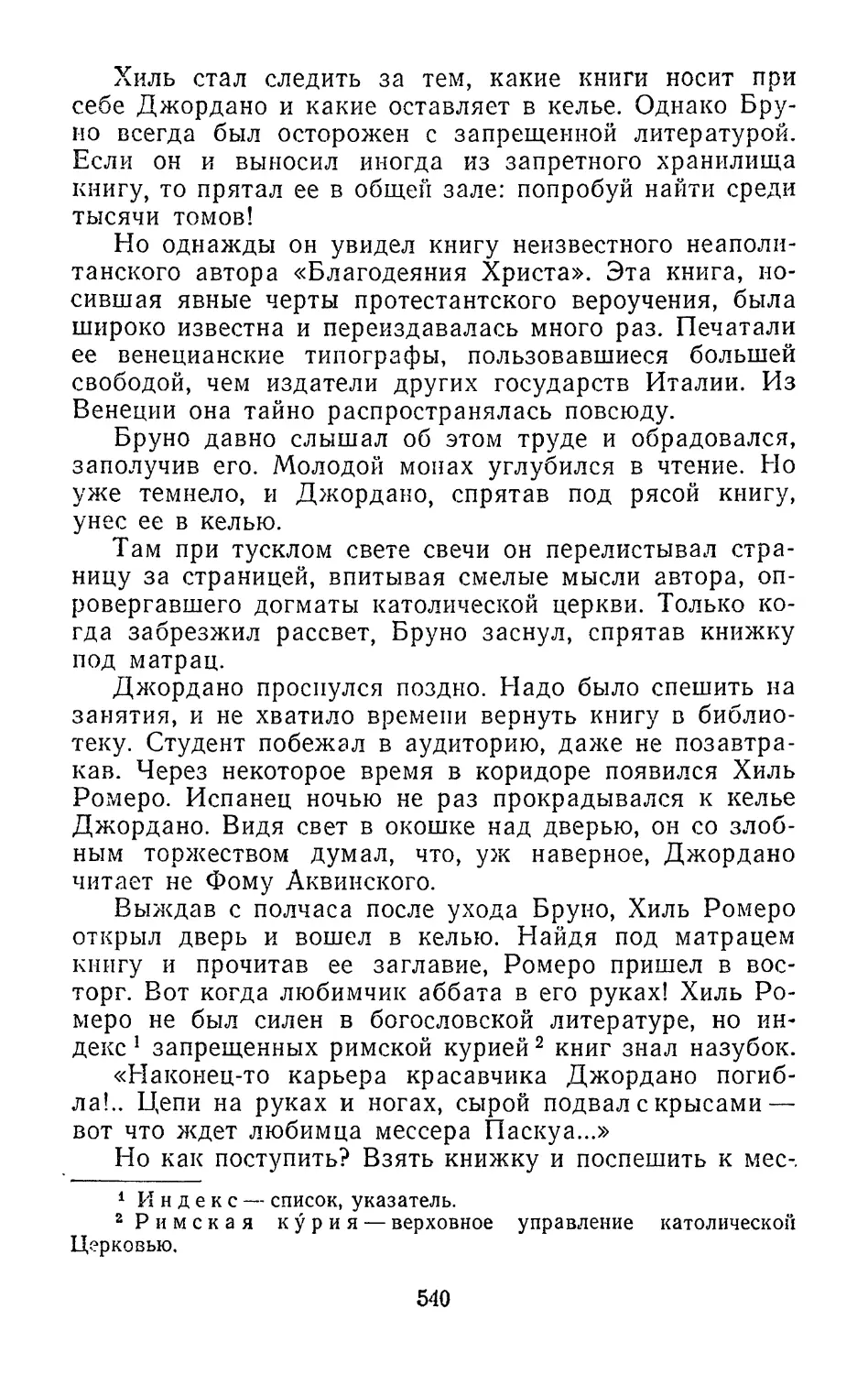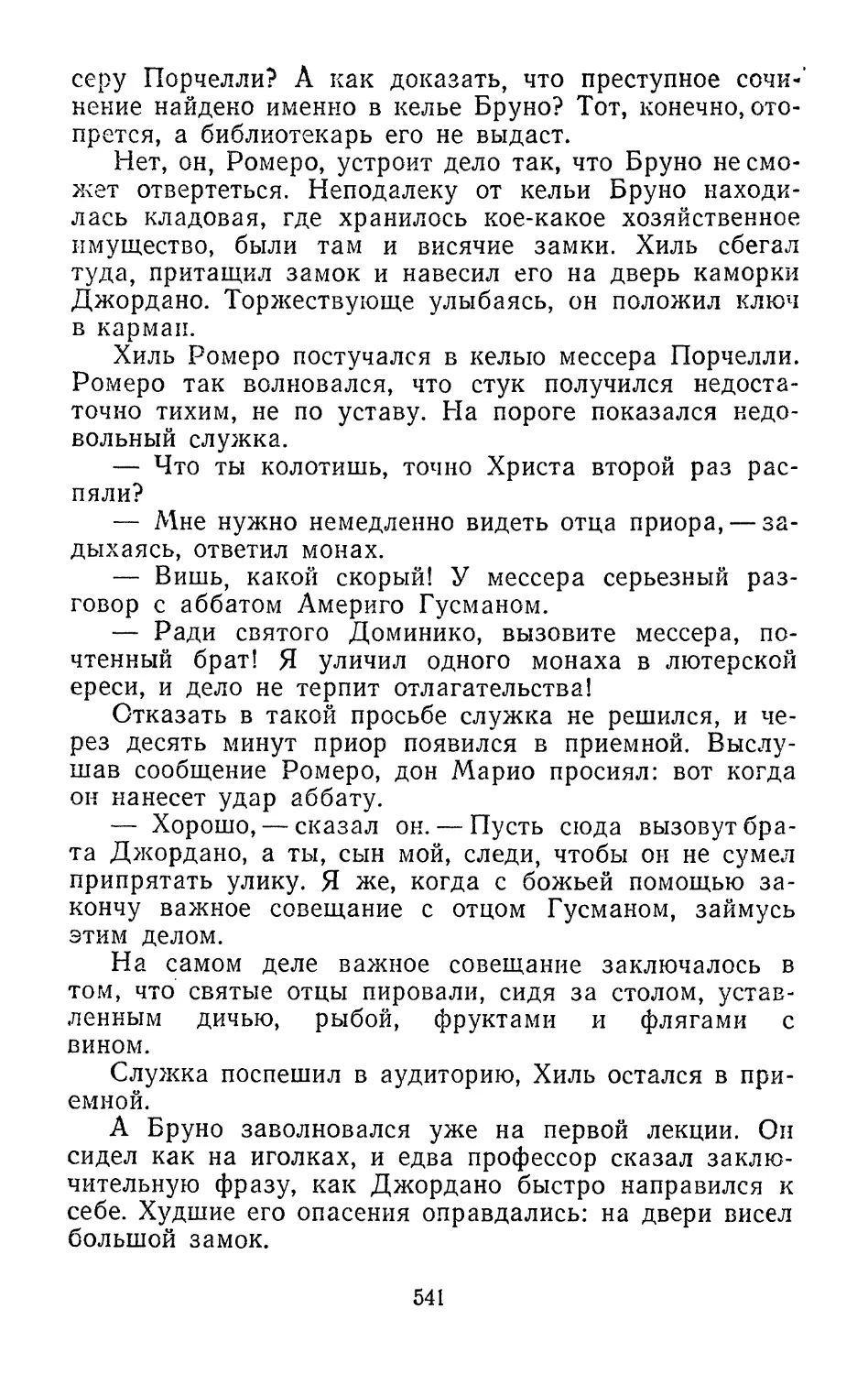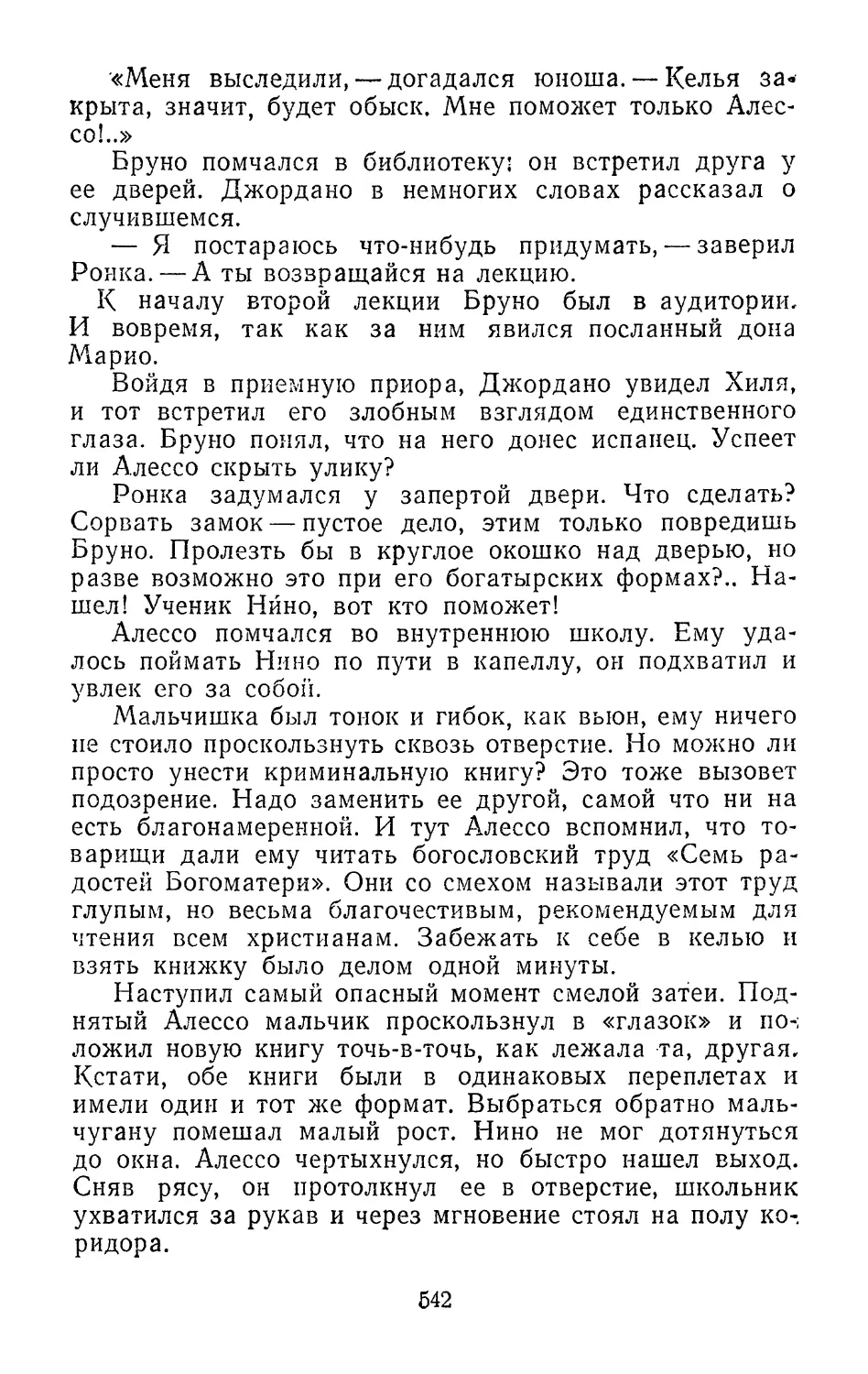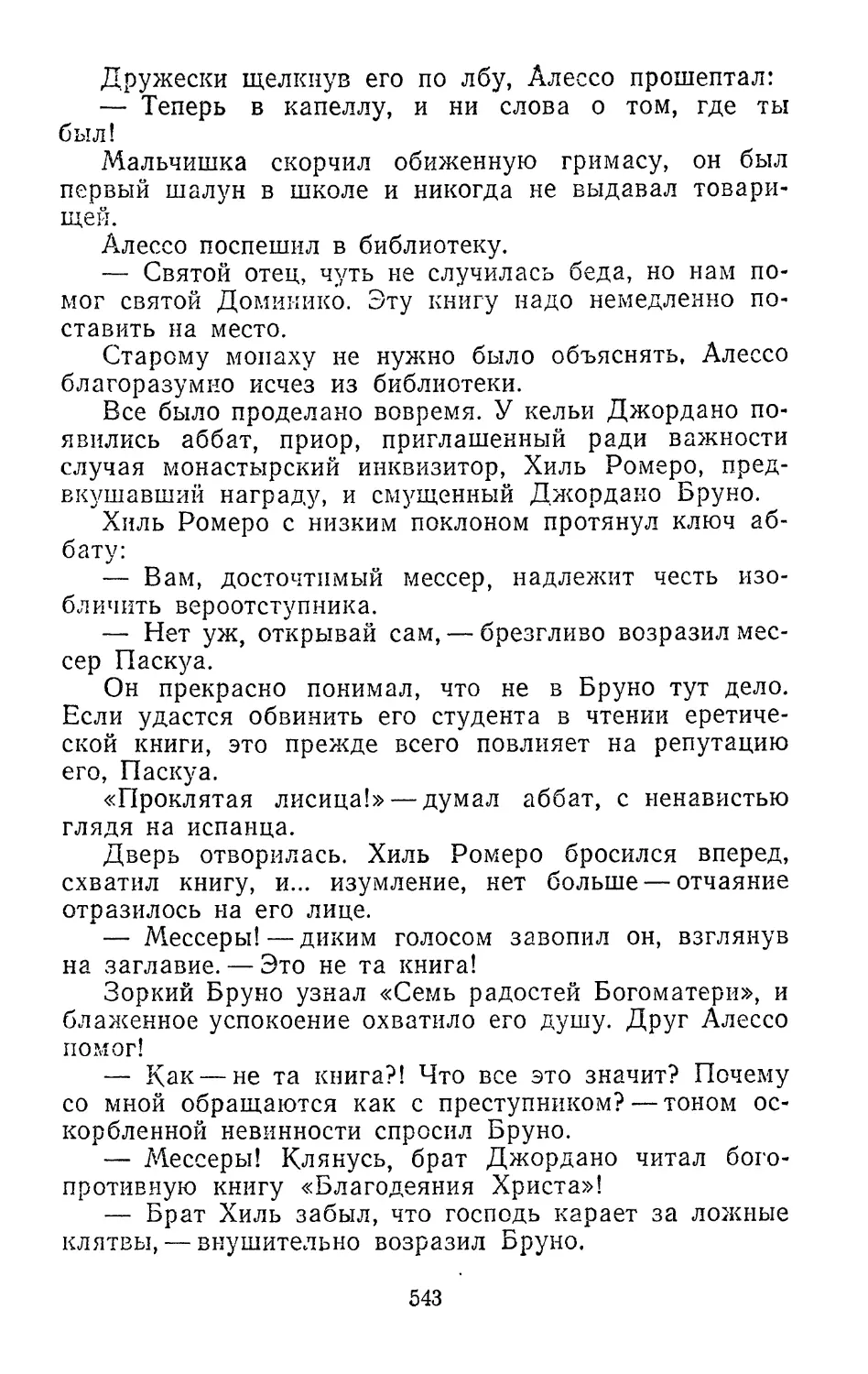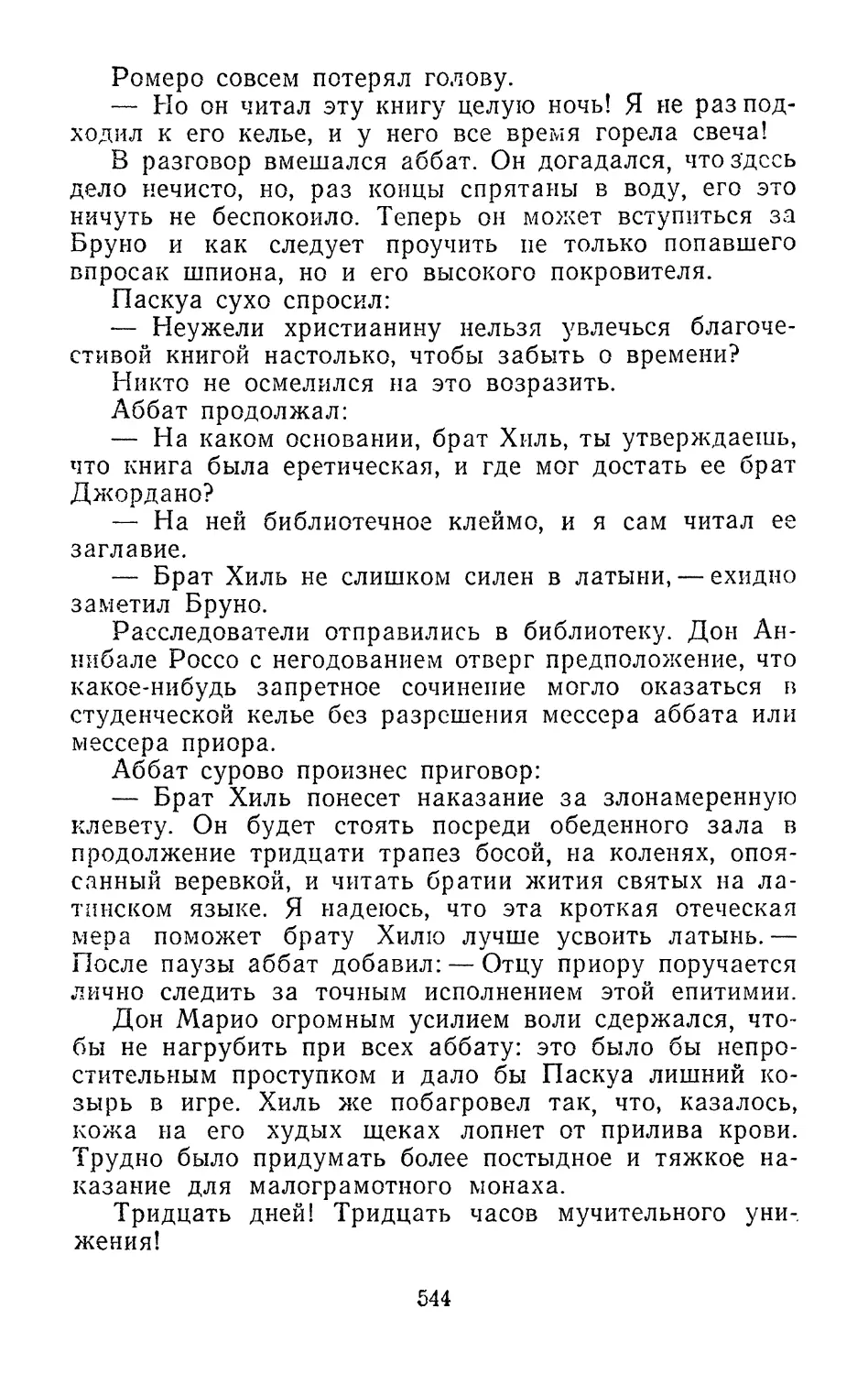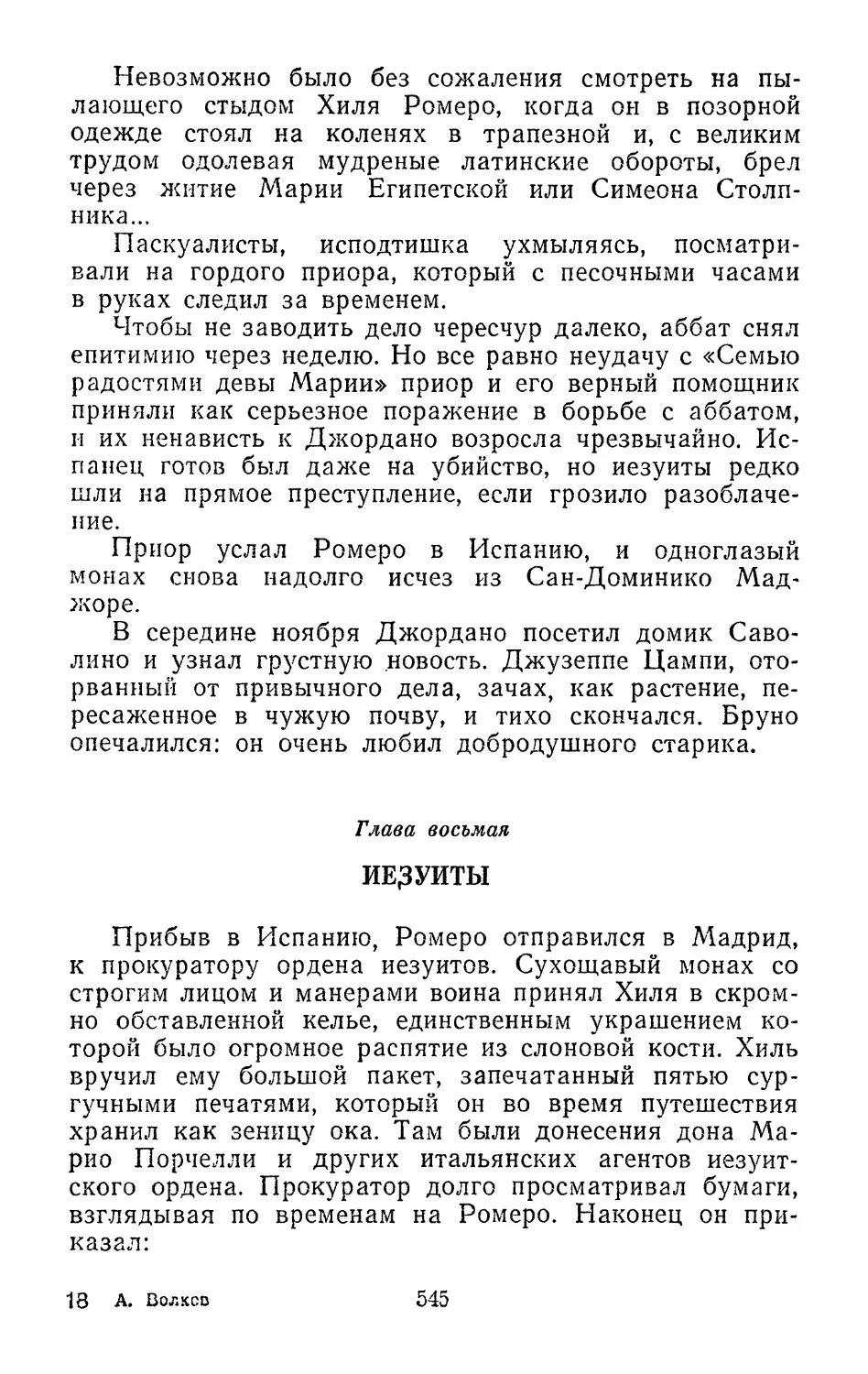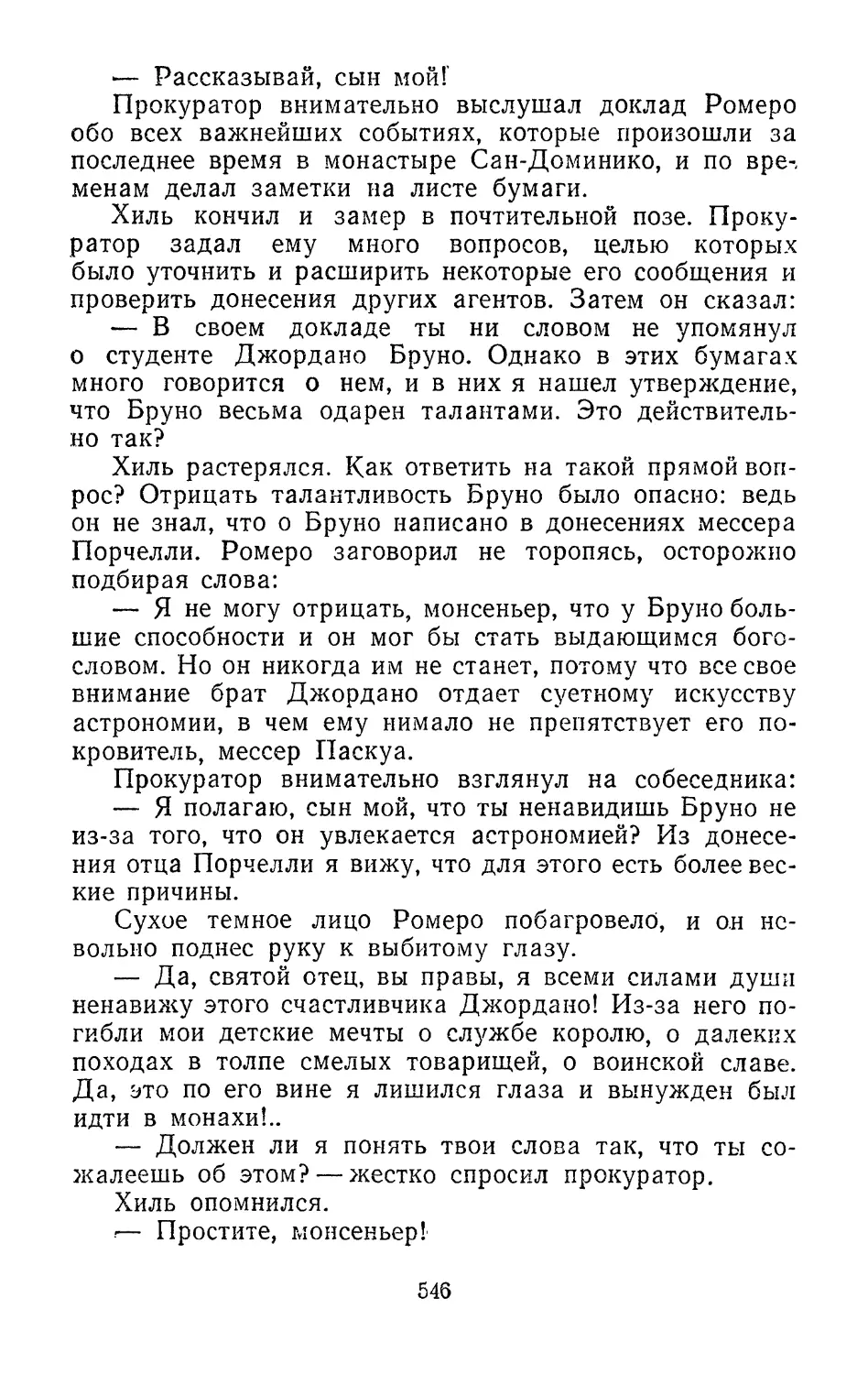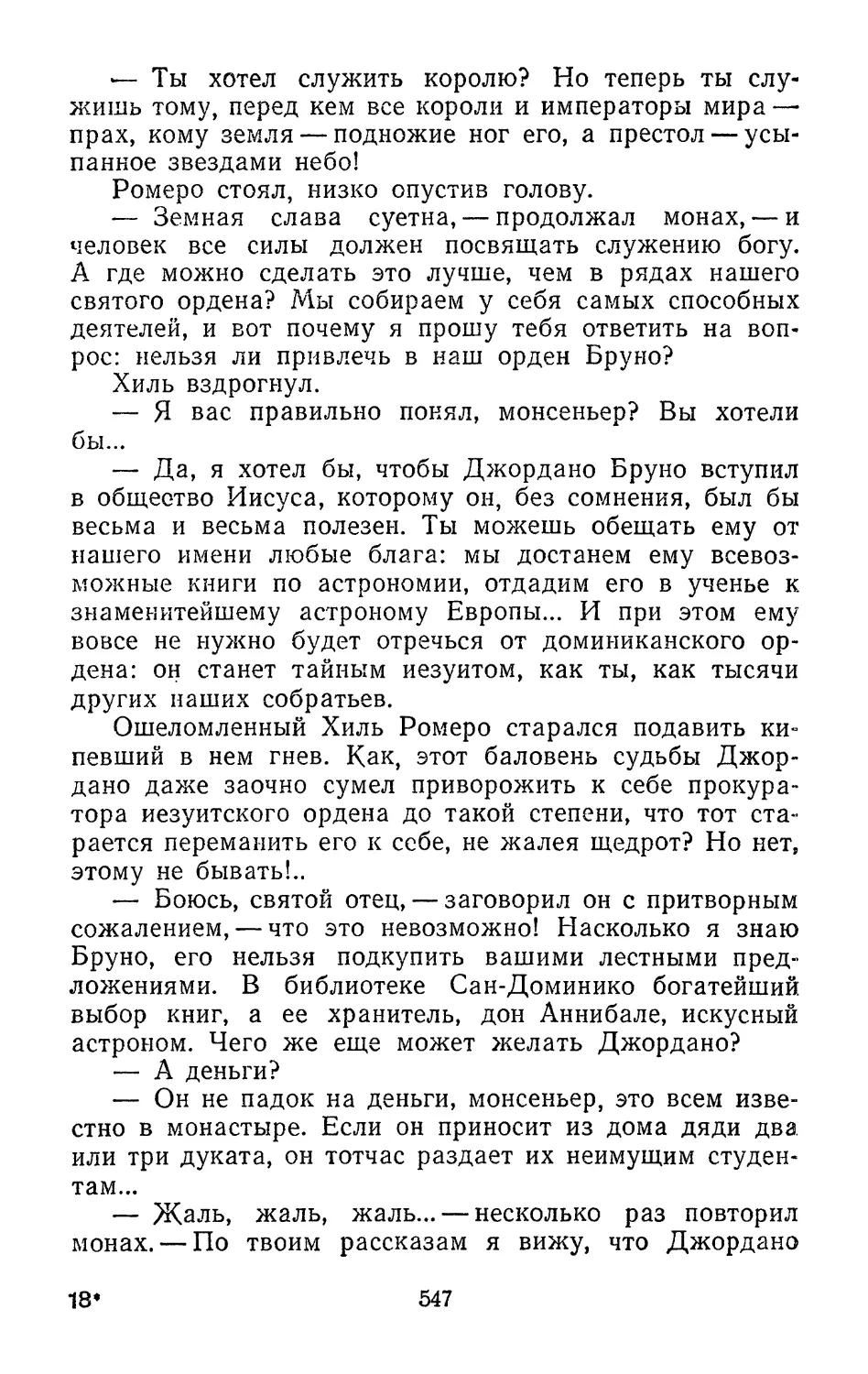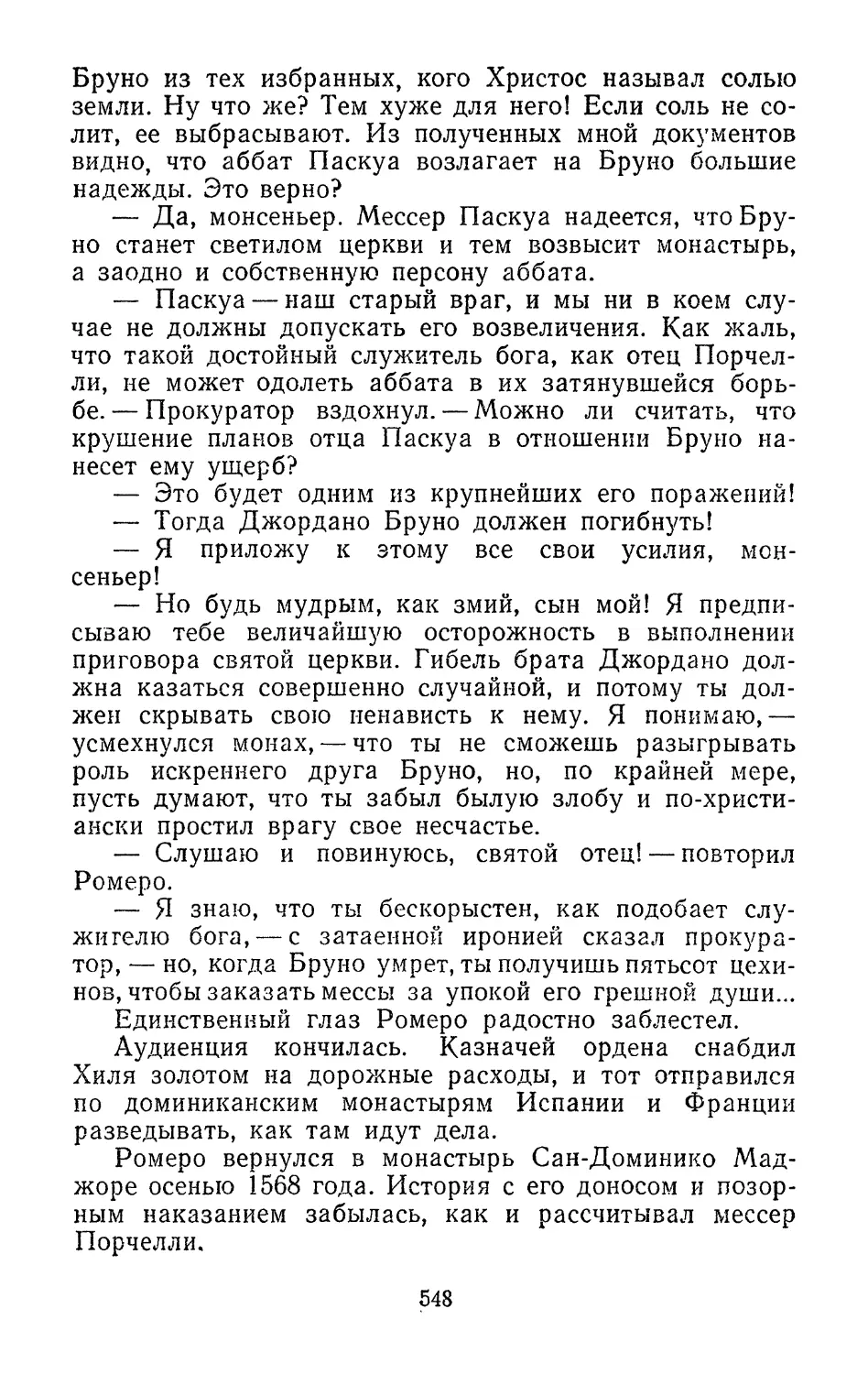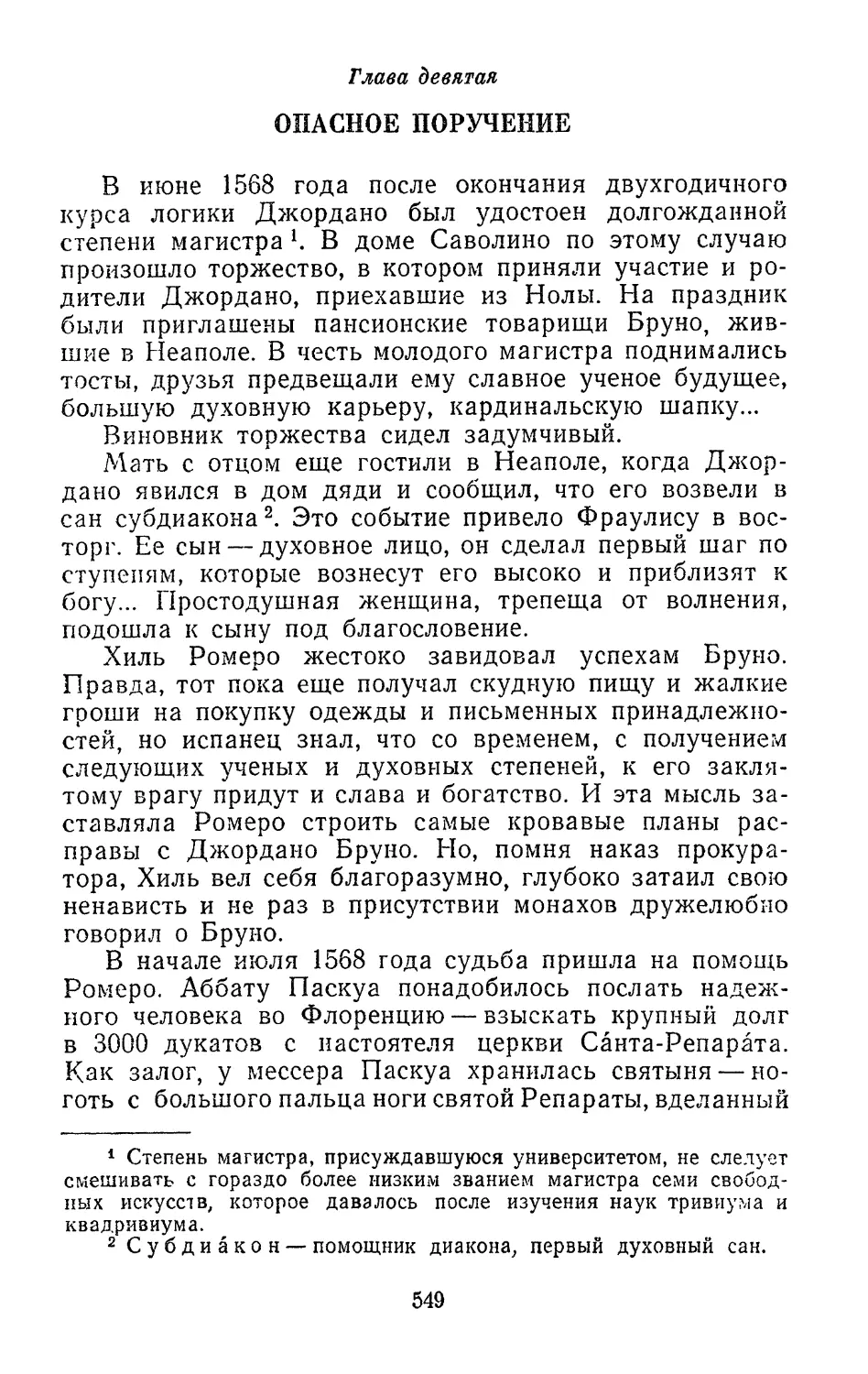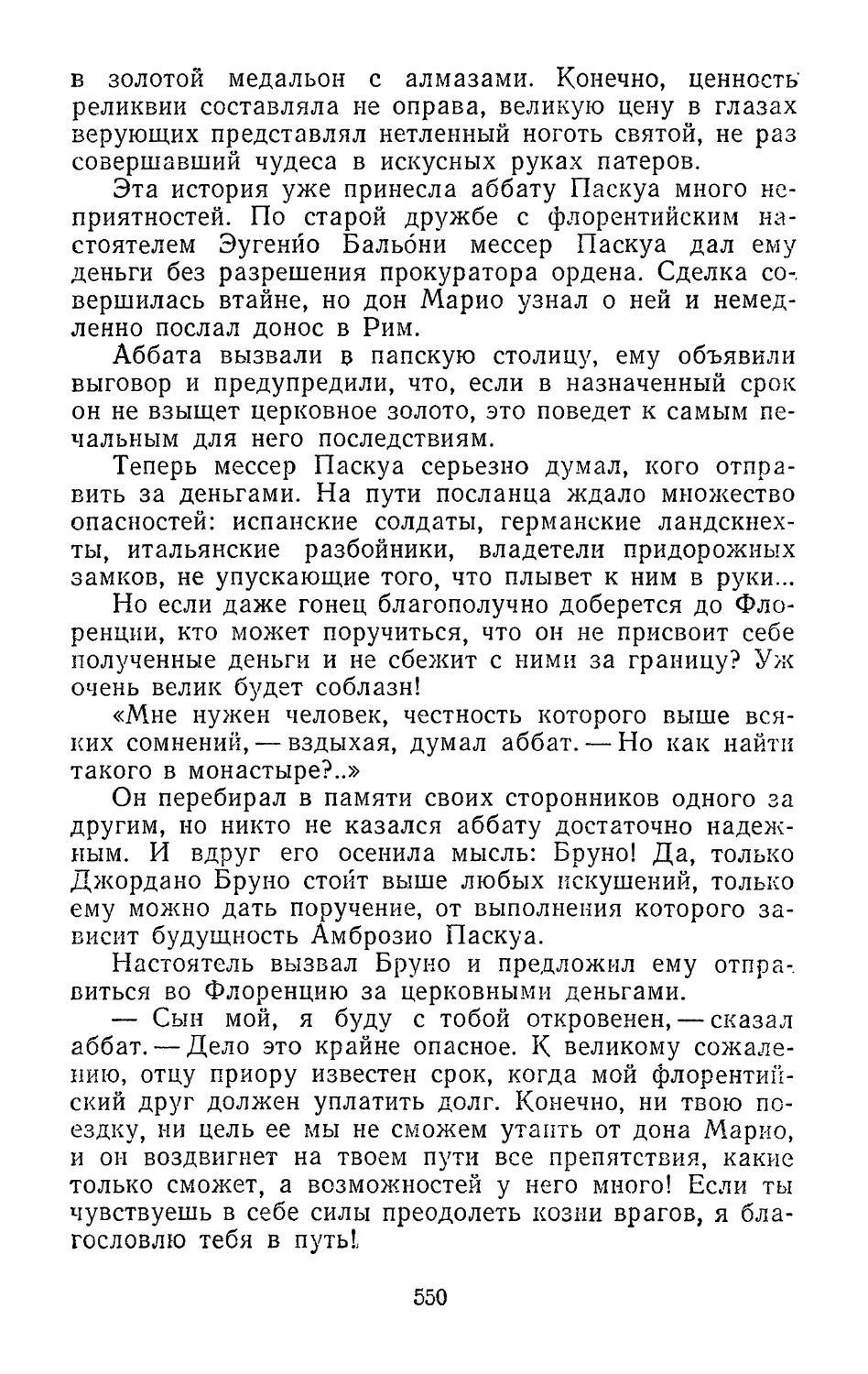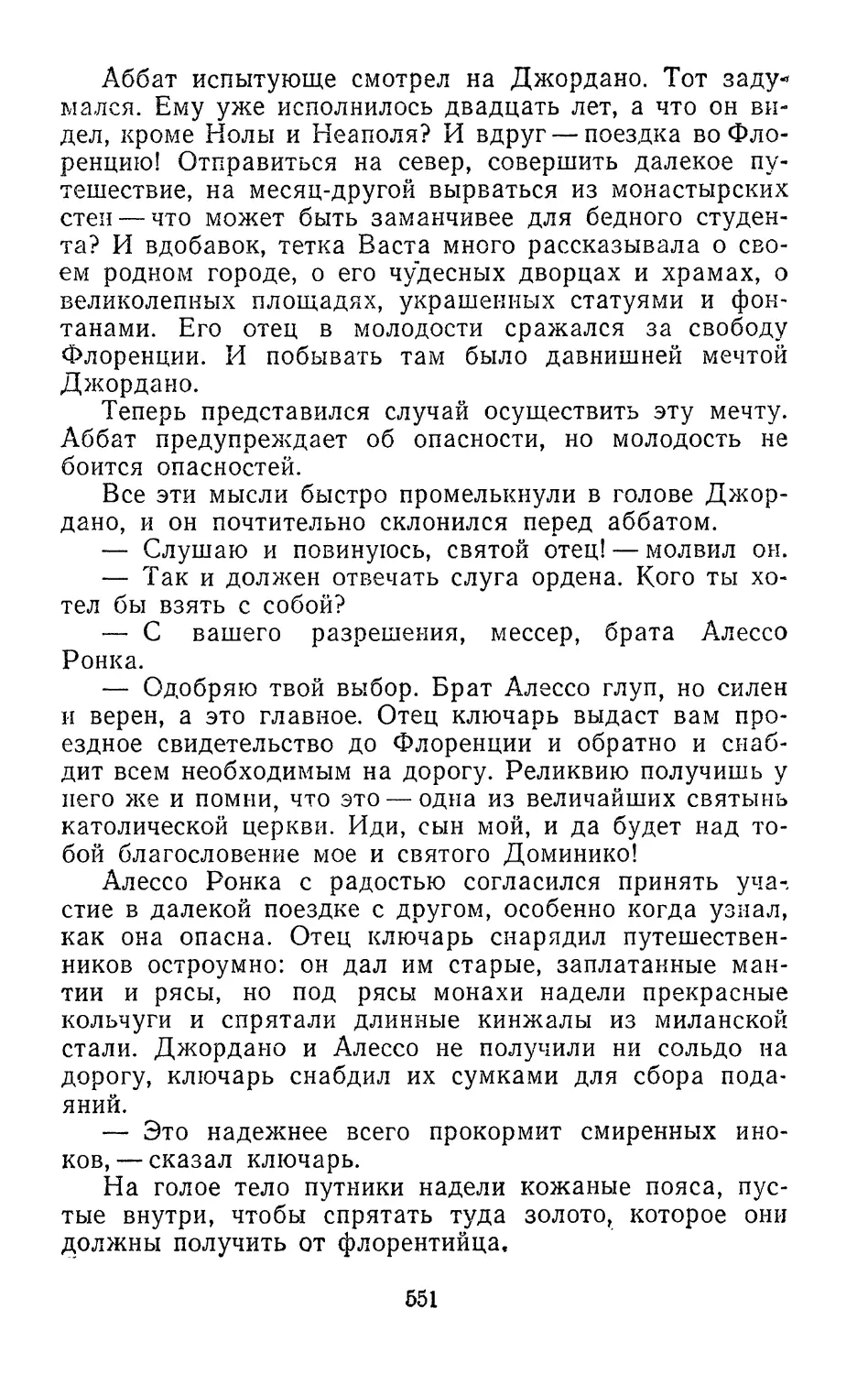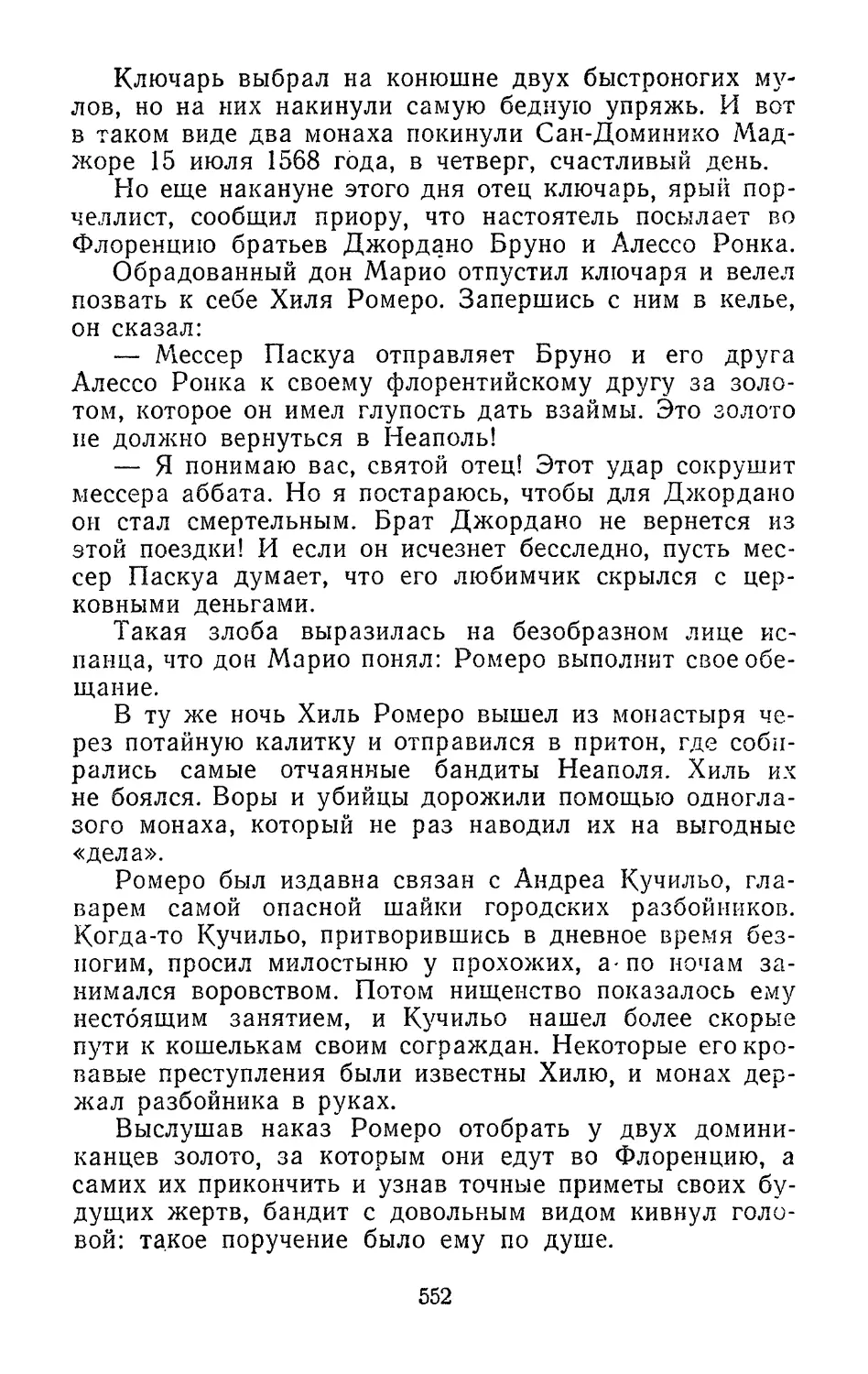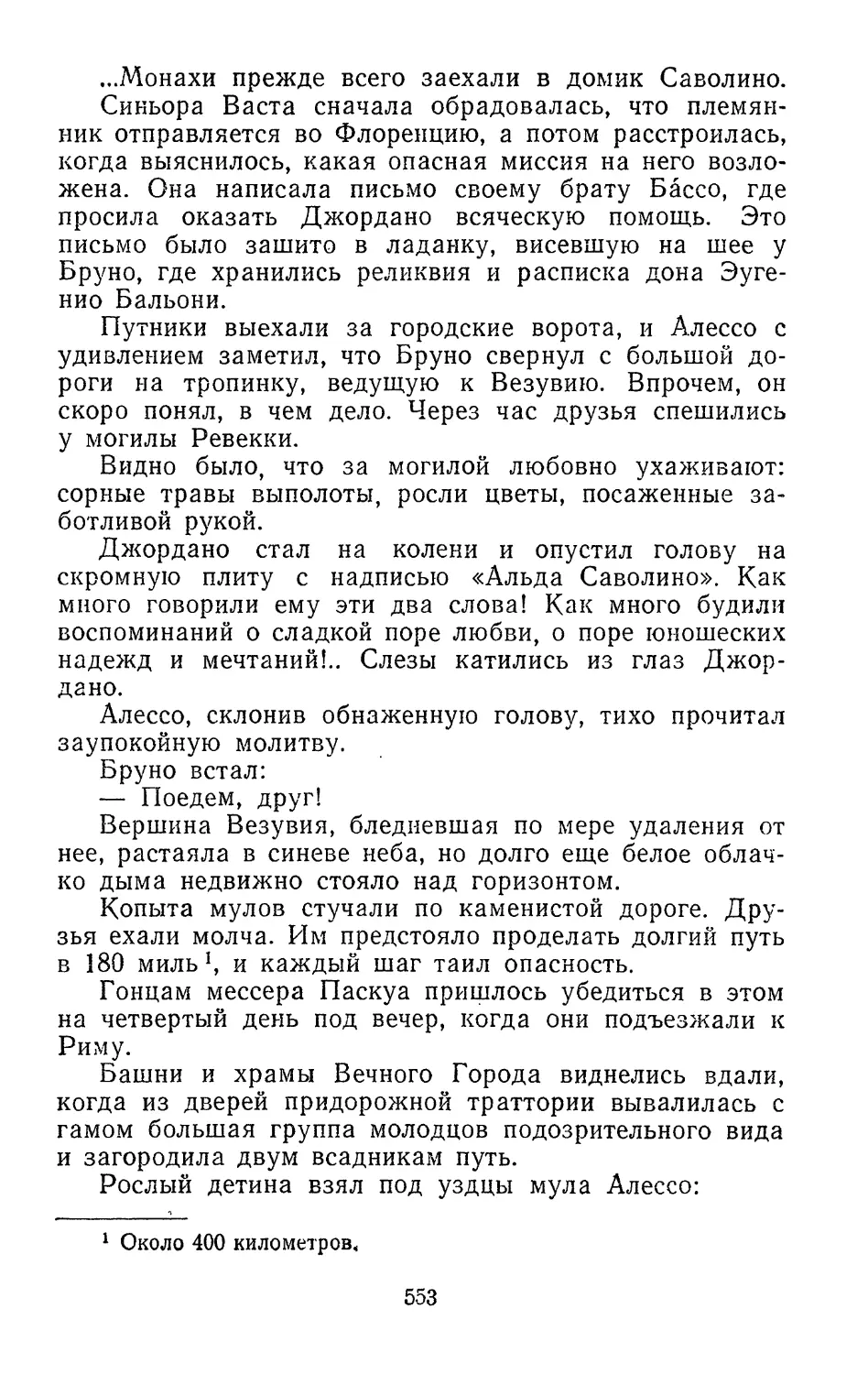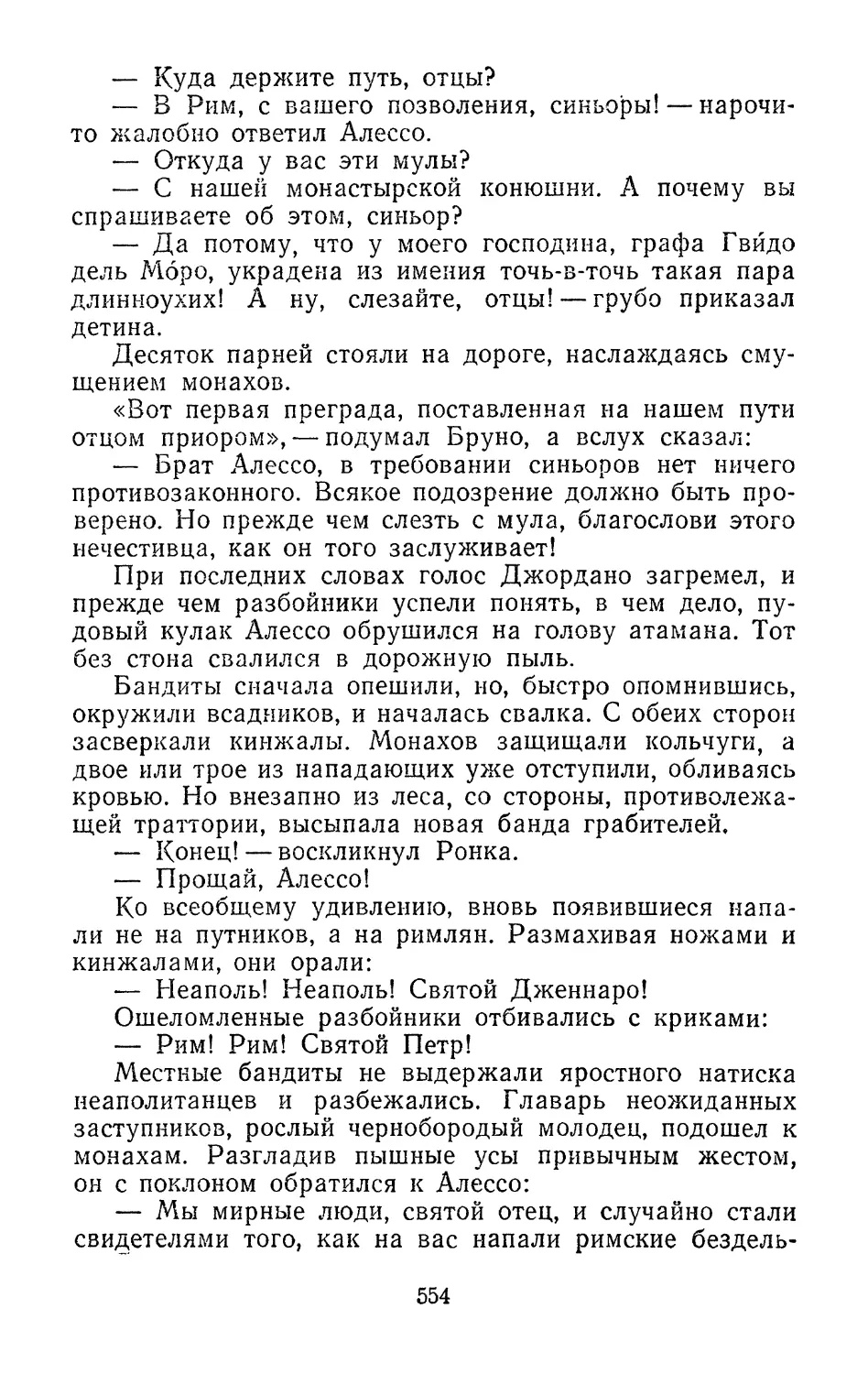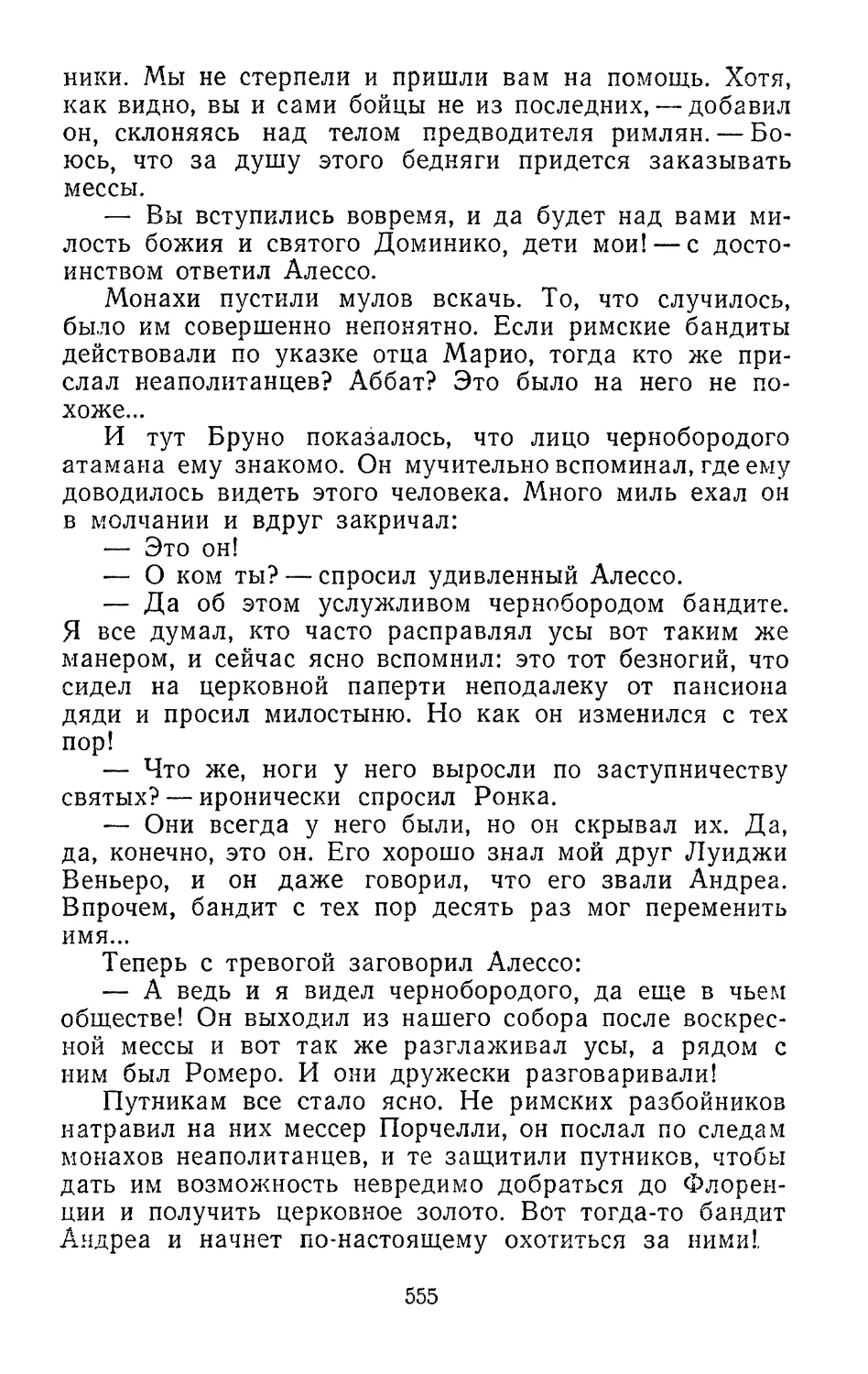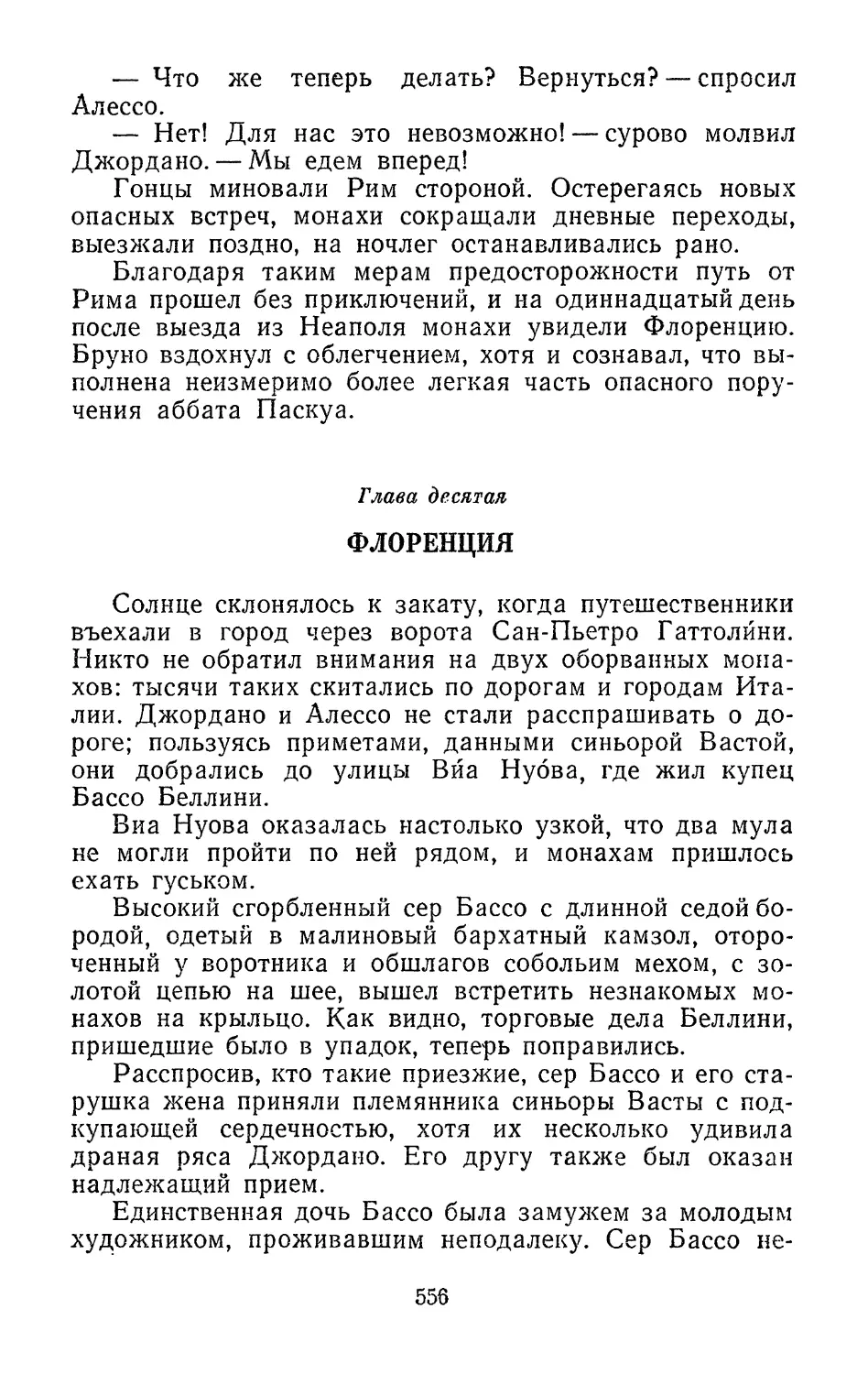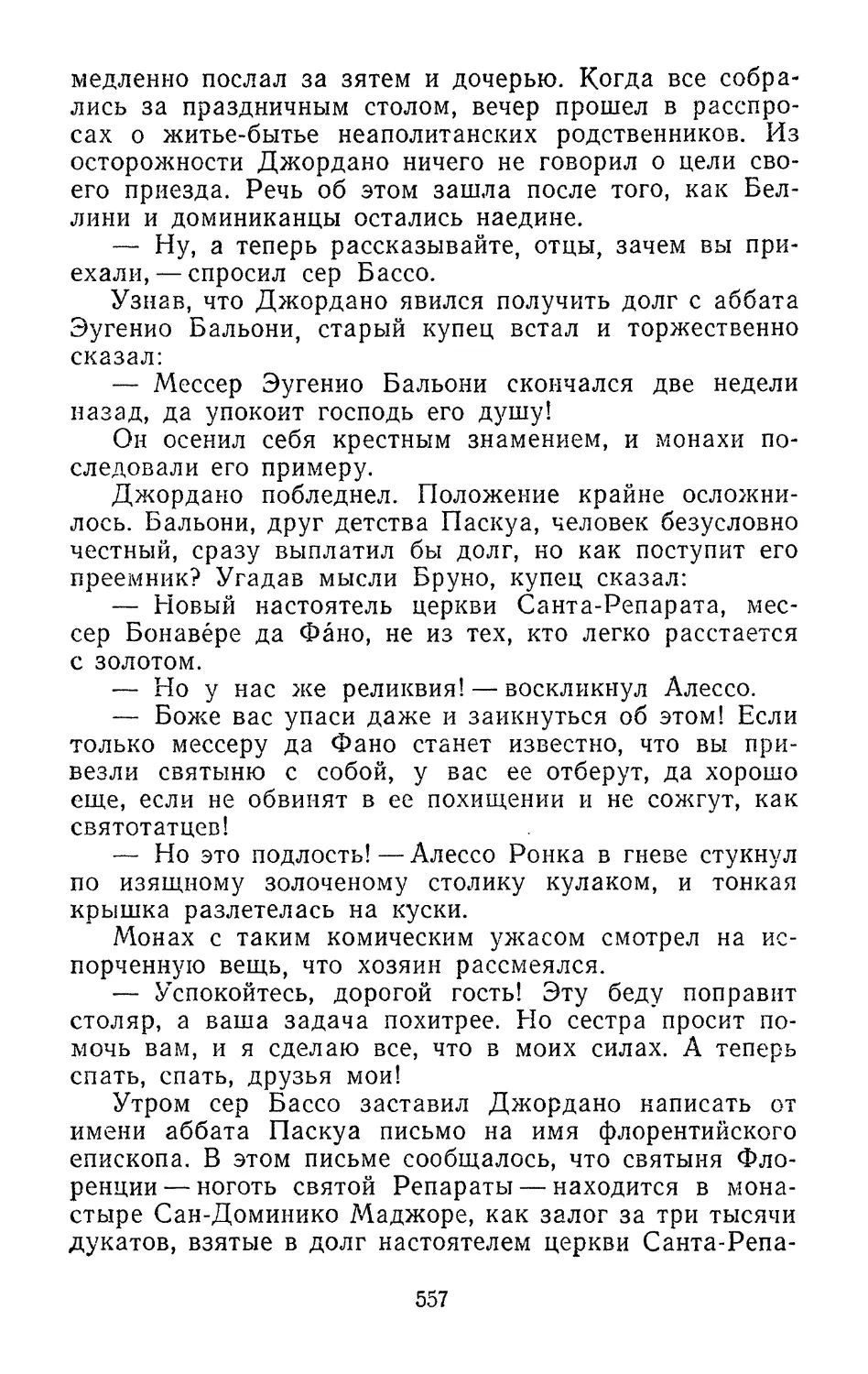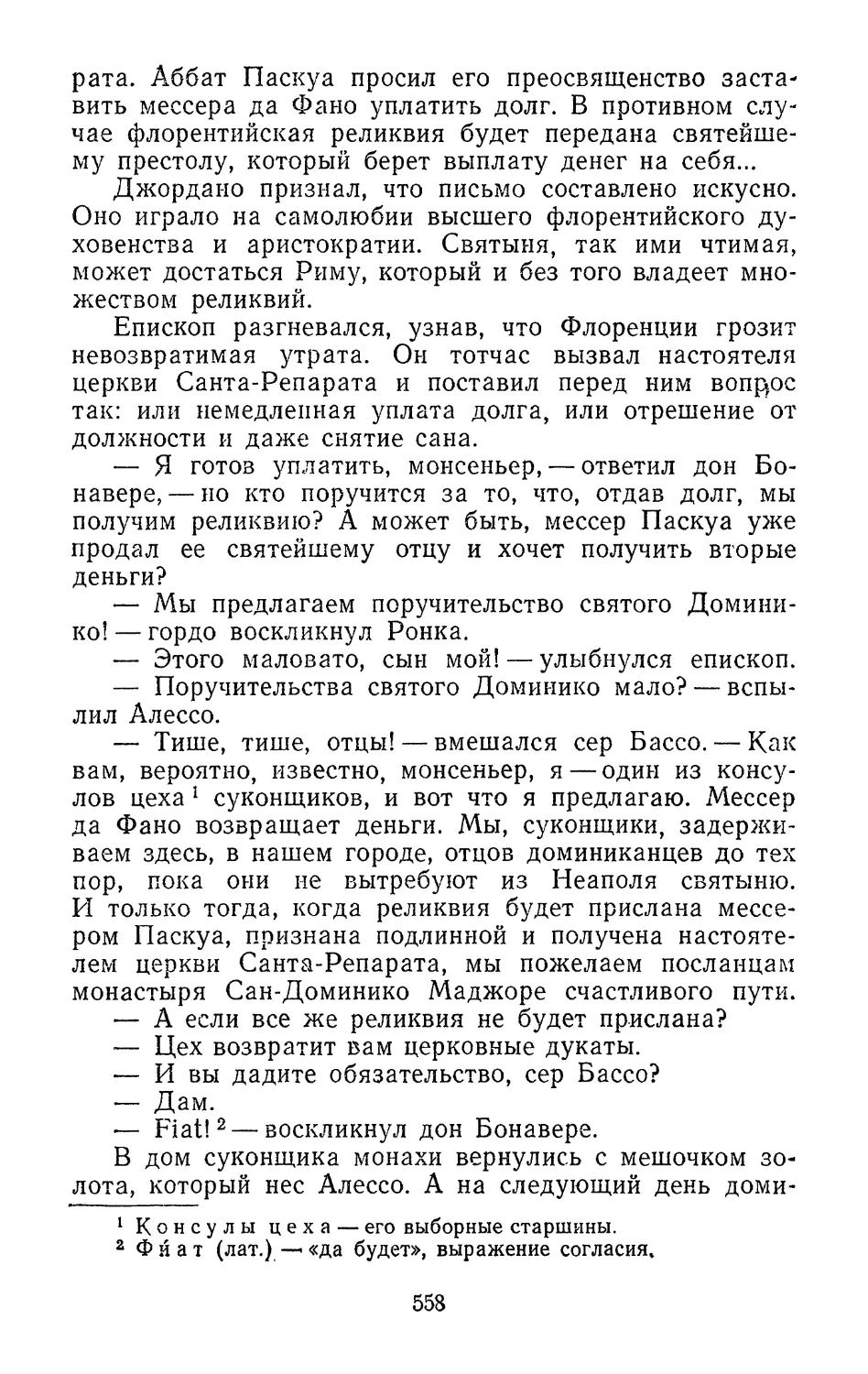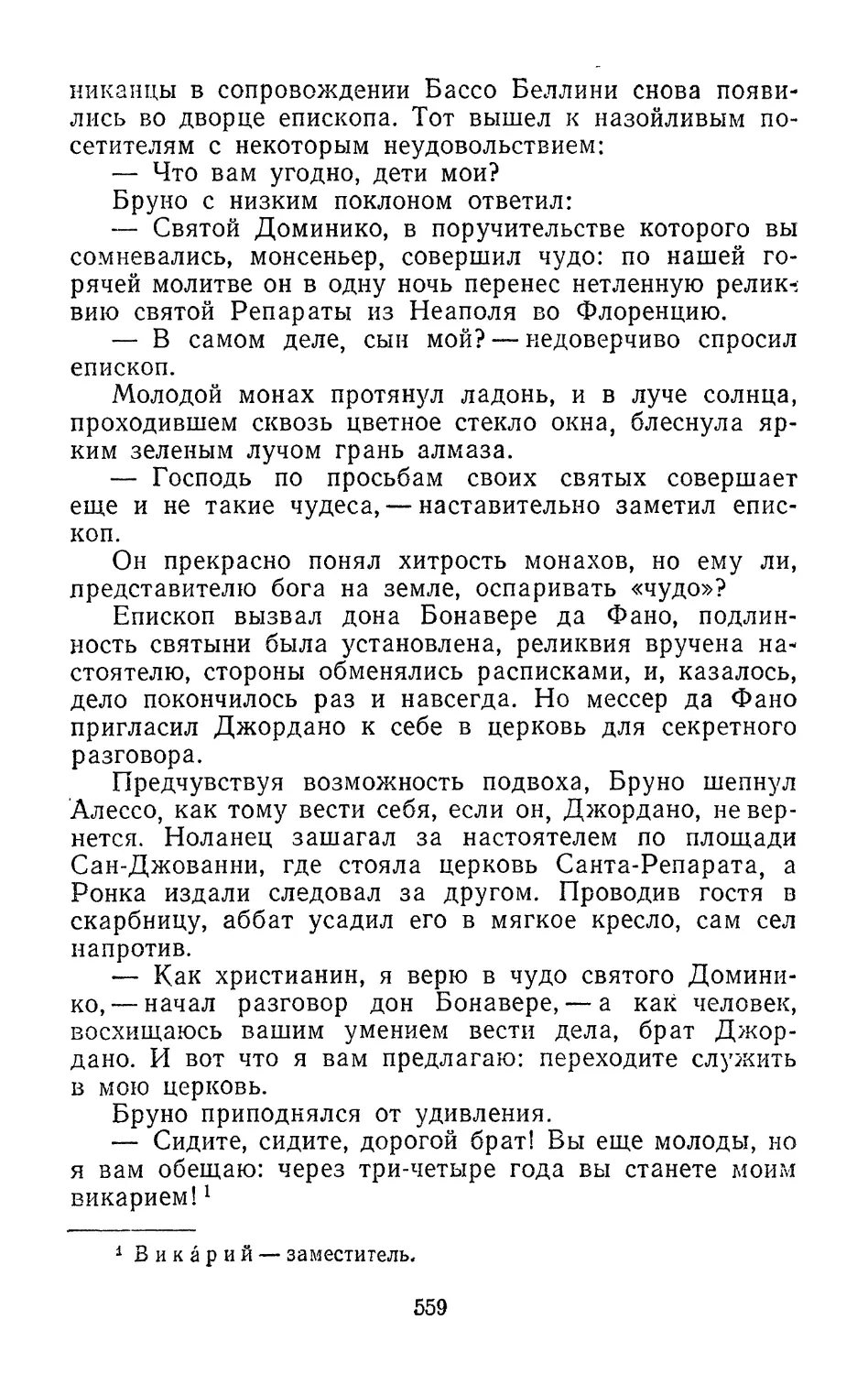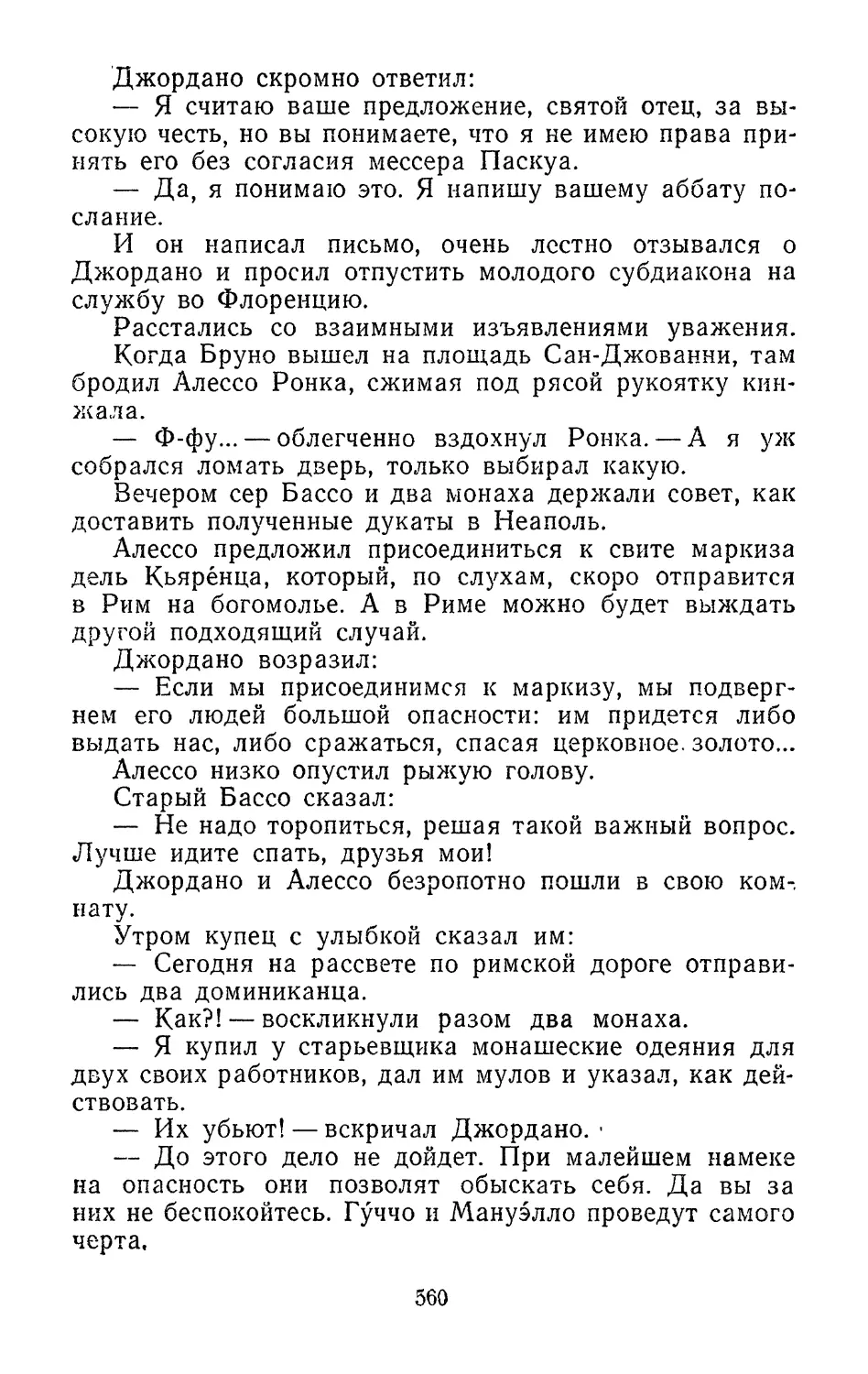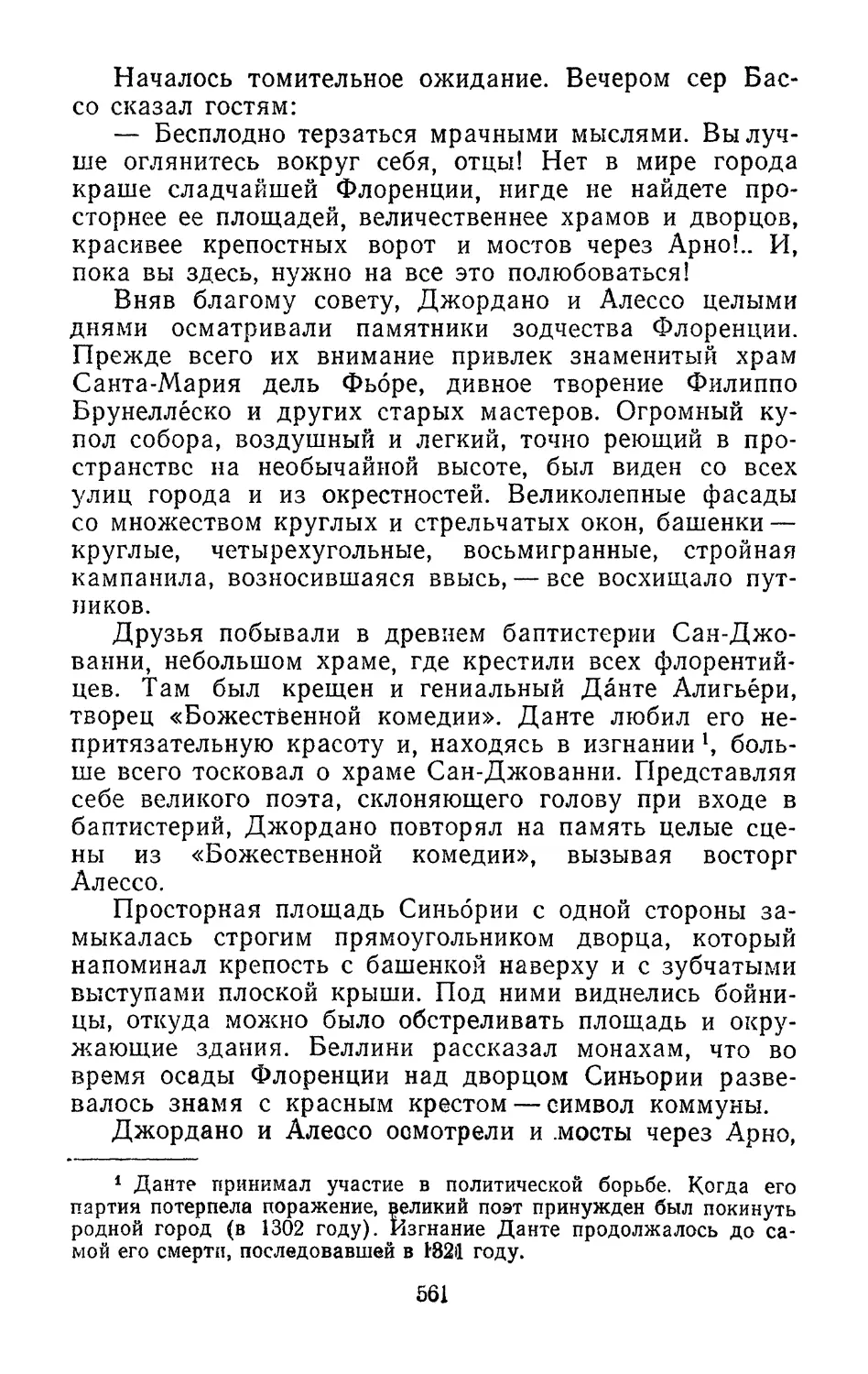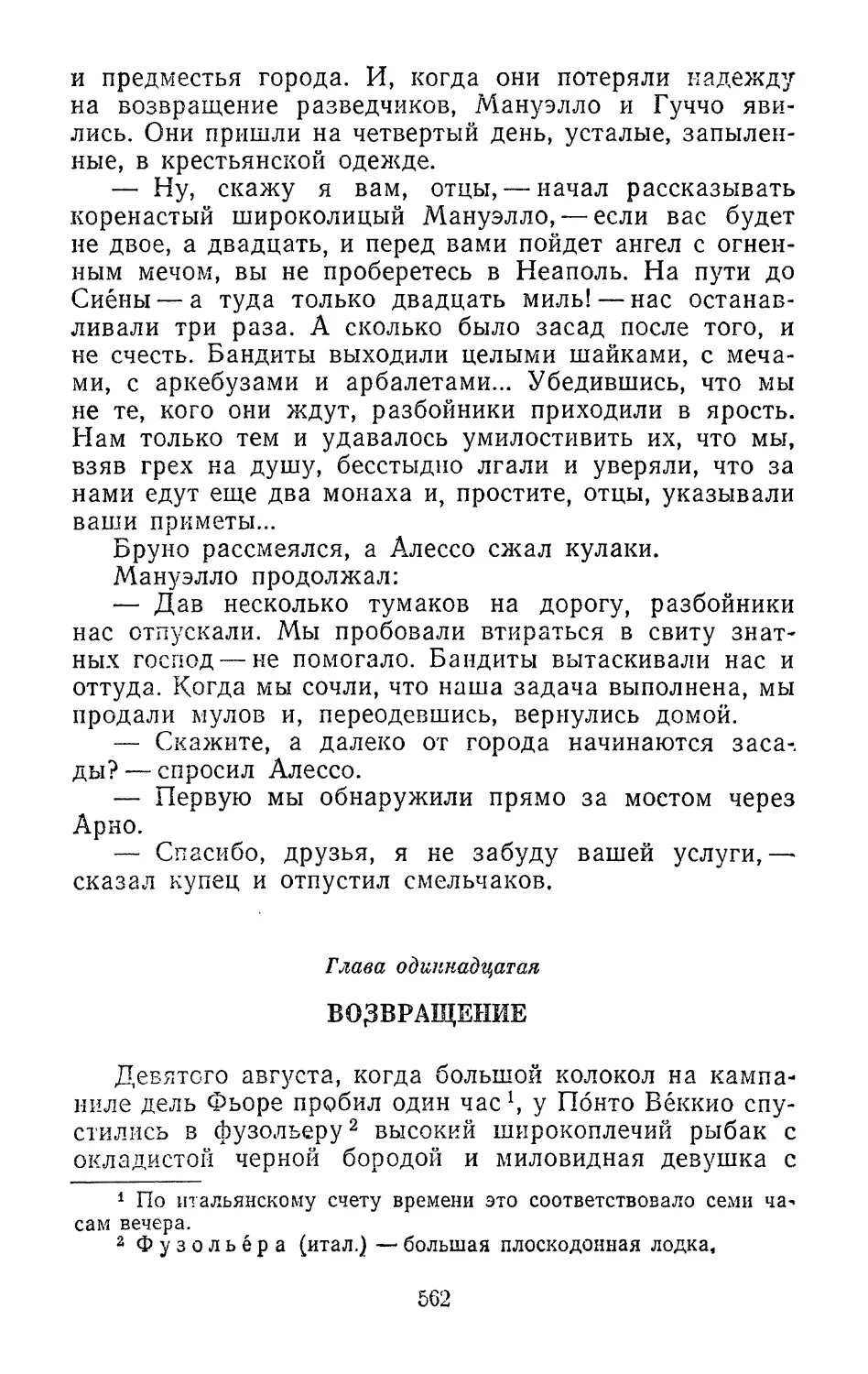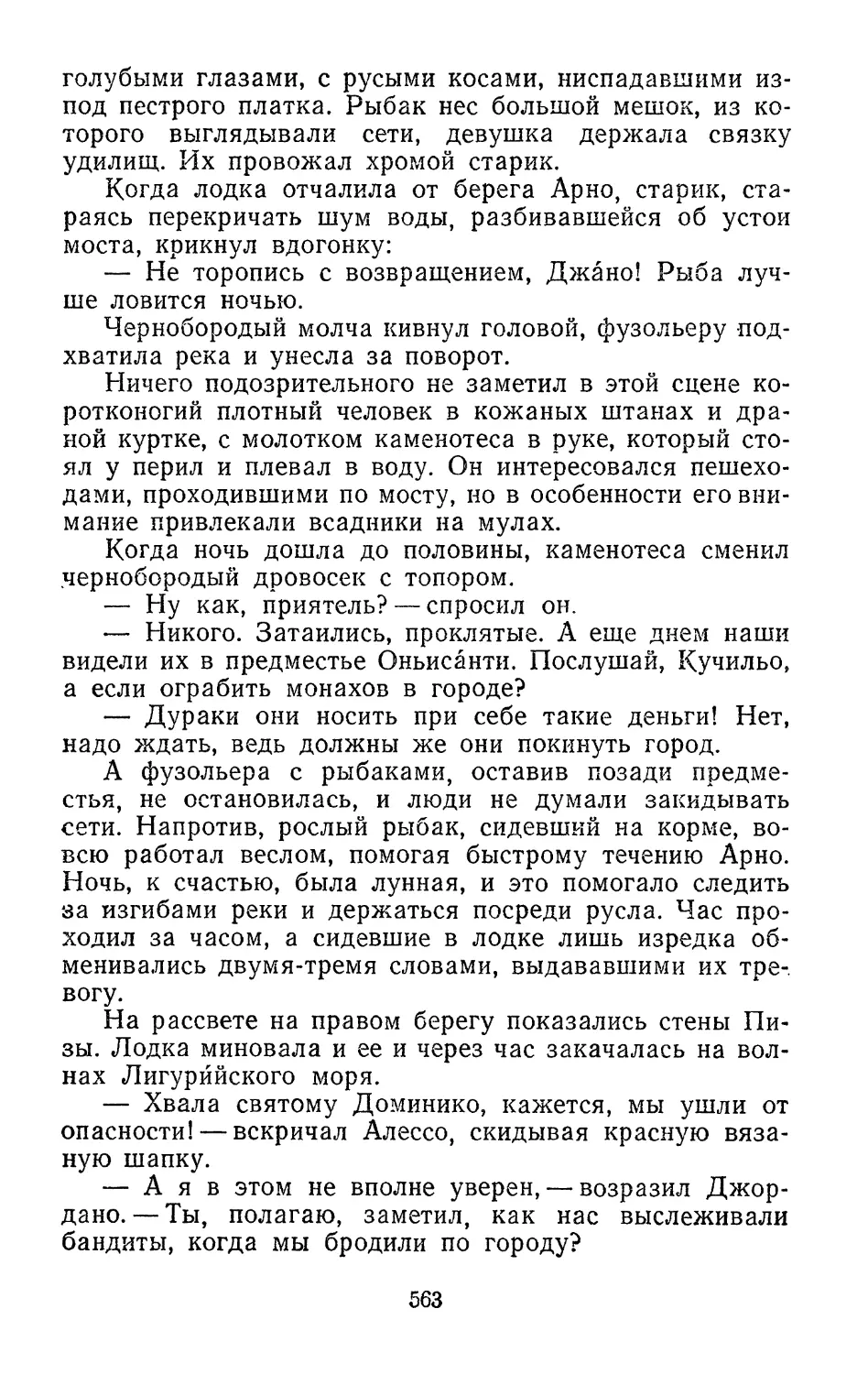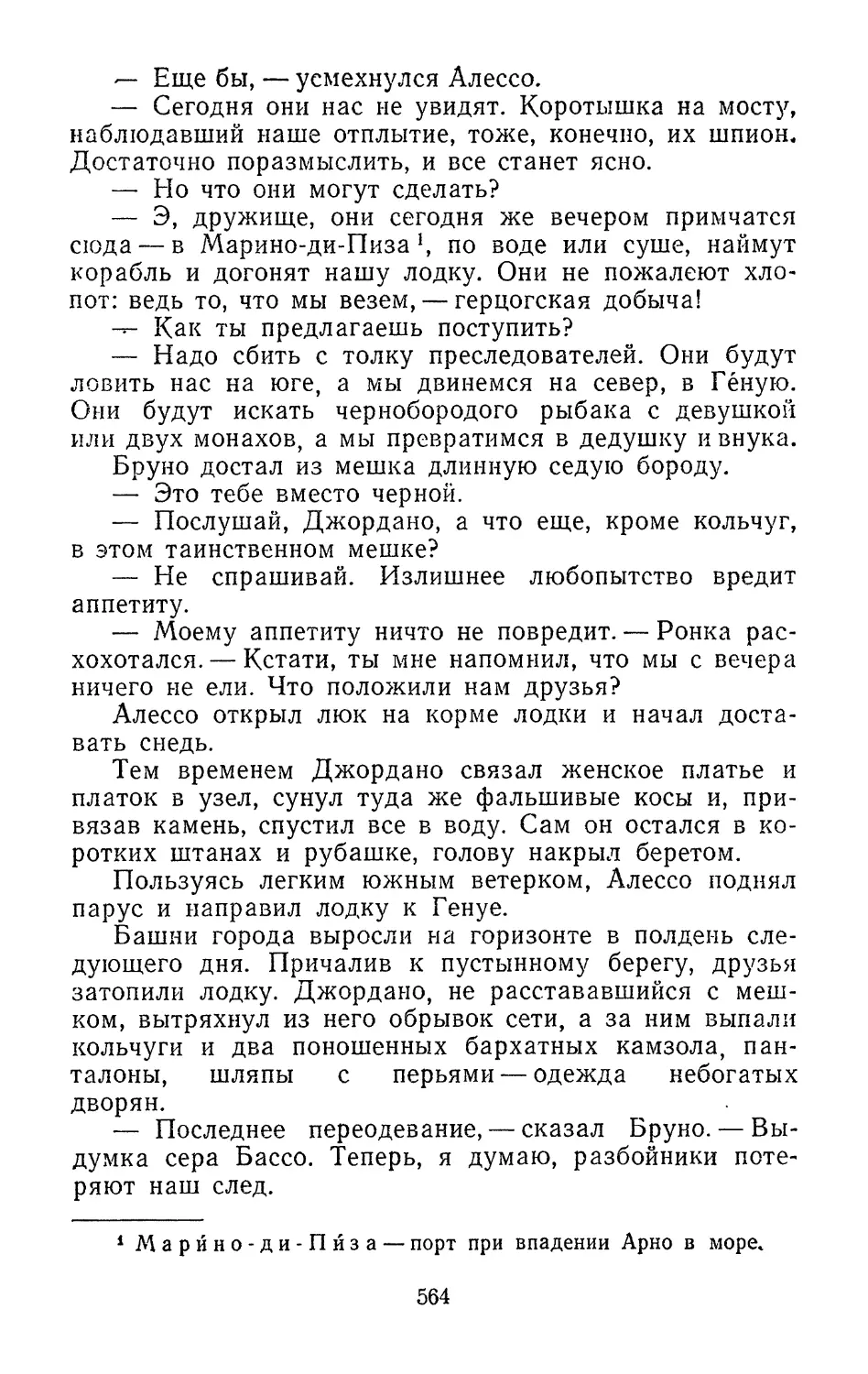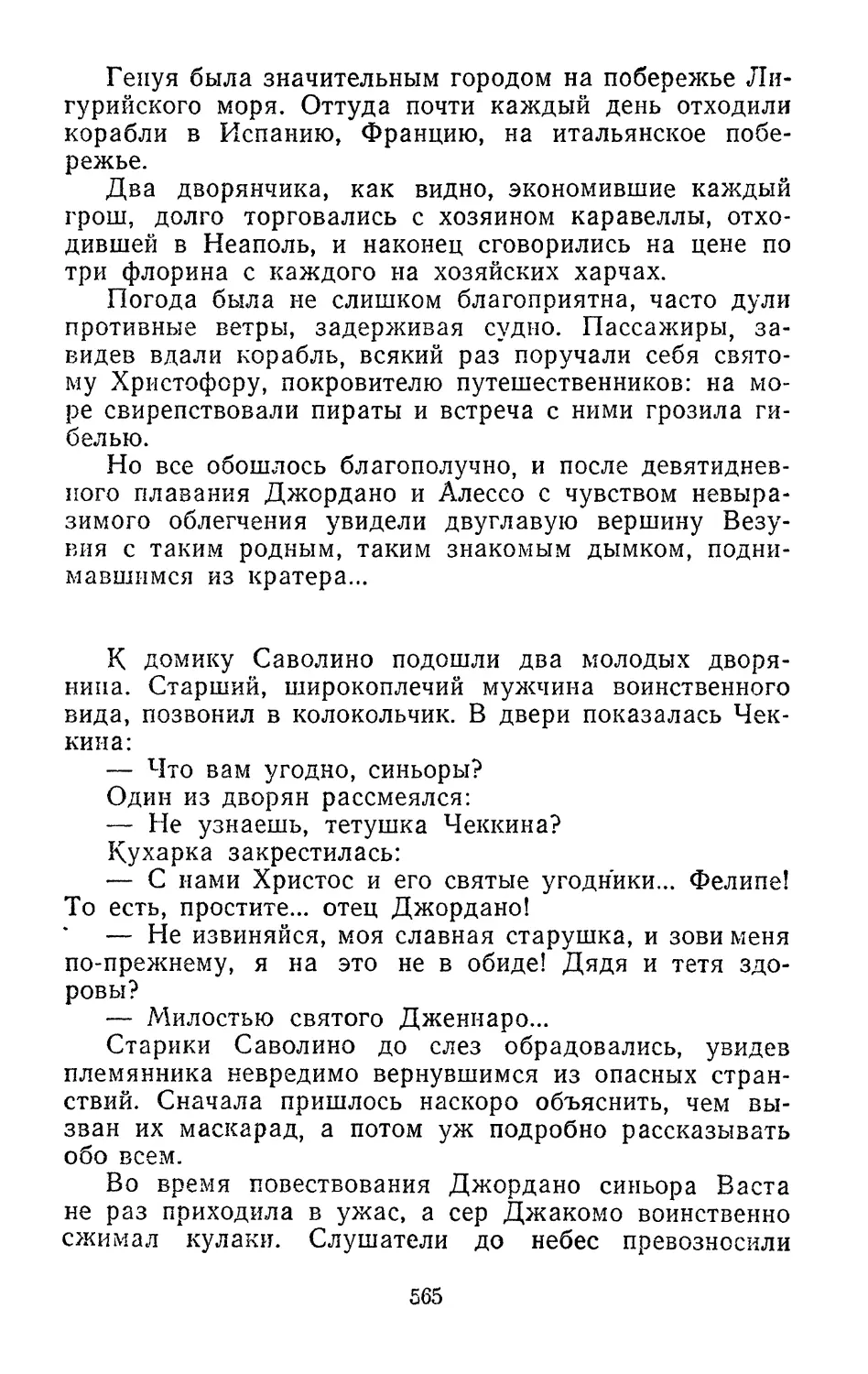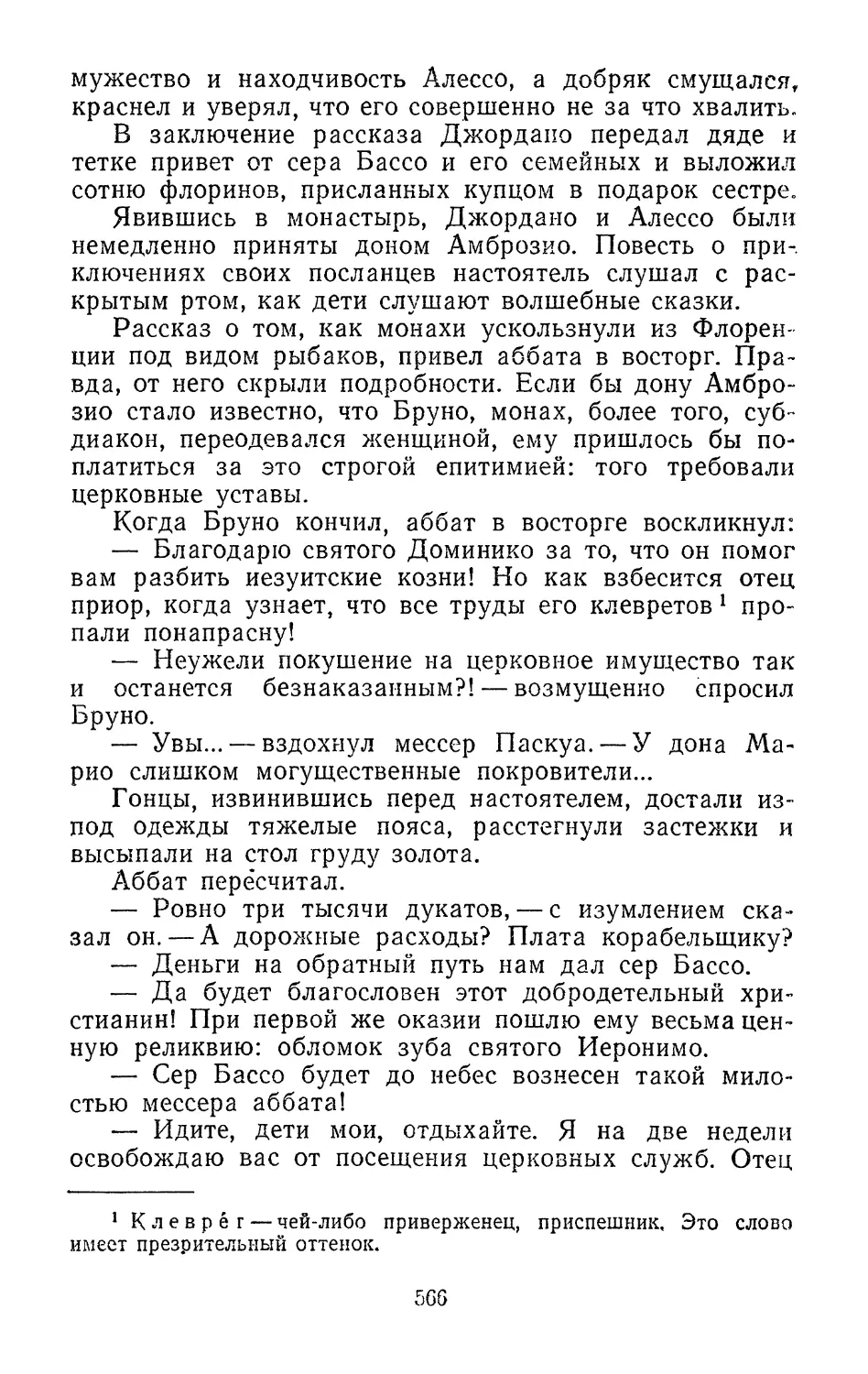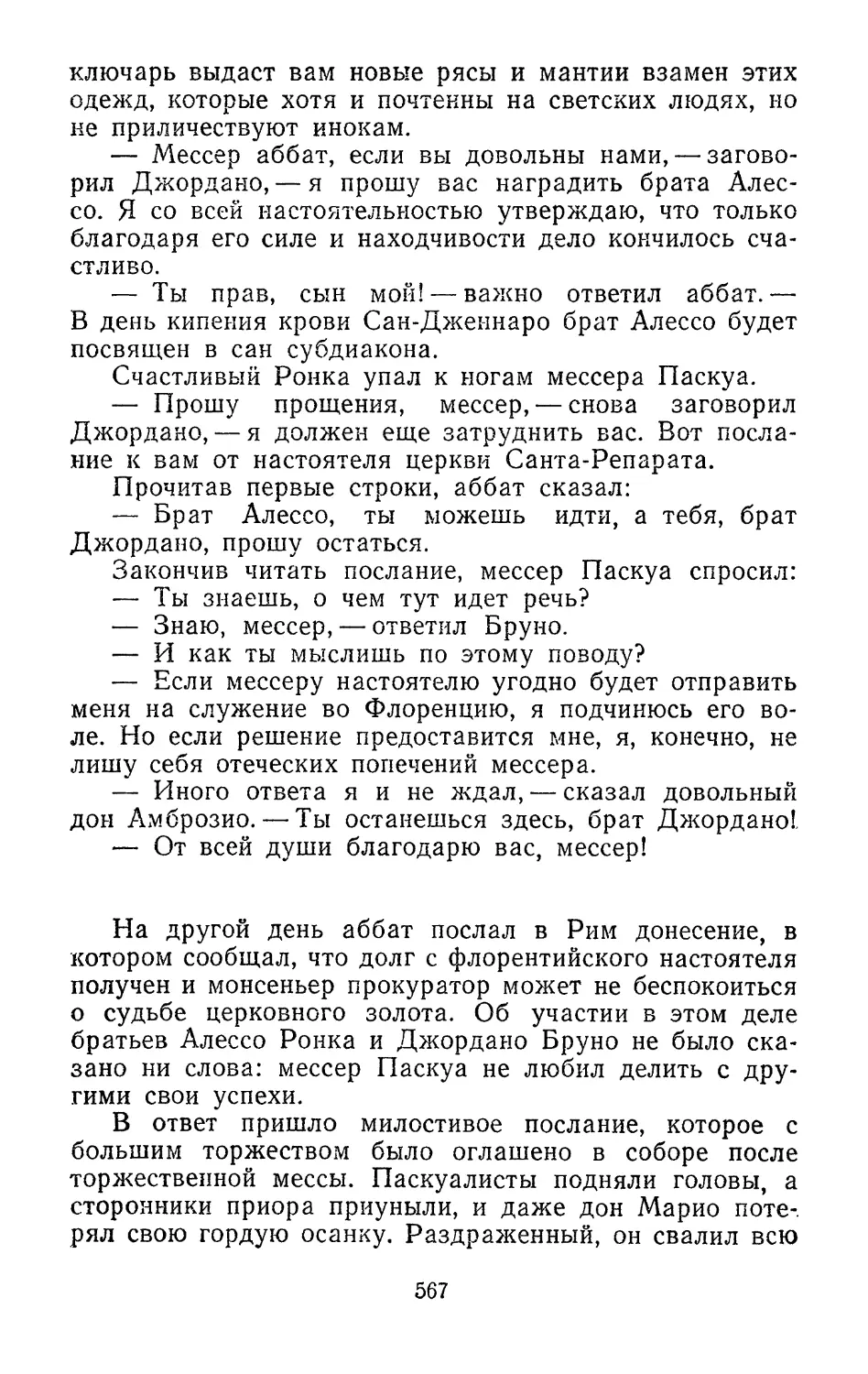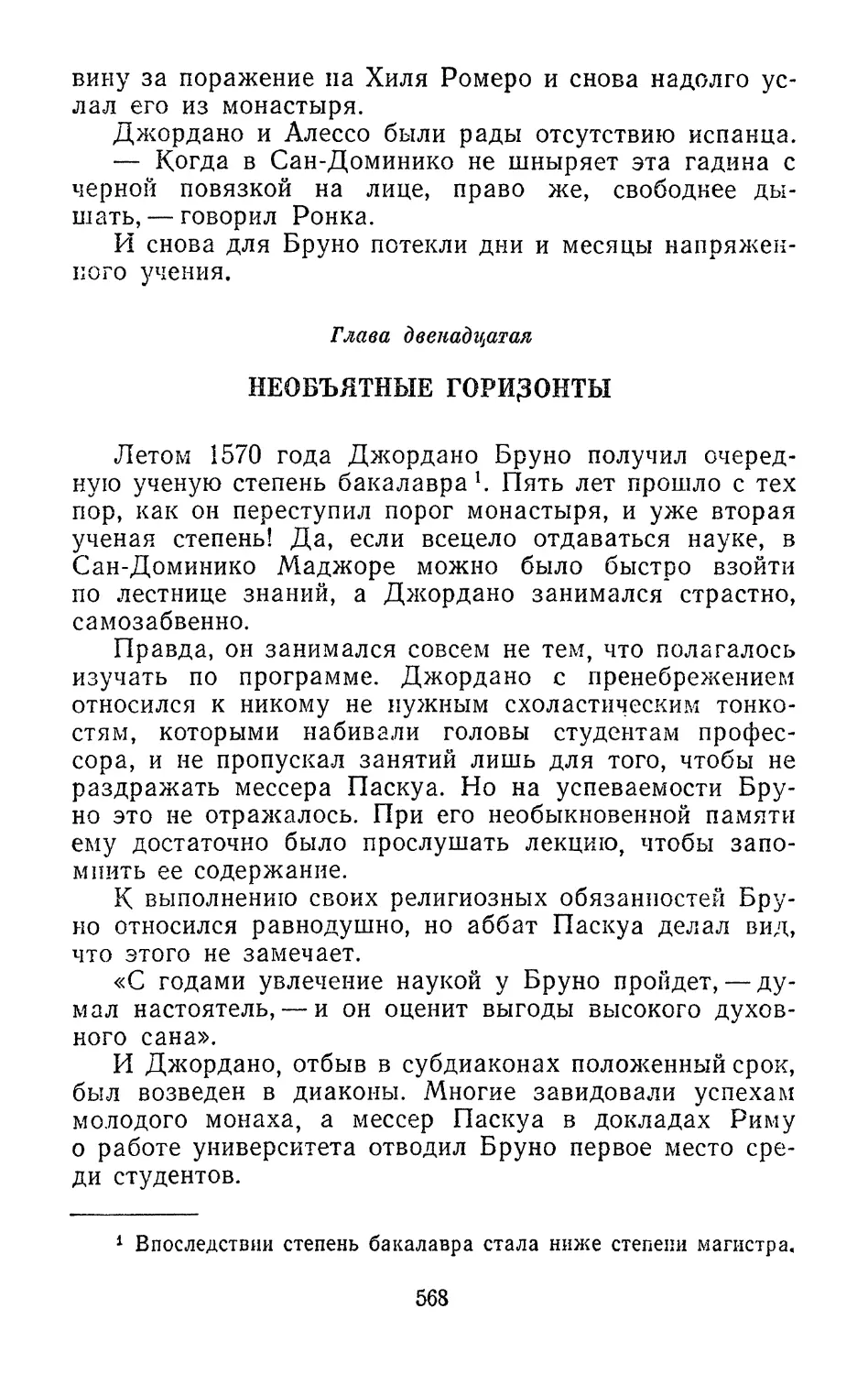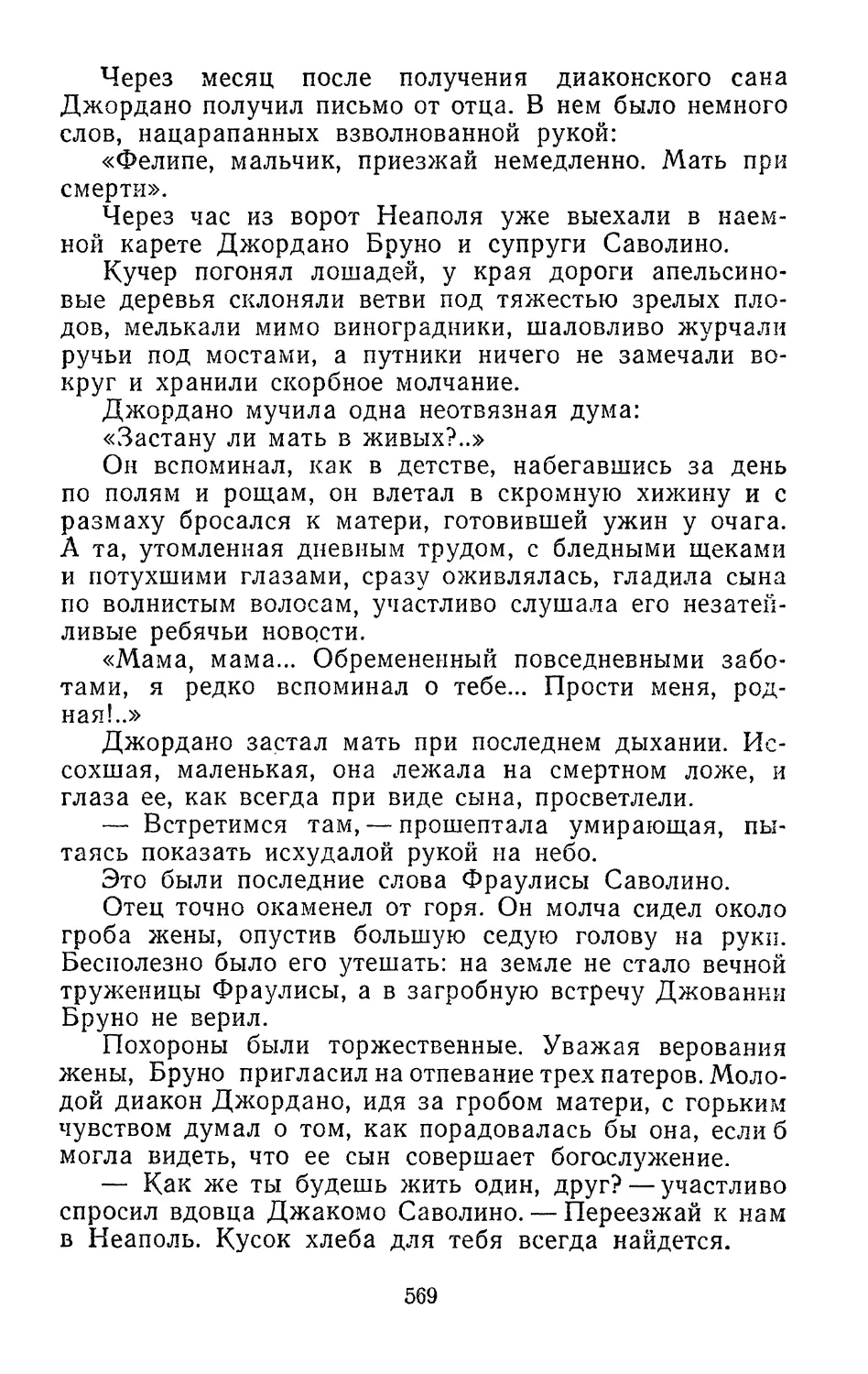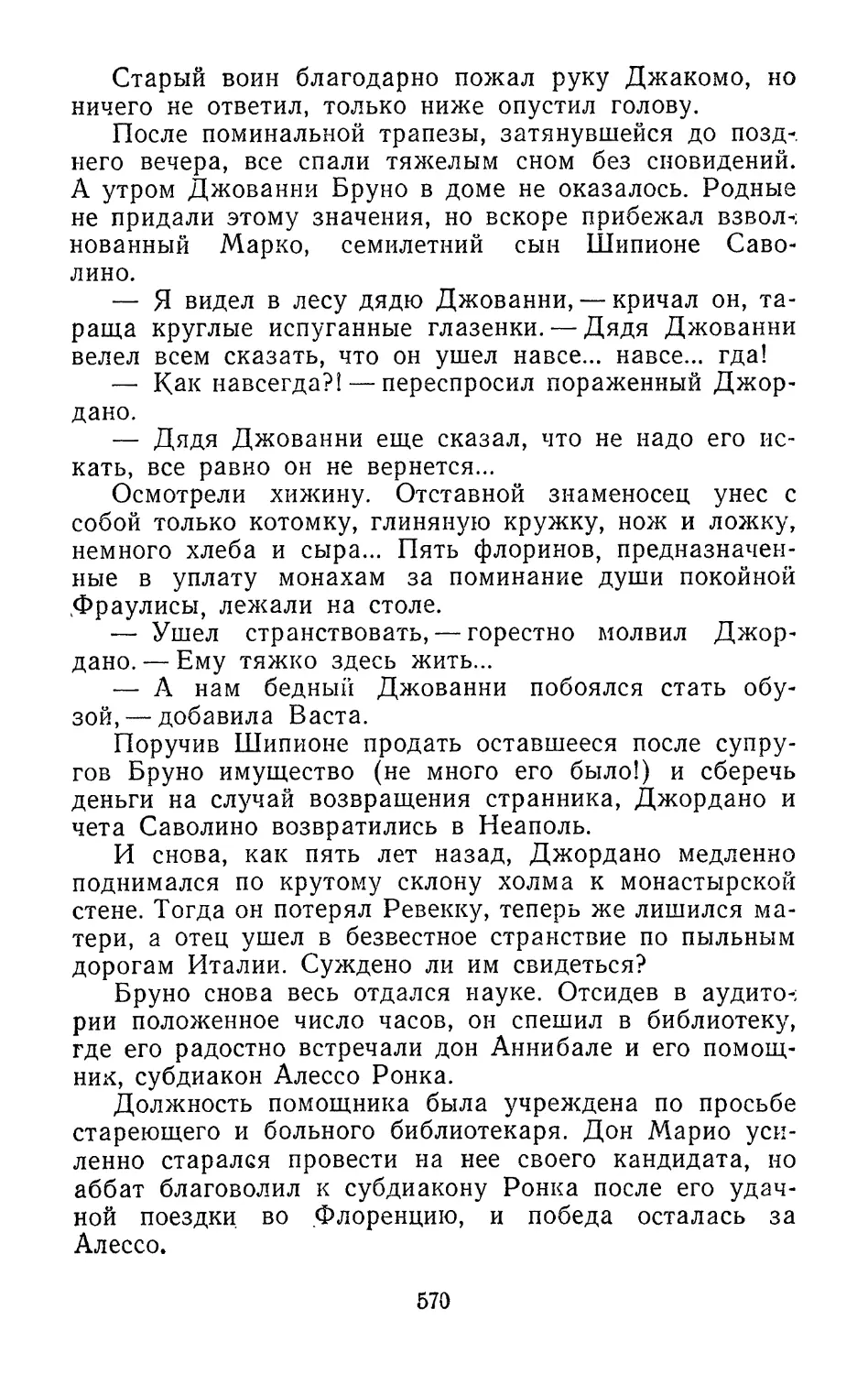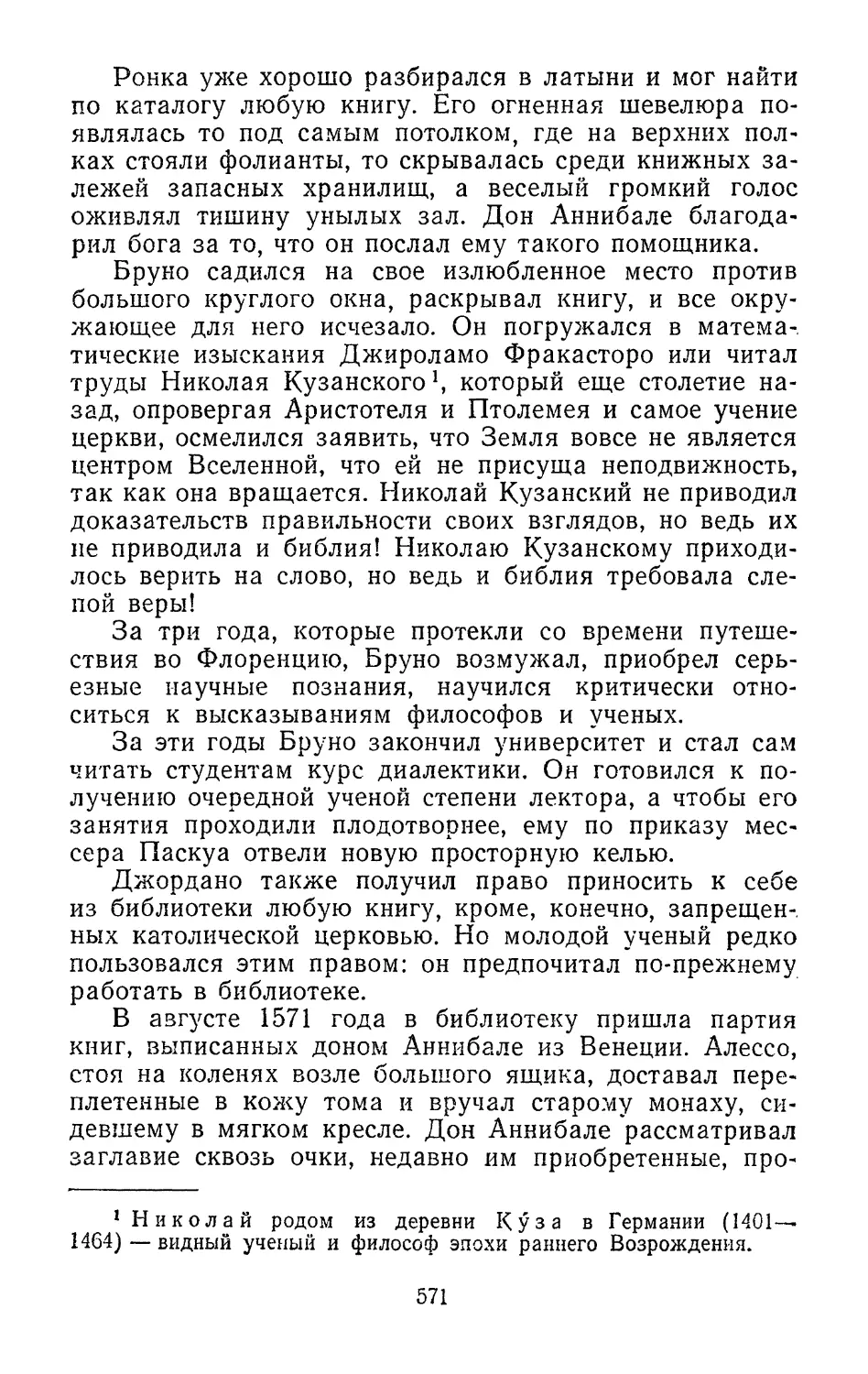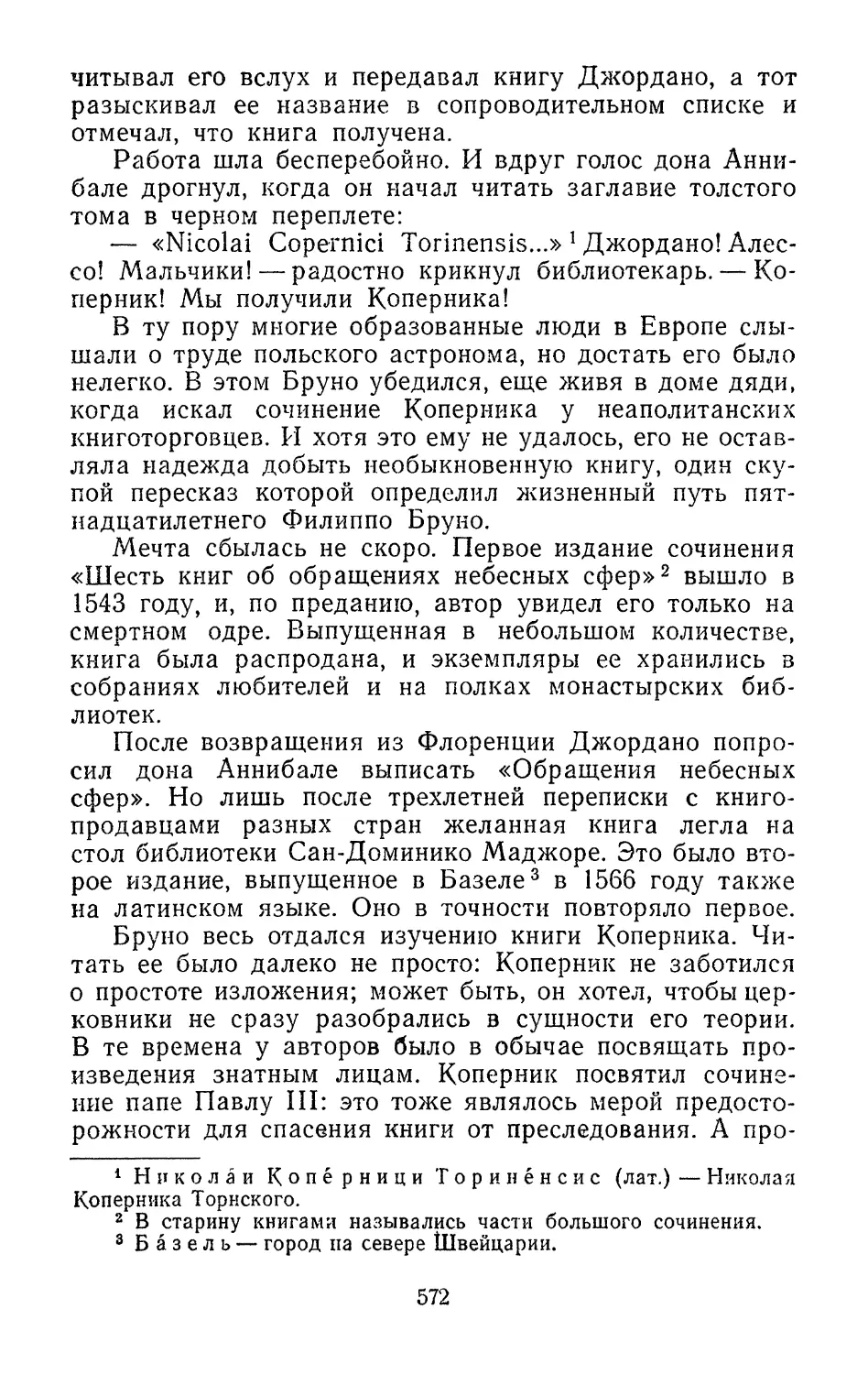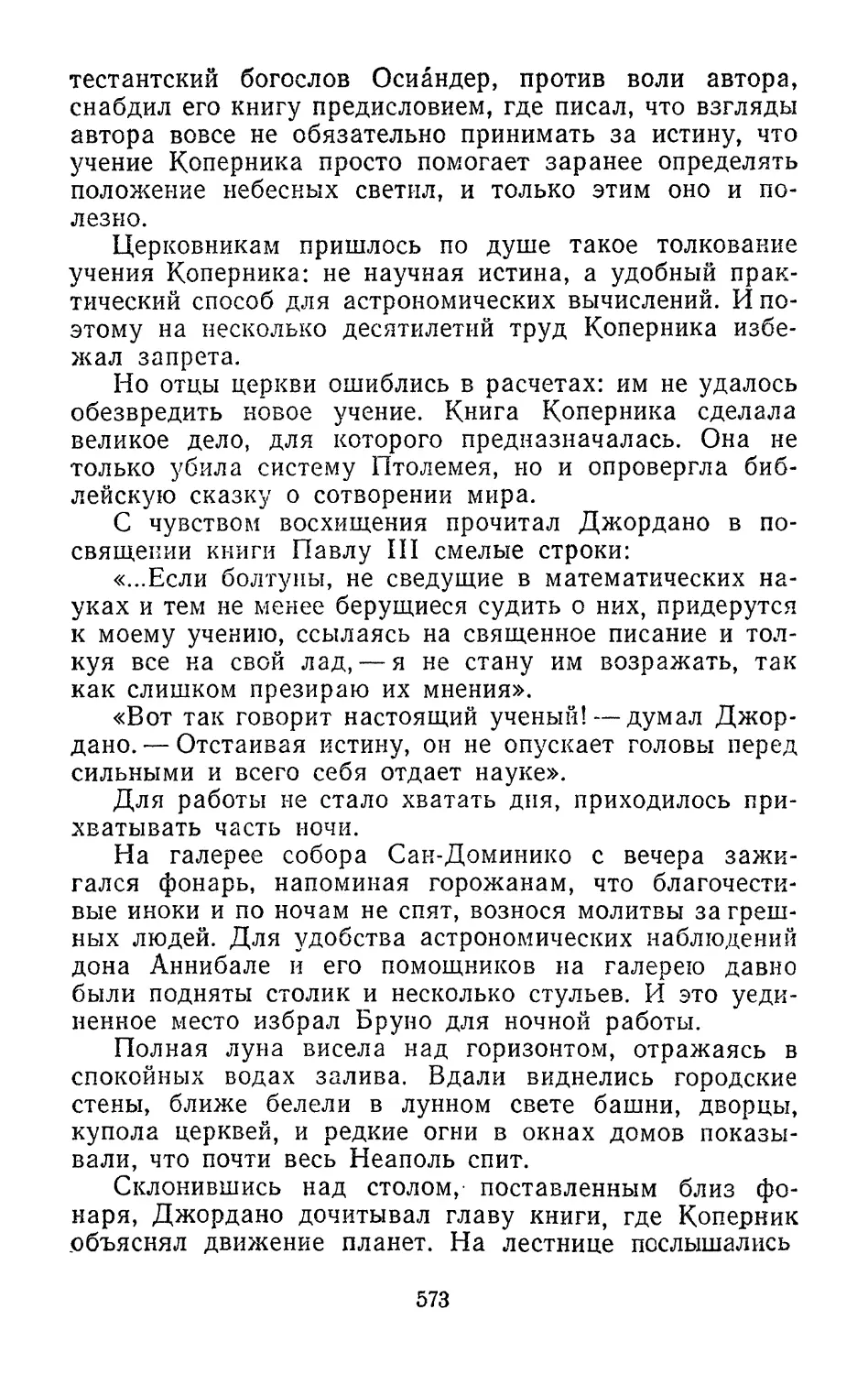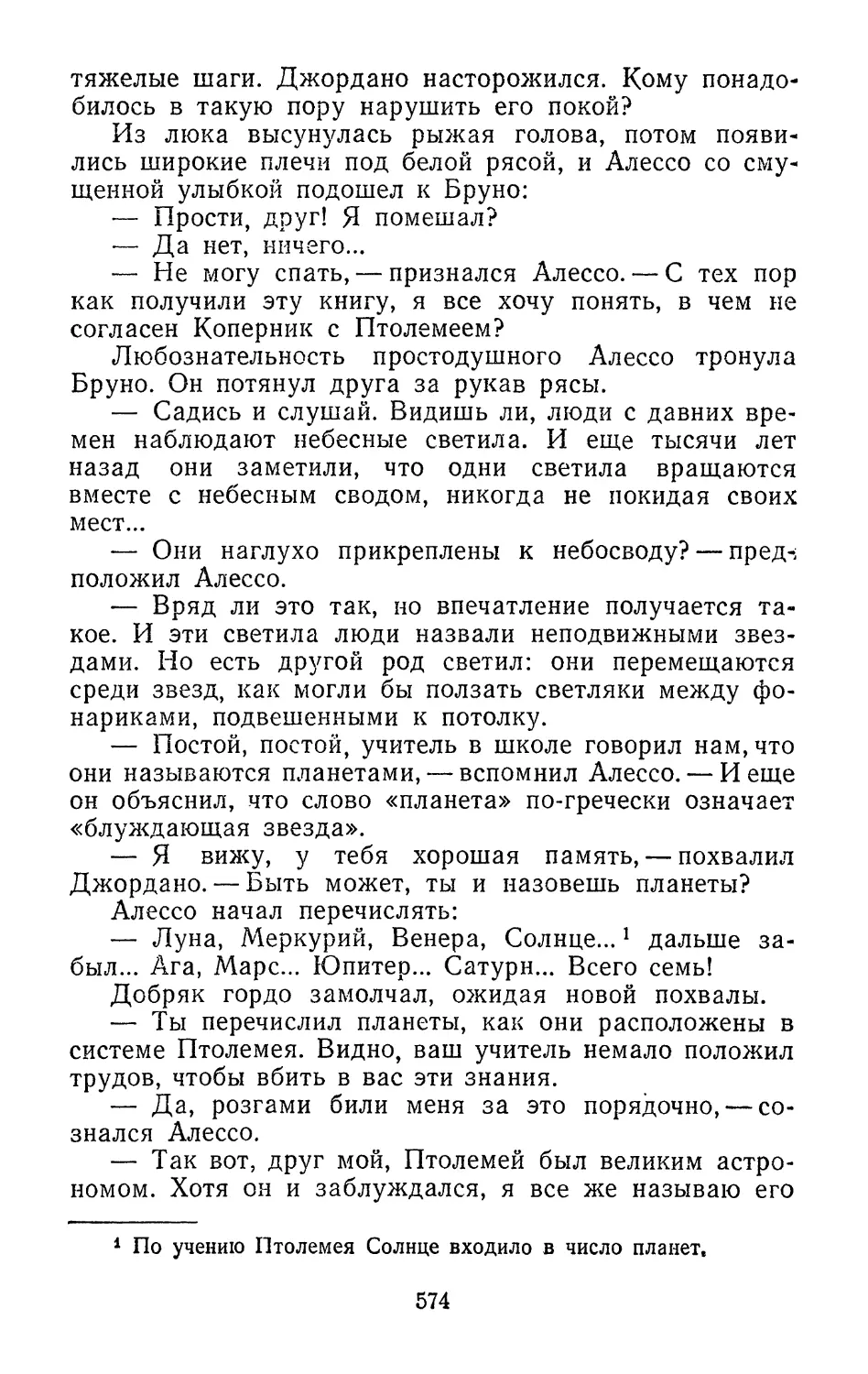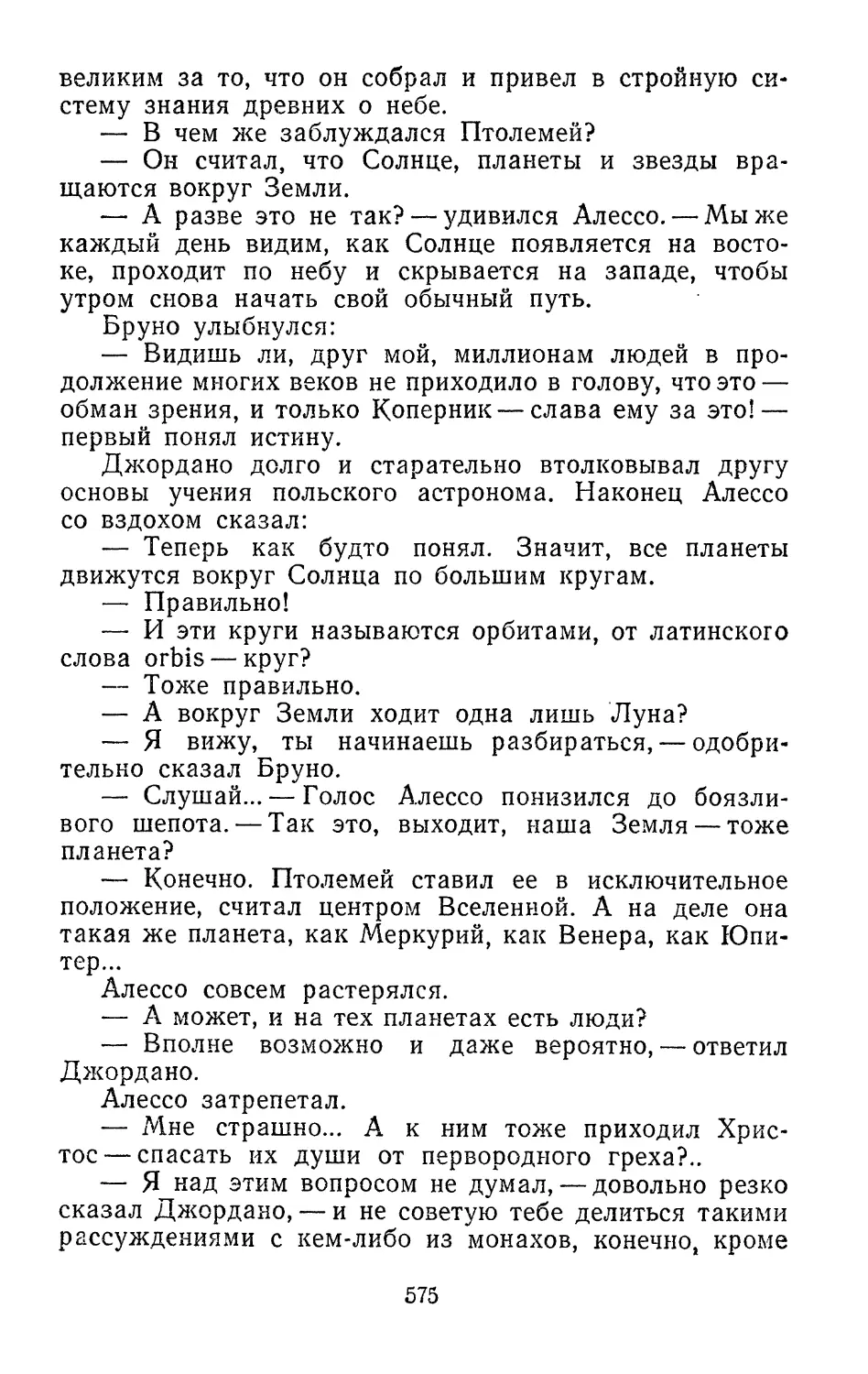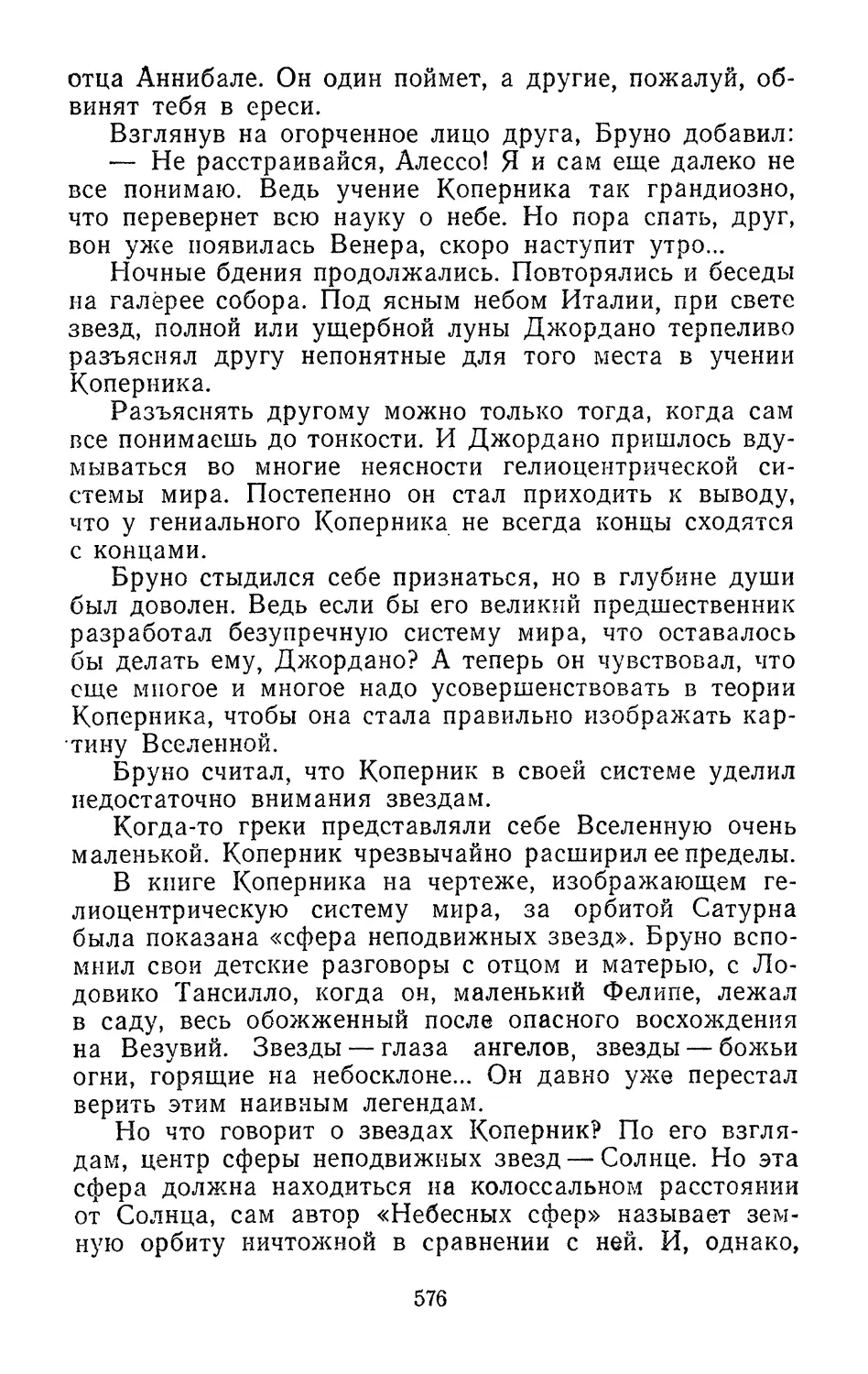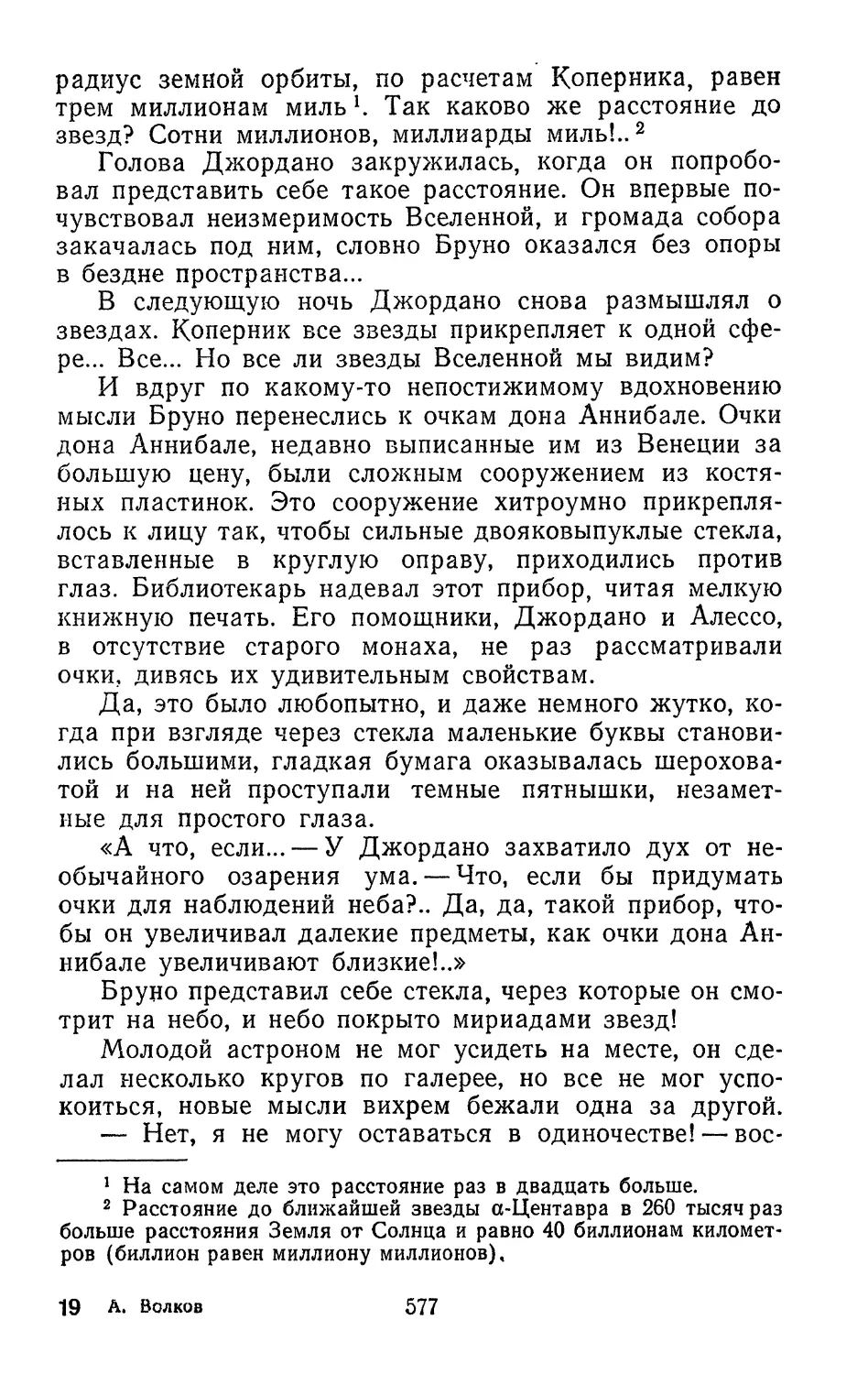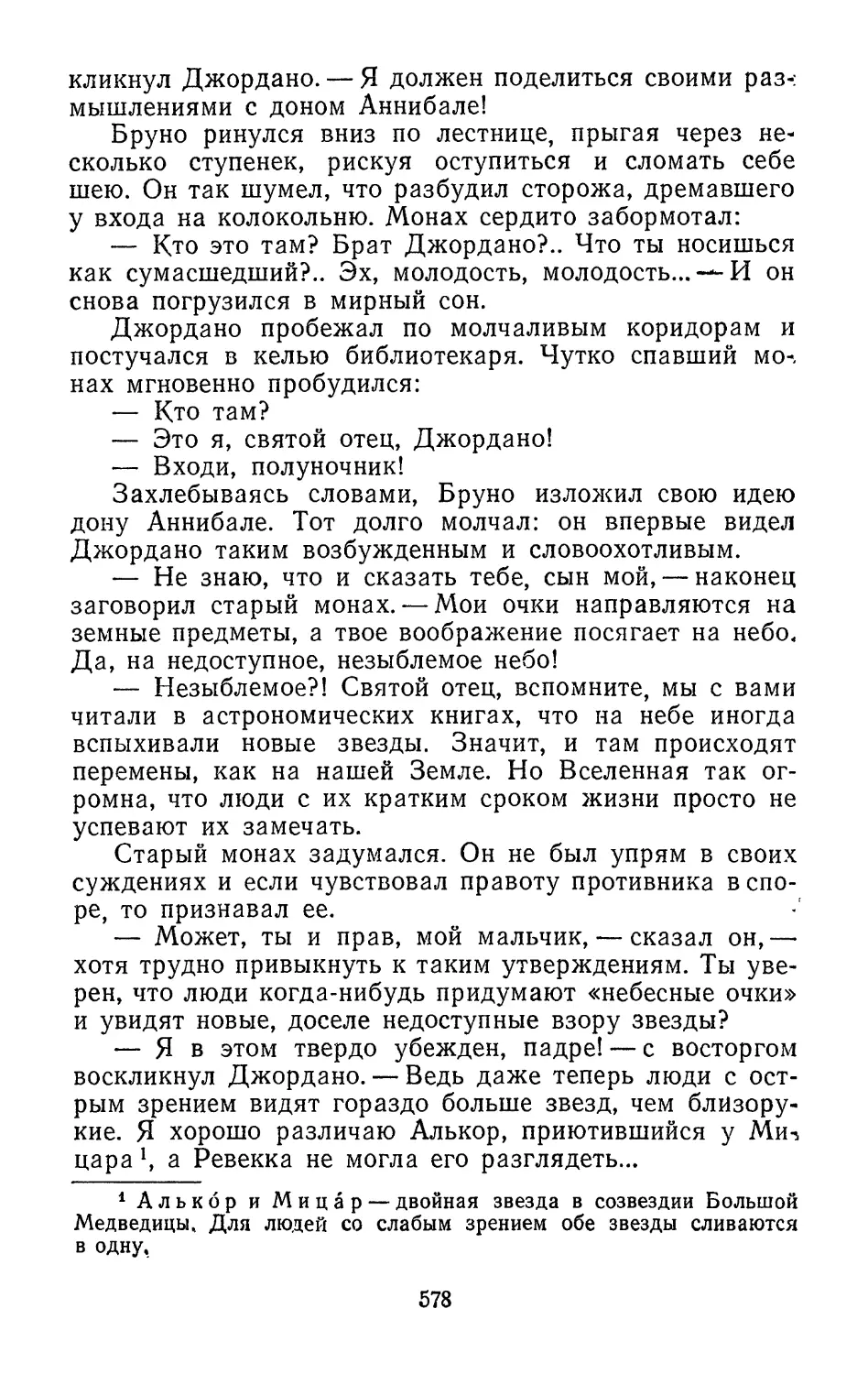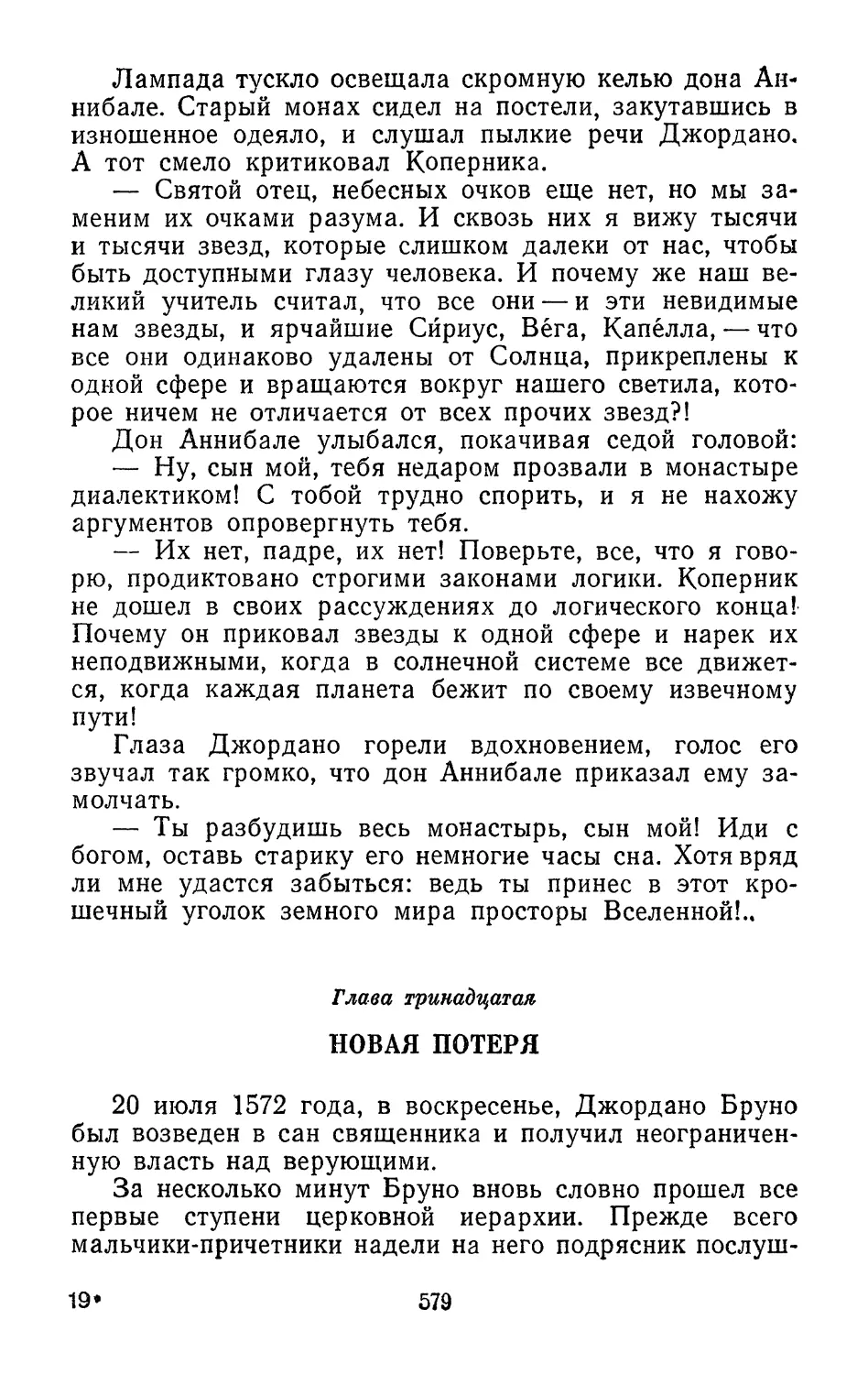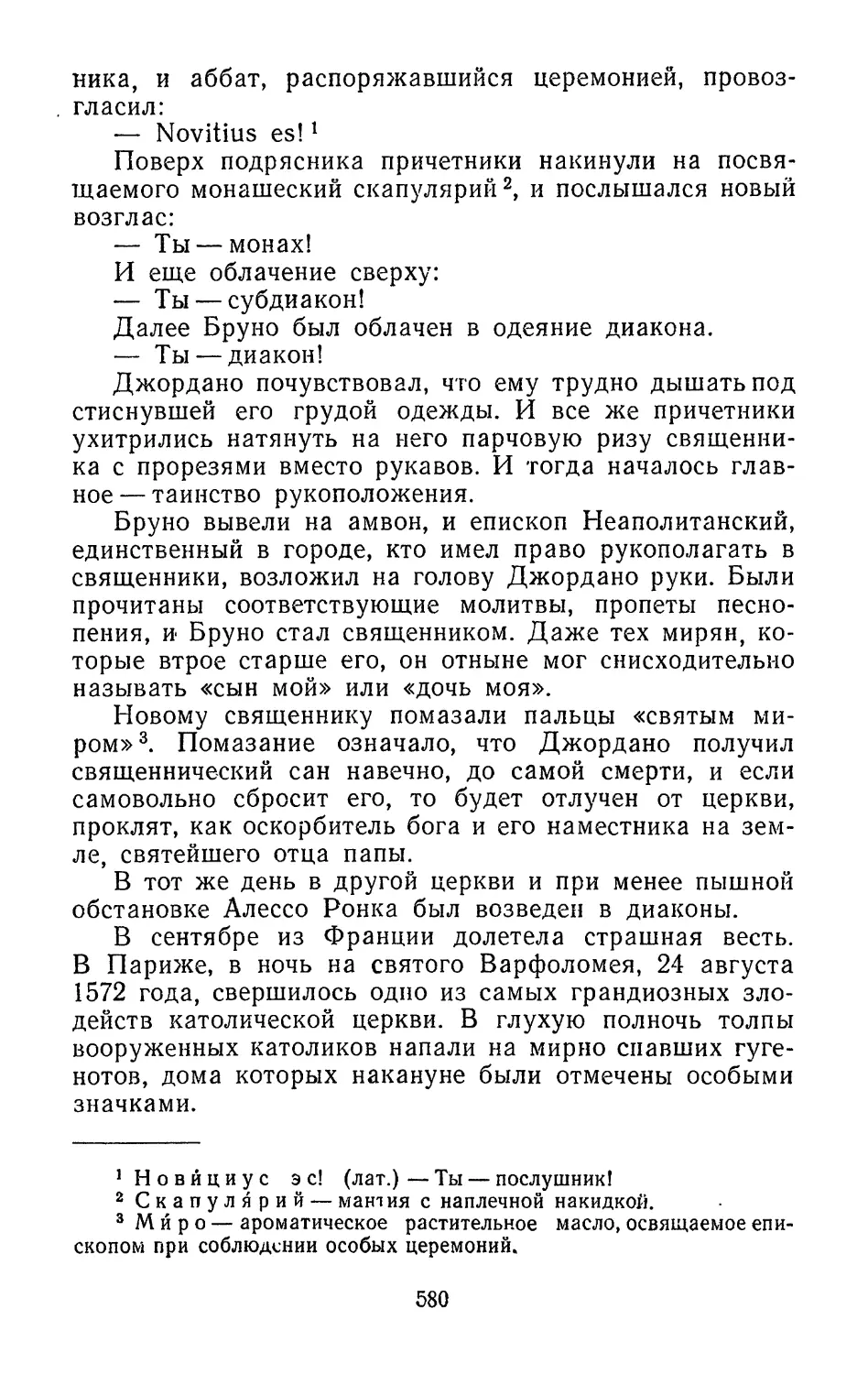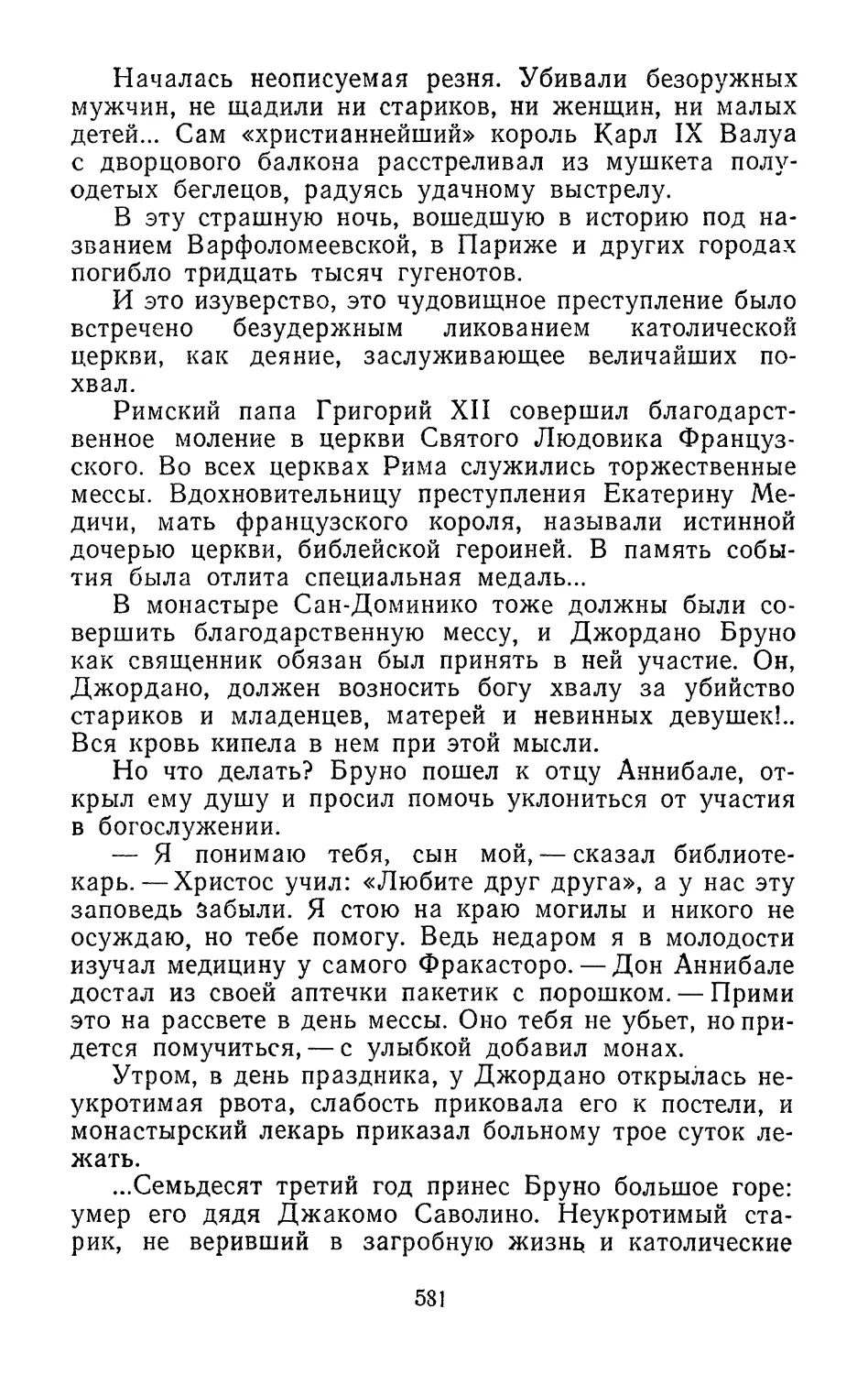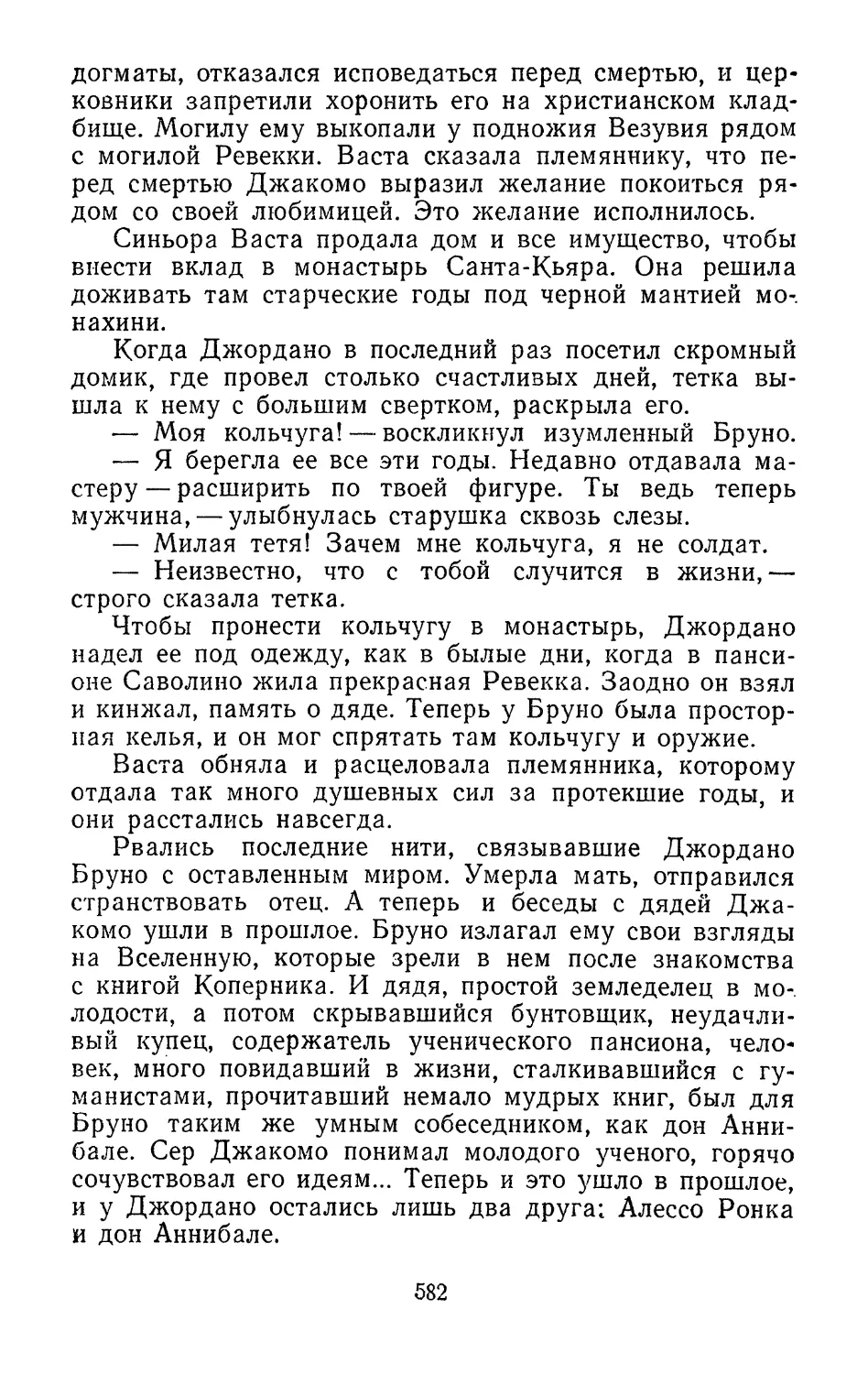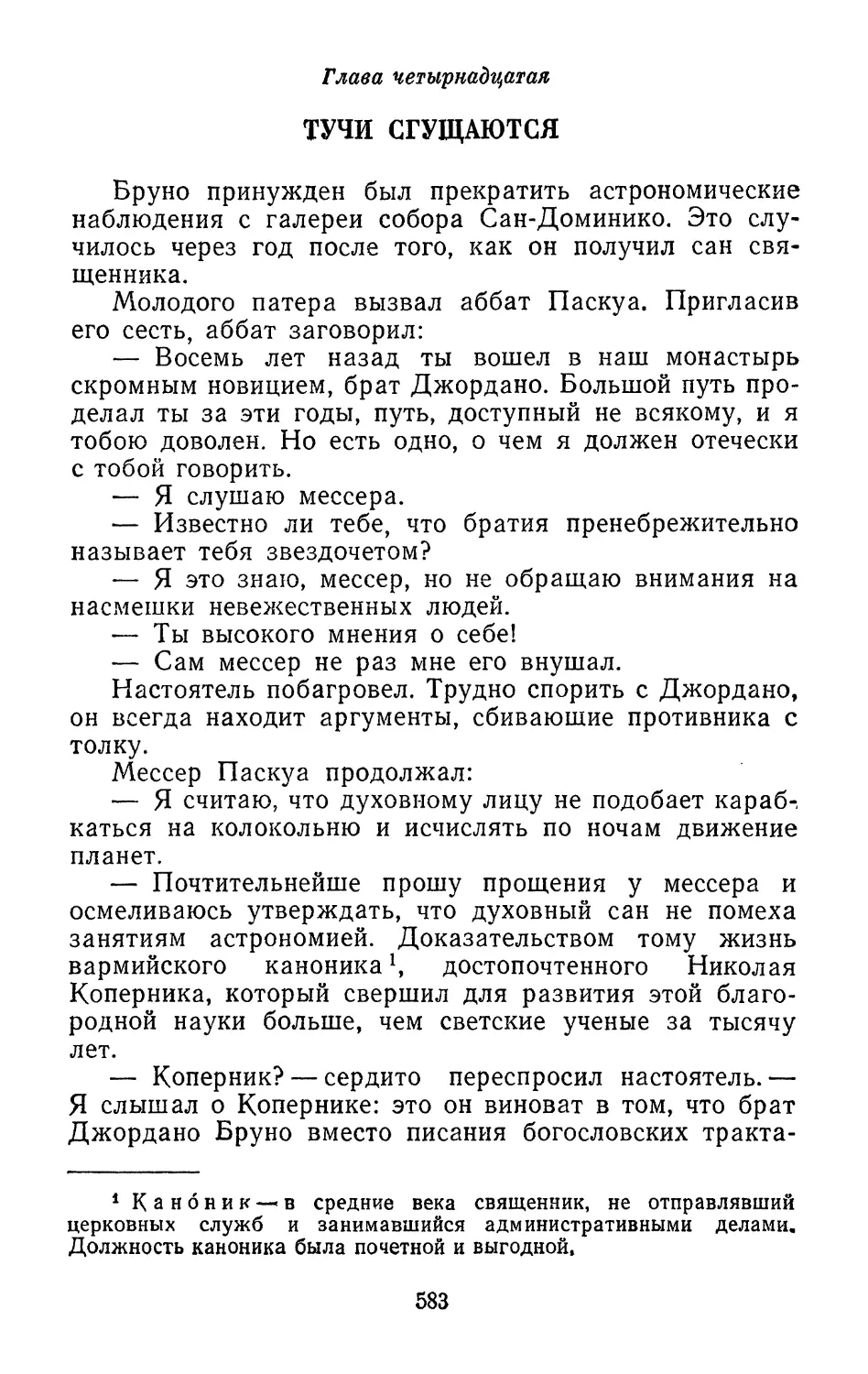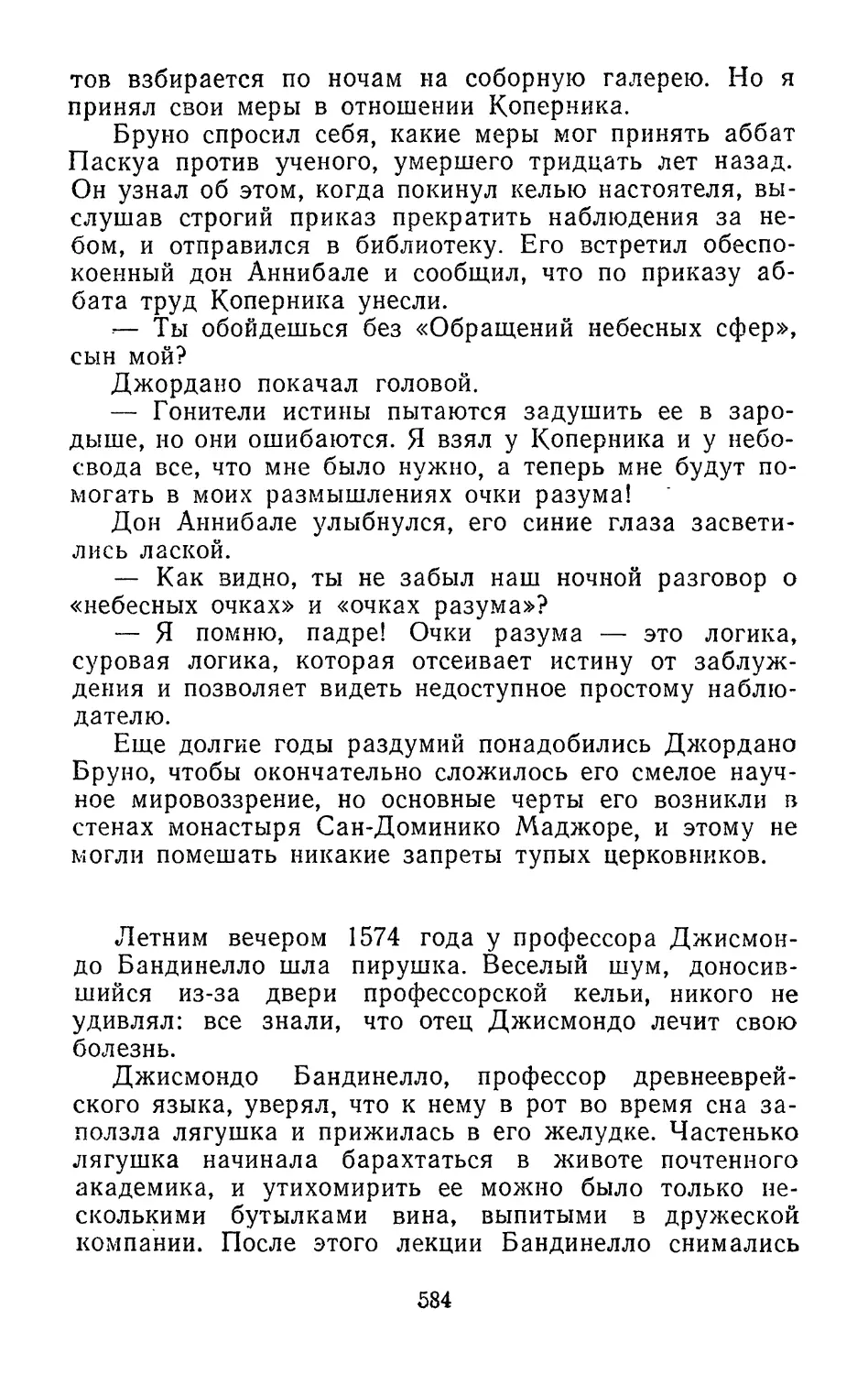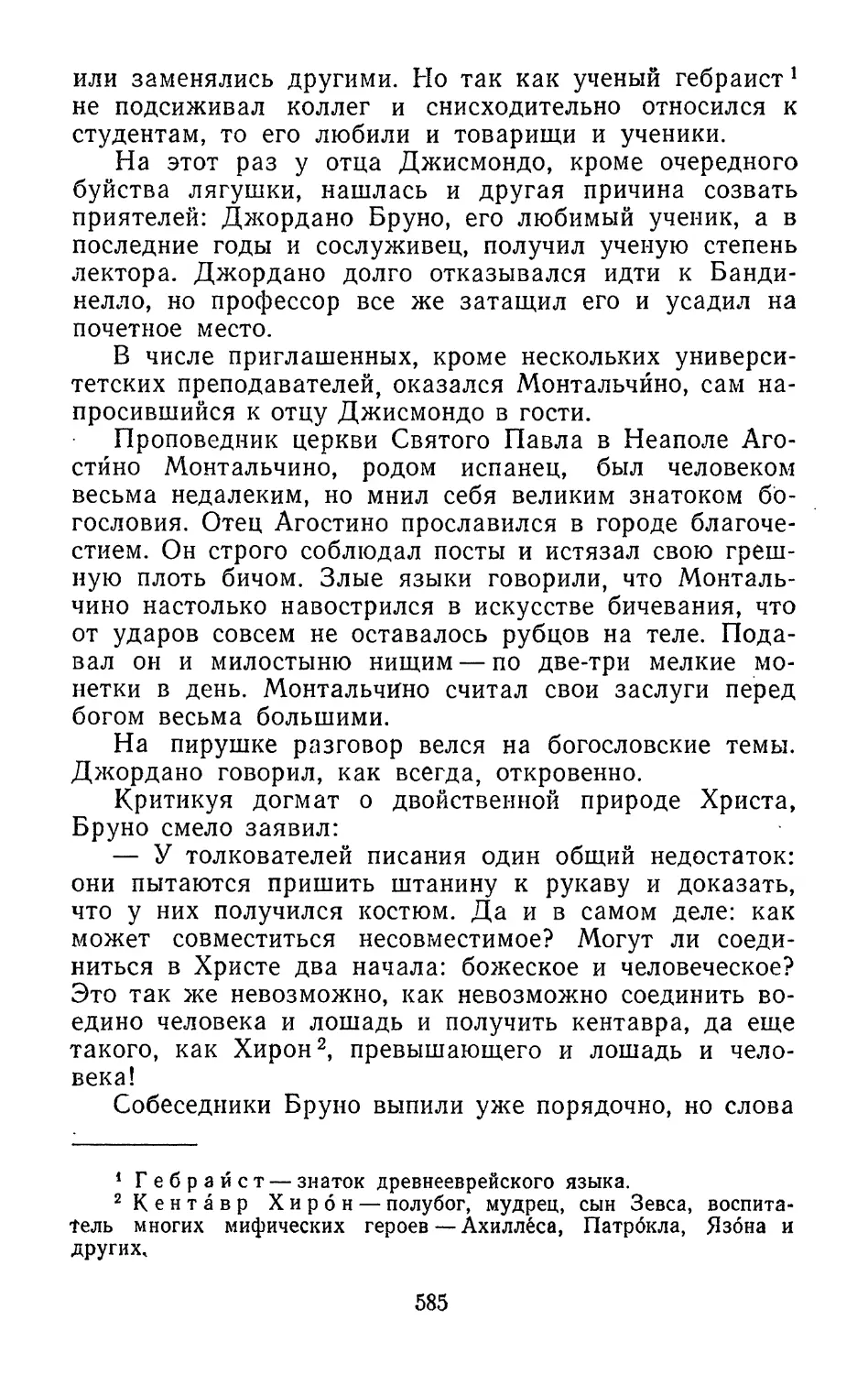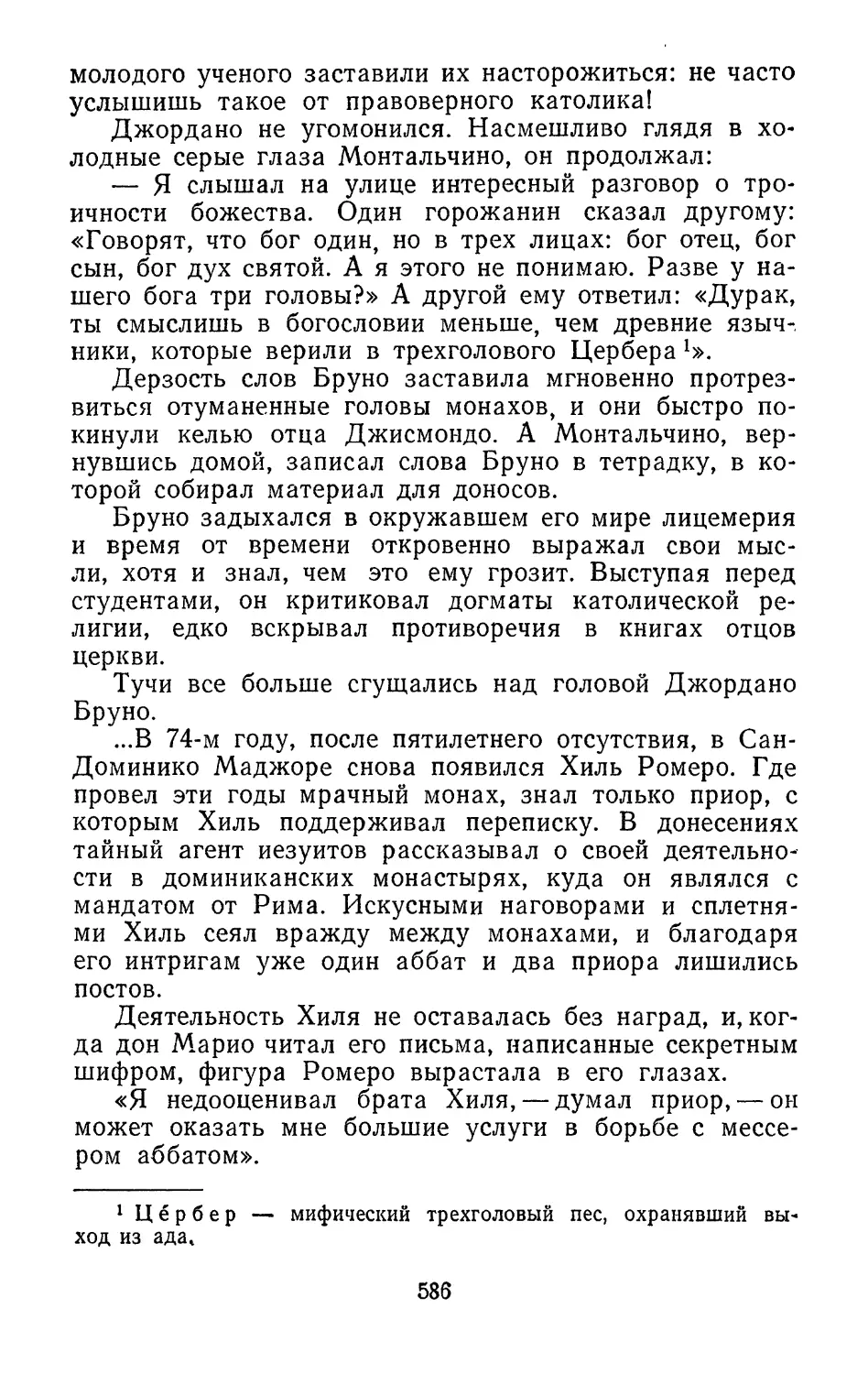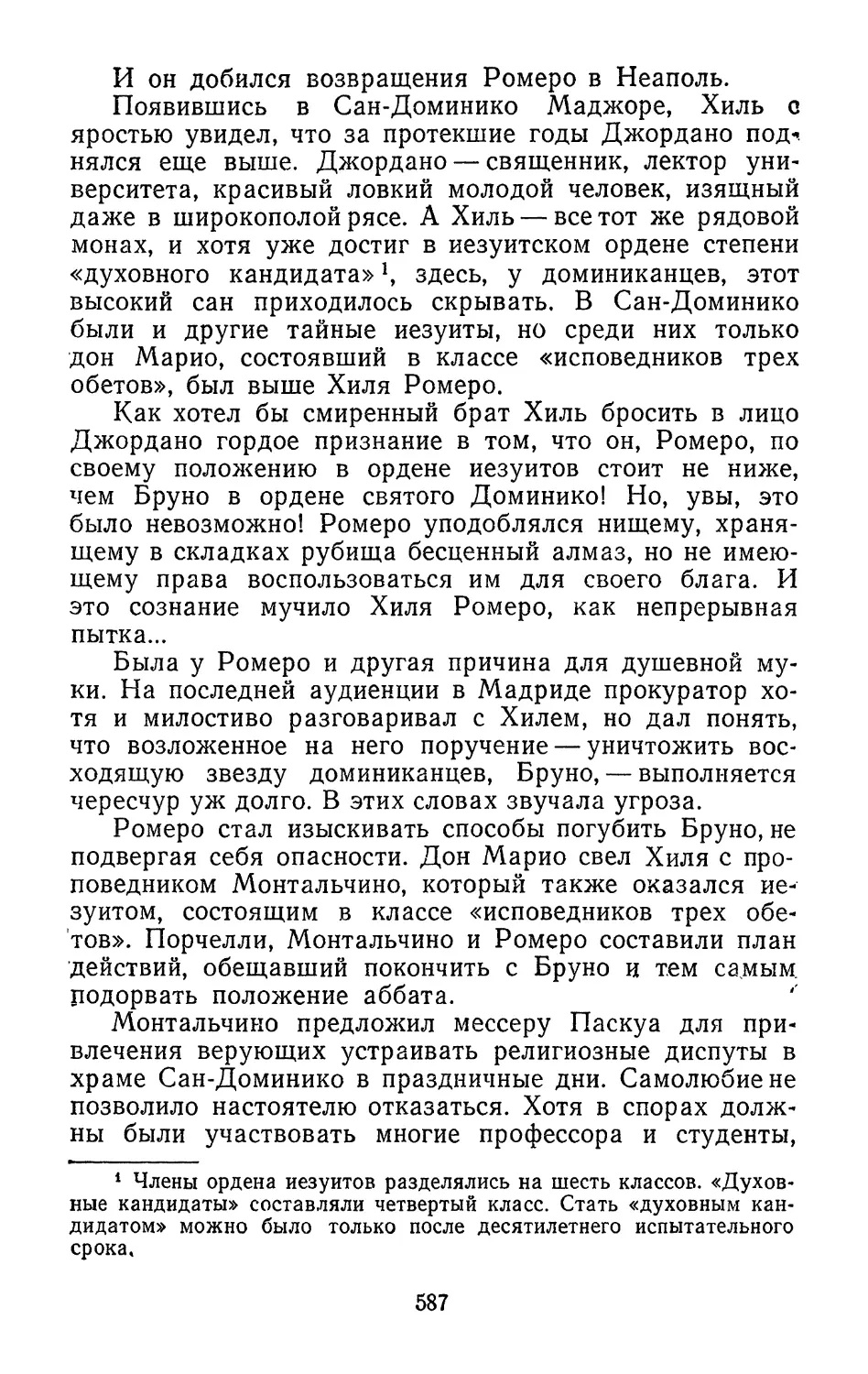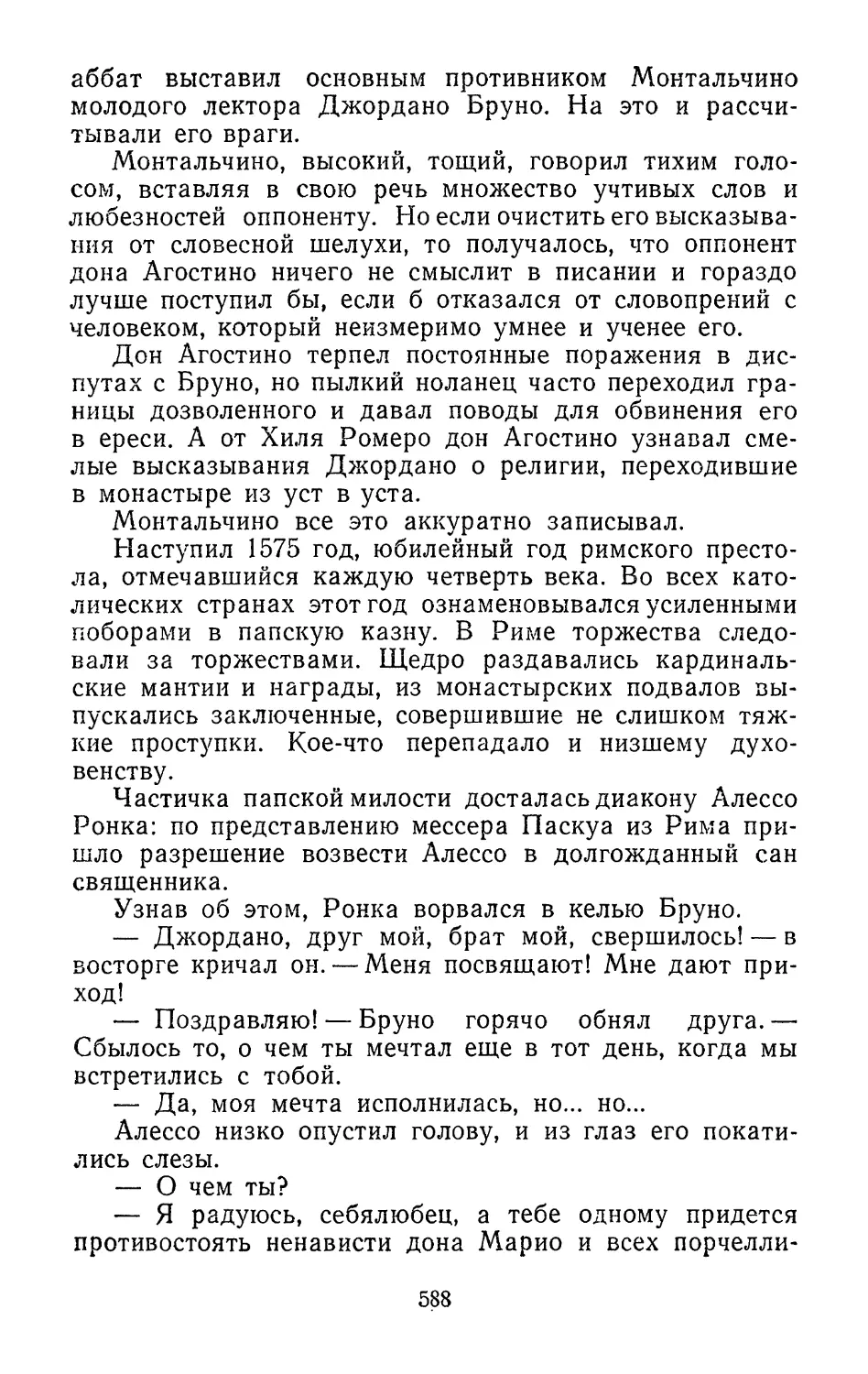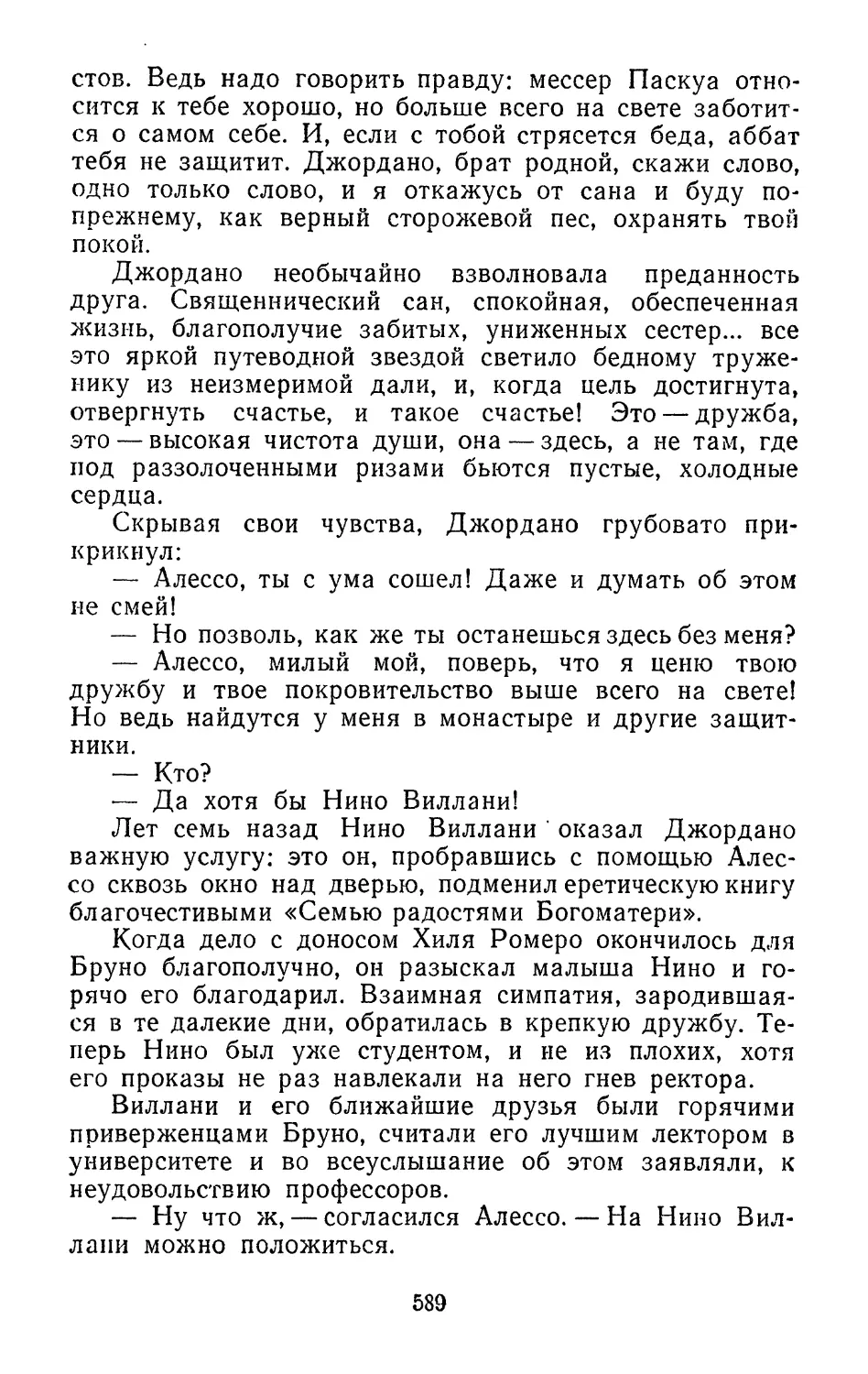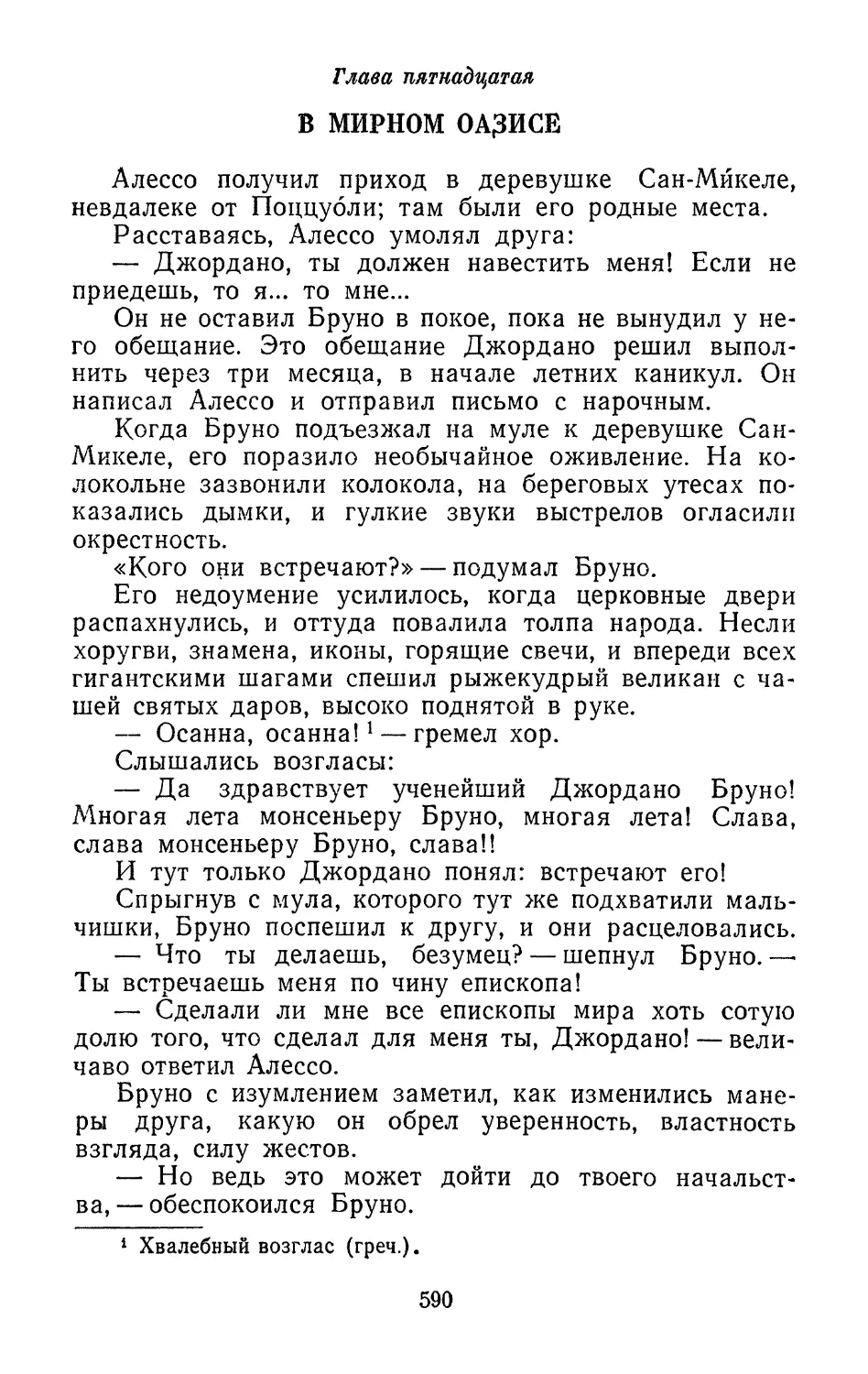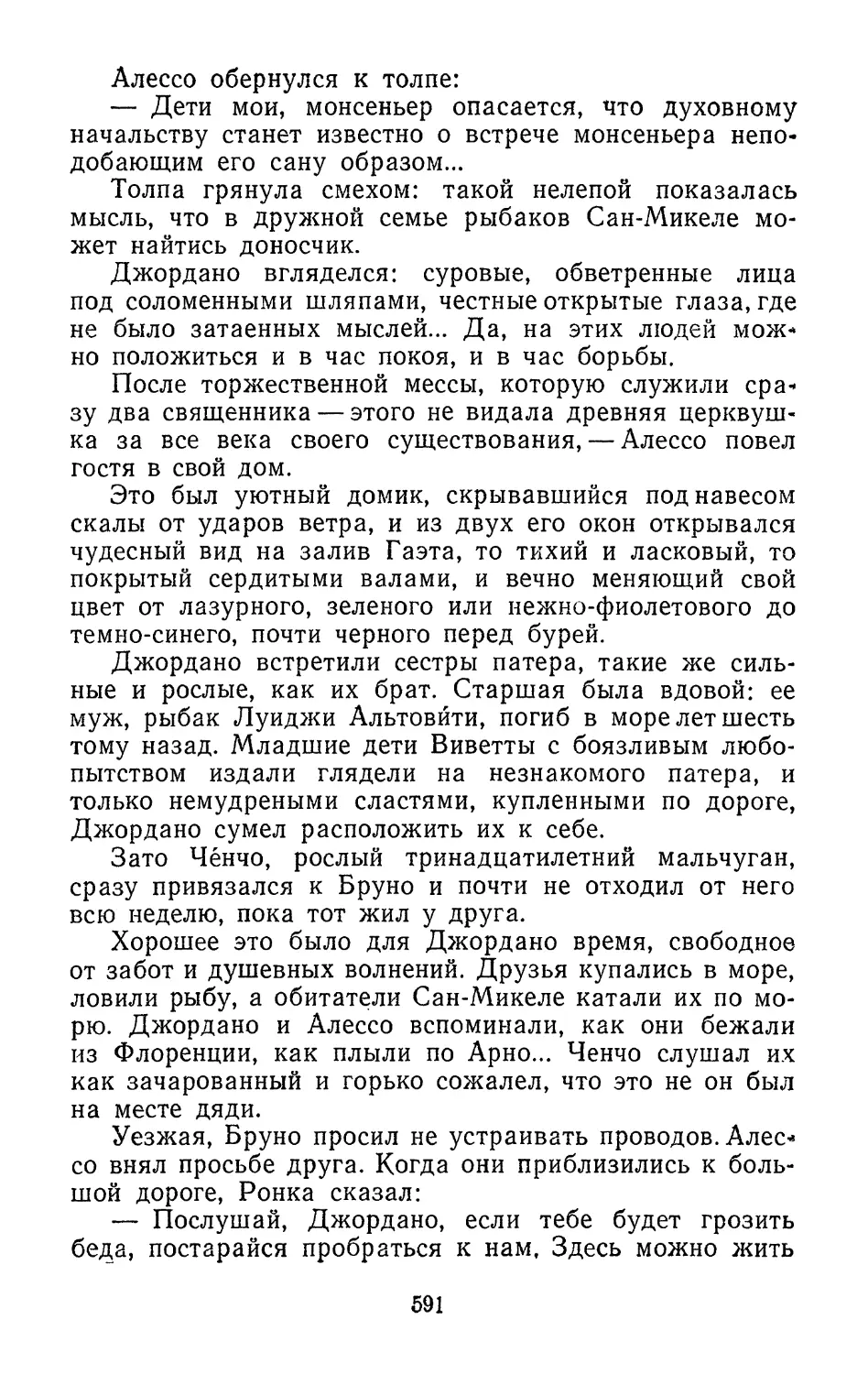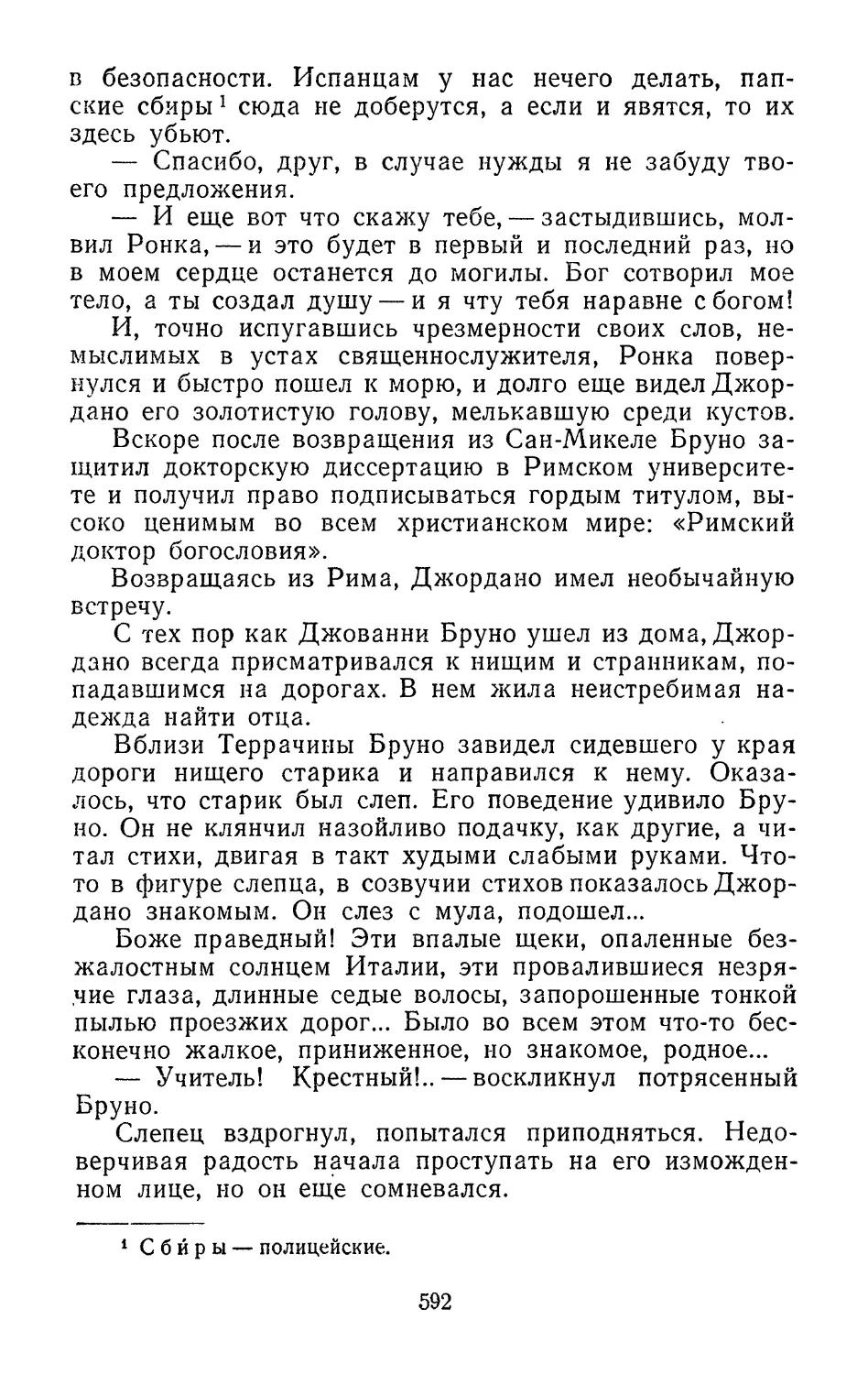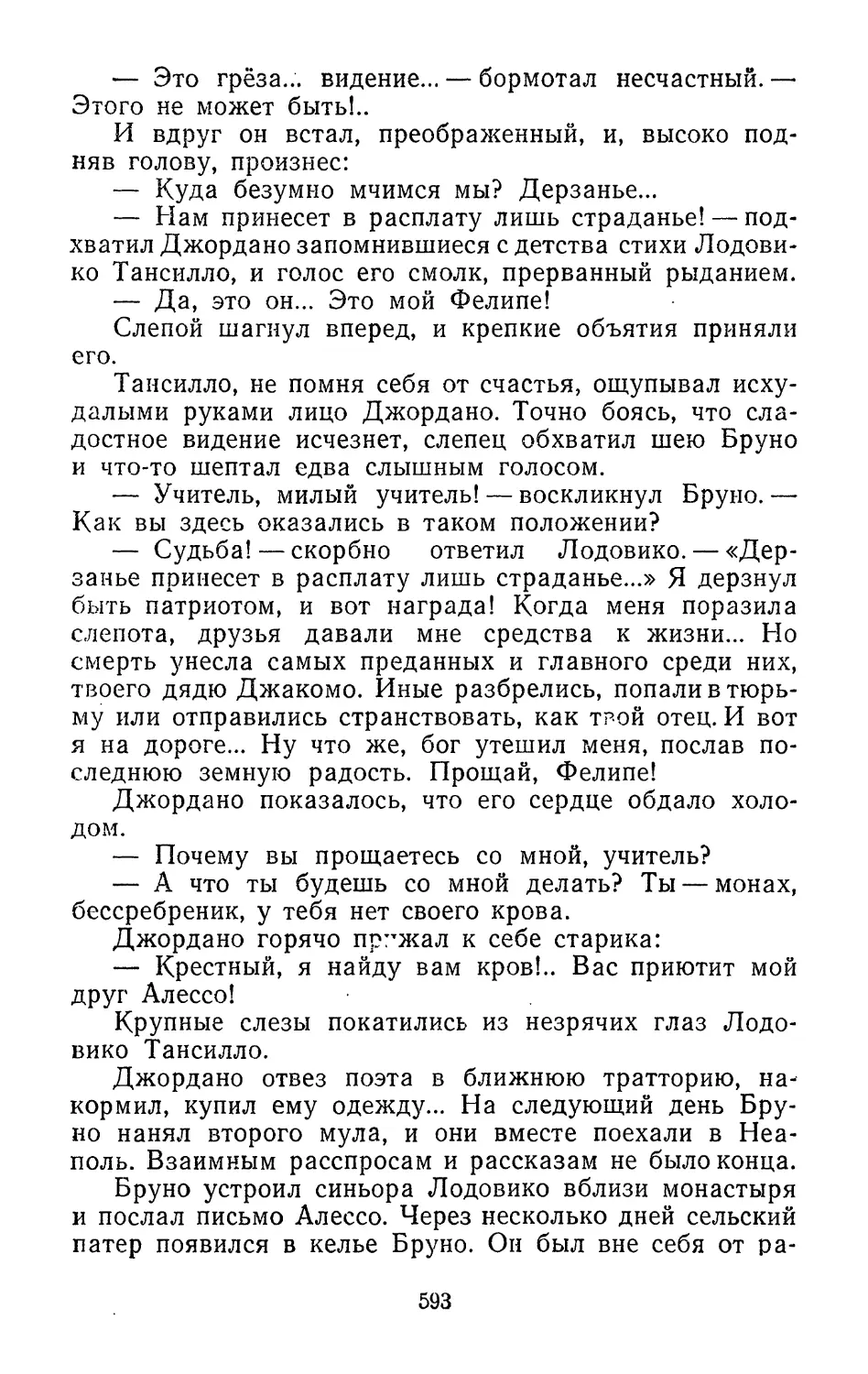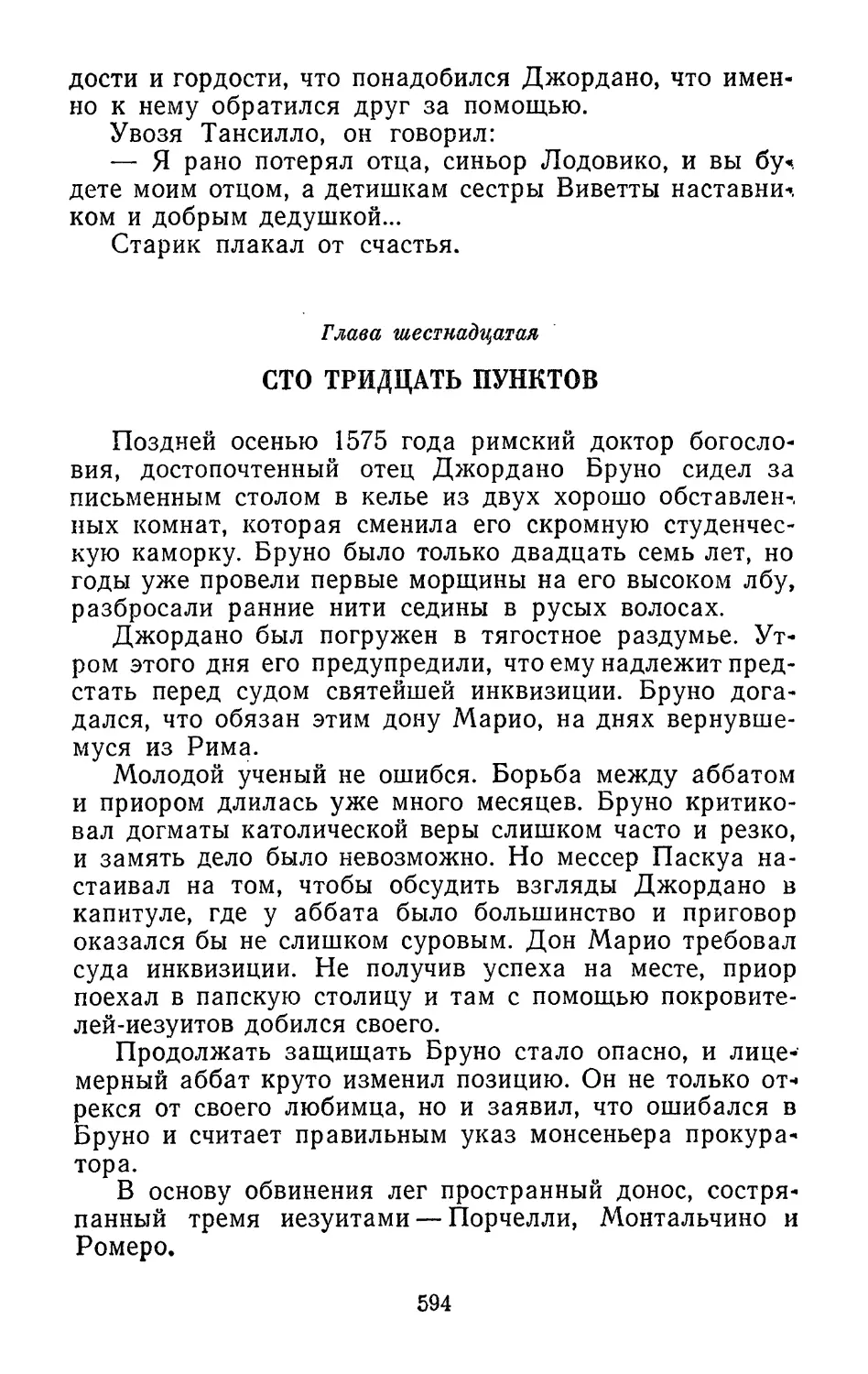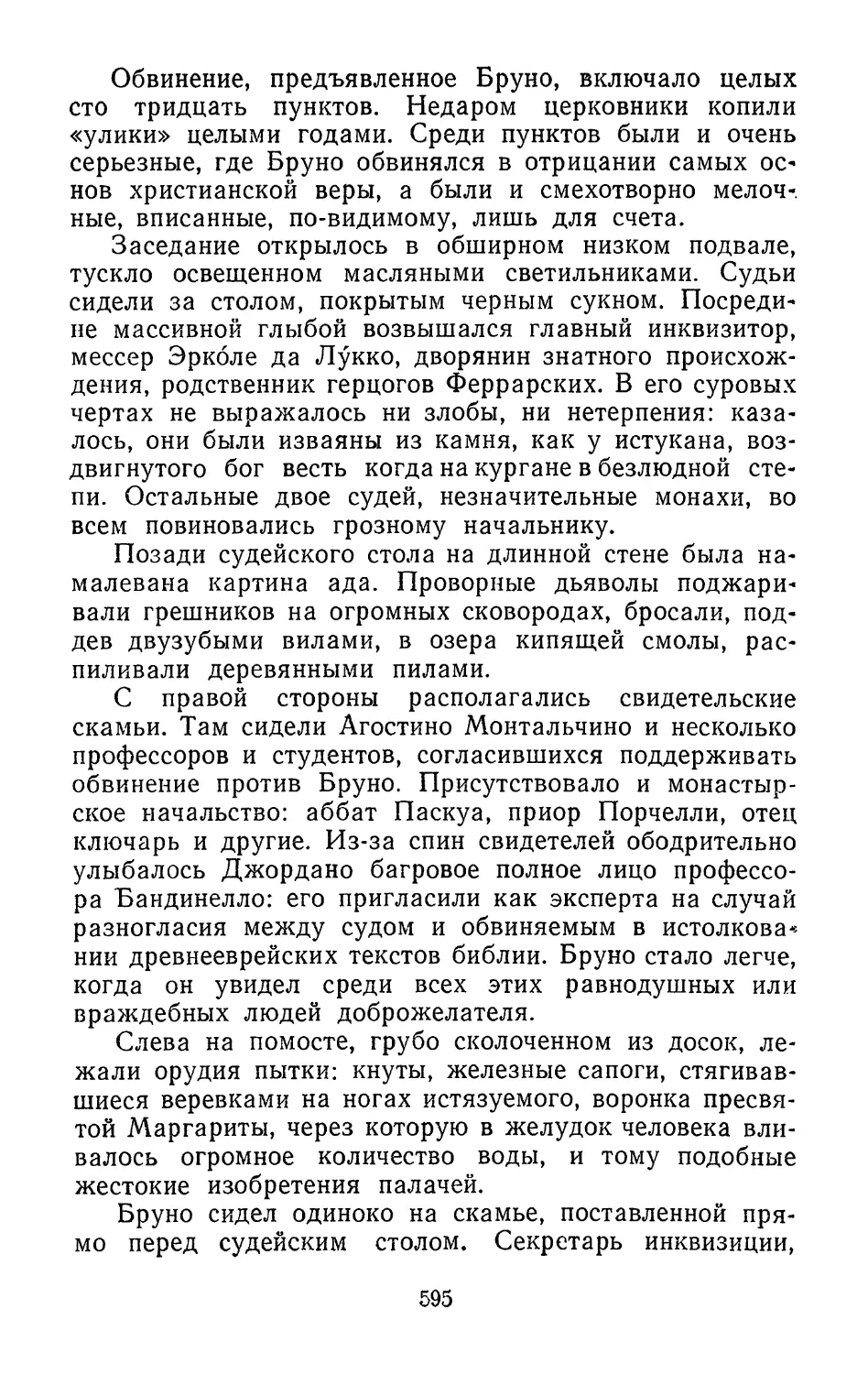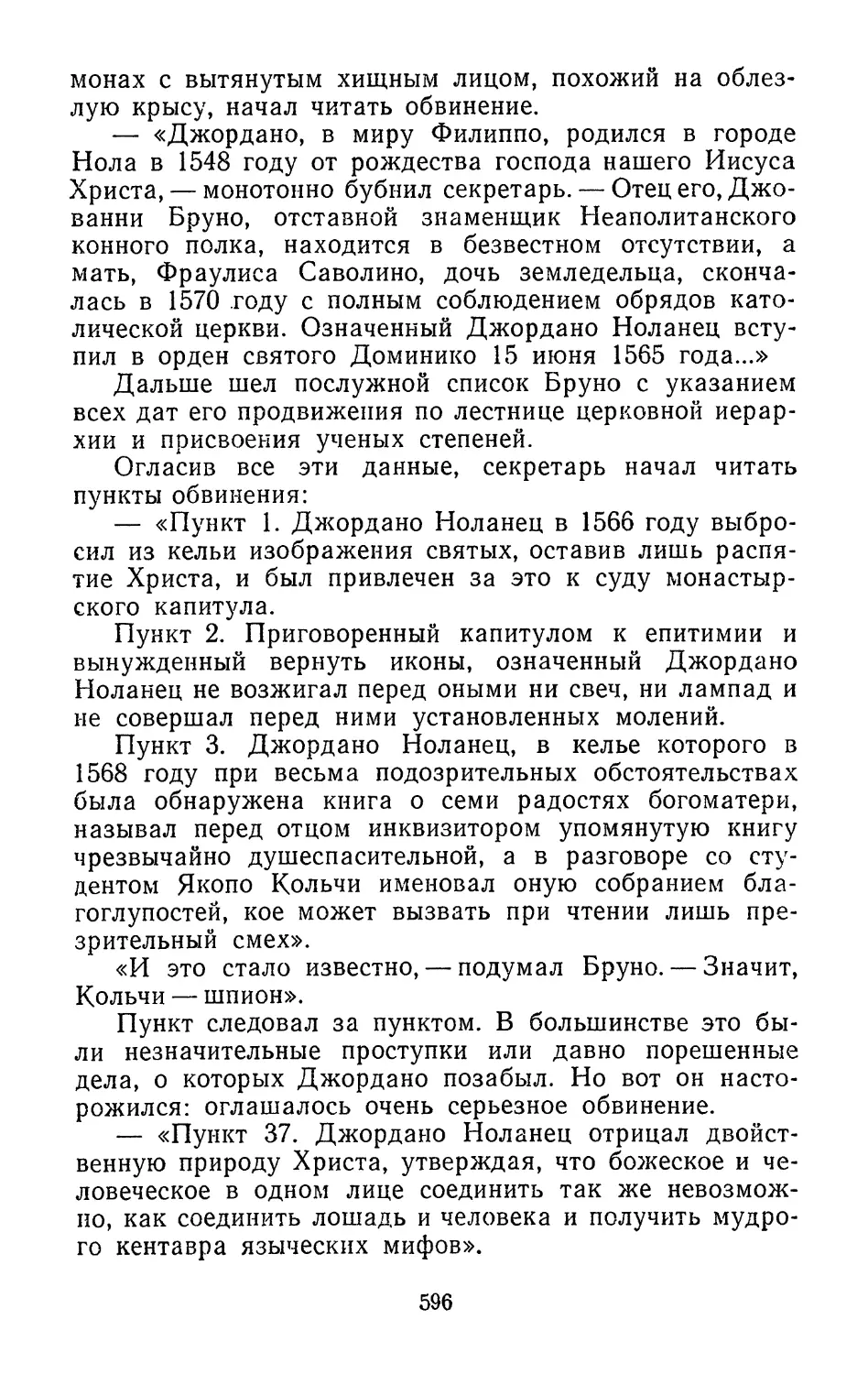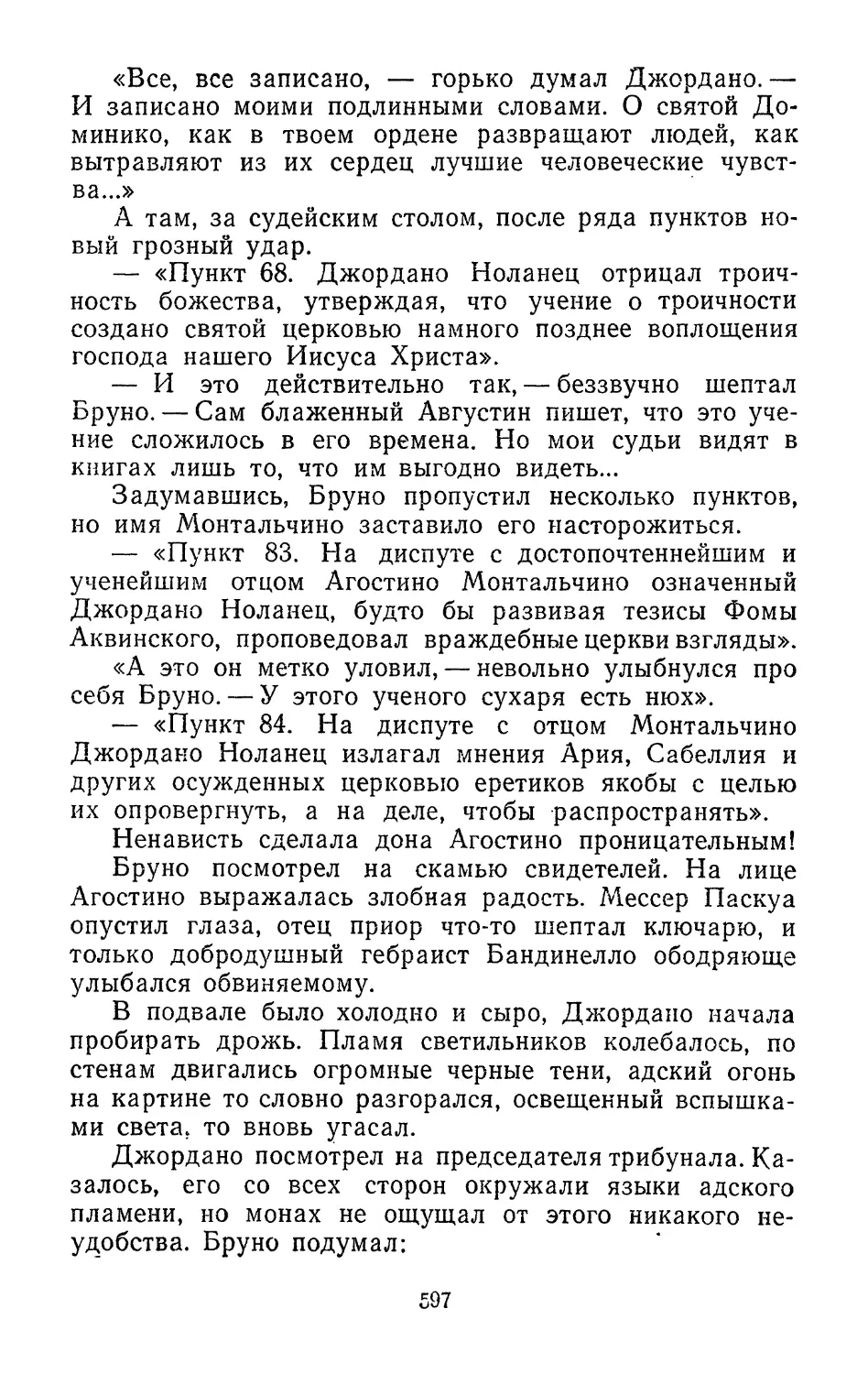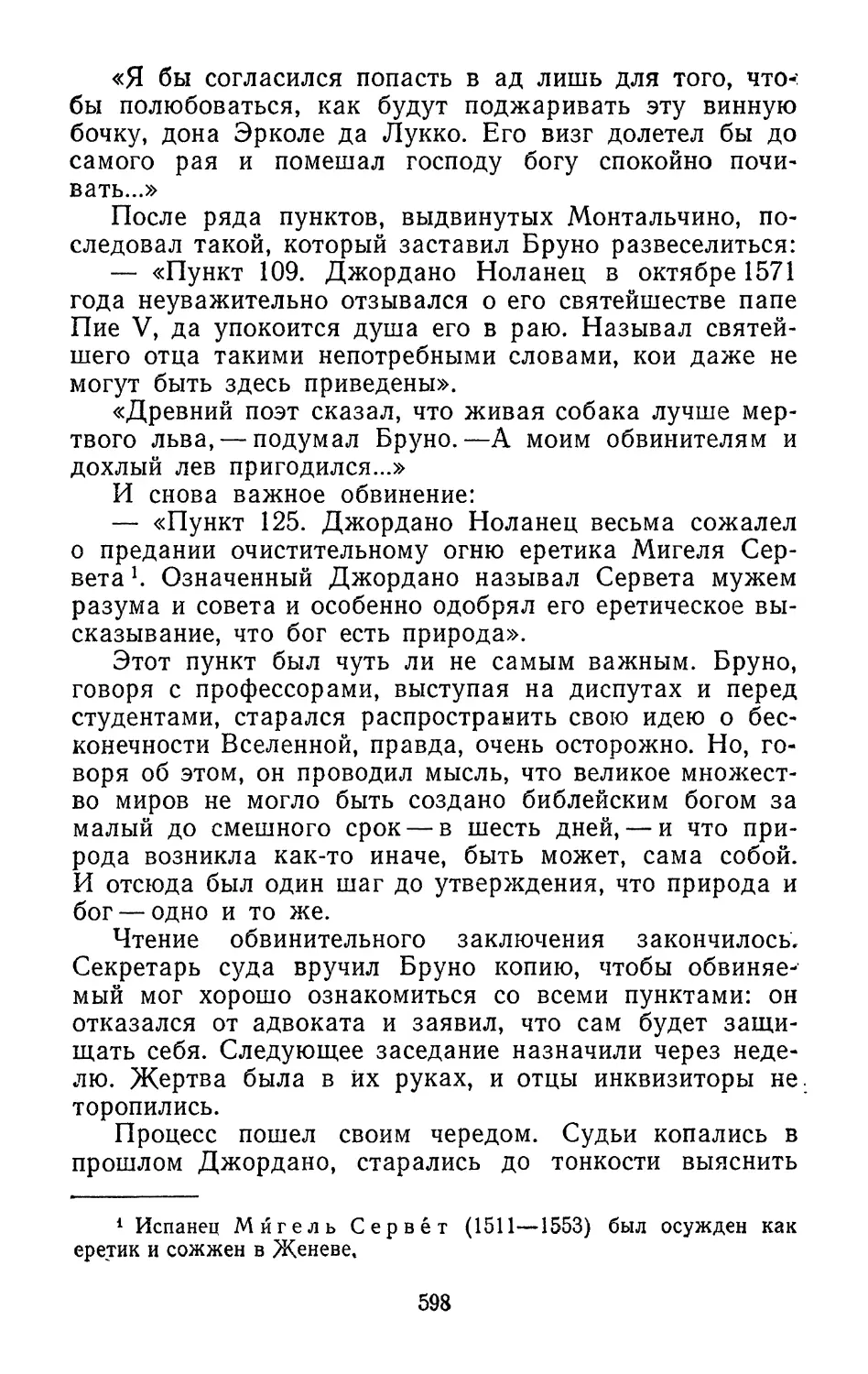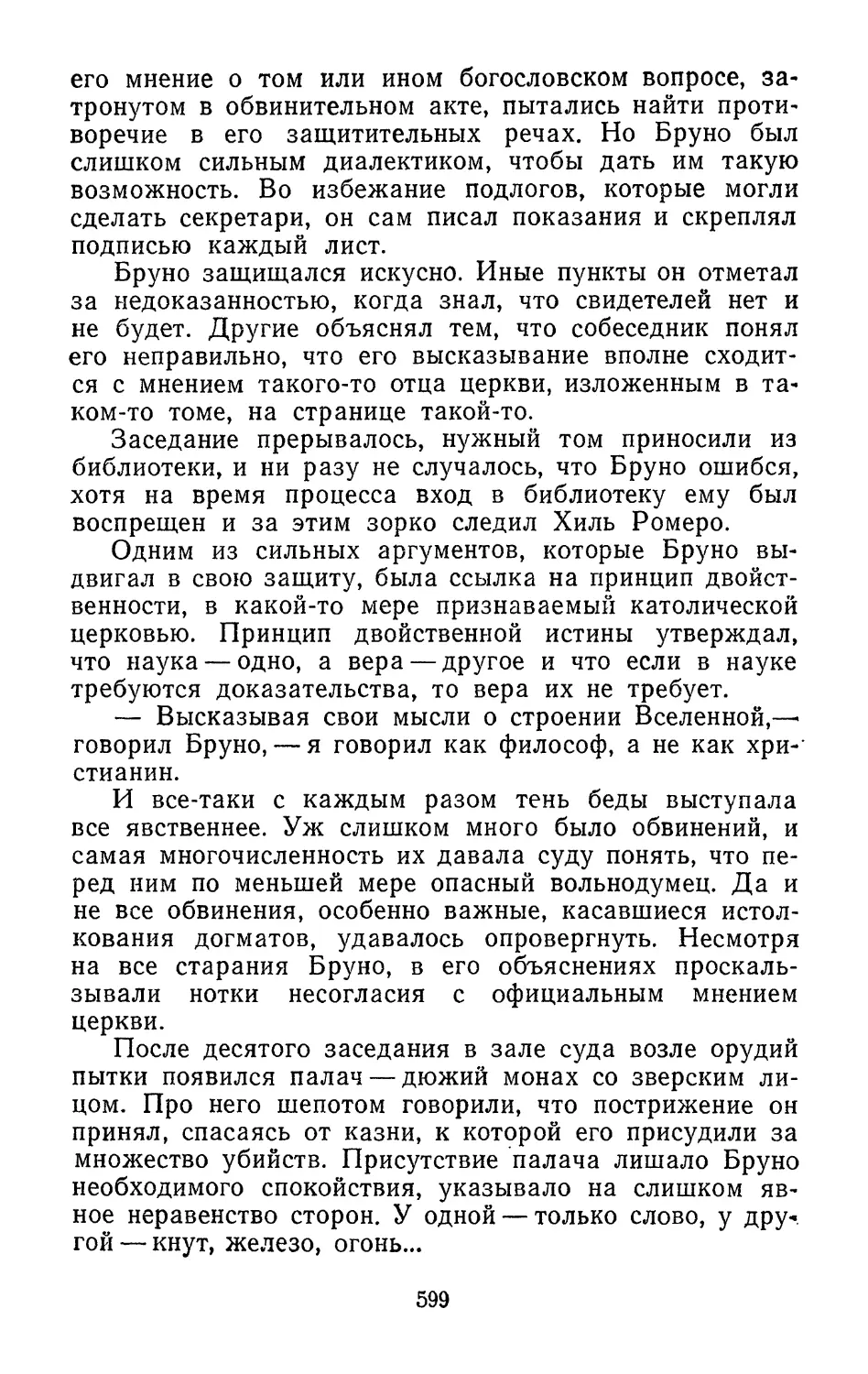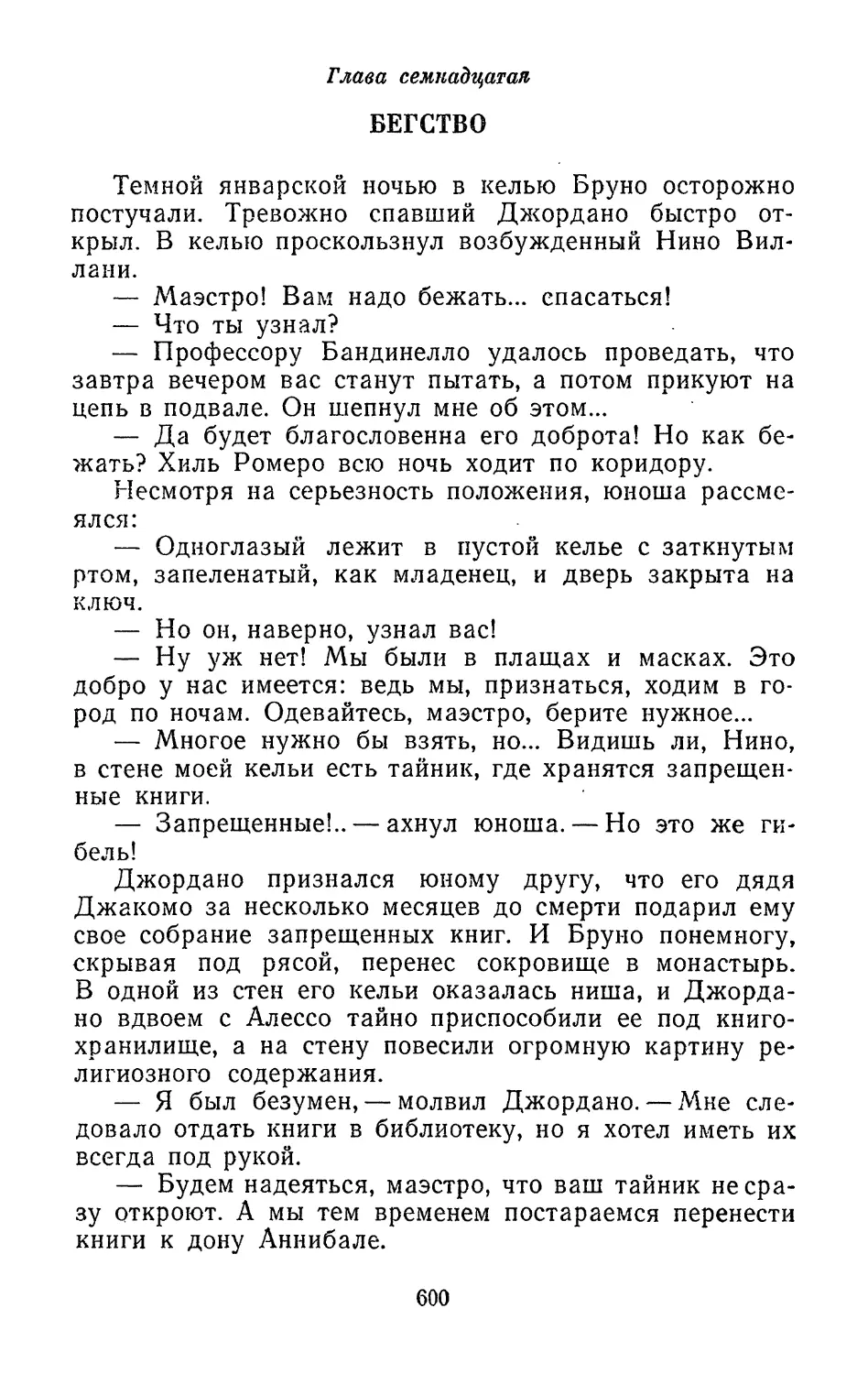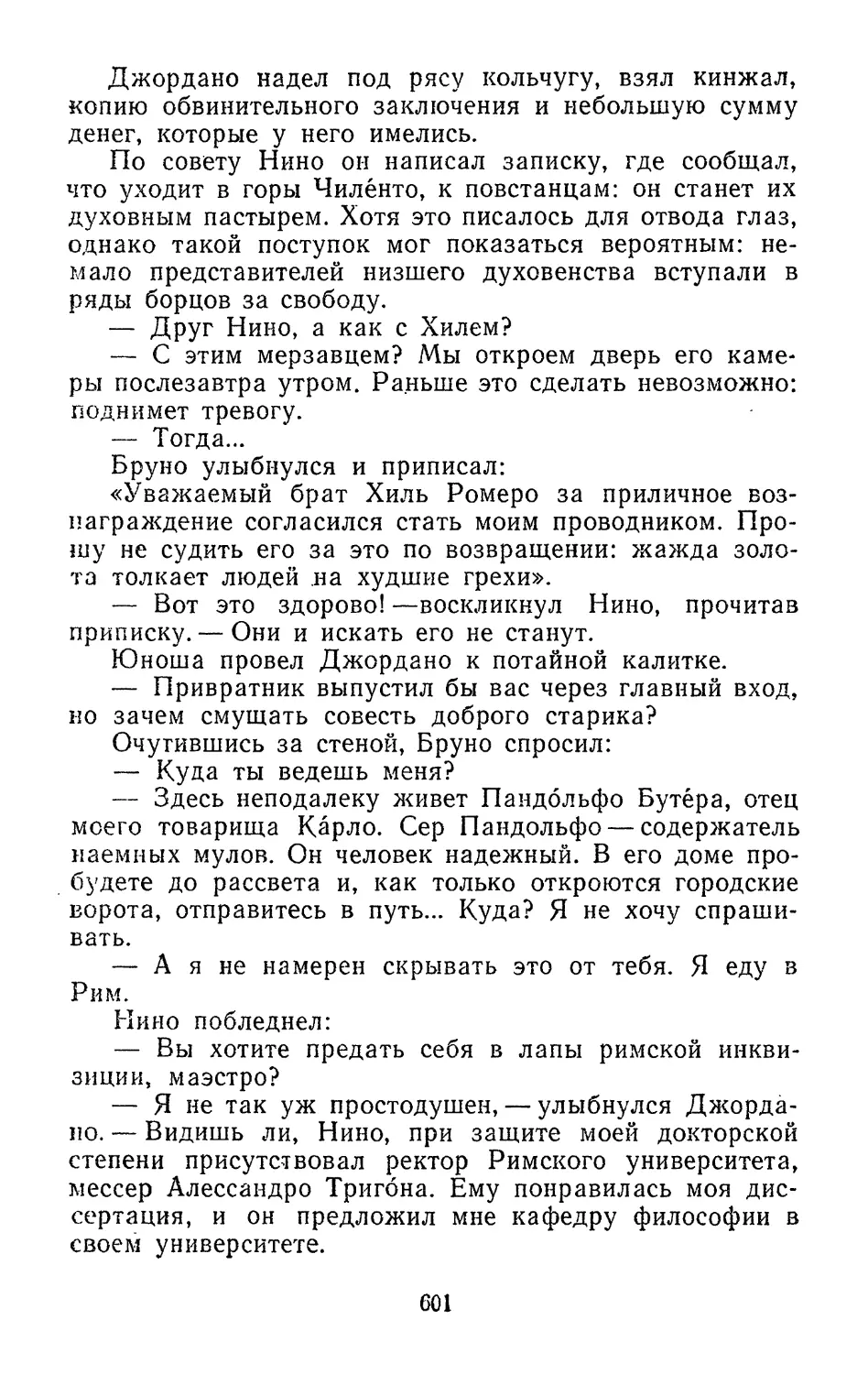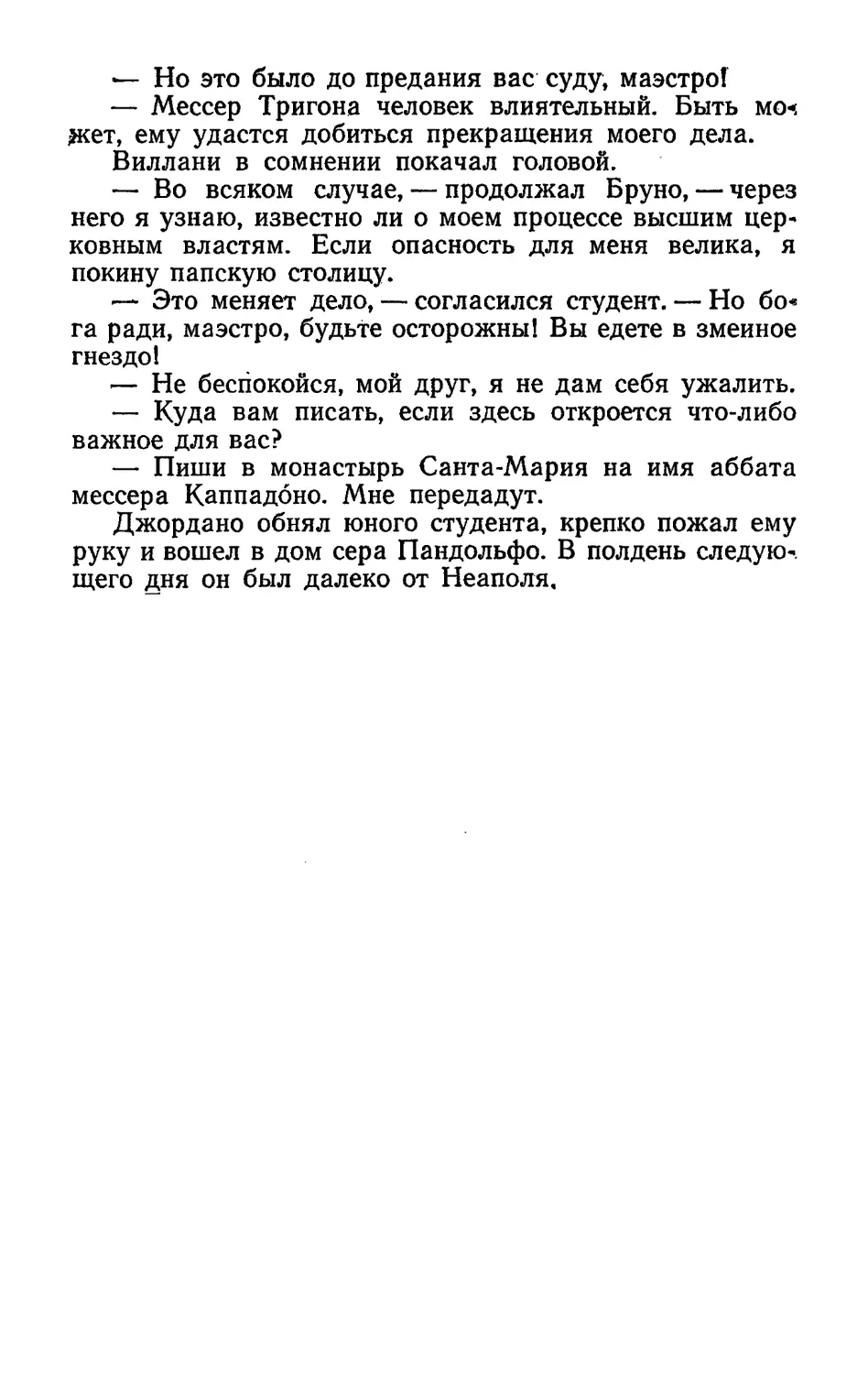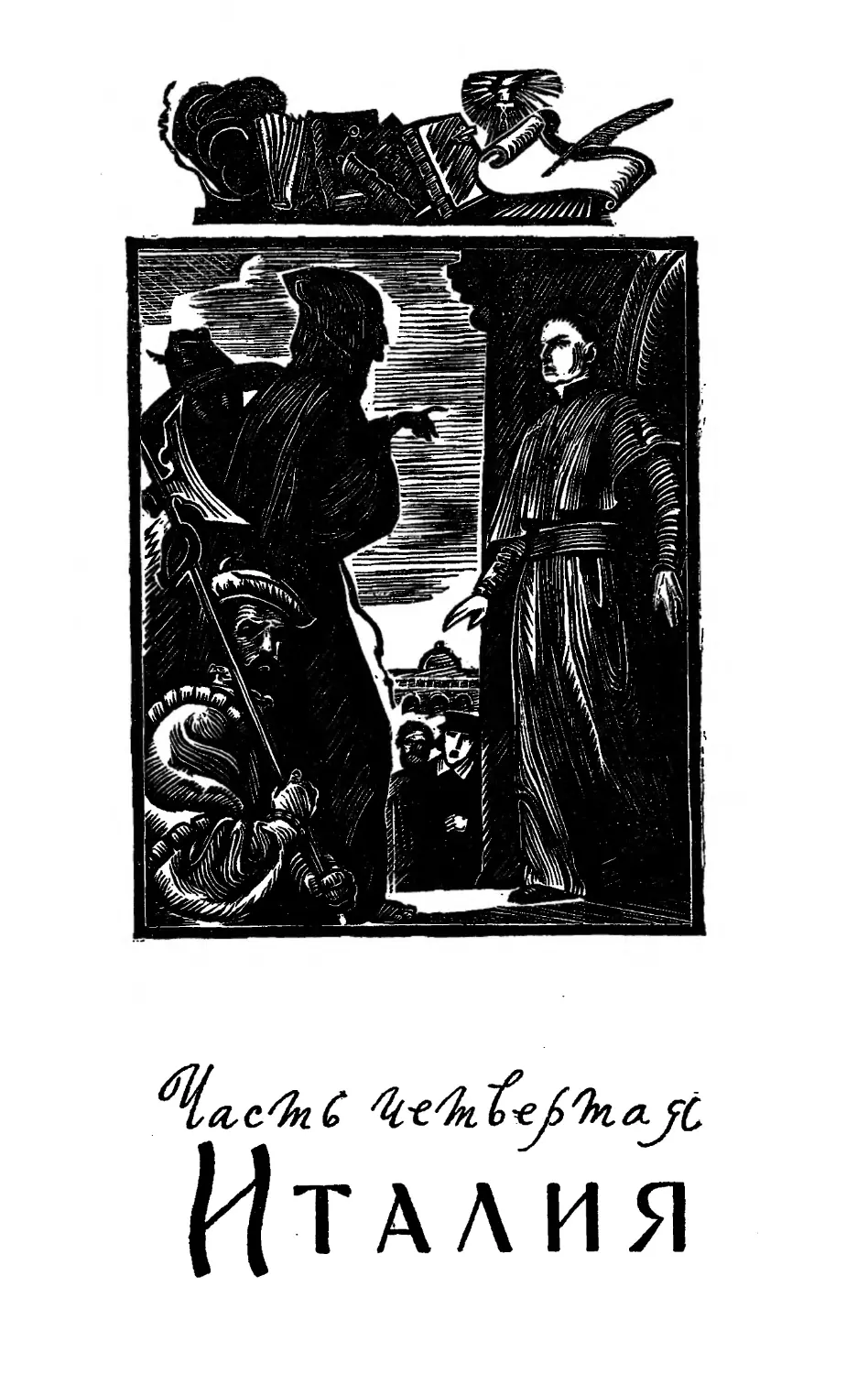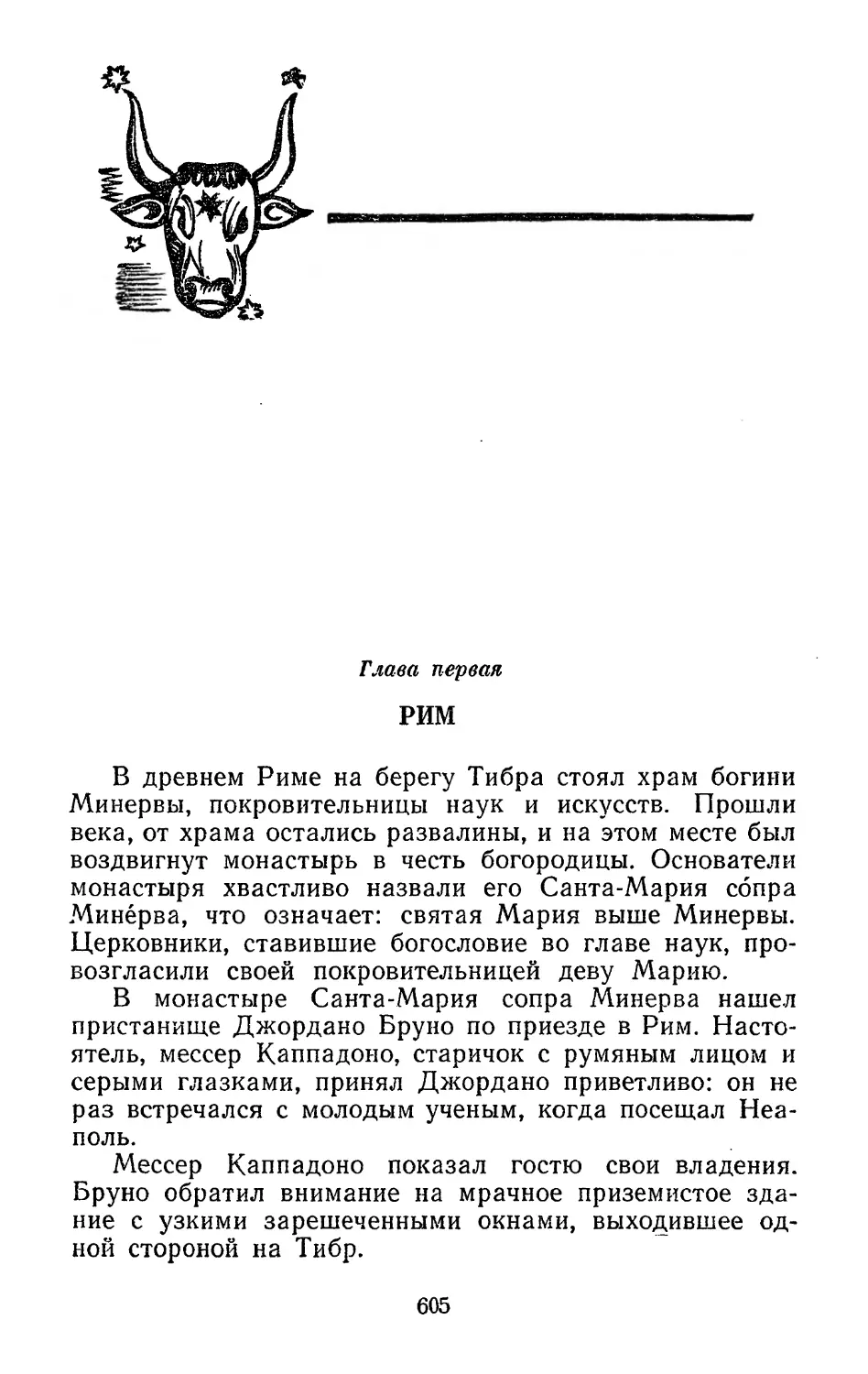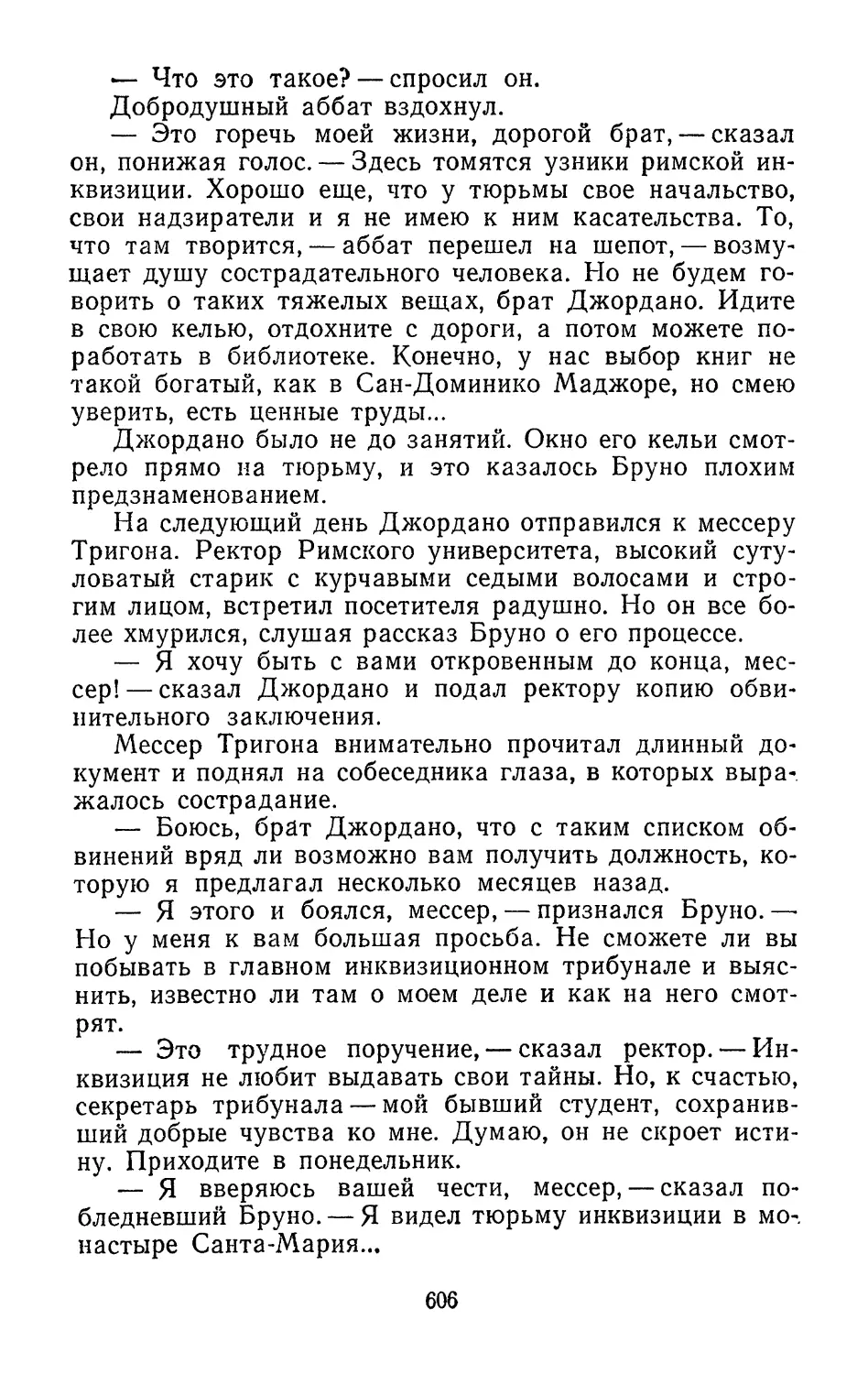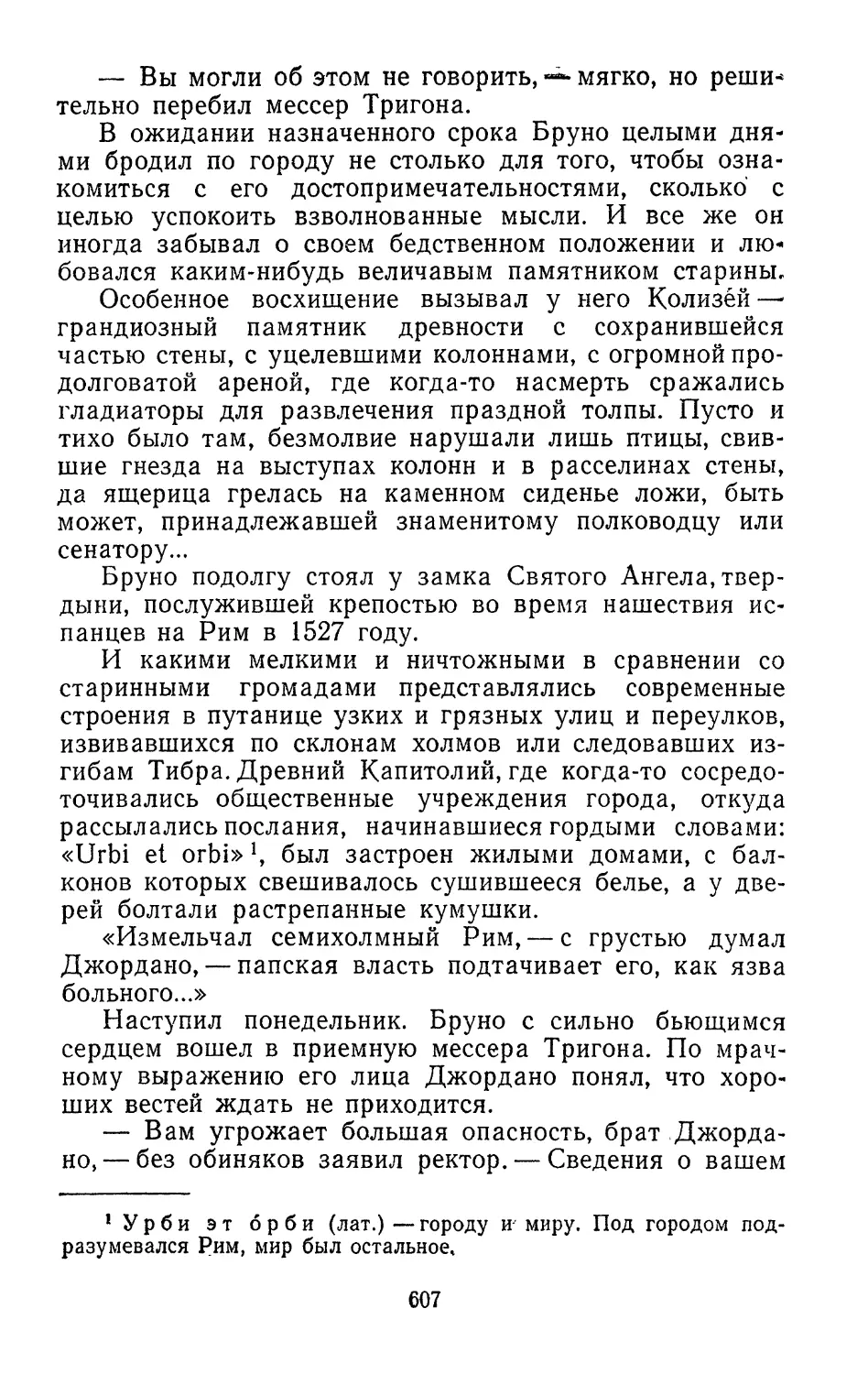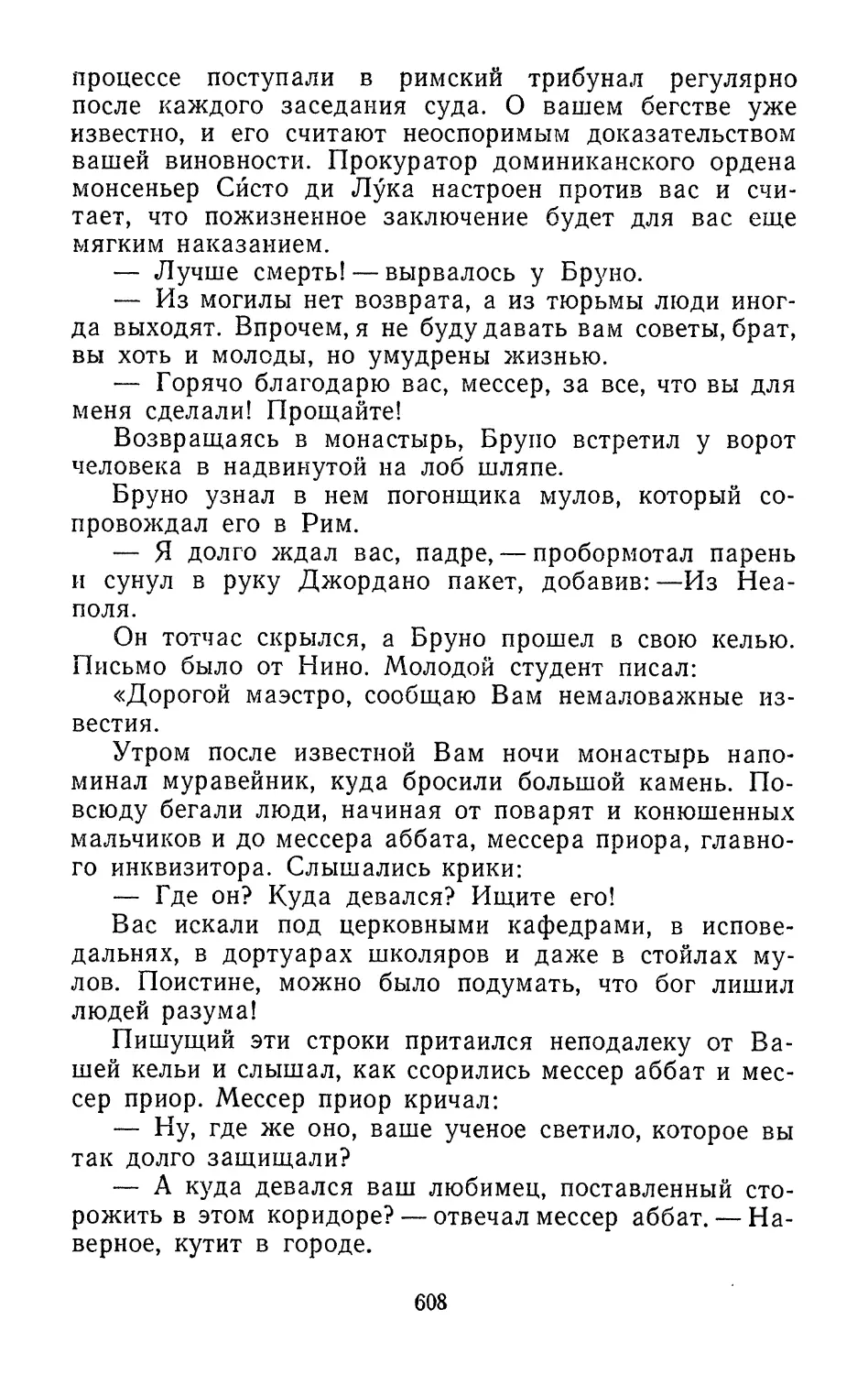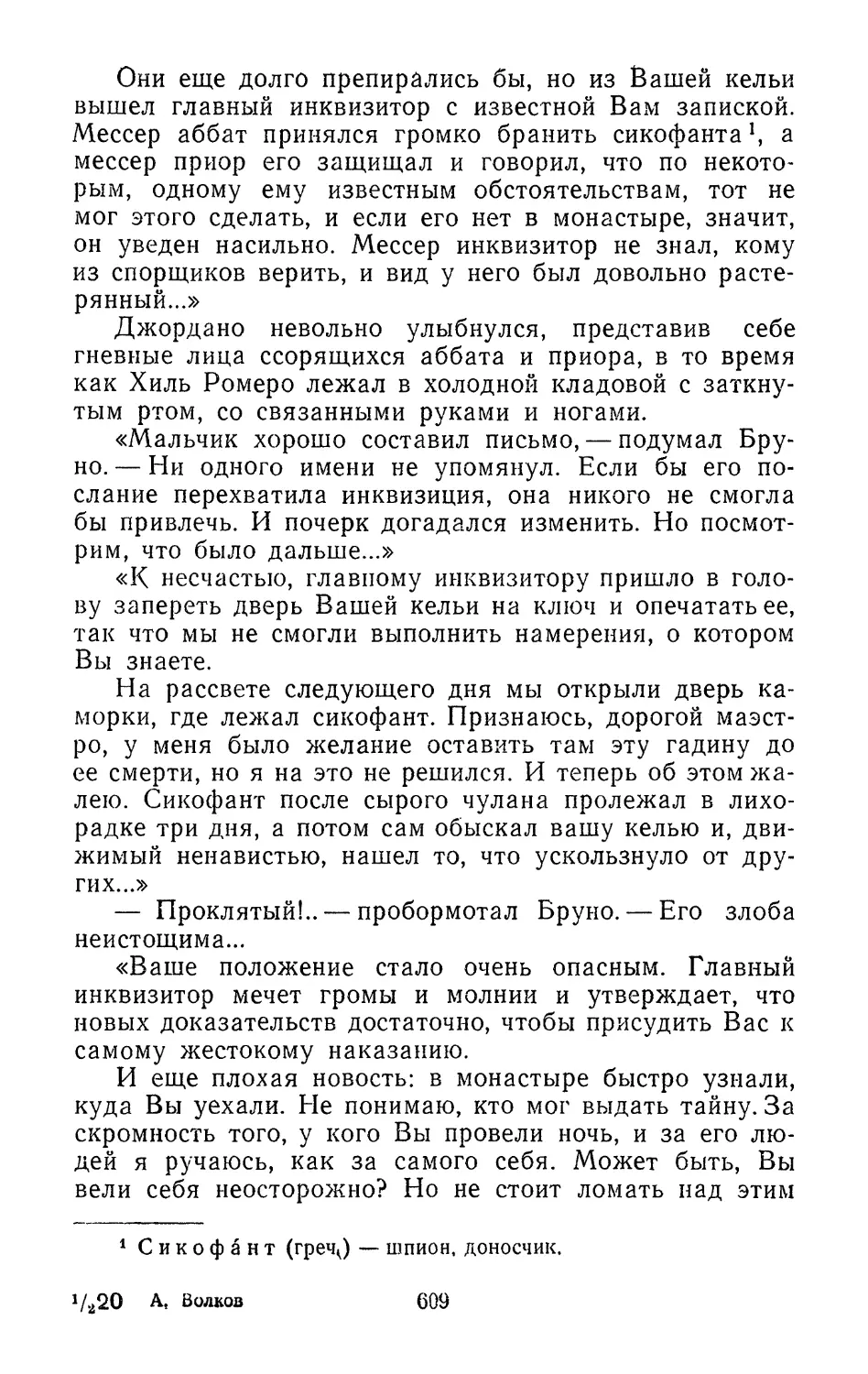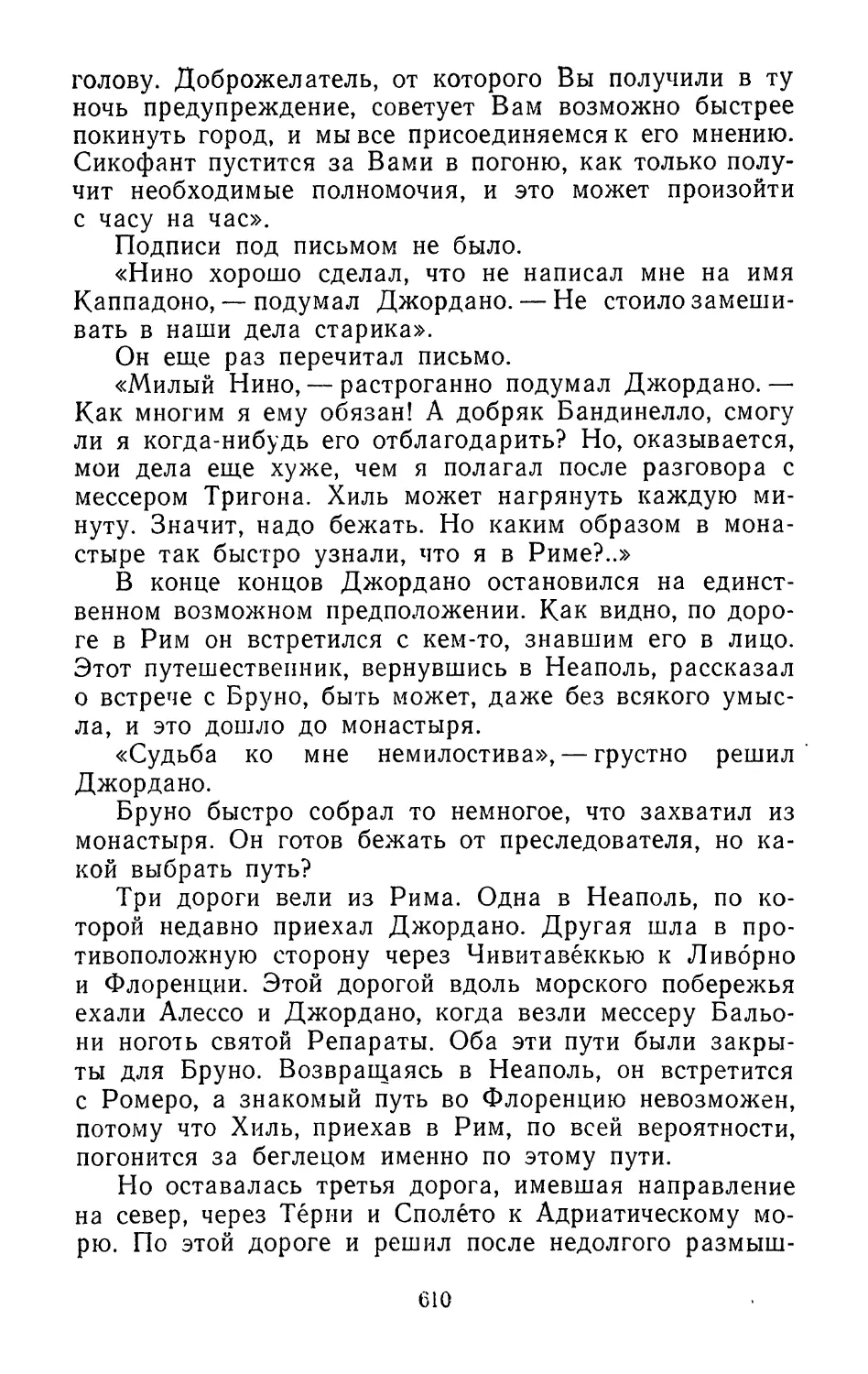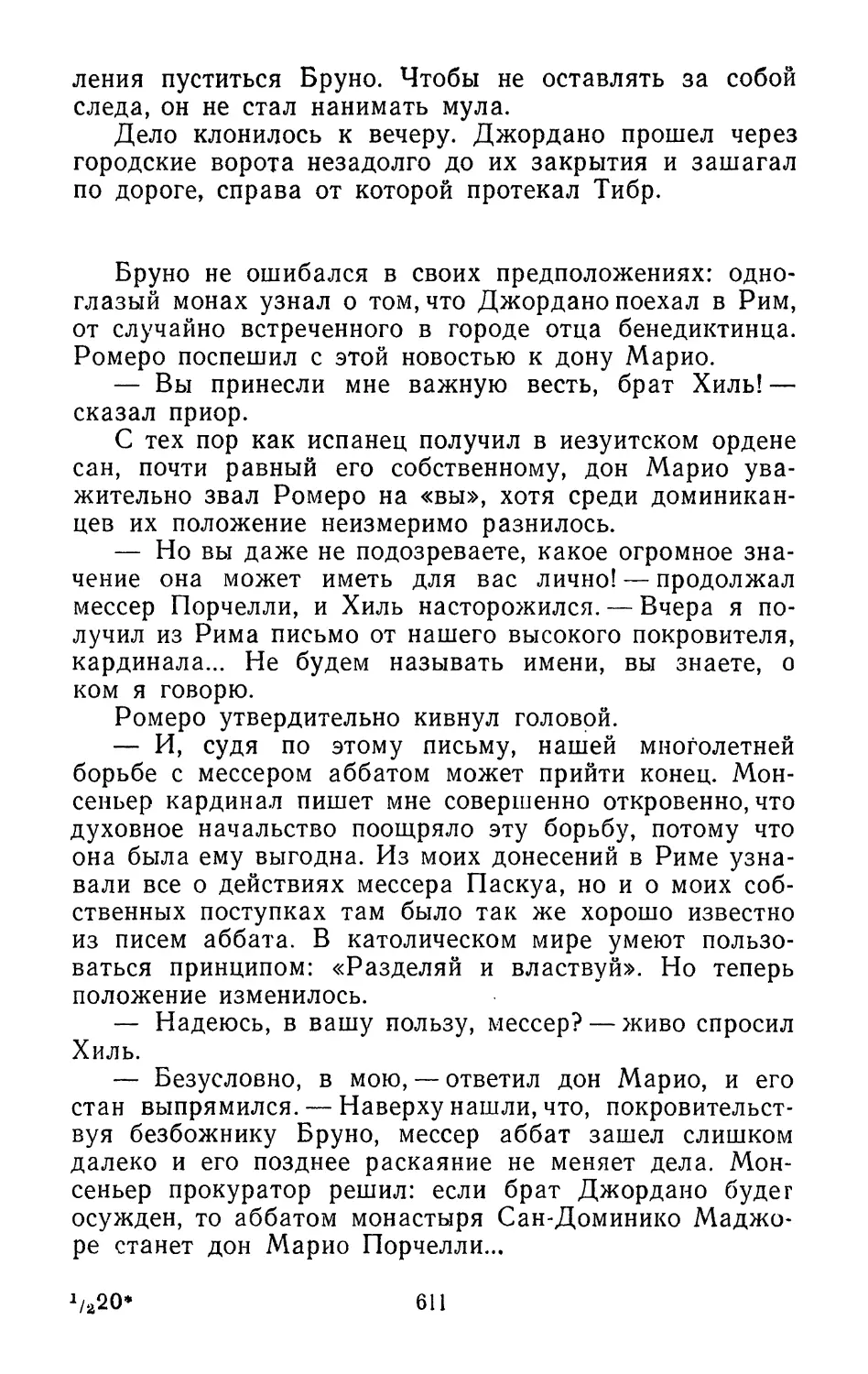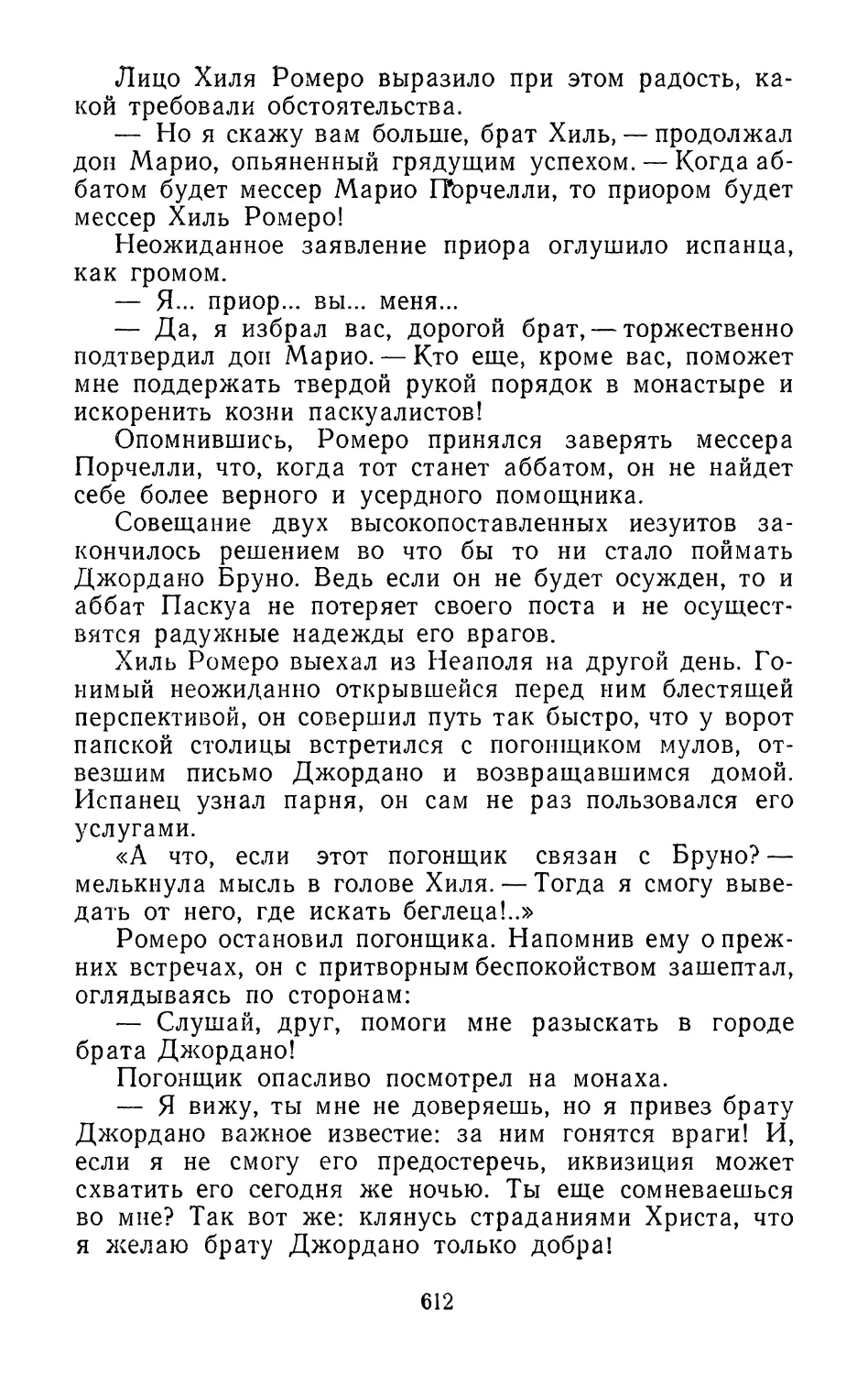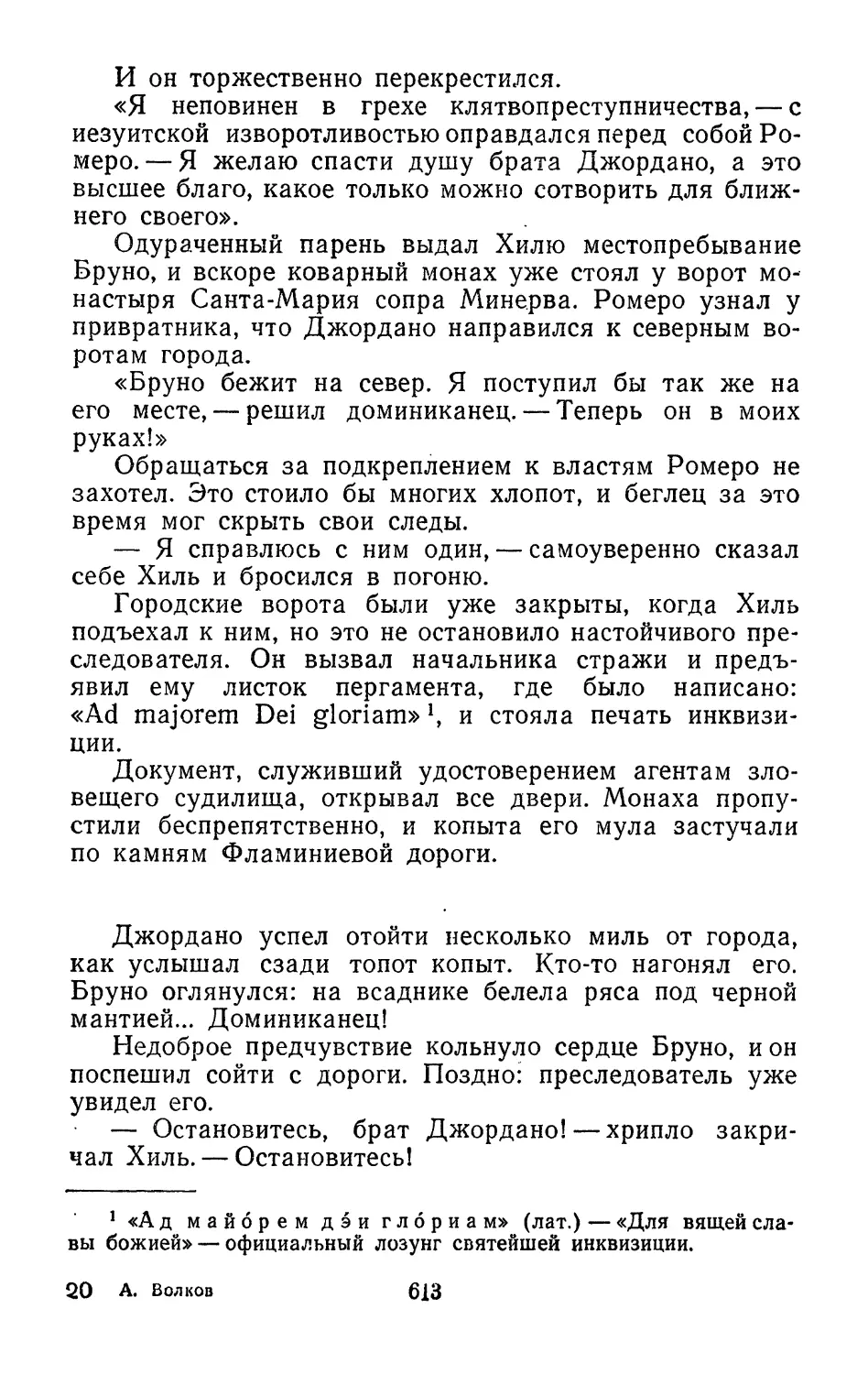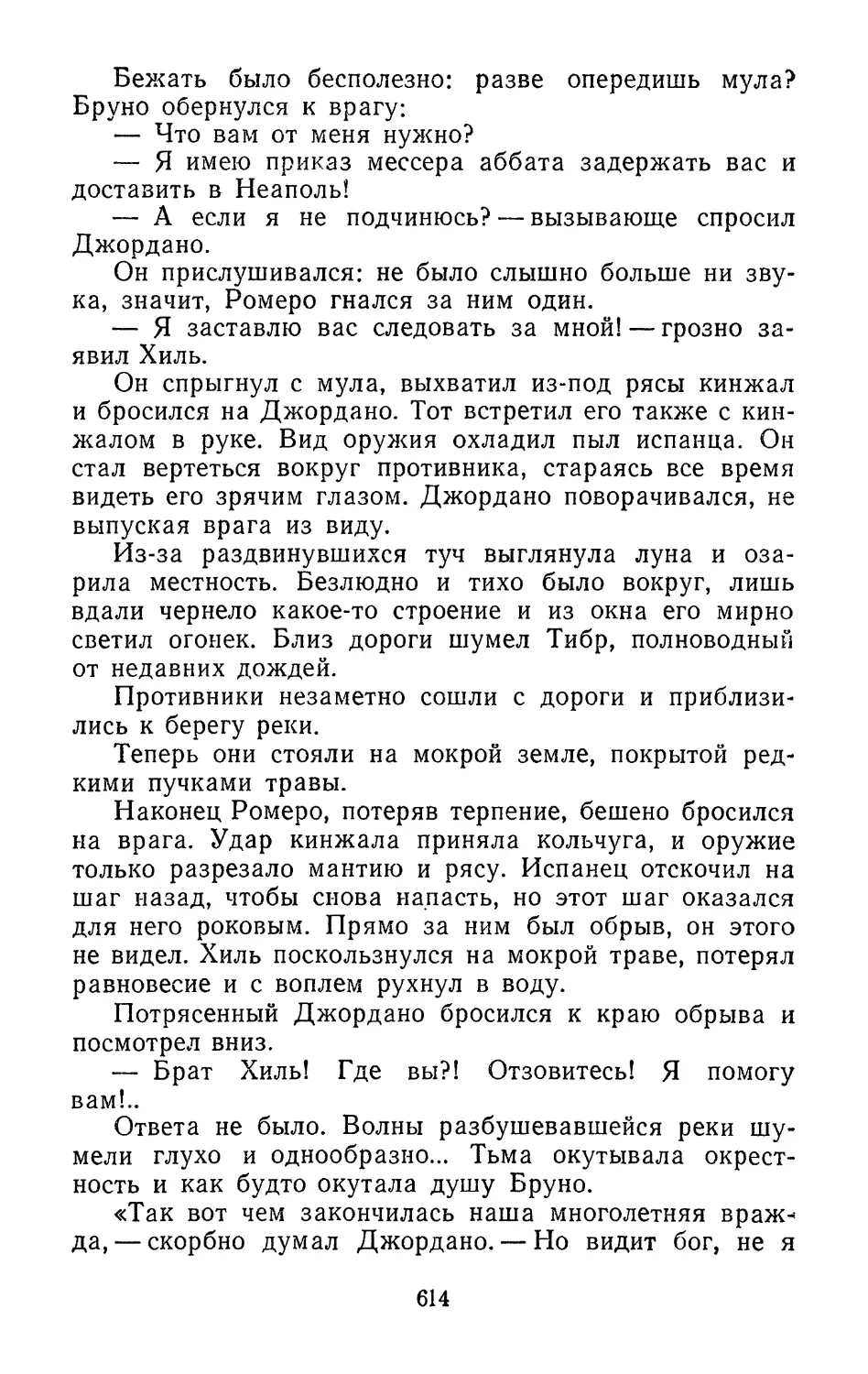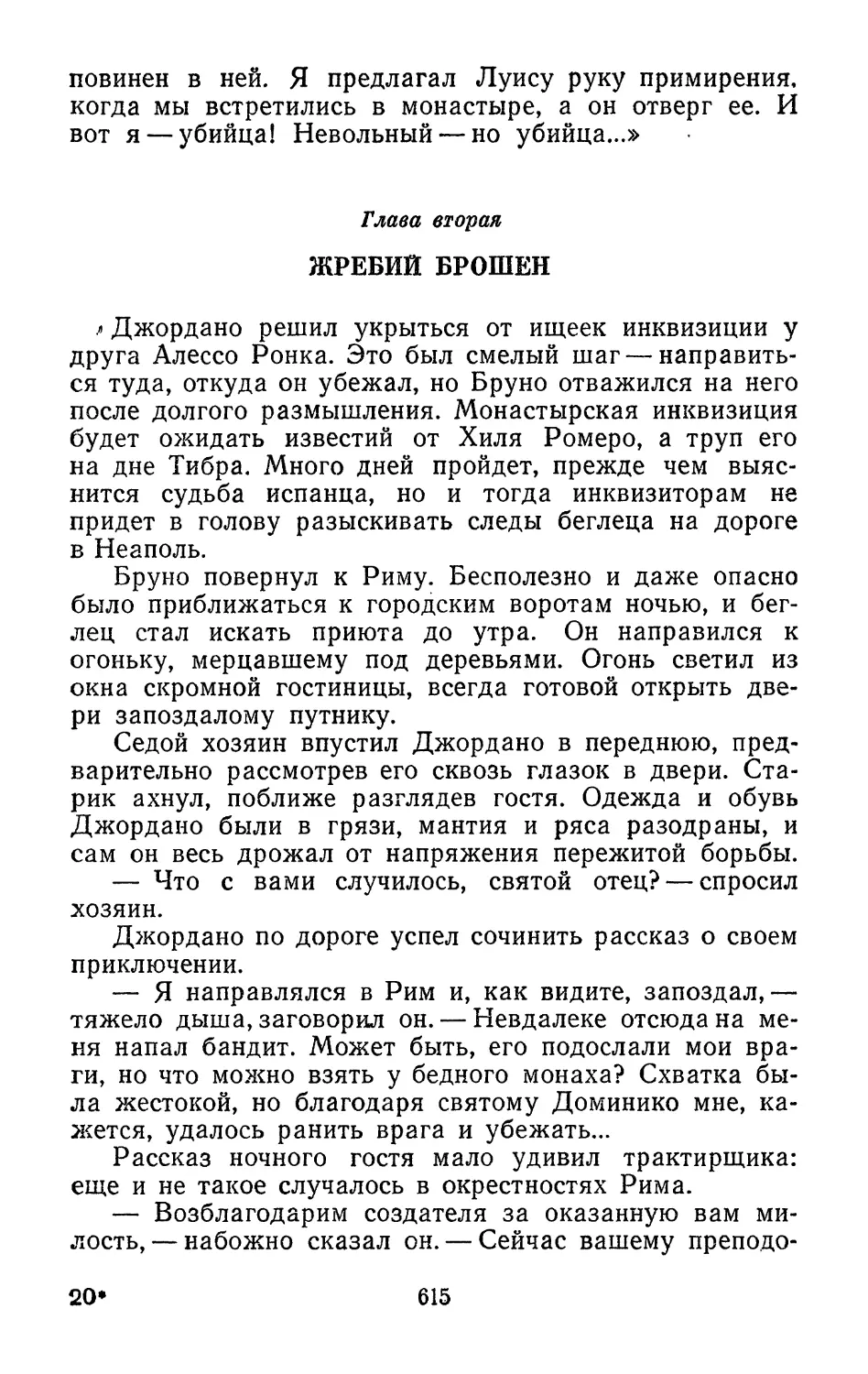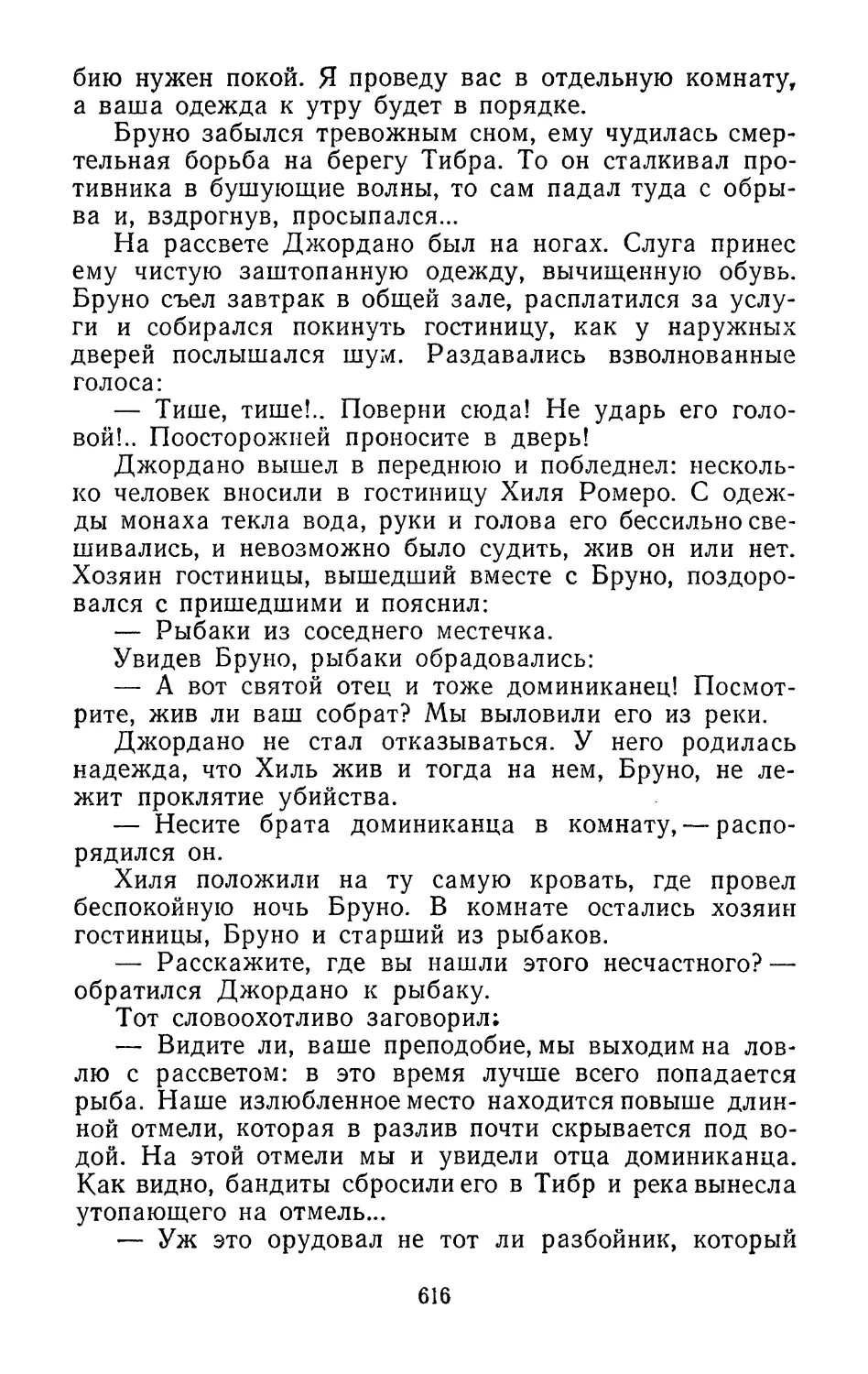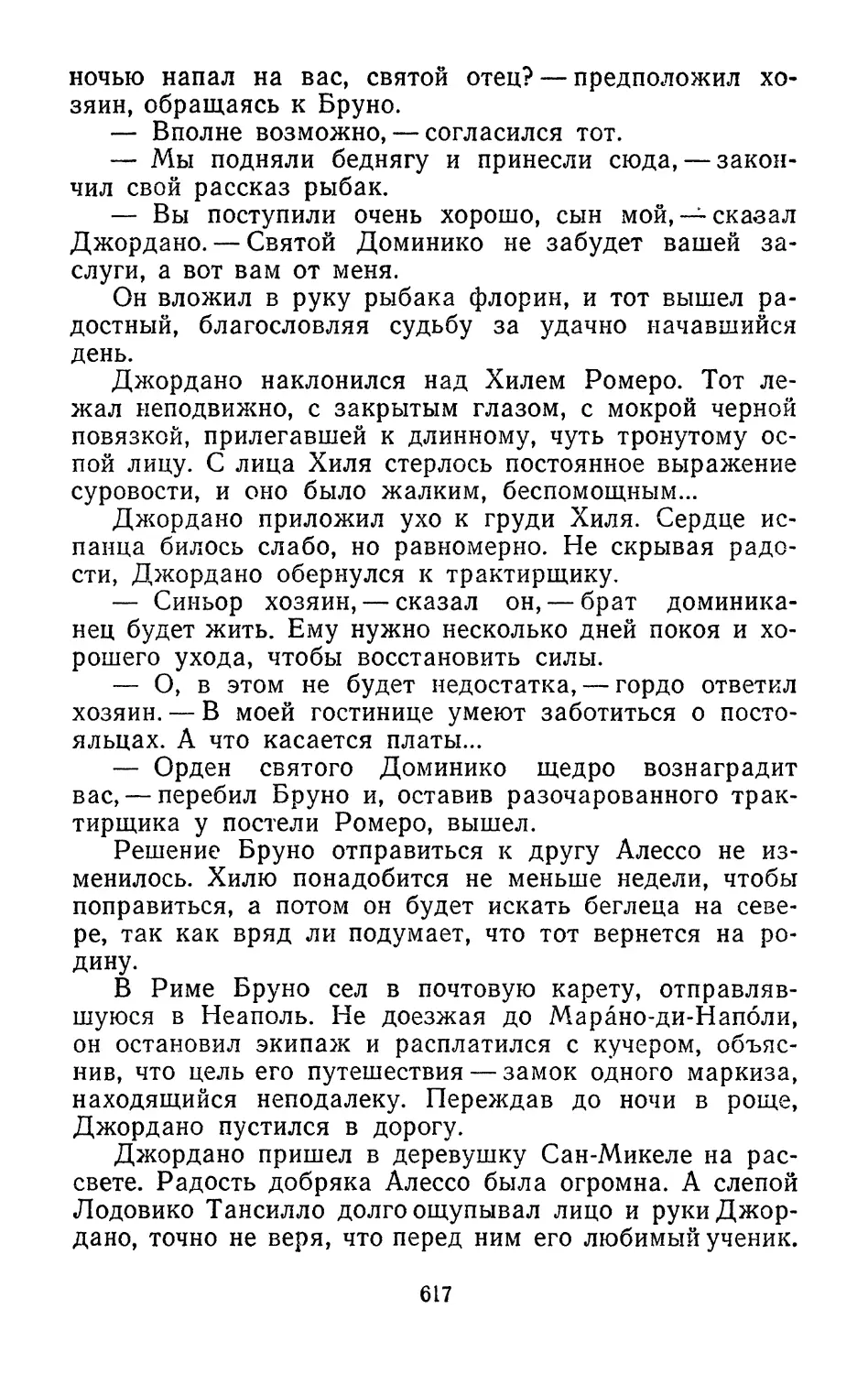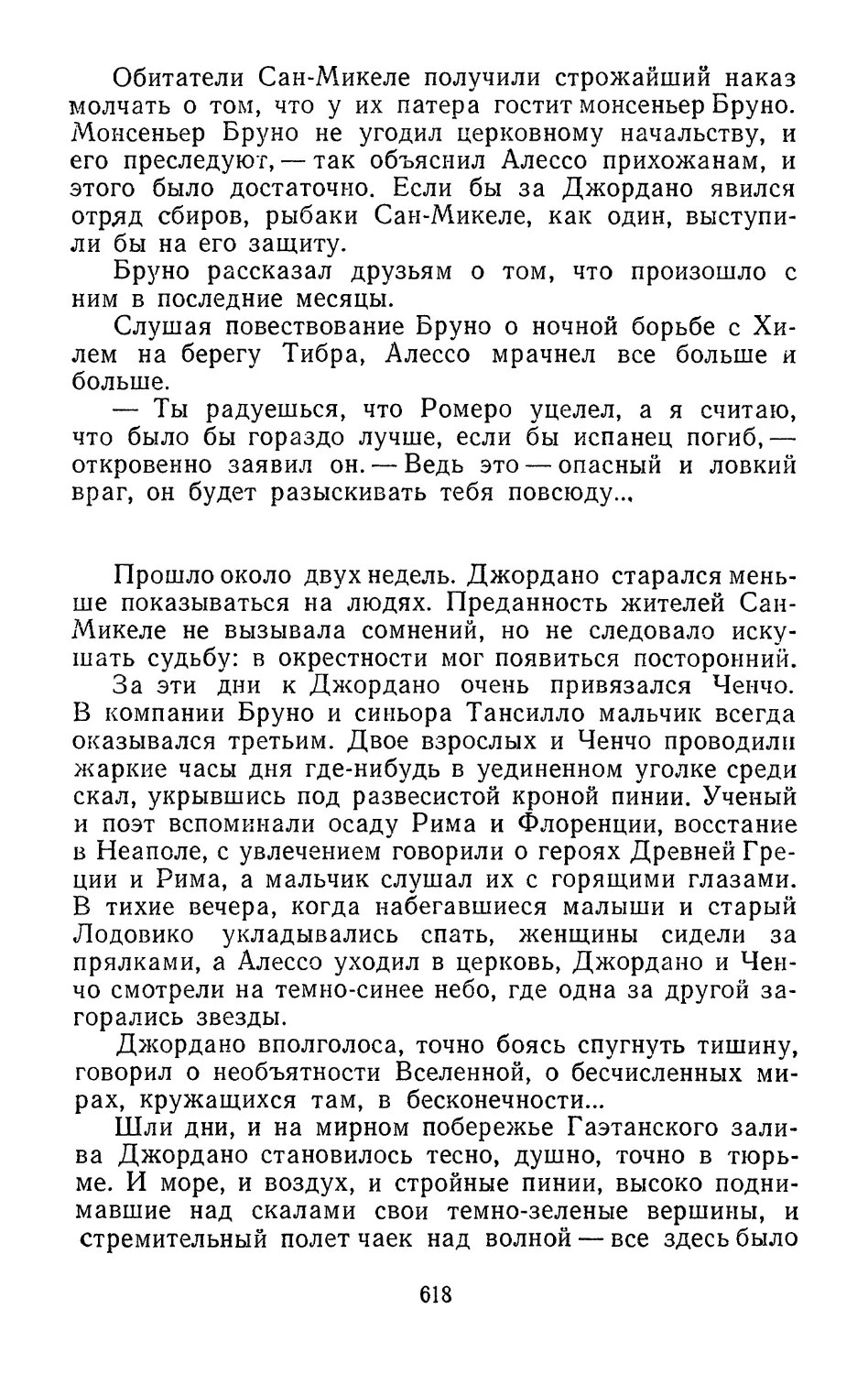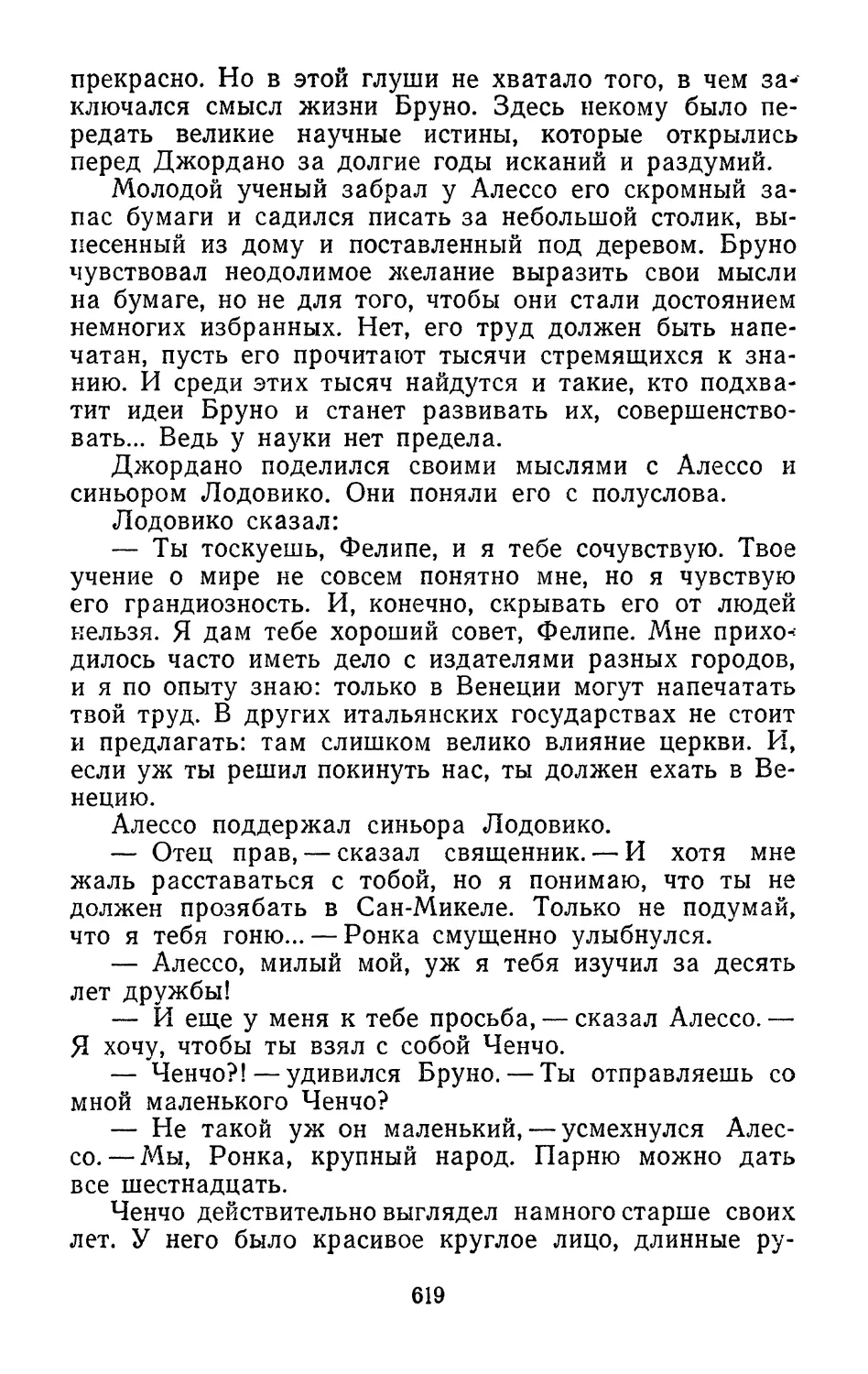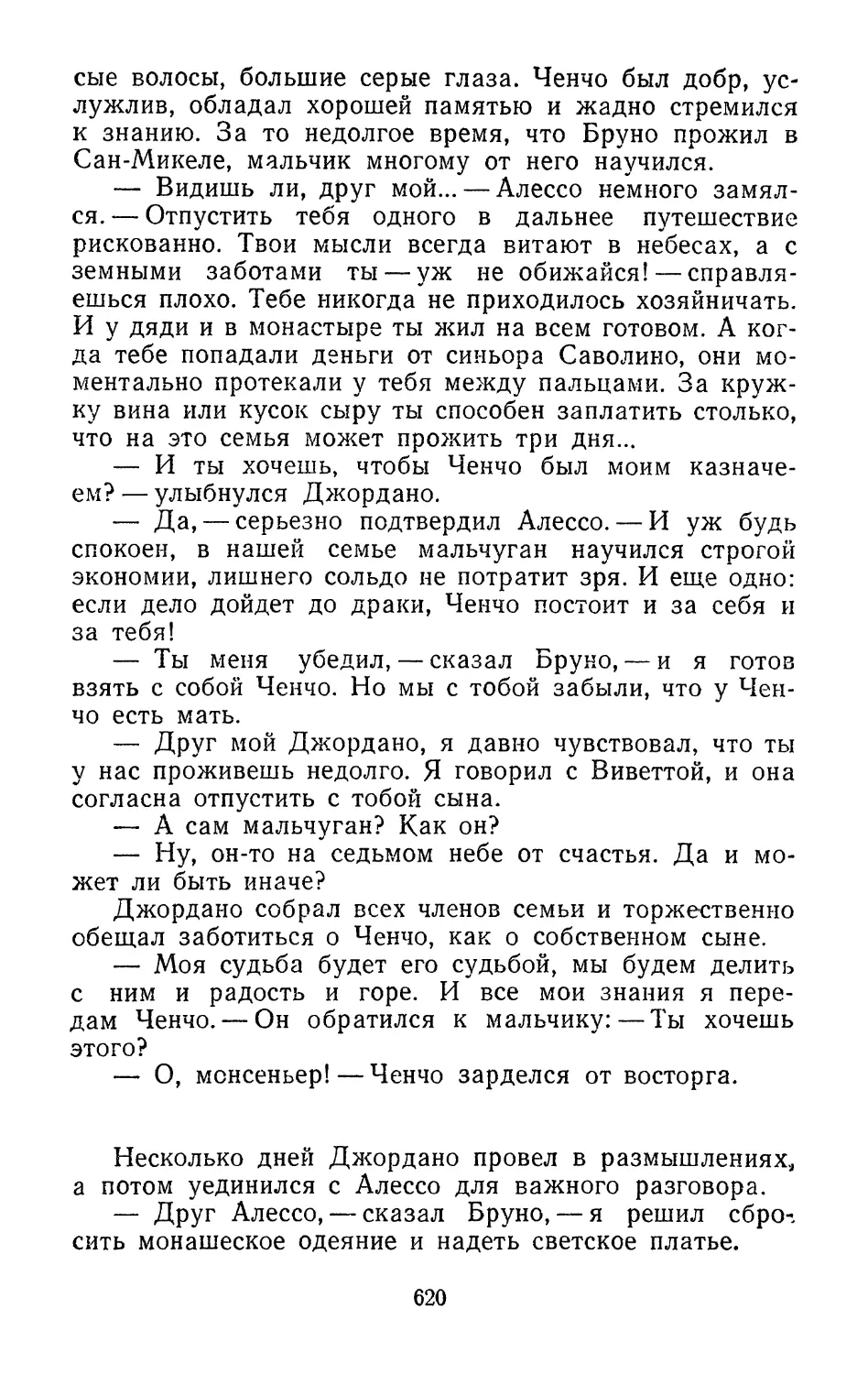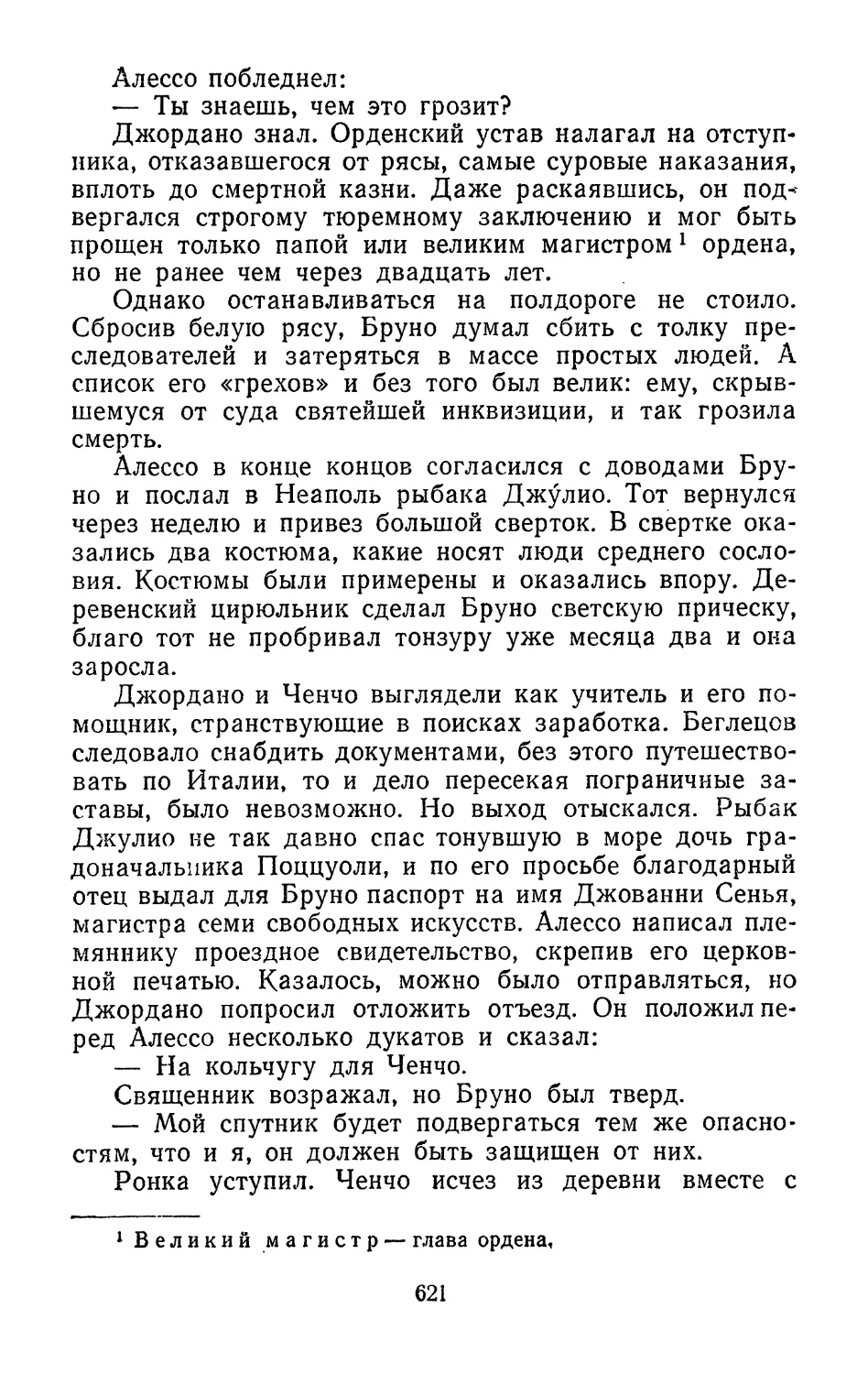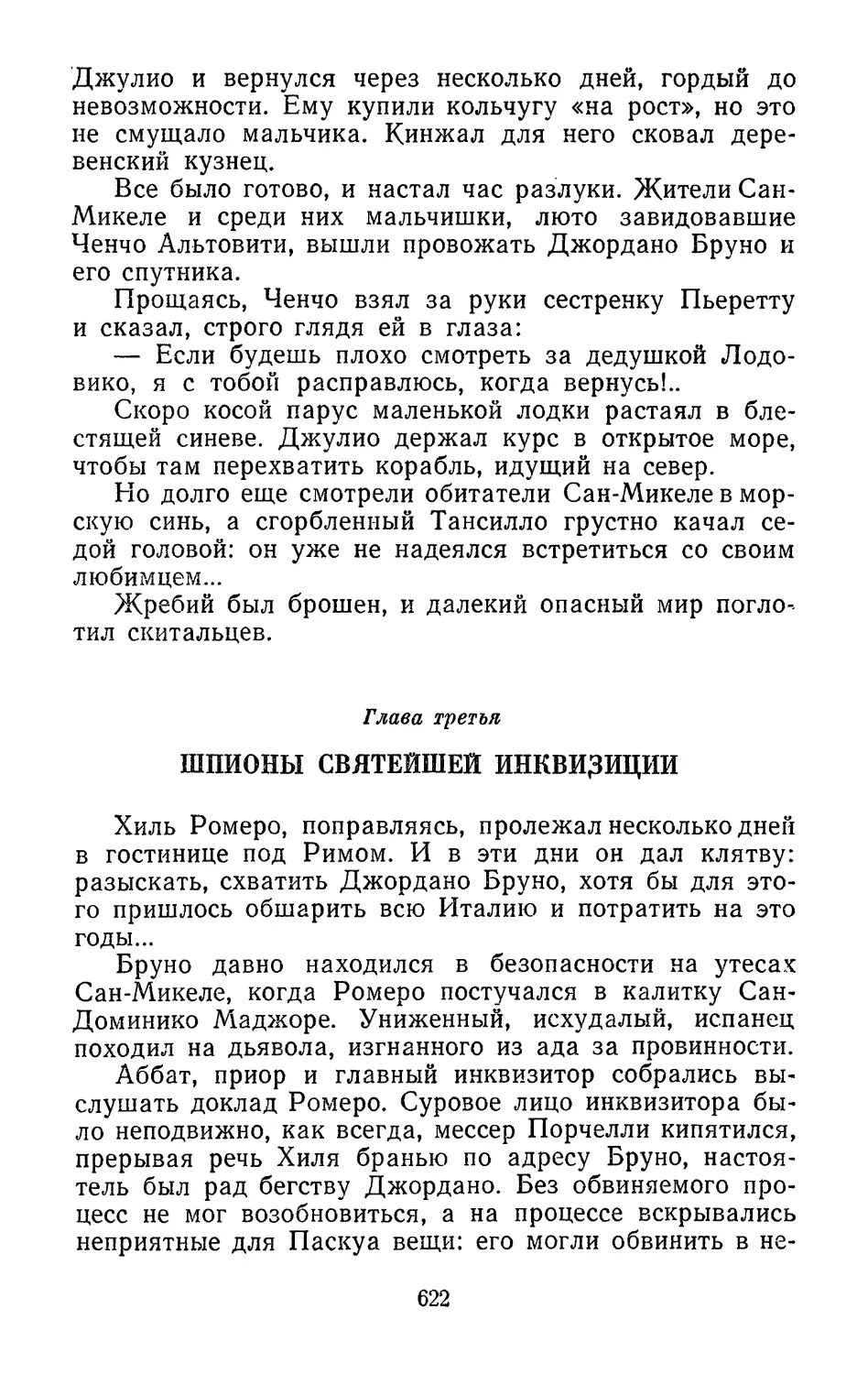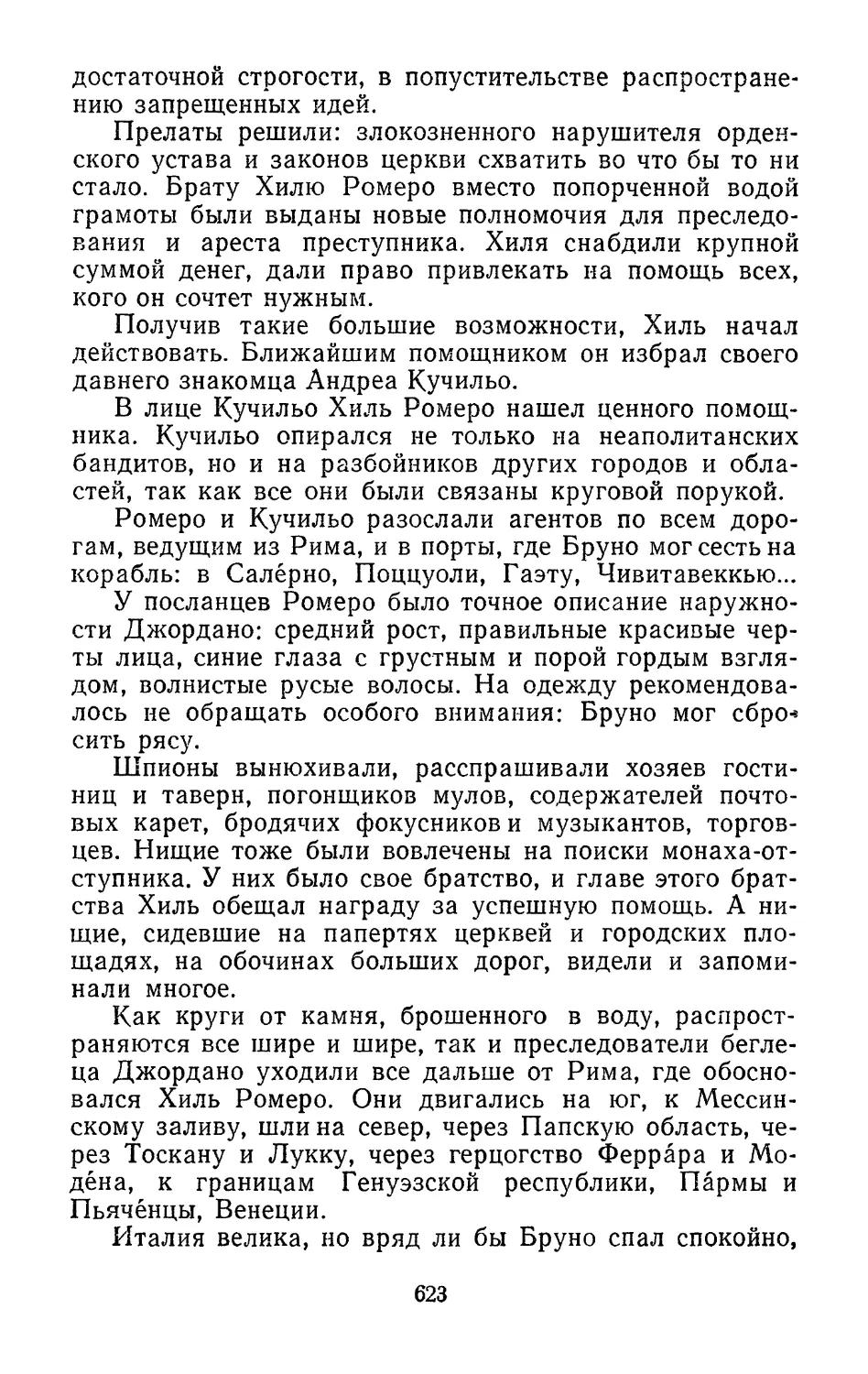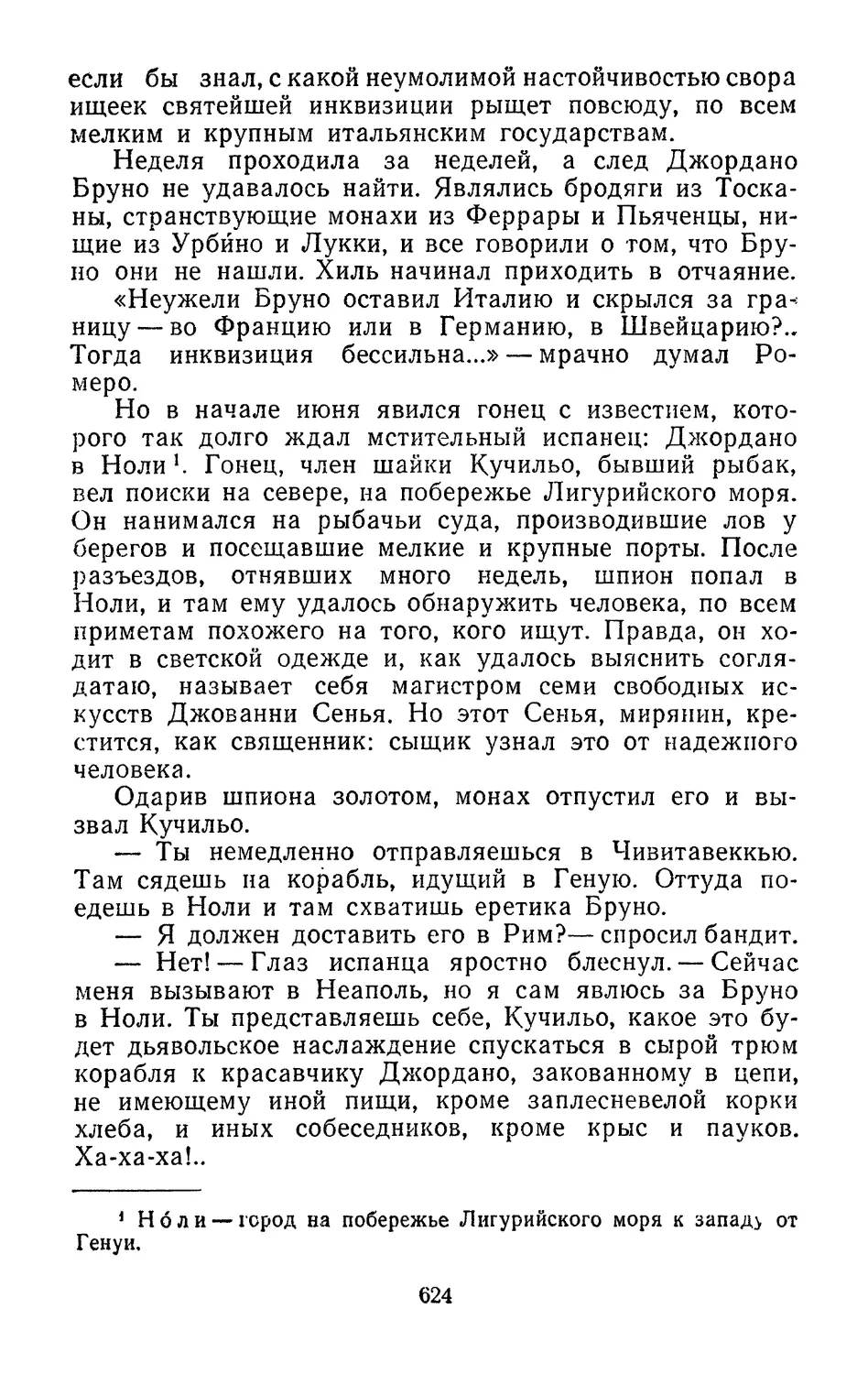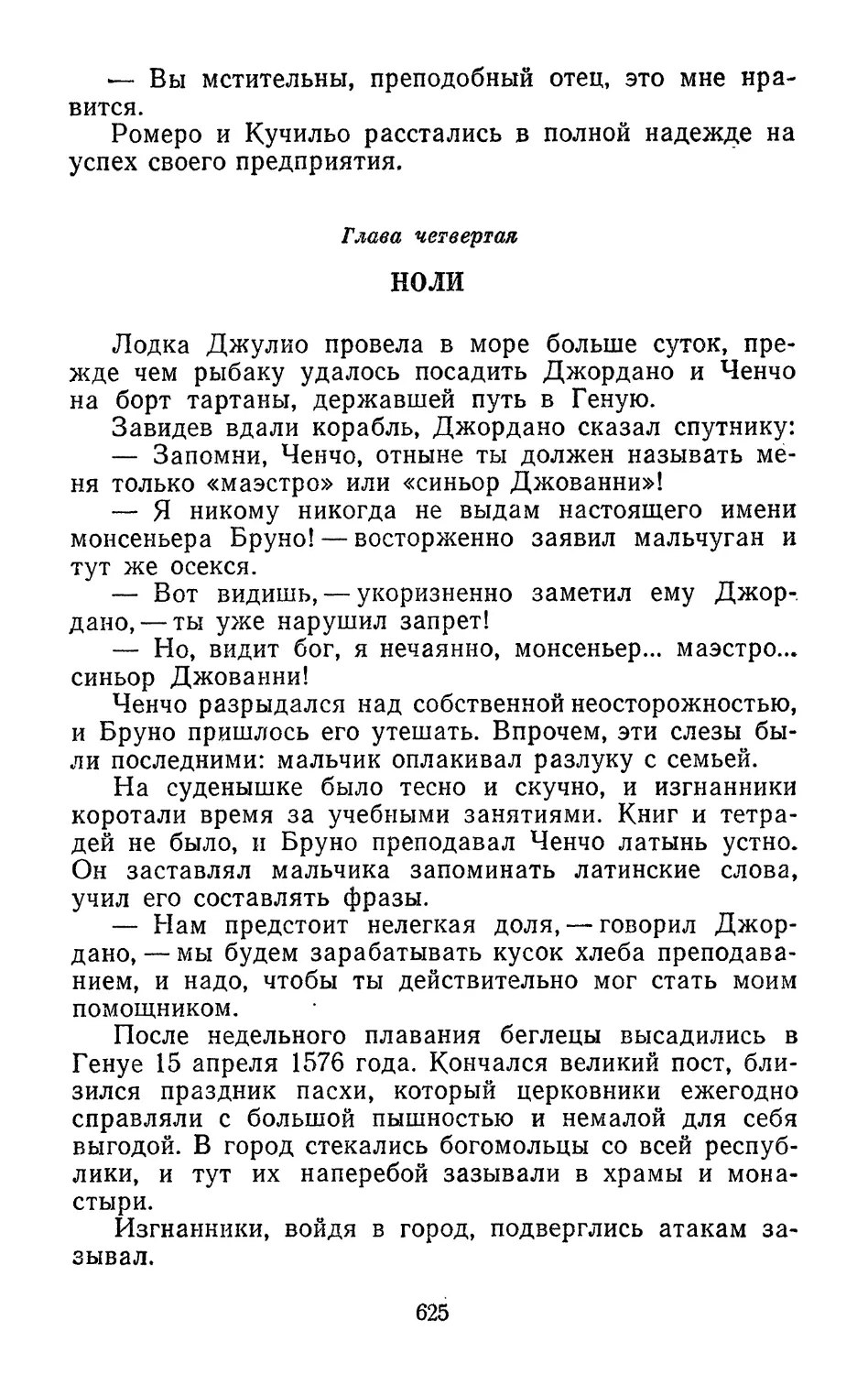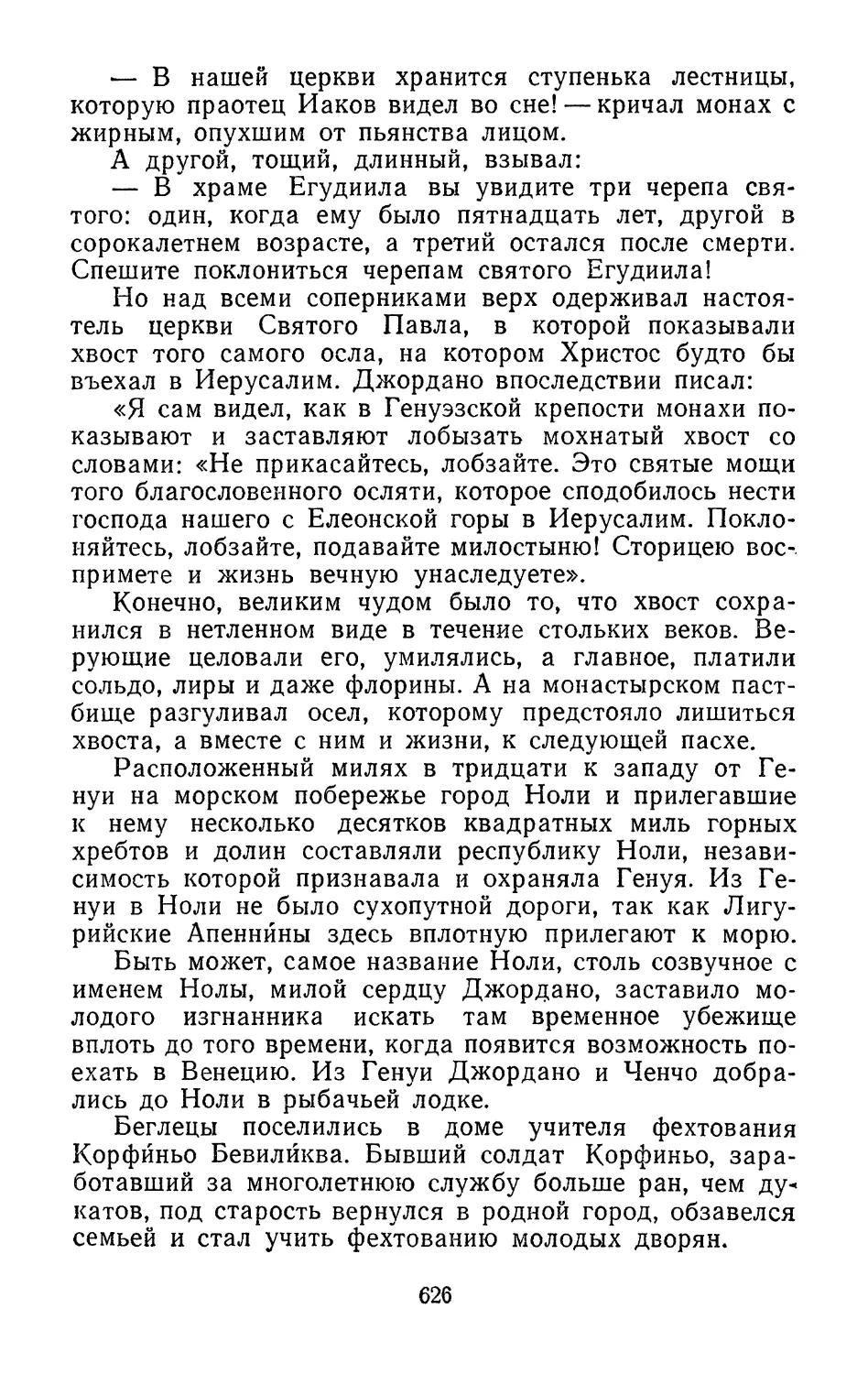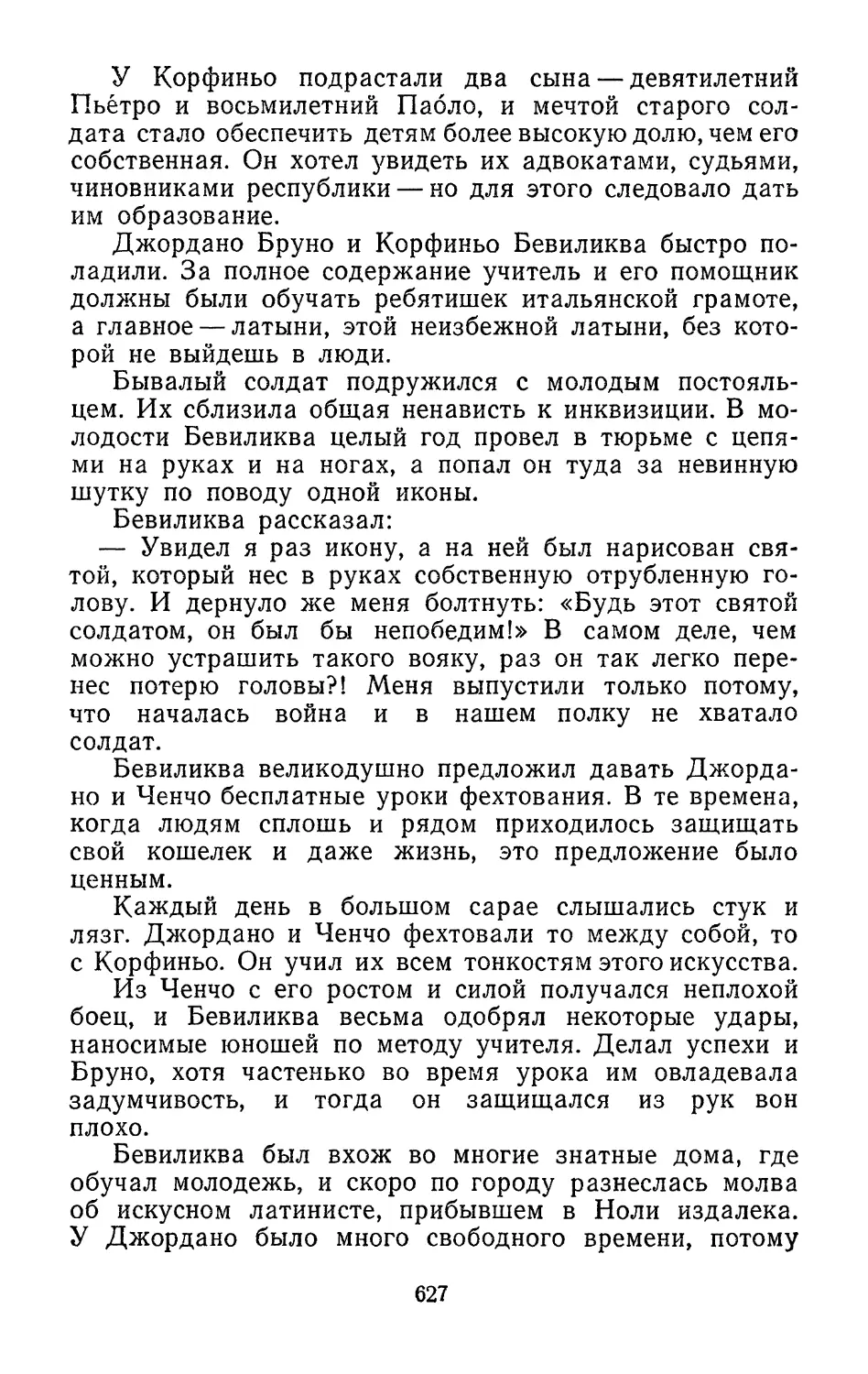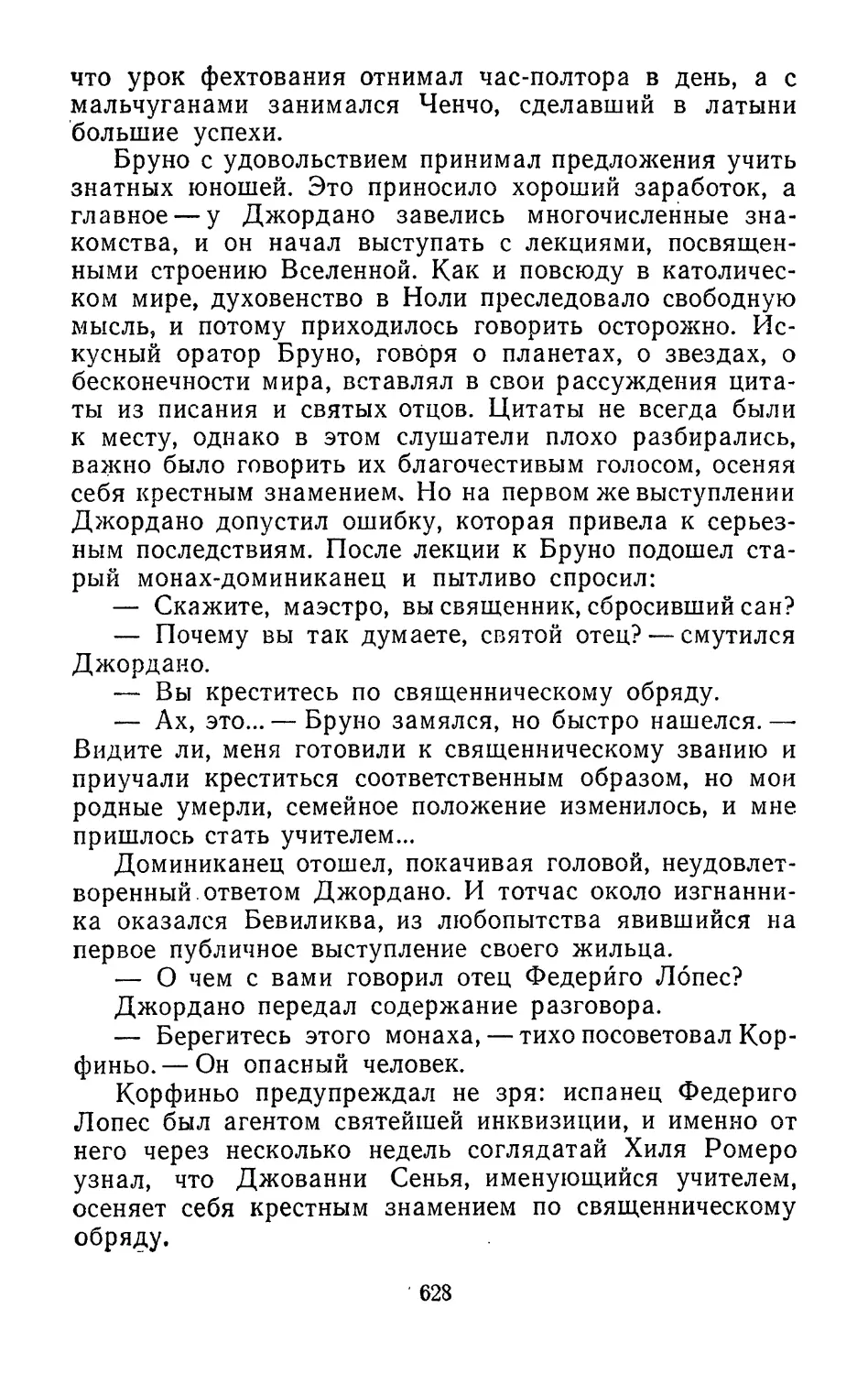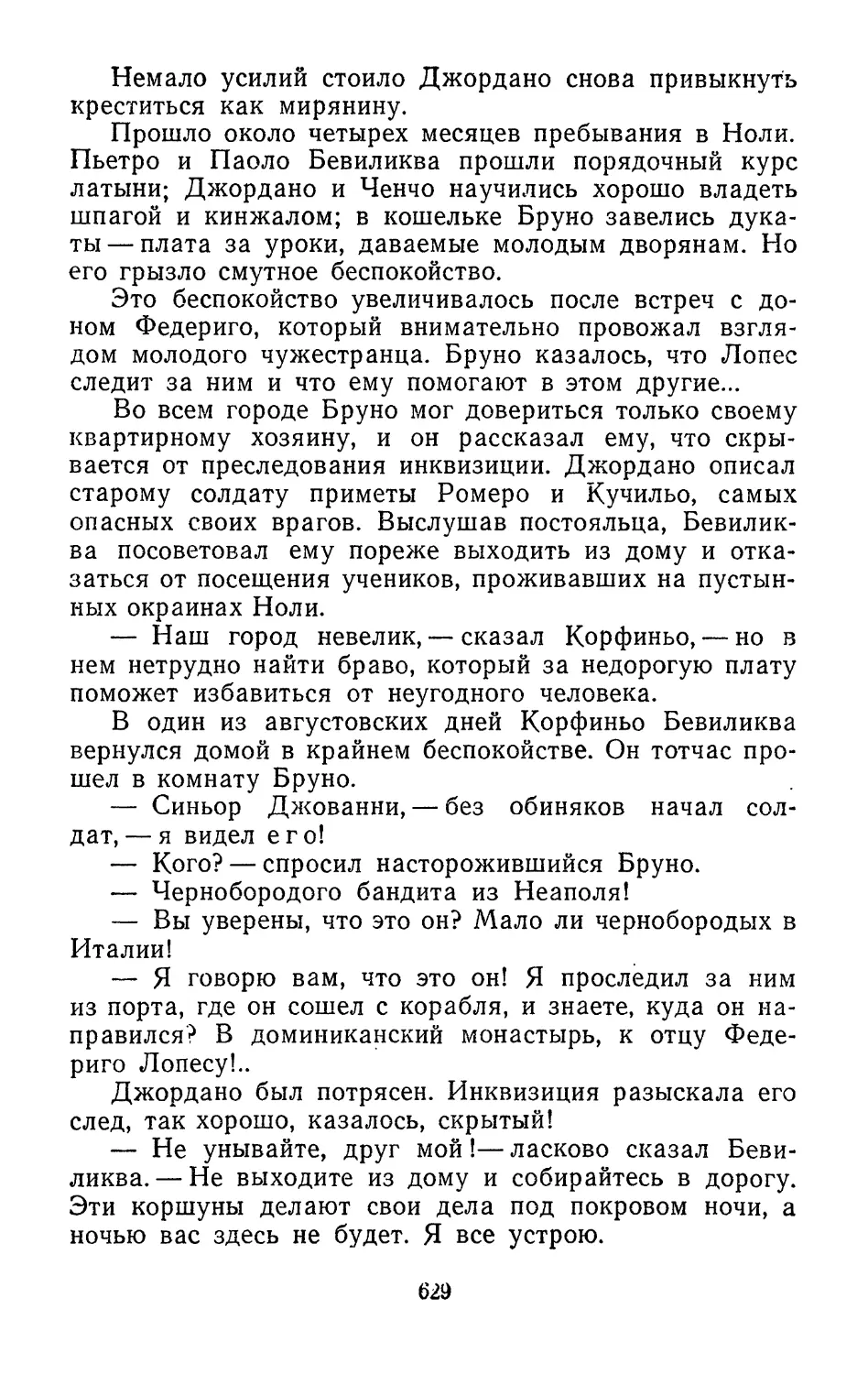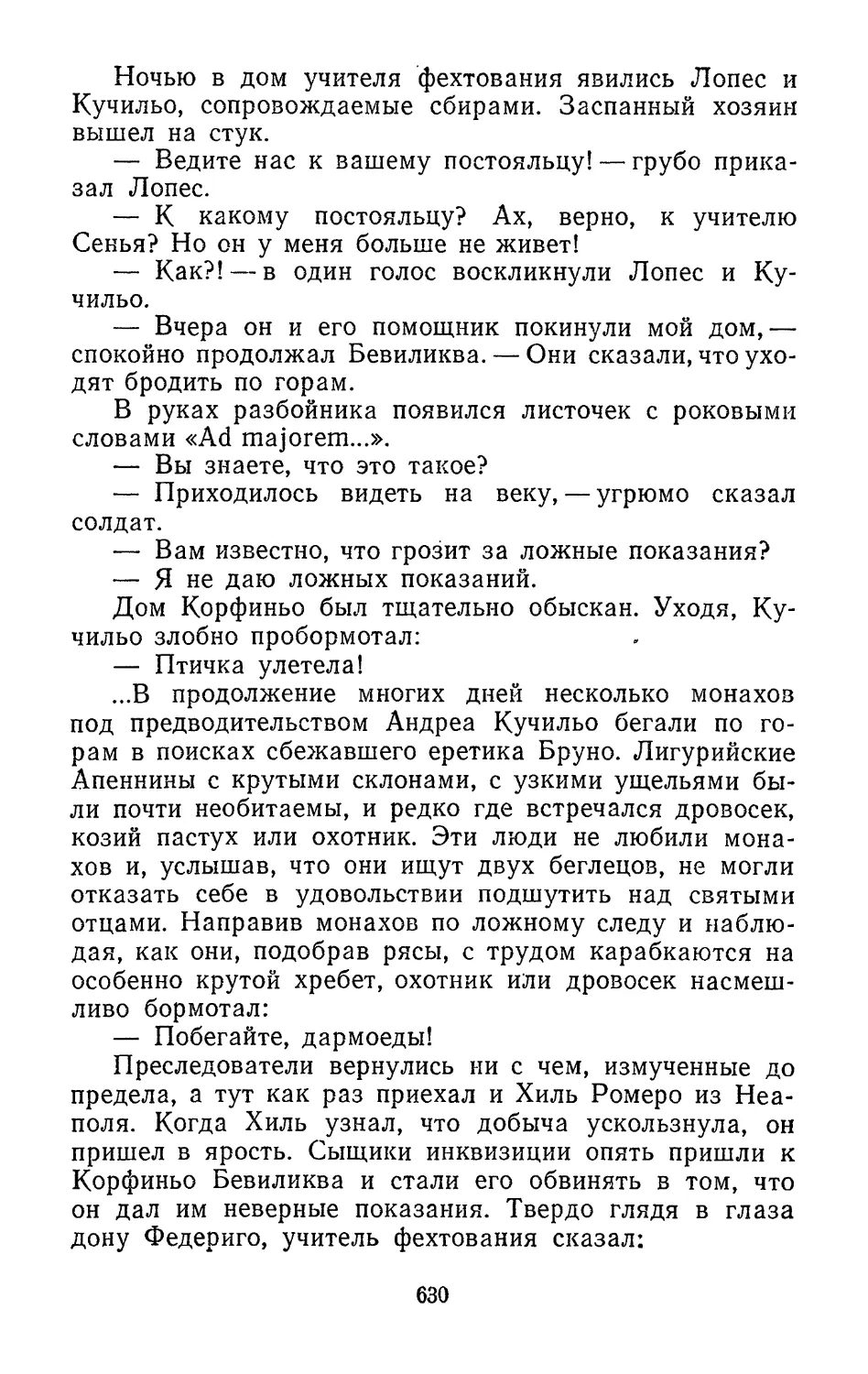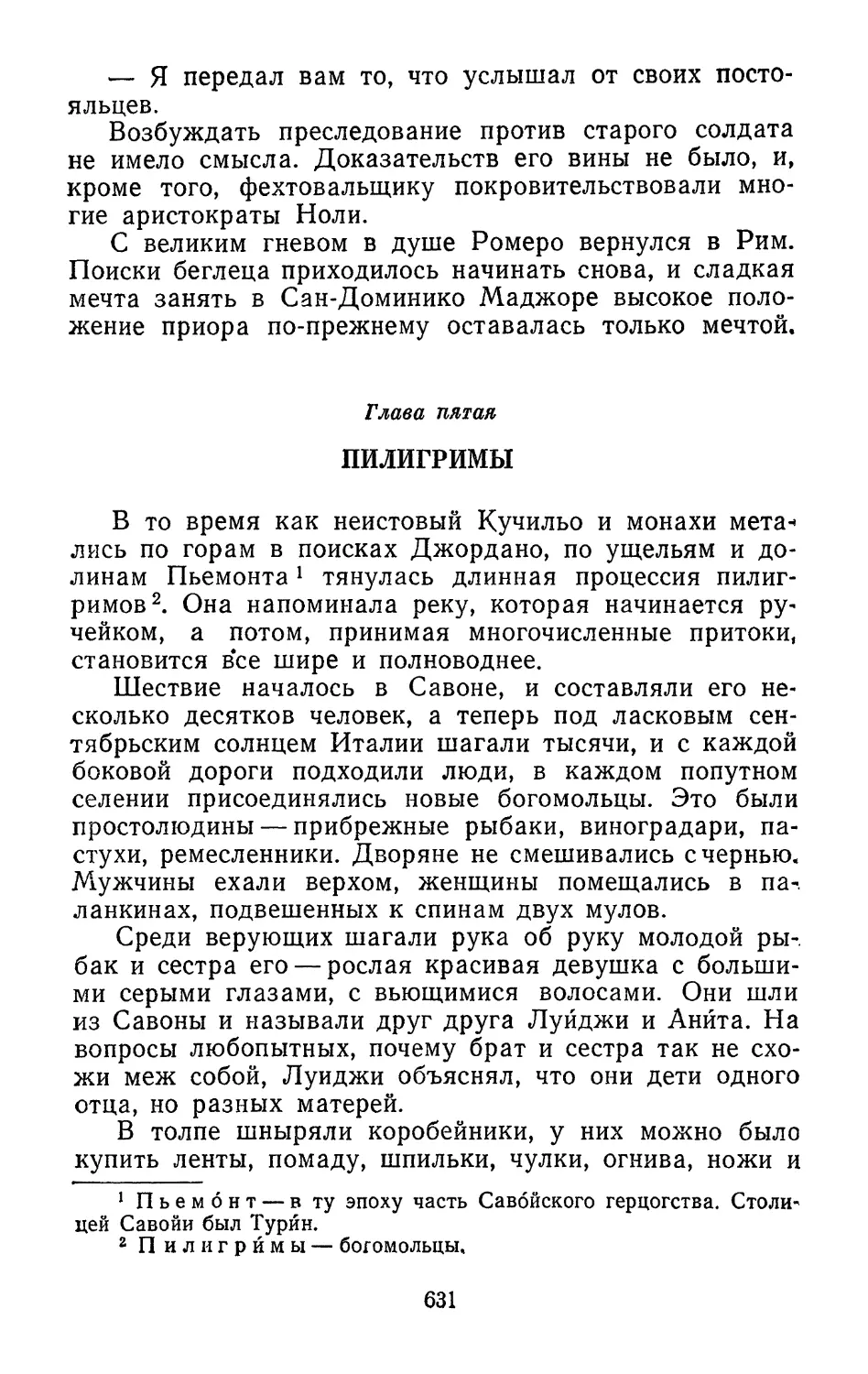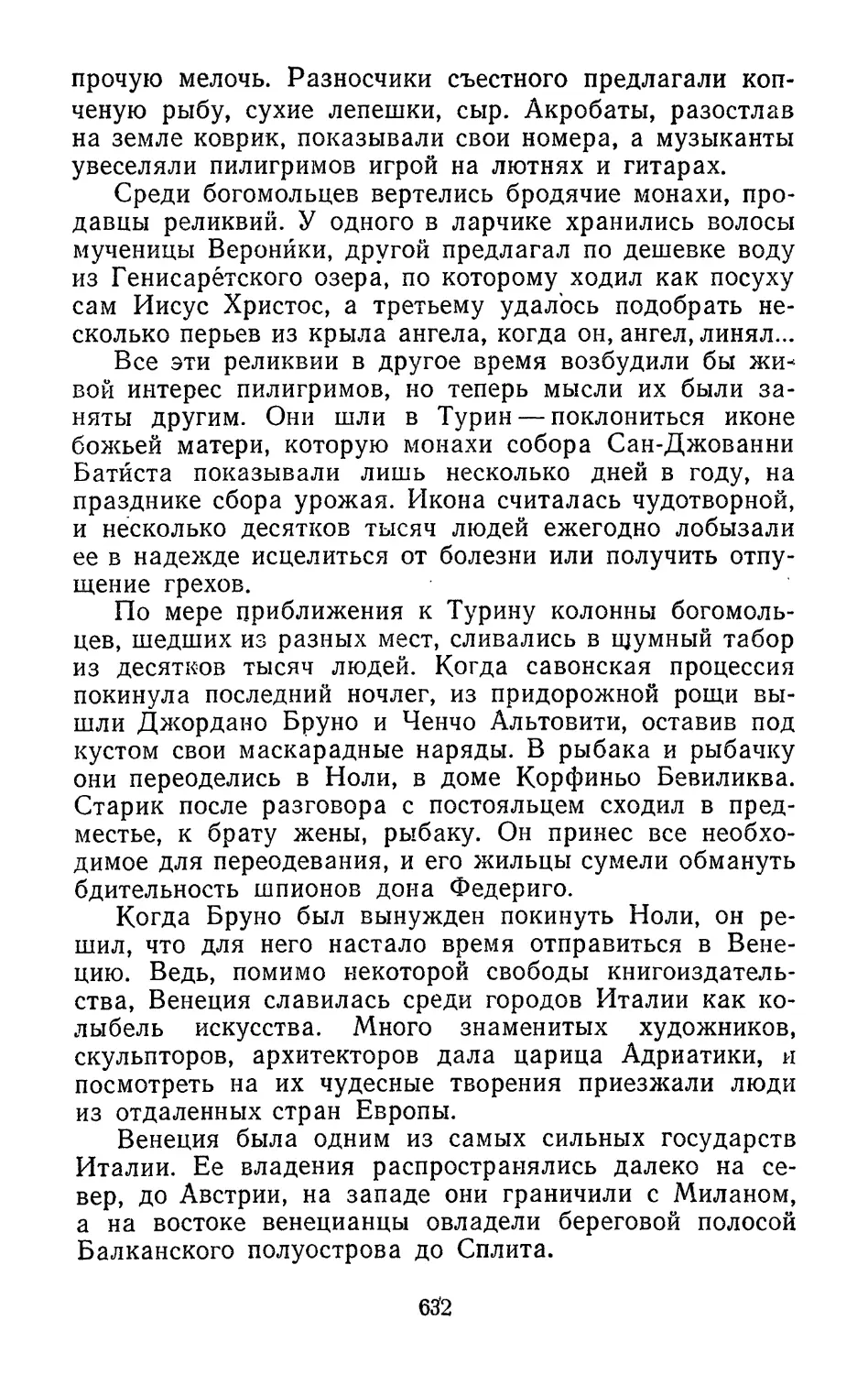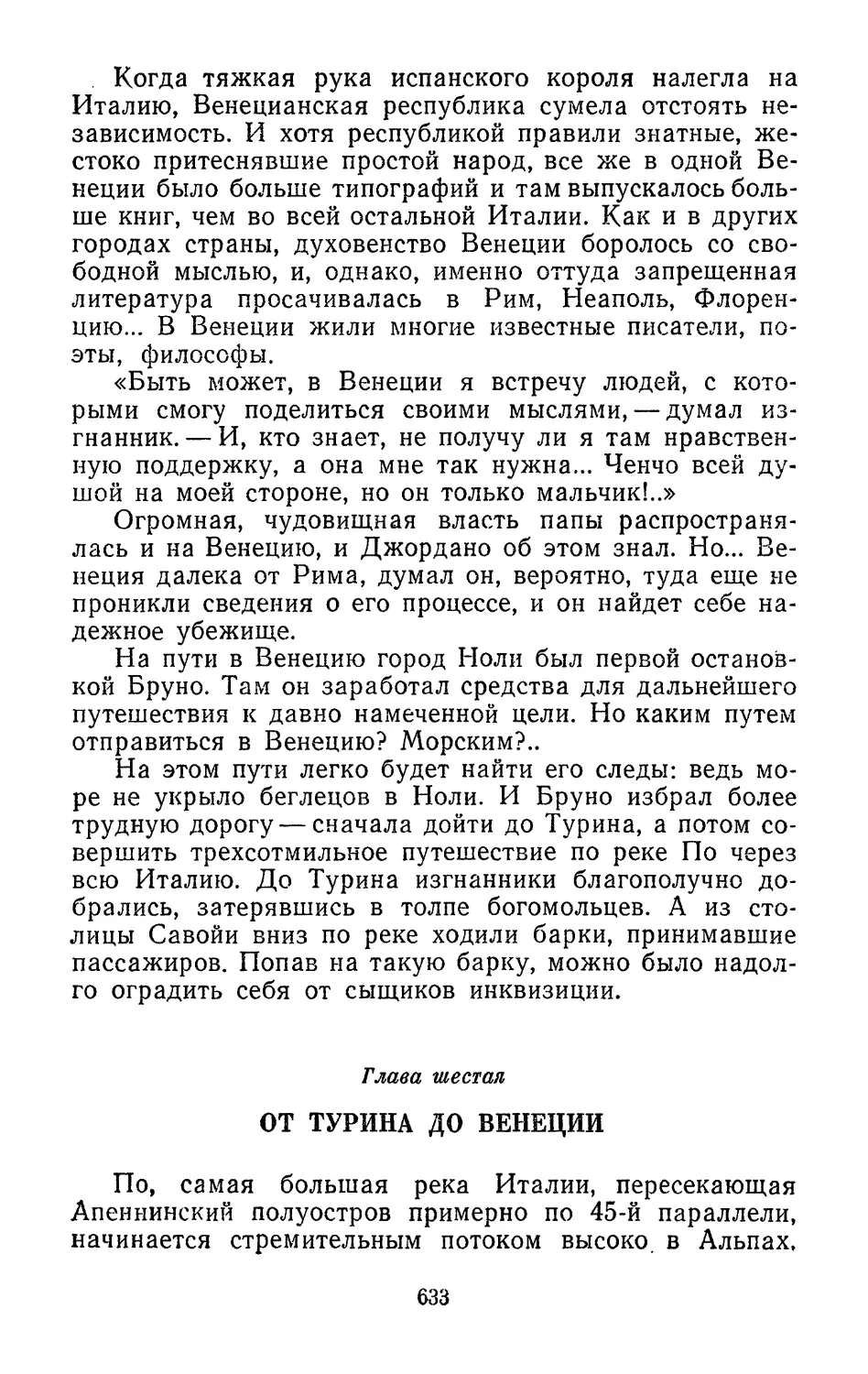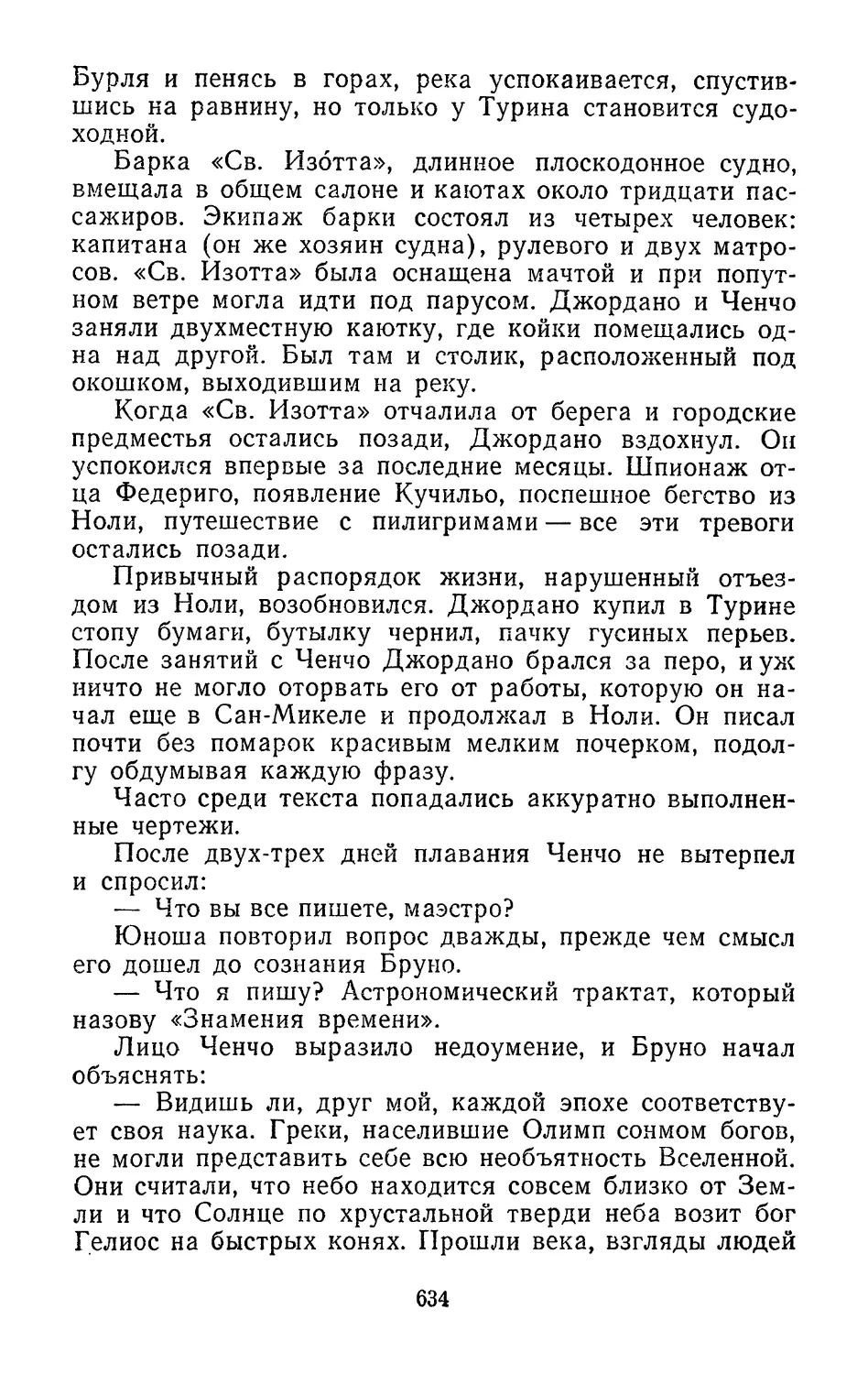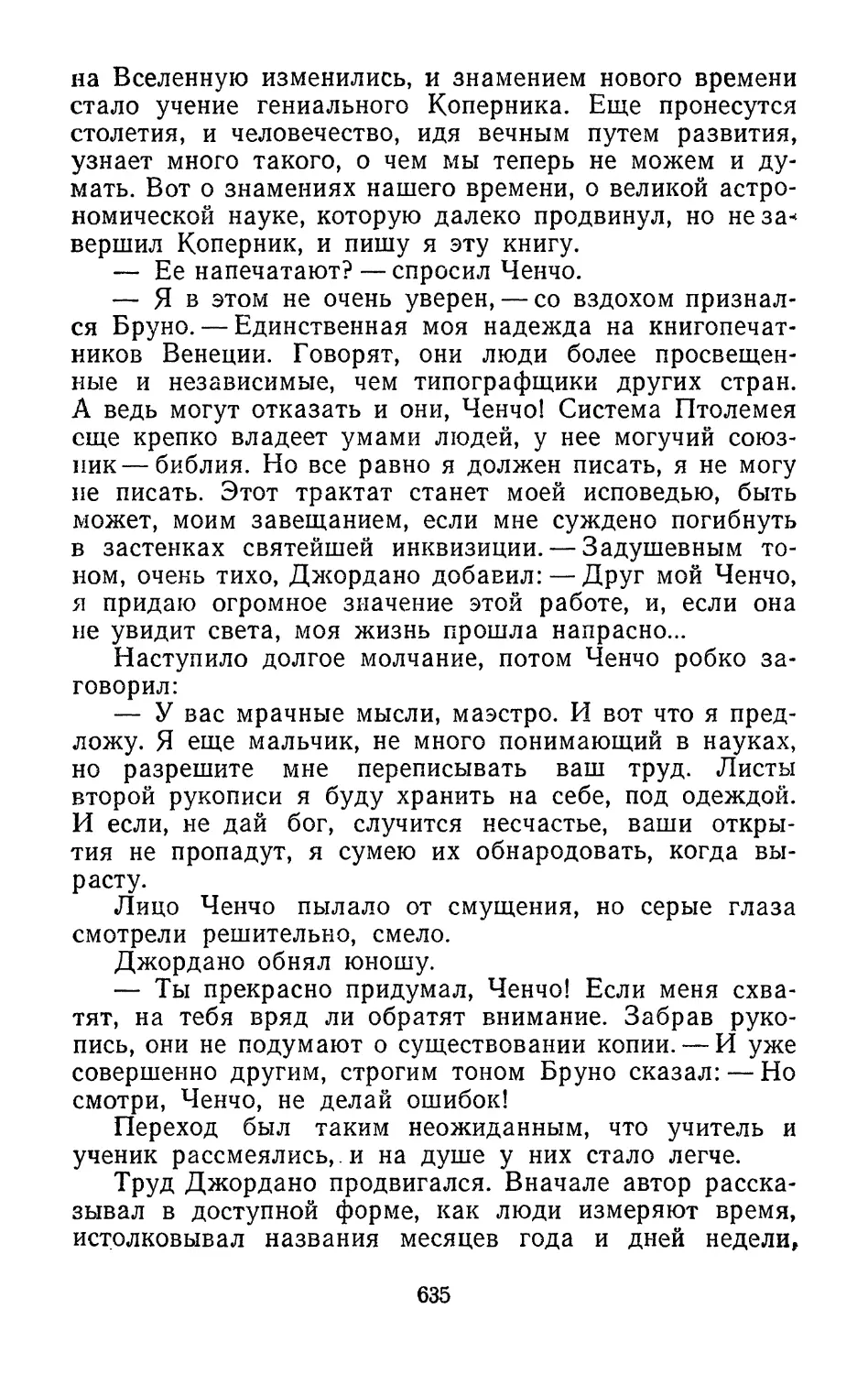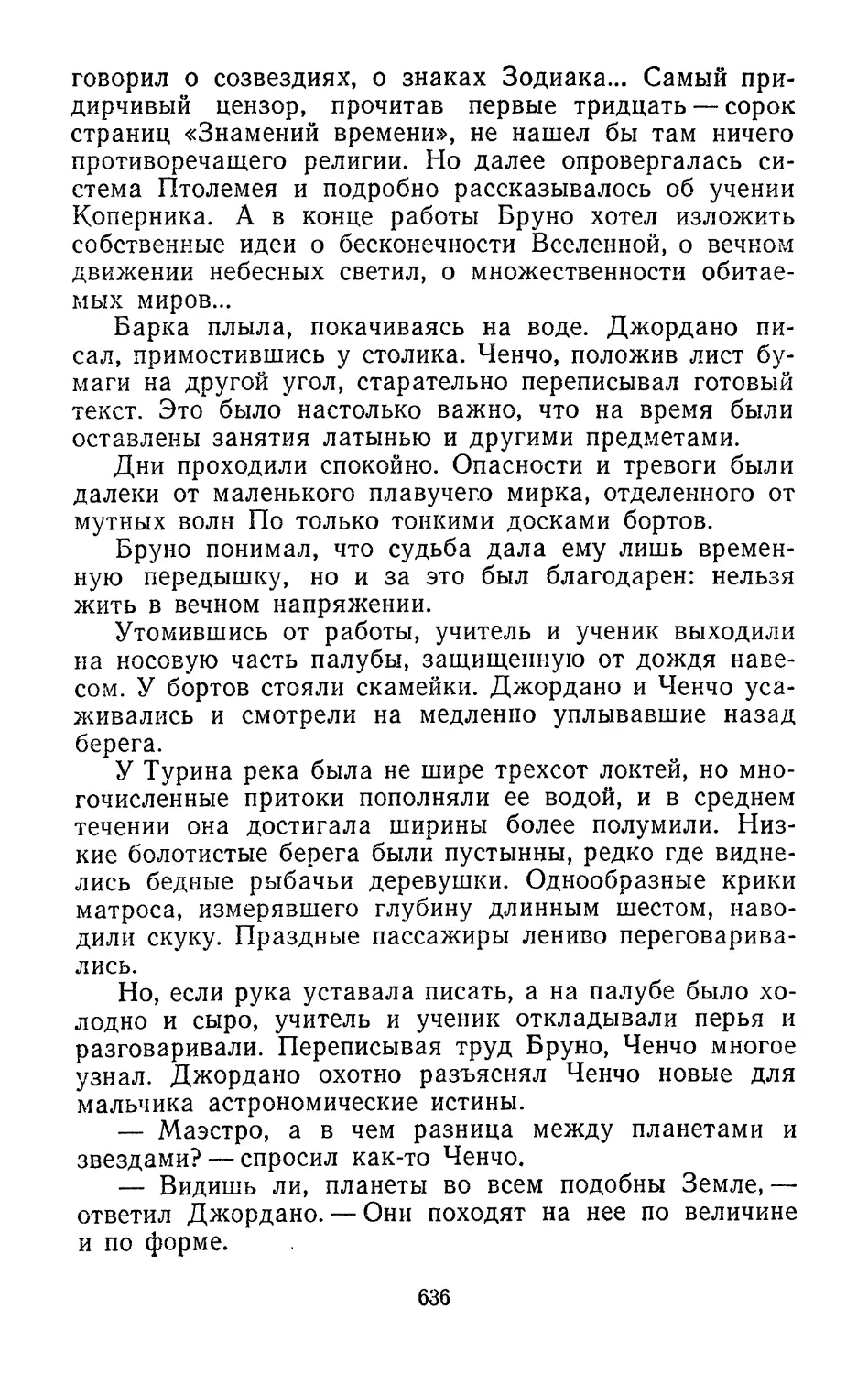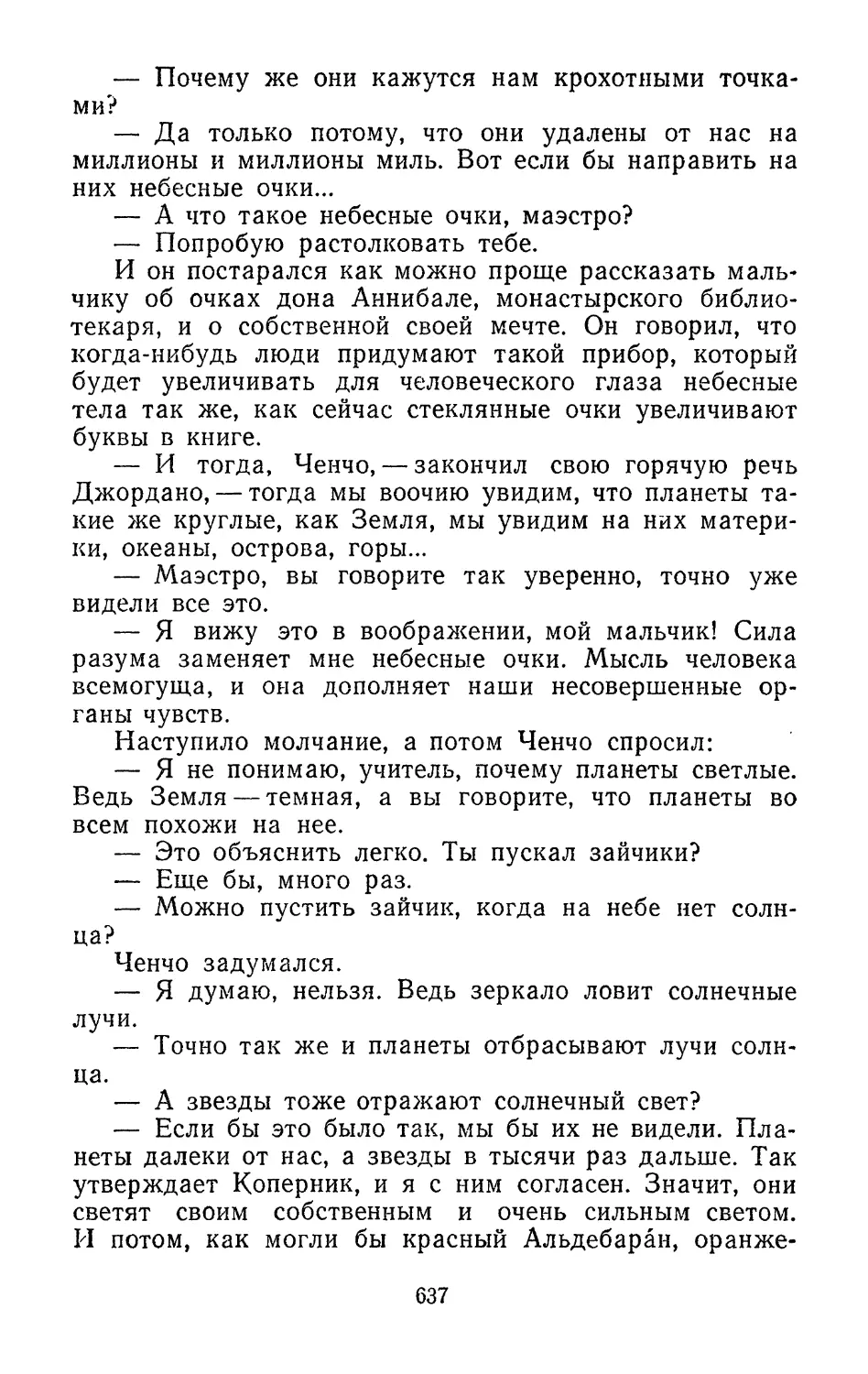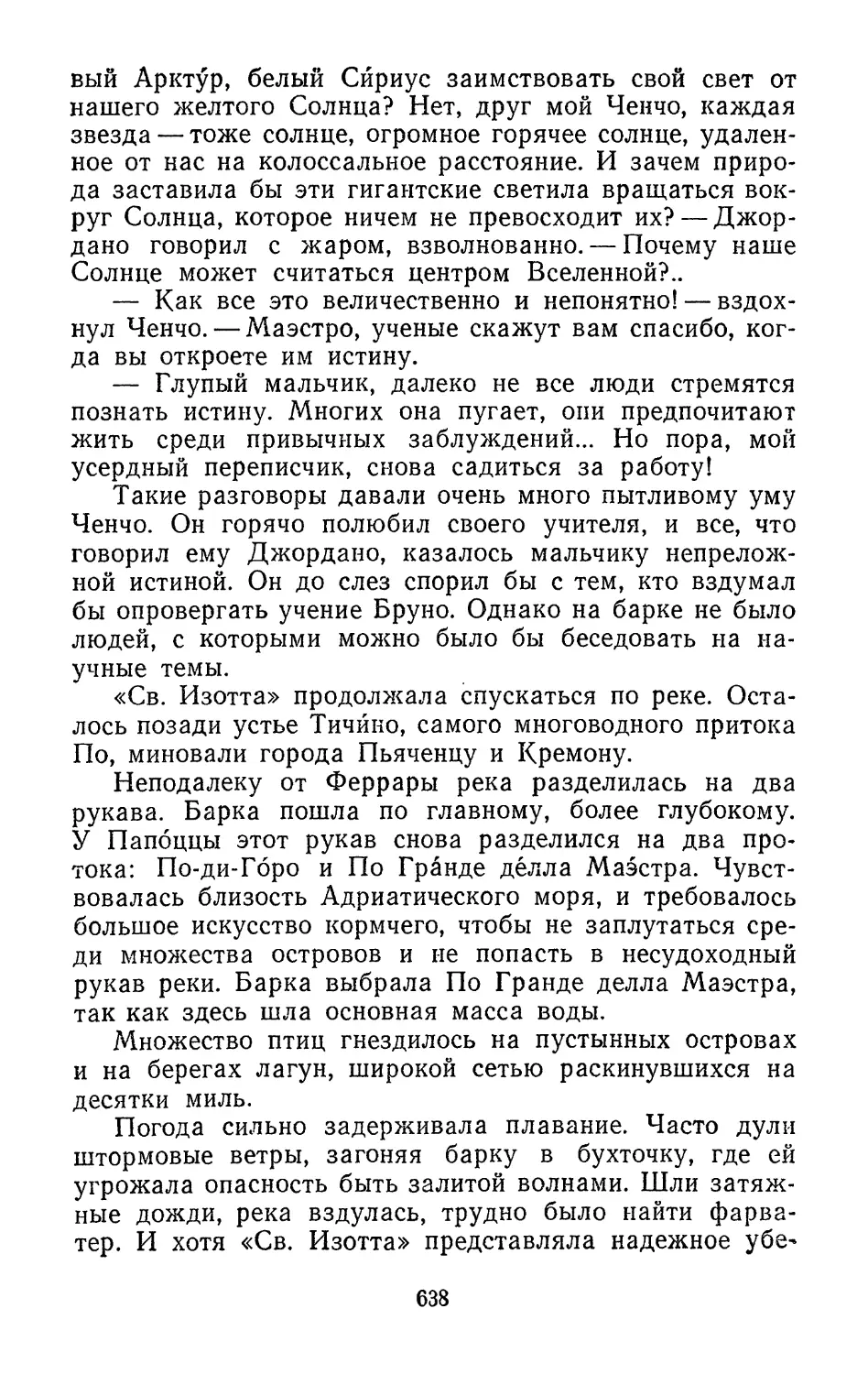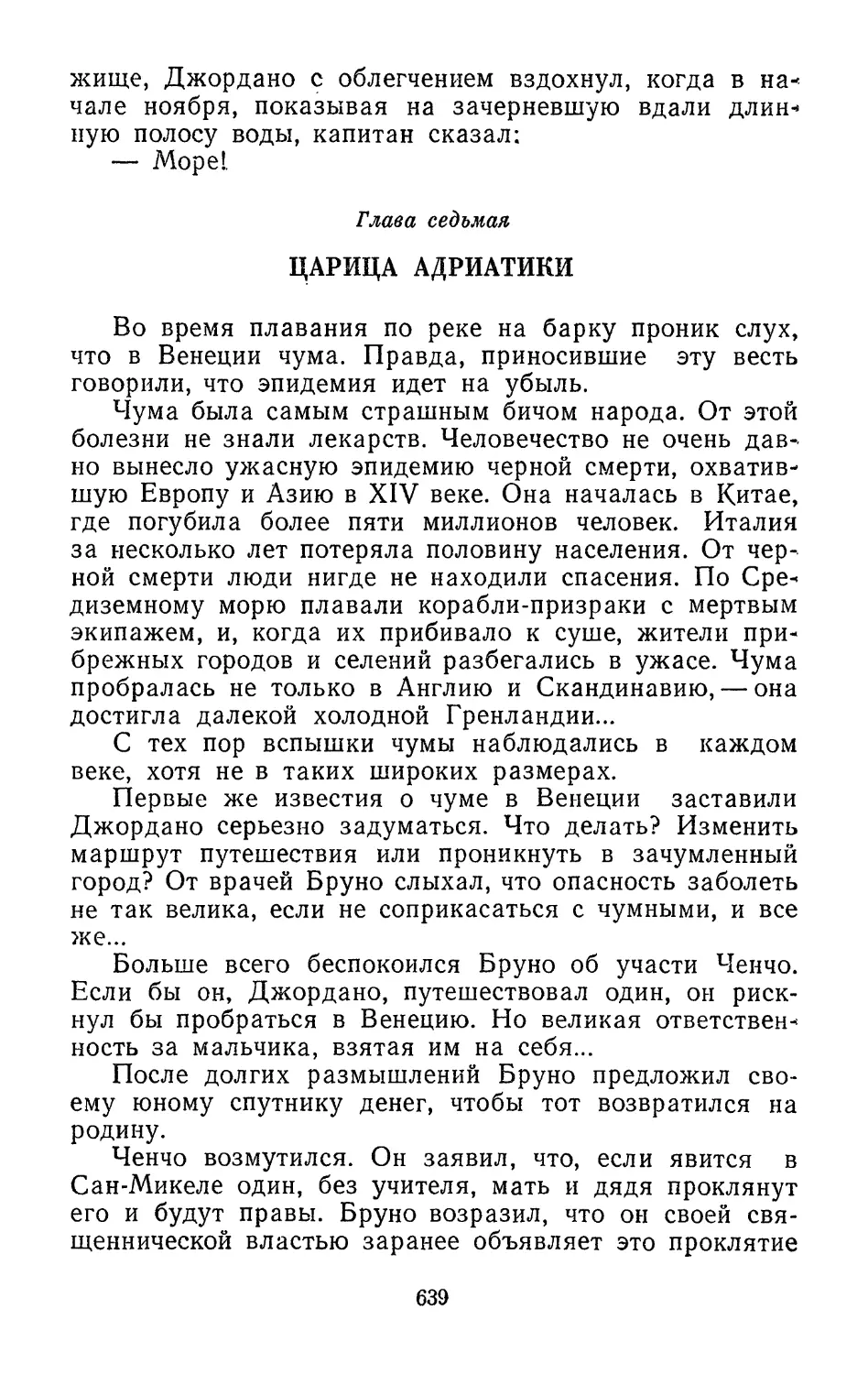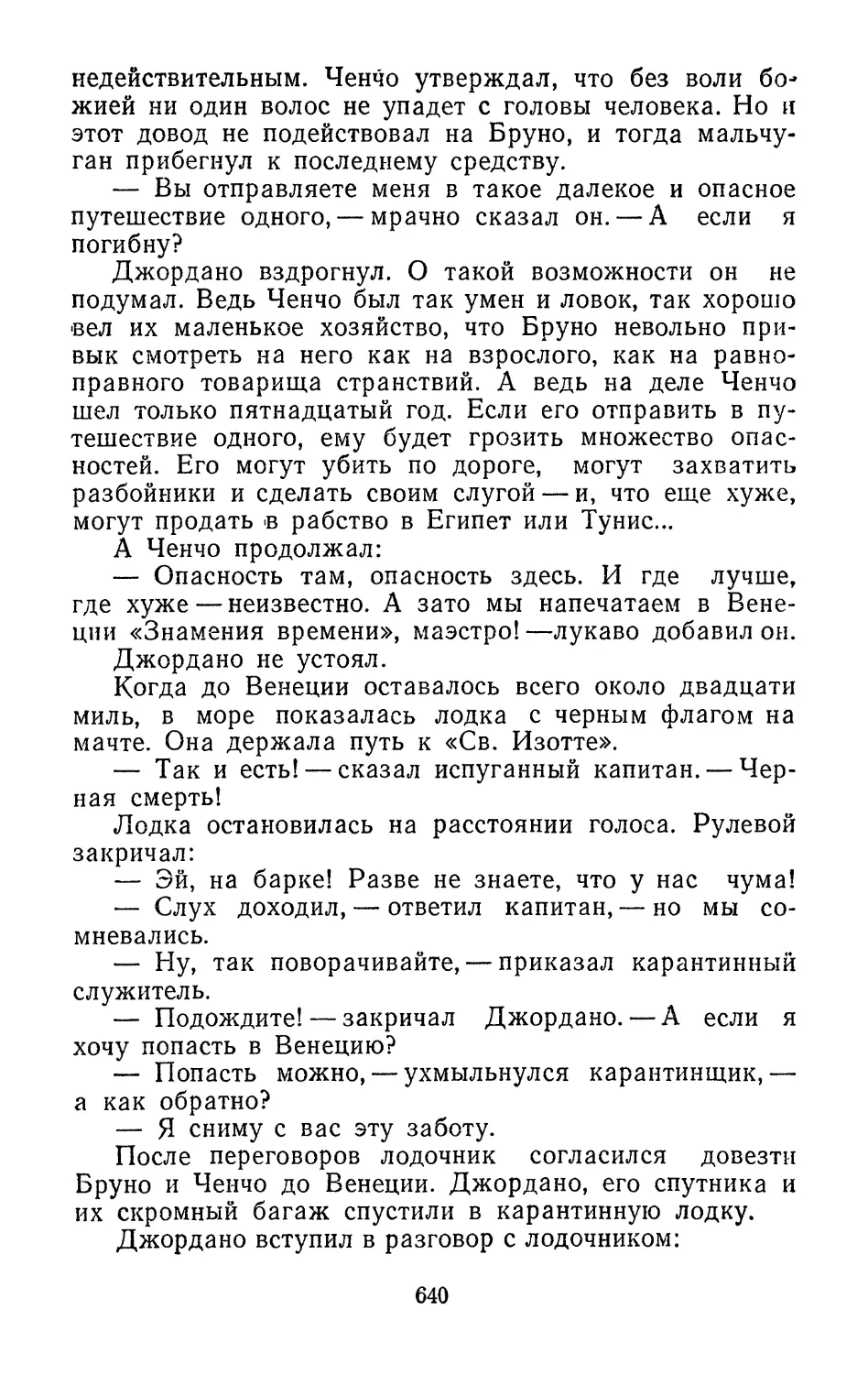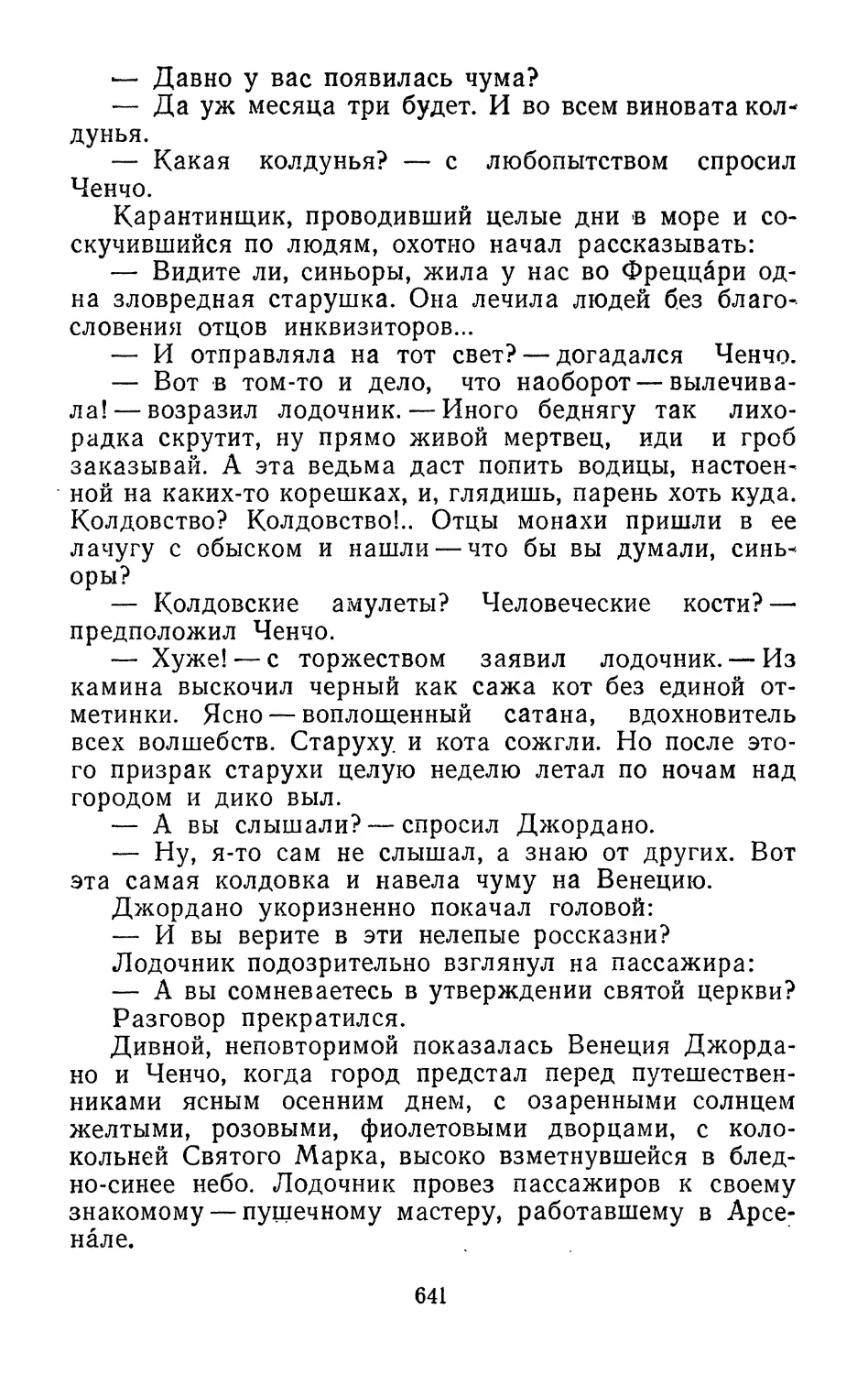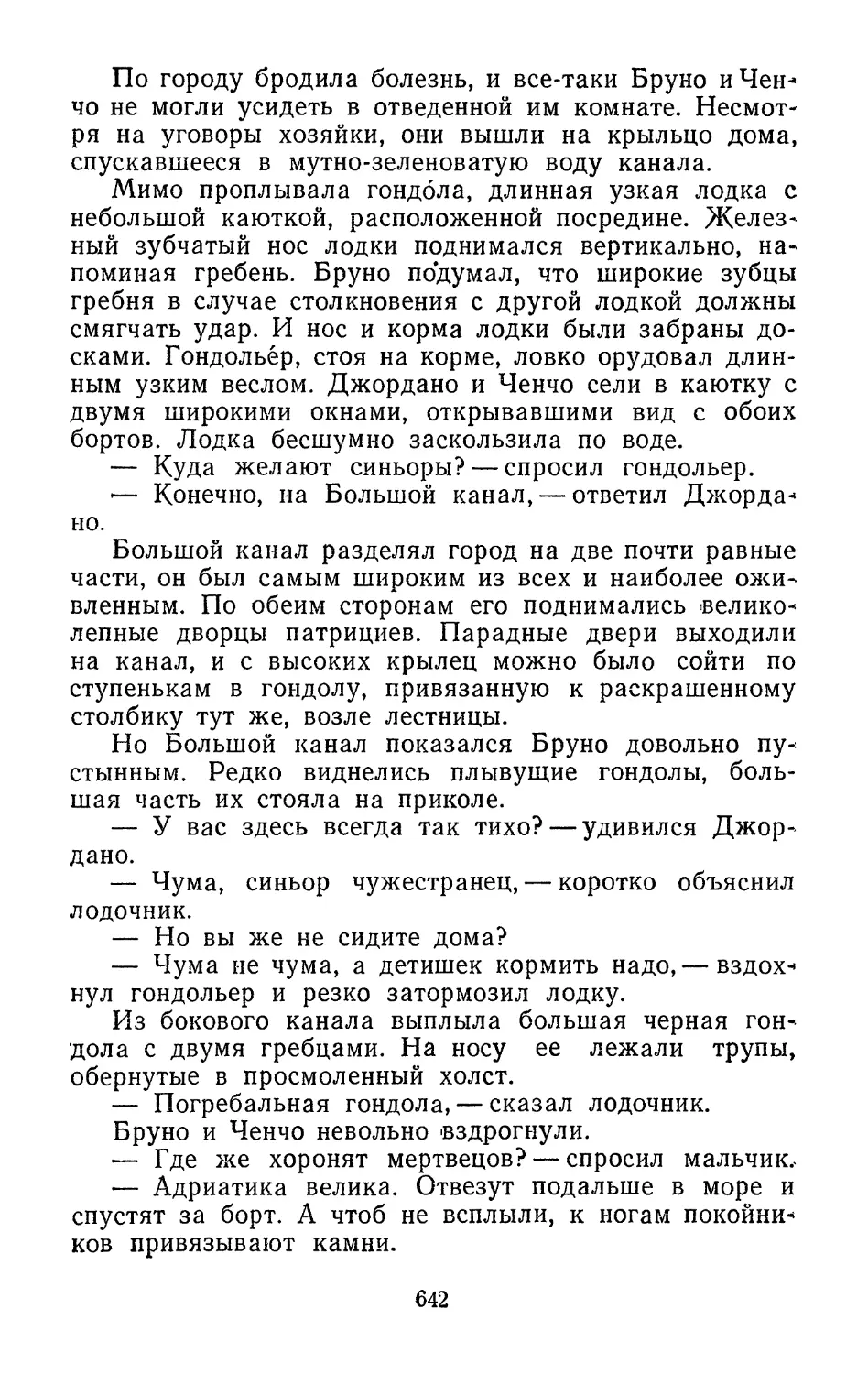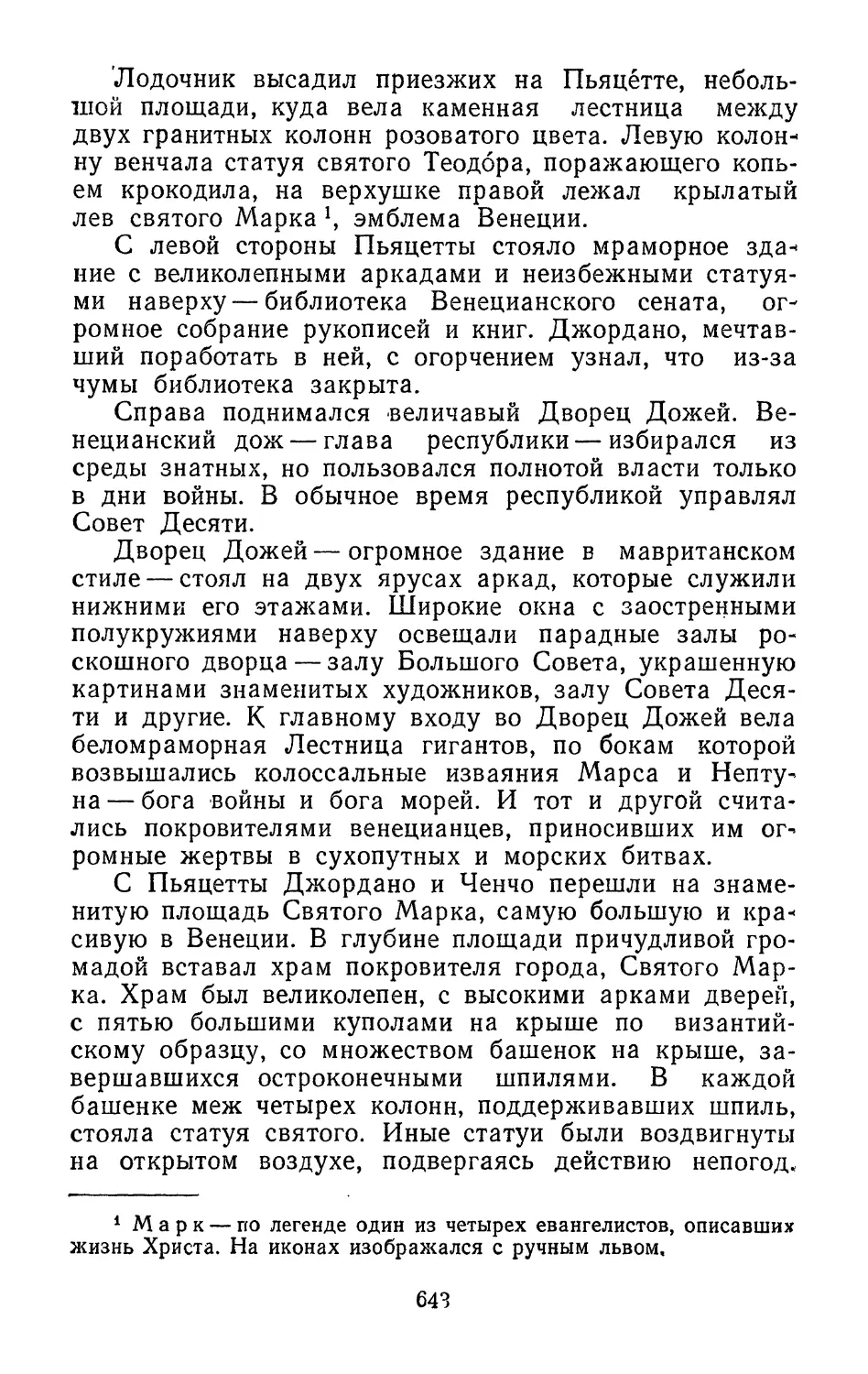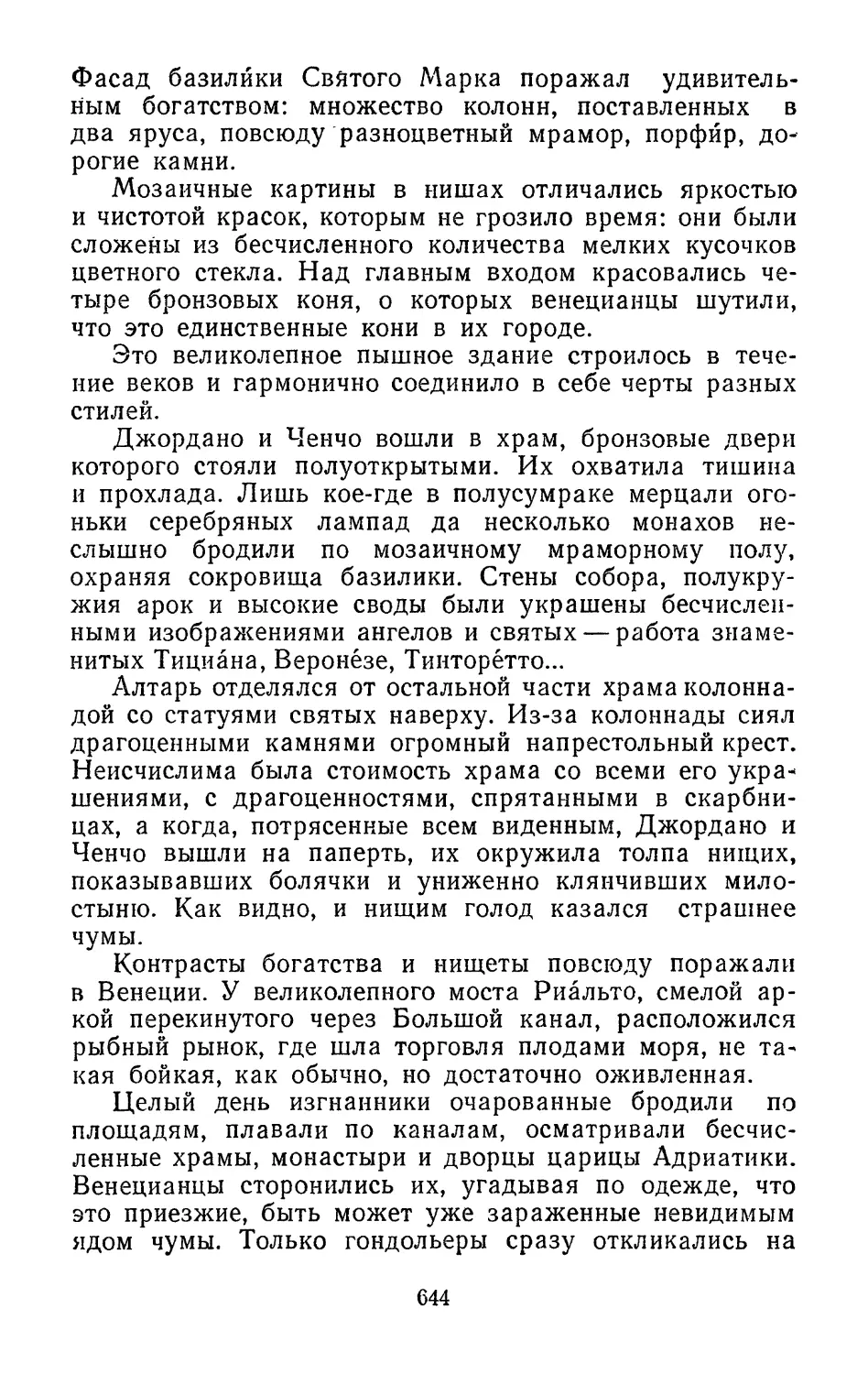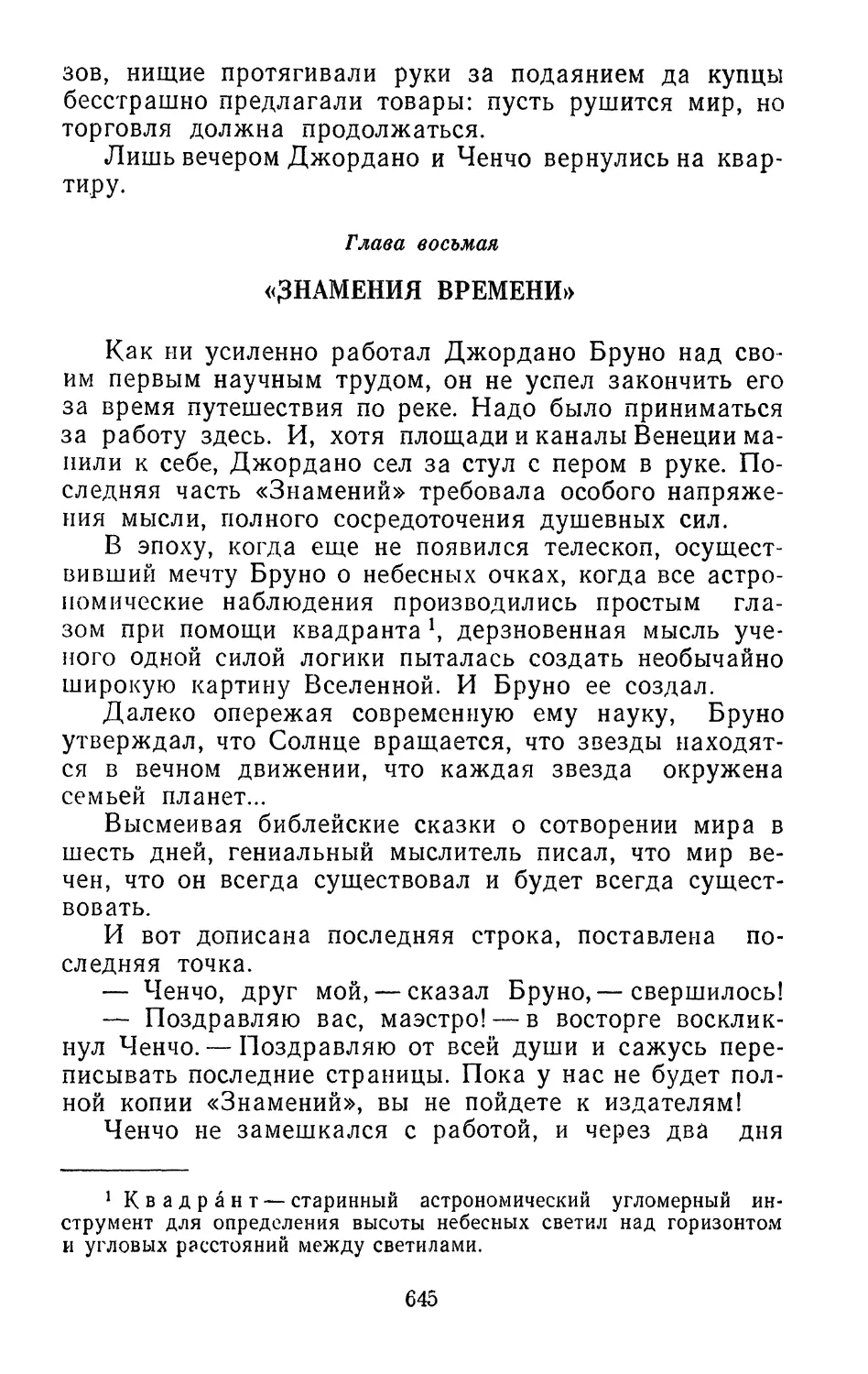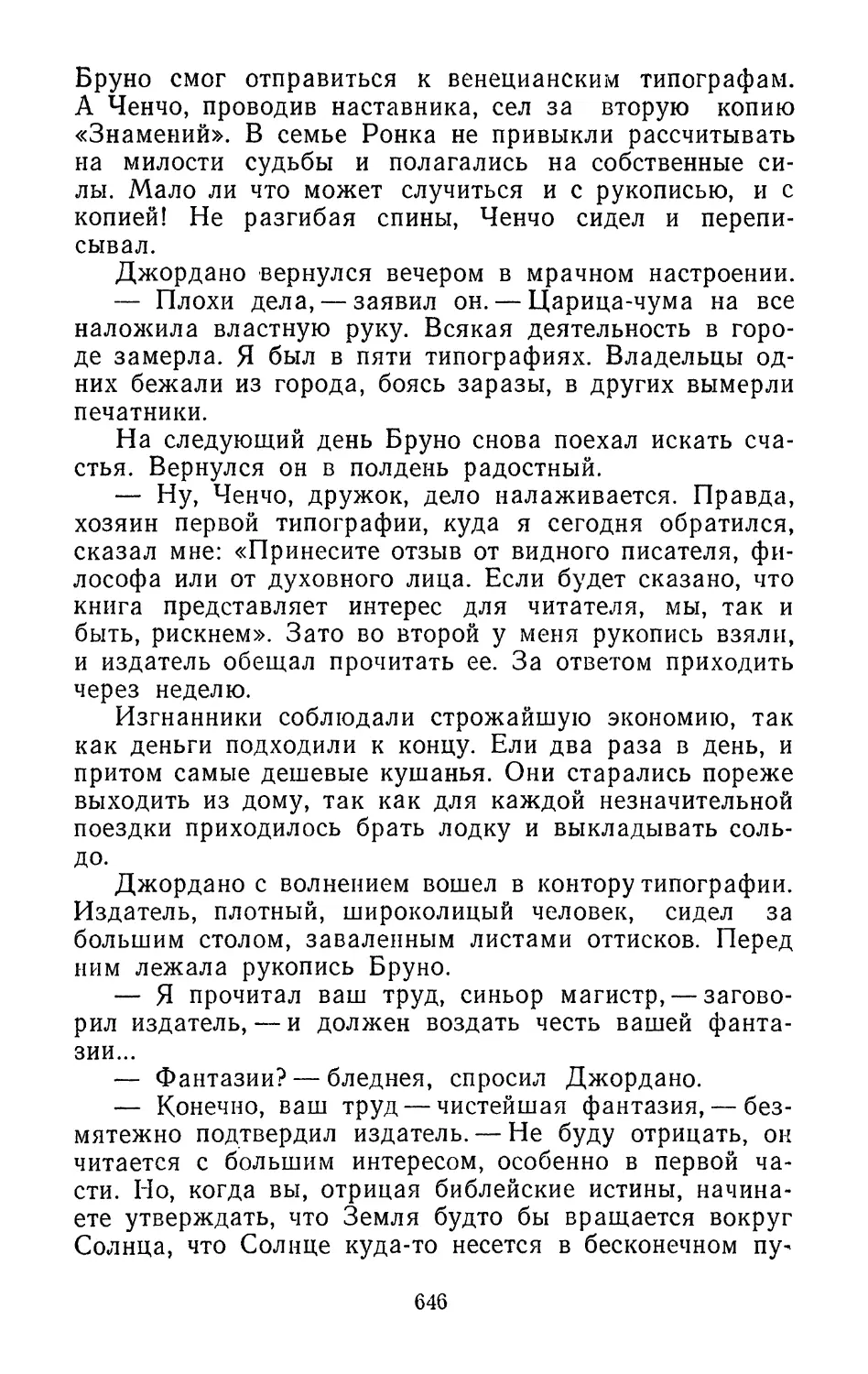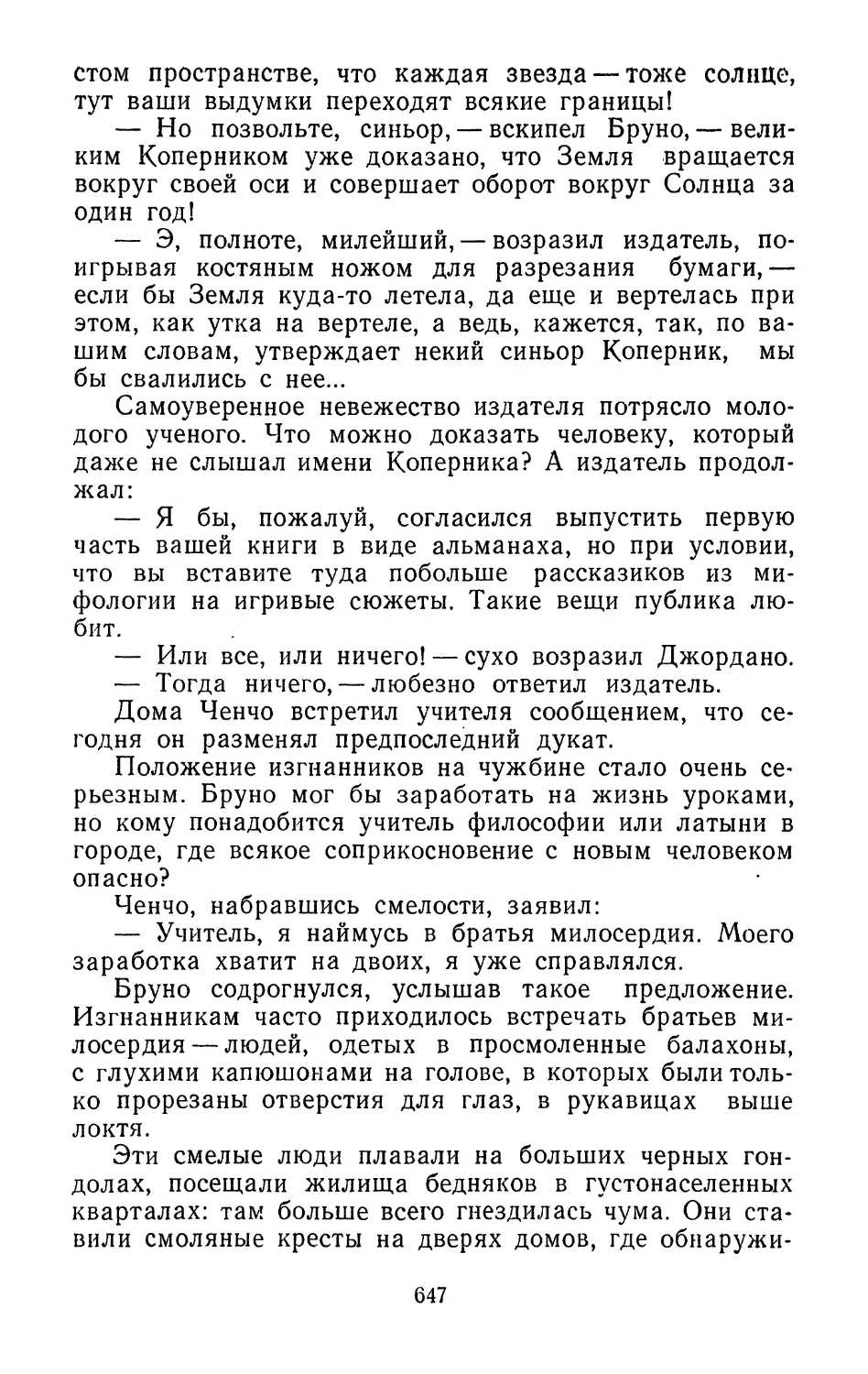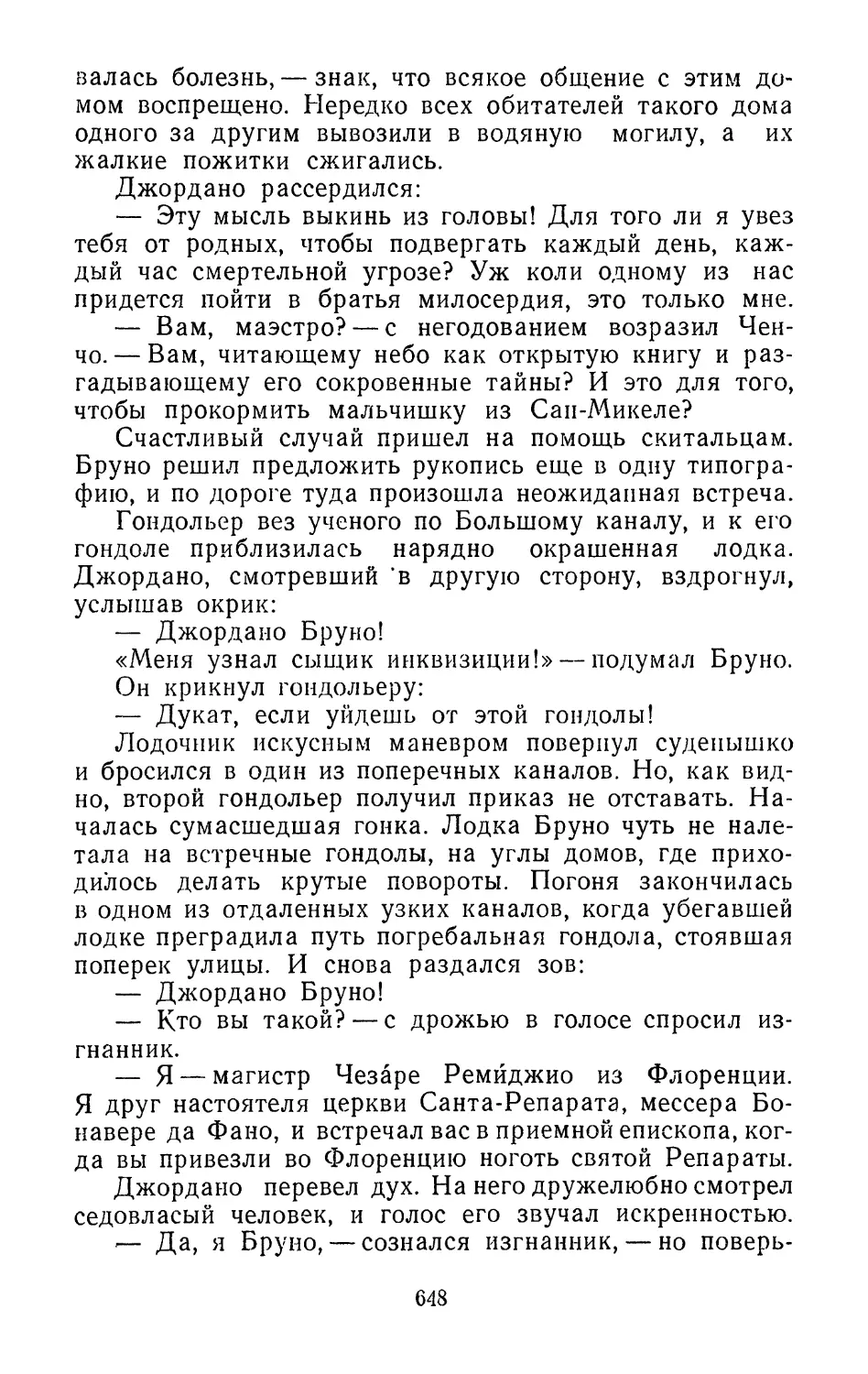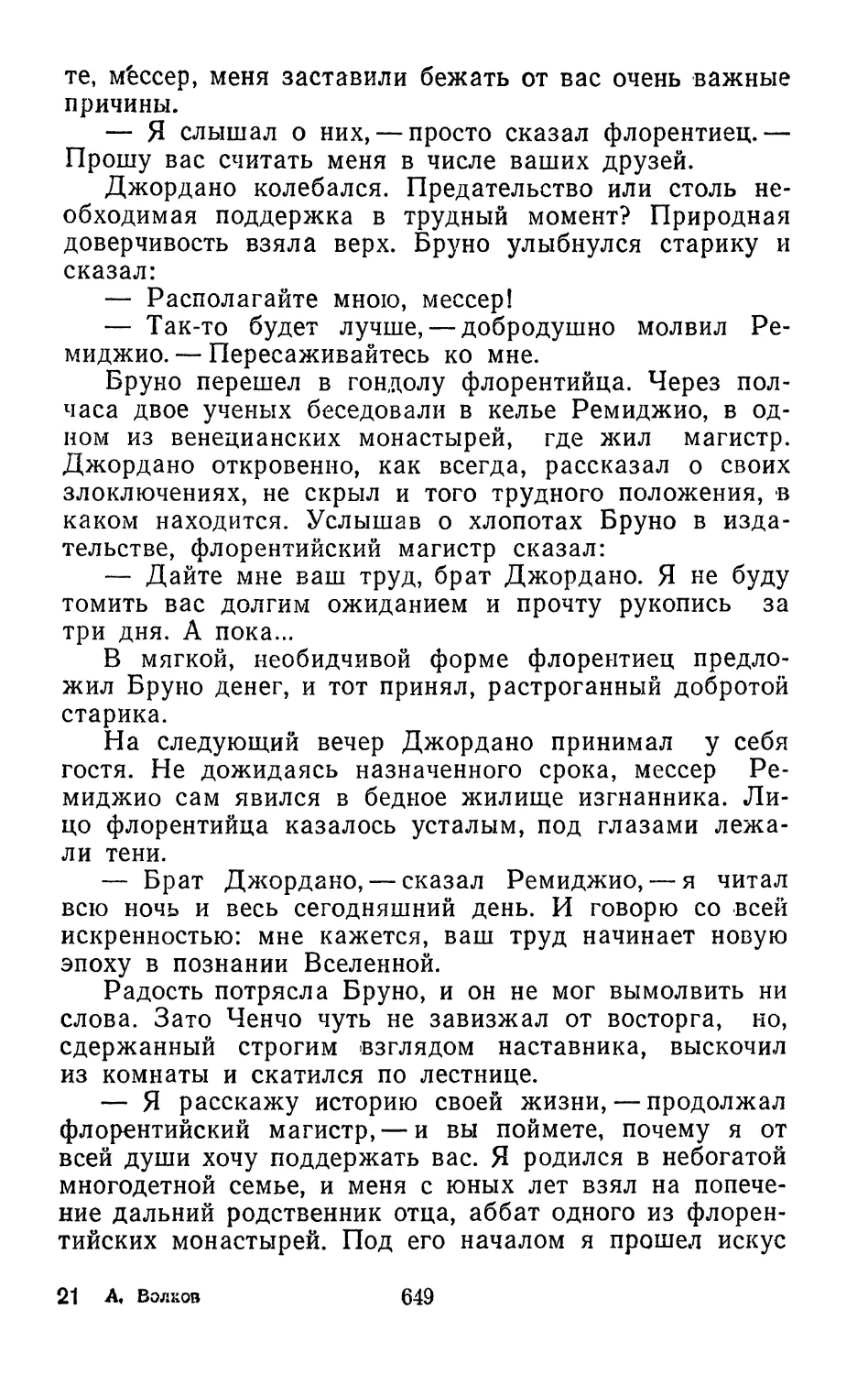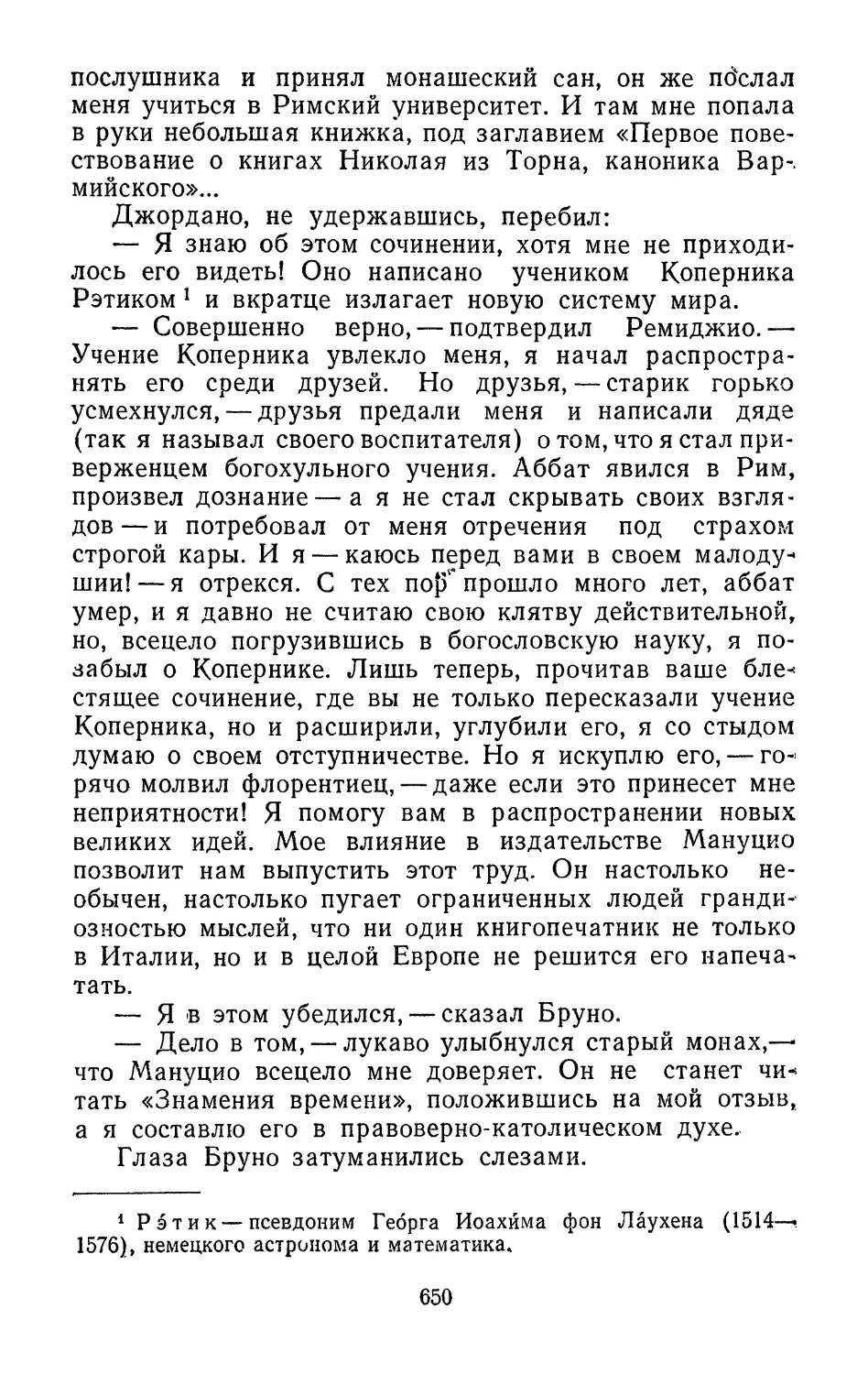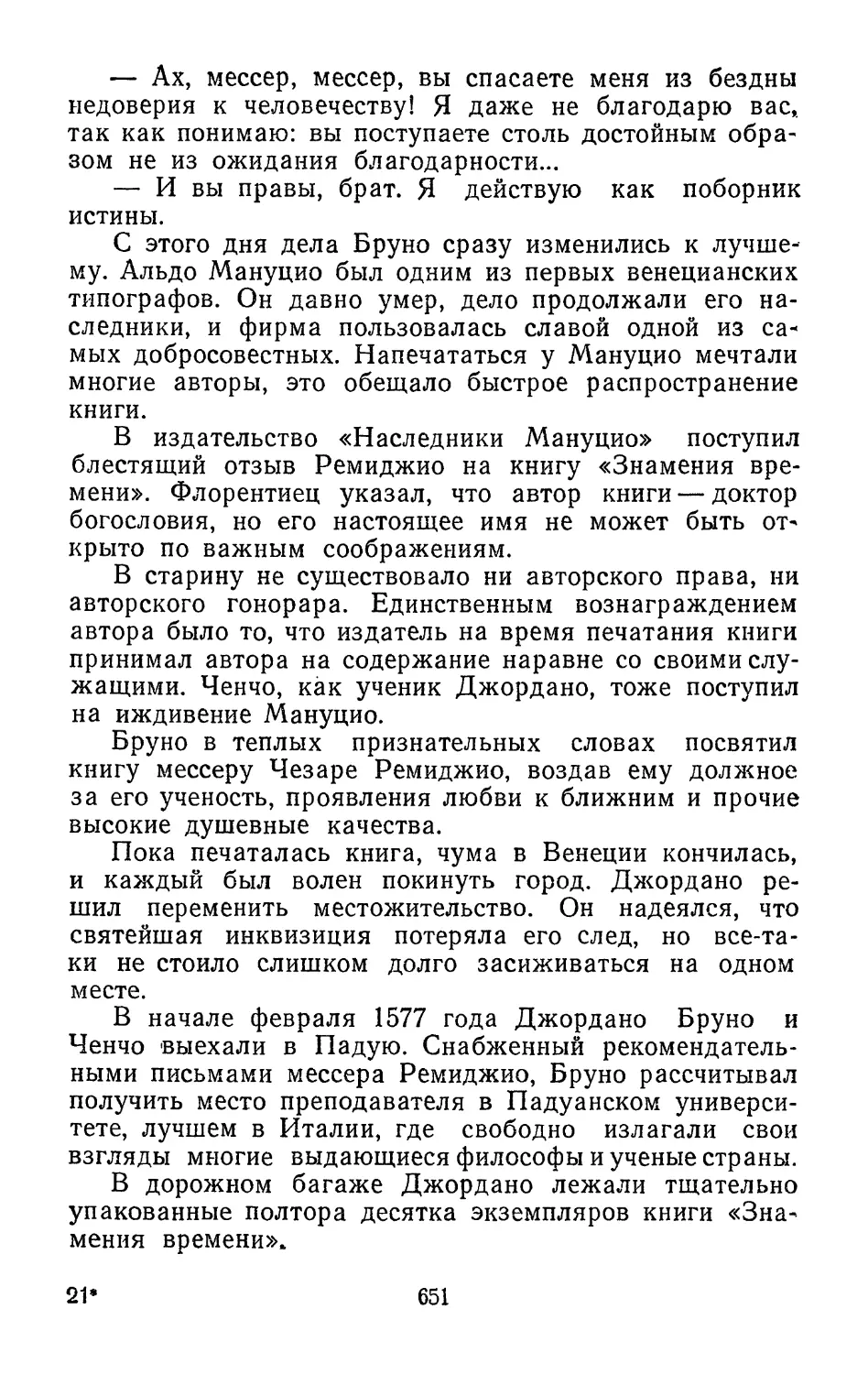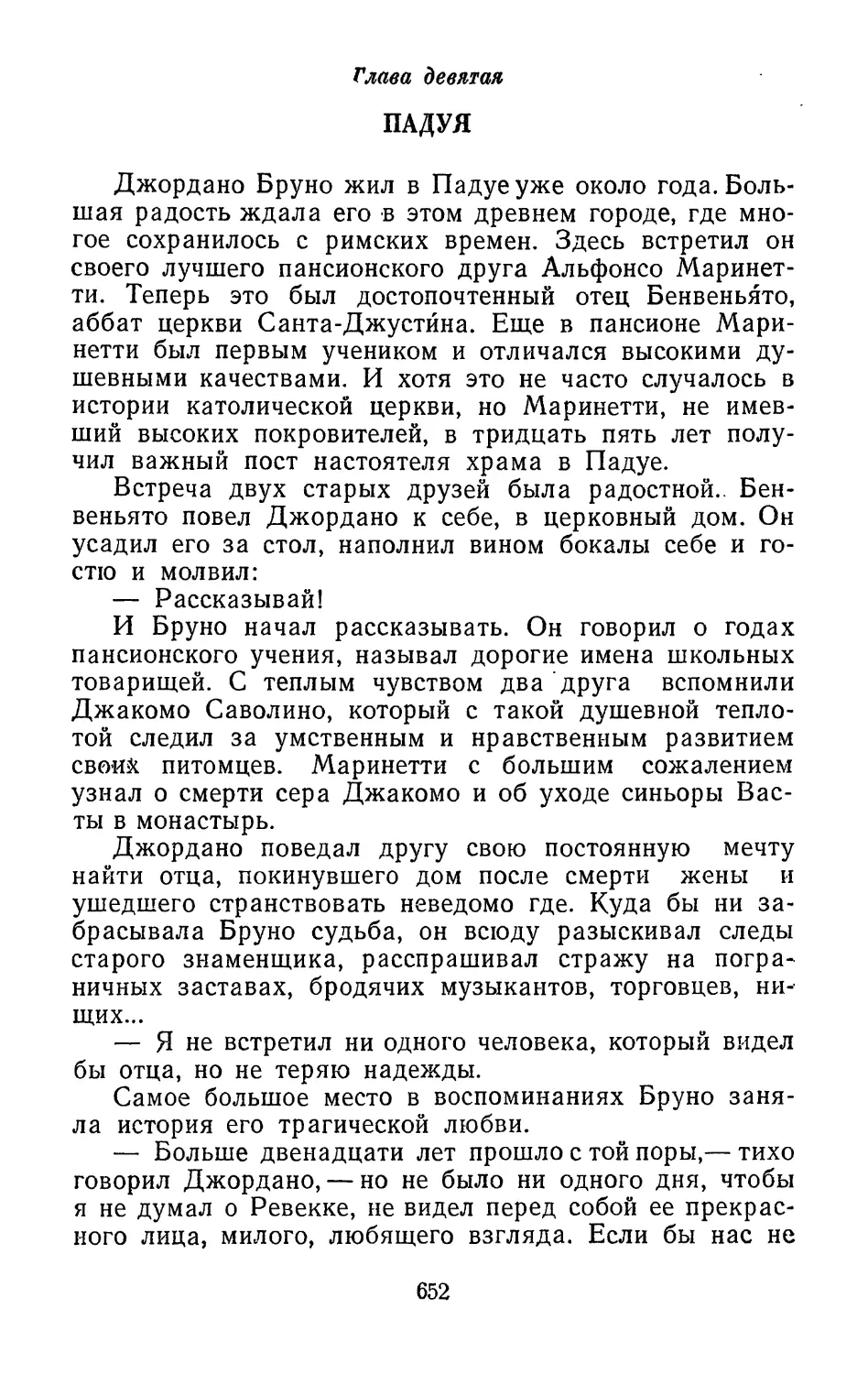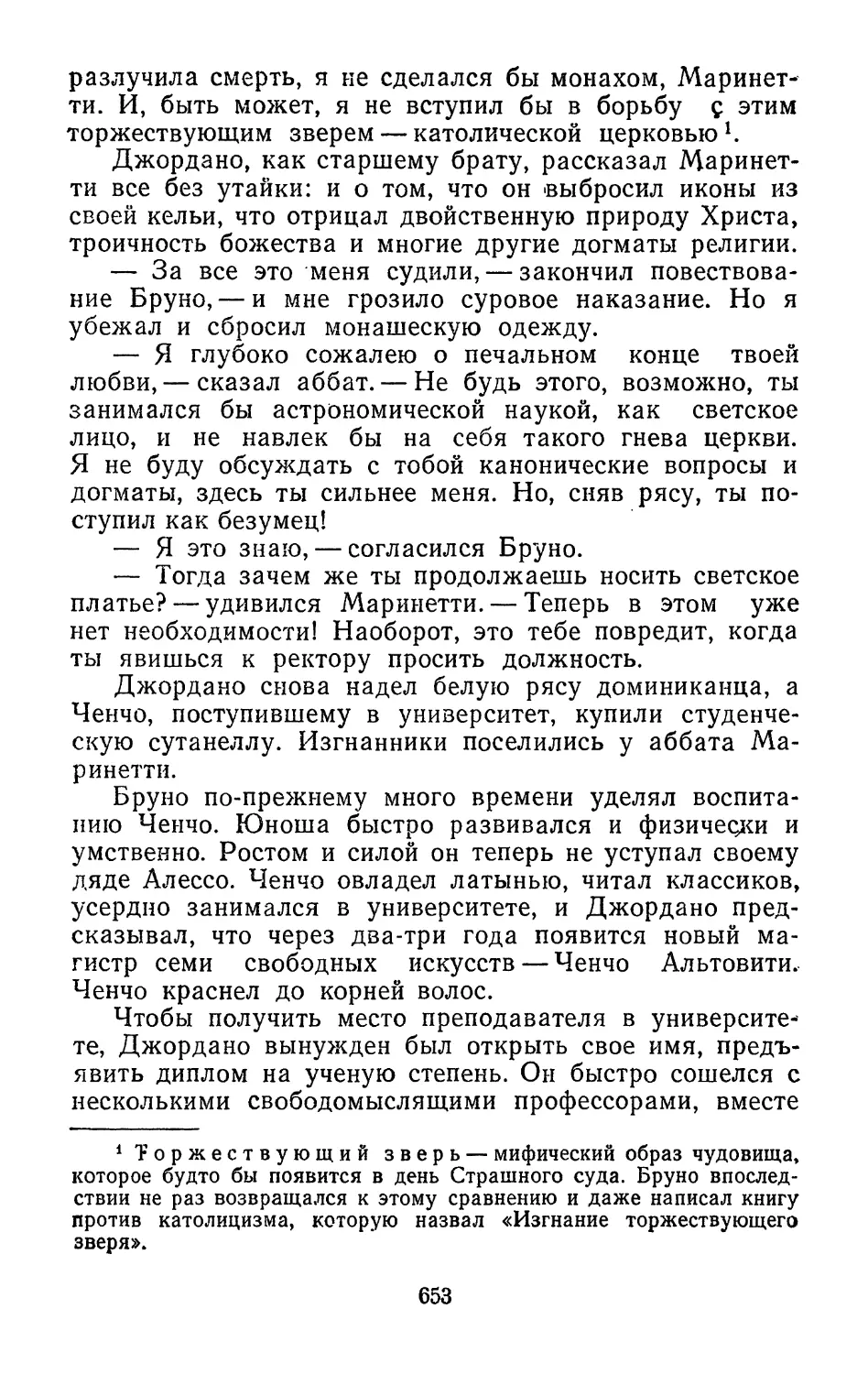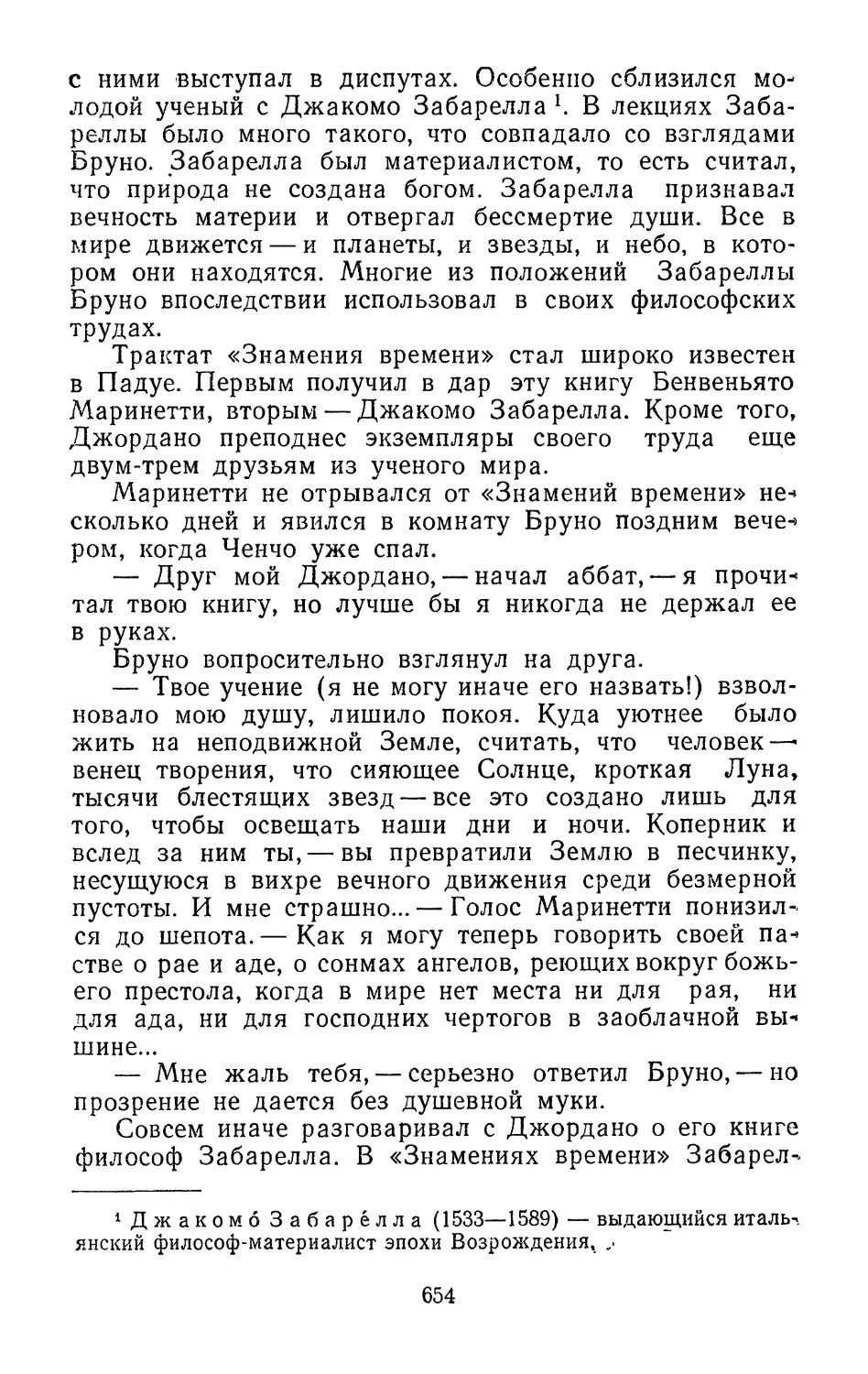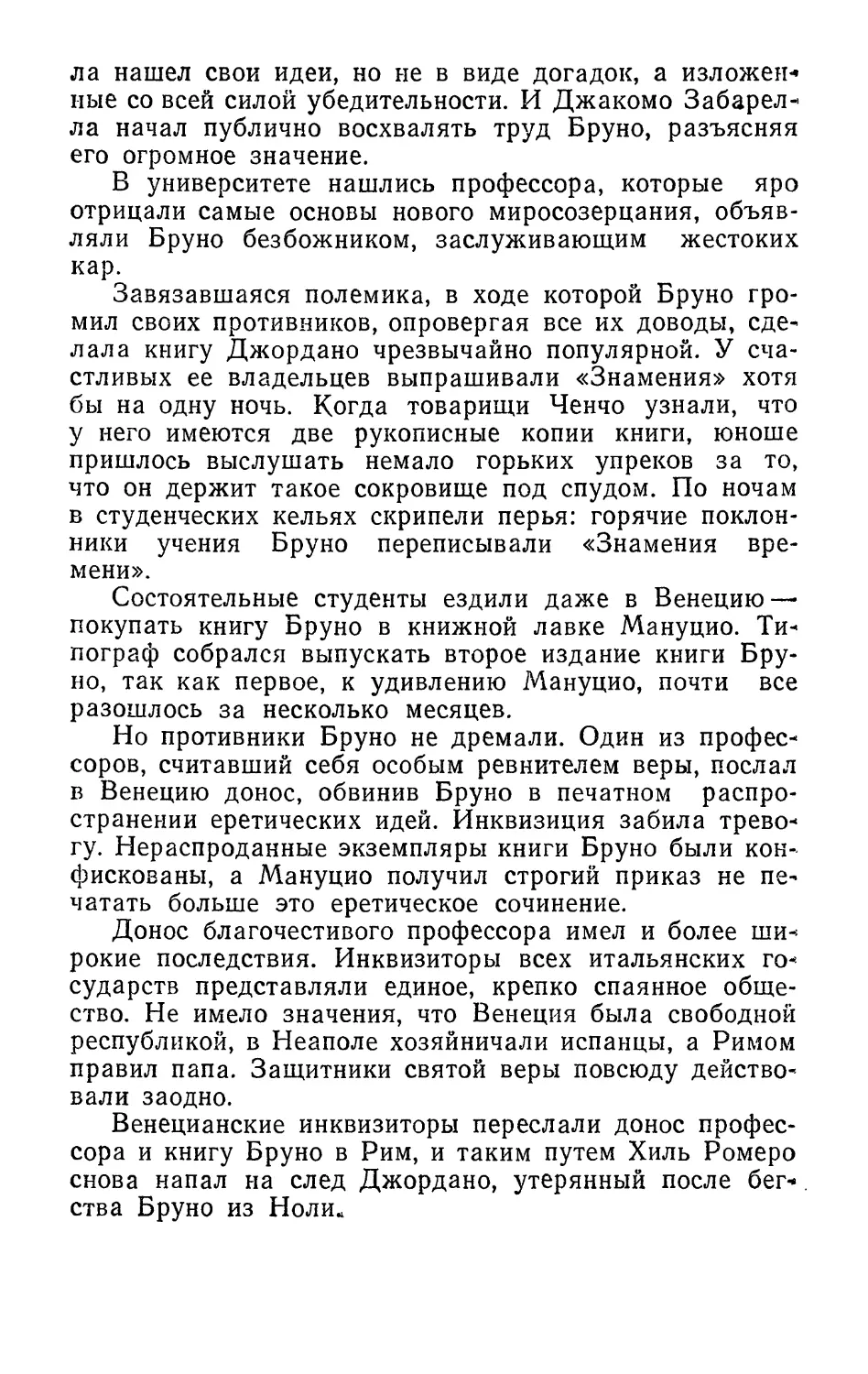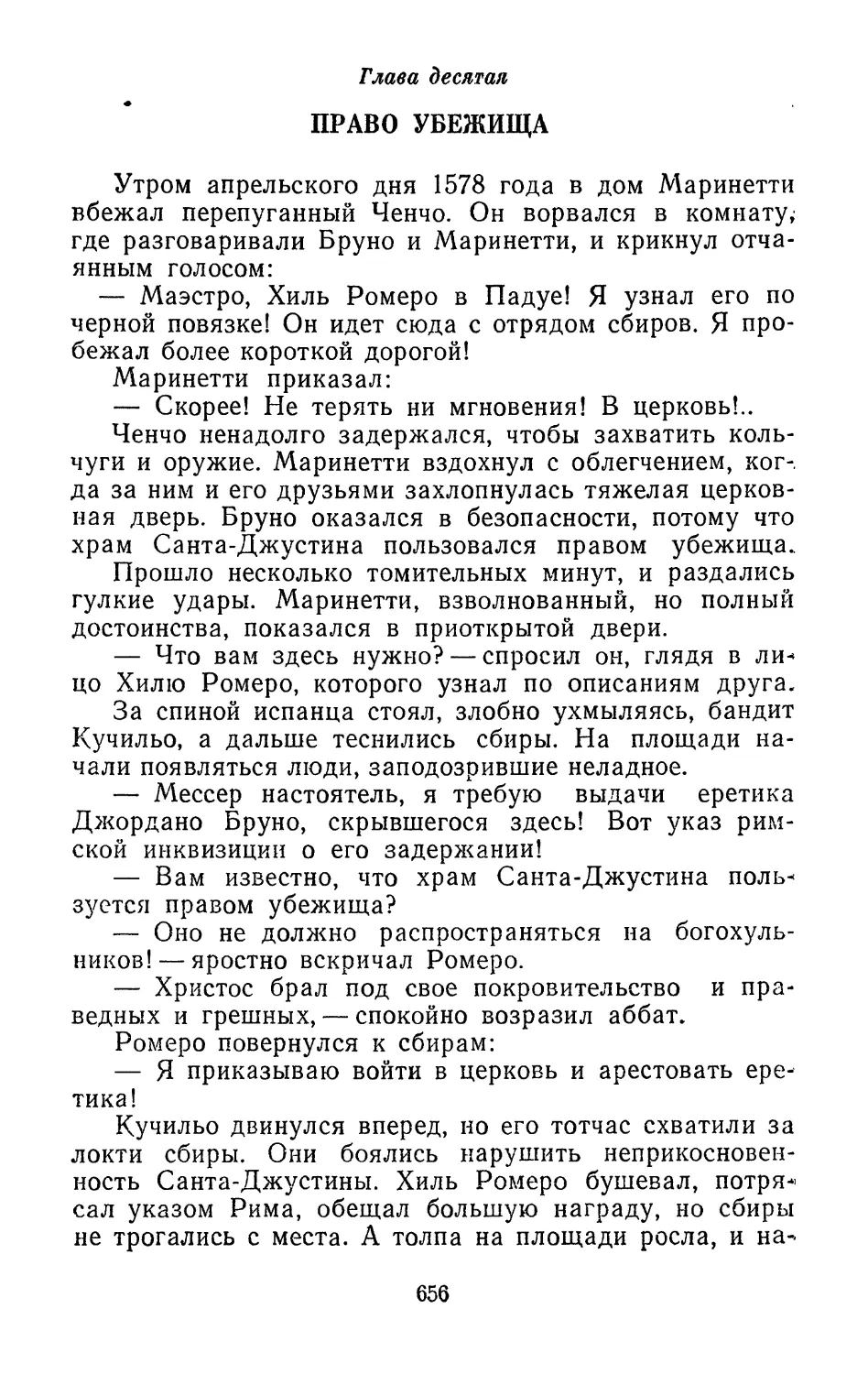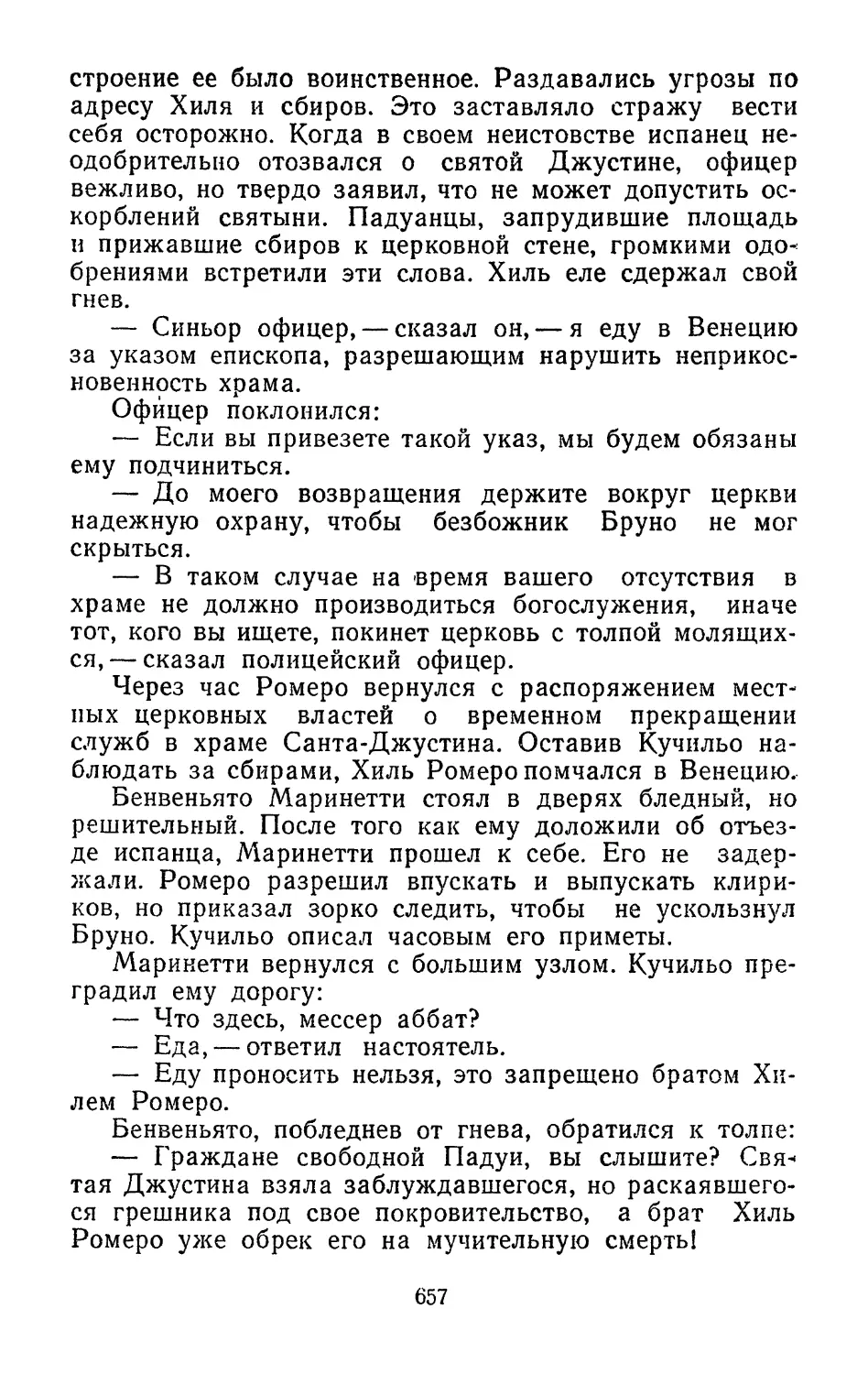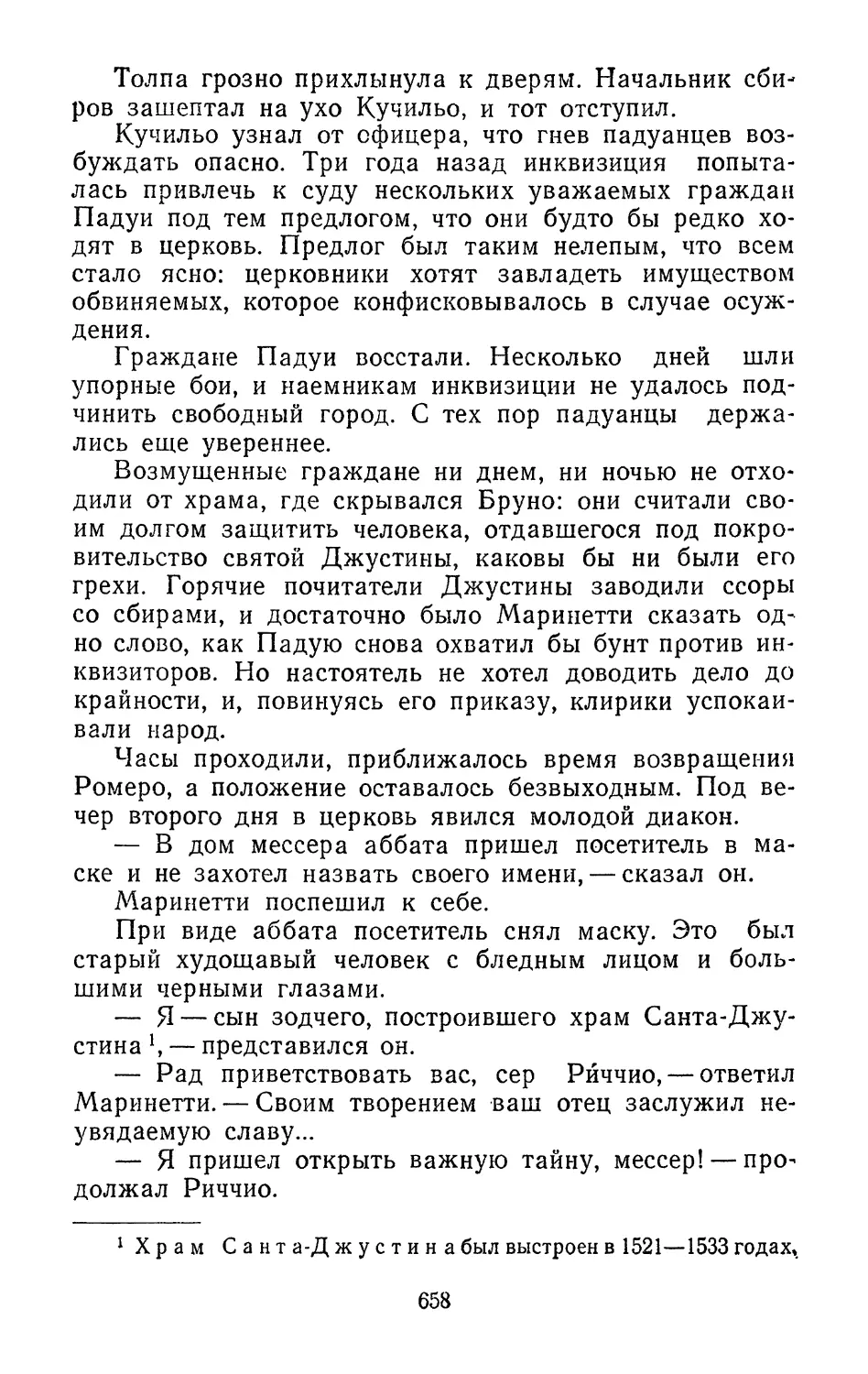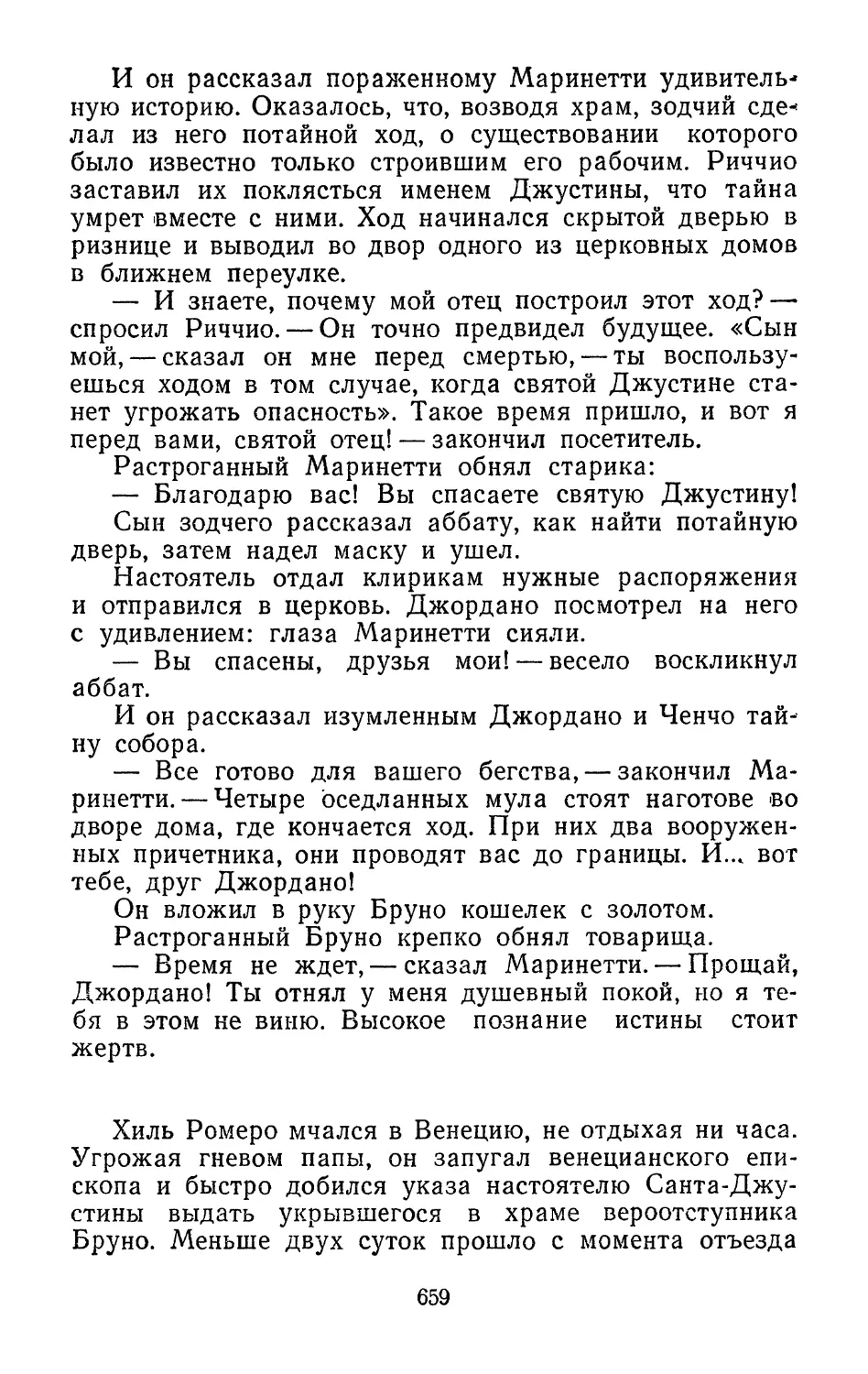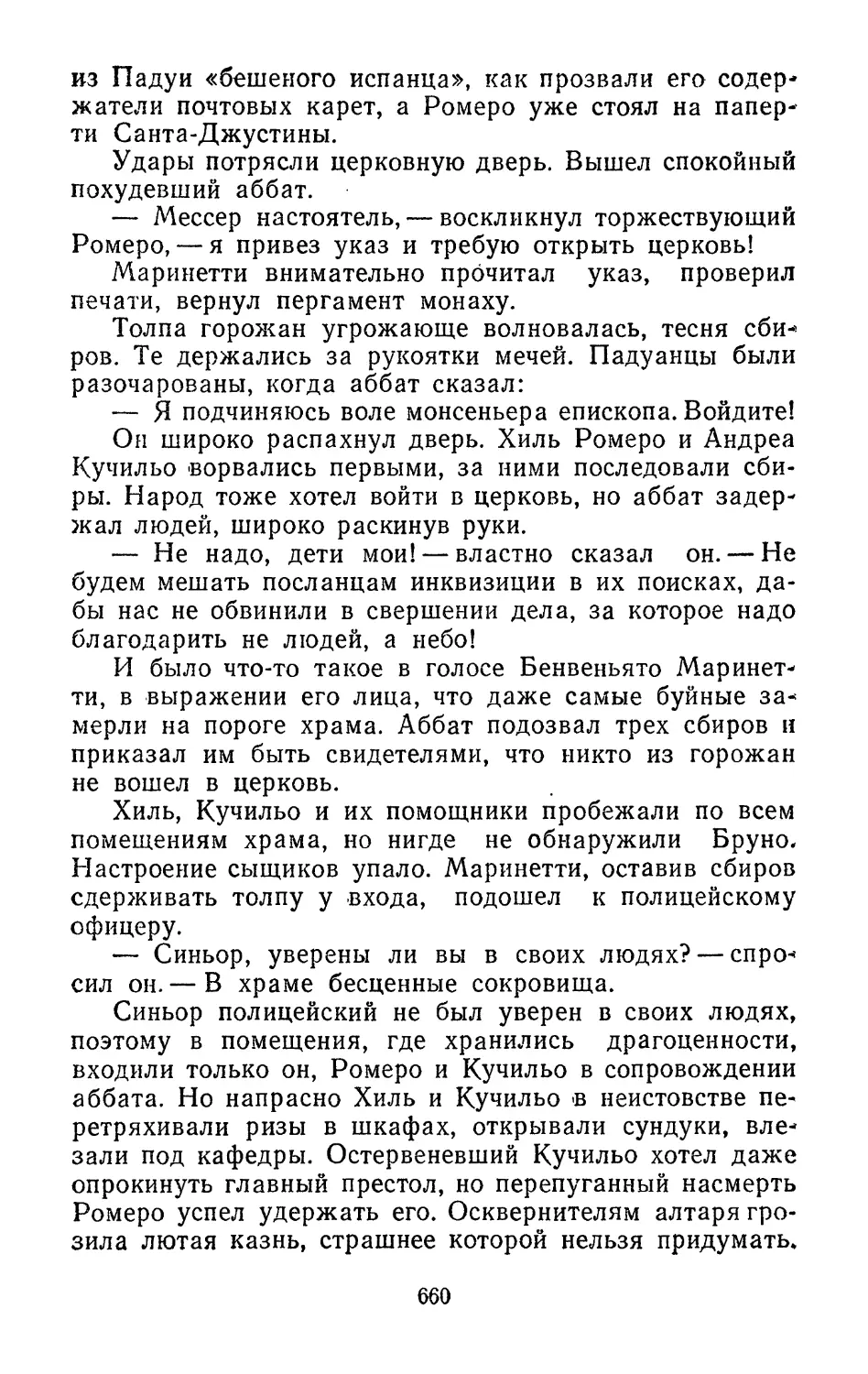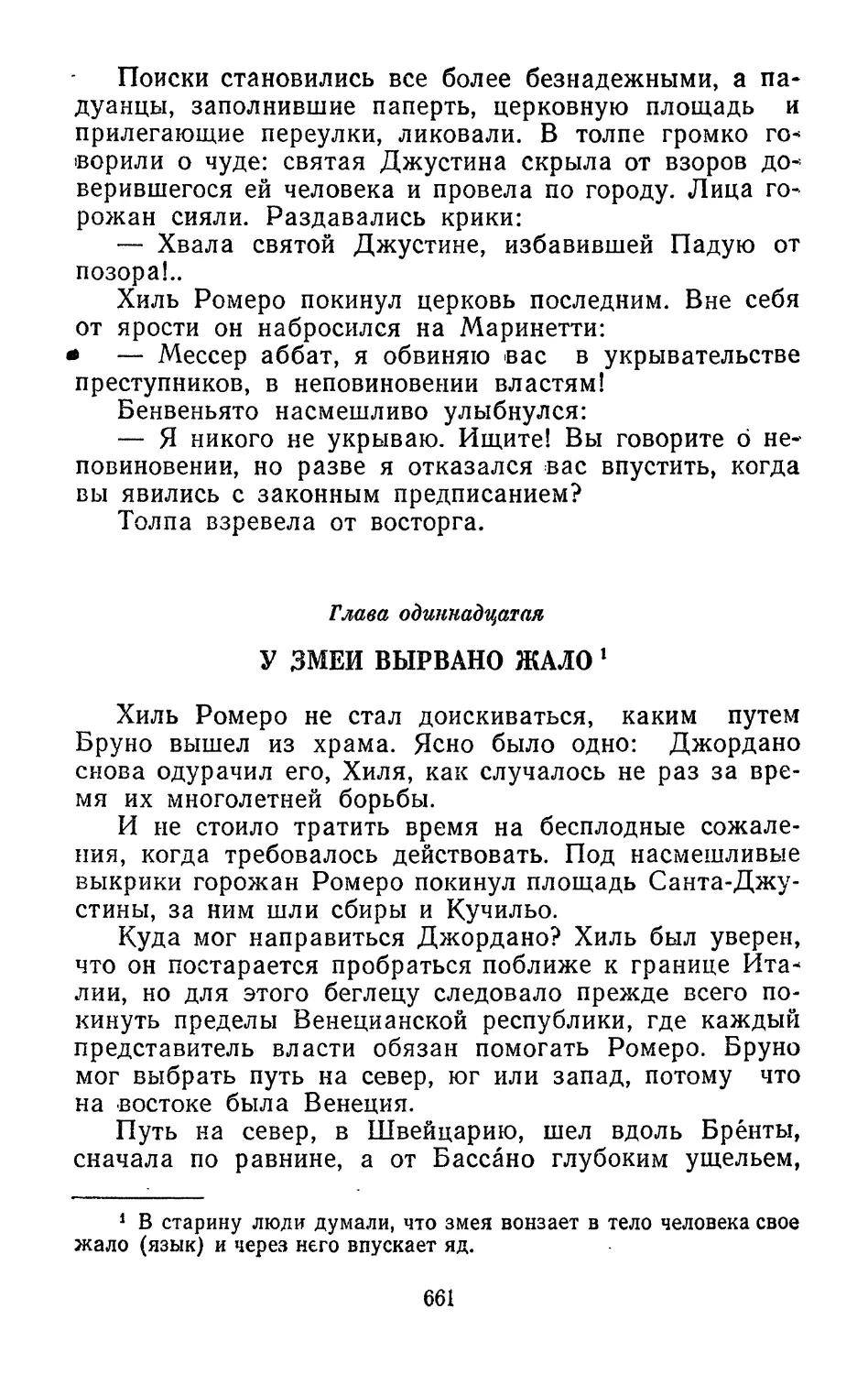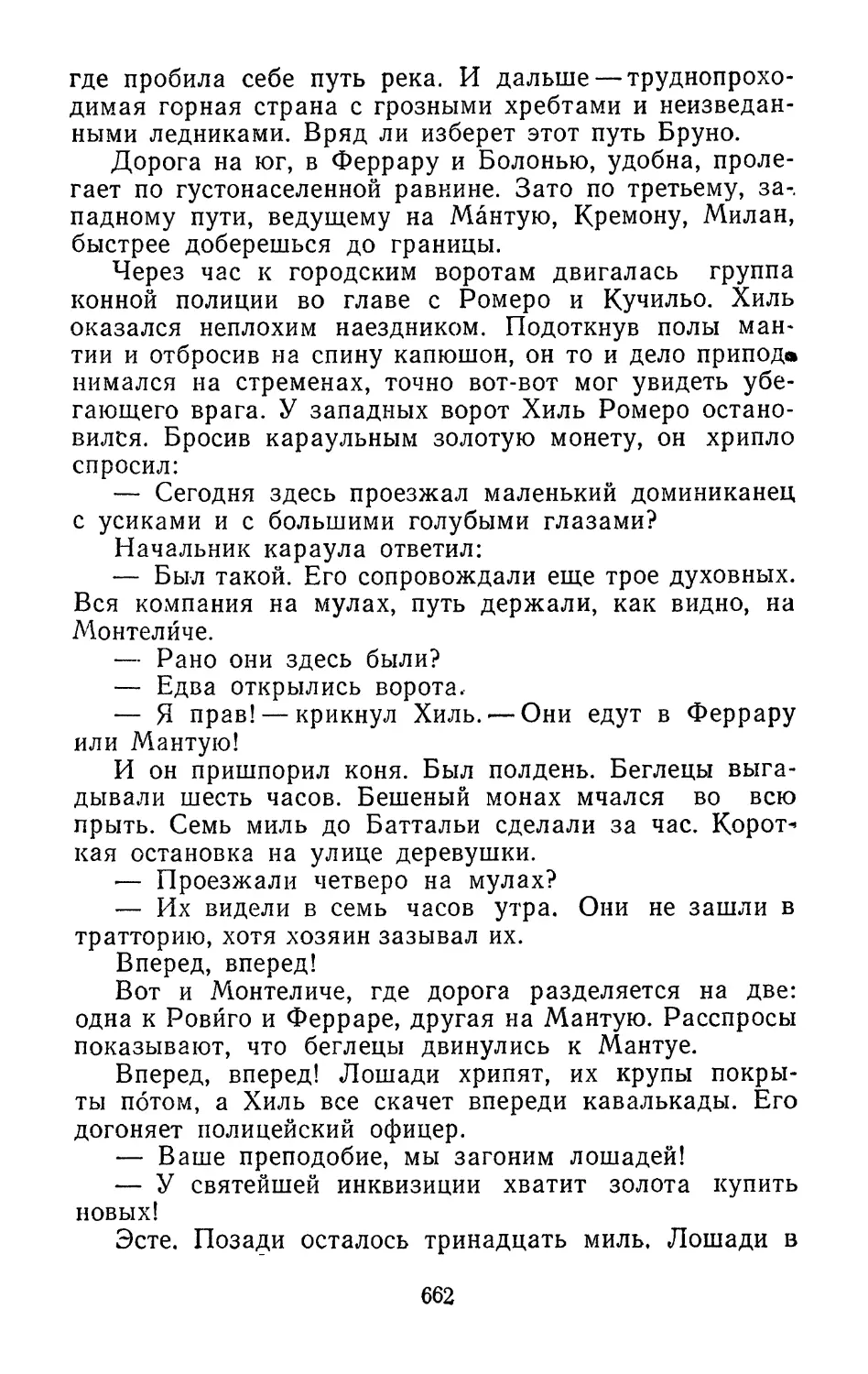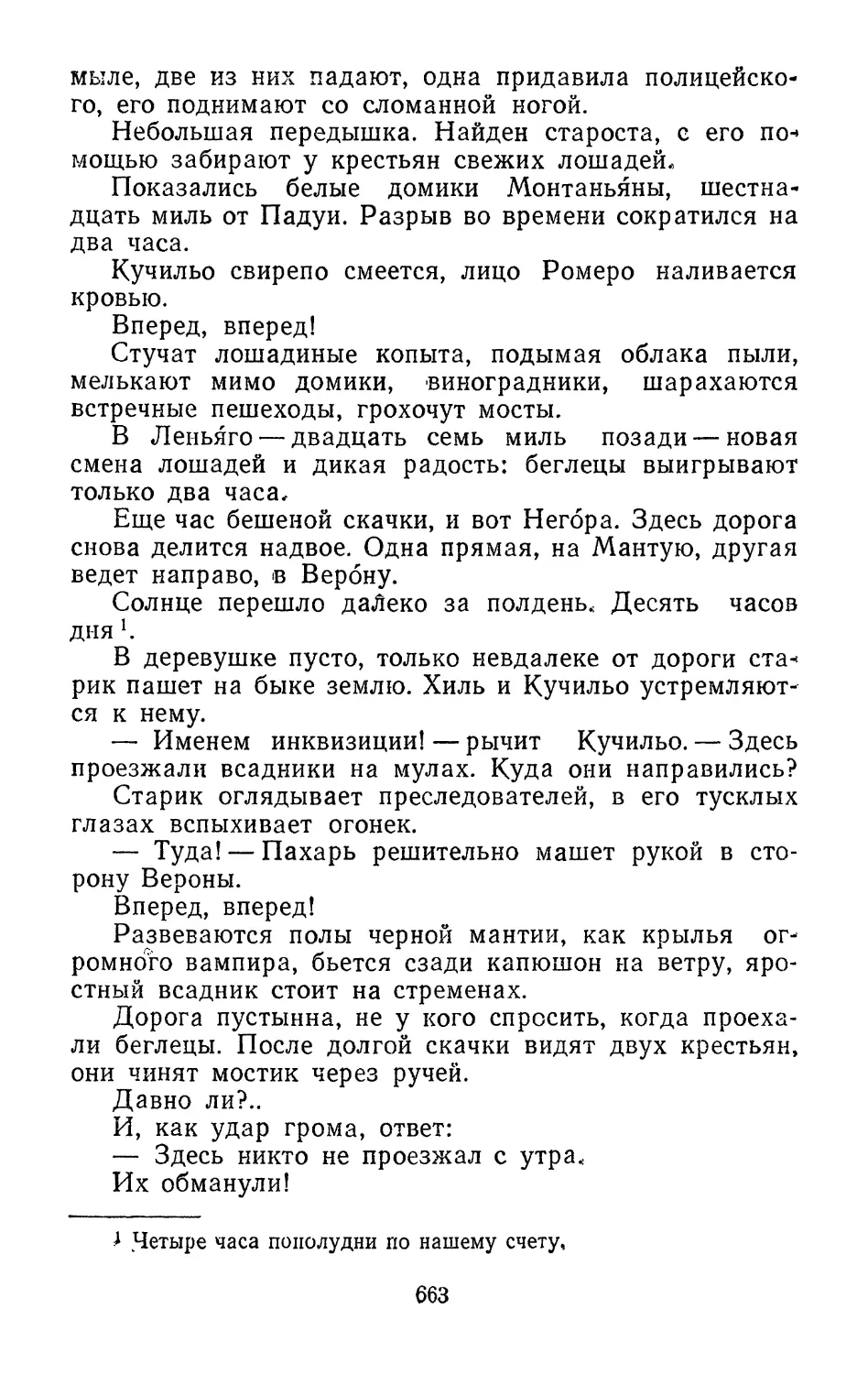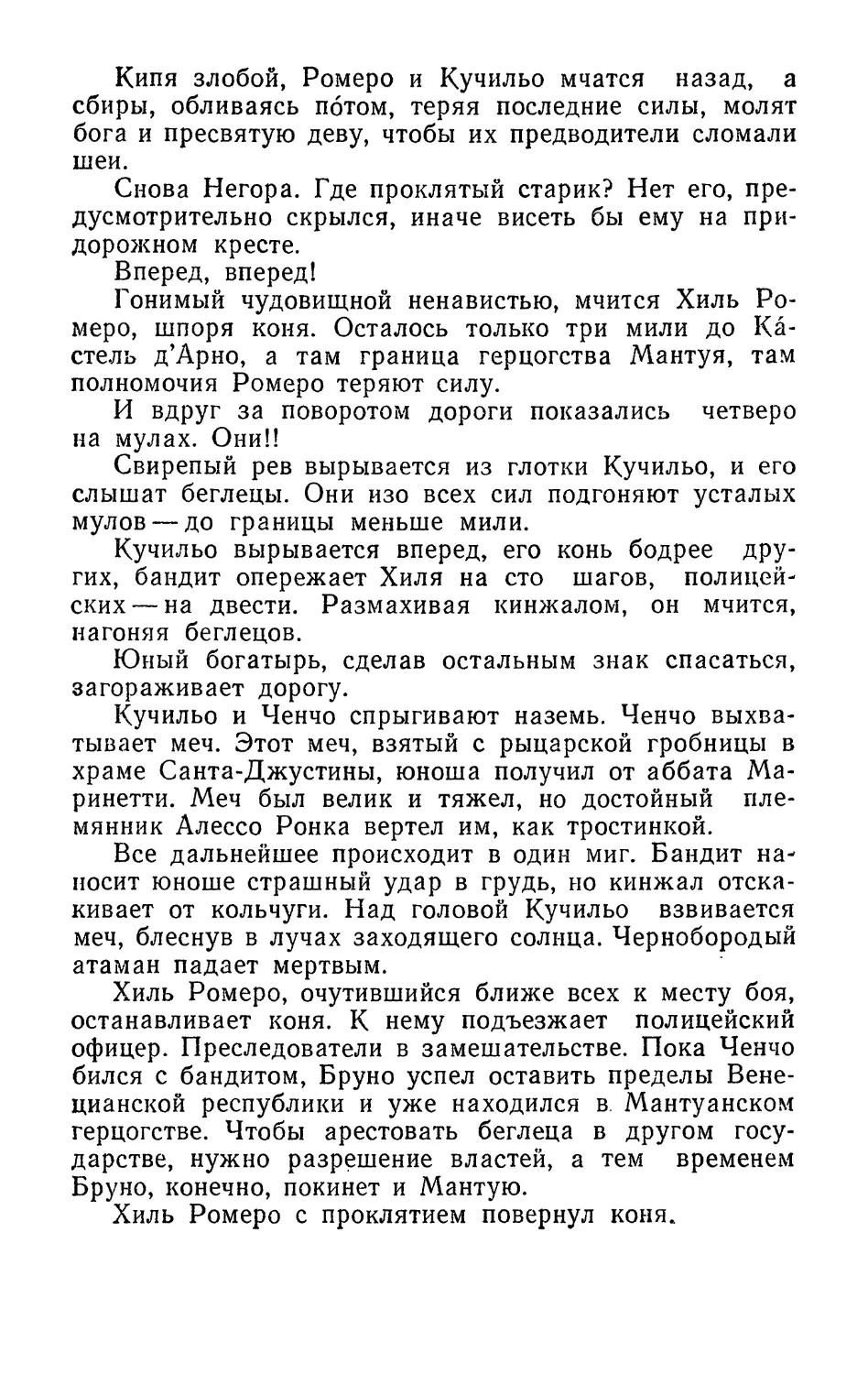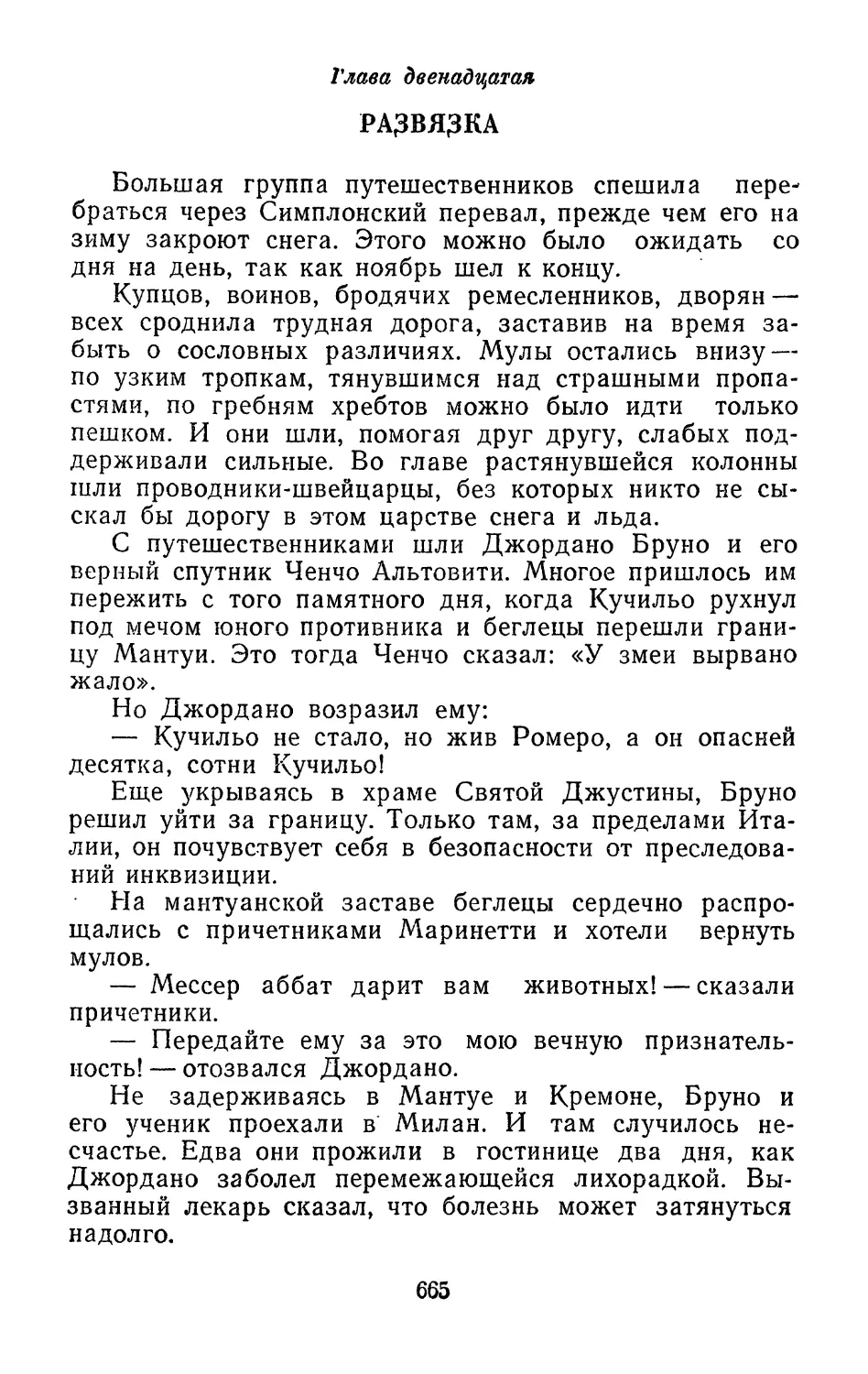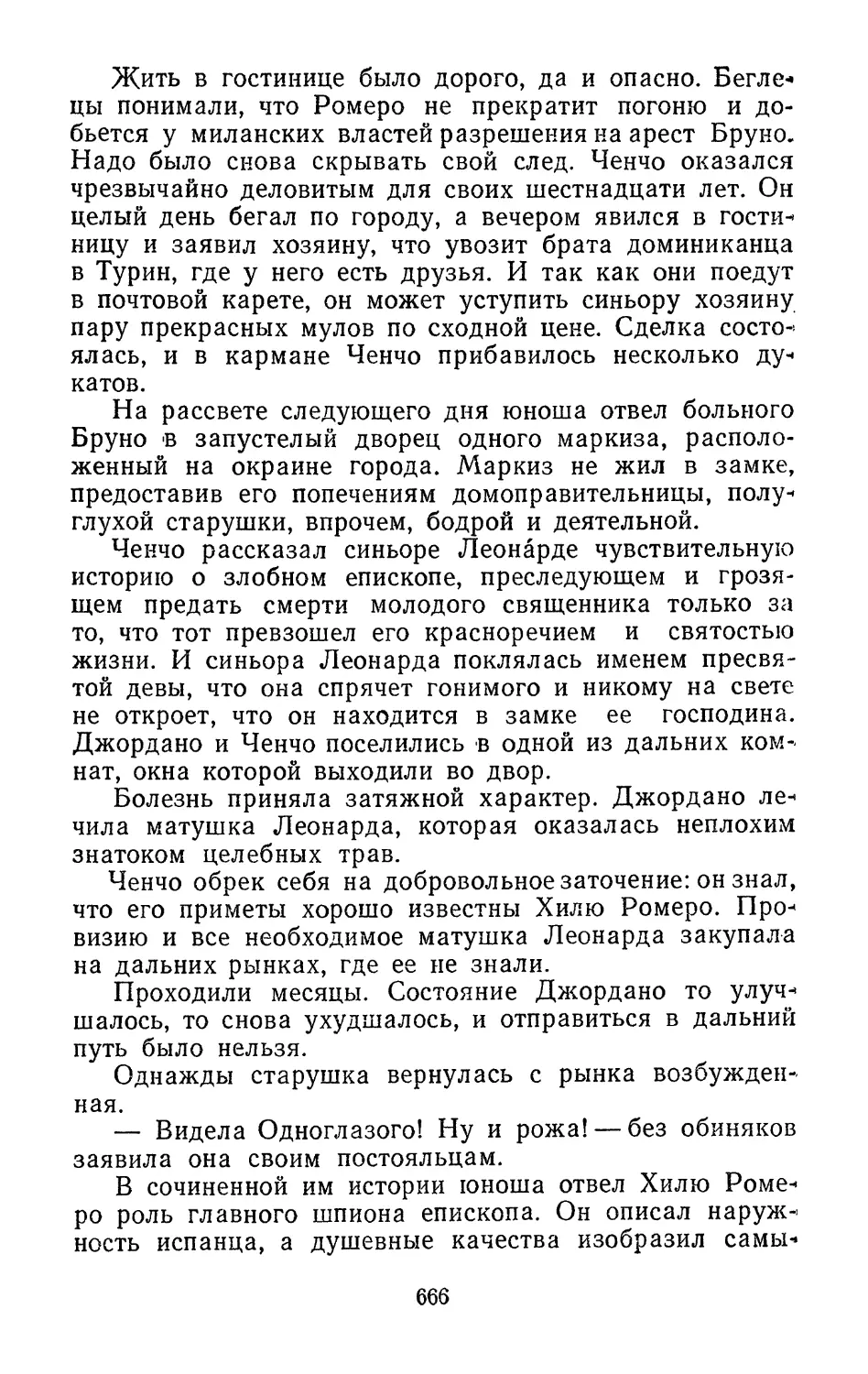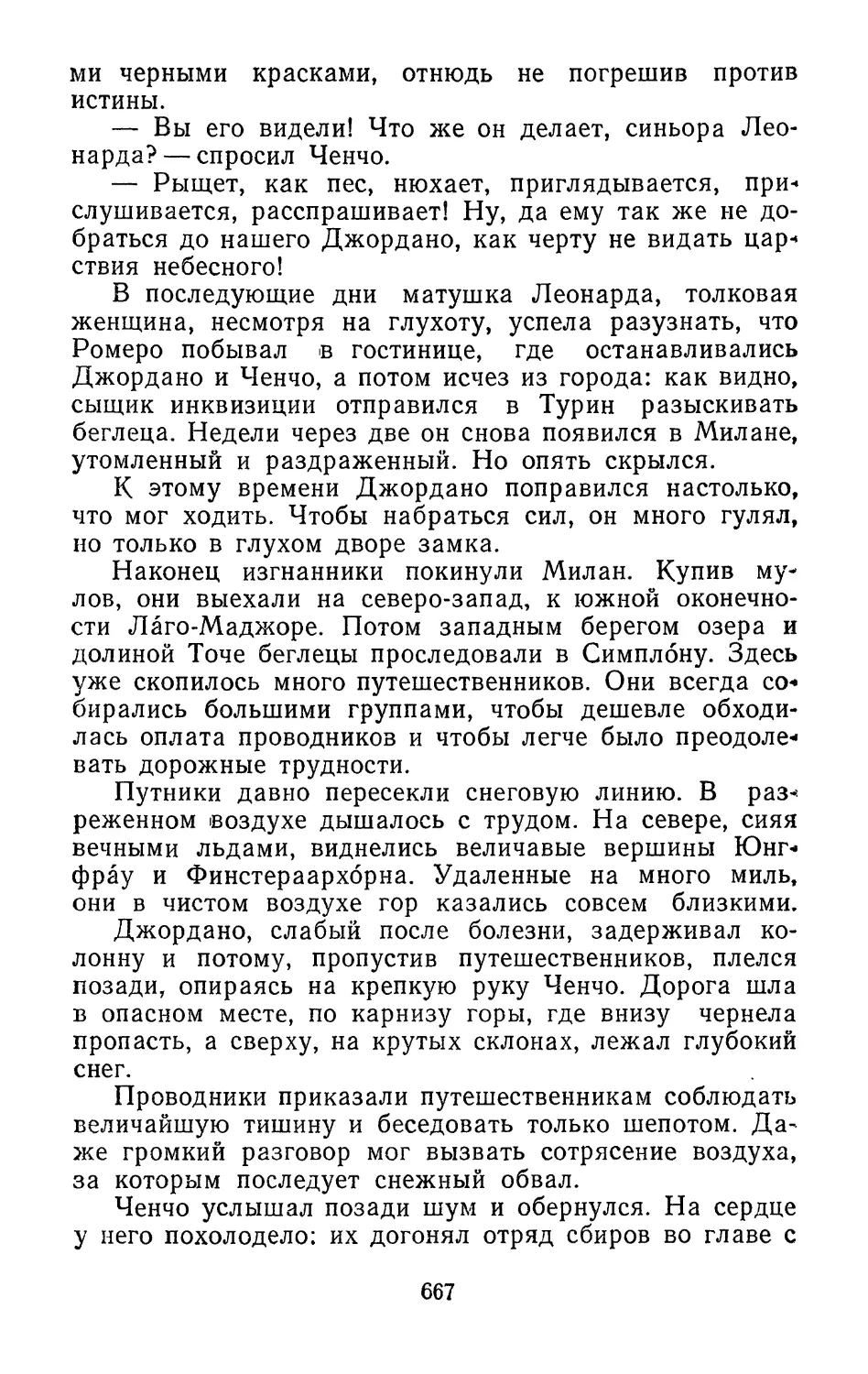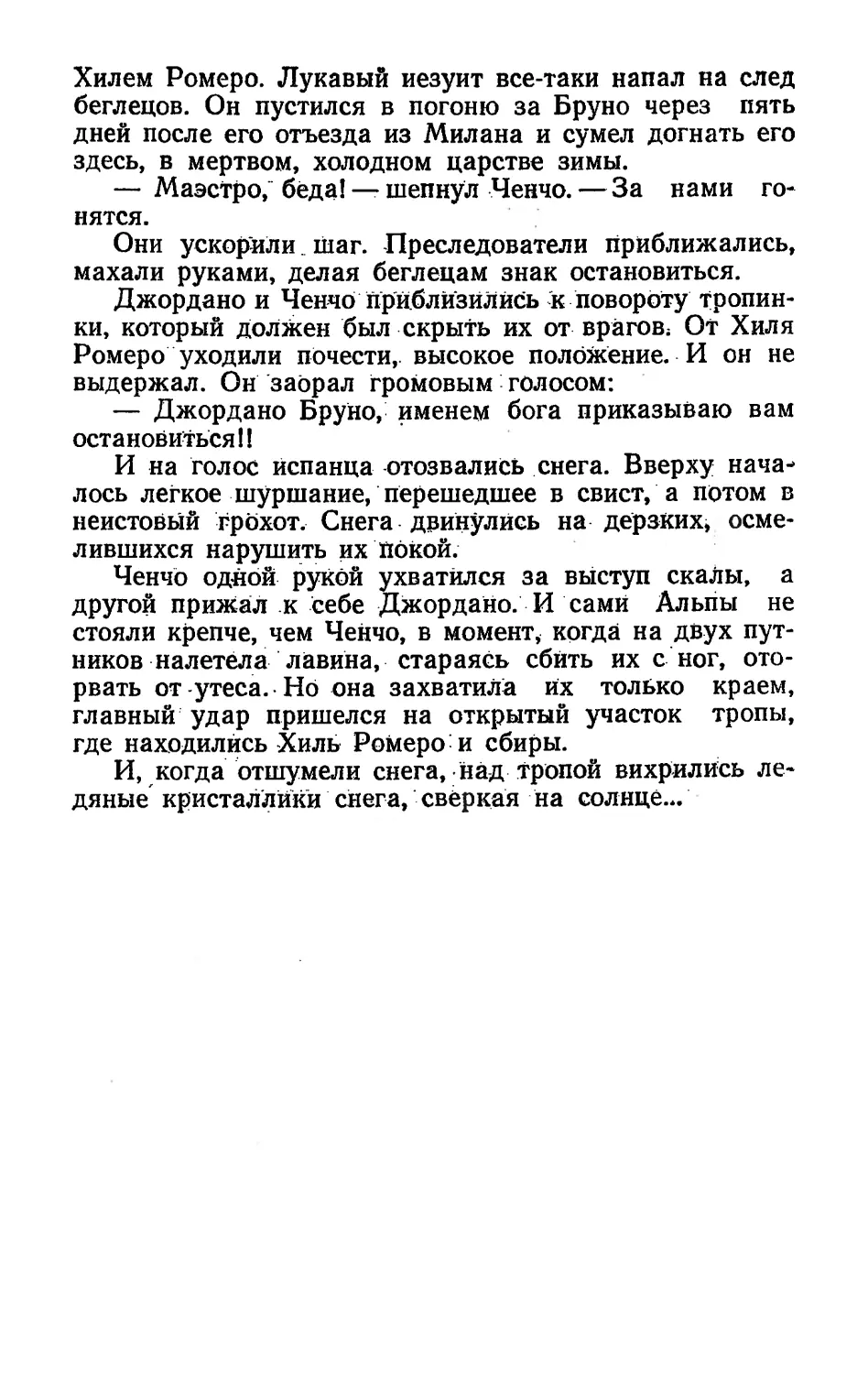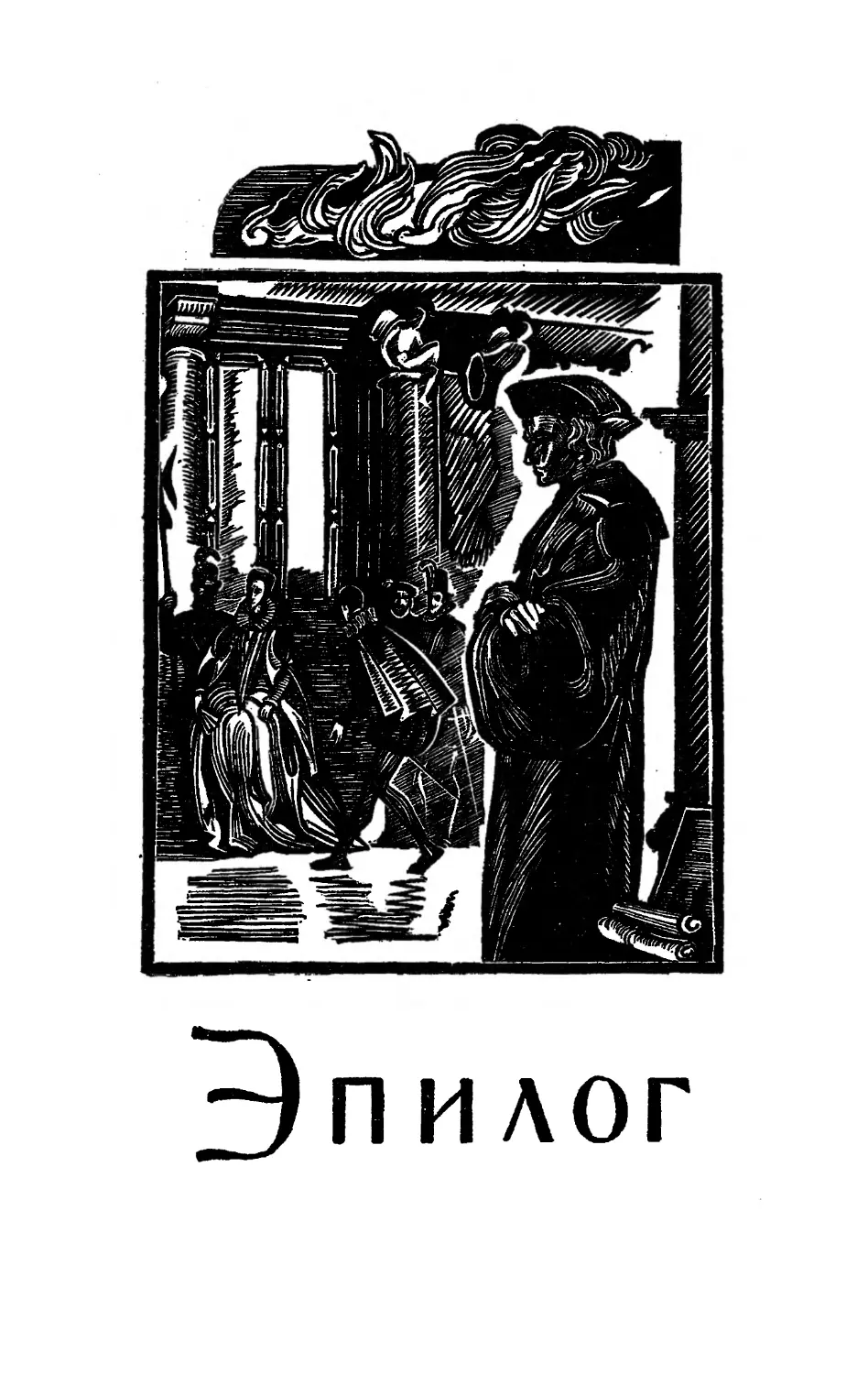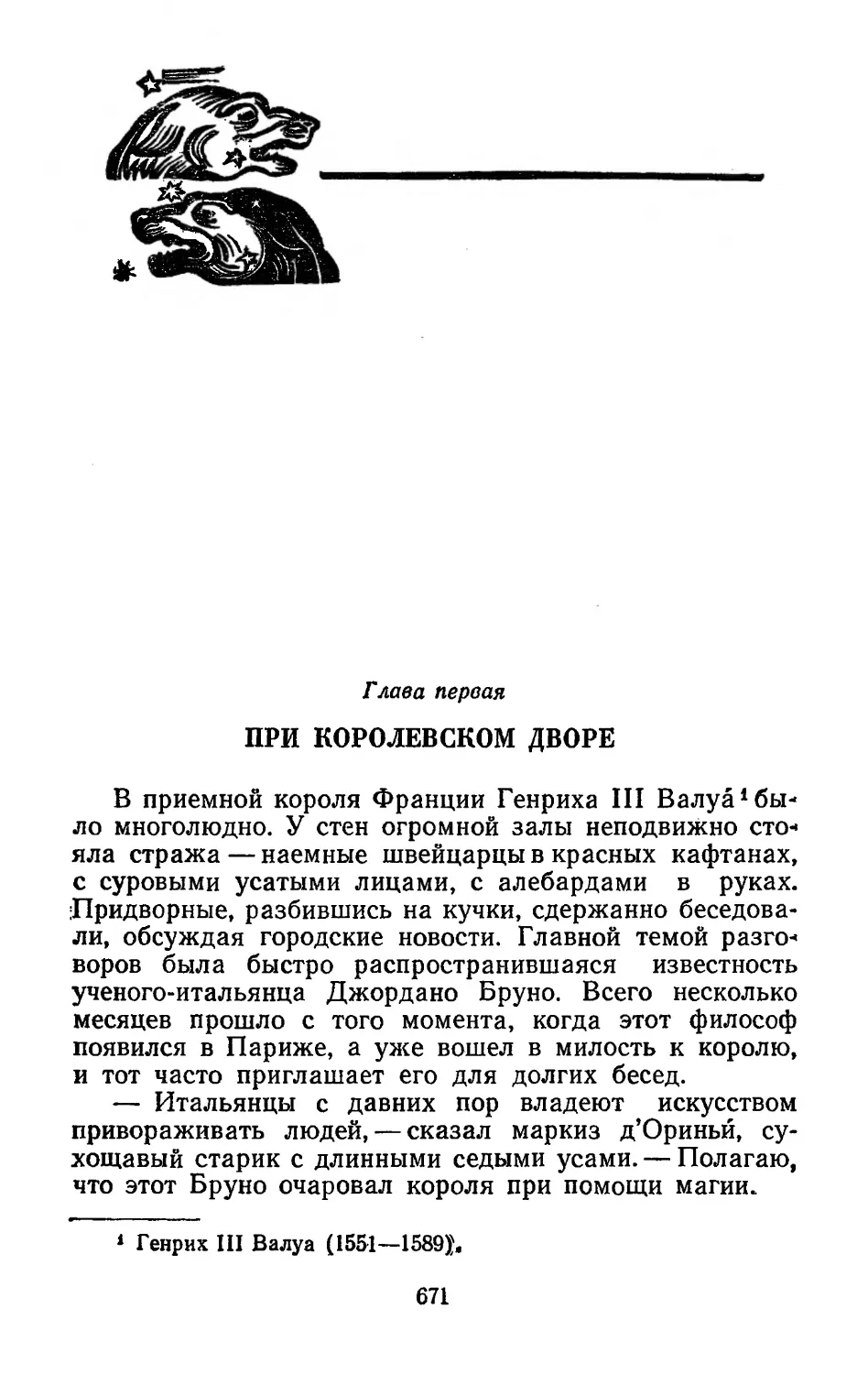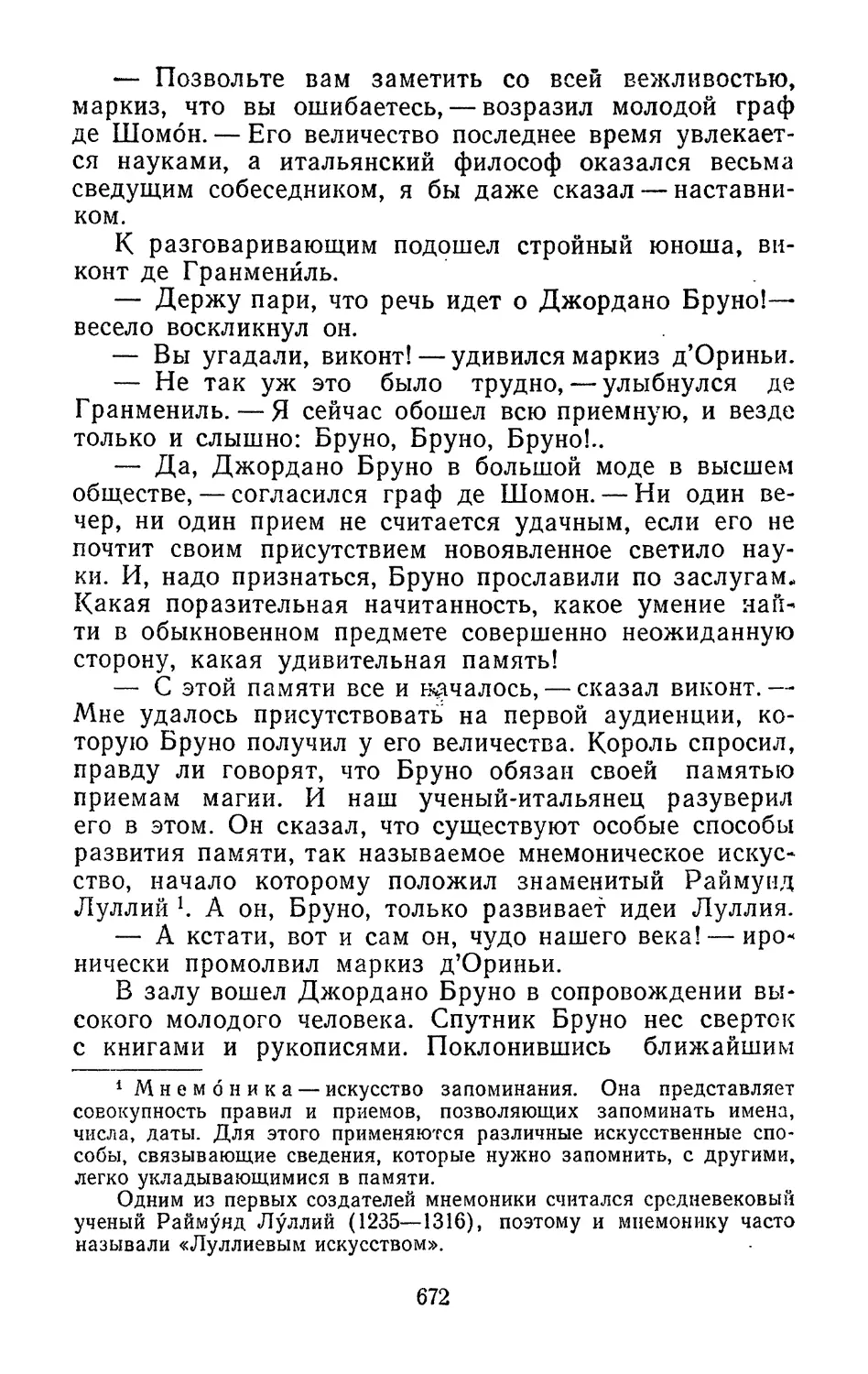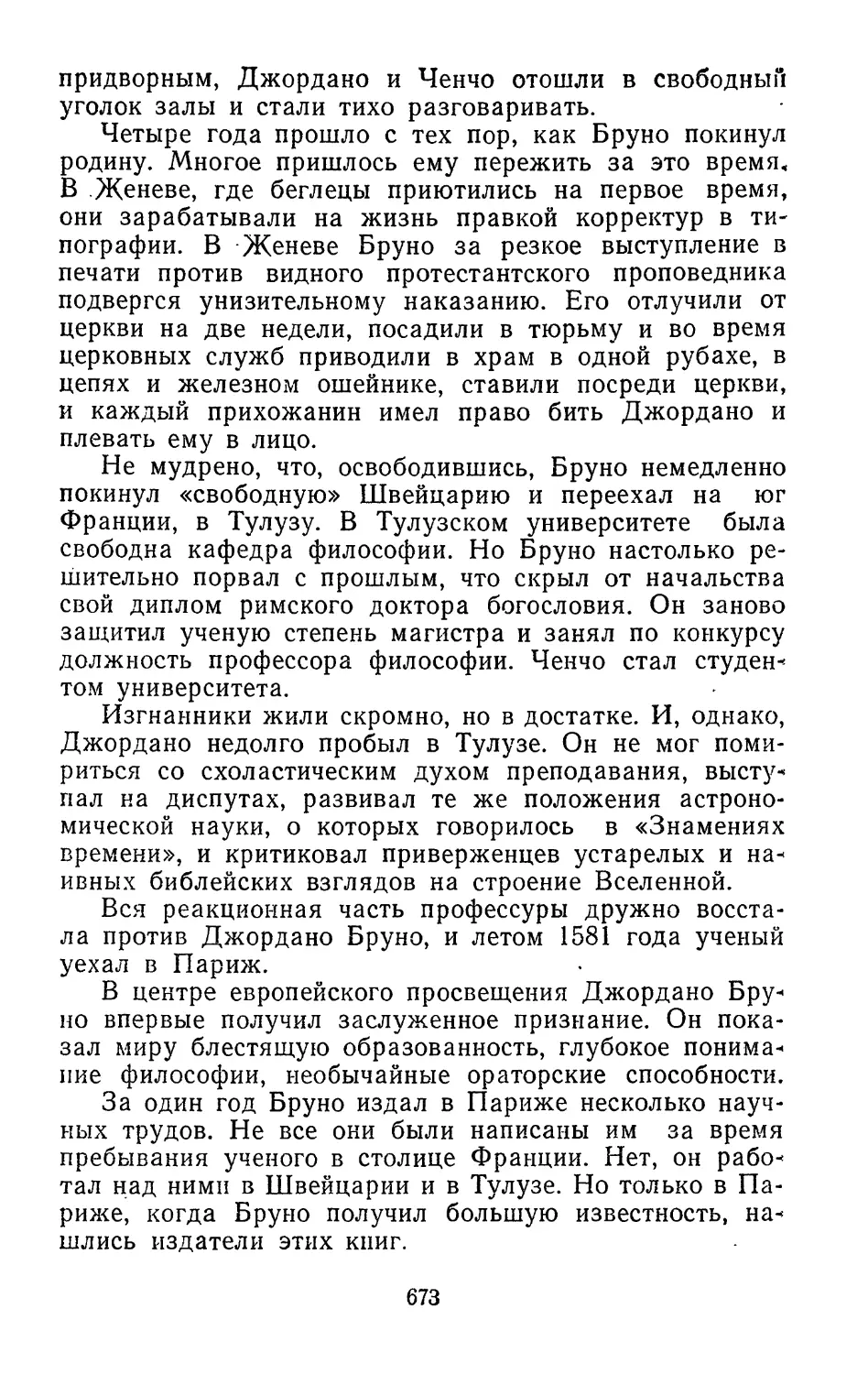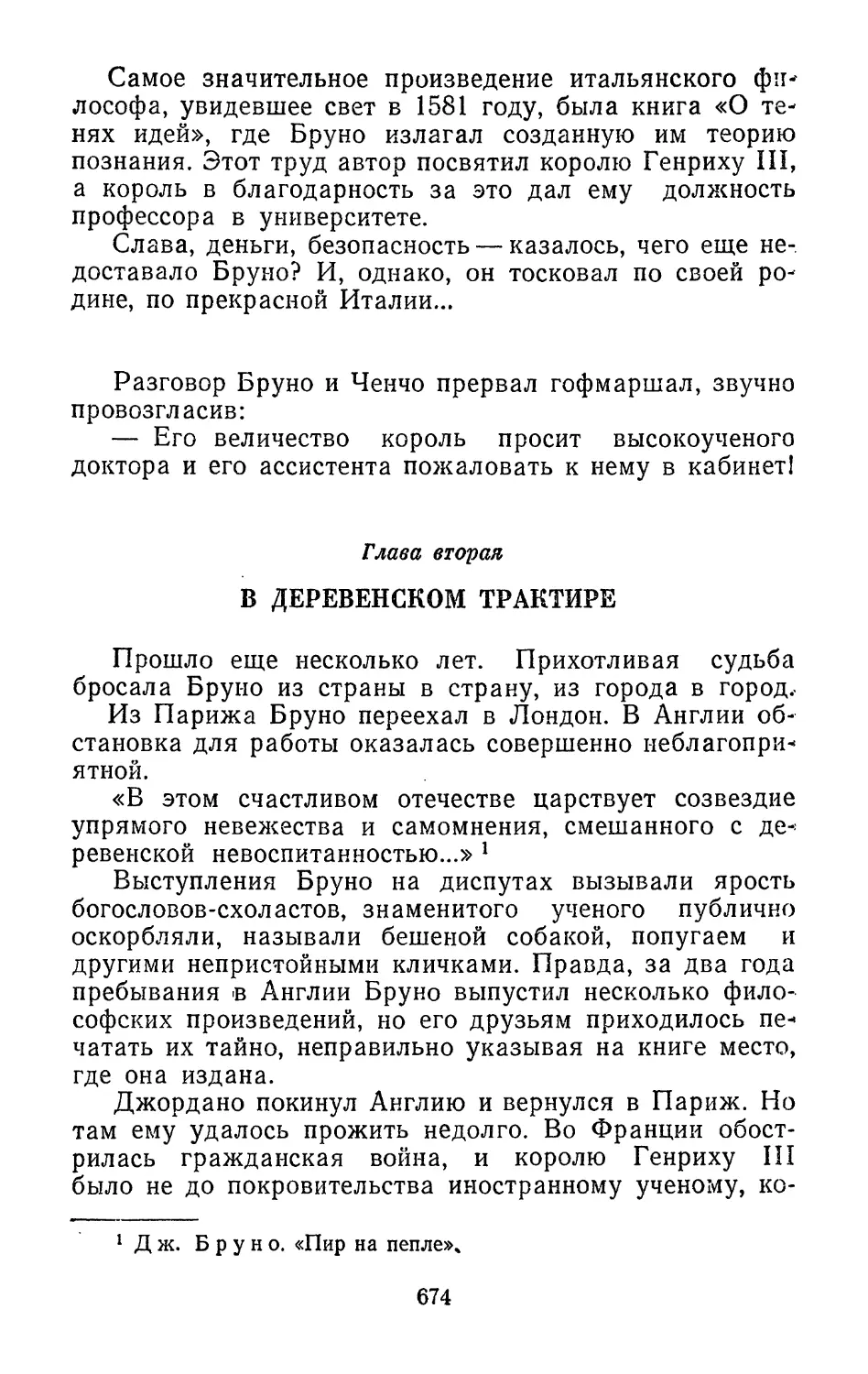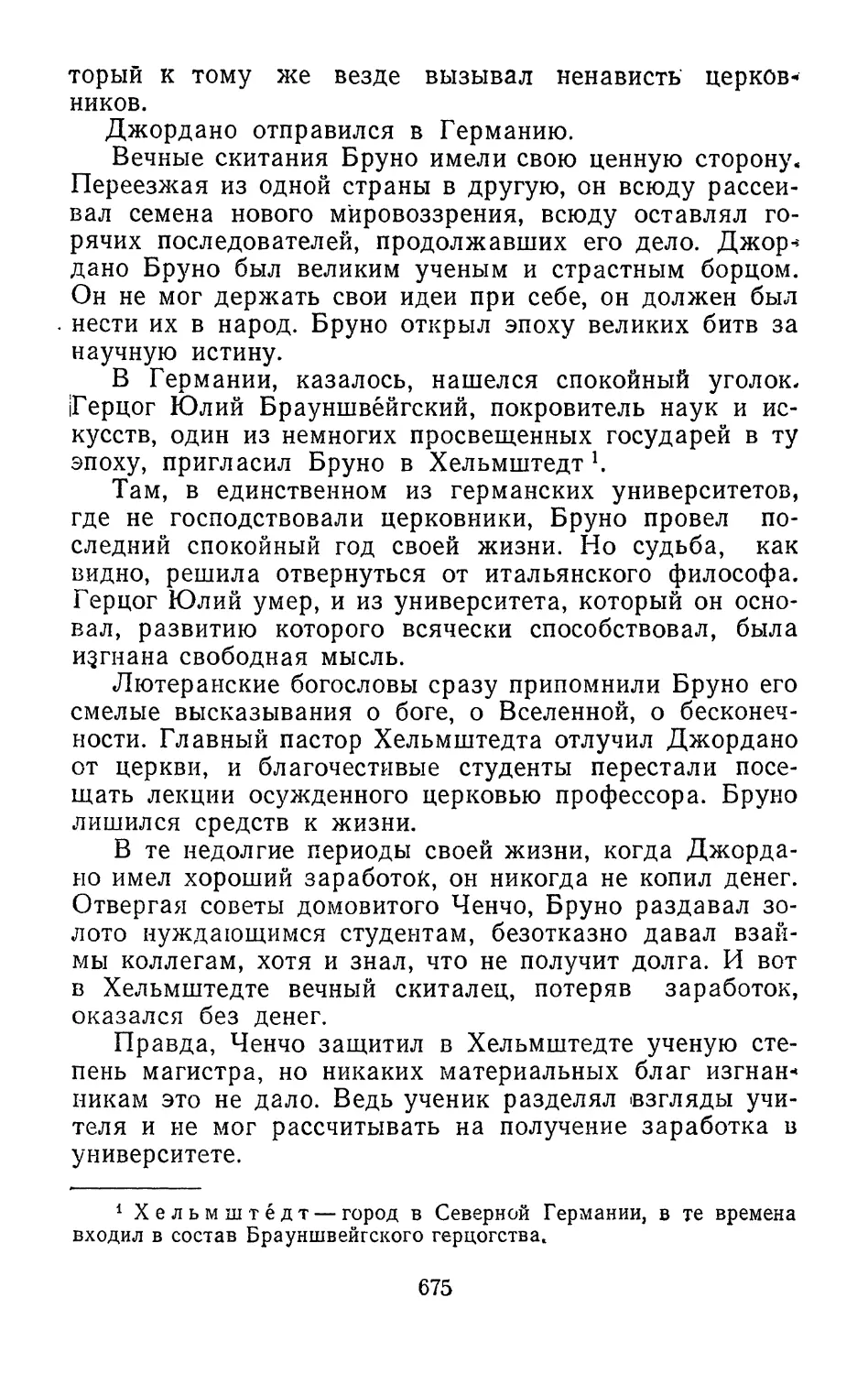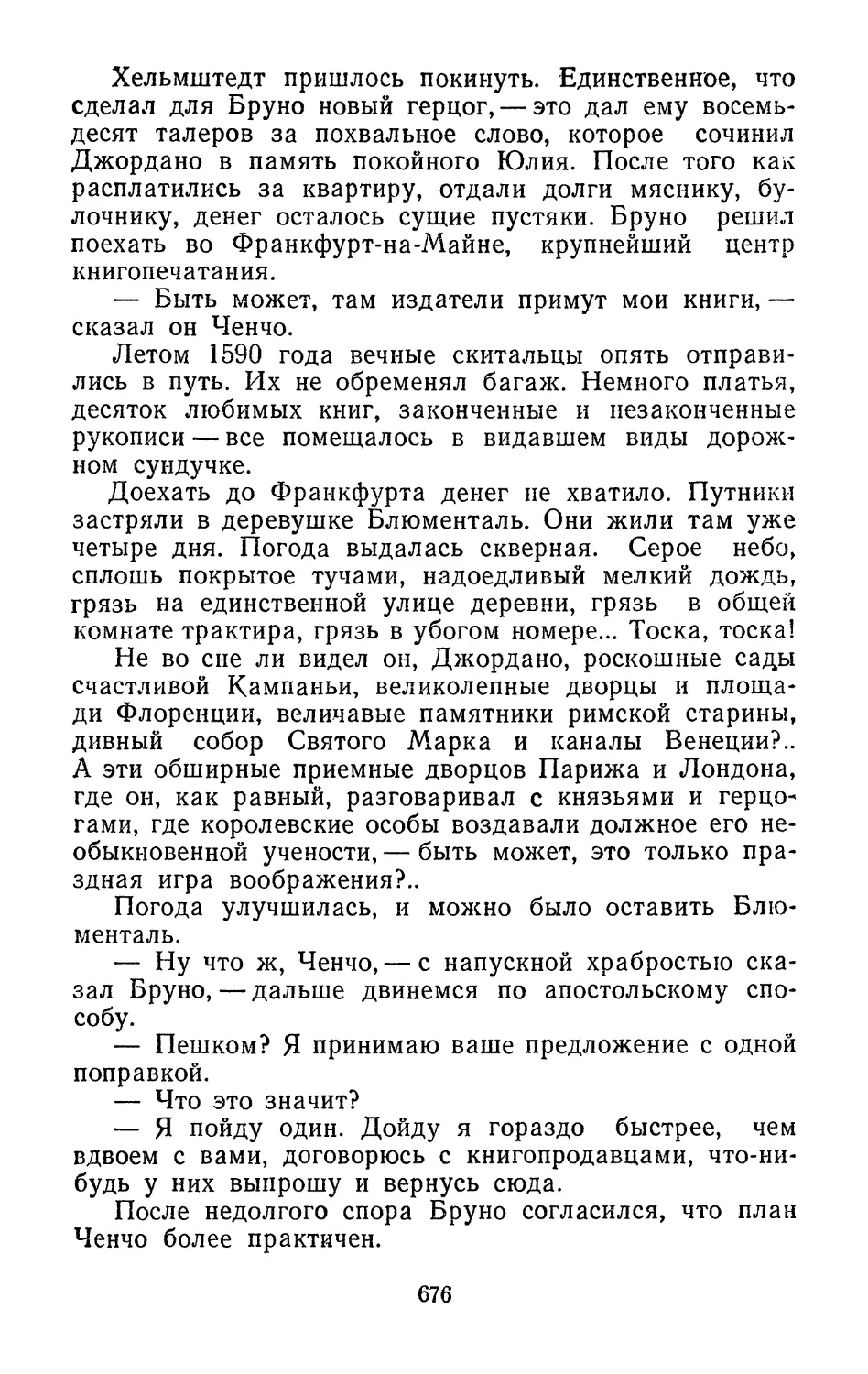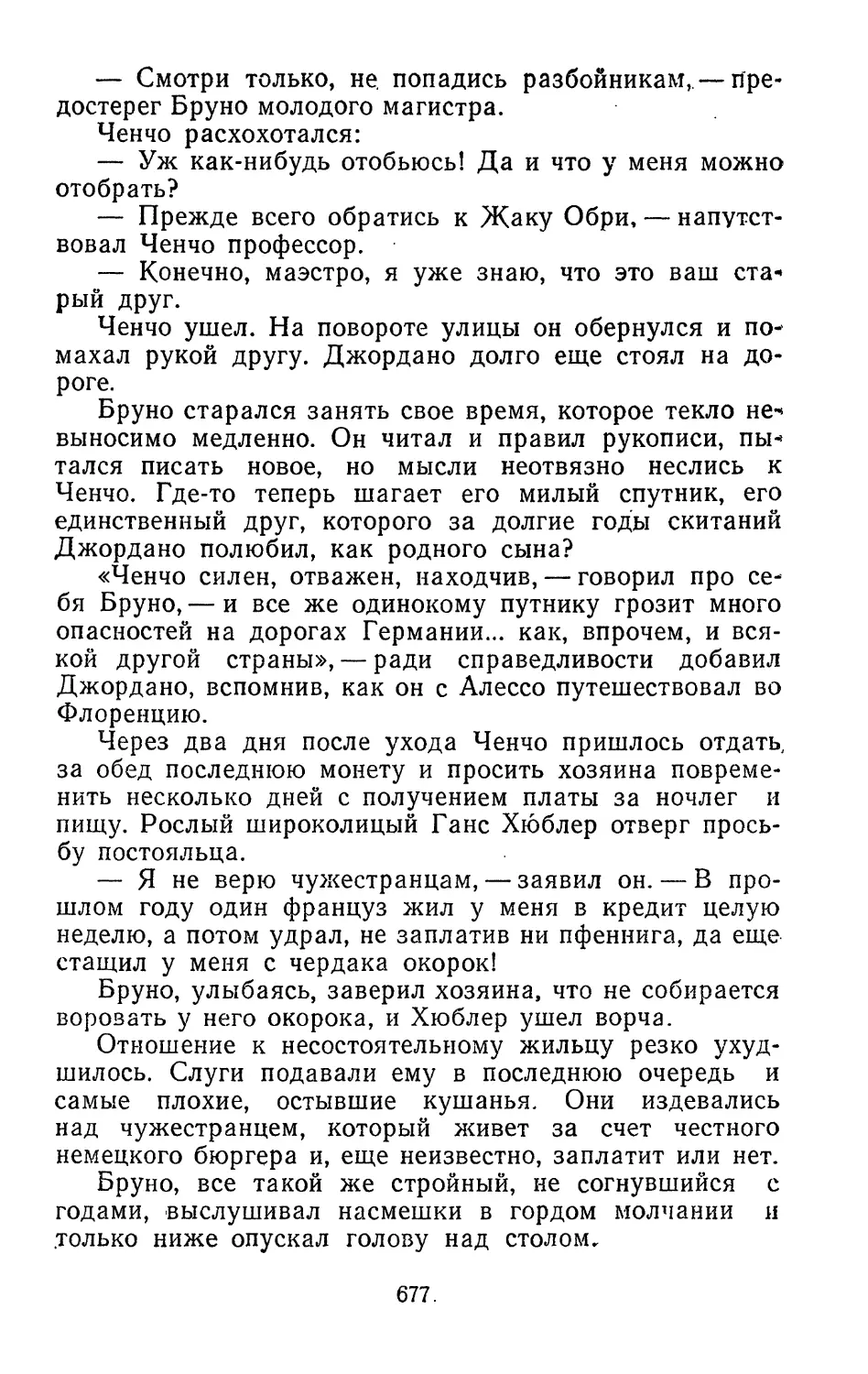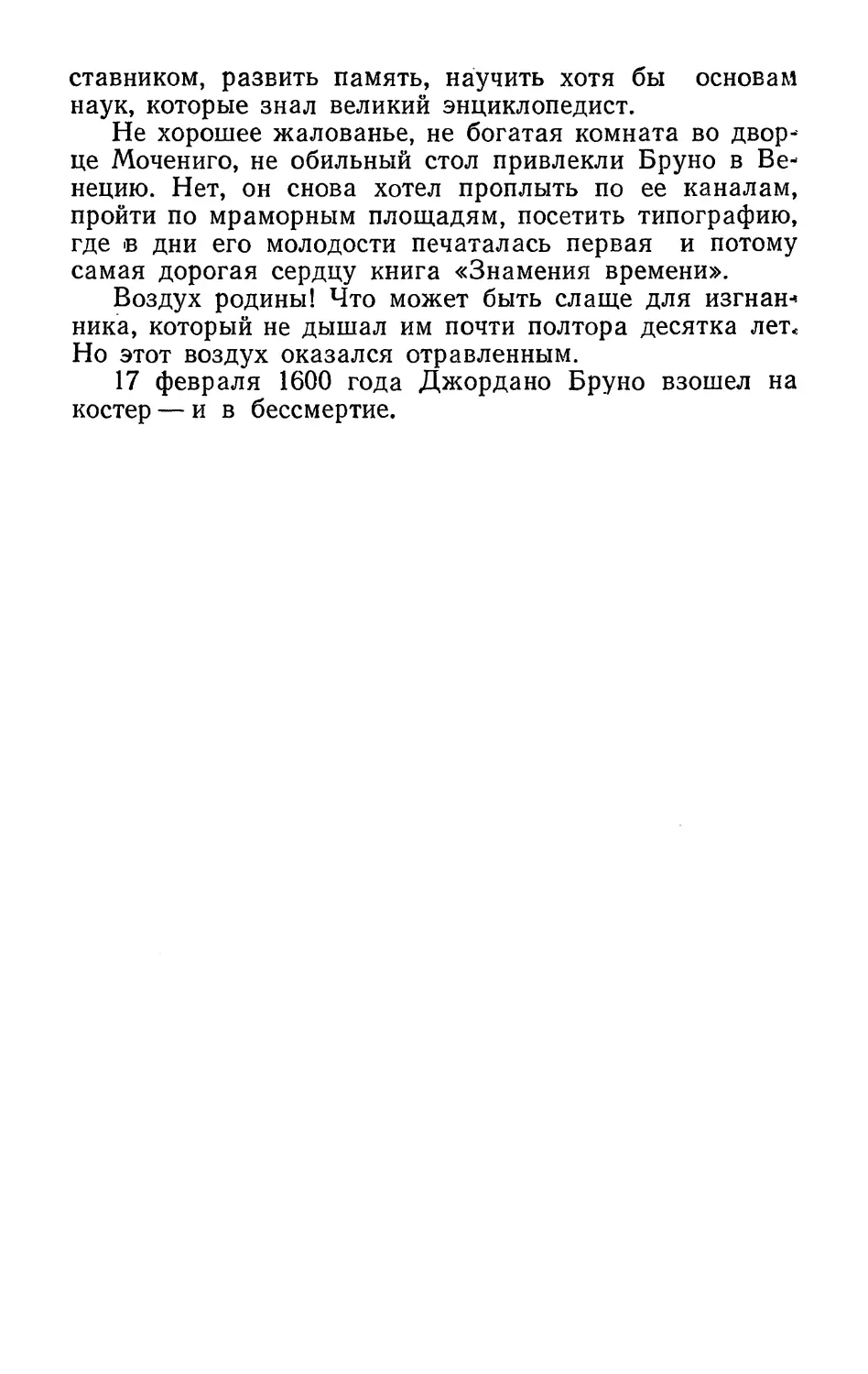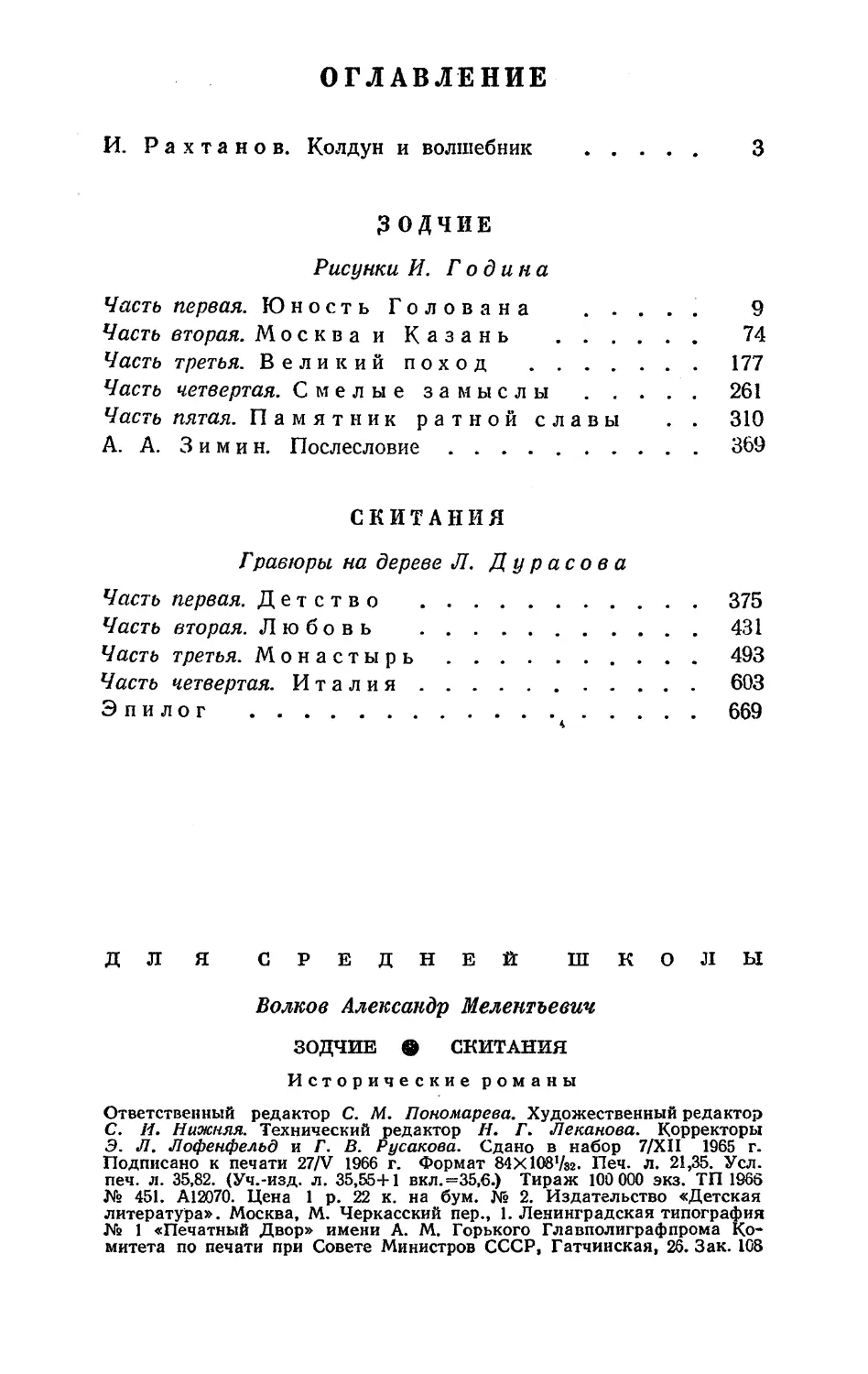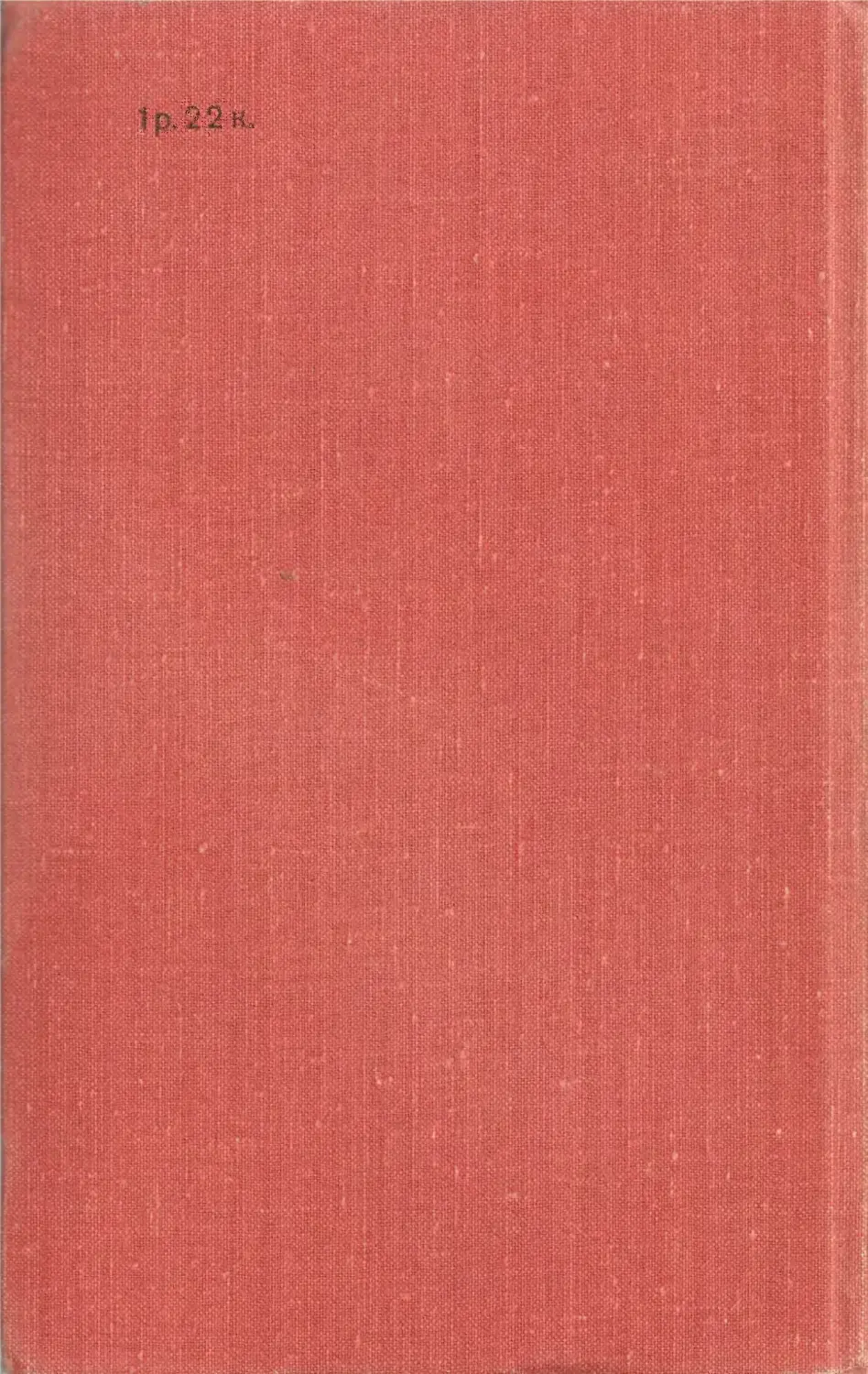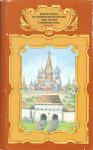Текст
Scan Kreyder - 05.08.2014 STERLITAMAK
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ
ЗОДЧИЕ
СКИТАНИЯ
Ь Ж в Л b С О
ликека ntu ка,11
Р2
В 67
Оформление Л. Дурасова
КОЛДУН И ВОЛШЕБНИК
Нет, вы сейчас не просто взяли с полки эту книгу, сели в кресло и начали читать. То есть, конечно, вы только что проделали все это, но вместе с тем вы, сами того не замечая, совершили нечто невероятное: перенеслись на четыре столетия назад, в шестнадцатый век, в эпоху Возрождения...
И помогла вам оказаться там именно эта книга, а точнее, ее автор писатель Александр Мелентьевич Волков.
Он старый колдун и волшебник. Помните? Еще в детстве вы слушали его чудесную сказку про девочку Элли, Изумрудный город, Страшилу, Железного Дровосека, Трусливого Льва и смешную собачку Тотошку... Не забыли?
А потом, что было потом? Потом, когда вы подросли и поднялись с первого этажа своей школы на второй, небесный свод со всеми его звездами и планетами открыла для вас другая книга, похожая и на сказку и на энциклопедию одновременно. Называется книга «Зем-ля и небо», и написал ее все тот же Александр Мелентьевич Волков.
Вы росли, изменялись ваши интересы, но всегда рядом с вами был этот писатель, зорко и внимательно наблюдавший за тем, как постепенно вы переходили из
класса в класс, как расширялись ваши знания и опыт, рос кругозор.
Вот, к примеру, вас заинтересовала история родной страны, вам захотелось поглубже заглянуть в ее прошлое, почувствовать себя рядом с людьми прежних времен— Волков снова тут как тут. Его романы: «Чудесный шар» и «Два брата» прочтены вами не просто с интересом, но и, как выражались в старину, с отменной пользой для себя. В них ожила отошедшая эпоха. Люди и события тех давних лет встали со страниц повествования и полонили ваше воображение, вы узнали о них в таких подробностях, что вам было легко составить целостное представление.
А. М. Волков обладает не только мастерством, по счастливым талантом в деталях, в подробностях передавать время п место действия, рисовать картины одну ярче другой. Он настолько хороший рассказчик, что, будь моя власть, я к каждому экземпляру его книги прикладывал бы еще и магнитофонную лепту. И уверен, что вы получили бы от этого удовольствие. Но пока еще, к сожалению, техника не дошла до осуществления моего желания...
Вернемся поэтому к той книге, которую вы только что раскрыли.
Итак, XVI век. Два романа, действие в которых развивается в XVI веке.
В первом из них пойдет рассказ о строительстве великолепного памятника в Москве, и теперь еще украшающего город, и если вы даже и не житель столицы и никогда не бывали в ней, все равно он знаком вам не по фотографиям, так по рисункам, потому что храм Василия Блаженного — одна из первейших достопримечательностей, чудо русского зодчества, лучшее его творение. Роман так и называется «Зодчие».
Прочитав его, вы узнаете, как шло строительство памятника, чем он отличается от соборов Святого Петра в Риме, от Парижской богоматери, от Святого Павла в Лондоне и почему я предпочитаю называть его не храмом, не собором, не церковью, а памятником. Дело в том, что построен он в честь славной победы над Казанским царством, этого великого торжества Руси, стряхнувшей со своих могучих плеч тяжесть татарского ига. И построен не для пышных и многолюдных молеб
ствии: в некоторых его приделах может одновременно разместиться разве что человек десять—пятнадцать. Явно, церковь эта строилась не для служения богу — отдельные части четверицы слишком малы, тесны, не приспособлены к этому.
Нужно было в камне запечатлеть гордое освобождение от злых захватчиков — вот памятник, камень, по условиям той эпохи, и принял форму церкви.
В самом водовороте народной московской жизни, у кремлевской стены, на высоком холме вознеслось это архитектурное чудо, созданное народными мастерами дерева, камня, железа, кисти.
Я не стану пересказывать вам содержание романа — книга у вас в руках, вы прочтете ее со всей внимательностью.
Второй роман перенесет вас с берегов Москвы-реки на юг Европы, в Италию, к подножию огнедышащей горы Везувий. Герой этой книги вам в общих чертах, безусловно, известен. Это великий сын итальянского народа, гениальный астроном Джордано Бруно. И если сегодня, на наших глазах, человечество осваивает космос, если сфотографирована обратная, невидимая часть Луны, то произошло это в какой-то мере вследствие того, что в XVI веке Джордано Бруно не отступил от своих взглядов, противостоявших догмам католической церкви.
Об этом вы, конечно, знаете из школьных уроков, ио рассказ Александра Мелентьевича не похож па урок. Живые страсти будут сопутствовать вам по мере чтения романа, и, едва начав его, вы отложите книгу лишь тогда, когда дойдете до последней фразы: «17 февраля 1600 года Джордано Бруно взошел на костер — и в бессмертие».
Я убежден, что эту книгу вы запомните навсегда, что навсегда в вашем сердце останется бессмертный образ борца за истину, за правое дело, за прогресс человеческой мысли, борца против бездарности, лицемерия, невежества, злобной ограниченности.
И, так как я верю в это, мне хочется, чтобы еще один образ нашел путь к вашему сердцу. Вы, вероятно, уже догадались чей. Да, того, кто своим трудом и талантом приблизил к вам и замечательных русских зодчих Постника и Барму, и великого итальянца, того, кто
в детстве рассказывал вам сказки, а в юности открыл небо над вашей головой. Мне хочется познакомить вас с автором этой книги Александром Мелентьевичем Волковым, в чем я и вижу задачу предисловия.
Писатель Александр Мелентьевич Волков родился в 1891 году в предгорьях Алтая, в маленьком сибирском городке Усть-Каменогорске. По профессии он учитель, педагог. Около пяти десятков лет каждое утро он входил в класс с журналом в руках, сперва в начальной, потом в средней школе, а несколько лет назад ушел на отдых доцентом Института цветных металлов и золота, где вел курс высшей математики.
Вот я только что написал: «ушел на отдых». Значит, перестал работать, успокоился, как говорят в на-роде, «залег на печи»... Ничего подобного не случилось. И сейчас, оставив педагогическую работу, Александр Мелентьевич Волков написал много книг.
Таков этот писатель. Мне очень хочется, чтобы вы полюбили его. А любить писателя — значит читать то, что он пишет, то, что он написал.
Переверните страницу. Здесь начинается исторический роман «Зодчие»; вы — в XVI веке.
И. Рахтанов
Зодчие
Часть первая
ЮНОСТЬ ГОЛОВАНА
Глава I
НА ОХОТЕ
•— Стреляй, Андрюша!..
Голос замер, и только свистящее дыхание показыва-ло, как трудно человеку в смертельном единоборстве со зверем.
Охотник и медведь, могучие, громоздкие, приникли друг к другу точно в дружеском объятии. Спина человека гнулась под косматыми лапами, но он удерживал-* ся невероятным напряжением мышц.
— Стре... ляй...
Мальчик лет двенадцати с луком в руке стоял непо-далеку; в лице его не было ни кровинки, но серо-зеленые, широко расставленные глаза смотрели решительно. Андрюша выжидал, когда медведь окажется под прицелом.
Удобный миг настал, и мальчик решился. Стрела впилась в голову медведя, возле левого уха. Острая боль
заставила зверя оторвать от спины охотника правую лапу и ощупать раненое место. Лапа опустилась с силой, сломала стрелу и загнала в рану. Зверь взревел.
— Испугать хочешь?
Охотник вывернулся, выхватил из-за опояски нож. — Тятенька, тятя!
— Беги за елку! — прохрипел охотник.
Но Андрюша не подумал бежать. Вторая стрела ударила в маленький, налитой кровью глаз зверя.
Полуослепленный медведь взревел еще яростней и бросился на человека. Тот, отскочив, ответил могучим ударом ножа в левый бок зверя. Смертельно раненный медведь, падая, хватил лапой по голове охотника. Удар смягчила шапка, и все же человек рухнул вниз лицом.
Только теперь Андрюша испугался по-настоящему. Он бросился к неподвижному телу отца, попытался перевернуть его. Но плотника Илью односельчане недаром прозвали Большим: Андрюша не мог сдвинуть его с места.
Долго возился мальчик около отца. Наконец Илья опомнился.
— Живой! Живой!—обрадовался Андрюша.
Илья попытался двинуться и не мог: слабость сковывала члены, голова кружилась.
— На деревню... в Выбутино беги, сыпок... Мужиков зови...
Андрюша огляделся.
Вечерело. В лесу, запорошенном снегом, было тихо. Ближайшие ели ясно виднелись от нижних широких лап до острых темных верхушек. Но дальше все сливалось в серебристо-мутном тумане. Андрюша вздохнул. Полянка, на которой лежал медвежий труп да слабо шевелился раненый охотник, показалась мальчику такой родной и уютной...
Однако не может же отец пролежать на снегу долгую зимнюю ночь!
— Я пойду, тятя, пойду! А ты-то как?
— Не бойся... Я отлежусь...
Встав на лыжи и оглядевшись в последний раз, Андрюша заспешил к дому. Вот следы. Они указывают обратный путь. Мальчик внимательно приглядывался к чуть видной лыжне. До Выбутина добрых полтора де
сятка верст наберется, и не скоро вернется он с помощью...
Андрюша бежал, сжимая лук в руке. В лесу быстро темнело. На беду, начал порошить снежок.
— Занесет следы, заблудишься... — со страхом шептал Андрюша.
И вот следы окончательно исчезли. Андрюша напрягал зрение: со всех сторон мерещились тропки. Где же настоящая?
Мальчик упал па снег п заплакал. В лесу раздался волчий вой.
Не разбирая дороги, Андрюша понесся по лесу. Через несколько минут он прислушался.
Вой донесся с другой стороны.
Или он сбился с направления, или волки окружали его. Надо было искать убежище.
Андрюша заметался среди деревьев, а волчьи голоса слышались ближе, ближе... Он попытался вскарабкаться на елку, но гибкие лапы опустились, осыпав его снегом. Было от чего прийти в отчаяние. Андрюша выбежал на поляну. Посреди стояла сосна с низко начинающимися ветвями.
Спасение!
Быстро вскарабкался Андрюша на дерево — и вовремя! На полянку выскочили волки и взвыли — не то с досады, по то с радости. Потом обступили сосну и уселись, как собаки, ждущие подачки.
Андрюша прижался к стволу. Время тянулось нескончаемо. Вдруг мальчик вздрогнул, покачнулся, а волки привскочили точно по команде. Оказывается, Андрюша задремал и чуть не свалился с ветки. Он распустил опояску, привязал себя к дереву.
Но спугнутый сон уже не приходил. Андрюше представилось, что отец погиб, и он заплакал... Вот и дрожь начала пробирать его. Оцепенение сковывало тело, мысли путались...
Андрюшу снял утром старый Ляпун, осматривавший силки. Мальчик был без сознания. Соорудив салазки, старик повез его в Выбутино, гадая, куда девался Илья Большой.
Афимья заголосила, когда в сенцы внесли бесчувственного сына. Она поняла, что с мужем случилось
несчастье. Андрюшу раздели, оттерли снегом. Мальчик бормотал:
— Тятя... медведь...
Больше ничего от него не добились.
Долго колесили охотники по лесу. Лишь к вечеру добрались до поляны, где дрался Илья с медведем. На снегу валялись обглоданные кости, виднелись пятна крови.
Мужики завздыхали, понурили голову.
— Покончился наш Илья...
Вдруг старик Ляпун воскликнул:
— Стой, мужики! Из берлоги пар идет!
В самом деле, из лаза поднимался легкий пар, заметный только охотничьему глазу. Кто в берлоге? Медведь или...
Еще не веря в счастливый исход дела, мужики двинулись к лазу, держа наготове рогатины и ножи.
— Кто, добрый человек? — послышался изнутри слабый голос.
Из медвежьей берлоги на четвереньках выполз Илья Большой.
Глава 11
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Силач и привычный охотник, Илья Большой быстро поправился после рукопашной с медведем. Но Андрюша заболел тяжело. Он лежал недвижно, сознание покидало его.
— Ужели помрет? — с тоской шептала Афимья.
Все знахари из окрестностей Пскова побывали около больного: нашептывали заклинания, поили наговорной водой... Мальчика уже приговорили к смерти, но он неожиданно начал поправляться.
Кончалась зима, когда Андрюша по-настоящему пришел в себя, поднял отяжелевшую голову, осмотрелся большими удивленными глазами. Все было привычное, родное, и, однако, казалось мальчику, что все это видит он в первый раз: он как будто сразу повзрослел.
Андрюша увидел себя на полатях, на куче мягкой рухляди. Над ним навис потолок, блестевший от многолетней копоти, точно покрытый черным лаком. До бо
лезни мальчик любил выцарапывать на потолке узоры острой лучинкой. Теперь узоры чуть виднелись под наросшей пленкой свежей копоти, и Андрюша понял, как долго он хворал.
— Мамка... — Андрюшин голос прозвучал тихо, пре-рывисто.
— Родненький! Кровинушка моя! Опамятовался!..— Афимья быстро влезла на полати и со счастливыми слезами приникла к сыну. — А мы уж не чаяли тебя живым видеть... Вот-то отец обрадуется!
— Мамка, а ноне какой день?
— Суббота, сыпок, суббота ноне. Ох, много мы суб-бот прогоревали!
— Тятька с работы не вернулся?
— Нету, да, гляди, вот-вот придет. Уж и обрадуется!..
Илья пришел поздно, когда в светце горела лучина, и сразу наполнил избу шумом, движением, раскатами сильного голоса. Узнав, что сын очнулся и разговаривает, Илья выразил радость по-своему: схватил Андрюшу с полатей, закружил на руках над головой, весело загрохотал:
— Ожил, сокол! Ничего, наша порода крепкая! Как, Андрюшка, скоро на охоту пойдем?
— По мне — хоть завтрашний день, тятя! — бодрясь, ответил мальчик.
Мать вздохнула:
— Угомону на тебя нет, Илья! Ребенок, сказать, из гроба встал, а ты опять...
Плотник, бережно подсаживая Андрюшу на полати, успокоительно промолвил:
— Да ведь мы, мать, по-шутейному. Куда парню в лес, он и на ногах стоять не может!
Андрюша насторожился: в холодных сенцах завозились, кто-то ощупью отыскивал дверь.
«Сбираются...» — подумал мальчик. Он любил субботние вечера, когда соседи сходились к отцу потолковать о делах.
Кто-то поколотил ногой в примерзшую дверь, отодрал рывком. В облаке пара показался Ляпуи, старик с изможденным лицом, спаситель Андрюши. Неторопливо поприветствовав хозяев, он сел. Явился молодожен Тишка Верховой, смущенно покрестился на образ, примостился на конце лавки.
Разговор не завязывался. Мужики вздыхали, почесывались, зевали. Начал хозяин:
— Отец Авраам грозился завтрашний день на село приехать — оброк добирать!
— Оброк? — испугался Ляпун. — Мы же сполна внесли, всё по уставной грамоте!1 — Старик, разговаривая, размахивал правой рукой; слушая, прикладывал руку трубочкой к уху. Ему повредил слух монастырский приказчик, ударив палкой по голове за дерзкое слово.
— Говорят, в деньгах нужда, — пояснил Илья.— Приедут с тиуном...2
— Тьфу! — злобно отплюнулся Ляпун. — Бездонную кадку не нальешь!
— А не платить? — спросил Тишка, пощипывая молоденькую рыжую бородку; он к ней не привык и всегда удивлялся, нащупав на подбородке кудрявые волосы.
— Хочешь, чтобы разорили, не плати! — сказал Илья.
— Можно, чай, к наместнику. Не по окладу, мол, требуют!
— «К наместнику»... Молчи, когда бог убил! — рассердился Ляпун. — Кто наместнику поминков3 больше даст — ты али игумен?4 То-то и оно!
Разговор прервался. Мужики вспоминали прошлое, те события, которые поставили их, бывших псковских горожан, под власть монахов Спасо-Мирожского монастыря.
От взрослых Андрюша Ильин не раз слышал историю о том, как потерял свою вольность Псков.
Началось это лет тридцать назад. По старинному договору с великими князьями в Пскове сидел московский наместник, но власть его была не велика. Городом правили выборные посадники, а важные дела решало вече, сходившееся по звону большого колокола.
С шумом и криком, иногда с кровопролитным боем решались вопросы, предлагаемые вечу. Но за народны
1 Уставная грамота определяла повинности монастырских крестьян.
2 Тиун — приказчик, управляющий.
8 Поминки — взятки.
4 Игумен, или настоятель,глава монастыря.
ми толпами, сходившимися стенка на стенку, незримо стояли посадники, бояре, богатые купцы.
Дела вершились не по справедливости, а в пользу наиболее сильного, кто подкупами и посулами сумел сколотить себе самую большую партию.
Раздоры и несогласия знатных ослабляли город и могли оставить его беззащитным перед врагом.
Великий князь московский Василий III, дальновидный собиратель земли русской и умелый строитель государства, с тревогой смотрел на псковские порядки. Псковщина граничила с землями Ливонского ордена. Псы-рыцари то и дело нападали на русские владения, жгли, грабили, уводили в плен.
Тревожное было время, когда немцы появились под стенами Пскова в 1501 году — при отце Василия, Иване III. Ливонский магистр Вальтер фон Плеттенберг привел пятнадцатитысячное войско. Псковитяне сами сожгли посады, расположенные за городскими стенами, и храбро отбивались от неприятеля, пока не подоспели на выручку московские воеводы Данила Щеня и Василий Шуйский.
Война окончилась бегством немцев в Ливонию. Но они снова приходили в 1502 и 1503 годах и опять отступили с большим уроном. Но если им удастся захватить Псков — это будет страшная угроза Московскому государству.
В 1509 году великий князь послал в Псков нового наместника — князя Ивана Михайловича из рода Репниных-Оболенских, человека сурового и немилостивого. У псковских посадников, бояр и богатых гостей1 начались нелады с новым наместником, в Москву полетели жалобы.
Василий Иванович приехал в Новгород в самом начале 1510 года и приказал недовольным псковитянам явиться к нему — получить ответ на жалобы.
В праздник крещения, 6 января, собрались посадники, бояре и богатые гости в архиепископской палате, а сотни младших людей стояли на морозе с непокрытой головой. Непокорный Псков ждал решения своей участи.
1 Г ости — купцы, торговавшие с другими городами или с зарубежными странами.
Московские бояре вошли в палату величавой поступью.
Прозвучали страшные для псковитян слова:
«Пойманы есте богом и великим государем...»1
Псковитяне опустились на колени и выслушали приговор Москвы:
«Вечу не быть; вечевой колокол снять и отвезти в Москву, к его старшему брату—вечевому колоколу Великого Новгорода; во Пскове будут сидеть два государевых наместника и решать все дела... И коли вы не покоритесь, много прольется псковской крови...»
В числе младших людей, посланных в Новгород от псковского простого народа, стоял на архиепископском дворе и дед Андрюши — Семен, Афимыш отец. Старик часто рассказывал внуку о былых днях.
Псковитяне покорились: Пскову ли выстоять против могучей Москвы!
Этим не кончилось. Опасаясь, что против Москвы начнутся козни, Василий Иванович приказал: триста знатных семей расселить по другим землям; на их месте посадить московских дворян и раздать им поместья изгнанных. И из Среднего Города, раскинувшегося между реками Великой и Пековой и окруженного каменной стеной, были выселены тысячи псковитян.
Москвичи переехали на житье в Псков. А в Москве, близ Сретенки2, возник целый поселок, под прозванием «Псковичи». Князь Василий III «подавал им дворы по Устретенской улице, всю улицу дал за Устретеньем», говорит летопись.
Родители Ильи Большого и Афимьи тоже лишились своих домиков в Среднем Городе; они, как и многие, не захотели уходить от родных мест и поселились в сельце Выбутино на берегу реки Великой, у последнего ее порога. Но земля здесь принадлежала древнему Спасо-Мирожскому монастырю, и вольные горожане попали в монастырскую кабалу.
Псковитяне жалели о потере самостоятельности родного города, но понимали, что без присоединения к Москве Псков мог попасть под пяту ливонских рыцарей
1 Эти слова провозглашались в тех городах, которые провинились против Москвы и попадали под власть московского великого князя.
2 Сретенка — улица в Москве,
и это было бы рабством. Лучше уж жизнь, хоть и труд* ная, под владычеством Москвы. Таких убеждений держались и старик Семен, и зять его Илья Большой...
Раздались новые удары в дверь. Вошел староста Егор Дубов, грузный, медлительный, с неподвижным, точно высеченным из камня лицом.
Из вежливости помолчали. Егор спросил:
— Об чем речь, православные?
Узнав, что из монастыря приедут за добавочным оброком, он молвил:
— А ведь боярским людям вроде полегчае...
— Славны бубны за горами! — насмешливо отозвался Илья.
— Нет, не говори! — оживился Егор. — Коли перечесть, что я в монастырь перетаскал с Петрова дня...1 и, боже мой! Туш говяжьих две, — староста загнул палец,— уток два десятка, — он загнул второй палец,—• курей три дюжины, кабанчиков два, яиц поболе четырех сотен, меду шесть пудов...
— У меня бычка годовалого отняли! — пожаловался Тишка Верховой.
— ...масла овсяного девять кадок, — продолжал Егор, загибая пальцы уже на другой руке, — чесноку вязок без счету...
— Вот жрут, дармоеды проклятые! — озлобился Ляпун.
— Это с нашего села, а сколько у них окроме деревень! Диво, братцы, — покачал седой головой Егор Дубов, — полсотни монахов, а какую власть над людьми забрали?
— Им так за святую жизнь положено, — усмехнулся Илья.
Мужики дружно захохотали.
Андрюша смотрел вниз серьезными неулыбчивыми глазами. Мальчик удивлялся, что мужики ругают монахов. Он видел иноков в церкви; они казались тихими и благостными, как праведники на иконах.
«Не боятся, что бог накажет...» — со страхом подумал Андрюша про вольнодумцев-взрослых.
1 Петров день — 29 июня (ст. ст.).
— Нет, как ни говори,— проворчал Ляпун, относя руку от уха, — а в старое время, в вольном Пскове, не в пример лучше жилось...
— Ты бы вспомнил сотворение мира! — непочтнтель-но фыркнул Тишка и осекся под строгими взорами старших.
— А еще бы не лучше! — согласился с Ляпуном Егор Дубов. — Одно то взять, как нас монастырь год от году утесняет, свои старые грамоты рушит. Бобровые ловы от нас оттягали — раз! Рыбные тоже — два!
Он снова пустил в ход корявые толстые пальцы. Трудная должность выборного старосты приучила Егора вести всему счет; и хоть мужик не знал грамоты, ио цепкая память и зарубки на деревянных бирках помогали ему без ошибок собирать оброки и рассчитываться с тиуном.
Выбутинцы любили угрюмого, неповоротливого Егора за честность, за то, что, не ослабевая духом, нес он мирскую тяготу и при всякой провинности односельчан первый скидал портки и ложился под розги.
Снова повздыхали, уставившись на стену. Там увидели привычное: юркие тараканы спускались с потолка, как всегда, когда прогревалась изба. К утру, лишь начнут промерзать стены, они пустятся обратно. Знакомая картина навела Илью на размышление:
— Вот, невелика тварь, а тоже ищет, где лучше!
— Уйду из Выбутина! Вот те крест уйду! — неожиданно воскликнул Тишка Верховой, возбужденно крутя бородку. Случайное замечание Ильи совпало с его затаенной мечтой. — Надел продам и подамся счастье искать!
— А покупщика найдешь?
— Найду!
— Вряд ли, — усомнился староста. — Ведь надобно за тебя внести и порядное и похоромное1, сочти-ка..« А впрочем, вас с бабой двое, може, и уйдешь!
— А земля? — спросил Ляпун.
— Что земля?
1 Порядное — налог, взимавшийся с покупателя в зависимости от земли и угодий; похоромное — налог с продавца.
— Батька твой распахивал деревню1, ты забыл? Пни корчевал, аж кожа на спине лопалась, да вдвоем с маткой с поля волок! Забыл?
— Вот только что пашня.,, оно, конечно... — забормотал Тишка и смолк.
— То-то и оно! — победоносно махнул рукой Ля-пун.— А они то знают и из нашего брата последнее выжимают...
Избу внезапно охватил мрак. Афимья, заслушавшись мужичьих речей, недоглядела за лучиной. Пришлось доставать угли из печи, вздувать огонь. Илья мягко пожурил жену:
— А ты, баба, позорнее досматривай!
Афимья поклонилась в пояс:
— Прощенья прошу, гостеньки дорогие!
— Что я еще скажу! — вспомнил Илья.— Говорят монахи, придет к ним с весны артель каменную церковь ставить.
Лица мужиков омрачились.
— Не было печали... — прошептал Егор Дубов.—-Старых мало?
— Изветшали, вишь, того гляди, обвалятся...
— Эх, — безнадежно махнул рукой староста, — теперь пойдет! То ли будем, то ли не будем сеять этот год. Уж я знаю, подводами замучают: кирпич вози, лес вози...
— Вот оно, мужицкое житье: как вставай, так за вытье! — произнес Ляпун и, кряхтя, поднялся с лавки.— Прощевайте, дорогие соседушки!
Он шагнул к двери, за ним Егор с Тишкой.
— Милости просим нас не забывать! — кланялись хозяева.
С этого вечера выздоровление Андрюши пошло быстро. Понемногу он начал ходить по избе, с трудом держа на плечах большую, не по возрасту, голову с высоким выпуклым лбом.
Ребята смеялись над Андрюшей: не голова — котел!
— Голова, вишь, к богатырю метила, а к тебе попала!
1 Деревней в старину называли и пашню («деревня» происходит от слова «дерево»; чтобы поставить деревню, надо было вырубить деревья).
— А может, я богатырь и есть? — спрашивал Афи-мыо тонким голоском маленький Андрюша.
Мать горько усмехалась:
— Куда уж тебе, сынок, с твоими силенками...
За несоразмерную свою голову Андрюша еще в ран-* нем детстве получил прозвище Голован.
Большую Андрюшину голову покрывали густые темные вихры. С непокорными волосами сына Афимья не могла справиться. Немало масла извела — и все без пользы. Прохожая странница посоветовала:
— А ты двенадцать вечеров подряд медвежий жир втирай: мягчит, родимая!
Но и медвежий жир, не переводившийся в доме охотника, не помог.
Глава 111
ПЕРВЫЕ ТРУДЫ
Когда Андрюша почувствовал, что руки его окрепли, он сказал:
— Мамынька, дай доску — рисовать стану.
Афимья уронила радостную слезу:
— Уж коли рисовать берешься, значит, и вправду на поправку пошло...
Дарование Андрюши Ильина проявилось рано.
Мальчик видел красоту там, где другие равнодушно проходили мимо. Андрюша собирал вырезные лапчатые листья клена, опавшие осенью: он выкладывал из них красивые узоры. Игра солнечных пятен на лужайке под старым дубом заставляла Андрюшу забывать всё на свете. Как зачарованный стоял он и смотрел, смотрел...
Родители ходили к обедне в Спасо-Мирожский монастырь. Андрюша уставал за долгой и скучной церковной службой; он уходил на кладбище срисовывать каменные надгробия.
Удачные рисунки отец сберегал. Лучший плотник в окрестностях Пскова, Илья Большой вырезал на досках любые узоры, деревянными кружевами украшал карнизы крыш, ворота, наличники окон. Искусство сына он понимал и ценил.
Когда Андрюше исполнилось десять лет, отец стал брать его на работу:
— Приучайся, сынок! Мы, плотники, как дятлы, век по дереву постукиваем...
Мальчик полюбил ранние выходы из дому. Весело было шагать по скрипучему снегу за высоким, сильным отцом, приятно ощупывать заткнутый за пояс, как у заправского плотника, топорик...
Мышцы у Андрюши окрепли, развился глазомер, рука привыкла отесывать бревно точно, по нитке.
Больше всего любил мальчик крыть с отцом крыши. Ему нравились смешные плотничьи слова, которым раньше придавал он совсем иной смысл.
Бык на селе большой, рыжий, злой; не раз мальчишки спасались от него за заборами. А тятька ставит «быки» на сруб, врубая один конец в «подкурётник»— верхнее бревно стены, а другой в «князевую слегу» — венчающий брус крыши.
Еще занятнее называл отец крайние стропила крыши: «курицы». Длинный брус курицы внизу заканчивался изогнутым корнем, предназначенным поддерживать водосток.
— Тятенька, корень мне обтесывать! — всегда договаривался Андрюша.
Отец давал ему волю. Плотно сжав губы, почти не мигая, мальчик всматривался в очертания корня. В такие мгновения он не видел окружающего. И чудилось ему, что из дерева проступает невиданная птичья голова пли морда страшного зверя...
— Поймал! Поймал тебя!—торжествующе вскрикивал Андрюша и начинал работать.
Илья дивился его неистощимой изобретательности. Андрюша не повторялся: всегда новые изображения выходили из-под его рук. Деревенские мальчишки, Андрюшины приятели, теснились вокруг резчика, с восторго1М наблюдая рождение причудливой головы.
На быки и курицы, схваченные поперечинами, наколачивался золотисто-желтый, пахнущий смолой тес; чтобы не сорвало его ветром, тес прижимался по верхнему ребру крыши «бхлупнем».
Тут. опять работа Андрюше: корневище охлупня обделывалось в форме конской головы. Так родилось выражение «конек крыши».
В окрестности знали и уважали Андрюшу Ильина не только ребята, но и взрослые.
— Золотые руки! — говорили о маленьком работ-* нике.
Плотник Илья Большой был страстный охотник. Бывало, крепился мужик и два и три месяца, исправно ходил в монастырь на работу, но становился все угрюмей, неразговорчивей. Тогда и монастырский келарь1 Авраам и семейные знали: скоро Илья сбежит в лес.
Он уходил тайком, до рассвета, заготовив нужный припас с вечера. Афимья, притаившись на печке, с улыбкой слушала, как муж бесшумно движется во мраке, собирает пожитки, достает из-под печки топор, подвязывает на спину сумку. Но боже упаси пошевелиться, показать Илье, что она не спит. Он яростно швырял топор под печку, закидывал куда попало котомку и целый день ходил чернее тучи.
Илья -верил, что только тогда охота будет удачной, если удастся убраться из дому незаметно и до самого леса никто не попадется на дороге.
Дней пять, а то и больше Илья пропадал в лесу и возвращался с богатой добычей: то тащил медвежьи окорока, завернутые в косматую шкуру, то привозил на самодельных салазках тушу лося. Белок и горностаев, чтобы не портить шкурок, бил Илья стрелой в глаз.
Илья приходил домой веселый, оживленный, разго-* ворчивый.
— Отвел душеньку! — посмеивался он над своей не-* уемной страстью. — Ах, и до чего хорошо в лесу! Век бы оттуда не вышел...
Из охотничьих трофеев Ильи львиная доля доста-* валась игумену Паисию и келарю Аврааму; поэтому монастырское начальство снисходительно относилось к исчезновениям Ильи.
Оброк Илья отрабатывал натурой: в монастыре довольно находилось дел по плотничьей части. А если у монахов делать было нечего, рачительный келарь от-* пускал Илью на заработки в соседние деревни, за что плотнику опять приходилось платить.
Возвратившись с охоты, Илья работал с особенным
1 Келарь — монах, ведавший хозяйством монастыря.
старанием, расплачиваясь за долги, которые умел на-» считывать на крестьян келарь Авраам. Но проходило время, топор начинал валиться из рук плотника: лес вновь манил Илью.
Обучая сына плотничьему мастерству, Илья Большой старался вдохнуть в него и любовь к охоте. Андрюша, как и его товарищи, стал обучаться стрельбе из лука с семилетнего возраста.
— Стрельба лучная, — объяснял Илья сыну, — всякому человеку годится. Не только охотнику, но и воину лук — помощь и защита. А воином, сынок, недолго стать. Набегут немцы — всем подыматься!..
Уже первые упражнения потребовали от Андрюши большой силы воли. Мальчик стоял неподвижно два-три часа, крепко сжимая в руке гладкую палку: этим развивалась сила пальцев, крепкая хватка. Потом отец сделал Андрюше маленький лук, учил целиться, считаясь с силой и направлением ветра. С годами лук становился длиннее, тверже, все больше силы требовалось, чтобы натягивать тугую тетиву.
Андрюша стал искусным стрелком и горячо полюбил охоту. Отец и сын уходили в лес вдвоем. Афимья горевала и ждала возвращения охотников. Все шло благополучно до последней, роковой охоты, которая надолго уложила мальчика в постель.
Хорошую избу построил себе Илья Большой, когда обветшала старая избушка, поставленная тестем Семеном после изгнания из Пскова. Трудов своих строитель не пожалел, а лесу вокруг сколько хочешь. Изба Ильи стояла на высоком подклете: там помещались телята, куры. Крестьянские избушки обычно рубились о семивосьми венцах: взрослые влезали в низенькую дверь скрючившись; распрямляясь, чуть не стукались головой о балку. А Илья поставил жилую горницу о двенадцати венцах: высокий хозяин едва доставал рукой потолок.
Мужики полушутя-полусерьезно звали жилье Ильи Большого хоромами. Оконные наличники и ставни, карнизы крыши — все было изукрашено резьбой.
Окно — око избы. Крохотные, подслеповатые окошки, словно маленькие глазки человека, придавали избуш
кам выбутинцев кислое, неприятное выражение. Хоромина Ильи смотрела весело, открыто, как и ее владелец —шумный, гостеприимный, добродушный. И недаром именно у Ильи собирались мужики провести субботний вечерок, единственный в неделе, когда над душой не висела мысль о завтрашней работе.
И все-таки изба топилась по-черному, как и все маленькие бедные избушки: деревня тогда не знала печей с дымовыми трубами. В курных избах сажа покрывала стены и потолок, свешивалась сверху клочьями. Большие и малые — все ходили чумазые, как трубочисты. Дым и грязь никого не смущали.
«То не беда, когда дымит густо, — рассуждали мужики,— а то беда, когда в брюхе пусто!»
Заботливая Афимья не терпела неряшества: целый день она скребла и мыла горницу или убиралась в под-клете.
Изба Ильи Большого стояла на берегу Великой, чуть пониже последнего, самого грозного порога реки, там, где она начинает плавный бег по равнине к недалекому Псковскому озеру.
Великая...
Какое очарование скрыто в имени реки, близ которой ты родился и вырос, в которой купался жаркими летними днями, по льду которой скользил на самодельных коньках...
Лет в десять-одиннадцать Голован прослыл первым пловцом в Выбутине. Было у деревенских ребят особое удальство, грозившее гибелью и потому манящее.
Целой ватагой уходили мальчишки за водопад и бросались в упругие, звенящие струи, чтобы выплыть на другой берег чуть повыше того места, где круто падал уровень воды и где течение приобретало неудержимую силу...
Стоило не рассчитать, ослабеть в борьбе с быстриной — и смельчака утаскивало в ревущий порог, откуда не было возврата. Так случалось почти каждый год. Но заходить слишком высоко никто не решался: над осторожными смеялись.
В опасной забаве Голован был первым: никто не бросался в стремительный поток ниже его, и изо всей гурьбы пловцов он достигал противоположного берега раньше всех.
Глава IV
НЕСЧАСТЬЕ
После памятной охоты на медведя и ночного сиденья на дереве Голован болел долго, но, поправившись, пошел в рост и стал набираться сил.
Весной отец усадил Андрюшу за псалтырь1. Илья умел читать и писать, что было редкостью на деревне. По целым часам сидел мальчик за толстой книгой в деревянном переплете и водил пальцем по закапанным воском страницам.
Его тянуло на волю; год назад он сбежал бы на речку с веселыми товарищами, но теперь не отходил от книги, пока не кончал урок. К концу лета Андрюша читал свободно.
Монахи не по-пустому толковали о новой стройке: Паисий, настоятель Спасо-Мирожского монастыря, начал ставить каменную церковь.
Исстари повелось: Псков славился каменных дел мастерами. Псковских искусников приглашали повсюду, где затевалось строительство больших каменных зданий или городских стен. В Новгороде, Ярославле, Костроме и в самой белокаменной Москве — всюду бывали псковские мастера, возводили палаты, храмы, укрепленные башни... Паисию за мастерами не пришлось далеко ходить. Церковь взялся строить известный на Псковщине Герасим Щуп с товарищами.
Мрачные предчувствия выбутинского старосты Егора Дубова оправдались полностью: монастырь завалил крестьян работой на стройке.
На каждую семью пала повинность: либо дай мужика-работника, либо подводу с лошадью. А так как мужик берег коня пуще жены и детей и не мог доверить его чужому присмотру, то с подводой отправлялся кто-нибудь из членов семьи.
Старик Ляпун, вытаскивая из грязи телегу с тяжелым грузом кирпича, надорвался и медленно чах, проклиная монашеское корыстолюбие. Илью Большого поставили главным по плотницким работам. Безлошад
1 Псалтырь — церковная книга, по которой в старину учили грамоте вместо азбуки.
ный Тишка Верховой пошел на постройку чернорабочим.
И хуже всего было то, что эта тяжелая повинность не засчитывалась в оброк. Оброк шел своим чередом.
Напрасно угрюмый Егор Дубов проявил несвойствен^ ное ему красноречие, уговаривая игумена и келаря записать мужикам в счет подати хоть часть работы на постройке.
— Богу работаете, не людям! — строго отвечал Паисий.— Монастырю подайте, что по грамоте положено, а для господа сверх сего постарайтесь!
— Отче преподобный, да когда же сверх-то? — взмолился Егор.— И так на работе кишки повымотали. Ля-пун-то кончается...
— Помрет — похороним за свой счет и поминать за службами безвозмездно сорок дён будем,— хладнокровно возразил игумен.
Упрямый Егор добрался с жалобой до государева наместника во Пскове, но старосту, как смутьяна, выпороли на наместничьем дворе: келарь Авраам раньше побывал у наместника с богатыми дарами.
Делать было нечего: мужики отдувались за всё.
На монастырскую стройку вместе с отцом пошел и тринадцатилетний Андрюша: он еще не видел, как возводятся каменные здания.
— Присматривайся, сынок! — ласково говорил Илья. — Рад буду, коли полюбится тебе каменное дело-По плотницкому мастерству ты, сказать, все прошел, а лишнее ремесло за плечами не виснет. Да и размах шире у каменных дел мастера: каменное строение вековечное, а деревянное — до первого пожара...
Герасим Щуп полюбил грамотного и усердного паренька и взял в ученье. Зодчий задавал Андрюше вычерчивать своды, колонны, заставлял придумывать узоры. И если Головану удавалось набросать новый изящный узор, учитель говорил:
— Вот мы и пустим его в дело. Пускай в этом храме и твоя малая доля живет. Ничего, что люди не узнают имени строителя: человек порадуется твоему творению— вот и награда!..
Зодчий учил Андрюшу составлять замесы для каменной кладки; по весу и звону кирпича, когда им ударяют о другой кирпич, узнавать, годится ли он в дело;
учил проверять правильность кладки отвесом и уровнем...
Один из жарких июньских дней 1539 года на всю жизнь запомнился Андрюше.
Каменщики, -в белых рубашках с расстегнутым воротом, в холщовых портах, обливались потом. Их босые, избитые до крови ноги цепко ступали по зыбким мосткам. Герасим бесстрашно ходил по краю стены, возведенной сажен1 на семь. Голован сидел в тени на груде бревен. Тополя щедро сыпали на мальчика нежный пух, с вершин деревьев доносился немолчный вороний грай.
Андрюша рассеянно смотрел вокруг. Спасо-Мирож-; ский монастырь был не из богатых: облупленные церк-* вушки с куполами-луковками под ржавым железом, по-^ золота с крестов облезла, монашеские домики-кельи пошатнулись в разные стороны... Каменная стена с раскрошенными зубцами окружала монастырь. На всем следы ветхости и запустения.
В монастырь шло немало приношений от доброхотных даятелей, но они залеживались во вместительных сундуках игумена и келаря.
«Жарко... — думал разморенный Андрюша. — Отпрошусь у наставника искупаться...»
Мальчик не успел подойти к Герасиму: на стройке началось усиленное движение. Каменщики быстрее забегали с ношами кирпича, творившие замес проворнее замахали лопатами в большом чану. На стройку пожаловал настоятель монастыря игумен Паисий.
Коротконогий и толстобрюхий, с рыжеватой бородой веером, игумен шагал важно, с развальцей, из-под лохматых бровей зорко смотрели заплывшие глаза. Служка тащил за игуменом кресло.
Ряса у игумена была из дорогой ткани, нагрудный крест искрился на солнце алмазами.
Утомленный Паисий приостановился; служка ловко подставил кресло. Монах сел, из-под руки посмотрел на высокую стену. К нему подбежал с докладом костлявый, остробородый Щуп.
— Худо строите! — разразился игумен. — С пятницы стену на аршин2 не подняли!
1 Сажень —• прежняя русская мера длины, немного больше двух метров; употреблялась до введения метрической системы.
2 Аршин — прежняя мера длины, равен 71 сантиметру,
— Отче игумен, больше подняли!
— Лжешь, грешник!
— Отче преподобный, промерь! — с лукавой усмеш-* кой предложил зодчий.
Игумен взглянул на семисаженную стену, на зыбучие кладки...
— Вдругорядь займусь, — прогудел он и двинулся дальше.
Щуп шел позади Паисия.
— Богу, не людям работаете,— брюзжал игумен.— Вы лишь о суетном думаете, об утробе заботитесь...
Осмотр постройки прервался возвращением монастырского сборщика отца Ферапонта. Игумену перенесли кресло в тень тополей, где укрывался от жары Голован. Ферапонт, высокий мужчина с угрюмым лицом и резкими ухватками, подошел к игумену под благословение, сдал запечатанную кружку, в которую опускались подаяния:
— Благослови, отче, в мыльню с дороги сходить!
— Успеешь! — буркнул Паисий, взвешивая кружку на руке.
Игумен распечатал кружку и высыпал содержимое на рясу, раздвинув колени. Потное красное лицо его еще больше побагровело от досады: перед ним грудилась медь и лишь кое-где сиротливо поблескивали серебряные деньги.
— Ты что, окаянный, — возвысил бас игумен, — смеешься? Серебро выудил?
— Освидетельствуй печати, отче! — хладнокровно возразил Ферапонт.
— «Печати»!.. Вы черта из-под семи печатей выкрадете! Пропил? Признавайся!
— Вот те бог, отче!..
— А кто тебя в позапрошлую среду видел в Сосновке в кабаке?
— Отец Калина! — ахнул сборщик. В живых, злобных глазах его мелькнул испуг.
— То-то, отец Калина!—торжествовал игумен.—За такую провинность в железах заморю... Эй, позвать келаря! На чепь нечестивца, в подвал!
Это было жестокое наказание. При всей своей смелости Ферапонт побледнел; он упал перед игуменом в мягкую пыль двора:
— Прости, отче святой! Бес попутал... Последний раз согрешил... Поставь на каменное дело! Заслужу!..
— Не помилую, не жди! — Игумен ткнул ногой валявшегося монаха.
Убедившись, что просьбы не помогут, Ферапонт встал, выгнул колесом грудь.
— Ну, попомнишь, игумен!—яростно проревел он.— Хрест на пузо навесил — так мыслишь, первый после бога стал? Святых иноков голодом заморил, стяжатель! В монастырь изо всех деревень и жареным и пареным волокут, а вы с келарем всё в город на продажу гоните...
— Когда гоним? Когда? Ты видел? — рассвирепел Паисий.
— А и видел, хоть вы по ночам обозы отправляете...
Мужики- бросили работу и прислушивались с удовольствием: перебранка монахов открывала многое, что прежде было тайной. Паисий и Ферапонт, разгорячись, поносили друг друга ругательными словами.
На дворе показались два инока с цепью. Увидев, что его свободе приходит бесславный конец, Ферапонт остервенился, сшиб с ног служку и бросился бежать. Подобрав полы рясы, патлатый, буйный, он несся огромными скачками.
— Держи злодея, держи! — орал игумен.
Встревоженные вороны с неистовым карканьем кружились в воздухе.
— Улю-лю, улю-лю!— озорно кричали и свистели каменщики. Никто пз них не тронулся с места.
Монахи погнались за Ферапонтом, а тот проскочил в калитку, грозно подняв пудовый кулак над присевшим от страха привратником, бросился в Великую и огромными саженками поплыл к другому берегу.
Охотников преследовать беглеца не нашлось.
Строители нехотя вернулись к прерванной работе. Надо было поднять наверх тяжелую балку. Ее подцепили канатами, продели канаты в векши1. Начался трудный подъем; огромное бревно медленно ползло вверх.
1 Векша — блок.
Зазевавшийся Тишка Верховой споткнулся, канат пополз из его потных рук.
— Ой, смертынька! — раздался тоскливый крик.—• Не сдержать!
Под тяжестью балки пополз канат из рук и у дру-гих. Бревно поехало с высоты назад. Оно угрожающе накренилось и, казалось, вот-вот рухнет, сокрушая подмостки, калеча и убивая людей.
На подмогу примчались Герасим Щуп и Голован, схватились за веревку. Но равновесие нарушилось, усилия людей не помогали. Поднялся шум:
— Держи! Спущай!
— Подтягивай! Подтяги-и-ва-ай!
— Бежим прочь, ребята!
— Де-е-ержи!..
На подмостки выскочил из недостроенного пролета Илья Большой:
— Криком изба не рубится!
Он схватился за канат. С неимоверной натугой держал он тяжесть, пока мужики не взбежали наверх и не помогли ему. Балку втащили.
Илья, шатаясь, спустился.
— Ноет рука, — признался он.
Келарь Авраам отпустил Илью с наказом завтра явиться пораньше. Тишку Верхового за провинность отпороли солеными розгами так, что он отлеживался две недели. Но Илье это не помогло: он не вышел на работу ни на следующий день, ни через месяц. Невыносимая боль сверлила и днем и ночью правую руку. Потом боль утихла, но рука высохла: плотник повредил сухожилие.
Илья Большой стал калекой, но не пал духом. Работая и учась под старость так же упорно, как смолоду, Илья наловчился и левшой делать кое-какие немудреные поделки. Но слава и цена ему как плотнику упала.
Больно переживал Илья, что не бродить ему больше по лесам с рогатиной, тугим луком и запасом стрел.; Всю охотничью страсть отдал мужик рыбной ловле. На вечерней и утренней заре часто сиживал он на берегу Великой, склонившись над удочками.и
Глава V
НЕОЖИДАННАЯ УГРОЗА
Прошло несколько месяцев. Когда окончательно выяснилось, что Илья лишился руки, его вызвал игумен.
— Так-то, чадо, — пробасил Паисий, поигрывая нагрудным крестом. — Посетил тебя господь, видно, за грехи. Уж ты монастырю не работник, и нам тебя не-надобе. Выселяйся-ка из Выбутина.
— Как выселяться? — бледнея, спросил Длья.— А изба моя? Куда же я денусь?
— Сие — не моя забота. Да ты не печалуйся: бог и птиц небесных питает, а они ни сеют, ни жнут; найдешь и ты приют...
Кое-как упросил Илья игумена оставить его в Вы-бутине. Настоятель согласился только потому, что Илья был крестьянин непахотный, земельного надела не имел. За это «снисхождение» Илья обязался платить по рублю на год — немалые деньги для крестьянина.
Илья стал делать на продажу корыта, коромысла, кадочки. По вечерам ему помогал сын, и работа спорилась. Раза два в месяц брали лошадь у Егора Дубова и везли наготовленный щепной товар в город, на рынок. Распродавшись, Илья и Андрюша закупали муку, мясо и прочее съестное.
Жизнь стала налаживаться, но спокойствие семьи нарушили новые притязания игумена Паисия.
Илье Большому приказано было вновь явиться к настоятелю и с сыном.
Дородный и краснощекий Паисий утонул в кожаном кресле; ноги его нежились на медвежьей шкуре, подаренной Ильей после удачной охоты. Илья и Андрюша почтительно стояли у порога с шапками в руках.
Небедно жил Паисий. Просторную игуменскую келью со слюдяными окошками обогревала нарядная изразцовая печь. Лавки устланы коврами. Передний угол уставлен иконами в драгоценных окладах; перед иконами горели толстые восковые свечи. В огромных окованных сундуках хранилось игуменское добро.
— Вот, чадо, — обратился к мальчику Паисий рокочущим басом, — невдолге кончится наше строительство
и твой наставник Герасим покинет сии места. А ты что на мысли держишь?
Голован покраснел и не вымолвил ни слова. Ответил отец:
— У отрока своего ума нет, отче игумен, за него родители думают.
— Сие правильно! — одобрил игумен.— Как же ты полагаешь, Илья? Не смекал о сем? Так вот мое слово: отдал бы Андрея к нам в монастырь. Грамоте он, ведаю, обучен, и житие ему у нас будет беспечальное, легкое... В миру скорбь, забота, в миру грех повсюду ходит, а у нас тишина, у нас все помыслы ко господу. Сладостен труд жизни подвижнической!.. Ну-ка, что на сие ответствуешь?
А сам думал: «Сладостно я пою, аки рыба сирена, про которую в древних баснях повествуется. Будто и не стоило бы мужичье уговаривать, да парень нужный, пользу от него большую можно получить...»
Илья и Андрюша молчали. Опущенные к земле глаза мальчика наполнились слезами. Настоятель пытливо вглядывался в лица отца и сына, стараясь разгадать их мысли. Не дождавшись ответа, снова начал убедительно и мягко:
— Может он у нас изографом 1 стать: ведаю, у него на то талант. А у нас дело найдется: ты видел, как лики угодников потемнели. Поновить, ох как надо поновить святые иконы! И сие есть дело богоугодное. Опять и то, Илья, в толк возьми: был ты могутной мужик, а стал калека. Сынок мал, тебя с бабой прокормить не в силах. Да он же к крестьянскому труду и не способен. Вишь, у него голова-то, оборони ее Христос, совсем не по тулову. Где ему мужичьи тяготы снести! Под оконь-ем с сумой ходить станете... А коли сделаешь по-моему, монастырь всю вашу семью призрит, опекать будем даже и до смерти вашей. И рубль на год за пожилое2, что ты обязался платить, прощу... Решай!
— Убожеством меня, отче, не кори, — угрюмо сказал Илья, — убожество я на вашей же работе заполучил! Кабы я крестьянские избы строил, той беды со мной не случилось бы...
1 Изограф — иконописец или живописец.
2 Пожилое — налог за право проживания.
— На всё божья воля, — успокоительно прогудел игумеп.
Илья был на этот счет другого мнения, но высказать его не решился: с настоятелем ссориться не приходи-» лось. Выгонит из села — и ступай на все четыре сто-» роны.
— Какова твоя думка, сынок? — ласково обратился Илья к Андрюше.
Долго сдерживаемые слезы покатились из глаз мальчика. Всхлипывая, он прошептал:
— Не знаю, ничего не знаю, тятенька! На твоей я воле...
Илья задумался. Потом поклонился, заговорил тихо:
— Такое дело, отче, одним часом не решается, великое надо размышление. Мне слово сказать, а Андрею целой жизнью за то слово расплачиваться...
Голован благодарно пожал здоровую руку отца. Как ни слабо было пожатие, Илья его почувствовал и понял. И еще решительнее закончил:
— Земно кланяюсь, отче игумен, за великие твои милости! Ответ дам в скорых днях.
Илья и Андрюша поклонились Паисию в ноги, приняли благословение и вышли. Тень досады скользнула по упитанному лицу игумена и исчезла.
— Будет по-моему! — прошептал он. — Деваться нм некуда?
Дни шли, а решение Андрюшиной судьбы все откладывалось. Илья понимал, что монашество — несчастье для мальчика: оно разобьет все его надежды на будущее. Но прямо отказать Паисию Илья не решался: он знал злобный, мстительный характер монаха.
Однако долго тянуть с ответом не приходилось: Паисий не раз присылал служку с напоминанием, что Андрюшу ждут в монастыре.
Субботним вечером у Ильи собрался маленький совет: обсудить дело пришли полюбивший мальчика Герасим Щуп и староста Егор Дубов. Андрюша, лежа на полатях, с затаенным дыханием прислушивался к разговору, который должен был решить его участь.
— Я б взял мальца в свою артель, — сказал Герасим.— Хоть он еще и невелик, а работать способен» Хлеб свой завсегда оправдает*
— Что ж ты раньше молчал, родной!— обрадовался Илья. — Сделаешь парня мастером, чего лучше!
— Оно-то так, — задумчиво заметил Щуп, — да де-ло не за мной. Уж очень игумен разлакомился Андрея залучить: знает, что от того большая выгода будет. Для новой церкви иконостас1 нужен. Резчикам да изографам платить надо — сундуки порастрясти, а отец Паисий того ох как не любит!
— На своей спине знаем, как он корыстен,— мрачно отозвался Егор.
— Андрей в возраст входит, через годик-другой настоящим работником станет. И новую церковь исподволь отделает за одни харчи, а они Паисию ничего не стоят...
— Недаром он мальчонку охаивал, — грустно усмехнулся Илья. — «Он, вишь, и слаб и ни к какому делу не годен, опричь как сидеть в келье да иконы писать...»
— Лжа то, тятенька, лжа неистовая! — горячо вмешался в разговор Андрюша. — Али я немощный какой?..
— Молчи, сынок, когда старшие разговаривают,— внушительно прервал сына Илья.
— Вот я и говорю, — продолжал Герасим, — отберет у меня игумен Андрея. Артель моя на дальние работы не ходит, все тут же, близ Пскова, бьемся. И настоятель нас всюду досягнет.
— Давно ведомо, что у монахов руки загребущие,—• снова вставил слово Егор Дубов.
Все замолчали надолго. В светце трещала лучина. Тихо постукивал деревянный стан работы Ильи. На этом стане Афимья ткала холсты из суровых ниток, напряденных ею из кудели. Руки Афимьи привычно продергивали челнок сквозь основу, ступня равномерно нажимала подножку, но мысли женщины были о сыне. Глубоко верующей Афимье казалось, что монашество для сына не такая уж большая беда. Монахам житье привольное, работы мало, знай молись да молись. Станет Андрюша монахом — родительские грехи отмолит. Но высказать свои мысли вслух Афимья не решалась: ей ли, бабе, соваться в мужские разговоры!
1 Иконостас — перегородка, отделяющая церковный алтарь, где находится священник, от молящихся. На иконостасе рисуются изображения святых, он часто украшается красивой резьбой.
Молчание прервал Герасим Щуп.
— Есть у меня одна думка, — сказал мастер, пощипывая свою козлиную бородку, — да не знаю, по душе ли она вам придется. Работает сейчас во Пскове зодчий Никита Булат—крепостные стены поновляет. Прямо скажу: это зодчий, не мне чета. Большой мастер! Вот кабы он Андрюшу в ученье взял...
— А какая разница? — удивился Илья. — Так же и у пего пария настоятель отберет, как у тебя.
— Тут другое дело, — возразил Щуп. — Булат из дальних краев, он родом суздальский. Оттоле много славных мастеров вышло.
— Как же он к нам, во Псков, попал? — спросил Илья.
— Призвал его наместник, он Булата в Москве знал.
— Где нам с большими людьми водиться! — вздохнул Илья. — Уж коли его государевы бояре знают, он с нами и разговаривать не станет.
— Он не из таких, — уверил Герасим. — Сам он простого роду и хотя знатным известен, а чванства не набрался.
— Сколь это было бы хорошо, кабы Булат принял Андрюшу в ученье! Только ведь он мальца из Псковщины уведет, — сообразил Илья.
— А я об чем толкую? — рассердился Герасим.—• Уйдет Булат с Андрюшкой на Суздальщину либо в иное далекое место — там их и Паисию не сыскать, как ни длинны у него руки.
Афимья, смирно сидевшая у ткацкого стана, вдруг всхлипнула на всю избу. Взоры собеседников устремились на нее, и смущенная женщина низко наклони* лась к холсту.
— Вишь, какое дело... — неопределенно заметил Илья. — Придется об нем думать да думать. Вот что, друг Герасим, и ты, дядя Егор, — плотник низко поклонился гостям, — приходите ко мне в ту субботу, тогда и порешим на том либо па другом.
— Ладно, — согласился Щуп. — А вы вот что: пустите молву, что Андрюшка болен. Пускай он из избы не выходит, на печке валяется. Я до игумена доведу: мальчонку, мол, лихоманка треплет. Авось он тогда на вас напирать не станет. Я же тем временем слетаю в
город да потолкую с Булатом, надобен ли ему ученик;’ а то мы, может, попусту огород городим...
— Спаси тебя бог за совет да за подмогу! — низко поклонился мастеру Илья.
Глава VI
МЯТЕЖНЫЙ ЗАМЫСЕЛ
Неделя показалась Андрюше бесконечной. Чувства его двоились, он не знал, что лучше—монастырь или уход в далекие края.
Далекие края манили неизведанными радостями, знакомством с другими городами, с чудесными памятниками старины. Прельщала мысль учиться у знаменитого зодчего и самому впоследствии, быть может, сделаться славным мастером.
Но стоило взглянуть на побледневшее, осунувшееся лицо Афимьи, как сердце щемила тоска. Расстаться с горячо любимой матерью казалось невыносимо трудно. А разве легко покинуть ласкового, заботливого отца, с которым пережито так много и радостных и трудных охотничьих дней, который учил его мастерству!..
Илья свыкся с мыслью отдать сына Булату, если тот согласится принять мальчика в ученье. Но трудно, страшно трудно оказалось внушить эту мысль Афимье. И когда пришла долгожданная суббота, сопротивление матери далеко не было сломлено.
Вечером опять пришли Герасим Щуп и Егор Дубов. На этот раз явился Тишка Верховой и робко примостился в уголке у порога. Сознавая свою непоправимую вину перед Ильей, он старался держаться от него подальше, и приход его в этот вечер удивил плотника. Сейчас Тишкино присутствие было лишним, но русское гостеприимство не позволяло хозяевам выгнать гостя.
Все уселись, и после незначительных замечаний о погоде и видах на урожай Герасим откашлялся и мно* гозначительно заявил:
— Толковал я с Булатом про наши дела...
У Андрюши замерло сердце, Афимья закрыла лицо руками, чуя недоброе, а Илья нетерпеливо подался к мастеру:
— Ну что? Что? Да говори скорее!
Но Герасим, сознавая свое значение в эту минуту, еще помедлил и уж потом важно сказал:
— Берет Никита ученика.
Никто не успел вымолвить ни слова, как Афимья запричитала:
— Уведут моего сыночка в чужедальнюю сторонушку... А чужедальняя сторонка непотачлива, дорога туда не дождем, а слезами полита...
— Ну, завела! — тоскливо пробормотал Илья: ему за неделю пришлось выслушать немало причитаний.
— Не держи на нее сердца, — тихо сказал Герасим.— И волчица детенышей защищает...
Афимья продолжала:
— Уж пускай бы Андрюшенька в монахи ушел — я бы хоть в церкви, хоть в праздники, хоть бы издали смотрела па моего ненаглядного...
Афимья крепко прижала Андрюшу, точно боялась, что сына силой оторвут от нее. Мальчик стоял, прити?<-пув, как испуганный зайчонок: он понимал, что в эти мгновения решается его судьба.
— На родимой сторонке и камень — брат, а на чужой стороне люди жестче камней, — изливала свое горе Афимья. — Кто там приветит, кто пригреет сиротинушку?.. Я хоть и бивала Андрюшеньку, да без ненависти. От старых людей сказано: «Мать высоко руку подымет, да не больно опустит...»
Долго горевала Афимья. Мужчины благоразумно молчали. И когда женщина выплакалась, Илья попросил Герасима:
— Расскажи толком, что тебе обещал Булат.
— А у Булата, вишь, так получилось, — словоохотливо начал Щуп. — Был у него ученик, да отделился о прошлом годе: свою артель собрал...
— У Булата тоже есть артель?
— Он зодчий, а не артельный староста. Не охотник он хлопотать насчет мелких дел. Он заботится лишь о тори, чтоб чудесен был вид воздвигаемых им зданий. И как приходит куда, работников сыскивается довольно: всякому лестно потрудиться под началом славного зодчего. Скоро он работу кончит и пойдет на родину. А человек он в годах, и дорожный сопутник ему—опора.
— Только не такая, как Андрюшка, — усмехнулся Илья.
•— Ого, я сильный, тятя! — выкрикнул Андрюша и, устыдившись, смолк.
Возглас показал, что выбор жизненного пути им еде* лан.
— Решай, мать! — серьезно обратился к Афимье плотник. — Теперь твое слово. Ты сына родила и выкор* мила, тебе и участь его решать.
Афимья, хоть и поняла желание сына, все же спро-сила его дрожащим голосом:
— Ты-то как думаешь, Андрюшенька? Может, пой-* дешь в монахи?
Андрюша, припав к материнской груди, прошептал так тихо, что только одна мать расслышала:
— Лучше в Великую, в самый падун 1 пырнуть...
— Что ж, сыночек... — величаво выпрямившись, про* молвила Афимья. — От века написано: оперится птенец—и вылетать ему из теплого родительского гнездышка... Благословляю тебя в дальний путь!
В избе водворилось торжественное молчание. Только Тишка Верховой в углу то краснел, то бледнел и порывался что-то сказать, но так и не осмелился.
И когда решение было принято, возникли житейские вопросы, от которых не отмахнуться. Первым вспомнил о них рассудительный Егор Дубов.
— А ты-то как же? — спросил он Илью.
<— Что я? — не понял плотник.
— Да ведь съест тебя игумен за то, что супротив его воли идешь.
Илья поник головой, а на лице Афимьи проступил румянец. Но тут вмешался Герасим:
— Об этом не тревожьтесь. Я все Булату рассказал, и он дело уладит. Он с наместником хорош; ну, и оповестит боярина, что берет паренька из монастырских крестьян учить на зодчего. Москве с руки псковских умельцев переманивать. Пусть тогда игумен наместнику жалуется!
Мысль о том, что надменный Паисий будет посрамлен, порадовала всех, кроме печальной Афимьи. Но, дав слово, она молчала.
— Игумен все равно постарается тебя доехать,™
1 Падун — водопад.
сказал Егор. — Ну, да мы, мужики, тебя защитим. Всем селом заступимся, авось не дадим в обиду...
Решено было тайком собирать Андрюшу, а мальчик ку продолжать притворяться больным. Герасиму пору-; далось просить зодчего зайти в село, когда окончится строительство во Пскове.
Глава VII
БЕГСТВО
Прошло около месяца. Андрюша изнывал в душной избе, но ему строго-настрого запрещали показываться на улице. Посланец игумена нет-нет да и наведывался к Илье узнать о здоровье будущего монаха. Но, видя разметавшегося на печи мальчика, возвращался с докладом, что Андрей еще болеет.
Мать по ночам обшивала сына в дорогу: днем она боялась работать, чтобы не увидели соседки, — начнется болтовня досужих языков, дойдет до монастыря...
Афимья сшила сыну зимний тулупчик, армячок для лета; все делалось на рост, с расчетом на два-три года. Для лука и стрел был сделан красивый чехол — са* адак: без оружия отправляться в дорогу Андрюша не хотел. Сушились сухари, вялилось мясо, коптилась рьь ба...
Илья подшучивал над женой:
— Твой припас пятерым нести...
— Дорожным людям запас не помешает, — отвечала Афимья.
— На весь век не снарядишь, — неосторожно возра-* зил плотник.
Вспомнив, что она действительно снаряжает сына надолго и, быть может, никогда его не увидит, Афимья помрачнела и замолчала, а Илья раскаялся, что завел такой разговор.
Ожидание, истомившее всех, подошло к концу. В одно из воскресений к Илье пришел Герасим Щуп и, от*, ведя плотника в сторону, таинственно шепнул:
— Готовься: в ночь на середу.
Афимья помертвела, узнав, что только два дня оста* лось ей провести с сыном, но горе приходилось терпеть
молча, и это было еще тяжелее. Только по ночам она давала себе волю и заводила бесконечные причитания, приводившие в отчаяние Илью и Андрюшу.
Во вторник поздним вечером Герасим Щуп ввел в избу низенького пожилого человека в армяке, в потере той меховой шапке. Щуп тут же ушел: зодчему хотелось, чтобы его участие в побеге мальчика осталось тайной для Паисия.
Переступив порог, Булат снял шапку и обнажил лысину, окруженную венчиком седоватых кудрей. Гость приветствовал хозяев чин чином и сказал глуховатым, но приятным, певучим голосом:
— Подобру ли, поздорову, дорогой хозяин с хозя-юшкой?
Илья и Афимья поклонились, коснувшись рукой пола.
— Благодарствуем на добром слове, кормилец! — ответил Илья на приветствие зодчего. — Проходи-ка в передний угол, гостем будешь...
На темном, выдубленном непогодами лице Булата сияли приветливые синие глаза. Андрюша спрыгнул с печи. По правде сказать, все эти недели он побаивался неведомого мастера, который уведет его из родных краев; теперь страх прошел, но Андрюша сильно разочаровался, увидев простого, скромно одетого человека.
Он представлял себе знаменитого зодчего, известного князьям да боярам, совсем иначе. Ему думалось: войдет добрый молодец огромного роста, в парчовом кафтане, в красных сафьяновых сапогах — словом, богатырь из сказки...
Булат прочитал мысли мальчика. Он улыбнулся так сердечно, что Андрюше стало весело.
— Вижу, отрок, не по нраву я тебе пришелся,— молвил зодчий. — А ты на одеяние не гляди! Не одеяние украшает человека, а искусные руки и трудолюбивый нрав. Ты-то работать любишь?
Андрюша молчал.
Илья поспешил принести доски с рисунками сына. Булат рассматривал работы юного художника долго. На темном лице его, покрытом сетью мелких морщин, не было улыбки.
Андрюша зодчему понравился: одет чистенько — в новых сапожках, в холщовых портах и белой рубашке
с расшитым воротом; лоб мощный, выпуклый, твердый подбородок, смелые, пристальные глаза.
«Хороший паренек! Жидковат малость, да выправится...»
Отец и сын ждали отзыва о рисунках, сильно волнуясь.
Булат посмотрел на Андрюшу. Мальчик ответил упорным, немигающим взглядом.
— А ты вот что, малый, — заговорил Никита, — ты полйчье сделать можешь?
— Что это — полйчье?
— Человека нарисовать? Вот хоть бы мамку твою!
•— Почто не нарисовать! Могу.
Афимья перепугалась, закрыла лицо руками:
•— Али я угодница божья — икону с меня писать!
— Да не икону,— растолковывал зодчий,— это по-ипоземному парсуна называется. Их сымают изографы с князей, с бояр. На стенки в горницах вешают...
— Ведь я-то не княгиня, не боярыня! Слыхано ли, с крестьянок полйчье сымать!
Кое-как Афимыо уговорили.
Булат достал из котомки лист бумаги, тушь, кисточку. Глядя на непривычные рисовальные принадлежности, Андрюша заробел. Неуверенно провел несколько черточек, но скоро освоился.
Наклонившись над листом, он проворно работал кистью.
— Что ж на мамку не глядишь! — спросил Булат.
— Вона!—удивился Андрюша. — Али я ее не видал?
Прошло полчаса. Илья и Никита тихо разговаривали; Афимья возилась у печи, готовя угощенье.
— Сработал! — раздался голос мальчика.
С бумаги смотрело поразительно похожее лицо. Это она, Афимья. Вот ее не по возрасту живые глаза под крутыми дугами бровей, скорбные складки у сухого рта, ее повойник1, прикрывающий спрятанные навек волосы...
— Микола-угодник! — попятилась Афимья. — Это же волшебство!
— Не волшебство, — строго поправил Булат, — а да
1 Повойник — головной убор замужней женщины, который она, по обычаю, никогда не снимала при людях.
рование!— Зодчий оглядел всех расширенными, засветившимися внутренним огнем глазами. — Слушай меня, человече! Сыну твоему большой талант дан. Зарыть его в землю — тяжкий, незамолимый грех. Скажу, Илья, по правде: хоть и соглашался я Андрюшу в ученики взять по рассказам Герасима, а все же думал — приукраши-вает Шуп достоинства отрока, не столь он к художеств ву способен, как хвалят. Но теперь сам вижу: уж ежели его не учить, то кого учить? Рад, что он со мною пойдет, — я из Андрюши славного зодчего сделаю, коли нам с ним бог жизнь продлит...
Редко появлявшаяся на лице Андрюши улыбка сделала его необычайно привлекательным. Обрадованный отец низко кланялся.
Только Афимья хмурилась. Простая, бесхитростная женщина согласилась расстаться с сыном, твердо поверив, что его ждут почести, богатство. Шутка ли: учиться у зодчего, известного всей Руси!
Но, увидев Булата, Афимья разочаровалась едва ли не больше, чем ее сын: прославленный мастер был одет, как бедный крестьянин.
Чуткий Булат понял настроение матери своего будущего ученика. Обратившись к Афимье, зодчий с улыбкой сказал:
— Неприветливо глядишь, женщина! Али не хочется сына мне отдать?
Афимья непривычно резким голосом ответила:
— А то и гляжу, батька, что не больно казист у тебя наряд!
— Я не стяжатель!—внушительно ответил Никита.— Я за богатством не гонюсь, вековечный печальник я за мирскую нужду. Сердце у меня неуклончивое, князьям и боярам я не потатчик, потому и не в чести у них. А знаю зодчих, что многие сокровища скопили и пре-чудесные палаты себе поставили и живут, как сыр в масле катаются. Того и твой Андрюша может достигнуть...
— Где уж крестьянскому сыну калачи есть! — горько пробормотала Афимья.
— Напраслину говоришь, женщина! Каждому человеку свой предел положен: тому землю пахать, тому корабли по морям водить, тому дивные строения воздвигать, что надолго переживут создателя своего. И коли
крестьянскому сыну талант на зодчество дан, кто по* смеет его на сем пути задерживать!..
Голос Булата был строг и властен. Афимья смущен* но поклонилась гостю:
— Не обессудь, родной, прости меня, бабу, за нера* зумное слово! Верю, не на худое поведешь моего сынка. Уж только... — Голос Афимьи дрогнул. — Храни отрока!. Будь ему в отцово место. Он млад и глуп, его еще не* стовать надо...
Афимья и Илья хотели упасть зодчему в нош, но тот удержал их:
— Будьте безо всякого сомнения. Я в своей кочую’ щей жизни семью не успел завести, так мне ваш Андрю* шенька сыном станет. И вы не убивайтесь чересчур, не навек с сыном расстаетесь. Я вам буду весточки через случайных людей подавать. А годика через три-четыре, когда злоба вашего игумена утишится, мы и вернемся...
Разумная речь старого зодчего если и не развесели* ла Афимыо, то хоть успокоила ее. Срок в три года не так уж велик, если к концу его явится Андрюша, краси* вый, возмужавший, да к тому же и славный мастер. Мо* жет, он тогда и останется здесь: ведь не вечен всевласт* ный Паисий...
Видя, что жена успокоилась, Илья повеселел:
— Что же, Андрюша, будем обряжать тебя в путь* дорогу. Собирай, жена, на стол, а я за дядей Егором сбегаю.
За столом сидели недолго — Булат торопил с отправлением:
— Надо за ночь уйти подальше, чтоб след потеряли монахи, коли спохватятся.
— Об этом, мил человек, не беспокойся, — подмиг* нул зодчему слегка захмелевший староста. — Я запрягу коня и до свету верст за сорок вас умчу. Пускай ищут!
— Тебе попадет, дядя Егор, коли игумен узнает,— опасливо сказал Илья.
— От кого он узнает-то? Я, как обратно поеду, дров нарублю, будто за тем и ездил.
— Ну, спаси тебя бог за доброту! — воскликнул плотник.
Сборы были недолги: Афимья все приготовила заранее. Несмотря на упорные отказы Ильи, Булат отдал ему большую часть денег, заработанных во Пскове.
— Тебе нужнее они, а нам с пареньком не много на дорогу надобно...
Доброта Никиты до слез растрогала Афимыо, она уверилась, что ее сын попал в хорошие руки.
Отец и мать благословили сына, и под тихие материнские причитания Андрюша Ильин оставил родительский кров и пустился в неизвестную дорогу.
Илья проводил сына до околицы1. Афимья, чтоб не растравлять сердце, осталась дома. Плотник в последний раз обнял Андрюшу здоровой рукой и повернул к дому.
Когда телега миновала околицу и Егор Дубов взмахнул кнутом, чтобы погнать лошаденку вскачь, из придорожных кустов метнулись две тени и стали перед телегой.
— Неужто монахи вызнали про наш сговор? — испуганно шепнул Егор. — Эй, там! Дай дорогу! Затопчу!..
— Повремени чуток, дядя Егор, — раздался негром-кий голос. — Это я!
— Что за дьявол! — выругался Егор.—Да это, никак, Тишка?
— Я и есть, дядя Егор, — отозвался мужик. — Мы тут с бабой...
— А что вы здесь делаете?
— Мы сбежать решили, дядя Егор, насовсем!
— Вона! — удивился староста. — Да как ты это па-* думал, безумная голова?
— Мочи нет терпеть, дядя Егор, все силушки новы-мотали...
— А как земля? Изба?
— Всё бросили! Пропадай оно пропадом, а мы с бабой порешили на Москву идти.
— Это ты мне, старосте, такие речи говоришь? — рассердился наконец тяжелодум Егор. — Свяжу тебя да отвезу в монастырь! Там тебе покажут, как бегать...
— А уж Андрюшку, верно, назад сдашь, дяде Илье? — нагло спросил Тишка.
— Как?! Ах ты пащенок! Да ты что удумал? Доносить пойдешь?
— А что ж! Коли меня удержишь, то и донесу. По крайности, мне от игумена награждение выйдет.
1 Околица — изгородь, окружающая деревню.
— Ты, вижу, из молодых, да ранний! — горько усмехнулся Егор. — Только как ты все это вызнал?
— Я ведь у Ильиных сидел, как вы сговаривались. А потом мы с бабой попеременно глаз не сводили с Ильи-» на двора, подглядывали, — наивно похвалился Тишка.—• И как сегодня усмотрели, что чужой человек к Илье пришел, а ты стал лошадь запрягать, тут и мы за око-» лицу!
— Что же, пес с тобой, садись! — хрипло согласился Егор. — Семь бед — один ответ!
Тишка с бабой влезли в телегу, таща за собой узлы с пожитками. Егор стегнул лошадь, и телега покатилась в темную даль.
Побег двух монастырских «душ» (баба в счет не шла) был обнаружен быстро. По несчастной случайности, игуменский служка явился в среду проведать о здоровье Андрюши. А может быть, это и не было случайностью. Может, Тишка Верховой не сумел сдержать болтливый язык и проговорился о намерении Ильи Большого укрыть сына от монашества.
Не застав Андрюшу в избе, служка не поверил Афимье, что мальчику стало лучше и что он ушел с товарищами в лес. Боясь игуменского гнева за легковерие, служка сидел у Ильиных до позднего вечера, и дело раскрылось. К тому же сельчане обратили внимание на тишину и безлюдье во дворе Тишки Верхового.
Егор Дубов, чтобы отвести от себя подозрения, первый поскакал к Паисию с докладом о случившемся. Его жестоко выпороли за нерадение к монастырскому благу и приказали снарядить погоню. Погоня отправилась только в пятницу после полудня и беглецов, понятно, не настигла. Зодчий и его спутники были уже за сотню верст от Пскова, да и шли они по ночам, а днем прятались в лесных дебрях.
Через несколько дней беглецы разделились. Тишка Верховой с женой взял путь на Москву. Расставание прошло без сожалений. Никите не по нраву пришелся трусливый и наглый Тишка, целые дни мечтавший вслух, как он пристроится на службу к одному из бояр, высланных в Москву после псковского разорения, и какую сытую и беспечальную жизнь поведет он, Тихон Верхо
вой, мужик обстоятельный и ловкий, сумевший перехитрить самого старосту Егора.
Никита Булат с учеником Андрюшей Ильиным по-вернули на восток, к Ярославлю^
Глава VIII,
СКИТАНИЯ
Шесть лет прошло с тех пор, как Андрюша Ильин ушел из Выбутина с Никитой Булатом.
Андрей сильно изменился за эти годы. Он далеко пе« рерос своего старого учителя. Теперь голова его не каза< лась несоразмерно большой: она стала под стать широ-ким плечам и молодецкому росту; но прозвище Голован как пристало к нему в детстве, так и осталось навсегда. На смуглом выразительном и умном лице Андрея вы-* делились глаза. Не всякий мог долго выдержать взгляд серовато-зеленых глаз юноши, настойчивый и зоркий, как у орла. На щеках Голована курчавился первый пушок. Большие, рабочие руки с широкими кистями и МО” золистыми ладонями привыкли владеть топором и молотком каменщика, но еще искуснее управлялись с кистью и пером.
Булат был все тот же: время проходило для него незаметно. Чуть побольше стала лысина да прибавилось морщин на темном лице. Но так же крепок был строитель, по-прежнему без устали бегал он по подмосткам.
Много попадалось за эти годы работы, но не всякая приходилась Никите по душе. Грубые, простые постройки его не привлекали.. Иное дело, если он мог запечатлеть в дереве или в камне волновавшие его образы: тогда зодчий работал не покладая рук и не торгуясь о вознаграждении.
Не раз представлялся Булату случай сколотить артель, стать подрядчиком и обогатиться, но богатство не манило зодчего. Случалось, что его выбирали артельным старостой за большие знания и честность: Никита неизменно отказывался.
За шесть лет учитель с учеником исходили Русь из конца в конец. Плавали по Студеному 1 морю на Соло
1 Студёное — Белое море.
вецкие острова; там в монастыре воздвигли шатровую звонницу1 вместо старой, обветшалой. Были на ро-дине Булата — в древнем Суздале, во Владимире, по» строили церквушку в Козельске.
Только в Выбутино не заглядывали ни разу, а хотелось Головану проведать стариков родителей. Они уж и направились туда, но встреченный в Вышнем Волочке Герасим Щуп рассказал, что игумен Паисий все еще злобится на Андрея за самовластный уход, за то, что не пошел парень в иноки.
«Пускай сунет нос в наши края, — хвалился Паисий,— ужо я его достигну! Он у меня насидится в подвале, забудет про зодчество!»
От Герасима юноша узнал, что Илья с Афимьей жи-вы-здоровы, хоть и постарели за годы разлуки. После бегства Голована игумен сильно гневался на плотника, донимал несправедливыми поборами, намереваясь разорить и выжить из Выбутина, но помощь односельчан, и особенно твердого в дружбе Егора Дубова, поддержала стариков и помогла перенести невзгоды.
Путники повернули назад от границ Псковщины, послав с Герасимом весточку от Андрея домой и отправив все деньги, какие нашлись в ту пору у Булата: их оказалось немного, деньги у Никиты не держались...
Оставляя законченную стройку, Булат не спешил искать работу; иногда и месяц, и два, и три бродили они с Андреем по городам и селам.
Многому научился молодой Голован. Он постиг тайны зодчества, изучил виды архитектурных украшений, мог сам руководить строительными работами. Чтобы развить в юном ученике художественный вкус, Булат показывал ему лучшие памятники русской старины.
Во Владимире они видели старинные Золотые ворота и построенный великим князем Всеволодом в конце XII века Дмитриевский собор — один из немногих замечательных памятников каменного зодчества того отдаленного времени.
Дмитриевский собор невелик. Но строгие выступы стен, разделяющие фасады на неравные доли-прясла, завершенные арками, и соразмерность частей храма придают ему вид торжественный и величавый. Больше
1 Звонница— колокольня.
всего в этом создании древних мастеров восхитила мо-лодого Голована каменная резьба, покрывающая стены храма. В верхнем ярусе стен множество причудливых изображений: сцены борьбы людей с хищными зверями, крылатые львы, всадники, необычайные растения, уди-» вительные птицы с такой тонкой отделкой, что в крыль-ях видно каждое перышко... Рисунки располагаются ни-* сходящими рядами, в стройном порядке.
Остроглазый Голован любовался также резными колонками, которые широкой горизонтальной лентой опоясывают храм; между ними размещены изваяния святых.
Из Владимира зодчий повел ученика в недальний город Юрьев-Польской осмотреть древний Георгиевский собор Г
Судьба была немилостива к Георгиевскому собору: в XV веке он обрушился. Его поручили восстанавливать великокняжескому зодчему Василию Дмитриевичу Ермолину. Вопреки обыкновению, Ермолин выполнил работу небрежно: многие камни попали не на свое место; цельность резьбы кое-где нарушилась.
Булат обратил внимание Андрея на иной характер работы. Это уже не те изящные, подобные резному дереву барельефы Владимирского собора. Здесь все казалось первобытно, дико, грубо, но чувствовалась большая сила в резце художника, умение справляться с камнем. Лики святых смотрели прямо на зрителя.
Впервые увидев эти изображения, Голован оцепенел, как случалось с ним в детстве при виде исключительной красоты. Он смотрел безотрывно, не слушая учителя; он точно перенесся в другой мир, где были только он да эти дивные изваяния. Насилу растолкал его Булат и привел в себя. Грозные, прямо смотрящие глаза каменных святых преследовали Андрея во сне.
На стене Георгиевского собора Голован увидел ки-товраса — кентавра1 2 древних.
— Наставник, неужто такие живут?
— То еллинские3 басни, — отвечал зодчий.—Ты сам в Выбутине резал дивных зверей и птиц. А есть они на свете?
1 Георгиевский собор построен в 1230—1234 годах.
2 Кентавр — мифическое существо из греческих сказаний; изображался с человеческой головой и плечами на конском туловище,
3 Еллинские — греческие.
Голован задумался. Лицо озарила ясная улыбка — редкий гость на лице юноши.
— Не знаю, — признался он. — Передо мной они воз-; никали как в видении. И запечатлевались в памяти.
— Ты их и создавал. Так и древние мастера творили китовраса и иных чудищ.
Но Булат не просто показывал — он учил. Он растолковывал замыслы строителей, объяснял Андрею, что означал тот или другой наружный вид церкви, почему зодчий применил такое расположение частей, а не иное.
— Не по единому правилу строят на Руси храмы,— говорил зодчий приятным глуховатым голосом. — Вида-* ли мы белокаменные храмы в Юрьеве-Польском, во Владимире. От подножия до верхнего фонаря 1 — один белый камень, и то взору человеческому неприютно, не па чем остановиться без наружных украшений. И зодчие измышляли выступы разновидные и налепные круги. Людские лики, змеев-драконов, китоврасов вырезывали, чтобы глаз смотрящего возвеселить. Так строили во Владимире, в Суздале моем родном, в Нижнем Но-воградс... Это старина отходящая! И еще скажу: тайну замеса не больно постигли наши владимиро-суздальские строители, клали камень на камень чуть не посуху, а оттого, бывало, здания у них обваливались...
— А как по-новому строить, учитель? — с живым любопытством спрашивал юноша.
— По-новому, сынок, перемежать надобно красный кирпич и белый камень. И белый камень класть поясами либо гнездами, дабы он кидался в глаза посередь красного. Замес потребен крепкий, чтобы на века кирпич с камнем сковал, и мы такой замес делать научились.
— Где же так строят?
— В Ярославле, в Ростове, а лет полета назад и в Москве начали. От московских зодчих сие мастерство и я перенял и разношу оное по Руси. Разновидное сплетение красного с белым глазу радостно, и при таковом сочетании насаживать зверовидных драконов на хоромину не требуется.
1 В е р х н и й фонарь, или световой барабан, — часть церковного здания, поддерживающая главу; в ней проделывались окна.
•— Ах, наставник, — в восторге восклицал обычно сдержанный Голован, — коли нам судьба приведет из-» рядную церковь строить, сим способом станем возводить!
— Поживем, может, и сбудется, — раздумчиво отвечал Булат.
* ❖ *
С тех пор как Голован оставил родной дом, Булат построил две каменные церкви, звонницу и пышные палаты киевскому сенатору. Живали они на месте и по полугоду и по целому году. Но когда Андрей останавливался мыслью на прошлом, оно представлялось длин-’ ной-длинной дорогой с короткими остановками на пути. Юноша полюбил дорогу. На стройках Булат был занят по горло: горячий и живой нрав заставлял его целые дни проводить на лесах. Зодчий выделял ученику часть работы, по вечерам придирчиво проверял его, строго бранил за ошибки, но на долгие разговоры не хватало времени. Не так повелось в дороге.
Они шагали пустынной тропой. Булат тихонько напевал былину. Утомясь пением, начинал разговаривать: строитель умел и любил говорить. Задушевная поучительная беседа шла часами. Булат много видел, много читал. Он рассказывал Головану, как строились кремлевские стены в Москве, как воздвигались знаменитые монастыри, храмы. Знал он о жизни славных старинных зодчих — Ермолина, фрязина 1 Аристотеля и других...
Верста за верстой проходили незаметно. Леса сменялись полянами, снова дорога шла бором, потом впереди вдруг раскидывались поля, и вдалеке на холме чернел высокий, суживающийся кверху шатер колокольни. Такой вид всегда радовал Булата.
— Смотри, сынок, смотри! — показывал зодчий су* хой, но сильной рукой. — Вон звонница виднеется. И как утешительно такое зрелище путнику, утомленному дальней дорогой! Звонница... Сие означает: там деревня, там
1 Ф р я з и н —• итальянец. Речь идет об Аристотеле Фиораванте (род. между 1415 и 1420, умер около 1486), принимавшем участие в реконструкции Кремля и построившем Успенский кремлевский собор.
живут наши, русские люди. Сердечно приютят они уста-* лого скитальца, накормят, напоят, дадут заслуженный отдых... А в зимнюю непогодь? Шумит и бушует вьюга, белый снег слепит глаза, и дорожный человек, сбившись с пути, растеряв последние силы, готов лечь на холодную пуховую постель и заснуть беспробудным сном... И внезапно слышит он колокольный звон. То старик сторож в ветхом тулупишке трудится, не жалея сил, и равномерно дергает веревку колокола. Скольких спасает сей благотворный звон!.. Счастлива наша доля, Андрюша! Это мы, строители, воздвигаем городские стены с башнями и деревенские колокольни, без коих и представить себе невозможно землю русскую...
Голован восторженно соглашался:
— Твои мысли — мои мысли, учитель! Точно ты у меня в голове побывал!..
Часто Булат говаривал:
— Были мы, Андрюша, во многих краях старорусской земли. Ходили на север — к Студеному морю, были на закате солнца, спускались и на полдень — в Киевщину п даже в дальнюю Галичину. Там и речь людская звучит будто не по-нашему и не сразу ее поймешь, а ведь это все наша русская земля, и собирает ее под свою высокую руку Москва. Прежде велика ли была московская земля? А теперь, погляди, конца-краю ей ноту!..
За разговорами незаметно приближался вечер. Летом Булат любил ночевать в лесу, в поле.
Выбирали хорошее место у ручья, останавливались, сбрасывали с усталых плеч сумки, распоясывались, скидывали зипуны. Голован собирал хворост; Никита варил кашу, жарил на углях птицу, убитую стрелой Андрея, либо готовил уху, если юноше удавалось наловить рыбы. Трапезовали долго, чинно...
Костер догорал. Угли рдели угасающим малиновым светом. Скитальцы лежали на траве, смотрели в небо, откуда ласково светили далекие звезды.
Голован до страсти любил эти короткие душистые летние ночи...
Намного труднее приходилось зодчим осенью и зимой.
Хорошо было боярину равнодушно глядеть на покосившиеся избенки мужиков, когда он проезжал в за
пряженной шестериком 1 колымаге мимо жалких дере-' вушек, спеша к себе в богатую усадьбу. Но Никите с Андреем, отшагавшим за день тридцать — сорок верст, зачастую приходилось проситься на ночлег в одну из бедных мужицких избенок. Никиту и Андрея сразу окружала стихия народного горя.
К какому бы хозяину ни попадали они, у каждого была своя беда. У одного боярский тиун свел за недоимку последнюю лошаденку. Другой выбивался из сил, отрабатывая долг, взятый в неурожайный год у игумена соседнего монастыря; и сколько бы ни надрывался мужик на монастырских полосах, когда подходило время расчета, оказывалось, что долг не уменьшался, а нарастал.
А в иной избе целая семья лежала вповалку, и сердобольные путники, поборов первое желание убежать сломя голову из зараженного места, сбрасывали зипуны и принимались ухаживать за больными: умывали запекшиеся от жара лица, кормили скудными припасами из своих котомок, поили свежей водой.
Казалось, от долгой привычки наблюдать людскую беду сердце должно бы зачерстветь, но не таков был нрав Никиты Булата. Каждый раз, слушая печальную повесть хозяина о его невзгодах, Булат сызнова загорался соболезнованием к чужому несчастью, вместе с собеседником проклинал боярский гнет и мечтал о луч* ших временах. А уходя, делился с беднягой скудным содержанием своего кошеля.
Нет, не суждено было разбогатеть старому Никите, вечному страннику в океане народной нищеты!
Теми же чувствами сострадания к людям прохчикся с юных лет и Андрей.
Тяжело было изо дня в день болеть страданиями других, и зодчим становилось легче на душе, когда они проходили безлюдными местами, хоть и много опасностей приходилось выносить одиноким пешеходам.
Не раз во время буранов отсиживались они в самодельном шалаше по нескольку суток; дикие звери рыскали вокруг, и спасали от них только меткие стрелы Голована да неугасимый костер. Случалось забредать в
1 Шестериком в старину называлась упряжка в шесть лоша^ дей — три пары одна за другой.
такие дебри, где, как в сказке, «не было ни езду коп-» пого, ни ходу пешего, где не слыхать было духу человечьего». Тогда выкапывали из-под снега мерзлую брус-; пику, отбирали у белки запас орехов. Потом все-таки выбирались к жилью, к глухой лесной деревушке, отде* ленной от другой такой же десятками верст.
Их принимали с великим удовольствием: захожие люди приносили вести из далекого мира, о котором ле-совики знали только понаслышке.
Путников кормили, оставляли гостить по неделям. Древний дед с пожелтевшей от старости бородой запрягал косматую лошаденку и вез странников в соседа шою деревушку, к приятелю, такому же деду...
Случалось Никите и Андрею встречаться на дорогах и с лихими людьми. Но что взять с убогих странников! Разбойники, узнав, что перед ними кочующие строители, отпускали их невредимыми.
Так привык Голован странствовать с учителем по широкой русской земле, что мечталось ему: хорошо бы проходить так всю жизнь и смежить усталые очи на зеленой мураве, под широколиственным кленом... Только хотелось еще разок побывать дома, повидаться со старыми отцом-матерью.
Глава IX
НАБЕГ
Васильгород1 был основан в 1523 году; название он получил в честь великого князя Василия III. Московские воеводы ходили в том году на Казань и поставили крепость на казанской земле, при впадении Суры-реки в Волгу, в двухстах пятидесяти верстах от столицы татарского царства. Постройка Васильгорода урезала владения казанских ханов, и они не могли простить этого Москве.
В 1546 году васильгородский воевода решил укрепить городские стены и возвести несколько крепостных башен: отношения с Казанью за последние годы крайне обострились и можно было опасаться нападения татар на город.
1 Позднее Васильсурск.
Работы производились под руководством Никиты Булата.
Закончив работы успешно и быстро, Никита и его ученик направлялись в Муром, где предвиделась работа.
Тропа вилась лесом. В этот день решили остановиться на ночлег пораньше: места были опасные, разбойные шайки казанских татар набегали сюда часто.
Более полутора веков — со времен нашествия Чин-гис-хана и до великого разгрома татарских орд на Куликовом поле — монгольское иго тяготело над Русью, задерживая се развитие. Но и после Куликовской битвы 1 еще в течение целого столетия великие князья московские принуждены были платить дань татарам, пока Русь не сбросила с себя иго Золотой Орды2.
Из обломков когда-то могущественной, наводившей трепет на Европу Золотой Орды образовались в числе других государств татарские ханства: Крымское, Казанское, Астраханское и Ногайское.
Эти татарские государства были еще очень сильны, и много бедствий терпела Русь от соседства с ними.
Татарские властители первым законом жизни ставили войну, для разжигания которой им не требовалось никаких поводов и предлогов. Самому ли хану или его рядовому воину война представлялась грабежом, и этот грабеж, по их понятию, можно было затевать в любое время, если не встретишь достаточно сильного отпора.
Особенно много приходилось русским людям страдать от ближайших соседей на востоке и юге—от казанцев и крымцев.
Казанские орды беспрестанно опустошали пограничные русские области и по временам проникали в глубь страны. В 1539 году рать казанского хана Сафа-Гирёя дошла до Мурома и Костромы и хотя нанесла русскому войску большой урон, но была отбита. В следующем, 1540 году в декабре месяце Сафа-Гирей вновь появился у Мурома, но под угрозой нападения владимирских воевод и касимовских3 татар, предводимых ханом Шиг-Алёем, ушел обратно.
1 В 1380 году.
2 В 1480 году.
3 Касимовское царство — удельное владение татарских ханов в составе Московского государства. Существовало с середины XV века до 1681 года.
А летом 1541 года стотысячная громада под главенством крымского хана Сайп-Гирея двинулась на Русь с юга и 30 июля вышла на Оку, оставив за собой тысячи сожженных русских сел и деревень. Московские воеводы вывели навстречу татарам свое войско. Загорелся бой.
Увидев перед собой сильную московскую рать, Сайп-» Гирей гневно упрекал изменника князя Семена Бельского, который привел татарское войско на Русь.
— Как же ты мне, собака, говорил, что урусы пошли казанцев отражать и биться со мной некому? А я столько воинских людей в одном месте и не видывал!..
Узнав, что к русским вдобавок подошли пушки, Са-ип-Гирей начал отступление.
И редкий год проходил без того, чтобы татары, подстрекаемые лютыми врагами Москвы — турками, не налетали на Русь либо с востока — из Казани, либо с юга — из Крыма, либо сразу с двух сторон. Орды крымчаков и казанцев жгли, грабили, уводили в плен множество людей. А случались такие лихие годы, когда татарские властители, сговорившись между собой, входили еще в сношения с литовцами, и те помогали татарам разорять Русь.
Русские женщины пугали непослушных детей в колыбельках страшными словами: «Татарин идет!» — и дети, дрожа, затихали.
Это в те времена сложилась пословица: «Незваный гость хуже татарина».
Под страшной угрозой жила тогда Русь, и всякий ее житель, вплоть до самого бедного, заморенного боярским гнетом крестьянина, понимал, что не может страна мирно развиваться до тех пор, пока не исчезнет опасность татарских нашествий хотя бы на самой протяженной и беспокойной ее границе—восточной.
Изнывавший под бременем бесчисленных налогов и повинностей, русский мужик только одну повинность выполнял с охотой; и эта повинность была — вступление в ряды войска для защиты родной земли от набегов татар. Миролюбивый по природе, русский человек не хотел ссор с соседями, но когда эти соседи не признавали правил общежития, он вставал во всей своей силе, чтобы их утихомирить.
...Между русскими и татарскими владениями пролегала почти незаселенная полоса шириной во много десятков верст.
Булат рассказал Андрею, что главная оборона от татар проходит по Оке — от Нижнего Новгорода до Серпухова, далее спускается к Туле, а там поворачивает, к Козельску. Оборону эту составляют укрепленные города и большая, быстрая река Ока. Не везде ее можно перейти, а на бродах построены острожки, понаделаны засеки и завалы, и при них стоят сильные караулы. А еще за несколько сот верст к югу, за самыми дальними русскими поселениями, бесстрашно выдвинувшимися в южную степь, с весны и до поздней осени ходят сторожевые заставы.
— Называются те заставы сторожами, — говорил Булат, — и ставятся они в таковых местах, где б им нападающих воинских людей можно было усмотреть. На холмах сидят, а кои на высокие дубы взбираются и там, аки птицы, гнездятся. А держатся сторожа бережно, станы постоянные не устанавливают и костры большие не раскладывают, дабы их татары издали не выглядели. И где в полдень стояли, на том месте не ночуют, а на иное переходят...
Глаза Голована горели восхищением. С юной отвагой он подумал, что хорошо было бы с верными товарищами скакать на быстром коне по степям, подкарауливать хитрого врага и сражаться с ним, оберегая русскую землю.
— А коли увидят сторожа нехристей, то бьются с ними?
— Коли мало ворогов, бой начинают. Ну, а в случае большая сила идет, то в отступ уходят и костры запаливают, чтобы своим весть подать.
— Далеко ли от костра дым видать?
— Ведь костры цепочкой до самой Москвы наготовлены, и сидят возле них денно-нощно старички немощные, вроде меня, — пошутил Булат. — Набежит татарва на Русь, а в Москве полки снаряжаются злых недругов встречать...
— Хорошо, учитель, удумано!
— Хорошо-то хорошо, да земля наша русская безмерно велика. Грани наши на коне за год не объедешь.
Вороги же в войне опытны и на ратные хитрости способны. Тут малым отрядом тревогу подняли, а сами в ином месте тучей прорвутся на Русь. Вот попробуй сдержи их...
Место для стоянки выбрали глухое, укромное. Маленькая полянка спряталась в стороне от дороги, в лесной чащобе, и на окраине полянки прозрачный родник. Огня разводить не стали. Поужинали быстро, лежали, смотрели на погасавшее над головой небо.
Булат неторопливо рассказывал о детстве, о том, как он учился зодческому делу. В который раз слушал Андрей повесть о юных годах учителя, и она не надоедала ему, как не наскучивает ребенку старая, знакомая, но милая сказка.
— Сиротой я остался по девятому году, — неспешно повествовал Булат. — У нас тогда в Суздале полгорода от повальной хвори вымерло. Из милости приютили меня чужие люди. Известно: горькому Кузеньке — горькие песенки. Хлебнул я напасти, покуда не вышел в года... Благодетели скоро спихнули меня с рук: отдали в ученье по каменному делу. О ту пору великий князь Василий Иванович много старался об строительстве города и надумал Кремль новыми стенами обнести. Много требовалось работников, вот и наша артель суздальцев пошла в Москву.
Доставалось мне от каменщиков: тот щелкнет, тот толкнет, тот подножку даст... Только и слышишь: «Никитка, подай! Никитка, принеси! Никитка, сбегай!..» А у Никитки всего две ноги, хоть и был я проворен. Сунешь хозяину не тот скребок — по затылку долбанет, замес приготовишь жидкий — жди таски немилостивой... Что старое поминать! Не так мое ученье шло, как твое. Сие не в похвалу себе говорю, Андрюша... Но пришла и ко мне удача. Про Ермолина, славного строителя, я тебе рассказывал не единожды. Много русских людей обучил Ермолин строительному искусству; был средь них и Феофан Гусев. Тот Феофан и заприметил меня, как я с ношей по мосткам бежал, подозвал, поговорил. Сметка моя и усердие по нраву Гусеву пришлись, и сказал он мне:
«Буду тебя учить! Старайся — знатным мастером вырастешь!»
С того дня повернулась ко мне моя судьбина лицом: взял меня Феофан Гусев в ученики. Правду говорят: «От счастья и под колодой не ухоронишься!»
Повелел мне Гусев обучиться грамоте:
«Не умея читать-писать, никогда дельным мастером не станешь!»
Знаемый мною грамотей обучил меня чтенью и письму и, спасибо доброму человеку, ни копейки за то не взял. Стал я все уведанное записывать, а то ведь в уме что на песке: подул ветерок — унес! И много за жизнь свою доброго узнал, что и тебе передаю по силе-возможности своей...
— За ваши премудрые поученья всем вам, старым мастерам, не один я, а вся русская земля спасибо ска< жет! — горячо отозвался Андрей.
Зодчие испуганно оглянулись: им показалось, что в лесу хрустнуло раз-другой... Наступила долгая тишина. Булат чутко прислушивался. Снова шорох за стволами дерев, окружавших поляну.
— Тише! — шепнул Никита. — Боюсь беды... Ах,жалко, песика у нас нет. Он бы предостерег.
— Опасаешься татар?
— Чудится мне, крадутся в лесу... — Булат присмотрелся к просвету между стволами и вскочил с отчаянным криком: — Беги, сынок, беги!
На поляну ворвались татары. Нападающих было человек пятнадцать. В овчинных тулупах, в войлочных малахаях \ со злыми смуглыми лицами, с черными косыми глазами... В руках виднелись кривые сабли, у иных были кистени, арканы.
С криком «Алла, алла!» разбойники бросились к Никите и Андрею.
Голован схватил лежавший наготове лук. Стрелы за> свистели одна за другой. Два татарина рухнули наземь, третий с воем схватился за плечо, в котором засела гибкая стрела.
Татары исчезли в чаще, будто их и не было.
— Отбились! — торжествующе воскликнул Голован.
— Плохо ты татар знаешь, — с горечью возразил старик. — Они нас обходят, чтобы с тылу напасть.
Предположение Никиты оказалось верным. Сзади,
1 Малахай — род головного убора.
из ближних кустов, выскочили сразу трое. Они появились так внезапно, что Голован не успел поднять лук.
Схватились врукопашную. Один подмял Булата, двое с торжествующим гиком стали крутить Андрею руки за спину. Отчаянным усилием парень вырвался, стукнув одного татарина о другого. Молодой и проворный, он увернулся еще от двух-трех врагов, выбежавших из лесу, нырнул под брошенным арканом. Беглец почти достиг леса, по из-под громадной ели, взвизгнув, выскочил старый татарин. Свистнула сабля, и Андрей покатился в траву с рассеченной головой. Татарин вытер саблю о полу халата, равнодушно взглянул на распластанное тело и заспешил к своим, которые, дико галдя, вырывали друг у друга скудную добычу.
❖ * *
Шайка разбойников — деренчй — насчитывала человек пятьдесят. В большинстве это были бедняки — бай-гушй. Чтобы поразжиться и заплатить долги казанским богачам, они пустились в набег на Русь. Пробравшись между редкими сторожевыми заставами, деренчй обходили города и большие села, нападали па малолюдные деревни и одиноких путников.
Никиту притащили в татарский стан, там он встретился с несколькими десятками товарищей по несчастью.
Булат оказался последней жертвой деренчй. Наутро они собрались в обратный путь.
Осмотрев полонянников, атаман шайки ткнул пальцем в нескольких слабых и раненых. Татары оттащили их в сторону и зарезали.
Остальных привязали арканами к седлам, вскочили на малорослых косматых лошаденок и двинулись рысцой. Чтобы поспеть за конными, русским пришлось бежать.
Задыхаясь от напряжения, весь потный, с сердцем, которое, казалось, пробьет ребра, Булат бежал за конем татарина, которому достался по жребию.
Никита бежал, и в воспаленном мозгу вертелась неотвязно одна мысль: «Убили Андрюшу, убили!.. Золотую голову загубили!..»
К полудню деренчй забрались в потаенное место и
сделали привал до вечера. В дороге они зарезали трех женщин и подростка, которые не могли выдержать бег — упали и волочились на арканах.
Отдышавшись, Булат подошел к толпе полонянников и сказал торжественно:
— Житие просторное кончилось, братие! Великие страдания предстоят нам...
$ * *
Рана Андрея оказалась несмертельной. Крепка была русская кость, да и в руке, татарина, видно, не стало прежней силы. Сабля скользнула вкось, разрезала кожу и слегка повредила череп. Опасность грозила от другого: раненый потерял много крови.
Часа через два после ухода татар Голован очнулся от ночного холода: разбойники стащили с него все, кроме рубахи и портков.
Расслышав журчание ключа, юноша со стоном пополз к нему. Несколько раз теряя сознание и снова приходя в себя, Андрей добрался до родника, зачерпнул горстью воды, напился. Отдышавшись, залепил рану илом и впал в забытье...
Глава X
ХОЛОП КНЯЗЯ ОБОЛЕНСКОГО
Голован остался бы на лесной полянке навек, да спас захожий бортник1. Разыскивая в лесу ульи диких пчел, он набрел на раздетого человека. Бывалый лесовик умел лечить раны. Соорудив волокушу2, он притащил Андрея на пасеку и выходил его.
— А ты не вовсе бедовик, паря, — сказал он, когда Голован уже мог разговаривать.— Видать, твои красные дни впереди!
— Это как кому на роду написано! — отвечал Андрей.— Вот наставника моего Булата угнали басурманы— я б за него семь раз смерть принял!
— Об нем горюй не горюй: из татарских лап не вырвешь, разве только выкупишь.
1 Бортник — пчеловод.
2 Волокуша — род грубых саней из веток.
Пленников привязали арканами к седлам и двинулись рысцой
— У меня ни алтына...1
— Тогда распростись довеку.
Слова бортника, однако, вселили надежду в душу Андрея. Он твердо решил пойти в Москву, заработать денег и выкупить учителя из плена.
Отблагодарив мужика за добро и заботы, получив от него лапти, рваный армяк да котомку сухарей, Голован отправился в дальнюю дорогу.
Питаясь подаянием, работая у зажиточных мужиков, Андрей подвигался к Москве.
Беда настигла его невдалеке от Мурома.
Голован шел по пустынной дороге, когда показались всадники в теплых кафтанах, в кожаных шапках. Все они были хорошо вооружены: в руках бердыши и рогатины, за плечами луки. Голован сошел в сторону. Но конники окружили его.
— Стой, малый, не беги! — грубо приказал старшой, хотя юноша и не думал бежать. — Куда путь держишь?
— В Москву.
— Хо-хо! Да-а-леко! А у тя отпускная грамотка есть?
Голован испугался. Когда он бродил по Руси с Булатом, у них не раз спрашивали отпускную грамотку. Тогда старый зодчий вытаскивал из сумы указ с печатью, и путников отпускали. Но указ пропал во время татарского набега.
Запинаясь, Голован объяснил, что грамотки у него нет, но он человек свободный, ученик строительного дела., — Свободный? — усмехнулся предводитель отряда.—• Ты нашего боярина Артемия Васильевича беглый холоп, и мы тебя поймали!
— Сколько ни бегай, а быть бычку на веревочке! — молвил один из верховых. — Тебя, Волока, должен тиун наградить: ужо третьего на неделе приводишь.
— У меня глаз зоркий, дальновидный глаз! — похвалился Волока. — Иди с нами, малый, да не супротивничай, а не то в железа скуем... Амоска, посади его к себе!
Голован видел, что сопротивляться бесполезно, и сел позади Амоски.
1 Алтын- 1ри копейки.
Андрею не раз приходилось слышать, как бояре и дворяне, нуждаясь в слугах, по произволу пишут людей к себе в холопы. «Судебник» 1 грозил за незаконное лишение свободы суровыми карами; но кары не устрашали насильников.
Достаточно было боярскому тиуну явиться к наместнику с посулом2 и заявить: «На сего нашего сбеглого холопа есть у нас послухи3», — и попавшему в беду не было спасенья.
Наместник давал на приведенного «правую грамоту» и тем узаконивал холопью его участь. «Написал дьяк — и быть тому так!»
Иным удавалось сбежать, но господа задерживали холопа, где бы потом он ни попался.
Мрачные думы одолевали Голована. Амоска оглядывался на него с состраданием: душа парня еще не очерствела. Когда они отстали на повороте дороги, Амос шепнул:
— А ты, малый, выдумай себе имя!
— Зачем? — удивился Голован.
— Беспонятливый! Да коли «правую грамоту» напишут на твое природное, тебе довеку из кабалы не выбраться.
— Наставление твое исполню! — обрадовался Анд* рей.
Часа через два группа поимщиков въезжала в усадьбу князя Артемия Васильевича Оболенского-Хромого.
Усадьба походила на маленькую крепость. Привольно раскинувшись на нескольких десятинах4 земли, она была обнесена высоким бревенчатым тыном, а в воротах стояли сторожа с дубинками.
Один из сторожей ухмыльнулся:
— С добычей?
— Заполевали!
Боярские хоромы красиво возвышались посреди двора. Крыши двускатные, четырехскатные, бочкообразные, шатры разной высоты лепились друг к другу в живописном беспорядке.
1 «Судебник» — собрание законов, составленное при великом князе Иване III Васильевиче, в 1497 году.
2 Посул — взятка.
3 Послухи — свидетели.
4 Десятина — прежняя мера земли, равнялась 1,1 гектара.
Голован невольно остановился, рассматривая зда* ние. Но старшой грубо дернул егоза руку и заорал в ухо:
— Эй ты, блажной! Остолбенел?
Андрей вздрогнул, очнулся.
На высоком крыльце стоял княжой тиун Мурдыш, которому донесли о приводе нового холопа. Был Мурдыш приземист и плотен, чуть раскосые глаза смотрели властно. Мурдыш поражал богатством наряда: малиновый суконный кафтан с золотыми нашивками, поверх кафтана накинута враспашку червчатая1 ферязь2 с золочеными пуговицами; на голове бобровая шапка. По одежде и осанке тиун мог сойти за боярина.
Тиун был правой рукой князя Оболенского и в его муромской вотчине вершил дела как хотел. Своей рабской долей Мурдыш гордился: «Я моего господина природный холоп!»
Мурдыш знал грамоту и ведал письменной частью в имениях Оболенского. В отписках и челобнтьях тиун наловчился не хуже любого приказного дьяка.
Тиун милостиво кивнул головой поимщикам, которые подвели Голована к крыльцу.
— Попался, вор!—злобно промолвил Мурдыш.—• Долго ж ты, холоп, от нас бегал!
— Я не вор и не вашего боярина беглый холоп,— твердо возразил Голован. — Звать меня Семен, Никаноров сын, а родом я из города Пскова.
— Облыжные3 речи говоришь, Семейко, Никаноров сын! Родом ты не псковской, а наш, муромской. Сбёг ты от нас в позапрошлом году, и на то у нас грамотка есть. Ужо завтра я ее покажу!
Голован улыбнулся, и его насмешливая улыбка взбесила тиуна. Оба молчали, и каждый думал свое. Андрей понимал, что тиун составит кабальную грамоту на имя Семейки Никанорова и тем признает его вымышленное прозвание. А Мурдыш догадался, что пленник выдумал имя; но приходилось утвердить его ложь и составить кабальную запись, которая немного будет стоить.
1 Червяачая — багряная, ярко-малиновая.
2 Ферязь — мужская верхняя одежда.
3 Облыжный — лживый.
Мурдыш сказал вполголоса:
— Ну, Семейко, или как там тебя... Знаю, ты парень с головой. Будешь верно служить — я тебя возвышу: у меня что выговорено, то и вымолочено!
— Коли ты меня так хорошо знаешь, поведай: куда я пригоден и к какому делу приставить меня мыслишь?
Рука Мурдыша полезла к затылку, и он смотрел на Голована в недоумении. Но к тиуну подскочил Волока и шепнул ему на ухо. К Мурдышу вернулась уверенность:
— Ведомо мне, что ты строитель. К сему делу тебя и приспособим.
Голован понял: слова, необдуманно сказанные на проезжей дороге, выдали его.
— Нс хочу я здесь работать! — в отчаянии вскричал Андрей. — До самого князя дойду!
— Здесь, на усадьбе, я князь! — Мурдыш гордо подбоченился.
— Не князь ты, не царь, а господской псарь!
Насмешка взбесила тиуна:
— Эй, люди! Дать малому двадцать плетей за побег и посадить на хлеб, на воду. А там поглядим!
После наказания сердобольный Амоска, покачивая головой, сказал:
— Понапрасну супротивничаешь! У нас, миляга, медвежья берлога, к нам государевым дьякам и то ходу нет. Ты, Семеюшко, до поры до времени затаись...
* * *
Вотчина Оболенского-Хромого представляла целый городок. Позади боярских хором выстроились людские избы; за ними разбросались скотные и птичьи дворы, собачники, амбары, кладовые, погреба, мыльня, кузня, швальня, шерстобитная изба, ткацкая...
Богатое хозяйство было у князя Артемия Оболенского. Свой лен и шерсть у него же в усадьбе превращались в полотна и сукна; из кож забитого скота сапожники шили сапоги, седельники обтягивали седла, шорники шили сбрую. Свои портные обшивали княжескую челядь. Свои рыболовы и охотники снабжали поместье и московский дом князя рыбой и дичью. Свои медовары заготовляли бочки медов и квасов.
Были среди многочисленной княжеской челяди избранные— медвежатники, псари, выжлятники, ловчие1. Они жили беззаботно, сыто и пьяно и шли для князя на любую послугу: сжить ли со свету врага, наловить ли на дорогах новых холопов, разгромить ли непокорных мужиков в дальней вотчине...
Но большая часть боярской дворни до упаду труди^ лась в работных избах: медоварнях, сыроварнях, шер* стобитнях, сукноваляльнях...
В усадьбе Оболенского Андрею пришлось вплотную столкнуться с народной нуждой, картины которой он так часто наблюдал, скитаясь с Булатом по Руси.
Правда, здесь избы дворовых не валились набок, как в крестьянских деревушках, и хозяевам не приходилось подпирать стены кольями. Такое неблагообра-зие, пожалуй, укололо бы глаз гостей, наезжавших к боярину, и они укорили бы им хозяина, а тот, в свою очередь, строго взыскал бы с тиуна.
Но в опрятных с виду избушках боярских холопов гнездилась такая же нищета, как и повсюду на Руси.
Дрова для нужд холопов тиун отпускал скупо, и зимой в избушках дворовых стоял лютый холод. Пища работных людей была самая скудная: основу ее составляли хлебная тюря 2 да редька с квасом.
Плохо питавшихся и плохо одетых дворовых ставив ли на работу с самого юного возраста — с двенадцати-’ тринадцати лет. Работники трудились на боярина по шестнадцати — восемнадцати часов в сутки: летом от зари до зари, а зимой при тусклом свете лучины.
За дерзостное поведение Мурдыш послал Андрея работать в кожевенную мастерскую, и там Голован вдоволь хлебнул горя. В огромных дубильных чанах кисли шкуры; из чанов несло нестерпимой вонью. Потом шкуры вынимались, и с них тупыми кривыми скребками счищалась мездра3 и шерсть.
С непривычки Головану кожевенная работа показалась хуже каторги. Парень вытерпел только неделю,
1 Медвежатник — охотник на медведей; выжлятник — старший псарь; ловчий — распорядитель всей охоты.
2 Тюря — хлеб или сухари, размоченные в соленой воде, в лучшем случае сдабривалась подсолнечным или конопляным маслом.
3 Мездра — слой клетчатки, покрывающий кожу с внутренней стороны.
а потом пошел к Мурдышу проситься на плотничью работу.
— Смирился? — удовлетворенно проворчал тиун в густую бороду. — Я к покорным милостив!
Голована поставили на постройку новой мыльни.
Мыльню кончили. На беду, Андрей, всегда увлекавшийся работой, показал себя искусным плотником и столяром.
Мурдышу пришла в голову новая затея: он решил пристроить к столовой палате с полуденной стороны гульбище узорчатое — галерею с резными перилами, где боярин и наезжавшие к нему гости могли бы прохаживаться на солнышке.
Головану поручили делать сложную резьбу перил. Видя его мастерство, Мурдыш стал особенно ценить нового холопа и приказал зорко за ним следить.
В поместье Оболенского была церковь. Поп проповедовал мужикам:
— Служите господину верно и усердно, ибо нерадивых рабов наказует всевышний. Сказано бо есть: «Рабы да повинуются своим господам». Тако повелось искони, тако и пребудет до скончания века... Раб, восстающий против боярина, подобен отцеубийце и проклят от господа...
Голован слушал проповеди с хмуро опущенными глазами.
Чтобы прикрепить ко двору нужного человека, Мурдыш решил женить Голована.
— Видал стряпущую девку Настасьицу? Поприглядись к ней, Семеюшко! А коль не по душе придет, другую найдем: у нас девок запас! Вишь, сколь я к тебе милостив. — А сам думал: «Ничего! Молодо пиво — убродится!»
Замысел тиуна привел Андрея в ужас.
«Бежать, бежать!» — думал он.
Но бегство из княжеской усадьбы было рискованным делом. В бытность Голована в усадьбе один из холопов, наскучив неволей, сбежал из лесу, где рубил дрова. За беглецом погнались с собаками, поймали и жестоко выпороли. Он лежал в людской, и неизвестно было, выздоровеет или помрет.
Участь наказанного страшила Голована. Но вековать век холопом, навсегда распроститься с зодчеством...
Голована заставил решиться подслушанный разговор.
— Дурак этот беглый! — сказал седобородый псарь. — В руки ловцам дался!
— А как уйдешь-то, дедушка? — спросил приятель Голована Амоска. — Ведь собаки...
— Как?.. Эх ты, псарь зовешься! То-то, молодо — зелено... Ему бы подошвы чесноком натереть — ни одна собака по следу не пойдет...
* * *
Осенним вечером, в сухую ветреную погоду вспыхнуло ярким пламенем строящееся гульбище. Огонь нашел обильную поживу: на постройке валялись стружки, обрезки, сухой тес.
Сторожа у ворот остервенело заколотили в било \ на дворе поднялась суматоха. Люди бежали к месту пожара с баграми, топорами, ведрами. Караульщики тоже бросились тушить пламя. Никто не заметил, как в калитку выскользнул человек.
Пожар был затушен быстро. Побег Голована обнаружили только утром. Собаки по следу не пошли.
Разгневанный Мурдыш решил поймать беглеца и примерно наказать за поджог постройки, за дерзкий побег. Но расчет Голована оказался верным: зная, что он пробирался в Москву, преследователи бросились к западу. А быстроногий Голован, отбежав за ночь верст тридцать к востоку, затаился в глухой чащобе...
Глава XI
НИЩАЯ БРАТИЯ
Голован скрывался весь день, питаясь захваченным с собой хлебом. Вечером начал пробираться к дороге. На пути заметил костер, разложенный посреди поляны. Андрей решил разузнать, что там за люди. Всмотревшись, облегченно вздохнул: «Убогие!»
У костра лежали и сидели нищие. Над костром висел котелок.
1 Било — деревянная или железная доска, в которую били молотком. Било заменяло колокол.
Головану захотелось послушать нищих: может быть, они говорят о событиях прошлой ночи. Андрей подкрался к опушке, хрустнул веткой. Нищие насторожились.
— Кто-то бродит по лесу? — спросил тщедушный подросток с плоским серым лицом.
— Зверушка, — равнодушно отозвался старик, лежавший у костра на холстине.
— Дедушка Силуян, рассказывай дальше, — попросил плосколицый паренек.
— Хватит! Слыхали мы про Илью... — проворчал слепой мужик огромного роста, с черной всклокоченной головой.
Но другие заспорили:
— Замолчь, Лутбня! Вечно насупротив всех!.. Сказывай, дед Силуян!
Силуян заговорил нараспев:
— На закате то было красна солнышка, на восходе то было светла месяца... Выезжал на подвиг матерой казак, матерой казак Илья Муромец. Перед ним ли раскинулось поле чистое, а на поле том старый дуб стоит... У того ли дуба три дороженьки: уж как первая дорога к Новугороду, а вторая-то дорога к стольну Киеву, а что третья-то дорога к морю синему, к морю синему, далекому...
Слушая тихую, ласковую речь деда Силуяна, который, очевидно, был вожаком нищих, Голован решил открыться ему и просить покровительства. Если старик согласится принять его в артель, легче будет укрыться от преследования.
Андрей смело вышел из лесу. Его неожиданное появление наделало переполоху. Плосколицый паренек испуганно крикнул; огромный Лутоня схватился за нож, повернув незрячее лицо в сторону Голована; одноногий нищий принялся совать куски хлеба в суму... Только Силуян не тронулся с места; лицо его, заросшее мягким седым волосом, спокойно обернулось к чужаку.
— Хлеб да соль, родимые! — поклонился Голован.
— Едим да свой, а ты подале стой!..— грубо ответил Лутоня.
— Экой ты неукладливый, Лутонюшка! — перебил слепого Силуян. — Чего парня зря пугаешь?.. Подходи, малый, присаживайся: мы люди не опасные. Откудова будешь, чьих?
— Я от татарского полону избавился, а иду в Москву..,
Андрей рассказал о странствиях с Булатом, о том, как печально они закончились. Оказалось, что нищие слыхали о Булате, не раз стояли на папертях построенных им церквей. Слушая повесть Голована", смягчился даже суровый Лутоня, а суровость его была не от при-* роды: ожесточила его жизнь.
Правдолюбец, прямой и искренний, холоп князя Вяземского, Лутоня смолоду восстановил против себя боярского тиуна.
Тиун Авёрко брал, как говорится, с живого и с мертвого, жадности его не было предела. Он установил двойной оброк: один в пользу князя, другой в свою собственную.
Против лихоимца смело поднял голос Лутоня. Не раз он обличал тиуна при народе, а потом его же жестоко наказывали батогами.
Лутоня не унялся.
«Доведу самому князю про злые дела Аверки!» — решил мужик, сбежал из вотчины и пешком отправился в Москву за правдой.
Аверко узнал от доносчика о затее холопа и принял свои меры. Он опередил Лутоню и первый явился к Вяземскому с тяжелыми обвинениями против беглеца.
«Лутоня — дерзкий бунтовщик! — уверял князя тиун, подтверждая свою ложь клятвами. — Он супротивник боярской власти и перед убегом хвалился, что волшебством твою княжескую милость изведет: для того и на Москву подался...»
Верные слуги князя схватили Лутоню у заставы. От него и под пыткой не могли вынудить признание, что он злоумышлял против князя, но все же мужик был приговорен к тяжкому наказанию: Лутоне выжгли глаза.
С тех пор слепец Лутоня пристал к нищей братии и уже много лет бродил по Руси, обличая боярскую неправду.
Но к простым и особенно к гонимым старый Лутоня был добр. Подозвав Андрея, слепец ласково провел шершавой ладонью по его лицу, по голове и тихо сказал:
— О, да ты еще совсем молодой, паренек! А горя, видать, досталась на твою долю немалая толика...
Осмелев от ласкового приема, Голован признался:
— От одного полону спасся, в другой попал не-» жданно-негаданно..,
— Как это? — насторожились нищие.
— А так: схватили меня люди князя Артемия Оболенского и силком забрали в холопы...
— Ах, проклятые! — возмутился Лутоня.— И ты дался?
— Как не даться, когда их десятеро, а я один!..
При живом участии слушателей Голован рассказал историю своих злоключений. Конец рассказа вызвал одобрение Лутони.
— Так и ушел, баешь?1 — Лутоня подтянул Андрея и радостно гладил его темные непокорные волосы. — И пятки чесноком смазал? Ох-хо-хо! Молодчага!.. Сгореть бы дотла разбойничьему гнезду!
— Не желай другому, чего себе не желаешь!
— У меня вотчины нет, дед Силуян! — озлился Лутоня.— Мои хоромы — посередь пустого двора горница, ветром обгорожена, облаком покрыта. У меня гореть нечему! Ненавижу князей да бояр, и слово мое таково: укрыть парня!
— Само собой, укроем!
* *
Наутро Андрей, преображенный, шел с артелью деда Силуяна. Его одежду запрятали по котомкам, а самого обрядили в лохмотья. На лбу его Силуян искусно вывел морщины, щеку обвязал тряпицей. Голован скрючился и хромал, опираясь на клюку.
Нищая братия шла в Муром; дорога вела мимо вотчины Оболенского. Голован боялся; спутники успокаивали его:
— Да тебя нипочем не признать! Совсем другой человек стал. И кто помыслит, что ты под ихний тын сунешься!
— Разве по глазам? — догадался Силуян. — А мы вот как сделаем...
/ Баять — говорить.
Когда они подходили к усадьбе, старик вывернул Андрею: веки, и тот притворился слепым.
Около усадьбы нищие остановились и жалобно запели. Им вынесли милостыню. Дед Силуян разговорился с поваренком:
— Что это запрошлую ночь над вашей вотчиной зарево стояло?
— А у нас холоп утек. Хоромину поджег, да скоро затушили, — весело сообщил поваренок.
— Поймали али нет?
— Нет. Ищут, по лесам гоняют. Мурдыш остервенился. «Кожу, — бает, — с живого сдеру, как доступлю сбега!»
Голован вздрогнул. Но поваренок не узнал юношу в обличье слепого нищего.
Муром остался позади, но снять нищенские лохмотья Голован не решился: сделав это, пришлось бы бросить артель, а она была беглецу крепкой защитой.
По утрам нищие садились у церкви и жалобным го-лосом заводили духовный стих либо былину. Бабы бла-гочестиво крестились, вздыхали, несли нищим скромное подаяние: краюшку черствого хлеба, пяток луковиц, яичко...
Мужики, вечные борцы с нуждой, хмуро отшучивались:
— У нас в семи дворах один топор!
— А мы, коль пахать начнем, спрягаемся: на всю деревню одна лошадь, и та без ног!
— А у нас ноне рожь хороша родилась! — хвалился один.
— Ну и насыпал бы мерку божьим людям! — ядовито подхватывал другой.
— Да рожь-то боярская! — отрезал первый. — Хороша Маша, да не наша!
С нищими охотно беседовали: они разносили вести по стране, от них узнавалось то, что бояре старались скрыть от народа. Восставали ли где озлобленные мужики против господина, задушившего их поборами; поднималась ли целая волость против притеснителя-наместника; убивали ли губного старосту, чересчур рьяно стоявшего за дворянские права, — обо всем этом па Руси становилось известно очень быстро, и распространителями таких вестей, поднимавших народ на
сопротивление боярскому гнету, были нищие да весельчаки скоморохи, вечные скитальцы по русской земле.
Продвигаясь к Москве, артель деда Силуяна повсюду оповещала:
— Будете, люди, за Муромом — стерегитесь проходить близ усадьбы Артемия Оболенского: там разбойное гнездо, там свободных людей хватают и в холопы к князю Артемию беззаконно пишут...
* * #
Медленно продвигались нищие к западу. Уж кузнецы Кузьма и Демьян принялись ковать на реки и озе-ра ледяные мосты \ когда в морозный ясный день Голован увидел золоченые маковки московских церквей.
1 Память Кузьмы и Демьяна праздновалась 1 ноября (ст. ст.).
Часть вторая
МОСКВА И КАЗАНЬ
Глава 'I
ОРДЫНЦЕВ
Задумав побег из Выбутина, Тишка Верховой рас* спрашивал во Пскове и окрестных деревнях о боярах, высланных в другие края после уничтожения исков* ской вольницы. Самые благоприятные отзывы довелось услышать Тишке о бывшем псковском боярине Ордын* цеве Григории Филипповиче. Говорили люди, что, по слухам из Москвы, Ордынцев принимает псковских утеклецов *, не выдавая их властям.
Этого Ордынцева и имел в виду Тишка, когда, идя с Булатом, рисовал картины будущего безмятежного житья у боярина. Но хитрый мужик не назвал боярина: Тишка не хотел оставлять за собой след, по которому могли бы его разыскать.
Род Ордынцевых вел начало от Митрофана Ушака, дружинника князя Александра Невского. Митрофан
I Утеклецы — беглецы.
двадцать лет томился пленником в Золотой Орде, вырвался оттуда и вернулся на Русь, Люди прозвали Митрофана Ордынцем, и по этому прозвищу стали зваться его потомки,
Григорий Филиппович был не из первых псковских богачей, йо человек влиятельный: к его голову прислушивались многие. Потому он и пойал в числб трехсот знатных, которые после присоединения Пскова к Москве были разосланы по разным областям, Поместья высланных перешли в собственность государства.
Знатные псковитяне, выселенные из родного города Василием III, получили земли в Московщине, Рязанщине, Владимирщине и иных близких и дальних областях.
Григорию Ордынцеву дали выморочное поместье близ Серпухова, на берегу Оки: все мужчины семьи, Иладевшей деревней Дубровкой, вымерли от повальной болезни, и некому было нести службу за землю.
Так бывший псковский боярин Стал московским дворянином.
Ордынцев, получив хорошее поместье вблизи Москвы, был доволен. Правда, Дубровка досталась Григорию Филипповичу не без труда: много пришлось дать дорогих подарков дьякам,
Оторванный от родных мест, Григорий Филиппович не растерялся: он был человеком твёрдой воли и острого ума. Первым условием для возвышения рода являлось богатство; богатство боярских и дворянских семей создавалось крестьянским трудом. Чем больше оседало крестьян на земле владельца, тем больше собиралось оброков, тем легче выполнялись повинности перед государством.
Григорий Филиппович установил для крестьян пониженный оброк, и его тиун не слишком притеснял неисправных должников. Ордынцев расчетливо полагал, что лучше прожить десяток лет с меньшими доходами, зато пустующие земли будут заселены и обработаны.
Так и случилось. Когда по округе прошла молва о добром боярине, у которого даже тиун сочувствует крестьянской нужде, в ордынцевскую деревню повалил народ. Пользуясь правом переходить к другому землевладельцу в Юрьев день, крестьяне рассчитывались с долгами обычно с помощью ордынцевского тиуна, и поместье Григория Филипповича с каждым годом становилось многолюднее.
По мере того как росли ряды изб в деревне Ордын-цева, оброк поднимался. Долги, сделанные боярину при переходе в его поместье, начинали взыскиваться с беспощадной строгостью, с огромным «накладом», как в старину называли проценты.
Мужики, польстившиеся на посулы ордынцевского тиуна, поняли, что попали в ловушку. Но куда бежать? По горькому опыту крестьяне знали, что бояре и дворяне все одинаковы, что кабала везде горька.
Соседи Григория Филипповича, злобившиеся за «порчу людишек», поняли его игру и прониклись большим уважением к дальновидному пришельцу.
Ордынцевские мужики нищали, зато богатство Ор-дынцева стало быстро расти. Он поставил в Москве, па Покровке, богатый двор на трех десятинах земли. Там и стал он жить большую часть года, поручив управление деревней надежному тиуну.
Там, на Покровке, и нашел Ордынцева Тишка, благополучно пробравшийся в Москву, хотя дорогой и грозили ему, беглецу, многие опасности.
Григорий Филиппович, высокий и тучный, с окладистой темно-русой бородой, сильно тронутой сединой, принял Тишку наедине: старик избегал разговоров с пришлыми людьми при свидетелях. Проситель повалился Ордынцеву в ноги и, величая милостивым боярином, умолял принять его, недостойного раба, в холопы, на вечную службу.
Ордынцеву люди уже не были нужны, но Тишка клялся, что он прибежал к боярину из бывшего ордынцевского поместья, где мужики помнят и любят прежнего господина и жалеют о нем. Размягченный лестью, Григорий Филиппович принял Тишку с женой к себе во двор. За небольшую взятку дьяк составил на Тихона кабальную грамоту, и тот стал холопом Ордынцева. Тишка быстро освоился в новой среде. Наглый с дворовыми и угодливый с высшими, он наушничал на людей главному дворецкому и был у него в чести.
Через два года Тишку трудно стало узнать: он раздобрел, отрастил большую рыжую бороду, набрался спеси. Многие из дворни уже почтительно величали его Тихоном Аникеевичем и предвидели, что быть ему вскорости младшим дворецким.
'* * *
В 1541 году в жизни Ордынцева произошла важная перемена: его избрали серпуховским губным 1 старостой.
У губного старосты была своя канцелярия — «губная изба»; делопроизводством ведал губной дьяк; помощниками губного старосты были губные целовальники, избиравшиеся из «лучших» (зажиточных) крестьян. Целовальниками в старину назывались служилые люди, которые целовали крест, то есть приносили присягу в том, что будут добросовестно выполнять свои обязанности.
Главным делом губных старост была борьба с разбоями. Губные целовальники задерживали на дорогах подозрительных людей и препровождали на суд к губному старосте.
Избрание губным старостой изменило установившийся образ жизни Григория Филипповича: приходилось оставить спокойное житье в Москве и принять обширные заботы по уезду. И все же Ордынцев не отказался: ему польстило доверие дворян, прежних его недоброжелателей, и он хотел доказать, что они выбрали достойного. Была и другая сторона дела, пожалуй еще более важная для Ордынцева: должность губного старосты была небезвыгодной. Губные старосты имели право казнить виновных в разбое; имущество казненных частью шло на удовлетворение пострадавших, частью в пользу государства. Разобраться, как произведен дележ и какая часть имущества прилипла к рукам губных властей, было невозможно, особенно если чины губной избы крепко поддерживали друг друга.
Расчетливый Григорий Филиппович так поставил дело, что его подчиненные были довольны, и опасность доноса исключалась.
Губная реформа вырвала право суда из рук князей и бояр и тем значительно урезала их власть. Зато сильно возросло влияние мелкого дворянства, избиравшего губных старост.
Но реформа била не только по князьям и боярам: она больней того ударила по крестьянству. На языке того времени разбоем называли не только грабеж на
1 Губа — территориальный округ в русском государстве XVI—XVII веков.
большой дороге, но и всякое недовольство, всякое выступление крестьян против помещиков. Такие выступ* ления подавлялись губными старостами, ярыми защитниками интересов дворянства, с особой свирепостью.
Дворяне, избравшие губным старостой Ордынцева, остались им вполне довольны: он крепко соблюдал их, а заодно и свои интересы, зорко следил за порядком в уезде и всякие попытки крестьян к возмущению против господ беспощадно пресекал в самом начале.
Глаеа 11
БОЯРСКИЕ РАСПРИ
В год смерти великого князя Василия III единственному сыну Григория Ордынцева исполнилось тринадцать лет. Юный Федор хорошо изучил к тому времени русскую грамоту, и отец нанял ему учителя по латыни.
Григорий Филиппович, сам малограмотный, с трудом разбиравший псалтырь и совсем не умевший писать, понимал значение образования. Сознавая, что ему самому не подняться выше губного старосты, он мечтал для сына о боярстве, хотел, чтобы Федор сделался приближенным советником государей.
Ивану IV было три года, когда умер его отец, и младенца объявили великим князем; но править государством должна была его мать Елена, из рода Глинских, недавних выходцев из Литвы.
В свиту великого князя Ивана IV стали набирать юношей из дворянских и боярских семей. Григорию Филипповичу пришлось сильно тряхнуть казной, чтобы добиться для сына придворной должности. Правда, должность оказалась невеликой: за высокий, не по годам, рост, за дородность Федора Ордынцева сделали рын* дой.
Рынды — великокняжеские пажи — выбирались из юношей лучших дворянских родов и во время парадных выходов и шествий поражали роскошью наряда. Их одежда из серебряной парчи с рядом больших серебряных пуговиц была подбита горностаевым мехом. Голову юношей покрывали высокие белые бархатные шапки, отделанные серебром и золотом и опушенные рысьим
мехом, на ногах были белые сапоги с золочеными подковками. Рынды носили на плечах топоры, блиставшие золотой и серебряной отделкой.
Старый Ордынцев был крайне горд назначением сына, предвидя в этом первую ступень к будущим почестям.
Придворная должность позволила младшему Ордынцеву ежедневно видеть великого князя и знать все, что делалось во дворце. Большой почет, по мнению людей, и непрестанный страх перед вершителями судеб страны, способными раздавить, как козявку, молодого царедворца, если он осмелится стать на их пути, — вот какой стала жизнь Федора Ордынцева.
Многое пришлось увидеть Федору за годы придворной службы.
После смерти великого князя Василия, который управлял государством умно и твердо, бояре подняли голову: им показалось, что пришло время, когда, пользуясь слабостью правительства, можно восстановить древние боярские права.
Слишком хорошо еще помнили бояре, что их деды и прадеды были венценосцы, владетельные князья, которые ни в чем не уступали князьям московским, а иногда и превосходили их по старшинству и значению уделов. Пристойно ли им, боярам, потомкам государей, быть холопами государя московского!
Ведь они хотя и подчинились московскому великому князю, но владения своих отцов—вотчины — сохранили и распоряжались в них полновластно. Они имели свои войска, и, когда начиналась война, эти войска должны были становиться под знамена великого князя. Но приходилось просить и уговаривать феодалов своевременно явиться с дружинами в ополчение; а передать удельную дружину под начальство другого воеводы было делом невозможным. И это связывало руки руководителю всего ополчения — великому князю.
На свои обязательства перед государством бояре-феодалы смотрели как на добровольное соглашение, от которого они всегда вольны отказаться и даже перейти на Службу к другому государю, например в Литву.
Этот опасный пережиток старины следовало вытравить во что бы то ни стало» Но время для этого еще не пришло..»
Две сильные партии образовались среди боярства: одну составляли князья Бельские, в другой был многочисленный род Шуйских, потомков суздальских князей.
При жизни Елены ни Бельские, ни Шуйские не могли пробиться к власти. Но правительница умерла в 1538 году, как утверждали — от яда, поднесенного недругами. Худенький, болезненный восьмилетний великий князь сделался игрушкой в руках бояр.
Первой жертвой приверженцев старины стал умный и дальновидный государственный деятель князь Иван Федорович Овчина Оболенский Телепнев: закованный в железо, он умер в темнице от голода1.
Князь Иван Федорович благоволил к молодому Ор-дынцеву, часто любовался его могучей фигурой; неоднократно разговаривал с Федором, обещал ему повышение. Гибель Телепнева повергла Федора в ужас. К счастью для молодого Ордынцева, он был слишком ничтожной пешкой в игре и по-прежнему в торжественные дни стоял с секирой в руках у подножия трона.
Пять лет2 продолжалась жестокая борьба за власть между боярскими партиями. После смерти Елены власть сумели захватить Шуйские; многочисленные члены этого обширного рода получили города «в кормление».
Кормление — пережиток удельной старины — заключалось в том, что князья и бояре, получавшие город или волость в управление, собирали с населения в свою пользу подати. Часто наместники и волостели3 требовали с жителей такой непосильный корм, что те разбегались; многие города и волости оставались пустыми.
Отовсюду стекались в Москву жалобы, но жаловаться было бесполезно: верховная власть поступала не лучше, чем ее представители на местах. Шуйские нагло грабили государственную казну, расхищали золото и драгоценности.
Борьба бояр велась жестоко, грубо, много жертв она уносила при каждом перевороте. Молодой Федор Ордынцев, любитель книжного учения, юноша тихого и скромного нрава, горько сожалел, что отец вверг его в
1 Во время правления Елены Овчина Оболенский Телепнев ведал внутренними и внешними делами страны, осуществляя военное руководство.
2 С 1538 по 1543 год.
3 Волостели — правители волостей.
«область адову» — так называл Федор великокняжеский дворец в разговорах с отцом, часто наезжавшим в Москву. Разговоры велись секретные.
Опасность доноса была велика: младший дворецкий Тихон Верховой вечно вертелся в хоромах и старался узнать все тайное; он не постеснялся бы продать своих господ Шуйским.
Старый Григорий Филиппович говорил сыну на его мольбы о позволении покинуть придворную службу:
— Немысленное дело затеваешь, Федя! Прошение твое об уходе будет сочтено за тяжкое оскорбление государева величества. Да тебя Шуйские и не выпустят на волю: слишком многое ты видел и знаешь, языка твоего поопасятся. А тебе я дам наставление: держись тише воды и ниже травы, никому не прекословь, волю вышестоящих исполняй со смирением и усердием. Благо будет, ежели сочтут тебя скудоумным: таких властелины любят. Великому князю оказывай преданность наедине, без лишних глаз. Государь имеет ум острый и проницательный, несмотря на младые годы: он твою скрытность поймет и врагам тебя не выдаст; но, придя в возраст, вспомнит тебя и превознесет...
— Боюсь я, тятенька, погибнуть в этой буре неистовой, которая столь многих сильных унесла, — жаловался Федор.
— Свирепый вихорь ломает дубы, но былинки пригибает к земле, — наставительно отвечал отец. — Гнись долу и выжидай свое время...
И вот настал день, когда юный государь нанес сильнейший удар непокорному боярству.
29 декабря 1543 года по приказу Ивана глава рода Шуйских, боярин Андрей Михайлович, был убит.
Сидя в тихой келье, летописец записал в тот год:
«Начали бояре от государя страх иметь и послушание...»
Ивану шел в то время четырнадцатый год.
И* И* И*
Молодой государь давно заприметил безответного Федора Ордынцева; не раз заставал он его с книгой в руках. Такое книголюбие пришлось по душе юному великому князю, страстному любителю чтения. Теперь,
когда Иван получил возможность беспрекословно вы-ражать свою волю, он возвел Федора Ордынцева в сан спальника.
— Довольно тебе, молодец, в рындах ходить, уж больно ты велик стал для этого дела, — ласково сказал великий князь покрасневшему Федору. — Усердие твое и послушание нам ведомы, и, чаю я, в наших государевых спальниках больше пользы окажешь!
Федор Ордынцев кланялся и благодарил, а сам ду-мал:
«Лучше бы уволили меня от окаянной службы!»
Но стену лбом не прошибешь. Слушая поздравления придворных, Федор делал довольное лицо. Зато утешила его чрезвычайная радость отца, которого Федор очень любил. В новом звании сына Григорий Филиппович видел ступень к желанному возвеличению рода Ордынцевых.
По старинному обычаю, рынды для великокняжеского двора набирались из неженатых юношей, которые, придя в возраст, заменялись другими. Федору Ордын-цеву давно следовало выйти из рынд, но отец на это не соглашался: он боялся, что, покинув двор, Федор закроет себе путь к почестям. Государева милость разрубила этот узел, и теперь отец мог женить Федора. Без хозяйки дом — сирота, а старик вдовел лет десять.
Невеста, дочь стольника 1 Наталья Масальская, уже была присмотрена; отцы давно ударили по рукам, не спрашивая согласия жениха и невесты. В высшем кругу общества женщины в старину сидели затворницами в теремах; этот обычай искоренил только Петр I.
До дня свадьбы Федор не видел невесту. Зато как он был обрадован, когда Наталья оказалась девушкой миловидной и доброго нрава.
Молодые зажили дружно. В конце 1544 года Григорий Филиппович порадовался появлению на свет внука Семена.
Лаская маленького Сеню, старик гордо думал:
«Не угаснет род Ордынцевых!..»
К власти пришел князь Михаил Васильевич Глинский, старший из братьев покойной великой княгини
1 Звание стольника было одним из средних придворных званий в русском государстве.
Елены; его деятельность направляла бабка великого князя — властная и честолюбивая Анна.
В стране ничего не переменилось от того, что одну правящую партию заменила другая. Глинские были корыстны и жадны не менее Шуйских. На кормление в городах и волостях сели другие наместники, а народ стонал по-прежнему.
Зато изменилось положение во дворце. С того дня, когда Иван впервые проявил власть государя, нельзя было обращаться с ним по-прежнему. Приближать любимцев юный государь стал по своей воле, а воля его была часто изменчива, и не без причины. Любимцы Ивана оказывались такими же своекорыстными, так же старались утопить соперников, которые могли бы от-; пять у них государеву милость.
На кого положиться? Не было среди именитых бояр падежных людей.
С тех пор на всю жизнь появилось у Ивана недоверие к знатным боярам.
Глава 111
СКОРБНЫЙ ПУТЬ
«Кдко могу я описать напасти и беды русских людей во времена те? Казанцы из земли нашей не выходили и проливали кровь как воду. Крестьян уводили в плен казанские срацины \ старым и негодным выкалывали глаза, а иным отсекали руки и ноги, и, как бездушный камень, валялось тело на земле. Младенцев, им улыбавшихся и руки подававших, варвары и кровопийцы от матерей отрывали, за горло давили и о камни разбивали или на копья надевали...»1 2
И* И* н»
Разбойники, полонившие Никиту Булата, нашли у него в котомке книгу; это спасло зодчему жизнь: «Русский мулла!3 Выкуп даст!»
1 Срацины (правильнее — сарацины) — так называли арабов; па Руси сарацинами часто называли всех магометан.
2 «История Казанского царства» неизвестного автора, много лет проведшего в казанском плену.
8 Мулла (татарск.) — священник.
Татарин Давлетша, завладевший Никитой по жребию, решил сберечь пленника. На привале осмотрел босые, сбитые ноги Булата.
— Вай-уляй! — огорчился Давлетша. — Не дойдешь... Эй, урус, бояр! — начал он умильным голосом. — Твой богат? Акча 1 много есть? Твой сколько тэнга2 на выкуп давал? Сто тэнга давал?
Никита ответил:
— Не рассчитывай на выкуп! Я бедняк, на меня тратиться некому. Был ученик, и того вы убили...
«Врет! — уважительно подумал татарин. — Крепкая голова, трудно получить выкуп. Надо стараться...»
Давлетша снял с ног чарыкй из бычьей кожи, отдал Никите. Покрыл его войлочным халатом, накормил.
— Спи, мулла! Выкуп платил — домой ходил!
Утром Давлетша посадил Никиту на запасного коня. «Довезу живого—выкуп получу...»
Миновав русские заставы, ехали не сторожась. На вечерних привалах после ужина деренчи садились кружком на рваные кошмы вокруг сказочника. Старик взглядывал на небо, усеянное звездами, плотнее завертывался в халат.
— Началось дело в том году, когда волк служил атаманом, лиса — есаулом, гусь — трубачом, ворон — судьей, а воробей—сплетником. У бедного деренчи, такого, как и мы, родилась дочь Юлдуз. Ай, красавица из красавиц была! Четырнадцатидневная луна 3, завидев ее красоту, от стыда за тучи пряталась. Когда Юлдуз воду пила, вода через ее горло видна была. Когда морковь ела, морковь через ее бок видна была...
— Ай, какая красавица! — восклицали пораженные слушатели.
Сказка тянулась долго. Влюбленные разлучались, соединялись и вновь разлучались; молодой богатырь побеждал дивов4 и становился ханом в неведомой стране, где пшеничные зерна родились величиной с кулак...
Время подходило к полуночи, когда татары уклады
1 А к ч а (татарск.) — деньги.
2 Т $ н г а (татарск.) — рубль.
3 Восточные народы называют луну четырнадцатидневной во время полнолуния.
4 Д и в — злой дух восточных сказок.
вались на ночлег. Деренчи храпели, но пленникам было не до сна. Сбившись кучкой, они шептались о родине, плакали над своей бедой...
Утром атаман осматривал пленников, указывал на двух-трех, ослабевших от трудностей пути, и те, которые ночью вздыхали над злоключениями влюбленных в сказке, отрезали жертвам голову, со смехом перекидывались ими, пинали ногами, стаскивали с убитых одежду, засовывали в сумы.
— Эй, друг, ты свою последнюю зарезал?
Спрошенный широко ухмылялся:
— Судьба! Не жалко — совсем худая баба стала. В следующий раз лучше возьму.
Давлетша, подсаживая Никиту на коня, посмеивался:
— Эй, мулла, выкуп давал — домой ходил! Якшй, чох якши!1
К Волге подошли в полдень. Перевозчики — марийцы— переправили людей на больших лодках. Кони плыли за лодками.
# * *
Вот она, Казань, город страданий разноплеменных рабов. Десять ворот было в крепкой дубовой стене, окружавшей обширное пространство.
Деренчи пригнали пленников к Крымским воротам; там начальником караула сидел десятник, падкий на бакшиш2. От него можно отделаться небольшой пошлиной за приведенную добычу.
Русские сбились в кучку. Немного их осталось после страшного пути: всего восемнадцать человек из шести десятков. Ободранные, с кровоточащими ногами, с исхудалыми лицами, пленники угрюмо смотрели на любопытных стражников, высыпавших из ворот.
Седобородый десятник расшумелся:
— Ослы несчастные, да покарает вас аллах! В каком виде Урусов пригнали?
— А что? — испугался атаман.
— Да разве это баранта?3 Их только собакам па
1 Хорошо, очень хорошо! (татарск.)
2 Бакшиш (татарск.) — взятка.
3 Баранта (татарск.) — грабеж, захваченная добыча.
корм бросить!.. У-у! Товар портите, сыновья сгоревших отцов! Кто за них цену даст?..
Атаман сконфуженно оправдывался:
— Спешили очень! Нам урусы пятки жгли... Думали, самим не уйти...
— И пригнали падаль!
— Нет, вот этот старик ничего, совсем хороший ста* рик, мулла!..
Деренчй отделались небольшим ясаком.
Давлетша решил продать своего пленника. Слиш* ком долго ждать, пока урусы пришлют за муллу выкуп., «Да и пришлют ли? — рассуждал Давлетша. — Мо-жет, у него и вправду ничего нет. А может, он и не мул* ла? Кормить его чем стану? Э, лучше живая собака, чем дохлый верблюд! Сколько дадут — все ладно. Дом не куплю — коня куплю. Коня не куплю — халат куплю...»
Пленных до продажи поместили в городской зин* дан — тюрьму. Предварительно сковали по три-четыре человека. На одной цепи с Никитой оказался богатырь ростом и сложением — Антон и двое подростков.
На Никите тяжело отразились дни плена. Зодчего истомили не столько физические страдания и голод, как нравственные муки, жалость к соотечественникам, погибавшим на его глазах страшной смертью. Из по* жилого, но еще бодрого и крепкого человека Булат за две недели превратился в старика с ввалившимися ще* ками, с потухшими глазами.
Антон и Никита разговаривали всю ночь. Они уго-ворились по возможности не терять друг друга из виду.
Зловоние зиндана, полчища насекомых—все это так измучило полонянников, что они с нетерпением ждали утра, хотя этот день должен был решить их судьбу.
Мечта пленников попасть в одни руки не осущест* вилась: Антона купил богатый бек1 из окрестностей Казани, подростки попали к содержателям харчевен.
Булата выставили на помост.
Худенький старик, босой, с лысой головой и всклокоченной седой бородой, в ветхой рубахе и портах, стоял на возвышении, оглядывая толпу.
От ярких халатов у Никиты зарябило в глазах. На голове у татар малахаи: войлочные и собачьи — у бед*
1 Б е к — помещик, дворянин.
няков, лисьи — у богачей. Косо прорезанные глаза рассматривали пленника с ленивым и презрительным любопытством.
Много крашенных в красный цвет бород; краска — хна — стоила дорого, и только богатые люди — муллы, беки, кадии1 — могли позволить себе такую роскошь.
Оценщик, которому Давлетша пообещал бакшиш, принялся расхваливать Булата.
— Вот раб! — выкрикивал он. — За такого раба не жалко отдать богатства семи стран света!
В толпе послышался смех. Вперед протолкался ремесленник в засаленной тюбетейке:
— А что он умеет делать? Я не знаю, никто не знает. Может быть, ты знаешь? Скажи!
— Он? — Оценщик подтолкнул Никиту к зрителям и затараторил: — Он проворен, как ящерица, искусен, как сорок ремесленников! Он и халат сошьет, и коня подкует, и пилав сварит, и ребенка понянчит...
— Как это хозяину не жаль расстаться с таким сокровищем?— заметил ремесленник под общий хохот.— Может, он кусается?
— Кусается? Да у него и зубов-то нет! — быстро возразил оценщик.
Грянул взрыв смеха. Оценщик смутился, попав впросак.
— Сорок тэнга! — закричал он, поворачивая унылого Никиту во все стороны. — Сорок тэнга за мудрого, опытного раба... Тридцать тэнга за раба, искусного во всех ремеслах!.. Спешите, правоверные, не упускайте случая — раскаетесь: не всегда будет торба с овсом у коня на морде!
В толпе молчали.
— Двадцать тэнга за раба, который принесет счастье и довольство в дом купившего его! — как ни в чем не бывало продолжал оценщик, стараясь поймать взглядом глаза краснобородых богачей. — Двадцать тэнга!.. Пятнадцать тэнга!..
— Два тэнга!—предложил ремесленник.
— Аллах велик, но, создавая тебя, забыл вложить ум в твою голову! Два тэнга за такого ценного раба?! Два тэнга?!— возмущался оценщик.
1 Кадий (арабск.) — судья.
А Давлетша чуть не ревел с досады.
Несмотря на старания оценщика, Булата продали за два тэнга. Купил старика оружейник, первым предложивший за него цену.
Получая деньги после вычета сборов и налогов, Давлетша взвыл:
— Вай-уляй! Имя мое пропало! Этот покупатель опозорил могилу моего отца!
— Судьба! — утешал его оценщик.
— Лучше бы я зарезал русского муллу! Сапоги давал, халат давал, на коне вез... И все за два тэнга!
С горя Давлетша отправился пить бузу1 и прокутил все деньги.
Никиту свел с помоста оружейник Курбан. Базарный писец иглой нацарапал на плоском медном кольце имя Курбана. Кольцо продели в ухо Никиты, проткнув шилом мочку. Теперь Булат стал вещью, отмеченной клеймом хозяина, и за попытку к бегству подлежал смерти.
Глава IV
У ОРУЖЕЙНИКА КУРБАНА
Из караван-сарая, где продавали рабов, шли по извилистым городским улицам. Булат внимательно присматривался к чуждой архитектуре восточного города. ЛАечети с круглыми куполами, с высоко вознесенными узкими минаретами2 сверкали эмалью, по которой вились золотые разводы и завитушки. В глубине сводчатых входов виднелись полуоткрытые двери дорогого дерева, испещренные причудливой вязью священных изречений. Мусульманские обычаи запрещали изображать живые существа, и восточные художники употребляли все искусство на создание изящных арабесок — узоров.
Около одной из мечетей хозяин Булата встретил знакомого и остановился поговорить. Никита заглянул в растворенную дверь. В прохладе мечети расположилась школа: мулла и полтора десятка учеников. Уче
1 Буза — хмельной напиток.
2 Минарет — вышка при мечети; с минарета раздается призыв к молитве в определенные часы суток»
ники — мулла-задэ,— сидя на каменном полу с поджатыми ногами, покачивались из стороны в сторону и заунывным голосом твердили заданное. Один загляделся на пышущую жаром улицу. Мулла с размаху хлестнул длинной камышиной по бритой голове лентяя. Товарищи наказанного захохотали, а сам он остервенело забубнил урок.
Оружейник дернул Никиту за руку и повел дальше.
Дома богачей скрывались в глубине дворов, обнесенных высокими стенами. Лишь узенькие калитки, охраняемые дюжими сторожами, проделаны были в стенах. Улицы походили на длинные коридоры: два пешехода могли разойтись свободно, всадники разъезжались с трудом.
Булат на своей спине испытал неудобства хождения по казанским улицам.
— Берегись, берегись! — послышались крики за поворотом.
Курбан втиснулся в маленькую нишу в стене, устроенную для таких случаев. Никита этого не сделал, да он и не понял предупреждения.
Из-за угла вывернулся бек в нарядном бешмете ярчайшего малинового цвета, в лисьем малахае. За ним ехали слуги. Растерянного Никиту притиснули к стене, чуть не затоптали лошадьми; вдобавок последний ударил- его плетью.
— Не стой на дороге! — прошипел он злобно. Курбан только посмеялся.
На улицах валялись отбросы, падаль; дорогу пересекали зловонные ручьи, вытекавшие из-под стен. Никто не заботился об уборке города. Все лишнее, ненужное выкидывалось на улицу, как на свалку. Остатки от еды пожирали бродячие собаки.
Целая стая их терзала труп павшего осла. Голодных псов сам Курбан обошел с почтительной осторожностью, хоть и был вооружен дубинкой.
Неказисто выглядели казанские улицы; неприглядны были с виду дома татарских богачей. Роскошь и удобства скрывались внутри. И на это казанская знать имела веские причины.
Похвальба богатством доводила до беды: ханы завистливо смотрели на сокровища подданных. А присвоить их добро было легко: объявить богача изменником,
сторонником Москвы, послать телохранителей с ука* зом, осуждающим преступника на смерть и отписываю-» щим имущество в ханскую казну.
Когда миновали эту часть города, картина измени* лась. Глинобитные сакли бедноты вплотную примыка* ли одна к другой, на крутизнах громоздились уступа* ми; крыша одной сакли нередко служила двориком другой. Тут не было и следов улиц: причудливые, запутанные тупики...
Курбан повел Никиту по крышам, кое-где взбира* лись по лесенкам.
«Небогато живут! — подумалось Булату. — А вонь* то, а грязь-то...»
Сакля Курбана была полна народу: три жены, куча полуголых бронзовотелых ребятишек, несколько рабов. Никиту обступили, заглядывали в лицо, ребятня тыкала пальцами в грудь и спину.
На ночь хозяин приковал Никиту к стене.
— Уйдешь — заблудишься, тебя кто-нибудь присво* ит, а мне — хлопотать, — объяснил он по-татарски.
Москвич Кондратий, давно томившийся в плену, пе* ревел Булату опасения хозяина.
— Скажи ему — не побегу. Куда бежать-то?
Кондратий, узколицый, худой, с позеленевшей от медных опилок бородой, поговорил с Курбаном.
— Не соглашается. «Пускай, — бает, — поживет. Привыкнет — не стану приковывать».
Рабов подняли чуть свет. Сунули по маленькой черствой лепешке:
— Ешьте, люди. Время на работу.
В утренней тишине по городу разносились звонкие, заливистые голоса муэдзинов L С балкончиков высоких минаретов, обратившись лицом к Мекке2, они разно* голосо и не в лад выпевали слова молитвы.
Курбан и его рабы, а с ними и раскованный Никита отправились на базар. Базар в Казани, как во всех восточных городах, служил не только местом торговли, но и средоточием всех ремесел. В сотнях лавчонок кипела работа. Кожевники, отравляя воздух испарениями дубильных чанов, выделывали сафьян и юфть. По со- * 8
1 Муэдзин (арабск.) — помощник муллы.
8 Мекка — священный город мусульман на западе Аравии,
седству сапожники шили из готовой кожи обувь. Из мастерской медника доносился звон и стук молотков по металлу: там ковали затейливые медные кувшины.
Цирюльник брил голову хилому старику, ревностно выполнявшему обычай — не носить длинных волос. Смачивая макушку мыльной водой, он водил по его го-’ лове ножом и что-то оживленно рассказывал. У ста-рика от боли текли слезы из воспаленных глаз, но ои терпел.
В углу тесной базарной площади погонщики заставляли верблюдов стать на колени, чтобы развьючить. Верблюды оглушительно ревели. Хозяин каравана, тем-» нолицый индус, разговаривал с менялой-огнепоклонником. На лбу парса1 виднелся красный значок — символ священного пламени. В толпе слышался гортанный говор кавказца; худощавый текинец2, хватаясь за кинжал, грозил степенному кизилбашу...3
Гомон, суета, разноязычные крики, споры покупателей с продавцами... Шашлычник, поворачивая над жаровней нанизанные на вертел куски баранины, крикливо хвалил свой пахучий товар. Продавец кумыса орал, размахивая бурдюками. Астраханец громогласно предлагал отведать ароматных дынь с низовьев Волги...
В лавке Курбана началась обычная дневная работа. Ученик кубачинского4 мастера, выходца из дагестанского аула, Курбан славился кинжалами, разрубавшими пушинку па лету. Сталь для оружия Курбан закалял сам, никому не доверял секрет.
Курчавый, смуглый армянин Самсон выковывал клинки, маленький молчаливый грузин Нико шлифовал и оттачивал их, москвич Кондратий выпиливал медные рукоятки.
Многие сотни пленных мастеров работали на хозяев— татар. Не все они были захвачены казанцами во время набегов — хозяева покупали искусных ремесленников в Астрахани, в Крыму и даже в Турции.
1 Парсы — секта огнепоклонников.
2 Текинцы — одно из племен Средней Азии.
3Кизилбаш (татарск.) — красноголовый; презрительная кличка персов (иранцев).
4 Кубани — аул на Кавказе, до наших дней славящийся выделкой превосходного оружия.
Умелого пушкаря Самсона полонили десять лет назад турки; переходя из рук в руки, после долгих скитаний армянин попал наконец в рабство к Курбану, и этот не намерен был расстаться с невольником, способным на всякое мастерство. Грузина Нико Курбан дешево купил у астраханцев.
У Курбана полагалось работать быстро, без отдыха. При каждом промедлении хозяин бросал свирепый взгляд, а при повторении проступка по спине виновного ходила плеть...
Курбан поставил Никиту выбивать узоры на клинке по заранее наведенному рисунку. Такая работа Булату была не трудна: Кондратий угадал это по первым сноровистым движениям Никиты, хотя старый зодчий не успел ничего рассказать о себе товарищу по несчастью.
Курбан как раз не мог оторваться от горна. А Кондратий шепнул Никите:
— Не показывай, земляк, умельство: на работе заморит!
— А испорчу?
— Побьется-побьется — пошлет на домашнюю работу. А не то продаст другому хозяину.
— Не убьет?
— До денег жаден, пес. Поколотит, а ты терпи!
Разговор кончился. Курбан подозрительно посмотрел в их сторону.
Булат слабыми, неточными ударами бил по металлу, не попадая чеканом в отмеченные линии. Курбан схватился за голову:
— Что делаешь, презренный! Вот как надо, смотри!— Он ловко выбивал линии сложного узора.
Никита стукнул молотком себе по пальцу — брызнула кровь.
— Проклятый!.. Коунрад, покажи ему, как работать!, Кондратий принялся объяснять. Курбан плохо говорил по-русски, но все понимал, и москвич не мог вставить ни слова в поощрение товарищу. Брошенный украдкой взгляд показал, однако, Никите, что он начал как надо.
Весь день Булат портил работу, раздражая горячего Курбана. Плеть ходила по плечам и спине старика.
Кондратий шептал:
— Крепись!
Никита не поддался.
— Пропади этот оценщик! Сгорели мои два тэнга!—• жаловался Курбан.
Вечером, когда Курбан отлучился из дому, Кондратий многое рассказал о нем новому рабу.
Оружейник Курбан был очень богат. Жалкая лавчонка на базаре только прикрывала его истинное занятие: на Курбана работали по домам десятки мастеров, за бесценок сдавая ему ятаганы *, кинжалы, богато украшенные пищали1 2. Оружие Курбан перепродавал с огромной выгодой и немало золота зарыл в укромных местах.
Но, как и многие казанские богачи, Курбан умело представлялся бедняком: ходил в драном халате и засаленной тюбетейке, жил в плохонькой сакле. Приносимое мастерами оружие принимал наедине и, выплачивая за него гроши, клял нищету, не позволяющую заплатить дороже.
Таких пауков, высасывающих из народа последние соки, было в Казани немало. Работая на них, ремесленники выбивались из сил, а жили впроголодь и не раз бунтовали, но всякая попытка возмущения кончалась кровавой расправой.
— Ты от работы всячески отбивайся, — наставлял Никиту товарищ.—Меня некому было предостеречь от этого жадины ненасытного... Погляди, каков я стал. Совсем извелся, а был молодец! Тебя хоть спасу...
Никите не дали есть ни вечером, ни утром.
Курбан плетью и кулаками старался вколотить в него уменье. Никита стоял на своем. В его душе росло упорство и гнев на хозяина.
Обозленный двухдневной возней с неуклюжим рабом, Курбан пустил в ход плеть:
— Вот тебе, урус, собака! Вот тебе!
Кровь проступила через рубаху. Булат стонал:
— Смертынька моя пришла... Прощай, Кондратий.
Самсон вступился за избиваемого:
— Эй, хозяин, нехорош дело! Зачем старый человек бьешь?
1 Ятаган — род сабли.
2 Пишаль — старинное огнестрельное оружие.
— Твое это дело?
Курбан мимоходом стегнул армянина и вновь набросился на Никиту с плетью. Неистово хлеща старика,, он свирепел с каждым ударом.
Татарин повалил Никиту на пол и топтал ногами. Старик лишился чувств и лежал как мертвый. Курбан опомнился, пробормотал со злостью:
— Сдох!
Кондратий наклонился к товарищу:
— Дышит... живой... — И с укором Курбану: — Не жалко двух тэнга? Не годен человек к работе—продай!
— Э-э! «Продай, продай»... Кому бездельник нужен?
— Сбудем. От медника Гассана я слыхал, управитель сеида 1 ищет садовника. Туда старика и спихнуть.. Барыш получишь!
— Какой барыш! Хоть бы свои вернуть!
Булат открыл глаза, застонал.
— Живуч, негодный! Коунрад, отведи его домой. Скажешь старшей ханым 2, пусть хорошо покормит дня три... — И вдруг испугался: — А если не купят уруса?
— Я его подучу, как себя за хорошего садовника выдать.
— А он и там не годен окажется?
— Нам какое дело? Его спина в ответе...
— Ты хороший раб, Коунрад!
Глава V
ВО ДВОРЦЕ КУЛШЕРИФА
Хитрость, придуманная Кондратием, удалась, хоть и дорого обошлась Булату. Старик попал туда, куда прочил его москвич. Кондратий расстался с товарищем, с которым можно было говорить о потерянной родине, делиться горем... Он пожелал Никите удачи на новом месте:
— Там полегче будет... А мне уж недолго работать на Курбана, он немало людей переморил...
Уединенным было владение духовного владыки казанских мусульман сеида Кулшерйфа. Еще можно было
1 Сеид — первосвященник Казани, духовный повелитель мусульман.
2 Ханым- женщина, госпожа»
попасть в селямлик1 с разрешения нишана2 Джафара* мирзы, но никто не проникал на женскую половину дворца, где под строгим надзором Кулшерифовой ма« тери жили жены первого казанского вельможи. Внут-= ренний двор женского помещения был занят садом; туда и поставил Джафар-мирза старого Никиту ухаживать за цветами и деревьями.
Обилием садов не могла похвалиться Казань — слишком скучился огромный город в крепких дубовых стенах с десятью воротами, откуда шли дороги на все стороны: в Сибирское царство, к соседним ногаям, в Крым, в Москву.
Хорошо было в саду Кулшерифа-муллы. Кроны лип ежегодно подрезались; под их тенью царила прохлада в самый знойный день. Ветры, поднимавшие пыльные вихри в закоулках бедноты, не залетали в сад, за высокие стены. Большие пестрые бабочки яркими пятнами метались среди дерев...
Однажды к Никите подошла женщина в халате, накинутом на голову:
— Ты русский? Свой?
— А, ты землячка! — догадался старик. — Зовут как?
— На Руси Настасьей звали. — Женщина сбросила халат, подняла черное волосяное покрывало. — Гляди...
На Булата смотрели огромные блестящие глаза в темных впадинах. Лицо полонянки исхудало, на почерневших губах была скорбная улыбка.
— Зачем открылась? Покарают...
— Кого карать-то? Последние дни доживаю. Сглодала чахотка... — Настасья кашлянула. На губах показалась кровь.
Женщина подвела Никиту к скамейке, усадила. Булат выслушал скорбную повесть Настасьи.
Опа была крестьянка из-под Нижнего Новгорода. Десять лет назад на родную ее деревню неожиданно налетели татары. Кого поубивали, кого похватали в плен. Стала рабой и Настасья, которую полонили с грудным ребенком. О судьбе мужа Настасья ничего не знала: жив ли он, тоскует ли по жене и дочке на родной стороне...
— Дочка у меня растет, — шептала Настасья,—Ду
1 Сел я м л йк — на Востоке мужская половина дома.
2 Нишан —доверенное лицо, управитель.
нюшка... Десять годков — одиннадцатый... Дедушка, возьми на попечение сиротку! С тем и пришла к тебе...
— А льзя ли мне с ней видеться?
— Я сказала, что ты ей дедушка. Старая ханым добрая — я упрошу, она позволит. Я с Дунюшкой по-русски разговаривала, сказки рассказывала, песням нашим учила, покуда голос был... Умру — все позабудет...
— Не позабудет, коли к ней доступ мне дадут,— уверил женщину старый зодчий.
На следующий день Настасья привела Дуню. Девочка в смущении пряталась за мать. Булат все же рассмотрел ее: круглое личико, румяные щеки, голубые глазки... Татаркой Дуню делал наряд: белая рубашка, широкие красные шальвары, остроконечные туфли — бабуши— на ногах. Русые волосы заплетены были в косички с привешенными к ним мелкими серебряными монетками.
— Дуня, доченька, это дедушка твой. Поговори с ним, — упрашивала мать. — Он добрый, он скоро один у тебя останется...
— А ты уедешь, мама?
— Уеду, доченька, уеду... — с тяжелым вздохом сказала мать. — Далеко уеду...
Вскоре Дуня привыкла к новому дедушке. Настасья недаром торопилась сдружить дочку с Никитой. Дуня стала прибегать к старику одна: мать уже не поднималась.
Ни одного близкого человека не было у рабыни Настасьи, и только встреча с Никитой вселила -в душу женщины надежду, что Дуня не останется одиноким, заброшенным зверьком в многолюдном дворце Кулшерифа.
* * *
Богатый дворец мусульманского первосвященника более полувека назад поставили самаркандские строители. Плоская крыша обнесена была перилами из точеных столбиков: рабам хватало зимой работы очищать ее от снега. Под крышей шли три ряда карнизов, мягко вырезанных полукруглыми арочками. Ленты цветных изразцов опоясывали дворец. Здание окружали крытые галереи на витых колонках; окна радовали глаз изысканным рисунком узорчатых переплетов, ма-тово-ссребристым блеском слюды.
Дорожки вокруг дома и к воротам вымощены были каменными плитами.
Внутренние стены помещений индийский художник украсил глазурью: по синему полю переплетались кисти винограда с золотыми лотосами. Высокие белые потолки отделаны были прекрасной лепкой — работа пленных персидских мастеров.
Туркменские ковры висели по стенам, лежали на каменных полах, скрадывая шаги. Шелковые бухарские занавеси огораживали уютные уголки. Там, сидя на подушках, удобно было вести тайные разговоры, но лишь тишайшим шепотом: среди слуг немало было соглядатаев, передававших управителю Джафару все, что делалось и говорилось во дворце сеида.
В приемной Кулшерифа-муллы с утра собирались посетители. Оставив сапоги у входа, мягко ступали по ковровым дорожкам степенные муллы в зеленых халатах. Они спешили засвидетельствовать почтение Джафару-мирзе.
Джафар-мирза, горбун с уродливым туловищем, с длинными сильными руками, выслушивал комплименты с самодовольной улыбкой на лице, сильно тронутом оспой.
Приходили к Кулшерифу-мулле и светские посетители. Первосвященник Казани был вторым по значению лицом после хана. В дни междуцарствий сеиды не раз брали в свои руки управление государством. Сеид являлся главным советником царя, ни одно важное мероприятие не совершалось без его одобрения. Много сокровищ скопил Кулшериф-мулла: сеида щедро одаряли все, кто хотел заручиться его покровительством.
Проводив последнего посетителя, Джафар-мирза на цыпочках вошел к сеиду, ведя Никиту.
Среднего роста, полный, с длинной седеющей бородой, имам 1 Кулшериф сидел на подушках, поджав ноги по восточному обычаю.
— Вот раб, о котором я тебе докладывал, эфенди 2, — сказал Джафар с низким поклоном.
1 Имам — высшее духовное звание у мусульман. Примерное соответствие духовных чинов у мусульман и православных: м у э-д з й н — дьячок, пономарь; мулла — священник; имам — епископ; сеид — митрополит. Но сеида могли именовать имамом, а иногда к имени его даже прибавляли «мулла».
2 Эфенди — господин; почтительное обращение, заимствованное турками и татарами у греков.
Булат стоял перед Кулшерифом; разговор переводил управитель, говоривший по-русски.
— Бог сильный, знающий сделал тебя нашим ра^ бом,—сказал сеид. — Не говорит ли это, что он милостивее к нам, правоверным, чем к урусам, и что он хочет очистить ваши души в горниле страдания?
— Кабы не пришли мы с Андрюшей в эти края, не попал бы я к вам в руки, — ответил Никита. — Ну, да ведь известно: от судьбы не уйдешь!
Поняв ответ русского в желательном для себя духе, Кулшериф продолжал:
— А потому, исполняя повеления судьбы, ты должен принять нашу святую веру, урус!
Никита покачал головой с выражением непоколебим мой твердости:
— Веру я не сменю. В какой родился, в той и помру.
— Позволь мне, эфенди, убедить старика! — вмешался Джафар.
Получив разрешение, заговорил по-русски:
— Знаешь ли, как жить будешь легко, коли станешь нашим?
— Своей вере не поругаюсь. Пленник я, но не постыжу родной страны изменой.
Все уговоры остались бесполезными.
После смерти матери сиротка Дуня привязалась к старому Никите.
«Вот судьба... — думал Булат. — Андрюшеньки ли^ шился — зато приемная внучка объявилась, на старости лет утешение!»
Никита полюбил Дуню, как родную дочь. Он рассказывал девочке сказки, пел песни... Большую часть времени Дуня проводила в каморке Булата,
Глава VI
МОСКВА
В том году, когда Голован пришел в Москву, исполнилось почти четыре века с тех пор, как славный город был впервые упомянут в летописи. Когда-то была на месте Москвы лесная чаща, дикий лось спускался к во-.
допою с кручи, где стоит Кремль, медведь залегал в берлогу на обрывистом берегу Яузы.
А стала Москва обширнее многих древних западных городов. Со всей Руси стекался народ под власть московских князей. Знали и рязанцы, и нижегородцы, и суздальцы: крепка жизнь за крепкими стенами Москвы. В надежде на поживу приезжали торговать и жить иноземные купцы из Любека, Гамбурга, из Кафы 1 и самого Царьграда2. Не диво было услышать на московской торговой площади разноязыкую речь, увидеть чуждый наряд.
Андрей шел среди нищих, посматривая на видневшийся невдалеке Андроньевский монастырь. Отовсюду доносился стук топоров, скрипели возы с бревнами, камнем, тесом.
Голован везде видел признаки оживленного труда, и ему казалось, что он принял правильное решение искать работу в Москве. Вдруг Андрей замер, низко опустил голову: навстречу на гнедой лошади ехал Мурдыш. Богатая шуба нараспашку открывала раззолоченную ферязь с бирюзовыми пуговицами, ноги в желтых сафьяновых сапогах опирались на серебряные стремена. Княжой тиун небрежно помахивал плеткой и свысока смотрел на встречных. За ним следовали слуги.
Убогие отошли к сторонке, перекидывались замечаниями:
— Расступись, народ, воевода плывет!
— Дешево волк в пастухи нанялся, да мир кряхтит!
— Ишь пышет, разбойник!
Разминулись благополучно.
— Как мне теперь быть, дедушка Силуян? — тревожно спросил Голован.
— Ходи с опаской, изловить могут. Побудешь с нами, покудова заручки не найдешь...
Нищие остановились в Сыромятниках, у знакомой бабы-пирожницы. Разбившись по двое и по трое, убогие пошли за подаянием. Андрей присоединился к деду
1 Кафа — город в Крыму, теперь Феодосия,
2 Прежнее название Константинополя,
Силуяну и слепому Лутоне, которому служил поводырем.
Первый день, когда Голован отправился с нищими, запечатлелся в его памяти.
Они шли по правому берегу Яузы. Прегражденная плотинами, речка разливалась прудами, подернутыми тонким льдом. Под плотинами стояли мукомольные и шерстобитные мельницы. Местность была заселена мало. Редко попадались по крутым берегам Яузы убогие избенки.
Дальше домики^ стали попригляднее, плотнее лепились друг к другу.
— Здесь государевы серебряники живут, — объяснял дед Силуян, отлично знавший Москву. — Делают они к государеву столу серебро: кубки, чары, корцы 1 и всякие иные столовые посуды... Они же, серебряники, готовят украшенья на конские сбруи и на пищали огнестрельные и куют серебряные стремена...
Головану, любителю мастерства, захотелось посмотреть, как работают серебряники. Но для него, нищего в лохмотьях, это была неосуществимая мечта.
Оставив Яузу, Силуян и его спутники повернули вправо — на Солянку. По улице движение шло бойко, но вид ее разочаровал Андрея: сплошные высокие заборы с воротами, покрытыми потемневшими двускатными кровельками. Головану, сыну искусного плотника Ильи Большого, лучшего резчика в округе, украшения карнизов и свесов показались бедными.
Одни ворота распахнулись — выехал обоз. Нищие приткнулись к воротному столбу. Голован рассмотрел внутренность двора.
«Боярская усадьба», — подумал Андрей.
Хоромы стояли посреди двора, людские избы и службы разбросались повсюду. Ворота караулил дюжий мужик, а рядом прыгал на цепи огромный пес.
— С опаской бояре живут! — добродушно сказал дед Силуян.
Закрывая ворота, сторож закричал:
— Эй, нищеброды, чего сглядываете?
Сердитый и острый на язык Лутоня сразу нашел ответ:
1 Корец — ковшик.
— У твоего боярина оглядишь! У него каждая день* га алтынным гвоздем 1 прибита!
— А ты ведаешь, слепень?
— А то нет? Видать сову по полету!.. Э, да я и тебя по голосу признал: это ты вчерась своих родителей за чужой обедней2 поминал, благо на дармовщинку! А батька твой из блохи голенища выкроил!
Любопытная московская толпа, собравшаяся вокруг, захохотала.
Побежденный в острословии привратник скрылся, буркнув:
— Проходи, проходи! Ты тоже молодец: борода с помело, а брюхо голо...
Лутоня отправился дальше, распевая густым басом:
— А вот подайте пищу на братию нищу! Мы, нища братия, бога хвалим, Христа величаем, богатого боярина проклинаем...
Окруженные ребятишками, которых привлекала богатырская внешность Лутони и мрачное, неподвижное его лицо, добрели нищие до Варварки 3.
Эта улица, в которую они прошли через ворота Китайгородской стены, оказалась богаче Солянки. Тут даже попадались боярские хоромы, горделиво глядевшие на улицу, а не спрятанные в глубине усадьбы.
Улица поражала многолюдством. Людской рокот оглушил Голована. Толпы народа катились встречными потоками; людские водовороты возникали на перекрестках, возле лавчонок, где продавали съестное.
Баба, торговавшая пирогами, выхваляла товар пронзительным голосом:
— А вот пироги! Пироги горячи!
— Бублики! Бублики! — ревел дюжий парень.—• На деньгу десяток, а дырки в придачу!
— Отчего зачался мир-народ на земле?.. Отчего у нас ум-разум?.. — не смущаясь общим гамом, заунывно тянули Силуян и Лутоня.
Андрей держался поближе к слепому, боясь затеряться в сутолоке.
— Боярин едет! Боярин! — раздались крики.
1 Деньга — полкопейки; алтынный гвоздь — такой, который стоит алтын, то есть три копейки.
2 Чужая обедня — церковная служба, заказанная другими,
3 Ныне улица Разина.
Верховые холопы с нагайками неслись по улице, и народ бросался кто куда. Не успевших ускользнуть на-стигали удары под хохот толпы. Досталось и Лутоне с Андреем, замешкавшимся на дороге.
Боярин проехал гордый, надменный, высоко держа голову в драгоценной меховой шапке, сурово глядя на толпу. За ним следовала свита.
— Я тебя, малый, в Кремль поведу! — сказал дед Силуян, когда наконец миновали суматошливую Варварку.
Они прошли Пожар \ пробираясь сквозь людскую гущу.
Андрей не обращал внимания на толчки и ругань встречных, он забыл даже про Лутоню.
День был ясный. Солнце играло на многочисленных куполах и главах кремлевских церквей, на жарко блестящих медных крышах царских хором.
У Голована разбегались глаза — он не знал, куда смотреть. За высокими стенами красовался иной мир, о котором он слыхал только по рассказам старого Булата и который теперь представился ему воочию.
Причудливыми легкими громадами рисовались на чистом небе великокняжеские палаты с массой шатров, шпилей, башенок... Выше их поднимали величавую голову Архангельский и Успенский соборы...
В Кремль вошли через Фролбвские ворота, сняв шапки.
Голована удивило множество нищих у кремлевской стены, в воротах и на церковных папертях. Андрей сказал:
— Нам не подадут: вишь, сколько убогих!
Силуян спокойно возразил:
— И, милый, Москва велика, на всех хватит! А может, будет раздача от государя либо от митрополита.-Тогда и нам перепадет...
Оставив Силуяна и Лутоню на паперти Архангельского собора и обещав скоро вернуться, Андрей пустился осматривать Кремль. Прошел час и второй, а Голован не возвращался. Обеспокоенный Силуян отправился на розыски. Старик нашел Андрея перед
1 Пожаром прежде называлась Красная площадь»
Улица поражала многолюдством..* Толпы народа катились.
потоками*
великокняжескими хоромами. Голован восторженно рассматривал их, потеряв всякое представление о времени.
Великокняжеские хоромы выстроились не сразу; в течение десятков лет к ним прибавлялись бесчисленные пристройки: сени, терема, чердаки, повалуши...1 Эти естественно возникшие сложные сооружения были причудливо красивы, как деревья в лесу, выросшие на вольной воле...
Кремль восхищал зрителя родной русской красотой, хоть и не обязан был ею одному какому-то зодчему; ни один строитель не смог бы создать такой красоты, будь он самым гениальным художником мира: она рождалась веками, усилиями тысяч безыменных русских людей.
Точно пьяный, с головой, кружащейся от множества впечатлений, вернулся Голован в лачугу к бабе-пирож-ннце.
* * *
Изо дня в день Силуян и его спутники бродили по Москве. Многие слободы ее ничем не отличались от деревень, какие видел Голован на Руси. Улицы пролегали то меж покосившихся деревянных заборов, то меж про-* стецких ивовых плетней. Из курных изб вырывались сизые столбы дыма, совсем как в Выбутине. Избушки крыты были тесом, дранью, соломой...
В праздничные дни москвичи сидели на дерновых завалинках, щелкали орешки, пересмеивались, задирали прохожих. Парни и девки вели хороводы. Взявшись за руки, ходили кружком вокруг парня, припевая:
И ходит царь, И ищет царь, Царь царевну свою, Королевну свою...
Между слободами раскинулись поля. Ветер взвихривал мелкий сухой снежок. Безлюдье, как за сотни верст от Москвы. Потом снова вкривь и вкось тянулись улицы.
1 Терем — женское помещение; повалуша — летняя спальня.
Многими слободами окружена была главная, центральная часть Москвы. И каждую слободу населяли люди по преимуществу одного ремесла.
В Серебрянической слободе, уже знакомой Головану, мастера выделывали золотую и серебряную посуду для великокняжеского стола.
В Кожевниках ремесленники мяли кожу. Там купцы закупали сапожный товар: подошвенную кожу, юфть, сафьян.
Хамовники и Кадаши готовили для дворцового обихода тонкое полотно па белье, скатерти, полотенца.
В Садовниках каждый дом был окружен фруктовым садом, а за садами, у берега Москвы-реки, раскинулись огороды.
Конюшни сосредоточивались в Конюшенной слободе; по соседству жили царские конюхи и кучера. А на Остбжье стояло множество огромных стогов сена: годовой запас для великокняжеских конюшен.
Остожье осталось навсегда памятно Головану: там между Лутоней и его молодым поводырем произошла крупная ссора.
Из разговоров со сторожами слепец узнал, что стогами ведает его бывший господин Вяземский, по воле которого Лутоня лишился зрения.
Старик решил свести старые счеты: он приказал Головану пробраться тайком к одному из стогов и поджечь его. Погода была ветреная, пожар быстро уничтожил бы огромные запасы сена, приготовленные на целый год для великокняжеских лошадей.
— Пускай тогда почешется Вяземский! — злорадно говорил старик. — Небось узнает тогда государеву милость!
Голован отказался выполнить приказ. Слепец гневно укорял парня в трусости, называл боярским приспешником. Только тогда утих Лутоня, когда Андрей сумел доказать ему, что пожар погубит не боярина Вяземского, а множество невинных людей из простого народа. Будут жестоко наказаны за небрежение сторожа; погорят избушки огородников, приютившиеся на берегу Москвы-реки. А если, на беду, огонь перекинется на соседние слободы, то количество жертв будет огромно...
Старик побрел прочь от Остожья, сердито ворча себе под нос:
— Ладно, пока спущу тебе, анафема Вяземский, а придет время, я с тобой посчитаюсь...
Поначалу Головану казалось, что Москва — огром-» ная государева вотчина, обслуживающая многочислен-» ные нужды великокняжеского двора.
«Вот так поместье у государя!—думал Андрей.— Я мыслил, боярин Оболенский велик, а он супротив государя — мошка...»
Голован узнал Поварскую улицу и окружающие ее переулки: Скатертный, Столовый, Хлебный. Тут жили повара, хлебопеки, крендельщики, квасовары и медовары и всякие иные работники, готовившие пищу и питье к государеву столу. А ели и пили при дворе немало...
У Новинского жили государевы охотники — сокольники, кречетники1; у Ваганькова — псари; в Пресненских прудах были живорыбные садки для рыбы, издалека привозимой к государеву столу в кадках с водой...
Только позднее понял Голован, что по неопытности замечал первое бросающееся в глаза. Москва не была княжеской вотчиной, хотя многие тысячи ее жителей обслуживали государевы нужды. Москва была столицей обширного государства, которому она дала свое имя (иностранцы называли русское государство Московией). Москва устанавливала порядок в стране, обеспечивала ее безопасность. В Москве были приказы, ведавшие государственными делами; московские гости торговали со всеми областями большого царства и с другими странами...
Глава VII
СКОМОРОХИ
Зима подошла к концу, а Голован все еще ходил с нищими. Холопы Артемия Оболенского частенько наезжали в московский дом князя и жили подолгу. Андрей не раз видел на улицах знакомые лица из муромской княжеской вотчины. Спасало Андрея скромное поло
1 Кречет « порода ястреба.
жение поводыря слепого великана. Голован жил в постоянной тревоге, стал боязливым, раздражительным; высокий стан юноши согнулся, лицо похудело...
Артель Силуяна поговаривала, что пора подаваться на полдень: нищие не любили засиживаться на месте. Андрей слушал такие разговоры с тоской. Что ему делать? Пойти с нищими, бродить по Руси, питаясь подаянием? А зодчество? А выкуп Булата? Головану казалось, что жизнь зашла в злосчастный тупик, из которого нет выхода.
«Пойду в Холопий приказ! — надумал Андрей.— Открою всю правду-истину, как меня Мурдыш не по закону закабалил. И буду просить защиты...»
Нищие единодушно отвергли отчаянный замысел:
— Али ты с ума сошел? У дьяков вздумал правду искать! Тебя же головой Оболенскому выдадут. И уж тогда не сбежишь... С сильным не борись, с богатым не судись!
’ И опять Голован не знал, на что решиться. Если бы не была заказана дорога во Псков...
В начале апреля нищие ушли из Москвы на юг. Голован остался. Баба-пирожница обещала давать ночлег.
— А уж кормить не буду, не прогневайся! Сам видишь мои достатки...
Голован тоскливо бродил по городу. Милостыню просить он не хотел. Надо искать работу, а как взяться за это в нищенской одежде, без поручителя...
Погруженный в невеселые думы, Андрей вышел на площадь. Шумел и толкался народ. Двое в забавных пестрых костюмах, в колпаках с бубенчиками кружи* лись, приплясывая, сходясь и снова расходясь.
Скоморохи!
Во время странствий по Москве Голован не раз видел скоморохов, и зрелище это было для него не ново. Один из скоморохов, высокий, вихлястый, с жиденькой козлиной бородкой, колотил в бубен; бубну вторили колокольчики, пришитые к колпаку. Второй, низкий и коренастый, играл на свирели; он мало двигался, довольствуясь тем, что повертывался вокруг себя.
Зато высокий вертелся волчком и кружился вокруг товарища. Он ухарски взвизгнул, тряхнул бубном и за-> вел плясовую:
Прокалила Еремевна толокно
Да поставила студить за окно.
Ниоткуда тут возьмись Елизар, Толоконце все до крошки слизал!..
— Ой, ловко! Молодец, Нечай! Молодчага! — восторг женно кричали зрители.
В лице Нечая играла каждая жилка, губы, казалось, слизывали толокно из чашки, глаза щурились то озорно, то испуганно, руки упирались в бока, как у разгневанной бабы, или подхватывали и прятали пустую посудину. Товарищ Нечая высвистывал задорную плясовую, а лицо его оставалось сосредоточенным и даже угрюмым.
— Дуй вовсю, Жук! — вскрикивал Нечай, бешено округляя веселые глаза и учащая пляс. — Сыпь, Матвей, не жалей лаптей! — отбивал он присядку под гул, хохот и крик толпы.
Проворно оглядевшись вокруг, Нечай завел новую песню, резко отличную от первой. Лицо скомороха изображало великую спесь и полное презрение к окружающим. Выпятив брюхо и важно толкая ближайших зрителей, Нечай медленно выводил:
Как у нашего боярина хоромы высоки,
Как у нашего боярина собаки злы...
У него ли, милостивца, мошна толста...
Что душа ни пожелает, то и все у него есть...
А чего же у боярина, братцы, нет?
У боярина у знатного совести нет!
У боярина великого правды нет!..
— А ну, ты, детина, насчет великих бояр полегче!
Из-за спин зрителей неожиданно появился рыжий мужчина, кривой на один глаз. Толпа встретила выходку пристава 1 злобным гулом:
— Недоля! Княжеский заступник выполз!
— Крив, собака, а боярское поношение сразу узрел!
— Ищейка господская!
Кривой Недоля, не обращая внимания на угрозы, пытался пробиться к Нечаю, но возмущенные зрители крепкими толчками выпроводили пристава за круг.
— Ты нашего Нечая не тронь! Он за правду стоит! Еще полезешь не в свое дело — бока переломаем!..
1 Пристав — низший полицейский чин того времени.
Злобно ворча, Недоля ушел в соседний переулок.
Представление кончилось. Сдернув колпак, Нечай начал обходить зрителей; в его шапку изредка падали медные гроши.
Толпа рассеялась, на площади остались только два скомороха и замешкавшийся Голован.
— Нет, Недоля каков! — весело подмигнул юноше Нечай, тряхнув колпаком со скудным сбором. — Он давно до меня добирается, а донести боится: знает, что за меня народ отплатит... А ты, паря, по обличью вроде не московский...
«А что, если я этому скомороху откроюсь? — неожиданно подумал Голован. — Едва ли он станет боярскую руку тянуть. А мужик, видать, бывалый...»
Так наболело у Андрея на душе, что он откровенно рассказал скоморохам свое прошлое, свои страхи и мечты.
Слушатели и рассказчик сидели на паперти ветхой церквушки. Голован уселся лицом к лицу с Жуком. У Жука были черные волосы, спутанная, торчащая вперед короткая черная борода.
— Так-то, друг Андрюша! — тепло и просто сказал Нечай. — Не минула и тебя боярская милость! Худо жить одинокому бедняку. Это ты, милый, ладно сделал, что нам правду выложил. У нас, скоморохов, хоть шуба овечья, да душа человечья, и мы тебя в беде не бросим... Как, Жук, возьмем малого с собой?
— Пущай, — согласился Жук. Был он молчалив, а когда говорил, то запинался и как будто боролся с каждым словом.
— А все же ты, паря, попробуй завтра по постройкам походить, — посоветовал Нечай. — По твоим рассказам, работник ты дельный. Коли войдешь в почесть к сильному, то и от Оболенского тебя заступит. А там справишься с делами, одежонку заведешь — станешь и деньги копить на выкуп наставника.
— Попробую, — согласился Андрей.
— Нос не вешай! Бог не выдаст, свинья не съест. Пошли!..
Нечай шагал, нелепо выворачивая ноги: приучила кривляться скоморошья жизнь. Демид Жук ступал твердо, точно сваи вколачивал.
Покуда добрались до переулочка у Трубы скоморохи успели дать три представления и собрали еще несколько медяков.
Изба, куда привел гостя Нечай, служила пристанищем многим скоморохам. Голована накормили, уложили на лавку. Сон сморил усталого парня, но и сквозь сон он слышал, как входили в избу новые люди, шумели, рассказывали, кто сколько заработал, делили деньги...
* * *
Изба поднялась чуть свет. Высокая сгорбленная старуха, артельная хозяйка, поставила на стол щи, разложила огромные горбуши хлеба. Ели быстро, сосредоточенно, все торопились.
После завтрака вспыхнула ссора между Нечаем и Жуком. Повздорили, куда идти.
— На Арбат двинем, дружок, на Арбат! — бойко сыпал словами Нечай. — На Арбате мужики щедры, на Арбате бабы добры... Пошагали, сват, на Арбат?
Демид отрицательно качал черной головой.
— Так куда ж? Ну куда ж тебе хочется?
— В Крутицы, — буркнул Жук.
Нечай так и завихлялся длинным развинченным телом.
— В Кру-ути-ицы? — тоненько протянул он. — В Крутицах черт крутился, последнего умишка лишился!.. Идем, сват, на Арбат!
— В Крутицы! —упрямо повторял Жук.
Кончилось тем, что оба побросали котомки, бубны и свирель, зачем-то сняли колпаки и стали наступать один на другого. Нечай скороговоркой исчислял обиды, причиненные ему Жуком чуть не за десять лет, а тот твердил одно:
— В Крутицы!
Плотный старик с кудрявой головой хихикал и подзадоривал спорщиков:
— А ну, ходи веселей! На кулаки давай! — Повернувшись к Головану, сказал: — Думаешь, раздерутся? Не-е... Они каждое утро так. Пошумят и перестанут... Их водой не разольешь!
1 Старинное название Трубной площади.
Крик в самом деле прекратился. Порешили идти в Крутицы. Нечай подошел к Андрею:
— А то, может, с нами, дружок? Кафтан достанем, колпак. Живем хоть не густо, а все хлебаем шти с капустой!
— Попервоначалу спробую, по твоему совету, искать работу.
— Не приневоливаю. А коли нужда прихватит — приходи! Всегда пригреем... Хозяйка! Ежели малый без нас придет, примай, как свово! А ты, Андрюша, коль куска хлеба не сыщешь, сюда путь держи. Дорогу запомни получше!..
* * *
Мечты о работе разлетелись в прах.
Голован обращался к артельным старостам на стройках, спрашивал, не нужно ли зодчего. Исхудалого просителя в лохмотьях строители встречали насмешливо:
— Хо-хо, гляди, робя, какой зодчий набивается!
— Бо-огат! Шестерней приехал!
— Да ты, паря, алтын в руках держивал?
Голован уходил под улюлюканье. Вслед неслось:
— Озорной! Похвалыцик!1
В одном месте его согласились принять подручным каменщика. Андрей с радостью ухватился за это предложение. Но его ожидало горькое разочарование. Уж он собирался, не теряя времени, приступить к работе, когда староста остановил его:
— Погодь, малый! А у тя заручник есть?
— На такую работу? — спросил озадаченный Голован.
— Пускай заручится, что ты не беглый холоп либо вор. Ин возьмешь без заручника, хлопот не расхлебаешь...
Голован повернулся и медленно пошел прочь.
Обида переполняла сердце. Почему добры к беднякам только последние люди — убогие да скоморохи? Почему только они жалели бесприютного, давали пропитание и укрывали от преследований? А чуть кто повыше, к тем не приступись. Даже старосты на постройках см’отрят с презрением и недоверием...
1 Похвалыцик — хвастун.
...Вечером Андрей разыскал Нечая и Жука.
— Ну как, паря? — с живым участием спросил Нечай.
— Плохо, друг! Никому я не нужен, на работу не берут. Пошел бы во Псков, да больно злобен на меня игумен Паисий, сгубит...
— Тесные у тебя дела, — согласился Нечай. — Уж больно лохмотья твои страшны, всех отпугивают. Одно спасение: походи с нами, скопи деньжат, приоденься. Я тебя научу в бубен играть да тарелками в лад стучать. Али стыдишься?
— Я не боярского роду!
— Ну вот и хорошо. Зайдем по этому случаю в кабак!
— Не пью я.
— Это плохо, друг Андрюша! Какой из тебя после этого скоморох?..
Нужда научит калачи есть. Голован пошел со скоморохами по московским улицам, научился звенеть тарелками, притопывать под звон бубна, подпевать Нечаю...
Глава VIII
ВЕЛИКИЙ ПОЖАР
Лето 1547 года было в разгаре. Долго стояла сухая, жаркая погода. Высохла грязь на площадях Москвы, в улицах, закоулках и тупиках, и каждый порыв ветра поднимал с земли пыльные тучи. Густая пыль тянулась за боярскими каретами и мужицкими телегами, клубилась из-под копыт лошадей и из-под ног пешеходов.
Московские старожилы с опасением поглядывали на бурое небо, на поблекшее солнце, лучи которого едва пробивались сквозь пыльный воздух.
— Быть беде! — шептались старики. — Быть великому пожару!..
Знающие люди не обманулись в своих предчувствиях. Большие пожары были нередки в Москве: почти ежегодно выгорала то та, то другая слобода. Но пожар, случившийся во вторник 21 июня 1547 года, так опустошил Москву и последствия его были такими незаурядными, что подробное описание его попало в летопись.
В этот день бушевала сильная буря. От небрежного обращения с огнем загорелась церковь Воздвиженья на
Арбате. Огонь, по выражению летописца, понесся на за^ пад, как молния, и все спалил вплоть до Москвы-реки.
Река Москва служила надежным и дешевым путем для перевозки громоздких и недорогих товаров: дрова, доски и брусья, бочки со смолой и дегтем, со скипидаром и олифой — все это сплавлялось по Москве-реке и выгружалось в склады, расположенные на ее берегах.
Страшное получилось зрелище, когда огонь дошел до этих складов. Бочки со скипидаром и смолой разрывались, как бомбы; пылающие клепки летели за десятки сажен и даже перекидывались на другой берег реки, создавая новые очаги пожара. Каменные стены амбаров раскалялись добела и казались прозрачными. Густой дым поднимался на огромную высоту и оттуда падал, подобно хлопьям черного снега...
Пламя охватывало всё новые и новые части города: загорелся Балчуг, вспыхнули Маросейка и Покровка, запылали лесные склады и стоги сена на Остоженке... С громовым шумом взорвались десятки бочек пороха, хранившиеся на Пушечном дворе близ Неглйнной.
Море пламени заливало всё новые и новые улицы и площади Москвы, и не было такой силы, которая могла бы остановить разлив этого моря. Только там замирал огонь, где ему преграждали дорогу огромные пустыри, через которые ветер не мог перекинуть пылающие головешки.
Пожар не пощадил и Кремль. Вспыхнули кровли Успенского и Благовещенского соборов и крыша царского дворца, хотя на ней стояли десятки людей с ведрами воды и мокрыми тряпками. Люди напрасно пытались бороться с мириадами огненных искр, носившихся в воздухе подобно сердитым пчелам. Сгорела Оружейная палата с драгоценными образцами старинного оружия. Сгорела Постельная палата с государственной казной. Выгорел митрополичий двор со всем добром, накопленным владыками в течение десятилетий...
Царская семья в самом начале пожара спаслась на Воробьевы горы. Молодой царь Иван 1 с ужасом смотрел с высоты на пожар, зарево которого виднелось за десятки верст вокруг.
1 Иван был с величайшей пышностью коронован царем всея Руси 16 января 1547 года. 3 февраля того же года царь женился на девушке знатного рода Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой.
Когда огонь только начал распространяться, москвичи принялись вытаскивать пожитки во дворы, на улицы и площади — прежде многим так удавалось спасать имущество. Но пламя пошло сплошным валом, накрывая сверху и дворы, и улицы, и площади. Народ был охвачен ужасом: стало ясно, что надо заботиться не о пожитках, а о спасении жизни. Многим и многим не удалось этого сделать.
Люди метались среди узких и кривых уличек, переулочков и тупиков, охваченных пожаром, пытаясь выбраться на простор, на пустыри, разделявшие слободы. Хорошо поработали, спасая людей, скоморохи, прекрасные знатоки города, исходившие его вдоль и поперек.
Нечай, Жук и Голован спасли в этот день сотни несчастных, задыхавшихся в густом дыму, изнемогавших в накаленном воздухе пожарища. Приказывая держаться друг за друга веренице измученных, отчаявшихся людей, скоморохи ползком пробирались по извилистым улицам и выводили их в безопасное место. Там, оставив их, еще не верящих своему спасению, Нечай и его товарищи снова отважно бросались в пылающие улицы.
— Бог не выдаст, свинья не съест! — задорно кричал Нечай, поворачивая к Жуку и Головану покрытое копотью лицо, на котором блестели озорные глаза. — Когда и поработать для души спасенья, как не сегодня! Пошли, браты!..
Много раз повторялись отважные вылазки скоморохов в бушующее море огня, пока дело не кончилось бедой.
В конце глухого тупика горела бедная избенка. Тревожное чувство заставило Голована приблизиться к поднятому окошку и заглянуть в него. То, что он увидел, заставило парня похолодеть от ужаса: в дальнем углу, смертельно испуганные, стояли двое детей лет по пятишести— мальчик и девочка. Гибель их казалась неизбежной, но Андрей окутал голову армяком и смело ринулся в пылающую избу. Он успел вытащить оцепеневших ребят, но, сбегая с крылечка, споткнулся. Невольным движением Голован бросил ребят подбегавшим к нему товарищам, и в это время горящая доска свалилась с крыши на спину Андрея.
Нечай и Жук понесли Голована в безопасное место; парень с тяжелыми ожогами бредил и стонал. Спасен
ные ребятишки, держась за руки, побрели за скоморохами, но, к счастью, на ближнем пустыре им встретилась мать, уже оплакивавшая своих детей.
Григорий Филиппович Ордынцев ехал в Москву из Серпухова. Еще за десяток верст от столицы его поразил вид дымной тучи, нависшей над городом, и запах гари.
— Пожар! — закричал Ордынцев и ударил кучера в спину: — Гони, гони!
Лошади понеслись птицами.
Григорий Филиппович перепугался недаром. Немалые деньги, скопленные им за годы службы губным старостой, он обращал в драгоценности: золотые кубки и блюда, перстни, браслеты... Все это хранилось в кубышке, спрятанной в спальне. Тайник был известен ему одному: до поры до времени он не говорил о нем ни Федору, ни его жене Наталье.
Старый Ордынцев не был скупцом, безрассудно обожающим сокровище, но мысль, что он один знает о нем, что власть распорядиться золотом всецело в его руках, веселила Григория Филипповича, и он решил открыть сыну тайну только на смертном одре.
И теперь сокровищу угрожала гибель. Это еще не страшно, если золото побывает в огне: расплавившись, оно останется золотом. Но мысль, что сокровище могут украсть холопы, обнаружив тайник во время суматохи, всегда сопутствующей пожару, была нестерпима Ордынцеву. Он даже застонал от ярости: ему представилось, как Тишка Верховой, пряча под полой золото, с воровской ухмылкой пробирается по двору — зарыть добычу в укромном месте...
Кони мчались всё быстрее. Но вот телегу пришлось остановить перед стеной дыма и огня.
— Бросай лошадей! За мной! — хрипло закричал Ордынцев кучеру.
И они вдвоем ринулись в лабиринт горящих переулков.
Холоп давно отстал, а тучное тело Григория Филипповича несла какая-то неведомая сила. Он пробирался через дворы, еще не охваченные пламенем, нырял под огненными завесами и упорно пробивался все вперед и вперед, на Покровку, к заветному сокровищу.
И он пробился! Вбежал на пустынный двор, уже покинутый людьми, вскочил в пылающий дом и там, набросив на голову шубу, на четвереньках пробрался в свою опочивальню, обожженными руками открыл тайник и вытащил кубышку.
«Цела!..» — пронеслась мысль в затуманенном сознании, и Ордынцев пополз к выходу.
Только на третий день, когда на улицах, охваченных пожаром, сгорело все, что могло гореть, а дождь погасил головни и прибил к земле дым, люди стали возвращаться на родные пепелища.
Федор Григорьевич уже знал от кучера о том, что случилось, и не чаял увидеть отца живым. Он нашел его труп на огороде: видно, крепок еще был Григорий Филиппович, коли, страшно обожженный, сумел он с тяжелой ношей выбраться на пустырь; но там старик обессилел и умер, накрыв своим телом сокровище, спасенное ценой жизни.
Много жертв унес великий московский пожар. По словам летописца, более тысячи семисот человек погибло в огне.
Глава IX
ГРОЗНЫЕ ДНИ
Прослышав о московском пожаре, артель деда Си-луяна поспешно двинулась в Москву из-под Коломны. Настоял на этом Лутоня, которому показалось, что настало время расплатиться с Вяземским за свое увечье, за разбитую жизнь.
Как мелкие ручейки соединяются в речки и реки и потом вливаются в море, так со всех сторон стремились в Москву кучки нищих, скоморохов, артели строителей и просто любопытные люди, которым хотелось поглазеть на небывалое зрелище: огромный город, выгоревший почти дотла.
Чем ближе к Москве, тем гуще шли по дорогам народные толпы с неумолчным гулом разговоров.
В одном из больших сборищ гремел бас Лутони. Слепец в сотый раз рассказывал людям, как он по оговору тиуна безвинно лишился глаз.
— Пришло время посчитаться с лиходеями-боярами!— говорил Лутоня при бурном одобрении слушателей. — Не иначе, как они Москву сожгли!
— А зачем, дяденька? — робко спросил светловолосый певун Савося.
— Зачем? — сердито переспросил Лутоня. — Затем, что им, злодеям, людское горе слаще медового пряника. Иной бедняга, что все пожитки на пожаре потерял, постоит-постоит на пепелище, хлопнет руками об полы да и пойдет продаваться к боярину в кабалу!
— А ведь верно! — ахнули в толпе.
— Чего вернее! Мудрый слепец!
— Ах и злое же это, братцы, семя — бояре! Искоренить бы их! — вздохнули в толпе.
— Затем и идем на Москву!—уверенно отчеканил Лутоня.
Многотысячные толпы пришельцев заполнили московские площади и пустыри, перемешавшись с погорельцами, ютившимися под открытым небом. На каждом свободном клочке земли раскинулись таборы наподобие цыганских. На тех, кто сумел устроить себе палатку или навес из рядна \ смотрели с завистью: это уж было какое-то подобие жилья. Большинству ложем служила земля, а покрывалом — облака, благо погода была летняя, теплая.
Близ таборов невесть откуда взявшиеся торгаши продавали съестное: бублики, пироги, соленую рыбу... У кого не было денег, расплачивался одежонкой и всякими вещами, сохранившимися от пожара.
С утра и до поздней ночи кипела Москва. Слухи, возникавшие в одном конце города, мгновенно передавались повсюду; около нищих и скоморохов собирался народ, жадный до новостей.
Молва о том, что Москву выжгли бояре, становилась все увереннее, многим она уже казалась непреложной истиной. Нашлись десятки людей, которые, объявляя себя очевидцами, рассказывали, почему возник пожар.
— А получилось это дело, братцы, так, — вдохновенно повествовал высокий кривой детина, давний недруг Нечая, пристав Недоля. — Литвйнка Анна1 2 с сыновьями
1 Рядно —большой кусок грубого холста.
2 Анна Глинская — бабка царя по матери.
раскопали могилы, вытащили из мертвецов сердца, положили их с бесовскими заклятьями в воду и той водой кропили Москву. И где покропят, там сейчас и занимается...
— От воды? — усомнился подгородный мужичок с кнутом за поясом — только и осталось у него от лошади с телегой, уведенной в суматохе.
— Так вода-то какая? — победоносно сказал Недоля.— Не простая вода, а колдовская. Скажи, — наступал он на собеседника, — у тебя хватит духу пойти на кладбище и из мертвых сердца вырезать?
— Ну что ты, Христос с тобой! — испуганно попятился мужичок. — Да разве православный человек на такую страсть решится?
— То-то и оно, а споришь! Православному это вели-; кий грех, а литвины — они ведь не нашей веры...
— И ты сам видел? — допытывались другие слушатели.
— Лопни мои глаза! Чтоб мне отца-мать не увидеть!..
Слухи о волшебстве Глинских бежали по Москве, как огонь в сухой траве.
Кому выгодно было обвинить в великом злодеянии Глинских? Их старинным врагам Шуйским, потерпевшим несколько лет назад поражение в борьбе за власть.
Недоля и другие наймиты Шуйских сеяли по Москве смуту, которая, по замыслу, ее вдохновителей, должна была обрушиться на партию Глинских.
Шуйские рассчитали плохо. Народный гнев копился давно, и не против одних Глинских, а против всего боярства, всех угнетателей. Народ помнил, что и при Шуйских ему жилось ничуть не легче, чем при Глинских: те и другие были одинаково ненавистны.
В воскресенье, 26 июня, в Кремле, на Соборной площади, яблоку негде было упасть: так заполонили ее чер* ные люди1.
Народ собрался не случайно: сторонники Шуйских накануне распространили молву, что в этот день после богослужения будут всенародно изобличены виновники злодейского поджога Москвы.
Дюжий Недоля тоже был на площади, окруженный сообщниками. Дед Силуян жался к стенке, охраняемый
1 Черными людьми в старину называли простой народ.
от натиска толпы богатырской фигурой Лутони, который не стеснялся пускать в ход кулаки, если люди слишком напирали. Были там и Нечай с Жуком. Нечай, по обыкновению, сыпал злыми прибаутками, язвившими бояр без различия партий.
Нетерпение толпы достигло предела, послышались злые выкрики:
— Когда ж до дела дойдем?
— В этой давке стоючи, живота лишишься!
— Эй, там, передние, покричите попам, пускай побыстрее служат!..
Вдруг толпа заколыхалась, теснясь вперед: на соборную паперть вышли из храма бояре в пышном одеянии.
Тучный Иван Петрович Челяднин выступил вперед и поднял руку, призывая народ к молчанию. На площади стало тихо.
— Православные! — начал Челяднин. — Посланы мы царем Иваном Васильевичем вызнать правду про злоумышление, коим стольный город Москва сожжен. И вы, люди русские, кому про то черное дело ведомо, не боясь сильных и знатных, объявите истину, как на страшном суде господнем...
Все было странно в этом выступлении царского посланца: как можно узнать правду о причинах пожара (если он даже и не возник случайно, как и было в действительности) у многотысячной толпы, накаленной яростью, настроенной по преимуществу против Глинских! Но никто как будто не замечал несообразности дела, а бояре Челяднин, Федор Скопин-Шуйский и другие политические противники Глинских, явившиеся в тот день перед народом, поставили себе двоякую цель. Прежде всего им хотелось сломить силу Глинских, уничтожить их главарей: для этого и был пущен нелепый слух о колдовстве; летопись называет Челяднина и Скопина-Шуйского в числе распространителей этого слуха. Другой же их целью было разрядить народный гнев в определенном направлении.
«Пусть поплатятся Глинские, — думали Шуйские и их сторонники. — Сорвет народишко злобу и на том успокоится...»
Челяднин окончил свою недолгую речь. Молчание толпы прервал злобный выкрик Недоли:
л— я, православные, знаю правду-истину! Волхвова
ла царева бабка Анна Глинская да дети ее, царевы дяди! Вон один стоит, побелел от нечистой совести!
Недоля грозно указал пальцем на князя Юрия Глинского, который стоял на паперти в толпе бояр.
Юрий действительно побледнел и отступил в задние ряды, стараясь укрыться за широкой спиной Федора Ордынцева. Молодой спальник слышал, как бешено бьется сердце вплотную прижавшегося к нему Глинского. А князю Юрию стал совершенно ясен коварный умысел Челяднина, подбившего его показаться толпе.
— Коли будешь прятаться, князь, — говорил лукавый царедворец, — хуже будет. Поверит народ злым толкам, и тогда от него не укроешься. А так-то, с чистой совестью, чего бояться?..
Теперь князь Юрий стоял лицом к лицу со смертью. Пылающие яростью лица, злобно поднятые руки...
«Бежать! Укрыться в святом храме!.. Туда не посмеют ворваться убийцы...»
Юрий убежал в собор. Вслед ему понесся злобноторжествующий рев Недоли, подхваченный сотнями голосов:
— Повинен в волшебстве! Сознал свою вину!
— Колдуну божий храм — не убежище!
Толпа ринулась на паперть Успенского собора. Челяднина и других бояр грубо оттеснили, хотя они только для вида сопротивлялись людскому натиску. Один пылкий Федор Ордынцев попытался задержать нападающих и был сброшен с паперти, помятый, истерзанный, в разорванном кафтане.
Юрий Глинский был убит, и труп его выбросили на всеобщее поругание.
— Так и всем злодеям достанется! — шумела толпа.
Слепой Лутоня расспрашивал людей, не видно ли среди бояр князя Лукьяна Вяземского, и очень огорчился, узнав, что его нет на площади.
— Разыщу же я его, ирода! — злобился Лутоня.
Весть о том, что царев дядя Юрий Глинский жизнью расплатился за свои злодеяния, молниеносно распространилась по Москве. Она воодушевила многих робких, которые еще не решались открыто выступить против бояр.
Казнь Глинского показала, что и на знатных есть
управа, что народ сильнее кучки бояр и их приспешников. Пламя бунта с каждым часом разгоралось все сильнее.
Тысячные толпы, вооружившись топорами, вилами, дрекольем и дубинами, рассыпались по Москве. Клевреты Шуйских, шныряя среди восставших, старались направить их против сторонников Глинских. Люди Глинских— холопы, слуги и просто приверженцы — гибли сотнями.
Но этим дело не ограничилось. Шуйские, как в сказке, выпустили грозного духа, с которым не в силах были справиться.
Князь Лукьян Вяземский был одним из столпов партии Шуйских. Но страшный Лутоня явился к его усадьбе, уцелевшей от пожара, с двухтысячной толпой.
Сам Вяземский успел сбежать и оставил за себя ключника Аверко, уже состарившегося, но еще бодрого. Аверко должен был оборонять хорошо огороженную усадьбу с сотней вооруженных слуг.
Аверко узнал во главе нападавших слепого великана Лутоню. Да и не мудрено было тиуну узнать своего заклятого врага: Лутоня каждый год появлялся у ворог княжеской усадьбы в тот день, когда выжгли ему глаза, призывал страшные проклятия на князя Лукьяна и его верного холопа Аверко и грозил местью.
«Теперь он рассчитается со мной сполна!» — в страхе подумал Аверко и не ошибся.
Лутоня во главе кучки молодцов первым подступил к воротам с огромным бревном. Несколько мощных ударов — и ворота рухнули. Княжескую челядь перебили, усадьбу сожгли.
Два дня продолжались бои между повстанцами и боярскими дружинами. Всюду побеждал народ. Туда, где нападающие встречали особенно упорное сопротивление, являлась сильная подмога.
Ужас охватил бояр и богатых дворян, понявших, как ничтожны их силы перед мощью народа.
Даже наиболее смелые из знатных, которые вначале пытались наладить оборону своих поместий, поняли, что для них единственное спасение в бегстве. Но бежать открыто было невозможно: сотни тысяч глаз сторожили беглецов. Бояре надевали грязные лохмотья, пачкали грязью и золой белые лица и холеные руки, пробирались
глухими закоулками. Многим удалось спастись, иные погибли.
Тревожно было и в царском дворце.
«Вошел страх в душу мою и трепет в кости мои», —• откровенно сознавался впоследствии Иван Васильевич, вспоминая о великом московском восстании 1547 года.
На второй день восстания захотел отличиться перед царем князь Андрей Курбский.
— Людишки московские — трусы и бездельники!—-заявил князь. — Я нагряну на них с моей дружиной и мигом приведу к покорности!
Царь с радостью согласился на предложение Курбского.
Во главе трехсот воинов князь Андрей углубился в пределы города. Москвичи встретили дружину Курбского в угрюмом молчании; не начиная боя, они пропускали врагов, смыкались за ними.
Курбский добрался до Лубянки. Поведение восставших его беспокоило.
Привстав на стременах, князь огляделся. Его отряд был окружен плотной толпой: спереди и сзади сомкнулись грозные ряды бойцов. Они заполняли все улицы, выходившие на Лубянку; люди смотрели с крыш домов, стояли на стенах Китай-города...
Князь Андрей понял: если он подаст знак к битве, из его дружины не уцелеет ни один человек. И, хмуро опу-. стив глаза под насмешливыми взглядами москвичей, Курбский повернул коня. Бегство совершилось в таком же молчании, как и вступление в город.
Выслушав сбивчивый рассказ Курбского о его неудаче, Иван Васильевич понял: велика сила народная, и если у москвичей явится достойный вождь, его царской власти будет грозить серьезная опасность.
Но вождя не нашлось, и на третий день восстание пошло на убыль.
Как всегда во время народных волнений, хаосом воспользовались бездельники и воры. Крестьяне и ремесленники думали о расправе с лиходеями-боярами. А боярская дворня — ленивые и развращенные холопы принялись грабить боярские и дворянские усадьбы.
Из дома Ордынцевых, пользуясь временным безвластием после гибели Григория Филипповича, сбежал Тишка Верховой. Наглый, вконец испорченный праздной жизнью, Тишка решил, что настало время разбогатеть за чужой счет. Он нашел немало приятелей, таких же любителей чужого добра.
Одна из воровских шаек особенно яростно громила боярские и дворянские дома, но не брезговала и скудной добычей, захваченной в курных избенках. Вел шайку плотный мужик среднего роста, с красным круглым лицом, с большой рыжей бородой: это и был Тихон Верховой.
Во время мятежа Тишке Верховому и Головану довелось встретиться.
Страдающий от сильных ожогов Голован лежал в уголке площади под навесом из обгорелых досок, который соорудили ему друзья — Нечай и Жук. Они даже ухитрились устроить больному мягкую подстилку из соломы и тряпья. С утра скоморохи оставляли товарищу пищу и питье на целый день, а сами уходили громить бояр. Этому делу Нечай отдавался с веселым азартом, а Жук — с угрюмым ожесточением. Возвращались они лишь поздним вечером, и весь день Голован скучал один.
Тихон тащил за собой огромный узел с награбленным добром, высматривая, куда бы его пристроить, чтобы пуститься за новой добычей. Его внимание привлек навес Голована, и он решительно направился к нему. Взгляды Андрея и Тишки встретились. Тишка первый узнал Голована, так как тот хотя и сильно вырос, но мало изменился. Зато Тихона трудно было узнать: такой он стал дородный, краснолицый, бородатый.
Тишка горделиво посмотрел на Андрея:
— Э, парень, не высоко же ты поднялся! Скоморошествуешь?
Зоркий мужик разглядел брошенные в угол навеса скоморошьи колпаки, дудки, бубен.
Голован коротко рассказал о себе, умолчав, впрочем, о том, как он был в холопах у Артемия Оболенского: он знал коварство Тишки Верхового. Выслушав Андрея, Тишка самодовольно заметил:
— А я вот не понапрасну из Выбутина убег: я теперь велик человек стал — дворецкий у спальника Ордынцева.
Хочешь, похлопочу по старой дружбе? Мой боярин тебя в холопы примет.
— Нет уж, спаси тебя бог за такую послугу! — хмуро усмехнулся Голован.
— Ну, как знаешь! — Тишка спесиво задрал голову.— А можно мне свой узелок к тебе на время положить? Я тебе за сохранение малую толику пожертвую.
— Нет уж, тащись прочь со своим нечистым добром! — вспылил Голован.
— Эх ты, дурак!
Тишка ушел, волоча за собой узел.
Не все Глинские пали жертвой народного гнева: Анна Глинская, которую считали главной виновницей несчастья, и ее сын Михаил были в Ржеве, полученном ими на кормление.
Во вторник, ровно через неделю после пожара и па третий день после гибели князя Юрия Глинского, тысячные толпы отправились на Воробьевы горы требовать от молодого царя выдачи остальных Глинских, его родственников.
В числе людей, горевших желанием покарать виновников народного горя, случайно оказался и Тишка Верховой. Пока шествие продвигалось к воробьевскому дворцу, по толпе поползли слухи о том, что смельчаков, поднимающих руку на цареву родню, ожидает жестокая расправа. Слабые и нерешительные отставали. Сбежал и Тишка Верховой; вечером того же дня он как ни в чем не бывало смиренно прислуживал своему господину, спальнику Федору Григорьевичу.
Иная судьба постигла смелого Лутоню.
Слепец шел в первых рядах толпы, направлявшейся на Воробьевы горы. Его вели Нечай и Жук. Лутоня был вооружен такой увесистой дубиной, которую человек обыкновенной силы едва поднимал обеими руками. Но слепой богатырь ворочал ею, как перышком.
— Вот что, братцы, — сказал Лутоня окружающим,— как начнется бой, поставьте меня лицом к царевым дружинникам, а сами бегите подальше: зашибу! У моей дубины глаз-то нету...
Толпа повстанцев значительно поредела, когда при-близились к горам, но остались самые смелые: их было около трех тысяч.
Приход повстанцев вызвал растерянность во дворце. Их главари были приняты, царь выслушал их и дал им кое-какие обещания, которые утихомирили людей. Но когда мятежники уже начали расходиться, на них напала царская дружина, хотя и уступавшая им по численности, но превосходившая вооружением. Передние ряды повстанцев подались назад, и лицом к лицу с нападающими оказался гигант Лутоня.
Почувствовав по топоту ног и движению воздуха приближение врагов, слепец взмахнул дубиной. Царские воины в первый момент опешили; наступившее замешательство стоило жизни нескольким из них.
На месте, где стоял слепой боец, завязалась жестокая схватка. Лутоня вертелся на месте-с неожиданным проворством; длинная дубина образовала, вращаясь, страшный круг, в который никому не было доступа. Воинственные крики старика, вопли и стоны умирающих, лязг оружия — все смешалось в жуткую музыку боя. Лутоню издали кололи копьями, задевали мечами, но страх мешал царским дружинникам нанести слепому богатырю смертельную рану. А тот, вдруг прыгнув вперед, ударами тяжелой дубины разбивал головы, крушил врагам ребра...
Как завороженные следили друзья Лутони за необычайным боем, где, казалось, ужасного старика невозможно было победить. Но вот они заметили, что ноги слепца слабеют, — он потерял слишком много крови из многочисленных ран.
Жук, дико вскричав, первым бросился на выручку к Лутоне, но было поздно. Копье, брошенное издали с большой силой, пронзило сердце слепого, и тот упал мертвым.
После смерти Лутони бой продолжался недолго. Гибель старика, казавшегося предводителем толпы, обескуражила мятежников, а царские дружинники ободрились.
Нечая ранили в голову, но Жук успел взвалить его на плечи и унести. Дружинники не стали преследовать отступавших, боясь попасть в засаду.
Восстание кончилось. Оно было первым предвестником тех великих бурь, которые в последующие века
потрясали Русь. Отголоски московской грозы понеслись по стране. Во многих областях народ поднимался против наместников и расправлялся за обиды, что пришлось терпеть в течение многих лет. Кое-где власти сумели своими силами усмирить крестьян, в иные места пришлось посылать войска.
Жук притащил раненого Нечая под тот же навес, где лежал больной Голован. Но друзьям недолго пришлось лежать вместе. От добрых людей Жук узнал, что схваченный Недоля оговаривает множество участников восстания. Нечаю и Жуку грозила казнь, и в тот же вечер они ушли из Москвы. Голована они поручили заботам другой артели скоморохов, которая пришла в Москву в тот день и не была замешана в восстании.
Глава X
ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ
Федор Ордынцев участвовал в вылазке Курбского, когда тот попытался усмирить мятежную Москву. Царь послал Ордынцева с князем Андреем неспроста. Привыкший к двуличию бояр, царь Иван не доверял Курбскому и хотел иметь отчет о событиях от верного человека.
Федор видел бесславное отступление князя Андрея и правдиво рассказал о нем царю.
Когда восстание отшумело, Федору довелось присутствовать при решении участи его главарей и зачинщиков.
С молодым спальником Иван Васильевич обращался ласково, но в душе Федора всегда жил страх перед царем. Теперь этот страх получил еще более веские основания: Ордынцев видел неумолимо жестокое лицо царя, когда тот изрекал бунтовщикам смертные приговоры, мстя за трепет, с каким выслушивал вести о московском бунте. Федор видел и казни: погибли сотни главных участников восстания, а наряду с ними и многие оговоренные невинно.
Ордынцев, с самых юных лет состоявший в придворной должности, человек начитанный и умный, понимал, что московский бунт повлечет за собой большие государ
ственные преобразования. Ведь восстание показало, что народная мощь крайне опасна для верхушки общества, стоящей у власти. Силы немногочисленной кучки князей и бояр-кормленщиков были ничтожны.
Откровенно беседуя со своим шурином Степаном Масальским, Федор как-то сказал:
— Боярское время ушло. Пусть предки бояр когда-то сидели на княжеских уделах — народ про то позабыл. Вот мы с тобой, Степан, без малого полтора десятка лет при дворе, многое видели. Видели, как грызлись за власть Шуйские, Бельские, Глинские... А народ за их спиной стоял? Шуйские — потомки суздальских князей, а разве суздальская волость хоть раз поднялась за них?
— Не припомню такого дела, — признался Степан. — Бывал я в Суздале, там народ Шуйских терпеть не может...
— Как и Бельских, как и Глинских, как и всех кормленщиков,— подхватил Ордынцев. — У всех этих великих господ и жадность великая. Вот мы, дворяне, довольствуемся малым. Есть у меня деревенька, что за мной после отца закрепили, — мне того и достаточно. Таков же и ты, и Кеша Дубровин, и Василий Голохвастов... Да нас таких неисчислимо, и ежели царь даст нам силу, крепка будет и его власть...
Думы и надежды дворянства не укрылись от Ивана Васильевича, который и сам понимал, что только сильное дворянство может стать опорой царской власти.
Во главе нового правительства стали благовещенский поп Сильвестр и думный дворянин 1 Алексей Адашев.
Попа Сильвестра Федор Григорьевич знал хорошо: Сильвестр еще до большого пожара бывал во дворце у Ивана Васильевича. Читал Ордынцев и сборник поучений русскому человеку — «Домострбй», составление которого молва приписывала Сильвестру.
Став во главе правительства, властный и честолюбивый Сильвестр пытался обращаться с царем Иваном в духе «Домостроя», требуя совершенного повиновения.
Алексей Федорович Адашев происходил из дворянского рода. Неизвестно, как выдвинулся Адашев на такую видную роль, не соответствовавшую, по тогдашним
1 Думные дворяне имели право присутствовать на заседаниях Боярской думы и во время торжественных приемов иностранных послов.
понятиям, его незнатному происхождению. Но дело свое он выполнял умело, с блеском. Адашев взял на себя две важнейшие отрасли управления: он ведал внешними сношениями и государственной казной.
Новое правительство — Сильвестр, Адашев и их ближайшие помощники и советники составили так называемую Избранную Раду L Эта Рада пользовалась таким огромным влиянием, что без ее согласия царь не проводил ни одного важного мероприятия.
Поп Сильвестр и неродовитый дворянин Адашев нуждались в сильной поддержке; они привлекли тех крупных бояр, которые сознавали, что создавшееся положение требует некоторых уступок дворянству. Первым из таких бояр оказался честолюбивый Андрей Михайлович Курбский, потомок князей — владетелей Ярославля. Курбского сблизили с царем большая начитанность и красноречие. Много лет Курбский был любимцем царя Ивана 1 2.
Мечты Федора Ордынцева, Степана Масальского и других молодых дворян сбылись в 1550 году. В этом году была составлена так называемая «Тысячная книга», в которую внесли тысячу семьдесят восемь избранных дворян. Отбор производился очень тщательно: люди попадали в «Тысячу» за собственные заслуги или за дела отцов.
Попали в «Тысячу» и Федор Ордынцев, пожалованный в стольники, и Степан Масальский. Тысячников называли «лучшими государевыми людьми». Им предполагалось дать поместья под Москвой. Из них впоследствии назначались военачальники, наместники областей, судьи, послы в иноземные государства... Многие блага получили тысячники, но многое и требовалось от них: они должны были быть всегда готовы «на посылки» и обязывались нести государеву службу, не щадя живота.
Многие преобразования той поры вели к усилению центральной власти, и, однако, дело не было доведено до конца. Причиной тому — двойственность положения Избранной Рады.
Избранная Рада хотела бы усилить самодержавную
1 Избранная Рада — Ближняя дума. Так назывался правительственный кружок при Иване IV.
2 Впоследствии Курбский изменил родине и бежал в Литву. После этого между царем и Курбским велась знаменитая в истории переписка.
власть и дать ей опору в лице сильного, сплоченного дворянства, обеспеченного землей, единственным занятием которого являлась бы служба государству. Но члены Избранной Рады в большинстве были крупные бояре, потомки удельных князей, подобно Курбскому. Довести реформу до конца — означало для них лишиться земли, подорвать собственное влияние и свою силу в государстве, опуститься до уровня мелких вотчинников, на которых они смотрели с презрением.
Знатные члены Избранной Рады сумели это предотвратить и сохранили за крупными боярами громадные поместья. Так, еще в 70-х годах XVI века князь И. Ф. Мстиславский был полновластным владельцем укрепленного города Венёва, где содержал собственное войско с пушками.
Узкие интересы ничтожной кучки высшего боярства помешали довершить важные мероприятия, способствовавшие усилению государства, правда, за счет увеличения гнета, лежавшего на простом пароде.
Глава XI
ХОРОМЫ ОРДЫНЦЕВА
Москва после великого пожара строилась. По всем дорогам спешили в Москву крестьянские роспуски, а на них лежали обтесанные и перемеченные бревна: мужики везли в столицу готовые срубы.
На Руси каждый мужик был плотник: за большим искусством не гнались, а немудреную избу поставить мог всякий. И вот застучали топоры на сотни верст вокруг Москвы и заскрипели по проселкам обозы.
В несколько дней вырастали на месте сгоревших целые улицы. Хозяин вместе с приезжим мужиком ставил сруб обязательно на том же месте, где и прежде стояла изба; укрепляли стропила, накрывали кровлю кто тесом, а кто и соломой. Приходил запыхавшийся, косматый поп, наскоро бормотал молитвы, тыкал голик1 в чашу со «святой» водой, брызгал по углам, кропил склоненные головы хозяев. Это называлось: молебен с водосвятием;
1 Г о лик—веник из голых березовых прутьев.
без этого обряда ни мужик, ни боярин не вселялись в новое жилье.
На старых пепелищах вновь расцветала жизнь.
У купцов и бояр так быстро дело не налаживалось — им требовались богатые хоромы. Но и на это находилось на Руси много мастеров. Прослышав о небывалом пожаре, из разных областей стекались в Москву артели плотников и каменщиков; всем хватало работы.
Вновь многолюдны стали московские улицы; с утра до вечера шумел народ на торговых площадях; сновг! потянулись в Москву купцы с товарами из далеких стран...
Неистребимый город Москва, необычайна его жизненная сила, с чудесной быстротой залечивает он самые тяжкие свои раны.
* * *
Семья Ордынцевых оплакивала гибель Григория Филипповича. Но жизнь не стоит на месте: надо было восстанавливать двор, благо старик спас золото. Отцовское поместье приказ закрепил за Федором Ордын-цевым.
От отца Федор Григорьевич перенял пристрастие ко всему псковскому; для постройки хором он решил выписать каменщиков из Псковщины. Молодой стольник решил послать за мастерами Тихона Верхового.
Тихон выразил большую радость, что выбор боярина пал на него, и усердно начал сборы. Но накануне дня отъезда он вывихнул ногу, споткнувшись о бревно. Мужик орал диким голосом, когда его несли в наспех построенную людскую, и никому не позволял притронуться к искалеченной ноге. Впрочем, когда в Псков послали другого, нога у Тихона зажила удивительно быстро.
Из Пскова пришла артель Герасима Щупа. Щуп постарел, острую его бородку пронизала частая седина, но был он суетлив п добродушен по-прежнему.
На дворе Ордынцева Щуп встретился с Тихоном Верховым, который распоряжался дворовыми, спесиво задирая рыжую бороду.
Земляки разговорились. Щуп расспрашивал о пожаре и мятеже. Тихон рассказывал весьма осторожно, умалчивая о своих «подвигах» по части грабежа. Но он слу-*
чайно упомянул о встрече с Голованом, и зодчий сразу загорелся:
— Как, что ты говоришь! Голован в Москве?. Да правда ли это?
— Говорю тебе, видел его в нищенских отрепьях, — лениво процедил Тихон, которому непонятна была радость Щупа.
Дворецкий кратко передал рассказ Голована о его скитаниях.
— Ах, бедняга! — взмахивал руками Щуп. — Вот горе-то его пристигло: шутка ли, такого наставника потерять!
В тот же день Герасим отправил на розыски Андрея трех своих работников, знавших Голована в лицо. Встретить парня посчастливилось Акиму Груздю, пожилому каменщику с морщинистым лицом и реденькой клочковатой бородкой.
Голован сердечно распрощался со скоморохами, крепко обнял их, благодарил за все добро, которое от них видел, обещал никогда не забывать Нечая и Жука.
Встреча с земляками была самая радостная. Каменщики обступили Андрея, хлопали его по плечу, удивлялись, как он вырос, как похорошел:
— Богатырь прямо!
— В батьку пошел!
— Исхудал только без каменной работы...
Голован прервал дружеские излияния вопросом об отце и матери.
— Живут, — ответил Щуп. — Когда, бишь, я Илью видал? Да недели за две до того, как уйти нам из Пскова. Батька твой привез на базар свое изделие, ну мы с ним и поговорили. Здоровьем он, конечно, сдал. Главное, об тебе горюет. Уж очень давно, говорит, весточки от сына не получал...
— Какие уж тут вести подашь, — смущенно сказал Голован, — коли сам еле-еле из беды выбрался!..
Он рассказал о зиме, проведенной в Москве с нищими, о том, как приютили его скоморохи.
— Теперь этому конец!—твердо воскликнул Щуп.— С нами будешь работать. Не дело такому мастеру на скоморошьей дуде дудеть!
Каменщики шумно изъявили одобрение словам Герасима.
— Да, — спохватился Голован, — а как Паисий? Жив?
— Что ему поделается, идолу гладкому! — сердито ответил Щуп. — Толще и здоровее прежнего. И все твоего батьку бранит за то, что не отдал тебя в монахи...
— Значит, по-прежнему мне пути на родину нет, — огорчился Андрей.
— Ничего, ты молодой, переживешь своего ворога, — утешил парня Герасим.
Федор Григорьевич задумал поставить каменные хоромы в два жилья1. Он потребовал, чтобы Щуп представил ему роспись, в которой, по обычаю, полагалось указать длину и ширину здания, расположение входов, размер дверей и окон.
Сговорившись между собой, зодчие сделали лучше. Голован нарисовал в красках, как будет выглядеть дом Ордынцева. Федор Григорьевич пришел в восторг.
Сознавая, сколь важна работа, проделанная Андреем, он щедро вознаградил молодого мастера, купив ему одежду, приличную зодчему: кафтан и ферязь с золотым шитьем, сафьяновые сапоги на медных подковках, богатую меховую шапку, рубахи тончайшего полотна и красивую, расшитую опояску.
Голован низко поклонился стольнику и побежал в чулан переодеваться. Когда он вышел, преобразившийся, высокий и стройный, с пышной шапкой темных непокорных волос, в богатом наряде, в красных сафьяновых сапогах, каменщики залюбовались им.
— Чисто боярич! — с восторгом пробормотал Аким Груздь.
А Щуп радостно воскликнул:
— Ну, теперь, Ильин, ты житель! Вот посмотрела бы на тебя матка твоя...
Голован загрустил, представив себе горе матери, не видевшей его столько лет.
* * *
Прошел год. Палаты стольнику Ордынцеву были выстроены: русские мастера работали на диво быстро и прочно.
1 Жилье —этаж.
Голован уговорил Федора Григорьевича поставить здание не в глубине двора, а лицо^м на улицу.
Величавые, высокие хоромы на глухом подклете, в два жилья, сложенные из красного кирпича, перепоясанные полосами из белого камня, с белыми же наличниками решетчатых окон, выглядели нарядно, торжественно: Андрей вспомнил наставления Булата и применил их к делу. Здание венчал шатровый верх с теремцами, со смотрйльпыми башенками. Крыша была из листовой меди, ярко блиставшей на солнце.
Со двора верхнее жилье окружали крытые обходы 1 с узорчатыми перилами тончайшего рисунка. Крытые высокие всходни — крыльца—вели к хоромам с трех сторон. За дверями открывались сени; вдоль верха сеней, под самым потолком, шли решетки из красиво выточенных кленовых балясин.
Из сеней посетитель попадал в горницы. Шашечные дубовые полы сверкали; стены были обиты дорогими сукнами с прикрепленными к ним квадратиками разноцвет-' кого стекла; высокие печи облицованы были изразцами, на изразцах — рисунки.
Вдоль стен в каждой горнице протягивались длинные лавки, покрытые коврами или цветными сукнами. Столы стояли дубовые, под снежно-белыми скатертями...
Богато, привольно зажил стольник Федор Григорьевич в новых хоромах. За год работы и па дворе поднялись все нужные хозяйственные постройки: людские избы, баня, прачечная, пекарня, квасоварня, конюшня, скотные дворы.
Ордынцев щедро расплатился с каменщиками. Узнав, что Голован остается работать в Москве, стольник разрешил ему поставить избу на своем обширном дворе. Артель на прощание построила другу и земляку хорошенький пятистенный деревянный домик.
Каменщики ушли. Андрей отправил со Щупом письмо родителям и послал деньги, заработанные на ордынцев-ской стройке. Этого должно было хватить старикам па несколько лет.
Проводив друзей, Голован сидел один, в грустном раздумье. Когда-то удастся ему побывать в Выбутине? Уви
1 Обходы — балконы.
дит ли он Булата, своего старого наставника? Хорошо ли он сделал, послав отцу все деньги? Быть может, стоило оставить часть на выкуп Булата?
Но сердце говорило Андрею, что он поступил хорошо. Еще неизвестно, жив ли Булат, а старые отец с матерью, вскормившие и вспоившие его, бедствуют... А теперь — работать и работать и быстро скопить деньги на выкуп пленника! Теперь он смело может жить в Москве: есть у него надежный поручитель — стольник Ордынцев, известный самому царю.
Размышления Голована были прерваны стуком отворяемой двери. Подняв голову, Андрей увидел Акима Груздя.
— Али что позабыли? — удивленно спросил зодчий.
Аким Груздь хитро улыбнулся, постучал указательным пальцем по кончику носа. Под мышкой ои держал тощий узелок.
— Я сяду, Ильин, у меня к тебе дело.
— Говори, дядя Аким, слушаю!
— Бирюком 1 ведь тебе придется в новой избе сидеть. Не заскучаешь?
— У меня дела много будет.
— Так! Оно, конечно, и постряпать, и постирать, и печь истопить. Парочку тебе надобно...
Андрей рассмеялся:
— Да ты не сватом ли ко мне пришел? Я жениться не собираюсь.
— Не собираешься? — Аким вздохнул с облегчением. — Ну, так я... я жить с тобой остаюсь, Ильин! — бухнул он и вцтер пот с лица. — Вот и пожитки мои!
Он развернул старенькие портки и рубаху, углядел в стене деревянный гвоздь. Повесив пожитки, скрестил руки на груди и уселся поплотнее.
— Что это ты надумал, дядя Аким? А как же домой?
— Эх, какой у меня дом! Разве не знаешь, что бобыль я? Да и ты на чужой стороне сирота. А сойдутся два бобыля — вот и семья готова... Неужто выгонишь, Андрюша? — Голос каменщика звучал задушевно. — Тебе ли тратить время на стряпню, на печку, на пустые бабьи дела! Коли у тебя такое соображение на зодческое художество, должон ты большие дела делать! А я тебе все обхлопочу, будь спокоен! Я, брат, шти сварю!..
1 Б и р ю к — волк; в переносном смысле — одиночка.
Голос его пресекся, маленькие слезящиеся глаза смотрели на Голована с мольбой. Андрей растрогался, протянул Акиму руку:
— Коли так — живи! Будешь мне заместо отца...
Старый каменщик, хлопая Андрея по плечу, взволнованно бормотал:
— Ну вишь... ну как же... Один горюет, а двое воюют... Уж мы с тобой!..
Аким оказался преданным товарищем. Его хозяйственные заботы освободили Андрею много времени. Федор Григорьевич разнес по Москве весть, что у него во дворе живет знатный мастер-строитель, и у Голована сразу нашлось много работы.
$ * *
В том же году, как Щуп с артелью ушел на родину, Головану довелось встретиться на улице лицом к лицу с Мурдышом. Тиун узнал бывшего княжьего холопа. Он ухватил Андрея за грудь и злобно-радостно прошипел:
— Попался, беглец!
— Я тебя не знаю! — спокойно ответил Голован.
— Не знаешь? Зато я тебя знаю! Ты Семейко Никаноров, извечный холоп нашего господина Артемия Оболенского!
— Не знаю, про кого ты говоришь, человече! — промолвил Голован, сдерживаясь, чтобы не наброситься на Мурдыша с кулаками. — Коли хочется тебе сведать, кто я таков, иди к государеву стольнику Ордынцеву Федору Григорьевичу. От него узнаешь, что я московский зодчий Андрей Ильин...
Тут не вытерпел Аким Груздь, давно в нетерпении переминавшийся с ноги на ногу:
•— Да что ты байки баешь с этим побродягой, Ильин? Отойди-ка, я с ним поговорю по-своему!
Тряся реденькой бороденкой, Груздь проворно засучил рукава.
Из толпы, которая уже собралась вокруг, послышались гневные голоса:
— Да что же это такое, крестьяне? Боярские приспешники рады весь свет закабалить! Али мало их, собак, о прошлом годе учили?..
Яростные лица москвичей, сверкающие взоры так перепугали Мурдыша, что он рад был, когда выбрался из толпы, отделавшись парой здоровых тычков под ребра.
Глава XII
ПУШЕЧНЫЙ ДВОР
У московских придворных было в обычае собираться по утрам у царского дворца. Потолкавшись на площади часа полтора-два и вдоволь посплетничав, дворяне расходились, за исключением тех, кого выкликали царские спальники.
В один из июньских дней 1548 года Федора Ордынцева вызвали к царю. Стольник вошел в палату с душевным трепетом.
Восемнадцатилетний Иван сидел в кресле.
Царь был одет роскошно. Его голову покрывала черная бархатная скуфейка, расшитая крупным жемчугом. На царе- была длинная, почти до пят, малиновая ферязь с рукавами до полу, перехваченная кованым золотым поясом.
Холодные глаза царя смотрели спокойно и властно из-под черных, почти сросшихся бровей. Тонкий, с нервными, подвижными ноздрями нос сбоку походил на орлиный клюв. От углов тонких, плотно сжатых бескровных губ шли две глубокие складки. Жесткое это было, недоброе лицо, и чувствовалось в нем сознание огромного могущества, недоверие и презрение к людям. Но вдруг царь улыбнулся, глядя на смущенную фигуру молодого стольника, и черты его лица смягчились, подобрели.
— Подойди поближе, Федор! — приказал царь.— Слушай мою речь, будет она о важных делах...
Федор подошел потупив голову.
— Знаю я тебя давно, — продолжал царь, — знаю и твое прилежание к книжному ученью. И, думается мне, понапрасну толчешься ты по утрам у моего дворца, на то много есть других охотников. Надо тебе настоящее дело дать, и дело такое я нашел. Наша неудача военная меня хотя и огорчила весьма, но отнюдь не отвратила от мысли исконную русскую землю, захваченную безбожными казанцами, под нашу высокую руку вернуть.
Иван углубился в воспоминания о своем первом неудачном походе на Казань. Воспоминания эти были тяжелы для его самолюбия...
Царь выехал во Владимир в декабре 1547 года. Вслед за ним отправилось войско, повезли пушки. Время для похода оказалось в высшей степени неблагоприятным. Зима стояла небывало теплая, шли дожди. Дороги раскисли, обратились в болота. Переправлять орудия через реки приходилось с великим трудом. Только в январе 1548 года артиллерия прибыла во Владимир.
Ценой огромных усилий русское войско добралось до Нижнего Новгорода и там выжидало наступления холодов. Первые морозы вселили в царя и его полководцев надежду. Лед на Волге, казалось, укрепился. Войско двинулось в поход из Нижнего Новгорода в феврале. Но снова начались оттепели, лед сделался рыхлым; пушки проваливались, увлекая за собой лошадей и людей.
Три дня простоял Иван Васильевич на острове Ро-ббтка посреди вздувшейся реки. Поверх льда шла вода, скрывая многочисленные промоины. Казалось, сама природа преграждала русским путь к Казани.
Иван гневно проклинал судьбу. Но держать большое войско на пустынном острове было невозможно. Царь возвратился в Москву, отправив под Казань отряд под командованием воеводы Дмитрия Бельского и бывшего казанского хана Шиг-Алея \ теперь вассального правителя касимовских татар.
Бельский и Шиг-Алей разбили рать хана Сафа-Гирея на подгородном Арском поле и прогнали ее в город, но ворваться в Казань не решились: неизвестно было, как посмотрит на это ногайский князь; сильная ногайская орда, ударив русским в спину, могла уничтожить московское воинство.
И русские и казанцы хорошо понимали, что неудачный поход Ивана IV — только один из эпизодов многолетней борьбы. Казанский хан Сафа-Гирей не хотел жить в мире с Москвой, немало походов совершил он на пограничные русские земли, докатывался даже до Мурома; разбитый, отступал вспять, но не унимался.
1 Шах-Али.
Теперь, когда малолетство Ивана кончилось, наступила пора покончить хотя бы с восточными последышами Золотой Орды.
»..После долгой задумчивости царь заговорил снова;
— Для нового похода надо нам все отрасли воинские крепить, и первую же из них — пушечный наряд. Вот п надумал я, Федор, отдать под твое ведение Пушечный двор. Сидит там окольничий Мусин-Пушкин. Недоволен я им: распустил людей, сам литейное дело не знает и учить не хочет — и стар, и ленив, и бестолков.
— Дозволь, государь, слово молвить, — робко заметил Ордынцев. — Завистники на меня подымутся: род мой незнатен, и заслуги за мной никакой нет...
— Насчет заслуг это ты мне предоставь знать,—• обрезал Федора царь, и холодные глаза его загорелись гневом. — Будешь хорошо работать, направишь пушечное литье — вот тебе и заслуга, и за нее я тебя превозвышу. Хватит ставить на высокие должности родовитых бездельников, оттого и все наши неустройства. Но смотри у меня, Федор, литье изучи досконально, сам до всего доходи, чтобы тебя работники за нос не водили, как Мусина-Пушкина!
— Работы я не боюсь, государь, — дрожащим голо-С0хМ ответил Ордынцев. — Сколько у меня силы есть, всю положу на дело!
— А силы у тебя, Григорьевич, много! — уже мягче промолвил царь, любуясь могучей фигурой молодого стольника. — Вон тебе плечи-то господь дал — косая сажень! Любую пушку на себе перенесешь!
— А и перенесу, коли понадобится! — весело ответил Федор.
* * *
Артиллерия — один из важнейших родов войск — появилась в Европе в начале XIV века. И уже во второй половине этого века пушки были на Руси. Летописцы рассказывают об «арматах» 1 великого князя Дмитрия Донского, а он правил Москвой с 1359 по 1389 год.
Русские люди, искусные на всякое мастерство, быстро выучились пушечному делу: ковать и отливать пушки 2,
1 Арматы — пушки.
2 Пушки вначале ковали из железных полос и обтягивали железными обручами; позднее их стали отливать из бронзы»
'стрелять из них. Русская артиллерийская техника не только не уступала западноевропейской, но зачастую превосходила ее: во время войн и осад московские пушкари стреляли дальше и метче, чем пушкари противника.
Пушечным делом заведовал оружничий — один из видных чинов дворцовой администрации. А производство артиллерии и всякого огнестрельного оружия сосредоточивалось на московском Пушечном дворе.
Пушечный двор, обнесенный частоколом, широко раскинулся по берегу Неглинки-реки. Рядом с ним располагались Кузнецкая и Оружейная слободы.
Москва снабжала города и пограничные острожки пушками и пищалями, а зелье — порох — они готовили сами. Производство черного, или дымного, пороха из серы, селитры и угля являлось делом несложным. Перед походом объявлялось, сколько зелья должен сдать в казну боярский, дворянский, поповский двор. «А кто отговаривается, что зелья добыть не может, к тем посылать ямчужиых 1 мастеров показать, как зелье варят».
...Федор Григорьевич, подъехав к воротам Пушечного двора, оставил лошадь на попечение привратника и прошел внутрь. Ему долго пришлось бродить по обширному двору, где были разбросаны литейные цехи, сарайчики для готовых пушек и ядер, поленницы дров, кучи угля, руды. Едкий дым носился в воздухе, щекоча нос и горло. Полуголые люди спускали по желобам расплавленный металл в ямы, где были установлены формы.
«Да, тут работать надо... — подумал стольник. — Порядок у них как у нерадивой хозяйки в избе...»
На вопрос Ордынцева, где найти старшего мастера, его посылали то в одну, то в другую сторону. Наконец он заметил двоих, склонившихся над пушкой, положенной на деревянные козлы. Один, хорошо одетый, обмерял пушку аршином, заглядывал в жерло, заставляя второго повертывать ствол.
«Тут добьюсь толку...» Ордынцев с любопытством наблюдал издали.
Мастер выпрямился, поднял трость:
— Какова у тебя пушка отлилась? Какова?
— Винюсь, батюшка, прости! Бес попутал!
1 Я мчу жный — селйтренный.
— Ты мне на беса не сваливай! — Трость заходила по спине виновного.
— Каюсь, недосмотрел...
— То-то! Перелить. За угар1 да за дрова пеню внесешь: три алтына. И получишь за нерадение двадцать плетей.
Литейщик упал в ноги:
— Ба-а-атюшка! Сбавь по силе возможности!
— Ну? — грозно подтвердил свой приказ мастер и ушел.
Наказанный бросил вслед ему:
— Старый хрыч! Как громом ошарашил... — Поправил прожженный кожаный передник, сердито ткнул пушку ногой: — Чертова скотинка! Хозяина подвела... . Откуда-то вывернулся другой литейщик, тоже в кожаном фартуке, с таким же зеленовато-бледным лицом, усыпанным черными точками.
— Как это тебя, Гаврюха, угораздило?
Гаврюха погладил опаленную бородку:
— Сам не знаю! То ли меди не хватило?
— Вот и заработал!
— Ништо! У нашего брата спина дубленая!
К пушкарям подошел Ордынцев:
— Где мастер Мартын Туровёц?
— Вон ходит, литцов 2 проверяет. А ты кто же таков будешь?
— Меня царь поставил вашим главным начальником.
— Вона! К нам главные начальники сроду не заглядывали. Али ты другого складу?
— Я другого складу и есть, — улыбнулся Федор Григорьевич и пошел к мастеру.
Мартын Туровец, родом с Украины, был одним из лучших знатоков пушечного дела. Литейщики боялись Туровца, но уважали за то, что без вины не наказывал, посулов и поминков из подчиненных не выколачивал, как другие мастера.
Старший мастер Туровец ходил с тонкой железной тростью: ею он наказывал виновных на месте преступления. Ребята выкрали трость. Туровец в тот же день
1 Угар — потеря металла при переплавке.
2 Л и т и ы — литейщики.
Два мастера рассматривали пушку, положенную на деревянные козлы*
приказал выковать новую — потолще, Стянули и эту. Мартын опять промолчал и обзавелся тростью еще более увесистой.
— Старика не перехитришь! — решили литцы и подбросили первую украденную трость.
Мартын ухмыльнулся, принял трость — тем дело и кончилось.
Федор Григорьевич подал Туровцу царский указ. По-* ка мастер читал, Ордынцев рассматривал его. Украинец был низкоросл, плотен; румяные щеки, живые серые глаза под кустистыми бровями. Щеки и подбородок мастер брил по украинскому обычаю, зато носил густые казац* кие усы.
— Рад я, Федор Григорьевич, что убирают от нас Мусина-Пушкина. От него толку было, как вот от этой болванки! — Мастер ткнул ногой медную чушку. — И позволь ты мне, старику, сказать тебе прямое слово: коли ты сюда будешь заглядывать раз в год по обещанию, то и у тебя дело не пойдет.
— Я не затем сюда послан, чтобы только государево жалованье получать, — заверил мастера молодой стольник.
— Ну тогда — добро пожаловать! — широко улыбнул* ся Туровец.
Ордынцев горячо принялся за дело. Работа вдали от грозного царского взгляда, вдали от дворцовых хитростей и сплетен увлекла Федора Григорьевича. На свои силы и способности он надеялся, и не напрасно. Он с головой ушел в работу. В скромном кафтане и высоких кожаных сапогах он с утра до вечера ходил по Пушечному двору, беседовал с мастерами и рабочими, старательно изучал премудрости литейного дела.
Нередко можно было видеть, как Ордынцев тащил вместе с работниками тяжелую пушку.
Вот это боярин так боярин! — восхищались литейщики.— Такой наладит дело по-настоящему!
Работники полюбили Ордынцева, хотя он был строг и с первых же дней потребовал навести порядок на Пушечном дворе. Но нельзя было обижаться за строгость на человека, который сам работал не покладая рук и совсем не считаясь со своим высоким положением.
Дома Ордынцев читал латинские книги по литейному делу, закупленные по его просьбе посольскими дьяками за границей. Результаты упорной работы сказались скоро.
После наблюдений над выплавкой меди из руды и долгих размышлений Федор Григорьевич завел разговор со старыми литейщиками:
— Худо, литцы, работаем!
— А что тебе у нас не показалось? — обиделся Гав-рюха Корень.
— Грязно, руды много попусту изводим, угар большой.
— Не нами заведено — отцы и деды так поставили,
— Не все ж по дедовскому разумению жить, надо и своим разумом раскидывать.
Ордынцев сделал чертеж новой печи, посоветовался с Мартыном и другими мастерами. Для опыта переложили одну печь — вышло хорошо. Стали перекладывать и другие печи.
Деятельность Ордынцева на Пушечном дворе не укрылась от внимания Ивана Васильевича, и царь был доволен, что его любимец оправдал возлагавшиеся на него надежды.
* * *
Голован стал известным на Москве мастером. Не раз предлагали ему в артелях место старосты, но Андрей отказывался, подобно Никите Булату. Не связываясь с мелкими хозяйственными хлопотами, Голован мог руководить сразу двумя стройками, отдавая одной утреннее время, а другой — вечернее.
Голован и Аким Груздь жили очень скромно, большую часть своего заработка зодчий откладывал на выкуп наставника.
По вечерам в домик Андрея часто заглядывали старший дворецкий и тиун Ордынцева.
Тишка Верховой, напротив, старался встречаться с молодым мастером как можно реже. Судя по себе, он ожидал от Андрея всяких неприятностей, вроде доноса о воровских делах его, Тихона, во время московского мятежа.
«И угораздила его нелегкая поселиться на нашем дворе! — злобно думал Тишка. — Нешто поджечь? А ка
кой прок? Еще попадешься... А он все равно новый дом поставит — что ему, строителю!..»
А у тиуна были две дочери на выданье, и он мечтал породниться с Голованом, завидным женихом. Тиун и старший дворецкий любили слушать рассказы Андрея о том, как он ходил по Руси с Никитой Булатом. Об одном лишь умалчивал Голован: как он попал в кабалу к князю Оболенскому и как оттуда сбежал. Андрей опасался недаром: если бы его признания дошли до Мурдыша, княжеский тиун обязательно поднял бы кляузное дело, и много пришлось бы Головану потратить сил и денег, чтобы оправдаться перед дьяками, жадными до взяток.
В один из вечеров зашел разговор о том, как славится Псков мастерами-строителями, и о том, что немало искусных псковских мастеров ходит по Руси.
— Ты небось, Ильин, многих встречал, как по свету хаживал? — спросил дворецкий.
— Встречал я многих, — ответил Голован, — да вот дивное дело: земляка своего, Постника Яковлева, ни разу не довелось встретить. И скажи, как на грех, всегда получалось. Из Твери мы ушли, а он туда через неделю явился с учителем своим Бармой (я о том спустя время сведал). В Ярославль подрядились церковь строить, а Барма с Постником за месяц до нас кончили крепостные башни переделывать. Прямо как неведомая сила нас разводит!.. А работу их я видел: хорошо работают Постник с Бармой! Вот у кого поучиться бы!
Голован не знал, что его желание поработать с Постником и Бармой исполнится через несколько лет.
* * *
В 1549 году у Андрея скопилось пятьдесят рублей; этого было достаточно для выкупа Булата.
Бедствия русских полонянников породили небезвыгодный промысел: выкупать рабов из казанской и крымской неволи. Люди, которые этим занимались, имели охранные грамоты от обеих сторон.
Собрав на Руси деньги у родни невольников, посреди ники являлись в Казань или Крым, уплачивали условленное и везли освобожденный «ясырь»на который
1 Ясырь (точнее — ясир; татарск.) — пленники.
уже не нападали татарские разбойники. За страх и за хлопоты посредники брали немалую мзду.
С одним из таких посредников — касимовским тата-ринОлМ Хусаином Бекташевым, часто наезжавшим на Москву, — свел знакомство Голован. Он просил Хусаина разузнать, у кого в плену Булат, какой за него просят выкуп.
К великому разочарованию Андрея, пронырливый татарин не мог разыскать след Булата.
— Не горюй, бачка! — утешал его татарин. — Может, не пропал, жив! У них есть такой человек: свой полон скрыл, не хотел продавать. Ему, может, он больше польза давал, может, добрый слуга. А может, твой старик далеко продавал: Крым, Кавказ, Туретчина. Тогда плохой дело! Не горюй, бачка, другой раз поехал, хорошо узнавал...
Но и новые поездки Бекташева не принесли утешительных известий: Булат был слишком надежно укрыт за высокими стенами Кулшерифова дворца.
Глава XIII
МУЗАФАР, СЫН СЕИДА
Сан первосвященника Казани переходил по наследству от отца к сыну. Духовными владыками казанских мусульман могли быть только члены знаменитого рода, происходившие от дочери Магомета — Фатимы и ее мужа — Али.
— Ты — потомок самого великого пророка, ты будущий имам правоверных Казанского царства, — внушал Кулшериф старшему сыну, Музафару, когда тот был еще ребенком.
С юных лет Музафара усадили за изучение грамоты, хотя не забыты были и воинские забавы, приличные мужчине: верховая езДа, уменье владеть саблей, стрелять из лука и пищали.
Когда Музафару исполнилось шестнадцать лет, его отправили учиться в Стамбул, в духовную школу: так требовал вековой обычай, и за его соблюдением зорко следило высшее турецкое духовенство и сам султан.
Прошло несколько лет учения. Юноше не часто при
ходилось кататься в лодке по чудесной бухте Золотой Рог или гулять в тенистых садах, окружавших город. По целым дням сидел он за изучением корана и многочисленных толкований к нему. Священная книга мусульман написана языком темным и непонятным, и за многие столетия комментаторы написали груды книг, где на всевозможные лады изъясняется каждая строка корана. Будущий первосвященник должен превосходить ученостью всех правоверных, и Музафару приходилось корпеть в душной келье над свитками древних пергаментов.
С еще большим рвением наставники Музафара раздували в душе юноши вражду к гяурам — московитам, Ежедневно и ежечасно внушалось будущему сеиду
Казани, что Москва — злейший противник всего магометанского мира, что ему, Музафару, предстоит почетная задача — вернуть то время, когда московские князья были покорными слугами татарских ханов. А в предвидении того времени, когда Музафар возглавит борьбу против Москвы, его обучали военному искусству.
На службе у султана были немецкие и французские инженеры — специалисты по строительству крепостей и ведению осадных работ. Их учеником стал Музафар.
По приказу султана, при обучении Музафара главное внимание обращалось на искусство защиты осажденной крепости: молодого татарина учили, как укреплять стены, как располагать на них орудия, как устраивать вылазки.
Музафар изучал историю Казанского ханства. Он узнал, что город Казань был основан еще в начале XIV века, а полтора столетия спустя Казань уже стала огромным городом, известным в отдаленнейших странах Европы и Азии.
Известно стало Музафару, что отношения между двумя соседними государствами — Москвой и Казанью—* были запутанны и изменчивы.
Две партии боролись за власть в Казани в течение десятилетий. Одну возглавлял род Ахмата, последнего хана Золотой Орды. Во главе другой стояли приверженцы Гиреев, властителей Крыма. Между родом Ахматовым и родом Гиреевым шла жестокая наследственная вражда. Партия ахматовцев, ища союзника, стала за Русь и получила название московской, а гиреевцы при
постоянной поддержке Турции и Крыма непримиримо враждовали с Москвой.
Стамбул воспитывал в будущем казанском сеиде ярого врага ахматовцев и Москвы.
Власть первосвященника над душами темных, фана* тических мусульман огромна, и в лице Музафара турецкий султан рассчитывал приобрести надежного и умелого союзника в борьбе с Россией.
Когда воспитание Музафара было сочтено законченным, великий муфтий 1 возвел его в звание муллы и выдал молодому татарину грамоту, где он именовался светилом мусульманской веры и чудом учености. Музафар получил приказ явиться перед отъездом к самому падишаху Солиману Великолепному2.
Музафара вечером провели в опочивальню Солимана через потайной ход: ни один человек не встретился ему на пути, и только великий муфтий, главный наставник Музафара, находился в комнате во время приема.
Юноша упал ниц и поцеловал расшитую туфлю падишаха, которую тот подвинул к его губам небрежным движением.
— Встань, сын мой! — приказал Солиман, и на полном лице его появилась ласковая улыбка. — О твоем усердии в делах веры мне доносили, и я тобой доволен. Но будешь ли ты так же рьяно бороться с врагами нашей святой веры, с проклятыми гяурами — московитами?
— Клянусь тебе, повелитель! — пылко вскричал Му-зафар-мулла. — Все свои силы отдам великому делу ниспровержения Москвы!
— Если сдержишь обещание, будешь у нас в почете, а после смерти займешь почетнейшее место в райских садах Магомета. Через соглядатаев знаю я, что ненависть почтенного отца твоего Кулшерифа к гяурам в последние годы поостыла и он не очень горячо поддерживает хана Сафа-Гирея в борьбе с московитами... Или, быть может, он устарел и заботы этого света утомили Кулшерифа? Быть может, пора поставить на его место молодого первосвященника, сильного святой злобой про
1 Муфтий (арабск.)—в восточных странах ученый богослов, толкователь корана; великий муфтий — патриарх.
2 Солиман Великолепный правил в Турции с 1520 по 1566 год.
тив врагов пророка?.. Что ты на это скажешь, сын мой Музафар?..
Намек был слишком ясен, и Музафар его понял. Представилось ему ласковое лицо старика отца, так любившего старшего сына, с такой грустью провожавшего его на чужбину... Но религиозный фанатизм быстро взял верх, и молодой мулла склонился перед султаном в смиренном поклоне:
— Как ты повелишь, милостивый падишах, так и будет!
Солиман повернулся к великому муфтию и коротко бросил:
— Вручи снадобье!
Муфтий протянул юноше флакон со светло-коричневой жидкостью:
— По три капли в день в кушанье или питье — и через неделю душа человека безболезненно отлетает в сады пророка...
Музафар-мулла взял яд дрожащей рукой.
— Но не торопись, сын мой! — предостерегающе поднял пухлую белую руку султан. — Кулшерифа любят в Казани, ему верит народ, и было бы опрометчиво лишить его возможности загладить вину передо мной, наместником пророка на земле и главой всех мусульман мира. Я посылаю с тобой к сеиду строгий указ и надеюсь, что Не придется потерять слугу, который в прежнее время принес нам много пользы. Но если Кулшериф не одумается...— Лицо султана сделалось свирепым, и он решительно махнул рукой сверху вниз.
Юноша снова упал к ногам султана. Тот протянул ему перстень, где на драгоценном камне было вырезано несколько букв:
— Вот знак моей милости. Этой печатью ты будешь запечатывать свои тайные послания ко мне... Я отправлю с тобой две сотни отборных янычар-телохранителей: это мой подарок возлюбленному хану Сафа-Гирею, да продлит аллах дни его жизни. Скажи хану, что мое благоволение и моя помощь всегда с ним...
Когда великий муфтий вел Музафара обратно, он, оглядевшись, наклонился к уху юноши и шепнул:
— За то, что я тебе собираюсь сказать, мне грозит лютая казнь, но ты мой любимый ученик...
— Я не выдам тебя, святой отец!
Старик зашептал еще тише:
— За тобой тоже будут следить невидимые глаза, и если ты окажешься чересчур мягок, такие же капли будут подмешаны в твою пищу.
Холодная дрожь пробежала по спине Музафара,
Два пути вели из Стамбула в Казань. Один, сухопутный, проходил по южному и восточному побережью Черного моря, далее степями Предкавказья до Астрахани и вверх по Волге. Другой, более короткий, пролегал через Черное море и владения крымского хана.
Но была осень, море бушевало, и страшно казалось подвергать опасности драгоценную особу наследника первосвященнического престола Казани. Музафара-мул-лу отправили по сухопутью.
Под надежной охраной янычар в ноябре 1547 года Музафар возвратился на родину. За два перегона до Казани поскакали вперед гонцы, и будущему сеиду была устроена торжественная встреча.
Музафара отец поставил настоятелем самой большой казанской мечети, и молодой мулла рьяно принялся за выполнение обязанностей, налагаемых на него новым саном.
В первые месяцы после возвращения из Турции Музафар держался очень осторожно. Прежде всего он постарался завербовать побольше сторонников; в этом ему помогали не только ласковые слова и обещания, но и турецкое золото, которым щедро снабдил Музафара султан Солиман.
Управитель Кулшерифа — Джафар-мирза следил за всеми действиями своего господина и докладывал о них Музафару. Но оснований исполнить над первосвященником смертный приговор, вынесенный ему султаном, пока не находилось. Получив грозный указ Солимана и чувствуя опасность, Кулшериф проявлял крайнее рвение и в своих проповедях яростно разжигал вражду против московитов.
Наслушавшись проповедей сеида, казанские байгуши седлали коней и ехали грабить Русь, сводя на нет усилия предводителей московской партии установить хорошие отношения с могучим соседом.
Через каждые три-четыре месяца Музафар-мулла тайно посылал гонца в Турцию с донесением к султану и получал от него ответы с выражением благоволения и крупные денежные средства для поддержки гиреевской партии.
Музафару очень хотелось узнать, кто же еще из казанцев состоит на тайной службе у султана; если бы это удалось, наследник сеида чувствовал бы себя в большей безопасности. Но турецкие агенты умели держаться в тени, и никого из них Музафар не смог раскрыть.
Так протекло около полутора лет; а затем политическое положение в Казани резко изменилось.
Глава XIV
НЕОЖИДАННОЕ СОБЫТИЕ
Уход за садом Кулшерифа не слишком утомлял Никиту Булата — у сеида было много садовников. Жить бы спокойно, но Булата грызла тоска по родине, по любимой работе.
Никита ежедневно виделся с Дуней. Годы придали выдумке Настасьи о ее родстве с Булатом полную достоверность. Все считали Никиту родным дедом Дуни.
Кончался четвертый год плена Никиты. Был то 1549 год, 927-й по мусульманскому счету1.
В мартовский день, когда солнце сильно припекало и по грязным улицам журчали ручьи, к Кулшерифу примчался из ханского дворца всадник с двумя телохранителями. Сопровождаемый Джафаром ханский советник вошел к Кулшерифу, прикоснулся рукой к поле его халата: уже и этим сеид оказал ему почет. Касаться колеи казанского первосвященника могли только князья, и лишь один хан имел право лобызать его руку.
— Великий имам, я приношу тебе ужасную весть! Опора царства и меч мусульманской веры — наш хан умирает!
1 Началом мусульманского летосчисления считается год бегства Магомета из Мекки в Медику (622 год нашей эры).
•— Сафа-Гирей?.. Хан Сафа-Гирей, которого я вчера видел полным сил и жизни?..
Неожиданное известие потрясло Кулшерифа. На лице его проступили багровые пятна.
— Но что случилось, сын мой?
— Пресветлого хана погубило пристрастие к напиткам, запрещенным законом. Сегодняшней ночью он пировал с друзьями. Утром хан осушил еще несколько чаш, а потом ему захотелось умыть руки. У умывальницы он споткнулся и упал так несчастливо, что разбил голову и грудь... Костоправ Измайл-мирза утверждает, что Сафа-Гирею не дожить и до вечера.
— Сын мой, ты действительно принес страшную новость. Кто еще знает о ней?
— Святой имам, я боялся народного потрясения. При хане трое преданных слуг и спешно вызванный мною лекарь Измаил. Я приказал им не выходить из ханского покоя, не выпускать костоправа и говорить, что хан почивает. Л сам поскакал к твоему святейшеству.
— Ты хорошо сделал, сын мой! Я соберу курултай а ты поспешай во дворец, продолжай хранить тайну и жди моих распоряжений... А может быть, Сафа-Гирей оправится, на радость правоверным? — со слабой надеждой спросил Кулшериф.
— Невозможно, святой имам!
Кулшериф-мулла отпустил советника. Джафар уже держал кисточку и лист бумаги — писать имена тех, кого сеид вызовет на совет.
❖ * *
У Кулшерифа-муллы собрались знатнейшие сановники, в огромном большинстве гиреевцы, враги Москвы.
Пришли завзятые ненавистники русских Ислам и Ке-бяк и их неразлучный спутник — мурза Аликёй. Явились уланы1 2, князья. Пришел Камай-мурза, проведавший, что у Кулшерифа собирается знать. Джафар-мирза поморщился, узнав от слуг о его прибытии: Камай был из ахматовской партии. Но обычай не позволял выгнать незваного гостя. Собралось много и других эмиров3 и беков.
1 Курултай — совет знатнейших,
2 У л а н ы — высшие сановники.
3 Э м й р ы — вельможи, князья.
В уголке притаился звездочет1 Кудай-Берды. Он внимательно прислушивался к разговорам сходившихся вельмож, так как делал предсказания, применяясь к обстоятельствам. *
Чтобы скрыть от любопытных причину неожиданного собрания, Джафар-мирза приказал дворецкому приготовить угощение. Гости рассаживались на коврах и подушках вокруг низких круглых столов, крестообразно поджимая ноги. Они засучивали рукава, чтобы удобнее брать кушанья.
Середину каждого стола занимало огромное блюдо с нежной жеребятиной. Каждый брал мясо руками. Сын сеида Музафар угощал избранных гостей, кладя им в рот лучшие куски своей рукой. Получивший угощение униженно благодарил, кланяясь сидевшему за отдельным столом Кулшерифу: его не должно было осквернять ничье прикосновение.
Как требовал обычай, хозяин пира Музафар-мулла извинялся перед гостями за скудость угощения:
— Покорно прошу, дорогие гости, простить нас за то, что мы осмеливаемся предлагать вашему утонченному вкусу такие простые, наспех приготовленные яства.
Гости, тоже по обычаю, восхваляли блюда в преувеличенных, цветистых выражениях:
— Если бы аллах дал нашим слабым ногам силу и резвость обойти все четыре стороны света, нигде бы наши глаза не порадовал вид столь вкусных, превосходно приготовленных блюд...
— Наши жеребята вскормлены старой соломой, их мясо жестко...
— Ты ошибаешься, дорогой Музафар-мулла: это мясо нежно, как самый свежий, сочный урюк, оно пахнет лепестками роз, которыми вы, очевидно, откармливали ваших жеребят...
Во время обмена любезностями блюда следовали за блюдами. Подавались цыплята, приправленные сладким луком; шашлык; похлебка с бараниной и пшеном; рис, сдобренный пряностями; жареные телячьи ножки; куропатки с соусом из сушеных слив; пирожки с творогом,
1 Звездочеты (астрологи) утверждали, что могут предсказывать будущее по звездам.
напоминающие вареники; простокваша, салма, баклава *, баурсаки1 2 с медом, халва... Слуги обносили гостей шербетом и кумысом, айраном3. Хмельные напитки религия запрещала, и Кулшериф-мулла делал вид, что не замечает, как слуги подают гостям пиво, бузу, арак4. А вышколенные рабы, поднося гостю чашу с бузой, улыбаясь, говорили:
— Прошу тебя, достопочтенный, принять из моих недостойных рук этот сосуд с кумысом, очень плохо приготовленным руками наших ленивых женщин.
Гость, с наслаждением выпив бузу, крякал и отвечал:
— Кумыс хорош! Видно, ваши кобылицы питаются благовонными травами, и руки ваших женщин могли бы взбивать пуховики для праведников, почивающих в райских садах...
Завершилась подача блюд великолепно приготовленным пилавом. Хоть пир у Кулшерифа и был уловкой, предназначенной замаскировать созыв курултая, но достоинство сеида требовало, чтобы он был ничуть не хуже обычных его роскошных пиров.
Во время обеда слух гостей услаждала музыка, доносившаяся из соседнего зала.
Когда гости насытились, дворецкий подал знак. Проворные рабы очистили столы от остатков обеда, поставили драгоценные вазы и блюда с урюком, кишмишом, фигами и удалились.
— Аллах велик!.. — начал Кулшериф среди настороженного молчания.
Гости понимали, что не для простого угощения созвали их во дворец первосвященника, и ждали разрешения загадки.
Музафар-мулла уже знал от Джафара-мирзы о близкой смерти хана. Еще во время пира, угощая собравшуюся знать, Музафар с трудом сдерживал волнение, а теперь его нетерпение дошло до крайних пределов. Что скажет отец? Будет ли он призывать к продолжению
1 Салма — мясная похлебка с шариками из теста; баклава — пирожное из меда и миндаля.
2 Баурсаки — катышки из теста, проваренные в масле.
3 Шербет — прохладительный напиток; айран — напиток из кислого молока с водой.
4 Арак — водка.
борьбы против русских или заговорит о примирении а Москвой?
От этого зависело — жить или умереть Кулшерифу. Честолюбивые мечты о первосвященническом престоле, казалось, таким близком и доступном, довели Музафара до готовности собственноручно влить яд в пищу отца. Но чтобы уничтожить сеида Казани, нужна была веская причина, иначе преступление могло обратиться против самого преступника. Музафар-мулла помнил предупреждение султана: пока Кулшериф против русских, его особа неприкосновенна.
Весь во власти противоречивых чувств, Музафар вздохнул почти с облегчением, когда сеид снова заговорил после долгого раздумья.
— Аллах велик! — повторил Кулшериф. — В своей неизреченной милости он посылает нам горе, он не хочет, чтобы мы среди роскоши и неги зажирели, как бараны, которых откармливают под нож мясника. Друзья и братья! Вы все знаете, как долго боролся с урусами славный Сафа-Гирей, да будет ему лучшее место в райских садах, потому что по земле нашему хану уже не ходить...
— Как? Что такое? Разве хан скончался?—послышались испуганные возгласы. — Говори скорее, святой имам!
— Звезда нашего счастья, пресветлый хан Сафа-Гирей лежит на смертном одре!
— Горе, горе! — возопили крашеные бороды. — Великое горе!
Сеид рассказал о несчастье, случившемся с ханом.
— Вы, знатнейшие сановники Казани, вы, избранники всевышнего, должны решить, кому править после кончины Сафа-Гирея. Нельзя допустить смуту: ею воспользуется Москва и вновь попытается наложить на нас РУКУ-
— Нет, нет! — зашумели взволнованные голоса. — Не допустим московитов хозяйничать в Казани!
— Храбрый наш Сафа-Гирей, защита веры и гроза врагов, угасает, — снова возвысил голос сеид. — А сыну его Утямйш-Гирёй-хану только два года от роду. Правда, мать его, царица Сююмбйка, наделена не женскими добродетелями — умом и храбростью, но не ей же стоять во главе войска, не ей бороться с урусами, которые так
упорны, что, глядя на них, сам сары-сабур1 раскрошится...
— Много раз приходили к нам урусы— и уходили ни с чем, — отозвался мрачный князь Кебяк.
— Уходили, а свои города возводили на наших землях,—живо возразил представитель московской партии Камай-мурза.— Когда на Сахйб-Гирёя урусы приходили — в 901 году2 то было, — до Казани не дошли, а город на нашей земле, на устье Суры-реки, поставили: Василь-городом назвали в честь своего князя Василия. Вы, правоверные, знаете, чего нам этот город стоит, как он нас стеснил...
— О-о, знаем, знаем! — послышались раздраженные голоса.
— Уходили, — продолжал Камай-мурза,— а свои заставы все ближе к нам подвигали... Трудно с урусами бороться: они когда отступают, и то побеждают!
— А ты не пугай! — гневно воскликнул улан Кучак, высокий молодой мужчина с воинственной осанкой: крымский царевич Кучак оставил родину с намерением возвыситься среди смут, раздиравших Казань. — Не пугай! — с силой повторил он. — Или ты за Москву?
— Да, я за Москву, — бесстрашно согласился Камай.— Я хочу уберечь от несчастья и себя и вас. Покоримся Москве без войны: не будем без нужды губить наших людей!
Поднялся шум. Возражая Камаю, люди старались перекричать друг друга. Выделился резкий, пронзительный голос Аликея, ярого противника Москвы:
— Царь Иван уже пробовал идти на нас, да ни с чем ушел!
Камай не смутился — он был смел и искусен в спорах:
— Что урусы ушли, этим хвалиться нечего. Зима какая была? На Волге лед весь покрылся водой, урусы в полыньях пушки потопили, людей потопили, потому и не дошли до нас...
Рассудительный голос Камая-мурзы остался одиноким. Послышались насмешливые возгласы:
1 Сары - сабур (татарск.) — сказочный желтый камень терпения, который будто бы сам собой крошился в дни великих бедствий.
2 В 1523 году.
— Камай-мурза трус!
— Баба!
— Робкому баранья голова двойной кажется!
Сеид водворил тишину и обратился к звездочету:
— Что ты скажешь, достопочтенный? Ты, наверно, вопрошал звезды?
Кудай-Берды, польщенный всеобщим вниманием, важно погладил красную бороду:
— Звезды враждебны Москве! Звезды говорят, что если урусы сунутся под Казань, им придется убираться с позором!
В глубине души сеид стоял за примирение с Москвой, но он видел, что виднейшие вожди партии гиреевцев хотят продолжения борьбы. Однако важнее, чем мнения собравшихся в его дворце вельмож, были для Кулшерифа указы, получаемые им из Стамбула. Эти указы предписывали ему, сеиду, разжигать непримиримую вражду к Москве. И между строк указов, написанных в многословной и витиеватой восточной манере, Кулшериф читал угрозы. Он ведь и сам в юности учился в Стамбуле, он хорошо понимал, что значит воспротивиться приказаниям турецкого султана, тени аллаха на земле. Веревка, кинжал, яд — все пускали в ход исполнители повелений султана, когда они наказывали ослушников его воли...
Заканчивая курултай, сеид против своей совести предложил: ханом возгласить Утямиш-Гирея; царством править ханше Сююмбике и избранному совету во главе с уланом Кучаком; Москве сопротивляться всеми силами.
Большинство собравшихся приняло эти решения с громкими возгласами одобрения.
Музафар-мулла был мрачен: он не знал, радоваться ли ему, что отец спасся от гибели, или горевать о том, что высокий сан первосвященника и на этот раз ускользнул от него.
Оказавшийся возле Музафара управитель Джафар-мирза, точно подслушав мысли юноши, шепнул с коварной насмешкой на безобразном, рябом лице:
— Не печалься, эфенди, твое от тебя не уйдет!
Музафар с изумлением посмотрел на горбуна, а тот исчез в толпе.
* * *
Утром следующего дня глашатаи объявили народу о кончине Сафа-Гирея.
Перед ханским дворцом собралась многотысячная толпа. После шума, ссор и драк верх взяли гиреевцы. Ханом был провозглашен младенец Утямиш, правительницей — Сююмбика.
Сафа-Гирею устроили торжественные похороны.
* * *
Улан Кучак послал гонцов с письмом в Крым и к турецкому султану, просил совета и помощи. Письма попали в Москву: гонцов перехватили русские казаки. Смущенный Кучак и советники, желая оттянуть время и лучше подготовиться к борьбе, отправили Ивану Васильевичу мирную грамоту. Царь не поверил татарам: они легко давали обещания и не стеснялись нарушать их. Они и перед этим порвали договор с Москвой: не выбирать хана без царского согласия.
Московская рать выступила во второй поход против вероломной Казани 24 ноября 1549 года.
Глава XV
ВТОРОЙ поход
У жен Кулшерифа появилась новая прислужница; звали ее Хатыча. Бойкая баба никого не боялась, по-русски говорила, как по-татарски.
Хатыча оказалась искусной сплетницей. На женской половине, где обитательницы изнывали от безделья, Хатыча чувствовала себя прекрасно: сплетничала, подслушивала, ссорила и мирила, получая подарки за услуги.
Старый Никита привлек особенное внимание любопытной Хатычи. Она пыталась подольститься к нему, но без успеха.
Тогда она принялась за Дуню. Хатыча сумела приворожить неопытную девушку. Выведала историю Булата, узнала, что он искусный зодчий, что не раз возводил в городах крепостные стены.
Простодушная девушка, думая сделать деду прият* ное, восхваляла его знания и способности. Хатыча изливалась в похвалах.
Открытие Хатычи имело неожиданные последствия.
С Никитой вдруг заговорил управитель, который до того не замечал старика.
•— Здравствуй, уста!1 — начал он с коварной улыбкой на изуродованном оспой лице.
— Какой я уста! — возразил Булат.
-— Э-э, теперь знаем! Скрывал, что ты уста-баши, большой мастер, строитель. Нехорошо делал, старик, очень нехорошо! Садовник сделался. Какой ты садовник, когда ты зодчий!
«Это проклятая Хатыча сведала у Дуни и меня выдала!»— подумал Никита. Вслух же сказал:
— Зачем мне говорить?
— Ты хитрый старик! — Косые глаза горбуна смотрели на Булата злобно. — Молчал — боялся, наверно, что заставим мечети строить? А вот не укрылся от нас, уста!
После смерти Сафа-Гирея Булат повеселел.
«Смута у басурман надвигается! — с надеждой думал он. — Может, перемена будет... Эх, кабы наши по-нагрянули!»
Но месяц проходил за месяцем и уж наступил новый, 1550 год2, а русские пленники не видели облегчения своей доли.
— Что слышно? — шептались они в укромных уголках. — Сююмбику-ханшу не сбираются столкнуть?
— Куда там! Главный теперь у них Кучак-улаи, а он на русских зуб точит — у-у!..
Оторванный от родины, Никита Булат вел строгий счет дням, соблюдал праздники.
По исчислению Никиты был вторник сырной не-, дели3.
— Масленица у нас теперь на Руси, дочка, — рассказывал Булат прибежавшей к нему Дуне. — Эх, мас
1Уста (татарск.)—мастер. Уста-башй— главный мастер.
2 До Петра I Новый год на Руси начинался 1 сентября.
3 Сырная неделя — масленица. В этот день, 12 февраля 1550 года, русские появились перед Казанью. ,
леница, масленица, широкая масленица!.. По улицам катанье на лошадях... Парни с девками на санках с гор летят...
Его речь прервали глухие удары, донесшиеся издалека: один, другой, третий...
— Что это? — изумился Никита.
Сердце заколотилось так, что груди стало больно.
— Внученька, Дуня! Беги разузнай!
Взволнованная Дуня скрылась. Она вернулась через некоторое время бледная, с высоко вздымающейся грудью:
— Ой, дедушка! Наше войско под Казанью! Русские! Из пушечного наряда бьют по стенам, аж пыль летит...
Булат выпрямился, точно вырос:
— Наши! Наши! Долго ждал, а дождался!.. Чего ж ты, глупенькая, перепугалась? Это нам свобода пришла!
Дуня со страхом и робкой радостью смотрела на старика.
А пушки продолжали греметь, пробуждая в сердцах русских пленников надежду на избавление.
*. * *
Сильна была Казань, и час ее падения не настал. Московская рать еще не привыкла брать крепости и не одолела грозных укреплений татарской столицы.
Приступ русских отбили. Обе стороны понесли громадные потери, но стены по-прежнему стояли высокие, прочные, и за ними скрывались десятки тысяч защитников. А тут и природа снова пришла на помощь казанцам. Наступила сильная оттепель, полил дождь, стали вскрываться реки. Опасаясь, что в случае вынужденного отступления придется потерять весь осадный наряд — пушки, царь Иван Васильевич, который и на этот раз сам вел войско, приказал уходить.
Осаждающие ушли от стен Казани 26 февраля 1550 года; всего две недели стояли они под городом.
Казанцы тысячами высыпали на стены, любуясь видом отступающего неприятеля. Мужчины и женщины насмешливо кривлялись, выкрикивали обидные ругательства.
Русские воины уходили не оборачиваясь. В их сердцах кипела ярость.
Отъехав так, что казанские стены чуть виднелись вдали, царь Иван обернул к городу искаженное стыдом и гневом лицо.
— Ничего, еще посчитаемся! — прошептал он.— Придет солнце и к нам на двор... — Потом сурово обратился к воеводам, которые тесной кучкой следовали за ним: — По вашей милости терпим позор, бояре! Кабы не ваши споры да раздоры, кто из вас старше да чей род честнее, разве я выступил бы в поход зимой? Сколько месяцев пришлось вас мирить да уговаривать! Ну, бог даст, выведу я ваше проклятое чванство!..
Иван Васильевич сдержал слово в том же, 1550 году. Был издан указ о распределении воевод по полкам; этот указ в значительной мере поломал старые порядки.
Правда, с знатностью боярских родов все же приходилось считаться, трудно было сразу изменить многовековой обычай. Но по новому указу находилось место в рядах воевод и тём незнатным, кто прославил себя воинским искусством и умением водить полки. Воеводы всех полков подчинялись воеводе Большого полка, и уж тут не оставалось места родовым спорам. В каждом полку также был установлен строгий порядок служебного подчинения, власть воевод укрепилась, а вместе с тем улучшилась и дисциплина в войске.
Доселе нестройные, непривычные к порядку, рати начали превращаться в сильную армию.
В том же году Иван IV создал первое постоянное войско на Руси — стрелецкое, использовав опыт отрядов «Пищальников».
Стрельцам полагалось служить в войске без срока, пока силы позволяли носить оружие. Жили они в слободах; утром и вечером производилась поверка, самовольно отлучавшихся строго наказывали. Стрелецкие слободы только тем отличались от солдатских казарм, что в них стрельцы жили с женами и детьми.
Во главе каждого стрелецкого полка, или «приказа», как их первоначально называли, стоял голова; мелкими подразделениями командовали сотники и пятидесятники.
Пешие стрельцы были вооружены пищалями и бердышами \ Уменью владеть оружием они обучались постоянно под наблюдением голов, сотников и пятидесятников.
За службу стрельцы получали значительное денежное жалованье. Для них была введена форма.
Начиная с этого времени и до Петра Великого, который уничтожил стрелецкое войско, стрельцы не только ходили в походы, но и были верной опорой самодержавной власти и орудием для подавления народных восстаний.
Стрелецкое войско помогло Грозному покончить с самовластием бояр.
Реформы Ивана подняли боеспособность русской армии.
*. * *
Тяжко переживали неудачу Москвы десятки тысяч русских пленников. Их хозяева присмирели было, просили у своих рабов заступничества. Теперь рабовладельцы мстили за пережитый страх, за волнение. Издевательства, зверские побои...
Снятие кратковременной осады города принесло неожиданную славу звездочету Кудаю-Берды. Многие вспомнили, как год назад он предсказал, что звезды неблагоприятны Москве, что если урусы осмелятся появиться под стенами Казани, то уйдут с большим уроном.
— Нет предела знаниЯлМ мудрого звездочета! — кричала молва. — Он — кладезь премудрости! Он — источник света...
Звездочет не успевал принимать всех желающих посоветоваться с ним и узнать судьбу.
Кудай-Берды разрешал и запрещал браки, предсказывал, выздоровеет или нет больной, будет ли удачна торговая сделка. Неудавшиеся предсказания он приписывал влиянию враждебных светил, удачные возвеличивали его славу.
На двор к звездочету приводили коней, ишаков, ба-
1 Бердыш — род топора с изогнутым острием, насаженного на длинное древко.
ранов, несли золото, серебро. Кудай-Берды раздулся от важности, стал надевать шесть дорогих разноцветных халатов — один поверх другого.
Глава XVI
ПОСТРОЕНИЕ СВИЯЖСКОЙ КРЕПОСТИ
Казанцы радовались новой неудаче русских, но радость их была преждевременной. Проницательный Ка-май-мурза, сторонник Москвы, был прав, когда утвер-, ждал, что русские не теряют голову от поражений.
Иван Васильевич решил поставить укрепленный русский город в непосредственной близости от Казани. Место для построения такого города нашли легко: круглую крутую гору при впадении реки Свияги в Волгу.
Прошло больше года со времени второго казанского похода. Весной 1551 года застучали топоры русских дровосеков по берегам верхней Волги, в Угличском наместничестве. Валились леса — и строились срубы, звенья городских стен, надворотные башни.
С поразительной быстротой вырос новый город; заготовленные строения тут же разбирались, из перемеченных бревен вязали плоты, ставили на причалы у берега.
Плотники, стрельцы, пушкари с арматами и гауфни-ч цами, с запасом ядер и зелья погрузились на плоты. Причалы отвязаны, и новый городок Свияжск медленно тронулся вниз по Волге...
24 мая русские строители под началом дьяка Ивана Григорьевича Выродкова и ратные люди, которыми предводили Данила Юрьев, брат царицы Анастасии Романовны, да воевода Булгаков, высадились на берег. Плотники и стрельцы принялись расчищать место для города.
Среди зодчих, составлявших план города и руководивших его построением, был и Андрей Голован: о его таланте Иван Выродков узнал от стольника Ордынцева и пригласил строить Свияжск. Голован согласился с радостью: ему было на руку все, что приближало его к месту пленения Булата.
Голован превосходил других зодчих быстротой сооб-.
ражения. Он поражал Выродкова легкостью, с какой схватывал указания ратных людей о том, как строить башни и где проделывать бойницы для пушек и пищалей. Андрей сам определял площадь обстрела, умело ставил башни так, чтобы перед ними не оставалось мертвых, необстреливаемых пространств.
— Тебя, Ильин, хоть воеводой ставь!—ласково шутил с зодчим Иван Григорьевич.
Свияжская гора оказалась больше, чем рассчитывали, и звеньев для городских стен не хватило. Это не смутило строителей: лесов много росло и здесь.
Меньше чем в месяц изрядный срубили город: тысяча двести сажен по кругу и семь ворот, защищенных крепкими башнями; башни возвышались и на всех у г-, л ах крепости Г
А внутри города воеводы, приказные, богатые гости воздвигали себе хоромы, а простые мужики нарубили курных избенок.
А *
В Казанском ханстве, кроме татар, жили чуваши, мордва, удмурты, марийцы, башкиры. Завоеватели-татары захватили у покоренных народов лучшие земли. Земли похуже оставались во владении старшин, местных князьков, которые зачастую принимали ислам и переходили в ряды казанской знати.
Народные массы или закрепощались помещиками, или уходили в дебри, в непроходимые леса и овраги, которыми изобиловало Среднее Поволжье.
Татары свысока смотрели на завоеванные народности; не разбираясь в национальных особенностях покоренных, они всех их огулом называли черемисами. Русский летописец метко определил положение, которое занимали в Казани подневольные племена; он так сказал о них: «простые земские люди, черемиса, по-русскому же чернь».
Действительно, чуваши, башкиры, марийцы, удмур-; ты, мордва являлись самым низшим слоем населения в Казанском ханстве; это была угнетаемая и своими и казанскими феодалами чернь.
1 Вновь построенную крепость сначала назвали Иван-городом в честь царя Ивана, но вскоре она стала именоваться Свияжском*
Через два дня после того, как был достроен город Свияжск и поставлены пушки на стенах повой крепости, окрестные чуваши и мордва прислали к царским воеводам старшин и просили принять их в подданство русского царя.
Воеводы Данила Юрьев и Григорий Булгаков с большой радостью встретили чувашских послов, хотя из дипломатических соображений эту радость скрыли.
Среди всех завоеванных татарами народов Среднего Поволжья чуваши стояли на первом месте как по численности, так и по более высокому уровню культуры. Чуваши, населявшие «горную сторону», то есть возвышенный правый берег Волги, занимались по преимуществу земледелием и скотоводством. О храбрости чувашей, об их искусстве стрелять из лука знали и иностранные путешественники.
Силу Казанского ханства в значительной степени составляли подчиненные народы.
С «горных людей», как часто называли жителей волжского правобережья, казанцы собирали большой денежный оброк, и это была главная доходная статья ханской казны. «Черемиса» поставляла Казани десятки тысяч храбрых воинов, опытных во владении оружием. Оторвать черемисов от Казани — означало подточить самые основы ее существования в чужом, завоеванном краю.
Задачу поставить чувашское войско на службу Москве взял на себя воевода Булгаков. Он отправился в объезд чувашского края — узнать, где и сколько можно набрать воинов и какое у них вооружение. В свою свиту Булгаков взял Голована. Андрей согласился поехать с радостью. Ему любопытно было посмотреть жизнь незнакомого народа, который давно уже жил в добрых отношениях с великим русским соседом, а теперь своей волей шел под его высокую руку.
В характере русского народа есть прекрасная черта— благожелательное и терпимое отношение к чужим нравам и обычаям, стремление жить в мире и дружбе с другими народами.
Эту черту прежде всего поняли и оценили чуваши, а за ними и другие народы Среднего Поволжья.
Даже татарские вельможи, владельцы поместий на
горной стороне, вынуждены были считаться с тем, что они оказались соседями русских.
Одни из них бросали владения и бежали в Казань; другие, более дальновидные, старались установить хорошие отношения с Москвой. От воеводы Булгакова Голован узнал, что еще в сентябре 1546 года большая группа казанских князей, крупных помещиков Чувашии, покинула Казань и заявила о своем желании служить русскому царю.
7 декабря 1546 года придворный летописец записал: «...прислала к великому князю бить челом горная черемиса, чтобы государь пожаловал, послал рать на Ка-. зань, а они со своими воеводами государю служить хотят...»
Булгаков со своей свитой объехал Чувашию. Сорок тысяч горных людей, пригодных к ратному делу, были разбиты на полки и поставлены под начало московских воевод.
Чтобы доказать свою преданность Москве, большие отряды чувашей и мордвы переправились на луговую сторону Волги. Завязалась сеча на подгородном Арском поле. Горные люди стояли крепко и отступили только тогда, когда по ним ударили пушки, вывезенные из города.
Точно гром грянул над головой казанцев, когда до них дошла неожиданная весть о новом городе.
Русская партия подняла голову. Камай-мурза неустанно набирал сторонников Москвы.
— Урусы у наших ворот! — говорил Камай-мурза, убеждая людей оставить мысль о сопротивлении царю Ивану.—Москва далеко, Васильгород — поближе, а Ивангород — совсем близко. Хромой старик утром из Ивангорода выйдет — вечером в Казань придет. Просить надо московского царя, чтобы посадил нам своего воеводу. Лучше станем жить! Я сказал, а ты другим передавай...
Москва неотступно теснила Казань. Если от Василь-города, построенного в 1523 году, до столицы ханства было двести пятьдесят верст, то от Свияжска насчитывалось всего двадцать пять. Русь действительно стояла на расстоянии дневного перехода от ворот Казани.
* *
Возведение Свияжской крепости сделало крайне тяжелым положение партии гиреевцев, еще мечтавших о борьбе с Русью.
Русские казаки захватили переправы на Волге, Каме, Вятке. Они не пропускали ратных людей ни в Казань, ни из Казани. Гиреевцам неоткуда было ждать подкреплений.
Мурза Камай и другие главари московской партии громко кричали, что пора сложить оружие и отдаться под власть русского царя. В стане гиреевцев начался разброд.
Правитель Казани, крымский царевич Кучак, решился на смелое предприятие: он задумал прорваться за помощью в Крым и Стамбул.
— Отпусти меня, царица! — просил он Сююмбику.—-Я приведу сотню тысяч закаленных воинов. Турки и крымцы ударят на русских с юга, а мы — с востока. Мы сломим могущество Москвы!
Сююмбика дала согласие. Звездочет Кудай-Берды предсказал благополучный исход дела.
С крымским царевичем Кучаком отправились три сотни верных сторонников.
Только быстрота передвижения могла открыть гиреевцам дорогу в Крым. Беглецы оставили в Казани жен и детей и тронулись налегке.
Чтобы обмануть русских, Кучак избрал окольную дорогу и повел свой отряд па Каму.
Там татары наткнулись на сильные отряды московских стрельцов и боярских детей. Кучак и его воины повернули к Вятке, достали лодки и поплыли вверх по реке. Они уже не думали о Крыме, им только хотелось скрыть след от вездесущих русских. Но и это не уда-, лось.
Вятский воевода и русские казаки зорко оберегали рубежи Московского царства. Они как в невод взяли казанских беглецов. Сеча была жестокая, но непродолжительная. Только сорок шесть человек уцелели от раз-, грома: их перехватили живьем. В числе пленных оказался и сам царевич Кучак.
Так благодаря бдительности русских был разрушен замысел Кучака, который в случае удачи мог привести к усилению казанской мощи.
Если бы Кучаку удалось прорваться к крымским Ги-реям, то они, лютые враги Москвы, без сомнения послали бы свои орды на Русь: ведь могущество Крыма сразу ослабело бы после присоединения Казани к московским владениям.
Турецкий султан Солиман Великолепный, гордо именовавший себя царем царей, князем князей, разда-вателем корон, тенью бога на земле, повелителем Европы и Азии, тоже не преминул бы прийти на помощь угрожаемой Казани.
Но намечавшееся единство действий противника и на этот раз было сорвано русскими.
Уход Кучака и его сторонников настолько ослабил гиреевскую партию, что ахматовцы захватили власть. Кулшерифу приказано было явиться в Свияжскую крепость и принести покорность московским вое-, водам.
Камай знал, что Музафар ненавидит русских больше, чем отец его Кулшериф; не тайной было для ахма-; тсвцев и то, что сын сеида и его клевреты постоянно разжигают в народе вражду к Москве. Камай-мурза принудил Музафара отправиться в Свияжск вместе с отцом.
Этот ловкий политический ход ахматовцев связал руки Музафару-мулле: он не мог выступать против отца, так как вместе с ним присягнул Москве.
В Москву отправилось посольство с челобитной грамотой:
«Царю, государю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси земля казанская, муллы и сеиды, шихи и шихзады, имамы, азии, князья и уланы, мирзы, дворные и задворные казаки, и чуваши, и черемисы, и мордва тебе, государю, челом бьют, чтобы ты, государь, пожаловал, гнев свой снял, а дал бы им царя Шиг-Алея на царство, а Утямиш-Гирея-царя с матерью взял бы, государь, к себе; а полону бы русскому волю дать. Так бы их государь пожаловал, и в том челом бьют» ].
1 Из Львовской летописи 1551 года. Шихи (правильно — «шейхи»)—проповедники; шихзады, шейхзадэ— ученики проповедников; а з й и (иначе — хаджи) — мусульмане, сходившие на богомолье в Мекку; мирз ы—дворяне невысокого ранга; казаки —• военнослужилые татары низшего ранга. Дворные казаки служили при дворе хана, задворные — по улусам (деревням)..
Это случилось летом 1551 года. Царица Сююмбика с сыном 11 августа была отвезена сначала в Свияжск, а потом в Москву.
Глава XVII
АДАШЕВ В СВИЯЖСКЕ
Веселым перезвоном колоколов и пушечными выстрелами встречал новый городок Свияжск царского посланца Алексея Адашева, ближнего советника государя Ивана Васильевича.
Летний день был лучезарен. Солнце рассыпалось золотыми блестками на волнующейся поверхности реки. Чайки-рыболовы с криками носились над Волгой.
Алексей Адашев в великолепной шубе и дорогой шапке сошел по сходням с нарядно убранного головного струга. Его встретили воеводы, купцы, толпа простого народа. Адашев быстрым взглядом окинул толпу встречающих:
— А где царь Шиг-Алёй Алеярович?
Воевода Булгаков насмешливо улыбнулся:
— Сидит у меня в хоромине. Притворяется, будто ноги болят.
Адашев понял, что новый казанский хан Шиг-Алей не захотел унизить свое достоинство встречей московского посла недостаточно высокого сана. Затаив злобу, он пошел к городским воротам.
— Не прогневайся, господине, — подскочил к нему Юрий Булгаков, — без отписки к великому государю и к тебе сии ворота назвали...
— Как назвали? — нахмурился царский посол.
— Адашевскими, господине!
У Адашева досаду как рукой сняло, и он вошел в город с гордо поднятой головой.
Казанский хан Шиг-Алей ждал Адашева в горнице воеводского дома.
Природа наделила Шиг-Алея на редкость безобразной наружностью.
Толстый, с жирным лицом, с редкими трепаными усиками на оттопыренной губе, Шиг-Алей то и дело поворачивал к двери огромное торчащее ухо: не приближается ли московский посол.
Шиг-Алей удобно устроился на мягких подушках и думал, на каких условиях русские посадят его, хана, на дедовский престол. Думал и вспоминал прошлое. А вспомнить ему было что. Побывал он за свою долгую жизнь и на коне и под конем, дважды восходил на казанский престол и дважды бежал из Казани, спасая жизнь.
И вот теперь в третий раз лежит перед ним покорная Казань. Сладко будет мстить недругам!..
Вошел Алексей Адашев. Сопровождающие остались за дверью.
Хан сделал вид, что хочет привстать, и с болезненной гримасой плюхнулся обратно: протянул Адашеву жирную руку с пальцами, украшенными золотыми перстнями:
— Садись, боярин, гостем будешь!
— Еще не боярин! — улыбнулся польщенный Алексей Адашев.
Ловкий татарин предвосхитил его мечту. Самому близкому советнику царя Ивана не хватало только боярского сана, чтобы подняться над толпой ненавистных соперников; но этим саном царь упорно не желал наградить Адашева, несмотря- на неоднократные намеки по- > следнего.
— Будешь боярин, это я тебе говорю, царь. Садись на подушки.
— Необык я, Шиг-Алей Алеярович, на полу сидеть,— отговорился Адашев. — Я лучше на лавку.
— Ия тогда на лавку, — кряхтя, поднялся Шиг-Алей.— Мне ниже тебя сидеть невместно: я Ахматова рода, я природный царь... Рассказывай, боярин, что есть, чего нет.
— Прислал меня великий государь к тебе, царь Шиг-Алей Алеярович, с милостью. Изволь встать: государевы указы негоже сидя выслушивать.
— Да вот ноги у меня... — сморщился татарин, но встал.
Адашев, строгий, торжественный, с осанкой, не допускающей даже тени ущерба государевой чести, развернул свиток, протянул Шиг-Алею. Тот поднес к толстым губам печать, подвешенную к царской грамоте, приготовился слушать.
— Жалует тебя, царь Шиг-Алей Алеярович, великий государь всея Руси Казаныо-градом с Луговой и Арской стороной1, а Горную сторону тебе, царю, не дает, ибо до челобитья вашего по доброй воле отошла оная от Каза-ни-града и приписана к Свияжскому городу. — Голос Адашева был сух и резок.
Шиг-Алей такого удара не ожидал: оказалось, что значительная часть его наследственного царства навсегда переходит к Москве. Он сердито уселся на лавку:
— Вон оно как!.. Над чем царствовать буду? Опять половину юрта2 урезали?.. Народ обидится, меня не впустит.
— Вольно вам было черемису теснить, — холодно возразил Адашев. — Думали, век она будет вам покоряться? Ну, не печалуйся: Казань — град немалый, окромя того арские чуваши под тобой останутся. А коли не согласен, другого хана сыщем.
Московские дипломаты прошли хорошую школу: умели держать себя.
Шиг-Алей перепугался:
— Ой, зачем другой хан, не надо другой хан! Я хан, я ваш старый друг!
— Все вы друзья до поры до времени, — улыбнулся Адашев, оглаживая курчавую бородку. — Да, вот еще: приказ тебе от государя Ивана Васильевича — первым долгом всех русских полонянников выпустить, чтобы ни один не оставался в ваших поганых лапах!
г— Все сделаю, боярин! — пробормотал Шиг-Алейе
Глава XV11L
ВОИНА
В августе 1551 года Шиг-Алей вступил в Казань под охраной московских стрельцов. Город встретил хана настороженно. Казанцы не любили Шиг-Алея за корыстолюбие, за жестокость. Казань приуныла.
1 Казанское царство разделялось на округа, называемые сторож нами, по-татарски — доругами.
2 Ю р т — страна, государство.
“ Радуйтесь! — насмешливо говорили гиреевцы Ка-маю-мурзе.— Явился выпрошенный вами у Москвы хан, да продлит аллах его царствование на трижды сорок лет!
•— Э, зачем так долго! — усмехался Камай-мурза.— Нам не хана надо — нам надо московского наместника. Но от разговоров о халве во рту не станет сладко!..
❖ ❖ &
Шестьдесят тысяч русских пленников вышли из Казани, но Булата среди них не было. Многие тысячи рабов еще остались в столице ханства, скрытые от глаз русских приставов и дьяков. У казанских богачей немало было тайников, где, прикованные цепями, томились несчастные невольники.
Джафар-мирза не выпустил Булата на волю. Открыть его местопребывание не могли: ни татарская, ни русская власть не смела проникнуть на женскую половину.
Никита знал о выходе русского полона, но напрасно молил управителя об освобождении.
— Ты зодчий, а нам в Казани таких людей побольше надо. Не пойдешь домой. Станешь шуметь — в яму посадим.
Многие освобожденные москвичи вернулись домой; среди них был и оружейник Кондратий.
Ему посчастливилось вырваться из цепких лап Курбана вскоре после того, как он избавил от его власти Никиту Булата.
Случилось это так. Соперники Курбана по торговле сумели раскрыть его тайну и донесли хану о скрытом богатстве оружейника. Курбана схватили, но даже под пытками он не выдал место, где было зарыто его золото.
После смерти Курбана все его имущество, в том числе и рабы, было отобрано в ханскую казну. Пушкаря Самсона поставили на его прямое дело — к пушкам, а Кондратий, знающий мастер, попал в помощники к надсмотрщику оружейной палаты ханского дворца. Это спа-.
ело ему жизнь: ханский оружейник не наваливал на него столько работы, как жадный Курбан.
Андрей Голован разыскивал вернувшихся полонян-ников, расспрашивал о Булате. И ему посчастливилось встретить Кондратия.
Велика была радость Андрея, когда он узнал, что его старый наставник жив и попал во дворец казанского первосвященника. Кондратий по собственному опыту знал, что рабство во дворце намного легче, чем у мелкого ремесленника; он уверял молодого зодчего, что Булат доживет до освобождения, которое не за го-, рами.
В душе Голована родилась надежда встретиться со своим старым учителем.
* * *.
Музафар и другие турецкие агенты всё сильнее разжигали в народе ненависть к Шиг-Алею, обвиняли его в том, что, продавшись русским, изменник-хан хочет искоренить в Казани мусульманскую веру и всех татар силой обратить в православие.
Народные массы были глубоко равнодушны к борьбе правящих партий: казанским ремесленникам и земледельцам одинаково тяжело жилось как при Гире-ях, так и при потомках Ахмата. Но религиозный фанатизм, раздуваемый в народе веками, был страшной силой, которой умело управлять мусульманское духовенство.
Положение Шиг-Алея сделалось весьма опасным.
Алексей Адашев снова поскакал в Казань — разобраться с делами па месте. /Молодой придворный с радостью пускался в далекий путь, когда вопрос шел о защите русских интересов. Дело это требовало тонкого ума и твердого характера. «Без Адашева не обойтись!»— и это возвышало искусного дипломата в глазах царя Ивана.
— Видишь, Шиг-Алей Алеярович, каковы твои казанцы,— начал Адашев осуществлять тонкое поручение, данное ему царем. — Не любят рода Ахматова. Убьют тебя либо выгонят, коли не укрепишь город русскими людьми...
— Эй-яй! — Шиг-Алей прищурил хитрые заплывшие глаза, — Плохое дело, Алексей: шибко на меня Казань
сердита. За отобранную Горную сторону сердита. Отдадите Горную сторону назад — будет подо мной Казань крепка, не отдадите — бежать мне с ханства...
У Шиг-Алея был свой расчет. Заявляя себя верным сторонником Москвы и борясь за ее интересы, хан хотел выпросить у нее отпавшие от Казани области и увеличить свой наследственный юрт.
Но снова допустить усиление Казани — означало затянуть изнурительную борьбу, быть может на целые десятилетия. Это прекрасно понимал московский посол.
Алексей Адашев усмехнулся в ответ на требование хана:
— Беги, беги, Шиг-Алей Алеярович: Горная сторона все равно к тебе не воротится. Беги, только сначала сдай город нашим стрельцам.
— Того не можно, что просишь, боярин! Я мусульман, супротив своего юрта не встану...
Свести Шиг-Алея с ханства не удалось. Все же Адашев заставил хана принять для обороны от врагов отряд московских стрельцов.
* * *
Наступил 1552 год, последний год существования Казанского ханства.
Так тяжек был гнет Шиг-Алея, так невыносимы ста-ди вымогательства и насилия ханских любимцев, что даже ахматовцы потеряли терпение и решили принять русского наместника; единственным условием подчинения они ставили неприкосновенность мусульманской веры.
Казанские послы приехали к царю Ивану с богатыми дарами и с челобитьем:
— Хан нас грабит и побивает без жалости... Пожалуй нас, великий государь, Алея от нас сведи, и мы тебе город сдадим. А только сеида нашего и мулл не тронь, мы хотим веровать по старине...
Убирать Шиг-Алея с ханства явился тот же неутомимый, незаменимый в казанских делах дипломат Алексей Адашев.
— Пусти московских людей в город, — объявил хану посол Адашев, — и проси у великого государя чего хочешь!
— Пустить московских людей в Казань не могу,— отвечал двуличный татарин. — Сам съеду в Свияжск, а там что хотите, то и делайте. Мне здесь не житье—каждую ночь в другом месте сплю, кольчугу не снимаю ни ночью, ни днем... Болячки натер с кулак величиной... Не так казанских людишек боюсь, как своих же тело* хранителей — султанских янычаров: изведут они меня..е Съеду!
Выехал Шиг-Алей из Казани с хитростью, как всегда привык делать. 6 марта он объявил, что едет ловить рыбу на озерах и пировать на приволье. Посланцы Шиг-Алея ходили по домам и передавали ханские приглашения; гостей бесцеремонно забирали с собой.
Приглашенные заранее прощались с жизнью. Их же-; ны выли, оплакивая мужей, и закапывали в землю дра* гоценности. Около сотни знатнейших людей вывез из города Шиг-Алей.
Был хороший весенний день.
Гости Шиг-Алея ехали мрачные, весеннее пробуждение природы не радовало их.
Вот и берег озера, еще покрытого бурым покоробившимся льдом.
«Насмешка... думали казанцы. — Какая рыба! Нас сейчас под лед спустят рыбу откармливать... Как ханские слуги злобно смотрят! Не прорвешься сквозь их строй...»
Величавый Ислам-князь, дрожа от страха и гнева, подъехал к Шиг-Алею:
— Не тяни дело! Убивать хочешь — бей! — Он подставил грудь.
— Зачем убивать? — усмехнулся хан, взъерошив редкие усы. — Это вы меня убивать хотели! С ногайцами пересылались, нового хана звали... Москве на меня жаловались, убрать просили... Вот я и съехал с ханства, а чтобы веселее было, и вас захватил!
— Предатель ты! — вскричал побагровевший от злости князь Ислам.
— Предатель! — подхватили угрюмый князь Кебяк и маленький Аликей-мурза.
— Мы разберем, кто предатель, а кто хороший человек,— невозмутимо отвечал Шиг-Алей, — кому в Казани жить, кому в Свияжске, а кому башку рубить... Н-но, ты!. — ударил он нагайкой своего сильного гнедого ко
ня. — Поехали в Свияжск! А сазан-судак пускай растет, нас ждет!
Свияжский воевода отправил в Казань гонцов:
— По челобитью вашему свел великий государь хана Шиг-Алея с казанского престола, и вы, начальные люди казанские, приезжайте в Свияжск великому государю на верность присягать.
— Согласны, — отвечали казанцы, — только пришлите к нам наших князей: мы им верим и в их руки отдадимся.
Два татарских князя отправились в Казань под охраной московских стрельцов.
Все было спокойно в городе. Русские полки готовились вступить в Казань, обозы подвозили съестное, пищали, порох...
Но массы темного казанского народа были обмануты сторонниками войны — гиреевцами.
Маленький Аликей, уму и хитрости которого безза-. ветно доверяли и мрачный силач Кебяк и тучный неразговорчивый Ислам, составил коварный план. План этот привел друзей в восторг.
Кебяк, Ислам и Аликей отпросились у воевод в город— попрощаться с семьями перед отъездом в Москву и отдать распоряжение по дому» С ними были их верные слуги — джигиты.
Ворвавшись в городские стены галопом, точно за ними гнались враги, Ислам, Кебяк и Аликей носились по улицам с дикими криками:
— Слушайте, люди! Пришел день гибели нашей святой веры! Едут русские попы обращать мечети в церкви, перекрещивать мусульман в православие! А кто не согласится, всех будут убивать — от малого до старого... Вооружайтесь, правоверные, не дадим перерезать себя, как баранов!
Чудовищная ложь была мгновенно подхвачена муллами. Десятки тысяч казанцев выбежали из домов, заполнили улицы и площади.
Страшная весть распространялась, как степной пожар в сухой траве.
— Вероотступник Шиг-Алей идет с русскими попами! Вооружайтесь, правоверные! Лучше умереть в бою за свою веру, чем малодушно погибнуть под ножом палача!.»
В головах казанцев долго копились тревожные слухи последних месяцев, сомнения, страхи, опасения. И слились в неудержимую лавину народного выступления, толчок которому дало коварное выступление Аликея и его друзей.
Толпы татар, вооружившись чем попало, бежали на стены. Городские ворота затворились.
Русских, которые приводили жителей к покорности, схватили и отвели в зиндан; сопротивлявшихся побили насмерть.
Московские воеводы, подъехав к городским стенам, пробовали уговорить казанцев — их не слушали. Город кипел, как встревоженный улей.
Русские полки ушли в Свияжск. Казанцы послали к ногайским татарам послов:
— Пришлите нам царя!
Война!..
Часть третья
ВЕЛИКИЙ ПОХОД
Глава 1
БОЯРСКАЯ ДУМА
Веселый перезвон гудел-разливался над Москвой. Тяжко бухал большой колокол на звоннице Архангельского собора, заливчато сыпали разудалую россыпь колокола у Ивана Предтечи, частый серебряный перебор вызванивал звонарь у Успенья, и, перекликаясь друг с другом, буйно-радостно пели тысячи больших и малых колоколов над праздничной, нарядной Москвой.
Тесная площадь между Успенским и Архангельским собором была запружена народом. Люди стояли вплотную, плечом к плечу, и неотступно смотрели на царский дворец, на Красное крыльцо, где открывался ход в палаты.
Десятки тысяч людей пришли на Соборную кремлевскую площадь. Они собрались спозаранку, прослышав, что Боярская дума будет решать о том, воевать или не воевать с мятежной Казанью.
Боярская дума в течение нескольких веков была высшим совещательным органом при московских властителях. В ее состав входили бояре и княжата из наиболее знатных фамилий. Кроме них, в Думу, по особому «государеву пожалованью», входили бояре и дворяне, известные способностями и умом. Участвовали в работе Думы также и дьяки казны — центральной государственной канцелярии того времени.
Московские государи не часто собирали Думу в полном составе и предпочитали советоваться с немногими избранными членами, составлявшими Ближнюю думу. Но в этот день царь созвал Думу полностью: отношения с Казанью были важнейшим жизненным вопросом для русского государства.
В толпе, собравшейся перед дворцом, виднелись купцы в добротных суконных кафтанах, дети боярские в разноцветных однорядках, попы и дьяки в длинных чер-; ных рясах. Но преобладали здесь черные люди — простонародье. Отдельными кучками среди многотысячного людского скопища стояли дюжие кузнецы в прожженных кожаных фартуках, с лицами, почерневшими от дыма горнов; ткачи, бледные от вечного сидения за станами в душных избах; румяные, здоровые огородники; серебряники, кожевники, сапожники и прочий московский ремесленный люд.
Пронырливый Тишка Верховой, поднявшись задолго до света, удобно устроился невдалеке от Красного крыльца, и хотя царские слуги его потеснили, ему было видно всю площадь.
Ордынцев вышел из дому не рано, и ему пришлось протискиваться сквозь толпу, чтобы попасть на такое место, с которого хоть что-нибудь можно было рассмотреть. Раздвигая толпу мощными плечами и возвышаясь над ней на целую голову, Федор Григорьевич неуклонно продвигался под шум и ропот потревоженных. Стольник обрадовался, увидев среди зрителей Голована:
— Андрей? А ну, помоги, вдвоем скорей пробьемся!!
Голован был высокий и ладный парень, но куда ему было тягаться силой с богатырем Ордынцевым! И все же вдвоем они составили такую пару, против которой не могли устоять самые крепкие и упорные мужики. Иной даже начинал ругаться, однако, взглянув на веселые лица Ордынцева и Голована, пролагавших себе путь
решительно, но беззлобно, смирялся и давал молодцам дорогу.
Толпу потешали песнями и присказками веселые скоморохи. Голован радостно встрепенулся: среди разноголосого гомона ему послышалась бойкая скороговорка Нечая.
«Ошибся я или неужто там в самом деле Нечай?»
Голован, рьяно работая локтями, полез в ту сторону напролом; он не видел друга целых пять лет, со времени московского восстания.
Слух не обманул Голована: приплясывая и притопывая, развеселый Нечай пел песню, высмеивавшую многодумных бояр, не печалящихся о народном горе. Жук, как всегда угрюмый и сосредоточенный, подыгрывал Не-чаю на дуде.
Встретились восторженно. Голован спросил вполголоса, хотя среди мощного гула толпы это была излишняя предосторожность:
— Как это вы, други, насмелились в Москву явиться? Не боитесь в Разбойный приказ попасть?
•— Бог не выдаст, свинья не съест, — ухмыльнулся Нечай. — Ходит слух, что кто в ополчение на татар пой-; дет, тому старые грехи простятся.
Пока Нечай коротко рассказывал Головану о том, где бывал и что видел за пять лет, в толпе началось движение: сквозь ее плотную массу протискивались члены Думы — дородные бояре в длинных шубах, в высоких меховых шапках.
Вслед боярам неслись возгласы:
— Порадейте, бояре, за русскую землю!
— Порешите с басурманским засильем!
— Пусть только кликнут клич — весь народ на татар подымется!..
Хмурые бояре пробирались сквозь людскую массу безмолвно, возмущенные тем, что им, царевым советникам, указывают черные людишки, как вести себя в Думе.
Вот прошел последний, запоздалый боярин, и толпа снова замерла в нетерпеливом ожидании: хоть до вечера будут стоять люди, лишь бы своими ушами услышать, что порешит думское сидение...
Истово поднявшись на Красное крыльцо и пройдя через Среднюю палату, бояре входили в Столовую избу, где собиралась Дума.
Царь Иван — длинный, но еще с юношески узкими плечами, с румянцем на худом горбоносом лице — нетерпеливо оглядывал собиравшихся советников. Они входили чинно, по уставу, кланялись царю, касаясь рукой пола, рассаживались по лавкам, покрытым персидскими и индийскими коврами.
Явился брат царя, Юрий Васильевич, не по годам полный, с глуповатой улыбкой на одутловатом лице.
Митрополита московского Макария усадили на почетное место — в кресло, обитое парчой, пронизанной золотыми нитями. Макарий задумался, уронив седую голову. На груди митрополита сиял золотой крест, в руке — резной посох с набалдашником слоновой кости.
Чуть пониже Макария поместился скромно одетый благовещенский поп Сильвестр. Его пламенные черные глаза пытливо всматривались в лица бояр: как они поведут себя, не станут ли пугать царя трудностями предприятия, которое всецело одобряла Избранная Рада...
Бояре, одетые в длинные шубы и высокие меховые шапки, сидели, сонно кивая бородами — седыми, рыжими, черными. Иные старались преданно поймать царский взгляд, а что на душе у них — кто знает!..
У ног Ивана свернулся клубочком на полу шут — разноглазый мужик с длинным туловищем и короткими кривыми ногами.
— Не в пору, Васильевич, Думу затеял, — пискнул шут. — Надоть бежать в бабки играть, а ты тута с боярами...
Иван ткнул шута в бок носком желтого сафьянового сапога:
— Ври, дурак, да не забывайся!
Солнечные лучи, проникая сквозь цветные стекла оконных решеток, рассыпались игривыми зайчиками. Один озорной лучик, красный, плескался на шашечном полу возле шута, а тот ловил его колпаком и осторожно совал под колпак руку.
Царь повернулся, и нестерпимо ярко заискрились алмазные пуговицы лимонно-желтого парчового кафтана. Иван Васильевич невольно улыбнулся, глядя на проделки шута. Улыбка стерла привычное выражение царского достоинства, разгладила складки у губ, и стало видно, как государь еще молод...
Иван повернул голову к веселому, румяному Алексею Адашеву, стоявшему за троном:
— Почнем, что ли, Федорович?
— Время, государь! Все в сборе.
Услыхав, что царь собирается открывать заседание Думы, шут незаметно юркнул из палаты: не пристало ему, темному мужику, слушать, как знатнейшие люди государства будут решать важные дела.
Царь обвел острым взглядом притихшее собрание.
— Бояре, советники мои излюбленные! — начал Иван. — Ведомо вам, какая измена учинилась против нашего дела в Казани. Наглые Кебяк-князь с товарищами присягу порушили, наших людей похватали и побили, город закрыли. Ужели стерпим измывательства мусульманские?..
Все долго молчали. Первым заговорил митрополит:
— Шел я к тебе, государь, и зрел на площади несметное сборище народное. Не из праздного любопытства сошлись перед твоим дворцом люди московские: велика их ревность услышать справедливый приговор помазанника божия и его мудрых советников — навеки укротить нечестивую Казань!
— Не ихнее это дело в государские дела мешаться!— злобно прогудел боярин Федор Шуйский. — Дай им волю — они тебе и на шею сядут! Чай, всем нам памятен пятьдесят пятый год!1
Удар был нанесен метко. Лицо царя побагровело от неприятного воспоминания, а бояре сердито заворочались на лавках. Но митрополит возразил примирительно:
— Господь велел прощать вины грешникам даже до семижды семидесяти раз! И в сегодняшнехМ собрании зла не вижу, с похвальным чувством пришли люди: хотят пролить кровь за правое дело, за благоденствие русской земли... Всем ведомо — и тебе, государь, и вам, бояре: не мы, зде2 сидящие, малочисленные и телесным составом слабые, поднимемся с оружием на грозного врага, а те простые духом, но мощные телом, кои во множестве стоят у дворца и с верою ждут нашего решения...
Макарий смолк.
1 1547 год был по старому счету времени («от сотворения мира») 7055 годом.
2 3 д е — здесь.
Веселый колокольный перезвон докатился в палату, отгоняя докучные заботы, пробуждая в боярах приятные и слегка печальные воспоминания о днях детства, когда под такой же переливный звон пасхальных колоколов играли они на изумрудно-зеленой траве.
Андрей Курбский, боярин Дмитрий Пронский и еще двое-трое других в кратких речах поддержали Макария. Большинство советников молчало, отводя глаза от властного, угрюмого взора попа Сильвестра.
— Бояре и ты, пресвятой владыко! — снова заговорил царь. — Предки наши, князья московские, много сделали, чтобы скинуть ненавистное иго с русской земли. Дмитрий Донской и дед мой Иван Васильевич потрудились, да не довершили дело. Нам его доканчивать!.. Мечты мои велики... — Царь Иван понизил голос, как будто смущаясь. — Но из-за проклятой Казани сижу словно орел со связанными крыльями... Как государство возвысить, как все княжества русские и земли под свою державную руку взять? Хотел бы по своей воле распоряжаться воинской силой — а не могу! Всякий час, всякое время надо быть настороже. Задумаю ли послать полки на юг, на запад — сокрушить назревающую измену, а злобные казанцы уж набегают на Русь: у них повсюду глаза и уши... Скован я, как узник в железной клетке!
Царь помолчал, собираясь с мыслями.
— Было время, — с силой продолжал он, — московские князья держали татарским ханам стремя, руку целовали нечестивым ворогам. Прошло то время! Ныне сам я царь, и должна Русь вспомнить иное: походы Олеговы, великие битвы Святослава! Сильна наша держава, и приспел час порвать последние цепи!.. Возьмем под свою власть вероломную Казань, неизменную рушитель-ницу договоров, и откроются нам неизмеримые пути на восход солнца. Там, за Каменным поясом1, живут народы дивии2, воинскому искусству не обученные. Тяготеют те народы к нам, хотят приклониться под нашу сильную руку, и в том не раз послов к нам засылали. Но тех послов Казань, словно сказочный Змей Горыныч, перехватывает, не дает пути в Москву... Торг весь за себя
1 Каменный пояс — Уральский хребет»
2 Дивии — дикие, непросвещенные»
забрали казанцы: с персидцами, с бухарцами, с индийской землей, с Катаем Ч Сколько они барышу берут на индийских товарах, на персидских коврах, на Кавказ-ском оружии, на катайской бумаге!.. Эти барыши и нашей царской казне, нашим гостям, нашим боярам-дворянам сгодились бы!
Бояре заулыбались, одобрительно закивали бородами: такой разговор был им по душе.
— Нет сейчас у русских людей ворогов хуже и лю-. тее казанцев, и надобно с ними покончить! Сколько трудов потратила на них Русь! Походы, войны, осады... Жертвы бесчисленные — все по-пустому! Аки вампир кровавый, высасывает из нас Казань кровь и силы... Давно ли я, Иван, царствую — и уже третий поход приходится затевать... третий поход за четыре года!.. Велик нам подвиг предстоит, бояре, и коли справимся, процветет русское государство и пойдет в богатырский рост. С востока переведем взоры на запад — к исконным вотчинам, что отхватили у нас жадные немцы и свей1 2. То вижу внутренними очами, в том готов страшную клятву дать!..
Царь закончил с необыкновенной силой убеждения. Он замолчал, и горящие глаза его впивались в лица советников: ясна ли для них великая важность того, что им замышлено?
Большинство членов Думы поняли необходимость последнего, решающего похода, а несогласные не решились выразить сомнения.
Раздались громкие возгласы:;
— Кончим дело!
— Не попятимся, государь!.
— Святую истину сказал ты, Иван Васильевич!.
— Хватит татарам озоровать!
— Наши люди, на мухамеданов работая, всю силуш-. ку повымотали!..
Царь поднял руку, призывая к молчанию:
— Согласье принимаю. Токмо глядцте, бояре, пускай нелицемерно будет ваше слово: великие трудности предстоят!
— Не покривим душой, государь!.
1 Катай — Китай.
2 Свей — шведы.
— Пускай же весь свет знает, что Москва за правду постоит до последнего! — Царь встал с трона, выпрямился.
По чину думного сидения поднялись и бояре.
— Кто поведет рать в поход? — приложив губы к уху Ивана, спросил Алексей Адашев.
— Кто? — удивился царь, тряхнув подстриженными в скобку волосами. — Я и поведу.
Этот быстрый обмен словами не ускользнул от слуха советников. Намерение царя вызвало смущение. Бояре полагали, что государь не захочет снова подвергнуть себя опасностям и тяготам бранной жизни.
Иван обвел глазами членов Думы. Только Макарий, Сильвестр, Курбский, Адашев и еще два-три боярина из молодых смотрели сочувственно, в глазах остальных он читал несогласие.
Князь Никита Ростовский сказал:
— Не прими за обиду и поношение, государь: лучше б тебе на Москве остаться! А вдруг, как и прежде бывало, крымчаки с казанцами сговорятся, и когда ты войско на Казань поведешь, крымская орда на Москву нагрянет? Кто же тогда, окроме тебя, стольный город защитит? А на Казань рать вести — мы твои слуги. Кому укажешь — тот и воевода.
Царь задумался. Довод Ростовского был серьезен: опасно оставлять Москву на попечение бояр. Но еще опаснее посылать рать на Казань с одними воеводами, которые без царского глаза обязательно перессорятся и погубят дело.
Ведь случилось же в правление отца его, Василия Ивановича1: князья Иван Бельский и Михайло Глинский, оба знаменитого рода, после успешных боев с противником подошли к Казани. Городские ворота были открыты, и казанские воины разбежались. Но Бельский и Глинский проспорили три часа, кому из них первому войти в город, и потеряли удобный случай взять Казань. Да и прошлый поход оттянулся на месяцы из-за воеводских раздоров...
После обсуждения решили: войска в поход поведет царь, а Москву, если случится надобность, станут защищать воеводы.
1 Летом 1530 года.
-— Нынче в поход! — воскликнул царь. — В безмятежном житии не суждено нам проводить время. И пусть будет что будет!
Думный дьяк записал: «Государь указал, и бояре приговорили идти походом на непокорную Казань».
Сам царь вышел на Красное крыльцо объявить народу решение Думы; за ним показались митрополит и бояре. Иван Васильевич оглядел площадь. Море людских голов зашевелилось. Многие поднимались на цыпочках, чтобы увидеть государя; другие крестились на царя, как на икону; третьи высоко подбрасывали шапки, пугая ворон, примостившихся на крестах церквей.
Буря приветственных возгласов встретила слова царя о том, что поход на Казань решен.
Снова полетели в воздух шапки, люди обнимались и целовались с радостными слезами; ни у кого не было сомнения в том, что дело кончится удачей, раз пришла в движение великая народная сила.
Веселый перезвон колоколов плыл над Москвой...
Глава 11
ЕДИГЕР, ХАН КАЗАНСКИЙ
Казань готовилась к войне.
Власть в мятежном городе принял твердой рукой Едигер.
Астраханский царевич Едигёр-Магмёт давно жил у ногайцев, прикидываясь доброжелателем Москвы, но зорко следил за событиями. Когда в Казани вспыхнуло неожиданное восстание, гиреевцы призвали Едигера, испытанного воина:
— Иди к нам в цари! На тебя вся надежда!
Едигер согласился.
Когда было объявлено, что Едигер приближается к городу, толпы казанцев высыпали на подгородное Ар-ское поле — встречать нового хана. Впереди ехали муллы во главе с Музафаром. Сын сеида бодро и прямо сидел на вороном жеребце арабской крови. Рядом везли зеленое знамя, святыню мусульман.
Из-за леса показался небольшой отряд всадников, и во главе его — Едигер, молодой, черноусый, крепкий ду
хом и телом. Радостный рев толпы и выстрелы пищалей разнеслись по полям. Сизоватые облачка порохового дыма поплыли над толпами народа...
Опытный в ратном деле, новый хан понимал, что Иван IV придет под Казань с немалой силой и надо противопоставить ему крепкую защиту. Едигер призвал под знамена многие тысячи задворных казаков со всех улусов. Мирзы — мелкие помещики — тоже явились со своими людьми, вооружив их. Племена, еще не сбросившие иго казанских ханов: мордва, арские чуваши, марийцы,— обязывались выставить сильные отряды.
Тех, кто не способен был владеть оружием, согнали под стены Казани и заставили копать глубокие рвы, рубить лес, строить укрепления.
Казанские ханы не доверяли угнетенным народам, и не без причины: князьки отдельных мелких племен и родов только и ждали случая перейти в русское поддан-, ство, как сделали жители Горной стороны.
Чтобы удержать в повиновении насильственно схваченных людей, Едигер приказал взять их семьи и привести в Казань. За верность главы семьи отвечали жизнью его жена и дети.
Лихорадочная деятельность охватила город; муллы поддерживали среди обитателей религиозный фанатизм, слабым и колеблющимся угрожали не только загробными муками, но и скорым возмездием на земле.
В огромных количествах заготовлялось вооружение: оружейники делали пищали, не гонясь за отделкой; по-роховщики готовили зелье; лучные мастера гнули луки, выстругивали бесчисленное количество стрел. Скупщики оружия требовали от поставщиков такое количество кинжалов и наконечников для стрел и копий, что мастера спали по два-три часа в сутки.
Едигер принимал все меры, чтобы собрать побольше войска. Он хотел заручиться поддержкой ногайских кня-. зей, которые могли выставить в поле сто пятьдесят—• двести тысяч вооруженных воинов.
С такой большой силой приходилось серьезно считаться: в многолетней борьбе Москвы и Казани весьма
важно было, чью сторону примут ногайцы. Царские послы годами жили у ногайцев, искусно удерживая их от выступления против Москвы.
Но и другая сторона не дремала. Турецкий султан Солиман I Великолепный, узнав о казанских событиях, спешно прислал посла к ногайскому князю Измаилу. Он уговаривал Измаила пойти против русских вместе с казанцами, приказывал оказать помощь Азову, которому угрожала Москва. За это сулил сделать Измаила ханом азовским. Но Измаил не решился на открытое выступление: Солимана он боялся, но московский царь был более грозным противником. Зато Измаил позволил стать под знамена Едигера желающим помериться силами с московитами. Таких набралось больше десяти тысяч; их повел ногайский князь Улубёй. Едигер приветствовал такое значительное подкрепление.
* *
С приходом Едигера к власти Музафар-мулла сильно возвысился. Новый хан предпочитал советоваться о делах не с Кулшерифом, сильно одряхлевшим за последний год и мало выступавшим перед народом, а с энергичным Музафаром, который, казалось, не знал устали. Музафар-мулла то произносил горячие проповеди в мечети при большом скоплении слушателей и убеждал народ биться с русскими до последней капли крови, то отправлялся на стены и умело руководил строительными работами.
По городу пошли слухи (не без участия Джафара-мирзы и других клевретов Музафара), что Кулшериф-. мулла скоро удалится на покой и первосвященнический престол займет его воинственный сын.
Не только в государственных делах, но и в самом дворце Кулшерифа Музафар-мулла перехватил власть у отца.
Кулшериф, одинокий, всеми забытый, сидел у себя в покоях, а все распоряжения по дому отдавал его старший сын.
Музафар-мулла сидел на шелковых подушках, поджав ноги. Перед ним стоял Булат в поношенном бешмете с медными пуговицами, Лицо старика было сумрачно.
Музафар говорил по-татарски, Булат — по-русски/ Переводил Джафар-мирза.
— Так ты, урус, не хочешь помогать мне укреплять город? — спрашивал разгневанный Музафар.
— Передай своему господину, что вздумал он несбыточное.— Тихий голос старика был тверд.
— Мы тебя золотом осыплем, жен молодых дадим, дом хороший...
Никита усмехнулся:
— Мне на тот свет пора, а не женами прельщаться!1 Нам, русским людям, родина всех земных благ дороже...
— В подземную тюрьму!—закричал Музафар-мулла.
— Ваша власть! Лучше в тюрьме буду, чем изменю родной земле!
— У-у, крепок старик! — пробормотал горбун и сделал последнюю попытку: — Тебе и внучку Дуню покинуть не жаль?
— Жаль, а душа дороже! Ведите в зиндан, зачем слова тратить!
Музафар и управитель обменялись удивленными взглядами. В зиндан старика не отправили: надеялись все-таки уговорить его.
Глава 111
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПОХОД
Z
В погожее июньское утро 1552 года выступала из Москвы русская рать в далекий и опасный поход на Казань.
Москвичи толпами стояли по сторонам коломенской дороги. Купцы в добротных шубах, подмосковные мужики в армяках, посадские люди, бабы в разноцветных сарафанах, в летниках и киках1 — все пробирались к обочине дороги.
Слышались возгласы:
— Постойте, кормильцы, за землю русскую до смерти!
— Освободите бедных невольников!.
— Царство небесное унаследуете!..
1 Кика, кичка — женский головной убор.
— А мы бы, дедушка, еще и по этому побродили! — ответил посадскому веселый детина в потертом кафтане, с кованой железной шапкой на голове. — Оно и тута... ежели... тоже не плохо! — Он подпрыгнул, ловко прищелкнул пальцами, заиграл плясовую и начал выделывать коленца.
Сосед по ряду, угрюмый, чугунно-черный мужик, сердито ткнул его кулаком:
— Брось!
— Ай, Демидушка, ай, родненький, какая тя муха укусила? — скривился бывший скоморох Нечай.
— Чать, на войну идешь али куда? — проворчал Жук.
Скоморохам удалось попасть в ополчение, и участие в московском мятеже было им прощено. Но не только из-за этого шли под Казань Нечай и Жук, как и тысячи их соратников. Народ понимал, что совершается великое дело укрепления Руси, и отдавался этому делу с радостью.
За пехотой шла конница на низкорослых некованых лошадках, привычных по суткам оставаться без корма; это был Ертоульный 1 полк Федора Троекурова, разведчики многочисленной рати.
Войско текло нескончаемым потоком. Среди несчетных рядов сермяжников2 редко блестели на солнце латы, кольчуги...
Как во все века, Русь выслала па борьбу с опасным врагом лучших своих сынов, не полагаясь на армию наемников, жадных только на деньги.
У многих ратников за лычки шапок были заткнуты деревянные ложки.
Толпа подшучивала:
— Эй, паря! Малу ложку ухватил, голодом насидишься!
— Ништо, управимся! — беззлобно отшучивались ратники. — Нам хошь какие котлы поставь — все вычерпаем!
Два боярина, окруженные челядью, внимательно рассматривали войско. *
•— А кто воеводы? — спросил один.
1 Ертоульный — разведывательный.
2 Сермяга — верхняя крестьянская одежда из грубой ткани.
— Царский полк сам государь ведет, Сторожевой —> воевода Серебряный, полк Правой Руки — князь Андрей Курбский со Щенятевым, полк Левой Руки — воевода Плещеев Митрий Иванович, над Запасным полком поставлен Ромодановской...
— И-их, сколько стратигов!1 Много войска государь собрал!
— Много! Тысяч до сотни, а может, и больше наберется. Конечно, не все до Казани дойдут: надобно заставы от крымчаков поставить, по городам сторожи разместить... 2
Мимо двигался пушечный наряд. Везли толстые ту-, поносые гауфницы3, и длинные змеи4, и фальконёты-сокольники, и легкие полевые пушки. Иностранцы уверяли, что ни одна армия не располагала таким множеством прекрасной артиллерии, как русская.
Осадным делам — пушкам — царь Иван всегда уделял особое внимание. Артиллерия составляла особый род войск, и царь заботился о подготовке искусных пушкарей. По зимам в присутствии Ивана Васильевича и ближних бояр устраивались опытные стрельбы, и наиболее отличившихся пушкарей царь награждал.
Русские пушкари первыми додумались ставить мелкие и средние пушки на колеса — лафеты. Это сделало московскую артиллерию наиболее подвижной, способной к быстрому перемещению с одной позиции на другую.. Так полковые пушки появились впервые на Руси.
1 Стратйги (стратеги) — полководцы.
2 Историки различно оценивают силы русского войска, отправившегося в поход под Казань. Обычное представление, что под Казанью стояла 150-тысячная русская армия, очевидно, сильно преувеличено. Путешественники того времени исчисляли воинскую силу, вышедшую из Москвы, в 90 тысяч человек и полагали, что до Казани дошло не больше половины; остальные охраняли коммуникации.. В Казани засело 30 тысяч отборного татарского войска. Можно с достоверностью предположить, что под стенами города стояла русская рать, превышавшая численность татарского войска не более чем вдвое. Но на стороне татар были десятки тысяч населения города, помогавшие защищать его, была 30-тысячная конница Япанчи, скрывавшаяся в лесах вне города, были сильнейшие укрепления и естественные препятствия. В свете этих данных ратный подвиг наших предков представляется изумительным; этими же данными объясняется сравнительная продолжительность осады,
3 Гауфницы — гаубицы.
4 Змеи — вид длинноствольных пушек.
За пушками шел обоз. В телегах лежали бочки с зельем, окутанные мокрой шерстью и рогожами.
В одной из телег сидел бывший казанский пленник — оружейник Кондратий. Узнав, что готовится новый поход на Казань, он выпросился в пушкари.
— Я и стрелять могу, — уверял Кондратий начальника артиллерии, дьяка Выродкова, — и зелье готовить, и пищаль починить... Даром хлеб есть не буду! А человек я одинокий, и коли придется под Казанью голову сложить, по крайности не зря погину, а за дело русское...
Оружейник горел одним желанием: посчитаться с неверными за мучения, перенесенные в плену.
Стольника Ордынцева не было при пушечном обозе: царь не разрешил ему отправиться в поход, несмотря на его горячие мольбы.
— Нестаточное замыслил, Григорьевич, — сказал царь Ордынцеву. — Ты в поход уйдешь, а кто станет наряд готовить, новые пушки лить? Воинское дело переменчиво, и может статься, много еще нам осадных дел понадобится, прежде нежели покончим с Казанью. В храбрость твою я верю, но не то нужно, чтоб ты десяток ворогов своей рукой убил. Замыслы мои обширны, много будет походов, и судьба твоя — стать моим верным помощником, пушек давать побольше да хороших, какие у тебя теперь пошли...
Впервые царь так явно дал понять Ордынцеву, что доволен его работой. Это утешило Федора Григорьевича, и он стал еще больше сил отдавать работе на Пушечном дворе.
К третьему походу на Казань русские воеводы Гото-, вились тщательно. Сделано было то, о чем не слыхи* вали прежние полководцы: царь и его помощники пригласили козмографов1 с их картами, узнали, какими местами придется идти войску, где нужно наводить мосты. Стало ясно: чтобы не отвлекать войско побочными заботами, в походе понадобится большой отряд строи-, телей; их набрали в Москве и в ближайших городах. Отряд возглавляли несколько мастеров, а старшим был поставлен Голован, несмотря на его молодость и на от
1 Козмографами (правильнее — космографами) в старину называли географов.
казы от почетной должности. Случилось так потому, что Голован при построении Свияжской крепости заслужил особое благоволение Ивана Выродкова.
Теперь обоз строителей шел непосредственно за пушкарями. Широкогрудые, сильные кони везли телеги, тяжело нагруженные огромными коваными гвоздями и железными скобами, топорами и прочим плотничьим инструментом.
Голован ехал на рослом рыжем коне; за ним трусил на пегой лошаденке неразлучный товарищ — Аким Груздь.
У Андрея на душе было радостно: исполнилось его давнее желание — он ехал освобождать наставника. Голован крепко надеялся, что Никита жив, что они свидятся и настанет час, когда они вдвоем снова пойдут из города в город, из села в село по просторной русской земле...
А рать шла и шла, как широкая, многоводная река лилась. Шагали пищальники в темных полукафтаньях, за ними на телегах везли громоздкие ружья и сошки к ним. Ехали всадники с копьями, с топорами, саблями; у седел болтались луки и колчаны, упрятанные в чехлы — саадаки.
Вперед, на Волгу!..
Глава IV
НАШЕСТВИЕ КРЫМСКИХ ТАТАР
Русское войско выступило из Москвы 16 июня 1552 года. К полудню царский поезд достиг села Коломенского, невдалеке от южной окраины Москвы.
Царь обедал с боярами и воеводами; он был весел, шутил, смеялся. Великий замысел, который он вынашивал несколько лет, начинал осуществляться: рать двинута в решительный поход на Казань.
— Сей день, бояре, — сказал Иван, вставая из-за стола, — ночуем в Острове-селе, а завтра двинемся на Владимир...
После непродолжительного послеобеденного отдыха царь со свитой сел на коней.
Вдруг впереди, где виднелись дозоры, охранявшие путь царя, началось необычное движение, послышались
взволнованные голоса. Три всадника скакали к царю во весь мах: два царских телохранителя и меж ними оборванный мужик, без шапки, с исхудалым лицом, с ярко-рыжими волосами, с глазами, блестящими горячечным огнем.
Завидев пышный царский поезд, мужик кулем свалился с коня и рухнул лицом в мягкую пыль дороги.
— Встань! — приказал царь. — Кто таков?
— Станичник я, великий государь! — торопливо отвечал человек с низким поклоном. — Прискакал я со всяческим поспешением из Путйвля-града, от берегового воеводы1 Айдара Волжина...
— Что доносит Волжин?
— Дурные вести, великий государь! Вышла орда из Крыма и валом валит на наши украйны... Уж Северный Донец враги миновали!..
— Вот как... — прошептал царь. — Прознали наши замыслы да поторопились. Эх, узнать бы, кто весть подал!
Лицо Ивана Васильевича окаменело, жесткие складки сильнее прорезались у тонких губ.
Страшная угроза нависла над Русью. И счастье, что полки еще не ушли от Москвы, что есть возможность отбить неожиданное нападение...
— Кто ведет крымчаков? — обратился царь к гонцу.
Тот недоуменно покачал головой:
— Сие еще неведомо, государь! Иные толкуют, будто сам хан с ордой, иные — что сын его.
— Вижу, нелицемерно правишь нашу государеву службу. Отвести станичника в Коломенское, — приказал он телохранителям, — накормить, одеть, выдать в награду пять рублей... — Царь оглядел угрюмые лица воевод. — Приуныли, богатыри? — с ласковой насмешкой сказал он. — А я так мыслю: просчитались крымчаки! Раненько явились в наши пределы, и то нам на благо. Проучим недругов, чтоб не накидывались на Русь! Мы их не трогали, и пусть не прогневаются — спуску не дадим!
Решительная речь царя согнала уныние с лиц его приближенных. Они почувствовали, что их ведет в бой твердая рука.
1 Берегом называлась граница. Береговой воевода ведал охраной границы на определенном участке.
Воевода Щенятев пылко воскликнул:
— Меня первого пошли, государь, на ворогов! Уж я постою за русское дело!
— Всем хватит работы, — ответил царь.
Войска поспешили в Коломну, на укрепленный рубеж. Царь, опережая главные силы, прибыл в Коломну утром 19 июня. Через час после приезда к нему ввели Айдара Волжина: береговой воевода лично явился с важными сообщениями. С десятком казаков он скакал день и ночь, сменяя лошадей, и опередил татар.
Волжин привез тревожные вести. Огромная крымская рать во главе с ханом Девлёт-Гирёем идет на Рязань и Коломну. С Девлет-Гиреем вышли на Русь князья и мурзы и в числе их любимый шурин хана. Девлет-Гирей и его приспешники похваляются разорить Русь дотла и взять богатую добычу. Об этом вызнал Айдар, захватив языка — татарского тысячника.
Иван Васильевич наметил план расположения сильных заслонов перед Москвой. Большому полку Михайлы Воротынского приказано было стать у села Колычева, в двадцати пяти верстах к северо-востоку от Серпухова, Ертоульный полк с воеводой Федором Троекуровым занял Ростиславль. Полк Левой Руки (воевода Плещеев) расположился у Голутвина, в пяти верстах от Коломны. Шиг-Алея царь послал в Касимов — подымать верных московскому царю татар на борьбу с Крымом.
Объехав войска, царь Иван Васильевич вернулся на Оку, в Коломну, которую избрал местопребыванием в ожидании решительного боя с Девлет-Гиреем. Там с беспокойством ожидал он известий от конных отрядов, высланных на юг.
Известия не заставили ждать. 21 июня стали один за другим подъезжать гонцы. Они сообщили, что татарские отряды, быстро продвигаясь к северу, показались близ Тулы.
На помощь угрожаемому городу тотчас отправлен был полк Правой Руки с воеводами Курбским и Петром Щенятевым. За ними и царь собрался выступить наследующее утро, но не успел выполнить свое намерение.
Утром 22 июня гонцы прискакали с известием, что Туле не грозит опасность. Невдалеке от города появились только небольшие отряды крымчаков — числом тысяч до семи. Не осмеливаясь подступить к городу,
татары пограбили окрестности Тулы, забрали в плен тех, кто не успел укрыться за стенами, и ушли обратно. Курбскому и Щенятеву приказано было задержаться в пути.
Направление удара главных татарских сил оставалось неизвестным. Царь Иван решил выжидать развертывания событий, не оставляя Коломны; этому городу предстояло стать центральным узлом обороны Москвы.
Ждать пришлось недолго. На следующий же день к обеду примчались новые вестники от Григория Тёмкина, наместника Тулы.
Темкин доносил:
«Сам крымский хан Девлет-Гирей подступает к городу со всей ордой. При нем пушечный наряд и отборный отряд турецких янычар. Войска, бывшие в Туле, отосланы для участия в казанском походе, и теперь надежда только на быстрый подход подкреплений. Впрочем, жители Тулы от мала до велика встали на защиту родного города и будут биться с татарами, не жалея жизни».
В Коломне все закипело. Полки, назначенные на подмогу Темкину, начали переправляться через Оку, а царь Иван с дружинами двинулся вверх по левому берегу Оки — к Кашире; там он должен был перейти реку и тоже спешить к Туле.
Глава У
ОБОРОНА ТУЛЫ
После ухода татарского разведывательного отряда туляне успокоились лишь на несколько часов.
На рассвете 22 июня стало известно, что Девлет-Гирей подходит к городу со всеми силами.
Прошло немного времени, и под Тулой раскинулся огромный неприятельский лагерь. На возвышении воздвигли пышный ханский шатер, ниже теснились шатры вельмож и полководцев. В отдалении, как многочисленные копны сена, чернели кибитки простых воинов: татары ходили в походы с женами и детьми.
Шум и гам наполнили окрестность; кричали и бранились люди, ржали лошади, ревели быки и верблюды...
Солиман возлагал исключительные надежды на ко
варный и неожиданный удар с юга, который крымцы нанесли по его приказу.
Немало вспомогательных войск прислал султан крымскому хану Девлет-Гирею. Среди них были воинственные горцы из суровых, неплодородных областей Малой Азии; несравненные наездники — аравийские бедуины в белых развевающихся бурнусах; египетские феллахи с сожженными солнцем лицами... «Царь царей» даже не пожалел для верного вассала крупного отряда янычар — отборных солдат султанской гвардии, которых в минуты хорошего настроения называл своими возлюбленными ягнятами.
С крымцами пришла также турецкая артиллерия. Огромные кулеврины 1 лежали на арбах, в которые на походе запрягалось по десяти пар волов.
Паша, ведавший артиллерией, при наборе пушкарей предпочитал нанимать европейцев, опытных в обращении с орудиями. У турецких пушек стояли беглецы, нарушители дисциплины, мародеры и грабители из всех европейских армий. У турок они вели себя хорошо: за проступки у начальника артиллерии полагалось одно наказание — рубить голову. Зато при взятии города солдатам предоставлялось право грабить побежденных и расправляться с ними как вздумается.
Огромная разноплеменная армия была брошена на далекий север во исполнение приказа могущественного Солимана I, «повелителя всех правоверных, тени аллаха на земле». Некоторым из них были чужды воинственные помыслы, и они с радостью вернулись бы к своим виноградникам и хлопковым полям. Но большинство жаждало разбоя и убийств и готово было по первому знаку предводителей ринуться на стены русского города, мало подготовленного к вражескому нашествию...
Жители Тулы были сумрачны, но спокойны: они знали, что только мужество спасет город, и заранее пред-, почли смерть постыдному плену.
Наместнику не пришлось уговаривать горожан защищать Тулу. При появлении татарских отрядов все способные носить оружие бросились на стены. Мужчины,
1 Кулевркна— старинная дальнобойная пушка большого калибра.
старики, юноши с алебардами и топорами, с рогатинами, пищалями, луками, арбалетами стояли у бойниц, готовые отразить натиск врага. Женщины и дети были захвачены всеобщим воодушевлением. Они кипятили в больших котлах воду и смолу — выливать на голову штурмующих татар. Другие таскали на стены груды камней и складывали в наименее защищенных местах.
Знакомые с пушечным делом заряжали и наводили орудия туда, где можно было ожидать скопления врага.
Наместник Григорий Темкин — низенький, широкоплечий, с курчавой темной бородой и пронзительными черными глазами — не сходил со стен. Он с наибольшей пользой употребил несколько десятков воинов, которые оставались у него после ухода полков в казанский поход. Темкин разбил горожан на сотни, строго-настрого приказав каждой сотне держать свое место и подавать помощь соседям только по приказу начальных людей. А начальными людьми поставил опытных воинов. Каждая сотня разбилась на десятки. Защитники города выбрали десятниками охотников и звероловов, хорошо знакомых с употреблением оружия. Кузнецы и оружейники тоже оказались в числе начальных людей. Так внесен был порядок в дело обороны, и защитники Тулы стали не беспорядочным скопищем людей, а войском.
В сотне Провора Костюкова было много лучников; по общему приговору, над ними начальствовал олонча-нин Лука Сердитый. Зиму Лука проводил на родине, в лесах севера, бил соболей, горностаев, белок... А весной охотник отправлялся с пушниной в южные города: бережливый Лука, глава большой семьи, не хотел, чтоб на его труде наживались скупщики.
Этим летом дела привели Луку Сердитого в Тулу, где охотник бывал и раньше. По тревоге Лука Сердитый снял со стены лук и колчан со стрелами, подвесил к поясу нож и присоединился к потоку стремившихся на стены.
Рядом с олончанином оказался знакомый купец.
— Лука, и ты туда ж? — удивился купец. — Тебе что за неволя чужой город защищать?
— Вот дурак! — рассердился охотник. — Мне русские города все свои!
На стене Лука проявил большую распорядительность: с полным знанием дела расставил ратников у
бойниц, указал каждому участок обстрела, чтобы соседние лучники не поражали одну и ту же цель. Лука проверил оружие, иным подтянул тетиву у лука, осмотрел стрелы, приказал подточить железные наконечники.
Защитники в суровом спокойствии ждали первого приступа. Он начался около девяти часов утра.
Татары тучами с неистовым визгом и ревом побежали к стенам; многие тащили осадные лестницы.
Грянули выстрелы городских пушек, но ядра, хоть и убивали по нескольку человек, бессильны были остановить плотную массу врагов: слишком много времени уходило на перезаряжание пушек. Редко хлопали пищали; ружейный огонь тоже оказался малодейственным.
Зато лучники производили огромные опустошения среди врагов. Хороший стрелок делал пятнадцать — двадцать выстрелов в минуту, лишь бы хватало стрел. А стрел туляне запасли много: недаром сидели за их заготовкой в долгие зимние вечера, когда за окошками выла вьюга и татарское нашествие казалось таким далеким, маловероятным.
Мальчишки шныряли под ногами лучников с пучками стрел, звонко выкрикивали:
— Кому стрелы надобны? Дяденьки, отзывайтесь, кому стрел?..
В наступавших неприятельских толпах чуть не каж-. дая стрела находила цель. От стрелы, спущенной с тугой тетивы, не всегда спасала и кольчуга: на расстоянии в пятьдесят—сто шагов стрела пробивала толстую дубовую доску.
Большие потери не остановили стремительный бег татар. Тысячи их добрались до стен и здесь очутились в сравнительной безопасности: им угрожали только выстрелы с выступающих вперед башен, а в башнях было не много бойниц.
Под стенами татары навели порядок в своих рядах, подняли лестницы. По лестницам устремились враги.
На голову нападающих лилась кипящая вода, горячая смола; обожженные скатывались с диким воем, сшибали нижних; на смену им карабкались новые. Огромные камни сваливались со стен, круша и ломая лестницы...
Напряжение боя росло; в том и другом стане никто не думал о собственной безопасности. Единственной целью служила победа, пусть даже ценой жизни.
На участке Провора Костюкова бой разгорелся осо-. бенно сильно. Больше дюжины лестниц установили здесь татары — огонь и камни уничтожили большую часть. Но в двух или трех местах татарские головы показались над стеной, враги готовы были ворваться.
К одной из осадных лестниц рванулся невысокий дюжий парень с широченными плечами.
Рявкнув соседу, такому же крепышу, как сам он: «Епифан, сдержишь меня за ноги?», парень упал на край стены, схватил облепленную татарами лестницу и напряг мускулы — сбросить ее назад. Двое верхних ударили богатыря чеканами 1 по шлему; тот лишь мотнул головой, точно его укусили оводы. Могучее усилие — и лестница качнулась и упала, убивая и калеча висящих па ней людей.
Молодой богатырь и сам слетел бы с лестницей, если бы Епифан не удержал его на стене.
Одобрительные крики приветствовали подвиг силача:
— Ай да Васютка! Ай да Дубае!
Василий Дубае и Епифан Бердяга бросились конторой лестнице, опрокинули и ее. С третьей устрашенные татары посыпались сами.
Приступ на этом участке был отбит. Шум битвы начал стихать повсюду. Враги отступили, оставив под стенами тысячи трупов.
Потери тулян были меньше, но при малой численности защитников имели серьезное значение. Раненых унесли в город. Те, кто мог держаться на ногах, остались на стене. Убитых сложили внизу, под стеной: если город устоит, им устроят христианское погребение. Теперь же, когда каждая рука на счету, мертвецы могли подождать: попы стояли в рядах защитников родной Тулы.
Провор Костюков, раненный в плечо стрелой, потерял много крови. Хоть он и не оставил стену, но не мог больше руководить боем; преемником Провор назначил Луку Сердитого. Белоглазый олончанин был доволен полученным назначением.
1 Чекан — топор на длинной рукоятке; обух его имел форму молотка.
Двух силачей — Василия Дубаса и Епифана Бердя-гу — Лука решил сделать десятниками вместо выбывших из боя. Парни предстали перед начальником со смущенно-гордыми лицами.
Скупо похвалив их, Лука сказал о новом назначении. Епифан пошел к своему десятку, а Василий переминался с ноги на ногу.
— Чего нейдешь?
— Нет моего согласия в десятники...
Лука рассвирепел:
— Вот дубина стоеросовая! Испугался?
— Не гожусь я в начальные люди, — стыдливо усмехнулся Василий.
— Оставь его, Лука, — слабым голосом сказал Провор.— Парень привык других слушаться.
— Ну, ступай! — отпустил Василия Сердитый.— Видно, твое дело лестницы сбрасывать!
— А худо я их сбрасывал?
— Хорошо, хорошо! Ты сегодня татар десятка четыре на тот свет отправил!
— А коль доживу до вечера, не то еще будет! — похвалился Дубае и отправился в десяток Бердяги.
Было около полудня. Битва утихла. Противник собирался с силами. Воевода Темкин и соборный протопоп обходили стены, ободряя воинов, обещая, что скоро придет помощь.
Отдых был непродолжителен. Заревели турецкие ку-леврины, каленые ядра понеслись за городские стены. Девлет-Гирей решил поджечь Тулу, надеясь, что горожане бросятся тушить дома и стены останутся без защитников. Коварный расчет не оправдался: ни один человек не оставил боевого поста.
Дома в городе пылали. Кое-где пожары тушили женщины с помощью детей и дряхлых стариков. Там, где все ушли на битву, огонь распространялся беспрепятственно. Туляне с тревогой смотрели на гибель добра, нажитого тяжелым трудом, но дух их оставался бодрым.
Через час начался новый приступ. Он был отбит, как и первый.
Узнав силу русского оружия, татары подступали с меньшим остервенением. Правда, и силы защитников ослабели: теперь русские понесли более тяжелый урон.
На третий приступ хан Девлет-Гирей бросил отборное войско — султанских янычар, грозных противников в рукопашном бою. Турки шли к стенам не спешно, без криков, и вид их был ужасен: молодцы как на подбор, рослые, сильные, в кольчугах и начищенных латах, блестевших при свете низко спустившегося солнца.
Воевода Григорий Темкин понял: наступил решающий час битвы!
Он послал сзывать всех, кто еще оставался в городе. На стены бежали женщины и подростки, вооружались мечами и копьями убитых и тяжело раненных отцов, мужей и братьев.
Шли на битву древние старики, десятилетия назад в последний раз державшие оружие. ^Маленькие дети раздували под котлами со смолой огонь, бросали в пламя головни от сгоревших домов.
Бой был страшен. Янычарам удалось во многих местах взобраться на городские стены; но нигде не удалось им одолеть живую стену защитников Тулы. Противники дрались врукопашную: на близком расстоянии бесполезны были пищали и луки. Сверкали мечи, кинжалы, топоры; враги грызлись зубами. Два богатыря — Епифан Бердяга и Василий Дубае — выказывали громадную свою силу. Стоя плечом к плечу, они ломали врагов, разбивали им голову дубинами с тяжелым шаром на конце.
В схватке погиб Епифан Бердяга, проколотый мечом великана-араба, турецкого тысячника в богатейшем вооружении. Разъяренный гибелью друга, Дубае почувствовал необычайный прилив сил: схватив врага, он поднял его над головой, закрутил и швырнул со стены на голову наступающих. Лука Сердитый с немногочисленными остатками сотни воспользовался замешательством татар и турок и сбросил их со стены.
Дорого обошелся бой тулянам: меньше половины защитников осталось в строю, и все они были ранены — исколоты пиками, порублены мечами, оцарапаны стрелами... Но неколебимо стояла русская сила на стенах города, и дрогнули татарские военачальники. Заиграли во вражьем стане карнаи — боевые трубы, давая сигнал к отступлению. Крымцы отошли от города.
* * jW
Всю короткую летнюю ночь провели туляне на сте* нах, боясь неожиданной атаки. В татаро-турецком стане слышались только завывания женщин, оплакивавших покойников.
А на заре в неприятельском лагере началось движение: владельцы шатров и кибиток поспешно грузили имущество на скрипучие арбы. Вражья орда кинулась на юг.
Взоры русских устремились на север, ища разгадки нежданного бегства татар.
На севере, на краю небосвода, клубилась пыль, розовая в лучах восходящего солнца: спешили на выруч-. ку русские полки.
— Наши! Наши! — раздались восторженные крики.— Бей недругов! В погоню!
Василий Дубае первым выбежал за городские ворота.
Захватив вражеского скакуна, запутавшегося ногой в поводьях, силач помчался за татарами, свирепый и страшный, размахивая дубиной.
Немногочисленные, но одушевленные воинственным пылом русские дружины нагнали бегущих. Враги огрызались, но не хотели принять бой. В задних рядах татары падали сотнями, а передние только ускоряли бег коней.
Турецкие пушкари бросили орудия, и огромные ку-леврины стали боевой добычей русских; шатры, нагруженные на повозки, женщины, дети — все осталось позади, крымские воины старались унести ноги.
Лука Сердитый и Василий Дубае скакали рядом. Лука без промаха поражал врагов стрелами. На свою меткость Дубае не надеялся и не взял лук; но кого на-, стигала его дубина, тому уж было не жить.
Впереди завиднелись два татарина на великолепных конях, окруженные свитой. Они неслись во весь дух, оглядываясь назад.
— Хан! Сам хан!—завопил Лука Сердитый, настегивая коня.
Расстояние сокращалось. Лука пустил стрелу. Хан Девлет-Гирей взмахнул раненой рукой: стрела пробила
ему запястье. Но в это мгновение пал конь Луки, не вынеся скачки. Лука грохнулся наземь, вскочил и, бешено ругаясь, стал пускать стрелу за стрелой.
Одна из стрел поразила коня ханского шурина. Высокий красивый татарин спрыгнул с лошади, выхватил меч — защищаться. На него налетел с багровым от гнева лицом Василий Дубае. Могучий удар — и татарский вельможа рухнул с раздробленным черепом, а лошадь Дубаса повалилась в агонии.
Девлет-Гирей и его спутники ускакали. Усталые, измученные боями туляне отстали от бегущих врагов.
Но татары рано обрадовались спасению. На них обрушился полк Правой Руки. В полку насчитывалось пятнадцать тысяч воинов; турецко-татарские войска, потерпевшие огромный урон в боях с тулянами, все-таки были вдвое многочисленнее.
Но упавшие духом крымцы потерпели решительное поражение на берегах речки Шйвороны.
Были освобождены русские, плененные в набеге татарами, захвачен еще остававшийся в ханском войске обоз, взяты лошади, быки и странные для русских животные — «вельблюды».
Один из пленников, приближенный хана, рассказал: турецкий султан повелел хану Девлет-Гирею идти на выручку угрожаемой Казани и уничтожить столицу Руси— беззащитную Москву: Солиману донесли лазутчики, что русские войска уходят в далекий поход. Войдя в русские пределы, Девлет-Гирей с разочарованием узнал, что царь Иван близ Москвы, и хотел отступить, но турецкие военачальники решительно воспротивились.
«Великий султан разгневается на тебя и на нас, — говорили они. — Если мы хотим сохранить голову на плечах, должны идти вперед. Возьмем хоть Тулу. Она далеко от Москвы, за лесами...»
Заканчивая рассказ, пленник понурил голову:
— Рок ниспослал нам несчастье... Кто бы мог подумать, что ваша Тула так сильна!
В последующие дни гонцы принесли радостную весть: Девлет-Гирей бежит в Крым, делая по шестидесяти — семидесяти верст в день. Путь хана отмечают обглоданные волками кости загнанных лошадей.
❖ *
В число гонцов, отправленных к царю с вестью о победе, воевода Темкин включил Луку Сердитого и Василия Дубаса. Они, как особо отличившиеся в боях, должны были сами поведать царю о своих подвигах.
Но рассказывать пришлось одному Луке Сердитому. Бывалый олончанин не потерялся: бойкой скороговоркой он доложил царю Ивану, окруженному боярами, о делах своих и Дубаса. Пока продолжался рассказ, Дубае упорно смотрел на носки своих огромных лаптей.
— Что ж молчишь, молодец? — весело спросил Василия царь.
Дубае вскинул на царя Ивана глаза и опустил их, охваченный робостью.
— Он у нас молчальник, великий государь, — вмешался Лука. — У него сила в руке, а не на языке!
— Чем вас наградить, ратники храбрые?
— Дозволь, государь, в твое ополчение поступить! Хотим мы с Васькой неверную Казань громить!
— Дозволяю, дозволяю! Радостно мне таковое прошение слышать.
Сердитого и Дубаса взял в Большой полк воевода Михайла Воротынский.
Глава VI
ПЕРВЫЙ ОТРЯД
Царские рати наголову разгромили крымцев. Теперь можно было идти на Казань.
Царь Иван дал заслуженный отдых войскам: восемь дней провели они в полевых станах под Коломной, Каширой, Серпуховом.
Царь возвратился в Коломну и богатыми пирами отпраздновал победу. В Москву отправлена была военная добыча: неприятельские пушки, знатные турки и татары — пленники и невиданные звери «вельблюды». Москва ликовала. Быстрый разгром южных орд, казалось, предвещал скорую и легкую победу над казанцами.
В царской ставке разрабатывался порядок похода. Вести всю рать одним путем представлялось царю и воеводам делом невыгодным: трудно снабдить продо
вольствием множество людей. Решили разбить войско на три отряда.
Первым отрядом предводительствовал царь Иван. В него вошли царская дружина, полк Левой Руки, Сторожевой и Запасный полки. Большой полк, полк Правой Руки, Ертоульный полк и другие должны были составить второй отряд. В третий отряд входила осадная артиллерия. Путь ей предстоял по рекам на баржах; водой же царь приказал везти казну.
Первые два отряда после марша в несколько сот верст должны были соединиться в приволжских степях, за Алатырем.
Первому отряду предназначался кружной путь к Алатырю— через Владимир и Муром.
Полкам второго отряда, шедшим южнее, поставлена была важная задача: охранять на походе русские границы от неожиданных нападений. Девлет-Гирей, хотя и разбитый, мог вновь послать на Русь войска: Крым был многолюден, а султанская Турция располагала огромными воинскими резервами.
* * *
Русские полки выступили в дальний поход 3 июля 1552 года. Во Владимир прибыли 8 июля. Их встретило радостное известие из Свияжска. Воеводы доносили: цинга в городе прекратилась; войско с воодушевлением ждет прихода главных сил, чтобы вместе двинуться под Казань.
В Муром первый отряд вступил 13 июля и простоял там неделю: рать готовилась к трудному переходу через пустынные места.
Войскам устроен был смотр, проверено вооружение и снаряжение. Людей каждого полка, побывавшего в боях с крымской ордой, разделили на сотни, назначили начальников из числа отличившихся бойцов.
Здесь осадный наряд, который везли до Мурома сухопутьем вместе с первым отрядом, погрузили на суда. Власть над стрельцами и пушкарями царь вручил воеводе Петру Булгакову. За сохранностью пушек и запасов пороха смотрел главный начальник артиллерии дьяк Иван Выродков.
Из Мурома войско выступило 20 июля, держа путь на юго-восток.
На пути к московскому войску присоединились каси** мовские и темниковские князья с татарскими и мордов^ скими дружинами: русская армия становилась многона-* циональной, но все ее части были подчинены единой во« ле, все стремились к одной цели — сплотить еще крепче русское государство и расширить его пределы.
Пушечный наряд плыл по воде. Дорога предстояла дальняя: по Оке до устья и дальше вниз, по великой Волге. Путь по рекам был не утомителен, но скучен.
Лежа на палубе, Иван Выродков рассеянно смотрел на уплывавшие берега. Пушкари варили обед, разложив костер на земляной насыпи. За кормой баржи тянулись блесны на крепких бечевах, и время от времени искусный рыболов Кондратий выхватывал из воды судака или щуку.
— Отплавала! — бормотал он, снимая с крючка трепещущую рыбину, и вытаскивал из-за голенища ножик.
Белые чайки с криком носились над рекой, выхватывая плотичек и пескариков. Свежо и прохладно было на лодках. Когда дул попутный ветер, растягивали паруса, и баржи бежали быстрее, рассекая холодноватую свинцовую рябь.
Глава VII
СТЕПИ
Путь второго, более многочисленного отряда начинался через Рязань и Мещёру.
Немало военных новшеств придумали царь Иван и его стратеги. Прежние походы проводились наспех, без хорошей подготовки, и этим объяснялись их неудачи.
Теперь дело повели крепко. Через дремучие леса были прорублены длинные просеки — дороги. Это потребовало от Голована и его строителей такой большой работы, что часто им в помощь давали значительные отряды с топо-> рами.
Часть строителей шла вперед, наводила паромные переправы, через небольшие речки перекидывала прочные мосты; при них ставились сильные караулы. Мало того:
царь Иван приказал заселить новую дорогу русскими людьми.
Прекрасное устройство ямской гоньбы между русскими городами, раскинутыми по огромному пространству Восточной Европы, всегда поражало иностранцев. Крестьяне, жившие вдоль больших дорог, обязаны были поставлять лошадей для правительственных гонцов. Эта повинность тяжело отзывалась на крестьянских хозяйствах, особенно в летнее время, но за невыполнение ее грозили тяжкие кары. И гонцы проезжали подвести пятьдесят — триста верст в день: предел скорости в те времена.
Новая дорога не должна была остаться пустынной, и дьяки, сопровождавшие войско, немедленно принялись за дело. Через каждые пять — десять верст удобные участки земли отводились бывшим при войске беспоместным дворянам, и те посылали доверенных — скликать людей.
Крестьяне пошли на новые места охотно: их на несколько лет освобождали от всех повинностей, кроме ямской гоньбы.
Остались позади сотни верст утомительного пути. Войско шло по беспредельным степным далям. Вокруг волновался седой ковыль, вверху раскинулось бледно-голубое небо, и в нем черными точками кружили ястреба.
Встречались на пути второго отряда развалины древних городов. Рыжий бурьян да горькая полынь покрывали городские площади, на которых когда-то собирались народные толпы по звону вечевого колокола...
Разведчики, опережавшие главные силы, въезжали на верхушки курганов; конские копыта попирали могилы давно забытых князей.
На целые версты растянулась московская рать. Телеги скрипели пронзительно и тонко.
Передовые сотни раздвигали грудью высокие увядающие травы; травяное колышущееся море ложилось на землю под ногами пехоты, под конскими копытами. Где утром прятались в веселом разнотравье сторожкие дрофы и шныряли перепелки, вечером степь напоминала гладко примятый ток с кое-где торчащими былинками. Замыкающим войско полковым обозникам приходилось глотать пыль, сухую; едкую.
Огромная рать двигалась медленно. По ночам, теплым и безоблачным, дым от многочисленных костров затмевал небо.
За дорогу сдружились ратники Большого полка: бывшие скоморохи Нечай и Жук, лучник Лука Сердитый и его простодушный товарищ Василий Дубае.
Когда Дубае пришел в сотню, ему выдали лук со стрелами и кистень. Но стрелял он плохо, а кистень был чересчур легок для его могучей руки.
— Какой же ты воин! — с укором говорил Дубасу олончанин Лука. — Стрелять толком не научился! Али на силу надеешься? £ила хороша, когда врукопашь сойдешься. А сыздали и тура стрелой бьют...
— Да мне и стрелять-то отроду не приходилось. Ты бы, дядя Лука, поучил меня, чем ругаться!
— Поучить могу, только уговор: коли дело делать — от дела не бегать!
Лука с усердием принялся обучать лучному искусству молодых ратников своей сотни. Трудно было проводить учебу в походе, но Лука нашел выход. Двигаясь по выбитой земле за полком, он высылал вперед двух быстроногих ребят. Те втыкали в землю пару кольев, распяливали баранью шкуру — и цель готова.
Лука выстраивал молодых лучников, показывал, как упираться в землю ногой, как натягивать тетиву и накладывать стрелу. Учил определять направление ветра и рассчитывать, куда стрелу отнесет.
Каждый ратник делал по выстрелу. Махальщики условными знаками показывали попадания и промахи, срывались с места и бежали вперед со шкурой и кольями. Стрелки спешили за ними, подбирали с земли стрелы и метились снова...
К вечеру молодежь валилась от усталости, а охотник Лука, сухой, жилистый, неутомимо шагал вперед, распекая учеников за слабость.
Василий Дубае изломал два лука и порвал несколько тетив, прежде чем научился соразмерять огромную свою силу. Но наконец дело пошло на лад. Каждым удачным попаданием в цель Дубае так гордился, точно ему удалось застрелить врага-татарина.
Другие ученики Луки опережали успехами непово
ротливого Василия. Но смеяться над Дубасом было опасно: он хватал двух-трех насмешников в охапку и полушутя так подминал под себя, что у них кости трещали.
Глядя на Луку Сердитого, и другие опытные лучники начали учить молодежь. Уже не один маленький отряд ратников шел вслед за главными силами, а стало таких отрядов много.
Чуть заря начинала белеть на востоке, трубы будили спящий стан. Шум и гомон далеко неслись по степи, курившейся утренним туманом. Ратники, наскоро поев, собирали пожитки, становились в ряды и трогались в путь. Впереди ехали воеводы на раскормленных конях, украшенных дорогой сбруей. За ними везли распущенные знамена.
Долго шли ратники под знойным солнцем. И когда казалось, что силы уже иссякли, перед рядами Большого полка, припрыгивая и раскачиваясь, появлялся Нечай, барабаня двумя ложками задорнейшую плясовую.
— И-эх! — гикал он, и взбодренные пехотинцы улыбались.
А Нечай заводил песню:
Ой, старая баба кашу варила, Баба кашу варила, приговаривала!..
Ловкими коленцами Нечай показывал, как старуха варит кашу, как мешает ее. Подвижное лицо его, обращенное к воинам, делалось поразительно похожим на старушечье, губы морщились и пришепетывали. Хохот катился по рядам.
Ты ложись-ка, ложися зерно к зерну, Чтоб скуснее было есть мужичонку мому!..
Старуха разглаживала зерна, а ноги плясуна выделывали дробь, будто приколачивая что-то к земле. Веселье росло, ширилось.
Мой мужик-от богатырь, изо всех ли хват, Он и спереду горбат, он и сзаду горбат!..
Смех раскатывался по полку, прогоняя усталость. Слова песни передавались со смехом и прибаутками.
Куплеты рождались по вдохновению, все веселее и забористее.
— Уж этот Нечай! Мертвого из могилы подымет побасенками!
И воины бодрее шли вперед, а степь по-прежнему расстилалась вокруг торжественная и пустынная, и так же маячили вдалеке курганы — могилы древних вождей.
Песни Нечая подхватывались, становились достоянием народа.
По вечерам Лука Сердитый привязывался к какому-нибудь парню:
— Эй ты, певун, кто песню выдумал?
— Нам то неведомо.
— Слышь-ка, Нечай, — жаловался краснолицый, белоглазый Лука, — твою песню играет, а что ты ее сложил, ему и невдомек.
— Мне-ка что, — равнодушно отвечал Нечай, поглаживая жиденькую нечесаную бороденку. — Песня — вольная птица! У меня вырвалась, над ней хозяина нет!
— Да ведь переиначивает!
— Не серчай, сват! Може, она краше да складнее станет.
— Я б за такое башку сорвал! — сердился олонча-нин.
— Ну и дурак!..
За войском тянулись полковые обозы с продовольствием, одеждой, боевым припасом. Но войско шло по изобильным местам и мало нуждалось в снабжении из обоза. Реки и озера на пути кишели рыбой. Ратники закидывали бредни и вытаскивали линей, карасей, окуней... Из Большого полка отличался в рыбной ловле Василий Дубае. Заплывая вглубь и загребая воду одной рукой, он тянул край невода, на который надо было бы поставить человек пять.
В лесах было много оленей, ланей, туров. Устроив облаву, стрельцы пронзали дичь острыми стрелами.
Вокруг рати, предчувствуя богатую поживу, рыскали стаи волков, летали орлы и коршуны. Хищные птицы через день-два возвращались к гнездам, волки пресле-, довали войско неотступно.
Глава Vlll
ПОД КАЗАНЬЮ
Двенадцатую ночь после выступления из Мурома первый отряд провел на берегу быстрого, полноводного Алатыря. Темниковский князь заранее навел мосты через реку для переправы русского войска.
Горные люди, совсем недавно по доброй воле вошедшие в состав русского государства, честно выполняли свой долг перед вновь обретенной отчизной.
Чуваши-проводники вели московскую рать, выбирая наилучшие дороги. Во время стоянок чувашские женщины приносили русским воинам молоко, мясо, хлеб и сердились, когда им предлагали плату за угощение. А чувашский хлеб был так хорош, что ратникам, долго питавшимся сухарями, он показался вкуснее московских калачей.
К передовому отряду строителей Голована выходили на помощь чувашские плотники, показывали места, где удобнее всего строить мосты и наводить переправы.
Чувашские дружины, вооруженные по преимуществу луками, приходили к воеводам и просили принять их в русское войско для борьбы с общим врагом. Воеводы соглашались с радостью.
Помощь местного населения в далеком, тяжелом походе была очень ценна для московской рати. Ведь будь чуваши врагами, они — умелые воины и искусные стрелки из лука, знавшие массу тайных убежищ в своей полудикой стране, — могли бы наносить русским значительный урон и надолго задержать их продвижение вперед.
3 августа первый отряд дошел до реки Суры. И здесь во время трапезы в царский шатер ввели гонца с радостной вестью:
— Полки Щенятева и других воевод тоже подошли к Суре и ждут царских приказаний.
Царь послал полкам второго отряда распоряжение переправляться через Суру. Встречу назначили на обширном поле за Сурой-рекой.
4 августа, когда полки первого отряда расположились на отдых после переправы, вдали показались облака пыли.
— Наши идут!
Радостные возгласы подняли на ноги лагерь. Приложив щитком руку ко лбу, люди жадно глядели вдаль, стараясь увидеть подходившее войско. Наиболее пылкие побежали навстречу, размахивая руками и крича:
— Берегись, татарин! Наши пришли!
Царю оседлали коня, и он выехал в сопровождении воевод Ромодановского, Плещеева и пышной свиты из рынд, боярских детей и нарядно одетых стрельцов личной стражи. Посреди отряда развевалось распущенное царское знамя.
Несколько гонцов понеслись во весь опор к подходившему войску — оповестить о приближении царя Ивана Васильевича.
Воевода Щенятев и другие начальники, сменив усталых коней на свежих, поспешили навстречу предводителю русского войска.
Два маленьких отряда съехались. Вновь прибывшие, приветствуя царя, спешились и отдали поклоны такие низкие, что пальцами правой руки подняли пыль с иссохшей земли.
На берегу Суры поднялись сотни палаток, запылали костры. В реке стало тесно от тысяч ратников, которые шумно плескались в воде.
11 августа к русскому войску присоединились три полка, вышедшие навстречу из Свияжска. Новое пополнение насчитывало до двадцати тысяч воинов.
Еще день похода — и ратники увидели крутую свияжскую гору и на ней новый город, блиставший на солнце стенами и сторожевыми башнями, еще не побуревшими от зимних вьюг и летнего зноя.
Веселый звон колоколов и пушечная пальба встретили русское воинство у стен русской крепости, возведенной в сердце вражеской страны.
Царь осмотрел стены, склады боевых припасов, прошелся по улицам города, поднимался на башни... Все было сделано добротно, по-хозяйски.
— Где стала русская нога, тут и стоять ей довеку,— сказал царь, возвращаясь из города в походный шатер на берегу Свияги.
В лагерь прибыли многочисленные купцы с товарами. Гости из Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода и других русских городов, предвидя богатую наживу,
прихлынули с обозами в Свияжск. Они знали, что там произойдет сбор русских полков. А пока царь и воеводы будут совещаться, как воевать, что делать ратникам? Одно — пировать! Догадливые купцы навезли огромный запас вина и крепкого меда. На длительный отдых рассчитывали и ратники-дворяне; им слуги доставили из поместий яства и пития.
Но любителям отдыха и пиров пришлось разочароваться. Царь после недолгого совета с приближенными решил выступить под Казань. Дело клонилось к осени, а русские хорошо знали, как неустойчива погода в Среднем Поволжье.
Однако, прежде чем начинать военные действия, царь Иван Васильевич сделал последнюю попытку кончить дело миром.
— Кровь своих воинов проливать понапрасну не хочу, — сказал царь, — за нее мне перед богом ответ держать. Да и татарских людей зря губить не к чему.
В город были посланы мирные грамоты. Шиг-Алей писал новому казанскому хану:
«Славному отпрыску могучего рода Ахматова, астраханскому царевичу Едигеру-Магмету от полновластного хана Казани Шах-Али-хана привет!
Судьба каждого человека от начала мира написана в его книге, но люди, в своей лживой мудрости, склонны нарушать веления рока. Какое безумное ослепление заставляет тебя, гордый Едигер, возомнить себя равным великому московскому падишаху, владения которого не обскакать на лихом скакуне за трижды сорок лун \ монарху, под знамена которого собираются воины со всех четырех сторон света! Я знаю силы Казани, я знаю, что ей не отразить натиск огромной рати Урусов...
Смирись, Едигер! Участь нашего царства, давно предсказанная мудрыми людьми, — стать московским уделом. Без боязни явись в царский стан: государь Иван Васильевич тебя помилует и окажет всяческое благоволение...»
Были отправлены письма к сеиду Кулшерифу, к князьям Исламу и Кебяку и ко многим другим казанским вельможам. Их уверяли, что московский царь же-
1 Сто двадцать месяцев.
лает не гибели их, а раскаяния. И если они изъявят покорность, то им сохранят и жизнь и имущество.
16 августа Волга под Свияжском ожила, покрылась сотнями плотов, лодок — реюшек, бударок, косных. Московское войско переправлялось на луговой берег реки.
Глава IX
ПЕРВЫЕ ДНИ
Русское войско закончило переправу через Волгу 19 августа. Путь по левому берегу реки до Казани был не длинен, но труден. Татары сожгли мосты через реки, разрушили гати на болотистых местах — дороги приходилось строить снова.
Точно с намерением помешать русским, полили дожди— и продолжались несколько дней подряд. Дороги раскисли, покрылись невылазной грязью, и теперь не отдельные их участки, а все сплошь приходилось мостить бревнами. Русских эта задача не испугала: при множестве рабочих рук, помогавших отряду строителей, ее выполнили быстро.
20 августа Иван Васильевич наконец получил ответ. Едигера на предложение сдаться; этот ответ исключал надежду на мирный исход дела.
«У нас все готово! Ждем вас на ратный пир!» — писали казанцы.
Русское войско раскинуло лагерь на широком лугу от Волги до Казани и Булака.
Основатели Казани выбрали хорошее место для города: его поставили на горе, между двух топких, илистых рек — Казанки и Булака. Сливаясь под городской стеной, к западу от Казани, эти две реки да возведенные за ними стены трехсаженной толщины надежно защищали город с трех сторон. Только с четвертой стороны, восточной, с Арского поля, был открытый доступ к городу. Зато здесь стояли семь стен из толстых дубовых бревен, отступя одна от другой на сажень. Промежутки заполнял песок и щебень. Получилась одна стена ог
ромной толщины и прочности. А у ее подножия проходил глубокий ров.
При взгляде на могучие укрепления Казани становилось ясно, что здесь лихим наскоком не возьмешь, что потребуется продолжительная осада.
— Дело предстоит трудное, бояре! — сказал царь Иван воеводам.
Вечером того же дня у стен Казани поднялся сильный шум, слышны были выстрелы. Крики сражающихся разносились далеко в вечернем воздухе. Из свалки вырвалось несколько верховых; дико настегивая коней, они скакали к нашим передовым постам.
— Али на нас скачут татары? — спросил Василий Дубае, обращаясь к старшему в дозоре Луке Сердитому, и на всякий случай приготовил дубину.
— Не трожь! — унял парня Лука. — Разве не видишь — перебежчики!
Подскакав к русским, передний татарин, низенький, с морщинистым лицом, на котором горели живые черные глаза, закричал по-русски:
— Эй, казак, не стреляй! Мы к вашему царю бежим!
Главарем перебежчиков оказался Камай-мурза.
Его отвели в царский шатер. Распластавшись на полу, татарин повел рассказ. Он хотел вывести из Казани сотни две сторонников. Камаю удалось пробиться за стену, но тут пришлось выдержать схватку с отрядом, охранявшим ворота снаружи.
— Вот и прибежал к тебе сам-восьмой, государь! — закончил Камай-мурза, снял тюбетейку и вытер с бритой головы крупные капли пота.
— Повезло тебе, нехристь! — проворчал князь Воротынский, не любивший татар, даже сторонников Москвы.
— За послугу я тебя, Камай, не оставлю, — молвил царь, и перебежчик радостно встрепенулся. — Рассказывай, как у вас, в Казани?
— В Казани черному народу неохота воевать, да сказать о том страшно. Кто слово молвит супротив войны, тому кинжал в бок! Вот и притворяются люди, что злы на Русь. Русь за стенами, а гиреевцы рядом... Ну,
и муллы тоже — райские сады сулят, кто за веру сгинет...
— Запасов в Казани много?
— Много, много, государь! Пороху наготовили в достатке, есть и пушки и пищали... И еще одно тайное дело открою, как верный слуга твой, государь: оберегай свое войско, на него засада спрятана...
Камай рассказал, что знаток военного дела хан Едигер не запер все войско в городских стенах. В окрестных лесах укрылась сильная рать — тридцать тысяч отборных воинов под предводительством храброго батыра князя Япанчй. Эта рать будет нападать на русских с тыла, беспокоить налетами и, не принимая решительного боя, наносить короткие, но сильные удары.
Царь отпустил Камая и тотчас собрал воевод.
С общего приговора установили расположение войск вокруг осажденной Казани.
Дружина царя осталась на Царевом лугу, близ Бу-лака, вытекающего из озера Кабан. Севернее стал Сторожевой полк воеводы Василия Серебряного, а еще дальше, при слиянии Булака с Казанкой, — полк Левой Руки с воеводой Плещеевым. Князь Ромодановский с Запасным полком расположился за тинистым Булаком, на левом его берегу. Хан Шиг-Алей с касимовскими и темниковскими татарами занял берег озера Кабан. Все эти силы преграждали казанцам путь к Волге, на запад.
С востока стал на обширном Арском поле Большой полк Воротынского и Ертоульный полк Троекурова.
С севера сторожил город полк Правой Руки Андрея Курбского и Петра Щенятева.
Город обложили надежно — трудно было в него и одиночке пробраться, а о приходе подкреплений нечего и думать.
За долгие дни похода царь Иван Васильевич основательно обдумал план осады. Вести дело по старинке молодой полководец не хотел. Он твердо решил, что не уйдет из-под Казани без победы.
Воеводы получили приказ: каждый воин должен приготовить бревно для тына 1 — защищаться от вражьих стрел и пуль. Каждый десяток обязан сплести туру — передвижное укрепление из хвороста, наполненное землей.
1 Тын — высокий частокол из заостренных сверху бревен.
Воеводы поеживались, выслушивая распоряжения, сулившие много хлопот. Но царь удивил их еще больше. Он ввел новый порядок боя: ни один воин не должен бросаться на врага без воеводского приказа и ни один воевода не смеет поднимать полк без царского повеления. Таким приказом Иван Васильевич положил конец беспорядку прежних войн, когда каждый воевода делал в битве что хотел.
$ * *
В одну из ночей разразился ураган. Царский, крытый серебряной парчой шатер сорвало и унесло невесть куда. На Волге свирепые валы затопляли берега, крушили лодки с хлебными и огнестрельными припасами и многие из них потопили.
Робкие потеряли голову и подумывали об отступлении. Нашлись злопыхатели, предвещавшие еще более страшные бедствия.
— Погубят нас казанцы злым чарованьем! Уж и стихии ополчились на воинство русское! Сие еще милостиво, что только ветр, и гроза, и молонья! А скоро низведут на нас бесовские силы глад, и мор, и трус и останутся кости русские в незнаемой басурманской глуши...
В числе воевод, советовавших царю уйти из-под Казани, хотя осада продолжалась всего три дня, оказался и Курбский.
Потомок ярославских князей, богатейший вельможа древнего рода, Андрей Курбский люто ненавидел царя Ивана. Но свою ненависть Курбский глубоко прятал под личиной дружбы, и все те злобные и желчные слова, которые хотел бы князь Андрей бросить в лицо царю, до поры до времени таились на страницах его дневника. Они стали известны много лет спустя, когда Курбский изменил родине и сбежал к врагам, в Литву.
Пока Курбский довольствовался тем, что давал Ивану советы, исполнение которых повредило бы планам и намерениям Ивана Васильевича.
Явившись к царю утром после бури, Курбский нарисовал ему такую ужасную картину бедствий, которые якобы ожидают русское войско под Казанью, что Иван
1 Голод, заразные болезни, землетрясение,
Васильевич, сначала слушавший воеводу со вниманием, невольно рассмеялся:
— Эк, бедняга, как тебя ночная буря перепугала! Что ж, ежели так страшно тебе оставаться под Казанью, езжай на Русь, в свои поместья, я тебя здесь держать не буду. И чтоб тебя, сохрани боже, дорогой кто не обидел, крепкую охрану дам, — ядовито добавил царь.
Лицо князя Андрея побагровело от стыда и сдержанной ярости.
— Я ,это не к тому говорю, государь, — дрожащим голосом сказал Курбский, — что за себя боюсь: я твою драгоценную особу хочу предохранить от несчастья.
— Ты о моей драгоценной особе не беспокойся,— насмешливо возразил Иван Васильевич, — я о ней сам пекусь сколько подобает.
Курбский всегда вспоминал об этом разговоре с чувством унижения и бессильного гнева. Не забыл о нем и Иван, и когда он впоследствии отвечал Курбскому на его широковещательные эпистолы1, присылаемые из Литвы, он гневно напоминал князю о его малодушии под Казанью.
Отвергнув советы прекратить осаду, царь Иван решил действовать твердо. Послал в Свияжск и в Москву за новым припасом, а сам находился при войске неотлучно и теснил татар все крепче.
* * *
Первые дни осады прошли в пробе сил. 23 августа татары устроили вылазку большими силами — до пятнадцати тысяч воинов выбежали из Крымских, Аталыковых, Тюменских ворот. Они напали на семитысячный отряд русских стрельцов и казаков, которые огибали город, направляясь на Арское поле.
Завязалась упорная сеча. Двойное превосходство татар не помогло им. Стрельцы и казаки многих татар побили, несколько сот взяли в плен. Остальные бежали.
С этого времени дня не проходило без жестоких боев.
Татары выходили из города крупными силами иста-
1 Эпистола (греч.) — письмо, послание»
рались оттеснить русских подальше от стен Казани, Воины Япанчи беспокоили царскую рать частыми набегами с тыла, как и предупреждал Камай-мурза. Внезапно вылетев из леса, татары нападали на русские заставы, рубили людей, старались наделать переполоху. Всадники Япанчи истребляли отряды, посылаемые в окрестность за продовольствием и сеном. Но, как только против них выступал целый полк, они поворачивали маленьких быстрых лошадок и скрывались в непролазных чащах за Арским полем, где им ведомы были тайные тропы и поляны.
Осаждающие, несмотря на татарские вылазки, продвигались ближе и ближе к городу, ставили высокие тыны, перекатывали туры и тарасыНо с отрядом Япанчи надо было покончить: слишком вредил он русскому войску.
Глава X
БИТВА НА АРСКОМ ПОЛЕ
Арское поле, окаймленное лесами и рощами, расстилалось на восток от Казани.
Близ Казанки-реки, в обширной роще, затаился отряд воеводы Юрия Ивановича Шемякина — конница, пешие стрельцы, мордва.
На совете воевод решили устроить Япанче ловушку. На воеводу Горбатого-Шуйского возложили задачу вступить в бой и, притворно отступая, заманить татар, чтобы спрятанный в лесу отряд Шемякина мог отрезать им отступление.
Пехота расположилась на опушке. Всадники прятались дальше; стоя около коней, они готовы были по сигналу вскочить в седла.
На дубу устроился дозорный: он смотрел то на обширное поле, то в сторону города.
Ветер налетел порывом, зашелестел листвой. Воины испуганно привскочили — им показалось, что подана тревога. Но все было спокойно.
Стрельцы говорили о страшном утомлении, о бессон
1 Тарасы — срубы из бревен, заполненные землей; служили хорошей защитой от пищального и даже пушечного огня.
ных ночах, о плохой пище... Они не жаловались на тя* готы осады, но всем хотелось, чтобы она кончилась поскорее.
Вдруг донесся крик дозорного:
— Вышли татары! Вышли!.. С нашими бьются!..
Все пришло в движение. Пешие стали в ряды, конница готовилась вылететь из леса. Нетерпеливое ожидание овладело всеми. Иной без нужды сгибал и разгибал лук, другой зачем-то пересчитывал стрелы, третьему занадобилось чистить саблю, и он втыкал ее в землю у своих ног.
— Ну, что там? Как? Да говори же! — неслись к дозорному взволнованные голоса.
А он время от времени кричал:
— Бьются!.. Отступают наши!.. Остановились... Снова отходят!..
И вдруг раздался дикий, отчаянный рев его:
— Побежали! Наши побежали!
Отступление русских было притворное, и это знали сидевшие в засаде. И тем не менее им казалось, что на Арском поле происходит непоправимое, что наши гибнут под натиском татарского войска.
Все рвались в бой: и начальные люди и простые ратники. Но воевода Шемякин, опытный воин, сдерживал общее нетерпение.
— Спешить неможно, надобно выждать! — говорил он. — В тыл ударить нехристям, чтоб ни один не ушел!
И время настало.
В лесу запели боевые трубы. Таким неожиданным и непонятным был этот звук, что в первые мгновения конники Япанчи ничего не поняли. Но недолго им пришлось теряться в догадках.
Сотня за сотней вылетали русские всадники из леса; на поднятых саблях искрилось солнце, грозно колыхались копья. Лошади неслись бешено, из-под копыт вылетали комки грязи и ударяли в разгоряченные, красные лица воинов...
За конницей скорым шагом двигались пешие колонны; плотными рядами, плечом к плечу, спешили они на поле боя.
Крик огласил поле: русские полки вызывали врага на бой. Им ответил дикий рев татарского войска. Равнина была наполнена конниками Япанчи, которые в неудер-
жимом порыве еще продолжали преследовать полк Горбатого.
Появление русских из засады изменило картину боя. Задние ряды татар сделали пол-оборота и бросились навстречу шемякинской коннице.
Воевода Шемякин скакал впереди своих рядов; стальная броня и высокий шлем со спущенным забралом защищали его от неприятельских стрел. Рядом с ним держался богатырь-телохранитель, готовый защитить воеводу в опасную минуту.
— Как куроптей накроем сетью! — громовым голосом прокричал телохранитель.
Из-под спущенного забрала скорее уловил, чем услышал ответ:
— Их голыми руками не возьмешь!
Ряды противников сближались быстро. Ветер свистел в ушах скакавших всадников. Ободряя своих, перед татарскими полками неслись сотники и пятидесятники. До русских доносился гортанный боевой клич на самых высоких нотах, какие доступны человеческому голосу.
Поднимая коней на дыбы, сшиблись с треском и грохотом. Стук мечей, бердышей, удары щитов о щиты, храп лошадей, крики и стоны...
Воины, сбитые с коней, поражали стрелами неприятельских всадников и лошадей.
Полки Горбатого-Шуйского прекратили притворное бегство и повернулись лицом к противнику. Татары оказались в кольце. Теперь только не дать врагу прорваться и спастись в лесах!
Воины Япанчи поняли опасность, однако не растерялись. Яростно набрасывались они на русских. Но кому удавалось пробиться сквозь цепь конников, тот наталкивался на пехоту, встречавшую татар ливнем стрел. Всадники валились с седел, кони с диким ржаньем носились по полю, увеличивая сумятицу боя.
Силач Филимон и казак Ничипор Пройдисвит рубились рядом, плечо к плечу, стремя в стремя. Филимон рубил татар тяжелым бердышом. Кто увертывался, того настигала сабля Ничипора. Они вдвоем рассекали татарские ряды, расчищая дорогу русским ратникам.
Великан — хранитель Шемякина — в сумятице боя
1 Куроптй — куропатки.
потерял воеводу. С победным кличем: «Жива Русь, жива душа моя!» — он рассыпал удары направо и налево.
Япанча метался по полю сражения, пытаясь навести порядок среди своих смятенных полков.
Телохранитель воеводы налетел на Япанчу с огромным мечом, поднятым над головой.
— Алла, алла! — Япанча с гортанным визгом нанес противнику страшный удар ятаганом.
Татарский ятаган налетел на русскую закаленную сталь и со звоном разлетелся...
Гибель Япанчи довершила расстройство татар. Их охватил страх. Они не держали уже боевого строя и только старались прорваться сквозь русские полки. Не многим удалось достигнуть лесной чащи — почти все погибли под ударами мечей, от стрел и пуль.
Истомленные, перепуганные татары бросали оружие и сдавались. Среди порубленных татар мало было крашеных бород. Пытать боевое счастье с Япанчой вышла в поле молодежь. Эта молодежь лежала на широком поле с разрубленными головами, со стрелами в груди, в боку...
Набегам Япанчи пришел конец. Из многих тысяч татарского войска, погнавшихся за полком Горбатого, осталось триста сорок человек, сдавшихся в плен.
Не дешево и русским обошлась победа. Память об Арской битве сохранила песня:
Казань-град на горе стоит, Казаночка-речка кровава течет. Мелки ключики — горючи слезы, По лугам-лугам — всё волосы, По крутым горам — всё головы Молодецкие, всё стрелецкие..,
Глава XI
НИКИТА БУЛАТ В ТЮРЬМЕ
После разгрома Япанчи 1 положение осажденной Казани сильно ухудшилось. Конники Япанчи уже не налетали на русских с тыла. Зато усилился отпор татарского войска, засевшего в городе.
1 30 августа 1552 года.
Татары делали ожесточенные вылазки большими си-лами, вступали с московскими стрельцами и казаками в рукопашный бой. Отбитые, они скрывались ненадолго и появлялись, подкрепленные новыми бойцами.
Русские пушки беспрестанно били по городским стенам и воротам; огонь стрелецких пищалей не давал татарам сосредоточиться на стенах.
Голоса человеческого не слышно было от грома пушек, от треска пищалей. Ратники передавали приказания воевод знаками или кричали, приложив губы к уху товарища.
Наконец татарское сопротивление ослабело. Боярские дети, казаки и стрельцы заняли рвы и продолжали усиленную стрельбу по стенам из луков и пищалей.
Михайла Воротынский утвердил туры на расстоянии всего пятидесяти саженей от городских стен.
За турами и во рвах — повсюду прятались от обстрела русские воины. На стенах лежали татарские лучники и стрелки из пищалей. Противники зорко следили друг за другом, и только ночь давала московским ратникам возможность сменять посты.
* * *
Разорив посады и укрепившись под самыми стенами, русские продолжали бить по городу из тяжелых пушек.
Стены терпели малый ущерб; зато ядра, перебрасываемые через стены, разрушали и поджигали дома. Дым от пожаров носился тучами, застилая солнце, не давая защитникам города свободно дышать.
От русского обстрела больше всего страдали укрывшиеся в городе жители посадов и ближайших сел. Перед приходом русского войска хан Едигер разослал по окрестностям Казани землю и воду. Это означало, что отказавшиеся воевать с русскими будут лишены и земли и воды. Не осмеливаясь противиться приказу, на зов Едигера явились тысячи татар, башкир, марийцев, ар-ских чувашей. Они раскинули войлочные кибитки на каждом свободном клочке земли. Около кибиток задымились, запахли едким кизяком 1 костры, закопошились
1 Кизяк — топливо из сушеного навоза, смешанного с соломой.
полуголые бронзовые ребятишки. В тесном городе стало еще теснее. Меднобородые домовладельцы приходили к кадиям и муллам жаловаться на пришельцев:
— Лазают по садам, яблоки обобрали, деревья на дрова рубят!
— Терпите, — отвечали кадии. — Это защитники города.
Теперь этим защитникам приходилось тяжко. Каленые русские ядра зажигали их легкие жилища. Лишенные крова пытались ворваться в дома богачей, но привратники их прогоняли. Погибающая от голода и холода беднота с радостью покинула бы город, если бы это было возможно.
* * *
Хатыча явилась в каморку Булата послом от Джафара-мирзы. Старый зодчий стоял перед ней маленький, истощавший. Но синие глаза по-прежнему смотрели решительно.
Хатыча уговаривала старика:
— Образумься! Али тебе жизнь не мила? Сгинешь за упорство!
— Сгину, а своих не выдам!
— Эх, Никита, досупротивничаешь до беды! Царю Ивану Казань не взять, уйдет восвояси...
— Того не будет! — гневно вскричал Булат. — Поди прочь, змея!
Никиту вызвал управитель. Маленький горбун набросился на старика:
— Проклятый раб! Осмеливаешься противиться приказу самого Музафара-муллы!
Джафар ударил Никиту по лицу. Старик покач* нулся:
— Смерти не боюсь!
— Врешь, хитрый старик! Убивать не стану, нам знающий строитель нужен. Мы тебя заставим работать!
— Несбыточное дело! — твердо возразил Булат.— Противу своих не пойду!
— В зиндан его!
Никиту, избитого, бросили в подземную тюрьму. Сторожить поставили кривого чуваша Ахвана.
Вечером к зиндану пробралась Дуня. Худощавый, обтрепанный Ахван зашептал сердито:
— Эй, девка, зачем пришла? Мне из-за тебя голову долой!
Дуня протянула Ахвану монетку. Чуваш отрицательно покачал головой:
— Ай-ай, щедрая девка, знаешь, чем бедного невольника ублаготворить! Только я у тебя деньги не возьму. Говори скорее: что надо?
Девушка быстро заговорила:
— Я знаю, тебе приказано дедыньку бить и голодом морить. А ты не бей... и вот... отдашь ему! — Она сунула Ахвану узелок с едой.
— Ой-ой! — сморщился сторож. — Узнает Джафар-мирза...
— А как он узнает? Ты скажешь, или я скажу, или дедушка скажет?
— Хо-хо! Хитрая девка!.. Наверно, догадалась, что я татарам подневольный слуга...
На гнилую солому к ногам Никиты упал узелок с хлебом и сушеными фруктами. Удивленный пленник посмотрел вверх. Оттуда сверкал единственный глаз Ах-вана.
— Ешь, внучка принесла! Платок спрячь...
Управитель часто наведывался в темницу.
— Поддается урус? — спрашивал он Ахвана.
— Нет, мирза. Старик, как кремень, крепкий. Я его бил-бил, руки отколотил!
— Голодом моришь?
— Морю, мирза! Даю хлеба, сколько ты приказал: одну крошку. Может, совсем не давать?
— Тогда сдохнет! Я его переупрямлю: пойдет к нам стены крепить!
Иногда управитель сам спускался в подвал, хлестал Никиту плетью; тот молчал, стиснув зубы. Разозленный Джафар убегал, а чуваш, ухмыляясь, мазал раны старика бараньим салом.
Когда Дуня, улучив время, прибегала к Булату, он говорил скорбно:
— Ох, дочка, наживешь со мной беды! Лих, все наши дела откроются — плохо тебе придется.
— Ничего, дедынька! Я проворная, я тут все уголки знаю. Спрячусь!,
— Уходи, уходи, девка! — вмешивался кривой Ах-ван. — Оно хоть и все в руках аллаха, но и божьему терпению бывает конец.
Дни проходили за днями, а тюрьма не могла сломить упорства Булата. Он был крепок, как сталь, имя которой носил Никита.
Глава XII
ТАЙНИК
Русские отрезали татарам доступ к речке Казанке, но те не терпели недостатка в воде.
Осаждающим удалось узнать от перебежчиков, что в левом берегу Казанки выкопан тайник: каменный свод над родником, вытекающим из ската горы и впадающим в речку. К роднику вел под городской стеной подземный ход из Муралеевой башни.
Царь, обрадованный важным известием, приказал подрыться под тайник и взорвать его.
Выродков призвал начальника строителей Голована и приказал:
— Будешь подкапываться под водяной тайник. Нам каждый день и час дорог. Наказ тебе, Андрей, один: людей бери сколько хочешь, а работу сделать быстро!
Осматривать местность пошли трое: Голован, Аким Груздь и казак Филимон, накануне лишившийся коня в битве с Япанчой.
Андрей шел и смотрел на волосатое разбойничье лицо Филимона: в нем чудилось что-то знакомое. У Голована была необыкновенная память художника на лица: кого он хоть раз видел, никогда не забывал.
Перебирая воспоминания, Голован радостно вздрогнул: перед его глазами встал жаркий день, тополевый пух, как снег летящий в воздухе, черное воронье над облезлыми луковками церквей Спасо-Мирожского монастыря и два монаха, поносящие друг друга скверными словами...
— Отец Ферапонт! —крикнул он внезапно.
-— Ась? — испуганно отозвался казак, потом опомнился:— Это ты мне? Меня Филимоном кличут. Голован насмешливо улыбнулся:
— Забыл отца Паисия, кружку, из коей серебро пропало?
Беглый монах зашептал умоляюще:
— Молчи! Меня в монастырь упрячут! А мне охота с неверными подраться...
— Не выдам. Как в войско попал?
— Долгая песня, — пробурчал мужик. — Как сбег я из чернецов, пришлось разное испытать... Дивлюсь, как признал меня?
— Яс каменщиками был, когда тебя собирались на чепь посадить.
— Ну и память! Ты, сделай милость, кличь, как все, Филимоном. Меня так до монашества звали... А ты, добрый человек, — поклонился он Акиму, — тоже попридержи язык.
— Мне болтать не к чему, — отозвался Груздь.
За разговорами подошли к месту, где находился под землей водяной тайник. Голован убедился, что удобнее начинать подкоп из каменного здания, занятого казаками. Это была торговая баня.
— Из мыльни начнем подкоп, — доложил строитель Выродкову. — Земля окрест размокла от непрестанного тока воды из мыльни. Изнутри станем копать, а землю выносить через задние двери. Со стен не видно будет.
Иван Григорьевич Выродков одобрил предложение Голована, и работа началась. Десятки полуголых людей работали и днем и ночью, сменяя друг друга по четыре раза в сутки. Землю раскидывали по ночам, и татарские дозорные ничего не подозревали. Доски и бревна для крепления подкопа подносили тоже по ночам и прятали в здании бани.
3 сентября Голован доложил Выродкову, что работа окончена. По царскому приказу князь Василий Серебряный отправился проверить донесение.
Тучный князь, пыхтя от усилий, спустился в подкоп. Дорогую шубу испачкал о грязные подпорки.
— Оставил бы шубу наверху, князь, — посоветовал Голован.
— Мне без шубы ходить по моему сану не пристало,— отвечал с досадой князь. — И ты об моих шубах не тужи — у меня их привезено достаточно!
— Воля твоя, боярин!
Филимон и Аким, светившие князю факелами, насмешливо переглянулись.
Над головой послышались шум и тарахтенье.
— Что это? — громко спросил Серебряный.
— Тише, князь! Это татары везут воду на таратайках.
Все прислушались. Сверху доносились неясные звуки голосов. Боярин и его спутники повернули обратно. В подкоп было заложено одиннадцать бочек пороха.
* * *
В ночь на 4 сентября за мыльней и в самом здании спрятались отряды стрельцов и казаков. На рассвете осмотрели оружие, подготовились к бою.
Князь Василий Серебряный принял из рук Голована огонь, поджег бечевку, натертую порохом, и синяя змейка, извиваясь, побежала внутрь подкопа.
— Выбегайте из мыльни! — закричал Голован.
Тесня друг друга, бросились к выходу.
Едва успели укрыться в безопасном месте, как взрыв потряс воздух. На месте, где кончался подкоп, взвился огромный столб из земли, камней, бревен... Глазам изумленных русских представилась лошадь, вместе с водовозкой выброшенная силой взрыва и бившая по воздуху ногами.
От Муралеевой башни отвалился громадный кусок и с шумом ударился о землю. Из города донесся вой: множество татар погибли от камней и бревен, валившихся на них с высоты.
Еще пыль не улеглась, еще не опомнились казанцы от внезапного страха, как русские пошли на приступ. Стреляя из луков, они ворвались в пролом, смяли защитников стены и пошли по улицам, в глубь города. Навстречу им спешили толпы воинов Едигера. Их вел суровый Кебяк. Закипела битва...
Русские отошли: решительный штурм города не входил в их намерения.
Казань лишилась питьевой воды. Только в ханском дворце, в саду у Кулшерифа-муллы и в усадьбах немногих вельмож имелись колодцы с доброкачественной водой; но они были не для бедноты. Жажда и заразные болезни валили простой народ сотнями. .
Кулшериф-мулла от немногих оставшихся ему верными слуг узнавал о страданиях и лишениях казанцев. Сеид давно уже считал сопротивление бесполезным; он понимал, что Казань обречена, а сотни и тысячи человеческих жертв напрасны.
Кулшериф-мулла отправился к хану Едигеру и долго говорил с ним наедине. Содержание разговора осталось втайне, но любопытные придворные заметили, что первосвященник вышел от Едигера необычайно мрачный, с судорожно подергивающимся лицом. И сейчас же вслед за этим хан вызвал Музафара-муллу.
Совещание Едигера с сыном сеида было продолжительным, и когда Музафар покидал дворец, его глаза горели скрытым торжеством.
Предсказатели, в которых нет недостатка при любом дворе, шушукались втихомолку:
— Произойдут важные перемены!
И перемены действительно произошли.
Возвратившись во дворец, Музафар-мулла вызвал управителя. Достав из тайника флакон с ядом, Музафар показал его Джафару-мирзе:
— Знаешь ли, что это такое?
— Знаю, эфенди!
Безобразное лицо горбуна искривилось наглой усмешкой, и он достал из складок одежды точно такой же флакон, а на его пальце появился дорогой перстень с таинственными знаками — печать, дающая право писать тайные послания турецкому султану.
— Так это ты должен был стать моим палачом, если бы я не выполнил повелений Солимана? — с невольной дрожью в голосе воскликнул Музафар-мулла.
— Я, эфенди!.. Но, как видишь, до этого дело не дошло, и я понимаю, что мы должны выполнить иной приговор...
— Ты не ошибся... — Музафар низко опустил голову.
Через неделю народу было объявлено, что волею всемогущего аллаха Кулшериф-мулла скончался и на первосвященнический престол вступил его сын Муза-
фар-мулла. Осада города помешала отметить это важное событие торжественными праздниками и пирами, как это было в обычае.
Глава XIII
НОЧНОЙ поиск
Непогожая осень выдалась в год похода на Казань.
Сентябрь подходил к концу, сея проливными дождями, одевая землю туманами, пронзительно дыша холодными ветрами, прилетавшими из северных пустынь. Русским ратникам негде было обогреться, обсушиться, по неделям ходили они в мокрой одежде...
Спускался вечер. Серые клочья тумана бродили над болотами. Под стенами города не было такого многолюдства, как днем. Царь Иван ввел в войске новшество: чтобы уменьшить потери от неприятельского огня, он оставлял у города самое необходимое число ратников, а остальных отводили в безопасные места.
Головы и начальники расставили ночную стражу, отдали строгий приказ:
— Стоять смирнехонько, песен не орать, на кулачки не биться, зернью 1 не играть!
У костра сидели Нечай, Демид Жук и их товарищи. Все они уцелели в боях, только Луке Сердитому стрела поцарапала руку, когда он увлекся перебранкой с татарами и вылез из-за прикрытия. К их кружку примкнул еще украинец Ничипор Пройдисвит: в коннице не было надобности, и сотни временно слили с пешими ратниками.
Чубатый Ничипор расположился у маленького костра. Его высокая барашковая шапка валялась в стороне: казак зашивал разодранные шаровары.
Нечай с Жуком начали устраиваться на ночлег.
— Эх, и соскучился я по избяному теплу! — бормотал Нечай. —Еще ладно, что сплю на рядне, покрываюсь рядном, под головой рядно...
Дубае простодушно спросил:
— Где ты столько набрал? Дай хоть одно!
Нечай рассмеялся: 4
4 Зернь — азартная игра вроде игры в кости.
— Да у нас и всего-то одно!.. Ладно, парень, лезь к нам, теплее будет.
Из темноты вынырнул Лука Сердитый, ходивший проверять дозоры.
— У нас еще не повалились? — спросил он.
— Укладываемся, — отвечал за всех Нечай.
Подошел стрелецкий голова:
— Ложитесь? Добро: сосните до полуночи. Вам отдохнуть надобно — сею ночыо пойдете татаришек пошарить.
— О це гарно!1 — восхитился Ничипор, накладывая последние стежки на свои широкие штаны.
Через час после полуночи стрельцы закопошились: шли сборы. Голова давал Луке Сердитому последние наказы:
— Гляди, чтоб у тебя ходили круче! Языка как хо« тите, а должны приволочь!
— Достанем! — отвечал олончанин, польщенный, что его назначили старшим. — Нельзя только на небо влезть... А где у меня Нечай?
— Стою перед тобой, как лист перед травой! — от* кликнулся из темноты Нечай.
— Кто из вас пойдет со мной: ты али Жук?
— Обое2 пойдем!
— Не возьму обоих: шум подымете. Забыл, как позапрошлую ночь, на дозоре стоючи, до того раскричались, что весь стан взбудили и за то отодраны были нещадно?
— Так то ж не я!
— А кто?
— Да всё Демид! Ему слово, а он два! Ему два, а он десять!
— Хо-о-хо! Это Демид-то десять?
Нечай понял, что хватил через край.
— Лука! Возьми обоих: мы друг без дружки никуда!
Белоглазый Лука смягчился:
— Ладно... Только чтобы ни гугу! Мне за вас ответ держать... Дубаса взбудили?
— Здесь Дубае!—отозвался парень.
1 Это хорошо! (укр.)
2 Обое — оба.
•— Все готовы? — спросил голова.
— У нас сборы короткие, — ответил Лука.
— В путь! Держитесь опасно, а мы, ежели что, гря^ нем на подмогу! — Голова шепнул Луке тайное слово для обратного прохода.
Ратники разобрали вооружение: топоры, рогатины, кистени. Василий Дубае, считая обычное оружие пустяком, раздобыл толстый дубовый кол.
Лука вел отряд по узким деревянным мосткам, остальные ступали за ним след в след: кто срывался — угрязал выше колен в липкую грязь. Мостки для пешеходов пролегали по русскому стану во всех направлениях.
Миновали последнюю цепь дозорных; дальше шла полоса, простреливаемая днем со стен. Мостки кончились, идти стало труднее, грязь захватывала ноги и чавкала, когда их вытаскивали. Звук казался разведчикам настолько громким, что они удивлялись, как его не слышат татары.
Русские знали: у внешнего края крепостных стен казанцы установили тарасы — огромные ящики, наполненные землей. За тарасами скрывались от русских пуль и стрел татарские передовые посты. Пощупать такой пост и направлялись разведчики. Впереди шел остроглазый паренек, зорко присматриваясь к кочкам и буграм. Враг скрывался поблизости.
Шли десять или пятнадцать минут, но воинам казалось, что время остановилось, что бредут они без конца, с усилием освобождая ноги из липкой грязи и смутно различая идущих рядом.
— Алла, алла! — раздались неистовые крики.
Татарский караул!
— Бей без жалости! — свирепо рявкнул голосистый Лука.
Закипел ожесточенный бой. Темнота недолго скрывала сражающихся. Казанцы, не охотники до боя во мраке, повсюду расставили бочонки со смолой; около них держались караульные с горящими фитилями.
Ослепительно яркий после тьмы вспыхнул желтый огонь. Враги увидели друг друга. Численность отрядов была почти равной, но из приотворенных ворот бежали татары, ободряя своих дикими воплями.
Самый молодой ратник лежал на земле с разрублен-
пым плечом. Шапка свалилась с парня, русые кудри разметались по грязной земле. Один из воинов душил руками коренастого татарина с побагровевшим лицом. Ничипор Пройдисвит прыгал туда и сюда: в его руках играла сабля, и после каждого взмаха валился татарин.
Василий Дубае крушил неприятелей огромным колом. Лука Сердитый, Демид Жук и Нечай перли с рогатинами, как на медведя...
Бой был недолог, и победа клонилась на сторону наших, но к татарам приближалась подмога. Где-то и русские трубы играли, но ждать своих скоро не приходилось. Краснолицый Лука, приклоняясь к земле, подкрался к Дубасу, дернул за полу.
— Назад побежим — татарина ухвати!
— Живого?
— Живого!
Дубае свистнул дубиной над головой ближайшего противника — татарин присел от ужаса. Василий схватил его за руку, вырвал клынч1, перевалил пленника через плечо, как куль. Тот взвыл, по Ничипор кольнул его саблей:
— Замолчь, бисов сын!
Русские отступали. Седой ратник с усилием волок раненого сына; к нему подоспели на помощь другие. Демид Жук, олончанин Лука, казак Ничипор, Нечай и еще несколько ратников, пятясь, сдерживали напирающих татар. Свистели татарские стрелы, но огонь догорал, тьма снова крыла землю... Жука стрела ударила в грудь, но в его шубе была вшита железная пластина, и стрела отскочила. Еще двое были ранены, прежде чем стрелы перестали настигать отходящих.
Погоня отстала.
Двое стрельцов остались лежать под стенами крепости, несколько раненых тащились с помощью товарищей. Татары потеряли втрое больше.
— Кто там? — раздался голос из тьмы.
— Эвося! — язвительно отозвался Лука. — Своих не спознал?
— Тайное слово говори!
— Дай поближе подойтить! Что я, заору тебе на весь
1 Клынч (татарок.) — сабля.
белый свет? — Сердитый подошел к дозорному» молвил тихо: — «Меч государев!»
— Проходи!
Шли к лагерю, гордые успехом.
— Васька, спусти татарина!
— Зачем?
— Да ведь тяжело тащить!
— Еще одного давай, и то снесу!
Голован и оставшиеся товарищи встретили своих радостно. Пожалели погибших, но на войне горевать неко-гда. Всеобщее внимание обратилось на пленника. Хорошо одетому татарину в чужом стане было не по себе, он оглядывался со страхом и ждал смерти.
— Молодцы, молодцы! — радостно говорил голова.— Скоро обернули дело — и часу не промешкали. А ты, — обратился он к пленнику по-татарски, — думаешь, тебе башку снимем?
— На все воля аллаха...
— Так вот, друг: коли полезен будешь, башка твоя на плечах останется. Утром отведем тебя к воеводе. Спи, коли можешь.
Скоро в русском стане водворилась тишина.
Так проходили боевые ночи под Казанью.
Глава XIV
НИКИТА БУЛАТ У ЕДИГЕР А
Ветры с севера приволакивали снежные тучи. По ночам морозило, лужи покрывались коркой льда. Утром белый иней устилал землю, деревья, палатки, землянки и шалаши воинов, богатый царский шатер, крытый дорогой парчой.
Предводители мятежных казанцев ждали прихода зимы с надеждой, понимая, что Казань не выдержит долгой осады. Народ роптал: люди погибали от голода и дурной воды во множестве.
Муллы призывали народ к терпению и напоминали верующим:
— В рамазан1 не едят же по целым дням!
1 Рамазан — мусульманский пост; верующие постятся днем, ио ночью могут есть что угодно и сколько угодно.
— Зато ночью едят! — возражали раздраженные слушатели.
— Ночью спать надо, а не есть! — вывертывались хитрые муллы. — А кто терпеть не хочет, ступайте к уру-сам: там с вас с живых кожу сдерут — боярские седла обтягивать!
Но в народе шел слух, что урусы обращаются с перебежчиками совсем не так сурово, как твердят муллы и беки. Русские старались доказать это осажденным. Пленников выпускали под самые стены, и они бодро орали:
— Эй, люди! Сдавайтесь московскому царю! Он справедливый, он щедрый, пленных не бьет, хорошо кормит!
Со стен отвечали:
— Уходите, собаки, изменники! Стрелять будем!
— Урусы не побили, а вы бить собираетесь?
— Голова предателя не должна оставаться на его плечах!
— Снимите, если можете!..
Камай-мурза часто появлялся под стенами и тоже уговаривал сложить оружие, обещая милость русского царя.
— Этот Камай, должно быть, заговорен, — завистливо твердили голодные казанцы, — его и стрелы не берут. Молодец, вовремя к урусам убежал!
— Краснобородым хорошо, — летал шепоток, — они запасли еду.
— И запасать нечего: у них во дворах живой махап 1 ржет...
— Махан!.. У-уй... — Собеседники облизывали пересохшие губы.
# * *
Нишану Джафару-мирзе пришла хитрая, как ему показалось, мысль. Никита Булат не соглашался работать на татар — значит, надо использовать его по-другому.
Джафар-мирза приказал привести Никиту из тюрьмы. Булат явился в сопровождении Ахвана, изнеможенный, страшно похудевший, но по-прежнему крепкий духом.
— Держишься, старик? — удивился управитель и неожиданно добавил: — На волю хочешь?
1 Махан (татарск.) — конина.
— Кто же отказывается от волн!
— Мы тебя отпустим.
— Из тюрьмы освободите? — спросил Булат.
— Из Казани выпустим, к своим пойдешь!
— Наверно, неспроста такая милость?
Джафар-мирза понял не сразу:
— Что ты сказал, старик?.. А, ты хочешь знать, что должен за это сделать? Немного. Ты хоть и в зиидане, а знаешь, что ваши город взять не могут. И никогда не возьмут: только новые тысячи и тысячи трупов уложат под нашими стенами. А зачем? Жизнь человека — дар аллаха, и бесцельно отдавать ее — грех...
— Сладко поёшь, — не удержался Никита. — Не верится мне, что тебе русских жалко стало!
Джафар-мирза продолжал, не слушая старика:
— Мы тебя выпустим во время вылазки. Скажешь, что удалось убежать. Пойдешь к царю Ивану и посоветуешь бросить осаду...
— Царь Иван только и ждет моего совета! — усмехнулся Булат.
— Ладно, не советуй, — согласился Джафар. — Просто скажи: «Сильна Казань! Много в Казани храбрых воинов, бесчисленны запасы оружия, на два года хватит пищи. Источник воды подорвали порохом, а у них другие есть...»
— И ты веришь, что я это скажу царю?
— Слово дашь — поверю!—серьезно ответил управитель.
— Жаль, я не обманщик, — молвил Никита. — Если б я обещания рушил так легко, как вы, казанцы, я б десять клятв дал, а царю Ивану Васильевичу сказал бы: «Не уходи от города, государь! Изнемогает Казань, и близок ее конец. Со славой заканчивай великое дело, государь!»
Лицо управителя побагровело от гнева, но он сдержался и долго уговаривал Никиту, обещая за услугу золото, драгоценные камни. Старик остался тверд.
Через два дня, думая решительно воздействовать на Никиту, его повели к самому хану Едигеру.
Булат с тревожным любопытством осматривался, идя по улице под конвоем кривого Ахвана и силача-привратника Керима. Дорогу перегородило шествие: сотни татар с диким воем, качаясь вправо и влево, двигались
вперед в сумасшедшей пляске. Рослый дервиш 1 со страшными глазами, возглавлявший процессию, был обвешан амулетами2, ножами и кинжалами, дребезжавшими и стучавшими друг о друга при каждом его движении.
— Святой... — прошептали спутники Никиты, кланяясь дервишу до земли.
Дервиш потрясал зеленым значком на длинном древ-* ке; его ученики колотили в бубны.
— Аллах великий, милосердный! — кричал дервиш. — Пошли нам победу над гяурами! — И он снова терзал длинными ногтями израненную грудь.
Следуя примеру дервиша, и другие царапали лицо, колотили себя ножами... Сумасшедшие глаза, исступленно машущие руки...
— Хорошо, старик, что ты по-татарски одет! — прошептал кривой Ахван. — Если бы узнали, что ты — урус, разорвали бы на клочки.
Вздохнули свободно, когда дервиш и его спутники скрылись за углом.
— Вот из-за таких святых людей башка пропадает!— с неожиданной злостью сказал привратник Керим.— Слушай, друг: когда ваши город возьмут, заступишься за меня? — Татарин улыбался подобострастно.— Я Урусов не обижал, я их люблю, они хорошие люди...
— Стало быть, думаешь — наша берет?
— Судьба! — пожал плечами Керим. — Я тебе смени ное дело расскажу, урус! У нас в Казани много пленных армян, хороших пушкарей. Как ваши пришли, их всех к пушкам поставили — урусов бить.
— И метко стреляют?
— Где там метко! — ухмыльнулся Керим. — Знаешь, чего сделали? Все от пушек поубегали.
— Молодцы! — невольно вырвалось у Булата.
— Их наши мурзы переловили, нагайками отдули и к пушкам цепями приковали.
— И что же теперь? — спросил Никита.
— Сидят, лежат, отдыхают! — захохотал Керим. —
1 Дервиш — мусульманский монах.
2 Амулет—- предмет, носимый суеверными людьми как волшебное средство, предохраняющее от несчастья.
Им есть не дают, а они говорят: «С голоду помрем, а в братьев-урусов стрелять не будем!» Упрямые, черти! Скоро им, наверно, башку рубить будем: пользы нет, зачем держать!.. Так заступишься за Керима, урус?
— Да уж обещал...
Перед угрюмой громадой ханского дворца сновало множество воинов. Ахван и Керим провели Никиту между двумя четырехугольными башнями, схваченными вверху стрельчатой аркой.
Миновали несколько огромных залов, слабо освещенных зарешеченными окнами, расположенными под потолком. В залах гудел и волновался народ: беки со сви-; тами, мурзы, нукеры — телохранители хана, муллы в белых чалмах. Многие ожесточенно спорили, размахивая кулаками; их унимали другие:
— С ума сошли — заводите драку в покоях грозного хана!
По растревоженным лицам толпы, по неровному и суматошливому гулу Булат догадался: «Плохо у них дело... Недаром они так меня уговаривают царя Ивана Васильевича обмануть!»
Перед Никитой открылся величественный тронный зал казанских ханов.
Едигер, молодой, черноусый, с красивыми, тонкими чертами лица, сидел на подушках, устилавших возвышение. За ним виднелся сеид Музафар в великолепном халате из раззолоченной материи. Сзади стояли придворные с красными бородами, с ладонями и ногтями, натертыми хной.
У дверей Никиту перехватил Джафар-мирза. Ахван с Керимом остались у порога. Управитель шепнул Булату с кривой улыбкой:
— Видишь, уста-баши, какой удостоился чести: тебя принимает сам хан! Выполняй мои приказания!
Булат шел вперед, маленький, щуплый, но в нем чувствовалась непреодолимая сила убеждения. Подведя старика к подножию трона, Джафар-мирза сказал негромко:
— Становись на колени!
— Не стану! — ответил Никита по-татарски.
— Раб! — разразился гневом Музафар-мулла.
— Полонянник — не раб! — возразил Никита.
Толпа краснобородых придворных испуганно зашелестела; Джафар злобно толкал Булата в затылок, пы* таясь силой заставить его выполнить приказ.
Едигер рассмеялся и сказал:
— Оставь, мне его смелость нравится... Здравствуй, отважный урус!
— Коли по-доброму, так здравствуй, хан! — Никита поклонился чин чином, перешел на родной язык: — Что твоей ханской милости угодно?
— Угодно, чтобы ты принял наше поручение и донес царю Ивану, насколько крепка и могуча Казань!
— Али я выродок, что супротив своих пойду? — вое* кликнул Булат, покачав головой. — Лучше кончите меня сразу!
Слова Булата были переведены.
— Мы требуем немного: передашь, что приказано, а ваш царь сам решит — кончить осаду или продолжать.
— Я не двуязычный: что на сердце, то и буду гово* рить! — ответил Булат.
— Смелый урус! — сказал хан Едигер. — Если бы наши все таковы были, никакая земная сила не одолела бы поклонников Мухамеда, Отпустите старика, не принуждайте к тому, что запрещает ему душа.
— Прощай, хан! — низко поклонился Булат. — Же* лаю тебе добра.
Управитель уловил злобный блеск в глазах Музафа* ра и едва заметный кивок головы.
— Рано обрадовался, урус, — насмешливо загово* рил Джафар-мирза, когда оставили приемный зал.— Думаешь, выйдет по-твоему?
— Это что же: жалует царь, да не жалует псарь?
Опять Никиту пытали, истязали тело, но душу ело* мить не могли.
Вечером к старику прибежала Дуня.
— Эх, некстати ты, дочка, пришла! — вздохнул Бу* лат, не в силах приподняться с соломы.
— Дедынька, замучают тебя! — зарыдала Дуня, при* жимая к груди седую голову старика.
— А хотя бы и так... Один раз смерть принимать. Страшна не смерть — страшна измена.
Девушка тихо плакала. А Никита продолжал:
— Как придут наши, Дунюшка, скажи; жил-де
честно и умер честно. Пускай похоронят по отцовскому обычаю.
— Не умрешь ты, дедынька!
Девушка вспрянула, глаза ее высохли. Она сорвала ожерелье из серебряных монет — единственную свою ценность, сунула сторожу:
— Ахван, милый! Подкупи палачей, лекарства возьми у костоправов... Ходи за дедынькой, как за родным отцом.
— Все сделаю по-твоему! — обещал сторож. — Бедному чувашу какая корысть в стариковой смерти! Ведь я родом с Горной стороны, а наши теперь с русскими заодно...
Глава XV
ГУЛЯЙ-ГОРОДА
С печальными трубными звуками неслись на юг журавли и гуси, предвещая ранние холода. Придет сердитая пурга, заметет сугробами поля, занесет палатки и шалаши ратников...
Затяжные дожди превратили сухие места в болота. Реки вздулись и вышли из берегов. Не только Казанка и Булак, но даже крошечные Ички, Верхняя и Нижняя, так разбушевались, что пришлось перекидывать через них мосты.
Окрестность казанская была завоевана; после разгрома Япанчи русские рассыпались по татарскому царству, захватили все крепостцы, в том числе самую сильную — Арскую.
Оставалось взять город; но он по-прежнему держался твердо. Меткий огонь казанских Пищальников и лучников приносил большой вред осаждающим. Правда, русские находились вблизи стен Казани, но им целый день приходилось прятаться за тынами и тарасами: высунет кто голову — и в воздухе жужжат стрелы.
Надо было прогнать казанцев со стен, чтобы осадные работы пошли успешнее.
Царь отдал приказ начальнику инженеров Ивану Вы-родкову, а тот призвал Голована. Передав ему разговор с царем, Выродков спросил:
— Ты про гуляй-города слыхал?
— Слыхивал, — ответил Андрей. — Это высокие башни на колесах.
— Ну, а видать-то их, конечно, не приходилось? — улыбнулся дьяк.
— Где мне было их видеть! Я на осаде в первый раз.
— Так вот, слушай, Ильин: чтоб были готовы два гуляй-города на две сажени выше городских стен. Срок даю трое суток.
— Ого!—Андрей почесал затылок.
Впрочем, он понимал необходимость такого жесткого срока: каждый день уносил из среды осаждающих десятки жертв.
Голован собрал мастеров, рассказал, какая трудная задача им предстоит. Среди строителей оказался Фома Сухой. Старику перевалило за шестьдесят, в молодости он участвовал в знаменитой осаде Смоленска, который был взят войсками Василия III в 1514 году. Там Фома видел гуляй-города и даже помогал строить их.
Расспросив Сухого, Голован со свойственной ему силой творческого воображения углубился в составление чертежа. Тем временем подручные поставили большую часть отряда на заготовку бревен, брусьев и громадных балок. Запас гвоздей и железных скоб подходил к концу, и часть плотников принялась разбирать ненужные тыны и настилы, оставшиеся в тылу. Они вытаскивали гвозди и скобы, а кузнецы в походных кузнях выправляли их и заостряли. Работа кипела: ни одной пары праздных рук не осталось в строительном отряде.
Голован показал чертеж башни Ивану Выродкову; тот одобрил.
Постройка гуляй-городов велась в укромном месте, вне досягаемости казанских пушек. Нижняя клетка из толстых бревен была водружена на четыре пары сплошных деревянных колес, обтянутых железными шинами. На нижнюю клетку поставили следующую — поуже и полегче, и так продолжали до самого верха.
Башня имела вид усеченной ступенчатой пирамиды с верхней площадкой, обнесенной крепкими стенами с бойницами для пушек и пищалей. Внутри башни шла лестница наверх. Сооружение оказалось своеобразно красивым и напоминало деревянные шатры церквей, воздвигаемых на севере.
Пока с лихорадочной поспешностью строились баш
ни, стрельцы и казаки, отряженные в помощь плотникам, соорудили прочный настил от места стройки к город-ским стенам.
На третью ночь строительство было закончено. В каждую башнювпрягли десятки лошадей, и громадины, смутно освещенные колеблющимся светом факелов, тронулись вперед, скрипя колесами.
Хмурым осенним утром казанцы увидели против Ца-ревых и Арских ворот грозные гуляй-города, с их верхних платформ нацелились жерла пушек на городские площади и улицы. Теперь казанцам нельзя было прятаться на стенах, да и по улицам приходилось ходить с осторожностью.
Имя строителя башен Голована стало известно царю Ивану Васильевичу.
Москвич Кондратий выпросился наверх со своей пуш-кой. С высоты он зорко следил, что делается в городе, и, если появлялась группа неприятелей под прицелом, пускал ядро. Подручным при нем стоял бывший монах Филимон, которого Кондратий полюбил за приверженность к осадному делу, за то, что без устали подтаскивал ядра, отмерял порох лубяной меркой и подносил фитиль, когда надо было сделать выстрел.
С верхней платформы гуляй-города Кондратию довелось видеть казнь его бывшего товарища по неволе у Курбана — пушкаря Самсона. Отважный армянин первый отказался воевать против русских и своим примером увлек других товарищей — пушкарей. Казнью Самсона Музафар хотел навести ужас на его соотечественников и принудить их стать к орудиям.
В самый полдень на стену поднялась группа людей, и Кондратий уже собирался пустить в них ядро, как вдруг замер в удивлении. В толпе, появившейся на городской стене, было всего несколько татар; они окружали закованных в цепи смуглых горбоносых людей. В этих узниках Кондратий узнал армян, с которыми не раз сталкивался во время своего длительного рабства в Казани.
Одного из них вытолкнули вперед, заставили стать на колени и наклонить голову.
— Самсонушко! — ахнул Кондратий. — Родной!
Свистнул ятаган, и голова Самсона покатилась па
камни стены. Кондратий увидел, как размахивали скованными руками и кричали на татар армянские пушкари, а татары лупили армян нагайками.
После ожесточенного спора татары прогнали пленников со стены.
Кондратий так и не решился пустить ядро, боясь попасть в армян.
Позже русские узнали, что казнь Самсона не достигла цели: армяне так и не стали к пушкам, и всех их посадили в зиндан.
Иногда наверху гуляй-города появлялся Голован. Если он выходил на открытую часть платформы, Кондратий прогонял его в безопасное место.
— С ума сошел!—сердито кричал он. — Как раз стрелой сымут!
— Ты ходишь!
— Меня убьют — по мне плакальщиков нет. А ты свою голову должен беречь: за ней еще много-много долгов!
Кондратий был прав, советуя Головану быть осторожным: самому ему оплошность стоила жизни.
После одного особенно удачного выстрела Кондратий выбежал из-под укрытия. Длинная татарская стрела вонзилась ему в бок.
Кондратий умер на руках Филимона. Последними его словами были:
— Кланяйся родной Москве... Не довелось... вернуться...
С появлением осадных башен русские вплотную придвинули укрепления к Царевым и Арским воротам; между русскими турами и городской стеной оставался только ров в три сажени шириной и семь глубиной. Но пе< рейти такой ров было нелегким делом.
Глава XVI
ПЕРВЫЙ ПРИСТУП
Царь торопил воевод и инженеров: осада слишком затянулась.
Помимо подкопа, который лишил казанцев воды, подземных дел мастера вели еще три подкопа к городу: один поменьше — под татарские тарасы, что не давали
подступа к стенам; два других, на которые осаждающие возлагали все надежды, — под городские стены на двух удаленных друг от друга участках.
На подкопах, часто сменяясь, работали тысячи людей. Выродков и другие мастера по нескольку раз в сутки спускались в подземные ходы, проверяли направление при помощи «маток»1. Дело подвигалось успешно; плотники Голована крепили стенки и кровлю подкопов.
29 сентября закончились работы по проведению меньшего подкопа.
На следующий день войска приготовились к штурму. Против Царевых и Арских ворот стояли воеводы Горбатый-Шуйский, князь Михайла Воротынский и другие. На Аталыковы ворота вели войска Шереметев и Серебряный. С западной стороны отвлекать татарские силы поручено было полку Левой Руки — воеводы Плещеева.
Грохот взрыва раздался, едва рассвело. Все вздрогнули, когда взлетели огромной темной массой татарские тарасы и туры. Бревна, падая с высоты, убивали на стенах людей; сваливаясь во рвы, заполняли их, образовывали мосты для осаждающих. Татары с криками бежали со стен.
Заиграли русские боевые трубы, оглушительно заколотили колотушки по громадным набатам2, взвились знамена. Полки пошли на приступ. Стрельцы и казаки почти без сопротивления заняли Царевы, Арские и Аталыковы ворота. Этим достигли немногого. За стеной оказался второй глубокий ров с кое-где перекинутыми через него мостами; к мостам спешили сильные вражеские отряды.
Началась сеча. Несколько часов бились на мостах. Воины падали в ров, заваливая его трупами. Татары стали подаваться. Ободренные успехом, русские теснили их дальше. С Арской башни, занятой стрельцами, летели пули и стрелы, поражая татарских воинов.
Царь Иван смотрел на битву с высокого холма. Хмуря густые черные брови, он выслушивал гонцов,
1 Матка — компас.
2 Набат — огромный медный барабан, по которому били сразу несколько человек.
прибывавших с известиями о трудностях и неудачах; веселел, когда узнавал об успехах, посылал одобрение наступающим войскам.
Ближайшие к стенам городские кварталы пылали; пепел тучами носился в воздухе; бойцы в дыму плохо различали своих от врагов. И все же московская рать продвигалась, дошла до Тезйцкого рва, за которым был ханский дворец.
Но короткий осенний день клонился к вечеру. Татары сопротивлялись отчаянно. Ночью невозможно было драться с ними в запутанных, кривых закоулках незнакомого города.
Михайла Воротынский, в помятых от ударов латах, чуть не валясь с коня от усталости, вырвался из свалки, прилетел к царю с мольбой:
— Прикажи, государь, отвести войска! Завтра сумеем довершить приступ!
— Не с ума ли ты сошел, Михайла! — напустился на воеводу князь Андрей Курбский, состоявший в тот день в царской свите. — Не слушай, государь, срамца и труса, вели драться до окончания: подаются мухаме-даны!
Воротынский, стесненный броней, дышал тяжело; по багровому лицу, с которого воевода откинул забрало, струями катился пот. Он с мольбой смотрел в глаза царю.
— Крепки еще татары, государь! — не сдавался князь Михайла. — Раздробим силы, втянемся в неведомые градские пределы, сгубим рать...
За годы власти Курбский привык, чтобы ему все уступали, но Воротынский был упорен. Воеводы сцепились в споре, поносили друг друга — казалось, вот-вот вцепятся в бороды.
— Довольно! — хмуро молвил царь, покончивший со своими сомнениями. — Лжива твоя надменная храбрость, князь Андрей! Никогда не соглашаешься ждать удобного часа, воинство мое понапрасну сгубить хочешь! Приказываю: отводить полки! Осторожность — не последняя из воинских добродетелей...
Воротынский торжествующе взглянул на опешившего князя Андрея и поскакал объявлять царский приказ.
А царь Иван сурово обратился к опустившему голову Курбскому:
•— Хотел бы я, чтоб на пользу тебе пошло это крепкое мое поучение, но не верю в то: велика твоя гордыня, мнишь себя превыше всех, а заслуг твоих мало нахожу...
Впервые Иван решился так открыто поднять голос против одного из первейших членов Избранной Рады, близкого друга Сильвестра и Адашева: царя воодушевила на это близость победы над мощным врагом.
Грозный ничего не забывал и ничего не прощал: много лет спустя в переписке с Курбским он гневно уп-. рекал князя Андрея за малодушие, проявленное им при осаде Казани, за то, что тот советовал обратиться вспять после трех дней осады, когда буря истребила запасы русского воинства, за то, что Курбский толкал его на битву при неблагоприятных обстоятельствах.
Воротынский привез полкам царский приказ прекратить битву. Разгоряченные боем стрельцы и казаки отошли неохотно.
В руках русских осталась Арская башня и прилегающая к ней часть стены. Татары сами жгли окружающие укрепления, постройки, мосты, чтобы отделиться от нападающих. Целую ночь они строили завалы, возводили новые деревянные стены, засыпая их землей.
* * *
1 октября обе стороны деятельно готовились к последней, решительной битве.
Татары возводили новые стены. Согнанные со всего города рабы, подростки, женщины таскали камни, кирпичи и бревна из разрушенных домов. Стены вырастали быстро, так как над ними старались тысячи людей, подгоняемые бичами надсмотрщиков.
Вот когда пригодился бы татарам секрет несокру-, шимого замеса, известный Никите Булату!
Но русские втащили на Арскую башню пушки и громили стены ядрами. Строители укреплений падали — на их место становились другие. Камни, вырываемые снарядами, катились по земле, их подхватывали чуть не на лету и снова укладывали на место...
Перед решающим приступом Иван Васильевич сделал последнюю попытку сберечь русскую и татарскую кровь. По его приказу в город отправился Камай-мурза
с предложением сдаться, обещая жизнь и свободу осажденным.
Камая привели в тронный зал, где собрались царь Едигер, имам Музафар, князья Ислам и Кебяк, беки, уланы, мурзы.
Камай, бледный от волнения, повторил предложение царя Ивана.
«Мне не дожить до поры, когда волосы мои побелеют,— думал он. — Молю об одном: пусть моя смерть будет скорой и легкой».
Слова Камая-мурзы были выслушаны в гробовом молчании. Потом гневно заговорил первосвященник Музафар:
— Изменник! Предатель! Ты заслуживаешь казни! Но голова посланника священна для нас.
Камай-мурза вздохнул облегченно.
Сеид, продолжал:
— Послание царя мы обсудили всем* курултаем. Поди и скажи царю Ивану: не бьем ему челом! На стенах стоит Русь, на башне — Русь. Ничего! Мы другую, третью стену поставим. Либо отсидимся, либо все помрем.
Едигер и советники согласно кивнули головой.
Камая вывели из города и отпустили.
Ночь прошла в мрачной, настороженной тишине. Для многих и многих тысяч бойцов эта ночь была последней в жизни.
Глава XV1L
РЕШИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Настало воскресенье, 2 октября 1552 года.
У последних двух подкопов шли окончательные приготовления. Бочки с порохом закатили вглубь накануне, свечи были воткнуты в рассыпанный порох. Царь приказал произвести взрывы на рассвете и, когда будут взорваны стены, начинать приступ.
Между Арскими и Кайбацкими воротами, у гуляй-городины, стоял коренастый и тучный Иван Выродков, несмотря на туман и холод отирающий пот с лица, и взволнованный Андрей Голован. Аким Груздь стоял тут же с топором за поясом. Филимон, поблескивая чер-
ними разбойничьими глазами, опирался на бердыш с длинной рукояткой: на осадной башне нечего было делать, и Филимон хотел сражаться в городе.
Тысячи воинов Большого полка ждали в боевой готовности.
Князь Михайла Воротынский рвался в битву: он хотел доказать гордецу Курбскому, что только теперь увенчается битва победой и в этой победе немалая доля будет принадлежать ему, Воротынскому, умному и дальновидному полководцу, старшему воеводе в войске.
Ударил страшный взрыв у Булака-реки: русские умельцы подорвали подкоп между Аталыковыми и Тюменскими воротами. Еще не умолк грохот, как оттуда донесся гул множества голосов: полк Левой Руки ринулся в бой.
Михайла Воротынский подскакал на храпящем коне:
— Скоро ли у вас?
— Свеча зажжена давно, — ответил Выродков. — По моему расчету, вот-вот должен быть взрыв.
Услышав слова дьяка, люди поспешно отступили подальше: ожидали взрыва страшной силы; пятьдесят полномерных бочек зелья могли взорваться с минуты на минуту.
Люди прислушивались с остановившимся дыханием.
Но мгновения текли, невозвратимые мгновения, а земля молчала.
Там шел бой. Татары, без сомнения, бросили туда большие силы, они могут смять рать Плещеева и Серебряного. А здесь полки стоят недвижно, не в силах подать помощь гибнущим братьям...
— Ты что же, безумный! — налетел на Выродкова белый от гнева Воротынский. — Со смертью играть вздумал?..
Смущенный дьяк отстранился от напирающего коня.
— Рассчитывал хорошо, а может, ошибся. На ветру свеча быстрей горит, а в затишке медленней...
Воротынский схватился за голову.
— Братцы! Воины! — тоскливо вскричал он. — Гибнет наше дело!..
Он не договорил, как Голован с зажженным факелом бросился к устью подкопа. Но его догнал Аким Груздь и вырвал из его руки факел:
-— Не забывай меня! — И Груздь, освещенный пылающим факелом, вскочил в темный прямоугольник входа.
— На погибель кинулся!.. — пронесся смутный вздох в потрясенной толпе, а у Голована покатились слезы.
В страшном ожидании прошло минуты две. И вдруг земля вздрогнула, все покачнулись, иные не устояли на ногах. Мгновение спустя из-под стены вырвался пламенный сноп чудовищной толщины, неся на себе огромные глыбы камня, земли, разорванные трупы людей, разметывая толстые бревна, как щепки...
В первые минуты после взрыва никто ничего не слышал. Люди видели круглые, разинутые рты товарищей, сами кричали, но все было немо для них, и лишь глаза видели страшную картину гибели сотен татар под обрушенной стеной.
Немало и московских людей нашли смерть под обломками камней и бревнами.
Через ров, заваленный землей, щебнем, деревом, устремились в город русские воины. Пролом был слишком узок, чтобы пропустить наступающих, и в горле его теснились и бурлили людские толпы.
Отчаянно лезли вперед ратники, толкая друг друга. А перед ними выросла стена татар с остервенелыми лицами, с глазами, налитыми кровью...
Многие стрельцы пали здесь, сраженные копьями, изрубленные саблями...
Нечай и Демид Жук, как всегда рядом, пыряли в ряды врагов острыми, окованными железом рогатинами.
Ничипор Пройдисвит, в белой рубахе, подпоясанной широким алым поясом, в барашковой, лихо сдвинутой набекрень шапке, помахивал кривой саблей, точно играючи, но от ее небрежных взмахов валились люди, отлетали руки и головы... Густо забитое людьми пространство расчищалось перед темноусым украинцем. Татары бежали от страшного бойца.
Василию Дубасу негде было размахивать длинным ослопом1. Парень догадался: он переломил его, засунув под камень, и начал действовать обломком. Он с размаху опускал его на голову врагов.
i Ослоп — дубина, жердь.
Филимон крушил татар тяжелым бердышом, но не спускал глаз с шедшего рядом Голована и не давал ему зарываться вперед.
— Ты мой теперь, Ильин! Ежели я тебя не уберегу, Акимкина душа с того свету ко мне за ответом придет. Знаешь ведь, как он тебя любил!
На мостках через рвы, на обваленных стенах, на каждом свободном клочке земли кипела сеча...
Хан Едигер пытался броситься к Арским воротам с последним запасным полком, под сенью священного зеленого знамени, но сеид и знатные не пустили его.
Руководить обороной у места прорыва отправились три неразлучных друга: князья Ислам и Кебяк и маленький кривоногий Аликей-мурза.
Трем зачинщикам казанского восстания не суждено было пережить гибель родного города. Первым пал Аликей. Голову маленького мурзы разнес своей страшной дубиной Васька Дубае. Погиб изрубленный казачьим мечом князь Ислам. Угрюмый богатырь Кебяк схватился с Ничипором Пройдисвитом. Недолго выбивали сабли сверкающие искры: Кебяк упал, сраженный насмерть. Другие предводители стали на место погибших.
Повсюду шел жаркий бой. С разных сторон наседали московские полки, чтобы не дать татарам сосредоточить силы в одном месте.
Через пролом стены меж Аталыковыми и Тюменскими воротами ворвались в Казань ратники воевод Василия Серебряного и Митрия Плещеева. Полк Правой Руки, ведомый Курбским и Щенятевым, подставил осадные лестницы у Муралеевых и Елабугиных ворот и штурмовал город с севера, от Казанки-реки, в непосред-. ственной близости к ханскому дворцу. Ертоульный полк наступал на Збойлевы и Кайбацкие ворота.
Царь Иван подъехал к стенам Казани и зорко следил за ходом боя, бросая, куда нужно, подкрепления. А силы русские и татарские все еще ломили друг друга в отчаянной борьбе. Наконец враги начали отступать перед неодолимым натиском русской рати.
Трудно пришлось наступающим, когда они попали в узкие улички и тупики татарского города. Здесь нельзя было ввести в бой большие силы, а казанцы подняли всех, кто мог сражаться.
Через ров, заваленный землей» щебнем» деревом, устремились в город русские воины*
Жертвы с обеих сторон были огромны. Но одолевала московская рать. Русские воины помнили разоренный Киев, Владимир, Рязань, помнили о бесчисленных тысячах замученных отцов и братьев, о долгих страданиях родной земли.
Мечи тупились о вражескую броню, руки устали наносить и отражать удары. Уже несколько часов длилось сражение, и время склонилось за полдень. Битва растеклась по всему городу. В закоулках, на дворах, на плоских кровлях вспыхивали короткие, стремительные схватки. Звон оружия, боевые клики, хриплые стоны...
Погиб удалой боец на саблях Ничипор Пройдисвит, сраженный янычаром огромного роста. Чубатая казацкая голова покатилась с широких плеч, в последний раз страшно сверкнув глазами. Недолго торжествовал победитель: Василий Дубае, вывернувшись из-за угла, взметнул тяжелой дубиной, и турок упал с раздробленным черепом.
Пало в бою немало начальных людей и рядовых стрельцов. Олончанин Лука Сердитый отполз в тупик со стрелой в плече; кровь лилась струей, и не было возможности ее остановить, пока стрела торчала в ране. Всегда красное лицо олончанина начинало бледнеть от потери крови. Озлясь, Лука дернул стрелу, и она вылетела с клочьями мяса. Отрезав ножом подол рубахи, раненый кое-как перевязал плечо...
Стало ясно, что Москва победила. Тысячи перебитых татарских воинов валялись на улицах, остальные скрылись.
Русская рать начала располагаться на отдых. Иные воины, истомленные продолжительным боем, ложились прямо на землю и засыпали мертвым сном. Другие доставали из походных сумок хлеб и утоляли голод.
Глава XV1I1
СПАСЕНИЕ НИКИТЫ БУЛАТА
Голован с неизменным спутником Филимоном разыскивал дворец первосвященника. Спросить было не у кого, и они долго блуждали по пустынным улицам. Наконец, услышав плач в сакле с настежь раскрытой
дверью, Андрей бросился туда, вывел татарчонка лет двенадцати.
— Паренек, не бойся, мы тебя не тронем! Покажи, где ваш главный мулла живет!
Мальчишка глядел, ничего не понимая. Его заплаканные черные глазенки блестели, как у звереныша, он тер кулаком замурзанные щеки.
— Ты не так! — вмешался Филимон. — Я умею с ихним братом разговаривать... Эй, знаком! Мулла, большой мулла бар? Э? Сеид бар, айда!1
— Сеид? — Мальчик понял. — Сеид айда!
И он повел русских в ту часть города, где, мало затронутые пушечным обстрелом, стояли дома казанских богачей. Тут было тихо и безлюдно. Лишь изредка показывались вдали вражеские воины и тотчас скрывались: очевидно, татары думали, что двое русских — разведчики большого отряда.
— Эх, Ильин, — с тревогой говорил Филимон, — попадем мы в беду! Налетят недруги — что мы двое сделаем?..
Филимон чрезвычайно обрадовался, когда, выглянув из-за угла, увидел русских.
Он бросился навстречу:
— Братцы, сюда, сюда давай! Здесь свои!
К Андрею подошли Нечай, Демид Жук и Василий Дубае. Возбужденные боем, они тяжело дышали, лица их были покрыты грязью и кровью.
— Андрюша, — весело вскричал Нечай, — какая надобность тебе тута ходить?
Голован быстро объяснил, и маленький отряд двинулся по узкой улице.
До двора Музафара-муллы добрались благополучно и отпустили татарчонка. Русские перебежали через пустой двор мужской половины и остановились перед закрытой калиткой. Прочная дверь выдержала первые удары.
— А ну, берись дружней! — скомандовал Филимон.
Из земли вырвали скамейку, подтащили, размахнулись:
— P-раз!.. Р-раз!..
1 Б а р (татарск.) —есть; айда (татарск.) —пойдем.
’— Дружиной возьмемся — сразу сделаем, — пыхтели мужики.
— Дружиной, робятушки, ловко и батьку бить! — подсмеивался веселый Нечай.
Дверь разлетелась вдребезги, и люди, толкая один другого, хлынули в калитку.
Голован бежал впереди, и ноги у него подкашивались.
И вдруг у низенькой сакли он увидел согбенного старика с обнаженной головой, с венчиком седых волос вокруг большой лысины. Его поддерживала высокая девушка с русыми косами и голубыми глазами. Старик бессильно переступал навстречу русским, размахивал руками и слабо кричал...
— Никита!..
Голован бросился к учителю. Старик был так поражен, что не мог сделать и шагу: Андрей, которого он много лет считал мертвым, появился выросший, возмужавший...
— Андрюшенька, рбдный!.. Живой?.. А я-то по тебе горевал...
— Отец... наставник... — взволнованно бормотал Голован.— Уж как же я рад!..
Никита, Голован, Дуня и ратники вышли из дворца сеида через потайную калитку. Булат брел, поддерживаемый Андреем и Филимоном. Забывая о недугах, ста-, рик рассказывал неожиданно обретенному любимому ученику историю своего плена, говорил, что не чаял на этом свете свидеться с Андрюшей, когда оставил его на лесной полянке с разрубленной головой...
— Теперь мы с тобой никогда-никогда не расстанемся!— твердил Голован.
— Мы с тобой, Андрюша, еще строить будем: соскучилась душа по работе!
Дуня шла, пугливо озираясь: это был ее первый выход за стены дворца, где прожила она с пеленок. Чтобы не обращать на себя внимания, Дуня накинула сверху широкий армяк Филимона, голову прикрыла колпаком, подобранным на улице.
Филимон и Нечай, шедшие впереди, бросали во все стороны острые взгляды; боясь недобрых встреч, Андрей и Филимон почти несли на руках Булата, ослабевшего от нежданной радости.
— Алла! Алла! — вдруг раздались грозные боевые клики.
Из соседней улицы выбежал отряд татарской пехоты.
— Беда! — вскричал Филимон.
Не дожидаясь, пока татары сомнут их, маленькая группа юркнула в ближайшую калитку, дверь которой была сорвана.
Только двое могли поместиться в узкой раме двери. Дуню и Никиту спрятали позади. Впереди встали Филимон с тяжелым бердышом и Василий с дубиной. За ними Нечай с рогатиной, Голован с мечом и Демид Жук с ятаганом, подобранным на улице.
— Урусы, урусы! — раздались злобные крики татар, и они обрушились на защитников калитки.
Случилось вот что. Русское войско, считая битву окончательно выигранной и не видя врагов, расположилось на отдых. Иные ратники покинули город. Воеводы, стрелецкие головы и казацкие сотники напрасно старались водворить порядок.
А татары тем временем стеклись к ханскому дворцу и большой мечети, разделились на отряды под руководством опытных начальников, отослали в безопасные убежища раненых и с новыми силами, с воспрянувшей надеждой грянули на русских.
Но уже спешили в город свежие полки, которые держал в запасе Иван Васильевич.
Теснимые превосходящими силами, враги, отчаянно отбиваясь, отступали к укрепленному ханскому дворцу.
Остервенелые бойцы бросались на русские мечи и копья и, умирая, старались поразить как можно больше противников. Опять ощетинились кровли домов защитниками, метавшими в русских камни, стрелявшими из луков.
Бой по ожесточению превзошел утренний, но теперь события развертывались быстрее. Стрельцы и казаки внутри города собрались вокруг начальников и ударили татарам в тыл.
Поражаемые со всех сторон, вытесняемые из ханского дворца, казанцы отходили на север, к Муралеевым и Елабугиным воротам, надеясь прорваться из го-.
рода. Они захватили с собой Едигера и вельмож, которых пощадила смерть.
В жарком бою у главной мечети погиб сеид Музафар — недолго просидел он на запятнанном отцеубийством престоле...
Еще несколько тысяч татар держали оружие; они взобрались на Муралееву башню и окружающие ее стены. Позиция была грозной, но если русские не пойдут на приступ, им тут погибнуть от голода.
И русские увидели, как татары на башне отчаянно машут руками.
Михайла Воротынский приказал прекратить стрельбу. С башни донесся голос:
— Урусы! Вы одержали победу. Мы храбро дрались за свой юрт и ханский престол! Теперь нет у нас ни юрта, ни престола... Мы отдаем вам хана, ведите его к вашему царю, и пусть свершится судьба Едигера. Амы переведаемся с вами в широком поле и изопьем смертную чашу...
Осторожно спустив с полуразрушенной башни хана Едигера, татары бросались со стен на берег Казанки; реки, надеясь перейти ее и укрыться в лесах. Но с другого берега грянули пушки Щенятева. Беглецы повернули к западу, вниз по реке, перебрели Казанку. Их все еще было около шести тысяч. Здесь встретил их воевода Плещеев. С другой стороны напирал полк Правой Руки...
Не многим защитникам татарской столицы удалось спастись с поля битвы.
Глава XIX
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Голован и его спутники отбились от врагов. Им недолго пришлось отражать натиск остервенелой толпы: из соседней улицы прихлынули русские стрельцы, и татары бежали.
Царь Иван въехал в покоренный город через Муралеевы ворота. Он медленно проезжал по улицам Казани на белом коне.
На улицах толпились тысячи русских пленников. Откуда взялись они в еще недавно пустынном городе?
Казалось, сама земля извергла людей из своих недр. Избитые, израненные, хромые, с изможденными лицами, они простирали к царю слабые, худые руки и хриплым голосом выкрикивали приветствия.
Царь приказал накормить пленников, одеть, отвести в стан, позаботиться об отправке на родину.
Андрей Голован узнал о доблестном поведении старого наставника во время осады города. Рассказала об этом поборовшая смущение Дуня. Никита не любил хвалиться и отмалчивался, когда Голован расспрашивал его о тяжелых днях плена.
Андрей доложил о мужестве зодчего Ивану Вырод-кову, дьяк рассказал царю. Через несколько дней Голован и Никита Булат получили приказ явиться в царский шатер.
Иван сошел с высокого кресла, заменявшего в походе трон, и обнял старого Булата:
— Зело рад тебя видеть, Никита! Дорог ты мне своей верностью!
— Не по заслугам изволишь хвалить, государь!
— Ну, я знаю, кого и за что хвалить! — раздраженно возразил царь, не терпевший противоречий. — Расскажи, как ты в плену прожил? Как удалось уцелеть?
— Что говорить, государь! Прожито — и ладно.
— Дозволь, государь, слово молвить, — вмешался Голован. — Наставник скромен, а я все расскажу.
— Говори!
Андрей рассказал историю Никиты Булата и его приемной внучки. Особенно упирал он на доблесть старого зодчего, которого ни посулы, ни угрозы, ни муки не заставили изменить родине и служить врагам.
Выслушав Голована, царь приказал приблизиться Алексею Адашеву:
— Видишь сего верного моего слугу, Алексей? Надобно о нем позаботиться. Обноски татарские с него снять, выдать новую ферязь, да сапоги, да шапку...
Булат поклонился до земли.
— Не кланяйся, старик! Заслужил ты сие нелицемерно. Такими, как ты, крепка русская земля! Проси от меня чего хочешь!
— Ничего мне не надобно, государь, я и так премно-го взыскан твоей царской милостью!
— Вижу простоту твою, и по сердцу она мне! Ладно, просьба твоя за мной останется, и что в будущее время попросишь — исполню. А в знак сего вот с руки моей перстень!
Царь снял с пальца драгоценный перстень и надел на палец изумленного и обрадованного зодчего.
По просьбе Голована Выродков разрешил ему вернуться в Москву: Андрею нечего было делать после окончания осады.
Головану разрешили взять для охраны ратников из числа тех, что добровольно пришли под Казань. Андрей выбрал добрых знакомцев — Филимона, Нечая и Демида Жука.
Маленький отряд Голована продвигался медленно: Булат был стар и ослабел в тюрьме, а Дуня впервые села верхом на лошадь.
Весть о покорении Казанского царства быстро облетела страну.
В новую русскую область шли многочисленные купеческие обозы. Московские, тульские, рязанские и иных городов гости спешили начать торговлю с восточными странами.
Прежде купцы пробирались по этим краям с великой осторожностью, рискуя товарами и жизнью. Теперь они двигались смело, с малой охраной: дороги оберегались русскими заставами и сторожевыми постами.
Узнав, что отряд Голована идет из-под Казани, купцы жадно расспрашивали, как протекала осада. Их любопытство удовлетворял словоохотливый Нечай. Слушая его рассказы, купцы ахали и ужасались.
— А как вы насмелились ехать в этот еще не мирный край? — лукаво спрашивал Нечай. — Не боитесь, что голову снесут?
— Волков бояться — в лес не ходить! — степенно отвечали купцы. — Теперь самая пора торговлю зачинать,
покупателей приваживать. Опозднишься — всё другие за себя заберут!
Велико было удивление Голована, когда, проезжая мимо купеческой стоянки, он увидел Тишку Верхового, копавшегося в телеге, нагруженной товарами.
— Тишка! — невольно вскрикнул Андрей. — Ты как сюда попал?
— Кому Тишка, а кому и Тихон Аникеевич, божьей милостью московский купчина! — важно ответил Верховой.
Голован не утерпел и слез с коня, а за ним спрыгнул наземь любопытный Нечай. Остальные неторопливо поехали дальше.
— Так, стало, ты теперя вольный? — спросил Нечай, знавший прошлое Тихона.
— Откупимшись мы у боярина, — подтвердил Тишка,— потому как нас за труды господь богачеством наделил...
Нечай, не сдержавшись, смешливо фыркнул, а новоявленный купчина, злобно покосившись на него, продолжал:
— Вот и надумали мы по купечеству заняться, торговать, значит...
— Ну, это дело у тебя пойдет!—уверил Тихона Нечай.
— Право слово, пойдет? — наивно обрадовался Верховой.
— Уж будь спокоен! Это я говорю, Нечай, а я в людях толк знаю. Расторгуешься, как бог свят...
— Коли выйдет по твоему предсказанью, я тебе, даст бог вернемся, чару на Москве поднесу! — воскликнул довольный Тихон.
А Нечай, не слушая его, продолжал:
— Потому ведь у тебя ни стыда, ни совести, а у таких купеческое дело на лад идет...
— Эй ты, смерд!1—угрожающе зарычал Тихон, замахиваясь кнутом.
1 Смердами в Древней Руси называли как свободных, так и попавших в зависимость крестьян. Позднее смердами стали называть людей низкого происхождения и слово это в обращении высших к низшим приобрело опенок презрения.
Нечай ловко сбил его с ног и, прежде чем Верховой опомнился, ускакал. За ним последовал Андрей, качая головой и шепча:
— А еще говорят, ворованное добро впрок нейдет... Вот тебе и Тишка!..
В пограничной полосе, где раньше жить не давали набеги казанских разбойников, уже появились новоселы из старых русских областей. Они искали освобождения от тяжелого боярского гнета, хотели пожить свободно на новых землях хоть несколько лет, пока и тут не появятся устанавливать господскую власть безжалостные тиуны.
Часть четвертая
СМЕЛЫЕ ЗАМЫСЛЫ
Глава 1
ВСТРЕЧА
Москва волновалась: со дня на день ждали возвращения из казанского похода русского войска. Уже долетела до москвичей весть, что грозная Казань пала. Не станут казанцы нападать на русскую землю, разорять города и села, уводить русских в полон.
Но неизмеримо важней было сознание огромного усиления Руси, роста ее государственного могущества.
«Сильна наша держава! — с гордостью думали москвичи. — Такого ворога одолела!..»
Победоносному войску готовилась торжественная встреча.
28 октября 1552 года по городу разнеслась молва: царь под Москвой, в Тайнйнке; к нему выехали брат Юрий Васильевич и ближние бояре.
Толпы народа устремились к деревне Ростокино. Лица москвичей были светлы и веселы. Только дряхлые
деды и бабки, не слезавшие с печи, да тяжко больные оставались в тишине покинутых жилищ.
Все дома на пути царского шествия народ заполонил еще ночью. Ни просьбы, ни угрозы хозяев не помогали. Зрители теснились в горницах у маленьких окон, сидели на крышах, воротах и заборах. Деревья ломались под громоздившимися на них людьми...
Коротая часы ожидания, народ слушал рассказы о подвигах русского воинства. Передаваясь из уст в уста, рассказы обрастали вымышленными подробностями и больше походили на сказку.
— Едут! — раздался крик в толпе.
Глашатаи расчищали проход царскому шествию. Народ прижимался к заборам и стенам домов, сбиваясь плотными массами. С великим трудом освобождался коридор, по которому могли пройти в ряд три-четыре лошади. За передовым отрядом войска ехали полководцы князь Михайла Воротынский, князь Ромодановский, окольничий Алексей Адашев и другие.
Но вот показался и сам двадцатидвухлетний царь Иван. Царь кланялся народу направо и налево. Улица гремела приветственными возгласами.
Иван ехал на белом коне, облаченный в парадные доспехи. Голову царя украшал шлем-ерихонка превосходной работы, стан облекала золоченая кольчуга. К седлу был привешен саадак, расшитый жемчугом.
За царем и воеводами шло войско. Провести всех вернувшихся из похода ратников по тесным улицам Москвы было невозможно. Устроители шествия отобрали несколько тысяч стрельцов и казаков, попригляднее одетых и вооруженных.
У ворот Сретенского монастыря шествие остановилось. Здесь царя поджидал митрополит Макарий, знатнейшие князья и бояре. Царь скинул воинские доспехи: наглядное свидетельство перехода от войны к мирным делам.
Думные бояре надели на Ивана Васильевича порфиру \ вместо шлема возложили на голову шапку Мономаха. Царь во главе огромной толпы бояр, дворян и духовенства пешком отправился в Кремль.
1 Порфира — верхняя парадная одежда государей: длинный плащ багряною цвета, подбитый горностаем.
И лишь когда окончились обряды, унаследованные от дедов, царь мог отправиться проведать царицу Анастасию Романовну и новорожденного младенца — сына Дмитрия.
Москвичи веселыми толпами растекались по городу.
Глава 11
ПИР
Андрей Голован шел на царский пир. Булат также получил приглашение. В сенях Грановитой палаты слуги в нарядных кафтанах заботливо следили, чтобы гости вытирали ноги о войлок.
Голован с любопытством оглядывался вокруг: все было для него ново, он впервые станет пировать с царем. На Головане была ферязь темно-малинового цвета с меховой опушкой, золотыми пуговицами — царское жалованье за казанский поход. Голову украшала соболья шапка.
Не забыли во дворце и Булата: ему прислали ферязь червчатую с огромными пуговицами, выточенными из малахита. Старик глядел на свое одеяние с веселым удивлением.
Андрей и Никита вошли в величественный зал. В центре палаты поднимался опорный столб, и от него на четыре стороны шли четыре свода, пересекавшиеся на высоте. Своды расписаны были изображениями событий из священной истории.
Голован замер, но от толчка наставника опомнился и пошел озираясь.
На возвышениях выстроились столы.
Голован поместился возле старичка с седыми волосами, подстриженными скобкой. Старик назвался подьячим Посольского приказа Никодимом Семеновым. С другой стороны Андрея сел Булат.
Гости собирались. Дружелюбно кивнул Головану Иван Григорьевич Выродков. За ним прошел стольник Ордынцев. Проследовал тучный князь Воротынский. Промелькнули знакомые лица Плещеева, Микулинского, Щенятева. С великим почетом провели под руки митрополита Макария и усадили по левую руку от царского
места; место с правой стороны предназначалось царскому брату Юрию Васильевичу.
Гул разговоров, наполнявший палату, вдруг смолк: появился царь Иван об руку с братом Юрием. Гости встали, ожидая, пока царь сядет на свое кресло, помещенное на возвышении; между царем и застольниками 1 оставался промежуток. Царь поклонился гостям; гости ответили низким поклоном, сели, и палата загудела тихими разговорами.
Сотни палатных слуг в цветных кафтанах начали разносить кушанья. Чем больше подавалось перемен на пиру, чем изобильнее и редкостнее были яства, тем больше славили гости хозяина. Бояре, учинявшие роспись2 и порядок кушаньям, постарались на славу.
Одетые в вишневые кафтаны кухонные мужики тащили в палату огромные кастрюли, оловянники и рассольники, закрытые крышками. Другие слуги, стоявшие у столов, в отдалении от гостей, разливали корчиками 3 жидкие кушанья по мискам.
Слуга подбежал к Никите и Андрею, поставил перед ними серебряную миску.
— Шти кислые со свежей рыбой! — объявил он.
Голован не ел с утра. На скатерти стояло блюдо с кусками пшеничного калача. Голован достал хлеба, с молодым аппетитом накинулся на щи.
Сосед слева рассмеялся:
— А ты, парень, не больно налегай! Перемен много будет.
Впрочем, совет не понадобился: едва гости отхлебнули по нескольку ложек, как миску утащили и подали другую:
— Шти кислые с соленой рыбой!
Дальше пошли щи белые со сметаной, щи богатые, калья4 тетеревиная с огурцами, калья куричья с лимоном, калья утичья со сливами. Потом подавали ухи горячие: уху щучью с перцем, уху куричью, уху лещевую с сорочинским пшеном, уху стерляжью, уху плотичью, уху карасевую черную сладкую, уху с лосиными ушами, уху щучью шафранную...
1 Застбльники — гости, приглашенные на пир.
2 Роспись — список.
3 Корец, кбрчик — ковшик.
4 Калья — похлебка.
Вперемежку с жидкими блюдами разносили пирожки в ореховом масле, пироги подовые кислые с маком, пироги с сигами, с визигой, разварную стерлядь и осетрину, блины.
Голован дивился изобилию, а сосед похохатывал:
— Береги, парень, брюхо! Еще всего много будет!
Царские чашники и кравчие не скупились на напитки. В братинах, кувшинах, четвертинах и сулеях слуги разносили квасы медвяные и ягодные, меды вареные, ставленые, пиво, вина добрые — боярские, двойные...
Голован выпил кубок вареного ягодного меду, который не показался ему хмельным. Подьячий Никодим ухмыльнулся и сказал пьяненьким голосом:
— Ты, парень, толк знаешь!
— А что? — удивился Андрей. — По мне, это питье вроде квасу.
— Вставать будешь — познаешь, каковский это квас!
Голован повернулся к Никите — тот спал, положив лысую голову на стол: непривычного к питью старика сморила чаша меда. Андрей взглянул на свой кубок: слуга успел наполнить опустелую посудину.
— Ой! — удивился Голован. — То и со мной будет, что с наставником.
А за его спиной появился важный чашник и уговаривал выпить. Андрей заметил, что зал гремел выкриками, смехом, шумными разговорами.
— Как разбуянились! — сказал он соседу.
— Это что! — ухмыльнулся тот. — Пир еще в половине. Как владыка уйдет, тогда начнется настоящий пир...
Шум стих. Удивленный Андрей поднял голову. Встал князь Михайла Воротынский, высоко поднял золотой кубок. Глядя на него, и гости подняли ковши, чары, корцы... У иных вино лилось на бархатные, алтабасовые и камчатные скатерти, на дорогие ковры, устилавшие лавки, на боярские шубы. Никто этого не замечал.
Поклонившись царю, Воротынский громко заговорил:
— Великий государь! Преосвященный владыко! Мужи и братие, соратники казанские! Жаждет сердце растечься похвальными словесами необычному событию, для празднования коего собрались мы под кровом нашего царственного хозяина!..
Долго и красно говорил Воротынский и кончил так:
— Провозглашаю сей кубок за здравие великого царя и государя Ивана Васильевича, всея Руси самодержца, Владимирского, Московского, Новгородского, царя Казанского, государя Псковского и великого князя Смоленского...
Долог был царский титул, но князь Михайла проговорил его весь, не пропуская ни единого слова.
Воротынский осушил кубок и оборотил его вверх дном над головой, показывая, что вина не осталось ни капли. Его примеру последовали гости: не выпить за царя у него же на пиру считалось преступлением, которое прощалось только бесчувственно пьяным.
Волей-неволей выпил и Голован. Никодим хохотнул:
— Пей, парнюга, мед вареный, не пей ставленый — тот одной чарой с ног сшибает!
Царь благодарил Воротынского за поздравление. Никогда он не позабудет верных слуг, что вместе с ним страдали за землю русскую и воротились с победой. Не забудет и тех, что остались лежать в сырой земле, в безвестных могилах...
Митрополит наклонился к царю:
— Слыхал я, государь, ходит в народе упорная молва, что надобно ознаменовать великое дело памятью вещественной. Как о сем мыслишь?
— А какой же памятью, владыко?
— О том надо помыслить...
Этот короткий разговор не остался без важных последствий.
А тем временем встал князь Троекуров; сказав похвальное слово покорителю Казани, провозгласил здравицу царскому наследнику — новорожденному Дмитрию Ивановичу.
Потом воевода Микулинский провозгласил тост за благоверную царицу Анастасию Романовну...
Здравицы следовали одна за другой. Тем временем слуги разносили всё новые и новые блюда. Пошли мясные, дичина, рыба.
На столы ставились зайцы в рассоле, говяжьи языки, щучьи головы с хреном и чесноком, поросята рассольные, тетерева...
Важным гостям подавались изысканные кушанья, которых невозможно было наготовить на всех: лосиные губы и мозги, осетровые пупки, язычки белужьи,
Палатные слуги в цветных кафтанах начали разносить кушанья
свежая белорыбица и осетрина (живую рыбу привозили к царскому столу в бочках с водой за сотни верст).
Заздравные тосты продолжались. Голован заметил, что митрополита нет возле царя.
— Вот теперя самый пир начнется! — пробормотал Никодим.
А осенний день подошел к концу, слуги принялись зажигать свет. Загорелись сотни сальных свеч в стенных шандалах, в стоячих светильниках, расставленных посреди столов.
Над головой пирующих висели фигурные серебряные люстры. К каждой свече тянулась нить, натертая серой и порохом. По ниткам побежали огоньки, свечи запылали. В огромном зале стало светло.
Блюда всё несли и несли: зайцы в репе, караси жареные, колбасы, желудки, начиненные гречневой кашей, лососина с чесноком, гусиные потроха, вязига в уксусе, журавли и цапли под взваром с шафраном, окорока, студни, зайцы в лапше с пирожками, зайцы черные горячие...
К винам подавали закуски: грибы, икру стерляжью, икру паюсную, соленые арбузы и огурцы, рыжики в масле, блины с икрой, горох тертый с маслом...
Голован давно ничего не ел, а когда объявляли здравицу, незаметно выливал кубок под стол: так научил его опытный Никодим Семенов.
А гости, что называется, распоясались. Крик и шум переполняли палату, слышалась громкая похвальба, споры.
Мясные и рыбные перемены кончились. Стали носить сладкое.
Четверо слуг пронесли на огромном блюде к царскому месту сахарный город, изображавший, по замыслу поваров, покоренную Казань. Сахарные хоромы и сахарная мечеть были обнесены сахарными стенами с башенками.
Выдумка изобретательных поваров встретила всеобщее одобрение и понравилась Ивану Васильевичу; он подарил художникам кондитерского дела по полтине1.
Наконец обнесли последнее блюдо, завершавшее, по обычаю, пир: оладьи с сахаром и медом.
1 Полтина (полтинник) — пятьдесят копеек.
Появление оладий означало: пора собираться домой. Кто в силах был встать, те кланялись царю, благодарили за угощение и выбирались из палаты.
Воздух в Грановитой палате сделался душен, свечи едва горели среди испарений от питий и кушаний. В тумане мелькали раскрасневшиеся бородатые лица, расстегнутые шубы; под ноги попадали потерянные владельцами шапки. Ноги скользили по лужам от пролитого вина и меда...
Голован разбудил своего старого учителя. Они вышли на свежий воздух, вздохнули с наслаждением и, пошатываясь, добрели до кремлевских ворот; там ждал их с лошадьми Филимон.
— Вот так пир!.. — бормотал Голован.
Глава 111
ПОЕЗДКА В ВЫБУТИНО
Казанский поход принес многочисленные награды отличившимся ратникам и воеводам; не забыл царь и тех, кто, оставаясь в тылу, неустанным трудом готовил победу.
Федор Григорьевич Ордынцев «за доброе смотрение над Пушечным двором» и за то, что отлитые им пушки оказались хороши, был пожалован саном окольничего Ч
«Эх, отец не дожил, вот бы порадовался!» — подумал Ордынцев, когда ему сообщили о царской награде.
Голован за усердное и умелое руководство строительными работами при осаде Казани получил звание государева мастера. Теперь путь на родину был ему открыт. Он уже не беглый монастырский крестьянин, а строитель, заслуги которого отмечены царем. И Голован немедленно после получения царского указа собрался в путь.
По возвращении из Казани Андрей поселил наставника и его приемную внучку в своей избе, а сам ютился в людской. Но насмешки дворни так надоели зодчим, что они решили на время увезти Дуню в Выбутино к родителям Андрея.
1 Окольничий — один из боярских чинов в старой Руси.
Ясным январским днем 1553 года выехали из Москвы Андрей, Никита и Дуня.
Дуня ехала на маленькой косматой лошаденке. Девушка тепло укуталась в беличью шубку; из-под меховой шапки весело глядело разрумяненное морозом лицо. Все нравилось ей на Руси: и огромный город, который она только что оставила, и сосновый бор с ветвями, осыпанными снегом, и новая теплая шубка, и лошадка Рыжуха, спокойно трусившая по гладкой дороге... Дуня не знала, что ее беспричинная радость навеяна чувством юной любви. Но когда на нее с улыбкой взглядывал Андрей, девушка смущенно опускала глаза.
После семнадцати дней утомительного пути подъезжали к Выбутину вечерней порой. Сердце Андрея билось неровно; его сжимала сладкая боль: вот она, родина, милая, покинутая... Двенадцать лет не был он дома!
Показалась длинная улица, растянувшаяся вдоль Великой, теперь скованной льдом, занесенной глубоким снегом.
Голован искал глазами родную избу. Вот и она... Какой маленькой она показалась!
Андрей вошел в избу, навстречу поднялись сумерничавшие старики.
— Кого бог нанес? — спросил Илья.
Но материнское сердце уже признало вошедшего.
— Андрюшенька! Кровинушка! — Афимья с плачем бросилась к сыну.
— Батя! Мамынька!..
Голован поклонился в ноги отцу с матерью. Они обнимали его, целовали. Афимья начала причитать по обряду, но в этом причитании слышалась великая радость матери, снова увидевшей сына.
Отец сильно изменился за протекшие годы. Он стал ниже Голована, волосы его совсем побелели.
— Андрюшенька! Маленький мой!.. — разливалась около сына Афимья.
Илья спохватился первый:
— А на дворе, Андрюша, что за люди?
— Ох я безрассудный! Там Булат, наставник мой!
— Булат? Жив?! А мы его по твоим грамоткам за упокой записали, поминанье подавали...
Илья выбежал на улицу, пригласил спутников сына.
Зажгли лучину. Изба наполнилась шумом, движением.
Булат покрестился перед иконой, облобызался с хозяевами. Смущенная Дуня стояла возле двери.
— А это кто же с вами, девка-то? — тихонько спросила Голована мать.
Булат расслышал вопрос:
— Это? Это мне внучку бог послал в чужой земле.
Дуня заплакала. Афимья женским чутьем поняла, как тяжело и неловко девушке у чужих, незнакомых людей. Старушка обняла ее, ласково повернула к себе:
— Славная моя, бастенькая!1 Годков-то сколько тебе?
Дуня смущенно молчала.
— Чего ж робеешь, касаточка? Пойдем-ка, я тебя обряжу по-нашему, по-хрестьянски!
Через несколько минут все ахнули: за Афимьей вошла в избу стройная высокая девушка с толстой русой косой, в нарядном сарафане, с ожерельем на груди. С миловидного лица смотрели заплаканные, но уже улыбающиеся глаза.
— Вот! — привскочил с лавки Илья Большой. — Ай да сынок! Гадал поймать сокола — словил серу утицу!
Андрей смутился и бросился доставать привезенные родителям подарки. Матери с поклоном подал персидскую шаль, а отцу — теплый кафтан.
Старики обрадовались, как дети.
— Теперь я этот плат в праздники стану надевать,— говорила Афимья, пряча подарок в укладку.
А Илья пар/Чдился в кафтан и повертывался, стараясь казаться молодцом.
— Справский кафтан, хошь бы и не мне носить, а самому тиуну! Ну, спаси тебя бог, сынок!
Голован с грустью смотрел на когда-то могучего ст-ца, сильнее которого, казалось, не было никого на свете...
Стали укладываться спать. Дуня со старухой забрались на печку, а мужчины легли на полу.
— Ну, теперя, сынок, все по ряду сказывай! — молвил Илья, обнимая шею сына здоровой рукой. — Шутка ли: двенадцать годов прошло, как тебя не видали! А все денно-нощно о тебе думали...
1 Б а с к и й, бастенький — хороший, красивый.
— Поличье, что ты с меня списал, я доселе храню, — улыбнувшись сквозь слезы, отозвалась старая Афимья.
Разговор продолжался всю ночь. Усталая Дуня заснула, доверчиво прижавшись к Афимье, а остальные не сомкнули глаз.
Голован объявил отцу, что прогостит в Выбутине недолго. Старики не спорили: они понимали, что такой сын, как Голован, — отрезанный ломоть. Зато как обрадовались они, когда Булат попросил разрешения оставить у них Дуню.
— Есть у меня заветная думка побродить по Руси с Андрюшей, покуда ноги носят, — объяснил он Илье. — А коли нас не будет, где девке приют найти? Разве можно на Москве жить одной! Много лихих людей — изобидят сироту.
— Да господи, — заторопилась Афимья, — мы уж так рады!
— Как ты, ласковая, мыслишь? — спросил Дуню Илья.
— Я останусь, — потупилась девушка.
— Ну вот и хорошо! Будешь у меня отецкая дочь!
— А мне сестрица! — добавил Андрей.
Никита бросил на него испытующий взгляд, но парень был спокоен, и ничего, кроме братской нежности, не увидел старик на его лице.
Игумен Паисий, сильно постаревший, но еще бодрый, приехал поздравить Голована с приездом. До хитрого монаха дошли вести, кем стал Андрей, и он понимал, что царского мастера ему не притеснить. Он даже обещал дать всяческие послабления его семье.
Отъезжая, Голован оставил родителям тридцать рублей из денег, что скопил на выкуп наставника. Отец обнял сына:
— Нам этого вовек не прожить!
Прощаясь, Булат обнял внучку:
— Прощай, Дунюшка! Не горюй, слушайся новых батьку с маткой, а мы, как можно станет, за тобой пришлем.
Голован тоже подошел к Дуне:
— Прощай, сестричка!
Он обнял и поцеловал Дуню. Девушка покраснела так, что казалось, вот-вот брызнет кровь сквозь румяные щеки.
Глава IV
ЦАРЬ И МИТРОПОЛИТ
Прошел год со времени покорения Казани.
В ноябре 1553 года царь посетил митрополита. Когда его крытый возок остановился у красного крыльца, на митрополичьем дворе поднялась суматоха. Забегали митрополичьи бояре, стольники и спальники. Показался в дверях и сам Макарий, тонкий, согбенный; он спешил приветствовать дорогого гостя.
Царь отпустил приближенных митрополита и сказал:
— Хочу с тобой, владыко, в благодатной тишине побеседовать.
— Доброе дело! Пойдем в моленную.
Прошли в полумрак комнаты, освещенной лампадами..
На потолке колебались отражения огней. Было тепло, пахло ладаном. Дюжий служка ворошил дрова в печи, из-под кочерги брызгали искры.
— Выйди!
Служка бесшумно удалился.
Владыка посадил царя в глубокое кожаное кресло, сам скромно сел на низенькую деревянную скамейку.
Царь долго молчал, наслаждаясь покоем; заговорил тихо, доверчиво:
— Раздумался я, отче, о судьбе человеческой, о своей жизни, о том, что свершил я и что свершить осталось... и потянуло к тебе!
— Челом, государь, за сие бью! — Макарий привстал, поклонился. — Что держишь на мыслях, сыне?
— Много раз вспоминал я, владыко, о словах твоих, что были сказаны в прошлом году на пире. Память вещественную, сказал ты, надо оставить о славном походе и о воинах русских, сгибших под Казанью. Держал совет я с людьми, и надумали мы поставить храм — па
мятник в честь казанского взятия... Али, может, всуе1 думы мои, владыко пречестной, гордыня обуяла?..
Царь нетерпеливо всматривался в спокойное лицо митрополита, слабо освещенное мерцающим огнем лампад. Макарий ответил на вопрос задумчиво, потихоньку перебирая янтарные зерна лежавшей на его коленях лестовки2:
— Жития нашего время яко вода, дни наши, яко дым, в воздухе развеваются. Но коли мыслишь оставить о наших днях память вещественную, греха в том, сыне, не вижу!
Иван Васильевич просиял:
— Воздвигнуть бы нам храм, какого спокон веку на Руси не бывало! Долго нас по тому храму вспоминать будут, а, владыко?
— Замыслил доброе, — ответил Макарий, а про себя подумал: «Святой церкви то польза будет, возвеличение».
— Утешны мне сии мудрые речи, владыко! Побеседуешь с тобой — и душа очищается от житейских тревог. Как твои «Четьи-Минеи»? 3
Просвещение на Руси сильно пострадало в мрачную эпоху татарщины. В сожженных городах и монастырях погибло много ценнейших древних рукописей, но немало еще ходило по Руси списков различных книг: жития святых, послания русских князей, описания путешествий, сборники, под названием «Пчелы», куда трудолюбивый составитель включал все, о чем слышал и узнавал от разных людей, подобно тому как пчела тащит в улей мед с многих цветов...
Митрополит Макарий взялся за огромную задачу: сберечь от забвения, собрать воедино памятники русской письменности, по преимуществу церковной, распределить по двенадцати объемистым книгам, озаглавив каждую названием месяца.
Вопрос о «Четьях-Минеях», заданный царем, был чрезвычайно приятен митрополиту. Морщинистое лицо Макария с седым клинышком бороды как-то помо
1 Всуе — напрасно.
2 Лестовка, или чётки, — кожаная полоска с нашитыми на нее шариками или зернами. По зернам лестовки молящиеся отсчитывали молитвы или поклоны.
3 «Ч ё т ь и - М и н ё и» — ежемесячное чтение.
лодело, впалые глаза оживились. Он заговорил с воодушевлением:
— С божьей помощью приведено к концу собирание двенадцати великих книг. Сколько затрачено трудов! Двенадцать лет переписывали писцы, и не щадил я серебра... А сколько подвига, государь, потрачено для исправления иноземных и древних речений, чтобы перевести оные на русскую речь! Сколько я мог, столько и исправил. Что не доделал, пускай иные доканчивают и исправляют...
Царь от души поздравил митрополита:
— Радуюсь твоей радостью, пресвятый владыко! Великое свершил дело для просвещения Руси. Теперь только побольше бы списывали от твоих «Миней». Ох, списывание, списывание! Мыслю я, владыко, печатню завести...
— Книги печатать? Доброе зачинание, благословляю. Церковные книги в упадок пришли, много в них писцовских ошибок, а печатать будем, все можно исправить.
— Дьякон Никольской церкви Иван Федоров да Петр Мстиславец приходили ко мне — повелел им быть печатниками...
— Начинает Русь выходить из тьмы невежества!
— О построении храма не устану думать...
— Думай, государь!
— Снова и снова будем о нем беседовать...
Глава V
ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Царь и митрополит сходились чуть не каждый день потолковать о великом замысле — построить храм на удивление Руси и другим странам.
Иногда при разговорах присутствовал Иван Тимофеевич Клобуков. Рыжебородый низенький дьяк знал латинский и немецкий языки и служил царю толмачом при тайных встречах с иностранцами, устраиваемых помимо Посольского приказа.
Клобукову, человеку большого ума и образованности, замысел пришелся по душе.
— Храм таковой, без сомнения, воздвигнуть можем,— говорил дьяк. — Только не растянуть бы дело на десятки, а то и на сотни лет, как в иных странах водится. Слыхал я, в Парйзии 1 собор богоматери три века поднимали...
— Быстро будем строить, — отвечал Иван Васильевич.
Сойдясь, разговаривали о замечательных стройках прошлого.
Макарию в юности пришлось много слышать о зодчем великого князя Ивана III — Ермолине.
— В нашем кремлевском Вознесенском монастыре церковь полуобваленная стояла, — рассказывал митрополит.— Дмитрия Ивановича Донского супруга Овдотья строила — не достроила. Сына его, Василия Дмитриевича, супруга Софья Витовтовна строила — не достроила. Зодчие не могли свод вывести... Прабабка твоя, великая княгиня Марья Ярославна, порешила докончить дело. А уж церковь вовсе обветшала, обгорела даже пожарами многими. И взялся за восстановление Ермолин. Думали, разломает все и сызнова примется ставить. А он, великий искусник, что сотворил? Он ветхое обновил, как живой водой спрыснул, камнем да кирпичом обложил, своды довел — и таковое из праха поднял пречудесное строение, что люди дивились... Вот какие живали в старину зодчие!
— Найдутся и теперь такие! — уверял Клобуков.
Рассказывал митрополит и о перестройке кремлевских стен, затеянной дедом царя, тоже Иваном Васильевичем.
— В старину Кремль являл собою прехитрый лави-рйнфус2 тупиков, улиц, улочек и переулочков. Ни пройти, ни проехать... Создался сей лавиринфус без намерения людского, делом случая; кто где хотел, там и строился... Тот же Ермолин взялся за перестройку. Ломка была!.. Зодчему твой дед дал полную волю распоряжаться. По Кремлю только щепки полетели! Строители не щадили ни бояр, ни гостей, ни попов-дьяконов. Епископы и те возроптали. Ермолин церквушки сносил! Но ни мольбы, ни челобитные великому князю не помогали.
1 Париже.
2 Лабиринт.
«Ермолин приказал? Пусть вершится по его велению!» Тогда и воздвиглись благолепные каменные стены и хоромы, что ныне зрим...
— Перескажу я, государь, слова иноземных рыцарей,— заговорил Клобуков. — «Ваш аркос 1 Крёмлин,— это они его так зовут, — столь сильная крепость, каковых и в Европии мало. Знаем, — говорят, — только Ме-диолан2 да Метц, что могут с вашим Кремлином равняться. Да и то крепости сии слабее...»
— Великое, великое дело совершил твой дед, государь! — молвил митрополит.
После каждой встречи с Макарием в царе все сильнее зрело желание помериться славой с предками.
Смущал Ивана Васильевича вопрос, кому поручить строительство.
— Может, из чужой страны мастеров добудем? — заикнулся он раз.
— Ни боже мой! — вставил Клобуков. — Своих найдем, русских. Русской славы памятник воздвигаем, чуждый дух нельзя вносить! Да и то скажу: в воинском деле превзошли мы иноземцев — надо и в строительстве показать свое, самобытное. Великое это дело — явить миру, на что русский народ способен!
Макарий согласно кивнул головой.
Царь поднялся:
— Воля твоя мне закон, владыко святый!
Наконец царь приказал Клобукову:
— Довольно слов, Тимофеевич! Работу пора зачинать. Ищи умелых строителей.
* * *
Для Клобукова наступило хлопотливое время. Много на Руси хороших строителей, но надо выбрать самых лучших, надо найти таких, которые сумели бы понять величие царского замысла и этот замысел осуществить.
Иван Тимофеевич встречался с бывалыми людьми, расспрашивал о знаменитых зодчих и о строениях, ими возведенных. Многие называли Клобукову имя славного строителя Бармы.
1 Аркос — замок.
2 М е д и о л а в — Милан.
Но, как часто случается, говоря о Барме и о его громкой известности, люди не могли припомнить, что он построил. А добросовестный Клобуков не хотел указывать царю и митрополиту зодчего, образец искусства которого нельзя посмотреть.
Расспросы о Барме продолжались. Наконец Клобу-кову посчастливилось. От престарелого игумена Андроньевского монастыря Палладия Клобуков узнал, что прекрасный храм, поставленный в селе Дьякове и законченный в 1529 году, построен был зодчим Бармой.
Иван Тимофеевич съездил в недальнее Дьяково, и церковь ему чрезвычайно понравилась.
После разговора с Палладием прошло несколько дней. Клобуков сидел в гостях у окольничего Ордынцева и делился с ним заботой — как разыскать лучшего зодчего на Руси.
— Погоди, Иван Тимофеевич, — оживился Ордынцев,— посоветуемся с Голованом.
На недоумевающий взгляд Клобукова хозяин пояснил:
— Это зодчий, что мне хоромы строил. Молод, а дело знает. Он со своим наставником Булатом по Руси ходил, да недавно вернулись: ослабел старик, на покой запросился. А живут они на моей усадьбе.
Голован оказался дома. Через несколько минут он появился в горнице. Ордынцев усадил его, приказал слуге поднести Андрею чару меду.
— Вот что, Ильин!—заговорил Ордынцев. — Призвали мы тебя порасспросить об одном деле. Ты про зодчего Барму слышал?
— Кто же про него не слыхал, боярин! — удивленно воскликнул Голован.— Барма да Постник всей Руси ведомы... Я, когда строил, во многих краях побывал, а чтоб были мастера лучше Бармы да Постника, о том не слыхивал...
— Видишь, Григорьевич, и этот со всеми в одно слово говорит!— обратился к Ордынцеву радостный Клобуков. — Ну-ну, человече, поведай нам про их строения.
Голован с увлечением рассказал о поставленных знаменитыми зодчими палатах и храмах, которые ему довелось видеть во время странствий по Руси. И так как Андрей был знаток своего дела, он сумел раскрыть Клобукову и Ордынцеву своеобразие работ Постника и Бармы.
— Так, так, парень! Видать по всему, это те самые, которые нам надобны! — молвил Клобуков.
— А позволь спросить, господин, для какого строительства?— несмело задал вопрос Голован.
— Сие — тайна государева и рано об этом говорить, ну да тебе поведаю, только до времени молчи, — ответил дьяк. — Задумал государь Иван Васильевич поставить дивный храм — памятник в честь казанского взятия...
— Лучше Бармы с Постником никому такой храм не построить! — с убеждением воскликнул Голован.
Молодого зодчего отпустили, и он пошел к себе, думая, что хорошо бы поработать на новом строительстве помощником Бармы и Постника.
Глава VI
Б АРМ А И ПОСТПИК
Клобуков доложил царю, к чему привели розыски. Макарий вспомнил имя Бармы, похвалил дьяковский храм; хотя митрополит не видел его много лет, но воспоминание о величавом строении сохранилось у него прочно.
— Да, такой зодчий сможет выполнить великое дело...— задумчиво сказал Макарий.
Царь указал: разыскать Барму и Постника. Осмотр дьяковского храма решили произвести позднее, в присутствии самого строителя.
Перед Клобуковым встала новая задача: спешно разыскать зодчих. А где их искать? Русь обширна, и никто не знает, в каком краю строят Барма и Постник.
Но царь торопил, и ко всем наместникам поскакали гонцы с наказами:
«Буде в той области, коей ты, боярин, правишь, сыщутся знаменитые зодчие Барма и Постник, не мешкая ни единого дня, отправить оных в Москву под великим смотрением, и если в том государевом деле покажешь ты, боярин, небрежение, то ответ с тебя будет спрошен по всей строгости...»
На местах царский наказ наделал немало переполоха. Иные наместники вообразили, что Постник и Бар-
ма сбегут, если узнают, что их ищут, а потому и розыск велся тайно. Другие рассудили более здраво: если зодчие названы знаменитыми, значит, их ждет царская милость, и надо искать их всенародно. По городам и селам пошли бирючи, громогласно обещая награду тому, кто доведет до сведения властей о местопребывании Постника и Бармы.
След зодчих отыскался под Ярославлем, в Толгском монастыре; там исправляли они монастырские стены.
Обрадованный наместник отправил за зодчими целый отряд во главе с приставом. Приказ был такой: немедленно забрать Постника и Барму и везти в Москву под строгим присмотром.
Наместник так долго внушал приставу важность порученного ему царского дела, что тот хотел сковать зодчих по рукам и ногам, опасаясь злоумышленного их побега. Постник долго убеждал его, что они бежать не собираются, и сунул щедрое подношение; тогда пристав обошелся со строителями более мягко: усадил каждого в отдельную телегу и окружил плотным кольцом стрельцов.
Так Постник с Бармой и были доставлены в Москву и водворены в избе Посольского приказа. Иван Тимофеевич Клобуков навестил зодчих в тот день, как они приехали, и долго беседовал с ними.
О жизни своей зодчие рассказывали скупо.
— О чем много говорить! — удивлялся Барма, коренастый старик с кудрявой седой головой. — Ходили по Руси, строили. Там годик проработал, там другой, с места на место, из города в город, из села в село — глянул на себя, а уж и старость подошла, и голова в серебре... Так и прожил я век бобылем, за работой жениться не поспел. Вот говорю Постнику: «Эй, парень, пока не поздно, обзаводись семьей, а то останешься одиночкой, как я!» Так и ему все некогда да недосуг...
Постник, русоголовый, мощного сложения мужчина, уже доживавший четвертый десяток лет, добродушно улыбался:
— Нейдут за меня невесты: кочую я с молодых лет с наставником, гнезда доселе не свил. Вот ужо надо съездить на родину, в Псков, там домишко поставить — может, тогда и семьянином сделаюсь...
Зато о своих стройках Барма и Постник говорили много и охотно. Барма подробно рассказал, как строил
он для великого князя Василия Ивановича храм в Дь<р кове. Василий Иванович, хоть и был обременен государственными делами, все же очень интересовался строительством, частенько наезжал в Дьяково. А когда построен был храм, щедро наградил Барму и хотел подарить каменные палаты в Москве.
— Мне воля дорога, государь, — ответил тогда Барма,— и эти палаты будут мне, как железная клетка птице...
И зодчий снова пошел странствовать по Руси. Привлеченный его славой псковитянин Иван Яковлев, по прозванию Постник, пришел к нему учеником, и с тех пор в продолжение многих лет они неразлучны. Постник не оставлял старого наставника, хоть давно сравнялся с ним мастерством.
Клобуков не скрыл от зодчих, с какой целью привезли их в Москву и какие надежды на них возлагаются, но. просил никому не говорить о царских замыслах.
Разговором с зодчими Клобуков остался доволен и доложил о их прибытии царю. Через два дня состоялся прием.
Сбоку царя сидел митрополит в простой, не пышной рясе; позади стоял Клобуков, поглаживая окладистую рыжую бороду и делая Постнику успокоительные знаки.
— Вот мы, твои слуги, государь! — сказал Барма.— Требовал нас перед свои светлые очи?
— Жалую вас на прибытии, — ответил царь. — Как тебя земля, старче, носит?
— Как твоему батюшке, великому князю Василию Ивановичу, служил, так и твоему царскому величеству могу еще послужить! — Голос Бармы был спокоен и радостен.
— Я чаю, рассказывал вам Тимофеевич, зачем призвали мы вас. По долгом рассуждении приговорили мы построить на Москве пречудесный храм в память великого казанского похода...
— Слыхали, государь!
— Такой надо памятник поставить, чтоб века стоял, напоминая о воинах безвестных, положивших голову за дело русское, христианское! — Голос царя гремел, щеки пылали.
— Великое дело, государь!.. — согласился Барма.
— Не все еще сказано! — прервал его царь. — Надо
такой храм поставить, какого на Руси не бывало с начала времен и чтоб иноземцы, на оный посмотрев, диву бы дались и сказали бы: «Умеют русские строить!» Вот что мы держим с преподобным владыкой на мысли! Понятно вам сие, зодчие?
Митрополит кивком выразил полное согласие с царем. Клобуков из-за царской спины поощрительно улыбался.
— Рад слышать такие речи, государь! — сказал Барма.
— А ты что молчишь, Постник?
— В чину учимых я, государь, — скромно ответил Постник. — Решать подобает наставнику, а я из его воли не уклонюсь...
— Мнится, государь, это те мастеры, какие нам надобны, — молвил Макарий.
— Возьмешься, Барма? Ответствуй! — обратился к зодчему царь.
Барма низко поклонился:
— Коли не в труд будет, великий государь, повремени до завтра. Тяжек ответ. Возьмемся — пятиться некуда!
— Дело большое, подумайте, — согласился Иван Васильевич.
На другой день разговор возобновился.
— Беремся строить, государь, — заявил Барма, поприветствовав царя. — Как от счастья отказываться!
— Супротивничать не смеем, — сказал и свое слово Постник.
— Шубейками со своих плеч вас жалую! — воскликнул довольный царь. — Будете у меня в приближении.
Барма смело возразил:
— За тем не гонимся, государь! Но и не отнекиваемся от милости, ибо коли не будем у тебя в чести, то бояре твои помехи нам станут строить.
Лицо царя потемнело, глаза взглянули сердито:
— Уж эти мне бояре! Сидят у себя во дворах, как сомы в омутах, думают — я их не достигну. Да нет, шалят, у Ивана Московского руки длинные!.. И вы бояр не опасайтесь. Но... работать у меня!
— С делом не справимся — ответ будем держать! — твердо сказал Барма. — Только и ты нам препон не
чини: чтоб мы были делу хозяева. А то ежели сей день так, а завтра иначе, то и зачинать не станем...
Речь Бармы понравилась царю:
— Владыко, слышь, как поговаривает? Это ермо-линский дух в нем! Помнишь, ты мне про Ермолина рассказывал и мы гадали, есть ныне таковые мастера али нет?
Макарий смотрел одобрительно:
— Прав он, государь. Кому много дано, с того много и спрашивается. Но чтобы спрашивать, надо дать.
— Смел, смел ты, Барма! — оживленно продолжал Иван Васильевич. — За такие дерзостные речи голову отрубить али помиловать? Помилую: не убоялся ты моего гнева и молвил прямое слово!
Барма сказал:
— Дозволь, государь, спросить: строить будем из камня?
— А вы как полагаете?
— Дерево — бренно, камень — вечен.
— Строить будем из камня, — решил царь.
— По отчей старине, — добавил митрополит. — Зачинайте же, чада, делать оклады Ч
— На такой храм оклады сделать и всю видимость изобразить — дело долгое, государь, — сказал Барма. — И хоть Постник на это великий искусник, а все же много месяцев понадобится. И упреждаю, государь: ты нас не торопи — излишним поспешением делу повредим.
— Будь по-вашему, — согласился царь. — Все благопотребное получите. Знаю, многие найдутся у вас ко мне дела, посему определяю: доступ вам в мой дворец во всякое время открыт.
— И ко мне тоже, — добавил Макарий.
* * *
Через несколько дней царь в сопровождении митрополита, ближних бояр и зодчих Постника и Бармы совершил поездку в село Дьяково осмотреть тамошний храм.
Барма водил царя Ивана по приделам, объяснял, как строил храм, почему расположил его именно так.
1 Оклады — чертежи, проект.
Больше двух десятков лет прошло с тех пор, как Барма в последний раз оглядывал прекрасное создание своего гения. Ему тогда казалось, что он уже старик. Но теперь Барма понял, как был в то время молод и как умудрила его жизнь за прожитые с тех пор годы.
— Расположение этого храма, государь, — говорил Барма, — взято из древних образцов деревянных наших церквей. Мы, русские зодчие, не хотели следовать образцам византийским, с их четырехугольным видом, более пригодным для палат. Древним русским церквам с прирубами, с шатровым покрытием подобен сей храм; он сложен из камня, но, по желанию строителей, мог быть и древян...
Пятиглавый дьяковский храм очень понравился царю и сопровождавшим его лицам. Храм не был увенчан пятью шатрами, но намечался переход к ним. Центральная, самая высокая глава опиралась на восемь коротких колонн, которые скрадывали переход от восьмигранника центральной башни к световому круглому барабану.
— Зело благолепен вид сего храма, — говорил митрополит.— Знаю его давно, но после твоих разъяснений, Барма, новыми глазами на него взираю.
— В таком роде думаете строить? — спросил Иван у зодчих.
— Намного и больше’ и лучше постараемся, государь, сделать! — заверили зодчие. — Все силы положим в новый собор, чтобы дивен он был и красовался на удивление и хвалу...
Глава VII
ВЫБОР МЕСТА
Прежде чем взяться за разработку чертежей, зодчие попросили указать место для храма.
— Место, где воздвигается строение, великую важность имеет, — говорил Барма митрополиту. — Инодело, когда храм на возвышенности и виден издалека, ино дело, когда окружен домами и хоромами. Стоит ли одиноко— один вид, строения ли вокруг — другой...
Посоветовавшись с царем, Макарий предоставил выбор места зодчим:
— Найдите, а мы посмотрим!
Постник предложил строить новый храм в Кремле. Барма не согласился.
— От народа отходишь, Иван, — укоризненно покачал кудрявой седой головой старик. — Хочешь строить нетленное, а не проникся духом, какой надобен! Что мы строим? Памятник ратной славы! Чьей славы? — Он огляделся и, хотя в избе никого не было, придвинулся к Постнику и понизил голос: — Кто Казань брал? Брали стрельцы, казаки, добровольные ратники... Кто сложил голову под вражьим городом? Всё они же — безвестные люди русские! Им, этим подвижникам и страстотерпцам за родную землю, — им воздвигнем вечный памятник! Где ему стоять? Там ли, среди боярских палат и царских дворцов — в Кремле, где люди без шапки ходят, али там, где простой народ шумит-бур-лит, как волна морская?
Постник опустил голову:
— Прости, наставник, неправо я судил!
Решили ставить храм в самом многолюдстве, на виду у народных масс.
Учитель с учеником пошли по Москве, хоть и знали ее хорошо.
Замоскворечье откинули сразу. В Занеглименье тоже не представлялось подходящего места. Шумная Лубянка казалась пригодной. Однако зодчие прошли и ее и отправились на Пожар. Людское море поглотило их...
Барма и Постник, еле выбравшись из многотысячного людского сборища, переглянулись.
— Тут и строить! — воскликнул ученик.
— Самое сердце города! — отозвался наставник.
— А церкви? — спохватился Постник. — Здесь же церкви стоят...
— Какие это церкви! Убожество одно... Мы их сломаем и на том месте воздвигнем наш храм. Чего лучше! Место открытое, издалека видать: и от Москвы-реки, и от Неглинки, и даже из Кремля, — улыбнулся Барма. — Самое ему тут место! И всю окрестность он скрасит.
Постник помялся:
— Наставник, больно много тут непотребства творится: сквернословят, дерутся...
— Не смущайся, Ваня! Может, иной ругатель али
драчун, взглянув на памятник и вспомнив, что он знаменует, постыдится и воздержится от зла. Вот и заслуга наша будет...
— У тебя, учитель, на все готов ответ!— прошептал Постник.
— Многому я жизнью научен; доживешь до моих лет, и ты наберешься опыта...
Барма доложил митрополиту о выборе места. Зодчих призвали к царю, где Барма изложил свои соображения.
— Местом я доволен, зодчие, — сказал царь. — Надобно, не мешкая, сыскивать ломцов 1 и приступать к сносу церквушек, место расчищать...
Глава VIII
НОВЫЕ ЗАБОТЫ ОРДЫНЦЕВА
Барма просил митрополита указать число престолов в храме. От этого зависела величина храма и расположение частей. Храм — не дворец, не жилые палаты: его план имеет символическое значение, объясняемое церковными обычаями.
Для обсуждения важного вопроса о престолах опять собрались у царя ближайшие зачинатели строительства: митрополит, дьяк Клобуков, зодчие Барма и Постник.
Митрополит заговорил тихо, раздумчиво:
— Храм, бессомненно, надобно ставить многопрестольный. Вельми2 трудное дело — избрать имена святых, во имя которых воздвигнутся престолы. И я уже их избрал...
Барма сказал:
— Дозволь спросить, владыко пресвятый: какие соизволишь поставить престолы?
Макарий разъяснил слушателям: избранные наименования церквей напоминают о важных событиях и битвах, случившихся при взятии Казани.
1 октября, в праздник покрова богородицы, русская рать готовилась к решительному, последнему приступу.
1 Л о м цы — рабочие, разрушавшие старые строения.
2 Вельми — весьма.
Митрополит считал, что надо воздать честь богородице за покровительство русскому воинству. И ок назвал центральный храм Покровским.
30 августа, в день памяти Александра Свирского, было разбито войско Япанчи. В память этого Макарий нарёк один из приделов именем Александра Свирского.
Еще один из приделов был назван именем армянского святого Григория — в честь тех безвестных армянских пушкарей, которых даже угроза смерти не могла заставить идти против русских братьев.
Так названия церквей составили краткую летопись казанского похода.
— Великая вам задача, строители! — заканчивая речь, обратился митрополит к Барме и Постнику. — Около главного храма в честь покрова пресвятыя богородицы расположите семь храмов вышереченных, и воздвигнется чудное собрание храмов, собор, каковое слово к нам от прадедов перешло...
Барма что-то прикидывал в уме и соображал: это видно было по движениям его рук. Он успел перешепнуться с Постником, который его понял и одобрил.
— Дозвольте слово молвить, государь и преподобный владыко! Семь храмов окрест главного храма поставить неможно. Зрелище получится не радостное, а беспорядочное. Надобно ставить округ главного восемь храмов: четыре по четырем сторонам света да другие четыре промежду ними. Тогда возымеем полное совершенство и со всех сторон равный и глаз восхищающий вид...
— Так, государь! — подтвердил Постник.
— Ладно, верю вам. Сделаем восемь престолов вокруг большого.
На этом решении остановились. * *
Главным смотрителем будущего строения царь назначил Федора Ордынцева. Этому назначению предшествовал разговор Ивана Васильевича с его любимцем.
Когда Ордынцев вошел в палату, царь сидел на лавке в узком темно-синем терлике 1 с золотыми разводами,
1 Терлик — род кафтана.
в простой бархатной скуфейке, прикрывавшей стриженные в кружок волосы. Перед ним лежали шахматы из слоновой кости; Иван Васильевич внимательно их пересматривал.
— А, Григорьевич!—ласково воскликнул царь.— Как жив?
— Твоими благодеяниями, государь! Здрав будь на многие лета!
Ордынцев низко, до земли, поклонился царю.
— Вот, любуюсь шахматами дивной работы. Персидского государя подарок. Умеешь, Григорьевич, сей игре? А то бы сыграли!
— Не обучен, государь! — развел руками окольничий.
— То-то! — самодовольно сказал царь. — Потому люблю искусство шахматного боя, что имеет оно родство с воинским боем... Знаешь, зачем тебя позвал? — круто переменил разговор.
— Не ведаю, государь!
— Хочу тебе отдых дать от пушечных дел!
Ордынцев покраснел:
— Али не угодил, государь? Худо работаю?
— Работаешь хорошо и, знаю, выучил способных помощников. Одного из них, по твоему выбору, и поставим на твое место. А тебе иная забота: станешь у меня ведать строительством собора. Дело вельми большое...
— Неужто другой на это не найдется? — огорченно спросил Федор Григорьевич.
— Охотников много, да руки у них липкие, — зло ответил царь. — А твою честность я знаю. Сам не будешь воровать и другим не дашь.
— Трудная задача, государь...
— Знаю, что трудная, но ты старайся. И помни, Григорьевич: я тебя с Пушечного снимаю на врем-я. Казань мы великими трудами и кровью повоевали. Думаешь, всё? — Иван значительно поднял палец. — Ныне главное зачнется! Западу ли по душе, что Россия возвышается, что становится твердой ногой на доселе отторгнутых у нее землях? Говорю тебе: поднимутся на нас и поляки, и ливонские рыцари, и свей, и немцы — все дорогие соседушки... И надобно их встретить достойно! А посему про пушки забывать не будем!
— Дозволь, государь, слово молвить. Строительство— дело великое, и я за него берусь. Но ты уж разреши мне и на Пушечный заглядывать, чтобы там дело не разладилось...
— Вот это твое прошение мне по душе! Вижу, верный ты слуга и нелицемерно о государственном деле печешься. И быть по сему!
Ордынцеву пришлось взяться за новое дело.
Царская грамота приказывала разыскать по ближним посадам и уездам все сараи и печи, где выделывался кирпич и где обжигалась известь. Приказано было записать их на царское имя, починить и заново покрыть. Повелевалось строить новые печи и сараи, заготовлять лес и дрова, ломать известковый и бутовый камень.
Всеми этими хозяйственными делами должен был ведать окольничий Федор Григорьевич. Он же отвечал за царскую казну, отпущенную для стройки. Но так как одному человеку невозможно было справиться с таким громадным делом, то в помощь Ордынцеву было выбрано из московских посадских людей десять целовальников.
Эти целовальники должны были ведать денежными расходами по разным статьям, записывать расходы в книги и скреплять собственноручной подписью. Для рассылки по мелким поручениям приставили двадцать детей боярских.
На Ордынцева возлагалась нелегкая задача: смотреть за целовальниками и детьми боярскими, чтобы они не расхищали казенное добро, не брали посулов и приношений.
Тому, кто будет расточать строительные материалы, посулы брать и работать нечестно, царский указ грозил смертной казнью.
Читая и перечитывая указ, Ордынцев вздыхал:
— Трудно! Ах, трудно!
Собрав целовальников, присланных из Дворцового приказа, Ордынцев сурово внушал им:
— Коли вы, презрев страх божий и уставы государственные, заворуетесь злокозненно, за то вам, татям, нещадное будет мучительство!..
Староста целовальников — большеголовый, большебородый Важен Пущин — скромно улыбнулся:
— Будь покоен, государь боярин, мы завсегда господа бога помним!
Но по искоркам, мелькавшим в плутоватых глазах Бажена, Ордынцев решил:
«Заворуются, негодники!»
Однако делать было нечего, приходилось распределять обязанности между целовальниками. Одного посылал на каменоломни, другого — приводить в порядок кирпичное дело, третьему поручалось наблюдать за валкой леса. Надо было также следить за сплавом запасов по Москве-реке, принимать материалы на месте, строить склады на берегу, возводить бараки для строителей Покровского собора.
По городам были разосланы указы:
«А какие в городах и волостях сидят наместники и волостели, и тем касающиеся стройки приказы окольничего Ордынцева исполнять...»
И дальше опять строго напоминалось:
«Аще кто из строителей либо целовальников учнет воровать, и тех сужу я, царь и великий государь всея Руси...»
Суеты хватало Ордынцеву по горло. Всех надо было проверить, за всеми следить. Целовальники на купленное доставляли счета от купцов. Однако и на купцов полагаться не приходилось. О них недаром сложилось присловье: «Купец, что стрелец, промашки не даст!»
Ордынцев потерял покой, похудел; а впереди еще много трудов, целые годы... Федор Григорьевич с грустью вспоминал Пушечный двор, где хотя и много было работы, да вся под рукой. А теперь и на Пушечный почти не удавалось заглядывать.
Глава IX
ИЗ ПЕРЕПИСКИ ГАНСА ФРИДМАНА
«Высокородному господину придворному архитектору Отто Фогелю.
Любезный и почтенный друг!
Не больше шести месяцев прошло, как мы виделись в Дрездене, и вот я, небезызвестный тебе саксонский
архитектор Ганс Фридман, успел совершить далекое и опасное путешествие в Московию и пишу из столицы этого северного государства.
Я не смог повидаться с тобой перед отъездом, и ты, без сомнения, спросишь, что заставило меня принять неожиданное решение.
Сознаюсь, я принял его после долгих колебаний: не такое простое дело — пуститься на край света, в страну, которую мы так мало знаем. Но я не видел иного выхода.
Мне далеко перевалило за тридцать, а я не имею семейного очага. Как содержать жену и детей на мой скудный заработок? Мы — старые друзья, вместе учились, и ты знаешь, что я искусный и знающий архитектор, но мне так редко доставалась работа! В Саксонии слишком мало строят, а если выпадет счастливый случай, то найдется удачливый соперник, который выхватит фортуну из-под носа.
Находясь в таком тяжелом положении, я услышал от благонадежных людей, что в Московии можно найти работу и что там хорошо платят иностранцам. Все же я не сразу поверил слухам. Я написал в Лейпциг, в Нюренберг... Когда пришли подтверждения, я покинул родину, — но, конечно, не навсегда.
Барка, из числа тех, что ходят по Эльбе, благополучно доставила меня в Гамбург. Там я сел на судно шведского купца господина Эрика Румбольда.
Во время переезда меня так мучила морская болезнь, что я чуть не умер. Но, благодарение судьбе, сошел на сушу живым в Риге.
Из этого города я двинулся с рижскими купцами, направлявшимися в Москву. Они избрали обычный путь, каким ездят иностранцы: через Дерпт, Ладогу, Новгород.
Слишком долго описывать, любезный друг Отто, дорожные приключения и неприятности в этой дикой, угрюмой стране. Я расскажу о них при личной встрече. Одно тебе важно знать: я добрался до Москвы, этого огромного, беспорядочного города, и живу у соотечественника Эвальда Курца.
Мои природные способности и знание чешского языка помогли мне за время путешествия ознакомиться с наречием московитов. Я могу объясняться на нем сво-«I
бодно, но решил пока скрывать знание языка. Это для меня выгодно: не остерегаясь моего присутствия, московиты будут разговаривать свободно, и я могу оказаться обладателем важной тайны. И будь спокоен, я сумею воспользоваться выгодами положения.
Конечно, я займу высокий пост в этой непросвещенной стране. Кстати, я заметил, что название «Россия» вытесняет прежнее распространенное название «Московия». Оно считается более широким и более соответствующим растущему могуществу государства. А это могущество чрезвычайно усилилось благодаря покорению казанской орды.
Месяц назад я видел московского властителя Иоанна IV. Это случилось при таких обстоятельствах. Я бродил по московским улицам и площадям, присматриваясь, прислушиваясь к разговорам. Вдруг народ заволновался, послышались возгласы:
— Царь! Царь!
Снимая шапки, люди теснились к заборам, чтобы освободить проезд царю и его свите.
Должен сказать, что Иоанн имеет вид настоящего государя. Он ехал на великолепном аргамаке, покрытом дорогой попоной; седло, сбруя, уздечка блистали золотом и драгоценными камнями. На коне царь сидел с ловкостью опытного наездника, (все московиты таковы: огромные расстояния дикой страны отучили их от пешего хождения). Одет был царь в роскошную шубу на собольем меху; драгоценная бобровая шапка украшена перьями цапли, которую русские считают благородной птицей. При бедре Иоанна висел меч.
Русские, встречая повелителя, падали лицом в снег. Пришлось сделать то же и мне. Поднимаясь, я встретился с царем глазами. У него, как мне показалось, необычайно белое лицо с темными усами и небольшой волнистой бородой и строгий, проницательный взгляд.
За Иоанном ехала блестящая свита — этим все кланялись в пояс; один я стоял в растерянности, не согнув спины; за это по мне прошелся бич (der Knut, как они называют).
После этой памятной встречи я долго добивался случая быть представленным московскому царю. Без
такой аудиенции иностранцу в Московии нельзя поступить на государственную службу.
Есть у московитов слово «волокита». Это означает бесконечное промедление с делами. В такую волокиту попал и я, к великому прискорбию. Когда ни приходил я с просьбой в Посольский приказ, равнодушные чиновники — дьяки — отвечали:
— Завтра!
Наконец па прошлой неделе мне удалось представиться царю Иоанну, и об этом важном событии я расскажу со всеми подробностями. Я знаю, ты интересуешься образом жизни и нравами неизвестных народов.
Меня ввели в небольшую комнату, отобрав оружие. Комната убрана с невиданной роскошью. Царя окружали князья и бояре, одетые в длиннейшие меховые шубы и огромные шапки. На каждом боярине столько соболей, горностаев, бобров, что в Германии его одежда составила бы богатство.
Министр иностранных дел Висковатый (они именуют его дьяком Посольского приказа) подвел меня к царю, заставил преклонить колена, назвал мое имя и звание. Иоанн протянул руку для поцелуя и уставился мне в лицо.
— Так ты строитель? — спросил Иоанн.
Я чуть не ответил утвердительно, но, по счастью, вспомнил, что скрываю знание русского языка. Когда вопрос перевели, я ответил.
— Строители нам нужны, — сказал царь.
Он расспрашивал меня, где я бывал, что и где строил, выведывал приемы нашей профессии. Как ни странно, но этот удивительный властитель гораздо образованнее германских государей, о которых ты мне рассказывал. Наши герцоги и курфюрсты говорят об охоте,, турнирах и женщинах; в этой области у них непререкаемый авторитет. Тебе не удалось встретить ни одного германского принца, который прочитал бы какую-нибудь книгу помимо правил псовой охоты или соколиной ловли. А этот повелитель огромной страны упоминал греческих и латинских классиков, говорил о Платоне, Аристотеле, Вергилии.
Когда же я, по его мнению, неправильно осветил какой-то вопрос архитектуры, он стал опровергать меня,
ссылаясь на Витрувия L Моя физиономия выразила непритворное удивление.
Царю это понравилось; он сказал:
— Смотрите, немец рот разинул: удивительно ему, что не нашел в нас невежества, которого ожидал. Этого не переводи, — добавил он толмачу.
Я скромно стоял, постаравшись усилить знаки изумления.
Под конец аудиенции Иоанн обходился со мной значительно мягче. На прощание он сказал:
— Мы тебе службу дадим, и хорошую: будешь участвовать в построении храма, долженствующего напоминать потомкам о подвиге покорения Казанского царства.— Обращаясь к министру, он добавил: — Прикажи, Михайлович, выдать немцу денег. Пока наши зодчие строят планы, ему делать нечего, еще с голоду сбежит...
Можешь поверить, почтенный Фогель, я не сбегу! Я долго ждал фортуну и научился терпению.
Если я и не придворный архитектор московского властелина, то лишь потому, что здесь не существует такого звания. Теперь я смотрю на будущее с большой надеждой.
Это письмо я посылаю с попутчиком, нашим соотечественником. Надеюсь, что оно дойдет в сохранности. Жду вестей. И будь уверен, любезный и почтенный Отто, я постараюсь сообщать о моих дальнейших шагах в далекой Московии.
Твой покорный слуга
Ганс Фридман.
23 января 1554 года»._
Глава X
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА
Когда определилось место для Покровского собора и количество церквей, началась разработка проекта.
Зодчим отвели большую, светлую горницу во дворце. Были поставлены огромные гладкие столы. Ордынцев закупил бумагу, краски, тушь. Барма и Постник
1 Марк В итр у ви й П о л л ион — древний римский писатель. Жил во 2-й половине I века до нашей эрыг Написал известнее сочинение «Десять книг об архитектуре».
проводили во дворце целые дни и уходили с темнотой. Стража внимательно их обыскивала. Царь отдал распоряжение: ни один чертеж не выносить из дворца.
Барма и Постник посмеивались: «Разве не можем мы начертить дома, что делаем здесь?» Но обыску подчинялись покорно.
Первый, долгий спор зашел по вопросу о величине собора.
— Знаешь, Постник, — заявил Барма, — поднимем громаду, чтобы за сотню верст видать! Пусть в солнечный день сияют кресты и главы собора жителям Коломны, Серпухова, Дмитрова, Можайска, Волока Ламского! Весь мир поймет силу Руси, коль скоро мы сможем воздвигнуть таковой храм!
— Подожди, учитель, дай посчитать!
Расчет был трудный и мог быть сделан лишь приближенно. Предвидя заранее, что о размерах собора придется спорить, Постник побывал в селе Коломенском, где лет двадцать пять назад поставили большой храм. Зодчий взобрался к кресту, венчающему шпиль, заметил деревушку на горизонте и, спустившись, определил расстояние. Высота Коломенской церкви Постнику была известна.
Вооруженный этими данными, Постник, знаток геометрии, вычислил:
— Дабы глядеть вокруг на сто верст, надобно строение поднять на триста пятьдесят саженей!
Барма схватился за голову.
— Триста пятьдесят саженей! — с ужасом вскричал он. — Мало не верста...1 Это я через край хватил! Такого храма никому не построить... Да ты небось ошибся, Постник!
— Цифирь не врет! Я долго пересчитывал. Крест нашего собора уйдет за облака. Так гласит гиомитрия...
— Уж эта мне гиомитрия! — проворчал Барма.— Придется сбавлять, и много сбавлять... — Потом сказал:— Сделаем, чтобы за полста верст видать было.
Постник усмехнулся и вновь углубился в расчеты. Барма стоял позади, смотрел через его плечо с надеждой и ненавистью на непонятную арабскую цифирь, возникавшую под пером Постника. Его томило нетерпение.
1 Верста (500 саженей) равняется приблизительно 1065 метрам.
— Девяносто саженей, — объявил Постник.
Барма был страшно разочарован.
— Еще сбавлять?
Он с тоской вглядывался в холодные глаза Постника, но сочувствия не нашел. Постнику не по душе была мысль, что если затеять чересчур обширное строительство, то не придется его довершить, не придется полюбоваться делом своих рук.
Для спора с Бармой у Постника имелось достаточно доводов. Чтобы доказать несбыточность задуманного Бармой, Постник рассказывал ему о соборе Парижской богоматери, о Вестминстерском аббатстве, о Парфеноне...
Собор Парижской богоматери, чудо строительного искусства, французский король Филипп Август заложил в начале XIII века. Еще не оконченное здание сильно повредил пожар. Пришлось его перестраивать. Дело тянулось двести лет. И Постник знал, что две огромные колокольни стоят недостроенными, портя вид великолепного храма.
Вестминстерское аббатство в Лондоне, гордость английского зодчества, строилось, достраивалось и перестраивалось в течение столетий.
— Зришь, наставник, к чему приводит погоня за чрезмерной громадностью здания? Али тебе достаточно за наш век заложить основание да стены поднять на сажень от земли?
— Иные докончат...
Простая и светлая душа Бармы не знала тревог и волнений. Он не гнался за личной славой. Начать бы доброе дело — и пусть оно пойдет своим чередом. Не узнают люди имени зачинателя? Что ж! Барму эта мысль не тревожила.
— Иные? — многозначительно повторил Постник.— А примут ли они наш замысел? Не переделают чертежи? Из гистории об иноземных строительствах знаю: часто таковое случалось. Да и не рассыплется ли прахом дело, когда не станет ни тебя, ни меня, ни замыслившего сие государя Ивана Васильевича?
Барма начал подаваться, а Постник приводил новые доводы:
— К чему огромность? Конечно, на столе не поставить здания, поражающего взор, но и при невеликих
размерах можно сделать величественное... Парфенон Афинский, коего изображение видели мы в государевой книгохранительнице, радует зрение и дает вид громадности, какой у него и нет... Твой дьяковский храм — разве с него можно взирать окрест на десятки верст! — являет чудесный, величавый вид...
После долгих споров и разговоров согласились, что высота главного храма не будет превышать сорока саженей от земли.
Для утешения Бармы Постник высчитал, что и при такой высоте крест храма в ясную погоду будет виден верст за тридцать пять.
Потом пошли споры, должны ли девять церквей стоять под одной кровлей и составлять общее целое или каждую ставить отдельно.
Этот спор быстро решило духовенство. Макарий приказал, чтобы каждый храм был самостоятельным: «У каждой церкви свои священники и клир, свои прихожане— не годится мешаться одним с другими».
— Боится владыка: перессорятся попы, служа под одной крышей, — насмешливо заметил Постник. — Доходы не поделят.
Задача архитекторов постепенно выяснилась, но и приобрела новую сложность.
Надо было построить девять отдельных церквей, но так, чтобы они являли взору единое целое. Барма и Постник без споров согласились, что церкви должны стоять рядом, на общем основании.
Задачу единства при разнообразии Барма и Постник объясняли митрополиту образно.
— Сошлись несколько человек случайно, — говорил старый зодчий. — Что сие? Толпа, члены коей ничем не связаны... А то — семья: отец и дети. Во всех нечто родственное, некие общие черты: связь родства их объединяет. Так мы должны мыслить о нашем соборе.
Постнику понравилось сравнение учителя, и он его продолжил:
— Из твоих слов заключаю я, что средний храм должен главенствовать над другими, как отец над детьми. И далее: дети одного отца сходствуют меж собой, но и разнствуют также, ибо нет в семье двух в совершенстве одинаковых братьев или сестер. Посему все храмы, имея общее родственное сходство, должны раз
ниться, чтобы представлять глазу зрящего не скучное единообразие, но пленительное разнообразие!
— Истину говоришь, чадо, — согласился митрополит.
— Сродство же всех храмов, — развивал мысль Постник,— заключается в пропорциональности их размеров...
— Говори по-русски! — попросил Барма.
Митрополит, по работе над «Четьи-Минеями» знакомый со многими иностранными словами, пояснил старому зодчему:
— Сие означает: ежели один храм выше другого вдвое, то и основание его должно быть шире тоже вдвое.
А Постник добавил:
— В гиомитрии таковое называется: принцип подобия фигур...
Постник предложил Барме положить в основу внешнего вида группы храмов равнобедренные треугольники. Эти треугольники, подобные между собою, должны определять внешний вид не только здания в целом, нои отдельных частей и даже архитектурных деталей и создавать впечатление гармонии и единства.
Зодчие остановились на равнобедренном треугольнике, высота которого относилась к основанию приблизительно как два к одному.
Византийское искусство требовало покрытия церквей обширными куполами, над которыми возвышались цилиндрические световые барабаны, завершенные главами в форме луковицы. В таком стиле построена одноглавая церковь Покрова на Нерли!, Успенский собор во Владимире1 2 и многие другие древние храмы.
Русскому крестьянину византийское искусство было чуждо. Строя скромную деревянную церквушку, часто обыденку3, безыменный зодчий предпочитал накрывать ее восьмигранным шатром — высокой восьмигранной пирамидой.
Этот вид был милее сердцу северянина, чем чуждые полушария и цилиндры византийских церквей. Он напоминал русскому мужику пирамидальные ели его родины.
1 Построена в 1165 году.
2 Построен в 1158—1184 годах.
3 Обыденка — здание, построенное в один день.
Борьба между куполом и шатром продолжалась долго. Напрасно церковные власти, защищавшие византийские влияния в архитектуре, издавали строгие приказы: «Шатровых церквей отнюдь не строить!»
Барме и Постнику предстояло воздвигнуть храм — памятник русской военной славы, и они выбрали шатер.
Отношение «два к одному» было найдено путем опьь тов и изысканий. При меньшем соотношении треугольники получались тяжелыми, приплюснутыми к земле; при большем они чрезмерно вытягивались кверху, теряли реальность. Лишь «два к одному» создавало гармонию, радующую глаз.
Дело подвигалось. Ни царь, ни митрополит не торопили зодчих: они понимали, что обдумывается величавый замысел; осуществленный, он будет жить века.
* * *
Работа подошла к такой стадии, когда необходимо стало набросать внешний вид собора. О плане в основных частях строители договорились, но и при заданном плане наружность собора могла иметь бесчисленное количество вариантов.
Гениальность Постника сказалась во всем блеске, когда он приступил к эскизам храмов.
Искусство составления проекта было делом новым, оно еще только рождалось и на Руси и за границей. Раньше заказчик и строитель договаривались на словах; понятно, все подробности постройки предусмотреть было невозможно — они выливались сами собой, в зависимости от опытности и таланта мастера.
За последние десятилетия проекты грандиозных зданий вычерчивались строителями, но становились известными узкому кругу близких к строительству лиц, в печати не появлялись. Постник шел по малоисследованному пути. В книгах он находил лишь слабые намеки, отрывочные указания, недостаточные для решения задачи, которую приняли на себя. Но грандиозность дела воодушевляла Постника, рождала в душе силы, о которых он доселе лишь смутно предполагал.
Постник жил полной жизнью. Прежде часто случалось: его мучила неудовлетворенность, выполняемые де-.
ла казались мелкими, ничтожными. Теперь перед ним была огромная работа — работа, от которой при жела-. нии можно не отрываться ни днем, ни ночью. Прежняя угрюмость и раздражительность, иногда подолгу не оставлявшие Постника, сменились тихой сосредоточенностью. Постника трудно стало рассердить. Углубленный в себя, он рассеянно смотрел на собеседника глазами с черными расширенными зрачками — верный признак, что зодчий его не слышит.
Закрыв глаза, Постник представлял себе церкви — нарядные, торжественные, собравшиеся веселой семьей. Видения следовало претворить в действительность и прежде всего закрепить на бумаге. Сначала Постник рисовал храмы по отдельности — центральный храм Покрова, меньшие храмы, которые будут его окружать. А затем художник принялся соединять их во всевозможных комбинациях.
Он переставлял одну церковь на место другой, пробовал новые и новые сочетания, добиваясь цельности общего впечатления. Изыскивая наилучшие виды сооружения с разных сторон, он увеличивал и уменьшал высоту отдельных храмов, менял форму и размеры глав. Работал Постник с редкой быстротой: сказывался особенный талант видеть замысел так ярко, точно он осуществленный стоял перед глазами.
Эскизы лежали в рабочей комнате зодчих десятками. Некоторые уже одобрял требовательный Барма, но неутомимый искатель браковал их и продолжал множить наброски.
Глава XI
ПОМОЩНИКИ
Оставив Дуню в Выбутине, Андрей и Никита в середине марта вернулись в Москву. Солнышко пригревало по-весеннему, снег на дорогах потемнел и проваливался.
Весенний воздух волновал Булата, он нетерпеливо ждал дня, когда они с Андреем снова отправятся в дальний путь.
Этот счастливый день настал. Подпираясь кленовыми посошками, с котомками за спиной, зодчие оставили
Москву, и перед ними раскинулась манящая вдаль дорога.
Но не стало прежней выносливости у Никиты Булата. Не мог он так же неутомимо, как прежде, шагать по лесным тропинкам. Во время ночевок в поле старик беспокойно ворочался с боку на бок под легким армяком: ему было холодно...
Только два месяца проходил Булат по стране со своим учеником, а потом Андрею пришлось покупать телегу и лошадь и везти Никиту в Москву.
Булат лежал на телеге и грустно смотрел в высокое небо.
— Отошло мое времечко... — шептал он. — Съела силушку проклятая татарва...
В Москве Никита отдохнул, поправился, но ему стало ясно, что он уж не работник.
— Даром буду есть твой хлеб, Андрюшенька, — вздыхал он. — Хоть бы смерть поскорее пришла...
Такие разговоры до глубины души обижали Голована.
О приезде Бармы и Постника в Москву Андрей узнал от Ордынцева. Молодой мастер поспешил к знаменитому земляку, с которым так давно мечтал встретиться.
Постник принял Голована приветливо. Оказалось, что и он давно слышал об Андрее и видел многие его постройки. Теперь, при личной встрече, Постник похвалил работу Голована, указал недостатки. Беседа затянулась на многие часы.
Постник первый заговорил, что хотел бы видеть Голована товарищем по работе. Андрей признался, что это его давняя мечта.
— Эх, кабы твой учитель не состарился, много бы он нам помог! — с сожалением сказал Постник.
— Советом он поможет, а по лесам Никите уж не ходить, — отозвался Голован.
Постник просил Андрея не браться за стройку, которая связала бы его надолго.
— Жди своего часа, — сказал он. — Лишь только государь разрешит набирать помощников, ты будешь пер-, вый...
...Это время настало, и больше всех порадовался счастью Голована его старый учитель Никита Булат.
Но одним помощником, даже таким знающим и деятельным, как Голован, никак нельзя было обойтись. Зодчие понимали, что в грандиозном строительстве, какое им предстояло, они смогут осуществлять лишь общее руководство. Требовалось найти молодых, усердных мастеров, проникнутых тем же русским духом, той же любовью к родине.
Этим молодым архитекторам надлежало доработать в мельчайших подробностях проекты отдельных храмов, когда Постник и Барма набросают черновой проект собора. И позднее каждый будет вести постройку одной или двух церквей, повседневно проверять работу каменщиков, плотников, кузнецов, кровельщиков...
Слух о строительстве распространился широко, и немало мастеров приходили предлагать услуги.
Барма устраивал придирчивый экзамен:
— У какого зодчего учился? Где строил? Нарисуй на память церковь, в сооружении коей участвовал... Как составляется замес?..
Если молодому строителю удавалось ответить на вопросы, если рисунок получался удачный и показывал хорошую зрительную память, Барма становился добрее. Пряча под седыми усами одобрительную улыбку, задавал каверзные вопросы:
— Что выгоднее строителю: тысяча пуд кирпичу крупного, в пуд весом каждый, али тысяча пуд кирпичу мелкого, по шесть фунтов?
Находчивые отвечали:
— Кирпич потребен всякий: и крупный и мелкий!
— Понимаешь дело! А вот размер пространства, над коим надо вывести своды: сколько опорных столпов поставишь?
Если экзаменующемуся удавалось благополучно пройти техническую часть, Барма начинал пытать его на ином.
— Коли надеешься на богатые корма, — говорил он, хмуря брови, — то ошибешься. У государя нужд и забот много, и надобно храм построить подешевле. Жалованье дадим, чтоб прожить, а богачество скопить не думай!
После такого заявления Бармы некоторые обещали зайти в другой раз, но не приходили.
Барма вспоминал о таких с презрением, но и с сожалением, если претендент обнаруживал хорошую техническую подготовку. После тщательного отбора Барма принял нескольких человек.
Пришелся ему по душе веселый, с постоянной улыбкой на румяном лице, светлоглазый, с русыми, мягкими, как шелк, волосами владимирец Сергей Барака. Барака учился у хороших мастеров — Владимир был колыбелью древнего русского искусства.
Сергей без споров согласился с вознаграждением, какое положил Ордынцев.
Совсем другим человеком выглядел помор Ефим Бобыль. Ходил он тяжело, половицы трещали под ним, голос был грубый и громкий. За маленькую кисточку толстые, плохо гнущиеся пальцы Ефима взялись с робостью, сидел он за пробным рисунком несколько часов, не подпуская Барму; старик решил, что у парня ничего не вышло, и он скрывает работу от стыда.
Но когда Бобыль решился предъявить рисунок на суд Бармы и Постника, те пришли в восхищение. Ефжм изобразил деревянный храм, покрытый тремя шатрами разной величины, заброшенный среди снежных сугробов севера. Простота и огромная сила чувствовались в очертаниях храма — такой он был родной, русский, до последнего бревнышка, изумительно тонко переданного кистью художника.
— Вот так Бобыль! — с веселым удивлением воскликнул Постник. — Чего ж ты мялся?
— Необык я скоро работать, — стыдливо пробасил Ефим. — Да и думал: может, не поглянется...
Барма с опасением приступил ко второму испытанию: заговорил о жалованье. Выслушав старого зодчего, великан вздохнул:
— Чего греха таить, беден я: батька помер, семья большая — братишки, сестренки малые. Но все одно останусь у вас: больно работа по душе. А с семьей... Что ж, сам не доем, а им скоплю.
Он бесхитростно улыбнулся и сразу завоевал дружбу Постника и Бармы.
Никита Щелкун был в годах, жизнь потерла его достаточно. Побывал он в Польше, Литве, Галиции, ви
дел много храмов и палат самых разнообразных стилей; сам много строил. После скитаний Щелкуну захотелось пожить несколько лет на одном месте, а стройка Покровского собора обещала такую возможность.
Пришел присланный дьяком Висковатым саксонский архитектор Ганс Фридман. Был немец мал ростом, чуть прихрамывал на правую ногу, глаза его прятались, избегали собеседника. Волосы были серые, как у волка.
Фридман пришел с переводчиком — он все еще скрывал знание русского языка.
Увидев на столах рисунки Постника и Голована, немецкий архитектор попросил разрешения посмотреть их. За листы схватился с жадностью, долго перебирал с завистливым изумлением, но похвалил скупо; попутно солгал, что в Германии искусство составления проектов стоит на большей высоте.
Вознаграждение за работу Фридман запросил большое.
— Велик кус ухватывает, не ровен час — подавится!— сердито сказал Барма, которому саксонский архитектор не понравился с первого взгляда.
Постник вступился за Фридмана:
— С виду немец неказист: и ростом не вышел, п рожа поганенькая на сторону воротится. Но, может, хорошо станет работать? Возьмем немца, наставник: по царскому указу прислан.
— Ин ладно! — недовольно согласился Барма.
— Русскому языку надо учиться! — сказал саксонцу Постник.
Тот засмеялся, показав мелкие неровные зубы:
— Пробовал: не дается он мне, труден ваш язык...
Глава XII
ИЗ ДНЕВНИКА ГАНСА ФРИДМАНА
«...Обещание царя Иоанна осуществилось: я принят в штат строителей Покровского собора.
Познакомился я с главными архитекторами будущего строительства, носящими трудно запоминаемые имена: Барма, Голован, Постник.
Особенно замечательна наружность Голована: глаза
его широко раздвинуты и смотрят смелым, в душу проникающим взглядом. Голован — недюжинная личность.
Постник кажется попроще, но я его возненавидел после первого знакомства. Возненавидел за то, что он, не подозревая о моем понимании русского языка, осмелился бросать обидно-снисходительные замечания о моей наружности.
Но не в этом одном причина неприязни. В рабочей комнате архитекторов я увидел чудесные рисунки и эскизы, сделанные Постником. При всех моих способностях мне трудно тягаться с этим несомненно талантливым человеком. И в этом большая опасность для моей карьеры.
Но я упорен и настойчив! Я буду биться за первое место, и горе тому, кто станет на моем пути!
Старше всех Барма, помощник Постника, хотя тот из вежливости называет Барму учителем. Это старик скромный, невидный. Он поглаживал седую бороду, говорил мало и непонятно. Кажется, он из породы баранов, готовых служить кому угодно; ознакомившись поближе, я использую его простоту и наивность для своих целей.
Сейчас моя задача: подорвать доверие к руководителям строительства. Как это сделать, мне пока неясно. Но если я этого добьюсь, царю Иоанну некого будет поставить во главе дела, кроме меня. И тогда — почет, деньги.
Все блага жизни раскроются перед саксонским архитектором Гансом Фридманом!
Август 1554 года».
Глава XIII
УТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Попы с соблюдением надлежащих церемоний вынесли священные предметы из церквей, обреченных на снос, и ломцы принялись за свою веселую работу.
С грохотом летели балки и бревна, сталкиваясь и поднимая тучи пыли.
За ломцами пришли землекопы — выравнивать и сглаживать участок. А по краям с телег уже сбрасы
вали груды камня. Бойкие целовальники с замусленными тетрадями в руках вели счет телегам; вместо квитанций делали подводчикам зарубки на бирках Ч
На берегу Москвы-реки было шумно, людно: там разгружались барки, подвозившие лес, камень, кирпич, песок, известь...
По царскому указу из тюрем выпустили колодников, за коими не числилось тяжких вин; с них взяли крестное целование, что они не своруют и не убегут, и поставили на разгрузку, требовавшую много рук. Довольные неожиданной свободой, бывшие колодники работали рьяно. Впрочем, за вялость и медлительность десятники хлестали кнутом, так что волей-неволей приходилось поворачиваться.
Веселое удивление провожало коренастого рыжего грузчика Петрована Кубаря, таскавшего на спине камни, которые под силу были троим. Парень сидел в темнице за то, что, вернувшись из казанского похода, не смог вынести холопью долю и сбежал от боярина на вольный юг, а будучи настигнут, искалечил двух поимщиков...
По приказу царя Ивана Васильевича по русской земле должны были ходить глашатаи и сзывать на строительство Покровского собора мастеров и искусных работников.
— Трудное затеяно дело, — сказал царь. — Пускай молва о задуманном повсюду пронесется, пускай говор пройдет по боярским хоромам и по избушкам смердов. То нашему великому замыслу на пользу...
Когда глашатаи приходили за охранительными грамотами к Ордынцеву, окольничий говорил им:
— Обещайте народу хорошие корма, говорите, что жить будут сытно. Негодных работников не принимайте: нам такие не надобны.
Глашатаев посылали во Владимир и Суздаль, в Смоленск и Псков за каменщиками, в Новгород и северные области за плотниками. Бывалого Никиту Щелкуна
1 Бирка — палка, расколотая пополам; одна ее часть хранилась у подрядчика, а другая — у работника. Полное совпадение зарубок при прикладывании одной половины бирки к другой свидетельствовало о верности счета.
отправили в Киев. Он должен был сговаривать работников в литовских пределах1.
Пришли к Барме присланные Голованом Нечай и Демид Жук. Бывшие скоморохи тоже вызвались идти бирючами. Веселый Нечай обещал присылать рабочих во множестве:
— Только успевайте переписывать! Я молодцов одними шуточками да прибауточками взманю!
Бирючам давался строгий наказ:
«Едучи городами, и селами, и деревнями, не бесчинствовать, помииков и посулов не брать, мужиков не грабить и паче же всего не упиваться пианственным зелием.
Аще же который начальный человек учнет допытывать, кем и каких ради дел посыланы, и тем ответ держать с бережением и оглядкой: посыланы-де великим государем ради его неотложных государских нужд, и вы-де нам, бирючам, препон не чините, государевой опалы опасаючись...»
ф * *
В конце 1554 года работа над проектом Покровского собора была закончена.
Настал великий для зодчих день: чертежи должен был утвердить царь.
Иван Васильевич и сопровождавшие его лица явились в рабочую комнату.
С царем вошли ближние бояре, митрополит, Ордынцев, Клобуков. Глаза посетителей разбежались при виде столов и стен горницы, где были разложены и развешаны огромные листы, изображавшие собор с различных сторон.
Чертежи будущего храма очень понравились царю. Он долго ходил от стола к столу и от стены к стене, рас* сматривал проекты.
Из присутствующих никто не смел заговорить рань-* ше царя; все ждали, что он скажет.
Лицо Ивана Васильевича светлело, на губах появи* лась улыбка. Чуткая свита заметила хорошее настрое* ние царя.
1 В те времена Киев принадлежал Литве.
— Изрядно! — сказал царь — Изряднехонько... Это кто рисовал?
— Постник, государь! — отвечал Барма. — И немногое — Голов аново.
— Хорошо изображено, — подал голос Макарий,— но вижу многое нарушение церковных правил. Надо крыть куполами, а тут шатры...
— Дозволь, государь, слово молвить! — смело выступил Барма.
Он произнес горячую речь в защиту шатров. Храм ставится в память русского воинского искусства, в память великих жертв, понесенных русскими людьми; его архитектура должна быть самобытной.
Барма высказал мысль, что русским удалось свергнуть татарское иго и начать с Казани присоединение монгольских царств потому, что Русь просвещеннее татарщины, выше стоит по воинскому делу, по памятникам старины, по искусству.
По мнению старого зодчего, замышленный храм должен показать иноземцам, что русское просвещение стоит высоко.
Покровский собор — это итог всех строительных знаний, всех видов русского искусства: зодчества, резьбы, иконописи...
Наконец Барма перешел к символическому значению храма.
— Как Москва больше двух веков собирала вокруг себя русские княжества, так у нас вкруг главного храма, главного престола, собраны престолы меньшие, соподчиненные!— говорил старик,- смело глядя в глаза царю Ивану Васильевичу. — Москва собрала разнородные области, сплотила воедино, из мелких княжеств создала сильное государство, и всем его частям то пошло на благо. Так и у нас разновидные и в то же время родственные храмы создают единое, глазу радостное, сердце веселящее зрелище — Покровский собор, знаменующий единое Российское государство!
Царь, взволнованный развернутой перед ним широкой картиной, обнял Барму.
— Чудесно говоришь, старче!— согласился царь Иван Васильевич. — Повелеваю храм строить, как вы пред-наметиди!
Макарий позволил быстро убедить себя в преимуще
ствах русского шатра перед византийским куполом. Московский митрополит был русским человеком, ревнителем русской старины, и все, что шло от предков славян, было мило его сердцу.
Царь решил и бояре приговорили: лишь только стает снег, ставить по чертежам основание для всех девяти храмов, составляющих Покровский собор.
Постнику за великое усердие, за большие знания в строительном деле царь дал звание городовых и церковных дел мастера.
Часть пятая
ПАМЯТНИК РАТНОЙ СЛАВЫ
Глава 1
ГЛАШАТАИ
Нечай и Демид Жук колесили по Руси третий месяц.
Умело вели бирючи дело, много сговорили людей на московскую стройку, много объездили городов и сел.
Подъехав к большому селу, бывалый Нечай, завидя идущего навстречу старика, закричал:
— Откудова?
— Тутошный, кормильцы, тутошный!
— А коли тутошный, сказывай: живут у вас искусные ремёственники?
Расспросив, Нечай отправился в село, собрал мужиков на сходку:
— Здорово, мужички! Как живем-можем?
— Здорово, коли не шутишь!
— Э, милые, нам шутить да лгать от царя заказано: солжешь в рубле — не поверят и в игле!
— От царя? Да неш ты его видел? — удивился простоватый парень.
— А то нет?.. Он меня сюда и прислал. Требуются в Москву работные люди...
— А для какой, примерно, надобности?
— Казанское царство государь Иван Васильевич под свою высокую руку привел, слыхали? В память сего великого дела задумал царь на Москве поставить храм, какого от веку веков не видано на Руси. И нужны нам, — начал Нечай сыпать искусную скороговорку, — каменщики и плотники — хорошие работники, молотобойцы и кузнецы — удалые молодцы, копачи-бородачи, печники-весельчаки...
Нечай выждал, когда смолк смех мужиков.
Тихо, вполголоса, оставив шутовскую манеру, начал он рассказ о славном походе. Перед изумленными слушателями встали грозные стены Казани и многочисленные защитники, спрятавшиеся за ними; мужики точно видели воочию страшные взрывы, разметывавшие землю, бревна и человеческие тела, слышали крики и стоны воинов, сцепившихся на улицах города в смертном усилии.
Нечай рассказывал хорошо, рисовал живые и яркие картины. Потрясенные слушатели долго молчали.
— Да, — отозвался один из стариков, — великое дело свершили. И что храм замыслили соорудить — это на благо. Надо, мужички, подмогнуть...
Мужики удивлялись молчанию второго бирюча. Чувствуя это, Жук заговорил скупо и коряво. Но самая нескладность его речи была, пожалуй, ближе и роднее слушателям, чем бойкая скороговорка Нечая.
— Что долго толковать: пиши, бирюч, меня, Кузьку Сбоя! Иду церкву строить!
— Кузька идет — и меня пиши: Миколка Третьяк!
— И меня, Емелю Горюна!
— Тихо, тихо! Чередом! Обсказывайте свои уменья!..
Так ходили глашатаи по русской земле.
Не напрасен был труд: отовсюду поднимались ремесленники. Подряжались на работу артели, привычные к отхожим промыслам. Часто артельщики договаривались прийти, когда окончат подряженную работу.
Являлись хорошие мастера из таких мест, куда бирючи не заходили: много поселений на Руси, в каждое не заглянешь. Но и туда докатывалась молва.
Приходил какой-нибудь бородач с саженными плечами:
— Не вы ль царские посланцы?
— А у тя какая надобность?
— Слыхал, плотники требуются.
— А ты плотник?
— Исконный. С дедов-прадедов этим рукомеслом кормимся. Домов поставлено без счету. Церкви, хоромы строили...
Заподряженный бородач уходил довольный. Радовались и бирючи.
Прилетели журавли, принесли на крыльях весну. Забегали белоголовые ребятишки по лужам. Начали стекаться строители в бараки, построенные на берегу Мо-сквы-реки. Разбитные целовальники опрашивали приходящих: кем завербован, па какую работу, принес ли инструмент. Всё записывали, людей расселяли по профессиям: каменщиков в один барак, землекопов в другой, плотников в третий...
Больше всего приходило работников с записками от Нечая.
* * *
Набирали на стройку и москвичей. Эти больше нанимались на кузнечную и каменную работу. Много шуму вызвало появление женщины, которая пришла подряжаться в каменщики. Баба была рослая, ширококостная.
— И где тут каменщиков набирают? — смело спросила она.
Вокруг женщины собралась толпа. Послышался смех. На шум явился целовальник Важен Пущин:
— Ну-ну, чего собралися? Проходи, красавица!
— Запиши меня в каменщики!
— Хо-хо-хо!
— Знай, баба, веретено!
— Каменщик, робя, объявился гляди какой хватской!
Женщина презрительно выслушивала насмешки, блестя быстрыми черными глазами.
— Эх ты, баба... — заговорил Важен, смущенный настойчивостью просительницы. — Как кликать-то тебя?
— Салоникёя.
— Вот что, Салоникеюшка: шла бы ты своей дорогой!
— Бабам тута не место! — прорвался кто-то из любопытных.
Салоникея так стремительно и гневно повернулась, что ближайшие зеваки попятились при смехе толпы.
— То-то бы вы всё нас у шестка держали! Опостылел нам шесток-то ваш!
Сквозь толпу пролезла старуха и залебезила перед целовальником:
— Уж ты прости ее, кормилец... не знаю, как звать-ьеличать тебя... за дерзостные речи! Она у меня прискорбна головой, с измальских лет скудоумной живет...
Салоникея отодвинула маленькую, кланявшуюся до земли старушку:
— Что ты, мать, за мной по пятам ходишь, худую славу носишь! Мое дело — в дом добыть, твое дело—-ребят обиходить!
Старуха заковыляла прочь:
— Спешу, родимая, спешу! Не обессудь, Солушка! По простоте слово молвила...
Салоникея выпрямилась перед Пущиным:
— Берешь, хозяин, али нет?
Толпа была покорена настойчивостью женщины:
— Настоящий Еруслан Лазаревич!1
Салоникея бесстрастно слушала одобрения толпы.
Из круга зрителей вышел хорошо одетый старик:
— Прими, Важен, я за нее заручник. Она у меня печь сложила—мужику впору. И хозяина под Казанью убили, а ребят у нее пятеро: мал мала меньше...
— Что ж ты про мужа молчала? — спросил Важен.
— Хочу, чтобы мне честь не по мужу, а по мне самой была! — отрезала Салоникея.
— Ладно, возьму. Но смотри у меня! Салоникея улыбнулась и промолчала.
Глава 11
ЦАРСКОЕ УГОЩЕНИЕ
В теплый апрельский день, когда отгудели пасхальные колокола, были устроены столы.
Устраивать столы — угощать работников перед нача*
1 Еруслан Лазаревич — сказочный богатырь.
лом дела — полагалось, по обычаю, каждому хорошему хозяину. Как же нарушить старину на стройке, где хозяином царь!
Стол, длиной в добрый переулок, растянулся вдоль бараков. С обеих сторон сидели на скамьях строители Покровского собора.
На грубых скатертях были расставлены сытные яства. Варево сготовили повара в огромных котлах, куда закладывали сразу полбыка или двух баранов. Браги наготовили бочками. Вороха ржаного и пшеничного хлеба лежали на блюдах.
Целовальники и десятники суетились вокруг столов, кланялись:
— Кушайте, мужички! Не побрезгуйте!
Трапеза началась истово, чинно. Не торопясь, хлеба-: ли наваристые щи из огромных глиняных мисок, подставляя под деревянные ложки кусок хлеба, чтобы не за-1 капать скатерть. Поварята следили за обедающими и, где опоражнивалась посуда, тотчас подливали.
Шумно было в артели, где орудовал громадной ложкой коренастый, приземистый богатырь. Там поварята еле-еле управлялись со сменами.
— Петрован, черт, и где такую ложку сыскал?
— Али мала?
— Да уж куда меньше! Полмиски зачерпывает!
— А вам завидно?
Мало знавшие Петрована Кубаря соседи поглядывали на парня с удивлением:
— Ну, брат, ежели ты работать так же лют, тогда...
Каши подавались гречневая и пшенная с льняным маслом. Хмельные меды делали свое дело: голова кружилась, голос возвышался; кое-кто затянул песню...
Разойдясь из-за столов, народ долго не мог угомониться и все бродил по берегу ^Москвы-реки с песнями и громкими разговорами.
На другой день началась работа.
Чуть прокричал заревой кочет1, сторож заколотил в било; он ударял по большой чугунной доске железным пестиком. Резкие, назойливые звуки далеко разносились среди свежей утренней тишины.
Звон подхватили барачные старосты: в их распоряже-
1 Заревой кочет — петух, поющий на заре.
пни были ясеневые доски; искусные руки могли вызывать из этих незатейливых музыкальных инструментов приятный рокочущий гул...
Работники завозились на постелях, обматывали ноги онучами, надевали лапти. Тех, кого не могли разбудить звуки била, поднимали сердитые десятники:
— Не спите, не лежите, на работу скорей бегите!
Ленивых и неповоротливых наделяли тычками в затылок:
— Получи впервое! А коли промешкаешь еще, плетей попробуешь!
— О-о, робя, энти угощают не по-вчерашнему!
— А ты как думал? Ежедёнь тебе блины да пироги?..
Обширная строительная площадка закишела народом. Ржали лошади, скрипели телеги, подвозившие камень, песок, бут. Застучали молотки каменотесов. Землекопы били кирками по твердой земле. Работать приходилось, не разгибая спины. Нерадивых подгонял кулак десятника.
Сотни людей копошились, как муравьи, и на месте хаоса водворялся порядок. Основание начали возводить с центра: так удобнее было подвозить строительные материалы на телегах и тачках, подтаскивать на носилках.
Работами руководили Андрей Голован и Ефим Бобыль. Часа полтора бродил по площадке Ганс Фридман, шаря повсюду маленькими, юркими глазками. Его сопровождал переводчик.
Фридман отправился к берегу реки, где в огромных чанах готовили замес, осмотрел, поморщился.
Переводчик передал его предложение Бобылю:
— Немец бает: густ замес. Воды, бает, больше надо лить.
— Как это — густ? — возмутился Ефим. — Его по приказу Бармы составили.
Бобыль тут же вызвал Голована, и тот вступил в серьезный разговор с саксонцем. Разговор кончился тем, что Фридман побагровел до ушей и, круто повернувшись, скрылся с площадки.
Рабочие разговаривали:
— И зачем, робя, на постройку памятного храма немца сунули?
— Справимся и без немцев!..
После ухода сконфуженного Фридмана на строитель* ной площадке появился Барма и Постник. Им стало из-, вестно о совете немца разбавить замес.
Барма с упреком посмотрел на Постника:
— Эх, Ваня, ошибся ты со своим немцем! Хвалил как: сведущ саксонец, работу знает! А он вот каков... Ну-ка, разведи замес — что выйдет?
Постник попробовал оправдать Фридмана:
— Может, не приобык он к нашей стройке. На ело-вах-то больно боек...
— То-то, на словах! Бывают люди: на словах города берут, а на деле с мухами справиться не могут. По таким его речам я этого немца к большому делу и на версту не подпущу!
Глава 111
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДУНИ
Весной 1554 года Нечай с Жуком приехали в Выбутино: Никита поручил им привезти в Москву Дуню, благо бирючи набирали работный люд па Псковщине.
Путники ввели лошадей в опустелый двор. На покривленное крылечко выбежала Дуня, узнала гостей:
— Золотые вы мои! Не чаяла дождаться!..
Нечай смотрел на Дуню. Девушка подросла, длинные русые косы, казалось, оттягивали назад голову. На щеках Дуни не стало прежнего румянца, под глазами легли скорбные тени.
Глашатаи сняли шапки, поклонились хозяйке:
— Как живешь-можешь, Дунюшка?
Голубые глаза девушки наполнились слезами:
— Тяжелое житье... Матушка померла, а батюшка в монастырь ушел.
— Вот оно как! — ахнул Нечай. — То-то, гляжу, одна-одинехонька ты в доме. И давно беда приключилась?
— Уж третий месяц пошел.
— Голован знает?
— Послал батюшка грамотку с проезжим купцом.
— Ну что ж, не печалуйся, Дунюшка! Велел тебе дед сбираться на /Москву.
— Правда ли? — Девушка заплакала от радости.
— По округе еще поездим, работных людей поищем, да и домой! Распрощаешься с Выбутином...
На следующий день глашатаи посетили в монастыре Илью Большого«и поехали по селам.
Дуня нетерпеливо ожидала их возвращения: она тосковала по Андрее.
Неудивительно, что ей полюбился названый брат: он спас ее от тяжкой рабской доли, он был и высок и строен, и глаза его проникали в самую душу. А сколько рассказов от родителей Голована слышала о нем Дуня! Афимья без конца говорила о доброте Андрюши, об уме и красоте его...
«Да за моего Андрюшеньку любая да хорошая купецкая дочь пойдет», — говорила старуха, не замечая скорбно потупленных глаз Дуни.
Дуня постеснялась расспросить Нечая, женился или нет Андрей.
Она страшилась даже подумать, что он выбрал себе другую.
В ожидании дни тянулись бесконечно. Утром Дуня торопила вечер, вечером ждала, чтобы прошла ночь. Девушка еще больше похудела и побледнела, глаза ввалились.
Но всему бывает конец. Осталась позади и дорога в Москву. Трепеща от страха, надежды и радости, проехала Дуня по московским улицам, не видя их. Вот и домик Голована, но он изменился: к нему сбоку пристроена горенка.
Сердце девушки замерло: неужели там живет злая разлучница?..
Дуня увидела бородатое, полузнакомое лицо с крупными, резкими чертами: это вышел навстречу ей Филимон.
Бывшему монаху надоела бродячая жизнь, и он остался у зодчих.
Бородач почти на руках внес Дуню, сомлевшую не столько от дорожной усталости, сколько от мучительного, напряженного ожидания.
Навстречу девушке, подпираясь клюкой, медленно шел Никита.
— Дедынька! Родненький! — Дуня бросилась на шею Булату. — Уж и как же я стосковалась по тебе!..
— Ничего, касаточка, теперь не расстанемся... А ведь ты выросла, Дунюшка! — с веселым изумлением воскликнул Никита, оглядывая внучку. — Прямо невеста стала...
А Дуня ревнивым глазом искала в доме следы женского присутствия.
Филимон, не подозревая мук девушки, сказал:
— Вот и прилетела молодая хозяюшка! Вздохнем ноне посвободнее, а то совсем захудали без бабьего уходу... Ильин тебе новую горенку позаботился поставить.
Глаза Дуни радостно блеснули:
«Не женился!.. Не женился!..»
И сразу же окрепшим голосом спросила:
— А скоро братец домой придет?
— Рано не обещался. Дел у него по самую маковку...
Дуня огляделась: всюду сор — на полу, в углах, под лавками; на стенах и потолке паутина, слюда в окошках грязная.
— И верно, что захудали: грязь-то, пыль-то, словно век не убирались!.. Дядя Филимон, веник, тряпки! И где тут у вас вода?.. Дедынька, ты ложись, отдыхай, мы с дядей Филимоном живо управимся.
В доме поднялась пыль столбом. Дуня скребла, мыла, чистила...
От работ лицо ее раскраснелось, а усталости как не бывало: ноги легко и быстро носили девушку по дому. Хотелось как можно скорей все сделать.
К вечеру горницу нельзя было узнать. Дуня разыскала полотно, застлала стол. Убираясь, она успела и обед сготовить.
Накрытый стол с разложенными на нем ложками, с нарезанным хлебом ждал хозяина.
Вошедший Голован изумленно остановился на пороге: он не узнал обновленного своего дома.
Нарядная, счастливая Дуня робко подошла к названому брату.
Андрей с удивлением и радостью взглянул на разгоряченное лицо Дуни с высоким чистым лбом, с сияющими голубыми глазами.
Голован решительно шагнул к Дуне, взял ее похолодевшую руку:
— Здравствуй, Дунюшка!
— Здравствуй, Андрюша... — потупилась девушка.
Глава IV
КАЗАНСКИЕ ДЕЛА
Волга от истоков до устья стала русской рекой. Аст* раханское царство после падения Казани недолго могло существовать самостоятельно. Уже весной 1554 года царь Иван отправил вниз по Волге тридцать тысяч войска под начальством князя Юрия Ивановича Пронского-Шемякина; другой воевода, Александр Вяземский, повел на Астрахань вятских служилых людей.
Астраханцы встретили рать Вяземского выше Черного острова; русские разбили татар. Царь Ямгурчей собирался отстаивать крепость. Но когда войско Пронского приблизилось к Астрахани, Ямгурчей сбежал в Крым. Крепость сдалась.
В Москву радостное известие пришло 29 августа, в день царских именин.
Царь Иван Васильевич щедро одарил счастливого гонца. На место Ямгурчея был поставлен ногайский вельможа Дервйш-Алй. Но он вознамерился выйти из подчинения Москве, и тогда русские войска изгнали его, и Астрахань была окончательно присоединена к Москве. Это случилось в 1556 году.
Из трех татарских орд, утвердившихся после распада когда-то могучей Золотой Орды на востоке и юго-востоке русского государства, теперь осталась одна — Ногайская, в Заволжье. Ногайцы были многочисленны и храбры. Но и эту орду раздирали смуты, междоусобицы вождей, и этим умело пользовалась Москва.
Зимой 1554—1555 года приверженцу Москвы князю Измаилу удалось одержать верх над соперниками. Измаил прислал к царю гонца с изъявлением покорности, с просьбой принять Ногайское княжество под свое покровительство...
Предвидение Ивана, что после покорения Казани откроется путь на восток, сбывалось.
По всей Азии разнеслись слухи об успехах Москвы. Хивинский и бухарский ханы прислали послов с подарками, с предложением выгодных торговых договоров. Сибирский царь прислал дань: бесценных соболей, шкуры черно-бурых лисиц, резные изделия из моржовой ко
сти. Присягнули на верность Москве черкесские князья. Просили о русском подданстве земли грузин.
Всё шире раздвигались пределы многонационального русского государства. Добрый десяток народностей присоединился к России за три-четыре года, и многие другие малые народы, соседствовавшие с Россией, стали ясно сознавать, что только в ее составе, под ее могучим покровительством им обеспечено будущее.
И это сознание повело к великим последствиям в грядущие века...
Но в те годы трудно приходилось русским в Среднем Поволжье.
Уже весной 1553 года, всего через шесть месяцев после присоединения Казани, луговые люди, возбуждаемые князьями и муллами, восстали и перебили сборщиков ясака.
В семидесяти верстах от Казани, на реке Мёше, луговые люди построили город, обнесли земляным валом и решили отбиваться от русских.
Тревожные вести пришли в Москву и из Свияжска. Многочисленные отряды вотяков 1 вторглись на горную сторону Волги.
В сентябре 1554 года царь Иван отправил в казанский край сильную рать под предводительством воевод князя Семена Микулинского, Петра Морозова и Ивана Шереметева.
Московские воеводы принялись за дело крепко: они взяли приступом городок луговых людей на Меше, захватили много пленных.
Население арской округи покорилось, вновь дало присягу в верности московскому царю.
Но на следующее лето волнения начались снова...
Впоследствии Грозный сердито укорял Курбского за то, что князь Андрей и его единомышленники были виновниками частых восстаний в казанской области, продолжавшихся больше семи лет.
Иван Васильевич стоял за мягкое отношение к тата-= рам, за прощение прежних вин, за привлечение их к военной службе.
Напротив, Избранная Рада действовала жестокими военными мерами, высокомерно считая «басурман» неис
1 Вотяки — старинное название удмуртов.
правимыми врагами Москвы, неспособными подчиниться русскому влиянию.
История показала, что прав был дальновидный строитель многонационального государства Иван Грозный. Когда пала Избранная Рада, в бывшем Казанском царстве стали набирать воинов в московскую рать, и татары под начальством Шиг-Алея принесли большую пользу в войне с Ливонией.
Первым шагом царя и поддерживавшего его митро* полита в деле умиротворения вновь присоединенных татарских областей было учреждение казанского архиепископства.
Макарий посоветовал царю послать в Казань умного, расчетливого архиепископа Гурия.
* * *
Весной 1555 года царь Иван Васильевич вызвал Постника. Зодчий шел во дворец, думая вести разговор о строительстве собора, которое подвигалось еще медленно. Но первые же слова царя наполнили его тревогой.
— Поедешь, Яковлев, в Казань — кремль ставить,— заявил Постнику царь. — Город мы взяли, а теперь его оборонять надобно: не утихает там бранная лютость по вине моих воевод. Стены потребно воздвигнуть вечные, каменные. Надежнее тебя мастера для этого дела не нахожу.
— А как собор, государь? — огорченно спросил зодчий.
— С собором дело не порушится. У Бармы, окроме тебя, помощники верные: Голована работу знаю,—улыбнулся царь. — А ты, коли хочешь поскорее возвернуться, действуй без промедления. Людей дам достаточно. Помощником тебе поедет псковской дьяк Билибин да старост двое... Да псковской же мастер Ивашка Ширяй по моему указу набирает две сотни каменщиков, стенщи-ков, ломцов...
Лицо Постника просветлело: он понял, что отрыв ог любимого дела будет не особенно долгим.
— Ивашка Ширяй мне ведом, государь: в былое время в одной с ним артели работали. Мастер хорош! Со псковскими каменщиками скоро дело управим.
— На земляные и прочие черные работы разрешаю татар набирать сколь понадобится. О том для наместника отписку дам. Иди!
Но Постник не уходил.
-— Дозволь, государь, слово сказать!
Царь Иван нахмурился:
— Чего еще? О кормах ежели...
— Не о кормах, государь! Когда там стройку кончим, позволишь псковичей не отпускать, а по твоему царскому повеленью на Москву привезти — собор делать?
Иван ласково взглянул на зодчего:
— Додумался? Хвалю! Зело прилежен к государственной заботе. Пусть будет по прошению твоему.
Задача Постника облегчалась тем, что ему поручили не весь завоеванный город обносить стенами, а только часть, где стоял дворец бывших казанских ханов (теперь там жил наместник), архиепископские палаты, склады оружия и пороха. Яковлев рассчитывал справиться с работой года в два.
Барма, узнав, зачем царь Иван вызывал Постника, сказал:
— Поезжай, Ваня, тебе эта работа в большую науку. А у нас дело на хорошей дороге. Покамест без тебя управимся. Голован, Барака да Ефим Бобыль — дельные помощники. А на немца я не надеюсь: то ли жидок в работе, то ли хитрит и не хочет свои тайности открыть...
* * *
В седьмое воскресенье после пасхи 1555 года из Успенского собора в Кремле вышла торжественная процессия: Москва провожала архиепископа Гурия в далекий путь.
Чтобы не нарушался строгий порядок процессии, ее ограждали тысячи стрельцов и детей боярских; за их рядами волновались, вставали на цыпочках и вытягивали шею собравшиеся во множестве любопытные москвичи.
Выход царя и митрополита обставлялся необычайно торжественно.
Впереди шли хоругвеносцы, за ними — пятьдесят священников в парчовых ризах. На длинных древках ипо
диаконы несли изображения четырех херувимов. За ними— священники с иконами в руках. Громадный, тяжелый образ богоматери несли четверо. И снова толпа священников, снова хоругви, снова богоносцы с иконами...
Посреди многочисленной свиты мелкими шажками шел митрополит Макарий; два послушника в длинных ярких стихарях1 поддерживали владыку под руки.
По бокам митрополита и позади его — епископы, архимандриты, священники.
Далее следовал царь Иван Васильевич, высокий, величественный, в сверкающей одежде, с золотым крестом на груди, в шапке Мономаха. Над царем возвышался красный балдахин; его несли четверо рынд.
За царем важно выступали бояре. Постник, отправлявшийся в Казань с караваном Гурия, тоже удостоился чести сопровождать царя.
За Фроловскими воротами шествие сгрудилось в плотную массу. Был отслужен краткий молебен. Архиепископ Гурий облобызался с царем и митрополитом, выслушал прощальные напутствия и пожелания.
Толпа раскололась. Большая часть духовенства и бо* яр возвратилась в Кремль. Оставшиеся последовали за Гурием. Ряды стражи охраняли порядок шествия. Гурию, первому архиепископу казанскому, предоставили честь освятить основание, возведенное для Покровского собора— памятника казанского взятия.
Основание поднималось посреди площади массивное, внушительное — низкое у Лобного места, значительно более возвышенное в противоположную сторону из-за покатости земли к реке.
Барму провели на площадку Голован и Ефим Бобыль, где упрашивая толпу, а где и расталкивая крепкими локтями. Гурий благословил строителей.
Прислужники надели на архиепископа торжественное облачение, и совершилось третье молебствие, после чего Гурий и сопровождающие его отправились к реке. Там они сели в большие ладьи, на которых предстояло совершить далекий путь до Казани.
Постник попрощался с товарищами и вскочил на отходившее судно.
1 Стихарь — церковное одеяние.
f* * *
Быт нового архиепископа обставили пышно, чтобы создать ему большой авторитет. Гурий имел при себе двор: бояр, детей боярских, архимандритов, архидиаконов, диаконов... Ему положили огромное содержание и постановили выдавать все необходимое для содержания двора продовольствие.
Перед Гурием были поставлены обширные миссионерские задачи: он должен был как можно больше татар обращать в православие.
Архиепископ Гурий и его помощники выполняли царский наказ ревностно: за первые же несколько лет тысячи татар были крещены в христианскую веру.
От перехода в православие выигрывали только мурзы и беки: за ними закреплялись поместья и татары-крестьяне становились их крепостными.
# # #
Постник уехал, но налаженная работа шла своим чередом. Первым помощником Бармы сделался Андрей Голован. Вернувшийся из дальней поездки в Киев Никита Щелкун привез оттуда нескольких искусных ремесленников. За это царь наградил Никиту деньгами.
Глава V
ИЗ ПЕРЕПИСКИ ГАНСА ФРИДМАНА
«Высокородному и достопочтенному господину придворному архитектору и советнику Отто Фогелю.
Любезный друг!
С чувством глубокой радости поздравляю тебя с высоким назначением на пост советника нашего владетельного курфюрста. Ты совершаешь путь по размеренной орбите почестей, придворных званий и связанных с этим доходов. Моя же будущность — увы! — темна и неизвестна...
Скажу по чистой совести: я не думал, что русские так искусны в строительном деле.
Они умеют составлять непревзойденные по качеству «клеевитые растворы» (я выражаюсь языком московских зодчих), у них высока, как нигде, техника каменной кладки... И это разрушило мои честолюбивые мечты.
Я уже писал, что, нанимаясь на строительство Покровского собора, я рассчитывал сделаться если не главным лицом, то одним из первых. А что вышло? На деле я не выше простого десятника, мне поручают только незначительные дела. И я сам в этом виноват.
Я сразу повел неправильную политику. Я хотел дискредитировать русских архитекторов, пытался толкнуть их на путь неправильных действий. Если бы они последовали моим советам, то основание здания расползлось бы под тяжестью верхних масс. И тогда выступил бы я. Я обвинил бы Барму и Постника в невежестве, в неспособности руководить колоссальной стройкой, я показал бы свои знания и опыт... Результат казался ясным.
Увы, мой дорогой Фогель! Как близкому другу, я пишу тебе со всей откровенностью: я просчитался! Московиты не внимали моим советам и всё делали по-своему, а я заслужил у них репутацию бездарного мастера, которому нельзя поручить серьезную работу.
Я доставил на строительство партию слабо обожженного кирпича. Если бы его заложили в нижнюю часть центрального храма, получилось бы очень хорошо: через несколько месяцев кирпич раскрошился бы и вызвал катастрофу. Барма и Постник попали бы в немилость, а судьба, быть может, вознесла бы меня на высоту... Не вышло и тут! Проклятые русские архитекторы осторожны: выстукивают чуть не каждый кирпич! Мой замысел провалился, да с каким позором! Мне удалось отделаться от сурового наказания, лишь свалив вину на десятника.
Что делать? Если б ты был здесь, ты бы помог мне, мой Отто! Я так верю в твою изворотливость, в твой глубокий ум. Но ответное письмо придет, в лучшем случае, через восемь-девять месяцев...
Я начал исправлять ошибку по собственному разумению и, кажется, опять напутал! Когда я приоткрыл свое истинное лицо умелого архитектора, проклятый Барма чуть ли не догадался о моем прежнем притворстве, о том, что я умышленно подавал неверные советы. Кто мог ждать от старика такой проницательности!
Кстати о Барме. Я считал его помощником Постника, человеком, не стоящим внимания. Постника царь Иоанн отправил на постройку укреплений в завоеванной Казани, и могучая фигура архитектора уже не появляется на постройке. Признаюсь, я почувствовал себя гораздо свободнее. Я думал захватить главную роль, полагая, что Барма растеряется и обратится ко мне за помощью.
Оказывается, я недооценил роль этого скромного с виду старика. Он — главный вдохновитель всего дела. Отсутствие Постника ничего не изменило. Работа продолжается под руководством Бармы, а его главным помощником сделался зодчий Голован, добившийся звания царского инженера во время осады Казани.
Ха! Во главе стоят мальчишки, неизвестно где и у кого учившиеся, а мне, дипломированному архитектору, чуть ли не приходится подтаскивать кирпичи!
Недавно я дал Барме совет, и довольно дельный. Старик покрутил бороду, смерил меня холодным взглядом и проговорил:
— Пусть переведут немцу, Андрюша: эту работу мы сами совершим. А почему он не наготовил лекального кирпичу для цоколя? Коли будет небрежен в работе, отведает батогов!
Я чуть не разразился гневным ответом, забыв, что я «не знаю» русского языка! Видали? Мне—батоги! Я, забыв обо всем на свете, бросился на заготовку проклятых лекальных кирпичей. И когда за три недели сумасшедшей работы я доставил на стройку горы кирпича, молокосос Барака снисходительно сказал:
— Наставник тобой доволен.
Я готов землю грызть от злости!
Но... терпение и осторожность! Буду проявлять побольше усердия и подарю московитам кое-какие технические новинки. Надо восстанавливать репутацию, которую я испортил по собственной оплошности.
Жду от тебя, любезный Фогель, письма с благоразумными советами. Только старайся, чтобы твои послания шли через верные руки и доходили до меня в неприкосновенности.
Всегда преданнный Ганс Фридман^
4 августа 1555 года».
Глава VI
РАБОТНЫЙ ЛЮД
Летом Ордынцев отправил старшину целовальни* ков, угодника и краснобая Бажена Пущина, осматривать обширное хозяйство строительства: кирпичные за-воды, каменоломни, лесные рубки, пожоги угля...
На честность Бажена Федор Григорьевич вовсе не надеялся. «Борода длинна, да совесть коротка», — думал окольничий о старшине целовальников.
Ордынцев решил послать с ним своего старшего сына, Семена.
Запершись наедине с Сеней, отец внушал ему:
— Слышно, много непорядку там, куда поедете. Расхищают десятники и целовальники государеву казну, неправедные отписки дают. С мужичонков, кои на промыслах, вымогают последнее. Стонут мужичонки, ко мне выборных посылали. Боюсь, до царя с жалобами дойдут... Ты, Сеня, уж не мал...
Мальчик с гордостью выпрямился. Уродился он в отца — высок, силен, но еще по-детски тонок. Большие серые глаза смотрели на мир с радостным любопытством.
— Буду смотреть, тятенька, неотступно!
— Того мало! С народом говори, спрашивай, каково живется, дают ли корма по положению. Где воровство вызнаешь, сам ничего не делай, а все записывай: мне доведешь, я расправлюсь.
Гордый доверием отца и важной задачей, юный Семен весело отправился в путь с большебородым Баже-ном.
Умный мужик оказывал мальчику преувеличенное почтение, советовался с ним по самым мелким вопросам.
— Как прикажешь, боярич: дальше поедем али на ночлег остановимся? — спрашивал он под вечер.
— А ты как полагаешь?
— Мы что же! Конишки пристали. А впрочем, воля твоя, ты хозяин: повелишь — дальше поедем.
— Давайте останавливаться.
— Эх, холопы! — орал во все горло Важен. — Боярич приказал ночлег строить: раскидывайте шатер. Да живо у меня: понимайте, кому служите!
Сеня краснел от гордости. Но пока он, уложившись спозаранку, спал крепким детским сном, Важен устраивал дела. И сам успевал сделать за ночь большие концы, и преданные ему слуги ухитрялись повидать кого нужно и все подготовить к следующему дню.
Приехали на лесную порубку. Здесь валились сосны-великаны. Такой мачтовый лес шел на стропила для крыш. Из крепких дубов выделывались связи для стен.
Лесорубы, прослышав, что из Москвы едет царский доверенный, собирались пожаловаться на плохое житье в сырых, дымных землянках, на голод, подтачивавший силы.
— Всё как на ладонке выложим, — сговаривались мужики. — Кормов вовсе не дают. Что промыслишь в лесу, то и твое. А когда промышлять, коли с зари до зари лес роним!.. Ни хлеба, ни круп... Соли сколько месяцев не видим... Одежонка с плеч сползла, лаптишки побились... Всё, всё обскажем!
Но им не удалось выполнить свое намерение. Подручные Бажена успели побывать тут до приезда Сени., Недовольных работных людей десятники угнали в глушь леса; остались только надежные — приказчичьи прихлебатели.
— Как живем, спрашиваешь? — Они стояли перед Сеней Ордынцевым с умильными улыбками, переминались с ноги на ногу.—Живем, не обидеть бы твою боярскую милость глупым словом, хорошо. Приказчики у нас, дай им бог здоровья, печные, старательные... Кормят, хоша бы и дома так ести...
Сеня всмотрелся в здоровенного детину с багровым шрамом на щеке:
— Кажись, я тебя видел третьеводни на другой порубке?
Уличенный не смутился:
— Точно, побывал я там: брательника ездил проведывать. Брательник у меня тамотка работает—как мы, лес валит.
Сеня хоть и был неопытен, но заметил: лесорубов слишком мало, если судить по грудам леса, наваленным на поляне.
— Где остальные?
— Остальные?...— Важен раскинул бороду веером.— А я их по лесу разослал: зайчишек да лисиц загонять, чтоб было чем твоей милости потешиться.
Страстный охотник, Сеня забыл обо всем, глаза загорелись от удовольствия.
— Когда будем охотиться?
— Завтрашний день, полагаю. Сегодня устал ты, и, ежели тебя истомлю, мне твой батюшка спасибо не скажет.
На следующий день Сеня стоял под деревом с легкой пищалью, отделанной серебром, и бил набегавшее зверье. В загонщиках, мелькавших в лесу, дико ухавших, колотивших трещотками, он не мог распознать людей, представленных ему накануне. А вдали грохотали и рушились огромные лесины, сваленные теми самыми мужичонками, что собирались жаловаться боя-ричу...
Не удалось Сене поговорить по-настоящему и с углежогами. Этим тоже жилось не сладко.
Насквозь пропахшие дымом, с воспаленными глазами, с резкими черными морщинами на грязных лицах, углежоги ни днем, ни ночью не знали покоя — вечно настороже около угольных куч. Прорвалось пламя— заваливай землей. Прозеваешь — сгорит вся куча...
За плохо выжженный уголь, за недостаточное его количество надсмотрщики заставляли ложиться под плети. Много горечи накопилось в душе у углежогов, много жалоб готовили они, но и им не дали возможности пожаловаться на хитрые уловки Бажена. Он не стеснялся, поколесив по лесу два десятка верст, вернуться обратно и показать мальчугану тот же пожог с другой стороны. А работников, черных как черти, с замазанными сажей лицами, с нахлобученными на лоб мохнатыми шапками, разве узнаешь!
При осмотре каменоломен Важен поступал проще: всех непокорных и недовольных загонял поглубже в карьеры, где их стерегли десятники с бичами. Наверху Ордынцева встречали приказчики с верными холуями. По их рассказам, все шло хорошо.
А если Сеня выказывал намерение спуститься в каменоломню, Пущин решительно восставал против этого.
— Ты высокого порождения человек, — заявлял он, сурово хмуря брови и топорща огромную бороду,— не нам, смердам, чета. Упаси бог, несчастье: как я за тебя перед батюшкой отвечу?
— Выпусти ломщиков, я с ними поговорю.
— Нет, и не проси. Они урок не выполнят — кто бу-* дет повинен? Да на что тебе они? Вот ломщики — расспрашивай!
Сеня вернулся в Москву, не разузнав ничего. А безобразий творилось много. Целовальники, сговорившись с боярскими и княжескими тиунами, требовали на работу зажиточных мужиков. Те откупались, предпочитая потерять деньги, чем здоровье. Повинность перекладывалась на бедноту, у которой не было и алтына задобрить начальство. Мужики шли в лес или на ка« менные ломки, а их хозяйство приходило в упадок.
Поставщики грабили царскую казну, представляли ложные счета. Если нельзя было означить преувеличенную цену, то преувеличивали количество сданного материала, а приемщики подтверждали это, прельщенные поминками. И хоть строгие царские указы грозили рубить руки за воровство, но это не устрашало лихоимцев.
Вернувшись в Москву, Сеня доложил отцу, что все благополучно, работные люди не жалуются, работы идут полным ходом.
Потом с воодушевлением стал рассказывать о замечательных охотах и рыбных ловлях, которые устраивал ему предупредительный Важен.
Федор Григорьевич покачал головой:
— Где молоденькому петушку перехитрить старую лису!
Из всех целовальников заслужил доверие Ордынцева только Нечай, назначенный на должность по представлению Голована.
Грамотный и честный мужик возбудил недовольство прочих целовальников: в его счетах цены на купленное были ниже, чем у других.
Ордынцев предлагал Нечаю:
— Хочешь, выпрошу у царя позволения поставить тебя старшим целовальником заместо Бажена?
Нечай низко кланялся:
— Где нам лаптем шти хлебать!
— Ты не прибедняйся.
— СпЗси бог за ласку, боярин. Мне и теперя опасно ходить. А тогда всё припомнят: и шутовской колпак, и как я на площадях пляс заводил...
— Ну, приневоливать не буду...
Помощником у Нечая работал молчаливый, сосредо-^ точенный Демид. Этот тоже исполнял дело на совесть, вгрызался в неисправных поставщиков так, что те и жизни были не рады.
— Таких бы мне подручных... — вздыхал Ордынцев.
Несмотря на лихоимство приказчиков и притеснения рабочего люда, строительство шло полным ходом.
Срубленный лес вывозили по снегу: летом не под силу было управляться с огромными бревнами на кочковатых болотистых дорогах. Зима углаживала пути, выстилала их белым пухом.
Мужики, поеживаясь от холода, бежали за санями. Лесные материалы сваливались на берегах рек. Там пильщики без роздыха махали руками, выгоняя из кряжей брусья, доски, тёс...
Весной все это сплавлялось в Москву.
День и ночь скрипели по дорогам обозы с кирпичом, камнем, известняком.
Москвичи, толпясь вокруг забора, окружавшего постройку, заглядывали в щели, глазели в открытые воро^ та и удивлялись потоку подвод, из месяца в месяц привозивших на Пожар строительные материалы.
Немало требовалось и съестных припасов для массы рабочего люда. Можно бы закупать припасы в Москве, во тут они стоили много дороже. Славилась изобилием продовольствия Вологда: туда и отправлял Ордынцев закупщиков. Из Вологды везли соль, хлеб, соленую рыбу, зимой — замороженные говяжьи туши. На Украину окольничий посылал за подсолнечным маслом и крупами.
У Федора Григорьевича намерения были благие, да исполнители их плохие. Целовальники ухитрялись разворовывать значительную часть закупленного для работников продовольствия. Хорошая, доброкачественная
провизия обменивалась у купцов на гнилую, которую следовало выбросить на свалку. Целовальник получал хорошую приплату, а строители хлебали щи из котлов, зажимая рукой нос от вони.
Тяжкая работа и скверная пища валили с ног работников; на бирючей налагалась обязанность — набирать на Руси новых.
Барма все силы и помыслы отдавал строительству храма. Когда в зимние морозные дни стройка приостанавливалась, старый зодчий все-таки шел на площадку.. Какая-то сила тянула его туда. Барма взбирался на леса, осматривал кладку, мерил, высчитывал. Морозный ветер овевал ему лицо; Барма поплотнее нахлобучивал шапку на голову.
За Бармой по пятам ходил Голован, после отъезда Постника принявший на себя заботы о старике.
— Наставник, иди домой — остынешь!
— Это я-то? — храбрился Барма.
Глава VII
ИЗ ПЕРЕПИСКИ ГАНСА ФРИДМАНА
«Достопочтенному придворному советнику и главному смотрителю дворцов курфюрста Саксонского господину Отто Фогелю.
Высокоуважаемый друг и покровитель!
Я получил твое радостное для меня послание и от всего сердца поздравляю, любезный Фогель, с новым высоким саном главного смотрителя дворцов.
А я... я теперь жалею, что покинул Саксонию и явил-: ся в эту неприветливую страну. Лучше бы я остался дома и шел к благосостоянию медленно, но верно под твоим доброжелательным покровительством. Но сде-= ланного не воротишь.
Пишу подробно обо всех здешних делах. У меня нет здесь сведущего собеседника, с которым можно было бы отвести душу и поговорить об архитектуре. Я встречаюсь с земляками, но это грубые, необразованные люди: купцы, мореходы...
Бываю я изредка у Голована. Он умный, начитанный
собеседник, с ним приятно провести вечер, толкуя об архитектуре.
Я не скажу, что он любит меня, но относится ко мне лучше, чем его товарищи. Барма по-прежнему терпеть меня не может, а я его ненавижу всей душой, и мне трудно скрывать это чувство...
Вот я и изливаюсь перед тобой, старый друг. К тому же ты собираешься писать книгу об истории архитектуры, чтобы с пользой употребить досуг, который дает тебе выгодная и покойная должность. Сведения, что я буду сообщать, драгоценны для твоей работы.
Стройка подвигается быстро. В октябре прошлого года закончили подклёт. Подклет у московитов обязательная принадлежность всякого строения. Так называется нижний, обычно нежилой этаж здания. Крестьяне содержат в подклете свиней и кур. Состоятельные люди устраивают там кладовые.
Устройство подклета Покровского собора сложно и остроумно. Под каждым из девяти будущих храмов поставлен восьмиугольный каменный столб, пустой внутри. Эти глухие помещения, куда нет доступа дневному свету, представляют , собой нижние этажи храмов, как бы высокие фундаменты их. Для прочности они связаны каменными арками, сверху настлана сплошная каменная площадка.
Едва окончилось строительство подклета и на двери его подвалов навесили огромные замки, как бояре и богатые купцы начали привозить на хранение имущество. Священники охотно сдают подклеты храмов в аренду. Богачи боятся пожаров, татарских нашествий и московских воров.
Закончив подклет, Барма начал ставить на площадке девять отдельных церквей, разделенных открытыми коридорами.
План собора таков. Вокруг центрального храма располагаются четыре меньших храма по четырем сторонам света: эти храмы архитекторы называют «большой четверицей».
В промежутках, по диагоналям, размещаются церковки «малой четверицы».
Приходится признаться: план задуман с гениальной простотой, с полным пониманием геометрических необходимостей. Я только сильно надеюсь, что строители не
сумеют соблюсти пропорции: тогда собор обратится в безобразную груду, и этот провал погубит карьеру Бармы и Постника.
Перейду к деталям плана.
В русских церквах помещение разделяется на две неравные части: меньшая — алтарь — для священника; большая — для молящихся. От основного помещения алтарь отделяется перегородкой — иконостасом, ярко расписанным портретами святых, так называемыми «иконами».
Алтарь центрального храма будет помещаться в нише, имеющей форму равнобочной трапеции; у нас, дипломированных архитекторов, такие ниши называются «апсидами», и я с удивлением убедился, что этот термин знаком московским зодчим. В остальных храмах апсиды или малы, или отсутствуют.
Любопытно, что размеры церквей очень невелики. Самый большой храм едва ли вместит двести молящихся. Церкви двух четвериц малы до смешного. Я измерил две из них: шесть с четвертью аршин на четыре аршина; девять аршин на четыре с половиной аршина! Вот так церкви! В них по сорока человек не поместится. В па* ших рыцарских замках кухни больше, не говоря о пиршественных залах... Впрочем, московские архитекторы и этому подыскали основание. Я слышал, как Барма объяснял одному недовольному священнику:
— Храм наш — памятник, он должен иметь величественный и прекрасный вид снаружи. А для моления в Москве много церквей.
Должно сознаться, вопрос поставлен смело и смело решен.
О материале храма. Барма строит собор из красного кирпича, пуская пояски и карнизы из белого известно* вого камня. Это будет выглядеть нарядно, хотя нарушает строительные традиции «белокаменной Москвы». Как известно, столица получила это прозвание потому, что в ней масса зданий целиком построены из белого камня.
Как тщательно следят русские архитекторы за прочностью раствора и за правильностью кладки! Пришлось мне увидеть, как «кроткий старик» Барма расправляется за неаккуратную работу.
Есть на строительстве два неразлучных друга, два
силача: Василий Дубае и Петрован Кубарь. Это ученики каменщиков, свою профессию они начали изучать на строительстве собора.
В последнее время Петрован Кубарь обленился и стал класть кирпич как попало. Быть может, он рассчитывал на снисходительное отношение главного архитектора. А получилось вот что.
Барма, обнаружив скверную работу, принялся лохматить бороду. (Теперь я знаю: у него это признак плохого настроения.)
И в самом деле, он коротко распорядился:
— Тридцать плетей. Потом переделаешь.
Петрована с обнаженной спиной уложили на скамейку, отполированную животами наказуемых, хотели привязать. Он отказался:
— Вырываться не буду!
Плеть засвистела так, что меня невольно пробрала дрожь.
А Петрован лежал спокойно, хотя на спине его выступили кровавые полосы. Когда палач отсчитал удары сполна, Кубарь встал, встряхнул волосами и, что удивительнее всего, поблагодарил за науку. Затем он пошел переделывать кладку.
Наказание не подействовало на Петрована. Его снова уличили в небрежности, и он получил новую порцию плетей. А при следующей вине Барма распорядился:
— Уволить ленивца!
И эта мера оказалась самой действенной. Богатырь, из которого плети не могли выбить ни слезинки, ходил по пятам за Бармой и буквально проливал ручьи слез:
— Наставник, прости! Наставник, помилуй!.. Богом клянусь исправиться... Сними позор!..
Петрована поставили на кладку, и теперь это самый старательный работник.
Я рассказал о нерадивом каменщике. Большинство же трудится усердно, особенно женщина Салоникея. Она работает быстро и тщательно; швы идут как по нитке, составляя правильный, четкий узор. Барма ставит ее в пример мужчинам. Салоникея — гордая женщина: похвалы выслушивает совершенно спокойно, как нечто должное.
Кончаю длинное послание. Масло в светильнике выгорело до конца, хлопья копоти покрывают бумагу. Не
знаю, когда удастся отправить это письмо, но стало легче на душе, когда побеседовал с тобой.
Глубоко преданный
Ганс Фридман.
3 мая 1556 года».
Глава. VIII
ПОПОВСКИЙ «БУНТ»
Попы малых храмов Покровского собора были крайне недовольны своими церквушками. Долго они разговаривали между собой, подогревая возмущение, а потом гурьбой отправились к митрополиту.
Излагать жалобу избрали двоих: маленького, щупленького, речистого протопопа Киприановской церкви Елисея и попа Никодима, настоятеля церкви Александра Свирского. Никодим был немногословен, но славился чудным басом, и за голос его любил владыка.
Просителей допустили в митрополичьи покои. Макарий вышел в худенькой ряске, заляпанной красками: он оторвался от рисования иконы. Владыка, похожий на немудрящего деревенского попика, ласково улыбался:
— С чем пришли, отцы?
Попы повалились на колени, застучали головой об пол.
— Не встанем, пока не согласишься выслушать, владыко! Велие нам грозит разорение! Оскудели животишками!— вопили они на разные голоса.
— Встаньте и говорите! Токмо не разом, а кто-либо один.
Протопоп Елисей бойко зачастил:
— Обижены, господине, гладкой и хладной смертью угрожаемы, и приносим слезные моления чад и домочадцев наших. Ведомо тебе, владыко пресвятый, что были у нас церкви деревянные, довольно обширные, и ходили к нам православные крестьяне даже в достаточном числе. А теперь как посмотрели, что нам Барма с Постником строят, ужас объемлет...
— Ужас объемлет! — рявкнул Никодим, воспользовавшись тем, что Елисей остановился перевести дух.
Владыка поморщился:
— Ты бы, отец Никодим, помолчал. Глас твой для церкви хорош, а здесь от него ушам больно...
Елисей продолжал:
— Они нам не церкви возводят, но аки бы малые часовенки. Где там молящемуся народу вместиться? Коли три десятка влезет—и то уже много. А каковые там будут алтари? Ведаешь, господине, что в «Учительном известии» сказано: «Во олтарь, главу открыв и поклонение сотворив, вниди и к божественному престолу приступи...»
— «Учительное известие» я и сам знаю, — с нетерпением перебил Макарий. — Ты о деле говори!
— Я о деле, владыко премудрый! Где же в таком алтаре кланяться? Там поклонишься — ризой все с престола сметешь...
— Верно протопоп глаголет! Теснота неизреченная! Не повернуться! — загалдели попы.
Макарий покачал головой. Шум утих. Глядя на толстого Феоктиста, настоятеля церкви Варлаама Хутын-ского, митрополит укоризненно сказал:
— А тебе, отец Феоктист, до голодной смерти, мнится, далеко. И коли попостишься, сие на пользу пойдет. Вишь, чрево разъел! Верю, тебе с таким чревом трудно в новом храме служить. Уж не послать ли тебя на деревенский приход, во просторную церковь?
Побледневший Феоктист стал оправдываться:
— Неповинен, владыко, в чревоугодии. Ем мало, а плоть одолевает. Верно, болесть такая от господа ниспослана... И наказания не заслуживаю...
— Так на что ж вы жалуетесь?.. Церкви малы, тесны— верно. А ведомо вам, что собор сей великую славу нашей православной церкви означать будет? — возвысил голос митрополит.
Его маленькая фигурка стала такой недоступной и властной, что попы съежились, застыли. Мертвое молчание наступило в палате. Просители поняли, что дело оборачивается неладно, и думали только, как бы подобру-поздорову унести ноги.
— Довести ваши жалобы до государя: просят-де попы собор разломать?
Попы снова рухнули на колени:
— Прости, владыко! Мы того не мыслили... Снизой^ ди к нашему неразумию...
— Встаньте, отцы! Христос велел прощать до семи-жды семидесяти вин. Я на вас не гневаюсь. Жить вам надобе, то понятно и мне и государю. Храм строится яко доброзримый памятник казанского взятия, и вы на богатые приходы надежды не возлагайте. Но вас не оста-, вим: корма будете получать из моей казны.
Подойдя к митрополиту под благословение, довольные попы потянулись к выходу. Митрополит задержал их, сказал сурово:
— Но помните, отцы: коли будете сеять в народе смуту и жаловаться на бедственное свое положение, накажу без милосердия, в Соловки отправлю!
Напуганные попы смирились, но вызванные их сетованиями разговоры и толки в народе не прекратились; позднее это повело к неожиданным для строителей последствиям.
Глава IX
ВОЛНЕНИЯ НА СТРОЙКЕ
Работа, которую проводил до отъезда Постник, те^ перь пала на плечи Голована. На площадку Андрей заглядывал ненадолго — главную работу он проводил дома. А работа требовала очень много времени и огромного художественного чутья. У малых церквей восьмерики заканчивались — надо было продумывать переходы от этих восьмериков к верхним, более узким. В первоначальном проекте собора общий вид отдельных церквей намечался лишь приблизительно, теперь следовало разрабатывать детали.
Дело усложнялось тем, что обработку каждой церкви еще при Постнике решили производить по-особому, не повторяясь. Храмы должны были сходствовать, подобно детям одной семьи, и в то же время разниться какими-» то неповторимыми черточками.
Сергей Барака и Ефим Бобыль помогали Головану, давали свои проекты оформления малых церквей, но общее решение оставалось за Голованом и Бармой.
Молодой зодчий с утра до вечера сидел за эскизами. Он углубился в изучение разного рода кокошников, навесных бойниц, прилепов, колонок витых и рустованных, полукруглых и стрельчатых арочек. Нелегкую задачу представляло гармонично сочетать различные архитектурные элементы так, чтобы найти восемь прекрасных композиций, объединенных в стройное целое с централь-* ным храмом.
Голован делал рисунки десятками и уничтожал их, если они его не удовлетворяли. Иногда приходил со стройки Барма, сочувственно смотрел на склоненную над бумагой голову Андрея, в которой начала пробиваться ранняя седина.
Голован бормотал точно в бреду:
— Пустить или не пустить по этому поясу маши-кули?1 Боюсь, уширят шею храма... Разве сгладить переход кокошниками?.. А сколько рядов пустить? Два? Три?.. И опять же, какие кокошники ставить? Полукруглые или с подвышениями?.. Нет, не годится, тяжело выходит...
Разорванный лист летел под стол, а Голован с лихорадочной торопливостью уже рисовал на другом. Барма молча уходил, а молодой зодчий, углубленный в работу, не замечал ни прихода, ни ухода наставника, не слышал скрипа отворяемой двери... Он и о еде забывал...
Вечером в рабочую горницу зодчих приходили с Бармой его помощники Сергей и Ефим. Потрепанный жизнью Никита Щелкун держался особняком. После работы отправлялся домой, выпивал чарку и заваливался спать.
Сделанное Голованом за день рассматривали, оценивали, поднимались горячие споры.
А по воскресеньям все собирались в домике Голована, где было и чисто, и светло, и уютно.
Дуня скромно сидела в уголке с рукоделием, не вмешиваясь в мужские разговоры. Понемногу Голована начали выводить из себя умильные взгляды, которые бросал на девушку кудрявый Сергей Барака. Парню полюбилась внучка Булата, и он, весельчак и затейник, не стеснялся выказывать ей свои чувства.
1 М а ш й к у л и, или навесные бойницы, — род треугольных выступов, напоминающих кронштейны.
Сильно одряхлевший Булат радовался.
«Теперь у Андрюши с Дуней скорее дело пойдет на лад, — раздумывал он. — Это уж так: есть — не видишь; потерял — горюешь!»
Дружеские отношения Голована и Сергея испортились: молодые люди чувствовали друг в друге соперников.
Очутившись наедине с Дуней, Барма поговорил с ней.
— Ты, девушка, моих ребятенок от работы отрываешь,— полушутливо начал он. — Сергей с Андрюшей, того гляди, подерутся, а работе урон.
Дуня заплакала:
— Я, дедушка, ничем не причинна...
— А я тебя не виню. Ты признайся мне: который тебе по сердцу?
— Сергею скажи, — прошептала девушка, — за него не пойду... И ни за кого не пойду! —добавила со внезапной решимостью.
— Вот те на! — изумился старик. — А за Голована?
— Где уж! — скорбно вздохнула Дуня. — Он на меня и смотреть не хочет. Да и не ровня мы... Он — царский мастер, я — сирота.
Барма рассердился:
— Не смей говорить неподобные слова! Сирота нашлась! У тебя дед тоже зодчий, человек повсюду знае-мый. Про неравенство не поминай!
— Не буду... — улыбнулась Дуня сквозь слезы.
Старик смягчился, погладил Дуню по гладким русым волосам:
— Не плачь, доченька! А с Серегой я поговорю, чтобы на грех не лез.
* * *
Не всегда дело с лодырями оканчивалось так гладко, как с Петрованом Кубарем. Несколько человек пришлось прогнать. Уволенные работники распускали лживые слухи, порочащие Барму и его помощников. Эти слухи на лету подхватывались завистниками из числа зодчих, не принятых на работу Бармой.
«Залетели вороны в высокие хоромы! — шипела ядовитая молва. — Не по себе взялись дерево рубить Пост
ник с Бармой. Стенок навыводили, а что с ними делать— не ведают... И то сказать: шутка ль дело — девять престолов! Таковых соборов никто не страивал...» Слухи дошли до зодчих. Напрасно утешали они друг друга: от сплетен да напраслины мудрено уйти! На душе у них было тяжело, обидно. А тут еще произошел случай, сыгравший на руку недоброжелателям.
Большая толпа рабочих, возмущенных тем, что в последние дни их кормили вконец испорченной пищей, окружила Барму, Голована и Ефима Бобыля. Послышались сердитые возгласы:
— Работаем как проклятые, а едим как свиньи!
— Хороший хозяин такой дрянью кормить свинью не станет — околеет свинья!
— В каше не масло, а песок!
— Пошли, ребята, жаловаться самому царю!
Напрасно зодчие старались доказать людям, что не они повинны в плохой пище.
— Что вы всё валите на чужого дядю! — кричали строители. — Вас бы покормить из нашего котла, вы б запели репку-матушку!
Голован и Бобыль переглянулись.
— А ведь неплохо придумано! — усмехнулся Голован. Бобыль догадался:
— Целовальников на тот же стол посадить, и чтоб ели без отказа!
Зодчие обратились к толпе и рассказали, на какую мысль навел их разговор. Строители разошлись со смехом и шутками.
Разговоры о случившемся покатились по Москве. Шумную выходку кучки работников разносчики вестей превратили в бунт. Одни говорили, что зодчих искалечили. «Побили до смерти», — уверяли другие. Нашлись очевидцы, которые собственными глазами видели, как трупы Бармы и даже Постника, которого и на Москве не было, везли на дровнях, завернутые в грязные рогожи...
Царь, узнав о случившемся, приказал зодчим явиться.
— Ничего! — сказал Барма. — Мы никого не боимся и ни от кого не таимся...
Иван Васильевич собирался на охоту. На нем был подбитый мехом зеленый охотничий кафтан, перехваченный кожаным поясом, за которым торчал кинжал; голову покрывала низенькая шапка бобрового меха.
Царь встретил зодчих неприветливо:
— Что про вас Москва благовестит?
Барма ответил с низким поклоном:
— Не прими во гнев, государь! Наше дело большое, а в большом деле не без греха...
— А все-таки есть грех?
Барма рассказал царю о жалобах рабочих на пищу.
Иван Васильевич вспылил:
— Смутьяны на стройке завелись? Драть их кнутами без пощады — узнают, как жаловаться! Вижу, слабы вы с Ордыпцевым: не держите народ в узде!
— Батюшка Иван Васильевич! — взмолился старый зодчий. — Возьми на час терпенья!
Царь насмешливо улыбался, выдвигал кинжал из ножен и вдвигал обратно. Смотрел недобрыми глазами.
— Говори, старик, послушаем!
Барма продолжал, не смущаясь:
— Прости, что с тобой по-свойски разговариваю, — па прямое слово ты не серчаешь, то знаю, господине! А сам посуди: работный люд правду говорит — уж очень пища плоха. И надо бы заставить целовальников вместе со строителями из одного котла питаться...
Царь захохотал:
— Кто из вас такое выдумал? Ты, Голован?
— Нет, государь, это к нам от работников пришло.
— Одобряю,—сказал царь. — Более того, семьи целовальничьи поселить в бараках, и чтоб у них все было так, как у работников.
Зодчие кланялись и благодарили.
— Это последнюю вам поблажку даю! — строго молвил Иван Васильевич. — А потом погляжу...
— Поглядишь через три месяца! — не сдержавшись, брякнул Голован.
— Через три месяца? — возвысил голос царь, и на лице его проступили признаки приближающейся грозы.— Что ты сулишь через три месяца, невежа, холоп? Собор кончишь строить али делу поруха придет?
— Прости, государь, с языка сорвалось!
— Поднять тебя на дыбу — научишься держать язык за зубами! Да уж ладно, ступай, — смягчился царь.— И помни: через три месяца я тебя призову к ответу и по-; смотрю, что ты мне покажешь!
Зодчие вышли из дворца бледные, взволнованные.
»..Голован целый вечер совещался с учителем. Что они говорили, никто не знал. Но со следующего дня Голован оставил чертежи и начал по целым дням уединяться в подклете центрального храма, за наглухо закрытой дверью. Чтобы предупредить возможность раскрытия тайны, он оставил у подклета на ночь надежную охрану: умного мужика Кузьму Сбоя или Петрована Кубаря.
Теплое чувство к Дуне, пробудившееся в душе Голована, отступило под натиском тревожных событий. Андрей должен был оправдать перед царем сорвавшуюся с уст похвальбу.
Молодой зодчий уходил на работу до свету. Но как пи рано вставал он, Дуня поднималась еще раньше, и на столе ожидал сытный завтрак.
В полдень Дуня, несмотря на погоду, несла Андрею обед.
Похудевшая, светившаяся строгой красотой, девушка проходила по строительной площадке, не обращая внимания на шушуканье рабочих.
Дуня стучала, передавала принесенную еду в чуть приоткрытую дверь подклета и спешила домой, гордая, молчаливая.
Выдумка с питанием целовальников имела успех. Сами строители зорко следили, чтобы приказчики и десятники не хватали куски на стороне и чтоб не продовольствовали свои семьи.
Пища сразу улучшилась.
Глава X
ИЗ ДНЕВНИКА ГАНСА ФРИДМАНА
«...Против архитекторов было пущено ядовитое оружие клеветы; в этом и я принял посильное участие, возбуждая изгнанных с работы ленивцев. Все, казалось, предвещало успех. О строительстве прогремела такая дурная слава, что Барму и Голована вызвал царь. Я с надеждой ждал от этой вынужденной аудиенции благих результатов и полагал, что Иоанн наложит на зодчих «опалу», как здесь говорят.
Но что из этого вышло? Я передаю факты с величай-* шей злостью, готовый сломать перо и порвать ни в чем не повинную бумагу. Эти хитрецы, Барма и Голован,— о, как я их ненавижу! — выпросили у царя'трехмесячный срок, обещая поразить его чем-то необычайным.
За это время Голован проводил в подвале храма таинственную работу, которая меня чрезвычайно ^интересовала. Я пытался проникнуть туда, но встречал грубый отпор:
Наконец срок истек. Я питал надежду, что никакого чуда Голован не покажет, что он хотел выиграть время. Но я только теперь узнал его дьявольскую изобретательность.
По приглашению Бармы царь приехал на постройку. Его сопровождали: брат его —принц Юрий, митрополит Макарий и несколько придворных. Барма повел знатных посетителей; к свите присоединились Барака и Щелкун, а за ними и я. Барма поморщился, увидев меня; но ничего не сказал, и я пошел за процессией.
Я не видел московского государя года три. Он сильно изменился за это время. Насколько'мне.известно, ему двадцать семь лет; но, не зная этого, можно смело, утверждать, что Иоанн доживает четвертый десяток. Стан его согнулся, он ходит, стуча драгоценным посохом, который не выпускаёт из рук. Борода его поредела, в ней появились пряди седины.
Бармаi-’повел царя-по узкому темному переходу, ведущему в нижний этаж центрального храма.
По условному стуку Бармы перед, царем и его спутниками распахнулась дверь.
Какое неожиданное зрелище представилось моим глазам! Я едва не застонал от ярости... Русские вновь перехитрили меня!
На дощатом помосте, освещенном свечами, стояла великолепная модель Покровского собора высотой около пяти футов. Свет отражался от яркой позолоты глав и крестов храма. Крохотные его оконца светились красно-: ватым светом: внутри горели свечи.
Иоанн и его свита пришли в восхищение, а я не находил себе места... Как подорвать авторитет людей, способных создать такое чудо красоты?..
Модель была с величайшим искусством сделана из деревянных брусков, фигурные главы покрыты тонкими
По приглашению Бармы царь приехал на постройку.
листами позолоченной меди. Аккуратная и точная раскраска давала совершенное подобие белого камня и красного кирпича.
Так вот для чего уединялся Голован! Но это же сверхъестественно — в три месяца создать поразительное произведение искусства...
— Таков будет памятник взятия Казани! — с гордостью сказал Голован.
Нельзя не признаться, что он был хорош, со своей величавой осанкой, с глазами, горящими вдохновением. Но с этого момента я возненавидел его сильнее, чем Барму...
Царь радовался, как ребенок дорогой игрушке.
— Кто из вас сделал это чудо?
— Вот он, государь! — показал Барма на помощника.— Он с молодости искусен в таких строительствах, почему и замыслил сделать таковое подобие...
— Прекрасно, прекрасно! — повторял Иоанн в упоении.
Вдруг глаза его запылали гневом:
— А где клеветники, что оболгали вас, что распускали злостные небылицы? Проклятые! Какое дело погубить задумали!
Хорошо, что под сводами подвала был сумрак, слабо освещаемый свечами, иначе я выдал бы себя. Страх охватил меня. Мне казалось, что грозные глаза Иоанна глядят прямо на меня, пронизывают насквозь.
Я съежился за широкими боярскими спинами. Как я хотел бы стать червяком, заползти в щель пола... Говорят в таких случаях, что это угрызения нечистой совести. Ерунда! Я просто испугался разоблачения: ведь моя карьера рухнула бы с позором...
Впрочем, все обошлось благополучно, меня ни в чем не подозревают: московиты недогадливы.
Успокоившись от гнева, царь привлек Барму и Голована, обнял и расцеловал их.
— Вижу, — сказал он торжественно,— что вы верные слуги и заботитесь о величии русской земли и прославлении моего царского рода. Награжу я вас выше всякой меры, а сейчас...
Он снял со своих пальцев два драгоценных перстня и подал смущенным и обрадованным архитекторам. Те благодарили царя, кланялись до земли.
Митрополит Макарий тоже счел нужным похвалить архитекторов.
Принц Юрий и бояре наперебой осыпали Голована и Барму любезностями и преподносили, по русскому обычаю, подарки. Так как при них не было ни кубков, ни драгоценных мехов, которыми здесь принято одаривать, то они развязывали висевшие у пояса кошельки и вручали архитекторам серебряные рубли, которые те при* нимали с поклоном.
Царь Иоанн торжественно сказал:
— Теперь вам в работе помех не будет. Если даже прикажете кремлевскую стену разломать для постройки собора, я и в этом поверю. Сие дивное изображение перенесите во дворец под своим личным смотрительством. Кстати, я еще вас поблагодарю, — добавил он с мило* стивой улыбкой.
И вот плоды разрушительной работы, которую я старался проводить чуть не три года!..
Но я не падаю духом — судьба, быть может, еще повернется ко мне лицом...
Странные сны снятся мне последнее время. Какая-то громада нависает надо мной, грозя обрушиться и раздавить меня.
Я в испуге просыпаюсь, и в момент пробуждения низкий и грозный голос шепчет мне в уши: «Уничтожь!.. Уничтожь!.. Уничтожь!..»
Кого уничтожить?.. Или что?.. Не знаю...
Октябрь 1557 года».
Глава XI
ЖЕНИТЬБА ГОЛОВАНА
После царского посещения будущность представлялась зодчим в розовых красках. Они разговаривали, без конца повторяя друг другу подробности того, что случилось: и что сказал Иван Васильевич, и что они ему ответили, и что он опять сказал...
Расставшись с Бармой, Голован в радостных мечтах незаметно дошел до дому. Дверь открыла Дуня, с недоумением глядя на непривычно веселое, оживленное лицо молодого зодчего.
— Видно, радость у тебя? — спросила девушка.
Андрей не ответил. Он неожиданно схватил пораженную Дуню и крепко обнял. Дуня старалась вырваться из рук Голована, но он не выпустил девушку.
— Довольно в кошки-мышки играть! Идешь за меня замуж, Дунюшка?—прямо и настойчиво спросил Андрей.
— Пойду... — прошептала Дуня. — Только как дедынька...
— Дедынька спит и видит, чтобы поженить нас! — ответил Голован.
Булат действительно крайне обрадовался предложению Андрея, которое перестал и ждать. Но, храня старинные обычаи, строго выговорил Головану за то, что тот повел дело не по порядку, не заслал сватов, а сам объяснился с девушкой.
— Разве тебе некого было попросить? — сурово говорил старый зодчий. — У тебя Барма — сват, коему никто не откажет: всей Руси известный человек!
— От всего сердца прошу: смени гнев на милость, наставник! Виноват я, точно, свело меня с ума царское благоволение.
— Только ради этого я прощаю, — сказал Булат, пряча довольную улыбку в седых усах.
На другой день Грлован поручил Василию Дубасу и Петровану Кубарю перенести модель собора во дворец.
Два богатыря с трудом тащили закрытую полотном тяжелую модель на прочных носилках. Втаскивая ношу в царские палаты, Петрован испуганно и восхищенно таращился во все стороны. Парню и хотелось встретить царя, и он боялся, что, увидев его лицом к лицу, умрет со страху.
От волнения он спотыкался, а Василий ругал его сердитым шепотом: он-то уж видел царя!
Модель благополучно внесли в царские покои, установили на большом столе.
Спальник вывел носильщиков из дворца, пожаловал за труд по алтыну. Голован и Барма остались ждать царя.
Государя Петрован не встретил, но твердо знал,что если ему суждено вернуться в родное село, то станет
он самым знаменитым человеком на много верст в окрестности: он побывал в царском дворце!
Голован скинул покрывало с модели, и вошедший царь мог любоваться миниатюрным храмом при дневном свете.
— Говорите, чем вас пожаловать?
Голован упал царю в ноги:
— У меня челобитье, великий государь!
— Говори.
— Жениться я задумал!
— Вот! — удивился Иван Васильевич. — Да разве ты холост? Невеста кто?
Узнав, что Голован собирается взять за себя приемную внучку старого наставника, царь Иван Васильевич тотчас вспомнил и зодчего Никиту Булата и его подвиг, за который он недостаточно вознаградил верного подданного.
— Выбор твой одобряю! А чего ты от меня хочешь?
— Разреши, государь, на Псковщину съездить: у тятеньки родительское благословение испросить.
— Доброе дело, разрешаю. А я прикажу невесте приданое приготовить...
Андрей в три недели управился с поездкой в Выбутино; обрадовал инока Иосифа, в миру Илью Большого, известием о предстоящей женитьбе, о своих успехах в зодчестве.
На свадьбу Иосиф не поехал, извинившись недугами и монашеским званием.
Свадьбу Голована и Дуни справили по дедовским обычаям.
Посаженым отцом был окольничий Ордынцев, представлявший в своем лице высокую особу царя. От венца молодых отвезли на Полянку, в богатое поместье, пожалованное Иваном Васильевичем Дуне: обещанное царское приданое.
Переехал в просторные хоромы и старый Барма, сдружившийся с Голованом за годы отсутствия Постника.
После свадебного пира Дуня смущенно призналась мужу в давней любви.
— Уж так, Андрюша, буду тебя жалеть — пушинке не дам на тебя упасть!..
Глава XII
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОСТНИКА
Постник возвратился из Казани в конце 1557 года. Царское поручение он выполнил исправно и в короткий срок: в два с небольшим года. Кремль завоеванного города русские мастера обнесли крепкими каменными стенами. Новую крепость занял сильный отряд стрельцов, и это произвело большое впечатление на окрестные племена.
Зная из писем Бармы, что рабочих на стройке достаточно, Постник отпустил по домам большую часть псковичей и привез на Москву лишь десятка полтора самых искусных мастеров.
Постник рассказал о казанских делах. На юг и восток шли через Поволжье купеческие караваны. Через персидских купцов московские гости закупали товары из Хивы, Бухары, Индии, Китая. В обмен на ковры, оружие, пряности Москва посылала меха, кожи, лен, воск...
На смену войне приходила торговля. Русские поселения возникали в прежде диких и безлюдных местах па Средней и Нижней Волге, на Каме.
Разоренный и опустошенный край быстро заселялся, оживал.
❖ * *
Тысячи людей вовлечены были в строительство Покровского собора. Дровосеки стучали в лесах топорами, валили мачтовые сосны, огромные дубы. Углежоги выжигали уголь, и на этом угле кузнецы ковали железные полосы, скрепы, болты. Глиномесы готовили сотни тысяч кирпича, а обжигщики укладывали кирпич в печи. Плотники резали квадратные дубовые шашки для полов. Купцы доставляли луженое железо для кровель и глав. Столяры делали перегородки для иконостасов, покрывая их тончайшей узорной резьбой. Иконописцы писали иконы. Басменники, постукивая фигурными молоточками по листам золота и серебра, приготовляли драгоценные переплеты для богослужебных книг, а эти книги переписывались трудолюбивыми монахами-переписчиками в тесных кельях.
И вся эта многообразная, кропотливая работа сходилась к единому центру — к строительной площадке, где властвовали Барма и Постник.
* * *
Каменщики подняли стены храмов настолько, что можно было переходить к выкладке сводов. В это время внизу шла отделка церковных порталов. Наибольшее значение Барма придавал входам в церковь Покрова. Над ними трудились лучшие мастера.
Три портала вели в церковный храм: с севера, с запада, с юга. С востока располагался алтарь.
Порталы были сходны по общей композиции, но разнились скульптурными деталями; над каждым входом работал особый мастер, и Барма с Постником предоставили им свободу вымысла.
Орнаментальные украшения входов не вылеплялись и не изготовлялись на стороне: они высекались на месте из кирпича, после того как были выложены порталы.
Над отделкой входов работали новгородский резчик Васюк Никифоров и его два товарища. Дверные наличники отделывались в духе деревянного зодчества.
Колонки, обрамляющие порталы — то со спиральным, извивающимся узором, то с шашечным, то в елочку, то рустованные, — могли быть выточены из твердого дерева. Таков же характер кругов, выступающих из стены, подобно торцам бревен; таковы городочки карнизов...
В это хлопотливое для зодчих время у Голована родился сын.
Черноглазого мальчишку назвали Никитой, в честь Булата.
Счастливому отцу некогда было любоваться сыном. Голован все силы отдавал строительству: большая чет-верица, над которой он работал вместе с Постником, подходила к концу.
Зодчие целый день проводили на лесах, обмеряя кокошники, арочки, навесные бойницы, зубчики, впадины и прочие многочисленные детали архитектурного украшения башен.
Глава XIII
ИЗ ПЕРЕПИСКИ ГАНСА ФРИДМАНА
Из письма Ганса Фридмана Отто Фогелю:
«...Как подвигается твоя «История архитектуры»?
Это мое послание даст много нового материала для твоего труда, и ты сможешь осветить историю возникновения и развития грандиозного предприятия московитов.
Девять башен собора распределены между зодчими так: центральной ведает сам Барма; большую четвери-цу строит Постник с помощником Андреем Голованом; юго-западную и северо-западную башни малой четве-рицы возводят Сергей Барака и Никита Щелкун, а юго-восточную и северо-восточную — Ефим Бобыль.
Какую же башню строю я — дипломированный саксонский архитектор Ганс Фридман?
Я готовлю кирпич, изразцы и голосники. Голосниками русские называют пустые кувшины, закладываемые в своды отверстием наружу; делается это для облегчения тяжести сводов, но считают также, что голосники, резонируя, усиливают звуки — голос священника и пение хора.
Строительная техника московитов развивается с поразительной быстротой. Я ездил в подмосковное село Коломенское смотреть храм, воздвигнутый лет двадцать пять назад. Стены храма поражают колоссальной толщиной; строители боялись за прочность сооружения и сделали его таким мощным, что любой крепости впору.
Прошло всего четверть века, и манера кладки стен совершенно переменилась.
Начну с цоколя. На цоколь здания пошел крупный кирпич; его профиль выкладывался из лекальных кирпичей разнообразной формы. Скажу кстати, что мне немало пришлось потрудиться, чтобы удовлетворить требования Бармы. Но он и сумел использовать мою продукцию! Сочетая кирпичи по-разному, московские зодчие нашли красивые и сложные формы.
На башни кирпич потребовался более мелкий; надо сознаться, толщина стен соразмерна их вышине и рассчитана так умело, что одновременно решает задачи и монументальности и прочности. Здесь нет того излишка толщины, как в коломенском храме.
Существенно отметить для истории строительного искусства, что архитектурные формы башенных фасадов Покровского собора выражают собою комбинации внутренних частей. Это означает, что наружному возвышению соответствует внутреннее углубление, и наоборот. Так, стены храмов нигде не утолщаются чрезмерно, в верхних ярусах не нагромождаются тяжелые каменные массы, и Барму с Постником, очевидно, не постигнет строительная катастрофа.
Несколько слов о Постнике и Барме. Мне кажется, я сумел определить роль каждого в их содружестве.
Постник — гениальный художник, хотя я пишу это со скрежетом зубовным. Он мысленно видел весь ансамбль, когда на площадке только лежали груды кирпича. Он компонирует разнородные архитектурные формы с подлинным изяществом и блеском. Но он не входит в вопросы технического оформления, предоставляя решать их другим. И здесь на сцену выступает Барма. Это техник исключительной силы и уменья, хотя нельзя отрицать и у него огромного художественного вкуса (это видно по построенному им в молодости дьяковскому храму).Часто Барма делает указания самому Постнику, и тот выполняет их дисциплинированно и почтительно.
Но все же главная роль Бармы на площадке. Он с необычайной придирчивостью следит за кладкой, и кладка идет удивительно ровно и чисто. А как выводятся карнизы и все сложные детали архитектурного оформления под его наблюдением!.. Признаться, я с волнением ждал выкладки сводов. Я думал, что своды рухнут, но проклятые московиты обманули мои ожидания. Своды у них получаются правильными и прочными.
Мало того: Андрей Голован, этот остроумный архитектор, поразил меня технической новинкой, о которой я не слыхал в Европе. На второ1и этаже храма он поставил кирпичные потолки почти плоские, с еле заметной выпуклостью вверх. Но выпуклость только создает впечатление легкости, и дело не в ней. Голован заложил в перекрытие железные балки, и они придали ему необычайную прочность1.
1 Укреплять плоские кирпичные перекрытия железными балками в Западной Европе начали только в конце XIX века. Строители Покровского собора опередили западноевропейскую технику на триста лет.
Любопытно, что во всем облике собора, а в особенности в его частностях заметно влияние старинной деревянной архитектуры московитов. Я смогу судить об этом, так как, разъезжая по кирпичным заводам, видел много древних деревянных церквей. Апсида Покровской церкви не полукруглая, как обычно у каменных храмов, а трехгранная, и это напоминает деревянную рубку стен. Углы башен большой четверицы отделаны выпуклыми кругами, напоминающими торцы бревен, из которых строятся деревянные храмы. По отделке собора как снаружи, так и внутри чувствуется, что строители еще не отвыкли от привычных, родных форм деревянного зодчества, слагавшихся веками.
Но надобно сказать, что и в каменной архитектуре московиты сумели создать интересные мотивы; в первую очередь к таковым следует отнести закомары и кокошники. Изложу их историю, как мне удалось выяснить из разговоров с Голованом.
Любопытно, что Голован, с его суровыми, проницательными глазами, довольно охотно беседует со мной и делится своими обширными знаниями. А Барма, этот старец с кудрявой седой головой, похожий на апостола с православной иконы, завидев меня, крутит бороду, поворачивает спину и уходит.
Возвращаюсь к вопросу о закомарах и кокошниках.
В первые века христианства своды каменных церквей назывались в России «комары». Свод каменной церкви был ее необходимой принадлежностью и символизировал небо. Чтобы напоминать о небе тем, кто молился вне храма, его наружные стены увенчивались сплошными арками, получившими наименование «закомары». Закомары поддерживали церковный купол.
Впоследствии закомары стали отрезаться снизу карнизами, уменьшились в размерах; их назвали «кокошники» — за сходство с головным убором московиток.
Кокошники сделались излюбленным декоративным приемом строителей каменных церквей. Помимо того кокошники получили важное конструктивное значение: их стали употреблять для перехода от нижнего восьмерика к верхнему (восьмериками русские называют постепенно суживающиеся восьмигранные ярусы каменных башен; восьмигранные формы тоже идут от деревянных срубов).
Позднее архитекторы придумали ставить кокошники в два ряда — то один над другим, то вперебивку. Появились кокошники с подвышениями, кокошники сильно вытянутые кверху...
В тимпанах кокошников1 строители иногда делают окна — круглые или длинными, узкими прорезами; а если оставляют поверхность тимпана гладкой, то украшают ее цветными узорами и даже изображением святых...2
В употреблении кокошников Постник пошел дальше своих современников. Он ставит кокошники в три ряда один над другим, умело разнообразя их форму.
На наш европейский взгляд это непривычно, но, во всяком случае, выглядит оригинально.
Кончаю. Поздний вечер. За окном шумит страшный ветер... Меня клонит сон, но я боюсь ложиться в постель. Я уже писал тебе, дорогой Отто, что мои ночи полны мучительных кошмаров. Неясные фосфорические фигуры носятся передо мной во мраке комнаты, дикие голоса кричат мне в уши...
Я знаю, кто они. Это демоны разрушения. Они хотят овладеть моей волей, хотят сделать меня послушным орудием... Ведь им самим, бесплотным духам, не дано осуществлять их убийственные замыслы... Я еще борюсь, но чувствую: силы слабеют... Мне страшно...
Июль 1559 года».
Это письмо осталось неотправленным.
Глава XVI
НА СТРОЙКЕ
Трудная работа началась, когда дело дошло до сооружения глав. Башни разнились одна от другой архитектурным оформлением. Постник нашел различные приемы и для отделки глав.
Форма у всех одинаковая — луковичная; но много
1 Т и м п а я кокошника — это его полукруглая часть, прикрытая сверху выпуклой арочкой или дугой.
2 Тимпаны кокошников Покровского собора все разукрашены, но, вероятно, это было сделано через несколько десятилетий после его постройки.
изобретательности и неистощимой фантазии вложил гениальный зодчий в частности. Одна главка напоминала кедровую шишку из русского бора; по другой извивались причудливые зигзаги; третью покрывала чешуя, словно чудовищную рыбу; четвертая разделялась на дольки вертикальными надрезами, а на следующей надрезы шли спиралями...
— Наградил тебя бог выдумкой! — говорили Постнику товарищи по работе. — Благо, девять глав ставим, а кабы больше?
Постник говорил своим низким, грудным голосом:
— Больше? А сколько угодно! Хоть трижды девять глав давайте — все разные сделаю!
Не все плотники соглашались подниматься наверх — устанавливать деревянные остовы глав; было страшно, особенно вначале, когда ноги стояли на узенькой круглой площадке верхнего светового барабана, а вокруг только воздух. На установку первых ребер каркасов шли самые отважные и ловкие. Но когда они охватывали пустое пространство деревянными кольцами и железными кругами, то за ними следовали другие и работали без опаски.
После плотников наверх взбирались кровельщики-^ верхолазы. У этих работа была еще хитрее. Прицепив подвесную люльку к шпилю, на котором предстояло водрузить крест, они покачивались между небом и землей, распевая песни и приколачивая куски блестящего луженого железа к причудливой опалубке главы. Пожар, кишащий людскими толпами, казался сверху муравейником, а голоса долетали как невнятный ропот.
Работа на высоте устрашала в дни, когда дул сильный ветер: люлька раскачивалась, ударялась о выпуклую поверхность главы. В такие дни верхолазы бросали жребий, кому подниматься.
На верхних ярусах башен большой четверицы класть кирпичи тоже мог не всякий каменщик.
Над Салоникеей заранее подтрунивали ехидные языки:
— Ой, баба, баба, на низовой кладке ты у Бармы в чести, а как на верхотуру полезешь? Зараз душа в пятки уйдет!
— Это мы поглядим, у кого она куда уйдет! — презрительно отвечала Салоникея.
И баба оказалась права. Струсили кое-кто из мужиков, а Салоникея наверху держалась спокойно, как у себя перед печкой.
— Вот чертова баба! — удивлялись каменщики.— Не иначе, она за пазухой бесстрашный корень носит...
Мало того — Салоникея привела четырнадцатилетнего сынишку Гераську. Тот поприсматривался недели две, а потом принялся работать ловко и сноровисто, как мать. Барма поручал Салоникее и ее сыну самые трудные работы по отделке фасадов и знал, что они не испортят.
Башни малой четверицы были закончены целиком и восхищали взор москвичей сверкающим благолепием своих глав. Но у храмов большой четверицы выкладывались еще только шеи.
Работника, который не решался подниматься на высоту церковной шеи, благочестивые старики уговаривали:
— Чего боишься, дурачок? Тебя ангелы будут держать!
«Ангелы ангелами, а веревкой привязаться не мешает», — думали строители.
Наконец пришел радостный день окончания башен большой четверицы. Восемь церквей митрополит освятил осенью 1559 года в простой, непышной обстановке; на богослужении присутствовали только царь и знатнейшие бояре. Торжество предстояло по окончании Покровской церкви.
Усилия всех строителей обратились на средний храм, который должен был вознестись высоко над Москвой, по гордой мечте Бармы.
Чрезвычайно красивой, живописно-величественной получилась внутренность центральной башни Покровского собора. На четырехграннике первого яруса стоял второй ярус восьмиугольной формы — восьмерик. Первый ярус переходил во второй треугольными «пазухами».
Первый восьмерик строители для устойчивости обнесли кругом открытой арочной галереей.
На довольно толстых стенах этого восьмерика, как на основании, поднялся следующий восьмигранный ярус с окнами, подоконники которых сильно скошены внутрь, а верха дугообразно закруглены. Для облегчения веса
Барма устроил в этом восьмерике с внешней стороны целый ряд треугольных выемок — ниш.
Тремя рядами кокошников второй ярус перешел в барабан, имеющий форму восьмиконечной звезды с незначительными вырезами. Такая форма придала большую устойчивость верхнему барабану, который держит на себе высокий шатер Покровской церкви. На лучах звезды Постник установил маленькие главки с шейками; своим весом главки увеличивали устойчивость углов Ч
Так части храма постепенно суживались кверху, масса стен утончалась, из нее вынимались ниши, ее облегчали кокошники, тимпаны которых вдавались внутрь под навесами арок...
И, наконец, все венчалось высоким, величавым восьмигранным шатром.
У основания шатра на звездчатом барабане поставлены были два ряда полукруглых кокошников вперемежку, а над ними — по одному вытянутому вверх кокошнику с заострением. Грани шатра украсились блестящими изразцами. Часто они располагались многоугольными розетками, в середине которых поставлен выпуклый полушар. Изразцы вставлены в грани шатра «заподлицо» — это значит, что они заделывались туда при кладке стен, а не были вставлены позднее.
В ясную, солнечную погоду изразцовые полушария ярко блестели, слепя взор.
Великая работа подходила к концу. Центральный шатер закончился тонкой и узкой шеей, на которой вознеслась простая по рисунку и небольшая по размерам глава. Здесь работали опытнейшие из опытных верхолазов, ра^ ботали с величайшей осторожностью. Центральный храм имел от основания своего высоту двадцать восемь с половиною саженей.
Работая на высоте, кровельщики видели многочисленные извивы Москвы-реки и впадающих в нее речек; их взору открывалась широко раскинувшаяся столица и десятки окружавших ее сел и деревень. Горизонт замыкался синими лентами отдаленных лесов...
Когда готов был каркас верхней главы, Барма настоя-
1 Эти главки видны на всех старинных изображениях Покровского собора; они были сняты в 1784 году.
тельно заявил о желании подняться туда. 'Долго отговаривали зодчего от этого намерения, но убедить не смогли» — Когда главу покроют железом, мне там не бывать,— сказал Барма. — А я хочу посмотреть на свет божий с высоты построенного нами храма...
Старика сопровождали наверх цепкий, как кошка, Сергей Барака и не знавшая головокружения Салоникея.
Барма долго глядел на все четыре стороны света, и в его выцветших от старости глазах стояли слезы не то от волнения, не то от резкого ветра, пролетавшего в вышине.
— Теперь можно умереть спокойно, — тихо сказал он, спускаясь по лесам.
— И полно, наставник! — возразил Сергей. — Тебе еще жить да жить!
— Лучше мне ничего не создать...
Барма не предчувствовал, что его старому сердцу предстоит тяжкое испытание.
Глава XV
ПОЖАР
На берегу Москвы-реки в линию выстроились огромные штабеля бревен, досок, брусьев; в складах, расположенных поблизости, хранились бочки со смолой. Много горючего материала было на строительной площадке— заготовленные стропила, слеги, тес...
Ордынцев страшился пожара, который мог причинить огромный ущерб строительству собора. А как на грех, лето 1560 года выдалось сухое, за полтора месяца не выпало ни одного дождя.
Федор Григорьевич, сильно сдавший здоровьем за годы стройки, чуть не каждый вечер читал наставления сторожам, требовал от целовальников, чтобы те проверяли караульных по ночам.
Сторож Томила Третьяк, сырой, вечно заспанный человек, любил похвалиться бдительностью:
— Всю ноченьку до белой зари не сплю... Уж так ли караулю — муха мимо не пролетит, червь не проползет... Истинно скажу, милостивый боярин: страж я недреман-. ный!
Темной бурной июльской ночью вспыхнуло как раз на участке Томилы. Спал караульщик крепко, точно поднесли ему отвара сон-травы. Насилу растолкали его другие сторожа.
Штабель сухих сосновых досок пылал, разбрасывая искры, звездами пролетавшие в ночной тьме, далеко разносимые ветром.
Десятники бешено колотили в била, оглушительный трезвон будил спящих. Полуодетые люди метались по баракам:
— Братцы, вставайте!
— Пожар тушить, государево добро спасать!..
Люди сослепу вываливались на улицу; в глаза им бросалось багровое пламя, вихрившееся на берегу.
Опасность была велика. Уже несколько штабелей вздымали к небу бушующее, гремящее, косматое пламя. Сухие крыши бараков начали заниматься огнем под падавшими на них головнями. Бабы и подростки поспешили наверх с бадейками воды, мокрыми тряпками, метлами. Жилые строения следовало отстоять во что бы то ни стало, так как они находились вблизи от собора, а он стоял, обвитый лесами, окруженный стружками, досками, бревнами...
На берегу люди хлопотали, разметывая ближайшие к пожару лесные склады. С диким уханьем скатывали они бочки со смолой, валили доски и брусья под откос берега, прямо в воду. Пусть лучше матушка-река унесет, чем уйти им огнем!
Труднее всего приходилось у пылавших штабелей. Здесь невозможно было ничего сделать. Жар не подпускал людей близко, а вода, которую плескали издали, мгновенно испарялась, усиливая пламя.
Толстяк Томила, обезумев, рвался в огонь из рук товарищей:
— Отцы, благодетели, пустите! В пекло кинусь — туда мне, псу, и дорога!
— Как ты, друг, ославился?
— Не знаю, браты, прямо как мороком обвело!..
Злое дело совершилось в подходящий час. Ветер пригибал людей к земле; крутясь, душил едким дымом, осыпал мириадами искр и тысячами головней. Очаги пламени появлялись в самых неожиданных местах.
Сотни людей выстроились цепочкой от берега реки до
бараков; задыхаясь в дыму, почти не различая друг друга, они на ощупь передавали бадейки воды тем, кто боролся с огнем на крышах. Но воды не хватало. Два барака запылали; с плоских кровель, крича от боли, посыпались обожженные бабы и ребята. Стало ясно, что жилых строений не отстоять. Опасность угрожала собору.
Руководство людьми пало на Нечая, которому случилось остаться в ту ночь на стройке, и на Кузьму Сбоя, умного крепыша, пользовавшегося общим уважением рабочих.
Кузьма и Нечай переглянулись. Одна мысль родилась у обоих: ломать леса! Убирать горючий хлам с постройки!
Распоряжение передавалось среди свиста и шума урагана, среди рева разбушевавшегося пламени. Береговым штабелям предоставили гореть; у рабочих казарм осталось самое необходимое количество людей. Баб, с плачем и причитаниями порывавшихся спасать жалкое свое имущество, десятники гнали от дверей в тычки:
— Погорите, безумные! Гляньте, что внутрях делается!
А красно-розовые языки пламени и струи дыма уже вырывались из маленьких окон...
— Бегите к собору! Сухую рухлядь таскайте прочь!
У собора закипела отчаянная работа, всякий волок прочь от стен что было под силу. Труднее было управиться со строительными подмостками, пришитыми к стенам длинными костылями Г
На ломке отличались Василий Дубае и Петрован Кубарь.
Василий и Петрован сдружились за последние годы: по воскресеньям ходили на бойни и для потехи глушили быков ударом кулака по лбу.
Вооружившись громадными ломами, два богатыря проявляли чудеса силы, бесстрашия и ловкости.
Яркий красно-багряный свет от пылавших лесных складов и бараков освещал фигурки Дубаса и Кубаря, суетившихся на верхнем пролете лесов.. А они раскачивали ломами и выдирали из стен костыли, державшие верхушку строительных подмостков. Потом, когда уже опасно стало держаться на зыблющейся площадке, привязали к стойкам два прочных каната и загрохотали вниз.
1 Костыль — загнутый под прямым углом длинный гвоздь.
Десятки людей во главе с Нечаем и Кузьмой Сбоем ухватились за сброшенные канаты, приготовились тянуть по команде.
Василий и Петрован сбежали, присоединились к державшим канаты.
— Прочь, православные! — гаркнул Нечай, но звук голоса затерялся в хаосе разбушевавшихся стихий.
Несколько человек бросились отгонять тысячные толпы москвичей, сбежавшихся на пожар из ближних улиц. Многие притащили ведра, ломы, багры и помогали бороться с бедой. Иные явились с пустыми руками — поглазеть на любопытное зрелище. Эти больше всех шумели и распоряжались, хоть никто их не слушался.
В огромной мятущейся толпе затерялся архитектор Ганс Фридман. Маленькие глаза его горели кровавым отблеском пламени; он потерял шапку, и его серые волосы покрылись хлопьями сажи, кружившимися в воздухе, как черный снег. С бессмысленной усмешкой маньяка он шептал:
— Радуйтесь, духи разрушения!.. Я исполнил приказ... Гордитесь моим послушанием — я хорошо выбрал время...
— Зашибет, зашибет!.. — Зрители отхлынули прочь, увлекая за собой сумасшедшего саксонца.
— Бери! — раздалась команда. — А ну, взяли! Раз-разок! Еще раз! Еще раз! Ухнем...
Громада лесов отделилась от главной башни, помешкала в воздухе, точно раздумывая, и, поблескивая язычками пламени, повалилась, сшибая кресты, уродуя главы законченных малых церквей.
— Беги, ребята!
Люди бросили веревки и кинулись врассыпную.
Верхняя часть подмостков, ближайших к пожару, рухнула беспорядочной грудой стоек, досок и перекладин.
Шум свалившейся громады произвел на безумного Фридмана необычайное впечатление. Вырвавшись из толпы, он бросился к подмосткам и с обезьяньей ловкостью стал карабкаться вверх. Его не удерживали: зрители думали, что явился еще доброволец помогать рушить мостки. Взобравшись на самый верх, немец с упоением всматривался в картину дикого хаоса, разверты-. вающуюся внизу:
— Духи огня, духи гибели!.. Возьмите меня — я ваш!.-И, широко раскинув руки, Фридман с диким победным хохотом ринулся в пустое пространство...
Трагическая смерть сумасшедшего немца ненадолго потрясла людей: нужно было бороться с грозной стихией. Раздались громкие призывы:
— Растаскивай! Рас-тас-ки-ва-ай!..
Сотни людей, как суетливые муравьи, спасающие гибнущий муравейник, накинулись на свалившуюся громаду, разламывали на куски, тащили в сторону Кремля, ко рву, его окружавшему. Там валили в воду, блестевшую в глубине тускло-багровым светом.
А Василий Дубае и Петруха Кубарь уже взбежали наверх и снова принялись за опасную работу.
В эту бурную, тревожную ночь царя и митрополита не было в Москве — за два дня до того они выехали на богомолье в Троице-Сергиеву лавру. Но много бояр приехали к месту пожарища. Не решаясь принять деятельное участие в работе, что не приличествовало их высокому сану, они стояли в отдалении, многодумно качали бородами, иные крестились.
В сопровождении Демида /Кука и Филимона прискакали на пожар Голован, Постник, Барма. Дикими, остекленевшими глазами взглянул Барма на опасность, грозившую великому творению. Но оцепенение продолжалось недолго. Через мгновение Постник принял на себя командование, и его продуманные приказы начали устанавливать порядок в царившей суматохе. Барму не подпускали близко к опасным местам; Постник приказал Демиду держать старика. Дюжий мужичина исполнял приказ точно, несмотря на мольбы и брань Бармы.
Снова и снова, взвихривая пыль и сажу, падали обрушенные пролеты подмостков на площадь и быстро, четко уносились прочь. Опасность спадала, общее напряжение уменьшилось.
И лишь в это время примчался с Покровки Федор Григорьевич. Страшные мысли одолевали Ордынцева, когда он погонял коня среди ветра, свистевшего в темных улицах, в то время как впереди стоял багряно-дымный столб, упиравшийся в небо. Окольничему предвиделся царский гнев, неминуемая опала, может быть казнь...
— Не усмотрел, не усмотрел! — отчаянно шептал Ордынцев и хлестал плетью коня.
За ним скакали угрюмые, растерянные слуги.
Решетки по улицам были убраны, как всегда во время больших пожаров, и задержки от караулов не было, но дорога казалась боярину бесконечной.
— Еще стоит! — шумно вздохнул Ордынцев, когда вынесся на площадь, забитую народом. — Дорогу, дорогу!
Сквозь плотную толпу проехать было невозможно. Окольничий спрыгнул с лошади и пешком пробирался к собору.
Когда Ордынцев добрался до Постника, он с облегчением узнал, что опасность для храма не так уж велика.
На берегу пламя утихало, лесные склады догорали. Но рабочие бараки еще пылали вовсю, и вихрь по-преж-* нему взметывал огненные лапы...
Большая часть лесов была сброшена. Оставался самый неподатливый пролет, где крючья когда-то вбивал сам Василий Дубае. Долго пыхтели парни, подсунув ломы под стояки, прилегавшие к стене, потом крюки вылетели разом, и площадка поплыла в сторону.
— Падаем!.. — прохрипел Петруха Кубарь.
Василий взглянул в побледневшее лицо товарища и вдруг ухватился за карниз стены.
— Беги! — крикнул он, задыхаясь от напряжения.
Перепуганный Петрован медлил.
— Беги! — Ругательство сорвалось с посиневших губ Дубаса.— Убью!
Петрован дико загремел по мосткам. В толпе раздались вопли ужаса. Никто не решился броситься на выручку Дубасу, да и спасти его было невозможно. Едва Кубарь отбежал от стены, как обессилевший Василий выпустил карниз...
Дубаса нашли среди груды бревен с переломанными ребрами; рыжие волосы его слиплись от крови, сочившейся из пробитой головы.
Петруха Кубарь с воем бросился на труп товарища.
Подвиг Дубаса обезвредил последнее угрожаемое место; мостки со стороны, противоположной пожару, не подвергались опасности, их решили не ломать.
Бараки догорали. Работники просились переночевать у добрых людей, живших поблизости. Иные пошли отдохнуть в церквах, двери которых раскрылись для всех желающих. Толпа любопытных расходилась.
Москвичи и стекавшиеся во множестве жители ближних и дальних городов восторженно любовались храмом.
К Ордынцеву подвели дрожащего Томилу —единственного известного виновника случившегося бед< ствия.
— Как это ты, страж недреманный, не сберег порученное тебе? — грозно напустился на него окольничий.— Ты понимаешь ли, безумец, какой из-за тебя урон мог причиниться, да не одним нам, не Ордынцеву, не Барме с Постником, а всей Москве, всему русскому государе ству?
— Божье попущение...
— Бог-то тута, пожалуй, ни при чем, — раздался насмешливый голос Нечая. — Тута, чутко, лиходеи поработали!
— А ведь не так ли? — поднял всклокоченную, замазанную голову Томила. — Меня не опоили ли, боярин? Сродясь я таково сладко не сыпал...
— Опоили?.. Ты что ж, вор, бездельник, пил вечером?
— Пил, боярин, — признался Томила. — С немцем.
Постник уже знал о самоубийстве Фридмана, и картина того, что случилось, стала ему ясна.
— Собаке собачья смерть! — хмуро пробормотал он.
Скованного Томилу отвели в подвал Разбойного приказа.
* * *
Обрушенные подмостки восстановили в три дня; работы по окончанию центральной башни и починка поврежденных меньших глав пошли быстро.
Тем временем в храм явились иконописцы и взялись за роспись стен. В нишах поместились образа святых Иоанна Воина, Георгия Победоносца и других. Над нишами нарисовали московских митрополитов — Петра, Алексея, Иону. Нашлось место по чину и для других святых.
Между алтарем и местом для молящихся поднялся богато украшенный иконостас...
Упали строительные леса, и Покровский собор возник перед Москвой во всем своем сверкающем великолепии. Москвичи и стекавшиеся во множестве жители ближних и дальних городов восторженно любовались храмом.
В конце 1560 года храм-памятник был торжественно освящен.
О первом богослужении в Покровском соборе возве-
стал малиновый перезвон колоколов, зазвучавший в тот день в первый раз.
Только самые близкие к царю люди получили доступ на торжество. Но среди ближних бояр, среди князей и крещеных татарских царевичей стояли гениальные строители собора Постник и Барма в богатых шубах с царского плеча — знак высшей милости.
Думы одолевали Постника. В душе его были и гордость, и радость, и чувство грусти, которое охватывает художника, навсегда расстающегося со своим творением. Отныне творение начнет жить своей самостоятельной жизнью, переживет своего творца и, быть может, даже и его славу... А ему, создателю, нечего больше тут делать. Любимый труд, занимавший все помыслы, закончен, и на месте его осталась тягостная пустота...
«Уйду из Москвы... — думал Постник. — Земля, земля родная! Пустынные твои дороженьки, дремучие твои леса, бедные твои, затерянные в глуши деревеньки... Увижу вас снова, пройду по тихим тропкам, сладко отдохну у ночного костра...»
Постник жил и работал долго. Но уже не пришлось ему создать второго величавого творения, подобного Покровскому собору.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Годы и века прошли своим чередом. Храм Бармы и Постника в борьбе со всесокрушающей силой времени стоял неколебимо. Но вошел он в историю не с тем именем, какое присвоили ему строители.
В конце XVI века к собору с северо-восточной стороны прилепилась маленькая церквушка, главка которой, отделанная в стиле остальных, значительно ниже глав малой четверицы. Церквушку эту воздвигли в честь Василия Блаженного, современника Грозного.
Так много ходило в народе толков про юродивого Василия, так люб и дорог был народу образ бессребрен-ника, не боявшегося говорить горькую правду в глаза боярам и самому царю, что название крохотной церквушки перешло на весь величественный собор. Его стали называть храмом Василия Блаженного или попросту Василий Блаженный.
Тело бессребренника Василия перенесли в храм его имени, соорудили для него роскошную гробницу. Останки нищего, который в долгие морозные ночи трясся на папертях московских церквей, прикрыли драгоценным покрывалом, усеянным изумрудами и яхонтами в золотых оправах...
Много бурь и гроз пронеслось над причудливыми главами Василия Блаженного. Видел он польское нашествие в 1612 году, видел полчища Наполеона в 1812 году. Но все нашествия и все беды пережил он в стойком терпении, как пережила их в борьбе могучая Русь.
Неповторимым памятником родной русской старины стоит Василий Блаженный на Красной площади Москвы, рядом с чудесным Кремлем. Красуется, цветет, как прекрасный цветок, как песня, запечатленная в камне. Напоминает он о ратной славе предков, о безмерных жертвах и трудах их.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Роман А. М. Волкова «Зодчие» знакомит читателя с интереснейшей страницей отечественной истории. Писатель нарисовал широкое полотно русской жизни в середине XVI века. Главные герои его книги — русские умельцы— зодчие Никита Булат и Андрей Голован. Их тяжелому и радостному труду посвящен роман «Зодчие». В книге мы встречаем разнообразные картины, правдиво воскрешающие страницы прошлого. Здесь и боярин-самодур князь Артемий Оболенский Хромой со своими холопами. Здесь и просвещенный дворянин Ордынцев, один из тех, кто проводил в жизнь государственные преобразования.-Здесь и скоморохи-весельчаки и монахи-стяжатели. Вместе с героями книги мы побывали среди восставших горожан Москвы и в татарской темнице, в русских полках, осаждавших столицу Казанского ханства, и среди строителей жемчужины русского зодчества — храма Василия Блаженного. Несмотря на то, что многие персонажи романа вымышлены, автору удалось правдиво передать важнейшие события того переломного времени.
Середина XVI века была как бы «порой надежд» в истории России. Упорный созидательный труд русского крестьянина и ремесленника сделал свое дело. Расцвели города, и наполнились населением села. Присоединение
Казани (1552) и Астрахани (1556) открывало новые возможности развития торговых связей со странами Востока.
Но Россия не была «землей обетованной». Помещики и монастыри безжалостно эксплуатировали подневольный люд. Не всегда, однако, народ безропотно сносил это тяжкое иго. Многие крестьяне и горожане бежали — как это сделал один из героев книги Андрей Голован — в поисках лучшей доли в южные степи или «за камень» (Урал), осваивая все новые и новые земли. В 1547 году столицу Московского государства потрясло небывалое дотоле восстание горожан против бояр. Иван Грозный позднее вспоминал: «С тех пор вошел страх в мою душу и трепет в кости».
Правители — князья Глинские — были сметены ураганом народного гнева. Перед Избранной Радой, новыми советниками молодого Ивана Грозного, встал вопрос: в чем же причина тех потрясений, которые недавно пережила Русь?
Занималась заря реформ.
Наиболее дальновидные и смелые люди выступали со своими проектами государственных преобразований. Писатель Иван Пересветов, проведший свою юность в странствиях по Восточной Европе, подавал царю челобитные, в которых настаивал на решительной борьбе с боярским своеволием. Пройдя трудный жизненный путь, полный тревог и несбыточных надежд, Пересветов сумел сохранить трезвый ум, зоркость и глубокую веру в светлое будущее русского народа.
Середина XVI столетия была золотым веком русской общественно-политической мысли и культуры. Холоп московского боярина Феодосий Косой выступил с проповедью равенства людей, неповиновения властям, выступил противником войн. «Все люди для бога едины — и татары, и немцы, и другие народы», — учил Косой. 1 апреля 1564 года через одиннадцать лет после создания царской типографии дьякон Иван Федоров выпустил первопечатную книгу «Апостол».
Одним из замечательных явлений истории русской культуры середины XVI века и является строительство собора Василия Блаженного (1554—1560), которое в романе «Зодчие» играет роль своеобразного апофеоза деятельности русских зодчих.
До недавнего времени считалось твердо установленным, что строителями этого храма были мастера Постник и Барма. Правда, в Лебедевской летописи, сообщающей о его построении, имена зодчих не названы.
Так, в летописи говорится, что в октябре 1554 года Иван Грозный повелел «тщательне поставити храм... Покрова с приделы о Казанской победе». Праздник Покров приходится на 1 октября. Казань взята была 2 ок-* тября. Поэтому храм, построенный в честь взятия Казани, и назвали Покровским собором. Закончено строительство было в 1560 или 1561 году.
Имена Бармы и Постника, как строителей собора, вместе встречаются только в одном письменном памятнике, и довольно позднем по происхождению — «Сказании о перенесении иконы Николы-чудотворца». Помещено это «Сказание» в рукописи конца XVII — начала XVIII века. В нем сказано, что для строительства собора Иван IV привлек «дву мастеров руских, по реклу (по имени) Постника и Барму, и быша премудры и удобны таковому чудному делу». Постник — это прозвище, ставшее в XVI веке уже именем. Барма — тоже прозвище и означало «картавый». Вместе с тем «бармы» — это богатые оплечья на царские одежды. Поэтому прозвище могло означать и человека, делавшего эти бармы.
Есть еще одно сведение, говорящее о строительстве храма Василия Блаженного — это запись из «Русского летописца» (первая половина XVII века). В рукописи сказано, что в 1560 году «зачата делати церковь... Покров и семь приделов, еже именуется на Рву, а мастер был Барма с товарищи». Как мы видим, «Русский летописец» говорит, что строителем был Барма. О Постнике он умалчивает. Но, возможно, здесь недоразумение: ведь сама дата начала строительства (1560) дана в летописи ошибочно. Известный археолог, доктор исторических наук М. К. Каргер полагал, что Постник только начинал строительство собора; с 1556 года он был отправлен в Казань и Свияжск, где и соорудил, как известно, в 1556— 1561 году Казанский Кремль и ряд соборов. Строительство храма Василия Блаженного, по его мнению, продолжал Барма.
Но вот совсем недавно казанский историк Н. Ф. Калинин обратил внимание на запись, которая ускользнула из поля зрения исследователей. В 1633 году одна из ру
кописей «Судебника» (1550),принадлежавшая «Соловецкого монастыря стряпчему и слуге московские службы Дружине Тарутьеву сыну Посникову по реклу Барма» была им продана другому стряпчему. Итак, дедом Дружины был некий Постник, по имени Барма. Судя по записи, этот дед Дружины мог жить где-то в середине XVI века. Трудно допустить, чтобы в одно и то же время вместе работали Постник и Барма и жил некий Постник с редким прозвищем Барма. Поэтому Н. Ф. Калинин предположил, что речь и должна идти о Постнике Барме, то есть что строителем храма Василия Блаженного было одно лицо, а не два. Запись же «Сказания» он считает позднейшей ошибкой L Можно считать, что гипотеза Н. Ф. Калинина имеет под собой серьезные основания.
Ее, в частности, принял такой крупный исследователь древнерусской архитектуры, как лауреат Ленинской премии профессор Н. Н. Воронин. Впрочем, вопрос не может считаться окончательно решенным. Другой знаток истории строительства храма Василия Блаженного профессор Московского университета М. А. Ильин не разделяет гипотезы Н. Ф. Калинина. Он считает по меньшей мере странным, что зодчий, заложивший Покровский собор, вскоре после этого покинул строительство, уехал в Казань. Очевидно — М. А. Ильин полагает, как М. К. Каргер,— уехал Постник Яковлев, а Барма продолжал строительство.
Вопрос, следовательно, остается открытым. В настоящее время в распоряжении исследователей слишком мало источников для окончательного решения. Будем надеяться, что розыски новых материалов уже в скором времени дадут свои результаты и мы сможем подкрепить или отвергнуть заманчивую гипотезу Н. Ф. Калинина.
Но как бы то ни было, строители (или строитель) храма Василия Блаженного были выдающимися зодчими, входящими по праву в число гениев мировой архитектуры эпохи Возрождения.
Доктор исторических наук А. А. Зимин
1 Н. Ф. Калинин. «Постник Барма — строитель собора Василия Блаженного в Москве и Казанского Кремля», «Советская археология», 1957, № 3, стр. 261—264.
ЕТСТВО
t
Глава первая
«СТАРИК» СЕРДИТСЯ
Густая, давящая тьма южной ночи то и дело освещалась багровыми вспышками пламени. Снопы огня, вылетавшие из кратера, показывали Фелипе дорогу. В темноте он не смог бы ее найти: тропка вилась среди камней, застывших потоков лавы, сугробов, пепла, скрывавших провалы в крутом склоне Везувия.
И все же мальчик упорно взбирался к самому краю кратера, туда, где за гребнем в огромной воронке клокотала лава.
Небо покрывали темные, страшные тучи, прорезаемые зигзагами молний. Но грома не было слышно, его заглушал могучий низкий рокот вулкана. Из туч, как хлопья грязного снега, сыпался горячий серый пепел. Он обжигал непокрытую кудрявую голову мальчика, шею, голые ноги. Фелипе ежеминутно стряхивал с себя пепел, а широко раскрытые синие глаза мальчугана всматривались вперед, выбирая дорогу.
Какой длинной и жуткой представлялась теперь дорога, по которой Фелипе с товарищами много раз поднимались к жерлу Везувия! Тогда, при блеске солнца, под безоблачным небом, путь от селения до вершины кратера проходил незаметно. Но сейчас... когда склон горы под ногами содрогался от подземных взрывов, когда смена мрака и вспышек вулканического огня утомляла зрение, а дым щипал глаза... сейчас было иное дело. И все-таки...
«Вперед, Фелипе, вперед! Ты же не трус!..»
Раздался оглушительный удар, перед мальчиком возникла расщелина в земле, и из нее вылетел сголб едких серных паров. При свете молнии, блеснувшей над головой, Фелипе перепрыгнул через препятствие.
«Ничего, ничего, — упрямо думал Фелипе, — пусть попробует пробраться к кратеру Луис-испанец...»
Смелый и изобретательный на всякие шалости, Фи-; липпо Бруно в свои десять лет был признанным предводителем мальчишек Сан-Джованни ди Чёско. Этот крохотный пригород Нолы раскинулся у подножия горы Чикала, за городской стеной, но его жители с гордостью называли себя ноланцами.
В виноградниках и садах, окружавших Сан-Джованни, в тенистых рощах на склонах Чикалы, в оврагах у ее подножия, ребятам было раздолье. Веселая гурьба мальчишек забиралась в сады, совершала набеги за арбузами и дынями, а управившись с добычей, компания разбивалась пополам, и грозные блюстители правосудия с гиком преследовали кровожадных бандитов.
Когда за налеты на чужие владения виновникам перепадали чересчур большие порции розог, обиженные уходили на Везувий. С его вершины открывался чудесный вид. На северо-востоке рисовались белые стены Нолы, левее выглядывали из густых рощ Помильяно д’Арко, Ачёрра, еще левее виднелись Касбрия, Афра-гола, Кайвано... Эту благодатную землю люди густо заселили с незапамятных времен.
На юге нестерпимой синевой блестело море, а па востоке будто прямо из залива поднимались башни и дворцы Неаполя.
Неповторимый, чудесный край! Неизгладимо запала его красота в душу Фелипе, и на всю жизнь он пронес ее с собой.
Налюбовавшись знакомыми, но никогда не надоедавшими картинами, Бруно спускался в кратер и шел, пока почва не начинала жечь ноги сквозь толстые деревянные подошвы башмаков.
Испуганные товарищи кричали:
— Назад, Фелипе, вернись! Дождешься, что унесут тебя черти!
Среди жителей Неаполя и окрестных городов ходила молва, что жерло Везувия — прямой спуск в ад.
Фелипе, посмеиваясь над трусостью товарищей, возвращался. Он уже знал от отца, что это сказки.
Осенью 1557 года в Нолу на должность барджёлло — капитана городской стражи — приехал испанец Диего Ромеро. Испанские завоеватели, под властью которых уже больше ста лет1 находился Неаполь, не доверяли итальянцам и даже незначительные посты замещали своими людьми.
У Диего Ромеро оказался сын Луис, долговязый маль-^ чишка года на полтора старше Фелипе. Появившись в Ноле, Луис быстро освоился с новой обстановкой и собрал компанию товарищей — детей богатых дворян, к у гы цов, судовладельцев.
Команде Луиса наскучило играть на тесных улицах Нолы и в развалинах древнего амфитеатра, и ребята выбрались за город. А где найти лучшее место для игр, чем склоны Чикалы, заросшей оливковыми и апельсиновыми рощами, и овраги у ее подножия, в глубине которых выбивались из-под земли прозрачные родники? Но сан-джованнские мальчишки считали Чикалу своей исконной вотчиной, где играли в детстве их отцы и деды.
Между двумя мальчишескими шайками разгорелась настоящая война с наступлениями и отступлениями, с засадами и битвами, когда обильно лилась кровь из расквашенных носов.
Несколько месяцев борьбы не принесли перевеса ни той, ни другой стороне, и решено было покончить дело
1 В 1442 году Неаполь попал под власть арагонского короля. Позднее, в 1479 году, два государства, существовавшие на территории Пиренейского полуострова, Арагон и Кастилия, объединились под названием королевства Испания. Неаполь оставался в подчинении у испанцев до 1701 года и управлялся вице-королем, которого назначал испанский монарх.
единоборством вождей: кто победит, тот и будет владеть Чикалой с окрестностями. Дважды сходились соперники. Луис был старше Фелипе, сильнее его, но Фелипе пре-* восходил противника ловкостью и выносливостью. Схват-ки окончились вничью.
И тогда Фелипе Бруно предложил необычный способ решить спор, заставив содрогнуться даже самых смелых.
В конце марта Везувий, до того мирно курившийся в продолжение многих лет, вдруг проснулся. Стены домов не только в близких местечках Сан-Джузеппе Везувиано и Пбртпчи, но даже в Неаполе и Ноле дрожали от подземных толчков. Дым из вулкана поднимался столбом и растекался по небу плотным облаком, напоминавшим крону пинии1 чудовищных размеров. Вода в колодцах начала пересыхать — верный признак близости извержения.
По ночам над кратером тревожно дрожало зарево. Оно возвещало, что раскаленная лава поднимается из земных недр и, быть может, близок день, когда, перевалив через гребень кратера, она медленным, неумолимым потоком двинется па людские жилища, сады, виноградники.
Седобородые деды вспоминали 1500-й год.
— Начиналось так же, — говорили они. — Старик сердился, пыхтел, дымил, а потом начал плеваться лавой, сжег Сан-Джузеппе Везувиано и тысячи садов. Тогда лава двигалась на восток, но что помешает ей пробить кратер на севере и хлынуть на Нолу или же, наоборот, прорваться к югу, на Тбрре-Аинунциату?..
В церквах служили молебны патрону2 Неаполя, свя-. тому Дженнаро. Верующие просили покровителя походатайствовать перед богом, чтобы тот укротил ярость подземных сил.
Страх владел сердцами. И днем и в ночное время люди выходили из домов посмотреть, нет ли признаков близкого извержения.
И в такое грозное время этот сумасшедший Фелипе Бруно предложил Луису Ромеро:
— Поднимешься ночью к кратеру Везувия?
1 Пиния — итальянская сосна.
2 Патрон — покровитель.
— А ты? — ответил вопросом Луис.
— Я поднимусь!
Враждующие команды стояли одна против другой с атаманами впереди. Луис Ромеро, высокий, с длинным смуглым лицом и крючковатым носом, с острым выдающимся подбородком, напряженно думал. Мальчик верил, что нечистые духи поднимаются из ада через кратер Везувия. Взобраться на вулкан ночью, когда адские силы особенно могущественны, когда от них не отобьешься ни молитвами, ни заклинаниями... Но отказаться ему, испанцу, представителю гордой расы победителей?..
И Луис, дрожа от страха и ярости, глухо вымолвил:
— Принимаю вызов!
Бросили жребий. Идти первому выпало Фелипе.
Перед закрытием городских ворот сторонники Ромеро, выбравшись из домов под благовидными предлогами или удрав тайком, двинулись к Сан-Джованни ди Ческо. У подножия Чикалы их дожидалось воинство Фелипе. Взволнованные ребята смешались в одну толпу и вполголоса разговаривали об удивительном поединке Фелипе Бруно и Луиса Ромеро.
После долгого пути черным провалом встало впереди ущелье. В его темноту и прохладу спускались гуськом, старшие поддерживали и ободряли младших. Однако, когда выбрались наверх и зарево недалекого вулкана осветило мальчишек, оказалось, что многие, воспользовавшись мраком, отстали и теперь, конечно, улепетывают домой.
Отсюда Фелипе должен был подниматься один. И тут Луис Ромеро нанес ему давно подготовленный удар.
— А как ты докажешь, что действительно побывал у кратера? — спросил испанец. — Можно посидеть в укромном местечке, а потом хвастаться подвигом!
Вопрос не застал Фелипе врасплох.
— Месяц назад, — сказал Бруно, — мы схоронили на гребне кратера голубка и поставили на его могилке крест.
— Правда, правда, — зашумели ребячьи голоса.
— Я принесу этот крест.
Луис мрачно кивнул головой, и фигурка Фелипе исчезла в лабиринте камней.
Оставив товарищей, маленький смельчак преодолел
большую часть пути, но самое трудное оставалось впереди.
Обжигаемый горячим пеплом, с трудом дыша воздухом, отравленным серными испарениями, Фелипе карабкался по склону. Вдруг он отпрянул: дорогу преградил поток лавы. Густая расплавленная масса темно-вишне-> вого цвета, похожая на раскаленное железо и почти такая же плотная, ползла с горы, и от нее веяло нестер-; пимым жаром. Ширина потока достигала двадцати ша-> гов, и перепрыгнуть через него было невозможно. Оставалось одно: успеть обогнуть огненную реку, благо она спускалась медленно. И Фелипе, проваливаясь в горячие сугробы, скользя, падая и поднимаясь, понесся вниз по берегу лавового потока. Мальчику удалось опередить его. Не задумываясь, удастся ли возвратиться, он повернулся и двинулся к близкой уже вершине.
И вот Фелипе на краю кратера. В огромном жерле клокотала, поднималась огромными пузырями и опадала лава, озаряя ночь зловещим светом.
Мальчик пошел по гребню. А вдруг крест исчез, сожженный извержением! Нет, он здесь, он еще цел, но Фелипе побоялся протянуть к нему руку. Казалось, крест изваян из раскаленного железа, такой красный свет излучали его перекладины. И вдруг мальчик догадался, что дерево освещено багровыми отблесками кипящей лавы. Фелипе хотел выдернуть крест, но лукаво улыбнулся и отломил перекладину. Он с невольным страхом посмотрел на бушующую огненную поверхность, по которой, как молнии, пробегали ослепительно сверкавшие белые полосы.
«Не дай бог упасть в это пекло», — подумал мальчик.
Фелипе постоял несколько мгновений и направился в обратный путь.
Дорога вниз оказалась намного труднее подъема. Неудержимая сила влекла мальчугана под гору, угрожая превратить его спуск в бешеный бег, где каждый встречный камень мог принести гибель.
Фелипе спускался осторожно, изо всех сил откидываясь назад, огибая скалы, перескакивая через расщелины. Но вот поток лавы, с которым уже встречался Фелипе, снова появился на его пути. Огненная река ушла далеко, выпустив заливы, разделившись на рукава.
Мальчик видел начало потока, которое ползло вниз, подталкиваемое его исполинской огненной массой, но дорогу пересек новый лавовый поток. Он впадал в главную реку откуда-то сбоку, и ширина его была не меньше шести шагов. Такое расстояние Фелипе перепрыгнуть не мог.
Смертельная опасность угрожала мальчику, зажатому на полуострове между двух раскаленных лавовых рек, которые вот-вот могли слиться. Опаляемый горячим пеплом, задыхающийся от серных паров, Фелипе осмотрелся в поисках камня, который можно было бы бросить на середину потока, как спасительный островок. Но вокруг виднелись скалы или слишком мелкие обломки, которые не могли послужить опорой при прыжке.
Бежали быстротечные минуты, и у Фелипе оставалось все меньше и меньше надежды на спасение.
Глава вторая,
ОТЦЫ и сыновья
Мальчиков томила тревога. Сбившись кучкой, они не сводили глаз с поворота тропинки, где должен был появиться Фелипе. Но время проходило, а его все не было.
— Уж не стряслось ли с Фелипе несчастье? — про-; шептал Паоло Рангони, голубь которого был похоронен па гребне кратера.
— Да хранит его Фелйче, святой покровитель Нолы...— подхватил Себастьяно Лёнци и набожно перекрестился.
Его примеру последовали другие. И снова потянулись минуты мучительного ожидания. Оно было прерва-; но испуганным возгласом маленького Пьетро Савёлли:
— Смотрите-ка, сзади огни!
Все обернулись. Действительно, во тьме ущелья вид-; велись два ярких огонька. Мальчики плотнее прижались друг к другу. Что это могло быть? Блуждающие огоньки, сопутствующие привидениям, или факелы в руках лю-дей? И неизвестно, что было опаснее: встреча с привидением или с грабителями, которых так много бродило по дорогам Италии.
Огни быстро приближались, то сходясь, то удаляясь друг от друга. Прошло несколько минут, и мальчики различили фигуры трех мужчин.
— Пресвятая дева! — со страхом воскликнул Луис Ромеро. — Это отец.
Луис не ошибся. Перед ребятами появился запыхавшийся и разгневанный капитан городской стражи. Его сопровождали двое подчиненных с факелами.
Барджелло набросился на стайку перепуганных мальчишек, ухватил сына за плечо и рывком поставил перед собой.
— Рассказывай, какую глупость вы тут затеяли? — злобно спросил испанец.
— Мы... мы ждем Фелипе Бруно...
— А где он?
— Пошел к кратеру...
— Безумство! — воскликнул барджелло.
— С нами святой Феличе... — прошептали стражники и устремили взоры на вершину Везувия, освещенную багровым пламенем.
— Зачем Бруно полез на вулкан? — спросил Ромеро-старший.
Луис молчал. Вместо него заговорил Джузеппе Висконти, двенадцатилетний сын ноланского патриция 1, не растерявшийся перед грозным начальником стражи.
— Простите, синьор, — сказал Джузеппе, — здесь решается вопрос о смелости.
— О чьей смелости?
— Вашего сына и Фелипе Бруно...
— Ну?! — рявкнул капитан.
— Жребий идти первому выпал Фелипе. Если он вернется... — голос мальчика дрогнул, — должен будет подниматься Луис.
— Это правда? — Капитан круглыми ястребиными глазами уставился в лицо сына.
— Да... — прошептал Луис.
— И ты решился на это без моего позволения?
— Прости, отец, — это дело чести.
— Дело чести? Выдумки! Сейчас же пойдешь со мной. За ущельем нас ждут лошади.
1 Патриций — человек знатного рода, представитель высшего круга общества.
Луис выпрямился. Лицо его загорелось гневом и возмущением.
— Я не могу, отец! Я дал слово!
— Ха-ха-ха! Он дал слово! Кому? Мальчишке! Итальянцу!! Сыну побежденной нации!
Диего повернулся, держа за руку сына. Но тот вывернулся и побежал туда, где гремел вулкан и отблески лавы освещали небо зловещим заревом. Это случилось неожиданно; капитан растерялся и упустил несколько драгоценных мгновений. Луис скрылся за нагромождением камней, когда спохватившийся Ромеро-старший кинулся догонять его. Охрипшим от ярости голосом он приказал подчиненным:
— Альфонсо, Томмазо, за мной!
Стражники прекрасно понимали, что им грозит, если они упустят беглеца. Быстроногий Альфонсо ринулся вперед, а старик Томмазо задержался и кинул ребятам:
— Это Лоренцо Сёкки поднял тревогу. Прибежал в город, заколотил в ворота как сумасшедший и все рассказал. Ну, сами понимаете, барджелло взбесился и... вот! — Хромоногий Томмазо не спеша заковылял за начальником, которого далеко обогнал ретивый Альфонсо.
Брыкающегося Луиса стражник потащил прочь.
— Отец, ты меня опозорил!—дико кричал Луис.
— Пустяки! — хладнокровно возражал барджелло.
Вопли Луиса замолкли вдали, и ребята наперебой заговорили о случившемся. После недолгого спора они решили, что Луиса нельзя винить за нарушение слова, ведь его унесли насильно. И, когда разговор смолк, Паоло горестно воскликнул:
— А Фелипе все нет!
— Фелипе здесь!—отозвался слабый голос, и мальчики с изумлением и радостью увидели, что к ним ползет по тропинке тот, на чье возвращение они потеряли надежду.
Несколько старших ребят бросились навстречу Фелипе и подняли его. Вид мальчика был ужасен: рубашка и штаны прогорели во многих местах, кожа на лице и плечах вздулась волдырями, и особенно были обожжены ноги.
Немного оправившись и напившись воды из фляжки,
оказавшейся у одного из ребят, Фелипе рассказал, как ему удалось подняться на гребень кратера и найти крест. Его перекладину Бруно принес с собой, и обе партии признали, что Фелипе честно выполнил свою задачу.
О том, как он спускался, мальчик сказал коротко. Отрезанный от подножия горы двумя потоками лавы, Фелипе вынужден был пожертвовать башмаками. Он бросил их на середину более узкого потока так, чтобы они легли рядом. Воспользовавшись башмаками как опо-^ рой, Фелипе в два отчаянных прыжка перемахнул через поток. Оглянувшись, он увидел, как башмаки пылали белым пламенем на огненно-вишневой поверхности лавы.
В дальнейший путь Фелипе пустился босиком по горя-; чим камням, по обжигающей россыпи пепла. Он шел, пока мог, а потом пополз...
Окончив рассказ, Фелипе слабеющим голосом спросил:
— А где Луис? Ему надо спешить, чтобы успеть побывать на вершине до рассвета. Но он должен выбрать другой путь...
Джузеппе Висконти огорченно сказал!
— Луиса нет.
— Сбежал? Струсил? — оживился Фелипе.
— Нет, его увел отец.
Ребята рассказали о появлении капитана Ромеро и о том, как держал себя Луис.
— Я думаю, — сказал Джузеппе, — что Луис исполнит обещание и пойдет на Везувий завтра ночью. А мы понесем тебя в Сан-Джованни...
Но едва мальчики подняли товарища, как из ущелья послышались крики:
— О-э! О-э!!
— О-э-э!.. — хором завопили ребята. — Мы здесь!
И вскоре новая группа людей появилась перед изу-> мленными мальчиками, которые никак не предполагали, что их ночное приключение наделает столько переполох ха. На этот раз по крутому склону ущелья взбирались жители Сан-Джованни ди Ческо, и вел их старый Бруно, широкоплечий человек с военной выправкой, с муже** ственным лицом, покрытым шрамами от старых pain
За Джованни Бруно следовали отец Паоло Рангони, старший брат Себастьяно Ленци, мать маленького Пьетро Савелли и другие.
Сан-джованнским мальчишкам стало не по себе: они почувствовали, что их похождение добром не кончится и, пожалуй, за него придется расплатиться подороже, чем за налеты на чужие сады. Вид старших, которым по^ еле утомительной дневной работы пришлось покинуть постели и пройти ночью несколько миль1, был далеко не обнадеживающим. Ребятам со страху даже показалось, что кое-кто из пришедших прячет за спиной хворостины.
Джованни Бруно бросился к сыну:
— Мальчик мой, ты весь изранен!
Несмотря на жгучую боль от ожогов, Фелипе улыб-* нулся и гордо сказал:
— Отец, я был на Везувии!
— Да, я знаю о твоем споре с Луисом Ромеро. Хромой Томмазо нам все рассказал. Ты поступил безрассудно, сын мой, но я горжусь тобой!
Сан-джованнские мальчишки обрадованно переглянулись: как видно, дело с ночным побегом принимало благоприятный оборот.
Обнимая и лаская сына, Джованни продолжал говорить, и из его слов выходило, что Фелипе, совершив смелое восхождение, защищал свою честь, честь родного поселка, честь древней Нолы... Старый пылкий альфьеро2 наконец договорился до того, что поступком сына спасена честь порабощенной Италии перед лицом ее угнета-^ телей-испанцев!
У Фелипе уже не было сил слушать похвалы отца, и он устало закрыл глаза.
Джованни взял сына на руки, нежно прижал к груди и понес, бережно ступая по каменистой тропинке. За ним врассыпную двинулись остальные. Ребята держались поодаль. Они не верили приглашениям взрослых подойти поближе, хотя оказалось, что ни у кого из старших не было хворостин.
Тревожная ночь подходила к концу*
1 Неаполитанская миля равнялась 2 километрам 226 метрам.
2 Альфьеро (итал.) —.знаменосец полка,
Глава третья,
БОЛЕЗНЬ
Занялось сумрачное утро, когда усталый отец принес крепко спящего Фелипе. Фраулйса с плачем кинулась к сыну, но Джованни удержал ее:
— Тише, мать! Мальчугану нужен покой.
Фелипе не проснулся и тогда, когда его ожоги смазывали оливковым маслом и бинтовали, меняли на нем одежду, укладывали в постель.
Спал Фелипе и в полдень, когда в дом Бруно ворвался встревоженный Лодовико Тансйлло, друг и бывший сослуживец хозяина дома.
— Что с моим крестником? — вскричал Лодовико, изящный человек с длинными, зачесанными назад волосами и курчавой бородкой. — Мне сказали, что этой ночью он был на вулкане?
Увидев спящего мальчика, Тансйлло успокоился, притих и попросил у Фраулисы пить.
— Я почти всю дорогу от Венозы бежал, — объяснил он. — Люблю шалопая: ничего не поделаешь, ученик!
Фраулйса, худощавая, изможденная трудом женщина средних лет, подала гостю кружку виноградного вина.
— Уж что правда, то правда, сер1 Лодовико, — согласилась она. — Наверно, только святому Феличе под силу сосчитать, сколько вы потратили трудов, обучая мальчонку грамоте.
Тансйлло рассмеялся.
— Без святого Феличе обойдемся: счет-то короткий. Мальчуган впитывает науку, как губка воду. Вы только подумайте: и месяца не прошло, как он узнал буквы, а уж читал «Божественную комедию» нашего гениального Данте!2 Да ведь мало того, что читал: после первого же раза многие стихи повторял наизусть. Прекрасная у Фелипе память, хотя в этом есть и моя заслуга: вот уже два года я стараюсь упражнениями развить эту его способность.
1 С е р (итал.) — обращение к гражданам среднего сословия, соответствовало старинному русскому «сударь».
2 Данте Алигьери (1265—1321)—уроженец Флоренции, величайший итальянский поэт, автор поэмы «Божественная комедия»,
— Я не умудрен в книжном учении, друг Лодовико,— молвил Джованни Бруно, — но то, что вы говорите о Фелипе, наполняет мое сердце радостью.
— Какие вы, право, бесстрашные, мужчины, — сердито вмешалась Фраулиса. — Хвалите Фелипе вслух, а о том не думаете, что злые духи могут позавидовать и напустить на мальчика порчу.
— Э, синьора Фраулиса, — возразил Тансилло, — вы суеверны! Если человек верит в бога и соблюдает уставы святой церкви, ему демоны не страшны.
— Ия так же думаю, — подхватил Джованни.
Видя, что женщина, не убежденная их доводами, обидчиво поджала губы, старые друзья перевели разговор на другое. Джованни стал рассказывать о соперничестве сына с маленьким испанцем и о том, как Фелипе предложил разрешить спор.
Тансилло пришел в восторг.
— Клянусь Вергилием1, — вскричал он, — у мальчишки отважная душа! Я напишу об этом подвиге сонет 2.
— Ия уверен, — сказал Бруно, — что этот соне? станет так же широко известен, как и другие ваши стихи, как то прекрасное произведение, которое я помню наизусть:
Когда свободно крылья я расправил, Тем выше понесло меня волной, Чем шире веял ветер надо мной...
Выслушав сонет, сер Лодовико разразился смехом:
— Э, дорогой мой, теперь я вижу, откуда у Фелипе такая память! Ведь я читал вам эти стихи только раз! Жалею, очень жалею, что вам не пришлось смолоду учиться, — из вас вышел бы толк!
Джованни Бруно сконфузился:
— Я не заслуживаю ваших похвал.
— Конечно, прошлого не воротишь, — молвил Таи-силло, — и вам теперь уж не до науки, друг Джованни, но вы обязательно должны дать Фелипе образование.
1 Вергилий (70—19 гг. до н. э.) — известный римский поэт» В средние века итальянцы считали, что он был наделен пророческим даром, и чтили его наравне с христианскими святыми.
2 Соне г — стихотворение из четырнадцати строк, где рифмы чередуются определенным образом.
Старый солдат грустно улыбнулся:
-— Я бы и рад, да вы ведь знаете мои средства...
Вечером навестить Фелипе пришли его друзья во главе с Паоло Рангони и Себастьяно Ленци. Фраулиса не пустила их к больному.
— Но нам нужно рассказать ему важную вещь! — кипятился рыжий толстенький Себастьяно.
— Нет, нет! — Фраулиса решительно загородила дверь. — Ребенку вредно волноваться.
Только через два дня Себастьяно и Паоло прорвались к Фелипе, да и то лишь потому, что мальчик услышал их голоса и поднял бунт.
Ребята сели около постели больного и грустно смотрели на него. У Фелипе был жар, дыхание со свистом вырывалось из пересохших губ, повязки окутывали шею, руки, ноги. Но большие синие глаза смотрели гордо.
— Ну как, Луис подымался на Везувий? — был пер* вый вопрос Фелипе.
Паоло отрицательно покачал головой.
— Значит, он все-таки струсил и победа за нами! — торжествующе воскликнул Фелипе.
— Да видишь, какое дело, — заговорил Себастьяно, осторожно подбирая слова. — Вроде как будто его и винить нельзя... Отец его, барджелло, заставил Луиса дать клятву, что он не пойдет на гору..,,
— Клятву?!
— Заставил поклясться именем пресвятой девы,—• подтвердил худенький бледный Паоло, сын ткача.
Изумленный Фелипе долго молчал, молчали и ребята. События приняли совершенно неожиданный оборот. Коварство капитана Ромеро ошеломило простодушных мальчиков. Конечно, Луис обязан был сдержать слово, данное ребятам, но нарушить клятву пресвятой деве... Это казалось таким страшным грехом, за кото-, рый нет прощения ни в этой жизни, ни в будущей...
Наконец Фелипе хрипло проговорил:
— Скажите Луису, что я освобождаю его от вое* хождения на гору. Но, когда я поправлюсь, придумаю новое испытание.
Себастьяно оживился:
— А знаешь, Фелипе, все-таки победа за нами! Те ребята, что играли с Луисом, не хотят с ним дружить,.
Они говорят, что Луис поступил нечестно, когда согласился дать клятву. Джузеппе Висконти сказал, что с него прежде содрали бы шкуру, чем он изменил бы слову. И он хочет, чтобы ты принял его в нашу компанию, когда выздоровеешь...
— Это мы еще посмотрим, — с притворным равно-* душием отозвался Фелипе.
Но в душе он был польщен. Гордый Висконти, сын богача, сильный, ловкий мальчик, признает превосходи ство Фелипе: это чего-нибудь да стоит!
Мальчишки начали строить планы на будущее, но на них коршуном налетела Фраулйса и выгнала Паоло и Себастьяно.
На следующее утро Фелипе потребовал, чтобы его днем укладывали в саду под тенью цветущих деревьев, Крестный отец принес ему огромный том «Божественной комедии», и мальчик читал поэму вслух, упиваясь звуч-ными терцинами 1 божественного флорентийца 2.
По вечерам возвращался с поля отец, садился возле постели больного сына, и начинались сердечные раз-* говоры.
Фелипе полюбил эти вечерние часы в тишине ароматного сада, когда уставшее солнце спускалось за горизонт, на юго-западе курился усмирившийся Везувий, а на чистом небе высыпали яркие южные звезды...
Отец вспоминал о тех временах, когда он и Лодовико Тансйлло служили в кавалерийском полку. Лодовико был младшим офицером, а он, Джованни, знаменосцем, альфьеро.
— Это почетная, но и трудная служба, сынок, — говорил старый солдат. — Удары врагов прежде всего направляются на знамя. Где во время боя кипит самая ожесточенная схватка? Возле знамени! Ведь захватить знамя противника — высший подвиг воина. И немало жестоких ран получил я, защищая святыню полка...
Фелипе снова и снова с благоговением прикасался к рубцам на лице отца, на руках...
1 Терцина — особый вид стихотворной строфы, состоящей из трех строк.
2 Так называли Данте итальянцы,
— Из-за этих ран мне, еще не старому человеку, пришлось оставить военную службу. В сорок пятом 1 году я вернулся на родину с тремя десятками дукатов2 в кошельке: только и удалось скопить за многие годы из скудного солдатского жалованья. Поселился я здесь, в Ноле, женился на твоей матери. Через три года3 у нас родился ты...
— Отец, расскажи про походы, в которых ты уча« ствовал!
Джованни улыбался:
— Сколько раз ты об этом слышал!
— Хочу еще...
И старый знаменщик рассказывал о своем боевом прошлом.
Джованни Бруно, сын бедняка, вступил в армию двадцатилетним юношей, когда за господство над Италией шла жестокая борьба между испанцами и французами. Италия представлялась богатой и легкой добычей, потому что она разделялась на много враждующих мелких государств. В завоевательных войнах брали верх то французы, то испанцы, но и те и другие одинаково безжалостно грабили и разоряли итальянцев.
Страшные дни пережил молодой Джованни Бруно в Риме в мае 1527 года, когда папская столица4 была взята наемниками испанского короля. В продолжение многих столетий Вечный Город не подвергался такому варварскому разгрому. Бруно едва смог избежать гибели.
Выслушав взволнованный рассказ отца, мальчик коснулся шрама на его шее.
— Ты там получил вот это?
— Да. Но испанский пикинер5 поплатился за эту рапу жизнью.
— А рубец на боку?
— Этот мне остался на память о том времени, когда я сражался за свободу Флоренции.
1 В 1545 году.
2 Дукат — золотая монета в Италии XVI века.
2 В 1548 году.
4 Город Рим был столицей Папской области, он назывался Вечным Городом.
5 Пикинёр — воин, вооруженный пикой, копьеносец.
По рубцам и шрамам старого солдата можно было изучать историю борьбы итальянского народа с угнетателями за два с лишним десятилетия.
Когда Бруно удалось спастись из разоренного Рима, он пробрался на север и стал служить Флоренции, где как раз вспыхнуло восстание против власти испанских угнетателей и своих собственных тиранов 1 Медичи. Чужеземный гарнизон и сторонники Медичи были изгнаны, и власть в городе захватил средний класс — ремесленники, мелкие торговцы; к ним примкнули городские бедняки и часть буржуазии.
Восставшие действовали решительно. Они не только отбивали врагов от стен города, но и высылали отряды для освобождения территории республики и захвата продовольствия. В одном из таких отрядов сражался Джованни Бруно.
Одиннадцать месяцев длилась неравная борьба. Против мятежного города выступили не только испанцы, но и войска римского папы Климента VII, который простил испанцам разрушение Рима и даже вступил с ними в союз, лишь бы раздавить свободу Флоренции: Климент VII сам был из рода Медичи.
Сорок тысяч солдат насчитывала союзная армия испанского короля, римского папы, тиранов Медичи. А республика могла противопоставить врагам только тринадцать тысяч воинов. Правда, наравне с воинами стены Флоренции защищали горожане и крестьяне, собравшиеся в город из окрестностей.
Героическая Флоренция пала, революцию погубили изменники.
Флоренцию, как и всякий другой итальянский город, наводняли монахи многочисленных монастырей, священники городских церквей. С самого начала восстания они повели себя предательски. Выражая притворное сочувствие народу, церковники пробирались в стан врагов, выдавали им военные тайны, указывали слабые места в обороне города, сеяли смуту и раздоры среди восставших. Они грозили господним гневом богачам, которые защищали революцию.
1 Тиранами назывались единоличные правители в городах-республиках Италии в XIII—XVI веках.
Когда такое коварство раскрылось, душа Джованни Бруно была потрясена. Он не утратил веру в бога, но возненавидел его служителей. С годами ненависть и пре* зрение Бруно к церковникам возросли. В семье старый солдат не скрывал своих взглядов, и между ним и рели* гиозной Фраулисой случались частые споры. Джованни возмущался, когда его жена старалась внушить Фелипе уважение к монахам, навещавшим дом.
Между отцом и матерью происходила борьба за ду* шу мальчика. Если Фраулйса говорила сыну о благо* честии своего духовника отца Бартоломео, то Джован* ни лукаво замечал:
— А ты видел, Фелипе, как отец Бартоломео наки* нулся на карпа, что зажарила ему твоя мать? Можно было подумать, что бедняга целую неделю не ел! И то сказать, набить такое брюхо — не шутка!
И мальчик уже не мог с благоговением смотреть на жирного святошу.
Фраулйса воспевала мальчику добродетель монахов, отрекшихся от земных благ и смиренно возносящих молитвы богу за грешных людей.
Старик знаменщик растолковывал Фелипе, что ни один монах не вскопал ни клочка земли, не посадил ни одной виноградной лозы, а меж тем в монастырях вино льется рекой, а в церквах и монастырях собраны несметные сокровища.
Влияние отца брало верх: для Фелипе человек в рясе становился воплощением коварства, праздности, обжорства, корыстолюбия...
Не всегда вечерние беседы шли о походах и войнах. Ведь мальчик в своем умственном развитии далеко ушел от десятилетних сверстников.
Как-то раз, глядя на двуглавую вершину Везувия, который успокаивался после апрельской вспышки, Фелипе спросил:
— Отец, почему люди живут так близко от вулкана? Ведь он может убить!
Джованни ответил после недолгого раздумья:
— Видишь ли, сынок, Везувий редко пробуждается от векового сна. А где быстрее созревает виноград, где
1 Духовник — религиозный наставник, которому верующие открывают свои грехи на исповеди.
слаще апельсины, чем в нашей родной Кампанье дочери Везувия? Лава вулкана страшна, когда она выливается из кратера. — Старый Бруно улыбнулся. — Что ж, не становись на ее пути. Зато, когда она остынет, дает отличный материал для постройки домов, заборов, дорог. А пепел, смешавшись с землей, делает ее необычайно плодовитой.
— Отец, — сказал Фелипе, — монах Бартоломео уверяет, что наши покровители — святые Дженнаро и Фе-личе, а на самом деле...
— На самом деле — это силы природы, среди кото* рой человек живет от рождения до могилы.
Разговор оборвался.
В один безлунный вечер, когда небо особенно густо было усыпано звездами, Фелипе, задумчиво глядя вверх, спросил:
— Что такое звезды, отец?
Старый Бруно, помолчав, ответил:
- — Трудный вопрос ты задал, Фелипе! Я думаю, звезды— это искры небесного огня, которые горят в вышине, за тысячи миль от Земли...
Фраулиса, сидевшая неподалеку с вязаньем в руках, живо отозвалась:
— Вот и не так! Звезды — это глаза ангелов-хранителей, следящие с высоты за нами, грешными людьми.
Объяснение матери больше говорило детскому воображению и понравилось мальчику. Фелипе спросил:
— Ангел-хранитель к каждому человеку приставлен, мама?
Мать утвердительно кивнула головой.
- —Значит, у каждого человека и своя звезда?.
• — А как же, обязательно!
— А где моя звезда?
Фраулиса вздохнула:
— Ни одному человеку не дано знать, где его звезда... Лишь когда он умирает... Смотри, смотри!
По небу пронесся яркий метеор, оставив за собой быстро угасавший огнистый след.
1 Кампаньей называется область Южной Италии, окружающая Неаполь, Часто эту местность называли Счастливой Кампаньей.
Фелипе растерянно спросил:
— Что это, мама?
— Умер человек, — торжественно произнесла Фраулиса.—И звезда его скатилась с небосвода.
Мальчик смотрел в небо расширенными от волнения глазами. Как все это было удивительно, интересно.,.
При первой встрече с Лодовико Тансилло Фелипе спросил у него:
— Скажите, крестный, правда ли, что у каждого есть своя звезда и она падает, когда человек умирает?
Тансилло привык серьезно относиться к вопросам своего ученика, иногда совершенно неожиданным.
— В народе есть такое поверье, — сказал поэт, — но, конечно, небеса равнодушны к судьбам людей.
Фелипе не понял, и Тансилло разъяснил:
— Дело в том, что звезд на небосклоне не так много, как кажется. У меня есть приятель монах, любитель астрономии, науки о небесных светилах. Он мне говорил, что на небесном своде только три тысячи звезд.
— Это очень много! — воскликнул Фелипе.
Тансилло рассмеялся:
— Всех звезд неба не хватило бы на жителей одной Нолы. А ведь есть и Неаполь, и Флоренция, и Рим, и тысячи городов, и великое множество сел в Италии, Испании, Греции и других странах...
Фелипе слушал затаив дыхание. Перед ним вставала необъятность мира, доселе заключенного для него в той части Кампаньи, которую мальчик мог видеть с вершины Везувия...
Лодовико Тансилло продолжал объяснения:
— Издревле люди видят на небе одни и те же фигу* ры, называемые созвездиями. Ты знаешь Колесницу Давида Кассиопею, Северную Коропу. Как сохранились бы созвездия в течение тысячелетий, если бы звезды падали с неба в момент смерти каждого из нас, бесчисленных земных созданий?..
Наивная легенда, рассказанная матерью, рухнула, и у Фелипе появилось страстное желание учиться аст* рономии.
1 Так называли в средние века в Западной Европе Большую Медведицу.
— А где живет этот монах? — спросил Фелипе. — Я бы хотел расспросить его о небе.
— Он уехал из Венозы. Но в Неаполе есть знатоки благородной науки астрономии.
Слова Тансйлло глубоко запали в душу Фелипе Бруно.
Глава четвертая
НЕПОПРАВИМАЯ БЕДА
Фелипе поправлялся. Волдыри от ожогов на лице и руках лопнули и подсохли, кожа начала слезать, и вместо нее появлялась свежая, розовая. Фелипе смахивал на леопарда, но это не отражалось на его хорошем настроении.
Друзья атамана проникали в сад беспрепятственно, и строгая Фраулйса мирилась с их посещениями. Мальчишки каждый раз затевали спор, какое бы придумать испытание на смелость для Луиса, чтобы оно посрамило его и доказало превосходство Фелипе. Выдвигались самые разнообразные проекты. Один предлагал отправиться обеим командам к горячему источнику, каких было множество у подножия Везувия, и там Луис должен будет держать руку в кипятке, сколько вытерпит.
Другой говорил:
— А что, если пойти к Собачьей пещере...1
— Ну?!
— И там Луис будет сидеть, пока не начнет задыхаться...
Хохот спугивал воробьев с лимонных и апельсиновых деревьев и показывал сконфуженному выдумщику, что он заехал чересчур далеко.
Вопрос о первенстве отпал сам собой: все мальчишки Нолы признали Фелипе героем, а на Луиса Ромеро пало неизгладимое пятно бесчестия и позора. Не только гордый Джузеппе Висконти, но и остальные ребята из шайки Ромеро отвернулись от своего вожака. Маленький ис-
1 В Собачьей пещере близ Неаполя из расщелин в почве выходит углекислый газ. Собака, оставленная на полу пещеры, задыхается, так как углекислота не годится для дыхания.
папец тяжело переживал унижение. Но напрасно пытался он объяснить, что только вынужденная клятва,..
— «Клятва, клятва»! — насмешливо перебивали мальчишки.— Уж лучше сознайся, что струсил!
Луис похудел, почернел. Его мучило страстное желание показать, что он отважнее Фелипе Бруно и способен на такой подвиг, который не под силу итальянцу. Сразиться бы один на один с бешеной собакой и победить ее голыми руками... Или отличиться на пожаре, вытащить из огня беспомощных детей и стариков... Но случай не подвертывался, а насмешки товарищей ста-* повились острее и резче и с каждым днем все больше раздражали Луиса.
Главарем насмешников был Джузеппе Висконти. Он прежде уважал Луиса, и трусливая клятва, данная маленьким испанцем отцу, возмущала Висконти до глубины души. При встречах с Луисом Джузеппе напрямик вы* сказывал свое мнение о его поступке, и правдивые слова бывшего товарища заставляли Луиса выходить из себя. Он решил отплатить Джузеппе.
Висконти любил гулять в одиночестве по склонам Чикалы. Там, в густой роще, и подкараулил его мстительный Луис. Выскочив из-за дерева, он ударил Джузеппе в спину тяжелым камнем. Висконти свалился на землю, и рядом с ним рухнул ничком потерявший равновесие Луис. Но он тотчас с диким воплем вскочил, зажимая ладонью правый глаз, из которого струилась кровь.
От невыносимой боли Луис кричал так громко, что прибежали люди из ближайшего виноградника. Они отнесли в город обоих мальчиков: потерявшего сознание Джузеппе и беспрерывно вопившего Луиса, у которого из глаза торчала щепка.
К пострадавшим вызвали врача. У Джузеппе оказалось повреждение позвоночника, надолго приковавшее мальчика к постели. А Луис Ромеро лишился правого глаза.
Капитан городской стражи предположил, что глаз сыну выбил в драке Джузеппе Висконти. Но у Луиса нашлось мужество рассказать, как было дело. Весь гнев барджелло и его сына обратился против Фелипе Бруно: его стали считать первой причиной всех этих печальных событий. Мать Луиса робко намекала, что маль-
чпк сам виноват в несчастье: не надо было нападать на Джузеппе. Но ее мнение слишком мало значило в семье.
Через две недели после трагического случая на горе Чикала Луис Ромеро появился в городе с узкой черной повязкой через лицо, закрывавшей вытекший глаз. Взгляд оставшегося глаза был сумрачен и дик, и маленькие ноланцы со страхом обходили Луиса стороной.
Теперь Луис строил планы кровавой мести соперии-ку, отнявшему у него честь, сделавшему его уродом. Луис не хотел винить в своей беде себя, он упорно считал виновником Фелипе.
«Пусть только Бруно начнет выходить из дому,— думал Луис, — я его подстерегу с кинжалом...»
Но планам мести не суждено было осуществиться: судьба на долгие годы разъединила Фелипе Бруно и Луиса Ромеро.
Капитана Ромеро отозвали из Нолы в Испанию, и барджелло уехал со всей семьей.
Глава пятая
СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ
Узнав о несчастье Луиса, Фелипе Бруно жалел испанца, хотя и сознавал, что тот пострадал из-за своего буйного, несдержанного нрава. Фелипе часто раздумывал над тем, как в дальнейшем сложатся их отношения, но друзья принесли ему весть об отъезде семьи Ромеро.
Себастьяно Ленци с гордостью сказал Фелипе:
— Теперь ты будешь предводителем всех ноланскпх мальчишек! Поправляйся скорее, и порезвимся уж мы в чужих виноградниках!
Но и для Фелипе пришел черед покинуть Нолу.
В начале августа, в предвечерний час, по каменистой тропинке у дома Бруно зацокали копыта мула. У калитки мул остановился, и с седла спустился невысокий толстый человек в дорожном плаще и широкополой соломенной шляпе. Круглое полное лицо приезжего сияло весельем, маленькие серые глазки смотрели добродушно.
Когда он вошел во двор, Фраулйса бросилась к нему с криком:
— Джакомо!
— Здравствуй, сестра!
Худенькая Фраулйса исчезла в мощных объятиях Джакомо Саволйно.
— А где Джованни? Где племянник Фелипе?
— Муж скоро вернется с поля, а Фелипе, если не читает книжку, значит, где-нибудь носится с ребятами.
Джакомо был приятно поражен:
— Парень умеет читать?
— Да еще как бойко! — похвалилась Фраулйса, но тут же прикусила язык, вспомнив про завистливых демонов и их козни.
— Это хорошо... хорошо... — повторял Джакомо, входя за сестрой в прохладу хижины.
Перед гостем появился кувшин кьянти хозяйка положила на чисто выскобленный стол ломоть хлеба, кусок козьего сыра, головку сладкого лука, поставила блюда с соленым миндалем и с улитками1 2 — угощение бедняков.
Вскоре собралась вся семья. Первым прибежал к ужину проголодавшийся Фелипе, а за ним пришел и усталый Джованни Бруно. Бросив мотыгу за дверью и утерев пот со лба, он радушно приветствовал шурина, с которым не виделся уже пять лет.
Обводя взглядом выбеленные мелом стены комнаты в домишке Бруно и бедную ее обстановку, Джакомо сказал:
— Ну, зятек, вижу, что, пока мы с тобой не видались, ты богатства не нажил!
Бруно кивнул головой:
— Как видишь, друг. От аренды клочка земли не выстроишь каменного дворца, как у ноланских богачей. Лучше расскажи, как у тебя дела идут, как торговля сукном?
Джакомо Саволйно беззаботно махнул рукой:
— Лопнула торговля! Разве при испанцах наторгуешь? Задушили поборами. Мой флорентийский родич Бассо Беллини, с которым мы торговали на паях, разорился первым, а за ним полетел и я...
1 Кьянти — сорт виноградного вина.
2 Итальянские крестьяне разводили съедобных улиток в хорошо удобренной почве.
Фраулиса с неудовольствием заметила:
— Он с детства такой, наш Джакомино. От любой беды смешком отделывается.
— А чего горевать, сестра? — весело отозвался неудачливый купец. — Тебя заботы да тревоги иссушили, а я видишь какой гладкий!
— Значит, не голодаешь, — сделала вывод Фраулиса.
— Что верно, то верно, — захохотал сер Джакомо. — Я новое дело нашел, оно и спокойнее и прибыльнее торговли. Бьюсь об заклад, нипочем не отгадаете какое! — И, не дождавшись ответа, Саволино объяснил: — Я содержу в Неаполе ученический пансион.
Фраулиса не поняла.
— Нанял дом у обедневшего патриция и принимаю учеников, сынков богатых родителей. Я их кормлю и пою, их обучают нанятые мной учителя, а за все это...— Джакомо прищелкнул пальцами, — мне в кошель сыплется звонкая монета.
Джованни Бруно с уважением посмотрел на шурина.
— Завидую твоему умению изворачиваться, — со вздохом сказал он. — Только вот чего я в толк не возьму. Ты в науках не больно много смыслишь, как же проверяешь учителей? Они, может, такого нагородят...
— Ну уж нет, — самодовольно возразил содержатель пансиона. — Я кого попало не беру. Мои педагоги известны всему Неаполю, так что и заведение мое в почете.
— Радуюсь твоему успеху, — искренне молвил Бруно.
— А я хочу, чтобы от моего успеха и вам была польза. Дело такое, брат! — Он притянул к себе Фелипе и погладил по темным волнистым волосам. — Парень растет, и надо ему определить дорогу в жизни. И вот мое предложение: я хочу взять в пансион Фелипе и кого-нибудь из мальчишек брата Шипибне.
— "Спасибо, брат, да ведь у нас звонкой монеты нет, — попытался отшутиться Джованни.
Но Саволино побагровел так, что чуть не брызнула кровь из тугих щек, и яростно грохнул кулаком по столу.
— Ну, зять!.. Если б не наша давняя дружба... Неужели ты думаешь, что я возьму с вас хоть сольдо? 1
1 Сольдо — итальянская медная монета.
Своих детей я потерял, потому и решил: где три десятка ребят питаются и учатся, там и еще двоим место найдется.
Джованни Бруно растрогался до слез, а Фелипе запрыгал от восторга: поехать в Неаполь, изучать науки... Могло ли что-нибудь быть заманчивее?
Но Фраулиса сидела молчаливая, задумчивая.
— Надо собрать семейный совет, — наконец сказала она. — Такие большие дела с одного слова не решаются.
Разочарованный Фелипе чуть не заплакал, но отец согласился с мнением жены.
— Первым долгом надо сказать Шипионе с Лаурён-цой, — молвила Фраулиса, — ведь дело идет и о их сыне. Еще позовем сера Лодовико: он крестный отец, да и грамоте Фелипе обучил. Ну, и обязательно пригласить отца Бартоломео, духовника...
— Стоп! — вскипел старый Бруно. — Этому жирному сладкоголосому бездельнику не место на нашем совете!
И тут отставной солдат дал такую характеристику попам и монахам, что Фраулиса только бледнела и краснела. Но она молчала, мужу опасно было возражать, когда тот приходил в ярость.
— Монахи избавлены от трудов и забот, какие вы-; падают на долю большинства людей, это обжоры и лентяи!— гремел Джованни Бруно. — Попы и монахи толкают людей на воровство, грабежи, убийства: ведь по их вероучению достаточно купить индульгенцию1 — и душа злодея вместо заслуженного ада попадает в чистилище2, а оттуда и в светлый рай! Да где же тут справедливость? Я верю в единого всемогущего бога, творца неба и земли, но ненавижу его самозванных слуг, заклеймивших себя позором предательства. Кто первые пособники испанских угнетателей? Кто с церковных амвонов уговаривает нас смиренно покоряться своей участи в надежде на райское блаженство? А я перестал верить в райское блаженство, я на земле хочу жить по-человечески.
Фелипе впитывал горячие речи отца с ужасом и вое-,
1 Индульгенция — папская грамота о прощении грехов. Продажа индульгенций приносила римским папам огромные доходы.
2 Чистилище — по представлению верующих католиков, промежуточная ступень между адом и раем.
торгом. А Фраулйса при первых же резких словах мужа бросилась к двери, плотнее прикрыла ее, прижалась к ней спиной, стараясь, чтобы ни одно мятежное слово Джованни не вылетело наружу. Инквизиции 1 в Неаполе не было, но духовенство и без нее умело расправляться с «еретиками», а еретиком считали всякого, кто даже в мелких религиозных вопросах расходился с мнением церкви.
Когда Бруно открыто заявил, что не верит в райское блаженство, Фраулйса побледнела как мел и вскрик* пула:
— Опомнись, Джованни, ты богохульствуешь! Не дай бог, это дойдет до святых отцов!
Бруно гневно повернулся к жене:
— Ты, что ли, донесешь на меня?
Видя, что жена замолкла и только умоляюще смотрит на него, Джованни остыл и даже сказал несколько примирительных слов.
Фраулйса не стала настаивать на приглашении отца Бартоломео, но не потому, что отказалась от намерения выслушать^его совет.
«Пойду к нему на исповедь, — думала она, — и там расскажу о предложении брата. А звать в дом отца Бартоломео опасно: мой сумасшедший муженек такого ему наговорит, что потом не разделаешься...»
Семейный совет собрался утром на следующий день.
Шипионе Саволйно, арендатор, живший в том же поселке, лицом похожий на Джакомо, но не такой упитанный и веселый, пришел с женой Лауренцой, усталой равнодушной женщиной, матерью семи детей.
Тансйлло, опрятный и щеголеватый, как всегда, не замедлил явиться. Он обрадовался, увидев синьора Джакомо. Братья Саволйно и Лодовико Тансйлло были друзьями детства и когда-то вместе играли на склонах Чикалы. Содержатель пансиона и поэт бросились в объятия друг другу.
Выслушав предложение брата отпустить к нему кого-либо из сыновей, Шипионе Саволйно, с медлительными движениями земледельца, с лицом, обожженным солн
1 Святейшая инквизиция — духовное судилище, беспощадно каравшее за малейшие уклонения от католического вероучения. Инквизиция была учреждена в XIII веке и широко распространилась в католических странах Европы.
цем, с грубыми негнущимися пальцами, неторопливо заговорил:
— По моему разумению, я думаю так. Моим детям отрываться от земли не следует. Способностей у них к ученью нет: сколько Фелипе ни бился, ни одной буквы не запомнили. Так что ты, брат Джакомо, с ними намучишься. Спасибо тебе за доброту, только пусть мои ребята идут по той стезе, как им бог определил. А насчет Фелипе, тут, конечно, отцу с матерью решать. Но кто поможет тебе, брат Джованни, обрабатывать сад и поле, когда твоя сила придет к концу? Время наше немолодое, старость не за горами, а помещик не смотрит, старик ты или молодой, аренду подавай в срок. Не пришлось бы каяться, если отпустите Фелипе...
— Ничего, справимся, — отозвался Бруно.
Совсем по-другому говорил Тансилло. Он. заявил:
— Фелипе должен ехать без всяких разговоров, ему здесь делать нечего. У меня он взял, что мог. Читать на родном языке я его научил, но есть еще латынь, могучая латынь, праматерь итальянского и других языков, международный язык ученых. Есть тривиум и квадри-впум \ из которых я, жалкий невежда, знаю только немногое...
У Фелипе сладко замирало сердце, когда он слушал названия неведомых, но, наверное, увлекательных наук, которые ему предстоит изучать в Неаполе. И среди них, быть может, есть и астрономия!
Решающий голос принадлежал матери. И хотя Фрау-лисе смертельно жаль было расставаться с ненаглядным сыночком, хотя она не успела посоветоваться с отцом Бартоломео, ее слово было твердое.
— Доля арендатора горькая, — сказала она, — и пусть уж она останется нам с отцом. А Фелипе поедет в Неаполь. Научится наукам, вырастет, может, прелатом 1 2 станет...
1 В средние века курс учения в школах состоял из так называемых «семи свободных искусств». Первый круг — грамматика, риторика и диалектика — составлял тривиум (по-латыни — трехпутье). Далее шел квадрйвиум (перекресток) — арифметика, геогиетрия, астрономия, музыка. Все эти науки были поставлены на службу богословию, так что общий характер образования был религиозный.
2 Прелат — высшее духовное лицо в католической церкви, духовный сановник (кардинал, епископ, настоятель крупного монастыря).
— Пусть он станет человеком, — закончил обсуждение Джованни Бруно.
Джакомо Саволйно покидал поселок. Накормленный, напоенный, вычищенный мул пустился по тропинке, а на нем, за дядиной спиной, сидел Фелипе Бруно. И, хотя он надолго, быть может, навсегда, распростился с отцом и матерью, с веселой оравой друзей, с тенистыми рощами Чикалы, Фелипе всей душой стремился в будущее.
Глава шестая,
НЕАПОЛЬ1
Крепкий мул быстро вез путников. Фелипе устал вертеть головой: так много интересного было вокруг.
Великолепные сады с апельсиновыми, лимонными, померанцевыми деревьями, отягощенными плодами, сменялись оливковыми и масличными рощами, а дальше дорога шла по городу с высокими узкими домами, стрельчатые окна которых защищали железные решетки. За городской стеной тянулись баштаны с арбузами и дынями и снова рощи, деревни, виноградники, сады, стройные кипарисы на вершинах холмов...
Ни одного необработанного клочка земли величиной хотя бы со скатерть не нашел бы странник в этом густо заселенном краю, где подземный огонь прогревал почву, а распавшаяся лава придавала ей удивительную плодородность.
Несколько раз пришлось переезжать речки по старинным каменным мостам, арками поднимавшимся над водой.
— Работа древних римлян, — с уважением говорил Саволйно.
На дороге встречались изображения Скорбящей божьей матери. Их ставили на месте гибели путников, павших в схватке с разбойниками. Проезжая мимо иконок, сер Джакомо молчаливо снимал шляпу; Фелипе следовал его примеру.
После трехчасового пути показались стены Неаполя.
Неаполь... Новый город греческих колонистов, один
1 Neapolis — по-гречески означает Новый город.
из древнейших городов мира, возникший задолго до начала нашей эры. Многие народы хозяйничали в Неаполе в разные эпохи его существования. Владели им римляне, остготы, византийцы, арабы и даже пришельцы из Северной Франции — воинственные нормандцы.
Следы чужеземных влияний сохранились в Неаполе и в характере построек, и в одежде, и в наружности, и в говоре неаполитанцев. Джакомо Саволино, дорогой рассказавший племяннику историю Неаполя, многое, усвоил, присутствуя на занятиях пансионских учителей. Природный ум, хорошая память, жажда знаний дали Джакомо многое, хотя он и выглядел на первый взгляд простачком.
По мере приближения к Неаполю из-за городской стены все более выдавалась серая громада крепости Санта-Эльмо. Фелипе удивился, что жерла пушек были нацелены на город.
— Дядя, почему пушки направлены на город? — спросил мальчик. — А если придут враги?
Саволино горько усмехнулся.
— Видишь ли, дружок, — объяснил он,—-испанцы боятся не тех врагов, что могут прийти извне, а тех, которые в городе. Они трепещут перед нами, итальянцами. Если бы не Санта-Эльмо, то в сорок седьмом году завоеватели были бы изгнаны из нашего города.
Саволино рассказал мальчику о восстании 1547 года, когда испанцы решили учредить в Неаполе инквизицию. Столкновения начались 16 мая. Во время баррикадных боев погибли сотни горожан, но и испанцы понесли значительные потери. Десять дней продолжалась упорная борьба. Только пушки Санта-Эльмо помогли испанцам отбить восставших и удержать за собой город»
Все же испанскому королю и римскому папе при-; шлось отказаться от введения инквизиции в Неаполе и постановить, что дела еретиков будут разбираться местными церковными властями.
— Так-то, малыш, был и я тогда воином, — с гордостью закончил рассказ Саволино.—Я водил отряд молодцов на расправу с изменниками-дворянами, пере-* кинувшимися на сторону врага. Немало знатных голов склонилось в те дни на плаху, под топор палача. Но. тссс... Об этом никому ни слова!.
— А если узнают? — прошептал Фелипе.
— Не узнают: из предосторожности я назвался тогда гражданином городка Тбрре-Аннунциата, принял другое имя. Выглядел я тогда не увальнем, как теперь, а был гибким, стройным... После восстания я убрался во Флоренцию и там несколько лет торговал сукном. Нет, в почтенном содержателе пансиона Джакомо Саволино никому не признать опасного мятежника. — Саволино рассмеялся.
— Эй, сторонись, собачий сброд! — послышался сза-. ди грозный окрик.
Саволино и Фелипе оглянулись! подымая облако пыли, их нагоняла карета, запряженная четверкой лошадей. Впереди скакала стража с аркебузами1 поперек седла, с короткими, поставленными стоймя пиками. Джакомо поспешно свернул с дороги, и карета, громыхая, пронеслась мимо.
— Вице-король! — воскликнул Саволино, когда карета и всадники скрылись за поворотом дороги. — Проклятый наместник проклятого короля!
Фернандо Альварес де Толедо, герцог Альба, душитель свободы народов, сначала в Италии, позднее в Нидерландах, беспощадно расправлялся с врагами католической церкви и испанской короны. По его повелению погибли на виселицах, на кострах, под топором палача десятки тысяч людей.
Едва Фелипе успел выслушать рассказ дяди об Альбе и его «подвигах», сопровождаемый многими крепкими словами, как путники подъехали к городу.
У городских ворот стоял испанский караул. Солдаты в широкополых суконных шляпах с перьями, в красных мундирах и широких штанах, в кожаных ботфортах, вооруженные аркебузами и шпагами, смотрели на итальянцев свысока, разговаривали с ними грубо.
За въезд или выезд из города бралась плата: два сольдо с человека и пять с мула.
— Испанцы не успели обложить налогом только воздух, которым мы дышим, — с горечью сказал Саволино, когда ворота остались позади. — Домовладелец платит за каждый камин, за каждую дверь, за каждое окно в
1 Аркебуза — старинное фитильное ружье, заряжавшееся с дула.
своем доме; купец платит за право торговать, портной — за право шить, цирюльник — за право стричь; плачу я за то, что содержу пансион... Э, да что перечислять! — Джакомо махнул рукой. — Мы понимаем, что без налогов государство не может существовать, налоги всегда были и будут, но надо же знать меру!..
Окраинами города путники проехали на улицу Добрых бенедиктинцев, где помещался пансион Саво-лино.
Огромный двухэтажный дом Леонардо Фазуччи дав-, но нуждался в основательном ремонте. Стены его, когда-то окрашенные в нежно-розовый цвет, облупились, двери закрывались плохо и скрипели, черепица на кровле повыбилась. Но ни обедневший владелец, ни арендатор не думали тратить деньги на приведение здания в нарядный вид. Впрочем, большинство домов в Неаполе нуждалось в основательном ремонте.
Дядя объяснил мальчику:
— Ты думаешь, это от небрежности или скупости хозяев? Нет, милый мой, тут иная причина. Если бы кто вздумал приукрасить свое жилище, испанцы мигом взяли бы его на заметку: «Состоятельный человек, надо обложить его повышенным налогом!» А повышать-то некуда!
Огромная передняя дома Фазуччи сохранила следы былой роскоши. Стенная роспись облезла, стекла в частых свинцовых переплетах потускнели, в потемневшем паркете многих шашек не хватало. И все же передняя имела внушительный вид. Саволйно подмигнул племяннику:
— Родители моих учеников сразу проникаются почтением к содержателю пансиона, нанимающему такой богатый дом!
Привратник, седой, согнувшийся от старости Джузеппе Цампи, низко поклонился:
— С благополучным возвращением, синьор хозяин! Иисус Христос в Ноле еще не объявился?
— Нет, не объявился, мой добрый Цампи!
— И у нас тоже! Но говорят, скоро будет. Я готов предстать перед Страшным судом 1 с душой, очищенной
1 По учению христианской церкви после конца мира наступит так называемый Страшный суд, когда бог станет судить людей. «Праведники» пойдут в рай, а «грешники» — в ад.
от грехов. Каждый вечер исповедуюсь, синьор Джакомо! — похвалился старик с восторженной улыбкой на морщинистом лице.
— Очень хорошо делаешь, Цампи, — одобрил Саволино.
Фелипе с изумлением слушал этот странный разговор, но дядя сделал ему знак не задавать вопросов. Лишь когда они прошли в глубь здания, дядя объяснил:
— Старик Цампи сошел с ума, наслушавшись странствующего проповедника. Появился тот в Неаполе с год назад и начал предсказывать близкое пришествие Христа и кончину мира. Я сам слышал этого фанатика, когда он весь в черном, с горящими глазами, проповедовал на площади. Мужчины мрачно молчали, опустив головы, а женщины рыдали, разрывали на себе одежды, царапали лица ногтями. Тогда-то и помешался бедный Цампи...
— Дядя, говорят, сумасшедшие опасны...
— Наш Цампи не такой, — сказал Джакомо. — Кроме ожидания Страшного суда, он в остальном разумный человек. Не надо только с ним спорить, когда он бредит о Христе. Я убедился, что это бесполезно.
Во время разговора сер Джакомо вел Фелипе по длинным коридорам, и, наконец, они вошли в апартаменты, занимаемые Саволино.
Их встретила синьора Васта, женщина средних лет с красивым грустным лицом. Печаль не покидала лица Васты с тех пор, как супруги Саволино потеряли от дифтерита сразу двух детей: сына Джулио и дочь Аль-ду. Это случилось четыре года назад. Со смертью детей совпало разорение синьора Джакомо, и Васта, тосковавшая по детскому смеху, детским голосам, подала мужу мысль открыть ученический пансион.
На удивленный взгляд жены Джакомо ответил:
— Вот, привез одного. Это — Фелипе, сынишка Фраулисы. Брат Шипионе не отпустил никого из своих ребят.
Васта бросилась к племяннику, обняла его, осыпала лицо мальчика поцелуями.
— Маленький мой, как я рада тебе!
Фелипе смутился, а тетка жадно рассматривала чер
ты его лица, стараясь найти сходство с умершим сыном.
«Нет, не похож, — с огорчением подумала она. — Но все равно буду любить его...»
— Здравствуйте, синьора Васта, — вежливо сказал Фелипе, как учила его мать.
— Не синьора, а тетя, тетя Васта, — ласково поправила его женщина. — Ты, наверно, уже соскучился по маме?
— Да, тетя Васта, — потупился Фелипе.
— Ну ничего, мой маленький, вот попривыкнешь у нас, и мы напишем маме большое-пребольшое письмо. Ты умеешь писать?
— Пишу, только еще плохо, — прошептал мальчик.
— Научишься! Но что же я, — спохватилась синьора Васта. — Ты, конечно, проголодался с дороги, пойдем, я тебя накормлю.
Ожидая племянников из Нолы, Васта долго раздумывала, где их поместить. Бездетной женщине хотелось, чтобы мальчики жили рядом с ней, и все же она решила, что не стоит создавать им особые условия, выделять из общей среды. Теперь при взгляде на Фелипе, такого маленького и нежного, так исхудавшего после болезни, Васта чуть не поколебалась в своем решении.
«Возьму его к себе хоть на время, — думала она.—» Пусть поправится, привыкнет к нашим порядкам. Хотя.., потом труднее будет отрываться от него. Пусть уж буч дет так, как задумано...»
Накормив Фелипе, тетка повела его по парадной лестнице в ученическую спальню, помещавшуюся на втором этаже. Парадная лестница была так широка, что по ней могла проехать карета, запряженная шестериком лошадей в ряд. Но мраморные ступени были выщербле* ны, резьба ограждений поломана, перила изрезаны ножом.
Кровати учеников стояли в громадной комнате, выч сота которой поразила Фелипе: она была не меньше пят< надцати локтей1. Подоконники узких окон находились высоко над полом, мелкие стекла пропускали мало света, и в дортуаре2 было мрачновато, хотя на улице стоял солнечный день,
! Итальянский локоть равнялся 58 сантиметрам, 2 Дортуар (франц.) — спальня.
К одной из стен примыкал камин, такой большой, что там можно было жечь целые бревна. Но он был до половины заложен кирпичом, чтобы не платить за него налог, как объяснила мальчику тетка.
Узнав о появлении нового школяра, в комнату вбежали пять-шесть мальчиков в возрасте от десяти до пятнадцати лет. Ученики были распущены на летние каникулы, и в пансионе оставались только иногородние, за которыми не приехали родные. Представив ученикам .Фелипе, синьора Васта ушла.
— Новичок, новичок!..
Новые товарищи окружили Фелипе.
Школьники любят задрать новичка, поднять насмех. Окружив Фелипе, ребята насмешливо рассматривали его простенькую куртку с аккуратными заплатами, короткие панталоны, едва доходившие до колен. Один мальчуган, особенно задорный, ровесник Фелипе, воскликнул, намекая на пятна, еще не сошедшие с лица Бруно:
— Ой, братцы, боюсь! Оно, наверное, кусается!
— Да, оно кусается! — звонко воскликнул Фелипе, и в тот же миг насмешник получил здоровенную затрещину, сбившую его с ног.
Оскорбленный бросился на обидчика, но старшие ребята стали между ними.
— Ты получил по заслугам! — строго сказал высокий стройный Альфонсо Маринетти. — А теперь подайте друг другу руки.
Поступок новичка внушил к нему уважение товарищей, и Фелипе Бруно был безоговорочно принят в среду пансионеров с улицы Добрых бенедиктинцев.
Фелипе, привыкший к простой удобной* одежде сельских ребят, сам мог бы поиздеваться над костюмами неаполитанских школяров. Они носили длинные черные кафтаны строгого покроя, похожие на сутану1, их брюки ниспадали на мягкие башмаки.
Фелипе недолго ходил в деревенской одежде. Вечером в пансион пришел портной, снял с Фелипе мерку, и через два дня маленький ноланец не отличался по внешнему виду от пансионеров Саволино. Новый костюм
1 Сутана — верхняя длинная одежда католических духовных лиц.
страшно не понравился мальчику, он стеснял его движения, держал точно в оковах. Но Фелипе безропотно подчинился всем требованиям, какие предъявляла новая обстановка.
Глава седьмая
НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ
Луиджи Веньёро, развеселый мальчуган из Аверсы 1, первым испытавший силу кулаков Фелипе, сделался закадычным другом новичка.
До начала занятий оставалось еще больше двух педель, и с разрешения синьоры Васты два друга целыми днями бродили по улицам. После маленькой Нолы Неаполь казался Фелипе грандиозным. Но было в нем такое, что роднило этот большой город с Нолой. Куда бы ни забрались мальчики, па востоке всегда виднелась двугорбая вершина Везувия, точно синяя туча, по капризу спустившаяся на землю. А на закате гора принимала бесподобный фиолетовый цвет.
благодаря необычайной прозрачности воздуха казалось, что стоит добраться до конца улицы, выйти за городскую стену — и он окажется перед тобой, вечно дымящийся, вечно грозящий людям вулкан. А на деле до него пришлось бы прошагать добрых пять-шесть миль.
Жизнь Неаполя, как и любого южного города, в дневное время протекала на улицах, площадях, набережных. По утрам горожан будили козы. Едва лишь небо начинало розоветь на востоке, как Неаполь наводняли полчища коз. Пригородные молочницы не обременяли себя тяжелыми сосудами с молоком. Они просто пригоняли к крыльцу покупателя стадо коз; белые, черные, пестрые козы теснились на мостовой, звонко стуча копытцами по лавовым плитам. Каждое стадо вел старый козел с острыми рогами, свалявшейся шерстью и маленькими злыми глазками. Козлы знали свое дело и с точностью почтальонов разводили подчиненных по домам клиентов.
1 Аверса — городок к северу от Неаполя.
Кухарка выносила посуду, звонкие струйки молока, пенясь и сверкая в утреннем свете, наполняли кувшины, и разношерстное, блеющее стадо, следуя за бородатым вожаком, отправлялось дальше.
А потом приходили или приезжали на ослах поставщики овощей и фруктов, продавцы яиц, битой птицы... Многоголосый гомон наполнял узкие улицы, хлопали открываемые ставни, и уже проходил в церковь патер в черной рясе, благословляя прохожих.
«Шумно живут неаполитанцы, — удивлялся Фелипе.— А у нас, в Сан-Джованни, какая по утрам тишина...»
На следующий день после приезда Фелипе Луиджи потащил приятеля на набережную Санта-Лючия1.
У Фелипе разбежались глаза. Широкая набережная, покрытая прочными стекловидными плитами из лавы, кишела народом.
У самой воды продавались frutti di mare, «плоды моря»,— устрицы, рыба и прочая морская живность. Широкие низкие корзины с угрями и сардинами стояли рядами. Увесистые тунцы, плоские камбалы, скаты — морские черти — были разложены прямо на земле. В бочках с водой копошились молодые осьминоги и омары.
Продавцы громко расхваливали товар.
— А вот сардинки свежие, нежные, как улыбка девушки,— громогласно кричал высокий детина, мощную грудь которого прикрывал вместо куртки кусок просмоленной парусины.
— Мурену берите, мурену!2 — зазывал другой. — Ее хоть и не откармливали человечьим мясом, да вкус от этого не хуже!
А третий просто голосил великолепным тенором:
— Угри, угри!.. Угри, угри-и, угри-и-и!.. — И, чуточку пом'олчав, добавлял октавой ниже: — Угри пятнистые...
Тучный монах, как видно любитель выпить, судя по его сизо-багровому носу, убеждал старого рыбака купить у него священную реликвию:
1 Санта-Лючия — святая Лючия.
2 Мурена — рыба из семейства угрей. Достигает веса 6 килограммов и длины до 1,5 метра. Мясо мурены очень вкусно. По преданию, в древнем Риме богачи откармливали помещенных в бассейн мурен мясом рабов, которых живыми бросали в воду.
— Да ты понимаешь, невежда, что я тебе предлагаю? В этом пузыречке слезы святой Агнёсы. Три капельки исцеляют от любой болезни...
-- Что-то они похожи на морскую воду, — возражал рыбак.
— А на что должны походить слезы, дубина ты этакая! Пойми: за одну лиру ты покупаешь здоровье в этой жизни и блаженство в будущей!
Убежденный рыбак лез в карман за кошельком.
Покупательницы с сумками в руках придирчиво осматривали товар: нюхали рыбу, щупали, заглядывали в жабры. Потом начинался торг. Кричали так отчаянно, так махали руками, что можно было подумать: встретились заклятые враги. Но этот крик заканчивался, и товар из корзины продавца переходил в кошелку покупательницы.
Пройдя рыбный ряд, друзья очутились у причалов, где стояли суда. Овеянные запахом моря и далеких заманчивых стран, откуда они пришли, корабли со спу-. щепными парусами покачивались на морской зыби. Носильщики, разгружавшие суда, спускались по трапам с большими тюками и ящиками на спинах, катили мокрые рыжие бочки...
— Сколько здесь кораблей! — воскликнул Фелипе.
— Э, сынок, то ли было раньше, до испанцев! — сказал оборванный старик, стоявший с удочкой у воды.— Тогда в гавани было тесно от кораблей.
— А ты видел? — дерзко возразил Луиджи.
— Я-то сам не видел, — спокойно ответил рыболов,— а мне рассказывал дед. Он прожил на свете сто двадцать два года, а ты и четверти этого не проживешь за непочтение к старшим.
Сконфуженный Луиджи стал просить прощения за грубые слова.
— Я вижу, ты хороший мальчик, коли признаешься в своей вине. За это я могу показать тебе и твоему товарищу такое зрелище, какого нигде больше не увидишь.
— Какое зрелище, дедушка? — спросил любопытный Луиджи.
— Неаполь с моря в лунную ночь, — внушительно ответил старик. — Отпроситесь сегодня у родных и приходите вечером в рыбачий поселок ко мне, к дедушке Кикйбьо.
Когда школяры явились, старый Кикибьо уже сидел в лодке; он приготовил удочки, взял кувшин с водой, провизию.
Луна поднялась над двуглавой вершиной Везувия, огромная, величественная, и осветила спящий город. Мальчики ахнули от восхищения: действительно, такое зрелище стоило посмотреть.
Волшебный свет луны скрыл все изъяны городских зданий и нарисовал чудесную картину. Освещенные луной, стены ближних домов как бы купались в море, а за ними в прозрачном сиянии поднимались все выше и выше новые громады дворцов, храмов, башен. И вдали угрюмо грозила городу крепость Санта-Эльмо, которой даже лунный свет не мог придать обаяния.
В другой раз приятели пошли на фруктовый рынок с кухаркой Чеккйной. На рыночной площади было так тесно, что продавцы, привозившие товар на осликах, разгружали животных в прилегающих улицах и на себе перетаскивали корзины с фруктами к лоткам..
Апельсины, лимоны, померанцы, персики громоздились на столах яркими пирамидами, наполняя воздух ароматом. Нежные сладкие фиги россыпью лежали на столах. Груды чудесных дынь и арбузов напомнили Фелипе времена веселых набегов на баштаны в Сан-Джованни ди Ческо, и при мысли о том, что эти времена прошли, мальчик вздохнул.
Гроздья винограда, связки луковиц, стручки пахучего красного перца свешивались с веревок, туго натянутых над площадью. А желтые тыквы диаметром с тележное колесо служили продавцам вместо стульев.
Общее внимание было привлечено появлением мавра-фокусника в широком пестром одеянии, с большой белой чалмой на голове.
— Синьоры и синьорины, почтенные граждане Неаполя!— звучно возгласил фокусник, стараясь заглушить базарный гомон. — Сейчас перед вами покажет свое искусство знаменитый Али ибн Али ибн Мухамед!.1 Моему волшебному мастерству рукоплескали халифы и султаны, императоры и короли! Но что толку в словах? Перейдем к делам!
1 Али, сын Али, сына Мухамеда (араб.).
Али ибн Али протянул руку к пирамиде апельсинов и взял с самого верха крупный золотистый плод. Пометив его красной краской, фокусник поднес плод ко рту, сделал неуловимое движение, и апельсин исчез.
— Проглотил! — ахнули пораженные зрители.— Проглотил целиком!
А торговка сердито закричала:
— Плати кватрино1 за товар, бесстыжий нехристь!
— Простите, уважаемая синьора! — воскликнул мавр. — Я не обязан платить за плод, который вам было благоугодно спрятать себе в башмак!
Ибн Али быстро нагнулся, сорвал у торговки с ноги башмак, прежде чем та успела помешать, и протянул его зрителям. В нем лежал апельсин, помеченный краской.
— Тот самый! — взревела восхищенная толпа.
— Всякое искусство требует поощрения, синьоры,— скромно сказал фокусник и протянул к публике ладонь.
В нее упало несколько кватрино, и они мгновенно исчезли. Мальчики, увлеченные фокусами, давно потеряли из виду Чеккину, но ничуть об этом не беспокоились: Луиджи знал дорогу домой.
Али ибн Али продолжал фокусы, но приток даяний заметно истощался и, наконец, иссяк. И в этот момент сверху послышался глухой голос:
— Синьоры и синьорины! Доколе вам будет морочить головы этот наглый язычник?
Люди в изумлении подняли головы. Говорила статуя, на согнутую спину которой опирался балкон ближнего дома.
— Чудо, чудо! — пронеслось в толпе.
— Вы смотрите жалкие фокусы мавра, — продолжал голос, — и не ведаете, что средн вас находится предсказатель судьбы. Он нем от рождения и приказал говорить за него мне. От этого необыкновенного мудреца вы узнаете ваше будущее!
Отвернувшись от фокусника, любопытные увидели высокого человека в длинной мантии, с остроконечным колпаком на голове, на груди его висела дощечка с надписью: «Верное предсказание судьбы за один сольдо!»
1 Кватрино — мелкая медная монетка.
В руке чревовещатель держал ящичек с зелеными билетиками. Оставленный всеми, фокусник скрылся, а люди бросились покупать билетики, и сольдо щедро посыпались в руку немого. Грамотные читали предсказания про себя, шевеля от усердия губами, а неграмотные искали тех, кто мог бы им помочь.
Один из толпы обратился к Фелипе, и тот прочитал:
«Скоро в твоей судьбе произойдет великий переворот, который вознесет тебя или погубит. Опасайся начинать важные дела в пятницу, это несчастный для тебя день».
Ошеломленный человек побрел прочь, машинально бормоча:
— Вознесет или погубит... Погубит или вознесет... Остерегаться пятницы!..
После Нолы, где нищих было мало, Неаполь поражал Фелипе массой уродов и калек, просивших подаяние. На папертях1 церквей, у рынков, на главных улицах и оживленных площадях — всюду кишели слепые, хромые, безногие и безрукие, выставляя напоказ свои уродства, болячки и язвы. Внимание благодетелей привлекалось по-разному. Кто пел песни, кто гнусаво читал молитвы за здоровье даятеля и всех его родных и близких, кто просто уныло тянул с протянутой рукой:
— Подайте кватрино, синьоры!.. Только один кват-рино!..
Фелипе обратил внимание на здоровенного молодца с курчавой черной бородкой и короткими усиками, просившего милостыню на паперти ближней церкви. Вместо ног у него были деревяшки, и он стучал ими одна о другую при появлении прохожего. Сольдо и кватрино падали в его засаленный шерстяной колпак довольно щедро, он прятал их в кошель, разглаживая усы.
— Как жалко его! — сказал Бруно. — Такой молодой, а калека.
Когда мальчики завернули за угол, Веньеро тихо заговорил:
— Он такой же безногий, как мы с тобой. Зовут его Андреа Кучйльо, и деревяшки у него поддельные. Ты знаешь, что значит «кучйльо»?
1 Паперть — церковное крыльцо.
— Нет, — сказал Фелипе.
— Это «нож» по-испански. Андреа получил такое прозвище за то, что при каждой ссоре хватается за нож. Он уже зарезал несколько человек, это говорил мой приятель Ванино, сын судьи Корво.
— Так он бандит? — с ужасом прошептал Фелипе.
— Ого, еще какой!. Днем он нищий, а ночью—• браво Ч
— Почему же он не на каторге? — удивленно спросил Бруно.
— Хитер. Сер Корво сколько раз пытался поймать его с поличным, только никак не удается. Да он не один такой — Кучильо. Среди городских нищих — половина бандитов.
С тех пор Фелипе со страхом обходил подальше церковную паперть, где сидел Андреа Кучильо.
...Любили мальчики бродить по улицам, где представлялась возможность поглазеть на работу ремесленников. На каждой улице преобладало какое-нибудь одно ремесло. В ремесленных кварталах всегда было оживленно. Люди не хотели сидеть в тесных каморках и выбирались на улицу с орудиями производства.
Вот переулок, где жужжат веретена в ловких руках прядильщиц. Женщины разговаривают о своих делах или поют песню, а тонкая ровная нить пряжи точно сама собой сбегает с прялки и наматывается на веретено. За углом стучат ткацкие станки: там пряжа превращается в бархат, сукно, тонкое полотно и другие дорогие материи, которые пойдут на одежду богачей. Сами ткачи одеты кое-как, в ветхие куртки и короткие парусиновые штаны. Неустанно работая челноком с утра до ночи, ткачи зарабатывали только на пропитание семьи, — где уж тут думать о нарядах...
Вот новая улица, новое ремесло. Здесь портные. Они сидят на низких столах, поджав под себя ноги, и про-, ворно работают иглой. Они шьют бархатные кафтаны для дворян, красные кардинальские мантии, солдатские мундиры, сутанеллы для школьников.
В другом квартале мальчишки, глотая слюнки, наблюдали, как кондитеры варят конфеты. Сладкий фруктовый сироп выпаривался в медных луженых тазах, а
1 Браво (итал.) — наемный убийца.
потом густая липкая масса резалась на кусочки и раскладывалась для сушки. И если у Луиджи или Фелипе еще залеживался к этому времени кватрино, монетка переходила в карман кондитера.
На улицах Неаполя всегда звучала музыка, слышались песни. Гнет испанцев был тяжел, но народ не может годы и годы жить в мрачном молчании, особенно если этот народ одарен от природы живым, веселым характером и редкой музыкальностью.
Песни пелись разные, но больше всего было песен о любви и свободе. Высмеивались завоеватели-испанцы с их невыносимым самомнением и спесью. Народные песни предсказывали счастливое время, когда завоева-. телей прогонят с итальянской земли...
На площадях и рынках звенели мандолины и лютни. Иной музыкант был настоящим виртуозом, и под его искусными пальцами струны рассказывали о радости и горе, о любовной тоске, пели о свободе...
Насколько шумными и оживленными были христианские кварталы Неаполя, настолько пустынными и молчаливыми выглядели переулки гетто — еврейской части города.
В первом столетии нашей эры евреи, изгнанные из Палестины римскими завоевателями, расселились по многим странам Европы. Они жили в Англии, Германии, Польше, Испании, Италии... Но нигде они не смешивались с местным населением, и происходило это не только по их воле. Христиане боялись соперничества с искусными еврейскими ремесленниками, с еврейскими купцами, а попы и монахи искусственно раздували религиозную рознь. И потому во всех христианских странах издавались суровые законы против евреев, ограничивавшие их права. И все же евреев терпели, потому что знать и даже правители государств могли занять у них денег в трудную минуту.
Евреям разрешалось жить только в гетто, и эта часть города отгораживалась от христианских кварталов. Во-, рота, ведущие из гетто, запирались на ночь. Еврею, ока-’ завшемуся ночью в христианских кварталах, грозила серьезная кара. Больше того: и в дневное время еврей, оставляя гетто, должен был иметь на одежде особый знак, указывающий на его национальность, Обычно это была желтая нашивка,
Всюду гонимые и притесняемые, евреи не могли относиться к христианам дружелюбно. Это испытали на себе Фелипе и Луиджи, когда забежали в гетто, воспользовавшись отсутствием привратника.
Безлюдье и тишина еврейских кварталов поразили мальчиков, только что оставивших позади веселый шум и гомон ремесленной улицы. Редкие прохожие в длинных одеждах, в черных ермолках смотрели на мальчиков с ненавистью.
Фелипе и Луиджи опрометью бросились назад. Когда они миновали ворота, им показалось, что они побывали в сказочном сумеречном царстве.
Лишь только солнце склонялось к закату, улицы Неаполя пустели. Умолкали мандолины, прекращались песни. Крестьяне спешили возвратиться в деревни, торговцы уносили нераспроданные товары, ремесленники перебирались в дома, еврейские менялы1 торопились укрыться в гетто, горожане прятались по домам и закрывали двери на хитроумные запоры, монахи расходились по монастырям.
После захода солнца одни только испанские солдаты ходили по улицам, бряцая оружием и останавливая каждого прохожего, имевшего неосторожность встретиться с ними в ночной час.
Глава восьмая
ШКОЛА
Занятия в пансионе Саволйно начались утром в понедельник 5 сентября 1558 года. Ученики победнее приходили пешком. Дети дворян и богатых купцов являлись в каретах, сопровождаемые слугами. Слуги эти в учебное время жили в пансионе, ухаживали за молодыми баричами. Они одевали и причесывали их по утрам, сопровождали на прогулках, прислуживали за столом, вечером укладывали в постель.
Принарядившийся Джузеппе Цампи встречал учени
1 В старину менялами называли купцов, которые за определенное вознаграждение меняли крупные монеты на мелочь или обменивали иностранные деньги на местные.
ков у входа. Каждому приходящему привратник задавал неизменный вопрос:
— Не появился ли Иисус Христос в Неаполе?
Знакомыми коридорами ученики проходили в классную комнату — большое помещение, уставленное столами.
Там Джакомо Саволино отмечал в матрикуле1 каждого вновь появившегося и поздравлял его с началОхМ учебного года.
На стенах класса висели дощечки с крупно написанными латинскими пословицами. Предполагалось, что пансионеры будут запоминать латинские слова и применять на деле житейскую мудрость пословиц.
Но вот пансионеры расположились на прошлогодних местах; новичков рассадил содержатель пансиона. Дядя поместил Фелипе рядом с Луиджи Веньеро, который обещал помогать другу на первых порах его школьной жизни.
Все было готово для начала занятий. Джакомо Саволино встал и, перекрестившись, промолвил гнусавоблагочестивым голосом:
— А теперь, юные братия мои, пройдемте в капеллу2 и вознесем хвалу господу, сохранившему ваши телеса и души, дабы вы сподобились принимать духовную пищу, которую станут преподносить вам наставники и учителя ваши...
Фелипе бросил недоумевающий взгляд на дядю, тот в ответ незаметно подмигнул ему и тотчас принял строгий вид. Воспитанники гуськом потянулись за Саволино в небольшую капеллу, стены которой какой-то неумелый художник расписал изображениями святых. Алтарь3 находился на небольшом возвышении. У стен стояли светильники с ярко горевшими восковыми свечами. Пахло ладаном.
Когда молящиеся расселись по скамейкам и успокоились, перед ними появился дон Базйлио Беллука, высо
1 Матрйкул — список учащихся.
2 Капелл а — часовня или небольшое помещение, где совершались церковные службы.
3 Алтарь — самая важная часть храма, где находится так называемый «престол» со «святыми дарами» — хлебом и вином, будто бы таинственно превращающимися во время богослужения в «тело и кровь Христовы». Алтарь всегда занимает восточную часть храма,
кий плотный монах в белой пелерине поверх черной ря-; сы, с большим серебряным крестом в руке.
— Benedicat Deus!1—звучно провозгласил он начало мессы2.
— Аминь! — пропел в ответ ученический хор.
Фелипе рассеянно крестился, но мысли его были далеко. Он вспоминал родную деревушку, бедный домик у подножия Чикалы, ему представлялся отец, работающий в саду, мать у кухонного очага.
«А что делают ребята? — думал молодой школяр.—-Наверное, забрались за арбузами к дедушке Амбрбзио, он долго спит по утрам».
И в эту минуту привольная жизнь среди природы показалась Фелипе привлекательнее всех наук.
Обедня шла. В углу капеллы молилась синьора Васта. У порога в припадке религиозного усердия распластался на полу старый Джузеппе Цампи.
Месса кончилась, дон Базилио благословил верующих, и все потянулись из часовни, бережно перешагивая через распростертого Джузеппе Цампи. Напрасно старик умолял наступать прямо на него, просьбы не действовали. И только Луиджи Веньеро доставил старому безумцу утешение. Расшалившись, он толкнул Фелипе, и тот полетел на спину Цампи. Старик охнул, по при-, вычке обругал баловников, но спохватился и принялся благодарить господа за ниспосланное страдание.
Пансионеры снова собрались в классе. Появилась синьора Васта с пачкой потрепанных учебников латин-, ской грамматики. Книги ценились дорого, и один учебник выдавался на трех-четырех учащихся. Старший в группе отвечал за сохранность книги.
Бумагу экономили, и в школах писали на гладких вощеных дощечках деревянными палочками — стилями. После того как ученик исписывал дощечку, он тупым концом стиля затирал написанное, и можно было начинать снова. Такие дощечки синьора Васта раздала всем ученикам с наказом беречь их. Получил дощечку со стилем и Фелипе.
И только когда закончились все приготовления к занятиям, в класс вошел преподаватель латинского языка,
’Benedicat Deus (лат.) — благословен бог.
2 Месса — главная церковная служба, католическая обедня.
лиценциат1 Эрмйнио Гуальди. Это был маленький человек с важной осанкой, с короткими черными волосами и выбритой на голове тонзурой2. Тонзура служила признаком принадлежности к духовному или по крайней мере к ученому сословию. Человека с тонзурой уважали, нелегко было получить право носить ее.
В школах наказания были так часты, что про обра-. зованного человека говорили: «Он вырос под розгой учителя».
Розгу часто заменяла ферула, длинная линейка из крепкого дерева. Этой линейкой учитель бил нерадивых учеников по рукам, но доставалось и другим частям тела.
Дон Эрминио держал в одной руке учебник, в другой — ферулу.
После того как была прочитана по-латыни молитва, начался урок. Не обращая внимания на новичков, лиценциат стал продолжать изучение грамматики с той страницы, которую задал учить на каникулы.
— Маринетти, ответь, какая часть речи слово «агта»3.
— «Агта» есть имя существительное, собирательное, среднего рода, множественного числа.
— Правильно, садись. Биччи, почему слово «агта» среднего рода?
Биччи, худенький, бледный мальчуган с рыжими волосами, вскочил и, боязливо глядя на учителя, забормотал:
— Потому... потому что... имена... все имена...
— Полным ответом! — рявкнул лиценциат.
— Имена существительные... оканчивающиеся... во множественном числе... на «а»... все без исключения среднего рода.
Гуальди, при первых словах Биччи приподнявший ферулу, опустил ее на кафедру.
— Так. Назови производное от «агта» сложное имя.
— Armiger... armiger... — зашептали соседи.
1 Лиценциат (от латинского слова «лицёнциа» — разрешение) — лицо, имеющее ученую степень и получившее разрешение преподавать в школе.
2 Тонзура — кружок, пробритый на макушке головы,
3 Arma (лат.) — оружие.
Но запуганный Биччи не слышал подсказок.
— Подойди сюда, Биччи... Еще поближе, — со зловещей любезностью приглашал дон Эрминио. — Ты, видно, летом полагался больше на милость святых, чем на собственное усердие. Милость святых, конечно, велика, но латынь они за тебя учить не будут!
Когда дрожащий мальчуган протянул ладонь левой руки, раздался полновесный удар. Сдерживая слезы, Биччи вернулся на свое место, а лиценциат наставительно разъяснил:
— Из слов «агша» — «оружие» и «gero» — «носить» составляется слово «armiger»—«оруженосец». Вот что ты должен запомнить, друг мой Биччи, отныне и вовеки веков!
Урок продолжался.
Фелипе шепотом спросил товарища:
— А как же с нами, новичками?
— С вами будет заниматься кто-нибудь из старших учеников, пока вы не догоните остальных.
Фелипе облегченно вздохнул. Знакомство со страшной ферулой дона Эрминио отодвигалось.
Следующим уроком было пение. Пение считалось важным предметом, потому что большинству учащихся предстояла духовная карьера. Пение преподавалось только церковное.
Кантор1 Рикардо Польяна принес большой кожаный футляр. Он положил его на ближайший к кафедре стол и извлек оттуда виолу2 и пучок розог. Постаравшись придать своей добродушной физиономии свирепый вид, большой рыхлый дон Рикардо помахал в воздухе пучком розог и положил его на кафедру. Фелипе с удивлением заметил, что ученики втихомолку пересмеивались, как будто грозное предупреждение кантора их не испугало.
— Сегодня будем разучивать псалом3 «Блажен муж», — неожиданно тонким для его грузной фигуры голосом объявил дон Рикардо.
Он вынул из футляра несколько листочков и роздал ученикам. В глазах у Фелипе зарябило от непонятных
1 Кантор (от латинского «канто» — пою) — учитель пения.
2 Виола — старинный смычковый инструмент, нечто среднее между виолончелью и гитарой.
3 Псалом — церковное песнопение»
линий, кружков, крючков и закорючек. Под линейками были написаны слова на латинском языке.
Фелипе толкнул товарища в бок:
— Что это такое?
— Ноты псалма, который будем разучивать. Видишь ли, каждая нота означает определенный звук...
Но тут на них шикнул учитель, и Веньеро оборвал объяснение.
— Луиджи, а я как? — шепнул Фелипе.
— Ничего, — усмехнулся Веньеро. — Делай вид, что поёшь, да пошире раскрывай рот.
Дон Рикардо настроил инструмент и, поставив его между колен, провел смычком по струнам. Фелипе никогда не слышал игры на виоле, и мягкий звучный тон инструмента ему понравился. Кантор проиграл мелодию псалма.
— Теперь смотрите в ноты и пойте за мной.
Фелипе понял, почему ученики дона Рикардо не испугались принесенных им розог. Польяна всецело увлекся игрой и пением. Услышав неправильную ноту, он только бросал полусердитый, полуумоляющий взгляд на виновника. Чтобы наказать его розгой, приходилось прервать мелодию. Это превышало силы дона Рикардо. Но одного проступка не прощал кантор — это равно-* душия к преподаваемому им предмету. Достаточно было заметить ученика с закрытым ртом, как дон Рикардо приходил в ярость. Он с шумом бросал виолу на стол, хватал розги, и тут уж не помогали мольбы о прощении.
Предупрежденный приятелем, Фелипе благополучно миновал опасные рифы и отмели. Одаренный прекрасной памятью и хорошим слухом, он внимательно вслушивался в звуки виолы и слова псалма, и к концу урока его звонкий голос уже смело вливался в общий хор.
Продолжительность урока не была строго установлена, она зависела от настроения учителя, его добросовестности и выносливости учеников. Уроки латинской грамматики и пения продолжались часа четыре — до обеденного перерыва.
На обед собрались в обширной полутемной столовой, где на рассохшихся дубовых панелях были вырезаны плоды и фрукты, разнообразная дичь, большие рыбы.
Сервировка стола отличалась разнообразием, так как каждый пансионер, по условию, являлся со своей посудой. Поэтому на столе рядом с фарфоровыми тарелками и серебряными кубками можно было увидеть простые глиняные миски и кружки небогатых учеников.
За столом прислуживали лакеи знатных воспитанников. Синьора Васта рассчитала, что выгоднее приплачивать слугам учеников, чем нанимать своих лакеев.
Рыба в самых разнообразных видах, макароны, фрукты, легкое виноградное вино — вот из чего по пре-, имуществу состоял стол пансионеров Джакомо Саволино.
После обеда был двухчасовой отдых, во время которого можно было по желанию спать, гулять или развлекаться, а потом старшие ученики шли в класс изучать риторику и диалектику. Новичкам там нечего было делать, и их усадили в дортуаре заниматься латынью под руководством Альфонсо Маринетти. Мальчишки облегченно вздохнули, когда увидели в руках своего нового наставника не грозную ферулу, а просто указку.
— Сегодня мы с вами будем учить «Paternoster» 1,—» сказал Маринетти.
— Маэстро2, я знаю «Pater noster», — заявил Фелипе, которого этой молитве обучил крестный отец.
Юноша улыбнулся.
— Не зови меня так торжественно, — сказал он. —• Ведь я твой товарищ и для тебя просто Альфонсо.
Альфонсо Маринетти был единственным сыном небогатого купца, погибшего на море во время схватки с пиратами. В те времена купцам часто приходилось браться за оружие, защищаясь от разбойников во время торговых поездок. Убитая горем вдова не захотела, чтобы Альфонсо унаследовал профессию отца, и мечтала о духовной карьере сына. Последние крохи состояния она тратила на образование мальчика.
Лучший ученик в пансионе, высокий красивый Аль-, фонсо Маринетти не зазнался от постоянно расточае
1 Pater noster (лат.) — «Отче наш», одна из самых распространенных молитв.
2 Маэстро (итал.) — учитель.
мых ему похвал. Высшими добродетелями человека он считал справедливость и скромность. Младшие товарищи обожали Маринетти, его слово было для них законом и значило больше, чем распоряжения учителей.
За немногие дни, проведенные в пансионе, Фелипе всей душой привязался к Маринетти, и ласковые слова старшего товарища обрадовали его.
Маринетти дал Фелипе листок пергамента, на котором были написаны латинские слова молитвы. Должно быть, этот листок послужил прописью не одному школьному поколению, так он засалился, некоторые буквы читались с трудом. Фелипе усердно принялся копировать пропись.
В таких занятиях провел свой первый школьный день Фелипе Бруно.
...Шли дни и недели, и Фелипе все больше привыкал к школьным порядкам, реже вспоминал о доме, о сан-, джованнских ребятах.
Учителя заметили способность и усердие маленького ноланца и не раз ставили его в пример другим.
Но товарищи не завидовали Фелипе. Какое-то особое обаяние было в этом веселом, общительном мальчугане с открытым взглядом синих глаз, с темными волнистыми волосами, с заразительной улыбкой на красивом, смуглом лице. Фелипе охотно готовил уроки, но не отказывался принять участие в шалостях, затеянных товарищами.
Вдвоем с Луиджи Веньеро они задумали подшутить над доном Бенедетто Колли, учителем итальянского языка.
У старого монаха дона Бенедетто случались сердечные перебои, и он натирался валерьянкой. Помогало ли это больному — неизвестно, но, когда он шел по улице, к нему сбегались коты со всей округи. Задрав хвосты трубой, серые, черные, пестрые, белые коты кружились вокруг дона Бенедетто, старались лизнуть подол его сутаны и покорно принимали пинки, которыми награждал их рассерженный монах.
Коты оставляли дона Бенедетто только у пансионского порога. Кружком рассевшись на ступеньках крыльца, они чинно поджидали возвращения своего любимца. Но в доме к нему бросалась пансионская кошка Тута и ходила за учителем по пятам.
Незадолго перед появлением монаха в пансионе Луиджи и Фелипе прицепили к шее Туты кусок жирной колбасы, завернутый в бумагу. На бумаге было написано:
«Эту колбасу я подношу дону Бенедетто Колли в знак уважения и преданности, и да придется она ему по вкусу! Тута».
Дон Бенедетто появился в классе и начал урок, а кошка терлась у его ног, шурша свертком. Отвлекаемый непонятным шорохом и обиженный невниманием слушателей, монах приказал одному из учеников уне-. сти кошку. Но, заметив на ее шее сверток, он, на беду, заинтересовался им.
— Что там такое?
Развернув сверток, он с отвращением отшвырнул колбасу: не в пример большинству монахов дон Бенедетто не был чревоугодником и принимал самую умеренную пищу.
— Тут что-то написано, — сказал монах и протянул бумажку ученику. — Прочитай!
И тот под громовой хохот класса прочитал обращение кошки Туты к дону Бенедетто Колли.
Учитель обиделся:
— Ах, дети, дети! Значит, вы считаете меня обжорой, способным нарушить уставы святой церкви...1 Вы полагаете, что из-за временной услады желудка я обреку себя на адские муки? Придется донести о вашем недостойном поведении падре2 Беллука...
Услышав грозное имя Беллука, духовника пансионеров, ученики опустили голову. А испуганные Луиджи и Фелипе, не ожидавшие, что их шалость встретит такое суровое осуждение, вскочили.
— Простите нас, маэстро! — воскликнул Луиджи. — Мы не подумали...
— Молодость опрометчива, старость снисходительна, — наставительно молвил монах. — Я вас прощаю, а вы о своем поступке доложите синьору Саволино, и пусть он поступит с вами, как сочтет нужным.
— Старый лицемер, — сердито прошептал Луиджи, садясь. — Тоже простил, называется.
1 Монахам запрещалось есть мясную пищу.
2 П а д р е (итал.) — патер, священник.
Зная, что дон Бенедетто проверит, выполнен ли его приказ, приятели после урока сообщили о происшедшем синьору Джакомо.
Саволйно с трудом удержался от смеха, слушая рассказ Луиджи. Но оставить без наказания поступок ребят он не мог. Старый святоша Колли раззвонит об этом по всему городу, и репутация пансиона пострадает.
— Да, негодники, вы совершили серьезное преступление, — сурово молвил Джакомо. — Вы жестоко оскорбили благочестивого дона Бенедетто и должны понести соответствующую кару. Ты, Бруно, — обратился он к племяннику, — в течение трех вечеров будешь перед сном читать вслух по сорок раз «Pater noster». И боже тебя сохрани ошибиться в счете: отец наш небесный не простит тебе такого греха.
Довольный, что так легко отделался, Фелипе опустил голову, чтобы дядя не прочел радости на его лице. А Саволйно, глядя на лукавое лицо Луиджи, думал о том, как бы почувствительнее задеть самолюбие шалуна. Взор Саволйно упал на длинные волосы мальчугана, красиво ниспадавшие на его плечи. Своей прической Луиджи очень гордился, берег ее и на ночь укладывал волосы в шелковую сетку, чтобы они не путались. И содержателю пансиона пришла в голову мысль.
— А ты... ты, Веньеро, — строго сказал он, — ты в воскресенье пойдешь слушать мессу в церкви Санта-Мария Инкорбната... и пойдешь без шляпы с сеткой на волосах.
Луиджи меньше испугался бы, если бы оказался в клетке свирепого льва.
Как?! Пойти по оживленным воскресным улицам в самую аристократическую церковь города с сеткой на голове, появиться перед насмешливыми взглядами синьор и синьорин... Да ведь они примут его за неряху-щеголя, забывшего скрыть от публики ухищрения, которыми он поддерживает красоту волос?!
— Нет, нет! — Луиджи, рыдая, упал на колени.— Все, что угодно, только не это, дорогой, добрый синьор Саволйно! Я буду читать «Pater noster» неделю... месяц... целый год!
Джакомо, увидевший, что его удар метко попал в цель, остался непреклонным.
— Ты не отделаешься чтением молитв, — сказал
он. — Если я назначил такое наказание Бруно, так толь-: ко потому, что это его первая шалость. А ты... Признайся, что ты был зачинщиком!
Луиджи признался, потому что это было правдой, но и признание не смягчило синьора Джакомо.
— Чтобы ты не сплутовал и не сбросил сетку по дороге,— добавил содержатель пансиона, — я сам поведу тебя в церковь.
Луиджи Веньеро пришлось совершить прогулку в церковь с сеткой на обнаженной голове, и самые его худшие опасения оправдались: он полной мерой испил чашу стыда.
Дюбовь
11ЫМ4ИИЯЯЯИ»
Глава первая
ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Новый, 1564 учебный год начался в пансионе Саволино обычным порядком. Учеников встречал сильно постаревший, но еще бодрый Джузеппе Цампи. Протекшие годы не уменьшили веры старика в близкое пришествие Христа, и привратник по-прежнему задавал каждому прибывающему свой неизменный вопрос.
Пансионеры спешили в классную комнату, там их приветствовал и отмечал в списке невысокий крепкий юноша с правильными чертами лица, с приветливыми голубыми глазами и чуть пробивающимися усиками. Это был Фелипе Бруно.
Прошедшие шесть лет сильно отразились на здоровье Джакомо Саволино. Он так располнел, что ему трудно стало передвигаться, и он почти весь день проводил у себя в кабинете. Оторванный от привычных забот, старик пристрастился к чтению. Его любимыми книгами были описания путешествий, философские и исторические труды.
Отрываясь от чтения, синьор Джакомо думал:
«Ведь вот судьба-то! Беря на воспитание Фелипе, я хотел облагодетельствовать семью Бруно, а выходит, благодеяние получил сам. С тех пор как пансион окончил Маринетти, а этому будет уж два года, все дело, если говорить по правде, упало на плечи Фелипе. Ах, что это за помощник, прямо божье благословение!..»
Но дело было не в услугах, которые Фелипе оказьь вал по пансиону. Одинокие старики полюбили юношу, как сына. Они с ужасом думали, как угрюмо протекала бы их жизнь, если бы в их дом не вошел Фелипе.
— Бог взял у нас Джулио, а взамен дал Фелипе,— часто говорила Васта мужу. — А подрастет наш мальчик, женится, будет у нас и дочка. Может, еще и внучат доведется понянчить...
За шесть лет упорного учения молодой Бруно с успехом усвоил все «семь свободных искусств» — науки тривиума и квадривиума и пошел дальше.
Латынь он изучил так хорошо, что не только говорил по-латыни, но и мог сочинять звучные латинские стихи, а на это были способны немногие. Мало того: Фелипе овладел греческим языком, который был гораздо труднее латинского.
Он читал в подлиннике Гомера, Фукидида, трагедии Эсхила *.
Часто Фелипе с благодарностью вспоминал своего первого учителя, поэта Лодовико Тансйлло. Это он„ Тансйлло, привил маленькому Бруно любовь к знаниям, привычку глубоко вдумываться в прочитанное и извлекать из него самую суть. Лодовико Тансйлло первым обратил внимание на богатую память Фелипе и показал приемы ее развития. Бруно не пренебрег указаниями первого наставника. Он уделял много времени совершенствованию своей памяти и достиг необыкновенных успехов.
Память Фелипе поражала и восхищала его товарищей и учителей. Достаточно было Фелипе прочитать или прослушать стихотворный отрывок в двести — триста
1 Г о мёр — легендарный поэт древней Греции. Его считают автором бессмертных поэм «Илиада» и «Одиссея». Фукидид (около 460—400 до н. э.) — древнегреческий историк. Эсхил ,(525—456 до и, э.) — древнегреческий драматург^
строк, до того ему не знакомый, и он повторял его, не пропуская ни единого слова.
В умении преподавать Бруно превзошел пансионски/Х учителей. Когда дядя поручил ему заниматься по-латы-ни с вновь поступившими учениками, он не следовал общепринятым методам и не заставлял малышей бессмысленно вызубривать молитвы и псалмы Давида. Он задавал им учить латинские названия окружающих предметов и употребительные глаголы, помогал строить простые фразы и одновременно занимался с ними латинским письмом. И через три-четыре месяца ученики Бруно разговаривали по-латыни на несложные темы и писали под диктовку простой текст. Обладатели ученых степеней не могли добиться таких успехов от учащихся и за два года.
При встречах с Фелипе дон Эрминио Гуальди укоризненно качал головой и хмурил брови.
— Ты ведешь занятия с учениками не по установленным канонам1, — сурово говорил он.
— Если каноны плохи, от них надо отказываться,— смело возражал Бруно.
Лиценциат приходил в ужас:
— Отказываться от канонов, установленных Раба-ном Мавром, Александром Галлом2 и другими знаменитыми учителями?! Идя по такому опасному пути, ты, пожалуй, скоро посягнешь на уставы святой церкви?!
Фелипе еще в детстве проникся взглядами отца на церковь и ее служителей, но он знал, с кем имеет дело. О Гуальди ходили слухи, что он тайный шпион епископского суда. И потому, приняв благочестивый вид, Бруно говорил:
— Что вы, падре! Я — правоверный католик и свято чту установления церкви. Но ведь в евангелии и творениях святых отцов ничего не говорится о том, как преподавать латынь.
Побежденный доп Эрминио уходил, сердито ворча: — Погубит тебя, Бруно, вольнодумство!
1 Канон (греч.) — правило, образец.
2 Р а б а н Мавр — известный ученый, живший в IX веке нашей эры. Александр из Вилладьё (умер около 1240 г.) написал «Доктринале»— употребительный учебник латинской грамматики в виде поэмы из двенадцати книг. Стихотворные правила книги полагалось заучивать наизусть.
Пройдя раньше срока пансионный курс наук, Фелипе стал искать наставников на стороне. Найти их было нетрудно. Как Рим и Флоренция, Неаполь слыл центром просвещения в Италии. Здесь жили многие известные философы и ученые. Логику — науку о законах мышления и науку всех наук — философию любознательный юноша слушал у гуманистов, на публичные лекции которых всегда собиралось множество народа.
Фелипе усердно посещал академию «Тайны природы», ее учредил в 1560 году в Неаполе Джамбатйста делла Порта.
Джамбатйста был совсем молодым человеком, только на семь лет старше Бруно. Достигнув всего лишь девятнадцатилетнего возраста, делла Порта стал во главе академии, целью которой было изучать естественные науки.
В средние века академии не были высшими учебными заведениями или центрами научной мысли страны. Просто они являлись местом, где собирались люди разного возраста, от юношей до стариков, чтобы поделиться своими думами, сомнениями и предположениями, изысканиями в области науки.
В академии делла Порта не было учебных классов или залов для заседаний, не подавались звонки на уроки, не стучал по столу молоток председателя. Люди приходили в палаццо 1 делла Порта как к себе домой. Пришедшие разбивались на кружки, объединенные общими интересами, и горячо обсуждали тот или другой вопрос. А иные любознательные переходили от группы к группе, надеясь услышать что-нибудь новое, интересное.
Иногда молодежь охватывало беспричинное веселье, и кто-нибудь предлагал устроить маскарад.
— Маскарад, маскарад! — разносилось по высоким залам дворца с лепными потолками, с мраморными статуями по углам, картинами знаменитых художников на стенах.
Члены академии расходились и через час-другой возвращались в масках, в причудливых нарядах сара-цйнов, рыцарей, пиратов, в шубах московитских бояр и древнеримских тогах. Костюмы брались напрокат за недорогую цену у старьевщиков.
1 Палаццо (итал.) — дворец.
Многие приводили жен и сестер, в залах дворца гремела музыка, кружились танцующие пары.
Не часто случались такие увеселения, но долго еще после праздника вспоминала о них молодежь...
В академии делла Порта занимались по преимуществу вопросами естествознания и физики. Всякий, прочитавший интересную книгу по этим отраслям знания, рассказывал о ней в академии. Там впервые услышал Фелипе Бруно об учении Николая Коперника Г
Фелипе всегда делился с дядей тем новым, что ему удавалось узнать во дворце делла Порта. Эти беседы были радостью для синьора Джакомо, скрашивали его старость, и он с нетерпением ожидал, когда племянник ворвется к нему в предвечерний час, веселый, оживленный, потрясая листочками, на которых делал краткие записи.
Но в майский день 1563 года возбуждение Фелипе казалось необычайным. Большие синие глаза его сияли, волнистые волосы растрепались, щеки горели румян-, цем.
— Что с тобой, Фелипе? — удивленно спросил Саволино.
— Дядя, я нашел цель жизни! — торжественно возгласил юноша.
— О, какие громкие слова! — улыбнулся синьор Джакомо. — И где же она тебе повстречалась?
— Ты шутишь, дядя, а я говорю серьезно, — обиделся Фелипе.
— Говори, говори, я слушаю, — ободрил племянника Саволино.
— Ты знаешь, я еще маленьким любил смотреть на небо, наблюдать звезды, Луну. Когда ты повез меня к себе, я мечтал о том, что буду изучать астрономию...
— Ты ее и изучал, да еще у хорошего учителя, дона Де чёнцио Ланди.
— А что он нам рассказывал? Только то, что написано на первых страницах библии. — Фелипе так похоже передразнил голос преподавателя, что синьор Джакомо невольно рассмеялся. — «Вначале бог создал Землю, а потом Солнце, Луну, планеты и звезды — все это
1 Николай Коперник (1473—1543)—великий польский астроном, создавший гелиоцентрическую систему мира, где центром мироздания является Солнце (по-гречески Гелиос).
только для того, чтобы они, обходя вокруг Земли, освещали и согревали ее...»
— А это не так? — с любопытством спросил старик.
— Ах, дядя, разве легко узнать истину? Сегодня в академии говорили об учении Николая Коперника из Торна...
— Торн — это в Польше?
— Да, дядя! К несчастью, синьор Джамбатйста сам не читал книги польского астронома, он только слышал о ней, но от его рассказа захватывает дух!
— И что же утверждает польский философ?
— Он не согласен с мнением библии, которая назьь вает Землю неподвижным центром мироздания. Коперник учит, что Земля вращается вокруг оси, как исполинский волчок. Но ведь слушай, дядя, если это так, то дни и ночи сменяются вовсе не потому, что Солнце ходит вокруг Земли.
— Вот уж этого, дружок, я никак не могу понять, — признался синьор Джакомо.
— Делла Порта показал нам простой опыт, который я могу повторить. — Юноша отодвинул от стола вращающееся кресло дяди. — Я поворачиваю тебя к окну. Представь, что ты — Земля, а окно — Солнце, которое, кстати, светит тебе в лицо. Сейчас Солнце освещает тебя, и здесь день...
— Как будто так, — согласился Саволйно.
— А вот я повернул тебя спиной к окну, и что у тебя теперь?
— Ночь, — ответил удивленный и заинтересованный Джакомо. — А ведь это очень любопытно! Продолжай, продолжай, Фелипе!
— Коперник говорит, что не Солнце ходит вокруг Земли, а Земля вращается вокруг него вместе с другими планетами. Как это поразительно и непонятно! Как много надо думать, чтобы во всем этом разобраться... Дядя, ты мне дашь денег?
— Для чего?
— Я хотел бы достать книгу Коперника, труды Птолемея купить карту звездного неба. Отныне цель моей жизни — установить истинную науку о небе!;
1 Птолемёй — древнегреческий астроном, живший во II веке нашей эры. Создал так называемую геоцентрическую систему мира, где центром Вселенной является неподвижная Земля.
С юношеской восторженностью Фелипе Бруно брался за необычайно сложное дело, которому до него многие великие умы посвятили всю свою жизнь. Синьор Джакомо любовался пылающим лицом юноши, его горевшими вдохновением глазами.
С этого знаменательного дня Фелипе в ясные ночи часто подымался на крышу и, освещая фонариком звездную карту, подолгу смотрел на небесные светила, изучал расположение созвездий, следил за таинственными путями планет.
Академия «Тайны природы» просуществовала недолго: на нее обратил внимание церковный суд.
В середине 1563 года постоянные посетители палаццо делла Порта стали замечать трех-четырех просто одетых людей, которые являлись ежедневно и внимательно прислушивались к спорам, кипевшим в дворцовых залах; на многочисленных верандах и лоджиях L Они сами не участвовали в прениях, а когда к ним обращались за поддержкой или опровержением того или иного мнения, они уклонялись от прямого ответа. На вопрос о том, кто они такие, незнакомцы неопределенно называли себя скромными искателями истины из Падуи, Вероны, Флоренции...
Вскоре все стало ясно. Шпионы донесли церковному трибуналу, что в академии делла Порта ведутся опасные речи, что там высказываются мнения, несогласные с учением святой церкви, что там слишкОлМ много говорится о свободе Италии.
Член знатного рода молодой Джамбатиста не подвергся аресту и пыткам. Но собрания в его дворце были запрещены, а за пылкими ораторами академии установили слежку.
Фелипе Бруно, еще слишком юный и пользовавшийся хорошей репутацией в пансионе, избежал внесения в списки подозрительных лиц, которые велись церковниками.
В первый день нового, 1564 учебного года ученики после мессы разместились за столами, синьора Васта раздала учебники. Вошел дон Эрминио Гуальди, кото
1 Лоджия — помещение, составляющее часть здания, у которого наружная стена заменяется открытой колоннадой или арками.
рого время почти не состарило, и положил около себя ферулу. По подсчетам Фелипе, суровый латинист за шесть лет поломал о ладони учеников уже восемь линеек.
Раскрыв страницу, отмеченную закладкой, дон Эр-минио устремил взгляд на трепещущих учеников.
— Барни, ответь, какая часть речи слово «агта».
Манётто Барни, круглолицый мальчуган, встал и, уставив на лиценциата выпуклые черные глаза, начал:
— Слово «агта» есть имя существительное, собирательное...
Фелипе, сидевший в дальнем углу класса, вспомнил свой первый день в пансионе.
«Святая церковь утверждает незыблемость вещей,— думал он. — Вот и на уроках дона Эрминио все повторяется с такой же регулярностью, с какой Солнце и Луна обращаются вокруг Земли по учению Птолемея. А ведь в классе уже нет Маринетти, ушел из пансиона мой друг Луиджи Веньеро. Новые времена, новые лица... А дон Эрминио...»
А дон Эрминио, выслушав ответ Барии, сказал:
— Правильно, садись! Фацио, почему слово «агта» среднего рода?
Фелипе улыбнулся.
Глава вторая,
РЕВЕККА
Из всех мрачных домов неаполитанского гетто самым мрачным был дом богатого менялы Елеазара бен-Давйда1. Стены необычайной толщины, массивная дверь с многочисленными запорами, зарешеченные окна делали жилище Елеазара похожим на тюрьму.
В узких коридорах, в комнатах дома было темно, и посторонний человек заблудился бы среди старинной мебели, шкафов с золотой и серебряной посудой, рыцарских доспехов... Елеазар бен-Давид считался в купеческой гильдии2 менялой, но не брезговал ростовщи
1 Елеазар, сын Давида (евр.).
2 Гильдия— объединение купцов.
чеством. Немало ценной утвари из герцогских и графских замков перекочевало в угрюмый дом Елеазара, как залог за данные взаймы деньги. Многие невыкупленные вещи стали собственностью бен-Давида.
Душой старого дома была дочь Елеазара Ревекка. В свои пятнадцать лет она достигла расцвета красоты. Среднего роста, с гибкой, стройной талией, с пламенными черными очами на смуглом, слегка удлиненном лице, девушка была очаровательна.
Глядя на прекрасное лицо дочери, смягчался даже старый Елеазар. На его иссохшем желтом лице с суровыми глазами проглядывало подобие улыбки.
Мариам, маленькая старушка с морщинистыми щеками, души не чаяла в дочери и спешила исполнить каждое ее желание.
Коренастый неразговорчивый слуга Рувг!м с особой охотой бегал по поручениям Ревекки, кухарка Нахама стряпала для нее лакомые кушанья, и только Аарон, здоровенный молодец лет двадцати трех, не чувствовал к сестре расположения. Не менее отца одержимый жаждой наживы, Аарон со злобой думал о том, что Ревекка имеет право на какую-то долю отцовского имущества, единственным наследником которого он считал себя.
День 4 сентября 1564 года в доме Елеазара бен-Давида начался, как обычно. Сидя за завтраком, глава семьи отдавал распоряжения.
— Ты, Аарон, поедешь в Кайвано1. Нужно предупредить маркиза дель Арджёнти, что, если он не уплатит долг до следующего понедельника, его заклад пропадет.
— Слушаюсь, отец, — сказал Аарон.
Ревекка спросила:
— Разве маркиз не знает, что подходит время уплаты?
— Он-то знает, но такого уведомления требует закон. Ты вручишь дель Ардженти повестку и получишь от него собственноручную расписку. Ты не забудешь, Аарон?
Аарон угрюмо усмехнулся:
1 Кайвано — городок в Кампанье.
— Не в первый раз. А хорошо будет, если у этого расточителя не окажется денег! Его драгоценности стоят больше, чем долг вместе с процентами.
— Да, они вскоре пригодились бы нам.
— Для чего? — поинтересовался Аарон.
— Узнаешь в свое время.
Непонятный намек отца заставил Ревекку насторожиться. За последние дни он не раз бросал на дочь странные, как будто оценивающие взоры. Что это могло означать?
— А ты, Ревекка, будешь помогать мне на рынке, — сказал Елеазар.
Ревекка встрепенулась. Когда Аарон отсутствовал по делам, девушка заменяла его.
— Я готова, отец! — весело воскликнула Ревекка.
Девушку радовала возможность хоть на несколько часов оставить мрачный старый дом, выйти из постылого гетто, пройтись по оживленным улицам города... И еще... Но тут была замешана сердечная тайна, ко-, торую Ревекка хранила глубоко в душе.
Собрались быстро. Елеазар надел ермолку, прикрывшую его седые кудри, накинул широкий темный плащ с желтыми нашивками на груди и спине — проклятыми знаками принадлежности к отверженной расе. Крепко держа кошель с золотом, меняла начал спускаться по узкой крутой лестнице. Ревекка, закутанная в покрывало, несла абак1, а шествие замыкал слуга Рувим с объемистым кожаным мешком, содержавшим разменную монету — серебро и медь. Жителям Неаполя запрещалось носить оружие, но у Елеазара и Рувима таились под кафтанами кинжалы дамасской стали.
Мариам и Нахама проводили хозяина до выхода, выслушали ежедневно повторяемый наказ — не впускать в дом посторонних, и закрыли двери на все запоры.
Елеазар бен-Давид платил налог за постоянное место на самом бойком из городских рынков. Здесь банкир 2 и его помощники расположились за широким сто
1 Абак — счетный прибор, нечто вроде русских счетов.
2 Слово «банкир» произошло от итальянского «банка» — стол. Банкиры средних веков сидели на улице за столом, меняли деньги, производили платежи по поручениям купцов, принимали переводы из других стран, давали деньги под залог. Впоследствии финансовокредитными операциями стали заниматься учреждения — банки.
лом, защищенным от непогоды навесом. Елеазара ожидали клиенты — кто принес долг, кто просил отсрочить уплату, кто просто хотел разменять деньги. Золото и серебро зазвенели на столе Елеазара.
Часто клиенты отзывали Елеазара в сторонку для секретного разговора, тогда Рувим и Ревекка караулили деньги до возвращения менялы. Ревекка рассеянно смотрела на золото, а на уме у нее было совсем другое. Она ждала, не появится ли красивый школяр, зачастивший в последние недели на. рынок.
Фелипе Бруно отдавал много времени изучению астрономических трудов: великая цель, которую он себе поставил, требовала глубоких знаний. Синьор Джакомо поощрял его, и у молодого школяра вошло в привычку посещать лавочки книготорговцев, разыскивая редкие издания. Однажды он забрел на рынок, где торговал книгами старый Анжелйко Гонёлла, большой знаток дела. Фелипе долго перебирал толстые фолианты1 и небольшие книжки, разложенные на столе.
Вдруг до слуха Фелипе донесся нежный голос девушки, говорившей на незнакомом языке. Бруно посмо-, трел в ту сторону и увидел Ревекку, стоявшую рядом с высоким, слегка сгорбленным стариком. А когда в щелку между шапочкой и покрывалом блеснули на Фелипе большие черные глаза, сердце юноши дрогнуло. Он пришел к книгопродавцу Гонелла через неделю, потом через три дня, и, наконец, его посещения стали ежедневными.
Еще издали Бруно искал глазами девушку за столом менялы. И, если она была там, на его лице появлялась улыбка, шаг ускорялся, приветствие серу Анжелйко произносилось звонко, весело.
Но если девушки не было... К большому горю Фелипе, часто случалось, что ее место за столом занимал рослый молодец с крупными чертами лица, с громким голосом, с развязными манерами. Тогда все выглядело для Фелипе по-другому. Сразу бросался в глаза жалкий вид обветшалых лавчонок. Крики торговцев, рас* хваливавших свой товар, казались глупыми и назойливыми. Бруно плелся к столу синьора Гонелла, кисло
1 Фолиант — объемистая книга большого формата.
здоровался с ним и просматривал первую попавшуюся книгу.
Однажды юноша обратился к Ревекке с просьбой обменять два соверена !.
— Их получил дядя от одного из своих учеников, — вежливо объяснил Фелипе.
Ревекка, густо покраснев под вуалью и смущаясь собственной смелости, чуть слышно ответила, что придется немного подождать, пока не подойдет отец. Юноша хотел еще о чем-то спросить, но появился бен-Давид, деньги были обменены, и прекрасный незнакомец удалился нехотя, как показалось Ревекке.
С тех пор Фелипе, появляясь около ларька букиниста, украдкой от Елеазара кланялся Ревекке. Фелипе хотел бы найти предлог снова подойти к девушке, но, как назло, никто из учеников не вносил серу Джакомо плату иностранными монетами. И, потолкавшись около книг, обменявшись с Ревеккой выразительными взорами, юноша медленно уходил.
В этот понедельник 4 сентября Ревекке казалось почему-то, что Филиппо (она знала его имя из разговоров школяра с книготорговцем) должен прийти утром, но его все не было. Ревекка стояла за столом печальная.
К меняле подошел тучный монах-доминиканец1 2 в белой рясе, поверх которой была накинута просторная черная мантия с капюшоном. Елеазар склонился в униженном поклоне чуть не до земли.
— Еще попрыгиваешь, жид, — с высокомерным добродушием сказал монах, — а я думал, тебя уж черти в ад унесли.
— Умирать мне рано, высокочтимый дон Кристофб-ро, — смиренно ответил еврей, — дочь надо замуж выдать.
— Эту красоточку под вуалью? — заинтересовался дон Кристофоро. — Устроить ее — простое дело. Пусть она окрестится, а мы найдем ей женишка из родовитых графов, у которых в кармане пусто. Золото отца заставит забыть о происхождении дочери.
1 Соверен — английская золотая монета, содержавшая около 15 граммов чистого золота.
2 Орден доминиканских монахов был основан в 1215 году для борьбы с многочисленными ересями, распространившимися в ту эпоху. Получил свое название по имени основателя, монаха Доминйко.
В глазах Елеазара сверкнула злоба, руки судорожно сжались в кулаки. Однако старый меняла сдержался и сказал хриплым голосом:
— Скорее я увижу дочь в могиле, чем замужем за назареянином!1
Ревекка испуганно слушала эти слова.
Монах рассмеялся:
— Успокойся, жид, твои семейные заботы меня не касаются. У меня к тебе серьезное дело. Мне стало известно, что маркиз дель Ардженти попал в твои сети. А ведь им не уплачена подать святейшему престолу за целых два года. Я рассчитывал на его драгоценности, но оказалось, что они в закладе у тебя, старый грешник!
— Это так, почтенный дон коллектор2, — согласился ростовщик. — Они у меня по неопровержимой записи, которую засвидетельствовали подеста3 и старшина купеческой гильдии.
— Да, я знаю, вы, евреи, умеете устраивать дела. И, однако, я напомню, что сказано в булле4 его святейшества папы Климента V. «Все, кто позволяет требовать и платить рост5 и принуждает должников к уплате оного, подвергаются отлучению от церкви...»
— Я не принадлежу к вашей церкви, мессер!6
Монах гневно воскликнул:
— Тогда вспомни хоть слова библии, которую одинаково чтим и мы, христиане, и вы, евреи: «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, не будь для него ростовщиком...» Книга «Исход», глава ХХП, стих 25-й. Так сказал господь!
Напрасно монах блеснул знанием библии. Еврей с насмешливой улыбкой погладил длинную седую бороду и, наклонившись к уху собеседника, тихо спросил:
— Неужели вы, мессер, серьезно считаете бедняками маркиза дель Ардженти или герцога ди Кастелло,
1 Назарёянами евреи называли христиан. Это слово имело оскорбительный характер.
2 Коллектор — в данном случае сборщик подати для римского папы.
3 Подеста — градоначальник.
4 Булла — грамота, указ.
3 Р о с т (старин.) — проценты, получаемые с денежной суммы, данной взаймы.
6. М е с с ё р (итал.) — обращение к высокопоставленному. лицу, светскому или духовному.
которому в прошлом месяце одолжили тридцать тысяч скудо под залог его замка из ста процентов годовых?
Дон Кристофоро Монти отшатнулся, пораженный. Сделка с герцогом ди Кастелло совершилась в обстановке величайшей секретности, однако эта старая лисица и о ней знает. «Видно, у жидов повсюду шпионы»,— мелькнула мысль у дона Кристофоро.
— О, синьор Елеазар, я вижу, ты опасный против-; ник! — сказал монах. — Но не будем ссориться, у каждого из нас есть уязвимые места, и у тебя их больше, чем у меня. Надеюсь, ты это понимаешь?
— Настолько понимаю, мессер, что готов поделиться с вами драгоценностями маркиза Ардженти, но, конечно, в разумной мере...
— Насчет этого мы договоримся!
Сборщик папских податей повеселел и отвел еврея в сторону. Разговор между ростовщиками продолжался шепотом. Как видно, дело шло о выгодной сделке, потому что Елеазар вернулся к столу довольный.
— Рувим, пойдешь домой и спросишь от моего имени у Мариам тысячу флоринов. Она знает, где спрятаны деньги. А ты, Ревекка, будешь сопровождать Рувима,— добавил недоверчивый меняла. — Вас, мессер, попрошу обождать, деньги будут через час.
Слуга и дочь Елеазара, побывав в гетто, возвра-, щались на рынок глухими переулками. Внезапно из-за угла налетел шаловливый вихрь и, закрутив, поднял покрывало Ревекки. Девушка ахнула: в двух шагах перед ней стоял Фелипе.
— Вы... вы... не надо! — Ревекка, пылая стыдом, поспешила опустить вуаль.
Но прекрасный образ девушки уже навсегда запечатлелся в памяти Фелипе. Он не забудет этих черных глаз под густыми бровями, этого благородного овала лица, полуоткрытых алых губ...
— Подождите! Поговорите со мной хоть немного! — умоляюще вымолвил Фелипе.
Но Ревекка была уже далеко. На ее счастье, слуга ушел вперед и, озабоченный сохранностью мешка с деньгами, не видел, что произошло. Девушка бегом бросилась догонять его.
Фелипе издали следовал за нейг любуясь красивой походкой Ревекки,
На столе Елеазара бен-Давида звенели дукаты, флорины, скудо, гульдены, соверены *, но перед глазами Ревекки все стоял Фелипе.
«Какой стыд... — думала девушка. — Он увидел мое лицо...»
А на душе ее против воли было радостно. Нежданная встреча в глухом переулке, казалось, должна была многое выяснить в отношениях Ревекки с молодым христианином.
Ревекка возвращалась домой счастливая, но там ее ждал жестокий удар.
Когда семья собралась за ужином, Елеазар встал из-за стола высокий, суровый и торжественно объявил:
— Ревекка, возлюбленная дочь моя, окончились сроки девичества твоего, и через месяц ты станешь женой Манассйи бен-Иммёра!
Глава третья
СМЕЛОЕ РЕШЕНИЕ
Горькую участь приготовил своей дочери Елеазар. Манассия бен-Иммер, его ровесник, богатый торговец пряностями и другими заморскими товарами, свел в могилу трех жен и подумывал о четвертом браке. Манассия бывал по торговым делам в доме бен-Давида, и юность Ревекки пленила старого сластолюбца.
Не сразу согласился Елеазар на предложение бен-Иммера. Жабья физиономия Манассии с тонкогубым широким ртом и далеко расставленными выпученными глазами даже Елеазару казалась неприятной. Но хитрый купец разжигал в сердце бен-Давида чувства алчности и честолюбия.
— Став близкими родственниками, — нашептывал Манассия, — мы соединим наши богатства, и кто тогда сможет нам противостоять? Мы заберем все меняльное дело, разорим соперников, а потом... потом клиенты будут в твоих руках!
Жалость поначалу еще говорила в душе Елеазара, и он возражал:
1 Золотые монеты разных европейских стран»
— Но Ревекка так молода... Ей рано выходить замуж.
Последнее сопротивление отца Манассия уничтожил таким доводом:
— Тебе известно мое влияние среди купцов Неа-. поля! Ты тоже имеешь вес. Вместе мы добьемся того, что тебя выберут старшиной гильдии. Сознайся, это недурно прозвучит, когда герольд 1 введет тебя в собрание купцов и провозгласит: «Достопочтенный реб2 Елеазар бен-Давид, старшина купеческой гильдии менял и за-логоприимщиков Неаполя!» А?!
О размере выкупа за девушку старики спорили долго и ожесточенно, пока не пришли к соглашению.
Ревекку и ее мать известие о предстоящем браке поразило как громом. Только Аарон втихомолку радовался: уход сестры из дома расчищал ему путь к отцовскому богатству.
В последующие дни отец не раз говорил с дочерью. Ревекка должна оставить мысль о сопротивлении отцовской воле, внушал старик. Он, Елеазар, дал слово, а в купеческом кругу известно, что слово Елеазара бенДавида дороже золота, крепче алмаза.
Мать с плачем уговаривала Ревекку покориться судьбе,
— Еврейская женщина — раба с колыбели до могилы,— вздыхая, говорила Мариам. — Так было всегда и так будет. Это закон Иеговы3, и кто осмелится ему воспротивиться?..
Но у Ревекки уже появились первые робкие сомнения в справедливости извечных законов. Дети обязаны повиноваться родителям, но если те готовят им гибель?.. Страшно пойти против отца, но еще страшнее отдать жизнь постылому старику. Однако где же выход?
Уйти из дому, укрыться здесь, в гетто? А какая еврейская семья примет ослушницу отцовской воли?
Дни проходили в мучительных раздумьях, и Ревекка все яснее понимала, что только у христиан можно найти убежище, лишь христиане достаточно сильны, чтобы защитить ее от властного отца.
1 Герольд — глашатай, распорядитель торжественных церемоний.
2 Реб — учитель, обращение к уважаемому еврею.
3 Иегова — так евреи называли бога.
И в сердце все чаще стучало одно слово — пленительное, манящее: Филиппо! Девушку преследовала мысль: «К нему не стыдно обратиться за помощью, он видел мое лицо! Я не нарушила обычаев племени, предписывающих открывать лицо только мужу, это — дело случая... но он видел мое лицо!..»
Решение покинуть отчий дом крепло. Однако, как ни трудно было его принять, а осуществить еще труднее. Девушка решила притворно согласиться на ненавистный брак.
«Тогда отец вернет мне благоволение, — думала она, — снова станет брать меня в город, а там... там, быть может, опять придет на помощь случай...»
Услышав от дочери, что она покоряется его воле, Елеазар вздохнул с облегчением: Аарон уезжал по делам, и без Ревекки на рынке невозможно было обойтись.
После памятной встречи, когда перед Бруно открылось прекрасное лицо юной еврейки, целая неделя прошла в бесплодных попытках увидеть девушку.
«Что с ней? — думал Фелипе. — Быть может, подозрительный отец держит ее взаперти? Или, что еще хуже, отправил в другой город?.. И не у кого спросить, не к кому обратиться... Зачем я хожу сюда? Завтра останусь дома».
Но на другой день юноша опять торопился на рынок.
И, наконец, его терпение было вознаграждено. Он увидел девушку, и сердце его буйно забилось от счастья. Как пролетел Фелипе расстояние, отделявшее его от стола книгопродавца, он и сам не знал. Небрежно перебирая книги, Бруно не сводил глаз с девушки и вдруг заметил: из ее руки выпал бумажный шарик и откатился в сторону. Улучив момент, Фелипе незаметно поднял записку, не сомневаясь, что она адресована ему.
Здесь читать было невозможно, и Бруно ушел с рынка. Найдя укромное местечко, Фелипе дрожащими руками развернул бумагу.
«Дорогой, добрый синьор Филиппо! Я сознаю, что, обращаясь к Вам, нарушаю все приличия, но мне некого
больше просить о заступничестве. Из всех христиан Не-; аполя я знаю (правда, лишь по имени) только Вас, и, если Вы мне не поможете, я погибла.'Отец выдает меня замуж за ненавистного старика, но я лучше умру, чем стану его женой... Я решила покинуть отчий дом, но кто приютит меня в городе, где даже уличные камни враждебны нашему племени? Помогите мне... Но будьте осторожны: отец подозрителен, и стоит ему догадаться, тогда всему конец.
Если моя просьба невыполнима, простите и вспоминайте иногда бедную Ревекку».
Голова Фелипе кружилась, когда он читал это трогательное послание. Снова и снова перечитывал он неровные строки, написанные, как видно, украдкой, торопливо.
«Ревекка просит меня о помощи... Ревекка... Как странно, что я до сих пор не знал ее имени, а теперь мне кажется, что оно всегда звучало в моей душе...»
Поможет ли он Ревекке? Юноша сознавал, что, если он на это решится, перед ним встанут почти непреодолимые трудности. Мысли стремительно неслись в голове Фелипе. Он не сомневался, что прекрасная Ревекка наложит на себя руки, прежде чем станет женой постылого старика.
— Я спасу ее... — лихорадочно шептал Фелипе.— Спасу, чего бы это ни стоило... Если дядя не примет Ревекку, я увезу ее в Нолу. Отец поймет меня, но мать вряд ли одобрит мою любовь... Мы покинем Италию и найдем другую страну, где евреи могут жить свободно...
Взволнованный Фелипе не замечал, что он говорил о Ревекке, как о подруге жизни, что он рассуждал так, точно между ними все решено.
Юноша огляделся, вышел из безлюдного закоулка. Надо сообщить Ревекке адрес. Написать записку, как сделала она? Это рискованно: записку может перехватить отец. Нужно придумать другое...
И Фелипе придумал.
Вернувшись на рынок, он громко обратился к книготорговцу, показывая ему толстую книгу в кожаном переплете:
— Сер Анжелико, я беру вот эту книгу, и беру ее с большой охотой!
Старый, сморщенный Анжелико с удивлением по^
смотрел на школяра, который уж слишком горячо говорил о «Геометрии» Эвклида. Ревекка поняла тайный смысл слов Фелипе, и румянец радости залил ее щеки.
Бруно продолжал:
— У меня с собой нет денег, но пусть ваш ученик через час принесет ее ко мне на улицу Добрых бенедиктинцев, в пансион синьора Саволино. — Обратившись к ученику, Фелипе спросил: — Паулино, ты знаешь доро*. гу на улицу Добрых бенедиктинцев?
— Нет, — ответил Паулино.
— Так слушай!
Громким голосом Фелипе растолковывал мальчику дорогу к своему дому, повторяя по нескольку раз, называя повороты, указывая приметы. И каждое его слово врезалось в память Ревекки.
«Какой он догадливый, мой Липпо... — с восхищением думала девушка. — Как замечательно придумал... Нет никого на свете умнее моего Липпо...»
Глава четвертая
ПРАЗДНИК САН-ДЖЕННАРО
Осенью в Неаполе торжественно праздновался день Сан-Дженнаро1, патрона города. Итальянцы‘были большими любителями религиозных процессий, и чуть не каждый день из той или иной церкви или капеллы выходило шествие с иконами, хоругвями, статуями святых. Но такие шествия привлекали не очень много участников и зрителей.
Иначе обстояло дело, когда чествовали Сан-Дженнаро. На праздник стекались тысячи и тысячи верующих со всей Счастливой Кампаньи. Их привлекало желание своими глазами увидеть великое чудо — кипение нетленной крови Сан-Дженнаро.
Фелипе с двенадцати лет добивался у дяди разре-. шения побывать на празднике Сан-Дженнаро и всякий раз получал отказ.
1 Сан-Дженнаро (святой Януарий) — епископ города Бе-невёнта, был замучен язычниками в 305 году. По преданию, кровь его собрали верующие, и она будто бы нетленно сохранялась в течение веков. Память Дженнаро празднуется 19 сентября.
— Конечно, любопытно посмотреть, как нетленная кровь святого закипает как раз тогда, когда это выгодно патерам Сан-Дженнаро, — говорил, посмеиваясь, Саволино.— Но я не хочу, чтобы тебя принесли ко мне в дом с переломанными ногами или раздавленной грудью. На площади и в соборе бывает ужасная давка, и страдают больше всего дети.
Действительно, жертвы насчитывались десятками, случались увечья со смертельным исходом. Но в этот раз пансионский преподаватель пения по усиленным просьбам Фелипе устроил его в церковный хор, достал для юноши стихарь1 и кружевную пелерину, надевавшуюся поверх.
Когда Фелипе торжественно явился в дядин кабинет в стихаре, с молитвенником в руках и с преувеличенно благочестивым выражением лица, на Саволино напал смех.
— Это что за маскарад?
— Я пойду в собор Сан-Дженнаро с певчими, буду стоять на хорах2, и мне не грозит опасность пострадать от давки, — объявил Фелипе.
— Ну что ж, если так, ступай, — согласился синьор Джакомо. — Тебе полезно посмотреть на безумие фанатичной толпы, свято верящей в чудеса. Я сам был на празднике Сан-Дженнаро только раз, и этого с меня оказалось достаточно.
— Дядя, а как они устраивают, что кровь в сосуде закипает?
— Ну, милый мой, за этот секрет церковники, наверно, дорого заплатили алхимикам3.
19 сентября, во вторник, площадь перед величественным собором Сан-Дженнаро еще с полуночи заполнилась народом. Патрициям приходилось оставлять кареты за три-четыре квартала от собора, и слуги силой прокладывали им дорогу в храм, где у каждой знатной семьи были наследственные места.
Когда подошел час начать службу, соборные свя
1 Стихарь — род церковного одеяния.
2 Хоры — балкон, где помещается хор церковных певчих.
3 Алхимики мечтали превратить железо, медь и другие металлы в золото и для этого делали множество опытов. Случайно им удавалось совершать важные открытия.
щенники, клирики1, церковные певчие, среди которых был и Фелипе, с трудом пробились через толпу.
После окончания торжественной мессы хор пропел заключительную молитву и на амвон2 вышел настоятель собора дон Америго Гусман. Он держал массивный хрустальный сосуд, дно и стенки которого покрывали сгустки багровой жидкости. Народ верил, что это и есть нетленная кровь самого Сан-Дженнаро. Несколько священников в парадных ризах с трудом пронесли и водрузили на престол серебряную статую Дженнаро.
Верующие перешептывались:
— Поворачивают к нам лицо... Смотрите, смотрите— облачают в драгоценные ризы... Вот надевают на голову епископскую митру3. А он-то, он... наш родимый... наш покровитель... Он улыбается!..
Толпа, плотно заполнившая храм, уже приходила в возбуждение. Этому немало способствовал запах ладана, курившегося в многочисленных кадильницах.
— Чудо! Покажите нам чудо! — слышались голоса.
Хор запел славословие Сан-Дженнаро, а патер вертел в руках сосуд, постепенно ускоряя его движение.
Быстрее пел хор, священники громче выкрикивали слова молитв, терявшиеся в душном воздухе храма, быстрее вращался хрустальный кубок, и возбуждение верующих росло неудержимо.
— Кровь, закипай! — раздавались возгласы. — Дженнаро, соверши чудо!
Шли минуты, кровь не закипала, и повальное безумие охватило богомольцев. Люди вскакивали с мест, вытягивали шеи, стараясь получше рассмотреть, что творится на амвоне. Фелипе Бруно ужаснулся, видя потные багровые лица с расширенными глазами, дыбом стоящие волосы, широко раскрытые рты, судорожно сжатые кулаки...
Поведение толпы потрясло юношу.
«И это делает вера, — думал в смятении Фелипе.—• Та самая вера, которая, по словам писания, может двигать горами. Куда же вера движет этих легковерных людей?.. Они подобны диким зверям...»
1 Клирики — церковнослужители.
2 Амвон — возвышенная площадка перед алтарем.
3 Митра — головной убор высшего духовенства.
И уже не крики, а какой-то рев гремел под высокими сводами храма, вой, стоны, мольбы, рыдания — все смешалось в диком разноголосом хоре.
— Дженнаро, мы просим чуда! На коленях смиренно умоляем тебя! Сжалься над нами!!
Совершение чуда задерживалось, и голоса становились все более угрожающими, выкрики все более дерзкими.
— Старик, не раздражай нас! Забыл, что с тобой сделали наши отцы?! Ты не шути с нами, святой!! Подавай чудо, Дженнаро!! Дженнаро, Дженнаро!!!
Священники тряслись от страха: они помнили, как лет тридцать назад, когда кровь святого долго не закипала, фанатичная толпа вытащила сгатую Дженнаро из алтаря и поволокла по уличной грязи. Драгоценные покровы были разодраны в клочья, а священников, пытавшихся помешать святотатству, избили до полусмерти.
Дон Америго Гусман изнемогал с высоко поднятым тяжелым сосудом в руках, а рев озверевшей толпы становился все грознее. Как волна океанского прибоя, он перекатился на площадь, на окрестные улицы.
— Иноверцы! Иноверцы! Нет ли здесь иноверцев?!— раздавались гневные возгласы.
Предание гласило, что если среди верующих заме-, шаются еретики, мусульмане или евреи, то чудо не совершится. И еще немного лет назад толпа католиков растерзала трех богатых маранов 1 из Мадрида, которые захотели посмотреть на чудо кипения крови.
Безумие толпы достигло предела, и наиболее рьяные фанатики уже пробивали кулаками дорогу к алтарю. Стонали ушибленные и придавленные люди... Но долгожданное чудо, наконец, совершилось. Торжествующий аббат высоко поднял сосуд: кровь в нем сделалась жидкой, приобрела ярко-красный цвет и бурно закипела.
Восторженный крик верующих потряс стены храма. Люди плакали, обнимались, в воздух летели мужские шляпы, перчатки дам. На площади загремели выстрелы. Раньше стреляли и в соборе, но после того как от пуль пострадали статуи и иконы, оружие при входе в храм отбиралось.
1 Мараны — испанские евреи, принявшие христианство под угрозой изгнания или смерти. Многие из них тайно продолжали придерживаться еврейской религии.
Дон Америго Гусман спустился с амвона, и, хотя храм был битком набит народом, перед священником образовалась дорожка. Он шел по ней, шатаясь от ус-, талости, а богомольцы старались прикоснуться к куб-5 ку, хватались за ризу настоятеля, и те, кому это удавалось, шалели от счастья.
Настоятель вышел на паперть и со специального помоста показал народу кубок с кипящей жидкостью. И снова бурная радость, объятия, слезы, коленопреклонения...
Люди стали было успокаиваться, когда новая сенсация потрясла всех. Встал и пошел больной, разбитый параличом, которого родные накануне привезли из Аф-раголы и который всю ночь провел на площади перед храмом, молясь святому.
— Чудо! Новое чудо!! — гремела толпа.
К исцеленному бросились, обнимали его, дарили драгоценные перстни, кошельки с золотом. А тот страстно благодарил Сан-Дженнаро за милость...
Настоятель собора, дон Америго, утирая со лба пот, облегченно вздыхал. На этот раз свершение чуда сильно задержалось, но, к славе Сан-Дженнаро, все кончилось благополучно. И проделка с «исцеленным» больным то-, же удалась великолепно...
Ритуал 1 праздника требовал, чтобы кубок с кровью, кипение которой постепенно утихало, был поставлен на престол в алтаре, а статую Сан-Дженнаро подобало пронести в торжественной процессии по главным улицам Неаполя. Священники уже поднимали изваяние на носилки, ио на этот раз Дженнаро не суждено было прогуляться по городу.
В ожидании чуда и сразу после его свершения толпа не замечала, что погода стала угрожающе меняться. Из-за темной громады Везувия, курившегося белым дымком, вдруг выползли густые тучи и стали быстро надвигаться на город.
Предвестник грозы — вихрь пронесся по улицам, крутя пыль и мусор.
Грозы на юге налетают внезапно. Как будто только что зарницы вспыхивали где-то за горизонтом, но вот
J Ритуал — порядок, обычай.
уже змеистая молния прорезала тучу над городом, тяжко ударил гром, и упали первые крупные капли дождя.
Толпы верующих побежали, ища убежища от грозы. Люди прятались под арками ворот, в подъездах, на папертях церквей. А дождь превратился в ливень, шумно хлеставший по мостовым. С крыш низвергались пенистые каскады, и по улицам города, круто спускавшимся к морю, яростно неслись потоки мутной воды.
Из храма Фелипе выбрался одним из первых. Гроза захватила его на углу улицы Добрых бенедиктинцев, где та круто шла в гору. Ливень хлынул с такой силой, что юноше пришлось укрыться в нише стены.
Любуясь буйным разгулом стихии, Фелипе увидал, что какая-то закутанная в покрывало девушка борется с потоком, бурлившим во всю ширину улицы. Что-то знакомое почудилось ему в гибкой, стройной фигурке, смело стремившейся навстречу воде, вместо того чтобы уступить ее напору и пуститься вниз по течению.
— Ревекка! — воскликнул юноша и бросился из укрытия.
Юная еврейка скрылась от отца в то время, когда сотни людей, спасаясь от бури, наводнили рынок. Люди разъединили Елеазара, Рувима, Ревекку. Банкир и его слуга думали лишь о том, как в суматохе уберечь деньги, и позабыли о Ревекке, а та шаг за шагом, пригибаясь и оглядываясь, выбралась из толпы и побежала по пустынным улицам.
Сверкали молнии, грохотал гром, холодные потоки дождя пронизывали ее легкую одежду, а Ревекка ничего не чувствовала, не замечала. Какая-то неведомая сила безошибочно несла ее от угла к углу, от поворота к повороту до улицы Добрых бенедиктинцев.
— Ревекка!
Фелипе схватил девушку за руку:
— Бежим, Ревекка!
Смущенная девушка остановилась. Силы внезапно покинули ее, она впервые поняла, на какое отчаянное дело решилась. Еще была возможность вернуться, солгать отцу, что толпа унесла ее с рынка, что, возвращаясь, она заблудилась... Пойти с Фелипе — это означало безвозвратно отречься от прошлого.
И Ревекка пошла за Фелипе,
Глава пятая
АЛЬДА БЕЛЛИНИ
Задыхаясь от бега, насквозь промокнув, Фелипе и Ревекка очутились перед дверью пансиона. Джузеппе Цампи стоял на крыльце, не прячась от струй дождя, наносимых порывами ветра. Выцветшие глаза привратника горели восторгом, морщинистое лицо сияло. Его голос гремел, пересиливая шум ливня:
— Грядет господь в грозе и буре! Грядет господь, и горе грешникам!!
Старый безумец даже не заметил, как юноша и девушка проскользнули мимо него и вступили в огромную переднюю, куда лишь слабо доносился шум стихий.
Здесь обессиленная Ревекка остановилась, сбросила мокрое покрывало и, робко глядя на Фелипе, спросила:
— А ты говорил со своими? Они не выгонят меня?..
Фелипе молчал. Снова он увидел Ревекку без покрывала. Тогда, при первой встрече, — это было мгновение, а теперь девушка стояла перед ним, смущенная своей смелостью, и Фелипе не мог оторвать от нее взгляда. Огромные черные глаза и крутые дуги бровей, почти сходящиеся над переносьем, полные алые губы, благородные очертания слегка удлиненного лица, толстые черные косы, спускающиеся на грудь...
Нет, лучше Ревекки, его Ревекки, нет ни одной девушки в мире!..
Ревекка нерешительно повторила свой вопрос:
— Скажи, Липпо, твои родители примут меня?
Фелипе ответил не сразу. Он впервые слышал свое имя из уст любимой, и необычное его звучание очаровало юношу.
— Липпо... — задумчиво повторил он. — Как красиво это у тебя выходит... Да, ты спросила меня о родителях. Их нет в Неаполе. Я живу у дяди и тетки. Я не говорил с ними, но уверен...
— Уверен?! — Ревекка горько усмехнулась. — Я тоже раньше была уверена, что отец не променяет меня на золото...
Юноша вспыхнул:
— Мой дядя не таков. Идем к нему, и ты убедишься!
Молодой школяр провел девушку в кабинет Саволино. К счастью, они никого не встретили в коридорах: ученики обедали.
Синьор Джакомо крайне удивился, когда перед ним предстала неожиданная гостья. Не слушая сбивчивых объяснений племянника, он послал его за теткой. Мудрая Васта, только взглянув на лица Фелипе и Ревекки, все поняла.
— Потом расскажешь, — отмахнулась она от Фелипе.— А сейчас надо заняться бедняжкой...
Она исчезла и через несколько минут вернулась с ворохом белья и платьев. Заставив мужчин выйти из комнаты, матрона 1 переодела Ревекку во все сухое, и только тогда Фелипе мог приступить к рассказу. Ревекка, пылая от стыда, закрывала лицо руками.
— Дядя Джакомо, тетя Васта, вы примете Ревекку? — с надеждой спросил юноша.
— Это слишком серьезный вопрос, чтобы на не-* го ответить сразу. Мы должны посоветоваться, — сказала Васта и пошла из комнаты, поманив за собой мужа.
Уединившись в спальне, супруги долго молчали. Первым заговорил Джакомо:
— Кажется, мальчик сделал большую глупость. Если мы примем молодую еврейку, репутация пансиона..»
Жена перебила его с горькой усмешкой:
— Репутация пансиона!.. Да, конечно, в последние два года она укрепилась от неустанных трудов Фелипе. Но пусть даже придется закрыть пансион, мы сумеем прожить... Ты видел, какими глазами смотрел Фелипе на девушку?
Джакомо попытался отшутиться:
— Мы, мужчины, хорошо разбираемся в таких вещах только в молодости.
— А мы, женщины, всегда, — серьезно возразила Васта. — И я вижу, что это — любовь на всю жизнь...
— Да, но к кому? К еврейке...
Предубеждение против евреев, искусно внушаемое христианам церковниками, жило и в душе Саволино, этого доброго и сострадательного человека.
Васта вспыхнула:
1 Матрона-так называли замужних женщин в Италии.
— Большая любовь не признает преград. И разве не сказал Христос, что пред его лицом нет эллинов и иудеев, рабов и свободных...
Джакомо заколебался:
— Ты права, дорогая, но евреи... Они подымут шум.
— Они, вероятно, потребуют, чтобы мы отдали Ревекку, если нападут на ее след. Но Неаполь велик... Наконец, нас могут защитить власти.
— А ты не думаешь, Васта, что нашему Фелипе будет грозить опасность? Ведь Ревекка из-за него оставила родительский дом.
— Ну что же? Он мужчина... почти мужчина,—-сквозь слезы улыбнулась Васта, — и с его пылкой кровью он встретит любую опасность смело.
— У тебя на все найдется ответ, — проворчал Саво-лино.
— И потом, Джакомо, милый, — Васта нежно коснулась руки мужа, — наша Альда была бы в тех же го-, дах...
Такая тоска прозвучала в голосе женщины, исстрадавшейся без дочерней любви и ласки, что Джакомо не устоял.
— Ладно, возьмем девчонку, и будь что будет!
Оставшись вдвоем в кабинете Саволйно, Фелипе и Ревекка не могли промолвить ни слова: они с трепетом ждали приговора, который должен был решить их судьбу. При стуке двери они вздрогнули. Но лицо синьора Джакомо было спокойным и ясным, а Васта ласково улыбалась.
— Ревекка, ты останешься в нашем доме, — просто сказал старик.
Девушка бросилась к ногам Саволйно и поцеловала руку великодушного ноланца.
— Благородный синьор, я, быть может, навлеку беду на ваш кров... Но я так одинока, так несчастна...
— Ты не одинока, Ревекка, пока я с тобой! — горячо воскликнул Фелипе.
Васта спросила:
— Вас кто-нибудь видел в доме?
— Нет, — ответил Фелипе. — Старый Цампи ждет Христа, и ничто земное для него не существует, а пансионеры и прислуга в столовой.
— Хвала пресвятой деве Марии! — набожно перекрестилась синьора Васта и обратилась к девушке: — Ты моя племянница Альда Беллини. Ты только что приехала гостить из Флоренции, где твой отец, а мой родной брат Бассо Беллини торгует полотном. Вы живете на Виа Нубва, улице, ведущей в предместье Оньисанти. В твоих чертах есть что-то еврейское, и это потому, что твоя мать была дочерью марана.
Саволино с восхищением смотрел на Васту. Мгновенно придуманная ею история легко объясняла трудности, связанные с внезапным появлением Ревекки.
— Ты все запомнила, девочка?
— Да, синьора... да, тетя! — поправилась Ревекка и бросилась в объятия доброй женщины.
Нежно поцеловав девушку, Васта продолжала:
— Нас может погубить малейшая неосторожность. Епископский суд везде имеет шпионов, возможно, они есть и среди наших слуг. Альда, ты христианка и должна вести себя так, чтобы тебя не коснулось ни малейшее подозрение. Тебе придется посещать мессы, ты должна осенять себя крестным знамением, читать наши молитвы.
— Я все понимаю, тетя Васта. Я много думала еще дома и понимаю, что это необходимо...
— Я сам буду учить Ревекку молитвам, — перебил Фелипе и тут же осекся под укоризненным взглядом тетки.
— Фелипе, привыкай называть Альду ее новым именем,— строго вымолвила Васта.
— Простите, тетя...
Вечером весь пансион знал, что к синьоре Васте приехала из Флоренции племянница Альда Беллини. Ей, бедняжке, пришлось попасть под страшную грозу, что разразилась сегодня над Неаполем и его окрестностями. При переправе через овраг экипаж опрокинуло потоком. Возница спас Альду, но вещи девушки унесло в море, и ей придется носить теткины платья.
Когда кончилась гроза и богомольцы разошлись с рынка, Елеазар бен-Давид с удивлением и тревогой увидел, что Ревекки около него нет.
По его приказу Рувим обежал рынок и прилегающие улицы, но не нашел девушки.
Хотя солнце стояло еще довольно высоко, Елеазар с беспокойством поспешил домой, надеясь там найти дочь.
Узнав об исчезновении Ревекки, Мариам разорвала на себе одежды, посыпала голову пеплом из очага, оплакивая девушку:
— Возлюбленная дочь моя, юнейшая и прекраснейшая из дочерей Израиля, лоза виноградная без порока, светлая звезда, ведущая путника в пустыне!.. Кто, злокозненный,. безжалостно растоптал розу Сиона, кто под корень подрубил цветущую смоковницу?!
Кухарка Нахама вторила госпоже, а Елеазар стоял посреди комнаты с потемневшим лицом, грозный, как древний пророк.
— Молчите, глупые женщины! — наконец воскликнул Елеазар. — Непокорная дочь не заслуживает наших слез! Пусть сопутствует ей проклятие на ее нечестивом пути!..
Пораженная Мариам умолкла, а кухарка с любопытством спросила:
— Неужели вы думаете, хозяин, что Ревекка убежала?
Елеазар мрачно ответил:
— Как видно, она только притворилась, что покорна моей воле, а в голове у нее было другое... Ревекка не овца, а дикая серна!
Мариам, всхлипывая, сказала:
— Но куда же могла девочка скрыться? Кто даст ей убежище? Ревекка никого не знает за пределами гетто!
— Никого?!
Елеазар задумался. Никого?! Старик стал вспоминать тех, кто чаще всего появлялся возле его меняльного стола.
С доном Кристофоро Монти, сборщиком папских податей, Елеазару приходилось сталкиваться по ростовщическим делам.
О любовных похождениях монаха говорил весь Неаполь, но разве могла к нему сбежать непорочная Ревекка? А похитить молодую девушку папский кол
лектор вряд ли решился бы: это вызвало бы слишком большой скандал.
Молодой маркиз дель Арджента? Большая часть его драгоценностей стала собственностью Елеазара. Маркиз явился для переговоров в дом ростовщика. Он осмелился сделать комплимент Ревекке по поводу ее красоты, хотя и видел ее только под покрывалом. Но де-, вушка ответила ему так, что молодой повеса не осмеливался больше с ней заговаривать. Нет, это не Арджента.
Но кто же тогда? И тут услужливая память нарисовала Елеазару образ юного школяра в черной сутанел-ле, который часто — слишком, пожалуй, часто! — появлялся возле прилавка синьора Анжелико Гонелла, соседа по рынку.
Он, конечно, во всем виноват он, этот красавчик с голубыми глазами и первым пушком над губой! Елеазару припомнилось, что он даже замечал восхищенные взоры, которые юноша бросал на его дочь. Тогда он, Елеазар, не придал этому значения, о слепец, слепец! Да ведь назойливый школяр однажды в присутствии его дочери называл свой адрес, описывал дорогу... Тогда Елеазар не обратил на это внимания, но теперь ему стало ясно, что они обо всем сговорились. Какое коварство!
Проклиная дочь, Елеазар сознавал, что Ревекку толкнуло на безумный шаг предстоящее замужество со стариком.
Но что теперь делать? Разыскать беглянку, объявить, что ее не отдадут за Манассию бен-Иммера, что она сможет по своей воле выбрать мужа из иудина1 племени? Нет, нет и нет! Бегством к христианам Ревекка навек запятнала себя, и он, Елеазар бен-Давид, столп веры, один из старейшин синагоги2, не сделает неверной дочери ни малейшего снисхождения.
А старая Мариам, понимая, что творится в душе ее мужа и повелителя, напрасно взывала о милосердии, напрасно пыталась доказать, что дочь, быть может, ни в чем не виновата.
1 Евреев часто называли иудиным племенем по имени Иуды, одного из их родоначальников.
2 Синагога — молитвенный дом у евреев.
Елеазар решил вернуться на рынок и узнать от книготорговца, кто этот школяр, где он живет. Но оказалось, что уже свечерело и на рынок идти было поздно.
За всю ночь Елеазар и Мариам не сомкнули глаз, но на все мольбы жены старик не ответил ни единым словом.
Едва забрезжил рассвет, Елеазар уже стоял у закрытых ворот гетто. На рынке его терпение подверглось новому испытанию: синьор Анжелйко не спешил к своим книгам. Но вот он появился с добродушной улыбкой на маленьком, сморщенном, как печеное яблоко, лице. Он весело обратился к меняле:
— Друг Елеазар, ты сегодня без своего кошеля, за обладание которым охотно поломали бы копья графы и маркизы?
— Сер Анжелйко, меня мучит совесть... (Гонелла удивленно пожал плечами.) Вы ведь знаете молодого школяра в черной сутанелле, который часто роется в ваших книжках?
— Как же, — утвердительно кивнул книготорговец. — Еще недавно он купил у меня превосходное издание «Геометрии» Эвклида.
— Так вот, на днях я менял этому юноше гульден и теперь вспомнил, что недодал ему два сольдо, целых два сольдо! Я должен вернуть их клиенту!
— Честность в торговых делах — важное дело, сосед,— снисходительно заметил Анжелйко. — Ты можешь послать деньги с моим мальчиком, он знает, где живет Филиппо Бруно.
— А, так его зовут Филиппо Бруно? Я не хочу никого затруднять и сам отнесу недостачу, а кстати и попрошу прощения.
— Воля твоя, — ответил книготорговец. — Насколько я помню, Бруно живет в доме Фазуччи на улице Добрых бенедиктинцев.
Через полчаса Елеазар очутился перед пансионом Саволино. Вид его был так дик и мрачен, что Цампи, стоявший на своем посту, перепугался и воскликнул:
— Разве Страшный суд уже начался и мертвецы встали из могил?
Услышав эти зловещие слова, ростовщик повернулся и побежал вверх по улице с такой быстротой, точно сам
•дьявол гнался за ним по пятам. Полы его длинного кафтана бились о тощие ноги в коричневых чулках, расшитая серебром ермолка слетела с седых кудрей, и он не остановился, чтобы ее поднять.
Так бежал он, ничего не видя вокруг, чудом не попадая под колеса быстро мчавшихся карет, не слыша насмешек, которыми осыпали его зеваки. В его мозгу громоздились страшные библейские образы, ему мерещился Авраам, поднявший нож над поверженным Исааком, Самсон, обрушивающий колонны пиршественного зала...1
У ворот гетто он упал без сил.
Глава шестая
БЕЗМЯТЕЖНЫЕ ДНИ
— Чем меньше тайны, тем лучше, — сказала синьора Васта. — Если Альда будет скрываться от посторонних глаз, это вызовет нежелательные толки.
И на следующее утро Альда, смущаясь, вошла в столовую, держась за руку мнимой тетки. На девушке было легкое розовое платье, долго провисевшее в гардеробе. Васта приспособила его к росту и фигуре Аль-ды. Восхищенным пансионерам показалось, что сама заря появилась в большой мрачной комнате и осветила ее потемневшие дубовые стены.
Под пылающими взглядами школяров Альда прошла к столу и заняла место возле синьоры Васты. Та первой прервала неловкое молчание.
— Я так давно покинула нашу милую Флоренцию,— сказала она, обращаясь к Альде, — что уже начинаю забывать ее. Когда я была в твоем возрасте, мы с подружками любили купаться в Арно перед плотиной Оньисанти у моста Алла Карайя. Красив этот мост.
— Ах, тетя! — изумленно воскликнула Альда. — Разве вы не знаете, что Понте алла Карайя рухнул во вре-< мя великого наводнения пятьдесят седьмого года?
1 По библейскому преданию, Авраам хотел убить своего сына Исаака в жертву богу. Силач Самсон, взятый в плен врагами, разрушил дом, куда его привели, чтобы поиздеваться над ним.
Тут, в свою очередь, удивилась синьора Васта, и девушка рассказала подробности о наводнении.
— Мне исполнилось тогда восемь лет, — говорила Альда, — но я все хорошо помню. Ливень шел четыре дня и четыре ночи. Мама повела меня на городскую стену и показала оттуда реку — мутную, страшную, затопившую берега. На следующий день две арки Понте алла Карайя обрушились под напором воды. А с Понте Санта Трйнита получилось еще хуже: его целиком унесла река...
Васта всплеснула руками:
— Какое несчастье!
— Большое несчастье, тетя! — серьезно подтвердила девушка. — У коммуны 1 не было денег на восстановление мостов, и расходы возложили на купцов. Отцу пришлось заплатить пятьдесят восемь дукатов. Он так часто говорил об этом, что цифра запомнилась мне навсегда.
— Да, мой братец, а твой отец Бассо не любит расставаться с деньгами, — улыбнулась Васта и перевела разговор на другое. — А куда вы ходите молиться? По-прежнему в Санта-Мария Новелла?
— Конечно, куда же еще? Там мой любимый образ девы Марии, помните, тетя, наверху между капеллами Ручеллаи и Барди ди Вёрнио? А вы еще не забыли прекрасное изображение Фомы Аквинского, патрона ученых?..
Разговор продолжался в том же духе. Тетка и племянница легко перебрасывались названиями флорентийских улиц, площадей, церквей, монастырей, городских ворот...
Санта-Чечйлия, Санта-Мария дель Фьоре, больница Порчеллано, что на углу Виа Нубва, монастырь Санто-Спирито, цитадель Прато, Виа дель Кокомёро, предместье Сан-Фриано, Понте Веккио... У слушателей зазвенело в ушах, и они готовы были поклясться на евангелии, что прекрасная Альда все до мелочей знает о своем родном городе — прекрасной Флоренции. Ведь если тетка путала что-нибудь за давностью лет, племянница тут же ее поправляла.
Но пансионеры не подозревали, что так легко и не
1 Коммуна — городская община в средневековой Италии.
принужденно разыгранный на их глазах спектакль потребовал большой и напряженной подготовки, отнявшей у исполнителей значительную часть ночи.
В это утро случилось неизбежное: все двадцать де-» вять пансионеров Саволйно стали соперниками Фелипе Бруно в любви к юной красавице. Во время уроков юноши и мальчики думали только об Альде Беллини,, и из-за этого выходили курьезные случаи. На уроке латинского языка юный Манетто Барни вместо опостылевшего «агта» начал склонять «Alda», а Мйкеле Брандйно на вопрос, кто создал знаменитую статую Персея, за-; явил: «Ваятель Беллини»1.
В часы, когда полагалось готовить уроки, пансионеры, прячась друг от друга, писали стихи в честь прелестной Альды, бессовестно обкрадывая древних и новых поэтов. Когда Альда ходила по дому, из того или другого закоулка появлялся красный от смущения поклонник и совал в руки девушки бумагу:
— Это вам, синьорина! Прочитайте на досуге, но никому не показывайте...
А вскоре выскакивал другой и тоже подавал листок:
— Великая тайна! Прошу вас, Альда, никому ни слова!..
Вечером в кабинете Саволйно синьора Васта и Альда со смехом подсчитывали любовные послания:
— Три оды, одиннадцать сонетов и два мадригала!.. 2
— Ого! — говорил Джакомо. — Сегодня урожайно!: Скоро можно составить библиотеку.
Васта подбавляла масла в огонь:
— Я слышала, что торговец бумагой на нашем рынке срочно послал в Венецию большой заказ на этот товар.
Фелипе, слушая шутки, багровел и хмурился.
Поклонники Альды, видя, что стихи не трогают сердце гордой красавицы, решили перейти к подаркам. Почему-то все подарки покупались на фруктовом рынке. Один преподносил девушке корзину винограда, другой апельсины, третий связку сушеных фиг.
1 Статуя «Персей» стояла во Флоренции перед дворцом герцога* Ее создал знаменитый Бенвенуто Челлини (1500—1571), ювелир и скульптор.
2 Мадригал — стихотворение, в котором восхваляется возлюбленная.
Оригинальнее всех оказался подарок девятилетнего Бертино Миньянёлли. Он только в этом году впервые пошел к причастию и поступил в пансион, но пылкости его чувства могли позавидовать многие старшие ребята.
За завтраком Альда сказала, что любит тыквенную кашу. Только маленький Бертино обратил внимание на эти слова, и в его восторженной головенке родилась дерзкая мысль.
Мальчик происходил из почтенной купеческой се*, мьи, и к нему был приставлен слуга. Но даже слуга не заметил, как Бертино исчез после утренних уроков. Тревога поднялась не сразу, но, когда мальчугана не нашли в доме, весь пансион высыпал на улицу — искать пропавшего товарища.
Непонятное зрелище представилось их глазам: по крутому подъему улицы Добрых бенедиктинцев катилось огромное желтое колесо, в котором с трудом признали тыкву. И только потом за тыквой увидели голову Бертино Миньянелли.
С утра прошел дождик, неровные лавовые плиты мостовой были скользки, и кудрявый черноглазый малыш катил тыкву с величайшим трудом.
Школяры и слуги с хохотом помчались к Бертино. Его слуга, молодой и сильный Санти, хотел помочь сво-. ему господину и донести тыкву до дома Фазуччи. Но Бертино грохнулся на мостовую и, колотя по ней руками и ногами, поднял неистовый рев, в котором только и можно было разобрать слова:
— Я сам... синьорине Альде... сам!..
Вечером Альда поблагодарила Бертино за подарок и поцеловала его в лоб. Восхищенный, обезумевший от счастья черноглазый малыш поклялся совершить в честь своей богини новые, еще более славные подвиги. Однако слуга стал бдительно следить за ним и не выпускал Бертино из дому.
Фруктовых подношений оказывалось так много, что кухарке Чеккине не приходилось покупать фрукты на рынке, а пансионеры стали требовать у родителей больше денег на карманные расходы, уверяя, что цены на учебники, бумагу и чернила сильно поднялись.
Каждое утро Фелипе просыпался с чувством, что в его жизнь вошло что-то необычайно хорошее, светлое.
Любовь к Ревекке и стремление освободить астрономию от заблуждений слились в душе Фелипе в одно неразрывное чувство. Юноша решил, что любимая должна изучать астрономию вместе с ним.
По вечерам на плоскую кровлю дома Фазуччи стали подниматься двое. Лежала на крыше разостланная карта звездного неба, ее освещала свечка, горевшая в фонарике, а юноша показывал Ревекке Марс, Юпитер, великолепное созвездие Ориона, уже восходившее на южном горизонте.
В сладком забвении протекали дни и вечера Фелипе, но синьора Васта жила в тревоге. Джузеппе Цампи, не подозревая всего значения своих слов, как-то рассказал хозяйке, что в день приезда ее племянницы перед их домом появился старый еврей, смотревший на окна пансиона с диким, угрожающим видом. Васта знала, какой мрачной известностью пользуется в Неаполе имя ростовщика Елеазара, как он беспощаден к тем, кто по несчастью попадает к нему в руки. Открыв убежище дочери, Елеазар будет мстить, и самые страшные удары направятся на Фелипе и Ревекку.
На следующий день после разговора с Цампи Васта побывала у одного из городских оружейников и заказала стальную кольчугу для Фелипе. Сделка была тайной. Испанские угнетатели не разрешали итальянцам иметь не только огнестрельное, но и холодное оружие. Приобретать кольчуги и другие доспехи тоже запрещалось.
Правда, за большие деньги можно было добыть разрешение носить оружие, но такое разрешение ставило его владельца в ряды подозрительных лиц, за которыми велась постоянная слежка. Ведь каждый вооруженный неаполитанец мог при случае пополнить силы фуоришй-ти — изгнанников, боровшихся с иноземными захватчиками.
Многочисленные отряды фуоришити, оставивших родные города и села, скрывались в лесах и горах Южной Италии, и на борьбу с ними посылались целые полки конных жандармов.
Потому-то кольчугу для Фелипе патриот-оружейник сделал тайно. А великолепный кинжал из толедской стали нашелся у дяди: тот прятал оружие еще со времени своего участия в мятеже 1547 года.
Глава седьмая
суд
Упавший без чувств у ворот гетто Елеазар бен-Давид был доставлен домой. Старая Мариам начала оплакивать мужа, но, заметив, что он дышит, послала Рувима за врачом.
В дом ростовщика пришел Эзра бен-Натаниэль, лысый старик со впалым ртом, с реденькой бородкой, с живыми проницательными глазами. Скинув с плеч черный бархатный плащ, Эзра подошел к больному, послушал сердце, поймал дыхание на серебряное зеркальце и поднес к ноздрям Елеазара открытый пузырек с сильно пахнущей жидкостью.
Бен-Давид чихнул, приоткрыл мутные глаза и забормотал гневно. Прислушавшись к речам больного, врач покачал головой.
— Клянусь Моисеем, половины того, что говорит реб Елеазар, довольно, чтобы навлечь на него беду. Что у вас случилось?
Мариам с плачем рассказала об исчезновении дочери.
Эзра оставил флакон с эликсиром, составные части которого и способ приготовления были секретом доктора. Он велел давать лекарство трижды в день и предписал больному полный покой. Он запретил упоминать имя Ревекки и просил не подпускать к постели Елеазара никого из назареян.
Выздоровление больного подвигалось медленно, и только через три недели стали появляться признаки улучшения. Еще через неделю Елеазар призвал к постели сына и имел с ним долгий секретный разговор. Аарон отказался рассказать матери содержание беседы с отцом и ушел из дому.
Через час молодой еврей появился на улице Добрых бенедиктинцев; надвинув на брови ермолку, он внимательно следил за всеми выходившими из дома Фазуччи.
Долго простоял Аарон на улице, пока не увидел человека, который, по его мнению, мог оказаться ему полезным. Выбор пал на Санти, слугу маленького Бертино, так храбро сражавшегося с тыквой.
Санти, широкоплечий молодец с круглым красным лицом, с маленькими глазками, казался любителем по
болтать за кружкой вина. Когда Аарон предложил ла-*' кею прогуляться в тратторию чтобы поговорить по делу, Санти ухмыльнулся:
— Я никогда не отказываюсь от выпивки, когда она оплачена из чужого кармана.
За отдельным столиком в дальнем углу зала собе-» седники выпили по три объемистые кружки кьянти, но разговор шел о вещах, далеких от пансиона Саволино. Говорили об опасностях дальних морских плаваний, о том, что овечьи стада к зиме спускаются с гор в долины, о том, что шерстяные плащи в дороге греют лучше полотняных, и о многом другом. Наконец Аарон решил перейти к делу:
— А скажи, друг, ты не забыл бурю, что разразилась в день праздника Сан-Дженнаро?
Лакей оскорбился:
— Не тебе бы, сыну Иуды, выговаривать погаными устами имя нашего святого патрона!
Аарон долго и униженно извинялся, потом снова настойчиво спросил:
— А все-таки скажи, ты помнишь ту грозу?
— Как не помнить, коли я потерял башмак, спасаясь от ливня!
— Так вот, друг Санти, вспомни, кто появился в тот день в вашем пансионе?
— Кто появился? Дай подумать... Это, кажется, был вторник? По вторникам у нас появляется дядя Микеле из Савиано, продавец сыра. Поставщик оливкового масла— тот приходит по четвергам...
Санти глядел на еврея с откровенной насмешкой, и Аарон понял, что от этого хитрого парня одним угощением ничего не добьешься. Он со вздохом вытащил из кошелька флорин и положил перед лакеем на стол:
— Это тебе.
Парень взял монету и начал рассматривать.
— Редко попадает мне в руки такой золотой круглячок с портретом его бывшего величества Карла V, божьей милостью императора и короля Обеих Сицн-лий1 2. Да, ты спрашивал, кто у нас появился в тот день?
1 Траттория (итал.) — трактир» ресторан.
2 В те времена Неаполь и Сицилия объединялись в королевство Обеих Сицилии.
Что-то начинаю припоминать... Как будто появилась... Нет, забыл!
Вторая золотая монета блеснула перед глазами Сан* ти и исчезла в его потной руке.
— Да... появилась девушка... Вот как она выглядела, хоть убей, не помню!
Несколько флоринов окончательно прояснили па-; мять Санти, и он рассказал молодому еврею то, что слышал о девушке от хозяев пансиона.
— Так ты говоришь — Альда Беллини из Флоренции, внучка марана? А какой у нее выговор? Тосканский? 1
Поощренный еще одной монетой, слуга припомнил, что выговор Альды в точности походит на здешний, неаполитанский.
Расставаясь, Аарон шепнул:
— О нашей встрече, друг Санти, никому ни слова, особенно там.
Санти насмешливо брякнул золотыми монетами.
Вызов Джакомо Саволйно на суд по обвинению в укрывательстве Ревекки, дочери Елеазара, не явился для содержателя пансиона неожиданным.
Жена давно рассказала ему, что старому Елеазару известно убежище Ревекки. Непонятно было, почему еврей ничего не предпринимает, и молчание врага казалось грозным. По приказу тетки Фелипе каждый раз, выходя из дому, надевал под сутанеллу кольчугу и прятал кинжал.
Приказом градоправителя предписывалось явиться на суд, кроме синьора Саволйно, его жене Васте, выдающей означенную Ревекку за свою родственницу, и школяру Филиппо Бруно, способствовавшему бегству означенной Ревекки.
Весть о предстоящем суде больнее всего поразила Альду.
С потемневшим лицом, с опухшими от слез глазами девушка долго оставалась неподвижной, а потом ска-, зала:
1 Тоскана’— область, главным городом которой была Флоренция.
— Тетя Васта, дядя Джакомо, не нужно идти против судьбы. Отдайте меня отцу.
Фелипе вскочил с места, чтобы ответить, но его опередила Васта.
— Дочка моя милая, — сказала она, нежно обнимая Альду. — Мы не пошлем тебя на гибель.
— Да, да, — подтвердил Саволино. — Мы предвидели, что Елеазар потребует твоего возвращения, но это не помешало нам дать тебе приют.
— Права отца священны, — печально молвила Альда.
— Не во всех случаях, — многозначительно возразил синьор Джакомо. — Я говорил с законниками, и мне разъяснили, что отец теряет власть над детьми, если...—-Саволино замялся и не докончил свою мысль.
— Власть отца прекращается, — пылко подхватил Фелипе, — если дети принимают христианство! Ты слышишь, Альда: власть прекращается!
— Мой Липпо, я это давно знала, — ответила девушка.— Такой случай был несколько лет назад в гетто: юноша, полюбивший христианку, ушел из племени.
— Ну, вот видишь! — торжествующе вскричал Фелипе.— Хватило же у него смелости!
— Но раввин и родные прокляли его страшной клятвой, а через несколько месяцев он внезапно умер в расцвете сил и здоровья.
Тень смерти точно прошла по комнате, оледенив сердца людей.
— Но у нас ты будешь в безопасности, — сказала синьора Васта. — Моя кухарка надежна, она не подсыплет яду в пищу.
— А я всюду буду сопровождать тебя с оружием в руках! — воскликнул Фелипе.
Альда зарыдала:
— Милые вы мои, дорогие, я вам бесконечно признательна и боюсь не за себя. Я знаю, мне суждено погибнуть, но горько думать, что я навлекла беду на ваш дом...
Старый Джакомо нахмурился:
— Я много лет прожил на свете и привык отвечать за свои поступки. То, что я сделал, считаю законным и, защищая свое право, дойду до самого вице-короля. Жи
ви спокойно под нашим кровом, Альда! Вопросы веры я оставлю на суд твоей совести, но помни, что, останешься ли ты еврейкой или перейдешь в христианство, ты всегда будешь одинаково дорога нам.
Лицо старого бунтаря дышало непреклонной энергией, когда он говорил с Альдой, и к девушке пришло успокоение. Она не посмела выразить свое чувство признательности синьору Джакомо и со слезами благодарности обняла Васту.
По дому быстро разнеслась весть, что Альда Беллини не та, за кого себя выдает, что в действительности она — Ревекка, дочь еврейского менялы Елеазара бенДавида. Пораженные этим известием, почти все поклонники отшатнулись от юной красавицы. Лишь немногие остались ей верны, и в числе их оказался кудрявый Бертино Миньянелли.
— Я буду любить синьорину Альду до конца своих дней, — всхлипывая, говорил черноглазый малыш. — Но лучше бы ей принять христианство...
Любящим сердцем Бертино угадал единственный способ спасения Ревекки.
В назначенный день обвиняемые явились на суд.
Подеста, высокий представительный старик, сидел в золоченом кресле, поставленном на некотором возвышении.
С его плеч ниспадал плащ малинового бархата, на голове была черная шелковая шапочка, украшенная страусовыми перьями. На шее сановника висел испанский рыцарский орден Сант-Яго, пожалованный ему королем Филиппом II за то, что подеста помогал угнетателям держать неаполитанский народ в повиновении.
Две группы людей расположились перед креслом градоправителя поодаль одна от другой.
Справа стояли Джакомо Саволино, Васта, Фелипе Бруно и дочь Елеазара Ревекка.
Слева теснились евреи: изможденный болезнью Елеазар бен-Давид, его жена Мариам, сын Аарон, слуги Рувим и Нахама, оскорбленный жених Манассия бен-Им-мер.
Прежде всего была установлена личность Ревекки, а потом назвали себя истец и ответчики. Христиан
привел к присяге священник, а евреев раввин. Все поклялись говорить суду сущую правду не из ко--рысти или телесного страха, а следуя законам своей религии.
Привлеченные необычным процессом, судебную залу переполняли любопытные: дворяне, испанские офицеры, монахи, купцы, богатые евреи. Люди переговаривались, шутили, смеялись, но все смолкло, когда подеста подал знак истцу.
Елеазар говорил долго. Он доказывал свое отцовское право текстами из библии, грозил непокорной дочери божьим гневом, обвинял ее в неблагодарности. Ревекка слушала не перебивая.
Предоставляя слово другой стороне, подеста спросил синьора Саволйно, есть ли у него адвокат. Прежде чем Саволйно успел ответить, Ревекка отстранила его и выступила вперед.
— Адвокаты не нужны тем, кто возлагает надежду на бога! — воскликнула она. — Я буду защищаться сама!
— Говори, девица! — приказал подеста.
— Все, что здесь сказано моим отцом, правильно по иудейскому закону. Но я отвергаю этот закон и желаю принять святую католическую веру!
По зале пронеслись возгласы, загремели аплодисменты.
Из толпы выдвинулся дон Кристофоро лМонти. Благочестиво закатив глаза, он провозгласил:
— Святая апостолическая церковь берет заблуждавшееся, но раскаявшееся чадо под свою защиту!
Мягко, но решительно отстранив монаха, вперед выступил дон Грегорио Монтйхо, кастеллан1 замка Санта-Эльмо, офицер средних лет в шляпе со страусовыми перьями, в блестящем мундире, увешанном знаками отличия, со шпагой, подвешенной впереди на испанский манер. Глядя на Ревекку, полковник зато-; ворил:
— Испанская нация всегда чтит юность, особенно в тех, кто, отвергая ложное учение, прибегает в лоно святой апостолической церкви. Я предлагаю вам, девица, надежное убежище в стенах Санта-Эльмо.
1 Кастеллан (итал.) — комендант.
Альда тихо ответила:
— Неприлично было бы мне, отказавшейся от жестокого отца, покинуть отца великодушного и сострадательного, хорошего христианина и доброго гражданина Неаполя...
— Кто этот новый отец? — недоверчиво спросил ка-стеллан.
— Достопочтенный синьор Джакомо Саволино, который приютил меня, когда я оставила гетто. Он выразил непременное желание удочерить меня тотчас же, как я приму святое крещение, и с моей стороны было бы черной неблагодарностью насмеяться над его добротой, хотя я высоко ценю внимание синьора испанца...
Саволино удивленно крякнул:
— Вот девчонка! Бес, а не девчонка!
В толпе пронеслось шушуканье:
— Еврейка умна, как судья, поседевший на службе... Испанцу нечего возразить...
И действительно, разочарованный кастеллан затерялся среди зрителей.
Подеста обратился к синьору Джакомо:
— Эта девица говорит правду?
— Истинную правду, — горячо подтвердил Саволино, — клянусь в этом святым животворящим крестом господним! — Он перекрестился. — Я беру ее в дочери.
— Еще один вопрос, — сказал градоправитель.— Как представитель гражданской власти, я обязан следить за точным исполнением законов. Имеет ли право сия несовершеннолетняя Ревекка, дочь Елеазара, принять христианство без согласия отца?
Елеазар хотел заговорить, но ему не дал дон Кри-стофоро.
— По точному смыслу указа Генеральной хунты 1488 года в Вальядолиде, — торжествующе выкрикнул монах, — мужчинам иной веры разрешается присоединяться к нашей святой религии в возрасте четырнадцати лет и женщинам в возрасте одиннадцати лет. Сколько тебе лет, девица?
— Мне исполнилось пятнадцать.
— Закон соблюден, — заметил подеста. — Жид, твоя претензия отвергнута. У тебя нет больше дочери. Она станет христианкой.
Глаза Елеазара мрачно сверкнули.
— Она никогда не станет христианкой, — пробормотал он так тихо, что его услышала только жена.
Мариам громко вскрикнула:
— Дочка моя, доченька!..
— Мама!..
Ревекка бросилась к матери:
— Мама, прости, прости за все!..
Елеазар грубо оторвал Мариам от дочери и, сопровождаемый ругательствами и насмешками, потащил жену за собой. Подеста сурово крикнул вслед уходящему:
. — У вас, иудеев, длинные руки, но помни, Елеазар, что твоя дочь отныне находится под покровительством города Неаполя, и горе тебе, если ты задумаешь ей мстить!
Бен-Давид не ответил.
Под огнем враждебных взглядов кучка евреев оставила дворец градоначальника.
Глава восьмая
В ОСАЖДЕННОЙ КРЕПОСТИ
Ревекка снова появилась среди пансионеров, внимание поклонников было ей возвращено сполна. Достоинство христиан позволяло любить еврейку, решившую стать католичкой. Но Ревекка узнала цену этой влюбленности и встречала ухаживания с гордым и презри-; тельным видом. Только Бертино, сохранивший свое чувство в дни отвержения Ревекки, встречал ответную привязанность, и это возносило черноглазого малыша на вершину счастья.
Крещение Ревекки было назначено через месяц, а за это время юная еврейка должна была изучить догматы католической веры у пансионского исповедника, сурового патера Базилио Беллука.
События первых же дней после суда показали, что Елеазар бен-Давид не склонен считаться с предупреждением властей и что Ревекке и ее друзьям грозит большая опасность. Первым это пришлось изведать Фелипе.
Вечерело, когда с синьором Джакомо случился сер-
дечный припадок, и оказалось, что нет лекарства, которое он принимал.
— Я пойду в аптеку! — воскликнул юноша и выбежал из дому.
Как обычно, Фелипе надел кольчугу и взял кинжал, и это спасло его в минуту беды. Фелипе задержали в аптеке с приготовлением лекарства, и, когда он возвращался домой, было уже темно.
Юноша шел по пустынной улице, и вдруг из темного подъезда выскочили двое мужчин в плащах и масках — высокий и низенький. Фелипе не успел опомниться, как почувствовал тупую боль между лопатками: один из нападающих ударил его в спину кинжалом. Добрая сталь кольчуги выдержала удар. Убийцы растерялись от неожиданности, и Бруно успел выхватить оружие и полоснул высокого по руке. Фелипе проскользнул между врагами и прижался спиной к кирпичам стены.
Боль захватывала дыхание. Кольчуга спасла юношу от смерти, но его положение оставалось крайне опасным.
Убийцы наступали на Фелипе, остерегаясь попасть под удары.
Фелипе бросился вперед и вонзил кинжал в бок низенького бандита. Он и сам получил удар в руку, но оружие только прорезало сутанеллу и скользнуло по кольчуге. Низенький рухнул на землю.
Юношу больше не преследовали, и он благополучно вернулся домой.
Фелипе раздели, уложили в постель в комнатах Саволино. Васта, понимавшая толк во врачевании, ужаснулась, взглянув на спину племянника: по ней расплывался огромный кровоподтек. Видимо, пострадал и один из позвонков, так как Фелипе жаловался на ноющую боль посредине спины.
— Тебя спасла пресвятая дева Мария, — набожно молвила матрона.
— Меня спасла предусмотрительность доброй тети Васты, не пожалевшей денег на кольчугу... — слабо улыбнулся Бруно.
— Фелипе, не кощунствуй! — строго перебила тетка.— Знаешь ли ты, что мысль одеть тебя в кольчугу внушена мне девой Марией?
— Если так, беру свои слова обратно и вместе с тобой возношу хвалу богородице.
Синьора Васта осталась довольна ответом племянник ка. Джакомо, уже выпивший лекарство и оправившийся от припадка, подмигнул Фелипе и тотчас же отвернулся, пряча улыбку.
На другой день Саволино с утра отправился во дворец градоначальника. Его принял экзекутор \ полный небольшой человек в черной мантии, с золотой цепью на шее.
— Синьор экзекутор, — взволнованно заговорил Саволино,— я обвиняю еврея Елеазара бен-Давида в покушении на жизнь моего племянника Филиппо Бруно!'
— Он напал на вашего племянника с оружием в руках? — небрежно спросил экзекутор.
— Нет, ваша милость, он подослал двух браво, и только мужество моего племянника спасло его от смерти.
О кольчуге синьор Джакомо благоразумно не ска-, зал ни слова.
— Напишите прошение, мы займемся этим делом, когда подойдет очередь.
Саволино написал короткую просьбу на листе бумаги, завернул в него несколько дукатов и подал экзекутору. Почувствовав тяжесть денег, чиновник смягчился и сразу заговорил по-другому.
— Действительно, наглость этих иудеев превосходит всякие границы! — возмущенно воскликнул экзекутор. — Немедленно доставить ко мне еврея Елеазара бен-Давида!— приказал он начальнику городской стражи.— Вас, синьор, попрошу подождать, — вежливо обратился чиновник к Саволино.
Приведенный стражниками бен-Давид хладнокровно выслушал обвинение.
— Поставьте передо мной этих браво, — сказал он, — и пусть они посмеют утверждать, что это я нанял их!
Синьору Джакомо пришлось признать, что убийцы убежали и что он не знает их имен и местожительства.
1 Экзекутор — городской прокурор в средневековой Италии.
— Я полагаю, что Бруно поссорился с родственниками какой-нибудь оскорбленной им девицы, — ядовито молвил старый ростовщик. — Христиане-школяры забыли стыд и совесть, они нарушают божеские и человеческие законы.
Такая ненависть звучала в словах Елеазара, что синьор Джакомо содрогнулся.
Ростовщика пришлось отпустить, так как против него не оказалось улик.
Бруно пролежал несколько дней. А потом опять произошло покушение. Это случилось в первый же раз, когда Фелипе и Ревекка снова занялись астрономическими наблюдениями.
Юноша показывал Ревекке созвездие Кассиопеи и объяснял, откуда произошло его название. И в этот момент раздался резкий свист, и фонарь, который держала Ревекка, выпал из ее рук. У ног девушки лежала стрела с железным наконечником, выпущенная из арбалета. Стреляли с чердака соседнего дома.
Бруно подхватил Ревекку, лишившуюся чувств от испуга, и поспешил вниз. Искать арбалетчика было бесполезно, он, конечно, скрылся сразу после того, как сделал свое черное дело.
Первым порывом синьора Саволйно было снова отправиться с жалобой к властям, но он сообразил, что и теперь против бен-Давида нет никаких улик, и мрачно сказал:
— Нет, в борьбе с таким противником приходится рассчитывать только на свои силы.
Наблюдения за небесными светилами прекратились, но через несколько дней еще один случай заставил убедиться, с какой неумолимой злобой Елеазар преследовал отступницу-дочь.
Во время обеденного перерыва Ревекка прогуливалась по двору с Бертино Миньянелли. Малыш фантазировал на тему о том, что когда он вырастет, то купит боевого коня, наденет рыцарские доспехи и с отрядом отважных товарищей разгромит всех врагов синьорины Альды. Неожиданно раздался грохот. Огромный камень свалился с высокой стены, окружавшей двор, и осыпал осколками Ревекку и мальчика.
Бруно обыскал все соседние дворы, но никого не обнаружил»
'— Если бы... если бы я... нашел этого негодяя! — Фелипе задыхался от ярости.
Дом Фазуччи напоминал осажденную крепость. Ее осада велась по всем правилам военного искусства. Потерпев неудачу в двух покушениях на Ревекку, враги попытались проникнуть внутрь дома.
В час утренних уроков юная еврейка шла по пустынному коридору, и вдруг холод обдал ей сердце: перед ней бесшумно появились два рослых молодца.
«Погибла...» — подумала Ревекка.
Незнакомцы угрожающе продвигались к девушке, но в этот момент в коридоре появились возвращавшиеся с урока ученики.
— Ревекка, Ревекка! — раздались веселые голоса.
Подозрительные незнакомцы сделали несколько шагов к выходу.
Пансионеры обступили их, и Фелипе угрожающе спросил:
— Что вам здесь нужно?
— Мы к синьору Пинёлли, — униженно кланяясь, проговорил один из нежданных посетителей. — Он у себя?
— Синьор Пинелли живет в соседнем доме, — сурово возразил Бруно. — Вы могли узнать об этом у привратника.
— Мы не видели привратника.
Встревоженная Васта, появившаяся на месте происшествия, поспешила к выходу, школяры пошли за ней, плотно окружив незнакомцев.
Джузеппе Цампи не оказалось на посту.
— Вы убили его! — воскликнул Фелипе.
— Что вы, милостивый синьор! Мы не занимаемся такими делами...
В конце улицы показался старый Цампи, спешивший изо всех сил. Его седая борода развевалась на ветру, он махал руками.
— Отпусти этих людей, — шепнула Васта племяннику. — Мы не докажем их вину.
Кольцо школяров расступилось, и бандиты мгновенно скрылись.
— Это не евреи, — сказал Бруно.
— Конечно, нет, — сказала синьора Васта. — Среди
браво не найдешь евреев. Безопаснее мстить чужими руками...
Когда Цампи, запыхавшись, добрался до крыльца, от него узнали следующее. Некто в белом одеянии, принятый стариком за ангела, внезапно появился перед ним и закричал:
— Что ты здесь стоишь, Джузеппе Цампи? Разве ты не знаешь, что Иисус Христос уже спустился на землю и судит живых и мертвых на улице Кожевников?! Торопись, не то опоздаешь!
И бедный безумец, забыв обо всем на свете, бросился бежать на Страшный суд...
Фелипе и синьора Васта обменялись многозначительными взглядами.
В помощь Цампи поставили дюжего малого, несколько лет служившего у Саволино. На его бдительность и честность можно было положиться. Всем обитателям пансиона предложили выходить из дому только в случае необходимости и вести себя осмотрительно.
Возвращаясь, слуги докладывали о подозрительных встречах, о соглядатаях, скрывавшихся за углом, и о других, зазывавших в тратторию и суливших деньги за услугу. Видно, огромна была ненависть Елеазара к дочери-отступнице, что он окружил ее убежище шпионами и убийцами, не жалея золота на их оплату. И все же друзья Ревекки не обращались к властям, понимая полную бесполезность жалоб.
Во всяком гарнизоне во время осады обнаруживаются маловеры и трусы. Нашлись они, конечно, и в доме Фазуччи.
Некоторые слуги потребовали расчета. Среди них был и Санти, продавший Ревекку за золотые флорины. Нечистая совесть погнала его из дома, где вместо прежнего спокойствия и веселья царила тревога. Шесть учеников оставили пансион Саволино, заявив, что не намерены рисковать жизнью для спасения еврейки.
— Ваши ученики бегут, вы терпите убытки, — говорила Ревекка синьору Джакомо. — Я оставлю ваш дом и укроюсь до дня моего крещения в женском монастыре.
Фелипе горячо возражал, и девушка не решилась выполнить свое намерение. Да и найдет ли она в мона
стыре такую защиту, как в пансионе, где Бруно, собрав всех надежных людей, бдительно охранял Ревекку. Возглавив маленький гарнизон, он не спал по ночам, днем не посещал занятий и лишь тогда позволял себе отдохнуть несколько часов, когда его сменял дядя.
Среди грозных событий любовь Фелипе и Ревекки росла и крепла. Они виделись по многу раз в день.
«Ты жив!.. Ты жива!» — говорили их глаза, сияющие радостью. А смертельная угроза по-прежнему висела над ними.
Однажды кухарка Чеккина доложила хозяйке:
— Дешево купила пару гусей. Новый продавец ходит по домам, видно, хочет заполучить постоянных покупателей.
— Зажаришь на вертеле на второе.
Через час из кухни послышались вопли. Когда испуганная Васта вбежала туда, она увидела жуткую картину.
Толстая Чеккина с лицом белым как мел склонилась над трупом кошки Пиппы.
Из бессвязных выкриков Чеккины, прерываемых рыданиями, синьора Васта поняла, что кухарка бросила своей любимице кусочек гусятины, и та, проглотив сразу мясо, через несколько минут повалилась в конвульсиях.
— Святой Дженнаро! Матерь божья... Иисусе сладчайший!... Ведь я сама только что хотела попробовать, прожарилось ли мясо!
Васта поспешила закрыть дверь, и вовремя: отовсюду начали сбегаться любопытные.
Синьора Васта поняла: если об этом новом покушении узнают в пансионе, он опустеет в тот же день. Но Чеккина давно служила в доме, любила хозяев и обещала молчать о трагическом происшествии. Смерть кошки объяснили тем, что она подавилась костью. Трупы Пиппы и отравленных гусей Чеккина ночью зарыла во дворе.
Ни Ревекке, ни Фелипе, ни даже самому синьору Джакомо о новом покушении не сказали. Синьора Васта понимала, что это происшествие станет каплей, которая переполнит чашу. Ревекка, конечно, оставит приютивший ее дом, а стареющая женщина горячо, страсти
но полюбила девушку, в которой точно воскресла ее умершая дочь. Ведь Альда так привязалась к синьоре Васте, что только с ней делилась тоской по матери, слабой, жалкой, задавленной гнетом старого Елеазара. Юная еврейка нежно ласкалась к Васте, бесхитростно делилась с ней своими маленькими девичьими секретами...
«Нет, я не могу расстаться с Альдой, — решила синьора Саволино. — А если она покинет нас, с ней уйдет и Фелипе. Наш дом потеряет душу...»
Нет, ни Альде, ни Фелипе нельзя было говорить о страшном событии на кухне. И тем более нельзя было сказать о нем Саволино: в своей запальчивости он мог совершить неблагоразумный поступок. Ведь старый бунтарь уже не раз намекал, что лучшим способом уладить их дела было бы, если бы он, Джакомо, отправился на рынок святого Антонио с аркебузой в руках и там свел счеты с ненавистным врагом.
Всю ответственность за молчание Васта приняла на себя.
С этого дня на хозяйку дома и кухарку Чеккину пала тяжелая забота: проверять с величайшей тщатель-ностью продукты, поступавшие в дом.
Провизию брали только у знакомых поставщиков, но и те могли стать невольными сообщниками преступников. Поэтому в кухне появилась клетка с кроликами, а на дворе собаки.
Мясо, рыбу, овощи давали пробовать животным, прежде чем подавать все это к столу. Вино Чеккина покупала сама на монастырских виноградниках, и из каждого бочонка наливала чару продавцу — толстому мо-. наху с багровым носом.
Чтобы не пугать ребят, предосторожности соблюдались в тайне, но шила в мешке не утаишь, и тревожные слухи поползли по дому.
И так среди забот и волнений подошел знаменательный день, когда Ревекка должна была принять христианскую веру.
Утихнет ли злоба Елеазара и смирится ли он перед неизбежным?^
Глава девятая
КРУТОЙ ПОВОРОТ
По улицам Неаполя двигалась торжественная процессия. В этот день, в воскресенье 26 ноября 1564 года, святая апостолическая церковь готовилась принять в свое лоно заблудшее чадо, юную Ревекку, дочь Елеазара.
В писании говорится, что богу угоднее один кающийся грешник, чем сто праведников, и поэтому духовенство широко распространило слух о предстоящем крещении еврейки.
Обряд должен был совершиться в самой богатой церкви Неаполя — Санта-Мария Инкороната, и говорили, что там будут присутствовать подеста и высшие испанские офицеры. Говорили также — и это уж казалось совершенно невероятным!—что подеста вызвался быть крестным отцом новообращенной.
Шествие возглавляли конные трубачи и хоругвеносцы1. В белых шелковых мантиях, спускавшихся на круп лошади, в остроконечных шапках с кистями, трубачи дули в серебряные трубы, и гулкие звуки лились звонко и радостно.
За хоругвеносцами следовал хор. Выстроенные по росту от малюток дискантов до плечистых усачей окта-вистов, одетые в короткие парчовые стихари с вышитыми крестами на груди, с бледно горевшими при свете дня восковыми свечами в руках, певчие пели «Ave Maria»2, заглушая шум и разговоры толпы.
Как непременные участники торжества, шеренгами по четыре в ряд шли пансионеры Саволино. Маленький Бертино Миньянелли, восхищенный предоставленной ему честью, нес на розовой бархатной подушке золотой крестик на цепочке, который будет надет на шею ново-; обращенной христианки.
Чинно шагали, опустив глаза в землю, монахини из монастыря Санта-Кьяра. В длинных черных мантиях и черных пелеринах, в черных головных уборах они перебирали четки, повторяя молитвы.
1 Хоругвь — церковное знамя с изображением святого.
2 «А в е Мария» — молитва, обращенная к богородице.
Главной фигурой, ради которой собрались все эти сотни участников процессии и тысячи зрителей, была Ревекка, дочь Елеазара. На нее было устремлено множество любопытных взоров.
В белом атласном платье, с распущенными до пояса черными волосами, в венке из алых роз, с гордым прекрасным лицом, юная еврейка шла меж двух крестных матерей — синьоры Васты Саволйно и настоятельницы женского монастыря, достопочтенной доньи Агнёсы дель Фортегуёрри.
Следующий ряд составляли только двое: будущий приемный отец новообращенной, синьор Джакомо Са-волино, и его племянник, молодой школяр Филиппо Бруно.
В парадной сутанелле, с непокрытой головой, исхудалый, с побледневшим лицом, Фелипе шел, не сводя глаз с Ревекки. В его голове неотвязно вертелись слова, которые утром были сказаны девушкой: «Мой любимый! Если я переживу сегодняшний день, нам суждены долгие годы счастья...»
Насильно улыбнувшись, Фелипе попытался успокоить девушку:
«К чему такие мрачные мысли? У тебя будет надежная охрана».
«Если меня не охранит бог, люди не помогут», — возразила Ревекка.
И тогда Фелипе сказал:
«Что бы с тобой ни случилось, любовь моя, будешь ли ты жить или сойдешь в могилу, я клянусь, что всегда— в радости и печали, в богатстве и нищете, на родине и в изгнании — я неизменно останусь верен тебе до самой смерти!»
«Это страшная клятва, Липпо, — тихо вымолвила Ревекка, — но я верю тебе...»
И она впервые робко поцеловала юношу.
Следующей значительной группой процессии были священники церкви Санта-Мария Инкороната. Первым шел настоятель в маленькой митре на голове, с посохом красного дерева в руке. За ним следовали двенадцать патеров, все в пышных ризах с золотыми крестами на груди, сиявшими при блеске солнца, и двадцать четыре диакона с кадильницами в руках.
Шествие замыкала многочисленная колонна учеников из школы монастыря Святого Доминйко. Бледные, худые от постоянного недоедания, они шли, пересмеиваясь и перешептываясь, довольные тем, что хоть на несколько часов вырвались из щемящей монастырской скуки.
Двенадцать карет, нанятых синьором Джакомо, двигались за процессией. В этих каретах после совершения таинства знатные гости должны были возвратиться из храма в дом Фазуччи, где готовился торжественный пир в честь новообращенной христианки Альды Саволино.
Зрители переговаривались с удивлением:
— Такого пышного крещения давно не приходилось видеть. Тринадцать священников!.. Кареты!.. Целый женский монастырь!.. А сколько школяров!..
Но еще больше удивляло толпу, что процессия шла под сильной охраной. С двух сторон ее отделял от зрителей отряд кавалерии — по два всадника в каждом ряду. Усатые солдаты с обветренными лицами, в кожаных кафтанах, с палашами у пояса, с короткими пиками, смотрели на любопытных сурово, точно ожидая приказа разогнать весь этот сброд.
— К чему такие предосторожности? — говорили люди. — Разве молодой еврейке грозит опасность?
Ужасное событие положило конец торжеству.
Когда Ревекка поравнялась с большим старым домом, расположенным на углу двух улиц, в чердачном окне показался дымок, прогремел выстрел, и девушка, пораженная пулей, стала клониться назад... С воплем беспредельного отчаяния Фелипе подхватил любимую па руки.
С последним вздохом Ревекка прошептала:
•— Я говорила, Липпо...
И она умерла.
Безумными остановившимися глазами Фелипе смотрел на девушку. Возможно ли? Не страшный ли это сон? Она только что шла перед ним гордая, стройная, полная жизни... Одно мгновение — и все земное для нее кончено...
Дикий вопль прорезал зловещую тишину улицы:
г— Иудеи! Мою Альду убили иудеи!
Это кричала Васта Саволино, страшная, бледная, как смерть, с руками, грозно поднятыми к небу. В ответ раздались сотни яростных голосов:
— Скорее в гетто! Жид Елеазар ответит за преступление!!
Буйная толпа, ломая строй кавалеристов, понеслась к воротам гетто.
Тем временем спешившиеся пикинеры, взломав двери необитаемого дома, поднялись на чердак. Они нашли там только брошенную аркебузу прекрасной работы, установленную на треножнике так, что из нее можно было выстрелить с большой меткостью. Едко пахло пороховым дымом. Из чердачного окна, глядевшего на двор, свешивалась веревочная лестница...
Мстители, ворвавшиеся в гетто, остановились перед домом Елеазара беи-Давида. Мрачный старый дом, более чем когда-либо походивший на тюрьму, казался безлюдным. Громовые удары в дверь где-то раздобытыми ломами и бревнами потрясли дом до основания, но никто не отзывался.
Дверь разлетелась, и свирепая толпа наводнила темные комнаты и узкие коридоры жилища старого ростовщика. Затрещала мебель под ударами топоров и ломов, зазвенели разбиваемые вдребезги венецианские стекла шкафов. Но драгоценностей в них не оказалось. Люди, золото, алмазы — все исчезло.
Испуганные соседи Елеазара, призванные на допрос, показали, что меняла еще накануне оставил дом вместе с женой и сыном, с прислугой. Бен-Давид, его сын и слуга Рувим несли за спинами увесистые мешки.
Перебив в доме все, что было возможно, возмущенные люди подожгди мебель, подложив под нее листы из счетных книг ростовщика и долговые расписки. Сбежавшиеся со всех переулков обитатели гетто сумели отстоять соседние дома.
Жилище Елеазара выгорело дотла, остались лишь почерневшие от копоти растрескавшиеся стены с узкими проемами окоп.
Дальнейшее расследование выяснило, что Елеазар бен-Давид покинул Неаполь на тартане, отплывшей в неизвестном направлении. Наемного аркебузйра, убившего Ревекку, так и не нашли.
На одном из столов, с которого убраны были яства.
кувшины с вином и пиршественные кубки, лежало тело Ревекки в белом платье, с венком из алых роз на голове. Фелипе стоял с поникшей головой. Он не слушал слов утешения, которые ему говорили. К чему все это? Теперь земное счастье для него недостижимо...
Перед убитыми горем друзьями Ревекки встал вопрос: где похоронить девушку? Духовенство воспротивилось намерению Джакомо Саволйно устроить похороны на христианском кладбище: ведь Ревекка так и не приняла святое крещение. А положить девушку среди еврейских могил казалось оскорбительным для памяти той, которая говорила Фелипе: «Твой народ будет моим народом, и твоя вера будет моей верой...»
И Ревекку похоронили вдали от Неаполя, у подножия Везувия. Одинокий кипарис охранял ее могилу, которую покрыла белая мраморная плита с краткой надписью: «Альда Саволйно».
Немногие шли за гробом Альды: Фелипе, чета Са-волино, согбенный Джузеппе Цампи, кухарка Чеккина, несколько пансионеров и среди них безутешно рыдавший Бертино Миньянелли.
Две недели после похорон Ревекки Фелипе ходил мрачный, ни с кем не разговаривал, и видно было, что он переживает пору мучительного раздумья.
А потом он вошел в кабинет сера Джакомо и сказал глухим голосом:
— Дядя, я решил идти в монахи!
Саволйно подумал, что он ослышался.
— Что ты говоришь, Фелипе?
— Я вступаю в монастырь!
Сер Джакомо привскочил от негодования:
— Как?! Сын Джованни Бруно, племянник Джакомо Саволйно пришел к такому бессмысленному решению?! Нет, я этому не верю!
— И, однако, это так, дядя!
— Но тогда, Фелипе, должна же быть у тебя какая-то причина?
•— Причина есть, и очень веская!
Фелипе сел рядом с дядей и, поглаживая его старчески пухлую руку с набухшими венами, доверчиво заговорил:
— Альды больше нет, и семейное счастье для меня
невозможно. Что мне осталось в жизни? Одна наука... Я должен стать и стану выдающимся ученым! А путь в науку лежит только через монастырь.
— К сожалению, ты прав, мой мальчик, — угрюмо согласился сер Джакомо. — Уж так повелось в католическом мире, что магистры, лиценциаты и доктора наук не связывают себя семейными узами и принимают монашество.
— Вот видишь, дядя! И я решил выбрать лучшее, что предоставляет мне моя трудная судьба. На окраине Неаполя расположен доминиканский монастырь Сан-Доминико Маджбре, при нем есть университет. Я думаю, меня примут в студенты, когда я стану монахом...
— Еще бы не приняли с твоими-то знаниями! — воскликнул старик.
— Я часто буду приходить к вам с тетей в гости,— продолжал Фелипе. — А что было бы, если бы я уехал учиться в Рим или Падую?..
— Ах, бесенок, — поневоле улыбнулся сер Джакомо,— ты умеешь уговаривать. Но не думай, что дело может решиться одним моим согласием. Надо вызвать твоих родителей.
И снова, как несколько лет назад, собрался семейный совет решать судьбу Фелипе Бруно.
Отец и мать Фелипе впервые узнали о любви своего сына и о ее трагической развязке. Старый знаменщик искренне пожалел о горькой участи юной еврейки. Он не утешал юношу, понимая, что его горе не исцелить словами. Бруно только обнял сына, и скупая слеза скатилась по его щеке. Фраулиса втайне была рада, что Фелипе потерял возлюбленную. Еще в раннем детстве сына она прочила ему духовную карьеру, а женитьба Фелипе отрезала бы ему дорогу в монахи. Но у крестьянки хватило душевного такта скрыть свои чувства.
Семьи Бруно и Саволино собрались в кабинете сера Джакомо.
— Поедем с нами в Нолу, сынок, — предложил старый Бруно. — Поживешь у нас месяц-другой, развеешь горе в родных местах.
— Нет, — отозвался Фелипе, — я не поеду в Нолу, у меня другие планы.
И он рассказал о них отцу и матери. Джованни Бруно был потрясен решением сына. Он резко обрушился на него, грозил своим гневом, если он не одумается. Фелипе был непоколебим.
В разговор вмешалась синьора Васта. Она мягко уговаривала племянника:
— Забвенье смягчает людские горести, иначе жизнь была бы невозможной. Когда погибли мои дети, в последних судорогах призывая маму, я мечтала о смерти как о желанном убежище от невыносимой скорби. А вот живу же, — грустно улыбнулась она. — И кое-кому оказалась нужной...
Фелипе нежно поцеловал руку Васты. Он понял, как велико желание тетки уберечь его от опрометчивого шага: впервые за долгие годы она повела речь о своих умерших детях.
Снова заговорил Джованни Бруно:
— Сынок, у тебя вся жизнь впереди. Встретишь другую, полюбишь... И как же тогда?
— Я никогда не полюблю другую, — сказал Фелипе.— Моя душа с душой Альды связана навек. Две жизненные цели ставил я себе: создать истинную науку о небе и сделать Альду счастливой. Альды нет... но мне осталась астрономия!
Удивленная Фраулиса спросила:
— А что такое астрономия?
— Наука о небе, о далеких планетах и звездах,— объяснил Фелипе. — Отныне я ей отдам всего себя.
Разочарованная Фраулиса вздохнула:
— Значит, ты не примешь священного сана?
Сер Джакомо обратился к сестре:
— Конечно, он примет! Видишь ли, святые тунеядцы не зарабатывают себе на пропитание, они живут на всем готовом. Вот они свободное время и отдают науке.
Фелипе обиделся.
— Ты издеваешься надо мной, дядя, но ведь у меня пет иного пути, и ты сам с этим соглашался.
Разговор прекратился, но он еще не раз возобновлялся в последующие дни.
Из старших только Фраулиса безоговорочно поддерживала решение сына. Супруги Саволино не очень возражали против вступления Фелипе в монахи: их подку
пало, что мальчик будет рядом, здесь же, в Неаполе, в стенах Сан-Доминико Маджоре, и часто будет с ними видеться. Джованни Бруно лучше всех понимал смятенную душу сына. Он по себе знал, что теперь всякие уговоры бесполезны. Ведь он, Джованни, и сам в молодости поступил так же, когда, не считаясь с запретом родителей, пошел в солдаты. Старый знаменщик только полагал, что Фелипе опомнится за время послушничества и вернется в свет. И в этой надежде он уступил желанию сына и дал согласие на его вступление в монастырь.
Решение отца было законом. Фраулйса вернулась в Нолу радостная.
Перед синьором Джакомо встал вопрос о дальнейшем существовании пансиона.
За последние два года наблюдение за учебной работой целиком лежало на Фелипе.
«Не будет Фелипе, не будет и пансиона», — решил Саволйно. Здоровье старика не позволяло ему самому заниматься хлопотами, связанными с содержанием учебного заведения. А преемника Фелипе Джакомо не смог найти.
— Что же, все приходит и все уходит, — сказал себе Джакомо словами древнего мудреца. — Пора и мне на покой.
Благодаря умелому хозяйничанию Васты у супругов Саволйно было кое-что скоплено на старость.
Представлялась возможность выручить некоторую сумму за продажу разрешения на содержание пансиона. Такие разрешения испанцы давали неохотно: им выгоднее было держать покоренный народ в невежестве. Но выданное разрешение можно было переуступить другому лицу.
Право на содержание пансиона купил за сто дукатов падре Эрминио Гуальди.
Из всех учителей пансиона он был наименее любимым, однако должность соборного священника позволила ему нажить много денег. Одержимый бесом стяжательства, дон Эрминио решил увеличить свое состояние, занявшись воспитанием юношества.
Но под управлением Гуальди пансион потерял былую славу и вскоре закрылся.
Передав пансион новому владельцу, чета Саволйно
поселилась в небольшом домике на окраине города. Слуги были уволены, и со стариками поселились только кухарка Чеккина и одряхлевший Джузеппе Цампи. Васта приютила бывшего привратника из милосердия: идти ему было некуда, он умер бы с голоду на улице.
Все хлопоты, связанные с передачей пансиона дону Эрминио, Фелипе Бруно принял на себя. Эти заботы отняли более полугода.
И вот 1.4 июня 1565 года по крутому склону, ведущему к воротам монастыря Сан-Доминико Маджоре в Неаполе, подошел' юноша в траурной одежде, с непокрытой головой, и потянул за веревку колокола, вызывавшего привратника.
После трех гулких ударов колокола узкая калитка распахнулась, и показался седой монах.
— Что тебе нужно в этой обители покинувших мир и кто ты такой? —спросил он.
— Смиренный брат Филиппо, отныне посвящающий свою жизнь служению богу,— тихо ответил Бруно.
— Войди, брат! — был ответ.
И Филиппо Бруно переступил порог монастыря.
V U (Z С С Оп£€ On, СJt
Монастырь
Глава первая
НАЧАЛО ИСКУСА
Фелипе долго держали в пустой келье, а затем провели в капеллу, освещенную лампадой. Там должен был состояться обязательный для каждого вступающего в обитель разговор с аббатом, мессером Амбрбзио Паскуа.
Стены капеллы были разрисованы картинами, изображавшими мучения святых: одного обезглавливали, другого жгли на костре, третьего перепиливали пополам. Лица мучителей были черны, как уголь, а святые безмятежно улыбались, словно муки доставляли им удовольствие.
Капелла казалась пустой, и Бруно вздрогнул, услышав голос:
— Подойди ближе, сын мой!
Фелипе убедился, что голос исходил из-за ширмы, отделявшей угол комнаты. Приблизившись, юноша смутился: в ширме были проделаны две дырки, и из них
сверкали черные проницательные глаза с огромными зрачками. Фелипе остановился в двух шагах от ширмы.
— Стать на колени! — раздался приказ.
Юноша повиновался.
— Рассказывай, что привело тебя в стены нашей святой обители?
Бруно ждал этого вопроса. Он откровенно рассказал о своей жизненной драме и по замечаниям дона Амброзио понял, что она известна монаху.
Юноша признался в любви к астрономии и пылко говорил о том, что монастырское уединение позволит ему всего себя отдать науке.
Аббату Паскуа еще не приходилось выслушивать такую исповедь. Он понял, что перед ним не заурядный искатель сытой и праздной монашеской жизни, а человек с огромными душевными силами.
«При умелом руководстве мальчик станет видным деятелем церкви, — подумал настоятель. — А наука — это юношеское увлечение, со временем оно исчезнет».
— Как веруешь в бога? — был второй обязательный вопрос.
— Верую во единого бога отца вседержителя, творца неба и земли, видимым же всем и невидимым...
Бруно без запинки прочел по-латыни «Символ веры» Г
— Читал ли ты творения святых отцов церкви и что именно?
Фелипе перечислил множество богословских книг. Видя, что перед ним юноша с необычными для его возраста знаниями, дон Амброзио перешел к сложным богословским вопросам. Но недаром богословие было основой образования в любом учебном заведении. Фелипе с его поразительной памятью прекрасно знал творения отцов церкви и свободно приводил длинные цитаты.
Настоятель, сам имевший ученую степень магистра богословия, пришел в восторг.
А затем аббат рассказал Бруно историю создания доминиканского ордена.
— Наш орден основан святым Доминйко Гусманом, жившим с 1170 по 1221 год, — говорил дон Амброзио.—
1 «Символ веры» — краткое изложение догматов христиан ской религии,
При жизни святого Домицико в Европе стали распространяться ереси, и особенно богопротивная ересь альбигойцев *. Святой Доминико, всей душой печалясь об еретиках, осужденных на вечные муки, обратился к святейшему папе и предложил основать орден проповедников, которые должны были убеждать заблуждающихся. Но если они продолжали упорствовать, то очистительный огонь костра спасал их души...
Бруно невольно поежился. Хорошо спасение!
Аббат продолжал:
— Девизом ордена стало изображение свирепой собаки с пылающим факелом во рту. Слово «dominicanes» можно разделить по-латыни на два слова «Domini canes»— божьи собаки1 2. Они грызут врагов веры, как и подобает псам, а факел во рту собаки означает, что доминиканцы распространяют свет истинного Христова учения... Вот в какое знаменитое сообщество братьев вступаешь ты, сын мой! Однако я должен тебя предупредить, что в этом сообществе — увы! — завелся волк в овечьей шкуре, совращающий послушников и даже отцов монахов с истинного пути и толкающий их на путь неповиновения властям предержащим!
Такая ненависть прозвучала в голосе настоятеля, дотоле спокойном и даже мягком, что Бруно был удивлен.
— О ком вы говорите, мессер? — робко спросил юноша.
— Nomina sunt odiosa!3— внушительно сказал аббат.— Ты узнаешь этого нечестивца по его делам. И, надеюсь, останешься глух к прельщениям! А теперь иди, и да будет с тобою мир!
Через час Бруно вызвали на капитул4. Обширную комнату заполняли ряды монахов, сидевших на скамьях. На возвышении стояли кресла для аббата, приора, ключаря5 и прочих монастырских сановников.
Фелипе, смущаясь, остановился перед креслом аббата. Дон Амброзио, низенький полный человек средних
1 Альбигойцы отрицали таинства, троичность божества, ад, чистилище... Католическая церковь вела ожесточенную борьбу с альбигойцами в XII—XIV веках.
2 Д б м и ну с (лат.) — господин, бог; какие (лат.) — собака.
3 «Н б м и н а су нт одно за» — латинская пословица: «Об именах не говорят».
4 Капитул — общее собрание монахов.
5 Приор — помощник аббата. Ключарь ведал хозяйством.
I
лет, смотрел на Бруно поощрительно. У Фелипе мелькнула мысль:
«Как же это? У настоятеля небольшие серые глаза, а на меня сквозь ширму смотрели глаза огромные, черные...»
— Филиппо Бруно, перед полномочным собранием достопочтенных братьев подтверди свое желание отдать себя богу!
Бруно громко сказал:
— Желаю войти в великое братство отцов доминиканцев и всего себя посвятить на служение людям!
Среди монахов послышался ропот: вступающий в орден самовольно изменил формулу обращения к капитулу.
— Ты должен служить богу, а не людям! — послышались возгласы.
Аббат сверкнул глазами на недовольных, и шум смолк. В монастырях по уставу власть принадлежала капитулу, а на деле все решал настоятель.
Паскуа сделал вид, что принял изменение уставной формулы за простую обмолвку растерявшегося юноши, и торжественно возгласил:
— Брат Филиппо Бруно принят в новиции 1 с годовым сроком искуса. Оный же Филиппо Бруно зачисляется во внутреннюю монастырскую школу2.
Монахи в белых рясах закивали головами в знак того, что слова аббата выражают мнение всего капитула.
Для Фелипе началась новая эпоха жизни.
У отца ключаря молодой послушник получил одежду, ему дали книги и письменные принадлежности с наказом бережно обращаться с вещами.
Был поздний вечер, когда ключарь привел юношу в большой неуютный дортуар и показал ему свободное место на нарах. Будущие товарищи по школе спали. Бруно улегся на тощий матрац, накрылся тонким одеялом и, утомленный переживаниями дня, быстро заснул.
1 Новйций — послушник, человек, готовящийся принять монашеское звание.
2 Монастырские школы разделялись на внешние и внутренние. Во внутренних школах обучались те, кто предназначал себя к монашеству. Во внешних школах обучение носило более светский характер»
Ему приснилась Ревекка. Юноша целыми днями думал о ней, вспоминал каждый жест любимой, каждое слово, сказанное ею во время их встреч.
В этот раз он видел себя с девушкой у широкой реки. Надо было перебраться на другой берег, потому что где-то близко скрывались враги, угрожавшие разлучить их. Фелипе искал переправу, но вдруг появились преследователи и открыли стрельбу. Непонятным образом выстрелы превратились в удары колокола, и Фелипе пробудился.
В дортуаре было шумно. Ученики вскакивали смеет, выхватывали одежду из-под изголовья, накидывали на себя и убегали. Сердитые окрики надзирателей подгоняли замешкавшихся.
— Что случилось? Пожар? — спросил Бруно соседа, высокого нескладного парня с длинными руками и ногами.
— А, новенький! Скорее одевайся и ко всенощной, не то отец циркатор 1 покажет тебе пожар!
Пока Бруно натягивал одежду, ученики, понукаемые надзирателями, скрылись. Фелипе двинулся к выходу, но его перехватил точно выросший из земли тощий монах с землистым лицом и неслышной походкой.
— Ай-ай-ай, какой непорядок! — укоризненно сказал отец циркатор.— Сон ценишь дороже молитвы?
— Я первую ночь здесь, — оправдался Бруно. — Не знал обычая.
— Сегодня прощаю, но если повторится, донесу отцу приору.
Бруно поспешил в капеллу. Там при свете немногих свечей шло всенощное бдение. Патер заунывно читал молитвы, певчие подтягивали сонными голосами. Фелипе с удивлением заметил, что многие молящиеся —• и монахи и ученики — спят стоя. Через полчаса ученики вернулись в дортуар.
Фелипе долго не мог забыться. Но лишь только начали смыкаться веки, как новый колокольный звон и новый вихрь мечущихся фигур мигом сдули с него сон» На этот раз Бруно успел выбежать со всеми вместе.
Сосед одобрительно кивнул ему:
1 Циркатор — монах, наблюдавший за порядком в монастыре.
— Привыкаешь? Старайся, не то трудно тебе придется!
— А это какая служба?
— Ну, я вижу, ты совсем зеленый! Это — утреня!
Отстояв утреню, ученики прибрали постели, подмели пол и отправились в умывальную. Едва они успели привести себя в порядок, как колокол снова погнал их в церковь.
Долговязый, веснушчатый и рыжий Сальваторо Ронка, сосед Фелипе по нарам, не мог без смеха смотреть на вытянувшееся от удивления лицо Фелипе.
— Скис? Держись, ты нашей жизни только краешек попробовал. Стой, а где я тебя, друг, видел?
При свете утра школяр внимательно всматривался в лицо нового товарища и вдруг вспомнил:
— Это ты шел позади молодой еврейки, что собирались крестить в Санта-Марии Инкороната?
— Я, — потупившись, ответил Бруно.
— Она была твоя невеста?
- Да...
— Понимаю...
И он пожал руку Фелипе. Сочувствие простодушного парня вызвало слезы в глазах Бруно.
— Не горюй, друг, — сказал Сальваторо. — Сюда каждого из нас горе привело. Тебя как звать?
— Филиппо Бруно. А тебя?
— Меня Сальваторо Ронка. Слушай, Липпо, будем дружить?
— Как ты сказал?!
Бруно дикими глазами смотрел на Сальваторо. Тот, даже перепугался:
— Да что с тобой, Липпо? Ты весь побелел!
— Ты говоришь «Липпо». Но так звала меня только о н а...
— Прости, друг, я не знал, что тебе это тяжело. Буду звать тебя Фелипе.
— Нет, нет, не надо. Пусть это напоминает мне о н е й...
После церковной службы учеников развели по классам. Бруно посадили в старшую группу, рядом с Сальваторо, и оба были этому рады.
Начался урок латыни. В класс вошел дон Аурелио Нарди, унылый маленький монах с лысой головой. В руке он держал ферулу, и Бруно улыбнулся, вспомнив
свой первый урок латинского языка в пансионе Саво-лино.
Вскоре Фелипе убедился, что знает больше учителя, но, не желая обидеть маэстро, отвечал нерешительно, с запинками. Однако и такие ответы выдвинули Бруно на первое место в классе. Остальные ученики знали очень мало, а Сальваторо приводил учителя своими ответами в совершенное отчаяние.
Дон Аурелио то и дело подзывал Сальваторо и колотил ферулой по его жестким ладоням. Возвращаясь на место в четвертый или пятый раз, Ронка проворчал:
— Рук жалко!
— Болят? — сочувственно спросил Фелипе.
— Да не моих рук, — ответил добряк, — рук дона Аурелио жалко. Ведь будут же болеть после урока: помахай столько ферулой!
Когда кончился урок, Сальваторо уважительно сказал:
— Слушай, Липпо, а ты по этой самой латыни здорово навострился! Небось «Pater noster» наизусть знаешь?
Фелипе промолчал.
Скудно позавтракав рыбой с макаронами, школяры снова двинулись в церковь слушать «третий час», а затем краткую мессу. Во время мессы мальчики-причетники прислуживали патеру: подавали предметы бого* служебного обихода, в нужный момент звонили серебряным колокольчиком. Должность причетника — низшая в церковной иерархии \ и каждый, готовившийся к духовной карьере, должен был ее пройти. Ученики внутренней школы отбывали эту повинность поочередно.
После мессы группа занималась риторикой. Тех, кто плохо усваивал риторическую премудрость, преподаватель наказывал розгами.
Едва кончился этот урок, как неумолимый колокол снова призвал всех молиться: служился «шестой час».
— Друг Сальваторо, много еще осталось на сегодня церковных служб? — удрученно спросил Бруно.
Тот ответил:
— Еще будут «девятый час», вечерня и «комплетб-рий».
1 Иерархия (греч.) — последовательное расположение чинов или званий.
— Так сколько же раз в сутки вас водят в капеллу?
— В будние дни восемь раз, — ответил Сальваторо, приглаживая пятерней разлохматившиеся рыжие волосы, — а в воскресенье прибавь торжественную мессу.
— А уроки когда?
— В промежутках. Нам приходится не сладко. Часа четыре в церкви, часов шесть с учителями, часа четыре уроки готовим, а остальное — еда, отдых, сон... Хотя на отдых, по правде, времени не остается, да и высыпаемся плохо.
— Какая же это жизнь! — воскликнул Бруно.
— Эх, друг Липпо, — серьезно сказал Ронка,— приходится терпеть. Да это все ничего, а вот наука не дается. А^не бы хоть какую церковную службишку раздобыть, я бы зажил как у Христа за пазухой. Сестер бы приютил: они в батрачках маются.
Тронутый его печалью, Бруно пообещал:
— Ладно, Сальваторо, не горюй: я тебе в учении буду помогать.
— Правда?! — Добродушное лицо Сальваторо за-» сияло радостью.
День пришел к концу. Фелипе еле дотащился до постели.
И снова во сне Ревекка, и снова гудел колокол, и заботливый Сальваторо расталкивал Бруно и тащил ко всенощной.
Так прошла неделя. Фелипе исхудал, ходил сонный, вялый, монастырские порядки действовали губительно даже на его крепкое здоровье. Сальваторо рассказал Бруно, что у школяров есть тайник. Там слабые и устающие отдыхают, укрываясь от надзора монастырского начальства. Сальваторо предложил Бруно спрятаться там на несколько дней, чтобы набраться сил. Фелипе поблагодарил товарища и отказался.
Глава вторая
МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ
Прошло три недели. Фелипе привыкал к монастырским порядкам. Для него стало привычным делом вскакивать среди ночи с постели и бежать в капеллу мо
литься. Среди школяров Бруно выделялся начитанностью и большими знаниями. Говоря между собой, учителя называли Бруно светилом школы.
Слухи о новом «светиле» дошли до приора, дона Марио Порчёлли. Под его началом были обе школы—• внешняя и внутренняя. Он принимал и увольнял преподавателей, следил за дисциплиной учащихся. Провинившихся учеников отправляли к нему, и он сурово наказывал их.
Внутренняя школа заволновалась, когда ученика Фи* липпо Бруно потребовали к приору. Казалось, для вызова не было никаких явных причин, и досужая молва сделала заключение, что есть причина тайная. Вероят* но, Бруно совершил поступок, о котором отцу приору стало известно от соглядатаев.
Приор, высокий сухощавый монах с орлиным носом и суровыми серыми глазами, с гордой осанкой, принял Фелипе в своей келье. Келья скромного служителя бога состояла из трех роскошных комнат и большой приемной. Когда раскормленный служка впустил молодого школяра, приор сделал знак монаху удалиться.
— Садись, сын мой! — приказал дон Марио смущен-, ному юноше.
Тот опустился на стул около порога.
Приор начал расспрашивать Фелипе о том, как ему живется в монастыре, хорошо ли относятся к нему преподаватели, хватает ли ему бумаги и чернил. Удивленный Бруно на все вопросы отвечал коротко и точно. Но, как видно, не для пустой траты слов призвал послушника помощник аббата. И дон Марио спросил:
— Доволен ли ты, сын мой, тем, что вступил именно в нашу обитель?
— Да, мессер, — подтвердил Бруно.
— И ты прав. Полагаю, что выбор был внушен тебе свыше. Среди всех орденов святой католической церкви доминиканский орден — самый известный и заслуженный, а из монастырей нашего ордена Сан-Доми-нико Маджоре пользуется наибольшей славой. Но — увы! — в мире нет ничего совершенного... И нашему монастырю недостает хорошего'руководства для того, чтобы стать земным раем.
Эти последние слова были сказаны таким тоном, в котором прозвучало что-то очень знакомое Фелипе. Где он совсем недавно слышал такую речь? Бруно вспомнил. Это аббат Паскуа с такой же горечью говорил о неизвестном враге, подстрекающем монахов к неповиновению властям. Так вот оно что! Между аббатом и приором существует вражда, и потому-то они с такой злобой говорят друг о друге.
Фелипе прикинулся простачком.
— Недостает руководства? — удивленно воскликнул он. — А мессер аббат? А вы, святой отец? А уважаемый отец ключарь? Разве не правите вы трое всеми делами в таком же согласии, какое существует между тремя лицами пресвятой троицы?!
Дон Л4арио мрачно усмехнулся:
— Я не сказал бы этого другому, но ты, сын мой, по-видимому, заслуживаешь доверия. Я чувствую в себе великие возможности выдвинуть нашу обитель на первое место в христианском мире, но есть враждебная сила, которая мешает осуществить мои планы...
«Все понятно! — подумал Фелипе. — Вам, мессер приор, хочется спихнуть мессера аббата, чтобы сесть на его место...»
Вслух он сказал:
— Я не понимаю, на кого вы намекаете, мессер!
— Nomina sunt odiosa! — важно возразил приор, и Бруно чуть не рассмеялся: до того сходны были приемы, при помощи которых аббат и приор старались очернить один другого.
Дон Марио решил, что им для первого раза сказано достаточно. Он отпустил новиция со словами:
— Подумай обо всем том, что ты от меня услышал, и осмотрительно избери свою дорогу. Неверная тропа приводит путника к гибели!
Прямая угроза прозвучала в этих словах, и Фелипе ее понял. Почтительно поклонившись, он ответил:
— Я буду осторожен, мессер!
Товарищи встретили Бруно расспросами.
— Мессер приор дал мне выговор за то, что я не очень усерден в отправлении религиозных обязанностей,— ответил Фелипе.
Школяры приняли этот ответ как отговорку, но больше приставать не стали.
Л Фелипе, оставшись наедине с Сальваторо, без утайки рассказал обо всем, что произошло у приора.
Ронка ничуть не удивился.
— Я думал, ты давно знаешь, что между аббатом и приором идет тайная война. Тщеславие мессера приора не имеет пределов. — Сальваторо рассмеялся. — Мне недавно удалось подслушать разговор между доном Марио и одним священником, приехавшим в монастырь по каким-то делам. Приезжий, как видно, был хорошо осведомлен о притязаниях приора. Он поймал его в коридоре и обратился, поклонившись чуть не до земли: «Мессер аббат, разрешите мне представить вашему вниманию мою скромную особу...» Посмотрел бы ты, как просияло суровое лицо дона Марио. «Дорогой брат,— сказал он с глубоким вздохом, — вы ошиблись. Я не аббат, а только приор...» — «Не может быть! — горячо воскликнул священник. — С вашим величавым видом, с вашей внушительной осанкой... Нет, нет, для такого выдающегося человека, как вы, мессер, только кардинальская мантия была бы впору...» Хитрец получил лучшую келью, ему дали мягкую постель, за трапезой его сажали на лучшее место... Однако, — заметил Ронка, — твое дело обстоит скверно. Аббат и приор стараются перетянуть тебя каждый на свою сторону, и тебе придется решить, станешь ты паскуалйстом или порчеллйстом. Ведь они из кожи лезут вон, чтобы собрать себе побольше сторонников.
— Что посоветуешь мне ты, друг?
Сальваторо, подумав, ответил:
— Без сомнения, у приора есть сильные покровители и в Неаполе и в Риме, иначе аббат избавился бы от него. Но я полагаю, тебе надо держаться аббата: ведь вся власть в монастыре принадлежит ему.
Ронка в свои девятнадцать лет рассуждал очень разумно: жизнь в монастыре научила его многому.
— А я-то думал, — со вздохом сказал Фелипе, — что монастырь — тихая пристань. Вот тебе и тихая пристань!
Враги зорко следили друг за другом, и шпионы аббата в тот же день донесли ему, что приор вызывал к себе Бруно. Мессера Паскуа встревожило это известие. Он знал, что приор — тайный иезуит и что именно
поддержка иезуитов дает ему такую силу, что выжить его из монастыря оказывается невозможным.
Общество святого Иисуса1 образовалось недавно, но уже распространило свое влияние на всю Европу и пользовалось покровительством самого папы. Аббат Паскуа справедливо считал, что приор — не единственный иезуит в Сан-Доминико Маджоре, что многие его сторонники также члены этого ордена, и если он теперь вызвал Бруно, то, вероятно, имел целью и его вовлечь в иезуитский орден.
А меж тем аббат сам имел виды на Фелипе, надеясь, что талантливый юноша станет его деятельным сторонником. При встречах Паскуа ласково заговаривал с послушником, расспрашивал его, не тоскует ли он по дому, по утраченной возлюбленной. Аббат ждал, что Бруно, чувствуя благосклонное к нему отношение, попросит смягчить для пего суровые монастырские правила. Фелипе не просил ни о чем, и мессер Паскуа не мог не подивиться твердости характера молодого но-виция.
«Я не уступлю Бруно дону Марио, — решил аббат.—> Я сделаю из мальчика видного богослова, это прославит монастырь и даст мне лишний шанс в борьбе с иезуитом. Но прежде всего я вырву Бруно из-под власти приора. Я переведу его из школы в университет. Судя по тому, что говорят о нем учителя, он этого вполне заслуживает».
На следующий день Фелипе получил приказ явиться к аббату. Разговор состоялся поздно вечером в той же капелле с веселыми мучениками на стенах. Бруно снова увидел страшные черные глаза на занавеске. Теперь он решил разгадать эту загадку и вплотную подошел к ширме. Глаза были искусно нарисованы на материи, а огромные зрачки оказались дырками, сквозь которые смотрели настоящие глаза дона Амброзио. Фелипе не мог сдержать улыбки.
— Я вижу, ты смеешься, сын мой? Как тебе нравится моя выдумка?
— Она очень искусна, мессер, — вежливо ответил Бруно, — но я не понимаю цели...
1 Официальное название ордена иезуитов. Орден иезуитов был основан Игнатием Лойолой в 1534 году и утвержден папой в 1540 году,
Ширма раздвинулась, и перед Фелипе появился сидевший в удобном кресле мессер Паскуа. На монахе была богатая сутана из гранадского шелка. На груди сиял золотой крест, усыпанный алмазами.
— Видишь ли, Филиппо, — доверительно сказал аббат,— эти глаза нарисованы не для моих монахов, они меня знают. Но на мирян это производит неотразимое впечатление. Когда кающийся становится на колени перед этой ширмой, ни один грех не залежится на дне его души! Однако, друг мой, возьми кресло, поставь сюда и садись против меня.
— Смею ли я, мессер?..
— Приказания высших исполняются беспрекословно!
Фелипе повиновался.
— Я обратил на тебя внимание во время нашей первой беседы. Ты хорошо знаешь богословие, умеешь спорить. Я следил за твоими школьными успехами. Но знаешь, чем ты меня особенно подкупил?
Бруно недоуменно молчал.
Монах объяснил:
— Тем, что отклонил предложение Сальваторо Ронка укрыться на отдых в ученическом тайнике.
Фелипе горестно воскликнул:
— Сальваторо — доносчик?
Какое жестокое разочарование! Друг, которого он так полюбил, перед кем раскрывал душу, оказался шпионом отцов монахов... Кому же после этого верить?
Дон Амброзио мягко поправил юношу:
— Доносчик — не то слово. По уставу ордена доминиканцев каждый обязан следить за другими и о своих наблюдениях докладывать вышестоящим отцам. Но о твоем поведении я знаю не от Сальваторо Ронка. К сожалению, ученик Ронка еще не проникся духом устава...
Горячая волна радости обдала Фелипе. Сальваторо— не соглядатай! Сальваторо не обманул его доверия!..
Аббат продолжал:
— Ты горд и настойчив, сын мой, а это необходимые качества для будущего князя церкви.
Фелипе смотрел на аббата Паскуа широко раскрьь тыми глазами.
.— Я не понимаю вас, мессер!
— Человек не сразу становится прелатом! Прежде чем возвыситься, он должен пройти длинный и нелегкий путь. Слушай меня внимательно, Филиппо Бруно! Ты избран мною из многих, и от тебя не должно быть тайн...
Аббат смотрел на Бруно, ожидая ответа.
— Ты молчишь, сын мой? Впрочем, это понятно: мои слова ошеломили тебя.
— Да, мессер, — признался Фелипе. — Трудно поверить в то, о чем вы говорите.
— Твоя скромность мне нравится. Я предрекаю тебе большую будущность, но при одном условии: ты должен быть совершенно откровенным со мной, твоим духовным отцом и руководителем в жизни.
— Мессеру не придется подозревать меня в неиск* ренности.
— Ну, коли так... — Колючие глазки аббата впились в лицо Фелипе. — Скажи, зачем тебя вызывал вчера отец приор?
Бруно колебался недолго. Каждая из двух враждующих сил могла сломить его, как былинку. Нужно было примкнуть к одной из сторон и твердо ее держаться. Фелипе сделал выбор.
— Мне кажется, — заговорил он, глядя в глаза аббату,— что мессер приор хочет видеть меня в числе пор* челлистов.
Дон Амброзио улыбнулся:
— Я вижу, ты знаком с положением, которое сложилось в нашем монастыре. Что говорил обо мне отец приор?
Бруно была противна роль осведомителя, но он понимал, что настоятель и без того хорошо знает, что говорит и думает о нем его соперник в борьбе за власть. И он кратко передал содержание своего разговора с доном Марио.
— Так отец приор грозил тебе? — Голос аббата стал жестким, глаза потемнели от гнева. — Не бойся! Своих сторонников, паскуалистов, я в обиду не дам!
— Я верю в это, мессер!
— И вот первое доказательство моего к тебе благоволения. Я освобождаю тебя от постоянных посещений капеллы. Ты будешь ходить туда два раза в день.
— Я не смогу спать, мессер, когда мои товарищи...
— Знаю и это, — перебил настоятель, — и надеюсь, что ты избавишься от чувства сострадания к людям, которые ниже тебя. Да тебе и не придется часто сталкиваться с ними, ты получишь келью. Ты говорил мне о своей любви к науке. Одобряю твое стремление и перевожу тебя в университет!
Голова у Фелипе закружилась. Его мечта стать студентом университета Сан-Доминико Маджоре сбылась раньше, чем он на это рассчитывал.
Доминиканский орден готовил проповедников и, не жалея средств, привлекал к этому делу видных профессоров богословских наук. У доминиканцев насчитывалось двадцать шесть университетов, или, как их тогда называли, генеральных школ. Лучшими считались университеты в Париже, Риме, Тулузе, Саламанке, Неаполе.
В этот памятный вечер Бруно сделал громадный шаг по пути к вершине богословской науки.
Сальваторо первым узнал, чем кончился разговор Фелипе с аббатом. У этого рыжего долговязого парня было большое щедрое сердце, и он искренне порадовался успеху товарища.
Глава третья
ЯВНОЕ И ТАЙНОЕ
Студенты жили в корпусе, где размещались аудитории и где была монастырская библиотека. После зачисления в университет получил келью и Бруно. Его отвел туда отец ключарь.
Небольшая келья освещалась высоким и узким зарешеченным окном. Другое окошко, круглое, незастекленное, находилось над низкой дверью. Оно служило «глазком», через который подглядывали за обитателем кельи.
Обстановка кельи отличалась простотой. Тонкий тюфяк на выступе стены, столик, табурет, полка для книг, передний угол был увешан иконами, перед которыми горела неугасимая лампада.
Ключарь обвел рукой:
— Вот твое пристанище, сын мой! — И монах пошел из кельи.
— А где ключ, святой отец? — спросил Бруно.
— Какой ключ? — удивленно отозвался монах.
— Ключ от двери, — пояснил молодой студент.
Необычайная просьба развеселила вечно угрюмого монаха.
— Да разве ты не знаешь, сын мой, что у нас в монастыре никогда не запираются на замок не только сту-> денческие, но даже монашеские кельи?
— Я об этом не слыхал, святой отец!
— Ты плохо изучил наш устав, Филиппо Бруно! Никто из членов ордена не должен иметь личной собственности. И если дьявол попутает кого-либо из братии завести лишнюю одежду или предаться греху чревоугодия и прятать у себя еду, его сразу разоблачат и накажут.
Жизнь на виду, открытая всякому любопытному взору, ничего своего, ни любимых книг, ни предметов житейского обихода... Ради далекой, но ясной цели придется вытерпеть и это. Филиппо Бруно горячо принялся за работу. Первым его учебником оказался «Свод богословия» Фомы Аквинского \ Изучать это сочинение, написанное тяжеловесной латынью, стоило больших усилий. К тому же малейшие отклонения от формулировок знаменитого богослова рассматривались профессорами как ересь.
Все эти трудности не существовали для Бруно. С его поразительной памятью он цитировал наизусть целые страницы из Фомы Аквинского и других отцов церкви. Если профессор пытался сбить Фелипе, тот вступал в богословский спор, и никому не удавалось его победить. Слава Бруно как искусного диалектика1 2 росла.
Богословие отнимало у юного студента много времени: Бруно решил изучить его в кратчайший срок, чтобы иметь возможность поскорее отдаться любимой науке. Все же он занимался с Сальваторо, выполняя данное ему обещание. Метод Бруно, выработанный еще в пансионе, отлично оправдал себя и здесь. Долго дремавшие способности Сальваторо пробудились, и он де
1 Фома Аквинский (1225—1274)—один из величайших авторитетов по богословию в средние века. Его труды обязательно изучались на богословских факультетах.
2 В те времена диалектику рассматривали в основном как искус-* ство спорить.
л ал успехи, изумлявшие дона Аурелио, преподавателя латыни.
За первые месяцы послушнического искуса Бруно хо* рошо ознакомился с монастырем. Старинная обитель Сан-Доминико Маджоре в Неаполе была расположена на холме у городской окраины. Она представляла из себя городок, обнесенный высокой стеной, с массой зданий внутри, больших и малых — с церквами и капеллами, с жилыми корпусами, пекарнями, винодельней, конюшнями, птичником, обширным садом и огородом. В хозяйстве монастыря работали наемные служки, которые одевались в подрясники, но не принадлежали к духовному сословию. Помимо служек, черную работу в обители несли миряне: земледельцы, рыбаки, ремесленники. Это были верующие, отбывающие епитимию, наложенную за грехи: отработать бесплатно, за одни харчи, на святого Доминико три месяца, шесть месяцев, год. Эти даровые работники приносили большую выгоду монастырю.
Фелипе изучил лабиринты бесконечно длинных гулких коридоров, вымощенных каменными плитами, с потемневшими ликами святых на стенах, с редкими окнами под потолком. Коридоры вели из одной капеллы в другую, соединяли молельни, трапезные, залы для собраний капитула и множество других помещений.
Бруно любил в перерыве между занятиями войти под высокие своды собора Сан-Доминико, где церковные службы справлялись только по торжественным дням. Студент любовался строгой красотой колонн, изяществом изваянных из мрамора кафедр с изумительными барельефами по бокам, с ажурными перилами лесенок. Он наблюдал игру пылинок в оранжевых, зеленых и красных снопах света, пробивавшихся сквозь цветные стекла окон и оживлявших огромное сумрачное пространство.
Удивительное было в соборе эхо. Стоило тихо взять ноту, и звук, многократно отраженный и усиленный, проносился в воздухе величавым аккордом и угасал под высоким куполом.
Но обитатели Сан-Доминико Маджоре равнодушно проходили мимо сокровищ искусства.
В монастыре насчитывалось около двух сотен монахов и послушников. Среди монахов были молодые и
старые, высокие и низенькие, толстые и тонкие, но все они странно походили друг на друга в своих белых рясах и накинутых поверх черных мантиях с капюшонами, прикрывавшими лицо. Новициев было значительно меньше, чем монахов, они носили короткие подрясники и черные колпаки, оказывали старшим беспрекословное повиновение.
Многим монахам приходилось вести подвижный образ жизни. Одни бродили по Италии и другим странам, собирая подаяния для монастыря. Других посылали распространять среди язычников христианство, и там проповедники нередко погибали мученической смертью. Представительные священники с красивым голосом и хорошими манерами подолгу гостили при дворах владетельных герцогов и князей, совершая у них в капеллах торжественные богослужения. А монахи, сведущие в художестве, расписывали стены сельских церквей изображениями святых.
Поездками монахов ведал приор, отец Марио Пор-челли. И как-то всегда выходило так, что отправлявшиеся по монастырским делам порчеллисты получали больше денег на дорогу, им седлали лучших мулов в более богатой сбруе... Эти нехитрые приемы поощрения привлекали в партию приора новых членов и бесили аббата.
Вся деятельная жизнь монастыря — многочисленные церковные службы, проповеди, произносимые перед богомольцами, чинные трапезы в столовой, сопровождаемые чтением житий святых, уроки в школах и лекции в университете — все это протекало на виду у всех, вызывая уважение непосвященных. Но были в обители глубоко запрятанные тайны. Жизнь монастыря напоминала медаль, лицевая сторона которой изображает лик праведника, а с оборотной скалится отвратительная рожа дьявола.
Как тяжкая болезнь, изнуряющая организм, отзывалась на всей деятельности Сан-Доминико Маджоре тщательно скрываемая от мирян вражда между аббатом и приором, разделившая монастырских обитателей на два лагеря.
В университете дела тоже шли совсем не так, как представлял себе Бруно.
Он впервые переступил порог аудитории с большим волнением. Здесь собираются юноши, движимые благородным стремлением к науке, здесь делятся с ними знаниями лучшие профессора, думал Фелипе. Действительность разочаровала его.
На лекции по логике присутствовали десятка два студентов, далеко не все, кому полагалось слушать курс. Профессор излагал предмет хорошо, увлекательно, и Бруно слушал его с удовольствием. А меж тем многие студенты разговаривали, иные дремали, а соседи Бруно справа и слева продолжали ранее начатую ссору. Сначала они свистящим шепотом говорили друг другу колкости, а потом начали толкать друг друга.
Лекция кончилась, профессор вышел из аудитории, и соседи Фелипе стали друг против друга, как два драчливых петуха. Высокого плечистого генуэзца Тиначчо Макерони и смуглого подвижного калабрийца Джулио Асколано окружили студенты и принялись подзадоривать.
В руке Асколано блеснула наваха а Макерони выхватил кинжал.
Фелипе пришел в ужас и с побледневшим лицом бросился между противниками.
— Безумцы! — воскликнул он. — Разве с вас не взяли клятву, что вы не будете носить при себе оружие?!
Дружный хохот студентов был ответом.
— Смешной новичок! Думает, клятвы даются для того, чтобы их исполнять! — сказал Макерони и с ловкостью фокусника спрятал кинжал.
Асколано убрал наваху. Ссора угасла, а на Фелипе посыпались насмешки, которые он переносил с доброй улыбкой. Макерони взял Фелипе под руку.
— Слушай, петушок, — сказал он, — мне твоя смелость нравится. Считай меня другом.
— А ты помиришься с Асколано?
Макерони махнул рукой:
— Э, ссора-то пустяковая, из-за девчонки!
— Как из-за девчонки? — с ужасом переспросил Бруно. — Разве в монастыре есть женщины?
Макерони хохотал до упаду:
— Я вижу, друг, тебя надо просветить.
1 Наваха — длинный складной испанский нож.
Следующую лекцию читал сам ректор, мессер Паскуа. Он не любил готовиться к занятиям и вместо того, чтобы излагать взгляды отцов церкви по тому или иному вопросу, просто беседовал со студентами обо всем, что ему приходило в голову.
В этот раз он принялся опровергать мнение, что церковь бескорыстна.
— Наш святой орден основан как нищенствующий,— говорил ректор, — а между тем за столетия его существования доминиканцы собрали огромные богатства. И это хорошо, это угодно господу! А почему?.. Потому что для борьбы с ересями нужны большие средства.
Затем мессер Паскуа перешел к другой теме. Он развивал мысль, что монахи, ратники Христова воинства, далеко не равноценны перед богом.
— Вот, например, взять вас, здесь передо мною сидящих,— разглагольствовал ректор, — и рядовых монахов ордена, разве есть что-либо общее в вашем пред^ назначении? Доля рядовых членов нашего братства тяжела: они гибнут в религиозных войнах, ведут борьбу с гугенотами, жгут еретиков во Фландрии, их мы посылаем проповедниками в заморские края. Награда за труды ждет их на небесах...
Сосед слева шепнул Бруно:
— Они сами стараются вознаградить себя, не дожидаясь загробного блаженства.
•— Но вы, избранные, — тут ректор повысил голос,— вы — будущие аббаты, епископы и кардиналы, духовные руководители неисчислимых толп верующих, и справедлива божья воля не откладывать ваше воздаяние до райских врат. Вас ждут почести, роскошные дворцы, золоченые кареты, пурпурные мантии и, может быть, тиара 1 самого святейшего папы...
Аббат Паскуа искусно доказывал, что, когда его слушатели достигнут вершин церковной иерархии, все будет им дозволено, все их грехи отпустит господь.
Бруно ушел с лекции удивленный откровенными речами аббата.
Вечером, когда Фелипе готовился ко сну, в келью вошел Макерони. К удивлению Бруно, он был одет вме-
1 Тиара — головной убор папы.
сто сутанеллы в камзол и панталоны, у пояса висела шпага.
— Я за тобой, — заявил Макерони. — Идем в город. .Ты припрятал светскую одежду?
— Город? Светская одежда?!
Бруно ничего не понимал, и Макерони начал объяснять:
— Видишь ли, петушок, каждый из нас сохранил старое платье и оружие. Кельи у нас, правда, не запираются, но наше добро укрывают те, кто имеет право» держать дверь на замке.
— Кто же это?
— Учителя внутренней и внешней школы, органисты \ регент церковного хора, смотритель конюшен... Платят им не слишком много, и они не прочь заработать с нашего брата.
— Я все имущество сдал отцу ключарю.
— Не беда. У нас кое-кто остался сегодня дома после вчерашнего перепоя, и мы подберем одежду на твой рост.
— Но разве отец Антонио выпустит вас из монастыря?— спросил Бруно. — Это неподкупный святой старик.
— А мы не искушаем его святость, — ухмыльнулся Макерони. — В задней стене есть потайная калитка, и секрет ее нам известен.
— Но как вы скрываете свои похождения от отцов монахов?
Макерони снова обуял смех:
— Отцы монахи? Да они сами ходят в город каждую ночь. И, конечно, не за тем, чтобы служить мессы.
Монахи уходят по ночам кутить в город! Бруно хотел высказать удивление, но вспомнил, что часто видел, как почтенные отцы по утрам, еле держась на ногах, пробирались в свои кельи, вместо того чтобы идти в церковь.
Фелипе поблагодарил товарища за предложение, но сказал, что у него нет желания сопровождать его в город.
— Ладно, петушок, я тебя понимаю. Ты какой-то особенный. Ну, да и то сказать, должны же быть в
1 Органист—музыкант, играющий на органе. Орган — духовой музыкальный инструмент больших размеров, в трубы которого нагнетается воздух при помощи мехов, 17*
нашем содоме праведники, ради которых господь еще щадит его!1
Макерони дружески обнял Бруно, и тот почувствовал под одеждой ночного гуляки что-то твердое.
— Кольчуга?
— А как же, — подмигнул тот. — Ночью по городу бродйть опасно, могут напасть худые люди.
Он оставил келью. Бруно плохо спал ночь, его мучили кошмары. На лекции он с облегчением увидел целого и невредимого Макерони, тот дружески хлопнул его по плечу. Во время занятий студент дремал, а после обеда пришел к Фелипе.
— Ну, была у нас вчера потеха! — начал он рассказ. — В нашу компанию затесались три монаха, конечно, все паскуалисты...
— А ты тоже паскуалист? — с любопытством перебил Бруно.
— Попробуй прийти на экзамен к ректору, не будучи паскуалистом! — рассмеялся Макерони. — Но ты слушай, что было дальше. Мы вышли из кабачка на рассвете, «веселыми ногами скакаша и плясаша...» И вдруг навстречу компания порчеллистов, они, видишь ли, кутили по соседству... Кто-то из них бросил нам обидное слово, наши ответили, и завязалась такая потасовка...
— Я удивляюсь, — сказал Фелипе, — как вас не забирают испанские патрули.
Макерони беспечно отозвался:
— Э, они с нами не связываются. Отцы доминиканцы пожаловались вице-королю, что солдаты мешают им навещать по ночам тяжелобольных верующих.
Не всегда запретные похождения заканчивались благополучно. Иногда собутыльники вливали в себя столько лакрима кристи2, что теряли рассудок и начинали громить приютившее их «заведение», а бывало, что «смиренные иноки» врывались в дома с целью грабежа и убийства. Ведь в Сан-Доминико Маджоре под белой рясой скрывалось немало преступников, приговоренных к каторге и даже плахе. Но монашеский сан обеспечив вал им неприкосновенность.
1 По библейскому преданию, бог обещал не предавать гибели город Содом за грехи ею жителей, если среди них найдется несколько праведников.
2 Лакрима кристи (лат.) — слеза Христова, сорт вина.
Суд узнавал лишь о ничтожно малой части тысяч и тысяч преступлений, совершаемых доминиканцами. В огромном большинстве случаев монастырскому начальству удавалось закончить дело миром, так или иначе ублаготворив или запугав жалобщиков. В тех немногих случаях, когда дело принимало огласку, с преступниками расправлялись жестоко: лишали сана, бичевали и ссылали гребцами на галеры.
За менее тяжкие преступления виновные отделывались заключением в подземной монастырской тюрьме.
Тиначчо Макерони, Джулио Асколано и другие товарищи не раз еще соблазняли Бруно отправиться с ними ночью в город, но молодой студент всегда отвергал такие предложения. Он предпочитал выходить из монастыря по воскресным дням после мессы.
Фелине отправлялся прямо в домик Саволйно, где его с радостью встречали не только дядя и тетка, но и согнувшийся в дугу Джузеппе Цампи и толстая, пышущая здоровьем кухарка Чеккина.
Старики Саволйно тяжело переживали гибель Ревекки. Они полюбили ее всей душой, видели в ней дочь, ее детей мечтали лелеять. Синьор Джакомо часто сидел в садике и смотрел на двойную вершину Везувия, которая благодаря удивительной прозрачности воздуха казалась совсем рядом. Там, у подножия вулкана, была погребена его Альда, надежда его старости. Она ушла из жизни, а за ней ушел из его жизни и Фелипе...
— Альда, дочка моя, — шептал старик и качал седой головой.
Фелипе рассказывал дяде о своей монастырской жизни, и тот интересовался мельчайшими ее подробностями. Он знал о вражде аббата и приора и советовал племяннику не задевать сторонников приора, а самому дону Марио оказывать всяческое почтение. Он одобрял дружбу Фелипе с Сальваторо. Ронка не бывал у него в доме, но Саволйно по рассказам племянника хорошо знал веселого, добродушного парня.
Весной 1566 года Филиппо встретил в доме дяди своего крестного отца и первого учителя Лодовико Тан-силло. Какая радость была для обоих!
В последний раз они виделись четыре года назад, когда Фелипе приезжал домой на каникулы. Тогда он был еще мальчиком, а теперь стал стройным юношей
с твердым и немного грустным взглядом голубых глаз, в котором запечатлелись пережитые страдания. На внешности Лодовико Тансилло тоже отразились прошедшие годы. Он сильно постарел, одежда его выглядела потертой, прическа небрежной.
— Да, дружок мой, — со вздохом сказал Лодовико крестнику, — живется мне неважно. Типографы боятся печатать мои книги, ведь я воспеваю свободу, напоминаю о славном прошлом Италии. А это не по вкусу ни испанцам, ни церковникам, которые с ними заодно. Еще хорошо, что мне помогают старые друзья, а то бы...
Саволино бросил предостерегающий взгляд на поэта, но Бруно понял, что дядя поддерживает Тансилло на свои скудные средства.
Возвращаясь домой, Бруно увидел у ворот монастыря молодого доминиканца. Ястребиное лицо монаха с крючковатым носом и выдающимся подбородком, с тонкими бледными губами смутно показалось Фелипе знакомым. Только черная повязка, проходившая через правый глаз, привела юношу в недоумение. И вдруг он догадался: это Луис Ромеро! Фелипе не видел своего соперника с этой повязкой, но знал, что Луис выбил глаз во время нападения на Джузеппе Висконти.
Бруно забыл старую вражду, забыл опасности восхождения на Везувий, которым подвергался по вине Луиса. При взгляде на Ромеро ему вспомнились невозвратные дни детства, цветущие окрестности родного города, веселые набеги на сады и баштаны... И он шагнул вперед с распростертыми объятиями:
— Луис! Дружище!
Испанец холодно отстранился от Бруно, как бы нечаянно прикоснулся к повязке и с поклоном ответил:
.— Смиренный брат Хиль к вашим услугам!
Глава четвертая
БИБЛИОТЕКА’
Библиотека монастыря Сан-Доминико Маджоре славилась по всей Италии. Рассказы пансионских учителей о ее богатстве были главной причиной, заставившей юного Бруно вступить в орден доминиканцев.
Несколько высоких длинных зал были уставлены вдоль стен стеллажами. Огромные рукописные фолианты лежали на верхних полках, куда можно было добраться только с помощью переносных лестниц. Ниже шли бесконечные ряды печатных книг в желтых, чер-. ных, коричневых кожаных переплетах. Посредине комнат стояли столы со скамейками по бокам. Но редко когда здесь виднелась склоненная над книгой фигура: студенты предпочитали ограничиваться изучением учебников.
Через несколько дней после вступления в монастырь Фелипе отправился в библиотеку, но оказалось, что ученикам внутренней школы вход туда воспрещен. Став студентом, Бруно в первый же свободный час побежал в библиотеку, но снова его постигло разочарование. Коридор, ведущий к заветной двери, был завален кирпичом, на полу стояли бочки с известью, каменщики стучали молотками. Бруно узнал, что стена здания в этой части осела, появились опасные трещины, и ремонт продлится два-три месяца.
С тех пор Фелипе редкий день не наведывался сюда, но прошло немало недель, прежде чем он с радостью увидел, что работа подходит к концу. И вот, миновав длинный зал с книжными стеллажами вдоль стен, юный студент вошел в центральное помещение библиотеки. Он замер от восторга.
Так вот она, наконец, удивительная картина, о которой рассказывал Тиначчо Макерони. От него Бруно знал, что она украсила библиотеку только потому, что художник был родным братом хранителя библиотеки дона Аннибале Россо и сделал работу как дар монастырю.
На куполе круглого зала художник изобразил северное небо, как оно представлялось древним. Фигуры мифических чудовищ, зверей, героев были нарисованы на голубом фоне нежными тонами, и сквозь них просвечивали звезды.
Опытный взгляд Бруно быстро нашел Колесницу 'Давида, Полярную звезду, извивавшегося по небу Дракона, грустную Андромеду, вечно ожидающую своего спасителя Персея... Вдоль небесного экватора протянулись созвездия Зодиака: мощный Лев, безобразный Рак» малютки Близнецы, игривый Телец...
Фелипе вздрогнул, почувствовав прикосновение чьей-то руки. Fla юношу ласково смотрел дон Аннибале Россо.
— Я ждал тебя, Филиппо, — сказал монах.
— Как вы меня узнали, святой отец? — удивился Бруно.
— Это не мудрено, — усмехнулся библиотекарь. — О новиции, увлеченном астрономией, мне давно рассказал мессер Паскуа, а каменщики поведали о нетерпеливом юноше, который все расспрашивал их о картине неба и готов был подтаскивать кирпичи и раствор, лишь бы поскорее открылась библиотека.
— Но ведь это мог быть кто-нибудь другой!
— К сожалению, людей, любящих нашу царственную науку, не так уж много, — грустно сказал монах.
— Нашу?! — Глаза Бруно загорелись. — Вы сказали нашу науку, святой отец? Верно, вы знаток астрономии? Как я хотел бы изучать ее под вашим руководством!
— Я только скромный любитель, но помогу тебе всем, что в моих силах. У меня неплохой подбор астрономических книг.
Монах положил перед Фелипе каталог и с невинной гордостью начал перечислять сокровища древней науки, хранившиеся на полках:
— Вот «Альмагест» Птолемея1—великое творение великого ученого, где собрано все, что древние знали о небе. Вот «Звездный каталог» Гиппарха2 — плод необыкновенного труда целой жизни. Есть у нас редкостная рукопись Аристарха Самосского3 «О размерах и расстояниях от Солнца и Луны». Это тоже великий ум!..
Фелипе слушал старого библиотекаря затаив дыхание, а тот всё называл книги древних греков, арабов, европейских ученых. Лишь немногие из них сумел приобрести Бруно в неаполитанских книжных лавках.
1 Клавдий Птолемей (II век нашей эры) — знаменитый древнегреческий ученый, завершивший создание геоцентрической системы мира («Геос» по-гречески — Земля). Эта система господствовала в науке почти полтора тысячелетия и была признана церковью. По учению Птолемея Земля находится в центре Вселенной, вокруг нее вращаются планеты, Солнце, звезды.
2 Гиппарх (II в. до н. э.) составил перечень самых ярких звезд с указанием их положения на небе.
3 Аристарх Самосский (конец IV — первая половина III в. до н. э.)—выдающийся древнегреческий астроном, один из предшественников Коперника.
«Как хорошо, что я вошел в этот монастырь! — радо* стно думал Бруно. — Все эти труды я прочитаю, изучу...»
А дон Аннибале заговорил о великих классиках древнего мира — о Гомере, Фукидйде, Вергилии, Цицероне...
Неизмеримая бездна знания открылась перед юным Филиппо, и он весь погрузился в нее. Новый покровитель руководил его занятиями.
Дону Аннибале Россо было под шестьдесят, от сидячей жизни он отяжелел, приобрел одышку. Но лучистые синие глаза его светились добротой, пухлые старческие руки любовно перебирали листы старинных книг во время разговора.
Дон Аннибале рассказал Фелипе историю своей жизни.
— Я родился в Козёнце, это в нашем же Неаполитанском вице-королевстве, — говорил монах приятным глуховатым голосом. — Нас было двое у отца, небогатого дворянина: брат Сильвёстро и я. Но с братом наши пути разошлись рано. Он почувствовал влечение к живописи, уехал в Умбрию и поступил в учение к известному Луке Синьорелли Г А я всей душой привязался к Бернардино Телезио...1 2
— К Телезио?! Этому замечательному гуманисту? — в удивлении перебил Бруно. — Но я же ходил слушать его лекции, когда еще был в пансионе у дяди. Он — выдающийся ученый!
— Да, в тесной дружбе с этим самым Бернардино прошли мое детство и юность, — улыбнулся дон Аннибале. — Мы вместе посещали городскую школу в Козен-це, вместе поехали в Рим в 1525 году, чтобы там продолжить свое образование. Если бы мы предвидели, чем это кончится! — вздохнул старый монах.
— Вам довелось пережить взятие Рима? — спросил Фелипе.
— Да, мой юный друг, и это было ужасное время. Наемники Карла V3 во время одной из войн, беспрестанно потрясающих нашу несчастную страну, захвати
1 Лу к а Синьорелли — художник эпохи Возрождения (родился в середине XV века, умер в 1523 году).
2 Бернардино Телезио (1509—1588) — один из известнейших итальянских гуманистов.
3 КарлУ (1500—1558)) — император Священной Римской империи, он же испанский король.
ли и страшно опустошили папскую столицу. Это случилось в 1527 году...
— Мой отец тоже был там в это время! — перебил взволнованный Фелипе. — Он защищал город и спасся с большим трудом...
— Значит, мы с ним были товарищами по несчастью в эти ужасные дни. Что там тогда творилось! Немецкие солдаты, жадные до поживы, врывались в дома, пытали горожан, требуя указать, где скрыты ценности. Тысячи и тысячи людей были брошены в тюрьмы и выходили оттуда только после уплаты выкупа. Попали в заключение и мы с Бернардино и томились два месяца, ежечасно ожидая смерти. К счастью, нас выручил влиятельный друг Телезио, мы покинули Рим и удалились в Падую...
Седая голова старика опустилась при этих тяжелых воспоминаниях, и он долго молчал.
— Что же было дальше, падре? — спросил Бруно.
— В пределах Венецианской республики дышалось свободнее. Ведь она была одним из немногих итальянских государств, не подавшихся испанским завоевателям. В Падуе мы поступили в университет и стали учениками великого Фракасторо Г
— Вы учились у самого Фракасторо? — воскликнул Фелипе.
— Да, я имел эту честь, — с гордостью подтвердил монах. — Джироламо Фракасторо... Какой это был удивительный ученый! Казалось, не было такой отрасли знания, в которой не поработал бы его мощный ум. Географ, естествоиспытатель, геолог, физик... Но наибольшую славу он стяжал как медик и астроном. Это он внушил мне любовь к науке о небе. Фракасторо не был согласен с учением Птолемея и строил свою систему мира, но она слишком сложна, чтобы излагать ее тебе сейчас. Вечера, которые мы втроем — учитель, Бер-, нардино и я — проводили на башне в наблюдении за вечными светилами, никогда не изгладятся из моей па-, мяти.
— Но вы сказали, святой отец, что сер Джироламо был еще и медиком?
1 Джироламо Фракасторо (1478—1538) — известный
итальянский гуманист
— Он был одним из самых выдающихся медиков Италии. Недаром же он последние годы своей жизни служил домашним врачом у его святейшества блаженной памяти Юлия III. Но, конечно, не потому останется бессмертна память о нем. Он написал блестящий труд о заразных болезнях, который, смело могу сказать, никогда не забудется людьми. А все-таки, — задумчиво молвил дон Аннибале, — главная заслуга Фракасторо в том, что весь его неустанный труд был проникнут духом гуманизма. Ты это понял бы, Филиппо, если б знал, как сильна была схоластика в дни нашей юности. О, эта мертвящая схоластика, сухая и лживая наука людей, черпающих знания из ветхих фолиантов, а не из великой книги природы! — Старый монах возвысил голос, его синие глаза загорелись. Потом он как-то сник и тихо сказал: — Я с горечью должен признаться, что, убоявшись житейской суеты, рано ушел в монастырь. Но Фракасторо, мой друг Телезио и многие другие гуманисты в жестокой борьбе пошатнули здание схоластики, хотя у нее еще и теперь множество приверженцев. Бог схоластов — Аристотель, каждое его слово они чтят наравне со словом библии, спор с Аристотелем считают святотатством, подрывающим религию. А меж тем прочитай, что пишет об Аристотеле Телезио.
Библиотекарь подошел к полкам, достал том в кожаном переплете и открыл на странице, отмеченной закладкой.
— Вот здесь!
Фелипе взял в руки книгу, еще пахнущую типографской краской, и, трепеща от волнения, прочитал:
— «Мне совершенно непонятно, каким образом самые выдающиеся люди, целые народы и даже почти весь род человеческий на протяжении многих веков чтили Аристотеля, так глубоко заблуждавшегося в стольких важных вопросах».
Затем Бруно посмотрел на заглавный лист. Там мелким, но четким почерком было написано:
«Другу Аннибале в память незабвенной юности от автора этого скромного труда».
Книга была напечатана всего два месяца назад.
— Этот труд — прекрасный вклад моего друга в ниспровержение схоластики, — сказал монах. — Но еще до него Телезио воевал со схоластами в созданной им
в Неаполе «Академии упорных». Из самого названия академии ты можешь судить о характере борьбы.
— И, конечно, она закончилась закрытием академии? — спросил Бруно.
— Ты угадал, сын мой!
— Нетрудно было угадать. Я ведь знаю судьбу академии делла Порта, которую усердно посещал и откуда многое вынес.
Беседы дона Аннибале с жаждущим знаний студентом повторялись почти ежедневно. Книгу Телезио «О природе вещей сообразно их собственным принципам» они прочли от корки до корки с величайшей тщательностью;
Многое дала книга Телезио для гуманистического образования Бруно.
Бернардино Телезио был одним из самых выдающихся гуманистов эпохи Возрождения, и его идеи продолжали развиваться великими философами средневековья — Томасом Кампанеллой, Френсисом Беконом, Джордано Бруно.
Телезио учил, что природу вещей можно понять, только исследуя ее законы на опыте, а не пробуя создать их умозрительным путем.
Материя не приводится в действие духовными силами, учил Телезио, ее движение происходит от взаимодействия двух основных начал природы — тепла и холода. Под влиянием тепла материя расширяется, от холода — сжимается, и в этом вечном противоборстве протекает жизнь всего сущего.
Конечно, учение Телезио было далеким от истины, но оно отвергало веру в бога, отрицало признание сверхъестественных сил, управляющих Вселенной.
Телезио не выступал против религии открыто, для вида он даже признавал, что мир сотворен богом, что душа человека бессмертна... Эти уловки не обманули церковников. Вскоре после выхода книги «О природе вещей» Телезио подвергся гонениям, был вынужден покинуть Неаполь и удалиться на родину в Козенцу, где и окончил жизнь в забвении и бедности.
Учение Телезио оказало огромное влияние на Бруно, и позднее в своих сочинениях он не раз упоминал имя замечательного гуманиста. Но он не воспринял его
философию механически и впоследствии расширил и обогатил ее.
«Я изучаю философов и ученых, но смотрю на мир собственными глазами», — гордо заявил Бруно в одном из своих сочинений много лет спустя.
Фелипе по целым дням пропадал в библиотеке, и место студента Бруно в аудитории, чаще всего оставалось пустым.
Другие студенты тоже пропускали занятия, но делали это с большой ловкостью и, прогуляв одну лекцию, старались на следующей как можно чаше попадаться на глаза преподавателю. Прямодушный Бруно не шел на такие хитрости, и о его поведении было доложено ректору.
Аббат Паскуа вызвал нерадивого студента.
— Ты перестал посещать лекции. Чем это вызвано, сын мой?
Фелипе откровенно объяснил причину. Аббат заговорил сурово:
— Мы не для того платим профессорам жалованье, чтобы они выступали перед пустыми скамьями. Первейшая обязанность студента — изучать творения святых отцов церкви, в них корень всех знаний. Если ты не будешь аккуратно посещать занятия, я исключу тебя из университета.
Бруно снова стал прилежно посещать лекции, но частенько во время занятий украдкой читал книгу, выданную ему добряком Россо.
Многое из того, что говорилось в книгах, следовало проверить. Бруно вспомнил вечера, которые проводил на крыше дома Фазуччи сначала один, а потом с Ревеккой, и возобновил астрономические наблюдения. В них принял участие и дон Аннибале.
Главный купол собора Сан-Доминико окружала широкая галерея, с которой удобно было наблюдать звезды. Но крутая винтовая лестница, ведущая туда, насчитывала двести четырнадцать ступенек. Бруно совершенно измучился, таща наверх тучного отца библиотекаря. В следующий вечер он сказал:
— Святой отец, следить за движением звезд и планет . приятно и поучительно, но тяжек труд поднимать
вас на высоту. У меня есть друг Сальваторо Ронка, ученик внутренней школы. Он гораздо сильнее меня и охотно поможет вам подыматься. Разрешите привести его сюда.
Так Сальваторо получил доступ в обсерваторию, а потом и в библиотеку.
— Вообще не разрешается, — сказал монах, — но нет правила без исключения, а посему, сын мой, ты будешь помогать мне в составлении каталогов, а я испрошу для тебя у мессера приора освобождение от церковных служб.
Сальваторо усердно принялся за новое дело.
Бруно рассказал дону Аннибале о выговоре за пропуск лекций, и библиотекарь признал, что мессер Паскуа прав.
— Ты избрал астрономию целью своей жизни,—• сказал монах, — и это очень хорошо. Но астроном должен знать и другие науки. Ему нужно быть сильным богословом, чтобы примирить астрономию с религией, а это не всегда просто.
Бруно пришлось изучать сочинения схоластов, и в первую очередь Аристотеля. Впрочем, в книгах древнего философа нашлось так много ценного, что Фелипе понял, почему слава Аристотеля держалась многие века,
В монастырской библиотеке были собраны книги на многих языках, начиная от древнееврейского, греческого, латинского, славянского и кончая арабским и современными языками. Дон Аннибале посоветовал Бруно изучить древнееврейский язык, и прилежный юноша последовал этому совету: при его превосходной памяти языки давались ему легко. С помощью профессора древнееврейского языка, дона Джисмбндо Бандинёлло, дело пошло быстро. Через несколько месяцев Бруно читал по-еврейски.
Одна из зал библиотеки особенно привлекала Бруно, па ее двери висела табличка с надписью: «Libri рго-hibitioni» \ Комната всегда была закрыта, и ключ от замка висел на поясе у дона Аннибале. Когда Фелипе вошел в полное доверие к библиотекарю, тот открыл
1 Л й б р и прохибицибни (лат.) — запрещенные книги.
ему тайну, известную немногим. Стеллажи стояли на некотором расстоянии от стен, чтобы книги не портились от сырости. Вдоль всего огромного помещения библиотеки шел сквозной проход за стеллажами, и проникнуть в него можно было через маленькую потайную дверку в стене центральной залы.
— Только смотри не подведи старика, — сказал дон Аннибале.
— Будьте спокойны, святой отец! — обещал Бруно.
С тех пор Фелипе частенько заглядывал в запретную залу. Он нашел там многочисленные экземпляры библии, изданные в разное время и на разных языках. Когда юноша стал читать библию, он понял причину ее запрещения. Фелипе обнаружил в библии такое множество вопиющих нелепостей и противоречий, бог та>м изображается в’ таком непривлекательном виде, что даже глубоко верующего человека после прочтения библии охватывают сомнения. Многие страницы библии Бруно читал с отвращением.
Вот один из примеров, рисующих жестокость Иеговы. Небольшое племя жителей пустыни не хотело пропустить через свою землю буйные полчища евреев, когда те шли из Египта в Палестину. Дело как-то уладилось. Но мстительный бог вспомнил об этом случае через пятьсот лет и приказал одному из иудейских вождей напасть на потомков этого племени и истребить их всех — вплоть до грудных младенцев!
Но Иегова, отец «кроткого» Иисуса, расправлялся так беспощадно не только с врагами иудеев. Он и самих их, свой «избранный» народ, наказывал за каждый мелкий проступок с неумолимой свирепостью. За невинное любопытство, с которым евреи пытались поглазеть на «Ковчег завета» — свод законов, заключенный в ящик из дорогого дерева, господь поразил смертью пятьдесят тысяч человек.
А сколько всевозможных гадостей и преступлений совершали библейские цари и пророки, среди которых были и предки Христа и которых писание приказывает чтить как святых!
Закрыв последнюю страницу огромного тома, Бруно понял, почему католические вероучители запрещали мирянам читать библию и издавали для них пересказы, где места, вызывающие возмущение, смягчались, а по
рой и вовсе выбрасывались. Стало ему понятно и то, почему отцы церкви — блаженный Августин, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и многие другие исписали сотни толстых томов, пытаясь затушевать или хоть как-нибудь объяснить все это нагромождение лжи и скверны, именуемое библией.
Глава пятая
ПЕРВЫЙ БУНТ
В запретной зале Фелипе нашел сочинения протестантских вероучителей: Уиклифа, Гуса, Лютера, Ме-ланхтона, Кальвина...1
Борьба с Реформацией (так называлась широкое общественное движение против католицизма) уже около двух столетий составляла главную заботу католической церкви. Учения виднейших реформаторов привлекали миллионы последователей. Англия отвергла духовную власть папы, и английский король объявил себя главой англиканской церкви2. В Чехии прогремели гуситские войны3 — великое народное движение против немецкого дворянства и католического духовенства. Большая часть Германии исповедовала учение Лютера...
Фелипе не имел секретов от дяди. Во время одной из бесед с ним он похвалился, что прочитал «Наставление в христианской вере»4 Кальвина.
1 Джон Уйклиф (1320—1384)—английский религиозный реформатор, один из первых по времени противников папства. Я п Гус (1369—1415)—сын чешского крестьянина, страстный борец против немецкого засилья и католицизма. Сожжен по приговору церковников как еретик. Мартин Лютер (1483—1546) — основатель лютеранской религии, получившей широкое распространение в Средней Европе. Филипп Меланхтон (1497—1560) — немецкий богослов, ближайший сподвижник и продолжатель дела Лютера. Жан Кальвин (1509—>1564) — родом француз, крупный деятель Реформации, основатель кальвинистского вероучения. Во Франции его последователи были известны под именем гугенотов. Эти и многие другие протестантские вероучители бичевали пороки католического духовенства, отвергали духовную власть римского папы, отрицали таинства, иконы, поклонение святым и т. п.
2 Это произошло в 1534 году.
3 1419—1434 годы.
4 В первый раз это сочинение было издано в 1536 году в Базеле на латинском языке.
'— Это замечательный труд, дядя! — с пылающими щеками сказал Бруно. — Как все ясно изложено, как смело автор разрушает основы католической религии! Много вечеров, таясь от всех, просидел я за этой книгой...
— Ты мог прочитать ее раньше, — улыбнувшись, сказал сер Джакомо. — Иди со мной!
Он провел племянника в дом и в одной из стен своего кабинета отодвинул дверцу шкафа, о существовании которого не подозревал Фелипе. Саволино достал оттуда толстый томик в кожаном переплете.
— Этот?
— Такой же! — радостно воскликнул юноша и прочитал заглавие книги: — «Institutio religionis christia-пае»1. Дядя, почему ты не говорил, что у тебя есть запретные книги?
— Не было случая. Но недаром я дружу с книгопродавцами. Скажи, чему научил тебя Кальвин?
— Знаешь, дядя, он называет идолопоклонством почитание икон, статуй, мощей. И вот меня неотвязно мучит мысль порвать с этим нелепым пережитком старины.
— Как, ты хочешь объявить себя иконоборцем? — в испуге воскликнул Саволино. — Это грозит тебе опасностью!
Он долго уговаривал племянника смириться перед силой церкви и затаить свое неверие.
— Мы с Вастой потеряли нашу дочь, — сказал он с грустью, — а если потеряем и тебя, нам этого не пережить.
Фелипе ушел неубежденный.
Для юного послушника наступило время тяжких раздумий.
«Язычники почитают идолов, — размышлял Фелипе, ворочаясь ночью на жесткой постели. — Но чем отличается статуя Христа или святого Доминико от деревянного, грубо раскрашенного африканского божка, украшенного ожерельем из человеческих зубов? Только искусством великого мастера!»
1«Институцио религибнис христианэ» — «Наставление в христианской религии».
И Бруно подумал: а что, если убрать иконы из кельи?
Когда такая дерзкая мысль появилась у Фелипе, по спине юноши пробежал холодок. Выбросить иконы? Это означало навлечь на себя тяжелое обвинение в ереси и предание суду. Но и делать вид, что он почитает иконы, Бруно был не в силах.
В течение нескольких дней Бруно вынес иконы одну за другой и повесил в капелле, находившейся в этом же корпусе. Он оставил только распятие 1 и сделал это потому, что у его матери было точь-в-точь такое же, которое она очень чтила.
Отец циркатор, который наблюдал за студентами, как те выполняют монастырский устав, в последнее время редко заглядывал к Фелипе, — тот был у него на хорошем счету. Но в одно злосчастное утро, войдя для порядка в каморку Бруно, отец циркатор остолбенел: передний угол был совершенно пуст, иконы исчезли, и только сиротливо висело распятие!
Не веря глазам, монах вошел в келью, пощупал стены — пусто! Первой его мыслью было, что келыо хотят белить и иконы сняты по распоряжению ключаря. Циркатор побежал разыскивать отца ключаря. Когда оказалось, что тот ничего не знает, оба монаха поспешили в келыо Бруно. Да, икон не было. Почтенные отцы рысью помчались к приору. Тот в это время завтракал.
— Мессер, происшествие! Мессер, кража! — кричали монахи, перебивая друг друга.
Им и в голову не пришло, что Бруно сам мог убрать иконы.
Порчелли, оставив недоеденной курицу, отправился в учебный корпус. В келье Бруно икон не было.
— Что вы думаете об этом, отцы? — спросил дон Марио.
— Я полагаю, что кража совершена сегодня после того, как студент Бруно ушел на занятия, — сказал отец циркатор. — Еще вчера вечером иконы были на месте.
Блюститель порядка соврал, но ему не хотелось, чтобы его обвинили в небрежном отношении к своим обязанностям.
1 Распятие — статуэтка, изображающая Христа, пригвожденного к кресту.
’— А я думаю, что отец циркатор не слишком близок к истине, — съязвил ключарь. — Мне известно, что отец циркатор нерегулярно обходит кельи, и кража могла случиться раньше.
— Но почему же студент Бруно не заявил о пропаже? — огрызнулся циркатор.
— Иконы украли студенты, чтобы продать в городе, А Бруно не хочет товарищей выдавать.
Это объяснение придавало событию другой оборот, и монахи начали судить и гадать, успели ли ночные гуляки вынести похищенное в город. Циркатор упорно доказывал, что кража случилась в это утро и что иконы лежат припрятанные в ожидании вечера. Приор не решился идти к аббату с докладом о происшествии. Он знал, что мессер Паскуа обвинит его по этому случаю во всех семи смертных грехах и пошлет на него донос в Рим, как, впрочем, поступал и сам дон Марио при всяком удобном случае.
Приор, ключарь и циркатор призвали надзирателей из внутренней школы и принялись обыскивать кельи студентов и ученические дортуары.
Хотя они старались держать все в тайне, но это оказалось невозможным, и вскоре монастырь гудел, как растревоженный улей.
Поползли самые нелепые слухи. Одни говорили, что ограблен птичник и воры унесли оттуда сотню жирных гусей и уток. Другие утверждали, что из винного погреба похищено триста бутылок редкостных старых вин. Третьи шли еще дальше и уверяли, что взломана скарбница 1 собора Сан-Доминико и оттуда унесены золотые сосуды, рубины, алмазы...
И так как обитатели монастыря были далеко не безгрешны и у многих в кельях и квартирах хранилось то, что по уставу хранить не подобает, то они бросились прятать запретные вещи.
Кто бежал в виноградник, надеясь укрыть свое добро в земле среди лоз, кто разрывал навоз в конюшне, кто просто подбрасывал опасные улики в капеллы и трапезные, пустовавшие в это время дня. Дело осложнялось тем, что порчеллисты боялись паскуалистов, а
1 Скарбница— место хранения ценностей, кладовая.
паскуалисты — порчеллистов. Пробираясь к тайнику, каждый боялся, что за ним подсматривает враг.
Открывались самые неожиданные вещи. Благочестив вого отца Пиффёро, видного сторонника аббата, пор-челлисты поймали с огромным кувшином вина, который он нес из кельи под мантией. Оказалось, что кувшин хранился в углублении, искусно выдолбленном в стене и прикрытом дощечкой, выкрашенной под цвет стены. И если бы не страх, погнавший святого отца, этот тайник не был бы обнаружен до конца его дней.
Всеми уважаемый церковный регент с перепугу выбросил из окна две студенческие кольчуги, и они были конфискованы, к большому ущербу для укрывателя. В капелле Святого Стефано нашли под скамейками добрую дюжину кинжалов...
Наконец шум дошел до аббата, и он вызвал зачинщиков переполоха. Приор начал сбивчивые объяснения. Как он и ожидал, аббат обрушил на него неистовый гнев. Исчерпав весь запас ядовитых слов, Паскуа немного поостыл и спросил:
— А вы говорили с Филиппо Бруно?
— О чем с ним говорить, он же пострадавший,— возразил приор.
— Пострадавший?! Я, к великому моему сожалению, должен в тысячный раз заметить вам, отец приор, что вы совсем не знаете тех, кого призваны опекать, хотя и расточаете перед ними соблазны. Студента Бру-но надо расспросить, и он не скроет истину, если она ему известна.
Через несколько минут Бруно появился перед монастырскими сановниками и правдиво рассказал о том, что произошло. Как ни пугала монахов мысль, что церковные ценности могли быть украдены и проданы в городе, но истина оказалась для них страшнее.
В монастыре Сан-Доминико Маджоре, этом оплоте истинного благочестия и веры, нашелся человек, отрицающий святость икон!
Аббат и приор на время забыли о своей вражде: дело оказалось настолько серьезным, что грозило обоим плачевными последствиями. По приказу мессера Паскуа отец циркатор отвел Бруно в темный карцер, где тот должен был сидеть без пищи и воды до разбо-. ра дела.
— Ну, что теперь скажете, отцы? — спросил аббат. На лицах приора и ключаря появился ужас.
— В наш монастырь проникла лютерская ересь! — провозгласил приор.
— Надо найти единомышленников Бруно и всем им вынести жестокий приговор! — подхватил ключарь.
— Вот, вот, — насмешливо подтвердил настоятель. — Придадим делу широкую огласку, пусть оно докатится в Рим до монсеньера1 прокуратора2, чтобы он сам явился расследовать дело.
Ключарь схватился за голову:
— Я преклоняюсь перед мудростью мессера аббата!
— Шум вокруг этого события поднят напрасно,— сказал аббат. — Надо было сразу привести ко мне Бруно, и я всё бы уладил. Мальчик горяч и честен, у него появляются необдуманные порывы, но его таланты предвещают ему великую будущность. И я напомню важное обстоятельство, о котором вы забыли. По вашему донесению, Бруно оставил в келье распятие: это значительно уменьшает его вину.
Монахи угодливо закивали головами.
— Боюсь, что придется разбирать дело на капитуле, вот к чему привело ваше неуместное усердие! Поручаю вам подготовить братию так, чтобы наказать виновного не слишком строго. А иконы вернуть в келью Бруно!
— Слушаем, мессер!
Филиппо Бруно предстал перед судом капитула. После непродолжительного обсуждения постановили: послушник Бруно должен соблюдать строгий пост в течение месяца и ежедневно класть по триста земных поклонов.
Идя из зала заседаний, ключарь шепнул приору:
— Дешево отделался богохульник!
— Воля мессера аббата! — пожал плечами приор.
Пораздумав, он не стал писать донос на Паскуа, хотя Бруно и был любимцем настоятеля. Разбирательство повлекло бы неприятные последствия для ключаря
1 Монсеньёр — обращение к представителям высшего католического духовенства.
2 Прокуратор — наместник, которому принадлежала в стране высшая власть над членами ордена.
и циркатора, а оба они были порчеллистами. Но дон Марио постарался не забыть происшествие, чтобы при случае воспользоваться им против соперника.
Сальваторо горько упрекал Бруно:
— Ах, Липпо, Липпо, почему ты не посоветовался со мной, когда задумал этот безумный поступок?
— Ты стал бы меня отговаривать, — ответил Фели-’ не. — А я не мог больше терпеть иконы в келье.
— Но их все равно повесили! Не станешь же ты выносить их второй раз?
— Теперь не стану. За это меня выгонят из монастыря, а то и засадят в подземную тюрьму. Ни того, ни другого я не хочу. Иконы у меня висят, но все знают, как я к ним отношусь.
Среди студентов репутация Бруно поднялась необычайно высоко. Их потрясла смелость Фелипе, восставшего против церкви. В первый раз, когда Бруно появился в аудитории после суда, его окружила толпа товарищей. Общее мнение выразил Тиначчо Макерони:
— Ну, петушок, ты храбрец, каких мало найдется в Италии! И хотя я тебя постоянно защищал, но ребята думали, что ты не ходишь по ночагл в город из боязни наказания. А ты вон какой!
И он крепко обнял Бруно при общем гуле одобрения.
Глава шестая
МОНАХ
Пришел к концу послушнический искус Филиппо Бруно, и 16 июня 1566 года должно было состояться его пострижение в монахи. К этому же дню монастырское начальство приурочило пострижение Сальваторо Ронка, которое неоднократно откладывалось.
За последний год Ронка сильно вырос и возмужал» Он стал намного выше Фелипе и сделался так силен, что в шуточной борьбе с товарищами одолевал двух и трех противников. Любители запретных развлечений не раз приглашали Сальваторо в город, но тот всегда от-.
назывался: ему противны были развлечения ночных гуляк.
Собор Сан-Доминико был полон народа. Справа от входа стройными рядами стояли монахи в белых рясах с непокрытыми головами, слева толпились горожане. В подсвечниках и паникадилах горели тысячи свечей, густой дым ладана поднимался к куполу, пронизываемый солнечными лучами. Священники в парадных ризах с накинутыми поверх короткими белыми кружевными пелеринами двигались чинно, величаво.
Окончилась торжественная месса, во время которой Бруно и Ронка в последний раз исполняли обязанности причетников. Каждого из постригаемых два священника вывели под руки на средину храма. В толпе молящих* ся началось шушуканье:
— Смотрите, тот бледный какой молоденький!
— А какой он красивый и грустный!
— Моина Барбара, а ведь это тот самый...
— Кто?
— У которого застрелили невесту после праздника Сан-Дженнаро. Помните, в позапрошлом году осенью?
— Он, он! Не мудрено, что бедняжка пошел в монахи!
— А второй-то, рыжий, как доволен!
— Этот, видно, из простых, ему монашеская доля—-находка!
Молодые люди, стоя на коленях на каменном полу церкви, отвечали на вопросы настоятеля, произносимые громким голосом:
— Обещаете ли следовать заветам Христа, пострадавшего за грехи людей?
— Обещаю, святой отец, — отвечали в один голос Бруно и Ронка.
— Обещаете ли всегда и всюду выполнять уставы нашего святого ордена?
— Обещаю...
Были также произнесены обеты безбрачия, беспрекословного повиновения старшим, повседневного умерщвления плоти...
Верующие вздыхали, слушая суровые вопросы аббата Паскуа.
Принятым в монахи выстригли волосы на макушке головы (откуда и самый обряд назывался постриже
нием), облекли в белые рясы и нарекли новые имена. Считалось, что, вступая в монашество, человек настолько порывает с прошлым, что должен отказаться от прежнего имени. Филиппо Бруно получил имя Джордано, Сальваторо Ронка стал называться Алёссо.
Когда друзья вышли из церкви, Ронка в восторге воскликнул:
— Брат Алессо?! Подумать только, в нашем роду рыбаков появился монах! Теперь уж заполучу место клирика! Не уйдет от меня желанное! А тебе вот что скажу, брат Джордано! Твое новое имя наверняка прославится, так ты вспомни тогда, что я произнес его вторым после аббата!..
На церковном дворе к Джордано подошел Хиль Ромеро и холодно поздравил его с посвящением в монашеский сан. После короткой встречи с испанцем у монастырских ворот Бруно не виделся с ним: Ромеро на несколько месяцев уезжал из монастыря по какому-то поручению.
Когда Хиль отошел, Ронка сказал, глядя ему вслед:
— Послушай, Джордано (надо же привыкать к нашим новым именам!), этот одноглазый испанец — твой враг!
— Мой враг? — удивился Бруно. — Ты ошибаешься, Алессо! Когда-то между нами было мальчишеское соперничество, но это осталось в прошлом, и все забыто.
И, однако, простодушный Алессо отгадал истину. Детская полузабытая вражда воскресла в душе Ромеро, по теперь для нее нашлись новые причины.
Отец Луиса умер вскоре после возвращения в Испанию. Вслед за ним в могилу последовала мать. Тринадцатилетний Луис промышлял мелким воровством на рынках Саламанки, пока его не подобрал патер из иезуитской школы.
Луиса Ромеро приняли в число воспитанников. Он не блистал успехами в науках, но усердно доносил на товарищей и потому пользовался расположением отцов иезуитов. Прошли положенные сроки, и Луис решил принять монашество. Его злобный нрав, беспринципность и изворотливость давно были известны высшему начальству, и Ромеро вызвали к прокуратору.
Прокуратор иезуитского ордена не тратил слов.
— Сын мой, ты должен вступить в орден доминикан
цев! Не удивляйся. ?Лне ведомо, что душой ты — иезуит, но так нужно. /Мы должны знать, что делается у доминиканцев. Их орден старый, процветающий, а общество святого Иисуса существует немногим более двух десятилетий. Борьба с доминиканцами нелегка, но ты знаешь девиз нашего ордена: «Цель оправдывает средства». Доминиканцы погрязли в пороках и роскоши, они не могут служить великому делу защиты церкви, и мы должны сменить их на посту. Тебе все ясно, сын мой?
— Слушаю и повинуюсь, святой отец!
Луис постригся в одном из доминиканских монастырей в Испании под именем брата Хиля. А когда дону Марио Порчелли понадобился деятельный помощник, в Сан-Доминико Маджоре появился Хиль Ромеро.
Иезуиту Порчелли по нраву пришелся хитрый и злобный испанец, умевший, как никто, выслеживать па-скуалистов и доносить о них начальству. Аббату, против желания, приходилось наказывать своих сторонников.
Мессер Паскуа возненавидел Хиля и старался от него избавиться, но у того была крепкая защита в лице приора.
Вернувшись из длительной поездки по иезуитским делам, Ромеро неожиданно встретил в монастыре Филиппо Бруно. Хиль нашел былого соперника успевающим студентом, любимцем аббата, будущим светилом науки. А что может противопоставить блестящим качествам Фелипе он, Ромеро? Простой монах, с некрасивым, длинным и узким, тронутым оспой лицом, с одним глазом, глубоко сидящим под густой бровью, и другим, навечно скрытым под черной повязкой, с неловкими манерами, едва умеющий читать по-латыни и с трудом подписывающий свое имя?..
Старая вражда припомнилась, а новую пищу ей дал приор. Во время тайной аудиенции он спросил Ромеро:
— Сын мой, ты, кажется, не очень любишь этого изящного студентика Бруно?
— У меня нет причин любить его, мессер! Ему я обязан всеми несчастьями в моей жизни.
Ромеро рассказал о своем соперничестве с Бруно, которое закончилось нападением на Джузеппе Висконти и потерей глаза.
Приор удовлетворенно кивал головой:
— Так, так, сын мой, все это очень хорошо, то есть,
я хотел сказать, плохо. Ну что же, мы с тобой пйтаем одинаковые чувства к Бруно. Он оскорбил меня в первые же недели после появления в монастыре, отказавшись стать в ряды моих сторонников.
— Смею ли я спросить, мессер, какая у вас была надобность привлекать Бруно?
Приор ответил не задумываясь:
— Бруно одарен высокими талантами, вот почему я хотел видеть его порчеллистом. Но если этого не случилось, то не должно и допустить, чтобы мессер Паскуа сделал из него в будущем светило церкви.
— Я понимаю вас, святой отец, — прошептал Ромеро,— и приложу все усилия, чтобы Бруно не пошел по этому пути...
— И если ты этого добьешься, сын мой, награда твоя будет велика, — закончил разговор дон Марио,
Глава седьмая
«СЕМЬ РАДОСТЕЙ БОГОМАТЕРИ»
После разговора с приором Хиль Ромеро стал искать средство очернить Джордано. Проще всего было донести, что он нарушает монастырский устав. Ромеро с неослабной энергией шпионил за Бруно, но не мог обнаружить ничего предосудительного. Бруно не ходил по ночам в город, посещал церковные службы в положенное время, не носил оружия, беспрекословно выполнял приказания старших.
Хиль Ромеро не получил образования, по был умен и проницателен. История с иконами произошла в его отсутствие, но Хиль знал о ней от дона Марио и понимал, что поступок Бруно навеян знакомством с сочинениями протестантских вероучителей. Вот бы поймать ноланца за чтением еретических книг!
Запретная литература хранилась в библиотеке, и следовало произвести там разведку. Выбрав время, когда Бруно был на лекции, Хиль явился к дону /Аннибале. Зал был пуст, читатели, как всегда, отсутствовали.
Поприветствовав старого монаха по уставу, Ромеро заговорил:
— Святой отец, мою душу волнуют сомнения,
— Какие сомнения, сын мой?
— Все говорят, что сочинения Лютера, Кальвина и других лжеучителей необычайно убедительны. А я этому не верю.
— И благо тебе, чадо!
— Но, отец, я бы хотел на деле доказать свою правоту. Дайте мне тезисы Мартина Лютера и я берусь написать на них опровержение здесь же, за столом!
— О, в нашем монастыре, оказывается, есть искусный богослов, а я о нем ничего не знал. Как тебя зовут, сын’ мой?
— Смиренный брат Хиль Ромеро.
— Что же, брат Хиль, твое желание выполнить весьма легко...
Ромеро задрожал от радости. Сейчас он уличит дона Аннибале в небрежном хранении запретных книг, а тогда можно добраться и до его любимца Джордано.
— Весьма легко, я говорю, — тонко улыбаясь, продолжал монах. — Принеси разрешение отца настоятеля, и ты получишь любую книгу из запретного зала, будь она трижды еретическая.
Длинное лицо Хиля налилось кровью, он понял, что ему не удастся провести дона Аннибала. Он сделал последнюю попытку:
— И вы никому не даете запрещенных книг без записки?
— Никому, сын мой, — благодушно ответил монах,— никому, кроме (Хиль навострил уши)... кроме отца настоятеля и отца приора.
Посрамленный Хиль ушел, бормоча:
— Ладно, старый хитрец! Я и тебя и Бруно выведу на чистую воду.
Однако в библиотеке он больше не появлялся.
Ничего не зная о взаимоотношениях Ромеро и Бруно, дон Аннибале не рассказал Джордано о посещении испанца. Старый монах думал, что Ромеро с его неуклюжими уловками подослан кем-нибудь из желающих занять спокойную должность библиотекаря — предмет зависти многих.
1 31 октября 1517 года Лютер опубликовал в городе Виттенберге 95 тезисов против торговли индульгенциями и других злоупотреблений папы и католического духовенства»
Хиль стал следить за тем, какие книги носит при себе Джордано и какие оставляет в келье. Однако Бруно всегда был осторожен с запрещенной литературой. Если он и выносил иногда из запретного хранилища книгу, то прятал ее в общей зале: попробуй найти среди тысячи томов!
Но однажды он увидел книгу неизвестного неаполитанского автора «Благодеяния Христа». Эта книга, носившая явные черты протестантского вероучения, была широко известна и переиздавалась много раз. Печатали ее венецианские типографы, пользовавшиеся большей свободой, чем издатели других государств Италии. Из Венеции она тайно распространялась повсюду.
Бруно давно слышал об этом труде и обрадовался, заполучив его. Молодой монах углубился в чтение. Но уже темнело, и Джордано, спрятав под рясой книгу, унес ее в келью.
Там при тусклом свете свечи он перелистывал страницу за страницей, впитывая смелые мысли автора, опровергавшего догматы католической церкви. Только когда забрезжил рассвет, Бруно заснул, спрятав книжку под матрац.
Джордано проснулся поздно. Надо было спешить на занятия, и не хватило времени вернуть книгу в библиотеку. Студент побежал в аудиторию, даже не позавтракав. Через некоторое время в коридоре появился Хиль Ромеро. Испанец ночью не раз прокрадывался к келье Джордано. Видя свет в окошке над дверью, он со злобным торжеством думал, что, уж наверное, Джордано читает не Фому Аквинского.
Выждав с полчаса после ухода Бруно, Хиль Ромеро открыл дверь и вошел в келью. Найдя под матрацем книгу и прочитав ее заглавие, Ромеро пришел в восторг. Вот когда любимчик аббата в его руках! Хиль Ромеро не был силен в богословской литературе, но индекс 1 запрещенных римской курией2 книг знал назубок.
«Наконец-то карьера красавчика Джордано погибла!.. Цепи на руках и ногах, сырой подвал с крысами — вот что ждет любимца мессера Паскуа...»
Но как поступить? Взять книжку и поспешить к мес-
1 Индекс — список, указатель.
2 Римская курия — верховное управление католической Церковью.
серу Порчелли? А как доказать, что преступное сочи-’ нение найдено именно в келье Бруно? Тот, конечно, отопрется, а библиотекарь его не выдаст.
Нет, он, Ромеро, устроит дело так, что Бруно не сможет отвертеться. Неподалеку от кельи Бруно находилась кладовая, где хранилось кое-какое хозяйственное имущество, были там и висячие замки. Хиль сбегал туда, притащил замок и навесил его на дверь каморки Джордано. Торжествующе улыбаясь, он положил ключ в карман.
Хиль Ромеро постучался в келыо мессера Порчелли. Ромеро так волновался, что стук получился недостаточно тихим, не по уставу. На пороге показался недовольный служка.
— Что ты колотишь, точно Христа второй раз распяли?
— Мне нужно немедленно видеть отца приора, — задыхаясь, ответил монах.
— Вишь, какой скорый! У мессера серьезный разговор с аббатом Америго Гусманом.
— Ради святого Доминико, вызовите мессера, почтенный брат! Я уличил одного монаха в лютерской ереси, и дело не терпит отлагательства!
Отказать в такой просьбе служка не решился, и через десять минут приор появился в приемной. Выслушав сообщение Ромеро, дон Марио просиял: вот когда он нанесет удар аббату.
— Хорошо, — сказал он. — Пусть сюда вызовут брата Джордано, а ты, сын мой, следи, чтобы он не сумел припрятать улику. Я же, когда с божьей помощью закончу важное совещание с отцом Гусманом, займусь этим делом.
На самом деле важное совещание заключалось в том, что святые отцы пировали, сидя за столом, уставленным дичью, рыбой, фруктами и флягами с вином.
Служка поспешил в аудиторию, Хиль остался в приемной.
А Бруно заволновался уже на первой лекции. Он сидел как на иголках, и едва профессор сказал заключительную фразу, как Джордано быстро направился к себе. Худшие его опасения оправдались: на двери висел большой замок.
«Меня выследили, — догадался юноша. — Келья закрыта, значит, будет обыск. Мне поможет только Алессо!..»
Бруно помчался в библиотеку: он встретил друга у ее дверей. Джордано в немногих словах рассказал о случившемся.
— Я постараюсь что-нибудь придумать, — заверил Ронка. — А ты возвращайся на лекцию.
К началу второй лекции Бруно был в аудитории. И вовремя, так как за ним явился посланный дона Лд1арио.
Войдя в приемную приора, Джордано увидел Хиля, и тот встретил его злобным взглядом единственного глаза. Бруно понял, что на него донес испанец. Успеет ли Алессо скрыть улику?
Ронка задумался у запертой двери. Что сделать? Сорвать замок — пустое дело, этим только повредишь Бруно. Пролезть бы в круглое окошко над дверью, но разве возможно это при его богатырских формах?.. Нашел! Ученик Нино, вот кто поможет!
Алессо помчался во внутреннюю школу. Ему удалось поймать Нино по пути в капеллу, он подхватил и увлек его за собой.
Мальчишка был тонок и гибок, как вьюн, ему ничего не стоило проскользнуть сквозь отверстие. Но можно ли просто унести криминальную книгу? Это тоже вызовет подозрение. Надо заменить ее другой, самой что ни на есть благонамеренной. И тут Алессо вспомнил, что товарищи дали ему читать богословский труд «Семь радостей Богоматери». Они со смехом называли этот труд глупым, но весьма благочестивым, рекомендуемым для чтения всем христианам. Забежать к себе в келыо и взять книжку было делом одной минуты.
Наступил самый опасный момент смелой затеи. Поднятый Алессо мальчик проскользнул в «глазок» и по-; ложил новую книгу точь-в-точь, как лежала та, другая. Кстати, обе книги были в одинаковых переплетах и имели один и тот же формат. Выбраться обратно мальчугану помешал малый рост. Нино не мог дотянуться до окна. Алессо чертыхнулся, но быстро нашел выход. Сняв рясу, он протолкнул ее в отверстие, школьник ухватился за рукав и через мгновение стоял на полу коридора.
Дружески щелкнув его по лбу, Алессо прошептал:
— Теперь в капеллу, и ни слова о том, где ты был!
Мальчишка скорчил обиженную гримасу, он был первый шалун в школе и никогда не выдавал товарищей.
Алессо поспешил в библиотеку.
— Святой отец, чуть не случилась беда, но нам помог святой Доминико. Эту книгу надо немедленно поставить на место.
Старому монаху не нужно было объяснять, Алессо благоразумно исчез из библиотеки.
Все было проделано вовремя. У кельи Джордано появились аббат, приор, приглашенный ради важности случая монастырский инквизитор, Хиль Ромеро, предвкушавший награду, и смущенный Джордано Бруно.
Хиль Ромеро с низким поклоном протянул ключ аббату:
— Вам, досточтимый мессер, надлежит честь изобличить вероотступника.
— Нет уж, открывай сам, — брезгливо возразил мессер Паскуа.
Он прекрасно понимал, что не в Бруно тут дело. Если удастся обвинить его студента в чтении еретической книги, это прежде всего повлияет на репутацию его, Паскуа.
«Проклятая лисица!» — думал аббат, с ненавистью глядя на испанца.
Дверь отворилась. Хиль Ромеро бросился вперед, схватил книгу, и... изумление, нет больше — отчаяние отразилось на его лице.
— Мессеры!—диким голосом завопил он, взглянув на заглавие. — Это не та книга!
Зоркий Бруно узнал «Семь радостей Богоматери», и блаженное успокоение охватило его душу. Друг Алессо помог!
— Как — не та книга?! Что все это значит? Почему со мной обращаются как с преступником? — тоном оскорбленной невинности спросил Бруно.
— Мессеры! Клянусь, брат Джордано читал богопротивную книгу «Благодеяния Христа»!
— Брат Хиль забыл, что господь карает за ложные клятвы, — внушительно возразил Бруно.
Ромеро совсем потерял голову.
— Но он читал эту книгу целую ночь! Я не раз подходил к его келье, и у него все время горела свеча!
В разговор вмешался аббат. Он догадался, что здесь дело нечисто, но, раз концы спрятаны в воду, его это ничуть не беспокоило. Теперь он может вступиться за Бруно и как следует проучить не только попавшего впросак шпиона, но и его высокого покровителя.
Паскуа сухо спросил:
— Неужели христианину нельзя увлечься благочестивой книгой настолько, чтобы забыть о времени?
Никто не осмелился на это возразить.
Аббат продолжал:
— На каком основании, брат Хиль, ты утверждаешь, что книга была еретическая, и где мог достать ее брат Джордано?
— На ней библиотечное клеймо, и я сам читал ее заглавие.
— Брат Хиль не слишком силен в латыни, — ехидно заметил Бруно.
Расследователи отправились в библиотеку. Дон Аннибале Россо с негодованием отверг предположение, что какое-нибудь запретное сочинение могло оказаться в студенческой келье без разрешения мессера аббата или мессера приора.
Аббат сурово произнес приговор:
— Брат Хиль понесет наказание за злонамеренную клевету. Он будет стоять посреди обеденного зала в продолжение тридцати трапез босой, на коленях, опоясанный веревкой, и читать братии жития святых на латинском языке. Я надеюсь, что эта кроткая отеческая мера поможет брату Хилю лучше усвоить латынь.— После паузы аббат добавил: — Отцу приору поручается лично следить за точным исполнением этой епитимии.
Дон Марио огромным усилием воли сдержался, чтобы не нагрубить при всех аббату: это было бы непростительным проступком и дало бы Паскуа лишний козырь в игре. Хиль же побагровел так, что, казалось, кожа на его худых щеках лопнет от прилива крови. Трудно было придумать более постыдное и тяжкое наказание для малограмотного монаха.
Тридцать дней! Тридцать часов мучительного унижения!
Невозможно было без сожаления смотреть на пылающего стыдом Хиля Ромеро, когда он в позорной одежде стоял на коленях в трапезной и, с великим трудом одолевая мудреные латинские обороты, брел через житие Марии Египетской или Симеона Столпника...
Паскуалисты, исподтишка ухмыляясь, посматривали на гордого приора, который с песочными часами в руках следил за временем.
Чтобы не заводить дело чересчур далеко, аббат снял епитимию через неделю. Но все равно неудачу с «Семью радостями девы Марии» приор и его верный помощник приняли как серьезное поражение в борьбе с аббатом, и их ненависть к Джордано возросла чрезвычайно. Испанец готов был даже на убийство, но иезуиты редко шли на прямое преступление, если грозило разоблачение.
Приор услал Ромеро в Испанию, и одноглазый монах снова надолго исчез из Сан-Доминико Мад-жоре.
В середине ноября Джордано посетил домик Саволино и узнал грустную новость. Джузеппе Цампи, оторванный от привычного дела, зачах, как растение, пересаженное в чужую почву, и тихо скончался. Бруно опечалился: он очень любил добродушного старика.
Глава восьмая
ИЕЗУИТЫ
Прибыв в Испанию, Ромеро отправился в Мадрид, к прокуратору ордена иезуитов. Сухощавый монах со строгим лицом и манерами воина принял Хиля в скромно обставленной келье, единственным украшением которой было огромное распятие из слоновой кости. Хиль вручил ему большой пакет, запечатанный пятью сургучными печатями, который он во время путешествия хранил как зеницу ока. Там были донесения дона Марио Порчелли и других итальянских агентов иезуитского ордена. Прокуратор долго просматривал бумаги, взглядывая по временам на Ромеро. Наконец он приказал:
— Рассказывай, сын мой!’
Прокуратор внимательно выслушал доклад Ромеро обо всех важнейших событиях, которые произошли за последнее время в монастыре Сан-Доминико, и по вре-, менам делал заметки на листе бумаги.
Хиль кончил и замер в почтительной позе. Прокуратор задал ему много вопросов, целью которых было уточнить и расширить некоторые его сообщения и проверить донесения других агентов. Затем он сказал:
— В своем докладе ты ни словом не упомянул о студенте Джордано Бруно. Однако в этих бумагах много говорится о нем, и в них я нашел утверждение, что Бруно весьма одарен талантами. Это действительно так?
Хиль растерялся. Как ответить на такой прямой вопрос? Отрицать талантливость Бруно было опасно: ведь он не знал, что о Бруно написано в донесениях мессера Порчелли. Ромеро заговорил не торопясь, осторожно подбирая слова:
— Я не могу отрицать, монсеньер, что у Бруно большие способности и он мог бы стать выдающимся богословом. Но он никогда им не станет, потому что все свое внимание брат Джордано отдает суетному искусству астрономии, в чем ему нимало не препятствует его покровитель, мессер Паскуа.
Прокуратор внимательно взглянул на собеседника:
— Я полагаю, сын мой, что ты ненавидишь Бруно не из-за того, что он увлекается астрономией? Из донесения отца Порчелли я вижу, что для этого есть более веские причины.
Сухое темное лицо Ромеро побагровело, и он невольно поднес руку к выбитому глазу.
— Да, святой отец, вы правы, я всеми силами души ненавижу этого счастливчика Джордано! Из-за него погибли мои детские мечты о службе королю, о далеких походах в толпе смелых товарищей, о воинской славе. Да, это по его вине я лишился глаза и вынужден был идти в монахи!..
— Должен ли я понять твои слова так, что ты сожалеешь об этом? — жестко спросил прокуратор.
Хиль опомнился.
.<— Простите, монсеньер!
— Ты хотел служить королю? Но теперь ты служишь тому, перед кем все короли и императоры мира — прах, кому земля — подножие ног его, а престол — усыпанное звездами небо!
Ромеро стоял, низко опустив голову.
— Земная слава суетна, — продолжал монах, — и человек все силы должен посвящать служению богу. А где можно сделать это лучше, чем в рядах нашего святого ордена? Мы собираем у себя самых способных деятелей, и вот почему я прошу тебя ответить на вопрос: нельзя ли привлечь в наш орден Бруно?
Хиль вздрогнул.
— Я вас правильно понял, монсеньер? Вы хотели бы...
— Да, я хотел бы, чтобы Джордано Бруно вступил в общество Иисуса, которому он, без сомнения, был бы весьма и весьма полезен. Ты можешь обещать ему от нашего имени любые блага: мы достанем ему всевозможные книги по астрономии, отдадим его в ученье к знаменитейшему астроному Европы... И при этом ему вовсе не нужно будет отречься от доминиканского ордена: он станет тайным иезуитом, как ты, как тысячи других наших собратьев.
Ошеломленный Хиль Ромеро старался подавить кипевший в нем гнев. Как, этот баловень судьбы Джордано даже заочно сумел приворожить к себе прокуратора иезуитского ордена до такой степени, что тот старается переманить его к себе, не жалея щедрот? Но нет, этому не бывать!..
— Боюсь, святой отец, — заговорил он с притворным сожалением, — что это невозможно! Насколько я знаю Бруно, его нельзя подкупить вашими лестными предложениями. В библиотеке Сан-Доминико богатейший выбор книг, а ее хранитель, дон Аннибале, искусный астроном. Чего же еще может желать Джордано?
— А деньги?
— Он не падок на деньги, монсеньер, это всем известно в монастыре. Если он приносит из дома дяди два или три дуката, он тотчас раздает их неимущим студентам...
— Жаль, жаль, жаль... — несколько раз повторил монах. — По твоим рассказам я вижу, что Джордано
Бруно из тех избранных, кого Христос называл солью земли. Ну что же? Тем хуже для него! Если соль не солит, ее выбрасывают. Из полученных мной документов видно, что аббат Паскуа возлагает на Бруно большие надежды. Это верно?
— Да, монсеньер. Мессер Паскуа надеется, что Бруно станет светилом церкви и тем возвысит монастырь, а заодно и собственную персону аббата.
— Паскуа — наш старый враг, и мы ни в коем случае не должны допускать его возвеличения. Как жаль, что такой достойный служитель бога, как отец Порчел-ли, не может одолеть аббата в их затянувшейся борьбе. — Прокуратор вздохнул. — Можно ли считать, что крушение планов отца Паскуа в отношении Бруно нанесет ему ущерб?
— Это будет одним из крупнейших его поражений!
— Тогда Джордано Бруно должен погибнуть!
— Я приложу к этому все свои усилия, монсеньер!
— Но будь мудрым, как змий, сын мой! Я предписываю тебе величайшую осторожность в выполнении приговора святой церкви. Гибель брата Джордано должна казаться совершенно случайной, и потому ты должен скрывать свою ненависть к нему. Я понимаю,— усмехнулся монах, — что ты не сможешь разыгрывать роль искреннего друга Бруно, но, по крайней мере, пусть думают, что ты забыл былую злобу и по-христиански простил врагу свое несчастье.
— Слушаю и повинуюсь, святой отец! — повторил Ромеро.
— Я знаю, что ты бескорыстен, как подобает служителю бога, — с затаенной иронией сказал прокуратор, — но, когда Бруно умрет, ты получишь пятьсот цехинов, чтобы заказать мессы за упокой его грешной души...
Единственный глаз Ромеро радостно заблестел.
Аудиенция кончилась. Казначей ордена снабдил Хиля золотом на дорожные расходы, и тот отправился по доминиканским монастырям Испании и Франции разведывать, как там идут дела.
Ромеро вернулся в монастырь Сан-Доминико Мад-жоре осенью 1568 года. История с его доносом и позорным наказанием забылась, как и рассчитывал мессер Порчелли.
Глава девятая,
ОПАСНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
В июне 1568 года после окончания двухгодичного курса логики Джордано был удостоен долгожданной степени магистра Ч В доме Саволино по этому случаю произошло торжество, в котором приняли участие и родители Джордано, приехавшие из Нолы. На праздник были приглашены пансионские товарищи Бруно, жившие в Неаполе. В честь молодого магистра поднимались тосты, друзья предвещали ему славное ученое будущее, большую духовную карьеру, кардинальскую шапку...
Виновник торжества сидел задумчивый.
Мать с отцом еще гостили в Неаполе, когда Джордано явился в дом дяди и сообщил, что его возвели в сан субдиакона1 2. Это событие привело Фраулису в восторг. Ее сын — духовное лицо, он сделал первый шаг по ступеням, которые вознесут его высоко и приблизят к богу... Простодушная женщина, трепеща от волнения, подошла к сыну под благословение.
Хиль Ромеро жестоко завидовал успехам Бруно. Правда, тот пока еще получал скудную пищу и жалкие гроши на покупку одежды и письменных принадлежностей, но испанец знал, что со временем, с получением следующих ученых и духовных степеней, к его заклятому врагу придут и слава и богатство. И эта мысль заставляла Ромеро строить самые кровавые планы расправы с Джордано Бруно. Но, помня наказ прокуратора, Хиль вел себя благоразумно, глубоко затаил свою ненависть и не раз в присутствии монахов дружелюбно говорил о Бруно.
В начале июля 1568 года судьба пришла на помощь Ромеро. Аббату Паскуа понадобилось послать надежного человека во Флоренцию — взыскать крупный долг в 3000 дукатов с настоятеля церкви Санта-Репарата. Как залог, у мессера Паскуа хранилась святыня — ноготь с большого пальца ноги святой Репараты, вделанный
1 Степень магистра, присуждавшуюся университетом, не следует смешивать с гораздо более низким званием магистра семи свободных искусств, которое давалось после изучения наук тривиума и квадривиума.
2 Субдиакон — помощник диакона, первый духовный сан.
в золотой медальон с алмазами. Конечно, ценность' реликвии составляла не оправа, великую цену в глазах верующих представлял нетленный ноготь святой, не раз совершавший чудеса в искусных руках: патеров.
Эта история уже принесла аббату Паскуа много неприятностей. По старой дружбе с флорентийским настоятелем Эугенйо Бальони мессер Паскуа дал ему деньги без разрешения прокуратора ордена. Сделка со-, вершилась втайне, но дон Марио узнал о ней и немедленно послал донос в Рим.
Аббата вызвали в папскую столицу, ему объявили выговор и предупредили, что, если в назначенный срок он не взыщет церковное золото, это поведет к самым печальным для него последствиям.
Теперь мессер Паскуа серьезно думал, кого отправить за деньгами. На пути посланца ждало множество опасностей: испанские солдаты, германские ландскнехты, итальянские разбойники, владетели придорожных замков, не упускающие того, что плывет к ним в руки...
Но если даже гонец благополучно доберется до Флоренции, кто может поручиться, что он не присвоит себе полученные деньги и не сбежит с ними за границу? Уж очень велик будет соблазн!
«Мне нужен человек, честность которого выше всяких сомнений, — вздыхая, думал аббат. — Но как найти такого в монастыре?..»
Он перебирал в памяти своих сторонников одного за другим, ио никто не казался аббату достаточно надежным. И вдруг его осенила мысль: Бруно! Да, только Джордано Бруно стоит выше любых искушений, только ему можно дать поручение, от выполнения которого зависит будущность Амброзио Паскуа.
Настоятель вызвал Бруно и предложил ему отправиться во Флоренцию за церковными деньгами.
— Сын мой, я буду с тобой откровенен, — сказал аббат. — Дело это крайне опасное. К великому сожалению, отцу приору известен срок, когда мой флорентийский друг должен уплатить долг. Конечно, ни твою поездку, ни цель ее мы не сможем утаить от дона Марио, и он воздвигнет на твоем пути все препятствия, какие только сможет, а возможностей у него много! Если ты чувствуешь в себе силы преодолеть козни врагов, я благословлю тебя в путь!,
Аббат испытующе смотрел на Джордано. Тот задумался. Ему уже исполнилось двадцать лет, а что он видел, кроме Нолы и Неаполя? И вдруг — поездка во Флоренцию! Отправиться на север, совершить далекое путешествие, на месяц-другой вырваться из монастырских стен — что может быть заманчивее для бедного студента? И вдобавок, тетка Васта много рассказывала о своем родном городе, о его чудесных дворцах и храмах, о великолепных площадях, украшенных статуями и фонтанами. Его отец в молодости сражался за свободу Флоренции. И побывать там было давнишней мечтой Джордано.
Теперь представился случай осуществить эту мечту. Аббат предупреждает об опасности, но молодость не боится опасностей.
Все эти мысли быстро промелькнули в голове Джордано, и он почтительно склонился перед аббатом.
— Слушаю и повинуюсь, святой отец! — молвил он.
— Так и должен отвечать слуга ордена. Кого ты хотел бы взять с собой?
— С вашего разрешения, мессер, брата Алессо Ронка.
— Одобряю твой выбор. Брат Алессо глуп, но силен и верен, а это главное. Отец ключарь выдаст вам проездное свидетельство до Флоренции и обратно и снабдит всем необходимым на дорогу. Реликвию получишь у пего же и помни, что это — одна из величайших святынь католической церкви. Иди, сын мой, и да будет над тобой благословение мое и святого Доминико!
Алессо Ронка с радостью согласился принять уча-, стие в далекой поездке с другом, особенно когда узнал, как она опасна. Отец ключарь снарядил путешественников остроумно: он дал им старые, заплатанные мантии и рясы, но под рясы монахи надели прекрасные кольчуги и спрятали длинные кинжалы из миланской стали. Джордано и Алессо не получили ни сольдо на дорогу, ключарь снабдил их сумками для сбора подаяний.
— Это надежнее всего прокормит смиренных иноков,— сказал ключарь.
На голое тело путники надели кожаные пояса, пустые внутри, чтобы спрятать туда золото, которое они должны получить от флорентийца.
Ключарь выбрал на конюшне двух быстроногих мулов, но на них накинули самую бедную упряжь. И вот в таком виде два монаха покинули Сан-Доминико Маджоре 15 июля 1568 года, в четверг, счастливый день.
Но еще накануне этого дня отец ключарь, ярый пор-челлист, сообщил приору, что настоятель посылает во Флоренцию братьев Джордано Бруно и Алессо Ронка.
Обрадованный дон Марио отпустил ключаря и велел позвать к себе Хиля Ромеро. Запершись с ним в келье, он сказал:
— Мессер Паскуа отправляет Бруно и его друга Алессо Ронка к своему флорентийскому другу за золотом, которое он имел глупость дать взаймы. Это золото не должно вернуться в Неаполь!
— Я понимаю вас, святой отец! Этот удар сокрушит мессера аббата. Но я постараюсь, чтобы для Джордано он стал смертельным. Брат Джордано не вернется из этой поездки! И если он исчезнет бесследно, пусть мессер Паскуа думает, что его любимчик скрылся с церковными деньгами.
Такая злоба выразилась на безобразном лице испанца, что дон Марио понял: Ромеро выполнит свое обещание.
В ту же ночь Хиль Ромеро вышел из монастыря через потайную калитку и отправился в притон, где собирались самые отчаянные бандиты Неаполя. Хиль и?< не боялся. Воры и убийцы дорожили помощью одноглазого монаха, который не раз наводил их на выгодные «дела».
Ромеро был издавна связан с Андреа Кучйльо, главарем самой опасной шайки городских разбойников. Когда-то Кучйльо, притворившись в дневное время безногим, просил милостыню у прохожих, апо ночам занимался воровством. Потом нищенство показалось ему нестоящим занятием, и Кучйльо нашел более скорые пути к кошелькам своим сограждан. Некоторые его кровавые преступления были известны Хилю, и монах держал разбойника в руках.
Выслушав наказ Ромеро отобрать у двух доминиканцев золото, за которым они едут во Флоренцию, а самих их прикончить и узнав точные приметы своих будущих жертв, бандит с довольным видом кивнул головой: такое поручение было ему по душе.
...Монахи прежде всего заехали в домик Саволино.
Синьора Васта сначала обрадовалась, что племянник отправляется во Флоренцию, а потом расстроилась, когда выяснилось, какая опасная миссия на него возложена. Она написала письмо своему брату Бассо, где просила оказать Джордано всяческую помощь. Это письмо было зашито в ладанку, висевшую на шее у Бруно, где хранились реликвия и расписка дона Эуге-нио Бальони.
Путники выехали за городские ворота, и Алессо с удивлением заметил, что Бруно свернул с большой дороги на тропинку, ведущую к Везувию. Впрочем, он скоро понял, в чем дело. Через час друзья спешились у могилы Ревекки.
Видно было, что за могилой любовно ухаживают: сорные травы выполоты, росли цветы, посаженные заботливой рукой.
Джордано стал на колени и опустил голову на скромную плиту с надписью «Альда Саволино». Как много говорили ему эти два слова! Как много будили воспоминаний о сладкой поре любви, о поре юношеских надежд и мечтаний!.. Слезы катились из глаз Джордано.
Алессо, склонив обнаженную голову, тихо прочитал заупокойную молитву.
Бруно встал:
— Поедем, друг!
Вершина Везувия, бледневшая по мере удаления от нее, растаяла в синеве неба, но долго еще белое облачко дыма недвижно стояло над горизонтом.
Копыта мулов стучали по каменистой дороге. Друзья ехали молча. Им предстояло проделать долгий путь в 180 миль1, и каждый шаг таил опасность.
Гонцам мессера Паскуа пришлось убедиться в этом на четвертый день под вечер, когда они подъезжали к Риму.
Башни и храмы Вечного Города виднелись вдали, когда из дверей придорожной траттории вывалилась с гамом большая группа молодцов подозрительного вида и загородила двум всадникам путь.
Рослый детина взял под уздцы мула Алессо:
1 Около 400 километров.
— Куда держите путь, отцы?
— В Рим, с вашего позволения, синьоры! — нарочито жалобно ответил Алессо.
— Откуда у вас эти мулы?
— С нашей монастырской конюшни. А почему вы спрашиваете об этом, синьор?
— Да потому, что у моего господина, графа Гвидо дель Моро, украдена из имения точь-в-точь такая пара длинноухих! А ну, слезайте, отцы! — грубо приказал детина.
Десяток парней стояли на дороге, наслаждаясь смущением монахов.
«Вот первая преграда, поставленная на нашем пути отцом приором», — подумал Бруно, а вслух сказал:
— Брат Алессо, в требовании синьоров нет ничего противозаконного. Всякое подозрение должно быть проверено. Но прежде чем слезть с мула, благослови этого нечестивца, как он того заслуживает!
При последних словах голос Джордано загремел, и прежде чем разбойники успели понять, в чем дело, пудовый кулак Алессо обрушился на голову атамана. Тот без стона свалился в дорожную пыль.
Бандиты сначала опешили, но, быстро опомнившись, окружили всадников, и началась свалка. С обеих сторон засверкали кинжалы. Монахов защищали кольчуги, а двое или трое из нападающих уже отступили, обливаясь кровью. Но внезапно из леса, со стороны, противолежащей траттории, высыпала новая банда грабителей,
— Конец! — воскликнул Ронка.
— Прощай, Алессо!
Ко всеобщему удивлению, вновь появившиеся напали не на путников, а на римлян. Размахивая ножами и кинжалами, они орали:
— Неаполь! Неаполь! Святой Дженнаро!
Ошеломленные разбойники отбивались с криками:
— Рим! Рим! Святой Петр!
Местные бандиты не выдержали яростного натиска неаполитанцев и разбежались. Главарь неожиданных заступников, рослый чернобородый молодец, подошел к монахам. Разгладив пышные усы привычным жестом, он с поклоном обратился к Алессо:
— Мы мирные люди, святой отец, и случайно стали свидетелями того, как на вас напали римские бездель
ники. Мы не стерпели и пришли вам на помощь. Хотя, как видно, вы и сами бойцы не из последних, — добавил он, склоняясь над телом предводителя римлян. — Боюсь, что за душу этого бедняги придется заказывать мессы.
— Вы вступились вовремя, и да будет над вами милость божия и святого Доминико, дети мои! — с достоинством ответил Алессо.
Монахи пустили мулов вскачь. То, что случилось, было им совершенно непонятно. Если римские бандиты действовали по указке отца Марио, тогда кто же прислал неаполитанцев? Аббат? Это было на него не похоже...
И тут Бруно показалось, что лицо чернобородого атамана ему знакомо. Он мучительно вспоминал, где ему доводилось видеть этого человека. Много миль ехал он в молчании и вдруг закричал:
— Это он!
— О ком ты? — спросил удивленный Алессо.
— Да об этом услужливом чернобородом бандите. Я все думал, кто часто расправлял усы вот таким же манером, и сейчас ясно вспомнил: это тот безногий, что сидел на церковной паперти неподалеку от пансиона дяди и просил милостыню. Но как он изменился с тех пор!
— Что же, ноги у него выросли по заступничеству святых? — иронически спросил Ронка.
— Они всегда у него были, но он скрывал их. Да, да, конечно, это он. Его хорошо знал мой друг Луиджи Веньеро, и он даже говорил, что его звали Андреа. Впрочем, бандит с тех пор десять раз мог переменить имя...
Теперь с тревогой заговорил Алессо:
— А ведь и я видел чернобородого, да еще в чьем обществе! Он выходил из нашего собора после воскресной мессы и вот так же разглаживал усы, а рядом с ним был Ромеро. И они дружески разговаривали!
Путникам все стало ясно. Не римских разбойников натравил на них мессер Порчелли, он послал по следам монахов неаполитанцев, и те защитили путников, чтобы дать им возможность невредимо добраться до Флоренции и получить церковное золото. Вот тогда-то бандит Андреа и начнет по-настоящему охотиться за ними!,
— Что же теперь делать? Вернуться? — спросил Алессо.
— Нет! Для нас это невозможно! — сурово молвил Джордано. — Мы едем вперед!
Гонцы миновали Рим стороной. Остерегаясь новых опасных встреч, монахи сокращали дневные переходы, выезжали поздно, на ночлег останавливались рано.
Благодаря таким мерам предосторожности путь от Рима прошел без приключений, и на одиннадцатый день после выезда из Неаполя монахи увидели Флоренцию. Бруно вздохнул с облегчением, хотя и сознавал, что выполнена неизмеримо более легкая часть опасного поручения аббата Паскуа.
Глава десятая
ФЛОРЕНЦИЯ
Солнце склонялось к закату, когда путешественники въехали в город через ворота Сан-Пьетро Гаттолйни. Никто не обратил внимания на двух оборванных монахов: тысячи таких скитались по дорогам и городам Италии. Джордано и Алессо не стали расспрашивать о дороге; пользуясь приметами, данными синьорой Вастой, они добрались до улицы Виа Нубва, где жил купец Бассо Беллини.
Виа Нуова оказалась настолько узкой, что два мула не могли пройти по ней рядом, и монахам пришлось ехать гуськом.
Высокий сгорбленный сер Бассо с длинной седой бородой, одетый в малиновый бархатный камзол, отороченный у воротника и обшлагов собольим мехом, с золотой цепью на шее, вышел встретить незнакомых монахов на крыльцо. Как видно, торговые дела Беллини, пришедшие было в упадок, теперь поправились.
Расспросив, кто такие приезжие, сер Бассо и его старушка жена приняли племянника синьоры Васты с подкупающей сердечностью, хотя их несколько удивила драная ряса Джордано. Его другу также был оказан надлежащий прием.
Единственная дочь Бассо была замужем за молодым художником, проживавшим неподалеку. Сер Бассо не
медленно послал за зятем и дочерью. Когда все собрались за праздничным столом, вечер прошел в расспросах о житье-бытье неаполитанских родственников. Из осторожности Джордано ничего не говорил о цели своего приезда. Речь об этом зашла после того, как Беллини и доминиканцы остались наедине.
— Ну, а теперь рассказывайте, отцы, зачем вы приехали,— спросил сер Бассо.
Узнав, что Джордано явился получить долг с аббата Эугенио Бальони, старый купец встал и торжественно сказал:
— Мессер Эугенио Бальони скончался две недели назад, да упокоит господь его душу!
Он осенил себя крестным знамением, и монахи последовали его примеру.
Джордано побледнел. Положение крайне осложнилось. Бальони, друг детства Паскуа, человек безусловно честный, сразу выплатил бы долг, но как поступит его преемник? Угадав мысли Бруно, купец сказал:
— Новый настоятель церкви Санта-Репарата, мессер Бонавёре да Фано, не из тех, кто легко расстается с золотом.
— Но у нас же реликвия! — воскликнул Алессо.
— Боже вас упаси даже и заикнуться об этом! Если только мессеру да Фано станет известно, что вы привезли святыню с собой, у вас ее отберут, да хорошо еще, если не обвинят в ее похищении и не сожгут, как святотатцев!
— Но это подлость!—Алессо Ронка в гневе стукнул по изящному золоченому столику кулаком, и тонкая крышка разлетелась на куски.
Монах с таким комическим ужасом смотрел на испорченную вещь, что хозяин рассмеялся.
— Успокойтесь, дорогой гость! Эту беду поправит столяр, а ваша задача похитрее. Но сестра просит помочь вам, и я сделаю все, что в моих силах. А теперь спать, спать, друзья мои!
Утром сер Бассо заставил Джордано написать от имени аббата Паскуа письмо на имя флорентийского епископа. В этом письме сообщалось, что святыня Флоренции— ноготь святой Репараты — находится в монастыре Сан-Доминико Маджоре, как залог за три тысячи дукатов, взятые в долг настоятелем церкви Санта-Репа-
рата. Аббат Паскуа просил его преосвященство заставить мессера да Фано уплатить долг. В противном случае флорентийская реликвия будет передана святейшему престолу, который берет выплату денег на себя...
Джордано признал, что письмо составлено искусно. Оно играло на самолюбии высшего флорентийского духовенства и аристократии. Святыня, так ими чтимая, может достаться Риму, который и без того владеет множеством реликвий.
Епископ разгневался, узнав, что Флоренции грозит невозвратимая утрата. Он тотчас вызвал настоятеля церкви Санта-Репарата и поставил перед ним вопррс так: или немедленная уплата долга, или отрешение от должности и даже снятие сана.
— Я готов уплатить, монсеньер, — ответил дон Бо-навере, — но кто поручится за то, что, отдав долг, мы получим реликвию? А может быть, мессер Паскуа уже продал ее святейшему отцу и хочет получить вторые деньги?
— Мы предлагаем поручительство святого Домини-ко! — гордо воскликнул Ронка.
— Этого маловато, сын мой! — улыбнулся епископ.
— Поручительства святого Доминико мало? — вспылил Алессо.
— Тише, тише, отцы! — вмешался сер Бассо. — Как вам, вероятно, известно, монсеньер, я — один из консулов цеха 1 суконщиков, и вот что я предлагаю. Мессер да Фано возвращает деньги. Мы, суконщики, задерживаем здесь, в нашем городе, отцов доминиканцев до тех пор, пока они не вытребуют из Неаполя святыню. И только тогда, когда реликвия будет прислана мессером Паскуа, признана подлинной и получена настоятелем церкви Санта-Репарата, мы пожелаем посланцам монастыря Сан-Доминико Маджоре счастливого пути.
— А если все же реликвия не будет прислана?
— Цех возвратит вам церковные дукаты.
— И вы дадите обязательство, сер Бассо?
— Дам.
•— Fiat! 2 — воскликнул дон Бонавере.
В дом суконщика монахи вернулись с мешочком золота, который нес Алессо. А на следующий день доми
1 Консулы цеха — его выборные старшины.
2 Фиат (лат.)—«да будет», выражение согласия»
никанцы в сопровождении Бассо Беллини снова появились во дворце епископа. Тот вышел к назойливым посетителям с некоторым неудовольствием:
— Что вам угодно, дети мои?
Бруно с низким поклоном ответил:
— Святой Доминико, в поручительстве которого вы сомневались, монсеньер, совершил чудо: по нашей горячей молитве он в одну ночь перенес нетленную реликт вию святой Репараты из Неаполя во Флоренцию.
— В самом деле, сын мой? — недоверчиво спросил епископ.
Молодой монах протянул ладонь, и в луче солнца, проходившем сквозь цветное стекло окна, блеснула ярким зеленым лучом грань алмаза.
— Господь по просьбам своих святых совершает еще и не такие чудеса, — наставительно заметил епископ.
Он прекрасно понял хитрость монахов, но ему ли, представителю бога на земле, оспаривать «чудо»?
Епископ вызвал дона Бонавере да Фано, подлинность святыни была установлена, реликвия вручена настоятелю, стороны обменялись расписками, и, казалось, дело покончилось раз и навсегда. Но мессер да Фано пригласил Джордано к себе в церковь для секретного разговора.
Предчувствуя возможность подвоха, Бруно шепнул Алессо, как тому вести себя, если он, Джордано, не вернется. Ноланец зашагал за настоятелем по площади Сан-Джованни, где стояла церковь Санта-Репарата, а Ронка издали следовал за другом. Проводив гостя в скарбницу, аббат усадил его в мягкое кресло, сам сел напротив.
— Как христианин, я верю в чудо святого Доминико,— начал разговор дон Бонавере, — а как человек, восхищаюсь вашим умением вести дела, брат Джордано. И вот что я вам предлагаю: переходите служить в мою церковь.
Бруно приподнялся от удивления.
— Сидите, сидите, дорогой брат! Вы еще молоды, но я вам обещаю: через три-четыре года вы станете моим викарием!1
1 Викарий — заместитель.
Джордано скромно ответил:
— Я считаю ваше предложение, святой отец, за высокую честь, но вы понимаете, что я не имею права принять его без согласия мессера Паскуа.
— Да, я понимаю это. Я напишу вашему аббату послание.
И он написал письмо, очень лестно отзывался о Джордано и просил отпустить молодого субдиакона на службу во Флоренцию.
Расстались со взаимными изъявлениями уважения.
Когда Бруно вышел на площадь Сан-Джованни, там бродил Алессо Ронка, сжимая под рясой рукоятку кинжала.
— Ф-фу... — облегченно вздохнул Ронка. — А я уж собрался ломать дверь, только выбирал какую.
Вечером сер Бассо и два монаха держали совет, как доставить полученные дукаты в Неаполь.
Алессо предложил присоединиться к свите маркиза дель Кьярёнца, который, по слухам, скоро отправится в Рим на богомолье. А в Риме можно будет выждать другой подходящий случай.
Джордано возразил:
— Если мы присоединимся к маркизу, мы подвергнем его людей большой опасности: им придется либо выдать нас, либо сражаться, спасая церковное, золото...
Алессо низко опустил рыжую голову.
Старый Бассо сказал:
— Не надо торопиться, решая такой важный вопрос. Лучше идите спать, друзья мои!
Джордано и Алессо безропотно пошли в свою комнату.
Утром купец с улыбкой сказал им:
— Сегодня на рассвете по римской дороге отправились два доминиканца.
— Как?! — воскликнули разом два монаха.
— Я купил у старьевщика монашеские одеяния для двух своих работников, дал им мулов и указал, как действовать.
— Их убьют! — вскричал Джордано.
— До этого дело не дойдет. При малейшем намеке на опасность они позволят обыскать себя. Да вы за них не беспокойтесь. Гуччо и Мануэлло проведут самого черта.
Началось томительное ожидание. Вечером сер Бассо сказал гостям:
— Бесплодно терзаться мрачными мыслями. Вы лучше оглянитесь вокруг себя, отцы! Нет в мире города краше сладчайшей Флоренции, нигде не найдете просторнее ее площадей, величественнее храмов и дворцов, красивее крепостных ворот и мостов через Арно!.. И, пока вы здесь, нужно на все это полюбоваться!
Вняв благому совету, Джордано и Алессо целыми днями осматривали памятники зодчества Флоренции. Прежде всего их внимание привлек знаменитый храм Санта-Мария дель Фьоре, дивное творение Филиппо Брунеллёско и других старых мастеров. Огромный купол собора, воздушный и легкий, точно реющий в пространстве на необычайной высоте, был виден со всех улиц города и из окрестностей. Великолепные фасады со множеством круглых и стрельчатых окон, башенки — круглые, четырехугольные, восьмигранные, стройная кампанила, возносившаяся ввысь, — все восхищало путников.
Друзья побывали в древнем баптистерии Сан-Джованни, небольшом храме, где крестили всех флорентийцев. Там был крещен и гениальный Данте Алигьери, творец «Божественной комедии». Данте любил его непритязательную красоту и, находясь в изгнании 1, больше всего тосковал о храме Сан-Джованни. Представляя себе великого поэта, склоняющего голову при входе в баптистерий, Джордано повторял на память целые сцены из «Божественной комедии», вызывая восторг Алессо.
Просторная площадь Синьории с одной стороны замыкалась строгим прямоугольником дворца, который напоминал крепость с башенкой наверху и с зубчатыми выступами плоской крыши. Под ними виднелись бойницы, откуда можно было обстреливать площадь и окружающие здания. Беллини рассказал монахам, что во время осады Флоренции над дворцом Синьории развевалось знамя с красным крестом — символ коммуны.
Джордано и Алессо осмотрели и .мосты через Арно,
1 Данте принимал участие в политической борьбе. Когда его партия потерпела поражение, великий поэт принужден был покинуть родной город (в 1302 году). Изгнание Данте продолжалось до самой его смерти, последовавшей в l'82il году.
и предместья города. И, когда они потеряли надежду на возвращение разведчиков, Мануэлло и Гуччо явились. Они пришли на четвертый день, усталые, запыленные, в крестьянской одежде.
— Ну, скажу я вам, отцы, — начал рассказывать коренастый широколицый Мануэлло, — если вас будет не двое, а двадцать, и перед вами пойдет ангел с огненным мечом, вы не проберетесь в Неаполь. На пути до Сиены — а туда только двадцать миль! — нас останавливали три раза. А сколько было засад после того, и не счесть. Бандиты выходили целыми шайками, с мечами, с аркебузами и арбалетами... Убедившись, что мы не те, кого они ждут, разбойники приходили в ярость. Нам только тем и удавалось умилостивить их, что мы, взяв грех на душу, бесстыдно лгали и уверяли, что за нами едут еще два монаха и, простите, отцы, указывали ваши приметы...
Бруно рассмеялся, а Алессо сжал кулаки.
Мануэлло продолжал:
— Дав несколько тумаков на дорогу, разбойники нас отпускали. Мы пробовали втираться в свиту знатных господ — не помогало. Бандиты вытаскивали нас и оттуда. Когда мы сочли, что наша задача выполнена, мы продали мулов и, переодевшись, вернулись домой.
— Скажите, а далеко от города начинаются заса-. ды? — спросил Алессо.
— Первую мы обнаружили прямо за мостом через Арно.
— Спасибо, друзья, я не забуду вашей услуги,— сказал купец и отпустил смельчаков.
Глава одиннадцатая ВОЗВРАЩЕНИЕ
Девятого августа, когда большой колокол на кампа-ниле дель Фьоре пробил один час1, у Пбнто Веккио спустились в фузольеру2 высокий широкоплечий рыбак с окладистой черной бородой и миловидная девушка с
1 По итальянскому счету времени это соответствовало свхми часам вечера.
2 Фузольёра (итал.) — большая плоскодонная лодка,
голубыми глазами, с русыми косами, ниспадавшими из-под пестрого платка. Рыбак нес большой мешок, из которого выглядывали сети, девушка держала связку удилищ. Их провожал хромой старик.
Когда лодка отчалила от берега Арно, старик, стараясь перекричать шум воды, разбивавшейся об устои моста, крикнул вдогонку:
— Не торопись с возвращением, Джано! Рыба лучше ловится ночью.
Чернобородый молча кивнул головой, фузольеру подхватила река и унесла за поворот.
Ничего подозрительного не заметил в этой сцене коротконогий плотный человек в кожаных штанах и драной куртке, с молотком каменотеса в руке, который стоял у перил и плевал в воду. Он интересовался пешеходами, проходившими по мосту, но в особенности его внимание привлекали всадники на мулах.
Когда ночь дошла до половины, каменотеса сменил чернобородый дровосек с топором.
— Ну как, приятель? — спросил он.
— Никого. Затаились, проклятые. А еще днем наши видели их в предместье Оньисанти. Послушай, Кучильо, а если ограбить монахов в городе?
— Дураки они носить при себе такие деньги! Нет, надо ждать, ведь должны же они покинуть город.
А фузольера с рыбаками, оставив позади предместья, не остановилась, и люди не думали закидывать сети. Напротив, рослый рыбак, сидевший на корме, вовсю работал веслом, помогая быстрому течению Арно. Ночь, к счастью, была лунная, и это помогало следить за изгибами реки и держаться посреди русла. Час проходил за часом, а сидевшие в лодке лишь изредка обменивались двумя-тремя словами, выдававшими их тревогу.
На рассвете на правом берегу показались стены Пизы. Лодка миновала и ее и через час закачалась на волнах Лигурийского моря.
— Хвала святому Доминико, кажется, мы ушли от опасности! — вскричал Алессо, скидывая красную вязаную шапку.
— А я в этом не вполне уверен, — возразил Джордано.— Ты, полагаю, заметил, как нас выслеживали бандиты, когда мы бродили по городу?
— Еще бы, — усмехнулся Алессо.
— Сегодня они нас не увидят. Коротышка на мосту, наблюдавший наше отплытие, тоже, конечно, их шпион. Достаточно поразмыслить, и все станет ясно.
— Но что они могут сделать?
— Э, дружище, они сегодня же вечером примчатся сюда — в Марино-ди-Пиза1, по воде или суше, наймут корабль и догонят нашу лодку. Они не пожалеют хлопот: ведь то, что мы везем, — герцогская добыча!
-г- Как ты предлагаешь поступить?
— Надо сбить с толку преследователей. Они будут ловить нас на юге, а мы двинемся на север, в Геную. Они будут искать чернобородого рыбака с девушкой или двух монахов, а мы превратимся в дедушку и внука.
Бруно достал из мешка длинную седую бороду.
— Это тебе вместо черной.
— Послушай, Джордано, а что еще, кроме кольчуг, в этом таинственном мешке?
— Не спрашивай. Излишнее любопытство вредит аппетиту.
— Моему аппетиту ничто не повредит. — Ронка расхохотался.— Кстати, ты мне напомнил, что мы с вечера ничего не ели. Что положили нам друзья?
Алессо открыл люк на корме лодки и начал доставать снедь.
Тем временем Джордано связал женское платье и платок в узел, сунул туда же фальшивые косы и, привязав камень, спустил все в воду. Сам он остался в коротких штанах и рубашке, голову накрыл беретом.
Пользуясь легким южным ветерком, Алессо поднял парус и направил лодку к Генуе.
Башни города выросли на горизонте в полдень следующего дня. Причалив к пустынному берегу, друзья затопили лодку. Джордано, не расстававшийся с мешком, вытряхнул из него обрывок сети, а за ним выпали кольчуги и два поношенных бархатных камзола, панталоны, шляпы с перьями — одежда небогатых дворян.
— Последнее переодевание, — сказал Бруно. — Выдумка сера Бассо. Теперь, я думаю, разбойники потеряют наш след.
1 Марйно-ди-Пйза — порт при впадении Арно в море.
Генуя была значительным городом на побережье Лигурийского моря. Оттуда почти каждый день отходили корабли в Испанию, Францию, на итальянское побережье.
Два дворянчика, как видно, экономившие каждый грош, долго торговались с хозяином каравеллы, отходившей в Неаполь, и наконец сговорились на цене по три флорина с каждого на хозяйских харчах.
Погода была не слишком благоприятна, часто дули противные ветры, задерживая судно. Пассажиры, завидев вдали корабль, всякий раз поручали себя святому Христофору, покровителю путешественников: на море свирепствовали пираты и встреча с ними грозила гибелью.
Но все обошлось благополучно, и после девятидневного плавания Джордано и Алессо с чувством невыразимого облегчения увидели двуглавую вершину Везувия с таким родным, таким знакомым дымком, поднимавшимся из кратера...
К домику Саволино подошли два молодых дворянина. Старший, широкоплечий мужчина воинственного вида, позвонил в колокольчик. В двери показалась Чек-кина:
— Что вам угодно, синьоры?
Один из дворян рассмеялся:
— Не узнаешь, тетушка Чеккина?
Кухарка закрестилась:
— С нами Христос и его святые угодники... Фелипе! То есть, простите... отец Джордано!
— Не извиняйся, моя славная старушка, и зови меня по-прежнему, я на это не в обиде! Дядя и тетя здоровы?
— Милостью святого Дженнаро...
Старики Саволино до слез обрадовались, увидев племянника невредимо вернувшимся из опасных странствий. Сначала пришлось наскоро объяснить, чем вызван их маскарад, а потом уж подробно рассказывать обо всем.
Во время повествования Джордано синьора Васта не раз приходила в ужас, а сер Джакомо воинственно сжимал кулаки. Слушатели до небес превозносили
мужество и находчивость Алессо, а добряк смущался, краснел и уверял, что его совершенно не за что хвалить.
В заключение рассказа Джордано передал дяде и тетке привет от сера Бассо и его семейных и выложил сотню флоринов, присланных купцом в подарок сестре,, Явившись в монастырь, Джордано и Алессо были немедленно приняты доном Амброзио. Повесть о приключениях своих посланцев настоятель слушал с раскрытым ртом, как дети слушают волшебные сказки.
Рассказ о том, как монахи ускользнули из Флоренции под видом рыбаков, привел аббата в восторг. Правда, от него скрыли подробности. Если бы дону Амброзио стало известно, что Бруно, монах, более того, субдиакон, переодевался женщиной, ему пришлось бы поплатиться за это строгой епитимией: того требовали церковные уставы.
Когда Бруно кончил, аббат в восторге воскликнул:
— Благодарю святого Доминико за то, что он помог вам разбить иезуитские козни! Но как взбесится отец приор, когда узнает, что все труды его клевретов 1 пропали понапрасну!
— Неужели покушение на церковное имущество так и останется безнаказанным?! — возмущенно спросил Бруно.
— Увы... — вздохнул мессер Паскуа. — У дона Марио слишком могущественные покровители...
Гонцы, извинившись перед настоятелем, достали из-под одежды тяжелые пояса, расстегнули застежки и высыпали на стол груду золота.
Аббат пересчитал.
— Ровно три тысячи дукатов, — с изумлением сказал он. — А дорожные расходы? Плата корабельщику?
— Деньги на обратный путь нам дал сер Бассо.
— Да будет благословен этот добродетельный христианин! При первой же оказии пошлю ему весьма ценную реликвию: обломок зуба святого Иеронимо.
— Сер Бассо будет до небес вознесен такой милостью мессера аббата!
— Идите, дети мои, отдыхайте. Я на две недели освобождаю вас от посещения церковных служб. Отец
1 Клеврёг — чей-либо приверженец, приспешник. Это слово имеет презрительный оттенок.
ключарь выдаст вам новые рясы и мантии взамен этих одежд, которые хотя и почтенны на светских людях, но не приличествуют инокам.
— Мессер аббат, если вы довольны нами, — заговорил Джордано, — я прошу вас наградить брата Алессо. Я со всей настоятельностью утверждаю, что только благодаря его силе и находчивости дело кончилось счастливо.
— Ты прав, сын мой! — важно ответил аббат.— В день кипения крови Сан-Дженнаро брат Алессо будет посвящен в сан субдиакона.
Счастливый Ронка упал к ногам мессера Паскуа.
— Прошу прощения, мессер, — снова заговорил Джордано, — я должен еще затруднить вас. Вот послание к вам от настоятеля церкви Санта-Репарата.
Прочитав первые строки, аббат сказал:
— Брат Алессо, ты можешь идти, а тебя, брат Джордано, прошу остаться.
Закончив читать послание, мессер Паскуа спросил:
— Ты знаешь, о чем тут идет речь?
— Знаю, мессер, — ответил Бруно.
— И как ты мыслишь по этому поводу?
— Если мессеру настоятелю угодно будет отправить меня на служение во Флоренцию, я подчинюсь его воле. Но если решение предоставится мне, я, конечно, не лишу себя отеческих попечений мессера.
— Иного ответа я и не ждал, — сказал довольный дон Амброзио. — Ты останешься здесь, брат Джордано!,
— От всей души благодарю вас, мессер!
На другой день аббат послал в Рим донесение, в котором сообщал, что долг с флорентийского настоятеля получен и монсеньер прокуратор может не беспокоиться о судьбе церковного золота. Об участии в этом деле братьев Алессо Ронка и Джордано Бруно не было сказано ни слова: мессер Паскуа не любил делить с другими свои успехи.
В ответ пришло милостивое послание, которое с большим торжеством было оглашено в соборе после торжественной мессы. Паскуалисты подняли головы, а сторонники приора приуныли, и даже дон Марио поте-, рял свою гордую осанку. Раздраженный, он свалил всю
вину за поражение па Хиля Ромеро и снова надолго услал его из монастыря.
Джордано и Алессо были рады отсутствию испанца.
— Когда в Сан-Доминико не шныряет эта гадина с черной повязкой на лице, право же, свободнее дышать,— говорил Ронка.
И снова для Бруно потекли дни и месяцы напряженного учения.
Глава двенадцатая
НЕОБЪЯТНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Летом 1570 года Джордано Бруно получил очередную ученую степень бакалавра1. Пять лет прошло с тех пор, как он переступил порог монастыря, и уже вторая ученая степень! Да, если всецело отдаваться науке, в Сан-Доминико Маджоре можно было быстро взойти по лестнице знаний, а Джордано занимался страстно, самозабвенно.
Правда, он занимался совсем не тем, что полагалось изучать по программе. Джордано с пренебрежением относился к никому не нужным схоластическим тонкостям, которыми набивали головы студентам профессора, и не пропускал занятий лишь для того, чтобы не раздражать мессера Паскуа. Но на успеваемости Бруно это не отражалось. При его необыкновенной памяти ему достаточно было прослушать лекцию, чтобы запомнить ее содержание.
К выполнению своих религиозных обязанностей Бруно относился равнодушно, но аббат Паскуа делал вид, что этого не замечает.
«С годами увлечение наукой у Бруно пройдет, — думал настоятель, — и он оценит выгоды высокого духовного сана».
И Джордано, отбыв в субдиаконах положенный срок, был возведен в диаконы. Многие завидовали успехам молодого монаха, а мессер Паскуа в докладах Риму о работе университета отводил Бруно первое место среди студентов.
1 Впоследствии степень бакалавра стала ниже степени магистра.
Через месяц после получения диаконского сана Джордано получил письмо от отца. В нем было немного слов, нацарапанных взволнованной рукой:
«Фелипе, мальчик, приезжай немедленно. Мать при смерти».
Через час из ворот Неаполя уже выехали в наемной карете Джордано Бруно и супруги Саволйно.
Кучер погонял лошадей, у края дороги апельсиновые деревья склоняли ветви под тяжестью зрелых плодов, мелькали мимо виноградники, шаловливо журчали ручьи под мостами, а путники ничего не замечали вокруг и хранили скорбное молчание.
Джордано мучила одна неотвязная дума:
«Застану ли мать в живых?..»
Он вспоминал, как в детстве, набегавшись за день по полям и рощам, он влетал в скромную хижину и с размаху бросался к матери, готовившей ужин у очага. А та, утомленная дневным трудом, с бледными щеками и потухшими глазами, сразу оживлялась, гладила сына по волнистым волосам, участливо слушала его незатейливые ребячьи новости.
«Мама, мама... Обремененный повседневными заботами, я редко вспоминал о тебе... Прости меня, родная!..»
Джордано застал мать при последнем дыхании. Иссохшая, маленькая, она лежала на смертном ложе, и глаза ее, как всегда при виде сына, просветлели.
— Встретимся там, — прошептала умирающая, пытаясь показать исхудалой рукой на небо.
Это были последние слова Фраулисы Саволйно.
Отец точно окаменел от горя. Он молча сидел около гроба жены, опустив большую седую голову на руки. Бесполезно было его утешать: на земле не стало вечной труженицы Фраулисы, а в загробную встречу Джованни Бруно не верил.
Похороны были торжественные. Уважая верования жены, Бруно пригласил на отпевание трех патеров. Молодой диакон Джордано, идя за гробом матери, с горьким чувством думал о том, как порадовалась бы она, если б могла видеть, что ее сын совершает богослужение.
— Как же ты будешь жить один, друг? — участливо спросил вдовца Джакомо Саволйно. — Переезжай к нам в Неаполь. Кусок хлеба для тебя всегда найдется.
Старый воин благодарно пожал руку Джакомо, но ничего не ответил, только ниже опустил голову.
После поминальной трапезы, затянувшейся до позднего вечера, все спали тяжелым сном без сновидений. А утром Джованни Бруно в доме не оказалось. Родные не придали этому значения, но вскоре прибежал взвол-: нованный Марко, семилетний сын Шипионе Саволино.
— Я видел в лесу дядю Джованни, — кричал он, тараща круглые испуганные глазенки. — Дядя Джованни велел всем сказать, что он ушел навсе... навсе... гда!
— Как навсегда?! — переспросил пораженный Джордано.
— Дядя Джованни еще сказал, что не надо его искать, все равно он не вернется...
Осмотрели хижину. Отставной знаменосец унес с собой только котомку, глиняную кружку, нож и ложку, немного хлеба и сыра... Пять флоринов, предназначенные в уплату монахам за поминание души покойной фраулисы, лежали на столе.
— Ушел странствовать, — горестно молвил Джордано.— Ему тяжко здесь жить...
— А нам бедный Джованни побоялся стать обузой,— добавила Васта.
Поручив Шипионе продать оставшееся после супругов Бруно имущество (не много его было!) и сберечь деньги на случай возвращения странника, Джордано и чета Саволино возвратились в Неаполь.
И снова, как пять лет назад, Джордано медленно поднимался по крутому склону холма к монастырской стене. Тогда он потерял Ревекку, теперь же лишился матери, а отец ушел в безвестное странствие по пыльным дорогам Италии. Суждено ли им свидеться?
Бруно снова весь отдался науке. Отсидев в аудито-; рии положенное число часов, он спешил в библиотеку, где его радостно встречали дон Аннибале и его помощник, субдиакон Алессо Ронка.
Должность помощника была учреждена по просьбе стареющего и больного библиотекаря. Дон Марио усиленно старался провести на нее своего кандидата, но аббат благоволил к субдиакону Ронка после его удачной поездки во Флоренцию, и победа осталась за Алессо.
Ронка уже хорошо разбирался в латыни и мог найти по каталогу любую книгу. Его огненная шевелюра появлялась то под самым потолком, где на верхних полках стояли фолианты, то скрывалась среди книжных залежей запасных хранилищ, а веселый громкий голос оживлял тишину унылых зал. Дон Аннибале благодарил бога за то, что он послал ему такого помощника.
Бруно садился на свое излюбленное место против большого круглого окна, раскрывал книгу, и все окружающее для него исчезало. Он погружался в матема-. тические изыскания Джироламо Фракасторо или читал труды Николая Кузанского1, который еще столетие назад, опровергая Аристотеля и Птолемея и самое учение церкви, осмелился заявить, что Земля вовсе не является центром Вселенной, что ей не присуща неподвижность, так как она вращается. Николай Кузанский не приводил доказательств правильности своих взглядов, но ведь их не приводила и библия! Николаю Кузанскому приходилось верить на слово, но ведь и библия требовала слепой веры!
За три года, которые протекли со времени путешествия во Флоренцию, Бруно возмужал, приобрел серьезные научные познания, научился критически относиться к высказываниям философов и ученых.
За эти годы Бруно закончил университет и стал сам читать студентам курс диалектики. Он готовился к получению очередной ученой степени лектора, а чтобы его занятия проходили плодотворнее, ему по приказу мессера Паскуа отвели новую просторную келью.
Джордано также получил право приносить к себе из библиотеки любую книгу, кроме, конечно, запрещен-, ных католической церковью. Но молодой ученый редко пользовался этим правом: он предпочитал по-прежнему работать в библиотеке.
В августе 1571 года в библиотеку пришла партия книг, выписанных доном Аннибале из Венеции. Алессо, стоя на коленях возле большого ящика, доставал переплетенные в кожу тома и вручал старому монаху, сидевшему в мягком кресле. Дон Аннибале рассматривал заглавие сквозь очки, недавно им приобретенные, про
1 Николай родом из деревни Куза в Германии (1401— 1464) — видный ученый и философ эпохи раннего Возрождения.
читывал его вслух и передавал книгу Джордано, а тот разыскивал ее название в сопроводительном списке и отмечал, что книга получена.
Работа шла бесперебойно. И вдруг голос дона Аннибале дрогнул, когда он начал читать заглавие толстого тома в черном переплете:
— «Nicolai Copernici Torinensis...» 1 Джордано! Алессо! Мальчики! — радостно крикнул библиотекарь. — Коперник! Мы получили Коперника!
В ту пору многие образованные люди в Европе слышали о труде польского астронома, но достать его было нелегко. В этом Бруно убедился, еще живя в доме дяди, когда искал сочинение Коперника у неаполитанских книготорговцев. И хотя это ему не удалось, его не оставляла надежда добыть необыкновенную книгу, один скупой пересказ которой определил жизненный путь пятнадцатилетнего Филиппо Бруно.
Мечта сбылась не скоро. Первое издание сочинения «Шесть книг об обращениях небесных сфер»2 вышло в 1543 году, и, по преданию, автор увидел его только на смертном одре. Выпущенная в небольшом количестве, книга была распродана, и экземпляры ее хранились в собраниях любителей и на полках монастырских библиотек.
После возвращения из Флоренции Джордано попросил дона Аннибале выписать «Обращения небесных сфер». Но лишь после трехлетней переписки с книгопродавцами разных стран желанная книга легла на стол библиотеки Сан-Доминико Маджоре. Это было второе издание, выпущенное в Базеле3 в 1566 году также на латинском языке. Оно в точности повторяло первое.
Бруно весь отдался изучению книги Коперника. Читать ее было далеко не просто: Коперник не заботился о простоте изложения; может быть, он хотел, чтобы церковники не сразу разобрались в сущности его теории. В те времена у авторов было в обычае посвящать произведения знатным лицам. Коперник посвятил сочинение папе Павлу III: это тоже являлось мерой предосторожности для спасения книги от преследования. А про-
1 Николаи Копёрници Торинёнсис (лат.) — Николая Коперника Торнского.
2 В старину книгами назывались части большого сочинения.
3 Базель — город на севере Швейцарии.
тестантский богослов Осиандер, против воли автора, снабдил его книгу предисловием, где писал, что взгляды автора вовсе не обязательно принимать за истину, что учение Коперника просто помогает заранее определять положение небесных светил, и только этим оно и полезно.
Церковникам пришлось по душе такое толкование учения Коперника: не научная истина, а удобный практический способ для астрономических вычислений. И поэтому на несколько десятилетий труд Коперника избежал запрета.
Но отцы церкви ошиблись в расчетах: им не удалось обезвредить новое учение. Книга Коперника сделала великое дело, для которого предназначалась. Она не только убила систему Птолемея, но и опровергла библейскую сказку о сотворении мира.
С чувством восхищения прочитал Джордано в посвящении книги Павлу III смелые строки:
«...Если болтуны, не сведущие в математических науках и тем не менее берущиеся судить о них, придерутся к моему учению, ссылаясь на священное писание и толкуя все на свой лад, — я не стану им возражать, так как слишком презираю их мнения».
«Вот так говорит настоящий ученый! — думал Джордано. — Отстаивая истину, он не опускает головы перед сильными и всего себя отдает науке».
Для работы не стало хватать дня, приходилось прихватывать часть ночи.
На галерее собора Сан-Доминико с вечера зажигался фонарь, напоминая горожанам, что благочестивые иноки и по ночам не спят, вознося молитвы за грешных людей. Для удобства астрономических наблюдений дона Аннибале и его помощников на галерею давно были подняты столик и несколько стульев. И это уединенное место избрал Бруно для ночной работы.
Полная луна висела над горизонтом, отражаясь в спокойных водах залива. Вдали виднелись городские стены, ближе белели в лунном свете башни, дворцы, купола церквей, и редкие огни в окнах домов показывали, что почти весь Неаполь спит.
Склонившись над столом, поставленным близ фонаря, Джордано дочитывал главу книги, где Коперник объяснял движение планет. На лестнице послышались
тяжелые шаги. Джордано насторожился. Кому понадобилось в такую пору нарушить его покой?
Из люка высунулась рыжая голова, потом появились широкие плечи под белой рясой, и Алессо со смущенной улыбкой подошел к Бруно:
— Прости, друг! Я помешал?
— Да нет, ничего...
— Не могу спать, — признался Алессо. — С тех пор как получили эту книгу, я все хочу понять, в чем не согласен Коперник с Птолемеем?
Любознательность простодушного Алессо тронула Бруно. Он потянул друга за рукав рясы.
— Садись и слушай. Видишь ли, люди с давних времен наблюдают небесные светила. И еще тысячи лет назад они заметили, что одни светила вращаются вместе с небесным сводом, никогда не покидая своих мест...
— Они наглухо прикреплены к небосводу? — пред-; положил Алессо.
— Вряд ли это так, но впечатление получается такое. И эти светила люди назвали неподвижными звездами. Но есть другой род светил: они перемещаются среди звезд, как могли бы ползать светляки между фонариками, подвешенными к потолку.
— Постой, постой, учитель в школе говорил нам, что они называются планетами, — вспомнил Алессо. — И еще он объяснил, что слово «планета» по-гречески означает «блуждающая звезда».
— Я вижу, у тебя хорошая память, — похвалил Джордано. — Быть может, ты и назовешь планеты?
Алессо начал перечислять:
— Луна, Меркурий, Венера, Солнце...1 дальше забыл... Ага, Марс... Юпитер... Сатурн... Всего семь!
Добряк гордо замолчал, ожидая новой похвалы.
— Ты перечислил планеты, как они расположены в системе Птолемея. Видно, ваш учитель немало положил трудов, чтобы вбить в вас эти знания.
— Да, розгами били меня за это порядочно, — сознался Алессо.
— Так вот, друг мой, Птолемей был великим астрономом. Хотя он и заблуждался, я все же называю его
1 По учению Птолемея Солнце входило в число планет.
великим за то, что он собрал и привел в стройную систему знания древних о небе.
— В чем же заблуждался Птолемей?
— Он считал, что Солнце, планеты и звезды вращаются вокруг Земли.
— А разве это не так? — удивился Алессо. — Мы же каждый день видим, как Солнце появляется на востоке, проходит по небу и скрывается на западе, чтобы утром снова начать свой обычный путь.
Бруно улыбнулся:
— Видишь ли, друг мой, миллионам людей в продолжение многих веков не приходило в голову, что это — обман зрения, и только Коперник — слава ему за это! — первый понял истину.
Джордано долго и старательно втолковывал другу основы учения польского астронома. Наконец Алессо со вздохом сказал:
— Теперь как будто понял. Значит, все планеты движутся вокруг Солнца по большим кругам.
— Правильно!
— И эти круги называются орбитами, от латинского слова orbis — круг?
— Тоже правильно.
— А вокруг Земли ходит одна лишь Луна?
— Я вижу, ты начинаешь разбираться, — одобрительно сказал Бруно.
— Слушай... — Голос Алессо понизился до боязливого шепота. — Так это, выходит, наша Земля — тоже планета?
— Конечно. Птолемей ставил ее в исключительное положение, считал центром Вселенной. А на деле она такая же планета, как Меркурий, как Венера, как Юпитер...
Алессо совсем растерялся.
— А может, и на тех планетах есть люди?
— Вполне возможно и даже вероятно, — ответил Джордано.
Алессо затрепетал.
— Мне страшно... А к ним тоже приходил Христос— спасать их души от первородного греха?..
— Я над этим вопросом не думал, — довольно резко сказал Джордано, — и не советую тебе делиться такими рассуждениями с кем-либо из монахов, конечно, кроме
отца Аннибале. Он один поймет, а другие, пожалуй, обвинят тебя в ереси.
Взглянув на огорченное лицо друга, Бруно добавил:
— Не расстраивайся, Алессо! Я и сам еще далеко не все понимаю. Ведь учение Коперника так грандиозно, что перевернет всю науку о небе. Но пора спать, друг, вон уже появилась Венера, скоро наступит утро...
Ночные бдения продолжались. Повторялись и беседы на галерее собора. Под ясным небом Италии, при свете звезд, полной или ущербной луны Джордано терпеливо разъяснял другу непонятные для того места в учении Коперника.
Разъяснять другому можно только тогда, когда сам все понимаешь до тонкости. И Джордано пришлось вдумываться во многие неясности гелиоцентрической системы мира. Постепенно он стал приходить к выводу, что у гениального Коперника не всегда концы сходятся с концами.
Бруно стыдился себе признаться, но в глубине души был доволен. Ведь если бы его великий предшественник разработал безупречную систему мира, что оставалось бы делать ему, Джордано? А теперь он чувствовал, что еще многое и многое надо усовершенствовать в теории Коперника, чтобы она стала правильно изображать картину Вселенной.
Бруно считал, что Коперник в своей системе уделил недостаточно внимания звездам.
Когда-то греки представляли себе Вселенную очень маленькой. Коперник чрезвычайно расширил ее пределы.
В книге Коперника на чертеже, изображающем гелиоцентрическую систему мира, за орбитой Сатурна была показана «сфера неподвижных звезд». Бруно вспомнил свои детские разговоры с отцом и матерью, с Лодовико Тансилло, когда он, маленький Фелипе, лежал в саду, весь обожженный после опасного восхождения на Везувий. Звезды — глаза ангелов, звезды — божьи огни, горящие на небосклоне... Он давно уже перестал верить этим наивным легендам.
Но что говорит о звездах Коперник? По его взглядам, центр сферы неподвижных звезд — Солнце. Но эта сфера должна находиться на колоссальном расстоянии от Солнца, сам автор «Небесных сфер» называет земную орбиту ничтожной в сравнении с ней. И, однако,
радиус земной орбиты, по расчетам Коперника, равен трем миллионам миль1. Так каково же расстояние до звезд? Сотни миллионов, миллиарды миль!..2
Голова Джордано закружилась, когда он попробовал представить себе такое расстояние. Он впервые почувствовал неизмеримость Вселенной, и громада собора закачалась под ним, словно Бруно оказался без опоры в бездне пространства...
В следующую ночь Джордано снова размышлял о звездах. Коперник все звезды прикрепляет к одной сфере... Все... Но все ли звезды Вселенной мы видим?
И вдруг по какому-то непостижимому вдохновению мысли Бруно перенеслись к очкам дона Аннибале. Очки дона Аннибале, недавно выписанные им из Венеции за большую цену, были сложным сооружением из костяных пластинок. Это сооружение хитроумно прикреплялось к лицу так, чтобы сильные двояковыпуклые стекла, вставленные в круглую оправу, приходились против глаз. Библиотекарь надевал этот прибор, читая мелкую книжную печать. Его помощники, Джордано и Алессо, в отсутствие старого монаха, не раз рассматривали очки, дивясь их удивительным свойствам.
Да, это было любопытно, и даже немного жутко, когда при взгляде через стекла маленькие буквы становились большими, гладкая бумага оказывалась шероховатой и на ней проступали темные пятнышки, незаметные для простого глаза.
«А что, если... — У Джордано захватило дух от необычайного озарения ума. — Что, если бы придумать очки для наблюдений неба?.. Да, да, такой прибор, чтобы он увеличивал далекие предметы, как очки дона Аннибале увеличивают близкие!..»
Бруно представил себе стекла, через которые он смотрит на небо, и небо покрыто мириадами звезд!
Молодой астроном не мог усидеть на месте, он сделал несколько кругов по галерее, но все не мог успокоиться, новые мысли вихрем бежали одна за другой.
— Нет, я не могу оставаться в одиночестве! — вос
1 На самом деле это расстояние раз в двадцать больше.
2 Расстояние до ближайшей звезды а-Центавра в 260 тысяч раз больше расстояния Земля от Солнца и равно 40 биллионам километров (биллион равен миллиону миллионов).
кликнул Джордано. — Я должен поделиться своими размышлениями с доном Аннибале!
Бруно ринулся вниз по лестнице, прыгая через несколько ступенек, рискуя оступиться и сломать себе шею. Он так шумел, что разбудил сторожа, дремавшего у входа на колокольню. Монах сердито забормотал:
— Кто это там? Брат Джордано?.. Что ты носишься как сумасшедший?.. Эх, молодость, молодость...—-И он снова погрузился в мирный сон.
Джордано пробежал по молчаливым коридорам и постучался в келью библиотекаря. Чутко спавший мо-. нах мгновенно пробудился:
— Кто там?
— Это я, святой отец, Джордано!
— Входи, полуночник!
Захлебываясь словами, Бруно изложил свою идею дону Аннибале. Тот долго молчал: он впервые видел Джордано таким возбужденным и словоохотливым.
— Не знаю, что и сказать тебе, сын мой, — наконец заговорил старый монах. — Мои очки направляются на земные предметы, а твое воображение посягает на небо. Да, на недоступное, незыблемое небо!
— Незыблемое?! Святой отец, вспомните, мы с вами читали в астрономических книгах, что на небе иногда вспыхивали новые звезды. Значит, и там происходят перемены, как на нашей Земле. Но Вселенная так огромна, что люди с их кратким сроком жизни просто не успевают их замечать.
Старый монах задумался. Он не был упрям в своих суждениях и если чувствовал правоту противника в споре, то признавал ее.
— Может, ты и прав, мой мальчик, — сказал он,— хотя трудно привыкнуть к таким утверждениям. Ты уверен, что люди когда-нибудь придумают «небесные очки» и увидят новые, доселе недоступные взору звезды?
— Я в этом твердо убежден, падре! — с восторгом воскликнул Джордано. — Ведь даже теперь люди с острым зрением видят гораздо больше звезд, чем близорукие. Я хорошо различаю Алькор, приютившийся у Ми-, цара а Ревекка не могла его разглядеть...
1 Алькор и Мицар — двойная звезда в созвездии Большой Медведицы. Для людей со слабым зрением обе звезды сливаются в одну.
Лампада тускло освещала скромную келью дона Аннибале. Старый монах сидел на постели, закутавшись в изношенное одеяло, и слушал пылкие речи Джордано, А тот смело критиковал Коперника.
— Святой отец, небесных очков еще нет, но мы заменим их очками разума. И сквозь них я вижу тысячи и тысячи звезд, которые слишком далеки от нас, чтобы быть доступными глазу человека. И почему же наш великий учитель считал, что все они — и эти невидимые нам звезды, и ярчайшие Сириус, Вега, Капелла, — что все они одинаково удалены от Солнца, прикреплены к одной сфере и вращаются вокруг нашего светила, которое ничем не отличается от всех прочих звезд?!
Дон Аннибале улыбался, покачивая седой головой:
— Ну, сын мой, тебя недаром прозвали в монастыре диалектиком! С тобой трудно спорить, и я не нахожу аргументов опровергнуть тебя.
— Их нет, падре, их нет! Поверьте, все, что я говорю, продиктовано строгими законами логики. Коперник не дошел в своих рассуждениях до логического конца! Почему он приковал звезды к одной сфере и нарек их неподвижными, когда в солнечной системе все движется, когда каждая планета бежит по своему извечному пути!
Глаза Джордано горели вдохновением, голос его звучал так громко, что дон Аннибале приказал ему замолчать.
— Ты разбудишь весь монастырь, сын мой! Иди с богом, оставь старику его немногие часы сна. Хотя вряд ли мне удастся забыться: ведь ты принес в этот крошечный уголок земного мира просторы Вселенной!.»
Глава тринадцатая
НОВАЯ ПОТЕРЯ
20 июля 1572 года, в воскресенье, Джордано Бруно был возведен в сан священника и получил неограниченную власть над верующими.
За несколько минут Бруно вновь словно прошел все первые ступени церковной иерархии. Прежде всего мальчики-причетники надели на него подрясник послуш
ника, и аббат, распоряжавшийся церемонией, провозгласил:
— Novitius es!1
Поверх подрясника причетники накинули на посвящаемого монашеский скапулярий2, и послышался новый возглас:
— Ты — монах!
И еще облачение сверху:
— Ты — субдиакон!
Далее Бруно был облачен в одеяние диакона.
— Ты — диакон!
Джордано почувствовал, что ему трудно дышать под стиснувшей его грудой одежды. И все же причетники ухитрились натянуть на него парчовую ризу священника с прорезями вместо рукавов. И тогда началось главное — таинство рукоположения.
Бруно вывели на амвон, и епископ Неаполитанский, единственный в городе, кто имел право рукополагать в священники, возложил на голову Джордано руки. Были прочитаны соответствующие молитвы, пропеты песнопения, и Бруно стал священником. Даже тех мирян, которые втрое старше его, он отныне мог снисходительно называть «сын мой» или «дочь моя».
Новому священнику помазали пальцы «святым миром»3. Помазание означало, что Джордано получил священнический сан навечно, до самой смерти, и если самовольно сбросит его, то будет отлучен от церкви, проклят, как оскорбитель бога и его наместника на земле, святейшего отца папы.
В тот же день в другой церкви и при менее пышной обстановке Алессо Ронка был возведен в диаконы.
В сентябре из Франции долетела страшная весть. В Париже, в ночь на святого Варфоломея, 24 августа 1572 года, свершилось одно из самых грандиозных злодейств католической церкви. В глухую полночь толпы вооруженных католиков напали на мирно спавших гугенотов, дома которых накануне были отмечены особыми значками.
1Новйциус э с! (лат.)—Ты — послушник!
2 Скапулярий — мантия с наплечной накидкой.
3 Миро — ароматическое растительное масло, освящаемое епископом при соблюдении особых церемоний»
Началась неописуемая резня. Убивали безоружных мужчин, не щадили ни стариков, ни женщин, ни малых детей... Сам «христианнейший» король Карл IX Валуа с дворцового балкона расстреливал из мушкета полуодетых беглецов, радуясь удачному выстрелу.
В эту страшную ночь, вошедшую в историю под названием Варфоломеевской, в Париже и других городах погибло тридцать тысяч гугенотов.
И это изуверство, это чудовищное преступление было встречено безудержным ликованием католической церкви, как деяние, заслуживающее величайших похвал.
Римский папа Григорий XII совершил благодарственное моление в церкви Святого Людовика Французского. Во всех церквах Рима служились торжественные мессы. Вдохновительницу преступления Екатерину Медичи, мать французского короля, называли истинной дочерью церкви, библейской героиней. В память события была отлита специальная медаль...
В монастыре Сан-Доминико тоже должны были совершить благодарственную мессу, и Джордано Бруно как священник обязан был принять в ней участие. Он, Джордано, должен возносить богу хвалу за убийство стариков и младенцев, матерей и невинных девушек!.. Вся кровь кипела в нем при этой мысли.
Но что делать? Бруно пошел к отцу Аннибале, открыл ему душу и просил помочь уклониться от участия в богослужении.
— Я понимаю тебя, сын мой, — сказал библиотекарь.— Христос учил: «Любите друг друга», а у нас эту заповедь забыли. Я стою на краю могилы и никого не осуждаю, но тебе помогу. Ведь недаром я в молодости изучал медицину у самого Фракасторо. — Дон Аннибале достал из своей аптечки пакетик с порошком. — Прими это на рассвете в день мессы. Оно тебя не убьет, но придется помучиться, — с улыбкой добавил монах.
Утром, в день праздника, у Джордано открылась неукротимая рвота, слабость приковала его к постели, и монастырский лекарь приказал больному трое суток лежать.
...Семьдесят третий год принес Бруно большое горе: умер его дядя Джакомо Саволйно. Неукротимый старик, не веривший в загробную жизнь и католические
догматы, отказался исповедаться перед смертью, и церковники запретили хоронить его на христианском кладбище. Могилу ему выкопали у подножия Везувия рядом с могилой Ревекки. Васта сказала племяннику, что перед смертью Джакомо выразил желание покоиться рядом со своей любимицей. Это желание исполнилось.
Синьора Васта продала дом и все имущество, чтобы внести вклад в монастырь Санта-Кьяра. Она решила доживать там старческие годы под черной мантией мо-. нахини.
Когда Джордано в последний раз посетил скромный домик, где провел столько счастливых дней, тетка вышла к нему с большим свертком, раскрыла его.
— Моя кольчуга! — воскликнул изумленный Бруно.
— Я берегла ее все эти годы. Недавно отдавала мастеру— расширить по твоей фигуре. Ты ведь теперь мужчина, — улыбнулась старушка сквозь слезы.
— Милая тетя! Зачем мне кольчуга, я не солдат.
— Неизвестно, что с тобой случится в жизни,— строго сказала тетка.
Чтобы пронести кольчугу в монастырь, Джордано надел ее под одежду, как в былые дни, когда в пансионе Саволино жила прекрасная Ревекка. Заодно он взял и кинжал, память о дяде. Теперь у Бруно была просторная келья, и он мог спрятать там кольчугу и оружие.
Васта обняла и расцеловала племянника, которому отдала так много душевных сил за протекшие годы, и они расстались навсегда.
Рвались последние нити, связывавшие Джордано Бруно с оставленным миром. Умерла мать, отправился странствовать отец. А теперь и беседы с дядей Джакомо ушли в прошлое. Бруно излагал ему свои взгляды на Вселенную, которые зрели в нем после знакомства с книгой Коперника. И дядя, простой земледелец в молодости, а потом скрывавшийся бунтовщик, неудачливый купец, содержатель ученического пансиона, человек, много повидавший в жизни, сталкивавшийся с гуманистами, прочитавший немало мудрых книг, был для Бруно таким же умным собеседником, как дон Аннибале. Сер Джакомо понимал молодого ученого, горячо сочувствовал его идеям... Теперь и это ушло в прошлое, и у Джордано остались лишь два друга; Алессо Ронка и дон Аннибале.
Глава четырнадцатая
ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ
Бруно принужден был прекратить астрономические наблюдения с галереи собора Сан-Доминико. Это случилось через год после того, как он получил сан священника.
Молодого патера вызвал аббат Паскуа. Пригласив его сесть, аббат заговорил:
— Восемь лет назад ты вошел в наш монастырь скромным новицием, брат Джордано. Большой путь проделал ты за эти годы, путь, доступный не всякому, и я тобою доволен. Но есть одно, о чем я должен отечески с тобой говорить.
'— Я слушаю мессера.
— Известно ли тебе, что братия пренебрежительно называет тебя звездочетом?
— Я это знаю, мессер, но не обращаю внимания на насмешки невежественных людей.
— Ты высокого мнения о себе!
— Сам мессер не раз мне его внушал.
Настоятель побагровел. Трудно спорить с Джордано, он всегда находит аргументы, сбивающие противника с толку.
Мессер Паскуа продолжал:
— Я считаю, что духовному лицу не подобает караб-. каться на колокольню и исчислять по ночам движение планет.
— Почтительнейше прошу прощения у мессера и осмеливаюсь утверждать, что духовный сан не помеха занятиям астрономией. Доказательством тому жизнь вармийского каноника1, достопочтенного Николая Коперника, который свершил для развития этой благородной науки больше, чем светские ученые за тысячу лет.
— Коперник? — сердито переспросил настоятель. — Я слышал о Копернике: это он виноват в том, что брат Джордано Бруно вместо писания богословских тракта
1 Каноник — в средние века священник, не отправлявший церковных служб и занимавшийся административными делами. Должность каноника была почетной и выгодной,
тов взбирается по ночам на соборную галерею. Но я принял свои меры в отношении Коперника.
Бруно спросил себя, какие меры мог принять аббат Паскуа против ученого, умершего тридцать лет назад. Он узнал об этом, когда покинул келью настоятеля, выслушав строгий приказ прекратить наблюдения за небом, и отправился в библиотеку. Его встретил обеспокоенный дон Аннибале и сообщил, что по приказу аббата труд Коперника унесли.
— Ты обойдешься без «Обращений небесных сфер», сын мой?
Джордано покачал головой.
— Гонители истины пытаются задушить ее в зародыше, но они ошибаются. Я взял у Коперника и у небосвода все, что мне было нужно, а теперь мне будут помогать в моих размышлениях очки разума!
Дон Аннибале улыбнулся, его синие глаза засветились лаской.
— Как видно, ты не забыл наш ночной разговор о «небесных очках» и «очках разума»?
— Я помню, падре! Очки разума — это логика, суровая логика, которая отсеивает истину от заблуждения и позволяет видеть недоступное простому наблюдателю.
Еще долгие годы раздумий понадобились Джордано Бруно, чтобы окончательно сложилось его смелое научное мировоззрение, но основные черты его возникли в стенах монастыря Сан-Доминико Маджоре, и этому не могли помешать никакие запреты тупых церковников.
Летним вечером 1574 года у профессора Джисмон-до Бандинелло шла пирушка. Веселый шум, доносившийся из-за двери профессорской кельи, никого не удивлял: все знали, что отец Джисмондо лечит свою болезнь.
Джисмондо Бандинелло, профессор древнееврейского языка, уверял, что к нему в рот во время сна заползла лягушка и прижилась в его желудке. Частенько лягушка начинала барахтаться в животе почтенного академика, и утихомирить ее можно было только несколькими бутылками вина, выпитыми в дружеской компании. После этого лекции Бандинелло снимались
или заменялись другими. Но так как ученый гебраист 1 не подсиживал коллег и снисходительно относился к студентам, то его любили и товарищи и ученики.
На этот раз у отца Джисмондо, кроме очередного буйства лягушки, нашлась и другая причина созвать приятелей: Джордано Бруно, его любимый ученик, а в последние годы и сослуживец, получил ученую степень лектора. Джордано долго отказывался идти к Банди-нелло, но профессор все же затащил его и усадил на почетное место.
В числе приглашенных, кроме нескольких университетских преподавателей, оказался Монтальчйно, сам напросившийся к отцу Джисмондо в гости.
Проповедник церкви Святого Павла в Неаполе Агостино Монтальчйно, родом испанец, был человеком весьма недалеким, но мнил себя великим знатоком богословия. Отец Агостино прославился в городе благочестием. Он строго соблюдал посты и истязал свою грешную плоть бичом. Злые языки говорили, что Монталь-чино настолько навострился в искусстве бичевания, что от ударов совсем не оставалось рубцов на теле. Подавал он и милостыню нищим — по две-три мелкие монетки в день. Монтальчйно считал свои заслуги перед богом весьма большими.
На пирушке разговор велся на богословские темы. Джордано говорил, как всегда, откровенно.
Критикуя догмат о двойственной природе Христа, Бруно смело заявил:
— У толкователей писания один общий недостаток: они пытаются пришить штанину к рукаву и доказать, что у них получился костюм. Да и в самом деле: как может совместиться несовместимое? Могут ли соединиться в Христе два начала: божеское и человеческое? Это так же невозможно, как невозможно соединить воедино человека и лошадь и получить кентавра, да еще такого, как Хирон2, превышающего и лошадь и человека!
Собеседники Бруно выпили уже порядочно, но слова
1 Гебраист — знаток древнееврейского языка.
2 Кентавр Хирон — полубог, мудрец, сын Зевса, воспитатель многих мифических героев — Ахиллеса, Патрокла, Язона и других.
молодого ученого заставили их насторожиться: не часто услышишь такое от правоверного католика!
Джордано не угомонился. Насмешливо глядя в холодные серые глаза Монтальчино, он продолжал:
— Я слышал на улице интересный разговор о троичности божества. Один горожанин сказал другому: «Говорят, что бог один, но в трех лицах: бог отец, бог сын, бог дух святой. А я этого не понимаю. Разве у нашего бога три головы?» А другой ему ответил: «Дурак, ты смыслишь в богословии меньше, чем древние язычники, которые верили в трехголового Цербера Ь>.
Дерзость слов Бруно заставила мгновенно протрезвиться отуманенные головы монахов, и они быстро покинули келью отца Джисмондо. А Монтальчино, вернувшись домой, записал слова Бруно в тетрадку, в которой собирал материал для доносов.
Бруно задыхался в окружавшем его мире лицемерия и время от времени откровенно выражал свои мысли, хотя и знал, чем это ему грозит. Выступая перед студентами, он критиковал догматы католической религии, едко вскрывал противоречия в книгах отцов церкви.
Тучи все больше сгущались над головой Джордано Бруно.
...В 74-м году, после пятилетнего отсутствия, в Сан-Доминико Маджоре снова появился Хиль Ромеро. Где провел эти годы мрачный монах, знал только приор, с которым Хиль поддерживал переписку. В донесениях тайный агент иезуитов рассказывал о своей деятельности в доминиканских монастырях, куда он являлся с мандатом от Рима. Искусными наговорами и сплетнями Хиль сеял вражду между монахами, и благодаря его интригам уже один аббат и два приора лишились постов.
Деятельность Хиля не оставалась без наград, и, когда дон Марио читал его письма, написанные секретным шифром, фигура Ромеро вырастала в его глазах.
«Я недооценивал брата Хиля, — думал приор, — он может оказать мне большие услуги в борьбе с мессером аббатом».
1 Цербер — мифический трехголовый пес, охранявший выход из ада4
И он добился возвращения Ромеро в Неаполь.
Появившись в Сан-Доминико Маджоре, Хиль с яростью увидел, что за протекшие годы Джордано под-, нялся еще выше. Джордано — священник, лектор университета, красивый ловкий молодой человек, изящный даже в широкополой рясе. А Хиль — все тот же рядовой монах, и хотя уже достиг в иезуитском ордене степени «духовного кандидата»здесь, у доминиканцев, этот высокий сан приходилось скрывать. В Сан-Доминико были и другие тайные иезуиты, но среди них только дон Марио, состоявший в классе «исповедников трех обетов», был выше Хиля Ромеро.
Как хотел бы смиренный брат Хиль бросить в лицо Джордано гордое признание в том, что он, Ромеро, по своему положению в ордене иезуитов стоит не ниже, чем Бруно в ордене святого Доминико! Но, увы, это было невозможно! Ромеро уподоблялся нищему, хранящему в складках рубища бесценный алмаз, но не имеющему права воспользоваться им для своего блага. И это сознание мучило Хиля Ромеро, как непрерывная пытка...
Была у Ромеро и другая причина для душевной муки. На последней аудиенции в Мадриде прокуратор хотя и милостиво разговаривал с Хилем, но дал понять, что возложенное на него поручение — уничтожить восходящую звезду доминиканцев, Бруно, — выполняется чересчур уж долго. В этих словах звучала угроза.
Ромеро стал изыскивать способы погубить Бруно, не подвергая себя опасности. Дон Марио свел Хиля с проповедником Монтальчино, который также оказался иезуитом, состоящим в классе «исповедников трех обетов». Порчелли, Монтальчино и Ромеро составили план действий, обещавший покончить с Бруно и тем самым подорвать положение аббата.
Монтальчино предложил мессеру Паскуа для привлечения верующих устраивать религиозные диспуты в храме Сан-Доминико в праздничные дни. Самолюбие не позволило настоятелю отказаться. Хотя в спорах должны были участвовать многие профессора и студенты,
1 Члены ордена иезуитов разделялись на шесть классов. «Духовные кандидаты» составляли четвертый класс. Стать «духовным кандидатом» можно было только после десятилетнего испытательного срока.
аббат выставил основным противником Монтальчино молодого лектора Джордано Бруно. На это и рассчитывали его враги.
Монтальчино, высокий, тощий, говорил тихим голосом, вставляя в свою речь множество учтивых слов и любезностей оппоненту. Но если очистить его высказывания от словесной шелухи, то получалось, что оппонент дона Агостино ничего не смыслит в писании и гораздо лучше поступил бы, если б отказался от словопрений с человеком, который неизмеримо умнее и ученее его.
Дон Агостино терпел постоянные поражения в диспутах с Бруно, но пылкий ноланец часто переходил границы дозволенного и давал поводы для обвинения его в ереси. А от Хиля Ромеро дон Агостино узнавал смелые высказывания Джордано о религии, переходившие в монастыре из уст в уста.
Монтальчино все это аккуратно записывал.
Наступил 1575 год, юбилейный год римского престола, отмечавшийся каждую четверть века. Во всех католических странах этот год ознаменовывался усиленными поборами в папскую казну. В Риме торжества следовали за торжествами. Щедро раздавались кардинальские мантии и награды, из монастырских подвалов выпускались заключенные, совершившие не слишком тяжкие проступки. Кое-что перепадало и низшему духовенству.
Частичка папской милости досталась диакону Алессо Ронка: по представлению мессера Паскуа из Рима пришло разрешение возвести Алессо в долгожданный сан священника.
Узнав об этом, Ронка ворвался в келью Бруно.
— Джордано, друг мой, брат мой, свершилось! — в восторге кричал он. — Меня посвящают! Мне дают приход!
— Поздравляю! — Бруно горячо обнял друга.— Сбылось то, о чем ты мечтал еще в тот день, когда мы встретились с тобой.
— Да, моя мечта исполнилась, но... но...
Алессо низко опустил голову, и из глаз его покатились слезы.
— О чем ты?
— Я радуюсь, себялюбец, а тебе одному придется противостоять ненависти дона Марио и всех порчелли-
стов. Ведь надо говорить правду: мессер Паскуа относится к тебе хорошо, но больше всего на свете заботится о самом себе. И, если с тобой стрясется беда, аббат тебя не защитит. Джордано, брат родной, скажи слово, одно только слово, и я откажусь от сана и буду по-прежнему, как верный сторожевой пес, охранять твой покой.
Джордано необычайно взволновала преданность друга. Священнический сан, спокойная, обеспеченная жизнь, благополучие забитых, униженных сестер... все это яркой путеводной звездой светило бедному труженику из неизмеримой дали, и, когда цель достигнута, отвергнуть счастье, и такое счастье! Это — дружба, это — высокая чистота души, она — здесь, а не там, где под раззолоченными ризами бьются пустые, холодные сердца.
Скрывая свои чувства, Джордано грубовато прикрикнул:
— Алессо, ты с ума сошел! Даже и думать об этом не смей!
— Но позволь, как же ты останешься здесь без меня?
— Алессо, милый мой, поверь, что я ценю твою дружбу и твое покровительство выше всего на свете! Но ведь найдутся у меня в монастыре и другие защитники.
— Кто?
— Да хотя бы Нино Виллани!
Лет семь назад Нино Виллани оказал Джордано важную услугу: это он, пробравшись с помощью Алессо сквозь окно над дверью, подменил еретическую книгу благочестивыми «Семью радостями Богоматери».
Когда дело с доносом Хиля Ромеро окончилось для Бруно благополучно, он разыскал малыша Нино и горячо его благодарил. Взаимная симпатия, зародившаяся в те далекие дни, обратилась в крепкую дружбу. Теперь Нино был уже студентом, и не из плохих, хотя его проказы не раз навлекали на него гнев ректора.
Виллани и его ближайшие друзья были горячими приверженцами Бруно, считали его лучшим лектором в университете и во всеуслышание об этом заявляли, к неудовольствию профессоров.
— Ну что ж, — согласился Алессо. — На Нино Вил-лаии можно положиться.
Глава пятнадцатая
В МИРНОМ ОАЗИСЕ
Алессо получил приход в деревушке Сан-Микеле, невдалеке от Поццубли; там были его родные места.
Расставаясь, Алессо умолял друга:
— Джордано, ты должен навестить меня! Если не приедешь, то я... то мне...
Он не оставил Бруно в покое, пока не вынудил у него обещание. Это обещание Джордано решил выполнить через три месяца, в начале летних каникул. Он написал Алессо и отправил письмо с нарочным.
Когда Бруно подъезжал на муле к деревушке Сан-Микеле, его поразило необычайное оживление. На колокольне зазвонили колокола, на береговых утесах показались дымки, и гулкие звуки выстрелов огласили окрестность.
«Кого они встречают?» — подумал Бруно.
Его недоумение усилилось, когда церковные двери распахнулись, и оттуда повалила толпа народа. Несли хоругви, знамена, иконы, горящие свечи, и впереди всех гигантскими шагами спешил рыжекудрый великан с чашей святых даров, высоко поднятой в руке.
— Осанна, осанна!1 — гремел хор.
Слышались возгласы:
— Да здравствует ученейший Джордано Бруно! Многая лета монсеньеру Бруно, многая лета! Слава, слава монсеньеру Бруно, слава!!
И тут только Джордано понял: встречают его!
Спрыгнув с мула, которого тут же подхватили мальчишки, Бруно поспешил к другу, и они расцеловались.
— Что ты делаешь, безумец? — шепнул Бруно. —• Ты встречаешь меня по чину епископа!
— Сделали ли мне все епископы мира хоть сотую долю того, что сделал для меня ты, Джордано! — величаво ответил Алессо.
Бруно с изумлением заметил, как изменились манеры друга, какую он обрел уверенность, властность взгляда, силу жестов.
— Но ведь это может дойти до твоего начальства, — обеспокоился Бруно.
1 Хвалебный возглас (греч,).
Алессо обернулся к толпе:
— Дети мои, монсеньер опасается, что духовному начальству станет известно о встрече монсеньера неподобающим его сану образом...
Толпа грянула смехом: такой нелепой показалась мысль, что в дружной семье рыбаков Сан-Микеле может найтись доносчик.
Джордано вгляделся: суровые, обветренные лица под соломенными шляпами, честные открытые глаза, где не было затаенных мыслей... Да, на этих людей можно положиться и в час покоя, и в час борьбы.
После торжественной мессы, которую служили сразу два священника — этого не видала древняя церквушка за все века своего существования, — Алессо повел гостя в свой дом.
Это был уютный домик, скрывавшийся под навесом скалы от ударов ветра, и из двух его окон открывался чудесный вид на залив Гаэта, то тихий и ласковый, то покрытый сердитыми валами, и вечно меняющий свой цвет от лазурного, зеленого или нежно-фиолетового до темно-синего, почти черного перед бурей.
Джордано встретили сестры патера, такие же сильные и рослые, как их брат. Старшая была вдовой: ее муж, рыбак Луиджи Альтовйти, погиб в море лет шесть тому назад. Младшие дети Виветты с боязливым любопытством издали глядели на незнакомого патера, и только немудреными сластями, купленными по дороге, Джордано сумел расположить их к себе.
Зато Чёнчо, рослый тринадцатилетний мальчуган, сразу привязался к Бруно и почти не отходил от него всю неделю, пока тот жил у друга.
Хорошее это было для Джордано время, свободное от забот и душевных волнений. Друзья купались в море, ловили рыбу, а обитатели Сан-Микеле катали их по морю. Джордано и Алессо вспоминали, как они бежали из Флоренции, как плыли по Арно... Ченчо слушал их как зачарованный и горько сожалел, что это не он был на месте дяди.
Уезжая, Бруно просил не устраивать проводов. Алее* со внял просьбе друга. Когда они приблизились к большой дороге, Ронка сказал:
— Послушай, Джордано, если тебе будет грозить беда, постарайся пробраться к нам, Здесь можно жить
в безопасности. Испанцам у нас нечего делать, папские сбиры 1 сюда не доберутся, а если и явятся, то их здесь убьют.
— Спасибо, друг, в случае нужды я не забуду твоего предложения.
— И еще вот что скажу тебе, — застыдившись, молвил Ронка, — и это будет в первый и последний раз, но в моем сердце останется до могилы. Бог сотворил мое тело, а ты создал душу — и я чту тебя наравне с богом!
И, точно испугавшись чрезмерности своих слов, немыслимых в устах священнослужителя, Ронка повернулся и быстро пошел к морю, и долго еще видел Джордано его золотистую голову, мелькавшую среди кустов.
Вскоре после возвращения из Сан-Микеле Бруно защитил докторскую диссертацию в Римском университете и получил право подписываться гордым титулом, высоко ценимым во всем христианском мире: «Римский доктор богословия».
Возвращаясь из Рима, Джордано имел необычайную встречу.
С тех пор как Джованни Бруно ушел из дома, Джордано всегда присматривался к нищим и странникам, попадавшимся на дорогах. В нем жила неистребимая надежда найти отца.
Вблизи Террачины Бруно завидел сидевшего у края дороги нищего старика и направился к нему. Оказалось, что старик был слеп. Его поведение удивило Бруно. Он не клянчил назойливо подачку, как другие, а читал стихи, двигая в такт худыми слабыми руками. Что-то в фигуре слепца, в созвучии стихов показалось Джордано знакомым. Он слез с мула, подошел...
Боже праведный! Эти впалые щеки, опаленные безжалостным солнцем Италии, эти провалившиеся незрячие глаза, длинные седые волосы, запорошенные тонкой пылью проезжих дорог... Было во всем этом что-то бесконечно жалкое, приниженное, но знакомое, родное...
— Учитель! Крестный!.. — воскликнул потрясенный Бруно.
Слепец вздрогнул, попытался приподняться. Недоверчивая радость начала проступать на его изможденном лице, но он еще сомневался.
1 Сбиры — полицейские.
— Это грёза... видение... — бормотал несчастный. — Этого не может быть!..
И вдруг он встал, преображенный, и, высоко подняв голову, произнес:
— Куда безумно мчимся мы? Дерзанье...
— Нам принесет в расплату лишь страданье! — подхватил Джордано запомнившиеся с детства стихи Лодовико Тансилло, и голос его смолк, прерванный рыданием.
— Да, это он... Это мой Фелипе!
Слепой шагнул вперед, и крепкие объятия приняли его.
Тансилло, не помня себя от счастья, ощупывал исхудалыми руками лицо Джордано. Точно боясь, что сладостное видение исчезнет, слепец обхватил шею Бруно и что-то шептал едва слышным голосом.
— Учитель, милый учитель! — воскликнул Бруно.— Как вы здесь оказались в таком положении?
— Судьба! — скорбно ответил Лодовико. — «Дерзанье принесет в расплату лишь страданье...» Я дерзнул быть патриотом, и вот награда! Когда меня поразила слепота, друзья давали мне средства к жизни... Но смерть унесла самых преданных и главного среди них, твоего дядю Джакомо. Иные разбрелись, попали в тюрьму или отправились странствовать, как твой отец. И вот я на дороге... Ну что же, бог утешил меня, послав последнюю земную радость. Прощай, Фелипе!
Джордано показалось, что его сердце обдало холодом.
— Почему вы прощаетесь со мной, учитель?
— А что ты будешь со мной делать? Ты — монах, бессребреник, у тебя нет своего крова.
Джордано горячо прижал к себе старика:
— Крестный, я найду вам кров!.. Вас приютит мой друг Алессо!
Крупные слезы покатились из незрячих глаз Лодовико Тансилло.
Джордано отвез поэта в ближнюю тратторию, накормил, купил ему одежду... На следующий день Бруно нанял второго мула, и они вместе поехали в Неаполь. Взаимным расспросам и рассказам не было конца.
Бруно устроил синьора Лодовико вблизи монастыря и послал письмо Алессо. Через несколько дней сельский патер появился в келье Бруно. Он был вне себя от ра
дости и гордости, что понадобился Джордано, что именно к нему обратился друг за помощью.
Увозя Тансйлло, он говорил:
— Я рано потерял отца, синьор Лодовико, и вы бу*, дете моим отцом, а детишкам сестры Виветты наставник ком и добрым дедушкой...
Старик плакал от счастья.
Глава шестнадцатая
СТО ТРИДЦАТЬ ПУНКТОВ
Поздней осенью 1575 года римский доктор богословия, достопочтенный отец Джордано Бруно сидел за письменным столом в келье из двух хорошо обставлен-, пых комнат, которая сменила его скромную студенческую каморку. Бруно было только двадцать семь лет, но годы уже провели первые морщины на его высоком лбу, разбросали ранние нити седины в русых волосах.
Джордано был погружен в тягостное раздумье. Утром этого дня его предупредили, что ему надлежит предстать перед судом святейшей инквизиции. Бруно догадался, что обязан этим дону Марио, на днях вернувшемуся из Рима.
Молодой ученый не ошибся. Борьба между аббатом и приором длилась уже много месяцев. Бруно критиковал догматы католической веры слишком часто и резко, и замять дело было невозможно. Но мессер Паскуа настаивал на том, чтобы обсудить взгляды Джордано в капитуле, где у аббата было большинство и приговор оказался бы не слишком суровым. Дон Марио требовал суда инквизиции. Не получив успеха на месте, приор поехал в папскую столицу и там с помощью покровителей-иезуитов добился своего.
Продолжать защищать Бруно стало опасно, и лицемерный аббат круто изменил позицию. Он не только от-* рекся от своего любимца, но и заявил, что ошибался в Бруно и считает правильным указ монсеньера прокуратора.
В основу обвинения лег пространный донос, состряпанный тремя иезуитами — Порчелли, Монтальчино и Ромеро.
Обвинение, предъявленное Бруно, включало целых сто тридцать пунктов. Недаром церковники копили «улики» целыми годами. Среди пунктов были и очень серьезные, где Бруно обвинялся в отрицании самых ос* нов христианской веры, а были и смехотворно мелоч-. ные, вписанные, по-видимому, лишь для счета.
Заседание открылось в обширном низком подвале, тускло освещенном масляными светильниками. Судьи сидели за столом, покрытым черным сукном. Посредине массивной глыбой возвышался главный инквизитор, мессер Эркбле да Лукко, дворянин знатного происхождения, родственник герцогов Феррарских. В его суровых чертах не выражалось ни злобы, ни нетерпения: казалось, они были изваяны из камня, как у истукана, воздвигнутого бог весть когда на кургане в безлюдной степи. Остальные двое судей, незначительные монахи, во всем повиновались грозному начальнику.
Позади судейского стола на длинной стене была намалевана картина ада. Проворные дьяволы поджаривали грешников на огромных сковородах, бросали, поддев двузубыми вилами, в озера кипящей смолы, распиливали деревянными пилами.
С правой стороны располагались свидетельские скамьи. Там сидели Агостино Монтальчйно и несколько профессоров и студентов, согласившихся поддерживать обвинение против Бруно. Присутствовало и монастырское начальство: аббат Паскуа, приор Порчелли, отец ключарь и другие. Из-за спин свидетелей ободрительно улыбалось Джордано багровое полное лицо профессора Бандинелло: его пригласили как эксперта на случай разногласия между судом и обвиняемым в истолкова* нии древнееврейских текстов библии. Бруно стало легче, когда он увидел среди всех этих равнодушных или враждебных людей доброжелателя.
Слева на помосте, грубо сколоченном из досок, лежали орудия пытки: кнуты, железные сапоги, стягивавшиеся веревками на ногах истязуемого, воронка пресвятой Маргариты, через которую в желудок человека вливалось огромное количество воды, и тому подобные жестокие изобретения палачей.
Бруно сидел одиноко на скамье, поставленной прямо перед судейским столом. Секретарь инквизиции,
монах с вытянутым хищным лицом, похожий на облезлую крысу, начал читать обвинение.
— «Джордано, в миру Филиппо, родился в городе Нола в 1548 году от рождества господа нашего Иисуса Христа, — монотонно бубнил секретарь. — Отец его, Джованни Бруно, отставной знаменщик Неаполитанского конного полка, находится в безвестном отсутствии, а мать, Фраулиса Саволино, дочь земледельца, скончалась в 1570 году с полным соблюдением обрядов католической церкви. Означенный Джордано Ноланец вступил в орден святого Доминико 15 июня 1565 года...»
Дальше шел послужной список Бруно с указанием всех дат его продвижения по лестнице церковной иерархии и присвоения ученых степеней.
Огласив все эти данные, секретарь начал читать пункты обвинения:
— «Пункт 1. Джордано Ноланец в 1566 году выбросил из кельи изображения святых, оставив лишь распятие Христа, и был привлечен за это к суду монастырского капитула.
Пункт 2. Приговоренный капитулом к епитимии и вынужденный вернуть иконы, означенный Джордано Ноланец не возжигал перед оными ни свеч, ни лампад и не совершал перед ними установленных молений.
Пункт 3. Джордано Ноланец, в келье которого в 1568 году при весьма подозрительных обстоятельствах была обнаружена книга о семи радостях богоматери, называл перед отцом инквизитором упомянутую книгу чрезвычайно душеспасительной, а в разговоре со студентом Якопо Кольчи именовал оную собранием благоглупостей, кое может вызвать при чтении лишь презрительный смех».
«И это стало известно, — подумал Бруно. — Значит, Кольчи — шпион».
Пункт следовал за пунктом. В большинстве это были незначительные проступки или давно порешенные дела, о которых Джордано позабыл. Но вот он насторожился: оглашалось очень серьезное обвинение.
— «Пункт 37. Джордано Ноланец отрицал двойственную природу Христа, утверждая, что божеское и человеческое в одном лице соединить так же невозможно, как соединить лошадь и человека и получить мудрого кентавра языческих мифов».
«Все, все записано, — горько думал Джордано.— И записано моими подлинными словами. О святой До-минико, как в твоем ордене развращают людей, как вытравляют из их сердец лучшие человеческие чувства...»
А там, за судейским столом, после ряда пунктов новый грозный удар.
— «Пункт 68. Джордано Ноланец отрицал троичность божества, утверждая, что учение о троичности создано святой церковью намного позднее воплощения господа нашего Иисуса Христа».
— И это действительно так, — беззвучно шептал Бруно. — Сам блаженный Августин пишет, что это учение сложилось в его времена. Но мои судьи видят в книгах лишь то, что им выгодно видеть...
Задумавшись, Бруно пропустил несколько пунктов, но имя Монтальчино заставило его насторожиться.
— «Пункт 83. На диспуте с достопочтеннейшим и ученейшим отцом Агостино Монтальчино означенный Джордано Ноланец, будто бы развивая тезисы Фомы Аквинского, проповедовал враждебные церкви взгляды».
«А это он метко уловил, — невольно улыбнулся про себя Бруно. — У этого ученого сухаря есть нюх».
— «Пункт 84. На диспуте с отцом Монтальчино Джордано Ноланец излагал мнения Ария, Сабеллия и других осужденных церковью еретиков якобы с целью их опровергнуть, а на деле, чтобы распространять».
Ненависть сделала дона Агостино проницательным!
Бруно посмотрел на скамью свидетелей. На лице Агостино выражалась злобная радость. /Лессер Паскуа опустил глаза, отец приор что-то шептал ключарю, и только добродушный гебраист Бандинелло ободряюще улыбался обвиняемому.
В подвале было холодно и сыро, Джордано начала пробирать дрожь. Пламя светильников колебалось, по стенам двигались огромные черные тени, адский огонь на картине то словно разгорался, освещенный вспышками света, то вновь угасал.
Джордано посмотрел на председателя трибунала. Казалось, его со всех сторон окружали языки адского пламени, но монах не ощущал от этого никакого неудобства. Бруно подумал:
«Я бы согласился попасть в ад лишь для того, что-: бы полюбоваться, как будут поджаривать эту винную бочку, дона Эрколе да Лукко. Его визг долетел бы до самого рая и помешал господу богу спокойно почивать...»
После ряда пунктов, выдвинутых Монтальчйно, последовал такой, который заставил Бруно развеселиться:
— «Пункт 109. Джордано Ноланец в октябре 1571 года неуважительно отзывался о его святейшестве папе Пие V, да упокоится душа его в раю. Называл святейшего отца такими непотребными словами, кои даже не могут быть здесь приведены».
«Древний поэт сказал, что живая собака лучше мертвого льва, — подумал Бруно.—А моим обвинителям и дохлый лев пригодился...»
И снова важное обвинение:
— «Пункт 125. Джордано Ноланец весьма сожалел о предании очистительному огню еретика Мигеля Сер-ветаОзначенный Джордано называл Сервета мужем разума и совета и особенно одобрял его еретическое высказывание, что бог есть природа».
Этот пункт был чуть ли не самым важным. Бруно, говоря с профессорами, выступая на диспутах и перед студентами, старался распространить свою идею о бесконечности Вселенной, правда, очень осторожно. Но, говоря об этом, он проводил мысль, что великое множество миров не могло быть создано библейским богом за малый до смешного срок — в шесть дней, — и что природа возникла как-то иначе, быть может, сама собой. И отсюда был один шаг до утверждения, что природа и бог — одно и то же.
Чтение обвинительного заключения закончилось. Секретарь суда вручил Бруно копию, чтобы обвиняемый мог хорошо ознакомиться со всеми пунктами: он отказался от адвоката и заявил, что сам будет защищать себя. Следующее заседание назначили через неделю. Жертва была в их руках, и отцы инквизиторы не. торопились.
Процесс пошел своим чередом. Судьи копались в прошлом Джордано, старались до тонкости выяснить
1 Испанец Мигель Сервёт (1511—1553) был осужден как еретик и сожжен в Женеве»
его мнение о том или ином богословском вопросе, затронутом в обвинительном акте, пытались найти противоречие в его защитительных речах. Но Бруно был слишком сильным диалектиком, чтобы дать им такую возможность. Во избежание подлогов, которые могли сделать секретари, он сам писал показания и скреплял подписью каждый лист.
Бруно защищался искусно. Иные пункты он отметал за недоказанностью, когда знал, что свидетелей нет и не будет. Другие объяснял тем, что собеседник понял его неправильно, что его высказывание вполне сходится с мнением такого-то отца церкви, изложенным в таком-то томе, на странице такой-то.
Заседание прерывалось, нужный том приносили из библиотеки, и ни разу не случалось, что Бруно ошибся, хотя на время процесса вход в библиотеку ему был воспрещен и за этим зорко следил Хиль Ромеро.
Одним из сильных аргументов, которые Бруно выдвигал в свою защиту, была ссылка на принцип двойственности, в какой-то мере признаваемый католической церковью. Принцип двойственной истины утверждал, что наука — одно, а вера — другое и что если в науке требуются доказательства, то вера их не требует.
— Высказывая свои мысли о строении Вселенной,—> говорил Бруно, — я говорил как философ, а не как христианин.
И все-таки с каждым разом тень беды выступала все явственнее. Уж слишком много было обвинений, и самая многочисленность их давала суду понять, что перед ним по меньшей мере опасный вольнодумец. Да и не все обвинения, особенно важные, касавшиеся истолкования догматов, удавалось опровергнуть. Несмотря на все старания Бруно, в его объяснениях проскальзывали нотки несогласия с официальным мнением церкви.
После десятого заседания в зале суда возле орудий пытки появился палач — дюжий монах со зверским лицом. Про него шепотом говорили, что пострижение он принял, спасаясь от казни, к которой его присудили за множество убийств. Присутствие палача лишало Бруно необходимого спокойствия, указывало на слишком явное неравенство сторон. У одной — только слово, у другой — кнут, железо, огонь...
Глава семнадцатая
БЕГСТВО
Темной январской ночью в келью Бруно осторожно постучали. Тревожно спавший Джордано быстро открыл. В келыо проскользнул возбужденный Нино Виллани.
— Маэстро! Вам надо бежать... спасаться!
— Что ты узнал?
— Профессору Бандинелло удалось проведать, что завтра вечером вас станут пытать, а потом прикуют на цепь в подвале. Он шепнул мне об этом...
— Да будет благословенна его доброта! Но как бежать? Хиль Ромеро всю ночь ходит по коридору.
Несмотря на серьезность положения, юноша рассмеялся:
— Одноглазый лежит в пустой келье с заткнутым ртом, запеленатый, как младенец, и дверь закрыта на ключ.
— Но он, наверно, узнал вас!
— Ну уж нет! Мы были в плащах и масках. Это добро у нас имеется: ведь мы, признаться, ходим в город по ночам. Одевайтесь, маэстро, берите нужное...
— Многое нужно бы взять, но... Видишь ли, Нино, в стене моей кельи есть тайник, где хранятся запрещенные книги.
— Запрещенные!.. — ахнул юноша. — Но это же гибель!
Джордано признался юному другу, что его дядя Джакомо за несколько месяцев до смерти подарил ему свое собрание запрещенных книг. И Бруно понемногу, скрывая под рясой, перенес сокровище в монастырь. В одной из стен его кельи оказалась ниша, и Джордано вдвоем с Алессо тайно приспособили ее под книгохранилище, а на стену повесили огромную картину религиозного содержания.
— Я был безумен, — молвил Джордано. — Мне следовало отдать книги в библиотеку, но я хотел иметь их всегда под рукой.
— Будем надеяться, маэстро, что ваш тайник не сразу откроют. А мы тем временем постараемся перенести книги к дону Аннибале.
Джордано надел под рясу кольчугу, взял кинжал, копию обвинительного заключения и небольшую сумму денег, которые у него имелись.
По совету Нино он написал записку, где сообщал, что уходит в горы Чилёнто, к повстанцам: он станет их духовным пастырем. Хотя это писалось для отвода глаз, однако такой поступок мог показаться вероятным: немало представителей низшего духовенства вступали в ряды борцов за свободу.
— Друг Нино, а как с Хилем?
— С этим мерзавцем? Мы откроем дверь его камеры послезавтра утром. Раньше это сделать невозможно: поднимет тревогу.
— Тогда...
Бруно улыбнулся и приписал:
«Уважаемый брат Хиль Ромеро за приличное вознаграждение согласился стать моим проводником. Прошу не судить его за это по возвращении: жажда золота толкает людей на худшие грехи».
— Вот это здорово! —воскликнул Нино, прочитав приписку. — Они и искать его не станут.
Юноша провел Джордано к потайной калитке.
— Привратник выпустил бы вас через главный вход, но зачем смущать совесть доброго старика?
Очутившись за стеной, Бруно спросил:
— Куда ты ведешь меня?
— Здесь неподалеку живет Пандбльфо Бутера, отец моего товарища Карло. Сер Пандольфо — содержатель наемных мулов. Он человек надежный. В его доме пробудете до рассвета и, как только откроются городские ворота, отправитесь в путь... Куда? Я не хочу спрашивать.
— А я не намерен скрывать это от тебя. Я еду в Рим.
Нино побледнел:
— Вы хотите предать себя в лапы римской инквизиции, маэстро?
— Я не так уж простодушен, — улыбнулся Джордано. — Видишь ли, Нино, при защите моей докторской степени присутствовал ректор Римского университета, мессер Алессандро Тритона. Ему понравилась моя диссертация, и он предложил мне кафедру философии в своем университете.
— Но это было до предания вас суду, маэстроГ
— Мессер Тригона человек влиятельный. Быть мо-ч $кет, ему удастся добиться прекращения моего дела.
Виллани в сомнении покачал головой.
— Во всяком случае, — продолжал Бруно, — через него я узнаю, известно ли о моем процессе высшим церковным властям. Если опасность для меня велика, я покину папскую столицу.
— Это меняет дело, — согласился студент. — Но бо« га ради, маэстро, будьте осторожны! Вы едете в змеиное гнездо!
— Не беспокойся, мой друг, я не дам себя ужалить.
— Куда вам писать, если здесь откроется что-либо важное для вас?
— Пиши в монастырь Санта-Мария на имя аббата мессера Каппадоно. Мне передадут.
Джордано обнял юного студента, крепко пожал ему руку и вошел в дом сера Пандольфо. В полдень следующего дня он был далеко от Неаполя.
Глава первая
РИМ
В древнем Риме на берегу Тибра стоял храм богини Минервы, покровительницы наук и искусств. Прошли века, от храма остались развалины, и на этом месте был воздвигнут монастырь в честь богородицы. Основатели монастыря хвастливо назвали его Санта-Мария сбора Минерва, что означает: святая Мария выше Минервы. Церковники, ставившие богословие во главе наук, провозгласили своей покровительницей деву Марию.
В монастыре Санта-Мария сопра Минерва нашел пристанище Джордано Бруно по приезде в Рим. Настоятель, мессер Каппадоно, старичок с румяным лицом и серыми глазками, принял Джордано приветливо: он не раз встречался с молодым ученым, когда посещал Неаполь.
Мессер Каппадоно показал гостю свои владения. Бруно обратил внимание на мрачное приземистое здание с узкими зарешеченными окнами, выходившее одной стороной на Тибр.
•— Что это такое? — спросил он.
Добродушный аббат вздохнул.
— Это горечь моей жизни, дорогой брат, — сказал он, понижая голос. — Здесь томятся узники римской инквизиции. Хорошо еще, что у тюрьмы свое начальство, свои надзиратели и я не имею к ним касательства. То, что там творится, — аббат перешел на шепот, — возмущает душу сострадательного человека. Но не будем говорить о таких тяжелых вещах, брат Джордано. Идите в свою келью, отдохните с дороги, а потом можете поработать в библиотеке. Конечно, у нас выбор книг не такой богатый, как в Сан-Доминико Маджоре, но смею уверить, есть ценные труды...
Джордано было не до занятий. Окно его кельи смотрело прямо на тюрьму, и это казалось Бруно плохим предзнаменованием.
На следующий день Джордано отправился к мессеру Тригона. Ректор Римского университета, высокий сутуловатый старик с курчавыми седыми волосами и строгим лицом, встретил посетителя радушно. Но он все более хмурился, слушая рассказ Бруно о его процессе.
— Я хочу быть с вами откровенным до конца, мессер!— сказал Джордано и подал ректору копию обвинительного заключения.
Мессер Тригона внимательно прочитал длинный документ и поднял на собеседника глаза, в которых выражалось сострадание.
— Боюсь, брат Джордано, что с таким списком обвинений вряд ли возможно вам получить должность, которую я предлагал несколько месяцев назад.
— Я этого и боялся, мессер, — признался Бруно. —• Но у меня к вам большая просьба. Не сможете ли вы побывать в главном инквизиционном трибунале и выяснить, известно ли там о моем деле и как на него смотрят.
— Это трудное поручение, — сказал ректор. — Инквизиция не любит выдавать свои тайны. Но, к счастью, секретарь трибунала — мой бывший студент, сохранивший добрые чувства ко мне. Думаю, он не скроет истину. Приходите в понедельник.
— Я вверяюсь вашей чести, мессер, — сказал побледневший Бруно. — Я видел тюрьму инквизиции в мо-. настыре Санта-Мария...
— Вы могли об этом не говорить, мягко, но реши* тельно перебил мессер Тригона.
В ожидании назначенного срока Бруно целыми днями бродил по городу не столько для того, чтобы ознакомиться с его достопримечательностями, сколько с целью успокоить взволнованные мысли. И все же он иногда забывал о своем бедственном положении и лю« бовался каким-нибудь величавым памятником старины.
Особенное восхищение вызывал у него Колизей — грандиозный памятник древности с сохранившейся частью стены, с уцелевшими колоннами, с огромной продолговатой ареной, где когда-то насмерть сражались гладиаторы для развлечения праздной толпы. Пусто и тихо было там, безмолвие нарушали лишь птицы, свившие гнезда на выступах колонн и в расселинах стены, да ящерица грелась на каменном сиденье ложи, быть может, принадлежавшей знаменитому полководцу или сенатору...
Бруно подолгу стоял у замка Святого Ангела, твердыни, послужившей крепостью во время нашествия испанцев на Рим в 1527 году.
И какими мелкими и ничтожными в сравнении со старинными громадами представлялись современные строения в путанице узких и грязных улиц и переулков, извивавшихся по склонам холмов или следовавших изгибам Тибра. Древний Капитолий, где когда-то сосредоточивались общественные учреждения города, откуда рассылались послания, начинавшиеся гордыми словами: «Urbi et orbi» J, был застроен жилыми домами, с балконов которых свешивалось сушившееся белье, а у дверей болтали растрепанные кумушки.
«Измельчал семихолмный Рим, — с грустью думал Джордано, — папская власть подтачивает его, как язва больного...»
Наступил понедельник. Бруно с сильно бьющимся сердцем вошел в приемную мессера Тригона. По мрачному выражению его лица Джордано понял, что хороших вестей ждать не приходится.
— Вам угрожает большая опасность, брат Джордано,— без обиняков заявил ректор. — Сведения о вашем
1 У р б и эт брби (лат.) — городу и- миру. Под городом подразумевался Рим, мир был остальное.
процессе поступали в римский трибунал регулярно после каждого заседания суда. О вашем бегстве уже известно, и его считают неоспоримым доказательством вашей виновности. Прокуратор доминиканского ордена монсеньер Сйсто ди Лука настроен против вас и считает, что пожизненное заключение будет для вас еще мягким наказанием.
— Лучше смерть! — вырвалось у Бруно.
— Из могилы нет возврата, а из тюрьмы люди иногда выходят. Впрочем, я не буду давать вам советы, брат, вы хоть и молоды, но умудрены жизнью.
— Горячо благодарю вас, мессер, за все, что вы для меня сделали! Прощайте!
Возвращаясь в монастырь, Бруно встретил у ворот человека в надвинутой на лоб шляпе.
Бруно узнал в нем погонщика мулов, который сопровождал его в Рим.
— Я долго ждал вас, падре, — пробормотал парень и сунул в руку Джордано пакет, добавив: —Из Неаполя.
Он тотчас скрылся, а Бруно прошел в свою келью. Письмо было от Нино. Молодой студент писал:
«Дорогой маэстро, сообщаю Вам немаловажные известия.
Утром после известной Вам ночи монастырь напоминал муравейник, куда бросили большой камень. Повсюду бегали люди, начиная от поварят и конюшенных мальчиков и до мессера аббата, мессера приора, главного инквизитора. Слышались крики:
— Где он? Куда девался? Ищите его!
Вас искали под церковными кафедрами, в исповедальнях, в дортуарах школяров и даже в стойлах мулов. Поистине, можно было подумать, что бог лишил людей разума!
Пишущий эти строки притаился неподалеку от Вашей кельи и слышал, как ссорились мессер аббат и мессер приор. Мессер приор кричал:
— Ну, где же оно, ваше ученое светило, которое вы так долго защищали?
— А куда девался ваш любимец, поставленный сторожить в этом коридоре? — отвечал мессер аббат. — Наверное, кутит в городе.
Они еще долго препирались бы, но из Вашей кельи вышел главный инквизитор с известной Вам запиской. Мессер аббат принялся громко бранить сикофантаа мессер приор его защищал и говорил, что по некото-рым, одному ему известным обстоятельствам, тот не мог этого сделать, и если его нет в монастыре, значит, он уведен насильно. Мессер инквизитор не знал, кому из спорщиков верить, и вид у него был довольно растерянный...»
Джордано невольно улыбнулся, представив себе гневные лица ссорящихся аббата и приора, в то время как Хиль Ромеро лежал в холодной кладовой с заткнутым ртом, со связанными руками и ногами.
«Мальчик хорошо составил письмо, — подумал Бруно. — Ни одного имени не упомянул. Если бы его послание перехватила инквизиция, она никого не смогла бы привлечь. И почерк догадался изменить. Но посмотрим, что было дальше...»
«К несчастью, главному инквизитору пришло в голову запереть дверь Вашей кельи на ключ и опечатать ее, так что мы не смогли выполнить намерения, о котором Вы знаете.
На рассвете следующего дня мы открыли дверь каморки, где лежал сикофант. Признаюсь, дорогой маэстро, у меня было желание оставить там эту гадину до ее смерти, но я на это не решился. И теперь об этом жалею. Сикофант после сырого чулана пролежал в лихорадке три дня, а потом сам обыскал вашу келью и, движимый ненавистью, нашел то, что ускользнуло от других...»
— Проклятый!.. — пробормотал Бруно. — Его злоба неистощима...
«Ваше положение стало очень опасным. Главный инквизитор мечет громы и молнии и утверждает, что новых доказательств достаточно, чтобы присудить Вас к самому жестокому наказанию.
И еще плохая новость: в монастыре быстро узнали, куда Вы уехали. Не понимаю, кто мог выдать тайну. За скромность того, у кого Вы провели ночь, и за его людей я ручаюсь, как за самого себя. Может быть, Вы вели себя неосторожно? Но не стоит ломать над этим
1 Сикофант (греч^) — шпион, доносчик.
голову. Доброжелатель, от которого Вы получили в ту ночь предупреждение, советует Вам возможно быстрее покинуть город, и мы все присоединяемся к его мнению. Сикофант пустится за Вами в погоню, как только получит необходимые полномочия, и это может произойти с часу на час».
Подписи под письмом не было.
«Нино хорошо сделал, что не написал мне на имя Каппадоно, — подумал Джордано. — Не стоило замешивать в наши дела старика».
Он еще раз перечитал письмо.
«Милый Нино, — растроганно подумал Джордано.— Как многим я ему обязан! А добряк Бандинелло, смогу ли я когда-нибудь его отблагодарить? Но, оказывается, мои дела еще хуже, чем я полагал после разговора с мессером Тригона. Хиль может нагрянуть каждую минуту. Значит, надо бежать. Но каким образом в монастыре так быстро узнали, что я в Риме?..»
В конце концов Джордано остановился на единственном возможном предположении. Как видно, по дороге в Рим он встретился с кем-то, знавшим его в лицо. Этот путешественник, вернувшись в Неаполь, рассказал о встрече с Бруно, быть может, даже без всякого умысла, и это дошло до монастыря.
«Судьба ко мне немилостива», — грустно решил Джордано.
Бруно быстро собрал то немногое, что захватил из монастыря. Он готов бежать от преследователя, но какой выбрать путь?
Три дороги вели из Рима. Одна в Неаполь, по которой недавно приехал Джордано. Другая шла в противоположную сторону через Чивитавёккью к Ливорно и Флоренции. Этой дорогой вдоль морского побережья ехали Алессо и Джордано, когда везли мессеру Бальони ноготь святой Репараты. Оба эти пути были закрыты для Бруно. Возвращаясь в Неаполь, он встретится с Ромеро, а знакомый путь во Флоренцию невозможен, потому что Хиль, приехав в Рим, по всей вероятности, погонится за беглецом именно по этому пути.
Но оставалась третья дорога, имевшая направление на север, через Терни и Сполёто к Адриатическому морю. По этой дороге и решил после недолгого размыш
ления пуститься Бруно. Чтобы не оставлять за собой следа, он не стал нанимать мула.
Дело клонилось к вечеру. Джордано прошел через городские ворота незадолго до их закрытия и зашагал по дороге, справа от которой протекал Тибр.
Бруно не ошибался в своих предположениях: одноглазый монах узнал о том, что Джордано поехал в Рим, от случайно встреченного в городе отца бенедиктинца. Ромеро поспешил с этой новостью к дону Марио.
— Вы принесли мне важную весть, брат Хиль! — сказал приор.
С тех пор как испанец получил в иезуитском ордене сан, почти равный его собственному, дон Марио уважительно звал Ромеро на «вы», хотя среди доминиканцев их положение неизмеримо разнилось.
— Но вы даже не подозреваете, какое огромное значение она может иметь для вас лично! — продолжал мессер Порчелли, и Хиль насторожился. — Вчера я получил из Рима письмо от нашего высокого покровителя, кардинала... Не будем называть имени, вы знаете, о ком я говорю.
Ромеро утвердительно кивнул головой.
— И, судя по этому письму, нашей многолетней борьбе с мессером аббатом может прийти конец. Монсеньер кардинал пишет мне совершенно откровенно, что духовное начальство поощряло эту борьбу, потому что она была ему выгодна. Из моих донесений в Риме узнавали все о действиях мессера Паскуа, но и о моих собственных поступках там было так же хорошо известно из писем аббата. В католическом мире умеют пользоваться принципом: «Разделяй и властвуй». Но теперь положение изменилось.
— Надеюсь, в вашу пользу, мессер? — живо спросил Хиль.
— Безусловно, в мою, — ответил дон Марио, и его стан выпрямился. — Наверху нашли, что, покровительствуя безбожнику Бруно, мессер аббат зашел слишком далеко и его позднее раскаяние не меняет дела. Монсеньер прокуратор решил: если брат Джордано будет осужден, то аббатом монастыря Сан-Доминико Маджоре станет дон Марио Порчелли...
Лицо Хиля Ромеро выразило при этом радость, какой требовали обстоятельства.
— Но я скажу вам больше, брат Хиль, — продолжал дон Марио, опьяненный грядущим успехом. — Когда аббатом будет мессер Марио ГТорчелли, то приором будет мессер Хиль Ромеро!
Неожиданное заявление приора оглушило испанца, как громом.
— Я... приор... вы... меня...
— Да, я избрал вас, дорогой брат, — торжественно подтвердил дои Марио. — Кто еще, кроме вас, поможет мне поддержать твердой рукой порядок в монастыре и искоренить козни паскуалистов!
Опомнившись, Ромеро принялся заверять мессера Порчелли, что, когда тот станет аббатом, он не найдет себе более верного и усердного помощника.
Совещание двух высокопоставленных иезуитов закончилось решением во что бы то ни стало поймать Джордано Бруно. Ведь если он не будет осужден, то и аббат Паскуа не потеряет своего поста и не осуществятся радужные надежды его врагов.
Хиль Ромеро выехал из Неаполя на другой день. Гонимый неожиданно открывшейся перед ним блестящей перспективой, он совершил путь так быстро, что у ворот папской столицы встретился с погонщиком мулов, отвезшим письмо Джордано и возвращавшимся домой. Испанец узнал парня, он сам не раз пользовался его услугами.
«А что, если этот погонщик связан с Бруно? — мелькнула мысль в голове Хиля. — Тогда я смогу выведать от него, где искать беглеца!..»
Ромеро остановил погонщика. Напомнив ему о прежних встречах, он с притворным беспокойством зашептал, оглядываясь по сторонам:
— Слушай, друг, помоги мне разыскать в городе брата Джордано!
Погонщик опасливо посмотрел на монаха.
— Я вижу, ты мне не доверяешь, но я привез брату Джордано важное известие: за ним гонятся враги! И, если я не смогу его предостеречь, иквизиция может схватить его сегодня же ночью. Ты еще сомневаешься во мне? Так вот же: клянусь страданиями Христа, что я желаю брату Джордано только добра!
И он торжественно перекрестился.
«Я неповинен в грехе клятвопреступничества, — с иезуитской изворотливостью оправдался перед собой Ромеро.— Я желаю спасти душу брата Джордано, а это высшее благо, какое только можно сотворить для ближнего своего».
Одураченный парень выдал Хилю местопребывание Бруно, и вскоре коварный монах уже стоял у ворот монастыря Санта-Мария сопра Минерва. Ромеро узнал у привратника, что Джордано направился к северным воротам города.
«Бруно бежит на север. Я поступил бы так же на его месте, — решил доминиканец. — Теперь он в моих руках!»
Обращаться за подкреплением к властям Ромеро не захотел. Это стоило бы многих хлопот, и беглец за это время мог скрыть свои следы.
— Я справлюсь с ним один, — самоуверенно сказал себе Хиль и бросился в погоню.
Городские ворота были уже закрыты, когда Хиль подъехал к ним, но это не остановило настойчивого преследователя. Он вызвал начальника стражи и предъявил ему листок пергамента, где было написано: «Ad majorem Dei gloriam»J, и стояла печать инквизиции.
Документ, служивший удостоверением агентам зловещего судилища, открывал все двери. Монаха пропустили беспрепятственно, и копыта его мула застучали по камням Фламиниевой дороги.
Джордано успел отойти несколько миль от города, как услышал сзади топот копыт. Кто-то нагонял его. Бруно оглянулся: на всаднике белела ряса под черной мантией... Доминиканец!
Недоброе предчувствие кольнуло сердце Бруно, и он поспешил сойти с дороги. Поздно: преследователь уже увидел его.
— Остановитесь, брат Джордано! — хрипло закричал Хиль. — Остановитесь!
1 «Ад майбрем дэи глбриам» (лат.) — «Для вящей славы божией» — официальный лозунг святейшей инквизиции.
Бежать было бесполезно: разве опередишь мула? Бруно обернулся к врагу:
— Что вам от меня нужно?
— Я имею приказ мессера аббата задержать вас и доставить в Неаполь!
— А если я не подчинюсь? — вызывающе спросил Джордано.
Он прислушивался: не было слышно больше ни звука, значит, Ромеро гнался за ним один.
— Я заставлю вас следовать за мной! — грозно заявил Хиль.
Он спрыгнул с мула, выхватил из-под рясы кинжал и бросился на Джордано. Тот встретил его также с кинжалом в руке. Вид оружия охладил пыл испанца. Он стал вертеться вокруг противника, стараясь все время видеть его зрячим глазом. Джордано поворачивался, не выпуская врага из виду.
Из-за раздвинувшихся туч выглянула луна и озарила местность. Безлюдно и тихо было вокруг, лишь вдали чернело какое-то строение и из окна его мирно светил огонек. Близ дороги шумел Тибр, полноводный от недавних дождей.
Противники незаметно сошли с дороги и приблизились к берегу реки.
Теперь они стояли на мокрой земле, покрытой редкими пучками травы.
Наконец Ромеро, потеряв терпение, бешено бросился на врага. Удар кинжала приняла кольчуга, и оружие только разрезало мантию и рясу. Испанец отскочил на шаг назад, чтобы снова напасть, но этот шаг оказался для него роковым. Прямо за ним был обрыв, он этого не видел. Хиль поскользнулся на мокрой траве, потерял равновесие и с воплем рухнул в воду.
Потрясенный Джордано бросился к краю обрыва и посмотрел вниз.
— Брат Хиль! Где вы?! Отзовитесь! Я помогу вам!..
Ответа не было. Волны разбушевавшейся реки шумели глухо и однообразно... Тьма окутывала окрестность и как будто окутала душу Бруно.
«Так вот чем закончилась наша многолетняя враж-да, — скорбно думал Джордано. — Но видит бог, не я
повинен в ней. Я предлагал Луису руку примирения, когда мы встретились в монастыре, а он отверг ее. И вот я — убийца! Невольный — но убийца...»
Глава вторая
ЖРЕБИИ БРОШЕН
л Джордано решил укрыться от ищеек инквизиции у друга Алессо Ронка. Это был смелый шаг — направиться туда, откуда он убежал, но Бруно отважился на него после долгого размышления. Монастырская инквизиция будет ожидать известий от Хиля Ромеро, а труп его на дне Тибра. Много дней пройдет, прежде чем выяснится судьба испанца, но и тогда инквизиторам не придет в голову разыскивать следы беглеца на дороге в Неаполь.
Бруно повернул к Риму. Бесполезно и даже опасно было приближаться к городским воротам ночью, и беглец стал искать приюта до утра. Он направился к огоньку, мерцавшему под деревьями. Огонь светил из окна скромной гостиницы, всегда готовой открыть двери запоздалому путнику.
Седой хозяин впустил Джордано в переднюю, предварительно рассмотрев его сквозь глазок в двери. Старик ахнул, поближе разглядев гостя. Одежда и обувь Джордано были в грязи, мантия и ряса разодраны, и сам он весь дрожал от напряжения пережитой борьбы.
— Что с вами случилось, святой отец? — спросил хозяин.
Джордано по дороге успел сочинить рассказ о своем приключении.
— Я направлялся в Рим и, как видите, запоздал,— тяжело дыша, заговорил он. — Невдалеке отсюда на меня напал бандит. Может быть, его подослали мои враги, но что можно взять у бедного монаха? Схватка была жестокой, но благодаря святому Доминико мне, кажется, удалось ранить врага и убежать...
Рассказ ночного гостя мало удивил трактирщика: еще и не такое случалось в окрестностях Рима.
— Возблагодарим создателя за оказанную вам милость,— набожно сказал он. — Сейчас вашему преподо
бию нужен покой. Я проведу вас в отдельную комнату, а ваша одежда к утру будет в порядке.
Бруно забылся тревожным сном, ему чудилась смертельная борьба на берегу Тибра. То он сталкивал противника в бушующие волны, то сам падал туда с обрыва и, вздрогнув, просыпался...
На рассвете Джордано был на ногах. Слуга принес ему чистую заштопанную одежду, вычищенную обувь. Бруно съел завтрак в общей зале, расплатился за услуги и собирался покинуть гостиницу, как у наружных дверей послышался шум. Раздавались взволнованные голоса:
— Тише, тише!.. Поверни сюда! Не ударь его головой!.. Поосторожней прокосите в дверь!
Джордано вышел в переднюю и побледнел: несколько человек вносили в гостиницу Хиля Ромеро. С одежды монаха текла вода, руки и голова его бессильно свешивались, и невозможно было судить, жив он или нет. Хозяин гостиницы, вышедший вместе с Бруно, поздоровался с пришедшими и пояснил:
— Рыбаки из соседнего местечка.
Увидев Бруно, рыбаки обрадовались:
— А вот святой отец и тоже доминиканец! Посмотрите, жив ли ваш собрат? Мы выловили его из реки.
Джордано не стал отказываться. У него родилась надежда, что Хиль жив и тогда на нем, Бруно, не лежит проклятие убийства.
— Несите брата доминиканца в комнату, — распорядился он.
Хиля положили на ту самую кровать, где провел беспокойную ночь Бруно. В комнате остались хозяин гостиницы, Бруно и старший из рыбаков.
— Расскажите, где вы нашли этого несчастного? — обратился Джордано к рыбаку.
Тот словоохотливо заговорил;
— Видите ли, ваше преподобие, мы выходим на ловлю с рассветом: в это время лучше всего попадается рыба. Наше излюбленное место находится повыше длинной отмели, которая в разлив почти скрывается под водой. На этой отмели мы и увидели отца доминиканца. Как видно, бандиты сбросили его в Тибр и река вынесла утопающего на отмель...
— Уж это орудовал не тот ли разбойник, который
ночью напал на вас, святой отец? — предположил хозяин, обращаясь к Бруно.
— Вполне возможно, — согласился тот.
— Мы подняли беднягу и принесли сюда, — закончил свой рассказ рыбак.
— Вы поступили очень хорошо, сын мой,— сказал Джордано. — Святой Доминико не забудет вашей заслуги, а вот вам от меня.
Он вложил в руку рыбака флорин, и тот вышел радостный, благословляя судьбу за удачно начавшийся день.
Джордано наклонился над Хилем Ромеро. Тот лежал неподвижно, с закрытым глазом, с мокрой черной повязкой, прилегавшей к длинному, чуть тронутому оспой лицу. С лица Хиля стерлось постоянное выражение суровости, и оно было жалким, беспомощным...
Джордано приложил ухо к груди Хиля. Сердце испанца билось слабо, но равномерно. Не скрывая радости, Джордано обернулся к трактирщику.
— Синьор хозяин, — сказал он, — брат доминиканец будет жить. Ему нужно несколько дней покоя и хорошего ухода, чтобы восстановить силы.
— О, в этом не будет недостатка, — гордо ответил хозяин. — В моей гостинице умеют заботиться о постояльцах. А что касается платы...
— Орден святого Доминико щедро вознаградит вас, — перебил Бруно и, оставив разочарованного трактирщика у постели Ромеро, вышел.
Решение Бруно отправиться к другу Алессо не изменилось. Хилю понадобится не меньше недели, чтобы поправиться, а потом он будет искать беглеца на севере, так как вряд ли подумает, что тот вернется на родину.
В Риме Бруно сел в почтовую карету, отправлявшуюся в Неаполь. Не доезжая до Марано-ди-Наполи, он остановил экипаж и расплатился с кучером, объяснив, что цель его путешествия — замок одного маркиза, находящийся неподалеку. Переждав до ночи в роще, Джордано пустился в дорогу.
Джордано пришел в деревушку Сан-Микеле на рассвете. Радость добряка Алессо была огромна. А слепой Лодовико Тансилло долго ощупывал лицо и руки Джордано, точно не веря, что перед ним его любимый ученик.
Обитатели Сан-Микеле получили строжайший наказ молчать о том, что у их патера гостит монсеньер Бруно. Монсеньер Бруно не угодил церковному начальству, и его преследуют, — так объяснил Алессо прихожанам, и этого было достаточно. Если бы за Джордано явился отряд сбиров, рыбаки Сан-Микеле, как один, выступили бы на его защиту.
Бруно рассказал друзьям о том, что произошло с ним в последние месяцы.
Слушая повествование Бруно о ночной борьбе с Хилем на берегу Тибра, Алессо мрачнел все больше и больше.
— Ты радуешься, что Ромеро уцелел, а я считаю, что было бы гораздо лучше, если бы испанец погиб,— откровенно заявил он. — Ведь это — опасный и ловкий враг, он будет разыскивать тебя повсюду...
Прошло около двух недель. Джордано старался меньше показываться на людях. Преданность жителей Сан-Микеле не вызывала сомнений, но не следовало искушать судьбу: в окрестности мог появиться посторонний.
За эти дни к Джордано очень привязался Ченчо. В компании Бруно и синьора Тансйлло мальчик всегда оказывался третьим. Двое взрослых и Ченчо проводили жаркие часы дня где-нибудь в уединенном уголке среди скал, укрывшись под развесистой кроной пинии. Ученый и поэт вспоминали осаду Рима и Флоренции, восстание в Неаполе, с увлечением говорили о героях Древней Греции и Рима, а мальчик слушал их с горящими глазами. В тихие вечера, когда набегавшиеся малыши и старый Лодовико укладывались спать, женщины сидели за прялками, а Алессо уходил в церковь, Джордано и Ченчо смотрели на темно-синее небо, где одна за другой загорались звезды.
Джордано вполголоса, точно боясь спугнуть тишину, говорил о необъятности Вселенной, о бесчисленных мирах, кружащихся там, в бесконечности...
Шли дни, и на мирном побережье Гаэтанского залива Джордано становилось тесно, душно, точно в тюрьме. И море, и воздух, и стройные пинии, высоко поднимавшие над скалами свои темно-зеленые вершины, и стремительный полет чаек над волной — все здесь было
прекрасно. Но в этой глуши не хватало того, в чем заключался смысл жизни Бруно. Здесь некому было передать великие научные истины, которые открылись перед Джордано за долгие годы исканий и раздумий.
Молодой ученый забрал у Алессо его скромный запас бумаги и садился писать за небольшой столик, вынесенный из дому и поставленный под деревом. Бруно чувствовал неодолимое желание выразить свои мысли на бумаге, но не для того, чтобы они стали достоянием немногих избранных. Нет, его труд должен быть напечатан, пусть его прочитают тысячи стремящихся к знанию. И среди этих тысяч найдутся и такие, кто подхватит идеи Бруно и станет развивать их, совершенствовать... Ведь у науки нет предела.
Джордано поделился своими мыслями с Алессо и синьором Лодовико. Они поняли его с полуслова.
Лодовико сказал:
— Ты тоскуешь, Фелипе, и я тебе сочувствую. Твое учение о мире не совсем понятно мне, но я чувствую его грандиозность. И, конечно, скрывать его от людей нельзя. Я дам тебе хороший совет, Фелипе. Мне приходилось часто иметь дело с издателями разных городов, и я по опыту знаю: только в Венеции могут напечатать твой труд. В других итальянских государствах не стоит и предлагать: там слишком велико влияние церкви. И, если уж ты решил покинуть нас, ты должен ехать в Венецию.
Алессо поддержал синьора Лодовико.
— Отец прав, — сказал священник. — И хотя мне жаль расставаться с тобой, но я понимаю, что ты не должен прозябать в Сан-Микеле. Только не подумай, что я тебя гоню... — Ронка смущенно улыбнулся.
— Алессо, милый мой, уж я тебя изучил за десять лет дружбы!
— И еще у меня к тебе просьба, — сказал Алессо. — Я хочу, чтобы ты взял с собой Ченчо.
— Ченчо?! — удивился Бруно. — Ты отправляешь со мной маленького Ченчо?
— Не такой уж он маленький, — усмехнулся Алессо.— Мы, Ронка, крупный народ. Парню можно дать все шестнадцать.
Ченчо действительно выглядел намного старше своих лет. У него было красивое круглое лицо, длинные ру
сые волосы, большие серые глаза. Ченчо был добр, услужлив, обладал хорошей памятью и жадно стремился к знанию. За то недолгое время, что Бруно прожил в Сан-Микеле, мальчик многому от него научился.
— Видишь ли, друг мой... — Алессо немного замялся. — Отпустить тебя одного в дальнее путешествие рискованно. Твои мысли всегда витают в небесах, а с земными заботами ты — уж не обижайся! — справляешься плохо. Тебе никогда не приходилось хозяйничать. И у дяди и в монастыре ты жил на всем готовом. А когда тебе попадали деньги от синьора Саволйно, они моментально протекали у тебя между пальцами. За кружку вина или кусок сыру ты способен заплатить столько, что на это семья может прожить три дня...
— И ты хочешь, чтобы Ченчо был моим казначеем? — улыбнулся Джордано.
— Да, — серьезно подтвердил Алессо. — И уж будь спокоен, в нашей семье мальчуган научился строгой экономии, лишнего сольдо не потратит зря. И еще одно: если дело дойдет до драки, Ченчо постоит и за себя и за тебя!
— Ты меня убедил, — сказал Бруно, — и я готов взять с собой Ченчо. Но мы с тобой забыли, что у Ченчо есть мать.
— Друг мой Джордано, я давно чувствовал, что ты у нас проживешь недолго. Я говорил с Виветтой, и она согласна отпустить с тобой сына.
— А сам мальчуган? Как он?
— Ну, он-то на седьмом небе от счастья. Да и может ли быть иначе?
Джордано собрал всех членов семьи и торжественно обещал заботиться о Ченчо, как о собственном сыне.
— Моя судьба будет его судьбой, мы будем делить с ним и радость и горе. И все мои знания я передам Ченчо. — Он обратился к мальчику:—Ты хочешь этого?
— О, монсеньер!—Ченчо зарделся от восторга.
Несколько дней Джордано провел в размышлениях, а потом уединился с Алессо для важного разговора.
— Друг Алессо, — сказал Бруно, — я решил сбро-. сить монашеское одеяние и надеть светское платье.
Алессо побледнел:
— Ты знаешь, чем это грозит?
Джордано знал. Орденский устав налагал на отступника, отказавшегося от рясы, самые суровые наказания, вплоть до смертной казни. Даже раскаявшись, он под» вергался строгому тюремному заключению и мог быть прощен только папой или великим магистром 1 ордена, но не ранее чем через двадцать лет.
Однако останавливаться на полдороге не стоило. Сбросив белую рясу, Бруно думал сбить с толку преследователей и затеряться в массе простых людей. А список его «грехов» и без того был велик: ему, скрывшемуся от суда святейшей инквизиции, и так грозила смерть.
Алессо в конце концов согласился с доводами Бруно и послал в Неаполь рыбака Джулио. Тот вернулся через неделю и привез большой сверток. В свертке оказались два костюма, какие носят люди среднего сословия. Костюмы были примерены и оказались впору. Деревенский цирюльник сделал Бруно светскую прическу, благо тот не пробривал тонзуру уже месяца два и она заросла.
Джордано и Ченчо выглядели как учитель и его помощник, странствующие в поисках заработка. Беглецов следовало снабдить документами, без этого путешествовать по Италии, то и дело пересекая пограничные заставы, было невозможно. Но выход отыскался. Рыбак Джулио не так давно спас тонувшую в море дочь градоначальника Поццуоли, и по его просьбе благодарный отец выдал для Бруно паспорт на имя Джованни Сенья, магистра семи свободных искусств. Алессо написал племяннику проездное свидетельство, скрепив его церковной печатью. Казалось, можно было отправляться, но Джордано попросил отложить отъезд. Он положил перед Алессо несколько дукатов и сказал:
— На кольчугу для Ченчо.
Священник возражал, но Бруно был тверд.
— Мой спутник будет подвергаться тем же опасностям, что и я, он должен быть защищен от них.
Ронка уступил. Ченчо исчез из деревни вместе с
1 Великий магистр — глава ордена.
Джулио и вернулся через несколько дней, гордый до невозможности. Ему купили кольчугу «на рост», но это не смущало мальчика. Кинжал для него сковал деревенский кузнец.
Все было готово, и настал час разлуки. Жители Сан-Микеле и среди них мальчишки, люто завидовавшие Ченчо Альтовити, вышли провожать Джордано Бруно и его спутника.
Прощаясь, Ченчо взял за руки сестренку Пьеретту и сказал, строго глядя ей в глаза:
— Если будешь плохо смотреть за дедушкой Лодовико, я с тобой расправлюсь, когда вернусь!..
Скоро косой парус маленькой лодки растаял в блестящей синеве. Джулио держал курс в открытое море, чтобы там перехватить корабль, идущий на север.
Но долго еще смотрели обитатели Сан-Микеле в морскую синь, а сгорбленный Тансйлло грустно качал седой головой: он уже не надеялся встретиться со своим любимцем...
Жребий был брошен, и далекий опасный мир поглотил скитальцев.
Глава третья
ШПИОНЫ СВЯТЕЙШЕЙ ИНКВИЗИЦИИ
Хиль Ромеро, поправляясь, пролежал несколько дней в гостинице под Римом. И в эти дни он дал клятву: разыскать, схватить Джордано Бруно, хотя бы для этого пришлось обшарить всю Италию и потратить на это годы...
Бруно давно находился в безопасности на утесах Сан-Микеле, когда Ромеро постучался в калитку Сан-Доминико Маджоре. Униженный, исхудалый, испанец походил на дьявола, изгнанного из ада за провинности.
Аббат, приор и главный инквизитор собрались выслушать доклад Ромеро. Суровое лицо инквизитора было неподвижно, как всегда, мессер Порчелли кипятился, прерывая речь Хиля бранью по адресу Бруно, настоятель был рад бегству Джордано. Без обвиняемого процесс не мог возобновиться, а на процессе вскрывались неприятные для Паскуа вещи: его могли обвинить в не
достаточной строгости, в попустительстве распространению запрещенных идей.
Прелаты решили: злокозненного нарушителя орденского устава и законов церкви схватить во что бы то ни стало. Брату Хилю Ромеро вместо попорченной водой грамоты были выданы новые полномочия для преследования и ареста преступника. Хиля снабдили крупной суммой денег, дали право привлекать на помощь всех, кого он сочтет нужным.
Получив такие большие возможности, Хиль начал действовать. Ближайшим помощником он избрал своего давнего знакомца Андреа Кучильо.
В лице Кучильо Хиль Ромеро нашел ценного помощника. Кучильо опирался не только на неаполитанских бандитов, но и на разбойников других городов и областей, так как все они были связаны круговой порукой.
Ромеро и Кучильо разослали агентов по всем дорогам, ведущим из Рима, и в порты, где Бруно мог сесть на корабль: в Салерно, Поццуоли, Гаэту, Чивитавеккью...
У посланцев Ромеро было точное описание наружности Джордано: средний рост, правильные красивые черты лица, синие глаза с грустным и порой гордым взглядом, волнистые русые волосы. На одежду рекомендовалось не обращать особого внимания: Бруно мог сбро-® сить рясу.
Шпионы вынюхивали, расспрашивали хозяев гостиниц и таверн, погонщиков мулов, содержателей почтовых карет, бродячих фокусников и музыкантов, торговцев. Нищие тоже были вовлечены на поиски монаха-отступника. У них было свое братство, и главе этого братства Хиль обещал награду за успешную помощь. А нищие, сидевшие на папертях церквей и городских площадях, на обочинах больших дорог, видели и запоминали многое.
Как круги от камня, брошенного в воду, распространяются все шире и шире, так и преследователи беглеца Джордано уходили все дальше от Рима, где обосновался Хиль Ромеро. Они двигались на юг, к Мессинскому заливу, шли на север, через Папскую область, через Тоскану и Лукку, через герцогство Феррара и Модена, к границам Генуэзской республики, Пармы и Пьяченцы, Венеции.
Италия велика, но вряд ли бы Бруно спал спокойно,
если бы знал, с какой неумолимой настойчивостью свора ищеек святейшей инквизиции рыщет повсюду, по всем мелким и крупным итальянским государствам.
Неделя проходила за неделей, а след Джордано Бруно не удавалось найти. Являлись бродяги из Тосканы, странствующие монахи из Феррары и Пьяченцы, нищие из Урбино и Лукки, и все говорили о том, что Бруно они не нашли. Хиль начинал приходить в отчаяние.
«Неужели Бруно оставил Италию и скрылся за гр а-; ницу — во Францию или в Германию, в Швейцарию?.. Тогда инквизиция бессильна...» — мрачно думал Ромеро.
Но в начале июня явился гонец с известием, которого так долго ждал мстительный испанец: Джордано в Ноли1. Гонец, член шайки Кучйльо, бывший рыбак, вел поиски на севере, на побережье Лигурийского моря. Он нанимался на рыбачьи суда, производившие лов у берегов и посещавшие мелкие и крупные порты. После разъездов, отнявших много недель, шпион попал в Ноли, и там ему удалось обнаружить человека, по всем приметам похожего на того, кого ищут. Правда, он ходит в светской одежде и, как удалось выяснить соглядатаю, называет себя магистром семи свободных искусств Джованни Сенья. Но этот Сенья, мирянин, крестится, как священник: сыщик узнал это от надежного человека.
Одарив шпиона золотом, монах отпустил его и вызвал Кучйльо.
— Ты немедленно отправляешься в Чивитавеккью. Там сядешь на корабль, идущий в Геную. Оттуда поедешь в Ноли и там схватишь еретика Бруно.
— Я должен доставить его в Рим?— спросил бандит.
— Нет! — Глаз испанца яростно блеснул. — Сейчас меня вызывают в Неаполь, но я сам явлюсь за Бруно в Ноли. Ты представляешь себе, Кучйльо, какое это будет дьявольское наслаждение спускаться в сырой трюм корабля к красавчику Джордано, закованному в цепи, не имеющему иной пищи, кроме заплесневелой корки хлеба, и иных собеседников, кроме крыс и пауков. Ха-ха-ха!..
1 Ноли —город на побережье «Лигурийского моря к запада от Генуи.
— Вы мстительны, преподобный отец, это мне нравится.
Ромеро и Кучильо расстались в полной надежде на успех своего предприятия.
Глава четвертая
НОЛИ
Лодка Джулио провела в море больше суток, прежде чем рыбаку удалось посадить Джордано и Ченчо на борт тартаны, державшей путь в Геную.
Завидев вдали корабль, Джордано сказал спутнику:
— Запомни, Ченчо, отныне ты должен называть меня только «маэстро» или «синьор Джованни»!
— Я никому никогда не выдам настоящего имени монсеньера Бруно! — восторженно заявил мальчуган и тут же осекся.
— Вот видишь, — укоризненно заметил ему Джордано,— ты уже нарушил запрет!
— Но, видит бог, я нечаянно, монсеньер... маэстро... синьор Джованни!
Ченчо разрыдался над собственной неосторожностью, и Бруно пришлось его утешать. Впрочем, эти слезы были последними: мальчик оплакивал разлуку с семьей.
На суденышке было тесно и скучно, и изгнанники коротали время за учебными занятиями. Книг и тетрадей не было, и Бруно преподавал Ченчо латынь устно. Он заставлял мальчика запоминать латинские слова, учил его составлять фразы.
— Нам предстоит нелегкая доля, — говорил Джордано, — мы будем зарабатывать кусок хлеба преподаванием, и надо, чтобы ты действительно мог стать моим помощником.
После недельного плавания беглецы высадились в Генуе 15 апреля 1576 года. Кончался великий пост, близился праздник пасхи, который церковники ежегодно справляли с большой пышностью и немалой для себя выгодой. В город стекались богомольцы со всей республики, и тут их наперебой зазывали в храмы и монастыри.
Изгнанники, войдя в город, подверглись атакам зазывал.
-— В нашей церкви хранится ступенька лестницы, которую праотец Иаков видел во сне! — кричал монах с жирным, опухшим от пьянства лицом.
А другой, тощий, длинный, взывал:
— В храме Егудиила вы увидите три черепа святого: один, когда ему было пятнадцать лет, другой в сорокалетием возрасте, а третий остался после смерти. Спешите поклониться черепам святого Егудиила!
Но над всеми соперниками верх одерживал настоятель церкви Святого Павла, в которой показывали хвост того самого осла, на котором Христос будто бы въехал в Иерусалим. Джордано впоследствии писал:
«Я сам видел, как в Генуэзской крепости монахи показывают и заставляют лобызать мохнатый хвост со словами: «Не прикасайтесь, лобзайте. Это святые мощи того благословенного осляти, которое сподобилось нести господа нашего с Елеонской горы в Иерусалим. Поклоняйтесь, лобзайте, подавайте милостыню! Сторицею воспримете и жизнь вечную унаследуете».
Конечно, великим чудом было то, что хвост сохранился в нетленном виде в течение стольких веков. Верующие целовали его, умилялись, а главное, платили сольдо, лиры и даже флорины. А на монастырском пастбище разгуливал осел, которому предстояло лишиться хвоста, а вместе с ним и жизни, к следующей пасхе.
Расположенный милях в тридцати к западу от Генуи на морском побережье город Ноли и прилегавшие к нему несколько десятков квадратных миль горных хребтов и долин составляли республику Ноли, независимость которой признавала и охраняла Генуя. Из Генуи в Ноли не было сухопутной дороги, так как Лигурийские Апеннины здесь вплотную прилегают к морю.
Быть может, самое название Ноли, столь созвучное с именем Нолы, милой сердцу Джордано, заставило молодого изгнанника искать там временное убежище вплоть до того времени, когда появится возможность поехать в Венецию. Из Генуи Джордано и Ченчо добрались до Ноли в рыбачьей лодке.
Беглецы поселились в доме учителя фехтования Корфйньо Бевилйква. Бывший солдат Корфиньо, заработавший за многолетнюю службу больше ран, чем ду-< катов, под старость вернулся в родной город, обзавелся семьей и стал учить фехтованию молодых дворян.
У Корфиньо подрастали два сына — девятилетний Пьетро и восьмилетний Пабло, и мечтой старого солдата стало обеспечить детям более высокую долю, чем его собственная. Он хотел увидеть их адвокатами, судьями, чиновниками республики — но для этого следовало дать им образование.
Джордано Бруно и Корфиньо Бевиликва быстро поладили. За полное содержание учитель и его помощник должны были обучать ребятишек итальянской грамоте, а главное — латыни, этой неизбежной латыни, без которой не выйдешь в люди.
Бывалый солдат подружился с молодым постояльцем. Их сблизила общая ненависть к инквизиции. В молодости Бевиликва целый год провел в тюрьме с цепями на руках и на ногах, а попал он туда за невинную шутку по поводу одной иконы.
Бевиликва рассказал:
— Увидел я раз икону, а на ней был нарисован святой, который нес в руках собственную отрубленную голову. И дернуло же меня болтнуть: «Будь этот святой солдатом, он был бы непобедим!» В самом деле, чем можно устрашить такого вояку, раз он так легко перенес потерю головы?! Меня выпустили только потому, что началась война и в нашем полку не хватало солдат.
Бевиликва великодушно предложил давать Джордано и Ченчо бесплатные уроки фехтования. В те времена, когда людям сплошь и рядом приходилось защищать свой кошелек и даже жизнь, это предложение было ценным.
Каждый день в большом сарае слышались стук и лязг. Джордано и Ченчо фехтовали то между собой, то с Корфиньо. Он учил их всем тонкостям этого искусства.
Из Ченчо с его ростом и силой получался неплохой боец, и Бевиликва весьма одобрял некоторые удары, наносимые юношей по методу учителя. Делал успехи и Бруно, хотя частенько во время урока им овладевала задумчивость, и тогда он защищался из рук вон плохо.
Бевиликва был вхож во многие знатные дома, где обучал молодежь, и скоро по городу разнеслась молва об искусном латинисте, прибывшем в Ноли издалека. У Джордано было много свободного времени, потому
что урок фехтования отнимал час-полтора в день, а с мальчуганами занимался Ченчо, сделавший в латыни большие успехи.
Бруно с удовольствием принимал предложения учить знатных юношей. Это приносило хороший заработок, а главное — у Джордано завелись многочисленные знакомства, и он начал выступать с лекциями, посвященными строению Вселенной. Как и повсюду в католическом мире, духовенство в Ноли преследовало свободную мысль, и потому приходилось говорить осторожно. Искусный оратор Бруно, говоря о планетах, о звездах, о бесконечности мира, вставлял в свои рассуждения цитаты из писания и святых отцов. Цитаты не всегда были к месту, однако в этом слушатели плохо разбирались, важно было говорить их благочестивым голосом, осеняя себя крестным знамением^ Но на первом же выступлении Джордано допустил ошибку, которая привела к серьезным последствиям. После лекции к Бруно подошел старый монах-доминиканец и пытливо спросил:
— Скажите, маэстро, вы священник, сбросивший сан?
— Почему вы так думаете, святой отец? — смутился Джордано.
— Вы креститесь по священническому обряду.
— Ах, это... — Бруно замялся, но быстро нашелся. — Видите ли, меня готовили к священническому званию и приучали креститься соответственным образом, но мои родные умерли, семейное положение изменилось, и мне пришлось стать учителем...
Доминиканец отошел, покачивая головой, неудовлетворенный, ответом Джордано. И тотчас около изгнанника оказался Бевиликва, из любопытства явившийся на первое публичное выступление своего жильца.
— О чем с вами говорил отец Федерйго Лопес?
Джордано передал содержание разговора.
— Берегитесь этого монаха, — тихо посоветовал Кор-финьо. — Он опасный человек.
Корфиньо предупреждал не зря: испанец Федерйго Лопес был агентом святейшей инквизиции, и именно от него через несколько недель соглядатай Хиля Ромеро узнал, что Джованни Сенья, именующийся учителем, осеняет себя крестным знамением по священническому обряду.
Немало усилий стоило Джордано снова привыкнуть креститься как мирянину.
Прошло около четырех месяцев пребывания в Ноли. Пьетро и Паоло Бевиликва прошли порядочный курс латыни; Джордано и Ченчо научились хорошо владеть шпагой и кинжалом; в кошельке Бруно завелись дукаты— плата за уроки, даваемые молодым дворянам. Но его грызло смутное беспокойство.
Это беспокойство увеличивалось после встреч с доном Федериго, который внимательно провожал взглядом молодого чужестранца. Бруно казалось, что Лопес следит за ним и что ему помогают в этом другие...
Во всем городе Бруно мог довериться только своему квартирному хозяину, и он рассказал ему, что скрывается от преследования инквизиции. Джордано описал старому солдату приметы Ромеро и Кучильо, самых опасных своих врагов. Выслушав постояльца, Бевиликва посоветовал ему пореже выходить из дому и отказаться от посещения учеников, проживавших на пустынных окраинах Ноли.
— Наш город невелик, — сказал Корфиньо, — но в нем нетрудно найти браво, который за недорогую плату поможет избавиться от неугодного человека.
В один из августовских дней Корфиньо Бевиликва вернулся домой в крайнем беспокойстве. Он тотчас прошел в комнату Бруно.
— Синьор Джованни, — без обиняков начал солдат,— я видел его!
— Кого? — спросил насторожившийся Бруно.
— Чернобородого бандита из Неаполя!
— Вы уверены, что это он? Мало ли чернобородых в Италии!
— Я говорю вам, что это он! Я проследил за ним из порта, где он сошел с корабля, и знаете, куда он направился? В доминиканский монастырь, к отцу Федериго Лопесу!..
Джордано был потрясен. Инквизиция разыскала его след, так хорошо, казалось, скрытый!
— Не унывайте, друг мой!—ласково сказал Бевиликва.— Не выходите из дому и собирайтесь в дорогу. Эти коршуны делают свои дела под покровом ночи, а ночью вас здесь не будет. Я все устрою.
Ночью в дом учителя фехтования явились Лопес и Кучйльо, сопровождаемые сбирами. Заспанный хозяин вышел на стук.
— Ведите нас к вашему постояльцу! — грубо приказал Лопес.
— К какому постояльцу? Ах, верно, к учителю Сенья? Но он у меня больше не живет!
— Как?! — в один голос воскликнули Лопес и Ку-чильо.
— Вчера он и его помощник покинули мой дом,— спокойно продолжал Бевиликва. — Они сказали, что уходят бродить по горам.
В руках разбойника появился листочек с роковыми словами «Ad majorem...».
— Вы знаете, что это такое?
— Приходилось видеть на веку, — угрюмо сказал солдат.
— Вам известно, что грозит за ложные показания?
— Я не даю ложных показаний.
Дом Корфиньо был тщательно обыскан. Уходя, Ку-чильо злобно пробормотал:
— Птичка улетела!
...В продолжение многих дней несколько монахов под предводительством Андреа Кучйльо бегали по горам в поисках сбежавшего еретика Бруно. Лигурийские Апеннины с крутыми склонами, с узкими ущельями были почти необитаемы, и редко где встречался дровосек, козий пастух или охотник. Эти люди не любили монахов и, услышав, что они ищут двух беглецов, не могли отказать себе в удовольствии подшутить над святыми отцами. Направив монахов по ложному следу и наблюдая, как они, подобрав рясы, с трудом карабкаются на особенно крутой хребет, охотник или дровосек насмешливо бормотал:
— Побегайте, дармоеды!
Преследователи вернулись ни с чем, измученные до предела, а тут как раз приехал и Хиль Ромеро из Неаполя. Когда Хиль узнал, что добыча ускользнула, он пришел в ярость. Сыщики инквизиции опять пришли к Корфиньо Бевиликва и стали его обвинять в том, что он дал им неверные показания. Твердо глядя в глаза дону Федерйго, учитель фехтования сказал:
— Я передал вам то, что услышал от своих постояльцев.
Возбуждать преследование против старого солдата не имело смысла. Доказательств его вины не было, и, кроме того, фехтовальщику покровительствовали многие аристократы Ноли.
С великим гневом в душе Ромеро вернулся в Рим. Поиски беглеца приходилось начинать снова, и сладкая мечта занять в Сан-Доминико Маджоре высокое положение приора по-прежнему оставалась только мечтой.
Глава пятая, ПИЛИГРИМЫ
В то время как неистовый Кучильо и монахи мета-* лись по горам в поисках Джордано, по ущельям и долинам Пьемонта 1 тянулась длинная процессия пилигримов2. Она напоминала реку, которая начинается ручейком, а потом, принимая многочисленные притоки, становится все шире и полноводнее.
Шествие началось в Савоне, и составляли его несколько десятков человек, а теперь под ласковым сентябрьским солнцем Италии шагали тысячи, и с каждой боковой дороги подходили люди, в каждом попутном селении присоединялись новые богомольцы. Это были простолюдины — прибрежные рыбаки, виноградари, пастухи, ремесленники. Дворяне не смешивались с чернью. Мужчины ехали верхом, женщины помещались в па-, ланкинах, подвешенных к спинам двух мулов.
Среди верующих шагали рука об руку молодой ры-. бак и сестра его — рослая красивая девушка с большими серыми глазами, с вьющимися волосами. Они шли из Савоны и называли друг друга Луиджи и Анита. На вопросы любопытных, почему брат и сестра так не схожи меж собой, Луиджи объяснял, что они дети одного отца, но разных матерей.
В толпе шныряли коробейники, у них можно было купить ленты, помаду, шпильки, чулки, огнива, ножи и
1 Пьемонт — в ту эпоху часть Савойского герцогства. Столицей Савойи был Турин.
2 Пилигримы — богомольцы.
прочую мелочь. Разносчики съестного предлагали копченую рыбу, сухие лепешки, сыр. Акробаты, разостлав на земле коврик, показывали свои номера, а музыканты увеселяли пилигримов игрой на лютнях и гитарах.
Среди богомольцев вертелись бродячие монахи, продавцы реликвий. У одного в ларчике хранились волосы мученицы Вероники, другой предлагал по дешевке воду из Генисарётского озера, по которому ходил как посуху сам Иисус Христос, а третьему удалось подобрать несколько перьев из крыла ангела, когда он, ангел, линял...
Все эти реликвии в другое время возбудили бы живой интерес пилигримов, но теперь мысли их были заняты другим. Они шли в Турин — поклониться иконе божьей матери, которую монахи собора Сан-Джованни Батиста показывали лишь несколько дней в году, на празднике сбора урожая. Икона считалась чудотворной, и несколько десятков тысяч людей ежегодно лобызали ее в надежде исцелиться от болезни или получить отпущение грехов.
По мере приближения к Турину колонны богомольцев, шедших из разных мест, сливались в щумный табор из десятков тысяч людей. Когда савонская процессия покинула последний ночлег, из придорожной рощи вышли Джордано Бруно и Ченчо Альтовити, оставив под кустом свои маскарадные наряды. В рыбака и рыбачку они переоделись в Ноли, в доме Корфиньо Бевиликва. Старик после разговора с постояльцем сходил в предместье, к брату жены, рыбаку. Он принес все необходимое для переодевания, и его жильцы сумели обмануть бдительность шпионов дона Федерйго.
Когда Бруно был вынужден покинуть Ноли, он решил, что для него настало время отправиться в Венецию. Ведь, помимо некоторой свободы книгоиздательства, Венеция славилась среди городов Италии как колыбель искусства. Много знаменитых художников, скульпторов, архитекторов дала царица Адриатики, и посмотреть на их чудесные творения приезжали люди из отдаленных стран Европы.
Венеция была одним из самых сильных государств Италии. Ее владения распространялись далеко на север, до Австрии, на западе они граничили с Миланом, а на востоке венецианцы овладели береговой полосой Балканского полуострова до Сплита.
. Когда тяжкая рука испанского короля налегла на Италию, Венецианская республика сумела отстоять независимость. И хотя республикой правили знатные, жестоко притеснявшие простой народ, все же в одной Венеции было больше типографий и там выпускалось больше книг, чем во всей остальной Италии. Как и в других городах страны, духовенство Венеции боролось со свободной мыслью, и, однако, именно оттуда запрещенная литература просачивалась в Рим, Неаполь, Флоренцию... В Венеции жили многие известные писатели, поэты, философы.
«Быть может, в Венеции я встречу людей, с которыми смогу поделиться своими мыслями, — думал изгнанник.— И, кто знает, не получу ли я там нравственную поддержку, а она мне так нужна... Ченчо всей душой на моей стороне, но он только мальчик!..»
Огромная, чудовищная власть папы распространялась и на Венецию, и Джордано об этом знал. Но... Венеция далека от Рима, думал он, вероятно, туда еще не проникли сведения о его процессе, и он найдет себе надежное убежище.
На пути в Венецию город Ноли был первой остановкой Бруно. Там он заработал средства для дальнейшего путешествия к давно намеченной цели. Но каким путем отправиться в Венецию? Морским?..
На этом пути легко будет найти его следы: ведь море не укрыло беглецов в Ноли. И Бруно избрал более трудную дорогу — сначала дойти до Турина, а потом совершить трехсотмильное путешествие по реке По через всю Италию. До Турина изгнанники благополучно добрались, затерявшись в толпе богомольцев. А из столицы Савойи вниз по реке ходили барки, принимавшие пассажиров. Попав на такую барку, можно было надолго оградить себя от сыщиков инквизиции.
Глава шестая,
ОТ ТУРИНА ДО ВЕНЕЦИИ
По, самая большая река Италии, пересекающая Апеннинский полуостров примерно по 45-й параллели, начинается стремительным потоком высоко, в Альпах.
Бурля и пенясь в горах, река успокаивается, спустившись на равнину, но только у Турина становится судоходной.
Барка «Св. Изотта», длинное плоскодонное судно, вмещала в общем салоне и каютах около тридцати пассажиров. Экипаж барки состоял из четырех человек: капитана (он же хозяин судна), рулевого и двух матросов. «Св. Изотта» была оснащена мачтой и при попутном ветре могла идти под парусом. Джордано и Ченчо заняли двухместную каютку, где койки помещались одна над другой. Был там и столик, расположенный под окошком, выходившим на реку.
Когда «Св. Изотта» отчалила от берега и городские предместья остались позади, Джордано вздохнул. Он успокоился впервые за последние месяцы. Шпионаж отца Федерйго, появление Кучйльо, поспешное бегство из Ноли, путешествие с пилигримами — все эти тревоги остались позади.
Привычный распорядок жизни, нарушенный отъездом из Ноли, возобновился. Джордано купил в Турине стопу бумаги, бутылку чернил, пачку гусиных перьев. После занятий с Ченчо Джордано брался за перо, и уж ничто не могло оторвать его от работы, которую он начал еще в Сан-Микеле и продолжал в Ноли. Он писал почти без помарок красивым мелким почерком, подолгу обдумывая каждую фразу.
Часто среди текста попадались аккуратно выполненные чертежи.
После двух-трех дней плавания Ченчо не вытерпел и спросил:
— Что вы все пишете, маэстро?
Юноша повторил вопрос дважды, прежде чем смысл его дошел до сознания Бруно.
— Что я пишу? Астрономический трактат, который назову «Знамения времени».
Лицо Ченчо выразило недоумение, и Бруно начал объяснять:
— Видишь ли, друг мой, каждой эпохе соответствует своя наука. Греки, населившие Олимп сонмом богов, не могли представить себе всю необъятность Вселенной. Они считали, что небо находится совсем близко от Земли и что Солнце по хрустальной тверди неба возит бог Гелиос на быстрых конях. Прошли века, взгляды людей
на Вселенную изменились, и знамением нового времени стало учение гениального Коперника. Еще пронесутся столетия, и человечество, идя вечным путем развития, узнает много такого, о чем мы теперь не можем и думать. Вот о знамениях нашего времени, о великой астрономической науке, которую далеко продвинул, но не завершил Коперник, и пишу я эту книгу.
— Ее напечатают? — спросил Ченчо.
— Я в этом не очень уверен, — со вздохом признался Бруно. — Единственная моя надежда на книгопечатников Венеции. Говорят, они люди более просвещенные и независимые, чем типографщики других стран. А ведь могут отказать и они, Ченчо! Система Птолемея еще крепко владеет умами людей, у нее могучий союзник— библия. Но все равно я должен писать, я не могу не писать. Этот трактат станет моей исповедью, быть может, моим завещанием, если мне суждено погибнуть в застенках святейшей инквизиции. — Задушевным тоном, очень тихо, Джордано добавил: — Друг мой Ченчо, я придаю огромное значение этой работе, и, если она не увидит света, моя жизнь прошла напрасно...
Наступило долгое молчание, потом Ченчо робко заговорил:
— У вас мрачные мысли, маэстро. И вот что я предложу. Я еще мальчик, не много понимающий в науках, но разрешите мне переписывать ваш труд. Листы второй рукописи я буду хранить на себе, под одеждой. И если, не дай бог, случится несчастье, ваши открытия не пропадут, я сумею их обнародовать, когда вырасту.
Лицо Ченчо пылало от смущения, но серые глаза смотрели решительно, смело.
Джордано обнял юношу.
— Ты прекрасно придумал, Ченчо! Если меня схватят, на тебя вряд ли обратят внимание. Забрав рукопись, они не подумают о существовании копии. — И уже совершенно другим, строгим тоном Бруно сказал: — Но смотри, Ченчо, не делай ошибок!
Переход был таким неожиданным, что учитель и ученик рассмеялись,, и на душе у них стало легче.
Труд Джордано продвигался. Вначале автор рассказывал в доступной форме, как люди измеряют время, истолковывал названия месяцев года и дней недели.
говорил о созвездиях, о знаках Зодиака... Самый придирчивый цензор, прочитав первые тридцать — сорок страниц «Знамений времени», не нашел бы там ничего противоречащего религии. Но далее опровергалась система Птолемея и подробно рассказывалось об учении Коперника. А в конце работы Бруно хотел изложить собственные идеи о бесконечности Вселенной, о вечном движении небесных светил, о множественности обитаемых миров...
Барка плыла, покачиваясь на воде. Джордано писал, примостившись у столика. Ченчо, положив лист бумаги на другой угол, старательно переписывал готовый текст. Это было настолько важно, что на время были оставлены занятия латынью и другими предметами.
Дни проходили спокойно. Опасности и тревоги были далеки от маленького плавучего мирка, отделенного от мутных волн По только тонкими досками бортов.
Бруно понимал, что судьба дала ему лишь временную передышку, но и за это был благодарен: нельзя жить в вечном напряжении.
Утомившись от работы, учитель и ученик выходили на носовую часть палубы, защищенную от дождя навесом. У бортов стояли скамейки. Джордано и Ченчо усаживались и смотрели на медленно уплывавшие назад берега.
У Турина река была не шире трехсот локтей, но многочисленные притоки пополняли ее водой, и в среднем течении она достигала ширины более полумили. Низкие болотистые берега были пустынны, редко где виднелись бедные рыбачьи деревушки. Однообразные крики матроса, измерявшего глубину длинным шестом, наводили скуку. Праздные пассажиры лениво переговаривались.
Но, если рука уставала писать, а на палубе было холодно и сыро, учитель и ученик откладывали перья и разговаривали. Переписывая труд Бруно, Ченчо многое узнал. Джордано охотно разъяснял Ченчо новые для мальчика астрономические истины.
— Маэстро, а в чем разница между планетами и звездами? — спросил как-то Ченчо.
— Видишь ли, планеты во всем подобны Земле, — ответил Джордано. — Они походят на нее по величине и по форме.
— Почему же они кажутся нам крохотными точками?
— Да только потому, что они удалены от нас на миллионы и миллионы миль. Вот если бы направить на них небесные очки...
— А что такое небесные очки, маэстро?
— Попробую растолковать тебе.
И он постарался как можно проще рассказать мальчику об очках дона Аннибале, монастырского библиотекаря, и о собственной своей мечте. Он говорил, что когда-нибудь люди придумают такой прибор, который будет увеличивать для человеческого глаза небесные тела так же, как сейчас стеклянные очки увеличивают буквы в книге.
— И тогда, Ченчо, — закончил свою горячую речь Джордано, — тогда мы воочию увидим, что планеты такие же круглые, как Земля, мы увидим на них материки, океаны, острова, горы...
— Маэстро, вы говорите так уверенно, точно уже видели все это.
— Я вижу это в воображении, мой мальчик! Сила разума заменяет мне небесные очки. Мысль человека всемогуща, и она дополняет наши несовершенные органы чувств.
Наступило молчание, а потом Ченчо спросил:
— Я не понимаю, учитель, почему планеты светлые. Ведь Земля — темная, а вы говорите, что планеты во всем похожи на нее.
— Это объяснить легко. Ты пускал зайчики?
— Еще бы, много раз.
— Можно пустить зайчик, когда на небе нет солнца?
Ченчо задумался.
— Я думаю, нельзя. Ведь зеркало ловит солнечные лучи.
— Точно так же и планеты отбрасывают лучи солнца.
— А звезды тоже отражают солнечный свет?
— Если бы это было так, мы бы их не видели. Планеты далеки от нас, а звезды в тысячи раз дальше. Так утверждает Коперник, и я с ним согласен. Значит, они светят своим собственным и очень сильным светом. И потом, как могли бы красный Альдебаран, оранже
вый Арктур, белый Сйриус заимствовать свой свет от нашего желтого Солнца? Нет, друг мой Ченчо, каждая звезда — тоже солнце, огромное горячее солнце, удаленное от нас на колоссальное расстояние. И зачем природа заставила бы эти гигантские светила вращаться вокруг Солнца, которое ничем не превосходит их? — Джордано говорил с жаром, взволнованно. — Почему наше Солнце может считаться центром Вселенной?..
— Как все это величественно и непонятно! — вздохнул Ченчо. — Маэстро, ученые скажут вам спасибо, когда вы откроете им истину.
— Глупый мальчик, далеко не все люди стремятся познать истину. Многих она пугает, они предпочитают жить среди привычных заблуждений... Но пора, мой усердный переписчик, снова садиться за работу!
Такие разговоры давали очень много пытливому уму Ченчо. Он горячо полюбил своего учителя, и все, что говорил ему Джордано, казалось мальчику непреложной истиной. Он до слез спорил бы с тем, кто вздумал бы опровергать учение Бруно. Однако на барке не было людей, с которыми можно было бы беседовать на научные темы.
«Св. Изотта» продолжала спускаться по реке. Осталось позади устье Тичино, самого многоводного притока По, миновали города Пьяченцу и Кремону.
Неподалеку от Феррары река разделилась на два рукава. Барка пошла по главному, более глубокому. У Папбццы этот рукав снова разделился на два протока: По-ди-Гбро и По Гранде делла Маэстра. Чувствовалась близость Адриатического моря, и требовалось большое искусство кормчего, чтобы не заплутаться среди множества островов и не попасть в несудоходный рукав реки. Барка выбрала По Гранде делла Маэстра, так как здесь шла основная масса воды.
Множество птиц гнездилось на пустынных островах и на берегах лагун, широкой сетью раскинувшихся на десятки миль.
Погода сильно задерживала плавание. Часто дули штормовые ветры, загоняя барку в бухточку, где ей угрожала опасность быть залитой волнами. Шли затяжные дожди, река вздулась, трудно было найти фарватер. И хотя «Св. Изотта» представляла надежное убе^
жище, Джордано с облегчением вздохнул, когда в на-* чале ноября, показывая на зачерневшую вдали длин-пую полосу воды, капитан сказал;
— Море!.
Глава седьмая
ЦАРИЦА АДРИАТИКИ
Во время плавания по реке на барку проник слух, что в Венеции чума. Правда, приносившие эту весть говорили, что эпидемия идет на убыль.
Чума была самым страшным бичом народа. От этой болезни не знали лекарств. Человечество не очень давно вынесло ужасную эпидемию черной смерти, охватившую Европу и Азию в XIV веке. Она началась в Китае, где погубила более пяти миллионов человек. Италия за несколько лет потеряла половину населения. От черной смерти люди нигде не находили спасения. По Средиземному морю плавали корабли-призраки с мертвым экипажем, и, когда их прибивало к суше, жители прибрежных городов и селений разбегались в ужасе. Чума пробралась не только в Англию и Скандинавию, — она достигла далекой холодной Гренландии...
С тех пор вспышки чумы наблюдались в каждом веке, хотя не в таких широких размерах.
Первые же известия о чуме в Венеции заставили Джордано серьезно задуматься. Что делать? Изменить маршрут путешествия или проникнуть в зачумленный город? От врачей Бруно слыхал, что опасность заболеть не так велика, если не соприкасаться с чумными, и все же...
Больше всего беспокоился Бруно об участи Ченчо. Если бы он, Джордано, путешествовал один, он рискнул бы пробраться в Венецию. Но великая ответственность за мальчика, взятая им на себя...
После долгих размышлений Бруно предложил своему юному спутнику денег, чтобы тот возвратился на родину.
Ченчо возмутился. Он заявил, что, если явится в Сан-Микеле один, без учителя, мать и дядя проклянут его и будут правы. Бруно возразил, что он своей священнической властью заранее объявляет это проклятие
недействительным. Ченчо утверждал, что без воли божией ни один волос не упадет с головы человека. Но и этот довод не подействовал на Бруно, и тогда мальчуган прибегнул к последнему средству.
— Вы отправляете меня в такое далекое и опасное путешествие одного, — мрачно сказал он. — А если я погибну?
Джордано вздрогнул. О такой возможности он не подумал. Ведь Ченчо был так умен и ловок, так хорошо •вел их маленькое хозяйство, что Бруно невольно привык смотреть на него как на взрослого, как на равноправного товарища странствий. А ведь на деле Ченчо шел только пятнадцатый год. Если его отправить в путешествие одного, ему будет грозить множество опасностей. Его могут убить по дороге, могут захватить разбойники и сделать своим слугой — и, что еще хуже, могут продать в рабство в Египет или Тунис...
А Ченчо продолжал:
— Опасность там, опасность здесь. И где лучше, где хуже — неизвестно. А зато мы напечатаем в Венеции «Знамения времени», маэстро! —лукаво добавил он.
Джордано не устоял.
Когда до Венеции оставалось всего около двадцати миль, в море показалась лодка с черным флагом на мачте. Она держала путь к «Св. Изотте».
— Так и есть! — сказал испуганный капитан. — Черная смерть!
Лодка остановилась на расстоянии голоса. Рулевой закричал:
— Эй, на барке! Разве не знаете, что у нас чума!
— Слух доходил, — ответил капитан, — но мы сомневались.
— Ну, так поворачивайте, — приказал карантинный служитель.
— Подождите! — закричал Джордано. — А если я хочу попасть в Венецию?
— Попасть можно, — ухмыльнулся карантинщик, — а как обратно?
— Я сниму с вас эту заботу.
После переговоров лодочник согласился довезти Бруно и Ченчо до Венеции. Джордано, его спутника и их скромный багаж спустили в карантинную лодку.
Джордано вступил в разговор с лодочником:
— Давно у вас появилась чума?
— Да уж месяца три будет. И во всем виновата колдунья.
— Какая колдунья? — с любопытством спросил Ченчо.
Карантинщик, проводивший целые дни в море и соскучившийся по людям, охотно начал рассказывать:
— Видите ли, синьоры, жила у нас во Фреццбри одна зловредная старушка. Она лечила людей без благословения отцов инквизиторов...
— И отправляла на тот свет? — догадался Ченчо.
— Вот в том-то и дело, что наоборот — вылечивала!— возразил лодочник. — Иного беднягу так лихорадка скрутит, ну прямо живой мертвец, иди и гроб заказывай. А эта ведьма даст попить водицы, настоен-ной на каких-то корешках, и, глядишь, парень хоть куда. Колдовство? Колдовство!.. Отцы монахи пришли в ее лачугу с обыском и нашли — что бы вы думали, синь-оры?
— Колдовские амулеты? Человеческие кости? — предположил Ченчо.
— Хуже! — с торжеством заявил лодочник. — Из камина выскочил черный как сажа кот без единой отметинки. Ясно — воплощенный сатана, вдохновитель всех волшебств. Старуху и кота сожгли. Но после этого призрак старухи целую неделю летал по ночам над городом и дико выл.
— А вы слышали? — спросил Джордано.
— Ну, я-то сам не слышал, а знаю от других. Вот эта самая колдовка и навела чуму на Венецию.
Джордано укоризненно покачал головой:
— И вы верите в эти нелепые россказни?
Лодочник подозрительно взглянул на пассажира:
— А вы сомневаетесь в утверждении святой церкви? Разговор прекратился.
Дивной, неповторимой показалась Венеция Джордано и Ченчо, когда город предстал перед путешественниками ясным осенним днем, с озаренными солнцем желтыми, розовыми, фиолетовыми дворцами, с колокольней Святого Марка, высоко взметнувшейся в бледно-синее небо. Лодочник провез пассажиров к своему знакомому — пушечному мастеру, работавшему в Арсенале.
По городу бродила болезнь, и все-таки Бруно и Ченчо не могли усидеть в отведенной им комнате. Несмотря на уговоры хозяйки, они вышли на крыльцо дома, спускавшееся в мутно-зеленоватую воду канала.
Мимо проплывала гондола, длинная узкая лодка с небольшой каюткой, расположенной посредине. Железный зубчатый нос лодки поднимался вертикально, напоминая гребень. Бруно подумал, что широкие зубцы гребня в случае столкновения с другой лодкой должны смягчать удар. И нос и корма лодки были забраны досками. Гондольер, стоя на корме, ловко орудовал длинным узким веслом. Джордано и Ченчо сели в каютку с двумя широкими окнами, открывавшими вид с обоих бортов. Лодка бесшумно заскользила по воде.
— Куда желают синьоры? — спросил гондольер.
•— Конечно, на Большой канал, — ответил Джордано.
Большой канал разделял город на две почти равные части, он был самым широким из всех и наиболее оживленным. По обеим сторонам его поднимались великолепные дворцы патрициев. Парадные двери выходили на канал, и с высоких крылец можно было сойти по ступенькам в гондолу, привязанную к раскрашенному столбику тут же, возле лестницы.
Но Большой канал показался Бруно довольно пустынным. Редко виднелись плывущие гондолы, большая часть их стояла на приколе.
— У вас здесь всегда так тихо? — удивился Джордано.
— Чума, синьор чужестранец, — коротко объяснил лодочник.
— Но вы же не сидите дома?
— Чума не чума, а детишек кормить надо,— вздохнул гондольер и резко затормозил лодку.
Из бокового канала выплыла большая черная гондола с двумя гребцами. На носу ее лежали трупы, обернутые в просмоленный холст.
— Погребальная гондола, — сказал лодочник.
Бруно и Ченчо невольно вздрогнули.
— Где же хоронят мертвецов? — спросил мальчик.
— Адриатика велика. Отвезут подальше в море и спустят за борт. А чтоб не всплыли, к ногам покойников привязывают камни.
Лодочник высадил приезжих на Пьяцётте, небольшой площади, куда вела каменная лестница между двух гранитных колонн розоватого цвета. Левую колон-ну венчала статуя святого Теодора, поражающего копьем крокодила, на верхушке правой лежал крылатый лев святого Марка \ эмблема Венеции.
С левой стороны Пьяцетты стояло мраморное зда-ние с великолепными аркадами и неизбежными статуями наверху — библиотека Венецианского сената, огромное собрание рукописей и книг. Джордано, мечтавший поработать в ней, с огорчением узнал, что из-за чумы библиотека закрыта.
Справа поднимался величавый Дворец Дожей. Венецианский дож — глава республики — избирался из среды знатных, но пользовался полнотой власти только в дни войны. В обычное время республикой управлял Совет Десяти.
Дворец Дожей—огромное здание в мавританском стиле — стоял на двух ярусах аркад, которые служили нижними его этажами. Широкие окна с заостренными полукружиями наверху освещали парадные залы роскошного дворца — залу Большого Совета, украшенную картинами знаменитых художников, залу Совета Десяти и другие. К главному входу во Дворец Дожей вела беломраморная Лестница гигантов, по бокам которой возвышались колоссальные изваяния Марса и Нептуна — бога войны и бога морей. И тот и другой считались покровителями венецианцев, приносивших им огромные жертвы в сухопутных и морских битвах.
С Пьяцетты Джордано и Ченчо перешли на знаменитую площадь Святого Марка, самую большую и красивую в Венеции. В глубине площади причудливой громадой вставал храм покровителя города, Святого Марка. Храм был великолепен, с высокими арками дверей, с пятью большими куполами на крыше по византийскому образцу, со множеством башенок на крыше, завершавшихся остроконечными шпилями. В каждой башенке меж четырех колонн, поддерживавших шпиль, стояла статуя святого. Иные статуи были воздвигнуты на открытом воздухе, подвергаясь действию непогод.
1 Марк — по легенде один из четырех евангелистов, описавших жизнь Христа. На иконах изображался с ручным львом.
Фасад базилики Свйтого Марка поражал удивительным богатством: множество колонн, поставленных в два яруса, повсюду разноцветный мрамор, порфир, дорогие камни.
Мозаичные картины в нишах отличались яркостью и чистотой красок, которым не грозило время: они были сложены из бесчисленного количества мелких кусочков цветного стекла. Над главным входом красовались четыре бронзовых коня, о которых венецианцы шутили, что это единственные кони в их городе.
Это великолепное пышное здание строилось в течение веков и гармонично соединило в себе черты разных стилей.
Джордано и Ченчо вошли в храм, бронзовые двери которого стояли полуоткрытыми. Их охватила тишина и прохлада. Лишь кое-где в полусумраке мерцали огоньки серебряных лампад да несколько монахов неслышно бродили по мозаичному мраморному полу, охраняя сокровища базилики. Стены собора, полукружия арок и высокие своды были украшены бесчисленными изображениями ангелов и святых — работа знаменитых Тициана, Веронезе, Тинторетто...
Алтарь отделялся от остальной части храма колоннадой со статуями святых наверху. Из-за колоннады сиял драгоценными камнями огромный напрестольный крест. Неисчислима была стоимость храма со всеми его укра* шениями, с драгоценностями, спрятанными в скарбницах, а когда, потрясенные всем виденным, Джордано и Ченчо вышли на паперть, их окружила толпа нищих, показывавших болячки и униженно клянчивших милостыню. Как видно, и нищим голод казался страшнее чумы.
Контрасты богатства и нищеты повсюду поражали в Венеции. У великолепного моста Риальто, смелой аркой перекинутого через Большой канал, расположился рыбный рынок, где шла торговля плодами моря, не такая бойкая, как обычно, но достаточно оживленная.
Целый день изгнанники очарованные бродили по площадям, плавали по каналам, осматривали бесчисленные храмы, монастыри и дворцы царицы Адриатики. Венецианцы сторонились их, угадывая по одежде, что это приезжие, быть может уже зараженные невидимым ядом чумы. Только гондольеры сразу откликались на
зов, нищие протягивали руки за подаянием да купцы бесстрашно предлагали товары: пусть рушится мир, но торговля должна продолжаться.
Лишь вечером Джордано и Ченчо вернулись на квартиру.
Глава восьмая
«ЗНАМЕНИЯ ВРЕМЕНИ»
Как ни усиленно работал Джордано Бруно над своим первым научным трудом, он не успел закончить его за время путешествия по реке. Надо было приниматься за работу здесь. И, хотя площади и каналы Венеции манили к себе, Джордано сел за стул с пером в руке. Последняя часть «Знамений» требовала особого напряжения мысли, полного сосредоточения душевных сил.
В эпоху, когда еще не появился телескоп, осуществивший мечту Бруно о небесных очках, когда все астрономические наблюдения производились простым глазом при помощи квадранта \ дерзновенная мысль ученого одной силой логики пыталась создать необычайно широкую картину Вселенной. И Бруно ее создал.
Далеко опережая современную ему науку, Бруно утверждал, что Солнце вращается, что звезды находятся в вечном движении, что каждая звезда окружена семьей планет...
Высмеивая библейские сказки о сотворении мира в шесть дней, гениальный мыслитель писал, что мир вечен, что он всегда существовал и будет всегда существовать.
И вот дописана последняя строка, поставлена последняя точка.
— Ченчо, друг мой, — сказал Бруно,— свершилось!
— Поздравляю вас, маэстро! — в восторге воскликнул Ченчо. — Поздравляю от всей души и сажусь переписывать последние страницы. Пока у нас не будет полной копии «Знамений», вы не пойдете к издателям!
Ченчо не замешкался с работой, и через два дня
1 Квадрант — старинный астрономический угломерный инструмент для определения высоты небесных светил над горизонтом и угловых расстояний между светилами.
Бруно смог отправиться к венецианским типографам. А Ченчо, проводив наставника, сел за вторую копию «Знамений». В семье Ронка не привыкли рассчитывать на милости судьбы и полагались на собственные силы. Мало ли что может случиться и с рукописью, и с копией! Не разгибая спины, Ченчо сидел и переписывал.
Джордано вернулся вечером в мрачном настроении.
— Плохи дела, — заявил он. — Царица-чума на все наложила властную руку. Всякая деятельность в городе замерла. Я был в пяти типографиях. Владельцы одних бежали из города, боясь заразы, в других вымерли печатники.
На следующий день Бруно снова поехал искать счастья. Вернулся он в полдень радостный.
— Ну, Ченчо, дружок, дело налаживается. Правда, хозяин первой типографии, куда я сегодня обратился, сказал мне: «Принесите отзыв от видного писателя, философа или от духовного лица. Если будет сказано, что книга представляет интерес для читателя, мы, так и быть, рискнем». Зато во второй у меня рукопись взяли, и издатель обещал прочитать ее. За ответом приходить через неделю.
Изгнанники соблюдали строжайшую экономию, так как деньги подходили к концу. Ели два раза в день, и притом самые дешевые кушанья. Они старались пореже выходить из дому, так как для каждой незначительной поездки приходилось брать лодку и выкладывать сольдо.
Джордано с волнением вошел в контору типографии. Издатель, плотный, широколицый человек, сидел за большим столом, заваленным листами оттисков. Перед ним лежала рукопись Бруно.
— Я прочитал ваш труд, синьор магистр, — заговорил издатель, — и должен воздать честь вашей фантазии...
— Фантазии? — бледнея, спросил Джордано.
— Конечно, ваш труд — чистейшая фантазия, — безмятежно подтвердил издатель. — Не буду отрицать, он читается с большим интересом, особенно в первой части. Но, когда вы, отрицая библейские истины, начинаете утверждать, что Земля будто бы вращается вокруг Солнца, что Солнце куда-то несется в бесконечном пу
стом пространстве, что каждая звезда — тоже солнце, тут ваши выдумки переходят всякие границы!
— Но позвольте, синьор, — вскипел Бруно, — великим Коперником уже доказано, что Земля вращается вокруг своей оси и совершает оборот вокруг Солнца за один год!
— Э, полноте, милейший, — возразил издатель, поигрывая костяным ножом для разрезания бумаги,— если бы Земля куда-то летела, да еще и вертелась при этом, как утка на вертеле, а ведь, кажется, так, по вашим словам, утверждает некий синьор Коперник, мы бы свалились с нее...
Самоуверенное невежество издателя потрясло молодого ученого. Что можно доказать человеку, который даже не слышал имени Коперника? А издатель продолжал:
— Я бы, пожалуй, согласился выпустить первую часть вашей книги в виде альманаха, но при условии, что вы вставите туда побольше рассказиков из мифологии на игривые сюжеты. Такие вещи публика любит.
— Или все, или ничего! — сухо возразил Джордано.
— Тогда ничего, — любезно ответил издатель.
Дома Ченчо встретил учителя сообщением, что сегодня он разменял предпоследний дукат.
Положение изгнанников на чужбине стало очень серьезным. Бруно мог бы заработать на жизнь уроками, но кому понадобится учитель философии или латыни в городе, где всякое соприкосновение с новым человеком опасно?
Ченчо, набравшись смелости, заявил:
— Учитель, я наймусь в братья милосердия. Моего заработка хватит на двоих, я уже справлялся.
Бруно содрогнулся, услышав такое предложение. Изгнанникам часто приходилось встречать братьев милосердия— людей, одетых в просмоленные балахоны, с глухими капюшонами на голове, в которых были только прорезаны отверстия для глаз, в рукавицах выше локтя.
Эти смелые люди плавали на больших черных гондолах, посещали жилища бедняков в густонаселенных кварталах: там больше всего гнездилась чума. Они ставили смоляные кресты на дверях домов, где обнаружи
валась болезнь, — знак, что всякое общение с этим домом воспрещено. Нередко всех обитателей такого дома одного за другим вывозили в водяную могилу, а их жалкие пожитки сжигались.
Джордано рассердился:
— Эту мысль выкинь из головы! Для того ли я увез тебя от родных, чтобы подвергать каждый день, каждый час смертельной угрозе? Уж коли одному из нас придется пойти в братья милосердия, это только мне.
— Вам, маэстро? — с негодованием возразил Ченчо.— Вам, читающему небо как открытую книгу и разгадывающему его сокровенные тайны? И это для того, чтобы прокормить мальчишку из Сап-А4икеле?
Счастливый случай пришел на помощь скитальцам. Бруно решил предложить рукопись еще в одну типографию, и по дороге туда произошла неожиданная встреча.
Гондольер вез ученого по Большому каналу, и к его гондоле приблизилась нарядно окрашенная лодка. Джордано, смотревший ’в другую сторону, вздрогнул, услышав окрик:
— Джордано Бруно!
«Меня узнал сыщик инквизиции!» — подумал Бруно.
Он крикнул гондольеру:
— Дукат, если уйдешь от этой гондолы!
Лодочник искусным маневром повернул суденышко и бросился в один из поперечных каналов. Но, как видно, второй гондольер получил приказ не отставать. Началась сумасшедшая гонка. Лодка Бруно чуть не налетала на встречные гондолы, на углы домов, где приходилось делать крутые повороты. Погоня закончилась в одном из отдаленных узких каналов, когда убегавшей лодке преградила путь погребальная гондола, стоявшая поперек улицы. И снова раздался зов:
— Джордано Бруно!
— Кто вы такой? — с дрожью в голосе спросил изгнанник.
— Я — магистр Чезаре Ремйджио из Флоренции. Я Друг настоятеля церкви Санта-Репарата, мессера Бо-навере да Фано, и встречал вас в приемной епископа, когда вы привезли во Флоренцию ноготь святой Репараты.
Джордано перевел дух. На него дружелюбно смотрел седовласый человек, и голос его звучал искренностью.
— Да, я Бруно, — сознался изгнанник, — но поверь
те, мессер, меня заставили бежать от вас очень важные причины.
— Я слышал о них, — просто сказал флорентиец.— Прошу вас считать меня в числе ваших друзей.
Джордано колебался. Предательство или столь необходимая поддержка в трудный момент? Природная доверчивость взяла верх. Бруно улыбнулся старику и сказал:
— Располагайте мною, мессер!
— Так-то будет лучше, — добродушно молвил Ре-миджио. — Пересаживайтесь ко мне.
Бруно перешел в гондолу флорентийца. Через полчаса двое ученых беседовали в келье Ремиджио, в одном из венецианских монастырей, где жил магистр. Джордано откровенно, как всегда, рассказал о своих злоключениях, не скрыл и того трудного положения, в каком находится. Услышав о хлопотах Бруно в издательстве, флорентийский магистр сказал:
— Дайте мне ваш труд, брат Джордано. Я не буду томить вас долгим ожиданием и прочту рукопись за три дня. А пока...
В мягкой, необидчивой форме флорентиец предложил Бруно денег, и тот принял, растроганный добротой старика.
На следующий вечер Джордано принимал у себя гостя. Не дожидаясь назначенного срока, мессер Ремиджио сам явился в бедное жилище изгнанника. Лицо флорентийца казалось усталым, под глазами лежали тени.
— Брат Джордано, — сказал Ремиджио, — я читал всю ночь и весь сегодняшний день. И говорю со всей искренностью: мне кажется, ваш труд начинает новую эпоху в познании Вселенной.
Радость потрясла Бруно, и он не мог вымолвить ни слова. Зато Ченчо чуть не завизжал от восторга, но, сдержанный строгим взглядом наставника, выскочил из комнаты и скатился по лестнице.
— Я расскажу историю своей жизни, — продолжал флорентийский магистр, — и вы поймете, почему я от всей души хочу поддержать вас. Я родился в небогатой многодетной семье, и меня с юных лет взял на попечение дальний родственник отца, аббат одного из флорентийских монастырей. Под его началом я прошел искус
послушника и принял монашеский сан, он же пдслал меня учиться в Римский университет. И там мне попала в руки небольшая книжка, под заглавием «Первое повествование о книгах Николая из Торна, каноника Вар-, мийского»...
Джордано, не удержавшись, перебил:
— Я знаю об этом сочинении, хотя мне не приходилось его видеть! Оно написано учеником Коперника Рэтиком 1 * и вкратце излагает новую систему мира.
— Совершенно верно, — подтвердил Ремиджио.— Учение Коперника увлекло меня, я начал распространять его среди друзей. Но друзья, — старик горько усмехнулся, — друзья предали меня и написали дяде (так я называл своего воспитателя) о том, что я стал приверженцем богохульного учения. Аббат явился в Рим, произвел дознание—а я не стал скрывать своих взглядов— и потребовал от меня отречения под страхом строгой кары. И я — каюсь перед вами в своем малодушии!— я отрекся. С тех пор4" прошло много лет, аббат умер, и я давно не считаю свою клятву действительной, но, всецело погрузившись в богословскую науку, я позабыл о Копернике. Лишь теперь, прочитав ваше блестящее сочинение, где вы не только пересказали учение Коперника, но и расширили, углубили его, я со стыдом думаю о своем отступничестве. Но я искуплю его, — горячо молвил флорентиец, — даже если это принесет мне неприятности! Я помогу вам в распространении новых великих идей. Мое влияние в издательстве Мануцио позволит нам выпустить этот труд. Он настолько необычен, настолько пугает ограниченных людей грандиозностью мыслей, что ни один книгопечатник не только в Италии, но и в целой Европе не решится его напечатать.
— Я в этом убедился, — сказал Бруно.
— Дело в том, — лукаво улыбнулся старый монах,—1 что Мануцио всецело мне доверяет. Он не станет читать «Знамения времени», положившись на мой отзыв, а я составлю его в правоверно-католическом духе.
Глаза Бруно затуманились слезами.
1 Рэтик — псевдоним Георга Иоахима фон Лаухена (1514—•
1576), немецкого астронома и математика.
— Ах, мессер, мессер, вы спасаете меня из бездны недоверия к человечеству! Я даже не благодарю вас,, так как понимаю: вы поступаете столь достойным образом не из ожидания благодарности...
— И вы правы, брат. Я действую как поборник истины.
С этого дня дела Бруно сразу изменились к лучшему. Альдо Мануцио был одним из первых венецианских типографов. Он давно умер, дело продолжали его наследники, и фирма пользовалась славой одной из самых добросовестных. Напечататься у Мануцио мечтали многие авторы, это обещало быстрое распространение книги.
В издательство «Наследники Мануцио» поступил блестящий отзыв Ремиджио на книгу «Знамения времени». Флорентиец указал, что автор книги — доктор богословия, но его настоящее имя не может быть открыто по важным соображениям.
В старину не существовало ни авторского права, ни авторского гонорара. Единственным вознаграждением автора было то, что издатель на время печатания книги принимал автора на содержание наравне со своими служащими. Ченчо, как ученик Джордано, тоже поступил на иждивение Мануцио.
Бруно в теплых признательных словах посвятил книгу мессеру Чезаре Ремиджио, воздав ему должное за его ученость, проявления любви к ближним и прочие высокие душевные качества.
Пока печаталась книга, чума в Венеции кончилась, и каждый был волен покинуть город. Джордано решил переменить местожительство. Он надеялся, что святейшая инквизиция потеряла его след, но все-таки не стоило слишком долго засиживаться на одном месте.
В начале февраля 1577 года Джордано Бруно и Ченчо выехали в Падую. Снабженный рекомендательными письмами мессера Ремиджио, Бруно рассчитывал получить место преподавателя в Падуанском университете, лучшем в Италии, где свободно излагали свои взгляды многие выдающиеся философы и ученые страны.
В дорожном багаже Джордано лежали тщательно упакованные полтора десятка экземпляров книги «Знамения времени».
Глава девятая
ПАДУЯ
Джордано Бруно жил в Падуе уже около года. Большая радость ждала его в этом древнем городе, где многое сохранилось с римских времен. Здесь встретил он своего лучшего пансионского друга Альфонсо Маринетти. Теперь это был достопочтенный отец Бенвеньято, аббат церкви Санта-Джустйна. Еще в пансионе Маринетти был первым учеником и отличался высокими душевными качествами. И хотя это не часто случалось в истории католической церкви, но Маринетти, не имевший высоких покровителей, в тридцать пять лет получил важный пост настоятеля храма в Падуе.
Встреча двух старых друзей была радостной.. Бенвеньято повел Джордано к себе, в церковный дом. Он усадил его за стол, наполнил вином бокалы себе и гостю и молвил:
— Рассказывай!
И Бруно начал рассказывать. Он говорил о годах пансионского учения, называл дорогие имена школьных товарищей. С теплым чувством два друга вспомнили Джакомо Саволйно, который с такой душевной теплотой следил за умственным и нравственным развитием свои& питомцев. Маринетти с большим сожалением узнал о смерти сера Джакомо и об уходе синьоры Васты в монастырь.
Джордано поведал другу свою постоянную мечту найти отца, покинувшего дом после смерти жены и ушедшего странствовать неведомо где. Куда бы ни забрасывала Бруно судьба, он всюду разыскивал следы старого знаменщика, расспрашивал стражу на пограничных заставах, бродячих музыкантов, торговцев, нищих...
— Я не встретил ни одного человека, который видел бы отца, но не теряю надежды.
Самое большое место в воспоминаниях Бруно заняла история его трагической любви.
— Больше двенадцати лет прошло с той поры,— тихо говорил Джордано, — но не было ни одного дня, чтобы я не думал о Ревекке, не видел перед собой ее прекрасного лица, милого, любящего взгляда. Если бы нас не
разлучила смерть, я не сделался бы монахом, Маринетти. И, быть может, я не вступил бы в борьбу q этим торжествующим зверем — католической церковью1.
Джордано, как старшему брату, рассказал Маринетти все без утайки: и о том, что он -выбросил иконы из своей кельи, что отрицал двойственную природу Христа, троичность божества и многие другие догматы религии.
— За все это меня судили, — закончил повествование Бруно, — и мне грозило суровое наказание. Но я убежал и сбросил монашескую одежду.
— Я глубоко сожалею о печальном конце твоей любви, — сказал аббат. — Не будь этого, возможно, ты занимался бы астрономической наукой, как светское лицо, и не навлек бы на себя такого гнева церкви. Я не буду обсуждать с тобой канонические вопросы и догматы, здесь ты сильнее меня. Но, сняв рясу, ты поступил как безумец!
— Я это знаю, — согласился Бруно.
— Тогда зачем же ты продолжаешь носить светское платье? — удивился Маринетти. — Теперь в этом уже нет необходимости! Наоборот, это тебе повредит, когда ты явишься к ректору просить должность.
Джордано снова надел белую рясу доминиканца, а Ченчо, поступившему в университет, купили студенческую сутанеллу. Изгнанники поселились у аббата Маринетти.
Бруно по-прежнему много времени уделял воспитанию Ченчо. Юноша быстро развивался и физически и умственно. Ростом и силой он теперь не уступал своему дяде Алессо. Ченчо овладел латынью, читал классиков, усердно занимался в университете, и Джордано предсказывал, что через два-три года появится новый магистр семи свободных искусств — Ченчо Альтовити. Ченчо краснел до корней волос.
Чтобы получить место преподавателя в университете, Джордано вынуждехЧ был открыть свое имя, предъявить диплом на ученую степень. Он быстро сошелся с несколькими свободомыслящими профессорами, вместе
1 Торжествующий зверь — мифический образ чудовища, которое будто бы появится в день Страшного суда. Бруно впоследствии не раз возвращался к этому сравнению и даже написал книгу против католицизма, которую назвал «Изгнание торжествующего зверя».
с ними выступал в диспутах. Особенно сблизился молодой ученый с Джакомо Забарелла Г В лекциях Заба-реллы было много такого, что совпадало со взглядами Бруно. Забарелла был материалистом, то есть считал, что природа не создана богом. Забарелла признавал вечность материи и отвергал бессмертие души. Все в мире движется — и планеты, и звезды, и небо, в котором они находятся. Многие из положений Забареллы Бруно впоследствии использовал в своих философских трудах.
Трактат «Знамения времени» стал широко известен в Падуе. Первым получил в дар эту книгу Бенвеньято Маринетти, вторым — Джакомо Забарелла. Кроме того, Джордано преподнес экземпляры своего труда еще двум-трем друзьям из ученого мира.
Маринетти не отрывался от «Знамений времени» не-* сколько дней и явился в комнату Бруно поздним вече-’ ром, когда Ченчо уже спал.
— Друг мой Джордано, — начал аббат, — я прочи-= тал твою книгу, но лучше бы я никогда не держал ее в руках.
Бруно вопросительно взглянул на друга.
— Твое учение (я не могу иначе его назвать!) взволновало мою душу, лишило покоя. Куда уютнее было жить на неподвижной Земле, считать, что человек—* венец творения, что сияющее Солнце, кроткая Луна, тысячи блестящих звезд — все это создано лишь для того, чтобы освещать наши дни и ночи. Коперник и вслед за ним ты, — вы превратили Землю в песчинку, несущуюся в вихре вечного движения среди безмерной пустоты. И мне страшно... — Голос Маринетти понизился до шепота.— Как я могу теперь говорить своей па-» стве о рае и аде, о сонмах ангелов, реющих вокруг божьего престола, когда в мире нет места ни для рая, ни для ада, ни для господних чертогов в заоблачной вьь шине...
— Мне жаль тебя, — серьезно ответил Бруно, — но прозрение не дается без душевной муки.
Совсем иначе разговаривал с Джордано о его книге философ Забарелла. В «Знамениях времени» Забарел-
1 Джакомо Забарелла (1533—1589) — выдающийся итальянский философ-материалист эпохи Возрождения» У
ла нашел свои идеи, но не в виде догадок, а изложен-* ные со всей силой убедительности. И Джакомо Забарел-> ла начал публично восхвалять труд Бруно, разъясняя его огромное значение.
В университете нашлись профессора, которые яро отрицали самые основы нового миросозерцания, объявляли Бруно безбожником, заслуживающим жестоких кар.
Завязавшаяся полемика, в ходе которой Бруно громил своих противников, опровергая все их доводы, сделала книгу Джордано чрезвычайно популярной. У счастливых ее владельцев выпрашивали «Знамения» хотя бы на одну ночь. Когда товарищи Ченчо узнали, что у него имеются две рукописные копии книги, юноше пришлось выслушать немало горьких упреков за то, что он держит такое сокровище под спудом. По ночам в студенческих кельях скрипели перья: горячие поклонники учения Бруно переписывали «Знамения времени».
Состоятельные студенты ездили даже в Венецию — покупать книгу Бруно в книжной лавке Мануцио. Типограф собрался выпускать второе издание книги Бруно, так как первое, к удивлению Мануцио, почти все разошлось за несколько месяцев.
Но противники Бруно не дремали. Один из профессоров, считавший себя особым ревнителем веры, послал в Венецию донос, обвинив Бруно в печатном распространении еретических идей. Инквизиция забила тревогу. Нераспроданные экземпляры книги Бруно были конфискованы, а Мануцио получил строгий приказ не печатать больше это еретическое сочинение.
Донос благочестивого профессора имел и более широкие последствия. Инквизиторы всех итальянских государств представляли единое, крепко спаянное общество. Не имело значения, что Венеция была свободной республикой, в Неаполе хозяйничали испанцы, а Римом правил папа. Защитники святой веры повсюду действовали заодно.
Венецианские инквизиторы переслали донос профессора и книгу Бруно в Рим, и таким путем Хиль Ромеро снова напал на след Джордано, утерянный после бегства Бруно из Ноли.
Глава десятая
ПРАВО УБЕЖИЩА
Утром апрельского дня 1578 года в дом Маринетти вбежал перепуганный Ченчо. Он ворвался в комнату; где разговаривали Бруно и Маринетти, и крикнул отчаянным голосом:
— Маэстро, Хиль Ромеро в Падуе! Я узнал его по черной повязке! Он идет сюда с отрядом сбиров. Я пробежал более короткой дорогой!
Маринетти приказал:
— Скорее! Не терять ни мгновения! В церковь!..
Ченчо ненадолго задержался, чтобы захватить кольчуги и оружие. Маринетти вздохнул с облегчением, когда за ним и его друзьями захлопнулась тяжелая церковная дверь. Бруно оказался в безопасности, потому что храм Санта-Джустина пользовался правом убежища.
Прошло несколько томительных минут, и раздались гулкие удары. Маринетти, взволнованный, но полный достоинства, показался в приоткрытой двери.
— Что вам здесь нужно? — спросил он, глядя в ли-цо Хилю Ромеро, которого узнал по описаниям друга.
За спиной испанца стоял, злобно ухмыляясь, бандит Кучильо, а дальше теснились сбиры. На площади начали появляться люди, заподозрившие неладное.
— Мессер настоятель, я требую выдачи еретика Джордано Бруно, скрывшегося здесь! Вот указ римской инквизиции о его задержании!
— Вам известно, что храм Санта-Джустина пользуется правом убежища?
— Оно не должно распространяться на богохульников!— яростно вскричал Ромеро.
— Христос брал под свое покровительство и праведных и грешных, — спокойно возразил аббат.
Ромеро повернулся к сбирам:
— Я приказываю войти в церковь и арестовать еретика!
Кучильо двинулся вперед, но его тотчас схватили за локти сбиры. Они боялись нарушить неприкосновенность Санта-Джустины. Хиль Ромеро бушевал, потря* сал указом Рима, обещал большую награду, но сбиры не трогались с места. А толпа на площади росла, и на
строение ее было воинственное. Раздавались угрозы по адресу Хиля и сбиров. Это заставляло стражу вести себя осторожно. Когда в своем неистовстве испанец неодобрительно отозвался о святой Джустине, офицер вежливо, но твердо заявил, что не может допустить оскорблений святыни. Падуанцы, запрудившие площадь в прижавшие сбиров к церковной стене, громкими одо-брениями встретили эти слова. Хиль еле сдержал свой гнев.
— Синьор офицер, — сказал он, — я еду в Венецию за указом епископа, разрешающим нарушить неприкосновенность храма.
Офицер поклонился:
— Если вы привезете такой указ, мы будем обязаны ему подчиниться.
— До моего возвращения держите вокруг церкви надежную охрану, чтобы безбожник Бруно не мог скрыться.
— В таком случае на время вашего отсутствия в храме не должно производиться богослужения, иначе тот, кого вы ищете, покинет церковь с толпой молящихся,— сказал полицейский офицер.
Через час Ромеро вернулся с распоряжением местных церковных властей о временном прекращении служб в храме Санта-Джустина. Оставив Кучйльо наблюдать за сбирами, Хиль Ромеро помчался в Венецию.
Бенвеньято Маринетти стоял в дверях бледный, но решительный. После того как ему доложили об отъезде испанца, Маринетти прошел к себе. Его не задержали. Ромеро разрешил впускать и выпускать клириков, но приказал зорко следить, чтобы не ускользнул Бруно. Кучйльо описал часовым его приметы.
Маринетти вернулся с большим узлом. Кучйльо преградил ему дорогу:
— Что здесь, мессер аббат?
— Еда, — ответил настоятель.
— Еду проносить нельзя, это запрещено братом Хилем Ромеро.
Бенвеньято, побледнев от гнева, обратился к толпе: — Граждане свободной Падуи, вы слышите? Свя-< тая Джустина взяла заблуждавшегося, но раскаявшегося грешника под свое покровительство, а брат Хиль Ромеро уже обрек его на мучительную смерть!
Толпа грозно прихлынула к дверям. Начальник сбиров зашептал на ухо Кучильо, и тот отступил.
Кучильо узнал от офицера, что гнев падуанцев возбуждать опасно. Три года назад инквизиция попыталась привлечь к суду нескольких уважаемых граждан Падуи под тем предлогом, что они будто бы редко ходят в церковь. Предлог был таким нелепым, что всем стало ясно: церковники хотят завладеть имуществом обвиняемых, которое конфисковывалось в случае осуждения.
Граждане Падуи восстали. Несколько дней шли упорные бои, и наемникам инквизиции не удалось подчинить свободный город. С тех пор падуанцы держались еще увереннее.
Возмущенные граждане ни днем, ни ночью не отходили от храма, где скрывался Бруно: они считали своим долгом защитить человека, отдавшегося под покровительство святой Джустины, каковы бы ни были его грехи. Горячие почитатели Джустины заводили ссоры со сбирами, и достаточно было Маринетти сказать одно слово, как Падую снова охватил бы бунт против инквизиторов. Но настоятель не хотел доводить дело до крайности, и, повинуясь его приказу, клирики успокаивали народ.
Часы проходили, приближалось время возвращения Ромеро, а положение оставалось безвыходным. Под вечер второго дня в церковь явился молодой диакон.
— В дом мессера аббата пришел посетитель в маске и не захотел назвать своего имени, — сказал он.
Маринетти поспешил к себе.
При виде аббата посетитель снял маску. Это был старый худощавый человек с бледным лицом и большими черными глазами.
— Я— сын зодчего, построившего храм Санта-Джу-стина \ — представился он.
— Рад приветствовать вас, сер Риччио, — ответил Маринетти. — Своим творением ваш отец заслужил неувядаемую славу...
— Я пришел открыть важную тайну, мессер! — продолжал Риччио.
1 X р а м Сант а-Д ж у с т и н а был выстроен в 1521—1533 годах.
И он рассказал пораженному Маринетти удивительную историю. Оказалось, что, возводя храм, зодчий сделал из него потайной ход, о существовании которого было известно только строившим его рабочим. Риччио заставил их поклясться именем Джустины, что тайна умрет вместе с ними. Ход начинался скрытой дверью в ризнице и выводил во двор одного из церковных домов в ближнем переулке.
— И знаете, почему мой отец построил этот ход? — спросил Риччио. — Он точно предвидел будущее. «Сын мой, — сказал он мне перед смертью, — ты воспользуешься ходом в том случае, когда святой Джустине станет угрожать опасность». Такое время пришло, и вот я перед вами, святой отец! — закончил посетитель.
Растроганный Маринетти обнял старика:
— Благодарю вас! Вы спасаете святую Джустину!
Сын зодчего рассказал аббату, как найти потайную дверь, затем надел маску и ушел.
Настоятель отдал клирикам нужные распоряжения и отправился в церковь. Джордано посмотрел на него с удивлением: глаза Маринетти сияли.
— Вы спасены, друзья мои! — весело воскликнул аббат.
И он рассказал изумленным Джордано и Ченчо тайну собора.
— Все готово для вашего бегства, — закончил Маринетти.— Четыре оседланных мула стоят наготове во дворе дома, где кончается ход. При них два вооруженных причетника, они проводят вас до границы. И... вот тебе, друг Джордано!
Он вложил в руку Бруно кошелек с золотом. Растроганный Бруно крепко обнял товарища.
— Время не ждет, — сказал Маринетти. — Прощай, Джордано! Ты отнял у меня душевный покой, но я тебя в этом не виню. Высокое познание истины стоит жертв.
Хиль Ромеро мчался в Венецию, не отдыхая ни часа. Угрожая гневом папы, он запугал венецианского епископа и быстро добился указа настоятелю Санта-Джу-стины выдать укрывшегося в храме вероотступника Бруно. Меньше двух суток прошло с момента отъезда
из Падуи «бешеного испанца», как прозвали его содержатели почтовых карет, а Ромеро уже стоял на паперти Санта-Джустины.
Удары потрясли церковную дверь. Вышел спокойный похудевший аббат.
— Мессер настоятель, — воскликнул торжествующий Ромеро, — я привез указ и требую открыть церковь!
Маринетти внимательно прочитал указ, проверил печати, вернул пергамент монаху.
Толпа горожан угрожающе волновалась, тесня сбиров. Те держались за рукоятки мечей. Падуанцы были разочарованы, когда аббат сказал:
— Я подчиняюсь воле монсеньера епископа. Войдите!
Он широко распахнул дверь. Хиль Ромеро и Андреа Кучйльо ворвались первыми, за ними последовали сбиры. Народ тоже хотел войти в церковь, но аббат задержал людей, широко раскинув руки.
— Не надо, дети мои! — властно сказал он. — Не будем мешать посланцам инквизиции в их поисках, дабы нас не обвинили в свершении дела, за которое надо благодарить не людей, а небо!
И было что-то такое в голосе Бенвеньято Маринетти, в выражении его лица, что даже самые буйные замерли на пороге храма. Аббат подозвал трех сбиров и приказал им быть свидетелями, что никто из горожан не вошел в церковь.
Хиль, Кучйльо и их помощники пробежали по всем помещениям храма, но нигде не обнаружили Бруно, Настроение сыщиков упало. Маринетти, оставив сбиров сдерживать толпу у входа, подошел к полицейскому офицеру.
— Синьор, уверены ли вы в своих людях? — спросил он. — В храме бесценные сокровища.
Синьор полицейский не был уверен в своих людях, поэтому в помещения, где хранились драгоценности, входили только он, Ромеро и Кучйльо в сопровождении аббата. Но напрасно Хиль и Кучйльо в неистовстве перетряхивали ризы в шкафах, открывали сундуки, влезали под кафедры. Остервеневший Кучйльо хотел даже опрокинуть главный престол, но перепуганный насмерть Ромеро успел удержать его. Осквернителям алтаря грозила лютая казнь, страшнее которой нельзя придумать.
Поиски становились все более безнадежными, а па* дуанцы, заполнившие паперть, церковную площадь и прилегающие переулки, ликовали. В толпе громко го* ©орили о чуде: святая Джустина скрыла от взоров доверившегося ей человека и провела по городу. Лица горожан сияли. Раздавались крики:
— Хвала святой Джустине, избавившей Падую от позора!..
Хиль Ромеро покинул церковь последним. Вне себя от ярости он набросился на Маринетти:
* — Мессер аббат, я обвиняю -вас в укрывательстве
преступников, в неповиновении властям!
Бенвеньято насмешливо улыбнулся:
— Я никого не укрываю. Ищите! Вы говорите 6 не-' повиновении, но разве я отказался вас впустить, когда вы явились с законным предписанием?
Толпа взревела от восторга.
Глава одиннадцатая
У ЗМЕИ ВЫРВАНО ЖАЛО 1
Хиль Ромеро не стал доискиваться, каким путем Бруно вышел из храма. Ясно было одно: Джордано снова одурачил его, Хиля, как случалось не раз за время их многолетней борьбы.
И не стоило тратить время на бесплодные сожаления, когда требовалось действовать. Под насмешливые выкрики горожан Ромеро покинул площадь Санта-Джу-стины, за ним шли сбиры и Кучильо.
Куда мог направиться Джордано? Хиль был уверен, что он постарается пробраться поближе к границе Ита* лии, но для этого беглецу следовало прежде всего покинуть пределы Венецианской республики, где каждый представитель власти обязан помогать Ромеро. Бруно мог выбрать путь на север, юг или запад, потому что на востоке была Венеция.
Путь на север, в Швейцарию, шел вдоль Бренты, сначала по равнине, а от Бассано глубоким ущельем,
1 В старину люди думали, что змея вонзает в тело человека свое жало (язык) и через него впускает яд.
где пробила себе путь река. И дальше — труднопроходимая горная страна с грозными хребтами и неизведанными ледниками. Вряд ли изберет этот путь Бруно.
Дорога на юг, в Феррару и Болонью, удобна, пролегает по густонаселенной равнине. Зато по третьему, за-, падному пути, ведущему на Мантую, Кремону, Милан, быстрее доберешься до границы.
Через час к городским воротам двигалась группа конной полиции во главе с Ромеро и Кучильо. Хиль оказался неплохим наездником. Подоткнув полы мантии и отбросив на спину капюшон, он то и дело припода нимался на стременах, точно вот-вот мог увидеть убегающего врага. У западных ворот Хиль Ромеро остановился. Бросив караульным золотую монету, он хрипло спросил:
— Сегодня здесь проезжал маленький доминиканец с усиками и с большими голубыми глазами?
Начальник караула ответил:
— Был такой. Его сопровождали еще трое духовных. Вся компания на мулах, путь держали, как видно, на Монтелйче.
— Рано они здесь были?
— Едва открылись ворота.
— Я прав! — крикнул Хиль.'—Они едут в Феррару или Мантую!
И он пришпорил коня. Был полдень. Беглецы выгадывали шесть часов. Бешеный монах мчался во всю прыть. Семь миль до Баттальи сделали за час. Корот-» кая остановка на улице деревушки.
— Проезжали четверо на мулах?
— Их видели в семь часов утра. Они не зашли в тратторию, хотя хозяин зазывал их.
Вперед, вперед!
Вот и Мюнтеличе, где дорога разделяется на две: одна к Ровйго и Ферраре, другая на Мантую. Расспросы показывают, что беглецы двинулись к Мантуе.
Вперед, вперед! Лошади хрипят, их крупы покрыты потом, а Хиль все скачет впереди кавалькады. Его догоняет полицейский офицер.
— Ваше преподобие, мы загоним лошадей!
— У святейшей инквизиции хватит золота купить новых!
Эсте. Позади осталось тринадцать миль. Лошади в
мыле, две из них падают, одна придавила полицейского, его поднимают со сломанной ногой.
Небольшая передышка. Найден староста, с его по-» мощью забирают у крестьян свежих лошадей.,
Показались белые домики Монтаньяны, шестнадцать миль от Падуи. Разрыв во времени сократился на два часа.
Кучйльо свирепо смеется, лицо Ромеро наливается кровью.
Вперед, вперед!
Стучат лошадиные копыта, подымая облака пыли, мелькают мимо домики, виноградники, шарахаются встречные пешеходы, грохочут мосты.
В Леньяго — двадцать семь миль позади — новая смена лошадей и дикая радость: беглецы выигрывают только два часа.
Еще час бешеной скачки, и вот Негбра. Здесь дорога снова делится надвое. Одна прямая, на Мантую, другая ведет направо, «в Верону.
Солнце перешло даЛеко за полдень.. Десять часов дня
В деревушке пусто, только невдалеке от дороги старик пашет на быке землю. Хиль и Кучйльо устремляются к нему.
— Именем инквизиции! — рычит Кучйльо. — Здесь проезжали всадники на мулах. Куда они направились?
Старик оглядывает преследователей, в его тусклых глазах вспыхивает огонек.
— Туда! — Пахарь решительно машет рукой в сторону Вероны.
Вперед, вперед!
Развеваются полы черной мантии, как крылья огромного вампира, бьется сзади капюшон на ветру, яростный всадник стоит на стременах.
Дорога пустынна, не у кого спросить, когда проехали беглецы. После долгой скачки видят двух крестьян, они чинят мостик через ручей.
Давно ли?..
И, как удар грома, ответ:
— Здесь никто не проезжал с утра..
Их обманули!
1 Четыре часа пополудни по нашему счету,
Кипя злобой, Ромеро и Кучильо мчатся назад, а сбиры, обливаясь потом, теряя последние силы, молят бога и пресвятую деву, чтобы их предводители сломали шеи.
Снова Негора. Где проклятый старик? Нет его, предусмотрительно скрылся, иначе висеть бы ему на придорожном кресте.
Вперед, вперед!
Гонимый чудовищной ненавистью, мчится Хиль Ромеро, шпоря коня. Осталось только три мили до Кастель д’Арно, а там граница герцогства Мантуя, там полномочия Ромеро теряют силу.
И вдруг за поворотом дороги показались четверо на мулах. Они!!
Свирепый рев вырывается из глотки Кучильо, и его слышат беглецы. Они изо всех сил подгоняют усталых мулов — до границы меньше мили.
Кучильо вырывается вперед, его конь бодрее других, бандит опережает Хиля на сто шагов, полицейских— на двести. Размахивая кинжалом, он мчится, нагоняя беглецов.
Юный богатырь, сделав остальным знак спасаться, загораживает дорогу.
Кучильо и Ченчо спрыгивают наземь. Ченчо выхватывает меч. Этот меч, взятый с рыцарской гробницы в храме Санта-Джустины, юноша получил от аббата Маринетти. Меч был велик и тяжел, но достойный племянник Алессо Ронка вертел им, как тростинкой.
Все дальнейшее происходит в один миг. Бандит наносит юноше страшный удар в грудь, но кинжал отскакивает от кольчуги. Над головой Кучильо взвивается меч, блеснув в лучах заходящего солнца. Чернобородый атаман падает мертвым.
Хиль Ромеро, очутившийся ближе всех к месту боя, останавливает коня. К нему подъезжает полицейский офицер. Преследователи в замешательстве. Пока Ченчо бился с бандитом, Бруно успел оставить пределы Венецианской республики и уже находился в Мантуанском герцогстве. Чтобы арестовать беглеца в другом государстве, нужно разрешение властей, а тем временем Бруно, конечно, покинет и Мантую.
Хиль Ромеро с проклятием повернул коня..
Глава двенадцатая
РАЗВЯЗКА
Большая группа путешественников спешила перебраться через Симплонский перевал, прежде чем его на зиму закроют снега. Этого можно было ожидать со дня на день, так как ноябрь шел к концу.
Купцов, воинов, бродячих ремесленников, дворян — всех сроднила трудная дорога, заставив на время забыть о сословных различиях. Мулы остались внизу — по узким тропкам, тянувшимся над страшными пропастями, по гребням хребтов можно было идти только пешком. И они шли, помогая друг другу, слабых поддерживали сильные. Во главе растянувшейся колонны шли проводники-швейцарцы, без которых никто не сыскал бы дорогу в этом царстве снега и льда.
С путешественниками шли Джордано Бруно и его верный спутник Ченчо Альтовити. Многое пришлось им пережить с того памятного дня, когда Кучйльо рухнул под мечом юного противника и беглецы перешли границу Мантуи. Это тогда Ченчо сказал: «У змеи вырвано жало».
Но Джордано возразил ему:
— Кучйльо не стало, но жив Ромеро, а он опасней десятка, сотни Кучйльо!
Еще укрываясь в храме Святой Джустины, Бруно решил уйти за границу. Только там, за пределами Италии, он почувствует себя в безопасности от преследований инквизиции.
На мантуанской заставе беглецы сердечно распрощались с причетниками Маринетти и хотели вернуть мулов.
— Мессер аббат дарит вам животных! — сказали причетники.
— Передайте ему за это мою вечную признательность! — отозвался Джордано.
Не задерживаясь в Мантуе и Кремоне, Бруно и его ученик проехали в Милан. И там случилось несчастье. Едва они прожили в гостинице два дня, как Джордано заболел перемежающейся лихорадкой. Вызванный лекарь сказал, что болезнь может затянуться надолго.
Жить в гостинице было дорого, да и опасно. Беглецы понимали, что Ромеро не прекратит погоню и добьется у миланских властей разрешения на арест Бруно. Надо было снова скрывать свой след. Ченчо оказался чрезвычайно деловитым для своих шестнадцати лет. Он целый день бегал по городу, а вечером явился в гостиницу и заявил хозяину, что увозит брата доминиканца в Турин, где у него есть друзья. И так как они поедут в почтовой карете, он может уступить синьору хозяину пару прекрасных мулов по сходной цене. Сделка состоялась, и в кармане Ченчо прибавилось несколько дукатов.
На рассвете следующего дня юноша отвел больного Бруно в запустелый дворец одного маркиза, расположенный на окраине города. Маркиз не жил в замке, предоставив его попечениям домоправительницы, полуглухой старушки, впрочем, бодрой и деятельной.
Ченчо рассказал синьоре Леонарде чувствительную историю о злобном епископе, преследующем и грозящем предать смерти молодого священника только за то, что тот превзошел его красноречием и святостью жизни. И синьора Леонарда поклялась именем пресвятой девы, что она спрячет гонимого и никому на свете не откроет, что он находится в замке ее господина. Джордано и Ченчо поселились в одной из дальних комнат, окна которой выходили во двор.
Болезнь приняла затяжной характер. Джордано лечила матушка Леонарда, которая оказалась неплохим знатоком целебных трав.
Ченчо обрек себя на добровольное заточение: он знал, что его приметы хорошо известны Хилю Ромеро. Провизию и все необходимое матушка Леонарда закупала на дальних рынках, где ее не знали.
Проходили месяцы. Состояние Джордано то улучшалось, то снова ухудшалось, и отправиться в дальний путь было нельзя.
Однажды старушка вернулась с рынка возбужденная.
— Видела Одноглазого! Ну и рожа! — без обиняков заявила она своим постояльцам.
В сочиненной им истории юноша отвел Хилю Ромеро роль главного шпиона епископа. Он описал наружность испанца, а душевные качества изобразил самы
ми черными красками, отнюдь не погрешив против истины.
— Вы его видели! Что же он делает, синьора Леонарда?— спросил Ченчо.
— Рыщет, как пес, нюхает, приглядывается, прислушивается, расспрашивает! Ну, да ему так же не добраться до нашего Джордано, как черту не видать царствия небесного!
В последующие дни матушка Леонарда, толковая женщина, несмотря на глухоту, успела разузнать, что Ромеро побывал в гостинице, где останавливались Джордано и Ченчо, а потом исчез из города: как видно, сыщик инквизиции отправился в Турин разыскивать беглеца. Недели через две он снова появился в Милане, утомленный и раздраженный. Но опять скрылся.
К этому времени Джордано поправился настолько, что мог ходить. Чтобы набраться сил, он много гулял, но только в глухом дворе замка.
Наконец изгнанники покинули Милан. Купив мулов, они выехали на северо-запад, к южной оконечности Лаго-Маджоре. Потом западным берегом озера и долиной Точе беглецы проследовали в Симплону. Здесь уже скопилось много путешественников. Они всегда собирались большими группами, чтобы дешевле обходилась оплата проводников и чтобы легче было преодолевать дорожные трудности.
Путники давно пересекли снеговую линию. В разреженном воздухе дышалось с трудом. На севере, сияя вечными льдами, виднелись величавые вершины Юнгфрау и Финстераархбрна. Удаленные на много миль, они в чистом воздухе гор казались совсем близкими.
Джордано, слабый после болезни, задерживал колонну и потому, пропустив путешественников, плелся позади, опираясь на крепкую руку Ченчо. Дорога шла в опасном месте, по карнизу горы, где внизу чернела пропасть, а сверху, на крутых склонах, лежал глубокий снег.
Проводники приказали путешественникам соблюдать величайшую тишину и беседовать только шепотом. Даже громкий разговор мог вызвать сотрясение воздуха, за которым последует снежный обвал.
Ченчо услышал позади шум и обернулся. На сердце у него похолодело: их догонял отряд сбиров во главе с
Хилем Ромеро. Лукавый иезуит все-таки напал на след беглецов. Он пустился в погоню за Бруно через пять дней после его отъезда из Милана и сумел догнать его здесь, в мертвом, холодном царстве зимы.
— Маэстро, беда! —шепнул Ченчо. — За нами гонятся.
Они ускорили. шаг. Преследователи приближались, махали руками, делая беглецам знак остановиться.
Джордано и Ченчо приблизились к повороту тропинки, который должен был скрыть их от врагов. От Хиля Ромеро уходили почести, высокое положение. И он не выдержал. Он заорал громовым голосом:
— Джордано Бруно, именем бога приказываю вам остановиться!!
И на голос испанца отозвались снега. Вверху началось легкое шуршание, перешедшее в свист, а потом в неистовый грохот. Снега двинулись на дерзких, осмелившихся нарушить их Покой.
Ченчо одной рукой ухватился за выступ скалы, а другой прижал к себе Джордано. И сами Альпы не стояли крепче, чем Ченчо, в момент, когда на двух путников налетела лавина, стараясь сбить их с ног, оторвать от утеса. Но она захватила их только краем, главный удар пришелся на открытый участок тропы, где находились Хиль Ромеро и сбиры.
И, когда отшумели снега, над тропой вихрились ледяные кристаллики снега, сверкая на солнце...
п илог
Глава первая
ПРИ КОРОЛЕВСКОМ ДВОРЕ
В приемной короля Франции Генриха III Валуа1 было многолюдно. У стен огромной залы неподвижно сто* яла стража — наемные швейцарцы в красных кафтанах, с суровыми усатыми лицами, с алебардами в руках. Придворные, разбившись на кучки, сдержанно беседовали, обсуждая городские новости. Главной темой разговоров была быстро распространившаяся известность ученого-итальянца Джордано Бруно. Всего несколько месяцев прошло с того момента, когда этот философ появился в Париже, а уже вошел в милость к королю, и тот часто приглашает его для долгих бесед.
— Итальянцы с давних пор владеют искусством привораживать людей, — сказал маркиз д’Ориньй, сухощавый старик с длинными седыми усами. — Полагаю, что этот Бруно очаровал короля при помощи магии.
1 Генрих III Валуа (1551—1589J,
— Позвольте вам заметить со всей вежливостью, маркиз, что вы ошибаетесь, — возразил молодой граф де Шомон. — Его величество последнее время увлекается науками, а итальянский философ оказался весьма сведущим собеседником, я бы даже сказал — наставником.
К разговаривающим подошел стройный юноша, виконт де Гранменйль.
— Держу пари, что речь идет о Джордано Бруно!— весело воскликнул он.
— Вы угадали, виконт! — удивился маркиз д’Ориньи.
— Не так уж это было трудно, — улыбнулся де Гранменйль. — Я сейчас обошел всю приемную, и везде только и слышно: Бруно, Бруно, Бруно!..
— Да, Джордано Бруно в большой моде в высшем обществе, — согласился граф де Шомон. — Ни один вечер, ни один прием не считается удачным, если его не почтит своим присутствием новоявленное светило науки. И, надо признаться, Бруно прославили по заслугам. Какая поразительная начитанность, какое умение найти в обыкновенном предмете совершенно неожиданную сторону, какая удивительная память!
— С этой памяти все и началось, — сказал виконт.— Мне удалось присутствовать на первой аудиенции, которую Бруно получил у его величества. Король спросил, правду ли говорят, что Бруно обязан своей памятью приемам магии. И наш ученый-итальянец разуверил его в этом. Он сказал, что существуют особые способы развития памяти, так называемое мнемоническое искусство, начало которому положил знаменитый Раймунд Луллий !. А он, Бруно, только развивает идеи Луллия.
— А кстати, вот и сам он, чудо нашего века! — ирсн нически промолвил маркиз д’Ориньи.
В залу вошел Джордано Бруно в сопровождении высокого молодого человека. Спутник Бруно нес сверток с книгами и рукописями. Поклонившись ближайшим
1 Мнемоника — искусство запоминания. Она представляет совокупность правил и приемов, позволяющих запоминать имена, числа, даты. Для этого применяются различные искусственные способы, связывающие сведения, которые нужно запомнить, с другими, легко укладывающимися в памяти.
Одним из первых создателей мнемоники считался средневековый ученый Раймунд Луллий (1235—1316), поэтому и мнемонику часто называли «Луллиевым искусством».
придворным, Джордано и Ченчо отошли в свободный уголок залы и стали тихо разговаривать.
Четыре года прошло с тех пор, как Бруно покинул родину. Многое пришлось ему пережить за это время« В Женеве, где беглецы приютились на первое время, они зарабатывали на жизнь правкой корректур в типографии. В Женеве Бруно за резкое выступление в печати против видного протестантского проповедника подвергся унизительному наказанию. Его отлучили от церкви на две недели, посадили в тюрьму и во время церковных служб приводили в храм в одной рубахе, в цепях и железном ошейнике, ставили посреди церкви, и каждый прихожанин имел право бить Джордано и плевать ему в лицо.
Не мудрено, что, освободившись, Бруно немедленно покинул «свободную» Швейцарию и переехал на юг Франции, в Тулузу. В Тулузском университете была свободна кафедра философии. Но Бруно настолько решительно порвал с прошлым, что скрыл от начальства свой диплом римского доктора богословия. Он заново защитил ученую степень магистра и занял по конкурсу должность профессора философии. Ченчо стал студен-том университета.
Изгнанники жили скромно, но в достатке. И, однако, Джордано недолго пробыл в Тулузе. Он не мог помириться со схоластическим духом преподавания, высту-пал на диспутах, развивал те же положения астрономической науки, о которых говорилось в «Знамениях времени», и критиковал приверженцев устарелых и наивных библейских взглядов на строение Вселенной.
Вся реакционная часть профессуры дружно восстала против Джордано Бруно, и летом 1581 года ученый уехал в Париж.
В центре европейского просвещения Джордано Бруно впервые получил заслуженное признание. Он показал миру блестящую образованность, глубокое понимание философии, необычайные ораторские способности.
За один год Бруно издал в Париже несколько научных трудов. Не все они были написаны им за время пребывания ученого в столице Франции. Нет, он работал над ними в Швейцарии и в Тулузе. Но только в Париже, когда Бруно получил большую известность, нашлись издатели этих книг.
Самое значительное произведение итальянского фи-' лософа, увидевшее свет в 1581 году, была книга «О тенях идей», где Бруно излагал созданную им теорию познания. Этот труд автор посвятил королю Генриху III, а король в благодарность за это дал ему должность профессора в университете.
Слава, деньги, безопасность — казалось, чего еще недоставало Бруно? И, однако, он тосковал по своей родине, по прекрасной Италии...
Разговор Бруно и Ченчо прервал гофмаршал, звучно провозгласив:
— Его величество король просит высокоученого доктора и его ассистента пожаловать к нему в кабинет!
Глава вторая
В ДЕРЕВЕНСКОМ ТРАКТИРЕ
Прошло еще несколько лет. Прихотливая судьба бросала Бруно из страны в страну, из города в город.’ Из Парижа Бруно переехал в Лондон. В Англии обстановка для работы оказалась совершенно неблагоприятной.
«В этом счастливом отечестве царствует созвездие упрямого невежества и самомнения, смешанного с де-ревенской невоспитанностью...» 1
Выступления Бруно на диспутах вызывали ярость богословов-схоластов, знаменитого ученого публично оскорбляли, называли бешеной собакой, попугаем и другими непристойными кличками. Правда, за два года пребывания в Англии Бруно выпустил несколько философских произведений, но его друзьям приходилось печатать их тайно, неправильно указывая на книге место, где она издана.
Джордано покинул Англию и вернулся в Париж. Но там ему удалось прожить недолго. Во Франции обострилась гражданская война, и королю Генриху III было не до покровительства иностранному ученому, ко
1 Дж. Бруно. «Пир на пепле»ч
торый к тому же везде вызывал ненависть церковников.
Джордано отправился в Германию.
Вечные скитания Бруно имели свою ценную сторону* Переезжая из одной страны в другую, он всюду рассеивал семена нового мировоззрения, всюду оставлял горячих последователей, продолжавших его дело. Джор-дано Бруно был великим ученым и страстным борцом. Он не мог держать свои идеи при себе, он должен был . нести их в народ. Бруно открыл эпоху великих битв за научную истину.
В Германии, казалось, нашелся спокойный уголок-Герцог Юлий Брауншвейгский, покровитель наук и искусств, один из немногих просвещенных государей в ту эпоху, пригласил Бруно в Хельмштедт Ч
Там, в единственном из германских университетов, где не господствовали церковники, Бруно провел последний спокойный год своей жизни. Но судьба, как видно, решила отвернуться от итальянского философа. Герцог Юлий умер, и из университета, который он основал, развитию которого всячески способствовал, была изгнана свободная мысль.
Лютеранские богословы сразу припомнили Бруно его смелые высказывания о боге, о Вселенной, о бесконечности. Главный пастор Хельмштедта отлучил Джордано от церкви, и благочестивые студенты перестали посещать лекции осужденного церковью профессора. Бруно лишился средств к жизни.
В те недолгие периоды своей жизни, когда Джордано имел хороший заработок, он никогда не копил денег. Отвергая советы домовитого Ченчо, Бруно раздавал золото нуждающимся студентам, безотказно давал взаймы коллегам, хотя и знал, что не получит долга. И вот в Хельмштедте вечный скиталец, потеряв заработок, оказался без денег.
Правда, Ченчо защитил в Хельмштедте ученую степень магистра, но никаких материальных благ изгнанникам это не дало. Ведь ученик разделял взгляды учителя и не мог рассчитывать на получение заработка в университете.
1 Хельмштедт — город в Северной Германии, в те времена входил в состав Брауншвейгского герцогства.
Хельмштедт пришлось покинуть. Единственное, что сделал для Бруно новый герцог, — это дал ему восемьдесят талеров за похвальное слово, которое сочинил Джордано в память покойного Юлия. После того как расплатились за квартиру, отдали долги мяснику, булочнику, денег осталось сущие пустяки. Бруно решил поехать во Франкфурт-на-Майне, крупнейший центр книгопечатания.
— Быть может, там издатели примут мои книги, — сказал он Ченчо.
Летом 1590 года вечные скитальцы опять отправились в путь. Их не обременял багаж. Немного платья, десяток любимых книг, законченные и незаконченные рукописи — все помещалось в видавшем виды дорожном сундучке.
Доехать до Франкфурта денег не хватило. Путники застряли в деревушке Блюменталь. Они жили там уже четыре дня. Погода выдалась скверная. Серое небо, сплошь покрытое тучами, надоедливый мелкий дождь, грязь на единственной улице деревни, грязь в общей комнате трактира, грязь в убогом номере... Тоска, тоска!
Не во сне ли видел он, Джордано, роскошные сады счастливой Кампаньи, великолепные дворцы и площади Флоренции, величавые памятники римской старины, дивный собор Святого Марка и каналы Венеции?.. А эти обширные приемные дворцов Парижа и Лондона, где он, как равный, разговаривал с князьями и герцогами, где королевские особы воздавали должное его необыкновенной учености, — быть может, это только праздная игра воображения?..
Погода улучшилась, и можно было оставить Блюменталь.
— Ну что ж, Ченчо, — с напускной храбростью сказал Бруно,—дальше двинемся по апостольскому способу.
— Пешком? Я принимаю ваше предложение с одной поправкой.
— Что это значит?
— Я пойду один. Дойду я гораздо быстрее, чем вдвоем с вами, договорюсь с книгопродавцами, что-нибудь у них выпрошу и вернусь сюда.
После недолгого спора Бруно согласился, что план Ченчо более практичен.
— Смотри только, не попадись разбойникам, — предостерег Бруно молодого магистра.
Ченчо расхохотался:
— Уж как-нибудь отобьюсь! Да и что у меня можно отобрать?
— Прежде всего обратись к Жаку Обри, — напутствовал Ченчо профессор.
— Конечно, маэстро, я уже знаю, что это ваш старый друг.
Ченчо ушел. На повороте улицы он обернулся и помахал рукой другу. Джордано долго еще стоял на дороге.
Бруно старался занять свое время, которое текло невыносимо медленно. Он читал и правил рукописи, пытался писать новое, но мысли неотвязно неслись к Ченчо. Где-то теперь шагает его милый спутник, его единственный друг, которого за долгие годы скитаний Джордано полюбил, как родного сына?
«Ченчо силен, отважен, находчив, — говорил про себя Бруно, — и все же одинокому путнику грозит много опасностей на дорогах Германии... как, впрочем, и всякой другой страны», — ради справедливости добавил Джордано, вспомнив, как он с Алессо путешествовал во Флоренцию.
Через два дня после ухода Ченчо пришлось отдать, за обед последнюю монету и просить хозяина повременить несколько дней с получением платы за ночлег и пищу. Рослый широколицый Ганс Хюблер отверг просьбу постояльца.
— Я не верю чужестранцам, — заявил он. — В прошлом году один француз жил у меня в кредит целую неделю, а потом удрал, не заплатив ни пфеннига, да еще стащил у меня с чердака окорок!
Бруно, улыбаясь, заверил хозяина, что не собирается воровать у него окорока, и Хюблер ушел ворча.
Отношение к несостоятельному жильцу резко ухудшилось. Слуги подавали ему в последнюю очередь и самые плохие, остывшие кушанья. Они издевались над чужестранцем, который живет за счет честного немецкого бюргера и, еще неизвестно, заплатит или нет.
Бруно, все такой же стройный, не согнувшийся с годами, выслушивал насмешки в гордом молчании и .только ниже опускал голову над столом.
Наконец терпение Хюблера кончилось. Войдя в комнату постояльца, он грубо сказал:
— Послушай ты, чужестранец! Если завтра к вече-ру не заплатишь мне долг, тебя посадят в долговую тюрьму, я уже договорился со старостой!
— Напрасно вы так беспокоитесь, — ответил Бруно. — Если даже мой ученик не вернется, я смогу расплатиться с вами. Вот мои рукописи, они имеют цену...
— Ха, бумажный хлам! — Трактирщик окинул презрительным взглядом рукописи, разложенные на столе.— Кому это нужно?!
На седьмой день после ухода Ченчо Джордано не получил ни завтрака, ни обеда.
— Тебя досыта накормят в тюрьме, куда ты пойдешь вечером! — издевался Хюблер.
Близился час ареста, когда в трактир ворвался Чен-; чо, веселый, оживленный.
— Сто дукатов, маэстро, сто дукатов! — вскричал он, размахивая кошельком. — Я иду нанимать подводу, а вы укладывайте вещи!
Ганс Хюблер подошел с извинениями, низко кланялся. Бруно отвернулся от него.
В тот же вечер изгнанники покинули Блюменталь в тряской телеге, запряженной неуклюжей деревенской лошаденкой..
Глава третья
НА РОДИНУ!
Странствуя по Германии, Бруно, точно под действием какой-то магнетической силы, спускался к югу, поближе к родимой стороне. Он читал лекции в Виттенберге, печатал книги во Франкфурте-на-Майне, преподавал в Хельмштедте, а сердце тянулось к Италии...
Жгучая тоска по родине, по дорогой сердцу Кампанье и грандиозному видению Везувия заставляла его писать:
«Нола, милая Нола! Твои мирты и виноградники, теплый запах козьего молока и пахучих трав твоих лугов, когда вернусь я к вам?..»
И в 1592 году Джордано принял приглашение венецианского патриция Джованни Моченйго стать его на
ставником, развить память, научить хотя бы основам наук, которые знал великий энциклопедист.
Не хорошее жалованье, не богатая комната во дворце Мочениго, не обильный стол привлекли Бруно в Венецию. Нет, он снова хотел проплыть по ее каналам, пройти по мраморным площадям, посетить типографию, где в дни его молодости печаталась первая и потому самая дорогая сердцу книга «Знамения времени».
Воздух родины! Что может быть слаще для изгнан* ника, который не дышал им почти полтора десятка лет< Но этот воздух оказался отравленным.
17 февраля 1600 года Джордано Бруно взошел на костер — ив бессмертие.
ОГЛАВЛЕНИЕ
И. Рахтанов. Колдун и волшебник ...... 3
ЗОДЧИЕ
Рисунки И. Година
Часть первая. Юность Голована ............... 9
Часть вторая. Москваи Казань ............... 74
Часть третья. Великий поход .................177
Часть четвертая. Смелые замыслы . . . . . 261
Часть пятая. Памятник ратной славы . . 310
А. А. Зимин. Послесловие.....................369
СКИТАНИЯ
Гравюры на дереве Л. Дурасова Часть первая. Детство ......................375
Часть вторая. Любовь .......................431
Часть третья. Монастырь.....................493
Часть четвертая. Италия.....................603
Эпилог .....................................669
4
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Волков Александр Мелентьевич
ЗОДЧИЕ е СКИТАНИЯ
Исторические романы
Ответственный редактор С. М. Пономарева. Художественный редактор С. И. Нижняя. Технический редактор Н. Г. Ле какова. Корректоры Э. Л. Лофенфельд и Г. В. Русакова. Сдано в набор 7/ХП 1965 г. Подписано к печати 27/V 1966 г. Формат 84Х108’/з2. Печ. л. 21,35. Усл. печ. л. 35,82. (Уч.-изд. л. 35,55+1 вкл.=35,6.) Тираж 100 000 экз. ТП 1966 № 451. А12070. Цена 1 р. 22 к. на бум. № 2. Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер., 1. Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Гатчинская, 26. Зак. 108