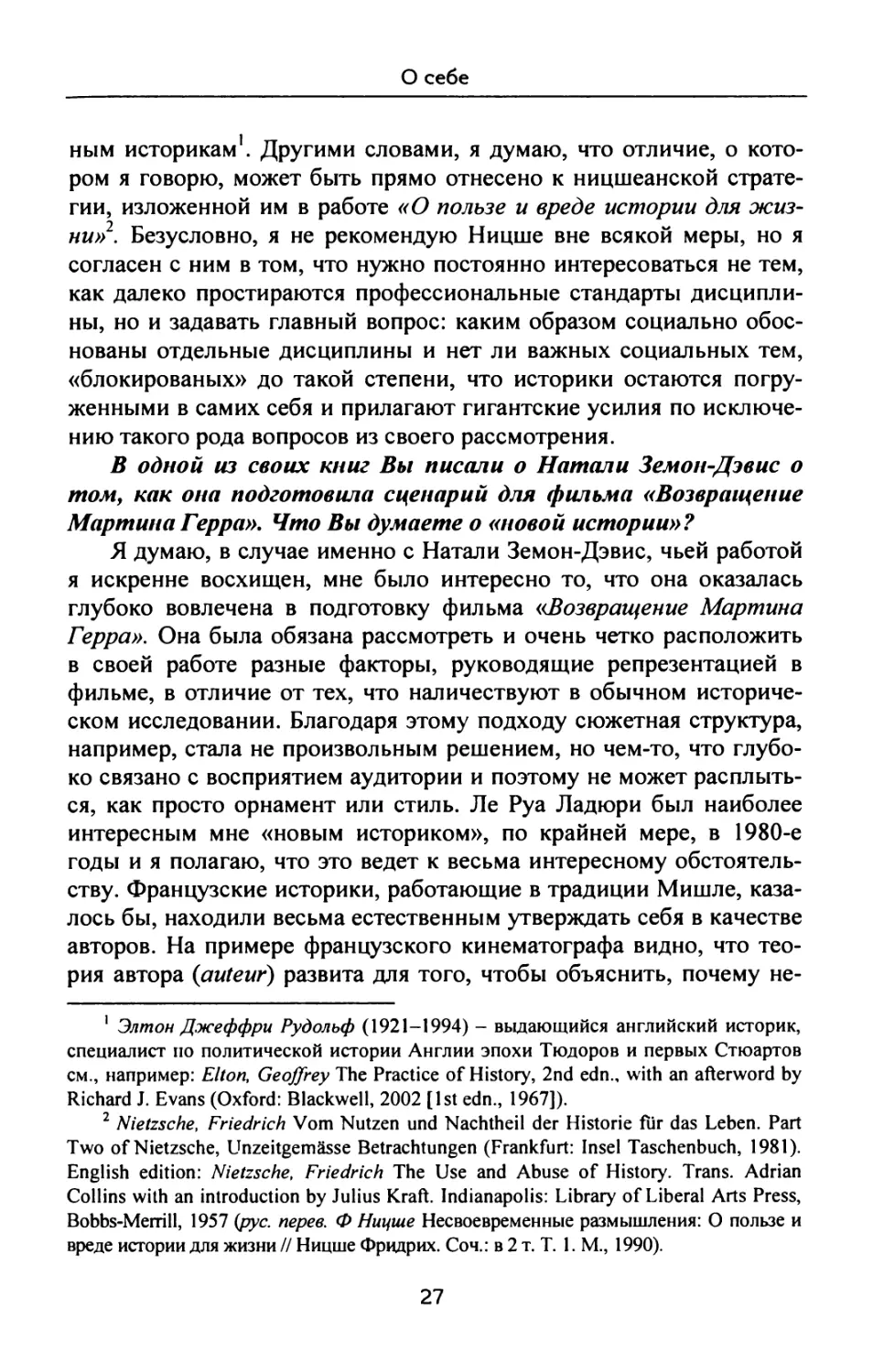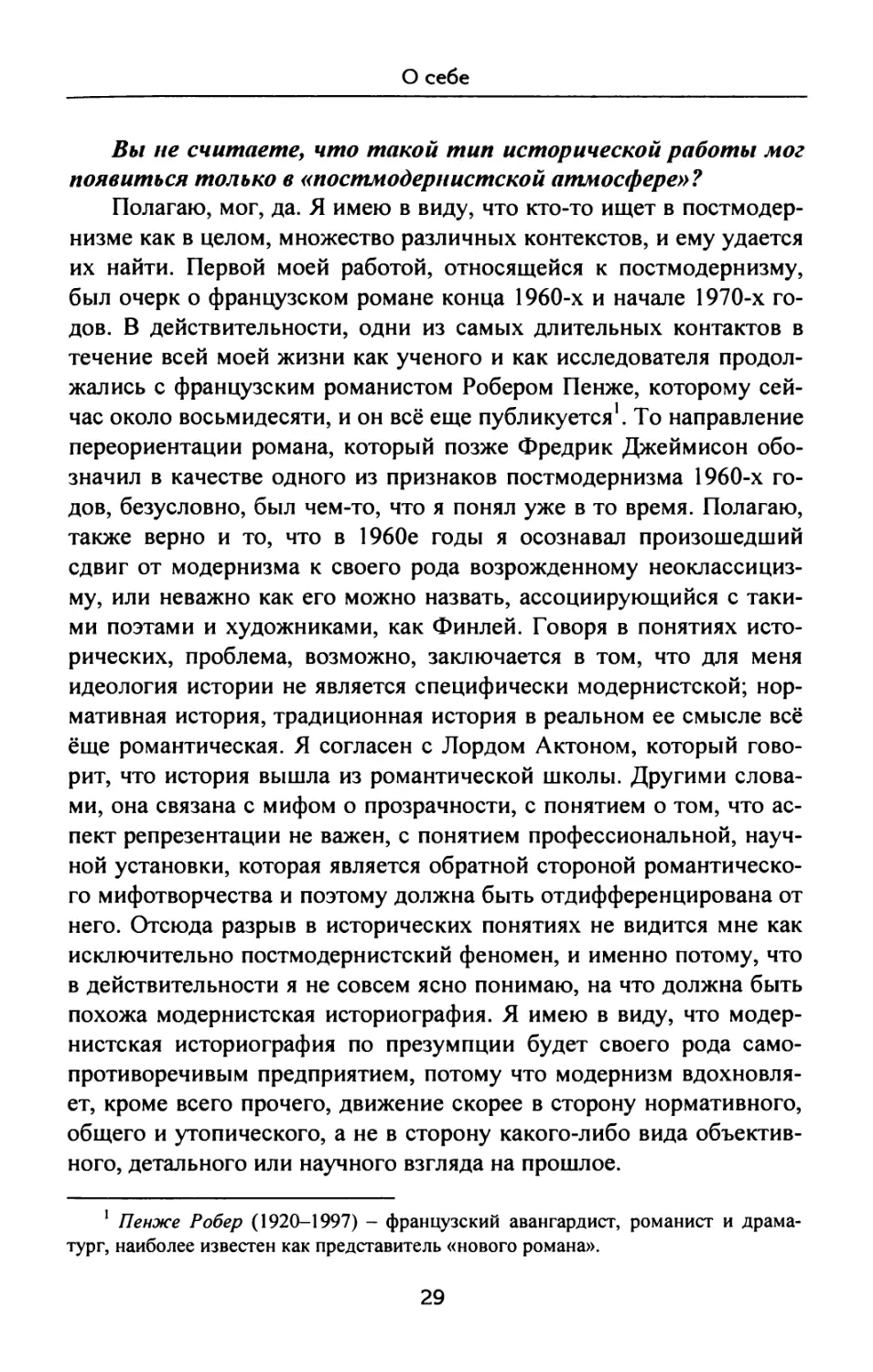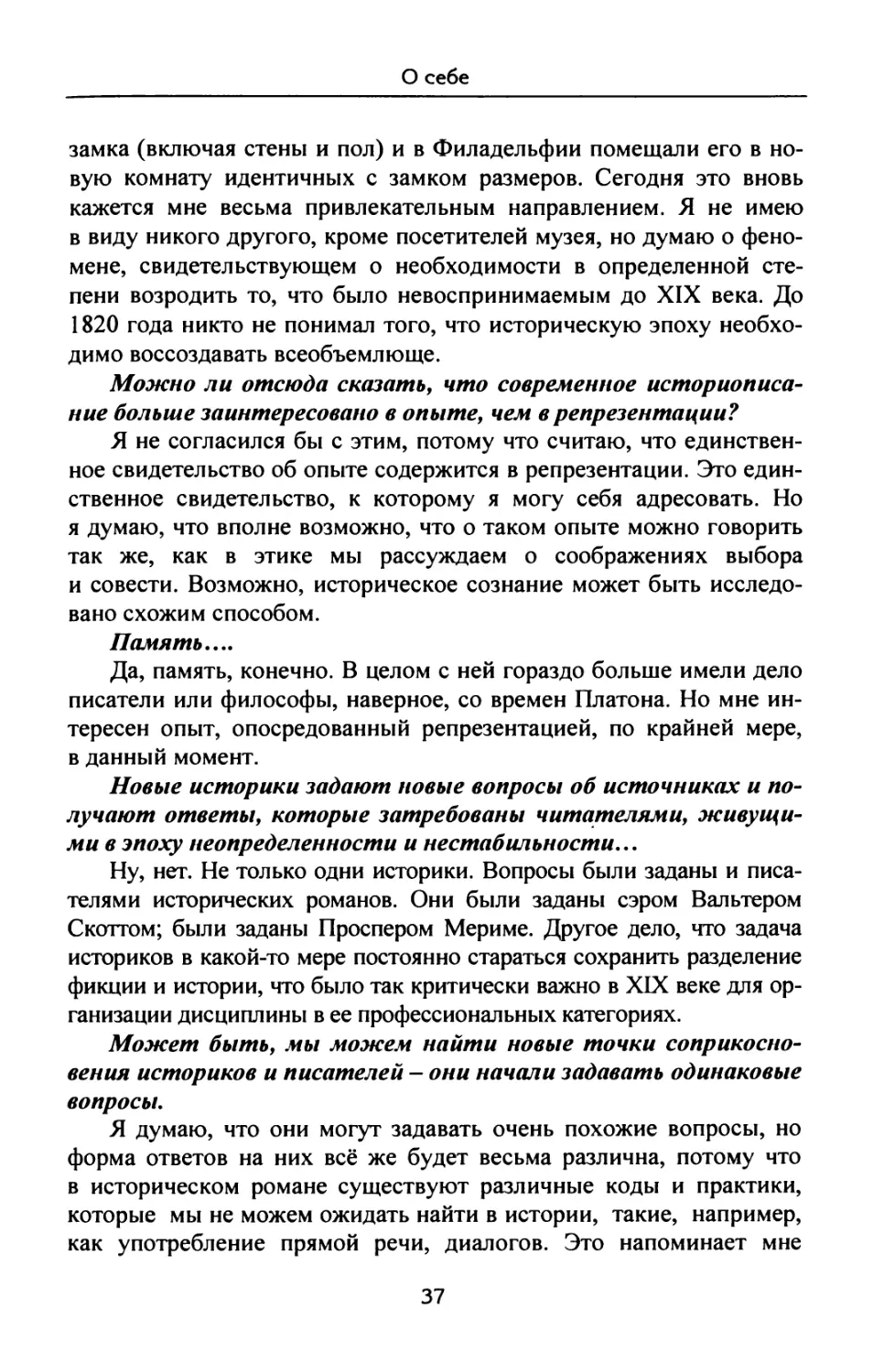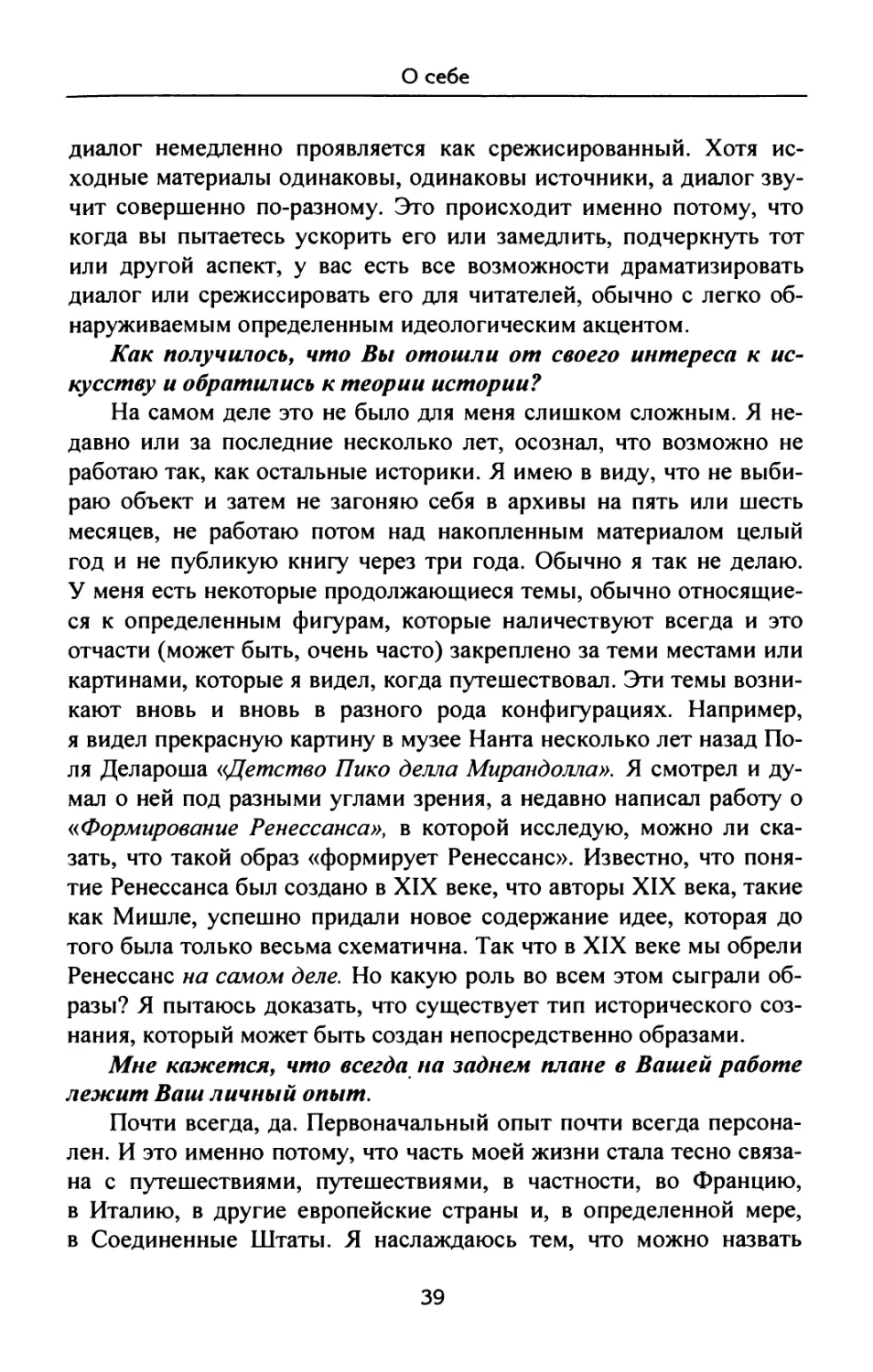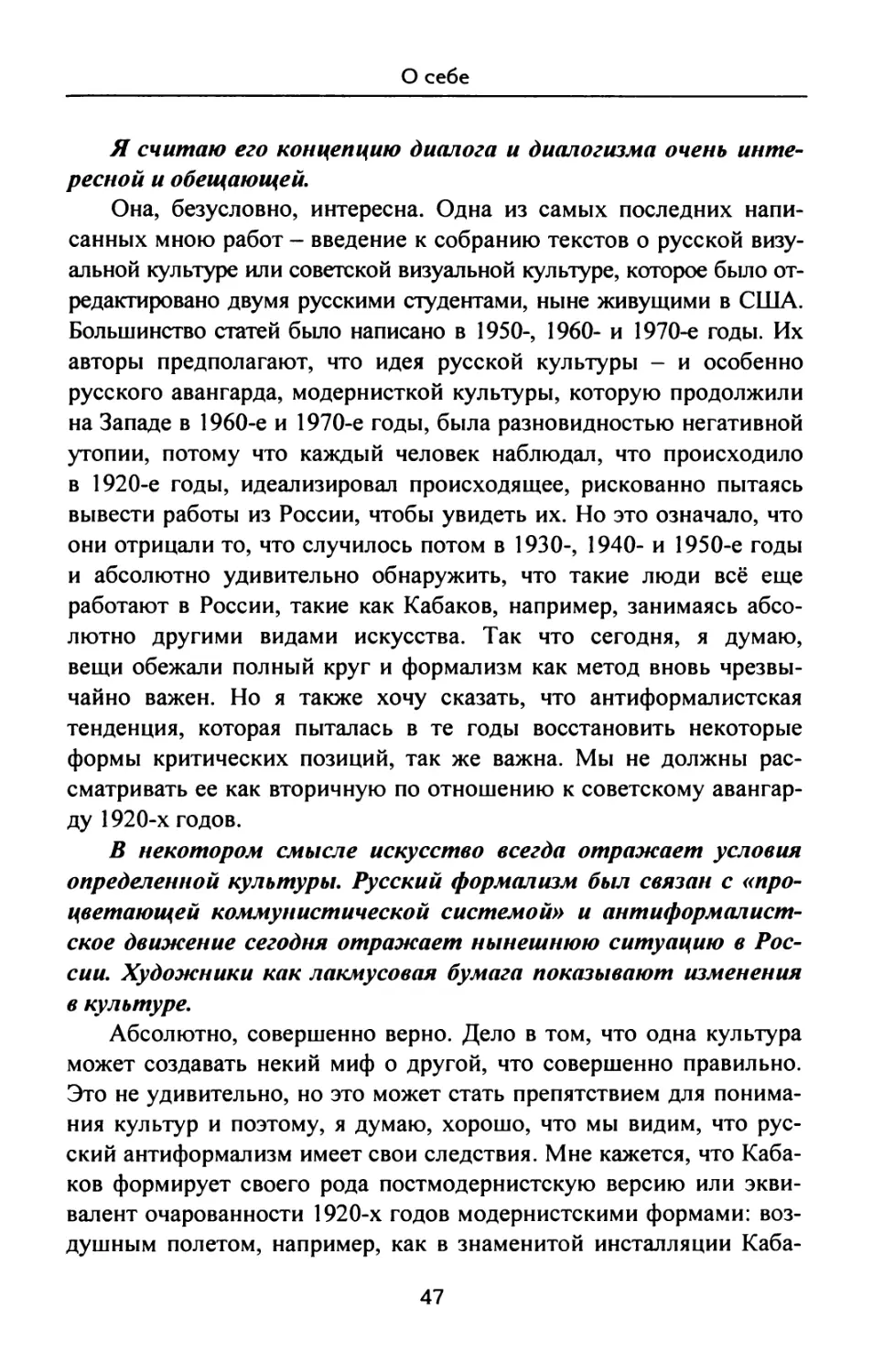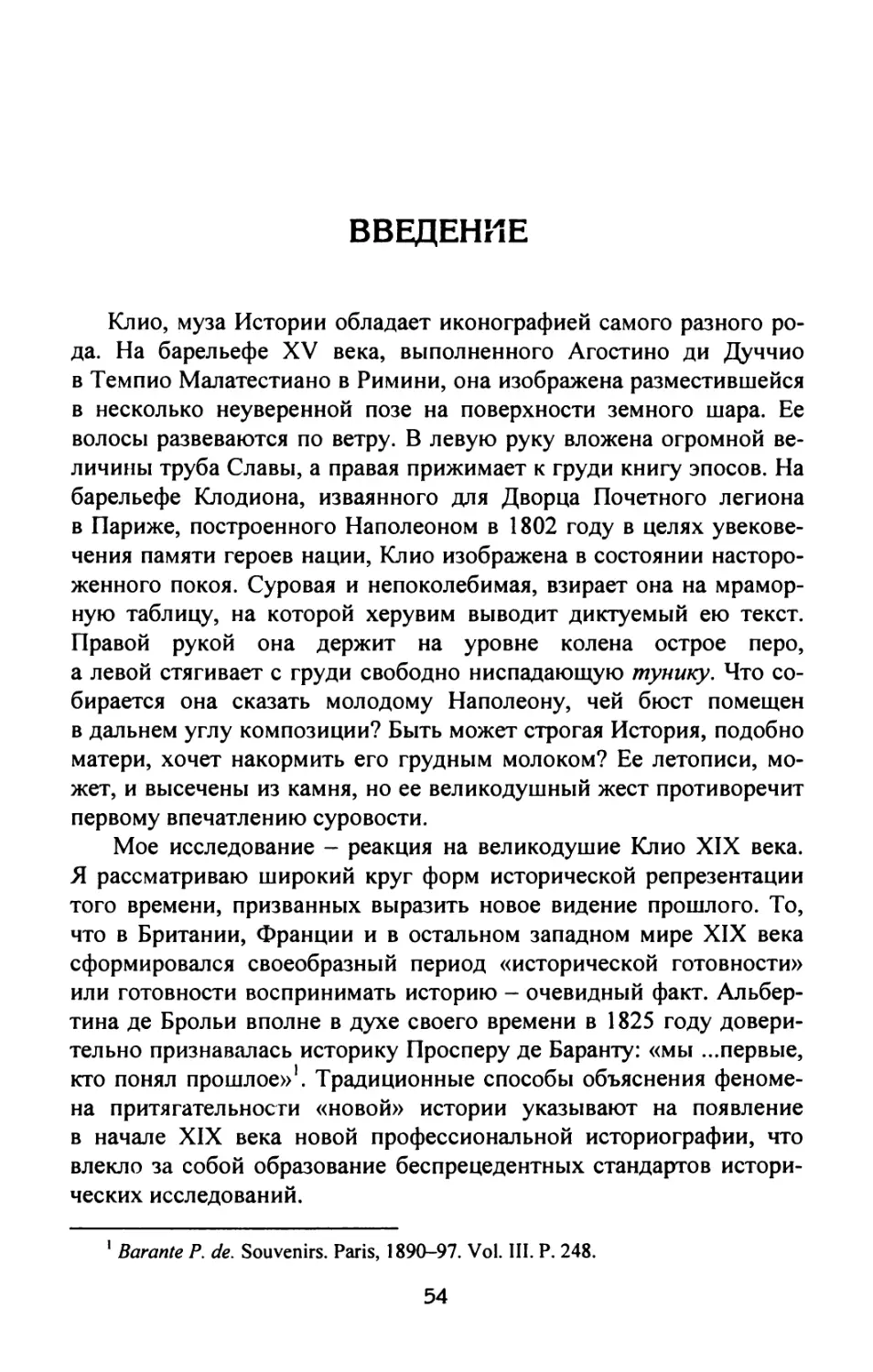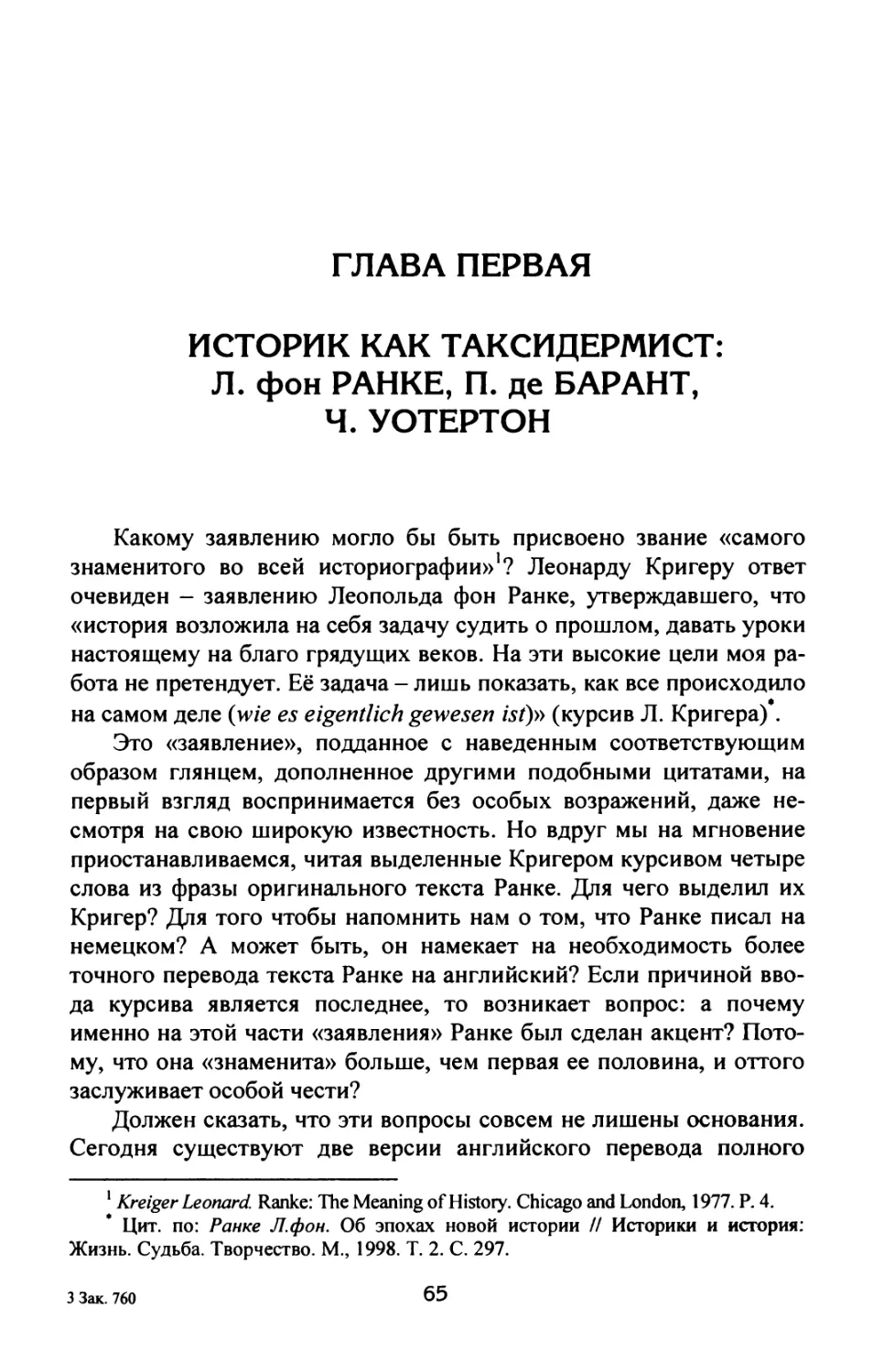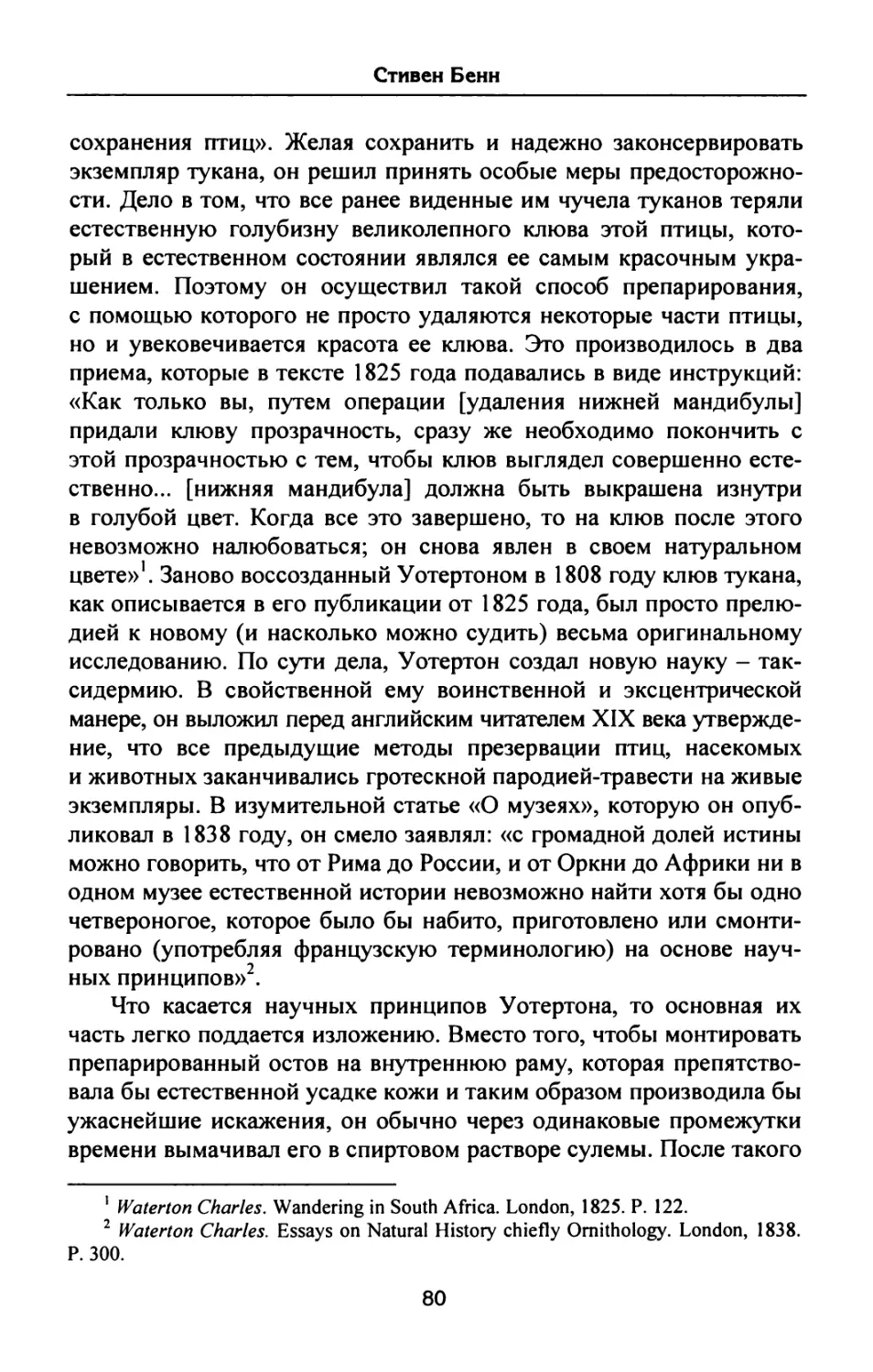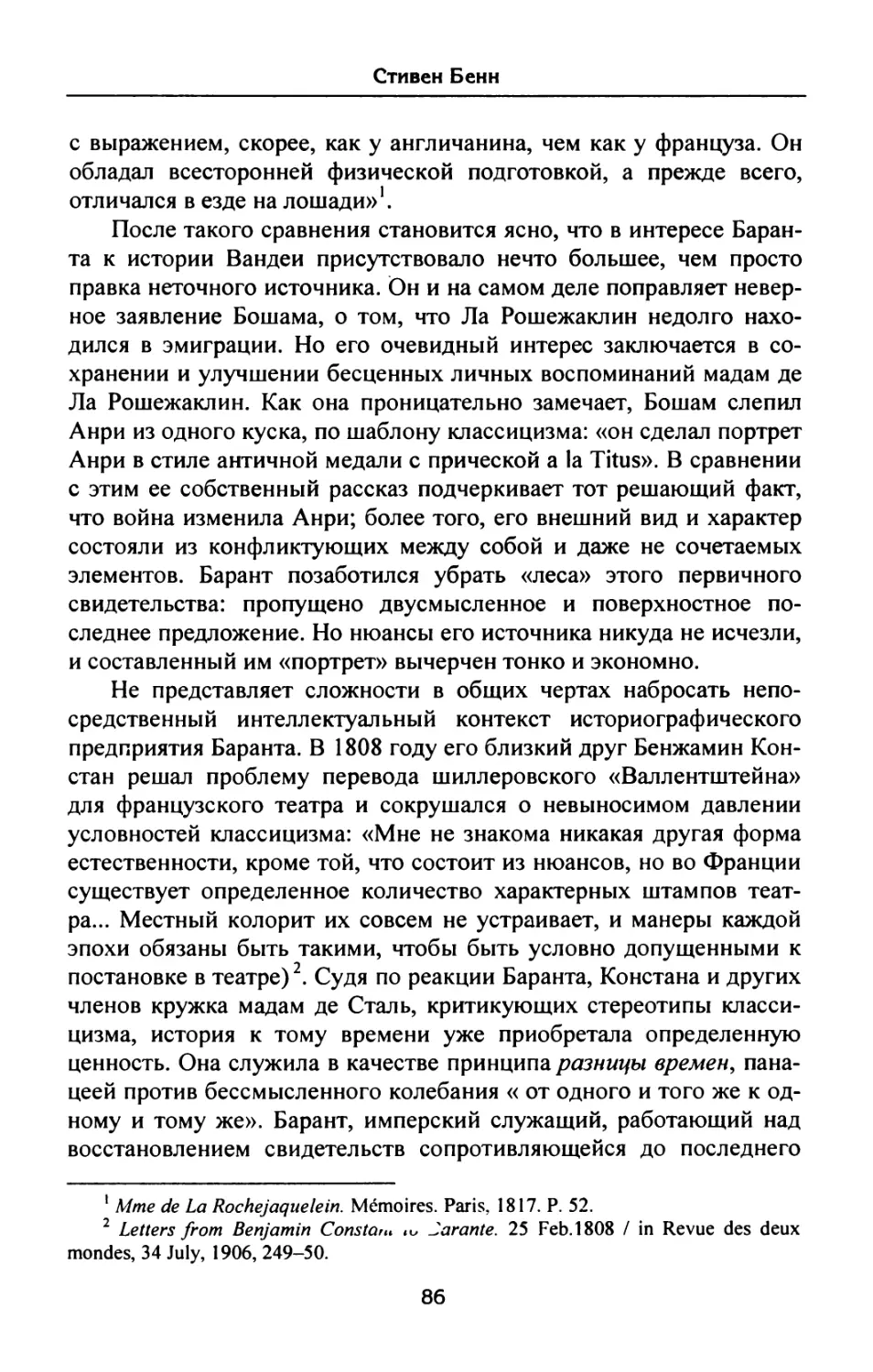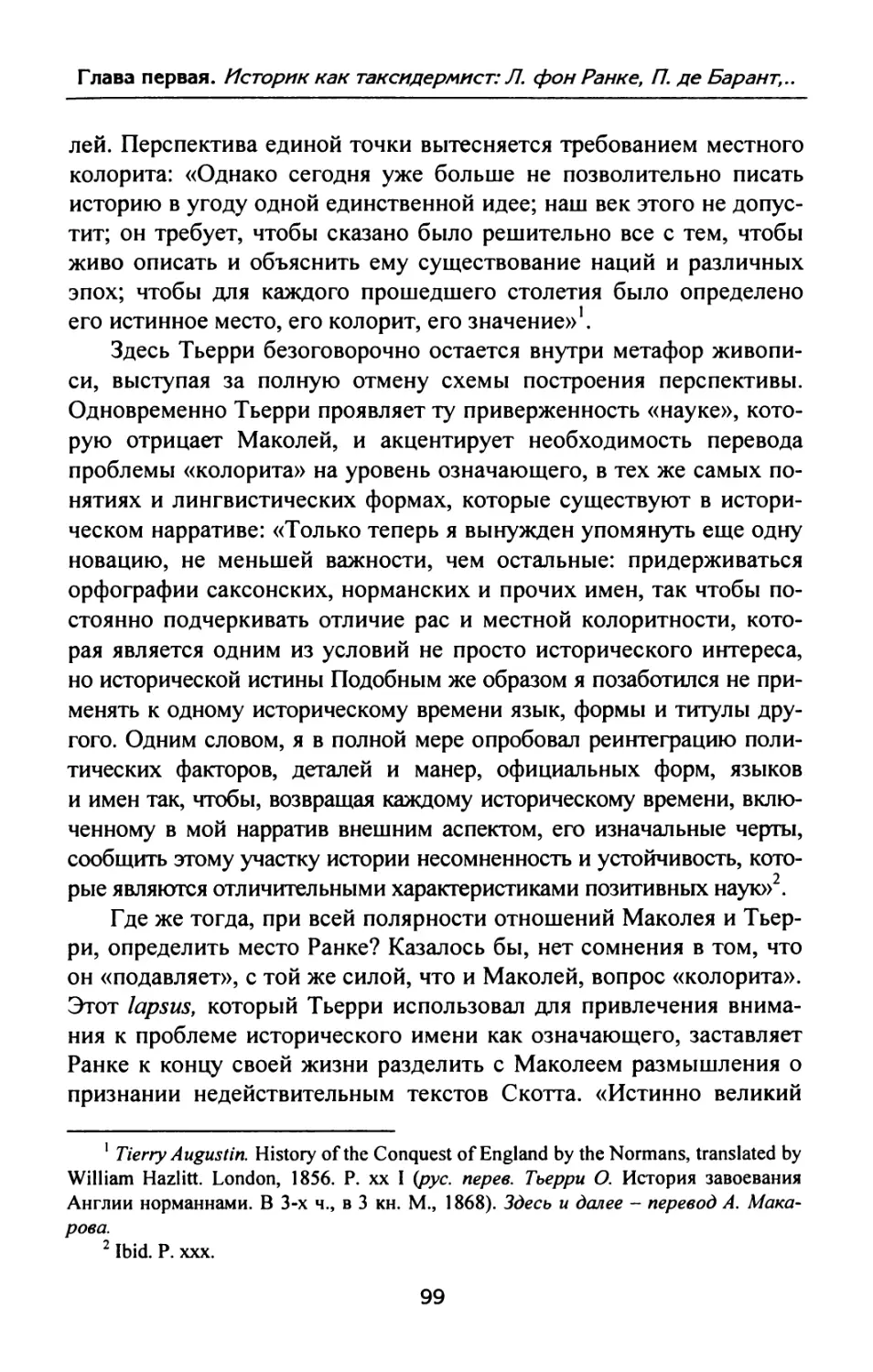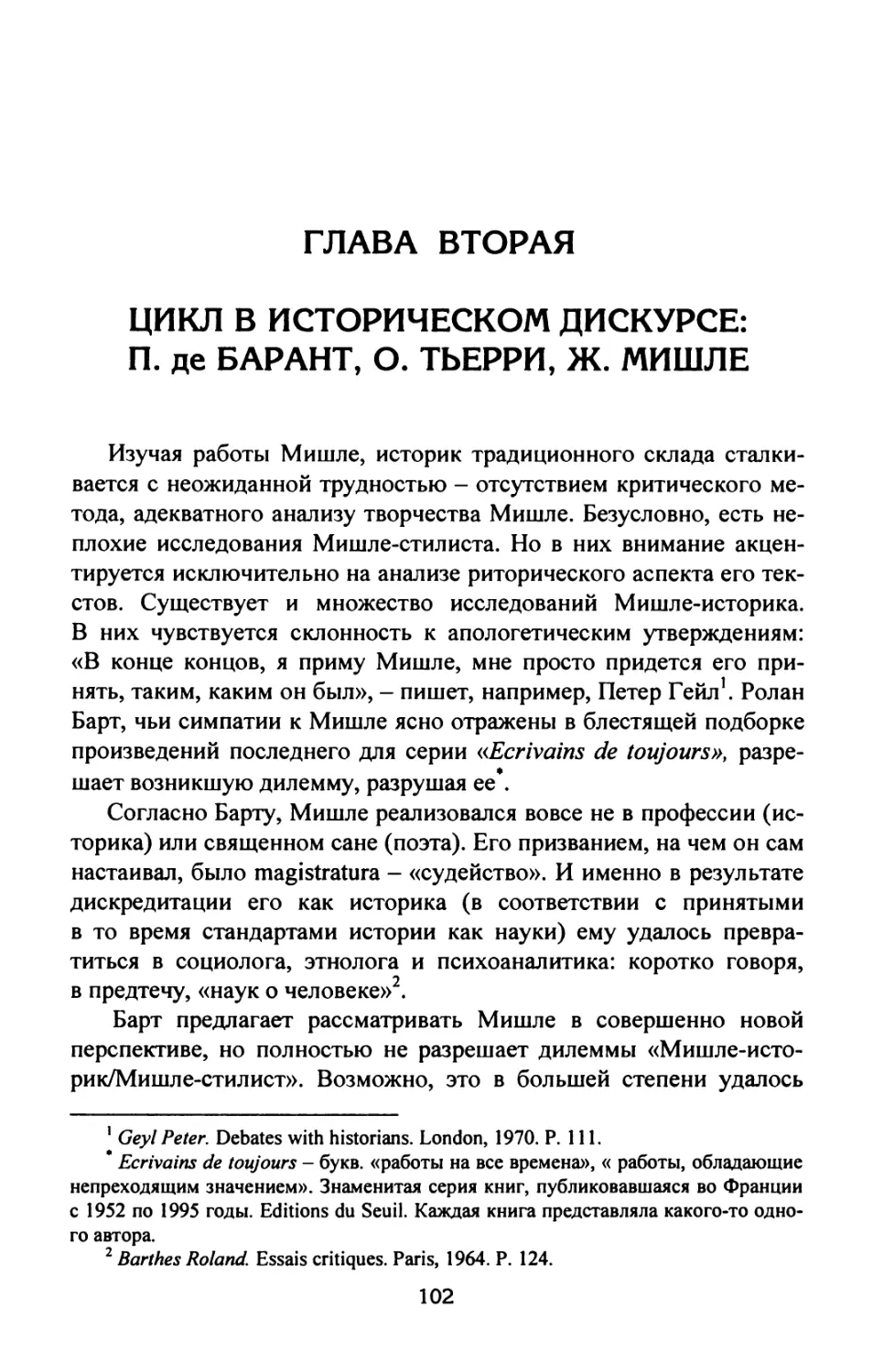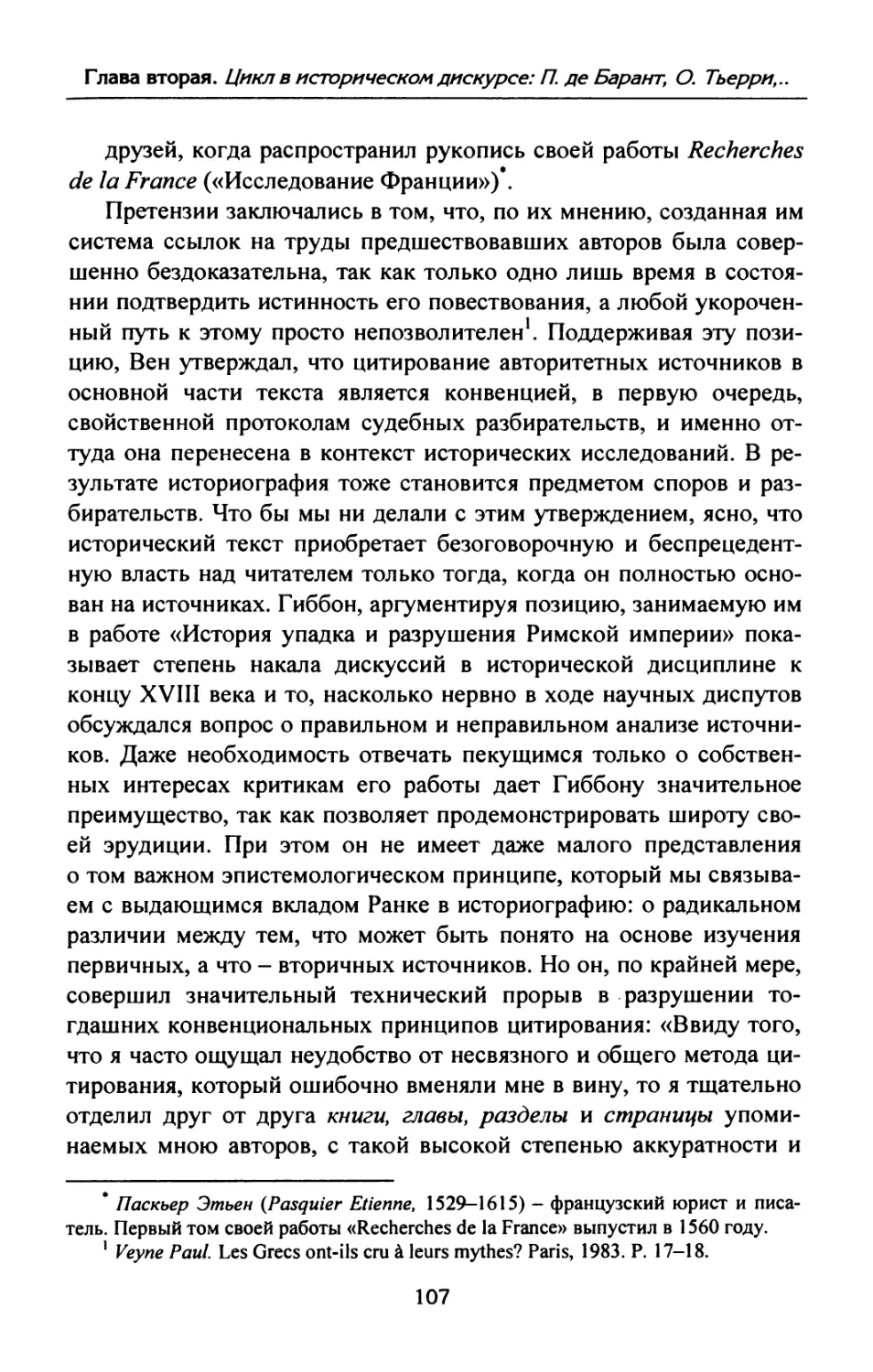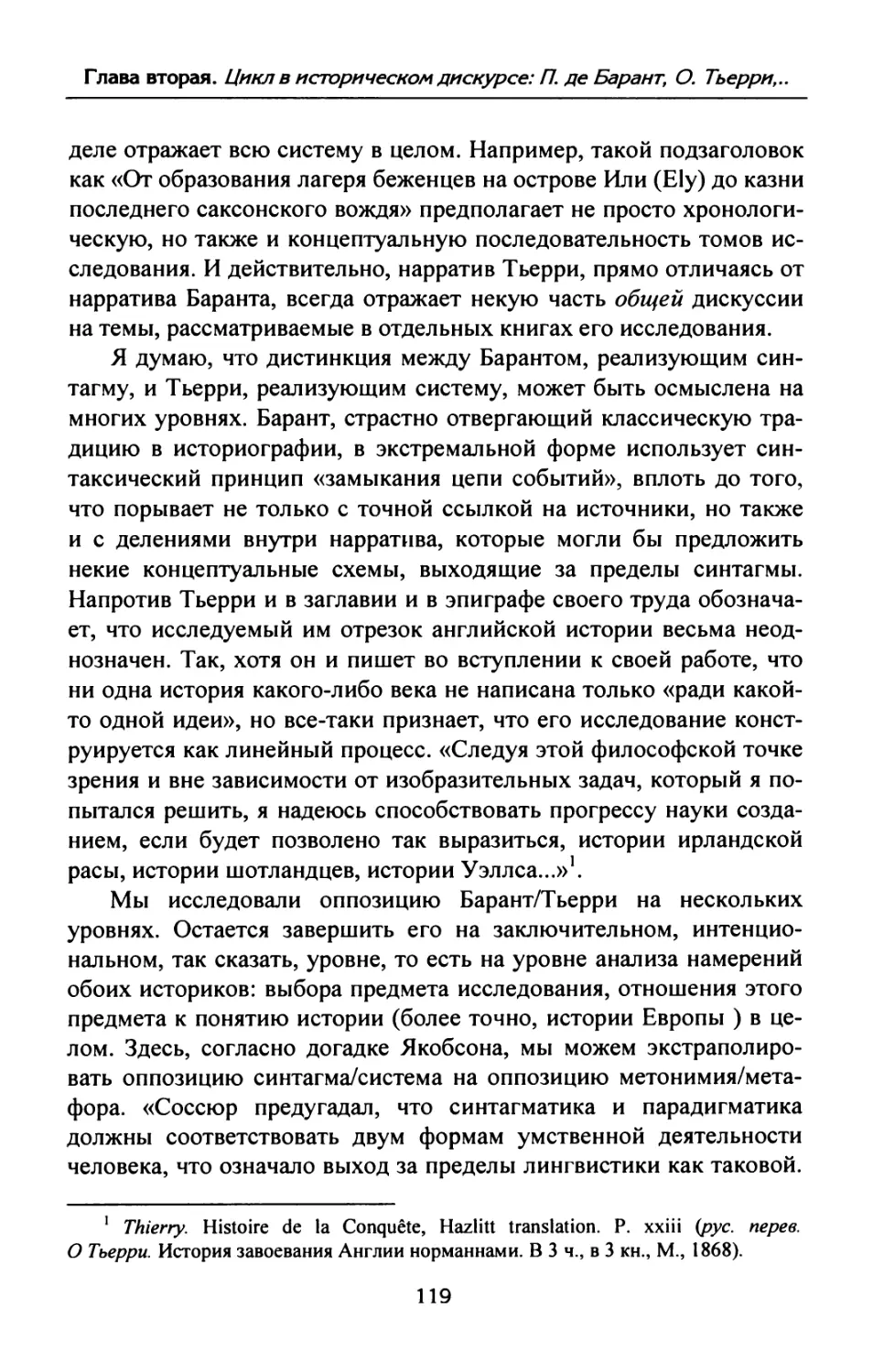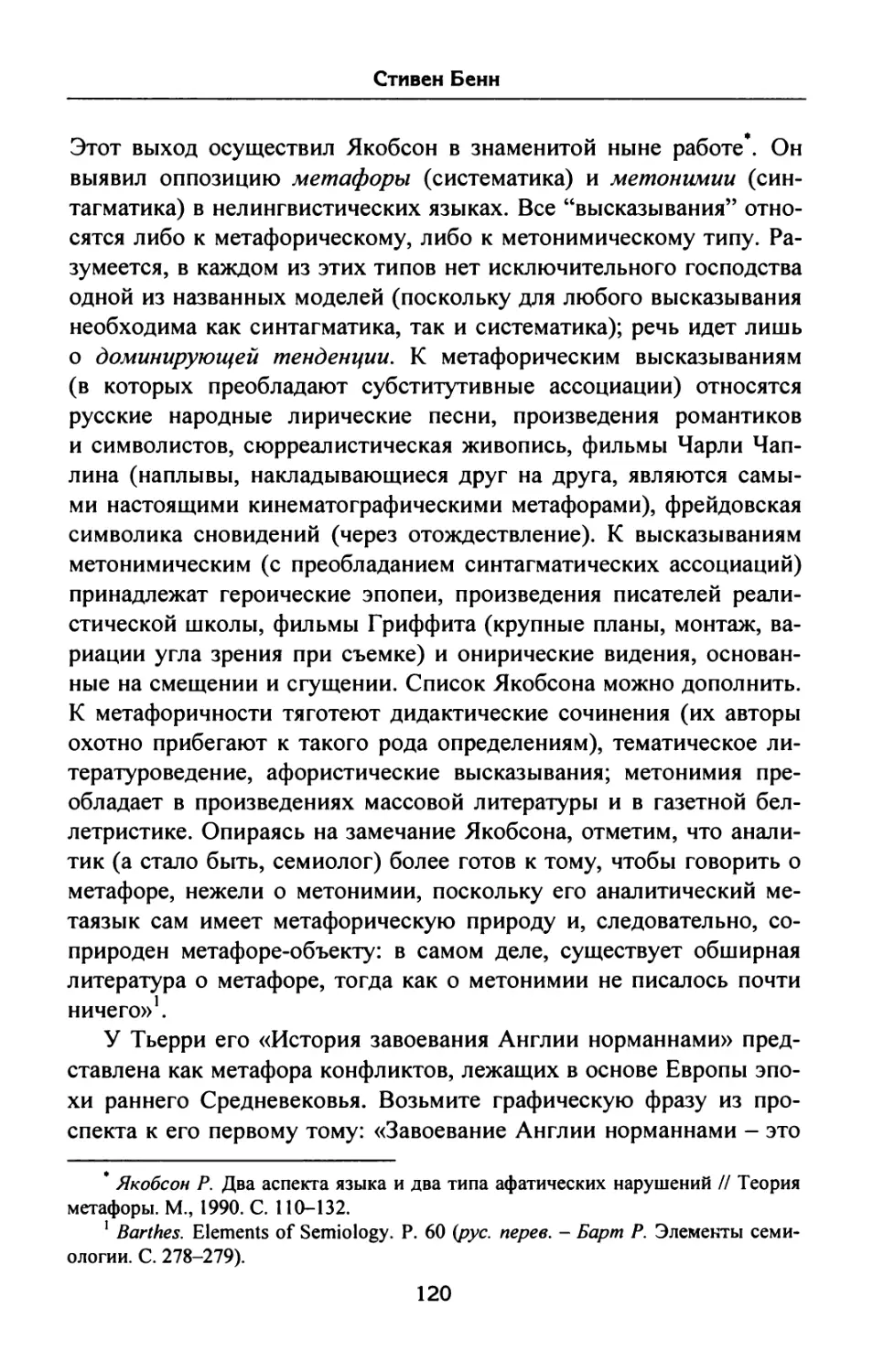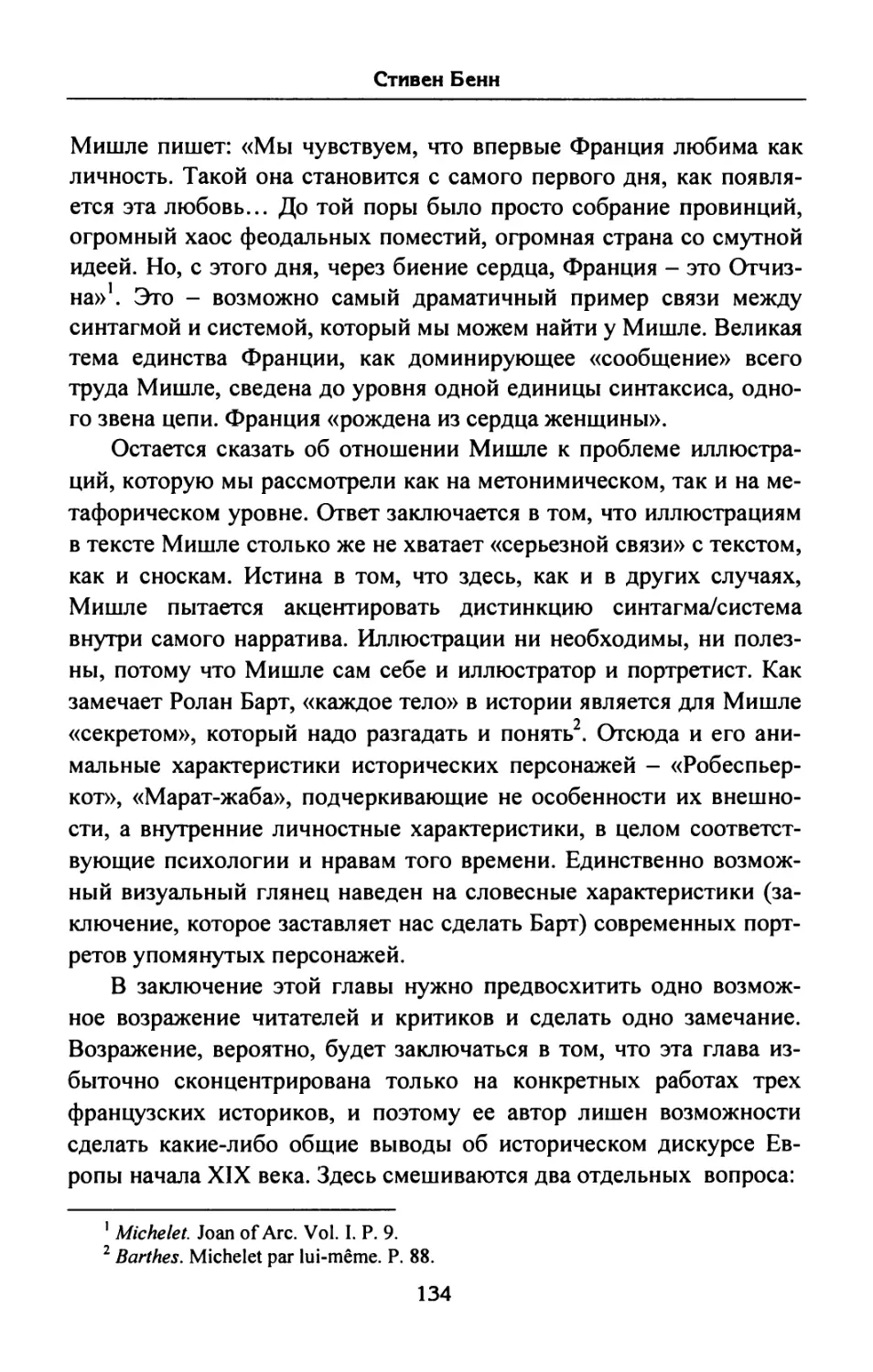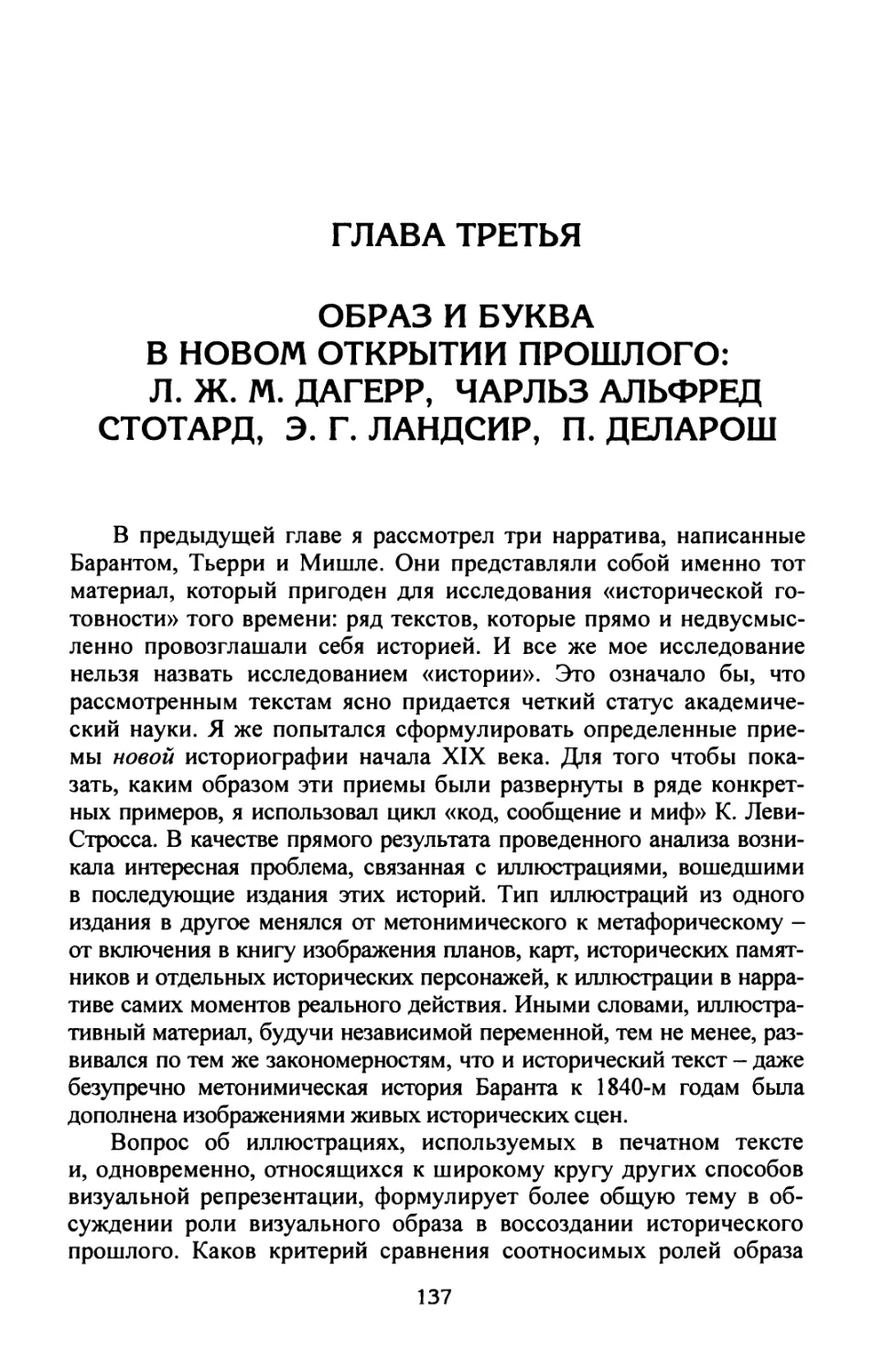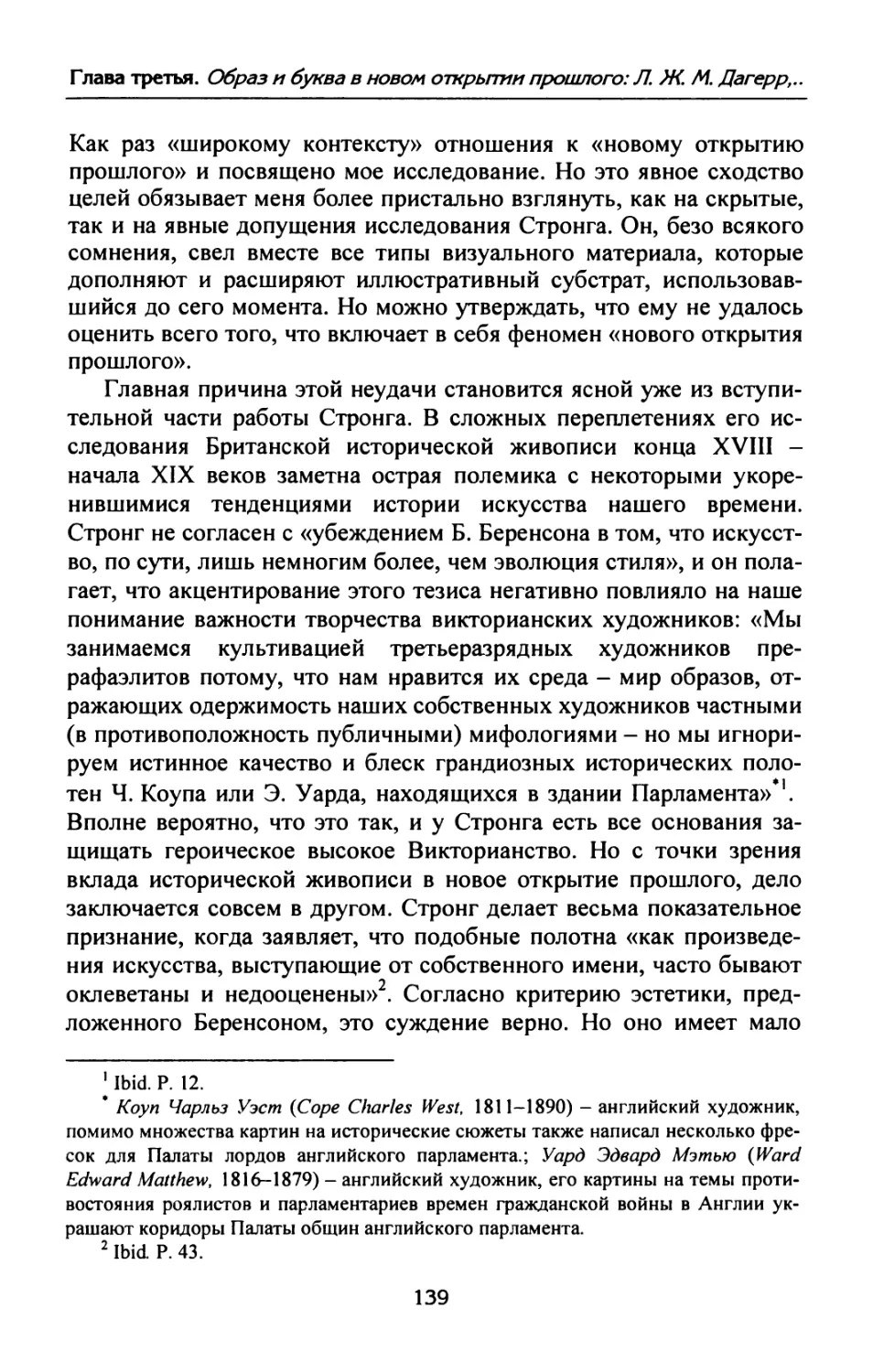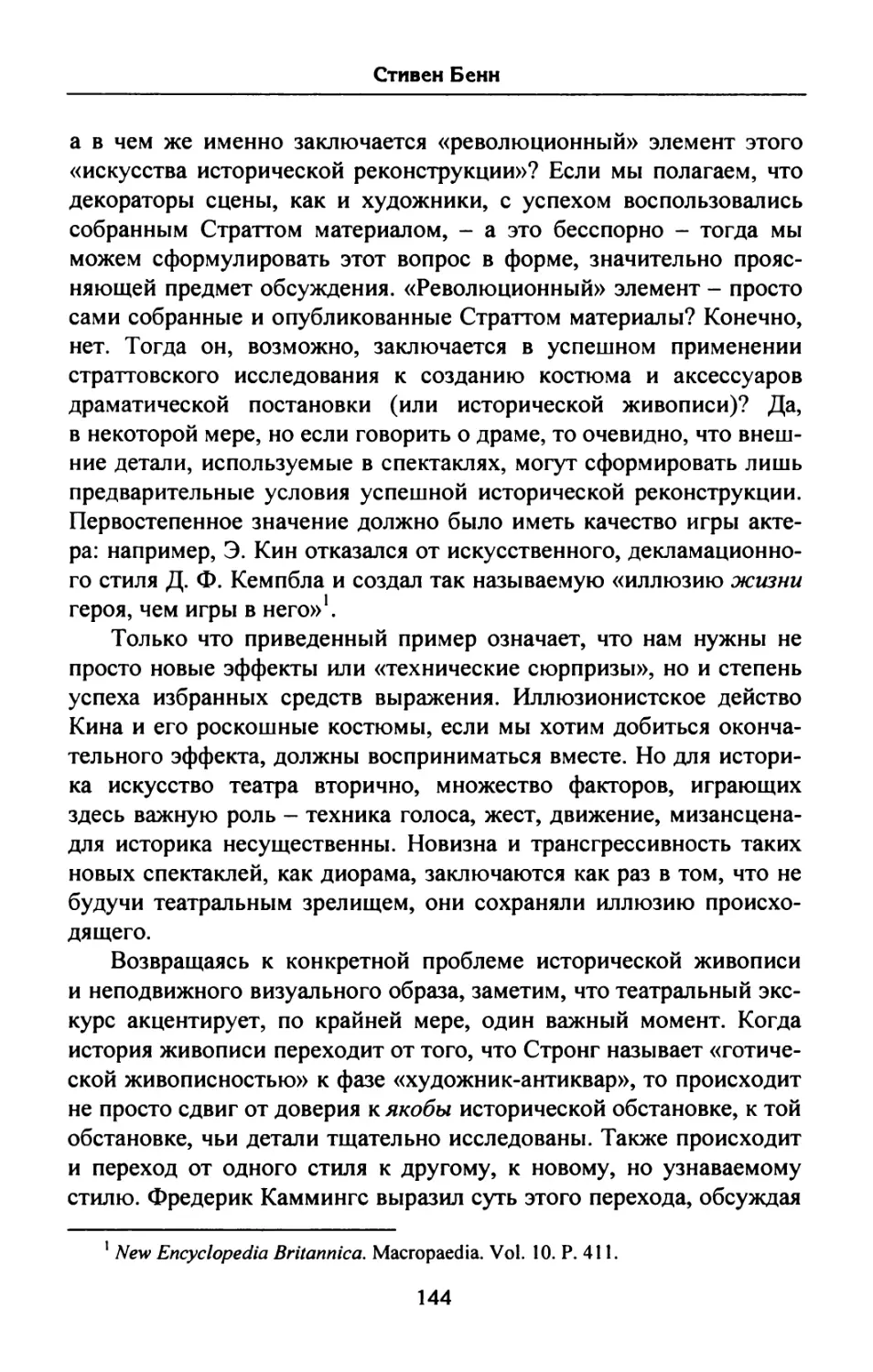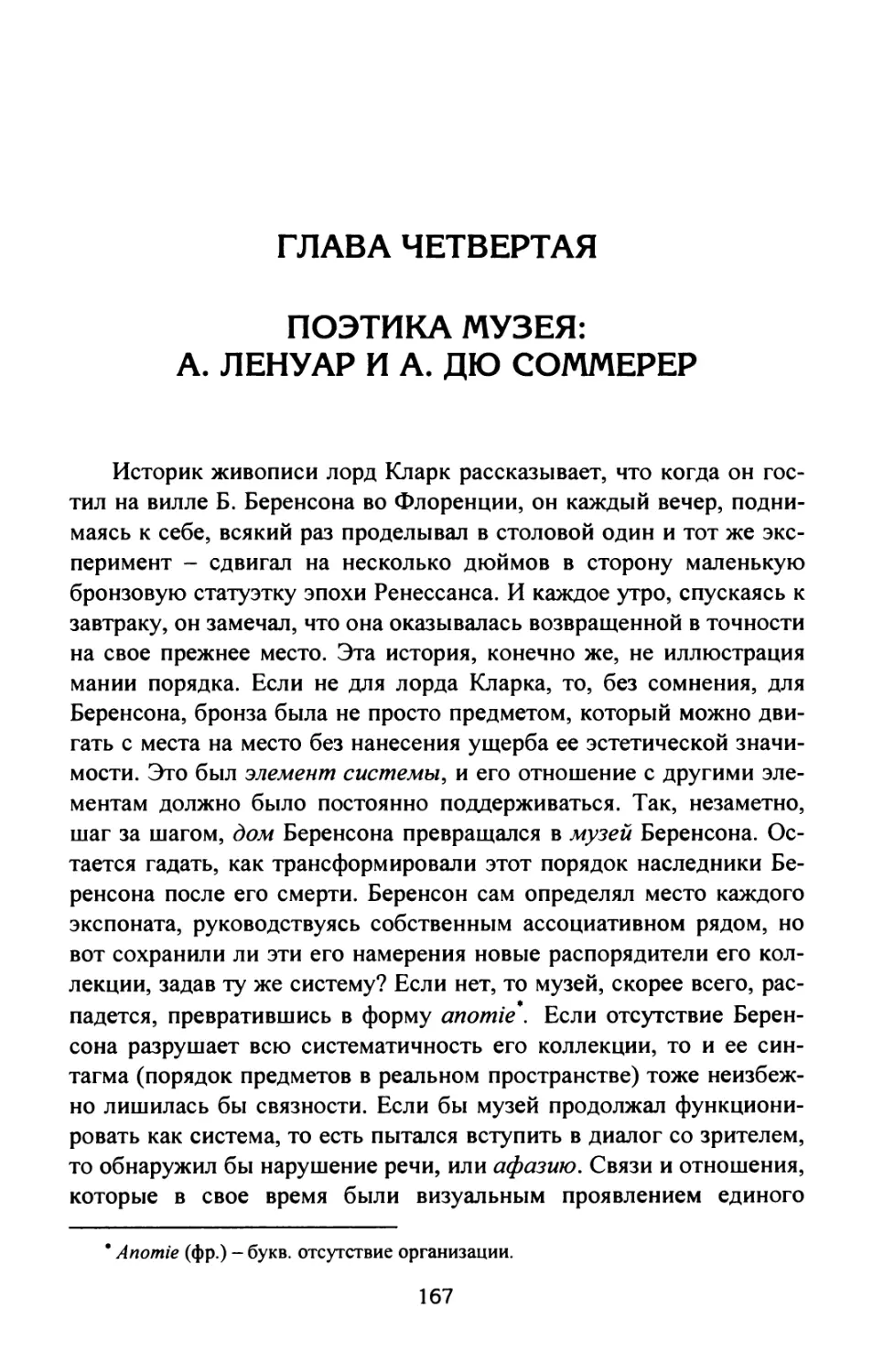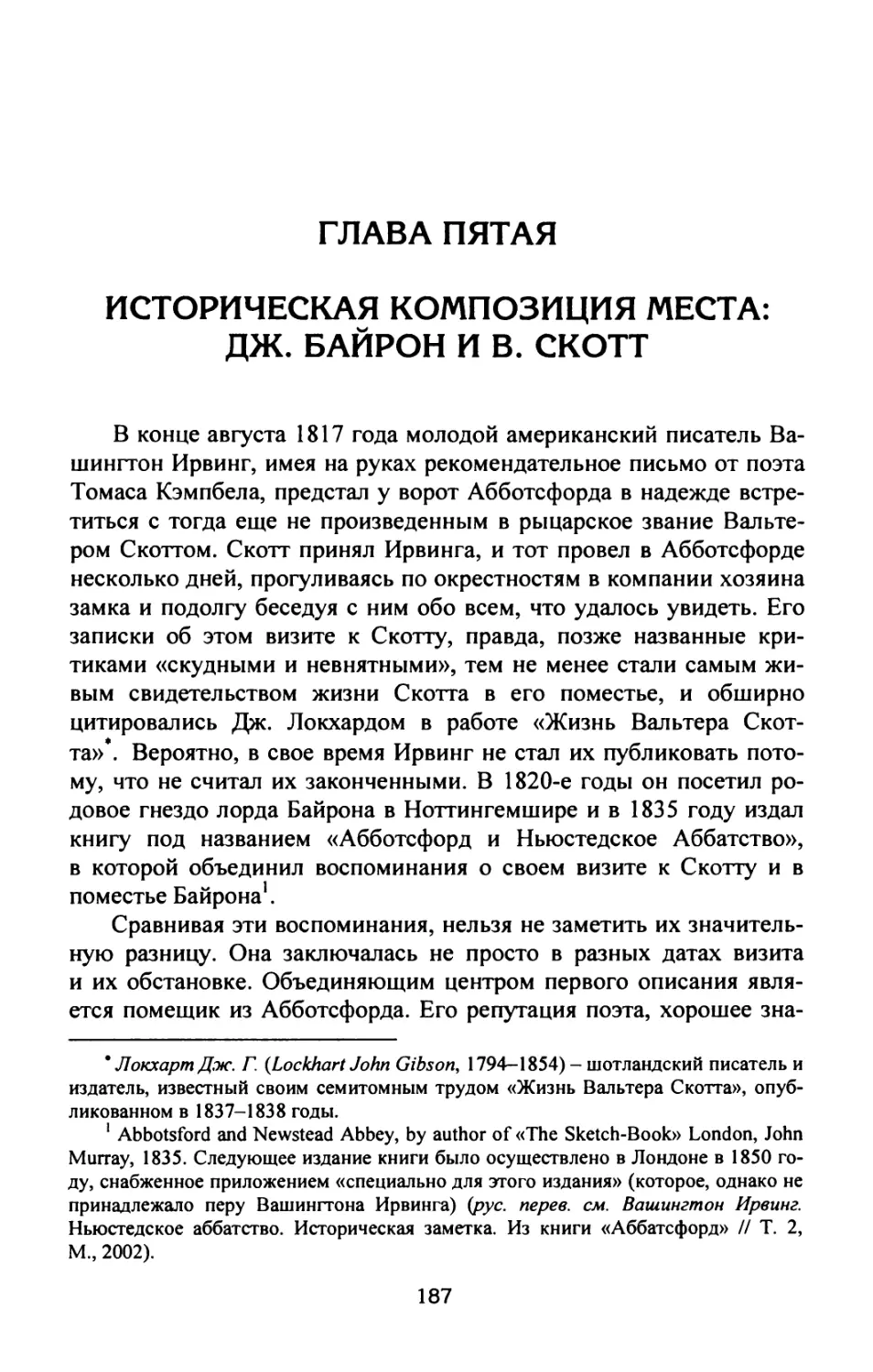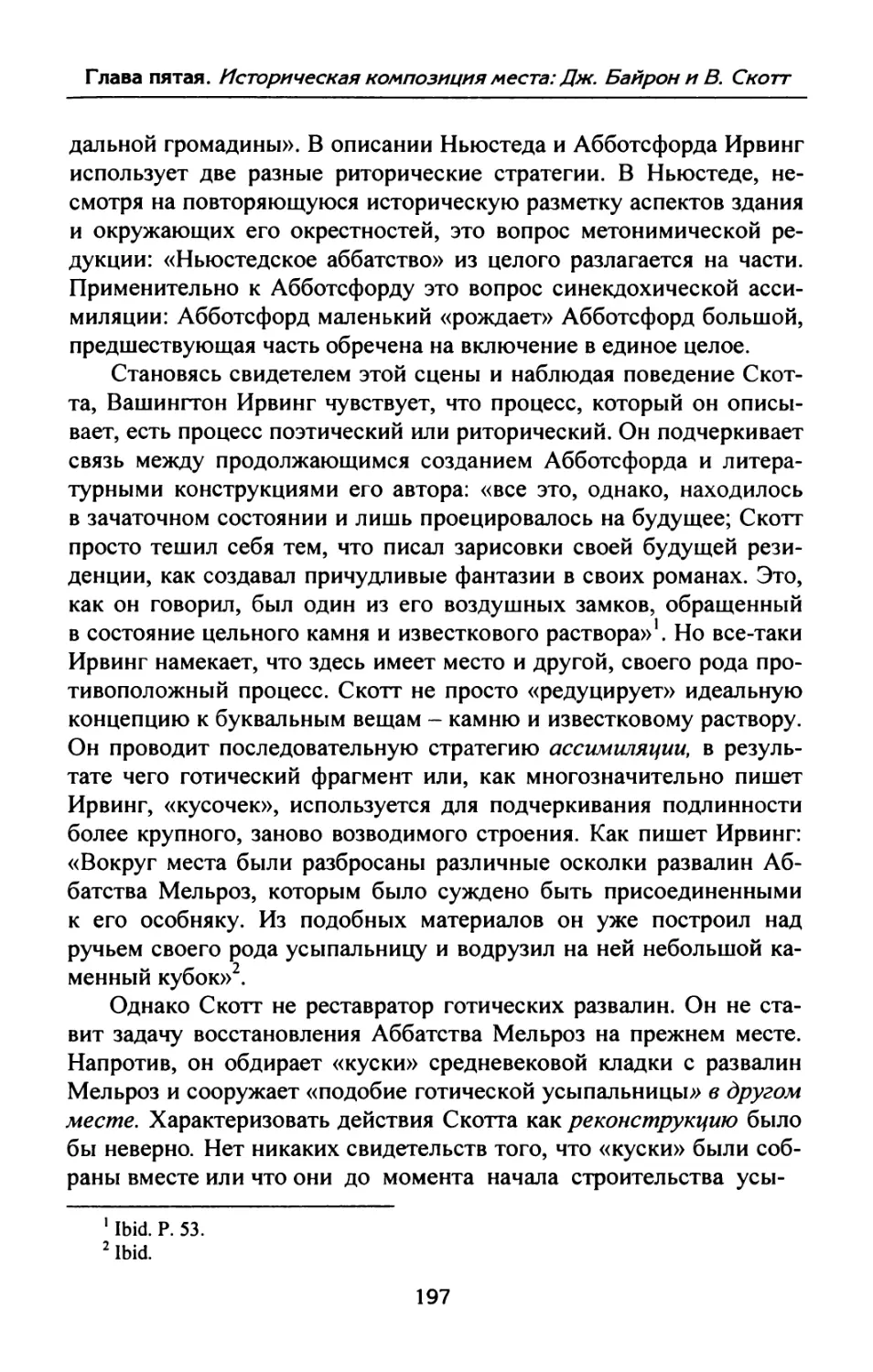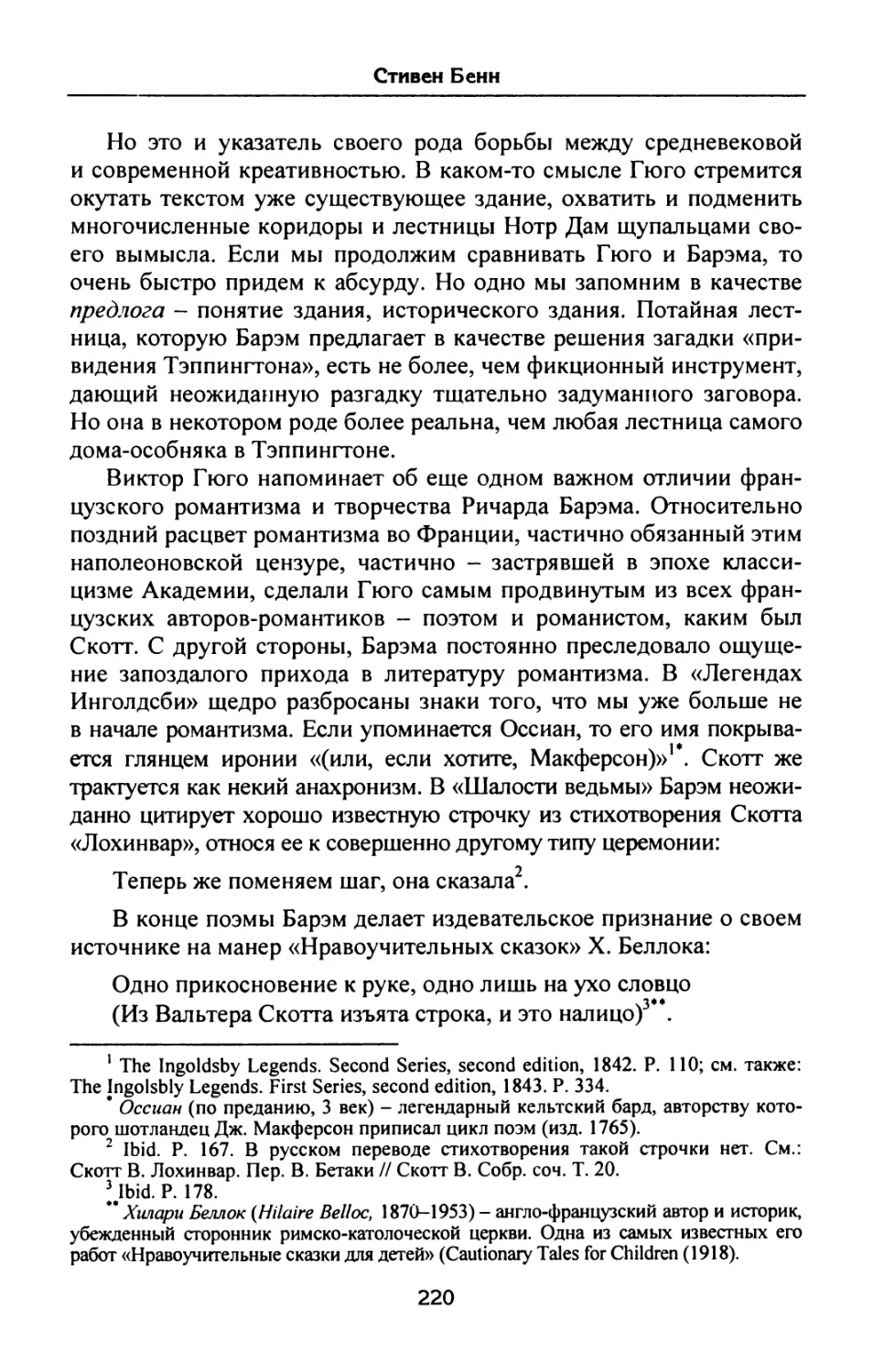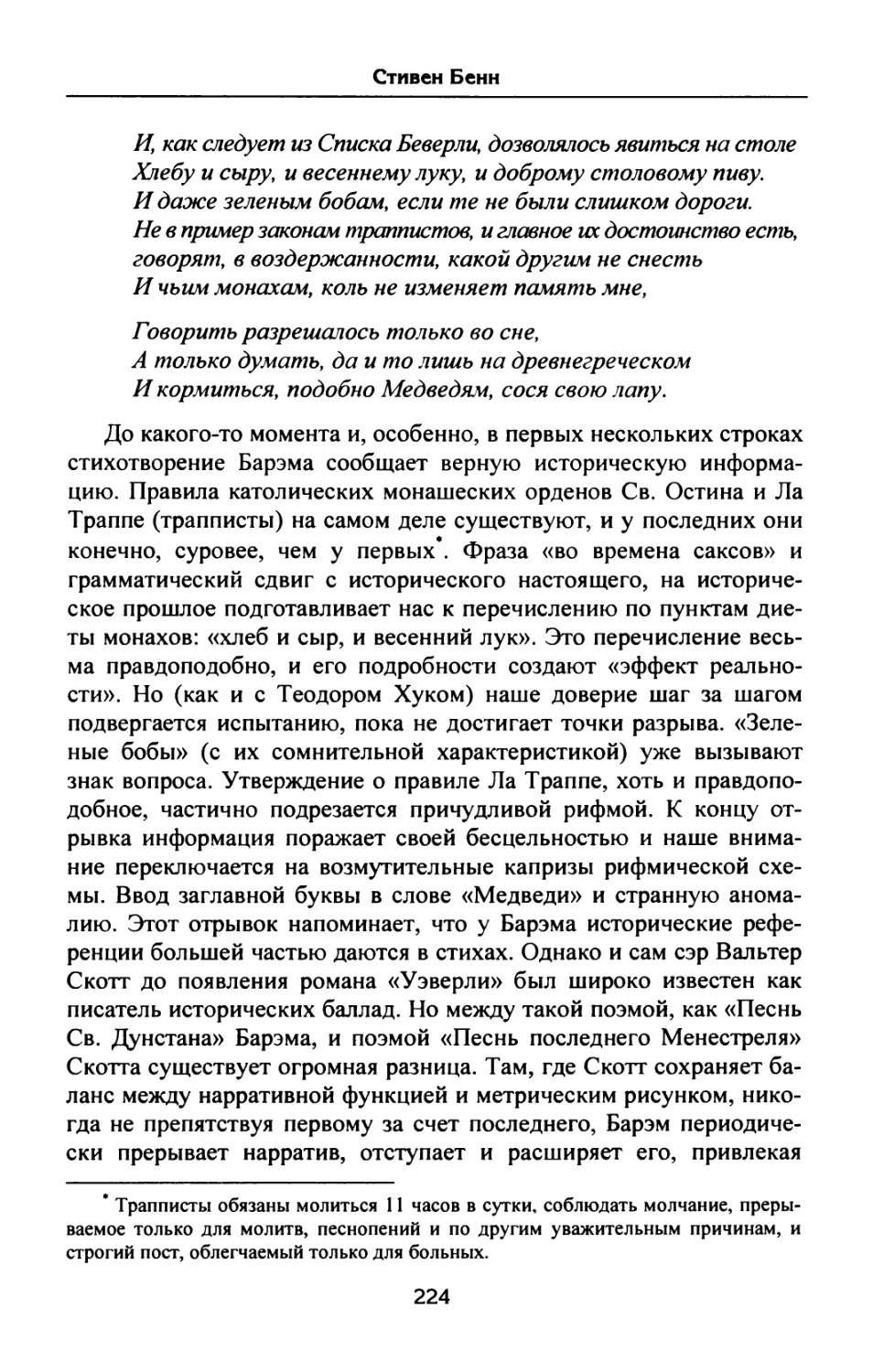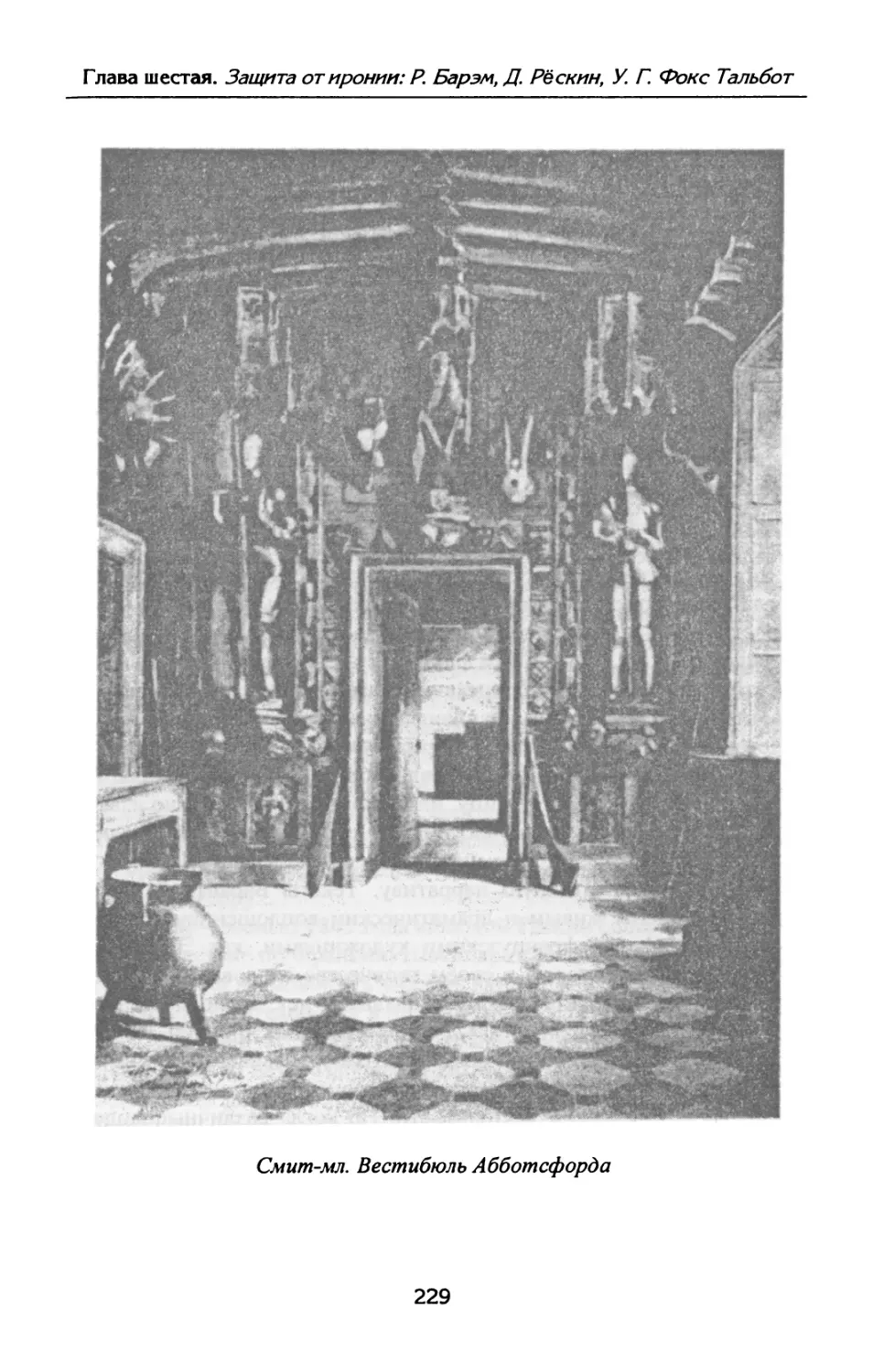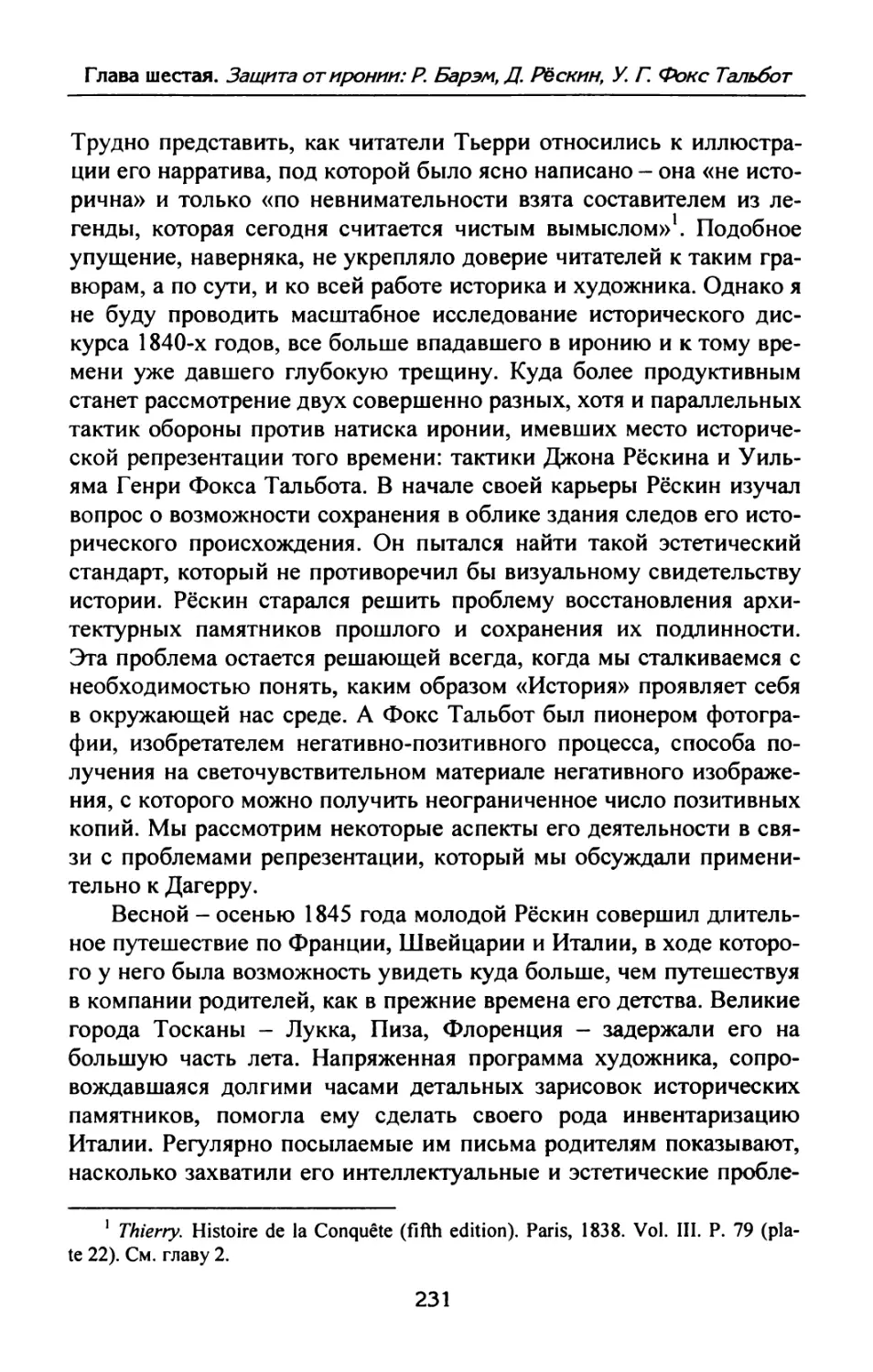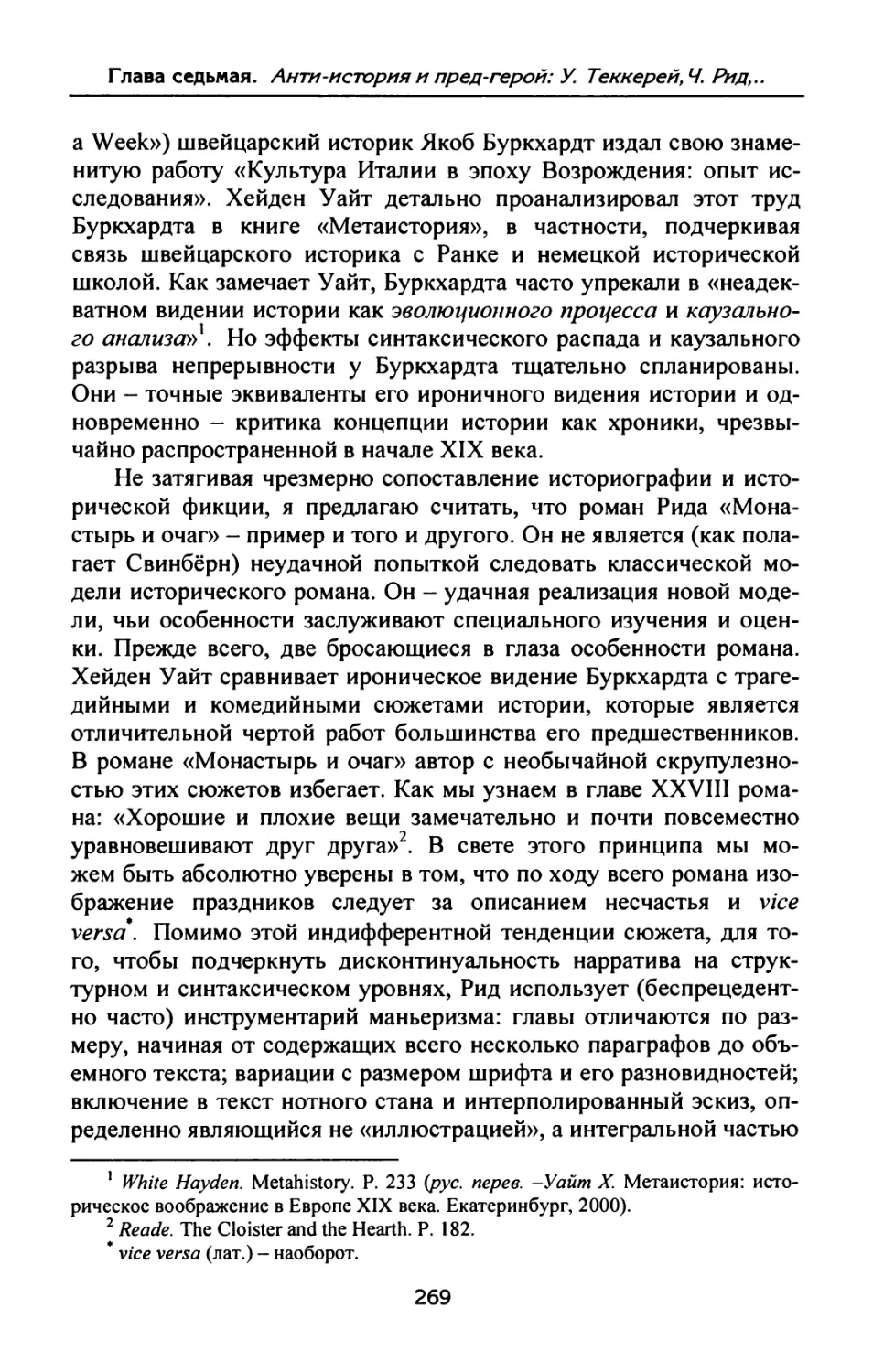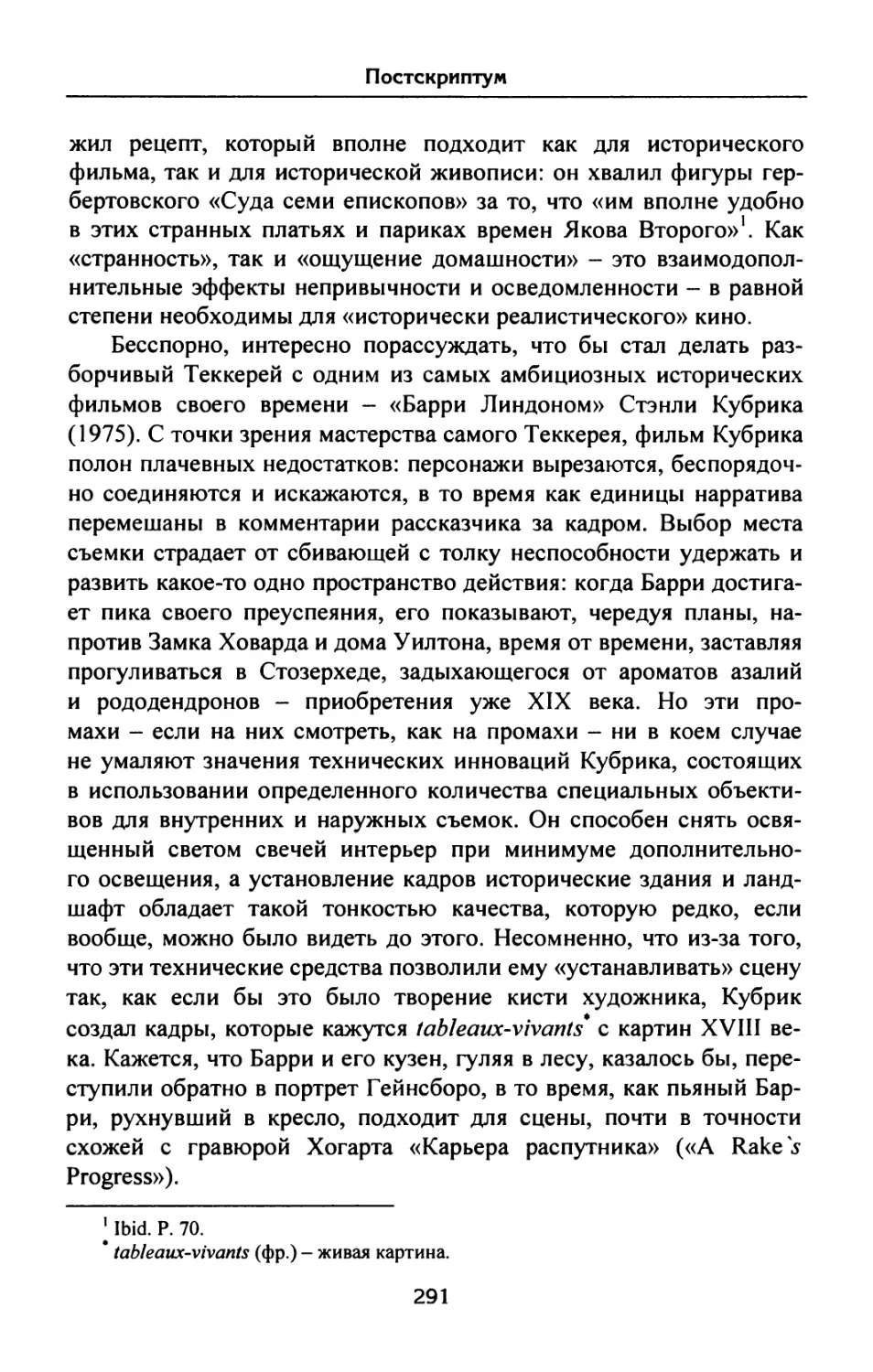Текст
Стивен ЪШН
Одежды %хио
МОСКВА
KAHJpH+
2011
УДК 1/14
ББКбЗ.З
Б 46
Перевод с английского Кукарцевой М., Макарова А.
Общая редакция М. Кукарцевой, А. Мегилла
Вступительная статья М. Кукарцевой
Бенн Стивен
Б46 Одежды Клио: научная монография / Стивен Бенн. — М.:
«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. — 304 с.
ISBN 978-5-88373-064-0
Книга «Одежды Клио» (The Clothing of Clio) представляет собой
междисциплинарное исследование приемов и методов репрезентации в истории.
Относя к ней историческую живопись, исторические романы, музеи, автор
вводит понятие исторической поэтики и раскрывает его содержание. Он
полагает, что если в историографии мы открываем феномен репрезентации, то
в современном искусстве находим исторические основания, лежащие в основе
этого феномена. В результате перед нами встает задача исследовать всю
родовую структуру репрезентации, что автор и делает в своей работе.
УДК 1/14
ББКбЗ.З
ISBN 978-5-88373-064-0 © Бенн С, 2011
© Кукарцева М., 2011
© Издательство «Канон+»
РООИ «Реабилитация», 2011
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В ИСТОРИИ
Книга Стивена Бенна «Одежды Клио» впервые опубликована
в 1984 году издательством Кембриджского университета. Что же
заставило нас перевести ее на русский язык сегодня, спустя 26 лет
после ее появления? Ответ прост - значимый теоретический вклад в
соображения о природе исторических исследований, а именно -
о природе и особенностях эволюции методов репрезентации в
истории, стоящий в одном ряду с исследованиями возможности
создания теории истории, осуществленными в XX веке Р. Коззелеком,
Ф. Анкерсмитом, X. Уайтом. В чем же конкретно состоит
указанный вклад Бенна в понимание «исторического дискурса»? Что он
сделал такого в теории истории, чего не удалось другим
исследователям?
Исторический дискурс вообще имеет две стороны,
неконвергентные друг с другом едва ли не с момента их возникновения:
одна касается вопросов свидетельства, метода и истины в истории
и разрабатывается преимущественно философами аналитической
школы, вторая относится к исследованиям феномена исторической
формы и презентации и разрабатывается самими историками,
литературоведами и пр. Не рассматривая здесь первую сторону
теоретических исследований истории, мы сосредоточимся только на том,
что имеет прямое отношение к настоящему изданию1.
Интерес к историческому нарративу и особенностям,
отличающим его от нарратива литературного, проявился в исследованиях,
так или иначе изучающих эпистемологию истории, примерно в
середине 1960-х годов. Назовем самые важные и значимые из них.
Прежде всего, это знаменитая «Аналитическая философия исто-
1 Об аналитической философии истории см., например, М. Кукарцева.
Аналитическая философия истории // Полигнозис, 2009, № 3 (36); М. Кукарцева.
Предисловие к книге А. Мегилла Историческая эпистемология. М., 2009. С. 31-45.
5
КуКарцева M.
рии» А. Данто, ставшая классическим исследованием нарратива
вообще и исторического нарратива в частности, а также
исследование Л. Минка «Нарративная форма как когнитивный инструмент»1.
В 1973 году историки познакомились с идеями X. Уайта о
сущности тропологии и ее применении к историческому нарративу,
которые он изложил в своей знаменитой «Метаистории»2. В середине
1970 годов американский историк X. Келлнер опубликовал серию
весьма провокативных очерков о природе исторической теории,
включая рецензии на «Метаисторию» X. Уайта и
«Средиземноморье» Ф. Броделя3.
В первой половине 1980-х годов появилось уже множество
публикаций, посвященных проблемам репрезентации в истории. К
этому времени Уайт скорректировал и уточнил свои взгляды на тропо-
логию и эстетику в исторических исследованиях и опубликовал их
в книге «Содержание формы: нарративный дискурс и нарративная
интерпретация»4. П. Рикёр издал трехтомный труд «Время и нарра-
тив»5, а в 1980 году Уайт и Рикер стали организаторами
дискуссии о природе исторического нарратива в журнале Critical Inquiry6.
В Германии в 1982 году под редакцией Р. Козеллека, X. Лутца
и Й. Рюзена вышла очень интересная коллективная монография
1 Danto Arthur С. Analytical Philosophy of History. (Cambridge: Cambridge
University Press, 1965. (рус. nepee - А. Данто Аналитическая философия истории. M,
2002); Mink Louis О. Narrative Form as a Cognitive Instrument // Canary Robert H. and
Kozicki Henry, eds. The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding
. Madison: University of Wisconsin Press, 1978. P. 129-49.
2 Hayden White. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century
Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973),
3 Hans Kellner. A Bedrock of Order: Hayden White's Linguistic Humanism,"//
History and Theory, Beiheft 19 (1980): 1-29, Disorderly Conduct: Braudel's Mediterranean
Satire // History and Theory 18 (1979): 197-222; Time Out: The Discontinuity of
Historical Consciousness // History and Theory 14 (1975): 275-296 Эти очерки вошли в
H. Kellner, Language and Historical Representation: Getting the Story Croooked
Madison: University of Wisconsin Press, 1989.
4 White Hayden. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical
Representation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, Johns Hopkins University
Press, 1987.
5 Ricoeur Paul. Temps et récit (3 vols., Paris: Seuil, 1983) (рус. nepee. - П. Рикер
Время и рассказ. М.; СПб., 1999. Т. 1-2.
6 Inquiry Critical. Vol. 7, no. 1 (Autumn 1980), On Narrative; the issue was
subsequently published, with some additions, as a book: W. J. T. Mitchell, ed., On Narrative.
Chicago: University of Chicago Press, 1981.
6
Кукарцева M. Репрезентация в истории
«Formen der Geschichtschreibung» («Формы историописания»),
посвященная вопросам и проблемам исторического нарратива и
риторике исторического текста1. Особого внимания заслуживают
работы Р. Козеллека, в частности его книга «Будущее прошлое:
семантика исторического времени» вышедшая в 1979 году в Германии и
в 1986 году переведенная на английский язык, привлекла
к себе внимание множества историков2. Наконец, следует обратить
внимание и на важнейшую работу Ф. Анкерсмита «Нарративная
логика», изданную в 1983 году3. Казалось бы, размышления об
истории как нарративном, риторическом и эстетическом предприятии
стали в то время общим местом. Но было бы ошибкой придти к
такому мнению, потому что только к концу 1980-х годов историки
и интеллектуалы стали не просто замечать, а признавать
существование нарративно!риторической «школы» в исторической
теории. Рубежным в этом признании можно, пожалуй, считать
появление книги Ф. Анкерсмита «История и тропология: взлет и падение
метафоры»4. Она как бы подвела итог тем интеллектуальным
дебатам, которые имели место в рамках так называемого
«лингвистического поворота» в исторических исследованиях и даже обозначила
появление нового тренда в исторической дисциплине - «новой
интеллектуальной истории»5.
В этом контексте публикация в 1984 году книги С. Бенна
«Одежды Клио» стало sui generis. В стройном ряду перечисленных выше
работ труд Бенна отличается особой оригинальностью. Некоторые
обстоятельства его замысла читатель может обнаружить в
интервью Бенна польскому культурологу Э. Доманска, предваряющему
настоящее издание. Бенн рассуждает о влиянии на его
исследования французских структуралистов и, в частности, Р. Барта, к идеям
1 Koselleck Reinhart, Lutz Heinrich, Rüsen Jörn, eds., Formen der
Geschichtsschreibung; vol. 4 of Beiträge zur Historik (Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1982).
2 Koselleck Reinhart. Futures Past: On the Semantics of Historical Time, trans.
Keith Tribe. Cambridge: MIT Press, 1986. Originally published as Vergangene Zukunft:
Zur Semantik geschichtlicher Zeiten I Frankfurt: Suhrkamp, 1979.
3 Ankersmit F. R. Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian's Language.
The Hague: Nijhoff, 1983 (русск. перев. - Φ. Анкерсмит. Нарративная логика. М.,
2003).
4 Анкерсмит Ф. «История и тропология: взлет и падение метафоры». М., 2003.
ое исправленное издание. М., 2009).
Toews John Ε. Intellectual History after the Linguistic Turn» // American
Historical Review 92, no. 4 (1987): 879-907; Hunt Lynn, ed., The New Cultural History.
Berkeley: University of California Press, 1989.
(Втор
7
КуКарцева Aï.
которого он часто обращается на страницах своей книги, а также
русской формалистической школы. Что же важного Бенн находит
в этих источниках своего вдохновения? На наш взгляд, совсем не
способ упорядочивания беспорядка, а наоборот - умение допускать
беспорядок и учиться у него. В этом отношении Бенн резко
отличается от X. Уайта, который не устает повторять о необходимости
привнесения связности в беспорядочный мир симулякра (хотя
и признавая частичный и размытый характер такой связности).
В своей рецензии 1986 года на труд Бенна «Одежды Клио» X. Келл-
нер очень близко подошел к выявлению сущности общего
настроения этой книги. Признавая Бенна «знатоком и непревзойденным
экспертом» в области связи исторической репрезентации с
искусством и литературой, Келлнер выявляет в его труде явный
«структуралистский импрессионизм», который склонен скорее к
обнаружению неожиданных различий, чем к конструированию неких тоталь-
ностей. Келлнер пишет, что в работе Бенна «нередко громоздкий
инструментарий структурализма весьма деликатно применен» к
огромному множеству областей исторической репрезентации -
«роману, драме, живописи, музею, архитектуре, диораме, искусству
изображения силуэта, фотографии»1. На наш взгляд, именно
поэтому работа Бенна и сегодня не потеряла своей актуальности
и значимости - она открывает перед историком перформативные
аспекты презентации и репрезентации истории. Конечно, Бенн
пишет как историк, рассматривая прошлое в качестве «мертвого и
ушедшего» феномена. Но он обнаруживает удивительную
восприимчивость к все еще живым аспектам этого прошлого, точнее
говоря, к тем его аспектам, которые при некоторых обстоятельствах как
бы оживают вновь - обстоятельствах его репрезентации,
(например, в перипетиях создания «научной таксидермии» Чарльзом Уо-
тертоном, описанных в первой главе). Книга С. Бенна может быть
рассмотрена как выдающееся исследование отношения европейцев
XIX века к своей исторической культуре, к своему прошлому,
к способам его понимания и презентации, к его использованию в
настоящем, к его поэтизации и к его отрицанию. Поэтому не будет
преувеличением, если мы назовем труд Бенна, заимствуя
подзаголовок «Метаистории» X. Уайта, анализом «исторического
воображения в Европе XIX века».
1 Kellner Hans. Review of The Clothing of Clio, Journal of Modern History 58,
no. 2 (June 1986): 535-536.
8
Кукарцева Ai. Репрезентация в истории
Историческая репрезентация имеет собственные законы своего
формирования. С одной стороны, она не должна ничего добавлять
к реальности или к знанию о ней, объективно привязана к
определенным слоям реальности, с другой - она добавляет к картине
реальности все, в чем нуждается историк для более полного познания
прошлого. Особенность исторической репрезентации состоит в том,
как считает Ф. Анкерсмит, что она связана с «пропозициональной
установкой» историка: он верит, что репрезентация
рассматриваемого исторического явления, события, периода разумна и
правдоподобна и нет никакой отметки, где историк должен остановиться
или двинуться дальше. Рассматривая историческую репрезентацию,
С. Бенн вводит понятие исторической поэтики, в связи с чем
обсуждает проблему соотношении истории, литературы и искусства.
Рассуждая о произведениях Дж. Байрона и В. Скотта, У. Текке-
рея, Ч. Рида, Р. Браунинга, Г. Джеймса, он подчеркивает, что
историка и литератора объединяют процедуры исторической
репрезентации и интерпретации: и те и другие соединяют утверждения
о прошлом с идеями настоящего. Но главный критерий работы
историков - свидетельство - остается для литераторов вторичным.
Тем не менее литература обращает внимание историков на
риторику, стиль, предлагает те модели художественной репрезентации,
которые в принципе могут быть совместимы с репрезентацией
исторической. Кроме того, литература сообщает истории знание
определенных экзистенциальных аспектов человеческого бытия,
которые историки часто не видят и не принимают во внимание.
Четвертая, пятая и шестая главы работы Бенна посвящены
связи истории и визуальных образов. Сама по себе проблема
визуального восприятия истории возникла давно. К образу в виде надписей
на саркофагах, к декорированным панелям и тарелкам,
пиктограммам, картам, игрушкам и пр. прибегали как первые поколения
представителей древней дисциплины, не имевшие возможности
работать с архивами и текстами, так и представители современной
исторической науки (историки древнего мира, медиевисты). Эти
образы могли иметь всего лишь косвенное отношения к
эстетическому измерению исторического мышления, но если они содержали
историческую информацию, то становились источником или,
точнее говоря, следом прошлого1. Например, визуальные изображения
1 Исторический след есть часть обычной жизни прошлого, непреднамеренное
свидетельство, «сырье» истории; исторический источник является чем-то, что было
задумано его создателем как некое исследование событий, намеренное свидетельство.
9
КуКарцева M.
высунутого языка в средневековой культуре имеют как собственно
эстетическую, так и чисто информативную ценность \ В этой связи
датский историк Густааф Рениер предложил заменить в
исторической дисциплине «идею источников на идею следов», где в
качестве таковых рассматривались бы манускрипты, печатные книги,
здания, мебель, ландшафт, статуи, картины, фото, видео и пр. Но
использование образов в истории не может быть сведено только к их
утилитарному значению как непреднамеренного свидетельства. На
это обратил внимание Й. Хейзинга в своей инаугурационной
лекции «Эстетический элемент в историческом мышлении»,
прочитанной в 1905 году, в Грёнигенском университете. Описывая свой
прием исследования культурной истории в визуальных терминах
как «метод мозаики», где слово может появляться в форме, которая
не отличается по существу от таковой же в живописи, Хейзинга
показал, что образы являются приемом установления «прямого
контакта с прошлым», свидетельствующего о бесспорной связи
истории и искусства2. Эта идея Хейзинги в дальнейшем была
реализована во многих направлениях новой истории. Например, в
известной статье, посвященной роли эстетики в ранней американской
интеллектуальной истории, Н. Грабо писал, что историки обязаны
учитывать не только социальные процессы в истории, но и их
эмоциональный фон, который не менее других факторов
детерминирует общую интенцию определенного исторического времени . В
исследовании этого эмоционального фона особое место занимает
анализ искусства, и, осуществляя его, история должна излагать
полученные результаты в эстетизированной форме, провоцирующей
эстетическое восприятие исторических событий. Образы в истории
как знак и как феномен восприятия имеют прямое отношение
к историческому воображению, они позволяют представить
прошлое более живым и эмоциональным. Например, изображение руин
в искусстве средневековья появилось как визуальная форма
выражения смысла некоторых исторических событий4.
1 Махов А. Обнаженный язык дьявола как иконографический мотив // Одиссей,
2003. С. 332-368.
2 Сходные идеи использования визуального свидетельства в историческом
исследовании предложил не менее знаменитый современник Хейзинги Э. Варбург.
3 Grabo N. The Vield Vision: the Role of Aethetics in Early American Intellectual
History // WMQ. 1962. Vol. 19. P. 493-510.
4 Barasch M. Ruins: A Visual Expressions of Historical Meaning // // Meaning and
Representation in History J. Rusen ed., (Making Sense of History v.7) N. Y., 2006.
P. 209-223.
10
Кукарцева M. Репрезентация в истории
В своих элементарных проявлениях эстетическое измерение
исторического мышления требует какого-то простого визуального
маркирования качественного различия времен. Й. Рюзен полагает,
что первым свидетельством такого рода становится архитектура
домов, принадлежащих к разным историческим эпохам, стили
одежды, с которыми человек оказывается рядом в ходе всей своей
жизни. В этом смысле встретиться «лицом к лицу с историей»
помогает музеология в ее разных вариантах.
Автор данной книги уделяет исследованию этого вопроса
особое внимание. Рассматривая музеи, основанные А. Ленуаром
и А. Дю Соммерером, он показывает, что историческое знание
может быть приобретаемо разными способами. Эпистемологический
разрыв в принципах исторической репрезентации по его мнению
возник в западном историописании примерно во второй четверти
XIX века, когда свойственное эпохе Ренессанса монокулярное
восприятие мира была сменено так называемым «двойным» или
стереоскопическим видением, выражающимся, в частности, в антитезе
(или относительной взаимозависимости) вербального и
визуального1. История могла быть представлена как в произвольной
внешней фонетической форме (нарративе), так и материальной средой,
которая не просто каким-то образом «напоминает» историю, а
реально представляет ее. В XIX веке функция исторической
репрезентации (романы, картины, музеи, спектакли, диорамы, искусство
силуэта) заключалась в том, чтобы конкретизировать историю
прошлого как определенный репертуар специфических
исторических различий. Нарратив прошлого был представлен через
множество образов, которые имеют свою собственную материальную
форму и свое собственное местоположение в пространстве (в
комнате музея или между страницами иллюстрированной книги). Бенн
указывает, что музеи производят эффект реального проявления
опыта истории настолько, насколько он может быть
репрезентирован в истории.
1 О «стереоскопическом» эффекте, хотя несколько в другой связи, пишет
и Ф. Анкерсмит. «Когда мы слушаем оперу или симфонию на CD, для достижения
стереоскопического эффекта, придающего ощущение «глубины» звука, нам нужны
два динамика. Если у нас есть только один динамик, то это ощущение
отсутствует» // Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры М., 2009.
С. 16.
11
Кукарцева M.
Сегодня в этой связи особый интерес представляют так
называемые folk-музеи, начало которым положил швед А. Хазелиус,
организовавший Скансен. Folk-музеи имитируют определенный
лайфстайл, реальное историческое время через реконструкцию
архитектуры, мебели, одежды, ландшафта, этнической среды.
Наиболее известные музеи такого рода, служащие моделью для
остальных, - «Колониальный Вильямсбург», воссоздающий
оригинальные поселения колонии, которая была основана в 1620 году
группой религиозных эмигрантов, прибывших в Америку на корабле
«Мэйфлауэр»; «Старый Висконсин», предлагающий посетителям
небольшой городок из пяти домов XIX века, фасады которых
отреставрированы особенно тщательно. История обладает
собственной последовательностью, и музей призван быть, в некотором
смысле, нейтральным сосудом для этого последовательного ряда.
Увидеть историю, приобрести ее до-вербальный опыт нередко
бывает гораздо важнее, чем прочесть о ней, поскольку визуальное
восприятие истории равно человеческому интересу. Постепенно
образ становится одной из отправных точек исторического
исследования, тесня архивы, документы, литературные тексты и устные
свидетельства1. Но если в XV-XVII веках образы представали в
виде ксилографии, гравирования на стекле, металле, бумаге, то в
XIX-XX веках появились фотографии, аудио- и видеообразы.
Образы эволюционизировали от черно-белых до цветных, от
доступных только единицам до сотен тысяч людей2.
Сравнительный анализ эстетической и источниковой
значимости портретов и фотографий для истории - предмет отдельного
исследования. В. Беньямин, например, указывал на то, что в эпоху
фотографии изменился сам характер произведений искусства. Ме-
Буркхард понимал образы как свидетельство развития человеческого духа
сквозь века; Ф. Арьес в своих работах по истории детства и истории смерти
широко аппелировал к визуальным источникам как «свидетельству чувствительности и
жизни»; Ф. Хэскелл указал на исследование историками XVII века росписей в
римских катакомбах в целях изучения ранней истории христианства // Haskell F. History
and its Images. N. H., 1993; С. Шама рассмотрел эволюцию представлений о
ландшафте в истории Запада // Schama S. Landscape and Memory Ν. Y., 1995
2 Hoffman D. The Material Presence of the Past : Reflections on the Visibility of
History // Meaning and Representation in History J. Rusen ed., (Making Sense of
History v.7) N. Y., 2006. P. 183-209; M. Barasch Ruins: A Visual Expressions of Historical
Meaning // Ibid. P. 209-223.
12
Кукарцева M. Репрезентация в истории
ханическая репликация убила ауру искусства, а фотоаппарат
подменил уникальное существование произведений искусства
плюрализмом копий и сформировал сдвиг от «поклонения ценности» к
«выставке ценности»1. Произошла трансформация в трактовке
исторического знания. Р. Барт связал это с «эффектом реальности»,
В. Флюссер - с глобальным изменением структуры культуры и
бытия в целом, Э. Юнгер - с уничтожением индивида вообще2.
Фотография как «документальное искусство» дала возможность истории
сделать свидетельством то, что сложно выразить в тексте, то, что
называется «чувством» или пониманием другой исторической
эпохи, смысл которой трудно, а иногда и невозможно объяснить.
В этой связи историк кино 3. Кракауэр считал, что режиссер, как
и историк, следуя эстетическому чувству, сам выбирает, какие
именно аспекты реальности ему репрезентировать. Исследуя
немецкое кино, он подчеркнул, что оно открыло перед историей то
«царство пустяков и мелких событий повседневной жизни»,
которое иначе осталось бы навсегда скрыто от историков»3. В то же
время American Historical Review до сих пор не публикует рецензии
на исторические фильмы. В течение многих лет этот вопрос не раз
поднимался на ежегодных собраниях Американской исторической
ассоциации, но так и не был решен. Догматическое утверждение о
том, что история моэюет быть только написана, а не показана,
преодолеть все-таки непросто.
Но в конечном итоге, увлечение историков образами в середине
1960 годов сформировало, по выражению американского
исследователя В. Митчелла, «изобразительный поворот» в исторической
дисциплине, знаменующий собой новый тренд научных поисков.
Естественно, это породило множество новых вопросов и вызвало
к жизни старые. Насколько можно доверять произведениям
искусства как источникам, а не следам, ведь произведения искусства -
1 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической
воспроизводимости // Изб. Эссе. М., 1996. С. 66-91.
2 Барт Р. Эффект реальности // Р. Барт. Избранные работы. Семиотика.
Поэтика. М., 1994; Юнгер Э. Рабочий. СПб, 2000; Флюссер В. За философию
фотографии. СПб, 2008;
3 Кракауэр 3. От Калигари до Гитлера: психологическая история
немецкого кино М., 1977; Kracauer S. History: The Last Things Before the Last N.Y., 1969.
P. 51-52.
13
КуКарцева Ai.
жанр, основанный на особых конвенциях, которые трансфигури-
руют реальность, а не только отражают ее, особенно принимая
в расчет субъективные устремления художников и пределы их
информационного горизонта. Насколько можно доверять
«техническому» образу фотографии? Какова методика соотнесения
визуального компонента свидетельства с текстовым? Вновь напомнил
о себе принципиальный, но нерешенный вопрос синтеза
политического, когнитивного и эстетического измерения исторического
мышления: подбор и организация любой музейной коллекции,
прочтение и интерпретация историком «послания» образа несвободны
от соображений пропаганды, идеологии, от коллективных
стереотипов и субъективных предубеждений. Объективна ли вообще
«бесстрастная камера»? Какой образ предпочтительнее: зарисовки с
натуры, фотографии или картины, сделанные по памяти в студии
художника? Как быть с процедурой монтажа в документальном
кинематографе? Возникает важная проблема образа как
«приемлемого, допустимого свидетельства» и от умения историка читать между
строк, соединять политическое и эстетическое в историческом
исследовании в конечном итоге зависит историографическая истина,
«...критика визуального свидетельства еще не развита, - пишет
П. Бёрк, - хотя свидетельство образов, как и свидетельство текстов,
поднимает проблемы контекста, функции, риторики, воспоминании
(зафиксированы ли они сразу после событий или далеко отстоят от
них во времени), вторичного свидетельства и пр.»1.
Сформировались как бы две системы исторического свидетельства: визуальная
(образная, «следовая», зримая, невербальная) и устная
(нарративная, текстовая, читаемая, вербальная). Первая репрезентирует
историческое событие прямо, вторая - косвенно как его внешнюю
лингвистическую (фонетическую) форму. Эти системы находятся в
отношении относительной взаимозависимости, их роднит своего
рода оптическая метафора: в первой системе мы просто историю
видим, во второй - глагол «видим» равняется логической связке
следования. Присутствие метафоры не только приближает эти
системы к области эстетического, но эстетизирует их.
Сегодня в качестве предмета острых дискуссий по этому поводу
выступает так называемый перформативный поворот в социально-
1 Burke Peter. Eye witnessing. The Uses of Images as Historical Evidence. Cornell
University press., Inhasa., N.Y., 2001. P. 15.
14
Кукарцева M. Репрезентация в истории
гуманитарном знании и возможности его экстраполяции на
историческую дисциплину. С. Бенн в статье «История как
компетенция и перформанс: заметки об ироническим музее», вышедшей
в 1995 году, поставил этот вопрос в контексте понятия «живущее
прошлое»1.
В своё время постмодернизм с его очарованностью
театрализованным действием предположил, что историописание вместо ре-
презентацгш прошлого должно предлагать его презентацию.
Последняя реализуется в перформансе: в узком смысле - живом,
непосредственном выполнении некоторого действия; в широком -
повседневной практике общественной жизни, проявляющейся
в ритуалах, парадах, фестивалях, религиозных церемониях,
народных танцах, спортивных событиях и даже хирургических
операциях, (обстоятельства которых транслируются по TV на весь мир)2
и пр. Даже на упаковках товаров повседневного спроса
производителя помещают, такие, например, надписи как «professional рег-
mance», что свидетельствует о том, что перформанс понемногу
становится одним из ключевых аспектов человеческого
существования и формирования процесса коммуникации3.
Концепт перформатшности был предложен в теории речевых
актов Дж. Остина4. Для Остина перформатив есть «аномальная»,
1 Bann St. «History as Competence and Performance: Notes on the Ironic Museum.
In A New Philosophy of History, ed. Frank Ankersmit and Hans Kellner, 195-211.
Chicago: Univ. of Chicago Press, 1995. Бэнн о реферирует здесь к дихотомии
competence/ performance, введенной в лингвистике Н. Хомским. «Компетенция»
обозначала знание системы языка, а перформанс - владение им в реальных ситуациях
общения.
2 Например, о разделении сиамских близнецов, пересадке лица и даже
эвтаназии.
3 См., например, шампунь Syoss и многие другие линии косметической
продукции.
4 Остин, Дж. Слово как действие / Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17.
Теория речевых актов / сб. науч. тр., М, 1986. Он выделил констатирующие
речевые акты («солнце светит») и перформативные акты («я верю, я клянусь,
я обещаю» и т. д.). Констатирующие акты есть «нормальные», «чистые» акты,
обыденная устная речь, в которых содержится непосредственное указания на
присутствующий здесь и сейчас референт, и которые исключают «цитатность». Пер-
формативными высказываниями являются те, которые не только описывают
действие, но и сами являются действиями (сказанное адекватно сделанному). «Пер-
формативность можно определить как веру в то, что язык не только
репрезентирует реальность, но также и изменяет ее, что мысль соответствует действию, и что
15
КуКарцева M.
«паразитарная» речь - поэтическая или речь актера со сцены.
Возражая Остину, Жак Деррида подчеркнул перформативную силу не
только речи, но и письма: для письменной речи необходимым
условием является ее вторичность или «цитатность»1. Акт повторения -
ключевой механизм перформатива. Один из основателей «перфор-
манс-исследований», Ричард Шечнер, называет перформативное
поведение «дважды оповедененным поведением» (twice-behaved
behavior)2. При этом, как пишет М. Липовецкий, «важно
подчеркнуть отличие перформативности от театрализации. Театральность
и театрализация строятся на игровом обнажении разрыва между
означающим и означаемым, тогда как перформатизм полностью
снимает этот разрыв, отождествляя первое со вторым.
Перформатизм восходит к ритуалу (в том числе и к карнавалу), магии и
фольклорным жанрам, он сохранен и многими риторическими
жанрами (клятва, присяга, заговор и т.п.). Театральность с этой точки
зрения может быть как перформативной, так и деконструирующей
определенные явления существуют только тогда, когда они перформативно
повторяются и для того, чтобы существовать, должны повторяться всегда», - пишет
Э. Доманска. Перформативный поворот в современном гуманитарном знании //
Способы постижения прошлого, М., 2011. С. 227.
1 Деррида Ж. Подпись-событие-контекст // Дискурс. 1996. № 1; См. также:
Деррида Ж. Театр жестокости и закрытие представления // Деррида Ж. Письмо
и различие. СПб., 2000. При этом Деррида полагал, что «перформатив не играет
той первостепенной роли, какую ему обычно отводят. Событие не может быть
перформативным. Перформатив предполагает строгое соблюдение некоей заранее
заданной, неподвижной условности», а события текут и изменятся, иначе они не
были бы нарративом, сюжетным текстом // Ж. Деррида. Рана истины, или
противоборство языков // Отечественные записки. Журнал для медленного чтения. № 5
(19), 2004.
2 Например, разного рода ритуальные действия (от утреннего кофе и
университетских лекции до интернализации патриарха) являются регулярно
повторяемыми структурированными практиками. На этой повторяемости основана, например,
известная перформативная теория пола Джудит Батлер, в которой она
рассматривает пол как осознанную роль, отправляемую человеком, в результате чего
формируется «неодолимая форма пола». // Butler, Judith Gender Trouble: Feminism and the
Subversion of Identity, New York, 1990. P. 95. «Перфоманс-исследования»
(performance studies) - вообще есть междисциплинарное поле анализа любого рода
проявлений перформанса и перформативности, прежде всего, в искусстве,
постструктуралистском литературоведении (Р. Барт), теории социальной коммуникации
(Ю. Хабермас), различных теориях текста, политическом дискурсе, философии
науки и т. д.
16
Кукарцева M. Репрезентация в истории
перформативное тождество означающего и означаемого. Так,
театральные системы Станиславского и Мейерхольда представляют
собой два типа перформативности: первый стремится превратить
актерскую игру (означающее) в саму жизнь (означаемое), тогда как
второй наделяет игру самостоятельным значением, уподобляя театр
магическому механизму, способному из ничего создавать новую,
ничего не "отражающую", реальность»1.
Перформанс и перформативность фокусируют внимание на
действии и ролевых играх, «в центре внимания оказывается реализм
актора и его способы понимания реальности, поскольку, если
говорить о науках об обществе, этот актор является неотъемлемой
частью ее объекта»2, вот только в качестве актора в перформативном
повороте выступают не только люди, но и неодушевленные
сущности. Сторонники перформативного поворота привлекают наше
внимание к тому, что изменения в реальности происходят
благодаря кооперации разных субъектов действия и изучение действия
должно начинаться с ответа на вопрос кто и что β нем участвует3.
Известный американский философ науки Эндрю Пикеринг
считает, что «с семиотической точки зрения ...не существует различия
между человеческими и нечеловеческими агентами: человеческая и
нечеловеческая деятельность в любой момент могут быть
преобразованы одна в другую. ...мой анализ научной практики является по-
стчеловекоцентричным не просто в том, что в нем уравниваются
человеческие и материальные агенты, но, что более существенно,
в утверждении того, что материальная и человеческая деятельность
взаимно и эмерджентно продуцируют друг друга»4.
1 Липовецкий Марк. Перформансы насилия: «Новая драма» и границы
литературоведения // НЛО, 2008. № 89.
2 Тевено Л. Наука вместе жить в этом мире // Неприкосновенный запас. 2004.
№ 3(35)
3 О перформативном повороте см. Э. Доманска Перформативный поворот
в современном гуманитарном знании // Способы постижения прошлого. М., 2011.
С. 226-236.
4 Pickering Andrew. The Mangle of Practice: Agency and Emergence in the
Sociology of Science // American Journal of Sociology. 1993. Vol. 99. № 3. P. 559-589.
http://www.v-lab.unn.ru/texts/Pickering Mangle.htm В вышедшей в 1995 году книге
The Mangle of Practice: Time, Agency, and Science. N.Y., 1995. «Вальцы практики»).
Пикеринг предлагает новый подход к понимаю непредсказуемого характера
изменений в области науки. Этот подход учитывает ряд факторов - социальных,
технологических, концептуальных и природных, которые взаимодействуя, влияют на
17
Ку Карцева ΑΙ.
Пикеринг рассматривает проблему действия в контексте двух
идиом науки - репрезентационной и перформативной, предлагая
симметричный подход к действию. По его мнению,
репрезентационная идиома больше непродуктивна, поскольку относится только
к человеческим существам. Репрезентационная идиома существует
внутри перформативной, которая реферирует к людям, животным и
вещам1. Все они агенты, действующие в поле действия вообще.
Здесь в рамках методологии науки как разновидность исторической
эпистемологии создается новый вид эпистемологии -
интерсубъективная или эмпатическая эпистемология, основанная на «перфор-
мативно-чувствительном способе познания». Она призвана выявить
субъективные основания и смыслы, которые лежат в основе
социальных действий и соединить людей, живущих в разных
верованиях, так, чтобы они смогли разделять некие общие идеи,
свойственные сообществу в целом2.
В исторической дисциплине феномен перформативного
поворота указывает на некий возможный сдвиг в понимании сущности
и задач истории как науки. Здесь субъект познания (и сам историк,
и его читатели) ориентирован на осуществление конкретных
действий в социальной и политической реальности, способных
воздействовать на очертания будущего. Вооруженный принципами эмпа-
тической эпистемологии, он отказывается от традиционных
методов работы историка (изучение архивных материалов и
конструирование на основе полученных данных исторического нарратива)
и обращается к новым инструментам, акцентирующим глубокую
вписанность человека в культуру и повседневную жизнь, возрождая
старые топосы мира как театра и социальной жизни как
спектакля. Перформанс отменяет репрезентацию и заменяет ее презен-
создание научного знания. По его мнению, машины, документы, факты, теории,
концептуальные и математические структуры, дисциплинарные практики и люди
постоянно меняются в отношениях друг с другом - «mangled» вместе
непредсказуемыми способами, которые формируются неожиданными поворотами культуры,
времени и пространства. См. об этом также: Hacking I. Representing and Intervening.
Cambridge: Cambridge Univ. Press, (1983).
1 См. об этом: LaCapra Dominic. History and Its Limits. Human, Animal, Violan-
ce. Cornell University press, Ithasa and London, 2009.
2 Spry Tami. A Terformative-I' Coopresence: Embodying the Ethnographic Turn in
Performace and the Performative Turn in Ethnography. Text and Performance Quarterly.
Vol. 26, no. 4, October 2006.
18
Кукарцева At. Репрезентация в истории
тацией (или самопрезентацией). Перформативность создает некое
карнавальное пространство, связанное с конкретным историческим
контекстом. Восстанавливая таким способом определенную
историческую среду, история как дисциплина, призванная изучать
прошлое, предстаёт и как момент познания, и как момент перформан-
са. Собственно, в этом и воплощается суть эмпатической
эпистемологии.
Например, английский социолог Пол Каннертон в своей работе
о памяти, выполненной в перформативной идиоме, стремится
порвать с концепцией памяти как с определенным множеством
интеллектуальных процедур и концентрирует внимание на исследовании
телесных практик памяти (жесты, улыбки, положение тела в
пространстве в ходе отправления культовых обрядов и коммеморатив-
ных церемоний) - как механизмов сохранения
«социально-традиционной» памяти. С его точки зрения, через действия тела память
не только презентирует себя, но и реально действует. «Перформан-
сы функционируют как витальные акты переноса, передачи
социального знания, памяти и чувства идентичности через многократно
повторенное поведение», - комментируя Каннертона, пишет Дайа-
на Тейлор1.
Кроме обращения к перфомансу непосредственно (музей,
«живущая» память и пр.) и выбора своеобразного угла зрения в
историческом исследовании (акцент на анализе телесных практик,
нечеловеческих сущностей как исторических акторов), историк может
писать и перформативный текст. В нем никакого «визуального
ряда не нужно - текст устроен так, что замещает собой зрелище,
одновременно продуцируя зрелищные эффекты»2. Исторический
перформативный текст рассматривается «не с точки зрения
истинности исторического повествования, но с точки зрения
аутентичности саморепрезентации» языковой личности историка и сам яв-
1 Taylor, Diana. The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in
Americas. Durham: Duke University Press, 2003. P. 45.
2 Липовецкий M. Указ. соч. Рассуждая о некоторых теоретических аспектах
работы историка, Р. Барт в работе «Дискурс истории» писал: «В общем и целом
исторический дискурс знает две формы вступления: во-первых, это перформативное
введение, где речь представляет собой в полном смысле слова торжественно-
основополагающий акт; образец подобного введения дает поэтическая формула
"пою..."» // Барт Р. Дискурс истории // Р. Барт. Система моды. Статьи по
семиотике культуры. М., 2003. С. 429.
19
КуКарцева ΑΙ.
ляется действием . Его композиция, подобно речи древнего
мудреца, "заражает" читателя лексическими повторами,
риторическими жанрами (клятва, присяга, заговор) и вовлекает его в действие,
произвольно располагая читателя в разных точках своего
пространства. Даже «заглавие перформативного текста указывает не
на то, о чём этот текст, но на действие, совершаемое этим текстом.
Одновременно оно указывает на то, как следует читать и понимать
текст. Перформативные тексты основаны на возможности
совмещения на одном знаковом материале двух функций:
ретроспективной (описание) и проспективной (предписание)»2. При этом пер-
формативность в истории берется, конечно, в ее «мейерхольдов-
ском» значении, когда историческое исследование
рассматривается как особый креативный механизм, способный, в общем-то, из
ничего (мебель, стулья, песни, танцы, язык историка) создавать
новые значения.
В репрезентационной историографической идиоме в качестве
модели или метафоры изучения истории выступают визуальные
искусства. В перформатшной эта метафора претерпевает
некоторые изменения: визуальность здесь проявляется в новом, «жесто-
вом» прочтении, представленная так называемым «спектакуляр-
ным» искусством с его акциями, перформансами и телесными
практиками (body art). Если во времена лингвистического поворота
история тесно сблизилась с литературой, то в перформативном
повороте историки сближаются с искусством, трансформируясь
в своего рода перформеров и акционистов. Тело становится
текстом. Лингвистический поворот в своём излете обозначил
невозможность передать только на вербальном или письменном уровне
внутреннее ощущение (чувство) истории (исторического опыта,
если реферировать к Ф. Анкерсмиту) и призвал обратиться к пре-
1 Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопросы философии. 1989 № 2.
С. 37.
2 Грязнова Ю.Б. Перформативные тексты в истории науки: автореф. диссерт.
на соискание уч. Степ. канд. филос. наук. М, 1998 Грязнова приводит пример
названия работы П. Фейрабенда «Против метода» как перформативного текста
и Гадамера «Истина и метод» как описательного. В качестве примера
исторического текста, обладающего свойством перформатива, можно взять некоторые
тексты Ж. Батая, С. Шамы. Они выполнены в жанре своего рода «научной игры».
Историки исследуют также такие перформативные тексты как инаугурацион-
ные речи.
20
Кукарцева M. Репрезентация в истории
зентации . Историк-перформер создает модель исторического
«действия» (как в музейном или зрелищном варианте, так и в перформа-
тивном тексте), результатом которого является определенное
состояние читателя-зрителя-участника перформанса,
сопереживающего это действие и вовлеченного в него2.
С. Бенн, размышляя об «историках как таксидермистах»,
«историках как антикварах», «историках как поэтах и романистах»,
ставит вопрос о перформансе и перформативности в исторической
репрезентации как один из ключевых, в котором указанные понятия
создают новую методологию изображения прошлого в истории.
Суть этой методологии заключается в возможности создания такой
исторической репрезентации, которая позволяет прошлому
говорить самому.
С 1984 года, момента выхода книги С. Бенна «Одежды Клио»,
в мире многое изменилось. Биполярный мир, создававший некую
иллюзию мирового порядка, больше не существует. Развеян и миф
о фантастической мощи США как супердержавы. Это
свидетельствует о том, что пространство истории и наше чувство прошлого
в очередной раз изменились, они выражены сегодня не в
категориях порядка и завершенности, а в категориях множественных
разрывов и неоднородности. Изменились и технологии коммуникации -
интернет, цифровое телевидение, мобильная телефонная связь. Все
это создает новый «эффект реальности», с легкостью
производимый и ре-производимый. В первой главе своей книги Бенн пишет
о «жизнеподобной репрезентации», рассуждая о ее теоретический
и практической применимости, при этом фокус его внимания
сосредоточен на исследовании приемов исторической репрезентации
XIX - отчасти XVIII веков. Применительно к нашему времени два
аспекта исследования Бенна имеют ключевое значение: его
глубокая восприимчивость к визуальным аспектам истории и его
широкое понимание «исторического дискурса», о чем мы говорили в
начале нашего введения. В представлении Бенна исторический
дискурс включает в себя все измерения (реальные и воображаемые)
1 См. об этом, например: Шустерман Р. Мыслить через тело: гуманитарное
образование // Вопросы философии, 2006. № 6.
2 К таким историческим перформансам можно отнести чтение своих текстов
Э. Радзинским, который во многих своих интервью подчеркивает, что считает
себя, прежде всего историком, а уж потом писателем.
21
КуКарцева Ai.
отношения общества к своему прошлому - это не только работы
профессиональных историков, но и историков-любителей,
писателей, художников, потому что все они в определенном смысле
занимаются одним делом, и это свидетельствует о том, что перформа-
тивность свойственна вообще всему полю исторической
репрезентации. Каким образом наше общество может «оформлять» свои
отношения с прошлым - есть вопрос исторической памяти общества,
его исторической культуры, приемов репрезентации своей истории,
одним словом, умения интерпретировать эхо своей судьбы. В книге
С. Бенна «Одежды Клио» исследуются способы связывания наших
воспоминаний о прошлых переживаниях с возможными будущими
событиями, рассматриваются возможности использования
различных форм исторической репрезентации как средства познания
действительности, как инструмента организации нашей жизни в
настоящем. Именно это и делает ее столь увлекательной для
неискушенного читателя и чрезвычайно полезной для профессионального
историка.
Л/. Кукарцева.
Работа поддержана грантом РГНФ №0904-00548а
22
СТИВЕНБЕНН
О себе
{Интервью с Э. Доманска и М. Кукарцевой)
Кто или что является источником Вашего вдохновения?
Думаю, что свое вдохновение, хотя на самом деле я не
употребляю этот термин в романтическом смысле, я получал, если на то
пошло, разными способами - от мест и от людей. Но под этим
я имею в виду людей и места как в современном мире, так и людей
и места в прошлом. Я открыл, и это было весьма забавное
открытие, что моя работа во многом осуществлялась под
доминированием персонажей, чьи имена начинались с букв Б и А. Глубинное
ключевое влияние оказал Ролан Барт. Я вспомнил, что когда был
студентом-исследователем, первым объектом моего интереса стал
французский историк Проспер де Барант, а самым недавним
персонажем, которым я увлечен, является каноник Кентербери XVII века
под именем Джон Баргрейв1. Моё имя тоже, конечно, начинается
с литер Б и А. Когда кто-либо смотрит на такие индексы для того,
чтобы что-то узнать о своем собственном имени, чем иногда люди
занимаются от нечего делать, то он обязательно хочет найти других
людей, чье имя тоже начинается с букв Б и А. Я также
предположил бы, что это своего рода моё личное вхождение в конкретную
среду каждого периода, соотносимое с моими собственными
жизненными обстоятельствами. Например, я живу в доме, построенном
в 1830 году, что очень близко к эпохе моих первых исследований.
Я также живу в Кентербери, городе, который так или иначе
находится в центре моей последней работы.
Интервью, данное Э. Доманска, Кентербери, Англия, 5 мая 1994 года //
Доманска Э. Философия истории после постмодернизма, М., 2010. Здесь и далее
звездочкой отмечены прим. ред.
1 Джон Баргрейв - (John Bargrave, 1610-1680) - выдающийся английский
путешественник, коллекционер, священник англиканской церкви времен
гражданской войны в Англии.
23
Стивен Бенн
А что по поводу Яна Гамильтона Финлея, к которому Вы,
кажется, имеете особую склонность*?
Это совсем другая история. Я постоянно писал ему и
переписывался с ним. У нас огромная корреспонденция, начиная
с 1964 года и далее. В данном случае, я думаю, это, прежде всего,
означает, что в Кембридже начала 1960-х годов история была
страшно закосневшей и весьма затруднительной для изучения
дисциплиной. Предполагаю, что это верно и для других дисциплин. Но
некоторые из моих ближайших друзей в Кембридже на самом деле
не были историками. Они были, например, людьми, изучающими
архитектору и историю искусства. Ещё со школьных времен я
оформлял и редактировал журналы и пр., а в Кембридже я стал
причастным к современному авангарду. Первый раз я посетил
Финлея вместе с друзьями в 1964 году. С 1967 года и далее я
регулярно почти каждый год приезжал к нему, и вместе,
сотрудничая, мы были вовлечены в своего рода творческий отход от
модернизма. Я говорю это потому, что помню, например, как показывал
ему несколько очерков Э. Панофски, которые стимулировали его
исследование эмблем2. Это было что-то типа диалога. Я написал
сквозные комментарии к его книге 1977 года «Героические эмбле-
мы»ъ. В определенном смысле я не хотел бы устанавливать тесную
связь между моим интересом к авангарду и моим интересом к
истории. За исключением тех конкретных аспектов, где они реально
пересекаются, они существуют в определенном контрасте. Но,
полагаю, что также верно было бы сказать, что то, что произошло
в 1970-е годы, было своего рода возвращением неоклассицизма.
Модернизм, как совершенно верно увидел в то время Ян Гамильтон
Финлей, пришел к коллапсу. Область референции к современным
художникам со временем вдруг стала резко расширена, и это относилось
не только к Гамильтону Финлею, но и к некоторым более молодым
английским художникам, которых я узнал позже, - к поколению
Стивена Кокса, Энтони Гормлея и Кристофера Ле Бруна.
1 Финлей Ян Гамильтон (1925-2006), шотландский поэт, писатель, художник,
садовник, дизайнер садов и парков.
2 Панофски Эрвин (1892-1968)- американский историк и теоретик искусства
немецкого происхождения. Является одним из основоположников «иконологии».
См. Панофски Эрвин. Idea: к истории понятия в теориях искусства от античности
до классицизма. СПб., 1999.
3 Finlay Ian Hamilton, Costley Ron, Bann Stephen. Heroic Emblems. Calais VT: Ζ
Press, 1977.
24
О себе
Кинетическое искусство, которое тоже является объектом
Вашего интереса, относится к кризису репрезентации. Видите
ли Вы такой кризис репрезентации в историописании? Каково
отношение между искусством и историей с точки зрения
репрезентации?
Думаю, я рассмотрел бы это конкретно. Я имею в виду, что
вопрос касательно истории и историописании, по моему мнению,
должен быть только такой: что такое историческая репрезентация?
Поэтому в моей книге «Одежды Клио» я использую понятие
репрезентации истории как подзаголовок. В сущности, все очерки,
вошедшие в эту книгу, относятся к репрезентации. Правильно было
бы сказать, что в исторических понятиях (хотя очевидно, что
работы Хейдена Уайта привлекли внимание к тому способу, которым
письменная история и историография закодированы в
риторических терминах) очень мало внимания уделялось, по крайней мере,
до недавнего времени, различным формам исторической
репрезентации. К ним я отнес бы не только историческую живопись,
исторические романы, но также, например, музеи, которые тоже
являются формой исторической репрезентации или могут быть
рассмотрены как форма исторической репрезентации.
В искусстве кризис репрезентации подразумевает, по крайней
мере, до определенной степени, возврат к понятиям и, некоторым
образом, к руководящим принципам западного искусства в его
истоках. Возьмем древнегреческий период. Я нахожу весьма
интересным, что историки искусства, которых я считаю конгениальными,
такие как Ж. Диди-Юберман в Франции, например, вновь
обратились к работам антропологов о греческом искусстве, адресуясь к
тем рисункам, которые утеряны, которые больше не существуют,
если вообще когда-либо существовали1. (Норман Брайсон в своей
книге «Глядя в нераспознанное» также начинает исследование
голландских натюрмортов с классического периода)2. Поэтому для
меня искусство и история находятся в отношениях, которые можно
считать тесными, но то, что происходит в этих доменах,
неидентично друг другу. В историографии мы вновь открываем факт
репрезентации, в то время как в современном искусстве мы вновь
1 См. например, Диди-Юберман, Жорж. То, что мы видим, то, что смотрит на
нас. СПБ., 2001.
2Bryson, Norman. Looking at the Overlooked: Four Essays on Still Life Painting.
Cambridge MA: Harvard Univ. Press, 1990.
25
Стивен Бенн
открываем исторические основания, лежащие в основе этого факта.
Ещё раз исследуется не только репрезентация в целом, но и вся
родовая структура: то обстоятельство, что поп-художник Ричард
Гамильтон, например, работает в жанре натюрморта, пейзажа и т.п.,
показывает, что этот жанр обладает важным детерминирующим
влиянием в контексте современного искусства1.
Благодаря «нарративному повороту» в философии истории
и «антропологическому повороту» в историописании, история
стала теснее примыкать к литературе. Некоторые книги,
написанные профессиональными историками - например,
«Мертвые определенности» Симона Шамы - на самом деле являются
историческими романами. В этой новой ситуации «встряски»
границ между историей и литературой как мы можем
отличать историю от литературы?
Это можно было очень легко сделать в XVIII веке, когда
история была побочным ответвлением литературы. И это также было
достаточно просто в XIX веке, когда история решила, что она не
является литературой и поэтому может игнорировать это своё
собственное значимое измерение. Но проблема в том, что мы-то
должны принимать во внимание и историю XVIII века, и историю
XIX века и, наконец, историю XX века, что не так-то просто. Я
думаю, что важным моментом является стратегия, которая
приковывает внимание к тому, что я бы назвал широким
историографическим полем или полем исторической репрезентации, которое также
включает в себя такие понятия, как заповедник или «музеология»,
как часто сегодня говорят. Надо заставить историков понять,
насколько это вообще можно сделать, что история как область их
исследования, заключающегося (согласно выражению Джеффри
Элтона) в рациональной реконструкции прошлого, является, если
взглянуть на нее не как на исключительно территорию историков,
а в более широком социальном контексте, полем деятельности
и других пользователей, многие из которых, а на самом деле
большинство из них, не следуют стандартам исследования, свойствен-
1 Гамильтон, Ричард (Hamilton, Richard) (p. 1922) - английский художник,
в 1959 году положивший начало движению поп-арта, автор знаменитого коллажа
«Так что же делает наши жилища такими особенными, такими
привлекательными?», идея которого - показать торжество современного материализма,
потребительского общества, питаемого рекламой и средствами массовой информации.
26
О себе
ным историкам . Другими словами, я думаю, что отличие, о
котором я говорю, может быть прямо отнесено к ницшеанской
стратегии, изложенной им в работе «О пользе и вреде истории для
жизни»2. Безусловно, я не рекомендую Ницше вне всякой меры, но я
согласен с ним в том, что нужно постоянно интересоваться не тем,
как далеко простираются профессиональные стандарты
дисциплины, но и задавать главный вопрос: каким образом социально
обоснованы отдельные дисциплины и нет ли важных социальных тем,
«блокированых» до такой степени, что историки остаются
погруженными в самих себя и прилагают гигантские усилия по
исключению такого рода вопросов из своего рассмотрения.
В одной из своих книг Вы писали о Натали Земон-Дэвис о
том, как она подготовила сценарий для фильма «Возвращение
Мартина Герра». Что Вы думаете о «новой истории»?
Я думаю, в случае именно с Натали Земон-Дэвис, чьей работой
я искренне восхищен, мне было интересно то, что она оказалась
глубоко вовлечена в подготовку фильма «Возвращение Мартина
Герра». Она была обязана рассмотреть и очень четко расположить
в своей работе разные факторы, руководящие репрезентацией в
фильме, в отличие от тех, что наличествуют в обычном
историческом исследовании. Благодаря этому подходу сюжетная структура,
например, стала не произвольным решением, но чем-то, что
глубоко связано с восприятием аудитории и поэтому не может
расплыться, как просто орнамент или стиль. Ле Руа Ладюри был наиболее
интересным мне «новым историком», по крайней мере, в 1980-е
годы и я полагаю, что это ведет к весьма интересному
обстоятельству. Французские историки, работающие в традиции Мишле,
казалось бы, находили весьма естественным утверждать себя в качестве
авторов. На примере французского кинематографа видно, что
теория автора (auteur) развита для того, чтобы объяснить, почему не-
1 Элтон Джеффри Рудольф (1921-1994) - выдающийся английский историк,
специалист но политической истории Англии эпохи Тюдоров и первых Стюартов
см., например: Elton, Geoffrey The Practice of History, 2nd edn., with an afterword by
Richard J. Evans (Oxford: Blackwell, 2002 [1st edn., 1967]).
2 Nietzsche, Friedrich Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben. Part
Two of Nietzsche, Unzeitgemässe Betrachtungen (Frankfurt: Insel Taschenbuch, 1981).
English edition: Nietzsche, Friedrich The Use and Abuse of History. Trans. Adrian
Collins with an introduction by Julius Kraft. Indianapolis: Library of Liberal Arts Press,
Bobbs-Merrill, 1957 (рус. перев. Φ Ницше Несвоевременные размышления: О пользе и
вреде истории для жизни // Ницше Фридрих. Соч.: в 2 т. Т. 1. М., 1990).
27
Стивен Бенн
которые кинорежиссеры в действительности контролируют не
только специальные аспекты работы, но и визуальный стиль,
освещение, работу оператора и т.п. Другими словами, фильм становится
тотальным произведением искусства. Я думаю, что в определенном
смысле французский историк способен быть автором таким
способом, который историк английский сочтет очень сложным.
Французский историк будет утверждать его или ее индивидуальность, и как
в случае с Ле Руа Ладюри, вполне осознанно прибегать к
анахронизмам. Нет ничего особенного в том, что историки сознательно
позиционируют себя как авторов современных и не делают из этого
секрета. Работы Симона Шамы интересны именно тем, что он идет
на такой риск, но с прямо противоположной позиции. Я имею в
виду, что Шама выступает против всей весомости традиционного ис-
ториописания, против английской и французской традиций.
Должен сказать, что одним из тех историков, которым я восхищаюсь
больше всего, является англо-саксонский историк Джонатан Спенс,
который написал книгу «Дворец памяти Маттео Риччи». Она
повествует о миссии монаха-иезуита XVII века в Китае. Каждая глава
задумана как своего рода «дворец памяти», складирование памяти,
выполненное в виде серий из различных подходящих друг другу
объектов, при этом каждая последующая серия вытекает из
предыдущей. Каждая из глав имеет конкретную идеограмму, группу
китайских героев, помещенную в начале каждой серии, для того,
чтобы очертить ее. Организация этой книги детерминирована
последовательностью отдельных образов, каждый из которых является
конкретным видом, говоря во фрейдистском смысле, сгущения,
доминирующего в текстовом материале конкретной главы.
Мне не очень нравится в новой истории (нет необходимости
называть какие-либо имена) то, что в действительности она часто
компилирует без оформления карточного указателя. Другими
словами, вы видите, что человек ввел некоторое число категорий,
затем начал собирать огромное количество источников и отыскивать
вещи, относящиеся ко всем другим категориям. Далее он или она
просто прошлись по указателю, связывая вместе различные виды
информации. Я думаю, что такой тип исследования больше похож
на какой-то набор или на энциклопедию, чем на историческое
исследование, как я его понимаю.
1 Spence, Jonathan D. The Memory Palace of Matteo Ricci. New York: Viking,
1984.
28
О себе
Вы не считаете, что такой тип исторической работы мог
появиться только в «постмодернистской атмосфере»?
Полагаю, мог, да. Я имею в виду, что кто-то ищет в
постмодернизме как в целом, множество различных контекстов, и ему удается
их найти. Первой моей работой, относящейся к постмодернизму,
был очерк о французском романе конца 1960-х и начале 1970-х
годов. В действительности, одни из самых длительных контактов в
течение всей моей жизни как ученого и как исследователя
продолжались с французским романистом Робером Пенже, которому
сейчас около восьмидесяти, и он всё еще публикуется1. То направление
переориентации романа, который позже Фредрик Джеймисон
обозначил в качестве одного из признаков постмодернизма 1960-х
годов, безусловно, был чем-то, что я понял уже в то время. Полагаю,
также верно и то, что в 1960е годы я осознавал произошедший
сдвиг от модернизма к своего рода возрожденному
неоклассицизму, или неважно как его можно назвать, ассоциирующийся с
такими поэтами и художниками, как Финлей. Говоря в понятиях
исторических, проблема, возможно, заключается в том, что для меня
идеология истории не является специфически модернистской;
нормативная история, традиционная история в реальном ее смысле всё
еще романтическая. Я согласен с Лордом Актоном, который
говорит, что история вышла из романтической школы. Другими
словами, она связана с мифом о прозрачности, с понятием о том, что
аспект репрезентации не важен, с понятием профессиональной,
научной установки, которая является обратной стороной
романтического мифотворчества и поэтому должна быть отдифференцирована от
него. Отсюда разрыв в исторических понятиях не видится мне как
исключительно постмодернистский феномен, и именно потому, что
в действительности я не совсем ясно понимаю, на что должна быть
похожа модернистская историография. Я имею в виду, что
модернистская историография по презумпции будет своего рода
самопротиворечивым предприятием, потому что модернизм
вдохновляет, кроме всего прочего, движение скорее в сторону нормативного,
общего и утопического, а не в сторону какого-либо вида
объективного, детального или научного взгляда на прошлое.
1 Пенже Ровер (1920-1997) - французский авангардист, романист и
драматург, наиболее известен как представитель «нового романа».
29
Стивен Бенн
Я был на конференции в конце прошлой недели, посвященной
наследию Мишеля Фуко и одна из тем, которые там поднимались,
был статус «нового историзма». Мне очень нравится идея нового
историзма, который кажется мне интересным направлением
исследований, потому, что он, в сущности, есть приращение
исторических источников, документов с помощью людей, непосредственно
занимающихся литературой или тем, что Стивен Гринблатт
называет «культурной поэтикой»1. Поэтому новый историзм может быть
рассмотрен как своего рода антропологическое или литературное
возмещение истории. Предполагаю, что он тоже может быть
расценен как постмодернистское направление, потому что бывшие
модернисты могут теперь вернуться назад в историю и получить то,
что они хотят, не слишком-то утруждаясь! Так что может
выглядеть так, что с помощью нового историзма на историю как будто
бы были поставлены ловушки. Но, я думаю, что новый историзм,
тем не менее, может привести к очень важному новому синтезу.
Не думаете ли Вы, что характеристика постмодернизма
как сдвига от макро к микро, от внешнего к внутреннему,
может иметь особую важность для будущего?
Я могу взять, например, статью, которую я писал для антологии
«Толкуя современное искусство» вместе с моим соредактором
Уильямом Алленом2. Она посвящена греко-итальянскому
художнику Яннису Кунеллису. В отношении последнего интересно то, что
он не занимает традиционной, классической позиции, имеющей
центральное место в каком-то географическом или культурном
месте, Нью Йорке, Лондоне или Париже. Но у него есть своего рода
топология, в которой Афины, а потом также и Византийская
империя, Запад, все эти глубоко насыщенные культурные и
исторические понятия, все эти зоны, вступают в игру. И моё ощущение
таково, что постмодернистский опыт не в том, что кто-то и в самом
деле свободен от культурных барьеров, но в том, что вместо
фиксированных позиций, он обладает тем, что я назвал бы топологией. То
есть различными структурными единицами, имеющими корни в
Гринблатт Стивен - американский литературовед, представитель «нового
историзма», направления в культурологии и литературоведении, основы которого
Гринблатт сформулировал в книге «Практикуя новый историзм» Greenblatt S.,
Gallagher С. Practicing New historicism. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2000.
2 Interpreting Contemporary Art. London: Reaktion Books, 1991. Bann St. and
William Allen, eds.
30
О себе
прошлом и которые в комбинации оказывают влияние на то, как
осуществляется работа. В качестве другого примера я взял бы
художника, о котором я недавно писал в книге, опубликованной
Стэндфордским университетом, «Субстанции коммуникации» . Это
американский художник Сай Твомбли2. Твомбли исключительно
важный художник, он примыкал к Нью-Йоркской школе, а затем,
в 1950-е годы и потом снова в 1960-е годы все чаще и чаще ездил
в Италию. Начал жить там постоянно. С этого момента его работы
касались своего рода мифической оппозиции Востока и Запада.
В определенной мере об этом же я писал и в моей книге «True Vine»3.
Когда вы говорите о макро и микро, об этом виде сдвига, я бы
всё-таки рассматривал его как ситуацию, в которой постмодернизм,
безусловно, не глобален, в том смысле, что мы якобы потеряли
какое-либо ощущение особой культуры. Это была бы утопия. Но это
предмет переработки, восстановления определенных форм
мифической оппозиции, которые все еще характерны для нашего опыта.
Я имею в виду, что разве кто-либо, кроме всего прочего, будет
отрицать, что области восточной и западной Европы, которые больше
не являются в прямом смысле политическими дивизионами, всё
ещё критически важные культурные образования? Я только что
закончил редактировать серию очерков о Франкенштейне, в которые
также включена и фигура Дракулы. Там есть прекрасное эссе
современного французского писателя Жана-Луи Шефера о том, каким
образом Византийская доктрина евхаристии, противоположная
западному пониманию евхаристии, доктрина о реальном присутствии
Тела и Крови Христовой в хлебе и вине, является
основополагающей для конструкции мифа о Дракуле. Это кажется мне именно тем
моментом, который чрезвычайно важен в отношении нашей
культурной позиции, по крайней мере, в Европе; подозреваю, также, что
1 Bann, St. 'Wilder Shores of Love': Cy Twombly's Straying Signs» // Materialities
of Communication, ed. Hans Ulrich Gumbrecht and K. Ludwig Pfeiffer. Stanford:
Stanford Univ. Press, 1994.
2 Твомбли Сай (Twombly Су) (p. 1928) родился в США, последние 50 лет он
живет в Италии, классик американского и европейского искусства.
3 Букв. «Истинная виноградная лоза» Bann, St. The True Vine: On Visual
Representation and the Western Tradition. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989 Банн
взял это название из Евангелия от Иоанна 15: 1. Я есть истинная виноградная лоза,
а Мой Отец - земледелец // Новый Завет Восстановительный перевод. «Живой
поток, Анахайм, 1998. Одна из тем книги - возделывание винограда как
художественный мотив.
31
Стивен Бенн
и для некоторых американцев и, конечно, для тех, кто приезжает
жить в Европу.
Между прочим.., а что Вы думаете о романтическом образе
Дракулы? Я имею в виду фильм Копполы.
К сожалению, я не смотрел его, фильм именно Копполы, но
знаю, что это первый фильм, который действительно всерьез
рассматривает тот факт, что Дракула был крестоносцем. Другими
словами, фильм имеет историческую основу, что очень важно для Брэ-
ма Стокера. Вы не найдете этого в «Носферати» или в других
ранних фильмах о Дракуле, где он представлен как некто,
появившийся ниоткуда или по крайней мере из темных ворот замка.
Как Вы оцениваете кино Питера Гринуэя?
В случае Гринуэя спорны, думаю, несколько другие темы. Гри-
нуэй, полагаю, важен, но на самом деле причина того, почему он не
пользуется влиянием в Англии, в целом содержится в том, что он
считает вопрос репрезентации как не эксклюзивный для фильма.
Если в Голливуде первым аспектом хорошо сделанных фильмов
считается нарратив, то Питеру Гринуэю, в свою очередь, интересна
фиксация деталей, конструирование симметричных положений.
Один из его самых замечательных фильмов, который я знаю,
показывает серию ванных комнат (от А до Б)1. Выставка П. Гринуэя
в Роттердаме, которую я видел, перераспределяла большую часть
коллекции в понятиях частей тела и освещала их совершенно
разными способами, так что в одной стороне галереи вы видели свет,
падающий на полотна Рубенса, а в другой - обнаженные модели
в витрине. У Гринуэя интересно то, что он расширил поле
репрезентации. Фильм, конечно, его медиум, но это только один из
аспектов всеохватывающего взгляда, внутри которого живопись и
фильм не так далеко отстоят друг от друга. Мне также интересен
такой кинорежиссер, как Жан-Мари Штрауб - его недавний фильм
о Сезанне, который я не успел ещё посмотреть, но о котором читал2.
1 26 ванных комнат 26 Bathrooms / Inside Rooms: 26 Bathrooms, London &
Oxfordshire, 1985. Режиссер: Питер Гринуэй (Великобритания). Короткометражный
фильм, в котором режиссер изучает ванную комнату, раскладывая всё, чем можно
там заниматься, в алфавитном порядке от а до я. От чтения до мытья собаки и
многое другое.
2 Штрауб Жан-Мари (Straub Jean-Marie, род. 1933 г.) - известный
французский кинорежиссер, последовательно и радикально отстаивающий чистоту
киноязыка. Речь идет о фильме 1989 года «Поль Сезанн в разговоре с Иоахимом Гас-
ке» / Paul Cézanne im Gespräch mit Joachim Gasquet.
32
О себе
Такой тип проникновения в историю пластиковых искусств, в
современный кинематограф я нахожу очень привлекательным1.
Что для Вас значит постмодернизм?
Честно говоря, я не так часто использую термин
«постмодернизм». Поэтому мне очень трудно ответить на этот вопрос, так как
я действительно об этом не думал. Я не считаю постмодернизм, как
понятие, очень полезным. Вот модернизм - понятие важное и
полезное, множество моих работ имеет отношение к позициям за или
против модернизма; написано в или за рамками модернизма.
Идея постмодернизма кажется мне в определенной степени
термином-«ловушкой», имеющим некоторое отношение,
небольшое, к архитектуре. Например, работы Чарльза Дженкса, которым я
следую, очень тесно связаны, практически параллельны некоторым
аспектам идей Яна Гамильтона Финлея2. Многие художники,
которых я знаю и которые мне интересны, были бы классифицированы
Дженксом как постмодернисты. Но я полагаю, что такая область,
как архитектура, в которой прослеживаются весьма четкие серии
позиций, простирающиеся от модернизма к постмодернизму,
придает конкретное содержание понятию постмодернизма, в то время
как гораздо более расплывчатый смысл, имеющий хождение в
визуальных искусствах или историографии, я считаю менее
продуктивным.
Мне больше нравится термин, который использует Вико, -
ricorso.3 Я нахожу его чрезвычайно плодотворным, потому что он
не означает просто движение назад. На самом деле он означает
возвращение и занятие вновь тех позиций, которые потенциально
так находились на первом месте, но, конечно, при обращении
к ним во второй раз стали означать нечто другое. Это предполагает
своего рода циклическое, а не линейное движение. Модернизм
утверждает концепт линейности, понятия прогресса, понятия
Просвещения и т.п. Что же касается ricorso, то здесь уместно,
например, понятие «курьёза», которое я обрабатываю применительно к
Джону Баргрейву. Сейчас в этой области работает польский
исследователь Кшиштоф Помиан, который пишет весьма понятным спо-
Пластиковые искусства - визуальные искусства, связанные с
использованием материалов, (глина, краски и пр.), из которых могут быть разные сделаны вещи,
часто в трех измерениях.
2Дженкс Чарльз- ведущий британский критик и теоретик архитектуры.
3 Ricorso - здесь: периодическое повторение.
2 Зак. 760
33
Стивен Бенн
собом, и я считаю его очень полезным источником . Но мне
интересно не только то, что где-то около 1980-х годов люди вдруг
начали проявлять интерес к курьезу, но то, что современные художники
рассматривают курьёз как важную парадигму. Например, пару
недель назад я ездил в Замок д'Орон (Chateau d'Oiron) не далеко от
Пуату, Шаранта. Прекрасный замок XVII-XVIII веков, все стены
которого увешаны эмблемами. Там также есть фрески и все виды
иконографии того периода. И современные, наших дней
художники, такие как шведский художник Дэниель Споерри, который
представил там свои собственные забавные вещи: странных и
прекрасных животных, специфическую коллекцию предметов, собранную
в XIX веке, включая ядро, найденное на поле битвы при Ватерлоо,
вот такого рода вещи. Сейчас я могу предположить, что выставка
замышлялась как абсолютно несерьезная, как будто современный
художник просто не знает, что делать. Но важный момент я вижу
в том, что курьёз является, кроме того, признанием значения
отдельного объекта, индивидуального предмета. Научная революция,
как она представлена Декартом и Бэконом, была оппозиционна
курьёзам, потому что последние не позволяли сформулировать
общие законы. Курьёз всегда отдает предпочтение индивидуальному
объекту над общим законом. Возникновение этой же темы можно
обнаружить в контексте идей Вальтера Беньямина. Адорно говорит,
что очарован роскошью и всеми видами мелких объектов,
вовлеченных в проект Беньямина «Arcades»? Мне кажется, что этот тип
ricorso, означающий возврат к вещам, ранее уничтожавшихся
доминирующей идеологией модернизма, является не только важным
историографическим феноменом, потому что мы вдруг увидели
вещи в новом свете, но так же и путеводителем по современному
опыту мира.
Глядя на сегодняшнюю историографию и философию исто-
рии, я вижу в них общие с философией моменты развития.
Николас Решер описывает это движение в статье «Американская
1 Книга французского философа польского происхождения Кшиштофа По-
миана «Порядок времени» посвящена истории «самого времени»,
«рассмотренного в энциклопедической перспективе» или еще как «философская» история
времени. Pomian К. L'Ordre du temps. Paris: Gallimard, 1984. P. XII.
2 В работе «Проект аркад» Беньямин прослеживает «развитие универмагов из
торговых аркад». Walter Benjamin. The Arcades Project / Trans. Howard Eiland and
Kevin McLaughlin. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1999.
34
О себе
философия сегодня». Он указывает на «....нападки сердитого
авангарда на нормальную философию» и на особый интерес к
этике и феминизму, среди прочих других вещей. Возможно, то,
что Франк Лнкерсмит собирается в дальнейшем исследовать
концепт исторического опыта, может быть рассмотрено как
проявление новой «постмодернистской» философии истории?
Что Вы об этом думаете?
Интересно, что вы это говорите. Безусловно, я согласен
с Франком Анкерсмитом в этой связи и в действительности написал
парочку тезисов по этому поводу к предстоящим в следующие
несколько месяцев конференциям по историографии. Одна из них
будет проходить в Билефельде2, она организована Й. Рюзеном. Там я
буду говорить о понятии «живущего прошлого». Оно одно из
главных предметов размышления в книге «Романтизм и возвышение
истории», которую я вскоре собираюсь опубликовать в
Соединенных Штатах3. Мне интересно реальное проявление опыта истории,
конечно, не как нечто недоступное разуму, но как опыт истории
настолько, насколько он может быть объяснен и репрезентирован.
Например, один из персонажей, который я рассмотрел, был
французский писатель XIX века Пьер Лоти, который декорировал свой
дом во французском департаменте Приморская Шаранта, городке
Рошфор-Сюр-Мер, как анфиладу стилизованных и прекрасных
комнат4. Среди них - комната в стиле Ренессанса, средневековая
«Готическая» комната, «Ближневосточная» комната, наполненная
арабскими артефактами, «Китайская» комната. Всё это
соответствует своего рода экспериментаторским нуждам, нацеленным
одновременно и на как бы повторение путешествия в такие экзотиче-
1 Rescher, Nicholas. American Philosophy Today Review of Metaphysics 46, no.
184 (1993): 717-745 (рус. перев. Решёр H. Американская философия сегодня //
Путь, 1995, №8. С. 139).
2Bielefeld - город в Германии, земля Северная Рейн-Вестфалия, известен своим
университетом, основанным в 1964 году и реализующим программы
междисциплинарных исследований.
3 Bann, S. Romantism and the Rise of History New York: Twayne, 1995.
4 JTomu Пьер (Loti Pierre, 1850-1923), настоящие имя и фамилия Луи Мари
Жюльен Вио (Viaud), французский писатель, член Французской академии (1891).
Провел около сорока лет во флоте, участвовал во франко-прусской и первой
мировой войнах, в колониальных экспедициях. Создал жанр «колониального романа»,
овеянный романтикой моря и восточной экзотикой (рус. перев. Лоти, Пьер.
Полное собр. соч.: в 12 т. М.: Изд-во В.М. Саблина. 1910.)
35
Стивен Бенн
ские места как, например, Дальний Восток, которые Лоти посещал,
и на реконструкцию эпох, в которых он быть просто не мог,
например, эпохи Средневековья. При открытии «Средневековой»
комнаты Лоти организовал тщательно продуманный и очаровательный
банкет, на котором гости были одеты в соответствующие одежды,
пели песни менестрелей. Так что всё представление стало
разновидностью рабочего эксперимента по восстановлению
определенной исторической среды.
Значит, Вы думаете, что мы можем переживать опыт
прошлого?
Я не сомневаюсь в том, что мы можем переживать
определенные формы интуиции, которые относятся к историческому
прошлому. Но мне особенно интересен способ, когорым люди
стараются материализовать то, что, как они считают, будет их опытом
прошлого. Другая работа, которую я планирую написать к началу
следующего года, будет касаться того, что я называю «обстановкой
прошлого». Это связано с эпохой начала XIX века, когда люди
вдруг стали осознавать, что для того, чтобы увидеть то, на что было
похоже прошлое, нужно вспомнить о таких домашних вещах, как
мебель. На каких стульях сидели тогда? И это очень понятная
тенденция, которая была сформирована одновременно в литературе,
такими людьми, как Проспер Мериме, в музеях, таких как Музей де
Клюни, не говоря уже о таких художниках, как Ричард Парке Бо-
нингтон, все они старались реконструировать место действия как
нечто независимое от акторов1. Определенный стиль стульев важен
особенно, но важен также и вид кроватей. Мебель функционирует
как своего рода сдвигающее устройство, трансформирующее
границы между нашим настоящим и окружающей средой или
обстановкой. Вы можете увидеть, например, в американских и в
некоторой степени английских музеях, как в некий момент XIX века люди
начали оформлять комнаты в стиле определенного исторического
времени. То есть они брали полный набор мебели французского
1 Музей де Клюни (Франция). Национальный музей средних веков (Термы де
Клюни) Musée national du Moyen Âge (Thermes de Cluny). В Клюни хранятся
предметы декоративного, прикладного и изобразительного искусства средних веков:
гобелены, вышивка, миниатюра, деревянная скульптура, алтари, витражи. Здесь
находится гобелен XV века «Дама с единорогом», который был обнаружен Про-
спером Мериме в замке Буссак в 1841 году) Бонингтон Ричард Парке (Bonington
Richard Parkes, 1801-1828), английский живописец и график.
36
О себе
замка (включая стены и пол) и в Филадельфии помещали его в
новую комнату идентичных с замком размеров. Сегодня это вновь
кажется мне весьма привлекательным направлением. Я не имею
в виду никого другого, кроме посетителей музея, но думаю о
феномене, свидетельствующем о необходимости в определенной
степени возродить то, что было невоспринимаемым до XIX века. До
1820 года никто не понимал того, что историческую эпоху
необходимо воссоздавать всеобъемлюще.
Можно ли отсюда сказать, что современное историописа-
ние больше заинтересовано в опыте, чем в репрезентации?
Я не согласился бы с этим, потому что считаю, что
единственное свидетельство об опыте содержится в репрезентации. Это
единственное свидетельство, к которому я могу себя адресовать. Но
я думаю, что вполне возможно, что о таком опыте можно говорить
так же, как в этике мы рассуждаем о соображениях выбора
и совести. Возможно, историческое сознание может быть
исследовано схожим способом.
Память....
Да, память, конечно. В целом с ней гораздо больше имели дело
писатели или философы, наверное, со времен Платона. Но мне
интересен опыт, опосредованный репрезентацией, по крайней мере,
в данный момент.
Новые историки задают новые вопросы об источниках и
получают ответы, которые затребованы читателями,
живущими в эпоху неопределенности и нестабильности...
Ну, нет. Не только одни историки. Вопросы были заданы и
писателями исторических романов. Они были заданы сэром Вальтером
Скоттом; были заданы Проспером Мериме. Другое дело, что задача
историков в какой-то мере постоянно стараться сохранить разделение
фикции и истории, что было так критически важно в XIX веке для
организации дисциплины в ее профессиональных категориях.
Может быть, мы можем найти новые точки
соприкосновения историков и писателей - они начали задавать одинаковые
вопросы.
Я думаю, что они могут задавать очень похожие вопросы, но
форма ответов на них всё же будет весьма различна, потому что
в историческом романе существуют различные коды и практики,
которые мы не можем ожидать найти в истории, такие, например,
как употребление прямой речи, диалогов. Это напоминает мне
37
Стивен Бенн
пример сэра Вальтера Скотта: знаменитую сцену из его «Айвенго»,
где два сакса беседуют о современной ситуации. Все типы
историков от Огюстена Тьерри до Карла Маркса признавали, насколько
это было важно, потому что впервые в исследовании истории Нор-
манского завоевания стало ясно, что саксы всё еще там - они всё
еще беседуют. Но, конечно, когда Тьерри пишет историю
Норманнского завоевания, он не вводит в нее беседующих саксов. Он
просто пытается так, как он это себе представляет^
«сконструировать» точку зрения саксов. Так что, это всё еще важные маркеры
отличия. Даже Ле Руа Ладюри в действительности не показывает
обитателей Монтайю, беседующих друг с другом, за исключением
диалогов в протоколах, которые пишутся для инквизитора1. Но я
согласился бы с тем, что лингвистически могут быть взяты некие
маркеры, которые виртуально интересны любому человеку или
приписаны историописанию, но не присущи непосредственно
историку. И одним из них будет прямая речь.
За исключением диалогов, содержащихся в источниках.
Да. На самом деле, это парадокс. Я имею в виду, что с одной
стороны источник существует, особенно когда представляет собой
записи на пленке или устные источники. Но я думаю, что проблема
в том, что вы не можете просто транскрибировать прямую речь, вы
должны ее срежиссировать. Вам нужны определенные
инструменты для этого: не только передать, что сказали те люди, но и то, как
они это сказали. Громко или тихо, дружелюбно или агрессивно?
Я проанализировал несколько источников времен Первой мировой
войны в работе «Анализируя дискурс истории», в основном
рукописные источники и несколько других вариантов2. Я рассмотрел
два примера того, как эти источники были использованы, один из
работы А. Тейлора «История Первой мировой войны» и другой из
работы К. Барнетта «Носители меча»3. И обнаруживается, что
1 Протоколы допросов жителей деревни епископом г. Памье Жаком Фурнье,
проводившим в 1318-1325 гг. инквизиционное расследование на предмет
выявления альбигойской ереси.
2 Bann, S. Analysing the Discourse of History //Renaissance and Modern Studies 27
(1983): 61-84, repr. in Bann, The Inventions of History: Essays on the Representations
of History (Manchester: Manchester Univ. Press, 1990), 33-63.
3 Barnett, Correlli. The Swordbearers: Supreme Command in the First World War.
Harmondsworth UK: Penguin, 1966. Taylor, A. J. P. History of World War I. London:
Octopus Books, 1974.
38
О себе
диалог немедленно проявляется как срежисированный. Хотя
исходные материалы одинаковы, одинаковы источники, а диалог
звучит совершенно по-разному. Это происходит именно потому, что
когда вы пытаетесь ускорить его или замедлить, подчеркнуть тот
или другой аспект, у вас есть все возможности драматизировать
диалог или срежиссировать его для читателей, обычно с легко
обнаруживаемым определенным идеологическим акцентом.
Как получилось, что Вы отошли от своего интереса к
искусству и обратились к теории истории?
На самом деле это не было для меня слишком сложным. Я
недавно или за последние несколько лет, осознал, что возможно не
работаю так, как остальные историки. Я имею в виду, что не
выбираю объект и затем не загоняю себя в архивы на пять или шесть
месяцев, не работаю потом над накопленным материалом целый
год и не публикую книгу через три года. Обычно я так не делаю.
У меня есть некоторые продолжающиеся темы, обычно
относящиеся к определенным фигурам, которые наличествуют всегда и это
отчасти (может быть, очень часто) закреплено за теми местами или
картинами, которые я видел, когда путешествовал. Эти темы
возникают вновь и вновь в разного рода конфигурациях. Например,
я видел прекрасную картину в музее Нанта несколько лет назад
Поля Делароша «Детство Пико делла Мираидолла». Я смотрел и
думал о ней под разными углами зрения, а недавно написал работу о
«Формирование Ренессанса», в которой исследую, можно ли
сказать, что такой образ «формирует Ренессанс». Известно, что
понятие Ренессанса был создано в XIX веке, что авторы XIX века, такие
как Мишле, успешно придали новое содержание идее, которая до
того была только весьма схематична. Так что в XIX веке мы обрели
Ренессанс на самом деле. Но какую роль во всем этом сыграли
образы? Я пытаюсь доказать, что существует тип исторического
сознания, который может быть создан непосредственно образами.
Мне кажется, что всегда на заднем плане в Вашей работе
лежит Ваш личный опыт.
Почти всегда, да. Первоначальный опыт почти всегда
персонален. И это именно потому, что часть моей жизни стала тесно
связана с путешествиями, путешествиями, в частности, во Францию,
в Италию, в другие европейские страны и, в определенной мере,
в Соединенные Штаты. Я наслаждаюсь тем, что можно назвать
39
Стивен Бенн
эффектом трансумпции, когда вижу в Чикаго или Лозанне или Кэм-
бридже тщательно завуалированный образ Кентербери1. Я получаю
самое непосредственное удовольствие, рассматривая не мэйнстрим,
а побочные моменты, моменты которые обычно всегда
заслуживают быть представленными более выпукло, при условии, что кто-то
сделает это подходящим образом. Например, Проспер де Барант,
персонаж, который прежде всего оказал на меня влияние. Цель Ба-
ранта в его работах, в его историографии, в действительности
состояла в том, чтобы не оставить никаких следов своего авторства:
сконструировать источник так, как будто он пришел из Средних
веков, из XV века. Это очень похоже на то, что Ролан Барт называл
«нулевой степенью письма». Никто, конечно, никогда не достигает
этой цели. Письмо не может быть редуцировано к нулевой степени.
Но определенные исторические обстоятельства, в которых эти
амбиции могут быть развиты, способ, каким они вырабатываются в
определенном культурном контексте, всегда были мне очень
интересны. Я нахожу, что исторические фигуры, склонные к
самоумалению, чьи достижения намеренно располагаются ими на обочине
исследовательского поля, цепляют особенно.
В случае с Джоном Баргрейвом, например, я попытался
сформировать простую модель, где функционируют два типа
исторических фигур, каждую из которых мы прекрасно знаем; это великий
человек, мы читаем о нем как об историческом деятеле или,
например (как у Броделя о Филиппе II), мы читаем о нем и узнаем, что
в действительности он не управлял ситуацией. Так что это вопрос
способности действовать свободно, вне структуры. Далее, возьмем
1 Трансумпция - перенос, перестановка. Синоним трансумпции - металепсис -
фигура речи: перенесение качества с одного понятия на другое, связанное с
первым более или менее произвольно.
«Идея трансумпции предполагала не только изменение смысла .... Она
представляет возможность даже не просто разглядеть сквозь перестановку ряд
смыслов, которые являются приемлемыми для более полного понимания выражаемой
вещи, и проанализировать все отклонения от устоявшихся речевых выражений...,
но этот анализ фиксировал изменение позиции, осуществляющее перевод из
одного знания в другое при обнаружении вполне определенной и логически
выверенной ключевой фигуры, которая и выносит за рамки данного знания одну из его
составляющих, что по существу есть метонимия. ...Не случайно сейчас такого
рода перестановки считаются важнейшей особенностью сюрреалистического
языка...» // Неретина С.С. Тропы и концепты М., 2000. Гл. 2. Гильберт Порретанский:
искусство именования).
40
О себе
художника. Я обратился к Вермееру, о котором мы практически
ничего не знаем. Всё, что есть, это его картины, и они прекрасны.
Он растворен в продуктах репрезентации. Но среди всего этого,
воспользовавшись термином К. Помиана, находится человек-
семиофор - тот, кто создает значение, но кто не является великим
человеком, не является художником1. Он, я сказал бы, живет
символически, оставляя знаки, которые иногда неопределенны,
которые для того, чтобы обрести смысл, должны быть ретроспективно
связаны друг с другом. Я полагаю, что такой тип персонажей, если
кто-то хочет понять ценность культур прошлого, чрезвычайно
важен.
Вы не считаете, что ученые наконец-то пришли к
возможности открыто выражать свою точку зрения в своих работах?
Индивидуальность сегодня легализована?
У французов всегда есть термин для всего. Они называют это
ego-histoire? Это предполагает, что можно слегка перестараться.
Я думаю, что нечто такое делают художники, а вот историки,
которые не прибегали к такому виду саморазоблачения, начали все
больше и больше выдвигать его на первый план. Это, безусловно,
верно и для историков искусства. Предполагаю, что некоторым
образом это было ускорено давлением феминизма, ведь феминизм
требует, чтобы человек больше осознавал себя представителем
определенного тендера, чем, может быть, имперсональной, не-
гендерной власти. По крайней мере, это был вариант влиятельного
1 Семиофор - термин К. Помиана. Согласно его теории, все объекты
(артефакты и природные объекты) делятся на два класса - утилитарные и «семиофоры», то
есть предметы «без пользы, но со значением». Особенность семиофоров
заключается в том, что они принципиально исключены из практической деятельности.
Человек-семиофор - человек, для которого предметы есть знаки невидимого, в
противоположность человеку - вещи, для которого все предметы наделены только
полезностью. Одна из интересных способностей человека - выявление
семиофоров среди других предметов и превращение в семиофоры утилитарных предметов.
2 А. Я Гуревич в своем последнем интервью говорил: «Как раз в 1990 году
я обратился к жанру, который французы называют ego-histoire» - история обо мне
как об историке. Я думаю, что это не самореклама, а такой способ самоанализа
исторической лаборатории, который сильно помогает в развитии нашей мысли.
Потому что в отличие от химии и математики, история как наука упирается в
индивидуальность того, кто проводит исследования» // Гуревич А. Я. Быть дольше
в стороне мне казалось невозможным... (последнее интервью А.Я. Гуревича,
11 июня 2006 года) НЛО. 2006. №81.
41
Стивен Бенн
первоначального движения, которому, как сегодня очевидно, пока
не видно конца. Также важен и тот факт, что вы родились в
определенном социальном классе, в определенной культуре, что у вас есть
определенный жизненный опыт.
Вы согласны с тем, что происходит возрождение интереса к
антропологической философии: к таким философам, как,
например, Ортега-и-Гассет?
Да, бесспорно. И это относится к тому, о чем я говорил,
рассуждая о новом историзме и культурной поэтике. Предполагаю,
можно сказать, что во многих странах условия работы,
исследовательской деятельности и преподавания в университетах за последние
несколько лет стали в целом более примитивны. Ясно, что это
зависит не от отдельной национальной культуры, но от более размытой
ситуации. В Британии мы очень зависим от позиций в области
преподавания и исследований, от финансовых решений и т.п., которые
очевидно принимаются без учета пожеланий конкретных
преподавателей и учёных. Существует тенденция количественного
подсчёта результатов: как много статей вы написали, какого рода разряд
был присвоен вашему факультету. Все эти способы контроля и
регуляции были приняты, но я думаю, что они уже породили и
реакцию на них. Кроме того, пока ещё различие между учеными в
области конкретных наук и учеными социально-гуманитарного
знания существует. Оно выражается не только в том обстоятельстве,
что мы менее систематизированы или менее научны в строгом
смысле этого слова, но также и в том факте, что личный вклад
исследователя у нас более заметен. Я не имею в виду, что великие
ученые не ответственны персонально за свои исследования и не
владеют их материалами. Это было бы глупостью. Но также верно
и то, что например, историк, может и должен исследовать аспекты
индивидуальной памяти, индивидуального опыта, что
сопротивляется квантификации и возможно даже вовсе непригодно для
количественного подсчёта.
Сегодня мы наблюдаем особый интерес к проблемам любви,
сексуальности, смерти, детства, дружбы и nun. Может быть,
мы находимся перед лицом того времени, когда лучшие истории
будут написаны любителями? Возьмите Арьеса, например.
Да. Арьес - весьма интересный случай, потому, что он говорит,
что сила его собственного опыта (когда он был ребенком) привела
42
О себе
его к постулированию того, что в прошлом детство должно было
быть чем-то совершенно другим, а совсем не тем, что он испытал
сам. И поэтому он взял в качестве своего исходного принципа не
то, что люди всегда любили своих детей, но то, что если нет
свидетельства любви к детям в прошлом, тогда нет и причины полагать,
что это было правилом. Те историки, которые возражают Арьесу,
как часто делал и я, говорят: «О, да, но совершенно очевидно, что
люди таких-то веков любили своих детей, посмотрите на такие-то
примеры», и это абсолютно справедливо. Но предприятие Арьеса
пока ещё полностью оправдано, поскольку он создает своего рода
эффект остранения1. Он возлагает на историка бремя поиска
свидетельства определенного типа взглядов, которые в противном случае
будут укоренены в культуре до такой степени, что будет трудно
предусмотреть возможность чего-либо ещё.
А что по поводу навязчивого интереса к смерти? Ханс Кёлл-
нер в работе «Нарративность в истории: постструктурализм
и наука» процитировал предположение Поля Рикёра о том, что
недавние работы об истории смерти могут репрезентировать
самую крайнюю точку, достигнутую всей историей2.
Это напоминает мне книгу, вёрстку которой я сейчас сверяю.
Она посвящена исследованию некоторых надписей на надгробиях и
последний образ есть образ надгробия или мраморной доски,
надпись на которой стёрта. Люди так много ходили по ней, что
надпись исчезла, а это - надгробие того человека, который является
предметом рассмотрения в этой книги.
В действительности, если вы внимательны к употребляемым
названиям, то заметите важность имени каждого человека, о
котором я пишу: Бар Грэйв. Бар (Ваг) означает уравновешивать друг
друга, стоять друг против друга. Грэйв (Grave), конечно, место, где
захоронено тело. Это книга о том, что тело действительно
символично, как и те следы, которые оно оставляет за собой. Одна из
интересных вещей о Баргрэйве: он хранил в своей коллекции курьёзов
1 Мы перевели здесь английское слово estrangement - разлука, отделение,
термином В. Шкловского «остранение», что означает снятие привычности,
помещение знакомого в незнакомый контекст, «дать ощущение вещи, как видение, а не
как узнавание»// Шкловский В. Искусство как прием // П., Поэтика 1919.
2 Kellner, Hans. Narrativity in History: Post-Structuralism and Since. History and
Theory, Beiheft 26 (1987): The Representation of Historical Events.
43
Стивен Бенн
два тела: одно расчленённое, с «пальцем» «француза», которое всё
ещё там, а другое - засушенный, муфицированный хамелеон,
который тоже пока еще находится в этой коллекции. Вопрос остается
в том, конечно, как вы выполняете работу по истории или как
используете те формы, которые история нам предлагает. Все эти
мифы о смерти и рождении и все другие аспекты человеческой жизни,
должны быть доступны адекватной транскрипции или
комментарию, которые принимают форму исторического исследования.
Молено ли сказать - метафорически говоря, что наррати-
вист или новый историк может видеть прошлое через ее или
его собственный опыт? Она/он использует героев из прошлого
как медиумов для того, чтобы выразить чувства, верования,
мнения?
Это может быть так, но я думаю, что здесь также есть и другой
аспект, который очень важен, это формальная территория,
территория формы. Я могу высоко оценить аргументы по поводу наррати-
ва. Но для меня проблема не всегда заключается в нарративе. Это
проблема варьирования формы таким способом, чтобы обеспечить
своего рода художественную конгруэнтность. Например, возможно,
этого никто и не заметил, но книга, которую я написал «True Vine»,
разделена на три части, каждая из них имеет три подраздела.
Между ними есть своя симметрия; каждая сконцентрирована на разных
аспектах и в их комбинации я вижу тот формальный элемент,
который играет важную роль в организации работы как литературной.
Книга о романтизме, которую я написал недавно, опять-таки имеет
триадичную структуру, в ней каждый раздел длиннее предыдущего.
В результате там содержаться три очень небольших части, затем
три части средней величины и в конце три весьма длинных раздела.
И я полагаю (во многом так же как Леви-Стросс, поместивший
слово «увертюра» в начало свей книги «Сырое и приготовленное»/,
что тот тип аналогии, который здесь существует, есть и в
музыкальной структуре. Хотя, конечно, это и является нарративом в
общем смысле, но указание на музыкальную структуру кажется мне
очень важным, как будто кто-то пишет в стиле сонаты или темы с
1 Lévi-Strauss, Claude. Le cru et le cuit Paris: Pion, 1964. English edition: Lévi-
Strauss, Claude. The Raw and the Cooked Trans. Doreen Weightman. Harmondsworth
UK: Penguin, 1986 (рус. перев. К. Леви-Стросс. Мифологики: Сырое и
приготовленное, М, 2006).
44
О себе
вариациями. В книге о Баргрейве каждая ее часть имеет отношение к
разным формам истории. Одна является просто семейной историей,
другая - допросом, эпистемологией, концептом коллекционирования
и так далее, и мой интерес состоит в том, чтобы суметь соединить в
V-образной форме различные виды подхода в пределах всеобщей
унифицированной структуры.
Вы разделяете мечту Хейдена Уайта о «воссоздании
истории в форме интеллектуальной деятельности, которая
одновременно поэтическая, научная и философская в своих
основаниях»?
Определенно, да. Это одна из фраз из его книги, которая всегда
поражает меня и это именно то, что оправдывает всю книгу в
целом. Во многих отношениях ее метод совсем не тот, который
можно сегодня использовать как способ анализа, но «Метаистория»
очень важна тем, что она предполагает, что в тот золотой век
существовало своего рода глобальное поле исторического сознания или
исторического знания, включавшее в себя, конечно, и исторический
нарратив и историческую философию или философию истории. Все
это располагается внутри одного корпуса и может быть
определенным образом осмысленно.
Все, что я могу сказать, в дополнение к этому заключается
в том, что тот золотой век не был веком только философов и
историков, но и веком многих других людей: поэтов и писателей,
художников и музейных коллекционеров, создателей восковых фигур
и других форм зрелищ и все они также важны. В целом,
опорные точки моих исследований скорее с ними, чем с философами
истории.
Как Вы начали интересоваться русским формализмом?
«Русский формализм» - таково было название сборника
очерков, который был опубликован, когда я редактировал журнал
«Twentieth Century Studies^. В 1960-е годы я уже интересовался
структурализмом, прежде чем узнал о работах Хейдена Уайта. Моя
первая методологическая статья, которую я опубликовал в 1970
году, была структуралистским исследованием историографии.
1 Russian Formalism: A Collection of Articles and Texts in Translation. Bann S. and
BowltJ. E. eds., Edinburgh: Scottish Academic Press, 1973. Twentieth Century Studies -
академический журнал, в 1969-76 годах издавался Гуманитарным факультетом
Кентского университета, Кентербери, Англия.
45
Стивен Бенн
В ней я использовал новые риторические способы анализа дискурса
(позже эта статья вошла в книгу «Одежды Клио»)]. В то время
русский формализм был не так уж известен. Тогда же я изучал и
русское искусство, редактируя книгу о конструктивизме. В Англии всё
это мало кто знал, за исключением людей, читавших антологию
Цветана Тодорова «Теория литературы, тексты русских
формалистов»2. Поэтому, дело заключалось в том, чтобы просто соединить
вместе группы текстов, которые в действительности были связаны
анализом всех различных форм современного искусства и
литературы. Один такой текст, который я туда включил, была статья
B. Шкловского «Воскрешение слова»3. В моем университете ее до
сих пор используют в обучении студентов факультета
кинематографии. Такие критические статьи были необычными в то время,
потому, что они, в сущности, были возрождением риторического
критицизма и это возрождение прослеживалось во всех собственно
английских традициях критицизма, которые были глубоко
укоренены в университетах в 1950-е и 1960-е годы.
Михаил Бахтин также очень важен. Он не только тесно
связан с русской формалистической школой, но и
рассматривается как идол постмодернистов.
Да, абсолютно. И я опять убедился в этом в прошлом году,
когда перевел и отредактировал работу Юлии Кристевой о Прусте,
составленную из лекций, прочитанных ею здесь в Кенте4. Я думаю,
что первая работа Кристевой, которую я опубликовал в 1972 году,
была о Бахтине. Она назвала ее «Разрушение поэтики»5. Кристе-
ва рассматривала, каким образом исходные допущения
формализма в дальнейшем были и дезавуированы и развиты в работах
Бахтина.
1 Bann St. The Clothing of Clio: A Study of the Representation of History in
Nineteenth-Century Britain arid France. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984.
2 Todorov Tzvetan. Théorie de la Littérature textes des formalistes russes). Paris:
Seuil, 1965.
3 Шкловский В. Воскрешение слова // Шкловский В. Гамбургский счет:
Статьи - воспоминания - эссе. М., 1990.
4 Kristeva Julia. Proust and the Sense of Time, trans. Stephen Bann (New York:
Columbia Univ. Press, 1993).
5 Кристева Юлия. Разрушение поэтики // Французская семиотика: От
структурализма к постструктурализму / Пер. с фр. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М, 2000.
C. 458^*83.
46
О себе
Я считаю его концепцию диалога и диалогизма очень
интересной и обещающей.
Она, безусловно, интересна. Одна из самых последних
написанных мною работ - введение к собранию текстов о русской
визуальной культуре или советской визуальной культуре, которое было
отредактировано двумя русскими студентами, ныне живущими в США.
Большинство статей было написано в 1950-, 1960- и 1970-е годы. Их
авторы предполагают, что идея русской культуры - и особенно
русского авангарда, модернисткой культуры, которую продолжили
на Западе в 1960-е и 1970-е годы, была разновидностью негативной
утопии, потому что каждый человек наблюдал, что происходило
в 1920-е годы, идеализировал происходящее, рискованно пытаясь
вывести работы из России, чтобы увидеть их. Но это означало, что
они отрицали то, что случилось потом в 1930-, 1940- и 1950-е годы
и абсолютно удивительно обнаружить, что такие люди всё еще
работают в России, такие как Кабаков, например, занимаясь
абсолютно другими видами искусства. Так что сегодня, я думаю,
вещи обежали полный круг и формализм как метод вновь
чрезвычайно важен. Но я также хочу сказать, что антиформалистская
тенденция, которая пыталась в те годы восстановить некоторые
формы критических позиций, так же важна. Мы не должны
рассматривать ее как вторичную по отношению к советскому
авангарду 1920-х годов.
В некотором смысле искусство всегда отражает условия
определенной культуры. Русский формализм был связан с
«процветающей коммунистической системой» и
антиформалистское движение сегодня отражает нынешнюю ситуацию в
России. Художники как лакмусовая бумага показывают изменения
в культуре.
Абсолютно, совершенно верно. Дело в том, что одна культура
может создавать некий миф о другой, что совершенно правильно.
Это не удивительно, но это может стать препятствием для
понимания культур и поэтому, я думаю, хорошо, что мы видим, что
русский антиформализм имеет свои следствия. Мне кажется, что
Кабаков формирует своего рода постмодернистскую версию или
эквивалент очарованности 1920-х годов модернистскими формами:
воздушным полетом, например, как в знаменитой инсталляции Каба-
47
Стивен Бенн
кова о мужчине, парящим в своей квартире . Очевидно, что это вид
иронического и современного комментария конструктивистского
понятия полета как метафоры человеческой свободы.
Каким Вы видите будущее историографии и философии
истории?
Это сложный вопрос. Но полагаю, что могу ответить на него
двумя способами. С университетской точки зрения я всегда был
предан тому, что в 1960-е годы называли «междисциплинарными»
исследованиями то, что Ролан Барт назвал tarte à la crème
современного университета2. То, что я вижу сейчас, есть больше, чем
междисциплинарный подход. Это подлинное слияние всех областей
исследования в гуманитарном знании. Например, огромное число
студентов, которым я преподаю, с каждым годом всё больше и
больше изучает далеко не один предмет. Раньше было принято,
чтобы студенты были чистыми историками, или изучали только
английский язык, или историю искусства. Сегодня многие по-
настоящему хорошие студенты хотят снимать фильмы, заниматься
визуальными искусствами, писать стихи и это, безусловно,
возможно, даже несмотря на то, что, конечно, никто не может делать
всё. Такова тенденция нашей программы высшего образования. У
нас есть, как мы называем, программа в области современных
исследований, где люди могут выбрать целый спектр курсов, скажем
в рамках магистерской степени в области кинематографии и теории
искусства. Так что, с другой стороны, я думаю, что
дисциплинарный сдвиг изменяет всю идею университетского образования.
Вольфганг Изер рассказывал о том, как литературоведение, в конце
концов, обосновало свою независимость от антропологической
точки зрения3. Но оно никогда не обоснует свою независимость от
1 Речь идет об инсталляции И. Кабакова «Человек, который улетел в космос из
своей комнаты» (1984). «Комнатка, кое-как оклеенная какими-то
пропагандистскими плакатами, раскладушка, штиблеты на полу, болтающаяся на ремнях
катапульта и дыра в потолке - все, что осталось от героя, чувствовавшего себя на
Земле чужаком и мечтавшего слиться с энергетическими потоками Вселенной. Сюжет
об удравшем в эмпиреи эскаписте прочитывался с разных точек зрения:
общечеловеческой, философско-богословской, политико-диссидентской» // Толстая А.
«Московская ретроспектива» Ильи Кабакова // Коммерсант, № 10 от 23.01.2009, ΠΤ.
2 tarte à la crème (φρ.) - кремовый торт.
3 Изер Вольфганг (Iser Wolfgang, 1926-2007) - немецкий филолог-англист,
один из основателей влиятельной теоретической школы рецептивной эстетики
(эстетика воздействия).
48
О себе
нравственной точки зрения. Идея культурной поэтики кажется мне
одним из интегративных факторов, которые могут, наконец,
соединить вместе некоторые области гуманитарных исследований.
Мне также весьма интересна перспектива конца столетия.
В прошлом году я вместе с коллегами редактировал коллективную
монографию «Утопии и конец тысячелетия»1. В июле я готовлю
конференцию «Уолтер Патер и культура У?« de siècle»2. Думаю, что
конец столетий всегда является интересным и захватывающим
временем. Это происходит из-за того, что существует своего рода
культурная и поэтическая необходимость постулировать некоторые
формы разрыва или новизны, и поэтому все вещи выходят на
поверхность. Иногда эти переходы весьма болезненны, но я считаю
этот вызов необычайно возбуждающим, хотя он и несет с собой
множество поводов для культурного пессимизма в других областях
нашей жизни.
* * *
Перечитав интервью, данное Вами Э. Доманска в 1994 году,
что Вы могли бы добавить к нему сегодня? Изменилась ли
ситуация в области исторической репрезентации?9
Я поражен тем, как много интересных вещей появилось в мире,
начиная не только с 1994 года - момента указанного Вами
интервью, но и с 1984 года - момента появления моей книги «Одежды
Клио», и даже за десятилетие до ее издания. В 1984 году я только
схематично обрисовал фигуру малоизвестного французского
художника Поля Делароша. Сегодня, в 2010 году, я уже выступал
куратором большой выставки живописи в Национальной галерее, в
Лондоне, где ключевой картиной была картина Делароша «Казнь
леди Джейн Грей» (1833). Вне всякого сомнения, в наше время со-
1 Bann St., Krishan Kumar, eds. Utopias and the Millennium. London: Reaktion
Books, 1993. Books, 1993.
2 Патер Уолтер Хорэйшо (Walter Horatio Pater, 1839-1894) - английский
эссеист и искусствовед, главный идеолог эстетизма - художественного движения,
исповедовавшего девиз «искусство ради искусства» (Оскар Уайльд, Джордж Мур,
Обри Бердслей). Известней своей книгой «Исследования истории Возрождения»
(Studies in the History of the Renaissance (1873); Fin de siècle - (φρ.) конец века-
обозначение характерных явлений периода 1890-1910 годов в истории
европейской культуры. В России более известно как Серебряный век.
* Интервью, данное С. Бенном М. Кукарцевой и А. Мегиллу (получено по
e-mail, ноябрь 2010).
49
Стивен Бенн
храняется огромный интерес к исторической живописи и к тем
художникам-модернистам XIX века, которые работали в этой манере.
Выставки работ Александра Кабанеля в Монпеллье в Кёльне и
Жана-Леона Жерома в Лос-Анджелесе и Париже, продемонстрировали
интернациональную природу такого интереса*. В любой стране
Европы есть картины, написанные на сюжеты истории, но до
недавнего времени они были как бы вне внимания публики. В музее Прадо,
например, историческая живопись XIX века только в последние
два-три года была изъята из запасников, помещена в основную
экспозицию, где она и засверкала во всем своем блеске.
Но вопрос, конечно, не только в том, как и когда повесить
картины на стену. Вопрос в том, каковы они, эти картины. У Делароша
в его «Джейн Грей» для меня самым захватывающим моментом
стал момент театрализации и не только в его персональном
выражении - мне в руки попали любовные письма художника к актрисе,
которая была его моделью для этой картины. Момент
театрализации связан с традицией романтического театра как студийной
системы, позволяющей художникам достигать наивысшей степени
экспрессии своих полотен и одновременно пересматривать
условные границы изобразительного поля. Например, давно известно,
что картины Жерома стали источником вдохновения для
первых режиссеров Голливуда. Изображение им гонок на колесницах
и гладиаторских боев было прямо воспроизведено в фильме
«Бен Гур» режиссёра Уильяма Уайлера, снятом по роману
американского писателя Лью Уолласа. Сегодня, в связи с пересмотром
понятий перформанс и спектакль, стало возможным проследить
этот момент театрализации в искусстве живописи с самого начала
XIX столетия.
В 1984 году исторические фильмы находились в поле моего
исследования. Фильм «Возвращение Мартина Герра» до сих пор
кажется мне самым выдающимся примером сотрудничества историка
и кинорежиссера, приведшего к пересмотру старых ценностей.
Этот фильм стал беспрецедентным исследованием того, что
называют «историчностью» кинематографического образа. Филипп Ро-
* Кабанель Александр (Cabanel Alexandre, 1823-1889); Жером Жан-Леон
(Gérôme Jean-Léon, 1824-1904 гг.) - французские художники, представители
академизма.
50
О себе
зен, например, выявил и исследовал вопрос неожиданного
проявления в фильме «Мартин Герр» «исторических деталей». Возможно,
правильно будет сказать, что такие режиссеры как Росселлини и
Кубрик привнесли в съемку исторических фильмов такие
технологические новшества и приемы искусства оператора, которые никто
не сможет превзойти. Также нельзя не восхищаться творческим
применением цифровых технологий, что продемонстрировал,
например, французский кинорежиссер Эрик Ромер в фильме
«Роялистка» (2001).
Что касается воссоздания исторической обстановки в музее или
в каком-то старинном здании, я полагаю, что сегодня доверие к ним
публики еще более укрепилось. В своей книге «Одежды Клио»
я сосредоточил внимание на изучении стратегий создания музейной
экспозиции Александром дю Соммерером в Музее де Клюни. Эти
стратегии не исчезли до сих пор, а, напротив, укрепились, о чем
я рассуждаю в своей другой работе «Романтизм и взлет истории»
(1995). Эти стратегии даже отчасти ассоциируются с
иллюзионизмом современного китча Диснейленда. Совсем недавно я был
поражен замечательной реконструкцией Дуврского замка в Кенте
времен войны за «английское наследство». Виоле-лё-Дюк,
первым обративший внимание на исторические аспекты реставрации
средневековой меблировки, был бы просто ослеплен прекрасно
выполненными настенными гобеленами и расписными стульями,
созданными в нашем веке на основании исторических
исследований средневековой домашней обстановки. Но окончательно его
сразила бы говорящая голограмма средневековых зевак,
толпящихся в замке.
Я должен подчеркнуть, что сегодня мой интерес к исторической
репрезентации сдвинулся в новом направлении. В исследованиях
живописи Делароша я пытался осмыслить визуализацию
отдаленного прошлого как социальный и эстетический феномен. Моя
недавняя работа о великом французском фотографе Гаспаре Феликсе
Надаре посвящена изучению совсем других вопросов: каким
образом технические новшества в книгопечатании и особенно
возникновение литографии позволили людям «увидеть» и запечатлеть
исторические события собственного времени,
Видите ли Вы какой-то особый смысл в понятии «пост-
пост-модернизм» как способе описания нашего времени?
51
Стивен Бенн
Я попытался суммировать свои взгляды на все такие понятия
в книге «О модернизме» (Ways around Modernism, 2007). Прежде
всего, я подчеркиваю, что все тревоги, касаемые перехода от
модернизма к постмодернизму бессмысленны, если мы не понимаем
того, почему модернизм столь важен. Поэтому контекст XIX века,
против которого выступал модернизм, требует дополнительного
исследования, тогда вскроются все те связности и преемственности,
которые по каким-то причинам выпали из поля зрения ученых.
Я смотрю на живопись Александра Кабанеля, служащей
прекрасной антитезой модернистской живописи Мане. Такими полотнами
мы как бы оплачиваем забытые долги перед живописью эпохи
романтизма, чем больше его работ будет издано, тем лучше. Вообще,
рынок печатной продукции XIX века был наводнен работами
авторов-противников модернизма, но это ни в коей мере не может быть
расценено как некая реакция или негация модернизма.
Другой аспект указанного вопроса связан для меня с понятием
«курьез». Для меня «курьез» есть продолжающееся скрытая
тенденция, которая под разными масками всегда жила в западной
истории, начиная с эпохи Возрождения, обычно в оппозиции к тому,
что Фуко назвал доминантной эпистемой. Некоторые художники,
которыми я восхищаюсь сегодня, весьма трогательно относятся к
этому наследству, которое обращает нас назад, к феномену
«кунсткамеры» начала эпохи модерна. Нередко критики пытаются
переложить это понятие в другой карман, под названием сюрреализм.
Но я предпочитаю более долгую перспективу. В ней
«пост-постмодернизм» проявляется просто как еще один знак неумения
мыслить историю вне учитывания роли в ней эпохи модерна.
ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ СТИВЕНА БЕННА*
Russian Formalism: A Collection of Articles and Texts in Translation, co-
editor with J. E. Bowlt. Edinburgh: Scottish Academic Press, 1973.
Heroic Emblems (Co-author with Ian Hamilton Finlay), Ζ Press, Vermont, 1977.
* Издание «About Stephen Bann», edited by Deborah Cherry (Oxford: Blackwell,
2006) содержит полную библиографию работ Стивена Бенна до 2006 года, а также
очерк о его работах, написанные В Эрнстом, Р. Шиффом, Ж.-Л. Шефером и др.
(Wolfgang Ernst, Richard Shiff, Jean-Louis Schefer).
52
О себе
The Clothing of Clio: A Study of the Representation of History in
Nineteenth-Century Britain and France. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984.
Ian Hamilton Finlay: A Visual Primer, by Abrioux, Yves; author of
introductory notes and commentaries. Edinburgh: Reaktion Books, 1985.
The Tradition of Constructivism, editor. London: Thames & Hudson, 1974.
Repr. Cambridge MA: Da Capo, 1990.
The True Vine: On Visual Representation and the Western Tradition.
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989.
The Inventions of History: Essays on the Representation of the Past.
Manchester: Manchester Univ. Press, 1990.
Interpreting Contemporary Art, co-editor with William Allen. London:
Reaktion Books, 1991.
«Inscription and Identity in the Representation of the Past». New Literary
History 22 (1991), no. 4: P. 937-960.
«Generating the Renaissance, or the Individualization of Culture». In The
Point of Theory: Practices of Cultural Analysis, ed. Mieke Ral and Inge
E. Boer. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 1994.
«'Wilder Shores of Love': Cy Twombly's Straying Signs». In Materialities
of Communication, ed. Hans Ulrich Gumbrecht and K. Ludwig Pfeiffer.
Stanford: Stanford Univ. Press, 1994.
«History as Competence and Performance: Notes on the Ironic Museum».
In A New Philosophy of History, ed. Frank Ankersmit and Hans Kellner, 195-
211. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1995.
Utopias and the Millennium, co-editor with Krishan Kumar. London:
Reaktion, 1993.
Frankenstein, Creation and Monstrosity, editor. London: Reaktion Books, 1994.
Under the Sign: John Bargrave as Traveller, Collector, Witness. Ann
Arbor: Univ. of Michigan Press, 1994.
The Sculpture of Stephen Cox. London: Lund Humphries with the Henry
Moore Institute, 1995.
Romanticism and the Rise of History. New York: Twayne, 1995.
Paul Delaroche: History Painted. London: Reaktion, 1997.
Parallel Lines: Printmakers, Painters and Photographers in Nineteenth-
Century France, New Haven: Yale Univ. Press, 2001.
'Cinema and the rescue of historicity', review of Philip Rosen, Change
mummified: Cinema, Historicity, Theory, in History and Theory, Theme issue
41,2002. P. 124-133.
Jannis Kounellis. London: Reaktion, 2003.
The Reception of Walter Pater in Europe, London: Thoemmes, 2004.
Ways Around Modernism (Theories of Modernism and Postmodernism in
the Visual Arts), New York: Routledge, 2007.
'«When I was a photographer»: Nadar and History', in History and Theory,
Theme issue 48, 2009. P. 95-111.
53
ВВЕДЕНИЕ
Клио, муза Истории обладает иконографией самого разного
рода. На барельефе XV века, выполненного Агостино ди Дуччио
в Темпио Малатестиано в Римини, она изображена разместившейся
в несколько неуверенной позе на поверхности земного шара. Ее
волосы развеваются по ветру. В левую руку вложена огромной
величины труба Славы, а правая прижимает к груди книгу эпосов. На
барельефе Клодиона, изваянного для Дворца Почетного легиона
в Париже, построенного Наполеоном в 1802 году в целях
увековечения памяти героев нации, Клио изображена в состоянии
настороженного покоя. Суровая и непоколебимая, взирает она на
мраморную таблицу, на которой херувим выводит диктуемый ею текст.
Правой рукой она держит на уровне колена острое перо,
а левой стягивает с груди свободно ниспадающую тунику. Что
собирается она сказать молодому Наполеону, чей бюст помещен
в дальнем углу композиции? Быть может строгая История, подобно
матери, хочет накормить его грудным молоком? Ее летописи,
может, и высечены из камня, но ее великодушный жест противоречит
первому впечатлению суровости.
Мое исследование - реакция на великодушие Клио XIX века.
Я рассматриваю широкий круг форм исторической репрезентации
того времени, призванных выразить новое видение прошлого. То,
что в Британии, Франции и в остальном западном мире XIX века
сформировался своеобразный период «исторической готовности»
или готовности воспринимать историю - очевидный факт. Альбер-
тина де Брольи вполне в духе своего времени в 1825 году
доверительно признавалась историку Просперу де Баранту: «мы ...первые,
кто понял прошлое»1. Традиционные способы объяснения
феномена притягательности «новой» истории указывают на появление
в начале XIX века новой профессиональной историографии, что
влекло за собой образование беспрецедентных стандартов
исторических исследований.
1 Barante P. de. Souvenirs. Paris, 1890-97. Vol. III. P. 248.
54
Введение
Барельеф «Клио» работы Клодиона,
изваянный для Дворца Почетного легиона в Париже
В своей знаменитой инаугурационной лекции в университете
Кембриджа лорд Актон, по сути дела, обозначил эти новые
стандарты и официально назвал Леопольда фон Ранке «тем
представителем века, который создал современную матрицу изучения
истории»1. Но даже Актон был вынужден подчеркнуть связь новой
профессиональной историографии с более широким контекстом
перемен в области культуры вообще. Вновь проснувшийся интерес
к истории был многим обязан, по его словам, «школе романтизма».
Но эта школа была скорее побочным продуктом, чем реальной
причиной этого беспрецедентного интереса к прошлому.
Действуя в качестве адвоката дьявола, мы могли бы
противопоставить позиции Актона, позицию почти антитетическую. В
качестве примечательной черты времени между 1750 и 1850 годами -
покрайней мере, в Англии - следует выделить не столько новую
профессиональную практику истории, сколько возрастающее
производство псевдоисторических подделок, таких как поэмы Оссиана,
принадлежащие перу Джеймса Макферсона, и средневековая
поэзия Т. Чаттертона*. Быть может, красноречивей всего является
1 Lord Acton. Lectures on modern History. London, 1969. P. 32.
Оссиан (Ossian) - легендарный кельтский бард HI века, от лица которого
написаны поэмы Джеймса Макферсона; Томас Чаттертон (Thomas Chatterton,
55
Стивен Бенн
ложная «Хроника Ричарда Сиренчестера» Ч. Бертрама
Опубликованный в 1757 году, при поддержке антиквара У. Стакелея , этот
документ был востребован в английских исторических кругах в
течение более, чем столетия, и в 1878 году был даже переиздан как
аутентичный спустя уже десятилетие после того, как библиотекарь
Виндзорского замка обнаружил в подчерке Бертрама смешение
несовместимых стилей и доказал факт подделки! Однако к этому
времени удачная мистификация насквозь пропитала всю область
британских исторических исследований древнего Рима, что привело к
плачевным результатам, на искоренение которых понадобились
многие десятилетия.
При этом, конечно, значение имеет не сам факт временного
успеха мистификации, а то, что научные исследования в области
орфографии в конечном итоге позволили библиотекарю заметить
подделку. Точно так же 1827 году Джеймс Рейн исследовал
гробницу Св. Катберта в Дюрамском соборе и сделал заключение, что
тело святого оказывается всего лишь тщательно выполненная
подделка. Эти события положили начало развенчанию давних мифов
о прошлом1. Но было бы неправильно видеть побудительную
причину подобного расследования только в чистой и лишенной
корысти науке или в простом желании заработать деньги, создавая
подделки. Стремление к аутентичности исторических свидетельств
1752-1770)- английский поэт, автор литературных мистификаций. С 12 лет писал
поэмы, выдавая их за средневековые записи некоего Томаса Роули, якобы
найденные в древней церкви. Т. Чаттертон служил для романтиков культовой фигурой
«непризнанного гения».
Чарльз Бертрам (1723-1765) был автором поддельных рукописей
(«Описание Англии»), которые на протяжении более века были очень влиятельны в
реконструкциях истории Римской Британии и истории Шотландии. Эта подделка
сделала Бертрама известным. Мотивы, толкнувшие его на создание подделки, до сих
пор неизвестны, во всяком случае, он никогда не пытался получать прибыль от
своего обмана.
** Стакелей Уильям (Stukeley William, 1687-1765) - известный британский
антиквар и археолог, исследователь Стоунхенджа и Эйвбери, создание которых он
ошибочно приписывал древним племенам кельтов. Один из первых биографов
своего друга И. Ньютона.
1 «Рейн сделал заключение, что тело св. Катберта разложилось в течение
первых одиннадцати лет после его смерти, затем из каменного фоба были изъяты
кости, должным образом сложены, тщательно перебинтованы, и из них было
создано подобие человеческого тела» // Townsend R.D. Hagiography in England in the
Nineteenth Century: A Study in Literary, Historiographical and Theological
Developments, unpublished D. Phil, thesis, Oxford, 1981. P. 187.
56
Введение
и переходящее всяческие границы желание ее имитации
оказываются, в определенном смысле, двумя сторонами одной и той же
монеты.
Поставим вопрос немного по-другому. Почему такой человек,
как Чарльз Бертрам, решился придумать хроники прошлого?
Почему Стакелей с такой готовностью принял подделку Бертрама за
настоящую рукопись? Что заставило библиотекаря решиться на
разоблачение подделки? И как все это развивалось? Конечно, и до этого
европейская история много раз имела дело с имитациями
(известное «Пожертвование Константина»), например, так же, как
и с их разоблачителями, среди которых Пьер Абеляр и Лоренцо
Вала*. Но ведь эти подделки, по большей части, создавались по
особому политическому заказу и щедро оплачивались. К середине
XVIII столетия интерес к реконструкции истории постепенно
заставляет пересматривать мотивы обмана. Попробуем взглянуть на
Бертрама как на антиРанке, и в этом случае разоблачение
подложной Хроники станет триумфом исторического метода над
избыточным увлечением антикварианизмом. Или попробуем увидеть в нем
прото-Вальтера Скотта, и в этом случае приоритет антикварианиз-
ма над подлинностью становится предзнаменованием громадных
успехов исторического воображения, обнаруживаемого в романах
об Уэверли. Да и кто может сомневаться в том, что романы «Уэвер-
ли», будучи в самом строгом смысле слова исторической фикцией,
все-таки сообщали своим читателям способность распознавания
тонкой грани между тем, что было подлинным, а что фальшивым
в изображаемой романистом конкретной исторической обстановке?
В этой книге я буду часто обращаться к Скотту как к
первопроходцу в процессе нового открытия прошлого. Но тот факт, что как
главный объект анализа он появляется только в одной главе,
указывает на определенный исследовательский подход. Вместо того
чтобы концентрировать свое внимание на отдельных фигурах и их
достижениях, я рассмотрел характерные типы исторического
дискурса и репрезентации XIX века, с тем, чтобы выявить их общие
структурные особенности и проанализировать их влияние на
последующее развитие репрезентационных форм истории. В общем
смысле, это упражнение в артрологии, говоря языком Р. Барта,
науке для обозначения «деления» между формами дискурса внутри
* Речь идет о предполагаемой передаче римским императором Константином I
власти над Востоком и Западом империи христианскому Папе Льву IX.
57
Стивен Бенн
определенной эпистемологической конфигурации . Допуская
вероятность того, что эти «смычки» непросто обнаружить, я прибегал к
сравнению материалов исследования, которые, как может
показаться на первый взгляд, порой сводились вместе в спешке или наугад.
Но для того, чтобы рассмотреть в одной книге всю «историческую
готовность» XIX века (даже в отношении только Британии и
Франции, которые составляют главное направление моего исследования)
потребовалось бы поистине энциклопедическое привлечение
источников. И хотя я не утверждаю, что совершил нечто подобное,
я надеюсь предложить некие продуманные методы и ориентиры
для изучения исторической репрезентации XIX века, имеющие
значение и для дня сегодняшнего. Удивительно, сколь мало, вплоть до
настоящего времени, прикладывалось усилий для решения задачи
охватить взглядом все это поле как одно целое. Важность
различных и отдельных изученных аспектов этой задачи, которые по
разным причинам обращали на себя внимание исследователей,
впоследствии была забыта или искажена.
Поэтому я заинтересовался анализом исторической
репрезентации в самом широком смысле этого понятия. Я попытался
рассмотреть элемент фикции в подобной репрезентации и
идентифицировать общие схемы и стратегии, которые в совокупности могли бы
быть сведены вместе и идентифицированы как «историческая
поэтика». Эти схемы и стратегии всегда существовали в исторических
романах, в изящных искусствах, спектаклях, исторических музеях
и в самой историографии, но каковы они? В своей новаторской
работе «Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века»
Хейден Уайт утверждает, что историография и философия истории
XIX века следовали одним и тем же риторическим построениям и
были «осюжетены» согласно все тем же архетипическим моделям
развития, которые Нортроп Фрай выявил в западной литературной
традиции - Роман, Трагедию, Комедию, Сатиру. Работа Уайта,
несомненно, есть самый существенный вклад в решение
обозначенной мною проблемы. Она помогла кристаллизации моей собствен-
«... Будущая задача семиологии заключается не столько в том, чтобы создать
предметную лексику, сколько в том, чтобы установить способы членения
человеком реального мира. В связи с этим можно выдвинуть утопическое предположение
о том, что хотя семиология и таксономия до сих пор так и не возникли,
в будущем, возможно, они сольются в одну науку артрологию - науку о
разделениях» // Барт Р. Основы семиологии // Структурализм и постструктурализм. М.,
2000. С. 277.
58
Введение
ной работы в этой области, которая, начавшись в 1970 году с
исследования «Цикл исторического дискурса», в переработанном
виде включена и в эту книгу. И все же, именно из-за оригинальности
и влияния «Метаистории» Уайта и из-за последующего спора об
уместности риторического анализа в области историографии я с
самого начала хочу прояснить суть моих тезисов.
Невероятно много зависит от статуса лингвистических и
риторических терминов, которые (как читатель скоро заметит)
используются для проникновения в суть дела сквозь наружный слой
дискурса: такие повторяющиеся время от времени фигуры или
композиции, как метономия, метафора, синекдоха, хиазм, катахреза и
другие тропы поэтического языка . Все зависит от их толкования.
Они принадлежат к традиционному аппарату литературоведения,
даже если этот аппарат только совсем недавно был спасен от
полного запустения. Они идентифицируют одним экономичным
словом повторяющиеся время от времени модели: например, «часть,
заменяющая целое» (метонимия). Так закрепившееся популярное
использование слова «корона» в качестве ссылки на монархию
служит достаточным доказательством того, что употребление
подобных фигур речи не является ни эзотерическими, ни принадлежащим
исключительно литературе. Но можно ли делать какие-либо особые
утверждения о познавательном статусе этих фигур?
Здесь я выдвинул бы двойной аргумент, одновременно строго
эвристический и в то же время более спекулятивный. Джонатан
Каллер склонен к первому, когда он описывает такие риторические
фигуры, как «названия возможных интерпретативных ходов,
которые можно совершать, когда встаешь перед лицом текстуальной
проблемы»1. Он говорит о том, что мы можем придавать смысл
* Метафора - способ постижения одной вещи в терминах другой,
соотношение значений слова по сходству («любовь и роза»); метонимия - соотношение
значений слова по принципу смежности, использование одной сущности для
ссылки на другую, обычно содержит указания на каузальные ассоциации («пятьдесят
парусов - пятьдесят кораблей»; «он занимается танцами»); синекдоха -
соотношение значений слова по их соотнесенности между собой, часть замещает целое («он
весь в его сердце»; «в университете много светлых голов»); катахреза -
необычное или ошибочное сочетание слов вопреки несовместимости их буквальных
значений («красные чернила», «когда рак свистнет»); хиазм - инверсия во второй
половине фразы, например, (ab = b]a\ «он встал и села она»).
1 Culler Jonathan. Making sense. // 20th Century Studies, 12 (Dec. 1974). P. 31.
59
Стивен Бенн
тексту или каким-либо другим важным паттернам информации
через применение к ним ограниченного числа формальных схем и
выявление их соответствия друг другу. Но подобный подход
рождает фундаментальную проблему. Каков когнитивный базис
указанного «соответствия»? Антрополог Дан Спербер в своей статье
о «когнитивной риторике» выдвигает ценное предположение:
«Фигура находится не в тексте, и она не является функцией одного
только текста. Она содержится в концептуальной репрезентации
текста; это одновременно функция и текста, и приобретаемого
знания. Риторики спорят о существовании фигур мысли, подобных
фигурам фонологии, синтаксиса и семантики. Я же полагаю, что
для того, чтобы запустить механизм фигуральной интерпретации,
ничего, кроме фигур мысли, и не нужно. В отношении них
фонологические, синтаксические или семантические качества могли бы
играть роль вспомогательных фокусов, даже и не становясь
необходимыми или достаточными условиями действия этого механизма»1.
Гипотеза Спербера вполне применима для анализа материалов,
привлекаемых к этому исследованию. Он выступает против
традиционного взгляда на риторические фигуры, как на пункты
«отправления» от идеала простого, неприукрашенного, не-фигуратив-
ного языка. Он справедливо указывает на то, что этого
мифического понятия, этого нейтрального «ноля градусов», от которого
«отправляется» риторическая фигура, просто не существует. Вместо
этого нам следует думать об этой фигуре как о «функции
одновременно и текста, и общего знания» тех, кто этот текст
интерпретирует. Процесс интерпретации - процесс диалектический, в котором
«фигуры мысли» используются для распознавания и исследования
тождественных фигур, «фокализованных» в материале текста.
В чем состоит важность этой позиции для изучения
исторической репрезентации? Историография предъявляет особые
требования к «научной» истине. В этом смысле она не поддается анализу
в понятиях «стиля» или фигуры. Заимствуя фразу, которую Жак
Деррида использовал для «деконструкции» языка философии, мы
могли бы сказать, что у историографии есть своя «белая
мифология». Прозрачность по отношению к «фактам» есть код
литературной практики историка, даже если он использует обороты речи
и нарративные структуры, как и любой другой писатель. Питер Гэй
1 Sperber Dan. Rudiments de rhétorique cognitive. Poétique, 23 (1975). P. 415.
60
Введение
в своей работе «Стиль в истории» прокомментировал это
институционализированное «двойное мышление». Он указывает, что тот
самый Ранке, которого за его «бесцветный, критический» стиль
хвалил лорд Актон, на самом деле отличается изобилием живых
риторических оборотов1.
Современник Ранке, французский историк Проспер де Барант,
пытаясь достигнуть особой полноты нейтральности стиля, пошел
еще более прямым путем. Но то, что Баранту пришлось преодолеть
массу препятствий на пути достижении «ноля градусов» своего
нарратива, да и сам сомнительный характер его достижения,
приводят к a contrario стилистической загрузки исторического текста.
Дань, отданную Барантом историографии, я покажу в первых
главах этого исследования, а его красноречивый контраст с Ранке
станет одним из тех ключей, которые будут использованы для
отпирания замков к пониманию «исторической готовности» XIX века,
её способность воспринимать новые формы исторической
репрезентации. Но гипотеза Спербера полезна не только своей прямой
применимостью к истории, она также позволяет нам оправдать
расширение поля исследования от исторической фикции и
исторической живописи к другим формам организованного дискурса,
которые могут рассматриваться как «тексты». Подчеркивая
первичность «фигур мысли», которые локализованы в языке, Спербер
также указывает и на то, что такие фигуры могут быть локализованы
и в других областях. Это допущение становится главным в моей
главе о формировании двух исторических музеев XIX века - музея
Ленуара в аббатстве Малых августинцев и музея де Клюни Дю
Соммерера. Принципы собирания и экспозиции музейных
экспонатов, по общему признанию, не являются такими же специфичными,
как принципы составление литературной композиции. И все же,
сравнением двух музеев я надеюсь продемонстрировать работу
этих особых механизмов коллекционирования и экспозиции, и то,
что именно они определяют как характерную конфигурацию
выставленных в музее экспонатов, так и все понимание истории,
предлагавшееся посетителю этих музеев в XIX веке. Строго пара-
лельным исследованием является следующая глава об
«Исторической композиции места», где сравниваются личный и
художественный вклад Скотта и Байрона в архитектурную среду Абботсфорда
1 Gay Peter. Style in History. London, 1975.
61
Стивен Бенн
и Ньюстедского Аббатства. Я формулирую гипотезу о
существовании «исторической поэтики», которая является отличительной
чертой исторической репрезентации начала XIX века. В XVIII веке
утверждение, что написание истории включает в себя риторические
приемы, было просто общим местом. В начале XIX века акцент на
композиционной основе историографии постепенно сменяется
требованием наличия в историческом нарративе познавательных
ценностей. Об этом, в частности, говорит Ранке, различая первичные
и вторичные источники. Историки, художники, поэты,
коллекционеры приходили восторг от нового и конкретного видения прошлого,
которое должно было обеспечиваться наличием этих новых
стандартов познания истории, но (как получилось) удивительным образом
ими не обеспечивалось. Почему так получилось - трудная тема в
интеллектуальной истории, которой будет уделено немного внимания в
начале и в конце этого исследования. Как это получилось, есть
главный объект исследования в настоящем издании, где прослеживается
решающий сдвиг от редуктивной риторической стратегии к интегра-
тивной поэтике, подводящей основу под новое понятие истории.
И все же это воображаемое достижение того времени, которое
Хейден Уайт назвал «золотым веком» историографии, в середине
XIX века подверглось радикальному сомнению. В 2-5 главах я
прослеживаю процесс формирования исторической поэтики, а в 1 и 7
показываю, как ее «провели» через кровавую бойню иронии.
Именно потому, что неотразимая риторика, свойственная
предшествующим столетиям, несколько поизносилась, а историческая наука
продолжала предлагать все более и более суровые стандарты
аутентичности, последователи В. Скотта были вынуждены придумывать
новые и отличавшиеся особой изощренностью стилистические
уловки. Здесь отличие моего подхода от прочих существующих
исследований истории XIX века станет весьма очевидно. Дж. У.
Барроу свой доклад о «викторианских историках и английском
прошлом», озаглавленный «Либеральный спуск», начинает с
заявления: «тридцать лет, прошедших между 1848 и 1878 годами, стали
великим расцветом английской нарративной истории,
совершенствованием интерпретации того, что, вероятно, являлось тремя
великими кризисами в истории английской нации»1. По отношению
1 J.W. Burrow. A Liberal Descent// Victorian historians and English past.
Cambridge, 1981. P. 1.
62
Введение
к нарративам таких английских историков, как Маколей, Фроуд
и Фримен, тексты, в которых на этом этапе моих исследований,
заинтересован я, могут показаться периферийными и
слабыми*. Однако такие писатели как Барэм, Теккерей и Рид являются
обратной стороной медали маститых историков середины XIX
столетия. Вместе с таким исследователем эстетики, как Рёскин, и
таким изобретателем, как Фокс Тальбот, они приоткрывают завесу
над замысловатыми путями, следуя которым тест на историческую
аутентичность исторической репрезентации миновал стадию
иронического дискурса и одновременно сформировал установки и
перспективы, которые и по сей день неизменно присутствуют в
исторической культуре нашего мира.
Тем не менее было бы некорректным полагать, что
историческая физиономия XIX столетия представляла собой простую череду
неких этапов - этап творческого оптимизма следовал за
этапом коварного сомнения. Флобер, в своем знаменитом письме от
1859 года, написанном в связи с его собственной изысканной
исторической подделкой - романом «Саламбо», признавался: «мало кто
мог представить себе, насколько же унылым должно было быть
настроение человека, чтобы он принялся оживлять Карфаген»1.
Подобный тон вселенской усталости может показаться уместным и
для данного автора и для того времени. Но за столетие до этого,
представляя свою поддельную «Хронику Ричарда Сиренчестера»,
хитрый Чарльз Бертрам приводил в качестве причины появления
своего труда ускользающую в XIX веке ауру «настоящей жизни»:
«в хронике содержится множество фрагментов лучших времен,
которые сегодня тщетно было бы пытаться найти где бы то ни было»2.
Даже Альбертина де Брольи, писав на пике эпохи романтизма и помещая
* Фроуд Дж Э. (Froude James Anthony, 1818-1894) - английский историк,
романист и биограф, известный своей работой «История Англии» в 12 томах (History
of England from the Fall of Wolsey to the Defeat of the Spanish Armada (1850-70)
и биографией Т. Карлейля (Life of Carlyle) (1882-84); Фримен Э. A. (Freeman
Edward Augustus 1823-1892) - английский историк, известный своим трудом
«История норманского завоевания» (History of the Norman Conquest (1867-76).
Подчеркивал важность изучения источников, тщательность и скрупулезность
исследования свидетельств.
1 Flaubert. Correspondence. Paris, 1970. Vol. IV. P. 348 (Letter to Ernest Feydeau,
29/30 Nov. 1859).
2 Bertram Ch. Britannicarum Gentium Historiae Antiquae Scriptores Très.
Copenhagen, 1757.
63
Стивен Бенн
себя среди «первых, кто понял прошлое», делает отрезвляющее
наблюдение: «и это, в большой степени, есть результат того факта, что
наши собственные эмоции не достаточно сильны»1. Вся важность
достижений «исторической поэтики» начала XIX века должна быть, без
сомнения, положена на весы против возрастающего чувства
вселенской усталости, с которой она пытается сразиться, используя особые
приемы конструирования истории.
Для мадам де Брольи фигура Клио - это Муза всех времен. Но
она, в противовес Музе Агостино, не является эмблемой живого
экзистенционального опыта исторического процесса. На барельефе
Клодиона она изображена удобно откинувшейся назад, а тщательно
проработанные скульптором складки ее одежды изящно окутывают
ее фигуру. Бюст молодого Наполеона повернут лицом к каменной
таблице, на которой запечатлены эпические деяния современной
истории. Но нам не следует игнорировать тот факт, что Клио
предлагает нам еду, которую может дать только мать - грудное молоко
матери; эта непосредственная связь ребенка с матерью, без
сомнения, является частью того, что Генри Джеймс назвал «чувством
прошлого».
1 Barante P. de. Souvenirs. P. 248.
64
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ИСТОРИК КАК ТАКСИДЕРМИСТ:
Л. фон РАНКЕ, П. де БАРАНТ,
Ч. УОТЕРТОН
Какому заявлению могло бы быть присвоено звание «самого
знаменитого во всей историографии»1? Леонарду Кригеру ответ
очевиден - заявлению Леопольда фон Ранке, утверждавшего, что
«история возложила на себя задачу судить о прошлом, давать уроки
настоящему на благо грядущих веков. На эти высокие цели моя
работа не претендует. Её задача - лишь показать, как все происходило
на самом деле (wie es eigentlich gewesen isi)» (курсив Л. Кригера) .
Это «заявление», подданное с наведенным соответствующим
образом глянцем, дополненное другими подобными цитатами, на
первый взгляд воспринимается без особых возражений, даже
несмотря на свою широкую известность. Но вдруг мы на мгновение
приостанавливаемся, читая выделенные Кригером курсивом четыре
слова из фразы оригинального текста Ранке. Для чего выделил их
Кригер? Для того чтобы напомнить нам о том, что Ранке писал на
немецком? А может быть, он намекает на необходимость более
точного перевода текста Ранке на английский? Если причиной
ввода курсива является последнее, то возникает вопрос: а почему
именно на этой части «заявления» Ранке был сделан акцент?
Потому, что она «знаменита» больше, чем первая ее половина, и оттого
заслуживает особой чести?
Должен сказать, что эти вопросы совсем не лишены основания.
Сегодня существуют две версии английского перевода полного
1 Kreiger Leonard. Ranke: The Meaning of History. Chicago and London, 1977. P. 4.
Цит. по: Ранке Л.фон. Об эпохах новой истории // Историки и история:
Жизнь. Судьба. Творчество. М, 1998. Т. 2. С. 297.
3 Зак. 760
65
Стивен Бенн
текста «Предисловия» Ранке к работе «История романских и
германских народов с 1494 до 1514 гг.», из которого взята эта фраза. В
первой версии перевода (Гарета Стедмана Джонса) указанные слова
Ранке точно так же заключены в скобки, тем самым отсылая нас к
оригиналу: «Её задача - лишь показать, как все происходило на
самом деле (wie es eigentlich gewesen /s/)»1*. Во второй версии ее
переводчики (Иггерс и фон Мольтке) отказываются от подобной
практики и делают вывод, что выделяемый другими переводчиками
«афоризм» Ранке подчеркнут лишь для того, чтобы показать
трудности перевода. «На самом деле часто цитируемое изречение "wie
es eigentlich gewesen ist" в этой стране обычно понимается
неправильно, как призыв к историку заниматься только
фактографическим воссозданием прошлого»2. Получается, что дело просто
в неправильном переводе. «Афоризм» трансформируется в
«заявление». Слову eigentlich («собственно», «на самом деле», «в
сущности») был дан обратный перевод и его новое прочтение
подчеркивается с помощью двух выделяющих запятых. «Истории была
придана функция судить о прошлом, направлять людей во имя блага
будущих лет. Моя попытка не ставит себе целью столь высокое
предприятие. Она - просто желание показать, как, по существу,
происходили события» .
Попробуем прокомментировать этот момент. Если «заявление»
или «афоризм», содержащийся внутри этого заявления, и вправду
стали столь «знамениты» (а со временем стали даже
«классическими»4 и, теа culpa*, «освященными временем»5), то это совсем не
обязательно произошло из-за того смысла, который вкладывал
в них именно Ранке. Если уж быть совсем точным, то это - вопрос
восприятия того, о чем хотел сказать Ранке. Переводчики второй
версии работы Ранке делают ставку на то, что обсуждаемый «афо-
1 Stern Fritz (ed.). The Varieties of History from Voltaire to the Present, second
edition. London, 1970. P. 57
* Гарет Стедмаи Джонс (Gareth Stedman Jones) - британский историк жанра
социальной истории.
2 Iggers Georg С., Moltke Konrad von (eds.)., The Theory and Practice of History:
Leopold von Ranke New York, 1973. P. xix.
3 Ibid. P. 137
4 Fischer David Hackett. Historians' Fallacies. London, 1971. P. xix.
** теа culpa - лат, моя вина В данном контексте Бенн ссылается на одну из
своих статей, где он ввел эту характеристику фразы Ранке.
5 Bann Stephen. Historical text and historical object: the poetics of the Musée de
Cluny // History and Theory, 17, 3, 1978, 265.
66
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
ризм» переведен «в этой стране» (предположительно Америке)
совершенно неправильно. Но это еще больше сбивает с толку. В ходе
критики оснований традиционной британской историографии
«афоризм» Ранке был часто использован для ссылок на присущий
британским историкам конца XIX века позитивизм: «Согласно
столь часто цитируемому изречению Ранке, задачей историка было
"просто показать, как это было на самом деле" - иными словами, -
устанавливать факты»1. Но если Гарет Стедман Джонс в своем
переводе и интерпретации Ранке был не прав, а правы были Иггерс
и фон Мольтке, то к кому же выводу мы в таком случае должны
прийти? Что «афоризм» Ранке стал лозунгом позитивистской
историографии, но сам Ранке намеревался сказать что-то совершенно
другое? Тогда следовало бы четко разграничить изначальное
намерение автора и превращающийся в фальсификацию миф о нем: ра-
граничить Ранке - ложного позитивиста, «удовлетворенного чисто
фактическим воссозданием прошлого» и подлинного Ранке,
считавшего, что «акцентированием главного исследование становится
историческим»2.
Растущее читательское нетерпение можно несколько
успокоить, приведя непосредственно относящееся к делу
глубокомысленное суждение Герберта Баттерфилда . Не считая необходимым
давать дополнительную оценку обсуждаемому «заявлению», или,
если хотите, «афоризму», он справедливо полагает, что Ранке
выступал своего рода легендарным хранителем позиций «новой»
историографии XIX века, и что, по всей вероятности, именно по этой
причине его оригинальность и была преувеличена: «Рассуждая об
этих основополагающих идеях, историки, видимо, считают
полезным исследовать их в том виде, в каком они находят свое
воплощение в творчестве и взглядах самого Ранке; и вероятно, правильно,
что главная роль в развитии исторической традиции XIX века
отводится Ранке. Однако можно утверждать, что некоторые из главных
идей и исследовательских решений, приписываемых Ранке, были
сформулированы задолго до него, и это в куда большей степени
может оказаться правдой, чем все то, что говорится ниже»3. А ни-
1 Gareth Stedman Jones. History: the poverty of empiricism' // Robin Blackburn
(ed.) Ideology in Social Science, (London, 1972). P. 97.
2 Inggers and von Moltke. Theory and Practice. P. xix-xx.
* Баттерфилд (Butterfield) Герберт (1900-1979) - англ. историк.
3 Herbert Butterfield, Man on his Past: The Study of the History of Historical
Scholarship Cambridge, 1969, reprint. P. xv.
67
Стивен Бенн
же, как обычно, следует хвалебная песнь идеям Ранке, что и
заставляет исследователей более точно выявить масштаб его
исследований.
По-крайней мере, со времени выхода в свет в 1959 году книги
Ф. Мейнеке «Возникновение историзма» стало обычным делом
рассматривать творчество Ранке как кульминацию мощной
традиции исторического мышления, возникшую в специфической
интеллектуальной и культурной ситуации, в которой оказалась Германия
XVIII века,. Весьма примечательно, что Мейнеке подводит нас
к обсуждению идей Ранке, предварительно рассмотрев позиции
Мозера, Гердера и Гете*. По сути дела, за обсуждение самого
Ранке он берется разве что в качестве «дополнения» к основной части
своего текста1. Вывод из этого очевиден: Мейнеке интересно
изучать только историческое мышление и природу самой истории,
а Ранке для него - своего рода мост, по которому «историзм»
переходит от своего инкубационного периода в философии XVIII века
к зрелой историографии XIX века. И все же, при всей значимости
идей Ранке, его оценка Мейнеке мало что говорит нам о сути того
вклада, который отдал Ранке историографии. Мейнеке и сам,
в предварительных замечаниях, с которых он начинает свою
выдающуюся работу, допускает: «Я не излагаю историю
историографии вопроса.., а даю историю ценностных критериев и творческих
принципов, лежащих в основе историографии и исторического
мышления вообще»2. Такое определение совершенно справедливо.
Но для дальнейшего анализа поставленной проблемы нам нужно
нечто намного большее, чем простое «дополнение».
Таким образом, с одной стороны мы имеем Ранке в толковании
Мейнеке - здесь «историческое мышление» Ранке объявляется
кульминацией традиции немецкой исторической школы XVIII века.
С другой стороны - образ Ранке, совершенно отличный от
представлений Мейнеке, предложенный Баттерфильдом. Здесь Ранке
включен (с подачи лорда Актона) в британскую историческую тра-
* Мозер Ю. {Moser Justus, 1720-1794) - немецкий юрист и историк.
1 «Дополнение» содержится в «Памятном обращении» по вопросу о Ранке,
которое первоначально было представлено 23 января 1936 года в Preussische
Akademie der Wissenschaftten.
2 Meinecke Friedrich. Historism: The Rise of New Historical Outlook, translated by
J.E.Anderson (London, 1972), ρ lx (рус. перев. -Мейнеке Φ. Возникновение
историзма. M., 2004. С. 10.
68
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
дицию и предстает если и не «для всего мира», то, по крайней мере,
для исторической профессии, отцом-основателем «новой»
профессиональной историографии. В результате, мета-исторические
заявления Ранке волей-неволей несли на себе всю тяжесть этого
мифического груза. И если мы хотим понять их релевантность
одновременно и занимаемому Ранке месту внутри интеллектуального
контекста его времени, и исключительной устойчивости «мифа о
Ранке», то мы не можем принять алиби «историзма» Мейнеке. Метод
Мейнеке, выражаясь языком альпинистов, состоял в том, чтобы
«пуститься в рискованное путешествие по горному гребню,
стремясь от одной вершины к другой, бросая взгляды по сторонам на
неизведанные горы и долины»1. В моей книге я предлагаю менее
идеальные погодные условия. Я хотел бы разогнать туман только
с одной части горы.
А показать, что вокруг туман, не составляет большого труда.
Давайте обратимся к одному из самых прямых и заметных
предшественников Ранке к Вильгельму Гумбольдту. Когда в 1821 году
Гумбольдт читал лекции о «Задачах историка» (то есть за три года
до публикации «Предисловия» Ранке), он начал со следующего
удивительно знакомого заявления: «Задача историка заключается
в изображении происходившего»2. Первая реакция - объявить это
прямым источником афоризма Ранке. Вот ведь как - свое истинное
происхождение афоризм имеет в совершенно другом месте! Однако
при обращении к немецкому тексту выясняется, что Гумбольдт
открывает свою лекцию следующим предложением: Die Aufgabe des
Geschichtschreibers ist die Darstellung des Geschehenen»^. Другими
словами, через вводящую в заблуждение приблизительность анг-
Ibid. P. viii (рус. перев. - Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М., 2004.
С. 9).
2 Humboldt Wilhelm von. The Historian's Task, translated in History and Theory, 6,
I (1967), 57-71. (рус. перев. - Гумбольдт Вильгельм фон. О задаче историка //
Гумбольдт Вильгельм фон. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 292).
3 Humboldt, Werke, 5 vols. Darmstadt, 19600. Vol. 1. P. 585.
Бенн указывает на то, что существует лингвистическая разница между
заявлением Ранке и более ранним заявлением Гумбольдта, но в английском переводе
она потерялась. В результате англоязычный читатель остается в убеждении, что
Ранке и Гумбольдт говорили одно и то же. Бенн же полагает, что это не так:
Гумбольдт подчеркивал необходимость репрезентации событий прошлого, а Ранке
вопрос о репрезентации не рассматривал, он рассуждал о своего роде прямом
контакте с прошлым.
69
Стивен Бенн
лийского перевода Ранке невольно умудрился отбросить тень
назад, пропутешествовав во времени. «То, что в действительности
происходило» Гумбольдта равно wie es eigentlich gewesen ist Ранке:
даже если мы сделаем обратный перевод или объявим фразу
Гумбольдта мифом, нам будет не так-то легко избавиться от этого
впечатления.
Здесь в интересах строгости исследования мы вынуждены
привести полную цитату Ранке на немецком языке, но не «афоризма»,
а программного заявления Ранке в его полном виде. Это
заявление взято из «Предисловия» к первой важной исторической
работе Ранке: «История романских и германских народов с 1494 до
1514 гг.» Под «Предисловием стоит дата: октябрь 1824. «Man hat
der Historie das Amt, die Vergangenheit zu richten, die Mittwelt zum
Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren, biegemessen: so hohler Aemter
unterwindet sich gegenwärtiger Versuh nicht: er will bloß zeigen, wie
es eigentlich gewesen»1.
«Предназначение (должность, место) истории - судить
прошлое, наставлять (поучать) современников к выгоде (пользе)
будущих веков: так, высочайшее предназначение настоящего опыта
есть не «движение по течению»: надо открыто показать
(обнаружить) как это подлинно существует» .
При детальном сравнении оригинала и его ранее цитированного
английского перевода возникают некоторые очевидные вопросы.
«Заявление» на самом деле есть связное целое не только потому,
что это, по сути, единое предложение, разделенное двоеточием, но
также и потому, что там содержится анафора (выброшенная в
английском переводе): слово Amt употребляется второй раз для
усиления инверсии субъект/объект . Нет также сомнения, что, ко всему
прочему, это заявление иронично. Слова об отказе от «столь
высокого ранга», будучи вставленным в контекст претензий Ранке на
новую методологию, представляются не вполне искренними.
Помимо этого, вторая часть заявления составлена парадоксально:
просто показать те из событий, которые представляются существен-
1 Ranke Leopold von. Gechichten der romanischen und germanischen Volker von
1494 bis 1514 Second edition Leipzig, 1874. P. vii.
Рус. пер. И. Дмитриевой.
Анафора (лат.) - повторение слова или выражения в начале каждой из
следующих друг за другом строк или предложений для достижения риторического
или поэтического эффекта.
70
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
ными. Разве при этом не заметен некий пикантный контраст?
И, наконец, заключительная фраза едва ли может рассматриваться
иначе, чем бросающаяся в глаза литота. После слов отказа от
«высокого ранга» Ранке говорит, что он будет показывать нам «просто»
то, что происходило «существенного». Но насколько легка эта
задача, чтобы так вот просто браться за ее решение?
То, что Ранке - талантливый ритор, не требует подтверждения.
И в этой связи истории не раз обращали внимание на
акцентировании им разрыва между «книгами» своего исследования с целью
достижения особого риторического эффекта1. Окончание фразы,
содержащей утверждение «wie es eigentlich gewesen ist»,
подчеркивает смелость всего (высказанного весьма сдержанно) заявления.
И точно, мы, затаив дыхание, вновь подхватываем нить
аргументации: «Но где же взять источник для такого исследования?». В этом
на мгновение прекращенном и потом возобновленном дискурсе нас
перемещают из одной области суждения в другую. В первой части
своей фразы Ранке обязался « показать» {zeigen), во второй - он
говорит об «исследовании» {erforscht). Если Ранке и в самом деле
составлял тщательный конспект гумбольдтовской лекции, тогда он
старательно проигнорировал тот факт, что Гумбольдт специально
останавливается на моменте репрезентации: «Задача историка
заключается в изображении происходившего. Чем верней и полней
ему это удается, тем совершеннее он выполнит свою задачу.
Простое изображение событий является первым непреложным
требованием в его деле и вместе с тем высшим, что ему дано совершить.
В этом аспекте он как будто является лишь воспринимающим и во-
производящим, а не действующим самостоятельно и творчески»
[Von dieser Seite betrachet, scheint er nur auffassend und weidergebend,
nicht selbsthatig und schöpferisch]2.
1 Gay Peter. Style in History London. 1975.
2 Humboldt. Historian's Task. P. 56 (рус. перев. - Гумбольдт Вильгельм фон.
О задаче историка. С. 292). Я осознаю, что здесь, когда я позволил себе
основывать свои аргументы на выборочных цитатах и сомнительных лингвистических
дефинициях, меня можно обвинить в создании искусственной разницы между
подходами Гумбольдта и Ранке. Подобное гипотетическое обвинение требует
ясного ответа. С одной стороны, мне не хотелось бы приуменьшать долг Ранке перед
Гумбольдтом и значение их общей вписанности в немецкую традицию
исторического мышления. Было бы несложно выбрать отрывки из теста Гумбольдта,
относящиеся, например, к поэтическому и творческому занятию историка, с которыми
с энтузиазмом согласился бы и Ранке. Однако моя задача состоит не в попытке
71
Стивен Бенн
Для Гумбольдта явный парадокс самоизъятия историка из
исторического текста решается путем уведомления читателя о том,
что этот парадокс является всего лишь стилистическим эффектом.
Историк должен лишь казаться быть «просто восприимчивым и
способным к воспроизведению». Его призвание - стремиться лишь
к скромному осуществлению «простой репрезентации». Для
сравнения, мы можем бросить взгляд на проявленную Ранке
оригинальность в движении от darstellen (изображать) к zeigen (показывать) и
в эффектном «выпадении» из этого движения вопроса о
репрезентации.
Итак, мы приходим к выводу, что заявление Ранке стало
«знаменитым» вовсе не из-за его ясного и понятного содержания, а
потому, что оно - своего рода уловка. В своем урезанном виде
оно иллюстрирует утопический характер исторического дискурса
XIX столетия, которому положено было находится вне сферы
«поэзии» и стиля - даже в том случае, когда стиль жертвовал своей
внешней атрибутикой в программе Гумбольдта. Естественно, что
комментаторы и переводчики Ранке во все времена были
обязаны допускать, что истинный историк стилем все-таки обладает. Но
та манера, в которой они делали эту уступку, указывает на парадок-
указать на общие им обоим момента, а на детали, на самом деле, весьма
значительные, даже если на первый взгляд они кажутся просто мелкими,
отличительными частностями. Здесь как раз уместно упомянуть различие между darstellen и
zeigen. Очевидно, что в определенных обстоятельствах эти слова могли
употребляться как синонимы. Однако в словаре значение darstellen даётся как: изображать,
рисовать, очерчивать, представлять, украшать рисунками, рисовать портрет,
a zeigen, как показывать, подчеркивать, указывать, выставлять, демонстрировать.
Таким образом, оттенки значений darstellen, по большей части примыкают к
традиционной формуле репрезентации, a zeigen, больше соответствует значению
слова показ, показывание, неопосредованного кодом или системой транскрипции.
Используя семиотику Пирса, мы могли бы сказать, что darstellen обозначен «ико-
ническим» (знак, который обладает рядом свойств, присущих обозначаемому им
объекту) и «символическим» знаком, тогда как zeigen также включает в себя и
даже в исключительном порядке - «индексальное» измерение, то есть, zeigen -
индексальный знак-признак.
Несмотря на это, мне не хотелось бы придавать слишком большое значение
утверждению о том, что Ранке намеревался наполнить свой афоризм новым
значением. Я утверждаю, что в 1824 году различие между darstellen и zeigen все-таки
имело смысл - при условии, что мы соотнесем фразу Ранке с кризисом
репрезентации, ощутимой в остальных, родственных областях науки, апеллирующих
к средствам выражения. Более того, я также утверждаю, что мифологический
статус афоризма Ранке вплотную связан с этой причастностью к трансгрессии
значения слов.
72
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
сальную силу заявления Ранке. Антуан Гюллан, чье французское
parti pris помогло ему развенчать образ политической невинности
Ранке, также позаботиться заявить о некорректности знаменитого
ранкеанского заявления: «Я просто хочу воссоздать вещи такими,
какими они были в действительности ... Но чтобы этого достичь,
не достаточно этого просто хотеть. Помимо прочего, необходимо
обладать своего рода изяществом, которым одарены очень
немногие»1. Однако, с умыслом или без, но Гюллан, прежде чем стрелять,
переместил и преобразовал свою цель. Ранке не использовал
персонализированную формулу Je veux raconteur (я хочу
рассказать) им избрано безличное er will bloss zeigen - только лишь
показать.
Повествовать, рассказывать историю - вот действие, которое
удобно помещается внутрь традиционных понятий репрезентации.
Но что же тогда, можем мы снова спросить, является силой
показывания! Чтобы ответить на этот вопрос, мы, в первую очередь,
должны отказаться от детально разработанного аппарата изучения
проблемы истины, имевшего хождение в конце XIX века. Если
Истина, - как нравилось воображать Ницше, - это женщина, то в таком
случае Стиль - это острый инструмент, который разрезает
накинутые на нее путы2. Или, если дело обстоит так, как это изображает
Киплинг в своем остроумном рассказе «Суть дела», вошедшем в
сборник рассказов «Множество затей», то единственным способом
действия для писателя, имеющего в своем распоряжении
достойную рассказа историю, будет «поведать ее, приврав»: «потому что
Истина - это обнаженная женщина, и если ее только что, по чистой
случайности, извлекли со дна моря, то джентльмену надлежит,
либо хотя бы протянуть ей юбченку из цветного ситца, чтоб укрыться,
либо отвернуться лицом к стене и дать торжественное обещание
в том, что он ничего не видел»3. Против ортодоксальности такой
позиции Ранке, как во времена рыцарства, поднимает грозное
знамя. Но для Истины - этой абстрактной и чрезмерно раздутой от
* parti pris (φρ.) - предвзятое мнение.
1 Guilland Antoine. L'Allemagne nouvelle et ses historiens. Paris 1899. P. 71. Ha
титульном листе Гюллан указан как профессор истории - «Professeur d'Histoire à
l'Ecole Polytechnique Suisse»
2 Der rida Jaques. Epersons: les styles de Nietzsche Paris, 1978). p. 43ff {рус. перев.
Ж. Деррида. Шпоры: стили Ницше // Философские науки. 1991. № 2, 3.).
3 Kipling Rudyard. Many Inventions. London, 1898. P. 171.
73
Стивен Бенн
своей важности леди - есть, оказывается, замена в лице более
домашней фигуры Клио. И Клио, или олицетворенная История,
предстанет взорам во всей своей неприкрытой наготе: ведь не нагота ли
как раз и является первичным значением bloss (только, просто,
всего лишь) - {er will bloss zeigen)?
Слово eigentlich , переведем ли мы его как «в действительности»
или «по существу», становится не более чем средством, при
помощи которого, как нас уверяют, все покровы сорваны: отсутствует
даже соответствующая скромности Клио цветная ситцевая
юбчонка. A fortiori\ тогда нет нужды и в «зондирующем пере» (stylus),
докучливо нацеленного на ее потайные места.
Давайте, однако, вернемся к формулировке нашей собственной
проблемы последовательного срывания покровов с постоянно
ускользающего Ранке - Ранке его «заявления» и «афоризма». По всей
видимости, в ходе нашей попытки проникнуть в область исходного
значения этого «заявления» придется снимать с фигуры Ранке, по
крайней мере, еще два слоя. Возьмите Ранке наших современных
учебников по историографии. Несмотря на все преимущества более
точных интерпретаций и переводов последнего времени, он все еще
так и остается непонятным или, по крайней мере, проблематичным.
В конце концов, так ли уж далеко мы сможем продвинуться вперед,
заменив некорректный перевод «в действительности» на перевод
«главное» или если сделаем ничего не объясняющее заявление
о том, что Ранке заинтересован в показывании не «фактического,
а в акцентировании главного»1? Можно спросить, а есть ли что-
нибудь еще, помимо наружного слоя Ранке, обнаруженного
современным исследователем Фишером в книге «Заблуждения
историков» и настаивающего на том, что задача историка «говорить, не
о том, что в действительности было, а о том, что в
действительности происходило»2. И снова осуществляется сдвиг от «показывать»
* a fortiori (φρ.) - тем более.
1 Inggers and von Moltke, Theory and Practice. P. xx. Следует подчеркнуть, что
я не оспариваю правильность этот нового перевода. У меня нет сомнения, что
«существенно» более соответствует переводу eigentlich, чем «в действительности». Но
я ставлю под сомнение эпистемологическую выгоду, которую несет эта перемена.
В конце концов, своеобразие «афоризма» находится не в том, что в нем скрытно
подчеркивается большая важность «фактографии», чем «существенности». Кому
может придти в голову, что Ранке стремится не понять факты, а просто их
собрать? Своеобразие в том, что Ранке вдохновляла возможность «показать, как все
происходило».
2 Fischer. Historians'Fallacies. P. 160.
74
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
к «рассказывать», а затем - выпадение из задач исследования
проблемы репрезентации, которая, именно ввиду ее отсутствия,
оказывается решающей в прославленном заявлении Ранке.
Мы сделаем еще более значительный шаг вперед, если
попытаемся реконструировать точку зрения XIX века, в которой как раз
затушевывание этой проблемы и незапятнанная нагота Клио
обеспечивают надежность позиции Ранке. Цветан Тодоров однажды так
написал о жанре фантастики: это «ничто иное, как беспокойная
совесть позитивиста XIX века. Но в наше время мы больше не можем
верить ни во внешнюю непреложность реальности, ни в
литературу, которая была бы просто транскрипцией этой реальности. Слова
получили автономию, утраченную вещами»1. Если фантастика была
неспокойной совестью позитивизма, то тогда ясно, что
историография Ранке была его чистой совестью, удерживаемой в границах той
же экономии факта и вымысла, но играющей при этом
противоположную роль. Это требование экономичности, вне всякого
сомнения, несет ответственность за тот факт, что возвышенно
риторический и полный драматизма стиль Ранке, который поражает нас и
сегодня, всегда интерпретировался исключительно в контексте дис-
тинкции «поэзия»/«факт». Как подчеркивал П. Эшворт, переводчик
работ Ранке на английский язык: «строгая репрезентация фактов,
пусть даже всегда узкая и лишенная поэтичности, есть без
сомнения, первая заповедь» историка2*. Далее, развивая позитивные
характеристики стиля Ранке, автор предисловия к работе Ранке
«История романских и германских народов с 1494 до 1514 гг.»,
вышедшей в 1909 году, Э. Армстронг предпринял отважную попытку
представить нулевую степень письма Ранке: «Если стиль Ранке, как
говорят, был прозрачен, словно вода, то в таком случае он также
лишен и вкуса»3. А затем идет самое эллиптическое и
прославленное из всех суждений о Ранке, которое позже потребует
дальнейшего обсуждения - это отдаваемая лордом Актоном дань Ранке-
1 Todorov Tzvetan. The fantastic in fiction. 20th Century Studios, 3(may 1970) 91-2.
2 Ranke. History of the Latin and Teutonic Nations, translated by P.A. Ashworth
(London, 1887). P. vi.
* П. Эшворт (P.A. Ashworth) был первым переводчиком Ранке на английский,
по крайней мере, указанной работы, но с 1887 года этот перевод никогда не
переиздавался и доступен только в очень небольшом числе библиотек.
3 Ranke. History of the Latin and Teutonic Nations (1494-1514), revised translation
by G. R. Dennis, with an introduction by E. Armstrong. London, 1909. P. x. В обоих
переводах отсутствует Предисловие.
75
Стивен Бенн
историку, который научил век «быть критичным, быть бесцветным
и быть новым»1.
В контексте этих утверждений мы обнаруживаем, что
«изначальный смысл» утвердительной фразы Ранке стирается до полной
степени неразборчивости. Er will bloss zeigen, wie es eigentlich
gewesen. Существует ли хоть какой-нибудь способ освободить это
послание от того груза, который ему приходилось нести? Если мы
будем продолжать следовать отчаянному намерению Ранке
восстановить смысл прошлого, представив себе, что дополнительный
архивный материал, извлекаемый или из корреспонденции того
времени или из прессы, позволит нам осмыслить множество
загадочных понятий прошлого, то мой ответ - нет. И все же возможность
дальнейшего исследования появляется, когда мы полностью
переформулируем вопросы, задаваемые о тексте Ранке. Вместо того,
чтобы спрашивать: что имел в виду Ранке?, мы можем поставить
совершенно другой вопрос: как стало возможно, что сказанное
Ранке было произнесено именно в то время? Какие существовали
предварительные условия, которые сделали возможным появление
этого метаисторического утверждения именно в этот отрезок
времени? Иными словами, вопрос заключается не в подтверждении
«оригинальности» исследователя, когда в заслугу ставится «новая»
формулировка задачи историка, а желание спросить, как
получилось так, что во всем многообразии типов дискурса, было
предложено такое заявление, которое, так уж случилось, касалось
историографии? Если быть более точным, то это вопрос об
исторической репрезентации и о том единственном месте, которое
«историческая» репрезентация вообще могла занять в сети
изобразительных возможностей, доступных людям эпохи Ранке. И еще,
насколько единственным было это место? Особую важность для меня
представляет попытка показать, что бесспорная уникальность заявления
Ранке, положенная на чашу весов против понимания о
репрезентации классицизма, указывает на его близкое родство с потоком
новых неортодоксальных, не-миметических форм дискурса, который
к 1820 годам уже получил некоторое развитие, а к концу столетия
превратился в бурное течение.
Однако нужно поставить последнюю точку в вопросе о
«новизне» Ранке, или, скорее, в вопросе о новизне той эпистемологии,
внутри которой его заявление приобретает свое значение. Мое ис-
1 Lord Acton. Lectures on Modern History. London, 1969. P. 32.
76
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
следование исходит из гипотезы о том, что, «новая история»,
безусловно, существует, но ее новизна не может быть установлена
просто путем ее сопоставления со «старой историей» XVIII века.
Мишель Фуко в работе «Слова и вещи» утверждал, что начало
XIX века было свидетелем «le grand bouleversement de Pépisté-
mè occidentale» - «великого сдвига западной эпистемы». Тогда-то и
была выявлена решающая позиция исторического сознания в деле
радикальной трансформации карты знания. Фуко настаивал на том,
что все воображаемые ценности, в которые облекалось прошлое,
тот романтический свет, которым окружило себя в ту эпоху
историческое сознание, интерес к документам и следам, оставленным
временем, - все это лишь поверхностные проявления того факта,
что человек оказался лишенным истории1. Диалектику этой потери
я попытаюсь проследить в следующей главе.
Вопрос, который возникает в связи с этим, можно
сформулировать так: на каком этапе и в каких доменах знания идеал жизнепо-
добной репрезентации находит свое выражение как в
теоретических понятиях, так и на практике? Студент XVIII века немедленно
указал бы, что само понятие жизнеподобной репрезентации
содержит противоречащее друг другу понятия. В эстетике классицизма
репрезентация есть мимесис, или подражание, где мы переходим от
реального к условному. Более мягким критерием этого процесса
является скорее Vraisemblance, чем vérité0. И, тем не менее, если мы
обратим наше внимание на конец XVIII века, то мы найдем все
признаки движения в сторону, обратную от парадигмы
Vraisemblance. В 1737 году Этьен де Силуэтт в предисловии к своему
переводу работ А. Поупа «Эссе о критицизме» и «Эссе о человеке»
выражал желание «передавать мысли А. Поупа правдиво»2* К 1767 году
имя Этьена де Силуэтта стало широко известным всей Европе, оно
ассоциировалось с вошедшим тогда в моду вырезанным из бумаги
1 Foucault Michel. Les Mots et les choses. Paris, 1966. P. 379 (рус. перев. -
Фуко M. Слова и вещи, M., 1997. С. 466-467).
Vraisemblance = (φρ.) - правоподобие, vérité (φρ.) - вероятность, «кажется,
что это верно».
2 Цитируется по Стивену Бенну: Postscript: three translators, Silhouette, Barante.
Rossetti. 20th Century Studies, 11 (Sept., 1974). P. 89.
Поуп Александр (Pope Alexander, 1688-1744)- великий английский поэт
XVIII века.
77
Стивен Бенн
черным профилем лица человека, механически снятого с
проецируемой тени. Идеал «лояльности» в переводе текстов и техника
репрезентации через систему, которая не включает посреднического
уровня знаков, имеют нечто общее. Они предполагают (по крайней
мере, в идеале) прозрачность означающего. Конечно, «жизнепо-
добность» ни в одном из этих случаев недостижима. Забота
переводчика о «справедливой» передаче смысла должна быть в большой
степени делом личным. Только читатель, владеющий обоими
языками, в состоянии определить степень «лояльности» и подтвердить
это таким, например, замечанием: как: «это читается совсем как
текст Поупа». Равным образом черная вырезка силуэта с трудом
может убедить кого-то в своем жизнеподобии, будучи с
очевидностью лишенной всех характерных черт, которые мы ассоциируем
с образом живого человека.
Такое замечание, как: «это читается совсем как текст Поупа»,
рассмотренное в понятиях Vraisemblance, зависит от нашей
способности распознать функциональную гомологию между текстами -
подлинником и переводом. А что, если бы это был вопрос о нарра-
тиве? В таком случае замечание: «это читается совсем как текст
Поупа» может быть заменено утверждением: «я вполне могу себе
представить, как это происходило на самом деле». В случае с
силуэтом оговорка может быть даже еще иллюстративнее. Мы могли бы
согласиться, что замечание: «Это очень даже похоже на X»
одинаково применимо как к технике силуэта, так и к любой другой форме
иконической репрезентации, включая сюда традиционный рисунок
или портрет. Тут будет весьма кстати пример фотографии,
напоминающий о том, что несходство образа с «реальной жизнью» не
является препятствием восприятию фотографии как реальности, а не
просто как vraisemblance. Напротив, как раз эта степень
абстракции в фотографической репродукции, вкупе с автоматическим, без
посредников, процессом ее восприятия, и определяет образ как
нечто большее, чем просто simulacrum. Что же касается силуэта, то не
лишне заметить, что физиогномические расчеты Й. Лаватера
делались на основе силуэта, за которым признавался
эпистемологический статус, весьма отличающийся от статуса условного портрета1*.
'Ibid. Р. 91-92.
Лаватер Йохан Каспар (Lavater, Johann Kaspar, 1741-1802) -
швейцарский церковник, известный мистицизмом и работой «Physignomische Fragmente»
(1775-78).
78
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
В обоих этих случаях наблюдается неявное движение к
трансгрессии репрезентации. «Лояльность» воспринимающего субъекта,
будь она направлена на мысли автора или на очертания профиля,
подразумевает отрицание знака как знака. Воссоздается не язык,
а жизнь, не символическое, а реальное. Но стоит спросить, а зачем
нужно подобное воссоздание? Что именно на антропологическом
уровне требует отхода от правила мимесиса, или
опосредствованной репрезентации для того, чтобы эта трансгрессия была
возможна? Может оказаться, что объяснение Фуко является, по крайней
мере, правдоподобным. Воссоздание жизнеподобия само по себе
есть реакция на ощущение некоей утраты. Иными словами, утопия
жизнеподобной репродукции зависит от и реагирует на факт
смерти (движение «от» и «к»). Жизнеподобная репродукция есть
энергичная попытка восстановить утраченное средствами, выходящими
за пределы конвенциональных методов.
Для того чтобы наглядным способом проиллюстрировать
динамику этого двойного движения («от» и «к»), я приведу пример
двух частных случаев - один из области, далекой от
историографии, а другой - из историографии XVIII века. Как полагает Фуко,
ощущение человека, «лишенного» истории, есть реакция на
растущее осознание того, что отсутствует единая, антропоцентрическая
история, что осталось только некое количество «историй» - языка,
естественного мира и т.д., в центр которых ему нет доступа.
Поэтому попытка воссоздать жизнеподобие в природном мире,
аналогична попытке воссоздания истории в более узком смысле. Обе они
формируют часть одной и той же программы и раскрывают общую
структуру теории и практики репрезентации.
В 1825 году католик из Йоркшира, сквайр Чарльз Уотертон
опубликовал автобиографическую повесть о «Скитаниях по Южной
Африке, Северо-Западу Соединенных Штатов и Антиллам в 1812,
1816, 1820 и 1824 годах»*. Она имела подзаголовок в виде
следующего комментария: « история моих странствий, снабженная
новыми инструкциями к наилучшему сохранению птиц и т.д.
Предназначена для музеев естественной истории». Несмотря на
указанные даты, воспоминания Уотертона относятся к его более раннему
визиту в Южную Америку, где-то около 1808 года, когда он
впервые применил на практике придуманный им способ «наилучшего
* Уотертон Чарльз (Waterion Charles, 1782-1865) - английский орнитолог.
79
Стивен Бенн
сохранения птиц». Желая сохранить и надежно законсервировать
экземпляр тукана, он решил принять особые меры
предосторожности. Дело в том, что все ранее виденные им чучела туканов теряли
естественную голубизну великолепного клюва этой птицы,
который в естественном состоянии являлся ее самым красочным
украшением. Поэтому он осуществил такой способ препарирования,
с помощью которого не просто удаляются некоторые части птицы,
но и увековечивается красота ее клюва. Это производилось в два
приема, которые в тексте 1825 года подавались в виде инструкций:
«Как только вы, путем операции [удаления нижней мандибулы]
придали клюву прозрачность, сразу же необходимо покончить с
этой прозрачностью с тем, чтобы клюв выглядел совершенно
естественно... [нижняя мандибула] должна быть выкрашена изнутри
в голубой цвет. Когда все это завершено, то на клюв после этого
невозможно налюбоваться; он снова явлен в своем натуральном
цвете»1. Заново воссозданный Уотертоном в 1808 году клюв тукана,
как описывается в его публикации от 1825 года, был просто
прелюдией к новому (и насколько можно судить) весьма оригинальному
исследованию. По сути дела, Уотертон создал новую науку -
таксидермию. В свойственной ему воинственной и эксцентрической
манере, он выложил перед английским читателем XIX века
утверждение, что все предыдущие методы презервации птиц, насекомых
и животных заканчивались гротескной пародией-травести на живые
экземпляры. В изумительной статье «О музеях», которую он
опубликовал в 1838 году, он смело заявлял: «с громадной долей истины
можно говорить, что от Рима до России, и от Оркни до Африки ни в
одном музее естественной истории невозможно найти хотя бы одно
четвероногое, которое было бы набито, приготовлено или
смонтировано (употребляя французскую терминологию) на основе
научных принципов»2.
Что касается научных принципов Уотертона, то основная их
часть легко поддается изложению. Вместо того, чтобы монтировать
препарированный остов на внутреннюю раму, которая
препятствовала бы естественной усадке кожи и таким образом производила бы
ужаснейшие искажения, он обычно через одинаковые промежутки
времени вымачивал его в спиртовом растворе сулемы. После такого
1 Waterton Charles. Wandering in South Africa. London, 1825. P. 122.
2 Waterton Charles. Essays on Natural History chiefly Ornithology. London, 1838.
P. 300.
80
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
вымачивания с остовом можно было делать что угодно, а полное
знание препарирующим анатомии животного использовалось для
того, чтобы возвратить остов в его первоначальное состояние,
после чего он уже не подвергался усадке или порче, сохраняемый
невидимыми химикалиями. Для целей нашего исследования еще
более удивительнее, чем собственно техника Уотертона, была его
конечная цель, ради достижения которой эта техника и была
придумана. Все подчинялось задачам репрезентации, результат которой
походил бы на саму жизнь - воссоздание зверя или птицы «какими
они были в действительности». Прочим таксидермистам это часто
не удавалось (остается гадать, с каким недоверием они встретили
бы предложение попробовать повторить опыты Уотертона): «А
теперь попробуй я вызвать одного из тех, кто представлял публике
способ презервации образцов для музеев, и предложить ему выйти
вперед и показать мне, как надо обработать кожу, чтобы
восстановить величие морды льва, свирепость в выражении тигра,
невинность у ягненка, угрюмость выражения у быка. Да он бы не знал
с какого бока приступить к работе! У него не оказалось бы под
рукой средств, какими бы он мог помочь себе в этой операции...
Произведенное им не выходило бы за рамки просто высушенного
образца, чересчур усохшего в такой-то части, или раздувшегося
в другой. И в результате - мумия, деформация, жутчайший
спектакль, неудача в подлинном смысле слова»1. По сравнению с этим,
таксидермист нового типа мог с уверенностью пытаться добиться
куда более впечатляющих достижений: «Теперь только от
мастерства препарирующего (быть может, на этом этапе мне следовало бы
назвать его художником) и знания анатомии зависит то, в какой
степени воздать по заслугам имеющейся у него под руками коже,
так, что если после этого на нее взглянет посетитель, то он
воскликнет: "Это животное живо!"»2.
Самоуверенность Уотертона ошеломляет, но еще более
поражает его философия. Там, где прочие «препарирующие»
увековечивали лишь печальные simulacra мира природы, Уотертон, как он
утверждает, навечно запечатлел саму жизнь. А удалось это ему
потому, что он осмыслил и принял факт смерти: остов просто
принимается за пригодный к работе таксидермиста материал, а
природный цвет заменяется на искусственный. В этом процессе ведущим
'Ibid. Р. 301.
2 Ibid. Р. 304.
81
Стивен Бенн
принципом с необходимостью должна стать наука: « познания
препарирующего в анатомии». Но науку едва ли не опережает
искусство: «быть может, на этом этапе мне следовало бы назвать его
художником». Уотертон признает, пусть даже и косвенно, что между
наукой анатомии и риторикой жизнеподобной реконструкции
отсутствует необходимое звено. Они связаны друг с другом просто
в силу профессионализма человека, одновременно и ученого и
художника. И при определенных обстоятельствах, там, где этот
профессионализм перевешивается соблазном своего рода озорства,
хозяином в голове человека становится художник. Тогда он может
создать монстра.
Пока Чарльз Уотертон блуждал в лесах Южной Америки и
экспериментировал с блестящей расцветкой клюва тукана, молодой
наполеоновский sous-préfet Проспер де Барант обосновался в
маленьком городке Брессюир, в глубине Вандеи . Во времена его
детства на него произвели сильное впечатление военные события
в Вандее, и его прибытие в Брессюир с новой силой разожгло в нем
прежний интерес к изучению военных сражений. Местные
обитатели поразили его своим соответствием всем представлениям
о «древнем французском характере»1. От их рассказов о прежних
битвах веяло ароматом рыцарства, который делал их ближе к
временам, описываемым Фруассаром и его собратьями летописцами,
чем к атмосфере опустошения, свойственной его времени, которой
Барант и сам был свидетелем в качестве имперского intendant
в Германии . Этот его интерес вырос до невероятных размеров,
когда он познакомился со своей соседкой м-м де Ла Рошежаклин,
которая имела двойное отношение к Вандейской легенде - как
вдова Л. Ласкюра и как женщина, впоследствии ставшая невесткой его
товарища по оружию Анри де Ла Рошежаклина***. В письме к м-м
де Сталь от 29 июня 1808 года Барант подчеркивал то
удовольствие, которое он испытывал, слушая из первых рук рассказы о
военных компаниях. Он писал: «Если мне суждено провести здесь еще
один год, то мне думается, что я напишу историю Вандеи. Проект
* sous-préfet - мелкий административный чин, работник местных органов власти.
1 Barante Prosper de. Letters to Mme de Staël. Clermont-Ferrand, 1929. P. 289.
** Фруассар Жак (род 1333? 37-1405) - французский автор знаменитых
«Хроник» - важнейшего источника по истории начального этапа Столетней войны
*** Ласкюр Луи (Louis de Salgues de Lescure, 1766-1793) - роялистский генерал,
активный участник Вандейских войн.
82
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
этот мне весьма по душе; та история, что уже написана, не лишена
правды; но в ней нет, ни простоты, ни местного колорита»1.
Неизвестно, взялся ли бы Барант за написание
полномасштабной истории Вандеи. Но вскоре ему представилась возможность
такую историю, опубликованную в 1806 году Альфонсом де Боша-
мом, дополнить нарративом, в котором с избытком хватало «и
простоты и местного колорита». Дело в том, что мадам де Ла Роше-
жаклин, после поражения ее товарищей-роялистов, бежала в
Испанию. Там она начала писать работу о прошедших войнах,
свидетельницей которых была, но бросила это занятие на полпути. Когда
она, наконец, вернулась во Францию и вышла замуж за брата Анри,
она возобновила работу над своими Mémoires, пользуясь
возможностью собирать сведения из воспоминаний оставшихся в живых
участников сражений. В результате этого первоначальный характер
ее Mémoires несколько изменился. Сначала они начинались с ее
сугубо личного рассказа о пережитом, но накопленный материал
открывал возможность превратить их в более достоверную и
всеобъемлющую дань истории Вандейских войн. Проспер де Барант,
с вновь проснувшимся интересом к любимому предмету,
предложил себя в качестве идеального кандидата для редактирования ее
рукописи. Он предполагал внести в нее дополнительные замечания
и, в дальнейшем, превратить ее в законченное историческое
исследование. Работая в этом качестве, он старался сохранить
личностный характер произведения. Достоинства работы мадам де Ла Ро-
шежаклин нельзя было приносить в жертву идеалу объективности,
напротив, их следовало совершенствовать. Как он писал мадам Ре-
камье 24 декабря 1808 года: «Я извещал вас о том, что приступил к
переписыванию тех мемуаров о Вандее. Это великолепное занятие;
хотя и вполне механическое, за исключением разве что того, что
оно мне интересно. Я там ничего не меняю. Со страхом думаю, что
хоть как-то мог бы скомпрометировать царящие там совершенную
искренность и исключительной простоты возвышенность. Эти
мемуары - не литературное произведение, это чувства и факты. В них
нет ни следа искусственности, ни оглядки на публику» . В итоге, из
скромности Барант недооценил важность взятой им на себя задачи.
Работе над текстом Mémoires мадам де Ла Рошежаклин приходи-
1 Ibid. Р. 293.
2 Barante Prosper de. Letters to Mme Recamier, Bibliothèque Nationale, Paris, naf
14099, 24 dec. 1808.
83
Стивен Бенн
лось отдавать большую часть его свободного времени в течение
почти целого года, а тщательный просмотр дополнительных
свидетельств занимал еще больше времени. В результате в каком-то
смысле, им была совершена, пусть и с особой осторожностью, но
никак не меньше, чем полная переделка воспоминаний, которые
написала мадам де Ла Рошежаклин, несмотря на все погрешности,
которые всегда присущи живому свидетелю событий. Но в другом
отношении, которое с его точки зрения только и имело смысл, он
способствовал рождению полновесной истории. Он скорее
предоставил возможность проявиться «des sentimens et des faits» , чем
пытался прикрыть их историографическими конвенциями. При этом
он постоянно ориентировался на ошибочную модель письма
истории, за каковую как он, так и его источник информации, считали
историю Вандеи, написанную Альфонсом де Бошамом . Об этом
свидетельствует следующее его письмо к мадам де Ла Рошежаклин:
«Бошам не сделал изменений в своем третьем издании. Я
сомневаюсь, чтобы четвертое вообще было в состоянии отвечать
предъявляемым вами к этому жанру требованиям. Со своего эшафота он не
сойдет. Он сделал портрет Анри в стиле античной медали с
прической a la Titus, и, не зная, во что его одеть, взял и отрубил ему
голову»1.
Исследуя особенности характеристики Анри де Ла Рошежакли-
на, героя Вандеи, мы имеем возможность более детально
рассмотреть вопрос, занимавший Баранта и его корреспондентку. Мы
можем сравнить короткое описание Анри де Ла Рошежаклина по трем
различным источникам: по истории Альфонса Бошама;
оригинальному, неправленому рассказу мадам де Ла Рошежаклин и по
окончательному тексту ее Mémoires после произведенной Барантом
обработки:
Бошам: «И вот на сцене этой бойни появился известный
предводитель роялистской партии Ла Рошежаклин, сын бывшего
полковника королевского Польского полка, живший в Saint-Aubin de
* des sentimens et des faits (фр.) - чувства и факты
Бошам Алфонс de (Alphonse de Beauchamp, 1767-1832) - весьма плодовитый
французский военный историк, автор истории Вандейских войн «Histoire de la
guerre de Vendée et des Chouans depuis son origine jusqu'à la pacification de 1800»
(3vols., 1803).
1 Letters from Mme de La Rochejaquelein to Barante, 10 March 1809, in Andegavi-
ana, fifth series Paris/Nantes, 1906. P. 357.
84
Глава первая. Истории как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
Baubigne, рядом с Шатильоном. Он возглавил повстанцев своей
области. Молодой, энергичный, с блестящими глазами, изогнутым
носом, с военной выправкой, он, казалось, был рожден для битв.
Предназначенный играть блестящую роль при прежнем режиме, он
посчитал, что еще можно защищать трон в конституционной
гвардии Людовика XVI. 10 августа подорвало все его надежды. Именно
тогда, в тот момент, покидая Париж, он сказал: «Роялисту здесь
нечего больше делать, я уеду в свою провинцию, где они скоро обо
мне услышат». Он эмигрировал, вернулся вскоре после Пуату, и,
наконец, принял участие в восстании. В первом же бою он одержал
победу»1.
Мадам де Ла Рошежаклин: «Я хочу начать с портрета Анри де
Ла Рошежаклин, которое я дополню на последующих страницах,
так как во время войны его характер получил исключительное
развитие. Он был около 5 футов 7 дюймов роста; яркий блондин
с изящной фигурой и длинным лицом, он казался больше
англичанином, чем французом. Он был некрасив собой, но в его лице
сквозила доброта и благородство. В то время он был весьма робок на
вид; однако люди обращали внимание на его яркие глаза, которые
впоследствии столь часто загорались гордостью и огнем, отчего
стали поговаривать, что взгляд его подобен взгляду орла. Он был
необычайно ловок и проворен, исключительно хорошо владея
мастерством езды на лошади. Он был истинным подданным,
требовательным по отношении к долгу2.
Мадам де Ла Рошежаклин /Барант: Анри де Ла Рошежаклину,
наконец, удалось бежать из Парижа; вся его семья эмигрировала; он
оказался один в замке Дурбелери. Анри де Ла Рошежаклину тогда
было двадцать лет. Он был весьма робким молодым человеком,
обладавшим небольшим жизненным опытом. Его манеры и
лаконичный способ выражаться были замечательны в своей простоте и
естественности; у него была доброе и благородное лицо; его глаза,
вопреки робкому выражению, казались яркими и живыми;
впоследствии его взгляд приобрел гордость и пылкость. У него была
высокая и изящная фигура, светлые волосы, довольно длинное лицо,
1 Beauchamp Alphonse de. Histoire de la Guerre de la Vandee et des Chouanes,
3 vols. Parise, 1806. Vol. 1. P. 154.
2 Mme de La Rochejaquelein. iMémoires. Paris, 1889. P. 94. Это издание,
осуществленное семьей автора, воспроизводит первоначальный текст, существовавший до
проведенной Барантом переработки.
85
Стивен Бенн
с выражением, скорее, как у англичанина, чем как у француза. Он
обладал всесторонней физической подготовкой, а прежде всего,
отличался в езде на лошади»1.
После такого сравнения становится ясно, что в интересе Баран-
та к истории Вандеи присутствовало нечто большее, чем просто
правка неточного источника. Он и на самом деле поправляет
неверное заявление Бошама, о том, что Ла Рошежаклин недолго
находился в эмиграции. Но его очевидный интерес заключается в
сохранении и улучшении бесценных личных воспоминаний мадам де
Ла Рошежаклин. Как она проницательно замечает, Бошам слепил
Анри из одного куска, по шаблону классицизма: «он сделал портрет
Анри в стиле античной медали с прической a la Titus». В сравнении
с этим ее собственный рассказ подчеркивает тот решающий факт,
что война изменила Анри; более того, его внешний вид и характер
состояли из конфликтующих между собой и даже не сочетаемых
элементов. Барант позаботился убрать «леса» этого первичного
свидетельства: пропущено двусмысленное и поверхностное
последнее предложение. Но нюансы его источника никуда не исчезли,
и составленный им «портрет» вычерчен тонко и экономно.
Не представляет сложности в общих чертах набросать
непосредственный интеллектуальный контекст историографического
предприятия Баранта. В 1808 году его близкий друг Бенжамин Кон-
стан решал проблему перевода шиллеровского «Валлентштейна»
для французского театра и сокрушался о невыносимом давлении
условностей классицизма: «Мне не знакома никакая другая форма
естественности, кроме той, что состоит из нюансов, но во Франции
существует определенное количество характерных штампов
театра... Местный колорит их совсем не устраивает, и манеры каждой
эпохи обязаны быть такими, чтобы быть условно допущенными к
постановке в театре)2. Судя по реакции Баранта, Констана и других
членов кружка мадам де Сталь, критикующих стереотипы
классицизма, история к тому времени уже приобретала определенную
ценность. Она служила в качестве принципа разницы времен,
панацеей против бессмысленного колебания « от одного и того же к
одному и тому же». Барант, имперский служащий, работающий над
восстановлением свидетельств сопротивляющейся до последнего
1 Mme de La Rochejaqueiein. Mémoires. Paris, 1817. P. 52.
2 Letters from Benjamin Constat и tu tarante. 25 Feb. 1808 / in Revue des deux
mondes, 34 July, 1906, 249-50.
86
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
роялистки, вложил в очевидно самоотрицательную роль
переписчика Mémoires уроки «le naturel» романтизма. И, ко всему прочему,
он считал необходимым сохранить ауру непохожести прошлого,
прошлого как Другого. Мы уже рассматривали дефиницию
идеального историка, предложенную другом и интеллектуальным
союзником мадам де Сталь Вильгельмом фон Гумбольдтом: Простое
изображение событий является первым непреложным требованием
в его деле и вместе с тем высшим, что ему дано совершить. В этом
аспекте он как будто является лишь воспринимающим и вопроиз-
водящим, а не действующим самостоятельно и творчески». Знал
или нет Гумбольдт о Mémoires, тем не менее, кажется очевидным,
что эти слова могут быть прямо применимы к труду Баранта. Он не
только порадовал свой источник - мадам де Ла Рошежаклин,
производя на свет новую версию, которую она, тем не менее, признавала
как свою, но он выявил условия, при которых ему удалось
полностью убрать себя со сцены в роли автора. Как выразил это ближе к
середине столетия его друг Чарльз де Ремюза, «Rien ne sent moins
l'auteur que ces Memoires»]. (Нет больше ничего, что бы меньше
напоминало об авторе, чем эти Мемуары). К этому времени имя
Баранта исчезло с титульного листа и в самом деле перестало быть
связанным с этой работой.
Вернемся к моему сопоставлению историка и таксидермиста.
Уотертон отвергает тот метод реконструкции, результаты которого
наводняли музеи естественной истории пародиями на жизнь
природы. Мадам де Ла Рошежаклин и Барант чувствуют некорректность
исторического стиля, в соответствии с которым историк
конструирует своих героев согласно заранее известному образцу или
представлениям о том, каким этот герой должен быть. Для Уотертона
«просто высушенный экспонат, слишком усевший в одном месте, и
слишком распухший в другом», равен утверждению мадам де Ла
Рошежаклин о том, что Бошам «сделал портрет Анри в стиле
античной медали с прической a la Titus», и перерезал ему горло в
связи с отсутствием хоть какого-нибудь другого принципа
«оживления» героя. Радикальный подход Уотертона состоит в превращение
живого существа сначала в бесформенную кожу, а затем, -
средствами науки - воссоздании этого существа в виде, приводящем
посетителя музея в восторг («Это животное живо!»). Так же и техника
1 Rémusat Charles de. Mémoires de ma vie, 4 vols (Paris, 1958). Vol. 1. P. 309, note
1.
87
Стивен Бенн
Баранта заключается в «оживлении изнутри» разъятого на части
текста мадам де Ла Рошежаклин, в придании ему жизни, в
результате чего его собственное мастерство редактора как бы полностью
исчезает. Критик Альфред Неттеман писал в 1858 году об этом
постоянно переиздаваемом труде так: «мемуары сообщат вечную
жизнь прошедней истории в стране, обрисованной такими живыми
красками и такими естественными мазками, что ты думаешь, будто
в состоянии ощутить людское дыхание, что делает образ жизни
этих людей и жизни всей Вандеи по настоящему живым... Это -
сама природа, запечатленная в действии, это - правда, рассказанная
без умалчивания, без разглагольствования, без лишних
украшений»)1. Перед нами снова появляется нагая мстительница-Клио.
Однако давайте будем осторожны и не станем так уж прямо
приравнивать Уотертона к Баранту. Таксидермист, который
допускал, что человеку, занятому процессом воссоздания живого
существа должна больше соответствовать роль «художника», чем роль
простого «оператора», и в самом деле, способен породить
монстров. В качестве фронтисписа к своим «Скитаниям» он дает
иллюстрацию самых известных и причудливых монстров: так называемый
«Неописуемый», который состоит из остова обезьяны, выражение
морды которой ловко обработано под лицо ученого судьи. Для
Уотертона ожесточенность его общественной и политической
жизни была временами слишком острой для совести ученого.
Овладев техникой превращений мертвого как бы обратно в живого, он
мог использовать эту силу, чтобы опровергать политического
оппонента или сатирически высмеивать Англию
вырождающейся Ганноверской династии. На самом деле, конечно, спорно, что
уотертоновская устрашающая одержимость задачей репрезентации
жизнеподобия уходит корнями в его патологическое очарование
монстрами - очарование сконструированным несообразным зверем,
который все же представлял собой непрерывную целостность
органической жизни. В этой связи стоит указать, что Уотертона на
протяжении всей его научной карьеры преследовали насмешки и
прямые оскобления за то, что он утверждал, что будто бы в одном из
своих путешествий по Южной Америке он катался верхом на спине
каймана. Уотретон даже изобразил это на одной из иллюстраций,
где натуралист и рептилия странным образом соединены вместе.
1 Nettement Alfred. Vie de Madame la Marquise de La Rochejaquelein. Paris, 1858.
P. 340.
88
Глава первая. Истории как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
Нет необходимости в дальнейших ссылках на что-либо, чтобы
указать на родство Уотертона с распространенной романтической
фантазией о человеке-творце, присвоившем себе привилегию Бога.
В те времена, когда увидел свет «Франкенштейн» Мэри Шелли,
считалось вполне нормальным видеть сомнительную
двойственность в любом человеческом занятии, касавшемся воссоздания
жизни. Но каким образом это двойное лицо монстра новой
таксидермии соотносится с новой историей? Каким образом историк
рискует создать фигуры уродства, если такое вообще возможно?
Согласитесь, что историк, так же как и таксидермист, осознает ту
силу, которую дает ему техника работы над расчлененным
каркасом исторического прошлого: предварительным условием его
интереса к воссозданию истории является именно то чувство
«лишённости права» на историю, на которое ссылается Фуко. Поэтому ему
приходится где-то искать место реализации возможностей
риторики воссоздания, пускай даже и вне сферы собственно деятельности
историка, порой прибегая к весьма сомнительным методам. Здесь
уместно сослаться на творца жанра исторического романа, автора
«Уеверли» сэра Вальтера Скотта.
В контексте наших рассуждений становится понятным
истинное значение переполоха, вызванного Скоттом среди целого
поколения историков. В своей автобиографии Ранке рассказывает, что,
прочитав роман Скотта «Квентин Дорвард», он «принял решение
полностью исключить из своей работы всякое воображение и
вымысел, ограничив себя строгими фактами»1. Стремление
установить жесткое различие между «всяким» воображением и
вымыслом, с одной стороны, и фактами - с другой, безусловно,
свидетельствует о подавлении риторического статуса исторического
произведения. Это стремление к подавлению риторики Ранке завещал
и своим преемникам. А вот для Маколея феномен уродства уже
есть интертекстуальный факт; современный ему читатель обязан
был отыскивать «одну половину короля Якова в политической
философии Юма, а другую в романе Скотта «Приключения Найдже-
ла»2. Поэтому задача историка состоит, по крайней мере, в
стремлении вернуть целостность вечного исторического disjecta
membra. Если немецкие и английские историки склонны выражать это
1 Guilland. L'Allemagne nouvelle. P. 71.
2 Stern Varieties of History. P. 87.
* disjecta membra (лат.) - разрозненные части.
89
Стивен Бенн
стремление в общих понятиях, то для французского историка
характерно желание непосредственной встречи со Скоттом на его, гак
сказать, территории. Проспер де Барант, успешно снявший надетый
на Анри де Ла Рошежаклин классический костюм, уже приступил к
своему многотомному труду «История Бургундских герцогов»,
когда прочитал французский перевод романа «Квентин Дорвард».
Обмен мнениями со своим приятелем, историком Франсуа Гизо
привел их к единодушному выводу - Скотт «выдумал» характер
Людовика XI. По выражению Гизо, Скотт совершил ту же ошибку,
что и Бошам с героем Вандеи: «Вальтер Скотт сочинил скорее тип,
нежели нарисовал личность»1. Для сравнения, реакция Гизо на
выходящие в свет тома «Истории Бургундских герцогов» Баранта
была, по сути дела, признанием успеха Баранта. «Ваш Людовик XI
очаровал меня; впервые я увидел его в том виде, в каком он лишь
мельком появлялся перед моим внутренним взором»2. Критик
Journal des Débats пошел еще дальше: «Под пером П. де Баранта
нарратив становится видимым действием. Его Людовик XI говорит
и действует так, как если бы он давал представление на той же
сцене, где вершилась его судьба»3*.
Следуя введенному нами сравнению таксидермии и
историографии, мы вынуждены вернуться к более полному рассмотрению
проблемы репрезентации жизнеподобия, была она поставлена
историком или заявлена прессой. Взятые для сравнения образцы
«смонтированного» экспоната естественной истории и «нарративный»
образец некоего достопримечательного прошлого заставляют
поставить вопрос о тексте, в который данный нарративный образец
вставлен. Для Уотертона, кроме того, это вопрос
институциональной границы. Музей естественной истории (а по сути дела, своего
рода резерв природы, первооткрывателем которого и был сам
Уотертон) определяет область, в которой указанный образец
должен проявлять свое «жизнеподобие». Для коллекционера
исторических предметов, как я покажу позже, проблема предстает в строго
аналогичном порядке. Создатель Музея де Клюни Александр де
1 Letter of Guizot to Barante, Archives Nationales, Paris, 42 AP200/14 June 1823.
2 Letter of Guizot to Barante, Archives Nationales, 21 nov. 1825.
] Journal des Débats, 20 Feb. 1826
* Journal des Débats - французский политический журнал, основанный в 1789
году и закрытый в 1944 году в связи с его коллоборционисткой политикой в годы
оккупации Франции немецкими войсками в ходе Второй мировой войны.
90
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
Соммерер восстанавливал различные исторические экспонаты
своей коллекции, размещая их по отдельным залам, в результате чего
образовывалась сложная картина «средневековой жизни»1. Но для
историка такая непосредственная экстраполяция невозможна.
Поэтому здесь вопрос стоит о более тщательном изыскании форм
репрезентации, таких, какие можно передать в тексте: говоря иначе,
через интертекстуальность, состоящую из истории, «метаисториче-
ского» эссе и критической статьи. Как и предполагалось в начале
этой главы, это - тот самый вопрос тщательного изучения методов
репрезентации, который были склонны изучать историки XIX века,
и развитие этой склонности, не в полной мере отрефлексированной
в их сознании.
Начав эту главу с упоминания о «самом знаменитом во всей
историографии заявлении», позвольте мне завершить ее возвратом
к почти столь же знаменитому утверждению, которое определяет
мифологический статус Ранке как пионера современной
историографии. В своей инаугурационной лекции «Об изучении истории»,
прочитанной в июне 1895 года в момент вступления в должность
заведующего кафедрой истории Кэмбриджского университета, лорд
Актон произнес: «Ранке - представитель того века, в котором
началось современное изучение Истории. Он учил, что оно должно быть
критическим, бесцветным и новым»2. Несколькими годами позже,
представляя британской публике свой новый перевод работы Ранке
1824 года «История романских и германских народов с 1494 до
1535 гг.» И. Армстронг навел глянец на «бесцветный» аспект
учения Мастера: «Ранке, вероятно, никогда и не стремился быть
колористом; его естественным даром был дар художника черно-белого
цвета или, по крайней мере, где-то на грани тонирования этих
цветов. Но несмотря на это, когда он берется за палитру, он проявляет
тонкое и деликатное чувство атмосферы и строения ткани -
результат наделенного воображением художника, вживающегося в свой
объект, и в меньшей степени - результат технического
мастерства»3. Это примечание переводчика на первый взгляд производит
удивительно несвязное впечатление. Что в точности следует
понимать под «художником черно-белого»? Каким образом это понятие
или фраза о «грани тонирования» совмещается с классическим об-
1 См.: главу четвертую наст, издания.
2 Acton. Lectures. P. 32.
3 Ranke, Latin and Teutonic Nations, trans. Armstrong. P. xi.
91
Стивен Бенн
разом художника, берущего палитру, на которой расположен
полный диапазон цветов масляных красок? Опять же, в чем сила
антитезы между «техническим мастерством» и «наделенным
воображением художником, вживающегосем в свой объект»? Есть ли это
нечто большее, чем простая оппозиция техники и стиля, которую
мы наблюдали в клише романтиков? Эти вопросы возникают тогда,
когда мы предполагаем, что указанное несоответствие есть знак
некой присущей только историографии проблемы репрезентации.
Короче говоря, Армстронг черпает свои метафоры из области,
спорность которой обязана вмешательству феномена фотографии
в традиционный спектр изобразительных искусств. «Художник
черно-белого». Разве великий художник Дега в 1906 году не
признавался в том, что «если бы я мог прожить свою жизнь заново, то
я бы работал только в черном и белом цветах?»1 «Цвет» и «где-то
на грани тонировки». Вплоть до 1907 года, когда братья Люмье
первыми разработали примитивную форму цветной фотографии,
известную как «автохром», фотография могла становиться
цветной только благодаря тонированию. «Чувство атмосферы и
строения ткани», «наделенный воображением художник, вживающийся
в свой объект, в меньшей степени - результат технического
мастерства» - разве это не родственные критерии того, что формировало
новый метод запечатления и увековечивания образа реального мира
на реагирующей на свет пластине?
Я утверждаю, что метафоры Армстронга и прилагательные
Актона, введенные в оборот науки на рубеже XIX-XX столетий, вновь
погружают нас в водоворот проблем вокруг феномена
репрезентации, характерного для Европы 1820-х годов: десятилетие первого
фотографического изображения Ньепса (1822), историческая
диорама Дагерра (1823), равно как и «Предисловие» Ранке. Но связь
между этими несоизмеримыми формами репрезентации, конечно
же, нельзя оценить с точки зрения синхронности исследования
этого феномена в разных областях человеческой деятельности,
феномена, осваивающего в то время свое эпистемологическое
пространство. Если нужно понять, в каком смысле следует воспринимать
упоминание о «цвете» в историческом или мета-историческом
тексте, будь это упоминание явное или сокрытое, то необходимо
обратиться к истории репрезентации. Классической формулировкой,
1 Не может быть никакого сомнения, что под «черным и белым» Дега имел в
виду фотографию.
92
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
соответствующей контексту наших рассуждений, является
предложенное Леонардо определение типов перспективы: «Есть три вида
перспективы: первый связан с причинами уменьшения, или, как
известно, с уменьшающейся перспективой предметов
соответственно их расстоянию от глаза. Вторая есть та особенность, по
которой изменяются цвета по мере удаления от глаза. Третий и
последний состоит в определении того, как предметы должны
изображаться со все меньшей и меньшей точностью по мере удаления»1.
Говоря о соотношении цвета и перспективы, упомянутых в схеме
Леонардо, следует подчеркнуть, что цвет всегда воспринимается
как нечто вторичное. Это диктуется свойством тел, которые
изменяются в зависимости от их размещения относительно выбранной
перспективы. И все же Жан-Луи Шефер утверждал, что с XVIII
века история живописи характеризовалась постепенным
освобождением от зависимости от цвета, особенно в аспектах конфигурации
и перспективы изображения предметов. Уже в XVIII веке, начиная
с Гойи и Ватто, «доля внимания, вкладываемая в цвет, изменяется и
имеет тенденцию постепенно снижаться, что находит выражение в
скрытности изображения, в манере выстраивания системы фигур»2.
Цвет, сначала играя в системе средств репрезентации в искусство
Возрождения роль просто выявления и дифференциации
изображения, постепенно начинает характеризовать поворот всей этой
системы. Поворот, суть которого заключается в оппозиции между
подавлением цвета, как такового у Леонардо и акцентированием его
решающей значимости у Сезанна («petite sensation colorante»3...)*.
То, что на первый взгляд может показаться специфической
чертой исключительно истории живописи, неожиданно приобретает
решающее влияние на развитие теории репрезентации вообще.
Поствозрожденческая живопись, как утверждает Шефер, есть род
сценографии: поэтому она разделяет с театральной
репрезентацией систему геометрического построения, выполняемого согласно
1 Schefer Jean-Louis Split Color/Blur, translated by Paul Smith, 20th Century
Studies, 15/16 (Special issue on Visual Poetics) Dec, 1976, 99; Schefer, Scénographie d'un
tableau (Paris, 1969).
2 Schefer Jean-Louis. Split Color/Blur. P. 90.
3 Pleynet Marcelin. La Lettre de l'incarnation. Documents sur, 2/3, 1978. P. 84-92.
* petite sensation colorante (φρ.), здесь - игра языка. Сезанн говорит о том, что
его задача как художника заключается в воспроизведении прежде всего его
«ощущений», а уже потом изображаемой природы. Цвет есть средство такого
воспроизведения.
93
Стивен Бенн
принципу единой исчезающей точки . Более того, ведущую роль
в теоретических произведениях классицизма играет словарь
оформления театральных пьес. Вследствие этого мы обнаруживаем, что
понятие «цвет» - это созвездие, сплетающее нити того
эстетического конфликта, который, в середине XVIII века уже витал в воздухе,
очерчивая грядущие битвы между классицизмом и романтизмом.
Мармонтель, ища критерий дифференциации греческой трагедии
и трагедий, сочиняемыми его соотечественниками, Расином
и Вольтером, заимствует метафоры непосредственно из живописи:
«в греческом искусстве ты увидишь богатые, но несмешанные
цвета, без переливов и полутонов; у французов тысяча нюансов,
совсем не портящих картину, а служащих лишь для ее большего
оживления, делающих ее более разнообразной и более
чувственной...»2*. Мармонтель, конечно, говорит в этот момент о
литературном тексте. Но приоритет живописи как образца эстетики также
полностью отражен в его интересе к костюму и мизансцене.
Продолжая свой иронический диалог с представителями условностей
классицизма, он спрашивает: «Как великий художник стал бы их
одевать? Необходимо, как утверждают, сделать некоторую уступку
манерам своего времени. Поэтому для Лебрюна необходимо, чтобы
Пор** был с кудрями, а Александр - в перчатках. Надо вытеснить
зрителя, а не спектакль; вот об этом-то и должны поразмышлять все
актеры, о каждой роли, которую они собираются играть: тогда мы
больше никогда не увидим, как Цезарь появляется в мещанском
парике, а Улис выходит из волн, обсыпанный пудрой»3. Делая из
Цезаря и его парика катахрезу, Мармонтель осыпает
насмешками историческую аномалию условного костюма. И как бы ни
убеждал публику Тальма и его последователи в принципе
«правильности» условного костюма, Мармонтель своим принципом «сои-
1 Louis Schefer. Split Color/Blur. P. 82ff.
2 Marmontel. Paris, 1902; reprinted 1970, P. 373.
* Мармонтель Ж.Ф. (Marmontel Jean-François, 1723-1799) - французский
писатель и искусствовед, его статьи об «Энциклопедии» были опубликованы в книге
Eléments de littérature ( 1787).
** Пор - правитель Индии во время индийского похода Александра. Речь идет
о картине Лебрюна «Александр и Пор».
3 Ibid. Р. 375.
Тальма Франсуа-Жозеф (Talma Francois-Joseph, 1763- 1826)- великий
французский актёр, реформатор театрального искусства.
94
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
leure locale» одержал полную победу в эпохи революций и
империи. Он заявлял: «надо вытеснить зрителя, а не спектакль». Под
этим скрывается не просто поиск подлинного костюма и
мизансцены, о которых неподготовленный зритель, в конце концов, может
судить только в случае их полного несоответствия его
собственному опыту повседневной жизни. Это также указывало на
возможность превышения норм vraisemblemence, в буквальном смысле
исчезновение зрителя посредством всепоглощающей иллюзии. Глядя
на диораму Дагерра, молодой зритель конца 1820-х годов мог лишь
с недоверием воскликнуть: «Я думал, что это будет просто
картина», - говорил Эдуард, - «а это, видимо, настоящие скалы и горы,
сделанные специально на этот случай!». - Это просто картина, -
отвечал мистер Финсбери. - И чтобы убедиться в этом, тебе только
следует поменять твое положение в зале, и ты увидишь, что
предметы выглядят совершенно одинаково, где бы ты ни стоял.
Например, вот впереди представлена проекция куска скалы. При
настоящей перспективе двигаясь вдоль помещения, ты смог бы видеть
чуть-чуть так, чуть-чуть иначе то, что скрывается за предметом; но
ты обнаружишь, что, встанешь ли ты со своего места,
сгорбишься ли, или сдвинешься в ту или другую сторону - все напрасно,
ничего другого увидеть нельзя. Поэтому это должна быть простая
картина»1.
Едва ли это убеждает Эдуарда, потому что сцена все же
сдвигается и он протестует: «Ох, все-таки, это должен быть настоящий
город!» Его настойчивость и совет м-ра Финсбери о том, как
разубедить себя в иллюзорном репрезентативном статусе картины
приводит нам на память все те двойственности и противоречия, о
которых мы говорили выше. Потому что диорама Дагерра, - если
рассматривать ее с позиции «разлива» цвета внутри системы
репрезентации - есть результат прямого наследия принципов построения
перспективы, предложенных Леонардо. Перспектива, как
показывает совет м-ра Финсбери, строго зависит от выбора единой точки
обзора. Именно это служит основой рационального восприятия
образа как «бумаги и цвета», чем как «столбов, щитов, плитки,
камней, утвари и мостовой». Благодаря необычайно изобретательной
* couleurе locale (φρ.) - местный колорит, характерная черта романтизма,
подробности быта, особенности говора, пейзажа, характерные для местности, в
которой происходит действие.
1 Gill Arthur. The London diorama. History of Photography, 1,1 (Jan 1977), 33: the
sourse is Jeffreys Taylor, A month in London (London, 1832).
95
Стивен Бенн
комбинации переднего и заднего освещения картину заливает
поток света, который противоречит самому принципу «couleur locale»
в его прямом смысле. «Местный колорит в живописи, это
непосредственно колорит каждого предмета, вне зависимости от
частного распределения цвета и тени» .
Здесь мы приходим к заключению, которое несколько
противоречит исходным пробным заключениям первой части главы. То, что
может казаться «неортодоксальной» репрезентацией в диораме,
через новую технику оборачивается подкреплением все той же
традиционной схемы. Однако в системе репрезентации продолжает
оставаться нерешенной проблема цвета, «местного колорита» или
«пролития» цвета. Очевидно, что только что процитированная
дефиниция «местного колорита» есть прямо противоположное
понятие: объект в живописи никогда не будет выполнен в абсолютно
аутентичном цвете, за исключением « распределения света и тени», он
всегда будет более или менее «местным» по своей расцветке. Но
употребление романтиками указанного понятия как своего рода слогана
включает в себя, по крайней мере, намерение трансгрессии: от общего
к частному и отдельному. Равным образом, концепцию Шефера,
которая в нынешнем столетии, конечно, предполагает «эмансипацию»
цвета от фигуры и перспективы, воплощает утопия цвета не просто
локализованного в объекте, но претендующего на материальность, не
зависящую от оков каких-либо системных конструкций.
Можно ли в этом вернуться в область историографии и
отыскать в ней сопоставимые с живописью определения, которые
позволят нам более ясно понять эффективность принципа
«бесцветности» Ранке и уяснить эпистемологическую ситуацию, внутри
которой он и рассматривается?
Прелюдией к какому угодно разрешению этого вопроса
является, конечно, референция к способу осмысления феномена
исторической репрезентации, свойственного XVIII веку. И здесь
энциклопедист Мармонтель опять обезоруживающе откровенен. Вопреки
конвенционально принятому геродотовскому определению роли
историка, он обращает все внимание на «опространствование»
исторического поля в соответствии с метафорой изобразительной
перспективы. Апеллируя к «точкам перспективы, которые писатели
приспосабливают под себя», он концептуализирует связь с про-
1 Hovenkamp J. Mérimée et la coleur locale Nijmegen, 1928. P. 4, note 3.
96
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
шлым в выражениях, которые эхом повторяют определение
Леонардо: «Чем дальше поколение, для которого пишет писатель, тем
сильнее уменьшается интерес к деталям... Остаются только
известные люди и поистине прославленные мужи, чьи особенности
характера остаются интересными с определенного расстояния»1.
Непосредственным результатом появления этой модели является
подавление колорита, понимаемого, как позитивный и персональный
элемент стиля историка, и на ум приходит метафора прозрачности:
«Кто-то сказал, что для историка самый лучший стиль тот, что
похож на прозрачную воду. Но если сама по себе она не имеет цвета,
то она естественным путем принимает цвет предмета, как поток
принимает окраску песка, которым покрыто его дно»2.
Предварительная конфигурация исторического пространства
в убывающей перспективе, подавление цвета, как следа авторского
стиля - что же является третьим элементом, который, выражаясь
языком Леонардо, придает этой концепции связность? Ясно, что это
глаз художника, который, в квазитеологическом смысле, освящает
систему перспективы и наделяет зрителя способностью занять там
свое место. В результате субъект, изгнанный во имя бесцветности,
возвращается, для того чтобы с занимаемой им единой точки
обзора гарантировать наличие системы восприятия. Мармонтель
говорит о той манере, в которой историк «берет на себя трудную задачу
объять взглядом все предлагаемое ему его веком, представляющее
интерес для будущего»3. Заметим, что критерий «представляющее
интерес для будущего» налагает печать на связность системы.
Убывающая перспектива уходит и возвращается к субъекту: «исчезающая
точка» в картине является не более чем необходимым теоретическим
следствием внешней, идеальной субъективности.
Поразительно, но молодой Маколей в эссе «Об истории» 1828
года придерживается этого традиционного взгляда на
историческую репрезентацию. Он не только защищает его, но и открыто
отвергает соблазн сформировать для историографии более
безопасные эпистемологические основания. Истории не интересна нагая
Клио, «одна» истина, не допускающая «никаких степеней». Исто-
1 Marmontel, Eléments de littérature. Vol. IV (Oeuvres completes. Vol. VIII). Paris,
1787. P. 113.
2 Ibid. P. 118.
3 Ibid. P. 116.
4 Зак. 760
97
Стивен Бенн
рия может наблюдать только «истину имитации в изящных
искусствах»1. Чтобы проиллюстрировать это положение, Маколей
выбирает для сравнения портрет «прекрасной супруги пэра» Томаса
Лоренса и ту же леди, показанную через «мощный микроскоп»,
который раскроет «поры кожи, кровеносные капилляры глаз». Конечно,
показательность примера приводит в замешательство своим
отклонением от научной парадигмы. Субъект (супруга пэра) установлен,
и инструмент критики, нарушающий воображаемую связность,
требуется не в интересах познания, а только для подтверждения
конвенционального статуса репрезентации. Примечательно, что
Маколей развивает свою параллель с живописью в понятиях, которые,
как метафоры исторической репрезентации, устраняют цвета и
установление перспективы: «Бюст из белого мрамора может дать
превосходную идею о цветущем лице. Подкрасьте бюсту губы и щеки,
оставив волосы и глаза без изменения, и сходство, вместо того, чтобы
стать более поразительным, станет еще меньше. У истории есть свои
передний и свой задний планы; и, в принципе, один художник
разнится от другого тем, насколько хорошо он управляется с перспективой.
Некоторые события могут быть представлены в увеличенном
масштабе, другие в уменьшенном, но подавляющее их большинство будет
теряться в дымке горизонта; и единая идея их общего эффекта будет
подаваться несколькими легкими мазками»2.
Конечно же, скрытый смысл этого «уменьшения» и «дымки» -
в укреплении идеи единой точки обзора как гарантии перспективы.
Говоря словами Леонардо: «Перспектива приходит нам на помощь
там, где наше суждение попадает в затруднительное положение
относительно вещей, которые отступают и уменьшаются».. Подобное
замечание может косвенно пролить свет на значение «взгляда вига
на историю» .
Для сравнения, проблематика, которую развивает Огюстен
Тьерри в предисловии к своей «Истории завоевания Англии
норманнами» (1825), по-видимому, и была разработана специально для
опровержения традиционной концепции, которую защищает Мако-
1 Stern, Varieties of History. P. 87.
\ Ibid. P. 76-77.
Фраза британского историка Герберта Баттерфильда из его унижительной
работы «The Whig Interpretation of History» (1931). Означает, что с точки зрения
вигов история с неизбежностью идет по пути прогресса.
98
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
лей. Перспектива единой точки вытесняется требованием местного
колорита: «Однако сегодня уже больше не позволительно писать
историю в угоду одной единственной идее; наш век этого не
допустит; он требует, чтобы сказано было решительно все с тем, чтобы
живо описать и объяснить ему существование наций и различных
эпох; чтобы для каждого прошедшего столетия было определено
его истинное место, его колорит, его значение»1.
Здесь Тьерри безоговорочно остается внутри метафор
живописи, выступая за полную отмену схемы построения перспективы.
Одновременно Тьерри проявляет ту приверженность «науке»,
которую отрицает Маколей, и акцентирует необходимость перевода
проблемы «колорита» на уровень означающего, в тех же самых
понятиях и лингвистических формах, которые существуют в
историческом нарративе: «Только теперь я вынужден упомянуть еще одну
новацию, не меньшей важности, чем остальные: придерживаться
орфографии саксонских, норманских и прочих имен, так чтобы
постоянно подчеркивать отличие рас и местной колоритности,
которая является одним из условий не просто исторического интереса,
но исторической истины Подобным же образом я позаботился не
применять к одному историческому времени язык, формы и титулы
другого. Одним словом, я в полной мере опробовал реинтеграцию
политических факторов, деталей и манер, официальных форм, языков
и имен так, чтобы, возвращая каждому историческому времени,
включенному в мой нарратив внешним аспектом, его изначальные черты,
сообщить этому участку истории несомненность и устойчивость,
которые являются отличительными характеристиками позитивных наук»2.
Где же тогда, при всей полярности отношений Маколея и
Тьерри, определить место Ранке? Казалось бы, нет сомнения в том, что
он «подавляет», с той же силой, что и Маколей, вопрос «колорита».
Этот lapsus, который Тьерри использовал для привлечения
внимания к проблеме исторического имени как означающего, заставляет
Ранке к концу своей жизни разделить с Маколеем размышления о
признании недействительным текстов Скотта. «Истинно великий
1 Tierry Augustin. History of the Conquest of England by the Normans, translated by
William Hazlitt. London, 1856. P. xx I (рус. перев. Тьерри О. История завоевания
Англии норманнами. В 3-х ч., в 3 кн. М., 1868). Здесь и далее - перевод А.
Макарова.
2 Ibid. Р. ххх.
99
Стивен Бенн
историк, - пишет Маколей, - подверг бы переработке те материалы,
которые предложены романистом»1. И только за несколько недель
до своей смерти (согласно первому переводчику его работ на
английский язык) Ранке сожалел, что Скотта историки не
рассматривали всерьез. «Сколько полезных уроков остались не извлеченными
из фактов, к которым великий английский романист имел ключ;
однако, по причинам, о которых я уже упоминал, я просто не мог
показать многие из моих утверждений, ссылаясь на Скотта»2. Его
представление о Скотте, снабженное примечаниями,
расходящимися по смыслу с аппаратом его же собственных примечаний и
ссылок, - комично, но весьма показательно. Под определением
«бесцветный» на самом деле скрывается абсолютная преданность
бинарному разделению «фактов» и «стилей» и последовательным
подавлением уровня означающего в дискурса историка.
И все же Ранке не совсем не признает категорий имитации
и метафоры перспективы, как это делает Маколей. Его
эллиптическое заявление, с которого мы начали эту главу, без всякого
сомнения, свидетельствует именно об этом факте3. Захватывает дыхание,
когда в стремлении «показать, как это было на самом деле» видно
полное пренебрежение мимесисом. Мои рассуждения об идеале
«жизнеподобной» репрезентации в таксидермии, в диораме и в
дагерротипе в большой степени были посвящены выявлению
репрезентативного пространства, в котором утверждение Ранке могло бы
приобрести следующее значение: пространство, в котором новые
техники обеспечивали непреодолимую иллюзию присутствия. Но
я хочу выразить сдержанное сомнение в «новизне» этой цели,
которая была сформулирована уже в Возрождении. «Бесцветность»
Ранке может рассматриваться как отречение от языка, от
исторического означающего и от репутации Ранке XIX века (которая все еще
1 Stern. Varieties of History. P. 75.
2 Quoted by Ashworth in Latin and Teutonic Nations. P. vi.
3 В качестве напоминания о связи Ранке с историзмом и его истоками в
Просвещении, стоит процитировать следующий пассаж Мейнеке: «по-видимому, это
была величайшая революция мысли, которую когда-либо переживал Запад. Вся
история в целом начинает теперь видеться в другом аспекте. На нее перестали
смотреть, как на простую ровную плоскость, обзор которой легок и доступен; на
нее стали смотреть в разрезе перспективы, как на обладающую бесконечной
глубиной заднего плана» // Meinecke F. Machiavellism: The Doctrine of Raison d'Etat
and its place in Modern History, trans. Douglas Scott (New Haven, 1957). P. 362.
100
Глава первая. Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,..
сохраняется). Для сравнения, некоторую недооценку Тьерри,
несмотря на его современность, Ранке следовало бы рассматривать
в контексте его решимости отстаивать важность для истории
одновременно и языка и науки.
Поэтому мое исследование продолжится в том же направлении,
что и тропа, следовать которой нас приглашает Тьерри. В
следующей главе друг за другом будут последовательно очерчены
фигуры трех историков, занимающих центральную позицию во
французской историографии начала XIX века: Проспер де Барант;
Ж. Мишле, поднимающий в самой острой форме проблему границы
между историей и литературой; и сам О. Тьерри. Я полагаю, что
эти три историка, взятые в связи друг с другом, дают бесценное
понимание того пути, по которому в начале XIX века развивалась
риторика историографии. Анализ их работ подготавливает нас к
всестороннему обзору стратегий, использовавшихся для воссоздания
прошлого в XIX веке в виде «исторической поэтики».
Мне было интересно не столько рассмотреть известное
заявление Ранке, сколько показать все линии мифа о Ранке. Задача
«показать, как это было на самом деле» было благородным
предприятием, поместившем Ранке в центр эпистемологического пространства
историографии его времени, и оно все еще продолжает заслуживать
изучения и уважения. Но сама его фраза, в своей мифической
неподвижности, как бы превращается в Голову Медузы, увековечивая
импульс метаисторического исследования. Если же мы хотим
противостоять этой тенденции, нам требуется взглянуть на прямых
наследников Ранке - Баранта, Тьерри и Мишле - и на современную
школу «Анналов». Они напоминают нам - если здесь вообще
требуется какое-либо напоминание - что современная творческая
историография не нуждается в том, чтобы в жертву научному методу
была принесена историческая поэтика.
101
ГЛАВА ВТОРАЯ
ЦИКЛ В ИСТОРИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ:
П. де БАРАНТ, О. ТЬЕРРИ, Ж. МИШЛЕ
Изучая работы Мишле, историк традиционного склада
сталкивается с неожиданной трудностью - отсутствием критического
метода, адекватного анализу творчества Мишле. Безусловно, есть
неплохие исследования Мишле-стилиста. Но в них внимание
акцентируется исключительно на анализе риторического аспекта его
текстов. Существует и множество исследований Мишле-историка.
В них чувствуется склонность к апологетическим утверждениям:
«В конце концов, я приму Мишле, мне просто придется его
принять, таким, каким он был», - пишет, например, Петер Гейл1. Ролан
Барт, чьи симпатии к Мишле ясно отражены в блестящей подборке
произведений последнего для серии «Ecrivains de toujours»,
разрешает возникшую дилемму, разрушая ее .
Согласно Барту, Мишле реализовался вовсе не в профессии
(историка) или священном сане (поэта). Его призванием, на чем он сам
настаивал, было magistratura - «судейство». И именно в результате
дискредитации его как историка (в соответствии с принятыми
в то время стандартами истории как науки) ему удалось
превратиться в социолога, этнолога и психоаналитика: коротко говоря,
в предтечу, «наук о человеке»2.
Барт предлагает рассматривать Мишле в совершенно новой
перспективе, но полностью не разрешает дилеммы «Мишле-исто-
рик/Мишле-стилист». Возможно, это в большей степени удалось
1 GeylPeter. Debates with historians. London, 1970. P. 111.
* Ecrivains de toujours - букв, «работы на все времена», « работы, обладающие
непреходящим значением». Знаменитая серия книг, публиковавшаяся во Франции
с 1952 по 1995 годы. Editions du Seuil. Каждая книга представляла какого-то
одного автора.
2 Barthes Roland. Essais critiques. Paris, 1964. P. 124.
102
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Гьерри,..
Густаву Радлеру в ходе его анализа знаменитой главы о Жанне
д'Арк из многотомного труда Мишле «История Франции до
Французской революции». Радлер, что естественно ожидать от
прославленного историка литературы, внимателен к эстетическим
вопросам стиля, а не только к научным проблемам исторической
реконструкции. И именно эта дуальность подхода вынуждает его
постоянно балансировать между одобрением и осуждением Мишле. «В
принципе, - пишет Радлер, - его метод недопустим. Нет извинений
тому, что он отказывается основывать свой нарратив на новых
публикациях и размышлениях». Таким образом, Мишле обвиняется в
том, что он полагался на вторичные источники. Но если ему и не
удалось показать читателям истинную историю Жанны д'Арк он,
тем не менее, остается признанным автором «трогательной,
драматичной, патриотической и религиозной легенды, эпоса,
философского и художественного произведения»1.
Радлер, как, в сущности, и Барт, акцентирует фундаментальное
отличие Мишле от немецкой исторической школы. Он «не был
учен ремеслу... ему пришлось до всего доходить самому»2.
Отношение Мишле к его предшественниками - французским историкам,
не было таким однозначным, как, например, у учеников Ранке к
своему учителю. У него не было возможности унаследовать от
старшего поколения академиков методы оценки и критики
источников. Его отношение к источникам кажется, порой чрезвычайно
близким к плагиату: не только «факты», но и большие части своего
нарратива Мишле заимствует из вторичных источников и
преобразовывает их в собственный дискурс. Логично, если бы Мишле
попытался бы скрыть факт своих «заимствований». Однако совсем
наоборот. А как иначе мы можем объяснить его явно вопиющее
пренебрежение к принятым нормам исторической дисциплины?
Вопросы, поставленные Радлером после прочтения отрывков из
работы Мишле «Жанна д'Арк», подтверждались открытиями,
сделанными издателем дневников Мишле3. Публикация протоколов
1 Rudier Gustav. Michelet historien de Jeanne d'Arc. Paris, 1925. Vol. I. P. 64, 67.
2 Ibid. P. 3.
3 Viallaneix Paul (ed), Oeuvres complètes de Michelet. Paris, 1978. Vol. Vi. P. 12:
Существует мнение, что коррективы Мишле своего текста со ссылкой на
протоколы суда были попросту «незначительной ретушью... ничем, кроме бесчисленных
исправлений стиля, которыми усеян текст рукописи».
103
Стивен Бенн
суда над Жанной д'Арк стала доступна публике как раз к тому
моменту, когда Мишле писал соответствующие тома своей «Истории
Франции». Но, познакомившись с этими протоколами, он сделал
в своей рукописи очень небольшие исправления. По всей
вероятности, он «ретушировал» свой нарратив исключительно
стилистически. Следует ли из этого, что в своем отношении к своим
предшественникам и к материалам источников Мишле ставил удобство
превыше науки, стиль превыше историчности? Дело выглядит
мрачно. Но на это обвинение можно найти, по крайней мере, один
ответ. Он содержится в таинственном намеке, сделанном Мишле
в письме к Сент-Бёву. До этого момента на этот намек никто не
обращал внимания. Но именно на нем основывается суть моей идеи.
Мишле пишет: «Если вы станете изучать историков этого века,
я полагаю, что вы примите во внимание как ту точку, с которой
я вижу историю, так и тот шаг, который я совершил. Барант,
Тьерри и я формируем своего рода цикл. Вы можете составить
правильное суждение о каждом из нас лишь в контексте нашего
отношения друг к другу»1.
Я полагаю, что на мгновение можно забыть о тяжком запрете,
налагаемом на феномен плагиата - и, в особенности, плагиата
среди историков - для того, чтобы понять всю значимость замечания
Мишле. Очевидно, что причиной анафемы плагиата всегда является
мифическое понятие «подлинности». Но, по-видимому, это понятие
различно в сферах искусства и науки. Для писателя и художника
быть «оригинальным» значит быть в каком-то не поддающемся
упрощению смысле хозяином своего языка - хотя мы понимаем, что
на определенном уровне писатель просто удачно сочетает и
перемешивает лингвистические единицы. Для историка и ученого
«оригинальность» означает свободную игру критической мысли,
основываемую на существующих материалах и на последовательности,
целостности избранного подхода, обладающего, прежде всего,
когнитивным, а не стилистическим значением. Оба эти определения
отрицают возможность верификации родства между формами
дискурса в соответствии с неким объективным критерием. В конце
концов, можно совершить важные открытия о последовательности
возникновения различных типов дискурса и вне моралистических
1 Saint-Beuve. Correspondence générale Paris, 1936. Vol. И. P. 196, note 5.
104
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Бараит, О. Тьерри,..
понятий приоритетов и незаконного заимствования. Покрайней
мере, это, по-видимому, и предлагает Мишле в своем письме к Сент-
Бёву.
Необходимые инструменты, позволяющие осуществить
дальнейший анализ сути указанного нами намека Мишле, можно найти
у лингвиста Романа Якобсона в его прекрасно аргументированном
разграничении различных «функций» дискурса; у антрополога
Клода Леви-Стросса в его бесхитростном применении трех из этих
функций для оценки классической и современной музыки.
Якобсон выделяет различные функции дискурса и среди них -
«мета-языковую», «референтивную» и «поэтическую»1*. Клод Ле-
ви-Стросс акцентирует внимание именно на эти три функции,
переименовывает их и в предисловии (которое он назвал «Увертюра»)
к своей книге «Сырое и приготовленное» предлагает различать три
типа художников (он говорит о композиторах): художники
сообщения (Бетховен, Равель), художники кода (Бах, Стравинский) и
художники мифа (Вагнер и Дебюсси). В первом случае важнее всего
само высказывание, во втором - средства высказывания, в
третьем - сообщение составляется из элементов, которые сами являются
сообщениями. Леви-Стросс полагает, что это помогает
композиторам объяснять циклическое возвращение неких специфических
форм музыкального дискурса2.
Несмотря на то, что контекст замечаний Леви-Стросса слегка
необычен, не стоит рассматривать их как просто yew d'esprit0. Более
того, вполне вероятно, что этот цикл имеет отношение к «циклу»,
предложенному Мишле. В этой главе циклическая модель Леви-
Стросса будет служить в качестве рабочей гипотезы исследования
ряда исторических текстов Мишле начала XIX века.
1 Jackobson Roman. Essais de Linguistique générale. Paris, 1963. P. 214fï.
Якобсон выделяет следующие функции языка: эмотивная (экспрессивная),
конативная (апелятивная), фатическая, референтивная (коммуникативная), мета-
языковая, поэтическая. Метаязыковая функция (или функция толкования)
преследует цель установления тождества высказывания. На «метаязыке» говорят о самом
языке. Референтивная функция ориентирует сообщение на его референт, контекст.
Поэтическая функция - сосредоточение, направленность внимания на сообщение
ради него самого (а не ради референта, контакта или адресата).
2 Lévi-Strauss Claude. Le cru et le cuit. Paris, 1964. P. 38. (рус. перев. - Клод
Леви-Стросс. Мифологики. В 4 т. Т. 1. Сырое и приготовленное. М.; СПб., 1999).
* jeu d'esprit (φρ.) - доел, игра ума, острота
105
Стивен Бенн
Леви-Стросс берет свои примеры из мира музыки. Якобсон
ссылается на обобщенный «дискурс». Прежде чем мы приступим к
применению этих моделей к нашему исследованию, нужно
выявить характеристики самого исторического дискурса. Одна их
них приходит на ум прямо сейчас. Дискурс историка, в отличие от
дискурса поэта и романиста, заключается не в создании единого
текста в котором есть начало и конец всего исследования. Он
состоит из текста и, что более точно, нарратива, который
соотносится с другими текстами (или источниками). На самом деле,
кредит доверия, который мы выдаем находящемуся перед нами
тексту, полностью зависит от того, как этот текст соотносится с
отсутствующими перед нами в данный момент источниками.
Конечно, в определенном смысле фикция (вымысел) также предполагает
связь с отсутствующими текстами, как утверждал Жерар Женетт в
своем исследовании под говорящим названием Palimpsestes^. С
одной стороны, существует строгое соблюдение жанра
исторического нарратива, с другой - пародия на него. Возьмите, например,
непосредственно относящийся к жанру исторического нарратива
роман Г. Филдинга «История жизни покойного Джонатана Уайльда
Великого». В нем как само собой разумеющимся предполагается
наше знакомство с предшествующей историографической
моделью, которая требует излагать историю жизни «великого человека»
по определенным канонам. В романе Филдинга эти канонические
представления о «великих», бурная карьера Джонатана
одновременно и имитирует и отрицает. Но во всех этих случаях
предполагается наличие некоего общего структурного соответствия между
произведением и его «моделью» или «моделями». Исторический
текст обязан соотноситься со своими источниками конкретным,
а не общим порядком. Более того, он сигнализирует читателю об
этом соответствии через текстуальный аппарат «примечаний» и
«ссылок».
Квалифицируя исторический текст подобным образом, я,
конечно, говорю о сравнительно новой конвенции. Поль Вен обратил
внимание на тот факт, что во Франции XVI века историк Этьен
Паскьер навлек на себя жалобы ученых педантов из числа своих
1 Genette Gérard. Palimpsestes. Paris, 1964. P. 38.
106
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
друзей, когда распространил рукопись своей работы Recherches
de la France («Исследование Франции»)*.
Претензии заключались в том, что, по их мнению, созданная им
система ссылок на труды предшествовавших авторов была
совершенно бездоказательна, так как только одно лишь время в
состоянии подтвердить истинность его повествования, а любой
укороченный путь к этому просто непозволителен1. Поддерживая эту
позицию, Вен утверждал, что цитирование авторитетных источников в
основной части текста является конвенцией, в первую очередь,
свойственной протоколам судебных разбирательств, и именно
оттуда она перенесена в контекст исторических исследований. В
результате историография тоже становится предметом споров и
разбирательств. Что бы мы ни делали с этим утверждением, ясно, что
исторический текст приобретает безоговорочную и
беспрецедентную власть над читателем только тогда, когда он полностью
основан на источниках. Гиббон, аргументируя позицию, занимаемую им
в работе «История упадка и разрушения Римской империи»
показывает степень накала дискуссий в исторической дисциплине к
концу XVIII века и то, насколько нервно в ходе научных диспутов
обсуждался вопрос о правильном и неправильном анализе
источников. Даже необходимость отвечать пекущимся только о
собственных интересах критикам его работы дает Гиббону значительное
преимущество, так как позволяет продемонстрировать широту
своей эрудиции. При этом он не имеет даже малого представления
о том важном эпистемологическом принципе, который мы
связываем с выдающимся вкладом Ранке в историографию: о радикальном
различии между тем, что может быть понято на основе изучения
первичных, а что - вторичных источников. Но он, по крайней мере,
совершил значительный технический прорыв в разрушении
тогдашних конвенциональных принципов цитирования: «Ввиду того,
что я часто ощущал неудобство от несвязного и общего метода
цитирования, который ошибочно вменяли мне в вину, то я тщательно
отделил друг от друга книги, главы, разделы и страницы
упоминаемых мною авторов, с такой высокой степенью аккуратности и
* Паскьер Этьен (Pasquier Etienne, 1529-1615) - французский юрист и
писатель. Первый том своей работы «Recherches de la France» выпустил в 1560 году.
1 Veyne Paul. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? Paris, 1983. P. 17-18.
107
Стивен Бенн
внимания, которая редко встречается у историков. По-моему, само
по себе это уже заслуживает определенной благодарности»1.
Мы можем утверждать, что французские историки - Барант,
Мишле и Тьерри, о которых у нас идет речь, писавшие более чем
поколением позже Гиббона, были не менее внимательны к
имевшимся в их распоряжении источникам и не менее удачно
использовали систему ссылок, придающую убедительность их текстам. Но
для того, чтобы оценить значение их методов, мы должны
попробовать отстраниться от их субъективных намерений и тщательнее
исследовать конвенции дискурса, обнаруживающиеся в их текстах.
Здесь пригодятся некоторые основные инструменты структурной
лингвистики де Соссюра. Они дают нам возможность увидеть, как
различные варианты использования принципа референции могут
быть отделены друг от друга, и как этот круг различий напрямую
связан с идеей Мишле о «цикле» историков.
Соссюр провел фундаментальное различие между «двумя
формами нашей умственной деятельности, необходимых для жизни
языка»2. Он противопоставил синтагматику (линейный характер
языка, отношение элементов, которые выстраиваются один за
другим в потоке речи) и парадигматику (языковые единицы
ассоциируются с другими единицами), и предложил деление языка на
теорию синтагм и теорию ассоциаций.
Ролан Барт так писал об этом: «Для Соссюра отношения,
связывающие языковые элементы, могут принадлежать двум планам,
каждый из которых создает собственную систему значимостей. Эти
два плана соответствуют двум формам умственной деятельности.
Первый план - синтагматический. Синтагма есть комбинация
знаков, предполагающая протяженность; эта протяженность линейна и
необратима: два звука не могут быть произнесены в один и тот же
момент. Значимость каждого элемента возникает как результат его
оппозиции к элементам предшествующим и последующим; в
речевой цепи элементы объединены реально, in praesentia; анализом
синтагмы будет ее членение. Второй план - ассоциативный (по
терминологии Соссюра). "Вне процесса речи слова, имеющие
между собой что-либо общее, ассоциируются в памяти так, что из них
1 Gibbon Edward. Vindication. Oxford, 1970. P. 10.
2 Saussure Ferdinand de. Course in General Linguistics, trans. Wade Baskin.
London, 1978. P. 123 (рус. перев. Соссюр Φ де. Курс общей лингвистики, М., 2009).
108
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
образуются группы, внутри которых обнаруживаются весьма
разнообразные отношения"». Слово обучать может
ассоциироваться по смыслу со словами воспитывать или наставлять, а по
звучанию - со словами вооружать, писать; каждая такая группа
образует виртуальную мнемоническую серию, «клад памяти»;
в отличие от синтагм в каждой серии элементы объединены in
absentia. Анализ ассоциаций заключается в их классификации.
Синтагматический и ассоциативный планы находятся в тесной
связи, которую Соссюр пояснил при помощи следующего сравнения:
каждый языковой элемент подобен колонне в античном храме; эта
колонна находится в реальном отношении смежности с другими
частями здания, с архитравом например (синтагматическое
отношение). Но если это колонна дорическая, то она вызывает у нас
сравнение с другими архитектурными ордерами, например
ионическим или коринфским. Здесь мы имеем дело с виртуальным
отношением субституции, то есть с ассоциативным отношением. Оба
плана связаны между собой таким образом, что синтагма может
разворачиваться лишь тогда, когда она черпает все новые и новые
единицы из ассоциативного плана. Со времен Соссюра анализ
ассоциативного плана получил значительное развитие; изменилось
даже его название; сейчас говорят уже не об ассоциативном, а о
парадигматическом или же о систематическом плане ...Очевидно,
что ассоциативный план теснейшим образом связан с языком как
системой, в то время как синтагма оказывается ближе к речи»1.
В чем же здесь связь с историографией? Сравнение
исторического нарратива с синтагмой едва ли требует какого-то
подтверждения ввиду частого употребления этого понятия для анализа
линейного порядка «récit» и фикционного (вымышленного)
нарратива*. Но есть момент, где исторический нарратив мог (по крайней
мере, в конце XVIII века) отразить специфическое отношение
синтагматических серий к определенному количеству дополнительных
или отсутствующих исторических текстов, которые мы определяем
как исторические «источники». Этот второй регистр может быть
назван исторической системой', она осуществляет функцию соссю-
1 Barthes Roland. Elements of Semiology, trans Annette Lavers and Colin Smith.
London, 1967. P. 58-9, 64-5, 71. (рус. перев.) Барт P. Основы семиологии //
Структурализм: «за» и «против», М., 1975. С. 277-278).
* récit (φρ.) - рассказ.
109
Стивен Бенн
ровского критерия «серии ассоциативных полей», каждое из
которых несет запас потенциальных понятий, так как только одно из
них актуализировано в представленном дискурсе. Особая роль
исторических примечаний, ссылок и референций заключается в их
функционировании в качестве своего рода рычага переключения
между синтагмой и системой. Ссылки служат нам напоминанием
об огромном складе параллельных и часто совпадающих текстов,
используемом историком для составления своего нарратива.
Эта схема сама по себе сравнительно проста и даже банальна.
Для наших целей ее функция заключается в упрощении нашего
подхода к идее Мишле о цикле историков. Если нам удастся
выявить специфическую черту исторического текста и описать ее в
этих понятиях, то тогда мы, возможно, ощутим значительную
разницу в исследованиях двух предшественников Мишле и покажем
смысл понятий, одолженных нами у Якобсона и Леви-Стросса.
Несомненно, можно ожидать, что дистинкция между Барантом как
историком «кода» и Тьерри как историком «сообщения» отражена в
их установках по отношению к балансу синтагмы и системы в
историческом нарративе. Мы могли бы предположить, что «историк
кода» был заинтересован в подчеркивании приоритета синтагмы
над системой: потому, что его дискурс, используя понятия
Якобсона, «метаязыковой», а поэтому обращает внимание на внутренние
свойства означающей цепи. Взятый у Квинтилиана эпиграф Баран-
та (scribitur ad narrandum non ad probandum), выразительно
свидетельствует о его намерении поступать именно таким образом:
в качестве цели своей работы он рассматривает именно «нарра-
цию», а не «доказательство»*. Также мы могли бы ожидать, что
«историк сообщения», чей дискурс «референтен», стал бы
подчеркивать приоритет системы над синтагмой. Вместо того,, .чтобы.
таким образом акцентировать нарративный процесс, он старался
подчеркнуть, насколько возможно, особое значение и важность
привлекаемого им круга источников.
Если мы начнем исследовать отношение текста к ссылкам (а
отсюда к «системе») в двух работах Баранта и Тьерри, то мы и в
самом деле обнаружим непосредственное различие в их манере ис-
scribitur ad narrandum non ad probandum (лат.) - «пишут для того, чтобы
рассказать, а не для того, чтобы доказать» // Квинтилиан. Обучение оратора,
X, 1, 31 - о различении задач историка и оратора.
ПО
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
пользования ссылок. Это становится очевидным, если мы
сравним две почти современные друг другу работы: magnum opus Ба-
ранта «История герцогов Бургундских из дома Валуа. 1364-1477»
(1824-1826) и «Истории завоевания Англии норманнами» (1825)
Тьерри . У Баранта референция (ссылка) в огромном количестве
случаев ограничивается самым простым из всех возможных
способов указания на источник. Она может состоять всего лишь из
одного слова- «Коммин» - или из нескольких слов - «Холлиншед - Ра-
пин Тойрас - Юм - Коммин» .
Таким образом, ссылка служит связкой между текстом и
источником, неважно, первичным, или вторичным. Но фактически, это
не позволяет увидеть ясную связь между единицей нарратива,
изолированной от синтагмы, и единицей нарратива, изолированной от
системы. В итоге, ссылки Баранта возвращают нас к его же
собственному тексту. Из-за того, что отсутствует точная ссылка на том,
страницу и т.д., связь с системой, по большей части, оказывается
схематического, если не сказать, двойственного свойства.
Тьерри действует совершенно по-другому, что ясно показывает
следующая выдержка из его текста: «В те времена франки не
верили ни во что кроме силы своих боевых топоров, но для группы
галльских священнослужителей и этой веры оказалось достаточно
для обращения к ним с тем, чтобы они все вместе, используя
выражение почти современного этим событиям автора, с открытым
сердцем приняли владычество Франков».
Ссылка: «Cum omnes eos amore desiderabili cuperent regnare»
(Gregor. Turonensis, cap. 23 (Ибо общим было желание быть
руководимыми стремлением к любви]1*.
* magnum opus (лат.) - великая работа.
# Холиншед Рафаэль (Raphael Holinshed, 1529-1580) - английский хронист;
Рапин Поль de (Paul de Rapin, sieur de Thoyras, 1661-1725) - французский историк-
протестант, известный своей работой Histoire d'Angleterre [История Англии],
опубликованной в 1724 году; Юм Дэвид (Hume David, 1711-1776) - шотландский
философ и историк, известен, кроме всего прочего, шеститомной History of
England (1754-1762); Коммин Филипп de (Philippe de Commynes, 1445 or 1447-
1511) - французский дипломат и историк фламандского происхождения,
написавший воспоминания о королях Франции Людовике XI и Карле VIII.
1 Thierry Augustin. Histoire de la Conquête de l'Angleterre par les Normands, de ses
causes, et de ses suites jusqu'à nos jours, en Angleterre,en Ecosse, en Irlande et sur le
111
Стивен Бенн
В этом случае, как и во многих других местах текста Тьерри,
ссылка на соответствующий источник дается не только на языке
оригинала и с точным указанием страницы, но еще и
предвосхищается в тексте подготовительной фразой: suivant l'expression d'un
auteur contemporain . Таким образом, Тьерри, не желая обращать
все наше внимание на свой текст, делает так, чтобы мы смотрели на
какую-то фразу этого текста и как на синтагму (изолированно от
последовательности нарратива) и как на систему.
Подготовительные слова, с одной стороны, и номер ссылки, с другой - служат
печатью, наложенной на единицу дискурса: выковано крепкое
соединительное звено между синтагмой и системой.
Смысл использования ссылок Барантом и Тьерри становится
более ясным, если мы сравним их методы с методом представителя
классической традиции французской историографии Ж.-Ф. Мишо,
историка крестовых походов. Когда Мишо впервые упоминает
военный клич армии крестоносцев, то он считает необходимым
дать следующую сноску: «Этого желает Господь!» на языке того
времени звучало как: «Dieu li volt!, или Dieu le volt!», (Diex le volt!,
était pronounce, dans le langage du temps или «Dieu li volt!» ou Diex le
volt!)1. На первый взгляд может показаться, что это иллюстрирует
такой же интерес к подлинности, что и привычка Тьерри замещать
латинские названия подлинными именами времен династии Меро-
вингов: Текст: «...дети Мер-вигов...». Ссылка: «Меровии, по-
латыни Меровикус, Меровиус Мер, моер, мере, великий,
знаменитый. Виг, воин (Gloss Wachteri)2.
Однако между этими двумя примерами существует жизненно
важное различие. Мишо помещает подобные детали в сносках,
полагая, что подобный «слуховой» реализм имеет второстепенное
значение. А Тьерри, наоборот, акцентирует включение в свой нар-
ратив имени Меровингов. В своем предисловии к «Истории
завоевания Англии норманнами» он с гордостью заявляет: «Теперь мне
continent. Paris, 1825. Vol. I. P. 34-5. (рус. изд. Тьерри О. История завоевания
Англии норманнами. В трех частях, в трех книгах. М., 1868).
* Здесь и далее перевод цитат из работ Тьерри осуществлен А. Макаровым.
suivant l'expression d'un auteur contemporain* (φρ.) - используя выражение
современного автора.
1 Michaud J. F. Histoire des Croisades, fourth edition (Paris, 1825-29), Vol. I.
P. 107, note I (рус. перев. МишоЖ-Ф. История крестовых походов. М., 2001).
2 Thierry. Histoire de la Conquête. P. 35.
112
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
остается упомянуть лишь еще одно, не менее важное, чем
остальные, историческое нововведение: сохранение орфографии
саксонских, норманнских и других имен, с тем, чтобы сохранить разницу
между постоянно находящимися на переднем плане племенами, и
придания местного колорита, который является одним из условий
не просто исторического интереса, но и исторической истины»1.
Обращение к намерениям историка - следующий необходимый
шаг в решении нашей проблемы, а именно, анализе дистинкции
текст/ссылка, рассматриваемой в контексте оппозиции
синтагма/система. Здесь весьма уместно обращение к понятию местного
колорита. То, что, в общем может восприниматься как весьма
путаное понятие романтизма, в итоге приобретает весьма важное
значение, и не в меньшей связи с Барантом, чем с Тьерри, который,
возможно первым применил это понятие к литературе2.
«Местный колорит» - понятие, заимствованное из искусства
живописи, где оно обозначает цвет, непосредственно
принадлежащий каждому предмету, вне зависимости от распределения света
и тени на всем изобразительном поле. Оно означает подробности
быта, особенности говора, пейзажа, характерные для местности, в
которой происходит действие в художественном произведении.
Согласно Баранту, который в 1806 году использовал это понятие в
серии статей для Le Publiciste , посвященных критике драмы,
буквальное применение понятия «местный колорит» означало
введение в текст таких лингвистических оборотов, которые заставляли
бы читателя (или зрителя) обращать внимание прежде всего на
само описываемое историческое время, а не на время автора данного
текста. «Посмотрите, как в Ричарде, - с одобрением пишет Барант
о Седане - просто при помощи таких слов, как крестовый поход,
нечестивые сарацины, добрый король Ричард, Седан притягивает
и очаровывает нас»3**. Было бы справедливо рассматривать крити-
1 Ibid. P. xxi.
2 Речь идет о десяти критических статьях о сущности драмы, одни из которых
подписаны, а другие обозначены инициалами А. М, которые летом 1806 года
Барант передал в редакцию Le Publiciste.
Le Publiciste, ou Nouvelles politiques, nationales, et étrangères - парижская
газета, выходившая в 1792 по 1810 годы.
3 Feuilleton of Publiciste, 21 April 1806.
** Мишель Седан {Michel-Jean Sedaine, 1719-1797) - французский автор,
известен в основном, комедиями.
ИЗ
Стивен Бенн
ческие установки Баранта как прямое следование принципу
сохранения оригинальной орфографии, которого придерживался Тьерри.
Но из этого нельзя сделать вывод, что понятие «местного
колорита» для них обоих имеет одинаковое значение. Свою
отрицательную рецензию на пьесу Буйи и Дюпати «Агнесса Сорель» Барант
заканчивает цитированием стихотворных строк, предположительно
написанных Агнессой Сорель Карлу VII, и сравнивает их с
высокопарным языком пьесы2***. «Есть ли в пьесе хоть один куплет, -
спрашивает он, - в котором можно найти столько же изящества, как
в этом?». Однако он не одобряет стиль драматического
произведения, ассимилирующий подобные живые, подлинные, тексты. Как
показывают его комментарии к работе Седана, он требует, чтобы
язык произведения был последователен как в своем воздержании
от использования современных лингвистических тонкостей, таких
как игра слов, например, так и не злоупотреблял наивными
и простыми выражениями. Продолжая аналогию с живописью,
можно сказать, что согласно Баранту отдельные части картины
должны иметь столько отличия в цвете, сколько необходимо для
иллюстрации того, что они - не только отражение всего узора света
и тени картины. Но, в то же время, их краски не должны разрушать
единство композиции.
Прежде чем проводить сравнение Баранта с Тьерри, по-
видимому, стоит продлить параллель с Мишо. Как уже было
показано, в работе Мишо некая подлинная деталь, используемая в нар-
ративе, может быть помещена в сноску. Но приоритет остается за
текстом, потому что Мишо как стилист-классицист, все еще
придерживается принципа последовательности сбалансированных фраз
текста, с избытком обставленных удачными антитезами. В
предисловии к своей работе о крестовых походах, он сетует на это свое
положение, проигрывающее при сравнении его текстов с
современными ему историками, изучающими Древнюю Грецию и Рим. Если
историк-классик был для него «моделью для подражания», то исто-
1 Le Publiciste, ou Nouvelles politiques, nationales, et étrangères - парижская
газета, выходившая в 1792 по 1810 годы.
Буйи Ж.-Н. (Bouilly Jean-Nicolas, 1763-1842), Э. Дюпати, (Dupaty
Emmanuel, 1775-1851) - французские авторы, написавшие в 1806 году комедию
«Agnès Sorel» («Агнесса Сорель»).
114
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
рики-медиевисты только «в редких случаях» могли поддержать его
«наличием в стиле их нарративов очарования и элегантности»1.
Поэтому позиция Мишо прямо противоположна позиции Ба-
ранта. Находя мало «очарования» в средневековых источниках и
предпочитая классические модели, Мишо, помещает подлинные
детали в сноски и тем самым придает своему тексту
стилистическую последовательность. Барант, отвергая игру слов и прочие
современные стилистические приемы, находит «изящество» в
аутентичных источниках и позволяет, чтобы его текст стилистически
воспроизводил язык этих источников. И все же он вынужден
подавлять слишком уж живую ноту подлинности, которая разрушила
бы единство его текста. На протяжении всего нарратива «Истории
герцогов Бургундских» он использует наивные и простые фразы,
те, за которые он хвалил Седана: les sages et riches bourgeois», le
chevalier le plus vaillant et le plus aimable, au beau Château de Maie
(благоразумный и зажиточный буржуа; храбрый и доблестный
рыцарь; прекрасный замок де Мале).
Позиция Тьерри полностью отличается и от позиции Мишо,
и от позиции Баранта. Если последние склонны фокусировать
внимание на тексте: Мишо - в интересах классических, Барант - в
интересах готических стилей, то Тьерри пытается в точности
соблюсти равновесие текста и сноски, синтагмы и системы. Если Барант
рассматривает местный колорит в контексте синтагматической
цепи, то Тьерри видит его в контексте соотношения синтагмы и
системы. Так, он пишет в предисловии к своей «Истории завоевания
Англии норманнами»: «Я не сверялся ни с чем, кроме
оригинальных текстов и документов, как в связи с деталями различных
обстоятельств в нарративе, так и в связи с фигурирующими в них
характерами личностей и населения. Я в таких количествах делал
выписки из этих текстов, что (мне лестно это признать), там мало что
осталось для других писателей»2. Последнее предложение особенно
важно, так как оно подчеркивает исключительность позиции
Тьерри. Его, как и Мишо, не отталкивают «варваризмы» средневековых
текстов, но он, подобно Баранту, и не пытается создавать
субституцию, то есть заместительный текст, приукрашивающий эти
варваризмы. Его цель и, как он заявляет, его достижение в том, чтобы
1 Michaud. Histoire des Croisades. Vol. I. P. 6.
2 Thierry. Histoire de la Conquête. P. xxi.
115
Стивен Бенн
полностью обработать источник своего текста, одновременно
оставляя читателю вполне видимое доказательство того, что такой
процесс обработки имел место. Поэтому для Тьерри система
совпадает во времени с синтагмой.
До этого момента мой анализ был сосредоточен на значении
отношения текст/ссылка, указывающего на связь между синтагмой
и системой в работе этих историков. И вполне очевидно, что
описанные мною различные варианты использования этого отношения
соотносятся с различными разделяемыми историками концепциями
исторической истины. Мое мнение заключается в том, что
отношение текст/ссылка, как бы важно оно ни было, есть всего лишь один
из аспектов общей модели, которую можно увидеть в их различных
подходах к историческому дискурсу. Отличие между Барантом как
историком «кода» и Тьерри как историком «сообщения» становится
даже еще более очевидным, если мы рассмотрим общую
организацию двух их обсуждаемых работ в «горизонтальном»/«верти-
кальном » (текст/ссылка) измерениях.
Первичным указателем вновь могут служить намерения этих
историков. Например, как только Тьерри устанавливает точное
соответствие между синтагмой и системой, как он тут же позволяет
появиться в своем нарративе скрытому значению, или
«сообщению». Здесь, однако, полезно напомнить о цепочке Мишо-Барант-
Тьерри. Мишо ставит главный вопрос, когда в предисловии к
четвертому изданию своей «Истории Крестовых походов» пишет:
«Меня упрекают в отсутствии унифицированной и закрепленной
системы, которая служит упорядочению моих суждений и
осуществляет контроль над развитием и самим духом моего нарратива.
В пику этому я поздравляю себя как раз с тем, что не имею
замкнутой системы и ограниченной точки зрения. В этой связи легко
увидеть, что люди составляли обо мне суждение так, словно я сочинял
поэму или роман. Образованные же читатели очень хорошо знают,
что история делается, но что делаем ее не мы; что мы можем только
писать о ней, но не можем сочинять ее»1.
Этот очаровательный отрывок показывает, что на самом деле
Мишо понимал, как бы парадоксально это ни звучало в связи
с упоминанием его стиля, необходимость освободить историю от
1 Michaud. Histoire des Croisades. Vol. I. P. 7 {рус. перев. - Мишо Ж-Ф. История
крестовых походов. М., 2001).
116
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
удушающих объятий классической «композиции». Однако только
с приходом Баранта стали очевидными все следствия этого
понимания. Барант подчеркивает, что историописание в самой своей
сущности оппозиционно литературе: структура исторического
исследования никогда не может быть внутренней, как в литературном
произведении, история всегда должна измеряться только внешними
структурами. Так, но уже в связи с историческими романами
Скотта, он пишет: «Красота истории состоит в том, чтобы быть звеном
в непрерывной цепи. Литературная композиция свое окончание
находит внутри самой себя же»1. Этот же взгляд на отдельное
историческое исследование, как на звено в единой цепи истории отражен у
Баранта и в «Истории герцогов Бургундских». Леви-Стросс, давая
дефиницию «музыканта кода», выявил, что такому музыканту
следует постоянно «уточнять и комментировать... правила
музыкального дискурса». Барант тоже следует этому, он «историк кода»
в той степени, в которой на каждом уровне структуры его
исследования подчеркивается процесс истории как непрерывной цепи
развертывания событий. В этом и заключается объяснение его
акцентирования синтагмы, которая сама всегда представлена в форме
цепи. С другой стороны, здесь кроется причина того, почему его
«История герцогов Бургундских» вплотную приближается к
непрерывному нарративу, включая в себя разрывы лишь самого
нейтрального плана. Наименьшей единицей разрыва в этом труде
является его отдельная «книга», которая никогда не бывает короче чем
35000 слов. Единственными более крупными единицами разрывов
являются «определенные» периоды времени, соответствующими
правлению четырех герцогов и Марии Бургундской. И никогда ни
в одной из этих переходных точек Барант не пытается
«суммировать» или слить воедино темы своего исследования. Фактически он
старается сократить разрыв непрерывности, как в случае, например,
описания похоронной процессии Жана Сан Пёр (Жана
Бесстрашного), которое помещается им во вспомогательную главу, а основную
главу открывает описание правления Филиппа Красивого и
возобновления войны с Францией.
На самом деле все усилия Баранта исключить любой намек на
существование всеобъемлющей системы, лежащей вне цени нарра-
1 Письмо Баранта к Гизо, 28 Октября 1826 года. Repr. In Barante, Souvenirs.
Paris, 1890-1891. Vol. III. P. 358.
117
Стивен Бенн
тива, дает основания для обвинения его в мистификации.
Широкомасштабное деление истории по периодам правления герцогов
Бургундских, по мере приближения ко времени правления Марии
Бургундской окончательно становится чистейшей надуманностью.
К этому времени центральным персонажем его работы, бесспорно,
уже является Людовик XI, король Франции. Однако даже такой
результат можно трактовать как доказательство последовательности
исследования Баранта. Чрезвычайно далекая от того, чтобы «найти
свое окончание внутри самой себя же», его работа все же
прогрессирует в направлении той исторической сцены, в которой ее
героиня, герцогиня Бургундская, прекращает свое существование в виде
отдельной единицы истории. Барант выбирает для окончания
своего исследования именно тот момент, где одно «звено» в цепи нар-
ратива соединяется с другим.
Возвращаясь к Тьерри, мы видим, что выбранные им разделы
истории представляют собой не звено цепи нарратива, а некую
историческую проблему. Иными словами, единица его исследования
есть функция определенной системы, быстро становящейся
очевидной. Например, полное название его труда «История завоевания
Англии норманнами» в оригинале звучит так: «Histoire de la
Conquête de Г Angleterre par les Normands, de ses causes, et de ses
suites jusqu'à nos jours, en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et sur le
Continent» - «История завоевания Англии норманнами, ее причины
и последствия вплоть до наших дней для Англии, Шотландии,
Ирландии и Континента».
Если Барант, используя эпиграф из Квинтилиана, scribitur adf
narrendum, non ad probandum, придает своей работе
«металингвистический акцент», то Тьерри начинает свое произведение цитатой
из хроники о Роберте Глочестере:
Народ Нормандии
Средь нас еще живет, и будет жить
На сей земле высокий люд - нормандцы все.
Кто ниже их - те будут Саксы...
Характер системы, благодаря которой Маркс назвал Тьерри
«отцом доктрины классовой борьбы», понятен, таким образом,
с самого начала. Даже последовательность томов его труда, с
первого взгляда кажущаяся более или менее нейтральной, на самом
118
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
деле отражает всю систему в целом. Например, такой подзаголовок
как «От образования лагеря беженцев на острове Или (Ely) до казни
последнего саксонского вождя» предполагает не просто
хронологическую, но также и концептуальную последовательность томов
исследования. И действительно, нарратив Тьерри, прямо отличаясь от
нарратива Баранта, всегда отражает некую часть общей дискуссии
на темы, рассматриваемые в отдельных книгах его исследования.
Я думаю, что дистинкция между Барантом, реализующим
синтагму, и Тьерри, реализующим систему, может быть осмыслена на
многих уровнях. Барант, страстно отвергающий классическую
традицию в историографии, в экстремальной форме использует
синтаксический принцип «замыкания цепи событий», вплоть до того,
что порывает не только с точной ссылкой на источники, но также
и с делениями внутри нарратива, которые могли бы предложить
некие концептуальные схемы, выходящие за пределы синтагмы.
Напротив Тьерри и в заглавии и в эпиграфе своего труда
обозначает, что исследуемый им отрезок английской истории весьма
неоднозначен. Так, хотя он и пишет во вступлении к своей работе, что
ни одна история какого-либо века не написана только «ради какой-
то одной идеи», но все-таки признает, что его исследование
конструируется как линейный процесс. «Следуя этой философской точке
зрения и вне зависимости от изобразительных задач, который я
попытался решить, я надеюсь способствовать прогрессу науки
созданием, если будет позволено так выразиться, истории ирландской
расы, истории шотландцев, истории Уэллса...»1.
Мы исследовали оппозицию Барант/Тьерри на нескольких
уровнях. Остается завершить его на заключительном, интенцио-
нальном, так сказать, уровне, то есть на уровне анализа намерений
обоих историков: выбора предмета исследования, отношения этого
предмета к понятию истории (более точно, истории Европы ) в
целом. Здесь, согласно догадке Якобсона, мы можем
экстраполировать оппозицию синтагма/система на оппозицию
метонимия/метафора. «Соссюр предугадал, что синтагматика и парадигматика
должны соответствовать двум формам умственной деятельности
человека, что означало выход за пределы лингвистики как таковой.
Thierry. Histoire de la Conquête, Hazlitt translation. P. xxiii (рус. nepee.
О Тьерри. История завоевания Англии норманнами. В 3 ч., в 3 кн., М., 1868).
119
Стивен Бенн
Этот выход осуществил Якобсон в знаменитой ныне работе . Он
выявил оппозицию метафоры (систематика) и метонимии
(синтагматика) в нелингвистических языках. Все "высказывания"
относятся либо к метафорическому, либо к метонимическому типу.
Разумеется, в каждом из этих типов нет исключительного господства
одной из названных моделей (поскольку для любого высказывания
необходима как синтагматика, так и систематика); речь идет лишь
о доминирующей тенденции. К метафорическим высказываниям
(в которых преобладают субститутивные ассоциации) относятся
русские народные лирические песни, произведения романтиков
и символистов, сюрреалистическая живопись, фильмы Чарли
Чаплина (наплывы, накладывающиеся друг на друга, являются
самыми настоящими кинематографическими метафорами), фрейдовская
символика сновидений (через отождествление). К высказываниям
метонимическим (с преобладанием синтагматических ассоциаций)
принадлежат героические эпопеи, произведения писателей
реалистической школы, фильмы Гриффита (крупные планы, монтаж,
вариации угла зрения при съемке) и онирические видения,
основанные на смещении и сгущении. Список Якобсона можно дополнить.
К метафоричности тяготеют дидактические сочинения (их авторы
охотно прибегают к такого рода определениям), тематическое
литературоведение, афористические высказывания; метонимия
преобладает в произведениях массовой литературы и в газетной
беллетристике. Опираясь на замечание Якобсона, отметим, что
аналитик (а стало быть, семиолог) более готов к тому, чтобы говорить о
метафоре, нежели о метонимии, поскольку его аналитический
метаязык сам имеет метафорическую природу и, следовательно, со-
природен метафоре-объекту: в самом деле, существует обширная
литература о метафоре, тогда как о метонимии не писалось почти
ничего»1.
У Тьерри его «История завоевания Англии норманнами»
представлена как метафора конфликтов, лежащих в основе Европы
эпохи раннего Средневековья. Возьмите графическую фразу из
проспекта к его первому тому: «Завоевание Англии норманнами - это
* Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория
метафоры. М., 1990. С. 110-132.
1 Barthes. Elements of Semiology. P. 60 (рус. перев. - Барт Р. Элементы
семиологии. С. 278-279).
120
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
образ[курсив автора. - С Б.] тех великих германских нашествий,
которые являются примитивной основой главных европейских
наций...». У Баранта такого сравнения нет. Описываемая им история
Бургундии - просто часть большой истории Франции и Европы.
Можно развить эту тему далее, утверждая, что для Тьерри история
Англии становится историей Европы благодаря субституции и
идентификации (метафора), в то время как для Баранта история
Бургундии становится историей Франции через ассоциации по
смежности и ассимиляции (метонимия). Первое - результат
решения историка рассматривать свой материал именно в таких
понятиях, последнее - итог естественного и неизбежного прогресса
исторических событий.
Оппозиция между метонимией и метафорой совершенно
неожиданно вновь возникает в том случае, если мы рассмотрим не
просто соотношение нарративов Баранта и Тьерри, но и обширные
визуальные материалы, размещенные в изданных текстах. Однако
сначала обратим внимание на скрытый смысл включения таких
изображений в область исторического дискурса. Нет никакой
уверенности в том, что весь этот иллюстративный материал (карты,
портреты, виньетки и т.д.) был подобран самими этими
историками, более того, в разных изданиях одного и того же произведения
Баранта или Тьерри иллюстрации не повторяют друг друга.
Фактически, мы можем быть вполне уверены в том, что в некоторых
случаях иллюстрации не получали формального «одобрения»
историка, иначе невозможно объяснить появление в последнем издании
«Истории завоевания Англии норманнами» Тьерри гравюры,
прославляющей событие, которое в тексте было объявлено
вымышленным1. Пришлось вставлять примечание, с указанием того, что этот
случам «не был историческим», но по невниманию составителя
заимствован из легенды, которую нельзя назвать иначе, чем просто
"басней"». Мой метод исследования требует рассмотрения
визуального аппарата исторического текста. Рассматривая способы
использования ссылок и примечаний у Баранта и Тьерри, мы сделали
предположение, что текст мобилизует систему ссылок,
существующих вне его самого и что это измерение текста является
интегральным аспектом его смысла. Теперь мы вправе ожидать, что не
1 Thierry. Histoire de la Conquête. Fifth edition Paris, 1838. Vol. III. P. 79, plate 22.
121
Стивен Бенн
только ссылки, но и рисунки, гравюры, карты и другие
использовавшиеся иллюстрации, участвовали в создании общего
результата исторического дискурса, и все они включены в общую
проблему балансирования исторического нарратива между синтагмой и
системой.
Конечно, результатом этой линии исследования вполне может
оказаться откровенно «транссубъективный» взгляд на
коммуникацию, скрытую в историческом дискурсе. Раз мы перешли от
простого рассмотрения «слов на странице» к исследованию таких
значимых процедур, как отношение текста к своему источнику, то мы
обязаны расширить поле анализа. Теперь это уже не просто вопрос
об отдельном историке и принадлежащем ему тексте, а вопрос
«истории», общающейся с обществом посредством особого набора
правил и протоколов. Однажды допустив это, теперь мы
вынуждены в определенной мере отклониться от понятий этого
исследования, подсказанных Мишле и используемых при применении семи-
ологического метода анализа. Вполне вероятно, что речь должна
идти не об «историке кода» или «историке сообщения», а об
«истории кода» и «истории сообщения». Во всяком случае это
кажется вероятным в контексте сравнительного обзора текстов и
соответствующих им иллюстраций. Если мы взглянем на последующие
издания «Истории герцогов Бургундских» и «Истории завоевания
Англии норманнами», то обнаружим, что иллюстрации
метонимического и метафорического порядка и в самом деле связаны с
различными текстуальными стратегиями двух историков. Но также
ясно и то, что метафорическая репрезентация со временем имеет
тенденцию дополнять и даже вытеснять метонимическую. Ко
времени шестого издания труда Баранта (1842) большинство
содержащихся в нем иллюстраций принадлежало к тому же типу, что и
иллюстрации, уже появлявшиеся в ранних изданиях работы Тьерри.
Совершенно очевидно, что первые иллюстрации к «Истории
герцогов Бургундских» носят скорее метонимический, чем
метафорический характер. Иллюстрации, впервые появившиеся в третьем
издании этого труда Баранта (1825-1826), опубликованы отдельно,
в форме «Атласа», прилагающегося к одиннадцатому тому этого же
издания1. Нет сомнения, что поразительный успех «Истории герцо-
1 Издание «Атласа» находится в одном переплете с «Table alphabétique», в XIII
томе издания, находящегося в Британской библиотеке.
122
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
гов Бургундских» натолкнули издателя Ладвока на мысль
опубликовать нечто еще более поражающее воображение читателя, чем
простой нарративный текст, и побудило его обратиться к
подающему надежды молодому художнику, работающему в манере
романтизма, Эжену Девериа. Именно Девериа предоставил рисунки
для гравировки портретов герцогов Бургундских, которые были
вставлены в виде фронтисписов в соответствующие тома издания.
Каждый портрет представляет собой просто-напросто бюст
отдельного герцога, с характерным выражением лица, в положенной ему
роскошной одежде, а на заднем фоне самое большое - грозовое
небо. Изъятые из «действия», эти рисунки составляют простые серии,
помещенные в те тома, в которых речь идет об этих героях. В
каком-либо более определенном смысле они нарративу не
соответствуют. Они его не иллюстрируют, по крайней мере, не в том смысле,
в котором мы сегодня понимаем иллюстрацию печатного издания.
Несомненно, что в связи желанием издателя заработать как
можно больше денег «Атлас» содержал и другую серию портретов,
подчиняющуюся совершенно иным целям. Вместо того чтобы
ограничиться только бюстом героя, Девериа изображает его в полный
рост, что скорее напоминает выход персонажа на сцену, чем
традиционную для портретной живописи позу. Но все-таки остается
необоримое впечатление, что изображенные фигуры абстрагированы
от действия, подобно тому, как это происходит с появляющимися
на авансцене актерами, после того как занавес опустился. Только
в одном случае Девериа изменяет своей формуле. Надпись под
гравюрой гласит: «Армейский офицер объявляет о смерти Карла VI
его сыну герцогу Тюринскому» (1422). Но смысл надписи едва ли
подтверждается изображаемым действием - образом одетого в
траур посланника, без вполне уместного для подразумеваемой сцены
окружения и заднего плана картины. Если этот образ и
запоминается, то именно потому, что ему не удается выразить значительность
события во всех соответствующих его обстоятельствам деталях.
Было бы неверно рассуждать о значении этого визуального
дополнения, не принимая во внимание приложенный к «Атласу»
проспект, в котором объясняется предназначение «Атласа». Так, мы
читаем: «дневник осады или описание битвы с большей ясностью
поведает нам о происходящем тогда, когда на помощь придет
интерпретирующий историка иллюстратор, и когда компас сможет
123
Стивен Бенн
подтвердить расчеты штурмана». Такая формулировка оставляет
нас в некотором недоумении. Как именно собирается иллюстратор
«подтверждать» историка? Следующий за этим отрывок дает нам
важную разгадку: «воображение пробуждает более живое
понимание действия тогда, когда оно размещает это действие на ту же
самую сцену, где оно и происходило (курсив автора. - С. Б.)». Эту
фразу нужно понимать в самом буквальном смысле, какими бы
странным в результате ни стало наше понимание «исторической
готовности» эпохи. Дело в том, что «сцена» и «действие» должны
быть отделены друг от друга, принадлежа к совершенно разным
синтагматическим цепочкам. Возьмите, например, гравюру
«Главная площадь Брюгге». Она полностью лишена действия, дана
только дата - 1740 год, что, конечно, на несколько столетий позже
бурных событий, описываемых в «Истории герцогов Бургундских».
А под гравюрой, изображающей здание эпохи позднего
Средневековья, подписано: «Этот дом, образующий часть фортификаций
Парижа, построенный Филиппом Августом, можно обнаружить
между улицей Мокунсье и улицей Пети Лион». В обоих случаях
читатель должен сам представлять себе исторический контекст,
черпая его или из информации, предложенной историческим нарра-
тивом, или из общих знаний о Франции и Фландрии эпохи позднего
Средневековья. Как можно видеть, иллюстрации к третьему
изданию «Истории герцогов Бургундских» Баранта образуют закрытую
систему. Неважно, изъяты ли они из «Атласа» или нет, разбросаны
ли они по тексту или даны в подборе, они сменяют друг друга по
чисто рудиментарному принципу, маркируемые надписями:
«персонажи и костюмы такой-то эпохи», «памятники», «планы». Любая
связь текста нарратива с его иллюстрациями существует не на
уровне действия, описываемого в нарративе, а в виде переплетения
отделённых друг от друга синтагматических цепей. Можно сказать,
что иллюстрация не заменяет эпизоды нарратива (метафора), а
связана с наррацией по смежности (метонимия). «Прочитав о
подстрекательстве к бунту на главной площади Гента» - написано в
проспекте, - чувствуешь потребность увидеть готический фасад перед
которым (курсив автора. - С. Б.) скопились все эти объятые
яростью люди». Не сделано никакой попытки проиллюстрировать
описываемое здесь бурное действие.
124
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
Жан Сан Пёр, герцог Бургундии (иллюстрации к работе П. де Баранта
«История герцогов Бургундских», издание 1842 года)
Если мы от «Истории герцогов Бургундских» Баранта
обратимся к изданию 1838 года «Истории завоевания Англии норманнами»
Тьерри, то увидим, что отношение нарратива и его иллюстраций
поменялось просто радикально. Осталось всего несколько образов,
использование которых напоминает предшествующее. К примеру,
на фронтисписе работы Тьерри изображены «Саксонский воин
и датский пират», которые с не меньшей ясностью, чем герцоги
125
Стивен Бенн
Баранта, свидетельствуют об абстрагировании от действия. Но даже
здесь можно увидеть, что фигуры у Тьерри обладают иным
значением. Они, в конце концов, символические представители системы
как целого, диалектическое «сообщение» всего исследования. Не
считая этих редких примеров, иллюстрации работы Тьерри в
огромной мере являются иллюстрациями эпизодов нарратива. Их
диапазон простирается от, в буквальном смысле статичной сцены
«Монах - августинец читает проповедь перед королем Эзельбер-
том», до крайне динамичного действия - «Избиение монахов Крой-
ленда датчанами». И, конечно же, гравюра вставлена в книгу
именно в том месте текста, где описывается соответствующий ей эпизод.
Визуальные элементы даны не в отношении к тексту, как «Атлас»
Баранта. Напротив, каждая гравюра супцествует сама по себе, как
метафорическая субституция (замещение), как действие, связанное
с нарративом.
В издании «Истории герцогов Бургундских» 1842 года
«метафорические» иллюстрации такого типа использовались для
подкрепления «метонимических» образов ранних изданий. Например,
перед нами не просто великолепно разряженные герцоги
Бургундские, чьи иллюстрации в полный рост, по-видимому, основаны на
оригинальных рисунках Девериа (или на современных им
источниках). У нас также есть выгравированные Дж. Томпсоном с рисунков
Тони Жоаннота живые и волнующие наброски поворотных
исторических моментов и взятых из нарратива красочных
эпизодов . Герцог Бургундский Жан Сан Пёр позирует перед нами
в роскошном костюме, сидя напротив очерченного легкими
линиями и как бы готического заднего плана. Однако спустя всего лишь
несколько страниц он уже изображен в момент, предшествующий
его убийству: его головной убор упал, и над головой уже поднят
топор убийцы. Художник-живописец использовал средство, на
которое историк-рассказчик претендовать не может. Он использовал
сиюминутность картины, чтобы зафиксировать внимание на
перспективе нависшей катастрофы.
# Томпсон Дж. (Thompson John, ?-?) - английский гравер; Антуан (Тони) Жо-
аннот (Antoine Johannot, 1803-1852) - французский гравер, иллюстратор и
художник.
126
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
Убийство Жана Сан Пёр, герцога Бургундии (иллюстрации к работе
П. де Баранта «История герцогов Бургундских», издание 1842 года)
Насколько сравнение Баранта и Тьерри имеет отношение к
иллюстрациям их книг, как составляющей части исторического
дискурса, настолько оно ставит и гораздо более сложный вопрос о
границах такого специфического анализа. Очевидно, что различия
между типами иллюстраций, развитие этих типов, не могут
рассматриваться в качестве чего-то особенного, эксклюзивного в системе
исторического дискурса и в строгом смысле понятия исторического
нарратива. Девериа был как иллюстратором текста Баранта, так
и художником романтической школы, ассоциируемым, скажем,
с Р. Бонингтоном и Делакруа. Можем ли мы предположить, что
здесь формируется некая общая «историческая готовность» эпохи,
для которой обсуждавшиеся выше историческая живопись и
исторические нарративы являются одновременно расходящимися и
сходящимися аспектами? Мы, конечно, не применяем к исторической
живописи тот же критерий аутентичности, что и к историческому
нарративу. И все же, то, что в истории используется разнообразная
визуальная репрезентация, дополняющая или украшающая нарра-
тив, означает, что категориальная дистинкция «истина»/«фикция»
не исчерпывает всех проблем. Я не имею возможности прямо
сейчас обсудить этот вопрос во всех его деталях, но в следующей главе
127
Стивен Бенн
я попытаюсь выявить некоторые процедуры исследования
визуальной репрезентации исторических событий, свойственной
обсуждаемому нами времени. Но сначала мы должны вернуться к Мишле,
с работы которого «История Франции до Французской революции»
мы начали свои рассуждения в этой главе. Как только мы
допустили уместность семиологического и риторического анализа
исторического дискурса, рассуждения о Мишле в соответствии с его
собственной концепцией о «цикле» историков обернулись вопросом
приложимости этой концепции к историческим текстам. Мы
показали, что Барант и Тьерри следовали разным методам дискурса.
Теперь покажем, что Мишле применил третий метод, «поэтический»,
говоря языком Якобсона. Леви-Стросс, называющий это дискурсом
«мифа» полагает, что его отличительной чертой является то, что он
должен быть кодирован исходя из «элементов, которые уже
содержатся в порядке recit»\ И здесь, может быть, лежит первопричина
парадоксального отношения Мишле к своим предшественникам.
«Моя книга, - объясняет он в предисловии к первому тому
"Истории Франции до Французской революции", - полностью взята из
оригинальных источников. Однако я в огромном долгу у некоторых
из моих современников»2. Отмеченный нами выше факт плагиата
Мишле, когда он не просто использует, а, в сущности, в некоторых
случаях просто списывает récit своих современников, не следует
рассматривать только как позорную кражу материала. Это-
указание на позицию Мишле в обозначенном цикле исторического
дискурса французских историков, которую он и не пытался утаить.
Конечно, этот анализ будет убедителен только тогда, когда мы
примем во внимание две вещи. Во-первых, адекватный проводник
к анализу природы их дискурса есть метаязык этих историков, их
намерения, прописанные в предисловиях к своим трудам.
Во-вторых, используемые мной лингвистические и риторические понятия,
и в самом деле выявляют систематичные различия, содержащиеся
в текстах и в комментариях этих историков. Мое исследование
начиналось с рабочей гипотезы о конвергенции понятия цикла,
предложенного Мишле и применение этого понятия Леви-Строссом к
исследованию преемственности в деятельности композиторов. От
1 Lévi-Strauss. Le cru et le cuit, loc.
2 Michelet. Histoire de France Paris, 1954. P. 22 (рус. перев. - Мишле Ж. Краткая
история Франции до Французской революции. СПб., 1838.).
128
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
исследования оппозиции Барант/Тьерри, теперь нам надо перейти к
рассмотрению места Мишле в обозначенном цикле. Неплохим
началом для обсуждения этого вопроса станет утверждение Мишле из
его предисловия к своей «Истории Франции до Французской
революции»: «этот труд ни больше, ни меньше, как récit и система,
формула Франции, рассматриваемая, с одной стороны, во всем
своем разнообразии народов и провинций, в ее географической
протяженности, с другой стороны, в своем хронологическом развитии,
в растущем единстве национальной драмы. Это - одеяние, каркасом
которого является пространство и материя и челноком - время
и мысль»1.
Поэтому мы можем смотреть на историю Мишле не просто, как
на преемницу историй Баранта и Тьерри, но как на третий этап
цикла: как на попытку синтеза между синтагмой {récit) (Барант)
и системой (Тьерри). Уже упоминалось о желании Тьерри видеть
свою «Историю завоевания Англии норманнами» и как
конструкцию и как линейный процесс одновременно. Очевидно, что здесь
есть аналогия с Мишле. Но Мишле намного превосходит Тьерри в
неумолимости и цепкости, с которыми он решает эту задачу. Мы
полагали, что Тьерри подчеркивает корреспондирование синтагмы
и системы через прочную связь текста и ссылок, где ссылки включали
в себя цитаты из источников, поэтому являлись шагом,
приближающим текст к исторической «реальности». Мишле не приемлет
ситуацию корреспонденции или баланса двух уровней дискурса. Он тоже
использует ссылки и сноски, но, как напоминает Радлер, «очень часто
они являются вторичными, внешними по отношению к тексту, вне
серьезной связи с ним»2. Для Мишле отношение между синтагмой и
системой не зависит от формального деления между уровнями
дискурса: оно остается во внутреннем измерении нарратива.
Сравним идею создания уровней внутри самого нарратива с
некоторыми из наиболее проницательных комментариев работ
Мишле, сделанными его современниками и преемниками. Ролан Барт
отметил уместность ссылки Сент-Бёва на «вертикальный» стиль
Мишле, с его «частыми короткими погружениями» в источники,
в противоположность «скользящему», горизонтальному стилю Ша-
1 Ibid. P. ciii.
2 Rudler, Michelet. Vol. I. P. 186, note.
5 Зак. 760
129
Стивен Бенн
тобриана . Томас де Квинси в очерке, посвященном работе Мишле
«Жанна д'Арк», показывает нам историка, использующего факты в
качестве своего рода трамплина: «Словно приманка сокольничего,
факты и следствия фактов тянут писателя с головокружительных
высот раздумий назад вниз. Поэтому здесь, в своей «Франции»,
Мишле, пусть и не всегда свободный от ветрености, время от
времени взмывающий, словно ракета, в заоблачные дали, все же с
принятой в обществе вежливостью, никогда не забывает, что на земле
он оставил большую аудиторию, с тревогой смотрящую вверх и
ожидавшую, когда он вернется: и вот он возвращается»2. Де Квинси
прав, обнаруживая в стиле Мишле элементы настоящего
спектакля. По мнению аудитории, знакомой как с квази-средневековым
рассказом о Жанне д'Арк Баранта, так и с протоколами суда над
ней, Мишле просто обязан был сделать что-то большее. И он
сделал. Он вовлек читателя XIX века в фантастическое воссоздание
прошлого, которое совсем не соответствовало точке зрения
историка XIX века, а опасно балансировало между настоящим и прошлым.
Отсюда и характерный для него тип риторических вопросов,
например, что чувствовала Жанна, когда слышала, как пятьсот
колоколов Руана отзванивали заутреню Пасхального Воскресенья?
Заметим, что даже в спекулятивном, неявном смысле такого вопроса
содержится намек на реальную деталь прошлого - пятьсот
колоколов Руана. Мишле - мастер того, что Барт назвал «эффектом
реальности»3. Под ним имеется в виду дополнение исторического нарра-
тива реальными деталями прошлого, своей живостью
подтверждающими подлинность истории. Совсем случайно этот эффект
был уже давно обнаружен одним историком. Я имею в виду
обсуждаемый А. Невинсом параграф из работы Паркмана «Ворота в
историю»*. Красочное описание Паркманом колонны солдат, марши-
1 Barthe Roland. Michelet par lui-même Paris, 1954. P. 22.
2 Quincey Thomas de. The English Mail Coach and other essays. London, 1970. P. 136.
3 Barthes Roland. The reality effect, trans. R. Carter, in Tzvetan Todorov(ed),
French Literary Theory Today. Cambridge, 1982. P. 11. For the «Five hundred bells of
Rouen», see Jules Michelet, Joan of Arc, trans. Albert Guerard. Ann Ardor, Michigan,
1974. P. 94 (рус. перев. Барт P. Эффект реальности// Избранные работы:
Семиотика: Поэтика. М., 1994).
* Паркман Ф. (Parkman Francis, 1823-1893) - американский историк, борец
за независимость, известен своей работой «France and England in North America»
(7 vols., 1865-1892).
130
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
рующей сквозь леса Новой Англии, по своему эффекту вплотную
приближается к идее «последней истины» истории и делает
понятной цель написания истории, которую ставил перед собой Мишле -
история должна стать «воскресением мёртвых»1.
Конечно, задача Мишле заставить читателя XIX века в каком-то
смысле заново пережить времена Средневековья, тесно связана с
его размышлениями о дилемме современного человека,
противостоящего «веку веры». Оригинальность Мишле заключается в том,
что он не стремится уйти от решения этой дилеммы (как Барант),
а акцентирует ее. Отсюда Радлер вынужден признать, что та часть
«Истории Франции», которая касается Жанны д'Арк, является
единственной из существующих исторических работ, «сочетающей
в себе рационализм и традицию; даже более того, рационализм и
фидеизм»2. Доказать правоту такого утверждения можно, конечно,
только иллюстрацией риторических стратегий, применяемых
Мишле в построении своего нарратива. Эти стратегии начинают
работать с первых же строк излагаемой им истории Жанны д'Арк:
«исключительная оригинальность Жаны состояла в ее здравом смысле.
Это выделяет ее во множестве энтузиастов, которые во времена
невежества приводили народ к смуте. В большинстве случаев они
черпали свою силу из некоей заразной темной силы неразумности.
Ее же влияние, напротив, было обязано тому ясному свету, который
через уникальную добродетель своего здравого смысла и любящее
сердце она смогла пролить на смутные времена Франции»3.
В этом конкретном отрывке поражает тщательность, с которой
Мишле исследует «семантическое пространство» исторического
дискурса4. Это тот путь, по которому он заставляет нас следовать
«Работа Паркмана демонстрирует, что даже когда скуден источник, все же
часто возможно снабдить текст «живой аутентичной деталью». И это показывает,
как искусство литературы, при тройной поддержке воображения, живого языка и
изящных искусств, станет не просто ценным союзником истории, но и
необходимым для ее наивысших достижений» // Nevins Allan. Gateway to History New-York,
1962. P. 63.
2 Rudler. Michelet. Vol. I. P. 75.
3 Michelet. Joan of Arc, trans. Guérard, op. cit., p. 3. Michelet, Jeanne d'Arc, ed,
Ridler Paris, 1925. Vol. I. P. 11.
4 Я заимствую термин у психолога Чарльза Осгуда: см. Gombrich E.H.
Meditations on a hobby-horse. London, 1963. P. 140.
131
Стивен Бенн
для того, чтобы осмыслить это пространство с помощью серии
оппозиций - современный/средневековый,
рациональный/иррациональный, единство(Жанна)/множество(толпа-£ои1е). Реконструировать
то, что он имеет в виду, можно в следующей схеме:
Жана Дарк влияла на массы через здравый смысл.
Энтузиасты провоцировали массы на безумные действия (смута).
Как и следует ожидать, на этом этапе своей работы Мишле,
прежде всего, важно актуализировать в историческом нарративе
фигуру Жанны д'Арк. Отчасти - это чисто техническая
необходимость: выстраивания ряда противоположных понятий - Жанна
д'Арк {оригинальность, влияние, ясный свет, уникальная
добродетель), толпа (множество, времена невежества, приводили
(смущали), темные силы) - обеспечивает своего рода серый, но связный
задний план. Но эта процедура, показывающая Жанну в контрасте с
обычным задним планом нарративов, описывающих эпоху
Средневековья, не лишена скрытого смысла: «свет» Жанны освещает не
только «смутные времена», он также приближает ее к нашему
«веку Просвещения».
Поэтому одну из главных черт исторического дискурса Мишле
можно определить как своего рода «хиазм», звено между
понятиями, принадлежащее разным сторонам оппозиций. Правота этого
пункта доказывается следующим пассажем. Мишле пишет, что
особенность Жанны заключалась совсем «не в ее видениях», а
затем перечисляет многочисленные случаи таких видений,
заканчивая видением из его собственного времени (la béate du Tyrol) -
«Святой девы Тирольской) \
Хиазм может быть представлен, например, следующим образом:
Средневековые видения.
Современный здравый смысл.
Надеюсь, что я привел достаточно примеров в пользу того, что
«вертикальный» стиль Мишле с его «частыми короткими
погружениями» в историю становится особенным в связи с последователь-
* Речь идет о женщине из Тироля, современнице Жанны, на теле которой
появились стигматы.
1 Michelet. Joan of Arc. Vol. I. P. 12.
132
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
ным (и неправильным) использованием полярностей и эти
полярности постоянно возвращаются к историческому противостоянию
прошлое/настоящее (неизвестное/известное,
иррациональное/рациональное). Заимствуя выражение Мишле, примененное им к
«Истории герцогов Бургундских», можно сказать, что Барант
ставил перед собой грандиозную цель - написать «книгу времен тех
и времен этих»1. Но успех Баранта был недолог: как только были
опубликованы оригинальные тексты Фруассара и Коммина и как
только публика научилась, если не читать, то опознавать их, то
система, старательно изымаемая Барантом из «Истории герцогов
Бургундских», начала все-таки проявляться и вне столь тщательно
разработанной синтагмы. Попытка Баранта создать текст,
замещающий и аннулирующий систему источников, располагающийся
между синтагмой нарратива и исторической реальностью, закончилась
неудачей. Мишле, в конечном итоге, отверг «Историю герцогов
Бургундских» как «пустяк» (néant)2. Там, где Барант пытался
создать иллюзию подлинности, уничтожая любой намек на разрыв
между прошлым и настоящим, Мишле предпочитал создавать
и описывать этот разрыв в самой ткани нарратива.
Теперь о двух других аспектах работы Мишле в контексте его
сравнения с Барантом и Тьерри. В первую очередь - вопрос
отношения некоей конкретной истории и более широкого
исторического поля или истории в целом. По моему мнению, в этом отношении
отличие между Барантом и Тьерри заключается в том, что для
Тьерри история Англии стала историей Европы благодаря
применяемой им процедуре субституции и идентификации (метафора),
а «История герцогов Бургундских» Баранта стала историей
Франции по принципу смежности и ассимиляции (метонимия). Мишле
же не признает программное разделение синтагмы и системы,
метафоры и метонимии. Его «История Франции» становится именно
историей Франции. Франция как простая совокупность провинций,
в конце концов, становится единой Францией, «химическим
соединением» провинций3. Финальный этап этого процесса - Революция,
но начальный, не меньшей важности этап - миссия Жанны д'Арк.
' Маас О. Les principes inspirateurs de Michelet. Paris, 1951. P. 173.
2 Ibid.
3 Barthes. Michelet par lui-même. P. 28-29.
133
Стивен Бенн
Мишле пишет: «Мы чувствуем, что впервые Франция любима как
личность. Такой она становится с самого первого дня, как
появляется эта любовь... До той поры было просто собрание провинций,
огромный хаос феодальных поместий, огромная страна со смутной
идеей. Но, с этого дня, через биение сердца, Франция - это
Отчизна»1. Это - возможно самый драматичный пример связи между
синтагмой и системой, который мы можем найти у Мишле. Великая
тема единства Франции, как доминирующее «сообщение» всего
труда Мишле, сведена до уровня одной единицы синтаксиса,
одного звена цепи. Франция «рождена из сердца женщины».
Остается сказать об отношении Мишле к проблеме
иллюстраций, которую мы рассмотрели как на метонимическом, так и на
метафорическом уровне. Ответ заключается в том, что иллюстрациям
в тексте Мишле столько же не хватает «серьезной связи» с текстом,
как и сноскам. Истина в том, что здесь, как и в других случаях,
Мишле пытается акцентировать дистинкцию синтагма/система
внутри самого нарратива. Иллюстрации ни необходимы, ни
полезны, потому что Мишле сам себе и иллюстратор и портретист. Как
замечает Ролан Барт, «каждое тело» в истории является для Мишле
«секретом», который надо разгадать и понять2. Отсюда и его ани-
мальные характеристики исторических персонажей - «Робеспьер-
кот», «Марат-жаба», подчеркивающие не особенности их
внешности, а внутренние личностные характеристики, в целом
соответствующие психологии и нравам того времени. Единственно
возможный визуальный глянец наведен на словесные характеристики
(заключение, которое заставляет нас сделать Барт) современных
портретов упомянутых персонажей.
В заключение этой главы нужно предвосхитить одно
возможное возражение читателей и критиков и сделать одно замечание.
Возражение, вероятно, будет заключаться в том, что эта глава
избыточно сконцентрирована только на конкретных работах трех
французских историков, и поэтому ее автор лишен возможности
сделать какие-либо общие выводы об историческом дискурсе
Европы начала XIX века. Здесь смешиваются два отдельных вопроса:
1 Michelet. Joan of Arc. Vol. I. P. 9.
2 Barthes. Michelet par lui-même. P. 88.
134
Глава вторая. Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,..
являются ли произведения этих авторов или их части типичными
для них, и как эти три французских историка связаны со своим
временем.
Во-первых, о конкретности выбранных работ, следовательно,
неполноте анализа. Две работы, Баранта и Тьерри, вне всякого
сомнения (возможно, у Тьерри с некоторыми оговорками), - главные
творения в их карьере историков. Рассуждения о
«Воспоминаниях» мадам де Ла Рошежаклин, предложенные в предыдущей главе,
показали, насколько последователен Барант в своем
стремлении скрыться за своим источником. Если же говорить о Тьерри, то
даже такая его работа, как «Письма по истории Франции»,
чрезвычайно отличная по структуре от «Истории завоевания Англии
норманнами, обнаруживает те же черты. Что касается Мишле, то его
работа «История Франции до Французской революции»
несомненно - центральное место в его карьере, а глава «Жанна д'Арк» -
одно из наиболее опасных испытаний его метода «воскрешения
из мертвых».
Во-вторых, с моей точки зрения, никакого «цикла», подобного
тому, что свойственен французским историкам, нельзя обнаружить
ни у англичан, ни у немцев. Дело в уникальном историческом
опыте Франции, пережившей крах и разрыв Старого порядка. В своем
предисловии к работе К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи
Бонапарта» Энгельс писал, что Маркс питал «особое доверие» к
французской истории потому, что она в практически классической
форме показала те структурные изменения в европейском
обществе, о которых он говорил в ходе его анализа развития Европы от
феодализма до эпохи буржуазных революций1. Несомненно, для
нас французская историография играет ту же роль*. Осознавая
1 К. Marx. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonapart. Moscow, 1967. P. 9: цитата
заимствована из Предисловия к третьему изданию работы Маркса. Гамбург, 1885
(рус. перев. - Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К.,
Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 8).
«Великое десятилетие французской историографии» представлено
следующими работами: 1820 год О. Тьерри публикует первую серию своих «Писем об
истории Франции». В 1822-1823 гг. - «Опыты по истории Франции» Ф. Гизо
и первый том истории Французской революции А. Тьера. В 1824 году -
«История бургундских герцогов» П. де Баранта и «История Французской революции»
Ф. Минье. В 1825 году О. Тьерри публикует «Историю завоевания Англии нор-
135
Стивен Бенн
разрыв с XVIII веком и не замыкаясь, подобно своим
современникам- немецким историкам, внутри определенной
институциональной схемы, французские историки предлагают пример развития,
интегрально соотносимый с новой версией «исторической
готовности» того времени. Они показывают, насколько различные
риторические стратегии, различные способы репрезентации прошлого
сменяют друг друга закономерным, а не случайным образом. Я не
хочу сказать, что «история кода», «история сообщения» и «история
мифа» есть достаточные объяснительные понятия для задач
обширного обзора исторической репрезентации, содержащейся в этом
исследовании. В то же время я полагаю, что обсужденный «цикл»
демонстрирует преимущества семиологического и риторического
анализа историографии и помогает точнее определить место
историографии во всем спектре способов репрезентации прошлого,
образующих фокус моего исследования.
маннами». В 1826-1827 годы Гизо издал «Историю Английской революции» в 2 т.
В 1827 году Тьерри закончил издание «Писем об истории Франции», а Тьер
завершал работу над четырехтомной историей революции.
136
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОБРАЗ И БУКВА
В НОВОМ ОТКРЫТИИ ПРОШЛОГО:
Л. Ж. М. ДАГЕРР, ЧАРЛЬЗ АЛЬФРЕД
СТОТАРД, Э. Г. ЛАНДСИР, П. ДЕЛАРОШ
В предыдущей главе я рассмотрел три нарратива, написанные
Барантом, Тьерри и Мишле. Они представляли собой именно тот
материал, который пригоден для исследования «исторической
готовности» того времени: ряд текстов, которые прямо и
недвусмысленно провозглашали себя историей. И все же мое исследование
нельзя назвать исследованием «истории». Это означало бы, что
рассмотренным текстам ясно придается четкий статус
академический науки. Я же попытался сформулировать определенные
приемы новой историографии начала XIX века. Для того чтобы
показать, каким образом эти приемы были развернуты в ряде
конкретных примеров, я использовал цикл «код, сообщение и миф» К. Леви-
Стросса. В качестве прямого результата проведенного анализа
возникала интересная проблема, связанная с иллюстрациями, вошедшими
в последующие издания этих историй. Тип иллюстраций из одного
издания в другое менялся от метонимического к метафорическому -
от включения в книгу изображения планов, карт, исторических
памятников и отдельных исторических персонажей, к иллюстрации в нарра-
тиве самих моментов реального действия. Иными словами,
иллюстративный материал, будучи независимой переменной, тем не менее,
развивался по тем же закономерностям, что и исторический текст - даже
безупречно метонимическая история Баранта к 1840-м годам была
дополнена изображениями живых исторических сцен.
Вопрос об иллюстрациях, используемых в печатном тексте
и, одновременно, относящихся к широкому кругу других способов
визуальной репрезентации, формулирует более общую тему в
обсуждении роли визуального образа в воссоздании исторического
прошлого. Каков критерий сравнения соотносимых ролей образа
137
Стивен Бенн
и буквы в создании нового видения истории? Несомненно,
проблема еще более осложняется встроенными в наш язык описаний
визуальными метафорами. Если, как это утверждалось в первой главе,
понятие перспективы было бесспорным метафорическим
подспорьем для концептуализации области исторических исследований, то
теперь мы обязаны остерегаться смешения этого метафорического
«видения» с буквальным визуальным образом, используемым
художником или декоратором, иллюстрирующим книги по истории.
Как и в случае с историческим текстом, мы должны найти новые
методологические инструменты, технические или содержательные,
с помощью которых можно было бы отличать одни формы
визуальной репрезентации от других, и тем самым установить, какие
формы являются носителями нового понимания прошлого.
Эта глава не претендует на всеобъемлющий обзор
миллионов примеров визуальной репрезентации истории Европы начала
XIX века. Я просто попытаюсь выявить условия, в которых
визуальный образ стал частью общего движения к новому открытию
и воссозданию прошлого. Для начала давайте обратим внимание на
широкомасштабное и провокативное исследование исторической
живописи XIX века, предпринятое в 1978 году Роем Стронгом в его
работе «И когда же ты в последний раз видел своего отца?». В
параграфе «Историческая архитектура», где последняя
рассматривается в диапазоне от Бетти Лэнгли до У. Ханта, Стронг затрагивает
вопрос решающего значения. Ссылаясь на такие предыдущие
исследования, как труд лорда Кларка «Готическое Возрождение», он
указывает, что анализ творчества архитекторов, работавших над
воссозданием стиля викторианского Возрождения, не затронул
сопредельные области исследования. «Иными словами, на работы
ранних исследователей, был брошен, так сказать, вертикальный
взгляд, оценивающий лишь их влияние на последующие поколения,
но никак не горизонтальный, в широком контексте его общего
отношения к вновь открываемому прошлому»*1. Совершенно верно.
Уильям Холман Хант {William Holman Hunt, 1827-1910) - английский
художник. В 1848 году содействовал созданию Братства прерафаэлитов в целях
реформирования и возрождения искусства; лорд Кларк-Кеннет МакКензи Кларк
(Lord Clark: Kenneth McKenzie Clark, 1903-1983) - выдающийся английский
историк искусства, писатель, музеолог, стал известен как лорд Кларк после
пожалования ему английской короной пожизненного пэрства в 1969 г. Среди написанных
им книг The Gothic Revival (1928); The Nude: A Study in Ideal Form (1956). Также
широко известен как сценарист и продюсер телевизионной версии истории
искусства - Civilisation ( 1969).
1 Strong Roy. And when did you last see your father? The Victorian painter and
British History. London, 1978. P. 66.
138
Глава третья. Образ и буква в новом открытии прошлого: Л. Ж. М. Дагерр,..
Как раз «широкому контексту» отношения к «новому открытию
прошлого» и посвящено мое исследование. Но это явное сходство
целей обязывает меня более пристально взглянуть, как на скрытые,
так и на явные допущения исследования Стронга. Он, безо всякого
сомнения, свел вместе все типы визуального материала, которые
дополняют и расширяют иллюстративный субстрат,
использовавшийся до сего момента. Но можно утверждать, что ему не удалось
оценить всего того, что включает в себя феномен «нового открытия
прошлого».
Главная причина этой неудачи становится ясной уже из
вступительной части работы Стронга. В сложных переплетениях его
исследования Британской исторической живописи конца XVIII -
начала XIX веков заметна острая полемика с некоторыми
укоренившимися тенденциями истории искусства нашего времени.
Стронг не согласен с «убеждением Б. Беренсона в том, что
искусство, по сути, лишь немногим более, чем эволюция стиля», и он
полагает, что акцентирование этого тезиса негативно повлияло на наше
понимание важности творчества викторианских художников: «Мы
занимаемся культивацией третьеразрядных художников
прерафаэлитов потому, что нам нравится их среда - мир образов,
отражающих одержимость наших собственных художников частными
(в противоположность публичными) мифологиями - но мы
игнорируем истинное качество и блеск грандиозных исторических
полотен Ч. Коупа или Э. Уарда, находящихся в здании Парламента»*1.
Вполне вероятно, что это так, и у Стронга есть все основания
защищать героическое высокое Викторианство. Но с точки зрения
вклада исторической живописи в новое открытие прошлого, дело
заключается совсем в другом. Стронг делает весьма показательное
признание, когда заявляет, что подобные полотна «как
произведения искусства, выступающие от собственного имени, часто бывают
оклеветаны и недооценены»2. Согласно критерию эстетики,
предложенного Беренсоном, это суждение верно. Но оно имеет мало
1 Ibid. Р. 12.
Коуп Чарльз Уэст (Соре Charles West, 1811-1890) - английский художник,
помимо множества картин на исторические сюжеты также написал несколько
фресок для Палаты лордов английского парламента.; Уард Эдвард Мэтью (Ward
Edward Matthew, 1816-1879) - английский художник, его картины на темы
противостояния роялистов и парламентариев времен гражданской войны в Англии
украшают коридоры Палаты общин английского парламента.
2 Ibid Р. 43.
139
Стивен Бенн
отношения к статусу исторической живописи как репрезентации
истории, выступающей не «от собственного имени», но, так
сказать, от имени прошлого. Эти возражения не простая игра слов.
Они свидетельствуют о том, что Стронг рассматривает
историческую живопись a priori, не проверяя тезиса о том, что
«произведение искусства» в описываемом им процессе есть особый
художественный прием. Под понятием «произведения искусства» он имеет
в виду жанр академических картин, портреты неких персон в
парадной одежде, выполненные маслом, или крупный архитектурный
заказ. Подобные работы величественной чередой следуют одна за
другой в его каталоге «Предметов из Британской истории от
древних Бретонцев до начала Наполеоновских войн, представленные
в Королевской Академии 1769-1904 гг.». Но это не значит, что
подобная кавалькада исторических картин играла центральную роль
в «новом открытии прошлого». Если и можно говорить о
некотором вкладе, внесенном ими в этот процесс, то возникает вопрос о
мере этого вклада и о его отношении к другим подобным
произведениям искусства. Здесь надо обратиться к установлению
«широкого контекста», о котором говорилось выше.
Один пример может прояснить данную позицию. Он ставит
вопрос об иерархии типов визуальной коммуникации. Посетитель
художественной галереи, где представлены французские полотна
XIX века, случайно наталкивается на небольшое полотно Луи
Жака-Манде Дагерра, написанное маслом, «Руины часовни Холиру-
да», датированное 1824 годом. Он, конечно же, придет к выводу об
интересе Дагерра к средневековой архитектуре и к возможной роли
топографической живописи в «новом открытии прошлого». Но этот
вывод станет ничтожным, когда он узнает, что на самом деле эта
картина есть побочный результатом Дагерровской
сценографической постановки - диорамы. Эта картина в миниатюрной форме
воспроизводит композицию диорамного спектакля «Руины Холи-
руда», которая выставлялась в Лондоне между мартом 1825 и
февралем 1826 годов вместе с картиной «Кафедральный собор Шар-
тра». Картина выставлена до сих пор, а вот диорама может быть
реконструирована только нашим воображением, по оставшимся
техническим деталям, по свидетельствам современников и по
визуальным свидетельствам, подобных этой картине. Вывод очевиден.
То, что выполненная маслом картина осталась, а сложной системы
сценографической репрезентации больше нет, не должно заставлять
140
Глава третья. Образ η буква в новом открытии прошлого: Л. Ж. М. Дагерр,..
нас ценить картину больше, чем диораму, особенно если перед
нами стоит задача понять историческую ментальность 1820-х годов.
Как раз наоборот. Сегодня эта картина для нас не более чем
souvenir, бледный memento блестящей диорамы, выставленной в
Париже и Лондоне в середине 1820-х годов и предлагающей ne plus
ultra, а не сценическую иллюзию. В общем контексте визуальной
коммуникации мы можем представить себе всю магнетическую
притягательность, свойственную этому новому техническому
устройству. Отсюда вывод - если новые типы визуальной
репрезентации имеют какое-то отношение к «новому открытию прошлого»,
то Дагерровская диорама должна занять в этом процессе особое
место1.
Л. Дагерр. Руины часовни Холируда (1824)
Сформулируем некоторые предварительные соображения о той
роли, которую играет визуальная репрезентация в создании новой
* ne plus ultra (лат.) - верх совершенства, высшая точка.
1 Gill Arthur. The London Diorama, History of Photography, January 1977. Vol. 1,
no. 1. P. 31-36. См также: Personnages visiting une ruine médiévale [Persons Visiting
a Medieval Ruin] (1826) // De David à Delacroix - La peinture franaise de 1774 à 1830,
каталог выставки в Grand Palais. Paris, 1974. P. 356.
141
Стивен Бенн
«исторической готовности» эпохи. Я полагаю, что речь должна
идти о двух взаимодополняющих функциях визуальной
репрезентации. С одной стороны, она дает локализованный и специфический
эффект. Он совместим, но ни в коем случае не идентичен с effet de
reel или эффектом реальности, который уже упоминался в связи с
Мишле. В качестве одного из примеров effet de reel Барт ссылается
на короткое предложение, которое Мишле вставляет в конце своего
описания пребывания в тюрьме Шарлотты Корде: «часа через
полтора у нее за спиной тихонько постучали в небольшую дверцу...»1.
Если судить в контексте короткой отсрочки казни Шарлотты и
финальной доставки зловещего оповещения, то эта «маленькая дверь»
не имеет никакой специальной нарративной функции: она просто
убеждает нас в «реальности» процесса, действие которого
возобновляется. В случае с визуальными репрезентациями, «эффект»
также, в некотором смысле, избыточен: это вполне недостоверная
деталь, почти неуместная - почти незаметная - но
подтверждающая и усиливающая исторический реализм образа. Но в связи с
отсутствием точного эквивалента визуальной репрезентации и нарра-
тива, возникает угроза трактовки подобных достоверных деталей
как полностью неуместных. Иными словами, «эффект» может
оказаться не более, чем временным усилением наших ощущений - тем,
что мы могли бы назвать техническим сюрпризом. Именно потому,
что он притягивает к себе наше внимание и не уничтожает себя в
интересах «реальности», он скорее уничтожает, чем подтверждает
подлинность изображаемой сцены. На ум приходит изумительный
пример из области, лежащей посередине между исторической
живописью и историческим нарративом - историческая драма
последних лет XVIII века. Великий трагический актер Тальма, выбранный
Наполеоном в качестве модели исполнения ролей царственных
особ и императоров, решает подобрать соответствующий костюм
для исполняемой им роли римлянина и появляется в тоге. Но его
партнерша, мало представляя себе паллу - женский эквивалент
тоги, настаивает на том, чтобы совершить выход в костюме XVIII
столетия, состоящего из парика и мантии2. Этим быстро достигается
1 Barthes Roland. The Reality effect // Todorov (ed) French Literary Theory Today.
P. 11 (рус. перев. - Барт P. Избранные работы: Семиотика. Поэтика, М, 1994.
С. 392).
2 Collins M.F. Talma - a biography of an actor. London, 1964, and Lough John.
Paris theatre audiences. Oxford, 1957.
142
Глава третья. Образ и буква в новом открытии прошлого: Л. Ж. М. Дагерр,..
технический сюрприз, но контраст между достоверностью и
условностью этот эффект разрушает. Иными словами, нужен не только
технический сюрприз, но и помещение этого эффекта в
исторические серии. Таким образом, указанный эффект должен быть
постоянным, или, по крайней мере, непротиворечивым; а это
подразумевает постоянство дискурса, в котором подобный эффект может
отозваться раскатистым эхом. Другой способ выражения этой нужды
в исторических сериях заключается в локализации этого эффекта
реальности синтагматически, в цепи понятий, создающих
«историю» как организованную систему. Только тогда мы сможем
говорить о «новом открытии прошлого».
Место театрального костюма в развитии исторического
реализма достойно дальнейшего исследования. Однако досадное
происшествие с Тальма может ввести в заблуждение. Хорошо известно,
что в английском театре актеры, не знавшие какой костюм
предпочесть - конвенциональный или соответствующий изображаемой
эпохе, долго не размышляли. К середине XVIII века Давид Гаррик
стал первым, кто адаптировал костюм к определенному
историческому времени, а к 1820-м годам Эдмунд Кин популяризировал
свой кричащий исторический стиль посредством гравюр,
изображающих его в знаменитых ролях, например, в шекспировском
Ричарде III. Но такая подлинность костюма, и особенно театральных
аксессуаров, требовала консультаций ученых, специалистов в
истории прошедших времен. Если Тальма мог опереться на
фрагментарное, но все же изучение развалин древнего Рима, изображаемых
художником Давидом и его учениками, то английский театр
полагался на публикации таких антикваров, как Джозеф Стратт, о
котором Стронг писал: «Пробираясь через трясину визуальных и
письменных свидетельств ушедших эпох, вкупе с опубликованными
материалами источников он, впервые по частичкам собрал картину
повседневной жизни в Англии от англосаксов до Тюдоров. Это
имело революционное значение для искусства исторической
реконструкции. Именно Стратт, как никто другой, предоставил новым
художникам-антикварам те источники, в которых они так отчаянно
нуждались»1.
Дань, отданная Стронгом публикациям Стратта, вполне
оправдана, но она оставляет нас в некотором сомнении по поводу того,
1 Strong. Victorian Painters. P. 50.
143
Стивен Бенн
а в чем же именно заключается «революционный» элемент этого
«искусства исторической реконструкции»? Если мы полагаем, что
декораторы сцены, как и художники, с успехом воспользовались
собранным Страттом материалом, - а это бесспорно - тогда мы
можем сформулировать этот вопрос в форме, значительно
проясняющей предмет обсуждения. «Революционный» элемент - просто
сами собранные и опубликованные Страттом материалы? Конечно,
нет. Тогда он, возможно, заключается в успешном применении
страттовского исследования к созданию костюма и аксессуаров
драматической постановки (или исторической живописи)? Да,
в некоторой мере, но если говорить о драме, то очевидно, что
внешние детали, используемые в спектаклях, могут сформировать лишь
предварительные условия успешной исторической реконструкции.
Первостепенное значение должно было иметь качество игры
актера: например, Э. Кин отказался от искусственного,
декламационного стиля Д. Ф. Кемпбла и создал так называемую «иллюзию жизни
героя, чем игры в него»1.
Только что приведенный пример означает, что нам нужны не
просто новые эффекты или «технические сюрпризы», но и степень
успеха избранных средств выражения. Иллюзионистское действо
Кина и его роскошные костюмы, если мы хотим добиться
окончательного эффекта, должны восприниматься вместе. Но для
историка искусство театра вторично, множество факторов, играющих
здесь важную роль - техника голоса, жест, движение, мизансцена-
для историка несущественны. Новизна и трансгрессивность таких
новых спектаклей, как диорама, заключаются как раз в том, что не
будучи театральным зрелищем, они сохраняли иллюзию
происходящего.
Возвращаясь к конкретной проблеме исторической живописи
и неподвижного визуального образа, заметим, что театральный
экскурс акцентирует, по крайней мере, один важный момент. Когда
история живописи переходит от того, что Стронг называет
«готической живописностью» к фазе «художник-антиквар», то происходит
не просто сдвиг от доверия к якобы исторической обстановке, к той
обстановке, чьи детали тщательно исследованы. Также происходит
и переход от одного стиля к другому, к новому, но узнаваемому
стилю. Фредерик Каммингс выразил суть этого перехода, обсуждая
1 New Encyclopedia Britannica. Macropaedia. Vol. 10. P. 411.
144
Глава третья. Образ и буква в новом открытии прошлого: Л. Ж. М. Дагерр,..
эволюцию французской исторической живописи последней
четверти XVIII века - первой четверти XIX века1. Если мы возьмем серию
работ на сюжеты средневековой жизни, выполненную в 1773 году
для французской Королевской Капеллы, то обнаружим, что по
стилю и фактуре они неотличимы от других картин эпохи
Людовика XVI. Если мы рассмотрим эволюцию подобных сюжетов вплоть
до художников «стиля трубадуров», достигшего апогея во времена
Французской реставрации у П. Ревюи, Ф. Ришара и раннего Ж. Энг-
ра, то обнаружим, что эти художники придерживались подобных
же стиля и фактуры, что и их предшественники . Сверкающие
цвета и небольшой формат картин приводят, - просто предназначены
для этого - на память средневековые иллюстрированные рукописи.
Из семи вариантов картины Энгра «Паоло и Франческа»,
завершенных между 1814 и 1845 годами, один усилен тщательно сделанной
«средневековой» рамой, украшенной пламенными
идиоматическими выражениями, выполненными готическим шрифтом2.
Художники «стиля Трубадуров» не выбирали исключительно
средневековых сюжетов: такие фигуры XVII века, как Генрих IV
и Луиза де Лавальер, также были представлены в их работах. Но
в своих работах на средневековые сюжеты они достигли некоторой
степень подлинности. Подобно Баранту, написавшему
заместительный текст хроник герцогов Бургундии, эти художники
использовали визуальную чувственность моделей изображаемой ими
эпохи. Однако нам не следует совершать ошибку, считая, что этот
«археологический» элемент и был всем, что требовалось для придания
подлинности новой исторической живописи начала XIX века.
Свежесть и непосредственность воздействия этой живописи на зрителя
являлись непременным условием технического сюрприза, в не
«Их сюжеты, заимствованные из средневековой Франции, возвещают темы
расцветшего позже «стиля Трубадуров», при этом фактура их работ все еще
принадлежит к первым годам правления Людовика XVI. И только гораздо позже ху-
дожники-«трубадуры» стали использовать не только сюжеты, но и технику
средневековых миниатюристов» // Cummings Frederick. Preface to De David à Delacroix.
P. 33.
Ревюи Пьер (Révoil Pierre, 1776-1842), и Ришар Флери (François Fleury
Richard, 1777-1852) - французские художники, ассоциируемые со « стилем
трубадуров»; Энгр Жан-Огюсшин (Ingres Jean-Auguste-Dominique, 1780-1867) -
французский художник неоклассицист.
2 Le Gothique retrouvé, Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
Paris, 1979. P. 12Iff, 165.
145
Стивен Бенн
меньшей мере, чем адекватность воспроизведения модели. Смысл
этого может быть продемонстрирован прославленной серией
акварелей на исторические сюжеты английского художника Ричарда
Бонингтона. Как указывает Стронг, такие полотна как «Лорд Сюр-
рей и Прекрасная Джеральдина» (1825-1826) основаны на
тщательном исследовании искусства портрета эпохи Тюдоров. Не
менее важны живость и прозрачная свежесть красок, которые прежде
ассоциировались (и у Бонингтона, и у других художников) с
изображением ландшафта. Двойственность технического сюрприза,
как показывают эти примеры, заключается в том, что, он, прежде
всего, рассчитан на новизну эффекта, и только во вторую очередь -
на технику. Ссылка на подлинность закрепляет результат, то есть
убеждает зрителя в той же мере, что и новизна средств
изображения.
Возможно, самый яркий пример по-настоящему нового
технического и изобразительного средства популяризации истории того
времени можно отыскать в необыкновенном развитии литографии.
Изобретенный баварцем А. Зенефельдером в конце XVIII столетия,
способ литографии был практически невостребован - по крайней
мере во Франции - до эпохи Реставрации. Только тогда в Париже
и Мулхаусе были установлены прессы для производства новой
печати. В 1818 году Шарль Нодье во время археологической
экспедиции в Нормандию решил использовать это новое средство для
создания каталога архитектурных древностей. Это было не только
дешево по сравнению с традиционными способами гравировки на
металлических пластинах, но и создавало новый эстетический эффект:
как подчеркивал сам Нодье, «смелый карандаш литографии,
кажется, и был изобретен исключительно для подъема настроения
путешественника, записывающего свои впечатления»1. Оригинальная
идея Нодье, технически усовершенствованная мастерами студии
Годфри Инглмена, привела к организации крайне успешного
проекта Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France -
«Живописные и романтические путешествия по старой Франции»,
в котором в 1820-е годы приняли участие многие французские
художники.
Стоит лишь сравнить Voyages pittoresques с традиционными
гравюрами того же времени, например «Архитектурные древности
Нормандии» (1820) Джона Селля Котмана, как бросаются в глаза
1 Ibid Р. 107-109.
146
Глава третья. Образ и буква в новом открытии прошлого: Л. Ж. М. Дагерр,..
отличия в эстетическом эффекте этих работ. Гравюры Котмана
отличаются изумительной тонкостью исполнения, но в них всегда
заметен инструмент гравёра, которым вырезан узор параллельных
линий. А в литографии этого нет, она отличается более тонкими
световыми эффектами. Об эстампах древних строений (их
интерьеров и фасадов), составлявших Voyages pittoresques Элиан Верноль,
французский историк искусства, писал: «атмосфера места
настолько же важна, как и само здание, атмосфера, которая часто
драматична, мрачна и мучительна, но временами прозрачна и ясна;
благодаря этому свету изображение оживает»1.
Неудивительно, что одним из участников Voyages pittoresque
был Дагерр. В нашем общем обзоре визуальной репрезентации
самым интригующим моментом является то, что «технический
сюрприз», неизбежно связанный с выбором исторических сюжетов, так
же тесно связан и с эффектом освещения. В литографии этот
эффект был относительно недолговечен, так как спонтанность и
общая «атмосфера» новых оттисков тускнели по мере роста
популярности этого средства изображения. В диораме, когда на
находящегося в затемненном помещении зрителя обрушивался яркий поток
света, указанный эффект был куда более мощным. Но диорама не
стала завершением нового технического эксперимента, целью
которого было потрясти французскую и английскую публику
созданием иллюзии еще большей силы. Нам остается только гадать о том
эффекте, который произвела в 1826 году в Лондоне «Panstereoma-
chia при Пуатье» Ч. Буллока2*. Но мы можем представить, какой
изумительной изобретательностью нужно было обладать, чтобы
разгладить грубые углы и создать целостность атмосферы боя.
В своей работе «Надзирать и наказывать» Мишель Фуко обратил
внимание на тесную связь между инструментами, создающими
особые визуальные эффекты и преобладающими внутри данного
1 Ibid.
2 An Historical and Descriptive Account of the Battle of Poictiers, [Poitiers]
Compiled from the Best Authorities; Explanatory of Mr. Charles Bullock's Panstereomachia,
or, Model of That Memorable Victory: Now Exhibiting at the Spacious Room 209,
Regent Street. London, 1826.
* Panstereomachia - слово, составленное из слов греческого языка: pan - все,
stereo, - крепкий, прочный, machy от machesthai - сражаться, что как суффикс
в английском означает «битва». На русском это звучало бы примерно как «Пан-
стереобишва», что правильно, но некрасиво. Поэтому везде далее в тексте мы
сохраняем английское название этого сооружения.
147
Стивен Бенн
общества политическими и карательными стратегиями . В
частности, он провел прямую антитезу между структурой амфитеатра
(огромная толпа, по периметру наблюдающая событие происходящее
в центре) и тем, что заключала в себе идеальная тюрьма Бентама.
Речь идет о «Паноптикуме» Иеремии Бентама (конец XVIII в.).
Паноптикум, согласно проекта Бентама, - это архитектурное
сооружение, реализующее следующий принцип: в центре должна
находиться башня, а по периферии - кольцеобразное здание. В башне
имеются широкие окна, обращенные к периферийному строению.
Последнее разделено на камеры или комнатки, каждая из которых
простирается во всю ширину здания и имеет два окна. Одно
обращено наружу, и через него в камеру проникает свет, а другое -
внутрь, к окнам башни. Теперь достаточно в центральную башню
поместить надзирателя, а в каждую комнатку - осужденного, чтобы
был обеспечен полный надзор. Надзиратель, благодаря
проникающему свету, может видеть в каждой комнатке-камере силуэт
находящегося там человека и следить, ведет ли он себя как положено.
Принцип темницы переворачивается. Вместо лишения света -
постоянное пребывание на «просвете» и под взглядом надзирателя.
«Быть на просвете» - вот суть нового вида заключения. Какое бы
идеологическую конструкцию мы под них не подводили, эти
изобретенные в XIX веке новые следящие устройства свидетельствуют
о необычайном аппетите к господствующей точке обзора.
Панорама, будучи особой формой спектакля, пользующейся начиная с
конца XVIII столетия прочной популярностью, создает структуру,
аналогичную «Паноптикуму» Бентама. Находясь в центре
панорамы, зритель переживает иллюзию кругового наблюдения.
Безусловно, воссоздание исторических событий было не единственной
целью различных форм такого спектакля. Не менее важна
репрезентация экзотики или картинности, воссоздание необычных
условий атмосферы. Дагерр, например, придумал показать извержение
Везувия с настоящими камнями, сыпавшимися на сцену. Но,
несомненно, исторические аспекты обеспечивали ощущение большей
дистанцированности изображаемого действия. Например,
тщательно проработанная репрезентация развалин часовни Холируда у Да-
1 Foucault Michel. Discipline and Punish. London, 1977. P. 217 (quoting N. H.
Julius); also Eric de Kuyper and Emile Poppe, «Voir et Regarder», in Communications,
34(1981), 85-96 (рус. перев. Фуко M. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы
М., 1999).
148
Глава третья. Образ и буква в новом открытии прошлого: Л. Ж. М. Дагерр,..
герра сочетала в себе аромат шотландской картинности и некие
смутные готические ассоциации. Подобно освященным веками
монументам, представленным в Voyages pittoresque, диорама Дагерра,
хотя и скромнее, но все же потрясала публику пустынностью и
заброшенностью сцены исторического действия.
Этот короткий обзор видов «технических сюрпризов» - от
украшений в «стиле Трубадуров» до литографии и диорамы -
императивно заставляет решать проблему «исторических серий». Как
можно добиться непрерывности эффекта реальности? Как можно
смоделировать не пустую сцену, а непрерывную временную ткань
истории? Диорама была спектаклем, который, конечно, менялся
в зависимости от того, какие черты композиции надо было
подчеркнуть. Для этого создавались новые световые уловки,
имитирующие различное время дня, переход от покоя к извержению, как
в диораме о Везувии. Но непрерывный и повторяющийся
темпоральный процесс нельзя путать со структурной артикуляцией во
времени. Серии Voyages pittoresque (так же, как и Архитектурные
древности Котмана) были системной коллекцией пейзажей, и
поэтому производили гораздо больший эффект, чем отдельные
гравюры, изъятые из этой коллекции. Но этот эффект не является
связной и убедительной репрезентацией прошлого. Как мы увидим
в следующей главе, такого рода репрезентация эффективна только
в музее, например в таком, как Музей де Клюни, где все экспонаты
подобраны в соответствии с определенной эпохой. Но это особый
случай, не имеющий отношения к рассматриваемым нами в этой
главе визуальным материалам.
Но как же тогда нам следует подходить к понятию
исторических серий? Исторические серии есть ни что иное, как
исторический нарратив. Традиционные стратегии нарративной экспозиции
были (во все времена западной цивилизации, вплоть до нашего,
хотя, возможно, и не захватывая его целиком) преобладающими
методами выражения реальности прошлого. И все же в самой
историографии концепция нарратива незаметно перешла, как показал
Хейден Уайт, в вид исторического исследования, в котором почти
нет дискурсивной непрерывности1. Историк школы «Анналов»,
может, например, перечислять год за годом, не задерживаясь на
1 White Hayden. The value of narrativit) in the representation of reality // Critical
Inquiry, 7, no. I (Autumn 1980), 5-27.
149
Стивен Бенн
значительных события некоторых из них. И все же, как
справедливо указывает Уайт, было бы слишком поспешным полагать, что
такие рудиментарные серии являются несовершенной или несвязной
репрезентацией истории. В них своя связь, даже если она и не
ассоциируется с хрониками или полномасштабной нарративной
историей. По аналогии с этим мы можем взглянуть и на некоторые формы
визуальной коммуникации, точнее говоря, «смешанные» формы,
включающие в себя и образ, и текст. Эти формы формируют
исторические серии внутри нашего собственного времени. То, что они
только косвенно опираются на нарративные стратегии, не мешает
им играть некоторую роль в новом открытии прошлого.
Точкой отсчета в наших рассуждениях станет одна особенность
развития искусства и организации публичных развлечений конца
XVIII века: создание так называемых «Галерей» - коллекций
специально подобранных картин, существовавших в виде постоянных
выставок, из которых подбирался репертуар образов для
иллюстрированных книг по истории. Например, «Шекспировская Галерея»
Олдермана Бойдела, открывшаяся в 1785 году и «Историческая
Галерея» Роберта Боуэра, располагавшаяся в Пэлл-Мелл. Эти галереи
представляли собой «собрание живописи со сценами из Британской
истории, использованное в издании крупноформатного собрания
сочинений Юма, выходившего в свет между 1795 и 1806 годами»1.
Формирование коллекции Роберта Боуэра представляет особый
интерес, потому что оно почти в точности совпадает по времени с
собранием экспонатов для Музея аббатства Малых августинцев, о
котором пойдет речь в следующей главе. Но такое сравнение, если
проводить его в контексте задач нового открытия прошлого,
совершенно не в пользу «Исторической Галереи» Боуэра. Собранная
им коллекция, состоящая из более чем сотни картин, была
посвящена по большей части, изображению эпизодов сентиментального
и романтического характера: королева Маргарита Анжуйская и
грабитель, леди Элизабет Грей, умоляющая Эдуарда IV защитить ее
детей, нежелание леди Джейн Грей принять корону, ее
последующая казнь и так далее. Целью всего этого объявлялось стремление
«всколыхнуть страсти, увлечь жаждой подвига, заставить
почувствовать преступность деяний»2. Иными словами, доминирующим
принципом указанного собрания являлась не историческая подлин-
1 Strong. The Victorian painter. P. δ ι .
2 Ibid.
150
Глава третья. Образ и буква в новом открытии прошлого: Л. Ж. М. Дагерр,..
ность эпизодов, а их поучительный или сентиментальный эффект.
«Историческая Галерея» предлагала весьма лихорадочное и
беспорядочное видение прошлого, и если бы не публикация работ Юма,
на чем она просто паразитировала, то ее значение как формы
исторической репрезентации было бы абсолютно ничтожно.
Однако в истории английской живописи есть гораздо более
интересный пример. Одним из сотрудников «Галереи» Боуэра был
академик Томас Стотард (1755-1834). И хотя ранняя историческая
живопись этого художника выполнена вполне в готической манере,
технически неотличимой от работ его коллег, в 1806-1807 годах
в полотне «Кентерберийские пилигримы» у него явно начинает
звучать новая нота. Картина тщательно выписана, художник
ориентировался на средневековые костюмы, представленные в работе
Стратта «Одежда и привычки народа Англии» . Но она
инновационна и по форме и по технике исполнения. Пилигримы облачены в
«грубую шерстяную одежду молитвенных процессий,
воспроизведенную по рисункам на сундуках cassone»\ Какой бы не была
историческая связь между сундуками cassone (изящно
разрисованными коробами для хранения приданного, ассоциируемыми с
итальянским Ренессансом) и веком Чосера, она, конечно, не имеет
никакого отношения к успеху Стотарда. В «Кентерберийских
пилигримах» он написал образ, которому суждено было стать - после того,
как его в 1811 году выгравировал британский гравер Роберт Кро-
мек - одним из самых знаменитых символов средневековой
Англии, имевших хождение в XIX веке. Обрамленная в
соответствующую раму, копия этой гравюры висела и продолжает висеть над
камином в кабинете Скотта в Абботсфорде.
Но только сын Томаса Стотарда Чарльз Альфред стал тем, чье
творчество стало поистине выдающимся, если смотреть на него
с точки зрения создания исторических серий. Родившийся в 1786 году,
Чарльз Альфред, как и его отец, впоследствии стал художником. На
Академической выставке 1811 года он выставил картину на смерть
Ричарда II, в которой до мельчайших деталей был соблюден и
прописан исторический костюм. В том же году он начал публиковать
* Cmpamm Джозеф (Strutt Joseph, 1749-1802) - английский гравёр, антиквар
и писатель. См. его работу: A Complete View of the Dress and Habits of the People of
England, From the Establishment of the Saxons in Britain to the Present Time, Illustrated
by Engravings. London, 1796-1799.
1 Ibid. Illustration, no. 11.
151
Стивен Бенн
первые шаги своего долгого предприятия, которым он занимался до
самой своей ранней смерти в 1821 году и которое продолжили его
наследники. Это предприятие заключалось, как высокопарно гласит
титульный лист: в «Монументальном изображении
Великобритании, в образах, найденных в наших соборах и храмах, с целью
собрать их воедино и сберечь подлинные изображения всего самого
лучшего из сохранившихся исторических иллюстраций, от
завоевания норманнов до правления Генриха Восьмого». В этой большой
работе, монументальной сразу в нескольких отношениях, мы
обнаруживаем способность образа стимулировать процесс нового
открытия прошлого. Однако рассматривать этот эффект
ретроспективно совсем непросто. Говоря риторически, такой дискурс
балансирует на грани между метонимическим и метафорическим: между
связями дискретных понятий, упорядоченных в простую
хронологическую последовательность, и стремлением к интеграции
комплексного взгляда на историю. Эта двойственность зеркально
отражена в текстах, которые сопровождают визуальный материал,
и может рассматриваться как ясное указание на сдвиг установок в
способах воссоздания прошлого, произошедшего в течение того
десятилетия, когда Чарльз Альфред реализовывал свой проект.
Ряд комментариев метода работы Стотарда помогают
прояснить этот момент. Согласно его замыслу, «Монументальные
изображения» в завершенном виде должны были состоять из
двенадцати «номеров» или комплектов гравюр, каждый из которых
содержал двенадцать отдельных литографий. Стотард начал первые
публикации в 1811 году, но не всегда следовал запланированному
порядку. Например, первая иллюстрация (Роджер Солсберий-
ский), как было установлено, «написана и выгравирована в ноябре
1812 года» и «опубликована в 1813», в то время, как вторая
(Джеффри Плантагенет) «нарисована и выгравирована в июле 1817»
и «выпущена в 1819 г.». По мере того, как Стотард собирал материал,
он публиковал литографии. И только в окончательном издании все 144
иллюстрации были подобраны по порядку: в строгой хронологической
последовательности, в соответствии с датой смерти каждого
включенного в серию исторического лица. На этом этапе Стотард, конечно,
составлял простые метонимические серии: сведение исторической
личности к дате его смерти, а изучение костюма - к ограниченному
репертуару монументальной скульптуры. Но, превращая подобную
редукцию в принцип всей серии, он разворачивает замысел всего про-
152
Глава третья. Образ и буква в новом открытии прошлого: Л. Ж. М. Дагерр,..
екта наоборот: сопровождающий гравюры текст начинает выполнять
функцию реабилитации разрозненных фрагментов.
С удовольствием следишь за этим двойным процессом. С одной
стороны, иллюстрации гравюр намеренно акцентируют элемент
редукции и фрагментации. Трехмерность редко подчеркивается,
и статуя часто дается сверху, акцентируя ее плоскость. Характерно,
что небольшие детали, одежда, доспехи и декоративные мотивы
сопоставляются с образом статуи как целого. Они подобраны по
цвету, соответствующему случаю, и таким образом акцентируют
схематичный характер репрезентации. Но в помещенных рядом
текстах Стотард совершает движение от простого перечисления
элементов к напоминанию о жизни и трудах персонажа,
изображенного в скульптуре. Мы начинаем чтение с простых фраз: «это
крышка гроба» или «он носит стальной шлем в форме фригийского
колпака, покрытого глазурью с вкраплением золота». А чуть
дальше нас приглашают драматизировать изложение сюжета, вводя
нарратив. Нашему вниманию предлагают не просто статую, а
воссоздание фигуры исторического актора, извлеченного из того
предполагаемого места, где хранились его смертные останки.
Это движение к восстановлению, а по сути, воскрешению,
кратко обрисовывается на фронтисписе всей коллекции:
«Монументальная скульптура, спасаемая от Времени». В этой
литографии, нарисованной Томасом Стотардом и выгравированной
Чарльзом Альфредом, суровый Отец - Время, вооруженный косой, в
бессилии старается удержать направленное вверх движение
несуразных скульптур, подгоняемых putti . Женская фигура - конечно же,
это должно быть Клио? - помогает, попирая ногами седую голову
Отца - Время, и равнодушно размахивая свитком с надписью
«Летописи». За этим следует вступительная статья к изданию, написанная
самим Чарльзом Альфредом. К моменту его смерти в 1821 году она
еще не была опубликована, только позже его шурин включил ее в
текст своего более обширного введения к серии. Статья Чарльза
Альфреда порождает новый интерес к истории, помогающий
истолковать аллегории фронтисписа: «С помощью этого [документирования и
публикации скульптурных изображений] мы живем в других време-
IJymmu - ангелочки, херувимы в религиозной сцене или купидоны в виде
пухлых маленьких мальчиков с крыльями, которые можно увидеть, например, на
картинах эпохи Возрождения. Присутствие в картине putti символизирует любовь
божественную или земную.
153
Стивен Бенн
нах, отличных от нашего, и познаем их. В каком-то смысле мы
останавливаем скоротечные шаги Времени и пересматриваем те вещи,
которые прошли через его руки, приглушенные, но не уничтоженные.
Исследования антиквара бессмысленны, если они не дают нам такой
власти или иных преимуществ; интерес к предмету формируется не
восхищением древностью и ржавостью вещи, а ее способностью стать
проводником знания, умножением человеческого интеллекта,
совершенствованием человека в целом»1.
Томас и Чарльз Альфред Стотарды. «Монументальная скульптура,
спасаемая от Времени» - фронтиспис коллекции «Монументальное
изображение Великобритании в образах, найденных в наших соборах
и храмах, с целью собрать их воедино и сберечь подлинные изображения
всего самого лучшего из сохранившихся исторических иллюстраций,
от завоевания норманнов до правления Генриха Восьмого»
1 Ctothard Charles Alfred. Monumental effigies... London, 1811-33.
154
Глава третья. Образ и буква в новом открытии прошлого: Л. Ж. М. Дагерр,..
Любопытна несообразность в декларациях Чарльза Альфреда
Стотарда. Ярко выразив свежее, тонкое ощущение нового открытия
прошлого, он заканчивает плоским и банальным утилитаризмом.
Разве ради «совершенствования человека вообще» Стотард
штурмовал шаткие лестницы бесчисленных сельских церквей, включая
и ту последнюю, которая послужила причиной его безвременной
кончины в 1821 году? Ясно, что дилемма этого пассажа та же, что
и всего творчества Стотарда и заключается в следующем: на одной
стороне традиционная цель ученого - записывать, собирать и
дифференцировать информацию во имя достижения «знания», с
другой - страстное желание (цель которого не так-то легко
сформулировать) воссоздать «объект» исследования и таким образом
воскресить прошлое. Вне всякого сомнения, Стотарду интересна живая
история, история как реальность. Он даже использует
органические метафоры для выражения этого своего интереса: «Они
(«монументальные памятники». - С. Б.) придают истории тело и
материальность, показывая нам те вещи, которые трудно описать в
языке»1.
Последнее замечание Стотарда создает парадокс, ставя общую
проблему отношения образа и языка в процедуре нового открытия
прошлого. Монументальные памятники не являются
репрезентацией смерти вообще или отдельных умерших мужчин или женщин.
Напротив, они придают «истории тело и материальность»,
обменивая свой неясный статус скульптур на усиление реальности
прошлого. Но даже если они и преуспеют в репрезентации («показывая
нам вещи») того, что «трудно описать в языке», все же они зависят
от хорошего нарратива, а его определяет язык и только язык.
Описаний, предлагаемых Чарльзом Альфредом, в которых
перечисляются «крышки гробов» и «фригийские колпаки» и в самом деле не
хватает для эффекта реальности как раз потому, что они избыточны.
Но когда он переходит к растянутым нарративным пассажам,
перечисляя - пусть даже суммарно - этапы жизненного пути Роджера Сол-
сберийского или Джеффри Плантагенета, то тут обнаруживается
способность нарратива создавать единые серии, которые мы
воспринимаем (используя понятие, введенное Хейденом Уайтом) как «икону»
прошлого. Говоря иначе, статуи Чарльза Альфреда не могут быть
«спасены от Времени» жестикуляцией в сторону аллегорических
фигур или доступностью «Летописей», которыми размахивает Клио. Они
1 Ibid.
155
Стивен Бенн
могут быть спасены от Времени только включением в дискурс,
имитирующий процесс хронологической последовательности. Они могут
быть спасены от Времени только наррацией.
Монументальные изображения Чарльза Альфреда Стотарда
расположены посередине между иллюстрированными историями,
рассмотренными в предыдущей главе, и новой формой
исторических музеев, которые мы рассмотрим в главе следующей.
Его образы есть не просто иллюстрации, подчиненные тексту
и зависящие (как у Баранта и Тьерри) от превратностей
издательского процесса. В своей искусности и деталях они - средство
воображаемого воссоздания прошлого, к чему Стотард и старался
привлечь внимание своего зрителя. И все-таки они нуждаются в
поддержке нарративного текста. Только в контексте исторического
музея, где отношение предметов друг к другу ясно при минимуме
текстуальной информации, стремление Стотарда придать истории
«тело и материальность» минуя язык, может быть реализовано
успешно. И только в этом контексте можно выявить все скрытые смыслы
моей изначальной дистинкции метонимические/метафорические
(или синекдохические) способы организации прошлого.
Однако творчество Чарльза Альфреда Стотарда не должно
отвлечь нас от обзора исторической живописи, предпринятого в этой
главе. Я начал с двух постулатов - «технического сюрприза» и
«исторических серий» - как предварительных условий, при которых
можно рассуждать о возможном вкладе визуальной репрезентации
в новое открытие прошлого. Это привело к исследованию
широкого круга новых техник того времени, пригодных для создания
визуальных иллюзий, и к анализу серий живописи, задуманных на
исторические сюжеты, начиная с «Исторической Галереи» Боуэра и до
«Монументальных изображений» Стотарда. Я утверждал, что не
только новый технический эффект, но также и определенная
степень упорства художника, его способность артикулировать
темпоральные отрезки, отражаемые в своих картинах, были
существенными при создании видения прошлого. Однако мы не должны
забывать, что отдельная картина, изъятая из серии, в глазах публики
все-таки была частью этой серии: так считалось в Академии, и эта
точка зрения распространялось как на историческую живопись, так
и на портретную, ландшафтную и т.д. Давайте, в связи с этим
обратим внимание на некоторые примеры салонной и академической
живописи начала XIX века, оценив как их достоинства, так и
особенности их метода репрезентации.
156
Глава третья. Образ и буква в новом открытии прошлого: Л. Ж. М. Дагерр,..
В отличие от своих собратьев-баталистов и других художников,
писавших на исторические сюжеты, салонный художник историей
интересовался мало. Хотя репрезентацией исторических сюжетов
занималось множество художников XIX века, хотя бы в силу того,
что эти сюжеты вызывали неизменный интерес публики, все же
мало кто из них сделал себе карьеру исключительно на
изображении исторических героев или событий. Честно говоря, определить
границы исторической живописи вообще сложно. В 1982 году на
выставке работ сэра Эдвина Ландсира, в Галерее Тейт, один из
залов был отведен под «историческую» живопись. Но смысл понятия
«исторический», как оказалось, для многих художников был
чрезвычайно разным, они просто по-разному воспринимали прошлое.
Ландсир, например, писал в образе исторического героя в основном
известных людей - своих современников: «Королева Виктория и
Принц Альберт как королева Филиппа и король Эдвард» (1842) или
«Седьмой герцог Бофортский на Эглингтонском Турнире», где
персонаж облачен в полный комплект доспехов, а на переднем плане
с гордостью красуется рыцарский шлем. Ландсир писал и Вальтера
Скотта: «Сэр Вальтер Скотт» в его доме в Абботсфорде. Портрет,
вероятно, выполнен в 1824 году, во время первого визита Ландсира
в Абботсфорд, но есть и более поздняя версия - жанровая картина
под названием «Сцена в Абботсфорде», датированная следующим
визитом, в 1827 году1.
Все эти работы говорят о разном понимании исторического
прошлого. В случае с королевским портретом антураж
Средневековья есть не более чем дань вежливости. Отсылка к Эглингтонскому
турниру - отражение попыток Викторианских аристократов
возродить рыцарские церемонии конца средних веков. В Абботсфорд-
ских картинах дело в другом. На картине 1824 года фигура Скотта
изображена рядом с важным историческим реквизитом - нижней
частью рыцарских доспехов, которую, как ошибочно считали в то
время, надевал во время сражения при Босвордском поле человек
самого большого роста. На картине 1827 года приоритет также
отдан композиции различных частей доспехов, включая шлем с
поднятым забралом. Однако это красноречивое, но мало что значащее
неосредневековое украшение кабинета Скотта оживляется
присутствием живых собак и соколов, словно бы предлагая зрителю
ощутить вкус удовольствия охоты феодального дворянина. Для Ланд-
1 Landseer. Exhibition catalogue, Tate Gallery, London, 1982.
157
Стивен Бенн
сира вообще характерно переключение с исторической сцены на
сцену охоты: от объектов или ситуаций, имеющих реальное
отношение к историческими событиями, на выдуманный мир, в котором
реальной темой является вневременная драма охоты. Например,
одна из его первых исторических «костюмных» композиций «Битва
Чеви Чейса»( 1825-1826) сопровождается своего рода еще одной ее
версией под названием «Охота Чеви Чейса». В одной двух его
главных исторических композиций 1830-х годов «Соколиная охота
Старых времен»(1832) персонажи расположены в некоей смутной
отдаленности, а на первом плане - невероятная схватка цапли и
сокола; картина «Сцена Старых Времен возле Болтонского
Аббатства» (написана для герцога Девонширского, вероятно, не ранее 1834
года) изображает монахов и крестьян, но удачно передавая живость
повседневной жизни, акцентирует внимание на плате за аренду
Аббатства, собранную крестьянами в виде целого рога изобилия из
птицы, рыбы и дичи.
Создается впечатление, что практически единственными
«историческими» полотнами Ландсира остаются те, источником которых
стали романы Вальтера Скотта: небольшие и незначительные
композиции - «Невеста Ламермура» и «Смерть Элспета Маклебакита»
из романа «Антиквар» (оба написаны в 1830 году). Но и этим
работам свойственна скорее сентиментальная притягательность, чем
искренний интерес к истории, излагаемой Скоттом. Именно
поэтому для наших целей полотна Ландсира - пример крайне
двусмысленного статуса исторической живописи, или, по крайней мере,
живописи такого типа, который маскируясь под цвет жанра, в то же
время придерживается совершенно иного критерия. Но это не
означает, что критики не видели этой двусмысленности. Например,
в 1840 году Теккерей в рецензии на выставку работ членов
королевской Академии заметил, что «художникам следовало быть столь
же осторожными в изображении костюмов персонажей, как
историку в предлагаемых им датировках событий»1. Это не было
призывом к простой археологической аккуратности. Ландсира
упрекали за то, что его картины производили такое впечатление, словно
изображенные на них персонажи надели свое историческое платье
«в первый раз». Любопытно, что четыре года спустя именно
Теккерей и именно за это похвалил картину Джона Роджерса Герберта
1 Цитируется по: Strong. Victorian Painter. P. 60.
158
Глава третья. Образ и буква в новом открытии прошлого: Л. Ж. М. Дагерр,..
«Суд семи Епископов», говоря, что по-видимому, этим «людям
вполне уютно в этих их причудливых костюмах»1.
Можно утверждать, что в конце XIX века получил признание
стандарт относительности, обладающий таким разрушительным
действием, что с его помощью можно было разрушить даже самую
удачную по своей точности и мастерству репрезентацию
исторического прошлого. Проверялись даже полотна, сохранившиеся со
времен Ренессанса и далее, вглубь веков. Однако Дж. Э. Сторей
признается, например, в своем замешательстве по поводу картин
Веласкеса: «Я знал, что в работе Веласкеса были верно изображены
костюмы. Но подлинными были и люди того времени, оно читалось
не только в их платье, но и на их лицах, в расположении фигур. Все
принадлежало тому дню, когда рука создавала это полотно, и я
чувствовал - передо мной настоящая страница истории, а не
театральный грим, смотрящий со страниц некоей книжки, написанной
много лет спустя после происходящего»2. Комментарий Сторейя может
показаться тяжким обвинением если не всей истории живописи
XIX века, то большей ее части. Но важно понимать, что оно имеет
весьма слабое отношение к задачам «нового открытия прошлого».
Барант написал текст, замещающий подлинные хроники герцогов
Бургундских, Мишле, изображая Жанну д'Арк, пускался в
грандиозные полеты воображения, зная о публикации настоящих
протоколов суда над ней. Так и художник жанра исторической живописи
ориентировался не просто на документальное свидетельство
ушедшей эпохи, он заново воссоздавал ее силой своего воображения.
Повторяя остроумное суждение Де Квинси о Мишле, можно
сказать, что «к фактам» не надо относиться как к приманке
сокольничего. Они не спасают художника от избыточно длительного
зависания в эмпиреях своего воображения.
Подведем черту под этим коротким исследованием
исторической живописи и прочих визуальных средств репрезентации,
взглянув на одного из самых талантливых мастеров этого жанра.
Вероятно, нет второго такого художника, который столь тесно
ассоциировался бы с успехом исторической живописи начал ее расцвета,
чем французский художник Поль Деларош, родившейся в Париже
в 1797 году и умерший там же в 1856 году. После поступления
в Школу изящных искусств в 1816 году и неудачи в конкурсе на
1 Ibid. Р. 74-75.
2 Storey G. A. Sketches from Memory. London, 1899. P. 250.
159
Стивен Бенн
Римскую премию в жанре ландшафта в следующем году Деларош
в 1818 году поступил в студию барона Гро. К 1824 году он
представил для выставки в Салоне эскизы картин, написанных в «стиле
трубадуров»: «Любовь Филиппо Липпи к его
натурщице-монахине», (1822) и два последующих произведения, демонстрирующих
определенную эволюцию сюжета и манеры. - «Св. Винцент де
Поль держит проповедь перед двором Людовика XII» (1823) и
«Кардинал архиепископ Винчестерский допрашивает Жанну д'Арк
в ее темнице» (1824).
Критики хвалили эти работы за отличающее их смешение
сентиментальной темы и археологической точности. К Деларошу
быстро пришло официальное признание. В 1828 году ему вручили
орден Почетного Легиона, и он получил официальное
покровительство короля, пока в 1830 году Луи-Филипп не сместил Карла X. В
Салоне 1831 года он достиг выдающегося успеха, ему рукоплескала
публика, критики писали восторженные статьи, вплоть до того, что
он был провозглашен величайшим из живущих французских
художников. Ему удалось собрать вполне приличную коллекцию
исторических картин, написанных им в три предыдущих года:
«Государственный катер кардинала Ришелье на Роне» (1829), «Мазарини,
умирающий среди придворных кавалеров и дам» (1830), «Кромвель
у гроба Карла I» (1831). Но хотя Деларош и продолжал
выставляться в Салоне с определенным успехом вплоть до 1837 года,
поднимаясь до таких триумфов, как «Казнь Джейн Грей» (1834), больше
он уже никогда не занимал главных позиций, как в начале
Июльской монархии. То же можно сказать и о самой исторической
живописи, которая с тех пор (лучшей поры Делароша) тоже не играла
главной роли во французском искусстве.
Что было опасным в подобной популярности? Очевидно,
посетитель Салона того времени, знакомый с романами Скотта, нарра-
тивами Баранта и Тьерри, спектаклями Чичери и диорамами Дагер-
ра, был в целом осведомлен об «археологической точности» . Но
развитие французской живописи не страдало от нехватки событий.
Как писал Ли Джонс о картине Делакруа «Резня на Хиосе»,
впервые показанной в Салоне в 1824 году: «Делакруа наметил брешь
между официальным учением, в котором доминировали идеи
Давида, и прогрессивными художниками. Эта брешь непрерывно
* Пьерр-Люк Чичери {Pierre-Luc-Charles Ciceri, 1782-1868) - французский
театральный художник-декоратор.
160
Глава третья. Образ и буква в новом открытии прошлого: Л. Ж. М. Дагерр,..
расширялась самим Делакруа, затем Курбье и кончилась полным
разрывом с традиционным искусством в эпоху
импрессионистов»1*. В то время как Делакруа возглавлял отход от
неоклассической ортодоксии, Деларош эксплуатировал определенные аспекты
нео-классического стиля, формируя художественные приемы
исторического реализма. Отличия легко заметить, сравнивая
исторические полотна Делакруа и Делароша, начиная с конца 1820-х. У
Делакруа, возвещаемая колористической феерией «Смерть Сардана-
пала» (Салон, 1827-1828) есть серия работ, которая подчеркивает
остроту исторических событий использованием сочных красок и
богатства глазури. В картине «Убийство Епископа Льежского»
(1829), воспроизводящей драматическую сцену из романа Скотта
«Квентин Дорвард», шероховатые решительные мазки и
необычайная напряженность рассеянного света акцентируют встревоженных
участников рокового пиршества. Напротив, Деларош к 1830 году
уже отказался от такой пластичности изображения. Его полотно
«Дети английского короля Эдуарда IV в лондонском Тауэре»
отличается, по словам французского критика, «холодной и совершенной
отделкой»; в ней «с трудом можно различить хоть какой-нибудь
след работы кисти. Лишенная всякой барочной риторики, живопись
Делароша, ближе к 1830-м годам, и на самом деле знаменует конец
романтизма»2.
Отсюда нетрудно сделать вывод. Существовало определенное
расхождение между двумя аспектами «технического сюрприза» и
так едва сохраняющим шаткое равновесие: между археологическим
элементом и новизной идиомы. К 1830 году становится ясно, что
Делакруа придерживался особой манеры письма, выражавшейся в
широких цветовых эффектах и энергичных мазках в духе барокко,
в сознательном использовании разнообразных дополнительных
вещей. Это относится как к его великим историческим композициям
поздних лет, таким как «Взятие Константинополя крестоносцами»
(1840), так и к картинам на экзотические, библейские и
мифологические сюжеты. Нет никакого смысла выявлять в этом
многообразии Делакруа-исторического художника. Его конкурент Деларош
1 Lee Johnson. Delacroix. London, 1963. P. 19.
# Густав Курбье (Gustave Courbet, 1819-1877) - влиятельный французский
художник-авангардист, примыкавший к «реалистическому» движению во
французском изобразительном искусстве.
2 De David à Delacroix. P. 387.
6 Зак. 760
161
Стивен Бенн
к 1830 году тоже сделал свой выбор, но в пользу неоклассицизма,
археологической точности деталей как основы жанра исторической
живописи.
П. Деларош. «Дети английского короля Эдуарда IV
в лондонском Тауэре»
И все же еще во время триумфального для Делароша Салона
1830 года, некоторые критики замечали ограниченность подобного
подхода. Например, А. Жэль полагал, что художник одинаковое
внимание «уделял всему - шторам, дереву кровати, человеческой
плоти и вельвету»1. Другой критик, Г. Планше, увидел
неправдоподобность в самой скрупулезности фотографической техники
Делароша: «Что касается Эдуарда V («Принцы в башне»), то очевидно,
что обоим головам не хватает жизни, что невозможно догадаться,
что под этой лиловой плотью течет кровь; все до ужаса ново -
мебель, одежда, новы даже лица, словно ими никогда не
пользовались... Величайшим изъяном картины Делароша, по сути, является
то, что она уж слишком походит на того рода живопись, которая
прежде всего хочет быть милой и чистенькой»2.
1 Ibid.
2 Ibid.
162
Глава третья. Образ и буква в новом открытии прошлого: Л. Ж. М. Дагерр,..
Таким образом, Планше выявляет проблему, с которой его век
только начал знакомится: проблему «репродукции мебели»,
которая воспроизводит почти все внешние детали, свойственные мебели
своего «времени», все кроме одной, самой важной - возраста этой
мебели. И все-таки, критика Планше, по-видимому, должна была
слегка огорошить бедного Делароша. Неужели Планше
предполагал, что старинная мебель и одежда той эпохи никогда не были
новыми? Обсуждаемый вопрос важен потому, что он связан с другой
проблемой - а откуда нам знать, как следует читать такую картину,
где критерий адекватности изображаемых в ней событий и вещей?
Стронг решает это вопрос, постулируя своего рода
психологический и своего рода сценический реализм, который перевешивает
случайную неправдоподобность в деталях: «Отказываясь от
изображения самого убийства, он совершает обратный сдвиг по
времени, к моменту предшествующему этому убийству. Герцог Йоркский
читает книгу своему брату королю, который сидит на кровати в
отрешенной мечтательности. Младший обратил свою голову от
книги, и глаза его полны страха. Спаниель насторожился, он смотрит
на дверь, из-под которой виден свет и сильно сгущаются тени, что
предполагает зарождение некоего действия. Это настолько
завораживает зрителя, что он не замечает, что колонны кровати вырезаны
узором бофортской решетки и розой Тюдоров», то есть эмблемами
короля Генриха VIII, правившего Англией в 1509-1547 годах1.
Конечно, колонны кровати вырезаны этими двумя геральдическими
эмблемами династии Тюдоров, так же как (по-видимому) и принца
Уэльского, но Стронг утверждает, что эта ошибка нейтрализована
реализмом полотна в целом. Если это не так, то получается, что мы
должны ставить художника исторического жанра в очень строгие
рамки, не распространяющиеся на других живописцев. Но
историческая живопись не подчиняется принципу абсолютной
синхронности всех элементов, как в моментальной фотографической
передаче. Интерпретация Стронга основывается на возможности
изобразить в картине предчувствия события; она толкует сцену, как
«момент осознания» молодым герцогом неизбежности убийства и
таким образом заставляет нас тоже узнать, что мальчиков
обязательно убьют. Почему бы эмблемам династии Тюдоров и не служить
предвестием конца предшествовавшего ей Дома Йорков? Разве это
1 Strong, The Victorian painter. P. 120-1.
163
Стивен Бенн
не является более вероятным, чем заключение о том, что Деларош,
который тщательно изучал все детали, совершил ошибку?
Этот вопрос нужно решить потому, что он помогает прояснить
статус отдельно взятой картины, написанной на исторический
сюжет. Существует один вид исторической живописи, который не
требует подтверждения. Это картина того времени, которое в ней
отражено. Тогда она превращается в документ, «истинную
страницу истории». Мы считаем очевидным, что детали своего времени
верно отражены в полотнах Веласкеса. А от Делароша требуем
точности в воспроизведении специфических особенностей жизни
давно минувших времен, чтобы он снабжал свою картину
невидимыми примечаниями, отсылающими нас к особенностям костюмов
или предметов мебели. Но индивидуальное полотно по своей
природе не в состоянии давать такую систему верификации.
Живопись Делароша можно интерпретировать как своего рода
неопределенное множество важных исторических деклараций.
Это - Орден Подвязки, иллюминированная книга, резная кровать
XV века и т.д. Мы, в целом, вполне готовы принять все это за
истину, отчасти чувствуя старательность Делароша, отчасти потому, что
кажущаяся сиюминутность изображения, через метонимию
является порукой его подлинности. Но мы не знаем, каким именно
образом эти декларации связаны синтаксически, как обстояло бы дело
с большинством банальных нарративных утверждений: «Принцы
сидели на старинной резной кровати; на старшем из них надет
Орден Подвязки, а младший читает ему иллюминированную книгу».
Такое предложение вопреки своей банальности может
сформировать часть цепи предложений, которые стали бы историей об
убийстве принцев. Изображенный образ, даже если в нем
засвидетельствована подлинность целого ряда точных визуальных деталей, изъят
из континуальности нарратива. Он просто указывает на «другую
сцену», которая и является исторической фатальностью. То, что,
как считает Стронг, является живописным и психологическим
реализмом картины Делароша, есть просто факт ее риторической
потенциальности. Картина одновременно утверждает и уничтожает
себя в предвкушении не-коммунитарного события. Без сомнения,
здесь звучит отголосок формулы, подмеченной Ноэлем Патоном
в картине Делароша «Паоло и Франческа», впервые выставленной
в 1837 году Паоло и Франческа, склонившиеся книгой, занимают
центр композиции, в то время как слева от них - как след ранее вы-
164
Глава третья. Образ и буква в новом открытии прошлого: Л. Ж. М. Дагерр,..
полненной на более крупном плане фигуры - костлявые пальцы
мстящего супруга завершают свое зловещее и пророческое появление.
Двойственность достижения Делароша проявляется в его
вкладе в новое открытие прошлого. Создавая свой «технический
сюрприз» не средствами стилистической бравурности Делакруа, а
тщательным изучением археологических деталей, он быстро движется
к реализации определенного типа сюжетного материала. Будь то
принцы в башне, или Мазарини в момент своей смерти, или леди
Джейн Грей в повязке, наложенной на ее глаза палачом, или даже
Карл I, осмеиваемый сторонниками Кромвеля, Деларош становится
поэтом надвигающейся катастрофы. Даже там, где катастрофа уже
произошла (Кромвель, осматривающий мертвое тело Карла I), мы
все-таки поражены громадностью события, переживание
фатальных последствий которого было инспирировано в нас художником.
Как выражается Барт, ссылаясь на исторические фотографии, мы
трепещем перед катастрофой, которая уже произошла1. Однако
психологическая сила подобного эффекта с необходимостью
вариативна: мы больше тронуты нависшей над такими невинными
людьми, как принцы в башне или леди Джейн Грей, опасностью, чем
сочувствуем дряхлому Мазарини, испускающему дух в своей
постели. Воздействие картин неоднозначно потому, что зависит от
нашей предрасположенности соединять фатальность событий с
прочным ощущением непохожести прошлого. То, что начинается,
как историческая живопись, рано или поздно превращается во
вневременную мелодраму. У последователей Делароша это уже только
мелодрама, оживляемая лишь тщательно выписанными деталями
костюмов, что и отметил Теккерей.
В 1856 году, после смерти Делакруа, Школа изящных искусств
посвятила его работам ретроспективную выставку. Впервые
зрители увидели выстроенными согласно датам их создания фактически
все важные работы самого типичного из художников, писавших на
исторические темы. Среди тех парижских посетителей выставки
был молодой Генри Джеймс, путешествовавший вместе с
родителями по Европе. В автобиографии, названной им «Маленький
мальчик и другие», Джеймс признается, что только энтузиазм его брата
1 Barthes Roland. La Chambre claire - Note sur la photographie. Paris, 1980.
P. 150. В частности, Барт ссылается на «Портрет Льюиса Пейна» Александра
Гарднера, на котором в камере изображен ожидающий казни приговоренный
к смерти мужчина.
165
Стивен Бенн
Уильяма убедил его в величии Делакруа. Но в величии Делароша
он не сомневался. «И все же Les Enfants d'Edouard с трепетом
настроили меня на другой лад, и я не мог сомневаться, что вытянутое
странное лицо старшего принца, печальное, страдальческое и
большое, широкие волны светлых волос, свисающие с кровати
фиолетовые ноги с подвязкой и были наитончайшей
реконструкцией отдаленной истории, "последним словом" психологии... Ни на
какой другой выставке она не доставляла мне столько
удовольствия, сколько я получил тогда, на мемориальном показе,
устроенном вскоре после его смерти в одном из довольно холодных залов
Ecole des Beaux-Arts , вход в который был со стороны набережной.
Там, - а где же еще - и воскрешала история, - на усыпанном
соломой эшафоте обезумевшие леди в треугольных шапочках и с этими
огромными свисающими рукавами, заставлявшими их выглядеть
так, словно через плечо у них накинуты пляжные полотенца; казнь
на плахе, палач, завязывающий глаза леди Джейн Грей...»1.
Воспоминания Джеймса явно ироничны. И все же ирония станет еще
язвительнее, если мы вспомним, что в 1914 году, год спустя после
первого выхода в свет автобиографии «Маленький мальчик и
другие», Джеймсу пришлось вернуться к своему собственному проекту
«воссоздания истории», к неоконченному роману, который мы
знаем под заглавием «Чувство прошлого». Почти нерешаемые
проблемы, которые Джеймс поставил перед собой в этом проекте,
образуют резкий контраст с воспоминаниями его детства о посещении
выставки картин Делароша. Из ребенка, который с такой
готовностью соглашался с тем, что навевалось картинами этого художника,
вырос романист, оставивший нерешенной серьезную задачу
воссоздания прошлого.
* Ecole des Beaux-Arts (φρ.) - Школа изящных искусств.
1 James Henry. Autobiography New York, 1956. P. 194-195. Джеймс замечает,
что от его собственного юношеского очарования картинами Делароша следует
решительно отказаться: «Маятник, наконец, был остановлен в совершенно другой
точке...».
166
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПОЭТИКА МУЗЕЯ:
А. ЛЕНУАР И А. ДЮ СОММЕРЕР
Историк живописи лорд Кларк рассказывает, что когда он
гостил на вилле Б. Беренсона во Флоренции, он каждый вечер,
поднимаясь к себе, всякий раз проделывал в столовой один и тот же
эксперимент - сдвигал на несколько дюймов в сторону маленькую
бронзовую статуэтку эпохи Ренессанса. И каждое утро, спускаясь к
завтраку, он замечал, что она оказывалась возвращенной в точности
на свое прежнее место. Эта история, конечно же, не иллюстрация
мании порядка. Если не для лорда Кларка, то, без сомнения, для
Беренсона, бронза была не просто предметом, который можно
двигать с места на место без нанесения ущерба ее эстетической
значимости. Это был элемент системы, и его отношение с другими
элементам должно было постоянно поддерживаться. Так, незаметно,
шаг за шагом, дом Беренсона превращался в музей Беренсона.
Остается гадать, как трансформировали этот порядок наследники
Беренсона после его смерти. Беренсон сам определял место каждого
экспоната, руководствуясь собственным ассоциативном рядом, но
вот сохранили ли эти его намерения новые распорядители его
коллекции, задав ту же систему? Если нет, то музей, скорее всего,
распадется, превратившись в форму anomie . Если отсутствие
Беренсона разрушает всю систематичность его коллекции, то и ее
синтагма (порядок предметов в реальном пространстве) тоже
неизбежно лишилась бы связности. Если бы музей продолжал
функционировать как система, то есть пытался вступить в диалог со зрителем,
то обнаружил бы нарушение речи, или афазию. Связи и отношения,
которые в свое время были визуальным проявлением единого
# Anomie (φρ.) - букв, отсутствие организации.
167
Стивен Бенн
взгляда на искусство и мир, теперь были бы в лучшем случае
только слегка близки к этому взгляду1.
Этот пример (безусловно, полностью гипотетичный), приведен
мною для того, чтобы подчеркнуть хрупкость того типа
коммуникации, к описанию которого я собираюсь здесь приступить. Во
введении я упоминал гипотезу Д. Спербера о «фокализирующей»
способности риторики, способной создавать пара-лингвистические
структуры внутри специфических совокупностей объектов.
Экспонаты, собираемые коллекционером, попадают они в конечном итоге
в музей или нет, представляют собой идеальный случай проверки
правильности этой гипотезы. Но, с другой стороны, энтропия или
разрушение порядка со временем так воздействует на коллекцию
экспонатов, что мы навсегда утрачиваем возможность восстановить
целостность их оригинальной системы или кода. Можно, конечно,
утверждать, что такое восстановление вовсе и не нужно, так как
экспонаты, рождая новые смыслы, должны быть освобождены от
паранойи подчинения всеохватывающей системе. Однако при этом
известны все преимущества периодически устраиваемого
тотального переучета экспонатов музейной коллекции.
Выбирая название этой главы «Поэтика музея», я хотел
реконструировать формирующие процедуры и принципы, определяющие
типы музея, и связать эти процедуры с эпистемологическими
допущениями нашего времени. Конечно, нет закона, определяющего
каким должен быть музей того или иного времени, то есть, в каком
порядке должны быть выстроены экспонаты его собрания для того,
чтобы мы могли рассуждать о «поэтике» музея. Длинная пред-
история создания Британского музея, начиная с наследства Слоана
1753 года до открытия в 1851 году нынешнего помещения музея, не
совсем подходит для наших целей потому, что первая коллекция
этого музея, располагавшаяся в Монтегю-хаусе, была позже
реорганизована*. Герцог Элджин во время своих скитаний по Лондону
со своими громоздкими мраморными статуями пришел к выводу,
что нет никаких причин считать, что предметы коллекции должны
1 Barthes Roland. Elements of Semiology. P. 21 (рус. перев. Барт P. Основы
семиологии // Структурализм: «за» и «против». М., 1975).
Имеется в виду коллекция книг, оттисков, гравюр и много другого,
завещанная сэром Хансом Слоаном (1660-1753), естествоиспытателем, коллекционером и
инвестором Британской нации. Это стало основанием создания Британского музея,
открытого в Блумсбери (Лондон) в 1759 году.
168
Глава четвертая. Поэтика музея: А. Ленуар и А. Дю Соммерер
быть обязательно размещены согласно некоей концептуальной и
пространственной схеме . Но история формирования Музея де
Клюни в Париже дает пример совсем другого рода. Эта история,
вплоть до момента официального открытия музея в 1843 году,
является идеальным источником, помогающим проследить развитие
исторического дискурса и чувства истории в эпоху романтизма.
В этой главе я, основываясь на моих предыдущих
рассуждениях, сформулирую некоторые общие соображения, касающиеся
феномена музея как специфического примера трансформации
установок романтизма по отношению к прошлому. Для начала я
попробую оспорить современные представления о том, что исторический
дискурс всегда ограничивается историческим текстом в узком
смысле этого понятия. В своей работе «Искусства Средних веков»
(которая начала печататься с 1838 года) Александр дю Соммерер,
основатель Музея де Клюни, бросил вызов этому представлению,
олицетворенному в часто цитируемом панегирике сэру Вальтеру
Скотту, написанном Тьерри в «Письмах об истории Франции»1. Дю
Соммерер предлагает альтернативу историческому нарративу -
музей как новый способ пробуждения интереса публики к эпохе
Средневековья: «В нашем случае интерес к средним векам
пробуждаем историей, придавшей смысл материальным объектам,
вдохновлявших великого шотландского художника, их страстного
коллекционера. Точно так же методическое коллекционирование
свидетельств жизни наших предков может помочь оживлению
интереса и к чтению наших летописей»2. Соммерер говорит о приоритете
исторического предмета над историческим текстом. Собрание
таких предметов приобретает смысл не просто как иллюстрация
средних веков, как было показано Скоттом и хронистами. Оно
оживит чтение оригинальных текстов живыми ощущениями. Дю
Соммерер, безусловно, прав, упоминая неподдельный интерес Скотта к
изучению материальных следов прошлого. Об этом говорит и
Вашингтон Ирвинг, рассказывая о посещении Абботсфорда3. Дю
Соммерер хорошо понимал, что для Скотта переход границ печатного
* Томас Брюс, 7-й герцог Элджин (Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin) (1766-1841) -
английский дворянин, дипломат, известный тем, что привез мраморные
скульптуры афинского Парфенона в Англию. Сегодня они размещены в Британском
музее.
1 Thierry Augustin. Lettres sur l'histoire de France. Paris, 1842. P. 81.
2 Sommerard Du. Les arts au moyen âge... Paris, 1838-46. Vol. I. P. iii.
3 Irving Washington. Abbotsford and Newstead Abbey. London, 1835.
169
Стивен Бенн
текста через демонстрацию исторических предметов был
возможностью вызвать непосредственные ощущения переживания
прошлого. Непременным условием было одно - все предметы должны
были быть результатом «методического коллекционирования».
Дадим короткую биографическую справку о нашем герое.
В сущности, вся его жизнь была жизнью коллекционера, ради своей
коллекции (как писал после его смерти его сын) он пожертвовал
всем: «состоянием, здоровьем и (самим своим) существованием»1.
Александр дю Соммерер родился в 1779 году, он был
представителем обширного класса провинциального noblesse de robe -
судебных чиновников и банковских служащих. После Революции он не
эмигрировал, а стал волонтером Революционной армии и принял
участие в шести военных компаниях, последней их которых стала
итальянская компания Бонапарта 1800 года. Создание Империи
позволило ему занять постоянную должность при Счетной палате
Франции - типичная карьера человека его круга, не будь
Революции. Но даже тогда львиную долю своей энергии Дю Соммерер
посвящал попечению искусств, собирая небольшую коллекцию
рисунков и держа салон, посещаемый по большей части
художниками. С наступлением Реставрации он стал активным членом вновь
образовавшегося «Общества любителей живописи» и именно в эти
годы (как следует из текста его некролога) начала формироваться
его коллекция предметов эпох Средневековья и Возрождения.
«Методическое коллекционирование». Мы можем
ретроспективно проследить некоторые этапы развития этого метода, который
у Дю Соммерера в конечном итоге принял форму некоего
собирательского безумия. В начале Реставрации собираемые им предметы
старины в первую очередь использовались в качестве моделей для
зарисовок художников, приглашаемых в салон Дю Соммерера.
Однако где-то к 1825 году эта их вспомогательная роль,
соответствующая общепринятой студийной практике и классической
доктрине копирования, сменилась чем-то гораздо более важным. Дю
Соммерер сам стал моделью. Его портрет написал Ш. Рену: он
изображен сидящим в кресле в его «Cabinet d'Antiquités», беседую-
1 Les Arts au moyen âge. Vol I. P. viii. Следующие за этим биографические
подробности взяты из некролога Дю Соммерера, который появился в Bulletin de la
Société de L'Histoire de France (Année 1841). P. 294-297.
* Noblesse de robe (φρ.), в дореволюционной Франции название дворянства,
образовавшегося из лиц судебной профессии, в отличие от родовой знати
рыцарского происхождения - noblesse d'épée.
170
Глава четвертая. Поэтика музея: А. Лену ар и А. Дю Соммерер
щим с каким-то посетителем в окруженнии экспонатов коллекции.
В самом названии картины чувствуется влияние Скотта -
«L'Antiquaire» - «Антиквар». Интересно то, что уже в следующем
году Дю Соммерер расстался с той частью своего собрания
раритетов, которая послужила его основанием. Это были рисунки
современной Французской школы живописи. Каталог аукциона, на
котором распродавались эти рисунки, описывает Дю Соммерера как
анонимного коллекционера, «страстного и ненасытного любителя»
старины. В нем указано, что этот коллекционер распродает часть
своей коллекции потому, что она разрослась до гигантских
размеров и уже не помещается в отведенное для нее помещение1. Но
вполне вероятно, что дело заключалось совсем в другом - в
необходимости систематизировать накопленный материал. На картине
«Антиквар» изображено хаотическое скопление предметов в
ограниченном пространстве, где доспехи и стрелковое оружие
переместились уже на ковер. В конце концов, Дю Соммерер решил
проблему размещения своей коллекции: в 1832 году он снял квартиру
в Аббатстве Клюни, в доме, построенном в стиле поздней готики,
примыкавшем к Пале де Терм на пересечении бульваров Сен-
Жермен и Сен-Мишель. Журналист Жюль Жани так описывает
обстоятельства этого переезда: «Собрав свою коллекцию, месье Дю
Соммерер решил, что пришло время привести ее в порядок. Он
решил, что лучше всего было бы разместить ее в самом старинном
замке Франции, к тому времени, правда, лежащему в руинах. Так
как он не был достаточно богат для того, чтобы приобрести Пале де
Терм целиком или хотя бы занять весь Отель де Клюни, ему
пришла идея арендовать самую живописную и лучше всего
сохранившуюся его часть до конца своей жизни»2. Вероятно, Жани полагал,
что Дю Соммерер в идеале вообще мечтал поселиться в Отеле де
Клюни, одновременно разместив свою коллекцию в просторных
залах Пале де Терм. Но денежные ресурсы не позволяли ему такой
роскоши, и, вероятно, это оказалось к лучшему. Когда Отель Де
Клюни был открыт для посещения публики, его маленький дворик
все еще наводняли многочисленные повозки, а сам Дю Соммерер
1 Catalogue d'une belle collection de tableaux... pro venant du Cabinet de M. Du S.
(March 1826). P. 3.
2 Les Arts au moyen âge. P. v. Очевидно, для Дю Соммерера вся прелесть Отеля
де Клюни состояла в уникальной концентрации различных аспектов истории
архитектуры Франции.
171
Стивен Бенн
представлял собой неотъемлемую часть просмотра коллекции.
Эмиль Дешам в своих письмах 1834 года описывает этот переезд
«Обстановка, драпировка, витражное стекло, блюда, доспехи,
посудная утварь и драгоценности - все, как в сказке, было
восстановлено и сохранено; вы попадаете прямо в сердце исчезнувшей
цивилизации; вы окунаетесь с головой в добрые старые рыцарские
времена, а сердечное гостеприимство хозяина Отеля де Клюни
довершает иллюзию»1. Очевидно, что в такой синтагматической цепи,
как меблировка, драпировка, витражное и фаянсовое стекло,
доспехи, посудная утварь и драгоценности, таится более чем угроза
хаоса, бессмысленного сопоставления. Но текст путеводителя
пытается доказать обратное. Полноту системы подтверждает дух «добрых
старых рыцарских времен», а владелец выставки поддерживает эту
иллюзию.
Ш. Рену «Антиквар» - портрет А. Дю Соммерера
Коллекция Дю Соммерера в том виде, в каком начиная с 1830-х
годов она выставлялась в Отеле де Клюни, была не только
потрясающим спектаклем. Она была новым опытом. Ее принципиальная
1 Ibid. Р. 234. Deschamps Emile. Visite à l'hôtel de Cluny, 1834.
172
Глава четвертая. Поэтика музея: А. Ленуар и А. Дю Соммерер
новизна состояла в ее способности окутать современников Дю
Соммерера иллюзией прошлого. Но любое новое может быть
оценено только в его сравнении со старым, поэтому я рассмотрю
систему исторического дискурса, предшествующую системе Дю
Соммерера. Связь, которую я установлю между ними, основана на
принципе, разработанном Мишелем Фуко в работе «Слова и вещи»,
а именно принцип episteme, или эпистемологической тотальности,
внутри которой различные дискурсы своего времени структурно
связаны друг с другом. На первый взгляд закрытая система
дискурса (такого, как, например, исторический дискурс) в
действительности дробится путем coupure - «эпистемологического разрыва»,
говоря языком Г. Башляра, или разрыва, который означает сдвиг от
одной episteme к другой. Пример долгого, страстного и
изматывающего «методического собирательства великолепных
свидетельств жизни наших предков», осуществленного Дю Соммерером,
показывает, что в историческом дискурсе произошел
эпистемологический разрыв, определяющий новизну романтизма. «Рыцарское»
пространство, в которое погружали в 1830-е годы парижскую
публику, больше не было историческим пространством XVIII века или
эпохой классицизма.
Когда в 1843 году французское правительство, наконец,
приняло на себя обязательства содержать Музей де Клюни, в нем
находилась не только коллекция Дю Соммерера, но также обширное
собрание всякого рода древностей французской истории,
организатором которого во времена Революции был Александр Ленуар.
Сначала это собрание размещалось в аббатства Малых
августинцев1. Разумеется, оно было составлено при совершенно иных
обстоятельствах и в соответствии с совершенно иными принципами,
чем коллекция Дю Соммерера. Ленуар не столько собирал, сколько
спасал те французские национальные памятники, которые еще
можно было спасти от обветшания и разрушения, что стало
результатом конфискации церковной собственности революционным
правительством. Среди исторических памятников, которые он
перевозил в безопасные места, были сокровища огромной ценности,
например фонтан из поместья Дианы де Пуатье Шато Аннет, который
предположительно проектировал Жан Гужон. И все-таки все эти
памятники были, в сущности, фрагментами, часто сильно повреж-
1 Michaud. Biographie universelle (nouvelle édition). Vol. xxiv. P. 133; also, см.:
Anonymous. Paris à travers les ages. Paris, 1875-82. Vol. II, livraison [no.] 53. P. 40.
173
Стивен Бонн
денными, что красноречиво свидетельствовало о решительной
переоценке французской истории в эпоху Революции. Но Ленуар не
просто спасал. Он выставлял восстановленные предметы на
публичное обозрение, следуя общей хронологической схеме истории,
чего раньше никто никогда не делал. Дневник лорда Джона Кэм-
пбела, посетившего Францию во время недолгого Амьенского
мира, приводит краткое, но яркое описание этой выставки «...мы
пошли посмотреть на монастырь августинцев, где находятся на
сохранении все те гробницы и памятники, которым удалось избежать
ярости революционеров (они размещены по разным кельям и
комнатам). В каждой комнате содержатся образчики скульптуры и
изваяний, распределенные по столетиям, начиная с самых ранних
периодов искусства. Все это освещается светом, льющимся через окна
цветного стекла, которые и сами, возможно, почти такие же
древние. Среди них... можно отыскать несколько чрезвычайно красивых
и любопытных артефактов»1.
Музей де Клюни. Франгсузская комната (коллекция Дю Соммерера)
1 Journal of Lord John Campbell (Inveraray Castle Archives). P. 12 (entry for 24
Feb. 1803).
174
Глава четвертая. Поэтика музея: А. Ленуар и А. Дю Соммерер
Свидетельства лорда Джона дают чересчур упрощенное
впечатление об организации музея. Там имелся впечатляющий «Salle
d'Introduction», или вестибюль, с оригинально разрисованным
потолком начала XVIII столетия. В нем были выставлены скульптуры,
охватывающие почти всю историю, от античности и до XVII
столетия. Но самым главным была атрибуция Ленуаром экспонатов
выставки согласно их эпохе, для чего потребовалось более пяти
отдельных залов музея. По-крайней мере история Франции от
XIII столетия до века Людовика XIV была проиллюстрирована
в ясной парадигматичной форме. К сожалению, в 1816 году Ленуар
был вынужден закрыть музей, отчасти из-за застарелой
закоренелой вражды с К. де Квинси, который новым правительством
Бурбонов был назначен «Главным попечителем искусств и общественных
памятников». Но к тому времени французская и иностранная
публика уже имела возможность увидеть историческую
репрезентацию, предлагаемую в аббатстве Малых августинцев. Посетители на
своем опыте ощущали, как конкретизируется понятие «столетие»
благодаря всего лишь последовательному, век за веком,
размещению соответствующих монументальных фрагментов.
Разумеется, что принятая Ленуаром модель имела свои
границы. Единица «столетия» - понятие схематическое, и может
показаться, что объединенные только временем своего создания,
памятники слабо сочетались друг с другом. Здесь употребленное лордом
Джоном слово «образцы» представляется вполне
соответствующим. Внутри каждого «столетнего» набора фрагмент «образца»
метонимически представлял целое (Аббатство или Шато) больших
размеров, из которого его изъяли. С другими «образцами» он мог
и не ассоциироваться, а просто располагаться по соседству. В
отличие от Музея де Клюни, здесь отсутствовал эффект иллюзии и
целостности исторически-подлинного окружения, где фрагменты
прошлого как бы соединялись воедино.
И все же нельзя утверждать, что Ленуар просто создал
прецедент для позднейшего успеха Дю Соммерера. Ссылаясь на Фуко,
я подчеркиваю, что вопрос не в том, чтобы расставить двух
коллекционеров по разным точкам единой эволюционной схемы, а в том,
чтобы показать, как разные типы дискурса относятся к разным
эпистемологическим тональностям. Свидетельство того, что осталось
от самих музеев само по себе может оказаться недостаточным для
этого. Но у Ленуара есть поразительное дополнительное свидетель-
175
Стивен Бенн
ство. Это письмо, которое он написал в «Охранный комитет
общественных памятников» в самом начале эпохи Реставрации. Оно
было рпубликовано в 1880 году М. Жефреем и им же было
прокомментировано словами полнейшего негодования. Согласно Жефрею,
в самом начале существования своего музея Ленуар хотел
пополнить собрание работ великих французских художников бюстами
этих художников, а также бюстами некоторых великих
исторических личностей, современные скульптурные изображения которых
он был не в состоянии добыть. И тут обнаруживается
примечательный момент. По-видимому, Ленуар, не колеблясь смешивал
подлинные фрагменты со стилизованными под старину бюстами. Более
того. Некоторым скульпторам из числа знакомых Ленуара, были
розданы «мраморные обломки» из исторической коллекции для
того, чтобы они могли создавать новые бюсты. Как замечает Жефрей:
«Сколько ценных фрагментов, вероятно, погибло в результате этой
странной передачи, которой, по-видимому, никто не противился
и в которой сам Ленуар открыто признается в доказательство того,
что совесть его чиста»1. Как пытается сообщить нам Жефрей,
«открытое признание» Ленуара означает, что тот не понимал всей
ценности исторических артефактов, иначе «мраморные обломки»
автоматически стали бы более важными^ чем все то, что
современный скульптор мог бы создать с их помощью. Ужас Жефрея в связи
с варварским поведением людей классического века
показывает, что он-то все-таки понимал эту ценность. Но этим не
исчерпывается ошибка Ленуара. В своем письме Ленуар, фактически
подтверждает, что отдал скульптору Луи-Пьеру Десену подлинный
череп Гелуаз (такой, знаете ли, малозначимый обломок) с тем,
чтобы он мог сверяться с ним во время создания для Музея бюста
этой несчастной женщины. Поразительны рассуждения Ленуара
о бюсте Гелуаз работы Десена, «который тот сделал по образцу
костей головы этой интересной женщины, которыми я его
снабдил». «Этот бюст заслуживает похвалы», - заключает он с тихой
гордостью2.
Что же у нас может получиться из такого дискурса, при
котором сделанный Десеном бюст Гелуаз ставится на почетное место,
1 Nouvelles archives de Tart français, Deuxième série. Vol. II. Paris, 1880-81. P. 278.
# Гелуаз д'Аргентей (1101-1164) - французская монахиня, писательница,
ученая и аббатесса, известная любовной связью и перепиской с П. Абеляром.
2 Ibid. Р. 381.
176
Глава четвертая. Поэтика музея: А. Лену ар и А. Дю Соммерер
но зато исключаются (а по сути отвергаются, как малозначащие,
и годные разве что для мимесиса) останки «этой интересной
женщины»? Наши собственные соображения о подлинности останков к
делу, конечно, не относятся. Ленуар, очевидно, верил в их
подлинность, но это мало что значило для его проекта. Также не нужно
думать, что организация экспозиции «по векам» служит
необходимым признаком интегрированной исторической среды, связной
системы. Вряд ли. На самом деле порядок, установленный Ленуа-
ром, есть пример чистой метономии, редукционистской
риторической стратегии, посредством которой часть выполняет обязанности
целого чисто механически, не реферируя к некой органической
тотальности. Современный бюст Гелуаз, как и любой другой,
заказанный Ленуаром, входит в этот метонимический порядок, как
часть-экспонат, прилегающая к другой части-экспонату. И в
данном пространстве сами останки просто не имеют познавательного
статуса.
До этого момента я в большой степени основывался на статье
Хейдена Уайта, который анализирует метод Фуко в понятиях тро-
пологии1. Уайт полагает, что под сдвигом от так называемой
классической episteme к романтической подразумевается движение от
тропа метонимии к тропу синекдохи. Если отношение часть - целое
в метонимии редуктивно и механистично, то в синекдохе
интегрировано и органично. Оба элемента «схвачены вместе» в качестве
аспектов целого, которое больше, чем сумма его отдельных частей
(как в выражении «Он весь в моем сердце»)2. И если принцип Ле-
нуара очевидно метонимичен, то принцип Дю Соммерера синекдо-
хичен. В Музее де Клюни экспонат из прошлого становится
основой интегративной конструкции исторических тотальностей. Когда
историк Проспер де Барант выступал в пользу покупки коллекции
Дю Соммерера французским правительством, то в оценке
экспонатов этой коллекции он недвусмысленно следовал принципу
синекдохи. Здесь каждый экспонат был проводником к исторической
среде и к реальным историческим героям, с которыми он когда-то
отождествлялся в ходе воображаемого процесса воскрешения
прошлого: «Шпага великого воина, знаки отличия прославленного са-
1 White Hayden. Foucault decoded: notes from underground // History and Theory,
12(1973), 23-54.
2 White Hayden. Metahistory. Baltimore, 1973. P. 35 {рус. перев. - Уайт X. Ме-
таистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002).
177
Стивен Бенн
модержца, драгоценности великой или несчастной королевы,
книги, в которых писатель оставил несколько своих пометок - так
велико количество реликвий, которые люди хотят увидеть, и которые
оставляют совсем иное впечатление по сравнению с мертвой
буквой книги, из которой мы познаем историю»1.
От «экземпляра» к «реликвии» - сам сдвиг в понятиях готовит
нас к радикальной перемене в понимании отношения
исторического экспоната к прошлому. Там, где Ленуар собирал
монументальные фрагменты, Дю Соммерер собирал и выставлял (когда этого
никто и нигде больше не делал) полный набор как ценных, так
и утилитарных экспонатов, оставшиеся от поздних Средних веков
и Возрождения. Он специально распределил эти экспонаты по
разным залам. Но этот его принцип дифференциации не был
механическим подразделением на столетия, как в музее аббатства Малых
августинцев: это была классификация, учитывающая уже
существующее распределение залов в Отеле де Клюни и богатые
ассоциации, которые они вызывали: «В часовне Отеля все экспонаты,
которые прежде имели религиозное предназначение - раки,
усыпальницы, церковные книги и так далее - были расставлены по порядку.
Чашки, фаянсовая и глиняная посуда нашли свое место в столовой.
Предметы мебели, такие как кровати, скамьи, ковры, канделябры
и пр. предметы XVI века служили украшением огромной комнаты,
которая еще с того времени, когда ее впервые обставляли, была
названа "Залом Франциска I". Наконец, салон и две галереи
образовывали своего рода нейтральную территорию, где были собраны
художественные экспонаты всех периодов»2.
Весьма занятна ремарка о «нейтральной территории». Она
напоминает упоминавшуюся Фуко «некую китайскую
энциклопедию», снабженную не совсем обычной таксономией, о которой
писал Х-Л. Борхес в одном из своих произведений3. Ясно, что
размещая экспонаты, Дю Соммерер старался избежать ленуаровской
системы распределения экспонатов по столетиям. Этот момент может
рассматриваться в контексте страсти Дю Соммерера, к
коллекционированию вообще, а также связи этой всепоглощающей страсти
и фетишизма. Страсть Соммерера к коллекционированию, как сви-
1 Barante Prosper de. Etudes littéraires et historiques (Paris, 1858). Vol. II. P. 421.
2 Bulletin de la Société de l'Histoire de France. P. 296.
3 Foucault Michel. Les Mots et les choses. P. 7 (рус. перев. -Фуко M. Слова и
вещи. Археология гуманитарных наук. Предисловие. М., 1994).
178
Глава четвертая. Поэтика музея: А. Ленуар и А. Дю Соммерер
детельствует его сын, была патологической. И все же, можно
считать, что Дю Соммерер перешагнул границу чисто фетишистского
рвения и стал человеком, успешно объединившим разъединенные
фрагменты в одно целое, восстановил часть целого.
Если мы сравним картину «Антиквар» с гравюрой того же
времени под названием «Зал Франциска I», то сразу же заметим
произошедшую трансформацию1. На картине все предметы находятся
в беспорядке. Их сочетания кажутся нелепыми: на столе
вперемешку с домашней утварью ютится миниатюра обнаженной фигуры,
а доспехи свалены на полу. Настала пора вмешаться самому
Антиквару и разобрать весь этот хаос, подбирая предмет за предметом
и приняться за рассказ об их истории - что, по-видимому и
происходит на картине. С другой стороны, на гравюре «Зал Франциска I»
каждому предмету отведено соответствующее ему место. Каждый
из них не только принадлежит своему времени, но все предметы
расставлены весьма рационально: стол, стоящий в центре, густо
уставлен предметами, которым и положено быть на столе - книги
и игральные кости. Доспехи аккуратно разложены, и даже кажется,
что два комплекта собранных доспехов заняты игрой в шашки
в проеме окна. Для того чтобы понять, что к чему на этой картине,
гид совсем не нужен. Она - жанр исторического портрета,
вероятно, самого Франциска I. Он берет этот зал под почетную, немую
опеку царственной особы, согласно синекдохе объединяет отсылки
на все изображаемые предметы.
Составим таблицу различий между «столетним» залом Ленуара
и «Залом Франциска I» Дю Соммерера, или любой другой из его
«тематических» комнат. Если мы примем экспонаты обеих
коллекций за единицы синтагматической цепи, тогда нам следует
допустить два момента принуждения системы, довлеющих над тем, как
эти синтагматические единицы функционируют в качестве
дискурса. Прежде всего, организующее системное понятие «столетнего»
или «религиозного» зала и, во-вторых, более широкую систему,
к которой относятся часть-предмет, вплоть до того, что она
организует нечто общее и вне стен музея. Помня об этих особенностях,
мы видим, что музей Ленуара характеризуется разьединением,
возникающим после каждой единицы в цепи. Экспонаты связаны про-
1 Les Arts au moyen âge, Album, plates χ (Vue de la Chambre dite de François 1er
and xxxix.
179
Стивен Бенн
сто схематичной «столетней» сцепкой, что и позволяет найти
в композиции место для современного бюста, который просто
копирует прошлое. Связь между каждой усыпальницей или фонтаном
и их оригинальным контекстом редуцирует части к целому, что ни
в коем случае не делает обязательной воображаемую сцепку между
сериями аббатств, шато и прочих монументов, которые были
источниками для Ленуара. Музей Дю Соммерера использует интегра-
тивные понятия «религиозная жизнь», «кухонная жизнь» и «зал
Франциска I» для того, чтобы указать на систему, которая
полностью гомогенна. Подчеркивая синекдоху, которая уводит нас от
фиксации внимания на части-экспонате к оживлению
исторического «пользователя» (наделенного именем или нет), мы создаем
сказочный мир «когда-то живой» истории. Такую историческую
реальность, реальность как опыт, риторика музея одновременно и
производит, и уничтожает. «История» становится реальной через
фикцию прозрачности исторической синтагмы.
Две рассмотренные коллекции свидетельствуют о
значительном сдвиге в характере исторического дискурса. Как
противоположности, они предполагают наличие «эпистемологического
разрыва» так, как его сформулировал Фуко и который был
идентифицирован Хейденом Уайтом как замена одного доминирующего
тропа другим. Ясно, что сам Фуко не претендует на объяснение
реального процесса «эпистемологического разрыва», а Уайту интересно
не столько собственное решение задачи, сколько доказательство
того, что дисконтануальность, утверждаемая Фуко,
несистематична. На самом деле, представляется мало оправданным с его стороны
подвергать сомнению этот тезис Фуко, даже если закономерным
результатом этого станет отделение дискурса от le vecu\ В конце
концов, цель исследования, подобного нашему, - показать, что
приравнивание определенного дискурса к le vécu есть действие скорее
риторического, чем естественного соответствия, которое остается
недоступным критическому анализу. Таким образом, нашей
следующей задачей является расширение границ исследования путем
помещения достижений Дю Соммерера в более широкий контекст и
соотнесения Музея де Клюни с другими формами исторической
репрезентации, уже обсуждавшимися в этой книге.
1 Foucault Michel. L'Archéologie du savoir. Paris, 1961 passim, (рус. перев. -
Фуко M. Археология знания. Киев, 1996.)
180
Глава четвертая. Поэтика музея: А. Ленуар и А. Дю Соммерер
Очевидно, что место Дю Соммерера в самой процедуре
исторической репрезентации исключительно. Историк Проспер де Барант
с его идеей стилистической прозрачности исторического нарратива
в 1824 году был благосклонно принят критиками, но не понят
последующими поколениями историков, в основном потому, что
технический инструментарий написания заместительной хроники,
хроники без авторского вмешательства, казался весьма
подозрительным по сравнению с подлинными, только что
опубликованными средневековыми источниками1.
Шоумен Дагерр своей диорамой имел ошеломляющий успех из-
за достижения особого технического эффекта в изображении
прошлого. От диорамы он перешел к дагерротипу, который (по
выражению Барта) уничтожил дистанцию между dasein («находиться
там») и dagewesensein («побывать там»). Иными словами, через
визуальное средство - фотографию, Дагерр получил то, чего не смог
достичь Барант в историописании. Но успех Дагерра в области
исторической репрезентации был весьма хрупким. Конечно,
фотография была отпечатком события прошлого. Но это
запротоколированное событие все равно было обречено оставаться немым - по
сути, замороженным - потому что не было способа вставить его
в цепь нарратива.
Дю Соммерер в полной мере понимал сложности этих двух
способов контрастной исторической репрезентации. Это понимание
можно увидеть на страницах его работ. Он прямо пишет о
необходимости найти некие технические ресурсы, которые помогли бы
успешно миновать Сциллу и Харибду и доставить груз порт. Еще в
1822 году в своей скромной работе под заглавием «Vues de Provins»
(«Виды Провена») он обнаружил следы формирования новой
исторической ментальности*. Своей первой задачей он объявляет
изгнание иронического или «сатирического» дискурса предыдущего
столетия: «Можно не жить в Провансе, но знать, что его обитатели
в течение более чем трех столетий спорят о древности этого
города... с того времени дискуссия, однако, потеряла остроту и полеми-
1 Дальнейшее обсуждение применения системы сносок Барантом см. в шестой
главе настоящего издания.
* Провен {Provins) - старинный город в Шампани, ныне в департаменте Сена и
Марна, Франция. Один из лучших в Европе образцов средневекового купеческого
города, памятник Всемирного наследия.
181
Стивен Бенн
ка превратилась в сатиру, подбавив в спор яду, вместо того, чтобы
его прояснить»1.
Дю Соммерер объявляет о прекращении этих споров и
предлагает нейтральный вариант: «простое описание монументов и
развалин в их теперешнем состоянии, представленных с их живописной
стороны». Что должно означать в этом контексте слово
«живописный»? Наверное, больше, чем просто выбор живописного формата
в изображении «монументов и развалин». Как вспоминал Проспер
Мериме, работа Vues de Provins интересна тем, что она - одно из
первых применений новой техники литографии к исторической
топографии, совпадающей по времени с первыми томами «Voyages
pittoresques» («Живописных и романтических путешествий по
старой Франции») Ш. Нодье2. Дю Соммерер и сам настоятельно
подчеркивал, что «эффект... на который, с нашей точки зрения, в связи
с изобретением литографии можно рассчитывать, заключается в
том что, живописные и исторические описания местности можно
продавать по умеренной цене, что даст возможность их покупать
людям с небольшим достатком»3.
Но новая печатная техника была высоко оценена Дю Соммере-
ром не просто из-за ее дешевизны и доступности. Это видно из
того, что он продолжал работать с самыми утонченными
современными методами репродукции, бывшими в его распоряжении,
доводя свое требование совершенства «описания» почти до фанатизма.
Когда в 1838 году он опубликовал первый том своего увенчанного
славой документалистского достижения «Искусства Средних
веков», он сделал все возможное, чтобы подчеркнуть
беспрецедентную комбинацию техник, которые были использованы при
воспроизведении исторических мест и объектов. Его работа плодотворно
завершилась «вопреки всем трудностям, которые мы сами
создавали себе, впервые некоторые пластины выполнены через
последовательные операции... {уменьшение, гравировка, перевод гравировки
на камень, окраска и моделирование линии литографическим ка-
1 Vues de Provins, dessinés et lithographies, en 1822, par plusieurs artistes... Paris,
1822. P. 1-2.
2 Sommerard Ε. Du. Musée des Thermes et de L'Hôtel de Cluny: catalogue et
description des objects d'art (Paris, s.d.). P. 681 (Notice on Du Sommerarnd père by
P. Mérimée).
3 Vues de Provins. P. 37.
182
Глава четвертая. Поэтика музея: А. Лену ар и А. Дю Соммерер
рандашом)» . Результат, даже для глаза человека нашего времени,
пресыщенного фотографическим изображением, был совершенно
поразителен. Фактически, этот труд, который стал выходить всего
за год до того, как Дагерр объявил о своем открытии миру, является
более убедительным доказательством (если таковое, вообще,
требовалось), непреодолимого движения к реализму, которое шло
параллельно (но, ни в коем случае им не исчерпывалось) с
технической инновацией фотографии. Дю Соммерер работает в том
неудобном поле репрезентации, где классическая доктрина мимесиса
больше не убеждает зрителя, и истина становится функцией все
возрастающей виртуозности, с помощью которой брешь между
оригиналом и изображением должна быть дезавуирована и
впоследствии замаскирована.
И все-таки, вопреки триумфу Дю Соммерера в области
живописной репродукции, его оригинальность в полной мере
проявляется в расстановке экспонатов Музея де Клюни. Эта новая система
связана с другими разработками в области живописной
репрезентации того времени, но существенно отличается от них. Беглое
сравнение Музея де Клюни с «Panstereomachia» при Пуатье Чарльза
Баллока (удивительное техническое творение, мимоходом
упоминавшееся в предыдущей главе) прояснит рассматриваемый вопрос.
Оно подавалось публике как «изображение битвы, полностью
состоящее из трехмерных фигур соответствующих пропорций»
Иными словами, зритель встречался со связно организованным
зрительным показом, поделенным на «передний план», «задний план»,
«дистанцию» и т.д., где группы связанных друг с другом фигур
разыгрывали различные эпизоды указанной битвы. Фигуры, или, по
крайней мере, те из них, что находились на переднем плане,
должны были стоять без подпорок в законченном виде, так как владелец
представления всячески показывал свою готовность встретиться «с
кем угодно, кто бы не пожелал приобрести группу или единичные
фигуры»2. Но фигуры полностью подчинялись перспективе сцены,
так же как спектакль был целиком посвящен нарративу битвы.
В проспекте, описывающем «Panstereomachia» значительное место
1 Les Arts au moyen âge. Vol. I. P. i.
2 An Historical and Descriptive account of the Battle of Poictiers compiled from the
best authorities, explanatory of Mr. Charles Bullock's Panstereomachia, or Model ofthat
Memorable Victory. London, 1826. P. 6.
183
Стивен Бенн
занимает прямо заимствованный у Фруассара «комментарий»
следующих одна за другой сцен этой военной операции, и «описание»
самого спектакля сводится к сноскам - «см. исторический
комментарий»1. Поэтому «Panstereomachia» паразитирует как на
картинной условности, так и на историческом нарративе. И с какой бы
тщательностью Чарльз Баллок не изучал «костюм и вооружение
того времени», его « артиллерийские и стенобитные орудия» были
всего лишь массивными макетами, чья убедительность была, в
общем, сомнительной. А вот Дю Соммерер выставил реальные
экспонаты, оставшиеся от исторического прошлого. Он классифицировал
их так, что сохраняя свою индивидуальность и подлинность, они
создавали полную версию прошлого. Экспозиции Музея де Клюни
не нужно было придавать визуальную форму согласно законам
перспективы. Не нуждалась они и в поддержке исторического нар-
ратива. От зрителя требовалось лишь небольшое усилие
воображения, актуализация синекдохи. Но не следует забывать и об
Александре Ленуаре. Слияние коллекции Дю Соммерера с коллекцией
Ленуара стало основой Музея де Клюни. Большинство из
коллекции Ленуара была размещена на внушительной территории того,
что осталось от Римских бань, которые соединены лестницей со
средневековыми залами Аббатства. Сын Дю Соммерера стал
первым директором объединенных коллекций, а сын Ленуара
оставался его партнером в качестве официально аккредитованного
архитектора музея.
«Поэтика» современного музея не является системой,
созданной Дю Соммерера, или Ленуаром. Она заключается в чередовании
предложенных ими двух стратегий музея. Это иллюстрируется
устройством таких музеев, как музей Виктории и Альберта в Лондоне
или Филадельфийский музей искусства. Коридоры и залы,
отданные под метонимическую последовательность школ и столетий,
прерываются «реконструированными» залами, предлагающими
трактовку салона как синекдохи, навеянную атмосферой Иль-Сан-
Луи, или столовой заброшенного дома-особняка времен короля
Якова . Быть может, автоматизм перемещений обычного посетите-
1 Ibid. Р. 42.
* Иль-Сан-Луи (île Saint-Louis) - небольшой остров на Сене в центре Парижа.
В XVII веке там были построены несколько весьма живописных зданий, hotels
particuliers.
184
Глава четвертая. Поэтика музея: А. Ленуар и А. Дю Соммерер
ля музея между этими двумя способами репрезентации
музейных экспонатов подразумевает замену синекдохически и
метонимически организованных музеев музеем ироничным, в котором
мы балансируем между различными видами художественной
проекции.
В чем едва ли можно сомневаться, так это в необычайном
престиже, который все еще присущ понятию реконструкции
исторических экспонатов и их размещению в музее. За последние несколько
лет Музей Метрополитен в Нью-Йорке реконструировал
египетский Храм Дендура, который величественно высится над полосою
воды на большой, специально выделенной для него огороженной
площадке*. На средства миссис Брук Рассел Астор
«Метрополитен» также разбил китайский сад двора династии Мин, что является
выдающейся и по сути дела гиперболической демонстрацией
поиска абсолютной подлинности во всех существенных деталях1. Это
несоизмеримо с возможностями, которыми обладал Дю Соммерер.
Но более важным являются изменения в способе референции к
истории. Дю Соммерер работал в то время, когда его
соотечественники вновь открывали собственную историю. Он разработал
уникальный способ удовлетворения социальных и культурных нужд, а до
него такой способ искали и находили писатели, историки,
художники и проч. Едва ли можно утверждать, что эти новые
достижения, какими бы изобретательными и популярными они ни были,
тесно связаны с культурным и историческим опытом. На самом деле
их историческое значение исчерпывается театральностью и экзотикой
изображения истории. То, что Храм Дендура должен стоять в
изоляции от всего, только лишь в нескольких ярдах от Пятой Авеню,
является, скорее следствием металепсиса, чем синекдохи . Это - реальная
* Храм Дендура - нубийский храм, построенный около 15 в до нашей эры, по-
священн Осирису. Выставлен в музее Метрополитен в Нью-Йорке с 1978 года.
1 Alfreda Murck and Wen Fong, A Chinese Garden Court - The Astor Court at the
Metropolitan Museum of Art, перепечатано из The Metropolitan Museum of Art
Bulletin (Winter 1980/81). Для этого проекта в китайскую провинцию Сычуань была
снаряжена особая экспедиция по заготовке традиционно использовавшейся для
таких случаев древесины нэн, а в деревню Луму, неподалеку от Сюйчжоу с тем,
чтобы изготовить особые изразцы из местной глины пришлось открывать старую
имперскую печь для обжига, «растапливая ее рисовой шелухой» // ibid. Р. 60-61.
** Металепсис (греч.) - риторическая фигура (один из видов метонимии), со-
стоящаю в замене предшествующего последующим, например гроб вместо смерть.
185
Стивен Бенн
вещь, и по сравнению с ней Музей Гетти в Малибу - всего лишь
суррогат Римской виллы первого столетия н.э. Но разница между
этими музеологическими монументами, возможно, не настолько
велика, как это может показаться на первый взгляд.
Мы не можем обсудить здесь эту важную проблему музеологии,
обратимся только к интригующему парадоксу Дю Соммерера.
Страстный коллекционер, он сумел перейти от своей
очарованности предметами прошлого к организации внятной и зрелищной
выставки этих предметов для публики. Конечно, сегодня Музей де
Клюни иной, чем при Дю Соммерере. Но он показал, как можно
сформировать у зрителя мощный и устойчивый образ прошлого.
Конечно, это зависит от исторической культуры посетителя музея.
В этом случае Дю Соммерер был слегка неправ, утверждая, что
«вещественные экспонаты» быстрее и непосредственнее, чем
тексты, стимулируют ощущение прошлого. Но смело заявляя о своем
родстве со Скоттом - «великим шотландским художником», - Дю
Соммерер обозначает проблему прямой, без посредников, связи
экспонатов с прошлым. Какие психологические механизмы могли
это объяснить? Неполнота биографии Дю Соммерера не дает
возможности обсудить это с точки зрения психологии. Но и Скотт
оставил множество красноречивых знаков личного субъективного
взгляда на историю, которые подкрепляли поэтику изображаемого
им прошлого.
* Музей Вилла Гетти в Малибу (часть музея Пола Гетти в Лос-Анджелесе)
содержит коллекцию художественных произведений Древней Греции, Рима и
этрусского искусства.
186
ГЛАВА ПЯТАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ МЕСТА:
ДЖ. БАЙРОН И В. СКОТТ
В конце августа 1817 года молодой американский писатель
Вашингтон Ирвинг, имея на руках рекомендательное письмо от поэта
Томаса Кэмпбела, предстал у ворот Абботсфорда в надежде
встретиться с тогда еще не произведенным в рыцарское звание
Вальтером Скоттом. Скотт принял Ирвинга, и тот провел в Абботсфорде
несколько дней, прогуливаясь по окрестностям в компании хозяина
замка и подолгу беседуя с ним обо всем, что удалось увидеть. Его
записки об этом визите к Скотту, правда, позже названные
критиками «скудными и невнятными», тем не менее стали самым
живым свидетельством жизни Скотта в его поместье, и обширно
цитировались Дж. Локхардом в работе «Жизнь Вальтера
Скотта» . Вероятно, в свое время Ирвинг не стал их публиковать
потому, что не считал их законченными. В 1820-е годы он посетил
родовое гнездо лорда Байрона в Ноттингемшире и в 1835 году издал
книгу под названием «Абботсфорд и Ньюстедское Аббатство»,
в которой объединил воспоминания о своем визите к Скотту и в
поместье Байрона1.
Сравнивая эти воспоминания, нельзя не заметить их
значительную разницу. Она заключалась не просто в разных датах визита
и их обстановке. Объединяющим центром первого описания
является помещик из Абботсфорда. Его репутация поэта, хорошее зна-
* Локхарт Дж. Г. (Lockhart John Gibson, 1794-1854) - шотландский писатель и
издатель, известный своим семитомным трудом «Жизнь Вальтера Скотта»,
опубликованном в 1837-1838 годы.
1 Abbotsford and Newstead Abbey, by author of «The Sketch-Book» London, John
Murray, 1835. Следующее издание книги было осуществлено в Лондоне в 1850
году, снабженное приложением «специально для этого издания» (которое, однако не
принадлежало перу Вашингтона Ирвинга) (рус. перев. см. Вашингтон Ирвинг.
Ньюстедское аббатство. Историческая заметка. Из книги «Аббатсфорд» // Т. 2,
М., 2002).
187
Стивен Бенн
ние истории приграничной территории, его планы достроить свой
замок, эту «колоссальную феодальную громадину», которую
Ирвинг увидел на начальной стадии строительства, - все это искусно
замкнуто на портрете Скотта, выписанного в мельчайших деталях.
Сам Ирвинг утверждал, что для него как для писателя встреча со
Скоттом была очень важна1. А вот в Ньюстеде, куда приехал
Ирвинг, хозяин поместья был в отъезде и его место занял
доброжелательный, но сильно уступающий реальности суррогат. Получилось,
что Ирвинг приехал понаблюдать и описать некоторые внешние
моменты жизни Байрона. Гостеприимство ему оказал полковник
Уайлдмен, школьный товарищ Байрона и покупатель поместья.
И если Абботсфорд просто опьяняет поэтической аурой,
сообщаемой ему Скоттом, то в Ньюстеде все не так. Ирвингу приходится
прикладывать усилия, чтобы отыскать следы Байрона и так описать
архитектуру Ньюстеда, канонизированную цитатами из "Чайлд
Гарольда" и "Дон Жуана", чтобы вызвать в памяти образ поэта. Как
бы понимая, что он предлагает нам постановку Гамлета без самого
принца, Ирвинг заканчивает свой дневник пространной историей
о «Маленькой белой леди», которая, якобы, часто появлялась на
территории Аббатства, тоскуя по поэту, с которым, однако, она
встречалась только на страницах его книг. Если описание визита
в Абботсфорд объединено фигурой Скотта, то визит в Ньюстед
обретает странную и фрагментарную форму, в которой анекдот
теснит цитату, а заключительные части почти тоскливо
сентиментальны в своем стенании по отсутствующему лорду Байрону.
Эти два рассказа Ирвинга можно, конечно, не воспринимать
всерьез. В конце концов, «Абботсфорд и Аббатство Ньюстед»
является работой случайной, написанной автором, имеющим
склонность к жанру «альманаха». Также вполне справедливо, что
характер обоих описаний в большой степени продиктован характером
двух посещавшихся Ирвингом домов. Абботсфорд, без сомнения,
находился, в, так сказать, переходной стадии. «Колоссальная
феодальная громадина», которой дал рождение весьма скромный особ-
1 В статье об Ирвинге, содержащейся в Словаре Американских Биографий
(Dictionary of American Biography. 1932), сообщается, что финансовые трудности
принадлежащей его семье фирме и, в тот же год, смерть матери, привели к кризису
в его жизни, разрешению которого, по-видимому, помогло посещение Скотта.
Автор этой статьи полагает, что «за исключением встречи Эмерсона и Карлейля
в Крейгенпаттоке, никакое другое знакомство американского и английского
писателей не давало столь значительного результата».
188
Глава пятая. Историческая композиция места: Дж. Байрон и В. Скотт
няк, только появлялась на свет: часть стен, окруженных лесами,
уже поднялась до высоты коттеджа, а внутренний двор был
загроможден глыбами тесаного камня»1.
Абботсфорд, поместье В. Скотта. Южный двор.
Не удивительно, что Скотт, с восторгом взирая на то, как его
грандиозный проект прямо на глазах приобретает вожделенную
форму, притягивал внимание и будоражил воображение
собеседника! С другой стороны, Ньюстед. Его мучительно восстанавливали
из полуразрушенного состояния, на которое его обрек дед Байрона
и из которого сам Байрон был не в состоянии его вывести. И,
конечно же, если Абботсфорд - со всеми его размерами - был
единой связующей архитектурной концепцией, то Ньюстед был
результатом насильственного брака между секулярным и
религиозным:
1 Abbotsford and Newstead Abbey. P. 5.
189
Стивен Бенн
.... фамильное аббатство
В котором архитектор проявил
Готической фантазии богатство:
Старинный монастырь построен был
Трудами католического братства...]
Строки, конечно, взяты из «Дон Жуана» Байрона, и Вашингтон
Ирвинг, несомненно, не первым заметил прозрачность
байроновского текста там, где это касалось Ньюстеда. Не был он и
последним, так как на титульном листе сегодняшнего путеводителя по
этому дому-музею процитированы те же строки. Поэтому и эта
глава моей книги начинается с прямого сравнения двух известных
загородных домов, название которых стали названием и работы
Вашингтона Ирвинга. Предметом нашего исследования станет
отношение между этими двумя домами и их прославленными
обитателями. В общем виде, это довольно неустойчивые отношения
архитектуры и текста. Ньюстед есть часть байроновского текста, что
показывает даже беглый взгляд на собрание сочинений Байрона.
Помимо отрывков из «Чайльд Гарольда» и «Дон Жуана», которые
могут ( впрочем, не так уж однозначно) служить прямым
референтом Ньюстеду, вспомним такие стихотворения как «Дубу в Нью-
стеде» и «Элегия на тему Ньюстедского Аббатства». Абботсфорд,
личное архитектурное детище самого Скотта, понятно, так же
иносказательно и пристрастно не присутствует в его поэмах и романах.
Но я полагаю, что его связь с литературными творениями Скотта
огромна. Спроектированный Скоттом и постепенно
материализующийся, особенно во время создания первых циклов романа
«Уэверли», он позволяет нам через аналогию нащупать то, что
можно назвать лежащей в их основе риторикой. Абботсфорд, или
связь Скотта с Абботсфордом, как свидетельствует Ирвинг,
позволяет нам проследить за узором на ковре Уэверли.
Приведем два характерных примера.
Во-первых, литературовед Мейнард Мек прочувствованно и с
большим мастерством утверждал, что вилла, на которой жил
А. Поуп и сад Твикенхэм были не просто сценой его поздних работ,
но и в каком-то смысле их непременным условием. Мек пишет:
«Я рискну предположить, что "создание" Поупом Твикенхэма есть
акт мифопоэтической фантазии, проектирующий (заимствуя фразу
1 Ibid. Байрон Дж. Г. Дон-Жуан // Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М, 1981. Р. 141.
190
Глава пятая. Историческая композиция места: Дж. Байрон и В. Скотт
из пособия по религиозной медитации) "композицию места", без
которой он не мог бы написать свои зрелые поэмы в том виде,
в каком мы их имеем сейчас»1. Это в полной мере относится и
к характерным особенностям «мифопоэтического воображения»
Скотта. А вот Байрон вряд ли создавал какие-либо «композиции
места»; если Скотт - положительный пример такого рода, то
Байрон- отрицательный. Байроновский Ньюстед во многих
отношениях обратная сторона Абботсфордской монеты. И я надеюсь
показать, что эта оппозиция не просто легкая риторическая антитеза,
а важный указатель той особой восприимчивости к историческому
месту, характеризующей дискурс начала XIX столетия.
Во-вторых, вспомним обсуждение в четвёртой главе музеев,
созданных Александром Ленуаром и Александром Дю Сомме-
рером. Скотт и Байрон - примеры того же типа. Байрон -
выразитель старого, Скотт - выразитель нового: разлом между иронией
XVIII века и наивностью XIX века. На первый взгляд, это может
показаться немного схематичным, но в ходе исследования будет
приобретать убедительность и неоспоримость.
Однако следует сделать одну оговорку. Рассуждая о Дю Сом-
мерере, я намеренно не касался вопроса о психологических
причинах его страсти к коллекционированию. В сущности, нет и
достаточных данных для такого рода анализа. Кроме того, этого привело
бы к ошибке petitio principii : из того, что Дю Соммерер тратил
свои деньги и здоровье на собирание огромной и сначала
беспорядочной коллекции, мы заключили бы, что он фетишист. В случае
с Байроном и Скоттом - все наоборот. Здесь отношение их текстов
к архитектуре их домов и к домашней обстановке поднимает
психологическую проблему, которую нельзя не заметить. Прежде
всего, это мотив наследства. Байрон еще ребенком наследует замок от
деда, который сделал все от него зависящее, чтобы наследники не
были допущены к наслаждению радостями владения имением.
Впоследствии, продав родовую землю, Байрон с таким же успехом
лишает этого наслаждения и своих наследников. Скотт же строит
Абботсфорд как субституцию наследства: построив основательное
средневековое подобие в нескольких милях вверх по Твиду, ему
удается компенсировать непредусмотрительность своих предков,
1 Maynard Mack. The Garden and the City - Retirement and Politics in the Later
Poetry of Pope 1731-1743. London-Toronto, 1969. P. 9.
Petitio principii - предвосхищение основания.
191
Стивен Бенн
отказавшихся от наследования Драйбургского Аббатства. В обоих
случаях владение и отчуждение, наследование и лишение
наследства служат вехами при столкновении права владения землей с
родительским законом. Есть и аспект восприятия архитектурной формы,
и имплицитный мотив связи с матерью, искренне признаваемый
Скоттом, но по большей части подавляемый Байроном. Эти нити
и станут формировать основу моих рассуждений.
Отправной точкой служит краткое описание Ньюстеда, данное
в «Доне Жуане», Песнь XIII. Нам, однако, требуется добавить чуть
больше поэтического текста, чем упомянутый путеводитель и
Вашингтон Ирвинг:
Лорд Амондевилл
Отправился в фамильное аббатство
В котором архитектор проявил
Готической фантазии богатство:
Старинный монастырь построен был
Трудами католического братства
И был, как все аббатства тех времен,
Большим холмом от ветра защищен1.
Байрон предпочитает составлять компендиум Аббатства
«Норман» (по-другому Ньюстед) в парадоксальном порядке: это был
«когда-то старый-старый монастырь», а теперь «особняк, который и
того старее». Предположительно, парадокс объясняется тем, что
особняк теперь поглотил монастырь, и поэтому путем сложения,
его возраст стал старше. (Другое возможное прочтение,
заключающееся в том, что время, прошедшее с момента основания
монастыря до его разрушения все-таки меньше, чем время от покупки
поместья Байронами в 1540 году до времени жизни поэта, неверно.)
Однако цель байроновского парадокса - породить сомнение в
историчность здания. Например, фраза «смешанная готика» нами
воспринимается как скорее образ беспорядка и непоследовательности
в настоящем, чем как воображаемый призыв к реконструкции
прошлого. Вашингтон Ирвинг, цитируя вышеприведенный отрывок,
тщательно пытается восстановить историчность в следующих
выражениях: «Один конец укреплен зубчатой стеной, свидетельствуя
1 Байрон Дж. Г.. Дон-Жуан // Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М., 1981.
http://read.bookam.net/read/bairon_dzhorzh_gordon/pageO/don_zhuan.html (Byron,
Poetical Works, Oxford, 1970. P. 815).
192
Глава пятая. Историческая композиция места: Дж. Байрон и В. Скотт
о феодальных временах и военном прошлом строения; на другом
конце сохраняется примитивный монастырский характер кладки.
Разрушенная часовня, сбоку которой расположена величественная
роща, до сих пор в целости сохранила свою фронтальную часть.
Правда, входные ступени некогда многолюдного портала поросли
травой, и огромное сводчатое окно, когда-то славившееся своим
витражом, обвито нависающим плющом; но старый монастырский
крест на верхушке часовни... все еще отважно противостоит
времени и непогоде»1. Ирвинг ловко, с самого первого предложения,
снимает проблему монастырь/особняк. С одной стороны, Ньюстед
феодальное строение, с другой монастырь. Но подлинными целями
его комментария является попытка приукрасить историчность
поставленной под угрозу картины. Он находит слова, акцентирующие
темпоральность замка: времена, примитивный, до сих пор, некогда
многолюдные, когда-то славные, старый, все еще, и т.д. Стратегия
заключается в подчеркивании контраста между зданием, каким оно
было прежде, и зданием, какое оно стало сейчас и в сообщении
зданию через этот контраст исторической ауры. С другой стороны,
в своих более поздних и изобилующих описаниями стансах Байрон
подчеркивает момент, о котором намекал пассаж о «смешанной
готике» - что Ньюстед попросту монстр:
Роскошное убранство анфилад,
Картинных галерей, большого зала
Смешеньем стилей ослепляло взгляд
И знатоков немного возмущало;
Как прихотливый сказочный наряд
Оно сердца наивные прельщало.
Когда величье поражает нас,
Правдоподобья уж не ищет глаз2.
Ньюстед - это создание сумасшедшего архитектора, безумной
фантазии: нечего и ждать, что его непосредственное воздействие на
«ум» и «сердце» скроют источник его происхождения. Ирвинг
приглашает нас погрузиться в исторические грезы. Байрон же
полностью готов раскрыть тайну прошлого, бросая ему обвинение в
нечестивом альянсе с настоящим:
1 Abbotsford and Newstead Abbey, p. 141.
2 Байрон Дж. Г. Паломничество Чайльд-Гарольда // Собр. соч.: в 4 т. Т. 2. М.,
1981 г. (Byron, Poetical Works. P. 816).
7 Зак. 760
193
Стивен Бенн
Весь почерневший и покрытый мхом
Назад сто лет он был монастырем,
И ныне там плясали пели пили,
Совсем как в оны дни, когда тайком.
Как повествуют нам седые были
Святые пастыри с красотками кутили1.
Байроновское сравнение Средних веков с «суеверием»
(superstition) и иронично приписанная монахам склонность
приударять за женским полом, ни в коем случае не являются желанием
приукрасить текст поэмы «Чайльд Гарольд». Как явствует из
предисловия к изданию 1813 года, вся концепция поэмы Байрона
заключается в насмешливо-героическом прославлении рыцарства и
средневекового паломничества. Отвечая на сетования читателей о
том, что Чайльд Гарольд вел себя «не по-рыцарски, между тем как
времена рыцарства - это времена любви, чести и тому подобного»,
он решительно заявлял (намеренно вызывая в памяти строки из
Вольтера?), что: «добрые старые времена... были самыми
распутными из всех возможных эпох истории»2. В поддержку своих
иконоборческих воззрений он приводит цитаты из «Мемуаров о
древнем рыцарстве» Ла Кюрна де Сан-Пале, изданных в 1781 году .
Нельзя не заметить связи между байроновским описанием
Ньюстеда и его ироничным взглядом на историю. Но я полагаю,
что связь более тесна, чем может показаться в результате простого
сопоставления каких-то высказываний. Гиббон, о котором Байрон с
восторгом упоминает в «Чайльд Гарольде» как о «чародее иронии -
этом выдающемся мастере слова», приписывал возникновение идеи
своего труда «История упадка и разрушения Римской империи»
одному странному моменту: «пока я сидел, полный размышлений
посреди развалин Капитолия, босые монахи пели вечернюю
молитву в храме Юпитера»3. Подобный риторический эффект катахрезы,
резкое сопоставление антагонистических понятий с аномальным
результатом, последовательно использует Байрон в своих описани-
1 Там же. (Byron. Poetical Works. P. 181).
2 Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда. Дополнение к предисловию.
Byron, Childe Harold's Pilgrimage and other Romantic poems, ed. Samuel С Chew
(New York, 1936). P. 5.
# Жан-Батист де Ла Кюрн де Сент-Пале (Jean-Baptiste de La Сите de Sainte-
Palaye, 1697-1781)-французский историк, филолог, лексикограф.
3 Edward Gibbon. Autobiography. Oxford, 1962. P. 160.
194
Глава пятая. Историческая композиция места: Дж. Байрон и В. Скотт
ях Ньюстеда. И на самом деле, апостроф «монастырский купол»
мог бы послужить превосходным примером катахрезы.
Как же Вашингтону Ирвингу удается совладать с байроновской
иронией и неудобной архитектурной разнородностью Ньюстеда?
Он просто пытается придать Ньюстеду исторический облик,
который Байрон своей сатирой разрушает. Вместо впечатляющих слов
(«Огромные залы, длинные галереи, вместительные комнаты»)
перед нами удобные фразы путеводителя, постоянно акцентирующие
историческое прошлое замка: «До сих пор все имело атмосферу
монастыря; но достигнув угла коридора, взгляд, брошенный вдоль
мрачной галереи, ловил очертания двух темных фигур в броне
доспехов, с опущенными забралами, выставленными щитами,
вынутыми из ножен мечами, стоящими неподвижно напротив стены.
Они казались двумя призраками рыцарской эры Аббатства»1.
В этих строчках разыгрывается невинный сценарий воскрешения
истории, доспехи, совсем как у Дю Соммерера, у которого в «Зале
Франциска I» фигуры в доспехах словно играют в шахматы.
В Ньюстеде подобные же доспехи имеют печать двусмысленности,
возникает вопрос, а не находится ли кто-либо внутри доспехов:
опущенные забрала, щиты и вынутые мечи «фигур» тоже рождают
иллюзию жизни. Нам хочется видеть не просто пустые доспехи,
а «призраков», гуляющих в коридорах замка.
И все же неверно думать, что на Ирвинга не подействовали
странность Ньюстеда и поэтическая ирония его прежнего хозяина.
Описание его визита туда есть просто сумма коротких, несвязанных
между собой эпизодов. Сам дом описан даже в меньших
подробностях, чем соседний Аннесли Холл. Ирвинг посетил его потому, что
там жила Мэри Чаворт, которой Байрон был увлечен в юности.
В Аннесли Холле «каждая вещь вокруг нас дышала старозаветным
истеблишментом сельского сквайра», что сильно отличается от
Ньюстеда, не могущего похвастаться такой утешительной
гармонией типично английской жизни того времени2. Однако даже
Аннесли Холл описан в беспорядочных и неопределенных выражениях:
«пустынные комнаты всех размеров и форм», «беспорядочная,
неправильной формы громада, латанная и достраивавшаяся в разные
времена и на разные вкусы». Ирвингу приходится тщательно
выбирать место, прежде чем он подводит читателя к кульминации вос-
1 Abbotsford and Newstead Abbey. P. 144.
2 Ibid. P. 202.
195
Стивен Бенн
приятия исторического облика поместья: «часть холла, выходящая
в сад, несла на себе отпечаток ненастий столетий; его обрамленные
колоннами створчатые переплеты и старинные солнечные часы
напротив стены, уносили мыслями к былым дням»1.
П. Тиллеман. Ньюстедское Аббатство. Западное крыло.
Вид начала XVIII века
Но, конечно, Аннесли не единственное противоядие Ньюстеду:
главное - Абботсфорд. Вспомним, что Вашингтон Ирвинг приехал
в Абботсфорд при необычайно благоприятном стечении
обстоятельств. В 1811 году Скотт купил «коттедж» под застройку и к
августу 1817 года приступил к работе над новым домом, которому
было возвращено прежнее историческое имя, связывавшее его с
монастырем. В Ньюстеде, в сложной архитектурной ткани
«Аббатства», было трудно различать два противоположных понятия -
«монастырский» и «феодальный». А в Абботсфорде «скромный
особняк» вырисовывается в ходе «рождения» «колоссальной фео-
1 Ibid. Р. 207.
196
Глава пятая. Историческая композиция места: Дж. Байрон и В. Скотт
дальной громадины». В описании Ньюстеда и Абботсфорда Ирвинг
использует две разные риторические стратегии. В Ньюстеде,
несмотря на повторяющуюся историческую разметку аспектов здания
и окружающих его окрестностей, это вопрос метонимической
редукции: «Ньюстедское аббатство» из целого разлагается на части.
Применительно к Абботсфорду это вопрос синекдохической
ассимиляции: Абботсфорд маленький «рождает» Абботсфорд большой,
предшествующая часть обречена на включение в единое целое.
Становясь свидетелем этой сцены и наблюдая поведение
Скотта, Вашингтон Ирвинг чувствует, что процесс, который он
описывает, есть процесс поэтический или риторический. Он подчеркивает
связь между продолжающимся созданием Абботсфорда и
литературными конструкциями его автора: «все это, однако, находилось
в зачаточном состоянии и лишь проецировалось на будущее; Скотт
просто тешил себя тем, что писал зарисовки своей будущей
резиденции, как создавал причудливые фантазии в своих романах. Это,
как он говорил, был один из его воздушных замков, обращенный
в состояние цельного камня и известкового раствора»1. Но все-таки
Ирвинг намекает, что здесь имеет место и другой, своего рода
противоположный процесс. Скотт не просто «редуцирует» идеальную
концепцию к буквальным вещам - камню и известковому раствору.
Он проводит последовательную стратегию ассимиляции, в
результате чего готический фрагмент или, как многозначительно пишет
Ирвинг, «кусочек», используется для подчеркивания подлинности
более крупного, заново возводимого строения. Как пишет Ирвинг:
«Вокруг места были разбросаны различные осколки развалин
Аббатства Мельроз, которым было суждено быть присоединенными
к его особняку. Из подобных материалов он уже построил над
ручьем своего рода усыпальницу и водрузил на ней небольшой
каменный кубок»2.
Однако Скотт не реставратор готических развалин. Он не
ставит задачу восстановления Аббатства Мельроз на прежнем месте.
Напротив, он обдирает «куски» средневековой кладки с развалин
Мельроз и сооружает «подобие готической усыпальницы» в другом
месте. Характеризовать действия Скотта как реконструкцию было
бы неверно. Нет никаких свидетельств того, что «куски» были
собраны вместе или что они до момента начала строительства усы-
1 Ibid. Р. 53.
2 Ibid.
197
Стивен Бенн
пальницы имели к ней хоть какое-нибудь отношение. В возведении
своего дома Скотт следует собственным знаниям о принципах
готической постройки, его подлинность определяется воображением
автора, а не связью с реально существовавшим объектом прошлого.
Здесь можно провести аналогию с «новой таксидермией» Чарльза
Уотертона, который намеренно отказался от прежней процедуры
сохранять каркас мертвой птицы или животного и вместо этого
придумал методику смягчения кожи и придания ей формы путем
внутренней формовки. В результате Уотертон добился стойкой
иллюзии жизненности и реальности животного. Аналогично план
строительства готической усыпальницы и план строительства Аб-
ботсфорда в целом стали для Скотта не трудоемким
строительством чего-то уже известного, а смелым созданием чего-то нового.
Уотертону приходилось работать с останками реальных живых
существ, только изредка позволяя себе создавать невиданных в
природе монстров. А Скотт как архитектор и как романист был обязан
строить «воздушные замки», множа поэтические структуры
настолько, что его строения оказывались почти полностью
лишенными всех примет подлинности. Но почему они все-таки казались
подлинными? Следующий отрывок, в котором упоминается
«готическая усыпальница» дает нам ценный ключ к разгадке. «Посреди
того, что еще оставалось от Аббатства, рассыпанным перед нами,
находился старинный маленький лев причудливой работы, то ли из
красного камня, то ли выкрашенный в красное, который поразил
мое воображение. Я забыл, чьей эмблемой он служил или с какого
он был снят памятника, но я никогда не забуду, какие он
инспирировал удивительные представления о старом Мельрозе. Было ясно,
что Аббатство - это громада, вызывавшая самые поэтические и
романтические чувства Скотта, связанные с его самыми
причудливыми и восхитительными юношескими фантазиями. Если мне
позволительно так выразиться, то он говорил об остатках Аббатства с
любовью. Нечего и говорить, - рассказывал он, - что за сокровища
спрятаны в этой прославленной старой громаде. Знатное место,
есть чем поживиться антиквару. Это место - сокровище для
архитектора, собирающего осколки старинной скульптуры, для поэта,
ищущего предания страны. В этих эти кусочках столько же
пикантности, как в ломтиках стилтонского сыра - чем больше плесени,
198
Глава пятая. Историческая композиция места: Дж. Байрон и В. Скотт
тем лучше» . Здесь рассказ Ирвинга, обычно развлекательный,
становится на удивление откровенным. Во-первых, он ясно показывает
внутреннюю связь между архитектурным и поэтическим
творческими процессами Скотта и что их источник - «славная старинная
громада» Мельроза. Маленький красный лев, унесенный в Абботс-
форд, вероятно был включен в какую-то из частей возводящегося
здания, подобно каменной чаше в готической усыпальне. Но точно
так же он мог послужить источником вдохновения и центральным
мотивом поэтического романа, подобно останкам сердца Роберта
Брюса2. В обоих случаях структура передачи идентична. Предмет,
отделенный от более крупного целого, превращается в часть, которая
излучает свет на новое целое: выражаясь строго риторически,
метонимическая редукция (целое к части) уступает место процессу синекдо-
хической интеграции (часть к целому). Рассказ Ирвинга о своих
беседах со Скоттом позволяет пойти еще дальше. Мельроз уже является
объектом «привязанности» Скотта как результат его «юношеских
фантазий». Из развалин Мельроза на строительство нового замка
принесен съедобный фрагмент: «кусок» Ирвинга конкретизируется
образом передержанного стилтонского сыра. Другими словами Скотт
обозначает глубину своей привязанности к Мельрозу через язык, который
неприкрыто выдает ее орально-либидозную основу.
Скотт далеко не единственный писатель, чью связь с
архитектурой можно ассоциировать с получением орального удовольствия.
Например, Рёскин, который в 1852 году писал своему отцу: «Как
бы мне хотелось камень за камнем зарисовать весь Собор Св.
Марка и всю эту Верону, съесть их своим сознанием, штрих за
штрихом»3. Другой пример - архитектурные записи Адриана Стокса,
которые напоминают, что архитектурные пристрастия
непосредственно моделируются аппетитами детства4*.
1 Abbotsford and Newstead Abbey. P. 53^.
2 Ibid. И хотя Ирвинг замечает, что этот мотив не получил у Скотта
дальнейшего продолжения, следует указать, что в его романе «Талисман» (The Talisman)
(1825) используется разработка весьма схожего свойства. «Талисман», о котором
идет речь в течение романа, узнаваем как подлинная реликвия, которой
исторически владела семья Скотта.
3 UnrauJohn. Looking at architecture with Ruskin London, 1978. P. 20.
4 Stokes Adrian. Smooth and Rough (1851), in Stokes, Critical Writings. Vol. II.
London, 1978.
* Стоке Адриан (1902-1972) - британский писатель и художник, влиятельный
критик искусства.
199
Стивен Бенн
Конечно, в случае со Скоттом мы имеем дело не с опытом
архитектура как таковым, а со способом воздействия архитектуры
(Мельроз и Абботсфорд) на поэтическое присвоение прошлого. В
фокусе внимания находится не психология и эстетика, а
историческая поэтика. Тем не менее выбор выражений Скотта, приведенных
выше, слишком важен, ч^обы им пренебрегать. Их стоит
рассмотреть в психоаналитических понятиях, поскольку это позволит
прояснить вопрос об уникальных творческих способностях Скотта и
возобновить прерванное нами сравнение Скотта с Байроном.
Важные черты психоаналитической теории Мелани Клейн,
необходимой для решения задач нашего исследования, содержатся
в ее статье 1934 года под названием «К вопросу о психогенезе
маниакально-депрессивных состояний». В ней она следует за 3.
Фрейдом и К. Абрахамом в признании того, что «фундаментальной
основой депрессии является потеря любимого предмета»1. Однако
она придает новое значение понятию «интроекция», согласно
которому детское Эго в процессе своего формирования идентифицирует
свое Я с другими замененными объектами и фигурально вбирает их
в себя . В качестве примера она приводит ребенка, отнятого от
груди матери. Он пытается восстановить ситуацию и найти иной
приятный объект, тождественный груди матери. Но ввиду того, что
его оральный аппетит включает в себя сильный элемент садизма,
он рискует потерпеть неудачу. С ее точки зрения, разрешение этого
конфликта может быть достигнуто только через изменение позиции
Эго от «частичной объект-связи к связи с объектом в целом»2. Эту
перемену не стоит рассматривать как окончательный и
бесповоротный этап созревания ребенка, но драма в том, что Эго застревает
в таком в маниакально-депрессивном цикле. Тревога, которую Эго
испытывает в маниакально-депрессивных состояниях, связана с
желанием совершить интроекцию хорошего предмета и изгнать
плохой, а также с потребностью перейти от отношений с
частичным объектом к интегрированной связи с полным, хорошим для
него объектом. Клейн пишет: «Покажем лишь некоторые (из со-
1 Klein Melanie. Contribution to Psycho-analysis. New York, 1964. P. 283.
* Клейн (Klein) Мелани (1882-1960) - психоаналитик, специалист в области
психоанализа детского возраста; интроекция, заимствование взглядов и мотивов
поведения других людей.
2 Ibid. Р. 284.
200
Глава пятая. Историческая композиция места: Дж. Байрон и В. Скотт
стояний тревоги): стремление в определенное время правильным
образом собрать вместе частички целого; выбрать хорошие
частички и отделаться от плохих; вдохнуть в получившейся объект жизнь.
Наконец, существует тревога быть прерванным в процессе решения
этой задачи плохими объектами, собственной ненавистью человека
и т.д. Состояния тревоги такого рода я обнаружила в основе не
только депрессии, но и во всех случаях заторможенности в
выполнении рабочей задачи... В этой связи я упомяну лишь особую
важность сублимации частей, к которой может быть редуцирован
любимый объект, и усилие составить их вместе. Разобранным на
кусочки является «совершенный» объект. Поэтому стремление
аннулировать состояние дезинтеграции, к которому он был
редуцирован, заранее предполагает необходимость сделать его прекрасным
и «совершенным»1. Нет необходимости придерживаться
догматических взглядов на связь между психопатологией и артистической
«сублимацией», для того, чтобы увидеть, как этот отрывок
относиться к предмету наших рассуждений. М. Клейн исследует
патологию «заторможенности в выполнении рабочей задачи» и тем
аналитическим процессом, который необходим для преодоления этого
физического недостатка. Но ясно, что отслеживаемая ею схема
употребляется a contrario к высшей способности человека, к
художественному творчеству. Что будет, если субъекту удается в
точности «правильным образом и в положенное время, сложить частички
вместе», «вдохнуть в получившейся объект жизнь», заменить
состояние «дезинтеграции» реализацией «прекрасного
«совершенного» объекта? В общем смысле гипотеза, вероятно, применима ко
всем успешным сублимациям. Я полагаю, что в самом прямом
смысле она применима и к творчеству сэра Вальтера Скотта. Аб-
ботсфорд является именно тем самым «совершенным» объектом,
замещающим «дезинтегрированный» Мельроз его «юношеских
фантазий». А процесс, который обеспечил успешную сублимацию,
это изъятие частичного объекта из последнего (Мельроз) (отрезать
кусочек от стелтонского сыра) и его объединение с первым (Аб-
ботсфорд). «Оральный садизм», подразумеваемый при этом выборе
мысленного образа, оказывается преодоленным потому, что
частичный объект возвращает себе целостность в новой структуре.
| Ibid Р. 289-90.
* A contrario (лат.) - от обратного, метод доказательства, заключающийся в
доказательстве невозможности положения.
201
Стивен Бенн
Нет никаких сомнений в уместности того, что такая образцовая
фигура романтизма, как Скотт, отождествляемая с возрождением
исследований истории, может быть интерпретирована подобным
образом. По сравнению со Скоттом, учрежденный Дю Соммерером
Музей де Клюни есть достижение меньшего масштаба, и даже если
мы подвергнемся соблазну объяснить его страсть к
коллекционированию феноменом фетишизма собирателя древностей, то вряд ли
придем к другому выводу. Кроме того, у нас нет свидетельств
для психоаналитического исследования мотивации Дю Соммерера.
А вот запись разговоров Скотта у нас есть. Надо сказать, что в
случае Скотта мы наблюдаем исключительный случай
сверхдетерминации. Переживания детства и окружающая архитектурная среда
поэта мощными объединенными усилиями стадии его
психологического развития соотносят с историческим прошлым. История
осмысливается им как мать или, скорее, как мать, обретенная в
творчестве. Архитектура окружающей его среды и его творчество как
бы передают эстафету друг другу. В этом отношении Байрон -
идеальный контрпример. Он иронически пишет о Ньюстедском
Аббатстве, осыпая насмешками его древность, подчеркивая его
предельную разнородность - «смешанную готику», прибегая к сатире и не
чураясь катахрезы. То же самое он проделывает и в отношении
описаний архитектуры, фрагментируя целое на отдельные части.
Его описание собора Св. Петра в «Чайльд Гарольде» намеренно и
последовательно следует этому правилу. Взор охватывает все, но
по частям:
Он целое охватывает вскоре
Так тысячами бухт своим гостям
Себя сначала раскрывает море.
От части к части шел ты и в соборе
И вдруг - о чудо! - сердцем ты постиг
Язык пропорций в их согласном хоре -
Магической огромности язык,
В котором лишь сумбур ты видел в первый миг
Вина твоя! Но смысл великих дел
Мы только шаг за шагом постигаем,
Кто словом слабым выразить умел
То сильное. Чем дух обуреваем?
И жалкие бессильно мы взираем...1
1 Байрон Дж. Г. Паломничество Чайльд-Гарольда // Собр. соч.: в 4 т. Т. 2., М.,
1981.
202
Глава пятая. Историческая композиция места: Дж. Байрон и В. Скотт
Эти строки демонстрируют (в особом архитектурном
оформлении) впечатляющий случай невосприимчивости к прекрасному.
Байроновская решимость не торопиться с оценкой архитектурного
интерьера во всей его полноте, не только идет вразрез с
предписаниями таких архитектурных теоретиков пост-романтизма, как Рёс-
кин. Он старается отказаться от «совершенного» предмета и во что
бы то ни стало рассматривать его исключительно «по частям». На
самом деле, первая ссылка Байрона на собор Св. Петра, как на
«огромный дивный свод» с необходимостью отсылает нас назад,
к Ньюстедскому Аббатству: «Свод монастырский! Что обречен к
использованью злому!». Уже было замечено, что Байрон
использует слово «свод» для обозначения «любого крупного здания», и в
случае с собором Св. Петра такая явная синекдоха может
показаться весьма подходящей1. Но также очевидно, что использование
этого слова применительно к разрушенной готической церкви Нью-
стеда является вершиной крайней нелепости. Конечно, если только
мы не придем к выводу, что понятие «свод» всего лишь метонимия
«любого большого здания», напрочь лишенная какого-либо следа
эстетического восприятия или знания архитектуры. Это
впечатление усиливается каким-то совершенно особенным значением
понятия архитектурного свода в контексте психоаналитического
исследования творчества писателей и художников. Об этом начинал
писать Рёскин, и позже эту идею развил Адриан Стокер. Последний
полагает, что свод является парадигмой хорошего объекта,
непосредственно восстанавливающий связь человека с материнской
грудью, которая является прототипом всех субьект-объектных
отношений. Байроновский архитектурно-абсурдный,
сексуально-опороченный «свод», бесспорно, является точным указателем его
мощного и неполучившего разрешения садизма, который в скрытом
виде лежит в основе его отношения к Ньюстеду.
Мы сопоставили Скотта и Байрона, основываясь на путевых
заметках Вашингтона Ирвинга. Отношение каждого из них к
своему дому определяло их отношение к истории как целому. В
отношении Байрона к Ньюстеду вообще не прочитывается интерес
к истории. Это предрешено избранной им стратегией фрагментации
в описании замка, в самом общем виде характеризуемой как
ирония. Но пока еще Скотт и Байрон не антагонисты. Напротив, они
1 См.: Byron. Childe Harold's Pilgrimage and other romantic poems. L., 1965. P. 191.
203
Стивен Бенн
питают друг к другу взаимное уважение. Давайте посмотрим более
внимательно на реальную ситуацию, в которой находился Скотт,
когда его посетил Ирвинг. Хотя он и не был, как Байрон, обуреваем
демонами иронии, но и не избежал ее легких прикосновений.
Ирвинг мимоходом замечает, что развалины Драйбургского Аббатства
в нескольких милях вниз по реке Твид перешли во владение графа
Бьюкена, а вместе с ними - фамильный склеп, могилы и памятники
предков самого Скотта, Холибертонов. «Видно было, что он
испытывает сильную досаду от того, что ими владеет и распоряжается
граф, человек знатный и эксцентричный»1. Ирвинг полагает, что
странноватый Дэвид Эрскин, граф Бьюкен, всерьез мешал Скотту
наслаждаться историчностью места и отнял у него собственность.
Скотт не только был вынужден чувствовать себя лишенным
поместья, которое по праву должно было стать его, если бы не
финансовое безрассудство его предка, но вконец зарвавшийся герцог грубо
напоминал ему о том, что место его будущего последнего
упокоения среди Холибертонов находится под чужой юрисдикцией. Лок-
харт пишет, что даже ходил анекдот о том, что Бьюкен как-то
ворвался в комнату заболевшего Скотта и стал совать ему в руки уже
составленную программу похорон знаменитого поэта, которые
пройдут в Драйбурге, и «где в качестве главного героя представал
не сэр Вальтер Скотт, а распорядитель его похорон Дэвид, граф
Бьюкен»2.
Однако поведение Бьюкена вскоре после выздоровления Скотта
превратилось просто в предмет для шуток. Нелепые
псевдосредневековые памятники, один из которых все еще находится в
Драйбурге, скорее раздражали Скотта, чем причиняли ему какие-либо
серьезные страдания3. Но Скотт был настроен на борьбу и настроен
вполне серьезно. «Мастер-чародей» иронии, используя
характеристику Байрона, данную им Гиббону, Скотт боролся с Бьюкен,
используя все свое поэтическое умение. Вашингтон Ирвинг
описывает, что в образе Скотта как публичного человека отражался дуализм
1 Abbotsford and Newstead Abbey. P. 90.
2 Lockhart J. G. The Life of Sir Walter Scott Bart. London, 1912. P. 441.
3 Это резная мемориальная колонна, кроме всего прочего, представляла
«Якова I» Шотландского и размещалась в южной части Аббатства Гейтхауз. Бьюкен
также, по-видимому, ответственен за подделку надписи, гласящей «Hic jacet
Archibaldus» («здесь покоится Арчибальд»), помещенной рядом со входом в здание
капитула (см.: Официальный путеводитель по Драйбургу. Эдинбург, 1948. С. 8).
204
Глава пятая. Историческая композиция места: Дж. Байрон и В. Скотт
ироничной небрежности и поэтического восторга: «Разбираясь
с древностями и беседуя о местных традициях и суевериях с
близкими людьми, Скотт всегда отличался лукавым и спокойным
юмором, забавной мимикой, словно он щеголял предметом разговора.
Мне казалось, что он, как бы стесняясь своей увлеченности
стариной, любил порассуждать о своих настроениях и странностях; но
поэтический блеск в его взгляде свидетельствовал, что он по-
настоящему и с крайним удовольствием и интересом относится к
обсуждаемой теме»1. Такая характеристика Скотта верна не только
психологически, но, так сказать, литературно. Проспер де Барант,
родившийся на десять лет позже Скотта, смог радикально порвать с
ироничным дискурсом историка XVIII столетия. Как я утверждал
во второй главе, он моделировал свой нарратив, непосредственно
опираясь на «наивный» стиль Фруассара, тем самым добираясь до
базового «кода» исторического дискурса. У Скотта на «брачное
соглашение» с «кодом» указывает предисловие к роману «Квентин
Дорвард», где один французский маркиз, плохо знающий
английский язык, фразу «изложение кода» (showing the code) произносит
как «жевание жвачки»» (chewing the cud)2*. Скотт шутливо добавляет,
что он великодушно позволил маркизу «жевать код» {shew his code).
В этом предисловии, где референтом нарратива служат
«старинные фамильные памятники», обнаруженные в замке маркиза,
речь в буквальном смысле идет об «изложении кода». И все же,
конечно, само по себе, это предисловие есть чисто
беллетристический, простой инструмент «конструирования» главного нарратива
и установления умозрительной аутентичности. Несомненно, что
появление понятия «изложение кода», транслируемое
внимательному читателю на совершенно другом уровне, отличном от
гипотезы о неправильном произношении - это признание писателем
исторических романов неизбежности появления в его тексте неких
отклоняющихся от непосредственного повествования деталей. Он
заинтересован не в свидетельствах подлинности, не в реальности,
а в «эффектах реальности»3. Но Скотт уравновешивает иронию наив-
1 Abbotsford and Newstead Abbey. P. 94.
2 Скотт Вальтер. Квентин Дорвард Walter Scott. Quentin Durward, Signet
Classics (New York). P. 30.
Здесь игра слов chew nshow».
3 Barthes Roland. The reality effect, in Todorov (cd.) French Literary Theory
Today. P. 11 (рус. nepee. - Барт P. «Эффект реальности» // Барт P. Избранные
работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989).
205
Стивен Бенн
ностью; «поэтический блеск» в глазах свидетельствует против «ще-
голянья предметом разговора». Наш беглый анализ связи
архитектуры и других видимых следов прошлого с творчеством Скотта и
Байрона, помогает приземлить этот «поэтический блеск»,
объективно коррелирует «страстность взора». Начав с пересказанного
Вашингтоном Ирвингом анекдота, мы достигли точки,
позволяющей выявить различные компоненты связи Скотта с прошлым. Она
формировалась через его интерес к оригинальной готической
архитектуре долины Твида и к его собственному неоготическому
детищу. Конечно, она укреплялась и благодаря его творчеству. Для того
чтобы с большей точностью определить баланс между иронией и
naivete, отличающий Скотта, бросим короткий взгляд на роман,
который вышел за год до визита Ирвинга к Скотту и который, как
отмечал Локхарт, был для его автора «самым любимым из всех его
романов» - роман «Антиквар».
Издатели и биографы Скотта обращают внимание на явную
возможность отождествления автора с главным персонажем этого
романа: Джонотанам Олдбоком - иначе Антикваром. Основания
для такого предположения дал сам Скотт: каталог-опись своего
музея в Абботсфорде он начинает с названия - Reliquiae Trottcosia-
пае - или габионы покойного Джонатана Олдбока, эксквайра.
И все же это слишком просто, как для самого Скотта, так и для его
критиков. Интерес в романе вызывает сам главный герой,
занимающий определенную позицию, (но, вне сомнения, не позицию
скоттовского равновесия) между иронией и naivete. С одной
стороны, Олдбок язвит по поводу страсти "этого готического поколения"
к псевдоисторическим постройкам1. «Когда мы читаем о насмешках
Олдбока по поводу размещения "скульптур рыцаря-тамплиера с
каждой стороны греческого портика", это напоминает резкость
Скотта в отношении графа Бьюкена». Олдбок также в принципе
прав и в отношении не аутентичного контекста поэм Оссиана,
и убеждает в этом своего горца-племяника. Но если он прав в
принципе, то неправ по форме: «Может быть, показать вам мою
переписку с Мак-Крибом насчет поэм Оссиана? - Я стою за авторство
хитрого аоркнейца, он же защищает подлинность этих поэм. Наш
спор начался в мягких, елейных дамских выражениях, но теперь он
1 Скотт В. Антиквар // Собр. соч.: в 8 т. Т. 3. М, 1990; http://obuk.ru/litera-
ture/23302-valter-skott.antikvarijj.html; Scott Walter. The Antiquary Everyman Edition
London and New York, undated. P. 142.
206
Глава пятая. Историческая композиция места: Дж. Байрон и В. Скотт
становится все более едким и язвительным. Он уже начал
напоминать стиль старика Скалингера»1. Любопытно сравнить эту
полемику с вводной статьей Александра Дю Соммерера к своей книге
«Vues de Provins». Дю Соммерер говорит о споре, кипевшем в
течение столетий, по поводу древности Прованса, в 1822 году вновь
приобретшему особую остроту: «После этого дискуссия потеряла
лояльный характер, и полемика, заимствуя свой язык у сатиры,
подбавила в спор яду вместо того, чтобы его прояснить»2. Дю
Соммерер предлагает прекратить эти старые и утомительные споры
ввиду их непродуктивности, и вместо этого перейти к «простому
(визуальному) описанию памятников и развалин, какими мы видим
их сегодня»3. Скотт вполне мог согласился с этим предложением.
Сравнение с Дю Соммерером становится еще более интересным
в связи с упоминавшейся нами картиной 1825 года «Антиквар».
Она совсем другая, чем описание беспорядочно обставленного
убежища антиквара, предлагаемое Скоттом4. Дю Соммерер пошел
дальше простого собирания представляющих историческую
ценность предметов, он организовал музей, предлагающий
упорядоченное зрелище исторического прошлого. А Олдбок остается по ту
сторону барьера между историей старой и историей новой. Скотт
прославил тот тип историка, чье отношение к творчеству такое же,
что и отношение любителя к художнику: Олдбок, по отношении к
Скотту, является тем, чем Сванн является для Марселя, героя
романа М. Пруста «В поисках утраченного времени».
Именно по этой причине в романе «Антиквар» Олдбок
противопоставлен фигуре Эди Охилтри, характеризуемого Скоттом
как "местный историк". Охилтри, благодаря хорошему
знакомству с местностью, опровергает детально разработанную теорию
Олдбока об «остатках старинных укреплений у Кем оф Кин-
прунз» . Охилтри противопоставляет опыт теории или, более точ-
1 Ibid. 102; Гл. 11.
2 Ibid. Р. 89.
3 Ibid.
4 Ibid. P. 31-32 (гл. 3). Надо заметить, что Вашингтон Ирвинг предполагает,
что «большинство антикварских шуточек Монкбарнса списано с богатого в своей
сложности характера самого Скотта // Abbotsford and Newstead Abbey. P. 72.
Ирвинг пришел к этой мысли еще и потому, что во время его визита к Скотту стиль
жизни последнего напоминал «римский бивуак». Изображенный на картине
антиквар как бы воспроизводит это наблюдение.
См.: главу IV романа.
207
Стивен Бенн
но, традицию устной истории данной местности полемическому
стилю классической истории. Характерные черты Олдбока те же,
что и самого Скотта. В своем огороде Олдбок обнаруживает
«тесаные камни» и отсылает их «в качестве образчиков (своим)
высокообразованным друзьям и в различные антикварные общества,
почетным членом которых он является». Скотт тоже берет «куски»
(по выражению Ирвинга) развалин Мельроза и восстанавливает их
«в виде готической усыпальницы» - своего рода микрокосма
будущего Абботсфорда. Та же самая антитеза представлена Музеем
аббатства Малых августинцев Ленуара и Музеем де Клюни Дю Сом-
мерера: с одной стороны, «образцы», или части-объекты,
отделенные друг от друга и от любого трансцендентального целого; с
другой стороны, части-объекты, синекдохально примыкающие как к
архитектурному целому, так и к волшебной системе «Истории».
Таким образом, получается, что архитектурная деятельность
Скотта, коллекционирование и создание музея Дю Соммерером
непосредственно связаны с формированием нового понятия
«Истории». Там, где Дю Соммерер трудится просто как собиратель
экспонатов, Скотт совершенствует технику передачи и создания
ансамбля экспонатов, что, в конечном счете, превосходит
разнородность их источников. Анонимные романы об Уэверли, как и
неоготический суррогат Абботсфорда, - создания того же рода. И это
просто чистая случайность и везение, что пришедшийся ко времени
визит Вашингтона Ирвинга дал нам возможность приподнять
завесу над уникальным моментом времени, раскрывающим творческую
жизнь Скотта. Но и у Скотта и у Дю Соммерера общей чертой
остается имевшее место соединение истории и психологии: прообраз
прошлого был, так сказать, предопределен чертами психического
склада, которые трудно игнорировать. Ранее я говорил об идеях
Мелани Клейн об интеграции утраченного с неким «хорошим»
объектом. И не удивительно ли, что когда Мишель Фуко пытается
охарактеризовать миф истории как континуальность, он вынужден
сделать это в выражениях, которые звучат прямым эхом этой
аналитической интерпретации: «Именно непрерываемая история
служит необходимым коррелятом основополагающей функции
субъекта, гарантией того, что все ускользнувшее от него рано или поздно
будет возвращено, уверенностью в том, что все рассеянное во
времени можно вновь свести в определенные, прежде существовавшие
единства, и вещи, разделенные границами различий, будут вновь
208
Глава пятая. Историческая композиция места: Дж. Байрон и В. Скотт
(в форме исторического сознания) присвоены субъектом, который
восстановит над ними свою власть и обретет свое место1,
«...обретет свое место» - формулировка Фуко помогает нам оценить,
почему в развитии исторического дискурса начала XIX века Скотту
удалось произвести такой уникальный и мощный эффект. На самом
деле проект «археологии знаний» Фуко в лице Скотта сталкивается
с основным источником трудностей. Поэт, который фактически
сделал историческую обстановку своим обиталищем, в сущности
есть анти-Фуко, анализ его жилища помогает нам понять
анализ исторического дискурса эпохи романтизма, предпринятого
самим Фуко.
И все-таки Скотт был не одинок в создании убедительного
мифа истории, о котором пишет Фуко. Он был не одинок, укрепляя
этот миф психосексуальной интерпретацией, придающей ему
особую убедительность. В своем коротком комментарии к статье Лай-
онеля Госсмана «Огюстен Тьерри и либеральная историография»,
Хейден Уайт замечает: «Как и у многих людей его поколения,
и особенно у Бенжамена Констана (которого Госсман
недвусмысленно сравнивает с Тьерри) мечта о единстве, непрерывности и
мире представлена как проекция более глубинного очарования
гермафродитизмом»2. У Тьерри, как это ясно дает понять Госсман, эта
очарованность проявляется в интересе к мифам истока истории,
вытесняющих в прошлое состояние конфликта: «Поэтому в нарра-
тиве Тьерри история начинается не с поражения и унижения
женщины от рук мужчины, а с поражения и унижения патриарха от рук
взбунтовавшихся сыновей, домогающихся его имущества. С этого
момента, на протяжении всей истории - поскольку в истории
любой отец неизбежно оборачивается отцеубийцей, просто потому,
что каждый человек одерживает победу над другим. У власти
отсутствует основание, а закон не вызывает уважения, так как они
изначально основаны на акте насилия или нарушении закона.
История Англии, как ее описывает Тьерри, и как после него она
виделась Мишле - это история сыновей, восставших против своих
отцов»3. Если это и есть та мифическая структура, которая лежит
в основе «прогрессивной» историографии Тьерри и Мишле, то на-
1 Фуко Мишель. Археология знания. Киев, 1996. С. 15.
2 Gossman Lionel. Augustin Thierry and Liberal Historiography // History and
Theory, Beiheft 15 (1976). P. 2.
3 Ibid. P. 74.
209
Стивен Бенн
сколько же сильным оказывается смещение понятий в совершенно
ином стиле у сэра Вальтера Скотта? Ввиду того, что мы начинали
эту главу со сравнения Скотта и Байрона, то закончить ее позволим
себе другим сравнением. Ньюстед являлся отцовским наследством
Байрона. Но унаследован он был спустя поколение от
патриархальной фигуры, чье основное свойство подчеркнуто его прозвищем
«Нечестивый Лорд», так же как и его намеренными попытками
промотать наследство своего сына и внука, которые оба умерли
прежде него. Байрон еще ребенком принял наследство
«нечестивого лорда», что, вероятно, породило в нем страстное желание
идентификации с ним и соответственно неспособность гармонично
проживать под «монастырским куполом». Вашингтон Ирвинг
приводит цитату из письма, в котором Байрон заявляет: «Мне и Нью-
стеду и жить и умирать вместе. Здесь теперь я и живу. Я сердцем
прикрепился к нему; и никакие обстоятельства, в настоящем или в
будущем, не вынудят меня променять последний остаток нашего
наследства»1. И все же, как продолжает Ирвинг, «пребывание
Байрона в Аббатстве отличалось частыми перерывами и
неопределенностью». На него сильно повлияла его родственница, Мэри Чаворт
из Аннесли Холла, которая сама была потомком одной их жертв
горячего нрава и искусства фехтования «Нечестивого Лорда».
В результате Байрон обрек себя на вечное «паломничество» без
определенной цели и его отношение к унаследованному им дому
навсегда осталось эксцентричным.
А Скотту лишение наследства не грозило, напротив, наследство
было вполне реальным и ощутимым и он сам его себе создал.
В своей «Автобиографии» он пишет; «Старинное наследственное
имущество было продано за пустяки (около 3000 фунтов
стерлингов), но моего отца, который с легкостью мог бы выкупить его,
отговорил от этого мой дед, который в тот момент считал, что можно
было совершить более выгодную покупку какого-то участка
земли... И вот таким образом у нас ни осталось ничего от Драйбурга, -
хотя это и было материнское наследство моего отца, - за
исключением права упокоения там наших костей, кои, возможно, лягут туда
скорее, чем кто-то другой, кроме меня, успеет прочесть эти
страницы»2. Поэтому детство Скотта прошло не в Драйбурге, а в соседнем
с ним «старом Смайлхольмском сарае», где Скотт жил «под при-
1 Abbotsford and Newstead Abbey. P. 135.
2 Lochart. The Life of Sir Walter Scott Bart. P. 6-7.
210
Глава пятая. Историческая композиция места: Дж. Байрон и В. Скотт
смотром бабушки и теток»1. Этому «дитяти старых дам», обманным
путем лишенному «материнского наследства своего отца», было
суждено воссоздать это наследство в облике замка Абботсфорд.
Это не было «восстанием сыновей против своих отцов», а
ловкостью или прыжком через барьер, поставленный отцом, с целью
получить «материнское наследство». И вместе с этим
материализованном в новом Аботсфорде материнским наследством, также была
унаследована и история, воссоздаваемая во всей своей
континуальности грандиозными усилиями ее реконструкции, которыми, в
сущности, и стала вся творческая жизнь Скотта.
Тех, кто считает эту гипотезу фантастической, можно отослать
к хорошо известному делению Скоттом своих работ (на первых
этапах романов об Уэверли) между XVIII веком и Средневековьем. На
том этапе, когда Абботсфорд существует только в виде
«воздушного замка», в романе «Уэверли, или «Шестьдесят лет назад» Скотт
пишет о том времени, когда его предки «обладали частью Драйбур-
га, теперь уже собственности графа Бьюкена, включая и развалины
Аббатства»2. Когда строительство Абботсфорда близится к
завершению, он постепенно расширяет свои исторические владения,
и с романом «Айвенго» (1820) перешагивает в средние века,
а в романе «Квентин Дорвард» (1823) переносит действие в Европу.
По сути дела, вся эта трансформация соответствует этапам
строительства Абботсфорда. Излечившись от непредусмотрительности
отца и деда, Скотт, пользуясь Абботсфордом как своего рода
переключателем, приобретает возможность исследовать огромную
область истории.
1 Abbotsford and Newstead Abbey. P. 80-81.
2 Lockhart. The Life of Sir Walter Scott Bart. P. 6.
211
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИРОНИИ:
Р. БАРЭМ, Д. РЁСКИН,
У. Г. ФОКС ТАЛЬБОТ
В 1856 году, еще ребенком, Генри Джеймс был «потрясен»
«воссозданием далекой истории» французским художником Дела-
рошом, хотя его старший брат Уильям полагал, что попытка
«воссоздания далекого прошлого», предпринятая Деларошом, совсем
неинтересна. Это свидетельствует о том, что к этому времени
свежесть и новизна исторических реконструкций 1820-х и 1830-х
годов, в свое время обладающих огромной силой воздействия на
людей, перестала волновать публику. У искушенной части
последней они больше не вызывали интереса, а для всех остальных стали
своего рода расхожим развлечением. Значительно снизился интерес
даже к работам Скотта, впервые за целое столетие, прошедшее
с момента издания романа «Уэверли», имя Скотта выпало из
«великой традиции» д-ра Ливиса*. Еще быстрее это произошло с
работами Баранта. В конце 1820-х «История Бургундских герцогов»
с уважением и энтузиазмом принималась такими известными
людьми, как Стендаль, Гизо и А-Ф. Вильмэ . В 1866 году Барант умер,
и анонимный автор некролога, опубликованного в Journal de
Bruxelles написал: «Когда я преподавал в провинциальном
* Ливис Ф. (Leavis F. R., 1895-1978) - один из наиболее влиятельных
литературоведов Британии в XX веке, профессор Даунинг-колледжа Кембриджского
университета. В своей работе The Great Tradition (1948) («Великая традиция») и во
множестве других Ливис попытался идентифицировать и выявить особый канон
английской литературы и проиллюстрировать его на примере произведений ряда
английских авторов.
** Вильмэ А-Ф. (Villemain Abel-François, 1790-1870) - французский политик,
литературовед и историк. Профессор French Eloquence Сорбонны, автор книги
Cours de la littérature française [Курс французской литературы] (1828-1829),
оказавшей огромное влияние на литературные взгляды его младших современников.
*** Газета Брюсселя.
212
Глэва шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
колледже, где чтились старые традиции, я слышал, что двенадцать
томов его труда были от начала до конца прочитаны студентам
во время перерывов на обед. Вначале обеда на установленную
в конце трапезной кафедру взбирался учащийся и оттуда громким
и медленным голосом читал, пытаясь перекричать ужасный шум,
доносившийся от столов, за которыми обедали множество
студентов. К концу месяца, когда все к этому привыкли, пережевывая
и глотая пищу, мы умудрялись не пропустить ни единого слова»1.
Этот эпизод, по-видимому, относится к концу 1830-х - началу
1840-х годов. Тогда же Анатоль Франс писал о необычайной
живости, с которой он и его школьные товарищи поглощали текст
Баранта. Однако он уточняет: «Что касается "Истории Бургундских
герцогов"», то я ее потом не перечитывал. Зато я читал Фруас-
сара»2. Вероятно, труд Баранта производил на его современников
«эффект хроники». Но цена такого эффекта упала после того, как
читатели получили возможность сравнить текст Баранта с
оригиналами подлинных хроник, которые Барант только копировал.
В сравнении с ними эрзац-подлинность «Истории Бургундских
герцогов» превращалась, по острому выражению Мишле, «в пустяк».
Стоило только поманить настоящим Фруассаром, и лишь абсолютно
неподготовленный человек мог продолжать наслаждаться его подменой.
Однако глупо полагать, что все взрослые читатели середины
XIX века могли вместе с Анатолем Франсом перепрыгнуть от Баранта
к Фруассару. Большинство довольствовались промежуточным
уровнем. Составленные Барри Ст. Леджером в 1843 году рассказы,
названные им «Истории из Фруассара», показали это весьма иллюстративно.
Леджеру не меньше, чем Баранту, приходится полагаться на
источники. Но если Баранта не устраивала naivete Фруассара, то Леджеру
очень нравится обстоятельность Ф. де Коммина. Фруассара Леджер
характеризует «бабочкой при дворе... довольной своей наружностью».
Коммину же ставится в заслугу то, что «он с неутомимостью пчелы
изучает главное направление дипломатической механики», при этом
«удоволетворяясь лишь сокровищами истины»3. Такая
характеристика, странно несочетающаяся с названием работы Леджера, приводит
1 Journal de Bruxelles II Brochures diverses de Prosper de Barante. No. 1516,
Archives of the Château de Barante, Thiers, Puy-de-Dôme, France.
2 France Anatole. La jeunesse de M. de Barante», in La vie littéraire. Vol. IV (Paris,
1897). P. 84.
3 Leger Barry St. Stories from Froissait. London, 1834. Vol. I. P. viii.
213
Стивен Бенн
к дискредитации ее главного источника. Леджер обвиняет Фруассара
в том, что он обращается «с восставшими, как с простыми свиньями».
Читателя потчуют внезапными вспышками протеста автора,
подобными: «Хвала небесам! Это мнение, среди прочих других XIV века,
уже устарело»1. Реформистская совесть Леджера постоянно держит
его настороже в отношении прозы Фруассара.
Конечно, Леджер вполне отдает отчет в том, что его отношение
к главному источнику амбивалентно. В своем Введении он
рассуждает о связи между легковерием и скептицизмом в изучении
прошлого. Он использует организмическую аналогию с циклом
человеческой жизни, от молодости до старости: «Было замечено, что
в конце жизни он стал забывать то, что было в ее начале.
Переживаниям и мыслям, порожденным чтением книг в юности, судьба
предназначила быть смененными опытом; пыл молодости
погашен холодом зрелости.., а мечты юности рассеяны неумолимой
реальностью возмужания. Романтизм сменяет здравый смысл,
а иллюзии прежней юности разбиваются о камни зрелости. Утрата
этих иллюзий болезненна, но, к несчастью, таково естественное
течение вещей, оно свойственно нашему сознанию. В молодости
мы читаем ради забавы, не анализируя того, что читаем; ближе
к старости мы начинаем думать, учиться и другими глазами
смотрим на то, что прежде даровало просто удовольствие и восторг. Кто
из нас в молодости не похвалялся «золотыми денечками доброй
королевы Бесс» и не смотрел на самодержецу, как на честь нашей
страны, как пример для подражания любому государю? И кто из
нас в дни зрелости, холодно и бесстрастно взвесив, все, что
прочитал о временах Елизаветы, не называл ее капризным тираном, чье
правление знаменовалось жестокостью и нарциссизмом, а
деятельность ее министров - корыстолюбием и вымогательством?»2.
Интересно, что Леджер не видит недостатков своей аналогии. Если
«здравый смысл» следует за «романтичностью» так же, как
зрелость следует за юностью, то каким образом он может объяснить
культурную морфологию собственного времени? Тот факт, что за
веком романтики или романтизма следует век разума, странно
сочетается с прогрессирующей наивностью в отношении к истории.
Но если аналогия Леджера не в силах объяснить, почему молодое
поколением читателей было очаровано Фруассаром, то она
заслуживает внимания как фигура риторики. Она свидетельствует о том,
1 Ibid. Р. 84.
2 Ibid. P. xxi-xxii.
214
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
что взрослея, мы расстаемся с наивным легковерием и понимаем,
что «иллюзии» и зрелые «суждения» тесно связаны друг с другом.
В прошлом остается наша молодость, во времена которой мы
«читали ради удовольствия», но из нашего настоящего мы не можем
полностью вычеркнуть представления юности о «золотых деньках
доброй королевы Бесс» и заменить их «холодным и бесстрастным
прочтением». Де Квинси, писавший в 1847 году о «Жанне д'Арк»
Мишле, использует похожий, хоть и менее двойственный прием,
когда честно признается, что легковерие и скептицизм следуют
одно за другим, как за днем следует ночь: чем мрачнее ночь, тем
меньше соблазн оставаться скептичным: «Я верю, что Шарлеман
посвятил в рыцари оленя... Прошу заметить, что я не берусь
безоговорочно ручаться за все эти вещи: мое собственное мнение тоже
меняется. Холодным ветреным днем я отчаянно скептичен; но
стоит упасть сумеркам, мое легковерие начинает уверенно расти, до
той поры, пока уровень его не превзойдет все ожидания. И я
слышал, как какие-то бесхитростные охотники заявляли, что, еще не
зайдя в эту чащу, они громко смеялись над всеми призрачными
сказками о неожиданно нападающем чувстве одиночества; но
достигнув того всем известного места, что отстоит на восемнадцать
миль в глубину, они соглашались с сэром Роджером де Соверли,
что многое можно сказать и с той, и с другой стороны»1.
Безусловно, это ирония. Само заявление об относительности
легковерия и скептицизма скептично. Но не надо путать ироничное
отношение к истории де Квинси с глубокой иронией такого
историка XVIII века, как Гиббон. Лайонель Госсман показал, что ирония
Гиббона есть способ утверждения через особые лингвистические
формы «весомости учтивости, холодной и непроницаемой
отрешенности, намеренной, контролируемой, вневременной
элегантности формы в противовес уродливой бесформенности,
неконтролируемой страсти и путаного содержания» исторического нарратива .
Для де Квинси ирония заключается в удержании и использовании
некой экзистенциональной двойственности. Она утверждает
абсолютную относительность сменяемых позиций. В этом контексте на
иронию следует смотреть, как на нечто большее, чем просто
стилистический эффект. Это способ реагирования на трудности,
возникающие в культуре. В XVIII столетии для Гиббона это был вопрос
утверждения тех урбанистских ценностей, которые могла бы разде-
1 Quincey Thomas de. The English Mail Coach and other essays. P. 143.
2 Gossman Lionel. The Empire Unpossess'd. Cambridge, 1981. P. 74.
215
Стивен Бенн
лять элита общества. Для людей 1840-х годов это было
противостоянием беспрецедентной и, быть может, избыточной вере
предыдущей эпохи в мощь исторический реконструкции. Такая
реконструкция у Барри Ст. Леджера приняла форму редакторской истерии.
Наивный источник исторического нарратива был огорожен
частоколом назойливых аннотаций, в которых поднималась насмех
пустота так называемых рыцарских ценностей. Но ясно, что при такой
снайперской стрельбе сбоку существовал риск возникновения
ляпов и путаницы, что мало помогало корректировать и оживлять
образы прошлого. Теперь, когда историческая реконструкция вошла в
фазу маньеризма, возникла нужда в живом воображении и
изобретательном поэтическом таланте. В Англии эти качества успешно
сочетались в уникальной фигуре почтенного Ричарда Барэма,
автора «Легенд Инголдсби». Скотт занимал командные позиции в
первой фазе нового открытия истории. Барэм же должен был стать его
эпигоном, пародируя, но также и ниспровергая поэтические
методы, которые развил и популяризировал Скотт.
Мы не будем устанавливать прямую и документальную связь
между Скоттом и Барэмом. Для Скотта к концу его жизни имя
«Барэм» означало название английского фрегата, на котором он
в 1831 году отправился в круиз по Средиземному морю. Это
предприятие имело печальный конец: в пути Скотта обуяли нехорошие
предчувствия, и он по суше, ужасно торопясь, вернулся обратно
в Шотландию, в Абботсфорд ранней осенью 1832 года и вскоре
после этого умер. Будущий автор «Легенд Инголдсби» родился
поколением позже Скотта, в 1788 году, и молодым человеком был
близок к кругу Скотта (что не означает, что он был знаком со
Скоттом). Хотя запись в его дневнике от 1827 года свидетельствует, что
такая встреча едва не состоялась: «Сэр Вальтер Скотт был здесь
днем раньше»1. Куда больший интерес, чем эти короткие записки,
представляет подкрепленная массой свидетельств дружба Барэма
с миссис Хьюс, женой каноника Собора Св. Петра, который, ко
всему прочему, являлся близким другом и корреспондентом
Скотта. Биограф Барэма даже ссылается на миссис Хьюс как на
источник, «в огромной степени эрудированный по части легенд, и
формировавший основу «излияний» "Инголдсби"» и цитирует
обращенное к ней посвящение в подарочном экземпляре «Легенд»:
1 Richard Barham. The Ingoldsby Legends or Mirth and Marvels by Thomas In-
goldsby Esquire. Third Series, second edition, London, 1847. P. 40.
216
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм,Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
Для миссис Хьюс за всю безмерность дум
Quod placeo est - si placeo - tuum1.
И все же, помимо этих удивительных символических
параллелей, между Скоттом и Барэмом мало общего. В юном поэте
чувствовалась некая «тревога влияния» Скотта, но Барэм оставил мало
откровенных записей о своем интересе к Скотту и его
произведениям. Символические параллели станут лучше понятны, если мы
вернемся к предыдущей главе, к использованию Мейнардом Мэком
понятия «композиция места». Ранее я сравнивал ироничное,
фрагментарное отношение Байрона к Ньюстедскому Аббатству с теми
строительными работами (поэтическими и реальными), которые
вел Скотт в Абботсфорде. Я полагаю, что глубокий
психологический эффект «утери» Скоттом Драйбурга был стимулом его рвения
при постройке Абботсфорда. Лишенный Драйбурга (подлинного
средневекового строения, которое должно было бы перейти сначала
к его отцу, а затем к нему самому, но по причине какой-то
бессмысленной сделки купли-продажи этого не произошло), Скотт
потратил огромные деньги и массу воображения для постройки
суррогата. У Ричарда Барэма произошло нечто в этом же духе.
Унаследовав в 1795 году (когда он был еще ребенком) от своего отца
земельную собственность вблизи Кэнтербери, в 1802 году Барэм
чуть было не погиб в результате несчастного случая с экипажем.
Его чересчур торопливые душеприказчики даже выслали своего
инспектора для осмотра принадлежащего Барэму поместья Тэп-
пингтон Эверард, для его оценки и продажи. Барэм выздоровел,
и собственность осталась непроданной. Ему не надо было строить
новый наследственный замок в другом месте. Но сама возможность
потери, по-видимому, по-новому ориентировала его поэтический
дар. Если Скотт смягчил реальную утрату реальной постройкой, то
Барэму пришлось возмещать грозившую утерю новой, но
совершенно вымышленной постройкой. Его поэтическая стратегия
заключалась в строительстве на весьма скромном фундаменте
Кентского дома-особняка, в котором он даже и не жил, легендарный дом
Инголдсби, с его атмосферой рыцарских времен, комичными
привидениями и скелетами в шкафу. Снова процитируем сына и
биографа Барэма: «описание дома, есть скорее то, чем он мог бы стать,
а не то, что он есть на самом деле...»2*. Странная логика или мор-
1 Ibid. Р.73 (перевод А. Макарова).
2 Ibid. Р. 3-4. Примечательно, что общей точкой между реальным и
фантастическим Таппингтоном является «запачканная кровью лестница, известная сценой
братоубийства, ужасное свидетельство происшедшего для нынешних владельцев дома».
Тэппингтон Эверард - старый елизаветинский особняк, в котором жил
Ричард Барэм, и сегодня высится невдалеке от шоссе Кентербери-Фолкстоун,
немного южнее деревеньки Дентон. В самом Кентербери стоит дом С. Бенна.
217
Стивен Бенн
фология задействована в цикле, в котором замкнуты в некой
последовательности Байрон, Скотт и Барэм. Начиная с Байрона
иронический текст используется для регистрации аномалий «смешенья го-
тик» в архитектуре строений и заклеймения Ньюстеда как «Свода
монастырского, осужденного на использованье злое!». Но Ньюстед
остается тем, что он есть: к множеству его характеристик просто
добавляется мифическое присутствие поэта-романтика. У Скотта
здание, построенное в попытке реализации личного видения
средневекового прошлого, прежде всего, становится памятником
творческому гению автора «Уэверли». Ко времени смерти Скотта его
поместье Абботсфорд стало известно по всей Европе благодаря его
тиражированию на дешевых эстампах. Мастеру даже самому
пришлось отклонить просьбу купить один из таких образцов, с
раздражительным замечанием «Это я уже знаю, сэр», показанный ему в
июне 1832 года продавцом книг из Франкфурта1. В обоих случаях
«место» существует вне зависимости от поэта, вопреки
мифическим связям между ними обоими. Однако у Барэма реальный Тэп-
пингтон Эверард не вполне адекватный референт для этого
богатого историей «места». Скорее, он - некая отправная точка. В
«Легендах Инголдсби» Барэма отражено систематическое исследование
местности Кента, на основе чего формируется географический
контекст отцовского особняка. Но это означает, что связь между текстом
и «местом» значительно поменялась. Пропасть между скромной
фермой Таппингтон и разросшимся поэтическим строением так же
велика, как и пропасть между фактом и фантазией. Особняк,
открывающийся нам, существует и может существовать только в виде книги.
Можно провести параллель с литературной стратегией куда
более крупного представителя романтизма. Виктор Гюго вкладывает
в уста одного из персонажей своего романа «Собор Парижской
Богоматери» (священника Клода Фролло) наводящее на размышления
пророчество: «Le Livre tuera l'tdifice». («Книга убьет здание»)2. Это
замечание в его изначальном смысле может быть объяснено как
комментарий на тему развития европейской истории от Средних
Веков до Возрождения, когда строительство соборов и в самом деле
пришло в упадок, а книгопечатание бурно развивалось. Но
замечание Виктора Гюго применимо и к его собственным
беллетристическим достижениям. «Собор Парижской Богоматери», роман, назва-
1 Lockhart IG. The Life of Sir Walter Scott, abridged version. London, 1912. P. 767.
2 Hugo Victor. Oeuvres complètes. Paris, 1967. Vol. vi. P. 135.
218
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
ние которого происходит от имени великого собора, может
рассматриваться как попытка достичь соответствия с
диверсифицированной символикой средневекового архитектора через
воображаемую потенциальность фикционного текста.
//. Гвилт. Фронтиспис к «Легендам Инголдсби» Р. Барэ.ма,
издание 1843 года
219
Стивен Бенн
Но это и указатель своего рода борьбы между средневековой
и современной креативностью. В каком-то смысле Гюго стремится
окутать текстом уже существующее здание, охватить и подменить
многочисленные коридоры и лестницы Нотр Дам щупальцами
своего вымысла. Если мы продолжим сравнивать Гюго и Барэма, то
очень быстро придем к абсурду. Но одно мы запомним в качестве
предлога - понятие здания, исторического здания. Потайная
лестница, которую Барэм предлагает в качестве решения загадки
«привидения Тэппингтона», есть не более, чем фикционный инструмент,
дающий неожиданную разгадку тщательно задуманного заговора.
Но она в некотором роде более реальна, чем любая лестница самого
дома-особняка в Тэппингтоне.
Виктор Гюго напоминает об еще одном важном отличии
французского романтизма и творчества Ричарда Барэма. Относительно
поздний расцвет романтизма во Франции, частично обязанный этим
наполеоновской цензуре, частично - застрявшей в эпохе
классицизме Академии, сделали Гюго самым продвинутым из всех
французских авторов-романтиков - поэтом и романистом, каким был
Скотт. С другой стороны, Барэма постоянно преследовало
ощущение запоздалого прихода в литературу романтизма. В «Легендах
Инголдсби» щедро разбросаны знаки того, что мы уже больше не
в начале романтизма. Если упоминается Оссиан, то его имя
покрывается глянцем иронии «(или, если хотите, Макферсон)»1*. Скотт же
трактуется как некий анахронизм. В «Шалости ведьмы» Барэм
неожиданно цитирует хорошо известную строчку из стихотворения Скотта
«Лохинвар», относя ее к совершенно другому типу церемонии:
Теперь же поменяем шаг, она сказала2.
В конце поэмы Барэм делает издевательское признание о своем
источнике на манер «Нравоучительных сказок» X. Беллока:
Одно прикосновение к руке, одно лишь на ухо словцо
(Из Вальтера Скотта изъята строка, и это налицо)3**.
1 The Ingoldsby Legends. Second Series, second edition, 1842. P. ПО; см. также:
The Ingolsbly Legends. First Series, second edition, 1843. P. 334.
* Оссиан (по преданию, 3 век) - легендарный кельтский бард, авторству
которого шотландец Дж. Макферсон приписал цикл поэм (изд. 1765).
2 Ibid. Р. 167. В русском переводе стихотворения такой строчки нет. См.:
Скотт В. Лохинвар. Пер. В. Бетаки // Скотт В. Собр. соч. Т. 20.
Mbid. Р. 178.
** Хилари Беллок (Hilaire Belloc, 1870-1953) - англо-французский автор и историк,
убежденный сторонник римско-католоческой церкви. Одна из самых известных его
работ «Нравоучительные сказки для детей» (Cautionary Tales for Children (1918).
220
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
Конечно, не только Скотт, но весь круг современной
исторической репрезентации, включены Барэмом в его репертуар ссылок.
В «Лирической песенке Св. Данстена» он вспоминает хорошо
известную историческую картину в следующих выражениях:
You must not be plagued with the same story twice,
And perhaps have seen this one, by W. Dyce,
At the Royal Academy, very well done,
And marked in the catalog Four, seven, one.
He будем потчевать вас одной историей дважды
К тому Dice, вы могли лицезреть ее изображение
в Королевской Академии
В прекрасном исполнении кисти У. Дайса.
И помеченной в каталоге под номером четыре-семь-один .
Ясно, что ощущение опоздания становится особенно острым
там, где это касается репрезентации истории. Причина в том, что
поэт, романист или художник, пишущие на темы истории,
рассказывают ее второй раз: они работают на основе аутентичного или
доксографического текста, который является источником. Барэм,
делая ироническое замечание подобного рода, показывает, что сам
он отстоит еще дальше в очереди таких поэтов, писателей и
художников. Он рассказывает свою собственную «Лирическую песенку»,
упоминая своего непосредственного предшественника в сочинении
таких песенок, который когда-то сам воспользовался оригинальным
рассказом или историей того времени. Ясно, что доверие публики
выдерживает суровое испытание. Но на вопрос доверия можно
взглянуть и с другой стороны. Например, толкование случайно
услышанного анекдота, который Барэм записывает в своем дневнике
8 декабря 1828 года.
Действующим лицом, а по сути, героем этого крайне смешного
анекдота выступает ближайший друг Барэма Теодор Хук, как
говорят, соперничавший с его преподобием Сиднеем Смитом в звании
самого известного остряка своего времени. Как пересказывает Хук
(в передаче Барэма), сцена, где происходит действие, - суд над
лордом Мелвилом в палате лордов. Когда они входили в палату,
«провинциального вида леди» попросила Хука рассказать ей о деталях
процесса, и тот с торжественным видом, но с нарастающей нагло-
1 Ibid. Р. 224.
221
Стивен Бенн
стью стал подсовывать ей ложные сведения. Прежде всего он
настаивал на том, что епископы, в своих искусно сшитых
великолепных одеяниях - это не «джентльмены», а «леди, старые леди -
самые что ни на есть вдовы пэров». Информация принята и
передается отпрыску провинциального вида леди. Но это еще не конец:
Все шло гладко, до той поры, пока Спикер палаты
представителей не привлек внимание богатой вышевкой на его одеждах.
«Помилуйте, сэр, - говорит она, - а кто это напротив, что столь
значителен на вид?
«Это, мадам, - последовал ответ. - Кардинал Уолси!»
«Нет, сэр! - Вскричала дама, вскочив и бросая на своего
собеседника взгляд презрения и злобы, - уж про это-то мы наслышаны;
Кардинал Уолси год назад, как скончался!»
«Ничего подробного, моя дорогая мадам, уверяю вас, -
воскликнул Хук с серьезностью, которая должна была выглядеть
просто сверхъестественной» - такие вести сообщали в провинции, но
безо всяких на то оснований; эти мерзкие газеты расскажут вам все,
что угодно»1.
Эта небольшая сценка поучительна настолько же, насколько
и забавна. Именно поэтому от биографа Барэма не может укрыться,
что поведение его собственного персонажа характеризуется точно
таким же ограниченным взглядом на исторический факт, что и
поведение его друга, Теодора Хука. В конце концов, Хук просто
играет на простодушии своей собеседницы. Вначале он дает
правильную информацию, но затем переходит к незначительной лжи,
объявляя, что епископы - это жены пэров. Это заявление не входит в
противоречие с тем, что леди из провинции может наблюдать
собственными глазами. Но его мастерским ударом является проекция в
прошлое, когда он заявляет о присутствии знаменитой
исторической фигуры и не отступает от своего слова со «сверхестественной»
серьезностью и против всякого здравого смысла. Очевидно, что эта
безобидная шутка в контексте того десятилетия воспринимается
как нечто само собой разумеющееся. Даже «провинциальная»
публика оказывалась свидетельницей того, как посредством
воображения на страницах произведений Скотта и его преемников вновь
вызывались к жизни образы Ричарда Львиное Сердце, Людовика XI
Французского, Якова I Шотландского и великого множества других
исторических личностей. Тактический ход Барэма - reduction ad
1 The Ingoldsby Legends. Third Series. P. 71.
222
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
absurdum понятия исторической реконструкции . То, как Барэм
представляет свои исторические персонажи, делает его ближе к
Хуку, чем к Скотту. Когда он преподносит нам «Лирическую
песенку Св. Данстена», то мы не просто не верим событиям,
приписываемым этому святому. Текст систематически лишает нас
возможности лояльно отнестись к прошлому. Там, где Скотт преуспел
в укреплении доверия читателей, а, следовательно, в воображаемом
воссоздании прошлого, Барэм просто манипулировал неверием.
Нам постоянно помогают осознать искусственность и, по сути,
в гротескность вызываемых в памяти событий прошлого.
«Лирическая песенка Св. Данстэна» иллюстрирует это весьма
эффектно.
The monks repair
То their frugal fare,
A snug little supper of something light
And digestible, ere they retire for the night.
For, in Saxon times, in respect to their cheer,
St. Austin's rules was by no means severe,
But allow'd, from the Beverly Roll 'twould appear,
Bread and cheese, and spring onions, and sound table-beer,
And even green peas. When they were not too dear;
Not like the rule of La Trappe, whose chief merit is
Said to consist in its greater austerities;
Ne'er are suffer'd to speak
Think only in Greek,
And subsist as the Bears do, by sucking their paws1.
И принялись монахи
За свою скромную трапезу
Чтобы, перед тем, как отойти ко сну
Попотчевать себя чем-нибудь легким и удобоваримым.
Ибо во времена Саксов, при всем уважении к еде
Правила Св. Остина никак нельзя было назвать суровыми.
* reduction ad absurdum (лат.) - доведение до абсурда.
1 The Ingoldsby Legends. First Series. P. 229.
223
Стивен Бенн
И, как следует из Списка Беверли, дозволялось явиться на столе
Хлебу и сыру, и весеннему луку, и доброму столовому пиву.
И далее зеленым бобам, если те не были слишком дороги.
Не в пример законам траппистов, и главное их достоинство есть,
говорят, в воздержанности, какой другим не снесть
И чьим монахам, коль не изменяет память мне,
Говорить разрешалось только во сне,
А только думать, да и то лишь на древнегреческом
И кормиться, подобно Медведям, сося свою лапу.
До какого-то момента и, особенно, в первых нескольких строках
стихотворение Барэма сообщает верную историческую
информацию. Правила католических монашеских орденов Св. Остина и Ла
Траппе (трапписты) на самом деле существуют, и у последних они
конечно, суровее, чем у первых . Фраза «во времена саксов» и
грамматический сдвиг с исторического настоящего, на
историческое прошлое подготавливает нас к перечислению по пунктам
диеты монахов: «хлеб и сыр, и весенний лук». Это перечисление
весьма правдоподобно, и его подробности создают «эффект
реальности». Но (как и с Теодором Хуком) наше доверие шаг за шагом
подвергается испытанию, пока не достигает точки разрыва.
«Зеленые бобы» (с их сомнительной характеристикой) уже вызывают
знак вопроса. Утверждение о правиле Ла Траппе, хоть и
правдоподобное, частично подрезается причудливой рифмой. К концу
отрывка информация поражает своей бесцельностью и наше
внимание переключается на возмутительные капризы рифмической
схемы. Ввод заглавной буквы в слове «Медведи» и странную
аномалию. Этот отрывок напоминает, что у Барэма исторические
референции большей частью даются в стихах. Однако и сам сэр Вальтер
Скотт до появления романа «Уэверли» был широко известен как
писатель исторических баллад. Но между такой поэмой, как «Песнь
Св. Дунстана» Барэма, и поэмой «Песнь последнего Менестреля»
Скотта существует огромная разница. Там, где Скотт сохраняет
баланс между нарративной функцией и метрическим рисунком,
никогда не препятствуя первому за счет последнего, Барэм
периодически прерывает нарратив, отступает и расширяет его, привлекая
* Трапписты обязаны молиться 11 часов в сутки, соблюдать молчание,
прерываемое только для молитв, песнопений и по другим уважительным причинам, и
строгий пост, облегчаемый только для больных.
224
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
внимание к метру и рифмической схеме. Говоря языком Якобсона,
он выводит на авансцену «поэтику» за счет «референтивной»
функции.
Безошибочным знаком этого, конечно является его культ игры
слов. Поучительно было бы взять для сравнения серии
сатирических рисунков Histoire ancienne (древней истории) О. Домье, где
непочтительное изображение классических сюжетов было высоко
оценено Бодлером1.
Когда Домье представляет нам своих «Эдипа и Сфинкса», он
обращается с известной загадкой, как со смешным каламбуром:
«Почему ты не можешь расчитывать на пирамиды?» - C'est qu'ils
sont près Caire (сочетание «Рядом с Каиром» по-французски
созвучно со словом précaire, «сомнительный»). В любой форме
реалистического, или как бы реалистического, дискурса каламбур предан
анафеме, так как в нем нарушается различие между означающим и
означаемым. Сочетание двух означаемых (près Caire/précaire) в
одном означающем, безусловно, ставит проблему прозрачности
дискурса по отношению к реальности. Поэтому как для Барэма, так и
для Домье, настойчивое использование каламбура является
антиреалистической тактикой, с успехом ниспровергающей конвенции
исторического дискурса.
У Барэма стихотворные формы вообще специально выбраны
для создания разделительных и механистических эффектов. Не
только прерывающая внимание читателя рифмическая схема, но
почти каждый аспект стихосложения Барэма работают против
принципа нарративного «потока», бросая вызов естественному
ожиданию читателя, что перед ним - репрезентация событий
прошлого. И такой эффект акцентируется самим замыслом «Легенд
Инголдсби» или, скорее, отсутствием такового. Биограф Барэма
пишет: «Он намеревался... заключить disjecta membra его
замысла в более систематическую форму и придать ей больше
совершенства и компактности»2*. Но вопреки этому благочестивому
притязанию совершенно немыслимо, чтобы такой необработанный моток
пряжи мог бы быть разделен по ниточкам и свергнут в аккуратный
клубок.
1 Some French Caricaturists, translated in Charles Baudelair. The painter of Modern
Life and other essays London, 1964. P. 166-86.
2 The Ingoldsby Legends. Third Series. P. 71.
* disjecta membra (лат.) - «разбросанные члены». Разрозненные части,
обрывки.
8 Зак. 760
225
Стивен Бенн
Указание на disjecta membra не только выразительная
характеристика структуры «Легенд Инголдсби», но также указатель
отличия между дискурсивными процедурами Барэма и Скотта. В
предыдущей главе я говорил о том, что Скотт передвигается от
стратегии метонимической редукции (целое к части) к стратегии синекдо-
хальной интеграции (часть к целому). Вспомните случай с
«античным маленьким львом» из Мельроза. Барэм старается подражать
синекдохе. Но ирония мешает ему и приводит к обратному
эффекту: редуктивный процесс метонимии открывается ниже уровня
синекдохи, а стратегия органицизмизма проявляется как чисто
механическое действие. Такое видение оппозиции Скотта и Барэма
может показаться излишне схематичным. Однако посмотрите на
несколько строчек из «Песнь Св. Генгульфуса»: святого
четвертовали, но вот что с ним происходит дальше:
Kicking open the casement, to each one's amazement
Straight a right leg steps in, all impediment scorns,
And near the head stopping, a left follows hopping
Next, before the beholders, two great brawny shoulders
While two hands assist, through nipp'd off at the wrist,
For the thirsty guests all stare in wonder and doubt,
As the limbs in their sight arrange and unite,
Till Gengulphus, through dead, looks as sound as a trout1.
И к общему удивлению скинув крышку гроба,
Презрев все преграды, выступает правая нога
Останавливаясь возле головы, а за ней следом вперевалку и левая
Так как донимали ту мозоли.
Затем, пританцовывая перед публикой, через толпу
Шествуют два мускулистых плеча и две руки.
А две кисти рук, те что были отрезаны в запястье,
Подсобляют плечам влачить туловище.
В то время как ненасытная публика,
полная изумления и сомнений, пялится
1 The Ingoldsby Legends. First Series. P. 242.
226
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм,Д. Ре скин, У. Г. Фокс Тальбот
На то, как у них на глазах,
все члены тела дружно соединяются.
И вот вчистую мертвый Генгульп,
предстает живехоньким, как огурчик.
Как и во многих других случаях у Барэма буйствует фантазия
расчленения и восстановления. Рассуждая психоаналитически, все
его произведения могут быть объяснены с точки зрения того
несчастного случая в его детстве, о котором я упоминал. Он сильно
повредил правую руку и стал калекой. Но это не делает Барэма
представителем «иронического» этапа развития исторического
дискурса. В 1820-е годы историография одновременно существовала за
счет нового идеала «жизнеподобной» репрезентации и развивала
его благодаря важному аспекту культурного движения той эпохи,
позволяющего рассматривать мир в поэтических операциях
органично и синекдохально. Барэм знаменует поздний этап этого
движения, при котором эти операции становятся средством игры
иронии: Св. Генгульфус на глазах изумленной публики приращивает
себе каждую часть тела, отрубленную палачами. Но даже после
того как он вновь стал новехоньким, «как огурчик», остается
мучительное напоминание о казни - его борода, которая прилепилась к
злой женщине, рубившей первой. Эта женщина наказана, она стала
ходячей катахрезой:
She shriek'd with the pain, but all efforts were vain;
In vain did they strain every sinew and muscle,-
The cushion stuck fast! - From that hour to her last
She could never get rid ofthat comfortless 'Bustle'!
Напрасны напряжения всех мышц,
Борода пристала накрепко! -Иот сего дня до последнего часа
Не сможет она избавиться от этой ненавистной «наклейки».
Многочисленные примеры disjecta membra из остальных
«Легенд Инголдсби» - «Легенды о Шерри», «Сороки из Реймса» и
многих других только подтверждают, что иронический дискурс
Барэма преследует заранее продуманную определенную цель. Вместо
того чтобы следовать принципу сопоставления «наивного»
источника с его «ироническим» современным комментарием, как это де-
* перевод А. Макарова.
227
Стивен Бенн
лает Барри Ст. Леджер, Барэм изобретает особую форму
«негативного» стиха, в котором очень часто (хоть и не всегда) использован
исторический материал, но разрушительное действие иронии
уничтожает все приметы его подлинности. Если Скотт владел интегра-
тивиым историческим дискурсом, то Барэм отвечает duccunamue-
ным типом такого дискурса, предусматривающим исходную
процедуру кодирования и перестановки некоторых его центральных
элементов. В каком-то смысле Барэм унаследовал аудиторию Скотта
на самом излете популярности исторической реконструкции того
времени. В 1810-е и 1820-е годы были популярны романы «Уэвер-
ли», в 1840-е - «Легенды Инголдсби». Но если романы Скотта
характеризовались упорядоченностью и связностью и
сформулировали для европейского разума новый тип риторики, то Барэм
предлагал временные меры лечения беспорядка и несвязности. Он пишет,
вспоминая Шекспира:
Нам в помощь беспорядок, что сгубил нас!
Идем толпой и жизни отдадим !
Хороший способ показать отличие между Скоттом и Барэмом -
сравнить парадный зал Абботсфорда (и сегодня все еще
украшенный военным снаряжением, нишами для хранения оружия,
средневековыми доспехами и пр.) и титульный лист «Легенд Инголдсби»,
на котором изображен почти такой же зал, но настолько иронично,
что превращает картинку в издевку. У Скотта украшение парадного
зала свидетельствует о всей серьезности его свидания с прошлым,
свидания, которое характеризовало не только его романы, но и
строительство его замка Абботсфорда. У Барэма вид комично
несущихся куда-то медведей, напоминающий каламбур на тему
происхождения имени автора, - откровенно фальшивая картинка
Средневековья. Сорока Реймса примостилась на самой высокой точке
непонятного сооружения, словно бы говоря: «Оставь легковерье,
всяк сюда входящий!»
Я уделил столько времени «Легендам Инголдсби» из-за их
изумительного и интригующего аромата. Но следует подчеркнуть, что
Барэм акцентирует (и доводит до чудовищных размеров) иронию,
уже хорошо заметную в большинстве форм исторической
репрезентации того времени.
* Шекспир В. Генрих V. Акт IV, сцена V // Шекспир В. Поли. собр. соч.: в 8 т.
Т. 5. М, 1959. Пер. Е. Бируковой.
228
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
Смит-мл. Вестибюль Лбботсфорда
229
Стивен Бенн
Первое издание «Легенд Инголдсби» имело место в 1840,
последнее датировано 1847 годом, когда сын Барэма написал
предисловие к третьей и последней из частей «Легенд». «Истории из
Фруассара» Барри Ст. Леджера с их маловразумительной кашей
доверия к источнику и скептицизма в отношении к нему, появились
в 1843 году. В связи с Барэмом я уже упоминал великолепную
серию литографий Домье под названием «Античная история»,
которую Бодлер рассматривал как ответ на ироничный вопрос: «Qui
nous délivrera des Grecs et des Romans? - Кто избавит нас от
греков и римлян?»1. Эта серия из пятидесяти гравюр появилась
в Le Charivari между декабрем 1841 и январем 1843 годов. Вслед
за ней появился ее английский эквивалент - потрясающая
«Юмористическая история Рима» Д. Лича. Но ирония как таковая здесь еще
не рождается, это просто пародия на историю, хотя историческая
репрезентация неприкрыто сатирична и иронична.
Ранее я утверждал, обсуждая нарративы Баранта и Тьерри, что,
когда иллюстративный материал перестает быть метонимическим
(просто дополнением к историческому воссозданию) и становится
метафорическим, способным подменить действие, передаваемое
текстом, в способах исторической репрезентации происходит
решающий сдвиг. У Тьерри это сдвиг произошел в 1838 году в работе
«История завоевания Англии норманнами», у Баранта - в 1842,
в «Истории Бургундских герцогов». Хотя и нет причин полагать,
что эти новые, во всю страницу, иллюстрации к так хорошо
известным произведениям были восприняты публикой как аномальные
или абсурдные, однако несомненно, что они задавали систему
изображения, альтернативную нарративу. Тексты Баранта и Тьерри
были дополнены живым и драматическим воплощением истории,
сделанным такими французскими художниками, как Э. Дивериа
и Эри Шеффер, которые в своём творчестве следовали эволюции
салонной живописи предыдущих двадцати лет. Отсюда возникла
опасность «двойного видения», инспирированная иронией.
Историческая репрезентация, начиная с 1820 годов, развивалась очень
эффективно, и этот процесс затронул огромное количество разных
областей человеческой деятельности. Но когда различные модели
репрезентации противопоставляются друг другу, возникает угроза
появления конвенциальной природы всех стратегий репрезентации.
1 Baudelaire. The Painter of Modern Life. P. 178.
* Le Charivari- французский сатирический журнал, выходящий в 1832-1937 годах.
230
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
Трудно представить, как читатели Тьерри относились к
иллюстрации его нарратива, под которой было ясно написано - она «не
исторична» и только «по невнимательности взята составителем из
легенды, которая сегодня считается чистым вымыслом»1. Подобное
упущение, наверняка, не укрепляло доверие читателей к таким
гравюрам, а по сути, и ко всей работе историка и художника. Однако я
не буду проводить масштабное исследование исторического
дискурса 1840-х годов, все больше впадавшего в иронию и к тому
времени уже давшего глубокую трещину. Куда более продуктивным
станет рассмотрение двух совершенно разных, хотя и параллельных
тактик обороны против натиска иронии, имевших место
исторической репрезентации того времени: тактики Джона Рёскина и
Уильяма Генри Фокса Тальбота. В начале своей карьеры Рёскин изучал
вопрос о возможности сохранения в облике здания следов его
исторического происхождения. Он пытался найти такой эстетический
стандарт, который не противоречил бы визуальному свидетельству
истории. Рёскин старался решить проблему восстановления
архитектурных памятников прошлого и сохранения их подлинности.
Эта проблема остается решающей всегда, когда мы сталкиваемся с
необходимостью понять, каким образом «История» проявляет себя
в окружающей нас среде. А Фокс Тальбот был пионером
фотографии, изобретателем негативно-позитивного процесса, способа
получения на светочувствительном материале негативного
изображения, с которого можно получить неограниченное число позитивных
копий. Мы рассмотрим некоторые аспекты его деятельности в
связи с проблемами репрезентации, который мы обсуждали
применительно к Дагерру.
Весной - осенью 1845 года молодой Рёскин совершил
длительное путешествие по Франции, Швейцарии и Италии, в ходе
которого у него была возможность увидеть куда больше, чем путешествуя
в компании родителей, как в прежние времена его детства. Великие
города Тосканы - Лукка, Пиза, Флоренция - задержали его на
большую часть лета. Напряженная программа художника,
сопровождавшаяся долгими часами детальных зарисовок исторических
памятников, помогла ему сделать своего рода инвентаризацию
Италии. Регулярно посылаемые им письма родителям показывают,
насколько захватили его интеллектуальные и эстетические пробле-
1 Thierry. Histoire de la Conquête (fifth edition). Paris, 1838. Vol. III. P. 79
(plate 22). См. главу 2.
231
Стивен Бенн
мы воспроизведения архитектурной окружающей среды. Двумя
годами ранее Рёскин издал очень интересный первый том своей
работы «Современные художники» с посвящением - «Английским
художникам ландшафта». Но эта потрясающая работа была написана
на основе крайне странного принципа знакомства с историей
искусства; та итальянская живопись, какую он знал, по большей части
изучалась им по репродукциям или по собраниям, вошедшим
в британские коллекции. В 1845 году Рёскин впервые воочию
увидел городское убранство - архитектуру, художественные полотна и
скульптуру - в виде единого ансамбля. Его первая реакция -
откровенное недоумение и печаль от упадка современного облика Лукки:
«Какую печаль испытал я этим утром при обследовании
мраморных работ на фронтоне церквей. Изъеденые солеными ветрами
с моря, в трещинах от мороза, проникающего под мозаику, напрочь
разодраные корнями сорняка, поваленные проржавевшими
крепежными металлическими болтами, на котором они держались, с
зияющими брешами, сделанными, чтобы того, чтобы освободить место
для кирпичных сводов и современных капелл, замазаные гипсом
при реставрации, выжженные французами, не оставившими ничего,
кроме обломков - насколько же они прекрасны, эти обломки.
Римский амфитеатр, перестроеный в круглый рыбный рынок. Дворец
Паоло Гуиниджи, превращенный в магазины и склады»1.
Сначала вся эта картина воспринимается Рёскиным как
разрушение красоты. В свое время Гиббон слышал, как «босоногие
монахи» пели вечерю в «Храме Юпитера»2. Рёскин же отмечает
превращение Римского амфитеатра в рыбный рынок. Двумя месяцами
позже, во Флоренции, это ироничное видение исторической
обстановки как смешения несоизмеримых элементов (вплоть до самых
абсурдных) обновляется и прямо отсылает нас к «Легендам Ингол-
дсби» - этого учебника по неуважению к прошлому. Рёскин пишет,
вероятно, отцу: «Тебе бы понравилось утром с пяти до восьми
наблюдать ризницу Девы Марии, с ее прекрасной чащей для
омовения, вырезанной, или скорее отлитой Лукой делла Роббиа, всю
покрытую чудесными ангелами; с ее складными дверьми, где
хранятся реликвии и картины Фра Анджелико, а поверх алтаря резьба из
слоновой кости; мозаика ее окон; лазурная крыша - и я, рисующий,
1 Ruskin in Italy. Letters to his parents 1845, ed. Harold I. Shapiro Oxford, 1972.
P. 52 (Lucca, 6 May). *
2 Gibbon, Autobiography. Oxford, 1962. P. 160.
232
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
да все те монахи, что играют с котенком, который ходит, словно
Сорока Реймса, по кардинальскому креслу, и никто ему этого не
запрещает»1.
Сквозь шутливость сыновьего письма можно увидеть, с какой
осторожностью Рёскин старается привести в порядок свои
ощущения и дать взвешенную оценку архитектурной среды Италии. Один
из способов - катехреза и метономия. Взаимосвязь минувшей славы
и прагматичности настоящего - неудачный выбор, который делает
всякую концепцию истории с необходимостью ироничной. Детали
сегодняшнего облика искомого объекта перечисляются один за
другим вне какой-то попытки дать хоть какое-то его целостное
видение или указать на пространственный эффект. Но важно иметь
в виду, что Рёскин в письмах к родителям не только описывал
итальянские развалины. Он также делал их зарисовки, точнее -
зарисовывал детали. Записки Рёскина об этом его итальянском туре
по большей части состоят из снабженных деталями изящных
зарисовок небольших участков зданий: колонн, колонад, сводчатых кор-
ридоров и фасада. В очаровательном письме из Лукки от 6 мая
содержится исчерпывающий рассказ о ежедневном круге
обязанностей Рёскина, и одновременно оно касается нескольких проблем
исторической репрезентации. Рисовальщик начинает свой день в
«старой ломбардской церкви» Сан Фредиано, делая зарисовки
находящихся там мозаик и фресок. Затем, после посещения еще
какой-то одной церкви, он идет в Дуомо, «где найдешь одного из
самых очаровательных старых ризничих, обладающего энтузиазмом
Джонатана Олдбока и его же знанием извлечения выгоды. Он
пребывает в полном восторге, заполучив кого-нибудь, кто будет
слушать, как он читает или повторяет (так как знает их все наизусть)
причудливые надписи, повсюду выгравированные на латыни...
и толкует эмблемы на резных стенах»2. Как и у Вальтера Скотта
в его «Антикваре», мы попадаем в область антикварных
исследований, характеризуемых привязанностью к любопытным, «странным»
деталям и пренебрежением к более широкому обрамлению, внутри
которого эта деталь обретает свое полное значение. После этого
Рёскин проводит свой полдень у фасада храма святого Михаила,
зарисовывая его самым старательным образом. « Тщательно
обследуя храм, где я только ни побывал, даже на крыше. Чудесное раз-
1 Ruskin in Italy. P. 136. Florence, 2 July.
2 Ibid. P. 54. Lucca, 6 May.
233
Стивен Бенн
нообразие и изобретательность в орнаменте, необычность его
характера. Основной сюжет - охота: маленькие нимвроды с
короткими ножками и длинными пиками дуют в огромные трубы, а еще
собаки, словно мухи снующие вверх-вниз по сводчатым аркам с
приподнятыми головами, и какая угодно дичь...»1. Зарисовки
Рёскина особенно удачно передают точность деталей. Но описание
своего дня он продолжает несколько иначе. Пока он записывает
отличающуюся тонкостью деталь отделки собора святого Михаила,
он понимает, что мраморная кладка собора настолько разрушена,
что просто «раздевает» фасад здания. «Фрагменты резного Порфи-
рия валяются чуть ли не повсюду. Я подобрал три или четыре и
вернул все, что мог на прежнее место»2. Убрать отвалившийся
фрагмент или вернуть его в первоначальное положение? До
некоторой степени решение Рёскина должно было основываться на
практических соображениях - но может ли быть найдено
изначальное «место» фрагмента? Однако сама формулировка подобной
альтернативы остается значимой в свете уже имевшей место
дискуссии. «Фрагмент», изъятый со своего изначального места, - это
метонимия, подобно «образцам» в музее Ленуара или овощам в
огороде Олдбока. Восстановленный фрагмент - часть мифической
целостности, реабилитация изначального единства через синекдохи-
ческую интеграцию.
Письма Рёскина к своим родителям показывают, что
итальянское путешествие 1845 года было памятным эпизодом его
молодости, он не просто протоколировал то, что видел. Время,
проведенное в разлуке с родителями, вдали от своей страны, заставили его
переосмыслить свою жизнь и признать, что спонтанная
креативность - наивность - детства больше не является источником
истинного творчества. В первый раз Рёскин подвергся атаке демонов
иронии, атаке «двойного видения», как он объяснял в письме к
родителям от 10 мая: «Не знаю, как получилось, но я почти всегда
в делах поэтических вижу одновременно две стороны вещи, и
никогда я не получаю сильного возбуждения без ощущения изъянов и
несовершенств, которые каким-то образом упускаешь из виду,
когда ты моложе. Когда я вижу поблизости, например, оливковое
дерево, я могу подумать о библейских описаниях оливковых
деревьев, или о триумфальном шествии с оливковыми ветвями в руках, но
1 Ibid.
2 Ibid.
234
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фойе Тальбот
с таким же успехом я могу вспомнить себя перед лавкой в церкви
Св. Джилеса - "Чистое масло из Луки"!!, а апельсиновое дерево,
вместо того, чтобы уносить меня мыслями на юг, с таким же
успехом уносит меня в галерею в Эстли - "Вам чайку или лепесииовава
сока?"!! Не могу прийти к выводу, что - поэзия или проза жизни -
причина всего этого надувательства, или если взглянуть правде
в глаза, то какого элемента там больше - который надо
прочувствовать, или над которым надо смеяться? Вчера, когда я делал
зарисовки в церкви Св. Романо, вошел нищий с тонким лицом и с
собакой на привязи. Он прошел к фонтану со святой водой и
перекрестился с выражением почти святого ревностного служения, когда
в mom же самый момент, собака омочила жидкостью несколько
иного характера подножье мраморного сосуда, столь почитаемого
в его верхней части. Это было изображение Италии в миниатюре,
Италии, как она есть»1. Любопытно, что Рёскин начинает с того,
что упоминает о «делах поэтических». Ему приходится извиняться
за то, что он не отослал своему отцу стихи, которые он начал
сочинять еще в Сонфлансе по дороге в Италию. Это был момент, когда,
казалось, Рёскин усомнился в необходимости производить поток
скороспелых стихов в духе Вордсворта и, вероятно, решил
положить конец своим занятиям поэзией запоздалого романтика2. Важна
риторическая форма, в которой выражено самосознание Рёскина.
Как поэт, Рёскин пал жертвой редуктивных эффектов метонимии:
для него оливковое дерево не просто оливковое дерево и «больше
ничего», а символ порочной связи с рекламой оксфордской
торговли. Синекдохическая функция (сила апельсинового дерева,
«уносящая меня на юг») странным образом выворачивается наизнанку,
когда навевающий воспоминания фрукт обретает себя в контексте
банально неправильного произношения английской официантки.
И даже как рисовальщик Рёскин видел сюжет своих зарисовок как
демонстрацию катахрезы: священная купель в одно и то же время
есть место отравления культовых обрядов и место надругательства
над святыми вещами. Опыт жизни в Италии конкретизирует для
Рёскина вечный дуализм между духовным и материальным,
высоким и низким. Этот дуализм станет лейтмотивом его позднего
1 Ibid Р. 57-8, Lucca, 6, May.
2 Bloom Harold. Introduction // The Literary Criticism of John Ruskin. New York,
1965. P. xii.
235
Стивен Бенн
творчества и навязчивой идеей его личной жизни («Едва ли знаешь,
кто возьмет в ней верх, святая... или животное»)1.
Однако злоключения дальнейшей жизни Рёскина нам не
слишком интересны. Нам важно рассмотреть тактику Рёскина до того,
как его стали одолевать приступы иронии. Во время своего
длительного путешествия 1845 года он многое переосмыслил: «Я
думаю, что большая часть благословенной силы воображения детства
от меня ушла», - писал он из Милана 16 июля, - и ничто не
вознаградит меня за это»2. Однако, проникаясь духом истории Италии,
он пытался отвоевать у беспорядка и распада современной
итальянской архитектурной среды образ исторической целостности. Каким
образом можно было надежно сохранить этот образ? Очевидно, что
с помощью синекдохи - через точное описание или детальную
зарисовку, дающие воображению доступ к целому. Адриан Стоке
обращает внимание на способ, которым Рёскин старался избавиться
от ипохондрии, рисуя осиновое дерево: «посредством внешнего
восприятия Рёскин вновь обретал средство измерения плотно
сбитого объекта и потенциальность чувства, формулируемого на
основе наблюдения законченного вида ствола осинового дерева»3. Но
потребность в образе, обладающего культурной целостностью,
и убежденность в целостности прошлого были переплетены с
томлением по «плотно сбитому объекту». Рёскин рассматривал свое
оливковое дерево и свое апельсиновое дерево как пробные камни
для создания картины неиспорченной, незагрязненной Италии.
Однако вместо этого они становились карикатурным выражением
английской вульгарности. Он смотрел на выписывание деталей, как на
напоминание о сакральном пространстве Римской церкви. Но на
эту идиллию падает тень нищего и его собаки.
Рёскину так и не удалось избежать чувства тревоги и
иронического отношения к прошлому, которые проявляются в череде его
писем. Его оборонительная тактика в борьбе с этим состояла в
попытках сформулировать уникальный тип исследования, в котором
были бы выражены все напряжение и неоднозначность ситуации,
в которую он попал. Для Рёскина синекдоха была опасной, но
необходимой ставкой против иронии. Пруст выявил и проанализиро-
1 Ruskin in Italy. P. 58. Lucca, 10, May.
2 Ibid. P. 149.
3 Adrian Stokes. Critical Writings, ed. Lawrence Gowing, London, 1978. Vol. iii,
P. 173.
236
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
вал результаты этой стратегии Рёскина: «объект, к которому
применим тип мышления, свойственный Рёскину... не материален, он
распределяется тут и там по поверхности земли. На него нужно
смотреть там, где он был найден - в Пизе, Флоренции, Венеции,
в Национальной Галерее, в Руане, Амьене или в горах
Швейцарии»1. Для Пруста главное достижение исследовательского стиля
Рёскина заключается в том, что он погружает читателя в поиск
деталей некоего второстепенного, но ценного объекта, что для
Рёскина было идеалом мастерства рисовальщика. Мотивация поиска
заключается в том, что «это невероятно украшает вселенную вокруг
нас, или, по крайней мере, некоторые ее отдельные части,
некоторые конкретные части, потому, что он к ним притрагивается и
посвящает нас в них, обязывая нас любить их, если мы хотим понять
их». Но когда Пруст начинает играть такими словами, как
«вселенная» и «некоторые отдельные ее части», мы вновь встречаемся с
проблематикой части и целого. Для Пруста неизбежная опасность в
подходе Рёскина заключается в том, что концентрация всего
внимания художника на детали может привести к своего рода
«идолопоклонству» или «фетишизму»: Святая Дева в занятой ею нише,
изолированная от непосредственного окружения собора и
разъединенная с банальной, но живой рыночной площадью, предлагает
совершенно искусственно созданный образ нетронутости. Когда
юный Марсель в первый раз посещает знаменитую Деву Марию
Бальбека, то он приходит в ужас от наблюдения того, насколько
почитаемый предмет нераздельно сливается с повседневным
окружением французской деревни. Как намекает Пруст, склонность
Марселя поместить Деву Марию скорее в идеальный мир
прошлого, чем в реальный мир французской деревни, является
естественным следствием его преклонения перед Рёскиным2.
Однако Рёскин не делает последнюю ставку на оживляющую
силу объекта или детали. Одним из поздних вариантов решения им
проблемы целостности прошлого определенно является
существующее только в воображении разделение между целостностью
и фрагментацией, о чем молодому путешественнику во время своей
итальянской поездки сложно было бы и помыслить. Для Рёскина
1845 года Италия просто ломилась от доказательств грубого обра-
1 Proust. Pastiches et Mélanges. Paris, 1947. P. 176.
2 См. об этом: Macksey Richard A. Proust on the margins of Ruskin, in
J.D. Hunt (ed.). The Ruskin Polygon Manchester, 1982. P. 172-197.
237
Стивен Бенн
щения с сокровищами прошлого. Десятилетием позже для автора
последних двух томов исследования «Современные художники»
Италия и, по сути, весь европейский континент стали
воображаемым хранилищем истории как целого. Венеция Джорждоне,
воссозданная Рёскином в пятом томе его «Современных художников»
в главе под названием «Два мальчишеских возраста» как идеальный
город Иерусалим в сравнении с убогим состоянием викторианского
Лондона, а также «старая башня церкви в Кале» (для Рёскина самая
желанная встреча во время каждого его путешествия на континент)
стали символами Европы, откуда, словно поток света, лучилась
история. «Не могу передать и половины странных приятных
ощущений и мыслей, нахлынувших на меня при виде этой старой башни;
потому что это, своего рода изображение в миниатюре всего, что,
в отличие от новых стран, делает Европу интересной. Но прежде
всего, это - проявление старины в реальной жизни, связующее в
гармонию старое и новое. В Англии множество новых улиц, новых
гостиниц, новых подстриженных газонов, и если где-то виднеется
кусочек старых развалин, то он воспринимается как образец эпохи
средних веков, установленный для всеобщего обозрения на зеленом
ковре травы. И исключительно из-за своих размеров он не
помещается под колпак и не отправляется на музейную полку. Но на
континенте звенья между прошлым и настоящим еще не порваны,
и в той мере, в которой они могут быть использованы, седые
обломки старины обречены оставаться с человеком. Одновременно,
словно глядя на неразорванную линию, видишь, как поколения
сохранившихся строений поочередно сменяют друг друга, оставаясь
при этом на своем месте. И в этой огромности, в своем
дозволенном свидетельстве медленного упадка, в своей бедности, в
отсутствии всяких претензий, но при показной заботе о внешнем облике,
эта башня в Кале бесконечно символична. Это особенно потрясает
тогда, когда сопоставляется с абсолютно противоположными
английскими сценами выражения чувств»1.
Конечно, вся эта цитата является демонстрацией риторических
фигур, рассмотренных нами в предыдущих главах. Англия
изображена как область метонимии, где руины есть не более чем
«образец», изъятый из свойственного ему контекста, как, например,
«тесаные камни» у Олдбака или как фрагменты надгробного камня
у Ленуара. По сравнению с этим башня Кале предлагает вообра-
1 Ruskin. Modern Painters London, 1897. Vol. iv. P. 3.
238
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
жаемый доступ к той целостности, которую не могут создать (по
крайней мере в 1845 году) оливковое и апельсиновое деревья.
Англии свойственна фрагментация: прошлое и настоящее, старое и
новое непоправимо разделены, а их соединение может
восприниматься только как аномалия - катехреза «зеленого подстриженного
газона» с виднеющимся на нем «кусочком старых развалин». Европе
свойственна неразрывность: «звенья между прошлым и настоящим
еще не порваны». Когда Рёскин дает описание «седых обломков
старины, обреченных оставаться с человеком», и наблюдает за
«поколениями сохранившихся зданий», на передний план выходит
органическая метафора, рисующая процесс того, как различные этапы
человеческой истории могли бы быть одновременно представлены
в синтагме строительной среды. Вполне очевидно, что ключ к
расшифровке этого отрывка можно отыскать в психологии: как
попытку преодолеть отчуждение зрелости, о котором неоднократно
свидетельствовали письма Рёскина 1845 года. Можно
проанализировать и испытываемые Рёскиным странные ощущения
непреодолимого дуализма между английской и континентальной культурами
XIX века. Вспомните, Вашингтон Ирвинг, только что прибывший
из поистине «новой» страны Америки, пытался обнаружить в
Британии те самые «звенья» между прошлым и будущим, о разрыве
которых объявляет Рёскин1. Но даже сомнительность тезиса
Рёскина, его психологическая сверх-обусловленность и рискованность
диагноза, поставленного им культуре, свидетельствуют о той
горячности, с которой он взялся за задачу переоценки наследия эпохи
романтизма. Там, где Барэм иронически восстанавливает
синекдоху, Рёскин громадным творческим усилием ищет способ удалить
иронию и вновь установить синекдоху как интеграцию культурного
и исторического миров. Но ему не удается этого сделать, что едва
ли удивительно. И все же грандиозность его попытки превращает
неудачу в подобие успеха.
Для Рёскина «История» есть лишенная швов паутина. Она
начинается во Франции, в Кале, со «старой башни». В Англии ее
присутствие нельзя себе и представить. Отголоски этой сохранившей
силу концепции Рёскина можно наблюдать и спустя столетие.
1 См.: Washington Irving. The Sketch-Book of Geoffrey Crayon, Gent. New York,
1961. В книге Ирвинг предлагает огромное количество иллюстраций
исторического облика английских домов и ландшафтов. В пятой главе настоящего издания я
использовал часть из них для описания Аннисли Холла (Abbotsford and Newstead
Abbey. P. 207).
239
Стивен Бенн
В автобиографической работе «Шиворот навыворот» Адриан Сто-
укс делает схожее разграничение между фрагментарной,
отталкивающей лондонской обстановкой его детства и противоположным
этому ландшафтом Италии. И все же у Стоукса эстетический
дуализм лишен специфически исторического характера. Он навеян
скорее психологическими переживаниям, его итальянский
ландшафт - это еще и «отдыхающая мать... любовь и жизнь»1. Значение
позиции Рёскина заключается в способе использования латентных
психологических побуждений для подтверждения инаковости и
целостности истории: истории, которую можно ощущать через
архитектурную среду повседневной жизни, но дистанцированно,
поскольку Рёскин - это сошедший на берега континента иностранец,
обремененный островным происхождением. Ощущение истории,
свойственное Рёскину, в произведениях его преемников
трансформировалось в чисто эстетическое чувство. Сопоставим работу
Рёскина «Два мальчишеских возраста» и известное эссе Уолтера
Патера «Школа Джорджоне», вошедшее в его книгу «Исследования по
истории Возрождения».
Для Рёскина идеальная Венеция кисти Джорджоне все еще
воспринимается в контрасте с современным Лондоном. Патер же
отрицает подобную историческую дистанцию, постулируя
транссубъективный идеал стиля: «Джорджоновское... влияние, дух или
тип в живописи, одинаково действуют на разных людей, в том
числе и на тех, кому всерьез приписывают большинство якобы его
работ»2. Но каким образом понятие истории могло выжить и стать не
пустой интеллектуальной конструкцией, а предметом
эстетического и культурного восприятия, если дуализм произведений Рёскина
был вытеснен утонченно гибким трансисторическим видением
прошлого?
Обратим внимание на одну деталь биографии Рёскина. В
последние дни своего пребывания в Оксфорде (где-то около января
1840 года) Рёскин узнал от одного из студентов об «оригинальных
опытах Дагерра»3. Короткая записка к друзьям в Париж помогла
ему добыть несколько экземпляров пластинок Дагерра, которые он
принял «за первые примеры изумительных зарисовок, когда-либо
виденных в Оксфорде, и, мне думается, первые из посланных
в Англию». Однако до итальянского путешествия 1845 года дагер-
1 Stokes. Critical Writings. Vol. ii. P. 153.
2 Pater W. The Renaissance. London, 1906. P. 148.
3 Ruskin. Praeterita. London, 1978. P. 341.
240
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
ротипы оставались для Рёскина редкостью, только позже он стал
рассматривать их как надежное подспорье для художника. «Мне
здорово повезло, что я раздобыл у находившегося якобы в
бедственном положении француза, несколько самых чудесных, хоть и
небольшого размера, дагерротипов тех дворцов, которые я пытался
рисовать - и с уверенностью можно сказать, что дагерротипы,
снятые при помощи этого живого солнечного света - вещи просто
великолепные. Это почти то же самое, что похитить сам дворец -
каждая щербина на камне на месте - и, конечно, никаких ошибок
относительно пропорций. Я в крайнем восторге от них и собираюсь
сделать еще больше этих лакомых кусочков. Это благородное
изобретение, что бы о нем не говорили, и любой художник, кто, как я
работал четыре дня, допуская множество промахов, вдруг увидит вещь,
которую он тщетно пытался сделать в течение столь долгого времени,
совершенную и без крошки изъяна, то не станет ее хулить»1.
Из этого отрывка ясно, почему Рёскин был так поражен новым
«изобретением». Дагерротип был не просто подспорьем для
дальнейшей коррекции зарисовок; он в буквальном смысле был деталью
реального мира - «почти все равно, что похитить сам дворец». Он
предоставлял и непосредственный доступ к новому миру в
миниатюрном изображении: оглядываясь назад ко временам Praeterita,
Рёскин комментирует эти пластины «размером в четырехдюймовый
квадрат», на которых изображен «Большой Канал или Дворец
Св. Марка так, как если бы чародей заколдовал реальность и унес
ее в волшебную страну»2.
Уже несколько раз в этом исследовании я упоминал
технические эффекты и популярность более раннего изобретения Дагерра -
диорамы. Но в конце XVIII века можно найти его эквивалент-
работу Уильяма Сторера «Прилежный проектировщик»3. Хитрое
изобретение Сторера, купленное и пропагандируемое Хорасом Уолпо-
лом, помогало художникам в изображении перспективы и было
инструментом изображения объектов в миниатюре: «новым
открытием, которое ...открывает вашему взору райские кущи»4.
Современный исследователь может заметить основательную схожесть между
1 Ruskin in Italy. P. 220, Venice, 7, Oct.
2 Ruskin John. Praeterita: Outlines of Scenes and Thoughts, Perhaps Worthy of
Memory in my Past Life. 1885-1889.
3 Wisher Ann. Horace Walpole, William Storer and the Accurate Delineator. History
of Photography. Vol. 4, no. 3 (1980). P. 247-249.
4 Там же. P. 249.
9 Зак. 760
241
Стивен Бенн
языком, который использует Уолпол при описании эффектов своего
«проектировщика», и реакцией американского журналиста на
первый дагерротип в сентябре 1839 года: «Выглядит, как сказочное
творение, и меняет цвета, словно хамелеон»1.
Фотографическая репродукция не привела к всплеску эмоций.
На эпистемологическом уровне фотография явно не представляла
собой некого особенного и беспрецедентного видения внешнего
мира. Новое в фотографии было опосредовано моделями
репрезентаций, появившихся к концу XVIII и началу XIX веков. Даже
английский пионер фотографии Уильям Генри Фокс Тальбот поражает
нас минимализацией трансгрессивных эффектов своей новой
техники в области репрезентации, как бы он ни представлял себе ее
научное применение. Представьте себе, как он после путешествия
1833 года на озеро Комо рассматривает «сказочные картины»
(camera lucida) и приходит в отчаяние из-за отсутствия у себя
способностей к рисованию. «Вспышка вдохновения» привела его к
предложению идеи экстраполяции экспериментов Дж. Хершеля по
фиксированию светопроизводимых образов при помощи
платиновых солей на производство образов «камеры обскуры»2*. Но он все
никак не мог признать, что фотографическая репродукция
автономна от традиционных искусств. Он пишет Хершелю об
экспериментах Дагерра: «Хотя и говорят, что Дагерр изумительно преуспел с
камерой, из этого еще не следует, что он может копировать
гравюру, цветок или все то, что требует тесного контакта. Я говорю так,
предполагая, что он использует металлическую пластину,
покрытую жидкостью, из которой свет заставляет выпадать в осадок то,
что ранее содержалось в растворе»3.
Однако, несмотря на все заявления Фокса Тальбота в
поддержку своего изобретения, уже в тот момент истории фотографии
можно разглядеть истоки дебатов, продолжающихся и по сей день.
Дагерр (шоумен диарамы) следует пониманию фотографии как
«сказочной работы», как проекции в воображаемое пространство -
«волшебную страну» Рёскина. Фокс Тальбот подчеркивает
возможность «тесного контакта», предоставляемого фотографией, индек-
1 Ibid.
2 Schaaf Larry. Herschel, Talbot and Photography // History of Photography.
VoUv, no. 3 (July 1980). P. 181.
* Хертель Джон (Herschel John, 1792-1871) - английский математик,
астроном, химик и фотограф. Его идеи отчасти использовал Ч. Дарвин в работе
«Происхождение видов».
3 Letter, 11, Feb., 1839.
242
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
сирующего звена между образом и его референтом. Этот критерий
верности воспроизведения, как бы Фокс Тальбот ни надеялся на его
утилитаризм, рождает неожиданный результат познания, который,
в конце концов, невозможно сбрасывать со счетов. Фотография
картины или гравюра есть не просто автоматическое или более
эффективное средство репродукции. Это (насколько она
воспринимается как фотография) ma картина, или гравюра, какой она была в
конкретном историческом времени. Это - репродукция за
подписью времени.
Здесь мы затрагиваем живую тему, которая была поднята среди
прочих Джоном Бергером, о том, к чему фотография прежде всего
относится - ко времени или к пространству1*. Бергер утверждает,
что непосредственный результат фотографии - мгновенная
передача времени, абстрагированная от нарратива, который зритель
выстраивает уже сам для себя, хотя иногда ему помогает в этом
надпись или иная соответствующая словесная информация. Что бы ни
думали, но именно связь фотографии со временем имеет
первостепенное значение. Решающее значение в анализе проблемы
отношения фотографии к исторической репрезентации заключается в том,
что она постепенно конвертирует инаковость пространства
(«волшебная страна» Рёскина) в инаковость времени, что
гарантируется индексической природой - «тесным контактом» -
фотографического процесса. Понятно, что Дагерр и Фокс Тальбот не
рассматривали свои технические нововведения в подобных понятиях.
Только наблюдая старение дагерротипов и калотипов, они начали
понимать, что фотография обладает уникальной функцией
изображения прошлого. Барт так тонко определяет разницу между
фильмом и фотографией, что мы вспоминаем антитезу Дагерр/Фокс
Тальбот. Он пишет: «...такая сбалансированность изображения во
времени (бытие-в-прошлом) способствует ослаблению его
проективной силы (фотографию, в отличие от рисунка, очень редко
используют для психологического тестирования), при взгляде на
фотографию представление о том, что все так и было на самом деле,
подавляет в нас ощущение собственной субъективности. Если
приведенные соображения справедливы хотя бы отчасти, то это
значит, что восприятие фотографии связано с деятельностью созер-
1 Berger John. Selected Essays and Articles. Harmondsworth, 1972. В своей
ценной статье «Фотография и эстетика». Screen, 19, по. 4, Winter 1978/9, 9-28.
* Бергер Джон {Berger John, 1926-???) - английский искусствовед, писатель,
художник. Известен своей работой «Способы видения» {Ways of Seeing (1972)).
243
Стивен Бенн
цания, а не с деятельностью фантазии, где преобладают
проективность и "магия", определяющие специфику кинематографа,
отсюда - возможность обнаружить между фотографией и кино не
количественную разницу, а качественное различие: кино - это отнюдь
не движущаяся фотография, в кино бытие-в-прошлом уступает
место бытию-сейчас вещей»1. Идеи Барта помогут нам распутать
несколько клубков размышлений об исторической репрезентации в
XIX веке. Возможно, что мы сможем идентифицировать wie es
eigentlich gewesen Ранке и « сознание наблюдателя в чистом смысле
этого слова», «побывавшего там», с эффектом фотографии.
Разница между Дагерром и Фоксом Тальботом может соответствовать, по
крайней мере, на каком-то уровне, дистинкции между
проективными возможностями исторического романа и подлинностью
нарративной истории, которая полагается не на фикцию, а на «эффекты
реальности».
Однако не стоит позволять этой аналогии скрыть от нас
фундаментальную разницу между историческим дискурсом, с одной
стороны, и фотографией, с другой. На протяжении всей этой главы мы
рассматривали пагубное воздействие иронии на понимание
исторического прошлого. Ст. Леджер, Барэм и Рёскин, каждый на свой лад
свидетельствовали о неподдающемся упрощению разрыве между
«наивным» историческими реконструкциями 1820-х годов и
«ироническими» картинами 1840-х, когда стратегии репрезентации
предшествующего времени были ниспровергнуты (Барэм),
определены как кризис жанра (Рёскин) или просто подвешены в воздухе
(Леджер). Забавное свойство фотографии заключается в том, что ее
«наивный» характер не стерт, а, по существу, подтвержден
временем. Поскольку она формирует (по выражению Барэма)
«сообщение без кода», то она просто сохраняется, накапливая историчность,
в то время как расстояние во времени между моментом
фотографирования и моментом восприятия зрителем фотографии все больше
возрастает. Вальтер Беньямин писал, что если портрет по
прошествии нескольких поколений становится не более чем
«свидетельством искусства живописи для человека, который это рисовал», то
фотография предлагает «новый и странный феномен»: «в
фотографии рыбачки из Нью-Хейвена, опускающей взор с такой
неспешной и соблазнительной стыдливостью, остается еще кое-что
помимо того, что могло бы исчерпываться искусством фотографа Хилла,
1 Barthes Roland. Rhetoric of the Image, in Image, Music, Text, trans. Stephen
Heath. London, 1977. P. 44 {рус. перев. -Барт P. Риторика образа // Избранные
работы: Семиотика. Поэтика. М, 1994. С. 311).
244
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
кое-что не умолкающее, упрямо вопрошающее об имени той,
которая жила тогда и продолжает присутствовать здесь и никогда не
согласиться полностью раствориться в "искусстве"»1.
С того момента как искусство отказывается от своих претензий
на всеобщность, фотография освобождается одновременно и от
зависимости от своего автора, и от изнуряющего хождения по кругу
морфологии. Она сохраняется как своего рода эфимерный
монумент. Сьюзен Зонтаг, конечно же, права, когда она ассоциирует
относительно недавний бум популярности фотографии XIX века
с романтическим культом развалин, помня о том, что фотография
не соревнуется с гигантизмом разрушенного памятника, а
увековечивает фрагменты повседневной жизни*2. Дю Соммерер, который
первым предоставил место в историческом музее обыденным
предметам прошлого, близок по духу Дагерру и Фоксу Тальботу.
Но относительная безопасность институциональное™ музея,
созданная Дю Соммерером, контрастирует с ненадежностью
фотографии как «памятника» прошлого. Ролан Барт в работе «Camera
Lucida» пишет об уязвимости фотографии, возникающей в
контексте чувственного восприятия человеком времени: «Древние
общества прилагали все усилия к тому, чтобы воспоминание как замена
жизни было вечным или, по крайней мере, чтобы вещь,
возвещающая Смерть, сама была бессмертной - таким и был Памятник.
Превращая бренную Фотографию во всеобщее и как бы естественное
свидетельство того, «что было», современное общество отказалось
от Памятника. Парадоксальным образом История и Фотография
были изобретены в один век. Но История представляет собой
память, сфабрикованную по положительным рецептам, чисто
интеллектуальный дискурс, упраздняющий мифическое Время, а
Фотография - это надежное, но мимолетное свидетельство. Так что в
наше время все готовит человеческий род к бессилию: скоро мы
уже не сможем постигать длительность аффективно или
символически. Эра Фотографии является одновременно эрой революций,
протестов, покушений, взрывов, короче, всего того, что отрицает
медленное вызревание. Несомненно, и изумление перед «это было»
также скоро исчезнет. Оно уже исчезло. Сам не зная почему, яв-
1 Walter Benjamin. «A Short history of photography», in Screen, 13, no. 1 (Spring
1972). P. 7 (рус. перев. Беньямин В. Краткая история фотографии// Беньямин В.
Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные
эссе.М., 1996. С. 19).
Речь идет о фотографии «Элизабет Джонстон, прекрасная рыбачка» Дэвида
Октавиуса Хилла.
2 Sontag Susan. On Photography London, 1977.
245
Стивен Бенн
я являюсь одним из последних его свидетелей (свидетелем
Неактуального), а эта книга - его архаическим следом»1. Вызывающий
дрожь отрывок из Барта, становясь еще более торжественным
ввиду его смерти, последовавшей через несколько дней после
публикации «Camera Lucida», делает еще более острым разделение между
фотографией и любой другой формой репрезентации прошлого и
оставляет хрупкую фотографию опасно оголенной. Однако можно
предложить и менее радикальную полярность, в которой
уникальное «свидетельство» фотографии остается последней границей
континуума форм исторической репрезентации. Современный
посетитель Аббатства Лекок, бывшего дома Фокса Тальбота и сцены
множества его чудесных фотографий, видит загородный дом,
сооруженный (подобно Ньюстедскому Аббатству) на фундаменте
средневекового аббатства. Однако особняк в стиле Тюдоров сэра
Уильяма Шэрингтона скрывает анормальность удобного наложения
крытой галереи и коридора, здания капитула и длинной галлереи;
даже впечатляющий нео-готический парадный холл, достроенный
в 1753 году Сандерсоном Миллером, по-видимому, не портит
общее впечатление гармонии. У ворот в Аббатство посетитель входит
в амбар, предназначенный для хранения собранной церковью
десятины, в этом амбаре помещается Фотографический музей Фокса
Тальбота. Саму деревню Лекок посетитель найдет мало отличимой
от образа, переданого фотографиями Фокса Тальбота. В 1944 году
Национальным опекунским советом в связи с отказом от
наследства потомками Фокса Тальбота, в ней запрещено любое
строительство. Едва ли реально ассоциировать, как это происходит в Лекоке,
фотографическую технику, воскрешающую виды прошлого, с
увеселительным предприятием и выгодой настоящего. Как показывает
на примере Франции Пьер де Лягар, различные ассоциации и
институты, заинтересованные в сохранении и реставрации старинных
зданий, своими корнями уходят в открытия и действия
подвижников XIX века: в спасение Ленуаром памятников во времена
Революции; в образование Арциссом де Комоном первого
охранного общества памятников; в процедуру инвентаризации истории-
ческих зданий Гизо; в поездки Мериме с региональной
инспекцией памятников; в детально разработанную практику реставрации
Э. Виоллет-лё-Дуком2*.
1 Barthes Roland. La Chambre claire - Note sur la photographie. Paris, 1980.
P. 146-7 {рус. перев. - Барт P. Camera lucida. M., 1997. С. 139-140.)
2 Pierre de hagarde, La mémoire des pierres. Paris, 1979.
* Пьер de Лягар (Pierre de hagarde, 1932-???) - французский писатель и
телеведущий, посвятивший себя делу сохранения архитектурных памятников; Арцисс
246
Глава шестая. Защита от иронии: Р. Барэм, Д. Рёскин, У. Г. Фокс Тальбот
Шарингтонская башня усадьбы Лекок,
построенная на развалинах древнего аббатства Лекок
Совершенно отдельный список может быть составлен и с
другой стороны Ламанша. Волшебные ценности истории, связанные
с практикой консервации и реставрирования исторических зданий,
пережили в 1840-е годы натиск иронии. Миф истории, как
оказалось, остается в андеграунде, в то время как исторический дискурс
в своей письменной форме начинает свою собственную
целенаправленную атаку на миф. Интересно поразмышлять, правда ли,
что этот антагонизм между волшебной идеей истории и
интеллектуальной практикой историографии абсолютен и можно ли сделать
вывод о континууме форм исторической репрезентации, от
фотографии к запечатленной на ней руине, от исторического трактата к
историческому зданию.
де Комон (Arcisse de Caumont, 1801-1873) - французский историк и археолог,
исследователь памятников древности; Эуджен Эммануэль Виоллет-лё-Дюк {Eugène
Emmannuel Viollet-le-Duc, 1814-1879) - французский архитектор, известен своими
реставрациями средневековых зданий.
247
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
АНТИ-ИСТОРИЯ И ПРЕД-ГЕРОЙ:
У. ТЕККЕРЕЙ, 4. РИД, Р. БРАУНИНГ,
Г. ДЖЕЙМС
Рассмотренные нами различные способы исторической
репрезентации дают возможность проследить некоторые ее
параллельные линии развития. В историографии мы
проанализировали «циклическую» эволюцию от Баранта через Тьерри к Мишле.
В музеологии увидели образование двух отдельных коллекций и их
слияние в новом достижении Дю Соммерера и созданном им
Музее де Клюни. Сэр Вальтер Скотт привлек наше внимание в
несколько ином контексте, в связи с его творчеством и возведением
замка Абботсфорд, но также и как отправная точка вычурных
стихотворных манипуляций Барэма в «Легендах Инголдсби». Все эти
люди использовали различные подходы и различные
аналитические концепции, но суть их предположений в своей основе
оставалась одинаковой. Анализ внутренних и внешних ограничений,
накладываемых на эти различные способы дискурса обнаруживают
морфологию и направление их общего развития. «Историческая
готовность» начала XIX века во Франции и Британии
обнаруживает зависимость от специфических новых риторических техник: по
крайней мере, на ранней стадии их можно было бы назвать
«исторической поэтикой».
Мы должны рассмотреть некий объединяющий фактор
эпистемологического измерения исторической репрезентации.
Стремление сделать прошлое снова живым не может быть
рассматриваемо в изоляции от прочих романтических фантазий о человеческом
всемогуществе, большая часть из которых относится (говоря
словами Фуко) к широкомасштабной ре-интерпретации карты знаний,
имевшей место в конце лет XVIII века. Особенно важным с этой
точки зрения был успех технологического развития человечества,
(вне области языка), предлагающий временный или более длитель-
248
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей,Ч. Рид,..
ный эффект иллюзорного воссоздания прошлого: от литографии и
диарамы к фотографии. Эти техники были тесно связаны с новым
чувствованием истории, стремившимся аннулировать брешь
между реальной моделью и ее копией и предлагавшим утопическую
возможность реставрации прошлого в контексте настоящего. То,
что только фотография, с ее способностью увековечивать световые
лучи на химически обработанной поверхности, успешно достигла
такого эффекта, не означает, что к остальным техникам нужно
относиться с пренебрежением. С моей точки зрения, более
значительным, чем достижение фотографии, является общее
свидетельство интереса историков и художников к не-миметическим
эквивалентам истории и последовавшая вслед за этим хронологическая
и метафизическая трансгрессия исторической репрезентации.
С одной стороны, это стало мощным стимулом развития
исторической реконструкции, стремившейся ликвидировать брешь между
прошлым и настоящим и всегда сталкивающейся в связи с
решением этой задачи, с непреодолимыми трудностями. Но, с другой
стороны, это инспирировало затянутые и маловразумительные
исторические исследования, а поиск принципов исторического
реализма рисковал превратиться в порочный круг, в котором всегда не
хватало подлинных деталей искомого исторического времени,
а эффект его воскрешения никогда не приближался к достаточному.
Важное проявление такой тенденции обнаруживается к концу
XIX века в развитии техники факсимильных изданий. Когда, в
начале 1820-х годов Барант писал свою субституцию реальной
истории династии герцогов Бургундии, ему даже в голову не пришло
бы опубликовать ту ее версию, которая хоть как-то напоминала бы
оригинальную рукопись «Хроник» Фруассара, которую он
молодым человеком видел в Бреслау. Даже художники «стиля
трубадуров», хоть и прилагавшие усилия по созданию изобразительных
эффектов, в общем и целом воссоздающих средние века, не
стремились к какому-либо детальному воскрешению форм позднего
средневекового искусства. Понятие факсимильного издания,
конечно, было куда менее двойственным. Взяв один исторически
подлинный объект за образец, такое издание просто тиражировало
определенное количество его точных копий. Установить точную
дату начала подобной практики трудно, и уж во всяком случае, это
не главный момент моего исследования. Примерно к 1870-м годам
спрос на подобного рода «подлинность» резко вырос. Роскошное
издание «Поэм и писем» Томаса Грея, выпущенное в 1874 году
249
Стивен Бенн
издательством «Chiswick Press», не только воспроизводит
непривычный формат в четвёртую долю листа и крупный шрифт
оригинальной модели XVIII столетия, но и включает фотографические
виньетки церкви Сток Роджес и Итонского колледжа,
безукоризненной точности воспроизведения1. Десятью годами позже серии
книг меньшего формата, но с намного большей точностью в
копировании факсимиле, будут произведены издательством Эллиот Сток:
заявлено, что их «Искусный рыболов» И. Уолтана - это «абсолютное
факсимиле», использующее «фотографический процесс, который
просто восхитителен», в то время как их же издание работы Джорджа
Герберта «Храм» (датированное 1885 годом), рекламирует
тщательность обращения со «шрифтом, бумагой, переплетом»1. Следует
подчеркнуть, что «фотографический процесс», упомянутый в связи
с «Искусным рыболовом», относится лишь к некоторым из
воспроизведенных зрительных эффектов; печать XVII века была там, где,
возможно, заново набрана, и только шрифт и «доски», которые
«совершенно устарели», воспроизводились с помощью фотографии.
Но как бы, ни было важно появление факсимильных изданий,
это, тем не менее, не было чем-то исключительным. Подобно
фотографии, но не равное ей по своей притягательности, факсимиле
имеет формальную связь со своей моделью: это прямой analogon.
Но сам факт того, что факсимильные издания процветали в то
время (без сомненья, как побочный продукт фотографической
технологии), приводит нас к некоторым гипотезам общего порядка об
условиях исторического воссоздания во второй половине XIX века.
Можно предположить, что интерес к новому открытию прошлого
(в прежние времена неразрывно связанный с впечатляющими
начинаниями историков, художников и романистов) к XIX веку
переместился в более ограниченную и более безопасную область
исследований. Стало трудно потрясать публику блестящей
исторической беллетристикой или нарративной репрезентацией того
времени, которое до этого было ей едва знакомо. Но, по крайней мере,
1 Gray Thomas. Poems and Letters, Chiswick Press. London, 1874. Это издание
руководство Итона (Eton College - известное учебное заведение Англии,
основанное королем Генрихом VI в 1440 году) вручало в качестве ценного подарка своим
самым талантливым студентам.
1 См.: Walton Izaak. The Compleat Angler or The Contemplative Man's
Recreation, being a facsimile reprint of the first edition, published in 1653 London, 18??. P. ix-
xi; (рус. перев. -Уолтон Исаак. Искусный Рыболов или Медитация для мужчин».
М., 2010); Herbert George. The Temple. - репринтное воспроизведение первого
издания книги в Лондоне, 1885 год. P. xv.
250
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей, Ч. Рид,..
сохранялась возможность соблазнять ее технически безупречной
репродукцией книги XVII века. Но что же, однако, происходило
тем временем с историческим романом?
В этой главе я попытаюсь ответить на данный вопрос. В
качестве объекта исследования в ней берется последовательность
выдающихся достижений исторической беллетристики от У. Текке-
рея до Г. Джеймса. Мой тезис заключается в том, что тексты всех
авторов можно рассматривать как ответ на кризис понятия
исторической реконструкции и принципа аутентичности. За
единственным исключением - незаконченного романа Джеймса «Чувство
прошлого» - все книги этих авторов получили высокое одобрение
современников и признаны литературоведами одними из лучших
работ подобного жанра того времени. Но ценой удачи стало
беспрецедентное усложнение сюжета, структуры, а иногда и самих героев
романов. Sancta simplicitas1 Скотта осталась далеко позади.
В 1840-е годы в рецензиях на выставки, проводившиеся
Королевской Академией художеств Теккерей подчеркивал
необходимость строго следовать принципу подлинности исторического
костюма, он упрекал Ландсира в том, что платье, которое носили его
«леди и джентельмены» будто «надето ими в первый раз». Зато он
одобрил «Суд семи епископов» Джона Геберта: «людям вполне
уютно в этих причудливых костюмах и париках времен Якова
Второго». Быть может, более благосклонный тон второй рецензии
1844 года связан с тем, что в том же году сам Теккерей вынес на
суд публики свой собственный грандиозный исторический роман
«Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим».
Изображая очаровательного развратника, в финале романа посаженного в
тюрьму Флит и пишущего мемуары своей наполненной событиями
жизни, Теккерей подчеркивает различия между европейским
обществом XVIII и XIX веков. Прежде всего, эти различия
символизируются изменениями в моде на одежду: «Когда мы с Кароли де
Ланьяк танцевали на балах в Версале по случаю рождения первого
дофина, ее фижмы насчитывали 18 футов в окружности, а
каблучки ее прелестных mules (туфельки без задников) возвышались на
4 дюйма над полом; кружева на моем жабо стоили 1000 крон, а
одни только пуговицы на пурпурном бархатном кафтане обошлись
мне в 80 тысяч ливров. А что мы видим теперь? Мужчины одеты
1 Sancta simplicitas (лат.) - святая простота.
251
Стивен Бенн
не то как грузчики, не то как квакеры или кучера наемных карет.
А женщины, по-преимуществу, раздеты. Куда делось изящество,
изысканность, рыцарская галантность того старого мира, частицей
которого являюсь я?»1. Но Теккерею интересна не просто
подлинность костюма того времени. Роман «Барри Линдон» задуман как
пародия на все «слишком» простые сюжеты произведений Скотта.
В иронических аннотациях Теккерей обнаруживает недовольство
изображением «героической молодежи», которая фигурирует в
романах Скотта. Есть что-то чрезвычайно наивное и простое в этом
освященном веками стиле написания романов, согласно которому
прекрасный принц, «одаренный всем умственным и телесным
великолепием», в конце своих приключений становится
благополучным отцом семейства. С этим обвинением можно согласиться,
вспоминая весьма несложный жизненный путь героев Скотта,
умело поддержанного своим великодушным создателем. «Романист
считает, что он просто не может позволить себе сделать чего-либо
меньшее, чем наделить своего любимого героя званием лорда»2.
Однако вызов Скотту, брошенный Теккереем в романе «Барри
Линдон» не заходит так уж далеко. Несмотря на то, что было
проделано изыскание в область манеры носить платье и поведения
людей XVIII столетия, у читателя не возникает ощущения встречи
с конкретной исторической обстановкой. Подвергнув инверсии
историю успеха героев Скотта, Теккерей фактически вернулся к
надежно устоявшемуся образу анти-героя XVIII столетия,
хорошим примером которому служит Джонатан Уайльд Филдинга.
Конечно, ирония Теккерея тоньше и убедительней. Но это проблемати-
зирует правомочность претензий на историческую подлинность
Барри Линдона. Кумулятивный эффект проявляется как комедия манер.
Через восемь лет после публикации романа «Барри Линдон»,
Теккерей выпустил новый роман, где прямо на титульном листе
заявляет: «История Генри Эсмонда»3. Но претензия называться
настоящим историческим памятником и в таком качестве быть
представленным читателю обозначена еще до титульного листа,
1 Thackeray William. Barry Lyndon London, 1967. P. 181 (рус. перев. - Уильям
Теккерей. «Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим» // Собр. соч.:
в 12 т. T. З.М., 1975).
2 Ibid. Р. 248, гл. 17.
3 Теккерей У. История Генри Эсмонда, эсквайра, полковника на службе ее
величества королевы Анны (написанная им самим) // У. Теккерей. Собр. соч.: в 12 т.
Т. 7. М., 1977.
252
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей, Ч. Рид,..
в оформлении самого текста. Издание 1852 года в трех томах,
вышло в формате одна четверть, в переплете из телячьей кожи с
тисненым кожаным корешком и выкрашенными под мрамор
кончиками страниц1. Несмотря на то, что первый титульный лист гласил
«Эсмонд, повесть из времен правления королевы Анны,
написанная У.М. Теккереем, автором "Ярмарки тщеславия", "Истории
Пенденниса" и др.»? имелась и вторая титульная страница, более
соответствующая архаическому виду переплета: «ИСТОРИЯ
ГЕНРИ ЭСМОНДА, ЭСКВАЙРА, ПОЛКОВНИКА НА СЛУЖБЕ ЕЕ.
ВЕЛИЧЕСТВА, КОРОЛЕВЫ АННЫ (НАПИСАННАЯ ИМ
САМИМ)»/ Интересно, что в итоге осталось именно это, последнее
заглавие, или, по крайней мере, его сокращенный вариант. Однако,
Теккерей был не вполне удовлетворен псевдоподлинностью
титульного листа и переплета под XVIII век. При этом даже текст
книги в первом издании был напечатан с f вместо s (когда они
появлялись в середине слова) и слитной версией et, характерными
для стиля печати XVIII века. Не только в самом начале, но и на
каждой странице книги читателю середины XIX века предлагались
внешняя атрибутика текста, свойственная предыдущему столетию.
Конечно, такая степень исторического миметизма, взятая в
качестве последнего средства, была вынужденной. Внешний вид Эс-
монда, тщательное выписывание костюма, подчеркивали, что
литературных и стилистических разработок для публики, переросшей
наивный энтузиазм романов Скотта «Уэверли», больше
недостаточно. Так или иначе, но Теккерей в издании романа 1858 года
модернизировал его текст и переплет. Но не только в этом отношении
«Эсмонд» создавал своему автору совершенно беспрецедентные
проблемы. Теккерей прекрасно понимал, что текст, столь
безапелляционно претендующий на историческую подлинность, все равно
не возмещал всех трудов, потраченных на исторические
исследования. Уже в письме, написанном в процессе работы над этим
романом, он признавался: «Это доставило мне хлопот на 10 томов
и безо всякой на то пользы, потому что все мои старания и усилия
по части антиквариата оказались работой на выброс, и критики
непременно высмотрят там одну или две, а то и целых двадцать
грубых промашек»1.
1 Издание, о котором идет речь в тексте, находится в Pierpont Morgan Library
в New York City и представляет собой второй оттиск. 2-е изд. 1852 г. выполнено
в цельнотканевом переплете.
1 The Letters and Private Papers of William Makepeace Thackeray, ed. Gordon N.
Ray Oxford, 1945-1946. Vol. III. P. 27.
253
Стивен Бенн
Позже критики романа осуществили это мрачное предсказание
его автора. Как писал в газете «Тайме» Самуэль Филипс: «И одной
неточности в такой работе достаточно, чтобы сбросить покрывало
с глаз читателя и положить конец всей этой иллюзии»1. При таком
недоброжелательном отношении критику или информированному
читателю не было необходимости даже искать такую
«неточность». Сам факт того, что ее вообще ищут, разрушал хрупкую
иллюзию подлинности. Зачем же тогда, можем мы спросить, Тек-
.керей вообще взялся за столь трудоемкое и потенциально
неуспешное предприятие - создание амбициозного исторического
романа? Ответ, по-видимому, может быть найден не столько в
заявленных им намерениях, сколько в объективном факте его
взаимосвязи с литературной традицией. Теккерею не просто хотелось
написать «исторический роман» и он был готов рискнуть, он был
непреодолимо втянут в реализацию особой формы художественной
литературы, двусмысленно связанной с реальностью персонажей
и с использованием в своих интересах веры публики в их
подлинность. Если он не мог повторить триумф Скотта, то он мог с
успехом Скоттом не быть. Его «История Генри Эсмонда», как бы она
не маскировалась под исторический роман, была самой настоящей
анти-историей.
Моя гипотеза заключается в том, что исторические романы
Скотта обладают особой композицией, объясняющей власть и
долговечность жанра романтического романа. Теккерей и все авторы,
которых я рассмотрю далее, унаследовали этот принцип
построения композиции, но использовали его по-другому, создавая
неожиданные перестановки и пленительные противоречия,
привлекающие внимание читателей. Под «Уэверли» в самом жанре
романтического романа подкладывается мина и обнаруживается, что
структура, держащая вместительное строение, едва ли в состоянии
существовать самостоятельно. Такой сдвиг представляет собой
один из аспектов (возможно, главный в британском контексте)
того, что Ролан Барт назвал концом классического текста2. Из
искусства «изобилия», сходного с домашним кухонным шкафом,
в котором собраны и разложены по порядку всякие вещи, новый
вид романтического романа вынужден прибегать к выражениям,
освобожденным от смысла, к перетасовке значений и разбавлению
1 Tillotson G. and Hawes D. (eds.). Thackeray - The Critical Heritage. London,
1968. P. 156.
2 Barthes Roland. S/Z. Paris, 1970. P. 206. (рус. перев. - Барт P. S/Z, M., 2009).
254
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей,Ч. Рид,..
символической насыщенности. Текст как plenum (наполненность)
уступает место тексту как vacuum (пустота)
Для того чтобы проследить такую специфическую эволюцию
британской исторической беллетристики, необходимо вернуться к
«Уэверли» и воспользоваться некоторыми понятиями
литературного формализма. Это поможет вывить специфику «историчности»
романов «Уэверли» и проследить особенности их развития. Это
такие понятия как: структура, или установление подлинности
текста в отношении с его внешней моделью или документом; сингуля-
ризация или организация «пустой сцены» нарратива и наполнение
ее индивидуальными «героями» и прочими персонажами;
объективация или наделение отдельных предметов заранее
определенной ролью и ролью талисмана в развитии сюжета; и, наконец,
действие или создание центрального персонажа или «героя»,
преходящего в изображаемом историческом времени. Каждый из этих
принципов выполняет особую функцию в написании нарратива,
вносит свою долю в создание историчности исторического романа,
а в целом они создают эффект его подлинности.
Для того чтобы показать, как работают все перечисленные
принципы в романах Скотта, потребовалось бы слишком много
времени и места. Рискнем в качестве показательного примера
рассмотреть только один роман - «Квентин Дорвард» (1823) В свое
время Г. Лукач также выбрал этот роман, но для анализа другого
рода1. Скотт начинает роман «Квентин Дорвард» с крайне
сложной части структуры, излагая начало сюжета из старых «семейных
воспоминаний», которые предположительно были обнаружены в
Шато де Отлиё2. История, которая за этим следует, не «основана»
на этих источниках так, как историческое исследование обычно
бывает основано на документах. Она и «есть» источник, нарратив
Скотта просто превращается в источник, поскольку в
вымышленном мире пропасть между реальным источником и фикцией
невозможно отыскать. Скотт даже готов допустить прозрачность этой
структуры, прибегая к словесной головоломке в предисловии
своего романа, заставляя французского маркиза неправильно
произнести английскую фразу, (showing the code) как «жевание жвачки»
(chewing the cud).
1 Lukàcs George. Der historische Roman Berlin, 1965. P. 244fï(рус. перев.
-Лукач Г. Исторический роман // Литературный критик. 1937. № 7, 12).
2 Scott Walter. Quentin Durward, Signet Classics. New York, 1963. P. xl.
255
Стивен Бенн
Маркиз пытается сказать «изложение кода» - но делает это
именно сам Скотт1.
После введения этой предварительной структуры Скотт
переходит к демонстрации своей техники сиигуляризации. Вот
«восхитительное летнее утро»: двое мужчин «которые, по-видимому,
погружены в беседу» наблюдают за прибытием «находящегося на
значительном расстоянии» путешественника. Мы подслушиваем
как бы на пустой сцене, но постепенно наше внимание
вознаграждается деталями костюма незнакомца, который выдает в нем его
происхождение: по «короткому серому плащу» сшитому по
фламандской моде и « элегантному голубому берету с одинокой
веточкой остролиста и орлиным пером», соотечественники Скотта
без труда признали бы одного из своих братьев-земляков. Этим и
ограничивается описание будущего героя романа. Но у Скотта есть
в запасе шутка, которую он собирается сыграть с некоторыми из
своих более важных персонажей. Старший из двух мужчин,
ожидающих прибытия Квентина, объявляет себя дядюшкой Пьером,
богатым буржуа. Квентин находится в некотором сомнении
относительно личности этого персонажа и позже сравнивает его
поведение с поведением «хитрого вассала». И только позже этот
буржуа, или вассал, раскрывается как король Франции Людовик XI.
Тот же трюк Скотт проделывает и с молодой графиней де Круа,
которую Квентин впервые замечает в обличий девушки-служанки,
затем слышит (но не видит), как та исполняет с башенки
печальную песню, и, наконец, опознает в ней леди-беглянку из высшей
аристократии.
В процедуре сиигуляризации у Скотта задействован двойной
процесс: мы движемся от незнакомого (и вымышленного) к
знакомому (и историческому) и обмениваем великолепие и
множественность знаков (буржуа/вассал/король, девушка служанка/дама с
Лютней/беглянка-графиня) на четкое описание исторической
среды. Кроме того, перед нами типичный вариант рыцарского романа:
молодой и без гроша в кармане незнакомец, появившийся в самом
начале повествования, в конце становится владельцем изрядного
участка плодородной земли во Франции. Скотт часто дает своему
герою и своим читателям предварительную гарантию того, что та-
1 См об этом главу пятую наст, издания. При этом важно заметить, что первое
издание романа Скотта «Квентин Довард» 1831 года было анонимным, и Скотт
предупреждал в своем введении к нему, что «все, что последует далее, есть плод
воображения».
256
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей, Ч. Рид,..
кой счастливый конец непременно наступит. Он объективирует
собственность, которая в кульминации романа даст ключ к
развязке. Самым ярким примером фикционности дискурса Скотта
является Талисман (из романа под таким же названием), который
совершает свое целительное действие и затем переходит на хранение
к шотландской семье. В романе «Квентин Дорвард» такого
уверения в благополучном исходе нет. Но можно утверждать, что
собственное имя Квентина служит в качестве талисмана. Когда он
отвоевал свою прекрасную леди, она становится для него социально
приемлемой благодаря генеалогическим объяснениям графа Кро-
уфорда: он, оказывается, из дома Дюрвардов, потомок того самого
«Аллена Дюрварда, который был Великим сенешалем Шотландии».
Уже должно быть ясно, какая высокая награда назначена
Скоттом транзитивным действиям его героя. Нас проводят через
интимную, личного характера сцену к еще более широкому полотну
исторических событий, к процессу, кульминацией которого
становится (подлинный) эпизод убийства епископа Льежского и
следующей за этим битвой. Квентин участвует в таком развитии
событий, сам по себе становясь эффективным инструментом действа,
вплоть до момента его окончательного узнавания и признания.
Контраст с романом «История Генри Эсмонда» очевиден. Если
роман «Квентин Дорвард» начинается с появления фигуры короля-
инкогнито, то роман «Генри Эсмонд» завершается появлением
принца-инкогнито. Там, где Скотт ведет нас к кульминационной
точке подлинного исторического события, Теккерей показывает
жалкий антикульминационный момент, изображая визит молодого
Претендента в Каслвуд - планируемого как тонкая интрига
высокой политики, а на самом деле оборачивающегося королевской
интрижкой с Беатрис Эсмонд. Критик Джордж Бримли писал, что
подобный тусклый и надуманный эпизод с малоинтересными
персонажами и в самом деле было трудно проглотить читателю:
«такие нарушения всеми признанной традиции изображения известных
исторических личностей, без всякой необходимости навязывают
читателю вымышленных персонажей, а такого лучше избегать»1.
Таким образом, Бримли критикует Теккерея за отсутствие у
него той же осмотрительности, какая была у Скотта. Он полагает,
что роман «Генри Эсмонд» является не более чем жалкой пародией
на романы Скотта или неудачной попыткой сыграть на интересе
публики к историческим романам. Подлинность и притягатель-
1 Thackeray. Critical Heritage. P. 139.
257
Стивен Бенн
ность романа «Квентин Дорвард» заключается в личностных
характеристиках главного персонажа-авантюриста без гроша в
кармане признали благородным человеком и силой верховной власти
воздали ему должное. А роман «Генри Эсмонд» сомнителен,
потому, что главный герой, в конце концов, изменяет Дому Стюартов и
покидает семейное поместье ради неизвестного Каслвуда,
расположенного в Новом Свете. Здесь преобладает не
центростремительное, а центробежное движение. То, что вначале
преподносилось как утешительная повесть о законном наследнике, лишенном
своего наследства и после многочисленных злоключений
восстанавливающем свое право с помощью законной власти,
одновременно и превосходит и разочаровывает ожидания читателей.
Молодой Претендент, этот Deus ex machina, ускоряет развязку
сюжета . Но это происходит не потому, что он утверждает Эсмонда
в его наследстве и жалует его долгожданной невестой. Эсмонд
вылечился от страсти к ней как раз именно оттого, что принц Чарльз
скомпрометировал Беатрис; счастье в Новом Свете должно
состоять в женитьбе на матери Беатрис, Рэчел, леди Каслвуд, которая
уже не просто бледное отражение своей дочери, но желанная
женщина и жена.
Даже на этом схематическом уровне сравнение Скотта с Тек-
кереем выявляет крайне извращенное коварство последнего,
выворачивающего Квентина Доварда как прототип своего Эсмонда
наизнанку. В самом тексте Теккерей демонстрирует еще более
замечательную изобретательность. В романе «Квентин Дорвард»
матрица «девушки-служанки/дама с Лютней/беглянки-графини»
развивается в сюжет, но он преодолевается осознанием того, что все
три образа - это проявление одного и того же персонажа. В «Эс-
монде» три главных женских персонажа: старая виконтесса,
бывшая любовница Карла Второго; Рэчел, леди Каслвуд; и ее дочь
Беатрис. Сюжет основан на предположении о том, что Эсмонд
ослеплен своей любовью к Беатрис и не признает исключительных
качеств Рэчел; он также основан на понимании того, что Беатрис
освобождается от благотворного воздействия своей матери и
подпадает под гибельное влияние старой виконтессы, что вызывает
разочарование в ней Эсмонда. Но этот процесс проиллюстрирован не
столько на тематическом и психологическом уровнях, сколько на
* Deus ex machina (лат.) - «Бог из машины», выражение, означающее
неожиданную, нарочитую развязку той или иной ситуации, с привлечением внешнего,
ранее не действовавшего в ней фактора.
258
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей,Ч. Рид,..
уровне текстуальной фантазии. Метонимические цепи тянутся
через все произведение, связывая вместе родственные образы солнца,
луны и звезд и прочих тесно ассоциируемых вещей и явлений.
Конечно, я не могу здесь показать все глубины фантазии Теккерея,
поэтому остановлюсь только на одном примере, выявляющем
статус исторических персонажей романа1.
Мы начнем с мотива бесценного бриллиантового ожерелья,
символа связи старой виконтессы и Карла Второго. По ее смерти
оно переходит к Генри Эсмонду, который дарит его Беатрис. До
этого момента Теккерей старался связывать в нарративе
благочестивый образ солнца (и золота) прежде всего с Рэчел, а затем с Рэ-
чел и Беатрис, рассматриваемых им в гармонии: «Эсмонду надолго
запомнился ее облик и голос, когда она стояла, так благоговейно
преклонив колени перед священной книгой, и солнце, падая на
золотистые волосы, окружало его голову сиянием»2. «Он помнит
еще сейчас (да и забудет ли когда-нибудь?) эти тихие, летние
вечера - две золотые головки (Рэчел и Беатрис), склоненные над
нотным листом, руку матери и детскую ребенка, отбивающие такт,
согласное звучание двух голосов»3. Эти два видения - утра и
вечера, матери и матери, отождествляемой с дочерью, перемещаются
в область астрономии, когда Эсмонд начинает переводить все свое
внимание с матери на дочь. Теперь Рэчел ассоциируется с луной,
в то время как Беатрис подается в свете всей своей славы: «Уже
взошла луна и ровным светом озарила морозное небо. Теперь
только он мог разглядеть милое, чуть осунувшееся от забот
лицо»4. «Что же до ее глаз, то, по мнению Эсмонда, ничего не
могло сравниться с их лучезарным блеском. Миледи виконтесса
казалась утомленной, как бы после бессонной ночи, и лицо ее было
бледно»5.
Именно в этом месте, когда Эсмонд временно сделал перевод
солнечной метонимии с Рэчел на Беатрис, вводится зловещий
мотив бриллиантов (и звезд). Отметив «лучезарный блеск» глаз
Беатрис, он продолжает уже прямо отождествлять их с бриллиантами:
1 Я рассмотрел этот аспект романа «История Генри Эсмонда, эсквайра» в
своей статье «L'anti-histoire de Henri Esmond» // Poétique, 9 (1972).
2 Thackeray William. The History of Henry Esmond Harmondsworth, 1970. P. 109 //
Уильям Теккерей, ПСС. T. 7, кн. 1., гл. 7. M., 1977. См также: билингвистическое
издание романа http://sokolwlad.narod.ru/english/texts/esmonds/esmondsOO.html.
3 Там же. Кн. 1., гл. 9.
4 Там же. Кн. 2, гл. 7.
5 Там же.
259
Стивен Бенн
«маленькие сверкающие стеклышки», которые, наряду «с другими
блестящими безделушками» (но столь же чистой воды) из-за
которых люди ссорятся «с тех пор, как существует род
человеческий»1. Начиная с этого места Беатрис, без сомнения, уже больше
не ассоциируется со своей матерью, а вместо этого все больше и
больше - с бесплодным наследием старой виконтессы. Завершение
процесса отмечается восклицанием молодого Претендента, когда
он в первый раз видит Беатрис в ее бриллиантах. В этом
восклицании одновременно заключается астральный образ и
предшествующее ему отождествление старой виконтессы с портретом Дианы,
сделанным Лили: Qui est cette nymphe, cet aster qui brille, cette Diana
qui descend sur nous? («Кто эта нимфа, эта сверкающая звезда, эта
Диана., что нисходит сюда к нам?»)2.
Относится к делу и то, что в добавление к бриллиантам Эс-
монда, в этом решающем месте нарратива Беатрис получает и
другой, хотя и менее ценный подарок. На церемонию вручения Генри
всеми тремя леди семейства Эсмондов красивой шпаги Беатрис
«надела на свою прелестную грудь звезду французского офицера,
которую Франк (ее брат) отослал домой после Рамийи»3.
Ассоциация приобретает двойное значение из-за того, что Франк
захватил с собой эту «звезду с лентой в полоску, которая была отделана
маленькими бриллиантами» потому, что видел ее в качестве
«прекрасного подарка для матушки», т.е. Рэчел. Однако, так же как
Рэчел, отказалась от французской звезды, также ей так и не
пришлось носить бриллианты Эсмондов, даже когда она стала женой
Генри. Теккерей сохраняет мотив «солнце/золото», отождествляя
любовь с золотой пуговицей, которую Рэчел отрывает с рукава
Генри во время его заключения, помещая её в безопасное место.
В заключение романа значение пуговицы с триумфом
подтверждается недвусмысленным пренебрежением к бриллиантам: «Наши
бриллианты обращаются в плуги и топоры для наших плантаций...
и единственный камень, которому моя жена придает значение и с
которым они никогда не расставалась - это сия золотая пуговица,
которую она взяла с моей руки в тот день, когда навещала меня
в тюрьме, и которую она всегда после этого носила, как она
говорит, на нежнейшем из сердец всего мира»4.
1 Там же. Кн. 2, гл. 7.
2 Там же. Кн. 3, гл. 9.
3 Там же. Кн. 2, гл. 15.
4 Там же.
260
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей,Ч. Рид,..
Этот сдвигающаяся последовательность связанных метонимий
проходит через весь роман. Едва ли будет большой натяжкой, если
в самом имени «Эсмонд» мы увидим скрытый намек на
преобладающие астрономические образы текста: S~mond {Mond
по-немецки означает луну) можно интерпретировать как затмение солнца
луной (Диана), что является центральной завязкой сюжета. Если
такая интерпретация выглядит неубедительной, то остается
сходная jeu de mots , использующаяся в нарративе в моменты
появления реального исторического персонажа лорда Мохэна.
Правильное произношение Mohun делает его созвучным с Moon (луной).
Довод становится особенно убедителен в письме от старой
виконтессы, которая, прибегая к старому стилю правописания,
обращается к нему как к «м. де My ну» .
Роль лорда Мохэна в романе «Эсмонд» во многих отношениях
определяющая. Один за другим убивая снчала опекуна Генри,
лорда Каслвуда, затем жениха Беатрис, герцога Гамильтона, он
радикально преобразует позицию нарратора. Его власть, определяющая
развитие сюжета, делает его конкурентом нарратора, - на это
намекает даже его имя «Генри», в результате чего в один из
решающих моментов он даже оказывается по ошибке принятым за Эс-
монда. Стоит обратить внимание на манеру выписывания Теккере-
ем этого зловещего персонажа, который является такой же
реальной исторической фигурой, как и злополучный лорд Гамильтон,
погибающий от его руки. Анализируя инструменты, с помощью
которых Теккерей «приручает» неподатливый материал
исторически, мы отдаем должное его мастерскому выдерживанию баланса
между истинной и фикцией.
В статье о новелле Бальзака «Сарразин» Барт отмечает
крайнюю осторожность, с которой Бальзак использует подлинные
исторические имена и детали. По его предположению, не выводя их
на передний план, упоминая их почти en passant , Бальзак создает
впечатление того, что действие происходит на реальном
историческом заднем плане. «Вот это скромное место как раз и придает
историческому персонажу его точный реалистический вес; ...ведь
стоит историческому персонажу обрести свою реальную
значимость, как дискурс оказывается перед необходимостью
воспроизвести его во всей конкретности, что, как это ни парадоксально,
* jeu de mots (φρ.) - игра слов, каламбур.
1 Там же. Кн. 2., гл. 2.
en passant (φρ.) - походя.
261
Стивен Бенн
лишает персонаж всякой реальности... Им (персонажам. - С. Б.)
приходится заговорить, и они сразу же разоблачают себя как
самозванцы»1. В первый раз Теккерей вводит лорда Мохэна в роман
крайне осторожно. Глава, в которой он появляется, называется
«В недобрый час явился к нам Мохэн», но сначала его роль
подобна роли Розенкранца по отношению к Гильденстерну,
оказавшемуся в лице лорда Файрбрейса (личность, прагматически лишенная
всех качеств, которыми обладает лорд Мохэн, включая и главное -
историческую подлинность). В этой главе лорд Мохэн появляется
только мельком, ему даже не позволено использовать прямую
речь. Домочадцы Каслвуда возбужденно обсуждают его, обычный
распорядок их дня нарушен его появлением. Но демонстрируемая
им власть имеет удивительно имперсональный оттенок.
Однако осмотрительность Мохэна - это просто затишье перед
бурей. Ему предназначено убить двух главных мужских
персонажей - лорда Каслвуда, вымышленное лицо, и лорда Гамильтона,
лицо вполне исторически реальное. Именно потому, что убийство
Гамильтона - известный исторический факт, он оказывает влияние
на весь вымышленный мир романа «История Генри Эсмонда».
Мохэн просто вынужден выйти из дуэли с Каслвудом
победителем, потому что сохранение им своей жизни - залог будущего
убийства им Гамильтона. Он вынужден выйти победителем из
столкновения с Каслвудом в силу того простого факта, что он лицо
историческое, а Каслвуд - вымышленное. Для персонажа, о котором
читатель знает (а автор об этом объявляет), что он лицо историческое,
просто невозможно пасть от руки придуманного персонажа.
Эти соображения несколько помогают объяснить
подозрительную роль лорда Мохэна в середине романа «Эсмонд». Подобно
Беатрис, он осуществляет запоздалое влияние на развитие сюжета,
что в то же время является отклонением от направления жизни
Эсмонда и условием осуществления дальнейшего действия.
Невозможно рассматривать его как «характер», как если бы ему
приписывалась некая психологическая плотность. Означаемое, от лица
которого тот действует как означающее, является просто вызовом,
представленным смешением реального с вымышленным. Это
становится очевидным, когда Теккерей напрямую сводит Эсмонда
и Мохэна. Оба участвуют в конной прогулке в Дауне, когда вдруг
вожжи рвутся в руках Мохэна и оба джентльмена вынуждены
прыгать с повозки. Генри вскоре приходит в себя, но Мохэн остается
1 Barthes. S/Z. P. 108-109 (рус. перев. - Барт Р. S/Z. М., 2009. С. 169).
262
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей,Ч. Рид,..
лежать на земле, «безо всяких признаков жизни»: «из раны на лбу
обильно струилась кровь, и, казалось, что на земле лежит
безжизненное тело - да так, впрочем, оно и было»1. Но Генри спасает
ситуацию: «Гарри перочинным ножом вскрыл ему вену на сгибе
локтя и облегченно вздохнул, когда, мгновение спустя, из нее
хлынула кровь. Потребовалось не менее полчаса, чтобы милорд
окончательно пришел в себя и подоспевший с маленьким Франком
доктор Тэшер застал его вполне ожившим, хоть и бледным, словно
мертвец» .
В этом маленьком эпизоде Теккерей сужает до едва заметной
точки напряжение между историческим и фикционным уровнями
нарратива. Фраза «безжизненное тело - да так, впрочем, оно и
было» - очевидное противоречие. Мохэн не только не оказывается
мертвым (так как в вымышленном мире видимость может вводить
в заблуждение), но необходимо не мертв, так как ему еще
предстоит сыграть свою историческую роль. Более того, тот факт, что
Генри возвращает к жизни Мохэна, пуская ему кровь, подчеркивает
абсурдность предположения, что «кровь» (вымышленная кровь),
пущенная при помощи перочинного ножа, может или сократить
или укрепить «жизнь», которую Мохэн сохраняет посредством
гарантии, к литературе никакого отношения не имеющей.
И все же у ассоциации Мохэна с кровью есть дальнейшее
продолжение. Когда Мохэн, наконец, убивает лорда Каслвуда, Эсмонд
невольно становится преступником как действующее лицо
«кровавой драмы, которой ему пришлось быть участником»3.
Брошенному в тюрьму, ему приходится сносить обвинения Рэчел в том,
что это он виновен в смерти ее мужа и своего благодетеля. «Прочь
руку, не прикасайтесь ко мне, - вскричала она. - Смотрите! Она
в крови!»4. После следуют длинные упреки, где несчастная
вдова, наконец, говорит о своем муже: «Мой супруг лежал там
в крови - он погиб, защищая меня, мой добрый, добрый,
великодушный господин, и вы, Генри, вы были при этом и дали ему
умереть!»5. Конечно, в повторяющемся мотиве крови прослеживается
латентная двойственность. Генри весьма далек от того, чтобы быть
ответственным за смерть своего покровителя. В то же самое время
1 Thackeray. The History of Henry Esmond. P. 185. История Генри Эсмонда,
эсквайра. Кн. 1, гл. 13.-http://sokolwlad.narod.ru/english/texts/esmonds/esmondsOO.html
Там же.
3 Там же. Кн. 2, гл. 1.
4 Там же. Кн. 2, гл. 1.
5 Там же. Кн. 2, гл. 1.
263
Стивен Бенн
признание Каслвуда, данное им на смертном одре, подтверждает
чистоту его собственной крови и происхождения и по существу,
наделяет его новой личностью. Таким образом, мотив крови играет
роль, отчасти похожую на роль золотой пуговицы: это гарантия
окончательного укрепления позиции Эсмонда после момента
потери им жизненного равновесия.
Кроме Мохэна, в романе существуют и другие реальные
исторически фигуры - Джозеф Аддисон, писатель, поэт и журналист,
яркий представитель литературы раннего английского
Просвещения, пытающийся воспеть в романе победы английского оружия.
Его собрат по перу Ричард Стиль становится близким другом
Эсмонда. Но они не порождают атмосферу кризиса, ассоциируемую
с Мохэном. Создается впечатление, что Теккерей хотел показать
как благотворящие, так и «пагубу творящие» исторические
фигуры, которые, будучи вовлеченными в перипетии того времени,
создают своего рода избыточность исторической среды.
Примечательно, что как Стиль, так и Аддисон, это писатели, узнаваемые по
свойственному им языку, и Теккерей намеренно подчеркивает это
(в случае с Аддисоном даются объемные цитаты из его поэмы
«Компания» 1704 г.). Но ни один из них не оказывает
значительного влияния на сюжет. Самый яркий эпизод с Аддисоном связан
с советом, данным им Эсмонду, воздержаться от решительного
политического действия в пользу низверженного Дома Стюартов:
«Возвращаясь домой, Эсмонд по дороге встретил Аддисона,
направляющегося в Фулем, где у него был небольшой домик. Свет
луны озарял его красивое, сосредоточенное лицо. "Вот так-так! -
воскликнул Аддисон, смеясь. - Я уж было думал, не разбойник ли
подбирается ко мне в ночной тиши, а это оказывается старинный
друг. Пожмем, полковник, друг другу руки в темноте, это лучше,
чем драться при дневном свете. Стоит ли ссориться, из-за того, что
ты Тори, а я Виг?"»1.
Совет Аддисона, данный при лунном свете, прими его Эсмонд,
привел бы к прекращению ссор и ликвидации политического
соперничества, которое и является главной сюжетной линией романа.
Но прежде чем Эсмонд чувствует готовность отречься от своей
вызывающей одни проблемы преданности Стюартам,
злокозненному Мохэну предстоит свидание: он должен драться с герцогом
Гамильтоном на дуэли, которая должна стать (и стала) причиной
смерти их обоих. Вымышленная судьба Эсмонда должна привести
его на это роковое свидание.
1 Там же. Кн. 2, гл. 9.
264
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей,Ч. Рид,..
Контраст между романом Теккерея «История Генри Эсмонда»
и романами Скотта очевиден. Структура Теккерея -
исключительно смелая разработка биографической модели, в конечном
итоге разрушает саму себя. Поэтическое богатство романа
«Квентин Дорвард» всегда помогает развитию сюжета, а не усложняет
его. Но если имя «Квентин», как талисман, в назначенный момент
раскрывает его высокое происхождение, имя Генри Эсмонда
сплетено в узор игры слов. Выбор Теккереем в качестве одного из
своих исторически реальных героев известного Мохэна, и затем
сделать образный ряд «солнце/луна/звезда» интегральным элементом
в метонимическом узоре всего произведения - сама по себе
достаточная демонстрация проблематического характера романа «Эс-
монд». Настаивать на имени как означающем (и в особенности на
имени историческом), значит нарушить предписанный реализм
жанра и подвергнуть сомнению связь слов с вещами в
изображении исторических событий. Даже талисман Эсмонда, его золотая
пуговица - это часть цепи означающих, которая сигнализирует о
преобразовании, с точки зрения героя, взаимосвязи главных
персонажей и их позиций друг по отношению к другу. Иными словами,
процесс сингуляризацгш и объективации (на что я обращал
внимание в связи со Скоттом) систематически разрушается. Там, где
Скотт собирает и заземляет каждый отсоединившийся проводок,
Теккерей оставляет всю цепь без изоляции и, по-видимому,
пытается высечь из оголенного провода искру пожара.
Едва ли удивительно, что сам Теккерей испытывал смешанные
чувства по поводу успеха своего романа, который он объявил
«умным... и глупым в одно и то же время»1. Шарлотта Бронте
придерживалась того же, называя роман «восхитительным и
отвратительным». Но подобного рода реакция вполне понятна, ведь он
одновременно историей и анти-история, он одновременно
придерживался и разрушал каноны жанра. То, что это была нелегкая победа,
можно подтвердить рассмотрением другого романа,
опубликованного в следующем десятилетии - «Ромола» Джордж Элиот
(1863)*. В «Ромоле» перспектива весьма далека от ироничной,
и имена не вплетены в ткань значимой игры слов. Но интерес
1 Thackeray. Letters. Vol. III. P. 69 (letter to his family, 16 August 1852); see Vol. III.
P. 15 for Charlotte Bronte's comments (letter to Mrs. CarmichaelCarhmichael-Smyth,
26 February 1852).
* Роман Дж. Элиот «Ромола» описывает события конца XV века во
Флоренции, связанные со смертью Лоренцо Медичи и восхождением к славе Савонаролы.
265
Стивен Бенн
к исследованию морали, присущий Джордж Элиот, привели
образованию трещины в ткани произведения, которая и отделяет
впечатлительную и влиятельную личность Ромолы, дочери ученого
гуманиста Барди, от более легковесного и, в конечном счете,
странного персонажа Тито Милемы - ее мужа. Бедному Тито
приходится играть роль героя Скотта в собачьей шкуре, которому
через тяжкие испытания приходится придти к выводу, что беспечный
карьеризм его предшественников больше не является пропуском
к славе и богатству.
На самом деле Джордж Элиот сыграла с Тито особенно злую
шутку, так как все составляющие для его успеха, на первый взгляд,
в романе присутствуют. Тито появляется в тексте, проснувшись
в центре Флоренции, после того, как промыслом Божьим спасается
после кораблекрушения. Почти сразу его собеседник замечает на
его пальце кольцо из оникса. Не тот ли это талисман, который
послужит ему пропуском к успеху, по кольцу его узнают и он займет
во Флоренции влиятельное положение? Но в действительности все
оборачивается по-другому. Это кольцо, подаренное ему его
опекуном, который в сложное для него время отчаянно просил Тито
помочь освободить его из рабства. Впоследствии он продает это
кольцо лавочнику, разоблачая себя как неблагодарного сына, что
приводит к печальной dénouement. Если у Скотта герой после
этого может рассчитывать на примирение, пускай и запоздалое, с
играющим роль отца всемогущим монархом, то Тито - несчастная
жертва острого чувства справедливости своего приемного отца.
Его смерть умышленно не оканчивает романа, так как Ромола
выживает в сложных условиях и примиряется с судьбой. Но
моральный рост Ромолы едва ли уравновешивает смерть героя: Джордж
Элиот словно намеренно пытается изуродовать исторический
роман, вводя в него простодушные сентенции о сути и правилах
человеческого поведения.
* dénouement (φρ.) - развязке. Во Флоренции, описываемой в романе Элиот,
начинается голод. Проповедь Савонаролы против роскоши находит отклик
в сердце Ромолы: она отдает все, что может, чтобы прокормить голодных, и,
стремясь к общественному подвигу, ухаживает за больными чумой. Тито же
становится активным противником Савонаролы. Он присоединяется к заговору
Медичи, изгнанных из Флоренции, и подготовляет похищение Савонаролы; в то же
время, на случай поражения партии Медичи, он завязывает отношения и со
сторонниками Савонаролы, обещая шпионить за Медичи и выдавать народному
правительству их тайных приверженцев. Двойная игра Тито несколько раз выручает
его, но, в конце концов, он платит за нее жизнью.
266
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей,Ч. Рид,..
Было бы неправильно, чтобы из этого краткого пересказа
романа выпало признание исследований источников эпохи
Возрождения, проведенных Элиот. Это исследование совершенно
измотало ее: она закончила его, по ее словам, «состарившейся
женщиной». Но ей не удалось преобразовать обнаруженный ею
первичный материал в вещество исторической фикции. А. Свинбёрн
называл выписанный ею портрет Савонаролы «кропотливой,
совестливой, абсолютной неудачей - настолько же полной, как и его
собственная неудача отчистить и обновить эпоху Борджиа при
помощи того, что Карлейль называл «Пилюлей Моррисона»*
католического пуританства»1. Со своей обычной
проницательностью Свинбёрн также признавал сильные и слабые места в
портрете Тито: с одной стороны, триумфальная «экспозиция духовного
разложения». Но с другой, персонаж представлен «скорее в виде
предупреждения или пугающего примера, чем просто
репрезентирован», что делает его «для некоторых читателей непреодолимым
препятствием к получению ими полного удовольствия и
восхищения» романом. Свинбёрн был жёстким, но справедливым в своем
диагнозе плачевной неудачи сюжетной задумки «Ромолы»: «Есть
чуть ли не детская дерзость неловкости в механизме сюжетной
разработки вашей героини в минуту опасности, по случайности,
попавшей в пустую лодку, которая уносит ее в по случайности
объятую чумой деревню, чтобы она там играла роль случайной
сестры милосердия, упавшей, - в тот самый момент, когда
романист пребывает в беспомощной растерянности по поводу того,
какой бы ей придумать правдоподобный финал - с неба по капризу
провидения прямо в группу людей одинаково незнакомых как для
читателя, так и для героини. Подобный эпизод - поругание
одновременно доверия публики и естественной логики искусства,
которое никакая романтическая школа не сможет разрешить своему
представителю безнаказанно игнорировать или отрицать - ни
Скотт, ни Дюма, ни Рид не позволили бы себе...»2.
Алгернон Чарльз Свинбёрн {Algernon Charles Swinburne, 1837-1909) -
английский поэт, романист и критик, своего рода литературный двойник художников
пре-рафаэлитов.
Пилюля Моррисона - названа по имени английского врача-шарлатана
Джеймса Моррисона (1770-1840), который настоятельно заставлял своих
пациентов пить столько много таблеток, сколько возможно. По его мнению, они
стимулировали пищеварение и тем самым способствовали очищению организма.
1 Swinburne Algernon. Appreciation, Reprinted from Miscellanies (1886): in
Charles Reade, The Cloister and The Hearth London, 1938. P. 10.
2 Ibid. P. 9-10.
267
Стивен Бенн
В кратком очерке, из которого взят этот пассаж, Свинбёрн
ретроспективно сравнивает роман «Ромола» с шедевром наименее
известного из многих представителей «школы романтизма»: с
романом «Монастырь и очаг» Чарльза Рида . Вышедший в печать в
1861 году, двумя годами ранее «Ромолы», роман часто и весьма
провокативно сравнивали с романом «Ромола». Но кроме общего
им обоим объекта изображения - эпохи Возрождения, оба романа
примерно так же подходят для сравнения, как мел и сыр. Свинбёрн
подчеркивает этот факт, признавая успех Рида, и полагает, что его
следует поставить в один ряд с такими двумя признанными
мастерами исторического романа, как Скотт и Дюма. Рид «до сей поры
являлся величайшим мастером нарратива, какого наша страна не
производила со времени смерти Скотта. Его мастерство нарратора
уступает Дюма только потому, что он склонен к прокламациям и
демонстрациям». Пафос его романов ниже, чем у Скотта только из-
за «недостатка легкости и самопроизвольности»1. Оба недостатка,
добавим мы, присущи писателям, пришедшим в жанр последним!
Сначала Ч. Рид снискал себе репутацию драматурга и писателя
романов на современные социальные темы. Но он был
неутомимым коллекционером, заполнившим свой дом на Альберт
Террас историческими свидетельствами и документами. Его интерес
простирался до пре-рафаэлитов и оставшаяся после него переписка
с Ж.-Ф. Милле показывает его неподдельную радость, с которым
он рассматривал приобретенную для своей коллекции картину
«Сэр Изамбрас» Милле, входящую в серию картин о короле
Артуре2. Появление в этом контексте романа «Монастырь и очаг»
придает ему особую притягательность. По своей концепции он не
менее отличается от романа «Генри Эсмонд», чем от романов Скотта.
Унаследовав иронический взгляд на историю, свойственный
середине века, Рид радикально пересматривает и вдыхает новую жизнь
в жанр исторической фикции.
Рассмотрим некоторые обстоятельства, сопутствующие успеху
романа Рида «Монастырь и очаг». За год до его выхода в свет (но
годом позже появления журнальной версии в еженедельнике «Once
* Роман Ч. Рида «Монастырь и очаг» (The Cloister and the Hearth, 1861).
Действие романа разыгрывается в Нидерландах на заре Возрождения, его герои -
родители Эразма Роттердамского.
1 Ibid. Р. 7.
2 Письмо датировано 21 [?] июля 1859, находится в Библиотеке Пирпойнт
Морган, Нью-Йорк; Рид писал Милле: «Я или идиот, или эта работа бессмертна».
268
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей,Ч. Рид,..
a Week») швейцарский историк Якоб Буркхардт издал свою
знаменитую работу «Культура Италии в эпоху Возрождения: опыт
исследования». Хейден Уайт детально проанализировал этот труд
Буркхардта в книге «Метаистория», в частности, подчеркивая
связь швейцарского историка с Ранке и немецкой исторической
школой. Как замечает Уайт, Буркхардта часто упрекали в
«неадекватном видении истории как эволюционного процесса и
каузального анализа»]. Но эффекты синтаксического распада и каузального
разрыва непрерывности у Буркхардта тщательно спланированы.
Они - точные эквиваленты его ироничного видения истории и
одновременно - критика концепции истории как хроники,
чрезвычайно распространенной в начале XIX века.
Не затягивая чрезмерно сопоставление историографии и
исторической фикции, я предлагаю считать, что роман Рида
«Монастырь и очаг» - пример и того и другого. Он не является (как
полагает Свинбёрн) неудачной попыткой следовать классической
модели исторического романа. Он - удачная реализация новой
модели, чьи особенности заслуживают специального изучения и
оценки. Прежде всего, две бросающиеся в глаза особенности романа.
Хейден Уайт сравнивает ироническое видение Буркхардта с
трагедийными и комедийными сюжетами истории, которые является
отличительной чертой работ большинства его предшественников.
В романе «Монастырь и очаг» автор с необычайной
скрупулезностью этих сюжетов избегает. Как мы узнаем в главе XXVIII
романа: «Хорошие и плохие вещи замечательно и почти повсеместно
уравновешивают друг друга»2. В свете этого принципа мы
можем быть абсолютно уверены в том, что по ходу всего романа
изображение праздников следует за описанием несчастья и vice
versa. Помимо этой индифферентной тенденции сюжета, для
того, чтобы подчеркнуть дисконтинуальность нарратива на
структурном и синтаксическом уровнях, Рид использует
(беспрецедентно часто) инструментарий маньеризма: главы отличаются по
размеру, начиная от содержащих всего несколько параграфов до
объемного текста; вариации с размером шрифта и его разновидностей;
включение в текст нотного стана и интерполированный эскиз,
определенно являющийся не «иллюстрацией», а интегральной частью
1 White Hayden. Metahistory. P. 233 (рус. перев. -Уайт X. Метаистория:
историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2000).
2 Reade. The Cloister and the Hearth. P. 182.
vice versa (лат.) - наоборот.
269
Стивен Бенн
нарративного дискурса. Первое, и весьма разочаровывающее
впечатление - ты словно стоишь на перекрестке между Скоттом и
Стерном*.
И хотя все самые тонкие детали этой презентации не
сохранились в позднейших и более дешевых изданиях романа, их вовсе не
следует рассматривать как просто несущественные дополнения и
украшения. В неменьшей степени, чем стилизация романа Текке-
рея под издание XVIII века, они - знаки четкой установки автора
по отношению к исторической репрезентации.
Если мы вернемся к четырем процедурам, введенным нами в
связи с рассмотрением романов Скотта, то мы сразу же увидим
новизну и свежесть подхода Рида. Роман «Монастырь и очаг»
начинается с того, что можно было бы принять за классическое
задание структуры нарратива: референция к «замшелой хронике,
написанной ужасной латынью, а в ней главы, где в каждом
предложении содержится факт»1. Рид повторяет утверждение своих
предшественников: «Если бы я только мог показать вам, что лежит за
этими сухими словами хрониста, то мне кажется, вы приняли бы
во внимание индифферентность времени и освободили место
в своем сердце для этих двух отчаявшихся душ - ну, хотя бы на
день»2. Но это утверждение, однако, оказывается, обманчивым.
Две отчаявшиеся души, Элиас и Кэтрин, просто любопытный
сюжетный материал для латинских хроник, они еще весьма далеки
о того, чтобы стать главными героями рассказа. Эта роль остается
за их младшим сыном Герардом. Вскоре сюжет сдвигается от
рассказа о семье и, по-существу, становится историей счастья и
несчастья Герарда. Его оригинальность подчеркивается тем, что когда
по ходу сюжета его запихивают в сундук, он самым неожиданным
и драматическим образом в буквальном смысле оживает из
мертвых. («ОН ЖИВ!», - сказал про себя Джориан Кетел)3. У него есть
нечто, чему предназначено стать его талисманом: аметистовое
кольцо, которое ему дала в знак большой симпатии хозяйка
гостиницы. Но даже здесь видно отклонение от матрицы романов
Скотта (и Теккерея). Герарда спасает из множества отчаянно
затруднительных положений (как мы могли бы ожидать) отнюдь не амети-
* Лоуренс Стерн (Laurence Sterne, 1713-1768) - английский писатель и
англиканский священник, известный своим романом «Жизнь и мнения Тристрама
Шэнди, джентльмена»: в 9 т. (1759-1769 гг.).
1 Ibid. Р. 15.
2 Ibid.
3 Ibid. P. 105.
270
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей,Ч. Рид,..
стовое кольцо. О нем упоминается в связи с хозяйкой гостиницы,
но его роль в сюжете ничтожна. Оно не обладает ни силой
окончательного разрешения ситуации, ни обещанием примирения.
Отсылка ко всему этому означало бы акцентирование
предопределенности построения сюжета, от чего Рид стремился отказаться.
Однако самая интересная инновация, введенная Ридом,
относится к фигуре самого героя романа, к выписыванию его роли
в истории. Если Квентин вершит свою судьбу через военные
подвиги, а Эсмонд - через неудачные попытки вести себя как человек
действия, то Герард, безусловно, художник. Бедняга Тито - просто
дилетант, чье преподавание греческого языка есть просто
проявление житейских амбиций. Но Герард, несмотря на все его
похождения, развивается, поднимаясь по лестнице артистических
достижений: он и копиист, и иллюстратор, и музыкант, и рассказчик, и
несравненный проповедник. Поэтому нарративное действие и вся
поверхностная ткань текста, которые так подчеркнуто возвышенно
изображаются Теккереем, Ридом в значительной степени
вытесняется. В романе «Эсмонд» игра образа, аллегории и имени как бы
проблематизирует подлинность нарратива. В романе «Монастырь
и очаг» риторическая и иллюстративная техники заимствуются из
всевозрастающего мастерства и развивающегося сознания самого
Герарда. Иллюстрации, украшение страниц «сухой хроники»
роскошными цветами и сопутствующей им образностью являются для
Рида потенциальной метафорой искусства романиста; это и то
самое умение, которому еще в самом начале романа Герард учится
у Маргарет Ван Эйк.
Рид, таким образом, достигает весьма высокого уровня
подлинности нарратива, относящейся, скорее, к манере его письма,
чем к сути излагаемой истории. Там, где Теккерей в первом
издании романа «Эсмонд» прибегает к квазиархаичному шрифту, Рид
для таких идентификационных целей использует совершенно
случайный источник - готическую рукопись. В ходе всего своего
странного возвращения к средневековому аскетизму Герард, под
именем Клемента, постоянно вырезает религиозные тексты на
стенах своей уединенной пещеры. Техника книгопечатания, наглядно
контрастируя с конвенциональным рукописным шрифтом,
подчеркивает манеру резьбы Герарда и позволяет представлять ее и без
помощи разных иллюстраций. Еще более любопытен способ,
которым виньетка сцепленных в рукопожатии рук в тексте Рида
врезается в дискурсивный ряд между двумя частями нерасчлененного
предложения. Герард включил этот рисунок в письмо к своей без-
271
Стивен Бенн
грамотной семье как знак прощания. Рид пользуется этой
возможностью, чтобы воздать хвалу языку образов. «Тут ничего не
зависит от переводчика: все сказано на общем для всех языке»1. Но,
конечно, этот образ для нас (как и для семьи Герарда) имеет смысл
только внутри определенного контекста. Образ предполагает
определенный договор, связывающий аудиторию с нарратором.
Путешествие Герарда по Европе середины XV века в
значительной степени было посвящено его образованию как художника.
Но несмотря на многообещающее прикосновение Герарда к только
зарождающемуся в Италии искусству Возрождения, автор
отправляет его обратно в Северную Европу, где он впадает в депрессию
и в конечном итоге умирает. Предостерегающая нотка,
свойственная роману Джорджа Элиота, здесь отсутствует, равным образом
как ощущение готовности к действиям, присущее романам Скотта.
В конце романа Герард оказывается в странном положении: он и
не получает наследства, и не лишается его. Но его сыну
предназначено унаследовать в неком единстве те черты культурного опыта,
которым не случилось быть объединенными в собственной жизни
Герарда: «Паренек с золотистыми волосами, Герард Элиассон,
принадлежит не Литературе, а Истории. Она запечатлела дату его
рождения в выражениях, отличных от моих. На доме портного на
улице Бред Кёрк ею начертано: НАЕС EST PARVA DOMUS
NATUS QUA MAGNUS ERASMUS («Это дом, в котором
родился великий Эразм»). И она записала ему еще полдюжины жизней.
Но не остановилась на этом. Она понимает magnus Erasmum не
больше, чем иной пигмей понимает великана или
судью-фанатика»2. Подобная ловкость на заключительной стадии романа
производит ошеломляющий эффект. Рид воспользовался приемом,
который Барт идентифицировал у Бальзака: сделал самую известную
историческую фигуру книги не просто отчужденной, но
выведенной за пределы действия и отосланной к более позднему времени.
Роман «Монастырь и очаг» - это не анти-история, и Герард не
анти-, а пред-герои, прародитель исторического героя, чей гений
мы все признаем. Антитетическая игра Рида с понятиями
«история» и «литература» нигде так не очевидна, как в этом
заключительном разделе. «Эразм принадлежит не литературе, а истории»,
и по этой причине роман заканчивается на самом пороге его
карьеры. Но с другой стороны, «полдюжины жизней», которые История
1 Ibid Р. 317.
2 Ibid. Р. 702.
272
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей,Ч. Рид,..
пока предусмотрела для него, плачевно не соответствуют ее
возможному плану. Эразм - принадлежащий Истории - сталкивается vis-à-
vis с уже выполненными историческими исследованиями, словно
великан, встретивший пигмеев. Быть может, косой луч исторической
фикции может высветить больше и помочь правильно понять
обстоятельства, при которых надпись: НАЕС EST PARVA DOMUS NATUS
QUA MAGNUS ERASMUS приобретает истинный смысл.
278 the CLOISTER
rend, they could all tell it was Gerard*
handwriting.
1 And your father must be away/ cried
Catherine. 'Are ye not ashamed of yourselves? nut
one that can read your brother's letter ?*
But although the words were to them what
hieroglyphics arc to us, there Avas something in
the letter they could read. There is an art can
speak without words : unfettered by the penman's
limits, it can steal through the eye into the lwart
and brain, alike of the learned and unlearned : and
it can cross α frontier or a sea, yet lose nothing.
It is at the mercy of no translator : for it write?
an universal language.
Wien, therefore, they saw this,
irhiVh Gerard had drawn with his pencil Iwtweeii
tin· two short paragraphs, of which his loiter «-»>n-
sistcd, they read it, and it went straight to |!м4г
hearts.
Символическое согласие между читателем и автором,
страница романа Ч. Рида «Монастырь и очаг», издание 1861 года
10 Зак. 760
273
Стивен Бенн
В романе «Монастырь и очаг» Рид играет по-крупному, и его
отвага была замечена критиками. Свинбёрн оценил успех его
произведения, как уступающий лишь двум признанным мастерам
исторической фикции XIX века. Вальтер Бесант хвалил роман как
«величайший исторический роман, написанный языком... более
правдивым, чем любое из произведений Скотта»11. Признавая
бездну иронии, которая отделяла его время от эпохи высокого
романтизма, Рид умудрился написать книгу, обладающую как бы
головой двуликого Януса, обращенную в прошлое, но и
предвещающую будущее. Если одна сторона Герарда прислушивается к
шумным приключениям Квентина Дорварда, то другая обращена
вперед, к любопытному продукту «эстетического движения» -
«воображаемому портрету» Вальтера Патера.
Молодые герои Патера - Себастьян ван Сток, герцог Карл Ро-
зенмольд и Дениз л'Аксеруа, не говоря уже о Мариусе
Эпикурейском и Гастоне де ла Тур, не являются художниками полной мере;
почти всегда на них взваливается ответственность играть в жизни
некоторую практическую роль. Но оставив в нарративе минимум
действия, Патер прежде всего акцентирует внимание на
творческом процессе художника, не столько на готовом продукте этого
процесса, сколько на особой восприимчивости, пролагающей путь
к задумыванию нового произведения. Герцог Карл Розенмольд -
яркий тому пример. Государь маленького немецкого государства
XVIII столетия, он чувствует становление нового написания букв
немецкого языка в эпоху немецкого Возрождения, но не доживает
до того, чтобы увидеть это. Словно напоминание о
заключительных страницах романа «Монастырь и очаг», Патер заканчивает
свой воображаемый портрет воспоминанием о блистательном
катании на коньках молодого Гёте, взятое из переписки с его
матерью2. Как и Герард, Герцог Карл - это пред-герой. Историческое
достижение, о котором свидетельствует его антиципация,
принадлежит подлинному художнику - Гёте, которому не нужны одежды
вымысла.
Роман «Монастырь и очаг», который вышел из печати, когда
Патер был еще студентом Оксфорда, мог (или не мог) оказать су-
1 См. предисловие В Бесанта к роману «Монастырь и очаг» издания 1894 года.
* Вальтер Бесант ( Walter Besant, 1836-1901 ) - английский писатель и историк.
2 Pater Walter. Imaginary Portraits. London, 1903. P. 153, рассказчик у Патера
пишет о молодом Гете: «В этой дружелюбной фигуре мне видится осуществление
Resurgam на пустом гробе Карла - сама вдохновенная фигура Карла, наконец-таки
свободная и действенная».
274
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей,Ч. Рид,..
щественное влияние на его работу. К нам это не имеет особого
отношения. Но факт, который, однако, следует здесь подчеркнуть,
состоит в том, что «воображаемые портреты» Патера настолько
смещают баланс с транзитивного действия нарратива в пользу
эстетического сознания его создателя, что в результате историческая
фикция остается только понятием и не более того. Сборник под
названием «Воображаемые портреты» был опубликован в 1887
году. Неоконченный роман «Гастон де ла Тур» был издан посмертно,
в 1896 году. В период между двумя романами ощущение
неприятия «шелухи» изображения исторических событий становится все
более заметным. Герой романа, Гастон, вплотную приближается к
тому, чтобы превратиться в прозрачную линзу, через которую
просматривается свежее видение раннего французского Возрождения.
И пока он демонстрирует это свое бесконечно восприимчивое
сознание, он вынужден отказаться от своей исторической
специфичности. Оставаясь без всякого прикрытия, вымышленный персонаж
становится воображаемой проекцией собственного сознания
Патера. В частности, в главе «Модерн» мы ощущаем огромный интерес
Патера к фигуре «отца будущего»1.
Патер писал ближе к концу XIX века и является полным
антиподом Скотта. Вместо человека действия он изображает мечтателя;
вместо тщательно реконструируемой исторической обстановки, он
создает деликатно выписанную атмосферу, которая, словно
солнечным лучом, пересекается инсайтами искусства возрождения.
Скотту была свойственна необычайная уверенность в присвоении
прошлого: Абботсфорд может служить символом (в не меньшей
степени, чем романы «Уэверли») мотивации к конкретной
реализации задуманного, сметающей со своего пути любые мелочные
вопросы аутентичности. У Патера мы видим с трудом
завоеванную, но, в конечном счете, надежную уверенность в будущем: идея
возрождения есть наличная данность в культурном и историческом
смысле, но затруднительное положение эстета заключается в том,
что он должен еще выжить в неопределенном положении, в
котором до самого конца не осознаешь своего места в новом веке.
Однако наш интерес в этой главе сосредоточен на фигурах,
занимающих промежуточное положение между Скоттом и Патером:
писателями, чье отношение к прошлому и будущему было очерчено
В особенности заключительные страницы главы о Гастоне де ла Туре. См.:
Bloom Harold. Walter Pater: The Intoxication of Belatedness // Yale French Studies,
no. 50, 1974.
275
Стивен Бенн
менее ясно, а поэтому они были более изобретательны в
построении исторической фикции. В сравнении со Скоттом и Патером,
оба, и Теккерей, и Рид, менее всего рассматривали историю с точки
зрения психологии её агентов. Но именно это и делает их романы
такими иллюстративными с позиции задач нашего исследования.
И последнее в этой связи. Мы говорили о том, что в какой-то
момент жанр исторического романа попадает в трудное положение
в связи с тем, что нарастает ироническое отношение к признанным
мастерам этого жанра и ужесточение требований исторической
подлинности изображаемых событий. И возникает коллапс? Я,
конечно, не собираюсь рассуждать о великих ненаписанных
исторических романах, а просто хочу упомянуть два конкретных случая
исторической фикции: поэтическую метаморфозу романа, который
мог бы быть создан, и неудавшийся роман, который поднимает
ставки аутентичности до невозможно высокого уровня. Это -
драматическая поэма «Кольцо и книга» Роберта Браунинга и роман
Генри Джеймса «Чувство прошлого».
Браунинг случайно натолкнулся на копию того, что он назвал
«старой желтой книгой», бесцельно роясь в рыночной тележке на
Пьяцца Сан Лоренцо, во Флоренции в июне 1860 года. Мы знаем
об этом потому, что он пересказывает эти обстоятельства в начале
романа «Кольцо и книга»1. Однако, как только эта информация
сообщена, возникают проблемы. Эта «старая желтая книга», не
просто структура, подобная скоттовским «семейным хроникам»
или «замшелой хроники» Рида. «Старая желтая книга» реально
существовала (и, предположительно, продолжает существовать.)
Как сообщают нам его редакторы, Браунинг сначала предполагал
написать исторический роман на основе почерпнутых оттуда
сведений, и что он даже предлагал одному из своих друзей сюжет
такого романа. Но это информация непроверена. Фактом остается то,
что обнаружение этой старой книги и составляет первую часть
поэмы. Когда Браунинг говорит propria persona*, он рассказывает
нам о настоящей находке настоящей книги, которая является
настоящим историческим документом. Можем всерьез сравнивать
это с приемами авторов жанра исторического романа, изображаю-
1 Browning Robert. The Ring and the Book. London, 1927. P. 2. В поэме «Кольцо
и книга» (1868-1869) десять персонажей в своих монологах по-разному освещают
одни и те же трагические события - замысловатое убийство в Риме в 1690-е годы
и его обстоятельства.
* propria persona (лат.) - собственной персоной, здесь, от своего лица.
276
Глава седьмая. Анти-историяи пред-герой: У. Теккерей,Ч. Рид,..
щих вымышленных персонажей и вымышленный «настоящий
источник»?
Переходя от «Книги» к «Кольцу» мы сталкиваемся с еще
одной поразительной аномалией. Кольцо, как заметил сын
Браунинга, это «кольцо этрусского типа, сделанное Гастеллани (известным
итальянским ювелиром)» для Элизабет Баррет Браунинг. После ее
смерти поэт в память о ней носил его на цепочке для часов. Но это
также образ, выбранный итальянским поэтом Никколо Том-
мазео как символ искусства поэзии, который был использован
на надписи, выбитой с разрешения муниципалитета Флоренции
на стене Каза Гвиди в честь Элизабет Баррет Браунинг после ее
смерти . Это исторические факты, и второй из них вскользь
упомянут в поэме. Литературная функция кольца - служить Браунингу
украшением грубого факта. Как чистое золото может быть отлито
в определенную форму в смеси с каким-то сплавом - который
позже выжжет кислота - так и поэт привносит свое собственное
творческое воображение в исторические данные. Браунинг
подчеркивает подчинение подлинного факта поэтическому уровню
дискурса. Сначала «Кольцо», это определенное кольцо, как память об
определенном человеке; но оно также служит основой
поэтического воображения и метафорой поэтического успеха. В свою очередь,
«Книга»: сначала это исторический источник. Но вскоре она
становится той самой книгой, которую мы читаем: «Кольцо и книга».
Происходит полная поляризация между Книгой как источником
и Книгой как поэмой: первая - это «правда мертвая», в то время
как вторая - это «правда живая».
Поэтому «поэтический» выбор Браунинга полностью отвергает
эффект структурирования и объективизации, которые
напоминают об историческом романе. Оба предмета, вынесенные в название
поэмы, имеют своего референта в реальном мире. Но эта стратегия
только укрепляет приоритеты поэтического воображения, которое
есть единственная гарантия воскрешения истории. Также стоит
подчеркнуть, что Браунинг определенно приостановил действие
нарратива. Исторические материалы, которые включает «старая
желтая книга» повествуют о суде над графом Гвидо Франческини
и его пособниками, обвиняемыми в убийстве Помпилии, его жены,
| Ibid. Р. 513, note 1.
Томмазео Николо (Niccolo Tommaseo, 1802-1874) - итальянский писатель,
филолог, автор исторического романа «Красота и вера» (1840). Составитель
«Словаря итальянского языка» (т. 1-7, 1858-79).
277
Стивен Бенн
в 1698 году. В уже приведенных стихах Браунинг пишет, что
расскажет «повесть» тех событий - что вероятно, должно означать
повествование о жизни Гвидо и Помпилии до момента смерти
Помпилии и суда над Гвидо.
Однако (как хорошо известно) поэма Браунинга - это не
«повесть», а сумма монологов о событиях, произносимых умирающей
Помпилией и злым Гвидо, бескорыстным каноником Джузеппе
Капонсакки, чередующимися голосами общественного мнения и
адвокатов противных сторон, и судьей в последней инстанции -
Папой . Уже столько раз упоминавшееся «действие» на этом и
заканчивается, хотя у нас еще есть затянувшийся элемент
неопределенности, касающегося окончательного приговора Папы. Вся
психологическая проницательность Браунинга и его драматический
талант, фактически брошены на процедуру сингуляризацищ
отдельные персонажи, однако, выделяются не для того, чтобы они
могли принять участие в относящихся к ним отрывках
исторического нарратива, но для того, чтобы доверие к ним читателя
помогало создавать единое художественное полотно. В поэме «Кольцо
и книга» Браунингу удалось объединить романтический взгляд на
суверенную власть поэтического воображения с перспективист-
ским подходом к исторической и психологической реальности. Но
успех его поэмы остается крайне личным и идиосинкразическим
достижением и не формирует новых ресурсов, которыми могли бы
воспользоваться писатели исторических фикций. Впервые
изданная в 1868 году, поэма закрывала собой десятилетие, которое
началось с романов «Монастырь и очаг» и «Ромола». Как и следовало
ожидать, прекрасно зная о проблемах, которые эти романы создавали
для их авторов, Браунинг не столько противостоял, сколько
блистательно уклонялся от вопроса об исторической реконструкции.
* Первые три монолога вложены в уста римлян, не имеющих прямого
отношения к делу Гвидо и осведомленных о его преступлении народной молвой.
Далее следуют монологи главных действующих лиц драмы - Гвидо, Помпилии и
Капонсакки. Гвидо и Капонсакки дают показания в суде. Оба причастны к гибели
Помпилии, для Капонсакки не секрет, что Гвидо пошел на убийство, заподозрив
жену в прелюбодеянии с ним. Капонсакки потрясен случившимся, ему лучше
других известно, насколько чудовищной была возведенная на Помпилию клевета.
Монолог Помпилии - это история ее жизни, ее предсмертная исповедь.
Следующие три монолога произносят те, кто, вникнув в суть дела уже на основании
показаний участников драмы, должен вынести справедливый вердикт: адвокат,
прокурор Боттини, Папа Римский. Заключительный монолог принадлежит Гвидо.
Завершают роман авторская глава.
278
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей,Ч. Рид,..
И, наконец, несколько слов о Генри Джеймсе. Наши примеры в
этой главе были выбраны с тем, чтобы продемонстрировать
последовательность ответов некоторых значительных британских
романистов на иронический характер исторического видения середины
XIX века и их отношение к новым попыткам протестировать
подлинность изображаемых в романах событий. Публикация романов
«Эсмонд» и «Монастырь и очаг» показала, что исторический
роман все еще оставался почти в центре художественной литературы,
сохраняя позиции, которые он занимал со времени первых
беллетристических публикаций Скотта, вышедших за полстолетия до
этого. Однако ближе к 1870-м годом он начал соскальзывать в
направлении demi-monde литературной продукции*. Исторические
литературные произведения Патера были, скорее, поисками теней
эстетического сознания, чем изучением самой исторической
обстановки. По-настоящему хорошие исторические романы, которые
продолжали выходить, например, неоконченный «Хермистонская
плотина» (1896) Р.Л. Стивенсона и «Приключение» (1903) Дж.
Конрада и М. Форда - в полной мере исчерпали ресурсы
романтической мелодрамы, не принеся с собой в технику репрезентации
истории ничего нового. Почему Генри Джеймс, с его репутацией
писателя-интеллектуала, взялся за роман «Чувство прошлого»?
Почему он бросил его писать, а потом вернулся к нему опять,
в конечном итоге оставив его неоконченным, хотя и с множеством
любопытных замечаний, указывающих на его необычно глубокое
понимание проблемы? Ответ, вероятно, заключается в том, что
Джеймс хотел написать не просто исторический роман; он хотел
написать исторический роман такого типа, который никогда до сих
пор не существовал, в котором главное действующее лицо на
самом деле перешагивало из настоящего в прошлое, одновременно
сохраняя самосознание и многие социальные приметы нашего
времени. Дж.С. Сквайр определил это стремление Джеймса в таких
выражениях: «Генри Джеймс, отправляя Ральфа Пендрела обратно
в 1820 год, не мог удовлетвориться ничем меньшим, как
описанием правдоподобного перемещения такого рода и глубоким
исследованием способов, посредством которых он - со своим
современным умом и осознанием своего жульнического перевоплощения -
мог воздействовать на людей эпохи Регентства и того, как эти
люди и вообще вся ситуация, в которой он оказался, могли воздейст-
* demi-monde (φρ.) - букв половина, одна вторая, здесь - определенный круг
литераторов, обладающих дурной репутацией.
279
Стивен Бенн
вовать на него. Векторов размышлений над всем этим может быть
огромное множество, сообразуй Ральф на самом деле все
частности и детали с предполагаемым поведением родственника из 1820
года, чье место он занял; хотя, в любом случае, вопрос о том
(вопрос, который он так никогда и не поставил, а обязан был это
сделать), "случилось" ли "прошлое" уже или оно метафизически
совпало с настоящим, стоял бы все равно. Но он сделал проблему куда
более запутанной, когда решил, что вернувшись назад в прошлое,
Ральф 1910 года должен был бы "сойти с рельс"»1.
Комментарий довольно откровенный. Джеймс не удовлетворился
только одной важной инновацией в исторической фикции, но
размножил «пути размышления» до такой степени, что они грозили
выйти из под контроля и закрутится в спираль. И тем не менее можно
шаг за шагом проследить то, как он оказался в таком положении.
В 1856 году молодой Генри Джеймс посетил ретроспективную
выставку работ Делароша в Париже и (как говорит нам биограф
Джеймса) был потрясен искусством воссоздания отдаленного прошлого,
демонстрируемого этим художником. Ральф Пендрел, герой романа
«Чувство прошлого» старше и искушеннее, он обладает присущим
хорошо образованному американцу тонким ощущением своего
времени. Когда он входит в пустой, но до сих пор еще обставленный
мебелью дом на одной из площадей Лондона, который ранше
принадлежал его английским предкам, то он в состоянии идентифицировать
меблировку и картины и соответствующую им эпоху. Но через
водораздел, который отделяет просто знатока истории от окружающей
исторической обстановки, осмотр которой тот проводит - американца
от дома, который покинула его семья - перекидывается неожиданный
и необходимый мостик: молодой человек в платье времен Регентства,
изображенный стоящим спиной к художнику, вдруг оборачивается -
и оказывается обладателем лица самого Ральфа Пендрела.
В переломной третьей книге романа (которую Джеймс прекратил
писать после завершения первых черновых набросков) Ральф
Пендрел пытается объяснить эту примечательную встречу американскому
послу. Он стремится прежде всего «несколько лучше почувствовать
прошлое»: «думаю, мне следует вам сказать», - так как наш молодой
человек считал, что будет только честно продолжить развивать эту
тему, - «что всю мою жизнь я был одолеваем желанием несколько
сильнее развить чувство прошлого, чем то, что, по большей части,
1 James Henry. The Sense of the Past, Collins edition: Prefatory Note by J.C.
Squire (p. v.).
280
Глава седьмая. Анти-история и пред-герой: У. Теккерей,Ч. Рид,..
кажется достаточным даже тем людям, которые ушли дальше всего в
такого рода развитии, и которые с крайним благодушием выставляют
напоказ результаты, к которым они пришли» - позволил себе
добавить Ральф»1. В пику этим благодушным исследователям прошлого -
ученым, художникам, историкам, и может быть романистам - Ральф
может предъявить свой собственный прямой и непосредственный
опыт- но опыт чего и принадлежащий кому?
«Поэтому вы можете вообразить как здорово это было», -
заключил он - «запечатлеть человека, причем крайне и чрезвычайно
образованного, во время самого акта культивирования...», - при
этом посол вскочил на ноги, прервав таким действием речь, словно
движимый внезапностью своего собственного озарения» - «его
чувства настоящего!», - сказал он, победно улыбаясь. Но улыбка
его посетителя поубавила торжество момента. «Вы разве не
понимаете? Его чувства будущего...»2. То, о чем размышляет Ральф -
совершенный хиазм. Его желание войти в прошлое огромно, но
оно полностью уравновешивается желанием войти в будущее,
которое он различает в молодом человеке на картине. Как только
механизм обмена был отлажен, сила его притяжения, действующая на
Ральфа, становится неодолимой. И все же от него все еще
требуется погрузиться в прошлое по-настоящему: процесс, который
Джеймс мастерски выделяет при помощи серии накапливающихся
метафор в то время, когда его герой проходит через дверь,
разделяющую эпохи: «После этого наш молодой человек, находясь на
верхней ступеньке порога и с успехом завершив тонкое
постукивание, та-та-та-а дверного молоточка, осознал всю нависшую над
ним опасность, которая заставила его увидеть весь мир вокруг
него, манящий, удивляющий мир, включая ожидающего,
вопрошающего, съёженного и смотрящего на него представителя его страны,
по сути дела, мир во всей его бездонности... Отличались ли эти
этапы между собой степенью замедления или ускорения процесса
ему так, в сущности, и не удалось узнать. Все пришло к нему через
накапливающуюся толщу другой среды; среды, которой
открывшаяся дверь дома тотчас же сообщала протяженность, похожую на
необыкновенно сильный вдыхаемый запах - входящее все глубже
и глубже внутрь теплое пространство, которое ...буквально
проглатывало его; как готового к прыжку ныряльщика в затяжной
паузе перед прыжком, этот момент оставил в нем отметку, до того как
•ibid. Р. 101.
2 Ibid.
281
Стивен Бенн
дверь закрылась и поставила его снова на правильную сторону,
а весь мир, каким он его знал, на неправильную»1.
После этого необыкновенного отрывка остаток нарратива
(даже «схождение с рельс» Ральфа) неизбежным образом становится
довольно плоским, и отсутствие окончания романа больше не
кажется непереносимой потерей. Джеймс добился своего рода mise
en abime в процессе структурации романа; подлинность видения
прошлого создается не предполагаемым документом или
источником, а психологической податливостью Ральфа Пендрела. Равным
образом, процесс сингуляризации исторического героя развивался,
скорее в контексте психологического, чем чисто риторического
модуса текста. Нам не достаточно простой картины того, как новая
версия Ральфа Пендрела образца эпохи Регентства оживает в
пустом доме. Нам нужно, чтобы нам одновременно показали
психологические переживания этого процесса самим Ральфом, что бы мы
увидели, как это происходит. И как после этого нас может всерьез
заинтересовать историческая обстановка и скучная интрига
сюжета? Чтобы мы делали, если при этом все еще присутствовали все
условности исторического романа? Но когда они метафизически
преодолены и вновь объединены бравурностью стиля Джеймса, мы
получаем настоящее удовольствие.
Именно поэтому на романе «Чувство прошлого» мы
закачиваем наш обзор исторических романов и исторических фикций
XIX века. Джеймс сосредоточен на изучении Англии 1820-х годов.
Со своей позиции следующего столетия он привлекает внимание
ко времени, в котором с наибольшей живостью и богатством
источников проявлялся интерес людей к воссозданию прошлого - ко
времени Баранта, Тьерри, Скотта, Дагерра, Дю Соммерера и
Делароша. Но он также привлекает внимание и к начинающей убывать
способности исторического романа удержать свой собственный
особый метод достижения эффекта подлинности изображаемых
исторических событий - способность, которую Теккерей и Рид
крайне различными путями пытались утвердить вновь. То «чувство
прошлого», которое Джеймс описывал как «накапливающуюся
толщу другой среды» требовало, если ему суждено было расцвести
вновь, нового стимула и новых техник воссоздания. Клио, наконец,
скинула свое платье времен Регентства.
| Ibid. Р. 112-13.
* mise en abîme (φρ.) - термин искусствоведения, обозначающий отражение
нарисованной на картине сцены в выпуклом зеркале, присутствующем в той же
картине (напр., «Меняла и его жена» и др.).
282
ПОСТСКРИПТУМ
«Кто избавит нас от греков и римлян?» - спрашивал Бодлер в
своей хвалебной статье о рисунках Домье «Histoire ancienne» [древ-
ная история]1. Британская публика ощутила свободу от оков
классицизма чуть ли не десятилетием позже того, как Домье
опубликовал свои юмористические серии, а Дж. Лич сделал иллюстрации
к «Юмористической истории Рима (1851-1852) . Но уже в
иллюстрациях к работе Джильберта Беккета под названием
«Юмористическая история Англии» (1847), Лич создал особый тип карикатуры,
используемый в ряде последующих публикаций. Фронтиспис
«Юмористическая история Англии», на котором изображена
«Высадка Юлия Цезаря», предлагает опознать вторгшиеся вражеские
войска посредством безошибочного теста - по их носам. Огромные,
крючковатые, по-настоящему римские носы, откровенно красные
от холода, выступают над верхом легионерских щитов. Ко времени
иллюстрирования упомянутой работы Лич уже затаскал этот тип
карикатуры ad nauseam . По общему признанию, некоторые из
менее важных участников, изображенных в картине «Обнаружение
Мария в Минтурнских болотах» обладают уже куда более
скромными носищами. Но те, кто напрямую вовлечен в поимку беглеца,
наделены изумительными образчиками таковых. И огромная белая
голова самого Мария, несообразным образом появляющаяся из
воды, обладает самым великолепным экземпляром из всех.
Более чем столетием позже этот карикатурный тип все еще, по-
видимому, остается актуальным. Когда Астерикс случайно
оказывается свидетелем вторжения в Британию римлян, то во всей этой
передряге Юлий Цезарь моментально узнается публикой ...по сво-
1 См.: Гл. 6 наст. изд.
Джон Лич (1817-1864) - английский художник-карикатурист. Как книжный
иллюстратор Лич известен своими цветными офортами к охотничьим рассказам
Роберта Сёртиса, картинкам к «Рождественской песне» Чарльза Диккенса (1844),
над которыми работал вместе с сэром Джоном Тенниэлом и Джорджем Круйк-
шенком, а также иллюстрациями к «Легендам Инголдсби» Томаса Бархэма (1864).
** ad nauseam (лат.) - до тошноты.
283
Стивен Бенн
ему носу . И все же этот специфический код «римскости» не
ограничивается областью карикатуры. Упоминая в своих
«Мифологиях» о «римлянах из фильмов», Барт обратил внимание на сходный
визуальный код, который использован в исторических фильмах.
Откуда мы узнаем, что персонажи в фильме Дж. Л. Манкевича
«Юлий Цезарь» - это римляне? Носы актеров из фильма совсем не
напоминают носы с карикатур Лича. Но тут на выручку приходит
гример-парикмахер. Он работает сверхурочно, чтобы сделать
волосы актеров соответствующими представлениям о «римскости».
Даже тех актеров, чьи макушки наполовину лысы, вынудили
показывать всклокоченные завитки спутанных прядей - в точности, как у
Мария на карикатурах Лича, дрожащего в болотах Минтуры. Эти
несчастные завитки - знаки исторической аутентичности.
Дж. Лич. «Марий в болотах Минтуры».
Юмористическая история Рима, (1851-1852)
Барт использует это пример рудиментарного визуального кода,
используемого в фильме «Юлий Цезарь», для резкой атаки на
феномен разложения знака в процедурах репрезентации,
свойственных Западу. Он сравнивает деградирующий спектакль «римскости»
с «открыто интеллектуальным» языком знаков в китайском театре,
где один флаг используется для обозначения целого полка. В срав-
1 Uderzo and Goscinny, Astérix chez les Bretons. Paris, 1966. P. 5.
284
Постскриптум
нении с этим, код, применяемый в фильме «Юлий Цезарь», создает
«неполноценное зрелище, которое страшится как наивной
правдивости, так и абсолютной искусственности»1. В нашем исследовании
эта родственная связь между кодом карикатуры Лича и
стереотипами голливудского исторического фильма поднимает важный
вопрос. Мы рассуждали о стратегиях репрезентации, отражающих и
определяющих историческую готовность XIX столетия. На
протяжении всего хода анализа мы вновь и вновь возвращались к двум
решающим факторам в юс разных вариантах. Первый — это
мифическая цель сузить разрыв между историей в том виде, как она
происходила на самом деле, и историей, как она была написана: wie es
eigentlich gewesen. Ранке является тотемом этой тенденции, но она
имеет технический коррелят, обнаруживаемый в ревизии систем
репрезентации. В развитии различных форм спектакля он привел
к изобретению фотографии. Второй - это понятие
морфологического цикла, который переходит от кода к мифу, от наивного
выражения к иронии; нами было дано множество примеров скованности
в репрезентации истории, которая оказывала влияние на
опоздавших к началу этой игры: Мишле после Тьерри и Баранта, Барэм
после Скотта. В последней главе речь шла о затруднительном
положении исторических романистов, в котором они оказались, начиная
с середины XIX века и далее. Подверженные приступам иронии,
они обеспечивали аутентичность своих произведений, платя за нее
все более высокую цену.
Вопрос, который возникает в связи с декоративными примерами
«римскости», выявляет связь исторической репрезентации с иронией.
Нет сомнения, что эту тему можно исследовать в различных областях
человеческой деятельности. Эволюция современной архитектуры в ее
«постмодернистской» фазе предлагает необыкновенно чистый
пример иронического взгляда на историю: один авторитетный автор
недавно утверждал, что «современный классицизм может быть измерен
по той степени, с которой архитектор привносит иронию в проблему
соотнесения современного мира с ценностями прошлого»2.
1 Barthes Roland. Mythologies, trans. Annette Lavers. London, 1973. P. 78. (рус.
перев. - Барт P. Римляне в кино // Барт Р. Мифологии. М., 2000. С. 75.)
2 Colquhoun Alan. Classicismo е ideologia // Casabella, 489. March, 1983. P. 37:
По сути, Колхаун употребляет терминологию, близкую моей, когда он называет
«определенные колонны и фронтоны» в работе Альдо Росси как остающиеся
«обособленными, загадочными всплесками памяти, которые не поддаются интеграции
в виде синекдохи».
285
Стивен Бенн
Кадр из фильма Дою. Манкевича «Юлий Цезарь»
Параллельным, но мало чем отличающимся полем для
исследования мог бы стать и современный исторический роман: то, что
Дж. У. Борроу называл «модернистской игривостью в построении
сюжета исторических работ» есть атрибутивность фикции в
истории, а не просто роскошь1. На самом деле, истинная разница между
популярной писательницей исторических романов Мэри Стюарт
и таким превосходным автором, как Питер Ванситтарт, может
быть, в частности, проверена готовностью последнего к
акцентированию иронии в изображении своих персонажей, в то время как
первая остается крепко связана с наивной моделью исторической
наррации2. Но для данного исследования это все вопросы второсте-
1 Burrow. A Liberal Descent. P. 209: цитируется в связи с романом Джона Фаул-
за «Женщина французского лейтенанта».
2 Stewart Mary. The Hollow Hills. London, 1973; Vansittart Peter. Three Six Seven.
London, 1983: Я решил сравнить эти два исторических романа, потому что в обоих
идет речь о времени конца «Римской Британии». Мэри Стюарт описывает детство
короля Артура с волшебником Мерлином в качестве рассказчика от первого лица.
А Питер Ванситтарт создает «очень важную персону» - человека, который как бы
с расстояния наблюдает за тем, как творится история; наррация Ванситтарта
пронизана «тацитовской» иронией, что рождает у читателя особое доверие к его
произведениям.
286
Постскриптум
пенные. Упоминание Бартом «римлян из фильмов» напоминает
нам, что именно в современном кинематографе нужно искать
наиболее красноречивое подтверждение борьбы иронии и
аутентичности. Исторический фильм - средство репрезентации, недоступное
художникам и писателям XIX века - предлагает наиболее четкий
современный эквивалент «исторической поэтики». Беря свое
начало, в первую очередь, в изобретении фотографии, кинематограф
добился соединения текста и образа, нарративной
последовательности и археологической аккуратности. Короткое послесловие
этого исторического Gesamtkunstwerk поставит вопросы, которые
связывают данное исследование исторической репрезентации XIX века
с ключевыми проблемами историографии сегодняшнего дня .
Не учитывать в кинематографе проблему исторической
реконструкции, занятие, в каком-то смысле, весьма искусственное. Как и
в случае с историческим романом XIX века, фильм, в котором
сделана попытка изобразить прошлое, использует ту же самую
механику, что и фильм, показывающий жизнь настоящего. Здесь
мотивацией служит принцип «реализма», и в этой связи работа Э. фон
Строхейма «Жадность» (1924), задуманная как «реалистичное»
изображение настоящего, является наступлением на
экстравагантные костюмированные мелодрамы раннего коммерческого кино,
например, на «Кабирию» (1913) Пастроне и «Нетерпимость»
Гриффита (1916) . Сложно сказать, на каком именно этапе
развития кинематографа жанр исторического фильма можно
идентифицировать как таковой. Но бесспорно, что ко времени появления
фильма «Марсельеза» Жана Ренуара (1938) сложные вопросы
исторической реконструкции уже были осмыслены, хотя нередко и в
провокативной манере. Ренуар обращает наше внимание на
проблему массового сознания в истории, каким образом оно
детерминировало массовые выступления населения во времена
Французской революции 1789 года. Но он апеллирует к неповторимой
природе кино, акцентируя ключевую проблему репрезентации как та-
* Gesamtkunstwerk (нем.) - произведение искусства, в котором соединены
многие формы и практики искусства. Этот термин ассоциировался с творчеством
Рихарда Вагнера.
«Кабирия» - немой итальянский художественный фильм режиссера Джо-
ванни Пастроне. «Нетерпимость» режиссера Дэвида Уорка Гриффита, один из
этапных фильмов в развитии мирового киноискусства; сложная сюжетная
конструкция из четырех перемежающихся новелл, показывавших четыре различные
эпохи.
287
Стивен Бенн
ковой: восстанавливает каждый этап процесса, в коде которого
конструируются исторические факты и образы для того, чтобы
репрезентировать конкретные ценности и идеологии. Художник Жаве,
вовлеченный в революционное движение, усваивает, подобно
Давиду и его школе, неоклассический метод рисования; он также
изображает вступление вооруженных марсельцев в Париж в виде
героической фрески. Слова Марии-Антуанетты о сложившемся
положении дел в истории есть своего рода сигнал к опусканию
занавеса трагедии, в то время как только что прибывшие марсельцы
заполняют собой представление этого театра теней,
репрезентирующего конфликт между королем и «La Nation».
Ренуар, таким образом, подает исторический фильм как бы
в аспекте самокритики. Мы видим не только образы прошедших
событий, но нас ставят в известность об условностях, от которых
зависит такая репрезентация. Сам король, ни в виде героя, ни
карикатуры, выполнен в манере Брехта, он занят лишь охотой, сном и
едой (включая только что привезенный экзотический томат). И хотя
сам Ренуар в послевоенный период не стал исследовать вопрос
расширения возможностей исторической реконструкции, его пример был
взят на вооружение итальянской послевоенной неореалистической
школой кинематографа, в частности, Роберто Росселлини, в чьей
карьере прослеживаются упорные поиски релевантных кино технических
и поэтических средств изображения исторических событий .
Самые ранние послевоенные фильмы Росселлини (такие, как
«Рим, открытый город» 1945 года и «Германия, год нулевой» 1948-го)
были ответом на сложившиеся к тем годам исторические
обстоятельства. В 1950 году он закончил фильм «Франциск - менестрель
божий» - фрагментарное повествование о жизни Франциска
Ассизского, основанное на таких средневековых источниках, как
Fioretti*. В 1966 году он выпустил примечательный фильм «Захват
власти Людовиком XIV», в 1971 году - биографический «Блез
Паскаль», а в 1972 году - «Эпоха Козимо». Этот короткая, но далеко не
полная фильмография Росселлини, обрисовывает диапазон его
интересов, от итальянского Средневековья и до итальянского Возро-
1 Многими идеями моей работы я обязан моим коллегам Бену Брюстеру и
Джону Эллису, чей выбор фильмов для читаемого ими курса лекций «Реализм в
кино» позволил мне обратить самое пристальное внимание на творчество Росселлини.
* Fioretti (итал.) - букв «маленькие цветы». The Little Flowers of St. Francis
(Fioretti di San Francesco) - повествование о жизни Франциска Ассизкого,
состоящее из 53-х коротких глав, составленное в конце XIV столетия.
288
Постскриптум
ждения, от созерцательной жизни Паскаля до Realpolitik (реальной
политики) молодого Людовика XIV. Но Росселлини также
отважился проникать и глубже, обращаясь к Древней Греции и
временам апостолов, и снова уходя вперед, к саге XIX века о марше
Гарибальди.
Кадр из фильма Р. Росселлини «Святой Франциск Ассизский»
Одним из ключевых компонентов исторического «реализма»
Росселлини был особый тип эффекта, который мы в нашем
обсуждении исторической живописи назвали «техническим сюрпризом».
Поскольку кино является более сложной амальгамой, чем
живопись, то этот эффект или комбинация подобных эффектов имеет
отношение сразу к нескольким разным областям. Например,
в фильме «Франциск» имеет значение выбор режиссером на
большинство ролей непрофессиональных актеров, включая и роль
самого святого, которого играет францисканский монах. Не менее важен
и выбор места съемок, дающий возможность свободного движения
камеры, отказ от тщательно смонтированных ритмов «риверсии
кадра» и прочих особенностей, свойственных привычному эталону
хорошо снятого голливудского фильма. Вследствие указа Муссо-
289
Стивен Бенн
лини об обязательном дублировании всех неитальянских фильмов,
Росселлини, работая в Италии в 1930-е гг., располагал прекрасным
оборудованием для дубляжа, и его выбор места съемок не
увязывался напрямую с одновременной звукозаписью. Конечно, такая
удачная комбинация фактов не всегда получалась. Когда
Росселлини снимал во Франции фильм «Захват власти Людовиком XIV»
(через шестнадцать лет после «Франциска») он воспользовался
опытом французских кинематографистов в области записи прямого
звука, изобретательно импровизируя с такими вещами, как запись
на звуковую дорожку шума самолета. К этому моменту он мог
воспользоваться недавно разработанными двигающимися линзами,
которые (с его точки зрения) работали «лучше глаза» и упрощали
«систему постоянного прямого участия» кинематографической
аудитории в создании фильма1.
Французский кинокритик Андре Базин охарактеризовал
«реализм» фильмов Ренуара и Росселлини при помощи геологической
метафоры «профиля равновесия»*. Как река пробивает себе путь к
морю через скалу, которая, сопротивляясь, со временем уступает
потоку воды, так и воздействие новых техник сначала
гальванизирует аудиторию, но затем неизбежно снижает силу своего
воздействия. Для достижения «эффекта реальности» кинорежиссер
должен постоянно изыскивать новые технические инструменты.
Очевидно, что вопрос «исторического реализма» помещен внутрь всей
проблематики «реализма». В базовые для кинематографа вопросы
кастинга, места съемки, движения камеры и монтажа, он привносит
дополнительную проблему реконструкции изображаемой
исторической среды. В этом смысле перед кинорежиссером возникает та
же проблема, что и перед художником XIX века, пишущим на
исторические сюжеты. Вопрос, как избежать того, за что
подвергалась критике «миленькая и чистенькая» сценография Делароша или
«театральный грим сцены, смутно узнаваемый по страницам какой-
то книги» Сторея, остается все еще актуальным. Теккерей предло-
1 Vendone Mario. Interviews with Roberto Rossellini, trans. Judith White, Screen,
14, no. 4 (Winter 1973/74), 69-111; Pascal Kane' «Cinema and history» // Cahiers du
cinema, no. 254/55 (Dec. 1974/Jan.l975).
* Андре Базин (André Bazin, 1918-1958) - влиятельный французский
кинокритик, один из основателей журнала, посвященного искусству кинематографа, -
Cahiers du cinema. Базин полагал, что фильм с помощью присущих ему техник
должен репрезентировать личностный взгляд режиссера на изображаемый объект.
290
Постскриптум
жил рецепт, который вполне подходит как для исторического
фильма, так и для исторической живописи: он хвалил фигуры гер-
бертовского «Суда семи епископов» за то, что «им вполне удобно
в этих странных платьях и париках времен Якова Второго»1. Как
«странность», так и «ощущение домашности» - это
взаимодополнительные эффекты непривычности и осведомленности - в равной
степени необходимы для «исторически реалистического» кино.
Бесспорно, интересно порассуждать, что бы стал делать
разборчивый Теккерей с одним из самых амбициозных исторических
фильмов своего времени - «Барри Линдоном» Стэнли Кубрика
(1975). С точки зрения мастерства самого Теккерея, фильм Кубрика
полон плачевных недостатков: персонажи вырезаются,
беспорядочно соединяются и искажаются, в то время как единицы нарратива
перемешаны в комментарии рассказчика за кадром. Выбор места
съемки страдает от сбивающей с толку неспособности удержать и
развить какое-то одно пространство действия: когда Барри
достигает пика своего преуспеяния, его показывают, чередуя планы,
напротив Замка Ховарда и дома Уилтона, время от времени, заставляя
прогуливаться в Стозерхеде, задыхающегося от ароматов азалий
и рододендронов - приобретения уже XIX века. Но эти
промахи - если на них смотреть, как на промахи - ни в коем случае
не умаляют значения технических инноваций Кубрика, состоящих
в использовании определенного количества специальных
объективов для внутренних и наружных съемок. Он способен снять
освященный светом свечей интерьер при минимуме
дополнительного освещения, а установление кадров исторические здания и
ландшафт обладает такой тонкостью качества, которую редко, если
вообще, можно было видеть до этого. Несомненно, что из-за того,
что эти технические средства позволили ему «устанавливать» сцену
так, как если бы это было творение кисти художника, Кубрик
создал кадры, которые кажутся tableaux-vivants с картин XVIII
века. Кажется, что Барри и его кузен, гуляя в лесу, казалось бы,
переступили обратно в портрет Гейнсборо, в то время, как пьяный
Барри, рухнувший в кресло, подходит для сцены, почти в точности
схожей с гравюрой Хогарта «Карьера распутника» («A Rake's
Progress»).
I Ibid. P. 70.
* tableaux-vivants (φρ.) - живая картина.
291
Стивен Бенн
Подход Кубрика в фильме «Барри Линдон» можно
рассматривать как развитие техники «установки» кадра. В каждой сцене
камера то наезжает, то отъезжает, только изредка мы видим
«водящие» кадры, следующие за боковым движением камеры. Такая
относительно необычная техника позволяет нам смотреть фильм, как
попытку «организации» исторической среды, в той же мере как
неутомимый Барри пытается «организовать» свою славу и состояние.
Но роман Теккерея - это не повесть по образцу романов об Уэвер-
ли, где «Прекрасный принц» обладает полной атрибутикой
счастливого конца. И если Теккерей и позволяет своему «любимому
герою» оказаться на волосок от того, чтобы стать лордом, то вскоре
он стремительно сталкивает его с высокого положения
в жалкую нищету и делает так, чтобы его жизнь окончилась в
долговой яме. Фильм Кубрика не следует полностью антитетическим
возможностям, вложеным в нарратив Теккерея. Он предлагает
нам иронический рассказ о прошлом, чья подлинность
засвидетельствована серией статических «установок» окружающей среды
XVIII века. Но он не предоставляет нам никакого эквивалента
процессу, посредством которого Теккерей затормаживает движение
своего анти-героя в нарративе. Как только благосклонность судьбы
начинает ускользать от Барри, доверие и интерес к фильму Кубрика
теряются. Мы отождествляем себя с главным героем и пережить
обратный поворот в его судьбе мы не можем.
Быть может это слишком много, просить у кинорежиссера,
чтобы он одновременно исследовал и новые иллюзионистские техники
фильма, и вопросы подлинности изображения прошлого, которые
зависят от того, как разворачивается исторический нарратив. Но
именно таковой и была цель замечательной работы Даниеля Виня
«Возвращение Мартина Герра» (1982). В этом необычном фильме,
основанном на истории о судебном процессе XVI века по
обвинению самозванца, назвавшегося именем М. Герра, в мошенничестве,
режиссер осваивает новые высоты аутентичности в изображении
исторического костюма и обстановки. С ним активно сотрудничала
и автор знаменитого романа «Возвращение Мартина Герра» Натали
Земон-Девис. Любопытно заметить слияние двух парадигм
исторического реализма в мизансценах и костюмах фильма «Мартин
Герр». С одной стороны (как и в фильме «Барри Линдон»), перед
нами предстает специфически изобразительная матрица. Такое
впечатление, что она транслирована в обратном порядке, из
следующего столетия, когда способы изображения окружающего мира, свой-
292
Постскриптум
ственные искусству Италии и Северной Европы, следовали
принципу «Caravaggesque» chiaroscuro '.
Превосходная цветная фотография комнатного интерьера,
выполненная с использованием яркого бокового освещения,
напоминает манеру письма Жоржа де ла Тура, художника из Лоррены:
искусно составленные сцены ассоциируются с одной из картин ла
Тура, хотя главный женский персонаж напоминает обезьянье лицо
знаменитой «Головы женщины» Вермеера, что находится в Мориц-
хаузе (Гаага). Парадоксально, но эта транслированная
изобразительная модель - которая с точностью подходит под условия
кинематографической репрезентации, хотя и не увязывается с XVI
веком - создает особую атмосферу, служащую проводником
аутентичности. С ней комбинируется, с необходимостью противореча
в некоторых отношениях, метод археологического исследования,
акцентирующий внимание на изображении деталей исторической
эпохи. В начале фильма режиссер показывает сельскую свадьбу, на
которой молодые жених и невеста одеты в ярко-красные одежды.
Знание сельской жизни Натали Земон-Дэвис давало возможность
одновременно точно воспроизвести даже второстепенные детали
того времени и создать потрясающий эффект «отчужденности»
нашей эпохи от прошедшей.
Эта амбивалентность резонирует в уме зрителя,
подготавливая его к тому, чтобы он воспринимал остальные вспомогательные
детали изображаемой жизни как подлинные. Вскоре после
сцены свадьбы молодой Мартин посещает деревенскую
guérisseuse** с тем, чтобы излечиться от комплексов сексуального
характера. В ходе этой сцены мы совершенно не замечаем, что странный
язык старой женщины заимствован из настоящего фольклора, мы
воспринимаем его как совершенно естественный, а тонкое
мастерство плетения корзин, которое одновременно демонстрируется на
заднем плане, расценивается как уместный пример традиционного
. ++*
vannerie .
* Chiaroscuro (итал.) - художественный прием, относящийся к живописи,
характеризуемой четким контрастом света и тени; Caravaggesque (итал.) -
реферирует к творчеству Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610), итальянского
художника, использующего прием chiaroscuro в своем творчестве.
** guérisseuse (φρ.) - целительница.
*** vannerie (φρ.) здесь - искусство плетения лозы.
293
Стивен Бенн
Однако все эти особенности подчинены целостности сюжета
фильма «Мартин Герр». Именно здесь все вопросы ложности и
подлинности становятся избыточными, потому что вообще вся
рассказываемая история есть вопрос ложности или истинности права
на имя «Мартин Герр», предъявляемое главным героем. Молодой
Мартин, не имеющий приятелей из числа крестьян его деревни,
расстроенный навязанной его же семьей женитьбой, без всяких
объяснений уходит из дома. Десятью годами позже в деревне
появляется мужчина и заявляет, что он и есть бежавший много лет назад
Мартин Герр. Воспользовавшись своим физическим сходством с
исчезнувшим Мартином, этому удается убедить большинство
жителей деревни, включая и покинутую им жену и членов семьи
Герров, что он и есть их односельчанин, муж и сын. Лишь только
ссора дядей, произошедшая из-за прибыли, полученной с земель
Мартина в течение его отсутствия, омрачает картину вновь
обретенной семейной гармонии. Дядя обличает новоиспеченного
Мартина как самозванца и затевает против него судебный процесс,
первое слушание которого проходит в деревне, а затем - парламенте
Тулузы.
Фильм заключается в своего рода mise en abirrte проблемы
подлинности. В той же степени, как вернувшийся Мартин должен
убедить деревню в том, что он настоящий, актер и весь фильм должны
убедить нас в подлинности рассказываемой истории и
исторических реалий, в которых она разворачивается. Вопрос осложняется
тем, что роль Мартина с большим чувством и даже рисовкой
исполняется одним из самых известных в современном французском
кинематографе актером Жераром Депардье. Если Росселлини
использовал актеров-непрофессионалов для ощущения подлинности
исторического времени и таким образом избегал своего рода
конфликта персонажа и «звезды», исполняющей его роль, то Винь не
мешает этому конфликту. В фильме это срабатывает весьма
любопытным и, возможно, позитивным образом. В нас крепнет
сомнение в том, надо ли Депардье в роли Мартина убеждать себя в том,
что он Мартин. И когда на сцене появляется новый персонаж, мы
с готовностью принимаем его за подлинного Мартина, что до этого
момента нам мешало сделать красноречие Депардье и необходимые
перипетии сюжета. То, что «настоящего» Мартина играет актер,
менее известный, чем Депардье, только укрепляет зрителя в
уверенности в том, что он и есть подлинный Мартин.
294
Постскриптум
Размышления о ложности и подлинности, диктуемые сюжетом,
придают фильму Виня измерение, отсутствующее фильмах Россел-
лини. Нарративная структура фильма «Мартин Герр» в каких-то
отношениях, ближе к модели романов XIX века, чем к фильмам,
выполненным в традиции неореализма. Герр/Депардье приобретает
своего рода второе рождение, подобно герою романа «Монастырь и
очаг», появляющемуся из бельевой корзины прачки. Развитие нар-
ратива ни в коем случае не является хронологическим, а
происходит посредством серии «обратных кадров». Он начинается с
изображения приготовлений к завершающему заседанию суда и тут
же, как бы намекая на сомнительный статус нового Мартина, нам
показывают его возвращение в деревню и его поведение в
отношении к вновь обретенной семье. В текст сценария даже включены
небольшие откровения о личности самозванца Мартина,
позволяющие нам увидеть, что его почти энциклопедическое знание
жизни человека, личину которого он носит, не является полным во
всех отношениях. Мы замечаем, что он путает шкаф, в котором, по
традиции, хранятся свечи. Что это? Просто подвела память, или
нечто более важное? Когда наступает развязка, мы осознаем, что
одного этого упущения должно быть достаточно, чтобы давно
убедить нас в том, что этот человек выдает себя за кого-то другого.
В нарративе фильма «Мартин Герр» использована литературная
модель. Сопоставление этого с «эпизодической» структурой
фильма Росселлини «Франциск» приводит на ум размышления Баранта о
различии между историческими романами Скотта и самой историей
непосредственно: «Красота истории должна оставаться звеном в
непрерывной цепи. Литературная композиция в своем финале
замыкается сама на себя». То, что как Барант, так и Росселлини
выбирают нарративную структуру «непрерывной цепи», является
проявлением неприятия ими литературной и фикционной модели
изображения истории. В сравнении с этим в фильме «Мартин Герр»
предложен характерный для литературного нарратива
вымышленный, фикционный, финал. По утверждению Фредерика Олафсона,
«окончание» фикционного произведения знаменуется внутренним
признанием или развязкой одного из персонажей, в то время, как
исторический нарратив по определению не может включать в себя
подобный элемент1. Когда в фильме его главный герой Мартин
Герр разоблачен как самозванец, важно, что он сам признался в
1 Olafson Frederick A. The Dialectic of Action - A philosophical interpretation of
History and the Humanities. Chicago, 1979, особенно гл. 2, «Literature and
intentional process».
295
Стивен Бенн
присвоении им чужого имени. Драматический момент,
предвкушаемый словами советника Кора: «Мы ждем твоего признания,
Арно дю Тиль», есть это кульминация, которая подготавливает
финал фильма1.
Как же в таком случае следует сделать рассказ о притворном
и настоящем Мартине Герре более «историческим»? Натали Земон-
Дэвис пыталась ответить на этот вопрос в дополнительных
материалах к фильму, которые были опубликованы вместе с его
сценарием. Она не утверждает, что документальное свидетельство
достаточно для доказательства самозванства Арно дю Тиля, и допускает,
что ее рассказ «частично выдуман»2. Но это та выдумка, которая
была обусловлена внимательным отношением к имевшимся в
наличии свидетельствам. С ее точки зрения мы в состоянии
реконструировать образ Арно Тиля, используя многие элементы,
участвовавшие в создании ложной личности, и эти элементы обладают
подлинными чертами прошлого, в котором могла жить подобная
личность. Необходимость в сообщниках, участвующих в подкупе
брошенной жены Мартина, Бертранды, конечно, учитывалось Арно.
Но если мы не можем быть уверены, как и когда именно эта
история имела место, то мы, по-крайней мере, можем узнать об
информационной сети, которая существовала в то время между
деревнями в Пиринеях. Мы можем отследить тот возможный путь,
которым настоящий Мартин Герр бежал от своей жены и семьи. Мы
можем проследить за передвижениями Арно Тиля, когда он, по
всей видимости, собирал свое досье на отсутствующего мужа.
Иными словами, Натали Земон-Дэвис предлагает нам элементы
совершенно другого сценария. Такого, который основывается на
вероятности того, что Арно дю Тиль ни разу в жизни не видел
настоящего Мартина Герра, и точно также, как и мы, гадал, что это за
человек с деревянной ногой появился на заключительных стадиях
суда. В этом сценарии мы были бы сообщниками Арно Дю Тиля,
разделяя с ним первый успех его мошенничества, и были бы, так же
как и он охвачены тревожным ожиданием, не зная, как долго
продлится его счастье. Фильм, сделанный на основе такого сценария
совершенно бы отличался от фильма Даниеля Виня.
Этот необычайно убедительный пример укрепляет позиции,
занимаемые мною в этом исследовании. Нетрудно вспомнить произ-
1 Le retour de Martin Guerre. P. 106.
2 Ibid. P. 125.
296
Постскриптум
ведения, в которых историческое и литературное, «научное» и
«поэтическое» оказываются противостоящими друг другу, словно
масло и вода. Но такое взаимоисключение не столь уж абсолютно, как
это может показаться на первый взгляд. По утверждению Луиса
Минка: «Наше понимание фикции требует ее противопоставления
истории так же, как и понимание истории требует ее
противопоставления фикции... Если эта дистинкция исчезает, то и фикция и
история одновременно превратятся в миф, и станут неотличимы,
как от него, так и друг от друга»1. Эта идея имеет значение
громадной важности, она акцентирует культурологическую
необходимость поддержания разграничения между историей и фикцией. Но
подобная позиция ни в коем случае не означает, что сохранение
иррелевантности фикционных и «поэтических» процедур для
историографии само по себе является верной установкой - тогда просто
окаменеваешь перед историей, как перед головой Медузы, что,
к несчастью, и произошло в процессе абсолютизации знаменитого
утверждения Ранке. Альтернативный сценарий Натали Земон-
Дэвис для истории о Мартине Герре - это гениальная альтернатива
такой опасности. Злому духу беллетристики совсем не обязательно
владеть всеми лучшими историями. Однако же рассказчику
необходимо отдавать себе отчет в том, что выбор всегда за ним, и не
отрекался от своей поэтики в угоду обманчивому уважению к
знакам объективности своего нарратива.
Возьмем школу «Анналов». Размышляя над работой Броделя
«Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II»,
Ханс Келлнер пришел к выводу, что: «никто не станет отрицать,
что Бродель потратил множество сил и энергии для создания
лингвистического решения лингвистической же проблемы»2.
Подобному утверждению, которое ни в коем случае не противоречит
исторической ценности работы Броделя, может быть брошен вызов.
Очень немногих историков можно убедить в том, что в истории
существует лингвистическая проблема, не говоря уже о ее
лингвистическом решении. Один из парадоксов можно найти в рецензии
Адриана Уилсоном на работу Филиппа Арьеса «Ребенок и семейная
1 Mink Louis. Narrative form as a cognitive instrument // Robert H. Canary and
Henry Kozicki (eds.), The Writing of History - Literary Form and Historical
Understanding. Madison, Wisconsin, 1978. P. 148-9.
2 Kellner Hans. Disorderly conduct: Braudel's Mediterranean Satire // History and
Theory, 19 (1980). P. 222.
297
Стивен Бенн
жизнь при старом порядке». Какой бы изумительно строгой и
оправданной с точки зрения содержащихся там аргументов ни
казалась эта рецензия, она встречается с целым рядом трудностей,
слабо поддающихся разрешению. Уилсон полагает, что Арьес,
вооружившись «ориентированной на настоящее» точкой зрения,
выбирает «личностные и идиосинкразические» категории анализа,
«слепые» по отношению к прошлому и избыточно осовремененные.
А скрытый смысл возражения Уилсона был бы таков: «Ни один
историк не смог бы написать такой же книги; сам успех книги
"Ребенок и семейная жизнь при старом порядке" указывает на то, что
категории анализа Арьеса были просто подогнаны под
представления широкой публики»1. Какое, можем мы спросить, существует
основание для подобной «подгонки», если категории Арьеса лично-
стны и идиосинкразические? И каков эпистемологический базис
гипотезы о том, что если бы таковых идиосинкразии не
существовало, то два разных историка могли «написать такую же самую
книгу»? Ответ на первый вопрос, вероятно, кроется в ассимиляции
«категорий» Арьеса дефиницией риторики Дана Спербера - как
чего-то, что «является одновременно функцией и текста, и
разделяемого всеми знания»*. Ответ на второй вопрос дан еще Маколе-
ем в его ответе доктору Джонсону: истина истории не
«единственна», и она не допускает «степеней»; историография вынуждена
наблюдать «имитацию истины в изящных искусствах» .
Здесь мы не просто отстаиваем позицию Маколея,
артикулированную еще в XIX веке, и выступаем против новой историографии
Ранке. Подобная позиция была бы не исторична и абсурдна. Вопрос
в том, что «риторический» аспект стиля Арьеса не заслуживает
столь негативного отношения к нему. Уилсон пытается решить
свою проблему, обращаясь к привычной всем дистинкции
«историк - «профессионалом»/историк - «любитель». Арьес - любитель.
Но его работа «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке»,
с присущей ей наивной честностью воплощает... подлинную
сущность первого этапа исторического исследования, осуществляемого
1 Wilson Adrian. The infancy of the history of childhood: an appraisal of Philippe
Aries, in History and Theory, 18, no. 2 (1979). P. 136, 148.
* См. введение наст, издания.
** См. главу первую наст, изд.; Доктор Джонсон, Самюэль Джонсон (Samuel
Johnson, 1709-84) - английский писатель, поэт, литературовед, биограф, лексограф.
298
Постскриптум
в новой области». Нет сомнения, что мы вновь возвращаемся к идее
(в свое время корректно экстраполированной на творчество Скотта)
о том, что только непрофессионал обладает достаточно сильным
рычагом, способным столкнуть мир историографии с его старой
орбиты! Но для достижения такой цели «наивная честность» - рецепт
недостаточный. В довершение же ко всему, Арьес демонстрирует
риторическую способность особого рода, которая еще в начале его
объемного труда «Человек перед лицом смерти» приводит его к
следующему утверждению: «Обнаружить на всем протяжении
истории, от Гомера до Толстого, неизменное выражение одной и той
же глобальной установки в отношении смерти не значит признать
за ней некое структурное постоянство, чуждое собственно
исторической изменчивости. На этом первичном и восходящем
к незапамятной древности фоне все время менялось множество
элементов. Но сам этот фон в течение более чем двух тысячелетий
сопротивлялся толчкам эволюции. В мире, подверженном
изменениям, традиционное отношение к смерти предстает как некая дамба
инерции и континуитета. Оно настолько изгладилось сейчас из
наших нравов, что нам трудно его себе вообразить и понять. Старая
позиция, согласно которой смерть одновременно близка, хорошо
знакома, но при этом умалена и сделана нечувствительной,
слишком противоречит нашему восприятию, где смерть внушает такой
страх, что мы уже не осмеливаемся произносить ее имя. Вот
почему, когда мы называем эту интимно связанную с человеком смерть,
какой она была в прошлые века, «прирученной», мы не хотим этим
сказать, будто некогда она была дикой, а затем стала домашней.
Напротив, мы имеем в виду, что дикой она стала сегодня, тогда как
прежде не была таковой. Именно та смерть, древнейшая, была
прирученной»1. Мишле показывает нам, что Жана Д'Арк, которую мы
долго принимали за далекую и мистическую фигуру, за личность,
глядящую на нас откуда-то из глубины средних веков, на самом
деле находится близко от нас, потому что ему удается показать ее
«добрые чувства». Арьес утверждает, что «приручение смерти»,
которое мы можем рассматривать как достижение современного
рационализма и современной медицины, на самом деле является
достижением любого времени истории, кроме нашего: мы свели
феномен смерти к столь дикому состоянию, о котором в прежние
1 Aries Philippe . L'Homme devant la mort. Paris, 1977. P. 36 (рус. перев. -Арьес Φ.
Человек перед лицом смерти. М., 1992. С. 58).
299
Стивен Бенн
времена люди даже и не помышляли. В обоих сравниваемых
случаях хиазм оттеняет это различие: в прошлом мы можем распознать
только то, что наша «ориентированность на настоящее» дает нам
возможность распознать и подготовить нас к отрицанию этого
распознавания. В обвинениях Арьеса Адрианом Уилсоном есть своя
сермяжная правда: анализируя приводимые Арьесом свидетельства
«современных установок по отношению к ребенку», он
обнаруживает, что таких установок просто нет, и все, что можно сделать -
зафиксировать их отсутствие1. Но от работы Арьеса « Ребенок
и семейная жизнь при старом порядке» до его же «Человек перед
лицом смерти» указанная стратегия получила обратное развитие.
Причина «отсутствия» установок заключается в нашей
неспособности сохранить культурные и социальные механизмы «приручения»
смерти. Бесконечная, длящаяся все последнее тысячелетие,
процедура дифференциации этих механизмов и составляет ткань
исследования Арьеса.
Приведем еще один пример из обширного арсенала
исследований «Анналов». В заключении своей статьи «Дискурс истории»
Барт писал, что «знаком Истории отныне служит не столько
реальность, сколько интеллигибельность»2. С его точки зрения,
историография долгое время в целях подтверждения своей прозрачности по
отношению к реальности, полагалась на «эффект реальности», но
когда этот методологический прием был оспорен, у нее не осталось
никаких ресурсов. Бесспорно, что в 1967 году, всего лишь два года
спустя после выхода из печати «Мира Средиземноморья» Броделя
данное заключение Барта казалось вполне справедливым. Но
написал бы он то же самое десятью годами позже, после выхода в свет
«Монтайю» Эммануэля Ле Руа Ладюри? Огромный успех «Мон-
тайю» у публики, как во Франции, так и в остальном мире, был
связан с тем, что вся книга, а не просто вырванные из контекста
цитаты, создавала своего рода «эффект реальности». Сама чистота ее
концепции - одна средневековая деревня, один современный ис-
1 Wilson Adrian. The infancy of the history of childhood. P. 139. QUOTE MARKS
INSERTED S.B.
2 Barthes Roland. The discourse of history. Trans. Stephen Bann, in E.S. Shaffer
(ed.), Comparative Criticism Yearbook no. 3, Cambridge, 1981. P. 18 (рус. перев. -
Барт P. Дискурс истории // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры.
М., 2003. С. 440).
300
Постскриптум
точник - и создали этот эффект. И даже выделение курсивом
выдержек из показаний злосчастных жителей Монтайю, по всей
видимости, шли на пользу риторике текста: они были реальны, а все
остальное - комментарии. Походило на то, что Ле Руа Ладюри
удалось распознать и оживить некий психологический механизм. Он
показал, что если повезет, то прошлое возвращается. Однако это
происходит не вопреки, а благодаря соблюдению дистанции от
прошлого; не вопреки, а благодаря стилистике текста,
идентифицирующей комментарий, как продукт, произведенный писателем
сегодняшнего дня; не вопреки нашей «ориентированности в
настоящее», а благодаря нашей способности осознавать отчужденность от
нас минимальной единицы истории.
Поздние работы Ле Руа Ладюри - «Карнавал в Романе. От
Сретенья до Пепельной Среды. 1579-1580» (1979) - еще раз
демонстрируют это искусство. Так подтверждается историчность
карнавальных событий в маленьком городке. Ле Руа Ладюри пишет в
своем заключении: «карнавал в Романе заставляет меня вспоминать
Большой Каньон. В нем показаны в поперечном сечении,
социальный и интеллектуальные пласты и структуры, из которых состоит
"très ancien régime"»*1. Карнавал в одно и то же время и почти все,
и почти нечего. Это смазанная и отполированная символизмом
череда событий. Это в полном смысле «геология, со всеми ее
красками и искажениями». Исторический эффект, в его чистом виде
пребывает внутри разрыва между этими двумя крайностями. Ле Руа
Ладюри в работе «Карнавал в Романе. От Сретенья до Пепельной
Среды. 1579-1580», как и в «Монтайю» вновь отсылает нас к
единичному источнику излагаемых событий. Но это свое исследование
Ле Руа Ладюри построил новым и провокативным образом. Вместо
того чтобы расчленить источник на бесконечное множество
выделенных курсивом цитат, он подает его во всей полноте. Живой
рассказ Жана Л'он-при, по-видимому, служит магнитом для объемного
и бесхитростного комментария историка, или (говоря словами
издателя), воспринимается «в виде окна, через которое
проглядывается воображаемая жизнь крестьянина»2.
très ancien régime (φρ.) - «то, что весьма напоминает Старый порядок».
1 Ladurie Ε. Le Roy. Carnival - A People's Uprising at Romans, trans. Mary Feeney
(London, 1979). P. 370.
2 Fabre Jean-Batiste Castor. Jean-Pont-pris. Trans. Alan Sheridan: extract from
E. Le Roy Ladurie, Love. Death and Money in the Pays d'Oc. London, 1982. История
301
Стивен Бенн
На самом деле богатство и ирония достижения Ле Руа Ладюри
в одинаковой степени обязана тому, что его современники - не
только издатели, но и известные историки и критики -
приветствовали его работы примерно в тех же выражениях, которые
использовали их предшественники, шумно аплодируя историографии эпохи
романтизма. «Классическое приключение, подслушанное во
времени». «Чосеровская галерея живых средневековых персонажей»,
«рассмотренная под самым широким углом зрения, четко
прописанная, наидетальнейшим образом проработанная презентация
деревенской средневековой жизни, едва ли когда-либо представавшая
на страницах исторических произведений»1. Подобная гипербола,
поданная через эскалацию литературных, живописных и
кинематографических метафор, вне сомнения, является данью мастерству Ле
Руа Ладюри. Но это также свидетельство той крайней, быть может,
чрезмерной цены, которую наша культура все еще платит за миф
воссоздания реальности - за образ историка, как таксидермиста.
Историческая поэтика Ле Руа Ладюри могла бы стать законной
силой, получить в историографии интеллектуальное и культурное
признание. Но она подвергается действию взыскательной критики
со стороны «археологии» Фуко, которая занимается исключительно
разоблачением фикционных изображений истории, с таким
искусством показанных в «Монтайю» и «Карнавале».
Фуко исследует историю на другом, хотя и связанным
логически с исторической поэтикой, уровне анализа. Ле Руа Ладюри
ухитряется быть и романтиком и скептиком, проявлять иронию. Не
довольствуясь простым означением реального, он множит знаки
присутствия историка. Он metteur-en-scène*, создающий «паузу в
нашем нарративе», или «нечто, схожее с обратным кадром». Он -
человек XX столетия, который может увидеть в романских
крестьянах XVI века «рэкет-протекцию в духе мафии»2. Бесспорно, он
предлагает модель историографии, соответствующую его (или
нашему) амбивалентному состоянию между прошлым и будущим.
Жана Л'он-при (Jean l'ont pris) представляет собой новеллу XVIII века на сюжет
деревенской жизни юго-западной Франции, написанная Жаном Фабре.
1 Е. Le Roy Ladurie, Carnival.
metteur-en-scène (φρ.) - термин, обычно применяемый к кинорежиссерам,
славящимся тонким эстетическим вкусом.
2 Ibid. Р. 41, 42, 80.
302
Постскриптум
Цель Фуко - сделать сам институт «истории» объектом
тщательного критического изучения. Он стремится представить
археологическую схему той территории, которую с таким блеском показывает
Ле Руа Ладюри.
Итак, мы заканчиваем нашу работу там же, где мы ее и начали:
на двойственном образе Клио работы Клодиона. История, как
закон, высеченный на каменных таблицах, сопоставляется и
сочетается с историей в качестве защитницы прошлого как Другого,
феномена «друговости» времени. История как наука смешивается и
переплетается с историей как фикцией и образует специфическую
ткань репрезентации времени. Интересно и полезно исследовать не
фрагменты грубо разорванных нитей этой ткани, а всю ее
целостность.
303
Оглавление
Репрезентация в истории (М. Кукарцева) 5
СТИВЕН БЕНН.
О себе (Интервью с Э. Доманска и М. Кукарцевой) 23
Введение 54
Глава первая
Историк как таксидермист: Л. фон Ранке, П. де Барант,
Ч. Уотертон 65
Глава вторая
Цикл в историческом дискурсе: П. де Барант, О. Тьерри,
Ж. Мишле 102
Глава третья
Образ и буква в новом открытии прошлого: Л.Ж.М. Дагерр,
Чарльз Альфред Стотард, Э.Г. Ландсир, 77. Деларош 137
Глава четвертая
Поэтика музея: А. Лену ар и А. Дю Соммерер 167
Глава пятая
Историческая композиция места: Док. Байрон и В. Скотт 187
Глава шестая
Защита от иронии: Р. Барэм,Д. Рёскин, У.Г. Фокс Тальбот 212
Гла&а седьмая
Анти-история и пред-герой: У. Теккерей, Ч. Рид, Р. Браунинг,
Г. Джеймс 248
Постскриптум 283
Аннотированный список книг издательства «Канон+»
РООИ «Реабилитация» вы можете найти на сайте
iph.ras.ru/kanon или http://journal.iph.ras.ru/verlag.html
Заказать книги можно, отправив заявку по электронному адресу:
kanonplus@mail.ru
Научная монография
БЕНН Стивен
Одежды Клио
Перевод с английского Кукарцевой М., Макарова А.
Общая редакция Кукарцевой М., МегиллаА.
Вступительная статья Кукарцевой М.
Директор — Божко Ю. В.
Ответственный за выпуск — Божко Ю. В.
Компьютерная верстка — Липницкая Е. Е.
Корректор — Колупаева Л. П.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 18.03.2011.
Формат 60Х90У16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 19,0. Уч.-изд. л. 16,8. Тираж 1000 экз. Заказ 760.
Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация».
111627, Москва, ул. Городецкая, д. 8, корп. 3, кв. 28.
Тел/факс 702-04-57.
E-mail: kanonplus@mail.ru
Сайт: iph.ras.ru/kanon или http://journal.iph.ras.ru/verlag.html
Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.
Пр. Независимости, 79, 220013, Минск.
Стивен Бенн —
профессор современных культурных
исследований в университете Кента,
с 2000 года профессор истории искусств
Бристольского университета,
с 2008 года - заслуженный профессор
в отставке и старший научный сотрудник
этого же университета.
В 1998 году избран в члены Британской
Академии, Коммандер Ордена Британской
империи. Автор таких известных работ как
The True Vine (1989), The Inventions of History
(1990), Romanticism and the Rise of History
(1995), Paul Delaroche: History Painted (1997),
Parallel Lines: French printmakers, painters and
photographers in nineteenth-century France
(2001 ), Ways around Modernism (2007).
Приглашенный куратор выставки работ
Поля Делароша в Национальной галерее,
Лондон февраль- март 2010) соавтор
каталога «Изображая историю: Деларош
и леди Джейн Грей» (Painting History:
Delaroche and Lady Jane Grey).
Редактор альбома « Искусство и
фотография» (Art and the Photographic
Album), 2011r., London.
U KJIIK»:
методов ponpc
пеожа!
H of С
представляет
Относя к
'СКИС ро.\
юманы, музеи, автор
гики и раскрывает его
pei ipesei π ai un ι, το ι \ современном
торичеекие основания, лежащие в
на. В результате перед нами встает
всю родовую структуру ренрезента-
ет в своей работе.
9"785883"730640