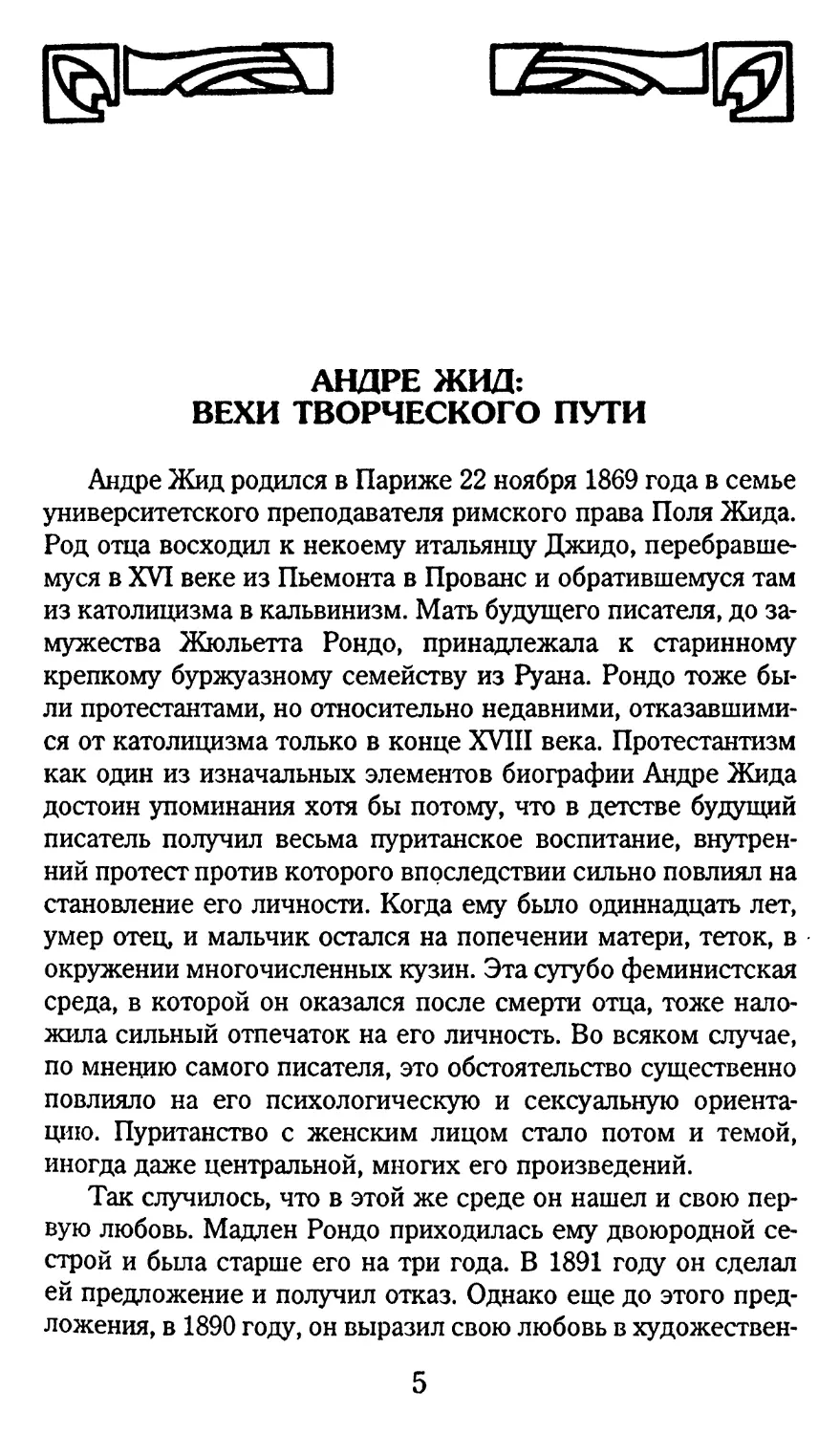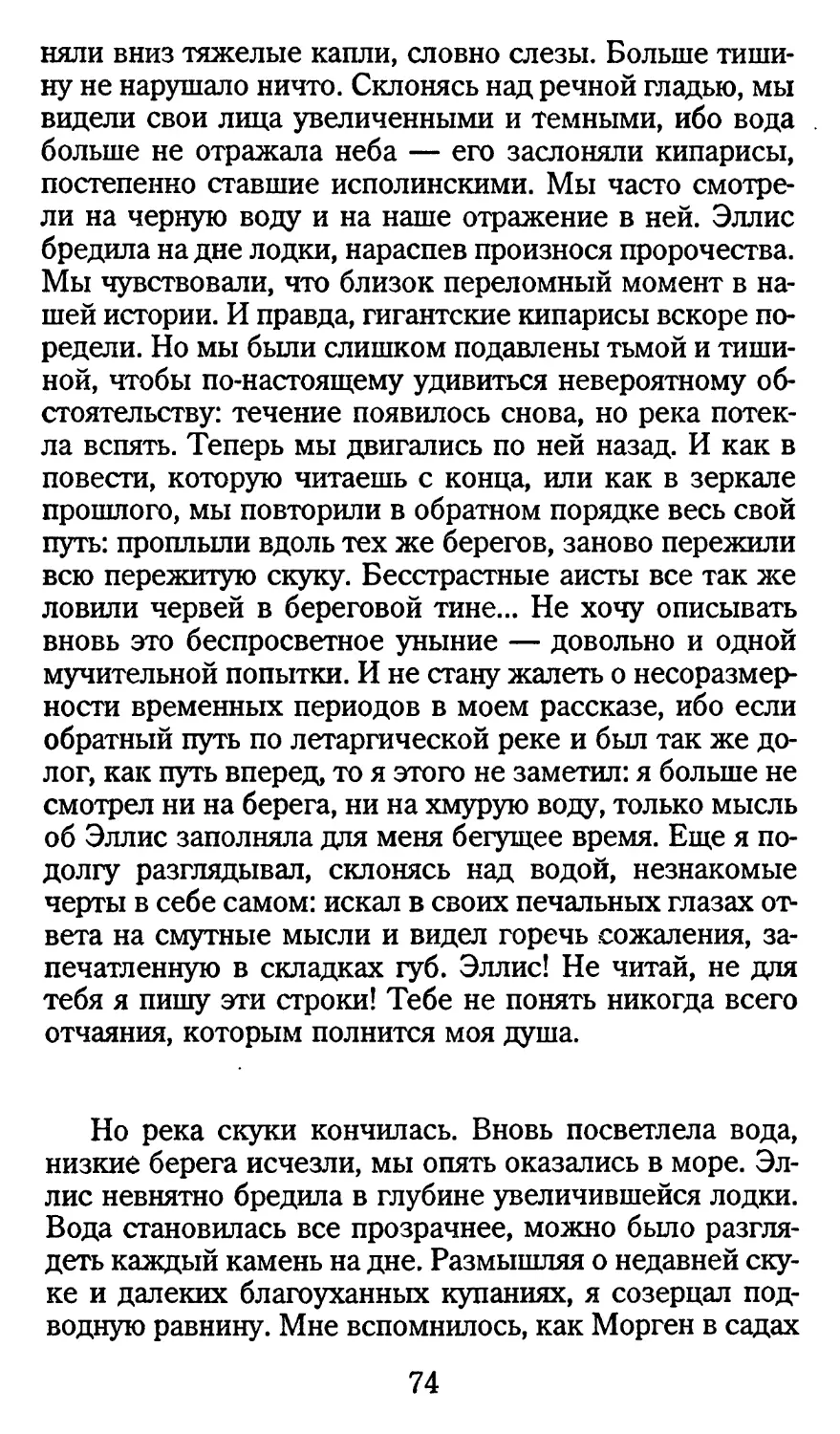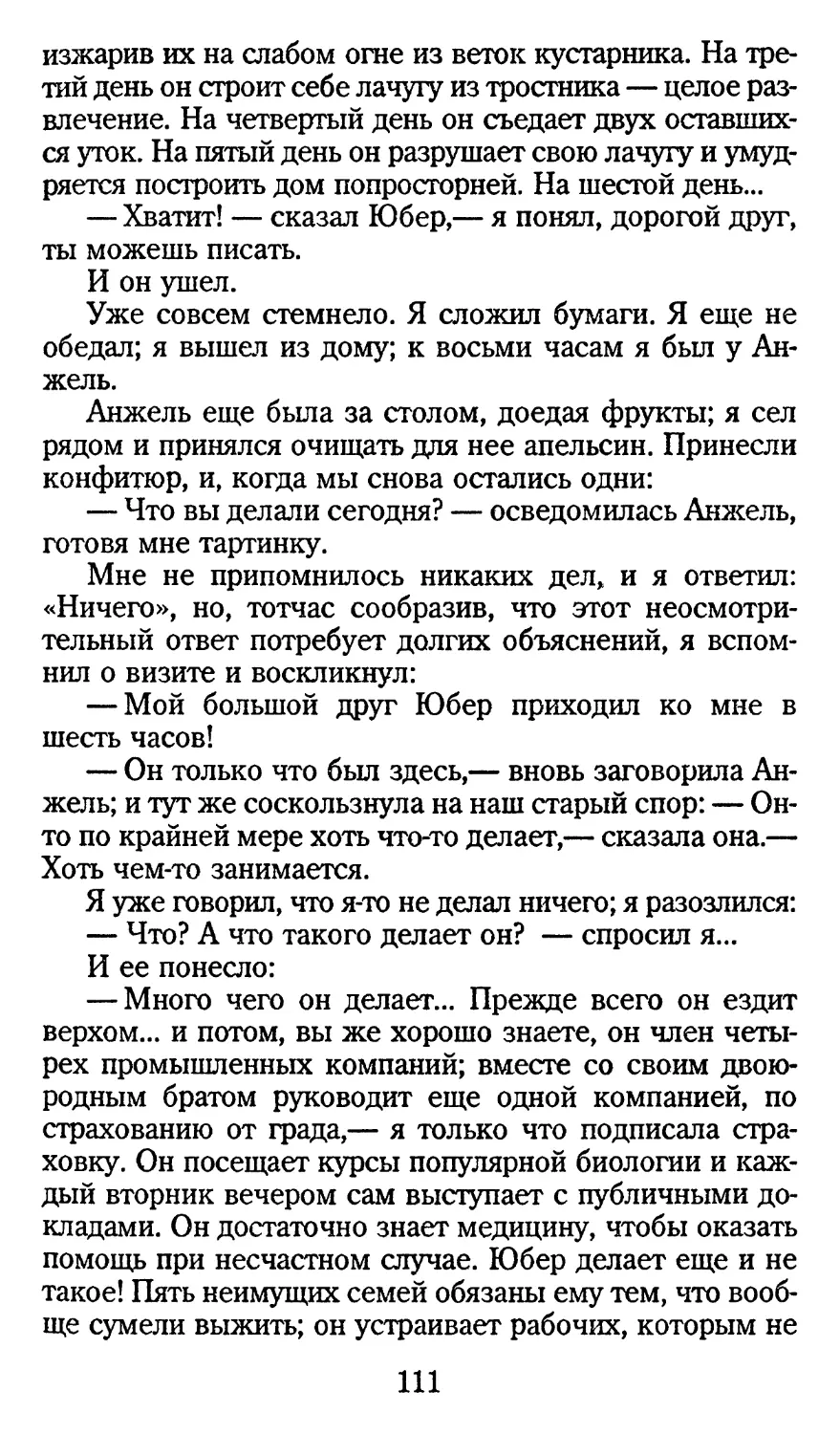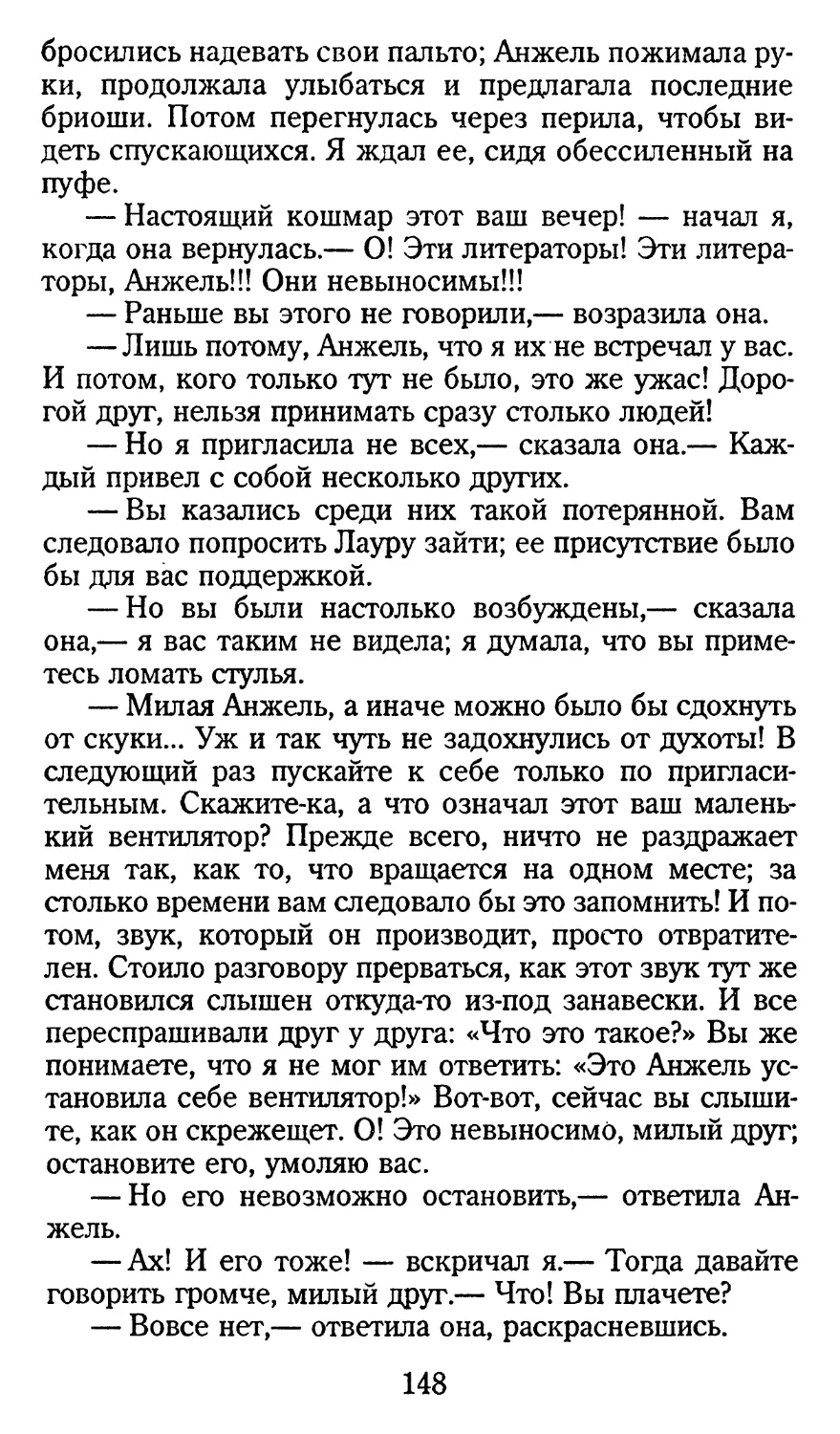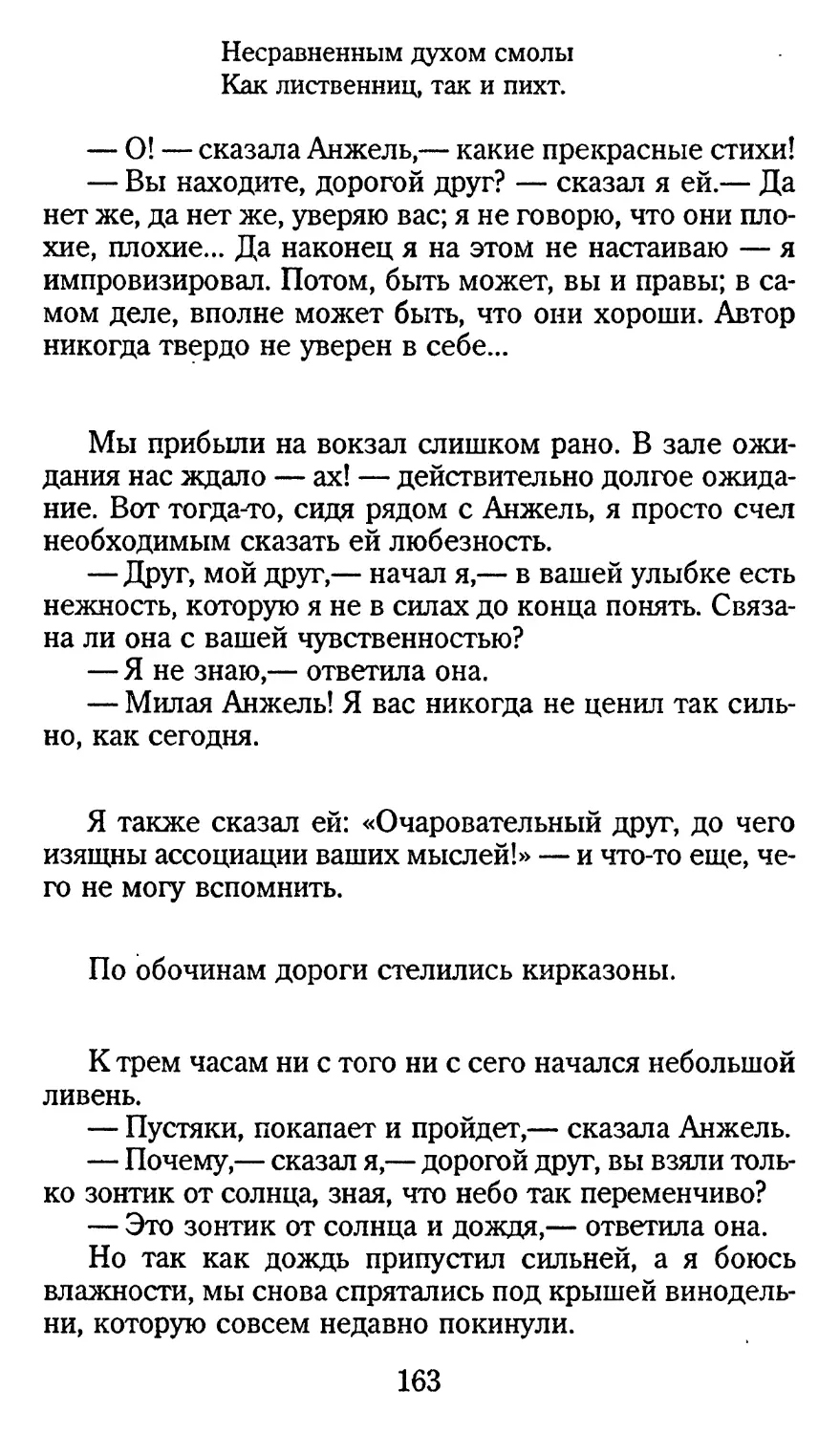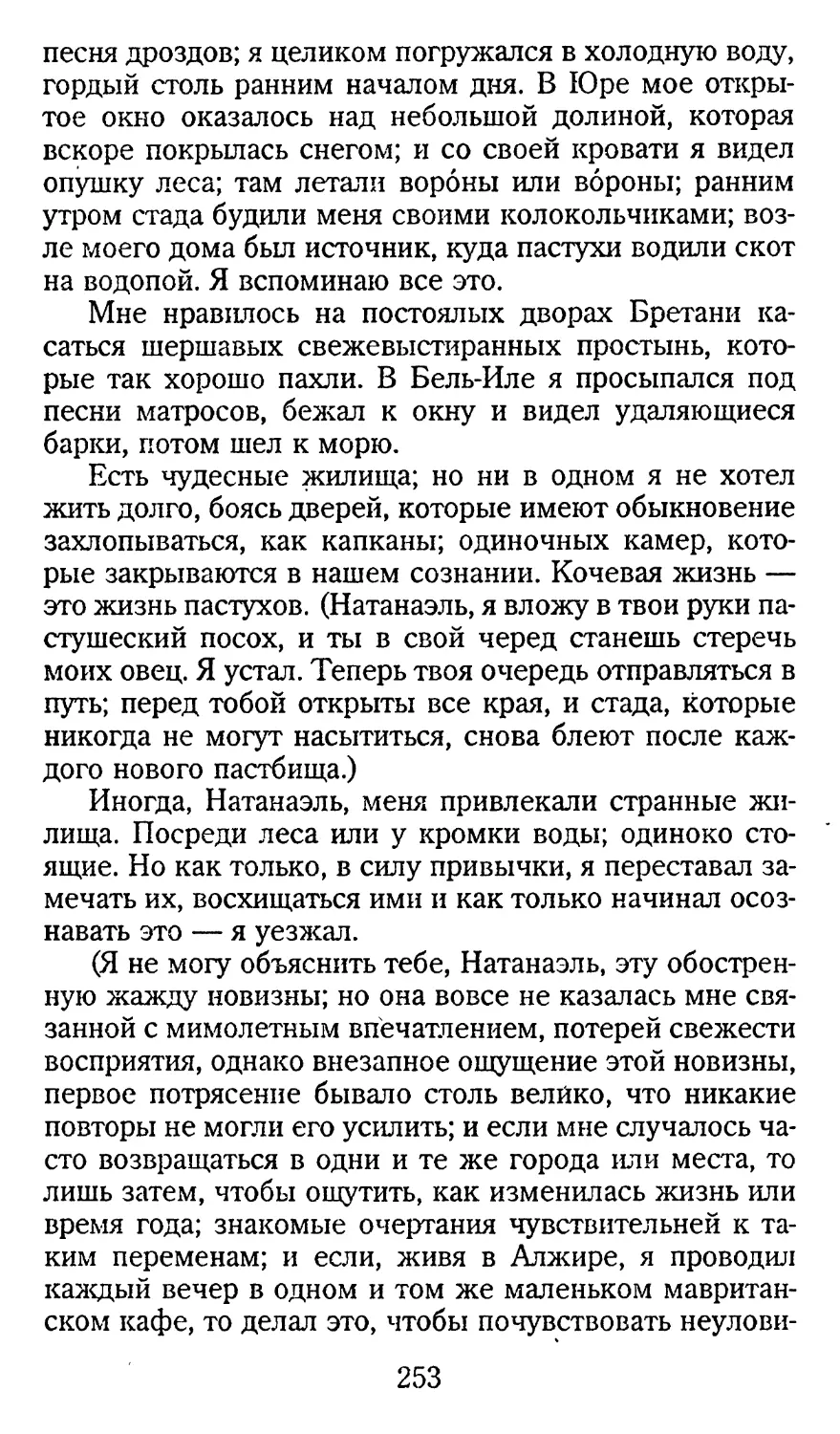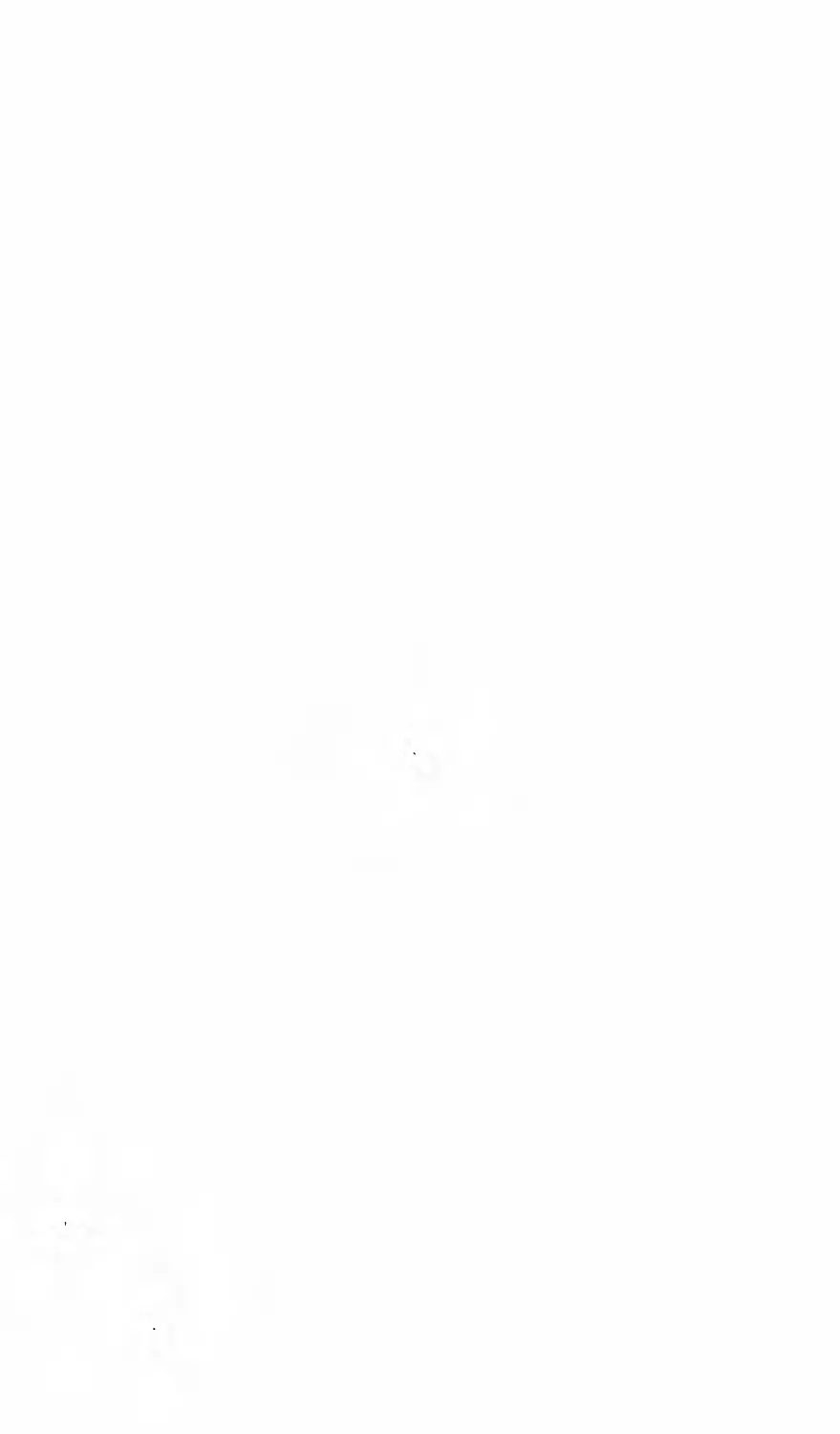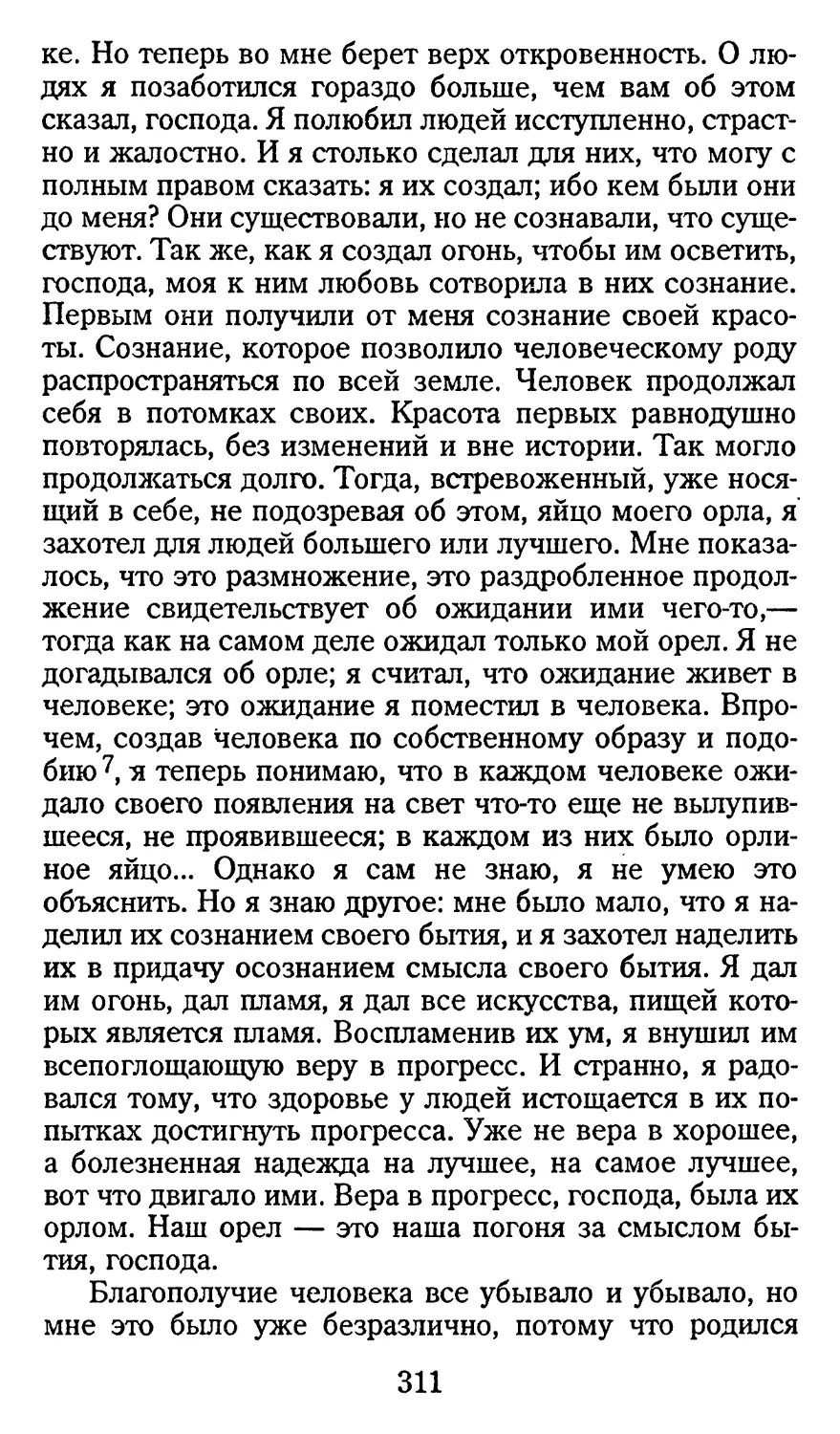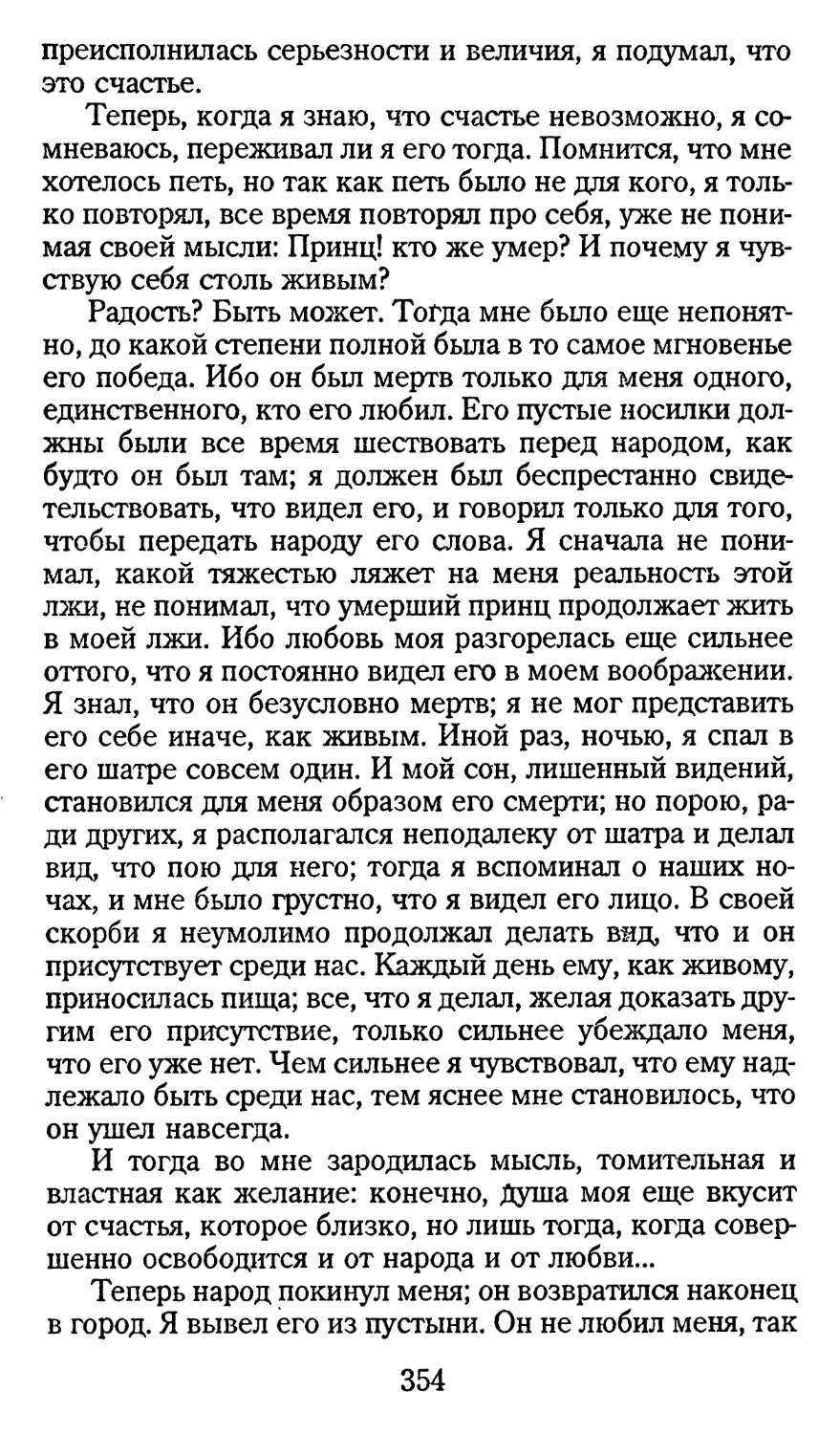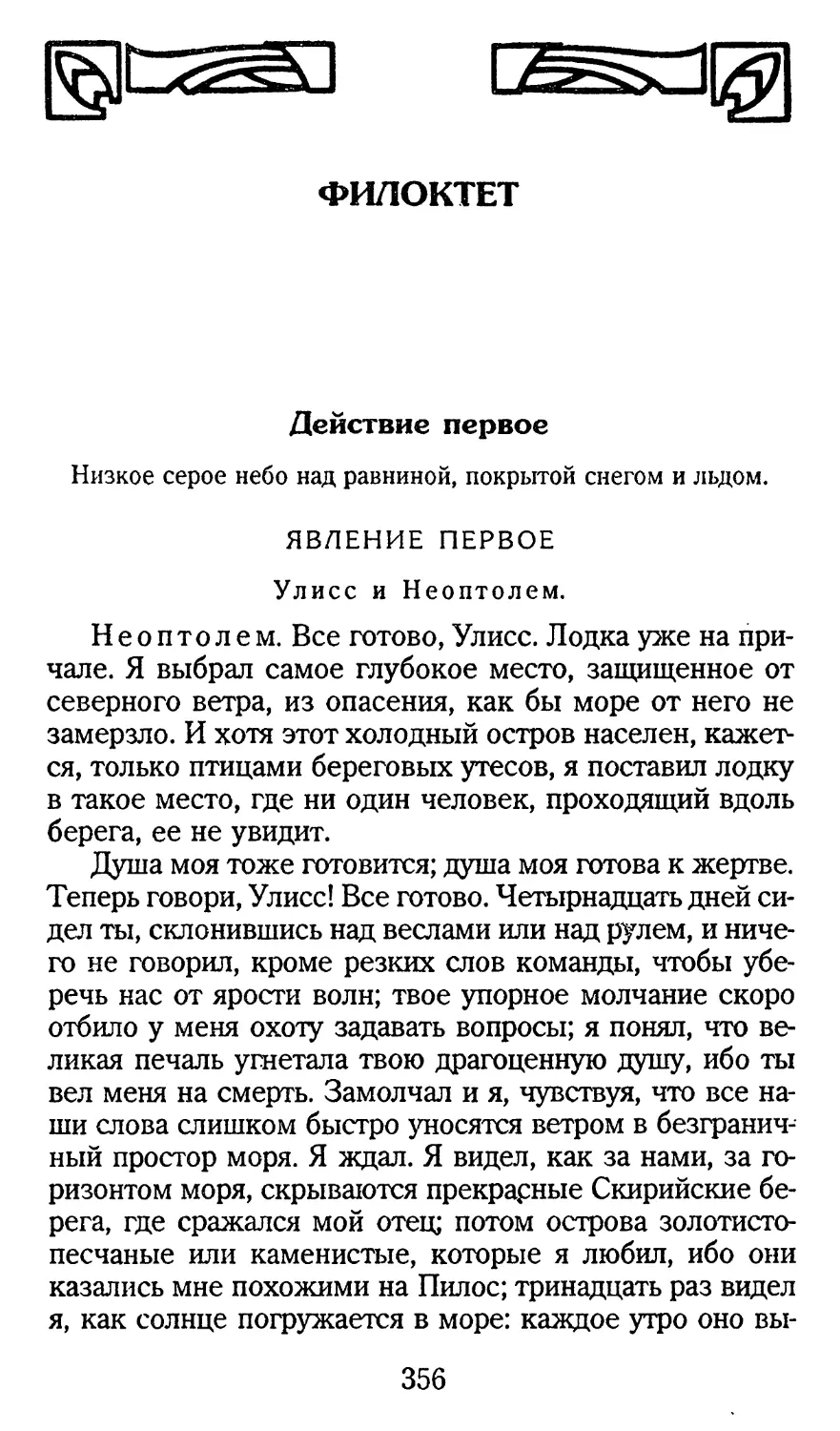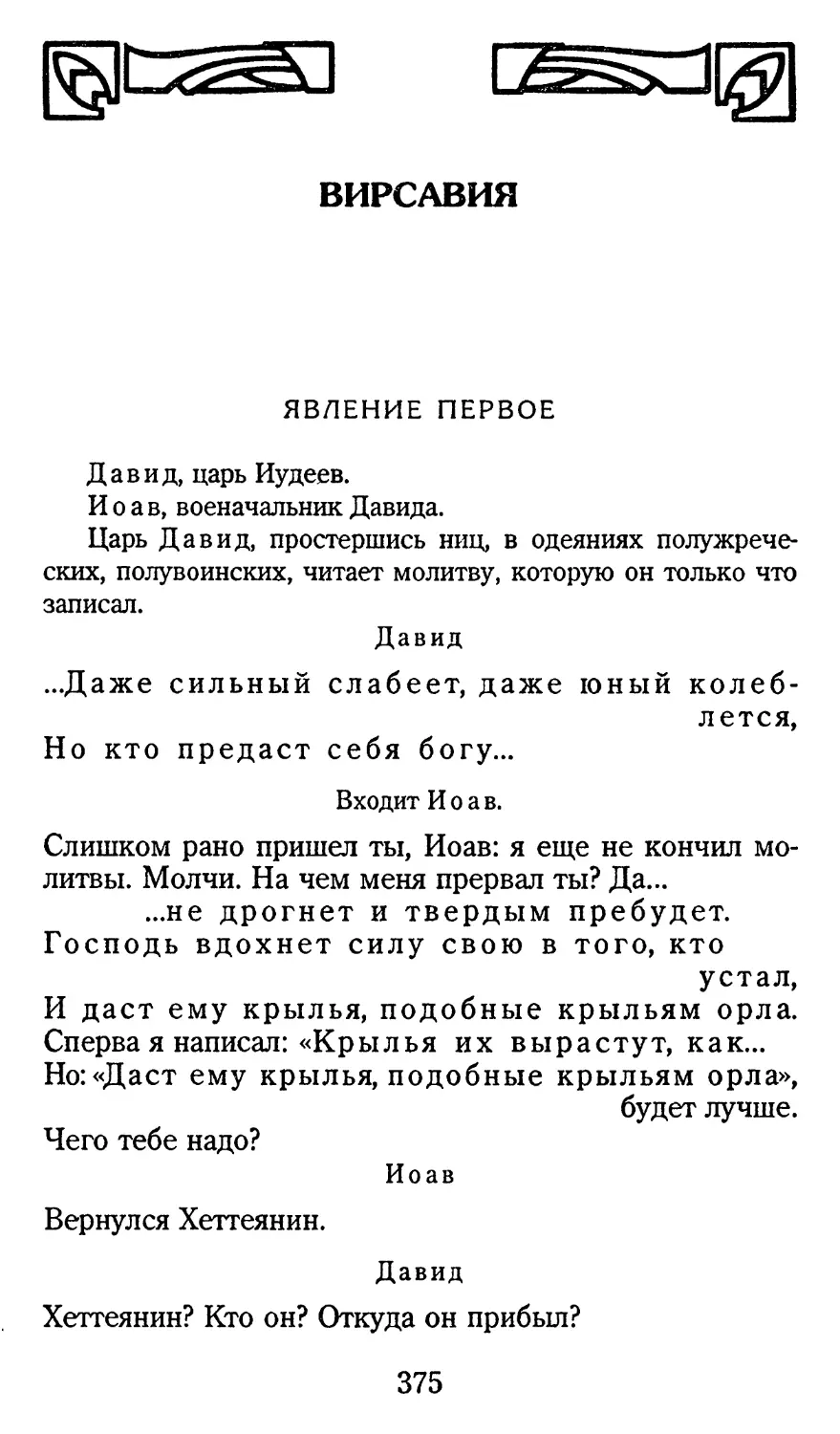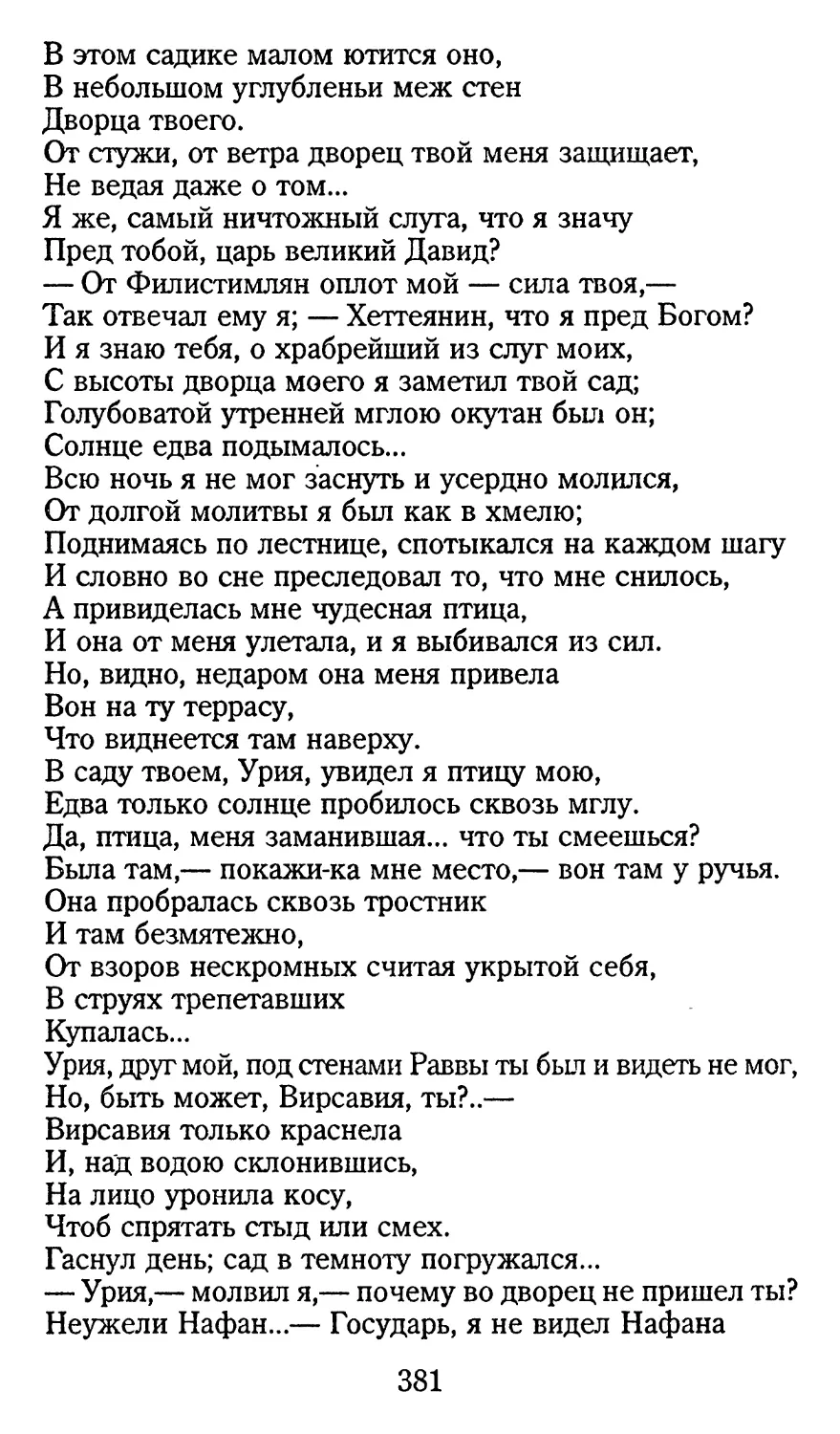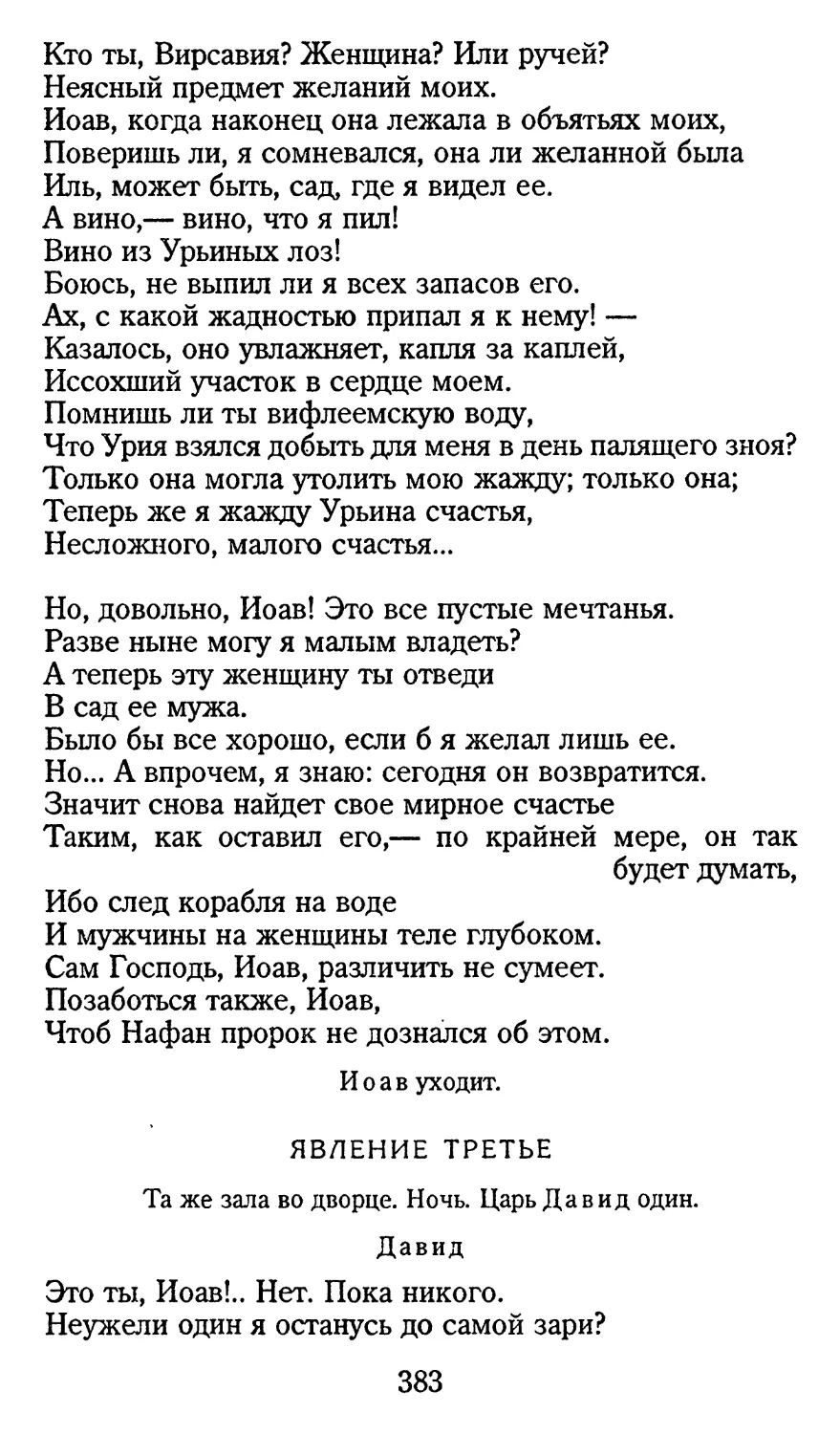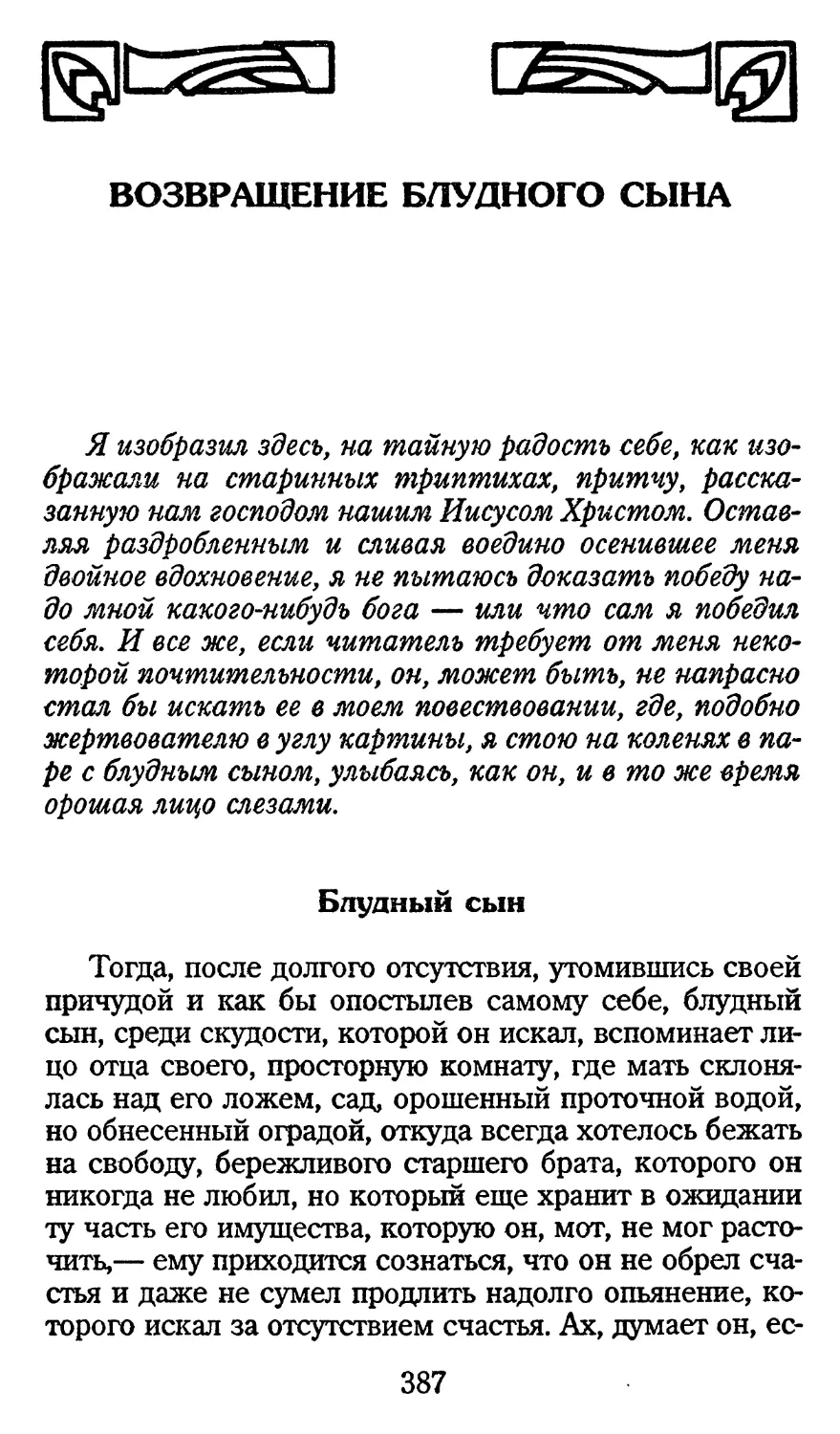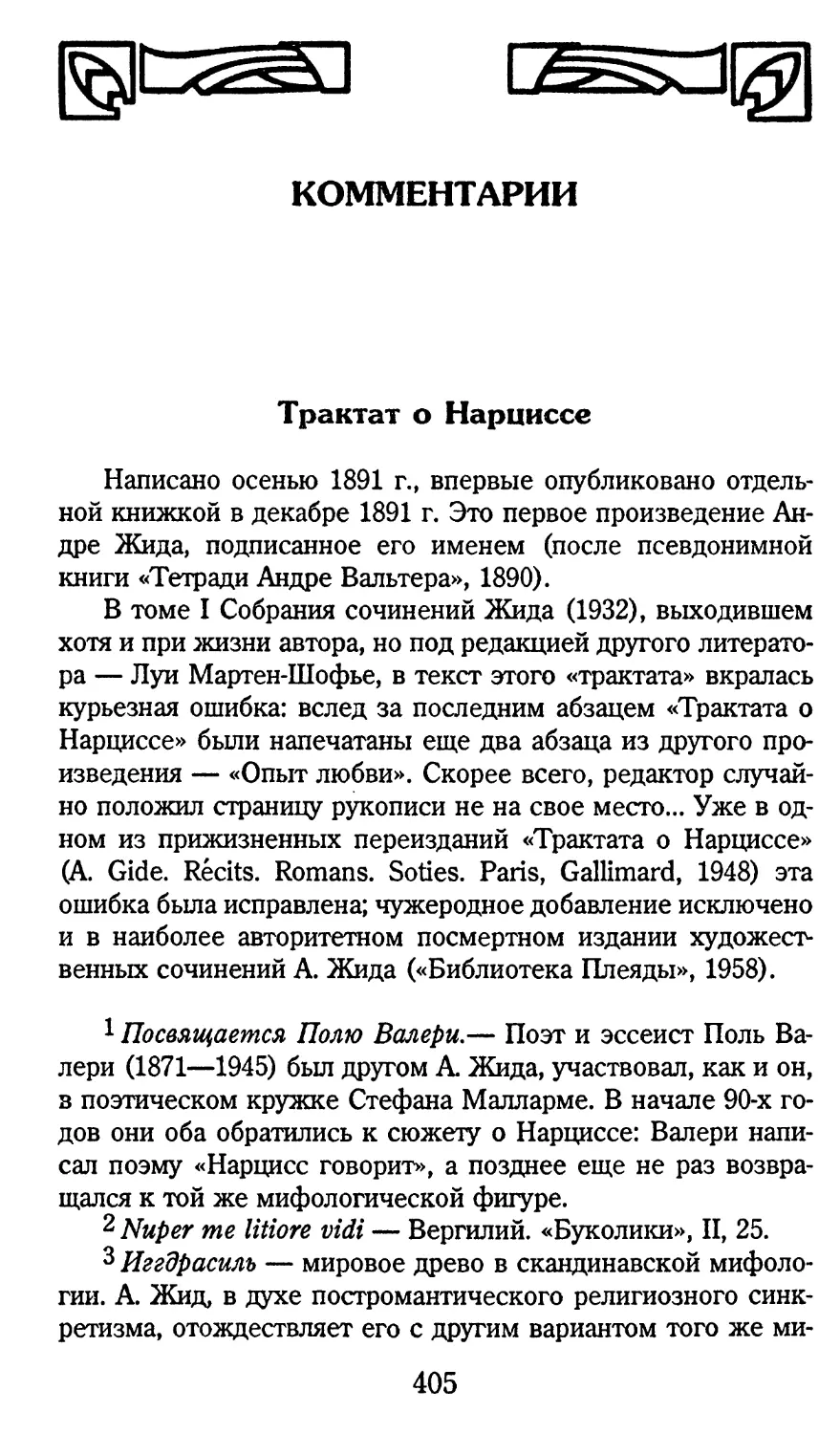Автор: Жид А.
Теги: литература литературоведение художественная литература французская литература собрание сочинений переводная литература издательство терра книжный клуб
ISBN: 5-275-00619-5
Год: 2002
Текст
Тратт о Нарциссе
(Теория символа)
Сраме Урш
Повесть
Опытлобви,
или Трашто тщетшаи желаний
Повесть
1№И
Повесть
Нова зек
Поэма
ЛтшнПромеп
Трашш
И
МОСКВА
ТЕРРА- КНИЖНЫЙ КЛУБ 2002
УДК 82/89
ББК 84 (4 Фр)
Ж69
Оформление художника Ф. БАРБЫШЕВА
Составитель В. НИКИТИН
Жид Андре
Ж69 Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1: Трактат о Нар¬
циссе / Пер. с фр. И. Стаф; Странствие Уриана: По¬
весть / Пер. с фр. И. Кузнецовой; Опыт любви, или
Трактат о тщетности желаний: Повесть / Пер. с фр.
О. Каменевой; Топи: Повесть / Пер. с фр. И. Сабовой;
Яства земные: Поэма / Пер. с фр. Ю. Покровской;
Плохо скованный Прометей / Пер. с фр. М. Ваксмахе-
ра; Трактаты / Пер. с фр. Н. Рыковой; Сост., вступ. ст.
В. Никитина; Коммент. С. Зенкина, И. Сабовой. — М.:
ТЕРРА—Книжный клуб, 2002. — 416 с.
ISBN 5-275-00619-5 (т. 1)
ISBN 5-275-00618-7
Известнейший французский писатель, лауреат Нобелевской премии
1947 года, классик мировой литературы Андре Жид (1869-1951) любил назы¬
вать себя «человеком диалога», «человеком противоречий». Он никогда не
предлагал читателям определенных нравственных решений, наоборот, все¬
гда искал ответы на бесчисленные вопросы о смысле жизни, о человеке и
судьбе. Многогранный талант Андре Жида нашел отражение в его ярких,
подчас гротескных произведениях, жанр которых не всегда поддается опре¬
делению.
В первый том Собрания сочинений вошли произведения: «Трактат о
Нарциссе», «Странствие Уриана», «Опыт любви, или Трактат о тщетности же¬
ланий», «Топи», «Яства земные», «Плохо скованный Промететй» и трактаты,
созданные Андре Жидом в разные годы.
УДК 82/89
ББК 84 (4 Фр)
ISBN 5-275-00619-5 (т. 1)
ISBN 5-275-00618-7
© И. Стаф, «Трактат о Нарциссе», перевод, 2000
© И. Кузнецова, «Странствие Уриана», перевод, 2000
© О. Каменева, «Опыт любви, или
Трактат о тщетности желаний», перевод, 2000
© И. Сабова, «Топи», перевод, 1997
© Ю. Покровская, «Яства земные», перевод, 2000
© М. Ваксмахер, «Плохо скованный Прометей»,
перевод, наследники, 2000
© Н. Рыкова, «Трактаты», перевод, наследники, 1935
© ТЕРРА—Книжный клуб, 2002
АНДРЕ ЖИД:
ВЕХИ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
Андре Жид родился в Париже 22 ноября 1869 года в семье
университетского преподавателя римского права Поля Жида.
Род отца восходил к некоему итальянцу Джидо, перебравше¬
муся в XVI веке из Пьемонта в Прованс и обратившемуся там
из католицизма в кальвинизм. Мать будущего писателя, до за¬
мужества Жюльетта Рондо, принадлежала к старинному
крепкому буржуазному семейству из Руана. Рондо тоже бы¬
ли протестантами, но относительно недавними, отказавшими¬
ся от католицизма только в конце XVIII века. Протестантизм
как один из изначальных элементов биографии Андре Жида
достоин упоминания хотя бы потому, что в детстве будущий
писатель получил весьма пуританское воспитание, внутрен¬
ний протест против которого впоследствии сильно повлиял на
становление его личности. Когда ему было одиннадцать лет,
умер отец, и мальчик остался на попечении матери, теток, в
окружении многочисленных кузин. Эта сугубо феминистская
среда, в которой он оказался после смерти отца, тоже нало¬
жила сильный отпечаток на его личность. Во всяком случае,
по мнецию самого писателя, это обстоятельство существенно
повлияло на его психологическую и сексуальную ориента¬
цию. Пуританство с женским лицом стало потом и темой,
иногда даже центральной, многих его произведений.
Так случилось, что в этой же среде он нашел и свою пер¬
вую любовь. Мадден Рондо приходилась ему двоюродной се¬
строй и была старше его на три года. В 1891 году он сделал
ей предложение и получил отказ. Однако еще до этого пред¬
ложения, в 1890 году, он выразил свою любовь в художествен¬
5
ной форме. «Записные книжки Андре Вальтера», первое
опубликованное произведение Андре Жида, написано в фор¬
ме дневника одного молодого человека, начатого в тот мо¬
мент, когда мать героя повести на смертном одре взяла с не¬
го обещание покинуть свою кузину Эмманюэль и дать ей воз¬
можность выйти замуж за другого. Андре Вальтер сдержал
слово, вскоре после бракосочетания Эмманюэль уехал в Бре¬
тань и там принялся писать книгу под названием «Ален», не¬
что вроде автобиографии, перемежающейся размышлениями
о любви и проблемах литературного творчества. Надо ска¬
зать, что начинающий писатель щедро поделился с героем
своими собственными дневниковыми записями. По ходу по¬
вествования умирает сначала Эмманюэль, потом сходит с ума
Андре Вальтер и тоже умирает. Много смертей, много отре¬
чений, много эмоций, воображаемых идиллий и столь же не¬
правдоподобных трагедий — этим первым своим произведе¬
нием Андре Жид отдал обильную дань романтизму, излил ду¬
шу, рассказал в нем о своих идеалах, устремлениях, юноше¬
ских страданиях, прочитанных книгах. «Записные книжки
Андре Вальтера» были также объяснением в любви, мало то¬
го — ультиматумом, предупреждавшим Мадден о том, что
произойдет с автором книги, если она не пожелает связать с
ним свою судьбу. И все же она не пожелала — такое объяс¬
нение в любви не только не вдохновило ее на брак, а скорее
даже напугало.
Кому-то из читателей такие сугубо личные детали биогра¬
фии в предисловии, призванном дать представление о творче¬
ском пути писателя, вероятно, покажутся излишними. Будь
это творческий путь не Андре Жида, а какого-нибудь другого
писателя, можно было бы с подобными критическими заме¬
чаниями и согласиться. Однако в случае с Андре Жидом, от¬
казавшись от знания этих интимных подробностей, мы риско¬
вали бы не понять очень многие моменты и в его творчестве.
Кто знает, согласись Мадлен на брак с ним в 1891-м, а не в
1895 году, может быть, и жизнь его сложилась бы совсем ина¬
че, и книги, написанные им — а соответственно, и содержа¬
щиеся в данном томе,— имели бы другие названия.
Успеха у читателей «Записные книжки Андре Вальтера»
не имели никакого, но они открыли ему двери литературных
салонов, прежде всего символистских. Морис Баррес пред¬
6
ставил его самому мэтру французского символизма — Стефа¬
ну Малларме. В конце 1890 года у Андре Жида состоялась бе¬
седа с Полем Валери, вдохновившая его написать «Трактат о
Нарциссе». В этом произведении рассказывалось о том, как
Нарцисс, желая познать самого себя, созерцает свое отраже¬
ние в неспокойных водах реки времени и тоскует об утрачен¬
ных, подернутых рябью красоте и совершенстве. Нарцисс раз¬
мышляет о чистом мире идей и приходит к выводу, что ни ис¬
тиной, ни красотой, ни совершенством нельзя обладать, что
их можно постигать только интуитивно. Отбрасывая естест¬
венный материал, даруемый писателю жизнью, Жид устрем¬
лялся в мифологию, пытался развивать свое повествование
исключительно с помощью образов, которые должны были
дать читателю представление о таящейся за ними мысли. Од¬
нако, не будучи вполне уверенным, что читатель поймет все
эти образы, он снабдил свое повествование сносками, где пре¬
дельно ясно сформулировал доктрину французского симво¬
лизма, программу приближения к реальности через поэтиче¬
скую интуицию.
Вдохновленный символистскими идеями, он вскоре после
опубликования «Записных книжек Андре Вальтера» меньше
чем за неделю написал «Стихотворения Андре Вальтера».
Жид тогда еще не успел отвыкнуть от своего персонажа, от
своего двойника, чем и объясняется такое название сборника.
Но эстетические принципы здесь были уже совершенно дру¬
гими, сугубо литературными. «Записные книжки Андре Валь¬
тера» — единственное произведение Жида, где смешиваются,
сливаются литература и жизнь. Впоследствии, начиная уже с
«Трактата о Нарциссе», писатель четко разграничивал эти две
области и в свой символистский период, и потом. Хотя лите¬
ратура и жизнь в его произведениях связаны друг с другом
сетью взаимосвязей, они тем не менее не смыкаются. Жизнь,
его собственная жизнь, естественно, поставляла ему матери¬
ал, но целью творчества всегда было произведение, то есть ис¬
кусство. После «Записных книжек Андре Вальтера» обратная
связь с жизнью как бы перестала существовать.
Сорок лет спустя, воскрешая в памяти различные эпизо¬
ды раннего периода своего творчества, Жид говорил, что сти¬
хи, подаренные им Андре Вальтеру, слишком хороши «для
этого безумца». Однако читатели и критики рассудили иначе.
7
У Андре Жида всегда была склонность к лирике, но хороших
стихов он никогда не писал. Главное его достоинство как по¬
эта заключалось в эмоциональности, в умении находить нуж¬
ный ритм. Однако полноценные поэтические образы ему не
удавались, и поэтому эмоция его облекалась в условные, под¬
сказанные предшествующей литературой слова, а взятая в ка¬
честве путеводной звезды символистская теория еще больше
подчеркивала искусственность его стихотворной речи. Жид
как бы остановился на романтической стадии поэзии и стре¬
мился выразить свое чувство напрямую, вместо того чтобы с
помощью произведения воссоздать аналогичное чувство у чи¬
тателя. При всей ее усложненности эта поэзия не лишена на¬
ивности.
Отвечали канонам символистской эстетики и вышедшие
в 1893 году повести «Опыт любви» и «Путешествие Уриана»,
продолжившие затронутую уже в «Стихотворениях Андре
Вальтера» тему погони за постоянно ускользающей действи¬
тельностью. В «Опыте любви» рассказывалась грустная исто¬
рия девушки и юноши, вынужденных расстаться, потому что
рано или поздно все кончается, а в «Путешествии Уриана»
предпринималась попытка найти соответствие между различ¬
ными земными ландшафтами и этапами духовного становле¬
ния героя. На фоне многих публиковавшихся тогда символи¬
стских произведений творчество Жида выделялось богатст¬
вом фантазии, удивительным равновесием между сложно¬
стью интриги и простодушием персонажей. Выделялось оно
также и усиливавшейся от произведения к произведению иро¬
нией Жида, своеобразие которой заключалось з том, что она
была направлена не на внешний мир, а на самого писателя, на
создаваемый им внутренний мир. Одним словом, уже в ту по¬
ру его произведения обладали несомненной эстетической
ценностью. Однако успехом у читателей они не пользовались.
Вплоть до опубликованной в 1909 году повести «Тесные вра¬
та» Жид издавал все им написанное за свой счет.
В конце 1893 года Андре Жид совершил со своим другом,
начинающим художником Полем Альбером Лорансом, путе¬
шествие в Северную Африку, которому было суждено сыг¬
рать решающую роль и в его жизни, и в его дальнейшей ду¬
ховной эволюции. Путешествие началось при очень неблаго¬
приятных обстоятельствах: писатель простудился и тяжело за¬
8
болел. Были даже опасения, что начинается процесс в легких.
Здесь следует упомянуть, что годом раньше Андре Жид был
призван на военную службу и тут же от нее освобожден из-за
подозрения на туберкулез. В Алжире болезнь усилилась, и бы¬
ли основания опасаться худшего. Однако затем дело пошло на
поправку. Эта эйфория выздоравливающего человека повли¬
яла существенным образом на умонастроения Андре Жида,
заставила его пересмотреть отношение ко многим вещам. Пу¬
тешествие оказалось не только перемещением в пространст¬
ве, не только сменой горизонтов. Кстати, если не считать не¬
скольких восточных декораций да десятка-другого звучных
названий, ни экзотика, ни арабская цивилизация, ни ислам не
привнесли в творчество Жида ничего существенного. Гораздо
более значимым оказалось путешествие духовное, освободив¬
шее его от интеллектуальной и эстетической замкнутости.
Благодаря этому хождению за Средиземное море, благодаря
болезни и исцелению Жид вошел в контакт с огромным внеш¬
ним миром, в результате чего Стефану Малларме пришлось
несколько посторониться, уступая место Уитмену, Ницше, До¬
стоевскому.
Не исключено, что смена ориентиров произошла бы и без
этой поездки в Алжир, и без болезни. Во всяком случае, она
назревала уже давно. Весь 1893 год прошел для Жида под зна¬
ком духовного кризиса, под знаком поиска новых ценностей,
нового бога. Назревал в сознании Жида и отказ от привитых
ему в детстве норм религиозной нравственности, намечалась
эволюция в сторону гедонизма, отвергающего разграничение
добра и зла. Налицо было стремление преодолеть пуритан¬
ские предрассудки относительно плотского греха. Однако,
когда в Алжире это стремление в конечном счете реализова¬
лось, форма, в которой оно проявилось, оказалась не совсем
обычной. Во время путешествия местные гитоны приобщили
Жида к гомосексуализму, и этот опыт раскрыл ему глаза на
его истинную натуру. Позднее, в 1895 году, когда Мадлен Рон¬
до приняла наконец его предложение, врач объяснил ему, что
по вступлении в брак все должно прийти в норму. Однако это¬
го не произошло. Андре Жид пронес через всю жизнь глубо¬
кую и искреннюю любовь к своей жене, но эта любовь так на¬
всегда и осталась платонической. Драма взаимоотношений с
женой легла в основу большинства его произведений.
9
В 1895 году Андре Жид опубликовал одну довольно стран¬
ную книгу под названием «Топи», которая в истории литера¬
туры стала событием, потому что в ней впервые центральной
темой стал рассказ о том, как писатель пишет роман. В твор¬
честве самого Жида эта повесть стала чем-то вроде подведе¬
ния итогов и опосредованным комментарием ко всему тому,
что было создано им ранее. Она явилась своего рода манифе¬
стом, в котором писатель заявил о своем стремлении творить
самостоятельно, без оглядок на литературные школы и на¬
правления. Произошедшая в его сознании переоценка ценно¬
стей сразу же нашла свое выражение в литературе. Вернув¬
шись во Францию с ощущением Лазаря, восставшего из мерт¬
вых, Андре Жид, по его словам, взглянул на многие вещи со¬
вершенно иными глазами. Взглянул и удивился, как это ему
раньше удавалось дышать и не задыхаться в спертой, пропи¬
танной запахом тлена атмосфере литературных салонов и
кружков. Отныне все связанное с символизмом стало казать¬
ся ему гротескной, нелепой суетой. Он почувствовал, что и
ему самому, и всей литературе «конца века» грозит опасность
увлечься эзотерическими изысками, не имеющими иных кор¬
ней, кроме литературных, и полностью оторваться от реаль¬
ной жизни. Именно эти умонастроения и отразились в «То¬
пях», где писатель в сатирических красках, с немалым юмо¬
ром изобразил и парижское литературное общество, и свое
собственное творчество, что свидетельствовало о его способ¬
ности видеть себя со стороны, об антидогматичности его мыс¬
ли как в области содержания, так и в области формы. Ее
принципиальная новизна состоит в «диалогичяости», состоя¬
нии, называвшемся самим писателем основной чертой его ха¬
рактера. «Я человек диалога; сплошное борение и противоре¬
чие». Диалогичность Жида — это не столько беспрестанное
колебание между двумя противоречащими друг другу позици¬
ями, сколько непредвзятый подход к любой точке зрения, это
любознательность и открытость сознания перед любыми втор¬
жениями в него объективной реальности. Она была связана и
с дуализмом, философской проблемой, и с предрасположен¬
ностью литературного таланта Жида к полифонии. Жанр «То¬
пей» Андре Жид определил как «сотй» — так в средневеко¬
вом французском театре называлась одна из разновидностей
комедии, действующими лицами которой были дураки. От
10
фарсов соти отличались более абстрактным и более интеллек¬
туальным характером. Обычно авторы соти, максимально сти¬
лизуя обстановку и язык, выносили на «суд дураков» пороки
общества, несостоятельность тех или иных регулирующих его
функционирование политических либо нравственных устано¬
вок.
Новизна содержания «Топей» в немалой степени связана
с тем, что Жид старался брать материал из самой жизни, ста¬
рался сделать свою повесть максимально правдивой по срав¬
нению со своими собственными символистскими произведе¬
ниями, но поскольку предметом изображения оказалась обы¬
денная жизнь в самых ее незначительных проявлениях, то по¬
лучилось, что в повести идет речь как бы ни о чем и держится
она только на своих сугубо литературных достоинствах. Ни¬
чего не делает фигурирующий в качестве главного персона¬
жа скромный литератор, пишущий роман о Титире, и ничего
не делает герой романа в романе Титир. В повести нет ни за¬
вязки, ни развязки, ни интриги, ни психологии, ни описаний,
в результате чего оказались нарушенными многие ранее счи¬
тавшиеся обязательными жанровые нормы. Поэтому впослед¬
ствии Ален Робб-Грийе и Ролан Барт называли «Топи» произ-
ведением-предтечей литературного модернизма XX века. Так
или иначе и независимо от этих обстоятельств «Топи» являют¬
ся одним из наиболее блестящих, одним из наиболее филиг¬
ранно отделанных произведений Жида и считаются шедевром
французского юмора.
Если в «Топях» Жид попытался рассказать о том, что он
отныне отказывается принимать в окружающей его жизни и
в литературе, то в следующей своей книге он повествует о
том, к чему стремится. «Яства земные», опубликованные в ап¬
реле 1897 года, оцениваются как произведение, оказавшее са¬
мое сильное, самое глубокое влияние на умонастроения не¬
скольких поколений французов. Среди этих французов фигу¬
рируют, в частности, такие известные писатели, как Анри
Монтерлан, Альбер Камю, чье творчество в свою очередь
опосредованно тоже распространяло влияние «Яств земных».
По жанру это произведение представляет собой что-то сред¬
нее между длинной поэмой в прозе и лирическим дневником.
Несмотря на фантастические образы поэмы, она довольно
объективно воспроизводила многие эпизоды из жизни писа¬
11
теля. Хотя для того чтобы продать первый тираж книги (1650
экземпляров) потребовалось целых восемнадцать лет, в ко¬
нечном счете судьба ее оказалась настолько счастливой, что
автору потом пришлось даже высказывать сожаление в связи
с тем, что по популярности она затмила многие другие, по его
мнению, более удачные его произведения. Он ссылался на то,
что она была написана человеком, возвратившимся к жизни
после тяжелой болезни, из-за чего выраженная в ней гедони¬
стическая доктрина обрела несколько утрированные формы.
Работая над поэмой, Андре Жид ставил перед собой задачу
освободиться самому и попытаться освободить своих читате¬
лей от сковывающих самовыражение индивида норм общежи¬
тия, норм морали. Он призывал их отказываться от традиций
и идти опасными дорогами свободы, пропагандировал отказ
от покоя и «патетическое существование», воспевал природу
и естественные чувства, рассказывал о своем пантеистиче¬
ском восторге перед величием жизни. В «Яствах земных» за¬
печатлелись уроки Ницше, Гёте, Библии, восточных священ¬
ных текстов, но не столько эстетические, сколько этические.
Это было дидактическое произведение, но только обучало
оно не тому, как нужно соблюдать нормы морали, а как сле¬
дует их нарушать. Выраженные в нем идеи оказались созвуч¬
ными умонастроениям, возобладавшим во французском об¬
ществе — главным образом среди молодежи — после первой
мировой войны. Именно тогда, в 20-е годы, у Жида появилась
масса учеников и последователей. Однако ученикам свойст¬
венно предавать учителей, свойственно не понимать их. «Яс¬
тва земные» были поняты исключительно как йрославление
инстинктов, как гимн сладострастию, и Жиду, несколько на¬
путанному подобным их истолкованием, приходилось убеж¬
дать своих читателей, что еще в большей степени, чем инс¬
тинкты, он прославлял в своей поэме дух опрощения и само¬
дисциплины.
Это объяснялось не только тем, что к 20-м годам мировос¬
приятие Жида претерпело существенную эволюцию, не толь¬
ко тем, что он почувствовал вдруг ответственность писателя
и гражданина за свое творчество в момент, когда его внима¬
ние стали привлекать социальные проблемы. Жид отнюдь не
идентифицировал себя с героем «Яств земных», а лишь про¬
ецировал на него один из потенциальных, утрированных вари-
12
актов развития своей личности. Он всегда сохранял свою спо¬
собность быть «человеком диалога», в том числе и во время
работы над «Яствами земными». Поэтому, едва издав их, при¬
ступил к драме «Саул», где выразил диаметрально противопо¬
ложные взгляды и осудил только что воспетые эгоистические
инстинкты. Главный персонаж драмы библейский царь Саул
оказывается наказанным за то, что всю жизнь заботился толь¬
ко об удовлетворении своих желаний. Автор показывает, к че¬
му приводит бездумное нарушение норм нравственности. Он
говорит, что абсолютной свободы не существует, что безудер¬
жный гедонизм тоже является своеобразной формой рабства,
что бремя страстей человеческих нелегко нести, даже отбро¬
сив нормы морали.
В драме «Саул» Жид отказался от лирического пафоса, ха¬
рактерного для его прежних произведений, и выбрал тактику
аргументированного, логически выверенного психологиче¬
ского анализа поведения главного персонажа. Существенную
эволюцию на протяжении первых десяти лет творчества Анд¬
ре Жида претерпел его стиль. В эпоху «Записных книжек Ан¬
дре Вальтера» писатель уделял больше всего внимания ритму,
передававшему его эмоциональный настрой как бы независи¬
мо от составляющих фразы слов. С этой задачей он справлял¬
ся виртуозно, но нередко отдавал дань риторике и время от
времени вынужден был прибегать к стилевым заимствовани¬
ям. Со временем, однако, ему удалось выработать свой собст¬
венный стиль, или даже, точнее, он научился создавать соот¬
ветствующий стиль индивидуально для каждого из своих про¬
изведений. Постепенно он избавился от тяги к ритмизации, и
его стиль приблизился к стилю разговорной речи.
Морализаторский настрой «Саула» частично объяснялся
тем, что после смерти матери у Жида на некоторое время воз¬
родилось религиозное чувство. Однако, сурово наказав свое¬
го героя за его грехи, писатель решил, что немного перегнул
палку — поскольку в конечном счете в грехах тех повинен
был в первую очередь не он сам, а Бог,— и, еще даже не за¬
кончив работу над пьесой, приступил к реализации другого
своего замысла, еще одного соти под названием «Плохо ско¬
ванный Прометей», где еще раз поставил вопрос о завоевании
человеком индивидуальной свободы. В трактовке образа Про¬
метея Жид довольно далеко отошел от древнегреческого ми¬
13
фа. Действие соти разворачивается в XX веке. Его герой, раз¬
гадав секрет своих цепей, символизирующих разного рода ус¬
ловности, с раздражением разрывает их и отбрасывает прочь,
а затем направляется в современный город. Не зная, куда ему
идти, он задерживается в одном из парижских кафе, разгова¬
ривает там с официантами, объясняющими ему, что они зани¬
маются поисками самих себя, демонстрирует посетителям ка¬
фе своего орла, питающегося его плотью. Этот новоявленный
Прометей излечился от любви к людям и любит лишь своего
орла, символизирующего его совесть, то есть то, что пожира¬
ет человека. Он пропагандирует странные идеи, согласно ко¬
торым каждый должен завести себе орла, дабы испытывать
угрызения совести, а в случае необходимости пожертвовать
ради него своей жизнью. Однако в конце концов он не выдер¬
живает и съедает орла. В «Плохо скованном Прометее» Жид
сатирически изобразил тех, кто, слишком скрупулезно следуя
пуританским нравственным предписаниям, превращается в
собственных мучителей и находит в своих страданиях мазо¬
хистское наслаждение. Несмотря на иронический стиль, это
очень серьезная вещь. Писатель вновь возвращается к поиску
индивидуальных ценностей, которые оказались приниженны¬
ми в «Сауле», но пытается найти какое-то разумное равнове¬
сие между свободой личности и нормами морали. Прометей
в финале выражает мнение, что орлу следует выделять то, что
ему причитается, но в то же время, если он становится слиш¬
ком прожорливым, то нужно вовремя его убить.
«Плохо скованный Прометей» — одна из самых ярких и
изящных философских сказок в истории современной фран¬
цузской литературы. И вместе с тем она достаточно автоби¬
ографична. Во всяком случае, исходным материалом для нее,
как и для вышедшей после нее повести «Имморалист», послу¬
жила все та же драма его семейной жизни. «Прометей» был
опубликован в 1899 году, «Саул», тоже законченный в 1898 го¬
ду, появился только в 1903 году, а «Имморалист» — в 1902 го¬
ду. В этом последнем произведении рассказывается о том,
как молодой ученый Мишель, воспитанный в строгой пури¬
танской морали, после тяжелой болезни, застигшей его врас¬
плох в Северной Африке во время свадебного путешествия, и
после выздоровления, обретая вновь вкус к жизни, постепен¬
но преодолевает барьер этических норм, но за свое освобож¬
14
дение заставляет дорогой ценой расплачиваться других. Ког¬
да в свою очередь заболевает жена Мишеля Марселина, он
ничего не делает для ее спасения и позволяет ей умереть, ос¬
вобождаясь таким образом от тисков нравственности. В «Яс¬
твах земных» Жид лирически представил необходимость са¬
мореализации и воспел проистекающие из нее радости. А
здесь он показал, что происходит, когда человек пытается ру¬
ководствоваться теми же самыми принципами не в воображе¬
нии, а в жизни, в рамках человеческих взаимоотношений. Пи¬
сатель как бы спрашивал себя, можно ли существовать по ка¬
нонам «Яств земных» или нет. «Имморалист» и есть ответ на
этот вопрос. Герой повести, следуя своим эгоистическим
представлениям о личной свободе, погубил и жену, и свое
собственное счастье. В повести критикуется имморализм, де¬
монстрируется крах доктрины, сформированной в «Яствах».
От лирического восторга перед обретенной абсолютной сво¬
бодой автор перешел к объективному анализу ситуации, пока¬
зал, что он действительно «человек диалога».
Таковым же предстал он и в опубликованных в 1909 году
«Тесных вратах», второй части диптиха, где постарался пока¬
зать, что часто в разрушение семьи вкладывает свою посиль¬
ную лепту и так называемая добродетельная сторона. За пове¬
стью «Тесные врата» прочно закрепилась репутация самого
удачного произведения Жида как с точки зрения формы, так
и с точки зрения содержания. Обусловливающая единство
действия четкая структура произведения в сочетании с клас¬
сическим стилем и более точно, чем в предыдущих книгах,
выверенная психология персонажей дали блестящий резуль¬
тат. Андре Жид хотел реализовать возникший у него замысел
«Тесных врат» сразу же после «Имморалиста», но помешали
обстоятельства. Возможно, сказались колебания, возникав¬
шие у писателя всегда, когда нужно было изобразить жену. В
задуманном произведении речь шла о вещах, глубоко затра¬
гивавших и его самого, и ее. Ему хотелось, чтобы портрет
Алисы не ранил Мадлену или даже понравился бы ей.
В «Имморалисте» было продемонстрировано, какими раз¬
рушениями чревата присущая главному персонажу опреде¬
ленная форма эгоизма. Здесь же, в «Тесных вратах», писатель
стремился показать, что ложно понятая добродетель тоже не¬
сет свою долю вины за нескладывающиеся взаимоотношения
15
людей. В одном из писем к Клоделю Жид писал, что, работая
над «Тесными вратами», он намеревался показать ошибоч¬
ность такой позиции, когда презрение к благам мира сего пре¬
вращается в своеобразную форму тщеславия. Жид прекрасно
изобразил сложную гамму мотивировок, определяющих пове¬
дение Алисы и составляющих основу ее характера. Ее неже¬
лание выйти замуж за Жерома определяется не только тем,
что она хочет посвятить себя служению Богу. Религия являет¬
ся скорее лишь оправданием ее поведения, своего рода при¬
станищем. А истинные причины, заставляющие ее во имя
ошибочной идеи добродетели растрачивать попусту свои та¬
ланты, красоту, интеллект, лежат гораздо глубже — в невро¬
тическом страхе перед физической любовью, смешанном с
некоторой долей презрения к Жерому. Благодаря «Тесным
вратам» Жид совершенно неожиданно д ля него самого проло¬
жил себе путь к широкому читателю. Издатель поначалу на¬
печатал только тысячу экземпляров и, решив, что этого коли¬
чества окажется вполне достаточно, рассыпал набор Однако
тираж разошелся за месяц, и потребовалось переиздание.
В 1912 году Андре Жид издал повесть «Изабель», где по¬
пытался преодолеть автобиографическую тенденцию своего
творчества, хотя и подыскал для развивающегося в ней дейст¬
вия ландшафт неподалеку от своего имения Ларок. Он попы¬
тался создать собственную версию готического романа с тай¬
ной, убийством, адюльтером, привнеся в нее одну из постоян¬
ных тем своего творчества. Героиня преодолевает искушение,
и вроде бы добродетель торжествует, но преодоление это со¬
вершается из страха перед свободой, в результате чего поги¬
бает ее возлюбленный, а перед ней самой открывается путь
бесконечно долгой нравственной деградации. Стремительное
действие и элегантный, несколько суховатый стиль заставили
некоторых критиков вспомнить о новеллистике Мериме, а но¬
стальгическая тональность побудила их сравнить произведе¬
ние с чеховским «Вишневым садом».
Параллельно с художественным творчеством Андре Жид
активно занимался литературно-критической деятельностью.
В 1903 году он собрал свои эссе и выпустил их под общим за¬
головком «Поводы. Размышления о некоторых вопросах ли¬
тературы и морали». А несколько лет спустя, в 1911 году, он
выпустил второй сборник под названием «Новые поводы». В
16
этих двух книгах писатель выразил, не очень стараясь их си¬
стематизировать, свои взгляды на современную культуру. О
культуре, о любимых книгах, о музыке писатель говорит од¬
новременно и как гурман, и как убежденный гуманист. Сре¬
ди всех этих эссе наибольший интерес представляют те, кото¬
рые посвящены проблемам традиции и национализма в лите¬
ратуре, проблемам взаимоотношения литературы и жизни.
Андре Жид считал, что наиболее последовательно придержи¬
ваются традиции те ученики великих мастеров, которые не
боятся ее нарушать. Что же касается национализма в литера¬
туре, то писатель его осуждал с позиции человека, борющего¬
ся за чистоту искусства, и, споря с Барресом и Моррасом, ут¬
верждал, что националистические идеи в эстетике уводят ис¬
кусство с истинного пути, потому что привносят в него поли¬
тику. Он призывал также к глубокому и всестороннему
познанию жизни как необходимой предпосылке для продук¬
тивного творчества. Особое внимание в своих эссе Жид уде¬
лял Ницше и Достоевскому, называя их великими европейца¬
ми, открывателями новой эры в истории духа.
В то же время вокруг писателя стал формироваться круг
последователей. Среди них были Анри Геон, Жан Шлембер-
же, Жак Копо, Марсель Друэн, Андре Рюитер, Жак Ривьер. В
1909 году они все вместе основали журнал «Нувель ревю
франсез», которому было суждено стать самым крупным
французским журналом XX века, душой которого вплоть до
40-х годов был Андре Жид. Вскоре при журнале было созда¬
но издательство, которое под руководством Гастона Галлима-
ра и не без активного содействия Жида выросло тоже в одно
из влиятельнейших французских издательств, здравствующее
и по сей день. А затем этот культурный комплекс пополнил¬
ся менее долговечным, но оставившим о себе хорошую па¬
мять театром «Старая голубятня». Нельзя не упомянуть здесь,
что на протяжении ряда лет Андре Жид подумывал о приня¬
тии католичества. На рубеже веков волна так называемого
«католического возрождения» коснулась многих друзей и
знакомых писателя. И его самого тоже искушала возмож¬
ность отдать свою личную свободу в обмен на абсолютную ве¬
ру и получить таким способом внутреннее спокойствие. Од¬
нако его духовная гордыня была слишком велика, и благодать
на него не снизошла. К великому сожалению Поля Клоделя,
упорно и даже порой навязчиво пытавшегося обратить своего
друга на путь истинный, Жид чувствовал себя в душе христи¬
анином, но решающего шага так и не сделал, поскольку като¬
лицизм, по его собственным словам, был для него «неприем¬
лем», а протестантизм «невыносим».
Более или менее окончательно позиция Жида в этом воп¬
росе прояснилась и для него самого, и для его окружения, ког¬
да в 1914 году он опубликовал «Подземелья Ватикана», вы¬
звавшие сильную критику со стороны католиков, и в частно¬
сти со стороны Клоделя, за весьма недвусмысленный анти¬
клерикализм этой книги. Кстати, центральная тема ее имела
реальную основу: в 1893 году несколько мошенников убедили
некоторых доверчивых людей со средствами в том, что насто¬
ящего папу римского масоны украли и заточили в ватикан¬
скую темницу, а на папский престол посадили самозванца. В
результате мошенникам удалось заполучить значительные
суммы, собранные для «освобождения» папы. «Подземелья
Ватикана» явились в творчестве Жида своеобразным рубе¬
жом, обозначившим линию разрыва с прошлым. Эта книга по
жанру представляет собой роман с несколькими искусно пе¬
реплетенными и образующими сложную структуру сюжета¬
ми. Однако Жид и ее тоже назвал сота, наделив всех персо¬
нажей той или иной долей глупости. Ему очень хотелось по¬
казать в этом произведении различные варианты безумного
поведения. Безумцы, например, те, кто, живя в одной систе¬
ме ценностей, только и мечтают о том, чтобы заставить при¬
нять ее всех, кто ориентируется на другую систему ценностей;
безумцы — «благонамеренные» с их ханжескими верой и мо¬
ралью; безумцы — честолюбцы, устремляющиеся в погоню за
суетными почестями и славой. Эти безумцы невероятно боят¬
ся жизни. Среди них выделяется главный герой соти Лафка-
дио, красивый, сильный и решительный молодой человек, ли¬
шенный каких-либо оков и связей с прошлым, свободный ин¬
дивидуалист, духовный наследник Жюльена Сореля и Родио¬
на Раскольникова, совершающий — ради того, чтобы
убедиться в своей абсолютной свободе,— «произвольное дей¬
ствие», немотивированное убийство одного из представлен¬
ных в книге безумцев. Книга имела огромный успех у чита¬
телей, а персонаж Лафкадио с его «произвольным действи¬
ем» подсказал впоследствии сюрреалистам кое-какие момен¬
18
ты их эстетической программы. Произвольное действие, о ко¬
тором Жид писал еще в «Плохо скованном Прометее» и кото¬
рое там было прерогативой Бога, явилось одним из симпто¬
мов эпохи философского иррационализма, символом непред¬
сказуемых социальных мутаций, а в литературе — признаком
утраты персонажами психологической цельности.
В начале первой мировой войны Андре Жид работал в ор¬
ганизации, оказывавшей помощь беженцам, потом вернулся к
творчеству. В 1916 году пережил еще один кратковременный
религиозный кризис. В 1919 году он издал повесть «Пасто¬
ральная симфония», написанную в форме дневника швейцар¬
ского протестантского священника, который, занявшись вос¬
питанием одной слепой девушки и желая научить ее науке
чистой любви, увлекся ею и невольно довел ее до самоубий¬
ства, когда она, прозрев благодаря хирургическому вмеша¬
тельству, обнаружила, что пребывает в состоянии греха. В
произведении критикуется материалистический подход к ре¬
лигии и превратное истолкование священником Евангелия в
своих целях. Характер священника-лицемера получился в
«Пасторальной симфонии» очень убедительным. А поскольку
в нем содержалась проекция некоторых тенденций собствен¬
ного характера Жида, то находились критики, пытавшиеся
отождествлять писателя с его персонажами, и иногда это его
оскорбляло: лицемерие было одним из самых неприятных
ему пороков.
После войны к Жиду, ранее известному лишь в узких ли¬
тературных кругах, приходит настоящая слава. Он становится
властителем душ молодежи, уставшей от военно-патриотиче¬
ской пропаганды и пытавшейся отождествлять себя с Натана-
элем, героем «Яств земных», и с Лафкадио. Призыв больше
доверять инстинктам и меньше интеллекту, брошенный в свое
время Жидом, оказался услышанным четверть века спустя,
когда его самого волновали уже совсем другие проблемы.
В 1923 году Жид опубликовал книгу «Достоевский», со¬
стоящую из нескольких статей и лекций, прочитанных в теат¬
ре «Старая голубятня» по случаю столетия со дня рождения
русского писателя. В этой книге автор сетует на то, что фран¬
цузская публика еще недостаточно хорошо знает этого гения
русской литературы, стремится нарисовать его психологиче¬
ский портрет и проанализировать его творчество так, чтобы
19
приблизить его к французскому читателю, характеризует осо¬
бенности национализма Достоевского, не исключающего ин¬
тернационализма. Он сумел предостеречь многих своих соо¬
течественников от упрощенного восприятия творчества писа¬
теля и в немалой степени способствовал популяризации его
во Франции. Полезным оказался урок Достоевского и для са¬
мого Жида, открывшего благодаря ему путь к альтруизму и
самозабвению.
В 1925 году Андре Жид опубликовал «фальшивомонетчи¬
ков», единственное свое произведение, которое он пожелал
назвать романом, подчеркнув тем самым сложность его
структуры и присутствующих в нем характеров. Кое-какие
сюжетные линии романа он взял из довоенной газетной хро¬
ники. Там он прочитал, например, о самоубийстве одного ли¬
цеиста, о раскрытии организации, поставлявшей из Испании
фальшивые монеты и использовавшей для их сбыта молодых
людей из состоятельных семей. Писатель хотел, чтобы в его
романе было представлено как можно больше самых разно¬
образных, даже разнородных жизненных фактов, чтобы при¬
дать затем этой аморфной массе стройную классическую
композицию. Одновременно он хотел, чтобы это был вполне
интеллектуальный роман, а отнюдь не воссоздание фрагмен¬
та жизни в соответствии с реалистической или натуралисти¬
ческой традицией. Окончательно замысел у него сформиро¬
вался, когда ему попалось на глаза выражение известного ли¬
тературоведа Альбера Тибоде: «Истинный романист создает
своих персонажей с помощью тех бесконечных направлений,
по которым могла бы пойти его жизнь, а лжёроманист созда¬
ет их с помощью единственной линии своей реальной жизни».
Он писал «Фальшивомонетчиков» как «автобиографию воз¬
можного». Поэтому, хотя частица личности автора запечатле¬
на во многих персонажах романа, он все же является наиме¬
нее автопортретным и наименее субъективным из всех его
произведений. Правда, писателя Эдуара он наделил многими
своими чертами, но сходство между ними лишь внешнее. Эду¬
ар — любитель, неудачник, и, хотя он тоже пишет в романе
роман под названием «Фальшивомонетчики», его замысел об¬
речен на неуспех.
Однако когда Эдуар делится с читателями своими плана¬
ми по написанию романа, то здесь он, как правило, выража¬
20
ет взгляды самого автора. Жид хотел создать нечто вроде ли¬
тературного эквивалента баховского «Искусства фуги», пола¬
гая, что при всех различиях музыки и литературы некоторые
аналогии все же допустимы. «Фальшивомонетчики» действи¬
тельно напоминают музыкальное произведение, где темы
возникают, переплетаются друг с другом и затухают с по-
истине музыкальной изощренностью. Эдуар, будучи главным
персонажем, оказывается вовлеченным во все действия и вы¬
полняет функцию главной музыкальной темы. Он объединя¬
ет всех остальных персонажей романа, связует все потенци¬
альные линии развития романа, которые можно рассматри¬
вать как начала возможных новых романов. Очень часто
Жид отбрасывает мастерски сделанную завязку и, отказыва¬
ясь развивать ее, переходит к другим персонажам. Писатель
как бы играет сюжетными линиями то саморазрушающегося,
то воскрешаемого им романа, не имитируя реальность, а де¬
монстрируя свои возможности. Тот же Тибоде говорил, что
«гений романа заключается в том, чтобы давать жизнь потен¬
циально возможному, а не в том, чтобы изображать сущест¬
вующую действительность». Соответствие эстетическим тре¬
бованиям эпохи позволило «Фальшивомонетчикам» стать
средоточием наиболее смелых литературных экспериментов
того времени.
Роже Мартен дю Гар, которому посвящена книга, обращая
внимание автора на то, что некоторые темы обработаны по¬
верхностно, советовал углубить их, дабы избежать недобро¬
желательных суждений критики и публики. Однако Жид ста¬
вил перед собой иные задачи и внешним совершенством жер¬
твовал сознательно. «Как же мне было бы легко снискать все¬
общее одобрение,— писал он,— щадя читательскую лень и
создавая «фальшивомонетчиков» по канонам уже существую¬
щих романов, с описанием мест и персонажей, с анализом
чувств, с объяснениями ситуаций, с выпячиванием того, что я
прячу между фразами». Ленивым читателям роман — слож¬
ный и раскрывающий свои достоинства не сразу — действи¬
тельно не понравился, показался сумбурным и невыразитель¬
ным. Однако в общем и целом роман был принят хорошо.
Свою эстетическую позицию писатель подробно объяснил в
опубликованном в 1926 году «Дневнике „Фальшивомонетчи¬
ков"», который давал читателям некоторые ориентиры, позво¬
21
лял лучше понять роман, оценить достоинства примененной
писателем техники и вложенный в произведение труд.
Что же касается содержания «Фальшивомонетчиков», то
сюжет, давший роману название, занимает в нем относитель¬
но мало места. Проблему чеканки и сбыта фальшивых монет
автор рассматривает очень широко, в масштабах всего обще¬
ства. Он хотел сказать, что фальшивомонетчиком может
стать каждый, даже человек, никогда в жизни не только не
изготовивший, но даже не видевший ни единой фальшивой
монеты, что проблема фальшивых денег — это проблема
нравственная. Главным же фальшивомонетчиком в романе
выступает общество, которое навязывает человеку стереотип¬
ную форму без учета его индивидуальных особенностей.
Фальшивомонетчиками в романе являются многие. Многие
фальшивят в общении с другими людьми, играют роль, поль¬
зуются фальшивыми монетами готовых чувств. Наиболее яр¬
кое исключение из правила составляет Бернар, пытающийся
докопаться до истинной своей сути и стремящийся быть са¬
мим собой. Поначалу Жид его задумывал как дальнейшее
развитие характера Лафкадио из «Подземелий Ватикана», но
только Лафкадио, ставшего благородным и серьезным. Одна¬
ко, как потом констатировал автор, некоторые персонажи вы¬
шли из-под его контроля и начали развиваться самостоятель¬
но, в результате чего характер Бернара оказался глубже и ин¬
тереснее, чем любая потенциальная проекция характера Лаф¬
кадио.
«Фальшивомонетчики» подводили итог всему предшест¬
вующему творчеству Андре Жида. Поэтому в романе прозву¬
чали все основные темы его творчества: конфликт поколе¬
ний, необходимость искать собственную правду, борьба про¬
тив условностей, глупость тех, кто придерживается слишком
строгих принципов и ни за что не желает ими поступаться...
Интересно, что Жид, с ранних лет всецело посвятивший
себя литературе и социальными вопросами никогда не зани¬
мавшийся, в 20-е годы стал постепенно менять свою позицию.
Даже в «Фальшивомонетчиках», сугубо эстетическом произ¬
ведении, лишенном четких исторических привязок, писатель
в одном месте не удержался и выразил озабоченность, обра¬
тив внимание одного из героев, что есть в Париже такие за¬
бытые Богом утолки, где царят нищета, болезни, проституция,
22
преступления. А потом, когда после окончания работы над ро¬
маном писатель отправился в путешествие по Африке и уви¬
дел, что происходит во французских владениях, чувство соци¬
альной справедливости обострилось у него еще больше. В
1927 году он опубликовал книгу «Путешествие в Конго», а в
1928 году книгу «Возвращение из Чада», где выразил свое
возмущение царящими в этих странах порядками. В результа¬
те скандала, вызванного появлением этих книг, в парламенте
даже был поставлен на обсуждение вопрос об условиях жиз¬
ни в колониях.
Однажды Жид сказал своему другу Шарлю Дюбосу: «Я хо¬
тел бы добиться не только личного счастья, но и счастья для
других. Я думаю, что оно состоит в самоотречении. Вот поче¬
му быть счастливым — это ничто; счастье — это когда достав¬
ляешь счастье другим». От осознания несправедливого уст¬
ройства капиталистического общества и от подобных выска¬
зываний до принятия коммунистических идеалов оставался
только один шаг. И Жид этот шаг сделал. Однако это про¬
изошло уже в 30-е годы. А до этого он успел еще написать не¬
сколько небольших художественных произведений. В первую
очередь здесь следует назвать связанные друг с другом сю-
жетно и опубликованные в 1930 году повести «Урок женам»
и «Робер», в которых писатель попытался рассказать о поло¬
жении женщины в современном мире. Потом, желая превра¬
тить эту дилогию в трилогию, начал писать «Женевьеву», что¬
бы позволить читателю увидеть ту же историю — или во вся¬
ком случае те же проблемы — глазами молодого поколения.
Поначалу он думал, что Женевьева, дочь Эвелины и Робера,
найдет свое счастье в коммунистических убеждениях, но по¬
том, поработав около двух лет в этом направлении, понял, что
делать персонажа художественного произведения рупором
своих собственных взглядов — в это время Жид работал над
оставшейся незаконченной книгой о коммунизме — противо¬
естественно. Тогда он очистил повесть от политического тео¬
ретизирования, переписал ее несколько раз и в конце концов,
отчаявшись когда-либо завершить ее, опубликовал то, что по¬
лучилось, и никогда к этому материалу больше не возвращал¬
ся. Он вынужден был констатировать, что увлечение полити¬
кой влияет на его творческий потенциал далеко не лучшим
образом.
23
Однако следует все же попытаться выяснить, каким обра¬
зом мировоззрение Жида претерпело столь серьезную эволю¬
цию. И по своему происхождению, и по положению в обще¬
стве Жид был типичнейшим представителем буржуазии и в
своем творчестве, естественно, в какой-то мере выражал ее
взгляды, разделял ее оптимизм относительно дальнейшего
развития человечества. Хотя, конечно, искать в его книгах вы¬
ражения каких-либо классовых интересов было бы бессмыс¬
ленно. Жид не был человеком социальным, он был челове¬
ком литературы и считал, что «художник должен наводить
порядок в своем творчестве, а не в окружающем его мире».
Он как бы отгораживался от внешнего мира, в известной ме¬
ре даже от жизни, потому что его жизнью была литература,
причем нередко литература, имевшая литературные же исто¬
ки. Никогда лично не испытывая нужды, он пришел к комму¬
нистическим идеалам не через личный опыт социальной не¬
справедливости и даже не через сострадание к униженным и
оскорбленным, а скорее через потребность в каком-то духов¬
ном обновлении. Эхо политических гроз XX века донеслось и
до него. Он вдруг почувствовал, что его творчество существу¬
ет где-то на обочине жизни, начал страдать от этого, попытал¬
ся преодолеть одиночество, почувствовав, что может пойти
со всеми вместе куда-то вперед. К тому же был еще зарази¬
тельный пример некоторых друзей: западной интеллигенции,
обращавшейся в коммунистическую веру, было присуще чув¬
ство коллективизма. Причем вера эта была совершенно ис¬
кренней. «Сердцем, темпераментом, мыслями я всегда был
коммунистом»,— писал Жид в своем «Дневнике».
Заслуживает особого внимания одна запись в «Дневнике»
Жида, которая очень важна и выходит далеко за рамки его
творчества, она проливает свет на характер отношения либе¬
ральной западной интеллигенции к произошедшей в нашей
стране революции и на суть самой революции. Вот она: «По¬
скольку опыт всего СССР имеет исключительное значение, я
всем своим сердцем желаю, чтобы он удался и чтобы собы¬
тия позволили успешное его проведение. Только в этом слу¬
чае он сможет послужить великим уроком для других наро¬
дов. Но самому себе я все же должен признаться, должен до¬
вести свою мысль до конца: попытаться провести этот опыт
нужно было именно в России; думается, что Россия от этого
24
может выиграть больше, чем мы (во всяком случае, она мень¬
ше проиграет). К тому же я сомневаюсь, чтобы тот обще¬
ственный строй, который она пытается у себя установить, был
бы желателен для нашего народа; разве что в радикально из¬
мененном виде».
Это высказывание свидетельствует о том, что даже в
своей эйфории неофита Жид оценивал проводившийся в на¬
шей стране эксперимент достаточно трезво. Еще более сдер¬
жанными стали его суждения, когда он съездил в 1936 году в
СССР и увидел, что порядки там мало чем отличаются от по¬
рядков в фашистской Италии и нацистской Германии. То же
море лжи, лицемерия, демагогии и раболепия. Он увидел про¬
пасть, отделяющую привилегированный класс новоявленных
бонз от нищего народа. Увидел порабощение духа и полное
отсутствие критики. Андре Жид признал свои заблуждения,
рассказав о путешествии в изданной в том же году книге
«Возвращение из СССР». Закончив эту книгу, он решил, что
это будет последняя жертва, приносимая им общественной
деятельности, что жертвовать искусством он больше не наме¬
рен.
В 1939 году Андре Жид в издательстве «Галлимар» в’изящ-
ной и очень престижной серии «Плеяда» опубликовал свой
«Дневник», начатый им еще в 1889 году и состоящий, как вы¬
яснилось после издания второго тома, из миллиона слов. Это
общепризнанный шедевр, блестящий по стилю и содержащий
богатую информацию как о самом писателе, так и о многих
явлениях французской культуры.
Когда началась война, Жид сначала принял было аргумен¬
тацию маршала Петена, призывавшего французский народ
смириться перед гитлеровской агрессией, но через некоторое
время порвал со ставшим коллаборационистским журналом
«Нувель ревю франсез» и уехал в Северную Африку, где про¬
жил до конца войны.
Там, в Тунисе, он начал работу над «Тесеем», последним
своим крупным произведением, ставшим его духовным заве¬
щанием. Урок «Тесея» — это призыв к человеку совершить
свой «жест», не позволяя увлечь себя в лабиринт. Этика Жи¬
да, излагаемая в «Тесее», вытекает из его эстетики. Худож¬
ник, как и герой, должен выделить из всех слышимых им го¬
лосов свой собственный голос и не принимать ничьих сове¬
25
тов. Голос от этого крепнет и становится более чистым. Диа¬
пазон его при этом сужается, однако это не должно смущать
художника: то, что он не «понимает», выразит чей-нибудь дру¬
гой голос. Например, Эдип поможет Тесею.
Литературной деятельностью Андре Жид продолжал зани¬
маться почти до самой смерти. Он опубликовал свой прозаи¬
ческий перевод «Гамлета», переработал для сцены роман
Кафки «Процесс», в 1949 году издал книгу эссе «Осенние ли¬
стья», а также антологию французской поэзии с предислови¬
ем, активно участвовал в экранизации «Изабели» и в инсце¬
нировке «Подземелий Ватикана», в январе 1950 года читал по
радио заключительный отрывок «Тесея» и в том же году из¬
дал заключительный том своего «Дневника». Умер Андре
Жид 19 февраля 1951 года.
В. Никитин
ТРАКТАТ О НАРЦИССЕ
(ТЕОРИЯ СИМВОЛА)
Посвящается
Полю Валери1
Nuper me litiore vidi * 2
Книги, наверное, вещь не самая необходимая; внача¬
ле довольно было нескольких мифов; в них заключа¬
лась вся религия без остатка. Народ дивился внешнему
обличью басен и, не понимая, исполнялся благоговения;
жрецы, сосредоточенно склонившись над глубинами
образа, шаг за шагом проникали в сокровенный смысл
иероглифов. Потом люди захотели заняться толковани¬
ем; в книгах границы мифов расширились; — но по-
прежнему нескольких мифов было довольно.
Среди них миф о Нарциссе: Нарцисс наделен был со¬
вершенной красотой — и потому целомудрен; он пре¬
небрег нимфами,— ибо влюблен был в самого себя. Да¬
же малейший ветерок не возмущал вод источника, в ко¬
тором, склонившись, безмятежно созерцал он целый
день свое отражение...— Вы знаете, что случилось даль¬
ше. И тем не менее мы расскажем эту историю еще раз.
На свете все уже сказано; но никто не слушает, и поэ¬
тому надо постоянно начинать все сначала.
Нет больше ни берега, ни источника; нет метамор¬
фозы и нет отраженного водою цветка; — итак, нег ни¬
чего, кроме Нарцисса, одного только мечтательного
Нарцисса, что выделяется на бесцветном сером фоне.
Погруженный в однообразие бесполезных часов, он ис-
* Недавно я увидел себя с берега (лат.).— Примеч. пер.
пытывает беспокойство, он вопрошает себя в сердце
своем, полном сомнения. Он хочет наконец узнать, ка¬
кую форму имеет его душа; судя по долгому ее трепе¬
танию, она должна быть, он чувствует, достойна беско¬
нечного благоговения; но какое лицо у него? его образ!
Ах, не знаешь даже, любишь ли сам себя... не ведаешь
собственной красоты! Я растворяюсь в этом непрочер-
ченном, лишенном контрастов пейзаже. Ах, что за по¬
ложение — не видеть лица своего выражение! Дайте
мне отражение! Отражение! Отражение! И Нарцисс,
уверенный, что форма его существует где-то, поднима¬
ется и идет искать те желанные очертания, какие обле¬
кут наконец его великую душу.
Перед рекой времени остановился Нарцисс. У роко¬
вой, призрачной реки, где текут мимо один за другим
годы. Простые берега, как будто безыскусная рама, ку¬
да заключена вода, как будто зеркало без амальгамы;
там, за ним, ничего, должно быть, не видно; должно
быть, там, за ним, распахнется пустота скуки. Тусклый,
погруженный в летаргию канал, лежащее почти гори¬
зонтально зеркало; и блеклую воду его никогда бы не
отличить от всей бесцветной стихии, если б не ощуща¬
лось, как она течет.
Издалека Нарцисс принял реку эту за дорогу и,
скучая, совсем один в этой серой мгле, подошел по¬
ближе, посмотреть, как будут двигаться мимо какие-
то вещи. И вот, опершись на раму, склоняется, он над
водой в исконной своей позе. Внезапна под взглядом
его начинает переливаться на поверхности узкая раз¬
ноцветная полоска, какая-то видимость— цветы на
берегах реки, вершины деревьев, отраженные клочки
голубого неба, целая вереница быстротечных образов,
ждавших только его, чтобы явиться из небытия, и от
взора его обретающих краски. Потом открываются
холмы и выстраиваются уступами леса по склонам до¬
лин — видения покачиваются на волнах, неустанно
изменяясь струением вод. Нарцисс глядит восхищен¬
ный, но не понимает до конца, душа ли его направля¬
ет поток, или поток сам направляет ее; вода и душа
колеблются согласно.
30
То, куда Нарцисс смотрит, есть настоящее. Из са¬
мого отдаленного будущего вещи, пока только веро¬
ятности вещей, устремляются к бытию; Нарцисс ви¬
дит их, потом они проплывают мимо, в прошлое. Ско¬
ро Нарцисс замечает, что перед ним все время одно
и то же. Он присматривается внимательней, затем
размышляет. Мимо проходят всегда одни и те же
формы; единственно стремление потока придает им
различья. Для чего же их много? либо же для чего
они одни и те же? Стало быть, они несовершенны, ес¬
ли все постоянно начинается сначала... и, думается
ему, все они тяготеют и влекутся к единственной пер¬
возданной форме,, райской, кристально чистой — и
потерянной.
Нарциссу грезится рай.
I
Рай был невелик; каждая форма в совершенстве
своем распускалась здесь лишь однажды; все они по¬
мещались в одном саду. Был ли рай, или не было его,
так ли нам важно? Но если он был, то именно таким.
Все в нем кристаллизовалось в нужной стадии цвете¬
ния, и все устроено было совершенно так, как и долж¬
но быть. Все замерло в неподвижности, ибо ничего
лучшего желать не оставалось. Лишь неспешной силой
тяготения свершалось покойно преобразование строй¬
ного целого.
И оттого что всякий порыв не имеет предела ни в
Прошлом, ни в Будущем, Рай не знал становления — он
просто существовал от века.
Непорочный Эдем! Сад Идей! Там в четком ритме
форм обнаруживалось без труда число их; там всякая
вещь была тем, чем казалась с виду; там не требовалось
доказательств.
Эдем! волны мелодий веяли там по предначертан¬
ным кривым; там небо раскинуло лазурь на строго сим¬
31
метричной лужайке; там птичье оперенье окрашива¬
лось цветом лет, а бабочки опускались на лепестки по
законам божественной гармонии; роза там была розо¬
вой, потому что зеленым был жук-бронзовка, который
по одной этой причине летел к ней и на нее садился.
Все было совершенным, как число, и при чтении само
собой делилось на стопы; стройные звуки рождались из
соотношения линий; нескончаемая симфония плыла
над садом.
В центре Эдема уходил корнями жизни в землю Иг-
гдрасиль3, логарифмическое древо, распространяя по
лужайке вокруг густую сень листвы, в которой только
Ночь простирала крылья свои. В тени древа, прислонен¬
ная к стволу, стояла книга Таинств — там читалась ис¬
тина, какую нельзя не знать. И ветер, шелестевший в
листьях древа, весь день напролет разбирал в ней, один
за другим, нужные иероглифы.
Адам, исполненный веры, слушал. Один в мире, еще
бесполый, сидел он в сени мощного древа. Человек!
Ипостась Элохима4, служитель Божества! Для него,
благодаря ему возникают все формы. Восседая в цент¬
ре волшебного этого действа, смотрит он, неподвиж¬
ный, как разворачивается оно перед его взором.
Но, зритель по принуждению, начинает он тяготить¬
ся одним и тем же зрелищем, где нет для него иной ро¬
ли, нежели смотреть во веки веков. Все это разыгрыва¬
ется для него, он знает, но вот сам он... но сам он для
себя самого невидим. И с той минуты — что за дело
ему до всего остального! Ах! увидеть свое лицо! Верно,
он могуществен, ибо он творит и весь мир под взглядом
его на мгновение замирает; но что знает он о своем мо¬
гуществе, если достоверного подтверждения ему нет?
Созерцая окружающие вещи, он уже не в силах отде¬
лить себя от них; ведь не знать, где положен тебе пре¬
дел,— значит не знать, далеко ли ты простираешься! В
конце концов, это настоящее рабство, когда не можешь
позволить себе ни малейшего жеста, чтобы вся гармо¬
ния не разлетелась вдребезги. Да и потом, тем хуже!
раздражает меня эта гармония со своим вечным согла¬
сием и совершенством. Одно лишь движение! одно
32
лишь малюсенькое движение, просто, чтобы знать,—
какого черта, один-единственный диссонанс! — Эй, ну
давай же! Сделай хоть что-то непредусмотренное.
Ах, как хочется схватить, схватить ветку Иггдраси-
ля, и пускай сломается она в его ненасытных пальцах...
Сломалась.
...Поначалу — чуть заметная трещинка, какой-то
вскрик; но вот он прорывается, разрастается вширь, на¬
прягает все силы, свищет пронзительно и скоро уже
стонет бурей. Засохшее древо Иггдрасиль колеблется и
трещит; листья его, в которых играли дуновения ветер¬
ка, корчатся, дрожащие, сморщенные в поднявшемся
вихре, и несутся вдаль,— к неведомым просторам ноч¬
ного неба и к грозным морским пучинам, а вслед за ни¬
ми летят рассеянные листы, что вырваны ураганом из
осыпающейся великой, священной книги.
Возносятся к небу пар, слезы, облака; они пролива¬
ются на землю слезами и снова поднимутся вверх ту¬
чей: это родилось время.
И Человек, распавшийся надвое андрогин, ужаснул¬
ся и заплакал от тоски и страха, чувствуя, как вместе с
обретенным полом просыпается в нем тревожное влече¬
ние к половине своей, почти подобию, к явившейся
вдруг перед ним женщине, которую он целует, с которой
хотел бы соединиться вновь,— к женщине, что в слепом
стремленье воссоздать через себя совершенное сущест¬
во и покончить раз навсегда с этим отродьем даст про¬
никнуть в лоно свое незнакомцу из нового племени и не¬
много погодя вытолкнет в поток лет еще одно существо,
такое же неполное и недостаточное в самом себе.
О печальное племя, ты, что рассеешься по этой зем¬
ле, земле вечного сумрака и молитв! Память о потерян¬
ном Рае исполнит отчаяния восторги твои,— его ты ста¬
нешь искать повсюду,— о нем снова и снова будут го¬
ворить с тобой пророки, и, как теперь, поэты: они собе¬
рут с благоговением рваные страницы незапамятной
Книги, той, где читалась истина, какой нельзя не знать.
33
II
Когда бы Нарцисс оглянулся, он, думаю, увидел бы
зеленеющий берег, быть может, небо, дерево, цветок —
что-то неизменное наконец, что длится во времени, но
чье отражение, падая на поверхность воды, разбиваем
ся вдребезги и неустанно изменяется стремлением
волн.
Когда же воды эти остановят свой бег? И застынет
наконец покорно зеркало их, и в незамутненном сход¬
стве отражения откроет наконец—в сходстве сливаясь
с ними,— очертания роковых этих форм,— и наконец
само станет ими?
Когда же время, остановив свой бег, даст отдых
этим текучим струям? Формы, божественные, извеч¬
ные формы! Вы, ждущие лишь передышки, чтобы
явиться вновь,— о! Когда, в какой ночи, в каком без¬
молвии кристаллизуетесь вы?
Рай все время надо создавать заново; не где-нибудь
в далекой Фуле5 лежит он. Он скрыт под ввдимостью
вещей. В каждой вещи заключена, в вероятности своей,
подлинная, гармоничная ее сущность, подобно тому как
соль заключает в себе архетип своего кристалла; — и
наступает время, когда в ночной тиши сход ят от исто¬
ков более тяжелые воды и в ничем не потревоженных
глубинах расцветут вдали от глаз соляные сталагмиты...
Все стремится к потерянной своей форме; она про¬
свечивает в вещи, но просвечивает нечистая, искажен¬
ная, недостаточная в самой себе,— ибо неустанно начи¬
нает все сначала; ее теснят, сковывают соседние фор¬
мы, каждая тоже стремится показать себя,— ведь про¬
сто быть уже недостаточно, нужно доказать, что ты
существуешь,— и каждую распирает гордыня. Мгнове¬
ние — и все переменилось.
Но бег времени есть только бег вещей, и потому вся¬
кая вещь старается помедлить, сжаться, чтобы не так
быстро струился поток и она показалась получше. Зна¬
чит, бывают эпохи, когда вещи замедляют ход, и вре¬
мя — так все полагают — отдыхает; и поскольку вме¬
сте с движением прекращается и шум, все умолкает.
34
Все ждут; все понимают, что минута трагическая и ше¬
велиться нельзя.
«Сделалось безмолвие на небе» 6 — таково преддве¬
рие всякого апокалипсиса.— Трагичны, да, трагичны
времена, когда берут начало новые эры, когда скры¬
лись небо и земля, когда вот>вот отворится книга, запе¬
чатанная семью печатями, когда вот-вот все оцепенеет
в вековечной позиции... но раздается вдруг какой-то не¬
уместный вопль; на богоизбранных холмах, где, кажет¬
ся всем, сейчас окончится время,— непременно ока¬
жутся несколько жадных солдат, что делят одежды и
бросают жребий, разыгрывая хитон,— в ту самую мину¬
ту, когда замирают в экстазе святые жены, и завеса раз¬
дирается надвое, и готовы открыться все тайны храма;
когда все сущее созерцает наконец Христа, который за¬
стывает на смертном кресте и произносит последнее
свое слово: «Свершилось!»...
..А после — нет! опять надо все переделывать зано¬
во, переделывать вечно,— потому что какой-то игрок в
кости не прервал суетного своего жеста, потому что ка¬
кому-то солдату захотелось выиграть хитон, потому что
кто-то не смотрел.
Ибо ошибка, та, из-за которой снова и снова бывает
потерян Рай, всегда в одном: в человеке, что думает о
себе в тот миг, когда упорядочен смысл Страстей, в гор¬
деливом статисте, не подчинившемся общему порядку *.
Каждый день, не иссякая, звучат мессы, дабы воз¬
вратить испускающего дух Христа и зрителей, застыв¬
ших в молитве... каких зрителей! — когда бы простер¬
* За Формами-Символами — скрыты Истины. Всякое яв¬
ление есть Символ какой-либо Истины. Единственный долг
его в том, чтобы являть эту Истину в себе. Единственное пре¬
грешение — он отдает предпочтение себе самому. Мы жи¬
вем, чтобы нечто являть собою. Правила морали и эстетики
одинаковы: всякое произведение, в котором не явлена Исти¬
на, бесполезно, а значит, дурно. Всякий человек, в котором
не явлена Истина, бесполезен и дурен. (Впрочем, если взгля¬
нуть с некоторой высоты, то станет ясно, что Истина явлена
во всех, но признавать это следует лишь посмертно.)
35
лось ниц все человечество,— довольно было бы и од¬
ной мессы.
Когда бы мы были внимательны и умели смотреть...
III
Поэт — это тот, кто смотрит. Что же видит он? —
Рай.
Ибо Рай повсюду; не будем доверяться одной лишь
видимости. Любая видимость несовершенна: она только
невнятно лепечет Истину, какую заключает в себе; По¬
эт должен понять этот лепет, с полуслова, а после про¬
изнести Истину сам. И разве что-то иное делает Уче¬
ный? Он тоже стремится отыскать архетип различных
вещей и законы их чередования; он, наконец, выстраи¬
вает некий мир, идеально простой, где все само собой
приходит в порядок.
Но Ученый отыскивает первичные эти формы путем
долгих, боязливых умозаключений, через бесчисленные
Всякий носитель Идеи стремится предпочесть являемой
Идее самого себя. Отдать предпочтение себе — вот в чем
ошибка. Художник, ученый не должен ставить себя выше Ис¬
тины, какую хочет изъяснить — вот вся его мораль; и не дол¬
жен ставить слово, фразу выше Идеи, которая в них запечат¬
лена: я бы сказал, что в этом и состоит почти вся эстетика.
И я отнюдь не считаю, будто теория эта нова; доктрина са¬
моотречения ничего иного не проповедует.
Не в том состоит нравственный вопрос для художника,
чтобы Цдея, явленная им, была более или менее нравственна
и в общем и целом полезна; вопрос в том, чтобы она была яв¬
лена им как подобает. Ибо явлено должно быть все, даже и
вещи самые пагубные: «Горе тому человеку, чрез которого
соблазн приходит»7; но: «Надобно прийти соблазнам». Ху¬
дожник и всякий человек, если он воистину человек, живу¬
щий рада чего-то, должен заранее принести в жертву самого
себя. Вся жизнь его есть лишь продвижение, шаг за шагом* к
этой жертве.
Что же сейчас являть в себе? Это постигается без слов.
(Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. авт.)
36
примеры, ибо не проникает дальше видимости вещей и,
в жажде достоверности, запрещает себе догадки.
Поэт же знает, что он творец, и угадывает скрытое
в каждой веши, и одной-единственной, символа доволь¬
но ему, чтобы открылся ее архетип; он знает, что види¬
мость есть лишь предлог, скрывающая ее оболочка,
дальше которой не проникает взор непосвященного, но
которая указывает нам: Она здесь *.
Поэт созерцает благочестиво; он склоняется над
символом и в молчании спускается глубоко, к самой
сердцевине вещей,— и когда в видениях своих различа¬
ет Идею, подлинное, гармоничное Число ее Бытия, ка¬
ким держится несовершенная форма, он ловит ее, а по¬
сле, не заботясь больше о преходящей форме, что обле¬
кала ее во времени, уже может вернуть ей единствен¬
но вечную форму, ее, наконец истинную, роковую
Форму — райскую и кристальную.
Ибо произведение искусства есть кристалл — час¬
тичка Рая, где Идея расцветает вновь в наивысшей
своей чистоте; где, словно в исчезнувшем Эдеме, есте¬
ственным и необходимым порядком выстроены все
формы во взаимной и симметричной зависимости, где
гордыней слова не заслоняется Мысль,— где четок
ритм фраз, еще символов, но символов ничем не замут¬
ненных, где речи делаются прозрачными и обнажающи¬
ми истину.
Подобные произведения кристаллизуются лишь в
безмолвии; но случается, наступает безмолвие и среди
толпы, и художник укрывается в нем, словно Моисей
на горе Синайской, отгородившись от всего, неподвла¬
стный ни вещам, ни времени, и его, вознесшегося над
суетливым большинством, обволакивает атмосфера
света. Медленно и покойно располагается в нем Идея,
а потом распускается в сиянии своем, недоступная бегу
часов. Она вне времени, и потому время перед нею бес¬
* Понятно ли, что символом называю я все, что представ¬
ляется взору?
37
сильно. Скажем больше: спрашиваешь себя, а быть мо¬
жет, и сам Рай, недоступный времени, от века сущест¬
вовал только так,— иными словами, только как Идея...
А Нарцисс пока созерцает с берега видение, явивше¬
еся ему и преображенное любовным влечением; он гре¬
зит. Одинокий и ребячливый, Нарцисс влюбляется в не¬
верное свое отражение; ему хочется ласки, он склоня¬
ется, дабы утолить жажду любви, над рекой. Он скло¬
няется, но все волшебные картины вдруг исчезают; на
поверхности реки видит он теперь только губы, против
его губ, они тянутся к нему, и глаза, свои глаза, они гля¬
дят на него. Он понимает, что это он сам,— что он по-
прежнему одинок,— и что влюбился он в собственное
лицо. Кругом лишь пустая лазурь, которую проникают
бледные его руки; влекомые желанием, протянулись
они сквозь разбитое вдребезги отражение и погрузи¬
лись в неведомую стихию.
Тогда он приподнимается немножко — и лицо отда¬
ляется. Поверхность воды снова пестрит красками, и сно¬
ва возникает видение. Но Нарцисс говорит себе, что по¬
целуй невозможен: нельзя желать отражение; од ин лишь
жест, чтобы завладеть им,— и оно рвется. Кроме него са¬
мого, никого нет на свете. Что же делать? Созерцать.
Серьезный, исполненный веры, возвращается он к
покойному своему одиночеству; склонившись над види¬
мостью Мира, он — неуклонно растущий символ — за¬
стывает в неподвижности, смутно ощущая в себе плыву¬
щие мимо и исчезающие постепенно поколения людей.
Трактат этот, наверное, вещь не самая необходимая.
Вначале довольно было нескольких мифов. Потом люди
захотели заняться толкованием; гордыня ли это жреца,
что хочет раскрыть всем смысл таинств, дабы благогове¬
ли перед ним, или же пылкое сострадание, та апостоль¬
ская любовь, какая заставляет сорвать завесу и, осквер¬
нив, показать непосвященным потаеннейшие сокровища
храма, потому что мучительно восхищаться ими одному
и хочется, чтобы и другие исполнились благоговения?
СТРАНСТВИЕ
УРИАНА
ПОВЕСТЬ
Вступление
Когда завершилась горькая ночь раздумий, познания
и теологического экстаза, душа моя, пылавшая самозаб¬
венно и одиноко с самого вечера, очнулась наконец,
рассеянная и утомленная, в предчувствии утра. Лампа
незаметно погасла, окно распахнулось навстречу рас¬
свету. Я остудил горячий лоб росой, осевшей на стек¬
лах, устремил взгляд к заре и, оставив в прошлом свои
потускнелые грезы, отважился вступить в узкую доли¬
ну метемпсихозов.
Зори! Чудеса морей, светлые краски Востока! Меч¬
ты или память о вас наполняли наши унылые ночные
штудии жаждой странствий, тоской по бризу и музыке!
Как выразить мое ликование, когда после похожих на
сон блужданий по этой страшной долине, высокие ска¬
лы вдруг расступились и показалось лазурное море!
По твоим волнам! По твоим волнам, о вечное море,
думал я, поплывем ли мы наконец навстречу неведомым
судьбам? Неужели настал тот час, когда наши слишком
юные души устремятся на поиски высшей доблести?
На взморье меня уже дожидались мои будущие
спутники. Я сразу узнал их, хотя и не был уверен, что
встречал их прежде: мы были схожи силой и твердо¬
стью. Солнце уже стояло высоко над морем. Они при¬
были сюда, едва рассвело, и смотрели на набегающие
волны. Я извинился, так как заставил их ждать. Они
простили меня, полагая, что в пути меня задержали ка¬
кие-нибудь догматические ловушки и ухищрения логи-
41
ки, но пожурили за то, что я не покончил с ними более
решительно. Поскольку я пришел последним и ждать
было больше некого, мы двинулись к приморскому го¬
роду, откуда корабли уходят в дальние страны. До нас
издали доносился гул порта.
Город, где нам предстояло вечером взойти на ко¬
рабль, гудел от солнца и праздничного веселья под на¬
каленным добела полуденным небом. Мрамор набе¬
режных жег сандалии; праздник полыхал многоцветь¬
ем. Накануне сюда прибыли два корабля: один из Нор¬
вегии, другой с благодатных Антильских островов, и
толпа бежала к причалу, чтобы встретить третий, вели¬
чественно входивший в порт. Он пришел из Сирии с
грузом рабынь, пурпура и золотых самородков. Экипаж
сгрудился на палубе; кричали грузчики. Матросы на
мачтах отвязывали шкоты, а другие, внизу, готовились
бросить якорь. Складки спускаемых парусов цеплялись
за реи с развевающимися вымпелами. К кораблю со
всех сторон устремились лодки, ибо из-за недостаточ¬
ной глубины он не мог подойти к причалу. Первыми в
лодки спустили рабынь; едва они оказались на берегу,
как их обступила толпа любопытных: рабыни были по-
лунагие, прекрасные, но печальные. Затем матросы вы¬
грузили благовония и драгоценные ткани, а мешки с
пурпуром побросали в море — это был заурядный то¬
вар. Волны прибили их к дамбам, и люди, наклонясь^
над водой, подталкивали их шестами к лестницам. С
Антильских островов доставили ценное экзотическое
дерево, диковинных птиц и раковины, в которых шуме¬
ло море благословенных теплых широт. За них тут же
начался торг. Базары заполнились птичьими клетками;
некоторые птицы, самые изысканные, были выпущены в
вольеры, и за вход брали плату; все птицы пели, торгов¬
ля шла бойко и празднично. Тут же раскинулись балага¬
ны, где выступали шуты и скоморохи. На деревянных
подмостках силачи метали друг в друга ножи и факелы.
Чуть поодаль располагались городские погреба, ку¬
да доставляли лед из Норвегии. Погреба были обшир¬
42
ные и глубокие, но все они были доверху полны льдом,
поэтому норвежский корабль выбрасывал свой груз
прямо в порту. Прозрачная зеленоватая гора росла на
глазах; измученные жаждой моряки спешили к ней в
поисках прохлады и припадали к ее влажной поверхно¬
сти пылающими губами и ладонями. Люди с шафранной
кожей, в кроваво-красных набедренных повязках, вы¬
носили на дощатых носилках все новые и новые груды
снега с кусками чистейшего льда; остальное сбрасыва¬
ли с корабля в море. Лед, снег, пурпур и пена плыли
вместе по голубым волнам, местами почти фиолето¬
вым от размытого пурпура.
Настает вечер. В путах корабельных снастей садит¬
ся багровое солнце. С берега доносится вечернее пе¬
ние, а в затихшем порту покачивается фантастический
корабль, который унесет нас вдаль! Угасает день, явив¬
ший нам прообраз будущих приключений, и, когда он
угаснет совсем, мы отвернемся от прошлого и обратим
взор в будущее.
И вот уже необыкновенный корабль, оставляя позади
порт, веселье и закатившееся солнце, углубляется во тьму
навстречу заре.
I
Ночь на море. В эту ночь мы говорили о нашей судь¬
бе. Чистая ночь. «Орион» лавирует среди островов. Лу¬
на озаряет скалы. Показались голубые рифы, вперед¬
смотрящий оповестил о них; потом он сообщил о дель¬
финах: они резвились в лунном свете, а вблизи рифов
исчезли и больше не появлялись. Под водой чуть побле¬
скивают синие скалы. Светящиеся медузы медленно
поднимаются из глубин, наполняются ночным воздухом
и распускаются — цветы морей, колеблемые волной.
Мы стоим на полубаке, возле свернутых канатов, спи¬
ной к команде, к нашим спутникам, ко всему происхо¬
дящему, и смотрим на море, на созвездия и на остро¬
ва -г смотрим, как «острова проплывают», чуть презри¬
43
тельно говорят матросы, забывая, что проплывают они,
а море и острова остаются, когда нас уже нет.
Изменчивый профиль скал, скользящие контуры
мысов! Метаморфозы берегов! Берега! Мы знаем те¬
перь, что вы верны себе. Вы никуда не плывете, и ваш
незыблемый образ меняется лишь для тех, кто уплыва¬
ет сам. Впередсмотрящий сообщает о встречных судах.
А мы, до утра глядя на море, учимся отличать преходя¬
щее от вечных островов.
Мы говорили о прошлом. Ни один из нас не помнил,
как добрался до корабля, но никто не жалел о том, что
вырвался из горькой тьмы мысли.
— От какого же мрачного сна я очнулся! — сказал
Ален.— Из какой темной могилы поднялся! Я непре¬
станно думал и до сих пор еще болен от этого. О тиши¬
на восточных ночей, подаришь ли ты покой моей бед¬
ной голове, уставшей мыслить Бога?
— Меня обуревала жажда завоеваний,— сказал Па-
рид.— Я шагал по комнате, душа моя томилась и рва¬
лась в бой, и от бесконечных мечтаний о подвигах я
утомился больше, чем если бы совершил их на самом
деле. Что мы будем завоевывать? Какие подвиги ждут
нас? Куда мы плывем? Ответьте! Знаете ли вы, куда не¬
сет нас этот корабль?
Никто из нас не знал, но все трепетали в предчувст¬
вии неведомых грядущих свершений.
— Зачем мы здесь? — продолжал он,— и что есть
эта жизнь, если предыдущая была сном?
—Бьпъ может, нам все это снится,— предположил На-
танаэль,— и на самом деле мы спим сейчас у себя дома?
— А не ищем ли мы новые страны, чтобы поведать
там о красоте своих душ? — сказал Мелиан.
Но Традлино воскликнул:
— Видимо, привычка к пустым логическим схемам
и убеждение, что ваши действия могут быть успешны,
только если вам вполне ясны их причины, все еще вла¬
деют вами и побуждают вести этот праздный спор. Ка¬
кая разница, как мы здесь очутились, и зачем гадать о
сокровенном смысле нашего плавания? Мы бросили
книги, потому что они нам наскучили, потому что тай¬
44
ная память о море и о реальном небе лишила нас веры
в ученые изыскания. Мы поняли, что наука — это не
все, и, когда морские ветры, теплые и благоуханные, за¬
играли занавесками на наших окнах, мы невольно вста¬
ли из-за стола, спустились в долину и отправились в
путь. Мы устали от размышления и жаждали действия.
Вспомните, как возрадовались наши души, когда сев на
весла вместо гребцов, мы ощутили сопротивление ла¬
зурной волны! О, доверимся курсу корабля! «Орион» су¬
меет доставить нас к нужному берегу. Отвага, которую
мы в себе чувствуем, сама найдет себе применение. Да¬
вайте же просто ждать, не ища ответов,— ждать, когда
совершится наша славная судьба.
Говорили мы в ту ночь и о шумном городе, где взош¬
ли на корабль, о его ярмарках и многолюдной толпе.
— К чему,— сказал Агловаль,— вспоминать людей,
чьи глаза умеют видеть только вещи и даже неспособ¬
ны удивляться? Богорден, которого я любил, рыдал на
цирковых представлениях. Все должно совершаться
как ритуал, а эти люди созерцали игры без всякой тор¬
жественности.
—А вы как считаете, Уриан? — спросил Ангер
Я ответил:
— Представлять надо все равно.
В конце концов разговор этот всем надоел, и, по¬
скольку размышление нас утомляло, мы условились не
говорить больше о прошлом и не рассуждать о смысле
вещей. Близилось утро; все разошлись по каютам спать.
Мы давно потеряли из виду берег и плыли уже три
дня в открытом море, когда нам встретились красивей¬
шие плавучие острова. Таинственное течение долго не¬
сло их рядом с кораблем. Этот совместный бег по вол¬
нам ввел нас поначалу в заблуждение: нам показалось,
будто «Орион» стоит на месте, возможно, сел на мель.
Но заблуждение рассеялось, когда мы получше рас¬
смотрели острова. Шлюпка доставила нас на один из
них: все они были похожи, правильной формы и распо¬
лагались на почти одинаковом расстоянии друг от дру¬
га. Мы решили, что это острова коралловые; если бы не
роскошная буйная растительность, они выглядели бы
45
плоскими. Спереди в воду спускались многоярусные
мадрепоровые уступы, серые, как вулканическая поро¬
да, с выступающими наружу корнями деревьев; сзади
зелень плыла по волнам, словно волосы, й корни каза¬
лись в морской воде красноватыми. Деревья неведо¬
мых пород, очень странные, гнулись под тяжестью ли¬
ан, среди листвы цвели болезненные орхидеи. Это бы¬
ли сады в океане, за ними летели тучи насекомых, а по
воде тянулся шлейф пыльцы. Заросли были непроходи¬
мы, так что нам пришлось ограничиться прогулкой
вдоль самого берега и зачастую, когда деревья нависа¬
ли над водой, пробираться под ними ползком, цепляясь
за корни и лианы. Нам хотелось постоять сзади, у края
острова, и посмотреть, как догоняет его рой огромных
насекомых, но удушливые, дурманящие запахи, которые
ветер бросал нам в лицо, могли оказаться смертоносны¬
ми. Они были необычайно густые — мы видели, как кру¬
жит но воздуху ароматическая пыль. Мы перебрались на
другой конец: розовые фламинго и ибисы, спавшие
здесь, улетели. Мы сели на мадрепоровую скалу — здесь
свежий морской ветер отгонял от нас дурман.
Слой суши, образующей остров, был, судя по всему,
довольно тонок: за небольшим пятном тени под ним во¬
да казалась светлой. И мы подумали, что эти острова
подобны спелым плодам, оторвавшимся от общего
ствола: истончились их глубинные связи с родным ри¬
фом, и теперь ими правят любые ветра и течения, как
поступками, идущими не от сердца.
На следующий день, к нашему огорчению, мы поте¬
ряли их из виду.
На закате мы купались в зеленовато-розовом море.
Вскоре, отражая небо, оно стало золотисто-коричне¬
вым. Нас пронизывала нега тихих теплых волн. Гребцы
ждали. Мы поднялись в шлюпку с восходом луны; дул
легкий ветерок. Приспустив паруса, мы маневрировали
и видели то облака, все еще пурпурно-сиреневые, то лу¬
ну. Весла рассекали ее сверкающую дорожку, рождая
серебристые водовороты; перед нами таинственно вы¬
рисовывался «Орион». Луна стояла за мачтой, потом од¬
на в отдалении, потом, под утро, погрузилась в море.
46
II
На седьмой день мы причалили к отлогому песчано¬
му берегу, покрытому голыми дюнами. Кабилор, Агло-
валь, Парид и Морген высадились. Мы ждали их двад¬
цать часов — они покинули нас около полудня. На сле¬
дующее утро мы увидели, что они бегут к кораблю, бур¬
но жестикулируя. Подбежав ближе, Парид крикнул:
— Скорее прочь отсюда! Это остров сирен, мы их
видели!
Когда они перевели дух, «Орион» уже летел на всех
парусах. Морген начал рассказывать:
— Весь день мы шли через чертополох по барханам.
Весь день не встречали на пути ничего, кроме ползущих
песчаных гор, взлохмаченных ветром. Песок жег нам
Ноги, а суховей опалял губы; глаза слезились. (О, солн¬
ца Востока, полуденные солнца над песками, кто в силах
описать ваши великолепие и щедрость!) К вечеру, дойдя
до подножия высокого холма, мы рухнули от усталости...
И заснули прямо на песке, не дожидаясь заката.
Сон наш был недолог. Холодная роса разбудила нас за¬
темно. За ночь пески передвинулись, и мы не узнавали да¬
же песчаный холм, под которым заночевали. Мы двину¬
лись в путь в темноте, все выше и выше, не зная, куда
идем, с какой стороны пришли, где остался корабль. Но
вскоре позади нас забрезжил рассвет. Мы обнаружили,
что стоим на широком плато — по крайней мере, так нам
показалось,— и решили пересечь его, уверенные, что до
края еще далеко, но оно внезапно оборвалось у наших ног,
и внизу открылась окутанная туманом долина. Мы остано¬
вились и стали ждать. Занималась заря. По мере того как
она разгоралась, туман рассеивался. Мы увидели город, ле¬
жавший посред и долины совсем близко от нас. Он был му¬
сульманский, цвета зари, с причудливыми башнями мина¬
ретов; вереницы лестниц вели к подвесным садам, а с тер¬
рас склонялись лиловые пальмы. Над городом плыли
клочья тумана, напарываясь на острые минареты. Мийаре-
ты были так высоки, что облака цеплялись за них и реяли
на верхушках, словно натянутые ветром орифламмы, хотя
в тихом воздухе не ощущалось даже подобия бриза.
47
Как мы непостоянны! Перед величественными собо¬
рами мы мечтали о минаретах мечетей, а тут, гладя на
минареты, грезили о церковных колокольнях и о звуках
благовеста в прозрачном утреннем воздухе. Но рассвет¬
ный холодок хранил безмолвие, лишь какой-то неясный
трепет пробегал временами по воздуху и терялся в пус¬
том небе. И вдруг, когда из-за горизонта показалось
солнце, с одного из минаретов, того, который ближе к
восходу, послышалось пение, такое торжественное и
странное, что слезы выступили у нас на глазах. Голос
дрожал на единственной, очень высокой ноте. К нему
присоединился второй, потом третий, мечети с пением
просыпались одна за другой, едва их касался луч солнг
ца. Вскоре в хор влились все. Это был зов, причудли¬
вый, неведомый, обрывавшийся хохотом, как только его
под хватывал следующий. Муэдзины вторили друг другу,
как жаворонки. Они слали в небо вопрос, за которым
следовали все новые и новые, и лишь старейший из них,
на самом высоком минарете, молчал, скрытый облаком.
Это пение было столь прекрасно, что мы замерли в.
упоении. Постепенно оно становилось тише, нежнее, и
мы решили подойти ближе, влекомые красотой города
и изменчивой тенью пальм. Голоса продолжали зати¬
хать, и вдруг город, дрогнув на последних звуках, начал
удаляться и распадаться на глазах: минареты и высокие
пальмы расплылись и растаяли, лестницы рухнули, ус¬
тупы гор за садами утратили дает и плотность, и сквозь
них проступили море и песчаный берег. Мираж возник
и пропал вместе с пением. Пение умолкло, наваждение
рассеялось, и вместе с ними сгинул город-призрак. На¬
ши сердца в невыразимой печали, казалось, внимали
собственной смерти.
Последняя нота, последняя дрожь исчезающей гре¬
зы — и мы увидели их- среди водорослей: они спали.
Мы обратились в бегство, но от ужаса ноги едва пови¬
новались нам. К счастью, мы находились недалеко от
корабля: лишь один невысокий мыс отделял его от спя¬
щих сирен. Но как это было опасно, ведь они могли нас
услышать! Чтобы не разбудить их, мы боялись кричать,
пока не подбежали совсем близко. Не знаю, как полу¬
48
чилось, что за весь вчерашний день мы прошли так ма¬
ло. Теперь я думаю, что мы вообще не продвигались
вперед ни на шаг — это барханы двигались у нас под
ногами. А плато и долина не что иное, как чары сирен.
Радуясь чудесному спасению, они заспорили, сколь¬
ко же было сирен.
— Но скажите,— попросил Одинель,— каковы они
из себя?
— Они лежали среди водорослей,— отвечал Агло-
валь.— Длинные зеленовато-бурые волосы, похожие на
морские травы, покрывали их тела с головы до пят.
Впрочем, мы так спешили, что не успели их разглядеть.
—У них перепончатые пальцы, а ноги и бедра по¬
крыты чешуей, блестящей, как сталь,— сказал Каби-
лор.— Я убежал, ибо меня обуяЛ великий страх.
—А передо мной они предстали в виде птиц,— ска¬
зал Парид,— огромных морских птиц с красными клю¬
вами. Разве у них не было крыльев?
— О, нет, нет! — воскликнул Морген.— Они были
похожи на женщин, на прекрасных женщин. Поэтому я
и бросился прочь.
—А голос? Скажите же, какой у них голос?
(Каждый из нас сожалел, что не слышал его.)
— Их голос,— промолвил Морген,— подобен тени¬
стой долине и прохладной воде у пересохших губ боль¬
ного.
Потом все заговорили о повадках сирен и об их чарах.
Морген молчал, и я понял, что он тоскует по сиренам.
В тот день мы не купались, опасаясь встречи с ними.
III
Шел тринадцатый день. Мы блуждали с самого утра
по равнине, не зная, куда идем, и нам уже становилось
скучно, как вдруг мы увидели: среди серебристого ко¬
выля смуглая девочка, еще не оформившаяся и нагая,
пасет под полдневным солнцем одногорбых верблюдов.
49
Мы спросили у нее дорогу. Объясняя, как добраться до
города, она плакала.
...Спустя час мы вошли в город: он был мертвый.
Торжественная печаль охватила нас. Разрушенные ме¬
чети, сломанные минареты, обвалившиеся стены и ко¬
лоннады сообщали ему вид величественный и мрач¬
ный. Широкая улица, по которой мы шли, перебираясь
через развалины, внезапно оборвалась, выведя нас за
черту города, где под миндальными деревьями белели
брошенные гробницы марабутов.
Мы шли еще около часа. Равнина кончилась, перед на¬
ми высился холм, и мы поднялись на него. Наверху оказа¬
лась деревня. Мы прошли по улицам и, к своему удивле¬
нию, не встретили ни души; двери и окна были закрыты на¬
глухо. Ангер предположил, что все жители ушли на работу
в поле. Нестерпимый жар исходил от желтых стен. Жир¬
ные мухи жужжали на солнцепеке вокруг белых дверей.
На пороге одного из домов сидел ребенок, теребя свой
омерзительный половой орган. Мы покинули деревню.
Местность за холмом вновь стала ровной. Мы про¬
шагали еще час в пыли, по солнцепеку, и на нашем пу¬
ти возникло большое четырехугольное строение, не¬
весть откуда взявшееся посреди безлюдных полей; из
распахнутых дверей неслись крики, которые были
слышны еще издали. Мы поспешили туда, надеясь на¬
конец хоть что-то увидеть. Войдя, мы очутились в про¬
сторном зале. Там толпилось множество людей, испу¬
скавших страшные вопли. Мы на миг замерли, расте¬
рянные и оглушенные, потом попытались заговорить с
ними, расспросить, но никто не желал слушать и все,
неистово жестикулируя, указывали на середину зала.
Встав на цыпочки и задрав голову, мы увидели в
центре двух дервишей: радение только начиналось. Они
медленно вертелись под звуки музыки, исполняемой
четырьмя сидевшими на полу музыкантами, но из-за ре¬
ва толпы ничего не было слышно. Через равные проме¬
жутки времени, когда музыканты заканчивали очеред¬
ной пассаж, дервиши издавали пронзительный гортан¬
ный крик, а публика в ответ воодушевленно топала
ногами. На дервишах были длинные широченные бала¬
50
хоны и огромные колпаки высотой в половину их рос¬
та. Подчиняясь ускорявшемуся ритму музыки, они кру¬
жились все быстрее, и балахоны, раздуваясь, открыва¬
ли подпрыгивающие ноги в сандалиях; потом, набирая
темп, они сбросили сандалии и продолжали плясать бо¬
сиком на каменных плитах, а балахоны поднялись еще,
обнажая стремительно вертящиеся ноги выше колен.
Вид съехавших набок колпаков и развевающихся бород
становился невыносим. Изо рта пляшущих текла слюна,
глаза самозабвенно закатывались. Зрители уже не вла¬
дели собой, они дергались и качались, словно в экста¬
зе. От этого дервиши впали в еще большее неистовство
и, издав утробный вой, завертелись с такой безумной
скоростью, что их балахоны приняли почти горизон¬
тальное положение и тела оголились во всей своей не¬
пристойности... Мы вышли вон.
Перед нами опять лежала равнина, близился вечер.
Мы шли по ней еще час и вышли к кораблю.
Матросы выкупались в теплой воде; раскаленный
воздух осушил их тела. Наступил вечер, но без дающей
передышку прохлады, без той прохлады, что с прихо¬
дом ночи освежает поцелуем горячие веки. Было так
жарко, что мы не могли уснуть. Беззвучные зарницы
вспыхивали у края неба, и по волнам пробегали отсве¬
ты. Полулежа грезили на палубе матросы и юнги, и в
таинственной ночи тянулись к грезящим волны, изгиба¬
ясь от вожделения. А мы, не решаясь лечь, стояли у бор¬
та и до самого рассвета слышали их дыхание, переме¬
жавшееся влюбленными вздохами моря. Но от этого су¬
рового бдения более глубокая мысль рождалась в нас,
и постепенно покой ночи снизошел на наши лица.
IV
На двадцать первый день мы причалили к берегу, за¬
саженному высокими деревьями. Невдалеке виднелся
город, к нему вела широкая эвкалиптовая аллея, по ко¬
51
торой прогуливались компании женщин. По обе сторо¬
ны раскинулись среди зелени ярмарочные шатры и при¬
лавки, где красными и желтыми пятнами выделялись
горы стручкового перца и 1роздья бананов.
Незадолго до вечера Мелиан, Ламбег и Одинель
вместе с частью экипажа сошли на берег, чтобы попол¬
нить наши запасы и спросить дорогу. Мы ждали их всю
ночь. Наутро Мелиан, Ламбег и Одинель пришли назад,
но из матросов вернулось лишь несколько человек. Они
были бледны, а глаза их источали томное сияние. Они
принесли чудесные ярко-красные плоды, кровоточа¬
щие, будто раны, и лепешки из муки неведомых злаков,
но, когда мы приступили к ним с расспросами, они ска¬
зались усталыми и легли в гамаки. Тогда мы поняли,
что они побывали у местных женщин, и это несказанно
нас опечалило. Мы не снимались с якоря, так как жда¬
ли остальных, и к вечеру Ламбег, Одинель, Мелиан и те
матросы, которые были с ними накануне, снова собра-
- лись в город. Альфазар и Гектор отправились с ними, и
мы не смогли их удержать. Вероятно, им что-то расска¬
зали: мы видели, как они стояли подле гамаков, где по¬
качивались те, кого так утомила предыдущая ночь.
Они вернулись все вместе на следующий день, и
«Орион» поднял паруса. Они принесли новые невидан¬
ные плоды, большие и фиолетовые, как баклажаны.
Взгляд у них был блуждающий и глумливый, на губах
играла злая усмешка. Ссора вспыхнула из-за плодов:
они уговаривали попробовать их, но нас настораживали
чрезмерная яркость и великолепие. Когда мы им об
этом сказали, они принялись насмехаться:
— Хороши рыцари! Испугались отведать плодов!
Или ваша бессмысленная добродетель состоит в воз¬
держании и требует подвергать все сомнению? Неуже¬
ли вы сомневаетесь? Но почему?
И, хотя мы ни о чем их не спрашивали, они стали
рассказывать, что было в городе. Сначала базар, покуп¬
ка фруктов, незнакомый язык местных женщин; потом
сады наслаждения с разноцветными фонариками среда
листвы; они долго стояли, не решаясь войти, и сквозь
прутья ограды смотрели на танцы и фейерверки. Вхо-
52
давшие женщины потянули их за собой, и, едва ощутив
прикосновение их рук, они утратили способность со¬
противляться. Сначала им было стыдно, но потом они
сочли, что стыдиться глупо. Они хотели рассказать и о
ночных объятиях, но Ангер воскликнул, что не понима¬
ет, как можно заниматься этими необходимыми гнусно¬
стями вдвоем: сам он в такие минуты прячется даже от
зеркал. Его внезапная откровенность их шокировала и
была встречена громкими возгласами негодования. Ан¬
гер же отвечал, что любит женщин только под вуалью,,
но даже тогда опасается, как бы они не проявили бес¬
стыдство и не сбросили одежды, ощутив хоть малейшее
подобие любви. В ответ они расхохотались и отверну¬
лись от нас. С этого дня мы больше не были едины в
своих помыслах — и, остро ощутив, какими мы быть не
хотим, начали понимать, какие мы есть.
Они купались в воде, голубой и печальной, плавали
в соленой пене. Потом, поднявшись в шлюпку, долго
еще оставались нагими, глядя, как блестит их непри¬
вычно матовая кожа, пока внутренний жар не иссушил
на ней невинную морскую пену. А мы стыдились за них,
ибо они были очень красивы и выглядели счастливее,
чем подобает мужчинам.
Мы не очень любили Альфазара, потому что он был
высокопарен и раздражителен, но сожалели о Мелиа-
не, который был кроток и не чужд сострадательной
нежности.
V
Целый день перед нашим кораблем развертывались
восхитительные берега; ибисы и розовые фламинго ис¬
кали крабов в прибрежном песке. Чуть дальше в глуби¬
не суши, на горных уступах, кончалась темная полоса
лесов. Было жарко, и нам вспомнился виденный в пор¬
ту перед отплытием снег. Стоя на палубе, мы смотрели,
как разматывается лента берега. С приближением ко¬
рабля фламинго испуганно взлетали, но, как только мы
53
удалялись, вновь опускались на песок: их поведение
вселяло в нас недоверие к этому краю.
Мы ждали, и наши сердца, не находя применения
своим высоким порывам, наполнялись горечью.
Не здесь ли найдем мы наконец место, которое не
отторгнет нас и, если оно не исчезнет, как мираж, при
нашем появлении, то не будет ли зов его греховным?
Или мы обречены вечно скитаться, созерцая с палубы
все новые и новые берега?
К середине дня мы высадились неподалеку от како-
го-то города — узкой полосой он тянулся вдоль моря.
Море вдавалось в берег, образуя полукруглую бухггу, и
во время отлива обнажало перед городом большой ко¬
ралловый остров. Каждый день к нему устремлялись
баркасы за кораллами, губками и жемчугом. Поскольку
сам город не заинтересовал нас, мы отправились на од¬
ной из таких лодок посмотреть остров. Казалось, он вы¬
растал прямо из обступавшей его прозрачной бездны. На
фоне бледных полипов виднелись приоткрытые жем¬
чужницы; вдоль скал росли губки, сновали зеленоватые
крабы, а в тени, в щелях, прятались спруты. Когда ны¬
ряльщики проплывали мимо, липкие щупальца вытягива¬
лись, чтобы их схватить. Ныряльщики отсекали их но¬
жом, но не могли отодрать от тела и вместе с ними вы¬
ходили на берег. У ныряльщиков была шафранная кожа,
они ходили совершенно голые, и только на шее висел ме¬
шочек, куда они складывали раковины. Они срезали их
ножом, а когда мешочек наполнялся, быстро поднима¬
лись на поверхность. Когда они появлялись над водой,
грудь их сжималась от свежего воздуха и они почти те¬
ряли сознание, а изо рта стекала тонкая струйка крови,
алевшая роскошным цветком на бронзовой коже.
Мы бросили в море новенькие монеты. Они поблески¬
вали, погружаясь, и, когда уже должны были исчезнуть
совсем, люди с лодок прыгнули в воду и начали их ловить,
словно гася руками огоньки. Но, если не считать красоты
подводных глубин и крови на коже ныряльщиков, эта иг¬
ра не увлекла нас, и мы вскоре вернулись в город.
Мы купались в нагретых бассейнах, где дети гоня¬
лись вплавь друг за другом. Дао украшали мозаики —
54
их хорошо было видно сквозь прозрачную зеленую во¬
ду, а у бортиков две фигуры из розового мрамора лили
в чаши благовония, которые, тихо журча, стекали в бас¬
сейн маленькими водопадами. Мы приблизились к ста¬
туям, протянули руки к чашам, и благовония, оросив на¬
ши руки, заструились по ногам и бедрам. Вода, когда мы
вновь в нее окунулись, показалась нам обжигающей. К
прозрачному потолку поднималось ароматное облако,
оно оседало там легкой росой, окрашивая лазурью лив¬
шийся сверху свет, и капли сверху падали в воду.
Одурманенные запахами, мы впали в оцепенение,
неподвижные, расслабленные, самозабвенно распро¬
стертые на восхитительной сине-зеленой воде, куда не¬
бесный свет проникал слегка замутненным и где хруп¬
кие руки детей приобретали голубой оттенок, а падаю¬
щие с потолка капли рождали однозвучный плеск.
...Ночью море фосфоресцировало; вымпелы на бор¬
ту рвались и бились, как волны. Темнота обжигала;
лжегерои с матросами отправились к женщинам, и
мысль об их объятиях мучила нас, ибо ночь была дей¬
ствительно полна любви. Огромная красная луна взош¬
ла из волн и послала свое отражение в море, которое
само источало свет. В лунной дорожке проплыли лод¬
ки в сторону берега. Слышен был лишь плеск волн и
хлопанье вымпелов под ветром.
Из леса прилетели на широких крыльях вампиры,
они кружили над спящими рыбаками и высасывали
жизнь из их уст и босых ног, навевая сон беззвучным
шелестом крыльев.
VI
У Моргена жар. Он попросил принести ему горного
снега, чтобы остудить лоб.
Корабль сделал остановку у острова, где высилась
большая гора. Мы высадились. Натанаэль, Идье, Ален,
Аксель и я отправились за снегом. Долго еще потом нам
55
вспоминался этот остров, полный тишины и очарования;
из-за ледников, спускавшихся довольно низко в долину,
там было почти прохладно. Мы шли, радуясь покою.
Дойдя до ледника, мы увидели там родник. Чистей¬
шая вода тихо струилась из-под прозрачного льда, сте¬
кая в кварцевую чашу, выдолбленную каплями. Мы на¬
полнили хрустальную бутыль, чтобы отнести Моргену.
Ледяная вода, в силах ли человеческий язык пере¬
дать твою ослепительную чистоту?! Даже в стаканах, из
которых мы пили, она не утратила первозданной голу¬
бизны и так лучилась лазурью, что казалась бездонной.
Она хранила свежесть зимних вод, опьяняла своей чис¬
тотой, как предутренний горный воздух. Мы выпили ее,
и нас охватило небесное ликование. Мы окунули в нее
руки, омыли глаза, она оросила наши обветренные гу¬
бы, и ее нежная сила проникла в наши мысли, как вода
крещения. Местность вокруг словно похорошела, и
каждая мелочь казалась чудом.
Около полудня мы спустились к морю и пошли
вдоль берега. Мы собирали на песке куски золотой по¬
рода, редкие раковины и изумрудных жучков в зарос¬
лях прибрежного тамариска.
У самого моря росли какие-то цветы, на которых по¬
стоянно сидели бабочки. Они были неотличимы от ле¬
пестков, и цветы казались крылатыми. Мы знали, что
весенние бабочки — самые первые, майские — быва¬
ют белыми и желтыми, как примулы и боярышник; лет¬
ние — пестры, как луговые цветы, а осенние схожи с
опавшими листьями. Эти же были прозрачны, как ба¬
бочки горных вершин, и сквозь их крылышки видне¬
лись розоватые венчики соцветий.
Мы увидели странного ребенка, который грезил, си¬
дя на песке. У него были большие глаза, голубые, как
ледяное море, кожа — цвета белых лилий, а волосы —
словно облако, окрашенное восходящим солнцем (Но-
валис)2. Он пытался разгадать слова, которые написал
на песке. Он заговорил; слова выпорхнули из его уст,
как выпархивает из травы утренняя птица, стряхивая
росу. Мы готовы были отдать ему наши раковины, на¬
секомых и каменья, готовы были отдать ему все, что у
56
нас есть, так нежен был его чарующий голос. Он улы¬
бался с несказанной печалью. Мы хотели взять его с со¬
бой на корабль, но он склонился над своей надписью и
вновь погрузился в тихую задумчивость.
Мы ушли. Прогулка освежила наши силы, и, когда
«Орион» вновь поднял паруса, мы почувствовали в сердце
трепет при виде лежащего перед нами необъятного моря.
В тот день мы не купались.
VII
В седьмой раз сделал остановку корабль. Здесь, на
этом острове, куда мы высаживались с такой надеждой и
откуда отплыли спустя долгое время, унося в сердце вели¬
кий ужас, путешествие для многих окончилось. А для нас,
продолживших его, но оставивших позади столько погиб¬
ших спутников и столько надежд, навсегда померк тот
благодатный свет, который озарял наш путь до сих пор.
Скитаясь по волнам под угрюмыми небесами, мы тоскова¬
ли по этому острову, по его царственному городу, прекрас¬
ному, несмотря на все его соблазны, по дворцу Айатальне-
фиды с его незабвенными террасами, столь восхититель¬
ными, что мы ступали по ним с опаской, не решаясь
поверить в их прочность. Террасы! милосердные террасы
Бактрии3 в лучах восходящего солнца! Подвесные сады,
где мы любовались морем! Дворец, которого никогда боль¬
ше не увидим и по которому до сих пор томимся! Как мы
любили бы вас, но не там, не на этом острове!
Все ветры стихли. Однако из осторожности, ибо воз¬
дух над берегом был неспокоен, пронизанный каким-то
необычным сиянием, на остров отправились сначала
только четверо. Мы видели с «Ориона», как они подня¬
лись на поросший оливковыми деревьями холм, потом
повернули назад. Остров большой и красивый, сообщи¬
ли они, с холма видны широкие плато, курящиеся гор¬
ные вершины, а у берега, делающего в этом месте из¬
гиб, начинаются городские окраины. Ничто в их расска¬
57
зе не подтверждало наших опасений, и мы все, включая
команду, сошли на берег и направились в город.
Первые люди, которых мы там увидели, набирали из
колодца воду и, едва завидев нас, устремились навстре¬
чу. На них были роскошные свободные одежды, ниспа¬
давшие складками до земли, а головные уборы в форме
диадем придавали им сходство со священнослужителя¬
ми. Они подставили нам губы для поцелуя, а глаза их
улыбались, суля порочные наслаждения. Мы с отвраще¬
нием оттолкнули их. Тогда, поняв, что мы чужестранцы,
не знакомые с обычаями острова, эти люди, в которых
мы не сразу распознали женщин, откинули багряные по¬
крывала и показали нам окрашенную розовым грудь.
Уввдев, что мы и на сей раз отвергаем их, они удиви¬
лись, потом взяли нас за руки и повели в город.
На улицах нам встречались только женщины, одна
прекраснее другой. С раннего возраста те, чья красота
была несовершенна, сами удалялись в изгнание, чувст¬
вуя неодобрение окружающих. При этом по-настоящему
безобразные или с необычными отклонениями во внеш¬
ности оставались в городе и даже были окружены осо¬
бой заботой, ибо служили для извращенного сладостра¬
стия. Но мы не встретили ни одного мужчины, только
мальчиков с женскими лицами и женщин с лицами маль¬
чиков: едва почувствовав приближение нового для них
волнения, юноши уходили жить на плоскогорья, где оби¬
тали мужчины. После смерти Камаральзамана все они
покинули город. Оставленные женщины, теряя голову от
тоски по мужчинам, выходили иногда за городские во¬
рота, как те, что попались нам по дороге: в надежде
встретить мужчину, спустившегося с гор, они облача¬
лись в мужское платье, чтобы его прельстить. Мы узна¬
ли об этом не сразу, а только после того, как царица при¬
вела нас во дворец и объявила своими пленниками.
Сладостный плен, более мучительный, чем самое
суровое заточение. Женщины жаждали наших ласк и
держали в неволе, чтобы целовать.
Матросы сдались в первый же день. Потом один за
другим пали остальные; но мы, двенадцать человек,
держались.
58
Царица влюбилась в нас. Она купала нас в теплых
бассейнах, умащала драгоценными ароматическими
маслами, наряжала в роскошные мантии, но мы, укло¬
няясь от ласк, грезили только о свободе. Она решила
сломить нас скукой, и потянулись долгие дни. Мы жда¬
ли. Ровную гладь океана не нарушало ни малейшее ду¬
новение ветерка. Воздух был синим, как море, и мы не
знали, что сталось с кораблем.
От полудня до вечера мы спали в маленьких тесных
спальнях. Стеклянная дверь вела оттуда на широкую ле¬
стницу, спускавшуюся к морю. Когда вечерний свет ус¬
тремлял лучи в окна, мы выходили. Воздух был нежен,
с моря веяло благоуханной свежестью. Вдыхая ее, мы
замирали в восхищении и некоторое время стояли,
прежде чем сойти вниз. В этот вечерний час солнце по¬
гружалось в воду, в его косых лучах мрамор ступеней
светился прозрачным карминным светом. И вот, мед¬
ленно и торжественно, мы, все двенадцать в ряд, вели¬
чественные в наших роскошных мантиях, спускались к
солнцу до самой последней ступени, где пена прибреж¬
ных волн увлажняла края наших одежд.
В другое время или в другие дни мы восседали на
высоких тронах, каждый, словно царь, перед морским
простором, и следили за движением приливов и отли¬
вов: мы ждали, не мелькнет ли где-нибудь в волнах ко¬
рабль, не набежит ли на небо благодетельная туча, ко¬
торая надула бы спасительный парус. Храня достоинст¬
во, мы сидели неподвижно и молча, но к вечеру, когда
наша надежда угасала вместе с последними лучами све¬
та, неудержимое рыдание вырывалось из нашей груди,
словно песнь отчаяния. И царица спешила к нам, чтобы
насладиться нашими слезами и узнать, не дрогнули ли
мы, но находила нас неподвижными, с сухими глазами,
устремленными туда, где только что исчезло солнце.
Она понимала, что мы думаем о корабле, но мы не ре¬
шались спросить ее, что с ним сталось.
Вцдя, что мы не уступаем а, напротив, встречаем ее
с каждым днем все суровее, царица решила нас разве¬
селить, полагая, что в играх и празднествах мы позабу¬
дем об отплытии и о своем предназначении. Оно пред¬
59
ставлялось нам значительным и ясным; мы гордились
собственной стойкостью и чувствовали, как под рос¬
кошными одеждами растет в наших сердцах непомер¬
ное стремление к славным деяниям.
Пышные сады спускались террасами к морю. Мор¬
ская вода заполняла мраморные каналы, и деревья кло¬
нились к ней. Могучие лианы тянулись с берега на бет
per, словно шаткие подвесные мосты или качели. В ус¬
тье каналов они лежали плотной сетью прямо на воде,
выдерживая натиск самых сильных: волн; вдали же от
кромки моря вода в каналах была вечно спокойной.
Мы катались там на лодках, смотрели, как плавают ры¬
бы в таинственной полумгле, но купаться не решались
из-за колючих мечехвостов и лангустов.
На побережье, почти под самым городом, был глу¬
бокий грот, и царица повезла нас туда на прогулку. Лод¬
ки попадали внутрь через узкую щель, которая сразу же
скрывалась из виду. Свет сочился откуда-то из-под
скал: пройдя сквозь голубую толщу воды, он тоже ста¬
новился голубым и вспыхивал язычками бледного пла¬
мени, отражаясь в игре бликов на стенках грота. Лодка
двигалась между двумя рядами базальтовых колонн.
Воздух сливался с лучезарной водой, так что их невоз¬
можно было отличить друг от друга — все растворялось
в лазурном сверкании. Колонны уходили вниз, и от пе¬
ска, от водорослей, от скал исходило странное рассеян¬
ное свечение. Тень лодки плавно скользила над наши¬
ми головами. В глубине грота лежал небольшой песча¬
ный пляж, на который с тихим плеском набегали ма¬
ленькие волны. Мы с радостью искупались бы среди
этой морской феерии, но опасались крабов и миног.
Так развлекала нас царица; мы не сдавались, но чуде¬
са, с помощью которых она надеялась прельстить нас, на¬
страивали наши души на лирический лад. Ночью, в море,
на лодке, созерцая светила и созвездия, чуждые нашим
небесам, мы пели: «О, царица! Царица острова грез! Ца¬
рица в ожерельях из коралла! Как мы полюбили бы тебя,
явись ты нам на заре! Царица наших бед и отчаяния, пре¬
красная Айатальнефцда, отпусти нас!» — «Зачем?» —
спрашивала она, и мы не знали, что ответить. «Остань¬
60
тесь,— говорила она.— Я люблю вас. Однажды ночью,
когда вы спали в своих опочивальнях, я тихо вошла и по¬
целовала вас в глаза, и мой поцелуй освежил вашу душу.
Останьтесь, все ветры спят, и у вас нет больше корабля.
Что искать вам по свету?» И мы не знали, как отвечать,
ибо ей не дано было понять, что все это не может запол¬
нить наши великие души. В смятении мы обливались сле¬
зами: «Ах, госпожа, что сказать тебе? Благородство и ве¬
ликая красота всегда исторгали у нас слезы. Ты беско¬
нечно прекрасна, но наши судьбы прекраснее, и наши
грядущие подвиги светят нам, как звезды». Потом, вооду¬
шевленный красотой ночи и легкостью, с которой текли
слова, я говорил о минувшем, искренне веря, будто вижу
в нем прообраз будущих наших свершений: «Ах, царица,
если бы ты только знала!.. Какая молодость у нас была!
Посольства, кавалькады! Блестящие выезды на большую
охоту, славные победы и возвращения вечерами назад,
„теми же тропами, в пыли! Радость достойно завершенно¬
го дня! И эта усталость! И задумчиво-печальный вид! О,
госпожа, если бы ты знала, как наши жизни значительны
и серьезны! А погони в горах, в час заката, когда в доли¬
ну ложилась мгла и сердце в восторге замирало, ибо ка¬
залось, что мы вот-вот схватим наши химеры!..»
Царица не отрываясь смотрела на меня, и губы ее
чуть заметно улыбались. Она спросила:
— Это правда?
А я, ни на миг не усомнившись, отвечал:
— О да, госпожа!
Потом, увидев плывущую по небу луну, воскликнул:
— Как не печалиться о ней, ведь она так бледна!
А царица в ответ:
— Что за дело вам до нее?
И луна сразу стала мне безразлична, что я и вынуж¬
ден был признать.
Так проходили дни в прогулках и празднествах.
Однажды вечером царица забавы ради бросила в мо¬
ре одно из колец, которыми были унизаны ее пальцы.
Бесценным было это кольцо — оно досталось ей, как и
все ее царственные кольца, от Камаральзамана, ее суп¬
руга. Старинное, с авантюрином в оправе из переплета¬
61
ющихся нитей бледного золота. Мы видели, как оно па¬
дало и как шевельнулись морские травы на голубом пе¬
ске, где задумчиво и одиноко мерцали розовые акти¬
нии. Надев скафандры, Кларион, Агловаль и Морген
нырнули. Я не последовал за ними — не из равнодушия,
а потому, что слишком сильно притягивала меня таинст¬
венная глубь океана. Они оставались под водой долго, а
когда поднялись, я принялся настойчиво их расспраши¬
вать, но на них напал глубокий сон. Пробудившись, они
ничего не помнили — или не пожелали мне отвечать.
—Там было слишком темно, я не мог ничего разгля¬
деть,— сказал Агловаль.
—Тяжелое оцепенение сковало мой разум,— ска¬
зал Кларион.— Я думал лишь о том, как сладко было
бы прилечь на мягкие водоросли и забыться среди этой
дивной прохлады.
Морген был молчалив и печален и на мои мольбы
рассказать об увиденном отвечал, что, даже если бы и
захотел, у него не нашлось бы слов.
Потом потянулись новые празднества, фейерверки
и танцы. Новые дни уходили один за другим, и мы со¬
крушались, что наши прекрасные жизни растрачивают¬
ся в столь заурядных занятиях.
Мы думали о корабле, вынашивая мысль о бегстве.
Перед дворцом лежала равнина и гладкое полукружие
залива: на oipomhom морском пространстве, открытом
взгляду, «Ориона» видно не было. Но и позади дворца
могли быть удобные бухты,— возможно, там и стоял
наш «Орион». Стены самых дальних, самых высоких
террас круто обрывались с той стороны прямо в океан,
как бы преграждая человеку доступ к нему. Но навер¬
няка там были и тайные тропы, известные только цари¬
це. Однажды вечером, во время отлива, когда море от¬
хлынуло от каменных стен, Идье, Хелан, Натанаэль и я
тайком отправились на поиски корабля.
Еще только начинало темнеть, но дневной шум уже
стих. Обогнув гору с террасами, мы оказались за горо¬
62
дом; перед нами тянулись длинные укрепления, а под
ними — узкие песчаные отмели, где находился сток не¬
чистот и стояло нестерпимое зловоние. Мы торопи¬
лись, опасаясь надвигавшейся темноты и начала прили¬
ва, но рассчитывали вернуться другой дорогой, если эта
будет отрезана водой. Там, где кончались укрепления,
начинался невысокий глинистый обрыв — полоска пе¬
ска, отделявшая его от моря, становилась все уже, вол¬
ны подкатывались под самый склон. Мы остановились,
пытаясь понять, как ведет себя море. Но прилив еще не
начался; мы двинулись дальше, пробираясь по высту¬
павшим над водой валунам. Впереди возник мыс, а за
ним, как нам казалось, должна была открыться бухта.
Ноги скользили но вязкому мху и водорослям, серая су¬
меречная вода, едва различимая в полумгле, тихо пле¬
скалась между камнями. Ее невидимое движение буди¬
ло беспокойство... Внезапно обрыв кончился. Сердца
наши замерли в тревоге, ибо мы чувствовали, что при¬
шли. Стояла уже глубокая ночь. Еще несколько бес¬
шумных шагов — и, перегнувшись через последний вы¬
ступ, мы взглянули вперед.
Над длинным темным пляжем вставала луна, голу¬
боватый песок двигался и змеился, как волны. А по мо¬
рю плыли корабли, целая эскадра, огромная, воздуш¬
ная, небывалая. Мы застыли, не смея пошевелиться. Та¬
инственные суда проплыли мимо и скрылись; они пока¬
зались нам такими туманными и бесплотными, что мы
бросились бежать, обезумев от жалкого страха и пуга¬
ясь длинных лунных теней, которые сами же отбрасы¬
вали на скалы и воду.
Спасение пришло иначе, его принесла нам беда. В
городе незаметно зарождалась и расползалась чума, не
сразу распознанная, но страшная и опустошительная,
которой суждено было превратить остров в огромную
мрачную пустыню. Она еще только назревала, но ве¬
селье уже было нарушено.
...Освежающее питье по утрам на террасах, фрукты
и ледяная вода после прогулок под солнцем, лимонное
63
мороженое, которое нам, утомленным дневной жарой,
подавали вечерами в благоуханных садах, сладостные
купания в теплых бассейнах и грезы, рождаемые лука¬
выми женскими нарядами,— все это очень скоро все¬
лило бы в нас истому, предшествующую болезни, если
бы страх перед нестерпимыми страданиями не заставил
нас остерегаться чрезмерной неги. Мы перестали улы¬
баться, не отвечали больше на вечерний зов веселья, от¬
казывались от утоляющих жажду плодов, от тени садов,
от музыки, мы даже перестали петь, боясь дать волю
слабости. По утрам мы спускались к морю и, погружая
в живительную воду нагие тела, вдыхали с морским
воздухом здоровье и силу.
От водостоков и мест для стирки белья поднималось
вечерами отравное зловоние, ибо по небрежности и лег¬
комыслию городских служб там скапливалась мутная
тинистая грязь. В этих гнилостных испарениях таились
бациллы смерти. Они незаметно проникали в плоть. На¬
ши матросы и женщины, чувствуя смутное беспокойст¬
во, омывали губы бальзамами, и приторный запах бла¬
говоний примешивался к их горячему дыханию.
Настал такой вечер, когда даже музыка и танцы в из¬
неможении стихли. Никогда еще морской ветер не был
таким теплым. Волны сладостно пели, и тела завладели
душами. Тела были прекрасны, как статуи, они блесте¬
ли в темноте и искали друг друга, но объятия не унима¬
ли их лихорадочного огня: он лишь сильней разгорался,
и в каждой ласке два ожога сливались в один. Поцелуи
превращались в укусы, прикосновения язвили до крови.
Всю ночь расточали они горячечный жар в исступ¬
ленных объятиях, пока утро не омыло их волнами зари.
Они отправились к колодцам стирать свои зараженные
туники. Там праздник возобновился; в легкомыслии
своем они снова смеялись, смеялись от усталости, и рас¬
каты веселья гулко отдавались в их гудящих головах.
Вода в колодцах стала нечистой. Длинными шестами
они взболтали осевшую на дне тину; муть поднялась на
поверхность. Серые пузыри всплывали и лопались. А
они, склонясь над краем, бездумно вдыхали тлетворные
запахи. Они смеялись, ибо были уже больны. Облачась
64
в мокрые одежды и дрожа в ознобе, они радовались об¬
манчивому ощущению свежести. Но к вечеру лихора¬
дочное возбуждение сменилось апатией. Смех смолк,
неодолимая слабость овладела ими, и, лежа на пышной
траве лужаек, каждый думал теперь лишь о себе...
На острове были цветы, чьи венчики, если помять
их пальцами, источали холодящий аромат, схожий с
ароматом мяты; цветы эти росли в песках. Несчастные
рвали их и жевали целый день напролет. Они прикла¬
дывали лепестки к глазам, и восхитительная свежесть
остужала сухие горячие веки. Эта свежесть постепенно
распространялась на все лицо, проникала в мозг и одур¬
манивала его тягучими сновидениями. Они пребывали
в странном полусне, как факиры. Если же они переста¬
вали жевать, свежесть оборачивалась жжением, как
это происходит с пряностями или некоторыми острыми
травами. Страдая от жажды, они пили из металличе¬
ских чаш воду, подкрашенную терпким смородиновым
соком. Они не жевали, только когда пили.
Когда одежда на них распахивалась, то под мышкой,
ближе к соску, открывалось фиолетовое пятно, где вы¬
зревал недуг; тело время от времени покрывалось лило-
ватой испариной. А мы, все двенадцать, слишком суро¬
вые к себе, чтобы плакать, молча смотрели, как умира¬
ют наши товарищи.
Но еще более страшным было возвращение мужчин.
Они толпами спускались с гор и со всех сторон спеши¬
ли в город, чтобы заразить женщин. Они бежали по ули¬
цам, лохматые, запыхавшиеся, с ввалившимися глазами,
но, увидев, как женщины бледны, поняли все, и город
огласился их воплями. Некоторые из женщин еще хоте¬
ли их; сознание близкой смерти придавало и тем и дру¬
гим зловещую ненасытность, они предавались любви ис¬
ступленно, высасывая в поцелуях все доступное наслаж¬
дение с такой алчностью, с такой яростью и неистовст¬
вом, что мы содрогались. Казалось, они стремятся
сократить время стыда. А другие женщины горько рыда¬
ли, оттого что мужчины пришли слишком поздно.
Подул легкий ветер и осыпал их пеплом вулканов,
окутав город тяжелым дымом. В изнеможении они ра¬
65
зомкнули объятия, ибо их рвало. Они катались по траве
в судорогах, словно все их внутренности стремились из¬
вергнуться наружу. Так они и умерли, в недостойных
позах, скрюченные, безобразные, разложившиеся за¬
живо; в город вошло безмолвие.
И тут собрались тучи. К утру холодный дождь осту¬
дил их души и одел тела в саван жидкой грязи, образо¬
вавшейся из воды и пепла.
А мы вспомнили о широких парусах и об отплытии.
Но мы мечтали об этом так долго, ожидание было та¬
ким томительным и напряженным, что теперь, когда
ничто больше нас не удерживало, мы почувствовали се¬
бя обессиленными, смятенными и глубоко подавленны¬
ми важностью своего предназначения. Мы молча сиде¬
ли на берегу еще двенадцать дней, погруженные в раз¬
думье, чувствуя, что наши замыслы непомерно велики
и туманны.
Пуститься в море нас заставил нестерпимый смрад,
распространяемый трупами.
Саргассово море
Саргассово море! Заря в слезах и печальные блики на
серой воде. Никогда не привел бы я корабль в эти края
по своей воле. Скука! К чему описывать ее! Кто ее не
знал, тот не поймет, а кто знал, не захочет вспоминать.
Скука! Теперь я знаю, что ты такое — безрадостное изу¬
чение собственной души, когда гаснет вокруг роскош¬
ный блеск запретных лучей. Лучи исчезают, искушения
покидают нас; ничто больше нас не занимает, кроме са¬
мих себя, в тусклом свете не сулящей надежд зари.
На поблекшие солнца падает пепел сумерек, а на ве¬
ликий ветер желаний — моросящие дожди скуки.
Психология! Психология, наука о тщете наших
стремлений, пусть душа навеки отвергнет тебя. О тлен¬
ные плоды, которых мы могли бы вкусить! О сладость,
пусть бы расточили мы в ней силу своих уст! О, утрачен¬
ные соблазны, еще недавно страшившие нас! Желания!
Противясь вам, наша душа жила! Мы не уступали, хоте¬
66
ли, чтобы желания исчезли, а теперь, когда их не стало,
какая же беспросветная скука стелется по серому морю!
В стоячей воде колышутся бурые студенистые водо¬
росли. Тягучим фукусам, плавучим травам нет конца.
По поверхности тянутся, убегая к горизонту, змеящие¬
ся полосы,— заметив одну такую на рассвете, мы при¬
няли ее за гигантскую рептилию, но и это оказалось
ошибкой: всюду, насколько хватает глаз, одни лишь без¬
вольные водоросли.
Мы посмотрели на компас, и печальное знание на¬
несло еще один удар по нашей ослабшей вере. Оказа¬
лось, что мы достигли в этом поистине маслянистом мо¬
ре той точки, которую моряки называют зоной затишья,
ибо вода здесь почти неподвижна.
Море заполонили кустистые водоросли, и мы двига¬
лись теперь по узким протокам между зарослями саргас-
сумов. Поначалу они были не такими густыми и росли
свободнее, но потом стали скучиваться, уплотняться, ка¬
нал, который прокладывала между ними вода, все су¬
жался, и «Орион» превратился в фелуку. Нас окружали
уже не длинные стебли отдельных фукусов, а сплошные
пласты размягченных листьев, растительный гель, вяз¬
кая желеобразная масса, которая вскоре вспучилась и
приподнялась над обмелевшим морем, приняв образ низ¬
ких, топких берегов. Канал петлял между их изгибами.
На третий день нам встретились первые речные рас¬
тения. Фелука медленно шла вверх по слабому течению
реки.
На четвертый день появились цапли с дымчатым
оперением, они искали червей в прибрежной тине, а за
ними простирался плоский луг. Ночью, под отраженны¬
ми в воде облаками, чуть беловатыми по контрасту с
окутавшей берега тьмой, река текла ровно, и на поворо¬
тах весла фелуки цеплялись за прибрежный камыш.
На седьмой день мы увидели на берегу мою дорогую
Эллис 4. Она свдела на лугу под яблоней. Уже две неде¬
67
ли она поджидала нас, ибо по суше добралась сюда бы¬
стрее. На ней было платье в горошек, в руках — ярко¬
вишневый зонтик, а рядом — дорожный чемодан с ту¬
алетными принадлежностями и кое-какими книжками;
на плечи был накинут шотландский плед. Она ела ди¬
кий салат и читала «Пролегомены ко всякой будущей
метафизике» 5. Мы взяли ее в лодку.
Встреча получилась довольно вялой. Нас привели
сюда разные пути, а мы имели обыкновение говорить
лишь о том, что узнали вместе. В течение трех дней мы
в молчании созерцали берега, пока новые пейзажи не
дали нам пишу для беседы.
Небо было бледным, пейзажи блеклыми. На водяни¬
стые береговые топи, поросшие серо-зеленой травой,
вернулись из странствий кроткие аисты. Эллис нашла,
что ноги у них слишком велики; я отметил достойную
сожаления нечуткость ее души, однако насчет вишнево¬
го зонтика на фоне скорбных равнин не сказал ничего,
оставив тему несоответствий для последующих бесед.
Мы по-прежнему шли на веслах. Тусклые, словно
патиной подернутые, берега, неизменно ровные, пло¬
ские, одинаковые, не давали повода избрать для стоян¬
ки то или иное место и прервать на время монотонное
плавание. Единственным событием пейзажа, переме¬
щавшимся вместе с нами, была наша лодка, и мы не по¬
кидали ее, ибо не могли решить, где бы причалить. И
когда однажды вечером мы все-таки высадились в пер¬
вом попавшемся месте, то выбор наш был продиктован
лишь поздним часом и надвигающимися сумерками.
Клочья тумана ползли по хмурой воде, путаясь в ка¬
мышах. Мы решили заночевать на прибрежной поляне.
Эллис должна была сторожить лодку. Привязав ее, она
закуталась от сырости в плед, подложила под голову че¬
модан и заснула среди смятых камышей.
После ночи без сновидений пришло пробуждение
без радости. Небо не окрасилось в цвет зари — поздним
утром его лишь чуть забелил горестный продрогший
рассвет. Белизна была такой размытой, что мы все еще
ждали восхода, когда давно поднявшееся солнце вдруг
проглянуло сквозь серые облака. Мы пошли к Эллис.
68
Сидя в фелуке, она читала «Теодицею» 6. Я раздражен¬
но отнял у нее книгу. Остальные молчали, всем было
неловко. Никакая общая цель уже не связывала наши
судьбы, единство воли было подорвано неясностью пу¬
ти, и мы отправились каждый сам по себе в глубь при¬
брежных земель.
Я не собирался ид ти далеко, только до ближайшей бу¬
ковой рощицы, но, не дойдя нескольких шагов, рухнул
под первый же куст, скрывший меня от посторонних глаз.
Нахлынуло прошлое, силы оставили меня, и я самым жал¬
ким образом разрыдался, обхватив голову руками.
На луг, поросший красноголовником, пали сумерки;
я произнес короткую молитву и вернулся к покинутой
лодке.
Эллис читала в лодке «Трактат о случайности» 7. Вне
себя я вырвал у нее из рук книгу и выбросил в реку.
— Разве неизвестно тебе, несчастная,— вскричал
я,— что книга есть искушение? А мы пустились в путь
ради великих подвигов...
— Подвигов? — переспросила Эллис, поглядев на
пустую равнину.
— О! — воскликнул я.— Внешне все выглядит не
так, я знаю, и знаю все, что ты можешь сказать. Молчи!
Молчи, иначе я снова заплачу,— и, чтобы скрыть от нее
лицо, я отвернулся и стал пристально смотреть на реку.
Начали возвращаться поодиночке наши спутники, и,
когда все вновь собрались в лодке, каждый так остро
ощутил отчаяние остальных, что ни один не решился
спросить другого, неужели и он тоже ничего не видел;
каждый, напротив, старался прикрыть пустой фразой
всю ничтожность увиденного им самим.
—Я видел,— сказал Эгизель,— видел череду карли¬
ковых берез на свинцово-сером холме.
—А я,— сказал Эрик,— видел на песчаной равнине
саранчу, поедавшую, горькие травы.
— А вы, Уриан? — спросил Аксель.
— Поле, поросшее красноголовником.
— Морген?
— Голубые ели на берегу озера.
— Идье?
69
— Заброшенные каменоломни...
Спрашивать дальше не имело смысла, и мы заснули,
ибо давно стемнело.
Наутро я проснулся поздно. Остальные давно встали
и тихо сидели на берегу. Все были заняты чтением. Эл¬
лис раздала им нравоучительные брошюры. Я схватил
ее чемоданчик. Там лежали три блокнота-ежедневника,
«Жизнь Франклина» 8, маленький справочник растений
умеренного климата и «Нынешний долг» г-на Дежарде¬
на9. Роясь в чемоданчике, я обдумывал гневную речь и,
когда она была готова, выбросил чемодан в реку. Он
мгновенно ушел под воду. Две большие слезы скатились
по щекам Эллис. Не то чтобы эти слезы меня разжало¬
били, но мысль о нашем отчаянном положении погаси¬
ла мой гнев, и, вместо упреков, я пустился в сетования:
— Конечно,— воскликнул я,— у всех у нас тяжело
на душе. Наша история складывается как-то не так. Что
знаменует сия унылая равнина на нашем пути? И что
знаменуем мы сами на этой равнине? Однако если мы
усомнимся в некоем высшем смысле происходящего,
то наши души, отчаявшись, растеряют накопленную си¬
лу. Боже праведный, да если все бессмысленно, то ко¬
нец нашей вере и нашему мужеству! Мы уже почти го¬
товы сдаться — неужели нам остается только благоче¬
стивое смирение? Мы жили ради гордыни, и доблесть
наша возрастала с каждой одержанной победой. Наша
сила вся соткана из сопротивления, но сегодня вокруг
нас все рушится, распадается, и мы перестаем ощущать
свою непреклонность. И вот уже, будя сожаления,
всплывает безмятежное прошлое. Величественная и
глубокая ночь, таившая восторги мысли! Тексты, порою
истинные, где так часто вспыхивала искра метафизиче¬
ского огня! Алгебра и теодицея, часы учения! Мы поки¬
нули вас ради иного, о, действительно иного. Учение от¬
крыло нам, что нужно проявить свою сущность. И мы
отправились на поиски поступков, в которых она может
раскрыться,— но, Бог мой, в силах ли кто-нибудь опи¬
сать ту темную долину, что пролегла между миром жиз¬
70
ни и высокой обителью наших грез, долину непостижи¬
мую и гнетущую, как сама смерть, и такую темную, что,
когда я вышел наконец к желанному морю, я принял во¬
ду за свет. С тех пор мы видели песчаные берега, дико¬
винные растения, сады с теплыми каналами, дворцы,
террасы, вознесенные над морем,— воспоминание о
них до сих пор терзает нам душу; мы видели улыбки,
слышали призывы, но не откликнулись, и лукавая цари¬
ца Айатальнефида Благоуханная не победила нашу ре¬
шимость. Мы берегли себя для другого. Благодаря рас¬
считанным и, я бы сказал, эстетическим усилиям, вме¬
сте с желаниями росла и наша стойкость, укрепляясь в
повседневном сопротивлении. Увенчать наши усилия
должно было последнее, высшее испытание. Но наше
судно увязло в тине. Ах, поистине наша история плохо,
очень плохо складывается. Чего ждать дальше? Нам все
стало безразлично, ибо скука распространяется и на бу¬
дущее. Скоро нас окончательно сломит апатия. И что
бы ни случилось, нам будет все равно. Логика событий
нарушена, мы покинули спасительную стезю. Вспом¬
ним плавучие острова — они носятся по воле волн, не
имея более связей с миром. Это самое печальное, что
может произойти. Где утрачен смысл, там тщетны по¬
пытки возродить непреложное. Мы обречены. Мы еще
несчастнее, чем я описываю, несчастнее, чем сами ду¬
маем, ибо безжизненное оцепенение окружающего па¬
рализует наши души. Я говорил слишком долго. Для
смутных состояний нужны бессвязные слова, поэтому
я закончу несколькими аллитерациями,— и, понизив
голос почти до шепота, чтобы отчетливее прозвучал
ритм шипящих и свистящих, я произнес нараспев:
....Пусть застрекочет
саранча
в пустыне...
Меня слушали внимательно, но столь неожиданная
концовка показалась всем несуразной, и откровенный
хохот сотряс берег — чего я и добивался, дабы вывести
нас всех из столбняка. Эллис не поняла ничего — я до¬
гадался об этом по раздражению, которое вдруг возник¬
71
ло у меня против нее. Но я не подал виду. Она смотре¬
ла на меня широко раскрытыми вопрошающими глаза¬
ми в ожидании продолжения.
— Я закончил, дорогая Эллис,— сказал я.— Давай
немного пройдемся. Ты сегодня сама кротость и очаро¬
вание. Луговой воздух придаст тебе сил.
Не стану описывать нашу прогулку, это было бы
нудно. Я охотно рассказал бы о пещере, которую мы по¬
сетили, но там стояла вода, и мы не отважились захо¬
дить далеко. Все же мы рассмотрели высокие, тонув¬
шие во мраке своды и галереи, ведущие, казалось, в
бездонную глубь. Местами, где стены не были отвесны¬
ми и сходились над головой, с них свисали, словно пло¬
ды пещер, сонные летучие мыши. Я сорвал одну для Эл¬
лис, которая никогда прежде их не видела. Но лучше
всего был миг, когда мы оттуда вышли, ибо после бес¬
просветного мрака дневной свет показался нам чуть ме¬
нее тусклым. С прогулки в эту пещеру началась у Эл¬
лис болотная лихорадка, а у меня впервые мелькнуло
ужасное подозрение о ее самозванстве.
Вечером, когда остальные вернулись в лодку, мы с
Идье и Натанаэлем, вновь ощутив некоторое желание
жить, отправились в ланды. Там мы пережили необъяс¬
нимое приключение, тайна которого до сих пор мучает
нас, ибо за время нашего плавания оно было в своем ро¬
де единственным и ни до, ни после ничего похожего с
нами не происходило.
Спустилась ночь, в камышах сквозил ветер, над тор¬
фяниками витали огоньки. Боясь провалиться, мы шли
очень медленно. Вдруг среди безмолвия раздался тихий
звон, и мы в изумлении остановились. Перед нами, по¬
добно болотному испарению, возникла над топью белая
фигура женщины: чуть раскачиваясь и медленно подни¬
маясь вверх, она звонила в колокольчик, держа его в
руке, словно чашу. Мы метнулись было прочь, потом,
успокоенные ее неземной легкостью, хотели воззвать к
ней, но она на глазах утратила очертания, уплыла то ли
вдаль, то ли ввысь, и тихий звон ее колокольчика, каза¬
лось, должен был исчезнуть вместе с ней. Однако он не
исчез, и мы сочли его обманом утомленного слуха, но,
72
двигаясь в ту сторону, обнаружили, что он становится
все отчетливее и доносится откуда-то снизу, из травы,
время от времени перемещаясь и звуча то робко, то жа¬
лобно, словно зов. Мы наклонились, вглядываясь в тем¬
ноту, и увидели маленькую несчастную овечку, заблу¬
дившуюся в ландах, испуганную, всю мокрую от ночной
сырости. На шее у нее висел колокольчик. Мы подобра¬
ли заблудшую овцу и освободили от колокольчика. Но
вот вновь послышался звон, и вновь над болотом мед¬
ленно, словно привидение, поднялась женщина: ее се¬
рое покрывало тянулось по веткам, словно туман по ка¬
мышам. Гибкий стебель лилии у нее в руке клонил ча¬
шечку к земле, и звуки сыпались оттуда, будто зерна.
Женщина уже исчезала, и я заметил, как, склонясь над
сгущением тьмы у самой земли, она повесила на шею
овце лилию-колокольчик. Мы подобрали овцу чуть
дальше, на равнине. И вот появилась третья фигура, ли¬
цо ее скрывал саван, сзади по стеблям камыша воло¬
чился рваный шлейф. И снова я увидел, как она надела
на жалобную овцу колокольчик, тающей рукой привя¬
зав ей на шею лилию. Так явилось нам двенадцать жен¬
щин; мы подобрали за ними двенадцать овец и, направ¬
ляя наше стадо руками, как делают пастухи, если у них
нет посоха, повели его сквозь мрак, среди камышей и
лютиков, по незнакомой дороге.
Когда мы вернулись к лодке, уже посветлело. Эллис
лихорадило, у нее был легкий бред. В тот день я заме¬
тил — наверно, впервые,— что у нее светлые волосы;
светлые — и этим все сказано.
Фелука вновь двинулась вверх по течению. Потяну¬
лись долгие дни, нет слов выразить их однообразие. Ка¬
залось, мы стоим на месте — так похожи были друг на
друга берега. Течение незаметно замедлялось, потом и
вовсе остановилось: мы гребли в стоячей воде, глубо¬
кой и темной. С обеих сторон возникли кипарисовые
аллеи, и от каждой ветки на реку ложилась суровая
тень; тяготившая наши души. Весла с глуховатым рит¬
мичным плеском погружались в воду и, поднимаясь, ро¬
73
няли вниз тяжелые капли, словно слезы. Больше тиши¬
ну не нарушало ничто. Склонясь над речной гладью, мы
видели свои лица увеличенными и темными, ибо вода
больше не отражала неба — его заслоняли кипарисы,
постепенно ставшие исполинскими. Мы часто смотре¬
ли на черную воду и на наше отражение в ней. Эллис
бредила на дне лодки, нараспев произнося пророчества.
Мы чувствовали, что близок переломный момент в на¬
шей истории. И правда, гигантские кипарисы вскоре по¬
редели. Но мы были слишком подавлены тьмой и тиши¬
ной, чтобы по-настоящему удивиться невероятному об¬
стоятельству: течение появилось снова, но река потек¬
ла вспять. Теперь мы двигались по ней назад. И как в
повести, которую читаешь с конца, или как в зеркале
прошлого, мы повторили в обратном порядке весь свой
путь: проплыли вдоль тех же берегов, заново пережили
всю пережитую скуку. Бесстрастные аисты все так же
ловили червей в береговой тине... Не хочу описывать
вновь это беспросветное уныние — довольно и одной
мучительной попытки. И не стану жалеть о несоразмер¬
ности временных периодов в моем рассказе, ибо если
обратный путь по летаргической реке и был так же до¬
лог, как путь вперед, то я этого не заметил: я больше не
смотрел ни на берега, ни на хмурую воду, только мысль
об Эллис заполняла для меня бегущее время. Еще я по¬
долгу разглядывал, склонясь над водой, незнакомые
черты в себе самом: искал в своих печальных глазах от¬
вета на смутные мысли и видел горечь сожаления, за¬
печатленную в складках губ. Эллис! Не читай, не для
тебя я пишу эти строки! Тебе не понять никогда всего
отчаяния, которым полнится моя душа.
Но река скуки кончилась. Вновь посветлела вода,
низкие берега исчезли, мы опять оказались в море. Эл¬
лис невнятно бредила в глубине увеличившейся лодки.
Вода становилась все прозрачнее, можно было разгля¬
деть каждый камень на дне. Размышляя о недавней ску¬
ке и далеких благоуханных купаниях, я созерцал под¬
водную равнину. Мне вспомнилось, как Морген в садах
74
Айатальнефиды спускался под воду и гулял среди мор¬
ских трав. Я хотел было напомнить ему об этом, но
вдруг увидел на песке, под водорослями, погребенный
под водой город, похожий на голубой мираж. В расте¬
рянности я замер. Я смотрел, не решаясь ничего сказать
остальным. Лодка медленно скользила. Проступили го¬
родские укрепления; улицы были занесены песком, но
не все — некоторые зеленели меле высоких стен, слов¬
но узкие глубокие долины. Все. было синевато-зеленое.
Водоросли свисали с балконов на площадь, где стла¬
лись карликовые фукусы. Видна была тень церкви.
Видна была тень лодки, проплывавшая над могилами
кладбища; спали недвижные зеленые мхи. Море было
безмолвно, в волнах играли рыбы.
— Морген!' Морген! Посмотрите! — воскликнул я.
Но он уже и сам смотрел.
— Вам жаль? — спросил он.
Я по привычке не ответил. Но потом, поддавшись
внезапному лирическому порыву, отчасти извинительно¬
му после всей пережитой скуки, я от радости, что вновь
вижу город и город этот безмолвен, заговорил нараспев:
—Ах! Как было бы нам хорошо на паперти этой цер¬
кви, под прохладной водой! Какое наслаждение — влага
и тень! И колокольный звон под водяным пологом! И по¬
кой, покой, Морген!.. Вы вед ь не знаете, что терзает ме¬
ня. Она ждала, но я ошибся. Эллис вовсе не та, за кого я
ее принимал. Нет, Эллис Белокурая — не настоящая Эл¬
лис, произошла печальная ошибка. Теперь я вспомнил: у
той волосы были темные, а глаза сияли светло, как ду¬
ша. Ее душа была пылкой и неистовой, а голос — спо¬
койным, ибо она склонна к созерцательности. А я подо¬
брал на берегу хрупкую печальницу. Почему? Мне с са¬
мого начала не понравился ее зонтик, потом плед, потом
рассердили ее книги. Ведь не затем люда путешествуют,
чтобы таскать за собой свои прежние мысли. А она рас¬
плакалась, когда я ей все это сказал. Сначала я думал:
ах, как же она переменилась! Но теперь вижу, что она
просто не та. И это самое невероятное из всего, что слу¬
чилось за время нашего плавания. Едва увидев ее на бе¬
регу, я почувствовал ее неуместность. Но что же теперь
75
делать? Ведь это отвлекает от путешествия, к тому же
меня раздражает плаксивая чувствительность.
Но Морген явно не понимал меня, и я начал снова,
более спокойно...
В тот день, почти сразу после столь важного для ме¬
ня разговора, на горизонте показались первые айсберги.
Их принесло течением из холодных морей. Казалось,
они не тают, а испаряются, рассеиваются в воздухе, буд¬
то голубые туманы среди лазури. Самые первые, кото¬
рые нам встретились, от соприкосновения с теплой во¬
дой утратили плотность. Они были пусты и прозрачны,
так что лодка легко проходила сквозь них, и мы бы ни¬
чего не заметили, если бы не внезапная волна прохлады.
Их становилось все больше, а к вечеру появились
очень высокие. Мы по-прежнему проплывали сквозь
них, но они уже были плотнее, и лодка не без труда про¬
кладывала себе путь. Наступила ночь, и в темноте мы бы
вовсе перестали их видеть, если бы в них не преломлял¬
ся свет звезд, делаясь более тусклым, влажным и размы¬
тым. Так незаметно совершился переход — куда более
ощутимый в рассказе, чем в действительности,— от рос¬
кошных южных берегов и солнечных садов через хму¬
рые, пасмурные края к ледяным морям, за которыми
ждали нас безжизненные арктические пространства.
Так же незаметно утрачивала реальность немощная
светловолосая Эллис: волосы ее совсем обесцветились,
а она сама становилась с каждым днем все бледнее,
прозрачнее и, казалось, скоро исчезнет совсем.
— Эллис,— сказал я ей наконец тоном, который
должен был ее подготовить,— вы являетесь помехой
для моего слияния с Богом, и я не смогу любить вас, ес¬
ли вы тоже не растворитесь в нем.
И когда на снежном берегу, где вился легкий дымок
над хижинами эскимосов, мы оставили ее, чтобы плыть
дальше к Полюсу, она была уже почти нереальна.
Там же оставили мы Ивона, Хелана, Агизеля и Лам-
бега, захиревших от скуки и полумертвых от сонливо¬
сти, чтобы спокойно плыть дальше к Полюсу.
76
Плавание по Ледовитому океану
Небо в красках поздней зари; пурпурные отсветы на
море и бледно-голубые льды в радужных бликах. Зяб¬
кое пробуждение на ослепительно ясном воздухе, не
согретом теплыми ветрами. Северный остров, где мы
оставили накануне Эллис Бледную и четверых наших
больных спутников, постепенно исчезал вдали: нежная
дымка у горизонта, соединявшая небо с каемкой волн,
казалось, поднимала его, покачивала и убаюкивала.
Восьмером мы собрались на палубе для утренней мо¬
литвы, серьезные, но не печальные, и над кораблем
спокойно зазвучал гимн. Небесное ликование наполни¬
ло наши души, как в тот день, когда мы пили из родни¬
ка горную воду. Чувствуя радость общего порыва и что¬
бы не дать ему рассеяться и угаснуть, я сказал:
—Тяжкие испытания миновали. Далёко позади уны¬
лые края скуки, где нас едва не покинула жизнь, и еще
дальше — берега запретных наслаждений. Назовем же
себя счастливыми, ибо нам дано было это изведать. Дру¬
гой дорога сюда нет: к высоким областям ведут лишь са¬
мые трудные пути. Мы движемся к божественному гра¬
ду. Солнце сегодня раскраснелось, оттого что было та¬
ким тусклым вчера. Наша воля выявилась в сопротивле¬
нии, но и томительная праздность среди серых равнин
тоже не была бесполезной, ибо отсутствие пейзажа пре¬
доставило нашим неуверенным душам свободу. Среди
этой скуки ничто не влияло на них, не мешало понять,
Чуда их влечет по-настоящему. И теперь, когда мы на¬
чнем действовать, это будет наш подлинный выбор.
Пока мы молились, встало солнце. Море заиграло
отраженными бликами. Лучи скользнули по волнам, и
засверкавшие льды ожили и затрепетали.
К полудню появилось несколько китов, они держа¬
лись вместе, а при встречах со льдинами уходили под
воду. Потом выныривали снова, но к кораблю ни разу
не приближались.
Теперь приходилось опасаться гигантских айсбер¬
гов. Вода, еще относительно теплая, незримо подтачи¬
вала их основание, и в какой-то момент ледяная гора
77
вдруг накренялась: вершина ее обрушивалась, подни¬
мая вокруг бурю, потом всплывала в каскадах низвер¬
гавшейся воды и долго еще качалась на потревоженных
волнах, ища устойчивости. Величественный грохот па¬
дения катился вдаль по гулкому морю. Иногда, разбрыз¬
гивая пену, обваливались целые ледяные хребты. Весь
плавучий горный пейзаж непрестанно менялся.
Ближе к вечеру мимо нас проплыла ледяная грома¬
да, сквозь которую даже не проходил свет: в первый
момент мы решили, что перед нами неизвестная земля,
покрытая большим ледником. С вершин катились
ручьи, по берегу бегали белые медведи. Наш корабль
прошел так близко, что его реи, задев за выступ ледя¬
ного карниза, снесли несколько больших сосулек.
Проплывали и такие, в которых просвечивали вмерз¬
шие камни — осколки неведомых пород, оторвавшиеся от
родного ледника и обреченные вечно носиться по морям.
Потом проплыло несколько льдин вместе. Случайно
сблизившись, они зажали китов, приподняв их над во¬
дой, и киты словно парили в воздухе. Так, стоя на палу¬
бе, мы созерцали дрейф льдов.
Наступил вечер. В свете заката ледяные горы стали
опаловыми. Приплыли новые: за ними тянулись ддане-
видные водоросли, тонкие и длинные, будто кудри
пленных сирен. Потом они преобразились в сети, и лу¬
на запуталась в них, как пойманная медуза, как перла¬
мутровая голотурия. Вырвавшись на свободу, она стала
голубоватой. Задумчивые звезды блуждали, кружили и
опускались в море.
Около полуночи появился в таинственном лунном
сиянии огромный корабль. На нем не видно было ни
людей, ни огней. Он прошел мимо нас, но мы не услы¬
шали ни плеска вода, ни голосов команды. Внезапно
мы поняли, что он застрял во льдах. Двигался он мед¬
ленно и беззвучно, потом исчез.
Незадолго до рассвета, когда свежеет ветер, к нам
приблизился прозрачный ледяной островок. В нем, слов¬
но волшебное яйцо, словно плод в хрустале, сверкал бес¬
смертный самоцвет. Будто утренняя звезда плыла по мо¬
рю, и мы не могли отвести от нее глаз. Она была чиста,
78
как свет Лиры, но, когда взошло солнце, лед растаял и
выронил ее в море. В тот день мы поймали кита.
Здесь кончаются воспоминания и начинается мой
дневник без дат.
К сверкающей пучине бурь и пены, где смертный ни
од ин не нарушал покоя диких гаг и альбатросов, спустил¬
ся на качающемся тросе бесстрашный Эрик, а в руке его
блестел широкий нож — смерть лебедей. Дыханье холо¬
да идет от синих волн, и ветер с них срывает гребешки.
Большие перепуганные птицы снялись и кружат, оглу¬
шая пришельца шумом крыльев. Цепляясь за скалу, где
закреплен натянутый канат, мы смотрим вниз: ловец по¬
вис над гнездами. Вот он спустился ниже, в птичий
вихрь. Покрытые бесценным пухом, спят маленькие га¬
ги. Эрик, убийца птиц, напал на выводок; птенцы просну¬
лись и в страхе силятся взлететь, но Эрик вонзает нож в
комочки пуха и, чувствуя на пальцах кровь, хохочет.
Кровь заливает крылья, крылья бьются, и кровь разбрыз¬
гивается по скалам. От крови заалели волны, и пух пун¬
цовый по ветру летит. Большие птицы в ужасе стремят¬
ся спасти потомство! Они когтят охотника, но он удара¬
ми ножа их убивает. И поднимается над морем, между
скал, безумный смерч, как пена белоснежный. Он под¬
нимается все выше, выше, гонимый ветром прочь, и
перья кружат и исчезают в небе, в синей безд не.
На сланцевых утесах вьют гнезда кайры. Самки си¬
дят на яйцах, самцы снуют вокруг. Они пронзительно
кричат, их крики и шум крыльев оглушают, едва при¬
близишься. Они летают тучами и кружат, застя солнце.
А самки ждут, степенно и безмолвно рассевшись в ряд
под длинным гребнем скал. Они высиживают по одно¬
му яйцу. Они несут их даже не в гнездо, а прямо на ска¬
лу, на скользкий склон. Как если б это просто был по¬
мет. Они сид ят на яйцах торжественно и чинно, придер¬
живая их когтями и хвостом, чтоб не скатились.
Корабль рискнул пройти меж двух утесов, чтобы по¬
пасть в угрюмый узкий фьорд. Его отвесные прямые сте¬
ны уходили в прозрачность вод, в неведомую глубь, и
79
нам порой казалось, будто это там мы видим просто от¬
ражение скал. Но под водою скалы были темными, а
сверху — белыми от птиц. Самцы так галдели, что мы
почти не слышали друг друга. Мы плыли очень медлен¬
но, и они будто не замечали нас. Когда же Эрик, ловкий
пращник, метнул в них несколько камней и каждый в
мутной туче птиц убил по две-три, упавших на воду вбли¬
зи от корабля, фьорд содрогнулся от ужасных птичьих
криков и всполошились самки. Покинув брачную скалу,
надежду продолжения рода, они взлетели, оглашая воз¬
дух надсадным клекотом. Страх обуял все птичье вой¬
ско. Мы устыдились, слыша этот гвалт и, главное, уви¬
дев яйца, которые катились вниз по скалам. Гора покры¬
лась битой скорлупой и страшной желтовато-белой
слизью. А наиболее самоотверженные самки пытались
унести яйцо в когтях, но яйца падали и разбивались о го¬
лубую воду. Море стало мутным. Мы были смущены и
поспешили прочь, не в силах вынести яичный запах.
...Вечером, в час молитвы, оказалось, что исчез Парид.
Мы искали и звали его до темноты, но так и не нашли.
Эскимосы живут в снежных хижинах, которые воз¬
вышаются над равниной чуть заметным бугорком, буд то
могилы, но тут вместе с телом погребена и душа; лишь
слабый дымок возносится к небу. Эскимосы уродливы;
они низкорослы; их любовь лишена нежности; они не
знают сладострастия, их наслаждение — теологическое.
Они не злые и не добрые; их жестокость бесстрастна. В
хижинах у них темно и душно. Они не работают и не чи¬
тают, хотя и не спят; тусклый светильник едва рассеива¬
ет темноту их бдения. Темнота вечна, поэтому им не
нужны часы и они не знают, что это такое; им некуда то¬
ропиться, и мысли их медлительны. Индукция им не зна¬
кома, зато из трех зыбких допущений они выводят це-.
лую метафизику. Мысль эскимосов движется от Бога к
человеку — их жизнь и есть это движение: они отмеря¬
ют свой возраст по той точке, которой достигли. Есть
среди них такие, которые не достигают собственного су¬
ществования; есть и такие, которые это сознают. У них
80
нет общего языка; они всецело поглощены высчитывани¬
ем. О, я мог бы еще порассказать о них, ибо хорошо их
изучил. Они приземисты, у них приплюснутый нос — по¬
тому что они не следят за собой. Их женщины не боле¬
ют. Они занимаются любовью в темноте.
Я говорю о мыслящих эскимосах; некоторые на рас¬
свете вновь торжествующего дня, оборвав цепь силло¬
гизмов, отправляются по замерзшему морю и чуть под¬
таявшему снегу охотиться на северного оленя и на мор¬
жа. Они ловят и китов и возвращаются с наступлением
ночи, нагруженные новыми жирами.
В каждом климате свои напасти, в каждом краю
свои недуги. На тропических островах нас подстерегала
чума, в стране болот — бледная немочь. Теперь болез¬
нью грозило само отсутствие радостей плоти. Солонина,
нехватка свежей зелени, лишения, которые мы терпели
с радостью, и упрямое ожесточение стихий, услаждав¬
шее нашу гордыню,— все это постепенно истощило на¬
ши силы, и, когда души наши рвались, ликуя, к послед¬
ним свершениям, жестокая цинга приковала наши из¬
можденные тела к палубе, и мы страшились умереть, не
достигнув цели. О, избранные цели, самые дорогие на¬
шему сердцу! Четыре дня пролежали мы так, неподале¬
ку от долгожданной земли, глядя, как ее ледяные пики
обрушиваются в незамерзшее море. Наверно, тут бы и
окончилось наше плавание, если бы не чудодействен¬
ный эликсир, добытый Эриком в хижине эскимосов.
Наша кровь стала слишком жидкой, она сочилась
отовсюду, текла из десен, из носа, из-под век, из-под
ногтей. Словно перестав совершать обычный круговой
путь по сосудам тела, она при малейшем нашем движе¬
нии выливалась наружу, как из опрокинутой чашки, а
под кожей, в наиболее нежных местах, растекалась си¬
неватыми лужицами. В голове мутилось от постоянной
тошноты, затылок был налит болью. Все зубы шатались,
и сухари — пища моряков — оказались для нас несъе¬
добны. Сваренные в воде, они превращались в густую
клейкую кашу, где зубы вязли и оставались навсегда.
81
Рисовые зерна царапали десны, так что мы могли те¬
перь только пить. И, лежа без сил на палубе, грезили
целыми днями о спелых фруктах, о сочной мякоти див¬
ных плодов на тех незабвенных искусительных остро¬
вах. Но даже теперь мы бы, наверно, к ним не притро¬
нулись. Мы радовались, что Парида уже нет с нами и
ему не довелось разделить наши муки. Но кровооста¬
навливающий эликсир постепенно победил болезнь.
Наступил вечер последнего дня: солнце целого по¬
лугодия скрылось за краем земли. Сумеречный свет
долго еще держался после заката. Солнце зашло без
агонии, без пурпура в облаках, просто постепенно ис¬
чезло, но его последние отсветы еще доходили до нас.
Начинались великие холода. Море замерзло и сковало
корабль. Льды с каждым часом крепли и грозили его
раздавить. Он стал ненадежным убежищем, и мы реши¬
ли его покинуть. Но я хочу, чтобы было ясно: мы посту¬
пили так не от отчаяния и не из трусливого чувства са¬
мосохранения, нет, это было сознательное безумие, ибо
мы еще могли, взломав лед, повернуть прочь от зимы и
отправиться туда, куда ушло солнце,— но это означало
бы назад в прошлое. Поэтому, предпочитая берега
сколь угодно суровые, лишь бы это были берега буду¬
щего, мы двинулись пешком навстречу ночи, ибо день
наш завершился. Мы знали, что счастье не есть отсут¬
ствие скорби. Сильные и гордые, мы отправились ис¬
кать за пределами страдания источник чистой радости.
Из корабельных досок мы сделали сани, запрягли в
них оленя, погрузили дрова, топоры, веревки. Послед¬
ние лучи угасали, мы готовились вдга к Полюсу. На па¬
лубе было место, где лежали снасти и куда мы никогда
не заглядывали. Ах, печальный дар последнего света!
Перед тем как навсегда покинуть корабль, я обошел его
весь и, приподняв моток канатов, чтобы взять их с со¬
бой,— о горе! что я увидел? — Парида! Мы тщетно ис¬
кали его. Он был слишком истощен, чтобы двигаться,
слишком слаб, чтобы отозваться, и спрятался там, как
собака, которая забивается в угол, чтобы умереть. Но
разве это был прежний Парид? У него вылезли все во¬
лосы и борода, рядом на полу белели выплюнутые зу¬
82
бы. Фиолетовая кожа, вся в перламутровых разводах,
висела клочьями, как полинялая ветошь,— смотреть на
это не было сил. Глаза без ресниц ввалились, и я снача¬
ла не мог понять, видит ли он нас, ибо он утратил спо¬
собность улыбаться. Опухшие десны, раздутые, словно
огромные сливы, выступали изо рта, выворачивая нару¬
жу губы; посредине торчал единственный зуб. Он попы¬
тался протянуть мне руку, но хрупкие кости не выдер¬
жали и сломались. Я хотел пожать ее, но она распалась,
оставив у меня на пальцах кровь и гниль. Наверно, он
увидел слезы в моих глазах и они отняли у него послед¬
нюю надежду, ибо он вдруг приподнялся и испустил
хриплый вопль, отдаленно напоминавший рыдание.
Уцелевшей рукой, не сломанной моим пожатием, в тра¬
гическом и поистине безысходном отчаянии он схватил
свой последний зуб вместе с вывернутыми губами и,
словно хохоча, оторвал огромный кусок лица. Потом
вновь рухнул, уже мертвый.
В тот вечер, в знак великого траура, мы сожгли ко¬
рабль. Ночь воцарялась медленно и величественно.
Огонь победоносно взметнулся, от него вспыхнуло мо¬
ре. Запылали мачты и палуба, и, когда, поглотив ко¬
рабль, багровое пламя утихло, мы, оставив позади непо¬
правимое прошлое, двинулись к Полюсу.
Безмолвная ночь на снегу. Темнота. Одиночество.
А, это ты, ледяное спокойствие смерти! Пространство
без минут и часов. Отсветы дня погасли. Все очерта¬
ния скованы льдом. На тихой равнине мороз и непо¬
движность. Неподвижность. И покой. О восхищение
души! В воздухе ни малейшего трепета, но лед такой
яркий, что излучает рассеянное свечение. Все бледно-
голубого ночного цвета. Не луна ли? Луна. Я вышел в
поисках места для молитвы. Передо мной застывший
в экстазе пейзаж. Эллис! Настоящая, а не та, которую
я подобрал! Неувядающая Эллис, не здесь ли ты меня
ждешь? Я готов идти еще дальше, но я жду твоего сло¬
ва — и скоро все будет кончено. Я искал ее утрачен¬
ный образ, и душа моя произнесла обращенную к ней
83
молитву. Потом ночь вновь погрузилась в холодную
безучастность.
Зачем ждать зари? Никто не знает, когда она при¬
дет. Додать вне времени не имеет смысла. Немного
подремав во тьме, мы двинулись к Полюсу.
Чистые гипсовые формы! Соляные карьеры! Белый
мрамор надгробий! Слюда! Белизна среда мрака. Лег¬
кий иней, как ты улыбался бы при солнце! Хрустальный
убор ночи! Пышный снег! Застывшая в падении лавина!
Дюны лунной пыли, гагачий пух на пене волн, айсберги
молчаливых надежд! Мы ступали по снегу, время не то¬
ропило нас, ибо все часы уже истекли. Степенная мед¬
лительность наших движений сообщала им торжествен¬
ность. Так мы шли, все семеро —Ален, Аксель, Морген,
Натанаэль, Идье, Эрик и я — к избранной цели.
Они спали. В снежной хижине было тихо, снару¬
жи — беззвездная ночь. Чистая невинность заиндевелой
равнины осветляла тьму, по земле сеялся слабый блеск.
Я вышел, чтобы помолиться. Встав на колени, я увидел
Эллис. Она задумчиво сидела неподалеку на камне.
Платье ее было цвета снега, волосы — чернее, ночи.
— Эллис! Это ты! — воскликнул я, зарыдав.— Нако-
нец^го я тебя узнаю!
Но. она оставалась безмолвной, и я сказал:
— Разве ты не знаешь, что я пережил, когда потерял
тебя? По каким безрадостным краям скитался с тех
пор, как твоя рука перестала меня направлять? Однаж¬
ды на берегу мне почудилось, будто я тебя нашел, но то
оказалась всего лишь женщина. Ах, прости, я так долго
тебя желал! Куда поведешь ты меня теперь, в этой по¬
лярной тьме, Эллис, сестра моя?
— Пойдем,— сказала она и, взяв меня за руку, пове¬
ла на вершину скалы, с которой открывался ввд на море.
Я взглянул. Внезапно тьма расступилась, разверз¬
лась, и во всю ширь неба вспыхнуло северное сияние.
Оно отражалось в море. Это был необозримый водопад
света, беззвучная лавина, лучей, и тишина ее оглушала,
как глас Всевышнего. Непрестанное мерцание пурпур¬
ного пламени казалось биением Божественной воли.
Не слышно было ни звука. Ослепленный, я зажмурил¬
84
ся, но Эллис коснулась моих сомкнутых век, я вновь от¬
крыл глаза и увидел теперь только ее одну.
—Уриан! Уриан, печальный брат мой! Зачем не оста¬
лась я лишь твоей грезой! Помнишь, как мы играли ког¬
да-то? Зачем захотел ты от скуки удержать мой случай¬
ный образ? Ты ведь знал, что не настал еще срок и не на
земле возможно обладание. Я жду тебя по ту сторону
времени, среди вечных снегов. Не из цветов, а из снега
нас ожвдает венец. Твое путешествие кончится, брат
мой. Не огладывайся в прошлое. Есть еще земли, кото¬
рых ты не познал и которые никогда не познаешь. Для
чего тебе знать их? У каждого только одна дорога, и все
они ведут к Господу. Но не в этой жизни глаза твои уз¬
рят его славу. Бедное дитя, которое ты принял за меня,—
как мог ты так ошибиться? — услышало от тебя жесто¬
кие слова. А потом ты ее покинул. Ее не существовало,
это ты создал ее. Теперь тебе придется ее подождать,
ибо эта душа не сможет одна достичь Божьего града. Ах,
как бы мне хотелось с тобой вместе, вдвоем — только
ты и я — пройти по звездной дороге к чистому свету. Те¬
перь тебе придется вести с собой ту, другую. Вы закон¬
чите свое странствие. Но этот конец будет обманчивым,
ибо все завершается только в Боге. Поэтому не отчаи¬
вайся, когда тебе покажется, что перед тобой смерть. За
небом есть еще небо; пределы удаляются бесконечно.
Мой возлюбленный брат, будь тверд в Надежде.
Она наклонилась и огненными буквами написала на
снегу слова, которые я прочел, опустившись на колени:
И ВСЕ СИИ НЕ ПОЛУЧИЛИ ОБЕЩАННОГО —
ДАБЫ ОНИ НЕ БЕЗ НАС ДОСТИГЛИ
СОВЕРШЕНСТВА10.
Я хотел ее удержать, молил поговорить со мной еще
и протянул к ней руки, но она во тьме указала мне на
северное сияние и, медленно распрямившись, начала
подниматься воздушной дорогой, словно ангел, уносив¬
ший с собой груз молитв. Она возносилась все выше, и
платье ее превратилось в свадебный наряд; я видел, как
блестели на нем рубиновые броши. Оно светилось луча¬
ми всех семи мистических камней — их сверкание дол¬
85
жно было сжечь смертные глаза, но от протянутых рук
Эллис исходила такая небесная нежность, что я не ощу¬
щал боли. Она больше не смотрела на меня, поднима¬
ясь все выше, выше, пока не достигла наконец сияющих
врат, где должна была скрыться за облаком... Но туг
свет еще более яркий ослепил меня, облако раздвину¬
лось, и я узрел ангелов. Эллис смешалась с их толпой,
и я уже не узнавал ее среди них. Ангелы раскачивали
на вытянутых руках то, что я принял за северное сия¬
ние и что оказалось на самом деле занавесом, заслоняв¬
шим сияние нетленное: каждый язычок пламени в нем
был одним из прозрачных покровов, сквозь которые
проступал Свет. Большие лучи пробивались снизу из-
под небесной завесы, но, когда, ангелы на миг раздви¬
нули ее, из облака вырвался такой крик, что, заслонив
глаза рукой, я, пораженный ужасом, повергся наземь.
Когда я поднялся, ночь уже вновь сомкнулась. Вдали
шумело море. Вернувшись к хижинам, я застал своих то¬
варищей спящими; я лег рядом с ними и забылся сном.
Путь к Полюсу. От непомерной белизны вокруг
рождается странное свечение, все окружено его орео¬
лом. Метет метель, и летящий по ветру снег кружит,
стелется, вьется, колышется, как знамя или как волосы.
Путь нам то и дело преграждают препятствия, поэтому
продвигаемся мы очень медленно — приходится то и
дело прорубать во льду ступени и коридоры. Я не хочу
рассказывать о наших трудах: они были столь тяжкими
и изнурительными, что может показаться, будто я жа¬
луюсь. Не хочу рассказывать ни о морозах, ни о наших
страданиях, ибо сказать: мы столько выстрадали! —
значит не сказать ничего. Все, что могут вызвать в че¬
ловеческом воображении эти слова, ничтожно по срав¬
нению с тем, что мы вынесли на самом деле. Слова бес¬
сильны выразить ту предельную остроту страдания, ког¬
да оно переходит в радость и гордость; не передать им
и бешенство мороза, боль его волчьих укусов.
На самом севере путь нам преградила ледяная сте¬
на. Огромный замкнутый кратер высился перед нами,
86
словно крепость. К нему вело некое подобие дороги —
глубокий узкий овраг, куда монотонный ветер наметал
снег, летевший из-за стены. Если бы мы шли не в связ¬
ке, то наверняка утонули бы в этих сугробах. Нас так
измучил долгий переход среди пурги, что, пренебрегая
опасностями ночевки на снегу, мы улеглись спать. Сте¬
на защищала нас от ветра, образуя неглубокую пещеру,
где мы укрылись от снегопада. Мы легли на дощатые
сани, подстелив шкуру убитого оленя.
Пока остальные шестеро спали, я вышел один из ук¬
рытия посмотреть, не кончился ли снегопад. Сквозь пе¬
лену метели мне привиделась задумчивая Эллис на фо¬
не белой скалы. Она как будто не замечала меня. Взор
ее был устремлен к Полюсу, волосы разметались, их
трепал ветер. Я не посмел заговорить с ней: она казалась
слишком печальной, и я засомневался, она ли это. И, по¬
скольку невозможно одновременно вершить свой путь к
цели и предаваться печали, я вернулся & пещеру спать.
Благодаря неистовству ветра, снег летит из-за стены
поверх наших голов. Мы стоим у подножия, в том мес¬
те, куда привел нас странный снежный овраг. Стена,
гладкая, как зеркало, и прозрачная, как хрусталь, обра¬
зует здесь небольшое углубление, не заметенное сне¬
гом. Дно его прозрачно, как и низкий свод. Заглянув
сюда и склонясь в предчувствии скорби, мы прочли на¬
чертанные словно алмазом по стеклу и подобные голо¬
су из могилы два слова:
HIC DESPERATUS*
Чуть ниже стояла стершаяся дата.
А под ней мы увидели — ибо все семеро, не сгова¬
риваясь, упали на колени — тело человека, лежавшего
в прозрачной толще льда. Лед принял его, словно сар¬
кофаг, а холод уберег от тления. Были ясно видны чер¬
ты его лица и в них — невыразимая усталость. В руке
он держал листок бумаги.
* Здесь отчаялся (лат.).— Примеч. пер.
87
Путешествие подходило к концу, но у нас еще хва¬
тало сил для подъема на ледяную стену, ибо цель нахо¬
дилась за ней — мы были уверены в этом, хотя и не зна¬
ли, что эта цель собою представляет. Теперь, когда мы
все сделали, чтобы ее достичь, нам это было уже не так
важно. Мы еще постояли на коленях перед леданой мо¬
гилой, без чувств, без мыслей, ибо дошли до того пре¬
дела, когда невозможно сострадать другому, не оплаки¬
вая самого себя, и когда отводишь глаза от чужих печа¬
лей, дабы сохранить силы. Твердость духа достигается
лишь очерствением сердца. И скорее поэтому, чем от
нежелания нарушать покой мертвеца, мы не взломали
лед, хотя нам очень хотелось прочесть послание, кото¬
рое покойник держал в руке. Сотворив короткую мо¬
литву, мы встали и начали восхождение.
Не знаю, откуда налетал ветер, поднимавший пургу,
но едва мы перебрались через стену, как метель стих¬
ла и стало почти тепло. Склон с той стороны оказался
пологим, его устилал подтаявший снег. Потом шла по¬
лоса травы, а за ней — небольшое незамерзшее озеро.
Наверно, стена была круглой и замкнутой, ибо уровни
располагались точно друг под другом и внутри царило
полное безветрие, а вода в озерце апатично дремала.
Мы не сомневались, что это конец: дальше идти было
некуда. Оставалось только спуститься к берегу, но что
надлежало там совершить, мы не знали, и, дабы увенчать
наше путешествие неким действием, которое придало бы
ему смысл, мы приняли благочестивое решение вернуть¬
ся за неизвестным мертвецом и похоронить его на вож¬
деленном берегу. Ибо наверняка он, как и мы, проделал
весь этот путь, чтобы его увидеть, и нам было жаль его,
так и не достигшего цели, хотя она была совсем близко.
Мы вернулись к могиле и взломали лед, но, когда
захотели прочесть послание, оказалось, что листок бу¬
маги совершенно пуст. От этого разочарования послед¬
няя искра интереса в нашей душе угасла. И, перенеся
тело на узкий полярный берег, все мы про себя подума¬
ли, что для покойного, наверно, все сложилось к лучше¬
му и если бы он сумел добраться сюда живым, то, веро¬
ятно, начертал бы над своей могилой те же слова.
88
Занимался серый рассвет, и последнее, что мы сде¬
лали, стараясь отвлечься от наших мыслей, это выкопа¬
ли могилу под травянистым дерном, между снегом и
озерцом.
Нам не хотелось больше возвращаться в цветущие
края: там лежало прошлое без тайн. К жизни не возвра¬
щаются. Знай мы заранее, что ждет нас здесь, куда мы
так стремились, наверно, мы бы остались дома. Поэтому
мы возблагодарили Бога за то, что он скрыл от нас цель
и заставил искать ее так далеко, ибо усилия, которые мы
во имя этой цели совершили, подарили нам радость,
единственно подлинную, а еще за то, что столь великие
страдания вселяли в нас надежду на великий конец.
Мы были бы не прочь измыслить еще какую-нибудь
хрупкую надежду, более благочестивую. Утолив свою
гордыню и чувствуя, что от нас не зависит более совер¬
шение нашей судьбы, мы теперь ждали, чтобы жизнь
стала чуть менее обманчивой.
И, опустившись вновь на колени, стали вглядывать¬
ся в черную воду, ища в ней отражение неба, которое
мне снится.
ПОСВЯЩЕНИЕ
Я обманул вас, дорогая!
Мы никуда не уезжали.
Не видел я фламинго стаи
и не бывал в садах Востока,
и не для нас сирены пели
так упоительно-жестоко.
Я мог отвергнуть плод прекрасный
во имя смутной высшей цели,
мог рук не целовать, хмелея,
царице Острова соблазнов...
Мог... Так и было, но в мечтах.
Я упивался гордой позой —
но только это был мираж,
да, это были только грезы.
Наверно, я бы устоял,
89
но я не встретил искушений,
хотя я жаждал их и ждал.
Я вам солгал. Простите, Эллис!
Обитель мыслей, грез и книг
мы никогда не покидали
и, глядя издали на жизнь,
ее не знали. Мы читали.
Вы приходили по утрам,
устав опять всю ночь молиться.
Простите, Эллис, я вам лгал:
все в этой книге — небылицы.
Зато я не срывался в крик —
мечты не надрывают душу...
Я раз хотел увидеть жизнь:
вы помните, как мы однажды
вгляделись в суть вещей земных —
о, как же это было страшно!
В них оказалось все так важно,
зловеще, и такая власть
дана им грозная над нами,
что я не смог о них писать!
Я отшатнулся, виноват!
Я предпочел им ложь фантазий,
чтоб не нарушить криком боли
поэзию в своем рассказе,
отважившись поведать Правду,
в которой боль и благодать...
Нет, я предпочитаю лгать,
и ждать, и ждать — и вечно ждать...
Лето 1892 г.
Ла Рок11
ОПЫТ ЛЮБВИ,
ИЛИ ТРАКТАТ
О ТЩЕТНОСТИ
ЖЕЛАНИЙ
ПОВЕСТЬ
Франсису Жамму1
Желание подобно пламени —
одно его прикосновение все обра¬
щает в пепел; первый же порыв
ветра развеет этот легкий прах. За¬
думаемся о вечном.
Кальдерон. Жизнь есть сон
Наши книги, вероятно, никогда не были правдивы¬
ми историями нашей жизни — мы лишь изливали в
них свои мечтательные жалобы, рожденные жаждой
иного, неведомого и недоступного бытия. Греза, кото¬
рую я собираюсь доверить бумаге, тревожила меня
больше других, требуя воплощения. Весной меня томи¬
ла жажда счастья. Мне хотелось чего-то необыкновен¬
ного. Я желал счастья, как будто не существует на све¬
те других желаний, как будто прошлое не всегда одер¬
живает над нами победу, как будто жизнь не склады¬
вается из привычных печалей, как будто моя душа не
обладает способностью забывать о недавних мечтах и
погружаться, как сейчас, в привычные занятия.
Каждая книга — это неосуществленное искушение.
Ни навязчивые людские законы, ни страх, ни цело¬
мудрие, ни угрызения совести, ни уважение к себе и
своим замыслам, ни даже ты, печальная смерть, ни
ужас неизвестности, ожидающей за гробом, не остано¬
вят меня на пути к желанной цели. Ничто — лишь гор¬
дость, столь неукротимая, что сама же толкает меня
бросить ей вызов, сломить ее. Но надменная радость,
уготованная этой победой, не столь сладка, не столь
упоительна, как искушение отдаться вашей власти, о
желания! сдаться без боя.
С приходом весны я почувствовал, как истерзана моя
душа всем, даже этой незаслуженной милостью. Смут¬
ные желания заполняли мое мучительное одиночество.
93
Как-то утром я пошел гулять в поля. Сияло солнце; я шел,
мечтая о счастии. Конечно, думал я, есть на свете и дру¬
гие земли, кроме этих унылых песчаных холмов, где ду¬
ша моя ищет сейчас свое утешение. Смогу ли я когда-ни¬
будь, избавившись от мрачных мыслей, вкусить солнца и
радости; забыть о прошлом и, отбросив обветшавшие ве¬
рования, объять все счастье будущего, самозабвенно и
безоглядно. Вечером мне было страшно вернуться до¬
мой: я чувствовал, что новые тревоги готовы овладеть
мной. Я отправился в лес, надеясь развеять там, как это
всегда бывало, свою печаль. Наступила ночь и залила все
вокруг лунным светом. Лес затих, населился волшебны¬
ми тенями. Вздохнул ветер, проснулись ночные птицы.
Я углубился в лес. Под моими ногами светился песок, и
этот светлый путь направлял мои шаги. Ветер колыхал
деревья, сквозь листву белел зыбкий туман, нависший
над лесом. Ближе к полуночи на листьях выступила ро¬
са, в воздухе поплыли ароматы. Лес благоухал, словно
влюбленный. В траве послышались шорохи. Каждое
очертание, казалось, жаждало гармонии, обретало ее и
насыщалось ею. Качнулись огромные чаши цветов, пыль¬
ца, легче тумана, поднялась облаком. Тайная радость, ра¬
дость изнемогания угадывалась в шорохах трав. Я ждал.
Горестно кричали ночные птицы. Вдруг все стихло. На¬
ступил предрассветный миг тишины. И вот безмятежная
радость овладела мной, одиночество растворилось в бла¬
годати бледнеющей ночи.
Qualquiera ventio que sopla. *
Первый же порыв ветра развеет этот легкий прах.
I
Наступил рассвет. Люк, продрогший от утренней све¬
жести, вышел из дремлющего леса с огромной охапкой
цветов в руках и остановился на опушке, дожидаясь вос¬
хода солнца. Перед ним расстилался луг, укутанный
влажной пеленой, пестрящий цветами, сверкающий кап¬
* Какой бы ветер ни подул (искаж. исп.).— Примеч. пер.
94
лями водяных испарений. Люк замер в ожидании сча¬
стья, доверяясь и предчувствуя, что оно снизойдет на не¬
го с небес, подобно рою невиданных бабочек. Ему каза¬
лось, что ждать осталось недолго. Рассвет трепетал бес¬
конечной радостью, и весна расцветала улыбкой. Воз¬
дух дрогнул пением, показалась вереница девушек.
Промокшие в траве, безумные, с растрепавшимися
за ночь волосами, они собирали цветы, и босые ноги
танцевали в приподнятых юбках-корзинах. Утомив¬
шись, они направились в низину к источнику и здесь,
плескаясь в воде и любуясь своим отраженьем, готови¬
ли тело к наслаждениям дня.
Расставшись, они больше не вспоминали друг о друге.
Рашель возвращалась одна, задумавшись. Она собра¬
ла рассыпанные цветы и принялась рвать еще, не заме¬
чая приближения Люка. Она собирала лютики, шалфей
и ромашки — цветы лугов. Люк же принес белладонну
оврагов и фиолетовые гиацинты. Он подошел совсем
близко к Рашели: теперь она плела венок. Люку хоте¬
лось вплести в него свои цветы, но он не решался. Вне¬
запно он бросился к ее ногам.
— Эти сумрачные лесные цветы,— говорил он,— я
собирал всю ночь в тенистом овраге. И вот появились
вы — значит, я собирал их для вас. Вы прекрасны, как
весна, вы еще более молоды, чем я. Утром я смотрел, как
мелькали в танце ваши ноги. Вы были с подругами, и я
не решался приблизиться. Теперь вы одна, для меня вы —
ед инственная. Прошу вас, возьмите мои цветы. Пойдем¬
те со мной, научим друг друга чудесным наслажденьям.
Рашель слушала, улыбаясь; Люк взял ее за руку, и
они ушли вдвоем.
Весь день они дурачились и смеялись. Вечером Люк
вернулся домой. Наступила ночь, для Люка — бессон¬
ная. Покинув горячую постель, он то и дело принимал¬
ся ходить по комнате, распахивал окно. Ему хотелось
быть еще моложе и красивее, ибо великолепие любви
двух существ, думал он, есть великолепие их тел. Всю
ночь Люк желал Рашель. Утром он бросился к ней.
К ее дому вела сиреневая аллея; дальше за низкой
оградой начинался сад, полный роз. Еще издалека Люк
95
услышал пение Рашели. Он пробыл с ней до вечера и
вновь пришел на следующий день. Так приходил он
каждый день. Едва проснувшись, он спешил к ней. Ра¬
шель, улыбаясь, его поджидала в саду.
Проходили дни. Люк не мог ни на что решиться. Ра¬
шель переступила запретную грань первой. Однажды
утром, не найдя ее в обычном месте под деревьями,
Люк осмелился подняться к ней в спальню. Рашель,
почти обнаженная, прикрытая лишь полусоскользнув-
шей шалью, сидела на постели. Волосы ее были распу¬
щены. Она ждала. Люк подошел, покраснел, улыбнул¬
ся... Увидев ее тонкие, точеные ноги, он вдруг ошутил
всю их хрупкость. Опустившись на колени, он принял¬
ся их целовать, потом откинул край шали.
Люк жаждал любви, но телесное обладание пугало
его своей грубостью. Наше безрадостное воспитание на¬
учило нас связывать мысль о наслаждении не с карти¬
ной сияющей безмятежности, а со слезами и печалью,
горечью и отчужденностью. Мы не смеем молиться о
счастии. Но нет, Люк не таков. Что за смехотворное же¬
лание — вечно оставаться одним и тем же, якобы самим
собой. Люк овладел этой женщиной.
Передать охватившую их радость можно, лишь опи¬
сав ликование природы, которая не просто их окружа¬
ла, но, казалось, сочувствовала им. Поглощенные сво¬
им счастием, они больше не могли думать ни о чем дру¬
гом: вопросы стали желаниями; ответы — утолением
желаний. Они проникали в тайны плоти, и их близость
становилась день ото дня все сокровенней.
Однажды вечером он, как обычно, собирался ухо¬
дить.
— Почему вы покидаете меня? — спросила она.—
Если вас ждет другая возлюбленная, что ж, ступайте —
я не ревнива. Если нет — останьтесь. Идите ко мне; мое
ложе ждет вас.
С тех пор он оставался на ночь.
День ото дня становилось все теплее, ночи были так
прекрасны, что Люк и Рашель больше не закрывали ок¬
но: спали залитые лунным светом. Под окном рос розо¬
вый куст, усыпанный цветами. Несколько веток они пе¬
96
рекинули через окно, и запах пленных роз смешивался
с ароматом букетов в комнате. Занятые любовью, они
засыпали лишь под утро; просыпались поздно, со следа¬
ми ночной усталости, как после опьянения. Они умыва¬
лись в саду, в прозрачном источнике. Люк смотрел, как
голая Рашель плещется в воде среди листвы. Затем они
отправлялись на прогулку.
Часто в ожидании вечера они праздно сидели в тра¬
ве, смотрели на закат. Потом, когда воздух делался по-
вечернему мягким, медленно возвращались домой. Мо¬
ре было недалеко. Ночью, во время сильных приливов,
слабо доносился плеск волн. Иногда они спускались на
пляж. Туда вела узкая извилистая лощина. Ни одного
ручья не протекало по ней, склоны заросли дроком, ве¬
тер гнал по песку волны. Дальше открывался пляж, по¬
том залив, в который не заходили ни корабли, ни лодки.
Море здесь было спокойно. Противоположный загибаю¬
щийся берег залива, казалось, образовывал вдали остров.
Там им рисовалось что-то похожее на роскошную парко¬
вую решетку; по вечерам она сверкала, словно отлитая
из золота. Вскоре Рашель больше не могла отыскать ни
одной ракушки в песке, и они заскучали у моря.
Невдалеке лежала деревня, но туда они избегали хо¬
дить, чтобы не видеть нищих.
Когда дождь или лень удерживали их дома, Люк ус¬
траивался в ногах раскинувшейся на подушках Рашели.'
Она просила рассказать ей какую-нибудь историю.
— Рассказывайте,— говорила она,— а я буду вас слу¬
шать. Если я задремлю, не останавливайтесь. Расскажите
мне о весенних садах и, знаете, о тех высоких террасах.
И Люк рассказывал о террасах, о каштановых алле¬
ях, о висячих садах.
—Утром пришли девочки и принялись водить хорово¬
ды. Солнце стояло низко, деревья отбрасывали длинные
тени. Потом появились стройные задумчивые девушки.
Они гуляли среди цветов и плели гирлянды — как те, Ра¬
шель, что плетете вы. К полудню явились пары. Солнце
стояло высоко над деревьями, под густым сводом их вет¬
вей, в тенистой аллее было немного свежее. Гуляющие
вполголоса переговаривались. Еще немного погодя, ког¬
97
да солнце уже не так слепило глаза, стало возможно
смотреть на равнину. Само Лето, казалось, было разлито
по ней. Гуляющие облокачивались на балюстраду, пере¬
гибались вниз. В стороне уселись женщины; одни мотали
шерсть, другие — занимались вязаньем. Часы текли за
часами. Кончились уроки, пришли школьники, стали иг¬
рать в шары. Вечерело. Осталось лишь несколько одино¬
ких фигур. Все, кто еще не ушел, заговорили о минувшем
дне, как о свершенном деле. Тень от террасы спустилась
на равнину. Далеко, на краю горизонта появилась на свет¬
лом небе тонкая и бледная луна. Я забрел как-то ночью
на пустынную террасу...— Люк замолчал.
Рашель задремала, убаюканная его рассказом.
В конце весны они совершили еще одну далекую
прогулку. Взобравшись на холм, где стоял дом, они об¬
наружили, что посредине противоположного склона
протекает канал. По обеим сторонам его росли тополя,
вдоль по склону бежала дорожка. Они перебрались по
мосту через канал и, спасаясь от жгучего солнца, про¬
должали путь у воды. Волны зноя поднимались из лощи¬
ны, воздух в полях дрожал. Дорога вдали пылила, когда
по ней проезжала повозка. На равнине они увидели Ле¬
то. Дорожка, деревья, канал точно описывали рельеф
холма; Люк и Рашель следовали за течением воды по бе¬
регу. На другом берегу начинался лес. Вот и все. Они
шли очень долго. Видя, что так будет продолжаться бес¬
конечно, они повернули назад когда почувствовали, что
с них довольно.
II
Мадам, эту историю я рассказываю вам. Помните,
как наша печальная любовь заблудилась среди песча¬
ных холмов. Некогда вы жаловались — не так ли? — на
то, что я не умею улыбаться. Итак, эта история для вас:
в ней я пытался рассказать о том, что дает любовь; ес¬
ли я описал лишь скуку, то это моя вина: вы давно оту¬
чили меня быть счастливым.
Как короток рассказ о любви, как быстро он исто¬
щился. Как банальна улыбка, лишенная печати порока
98
или меланхолии. Впрочем, какое нам дело до чужой
любви — любви, которой счастливы другие. Бог с ни¬
ми... Да, Люк и Рашель любили друг друга. Скажу даже,
что в ту пору ничто больше для них не существовало.
Скука, посещавшая их, происходила лишь от избытка
счастья. Их обычным занятием стал сбор цветов. Они не
оттягивали утоление желания, и вкус томительного ожи¬
дания был им незнаком. Им был чужд жест, которым
отталкивают именно то, что жаждут заключить в объ¬
ятья,— о, мы-то умели это делать! — из страха облада¬
ния, мадам, и из любви к патетике. Они немедля срыва¬
ли цветы желаний, не заботясь о том, что в их горячих
руках они скоро вяли. Счастливы те, кто, подобно им,
умеют отдаться любви! Они почти не ощущали устало¬
сти, ведь утомляет не любовь и не грех, а раскаяние.
Они привыкли не заглядывать в пучины прошлого. Они
еще не познали печали и поэтому умели быть счастли¬
выми. Их память вмещала лишь воспоминания о поцелу¬
ях и объятьях, которым можно было предаваться вновь
и вновь. Это было время, когда их жизни полностью рас¬
творились одна в другой. Наступило летнее солнцестоя¬
ние; в ослепительно голубом небе, высоко над ними, за¬
стыли ветви деревьев, величественные и прекрасные.
Лето! Лето! Эти слова можно распевать, как священ¬
ный гимн. Пять часов утра. Довольно спать. Рассвет! В
поля! Знали б они, сколько свежей росы на траве, ледя¬
ных капель под озябшей стопой; видели бы они луче¬
зарность полей и полудрему равнины, улыбку зари,
встречающую раннего путника, думаю, они позабыли
бы сон... Но Люк и Рашель утомлены поцелуями ночи,
и истома любви заливает их грезы радостью, которая
ярче, чем солнце в рассветных полях...
Однажды утром они вышли рано из дома и спусти¬
лись в лощину к тому самому каналу, вдоль которого гу¬
ляли как-то весной. На этот раз они не стали взбирать¬
ся на холм, а просто обогнули его и вышли к месту, где
канал соединяется с широкой рекой. По каналу барки
обычно тянули волоком до реки. Перебравшись по пло¬
тине на другой берег, они пошли по пути волока. Слева
от них текла река, справа — канал. На другом берегу
99
тоже виднелась дорога. Все пять параллельных путей
пролегали рядом в узкой лощине и пропадали за гори¬
зонтом. В тот день их прогулка была долгой, но расска¬
зывать о ней неинтересно.
Им захотелось еще раз увидеть море. Они спусти¬
лись на пляж и уселись на песок. Волнами недавней бу¬
ри вынесло из морских глубин на берег раковины, об¬
рывки водорослей, щепки. Непрекращающийся гул
мощных волн оглушал. Рашели вдруг стало не по себе:
она почувствовала, что Люк задумался о чем-то своем.
Подул холодный ветер; их охватила дрожь; они подня¬
лись с песка. Люк шел впереди, шел нарочито быстро.
На берегу валялся изъеденный солью, почерневший
брус, загадочный обломок погибшего корабля или дере¬
ва с далеких островов... Внезапно Люк и Рашель оста¬
новились. Люк устремил взгляд на море; Рашель не¬
вольно прижалась к нему, склонилась головой на пле¬
чо, смутно ощущая проснувшуюся в нем тоску и жажду
приключений. Так они стояли долго. Солнце садилось,
оно медленно тонуло в заливе, там, где меж двух высо¬
ких мысов бесконечное море сливалось с небом.
Солнце медленно погружалось в море, его послед¬
ние, предсмертные лучи упали на решетку незнакомого
парка, видневшегося на другом берегу, образующем ос¬
тров. Решетка вдруг засверкала неописуемым, почти
сверхъестественным блеском. Люк и Рашель были так
поражены, что не могли произнести ни слова: прутья, на
вид скорее золотые, чем стальные, казалось, светились
сами собой. Впрочем, они могли быть просто отполиро¬
ваны. Любопытно было то, что через решетку что-то
проглядывало, но что именно — определить было невоз¬
можно. Люк и Рашель почувствовали, что неведомо по¬
чему не смеют об этом друг с другом заговорить.
На обратном пути Рашель нашла в песке икринку
кальмара, огромную, черную, упругую на ощупь и такой
странной, неестественной формы, что оба они сочли
эту находку знаменательной для себя.
Воспоминание об этом дне оставило в них какое-то
смутное беспокойство, и часто они поневоле возвраща¬
лись мыслью к скрытому за оградой саду у моря... Он не
100
давал им покоя, и как-то утром они решили совершить к
нему поход. Лодки у них не было, и они собирались про¬
сто идти вдоль берега, пока он не приведет их к цели.
Они поднялись до рассвета и отправились в путь. Бы¬
ло сумеречно и прохладно. Они шли, как паломники,
серьезные, тихие, сосредоточенные, впервые задумав¬
шиеся о чем-то помимо самих себя. Даже любопытство
исчезло, уступив место чуть ли не чувству долга. Но мо¬
жет быть, довольно о них, мадам? Они, кажется, начи¬
нают нам почти нравиться. Впрочем, не все ли равно...
Впервые они шли, не обращая внимания на дневной
зной, подталкиваемые вперед одной настойчивой мыс¬
лью — это была мысль, а не просто желание. Рашель не
жаловалась на осыпающийся щебень дороги и зыбкий
песок, в котором увязали ноги. Они шли то по берегу
моря, то через поля, брели вдоль какой-то речушки, по¬
ка не заметили мост,— потом возвращались обратно,—
потом опять через поля... О! Наконец они очутились
почти у подножия высокой ограды. За ней — сад.
Сад выглядел неприступным — его окружал ров, вы¬
ложенный камнями и наполненный морской водой, ко¬
торая била и била о берег, желая, казалось, сомкнуться
над ним. Ограда выдавалась в море в виде известкового
мыса. Кроме этого мрачного возвышения, ничего раз¬
глядеть было невозможно. Они прошли вперед. Ров кон¬
чился. Они пошли вдоль ограды. Солнце налилось тяже¬
стью, дорога тянулась по-прежнему, стены ограды в этот
час не давали тени. Они заметили дверцу, скрытую плю¬
щом. Дверца была заперта. Ограда незаметно закругля¬
лась, солнце тоже как бы описывало круг, по мере того
как истекал день, и, казалось, следовало за ними. Через
ограду свисали неподвижные ветви деревьев. Из сада
доносились звуки, напоминающие нескончаемый смех,
но ведь и шум фонтанов часто похож на звучание слов.
Вдруг перед ними открылось море. Их охватила тоска.
Перед тем как отправиться обратно, они присели отдох¬
нуть. Ограда и с другой стороны заканчивалась камен¬
ным мысом, выступающим в море. Морская волна, за¬
ключенная в неприступный ров, била о берег. Их прон¬
зила грусть, разлилась по телу, заполнила целиком. Осо¬
101
бенно их утомила напрасная ходьба. Солнце исчезло за
садом. Тень от ограды сгущалась и скрывала, как им ка¬
залось, какую-то тайну. Иногда до них долетал звук, на¬
поминающий постукивание пальцев по стеклу, но сто¬
ило им замедлить шаг, он затихал, и они решили, что это
шум в ушах от быстрой ходьбы. Когда они вернулись до¬
мой, давно уже стояла ночь.
На следующий день они отдыхали.
— Раз уж лень удерживает меня сегодня около
вас,— сказала Рашель,— расскажите мне о летней заре.
Люк начал так:
— Стояло лето. Еще не рассвело. Птиц не были
слышно, лес едва пробуждался.
— О! Лучше не лес; а аллея,— воскликнула она.—
Заря зарождается, а птицы еще не запели потому, что в
глубокой лощине медлит ночь; но свет уже заливает
верхушки холмов.
— К этому вышнему свету,— продолжал Люк,— ус¬
тремляли свой путь два рыцаря, направляясь к плоско¬
горью, что наверху. Всю ночь скакали они по долине.
Проделав немалый путь в стороне от солнечного света,
они держались молчаливо и важно, и высокие дубы ал¬
леи простирали над ними свои ветви. Лошади их мед¬
ленно ступали по крутизне дороги. По мере подъема
свет вокруг прибавлялся. На плоскогорье совсем рас¬
свело. По плоскогорью шла другая аллея, наперерез
первой, более широкая, ведущая к вершине холма. Ры¬
цари остановились. Один из них сказал: «Расстанемся,
брат, нас зовут разные пути — моей храбрости ваша бу¬
дет в тягость. Где один за себя постоит — второй ни к
чему». И тот ответил: «Прощай, брат». Они повернулись
друг к другу спиной, и каждый поскакал вперед, к оди¬
ноким победам. И тут проснулись птицы. В листве за¬
шуршали любовные поединки, в воздух поднялись хоро¬
воды насекомых. Послышалось жужжание пчел; на лу¬
жайках перед ними открылись свежие цветы. Все кру¬
гом утонуло в легких шорохах.
Там, где плоскогорье обрывалось, виднелась лишь
листва; ниже, в долине, где уже рассветало, колыха¬
лись вершины деревьев; еще ниже стоял туман. О! Нам
102
бы пришлось склониться над обрывом, чтобы увидеть
как олени спускаются к воде.
— А что же два рыцаря? — спросила Рашель.
— Оставим их,— сказал Люк,— давайте мечтать об
аллее.— К полудню там появилась группа молодых
женщин. Они шли, держась за руки, как вы с вашими
подругами. Они смеялись. Потом пришли мужчины в
шелковых костюмах, расшитых веселыми блестками.
Рассевшись, компания завязала беседу.
День угасал. Все приутихли; тени протянулись по
мхам. Компания отправилась любоваться закатом. А ал¬
лея наполнилась суматохой и шорохами: все готовилось
ко сну. Потом шорохи смолкли. Наступил вечер. Кача¬
лись ветви деревьев. Серые стволы казались таинствен¬
ными в полумраке. Запели ночные птицы. Из сгустив¬
шейся ночи появились два рыцаря. Разъехавшись поут¬
ру, они теперь возвращались назад. Рыцари скакали на¬
встречу друг другу, лошади их, казалось, смертельно
устали. Сами они понурили головы, но держались еще
более важно, ибо ничего не достигли. Встретившись,
они поскакали по аллее, что спускалась с холма, не про¬
износя ни слова, растворились во мраке ветвей.
—Люк, но зачем покидать свой дом? — спросила
Рашель,— ради чего отправляться в путь? Разве не в вас
вся моя жизнь?
— Но моя жизнь, Рашель,— сказал Люк,— не вся в
вас.
III
Мадам, эта история мне наскучила. Для вас не секрет,
что если порой мне случается высокопарно выражаться,
то только в присутствии других, но никогда не наедине с
собой. Мне хотелось поведать о соответствиях между че¬
ловеческой душой и временами года. Пришлось дойти до
осени: не люблю бросать начатое на полпути.
Две души как-то встретились. Обе собирали цветы и
сочли себя сестрами. Взявшись за руки, они вместе про¬
должили путь. В прошлом у них не было ничего общего.
И вот руки разжались: во имя прошлого каждая останет¬
103
ся одинокой. Разлука их неизбежна, ибо лишь общее про¬
шлое может сроднить души. Жизнь души непрерывна.
Знаете, встречаются и такие,— вы это знаете, не так ли,
мадам? — которые идут рядом, но никогда не сходятся.
Люк и Рашель расстались. На один-единственный день, на
одно мгновение лета переплелись их пути — едва сопри¬
коснулись — и вот уже каждый смотрит вдаль.
По-прежнему они приходили к воде и садились на пе¬
сок. Люк смотрел на море, Рашель — на берег. Времена¬
ми они пытались оттянуть развязку любви, одаако на¬
слаждение было лишено новых ощущений. Любовь ис¬
черпалась, и Люк был счастлив предвкушением ухода.
Рашель не удерживала его больше. Пока они еще вместе
гуляли, бродили, погруженные в мечтания, вернее, в ду¬
мы, уже почти не видя друг друга, глядя куда-то вдаль.
Любовные грезы теперь не тревожили Люка, но любовь
их оставила им сказочно-сладкое воспоминанье, как за¬
пах прекрасных увядших цветов — тех, что некогда они
сплетали в гирлянда,— но без печали, но без печали.
Так целыми днями бродили они, томились, молчали.
За великолепие красок осенней листвы и чудесное от¬
ражение в воде они полюбили дремлющие воды и мед¬
ленно гуляли вдоль берегов. Лес стоял торжественный
и полный звуков; опадающие листья открывали гори¬
зонт. Люк грезил о необъятности жизни. Я говорю так,
потому что сам грежу о том же; думаю, и он грезил об
этом. Люк и Рашель мне надоели. Мадам, что могу я
вам еще рассказать о них?
Им захотелось еще раз увидеть сад за чудесной ре¬
шеткой. Пройдя вдоль ограды, они отыскали потайную
дверцу, некогда наглухо запертую. Теперь она легко от¬
крылась. Они вошли — их встретил заброшенный сад.
Невозможно описать великолепие аллей. Осень
усыпала лужайки сухими листьями, кое-где свисали по¬
ломанные ветки, дорожки заросли травой. Молча они
шли среди кустов, усыпанных красными ягодами. Вок¬
руг распевали малиновки. Я люблю великолепие осени.
Попадались каменные скамейки, садовые статуи, по¬
том они увидели дом — ставни закрыты, двери заколо¬
чены. В саду еще жило воспоминание о празднике; от
104
перезревших фруктов прогибались шпалеры. Близился
вечер; они повернули назад...
— Расскажите мне об осени,— попросила Рашель.
— Осень,— начал Люк,— лес и темный пруд у опуш¬
ки. Приходят олени, и раздается звук охотничьего рога.
Тайо! Тайо!2 Лай собак,— олени бросаются бежать.
Пройдем дальше по старому лесу. Охота ближе, мгно¬
вение — и уже позади. Заметили богатую упряжь? Звук
рога все дальше, вот он тонет в лесу. Спустимся вновь
к тихому пруду; там уже вечереет.
— Ваша история глупа,— сказала Рашель. Причем
здесь «упряжь» — это все давно устарело. К тому же я
не переношу гама. Пора спать.
Люк оставил Рашель одну — он еще не хотел спать.
Вскоре после этого они расстались. Прощание про¬
шло без слез и без улыбки — тихо и просто. Их исто¬
рия подошла к концу.
Вот и осень, мадам. Идет дождь, леса безжизненны,
скоро наступит зима. Я думаю о вас; моя душа горит ров¬
ным пламенем; я сижу у камина, вокруг меня разложены
книги; я один; размышляю, прислушиваюсь. Вернется ли
к нам наша чудесная любовь, исполненная тайны? Я сча¬
стлив; я живу; во мне рождаются высокие мысли.
Вот я и рассказал вам эту историю, которая обоим
нам наскучила. Теперь нас призывают к себе более
серьезные дела. Я знаю, что на море, в океане жизни
нас ожидают бурные крушения, погибшие матросы и
еще не открытые острова. Но мы опять засядем за кни¬
ги, и желания наши найдут себе более твердую почву.
Вот почему, мне кажется, мы веселее прочих смерт¬
ных. Однако иногда, устав от долгого чтения, я отправ¬
ляюсь под дождем в лес смотреть, как проходит осень.
Я знаю, что после таких прогулок, вечером, вернувшись
домой, я сяду у огня, пьяный от полноты жизни, гото¬
вый рыдать от счастья, чувствуя, как рождаются во мне
смелые замыслы. Я жив. Я буду жить, я буду действо¬
вать! Больше всего мы любили великие молчаливые
произведения. Это будет одновременно поэма, история
105
и драма; мы погрузимся в самую гушу жизни, как это
делали вы, моя задумчивая, моя неспокойная сестра.
Теперь мне пора в путь, но только представьте себе все
прелести путешествия...
Однако мне бы хотелось — вот и зима настала —
вместе с вами закончить этот рассказ. Однажды ближе
к вечеру мы, может быть, отправимся вдвоем в какой-
нибудь голландский городок: улицы занесены снегом, но
на замерзших каналах снег разметен. И мы, наверное,
будем кататься на коньках, долго-долго, пока не окажем¬
ся за городом, в полях, ще рождается снег; потом, бес¬
конечно белый, он укутывает землю. Приятно вдыхать
ледяной воздух. Наступает ночь, повсюду сверкает снег.
Мы возвращаемся домой. Теперь мы вместе садем в
комнате у огня. Окна занавешены. Все наши мысли
вновь с нами. Тогда, сестра моя, вы скажете мне:
— Нет такой вещи на свете, ради которой стоило бы
свернуть со своего пути. Насладимся же всем, не пре¬
рывая движенья. Цель наша лежит дальше — постара¬
емся не ошибиться. Все на свете проходит; пусть же
цель наша пребывает неизменна — и вперед, в путь. О,
горе тем незорким душам, которые за цель принимают
преодоление препятствий. Не бывает множества
целей; ничто на свете не есть ни цель, ни препятст¬
вие —да, даже не препятствие. Нужно просто идти впе¬
ред. Наша единая цель — Бог; и мы никогда не потеря¬
ем ее из вида, потому что все вокруг отражает божест¬
венный свет. Устремим же к Нему наши пути. Перед
нами открыта дорога, которую лишь мы сами мо¬
жем сделать прекрасной... По одну сторону от
нее — произведения искусства, по другую — картины
природы. Постараемся же, чтобы души наши были пре¬
красны и радостны. Ибо из слез рождаются печали.
Объекты наших желаний подобны следам застыв¬
шей накипи, которая под пальцами обращается в прах.
— Qualquiera ventio que sopla.
Пусть же ветры моей мысли развеют этот прах.
Лето 1893 г.
Ипор — JIa Рок
ТОПИ
ПОВЕСТЬ
Моему другу Эжену Fyapy1
я посвятил эту сатиру ни о чем
р^][^
Die cur hie *
Другая школа
Прежде чем объяснять мою книгу другим, я жду,
что они сами объяснят ее мне. Объяснять ее заранее —
значит заранее сужать ее смысл; ибо если мы знаем,
что намеревались сказать, нам не дано знать, только
ли это сказано. Говоришь всегда больше, чем ЭТО. И
особенно мне в ней интересно то, что я вложил в нее
помимо воли,— та доля бессознательного, которую я
назвал бы долей Божественного Провидения. Книга
всегда плод сотрудничества, и тем выше книга ценит¬
ся, чем меньше вложил в нее переписчик, чем больше
участие в ней Бога. А посему давайте подождем ото¬
всюду толкования о сути вещей; а от публики — тол¬
кования наших творений.
ЮБЕР
Вторник
К пяти часам на дворе посвежело; я закрыл окна и
снова принялся писать.
В шесть часов пришел мой большой друг Юбер; он
возвращался из манежа.
Он сказал:
— Вот как! Ты работаешь?
Я ответил:
* Скажи, почему этот (лат.).
—Я пишу «Топи».
— Что это такое?
— Книга.
—Для меня?
— Нет.
— Чересчур ученая?..
— Скучная.
— Так зачем ее писать?
—А иначе кто же ее напишет?
— Опять исповеди?
— На сей раз почти нет.
—Тогда что же?
— Садись.
И когда он сел, я сказал:
— Я прочел у Вергилия две строки2:
Et tibi magna satis quamvis lapis omnia nudus
Limosoque palus obducat pascua junco *.
Я перевел:
— Это разговор пастуха с пастухом; один говорит
другому, что, хотя на его поле, конечно, многовато кам¬
ней и болот, оно тем не менее его устраивает; он впол¬
не им доволен и поэтому счастлив. Согласись, ничего
умнее и не придумаешь, когда нельзя сменить поле...
Юбер ничего не ответил. Я продолжил:
— «Топи» — это история одного человека, который
лишен возможности путешествовать; у Вергилия его зо¬
вут Титир; «Топи» — это история человека, который,
владея полем Титира, не хочет избавляться от него, а,
напротив, вполне доволен своей судьбой; вот так...
Рассказываю:
— В первый день он констатирует, что доволен своим
полем, и размышляет, что же с ним делать? На второй
день, рано поутру, когда, над полем пролетает стая диких
уток, он убивает четырех птиц и на ужин съедает двух,
* Да и довольно с тебя, хоть пастбища все окружает / Ка¬
мень нагой да камыш, растущий на иле болотном (Вергилий.
Буколики. М.: Художественная литература, 1979. С. 39). Пер.
с яат. С. Шервинского.— Примеч. пер.
110
изжарив их на слабом огне из веток кустарника. На тре¬
тий день он строит себе лачугу из тростника — целое раз¬
влечение. На четвертый день он съедает двух оставших¬
ся уток. На пятый день он разрушает свою лачугу и умуд¬
ряется построить дом попросторней. На шестой день...
— Хватит! — сказал Юбер,— я понял, дорогой друг,
ты можешь писать.
И он ушел.
Уже совсем стемнело. Я сложил бумаги. Я еще не
обедал; я вышел из дому; к восьми часам я был у Ан-
жель.
Анжель еще была за столом, доедая фрукты; я сел
рядом и принялся очищать для нее апельсин. Принесли
конфитюр, и, когда мы снова остались одни:
— Что вы делали сегодня? — осведомилась Анжель,
готовя мне тартинку.
Мне не припомнилось никаких дел, и я ответил:
«Ничего», но, тотчас сообразив, что этот неосмотри¬
тельный ответ потребует долгих объяснений, я вспом¬
нил о визите и воскликнул:
— Мой большой друг Юбер приходил ко мне в
шесть часов!
— Он только что был здесь,— вновь заговорила Ан¬
жель; и тут же соскользнула на наш старый спор: — Он-
то по крайней мере хоть что-то делает,— сказала она.—
Хоть чем-то занимается.
Я уже говорил, что я-то не делал ничего; я разозлился:
— Что? А что такого делает он? — спросил я...
И ее понесло:
— Много чего он делает... Прежде всего он ездит
верхом... и потом, вы же хорошо знаете, он член четы¬
рех промышленных компаний; вместе со своим двою¬
родным братом руководит еще одной компанией, по
страхованию от града,— я только что подписала стра¬
ховку. Он посещает курсы популярной биологии и каж¬
дый вторник вечером сам выступает с публичными до¬
кладами. Он достаточно знает медицину, чтобы оказать
помощь при несчастном случае. Юбер делает еще и не
такое! Пять неимущих семей обязаны ему тем, что вооб¬
ще сумели выжить; он устраивает рабочих, которым не
111
хватает работы, к предпринимателям, которым не хва¬
тает рабочих. Больных детишек он направляет в дерев¬
ню, в оздоровительные заведения. Чтобы обеспечить ра¬
ботой молодых незрячих людей, он создал мастерскую
по набивке старых кресел соломой. Несомненно, по вос¬
кресеньям он охотится... А вы, что делаете вы?
—Я,— сказал я в некотором смущении,— я пишу
«Топи».
— «Топи»? Что это такое? — спросила она.
Мы закончили нашу трапезу; я возобновил разговор
уже в салоне, когда оба мы оказались в углу у камина:
— «Топи»,— начал я,— это история одного холостя¬
ка. живущего в башне, окруженной болотами.
—А! — сказала она.
— Его зовут Титир.
— Гадкое имя.
— Вовсе нет,— возразил я,— это же из Вергилия.
Что до меня, то я не умею придумывать.
— Почему холостяк?
— О!.. Потому что так проще.
— И это все?
— Нет, я рассказываю, что он делает.
— И что же он делает?
— Он осматривает болота...
— Зачем вы пишете? — спросила она после неболь¬
шой паузы.
— Я? Я не знаю, да, наверно, затем, чтобы что-то де¬
лать.
— Прочтите мне это,— сказала Анжель.
— Как вам будет угодно. У меня как раз с собой че¬
тыре или пять листочков.— Я тотчас извлек их из кар¬
мана и прочел как можно более вяло:
ДНЕВНИК ТИТИРА,
ИЛИ «ТОПИ»
«Лишь голову приподнимешь слегка — в окне виден
сад, которого я еще не успел как следует рассмотреть;
справа — дерево, с которого облетают листья; даль¬
112
ше, за садом, равнина; слева — пруд, о котором я еще
скажу.
Еще недавно в саду цвели мальвы и водосборы, но из-
за моей нерадивости все теперь тут страшно заросло;
со стороны пруда на сад наступали камыши и мхи;
тропинки исчезли в траве; для прогулок уцелела толь¬
ко большая аллея, проложенная от дома до равнины, и
как-то раз я решил по ней пройтись. Вечером лесное
зверье пересекает аллею, чтобы напиться воды из пру¬
да; в сумерках я различаю только серые силуэты, а так
как вскоре наступает ночь, то кажется, что звери ни¬
когда не возвращаются с водопоя».
— На меня все это нагнало прямо-таки страху,—
сказала Анжель,— однако продолжайте, это написано
очень хорошо.
От усилия, которого потребовало от меня это чте¬
ние, я чересчур напрягся.
— О, это почти все,— сказал я ей,— дальше у меня
не написано.
—Так прочтите ваши заметки,— вскричала она,—
это всегда самое интересное! По ним куда лучше ви¬
дишь, что хочет автор сказать, чем потом он сам напи¬
шет об этом.
Тогда я продолжил — даже не пытаясь скрыть сво¬
его огорчения и, хуже того, стараясь придать каждой
фразе незаконченный вид:
«Из окна своей башни Титир может удить ры¬
бу...» — Вот видите, это всего лишь заметки...
—Да продолжайте же!
«Скучное ожидание клева; нехватка наживки, увели¬
чение количества удочек (символ) — по необходимости
он ничего не может поймать».
— Почему?
— Ради правды символа.
— Ну а если он в конце концов что-нибудь поймает?
—Тогда это будет другой символ и другая правда.
—Да никакой правды тут нет, вы подстраиваете
факты так, как вам самому хочется.
— Я подстраиваю факты таким образом, чтобы они
выглядели скорей правдоподобно, чем реально; слиш¬
113
ком сложно вам сразу все объяснить, но нужно быть
уверенным в том, что события и характеры связаны
друг с другом; в этом-то и секрет хороших романов;
все, что происходит с нами, не может предназначаться
другому. У Юбера тут уже был бы потрясающий улов!
А у Титира даже не клюет: в этом психологическая
правда.
— Ну ладно, продолжайте.
«Под водой все те же береговые мхи. Неясность от¬
ражений; водоросли; плавает рыба. Говоря о рыбе, ста¬
раться не называть ее непроницаемым изумлением».
— Еще бы! Но все же, с какой стати эта запись?
— Потому что мой друг Гермоген уже зовет так кар¬
пов.
— Я не нахожу это выражение удачным.
—Тем хуже. Так я продолжу?
—Да, прошу вас, ваши заметки очень интересны.
«На рассвете Титир замечает белые шишки, усеяв¬
шие равнину; соляные копи. Он выходит из дому по¬
смотреть, что там делается. Несуществующий пей¬
заж; очень узкие насыпи между двумя солончаками. По¬
разительная белизна соляных бункеров (символ); это
лучше всего заметно именно в тумане; темные очки,
предохраняющие глаза рабочих.
Титир сует горсть соли в карман и возвращается
в свою башню».— Это все.
— Все?
— Все, что я написал.
— Боюсь, что ваша история может показаться не¬
много скучной,— сказала Анжель.
Нависла продолжительная тишина — и тогда я вос¬
кликнул с чувством:
— Анжель, Анжель, умоляю вас, когда же вы пойме¬
те, что такое сюжет книги? Это то чувство, которое в
конечном счете осталось у меня от жизни, его-то я и хо¬
чу выразить: скука, суета, однообразие — мне-то все
равно, ибо я пишу «Топи», но Титир ведь вообще ниче¬
го не делает; уверяю вас, Анжель, наши жизни намного
тусклей и ничтожней.
— Но я-то так не считаю,— сказала Анжель.
114
— Лишь потому, что вы об этом не думаете. Это и
есть сюжет моей книги; нельзя сказать, чтобы Титир
был недоволен своей жизнью; ему доставляет удоволь¬
ствие созерцать болота; стоит перемениться погоде,
как меняются и они,— ну а теперь взгляните-ка на се¬
бя! Взгляните на вашу жизнь! Сколько времени вы жи¬
вете в этой комнате? Квартплата! Квартплата! И ведь
вы не одна! Окна на улицу, окна во двор; видишь перед
собой только стены или других людей, которые смот¬
рят на тебя... Или вот я сейчас обругаю ваше платье —
уверены ли вы, что после этого мы сможем друг друга
любить?
—Девять часов,— сказала она,— сегодня вечером
Юбер устраивает чтение, извольте же меня отпустить.
— Что он будет читать? — спросил я машинально.
—Уж будьте уверены, не «Топи»\
Она ушла.
Возвратившись к себе, я попробовал переложить на
стихи начало «Топей» — получилось четверостишие:
Лишь голову приподнимешь слегка —
В окне что зимой, что летом:
Поляна среди леска,
В вечную грусть одета.
После этого я заснул, и так закончился мой день.
АНЖЕЛЬ
Среда
Вести записную книжку; расписывать по дням, что
необходимо сделать за неделю, чтобы как можно ра¬
зумней распорядиться своим временем. Все дела ре¬
шаешь сам; когда они намечены заранее и по возмож¬
ности строго, это дает уверенность в том, что по ут¬
рам ты нисколько не зависишь от погоды. Из своей за¬
писной книжки я черпаю чувство долга; я расписываю
свои дела на неделю вперед, чтобы иметь достаточно
времени забыть о них и потом делать себе сюрпризы,
что при моем образе жизни необходимо; таким обра¬
115
зом, я каждый вечер засыпаю перед неизвестным для
меня завтра, которое, однако же, мною уже предре¬
шено.
Моя записная книжка разделена на две части: на
одной странице я намечаю, что должен сделать, на дру¬
гой каждый вечер подвожу итог, что успел сделать. За¬
тем я сравниваю; я вычитаю, и то, что я не сделал, де¬
фицит, становится тем, что мне надлежало сделать. Я
переношу эти дела на декабрь, и это укрепляет меня
морально. Вот так и в это утро напротив пометки: «По¬
стараться встать в шесть часов», я написал: «Встал в
семь» — и тут же примечание в скобках: «Непредви¬
денный срыв». Далее в записной книжке следовали
другие пометки:
«Написать Густаву и Леону.
Удивиться, если не будет письма от Жюля.
Повидать Гонтрана.
Подумать об индивидуальности Ришара.
Обеспокоиться насчет отношений Юбера и Ан-
жель.
Постараться найти время сходить в Ботанический
сад; изучить там разновидности рдестов3 для «Топей».
Провести вечер у Анжель».
И наконец, следующая мысль (я записываю одну та¬
кую мысль накануне каждого следующего дня; по ним
можно судить, было мне грустно или весело):
«Есть вещи, которые приходится проделывать зано¬
во каждый день, просто потому, что ничего другого не
остается; в них нет ни прогресса, ни даже движения —
и, однако, нельзя же не делать ничего... Если рассмат¬
ривать это как движение во времени и пространстве, то
похоже на метания зверя по клетке и на приливы и от¬
ливы. Вспоминаю, что эта идея пришла мне в голову
при виде ресторана на террасе, где официанты прино¬
сили и уносили блюда».
Пониже я сделал пометку: «Подойдет для „Топей"».
И я приготовился подумать об индивидуальности Риша¬
ра. В маленьком бюро я держу свои размышления и
эпизоды из жизни нескольких моих лучших друзей; на
каждого по ящичку; я вынул пачку бумаг и стал читать:
116
РИШАР
Страница I
Превосходный человек; полностью заслуживает
мое уважение.
Страница II
Ценой неимоверного прилежания смог вырваться из
ужасающей нищеты, настигшей его после смерти роди¬
телей. Жива еще его бабущка; он окружил ее благого¬
вейной и нежной заботой, какой часто вознаграждают
старость; однако вот уже много лет назад она впала в
детство. Из сострадания он женился на женщине еще
более бедной, чем он сам, и своей преданностью сделал
ее счастливой. Четверо детей. Я крестный отец хромой
девочки.
Страница III
Ришар испытывал глубочайшее уважение к моему
отцу; он самый надежный среди моих друзей. Он убеж¬
ден, что прекрасно знает меня, хотя никогда не читает
того, что я пишу; именно он дает мне возможность пи¬
сать «Топи»\ когда я думаю о Титире, я думаю о нем; я
хотел бы вообще его не знать.
Анжель и он не знакомы друг с другом; вряд ли бы
они смогли друг друга понять.
Страница IV
Я имею несчастье пользоваться слишком большим
уважением Ришара; вот почему я не осмеливаюсь что-
либо предпринять. Не так-то просто избавиться от ува¬
жения, к которому вы сами не перестали испытывать
привязанность. Не однажды Ришар растроганно уверял
меня, что я не способен на дурной поступок, вот это-то
и удерживает меня от желания порой что-то сделать.
Ришар очень ценит во мне эту пассивность, утверждаю¬
щую меня на путях добродетели, куда толкнули меня и
другие, ему подобные. Он часто называет доброде¬
телью смирение, потому что оно очень подходит для
бедных.
117
Страница V
Целый день работа в бюро; вечером с журналом в
руках Ришар усаживается рядом с женой и заводит раз¬
говор со мной. «Видели ли вы,— спрашивает он,— но¬
вую пьесу Пайрона4?» Он всегда в курсе всего. «Хоти¬
те взглянуть на новых горилл?» — спрашивает он, уз¬
нав, что я отправляюсь в Ботанический сад. Ришар при¬
нимает меня за большого ребенка; для меня это
невыносимо; все, что я делаю, ему кажется несерьез¬
ным; я ему расскажу о «Топях».
Страница VI
Его жену зовут Урсула.
Я взял страницу VII и написал:
«Любая карьера, если она не дарит душевного удов¬
летворения, ужасна,— любая, не приносящая ничего,
кроме денег,— и столь ничтожных, что ее приходится
начинать сызнова каждый день. Топтание на месте!
Придет смерть, а что они сделали? Только место зани¬
мали. Причем я уверен: и место-то было такое же ни¬
чтожное, как они сами!»
Мне это все равно, ибо я пишу «Топи», но в против¬
ном случае мне пришлось бы думать о себе так же, как
о них. В самом деле, необходимо стремиться сделать
наше существование хоть немного разнообразней.
В этот момент слуга принес мне завтрак и письма,—
одно письмо действительно от Жюля, и я перестал удив¬
ляться его молчанию; как каждое утро, я встал на весы,
ибо я слежу за своей фигурой; написал Леону и Густа¬
ву по нескольку фраз, затем, держа в руке мою еже¬
дневную чашку молока (в стиле некоторых лакистов)5,
я подумал: Юбер ничего в «Топях» не понял; он не мо¬
жет поверить, что автор пишет не затем, чтобы развле¬
кать, и не затем, чтобы давать советы. Титир навевает
на него скуку; он не понимает состояния человека, ес¬
ли это не общественное состояние; он полагает, что да¬
лек от всего этого, потому что он состоит из дейст¬
вия,— я должен себе это объяснить. Все к лучшему, ду¬
118
мает он, так как Титир доволен; но именно потому, что
Титир доволен, я не могу быть доволен собой. Напро¬
тив, этого никак нельзя допустить. Я вызову презрение
к Титиру из-за его смиренности...— я только собрался
поразмышлять об индивидуальности Ришара, как раз¬
дался звонок, и сам он, едва успели принести его визит¬
ку, вошел ко мне. Меня это слегка огорчило, я не умею
думать о людях в их присутствии.
— А, дорогой друг! — воскликнул я, обнимая его,—
правда же, какое совпадение! Я думал в это утро о вас.
—Я пришел попросить вас о небольшой услуге,—
сказал он,— о, почти пустяк; но, так как вам делать не¬
чего, я и подумал, что вы сможете уделить мне несколь¬
ко минут; речь идет всего лишь о простой подписи; о
представительстве; мне нужен поручитель; вы ответите
за меня; я вам все объясню по дороге; поспешим: в де¬
сять часов я должен быть на службе.
Я ужасно не люблю казаться праздным; я ответил:
— К счастью, еще нет девяти часов; у нас достаточ¬
но времени; а потом я сразу отправлюсь в Ботаниче¬
ский сад.
—А! — начал он.— Вы хотите увидеть новых...
— Нет, дорогой Ришар,— перебил я его с явной не¬
принужденностью,— я иду посмотреть не на горилл;
мне надо изучить там некоторые разновидности рде¬
стов для «Топей».
И тут же я рассердился на Ришара за свой дурацкий
ответ. Он замолк, не зная, что нам сказать друг другу.
Я подумал: его, должно быть, разбирает смех. Но он
сдерживается. Его сострадание невыносимо. Разумеет¬
ся, он находит мое поведение абсурдным. Он скрывает
от меня свои чувства, чтобы не дать повода мне выка¬
зать такие же чувства по отношению к нему. Но мы оба
знаем, что испытываем их. Наше уважение друг к дру¬
гу взаимно и взаимозависимо; он не осмеливается по¬
давить его в себе, зная, что тотчас потеряет мое. Он
прячется за свою приветливость ко мне... А! Тем хуже;
я-то сочиняю «Топи» — и я осторожно начал:
— Как чувствует себя ваша жена?
Ришар тут же заговорил, как бы сам с собой:
119
—Урсула? А! Моя бедная подружка! Сейчас она ма¬
ется с глазами — переутомилась; могу ли я вам пове¬
дать, дорогой друг, то, чего не рассказал бы никому
другому? Но я же знаю, что вы подлинный друг. Вот вся
история. Эдуард, мой свояк, сильно нуждался в деньгах;
необходимо было их найти. Урсуле это стало известно
в тот же день, когда свояченица Жанна пришла ее на¬
вестить. Так что в ящиках моего стола сделалось почти
пусто, и, чтобы заплатить кухарке, пришлось оставить
Альбера без уроков музыки. Меня это очень огорчало,
потому что музыка для него единственное развлечение
после долгой болезни. Уж не знаю как, но кухарка уз¬
нала обо всем этом; а бедная девушка очень привязана
к нам; да вы ее хорошо знаете, это Луиза. Она пришла
к нам вся в слезах, говоря, что скорее откажется есть,
чем доставит огорчение Альберу. Пришлось согласить¬
ся, чтобы не обидеть эту славную девушку; но я принял
решение — каждую ночь, после того как моя жена за¬
снет, вставать и два часа заниматься переводами статей
с английского, я знаю, кому их предложить, лишь бы со¬
брать деньги и расплатиться с доброй Луизой.
В первую ночь все шло хорошо; Урсула спала глубо¬
ко. На вторую ночь, едва я расположился за столом, кого
бы вы думали, я увидел?.. Урсулу! У нее появилась точно
такая же идея: чтобы заплатить Луизе, она решила делать
небольшие ширмочки, зная, кому их можно предложить;
да вы знаете, у нее определенно есть талант к акварели...
замечательные вещи, мой друг... Мы оба были очень
взволнованы; мы обнялись, плача. Напрасно я уговаривал
ее пойти спать — при том, что она так быстро устает, она
и слышать ни о чем не хотела и как доказательство са¬
мой большой дружбы умоляла позволить ей остаться и ра¬
ботать радом со мной; мне пришлось согласиться, но ведь
она устает. И теперь так каждый вечер. Мы засиживаем¬
ся дольше обычного — бессмысленно сначала идти
спать, раз уж мы не прячемся друг от друга.
— Но это чрезвычайно трогательно, все, что вы мне
рассказываете! — вскричал я — и я подумал: «Нет, ни¬
когда я не смогу с ним говорить о «Топях», напротив».
И я прошептал: —Дорогой Ришар! поймите, что я очень
120
хорошо понимаю ваши огорчения — вы действительно
очень несчастны.
— Нет, мой друг,— отвечал он мне,— я не несчастен.
Мне дано не так уж много, но для моего счастья не так
уж много и надо; неужели вы думаете, что своей исто¬
рией я хотел разжалобить вас? Любовь и уважение друг
к другу — вот что испытываем мы с Урсулой, работая по
вечерам... Я ни на что не променял бы эту радость...
Мы довольно долго молчали; я спросил:
— А дети?
— Бедные дети! — сказал он.— Вот единственное,
что причиняет мне боль: им бы надо на воздух, на сол¬
нце; вместо этого они чахнут в этих клетушках. Мне-то
все равно; я уже стар; я ко всем этим вещам привык —
но мои дети лишены радости, и от этого я страдаю.
— Это правда,— ответил я,— что у вас немного зат¬
хлый воздух; но стоит распахнуть окна, как с улицы
влетают всякие запахи... И потом, есть же Люксембур¬
гский сад... Это даже сюжет для...— Но тут же подумал:
«Нег, я решительно не в силах говорить с ним о «То¬
пях»-» — и, не закончив своей реплики, я сделал'вид,
что погрузился в глубокое размышление.
Когда по истечении нескольких минут я принялся
расспрашивать о его бабушке, Ришар сделал знак, что
мы прибыли на место.
— Юбер уже там,— сказал он.— В сущности, я вам
ничего не объяснил... мне нужны были два гаранта, ну
да тем хуже, вы обо всем прочтете в бумагах.
— Полагаю, что вы знакомы,— добавил Ришар, ког¬
да я пожимал руку своему большому другу. А он уже
было начал: «Итак... что же «Топи»?» Я пожал ему руку
крепче и тихо сказал: «Тс-с! не сейчас! Вот останемся
одни, тогда поговорим».
И как только бумаги были подписаны, мы с Юбером
оставили Ришара и пошли вдвоем. Ему нужно было на
лекцию по практическому акушерству где-то рядом с
Ботаническим садом.
— Ну так вот,— начал я.— Ты помнишь про уток;
Титир,— говорил я,— убил четыре. Однако он не имел
права: ведь охота запрещена. Тут же явился священник
121
и сказал Титиру: церковь с превеликим огорчением уз¬
нала, что он, Титир, ел уток; дичь — это пища скором¬
ная; люди чересчур неосторожны; грех поджидает их
на каждом шагу; столько воздержаний человеку не¬
вмочь; лучше умерщвлять свою плоть; церковь знает за¬
мечательные, надежные способы, как это сделать. Я хо¬
чу вам предложить один из них, брат: ешьте, ешьте бо¬
лотных червей.
Как только священник ушел, является доктор: вы по¬
ели утятины! Но разве вам не известно, что это очень
опасно! В здешних болотах можно схватить жестокую
лихорадку; ваш организм должен приспособиться; simi-
lia similibus*, Титир! Ешьте болотных червей (lumbiri-
culi limosi) — в них сконцентрирована сила болот, к то¬
му же это очень питательный продукт.
—Тьфу! — произнес Юбер.
— Не так ли? — продолжал я,— все это страшно об¬
манчиво; ты прав, тут всего лишь вопрос, как их нало¬
вить! Но самое удивительное — в том, что Титир их все-
таки пробует; через несколько дней он к ним привыка¬
ет; а потом сочтет, что у них замечательный вкус. Ска¬
жи, он тебе неприятен, Титир?!
— Это счастливый человек,— сказал Юбер.
—Тогда поговорим о другом! — воскликнул я в не¬
терпении. И, вдруг вспомнив, что я же собирался обеспо¬
коиться отношениями Юбера и Анжель, я попробовал вы¬
звать его на разговор: — Какая монотонность! — начал я
после недолгого молчания.— Никаких событий! Надо бы
хоть чуть-чуть встряхнуться в этой жизни. Но, конечно,
чувства нельзя вьщумать. Впрочем, я знаю только Ан¬
жель; мы с ней так и не смогли полюбить друг друга на
всю жизнь: то, что я скажу ей сегодня вечером, я вполне
мог бы ей сказать и накануне; никакого развитая нет...
После каждой фразы я делал небольшую паузу. Он
молчал. Тогда я машинально продолжил:
* Similia similibus (curantur) — подобное подобным (изле¬
чивается) (лат.). Принцип гомеопатии, который ее основопо¬
ложник С. Ганеман взял эпиграфом к своему сочинению «Ор¬
ганон врачебного искусства».— Примеч. пер.
122
— Мне-то все равно, поскольку я пишу «Топи», но
что для меня невыносимо, так это то, что она этого со¬
стояния не понимает... Собственно, это и натолкнуло
меня на мысль написать «Топи».
Наконец Юбер возбудился:
—Так зачем тебе ее волновать, раз она вполне сча¬
стлива?
— Но она не счастлива, дорогой друг; она лишь ду¬
мает, что счастлива, потому что не отдает себе отчета
в своем состоянии; когда к обыденности добавляется
слепота, подумай сам, это ведь еще печальней.
— Ну а если ты откроешь ей глаза, если сумеешь
сделать все, чтобы она почувствовала себя несчастной?
— Это уже будет намного интересней; по крайней
мере она перестанет быть самодовольной; она будет к
чему-то стремиться.
Но больше я не смог узнать ничего, так как в этот -
момент Юбер пожал плечами и замолчал.
Через секунду он сказал:
— Я не знал, что ты знаком с Ришаром.
Это был почти вопрос; я мог бы ему сказать, что Ри¬
шар — это Титир, но так как я не признавал за Юбером ни¬
какого права презирать Ришара, то я всего лишь сказал:
«Это очень достойный малый». И я дал себе обещание в по¬
рядке компенсации вечером поговорить о нем с Анжель.
— Ну ладно, прощай,— сказал Юбер, понимая, что
разговор, по сути, окончен,— я спешу, а ты шагаешь не¬
достаточно быстро. Кстати, я не смогу сегодня в шесть
часов вечера заглянуть к тебе.
— Ладно, тем лучше,— ответил я,— хоть какое-то
разнообразие.
Он ушел. Я вошел в сад один; я медленно направил¬
ся к растениям. Я люблю эти места; я часто бываю
здесь; все садовники меня знают; они показывают мне
потайные уголки и принимают меня за ученого, так
как, дойдя до водоемов, я располагаюсь тут надолго.
Публике сюда доступа нет, и ухаживать за водоемами
нет надобности; проточная вода бесшумно питает их.
Растения здесь живут сами по себе; рои букашек плава¬
ют на воде. Я подолгу рассматриваю их; в какой-то ме¬
123
ре именно это и побудило меня написать «Тот», чувст¬
во бессмысленного созерцания, волнение, которое рож¬
дает во мне эта тихая серая живность. В тот день я на¬
писал от лица Титира:
«Меня больше всего привлекают широкие ровные
ландшафты, монотонные равнины, и я охотно пустил-
ся бы в дальние путешествия, лишь бы найти края, где
много прудов, но я нашел их здесь, совсем рядом. Не
верьте, что я печален; я не испытываю никакой гру¬
сти; я Титир и отшельник, и я так же люблю приро¬
ду, как книгу, которая не отвлекает меня от дум. Ибо
они печальны, мои думы; они серьезны, а другим ка¬
жется даже, что мрачны; я люблю их больше всего, вот
почему и для прогулок я выбираю прежде всего равни¬
ны, заброшенные пруды, песчаные равнины. Там я про¬
гуливаюсь с ними в тишине.
Почему мои думы печальны? Если бы они доставля¬
ли мне страдание, я задумался бы об этом давно. Если
бы вы не дали мне повода это заметить, я бы, навер¬
ное, об этом даже не узнал, потому что зачастую они
заняты множеством вещей, которые вас совершенно
не интересуют. Они любят, например, возвращаться к
этим строчкам; самые мелкие занятия доставляют
им радость, но мне не имеет смысла даже называть
вам эти занятия, настолько вы далеки от них...»
Дул почти теплый ветерок; гибкие стебли трав на¬
клонялись к самой воде под тяжестью облепивших их
насекомых. С боков камни поросли чахдой зеленью, но
и редких капель воды хватало, чтобы напоить ее корни
влагой. Спускаясь до самого дна, мхи в сочетании с
тенью создавали впечатление глубины: сине-зеленые
водоросли удерживали пузырьки воздуха, необходи¬
мые личинкам для дыхания. Проплыл жук-плавунец. Я
не смог сдержать поэтического вдохновения и, вынув
из кармана еще один листок, написал:
«Титир улыбнулся».
После чего я почувствовал себя голодным и, отло¬
жив изучение рдестов на потом, отправился на набе¬
124
режную, в ресторан, о котором мне говорил Пьер. Я на¬
деялся побыть один. Я встретил там Леона, с которым
мы поговорили об Эдгаре. После обеда я посетил не¬
скольких литераторов. В пятом часу прошел небольшой
ливень; я вернулся домой; я выписал значения двадца¬
ти незнакомых слов и подобрал около восьми новых
эпитетов к слову бластодерма 6.
К вечеру я почувствовал себя немного уставшим и,
поужинав, отправился спать к Анжель. Я сказал — к
ней, а не с ней, у меня вообще ничего с ней не было,
кроме безобидных заигрываний.
Она была одна. Когда я вошел, она прилежно разы¬
грывала сонатину Моцарта на своем только что настро¬
енном фортепьяно. Был уже поздний час, и, кроме ак¬
кордов, ничто не нарушало тишину. Она зажгла свечи
во всех канделябрах и надела платье в мелкую клетку.
— Анжель,— сказал я, входя,— нам необходимо по¬
стараться сделать наше существование хотя бы чуточку
разнообразней! Не хотите ли вы узнать и о том, как я
провел этот день?
Она наверняка почти не ощутила горечи в моих сло¬
вах, так как тут же спросила:
— В самом деле, что вы делали сегодня?
Тогда я, сам того не желая, ответил:
—Я видел своего большого друга Юбера.
— Он только что отсюда ушел,— сказала Анжель.
— Но неужели, милая Анжель, вы так никогда и не
удосужитесь пригласить нас вместе?! — воскликнул я.
— Возможно, что он не придает этому большого значе¬
ния,— сказала она.— Но если для вас это важно, приходи¬
те ко мне ужинать в пятницу вечером, он будет здесь; вы
почитаете нам стихи... Кстати, на завтрашний вечер я не
пригласила вас? Я принимаю у себя нескольких литерато¬
ров; приходите тоже. Мы собираемся в девять часов.
— Я сегодня видел многих из них,— сказал я, имея
в виду литераторов.— Мне нравится их размеренная
жизнь. Они вечно в трудах, да их никогда и не беспоко¬
ят; стоит их навестить, и у вас остается чувство, что они
трудятся исключительно для вас и предпочитают об¬
щаться только с вами. Своей любезностью они очаруют
125
кого хочешь; они ею прямо-таки лучатся. Я люблю этих
людей, которые постоянно чем-то заняты, причем впе¬
чатление такое, что заняты вами. А поскольку они не
делают ничего стоящего, то вы не испытываете и угры¬
зений совести, похищая у них время. Да, кстати, я ви¬
дел Титира.
— Холостяка?
—Да, но в жизни он женат, отец четверых детей.
Его зовут Ришар... не говорите мне, что он только что
ушел отсюда, вы не знакомы с ним.
На это Анжель ответила мне с легкой обидой:
— Вот вы и сами признаете, что вся ваша история
неправдоподобна.
— Почему неправдоподобна? Да ведь их шесть в од¬
ном лице! Я создал одного Титира, чтобы сконцентри¬
ровать эту монотонность; это художественный образ;
не хотите же вы, в самом деле, чтобы я заставил их да¬
же удочку держать вшестером?
— Я совершенно уверена, что в жизни они занима¬
ются вещами разными!
— Если бы я их описал, они выглядели бы очень раз¬
ными; пересказать события жизни каждого из них еще
не значит передать то главное, что их связывает. Вот
правды ради и приходится обобщать. Главное — это пе¬
редать то чувство, которое они у меня вызывают.
— Ну а если это чувство обманчиво?
— Чувство, милый друг, никогда не обманывает;
вам разве никогда не доводилось читать, что ошибки
рождаются из суждений? Но зачем рассказывать шесть
раз? Да затем, что в каждом случае вы испытываете од¬
но и то же чувство — ровно шесть раз... Хотите ли вы
знать, что они делают в жизни?
— Рассказывайте,— сказала Анжель,— вы вне себя.
— Ничуть! — воскликнул я.— Отец сочиняет; мать
ведет хозяйство; старший сын дает частные уроки; к
другому приходят с уроками на дом; первая девочка
хромая; последняя, совсем еще малышка, не делает ни¬
чего. Есть еще кухарка... Жену его зовут Урсула... И, за¬
метьте, все они, каждый из них, делают одно и то же,
одно и то же каждый день!!!
126
— Может быть, они бедны,— сказала Анжель.
— Разумеется! Но понимаете ли вы «Топи»\ У Риша¬
ра жребий вдовий; едва окончив школу, он потерял от¬
ца. Пришлось устроиться на работу; он получил лишь
крохи из наследства, которое досталось старшему бра¬
ту; но работать исключительно из нужды, ради пре¬
зренных денег, подумайте сами, каково это; корпеть в
канцеляриях, переписывая по множеству страниц!
Вместо того чтобы путешествовать! Он ничего не ви¬
дел; в общении он сделался бесцветным; он читал газе¬
ты, чтобы оставаться в курсе событий — когда у него
находилось время,— а времени у него практически не
было. Я не хочу сказать этим, что он уже до самой
смерти ничего другого делать не сможет. Женился он
на женщине, еще более бедной, чем сам, из сострада¬
ния, без любви. Ее зовут Урсула. А! Это я вам уже го¬
ворил. Их сожительство стало понемногу перерастать
в любовь, которой они вдвоем учились; в конце концов
они крепко полюбили друг друга, в чем признались
мне. Они очень любят своих детей, дети очень любят
их... У них есть кухарка. Вечерами по воскресеньям
все играют в лото... я забыл бабушку; она тоже играет,
но, так как жетонов она не видит, все шепотом сгова¬
риваются не принимать ее в расчет. Ах! Анжель! Ри¬
шар! Все в его жизни было подчинено одному — за¬
ткнуть дыры, заполнить слишком зияющие пустоты.
Все! И семья в том числе. Он уже уродился вдовым;
что ни день все те же тщедушные усилия и ненастоя¬
щие радости. После всего сказанного не подумайте о
нем плохо — человек он весьма целомудренный. Впро¬
чем, он считает себя счастливым.
— Что такое! Вы плачете? — спросила Анжель.
— Не обращайте внимания — это нервы. Анжель,
душа моя, не находите ли вы после всего, что в нашей
жизни недостает настоящих происшествий?
— Что с этим поделаешь? — тихо откликнулась
она.— Хотите, отправимся вдвоем в небольшое путеше¬
ствие? Давайте — в субботу — вы не слишком заняты?
— Вы не подумали, Анжель,— да ведь это послезав¬
тра!
127
— Почему бы и нет! Мы отправились бы чуть свет
вдвоем; накануне вы можете у меня поужинать — вме¬
сте с Юбером; вы переночуете у меня... А теперь про¬
щайте,— сказала Анжель,— я иду спать; уже поздно, да
и вы меня немного утомили. Горничная приготовила ва¬
шу комнату.
— Нет, я не останусь, милый друг,— извините меня;
я слишком возбужден. Прежде чем лечь, я чувствую
потребность о многом написать. До завтра. Я иду домой.
Мне хотелось заглянуть в свою записную книжку. Я
почти бежал, тем более что шел дождь, а зонтика при
мне не было. Войдя к себе, я тотчас записал на одном
из листочков следующей недели эту мысль, связанную
не только с Ришаром.
«Добродетель униженных — покорность; многим из
них она подходит настолько, что начинаешь думать,
будто сама их жизнь скроена по мерке их души. Ни в
коем случае не выказывать к ним жалости: они доволь¬
ны своей судьбой; прискорбно! Они даже не замечают
никакой посредственности, если только это не посред¬
ственность материальная. То, что я говорил Анжель по
конкретным поводам, верно и в целом: с каждым про¬
исходят те события, которые наиболее соответствуют
его наклонностям. Каждому достается то, что его уст¬
раивает. Удовлетворяться своей посредственностью оз¬
начает, что это и есть ваш размер и ничего другого
ждать не следует. Судьбы, скроенные по мерке. Обре¬
ченность носить одежду, которая трещит по швам, буд¬
то кора на платане или эвкалипте по мере их роста».
«Я пишу слишком длинно,— сказал я себе,— хватило
бы и четырех слов. Но я не люблю формул. А теперь по¬
размыслим над изумительным предложением Анжель».
Я открыл записную книжку на предстоящей субботе
и на листочке, относящемся к этому дню, прочел:
«Постараться встать в шесть часов. Разнообразить
свои чувства.
Написать Люсьену и Шарлю.
Найти для Анжель эквивалент nigra sed formosa
* Черная, но прекрасная (лат.).— Примеч. пер.
128
Надеяться, что я дочитаю Дарвина.
Нанести визиты — Лауре (объяснить «Топи»), Ноэ-
ми, Бернару; взволновать Юбера (важно).
Вечером постараться пройтись по мосту Сольферино.
Найти эпитеты к ^грибовидным наростам— Это
было все. Я снова взялся за перо; я зачеркнул все и вме¬
сто этого написал: «Совершить с Анжель небольшое
приятное путешествие».
Затем я отправился спать.
БАНКЕТ
Четверг
Утром, проведя весьма беспокойную ночь, я ощущал
легкое недомогание; вместо стакана молока я разнооб¬
разия ради выпил немного отвара из трав. В моей запис¬
ной книжке листок этого дня оставался чист; это озна¬
чало: «Топи». Таким образом, я оставляю себе для рабо¬
ты дни, на которые не намечено ничего другого. Я пи¬
сал все утро. Я написал:
ДНЕВНИК ТИТИРА
«Я путешествовал по огромным ландам, по широ¬
ким равнинам, по неоглядным пространствам; даже
на еле приметных взгорках, там, где земля едва при¬
поднималась, она, казалось, спит. Я люблю бродить по
краю торфяников, тропинки пролегают там, где по¬
тверже зыбь под ногами. Чуть в сторону, и почва ста¬
новится ненадежной, ноги проваливаются в холмиках
мха; полные воды, мхи пружинят; потайная дренаж¬
ная система местами высушивает их; тогда они вы¬
махивают повыше вереска и карликовой сосны; повсюду
стелются плауны; тут и там вода собирается в ко¬
ричневые и гниющие лужи. Я живу в низине и не очень-
то стремлюсь подниматься на холмы, откуда, я знаю,
ничего другого не увидеть. Я не заглядываю вдаль, как
ни влечет взгляд тревожное небо.
129
Иногда поверхность стоячих вод отражает нере¬
альное великолепие красок, даже на крыльях самых пре¬
красных бабочек таких цветов не увидишь; в пленке, за¬
тянувшей гниющую воду, играет радуга. С наступлени¬
ем ночи начинают фосфоресцировать пруды, а на боло¬
тах зажигаются огни, придающие им величавость.
Болото! Кто же расскажет о твоем очаровании?
Титир!»
Мы не покажем этих страниц Анжель, думаю я: Ти¬
тир здесь может показаться счастливым.
Я сделал еще несколько записей:
«Титир покупает аквариум; он устанавливает его
посреди своей самой зеленой комнаты и не нарадуется
при мысли о том, что окружающий пейзаж теперь
всегда будет у него перед глазами. В аквариуме нет ни¬
чего, кроме тины и воды; ему доставляет удовольствие
смотреть, как в тине мечется неизвестный народец;
в этой живой воде, где можно увидеть лишь то, что
происходит непосредственно за стеклянной стенкой,
он любит игру солнца и тени — свет, проникающий
сквозь щели закрытых ставен, кажется здесь желтее
обычного, а тени серей. В воде всегда больще жизни,
чем обычно думают...»
В этот момент появился Ришар; он пригласил меня
в субботу на обед. Я рад был возможности ответить
ему, что как раз в этот день у меня есть дела в провин¬
ции. Кажется, он был крайне изумлен и ушел, ничего
больше не сказав.
Я и сам вскоре ушел, тотчас после моего скудного
обеда. Я навестил Этьена, который правит корректуру
своей пьесы. Он сказал мне, что я поступил умно, взяв¬
шись писать «Топи», так как, по его мнению, я не рож¬
ден для драм. Я ушел от него. На улице я встретил Ро¬
лана, который проводил меня к Абелю. Там оказались
Клаудиус и Урбен, поэты; они как раз сошлись на том,
что писать драмы больше нет никакого смысла; ни один
не принимал доводов друг друга, но оба сошлись на
130
том, что театр следует упразднить. И еще они сказали
мне, что я поступил умно, перестав сочинять стихи, ибо
они мне давались с трудом. Появился Теодор, затем
Вальтер, которого я не могу выносить7; я ушел, Ролан
ушел со мной. На улице я сразу же начал:
— Какое невыносимое существование! Вы его тер¬
пите, дорогой друг?
—Довольно сносно,— ответил он,— однако почему
невыносимое?
—Достаточно уже того, что оно могло бы быть
иным, но иным не делается. Все наши поступки на¬
столько известны, что их мог бы за нас делать любой и,
репетируя слова, сказанные нами вчера, заготовить
фразы на завтра. Абель принимает у себя в следующий
четверг; он так же изумился бы, если бы не пришли Ур-
бен, Клаудиус, Вальтер и вы, как изумились бы мы, не
обнаружив его дома! О! Я совсем не жалуюсь; но я боль¬
ше не мог оставаться там — я уезжаю — я отправляюсь
в путешествие.
— Вы,— сказал Ролан.— Ба! Куда и когда?
— Послезавтра — а куда? Я не знаю... Но, дорогой
друг, вы же понимаете, если бы я знал, куда поеду и
чем там займусь, моя тоска не прошла бы. Я уезжаю,
просто чтобы уехать; сюрприз как раз и есть моя
цель — неизвестность — понимаете? — неизвестность!
Я не предлагаю вам ехать со мной, так как пригласил
Анжель,— но вы-то почему не уезжаете, вы сами, не
важно куда, оставив сиднем сидеть на месте тех, кто в
этом смысле неисправим?
— Позвольте,— сказал Ролан,— я не таков, как вы:
если я уезжаю, то предпочитаю знать куда.
— Ну тогда взяли да выбрали! Что бы я мог вам
предложить? — Африку! Знаете ли вы Бискру8? Поду¬
майте о солнце и песках! И о пальмах. Ролан! Ролан!
Одногорбые верблюды! Подумайте, что то же самое
солнце, которое здесь выглядит таким бледным, среди
этих крыш, в этой городской пыли, уже сияет, уже си¬
яет там и что все кругом доступно! Вы все еще ждете?
Ах! Ролан. От нехватки воздуха, равно как от скуки,
здесь только зеваешь; так вы едете?
131
— Дорогой друг,— сказал Ролан,— вполне может
быть, что там меня ждут весьма приятные сюрпризы; но
слишком много дел удерживают меня — я предпочи¬
таю не предаваться мечтам. Я не могу ехать в Бискру.
—Так затем и надо ехать,— повторил я,— чтобы
встряхнуться от дел, которые вас держат. Неужели вы
согласны вечно зависеть от них? Что до меня, то мне
все равно, поймите: я отправляюсь в другое путешест¬
вие; но подумайте, что живешь, быть может, только
один раз, и до чего же мал круг вашего манежа!
— Ах! Дорогой друг,— сказал он,— не настаивайте
больше — у меня очень серьезные причины, и ваши до¬
воды утомляют меня. Я не могу ехать в Бискру.
—Тогда оставим все это,— сказал я ему,— да к то¬
му же вот и мой дом — ладно! Прощайте на некоторое
время — и, пожалуйста, сделайте мне одолжение, про¬
информируйте о моем отъезде всех остальных.
Я вернулся домой.
В шесть часов пришел мой большой друг Юбер; он
возвращался с собрания какого-то комитета по страхо¬
ванию. Он заявил:
— Мне рассказали о «Топях»\
— Кто же? — спросил я взволнованно.
— Друзья... Ты знаешь, это не очень им понрави¬
лось; мне даже сказали, лучше бы ты писал что-то дру¬
гое.
— Тогда молчи.
— Ты знаешь,— заговорил он опять,— я в этом ни¬
чего не понимаю; я слушаю; с того момента, как ты ув¬
лекся сочинением «Топей»...
— Но я вовсе не увлекся! — крикнул я.— Я пишу
«Топи» потому, что... Знаешь, поговорим о чем-то дру¬
гом... Я отправляюсь в путешествие.
— Ба! — высказался Юбер.
—Да,— сказал я,— иногда необходимо хоть нена¬
долго покинуть город. Я уезжаю послезавтра; и даже не
знаю куда... Со мной едет Анжель.
— Как, в твоем возрасте!
— Но, дорогой друг, это она меня пригласила! Я не
предлагаю тебе ехать с нами, зная, что ты очень занят...
132
— Кроме того, вам бы хотелось побыть одним... Хва¬
тит. Вы долго там пробудете?
— Не очень; мы стеснены во времени и в деньгах; но
главное — это уехать из Парижа; нет другого способа по¬
кинуть город, как сознательно принять твердое решение;
главное — это вырваться из пригородов.— Я принялся
расхаживать, чтобы прийти в возбуждение.— Сколько
еще остановок до настоящей деревни! На каждой оста¬
новке сходят люди; это как если бы они сходили с дис¬
танции в самом начале; вагоны пустеют. Путешественни¬
ки! Где путешественники? Те, кто еще остались, едут по
делам; да еще в локомотивах остаются водители и меха¬
ники, эти-то едут до конца. Впрочем, там, в конце, дру¬
гой город.— Деревни! Ну где же деревни?
—Дорогой друг,— сказал Юбер, расхаживая так
же, как и я,— ты преувеличиваешь: деревнями начина¬
ются или кончаются города, только и всего.
Я продолжал:
— Но, дорогой друг, в том-то и дело, что они не кон¬
чаются, города; за городами начинаются пригороды... Мне
кажется, ты забыл о пригородах — обо всем том, что на¬
ходится между двумя городами. Сплюснутые, зажатые до¬
мики, что может быть ужаснее... города в ползучей зеле¬
ни; огороды! И насыпи по обочинам дороги. Дорога! Вот
куда надо стремиться всем, и никуда больше...
— Все это ты должен описать в «Топях»,— сказал
Юбер.
Совершенно неожиданно меня это задело.
— Неужели ты ничего не понял, бедный друг, отче¬
го вдруг рождается поэма? Что она такое? Как появля¬
ется на свет? Книга... но книга, Юбер, как яйцо: она зам¬
кнутая, наполненная и гладкая. В нее уже ничего нель¬
зя впихнуть, даже иголку, разве только силой, но тогда
ее форма будет разбита.
—Так твое яйцо уже наполнено? — переспросил
Юбер.
— Но, дорогой друг! — вскричал я.— Яйца не напол¬
няются: яйца рождаются полными... Впрочем, все это
уже сказано в «Топях»... кроме того, я нахожу глупыми
разговоры о том, что, дескать, лучше бы я цисал какую-
133
то другую вещь... это глупо! Ты слышишь?.. Другую
вещь! Прежде всего я не хочу ничего другого! Но пой¬
ми, что здесь такие же насыпи, как и везде! Наши до¬
роги — такая же каторга, как наша работа! Я взялся за
то, за что не брался больше никто; я выбрал для «Топей»
сюжет неблагодарный и глубоко убежден, что не най¬
дется другого безумца, который согласился бы обраба¬
тывать эту землю вместо меня; это я и стремился выра¬
зить словами: Я Титир и отшельник. Я тебе это читал,
но ты не придал этому значения... И потом, сколько
уже раз я тебя умолял никогда не говорить со мной о
литературе! Кстати,— продолжал я, меняя тему,— бу¬
дешь ли ты сегодня вечером у Анжель? У нее прием.
—Литераторы... Нет,— ответил он,— ты знаешь, не
люблю я этих бесконечных собраний, где только и де¬
лают, что болтают; я думал, что и ты тоже там задыха¬
ешься.
— Это правда,— согласился я,— но я не могу огор¬
чить Анжель; она меня пригласила. Кстати, надеюсь там
повидать Амилькара и объяснить ему то же самое: что
там можно задохнуться. Салон Анжель слишком мал
для приемов; я постараюсь ему об этом сказать; я даже
готов употребить слово «тесен»... потом мне нужно по¬
говорить о том же с Мартеном.
— Как тебе угодно,— сказал Юбер,— я ухожу, прощай.
Он ушел.
Я сложил свои бумаги; поужинал; за столом я раз¬
мышлял о путешествии; я повторял про себя: «Это боль¬
ше чем день!» К концу обеда я пришел в такое возбуж¬
дение от предложения, сделанного Анжель, что посчи¬
тал нужным написать ей эти несколько строк: «Способ¬
ность восприятия зависит от смены ощущений;
отсюда потребность в путешествии».
Запечатав письмо, я привычно направился к ней.
Анжель живет на пятом этаже.
В дни, когда у нее бывают гости, Анжель выставля¬
ет у своих дверей скамейку, и еще одну на втором эта¬
же, перед дверью Лауры; как раз тут у вас и перехваты¬
134
вает дыхание; вам начинает недоставать воздуха; оста¬
новка; итак, я присел перевести дух на первой скамей¬
ке; и, вытянув из кармана листок, я попробовал сфор¬
мулировать аргументы для Мартена. Я написал:
«Оставаться внутри — это ошибка. Впрочем, вый¬
ти и невозможно — но невозможно потому, что и не
выходят».
Нет! Не то! Начнем сначала. Я порвал. Нужно изло¬
жить мысль так: оказавшись взаперти, каждый из нас
полагает, будто находится снаружи. Какое несчастье!
Один пример. В этот момент кто-то стал подниматься;
это был Мартен. Он сказал:
— Вот как! Ты работаешь?
Я ответил:
— Мой дорогой, добрый вечер. Я как раз пишу тебе;
не мешай мне. Подожди меня на скамейке наверху.
Он поднялся.
Я написал:
«Оставаться внутри — это ошибка. Впрочем, вый- .
ти и невозможно — но невозможно потому, что и не
выходят. Не выходят потому, что полагают, будто
уже находятся снаружи. Если бы сознавали, что нахо¬
дятся взаперти, то по крайней мере появилось бы же¬
лание выйти».
— Нет! Не то! Не то! Начнем сначала. Я порвал.—
Нужно изложить мысль так: только тот может полагать,
будто находится снаружи, кто не смотрит. Впрочем, не
смотрит тот, кто слеп. Какое несчастье! Я больше ниче¬
го не понимаю... Да и попробуй в таком неудобном по¬
ложении что-нибудь сотворить.— Я достал новый лис¬
ток. В этот момент кто-то поднялся; это оказался фило¬
соф Александр. Он сказал:
— Вот как! Вы работаете?
Я ответил, поглощенный своим делом:
—Добрый вечер; я пишу для Мартена; он ждет на¬
верху на скамейке. Садитесь; я скоро кончаю... Ах! ме¬
ста больше нет?..
— Это пустяки,— сказал Александр,— при мне моя
складная палка.— И разложив свой инструмент, он
стал ждать.
1.35
— Ну вот, я закончил.— И, перегнувшись через пе¬
рила, я крикнул: — Мартен, ты все там, наверху?
— Да! — крикнул он.— Я жду. Принеси свою ска¬
мейку.
Поскольку я у Анжель почти как у себя дома, я при¬
хватил свое сиденье; и вот все трое мы устроились на¬
верху, Мартен и я обменялись листочками, а Александр
ждал.
На моем листочке было написано:
«Быть слепым, чтобы считать себя счастливым.
Верить, что ясно это видишь, чтобы не стремиться
это разглядеть, потому что:
Себя увидеть можно только несчастным».
На его листочке было написано:
«Быть счастливым от своей слепоты. Верить, что
ясно это видишь, чтобы не стремиться это разгля¬
деть, потому что:
Можно стать только несчастным, увидев себя».
— Но,— воскликнул я,— тебя радует именно то, что
я оплакиваю; и я очень надеюсь, что прав я, потому что
я оплакиваю то, что тебя радует, тогда как ты-то не мо¬
жешь порадоваться тому, что я оплакиваю.— Начнем
снова.
Александр ждал.
— Мы скоро кончим,— сказал я ему,— и тогда все
объясним.
Мы снова принялись за свои бумажки.
Я написал:
«Ты мне напоминаешь тех, кто переводит Numero
Deus impure gaudet* как «Второй номер радуется своей
непарности»9 и при этом уверен в своей правоте.—
Между тем если и в самом деле непарность в какой-то
мере таит в себе обещание счастья — я говорю о сво¬
боде,— то следовало бы сказать числу два: «Но, бедный
друг, вам-mo как раз непарности не дано, чтобы обре¬
* Богу приятно нечетное число (Вергилий. Эклоги).—
Примеч. пер.
136
сти это удовольствие, постарайтесь по крайней мере
достигнуть ее».
Он написал:
«Ты мне напоминаешь тех, кто переводит Et dona
farentes* как: «Ябоюсь греков»10. И который при этом пе¬
рестает замечать присутствующих. Между тем если бы
и вправду в каждом присутствующем скрывался грек, ко¬
торый тут же взял бы нас в плен, то я бы греку сказал:
«Любезный грек, дай и возьми; мы будем квиты. Я твой
слуга, это верно, в противном случае ты бы мне ничего не
дал». Когда я говорю «грек», я подразумеваю «Необходи¬
мость». Она всегда берет столько же, сколько и дает».
Мы обменялись листками. Время шло.
Он приписал на моем листке снизу:
«Чем больше я размышляю, тем больше нахожу ду¬
рацким твой пример, ибо в конце концов...»
Я приписал на его листке снизу:
«Чем больше я размышляю, тем больше нахожу ду¬
рацким твой пример, ибо в конце концов...»
...После чего каждый из нас перевернул свой лис¬
ток, но на обороте его бумажки был еще текст:
«Счастье в привычке. Быть радостным. Выбор ме¬
ню на каждый день11:
1. Суп (по совету мсье Гюисманса).
2. Бифштекс (по совету мсье Барреса).
3. Овощи разные (по совету мсье Габриэля Трарьё).
4. Бутылка воды «Эвиан» (по совету мсье Малларме).
5. Зеленый золотистый шартрез (по совету мсье
Оскара Уайльда)».
На моем листочке можно было прочесть только мой
поэтический образ о Ботаническом саде:
* Полностью латинское изречение звучит так: Timeo Da-
naos et dona ferentes — Боюсь данайцев, даже дары принося¬
щих.— Примеч. пер.
137
«Титир улыбнулся».
Мартен спросил:
— Кто это такой, Титир?
Я ответил:
— Это я.
— Значит, ты иногда смеешься? — сказал он.
— Но, дорогой друг, дай-ка я тебе немного объясню
(когда-нибудь это надо же сделать!..). Титир — это я и
не я; Титир, этот дурак,— это я, это ты — это все мы...
И не ухмыляйся — ты меня сердишь; я говорю «дурак»
в смысле «немощный»; он не всегда помнит о своей ни¬
щете; именно это я только что тебе говорил. Каждому
свойственно что-то забывать; но пойми же, что это все¬
го лишь поэтический образ...
Александр читал листочки. Александр — философ;
что бы он ни говорил, я всегда настороже; и что бы он
ни сказал, я никогда не отвечаю. Он улыбнулся и, по¬
вернувшись ко мне, начал:
— Мне кажется, мсье, что то, что вы зовете свобод¬
ным поступком, это, по-вашему, поступок, который не
зависит ни от чего; следите за моей мыслью: отдели¬
мый — отметьте мой прогресс: упразднимый — и мое за¬
ключение: бессмысленный. А теперь все свяжите, мсье,
и не уповайте на совпадение: прежде всего, вряд ли вы
его достигнете — и затем: чему это могло бы послужить?
Я, по привычке, ничего не сказал; когда вам отвечает
философ, вы уже не понимаете, о чем вы его спросили.
Внизу послышались шаги; это были Клеман, Про-
спер и Казимир.
— Вы что, сделались стоиками? — сказали они, увидев
Александра и нас.— Входите же, господа из Портики12.
Их шутка показалась мне претенциозной, так что я
посчитал за благо войти только после них.
В салоне Анжель уже было полно гостей; улыбаясь,
она расхаживала среди них, предлагая кофе, бриоши.
Заметив меня, она тотчас же подошла:
—Ага! Вот и вы,— сказала она тихо,— я побаиваюсь,
как бы гости не заскучали; вы нам почитаете стихи.
138
— Но,— ответил я,— станет еще скучней, и потом,
вы же знаете, что я их не знаю.
— Да нет же, да нет же: у вас всегда что-нибудь на¬
писано.
Тут к нам подошел Гильдебран:
— Ах! Рад вас видеть, мсье,— сказал он, беря меня
за руку.— Я не имел счастья прочесть ваше последнее
произведение, но мой друг Юбер отозвался о нем с наи¬
высшею похвалой... И говорят, сегодня вечером вы ока¬
жете нам честь, почитав свои стихи...
Анжель исчезла.
Возник Ильдевер.
— Итак, мсье,— сказал он,— вы пишете «Топи»?
— Откуда вы знаете? — вскричал я.
— Но,— ответил он (преувеличивая),— кругом
только об этом и говорят; похоже, что это совсем не по¬
хоже на вашу последнюю вещь — которую я не имел
чести прочесть, но о которой мне много говорил мой
друг Юбер. Вы нам почитаете стихи, не так ли?
—Только не о тине,— глупо заметил Изидор,— по¬
хоже, что ее слишком много в «Топях», если верить
Юберу. А кстати, дорогой друг, «Топи» — это о чем?
Подошел Валантен, и, так как другие уже слушали
меня, я сбился.
— «Топи»,— начал я,— это история нейтральной
земли, которая принадлежит всем... лучше: история
нормального человека, которым изначально бывает
каждый; история третьего лица, о котором все гово¬
рят — и который живет в каждом, но не умирает вме¬
сте с нами. У Вергилия его зовут Титир — и специаль¬
но оговаривается, что он лежит — «Tityre recubans» *.—
«Топи» — это история лежащего человека.
— Надо же,— сказал Патрас,— а я думал, что это
история болота.
— Мсье,— ответил я ему,— мнения могут быть раз¬
* С этой «оговорки» и начинаются «Буколики» (Эклога I):
«Титир, ты, лежа в тени широковетвистого дуба, / Новый па¬
стуший напев сочиняешь на тонкой свирели...» (пер. С. Шер-
винского).— Примеч. пер.
139
ными — источник один. Но поймите, прошу вас, что
единственный способ рассказать одну и ту же вещь
каждому — одну и ту же вещь, прошу вас обратить вни¬
мание,— это изменить ее форму в соответствии с вос¬
приятием каждого нового слушателя. В данный момент
«Топи» — это история салона Анжель.
— Теперь-то я вижу, что вы еще не сделали оконча¬
тельного выбора,— сказал Анатоль.
Приблизился Филоксен:
— Мсье,— сказал он,— все ждут ваших стихов.
—Тс-с! Тише! — сказала Анжель.— Он начинает чи¬
тать.
Все умолкли.
— Но, господа! — крикнул я в раздражении.— Уве¬
ряю вас, что у меня нет ничего стоящего. Но, чтобы не
заставлять вас упрашивать меня, я вынужден вам про¬
честь небольшую вещь без...
— Читайте! Читайте! — заговорили кругом.
— Ну если вы так настаиваете, господа...
Я вынул из кармана листок и безо всякой позы, вя¬
лым голосом прочел:
ПРОГУЛКА
Мы прогулялись по ландам.
Слушай нас, Боже, ладно?
Мы заблудились в ландах,
А тут и вечер упал,
Мы решили присесть всей командой,
До того каждый из нас устал.
...Все молчали; явно не понимали, что стихотворе¬
ние окончено, и продолжали ждать.
— Это все,— сказал я.
И тогда в полной тишине послышался голос Анжель:
—Ах! Очаровательно. Вам следует вставить это в
«Топи».— И так как кругом все по-прежнему молча¬
ли: — Не правда ли, господа, что ему следует вставить
это в «Топи»?
На несколько следующих мгновений поднялась лег¬
140
кая суматоха, так как одни спрашивали: «Топи? Топи?
Что это такое?» — а другие объясняли, что такое «То¬
пи», но объясняли так, что уверенности это не прибав¬
ляло.
Я ничего не мог сказать, но в этот момент ученый-
физиолог Каролус, одержимый манией докопаться до
источника, с вопросительным выражением лица подо¬
шел ко мне.
— «Топи»? — тут же начал я.— Мсье, это история
животных, которые живут в сумрачных пещерах и те¬
ряют зрение из-за того, что не могут им пользоваться. А
теперь оставьте меня, мне ужасно жарко.
Тогда Эварист, тонкий критик, заключил:
— Боюсь, что это несколько специальный сюжет.
Мне пришлось возразить.
— Но, мсье, особенных сюжетов не бывает. Et tibi
magna satis*,— писал Вергилий, и это точно передает
мой сюжет — о чем я сожалею. Искусство в том и со¬
стоит, чтобы изобразить частное с силой, достаточной,
чтобы оно воспринималось как общее. В абстрактных
терминах это очень трудно выразить, так как эта мысль
уже сама по себе абстрактна; но вы наверняка поймете
меня, представив себе, какой огромный пейзаж вмеща¬
ется в замочной скважине, стоит только подойти к две¬
рям достаточно близко. Тот, кто во всем этом увидел
бы один лишь замок, увидит через его скважину целый
мир, если сумеет наклониться. Достаточно иметь воз¬
можность для обобщения; а уж само обобщение — это
дело читателя, критика.
— Мсье,— ответил он,— вы чрезмерно упрощаете
свою задачу.
— И, наоборот, облегчаю вашу,— ответил я, задыха¬
ясь. Он отошел. «Ах! — подумал я.— Теперь я нады¬
шусь!»
Как раз в это время Анжель взяла меня за рукав.
— Идемте,— сказала она мне,— я вам кое-что по¬
кажу.
Она потянула меня к занавеске и незаметно отодви¬
* И довольно с тебя величия (лат.).— Примеч. пер.
141
нула ее, так, чтобы я увидел в окне большое черное пят¬
но, которое производило шум.
— Чтобы вы не жаловались на жару, я установила
вентилятор,— сказала она.
—Ах! Милая Анжель.
— Но так как он очень шумит,— продолжила она,—
пришлось его закрыть занавеской.
—Ах, вот оно что! Но, милый друг, он же совсем ма¬
ленький!
— Продавец сказал мне, что это подходящий размер
для литераторов. Побольше размером предназначается
для собраний политических; но тогда бы мы вовсе не
слышали друг друга.
В этот момент меня потянул за рукав Барнабе, мо¬
ралист, и сказал:
— Некоторые из ваших друзей достаточно рассказа¬
ли мне о «Топях», чтобы я довольно ясно представил,
что именно вы хотите написать; должен вас предупре¬
дить, что мне это представляется бесполезным и недо¬
пустимым. Вы хотите заставить людей действовать, по¬
тому что вы в ужасе от застоя, заставить их действо¬
вать, не думая о том, что, чем чаще вы вмешиваетесь и
опережаете их действия, тем менее эти действия зави¬
сят от них самих. Ваша ответственность в результате
возрастает; но в такой же мере их ответственность па¬
дает. Между тем для каждого человека важна именно
ответственность за действия — и гораздо менее их
внешнее проявление. Вы не научите желать: velle поп
discitur*; вы сохраните за собой лишь влияние; ну что
же, неплохое начало, если напоследок вам удастся вы¬
звать несколько бессмысленных действий!
Я ему сказал:
— Вы считаете, мсье, что надо оставаться равнодушны¬
ми друг к другу, ибо не видите смысла в заботе о людях
— По крайней мере это очень трудное дело, и роль
всяких посредников вроде нас не в том, чтобы побуж¬
дать их к большим деяниям, а в том, чтобы будить все
большую и большую ответственность за малые деяния.
* Нельзя научиться хотеть (яат.).— Примеч. пер.
142
—Дабы нагнать на них страху за действия, не так
ли? Вы не ответственность их стремитесь увеличить, а
сомнения. Вы таким образом еще больше ограничивае¬
те их свободу. Ответственный поступок есть поступок
свободный; наши поступки эту свободу утратили; и речь
для меня не о том, чтобы возродить поступки, а о сво¬
боде, без которой они невозможны...
Тогда он тонко улыбнулся, чтобы придать значение
тому, что намеревался сказать, и вот что сказал:
— Итак — если я вас правильно понял, мсье,— вы
хотите принудить людей к свободе...
— Мсье! — вскричал я.— Когда я вижу рядом с со¬
бой больных людей, я беспокоюсь — и если не пытаюсь
их лечить, из страха, как вы бы сказали, уменьшить цен¬
ность их лечения, то по крайней мере стремлюсь объяс¬
нить им, что они больны, сказать им об этом.
Подошел Галеас, единственно для того, чтобы смо¬
розить глупость.
— Больного лечат не тем, что демонстрируют ему
его болезнь, а тем, что устраивают ему спектакль здо¬
ровья. В больнице над каждой кроватью следовало бы
нарисовать нормального человека, а коридоры запол¬
нить статуями Гераклов из Фарнезе13.
Тогда вернувшийся Валантен сказал:
— Нормального человека вовсе не зовут Гераклом...
И тут же со всех сторон зашикали: «Тс-с! Тише! Ве¬
ликий Валантен Кнокс будет держать речь».
Он говорил:
— Здоровье не представляется мне благом, желан¬
ным до такой степени. Оно всего лишь равновесие, по¬
средственность; отсутствие гипертрофии. Мы стоим не
больше того, что отличает нас от других; или, другими
словами: главное в нас как раз то, чем одни только мы
и располагаем, то, чего нельзя найти ни в ком другом,
то, чего нет в вашем нормальном человеке,— следова¬
тельно, то, что мы зовем болезнью. А посему больше не
воспринимайте болезнь как недостаток; напротив, это
всегда что-то сверх; горбун — это человек плюс его
горб, и я предпочитаю, чтобы вы воспринимали здо¬
ровье как недостаток болезней. Нам не так уж важен
143
нормальный человек, я хочу сказать, что без него мож¬
но обойтись — ибо он встречается на каждом шагу. Это
общий наибольший делитель* человечества, и, как в
математике, вычеты не могут причинить никакого
ущерба ни его изобилию, ни его индивидуальной добро¬
детели. Нормальный человек (это слово раздражает ме¬
ня) есть тот остаток, то промышленное сырье, которое
собирается на дне печи после плавки, уничтожившей
своеобразие всех компонентов. Это первобытный го¬
лубь, которого удалось вывести по второму разу, путем
скрещивания редких пород,— серый голубь, без цвет¬
ных перьев; у него не осталось ничего, что отличало бы
его от других.
В восторге от того, что он заговорил о серых голу¬
бях, я хотел пожать ему руку и произнес:
—Ах! Мсье Валантен!
Он просто сказал:
—Литератор, молчи. Прежде всего меня интересу¬
ют только безумцы, а вы непомерно благоразумны.
Затем продолжил:
— Нормальный человек — это тот, которого я встре¬
тил на улице и назвал своим именем, приняв его за се¬
бя самого; протягивая ему руку, я воскликнул: «Мой
бедный Кнокс, как ты плохо сегодня выглядишь! Что ты
сделал со своим моноклем?» — и что меня удивило, так
это то, что Ролан, с которым мы прогуливались вместе,
назвав его одновременно со мной своим именем, ска¬
зал: «Бедный Ролан! Да где же ваша борода?» Потом
этот тип нам наскучил, и мы без угрызений совести из¬
бавились от него, потому что он не представлял собой
ничего нового. Впрочем, он и не сказал ничего, настоль¬
ко он был жалок. Знаете ли вы, что это такое, нормаль¬
ный человек: это третье лицо, то, о котором говорят...
Он повернулся ко мне; я повернулся к Ильдеверу и
Изидору и сказал:
— Каково! А я вам что говорил?
Валантен, глядя на меня и сильно возвысив голос,
продолжил:
* Математический термин.— Примеч. пер.
144
— У Вергилия это третье лицо зовут Титиром; это
оно не умирает вместе с нами, оно живет помимо
нас.— И, расхохотавшись в мою сторону, он добавил: —
Поэтому все равно его не убить.
Ильдевер и Изидор, давясь смехом, тоже закричали:
—Так что, мсье, уберите Титира!
Тогда, уже не в силах сдержаться, я в свою очередь
раздраженно сказал:
— Тс-с! Тс-с! Дайте скажу я! — Ия начал говорить
что попало: —Да, господа, да! Титир страдает манией!!!
Вся наша жизнь, жизнь любого из нас — это как те ми¬
нуты неуверенности, когда нас одолевает мания сомне¬
ния: закрыли ли вы этой ночью свою дверь на ключ? И
вы снова идете взглянуть. Надели ли вы галстук сегод¬
ня утром? И вы ощупываете, на месте ли он. Застегну¬
ли ли вы сегодня вечером свои штанишки? И опять вы
проверяете. Возьмите того же Мадрюса, который все
не находил покоя! А Борас! Достаточно, правда? И за¬
метьте, что мы принимали данность как прекрасно сде¬
ланную; мы переделываем ее из-за мании — мании ре¬
троспекции. Мы переделываем потому, что это было
сделано; каждый наш вчерашний поступок как бы
предъявляет иск нам сегодня; это похоже на то, как ес¬
ли бы мы дали жизнь ребенку, но отныне должны нау¬
чить его жить...
Я выдохся и слышал сам, что говорю плохо...
— Все, что мы создаем, кому, как не нам, и надле¬
жит поддерживать; отсюда опасение совершить слиш¬
ком много поступков из страха стать чересчур зависи¬
мыми,— ибо всякий поступок, вместо того чтобы тот¬
час по его свершении дать толчок новому поступку, ста¬
новится ловушкой, в которую мы проваливаемся,—
ловушкой забвения.
— Все, что вы говорите, достаточно забавно...— на¬
чал Понс.
—Да нет же, мсье, это вовсе не забавно — и мне ни
в коем случае не следовало бы это использовать в «То¬
пях»... Я говорил, что наша индивидуальность больше не
проявляется в образе наших действий — она скрыта в
самом поступке— в двух актах нашего поступка
145
(трель),— в трех. Кто такой Бернар? Это тот, кого по
четвергам видят у Октава. Кто такой Октав? Это тот,
кто по четвергам принимает Бернара. Но еще? Это тот,
кто по понедельникам навещает Бернара. Кто такой...
кто мы все такие, господа? Мы те, кого каждую пятни¬
цу принимает Анжель.
— Но, мсье,— сказал Люсьен из вежливости,— тем
лучше, и это прежде всего; а потом, это же единствен¬
ное место, где мы все встречаемся!
— Э! Черт возьми, мсье,— заговорил я опять,— я и
сам думаю, что, когда Юбер каждый день в шесть ча¬
сов навещает меня, он не может в то же самое время
находиться у вас; но что меняется в том случае, если
Брижит вы принимаете каждый день? И так ли уж важ¬
но, если Иоахим принимает ее у себя не чаще, чем раз
в три дня? Я занимаюсь статистикой? Нет! Но я предпо¬
чел бы сегодня ходить на руках, чем ходить на ногах,—
как вчера!
— Мне кажется, однако, что именно это вы и дела¬
ете,— дурацки заметил Туллиус.
— Но, мсье, я ведь как раз на это и сетую; я говорю
«я предпочел бы», заметьте! Впрочем, если бы я попро¬
бовал такое проделать на улице, меня сейчас же упек¬
ли бы в дом для умалишенных. Вот это меня и раздра¬
жает — что все вокруг нас, законы, нравы, тротуары,
как бы навязывает нам повторение и обрекает нас на
монотонность,-тогда как, в сущности, все это чудно
уживается с нашей любовью к повторам.
—Тогда на что же вы жалуетесь? — воскликнули
Танкред и Гаспар.
—Да вот именно на то, на что никто больше не жа¬
луется! Терпимость ко злу усугубляет его — оно пре¬
вращается в порок, господа, потому что в конце концов
его начинают любить. На что я жалуюсь, мсье, так это
на то, что мы не сопротивляемся; что делаем вид, буд¬
то похлебка для нас отличный обед, и ходим с сияющим
лицом, поев всего на сорок су. Потому что мы не спо¬
собны восстать против...
— О! О! — загалдели кругом,— да ведь вы револю¬
ционер?
146
—Да ничуть, господа, вовсе я не революционер! Вы
не даете мне закончить,— я имею в вцду, что мы не
способны восстать... изнутри. Я сетую вовсе не на то,
как мы распределились, а на нас самих, на нравы...
— Словом, мсье,— зашумело общество,— вы упре¬
каете людей в том, как они живут,— с другой стороны,
вы отрицаете, что можно жить по-другому, и ставите им
в упрек то, что они живут так,— но если это им нрави^
ся — но... но в конце концов, мсье: что-же-вы-хо-ти-те???
Я растерялся и вконец ошалел; в исступлении я от¬
ветил:
— Чего я хочу? Господа, я — персонально я — хочу
одного — закончить «Топи».
Тогда Никодем, отделившись от всех, подошел ко
мне пожать руку с восклицанием:
—Ах! Мсье, как вы замечательно сделаете!
Все остальные вдруг повернулись к нам спинами.
— Как,— спросил я,— вы знаете?
— Нет, мсье,— сказал он,— но мой друг Юбер мне
много рассказывал.
—Ах! Он вам сказал...
—Да, мсье, история рыболова, который находит на¬
столько вкусными червей из тины, что ест их, вместо
того чтобы наживлять на свои удочки,— в итоге ему ни¬
чего не удается поймать... само собой. Но все это, по-
моему, очень странно!
Он ничего не понял. В который раз все начинай сна¬
чала. Ах! Я устал! Сказать, что именно это я и стремил¬
ся им объяснить и что приходится все объяснять сно¬
ва,— и так без конца; голова кругом; я больше не могу;
ах! все это я уже говорил...
Так как у Анжель я чувствую себя почти как дома,
то, подойдя к ней, я вынул часы и очень громко сказал:
— Милый друг, но ведь уже страшно поздно!
Через мгновение все достали из карманов свои ча¬
сы, и каждый воскликнул: «Как поздно!»
Только Люсьен из вежливости намекнул: «В про¬
шлую пятницу разошлись еще позже!» Но его замеча¬
нию не придали никакого значения (только я обронил:
«Это потому, что ваши часы ужасно отстают»); все
147
бросились надевать свои пальто; Анжель пожимала ру¬
ки, продолжала улыбаться и предлагала последние
бриоши. Потом перегнулась через перила, чтобы ви¬
деть спускающихся. Я ждал ее, сидя обессиленный на
пуфе.
— Настоящий кошмар этот ваш вечер! — начал я,
когда она вернулась.— О! Эти литераторы! Эти литера¬
торы, Анжель!!! Они невыносимы!!!
— Раньше вы этого не говорили,— возразила она.
—Лишь потому, Анжель, что я их не встречал у вас.
И потом, кого только тут не было, это же ужас! Доро¬
гой друг, нельзя принимать сразу столько людей!
— Но я пригласила не всех,— сказала она.— Каж¬
дый привел с собой несколько других.
— Вы казались среди них такой потерянной. Вам
следовало попросить Лауру зайти; ее присутствие было
бы для вас поддержкой.
— Но вы были настолько возбуждены,— сказала
она,— я вас таким не видела; я думала, что вы приме¬
тесь ломать стулья.
— Милая Анжель, а иначе можно было бы сдохнуть
от скуки... Уж и так чуть не задохнулись от духоты! В
следующий раз пускайте к себе только по пригласи¬
тельным. Скажите-ка, а что означал этот ваш малень¬
кий вентилятор? Прежде всего, ничто не раздражает
меня так, как то, что вращается на одном месте; за
столько времени вам следовало бы это запомнить! И по¬
том, звук, который он производит, просто отвратите¬
лен. Стоило разговору прерваться, как этот звук тут же
становился слышен откуда-то из-под занавески. И все
переспрашивали друг у друга: «Что это такое?» Вы же
понимаете, что я не мог им ответить: «Это Анжель ус¬
тановила себе вентилятор!» Вот-вот, сейчас вы слыши¬
те, как он скрежещет. О! Это невыносимо, милый друг;
остановите его, умоляю вас.
— Но его невозможно остановить,— ответила Ан¬
жель.
— Ах! И его тоже! — вскричал я.— Тогда давайте
говорить громче, милый друг.— Что! Вы плачете?
— Вовсе нет,— ответила она, раскрасневшись.
148
—Тем хуже! — И, охваченный лиризмом, я крик¬
нул, стараясь перекрыть шумок трещотки: — Анжель!
Анжель! Время пришло! Уедем из этих невыносимых
мест! Неужели мы с вами, милый друг, однажды услы¬
шим на пляже вольный морской ветер? Я знаю, среди
какого мелкотемья вам приходится жить, но этот ветер
иногда все сдувает... Прощайте! Мне нужно пройтись;
думайте, но не дольше, чем до завтра! А затем путеше¬
ствие. Думайте же, дорогая Анжель, думайте!
—Ладно, прощайте,— сказала она,— идите спать.
Прощайте.
Я оставил ее. Я почти бегом вернулся к себе; раз¬
делся; лег; но не для того, чтобы уснуть; когда в мо¬
ем присутствии пьют кофе, это возбуждает меня. Од¬
нако сейчас я чувствовал себя подавленным и гово¬
рил себе: «Чтобы убедить их, все ли я сделал, что
мог, надо было найти для Мартена несколько аргу¬
ментов посильнее... А Густав! Ах! Валантен любит
только сумасшедших! Назвать меня «благоразум¬
ным» — мыслимо ли такое! Меня, кто весь день со¬
вершал одни лишь абсурдные поступки. Это не одно
и то же, конечно, я знаю... И что же, теперь так мне
и жить с этой мыслью, что я, мол, редкая птица. Ре¬
волюционер. Если я и впрямь им являюсь, то в конце
концов из чувства противоречия. Как жалок тот, кто
перестал и мечтать им быть! Так и не заставить вы¬
слушать себя... Однако все, что я им сказал, правда,
потому что я от нее страдаю. Страдаю ли я от нее? Че¬
стное слово, иной раз я просто не понимаю, ни чего
хочу сам, ни почему у меня зуб на других,— тогда
мне кажется, что я сражаюсь со своим собственным
воображением и что я... Боже мой! Боже мой, так вот
откуда такая тяжесть, и чужая мысль еще более инер¬
тна, чем материя. Любая идея, только коснись ее, по¬
хоже, оборачивается для вас карой; она подобна ноч¬
ному вампиру, что, взобравшись к вам на плечи, пьет
вашу кровь и наливается тяжестью по мере того, как
вы теряете силы... Сейчас, когда я начал искать иные
формы для выражения мыслей, чтобы сделать их до¬
149
ступнее чужому восприятию, я не могу остановиться;
ретроспекции; что за нелепые метафоры; я чувствую,
что сам становлюсь одержим теми страстями, кото¬
рые стремлюсь описать и порицаю в других, причем
сам я замыкаюсь в страдании, не в силах им ни с кем
поделиться. Мне кажется теперь, что чувство, с кото¬
рым я живу, лишь обостряет мой недуг, в то время
как другие, возможно, и не больны. Но в таком слу¬
чае понятно, почему они не страдают,— и у меня нет
никакого права за это их упрекать; однако живу-то я,
как они, поэтому и страдаю... Ах! Я весь в отчаянии!
Я хочу посеять беспокойство — прикладываю ради
этого столько стараний, а рождаю это беспокойство
только в себе самом... Ага! Вот фраза! Запишем-ка».
Я вынул из-под подушки листок, зажег свечу и запи¬
сал эти бесхитростные слова:
«Упиваться своим беспокойством».
Я задул свечу.
«...Боже мой, Боже мой! Прежде чем заснуть, я дол¬
жен еще кое-что обдумать... Если у вас возникнет ма¬
ленькая идея, оставьте ее жить-поживать в покое...
как!.. Что?.. Ничего, сейчас говорю я; так вот, оставьте
ее в покое... как!.. Что?.. Ах! Чуть не уснул... нет, я ведь
хотел еще поразмышлять о той маленькой вдее, кото¬
рая становится большой; я и не заметил, как она вырос¬
ла; теперь идея стала огромной — и овладела мной —
чтобы мною жить; да, я для нее средство существова¬
ния; она тяжела — я должен представить ее, и я вновь
представляю ее миру. Она затем и овладела мной, что¬
бы я ее по всему свету таскал за собой. И весу в ней не
меньше, чем в Боге... Беда! Еще одна фраза!» Я достал
новый листок; зажег свечу и написал:
«Пусть она растет, а я уменьшаюсь».
«Это из Святого Иоанна... Ах! Пока не забыл». Я из¬
влек третий листочек...
«Я уже не помню, что хотел сказать... Ах! тем хуже;
у меня болит голова... Нет, эта мысль наверняка забу¬
дется, забудется... и я почувствую боль, как в деревян¬
150
ной ноге... в деревянной ноге... Ее уж нет, а ее все чув¬
ствуешь в мыслях... в мыслях... Повторять слова — это
ко сну; я повторю еще: деревянная нога, деревянная но¬
га... деревянная... Ах! Я же не погасил свечу... Нет, по¬
гасил. Погасил ли я свечу?.. Да, ведь я сплю. Между
прочим, когда Юбер добрался домой, она еще не была
потушена... но Анжель уверяла, что да ...в этот самый
момент я и стал ей рассказывать про деревянную ногу,
потому что она проваливалась в торф; я заметил ей, что
никогда не смогу бегать довольно быстро; эта земля, го¬
ворил я себе, ужасно упруга!.. Болото дорога14 — нет,
еще хуже!.. Стой! А где Анжель? Бегу чуточку быстрее.
Кошмар! Увязаю еще больше... никогда мне не побе¬
жать быстрей... Где же лодка? Это она? Надо прыгать?
Уф! Гоп! Как я устал!
Ну что ж, если вы не против, Анжель, мы с вами сей¬
час совершим на этой лодке увлекательную прогулку.
Я хотел вам показать, дорогой друг, что там ничего нет,
кроме осоки и плаунов — крохотных рдестов, а у меня
в карманах ничего — лишь самая малость хлебного мя¬
киша для рыб... Что такое? Где Анжель?.. В конце кон¬
цов, дорогой друг, почему сегодня вечером вы такая
расплывчатая?.. Да вы же просто в воздухе растворяе¬
тесь, дорогая моя! Анжель! Анжель! Вы слишком — эй,
вы слышите? Анжель!.. Неужели от вас не останется ни¬
чего, кроме этого стебелька nymphea botanique*15 (я
употребляю это слово в значении, трудно оценимом се¬
годня), которую я вытяну из реки... Но она же вся из
бархата! Ковер, да и только; пружинящий покров!..
Только зачем же и дальше сидеть на нем, обхватив ру¬
ками ножки стула? Надо же когда-то выбираться из-под
мебели! Скоро придет монсеньор... к тому же здесь не¬
стерпимо душно!.. Вот и портрет Юбера. Весь в цве¬
тах... Откроем дверь; здесь очень жарко. Кажется, эта
другая комната больше похожа на то, что я думал уви¬
деть; только вот портрет Юбера здесь очень плох; куда
больше мне нравился другой; а этот похож на вентиля¬
тор; да-да! на заплеванный вентилятор. Почему он сме¬
* Белая кувшинка.— Примеч. пер.
151
ется?.. Уйдем отсюда. Идемте, мой дорогой друг... по¬
стой! Но где же Анжель? Только что я очень крепко
держал ее за руку; должно быть, она убежала по кори¬
дору, чтобы собрать чемодан. Хоть бы какой указатель
оставила... Да не бегите же так быстро, мне вас никог¬
да не догнать. Ах! Проклятье! Снова дверь заперта...
Слава Богу, все они легко открываются; и я их захло¬
пываю за собой, чтобы монсеньор меня не догнал. Я
думаю, что он направил по моему следу весь салон Ан¬
жель... Сколько их! Сколько их! Всех этих литерато¬
ров... Бац! Еще одна закрытая дверь. Бац! Целая анфи¬
лада комнат! Совершенно не представляю, где нахо¬
жусь. Как быстро я бегу сейчас!.. Вот досада! Здесь
больше нет дверей; портрет Юбера плохо повешен; он
упадет; у него вид ухмылятора... Эта комната слишком
тесная — я бы даже сказал: зажатая; она никогда не
вместит всех. Сейчас они придут... Задыхаюсь! Ах! В
окно! Я его закрою за собой; безутешный, я подлечу
прямо к балкону, нависающему над улицей. Вот как! Да
это же коридор! Ах! Вот они: Боже мой, Боже мой! Я
схожу с ума... Я задыхаюсь!»
Я проснулся весь в поту; под туго заправленным оде¬
ялом ощущение такое, точно ты в коконе; казалось, оно
тяжело давит на грудь; рывкрм, изо всех сил, я сбросил
его с себя. Воздух комнаты коснулся меня; я размерен¬
но дышал. Свежесть — раннее утро — белизна за ок¬
ном... нужно записать все это; аквариум — он нашел
свое место в комнате... Вдруг я почувствовал озноб; за¬
мерзну, подумал я; конечно, я замерз. Дрожа от холо¬
да, я встал, поднял с пола одеяло и покорно укрылся им,
чтобы снова уснуть.
ЮБЕР, ИЛИ УТИНАЯ ОХОТА
Пятница
Едва проснувшись, я прочел в записной книжке:
«Постараться встать в шесть часов». Сейчас'было во¬
семь; я взял перо; зачеркнул; взамен написал: «Поднять¬
ся в одиннадцать». И снова лег, не читая остального.
152
Чувствуя себя разбитым после ужасной ночи, я раз¬
нообразия ради вместо молока выпил немного травяно¬
го отвара; его принес мне слуга, потому что я даже не
поднялся с постели. Записная книжка раздражала меня,
и я предпочел написать на отрывном листке: «Сегодня
вечером купить бутылку воды «Эвиан»» — затем при¬
шпилил листок к стене.
«Уж лучше остаться дома и выпить этой воды, чем
отправиться на ужин к Анжель; Юбер там будет навер¬
няка; возможно, что я им помешаю; зато я приду сразу
же после, чтобы поглядеть, не помешал ли им».
Я взял перо и написал:
«Дорогой друг; у меня мигрень; я не приду на ужин;
к тому же будет Юбьр, и я не хочу вам мешать; но я за¬
гляну попозже, в течение вечера. Мне приснился кош¬
мар, о котором вам любопытно будет узнать».
Я запечатал письмо; взял новый листок и не спеша
написал:
«На берегах озер Титир собирает полезные травы.
Он находит бурачник, целебную алтею и горчайшие ва¬
сильки. Он возвращается с целым букетом лекарствен¬
ных трав. Зная целебную силу растений, он ищет, ко¬
му помочь. Вокруг озер ни души. Жаль, думает он. Тог¬
да он отправляется на соляные копи, где есть лихорад¬
ка и рабочие. Он идет к ним, говорит с ними,
увещевает их и доказывает им, что они больны; но
один заявляет, что он не болен; другой, которому Ти¬
тир дает целебную траву, высаживает ее в горшок и
наблюдает, как она растет; наконец, у третьего дей¬
ствительно лихорадка, он сам это хорошо знает, но
считает, что она полезна его здоровью.
И так как в конце концов никто не пожелал ле¬
читься, и все цветы завяли, Титир сам схватил лихо¬
радку, чтобы полечить хотя бы себя самого...»
В десять часов звонок; это был Альсид. Он спросил:
— Спишь! Болеешь?
Я сказал:
153
— Нет. Здравствуй, друг мой. Но я могу встать толь¬
ко в одиннадцать часов. Это решение, которое я при¬
нял. Ты хотел?..
— Попрощаться с тобой. Мне сказали, что ты от¬
правляешься в путешествие. Надолго ли?
— Ну не так чтоб уж очень-очень надолго... С мои¬
ми средствами, как ты понимаешь сам... Но главное —
это уехать. Что? Я говорю это не затем, чтобы спрова¬
дить тебя, но мне нужно много написать, прежде чем...
в общем, очень мило было с твоей стороны заглянуть;
до свидания.
Он ушел.
Я взял новый листок и написал:
Tityre semper recubans * —
затем заснул до полудня.
Удивительная это вещь — достаточно обдуманного
намерения, решимости что-то круто изменить в своей
жизни, как текущие дела и делишки оказываются на¬
столько ничтожными, что их с легким сердцем посыла¬
ешь к черту.
Вот почему я нашел в себе отвагу быть не очень при¬
ветливым с Альсидом, чей визит был некстати, иначе я
бы на такое не решился. Точно так же, просматривая
записную книжку и случайно увидев строки: «Десять
часов. Пойти и объяснить Маглуару, почему я считаю
его столь глупым», я нашел в себе силы порадоваться,
что не пошел к нему.
«Вот чем хороша записная книжка,— размышлял
я,— не запиши я в ней, что должен был сделать сегод¬
ня утром, я мог бы это позабыть, и тогда у меня не бы¬
ло бы оснований порадоваться, что я этого и не сделал.
Для меня именно в этом и состоит обаяние того, что я
так красиво прозвал неожиданным срывом-, я достаточ¬
но люблю его за то, что усилий он требует небольших,
а все-таки вносит разнообразие в тусклые дни».
Итак, вечером, после ужина, я отправился к Ан¬
жель. Она сидела за фортепьяно; она пела с Юбером
* Титир — вечный лежебока (лат.).— Примеч. пер.
154
большой дуэт из <Лоэнгрина»16, который я счастлив
был прервать.
—Анжель, дорогой друг,— сказал я с порога,— я
прихожу без чемоданов; однако я останусь здесь на
ночь, воспользовавшись вашим любезным приглашени¬
ем, и мы вместе, не так ли, дождемся утра, чтобы от¬
правиться в путь. За долгое время я, должно быть, за¬
был здесь немало вещей, которые вы сложили в моей
комнате: деревенские туфли, вязаную кофту, ремень,
непромокаемую шапку... Мы найдем все необходимое.
Я не стану возвращаться к себе. В этот последний вечер
мы должны с изобретательностью продумать завтраш¬
ний отъезд, отложить все, что не имеет к нему отноше¬
ния; нужно все предусмотреть, все представить, все сде¬
лать, чтобы путешествие было во всех отношениях при¬
ятным. Юбер должен прельстить нас, рассказав о ка-
ком-нибудь приключении былых времен.
— У меня совершенно нет времени,— сказал
Юбер,— уже поздно, и мне еще надо заглянуть в мою
контору по страхованию, чтобы успеть до ее закрытия
получить несколько бумаг.— Потом, я рассказчик не¬
важный и рассказываю исключительно свои охотничьи
истории. Эта история связана с моим большим путеше¬
ствием в Иудею; но она ужасна, Анжель, и я не знаю...
— О! Расскажите, прошу вас.
— Раз вы так хотите,— вот моя история. Я путеше¬
ствовал с Больбосом, которого вы оба не знали; это был
лучший друг моего детства; не пытайтесь вспомнить,
друг Анжель, он умер, именно о его смерти я и хочу
рассказать.
Он, как и я, был большой охотник, охотник на тиг¬
ров в джунглях. Он был, впрочем, тщеславен и заказал
себе из шкуры убитого тигра, а убил он их немало, шу¬
бу, очень дурного вкуса, к тому же он носил ее даже в
теплые дни и всегда нараспашку. В шубе он был и в
этот последний вечер... на этот раз, впрочем, больше
было и оснований ее надеть, ибо уже опустилась ночь
и холод давал о себе знать. Вы знаете, что в том клима¬
те ночи холодные, а охота на пантер устраивается по
ночам. За ними охотятся с качелей — и это, можно ска¬
155
зать, забавно. В горах Идумеи известны скалистые ко¬
ридоры, по которым животные проходят в определен¬
ное время суток; нет среди них более пунктуальных в
своих привычках, чем пантера,— это-то и позволяет на
нее охотиться. В пантер стреляют сверху вниз — такая
уж у них анатомия. Этим и продиктовано употребление
качелей; но все их преимущества выясняются только в
тот момент, когда охотник промахивается. Действи¬
тельно, отдача от выстрела — довольно сильный тол¬
чок, который приводит качели в движение; поэтому ка¬
чели подбираются очень легкие; каждый выстрел уско¬
ряет их ход разъяренная пантера прыгает, но достать
их не может, что наверняка удалось бы ей, будь они не¬
подвижны. Как я сказал: «удалось бы»?.. Ей это уда¬
лось! Ей это удалось, Анжель!
...Трос для качелей натягивают от края до края
ложбины; таким образом, каждый из нас занял свои
качели; было поздно; мы ждали. Пантера должна бы¬
ла пройти под нами от полуночи до часу ночи. Я был
еще молод, немного труслив и в то же время безрас¬
судно смел — одним словом, поспешен. Больбос был
много старше и намного рассудительней; он хорошо
знал этот вид охоты и в знак дружеского расположе¬
ния уступил мне лучшее место, откуда можно первым
увидеть зверя.
— Чем сочинять скверные стихи,— ответил я ему,—
лучше уж говори прозой.
Не поняв меня, он продолжал свое.
В полночь я заряжаю ружье. В четверть первого сре¬
ди скал появляется полная луна.
— До чего это должно быть красиво! — сказала Ан¬
жель.
— Вскоре неподалеку мы услышали легкий шорох,
такой необычный шорох издают при движении только
звери. В половине первого я увидел крадущуюся длин¬
ную тень: это была она! Я чуть-чуть подождал, чтобы
она оказалась точно подо мной. Я выстрелил... Дорогая
Анжель, что это я вам говорю? Меня отбросило назад,
я упал. Качели взлетели вместе со мной; и тотчас же я
оказался вне досягаемости — голова кругом, но еще не
156
настолько, чтобы... Больбос не выстрелил! Чего он
ждал? Вот этого я так и не смог понять; зато я хорошо
понял, как опасно на подобную охоту отправляться
вдвоем. Представьте, в самом деле, дорогая Анжель,
что кто-то стреляет на мгновение раньше — раздражен¬
ная пантера видит неподвижный предмет — и у нее
есть время для прыжка, но в когтях у нее оказывается
тот, кто выстрелить не успел. И поныне, думая о слу¬
чившемся, я считаю, что у Больбоса, по всей вероятно¬
сти, произошла осечка. Подобные дефекты обнаружи¬
ваются даже у самых лучших ружей. Когда мои качели
пошли в противоположную сторону, то есть стали воз¬
вращаться в исходное положение, я, пролетев мимо ка¬
челей Больбоса, увидел, что его тело и тело пантеры
сплелись в клубок, и теперь его качели буквально пля¬
сали в воздухе; в самом деле, до чего же проворные су¬
щества эти звери.
Мне пришлось, дорогая Анжель, вы только подумай¬
те, мне пришлось присутствовать при такой драме. Ме¬
ня уносило назад, вперед, качели мои не останавлива¬
лись; его качели тоже теперь летали вовсю из-за панте¬
ры — и я ничего не мог изменить! Воспользоваться
ружьем? Бесполезно: как прицелиться? По крайней ме¬
ре мне хотелось оказаться отсюда подальше, от движе¬
ния качелей меня страшно тошнило...
— Как все это должно было волнующе выгля¬
деть! — сказала Анжель.
— А теперь прощайте, дорогие друзья, я вас поки¬
даю. Спешу. Счастливого путешествия; развлекитесь
как следует; не задерживайтесь слишком долго. Я при¬
ду в воскресенье, чтобы увидеть вас.
Юбер ушел.
Воцарилось продолжительное молчание. Если бы я
заговорил, то сказал бы: «Юбер рассказывал очень пло¬
хо. Я не знал о его путешествии в Иудею. Правдива ли
эта история? Когда он говорил, у вас был вид, как у не¬
умеренной обожательницы». Однако я не сказал ниче¬
го; я смотрел на огонь, на пламя лампы, на Анжель ря¬
дом со мной — мы оба сидели у камина,— на стол, на
погруженную в приятный полумрак комнату, на все,
157
что нам предстояло оставить... Принесли чай. Уже ми¬
нуло одиннадцать часов; можно было подумать, что мы
оба задремали.
Когда пробило полночь:
— Я тоже... ходил на охоту...— начал я.
От удивления она почти проснулась; она спросила:
— Вы? На охоту! Охоту на кого?
— На уток, Анжель. Причем вместе с Юбером; это
было давно... Но почему бы и нет, дорогая Анжель? Что
мне не нравится, так это ружье, а не охота; грохот вы¬
стрелов внушает мне ужас. У меня очень живой темпе¬
рамент; но мне мешают инструменты... Однако Юбер,
который всегда в курсе всех изобретательских нови¬
нок, через Амедея достал мне на зиму пневматическое
ружье.
— О, расскажите мне все! — сказала Анжель.
— Это не было,— продолжал я,— это не было, как
вам понятно, одно из тех замечательных ружей, кото¬
рые обычно можно увидеть лишь на больших выстав¬
ках; впрочем, я всего лишь взял его напрокат, так как
стоят эти инструменты ужасно дорого; да и не люблю я
держать оружие дома. Небольшой баллон сжатого воз¬
духа приводил в движение спусковой крючок — с по¬
мощью резиновой трубки, пропущенной под мышкой; а
в руке держишь изношенную грушу, так как это было
старое ружье; от малейшего нажатия на каучуковую
грушу раздавался выстрел... Ваше техническое неведе¬
ние мешает мне объясниться лучше.
— Вам надо было бы показать мне это,— сказала
Анжель.
—Дорогой друг, эти инструменты можно трогать
лишь с величайшей осторожностью; потом, как я уже
говорил, я ведь их не храню. Впрочем, той одной ночи
хватило, чтобы использовать грушу до конца, настоль¬
ко охота была удачной, что вы и увидите из моего рас¬
сказа.
Это было туманной декабрьской ночью. Юбер спро¬
сил меня: «Ты идешь?» Я ответил ему: «Я готов».
Он снял со стены свой карабин; я — свое ружье; он
взял свои манки и сапоги; мы прихватили наши никели¬
158
рованные коньки. Затем, положившись на особое охот¬
ничье чутье, мы вышли в ночь. Юбер помнил дорогу,
которая должна была привести к шалашу, где на бере¬
гу облюбованного дичью озера, под торфяной золой
уже с вечера тлел огонь. Впрочем, едва мы вышли из
парка, ночь после его густых темных пихт показалась
нам скорее светлой. Чуть-чуть надутая луна проступала
сквозь дымку тумана. Она светила не урывками, как
бывает, когда луна то исчезает, то проливается на обла¬
ка; ночь не была беспокойной; это тем более не была и
безмятежная ночь; она была беззвучная, праздная,
влажная и, поймете ли вы меня, если я скажу: несамо¬
вольная. Ничего особенного в небе не было; хоть вы¬
верни его наизнанку. (Если я так настаиваю на деталях,
мой терпеливый друг, то лишь затем, чтобы вы поняли,
насколько ночь была заурядной.)
Опытные охотники знают, что такие ночи самые
лучшие для засады на уток. Мы приблизились к замерз¬
шему каналу, лед посреди высохших камышей отсвечи¬
вал, будто отполированный. Мы приладили коньки и,
не говоря ни слова, отправились в путь. Чем ближе к
озеру, тем неприятнее проступала мутная вода, переме¬
шанная с землей, мхами и полурастаявшим снегом,
скользить было все трудней. Каналу, казалось, не будет
конца; уже и коньки стали нам мешать. Мы их сняли.
Юбер забрался в шалаш, чтобы согреться; я не смог там
находиться из-за сильного дыма... То, что я вам расска¬
жу сейчас, Анжель, ужасно! Все же послушайте. Как
только Юбер согрелся, он вошел в воду, полную тины;
конечно, я знал, что на нем просмоленные сапоги и
одежда — но, друг мой, он погрузился не до колен — и
даже не по пояс: он погрузился в воду весь! Не дрожи¬
те так сильно; он это сделал нарочно! Чтобы стать не¬
заметным для уток, он решил исчезнуть совсем; это бы¬
ло мерзко, скажете вы... Не правда ли? Я тоже думал
так: но тогда откуда бы бралось изобилие дичи? Мы за¬
няли свои места; бросив якорь и сидя на дне лодки, я
ждал приближения стаи. Юбер из своего укрытия начал
подманивать селезня. Для этого он использовал два
манка: один для призыва, другой для ответа. Паривший
159
вдали селезень вслушивался; он вслушивался в этот от¬
вет: селезень настолько глуп, что принимает его за свой
собственный; и стремительно полетел — во исполнение
своего обязательства, дорогая Анжель. Юбер замеча¬
тельно имитировал. Небо над нами потемнело от треу¬
гольного облака птиц; шум хлопающих крыльев стал
еще сильней, когда они начали садиться на воду; и ког¬
да они оказались почти рядом, я начал стрелять.
Скоро их налетело такое множество, что, по правде
говоря, я почти не целился; после каждого выстрела я
лишь чуть сильнее нажимал на грушу — так легко сра¬
батывал спусковой крючок, он производил шума не
больше, чем разрывы карнавальных хлопушек или, как
в одном из стихотворений мсье Малларме, восклица¬
ние «Palmes!» *17- А чаще нельзя было различить даже
этот звук, и, если бы я почти не прикладывался ухом к
ружью, подтверждением выстрела мне могло служить
только падение еще одной птицы. Утки, не слыша вы¬
стрелов, продолжали садиться. Подстреленные птицы
падали, кружили и метались в мутной воде, покрытой
коркой грязи, своими распластанными крыльями в су¬
дорогах обрывая листву. Прежде чем умереть, они
стремились уйти из камышей и укрыться в густом кус¬
тарнике. Перья падали медленнее, чем птицы, и, кружа
в воздухе и на воде, казались легче тумана... я спраши¬
вал себя: когда это кончится? Наконец на рассвете уле¬
тели последние оставшиеся в живых птицы; вдруг под¬
нялся сильный шум крыльев, и последние умирающие
птицы все поняли. Тогда наконец появился Юбер, весь
в листьях и тине. Толкая свою плоскодонку шестами,
мы поплыли среди поломанных стеблей камыша и в
жутком свете ранней зари собрали свои съестные при¬
пасы. Я убил более сорока уток; все они пахли боло¬
том... Как? Вы спите, дорогая Анжель?
Лампа гасла, в ней кончалось масло; печально уми¬
рал огонь, и умывалось рассветом окно. Словно небо из
своих кладовых ниспослало немного надежды, которая
дрожа спускалась на землю... Ах! Да падут на нас кап¬
* Пальмы (фр.). На языке оригинала произносится: «пальм».
160
ли небесной росы, и пусть в эту отгороженную от мира
комнату, где мы так долго дремали, через дождь и стек¬
ло наконец проникнет заря и сквозь сгустки мрака до¬
несет до нас немного естественной белизны.
Анжель была в полудреме; так как я замолчал, она
медленно проснулась и прошептала:
— Вам бы следовало описать это...
—Ах! Умоляю, не договаривайте, дорогой друг,— и
не убеждайте меня, что мне следовало бы описать это
в «Топях». Прежде всего, это уже сделано — и потом,
вы же не слышали меня — но я на вас не сержусь —
нет, прошу вас, не подумайте, что я на вас сержусь. Да
к тому же мне хочется сегодня радоваться. Наступает
рассвет, Анжель! Смотрите! Посмотрите на серые го¬
родские крыши и на эти белые цвета пригорода... Быть
может... Ах! От каких унылых пейзажей, от скольких
разбитых бессонных ночей, прогоркших от пепла,—
вот мысль! Быть может, освободит нас твоя, заря, чис¬
тота, которая открывается всегда так нежданно! Окно,
по которому растекается утро... нет, утро, которое вы¬
белило окно... смыть бы, смыть бы все это...
Бежать, бежать туда, где птицы опьянели! *18
Анжель! Это стихотворение мсье Малларме! Я цити¬
рую по памяти — оно от первого лица, но вы ведь еде¬
те тоже. Ах, дорогой друг, я беру вас с собой! Чемода¬
ны! Надо спешить; я хочу взять битком набитый рюк¬
зак. И все же не станем брать лишнего: «Все, что нель¬
зя уложить в чемодан, непереносимо!» Это сказал мсье
Баррес19, Баррес, вы его знаете, депутат, моя дорогая!
Ах! Здесь душно; не хотите ли открыть окно? Я слиш¬
ком взволнован. Идите скорей на кухню. В путешест¬
вии никогда не знаешь, где придется поесть. Возьмем с
собой четыре бутерброда, яиц, сарделек и жаркое из те¬
лятины, оставшееся от вчерашнего ужина.
Анжель удалилась; на мгновение я остался один.
Итак, что мог бы я про это мгновение сказать? Разве
оно заслуживает меньше внимания, нежели мгновение
* Пер. Э. Линецкой.
161
следующее, и, вообще, дано ли нам судить о важности ве¬
щей? Сколько высокомерия в идее выбора! Вглядимся
же одинаково пристально во все, что происходит вокруг,
и, как ни тянет в путь, поразмыслим спокойно перед до¬
рогой. Посмотрим! Посмотрим! И что же я вижу?
— Вот три зеленщика.
— Уже проехал омнибус.
— Портье подметает перед своей дверью.
— Лавочники подновляют свои витрины.
— Кухарка отправляется на рынок.
— Школьники идут в коллеж.
— В киоски доставляют газеты; их раскупают спе¬
шащие господа.
— У входа в кафе ставят столики...
Боже мой! Боже мой, хоть бы Анжель не вернулась
в эту минуту, вот ведь снова я плачу... это, я думаю, нер¬
вы; на меня это накатывает всякий раз при перечисле¬
ниях. Да к тому же сейчас меня бьет озноб! Ах! Из люб¬
ви ко мне, закроем это окно. Я весь окоченел от утрен¬
ней свежести. Жизнь — жизнь других! И это жизнь? —
видеть жизнь! Что же все-таки это за штука такая,
жизнь?! Что еще о ней можно сказать? Одни восклица¬
ния. А теперь я чихаю; да, как только я перестаю раз¬
мышлять и впадаю в созерцание, я простужаюсь. Но я
жду Анжель — надо торопиться.
АНЖЕЛЬ, ИЛИ НЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Суббота
В путешествии вести записи исключительно о мгно¬
вениях поэтических, ибо они лучше всего согласуются
с тем, каким я хочу его видеть.
В машине, которая отвозила нас на вокзал, я продек¬
ламировал:
Козлята на берегу водопадов,
Мосты, переброшенные через них;
Лиственный лес многорядный...
Мы поднимаемся, преследуемы
162
Несравненным духом смолы
Как лиственниц, так и пихт.
— О! — сказала Анжель,— какие прекрасные стихи!
— Вы находите, дорогой друг? — сказал я ей.— Да
нет же, да нет же, уверяю вас; я не говорю, что они пло¬
хие, плохие... Да наконец я на этом не настаиваю — я
импровизировал. Потом, быть может, вы и правы; в са¬
мом деле, вполне может быть, что они хороши. Автор
никогда твердо не уверен в себе...
Мы прибыли на вокзал слишком рано. В зале ожи¬
дания нас ждало — ах! — действительно долгое ожида¬
ние. Вот тогда-то, сидя рядом с Анжель, я просто счел
необходимым сказать ей любезность.
—Друг, мой друг,— начал я,— в вашей улыбке есть
нежность, которую я не в силах до конца понять. Связа¬
на ли она с вашей чувственностью?
— Я не знаю,— ответила она.
— Милая Анжель! Я вас никогда не ценил так силь¬
но, как сегодня.
Я также сказал ей: «Очаровательный друг, до чего
изящны ассоциации ваших мыслей!» — и что-то еще, че¬
го не могу вспомнить.
По обочинам дороги стелились кирказоны.
К трем часам ни с того ни с сего начался небольшой
ливень.
— Пустяки, покапает и пройдет,— сказала Анжель.
— Почему,— сказал я,— дорогой друг, вы взяли толь¬
ко зонтик от солнца, зная, что небо так переменчиво?
— Это зонтик от солнца и дождя,— ответила она.
Но так как дождь припустил сильней, а я боюсь
влажности, мы снова спрятались под крышей винодель¬
ни, которую совсем недавно покинули.
163
«По соснам сверху вниз медленно спускалась ко¬
ричневая процессия гусениц, которую у подножия
подолгу караулили и тут же пожирали толстые красо¬
телы».
— Я никогда не видела красотелов! — сказала Ан¬
жель (так как я ей показал эту фразу).
— Ия, дорогая Анжель, и гусениц тоже. В конце
концов сейчас не сезон; но эта фраза, не правда ли, ве¬
ликолепно передает впечатление от нашего путешест¬
вия... Довольно удачно в конце концов, что это малень¬
кое путешествие сорвалось,— таким образом, оно вам
послужит уроком.
— О! Зачем вы это говорите? — подхватила Анжель.
— Мой дорогой друг, поймите же, что путешествие
может доставить нам только побочное удовольствие.
Путешествуют ради познания... Как? Вы плачете, доро¬
гой друг?
— Ничуть! — ответила она.
— Пошли! Тем хуже. По крайней мере вы раскрас¬
нелись.
Воскресенье
В записной книжке:
«Десять часов: воскресная месса.
Визит к Ришару.
К пяти часам вместе с Юбером навестить бедствую¬
щее семейство Росселанж и крошку-землекопа Грабю.
Заметить Анжель, насколько серьезны мои шутки.
Закончить «Топи».— Центр тяжести».
Было девять часов. Торжественность этого дня я
ощутил по охватившей меня тоске. Слегка подперев ру¬
кой голову, я писал:
«Всю жизнь я тянулся туда, где хоть на толику боль¬
ше света. Ах, сколько людей я видел вокруг себя, кото¬
рые чахли в слишком тесных каморках; в них не загля¬
дывало солнце; только отблеск его, отраженный и по¬
линявший, проникал туда в полдень. К тому часу, когда
в улочках настаивалась удушающая, без единого дуно¬
вения, жара; запертые между стенами лучи разогрева¬
ли воздух до дурноты. Кто наблюдал все это, тот пере¬
164
носился мысленно в просторы, воображал лучи на мор¬
ской пене, на колосьях равнин...»
Вошла Анжель.
Я воскликнул:
— Вы! Дорогая Анжель!
Она мне сказала:
— Вы работаете? Вы сегодня утром печальны. Я это
почувствовала. Я пришла.
—Дорогая Анжель!.. Но садитесь. Почему бы мне
быть сегодня утром печальнее, чем всегда?
— О! Вы опечалены, не так ли? К тому же то, что
вы говорили мне вчера, неправда... Не можете же вы
радоваться, что наше путешествие оказалось совсем не
таким, каким мы его представляли.
— Милая Анжель!.. Я очень тронут вашими слова¬
ми... Да, я печален, дорогой друг; у меня действительно
сегодня утром скорбит душа.
—Я пришла ее утешить,— сказала она.
— Как нас отбросило, моя дорогая! Теперь все стало
куда печальней. Признаться, я очень рассчитывал на это
путешествие, я надеялся, что оно поможет по-новому
проявиться моему таланту. Верно, что это предложение
исходило от вас, но я думал о нем уже много лет. Я те¬
перь лучше представляю все то, от чего мне хотелось из¬
бавиться, то есть именно то, что я обретаю вновь.
— Быть может,— сказала Анжель,— мы уехали не¬
достаточно далеко. Но чтобы увидеть море, нужно бы¬
ло два дня, а мы хотели поспеть на воскресную мессу.
— Мы не подумали о том, что это совпадает по вре¬
мени, Анжель; и потом, как далеко нам следовало
уехать? Как нас отбросило, Анжель! Теперь, когда вспо¬
минаешь наше путешествие,— каким же оно вышло гру¬
стным! Слово «кирказон» в какой-то мере эту печать и
несет. Вы будете очень долго вспоминать наш обед под
крышей винодельни, и дождь, и как мы потом продрог¬
ли и молчали. Побудьте, побудьте со мной это утро, про¬
шу вас. Я чувствую, что вот-вот разрыдаюсь. Мне кажет¬
ся, что я всегда ношу «Топи» с собой. «Топи» никому не
причиняют столько неприятностей, как мне самому...
— Оставили бы вы эту книгу,— сказала она мне.
165
—Анжель! Анжель, вы не понимаете! Я оставляю ее
здесь; я нахожу ее там; я нахожу ее везде; один вид по¬
сторонних выводит меня из себя, и наше маленькое пу¬
тешествие меня от этого не избавило. Постоянно стре¬
мясь еще раз прожить день вчерашний, мы не грусть
свою развеиваем, мы не страсти свои утоляем, мы рас¬
ходуем лишь самих себя и каждый день теряем силы.
Как мы удлиняем прошлое! Я боюсь смерти, дорогая
Анжель. Ничто не удастся нам вывести из подчинения
времени — ибо ничто нельзя сделать раз и навсегда.
Разве только иные творения могут жить, не нуждаясь
больше в нас. Но из всего того, что мы делаем, ничто
не может длиться дольше, нежели мы к тому приклады¬
ваем старание. И, однако ж, все наши деяния более чем
реальны и тяготят нас. А тяготит нас необходимость их
повторять; есть в этом что-то такое, что я больше не по¬
нимаю отчетливо. Извините — одну минуточку...
И, взяв листок, я написал: «Нам приходится прила¬
гать старания для свершения поступков, когда они не
идут от чистого сердца».
Я продолжил:
— Но поймите, дорогая Анжель, что именно в этом
причина неудачи нашего путешествия... Ничего невоз¬
можно оставить позади, сказав: «Сие существует». Так
что мы и вернулись назад с целью убедиться, а там ли
оно еще. Ах, какое несчастье! Выходит, мы ни к чему
не подтолкнули других! Ни к чему! Только и остается,
что волочить за собой прошлое, которое как бы легло
в вечный дрейф... Вот и наши отношения, дорогая Ан¬
жель, они ведь довольно преходящи. Впрочем, именно
это, поймите, нам и позволило сделать их столь дли¬
тельными.
— О! Вы несправедливы,— сказала она.
— Нет, дорогой друг,— нет, это не так, но я прошу
вас отдать себе отчет в том, что они производят впечат¬
ление бесплодности.
Тогда Анжель наклонила голову и, слегка улыбаясь,
сказала — из вежливости:
— Сегодня вечером я останусь; вы не возражаете?
Я вскричал:
166
— О! Полноте, дорогой друг! Если теперь уже и го¬
ворить нельзя о таких вещах, без того чтобы сей же
час...— Впрочем, признайтесь, что у вас нет к этому
сильного влечения; и потом, уверяю вас, вы впечатли¬
тельны, именно о вас я думал, когда, припомните, напи¬
сал эту фразу; «Она боялась сладострастия, как чего-
то для себя непосильного, что могло бы ее убить». Вы
утверждали, что это было преувеличением... Нет, доро¬
гой друг, нет — это могло бы нас стеснить; я по этому
поводу даже написал стихи:
Дорогая, ты и я
Не из тех, чтоб сыновья
Народились у нас, как у людей.
(Остаток этой вещи пронизан патетикой, но слиш¬
ком длинен, чтобы цитировать его тут.) Впрочем, я сам-
то не очень силен,и именно это пытался выразить в сле¬
дующих стихах, которые вам отныне запомнятся (в них
все-таки есть преувеличение):
...Но ты-то, самый тщедушный из всех существ,
Что можешь сделать ты? Что хочешь сделать ты?
Или, чувством влекомый,
Ты выйдешь из дому
Или дома останешься,
В неге искупаешься.
Из этого вы можете увидеть, что у меня действи¬
тельно было желание выйти. Правда, я при этом допи¬
сал несколько еще более печальных — даже, скажу,
унылых — строк:
Если ты выйдешь, ах! то стерегись чего?
Если ж останешься, то еще худшее худо ждет.
Смерть караулит тебя — вон она, злая, с косой,
Взмах — и нет тебя, всего-то ей и работы.
...Продолжение относится к вам и пока еще не окон¬
чено. Но если вы настаиваете на своем... Пригласите
скорей уж Барнабе!
О! Вы сегодня с утра жестоки,— сказала Анжель;
потом добавила: — От него дурно пахнет.
167
— Вот именно, дорогая Анжель; все сильные муж¬
чины пахнут дурно. Как раз это мой молодой друг Тан-
кред и попробовал выразить в таких стихах:
От капитанов-победителей исходит сильный дух!
Я знаю, что вас тут удивляет: это цезура. Но как же
вы раскраснелись!.. Однако ж я хотел лишь помочь вам
констатировать это. Ах! И еще я хотел, любезный друг,
заметить вам, насколько мои шутки серьезны... Ан¬
жель! Я чудовищно устал! Я вот-вот разрыдаюсь из-за
этого... Но, позвольте, я сначала продиктую вам не¬
сколько фраз; вы пишете быстрее меня; к тому же, дик¬
туя, я расхаживаю; это мне помогает. Вот карандаш, бу¬
мага. Ах! Милый друг! Как хорошо, что вы пришли! Пи¬
шите, пишите побыстрей; кстати, это касается нашего
несчастливого путешествия:
«...Есть люди, которые легко чувствуют себя снару¬
жи. Природа стучит в их двери: эти двери выводят на
бескрайнюю равнину, и стоит им лишь вступить на нее,
как люда тотчас забывают и теряют из виду свои жили¬
ща. Они возвращаются вечером, когда наступает время
сна; они без труда находят свой дом. Если бы они захо¬
тели, они могли бы уснуть под открытым небом, оста¬
вить свой дом на целый день — и даже забыть его на¬
долго. Если вы находите все это естественным, стало
быть, вы не до конца меня понимаете... Таким вещам
следует удивляться... Что до нас, уверяю, если мы и за¬
видуем этим столь свободным людям, то лишь потому,
что всякий раз, когда нам удавалось с трудом построить
какую-нибудь крышу для жилья, с тех самых пор эта
крыша преследовала нас, перемещалась над нашими го¬
ловами; она укрывала нас от дождя, это правда, но она
же прятала от нас солнце. Мы спали под ее укрытием;
мы трудились, танцевали, целовались, размышляли под
ее укрытием; не в силах устоять перед великолепием
утренней зари, мы думали иногда, что сумеем вырвать¬
ся из-под нее; мы старались ее позабыть; как воры в
жнивье, мы шмыгнули тайком — не затем, чтоб войти,
а затем, чтобы выйти и убежать на вольную равнину.
Но крыша бежала за нами вслед. Она скакала наподо¬
168
бие того колокола из преданий, что гнался за всеми,
кто избегал церкви. Мы не переставали чувствовать ее
тяжесть над своими головами. Чтобы построить ее, мы
сами принесли все необходимое; мы заранее вымерили
ее вес. Ее тяжесть склонила наши чела, сгорбила наши
плечи, как оседлавший Синдбада морской шейх20. Сна¬
чала на это не обращаешь внимания; затем это стано¬
вится невыносимым; единственное, что ни на миг не по¬
кидает нас, так это ощущение тяжести. От нее невоз¬
можно освободиться. Нести до конца все идеи, которые
поднял».
— Ах! — сказала Анжель,— несчастный, несчаст¬
ный друг, зачем вы начали «Топи», когда есть столько
других сюжетов — и даже более поэтических.
. — Именно, Анжель! Пишите! Пишите! (Боже
мой! Неужели сегодня я наконец смогу быть искрен¬
ним?)
«Я совершенно не понимаю, что вы имеете в виду
под поэзией большею или меньшею. Все горести чахо¬
точного больного, запертого в тесной комнатушке,
шахтера, что стремится к свету, наверх, ловца жемчу¬
га, ощущающего над собой все давление темных мор¬
ских пучин! Муки Плавта или Самсона, вращающих
мельничные жернова21, и Сизифа, вкатывающего ка¬
мень на гору; страдания целого народа, обращенного в
рабство,— все эти горести, среди прочих, я уже пере¬
жил».
— Вы диктуете слишком быстро,— сказала Ан¬
жель.— Я не поспеваю за вами...
—Тем хуже, раз так! Дальше не пишите; слушайте,
Анжель! Слушайте — ибо моя душа в отчаянии. Сколь¬
ко раз, сколько раз я проделывал это движение, то в
кошмаре сна, когда казалось, что оторвавшийся балда¬
хин моей кровати падал, обволакивал меня, давил мне
на грудь, то проснувшись за миг до того, как вскочить
на ноги, чтобы, вытянув руки, оттолкнуть от себя какие-
то невидимые перегородки,— это движение с целью от¬
странить кого-то, чье зловонное дыхание я ошущал че¬
ресчур близко от себя,— и вытянутыми руками удер¬
жать стены, которые постоянно приближаются друг к
169
другу или чья хрупкая тяжесть дрожит и шатается над
нашими головами; тем же движением сбрасываешь
слишком тяжелые одежды, пальто со своих плеч.
Сколько раз ради глотка воздуха я, задыхающийся,
этим движением распахивал окна — и застывал, пол¬
ный отчаяния, потому что однажды, открыв их...
— Вы что, простудились? — спросила Анжель.
— ...Потому что однажды, открыв их, я увидел, что
они выходят во дворы — или в другие сводчатые по¬
мещения,— гнусные дворы, лишенные солнца и воз¬
духа И, увидев это, я от тоски закричал во весь голос:
«Господи! Господи! Как же мы наглухо замурованы!»
И мой же голос из-под сводов с тою же силой вернул¬
ся ко мне. Анжель! Анжель! Что нам делать теперь?
Попытаемся ли мы еще раз сбросить с себя эти ско¬
вывающие саваны или привыкнем жить, едва дыша,
продлевая таким образом нашу жизнь в этой могиле?
— Мы никогда не жили так полно,— сказала Ан¬
жель.— Можно ли, скажите мне правду, жить полнее?
Откуда у вас этот переизбыток чувств? Кто вам сказал,
что жить можно по такой мерке? Юбер? Живет ли он
полнее от того, что суетится?
, —Анжель! Анжель! Вы ввдите, я уже рыдаю. Так,
значит, все же вы немного прониклись моей тоской? И,
может, мне наконец удалось придать вашей улыбке хо¬
тя бы немного горечи? Э! Что! Теперь плачете вы. Это
хорошо! Я счастлив! Сработало! Я ухожу дописывать
«Топи».
Анжель плакала, плакала, и ее длинные волосы рас¬
трепались.
В эту минуту вошел Юбер. Увидев нас в растерзан¬
ном виде, он сказал:
— Извините — я вам мешаю,— и сделал вид, что
уходит.
Такая корректность сильно тронула меня; настоль¬
ко, что я воскликнул:
— Входи! Входи, дорогой Юбер! Нам нельзя поме¬
шать! — Затем ipycTHO добавил: — Не так ли, Анжель?
Она ответила:
170
— Нет, мы болтали.
— Я просто проходил мимо,— сказал Юбер,— и за¬
шел сообщить одну новость.— Через два дня я уезжаю
в Бискру; я решил, что со мной поедет Ролан.
Неожиданно я возмутился:
— Гордец Юбер — да это же я, я его к этому скло¬
нил. Мы уходили вдвоем от Абеля, вспоминаю, когда я
его принялся уверять, что он должен отправиться в это
путешествие.
Юбер разразился смехом; он сказал:
—Ты? Но, мой бедный друг, подумай немного, те¬
бя же едва хватило, чтобы добраться до Монморан¬
си 22! Как можешь ты предъявлять права? В конце кон¬
цов вполне может быть, что именно ты заговорил об
этом первым; но скажи на милость, зачем надо вкла¬
дывать идеи в головы людям? Ты думаешь, что это и
побуждает их к действию? И позволь мне тебе заме¬
тить, что у тебя до странности не хватает заряда энер¬
гии... Ты не можешь дать другим больше того, что име¬
ешь. В конце концов, если хочешь, поехали с нами...
Нет? Ну что ж!.. Итак, дорогая Анжель, прощайте — я
вернусь повидать вас.
Он ушел.
— Вот видите, счастливица Анжель,— сказал я,— я
остаюсь с вами... но не подумайте, что это из-за любви...
— О нет! Я знаю...— ответила она.
— ...Однако смотрите, Анжель! — воскликнул я с
некоторой надеждой.— Почти одиннадцать часов! О!
Мы пропустили мессу!
Тогда, вздохнув, она сказала:
— Мы пойдем на мессу к четырем часам.
И все вернулось на круги своя.
Анжель пришлось уйти.
Случайно бросив взгляд на записную книжку, я про¬
171
чел там строчку о визите к беднякам; я бросился на
почту и телеграфировал:
«О! Юбер! — а бедняки!!»
Вернувшись к себе, я стал ждать ответа и перечиты¬
вал «Малый пост» 23.
В два часа я получил депешу. Она гласила:
«Черт возьми, письмо'следует».
Тогда меня охватила еще большая грусть.
— Ибо, если Юбер уезжает,— вздохнул я,— кто на¬
вестит меня в шесть часов? «Топи» дописаны, одному
Богу известно, чем я смогу заняться. Я знаю, что ни сти¬
хи, ни драмы... они мне не очень-то удаются — а мои эс¬
тетические принципы не позволяют мне взяться за со¬
чинение романа.— Я уже подумывал было вернуться к
своему старому сюжету о Польдерах24, который стал
бы продолжением «Топей» и не вынуждал бы меня со¬
вершать насилие над собой...
В три часа нарочный доставил мне письмо от Юбе¬
ра; я прочел: «Я оставляю на твое попечение пять семей
моих бедняков; ты получишь список с их именами и
всеми необходимыми данными; что до различных про¬
чих дел, то я доверяю их Ришару и его двоюродному
брату, поскольку ты в них ничего не смыслишь. Про¬
щай — оттуда я тебе напишу».
Тогда я открыл свою записную книжку и на листоч¬
ке понедельника написал: «Постараться встать в шесть
часов».
...В половине четвертого я зашел за Анжель — мы
отправились вместе на мессу в Оратуар25.
В пять часов я навестил моих бедняков. Затем, так
как на дворе посвежело, я вернулся домой — закрыл
окна и сел писать...
В шесть часов появился мой большой друг Гаспар.
Он возвращался с фехтования. Он сказал:
— Вот как! Ты работаешь?
Я ответил:
— Я пишу «Польдеры»...
172
ПОСЫЛКА 26
О! Как же трудно этот день
С равнины смыл ночную тень.
Сыграли мы для вас на флейте,
Вы слушать нас не пожелали.
Пели, пели мы для вас,
Вы так и не пустились в пляс.
И вот мы сами захотели в пляс,
Но больше никто не играл на флейте.
И после такого нашего злополучия
Мне полная луна — подруга лучшая.
Это она собак до воя доводит,
Да и жабы свою песню заводят.
Во глубине благосклонных прудов
Она растекается без всяких слов.
Ее теплая нагота
Кровоточит многие лета.
Стада без посохов пастушьих
Погнали мы к своим избушкам.
Но бараны захотели, чтоб вели их на праздники,
И вышло, что плохие мы пророки-указники.
Они, как будто на водопой,
Белые стада ведут на убой.
Увы, разрушенью подвержены храмы,
Что на песке построены нами.
173
АЛЬТЕРНАТИВА
— Или еще раз отправиться, о лес, полный тайн, в то
место, которое я знаю, где в темной мертвой воде еще
мокнут и разлагаются листья минувших лет, листья вос¬
хитительных весен.
Там наилучшее место для моих бесполезных реше¬
ний, там в конечном итоге и видишь, сколь тщетна
мысль моя.
КОНЕЦ
ПЕРЕЧЕНЬ
САМЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ФРАЗ
ИЗ «ТОПЕЙ»
С. 109 — Он сказал: «Вот как! Ты работаешь?»
С. 169 — Нести до конца все идеи, которые поднял.
С. ...* —
* Чтобы уважить идиосинкразию каждого, мы предостав¬
ляем читателям по своему разумению заполнить этот лист.
Вот плоды, которыми питались
мы на земле.
Коран, II, 23
Не обманись, Натанать, грубым названием, кото¬
рое мне вздумалось дать этой книге; я мог бы назвать
ее «Менальк», но Меналька, так же как и тебя самого,
никогда не было. Лишь одно человеческое имя — мое
собственное — могло бы дать название этой книге; но
тогда как я осмелился бы подписать ее?
Я вложил в нее себя — не раздумывая, не стыдясь;
и если я порой говорю в ней о стране, которую никогда
не видел, о запахах, которых никогда не вдыхал, о по¬
ступках, которых никогда не совершал, или о тебе, мой
Натанаэль, которого я никогда не встречал, то вовсе
не потому, что склонен к притворству. Мой рассказ не
более вымышлен, чем твое имя, Натанаэль, который
меня прочтет,— имя, что я даю тебе, не зная, каким
оно у тебя будет на самом деле.
И когда ты прочтешь меня, брось эту книгу — и
уходи. Я хотел бы, чтобы она заставила тебя уйти —
уйти все равно куда, из твоего города, от твоей семьи,
от твоего дома, от привычных мыслей. Не бери мою
книгу с собой. Если бы я был Менальком, я взял бы те¬
бя за правую руку, чтобы вести тебя, но так, чтобы
твоя левая Рука не знала об этом; и отпустил бы те¬
бя, как только города остались позади; и сказал бы те¬
бе: забудь меня.
Пусть моя книга научит тебя интересоваться со¬
бой больше, нежели ею, потом — всем остальным боль¬
ше, чем собой.
177
КНИГА ПЕРВАЯ
Мое ленивое счастье, которое
долго дремало, просыпается2.
Гафиз
I
Не пытайся, Натанаэль, найти Бога иначе, чем во
всем.
Каждое создание указывает на Бога, но ни одно его
не обнаруживает.
Каждое создание, стоит только взгляду остановить¬
ся на нем, уводит нас от Бога.
* * *
Пока другие печатались или учились, я провел три
года в путешествиях, стараясь, напротив, забыть все, че¬
му успел выучиться мой ум. Это забывание было мед¬
ленным и трудным; оно оказалось для меня полезней,
чем все знания, навязанные людьми, и стало подлин¬
ным началом воспитания.
Ты никогда не узнаешь, сколько усилий понадоби¬
лось мне, чтобы почувствовать интерес к жизни, но те¬
перь, когда она меня интересует, это чувство будет, как
и всякое другое,— страстным.
Я с восторгом наказывал свою плоть, испытывая
большее наслаждение от наказания, нежели от греха,—
столь опьяняло мою гордыню то, что я просто не грешу.
Изживать в себе мысль о заслуге — камень преткно¬
вения для ума.
178
...Сомнение в избранном пути превращало в пытку
всю мою жизнь. Что сказать тебе? Любой выбор, если
вдуматься, ужасен: ужасна свобода, которая совсем не
связана с долгом. Это дорога, которую приходится вы¬
бирать в совершенно незнакомой стране, где каждый
делает собственное открытие, и, запомни это хорошень¬
ко, делает его только для себя; так что самый неясный
след в самом глухом уголке Африки кажется все-таки
менее сомнительным... Тенистые рощи завлекают нас,
миражи дразнят водой, еще более иссушая... Но вскоре
воды потекут там, где их заставят течь наши желания;
ибо эта страна обретает очертания лишь по мере наше¬
го приближения к ней, и пейзаж вокруг, пока мы дви¬
жемся вперед, мало-помалу упорядочивается; и мы не
различаем, что за горизонтом; но даже то, что рядом с
нами,— не более чем последовательность и изменчивая
видимость.
Но к чему сравнения, когда предмет столь серьезен?
Мы все уверены, что непременно обретем Бога. Увы,
пытаясь найти Его, мы не знаем, куда нам обращать
свои молитвы. Говорят, что Он везде, повсюду, Невиди¬
мый, и преклоняют колени наудачу.
И ты, Натанаэль, уподобишься тому, кто пойдет за
светом, который сам же держит в руке.
Куда бы ты ни пошел, ты можешь встретить только
Бога.
— Бог,— говорил Менальк,— то, что перед нами.
Натанаэль, ты увидишь в пути все, но не остано¬
вишься нигде. Скажи себе, что Бог — единственное,
что не может быть преходящим.
Пусть значение будет в твоем взгляде, а не в рас¬
сматриваемом предмете.
Все эти различные познания, которые ты хранишь в
себе, останутся отличными от тебя, пока не обветшают
от времени. Зачем ты придаешь им такую цену?
179
Есть польза в желаниях и польза в пресыщении
ими — поскольку при этом они лишь возрастают. Ибо,
я говорю тебе это всерьез, Натанаэль, каждое желание
делало меня более богатым, чем обладание, всегда
ложное, предметом моего желания.
* * *
Ради множества упоительных вещей, Натанаэль, я
изнурял себя любовью. Их сияние происходило оттого,
что я непрерывно воспламенялся ими. Я не мог насы¬
титься. Любая пылкость вела к любовному истощению,
упоительному истощению.
Еретик из еретиков, я всегда тянулся к взглядам, да¬
леким от моих, к резким поворотам мысли, разногласи¬
ям. Всякий ум интересовал меня лишь тем, что отлича¬
ло его от прочих. Мне пришлось истребить в себе сим¬
патию, видя в ней одно лишь признание общих с кем-то
чувств.
Вовсе не симпатию, Натанаэль,— любовь.
Действовать, не судя, плох поступок или хорош. Лю¬
бить, не заботясь, хорошо это или плохо.
Натанаэль, я научу тебя пылкости.
Вечное волнение, Натанаэль,— только не спокойст¬
вие. Единственный покой, с которым я мог бы прими¬
риться,— это покой смерти. Я боюсь, что любое жела¬
ние, всякая энергия, которым я не дам выхода в тече¬
ние жизни, истерзают меня. Я надеюсь, выжав из себя
на этой земле все, что было во мне заложено, умереть
в полной безнадежности.
Вовсе не симпатия, Натанаэль,— любовь. Ты пони¬
маешь, не правда ли, что это не одно и то же. Лишь из
страха потерять любовь, я мог иногда проникнуться
симпатией к печалям, горестям, боли, которые иначе
едва ли смог бы перенести. Пусть каждый сам заботит¬
ся о собственной жизни.
180
(Я не могу сегодня писать, потому что колесо пово¬
рачивается на гумне. Вчера я видел это; молотили
рапс. Полова взлетала; зерно падало вниз. Пыль вызы¬
вала удушье; женщина ворочала снопы. Два красивых
парня с босыми ногами собирали зерно.
Я плачу, потому что мне нечего больше сказать.
Я знаю, что нельзя начинать писать, когда нечего
больше сказать, кроме этого. Но я писал и буду писать
еще об этом, снова об этом.)
•k 1с ie
Натанаэль, я хочу подарить тебе радость, которую
тебе еще не смог дать никто другой. Я не знаю, как
передать тебе ее, эту радость, однако я держу ее в
руках. Я хочу говорить с тобой так проникновенно,
как этого не сделал еще никто. Я хочу прийти к те¬
бе в тот ночной час, когда ты будешь одну за другой
открывать и отбрасывать книги, ища в каждой из них
нечто большее, чем тебе уже открылось, когда ты
еще ждешь, когда твоя пылкость готова стать пе¬
чалью, не находя поддержки. Я пишу только для те¬
бя; я пишу только ради этих часов. Я хочу написать
такую книгу, в которой ты не найдешь ни одной толь¬
ко моей мысли, ни одной только моей эмоции, но со¬
чтешь, что видишь лишь отражение своей собствен¬
ной пылкости. Я хочу приблизиться к тебе, чтобы ты
полюбил меня.
Меланхолия — это всего лишь угасшая пылкость.
Каждое существо способно к обнаженности; каж¬
дое чувство — к переполнению.
Мои чувства открыты, как религия. Можешь ли ты
понять? Каждое ощущение — это встреча с бесконеч¬
ностью.
Натанаэль, я научу тебя пылкости.
181
Наши поступки связаны с нами, как свечение с фос¬
фором. Они разрушают нас, это правда, но они же со¬
здают наше сияние.
И если наша.душа чего-нибудь стоила, значит, она
горела жарче, чем другие.
Я видел вас, широкие поля, омытые молоком рас¬
света; голубые озера, я погружался в ваши воды, и каж¬
дая ласка смеющегося ветра заставляла меня улыбать¬
ся — вот о чем я не устану твердить тебе, Натанаэль. Я
научу тебя пылкости.
Если бы я видел что-то более прекрасное, я расска¬
зал бы тебе об этом — только об этом, и ни о чем дру¬
гом.
Ты не научил меня мудрости, Менальк. Не мудро¬
сти, но любви.
* * *
Я испытывал к Менальку чувство большее, чем
дружба, и едва ли меньшее, чем любовь. Я любил его,
как брата.
Менальк опасен; бойся его; он навлекает на себя
проклятия благоразумных, но не внушает страха детям.
Он учит их любить не только свою семью, и испод¬
воль — уходу от нее; он заставляет их томящееся серд¬
це тянуться к кислым диким плодам и необычайной
любви. Ах, Менальк, я хотел бы пройти с тобой и по
другим дорогам. Но ты ненавидел слабость и подтолк¬
нул меня к разрыву.
Есть удивительные возможности в каждом челове¬
ке. Настоящее располагало бы множеством вариантов
будущего, если бы прошлое уже не заложило в нем
свой сюжет. Но увы! Единственность прошлого предпо¬
лагает единственность будущего — замысел перед на¬
ми, как точка в бесконечном пространстве.
Мы уверены, что никогда не делаем того, что не
способны понять. Понять — значит почувствовать в се¬
182
бе способность к действию. МАКСИМАЛЬНО ПРИМИ¬
РИТЬСЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ — вот прекрасная фор¬
мула.
Любые формы жизни, вы все казались мне прекрас¬
ными. (То, что я говорю тебе сейчас, мне говорил Ме-
нальк.)
Я надеюсь, что хорошо узнал все страсти и все поро¬
ки; по крайней мере, я потакал им. Все мое существо
стремилось ко всякой вере; и я бывал столь безумен,
что иногда почти верил в то, что у меня есть душа,—
так остро я чувствовал ее готовность выскользнуть из
моего тела,— говорил мне еще Менальк.
И наша жизнь предстает перед нами, как стакан, на¬
полненный ледяной водой, запотевший стакан в руках
охваченного горячкой, который хочет пить и выпивает
все одним глотком, хорошо зная, что ему следовало бы
помедлить, но не имея сил отвести этот упоительный
стакан от своих губ, столь свежа эта влага, так возбуж¬
дает в нем жажду жар лихорадки.
II
Ах, как я вдыхал холодный ночной воздух! Ах, эти
окна! И такие бледные лучи стекали с луны из-за тума¬
на, как будто это были ключи,— казалось, их можно
пить.
Ах, окна! Сколько раз я пытался охладить свой лоб
вашими стеклами! И сколько моих желаний рассеива¬
лось, как дым, когда я бежал из своей постели, слиш¬
ком разгоряченный, к балкону, чтобы увидеть беско¬
нечное спокойное небо.
Лихорадки прошлых лет, вы нанесли смертельный
удар моему телу, но как опустошается душа, когда ни¬
что не обращает ее к Богу.
Постоянство моего обожания было ужасным; я це¬
ликом растворялся в нем.
183
Ты будешь еще долго искать счастья, недостижимо¬
го для души, говорил мне Менальк.
Когда дни первых сомнительных восторгов минова¬
ли — перед тем как мне встретиться с Менальком,—
наступил период беспокойного ожидания, похожий на
переход через болото. Меня засасывала тоскливая дре¬
мота, исцелить которую сном было невозможно. Я от¬
дыхал от отдыха, спал и просыпался еще более уста¬
лым, мой ум оцепенел как бы в предчувствии метамор¬
фозы.
Тайные манипуляции организма; скрытая работа не
выясненного генезиса; тяжелые роды; вялость, ожида¬
ние; как хризалида, как куколка в коконе, я спал; я да¬
вал возможность сформироваться внутри меня новому
существу, которым я стану, уже совсем непохожему на
меня. Весь свет доходил до меня будто сквозь толщу зе¬
леноватых вод, сквозь листья и ветки; смутное воспри¬
ятие, как бывает при опьянении или сильном потрясе¬
нии. Ах! Пусть наступит наконец, умолял я, кризис, бо¬
лезнь, острая боль! И мой мозг сравнивал себя с грозо¬
выми небесами, затянутыми тяжелыми облаками,
когда трудно дышать и все ждет молнии, чтобы лопну¬
ли наконец эти серые бурдюки, полные влаги и прячу¬
щие лазурь.
Сколько же тебе длиться, ожидание? И в конце кон¬
цов останется ли нам что-то для жизни? Ожидание!
Ожидание чего? — взывал я. Может ли произойти что-
то, чего не породили мы сами? И что могло произойти
с нами, чего бы мы уже не знали?..
Рождение Абеля, моя помолвка, смерть Эрика, раз¬
рушение моей жизни вместо прекращения этой апатии,
казалось, длили ее еще больше, казалось, что это оце¬
пенение происходит от сложности моих мыслей и неоп¬
ределенности желаний. Я хотел бы вечно спать во
влажной земле, как растение. Иногда я говорил себе,
что наслаждение прекратило бы мои страдания, и искал
в изнурении плоти освобождение для ума. Потом я сно¬
ва спал в течение долгих часов, как спят маленькие де¬
ти, которых укладывают днем, убаюканные теплом, в
оживленном доме.
184
Потом я просыпался, весь в поту, с колотящимся
сердцем и затуманенной головой. Свет, который проса¬
чивался снизу, через щели в закрытых ставнях, и отра¬
жался на белом потолке зелеными отблесками лужай¬
ки, этот вечерний свет был для меня неповторимо пре¬
красен, подобно свету, который кажется нежным и оча¬
ровательным, пройдя сквозь листву и воду, и который
дрожит на пороге пещеры, после того как вы долго бы¬
ли окутаны ее тенями.
Неясные шумы доносились из дома. Я медленно воз¬
рождался к жизни. Я умывался теплой водой и шел,
полный печали, по равнине до садовой скамейки, на ко¬
торой ждал наступления вечера, ничего не делая. Что¬
бы говорить, слушать или писать, я был слишком устав¬
шим. Я читал:
...Он видел пред собой
Пустынные дороги
И птиц морских, ныряющих в волну,
И слышал шелест крыл...
Ну что же, дом мой здесь...
..Я принужден здесь жить,
Под этим дубом,
Под желтою пожухлою листвой
В пещере под землей и под травой.
Как холоден мой дом,
Он мне наскучил.
Ложбины темные,
Высокие холмы
И изгородь печальная из веток,
Усеянных созревшей ежевикой,—
Унылый и безрадостный приют *.
Чувство полноты жизни, возможной, но еще не ис¬
пытанной, иногда начинало брезжить, потом возникало
снова, мало-помалу становясь неотвязным. Ах! Пусть
створки дня распахнутся наконец, молил я, пусть за¬
сверкает он среди этих вечных невзгод!
*The Exile’s song3 — cite el traduit par Taine, litterature
anglaise, I, 30.— Примеч. пер.
185
Казалось, все мое существо испытывало огромную
потребность закалиться в обновлении. Я ждал второго
возмужания. Да, приспособить свои глаза к новому зре¬
нию, омыть их от книжной грязи, предать им большее
сходство с лазурью, на которую они смотрят,— сегодня
совсем чистой из-за недавних дождей...
Я болел; я путешествовал; я встретил Меналька, и
мое чудесное выздоровление было воскрешением из
мертвых. Я воскрес новым существом, под новым не¬
бом и среди вещей, полностью обновленных.
III
Натанаэль, я расскажу тебе об ожидании. Я ввдел
равнину летом. Она ждала. Ждала хоть каплю дождя.
Пыль на дорогах стала слишком легкой и вздымалась
при малейшем дуновении. Это не было похоже на жаж¬
ду. Это был страх. Земля растрескалась от жары, слов¬
но для того, чтобы вобрать в себя побольше влаги. За¬
пах полевых цветов стал почти нестерпимым. Все изне¬
могало под солнцем. Каждый день после полудня мы
шли отдохнуть под навес, не очень спасавший от необы¬
чайно яркого света. Это было время, когда деревья,
слишком отягощенные пыльцой, слегка взмахивают вет¬
ками, чтобы рассыпать подальше свои семена. Небо бы¬
ло тяжелым, грозовым, и вся природа ждала. Это был
миг торжества, слишком печального, потому что все
птицы погибли. Дыхание земли так обжигало, что неда¬
леко было до обморока; пыльца хвойных деревьев лете¬
ла с веток, как золотой дым. Потом пошел дождь.
Я видел небо, трепещущее в ожидании зари. Одна за
другой меркли звезды. Луга были залиты росой; ветер
дарил холодной лаской. Какое-то время казалось, что
неясная жизнь хочет остаться сном, и мой еще усталый
ум охватило оцепенение. Я дошел до опушки леса; сел;
всякая тварь возвращалась к своим трудам и радостям
в уверенности, что день вот-вот наступит, и мистерия
жизни простиралась на каждый лепесток. Потом насту¬
пил день.
186
Я видел еще другие рассветы. Я видел ожидание
ночи...
Натанаэль, пусть каждое твое ожидание, не стано¬
вясь желанием, будет просто готовностью к встрече.
Жди всего, что может к тебе прийти, но желай лишь то¬
го, что к тебе пришло. Желай лишь того, что имеешь.
Пойми, что в каждое мгновение жизни ты можешь по¬
знать Бога, всего целиком. Пусть твое желание будет
любовью, а твое познание — любовником. Ибо какое
же это желание, если оно бессильно?
И что же, Натанаэль, ты постигаешь Бога и не заме¬
тил этого! Познать Бога — значит увидеть Его; но Он
невидим. На перекрестке каких дорог, Валаам, ты не
увидел Бога, перед которым замерла твоя душа? Ибо ты
представлял Его себе иначе.
Натанаэль, есть только Бог, которого невозможно
ждать. Ждать Бога, Натанаэль,— значит не понимать,
что ты уже познаешь Его. Не отделяй Бога от счастья и
вкладывай все свое счастье в мгновение.
Я носил все свое добро с собой, как женщины Вос¬
тока, бледнея от напряжения, носят на себе все свои бо¬
гатства. В каждое крохотное мгновение своей жизни я
мог чувствовать в себе всю совокупность своего добра.
Оно возникало не от сложения множества отдельных
вещей, но единственно от моего обожания. Я постоян¬
но держал все свое добро в своей власти.
Смотри на вечер так, словно день должен в нем уме¬
реть, на утро — словно все сущее только что в нем ро¬
дилось.
Пусть твое зрение обновляется с каждым мгнове¬
нием.
Мудрость в том, чтобы удивляться всему.4
187
Все твои беды, Натанаэль, происходят от обилия тво¬
его добра. Ты не знаешь даже, что из всего предпочесть,
и не понимаешь, что единственное благо — жизнь. Самое
крохотное мгновение жизни сильнее смерти и отрицает
ее. Смерть — это разрешение на вход для других жизней,
чтобы все непрерывно обновлялось. Всякая форма жиз¬
ни сохраняется ровно столько времени, сколько ей нуж¬
но, чтобы выразить себя. Счастливое мгновение, когда
звучит твое слово. Все остальное время — слушай; но,
когда ты говоришь,— не слушай ничего.
Нужно, чтобы ты сжег в себе все книги!
ПЕСНЯ
В ЗНАК ПОКЛОНЕНИЯ ТОМУ,
ЧТО Я СЖЕГ5
Есть много разных книг. Одни читают,
Присев на край скамьи, за школьной партой.
Другие есть — для чтения в дороге
(При выборе играет роль формат);
Есть книги для лесов и для полей,
Et,— Цицерон сказал,— nobiscum rusticantur *
Есть те, что я прочел с большим вниманьем,
И те, что копят пыль на чердаках.
Одни заставят вас в добро поверить,
В отчаянье другие приведут.
Доказывают те: есть Бог на свете,
А эти говорят: не может быть.
Есть книги, нужные одним библиофилам,
И книги, заслужившие хвалу
Когорты целой критиков маститых.
Есть книги по проблемам пчеловодства —
Их узкоспециальными считают.
Есть книги о природе. После них
Уже нет смысла совершать прогулку.
* ...и крестьянствуют с нами (лат.).— Примеч. пер.
188
Есть книги, что отталкивают мудрых.
Но привлекают маленьких детей.
И множество различных антологий —
Все лучшее в них есть. О чем — не важно.
Одни нас учат жизнь любить безмерно,
А авторы других — самоубийцы.
Те сеют ненависть, а эти жнут
Все, что они посеяли когда-то:
Есть книги, излучающие свет,
Наполненные прелестью, восторгом.
Такие есть, что дороги, как братья,
Которые честней и лучше нас.
А стиль других настолько необычен,
Что можно долго изучать — темны.
Натанаэль, когда же мы сожжем все книги?!
Одни из них не стоят и трех су,
Другие же едва ли не бесценны.
Есть те, что говорят лишь с королями,
И те, чья речь звучит для бедноты.
Есть и такие, чьи слова нежней,
Чем шелест листьев в полдень.
Есть меж ними
Та книга, что когда-то Иоанн
На Патмосе, как крыса, съел поспешно
(Уж лучше есть малину), и она
Переполняла горечью все чрево,
Видений вызывая череду.
Натанаэль! Когда же мы сожжем все книги?!!
Мне мало читать о том, что песок на пляже подат¬
лив; я хочу, чтобы мои босые ноги это чувствовали...
Все знания, которым не предшествует ощущение, для
меня бесполезны. Мне никогда в жизни не приходи¬
лось видеть прекрасное, без того чтобы вся моя неж¬
189
ность не возжелала прикоснуться к нему. Возлюблен¬
ная красота земли, твое цветение чудесно! О пейзаж, в
который погружается мое желание! Открытая страна,
где блуждают мои поиски; аллея папируса, обрывающа¬
яся в воде; тростник, склонившийся к реке; просветы
полян; явление простора в узких амбразурах веток, бес¬
предельное обещание. Я блуждал в коридорах камней
и растений. Я видел, как разматывался клубок весен.
СКОРОГОВОРКА ЯВЛЕНИЙ
Каждый день, каждое мгновение моей жизни име¬
ли для меня вкус новизны — дар абсолютно невырази¬
мый. Благодаря ему я жил в почти постоянном страст¬
ном изумлении. Я очень быстро доводил себя до состо¬
яния опьянения, и мне нравилось впадать в это своего
рода забытье.
Конечно, если я встречал смех на губах, мне хоте¬
лось поцеловать их, румянец на щеках, слезы в гла¬
зах — я хотел выпить их; вгрызаться в мякоть всех пло¬
дов, которые тянулись ко мне с отяжелевших веток. В
каждой харчевне меня приветствовал голод у каждого
источника меня поджидала жажда — своя у каждого в
отдельности; или, если другими словами выразить мои
желания:
идти туда, куда ведет дорога,
отдыхать там, где благосклонна тень,
плыть вдоль берега на глубине,
любить или засыпать на берегу каждой постели.
Я смело клал свою руку на любой предмет и верил,
что у меня есть права на каждый предмет моих жела¬
ний. (Впрочем, мы желаем, Натанаэль, не столько об¬
ладания, сколько любви.) Ах, пусть переливается пере¬
до мной каждая малость, пусть вся красота облекается
и искрится моей любовью!
КНИГА ВТОРАЯ
Яства.
Я жду вас, яства!
Мой голод не остановится на полпути;
Он не утихнет, пока не будет удовлетворен;
Никакая мораль не помешает мне,
А лишениями я мог кормить только душу.
Удовольствия! Я ищу вас.
Вы прекрасны, как летние зори.
Источники, особенно лакомые под вечер, отменные
в полдень; бодрящая влага.раннего утра; дуновения вет¬
ра на кромке прилива; заливы, заваленные мачтовым
лесом; тепло ритмичных рек...
О, есть же еще дороги, ведущие в поля; полуденный
зной; настои лугов; и для ночлега — ямка в стогу;
есть дороги на Восток; струи воды за кормой в лю¬
бимых морях; сады в Моссуле; танцы в Туггурте; песни
пастуха в Гельвеции;
есть и дороги на Север; ярмарки в Нижнем; сани,
вздымающие снег; замерзшие озера; конечно, Натана¬
эль, мы не дадим скучать нашим желаниям.
Корабли вошли в наши порты, они привезли созрев¬
шие плоды из неведомых стран.
Разгрузите их поскорей, чтобы мы смогли наконец
отведать этих плодов.
191
Яства!
Я жду вас, яства!
Удовольствия, я ищу вас;
Вы прекрасны, как улыбка лета.
Я знаю, что у меня нет ни единого желания,
На которое не нашлось бы уже готового отклика.
Мой голод огромен!
И каждое его проявление ждет своей пищи.
Яства!
Я жду вас, яства!
Во всей вселенной я ищу вас,
Удовольствия, удовлетворение всех моих желаний.
* * *
Самое прекрасное на земле,
Ах, Натанаэль, это мой голод!
Он всегда был верен тому,
Что его ожидало.
Разве вином опьяняется соловей?
Орел — молоком? А певчий дрозд — гроздьями
ягод?
Орел опьяняется своим полетом. Соловей хмелеет
от летних ночей. Поля дрожат от зноя. Натанаэль, пусть
все твои чувства знают, что ты в упоении. Если еда не
пьянит тебя, значит, ты недостаточно голоден.
Каждое законченное действие приносит наслажде¬
ние. Благодаря ему ты знаешь, что должен был сделать
то, что сделал. Я не слишком жалую тех, кто ставит се¬
бе в заслугу тяжкий труд. Ибо, если он был столь мучи¬
телен, уж лучше бы они занялись чем-нибудь другим.
Радость, заключенная в действии, означает полное ов¬
ладение работой; и для меня неподдельность моего удо¬
вольствия, Натанаэль,— главный вожатый.
Я знаю, что мое тело жаждет наслаждения каждый
день и мой разум согласен с ним. А потом ко мне при¬
ходит сон. Земля и небо ровным счетом ничего не зна¬
чат по ту сторону.
192
* * *
Есть странная болезнь —
Когда люди хотят только того, чего у них нет.
— Нам тоже,— говорят они,— нам тоже знакома
жестокая тоска души. В пещере Одоллам томился ты,
Давид7, напившись воды из бочек. Ты взывал: «О кто
принесет мне свежей воды, которая бьет ключом под
стенами Вифлеема? Ребенком я утолял там жажду; но
теперь она стала пленницей, эта вода, желанная моему
жару».
Никогда не желай, Натанаэль, испить воды про¬
шлого.
Никогда не пытайся, Натанаэль, найти в будущем ут¬
раченное прошлое. Лови в каждом мгновении неповто¬
римую новизну и старайся не предвкушать свои радости
или знай, что на подготовленном месте тебя застигнет
врасплох совсем другая радость. Как ты не понимаешь,
что всякое счастье — нежданная встреча, и оно пред¬
стает перед тобой каждое мгновение, как нищий на
твоей дороге. Горе тебе, если ты сочтешь .свое счастье
погибшим только потому, что представлял его совсем
непохожим на это — дарованное тебе — счастье, горе
тебе, если ты способен признать только то счастье, ко¬
торое отвечает твоим принципам и твоим обетам. Завт¬
рашняя мечта — это радость, но завтрашняя радость бу¬
дет другой, и ничто, по счастью, не похоже на мечту,
которую мы творим себе сами, ибо только различие оп¬
ределяет цену всему.
Мне не понравится, если ты мне скажешь: смотри,
какую радость я приготовил для тебя; я люблю только
случайные радости и те, которые мой голос заставляет
брызнуть из камня; они потекут для нас, новые и силь¬
ные, как молодое вино из-под пресса.
Мне не нужно, чтобы моя радость была приукраше¬
на, не нужно, чтобы Суламита прошла по залам; перед
тем как поцеловать ее, я не стер с губ пятен, оставлен¬
ных гроздьями винограда; после поцелуев я пил тонкое
вино, которое не освежало мой рот, и ел сотовый мед
пополам с воском.
Натанаэль, не подготавливай заранее свои радости!
193
* * *
Когда ты не можешь сказать «тем лучше», скажи
«тем хуже». В этом есть великое обещание счастья.
Есть люди, считающие, что мгновения счастья по¬
сланы Богом, и другие, думающие, что Кем-то... Но
Кем?
Натанаэль, не отделяй Бога от своего счастья.
— Я не могу быть благодарным Богу за то, что он
меня создал, так же как не мог бы упрекать Его за то,
что меня нет, если бы я не родился.
Натанаэль, с Богом нужно говорить естественней.
Я хотел только, чтобы существование, однажды при¬
нятое,— существование земли и человека, и мое собст¬
венное — казалось естественным, но оно ошеломляет
меня, и это смущает мой ум.
Конечно, я тоже слагал гимны и написал
ПЕСНЮ О ПРЕКРАСНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ
СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА
Знаешь ли ты, Натанаэль, что самые прекрас¬
ные поэтические порыт связаны именно с ними —
с тысячью и одним доказательством существова¬
ния Бога. Ты понимаешь, конечно, что я не собира¬
юсь повторять их здесь, тем более просто повто¬
рять; и потом есть те, кто доказывают лишь сам
факт существования Бога, но нам нужна также
Его вечность.
Конечно, я хорошо знаю, что существуют веские ар¬
гументы святого Ансельма8.
И притча о совершенных островах Блаженства.9
Но, увы! Увы, Натанаэль, весь мир не может жить
там.
194
Я знаю, что есть согласие большинства.
Но ты, ты веришь немногим избранным.
Доказывают тем, что дважды два четыре,
Но, Натанаэль, не все ведь умеют считать.
Есть доказательство через перводвигатель,
Но всегда найдется тот, который был еще прежде
первого.
Натанаэль, как жаль, что нас там не было.
Мы могли бы увидеть сотворение мужчины и жен¬
щины.
Они удивились бы, что не родились маленькими
детьми.
Кедры Эльбруса, едва родившиеся и уже утомленные
столетиями
На вершинах гор, уже изрытых потоками.
Натанаэль! Быть там, чтобы увидеть зарю! Ка¬
кая лень помешала нам родиться тогда? Разве ты не
просил о жизни? О, я, конечно, молил о ней... Но в тот
момент дух Божий еще не вполне очнулся от довремен¬
ного сна среди вод. Если бы я был там, Натанаэль, я
попросил бы Его сделать все чуть более просторным; и
не возраоюай мне, что тогда это было бы никому не за¬
метно. *
Есть доказательство через конечные цели,
Но не все считают, что цель оправдывает средства.
Есть те, кто доказывают существование Бога лю¬
бовью, которую они к Нему испытывают. Вот почему,
Натанаэль, я называл Богом все, что я люблю, и вот
почему я хотел любить все. Не бойся, что я и тебя
включу в перечень; к тому же я не начал бы с тебя; я
всегда предпочитал людям вещи, и нельзя сказать, что
людей я особенно любил на земле. Ибо, тут ты не оши¬
* —Я вполне тогу представить себе другой мир,— сказал
Аякид,— где дважды два вовсе не будет четыре.
— Черт возьми, а ну-ка, ну-ка...— возразил Менальк.
195
баешься, Натанаэль: самое сильное во мне — отнюдь
не доброта, я думаю, что она и не самое лучшее во мне,
и вовсе не доброту я особенно пеню в людях. Натанаэль,
предпочитай им своего Бога. Я тоже славил Бога. Я
тоже пел гимны для Него и думаю даже, что, занима¬
ясь этим, немного переборщил.
* * *
— Неужели тебя забавляет,— спросил он,— выстра¬
ивать такие системы?
— Ничто не забавляет меня больше, чем этика,— от¬
ветил я.— Я питаю ею свой ум. Меня не привлекают ра¬
дости, которые не входят в этот крут.
— Это умножает их число?
— Нет,— сказал я,— но это то, что принадлежит
мне по праву».
Конечно, мне часто нравилось, что учение и сама
система полны стройных идей, оправдывающих в моих
собственных глазах мои поступки; но иногда я видел во
всем этом лишь прибежище своей чувственности.
* * *
Все приходит в свое время, Натанаэль; все рождает¬
ся из-за своей собственной потребности, только потреб¬
ность эта, так сказать, материализовавшаяся.
— Мне нужны легкие,— сказало мне дерево,— и
вот мой сок становится листом, для того чтобы иметь
возможность дышать. Потом, когда я надышусь, мой
лист падает, но я от этого не умираю. Мой плод продол¬
жает мою идею жизни.
Не бойся, Натанаэль, что я слишком увлекусь прит¬
чами, поскольку сам их недолюбливаю. Я не хочу учить
тебя другой мудрости, кроме жизни. Ибо это важнее,
чем думать. Я устал в молодости следить издали за по¬
следствиями своих поступков и был уверен в том, что
совсем не грешить можно, только если вообще ничего
не делать.
196
Потом я написал: я могу спасти свою плоть лишь
безвозвратным развращением своей души. Потом, я со¬
всем перестал понимать, что хотел сказать этим.
Натанаэль, я больше не думаю о грехе.
Но ты поймешь с великой радостью, что некоторое
право на мысль покупается. Человек, который считает
себя счастливым и при этом мыслит, может называть¬
ся по-настоящему сильным.
* * *
Натанаэль, несчастье каждого происходит от того,
что мы всегда не столько смотрим, сколько подчиняем
себе все, что видим. Но не ради нас, а рада себя самой
важна каждая вещь. Пусть твои глаза научатся смотреть.
Натанаэль! Я не могу больше начать ни одной стро¬
ки без того, чтобы в ней снова не появилось твое пре¬
красное имя.
Натанаэль, я хочу заставить тебя возродиться к жизни.
Натанаэль, вполне ли ты понимаешь пафос моих
слов? Я хочу еще больше приблизиться к тебе.
И, как Елисей лег над сыном Сонамитянки, чтобы
воскресить его10, «приложил свои уста к его устам, и
свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и
простерся на нем»,— так мое большое светящееся сер¬
дце над твоей душой, еще темной, я простираюсь над то¬
бой весь целиком: мои уста на твоих устах, мой лоб на
твоем лбу, твои холодные ладони в моих горячих ладо¬
нях, и мое трепещущее сердце... («И согрелось тело ре¬
бенка» — сказано...) — чтобы ты в наслаждении пробу¬
дился для жизни трепещущей и необузданной — потом
оставь меня.
Натанаэль, вот все тепло моей души — возьми его.
Натанаэль, я хочу научить тебя пылкости.
Натанаэль, не задерживайся подле того, кто похож
на тебя; никогда не задерживайся, Натанаэль. Как толь¬
197
ко окружение становится похожим на тебя или, наобо¬
рот, у тебя возникает сходство с окружением, оно пере¬
стает быть для тебя полезным. Оставь его, ничто для те¬
бя так не опасно, как твоя семья, твоя комната, твое
прошлое. Бери от каждой вещи лишь урок, который она
тебе преподносит; и пусть наслаждение, которое от нее
исходит, опустошает ее.
Натанаэль, я расскажу тебе о мгновениях. Понима¬
ешь ли ты, какой силой наполнено их присутствие. Ни
одна самая постоянная мысль о смерти не стоит самого
маленького мгновения твоей жизни. Но понимаешь ли
ты, что ни одно мгновение не было бы таким ослепи¬
тельно сияющим, если бы не оттенялось, так сказать,
темными глубинами смерти?
Я не стал бы больше ничего делать, если бы мне ска¬
зали, если бы меня убедили в том, что впереди у меня
вечность и я всегда успею сделать что-нибудь. Я отды¬
хал бы, прежде чем начать какое-то дело, располагай я
временем сделать также и все другое. Что бы я ни сде¬
лал, вероятно, не имело бы никакого значения, если б
я только знал, что эта форма жизни кончится,— и, про¬
жив ее, я смогу отдохнуть во сне, чуть более глубоком
и несущем чуть больше забвения, чем тот, которого я
жду каждую ночь...
* * *
Я взял за правило отделять каждое мгновение
своей жизни ради накопления радости, только ее; что¬
бы в ней в конце концов сконцентрировалось все свое¬
образие счастья; так что я не узнавал самого свежего
воспоминания.
* * *
Есть огромное удовольствие, Натанаэль, даже в са¬
мом простом утверждении.
Плод пальмы называется фиником, и это восхити¬
тельная еда.
198
Вино пальмы называется лагми; это перебродивший
пальмовый сок; арабы напиваются им, а я не очень люб¬
лю его. Именно чашу лагми предложил мне пастух в
прекрасных садах Уарди.
* * *
Я нашел сегодня утром, во время прогулки в аллее
Источников, странный гриб.
Он был окутан белой оболочкой, как красно-оран¬
жевый плод магнолии, с правильными серо-пепельны¬
ми штрихами, образованными пылью спор, которая про¬
сачивалась изнутри. Я открыл его; он был наполнен ка¬
ким-то грязным веществом, в центре студенисто-свет¬
лым; от него исходил тошнотворный запах.
Вокруг него другие грибы, более раскрывшиеся, ка¬
зались всего лишь сплюснутыми губчатыми наростами,
которые можно видеть на стволах старых деревьев.
(Я написал это перед отъездом в Тунис; и повторяю
здесь, чтобы показать тебе, какую важность обретал
для меня всякий предмет, коль скоро я разглядел его.)
Онфлера (на улице)
Временами мне казалось, что люди вокруг суетятся
лишь для того, чтобы увеличивать во мне чувство моей
индивидуальной жизни.
Вчера был там, сегодня здесь;
Мой Бог, зачем повсюду есть
Говоруны, что говорят и говорят без толку:
Вчера был там, сегодня здесь...
Бывают дни, когда мне достаточно повторить, что
дважды два все еще четыре, чтобы я наполнился неким
блаженством — и один вид моей руки на столе... и дру¬
гие дни, ковда это мне совершенно безразлично.
199
r^=sd[g
КНИГА ТРЕТЬЯ
Вилла Боргезе
В этом бассейне... (сумерки)... каждая капля, каж¬
дый луч, каждое существо могли бы умереть с наслаж¬
дением.
Наслаждение! Это слово я хотел бы повторять без
конца; или его синоним: блаженство, достаточно даже
просто сказать: жизнь.
А то, что Бог создал мир не только ради этого, мож¬
но понять, лишь говоря себе... и т. д.
* * *
Это место — обитель очаровательной свежести, где
прелесть сна так велика, что кажется доселе неизведан¬
ной.
И здесь восхитительные яства ждали, чтобы мы до¬
статочно проголодались!
Адриатика (3 часа утра)
Песня этих матросов, занятых снастями, не дает мне
покоя.
О Земля! Ты, такая древняя и такая молодая, если
бы ты знала вкус горечи и сладости, восхитительный
вкус короткой человеческой жизни!
Если бы ты могла понять вечную идею обновления,
то, как ожиданре близкой смерти увеличивает цен¬
ность каждого мгновения!
О весна! У растений, живущих всего лишь год, лис¬
тья хрупкие и легко уязвимы... У человека в жизни есть
200
лишь одна весна, и воспоминание о радости не прибли¬
жает нового счастья.
Холм Фьезоле
Прекрасная Флоренция, город серьезных уроков, ве¬
ликолепия и цветов, особо значительный; зерно мирта
и венок из «стройного лавра».
Холм Винчильята. Здесь я впервые увидел, как об¬
лака растворяются в синеве; я очень удивился, посколь¬
ку не представлял, что они могут вот так растаять в не¬
бе, считая, что облака живут, пока не пойдет дождь, и
способны лишь сгущаться. Но нет: я наблюдал, как все
хлопья постепенно исчезали; и в конце концов не оста¬
лось ничего, кроме лазури. Это была чудесная смерть;
растворение в бескрайнем небе.
Рим, Монте Пинчо
То, что принесло мне радость в этот день, было по¬
добно любви, но не любовь,— во всяком случае, не та,
о которой говорят и к которой стремятся люди. Это не
было также чувством прекрасного; не связано ни с жен¬
щиной, ни с моими мыслями. Я опишу, а ты, поймешь
ли ты меня, если я скажу, что мой восторг был вызван
просто СВЕТОМ?
Я сидел в саду и не видел солнца; но воздух блестел
от рассеянного света, как если бы небесная лазурь ста¬
ла текучей и пролилась дождем. Да, точно, здесь были
волны, водовороты света, на мхе — искры, как капли;
да, в этой большой аллее, можно сказать, тек свет, и зо¬
лоченая пена скапливалась на кончиках веток среди
этого потока лучей.
Неаполь; маленькая парикмахерская по соседству с
морем и солнцем. На набережных жара; занавеска, ко¬
торую нужно приподнять, чтобы войти. Вверить себя...
Долго ли это продлится? Покой. Капли пота на висках.
Дрожание мыльной пены на щеках. И тот, кто своим
бритьем способен придать изысканность любому, тру¬
дится с еще большим усердием и ловкостью, приподни¬
201
мает губу, помогая себе теперь маленькой губкой, смо¬
ченной теплой водой, которая смягчает кожу. Потом
нежной душистой жидкостью приглушает ощущение
жжения, потом успокаивает его кремом. И, чтобы по¬
дольше не двигаться, я требую подстричь мне волосы.
Амальфи (ночью)
Есть ночные ожидания какой-то еще неведомой
любви.
Маленькая комнатка над морем; меня разбудил
слишком яркий свет луны, луны над морем.
Когда я подошел к окну, то подумал, что наступил
рассвет и я сейчас увижу, как восходит солнце. Но
нет... В небе было другое светило, уже явленное и впол¬
не завершенное,— луна — нежная, нежная, нежная,
как для встречи Елены во второй части Фауста. Пус¬
тынное море. Мертвая деревня. Собака воет в ночи...
Тряпки на окнах.
Здесь нет места человеку. Невозможно понять, как
все это сейчас проснется. Безмерная скорбь собаки.
Дня больше никогда не будет. Невозможность сна. Что
ты сделаешь... (то или другое?):
Выйдешь в пустынный сад?
Спустишься на берег, чтобы умыться?
Пойдешь рвать апельсины, которые кажутся серыми
при свете луны?
Пес, примешь ли ты ласку?
(Сколько раз я чувствовал, что природа настойчиво
ждет от меня какого-то движения, но не знал, какое ей
нужно.) Ожидание сна, который придет не скоро...
* * *
Ребенок следил за мной в этом саду, окруженном
стеной, ухватившись за ветку, которая почти каса¬
лась лестницы. Лестница вела к террасам, растянув¬
шимся вдоль сада. Разглядеть их целиком было не¬
возможно.
202
О маленькая фигурка, которую я ласкал под крона¬
ми деревьев! Никакая тень не могла бы скрыть твоего
сияния, и тень от завитков на твоем плоде всегда каза¬
лась еще более темной.
Я пойду в сад, к свисающим лианам и веткам, и бу¬
ду рыдать от нежности среди этих рощ, где песен боль¬
ше, чем птиц в вольере,— пока не приблизится вечер,
пока не наступит ночь, которая сначала позолотит, а по¬
том сделает еще темнее таинственную воду фонтанов.
И нежные тела новобрачных под кронами деревьев.
Я трогал нежным пальцем кожу, похожую на перла¬
мутр.
Я видел нежные ноги, которые неслышно ступали
по песку.
Сиракузы
Плоскодонка; низкое небо, которое иногда спуска¬
лось к нам теплым дождем; запах водяных растений;
дрожание стеблей.
Толща воды скрывает, как обильна мощь этого голу¬
бого источника. Ни звука. В этой одинокой деревушке,
в этом естественном расширяющемся водоеме вода как
будто расцветает на стеблях папируса.
Тунис
Во всей синеве ничего белого, что сгодилось бы для
паруса, ничего зеленого — для его тени на воде.
Ночь. Кольца, светящиеся в темноте.
Лунный свет, при котором легко заблудиться. Мыс¬
ли, не похожие на дневные.
Роковой свет луны в пустыне. Крадущиеся демоны
змей. Босые ноги на голубых плитах.
Мальта
Необыкновенное упоение летними сумерками на
площадях, когда становится еще светлее, а тени больше
нет. Восторг, ни с чем не сравнимый.
203
Натанаэль, я расскажу тебе о самых прекрасных са¬
дах, которые я видел.
Во Флоренции продавали розы; бывали дни, когда
весь город благоухал. Я гулял каждый вечер в Каши-
нах, а по воскресеньям — в садах Боболи, где нет цве¬
тов.
В Севилье, близ башни Хиральда, есть старый двор
мечети; торговцы апельсинами ссорятся там из-за сим¬
метрично расположенных мест; остаток двора вымо¬
щен плиткой; во время солнцепека здесь можно найти
лишь очень маленькую тень; это квадратный дворик,
окруженный стенами; он очень красив, не могу объяс¬
нить почему.
За пределами города, в огромном, огороженном ре¬
шетками саду, растет множество деревьев из жарких
стран; я не входил в него, но смотрел через решетку; я
видел бегущих цесарок и подумал, что там много руч¬
ных зверюшек.
Как рассказать тебе об Алказаре? Этот сад — пер¬
сидское чудо; когда я говорю с тобой о нем, мне ка¬
жется, что именно ему я готов отдать предпочтение
среди всех других. Я думаю о нем, перечитывая Га-
физа:
Принесите мне вина —
Пусть прольется оно на платье,
Ибо я шатаюсь от любви.
А меня считают мудрецом!12
В аллеях водяные забавы; аллеи выстланы мрамор¬
ной плиткой, обсажены миртами и кипарисами. С двух
сторон — мраморные бассейны, где купались любовни¬
цы короля. Там не было других цветов, кроме роз, нар¬
циссов и цветов лавра. В глубине сада росло исполин¬
ское дерево, где легко было представить себе пронзен¬
ного булавкой бюль-бюля. Возле дворца — другие бас¬
сейны, очень дурного вкуса, напоминают о бассейнах
Резиденции в Мюнхене, где есть статуи, целиком вы¬
полненные из раковин.
В королевских садах Мюнхена я бродил, чтобы
попробовать холод майской травы, по соседству с на¬
204
вязчивой военной музыкой. Публика неэлегантная,
но меломаны. Вечер очаровывал соловьиным вооду¬
шевлением. Пение соловьев томило, как немецкая
поэзия. Есть некий предел наслаждения, который че¬
ловек способен выдержать, и не без слез. Поэтому
наслаждение, которое я получал от этих садов, за¬
ставляло меня почти болезненно мечтать о том, что¬
бы оказаться в каком-нибудь другом месте. В это ле¬
то я научился весьма своеобразно пользоваться пере¬
падом температур. Веки великолепно приспособле¬
ны для этого. Я вспоминаю ночь в вагоне, которую
провел у открытого окна, занятый единственно тем,
что пробовал прикосновения прохладного воздуха: я
закрывал глаза не для того, чтобы заснуть, но ради
этого.
Жара, длившаяся весь день, была удушающей, и еще
теплый вечерний воздух казался, однако, прохладным
моим обожженным векам.
Когда я увидел в Гренаде трассы Хенералифе, обса¬
женные олеандром, они не цвели; не были в цвету ни
Кампо-Санто в Пизе, ни дворик монастыря Сан-Марко,
которые я мечтал увидеть утопающими в розах. Но в
Риме я видел Монте Пинчо в самое лучшее время го¬
да. В изнурительные послеполуденные часы многие ис¬
кали там прохлады. Живя неподалеку, я гулял там каж¬
дый день. Я был болен и не мог ни о чем думать; при¬
рода целиком завладевала мной; успокоив свои рас¬
строенные нервы, я порой утрачивал ощущение границ
собственного тела, оно как бы тянулось вдаль; или
иногда, так сладостно, становилось пористым, как са¬
хар; я рождался заново. С каменной скамьи, где я си¬
дел, почти не было видно Рима, который меня утомлял;
над всем господствовали сады Боргезе, ниже которых,
на уровне моих ног, совсем недалеко, качались вер¬
хушки самых высоких сосен. О террасы! Террасы, воз¬
ле которых пространство разрывалось. О воздухопла¬
вание!
Я хотел ночью побродить в садах Фарнезе, но туда
не пускали. Восхитительная растительность на этих за¬
брошенных руинах.
205
В Неаполе есть нижние сады, которые тянутся вдоль
моря, как набережные, позволяя солнцу беспрепятст¬
венно проникать в них;
в Ниме — фонтан, полный прозрачной проточной
воды;
в Монпелье — ботанический сад. Я вспоминаю, как
однажды вечером мы сидели с Амбруазом13, будто в
садах Академа, возле древнего надгробия, окруженно¬
го кипарисами, и медленно беседовали; покусывая ле¬
пестки роз.
Мы видели ночью с площади в Пейру далекое море,
которое серебрила луна; рядом с нами шумел каскад го¬
родских фонтанов, черные лебеди с белой бахромой
плавали по глади водоема.
На Мальте в садах резидента я снова попытался
читать; в Чита Веккиа есть крохотная лимонная рощи¬
ца; ее называют «il Boschetto» *, нам нравилось бывать
там; и мы вонзали зубы в созревшие плоды, сок кото¬
рых вначале бывал нестерпимо кислым, но зато по¬
том во рту оставался неповторимый аромат свежести.
Мы грызли лимоны и в Сиракузах, в ужасных Ката¬
комбах.
В Гаагском парке бродят лани, почти совсем руч¬
ные.
Из сада Авранша видна гора Сент-Мишель и далекие
пески, которые по вечерам кажутся пылающими. Есть
множество маленьких городов с очаровательными сада¬
ми; можно забыть город, его название, но так хочется сно¬
ва увцдеть сад : и уже не знаешь, куда нужно вернуться.
Я мечтаю о садах Моссуля; мне говорили, что они
полны роз. Сады Нашпура, воспетые Омаром, сады Ши¬
раза, воспетые Гафизом; мы никогда не увидим садов
Нашпура.
Но в Бискре я узнал сады Уарди. Дети пасут там коз.
В Тунисе нет других садов, кроме кладбищенских.
В Алжире, в саду Испытаний (пальмы всех пород), я ел
плоды, которых прежде никогда не видел. И наконец
Блида! Натанаэль, что мне сказать?
* Рощица (ит.).— Примеч. пер.
206
Ах, нежна трава Сахеля14; и цветы твоих померан¬
цев, и твои тени! Сладостны ароматы твоих садов.
Блида! Блида! Маленькая роза! В начале зимы я не су¬
мел оценить тебя. В твоей священной роще не было
других цветов, кроме тех, что цветут круглый год; и
твои глицинии, твои лианы, казалось, годились лишь
для очага. Снег, сползая с гор, подкрадывался к тебе;
я не мог согреться в своей комнате, тем более в тво¬
их залитых дождем садах. Я читал «Наукоучение»
Фихте15 и чувствовал, что ко мне снова возвращает¬
ся религиозность. Я был мягок; я читал, что нужно
смириться со своей печалью, и изо всех сил старался
достичь этой добродетели. Теперь, по прошествии
времени, я отряхнул пыль со своих подошв; кто знает,
куда унес ее ветер? Пыль пустыни, где я бродил, как
пророк; бесплодный камень всегда рассыпается в
прах; для моих ног он оказался жгучим (ибо солнце
слишком нагрело его). Теперь пусть мои ноги отдыха¬
ют в траве Сахеля! Пусть все наши слова станут любо¬
вью!
Блида! Блида! Цветок Сахеля! Маленькая роза! Я ви¬
дел тебя, теплую и благоухающую, полную цветов и ли¬
стьев. Зимний снег растаял. В твоем священном Варде
мистически светилась белая мечеть и лиана сгибалась
под тяжестью цветов. Олива утонула в гирляндах обвив¬
шейся глицинии. Пленительный воздух доносил аромат
цветущих апельсиновых деревьев, и даже хрупкие ман¬
дариновые деревца благоухали. Над ними эвкалипты
роняли старую кору, изношенный покров, она свисала,
как одежда, которую солнце сделало ненужной, как
мои нравственные бдения, которые имели какую-то
ценность лишь зимой.
Блида
Огромные ветки укропа (зелено-золотое сияние его
цветов под золотым светом или под голубыми листья¬
ми неподвижных эвкалиптов) на дороге, но которой мы
шли в Сахель в это первое летнее утро, были неповто¬
римо великолепными.
И эвкалипты, удивленные или невозмутимые.
207
Принадлежность всего сущего к природе; невоз¬
можность вычлениться из нее. Физические законы все¬
объемлющи. Вагон, устремленный в ночь; к утру он по¬
крывается росой.
На борту
Сколько ночей, ах, сколько ночей я смотрел в тебя
со своей койки, круглое стекло моей каюты, задраен¬
ный иллюминатор,— смотрел, говоря себе: вот когда
это око посветлеет, наступит рассвет; тогда я встану и
стряхну свою дурноту; и рассвет омоет море; и мы при¬
чалим к неведомой земле. Рассвет наступал, но море не
успокаивалось, земля была еще далеко, и мое сознание
качалось на подвижной поверхности воды.
Морская болезнь, о которой вспоминает вся плоть.
Прикреплю ли я мысль к этой шатающейся мачте, ду¬
мал я. Волны, я не хочу видеть никакой воды, кроме
той, что растворена в вечернем ветре. Я сею свою лю¬
бовь на волнах, свою мысль — на бесплодной водной
равнине. Моя любовь тонет в волнах, сменяющих друг
друга и неотличимых одна от другой. Они проходят, и
глаз не узнает их больше. Море, бесформенное и
всегда волнующееся; вдали от людей твои волны мол¬
чат; ничто не противится их текучести; но никто не
может услышать их молчания; на самый хрупкий бар¬
кас уже ополчились они, и их гул заставляет нас ду¬
мать, что ревет буря. Большие валы продвигаются и
сменяют друг друга безо всякого шума. Они следуют
- один за другим, и каждый, в свою очередь, поднима¬
ет ту же каплю воды, почти не перемещая ее. Один
только вид их меняется; масса воды поддерживает и
покидает их, никогда не сопровождая. Всякая форма
приобретается лишь на несколько мгновений их суще¬
ствования; пройдя сквозь каждое, она продолжается,
потом погибает. О моя душа! Не привязывай себя ни
к какой идее. Бросай каждую мысль на ветер, кото¬
рый ее подхватит; сама ты никогда не донесешь ее до
неба.
Колышущиеся волны! Это вы так раскачали мои
мысли.
208
Ты ничего не построишь на гребне волны. Она не
выдерживает никакой тяжести.
Ласковая гавань, появишься ли ты, после того как
мы столько раз сбивались с пути, после всех этих мета¬
ний туда и сюда? Гавань, где моя душа, брошенная воз¬
ле крутящегося маяка, отдыхающая на твердой земле,
сможет наконец смотреть на море.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
I
В саду на Флорентийском холме
(что напротив Фьезоле),—
где мы были в тот вечер.
— Но вы не знаете, Ангер, Идье и Титир, вы не мо¬
жете знать,— сказал Менальк (я повторяю это тебе те¬
перь уже от своего имени, Натанаэль),— страсти, кото¬
рая сжигала меня в молодости. Меня бесила скоротеч¬
ность времени. Необходимость выбора всегда была для
меня невыносимой; выбор казался мне не столько отбо¬
ром, сколько отказом от всего того, что я не выбрал. Я
понимал весь ужас временных рамок и то, что у време¬
ни — всего лишь одно измерение; эту линию мне бы хо¬
телось видеть пространством, а на ней мои желания по¬
стоянно набегали друг на друга. Я всякий раз делал
только то или только это. Очень скоро я начинал сожа¬
леть о другом и часто пребывал в состоянии растерян¬
ности, не смея больше вообще чем-нибудь заняться.
Мои ладони были постоянно раскрыты из. страха, что
если я сожму их, чтобы что-то взять, то смогу схватить
лишь что-то одно. Несчастьем моей жизни с тех пор
стала невозможность никакой длительной учебы, я не
терпел ее, не будучи уверенным, что действительно на¬
шел свою дорогу, отказавшись от множества других.
Эта цена была слишком дорогой за что бы то ни было,
и рассуждения не могли избавить меня от тоски. Ока¬
заться на ярмарке наслаждений, располагая (по чьей
милости?) ничтожной суммой. Распорядиться ею, вы¬
брать — значило навсегда, навеки отказаться от всего
остального, и огромная масса этого остального оказы¬
валась желанней любой выбранной единицы.
210
Этим же объясняется и мое отвращение к любому
владению на земле; страх, что сразу окажешься владе¬
ющим лишь этим.
Товары! Припасы! Горы находок! Почему они не да¬
ются без соперничества? Я знаю, что земные блага ис¬
тощаются (но я знаю также, что они неисчерпаемо вза¬
имозаменяемы) и что чаша, которую я осушил, останет¬
ся пустой для тебя, мой брат, (будь даже источник ря¬
дом). Но вы, нематериальные понятия! Формы жизни,
не принадлежащие никому,— науки, познание Бога, ча¬
ши истин, бездонные чаши, зачем торговаться из-за ва¬
шего сока, если всей нашей жажды не хватит, чтобы
осушить вас? Ваша влага, переливающаяся через край,
всегда остается первозданно свежей для каждых новых
губ. Теперь я понимаю, что все капли этого великого
священного источника равноценны; что самой малой
достаточно нам для упоения и постижения всей полно¬
ты и целостности Бога. Но в ту пору чего только не же¬
лало мое безумие? Я завидовал всем проявлениям жиз¬
ни, всему, что было сделано кем-то другим; я охотно
сделал бы это сам; поймите — не ради результата, но
ради самого делания, ибо меня не слишком пугали ус¬
талость и страдание и я считал их наставниками жизни.
Я три недели испытывал ревность к Пармениду из-за то¬
го, что он изучал турецкий язык; два месяца спустя за¬
видовал Геодезию, который открывал для себя астроно¬
мию. Таким образом, я давал себе лишь самые неясные
и самые сомнительные очертания из-за абсолютного не¬
желания установить им какие-то границы.
— Расскажи нам о своей жизни, Менальк,— попро¬
сил Алкид.
И Менальк продолжал:
— Восемнадцати лет от роду, когда я закончил пер¬
вый этап своего обучения, с умом, утомленным рабо¬
той, пустым сердцем, изнемогающим от бытия, телом,
раздраженным принуждением, я пустился в путь по до¬
рогам, без всякой цели, поддавшись лихорадке стран¬
ствий. Я узнал все, что знаете вы: весну, запах земли,
211
цветение трав в полях, утренние туманы на реке и ве¬
черние испарения лугов. Я побывал во многих городах
и нигде не пожелал остаться. Счастлив, думал я, тот,
кто ничем не привязывает себя к земле и блуждает с
вечным рвением в постоянной подвижности. Я ненави¬
дел домашние очаги, родню, все уголки, где человек
надеется обрести покой; и долгие привязанности, и
влюбленную верность, и преданность идеям — все, что
подрывает уверенность в своей правоте; я говорил, что
всякая новизна должна застать нас абсолютно свобод¬
ными.
Книги открыли мне, что всякая свобода временна,
что она не более чем выбор своего собственного вари¬
анта рабства или, по меньшей мере, своего кумира. Так
семена чертополоха летят и блуждают — в поисках
плодородной почвы, чтобы пустить корни,— и платят за
возможность цветения утратой подвижности. Но, усво¬
ив в школе, что аргументами человека не изменишь и
что каждому из них можно противопоставить другой,
нужно только его найти, я занялся поисками, иногда на
очень долгих дорогах.
Я жил в непрерывном восторженном ожидании бу¬
дущего, все равно какого. Я изучал как вопросы, требу¬
ющие ответов, эту жажду обладания, рождающуюся пе¬
ред каждым новым наслаждением и предшествующую
близкому блаженству.
Мое счастье проистекало от того, что каждый ис¬
точник возбуждал во мне жажду, а в безводной пусты¬
не, где жажда неутолима, я упивался горячностью
своей горячки под экзальтированным солнцем. По ве¬
черам встречались восхитительные оазисы, казавшиеся
еще более свежими оттого, что ты мечтал о них весь
день. На песчаной равнине, под палящим солнцем, рав¬
нине, похожей на бескрайний сон,— зной был так ве¬
лик, что даже воздух вибрировал,— я чувствовал еще
биение жизни, которая не могла заснуть, которая на го¬
ризонте дрожала от слабости, а у моих ног вздувалась
от любви.
Каждый день, час за часом, я не искал ничего дру¬
гого, кроме проникновения, все более естественного, в
212
природу. Я обладал драгоценным даром не слишком ме¬
шать самому себе. Память о прошлом имела надо мной
ровно столько власти, чтобы придать целостность моей
жизни — так чудесная нить, связывавшая Тезея с его
прошлой любовью16, не мешала ему осваивать все но¬
вые и новые места. К тому же эта нить должна была по¬
рваться... Чудесное обновление. Во время утренних
прогулок я часто наслаждался чувством новизны бы¬
тия, нежностью своего восприятия. «Поэтический
дар,— восклицал я,— ты дар непрерывного знакомств
ва». Я знакомился со всем, что встречал. Моя душа бы¬
ла как постоялый двор, открытый на перекрестке до¬
рог: всякий, кто хотел войти, входил. Я сделался мяг¬
ким, дружелюбным, свободным во всех своих проявле¬
ниях, внимательным слушателем, у которого было не
больше одной собственной мысли, ловцом всякой ми¬
молетной эмоции и реакции, столь незаметной, что ни¬
что не казалось мне хуже, чем пустые протесты. Впро¬
чем, я заметил вскоре, как мало ненависть к безобраз¬
ному подкрепляла мою любовь к прекрасному.
Я ненавидел усталость, которая была порождением
скуки, и считал, что нужно полагаться на разнообразие
вещей. Я отдыхал везде, где придется. Я спал в полях.
Я спал на равнине. Я видел рассвет, дрожавший в про¬
свете между колосьями; а в буковых рощах меня буди¬
ли вороны. По утрам я умывался росой и новорожден¬
ное солнце сушило мою промокшую одежду. Кто еще
сможет сказать, что никогда поле не было более пре¬
красным, чем в тот день, когда я увидел довольных
жниц, с песнями возвращавшихся домой, и быков, за¬
пряженных в тяжелые телеги?!
Это было время, когда моя радость была столь вели¬
ка, что я хотел поделиться ею, научить кого-то тому, что
заставляло ее жить во мне.
Вечерами я смотрел, как в незнакомых деревушках
то тут, то там зажигались очаги, незаметные днем. Гла¬
ва семейства, усталый, возвращался с работы; дети при¬
ходили из школы. Дверь дома приоткрывалась на мгно¬
вение навстречу свету, теплу и смеху, потом закрыва¬
лась на ночь. Ни одно заблудившееся существо не мог¬
213
ло уже проникнуть внутрь, дрожа от холода снаружи.
Семьи, я ненавижу вас; запертые домашние очаги; за¬
крытые двери; ревнивые хранилища счастья. Иногда,
невидимый ночью, я стоял, прислонившись к стеклу, и
долго наблюдал за обычаями дома. Отец сидел около
лампы; мать шила; место деда или бабки оставалось
свободным, ребенок рядом с отцом готовил уроки; и
мое сердце переполнялось желанием увести его с со¬
бой бродить по дорогам.
Назавтра я встречал его, когда он выходил из шко¬
лы; через день я заговаривал с ним; четыре дня спустя
он бросал все, чтобы следовать за мной. Я открывал
ему глаза на великолепие пространства; ребенок пони¬
мал, что пространство открыто для него. Так я приучал
его душу к свободе, учил радости, наконец, чтобы по¬
том, порвав даже со мной, он узнал одиночество.
Один, я вкушал неистовую радость гордыни. Я лю¬
бил вставать до зари; я призывал солнце на поля; песня
ласточки была моей фантазией, а роса — утренним
омовением. Мне нравилась чрезмерная умеренность в
еде, и я ел так мало, что голова у меня кружилась и лю¬
бое впечатление вызывало у меня своего рода опьяне¬
ние. Я пил потом много разных вин, но ни одно не кру¬
жило голову так, как голод; ранним утром это нетерпе¬
ние пространства; задолго до восхода солнца я не мог
спать в своей ямке в стогу.
К хлебу, который был у меня с собой, я не прикасал¬
ся до тех пор, пока не впадал в полуобморочное состо¬
яние; тогда мне казалось менее странным, что я могу
так ощущать природу, и она лучше проникала в меня;
это был как бы прилив извне; все мои чувства были от¬
крыты ее присутствию; все во мне откликалось ей.
Моя душа преисполнилась наконец восторгом, кото¬
рый приводил в отчаяние мое одиночество и к вечеру
утомлял меня. Меня поддерживала гордыня, но я сожа¬
лел иногда об Илере, который расстался со мной год на¬
зад, поскольку мой нрав, кроме всего прочего, был
слишком суровым.
С ним я разговаривал по вечерам; он был поэт и по¬
нимал любую гармонию. Всякое явление природы каза¬
214
лось нам внятной речью, и можно было прочитать его
причину; мы научились распознавать насекомых по их
полету, птиц — по их песням и красоту женщин — по
следам, оставленным ими на песке. Его тоже снедала
жажда приключений; ее сила придавала ему отвагу. Ко¬
нечно, никакая слава не стоит молодости сердца! Впи¬
тывая все с наслаждением, тщетно пытались мы уто¬
лить свои желания; каждая из наших мыслей была пыл¬
кой; наши чувства разъедали нас. Мы изнуряли свою
сияющую молодость в ожидании прекрасного будуще¬
го, и дорога, ведущая к нему, никогда не казалась нам
слишком долгой, мы шли по ней быстрым шагом, поку¬
сывая цветы с плетней, наполнявшие рот вкусом меда
и изысканной горечи.
Иногда, снова попадая в Париж, я возвращался на
несколько дней или часов в жилище, где прошло мое
благонравное детство; все там было безмолвным; забо¬
тами отсутствующей женщины на мебель были набро¬
шены полотняные чехлы. Держа в руке лампу, я пере¬
ходил из комнаты в комнату, не отворяя ставней, за¬
крытых в течение нескольких лет, не поднимая штор,
пропитавшихся камфарой. Воздух там был тяжелый,
насыщенный запахом. Моя комната одна содержалась
в полном порядке. В библиотеке, самой угрюмой и без¬
молвной из комнат, книги на полках и столах сохраня¬
ли порядок, в котором я их расставил, иногда я откры¬
вал одну из них при свете горящей, несмотря на день,
лампы и был счастлив забыться на час; иногда я откры¬
вал также фортепиано и искал в памяти мелодии ста¬
рых песен; но мои воспоминания были слишком несо¬
вершенны, и, прежде чем огорчиться, я прекращал это
занятие. На следующий день я снова был далеко от Па¬
рижа.
Мое любящее от природы сердце как жидкость рас¬
текалось во все стороны; никакую радость я не считал
принадлежащей лично мне; я приглашал к ней любого,
а когда наслаждался ею в одиночестве, то это было
лишь проявлением моей гордыни.
Некоторые осуждали мой эгоизм, я осуждал их
глупость. Я не пытался любить кого-то одного — муж¬
215
чину или женщину, но дружбу, привязанность, лю¬
бовь. Давая ее одному, я не хотел отнять ее у кого-то
другого и лишь ссужал себя на время. Тем более я не
хотел присвоить себе чье-то тело или сердце; как и с
природой, я был в этом кочевником и не останавли¬
вался нигде. Всякое предпочтение казалось мне не¬
справедливым; желая достаться всем, я не отдавал се¬
бя никому.
С воспоминаниями о каждом городе у меня связы¬
вались воспоминания о каком-нибудь распутстве. В Ве¬
неции я участвовал в маскарадах; оркестр из альтов и
флейт сопровождал лодку, где я вкушал любовь. Сле¬
дом плыли другие лодки, заполненные молодыми жен¬
щинами и мужчинами. Мы направлялись к Лидо встре¬
чать рассвет, но, когда музыканты смолкли, мы, уто¬
мившись, заснули, прежде чем взошло солнце. Но я лю¬
бил даже усталость, которая остается после этих
фальшивых радостей, и это головокружение при про¬
буждении, благодаря чему мы понимаем, что они по¬
блекли. В портовых городах я мог пойти за матросами
с больших кораблей; я пробирался по плохо освещен¬
ным улочкам; но внутренне я осуждал в себе это жела¬
ние приобрести опыт — наше единственное искушение;
и, оставив моряков у дверей притонов, я возвращался в
спокойный порт, где молчаливый суд ночей превращал¬
ся в воспоминания об этих улочках, странный и волну¬
ющий гул которых доходил до экстаза. Я предпочитал
богатство полей.
Однако в двадцать пять лет, не устав от странствий,
но терзаемый чрезмерной гордыней, которую взрасти¬
ла эта кочевая жизнь, я понял или внушил себе, что на¬
конец созрел для новой формы.
Зачем? Зачем, вопрошал я, вы говорите, чтобы я
снова скитался по дорогам, я хорошо знаю, что на них
расцвели новые цветы, но теперь они ждут вас. Пчелы
собирают мед лишь в короткий период; потом они ста¬
новятся хранительницами казны. Я возвратился в поки¬
нутое жилище. Я сорвал, убрал прочь чехлы с мебели;
открыл окна и, воспользовавшись сбережениями, кото¬
рые, несмотря на свое бродяжничество, сумел сделать,
216
окружил себя всем, что смог раздобыть из дорогих и
хрупких вещей,— вазами или редкими книгами, и осо¬
бенно картинами, которые, благодаря знакомству с ху¬
дожниками, покупал очень дешево. В течение пятнад¬
цати лет я копил, как скряга; я обогащался изо всех сил;
я занялся своим образованием, научился играть на раз¬
ных инструментах; каждый час и каждый день прино¬
сил мне какое-нибудь плодотворное знание; история и
биология особенно занимали меня, я узнал литературу.
Я умножал дружеские связи, которые мое большое сер¬
дце и занимаемое положение позволяли мне не скры¬
вать; они были для меня более всего остального драго¬
ценны, и однако, даже они совсем не привязывали ме¬
ня.
В пятьдесят лет час настал: я продал все, и, посколь¬
ку мой вкус был безупречен и я хорошо знал каждый
предмет, оказалось, что я не владел ни одной вещью,
чья стоимость не возросла бы; за два дня я получил зна¬
чительное состояние. Я распорядился этим состоянием
таким образом, что мог воспользоваться им в любой мо¬
мент. Я продал абсолютно все, не желая сохранять ни¬
чего личного на этой земле, и менее всего воспомина¬
ния о прошлом.
Я говорил Миртилу, который был со мной в полях:
«Насколько большее наслаждение дарило бы тебе
это прелестное утро — эта дымка, этот свет, эта воз¬
душная свежесть, эта пульсация твоего бытия,— если
бы ты умел отдаться ему целиком. Ты думаешь, что жи¬
вешь здесь, но лучшая часть твоего существа заточена
в монастырь; твоя жена и твои дети, твои книги и твои
занятия завладели ею и крадут тебя у Бога.
Способен ли ты в этот самый миг испытать ощуще¬
ние могущества, полноты и непосредственности жиз¬
ни,— не позабыв все, что осталось вне его? Привыч¬
ное мышление мешает тебе; ты видишь прошлое, бу¬
дущее и не воспринимаешь ничего непосредственно.
Мы ничто, Миртил, в быстротечности жизни; все про¬
шлое умирает прежде, чем родилось будущее. Мгно¬
вения! Ты должен понять, Миртил, какой силой обла¬
дает их присутствие! Ибо каждое мгновение нашей
217
жизни, по сути, неповторимо, умей иногда концентри¬
роваться в нем целиком. Если бы ты захотел, Миртил,
если бы ты узнал это мгновение, без жены, без детей,
ты был бы один перед Богом на земле. Но ты по¬
мнишь о них и носишь с собой, словно из страха поте¬
рять, носишь все свое прошлое, все свои любови и все
тревоги земли. Что до меня, то любовь поджидает ме¬
ня в любую минуту, как новый подарок; я знал ее всег¬
да и не узнавал никогда. Ты не подозреваешь, Мир¬
тил, какой облик может принять Бог, ты слишком
долго смотрел на один-единственный и, влюбившись в
него, ослеп. Постоянство твоего обожания огорчает
меня, я хотел бы придать ему большую подвижность.
Позади всех твоих закрытых дверей стоит Господь.
Все проявления Бога драгоценны, и всё на земле есть
проявление Бога».
...Благодаря полученному состоянию, я тут же за¬
фрахтовал корабль, взяв с собой троих друзей, команду
и четверых юнг. Я влюбился в самого некрасивого из
них. Но даже сладости его ласк я предпочитал созерца¬
ние огромных волн за бортом. Я входил в удивительные
гавани и покидал их до рассвета, проведя иногда всю
ночь в погоне за любовью. В Венеции я познакомился
с удивительно красивой куртизанкой; я любил ее три
ночи, рядом с ней я забыл свои прежние любови. Ей я
продал или подарил свой корабль.
Я жил несколько месяцев во дворце на озере Комо,
где собирались самые лучшие музыканты. Я собрал там
также прекрасных дам, скромных и умеющих поддер¬
живать разговор; мы беседовали по вечерам, в то вре¬
мя как музыканты очаровывали нас; потом, сойдя на
мраморное крыльцо, последние ступени которого скры¬
вались под водой, мы садились в лодки убаюкивать сво¬
их возлюбленных медленным ритмом весел. И были
сонные возвращения; лодка, приставшая к берегу, вне¬
запно будила спящих, и притихшая Идуана17, опираясь
на мою руку, ступала на крыльцо.
Год спустя я был в огромном парке, неподалеку ^т
берега Вандеи18. Трое поэтов восхваляли прием, ко¬
торый я устроил для них в своем доме; они говорили
218
также о прудах, полных рыб и растений, о тополиных
аллеях, об одиноких дубах и дружных ясенях, о пре¬
красной планировке парка. Когда наступила осень, я
приказал срубить самые большие деревья и разорил
свое жилище. Ничего не скажу о парке, где гуляло на¬
ше многочисленное общество, блуждая в аллеях, ко¬
торые я оставил зарастать травой. Со всех сторон в ал¬
леях слышались удары топоров дровосеков. Одежда
цеплялась за ветки, лежавшие на дорожках. Осень,
простершаяся над поваленными деревьями, была пре¬
красна. Здесь была явлена такая щедрость, что я дол¬
го потом не мог думать ни о чем другом, заглянув в
свою старость.
Я занимал потом шале в Высоких Альпах, белый
дворец на Мальте возле благоухающего леса Чита Век-
киа, где лимоны имели нежно-кислый вкус апельсинов;
странствовал в коляске по Далмации; и теперь этот сад
на Флорентийском холме, напротив Фьезоле, где мы
провели этот вечер вместе с вами.
Не говорите, что я обязан своим счастьем случаю;
конечно, он благоволил ко мне, но я им не пользовал¬
ся. Не думайте, что мое счастье зависело от богатства;
мое сердце, ни'к чему на свете не привязанное, оста¬
лось бедным, и мне будет легко умереть. Я стал счаст¬
ливым благодаря своей пылкости. С какой бы вещью я
ни сталкивался, я страстно обожал.
II
Величественная терраса, где мы находились (к ней
вели винтовые лестницы), возвышалась над городом и
казалась поверх лиственных глубин огромным при¬
швартовавшимся кораблем; иногда он как будто надви¬
гался на город. На мостик этого воображаемого кораб¬
ля я поднимался несколько раз в то лето, чтобы отве¬
дать после сутолоки улиц созерцательное успокоение
вечера. Весь шум, устремляясь вверх, ослабевал; каза¬
лось, что это были валы, и они разбивались здесь; они
приходили еще, и величественными волнами поднима¬
219
лись, расширяясь, по стенам. Но я был выше, там, куда
волны не добирались. На огромной террасе не было
слышно ничего, кроме дрожания листвы и заблудивше¬
гося ночного зова.
Зеленые дубы и огромные лавры, посаженные пра¬
вильными улицами, заканчивались на краю неба, где
кончалась и сама терраса; однако закругленные балю¬
страды кое-где еще забегали вперед, нависая и образуя
балконы в лазури. Туда я приходил посидеть, я упивал¬
ся своими мыслями; там я верил, что плыву. Над тем¬
ными холмами, которые высились на другой стороне
города, небо было золотого цвета; легкие ветки с пло¬
щадки, на которой я был, клонились к сияющему зака¬
ту или устремлялись, почти без листьев, в ночь. От го¬
рода поднималось что-то, похожее на дым, это была
пыльца, попавшая в полосу света, она плыла, только что
оторвавшись от площадей, где сверкало и искрилось
множество огней. Иногда взлетала, как будто сама со¬
бой, в восторге от этой слишком жаркой ночи, ракета,
пущенная неизвестно куда, которая мчалась, преследо¬
вала, словно крик в пространстве, вибрировала, крути¬
лась и падала, опустошенная, с мистически расцвечен¬
ным треском. Мне особенно нравились те из них, блед¬
но-золотые искры которых падают так медленно и так
небрежно рассеиваются, что думаешь потом, как чудес¬
ны звезды и что они тоже родились от этой короткой
фейерии, и, видя их сохранившимися, после того как
искры погасли, удивляешься... потом медленно узнаешь
каждую в своем созвездии — и восторг от этого еще
усиливается.
— Я не согласен,— вмешался Иосиф,— с тем, как
судьба обошлась со мной.
—Тем хуже! — возразил Менальк.— Я предпочи¬
таю говорить себе, что того, чего нет, и быть не могло.
III
В эту ночь они воспевали плоды. Перед Менальком,
Алкидом и еще несколькими собравшимися Гилас спел
220
ПЕСНЮ О ГРАНАТЕ
Разумеется, трех зерен
граната достаточно, чтобы
Прозерпина помнила19.
Искать вам долго счастье суждено.
Но для души вы счастья не найдете.
О чувственная радость, радость плоти,
Тебя судить не мне — другим дано.
О радость горькая и чувств и плоти!
Тебя другому осуждать — не мне.
Философ ревностный, Дидье, я восхищаюсь,
Что мысль твоя — отрада для ума,
Ты не нуждаешься в другой опоре.
Но так любить не каждый ум готов.
Хотя и я люблю душевный трепет,
Восторги сердца, радости ума —
Но все ж не им пою хвалу сегодня —
Вас, наслаждения, воспеть хочу.
О радость плоти, нежная, как травы,
Прекрасная, как полевой цветок,
Ты вянешь так же быстро, как люцерна,
Как таволга-печальница в руках.
Из наших чувств всего печальней зренье:
Печалит все, что осязать нельзя.
И мысль схватить уму гораздо легче,
Чем пальцам, то, чего наш взгляд желает.
О пусть ты прикоснешься ко всему.
Чего желаешь сам, Натанаэль!
Знай, это обладанье — совершенно.
Всего же слаще было для меня
Конечно, чувство утоленной жажды.
Да! И туман прекрасен на заре,
И солнце утреннее над равниной,
221
И упоительно для ног босых.
По влажному песку ступать морскому.
Купанье упоительно всегда,
И поцелуй тех незнакомых губ,
Которые я трогаю губами
В кромешной темноте.
Я о эти фрукты!
Плоды, Натанаэль!
Что мне сказать о них? Ты их не знал —
Вот что меня в отчаянье приводит.
Их мякоть так нежна, и так сочна.
И так вкусна была, как мясо с кровью,
И алая, как льющаяся кровь.
Для них не нужно ждать особой жажды,
Их в золотых корзинах подают,
Но вкус их поначалу неприятен
И кажется нам пресным чересчур.
Он не похож совсем на наши фрукты,
Напоминая, может, вкус гуав,
Чуть переспевших. После остается
Во рту такая терпкость, что нельзя
Бороться с ней иначе, чем вкусив
Скорее новый плод — о только б длился
Миг наслажденья этим дивным соком!
И так он был прекрасен, этот миг,
Что даже пресный вкус преображался.
Корзцнка быстро делалась пуста,
И, прежде чем успели разделить,
Последний плод один в ней оставался.
Увы, Натанаэль, ну кто же скажет,
Какая горечь губы нам ожгла?
И никакой водой ее не смоешь.
Нас мучило желанье,тех плодов.
Мы на базарах их три дня искали.
Но кончился сезон.
Натанаэль!
Где мы найдем еще плоды другие,
Чтоб вызвали в нас новые желанья?
222
* * *
Одни нам на террасах подают,
Когда садится солнце в море.
Глазурью сахарною их зальют,
Сначала выдержав в ликере.
Другие рвут с деревьев в тех садах,
Что охраняют сторожа и стены.
В сезон едят их — летом и в тени:
Поставят столики,
Коснутся веток —
И градом вдруг посыплются плоды.
И мухи, в спячку впавшие, проснутся
От аромата, что один пленяет.
А кожура других пятнает губы,
Едят их, если жажда велика.
Мы вдоль дорог песчаных их нашли —
Они блестели средь листвы колючей.
Которая поранит руки сразу.
Как только их попробуешь сорвать.
И утолить нам жажду было трудно.
Из этих фруктов делают варенье,
На солнце их прожарив посильней.
Другие даже и зимой кислят,
От них всегда оскомина во рту.
А мякоть тех прохладна даже летом.
На корточки присев, их любят есть
И на циновках в тихих кабачках.
Есть и такие, о которых вспомнишь —
И жажда начинается тотчас.
Но их найти, увы, нам невозможно.
Смогу ли о гранатах рассказать,
Тебе, Натанаэль? Их на восточных
Базарах продают за пару су,
На тростниковых разложив подносах,
С которых падают они порой,
223
И видно, как валяются в пыли.
Их голые мальчишки подбирают.
А сок их кисловат, как сок малины,
Еще неспелой. Язе цветок похож
На сделанный из воска, и того же
Он цвета, и аш созревший плод.
Богатство целое здесь под охраной.
Перегородок кружевная вязь
И изобилье вкуса. И она —
Пятиугольная архитектура.
Но кожура расколота — и вот
В лазурных чашах эти зерна крови,
И золотые капельки на блюдах
Из бронзы и с глазурью расписной.
— Теперь воспой нам смокву, Симиана,
Ее любовь для нас — большая тайна.
—Я воспою смоковницу, чьи связи
Любовные неведомы для нас.
Ее цветенье свернуто и скрыто.
Вот комната закрытая, где свадьба
Справляется. Снаружи никакой
Нам аромат об этом не расскажет:
Ничто не испаряется, но все
Становится и сочностью и вкусом.
Цветок невзрачен. Плод — неотразим.
Тот плод, который лишь цветок созревший.
— Что ж, я воспела смокву. А теперь
Воспой, пожалуйста, нам все цветы.
— Однако,— возразил Гилас,— мы не воспели еще
все плоды.
Дар поэта — вдохновиться сливами (цветок для ме¬
ня ценен лишь как обещание плода).
Ты не рассказала о сливе.
И кислота терновника с плетней,
Ему холодный снег дарует сладость.
224
И мушмула, которую едят
Слегка подгнившей, и каштаны цвета
Листвы погибшей. Около огня
Кладет их, чтобы лопались от жара...
— Я вспоминаю горную чернику, которую собирал
однажды в сильный холод в снегу.
— Я не люблю снега,— сказал Лотарь,— это мате¬
рия слишком мистическая, она еще не покорилась зем¬
ле. Я ненавижу эту неестественную белизну, заморажи¬
вающую пейзаж. Снег — это холод и отрицание жизни;
умом я понимаю, что он заботится о ней, помогает ей,
но жизнь всплывает на поверхность только во время
его таяния. Вот почему я предпочитаю видеть его се¬
рым и грязным, полурастаявшим, почти уже превратив¬
шимся в воду для растений.
— Не говори так о снеге, он может быть прекрас¬
ным,— возразил Ульрих,— он печаль и горечь только
там, где большая любовь сможет растопить его; и ты,
предпочитающий любовь, любить его полурастаявшим.
Он прекрасен там, где" торжествует.
— Мы туда не пойдем,— сказал Гилас,— и, когда я
говорю: тем лучше, ты не должен говорить: тем хуже.
И в эту ночь каждый из нас спел балладу. Мели-
бей —
БАЛЛАДУ О САМЫХ
ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮБОВНИКАХ
Зулейка20!Для тебя я бросил пить
Вино, что наливал мне виночерпий.
Из-за тебя я — Боабдил 21, в Гренаде
Слезами олеандры оросил,
Которые цвели в Хенералифе.
Царица Савская, я Соломоном был, когда из Южной
стороны далекой ты приезжала, чтобы предложить
нелегкие мне разгадать загадки.
225
Фамаръ22, я братом был твоим, я был Амноном, и
умирал от горя потому, что обладать тобою был не
вправе.
Когда за голубицей золотой следя на кровле своего
дворца, Вирсавия, я вдруг тебя увидел, нагую и готовую
к купанью, я был Давидом, тем, кто приказал, чтоб
мужа твоего на смерть послали.
О Суламита23! Я тебя воспел в стихах, благоговей¬
ных, как молитвы.
И я был тем, кто от любви стонал в объятиях пре¬
красной Форнарины24.
Зубейда25, я тот раб, что рано утром на полдоро¬
ге к площади базарной с тобою встретился; я нес на
голове порожнюю корзину, приказала ты за собой мне
следовать затем, чтобы ее наполнить до отказа цит¬
ронами, лимонами, сластями и пряностями разными.
Потом, поскольку я понравился тебе и был уставшим,
ты мне разрешила ночь провести в компании с тобой,
твоими сестрами и сыновьями шаха. Мы занимались
тем, что до утра рассказывали каждый в свой черед
историю своей любви пред всеми. Когда настала оче¬
редь моя, то я сказал: Зубейда, до сих пор со мной ис¬
торий не случалось в жизни; ну а теперь тем более не
будет: ведь ты — вся жизнь моя. Все это говоря, но¬
сильщик наш тодами насыщался. (Я вспоминаю, что
совсем ребенком мечтал о сухом варенье, о котором
так часто говорится в «Тысяче и одной ночи». Я ел его
потом, оно было в розовом масле, и один мой друг гово¬
рил мне, что еще его приготавливают с личи.)
О Ариадна! Странник я — Тезей,
Оставивший тебя навеки Вакху,
Чтобы продолжить путь свой.
Эвридиха! Прекрасная моя, я твой Орфей,
Который в царстве мертвых потерял
Тебя из-за единственного взгляда.
Не в силах более тебя не видеть.
Потом Мопс спел
226
БАЛЛАДУ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
Когда вода в реке заметно поднялась,
Одни надеялись, что па горе спасутся,
Другие думали: полям полезен ил,
А третьи говорили: все погибло.
Но были те, кто не сказал пи слова.
Когда река совсем из берегов вдруг вышла,
То еще виднелись деревья кое-где,
Там — крыша дома, здесь — стена и колокольня.
А за ними — холмы. Но было много мест,
Где больше не виднелось ничего.
Одни пытались гнать стада повыгие в горы,
Детей своих несли другие к утлым лодкам,
А третьи — драгоценности несли.
Несли съестное, ценные бумаги
И легкие серебряные вещи.
Но были те, кто ничего не нес.
На лодках плывшие проснулись рано у?пром
В неведомой земле — одни в Китае,
В Америке — другие, третьи — в Перу.
Но были те, кто навсегда заснул.
Потом Гузман спел
ПЕСНЮ О БОЛЕЗНЯХ,
из которой я приведу лишь конец:
...Лихорадку подхватил в Дамьетте26,
В Огненной Земле оставил зубы,
В Сингапуре весь покрылся сыпью —
Белой и сиренево-лиловой.
В Конго ногу грыз мою кайман.
В Индии случилось истощепье —
От него зазеленела кожа
И прозрачной сделалась.
Глаза
Стали неестественно огромны.
227
Я жил в светлом городке; каждый вечер в нем совер¬
шалось множество преступлений, однако неподалеку
от порта продолжали плавать галеры, которые никог¬
да не были заполнены. Однажды утром я отбыл на од¬
ной из них; губернатор города подкрепил мою затею си¬
лой сорока гР'ебцов. Мы плыли четыре дня и три ночи;
они истощили из-за меня свои недюжинные силы. Мо¬
нотонная усталость усмирила их бурную энергию; они
перестали непрерывно ворочать воду; они сделались
красивее, мечтательней, и память об их прошлом уто¬
нула в огромном море. Под вечер мы вошли в город, из¬
резанный каналами, город цвета золота и пета, кото¬
рый назывался Амстердам или Венеция и в соответ¬
ствии с этим был коричневым или золотым.
IV
Когда в садах у подножия холма Фьезоле, на полдо¬
роге между Флоренцией и Фьезоле, в тех самых садах,
где любили петь еще во времена Боккаччо Памфило и
Фьяметта27, кончился слишком солнечный день и на¬
ступила светлая ночь, Симиана, Титир, Менальк, Ната¬
наэль, Елена, Алкид и другие были вместе.
Перекусив лишь сладостями, которые зной позво¬
лил нам съесть на террасе, мы вышли в аллеи и теперь
под впечатлением музыки бродили среди лавров и ду¬
бов, ожидая часа, когда можно будет растянуться на
траве и отдохнуть возле прудов, которые приютила зе¬
леная дубовая роща.
Я переходил от одной группы к другой и, слыша
лишь обрывки разговоров, понял, что все говорили о
любви.
— Всякое наслаждение,— говорил Элифас,— благо,
и оно должно излиться.
— Но всякое — не для всякого,— отвечал Тибулл,—
нужно выбирать.
Поодаль Теренций рассказывал Федру и Баширу:
— Я любил девочку из племени кабилов, с черной
кожей и совершенным телом, едва созревшую. Озор¬
228
ство подростка во время близости сочеталось в ней с
опытностью зрелой женщины, что обескураживало
меня. Она была тоской моих дней и усладой моих но¬
чей.
И Симиана с Гиласом:
— Это маленький плод, который часто просит, что¬
бы его съели.
Гилас пел:
— Бывают маленькие радости на обочинах наших
дорог, эти терпкие украденные плоды подчас желаннее
самых сладких.
На траве возле воды мы сели.
...Пение ночной птицы неподалеку от меня в какой-
то момент занимало меня больше, чем их речи; когда я
снова прислушался, Гилас рассказывал:
— ...Иу каждого из моих чувств были свои желания.
Когда я хотел вернуться к себе, я находил своих слуг и
служанок за моим столом, и для меня уже не остава¬
лось даже крохотного пространства, чтобы присесть.
Место счастья было занято Жаждой; другие жажды
оспаривали у нее это лучшее место. Весь стол был в по¬
стоянной вражде, но чуть что — они объединялись про¬
тив меня. Стоило мне приблизиться к столу, как они
все гили на меня, уже пьяные, они гнались за мной, вы¬
талкивали наружу; и я снова выходил, чтобы собирать
для них гроздья.
Желания! Прекрасные желания! Я принесу вам раз¬
давленные гроздья; я снова наполню ваши огромные
чаши; но дайте мне вернуться в свое жилище — и*
пусть, когда вы уснете, опьяненные, я смогу увенчать
себя порфирой и плющом,— скрыть тревогу на лице
короной из плюща.
Я сам почувствовал себя опьяненным и не мог боль¬
ше внимательно слушать; через мгновение, когда птица
смолкла, ночь показалась такой беззвучной, словно я
был ее единственный свидетель; еще через мгновение
229
мне показалось, что отовсюду брызнули голоса, кото¬
рые смешались с голосами нашего многочисленного об¬
щества:
— Нам тоже, нам тоже,— говорили они,— ведома
мучительная тоска души.
Желания не давали нам спокойно работать.
—...Этим летом у всех моих желаний была жажда.
Казалось, что они пересекали пустыню за пустыней.
Но я отказывался напоить их,
Зная, что они помешаны на питье.
(Были грозди, где спало забвенье, были те, где лако¬
мились пчелы, были те, где задержалось солнце.)
Каждый вечер желанье сидит у меня в изголовье,
Каждое утро я вновь нахожу его там.
Ночь напролет бессонно оно во мне.
Я ходьбой утомить его долго, пытался
Но устало лишь тело мое.
Теперь поет Клеодализа
ПЕСНЮ ВСЕХ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ
Я не знаю, о чем я мечтала ночью.
Когда я проснулась, желанья мои
Сгорали от жажды.
Казалось, во сне они шли по пустыне.
Между тоской и желанием
Мечется наша тревога.
Желания! Неужели уставать не умеете вы?
О! О! О! Наслаждение быстро проходит,
Оно очень скоро пройдет.
Я знаю, увы, как продлить мне свои страданья,
Но как приручить удовольствие, мне неизвестно.
Между желанием и тоской
Мечется наша тревога.
230
И все человечество видится мне больным, который
ложится в постель, чтобы выспаться,— который
ищет покоя и не находит даже сна.
Наши желания уже пересекли континенты,
Они никогда не смогут насытиться.
И вся природа томится
Между жаждой покоя и жаждою наслаждения.
От отчаянья мы кричали
В пустынях своих жилищ.
Мы поднялись на башни,
Откуда видна лишь ночь.
Собаки, мы выли от боли
По берегам высохгиих рек;
Львы, мы рычали в саванне;
Верблюдицы, мы щипали
Сирые, водоросли шоттов.
Высасывая сок из полых стеблей,
Ибо в пустыне всегда
Не хватает воды.
Ласточки, мы летели, лишенные корма,
Над бескрайним пространством морей.
Саранча, мы пожирали все,
Чтобы прокормить себя.
Трава, мы дрожали от бури:
Облака, мы бежали от ветра.
О! Ради великого покоя я желала спасительной
смерти; и чтобы наконец, мое желание, иссякнув, пере¬
стало питаться новым переселением душ. Желание, я
тащила тебя по дорогам, я исчерпывала тебя в полях;
я поила тебя допьяна в больших городах и не могла уто¬
лить твою жажду; я купала тебя в лунных ночах, я вы¬
гуливала тебя повсюду; я баюкала тебя на воде; я хоте¬
ла усыпить тебя на волнах... Желание! Желание! Что
же мне сделать для тебя? Чего ты хочешь еще? Неуже¬
ли же ты никогда не устанешь?
Луна показалась между ветками дубов, такая же, как
всегда, но прекрасная, как всегда. Теперь они разговари¬
231
вали, разбившись на группы; и я слышал лишь отдельные
фразы; мне показалось, что каждый говорил другим о
любви, не заботясь о том, чтобы быть услышанным
Потом разговоры стали стихать, луна скрылась за
стволами широких дубов; они остались лежать друг по¬
дле друга на траве, слушая и не понимая больше запоз¬
давших говорунов и говоруний, приглушенные голоса
которых доносились до нас, лишь смешавшись с шепо¬
том ручья на мху.
Симиана, встав, сплела венок из плюща, и я почув¬
ствовал запах сорванных листьев. Елена распустила во¬
лосы, которые упали ей на платье, а Рашель ушла соби¬
рать влагу со мха, чтобы промыть глаза перед сном.
Даже лунный свет исчез. Я продолжал лежать, утом¬
ленный прелестью и пьяный от печали. Я не говорил о
любви. Я ждал утра, чтобы уйти и бежать куда глаза
глядят по случайным дорогам. Мой усталый ум уже
давно дремал. Я спал несколько часов, потом, когда
рассвело, я ушел.
КНИГА ПЯТАЯ
I
Дождливая земля Нормандии
покоренная равнина.
Ты говорил: мы станем принадлежать друг другу
весной, под теми ветками, что мне знакомы, в уединен¬
ном месте, где много мха; наступит такая пора: воздух
прогреется,— и птица, певшая там год назад, запоет
снова. Но весна в этот раз пришла поздно; и воздух,
слишком свежий, предполагал другие радости.
Лето было томным и теплым. Но ты понадеялся на
женщину, которая не приехала. И ты сказал: по край¬
ней мере, осень возместит мне мои потери и утишит
мою печаль. Она не приедет сюда, я знаю, но эти гус¬
тые леса все равно заалеют. Дни в это время бывают
еще теплыми, и я буду сидеть на берегу пруда, где в
прошлом году осыпалось столько желтой листвы.. Я бу¬
ду ждать приближения вечера... Другими вечерами я
пойду на опушку леса, где ложатся последние солнеч¬
ные лучи. Но осень была дождливой в этом году. Леса
лишь слегка окрасились, и ты не смог посидеть на бе¬
регу пруда, выходящего из берегов.
* * *
В этом году я все время был занят в имении. Я при¬
сутствовал при сборе урожая и при пахоте. Я мог видеть
приближение осени. Она выдалась удивительно теплой,
но дождливой. К концу сентября ужасный ветер, кото¬
рый не переставая дул в течение двенадцати часов, вы¬
сушил с одной стороны все деревья. Спустя некоторое
время листья, уцелевшие при ветре, стали золотыми. Я
233
жил так далеко от людей, что мне показалось важным
сказать и об этом не слишком значительном событии.
* * *
Бывают ДНИ) и другие дни тоже. Бывают утра и вечера.
Бывает утро, когда встаешь перед рассветом весь в
оцепенении. О серое осеннее утро, когда душа просы¬
пается неотдохнувшей, усталой и так жгуче пробужде¬
ние, что ей хочется снова заснуть и она прикидывает,
какова на вкус смерть. Завтра я покидаю эту дрожащую
от холода деревню; вся трава покрыта инеем. Я чую,
как собаки, которые хранят в своих тайниках хлеб и ко¬
сточки на случай голода, я чую, где мне искать прибе¬
реженные радости. Я знаю, что в низине, в излучине
ручья, осталось немного теплого воздуха; выше — лес¬
ная преграда, золотая липа, еще не сбросившая свой по¬
кров; улыбка и ласка для маленького мальчика из куз¬
ницы, по дороге из школы. Далекий запах обильно осы¬
павшейся листвы; женщина, которой я могу улыбнуть¬
ся возле лачуги, поцелуй ее маленькому ребенку;
удары молота из кузницы, которые осенью разносятся
особенно далеко... И это все? Ах! Лучше заснуть! Этого
слишком мало. И я слишком устал надеяться...
* * *
Ужасные отъезды в предрассветной полутьме. Про¬
дрогшие душа и тело. Головокружение. Ищешь, что бы
еще взять с собой. Что тебе так нравится в отъездах,
Менальк? Он ответил: предвкушение смерти.
Конечно, не столько из-за желания увидеть что-то
иное, сколько из-за возможности отделить от себя все
необязательное. Ах! Как много вещей, Натанаэль, без
которых можно обойтись! Душа никогда не бывает до¬
статочно опустошена, чтобы наконец переполниться
любовью — любовью, ожиданием и надеждой, которые,
в сущности, единственное наше достояние.
Ах! Все эти места, где можно было бы хорошо жить!
Места, где могло множиться счастье. Трудолюбивые фер¬
мы; драгоценные полевые работы; усталость, огромная яс¬
ность сна... Поедем! И не все ли равно, где остановиться?..
234
II
ПУТЕШЕСТВИЕ В ДИЛИЖАНСЕ
Я сбросил свое городское платье, которое вынужда¬
ло меня сохранять чрезмерное достоинство.
* * *
Он был там, подле меня; я чувствовал по ударам его
сердца, что он был живым существом, и теплота его ма¬
ленького тела обжигала меня. Он спал на моем плече.
Я слышал, как он дышит. Тепло его дыхания мешало
мне, но я не шевелился из опасения разбудить его. Его
изящная голова сильно раскачивалась от тряски экипа¬
жа, где мы были ужасно стеснены. Другие тоже еще
спали, коротая остаток ночи.
Да, конечно, я знал любовь, и еще одну, и множест¬
во других любовей. Но разве мне нечего сказать об
этой тогдашней нежности?
Да, конечно, я знал любовь.
* * *
Я стал бродягой, чтобы иметь возможность при¬
коснуться ко всем, кто скитается: я был влюблен во
всех, кто не знает, где бы согреться, и я страстно лю¬
бил всех бродяг.
* * *
Помню, четыре года тому назад я провел конец дня
в этом маленьком городке, через который снова проез¬
жаю теперь; тогда, как и сейчас, стояла осень; день то¬
же не был воскресным, и жаркая пора миновала. По¬
мню, я гулял, как и сейчас, по улицам до тех пор, пока
на окраине города не обнаружил сад с террасой, возвы¬
шавшейся над прекрасным краем.
Я снова на той же дороге и узнаю все.
Мои шаги накладываются на мои шаги, и мои чув¬
ства... Здесь была каменная скамья, на которой я си¬
дел. Вот она. Я читал здесь. Какую книгу? Вергилия. Я
слышал доносящийся снизу грохот вальков прачек. Я
235
и теперь его слышу. Воздух был неподвижен. Как се¬
годня.
Дети выбегают из школы — я вспоминаю это. Мимо
идут прохожие. Так же двигались они и тогда. Солнце
заходит; и дневные песни вот-вот умолкнут...
Это все.
— Но этого,— сказала Анжель,— недостаточно, что¬
бы написать стихотворение.
— Тогда оставим это,— ответил я.
* * *
Мне знакомы ранние подъемы, когда еще не рас¬
свело.
Возница запрягает лошадей во дворе.
Ведра воды окатывают мостовую. Шум насоса.
Тяжелая голова того, кому мешали спать мысли.
Места, которые нужно оставить; маленькая комнатка;
здесь на мгновение я преклонил свою голову, чувство¬
вал, думал, бодрствовал. Пусть я сгину! И не все ли рав¬
но где (как только перестаешь вцдеть, разница между
«где-то» и «нигде» исчезает). Живой, я был здесь.
Покинутые комнаты! Отъезды, создающие ощущение
чуда; я никогда не хотел печальных отъездов. От присущ
ствия ЭТОГО меня всегда охватывало возбуждение.
Из ЭТОГО окна посмотрим же еще мгновение... На¬
ступает минута отъезда. Я мечтаю о миге, непосредст¬
венно предшествующем ему... чтобы еще раз окунуться
в эту почти исчерпанную ночь, в бесконечную возмож¬
ность счастья.
Прекрасное мгновение! В бескрайнюю лазурь влива¬
ется волна рассвета...
Дилижанс готов. Едем! Пусть все, о чем я только
что думал, исчезнет, как я, в забвении бегства...
Переезд через лес. Полоса благоухающих перепа¬
дов температур. Самый теплый запах — земли, самый
холодный — увядающей листвы. Глаза мои были за¬
крыты; я открыл их. Да: вот листья; вот движущаяся
земля...
236
Страсбург
О «безумный собор!» С вершины твоей воздушной
башни, как из раскачивающейся гондолы дирижабля,
видны аисты на крышах,
ортодоксальные и педантичные,
на длинных лапах,
медлительные, потому что очень трудно заставить
их подчиняться.
Постоялый двор
Ночь, я сейчас засну в глубине гумна;
вознице придется искать меня в сене.
Постоялый двор
...От третьего стакана вишневки кровь, циркулирую¬
щая в моей голове, стала горячее;
от четвертого стакана я начал ощущать это легкое
опьянение, которое, приблизив все предметы, сделало
их моей добычей;
от пятого стакана зал, где я находился, весь мир, ка¬
жется, принял наконец более возвышенные очертания,
а мой возвышенный ум, ставший более свободным, пре¬
терпел эволюцию;
от шестого стакана в состоянии некоторой устало¬
сти я заснул. (Все радости наших чувств были несовер¬
шенны, как обман.)
Постоялый двор
Я знал тяжелое вино харчевен, которое отдает при¬
вкусом фиалок и обещает тупой сон до полудня. Я знал
опьянение вечера, когда кажется, что вся земля качает¬
ся под тяжестью твоей всесильной мысли.
Натанаэль, я расскажу тебе об опьянении.
Натанаэль, часто удовлетворение самого простого
желания опьяняло меня,— до такой степени я уже бы¬
вал пьян до этого — от самого желания.
И то, что я искал на дорогах, поначалу было не
столько харчевней, сколько моим голодом.
237
Опьянение — ходьбой натощак, когда шагаешь пре¬
красным утром и голод — это вовсе не аппетит, но го¬
ловокружение. Опьянение от жажды, когда идешь и
идешь до вечера.
Строжайшее воздержание в еде сделалось у меня
тогда чрезмерным, как разврат, и я восторженно вку¬
шал обостренное ощущение собственной жизни. Тогда
сладострастный приток моих чувств превращал любой
предмет, который соприкасался с ними, в мое осязае¬
мое счастье.
Я знал опьянение, которое легко искажает мыс¬
ли. Мне вспоминается, как однажды они следовали
одна за другой, точно трубочки из подзорной трубы;
предыдущая всегда казалась самой тонкой, но каж¬
дая последующая была еще тоньше. Мне вспомина¬
ется, как однажды они стали такими круглыми,
что, право, ничего больше не оставалось, как позво¬
лить им катиться. Мне вспоминается, как однаж¬
ды они были столь эластичны, что каждая последо¬
вательно и взаимно принимала форму всех осталь¬
ных. В другой раз это были две параллельные мысли,
которые, казалось, пытались достичь глубин беско¬
нечности.
Я знал опьянение, которое заставляет поверить,
что ты лучше, выше, мужественней, богаче и т. п.,
чем ты есть.
Осень
Была большая вспашка на полях. По вечерам бороз¬
ды дымились. И усталые лошади шли более медлен¬
ным шагом. Каждый вечер я пьянел, как будто впер¬
вые почувствовал запах земли. Я любил тогда сидеть
на краю лесной опушки, среди сухих цветов, слушая
песни пахоты, глядя на утомленное солнце в глубине
поля.
Влажное время года; дождливая земля Норман¬
дии...
238
Прогулки.— Ланды, но без суровости.— Крутые об¬
рывистые берега.— Леса.— Застывший ручей. Отдых в
тени; непринужденные разговоры.— Рыжие папорот¬
ники.
«Ах! — думали мы,— почему мы не встретили вас в
пути, луга, которые нам хотелось бы пересечь верхом?»
(Они были полностью окружены лесами.)
Прогулки вечерние.
Прогулки ночные.
Прогулки
...Бытие доставляло мне огромное наслаждение. Я
хотел бы испробовать все формы жизни, даже рыб и
растений. Среди всех чувственных радостей я завидо¬
вал тем, которые относились к осязанию.
Одинокое дерево посреди осеннего поля, окружен¬
ное ливнем; падали порыжевшие листья; я думал, что
вода надолго напоила эти корни в глубоко пропитав¬
шейся влагой земле.
В этом возрасте мои босые ноги любили прикасать¬
ся к мокрой земле, хлюпанье луж, прохладу или тепло
грязи. Я знаю, почему я так любил воду, и особенно все
влажное: вода гораздо больше, чем воздух, дает нам
мгновенное ощущение разницы меняющихся темпера¬
тур. Я любил влажное дыхание осени... Дождливую зем¬
лю Нормандии.
Jla Рок
Телеги, груженные душистой травой, возвращались
домой.
Закрома были полны сеном.
Тяжелые телеги, неповоротливые на откосах, под¬
брасывающие на ухабах, сколько раз вы везли меня с
поля, лежащего на груде сухой травы, среди грубых
парней, ворошивших сено.
Ах! Когда еще я мог, лежа на стогу, ждать прибли¬
жения вечера?
Вечер наступал; добирались до гумна — во дворе
фермы, где мешкали последние лучи.
239
Ill
ФЕРМА
Хозяин!
Хозяин! Воспой свою ферму.
Я хочу передохнуть тут мгновение и помечтать воз¬
ле твоих стогов о лете, о котором мне напомнит запах
сена.
Возьми свои ключи; открой мне каждую дверь, од¬
ну за другой...
Первая — это дверь гумна...
Ах, если бы время не обманывало наших надежд!..
Ах, почему бы мне, пригревшись в сене, не отдохнуть у
стога... вместо скитаний, усилием воли победить бес¬
плодность желании!.. Я слушал бы песни жнецов и
смотрел бы, спокойный, примирившийся, как бесцен¬
ные запасы урожая везут на отяжелевших телегах —
словно в ожидании ответов на вопросы, которые зада¬
ют мои желания. Я не стал бы больше искать в полях,
чем мне насытить их; здесь я накормил бы их досыта.
Есть время смеяться — и время, когда смех уже за¬
мер.
Да, есть время смеяться — и время вспоминать об
этом.
Конечно, Натанаэль, это был я, я, и никто другой,
видевший, как волнуются эти травы — эти самые, ко¬
торые теперь высохли, чтобы дать запах сену, высох¬
ли, как все скошенное,— эти живые травы, зеленые и
золотые, качающиеся на вечернем ветру. Ах, почему не
вернется время, когда мы лежали на краю... и густые
травы принимали нашу любовь.
Живность сновала под листьями; каждая из их тро¬
пинок была целой дорогой; и, когда я наклонился к зем¬
ле и стал разглядывать лист за листом, цветок за
цветком, я увидел массу насекомых.
Я узнавал влагу земли в порыве ветра и в природе
240
цветов; так, луг был усеян маргаритками, но лужай¬
ки, которые мы предпочитали и которыми пользова¬
лась наша любовь, были сплошь белыми от зонтичных
растений, одни из них были легкие, другие — большие
борщевики — непрозрачны и огромны. По вечерам в
траве, ставшей более глубокой, они, казалось, плавали,
как светящиеся медузы, свободные, оторванные от сво¬
его стебля, приподнятые волной тумана.
* * *
Вторая дверь — это дверь житниц.
Груды зерна. Я буду славить вас, злаки; золотая
пшеница, притаившееся богатство: бесценный запас.
Пусть истощится наш хлеб! Житницы, у меня
есть ключ от вас. Груды зерна, вы здесь. Будете ли вы
целиком, съедены, прежде чем мой голод утолится? В
полях птицы небесные, в закромах — крысы; все бедня¬
ки за нашими столами... Хватит ли здесь пищи, пока
не кончится мой голод?..
Зерна, я сохраняю горсточку. Я сею ее на своем пло¬
дородном поле; я сею ее в лучшую пору; одно зерно даст
сто, другое — тысячу!..
Зерна! Там, где обилен мой голод, зерна, вы будете
в изобилии!
Хлеба, проклевывающиеся сначала как маленькая зе¬
леная травка, скажите, какой желтеющий колос при¬
дется нести вашему изогнутому стеблю? Золотое
жниво, снопы и колосья — горсточка зерен, которую я
посеял...
* * *
Третья дверь — в молочную.
Покой; тишина; бесконечное капанье из корзин, где
обжимаются сыры; прессование брикетов в металличе¬
ских формах; день за днем во время большой июльской
жары запах свернувшегося молока кажется все более
свежим и более пресным... нет, не пресным — но ост¬
рота его столь, незаметна и столь размыта, что ощу¬
241
щается лишь в глубине ноздрей и уже скорее как вкус,
чем как .запах.
Маслобойка, которую содержат, в стерильной чис¬
тоте, небольшие бруски масла на капустных листьях.
Красные руки фермерши. Окна, всегда открытые, но
затянутые металлической сеткой, чтобы кошки и му¬
хи не проникли внутрь.
Плошки, выстроенные в ряд, полны молока, все бо¬
лее и более желтого, пока не поднимутся все сливки.
Сливки собираются медленно: они набухают, слоятся,
и сыворотка отделяется. Когда она отойдет целиком,
ее выливают...
(Но, Натанаэль, я не хочу все это тебе рассказы¬
вать. У меня есть друг, который занимается сельским
хозяйством и к тому же замечательно говорит об
этом; он объясняет мне полезность каждой вещи и
учит, что даже сыворотка не должна пропасть. В Нор¬
мандии ею кормят свиней, но, кажется, ей есть и луч¬
шее применение.)
* * *
Четвертая дверь открывается в хлев.
В нем невыносимо жарко, но коровы хорошо пахнут.
Ах! Почему бы мне не оказаться в том времени, когда
вместе с ребятишками фермера, вспотевшая плоть ко¬
торых так хорогио пахла, мы бегали между ногами ко¬
ров; искали по углам яслей яйца; часами наблюдали за
коровами, следили, как падали, лопаясь, коровьи лепеш¬
ки; спорили о том, какое животное начнет испраж¬
няться первым, и однажды я убежал в ужасе, решив
вдруг, что одна из коров собирается родить теленка.
-k is is
Пятая дверь — дверь хранилища для фруктов.
В дверном проеме — солнце, кисти винограда висят
на бечевках; каждая косточка размышляет и зреет;
тайно переваривает свет; выделяет ароматную сладо¬
сть.
242
Груши. Обилие яблок. Плоды! Я вкушал вашу сочную
мякоть. Я бросал семечки на землю; пусть взойдут!
Чтобы вновь подарить нам удовольствие.
Хрупкое зернышко; обещание чуда; ядрышко; ма¬
ленькая весна, дремлющая в ожидании. Семечко между
двумя расцветами, семечко, пережившее расцвет.
Мы задумаемся потом, Натанаэль, о мучительном
прорастании (усилия травы, вырывающейся из семеч¬
ка, чудесны).
Но восхитимся теперь этим: каждому оплодотворе¬
нию сопутствует наслаждение. Плод пропитан соком;
и удовольствие — единственное постоянство жизни.
Мякоть плода — вкусовое доказательство любви.
* * *
Шестая дверь — дверь давильни.
Ах, почему бы мне не растянуться теперь под наве¬
сом — где спадает жара — возле тебя, во время выжи¬
мания яблок, рядом с кислыми выжимками.
Мы старались бы, ах, Суламита! Если наслаждение
нашей плоти на влажных яблоках длится дольше и ис¬
сякает не так быстро — подкрепимся их сладостным
ароматом...
Шум жернова баюкает мои воспоминания.
* * *
Седьмая дверь открывается на винокурню.
Полумрак; горящий огонь; темные механизмы. Вне¬
запно возникающая медь тазов.
Перегонный куб; его таинственный гной тщатель¬
но собирают. (Я видел, как так же собирают сосновую
смолу, болезненную камедь черешен, молочко каучуко¬
носных фикусов, вино пальм со срезанных верхушек.)
Узкая склянка, целая волна опьянения сосредоточе¬
на в тебе, бьется о берег; эссенция, куда вошло все, что
есть восхитительного и притягательного в плоде; вос¬
хитительного и благоухающего в цветке.
Перегонный куб! Золотая капля, которая вот-вот
243
просочится. (В ней больше вкусовых ощущений, чем в
концентрированном вишневом соке; другие благоухают,
как луга.) Натанаэль! Вот воистину чудесное видение;
кажется, что сама весна должна целиком уместиться
здесь... Ах! Пусть мое нынешнее опьянение слишком те¬
атрально. Пусть я пью, закрытый в этом чересчур
темном зале, который я больше не увижу, пусть я пью,
чтобы чем-то подбодрить свою плоть и освободить
свой ум, ради того чтобы видеть все то нездешнее, че¬
го я пожелаю...
* * *
Восьмая дверь — дверь каретного сарая.
Ах! Я разбил свою золотую чашу — я просыпаюсь.
Опьянение — всегда лишь подмена счастья. Повозки.
Любое бегство возможно; сани, ледяная страна; я впря¬
гаю в вас, сани, свои желания.
Натанаэль, мы поедем навстречу всему и мы до¬
стигнем всего. В сумке возле сиденья у меня есть золо¬
то: в моих сундуках — меха, которые заставят почти
полюбить холод. Колеса, кому под силу сосчитать ваши
обороты во время гонки? Повозки, легкие домики.
Пусть наша фантазия правит вами в поисках остав¬
шихся радостей! Плуги, пусть быки проведут вас по на-
гиим полям. Ройте землю, как кабаны: неиспользован¬
ный лемех в сарае ржавеет, и все эти инструменты...
Вы все, неиспользованные возможности нашего бытия,
в страдании, в ожидании — в ожидании, чтобы в вас
запрягли желание,— для того, кто желает лучших
краев...
Пусть снежная пыль, которую поднимет наша ско¬
рость, летит за нами! Санки! Я впрягаю в вас все мои
желания...
* * *
Последняя дверь открывалась на равнину...
КНИГА ШЕСТАЯ
ЛИНКЕЙ28
Zum sehen geboren
Zum shauen bestelit.
Goethe (Faust, II) *
ЗАПОВЕДИ Господни, вы уязвили мою душу.
Заповеди Господни, сколько вас — десять или двад¬
цать?
До каких пор вы будете сжимать свои границы?
Твердить, что запретов становится все больше и
больше?
Сулить новые кары за жажду всего, что я найду
прекрасного на земле?
Заповеди Господни, вы принесли боль в мою душу.
Вы окружили каменной стеной единственный ис¬
точник, который мог напоить меня.
...Но я чувствую теперь, Натанаэль, что преиспол¬
нен жалости к маленьким человеческим слабостям.
-k is "к
Натанаэль, я научу тебя тому, что все в мире боже¬
ственно просто.
Натанаэль, я расскажу тебе обо всем.
* Рожденный, чтоб видеть,
Я зорко смотрю.
Гёте (Фауст, II) (нем).— Примеч. пер.
Я вложу в твои руки, слабый пастырь, пастушеский
посох, и мы осторожно поведем во все края овец, кото¬
рые еще никогда не шли за хозяином.
Пастырь, я приведу твои желания ко всему, что есть
на земле прекрасного.
Натанаэль, я хочу обжечь твои губы жаждой нового
и потом поднести к ним чашу, полную свежести. Я пил
из нее; я знаю источники, где губы могут утолить свою
жажду.
Натанаэль, я расскажу тебе об источниках.
Есть родники, которые бьют из скал;
другие едва виднеются подо льдом;
третьи такой голубизны, что их глубина кажется
большей, чем на самом деле.
(В Сиракузах Киана замечательна именно этим.
Лазурный источник; укрытый водоем; вода расцве¬
тает на стеблях тростника; мы наклонялись над лодкой,
чтобы рассмотреть гравий, похожий на сапфиры, голу¬
бые рыбы проплывали мимо.
В Загване из Нимфеи текла вода, которая когда-то
поила Карфаген.
В Воклюзе вода появляется из-под земли в таком
изобилии, словно она текла давным-давно; это уже поч¬
ти река, берущая начало под землей; она течет среди пе¬
щер и пропитывается мраком ночи. Колеблющийся свет
факелов угнетает; потом становится так темно, что го¬
воришь себе: нет, я никогда не смогу двинуться дальше.)
Есть железистые источники, которые ярко окраши¬
вают скалы.
Есть сернистые, вода которых, зеленая и горячая,
поначалу кажется отравленной. Но, если в ней иску¬
246
паться, Натанаэль, кожа становится такой восхититель¬
но нежной, что к ней еще сладостней прикасаться.
Есть источники, над которыми по вечерам восходят
туманы; туманы, плывущие ночью и медленно рассеи¬
вающиеся по утрам.
Крохотные простенькие роднички, хиреющие среди
мхов и камышей.
Ручьи и реки, где стирают прачки и которые застав¬
ляют крутиться мельничные колеса.
Неистощимые запасы! Пульсация вод. Обилие воды
под покровом земли; тайные резервуары; сосуды без
стенок. Твердыня скалы будет взломана. Склоны гор
покроются кустарником; засушливые земли возрадуют¬
ся, и даже горькая пустыня расцветет.
Из земли бьет больше источников, чем наша жажда
может выпить.
- Воды непрестанно обновляются; небесные туманы
падают на землю.
Если на равнине воды не хватает, пусть равнина
идет пить в горы или пусть подземные каналы доставят
воду с гор на равнину. Чудесное орошение в Гренаде.
Резервуары; Нимфеи. Есть завораживающая красота в
источниках. Необычайное наслаждение окунуться в во¬
ду. Водоемы! Водоемы! Мы покидаем вас, очистив¬
шись.
Как солнце в утренней заре,
Луна в росе ночной —
Так в вашей влаге мы спешим
С себя усталость смыть.
Есть удивительная прелесть в родниках, и ключах, и
в воде, которая фильтруется под землей. Она предста¬
ет потом столь же чистой, как если бы текла через хру¬
сталь; пить ее — ни с чем несравнимое наслаждение:
она бесцветна, как воздух, прозрачна, как невидимка, и
не имеет вкуса; узнать ее можно лишь по необычайной
свежести, и в этом ее тайная сила. Натанаэль, понима¬
ешь ли ты, как велико может быть желание выпить ее?
247
А большей радости я никогда не знал,
Чем ощущенье утоленной жажды.
Теперь ты услышишь, Натанаэль,
ПЕСНЮ О МОЕЙ УТОЛЕННОЙ ЖАЖДЕ
Поскольку наши чаши были полны,
Тянулись губы, как для поцелуя;
И чаши полные пустели быстро.
А большей радости я никогда не знал,
Чем ощущенье утоленной жажды...
* * *
Напитки есть, которые готовят,
Лимонным соком приправляя вкус,
И апельсины выжав, и цитроны —
В них кислоты и сладости союз.
И это сочетанье освежает.
Я из бокалов пил, настолько тонких,
Что думалось, когда касались губ:
Расколется и не попав на зуб.
Но все напитки в них вкусней казались,—
Почти не разделяло нас стекло.
Мне из упругих кружек пить случалось,
Сожмешь ее слегка двумя руками —
И вверх к губам вино бежит само.
Пил в кабачках я из стаканов грубых
Тяжелое вино, день прошагав
Под раскаленным солнцем. Много раз
По вечерам мне силы возвращала
Холодная вода из родников.
Я воду пил из бурдюков, хранивших
Неистребимый запах козьих шкур.
248
Я жажду утолял, припав к ручью,
Куда в жару хотелось просто лечь.
Я руки в воду погружал до плеч,
На дне невольно гальку будоража...
И впитывал прохладу кожей всей.
А пастухов, что пили из горсти,
Я научил соломинкой пить воду.
Бывало, летом долгие часы
Я в зной шагал лишь прихоти в угоду —
Чтоб жажду ощутить и утолить.
Вы помните, мой друг, как ночью во время нашего
ужасного путешествия, вспотевшие, мы были разбуже¬
ны жаждой и пили из глиняного кувшина, охлажденную
им воду?
Водоемы, тайные колодцы, куда приходят женщи¬
ны. Вода, которая никогда не видела света; вкус тем¬
ноты. Хорошо аэрированная вода.
Вода, неправдоподобно прозрачная, в которую я хо¬
тел бы добавить синевы или лучше зелени, чтобы она
казалась мне еще холоднее,— и немного аниса.
А большей радости я никогда не знал,
Чем ощущенье утоленной жажды.
Нет, все эти звезды на небе, весь этот жемчуг в мо¬
ре, белые перья на берегу заливов,— я еще не все их пе¬
ресчитал.
Не пересчитал всех шепотов листвы; всех улыбок
зари; всего летнего смеха. И теперь что мне еще ска¬
зать? Если мои губы молчат, не думаете ли вы, что мое
сердце спит?
О поля, омытые лазурью!
О поля, пропитанные медом!
Пчелы прилетят, тяжелые от воска...
Я видел темные гавани, где рассвет прятался за ре¬
шетками рей и люгерных парусов; утром тайный отъезд
лодок, лавировавших между корпусами больших судов.
249
Приходилось наклоняться, чтобы проплыть под протя¬
нутыми канатами швартов.
Ночью я видел, как отплывали бесчисленные парус¬
ники, уходившие во тьму, уходившие навстречу утру.
Они не так блестят, как жемчужины; не так светят¬
ся, как вода; и все же камни дорог тоже умеют излу¬
чать свет. Мягкие импульсы света на мощеных дорогах,
которыми я проходил.
Но фосфоресценция, Натанаэль, ах, что сказать об
этом? Материя представляется мне бесконечно пори¬
стой, согласной со всеми законами, послушной, на¬
сквозь прозрачной. Ты не видел стены этого мусуль¬
манского города, багровеющие на закате, слабо осве¬
щенные ночью. Толстые стены, белые, как металл, сте¬
ны, куда днем изливается свет; в полдень он
накапливается в них, а ночью вам кажется, что они как
бы вспоминают, чуть слышно пересказывают его, этот
свет. Города, вы казались мне прозрачными! Видимые
с холма, там, в глубокой обволакивающей ночной тени,
вы светились, похожие на полые алебастровые лам¬
пы — символ верующего сердца,— светом, который за¬
полнял вас, как поры, и сияние которого проливалось
вокруг, как молоко.
Белые камни дорог в темноте; хранилища света. Бе¬
лый вереск в сумерках ланд; мраморные плиты мече¬
тей; цветы морских гротов — актинии... Вся белизна —
это сбереженный свет.
* * *
Я научился судить обо всех предметах по их способ¬
ности воспринимать свет; некоторые из них, днем по¬
бывавшие на солнце, представали передо мной потом,
ночью, словно соты, заполненные светом. Я видел во¬
ды, текущие в полдень по равнине, которые потом, по¬
пав в объятия непроницаемых скал, становились вдруг
залитыми богатством накопленной позолоты.
Но, Натанаэль, я хочу говорить с тобой здесь только
о вещественном — вовсе не о
250
НЕВИДИМОЙ КРАСОТЕ — ибо
...как те чудесные водоросли, вытащенные из воды,
тускнеют...
так и... и т. д.
— Бесконечное разнообразие пейзажа наглядно до¬
казывает, что мы еще не узнали всех форм счастья, раз¬
думий или печали, в которые они могли облечься. Я по¬
мню: иногда в детстве в ландах Бретани, когда я еще
бывал временами печален, моя грусть вдруг рассеива¬
лась, настолько она ощущала себя понятой и отражен¬
ной пейзажем — и таким образом как бы оказывалась
передо мной, и я мог, восхищенный, созерцать ее.
Вечная новизна.
Он сделал что-то очень простое, потом сказал:
— Я понял, что этого еще никто никогда не сделал,
не подумал и не сказал.— И вдруг все показалось мне
воистину первозданным. (Весь опыт человечества, це¬
ликом поглощенный настоящим моментом.)
20 июля, 2 часа утра
Подъем.— Бога нельзя заставлять долго ждать! —
восклицал я, умываясь; как бы рано ты ни встал, жизнь
всегда уже на ногах; раньше засыпая, она не позволяет
нам ждать ее.
Заря! Ты была нашей бесценной отрадой.
Весна — заря лета!
Весна каждого дня — заря!
Мы еще спали, когда взошла радуга...
...всегда недостаточно ранние для неё,
всегда недостаточно поздние,
как казалось луне...
Сны
Я знал полуденный летний сон, сон среди дня — по¬
сле работы, начатой слишком рано; утомленный сон.
Два часа.— Дети уложены. Приглушенная тишина.
251
Возможность музыки, которую нельзя реализовать. Запах
кретоновых занавесок. Гиацинтов и тюльпанов. Белья.
Пять часов.— Пробуждение в поту; сердцебиение;
озноб; пустота в голове; восприимчивость плоти; плоть
пориста, и кажется, что она заполняется слишком сла¬
достно всем, что вокруг. Низкое солнце; желтые лу¬
жайки; глаза, уставившиеся В остаток дня. О вино ве¬
черних размышлений! Раскрываются лепестки вечер¬
них цветов. Умыть лоб теплой водой; выйти... шпалеры
кустов и деревьев; сады за стенами, залитыми солнцем.
Дорога; скот, бредущий с пастбища; на закат смотреть
бесполезно — восхищение и так уже слишком велико.
Возвращение. К своей работе, к своей лампе.
* * *
Натанаэль, что мне рассказать тебе о постелях?
Я спал на мельничных жерновах; я укладывался в
борозду скошенного поля; я спал в траве под палящим
солнцем; в сенном амбаре ночью. Я подвешивал свой
гамак к веткам деревьев; я спал, качаясь на волнах;
улегшись на корабельном мостике; или на узенькой
койке в каюте напротив глупого глаза иллюминатора.
Бывали постели, на которых меня поджидали куртизан¬
ки; и другие, на которых я ждал мальчиков-подростков.
Были среди них постели, обитые тканью, настолько
мягкие, что они казались созданными, как и мое тело,
для любви. Я спал в палатках, на досках, где сон был
подобен смерти. Я спал в мчащихся вагонах, ни на миг
не переставая ощущать движение.
Натанаэль, бывают восхитительные приготовления
ко сну; и чудесные пробуждения, но не бывает восхи¬
тительного сна, и я люблю мечту только до тех пор, по¬
ка верю в ее реальность. Ибо самый прекрасный сон не
стоит мига пробуждения.
У меня вошло в привычку ложиться спать лицом к
широко открытому окну, как бы под открытым небом.
В слишком жаркие июльские ночи я спал совершенно
голый под лунным светом; меня будила предрассветная
252
песня дроздов; я целиком погружался в холодную воду,
гордый столь ранним началом дня. В Юре мое откры¬
тое окно оказалось над небольшой долиной, которая
вскоре покрылась снегом; и со своей кровати я видел
опушку леса; там летали вороны или вороны; ранним
утром стада будили меня своими колокольчиками; воз¬
ле моего дома был источник, куда пастухи водили скот
на водопой. Я вспоминаю все это.
Мне нравилось на постоялых дворах Бретани ка¬
саться шершавых свежевыстиранных простынь, кото¬
рые так хорошо пахли. В Бель-Иле я просыпался под
песни матросов, бежал к окну и видел удаляющиеся
барки, потом шел к морю.
Есть чудесные жилища; но ни в одном я не хотел
жить долго, боясь дверей, которые имеют обыкновение
захлопываться, как капканы; одиночных камер, кото¬
рые закрываются в нашем сознании. Кочевая жизнь —
это жизнь пастухов. (Натанаэль, я вложу в твои руки па¬
стушеский посох, и ты в свой черед станешь стеречь
моих овец. Я устал. Теперь твоя очередь отправляться в
путь; перед тобой открыты все края, и стада, которые
никогда не могут насытиться, снова блеют после каж¬
дого нового пастбища.)
Иногда, Натанаэль, меня привлекали странные жи¬
лища. Посреди леса или у кромки воды; одиноко сто¬
ящие. Но как только, в силу привычки, я переставал за¬
мечать их, восхищаться ими и как только начинал осоз¬
навать это — я уезжал.
(Я не могу объяснить тебе, Натанаэль, эту обострен¬
ную жажду новизны; но она вовсе не казалась мне свя¬
занной с мимолетным впечатлением, потерей свежести
восприятия, однако внезапное ощущение этой новизны,
первое потрясение бывало столь велико, что никакие
повторы не могли его усилить; и если мне случалось ча¬
сто возвращаться в одни и те же города или места, то
лишь затем, чтобы ощутить, как изменилась жизнь или
время года; знакомые очертания чувствительней к та¬
ким переменам; и если, живя в Алжире, я проводил
каждый вечер в одном и том же маленьком мавритан¬
ском кафе, то делал это, чтобы почувствовать неулови¬
253
мое отличие одного вечера от другого, каждого мгно¬
вения бытия от другого, чтобы заметить, как, пусть мед¬
ленно, меняется время даже в самом маленьком про¬
странстве.)
В Риме, возле Пинчо, через мое зарешеченное ок¬
но, похожее на тюремное и находившееся вровень с
улицей, торговки цветами пытались предлагать мне ро¬
зы; весь воздух был пропитан их ароматом. Во Флорен¬
ции я мог, не вставая из-за стола, видеть желтые, выхо¬
дящие из берегов воды Арно. На террасы Бискры при
свете луны в бездонной тишине ночи приходила Мери-
ем29. Она была вся целиком закутана в большое белое
покрывало с разрезами, которое сбрасывала, смеясь, на
пороге стеклянной двери. В моей комнате ее ожидали
лакомства. В Гренаде в моей комнате на камине место
подсвечников занимали два арбуза. В Севилье есть па¬
тио; дворики, вымощенные светлым мрамором, пол¬
ные тени и прохладной воды; воды, которая течет, стру¬
ится и плещется в фонтане посреди двора.
Толстая стена — от северного ветра, пористая — от
южного солнца; движущийся дом, путешественник, от¬
крытый всем милостям юга... Какой будет наша комна¬
та, Натанаэль? Убежище в пейзаже.
* * *
Я расскажу тебе еще об окнах: в Неаполе беседы на
балконах, мечтания по вечерам возле светлых женских
платьев; полуспущенные шторы отделяли нас от блестя¬
щего бального общества. Там бывал обмен колкостя¬
ми — деликатес столь малоприятный, что, отведав его,
человек на какое-то время терял дар речи; потом из са¬
да доносился нестерпимый аромат апельсиновых де¬
ревьев и пение птиц в летней ночи; через мгновение
птицы замолкали, и тогда слышался слабый шум волн.
Балконы; корзины роз и глициний; вечерний отдых;
нежность.
(Сегодня вечером ветер жалобно рыдает и плещет¬
ся о мое стекло; я стараюсь предпочесть его всему.)
254
* * *
Натанаэль, я расскажу тебе о городах.
Я видел Смирну, спавшую как маленькая девочка;
Неаполь, похожий на похотливую банщицу, и Загван,
разлегшийся, как кабильский пастух, чьи щеки розове¬
ют с приближением зари. Алжир дрожит от любви днем
и изнемогает от нее ночью.
Я видел на севере деревни, спавшие под лунным
светом; стены домов были то желтыми, то голубыми;
вокруг них простиралась равнина; в полях повсюду вид¬
нелись огромные стога сена. Выходишь в пустынное по¬
ле, возвращаешься в спящий город.
Есть города и города; иногда не понимаешь, кто мог
построить их здесь. О! Восточные и южные города; го¬
рода с плоскими крышами, белыми террасами, куда по
ночам приходят помечтать безумные женщины. Развле¬
чения; праздники любви; фонари на площадях, которые
представляются, когда смотришь на них с соседних хол¬
мов, ночной фосфоресценцией.
Города Востока! Праздник объятий; улицы, кото¬
рые там называют священными, где кафе переполне¬
ны куртизанками, которых заставляет танцевать че¬
ресчур пронзительная музыка. Там прогуливаются ара¬
бы, одетые в белое; и дети, которые часто казались
мне слишком юными (понимаешь?), чтобы познать лю¬
бовь. (Губы у некоторых были жарче, чем у только что
вылупившихся птенцов.)
Северные города! Дебаркадеры; заводы; города,
дым которых скрывает небо. Памятники; изменчивые
башни; высокомерие арок. Вереницы экипажей на до¬
рогах; спешащая толпа. Асфальт, лоснящийся после
дождя; бульвары, где томятся каштаны; всегда поджи¬
дающие вас женщины. Бывали ночи, настолько том¬
ные, что от малейшего призыва я чувствовал, что изне¬
могаю.
255
Одиннадцать часов.— Конец дня; резкий скрип же¬
лезных калиток. Старые кварталы. Ночью на пустын¬
ных улицах, где я прохожу, крысы разбегаются по сточ¬
ным канавам. Через подвальные окошки видно, как по¬
луголые люди месят хлеб.
— О кафе! — где наше безумие длилось до глубо¬
кой ночи; опьянение напитками и словами наступало
наконец на пороге сна. Кафе! Полные картин, зеркал,
роскоши, где бывала лишь изысканная публика; и дру¬
гие, маленькие, где пели смешные куплеты и женщи¬
ны во время танцев чересчур высоко поднимали свои
юбки.
В Италии кафе выплескивались летними вечерами
на площади, там ели прекрасное лимонное мороженое.
В Алжире было одно, где курили гашиш и где меня чуть
не убили; через год его закрыла полиция, потому что
там бывало слишком много подозрительных лиц.
Еще кафе... О мавританские кафе! — иногда поэт-
рассказчик развлекал там публику длинными история¬
ми; сколько ночей я провел в них, ничего не понимая,
только слушая. Но всем другим я предпочитаю тебя —
прибежище тишины и вечеров, маленькое кафе Баб-
эль-Дерба, глиняная лачуга на границе оазиса, за кото¬
рым начиналась пустыня — где я наблюдал, как после
задохнувшегося дня наступает величавая ночь. Рядом
со мной впадали в экстаз от монотонной игры флейти¬
ста.— И я мечтал о тебе, маленькая кофейня в Шира¬
зе, кофейня, прославленная Гафизом; Гафизом, пья¬
ным от вина, которое подливал ему виночерпий, и от
любви, безмолвным на террасе, где до него дотягива¬
лись розы, Гафизом, который рядом с виночерпием
ждет, слагая стихи, всю ночь ждет, когда наступит
день.
(Я хотел бы родиться в то время, когда поэт должен
был петь, просто перечисляя все, что есть вокруг. Мое
восхищение последовательно простиралось бы на каж¬
256
дый предмет, и хвала ему наглядно свидетельствовала
о том, что он существует. Это было бы достаточным до¬
казательством.)
Натанаэль, мы еще не рассмотрели с тобой листья.
Все изгибы листьев...
Древесная листва; зеленые гроты, просветы вхо¬
дов; глубины, перемещающиеся при малейшем дунове¬
нии; движение, водовороты веток; плавное качание;
чешуйки и ячейки...
Деревья, взволнованные каждое по-своему... это пото¬
му, что гибкость веток неодинакова, стало быть, различна
сила их сопротивления ветру, и ветер сообщает каждой
иной импульс и т. д. Перейдем к другому сюжету... Како¬
му? Поскольку нет композиции, нет нужды в выборе... Не¬
связанность! Натанаэль, несвязанность! — и благодаря
внезапной синхронной концентрации всех чувств исхит¬
риться сотворить (это трудно выразить) из ощущения соб¬
ственной внутренней жизни острое чувство соприкосно¬
вения со всем, что во вне... (или наоборот). Я есмь; здесь,
я закрываю эту брешь, где погружаются:
мой слух: в этот непрерывный шум — воды; поры¬
вистый — усиливающийся и ослабеваю¬
щий шум этого ветра в этих соснах; в
стрекот этих кузнечиков и т. д.
мое зрение: в солнечное сияние ручья; движение
этих сосен (вот те на — белка!)... моей
ноги, под которой прогнулся мох и т. д.
моя плоть: (ощущение) в эту влажность, в эту мяг¬
кость мха (ой, какая ветка меня уколо¬
ла?); мой лоб под моей рукой; моя рука
на моем лбу, и т. д.
мое обоняние: ...(Тс-с! Белка приближается) и т. д.
И все это вместе, и т. д., в маленьком свертке —
называется жизнь. И это все? Нет! Всегда есть еще
что-то.
257
Не думаешь ли ты теперь, что я — это всего лишь
место свидания чувств? Моя жизнь — всегда ЭТО плюс
я сам. В другой раз мы поговорим обо мне самом. Се¬
годня я не буду тебе петь ни
ПЕСНЮ О РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ РАЗУМА,
ни
ПЕСНЮ О ЛУЧШИХ ДРУЗЬЯХ,
ни
БАЛЛАДУ О ВСЕХ ВСТРЕЧАХ,
где среди других есть такие строки:
В Комо, в Лекко созрел виноград. Я поднялся на ог¬
ромный холм, где рушился старый замок. Запах вино¬
града там был так сладок, что я с трудом переносил
ею; он проникал, как вкус, в самую глубь ноздрей, и по¬
том, когда я ел этот виноград, я уже не сделал для се¬
бя никаких открытий. Однако я так хотел пить и
был так голоден, что нескольких гроздей оказалось до¬
статочно, чтобы я опьянел.
...Но в этой балладе речь шла в основном о мужчи¬
нах и женщинах, и если я не пересказываю ее тебе те¬
перь, то лишь потому, что не хочу в этой книге говорить
о личностях. Ибо, заметил ли ты, что в ней нет ни од¬
ного лица. И я сам, я в этой книге не более чем Образ.
Натанаэль, я страж башни, Линкей. Ночь длилась доста¬
точно долго. С высоты башни я так взывал к тебе, заря!
Вечно лучезарная заря!
Я до конца ночи сторожил надежду на новый день,
теперь я еще не вижу его, но надеюсь; я знаю, с какой
стороны рассветет.
Конечно, весь народ готовится: с высоты башни я
слышу гул на улицах. День родится! Люди, празднуя
это, уже движутся навстречу солнцу.
258
— Что ты говоришь из ночи? Что ты говоришь из но¬
чи, часовой?
—Я вижу подрастающее поколение и поколение,
которое уходит. Я вижу прекрасное растущее поколе¬
ние, растущее во всеоружии, во всеоружии радости
жизни.
— С высоты башни что ты видишь? Что ты видишь,
Линкей, брат мой?
—Увы, увы. Пусть плачет другой пророк; приходит
ночь, и день тоже.
Их ночь приходит, наш день тоже. И тот, кто хочет
спать, засыпает.
—Линкей! Спускайся теперь со своей башни. День
рождается. Спускайся вниз. Посмотри внимательней на
все, что есть на земле. Линкей, приходи, приблизься.
Вот он, день, и мы в него верим.
КНИГА СЕДЬМАЯ
Quid turn si fuscus Amyntas.
Virgile * 30
Морской переход. Февраль 1895
Отъезд из Марселя.
Неистовый ветер; ослепительный воздух. Раннее
тепло; качание мачт.
Прославленное море, украшенное султанами. Суд¬
но, освистанное волнами. Впечатление подавляющей
славы. Воспоминания обо всех предыдущих отъездах.
Морской переход
Сколько раз я ждал рассвета...
...на невозмутимом море...
и я видел рассвет, когда море бурлило.
Пот на висках. Слабость. Беспомощность.
Ночь на море
Море в ярости. Потоки воды на палубе. Хлопанье
винта...
О холодный пот страха!
Подушка под моей разбитой головой...
В этот вечер луна над палубой была полной и сияю¬
щей — но меня там не было, чтобы ее увидеть.
Ожидание нового шквала. Внезапный взрыв массы
воды; удушье; дурнота; новые приступы. Мое безразли¬
чие; что я здесь? Поплавок. Бедный поплавок на вол¬
нах.
* Неважно, что смуглый Аминт.
Вергилий (лат.).— Примеч. пер.
260
Уход в забытье от волн; наслаждение отрешенно¬
стью; быть вещью.
Конец ночи
Утром, чересчур прохладным, моют палубу морской
водой, которую достают ведрами; взбивание пены. Из
своей каюты я слышу скрип щеток на неровностях дре¬
весины. Сильные толчки. Я хотел открыть иллюмина¬
тор. Слишком резкий порыв морского ветра ударил мне
в лоб, влажные виски. Я попытался закрыть его... Кой¬
ка; упасть на нее. Ах, все эти чудовищные падения до
самого порта! Калейдоскоп отблесков на белой стене
каюты. Теснота.
Мои глаза, уставшие видеть...
Через соломинку я тяну холодный лимонад...
Проснуться потом на новой земле, как после выздо¬
ровления... Об этом нельзя было и мечтать.
Алжир
На берегу проснуться утром рано,
Всю ночь проспав под бормотанье волн.
Плато, где отдохнуть стремится холм,
Закат, где день беспамятствует пьяно.
И берег, где смиряется прибой,
И ночи, где любовь уснуть готова.
Ночь простирается, как рейд сторожевой,—
От света здесь скрываются дневного
И мысль, и птица, и последний луч.
И в зарослях здесь замирают тени,
Вода лугов, ключи и родники.
...А впереди — обратная дорога.
Спокойны реки — корабли в порту.
И на волнах притихших дремлет птица.
На якорь встала лодка вдалеке —
И вечер открывает рейд бескрайний
И дружелюбия и тишины.
Пора пришла — все на земле уснуло.
261
Март, 1895
Блида! Цветок Сахеля! Зимой лишенная благодати и
поблекшая, весной ты предстала передо мной прекрас¬
ной. Это было дождливое утро; небо серое, нежное и
грустное; запах твоих деревьев в цвету переполнял
длинные аллеи; струя воды в твоем спокойном водо¬
еме; издалека звук военной трубы.
Вот другой сад. Заброшенная роща, где под оливами
слабо светится мечеть. Священная роща! В это утро
здесь пытаются отдохнуть мои бесконечно усталые
мысли и моя плоть, изнуренная тревогами любви. Лиа¬
ны, увидев вас зимой, я не представлял, как чудесно ва¬
ше цветение. Лиловые глицинии среди колышущихся
веток, гроздья, похожие на свисающие кадильницы, и
лепестки, осыпающиеся на золотой песок аллеи. Шум
воды; влажный шум, плеск воды у края водоема, купы
сирени, заросли терновника, кусты роз. Прийти сюда
одному, и вспоминать о зиме, и чувствовать себя таким
усталым, что даже весна (увы) не радует; и даже хочет¬
ся большей суровости, ибо такая благодать, увы, манит
и зовет к одиночеству, и только желания, раболепная
свита, заполняют пустые аллеи. И, несмотря на шум во¬
ды в этом слишком спокойном водоеме, внимательная
тишина вокруг громко напоминает об отсутствующих.
* * *
Я знаю, есть ручей в священной роще.
Его вода прозрачно холодна,
Мне веки сможет освежить она,
Когда приду под вечер, и одна
На всей поляне будет тишина.
А воздух не к любви — ко сну лишь манит.
Источник чистоты, где дремлет ночь
И где забрезжит белизна под утро.
Быть может, там почувствую я вновь
Тот привкус у зари, что был когда-то,
В те времена еще, когда на мир
Смотрел я со счастливым изумленьем —
Когда омою влагой ледяной
Свои огнем пылающие веки.
262
Письмо Натанаэлю
Ты не представляешь, Натанаэль, во что может в
конце концов превратиться это поглощение света; и
чувственный экстаз, к которому ведет это долгое теп¬
ло... Оливковая ветвь* в небе, небо над холмами; мело¬
дия флейты на пороге кафе... Алжир показался мне та¬
ким жарким и праздничным, что я хотел уехать через
три дня; но в Блиде, где я укрылся, апельсиновые де¬
ревья были все в цвету.
Я выхожу утром, гуляю; ни на что не смотрю и все
вижу; во мне возникает и выстраивается чудесная сим¬
фония из впечатлений, которых не замечаешь. Прохо¬
дит время; мое волнение постепенно стихает, как за¬
медляется движение солнца, прошедшего зенит. Потом
я выбираю существо или предмет, которые меня при¬
влекают,— они обязательно должны быть в движении,
ибо мое ощущение, коль скоро оно зафиксировано, пе¬
рестает быть живым. Мне кажется тогда в каждое но¬
вое мгновение, что я еще ничего не видел, ничего не
пробовал. Я растворяюсь в беспорядочной погоне за
убегающими явлениями. Я бежал вчера на вершину
холмов, возвышающихся над Блидой, чтобы подольше
видеть солнце; чтобы видеть заходящее солнце и пыла¬
ющие облака, окрашивающие белые террасы. Меня по¬
ражает тень и тишь под деревьями; я брожу при свете
луны; мне часто кажется, что я плыву,— так обволаки¬
вает меня, так мягко приподнимает горячий и светя¬
щийся воздух.
...Я верю, что дорога, на которой я нахожусь,— моя
дорога, и я должен идти именно по ней. Я сохраняю
привычку к огромному доверию, которое можно было
бы назвать верой, если бы это было скреплено клятвой.
Бискра
Женщины ожидали на пороге домов; позади них
вились узкие лестницы. Они сидели тут, у дверей,
важные, раскрашенные, как идолы, надев на голову
диадемы из мелких монет. Ночью эта улица оживля¬
лась. Вдоль лестниц горели лампы; каждая женщина
263
сидела в нише света на своей лестничной клетке; их
лица оставались в тени блестящих золотых диадем; и
каждая, казалось, ждала меня, именно меня; чтобы
подняться к ним, нужно было прибавить золотые мо¬
нетки к диадеме; проходя, куртизанки гасили лампы;
войдя в ее тесные апартаменты, пили кофе из ма¬
леньких чашек, потом занимались любовью на низ¬
ких диванах.
В садах Бискры
Ты писал мне, Атман 31: «Я пасу стада под пальмами,
которые ждут вас. Возвращайтесь! Весна разбудит вет¬
ки: мы будем гулять и ни о чем не думать...»
—Тебе не придется больше, Атман, овечий пастух,
ждать меня под пальмами и смотреть, близко ли весна.
Я приехал; весна разбудила ветки, мы гуляем и ни о
чем не думаем.
В садах Бискры
День сегодня пасмурный; благоухающие мимозы.
Влажное тепло. Капли толстые или широкие, формиру¬
ющиеся в воздухе... Они задерживаются на листьях, отя¬
гощая их, потом падают с шумом.
...Я вспоминаю один летний дождь; но можно ли
это назвать дождем? Эти нежные капли, которые па¬
дали, такие большие и тяжелые, на этот пальмовый
сад, в этот свет, зеленый и розовый, такие тяжелые,
что листья и ветки крутились, как отвергнутый любов¬
ный дар из множества гирлянд крутится на воде.
Ручьи уносили вдаль пыльцу для оплодотворения, их
воды были мутными и желтыми. Рыбы млели в водо¬
емах. У самой воды было слышно, как хлопают ртами
карпы.
Перед дождем завывавший южный ветер хорошо
прокалил землю, и теперь аллеи переполнялись испа¬
рениями, мимозы склоняли ветки, словно укрывая ска¬
мейки, где творилось настоящее празднество.— Это
был сад наслаждений; и мужчины в одежде из белой
шерсти, и женщины в расписных покрывалах ждали,
чтобы их пропитала влага. Они, как и раньше, сидели
264
на скамейках, но все голоса замолкли, и каждый слу¬
шал, как ливень роняет капли, оставляя влагу — слу¬
чайную спутницу середины лета,— утяжелявшую тка¬
ни й омывавшую подставленные тела. Воздушные ис¬
парения, влажность листьев были столь велики, что я
остался сидеть на скамейке рядом с ними, не сопротив¬
ляясь чувству любви. И, когда дождь прошел и только
с веток стекали струйки воды, тогда каждый, сняв свои
туфли или сандалии, пощупал босыми ногами влажную
землю, мягкость которой создавала ощущение блажен¬
ства.
* * *
Войти в сад, где никого нет; двое детей в белой шер¬
стяной одежде сопровождают меня. Сад очень боль¬
шой, в глубине его открывается проход. Деревья высо¬
кие; небо, низкое, цепляется за верхушки. Стены. Це¬
лые деревни под дождем. А там — горы; нарождающи¬
еся ручьи; корм для растений; оплодотворение,
торжественное и приводящее в восторг, блуждающие
ароматы.
Занесенные ручьи; водостоки (листья, смешанные с
цветами), которые называют «оросительными канала¬
ми», потому что их воды тут медленные.
Бассейны Гафсы с опасными чарами: — Nocet
cantantibus umbra *32 — Ночь теперь безоблачная, глу¬
бокая, слегка туманная.
(Очень красивый ребенок, одетый в белую шерсть
на манер арабов, по имени Азус, что значит: возлюблен¬
ный. Другого зовут Уарди, что значит: рожденный во
время цветения роз.)
— И воды, теплые, как воздух,—
В них наши губы погрузились...
Темная вода, которая не была отчетливо видна, по¬
ка луна ее не посеребрила. Она казалась родившейся
среди листвы, и ночные звери рыскали тут.
* Тень мешает поющим (яат.).— Примеч. пер.
265
Бискра утром
Заря восходит, брызжет в воздух, целиком обнов¬
ленный.
Ветка олеандра будет дрожать в трепещущей руке.
Бискра вечером
На этом дереве пели птицы. Ах, они пели громче,
чем, как я думал, могут петь птицы. Казалось, что само
дерево кричит — что оно кричит всеми своими листья¬
ми,— потому что птиц не было видно. Я подумал: они
сейчас умрут, эта страсть слишком сильна; но что же
случилось с ними сегодня вечером? Неужели они не
знают, что вслед за ночью снова приходит утро? Мо¬
жет, они боятся заснуть навсегда? Или хотят исчерпать
всю свою любовь за один вечер? Как будто, если они за¬
молчат, наступит бесконечная ночь. Коротка ночь в
конце весны! Ах! Радость, что летняя заря разбудила их,
да так, что они и не вспомнят о своем сне до следую¬
щего вечера, испытывая чуть меньше страха умереть.
Бискра ночью
Молчаливые кусты; но пустыня вокруг дрожит от
любовных песен кузнечиков.
Шетма
Удлинившиеся дай. Растянуться тут. Листья смоков¬
ниц еще не свернулись; они пахнут, если помять их в ру¬
ках; их стволы сочатся млечным соком.
Усиливающаяся жара. Ах! Вот возвращается стадо
моих коз; я слышу флейту пастуха, который мне нра¬
вится. Подойдет ли он? Или я сам должен буду сделать
шаг навстречу ему?
Медлительность времени. Сухой прошлогодний гра¬
нат еще висит на ветке; он совсем растрескался и за¬
твердел; и на этой же самой ветке уже набухают новые
цветы. Горлицы снуют среди пальм. Пчелы усердству¬
ют на лугу.
(Я вспоминаю один колодец возле Энфиды, куда
приходили очень красивые женщины; неподалеку ог¬
266
ромная серая и розовая скала; на ее вершине, как
мне говорили, обитали пчелы; да, там гудел пчели¬
ный народ; ульи находились прямо в скале. Когда на¬
ступало лето, ульи таяли от жары, освобождая мед,
который медленно стекал по скале; мужчины Энфи-
ды собирали его.) Пастух, приди! (Я жую лист смо¬
ковницы.)
Лето! Золотой потек; щедрость; растущее сияние
света; огромное половодье любви! Кто хочет попробо¬
вать меда? Восковые ячейки растаяли.
Самое прекрасное, что я видел в этот день,— стадо
овец, которых вели обратно в хлев; перестук их малень¬
ких ножек был похож на шум ливня; солнце садилось
в пустыне, и они поднимали пыль.
* * *
Оазисы! Они всплывали в пустыне, как острова; зе¬
лень пальм вдалеке была обещанием воды, которая по¬
ила их корни; иногда источник бывал обильным, и там
цвели олеандры. В этот день, когда мы добрались туда
примерно часам к десяти, я поначалу отказывался дви¬
гаться дальше; очарование цветов в этих садах было так
велико, что я не желал их покидать. Оазисы! (Ахмет
сказал мне: следующий будет еще прекрасней.)
Оазисы! Следующий был еще прекрасней, еще бо¬
лее полон цветов и шелеста. Более высокие деревья
склонялись над более обильными водами. Был полдень.
Мы купались. Потом нужно было покинуть и его.
Оазисы! Что сказать о следующем? Он был еще бо¬
лее прекрасен, и там нас застал вечер.
Сады! Я не устану повторять, какой отрадой было ва¬
ше предвечернее затишье. Сады! Одни как бы омывали
267
тебя, другие были обычными фруктовыми садами, где
зрели абрикосы; в третьих, полных цветов и пчел, блуж¬
дали ароматы столь сильные, что они могли заменить
пищу, и мы хмелели от них, как от ликера.
Назавтра я любил только пустыню.
Умаги
В этот оазис, затерянный среди песка и камня, мы
пришли в полдень под таким палящим солнцем, что из¬
немогавшая деревушка совсем не ждала нас. Пальмы
не склонялись перед нами. Старики беседовали в двер¬
ных проемах; мужчины спали; дети щебетали в школе;
женщины... их не было видно.
Улицы этой деревушки, розовые днем, лиловые на
закате, пустынные в полдень, вы оживаете к вечеру;
тогда заполняются кафе, дети возвращаются из школы,
старики беседуют на пороге домов, лучи засыпают, и
женщины, вышедшие на террасы, раскрывшие лицо и
похожие на распустившиеся цветы, долго рассказыва¬
ют друг другу о своих огорчениях.
Эта алжирская улица к полудню наполнялась за¬
пахами анисовой и абсента. В мавританских кафе
Бискры пили только кофе, лимонад или чай. Араб¬
ский чай; пряная сладость; имбирь; питье, воскреша¬
ющее в памяти Восток в самых крайних, чрезмерных
его проявлениях,— и безвкусное; невозможно до¬
пить чашку до конца.
На площади Туггурта располагались торговцы благо¬
вониями. Мы безропотно покупали разные сорта. Од¬
ни — нюхают, другие — жуют, третьи — сжигают. Те,
которые нужно жечь, часто бывали в виде лепешек;
зажженные, они обильно распространяли едкий дым, к
которому примешивался тонкий аромат; этот дым спо¬
собствует религиозному экстазу, и именно такие ле¬
пешки жгут во время службы в мечетях. Те, которые
принято жевать, вскоре наполняли рот горечью и не¬
268
приятно липли к зубам; еще долго потом приходилось
отплевываться от этого привкуса. Те, которые нюхают,
просто нюхают.
У марабута33 из Темассина в конце обеда нам пред¬
ложили пироги с различными ароматами. Они были ук¬
рашены золотыми, серыми или розовыми лепестками
и казались сделанными из размягченного хлебного мя¬
киша. Они рассыпались во рту, как песок; но я находил
в них некую прелесть. Одни пахли розами, другие гра¬
натами, третьи, казалось, совсем выдохлись. При такой
еде опьянеть можно было только от ароматов. Блюда
приносили в удручающем количестве, и тема разгово¬
ра менялась с каждой переменой блюд. Затем негр
проливал на ваши пальцы душистую воду; вода стекала
в бассейн. И так же местные женщины омывают вас
после любви.
Туггурт
Арабы, разбившие лагерь на площади; зажженные
костры; дым, почти невидимый вечером.
Караваны! Караваны, прибывшие на закате; карава¬
ны, уходящие утром; караваны, смертельно уставшие,
захмелевшие от миражей и теперь отчаявшиеся. Кара¬
ваны! Зачем я не ушел с вами, караваны!
Одни из них отправлялись на восток за сандаловым
деревом и жемчугом, медовыми сотами из Багдада,
слоновой костью, кружевом.
Другие держали путь на юг за амброй и мускусом,
золотым песком и страусовыми перьями.
Третьи, отправлявшиеся вечером и пропадавшие из
виду в солнечном сиянии, шли на запад.
Я видел, как караваны возвращались, измученные;
верблюдов, упавших на колени на площадях; наконец-
то с них сняли груз. Это были мешки из толстого хол¬
ста, и никто не знал, что там может быть внутри. Дру¬
гие верблюды несли женщин, укрытых в нечто вроде
паланкинов. На третьих было все необходимое для па¬
латок, и их ставили по вечерам. О прекрасные тяготы,
269
огромные в бесконечной пустыне! На площадях зажи¬
гают костры для вечернего отдыха.
* * *
Ах, сколько раз, обратясь к рассвету и алеющему
востоку, более богатому лучами, чем слава, сколько раз
на границе оазиса, где чахли последние пальмы и жизнь
больше не побеждала пустыню, как бы склоняясь перед
этим источником света, уже слишком ослепительным и
нестерпимым для глаз, я тянул к тебе свои желания, or-
ромная равнина, вся целиком залитая светом. Тропиче¬
ская жара, какой восторг так пылок, какая неистовая
любовь так жгуча, чтобы победить жар пустыни?
Суровая земля; земля благодати и ласки, земля страда¬
ний и служения, земля, любимая пророками,— мучениче¬
ская пустыня, пустыня славы — я страстно тебя люблю.
Я видел на поверхности шоттов34, таящих миражи,
белую соляную корку, принявшую обличье воды. То,
что на ней отражается голубизна небес,— я понимаю —
шотты, голубеющие, как море,— но откуда заросли тро¬
стника и дальше — обрывистые сланцевые берега? От¬
куда эти видения плывущих лодок и дворцов за ними —
все эти слегка искаженные картины на воображаемой
глубине набегающей воды?
(Запах на берегу шотта был отвратительный, это был
ужасный мергель, смешанный с солью и обжигающий.)
Я видел, как розовели под косыми утренними луча¬
ми и казались горящими горы Омара Каду.
Я видел ветер, вздымавший на горизонте песок и за¬
ставлявший задыхаться оазис, который казался кораб¬
лем, содрогающимся от ужаса перед бурей; он весь был
изрыт ветром. И на улочках маленькой деревушки ве¬
ликая лихорадочная жажда скручивала бледных голых
людей.
270
Я видел вдоль скорбных дорог выбеленные скелеты
верблюдов, верблюдов, брошенных караванами, слишком
измученных, чтобы передвигаться; сначала они гнили, по¬
крытые мухами, распространяя ужасающее зловоние.
Я видел вечера, у которых не было других песен,
кроме пронзительного стрекотанья насекомых.
Я хочу еще говорить о пустыне.
Пустыня алжирского ковыля, полная ужей: зеленая
равнина, волнуемая ветром.
Каменная пустыня; засушливая; блестящий сланец;
порхающие скакуны; высохшие травы; все растрескива¬
ется от солнца.
Глинистая пустыня; здесь все может жить, если
только есть хоть немного воды. От дождя все зеле¬
неет; земля, слишком сухая, кажется отвыкшей от
улыбки; трава там кажется более нежной и более па¬
хучей, чем в других местах. Она спешит поскорее
расцвести, благоухать, боясь из-за солнца увянуть,
прежде чем успеет дождаться семян; ее любовь стре¬
мительна. Солнце снова принимается за работу; зем¬
ля трескается, рассыпается, теряя воду со всех сто¬
рон; земля страшно растрескавшаяся; во время лив¬
ней вся вода сливается в потоки. Земля, пренебрега¬
емая и бессильная удержать; земля, безнадежно
терзаемая жаждой.
Песчаная пустыня. Зыбучие пески, колышущиеся,
как морские волны; барханы, непрестанно перемещаю¬
щиеся; песчаные пирамиды иногда указывают путь ка¬
раванам; поднявшись на вершину одной, видишь на го¬
ризонте следующую.
Когда дует ветер, караван останавливается; погон¬
щики укрывают верблюдов от ветра.
271
Песчаная пустыня — необычная жизнь; в ней нет
ничего, кроме порывов ветра и зноя. Песок мягко сгла¬
живается в тени, разгорается вечером и превращается
в пепел утром. Между барханами есть ложбины, со¬
всем белые; мы пересекаем их верхом; песок смыкает¬
ся над нашими следами; от усталости у каждого нового
бархана думаешь, что не сможешь его преодолеть.
Я страстно любил тебя, песчаная пустыня. Ах! Пусть
самая маленькая твоя песчинка вберет на своем един¬
ственном месте всю вселенную!
— О какой жизни ты вспоминаешь, пылинка? От ка¬
кой любви ты осталась? Прах хочет, чтобы ему воздали
хвалу.
Скажи, душа, что ты видела в песках?
Белеющие кости — пустую скорлупу...
Утром мы остановились у одной довольно высокой
дюны, чтобы спрятаться от солнца. Сели. Тень была
почти прохладной, и здесь росли изящные тростники.
Но ночь, ночь... Что скажу тебе?
Это медленное плаванье.
Волны — менее голубые, чем пески; они были бо¬
лее освещены, чем небо. Я помню такой вечер, когда
каждая звезда, одна за другой, предстала передо мной
особенно прекрасной.
* * *
Саул, искавший в.пустыне своих ослиц35, ты нашел
не их, но царскую власть, которой не искал.
Удовольствие кормить собой вшей.
Жизнь была для меня
СТИХИЕЙ — СКОРОТЕЧНО-СЛАДОСТНОЙ,
и мне нравится, что счастье здесь
похоже на радужный налет на смерти.
КНИГА ВОСЬМАЯ
Наши поступки связаны с нами,
как свечение с фосфором; они со¬
здают наше сияние, это правда, но
лишь за счет нашего разрушения.
Разум, ты был необычайно пылким во время наших
баснословных прогулок.
Сердце! Я щедро питал тебя.
Плоть, я пресытил тебя любовью.
Теперь, успокоившись, я напрасно пытаюсь подсчи¬
тать свое богатство. У меня ничего нет.
Я ищу иногда в прошлом некий ряд воспоминаний,
чтобы выстроить наконец свою историю, но не узнаю в
них себя, и моя жизнь не укладывается в них. Мне сра¬
зу кажется, что живу все время в новое мгновение. То,
что называют «сосредоточиться» — для меня невоз¬
можное требование; я совсем не понимаю, что это за
слово: одиночество; быть одному для меня означает со¬
всем не быть собой; я слишком заселен, заполнен, к то¬
му же я чувствую, себя дома, только когда я повсюду, и
желание вечно гонит меня вперед. Самое прекрасное
воспоминание предстает передо мной лишь как оско¬
лок счастья. А самая маленькая капля влаги, будь это
слеза, стоит ей упасть мне на руку, становится для ме¬
ня самой подлинной реальностью.
* * *
Я мечтаю о тебе, Менальк!
Скажи, по каким морям плывет твой корабль, омы¬
тый пеной волн?
Не вернешься ли ты теперь, Менальк, развращен¬
ный роскошью, счастливый, чтобы снова разбудить
273
жажду у моих желаний. Если я даю себе теперь отдых,
то не от твоих щедрот... Нет, ты научил меня никогда
не отдыхать. А ты сам не устал еще от этой ужасной
бродячей жизни? Что касается меня, то иногда я мог
кричать от боли, но не от усталости; и когда мое тело
устает — это слабость, которую я осуждаю; мои жела¬
ния считали меня более стойким. Конечно, если я о
чем-то сожалею сегодня, то лишь о том, что позволил
вянуть, не вкусив от них, отдаляться от меня плодам, ко¬
торые ты послал мне, Бог любви, питающий нас. Ибо
то, чего ты лишаешься сегодня, завтра воздается тебе
стократ — сказано в Евангелии36... Ах! Что же мне бы¬
ло делать со всем обилием этих благ, воспринять кото¬
рое я уже не мог? Ибо я знал уже наслаждения столь
сильные, что еще немного, и я больше не смог бы их
вкушать.
Издалека дошли слухи, что я
принял покаяние... Но что бы я
стал делать с раскаянием?
Саади
Да, молодость моя, ты была мрачной.
Я решил тебя перекрасить.
Я не пробовал соль земли
И соль великих морей.
Я верил, что сам был солью земли,37
И боялся утратить свой вкус.
Соль морей не теряет своего вкуса; но мои губы
слишком состарились, чтобы чувствовать его. Ах! За¬
чем я не дышал морским ветром, когда моя душа его
алкала? Где же взять теперь такое вино, от которого я
опьянею?
Натанаэль! Иди навстречу своей радости, когда твоя
душа смеется,— и своему желанию, пока твои губы еще
хороши для поцелуя, а твои объятия — сама радость.
Ибо ты подумаешь и скажешь потом:
— Плоды были тут; под их тяжестью сгибались вет¬
ки; и мой рот был рядом, полный желания; — но он ос¬
274
тавался сжатым, и я не мог протянуть свои руки, ибо они
были сложены для молитвы — и моя душа и моя плоть
остались безнадежно жаждущими. Время безвозвратно
упущено.
(Возможно ли это? Возможно ли это, Суламита?
Чтобы ты ждала меня, а я ничего не знал!
Чтобы ты искала меня, а я не почувствовал, что ты
рядом?)
Ах, молодость! Ты дана человеку на краткий миг, и
всю оставшуюся жизнь он зовет тебя.
(Наслаждение стучит в мою дверь; желание отвеча¬
ет ему в моем сердце; я продолжаю стоять на коленях,
не открывая.)
Вода, которая сходит, может еще, конечно, оросить
поля, но множество губ уже не утолят ею свою жажду.
Однако что я могу знать о ней? Что она для меня, если
ее свежесть проходит? Иссушающая, когда она про¬
шла.
Неиссякающая свежесть рек, бесконечное струение
ручьев, вы не то, что пойманная капля воды, втиснутая
в трубы, которой я недавно смочил руки и которую вы¬
ливают потом, поскольку она утратила свою свежесть.
Пойманная вода похожа на человеческую мудрость, в
которой тоже нет неиссякающей свежести рек.
Бессонницы
Ожидания. Ожидания; лихорадка; ушедшее время
молодости. Жгучая жажда ко всему, которую вы назы¬
ваете грехом.
Собака жалобно воет на луну.
Кошка кажется пищащим младенцем.
Город наконец собирается хлебнуть немного покоя,
чтобы завтра обрести все свои обновленные надежды.
Я вспоминаю ушедшее время; босые ноги на плит¬
ках пола; я прижимаю лоб к мокрому железу балкона;
мое тело, освещенное луной, похоже на чудесный со¬
рванный плод... Перезревшие плоды! Мы ели вас, лишь
275
когда наша жажда была слишком сильной, и мы не мог¬
ли больше выдержать ее жара. Подгнившие плоды! Вы
наполняли мой рот безвкусной отравой, вы замутили
мою душу. Счастлив тот, кто еще молодым попробовал
вашу еще юную плоть и пил ваше молоко, пахнущее лю¬
бовью, не ожидая больше... чтобы потом бежать, осве¬
жившись, на дорогу, где мы окончим наши печальные
дни.
(Конечно, я делал что мог, чтобы воспрепятствовать
чудовищному разрушению своей души, но только за
счет изнурения чувств мне удалось отвратить ее от Бо¬
га; она была занята весь день и всю ночь; она изощря¬
лась в тяжких молитвах; она изнуряла себя усердием.)
Из какой могилы я вырвался в это утро? (Морские
птицы купаются, расправляя крылья.) Такая картина
жизни, Натанаэль, как раз для меня: плод, полный со¬
ка, на губах, полных желания.
Бывают ночи, когда невозможно заснуть.
Бывали иногда слишком большие ожидания — ожи¬
дания, часто неизвестно чего — на постели, где я тщет¬
но искал сна, с утомленными членами и словно осла¬
бевший от любви. И порой я искал за насаждением
плоти какое-то другое, более тайное наслаждение.
...Моя жажда росла час за часом, по мере того как
я пил. Под конец она стала такой жгучей, что я мог бы
заплакать от желания.
...Мои чувства были изношены до прозрачности, и,
когда я утром выходил в город, синь небес проникала в
меня.
...Зубы, которым страшно надоело откусывать кожу
моих губ, казались вконец сточенными. И впалые вис¬
ки, будто втянутые внутрь. Запах луковых полей в цве¬
ту легко мог вызвать у меня рвоту.
276
Бессонницы
...И ночью слышался голос, который кричал и пла¬
кал: ах, плакал он, вот плод от этих цветов, распростра¬
нявших зловоние: он сладок. Теперь я поведу по доро¬
гам смутную тоску своего желания. Твои закрытые
комнаты заставляют меня задыхаться, и твои постели
больше не нравятся мне. Впредь не ищи цели в своих
бесконечных скитаниях...
Моя жажда сделалась столь велика, что эта вода, це¬
лый стакан которой я уже выпил, ничего не заметив...
Увы! Как она была тошнотворна.
...О Суламита! Ты могла быть для меня этими плода¬
ми, созревшими в тени в тесных закрытых садах. Ах,
думал я, все человечество томится между жаждой сна
и жаждой наслаждения. После страшного напряжения,
жгучей концентрации, полета плоти хочется только
спать. Ах, сон! Ах, что, если нас не разбудят для жизни,
для нового прилива желаний.
И человечество, все целиком — всего лишь боль¬
ной, который ворочается в кровати, чтобы уменьшить
страдания.
...Потом, после нескольких недель напряженного
труда — бесконечный отдых.
...Как будто можно сохранить какую-то оболочку по¬
сле смерти! (Упрощение.) И мы умрем, как человек
раздевается перед сном.
Менальк! Менальк, я мечтаю о тебе!
Я говорил, да, я знаю: не все ли равно — здесь —
там — мне везде одинаково хорошо.
...Теперь там наступил вечер...
...О! Если бы время могло вернуться к своим исто¬
кам! Если бы вернулось прошлое! Натанаэль, я хотел бы
увести тебя за собой, к тем очаровательным часам
своей молодости, когда жизнь текла в моих жилах, как
мед. Вкусив такого счастья, душа, сможешь ли ты ког¬
277
да-нибудь утешиться? Ибо я был там, в этих садах, я, и
никто другой; я слушал пение тростника; я дышал эти¬
ми цветами, я видел, я прикасался к этому ребенку —
и, конечно, каждой из этих игр сопутствовала новая
весна — но тот, которым был я,— это другой, ах, как
мне вернуть его! (Теперь над городскими крышами
идет дождь; моя комната опустела.) Это время, когда
стада вернулись с Лассифа; они спустились с гор; жела¬
ние было полно закатного золота; вечерний покой... те¬
перь (теперь).
Париж — июньская ночь
Атман, я мечтал о тебе; Бискра, я мечтал о твоих
пальмах, Туггурт,— о твоих песках... Оазисы, волнует
ли еще засушливый ветер пустыни ваши шелестящие
пальмы?
Шетма, я вспоминаю свежесть твоих бегущих вод, и
твой горячий источник, возле которого парятся,-— Эль-
Кантара, золотой мост, я вспоминаю .твои звонкие утра
и восторженные вечера. Загван, я снова вижу твои смо¬
ковницы и олеандры; Кайруан,— твои опунции, Сус,—
твои оливы. Я мечтаю о твоей скорби, Умаш, разрушен¬
ный город, стены, окруженные болотом, и о твоей, уг¬
рюмая Дро, посещаемая орлами, ужасная деревушка,
хрипящая ложбина.
Вершина Шегги, смотришь ли ты, как всегда, на пу¬
стыню? Мрайер, купаешь ли ты свой хрупкий тамариск
в соленой воде шотта? Мегарин, хорошо ли ты поишь
себя грязной водой? Темассин, вянешь ли ты, как всег¬
да, на солнце?
Я вспоминаю голую скалу в окрестностях Энфиды,
по которой стекал мед; рядом был колодец, куда прихо¬
дили набрать воды очень красивые женщины, почти об¬
наженные.
Стоишь ли ты там, освещенный луной, малень¬
кий, всегда полуразрушенный дом Атмана,— где
твоя мать ткала; где твоя сестра, жена Амхура, пела
или рассказывала истории, где выводок горлиц ли¬
ковал по ночам совсем низко над серой и сонной во¬
дой?
278
О желание! Сколько ночей я не мог спать, захвачен¬
ный мечтой, которая заменяла мне сон. О, если есть
еще вечерние шорохи, звуки флейты под пальмами, бе¬
лые одежды на дорогах, мягкая тень по соседству со
жгучим светом... я иду!
Маленькая масляная лампа! Ночной ветер отклоня¬
ет твое пламя; окно исчезло; просто амбразура неба; ти¬
хая ночь над крышами домов; луна.
Слышно, как в глубине опустевших улиц иногда
проезжает омнибус или экипаж; и совсем вдали, поки¬
дая город, свистят поезда, убегающие поезда; огромный
город ждет пробуждения.
Тень от балкона на потолке комнаты, колеблющий¬
ся свет на белой странице книги. Дыхание.
Луна теперь скрылась; сад передо мной кажется зе¬
леным водоемом... Рыдание; сжатые губы; слишком
глубокие раздумья; тревоги мысли. Что мне сказать?
Правду! ДРУГОЙ! Значение его жизни; говорить с
ним...
Гимн вместо заключения
М. А. Ж.38
Она подняла глаза к нарождающимся звездам, «Я
знаю названия всех,— сказала она,— каждой из множе¬
ства; у всех разные свойства. Их движение, кажущееся
нам невозмутимым, на самом деле стремительно, а их
излучение — обжигающе. Беспокойное горение — при¬
чина их быстрого бега, а сияние — следствие этого.
Тайная воля подталкивает и направляет их; чрезмерное
рвение сжигает и разрушает; и все это во имя лучезар¬
ности и красоты.
Они держатся одна за другую, все, связанные уза¬
ми свойств и притяжения, так что одна зависит от
другой, а та, в свою очередь,— от остальных. Путь
каждой определен, и каждая находит свою дорогу.
Она не может отклониться от нее, не помешав при
этом другой, поскольку все дороги заняты. И каждая
279
выбирает свою дорогу, потому что она должна сле¬
довать по ней; но нужно, чтобы долг превратился в
желание, и эта дорога, которая кажется нам неиз¬
бежной, для каждой из них становится избранной,
ибо воля каждой из них совершенна. Ослепительная
любовь сопровождает их; их выбор определяет зако¬
ны, и мы тоже зависим от них; нам от них никуда не
скрыться».
Посылка
Натанаэль, теперь брось мою книгу. Освободись
от нее. Оставь меня; ты надоел мне; ты мне меша¬
ешь; любовь к тебе, которой я придавал чрезмерное
значение, слишком завладела мной. Я устал притво¬
ряться, что кого-то воспитываю. Разве я говорил,
что хотел видеть тебя похожим на меня? Я люблю
тебя именно за то, что ты не такой, как я; я люблю
в тебе только то, что отлично от меня. Воспитывать!
Кого я смогу воспитать, кроме самого себя? Да, зна¬
ешь ли, Натанаэль? Я непрерывно воспитываю себя.
Все время. Я ценю в себе только то, что мог бы сде¬
лать.
Натанаэль, брось мою книгу; не довольствуйся ею.
Не верь, что кто-то другой может найти твою правду;
стыдись итого больше всего. Если я найду для тебя пи¬
щу, у тебя пропадет аппетит, и ты не сможешь съесть
ее; если я приготовлю тебе постель, ты потеряешь сон
и не сможешь заснуть на ней.
Брось мою книгу; скажи себе, что в ней лишь од¬
на из тысяч возможных жизненных позиций. Ищи
свою. Никогда не делай того, что кто-то другой смог
бы сделать так же хорошо, как ты. Никогда не гово¬
ри и не пиши того, что кто-то другой смог бы ска¬
зать или написать так же хорошо, как ты. Берись
лишь за то, что, как ты чувствуешь, не сможет сде¬
лать никто, кроме тебя, и, терпеливо или нетерпели¬
во, делай себя самым неповторимым из всех созда¬
ний.
280
Предисловие к изданию 1927 года
Это руководство к освобождению, бегству, а меня
часто замыкают в его рамках. Пользуясь настоящим
переизданием, хочу предложить новым читателям ряд
размышлений, которые позволят сузить значение кни¬
ги, более точно определив ее место и ее мотивы.
1) «Яства земные» — это книга, написанная если
не больным, то по меньшей мере выздоравливающим,
находящимся на пути к исцелению, тем, кто был бо¬
лен. В самом ее лиризме есть некоторое преувеличение,
возникающее, когда человек рассматривает жизнь как
нечто, чего он едва не лишился.
2) Я написал эту книгу в тот момент, когда лите¬
ратура насквозь была пропитана затхлостью и фаль¬
шью; когда я почувствовал самым важным заново при¬
коснуться к земле и просто пройти по ней босиком.
Тотальный неуспех этой книги показал, до какой
степени она оскорбила тогдашний вкус. Ни один кри¬
тик ничего не сказал о ней. За десять лет было прода¬
но ровно пятьсот экземпляров.
3) Я написал эту книгу в тот момент, когда толь¬
ко что закрепил свою жизнь женитьбой, когда я добро¬
вольно отказался от свободы, право на которую моя
книга — произведение искусства — отстаивала преж¬
де всего. Разумеется, я был абсолютно искренним, ког¬
да ее писал, но столь же искренним было опровержение,
данное моим сердцем.
4) Добавлю, что я не намеревался останавливать¬
ся на этой книге. Состояние неустойчивости и пусто¬
ты, которое изображено в ней, я показал как автор,
отражающий черты своего характера в герое, кото¬
рый похож на него, но которого он придумал; сегодня
мне даже кажется, что я не мог изобразить эти чер¬
ты, не оторвав их, если так можно выразиться, от се¬
бя или, если хотите, не оторвав себя от них.
281
5) Обо мне судят обычно по этой юношеской книге,
как будто этика «Яств» — это этика всей моей, жиз¬
ни, как будто я сам первый не следовал совету, кото¬
рый я даю своему молодому читателю: «Брось мою кни¬
гу и оставь меня». Да, я очень скоро расстался с тем,
кем был, когда писал «Яства»; до такой степени, что,
когда я оглядываю свою жизнь, главная черта, которую
я в ней замечаю, весьма далека от непостоянства, на¬
против — это верность. По-моему, такая верность
сердца и мысли бывает чрезвычайно редко. Пусть на¬
зовут мне тех, кто при жизни смог увидеть свершив¬
шимся то, что намеревался совершить, и я займу свое
место рядом с ними.
6) Еще одно слово: некоторые не могут или не хо¬
тят увидеть в этой книге ничего, кроме восхваления
желаний и инстинктов. Мне кажется, что это слиш¬
ком поверхностный взгляд. Когда я перечитываю эту
книгу, то скорее вижу в ней апологию бедности. Имен¬
но это я извлек из нее, отбросив остальное, и именно
благодаря этому я остаюсь верным себе. Это же заста¬
вило меня, как я расскажу впоследствии, принять
Евангельскую доктрину, чтобы в отречении от себя об¬
рести самое совершенное свое воплощение, самое высо¬
кое призвание и самое безграничное обещание счастья.
«Пусть моя книга научит тебя интересоваться со¬
бой больше, нежели ею, но потом — всем остальным
больше, чем собой». Вот слова, которые ты мог уже
прочесть в предисловии и последних строках «Яств».
Зачем заставлять меня повторять их?
ПРОМЕТЕЙ
Полю-Алъберу Лорану1
Эту книгу я посвящаю тебе, до¬
рогой друг, потому что ты захотел
ее похвалить.
Пусть хотя бы те редкие читате¬
ли, которые тебе сродни, сумеют,
как ты, отыскать в этом снопе пле¬
вел зерна доброй пшеницы.
А. Ж.
В мае месяце 189... года, в два часа пополудни, про¬
хожие могли наблюдать следующую сцену, которая дол¬
жна была показаться им странной.
На бульваре, что ведет от Мадден к Опера, тучный
господин средних лет — о его возрасте, впрочем, ни¬
что не свидетельствовало, кроме дородности, какую
встречаешь нечасто,— столкнулся вплотную с худоща¬
вым господином, который, улыбаясь и, смеем надеять¬
ся, ни о чем дурном не помышляя, подал первому но¬
совой платок, тем только что выроненный. Тучный гос¬
подин без лишних фраз поблагодарил его и собирался
было продолжить свой путь, но, словно бы спохватив¬
шись, наклонился к худощавому и попросил его, види¬
мо, о какой-то справке, которую тот ему, вероятно, дал,
ибо тучный тотчас, вынув из кармана портативную чер¬
нильницу и перья, без обиняков протянул их худощаво¬
му вместе с конвертом, который держал до сих пор в
руке. И шедшие мимо люди могли увидеть, как худо¬
щавый господин надписывает на конверте адрес. Но
тут в истории сей начинаются странности, о которых,
однако, ни одна газета почему-то не упомянула: худо¬
щавый господин, возвративши владельцу перо и чер¬
нильницу, не успел в знак прощания ему улыбнуться,
как тучный господин вместо благодарности влепил
ему внезапно пощечину, вскочил в фиакр и был таков,
прежде чем кому-нибудь из привлеченных зрелищем
очевидцев (среди которых находился и я),— когда они
285
опомнились от неожиданности,— пришло в голову его
задержать.
Впоследствии я узнал, что тучным был Зевс, банкир.
Худощавый господин, явно смущенный знаками вни¬
мания, проявленного к нему публикой, уверял, несмот¬
ря на кровь, сочившуюся у него из носа и из рассечен¬
ной губы, что удара он почти не почувствовал. Он умо¬
лял оставить его в покое, и перед таким непонятным
упорством прохожие в конце концов отступили и разо¬
шлись. Мы надеемся, что читатель позволит нам боль¬
ше не заниматься сейчас таинственным незнакомцем, с
которым он еще не раз встретится в дальнейших главах.
ХРОНИКА ЧАСТНЫХ НРАВОВ
I
Я не буду говорить о нравах общественных, потому
что их не существует. Вот, кстати, любопытный расска¬
зец по этому поводу.
Когда на вершине Кавказа Прометей ошутил, что от
цепей, шипов, одежд, преград и угрызений он полно¬
стью одеревенел, то желая переменить позу, припод¬
нялся на левом боку, вытянул правую руку и между че¬
тырьмя и пятью часами осени спустился по бульвару,
что ведет от Мадлен к Опера.
Всевозможные парижские знаменитости одна за
другой промелькнули перед его глазами. «Куда они
идут?» — задал себе вопрос Прометей и, садясь за сто¬
лик в кафе перед кружкою пива, спросил: «Гарсон, ку¬
да они идут?»
История гарсона и Миглионера
— Если бы мсье, подобно мне, видел, как они еже¬
дневно проходят обратно,— сказал гарсон,— он с тем
же правом мог бы спросить, откуда они идут. Что, по¬
жалуй, одно и то же, поскольку они ежедневно прохо-
286
дат обратно. Я говорю себе: поскольку они проходят об¬
ратно, значит, они ничего не нашли. Я жду теперь, что
мсье меня спросит: «Что они ищут?» — ибо мсье увидит
сейчас, что я ему отвечу.
Тогда Прометей спросил:
— Что они ищут?
— Поскольку они там не остаются,— продолжил
гарсон,— значит, они ходят туда не за счастьем. Хоти¬
те, сударь, верьте, хотите нет,— гарсон подошел к Про¬
метею поближе и, слегка понизив голос, сказал: — Са¬
мих себя — вот что они ищут. Мсье, как я понимаю, не¬
здешний?
— Нездешний,— признал Прометей.
— Оно и заметно,— согласился гарсон.— Да, ищут
себя или, как мы говорим, ищут свою индивидуаль¬
ность. Вот, скажем (к примеру), я, каким вы сейчас мет
ня видите,— вы наверняка готовы поклясться, что я все¬
го-навсего гарсон из кафе. Но нет, сударь, нет: я здесь
по призванию. Хотите верьте, хотите нет, я живу напря¬
женной внутренней жизнью: я наблюдаю. Индивидуаль¬
ности, личности, только они для меня интересны; и по¬
том — взаимосвязи личностей. Здесь, в ресторане, все
очень остроумно устроено: столики здесь на троих; я
вам сейчас: объясню, как это делается. Ведь вы собира¬
етесь вскоре у нас пообедать, не так ли? Мы вас пред¬
ставим...
Прометей немного устал.
—Да, столики на троих,— продолжал гарсон,— это
именно то, что, на мой взгляд, удобней всего. Входят
трое господ; их представляют друг другу (естественно,
когда они сами об этом попросят), потому что в моем
ресторане, прежде чем сядешь обедать, надо назвать
свое имя; ну, и род своих занятий тоже назвать; если
клиенты меня обманут, уж тут ничего не поделаешь.
Потом все садятся за стол (разумеется, кроме меня),
начинают беседовать (тоже кроме меня) — но я нала¬
живаю взаимосвязи, слушаю, прощупываю, дирижи¬
рую разговором. К концу обеда мне досконально изве¬
стны три внутренних мира, три оригинальных лично¬
сти! Им — нет. Я, как вы понимаете, слушаю, что-то
287
им сообщаю, воздействую на них информацией. Вы
меня спросите, какую выгоду я получаю? О, никакой
ровным счетом! Моя природная склонность — завязы¬
вать связи между людьми... О, не ради себя... Это с
моей стороны, можно сказать, бескорыстный посту¬
пок.
Прометей казался немного усталым.
Гарсон между тем продолжал:
— Бескорыстный! Определение вам что-нибудь го¬
ворит? Мне слышится в нем нечто удивительное. Я дол¬
го считал, что бескорыстность поступков отличает че¬
ловека от прочих животных. Я называл человека жи¬
вотным, способным на бескорыстный поступок. Но по¬
том пришел к противоположному выводу: человек —
единственное существо, неспособное поступать беско¬
рыстно. Бескорыстно! подумайте только — без каких
бы то ни было оснований,— да, я вас понимаю,— луч¬
ше скажем так: без всякой причины... он не способен!
У меня это стало манией. Я постоянно спрашивал: поче¬
му он поступил так? Почему поступил этак? Но вовсе
не потому, что я детерминист... Вот, кстати, любопыт¬
ный рассказец по этому поводу.
У меня, сударь, есть друг, который, вы не поверите,
Миглионер. И к тому же умный человек. Он сказал се¬
бе: «Бескорыстный поступок? Как его совершить?» Вы¬
раженье сие отнюдь не следует трактовать как посту¬
пок, который вообще ничего не приносит, ибо без это¬
го... Нет, конечно. Бескорыстный — это поступок, ко¬
торый ничем не диктуется. Понимаете? Ни какой-либо
выгодой, ни каким-то пристрастием — ничем. Посту¬
пок вне интересов, сам по себе проистекший; посту¬
пок, лишенный какой-либо цели и потому лишенный
хозяина; свободный поступок; акт коренной, автохтон¬
ный.
—Ась? — произнес Прометей.
— Слушайте меня внимательно,— сказал гарсон.—
Мой друг выходит утром, имея в кармане пятисотфран¬
ковый банкнот и в руке готовенькую оплеуху.
Ему предстоит отыскать получателя, не выбирая
его. Итак, он роняет на улице носовой платок, и тому,
288
кто его подбирает с земли,— субъекту добросердечно¬
му, поскольку он его подбирает,— Миглионер гово¬
рит:
— Простите, сударь, а есть у вас знакомый?
Другой:
— Как же, есть, конечно, и даже не один.
Миглионер:
— В таком случае, сударь, вы, я надеюсь, не откаже¬
те мне в любезности написать знакомое имя вот тут на
конверте; вот вам перья, чернила, карандаш...
Тот, будучи мягкосердечным, пишет, после чего го¬
ворит:
—Теперь объясните мне, сударь...
Миглионер отвечает:
— Да просто из принципа,— после чего (я забыл
вам сказать, что он человек огромной физической си¬
лы) влепляет ему оплеуху, которую он держал нагото¬
ве в руке, подзывает фиакр и исчезает.
Понимаете? Два бескорыстных поступка одним уда¬
ром: пятисотфранковый банкнот, отправленный по ад¬
ресу, выбранному не им, и пощечина человеку, кото¬
рый сам себя выбрал, ибо подал ему оброненный пла¬
ток. Нет! разве все это действительно бескорыстно? А
взаимосвязи! Об заклад готов биться, что вы не вникли
достаточно глубоко в сущность возникших взаимосвя¬
зей. Ибо оттого, что поступок был бескорыстным, он
сделался «обратимым», так мы можем его поимено¬
вать. И стало быть, один получил за пощечину пятьсот
франков, другой получил пощечину за пятьсот фран¬
ков... и уже нельзя ничего понять... ты уже заблудился,
как в темном лесу. Сами посудите! бескорыстный по¬
ступок! В целом свете не существует ничего более раз¬
вращающего! Но мсье, я вижу, проголодался; прошу
меня простить; знаете, иногда позволяешь себе немно¬
жечко поболтать... Не соблаговолите ли, сударь, на¬
звать ваше имя — чтобы я мог представить вас сотра¬
пезникам?..
— Прометей,— сказал, не чинясь, Прометей.
— Прометей! Ведь я говорил, что мсье скорее всего
нездешний... и что же мсье делает?
289
— Ничего,— сказал Прометей.
— О нет! Нет,— возразил с мягкой улыбкой гар¬
сон.— Достаточно посмотреть на мсье, чтобы понять,
что он кое-что сделал.
— Очень, очень давно,— промямлил Прометей.
— Пусть так, пусть так,— не унимался гарсон.—
Впрочем, мсье может быть совершенно спокоен; когда
я представляю наших клиентов друг другу, я называю,
если они того пожелают, их имена, но род их занятий —
никогда. Ну, смелее; мсье делал...
— Спички,— пробормотал, краснея, Прометей.
Наступила неловкая пауза, ибо до гарсона дошло,
что вряд ли он должен был так уж настаивать, а до Про¬
метея, что вряд ли он должен был ему отвечать.
— Ну-ну, в конце концов, мсье их больше не дела¬
ет,— сказал гарсон утешающим тоном.— Как же нам
тогда поступить? Мне обязательно нужно здесь что-
то проставить, я не могу написать «Прометей» и этим
ограничиться. У мсье, верно, есть в руках какое-ни¬
будь ремесло... В конце концов, что умеет мсье де¬
лать?
— Ничего,— опять принялся за свое Прометей.
— Напишем тогда «литератор». Теперь, если бы
мсье был так любезен и зашел в зал... обслуживать на
улице я не могу... Один столик на три персоны! Один! —
крикнул он.
В две двери вошли двое господ. Они назвали гарсо¬
ну свои имена; но, поскольку никаких других церемо¬
ний от них никто не потребовал, оба не мешкая сели за
стол.
И когда они сели,
II
— Господа,— сказал один,— если принять во вни¬
мание, что в этом ресторане кормят из рук вон плохо,
я пришел сюда лишь затем, чтобы вволю наговориться.
Есть в одиночестве я терпеть не могу, и система столи¬
ков на три персоны мне очень нравится, ибо за трапе¬
зой с кем-то вдвоем ты рискуешь ввязаться в ненуж¬
290
ную ссору... Но вы, как я вижу, не слишком-то разго¬
ворчивы?
— Это у меня ненамеренно,— сказал Прометей.
—Я могу продолжать?
— Конечно, прошу вас.
— Таким образом, я полагаю, что за тот час, кото¬
рый три незнакомца проводят за совместной едой, они
вполне успевают друг перед другом открыться — при
условии, что они не станут чересчур много есть (это ус¬
ловие соблюсти здесь нетрудно), будут в речах своих
немногословны и постараются избегать общих мест; я
имею в виду, что они неукоснительно будут рассказы¬
вать только о том, что имеет отношение к ним са¬
мим,— и ни о чем другом больше. Я не берусь утверж¬
дать, что такая беседа для вас необходима, но если она
вам не по душе, тогда позволительно будет спросить,
зачем вы пришли в этот ресторан — ведь тут скверно
кормят?
Прометей ужасно устал; наклонившись к нему, гар¬
сон шепнул:
— Это Кокл. А тот, кто будет сейчас говорить,— Да¬
мокл2.
Дамокл сказал:
История Дамокла
— Ежели бы вы, сударь, сказали мне это месяцем
раньше, я ничего бы не смог вам ответить; но после то¬
го, что за этот месяц со мной приключилось, все мои
прежние мысли развеялись без следа. И я бы не стал о
них, прежних, вам теперь говорить, однако их знание, я
уверен, вам поможет понять, насколько все то, что со
мною произошло, разительно противоречит моему при¬
вычному образу мыслей. Ну так вот, господа, прошло
уже тридцать дней, как я чувствую себя существом не¬
обычным и странным, на чью долю выпал небывалый
удел. Итак, господа, мои слова позволяют вам заклю¬
чить, что раньше я чувствовал нечто совершенно обрат¬
ное. Я вел обыкновенную спокойную жизнь и почитал
291
своим долгом следовать правилу — во всем походить
на самого заурядного человека. Разумеется, теперь-то я
признаю, что заурядного человека в природе не суще¬
ствует, и утверждаю, что пытаться быть похожим на
всех — пустая затея, поскольку все это множество лиц
состоит из отдельных людей, каждый из которых ни на
кого не похож. Тем не менее я изощрялся как мог, про¬
изводил статистические выкладки, вычислял, какова
она, золотая середина,— не понимая, что крайности
сходятся и что тот, кто ложится за полночь спать, не¬
пременно встречается с тем, кто встает спозаранку, а
тот, кто выбрал для себя седалище посередке, рискует
оказаться между двух стульев.
Я ежедневно ложился в десять часов. И спал восемь
часов с половиной. Я старался в каждом поступке как
можно точней подражать самым обычным и заурядным
человеческим жестам, и в каждой из своих мыслей пе¬
ренимать и делать свои самые расхожие мнения. И про¬
должал с превеликим упрямством настаивать на своем.
Но однажды утром мне на долю выпало приключе¬
ние, я бы сказал, персональное. Значение подобного
приключения в жизни человека уравновешенного мо¬
жет быть понято лишь впоследствии.
Ill
Итак, в одно прекрасное утро я вдруг получаю, пред¬
ставьте себе, письмо. Судя по тому, господа, что ваши
лица не выразили удивления, я вижу, что плохо излагаю
свою историю. Начать ее мне следовало с того, что ни¬
каких писем я не ждал. Я получаю письма три раза в
год: одно — от моего домовладельца, объявляющего
мне, что наступает срок платежа; одно — от моего бан¬
кира, извещающего меня, что я в состоянии произвести
эту выплату; одно, первого января... от... я бы предпо¬
чел умолчать от кого. Адрес был написан незнакомой
рукой. По единодушному мнению графологов, к кото¬
рым я позже обратился с консультацией, в этом почер¬
ке напрочь отсутствовали любые признаки, которые
292
могли бы сказать о свойствах характера его обладате¬
ля, что лишало меня всякой возможности что-либо вы¬
яснить. Специалисты не смогли ничего обнаружить,
кроме указания на безмерную доброту; другие увидели
в нем скорее слабость характера. Сказать что-либо точ¬
нее они не смогли. Почерк... заметьте, я говорю о по¬
черке на конверте, ибо внутри конверта не было и сле¬
да какого-либо почерка; да-да, не было и следа — ни
единой строки, ни единого слова. В конверте лежал
только пятисотфранковый банкнот.
Я собирался выпить свой утренний шоколад, но так
удивился, что позволил напитку остыть. Я перебирал
все возможные варианты... Мне никто не был должен.
У меня постоянные доходы, господа, и своими неболь¬
шими ежегодными сбережениями я почти компенси¬
рую постоянное падение ренты. Я ничего ниоткуда не
ждал,— впрочем, это я уже говорил вам. Я ни у кого ни¬
чего не просил. Привычка к упорядоченной и размерен¬
ной жизни мешала мне даже чего-то желать. Я долго
размышлял по самому лучшему методу: cur, uncle, quo,
qua?3 (Откуда, куда, каким путем, почему?) И лежав¬
ший в конверте банкнот не дал мне ответа ни на один
из моих вопросов — во всяком случае, когда я допра¬
шивал его в первый раз.
Я думал: вероятно, это ошибка; мне надо найти воз¬
можность ее исправить. Сумма предназначалась кому-
то другому, кто носит то же имя, что и я. Я взял адрес¬
ную книгу, надеясь найти человека, который, возмож¬
но, ждет с нетерпением этих денег. Но мое имя теперь
мало кто носит; перелистав толстенный том, я убедил¬
ся, что, кроме меня, других Дамоклов в нем нет. Я по¬
думал было, что, обратившись к надписи на конверте, я
все же смогу кое-что выяснить и за неимением получа¬
теля отыщу отправителя. Тогда-то я и решил прибегнуть
к помощи графологов. Но и они не смогли мне ни¬
чем — абсолютно ничем помочь; я добился только то¬
го, что моя досада еще больше усилилась. Пятьсот
франков давили на меня все тяжелее; я очень хотел от
них отделаться и не знал, как мне следует поступить.
Ибо в конце концов... Если деньги мне присланы кем-
293
то не по ошибке, тогда этот некто, по крайней мере, за¬
служивает моей благодарности. Я был благодарен — но
кому?
В надежде на новую случайность, которая избавит
меня от моих затруднений, я ношу банкнот при себе. Ни
днем, ни ночью я не расстаюсь с ним. Я всей душой ему
предан. Раньше я был человеком хотя и вполне зауряд¬
ным, но свободным. Теперь я принадлежу банкноту.
Приключение определило мой статус, я был ничем, те¬
перь я — нечто.
После того что со мной приключилось, дома мне
уже не сидится; я ищу, с кем бы мне побеседовать, и
если, желая поесть, частенько заглядываю в сей ресто¬
ран, то делаю это потому, что столики здесь накрыва¬
ют на троих, и я все надеюсь, что в один прекрасный
день вдруг набреду на кого-то, кому знаком этот по¬
черк...
В завершение своих слов Дамокл тяжело вздохнул
и вытащил из своего редингота замызганный и пожел¬
тевший конверт. На нем значилось его имя, написанное
полностью, без сокращений, ничем не примечательным
почерком. И тут произошло нечто странное: Кокл, до
сих пор хранивший молчание и продолжавший его хра¬
нить,— неожиданно замахнулся на Дамокла, и гарсон
еле-еле успел перехватить на лету его длань. Благодаря
чему Кокл сумел взять себя в руки и с грустью произ¬
нести слова, смысл которых будет понятен только по¬
зднее:
— Впрочем, оно и лучше, ибо, возврати я вам эту по¬
щечину, вы бы сочли своим долгом возвратить мне бан¬
кнот, а он... он мне не принадлежит.— И, поскольку Да¬
мокл, очевидно, ждал объяснений, добавил, показав на
конверт: — Это я написал ваш адрес.
— Но откуда вы знаете мое имя? — спросил Да¬
мокл, который, казалось, встретил в штыки неожидан¬
ный поворот застольной беседы.
— Чисто случайно,— мягко ответствовал Кокл,— к
тому же эта деталь вряд ли существенна в вашей исто¬
рии. Моя история представляется мне еще более стран¬
ной, чем ваша; разрешите мне вкратце ее изложить.
294
История Кокла
Мало, что мне знакомо здесь, на земле, и, преж¬
де чем произошло то, о чем я хочу вам поведать, я
знал, что почти никого не знаю. Мне было неизвест¬
но, кто меня произвел на свет, и я долго продолжал
искать разумный довод, ради которого мне стоило
бы продолжать свою жизнь. Я вышел на улицу, наде¬
ясь, что искомый довод явится ко мне извне. Я пола¬
гал, что первая встреча должна определить мою
судьбу; ведь не сам же я себя сотворил, так далеко
мое самомнение не простиралось. Я знал, что пер¬
вым же своим поступком дам новый стимул собст¬
венному существованию. Этим поступком,— разуме¬
ется, поступком хорошим, об этом я уже упоми¬
нал,— явилось вот что: я подобрал с земли носовой
платок. Тот, кто его обронил, не успел пройти и трех
шагов, как я его догнал и отдал ему платок. Он его
принял, даже не удивившись; удивился не он, удивил¬
ся я, когда увидел, что он протягивает мне конверт,
этот самый конверт.
— Не будете ли вы так любезны,— сказал он с улыб¬
кой,— написать на нем адрес?
— Чей? — спросил я.
— Чей-нибудь,— сказал он.
С этими словами он предоставил мне все, что требу¬
ется для написания адреса. Поскольку я желал одно¬
го — никоим образом не отвлекаться от внешней моти¬
вации своих действий,— я подчинился. Но, как я уже
вам сказал, я почти никого не знаю здесь, на земле.
Имя, которое я написал и которое непонятно, как при¬
шло мне в голову, было мне незнакомым. Выполнив
просьбу и посчитав себя свободным, я поклонился не¬
знакомцу и решил удалиться — и вдруг получил чудо¬
вищную оплеуху.
Я был так изумлен, что даже не заметил, куда девал¬
ся мой оскорбитель. Когда я пришел в себя, оказалось,
что меня обступила толпа любопытных. Все наперебой
что-то мне говорили. Кто-то, вцепившись в меня, непре¬
менно желал проводить меня до соседней аптеки. Что-
295
бы от них отвязаться, мне пришлось заявить, что со
мной все в порядке, хотя из носу у меня лилась кровь и
ужасно болела разбитая челюсть.
Щеку мою так разнесло, что всю неделю я не выхо¬
дил из комнаты.
Эту неделю я провел в размышлениях.
Почему он влепил мне пощечину?
Вероятней всего, по ошибке. С чего бы ему было на
меня рассердиться?
Я никому не причинил зла; никто не может таить
зло на меня; зло — это такая штука, которую люди всег¬
да возвращают друг другу.
«А если это сделано не по ошибке,— думал я, ибо
впервые в жизни я думал,— если эта оплеуха предназ¬
начена именно мне! Впрочем,— тут же добавлял я,—
какая разница, по ошибке или не по ошибке! — я ее по¬
лучил, и... и я ее возвращу?» Я вам уже говорил, по
своей природе я добр; и потом, меня смущала еще одна
вещь: тот, кто влепил мне пощечину, был гораздо силь¬
нее меня.
Когда щека у меня перестала болеть и я смог нако¬
нец выйти на улицу, я решил, что отправлюсь на поиски
своего оскорбителя; да, отправлюсь на поиски, но ради
того, чтобы уклониться от встречи с ним. Впрочем, я и
не встречу его, и, если мне выпадает жребий уклонить¬
ся от встречи я, никогда о том не узнаю.
— Но видите,— и,-говоря это, он наклонился к Про¬
метею,— видите, как все сегодня сцепляется и прико¬
вывается одно к другому, как все усложняется, вместо
того чтобы разъясниться. Я узнаю, что, благодаря моей
оплеухе, мсье получил пятьсот франков...
— О, позвольте! — сказал Дамокл.
— Я Кокл, сударь,— сказал он, поклонившись Да¬
моклу,— Кокл! и я называю вам, Дамокл, свое имя, уве¬
ренный в том, что вы будете радй узнать, кому вы обя¬
заны своею неожиданной удачей...
— Но...
— Да. Вы правы: не будем говорить кому. Скажем
296
лучше: чьим страданиям... Ибо знайте и постарайтесь
никогда не забыть, что ваше богатство взошло на моем
несчастье...
— Но...
— Прошу вас, не придирайтесь к мелочам. Между
вашей удачей и моею бедой существует явная связь; я
не знаю какая, но какая-то связь существует...
— Но, сударь...
— Не говорите мне «сударь».
— Но, дорогой Кокл...
— Говорите мне просто — Кокл.
— Но я еще раз говорю: мой добрый Кокл...
— Нет, сударь,— нет, Дамокл,— вы можете гово¬
рить что угодно, ибо я еще ношу на щеке след пощечи¬
ны... этот шрам я вам сейчас предъявлю.
Разговор переходил на личности и принимал крайне
неприятную окраску. Тутто и обнаружил себя поразитель¬
ный такт гарсона.
IV
Ловким маневром опрокинув полную тарелку на
Прометея, он мгновенно переключил на него внимание
обоих его сотрапезников. Прометей вскрикнул от нео¬
жиданности, и его голос после двух других голосов про¬
звучал на редкость весомо, и оба соседа незамедлитель¬
но поняли, что до сих пор этот голос в застолье безмол¬
вствовал.
Два раздраженья — Дамокла и Кокла — объедини¬
лись в одно.
— Но вы ничего не говорите! — вскричали они,
Прометей говорит
—То, что я мог бы сказать, господа, имеет настоль¬
ко косвенное отношение... Я даже не знаю, как мне... И
даже, чем больше я размышляю об этом... Нет, право, я
бы не смог ничего вам сказать. Каждый из вас имеет
свою историю; я ж своей не имею. Извините меня. По¬
297
верьте, я бы с искренним удовольствием желал пове¬
дать каждому из вас о приключении, которое я бы хо¬
тел... мочь... Но я даже не могу изъясниться свободно.
Нет, право, дорогие мои господа, я нахожусь в Париже
каких-нибудь два часа, не больше. Со мной ничего еще
не могло произойти — кроме неоценимой встречи с ва¬
ми, которая позволила мне ощутить, какой может стать
парижская беседа, когда умные люди...
— Но, до того, как приехать сюда...— сказал Кокл.
— В... вы где-то были,— закончил Дамокл.
—Да, в этом я должен сознаться,— сказал Проме¬
тей,— ...но, повторю еще раз, это не имеет ровно ника¬
кого отношения...
— Неважно,— сказал Кокл,— мы пришли сюда по¬
беседовать. Мы оба, Дамокл и я, свои истории на стол
уже выложили; лишь вы не внесли никакого вклада в
беседу; это несправедливо. Пора и вам говорить, госпо¬
дин...
Обладая обостренной тактичностью, гарсон почувст¬
вовал, что пришло время их познакомить, и ввернул не¬
навязчиво имя, словно завершая предыдущую фразу:
— Прометей.
— Прометей,— подхватил Дамокл.— Извините ме¬
ня, сударь, но мне кажется, что это имя я уже...
— О,— с живостью прервал его Прометей,— это не
имеет ровно никакого значения!
— Но если ничто не имеет для вас никакого значе¬
ния,— рассердились двое других,— зачем же вы сюда
пришли, дорогой господин... господин?..
— Прометей,— спокойно повторил Прометей.
—Дорогой господин Прометей,— ибо, в конце кон¬
цов, я недавно это отметил,— продолжил Кокл,— сей
ресторан побуждает людей к разговору, и к тому же я
ни за что не поверю, что диковинное имя, которое вы
носите,— это единственное, что отличает вас от других;
если вы ничего еще не свершили, значит, вы собирае¬
тесь что-то свершить; на какие свершения вы способны?
Покажите нам вашу отличительную черту; обладаете
ли вы чем-то таким, чего никто другой не имеет? Поче¬
му вас зовут Прометеем?
298
Под этой лавиной вопросов Прометей опустил голову
и ответил кротко, но еще более серьезным и значитель¬
ным тоном, нежели прежде, хотя и немного смущенно:
— Чем я обладаю? У меня... ах, у меня есть орел, гос¬
пода!
— Что-что?
— Орел — или, может быть, гриф... точнее сказать
не берусь.
— Орёл! Отличная штука — орел!.. Где же он?
— Значит, вы бы хотели его увидеть? — спросил
Прометей.
—Да,— сказали они,— если это не будет нескром¬
ным с нашей стороны.
Тогда, видимо забыв, где он находится, Прометей
вдруг встал и издал пронзительный крик, громкий зов,
обращенный к огромной птице. И тут произошло нечто
такое, что заставило всех вокруг буквально остолбенеть:
История орла
Птица, которая издали представлялась огромной, а
при более близком знакомстве не такой уж большой, на
мгновенье затмила над бульваром небо, вихрем обру¬
шилась на кафе, расколола витрину, ударом крыла вы¬
била Коклу глаз и с утробным клекотом, ласковым и
вместе с тем повелительным, села на правый бок Про¬
метея.
И Прометей тотчас расстегнул жилет и предложил
кусок своей печени птице.
V
В кафе поднялся страшный шум.
Никто никого не слушал, каждый бубнил свое; к то¬
му же в кафе хлынула с бульвара пришлая публика.
— Осторожней, пожалуйста! — сказал Кокл.
Его возражение утонуло в гуле голосов, который
еще больше усилился:
299
— Ну и ну! подумать только, орел!!! — да вы только
гляньте на эту бедную ощипанную птицу! Ну и ну!.,
орел! Только подумать!!! Постыдились бы!
Дело в том, что орел в самом деле вызывал состра¬
дание: отощавший, помятый, он возбужденно бил
крыльями, и, глядя, с какой жадностью набрасывается
он на свою скорбную пишу, можно было подумать, что
он трое суток не ел.
Другие, однако же, рассыпались мелким бесом и ти¬
хонько нашептывали Прометею: «Да не верьте вы, су¬
дарь, будто этот орел просто так, сам по себе выделяет
вас из толпы. В сущности, орел... могу ли я вам в этом
признаться?.. У всех у нас имеется свой орел».
— Но,— говорил один...
— Но мы не носим его в Париже,— подхватывал
другой.— В Париже орлов не носят. Орел сковывает.
Поглядите-ка, что ваш творит! Если вам нравится кор¬
мить его собственной печенью,— дело ваше, пожалуй¬
ста; но я вас уверяю, что для тех, кто видит такое, это
зрелище тягостно. Когда вы это делаете, прячьтесь от
посторонних глаз.
И сконфуженный Прометей бормотал:
— Извините меня, господа, о, я весьма огорчен! Что
же мне теперь делать?
— Прежде чем идти в ресторан, избавиться от орла.
— Задушить,— советовали одни.
— Продать,— говорили другие.— Газетные киоски,
сударь, только для этого и существуют,
И во всеобщей сутолоке никто не заметил, как Да¬
мокл неожиданно попросил у гарсона счет.
Гарсон подал ему нижеследующую бумагу:
Три полных обеда с разговором 30 фр.
Витринное стекло 450 фр.
Стеклянный глаз для Кокла 3,50 фр.
— ...а сдачу оставьте себе,— сказал Дамокл, сунув
гарсону пресловутый банкнот. И с облегченьем сбе¬
жал.
Конец этой главы уже не так интересен. Ресторан
300
постепенно опустел. Напрасно Прометей и Кокл пыта¬
лись, в свою очередь, расплатиться — Дамокл за все уп¬
латил.
Прометей попрощался с гарсоном и Коклом и, не¬
торопливо возвращаясь к себе на Кавказ, размышлял:
«Продать орла? Удушить?.. А может быть, приру¬
чить?..»
ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОМЕТЕЯ
I
Через несколько дней по дружескому доносу гарсо¬
на Прометей оказался в тюрьме за изготовление спичек
без соответствующего патента.
Из тюрьмы, которая была отрезана от всего осталь¬
ного мира, узник видел лишь небо; снаружи тюрьма име¬
ла вид башни, и внутри этой башни скучал Прометей.
Гарсон нанес ему визит.
— О,— сказал ему с улыбкой Прометей,— как я
рад, что вас вижу! Я изнывал в одиночестве. Говорите
же, ведь вы пришли из вольного мира; стены этой тем¬
ницы отделяют меня от него, и я ничего больше не знаю
о других. Чем они занимаются? И прежде всего, чем за¬
нимаетесь вы?
— После вашего скандала,— ответил гарсон,—
почти ничем; к нам в кафе мало кто теперь заходит.
Мы потеряли много времени на восстановление вит¬
рины.
— Я очень огорчен,— сказал Прометей,— но как, по
крайней мере, Дамокл? С ним-то вы виделись? Он ушел
в тот день из ресторана так быстро, что я не успел с ним
попрощаться. И сожалею об этом. Он показался мне че¬
ловеком очень приятным, совестливым и порядочным;
о своих затруднениях он говорил безыскусно и растро¬
гал меня. Во всяком случае, он успокоился, когда поки¬
нул кафе?
301
— Весьма ненадолго,— сказал гарсон.— Я видел его
на другой день, и его тревога лишь возросла. Говоря со
мною, он плакал. Больше всего его беспокоит состоя¬
ние здоровья Кокл а.
— Значит, с ним худо? — спросил Прометей.
— С Коклом? Да нет,— ответил гарсон.— Больше
того, он видит лучше с тех пор, как смотрит одним
только глазом. Он всем показывает свой стеклянный
глаз. И счастлив, если его жалеют. Когда вы снова уви¬
дитесь с ним, скажите ему, что новый глаз ему очень
к лицу, что он не без изящества носит его, но непре¬
менно добавьте, что знаете, как ему приходится стра¬
дать...
— Значит, он страдает?
— Оттого, что ему не говорят о его страданиях,—
да, пожалуй.
— Но если Кокл хорошо себя чувствует и даже ни¬
чуть не страдает, что беспокоит тогда Дамокла?
—То, что Кокл мог бы очень страдать?
— И вы же советуете мне сказать Коклу как раз о
страданиях...
— Сказать — да, конечно, но Дамокл не говорит о
них, он думает. И изводит себя.
— Чем он еще занимается?
— Ничем. Эта единственная забота полностью за¬
слонила от него все остальное. Говоря между нами, он
человек, поглощенный одной идеей,— твердит, что его,
Дамокловы, пятьсот франков — причина всех бедствий
Кокла.
—А Кокл?
—Твердит то же самое... При этом очень разбога¬
тел.
— Каким же образом?
—Толком не знаю. Про его разнесчастную долю пи¬
сали во всех газетах; был открыт сбор пожертвований
в его пользу.
— И что он с ними делает?
— О, он ловкач. На собранные деньги намеревается
учредить приют.
— Приют?
302
—Да, совсем небольшой; только для одноглазых.
Себя он объявил директором.
— Вот как! — вскричал Прометей.— Мне это все
очень интересно.
—Я на это надеялся...— сказал гарсон.
— И скажите еще... что с Миглионером?
—Ах, вот уж хитрец так хитрец! Если вы думаете,
что их дела его сколько-нибудь волнуют!.. Он в точно¬
сти как я: наблюдает... Если хотите, я вас познаком¬
лю — когда вы выйдете отсюда...
— Кстати, почему я здесь оказался? — начал нако¬
нец Прометей.— В чем меня обвиняют? Вам это изве¬
стно, гарсон? Ведь вы столько всего знаете.
— Клянусь честью, нет,— соврал гарсон.— Но, по
крайней мере, я знаю, что это тюрьма предварительно¬
го заключения. После того как вам вынесут приговор,
вы все узнаете.
— Вот это будет хорошо! — сказал Прометей.— Я
предпочитаю все всегда знать.
— Прощайте,— сказал гарсон,— уже поздно.
Просто удивительно, как летит время за беседою
с вами... Но скажите, как ваш орел? Что с ним сей¬
час?
— В самом деле, что с ним?!. Об орле я совсем не
думал,— сказал Прометей.
И когда гарсон ушел, Прометей начал думать о сво¬
ем орле.
«Ему должно расти, а мне умаляться»4
И поскольку Прометей в одиночестве тосковал, ве¬
чером он позвал своего орла. Орел прилетел.
— Я так давно тебя жду,— сказал Прометей.
— Тогда почему ты не позвал меня раньше?
Прометей впервые посмотрел на своего орла, кото¬
рый кое-как уцепился за гнутые прутья тюремной ре¬
шетки. В золотом свеченье заката он выглядел особен¬
но блекло; был он сер, тщедушен, плюгав, мрачен, без¬
ропотен, жалок и, казалось, совсем обессилел и уже не¬
303
способен летать; видя его, Прометей от жалости про¬
слезился.
— Моя верная птица,— сказал он орлу,— тебе, ви¬
жу я, худо; скажи — что с тобой?
—Я голоден,— ответил орел.
— Ешь,— сказал Прометей, обнажая собственную
печень. Птица поела.
—Ты мне делаешь больно,— сказал Прометей.
Но орел в этот день больше ничего не сказал.
II
На другой день Прометей уже на рассвете захотел
увидеть орла; он позвал его из глубин розовеющей за¬
ри, и, как только солнце взошло, появился орел. У него
уже было три новых пера. Прометей от нежности пла¬
кал.
— Как поздно ты прилетаешь,— сказал он, погладив
орлиные перья.
—Я еще не в силах быстро летать,— сказала пти¬
ца.— Я лечу над самой землей.
— Почему?
— Я еще очень слаб.
— Что тебе нужно, чтобы летать быстрее?
— Твоя печень.
— Вот она, ешь.
На другой день у орла было восемь новых перьев, и
несколько дней спустя он прилетел уже до зари. Про¬
метей заметно худел.
— Расскажи мне, что происходит снаружи,— про¬
сил Прометей.’— Как поживают другие?
— О, теперь я парю в вышине,— отвечал орел,— я
не знаю уже ничего, крбме небес и тебя.
Его крылья стали понемногу расти.
— Милый орел, что расскажешь ты мне нынче ут¬
ром?
—Я летал в поднебесье, нагуливал аппетит.
— Орел! Ты когда-нибудь подобреешь?
— Никогда! Но могу стать красавцем.
304
Плененный будущей красотою своего орла, Проме¬
тей давал ему с каждым днем все больше в больше еды.
Однажды вечером орел не улетел.
На другой день он тоже остался.
Орел расточал узнику удары жадного клюва, а
узник расточал ему ласки, худел и таял от любви и
гладил весь день его перья, задремывая ночью у не¬
го под крылом и кормя его вволю круглые сутки.
Орел уже больше не покидал Прометея ни ночью ни
днем.
— Милый орел! Кто мог бы подумать!
— О чем?
— Что будет настолько прелестна наша любовь.
—Ах, Прометей...
— Скажи мне, мой милый орел, почему меня поса¬
дили в тюрьму? Ведь ты это знаешь.
— Не все ли тебе равно? Разве я не с тобою?
—Да, ты прав, какое мне дело! Но ты мною хотя бы
доволен, красавец орел?
—Да, я доволен тобою, если меня ты считаешь
очень красивым.
III
Наступила весна; за решетками башни цвели глици¬
нии.
— Придет день, и мы с тобой улетим,— сказал орел.
— Правда? — вскричал Прометей.
— Ибо теперь я очень силен. Ты худ, и я могу тебя
унести.
—Унеси меня, мой орел, унеси...
И орел Прометея унес.
Глава, которая нужна, чтобы побудить
читателя ожидать следующую главу
В этот день Кокл и Дамокл встретились. Они пого¬
ворили друг с другом, но, несомненно, какая-то нелов¬
кость меж ними была.
305
— Что поделаешь? — говорил Кокл.— Наши точки
зрения не совпадают.
— Вы полагаете? — отвечал Дамокл.— Я одного хо¬
чу — чтобы мы поладили с вами.
— Вы говорите это, но слышите только себя.
—А вы — вы меня даже не слушаете. Откройте же
мне эту тайну, если она вам известна.
— Но вы ведь уверены, что знаете ее лучше меня.
— Увы, Кокл, вы сердитесь! Но скажите мне ради
всего святого, что должен я сделать!
— Ах, для меня лично больше ничего, умоляю; вы
уже сделали мне стеклянный глаз...
— Стеклянный — за неимением лучшего, милый
Кокл.
—Да — после того как сделали меня кривым.
— Но это сделал не я, дорогой Кокл.
— Купить мне стеклянный глаз — самое меньшее,
чем мне было можно помочь; к тому же, у вас оказа¬
лось достаточно денег, чтобы за него заплатить,— бла¬
годаря той пощечине, которую я получил.
— Забудем прошлое, Кокл!..
— Вам-то, конечно, очень бы хотелось его забыть!
— Я вовсе не об этом хочу сказать.
— Но о чем же тогда вы хотите сказать? Гово¬
рите!
— Вы не слушаете меня.
— Потому что я заранее знаю все, что вы скажете!
Не получая никакой новой пищи, дискуссия начина¬
ла уже принимать нежелательный оборот, когда дорогу
обоим неожиданно преградила передвижная афиша. На
ней значилось:
СЕГОДНЯ В ВОСЕМЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
В ЗАЛЕ НОВОЛУНИЙ
ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ
БУДЕТ ГОВОРИТЬ
О СВОЕМ ОРЛЕ
306
В ПОЛОВИНЕ ДЕВЯТОГО ОРЕЛ
СОВЕРШИТ НЕСКОЛЬКО КРУГОВ5
В ДЕВЯТЬ ЧАСОВ ГАРСОН
ПРОВЕДЕТ СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
В ФОНД ПРИЮТА КОКЛА
— Это надо посмотреть,— сказал Кокл.
— Я тоже пойду вместе с вами,— сказал Дамокл.
IV
Ровно в восемь часов зал Новолуний заполнили зри¬
тели. В центре, на левом фланге, занял место Кокл, в
центре, на правом фланге,— Дамокл, остальная публи¬
ка уселась посередине.
Появление Прометея было встречено громом апло¬
дисментов; он взошел на эстраду, посадил с собою ря¬
дом орла и приготовился говорить. В зале установилась
трепетная тишина...
Нарушения логики6
— Господа,— начал Прометей,— увы, не надеясь,
что мне удастся заинтересовать вас своим рассказом, я
позаботился и принес с собой своего орла. Он любезно
мне предложил после скучных пассажей в моем докла¬
де кружить для нас по этому залу. У меня также есть
при себе непристойные фотографии — и ракеты для
фейерверка; в самых серьезных местах доклада я буду
рад развлечь ими публику. Посему я смею надеяться,
господа, на ваше внимание.
Переходя к очередному тезису своего доклада, я бу¬
ду иметь честь, господа, предлагать вам присутство¬
вать при трапезе орла — ибо мой доклад, господа, со¬
держит три части (я не счел себя обязанным отказы¬
ваться от традиционного построения, которое доставля¬
ет удовлетворение моему классическому уму). И
поскольку сие может послужить достойным вступле¬
307
нием, я сейчас изложу, заранее и без прикрас, два пер¬
вых тезиса:
тезис первый: надо иметь орла;
тезис второй: впрочем, орла своего имеем мы все.
Опасаясь, что вы меня обвините в предвзятости, гос¬
пода, и, с другой стороны, опасаясь хоть как-то стеснить
свободное течение моей мысли, я подготовил доклад
свой лишь до этого места; тезис третий натуральным об¬
разом проистечет из двух первых; я им всем охотно
предоставляю право действовать самостоятельно. Как
вывод из вышесказанного, господа, орел соберет по¬
жертвования.
— Браво! Браво! — крикнул Кокл.
Прометей выпил глоток воды. Орел трижды, с изящ¬
ными пируэтами, облетел Прометея, после чего привет¬
ствовал публику. Прометей посмотрел в зал, улыбнул¬
ся Дамоклу и Коклу, и, поскольку никаких признаков
того, что слушатели скучают, пока еще не замечалось,
он решил немного повременить с фейерверком и про¬
должал свой доклад:
V
— С какою бы риторической ловкостью ни развора¬
чивал я сейчас перед вами свои тезисы, господа, я бы
не сумел утаить от вашего проницательного ума фаталь¬
ное нарушение логики, что подстерегает меня уже в са¬
мом начале доклада.
Сколько ни изощрялись бы мы, нарушения логики
нам не избегнуть. Что представляет собой нарушение
логики? Господа, я вот что осмелюсь сказать: всякое на¬
рушение логики есть утверждение темперамента, ибо
там, где отсутствует логика, там утверждает себя тем¬
перамент.
Когда я заявляю: «Надо иметь орла», вы могли бы в
ответ мне вскричать: «Почему?» Однако любой мой от¬
вет можно в конечном счете свести к той единственной
формуле, в которой себя утверждает мой темперамент:
«Я людей не люблю, я люблю то, что их пожирает».
308
Темперамент, господа, это то, что должно себя
утверждать. Новое нарушение логики, скажете вы.
Но я только что заявил, что всякое нарушение логи¬
ки есть утверждение темперамента; и, поскольку я
говорю, что свой темперамент следует утверждать,
я повторяю: «Человека я не люблю, я люблю то, что
его пожирает». Но кто пожирает человека? Его
орел. Следовательно, господа, надо иметь орла. По¬
лагаю, что теперь это доказано мною вполне убеди¬
тельно.
...Увы, я вижу, господа, что навожу на вас скуку; в
зале зевают. Я мог бы, конечно, отпустить сейчас не¬
сколько шуток; но вы бы сразу почувствовали их наро¬
читость; мой ум неизлечимо серьезен. Я предпочитаю
пустить по рукам несколько весьма неприличных фото¬
графий; тем, кому речи мои надоели, они помогут про¬
сидеть смирно еще какое-то время, и это позволит мне
продолжать.
Прометей выпил глоток воды. Орел трижды, с изящ¬
ными пируэтами, облетел Прометея, после чего привет¬
ствовал публику. Прометей продолжал:
Продолжение доклада Прометея
— Господа, раньше я знать не знал своего орла. Это
вынуждает меня сделать вывод — путем умозаключе¬
ния, носящего какое-то специальное название, которого
я не запомнил, так как к изучению логики я приступил
всего лишь неделю назад, что, хотя единственный при¬
сутствующий здесь орел является моим, но, господа,
как я уже сказал, я делаю вывод, что орла своего вы
имеете все.
До настоящего времени о своей истории я умалчи¬
вал; впрочем, до настоящего времени я ее как следует
не понимал. И если теперь я решаюсь вам ее расска¬
зать, я это делаю лишь потому, что благодаря моему ор¬
лу она представляется мне теперь поистине великолеп¬
ной.
309
VI
Я уже вам сказал, господа, что раньше я знать не
знал своего орла. До него я был существом бесхитрост¬
ным и прекрасным, нагим и счастливым, не догадыва¬
ясь об этом. Чудесные дни! На струящихся водопадами
склонах Кавказа меня обнимала сладострастная Азия,
тоже счастливая и нагая. Мы вместе скатывались в до¬
лины; мы упивались песнями ветра, смехом воды, аро¬
матом самых неприхотливых цветов. Мы с нею часто
лежали под раскидистыми ветвями, среди цветов, над
которыми с гуденьем роились пчелы. Азия с радостным
смехом ко мне прижималась; потом понемногу жуж¬
жанье пчелиных роев и шелест листвы, заглушавшей
журчанье многочисленных ручейков, клонили нас в
сладостный сон. Нам все позволяло и от всего защища¬
ло наше нечеловеческое одиночество. В один прекрас¬
ный день Азия вдруг мне сказала: «Ты должен позабо¬
титься о людях».
Для начала мне нужно было их отыскать.
Я очень хотел о них позаботиться, меня охватила к
ним глубокая жалость.
Они пребывали во тьме. Я изобрел кое-что для про¬
свещения и освещения; тогда-то и появился орел. А я за¬
метил с тех пор свою наготу.
При этих словах в разных концах зала раздались ап¬
лодисменты. Неожиданно Прометей разразился ры¬
даньями. Птица захлопала крыльями, заворковала.
Ужасным движением Прометей расстегнул жилет и
предоставил орлу свою истерзанную печень. Аплодис¬
менты вспыхнули с удвоенной силой. Затем орел триж¬
ды, с изящными пируэтами, облетел Прометея; Проме¬
тей выпил глоток воды, справился с собой и продолжил
доклад свой в таких выражениях:
VII
— Господа, скромность взяла во мне верх; прошу
меня извинить, я сегодня впервые выступаю на публи¬
310
ке. Но теперь во мне берет верх откровенность. О лю¬
дях я позаботился гораздо больше, чем вам об этом
сказал, господа. Я полюбил людей исступленно, страст¬
но и жалостно. И я столько сделал для них, что могу с
полным правом сказать: я их создал; ибо кем были они
до меня? Они существовали, но не сознавали, что суще¬
ствуют. Так лее, как я создал огонь, чтобы им осветить,
господа, моя к ним любовь сотворила в них сознание.
Первым они получили от меня сознание своей красо¬
ты. Сознание, которое позволило человеческому роду
распространяться по всей земле. Человек продолжал
себя в потомках своих. Красота первых равнодушно
повторялась, без изменений и вне истории. Так могло
продолжаться долго. Тогда, встревоженный, уже нося¬
щий в себе, не подозревая об этом, яйцо моего орла, я
захотел для людей большего или лучшего. Мне показа¬
лось, что это размножение, это раздробленное продол¬
жение свидетельствует об ожидании ими чего-то,—
тогда как на самом деле ожидал только мой орел. Я не
догадывался об орле; я считал, что ожидание живет в
человеке; это ожидание я поместил в человека. Впро¬
чем, создав человека по собственному образу и подо¬
бию 7, я теперь понимаю, что в каждом человеке ожи¬
дало своего появления на свет что-то еще не вылупив¬
шееся, не проявившееся; в каждом из них было орли¬
ное яйцо... Однако я сам не знаю, я не умею это
объяснить. Но я знаю другое: мне было мало, что я на¬
делил их сознанием своего бытия, и я захотел наделить
их в придачу осознанием смысла своего бытия. Я дал
им огонь, дал пламя, я дал все искусства, пищей кото¬
рых является пламя. Воспламенив их ум, я внушил им
всепоглощающую веру в прогресс. И странно, я радо¬
вался тому, что здоровье у людей истощается в их по¬
пытках достигнуть прогресса. Уже не вера в хорошее,
а болезненная надежда на лучшее, на самое лучшее,
вот что двигало ими. Вера в прогресс, господа, была их
орлом. Наш орел — это наша погоня за смыслом бы¬
тия, господа.
Благополучие человека все убывало и убывало, но
мне это было уже безразлично, потому что родился
311
орел. Я людей уже не любйл, я любил теперь то, что
ими живет. Так возникло для меня человечество без ис¬
тории... История человека — это история его орлов, гос¬
пода.
VIII
Раздались довольно жидкие аплодисменты. Проме¬
тей сконфуженно извинился:
— Я солгал, господа, простите меня; это произош¬
ло не так быстро; нет, не всегда я любил орлов; я очень
долго предпочитал человека; его пошатнувшееся бла¬
гополучие было мне дорого, ибо я счел, что на мне ле¬
жит за него ответственность, и всякий раз, когда я ду¬
мал о том, что все складывается у человека нелад¬
но,— думал вечером, грустный, одолеваемый угрызе¬
ниями совести,— ко мне прилетал покормиться орел.
Был он в ту пору худ, сер, озабочен, угрюм и безобра¬
зен, как гриф. Господа, если вы посмотрите на него
сейчас, вы поймете, почему я обращаюсь к вам с
речью, почему я собрал вас, почему я молю меня вы¬
слушать, ибо я обнаружил, что орел может сделаться
прекрасным. Ибо у каждого из вас есть свой орел: я
вам об этом уже заявил. Орел? Увы, может быть,
гриф? Нет, нет, господа, не гриф! Нужно иметь орла,
господа...
И теперь я затрагиваю очень важный вопрос: поче¬
му орла? Ах, почему? Пусть он сам это скажет. Вот мой
орел, господа, я принес вам его... Орел! Ты сейчас не
хотел бы ответить?
Встревоженный Прометей повернулся к своему ор¬
лу. Орел был неподвижен и хранил молчание... Проме¬
тей продолжал опечаленным голосом:
— Напрасно пытался я расспросить своего орла...
Орел! Говори же, все тебя слушают... Кто тебя посыла¬
ет? Почему ты выбрал меня? Откуда ты прилетаешь?
Куда ты летишь? Скажи: какова твоя сущность?.. (Орел
по-прежнему оставался безмолвным.) Нет, никакого
ответа! Ни слова! Ни крика! Я думал, что с вами, уж с
вами-то он непременно заговорит: я его вам потому и
312
принес... Скажи что-нибудь. Только ты один будешь
здесь говорить. Безмолвствуют все! Безмолвствуют
все! Что тут поделаешь!.. Я напрасно пытался его рас¬
спросить.
И, обернувшись к собравшимся, он продолжал:
— О, я надеялся, господа, что вы полюбите моего ор¬
ла, что ваша любовь придаст смысл его красоте. Вот по¬
чему я вверялся ему, почему наполнял его кровью
своей души... но я вижу, что я один им и восхищаюсь...
Ох, неужели вам мало того, что он так красив? Или вы
со мной не согласны, когда я вас уверяю в его красоте?
Только взгляните, прошу, на этого орла .. я прожил всю
свою жизнь ради него одного — и теперь я вам его при¬
ношу. Вот он, смотрите!
Я жил только ради него, но он-то ради чего, ска¬
жите, живет? — Орел! которого я вскормил своей
кровью, своею душой, которого с такой любовью я
гладил... (Здесь рыдания прервали речь Прометея.)
Неужто придется мне землю покинуть, так и не зная,
почему тебя я любил? Не зная, что делать ты будешь
и кем ты станешь после меня на земле... на земле...
нет, я напрасно... напрасно пытался его расспро¬
сить...
У Прометея перехватило дыхание, слезы мешали
ему говорить.
— Простите меня, господа,— продолжая он немно¬
го спокойнее,— простите, что я говорю о вещах таких
тяжких; но если б я знал даже о более тяжких вещах, я
бы вам и о них рассказал.
Прометей вытер вспотевшее лицо, выпил глоток во¬
ды и добавил:
Конец доклада Прометея
— Я подготовил свое выступление только до этого
места...
При этих словах в зале началось бурное движе¬
ние: те, кому стало совсем уж скучно, собрались ухо¬
дить.
313
— Господа! — вскричал Прометей,— умоляю, ос¬
таньтесь; совсем ненадолго; мне остается сказать вам
самое важное, если мне еще не удалось вас убедить...
Господа, пожалуйста... Сейчас я быстренько запушу не¬
сколько ракет; самые красивые я приберег, чтобы пус¬
тить их под занавес...
Господа, умоляю, сядьте на ваши места; погляди¬
те — неужели вы думаете, что я экономлю? Я зажигаю
сразу шесть самых ярких ракет. Впрочем, гарсон, при¬
кажите затворить все двери.
Ракеты произвели довольно сильное впечатление.
Почти все, что поднялись со своих мест, сели обратно.
— На чем же я остановился? — продолжал Проме¬
тей.— Я рассчитывал на то, что сумею набрать к этому
месту разбег, но ваша поспешность сбила меня...
— Что же, тем лучше! — выкрикнул кто-то.
—Ах, я вспомнил...— продолжал Прометей,— я хо¬
тел еще вам сказать...
(— Хватит! Хватит!! — закричали со всех сторон.)
— ...что вам нужно любить своего орла.
Послышалось несколько иронических «Почему?»
— Я ожидал, господа, что вы меня спросите: «По¬
чему?» Отвечаю: потому что тогда он станет краси¬
вым.
—А если от этого мы сами станем уродами?
— Господа, в том, что я говорю, нет никакого моего
интереса...
— Оно и видно.
— ...эти слова продиктованы преданностью. Нуж¬
но быть преданным своему орлу, господа!.. (Движе¬
ние в зале: многие встают.) Господа, не вставайте —
я перейду сейчас к личностям... Вряд ли нужно напо¬
минать здесь историю Кокла и Дамокла. Она всем в
этом зале известна. Так вот, я говорю им в лицо: тай¬
на вашей жизни — в одной только преданности, в со¬
хранении верности своему долгу, в твоей верности,
Кокл, доставшейся тебе оплеухе, в твоей верности,
Дамокл, свалившемуся на тебя банкноту. Кокл, тебе
следовало еще пуще расковырять свой шрам, еще
глубже выдолбить свою пустую глазницу, о, Кокл: а
314
тебе, Дамокл,— беречь свои пятьсот франков, не сты¬
диться, что стал должником, еще пуще быть должни¬
ком, с радостью быть должником. Вот ваш орел: есть
и другие орлы, обладание которыми еще почетней.
Но я говорю вам: как бы то ни было, орел нас всегда
пожирает — пороком ли он называется или доброде¬
телью, долгом или страстью: перестаньте быть безли¬
кой посредственностью — и вам от него не избавить¬
ся. Но... (Здесь глас Прометея почти целиком заглу¬
шается гулом толпы.) ...но если вы не кормите орла
своего заботливо и с любовью, он останется серым,
для всех невидимым и тайным; тогда называться он
будет нечистою совестью, недостойной тех мук, ка¬
кие он вам причиняет; и не будет в нем красоты.
Нужно любить орла своего, господа, любить, чтобы
он стал красивым: ибо потому, что он станет краси¬
вым, должны вы любить орла своего... Я закончил те¬
перь, господа: мой орел совершит сбор пожертвова¬
ний; нужно любить моего орла, господа. Тем време¬
нем я пускаю несколько ракет.
Благодаря отвлекающему маневру с применением
пиротехники собрание завершилось довольно благопо¬
лучно; но Дамокл, покидая зал, простудился.
БОЛЕЗНЬ ДАМОКЛА
I
— Вы уже знаете, что дела у него плохи? — спросил
гарсон, снова свидевшись через несколько дней с Про¬
метеем.
— У кого?
— У Дамокла. Ах, очень плохи! Как раз выходя с ва¬
шей лекции, он это и подцепил...
—Да что — это?
315
— Врачи колеблются; его недуг так редок... они го¬
ворят об усадке столба...
— Столба?
— Столба. Если не произойдет внезапного чудодей¬
ственного исцеления, состояние может только ухуд¬
шиться. Ему очень худо, уверяю вас, и вам надо его на¬
вестить.
— Вы часто его навещаете?
—Я? Ежедневно. Он в тревоге за Кокла; я держу
его в курсе.
— Почему же он сам к нему не зайдет?
— Кокл? Он слишком занят. Ваш доклад — вы это¬
го не знаете? — произвел на него необычайное впечат¬
ление. Он говорит теперь только о том, что хочет при¬
нести себя в жертву, и чуть ли не круглые сутки прово¬
дит на улицах в поисках новой пощечины, которая обо¬
шлась бы в круглую сумму какому-нибудь новому
Дамоклу. И безуспешно подставляет всем и каждому
другую щеку.8
— Известите Миглионера.
—Я его информирую ежедневно. Ради этого я и на¬
вещаю ежедневно Дамокла.
— Почему же он сам к нему не зайдет?
—Я тоже ему об этом твержу, но он отказывается.
Он не хочет, чтобы его знали. Дамокл определенно бы
выздоровел, если бы он знал, кто его благодетель, но
Миглионер упорствует, он хочет хранить инкогнито,—
и я теперь понимаю, что совсем не Дамокл, а болезнь
Дамокла интересует его.
— Помнится, вы говорили, что можете меня с ним
познакомить...
—Хоть сейчас, если вам угодно.
И оба тотчас же зашагали туда.
II
Поскольку мы не были с ним сами знакомы, мы твер¬
до решилй говорить очень мало о Зевсе, друге гарсона.
Просто приводим несколько фраз.
316
Интервью Миглионера
Гарсон: — Правда ли, что вы очень богаты?
М и гл и о н е р: (Полуобернувшись к Прометею.) — Я
богат, и намного богаче, чем можно себе вообразить.
Мне принадлежишь ты, мне принадлежит он, мне при¬
надлежат все. Вы считаете меня банкиром; я же нечто
совершенно другое. Мое воздействие на Париж осуще¬
ствляется втайне, но от этого оно ничуть не менее важ¬
но. Оно осуществляется втайне, потому что я не довожу
его до конца. Мне свойственно главное — дух инициати¬
вы. Я привожу в движение. Когда дело пущено в ход, я
его оставляю: я уже больше не прикасаюсь к нему.
Гарсон: — Правда ли, что ваши действия безвоз¬
мездны?
Миглионер: — Только лишь я, один, только лишь
тот, чье богатство беспредельно, может действовать с
абсолютной незаинтересованностью: человек не мо¬
жет. Отсюда проистекает моя любовь к игре; не к выиг¬
рышу, поймите меня,— к игре; что мог бы я выиграть,
чего заранее не имею? Само время... Знаете ли вы,
сколько мне лет?
Прометей и гарсон: — Мсье выглядит еще мо¬
лодым.
Миглионер: — Не перебивайте меня, Прометей.
Да, у меня страсть к игре. Моя игра заключается в том,
чтобы давать людям деньги. Я даю им взаймы, но лишь
потому, что это меня забавляет. Я даю им взаймы, но
даю без отдачи: даю им взаймы, но обставляю все так,
будто я им дарю эти деньги. Мне нравится, когда никто
не знает, что я одалживаю деньги. Я играю, но скрываю
свою игру. Я экспериментирую; я играю так же, как се¬
ет голландец, как он сажает сокровенную луковицу. Я
даю людям в долг, я сажаю луковицу в людей, и меня
веселит, что мой дар прорастает; меня веселит, когда я
вижу, что он прорастает. Человек без денег был бы так
пуст! Позвольте мне рассказать вам о моем самом све¬
жем эксперименте. Вы поможете мне за ним наблю¬
дать. Вы сперва меня выслушайте, а поймете потом. Вы
поймете.
317
Я вышел на улицу, изыскивая возможность заста¬
вить кого-то пострадать от дара, которым я облагоде¬
тельствую когсиго другого. И заставить этого другого
насладиться злом, которое я причиню первому из них.
Мне вполне хватает для этого одной оплеухи и одного
пятисотфранкового банкнота. Одному оплеуха, друго¬
му банкнот. Это, надеюсь, вам ясно. Однако менее ясен
тот способ, каким я обоих сумел одарить.
— Ваш способ я знаю,— перебил Прометей.
—Ах, вот как, вы знаете! — сказал Зевс.
—Я встретил Дамокла и Кокла: о них-то я и пришел с
вами поговорить. Дамокл повсюду вас ищет, он очень тре¬
вожится, он заболел: имейте жалость, покажитесь ему.
— Оставим этот разговор, мсье,— сказал Зевс,— я
не нуждаюсь ни в чьих советах.
Прометей направился было к дверям, но, вдруг
спохватившись, сказал:
— Мсье, простите меня. Не взыщите за нескромную
просьбу. О, пожалуйста, покажите мне его! Я так хочу
его увидеть...
— Кого?
— Вашего орла.
— Но у меня нет орла, мсье.
— Нет орла? У него нет орла! Но...
—У меня хоть шаром покати. Орлы (и Зевс рассме¬
ялся), орлы...— Ведь это я их и раздаю.
Изумление Прометея не знало границ.
— Знаете ли вы, что вокруг говорят? — спросил у
банкира гарсон.
— Что же вокруг говорят?
— Что вы Господь Бог.
— Да пускай себе говорят,— ответствовал Зевс.
III
Прометей навестил Дамокла и после этого часто его
навещал. Он не каждый раз говорил с ним, но гарсон
держал его в курсе. В один прекрасный день Прометей
привел с собой Кокла.
318
Их принял гарсон.
— Ну, как он? — спросил Прометей.
— Плох. Очень плох,— ответил гарсон.— Бедняга
три дня в рот ничего не берет. Его мучит судьба банк¬
нота; он везде его ищет и нигде не может найти; он
решил, что его проглотил, и принял слабительное, на¬
деясь его обнаружить в своих испражнениях. Когда
рассудок к нему возвращается, он начинает вспоми¬
нать о том, что с ним произошло, и расстраивается
еще больше. Он злится на вас, Кокл, потому что счи¬
тает, что вы усложнили все эти дела с его долгом, а
себя виноватым не признает. Почти все время он бре¬
дит. По ночам мы втроем у него дежурим, но он с та¬
кой силой подскакивает на постели, что не дает нам
уснуть.
— На него можно взглянуть? — сказал Кокл.
—Да, но вы увидите, как он изменился. Его снеда¬
ет тревога. Он похудел, похудел, похудел. Узнаете ли
вы его? А он? Он вас узнает?
Они на цыпочках вошли.
Последние дни Дамокла
Комната, где лежал Дамокл, была вся наполнена
смрадным духом лекарств. Она была очень тесная, с
низким потолком и освещена зловещим светом двух
ночников. В алькове, на чудовищном нагромождении
одеял, смутно виднелся беспокойно метавшийся Да¬
мокл. Он обращался к кому-то, хотя никто его слышать
не мог: голос у него был глухой и хриплый. Прометей
и Кокл в ужасе посмотрели друг на друга: Дамокл не
слышал, как они подошли, и продолжал, словно он был
один:
— И с этого дня мне стало одновременно казать¬
ся,— говорил он,— что моя жизнь приобрела некий
смысл и что я не могу больше жить! Эти ненавистные
пятьсот франков, я полагал, что я должен их всем, и не
решался их дать никому,— боясь, что тем самым отни¬
маю их у всех остальных. Я мечтал только о том, что¬
319
бы от них избавиться,— но куда мне их было девать? —
в сберегательную кассу? это могло лишь усилить мою
тоску; там бы долг мой оброс всеми процентами моего
долга; но, с другой стороны, мысль о том, что эта сум¬
ма будет гнить в бездействии и застое, была для меня
невыносимой; поэтому я полагал, что просто обязан
эти деньги пустить в оборот; я носил их всегда при се¬
бе; каждую неделю я разменивал банкнот на мелкую
монету, а мелкую монету опять обменивал на другой
банкнот. При обмене ты ничего не выигрываешь, ниче¬
го не теряешь, но деньги твои циркулируют; это просто
циркулярный психоз. К этому я добавлял еще одну
пытку: ведь этими пятьюстами франками я обладал
благодаря оплеухе, которая была отвешена другому! В
один прекрасный день, как вы знаете, я встретил вас в
ресторане...
— Это он о вас говорит,— сказал гарсон.
— Орел Прометея разбивает витрину, выкалывает
глаз Коклу... Спасен!!! Бескорыстно, случайно, по во¬
ле Провидения я могу всунуть мои деньги в щель этих
происшествий. Долга нет больше! Я спасен! Ах, как я
заблуждался, господа! С этого дня я агонизирую. Как
мне вам это объяснить? Поймете ли вы когда-нибудь
мою тревогу? Эти пятьсот франков — я их по-прежне¬
му должен, но их у меня больше нет! Я попытался
трусливо избавиться от своего долга, но ничего не до¬
бился. Мои ночи полны кошмаров, я просыпаюсь в хо¬
лодном поту, бросаюсь на колени и кричу во весь го¬
лос: «Господи, кому должен я? Господи, кому должен
я?» Я ничего не знаю, но по-прежнему должен.
Долг — ужасная вещь, господа; от него я и умираю.—
И теперь меня мучит больше всего, что этот свой долг
я передал вам: тебе, Кокл... Кокл! твой глаз не принад¬
лежит тебе, поскольку мне не принадлежала та сум¬
ма, которой я тебе его оплатил. «Чем ты владеешь, че¬
го бы ты не получил?» 9 — говорится в Писании... по¬
лучил от кого? От кого? От кого? Мое отчаяние невы¬
носимо.
Голос несчастного прерывался, булькал, тонул в
икоте, рыданиях и слезах. Слушая эту сумбурную речь,
320
Прометей и Кокл схватили друг друга за руки и дрожа¬
ли в испуге. Им казалось, что Дамокл их видит.
— Долг — ужасная вещь, господа...— говорил Да¬
мокл,— но насколько ужаснее угрызения совести,
терзающие тебя оттого, что ты захотел от долга изба¬
виться... Как будто долг становится меньше, если ты
переложишь его на другого... твой глаз жжет тебя,
Кокл! Кокл!!! Я уверен, он жжет тебя, твой стеклян¬
ный глаз; вырви его! А если не жжет, он должен бы
тебя жечь. Ведь он принадлежит не тебе... А если не
тебе, значит, твоему брату... Кому он принадлежит?
Кому? Кому?
Несчастный плакал; мысли мешались в его голове,
он терял последние силы; иногда он, казалось, их узна¬
вал и кричал:
— Но поймите, поймите меня хотя бы из жалости!
Жалость, о которой я вас молю, не компресс мне на
лоб, не кружка холодной воды, не целебный отвар, а по¬
нимание! Так помогите же мне себя понять хотя бы из
жалости! У меня есть это, оно свалилось на меня неиз¬
вестно откуда, и, скажите, кому я должен его? Кому?
Кому? И для того, чтобы в один прекрасный день я
больше уже не был обязан кому-то его возвращать, я
это пущу на подарки другим! Другим!!! Коклу! подаяние
на покупку глаза!!! Но он ведь не твой, этот глаз. Вер¬
ни его, Кокл! Кокл!!! Верни его — но только кому? Ко¬
му? Кому?
Больше не в силах выдерживать это Кокл и Проме¬
тей ушли.
IV
— Вот вам, пожалуйста,— сказал, спускаясь по лес¬
тнице, Кокл,— судьба человека, который обогатился на
страданиях другого.
— Но вы разве страдаете? — спросил Прометей.
— От выбитого глаза — иногда,— сказал Кокл,— но
от оплеухи почти нет; жжение от нее уже прошло. И я
бы отнюдь не хотел, чтобы пощечина меня миновала:
она мне открыла мою доброту. Она мне польстила: я ею
321
горжусь. Я не перестаю думать, что моя боль послужи¬
ла моему ближнему провиантом и обернулась для него
пятьюстами франками.
— Но, Кокл, ближний умирает от этого,— сказал
Прометей.
— Не говорили ли вы ему, что надо кормить своего
орла? Что поделать? Мы с Дамоклом никогда не могли
между собой столковаться: наши точки зрения диамет¬
рально противоположны друг другу.
Прометей попрощался с Коклом и побежал со всех
ног к Зевсу.
— Имейте жалость, покажитесь ему! — сказал он
банкиру,— или, во всяком случае, объявите, что это
сделали вы. Несчастный умирает в ужасной тоске. Я
понимаю, что вы его убиваете, потому что это до¬
ставляет вам удовольствие; но пусть, по крайней ме¬
ре, он знает, кто его убивает, и в этом найдет упоко¬
ение.
— Я не хочу терять свой престиж,— ответил Мигли¬
онер.
V
Кончина Дамокла была удивительна: перед своим
смертным часом он произнес слова, от которых у са¬
мых заядлых нечестивцев на глазах появляются слезы,
а благонамеренный люд отмечает их назидательность.
Самое сокровенное из охвативших его чувств вырази¬
ли такие слова:
—Я, по крайней мере, надеюсь, что это не постави¬
ло его на грань нищеты.
— Кого не поставило? — спросили его.
— Того,— сказал умирающий Дамокл,— того, кто
мне дал... кое-что.
— Нет, это был Господь Бог! — не растерялся наход¬
чивый гарсон.
Дамокл умер, успокоенный этим добрым изве¬
стием.
322
Похороны
— Какой ужас! — говорил Прометей Коклу, поки¬
дая комнату умершего.— Кончина Дамокла меня по¬
трясла. Это правда, что моя публичная лекция явилась
причиной его болезни?
— Не берусь утверждать это с полной уверенно¬
стью,— сказал гарсон,— но, по крайней мере, знаю, что
он был очень взволнован всем тем, что вы говорили о
вашем орле.
— О нашем орле,— поправил Кокл.
—Я был так убежден,— сказал Прометей.
— Поэтому вы его и убедили... Ваш доклад был
очень ярким.
—Я думал, меня не слушают... Я настаивал... Если
бы я знал, что он слушает...
—То что бы вы сказали?
—То же самое,— пробормотал Прометей.
— В чем же дело?
— Но сейчас бы я этого не сказал.
— Значит, вы уже не тот убежденный?
— Самым убежденным был Дамокл. У меня появи¬
лись другие соображения относительно моего орла.
— Кстати, где он?
— Не бойтесь, Кокл, я не спускаю с него глаз.
— Прощайте. Пойду переоденусь в черное,— сказал
Кокл.— Когда мы увидимся?
— Но... на похоронах, полагаю. Я там выступлю с
речью,— сказал Прометей.— Мне нужно кое-что ис¬
править. А после похорон я вас приглашаю; я устраиваю
поминки — в том самом ресторане, где мы увидели
впервые Дамокла.
VI
На похоронах не было большого стечения публики;
Дамокл был малоизвестен; его смерть прошла незамет¬
но для тех, кто не имел отношения к этой истории. На
кладбище собрались Прометей, гарсон и Кокл, а также
323
несколько ничем не занятых в эти часы слушателей
Прометеевой лекции. Каждый смотрел на Прометея;
было известно, что он выступит с речью; люди спраши¬
вали себя: «Что же он скажет?», ибо прекрасно помни¬
ли то, что он недавно сказал. Он не начал еще говорить,
но все уже с удивлением таращились на него: Прометея
невозможно было узнать; он располнел, посвежел и
всем улыбался; улыбался так весело, что его поведение
собравшиеся сочли почти неприличным, когда, по-
прежнему улыбаясь, он подошел к краю могилы и, по-
воротясь к ней спиной, произнес такие бесхитростные
слова:
— Господа, ежели вам угодно выслушать меня, Сло¬
ва Писания, которые я положил в основу моего сегод¬
няшнего — на сей раз краткого — выступления, звучат
так: «Предоставь мертвым погребать своих мертве¬
цов». 10 Так что больше не будем заботиться о Дамокле.
В последний раз, когда я вас видел, вы собрались для
того, чтобы послушать, что я скажу о своем орле; Да¬
мокл от этого умер; предоставим мертвым... Однако из-
за него, или, верней, благодаря его смерти, я ныне убил
своего орла...
— Убил своего орла!!! — вскричал каждый из слу¬
шавших.
— Кстати, вот любопытный рассказец по этому по¬
воду... Допустим, что я ничего не сказал.
ИСТОРИЯ ТИТИРА11
I
Вначале был Титир.
И Титир был один и скучал, окруженный болота¬
ми. Но пришел Менальк и заронил в голову Титира
идею, заронил зерно в лежавшее перед ним болото.
И эта идея была зерном, и это зерно было идеей. И
с помощью Божией зерно проросло и стало малым
растением, и Титир, утром и вечером становясь пе¬
ред ним на колени, благодарил Бога за то, что Он
324
его дал ему. И растение это росло, и, поскольку у не¬
го были мощные корни, оно вскорости полностью
высушило вокруг себя землю, так что Титир имел
теперь твердую почву, и было ему где ступить, где
преклонить усталую голову и где укрепить дело сво¬
их рук.
Когда растение высотою своей стало вровень с
Титиром, Титир уже мог наслаждаться полуденным
сном, растянувшись в его прохладной тени. Однако
растению — а это был дуб — предстояло достигнуть
огромных размеров, и вскоре Титир в работах своих
уже не мог обойтись только собственными руками:
надо было рыхлить и пропалывать землю вокруг ду¬
ба, его поливать и подпиливать, его очищать, подре¬
зать его сучья, обирать с него гусениц и обеспечи¬
вать сбор грядущего урожая его многочисленных и
разнообразных плодов. И пришлось Титиру взять се¬
бе в помощь и рыхлилыцика, и полольщика, и поли¬
вальщика, и подпилыцика, и очищалыцика, и подре-
залыцика сучьев, и обиралыцика гусениц, и несколь¬
ких сборщиков урожая поспевших плодов. И, по¬
скольку каждый из них должен был заниматься
только своею работой, в которой был дока, можно
было надеяться, что все перечисленные дела будут
выполнены отменно.
Для ведения дел и расчетов с каждым работником
нанят был счетовод, который вместе с кассиром взял
на себя все заботы по управлению богатством Титира,
каковое росло так же быстро, как дуб. И поскольку
меж очищалыциком дуба и подрезалыциком сучьев
возникли конфликты из-за отсутствия четких границ,
долженствующих разделять их служебные функции,
Титир пригласил еще одного человека на должность
судьи и арбитра, а тот, в свою очередь,— двух адвока¬
тов — по одному для каждой из тяжущихся сторон;
кроме того, Титир нанял секретаря для регистрации су¬
дебных постановлений, а так как постановления для то¬
го регистрируются, чтобы в будущем могли они послу¬
жить документами для вынесения приговоров, Титиру
понадобился и стражник для охраны тюрьмы. Тем вре¬
325
менем на земле вокруг дуба постепенно вырастали до¬
ма, и для соблюдения порядка на улицах потребовалась
полиция.
Изнемогая под бременем своих неисчислимых обя¬
занностей, Титир начал болеть: он пригласил врача, и
тот ему посоветовал взять в помощь женщину; и по¬
скольку Титир в таком многолюдье не справлялся уже
с административной работой, он был вынужден вы¬
брать себе заместителя, и тот назначен был мэром. И
с тех пор у Титира почти не было свободного време¬
ни, чтобы из окон своих половить на удочку рыбу, хо¬
тя под окнами его дома по-прежнему расстилались бо¬
лота.
Тогда Титир учредил праздничные дни, чтобы народ
его мог веселиться: но, поскольку увеселения стоили
дорого, а у горожан было мало денег, Титир, желая пре¬
доставить им всем возможность повеселиться как сле¬
дует, стал облагать каждого горожанина особым нало¬
гом на увеселения.
Однако дуб среди ровной долины (ибо, несмотря на
выросший город и на старания стольких людей, там по-
прежнему была ровная долина), этот дуб, говорю я, сре¬
ди ровной долины посажен был так, что одна его сто¬
рона находилась в тени, а другая на солнце. И под этим
дубом Титир с теневой стороны творил суд12, а с сол¬
нечной стороны справлял свои естественные потребно¬
сти.
И Титир был счастлив, ибо он сознарал, что его
жизнь, до отказа заполненная делами, приносит пользу
другим людям.
II
Усилия человека возможно умножать.
Активная деятельность ободренного успехами Тити¬
ра все усиливалась и расширялась; его природная изо¬
бретательность толкала его все к новым и новым де¬
лам, и вскоре он начал меблировать свое жилище, ок¬
леивать его обоями, обвешивать, коврами и всячески
его благоустраивать. Все восхищались безупречностью
326
выбора обоев и драпировок, удобством каждой ото¬
бранной веши. Предприимчивый и искусный, он до все¬
го доходил экспериментальным путем и даже придумал
для прикрепленья своих полотенец к стене маленькую
вешалку с акростихрм13, которую через четыре дня
сам посчитал весьма неудобной.
И рядом с собственной комнатой велел Титир по¬
строить еще одну комнату в интересах всей нации;
обе комнаты имели общую переднюю, дабы пока¬
зать, что у всех у них общие интересы; но по причи¬
не общей передней, откуда воздух поступал в обе
комнаты, нельзя было одновременно топить два ка¬
мина, и в холодную пору, когда разводили огонь в од¬
ной комнате, моментально наполнялась дымом дру¬
гая. Так что в те дни, когда Гитиру хотелось разве¬
сти огонь, у него вошло в привычку распахивать на¬
стежь свое окно.
Так как Титир всему покровительствовал и неустан¬
но трудился над разведением новых пород и видов жи¬
вотных, наступило время, когда улитки заполонили ал¬
леи его сада в таком несметном количестве, что, опаса¬
ясь их раздавить, он не знал, куда поставить ногу, и де¬
ло кончилось тем, что он смирился и почти не выходил
из дому.
Он пригласил к себе на дом передвижную библио¬
теку и у библиотекарши, которая выдавала читателям
книги, открыл абонемент. И поскольку ее звали Ан¬
жель, он взял в обыкновение каждые три дня прово¬
дить с нею вечер. Так Титир познакомился с метафи¬
зикой, алгеброй и теодицеей. Титир и Анжель стали с
успехом насаждать и распространять изящные искусст¬
ва, и, так как Анжель проявила особые склонности к
музыке, они взяли напрокат рояль, на котором Анжель
исполняла мелодии, которые он тем временем для нее
сочинял.
Титир сказал Анжель:
— Это великое множество забот и занятий под¬
рывает здоровье мое; больше я так не могу; я вконец
изнурен: это единство общественных интересов
вызывает у меня угрызения совести; когда эти инте¬
327
ресы укрепляются, я начинаю хиреть. Что мне де¬
лать?
— А если нам с вами уехать? — сказала Анжель.
— Этого я не могу: у меня есть мой дуб.
— Если вы его бросите? — сказала Анжель.
— Бросить мой дуб? Вы об этом подумали?
— Разве он недостаточно вырос, чтобы дальше рас¬
ти одному?
— Но я к нему очень привязан.
—Так отвяжитесь,— сказала Анжель.
И какое-то время спустя, рассудив, что заботы, от¬
ветственность и угрызения совести держат его в
общем и целом не более крепко, чем дуб, Титир
улыбнулся, прозондировал почву и отправился в путь,
взяв с собой Анжель вместе с кассой, и к концу дня
спустились они на бульвар, что ведет от Мадлен к
Опера.
Бульвар в этот вечер был странным. Чувствова¬
лось, что готовится нечто необычное и торжествен¬
ное. Огромная толпа, озабоченная и тревожная, тес¬
нилась повсюду, загромождая тротуар и чуть ли не
выплескиваясь на проезжую часть, которую с преве¬
ликим трудом сохраняли свободной шеренги париж¬
ской жандармерии. Открытые террасы перед ресто¬
ранами, непомерно расширенные за счет дополни¬
тельных стульев и столиков, еще больше закупорива¬
ли проход и делали всякое движение невозможным.
Иногда какой-нибудь нетерпеливый зевака взбирался
на стул, но его тут же просили сойти вниз. Все явно
чего-то ждали; чувствовалось, что между берегами
тротуара, на охраняемой жандармами мостовой,
вскоре должно будет что-то произойти. С трудом най¬
дя столик и заняв его за очень высокую цену, Анжель
и Титир уселись перед двумя кружками пива и спро¬
сили у гарсона:
— Чего они ждут?
— Откуда мсье приехал? — сказал гарсон.— Мсье
не знает, что ждут Мелибея?14 Он должен пройти меж¬
ду пятью и шестью часами... Но постойте, прислушай¬
тесь: мне кажется, уже слышна его свирель.
328
Из глубины бульвара долетел далекий звук камышо¬
вых тростинок. Толпа, еще больше насторожившись, за¬
трепетала. Звук приблизился, набрал силу.
— О, как это трогательно,— сказала Анжель.
Закатное солнце посылало лучи с одного конца
бульвара на другой. И, словно родившись из закатного
сияния, наконец появился Мелибей, шагая следом за
бесхитростным пением своей свирели. Сначала всеоб¬
щее внимание привлекла походка Мелибея, но, когда
он подошел поближе:
— О, как он очарователен! — восхитилась Анжель.
Тем временем Мелибей, дойдя до Титира, прервал
свою мелодию на свирели, внезапно остановился, уви¬
дев Анжель, и каждый заметил, что он наг.
— О! — сказала Анжель, наклонившись к Титиру.—
Как он красив! Как прекрасно сложен! Как прелестны
его трубочки!
Титир ощутил некоторую неловкость.
— Спросите у него, куда он идет,— сказала Анжель.
— Куда вы идете? — спросил Титир.
— Ео Romam*,— ответил Мелибей.
— Что он говорит? — спросила Анжель.
— Вы не поймете, дорогой друг,— ответил Титир.
—А вы объясните мне,— сказала Анжель.
— Romam,— настаивал Мелибей,— urbem quam
dicunt Romam**.
Анжель сказала:
— О! Как восхитительно то, что он говорит! Но что
эти слова означают?
—Уверяю вас, дорогая Анжель, что ничего восхити¬
тельного в них нет и в помине: они просто-напросто оз¬
начают, что он идет в Рим.
— В Рим! — мечтательно сказала Анжель.— О! Мне
так бы хотелось увидеть Рим!
* Я иду в Рим (лат.).— Примеч. пер.
** В Рим, в город, который называется Римом (лат.).—
Примеч. пер.
329
Мелибей, снова схватив свои дудки, стал выводить
на них ту же мелодию. При этих звуках восторженная
Анжель поднялась, встала, сделала шаг вперед, и, так
как Мелибей округлил свою руку, она оперлась на нее,
и оба они, продолжив свой путь по бульвару, медленно
удалились, растворились, исчезли в сгустившихся су¬
мерках. Толпа, будто очнувшись от наваждения, взвол¬
нованно загудела. Со всех сторон раздавались вопросы:
— Что он сказал? Что он сделал? Кто была эта жен¬
щина?
И когда через несколько минут появились вечерние
газеты, все с яростным любопытством набросились на
них, точно циклон, и люди узнали, что женщину звали
Анжель и что Мелибей был обнаженным субъектом,
который направлялся в Италию.
И любопытство разом улеглось, и, точно вода, осво¬
бодившаяся от запруды, толпа стала расходиться, поки¬
дая большие бульвары. И Титир, со всех сторон окру¬
женный болотами, оказался опять в одиночестве.
Допустим, что я ничего не сказал.
Несколько минут аудиторию сотрясали взрывы неу¬
емного смеха.
— Я очень рад, господа, что моя история вас раз¬
влекла,— сказал Прометей, тоже смеясь.— После
смерти Дамокла я открыл секрет смеха. Господа, я за¬
кончил; предоставим мертвецам погребать своих мерт¬
вых и пойдем быстрей завтракать.
Он взял гарсона под руку, Кокла под другую; все по¬
кинули кладбище. Выйдя из ворот, почтившие память
Дамокла разбрелись кто куда.
— Простите меня,— сказал Кокл,— ваш рассказ
был очарователен, и вы очень нас позабавили... Но я не
улавливаю, какая связь...
— Будь она более явной, вы бы так не смеялись,—
сказал Прометей,— не ищите во всем этом слишком
большого смысла; я хотел вас прежде всего развлечь, и
330
очень рад, что мне это удалось: я просто обязан был для
вас это сделать. Я навел на вас в прошлый раз такую
ужасную скуку.
Они вышли опять на бульвары.
— Куда мы идем? — сказал гарсон.
— В ваш ресторан, если вы ничего не имеете про¬
тив,— в память о нашем первом знакомстве.
— Вы проходите мимо него,— сказал гарсон.
— Я не узнаю витрину.
— Но она же вся новенькая, и теперь...
—Я забыл, что мой орел... Будьте спокойны, ниче¬
го такого он больше не сделает.
— Значит, это чистая правда,— сказал Кокл,— то,
что вы говорили?
— Что именно?
— Что вы убили его?
— И что мы сейчас его съедим... Вы в этом сомне¬
ваетесь? — спросил Прометей.— Вы меня не разгляде¬
ли как следует? Разве в его времена я отваживался сме¬
яться? Разве не был тогда я чудовищно худ?
— Разумеется.
— Он ел меня достаточно долго; я решил, что настал
мой черед. За стол, за стол, господа! — Гарсон... не при¬
служивайте сегодня; воздайте Дамоклу последнюю па¬
мять: садитесь на его место.
Нет ничего предосудительного в том, что трапеза
прошла очень весело и что орел единодушно был при¬
знав отменным.
— Значит, ни на что более путное он не сгодился? —
был вопрошен Прометей.
— Не говорите так, Кокл! Его плоть насытила
нас. Когда я задавал ему вопросы, он в ответ упор¬
но молчал... Но я вкушаю его, не помня зла; причи¬
няй он мне меньше страданий, он был бы менее жи¬
рен, а менее жирным он был бы не столь приятен на
вкус.
— Что же осталось от его былой красоты?
—Я сохранил все его перья.
331
Одним из них и написал я эту маленькую книгу в на¬
дежде, бесценный мой друг, что она не покажется тебе
столь уж плохой.
Эпилог
дабы постараться уверить читателя, что, если
эта книга получилась такой, а не этакой,
автор тут ни при чем
Никогда не удается писать именно те
книги, которые ты бы хотел написать.
Дневник Гонкуров
История Леды наделала столько шуму и покрыла
Тиндара такой неувядающей славой, что Минос даже
не слишком встревожился, когда Пасифая15 сказала
ему: «Что поделаешь? Мне мужчины не нравятся».
Но впоследствии она говорила: «Мне обидно (тем бо¬
лее что далось мне все это не так уж легко); я надея¬
лась, что там прячется кто-нибудь из богов. Займись
этим Зевс, я родила бы одного из Диоскуров, но из-за
этого скота я произвела на свет всего лишь теленка».
ТРАКТАТЫ
ЭЛЬ-ХАДЖ,
или
ТРАКТАТ О ЛОЖНОМ ПРОРОКЕ
О, пророк! Поведай обо всем,
что снизошло на тебя ради твоего
государя. Ибо, если ты не делаешь
этого, ты не исполнил своего по¬
слания.
Коран, V, 71
Что смотреть ходили вы в пус¬
тыню? Трость ли, ветром колебле¬
мую? Что же смотреть ходили вы?
Человека ли, одетого в мягкие
одеждах? Что же смотреть ходили
вы? Пророка? Да, говорю вам, и
больше пророка.
Матф., XI, 7—9
Теперь, когда на закатном небе показались возлюб¬
ленные минареты города, наконец-то обретенного
вновь; когда измученный народ смеется от вожделений
и стремится к нему... Аллах! завершен ли мой подвиг?
Не мой голос ведет их отныне.
Ах, пусть они кричат от любви сегод ня вечером на
пороге своего дома, раз они нашли в нем покой,— я же
хочу еще помедлить в пустыне. Тайну мою я хранил
много дней и ночей; без всякой помощи сносил я бре¬
мя моей ужасной лжи и притворялся до конца; из бояз¬
ни как бы после бесплодных поисков цели наших дол¬
гих блужданий они, не найдя ее, не предались скорби и
не отказались идти вперед. Теперь можно говорить! Я
один. О чем закричу я в отчаяньи?
Ибо теперь я знаю, что существуют пророки, скры¬
вающие в течение дня от народа, который они ведут,
335
тревогу и смятение своей души, изображающие перед
ним рвение, которого уже не чувствуют. Эти пророки
рыдают по ночам, когда остаются в полном одиночест¬
ве, когда им едва-едва светят неисчислимые звезды и,
быть может, та слишком далекая Идея, в которую они,
впрочем, уже перестали верить.
Но ты, принц, ты поистине умер. Я сам схоронил
волны великих рек. И кто знает теперь место твоей
блуждающей гробницы? Сам ли ты вел свой народ в пу¬
стыне? Или тебя кто-нибудь вел? Что ты повстречал на
равнине? Там нет ничего. Не правда ли, ты ничего там
не видел? Но ты бы шел еще дальше, если бы не умер.
Принц, я вывел народ из равнины.
О, конечно, я не считал себя пророком вначале, я
не чувствовал себя рожденным для этого. Я был про¬
сто сказочник с городских площадей, Эль-Хадж, и ме¬
ня взяли потому, что я умел петь песни. Говорили, что
на спине у меня есть знак, которым Бог отметил своих
избранников, но сам я не ведал этого; в противном слу¬
чае я не покинул бы города; из страха божия я не по¬
шел бы за ними. Но мог ли я догадаться, что со мною
будет? Пророком я был лишь для других. Они уходили
торопливой толпой, сами не зная зачем и куда. Они за¬
платили мне, чтобы я их веселил, и я к ним присоеди¬
нился; я пел им любовные песни среди скуки долгого
пути и оплакивал вместе с ними женщин, которых мы
не взяли с собой; поэтому они полюбили меня. Мы шли
по направлению к пустыне. Перед нами в закрытых но¬
силках несли принца; никто из нас не мог его видеть.
Ночью он спал один у себя в шатре, и никто из нас не
приближался к нему; немые рабы охраняли его одино¬
чество. Как мог он повести нас за собой? Мы находи¬
лись в некой таинственной зависимости от него; каза¬
лось, все мы непосредственно воспринимали его реше¬
ния. Ибо никто не передавал нам от него никаких при¬
казаний; у нас не было других вождей кроме него; он
же всегда молчал, а если и говорил со своими носиль¬
щиками, то голос его до нас никогда не достигал. Та¬
ким образом казалось, что мы идем за тем, кто как
будто бы и не думал нас вести. Но странно было, и я
336
тогда еще подивился этому, что наше движение, каза¬
лось, было предусмотрено и дорога уже обозначена,
словно какие-то люди, прошедшие здесь до нас, уже
проложили ее. Никто не удивлялся нашему появлению,
и в городах, к которым мы приближались, нам было
так легко достать пищу и на нас обращали так мало
внимания, что казалось, будто ожидание нашего при¬
бытия опережало нас. И однако же было заметно, что
мы не принадлежим к числу тех торговых караванов,
которые кочуют из города в город и к которым населе¬
ние уже привыкло. Нас можно было скорее принять за
войско, если бы мы имели при себе больше оружия, но
никто не обнаруживал никакого страха даже издали,
еще до того, как успевал убедиться в наших мирных на¬
мерениях.
Пройдя владения принца, мы сознательно не оста¬
навливались в городах, но разбивали лагерь у подножия
их стен, со стороны востока. Если город находился сре¬
ди оазиса, мы с наступлением ночи не заходили под
сень деревьев. Там царила пагубная для здоровья про¬
хлада; мы располагались у границы садов, и душа наша
привыкала видеть перед собою только безграничную
ширь.
Иногда перед вечером я проходил по этим садам, со¬
провождая наших посланцев, закупавших припасы на
площадях, где продавцы почти не задавали нам вопро¬
сов; впрочем, вскоре мы не могли уже свободно пони¬
мать их наречие; это был еще наш язык, но выговор
сильно отличался от нашего. Да и что могли мы им от¬
ветить? Только то, что мы идем из южной столицы и
что по мере нашего продвижения к северу видим, что
страна становится все пустыннее и пустыннее. Иногда,
но скорее для своих спутников, чем для этих чужаков,
плохо меня понимавших, и не для маленьких детей, ко¬
торые, если наш лагерь не находился слишком далеко
от города, шли за нами и либо сидели у нас молча це¬
лый вечер, либо перешептывались между собой непо¬
далеку от наших костров, но которых наше дорожное
снаряжение и богато расшитые ткани, свисавшие с шеи
дромадеров, удивляли лишь настолько, чтобы пробу¬
337
дить желание потрогать их кончиками пальцев. Я начи¬
нал петь и пел ночью, пока не наступало время сна:
За собой мы оставили город.
Он богат, велик и прекрасен.
Мы не знали других городов,
И пока не ушли от него,
Мы ему не искали названья.
Но теперь, чтоб о нем говорить,
Чтобы слава о нем разносилась
Вместе с нами по всей земле,
Назовем мы его Баб-эль-Кхур.
Много нам городов повстречалось,
Но прекраснее нашего нет.
Вечером в кофейнях беседы,
И красивые женщины пляшут.
Наши жены нас ждут не дождутся,
И томятся любовью и плачут.
Жен по нескольку все мы имеем,
И пригожа любая из них.
А поля наши все плодородны,
Кукурузу родят и пшеницу.
Государь наш — могучий и сильный,
Подходить к нему близко не смеет,
Чтоб лицо его видеть, никто.
То-то счастье достанется той,
Что в глаза его будет глядеть!
Но сумеет ли встретить богато?
Чем надушит пышные косы?
Где пир приготовит ему?
В те края мы идем.
Средь обширных садов у пруда
В ожиданьи томится невеста.
Только принцу дано ее видеть,
Но на свадебном пире ночном
Опьянимся мы пальмовым соком
И сладчайшим вином.
Так, тщеславясь перед другими, пели мы ^валы на¬
шему городу и предсказывали себе блестящие судьбы,
чтобы люди не чувствовали к нам презрения. Но в но¬
338
чи, когда они нас покидали, мы уже не испытывали
прежней уверенности и говорили: конечно, город, поки¬
нутый нами, велик и прекрасен; но с тех пор мы проде¬
лали долгий путь, а о прочем что нам известно? Разуме¬
ется, надо следовать за принцем, но доколе? Куда? Для
чего он ведет нас за собой? Конечно, принц это знает,
но с кем он захочет говорить?
И хотя они не надеялись получить ответ на свой пе¬
чальный вопрос, я сказал им:
— Со мною он будет говорить.
— Как тебе это удастся? — возразили они.— К нему
никого не подпускают.
— Научимся ждать,— отвечал я.— Кто идет ночью,
в праве вкушать тень в течение дня.
Произнося эти слова, я сам был полон надежды.
На следующий день, когда мы подвигались вперед
по равнине и кругом таяли последние ночные тени, я
думал: что толку в моем пении, если я пою не для
принца? Сегодня ночью я подойду поближе к его шат¬
ру; все они, усталые от дороги, заснут; принц, которо¬
го путь не утрудил, наверное мало спит; он услышит
меня, а я буду петь так сладостно, что ему захочется
снова услышать меня. Об этом я думал целый день;
мое желание поддерживало меня в пути, и мне каза¬
лось, что медлит ночь, которую я собирался наполнить
своими песнями.
Когда наступила ночь, я запел:
— О, ночь! — и все в лагере молчало. Шатер прин¬
ца, стоявший в стороне от лагеря, высился как одино¬
кий холм; за ним расстилалась пустыня.
— О ночь! — и для того, чтобы принц пожалел, что
не слышит моей песни целиком, я прерывал ее останов¬
ками, словно она уносилась по ветру...
Палатка в пустыне.
— Фелука на волнах!
Но о песках, Эль-Хадж, что ты скажешь о них?.. И я
назвал свое странническое имя, думая, что принц—как
оно и случилось — вспомнит о нем впоследствии и по¬
зовет меня к себе. И затем, в то время, как в молчании
339
уродливо вставала огромная луна, я, взволнованный ее
видом, любовался лазурным блеском, сохранившимся в
песках от знойного дня, и у меня вырывались слова:
Они голубее, чем волны морские.
Светозарнее неба были они...
И внезапно, подобно человеку, возносящему жало¬
бы, я вскричал:
— Сколько дней тому назад ты сказал себе: вот уже
удаляются от нас холмы родимой страны, и для поддер¬
жания нашей твердости нам остались одни лишь дале¬
кие воспоминания. Что мы видели с тех пор на равни¬
не? Равнина! Эль-Хадж! Что расскажешь ты о равнине?
Там нет ничего. Не правда ли, ты ничего не видел на
равнине?
— Я видел, как реки, великие реки, бесследно исче¬
зали в песке; не впадали они туда, думаю я; они медлен¬
но впитывались туда, они исчезали там, как надежды.
Иногда они снова появлялись в отдалении; но они, я ду¬
маю, не вытекали из-под земли, а лишь проступали
сквозь песок совсем чистой, прозрачной водой, появля¬
лись вновь, как надежды. А дальше ничего, кроме пес¬
ка; неизвестно даже было, что с ними сталось. Реки, ве¬
ликие реки, не для того, чтобы видеть вас, пришли мы
сюда.
Расскажите, что видели вы на равнине?
По равнине прошел большой караван.
Что ж он мог разглядеть на песке?
Побелевшие коста. Пустые ракушки.
И следа, и следа, и следа,
Что широкий ветер пустыни
Заметал, по просторам носясь.
Что ж увидеть надеялись вы на равнине?
Одинокий, истрепанный ветром тростник?
Для чего же равниной вы шли? Неужели
Ничего вы не ждали увидеть на ней?
Когда наступил день, я стал опасаться, что. спутники
станут докучать мне расспросами о моем пении. Но они
даже не слыхали его.
340
Мы углубились в пустыню. Снова настала ночь, я
опять приблизился к шатру и, когда над пустыней
всплыла багрово-красная луна, воскликнул:
— О ночь! великая ночь! — затем я продолжал бо¬
лее тихим голосом: — Принц, ты путешествуешь в
шатре, подобном лодке, качающейся в волнах. Куда
же несет он тебя? — И, так как в эту ночь со мной бы¬
ла моя лютня, я заставил ее во время пауз отвечать на
вопросы.
— О, унылая равнина, растянувшаяся перед нами,
довольно ли ты понежилась на солнце?
Пустыня! Ужели ты все идешь вдаль, даже когда
спускается ночь?
О, если бы ветер перенес меня на своих крыльях по
ту сторону этого пламенеющего моря!
О, пусть он перенес бы меня туда, где кровавая лу¬
на, этот пастырь небес, омывается, прежде чем выйти
на пастбище!
У воды, среди обширных садов, она наряжается, как
влюбленная дева в свадебный вечер. И она смотрится в
воду.
Ее возлюбленный ждет свадебного вечера — принц
на берегу сокровенных ручьев.
Так все смелее становились мои слова, они почти
утверждали. И однако же — что я знал об этих вещах?
Или я был пророк?.. И я пел все более нежно, то стра¬
стным, то замирающим голосом:
— Принц, где же конец этому странствию?
Или конец его — смертный покой?
Наверно на севере есть и другие сады
Под тусклым небом, где чахнут пальмы.
О чем ты думаешь, принц, или ты спишь?
Принц, когда же я увижу тебя? Чтобы через много,
много вечеров я мог бы ответить маленьким детям: «Да,
да...», когда они спросят меня: «Эль-Хадж! Эль-Хадж!
что ты видел в равнине? Не принца ли, облаченного в
мягкие одежды?» Принц, вся душа моя вздыхает; душа
моя томится по тебе...
И мало-помалу я чувствовал, что, внимая своим сло¬
вам, я начинаю влюбляться в него. И вот, в третью
341
ночь, едва запев, я увидел, как он вышел из шатра при
свете небес, облаченный в мягкие одежды, с лицом, за¬
крытым покрывалом, и пока я еще вопрошал и думал,
что вопрошаю напрасно: «Принц, зачем пошел ты в пу¬
стыню?», голосом более нежным, чем иное пение, ко¬
торое я когда-нибудь слышал, он неожиданно дал мне
ответ:
— Пророк — и более чем пророк — Эль-Хадж!
Добрый странник, это ты? Завтра ты войдешь в мой
шатер!
И я замолк и всю ночь до рассвета рыдал от любви.
На следующий день пустыня покрылась- миражами;
оазисы давно уже не встречались на нашем пути; лишь
изредка, там, где были стоячие воды, высилась жалкая
пальмовая рощица, столь пышнолиственная от миража,
что издали она казалась чудесным оазисом. И ничто,
клянусь вам,— ни высокие города, ни воды, ни паль¬
мы — не разочаровывало нас, о Аллах, так, как эти ми¬
ражи. Иногда мы с рассвета до вечера двигались по на¬
правлению к ним, чтобы с огорчением увидеть, как они,
медленно расступаясь вначале, таяли в лучах угасающе¬
го солнца. Так, от подвига к подвигу будем шагать мы,
Эль-Хадж, до самой смерти, полные надежд, поддержи¬
вая себя миражным видением какого-то счастья, упо¬
добляясь человеку, который, перед тем как заснуть, ста¬
рательно подготовляет себе сновидение. О мертвый
принц! В твоем сне без видений жаждешь ли ты, как
прежде, ключевых вод? О видения рая! Счастлив тот, в
ком лишь черная смерть может вас погасить. Аллах! Ис¬
тина только в тебе. Я знаю, что есть люди, утверждаю¬
щие, будто это совсем не обман, будто прообразы нахо¬
дятся в другом месте и будут под конец открыты,— а
это лишь зыбкая видимость их, отрешенная зноем, бли¬
зится к нам и обманно предлагает нам ее взять. Но ес¬
ли мы не могли овладеть ею, о Аллах, зачем было ее
предлагать? И мы огорчались по утрам, когда горизонт
перед нами казался оперенным листвой и когда даже
прошлое не представлялось нам вполне достовер¬
ным,— до такой степени все, когда мы поворачивались
к солнцу, как бы таяло и как бы почти растекалось. Но
342
теперь я умиляюсь и исполняюсь терпения при мысли о
том, о бедный народ, как велико было твое доверие, ро¬
дившее во мне мою жалость!.. Ибо много ли знал он о
том, чего от него ждут и чего ожидал он сам? Чтобы
идти вперед, им было достаточно веры, что впереди
есть какая-то цель и что принц, который ее наверное
знает, ведет их туда уверенно. Как покорно шли они, не
ведая ничего,— ибо из того, что сообщил мне принц, я
не счел возможным что-нибудь открывать, да они все
равно бы и не поняли. А он сам — разве был он уверен
в том будущем, о котором говорил? Если он верил те¬
перь своей свадьбе, то не потому ли, что слышал, как
пою о ней я? Но он говорил тогда так кротко, так довер¬
чиво и так убежденно о ребенке, который должен у не¬
го родиться и носить его обновленное имя,— имя, кото¬
рого никто не знал и которому суждено было покорить
весь народ; он говорил об этом так уверенно, так серь¬
езно, что, несмотря на наши беседы, я, не понимая его,
тоже начинал верить.
— Эль-Хадж,— говорил он мне тогда,— пойми, ты
должен верить в меня всеми силами. Это необходимо,
для того, чтобы грядущее исполнилось.
— Принц, от любви к тебе я стал в тебя верить.
— Пой, Эль-Хадж! Пой мне теперь о садах, где ждет
меня возлюбленная, но не говори мне о ней самой.
Подумав об однообразии пальм, я говорил себе: что¬
бы заставить мечтать жителя пустыни, надо рассказать
ему о богатой листве и разновидных стволах деревьев
севера. И я пел о густых лесах, об оврагах, запахе лис¬
тьев и мха, о туманах утра и вечера, о ночной свежести,
очаровании дня и прелестной влажности лужаек.
Принц медленно слушал меня. Я пел о местах, где ра¬
ботается легче, где сладострастие ласковее, где лазурь
светлее, воздух менее жгуч и ночи не столь огнисты.
— Скоро ли мы там будем? — спрашивал он.
— Скоро,— отвечал я.
— Пой еще, возлюбленный Эль-Хадж!
—Там,— пел я,— не текут наши соленые воды. Ах,
как сладостны будут нашим ногам ледяные камешки
рек...
343
И половина ночи проходила, пока я пел.
Не знаю, вселяли ли в принца уверенность мои пес¬
ни, но меня самого они необычайно укрепляли. То, о
чем я пел, осуществлялось в действительности; я пел об
этом, а затем начинал верить. Перед народом я чаще
всего облекался в ризу молчания; он верил, что принц
ведет его, и этого было достаточно. Когда же мне при¬
ходилось высказываться, я говорил так:
— Принц ведет вас; он знает, куда ему угодно идти.
Но что мне сказать вам об этом? И я сам, что я перед
ним? Для вас я, правда, пророк; но для принца — слу¬
га.— И, повернувшись к шатру, я простирался ниц в
знак смирения.
Но с каждым разом послеполуденные часы станови¬
лись все более тягостными. Когда миражи не возника¬
ли, мы видели перед собой только рыжие пески равни¬
ны, порою вздымавшиеся дюнами. Чтобы занять чем-
нибудь людей, я изобретал суровые упражнения и нео¬
бычные лишения. В лагерь было взято всего несколько
женщин, но я назначал особые часы, когда разрешалось
их касаться; а между тем сердца этих людей не были,
подобно моему, переполнены любовью к принцу. Перед
ними я держал себя важно и, чтобы они не задавали
вопросов, говорил только вещи несвязные; покорным
обещал награды, бунтарям угрожал карами. Зятем я на¬
правлялся к шатру, куда принц допускал меня только
вечером,— а до самого вечера чувствовал, как слабеет
моя уверенность, воскресавшая в Присутствии принца.
Не знаю, как это случалось, но когда днем я ослабевал,
принц уже знал об этом вечером.
— Эль-Хадж,— говорил он тогда все более слабев¬
шим голосом,— я живу твоей верой; из твоей веры в
меня черпаю я уверенность в том, что существую.
Тогда я еще не понимал, но после каждого дня со¬
мнений вечером я находил его все более слабым. Увы!
именно поэтому каждое утро, при пробуждений, вера
моя оказывалась ослабевшей; и хотя, после ночи, про¬
веденной возле него, я снова обретал уверенность, его
это нисколько не укрепляло.
— Эль-Хадж! — говорил он тогда.— Пророк, испол¬
344
ненный сомнений! Как мало ты любишь! Стоит ли мне
жить твоей любовью?
— Принц,— отвечал я,— я люблю тебя так сильно,
как только могу любить. Только в полдень мне ведомы
колебания. Ночью же я сижу подле тебя и сгораю от лю¬
бовного пыла. Почему не могу я проводить в твоем шат¬
ре весь день? Мы бы все время утешали друг друга.
Днем я тоже люблю тебя; я жду ночи и плачу, что ты не
со мной. Почему ты не позволяешь мне узнать тебя луч¬
ше? Я хочу знать только тебя. Ах, если бы мог я увидеть
твое лицо, принц, это дало бы мне новые силы! — Тог¬
да принц взял мою руку и поверг меня тем в жестокое
волнение... Моя нежность к нему увеличилась, но вера
получила тяжелый удар, ибо рука его горела от жара.
А назавтра, между переходами в течение дня, я пел по¬
дле разбитого шатра, надеясь, что принц услышит меня:
Как по волнам пылающего моря,
По выжженным пескам плывет шатер.
Распахни же, о ветер, завесы шатра!
Вы пронизаны светом, завесы шатра.
Завесы легкотканные, раскройтесь
И моему желанью доступ дайте.
Но от ветра едва хлопал, натягиваясь, холст палатки,
как хлопают паруса корабля. Принц спал весь день и не
слышал моего пения. Тогда я продолжил вполголоса:
Мой милый спит в шатре своем,
И я покой его блюду.
В одиночестве я — значит друга я жду,
Только вечером вижусь я с ним.
А теперь самый поддень и зной. В этот час
И страшится земля, и томится, и жаждет.
В этот час и у доблестных воля робеет,
И у мудрых растеряна мысль,
Добродетель иссякла у чистых —
Ибо жажда — желанье любви,
А любовь — только жажда касаний;
В этот зной обесцвечено все,
Что не пышет, не брызжет огнем.
345
Истомившись от зноя, иные под вечер уж
мужества больше не могут найти.
Другие же ночью пытаются тщетно в пустыне
заблудшие мысли сыскать.
Предвкушая свидание с другом,
Я ласковой ночи бестрепетно жду.
Вот вечер пришел, мой друг пробудился;
Я с ним; вот, мы шепчем слова утешенья,
Он к звездным Садам направляет мой взор,
Я ему говорю о деревьях северных стран
И о тех водоемах холодных,
Где купается, словно влюбленная, пастырь
небесный — луна.
А он меня учит, что наши слова
Придуманы тем, что подвержено смерти,
А то, что не может погибнуть, молчит,
Затем, что успеет еще говорить,
И вечность его повествует о нем.
Сам не знаю почему, я боялся, когда пел, окружен¬
ный .молчаньем пустыни, странных слов принца, кото¬
рые я передавал в моей песне.
Когда же я увидел его этой ночью в полуосвещен¬
ном шатре, он казался усталым.
— Принц,— сказал я ему,— мне нужен залог союза,
твоего союза со мной; он заменял бы мне тебя, и я мог
бы смотреть на него в течение дня.
— Как же ты не понимаешь, Эль-Хадж,— отвечал
он,— что ты сам — залог союза между народом и
мной и что нам с тобой не нужно никакого знака, ибо
я не скрываюсь от тебя. Что нужно тебе, кроме меня
самого? Я знаю, ты занят мной, но ты недостаточно
думаешь о народе. А ведь он знает меня только через
тебя; в твоем лице предстою я перед ним и твоим го¬
лосом говорю. Ты слишком мало говоришь с народом;
как же tbi хочешь, чтобы он меня любил? — Затем,
почти грустным, как мне показалось, и немного изме¬
нившимся голосом он добавил: — Да, я покажу тебе
346
мое лицо; но твоя любовь не насытится от того, что ты
увидишь.— И, встав со своего ложа, шатаясь, как ос¬
лабевший после долгой болезни человек, он припод¬
нял холст палатки и открыл свое бледное лицо перед
бледным ликом небес. Он был красив какой-то
сверхъестественной красотой и казался совсем дру¬
гой расы, чем мы,— но невыразимо бледен, и на ли¬
це его лежала печать такой усталости, что вся моя ве¬
ра стала покидать меня, а место ее заняла простая че¬
ловеческая любовь. И я стоял перед ним без дви¬
женья, без слов, пока не упал к его ногам, не обнял
его хрупких колен и чуть было не лишился сознания
от нежности, сомнений и скорби, почувствовав на
своем слишком пылающем лбу прикосновение его
слишком прохладной руки.
На следующий день к вечеру, после длинного пе¬
рехода, мы перевалили через самую высокую дюну,
и вот перед нами, истомленными от желания, пока¬
залась нежно-лазурная гладь какого-то озера или мо¬
ря. И тогда исступленные крики передних породили
спешку у остальных, и весь лагерь смешался в нево¬
образимом движении; казалось, один вид влаги, та¬
кой уже близкой, насытил их души, полные надеж¬
ды, и утолил их жажду на этот вечер: пав ниц, как
для молитвы, они криками приветствовали воду и,
чувствуя, что их жажда будет скоро утолена, сладо¬
стно упивались ею. То были песни и вопли освобож¬
денной и признательной чувственности; иные пляса¬
ли. Никто не помышлял о том, чтобы двигаться даль¬
ше, как если бы место свершений могли занять обе¬
щанья, как если бы жажду можно было утолить
соленой водой, любовь — видениями, а надежду —
иллюзиями. От нас до берега было не более мили, но
после чрезмерной усталости эта чрезмерная радость
сломила людей. Конечно, с закрытых носилок, всег¬
да шествовавших впереди, принц услышал исступ¬
ленные крики своего народа. Носильщики останови¬
лись на склоне холма и разбили королевский шатер.
347
Солнце склонялось навстречу клубам тумана или пы¬
ли, красневшим под его косыми лучами; пленитель¬
но золотой истаивал за морем горизонт; на мгнове¬
ние воды точно загорелись, отражая неб б', затем све¬
тило внезапно исчезло, и наступила полная глубокая
ночь.
Я знал, что иногда приливы широко стелются по
плоским пескам и что побережья неведомых морей ча¬
сто бывают опасны, и потому был рад, что мы остано¬
вились именно здесь, еще далеко от моря на вершине
холма. Люди расположились лагерем; заблестели ноч¬
ные костры. Шатер принца, едва освещенный, высился
перед лагерем одиноким холмом; море, казалось, на¬
полнило ночь. Я подошел к шатру принца.
Он приподнял холщовую завесу и, наклонившись,
выглядывал из шатра; его лицо было открыто, и глаза
чего-то искали в ночи. Увидев меня, он сказал:
— Я не вижу моря, Эль-Хадж! — Он говорил как-то
таинственно; услышав из его уст мое имя, я придал го¬
лосу почти влюбленную нежность.
—г Ночь слишком темна,— сказал я.— Скоро взой¬
дет луна.
—Я не слышу моря, Эль-Хадж!
—Ах, принц, море это спокойное, и мы находимся
слишком далеко от него.
— Эль-Хадж,— медленно начал он,— на другом бе¬
регу этих вод приготовлен мой свадебный пир, нас
все нетерпеливее ожидают. Эль-Хадж, несмотря на
ночь, в ночи, где никто тебя не увидит, ты пройдешь
до самого моря; луна уже взойдет, когда ты будешь на
берегу; посмотри, виден ли другой его край, можно ли
различить, что там находится; можно ль увидеть, на¬
конец, деревья, огромные деревья, о которых ты пел
в своих песнях. Ступай, мой Эль-Хадж! Эль-Хадж, о
возлюбленный, иди же скорей, а затем тотчас возвра¬
щайся.
Я отправился; я пошел, несмотря на усталость. Я спу¬
стился по склонам дюн и почувствовал вскоре, как тяж¬
ко меня окутала ночь. Обернувшись к лагерю, я не уви¬
дел огней; их скрывал от меня тусклый туман, в кото¬
348
рый я все глубже входил, спускаясь к берегу. Я рассчи¬
тывал на луну, которая должна была осветить мой об¬
ратный путь. Я чувствовал, что устал; так устал, что
почти забывал мою надежду. Помню, меня удивил при¬
торный запах воздуха. Насыщавшая его влажность не
отдавала привольной терпкостью морской соли, но на¬
поминала скорее болотные испарения. Внезапно пары
эти вздрогнули передо мной, всколыхнулись, занялись
серебром, разомкнулись, и, словно пастух в овчарню,
ступила на небо луна.
Она плыла над равниной, полная неведомого спо¬
койствия. Я стоял на краю распростертой передо мною
тайны, где ни разу не шевельнулась волна, где смея¬
лось, блистая, дивное, безгранично расширенное отра¬
женье луны.
Гладь почвы не прерывалась нигде; плоские пески
попросту переходили в нечто иное, дышавшее одино¬
чеством, но, как я понял, то была не вода. Я прибли¬
зился, ступил ногою: какое-то неоформленное вещест¬
во; не вполне гордое, но и не жидкое; скорее пружи¬
нящее под ногой, чем надежное: какое-то не совсем
еще застывшее. Слева от меня в него вдавался узкий
песчаный мысок, на котором росли чахлые камыши. Я
сделал несколько шагов... дальше не было ни земли,
ни воды... какая-то тина, ил, покрытый тонкой пленкой
соли, слабо осеребренной луною. Я хотел двинуться
вперед; хрупкая пленка треснула; я погрузился в от¬
вратительную мягкую грязь. Цепляясь за камыши, на
коленях, а то и на животе, я дополз до песка, чтобы
отдохнуть. Я сел и огляделся. Мое удивление перед
морем грязи, скрытой под слоем соли, продавленным
тяжестью моего тела, было так велико, что я больше
не чувствовал собственного отчаяния. Обессиленный
усталостью, в отупении смотрел я на ясную луну над
светлою ширью, и луна словно смеялась, блистая над
унылой незнаемой равниной, еще более унылой, чем
пустыня.
Но вот поднявшаяся выше луна ярче осветила небо¬
склон, и я увидел по ту сторону моря другой, не столь
уже удаленный берег, и мне показалось, что там скло¬
349
няются долу большие деревья... Но песок, на котором я
устроился, оседал; я принужден был покинуть выступ
и вернуться назад, к тому краю, где это море конча¬
лось. Там я улегся на земле и ощутил всю полноту мо¬
его одиночества и соседство великой необъятности...
Хотя море это, говорил я себе, и узкое, но от этого пе¬
рейти его не легче... и вся моя доблесть внезапно поки¬
нула меня; она не бежала от меня, думается мне; она
исчезала, словно вода, теряющаяся в песке, она исчеза¬
ла бесследно. Внезапно я почувствовал, что и мужест¬
во, и вера покинули меня совсем. Мне казалось, что,
разливаясь и ширясь, во мне возникла некая бесслез¬
ная скорбь, еще более необъятная и такая же унылая,
как пустыня.
Я был слишком утомлен, чтобы тотчас же вернуть¬
ся в лагерь, да и что я мог бы сказать принцу? И тем не
менее блеск этой ночи был так чист и сладостен, что
мой смятенный дух находил в ней отраду. Однако, опь¬
яненный ночью, еще до зари, не желая встретить того,
кто, пробравшись из лагеря к морю и заметив, что оно
не настоящее, стал бы докучать моей скорби пустыми
жалобами, я пустился в обратный путь к палаткам, как
только увидел, что ночь уже скользнула за дюну, где
понемногу начинало светлеть.
Отсветы, со всех сторон возникающие в небе! О
подгибающиеся колени, протянутые руки, тревожно
обнимающая тень... Пророк — это я; да, я. Принц, я
сумел заговорить с твоим народом, в ту самую мину¬
ту, когда ты не мог уже ничего сказать. О эти длин¬
ные переходы в пустыне! Ожидание неведомо чего;
разбитые усталостью ноги; растущая жажда; однооб¬
разный бег времени; томление ночи; нескончаемый
день; оазисы, исчезающие к вечеру. Деревья север¬
ных стран; смутно манящие зеленые ветви; о холмы,
холмы, уносящиеся к небу, по которым ты идешь и
идешь, за которыми нет уже сил... Блики луны, оза¬
ряющие палатки; конец ночи; отсветы, сс всех сто¬
рон возникающие в небе... Затем приподнятая завеса
шатра; таинственный шатер, в который я вошел! За¬
веса упала, как падает молчание, скрывающее тайну.
350
Я склонился над ложем, озаренным меркнущим пла¬
менем... ужасающе плоским ложем, на котором, ка¬
залось, никого не было, на котором без признака
жизни покоился принц.
Принц, ты ошибся; я ненавижу тебя. Ибо я не родил¬
ся пророком; меня им сделала твоя смерть; ты больше
не говорил, и мне пришлось заговорить с народом... На¬
роды, покинутые в пустыне, я оплакиваю только вас. А
что до тебя, исчезнувший принц, я далее не знаю, нена¬
вижу ли я тебя... Но я томлюсь тоскою, голодом и уста¬
лостью оттого, что так сильно любил; и от воспомина¬
ний о ночах, проведенных с тобой, мое одиночество
становится все безысходнее.
До тех пор я не любил народ, но тут почувствовал к
нему жалость. А ты любил ли его? Во имя какого блага
увел ты его из городов? До нас не донесся шум твоего
брачного пира. Мы не услышали пения флейт и кимва¬
лов. Мой слух полон ожидания. Где был отпразднован
этот пир, ибо гул его уже замер? Принц, я этого не ска¬
жу никому... никто не знает, что только в смерти так
бесшумны брачные пиршества.
Принц, мне пришлось обмануть народ, потому что
ты уже обманул его и потому что, зная о твоей лжи, я
сжалился над нею. Принц, жалкую твою долю продол¬
жил я и после твоей смерти. Я заново проделал твою до¬
рогу. Ты водил народ в пустыню; я привел его обратно
в город; я вернул его, чтобы он мог насытиться, чтобы
он мог утолить свой голод, ибо ты заставил нас пастись
на бесплодных песках, о нерадивый пастырь...
Раннее утро едва трепетало; был час, когда, еще в
недавние дай, я обычно покидал принца. Я вышел из
шатра с сухими глазами и спокойным лицом. К воде
еще никто не подходил. Я хотел подготовил, их к пред¬
стоящему отчаянию, изобразить в виде наказания ужас¬
ное разочарование, ожидавшее их при приближении к
морю. Для этого я должен был изобрести вину и предо¬
ставить народу случай совершить грех, способный оп¬
равдать наказание, дабы они могли увидеть в пережи¬
351
том нечто почти заслуженное и благодаря этому, если
не меньше скорбеть, то во всяком случае подчиниться
мне и бояться меня. Я, которого вела любовь, мог заста¬
вить их вернуться только страхом. И поэтому, несмот¬
ря, на их нетерпение и жажду, я сказал им:
— Принц хочет подвергнуть испытанию вашу вер¬
ность. Он не желает идти к долгожданному берегу по¬
сле вас. «Разве я не первый? — сказал он.— Не мне ли
первому подобает омыться в этих водах и испить их?
Горе тому, кто отправится к морю раньше меня; он до¬
рого заплатит за подобную дерзость, но кара постиг¬
нет не только его. Даже если в вашей среде окажется
один только грешник, все вы разделите наказание за
его проступок. Ибо гнев мой превзойдет все ожидания
и на много превысит ваш грех. Хочу,— сказал он
мне,— чтобы народ боялся меня, и надеюсь на его пол¬
ную покорность; а проступок, даже если его совершит
один человек, будет для меня знаком всеобщего непо¬
слушания».— Но внимайте: я не намерен идти к морю
сегодня, не собираюсь делать этого завтра и отправ¬
люсь, только послезавтра утром. И в этом будет заклю¬
чаться испытание: несмотря на вашу жажду, ждите.
Прежде чем идти к воде, в знак благодарности Богу
должен быть воздвигнут алтарь для жертвоприноше¬
ний. На это вы употребите два дня ожидания. Вы воз¬
двигнете алтарь на очень малом расстоянии от моря,
невзирая на то, что его придется делать из зыбучих пе¬
сков. Вместо извести возьмете гипс, а у подножия
дюн — глыбы сбившегося песка. Вам придется проры¬
вать алтарь вниз как погреб. Ступайте. Я хочу, чтобы
все приняли участие в работе. Я спешу совершить жер¬
твоприношение.
В течение двух скучных дней работа, несмотря на
принуждение, быстро продвинулась. Не знаю, может
быть кто-нибудь из них нарушил втайне запрет. Это не
имело значения. Даже если бы все подчинились, море
все равно осталось бы таким, как есть. Всегда можно
было предположить, что кто-нибудь один согрешил, и
за него приходится страдать другим, ибо всем никак не
узнать, что сделал один из них.
352
В течение двух скучных дней море было лазурным;
неясно обозначался противоположный берег, увенчан¬
ный миражами, менявшимися в зависимости от време¬
ни дня. Я оставался подле палатки принца, чтобы об¬
легчить им возможность впасть в грех. Ночью я выхо¬
дил к морю, о вероломстве которого уже знал. Я садил¬
ся почти у самого края, наслаждаясь одним
созерцанием. Вс'гавала луна, более полная чем накану¬
не; не зная гнета удивления, я мог свободнее любовать¬
ся ею. Казалось, что тишина здесь подлинно существу¬
ет, как некая реальная вещь, и что тишина эта — мое
поклонение. Ибо я раньше не знал, что ночь может
быть столь прекрасной. И я ощутил в глубине своего
существа, много глубже, чем сам про себя знал, совсем
иную любовь, в тысячу раз более пылкую, более неж¬
ную и мирную, чем любовь к принцу, и мне казалось,
что безграничный покой, царивший кругом, вторит
моей новой любви.
Поэтому, когда на третью, еще более тихую ночь, лу¬
на осветила мой путь к берегу, когда я, усталый путник,
пронес, как ночной вор, ухватившись за край плаща, на¬
бегавшего ему на лицо, принца, чья нагота мне стала те¬
перь видна, но, увы! Как труп, о котором не стоило
больше думать; когда я положил его под алтарь, где во
искупление своего мнимого греха народ должен был
совершить жертвоприношение, когда я распростер его
в тесном подземелье, вырытом по моему приказанию
для этой цели... тогда, безутешно освобожденный от
любви, владевшей моей душою, один в этой ночи, я
смог крикнуть от радости и, откинув мертвое прошлое,
дать волю голосу надежды. Я прежде не подозревал,
как утомило меня это паломничество; но в тот вечер, в
последний раз придя к прибрежью, я уже без всякого
страха созерцал это море — страшное, в конце концов,
лишь для того, кому нужно было через него перейти. И
оно показалось мне столь прекрасным, что моя вчераш¬
няя вера была медленно сдвинута с места; поклонение
мое, еще живое по-прежнему, но со времени смерти
принца растерявшееся, мощно расширилось до самых
пределов бесконечной пустыни; и так как душа моя
353
преисполнилась серьезности и величия, я подумал, что
это счастье.
Теперь, когда я знаю, что счастье невозможно, я со¬
мневаюсь, переживал ли я его тогда. Помнится, что мне
хотелось петь, но так как петь было не для кого, я толь¬
ко повторял, все время повторял про себя, уже не пони¬
мая своей мысли: Принц! кто же умер? И почему я чув¬
ствую себя столь живым?
Радость? Быть может. Тогда мне было еще непонят¬
но, до какой степени полной была в то самое мгновенье
его победа. Ибо он был мертв только для меня одного,
единственного, кто его любил. Его пустые носилки дол¬
жны были все время шествовать перед народом, как
будто он был там; я должен был беспрестанно свиде¬
тельствовать, что видел его, и говорил только для того,
чтобы передать народу его слова. Я сначала не пони¬
мал, какой тяжестью ляжет на меня реальность этой
лжи, не понимал, что умерший принц продолжает жить
в моей лжи. Ибо любовь моя разгорелась еще сильнее
оттого, что я постоянно видел его в моем воображении.
Я знал, что он безусловно мертв; я не мог представить
его себе иначе, как живым. Иной раз, ночью, я спал в
его шатре совсем один. И мой сон, лишенный видений,
становился для меня образом его смерти; но порою, ра¬
ди других, я располагался неподалеку от шатра и делал
вид что пою для него; тогда я вспоминал о наших но¬
чах, и мне было грустно, что я видел его лицо. В своей
скорби я неумолимо продолжал делать вид, что и он
присутствует среди нас. Каждый день ему, как живому,
приносилась пища; все, что я делал, желая доказать дру¬
гим его присутствие, только сильнее убеждало меня,
что его уже нет. Чем сильнее я чувствовал, что ему над¬
лежало быть среди нас, тем яснее мне становилось, что
он ушел навсегда.
И тогда во мне зародилась мысль, томительная и
властная как желание: конечно, Душа моя еще вкусит
от счастья, которое близко, но лишь тогда, когда совер¬
шенно освободится и от народа и от любви...
Теперь народ покинул меня; он возвратился наконец
в город. Я вывел его из пустыни. Он не любил меня, так
354
как я пророчествовал сурово, чтоб не разжалобиться; и
он не любил принца, ибо я приписывал ему только су¬
ровые слова. Я не мог говорить о любви, ибо мне при¬
ходилось лгать. Надо было до самого конца внушать
страх и уважение, не обнаруживая своей слабости. Раз
у меня не было подлинной силы, я должен был притво¬
ряться... Теперь я знаю, что пророком можно сделаться
лишь тогда, когда теряешь своего бога. Ибо если бы он
не молчал, к чему были бы наши слова?
Разумеется, я творил ложные чудеса; я извлекал во¬
ду из камня, я делал сладкими горькие источники, а
когда налетели перепела, я приписал это силе моей мо¬
литвы. Когда Бубакер восстал, сам не знаю, как я упра¬
вился с его мятежом: вернее всего мной владело тогда
отчаяние. Я грозил. После этого никто уже не сомне¬
вался в моей силе; только я один в ней не был уверен.
Мой пастырский подвиг закончен; душа моя нако¬
нец свободна. О чем я теперь провозглашу от радости?
Я не могу больше петь одни только песни. Я, омытый
любовью, не стану больше петь стихи на городских пло¬
щадях и увлекать детей в пляску. Я не могу больше
знать один лишь город, я не могу жить так, будто я не
странствовал по пустыне. Что тебе теперь делать, Эль-
Хадж? Принц умер, но что я знаю о его смерти? Я вспо¬
минаю о свадьбе, которая готовилась для него, как буд¬
то он вовсе не умирал... Да, да, я знаю, что в городе, во
дворце подрастает младший брат принца... Но ждет ли
он, чтобы мой голос повел его? И не начну ли я с ним
и с новым народом новое приключение, каждый шаг
которого мне будет знаком?.. Или, подобно душам, по¬
витым трауром и вскормленным горьким пеплом, я
уйду теперь совсем один и буду как те, таящиеся ото
всех люди, блуждающие вокруг кладбищ и ищущие ни¬
где не обретаемого покоя в пустынных местах.
ФИЛОКТЕТ
Действие первое
Низкое серое небо над равниной, покрытой снегом и льдом.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Улисс и Неоптолем.
Неоптолем. Все готово, Улисс. Лодка уже на при¬
чале. Я выбрал самое глубокое место, защищенное от
северного ветра, из опасения, как бы море от него не
замерзло. И хотя этот холодный остров населен, кажет¬
ся, только птицами береговых утесов, я поставил лодку
в такое место, где ни один человек, проходящий вдоль
берега, ее не увидит.
Душа моя тоже готовится; душа моя готова к жертве.
Теперь говори, Улисс! Все готово. Четырнадцать дней си¬
дел ты, склонившись над веслами или над рулем, и ниче¬
го не говорил, кроме резких слов команды, чтобы убе¬
речь нас от ярости волн; твое упорное молчание скоро
отбило у меня охоту задавать вопросы; я понял, что ве¬
ликая печаль угнетала твою драгоценную душу, ибо ты
вел меня на смерть. Замолчал и я, чувствуя, что все на¬
ши слова слишком быстро уносятся ветром в безгранич¬
ный простор моря. Я ждал. Я видел, как за нами, за го¬
ризонтом моря, скрываются прекрарные Скирийские бе¬
рега, где сражался мой отец; потом острова золотисто¬
песчаные или каменистые, которые я любил, ибо они
казались мне похожими на Пилос; тринадцать раз видел
я, как солнце погружается в море: каждое утро оно вы¬
ходило из вод все бледнее и затем медленнее поднима¬
лось на меньшую высоту, чем накануне; и наконец на че¬
тырнадцатое утро мы тщетно прождали его; с тех пор мы
живем как бы вне ночи и дня. Льды проплывали по мо¬
рю, я больше не в силах был уснуть из-за этого ровного
бледного света, и если ты обращался ко мне, то лишь для
того, чтобы привлечь мое внимание к ледяным полям, от
которых спасал нас удар весла. А теперь говори, Улисс,
душа моя приготовилась; и не так, как козлы Вакха, ко¬
торых ведут на заклание, покрытых праздничными укра¬
шениями, а как Ифигения, которая подошла к алтарю в
простой, пристойной, ничем не украшенной одежде. Ко¬
нечно, я хотел бы, подобно ей умирая за родину без жа¬
лоб, умереть среди греков, на земле, обласканной луча¬
ми солнца, и показать моей добровольной смертью все
мое уважение к богам и всю красоту моей души; она му¬
жественна и не стала сопротивляться. Тяжело умереть
без славы. Впрочем, о боги! я не чувствую горечи, мало-
помалу покинув все, и людей, и солнечные берега... и те¬
перь, на этом негостеприимном острове, без деревьев,
без солнца, где снег покрывает зеленую траву, где все
сковано морозом, а небо такое белесое, такое серое, что
кажется простертой над нами снежной равниной, вдали
от всего... мне кажется, что это уже смерть; мысль моя
с каждым часом становилась столь холодной и чистой,
отрешившись от всякой страсти, что здесь остается уме¬
реть только моему телу.
Но по крайней мере, Улисс, скажи мне, что таинст¬
венный Зевс, ублаготворенный моей верной кровью, да¬
рует грекам победу; по крайней мере, Улисс, ты им ска¬
жешь, не правда ли, что ради этого я умираю без стра¬
ха... ты им скажешь...
Улисс. Дитя, ты не должен умереть. Не улыбайся.
Теперь я скажу тебе все. Слушай меня и не прерывай.
О, если бы принесение в жертву одного из нас удовлет¬
ворило богов! То, ради чего мы явились сюда, Неопто-
лем,— труднее чем умереть...
Остров этот, который кажется тебе пустынным, на
самом деле обитаем. На нем живет грек, по имени Фи-
локтет; его любил твой отец. Некогда он сел с нами на
357
один из кораблей нашего флота, который, полный гор¬
дости и надежд, отплывал из Греции в Азию; он был дру¬
гом Геракла и одним из благороднейших среди нас; ес¬
ли бы ты не жил до сих пор вдали от лагеря, ты бы уже
знал его историю. Кого не восхищала его доблесть? И
кто не называл ее впоследствии дерзостью? Это она обу¬
яла его на неведомом острове, у которого остановился
наш флот. Странен был вид берегов. Дурные предзнаме¬
нования сбавили нашу отвагу. По словам Калхаса, боги
велели совершить на этом острове жертвоприношение,
и каждый из нас ждал, чтобы на берег сошел кто-нибудь
другой; вот тогда-то Филоктет весело предложил свои
услуги. Коварная змея укусила его на берегу. Вернув¬
шись на корабль, Филоктет сначала с улыбкой показал
нам небольшую рану возле ступни. Она загноилась. Фи¬
локтет скоро перестал улыбаться; лицо его побледнело,
и помутневшие взоры наполнились тревогой и изумле¬
нием. Через несколько дней его опухшая нога отяжеле¬
ла; и он, никогда дотоле не жаловавшийся, начал горе¬
стно стонать. Сперва все наперерыв принялись утешать
его и развлекать; ничто не помогало; его надо было бы
вылечить; но когда искусство Махаона оказалось бес¬
сильным против его раны, а вопли его угрожали отнять
у нас мужество, то корабль, подошедши к другому ост¬
рову, т. е. к нашему, покинул его здесь одного с луком
и стрелами, которыми нам теперь предстоит заняться.
Неоптолем. Как? Одного? Вы его покинули, Улисс?
Улисс. Ну, если бы его ожидала смерть, мы могли
бы, я думаю, держать его еще некоторое время. Но нет:
рана его не смертельна.
Неоптолем. Так что же?
Улисс. Так вправе ли мы были подчинять мужест¬
во целого войска страданиям и жалобам одного челове¬
ка? Видно, что ты его не слышал!
Неоптолем. Значит, вопли его были ужасны?
Улисс. Нет, не ужасны, а жалобны; они размягча¬
ли жалостью наши души.
Неоптолем. Разве не мог кто-нибудь остаться,
чтобы смотреть за ним? Как может он жить здесь, боль¬
ной и одинокий?
358
Улисс. У него есть лук.
Неоптолем. Лук?
Улисс. Да! Лук Геракла. И кроме того, дитя, я дол¬
жен сказать тебе $ще одно: от его гниющей ноги по все¬
му кораблю разносился невыносимый смрад.
Неоптолем. Вот как?
У л и с с. Да. Кроме того, поглощенный своей болезнью,
он был неспособен на новые подвиги во славу Греции...
Неоптолем. Очень жаль. Так мы с тобой, Улисс,
прибыли сюда, чтобы...
Улисс. Послушай еще, Неоптолем. Ты ведь знаешь,
сколько крови пролито, сколько доблести, терпения и
мужества расточено под стенами давно обреченной
Трои; покинуты наши очаги и милая родина... Всего это¬
го оказалось недостаточно. Через Калхаса, жреца, боги
наконец объявили, что только лук и стрелы Геракла, в
качестве крайнего средства, могли бы дать Греции по¬
беду. Вот зачем мы вдвоем отправились сюда,— да бла¬
гословен будет выпавший нам жребий! — и мне кажет¬
ся, что теперь на этом отдаленном острове, вдали от
всех страстей, решится наконец наша великая судьба, и
сердца наши, более чем когда-либо преданные родине,
преисполнятся наконец самой совершенной доблести.
Неоптолем. Это все, Улисс? А теперь, сказав это
так хорошо, что ты намерен делать? Ибо мой ум еще от¬
казывается понять твои слова до конца... Скажи: для че¬
го мы сюда приехали?
Улисс. Чтобы взять лук Геракла; разве ты этого не
понял?
Неоптолем. Так это и есть твой замысел?
Улисс. Не мой, но богами мне внушенный.
Неоптолем. Филоктет не захочет его нам усту¬
пить.
Улисс. Поэтому мы захватим его хитростью.
Неоптолем. Улисс, я тебя ненавижу. Отец запове¬
дал мне никогда не прибегать к хитрости.
Улисс. Она сильнее, чем сила, которая не умеет
ждать. Твой отец умер, Неоптолем; я живу.
Неоптолем. Разве ты не говорил, что лучше уме¬
реть?
359
Улисс. Я не говорил, что лучше,— я говорил, что
легче умереть. Но ради Греции нет ничего слишком
трудного.
Неоптолем. Улисс, зачем же ты выбрал меня? За¬
чем понадобился я тебе для этого дела, которое претит
мне до глубины души?
Улисс. Потому что я сам его совершить не могу!
Филоктет меня хорошо знает. Если он уввдит меня од¬
ного, он заподозрит какую-нибудь хитрость. Твоя не¬
винность будет нам зашитой. Это дело должен совер¬
шить ты.
Неоптолем. Нет, Улисс; клянусь Зевсом, я не со¬
вершу его.
Улисс. Дитя, не говори о Зевсе. Ты не понял меня.
Слушай. Оттого что измученная душа моя таится и со¬
глашается взять на себя это дело, ты считаешь меня ме¬
нее опечаленным, чем сам ты? Ты Филоктета не зна¬
ешь, а я — его друг. Обмануть его мне тяжелее, чем те¬
бе. Веления богов жестоки; на то они и боги. Если я не
говорил с тобой в лодке, то потому, что моему опеча¬
ленному сердцу было не до слов... Но ты горячишься,
как твой отец, и не слушаешь голоса разума.
Неоптолем. Отец мой умер, Улисс; не говори о
нем; он умер, сражаясь за Грецию. Ах, бороться за нее,
страдать, умереть — требуй от меня, что угодно — но я
не предам друга моего отца!
Улисс. Дитя, выслушай меня и отвечай: разве ты не
друг всех греков, прежде чем быть другом одного из
них? Или лучше: разве родина не больше, чем один че¬
ловек? И разве ты позволил бы себе спасти одного че¬
ловека, если ради этого тебе пришлось бы погубить всю
Грецию?
Неоптолем. Улисс, ты прав. Я бы этого себе не по¬
зволил.
Улисс. И ты согласен: если дружба драгоценна, то
родина еще драгоценнее?.. Скажи мне, Неоптолем, в
чем состоит добродетель?
Неоптолем. Научи меня, мудрый сын Лаэрта.
Улисс. Укрощай твои страсти; подчиняй все долгу...
Неоптолем. Но что же такое долг, Улисс?
360
Улисс. Голос богов, веление общины, самопожерт¬
вование ради блага Греции. Известно, что влюбленные
ищут вокруг самых лучших цветов, чтобы принести их
в дар своей возлюбленной, и желают умереть за нее,
как будто у них, несчастных, нет для подарка ничего
лучшего, чем они сами,— так если правда, что родина
тебе дорога, разве ты бы отказался пожертвовать ей са¬
мым дорогим для тебя? А ты ведь сейчас согласился,
что первое место после нее занимает дружба. Что, как
не родина, была Агамемнону дороже его дочери? Поэ¬
тому ты должен заклать, как на алтаре... а что до Фи-
локтета — то есть ли у него на этом острове, где он жи¬
вет совсем один, что-либо дороже этого лука для при¬
несения в дар родине?
Неоптолем. В таком случае, Улисс, попроси его.
Улисс. Он может отказать. Мне неизвестно, в ка¬
ком он сейчас расположении, но я знаю, что он разгне¬
ван на покинувших его военачальников. Может быть он
гневит богов своими мыслями, святотатственно пере¬
став желать нам победы. И может быть оскорбленные
боги пожелали еще сильнее покарать его через нас. Ес¬
ли его принудить к добродетели, заставив отдать ору¬
жие, боги будут к нему менее суровы.
Неоптолем. Но разве, Улисс, действия, совершен¬
ные помимо воли, могут быть вменены в заслугу?
Улисс. А разве ты не считаешь, Неоптолем, что
прежде всего следует исполнять веления богов? Хотя
бы и без согласия каждого отдельного человека?
Неоптолем. Все, что ты говорил до сих пор, я
одобрял; но теперь я, право, не знаю, что мне сказать, и
даже, кажется...
Улисс. Тс-с! Прислушайся... Ты ничего не слышишь?
Неоптолем. Слышу: шум моря.
Улисс. Нет. Это он! Его ужасные вопли начинают
доноситься до нас.
Н е о пто л ем. Ужасные?! Я, напротив, Улисс, слышу
мелодичное пение.
Улисс (прислушиваясь). Да, действительно, он по¬
ет. Это мне нравится! Теперь, в одиночестве, он поет!
Когда он был с нами, он кричал.
361
Неоптолем. Что он поет?
Улисс. Слов еще нельзя разобрать. Слушай; он при¬
ближается.
Неоптолем. Он перестал петь. Он останавливает¬
ся. Он увидел наши следы на снегу.
Улисс (смеется). И поэтому снова начинает кри¬
чать. Ах, Филоктет!
Неоптолем. Действительно, вопли его ужасны.
Улисс. Вот что: сбегай, положи мой меч на эту ска¬
лу; пусть он увидит греческое оружие и знает, что за¬
меченные им следы принадлежат его соотечественни¬
ку. Скорее. Он уже близко. Хорошо. Теперь иди сюда;
станем за этим снежным холмом; так мы его увидим,
оставшись незамеченными. Какими проклятиями он
разразится! «Несчастные,— скажет он,— да погибнут
греки, которые меня покинули. Военачальники! Ты, ко¬
варный Улисс! Вы, Агамемнон, Менелай! Пусть и их из¬
гложет моя болезнь! О смерть! Смерть, которую я при¬
зываю каждый день, останешься ли ты глухой к моим
мольбам? Так никогда и не придешь? О, пещера, скалы,
холмы, немые свидетели моих страданий, вы так никог¬
да и...»
Входит Филоктет; он замечает шлем и вооружение, лежа¬
щие посреди сцены.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Филоктет, Улисс, Неоптолем.
Филоктет (молчит).
Действие второе
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Улисс, Филоктет, Неоптолем. Все трое сидят.
Филоктет. Да, Улисс, только с тех пор, как я нахо¬
жусь вдали от других, мне стало понятно, что называют
добродетелью. Человек, живущий среди других, не спо¬
362
собен, поверь мне, не способен на чистый и подлинно
бескорыстный поступок. Итак, вы... явились сюда... За¬
чем?..
Улисс. Затем, чтобы повидать тебя, дорогой Фи-
локтет.
Филоктет. Не верю ни на грош, да мне все равно;
я с большим удовольствием вижу вас здесь, и с меня
этого довольно. Я утратил дар искать мотивы поступков
с тех пор, как мои собственные поступки не имеют
больше тайных мотивов. Для кого мне казаться тем, кто
я есть в действительности? Я забочусь только о том,
чтобы быть. Я перестал стонать, зная, что ничье ухо ме¬
ня здесь не услышит; перестал желать, зная, что ниче¬
го здесь мне не добиться.
Улисс. Почему ты не перестал стонать раньше, Фи¬
локтет? Мы бы тебя не оставили.
Филоктет. Так поступать мне не следовало,
Улисс. При других мое молчание было бы ложью.
Улисс. А здесь?
Филоктет. Мои страдания не нуждаются больше в
выражающих их словах, потому что знать о них могу
только я.
У л и с с. Значит, после нашего отъезда ты все молчал?
Филоктет. Нет. Но с тех пор, как мои жалобы слу¬
жат не для проявления страданий, они стали прекрасны¬
ми; настолько, что я нашел в них утешение.
Улисс. Тем лучше, бедный мой Филоктет.
Филоктет. Только пожалуйста не жалей меня! По¬
вторяю, я перестал желать, зная, что мне ничего не до¬
биться... Правда, ничего не добиться извне, но от себя
самого я могу добиться многого; вот с этой-то поры я
возжелал добродетели; душа моя всецело этим погло¬
щена, и, несмотря на мою боль, я пребываю в спокойст¬
вии,— пребывал, по крайней мере, когда явились вы...
Ты улыбаешься?
Улисс. Я вижу, что ты сумел найти себе занятие.
Филоктет. Ты слушаешь меня, не понимая. Разве
ты не ценишь добродетели?
Улисс. Ценю: мою собственную.
Филоктет. В чем же она заключается?
363
Улисс. Ты бы меня все равно не понял... Погово¬
рим лучше о греках. Твоя одинокая добродетель заглу¬
шила в тебе воспоминание о них?
Филоктет. Да, конечно, она заглушила во мне раз¬
дражение против них.
Улисс. Слушай, Неоптолем! Итак, успех в битве,
ради которого...
Филоктет. ...вы меня покинули... что прикажешь
мне о нем думать, Улисс? Вы меня покинули для того,
чтобы победить, не правда ли? Итак, я надеюсь, что вы
вышли победителями...
Улисс. А если нет?
Филоктет. Если нет,— мы считали Элладу слиш¬
ком великой. Я же на этом острове, пойми ты, с каждым
днем делался все менее греком и все более человеком...
Однако, видя вас, я чувствую... Ахилл умер, Улисс?
Улисс. Ахилл умер; мой спутник — его сын. Как!
Ты рыдаешь, Филоктет?.. Твой вожделенный покой...
Филоктет. Ахилл!.. Дитя, дай мне погладить твое
прекрасное чело... Давно, давно уже рука моя не прика¬
салась ни к чему, кроме холодных предметов; и даже
тела птиц, которых я убиваю, падая на волны или снег,
делаются, когда я до них дотрагиваюсь, ледяными, как
те верхние области атмосферы, где они летают...
Улисс. Для человека страдающего ты говоришь
очень складно.
Филоктет. Где бы я ни был, я всегда остаюсь сы¬
ном Греции.
Улисс. Но тебе здесь не с кем говорить.
Филоктет. Я ведь объяснил тебе; неужели ты ме¬
ня не понял? Я гораздо лучше выражаю свои мысли с
тех пор, как не говорю с людьми. Между охотой и
сном я занимаюсь размышлением. В одиночестве мыс¬
лей моих ничто не отвлекает, даже боль, и они приня¬
ли тонкий оборот, так что мне иногда трудно за ними
следить. Я постиг больше тайн жизни, чем открыли
мне все мои учителя. Я занимался также тем, что рас¬
сказывал себе о своих страданиях, и чем красивее вы¬
ходила фраза, тем больше я утешался; порой даже, по¬
вторяя ее, я забывал свое горе. Я понял, что слова зву¬
364
чат красивее, когда не служат больше для выражения
просьб. Так как вокруг меня не было ни ушей, ни ртов,
я пользовался только красотой моих слов; я кричал их
на весь остров, блуждая вдоль побережий; и остров,
внимая мне, казался менее пустынным; природа как
бы уподоблялась моей печали; мне казалось, что я —
ее голос и что немые скалы ожидали его, чтобы пове¬
дать о своих недугах; ибо я понял, что все вокруг меня
недужно... и что холод этот ненормален,— я ведь по¬
мню Грецию... И мало-помалу я усвоил привычку воз¬
глашать не столько свою скорбь, сколько скорбь ве¬
щей; я находил, что так лучше, как тебе сказать? Впро¬
чем, то была та же скорбь, что и моя, и это служило
мне утешением. Далее, самые красивые фразы получа¬
лись у меня, когда я говорил о море, о его бесконеч¬
ных волнующихся водах. Признаться ли тебе, Улисс,
некоторые из этих фраз были так прекрасны, что я ры¬
дал от огорчения, что ни один человек не может их ус¬
лышать. Услышь он меня, вся его душа изменилась бы,
думал я. Внимай же, Улисс, внимай. Никто еще меня
не слушал.
Улисс. Я вижу, ты привык говорить так, чтобы те¬
бя не перебивали. Ну, начинай.
Филоктет (декламируя). Улыбки без конца вол¬
ны морской...
Улисс (смеясь). Да ведь, Филоктет, это из Эсхила.
Филоктет. Может быть... Тебе это не нравится?..
(Продолжая.) Рыданья без конца волны морской...
(Молчание.)
У л и с с. А дальше?
Филоктет. Дальше не знаю... Я смущен.
Улисс. Очень жаль! Ну, как-нибудь в другой раз.
Неоптолем. Пожалуйста продолжай, Филоктет.
Улисс. Смотри-ка! Мальчик слушал тебя!
Филоктет. Дальше не знаю.
Улисс (поднимается). Я ненадолго тебя покину,
чтобы дать тебе время собраться с мыслями. До скоро¬
го свидания, Филоктет. Но скажи: значит и в самом тя¬
желом плену бывает покой, бывает забвение, бывают
передышки?..
365
Филоктет. Пожалуй, Улисс; однажды упала птица,
которую я подстрелил, которую стрела моя только ра¬
нила, которую я надеялся оживить. Но где уж этот ле¬
тавший в небе порыв сохранить на уровне утесистой
земли, где холод придает даже замерзшей воде форму
моих логических мыслей. Птица умерла; через не¬
сколько часов я увидел ее смерть; чтобы отогреть ее, я
душил ее поцелуями, дышал на нее. Она умерла от по¬
требности летать... Мне даже кажется, дорогой Улисс,
что струя поэзии, едва сорвавшись с моих уст, застыва¬
ет и умирает от невозможности разлиться кругом и что
слабеет внутреннее пламя, ее оживляющее. Скоро, еще
продолжая влачить жизнь, я стану совершенной отвле¬
ченностью. Холод овладевает мною, дорогой Улисс, и
меня это приводит в ужас, ибо я нахожу в нем, и в са¬
мой его суровости, некую красоту.
Я уверенно ступаю по окаменевшим предметам и за¬
стывшим жидкостям. Не предаваясь больше мечтам, я
мыслю. Больше я не лелею надежд, и потому не знаю
больше опьянения. Когда я здесь, где все — твердый ка¬
мень, кладу что-нибудь... ну, хотя бы зерно, я нахожу
его, много времени спустя, таким же: никогда оно не
дает ростка. Здесь ничто не становится, Улисс; все пре¬
бывает, все остается. Словом, здесь можно предаваться
умозрению. Я сохранил ту мертвую птицу: вот она;
слишком холодный воздух не дает ей разложиться. И
мои поступки, Улисс, и слова мои, точно заледенев,
пребывают неизменными, окружают меня подобно
кольцу нерушимых скал. И, находя их каждый день на
том же месте, я чувствую, что все страсти мои умолка¬
ют, я ощущаю Истину все более крепкой,— и мне хо¬
чется, чтобы и поступки мои были все более твердыми
и прекрасными,— истинными, кристальными, прекрас¬
ными, прекрасными, Улисс, как кристаллы светлого
инея, сквозь которые, если бы показалось солнце, сол¬
нце прошло бы все целиком. Я не хочу служить препят¬
ствием ни одному Зевсову лучу; пусть он проходит
сквозь меня, Улисс, как сквозь призму, и пусть этот пре¬
ломленный свет придает моим поступкам обаяние. Мне
хотелось бы достичь величайшей прозрачности, уничто¬
366
жить мою темноту, хотелось бы, чтобы, видя мои по¬
ступки, ты сам ощутил бы свет...
Улисс (уходя). Ну, прощай. (Указывая на Неоп-
т о л ем а.) Поговори с ним, раз он тебя слушает. (Вы¬
ходит.)
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Филоктет, Неоптолем.
Неоптолем. Филоктет, научи меня добродетели...
Действие третье
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Филоктет входит
Филоктет (потрясенный изумлением и скорбью).
Слепой Филоктет! Признай твою ошибку и оплачь твое
безумие! И твое сердце могло обрадоваться при виде
греков!.. Хорошо ли я расслышал? Разумеется: Улисс си¬
дел, возле него был Неоптолем. Не зная, что я нахо¬
жусь поблизости, они даже не понизили голоса. Улисс
давал советы Неоптолему и учил его предательски об¬
мануть меня; говорил ему... Несчастный Филоктет! Они
явились к тебе, чтобы похитить твой лук! Как он им ну¬
жен!.. Драгоценный лук, единственное оставшееся у ме¬
ня добро, без которого я... (Прислушивается.) Идут! За¬
щищайся, Филоктет! Лук твой крепок, рука верна. О
добродетель, добродетель, которую я так лелеял в оди¬
ночестве! Мое безмолвное сердце успокоилось вдали
от них. Ах, теперь я знаю, чего стоит предлагаемая ими
дружба! И это Греция, моя родина? Улисс, которого я
ненавижу, и ты, Неоптолем... Как он меня слушал одна¬
ко! Сколько кротости! Мальчик... Столь же прекрас¬
ный, нет, еще более прекрасный, чем его отец... Как мо-
жег столь ясное чело скрывать подобный замысел?
«Добродетель,— говорил он.— Филоктет, научи меня
добродетели». Что я ему говорил? Я помню только его...
Да и какое значение имеет теперь то, что я ему гово¬
367
рил!.. (Прислушивается.) Шаги... Кто идет? Улисс! (Он
хватает свой лук.) Нет, это... Неоптолем.
Входит Неоптолем.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Филоктет и Неоптолем.
Неоптолем (призывая). Филоктет! (Он прибли¬
жается и говорит слабеющим голосом.) Ах! Я нездоров.
Филоктет. Нездоров?..
Неоптолем. Это ты меня смутил. Верни мне спо¬
койствие, Филоктет. Твои слова пустили ростки в моем
сердце. Пока ты говорил, я не знал, что ответить. Я слу¬
шал; сердце мое доверчиво отдавалось твоим речам. И
когда ты умолк, я по-прежнему слушаю. Но вот, все му¬
тится, и я полон ожидания. Говори! Я еще не наслушал¬
ся... Надо жертвовать собой, говоришь ты?..
Филоктет (замкнуто). ..Жертвовать собой.
Неоптолем. Но тому же учит меня и Улисс. Жер¬
твовать собой чему, Филоктет? Он говорит — роди¬
не...
Филоктет. Родине.
Неоптолем. Ах, говори, Филоктет! Теперь ты дол¬
жен продолжать.
Фил о ктет (уклоняясь). Дитя... умеешь ли ты стре¬
лять из лука?
Неоптолем. Да. А что?
Филоктет. Мог бы ты натянуть вот этот?..
Неоптолем (в замешательстве). Ты хочешь...
Не знаю. (Пробует.) Да; может быть. Готово!
Филоктет (в сторону). Какая легкость! Кажется,
что это...
Неоптолем (нерешительно). А теперь.. .
Филоктет. Я видел то, что хотел видеть. (Отбира¬
ет у него лук.)
Неоптолем. Я тебя не понимаю.
Филоктет. Нужды нет!.. (Одумавшись.) Слушай,
дитя. Не кажется ли тебе, что боги выше Греции и важ¬
нее ее?
368
Неоптолем. Нет, клянусь Зевсом, я этого не думаю.
Филоктет. Почему же, Неоптолем?
Неоптолем. Потому что боги, которым я служу,
служат только Греции.
Филоктет. Как? Значит они в подчинении?
Неоптолем. Нет, не в подчинении... я не умею
сказать... Но видишь ли, за пределами Греции их никто
не знает; Греция их родина так же, как и наша; служа
ей, я служу им; они от нее не отличаются.
Филоктет. Однако, ты видишь, я могу тебе о них
говорить, а я уже не грек,— и... я им служу...
Неоптолем. Ты так думаешь? Ах, бедный Фи¬
локтет! Не так-то легко отрешиться от Греции... и да¬
же...
Филоктет (со вниманием). И даже?..
Неоптолем. Ах, если бы ты знал, Филоктет...
Филоктет. Если бы я знал... что именно?..
Неоптолем (спохватившись). Нет, говори ты; я
пришел, чтобы слушать тебя, а ты задаешь вопросы... И
я ясно чувствую, что твоя добродетель и добродетель
Улисса — не одинаковы... Но когда надо говорить, ты,
говоривший так хорошо, колеблешься... Жертвовать со¬
бой чему, Филоктет?
Филоктет. Я собирался тебе сказать: богам... Но
это значит, Неоптолем, что есть нечто выше богов.
Неоптолем. Выше богов!
Филоктет. Да. Ведь я веду себя не так, как Улисс.
Неоптолем. Жертвовать собой чему, Филоктет?
Что же выше богов?
Филоктет. Выше богов... (Он хватается руками
за голову, как бы в удручении.) Я больше не знаю. Не
знаю... Ах, ах! Ты сам!.. Я больше не знаю, что сказать,
Неоптолем...
Неоптолем. Жертвовать собой чему? Скажи, Фи¬
локтет...
Филоктет. Жертвовать собой... жертвовать со¬
бой...
Неоптолем. Ты плачешь!
Филоктет. Дитя! Ах, если бы я мог показать тебе
добродетель... (Внезапно он выпрямляется.) Я слышу
369
Улисса! Прощай... (Он удаляется и говорит уходя). Уви¬
жусь ли еще с тобой?
Неоптолем. Прощай.
Входит Улисс.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Улисс и Неоптолем.
Улисс. Я пришел вовремя? Что он сказал? Хорошо
ли ты говорил, мой ученик?
Неоптолем. Благодаря тебе лучше, чем он. Но ка¬
кое это имеет значение? — Улисс... он дал мне натянуть
свой лук...
Улисс. Свой лук? Ты шутишь! — Почему же ты не
удержал его, сын Ахилла?
Неоптолем. Чего стоит лук без стрел? Пока лук был
у меня в руках, он благоразумно сохранил у себя стрелы.
Улисс. Хитрец!.. Как ты думаешь, он что-нибудь по¬
дозревает? Что он говорил?
Неоптолем. О, ничего или почти ничего.
Улисс. И снова тебе декламировал о своей добро¬
детели?
Неоптолем. Филоктет, недавно еще говоривший так
хорошо, замолчал, как только я стал задавать вопросы.
Улисс. Вот видишь!..
Неоптолем. И когда я спросил, чему же можно
собой жертвовать, если не Греции, он сказал...
Улисс. Он сказал?..
Неоптолем. ...что не знает. И когда я сказал, что
даже боги, как ты меня учили, ей подчиняются, он от¬
вечал: Значит выше богов есть...
Улисс. Что?
Неоптолем. Он сказал, что не знает.
Улисс. Ну, вот видишь, Неоптолем!
Неоптолем. Нет, Улисс, мне кажется, что теперь
я его понимаю.
Улисс. Что же ты понимаешь?
Неоптолем. КОе-что понимаю. Ибо, в конце кон¬
цов, чему жертвовал собой Филоктет на этом столь
уединенном острове, когда нас не было?
370
Улисс. Но ведь ты сам сказал: ничему. Что толку в
одинокой его добродетели? Что бы он там ни думал,
она расточалась, не находя себе никакого применения.
Что толку во всех его фразах, как бы они ни были кра¬
сивы?.. Тебя они убедили? Ну, и меня тоже нет. Если он
остался в одиночестве на этом острове, то, как я тебе
объяснил, для того, чтобы избавить войско от своих
воплей и зловония. В этом его первое самопожертвова¬
ние, его добродетель, что он там ни говори. Его вторая
добродетель, если он так добродетелен; будет состоять
в том, чтобы примириться с утратой своего лука, при¬
няв в соображение, что он его лишается ради блага Гре¬
ции. Разве мыслимо жертвовать собой ради чего-ни¬
будь иного, кроме родины? Видишь ли, он ждал, чтобы
мы ему это предложили... Но ведь он мог бы отказать,
так лучше принудить его к добродетели, заставить при¬
нести жертву и, мне кажется, благоразумнее его усы¬
пить. Видишь эту склянку...
Неоптолем. Ах, Улисс, не говори слишком мно¬
го... Филоктет молчал.
Улисс. Потому что ему нечего было больше ска¬
зать.
Неоптолем. И поэтому он плакал?
Улисс. Он плакал, потому что понял свою ошибку.
Неоптолем. Нет, он плакал из-за меня.
Улисс (улыбаясь). Из-за тебя?.. То, что делается по
глупости, впоследствии из гордости называется добро¬
детелью.
Неоптолем (разражаясь рыданиями). Улисс, ты
не понимаешь Фил октета...
Действие четвертое
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Филоктет один; он сидит, погруженный в раздумье или подав¬
ленный скорбью. Вбегает Неоптолем.
Неоптолем. Если бы мне застать его вовремя!.. А,
это ты, Филоктет. Скорее выслушай меня. Мы сюда при¬
371
были с презренными намерениями, но ты будь благород¬
нее нас: прости меня. Мы прибыли... Ах, мне стыдно
сказать... чтобы украсть твой лук, Филоктет!..
Филоктет. Мне это известно.
Неоптолем. Ты меня не понимаешь... украсть
твой лук, говорю тебе... Защищайся же!
Филоктет. От кого? От тебя? Говори, Неоптолем.
Неоптолем. Конечно, не от меня. Я люблю тебя и
потому предупреждаю.
Филоктет. И предаешь Улисса...
Неоптолем. Я от этого в отчаянии... Тебе я жерт¬
вую собой. Любишь ли ты меня? Говори, Филоктет. В
этом ли добродетель?
Филоктет. Дитя!..
Неоптолем. Смотри, что я тебе принес. Назначе¬
ние этой склянки — усыпить тебя. Но я ее тебе отдаю.
Вот она. Это — добродетель? Скажи.
Филоктет. Дитя! Высшей добродетели достигают
лишь шаг за шагом; то, что ты сделал — лишь один ска¬
чок к ней.
Неоптолем. Так научи меня, Филоктет.
Филоктет. Эта склянка назначена, чтобы усыпить
меня, говоришь ты? (Берет ее и рассматривает.) Ма¬
ленькая склянка... Ты — ты выполнишь свое назначе¬
ние! Видишь, что я делаю, Неоптолем? (Пьет.)
Неоптолем. Как! Несчастный, но ведь это...
Филоктет. Предупреди Улисса. Скажи ему... что
он может прийти.
Неоптолемв ужасе убегает, испуская крики.
ЯВЛЕНИЕ ВТ.ОРОЕ
Филоктет, затем Улисс и Неоптолем.
Филоктет (один). И ты будешь от меня в востор¬
ге, Улисс; я хочу заставить тебя восхищаться мной. Моя
добродетель возвышается над твоей, и ты чувствуешь
себя умаленным. Воспрянь же, доблесть Филоктета, на¬
сладись своей красотой! Неоптолем, почему ты сразу
же не взял моего лука? Чем больше ты меня любил, тем
372
труднее это для тебя было: ты не проявил достаточной
готовности к самопожертвованию. Возьми же его... (Он
оглядывается по сторонам.) Его уже нет...
Напиток этот отвратителен на вкус. От одной мыс¬
ли о нем меня тошнит; хотелось бы поскорее заснуть...
Из всех видов самопожертвования самое безрассуд¬
ное — самопожертвование ради других, ибо тогда ста¬
новишься выше их. Да, я жертвую собой, но не ради
Греции... Я жалею только об одном — что мое самопо¬
жертвование послужит ей на пользу... Да нет, я даже не
жалею об этом... Но в таком случае не благодари меня:
я действую ради себя, а не ради тебя. Улисс, ты будешь
восхищаться мной, не правда ли? Будешь ли ты восхи¬
щаться мной? Улисс! Улисс! Где же ты? Пойми: я жерт¬
вую собой, но не ради отечества... ради совсем иного,
пойми это. Ради... чего? Не знаю. Поймешь ли ты! Ты,
пожалуй, подумаешь, Улисс, что я жертвую собой ради
Греции! Ах, этот лук и эти стрелы послужат ей!.. Куда
их забросить? В море! (Он хочет побежать, но падает,
сраженный напитком.) Я без сил. Ах, голова кружит¬
ся... Он сейчас придет...
Добродетель! Добродетель! В горьком твоем имени
я ищу хоть немного опьянения; неужели я исчерпал его
до конца? Гордость, поддерживающая меня, колеблется
и сдает; я отступаю от всех позиций. «Не надо скачков,
не надо скачков», говорил я ему. Добродетель, Неопто¬
лем, заключается в том, чтобы взять на себя непосиль¬
ное бремя. Добродетель... Я в нее больше не верю,
Неоптолем. Слушай же меня, Неоптолем! Неоптолем,
добродетели нет. Неоптолем!.. Он не слышит... (Пада¬
ет обессиленный и засыпает.)
Улисс (входя и замечая Филоктета). А теперь
оставь меня с ним наедине. (Неоптолем крайне взвол¬
нованный, колеблется, уходить ли ему или нет.) Ну да!
иди, куда знаешь; беги, приготовь лодку, если хочешь.
Неоптолем уходит.
Улисс (оставшись один, подходит к Филокте-
ту и склоняется над ним). Филоктет... Ты не слы¬
шишь меня, Филоктет? Ты меня больше не услы¬
373
шишь? — Что же делать? Я хотел бы тебе сказать... что
ты победил меня, Филоктет. Теперь я вижу, в чем доб¬
родетель; и она кажется мне столь прекрасной, что в
твоем присутствии я не решаюсь больше действовать.
Мой долг представляется мне более жестоким чем
твой, ибо он представляется мне менее величествен¬
ным. Твой лук... я не могу, не хочу больше его брать: ты
его отдал сам.— Неоптолем еще ребенок: он должен
повиноваться. Ах, вот и он! (Повелительным голосом.)
А теперь, Неоптолем, возьми лук и стрелы и отнеси их
в лодку. (Гпубоко опечаленный Неоптолем подхо¬
дит к Филоктету, склоняется над ним, затем па¬
дает на ко лени и целует Филоктета в лоб.) Я те¬
бе приказываю. Тебе недостаточно предать меня? Ты
хочешь также предать твою родину? Смотри, он пожер¬
твовал собой ради нее.
Неоптолем послушно берет лук и стрелы и уходит
Улисс (один). А теперь', прощай, суровый Филок¬
тет. Велико ли было твое презрение ко мне? Мне очень
хотелось бы знать. Мне хотелось бы дать ему знать, что
я нахожу его достойным восхищения... и что... благода¬
ря ему мы победим.
Неоптолем (издалека). Улисс!!
Улисс. Иду.
Уходит
Действие пятое
Филоктет один, на скале. На совершенно чистом небе встает
солнце. Далеко в море уплывает лодка, Филоктет долго смотрит
на нее
Филоктет (очень спокойно шепчет). Они больше
не вернутся; у меня уже нет лука, за которым они бы
приехали... Я счастлив.
Его голос стал необыкновенно красив и не¬
жен, цветы пробиваются вокруг него из-под
снега, и птицы небесные приносят ему пищу.
ВИРСАВИЯ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Давид, царь Иудеев.
И о а в, военачальник Давида.
Царь Давид, простершись ниц, в одеяниях полужрече-
ских, полувоинских, читает молитву, которую он только что
записал.
...Даже сильный слабеет, даже юный колеб-
Слишком рано пришел ты, Иоав: я еще не кончил мо¬
литвы. Молчи. На чем меня прервал ты? Да...
...не дрогнет и твердым пребудет.
Господь вдохнет силу свою в того, кто
И даст ему крылья, подобные крыльям орла.
Сперва я написал: «Крылья их вырастут, как...
Но: «Даст ему крылья, подобные крыльям орла»,
Давид
лется,
Но кто предаст себя богу...
Входит Иоав.
устал,
будет лучше.
375
Иоав
Он вести принес из-под стен осажденной Раввы.
Впрочем, это совсем незаметный воин,
Которого царь...
Давид
Уж не зависть ли слышу в тебе?
Хеттеянин Урия — храбрейший в войске моем,
Я сказал, что не знаю его, чтоб тебя во лжи уличить.
Как забыть мне того, кто филистимлян у Гефа разбил?
Кто защитил от них поля Фасдамима?
Отвечай: кем сражены львы Моава? Не им ли?
И четыре гиганта, Рафы сыны? Не им ли?
Иоав
Возможно...
Давид
Послушай еще: в пору жатвы —
Тщетно искал я прохлады в Ододпамской пещере.
Филистимляне лагерем стали в долине.
Два дня уже занимали они Вифлеем.
Ты знаешь, что есть в Вифлееме горький источник;
В этот день захотел я испить из него
И вздыхал о горькой воде...
Кто же прошел через вражеский лагерь?
Кто жертвовал жизнью, чтобы дать мне напиться?
Скажи мне, кто это был?
Это был Хеттеянин Урия.
И напрасно, Иоав, ты делаешь вид, что не помнишь.
До самой могилы я не забуду об этом.
Не хочу, чтоб о мне говорили,
Что царь за услугу платить не умеет.
Урия должен есть за моим столом;
Всем, чем владею,— владеет и он.
Жду его во дворце; пусть он знает об этом.
Иоав делает знак слуге и передает ему приказания царя.
Он ведь друг Нафана, не так ли?
376
Иоав
Да, государь, он друг пророка Нафана.
Иоав делает движение, как бы собираясь уходить.
Давид
Подожди.
Царь некоторое время молчит.
Боюсь я пророка Нафана... Ты улыбнулся?
Верно сила его тебе неизвестна.
Словесам его покорен народ.
Даже я перед ним умолкаю, как малый ребенок.
Когда говорит он: «Предвечный»... кажется — Бог сам
глаголет.
Доводилось мне слышать о многих пророках;
Вещают они, затем умолкают.
Голос Нафана звучит неизменно.
Хочу заставить его замолчать.
Друг Иоав, боюсь я Нафана.
В некий час уменьшается сила царей.
В некий день своей жизни ощущает усталость идущий.
Помню я о деяньях моих, о юности пылкой молитвах;
Я с Богом беседовал в оные дни.
Помню я о Сауде царе... Я тоже, как он, пред собою
Вижу, как тень начинает расти.
Не мне внимает ныне предвечный;
Глаголет он не моими устами,
И слова его не ко мне...
Но с недавних пор я плохо сношу молчанье его.
Хочу заставить его говорить.
Как голодный пес гложет кость, на которой мяса уже
не осталось,
Как мать сжимает в объятьях неживого ребенка,
Всю ночь прижимал я к устам моим имя господне
И в руках, сложенных как для молитвы,
Согревал я остаток веры моей.
И вдруг надо мною послышалось нечто подобное взмаху
крыла...
377
Был час, когда пламя в светильнике меркнет,
Когда иссякает в светильнике масло,
Час, когда ужасается храбрый
И благие решения тают,
Когда дремы вино пьянит и царей и всех смертных...
Но моя душа, оставалась на страже;
Господа ждал я всю ночь.
И услышал я: реет как бы дыханье,
Дух Господень веяньем легким нисходит ко мне.
Дух Господень, как наречь мне тебя?
Иоав, случалось мне голубя видеть, летавшего возле
гнезда.
Порхнет и не знает: спуститься ль?
И все в колебаньи летает кругом.
Так над ложем моим дух Господень плескался крылом,
Ниже и ниже спускаясь ко мне.
Голубь златой, быть может тебя я поймаю...
Руку я протянул, чтоб его захватить;
А затем помчался за ним из зала я в зал
До лестницы самой, ведущей к дворцовым садам,
Он рос на глазах, полыхал как зарница,
Порой прерывая свой лет,
Но тогда сила чресел моих вдруг пропадала,
Я готов был его ухватить, но душу сковывал страх.
А он порхал все выше по этим ступенькам;
Я пытался его ухватить и не смел...
Но куда залетишь, голубок,
Поднимусь за тобою и я...
Так добежал я до малой террасы,
Которой, казалось мне, прежде не знал и не видел.
Божия птица в воздухе вольном внезапно сокрылась
И все желанье мое как бы с собой унесла.
Час наступал, когда пробуждается небо,
Когда голубеет стена;
Подо мною сады расстилались пучинами мрака.
И ясный мой взор, сквозь дымку тумана, в них погру¬
жался.
Чьи это сады, Иоав? Я не знаю;
Мне известно одно: дворец мой кончается там.
378
Я наклонился, ибо не мог хорошо разглядеть
Белой формы, мелькавшей в одном из садов.
Сквозь туманную мглу, казалось мне, виден источник,
И кто-то стоит, наклонившись над ним.
Женщина ль то в покрывале?
Иль белеет крыло у воды?
Да, оно колыхалось, оно трепетало, словно крыло;
Мгновенье я думал: нашлась моя птица.
Тут солнце взошло, и невольно зажмурился я.
Когда же очи отверз, я светом был ослеплен.
Не крыло, а женщину я увидел внизу.
Одежды свои она совлекла,
Нагими ногами в воду ступила
И прошла среди тростников
До самой средины ручья.
Она в сердце мое еще глубже вошла.
Склонившись стояла она,
Я лица ее видеть не мог,
И кудри, как ночь, покрывали ей плечи.
Но среди тростников мне видно было живота трепе¬
танье,
И, казалось, цветок распустился
У ней меж разжатых колен...
Мое сердце метнулось к устам
И хотело вырваться в крике...
Возвращается слуга, посланный к Хеттеянину.
Слуга
Господин, Урия велел передать царю, своему господину...
Давид
Где же он сам?..
Слуга
Он сказал: как осмелюсь войти во дворец,
Если Равна еще не взята...
Давид
Хорошо. Если он не желает, пойду к нему сам.
379
Ступай, Иоав. Скажи, чтоб готовил скромный он ужин,
Нынче вечером гостем я буду ему.
Иоав выходит.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Давид, Иоав.
Давид сидит озабоченный. Иоав, стоя, слушает.
Давид
Крошечный садик — жилище его...
Угощенье меня ожидало на белом столе в виноградной
беседке.
— Вот,— сказал он,— мой виноградник, и тень какую
дает! —
И была пленительной тень на столе у него.
— Все вино мое с лоз, что свисают кругом.
Вот оно, царь Давид. Отведай, сладко оно.
И жена его, вышедши к нам
(Вирсавия — имя ее),
Наклонилась и кубок наполнила мой.
Я ее не узнал.
И сперва даже сада не мог я узнать.
Еще краше казалась она в наряде своем.
Темные волны волос
Колыхались вкруг стана ее.
Улыбалось лицо, неизвестное мне...
Но сад, Иоав! Что сказать мне о саде?
Он не был похож на тот утренний сад,
Окутанный мглой.
Как укромен был он... Я выпил кубок вина.
Иоав, много вин я пивал, но по этом
Я, казалось мне, долго томился, давно уже жаждал его.
Оно разливалось по мне, как великая радость,
Наполняя все сердце, как молитв исполненье.
Чуял я, обновляется чресл моих сила.
Улыбалась Вирсавия; свет разливался по саду.
Все сияло любовию Урии, счастьем его.
— Царь Давид! Вот и все мое счастье,— сказал он.—
Простое оно,
380
В этом садике малом ютится оно,
В небольшом углубленьи меж стен
Дворца твоего.
От стужи, от ветра дворец твой меня защищает,
Не ведая даже о том...
Я же, самый ничтожный слуга, что я значу
Пред тобой, царь великий Давид?
— От Филистимлян оплот мой — сила твоя,—
Так отвечал ему я; — Хеттеянин, что я пред Богом?
И я знаю тебя, о храбрейший из слуг моих,
С высоты дворца моего я заметил твой сад;
Голубоватой утренней мглою окутан был он;
Солнце едва подымалось...
Всю ночь я не мог заснуть и усердно молился,
От долгой молитвы я был как в хмелю;
Поднимаясь по лестнице, спотыкался на каждом шагу
И словно во сне преследовал то, что мне снилось,
А привиделась мне чудесная птица,
И она от меня улетала, и я выбивался из сил.
Но, видно, недаром она меня привела
Вон на ту террасу,
Что виднеется там наверху.
В саду твоем, Урия, увидел я птицу мою,
Едва только солнце пробилось сквозь мглу.
Да, птица, меня заманившая... что ты смеешься?
Была там,— покажи-ка мне место,— вон там у ручья.
Она пробралась сквозь тростник
И там безмятежно,
От взоров нескромных считая укрытой себя,
В струях трепетавших
Купалась...
Урия, друг мой, под стенами Раввы ты был и видеть не мог,
Но, быть может, Вирсавия, ты?..—
Вирсавия только краснела
И, над водою склонившись,
На лицо уронила косу,
Чтоб спрятать стыд или смех.
Гаснул день; сад в темноту погружался...
— Урия,— молвил я,— почему во дворец не пришел ты?
Неужели Нафан...— Государь, я не видел Нафана
381
С той поры, как вернулся сюда из-под Раввы.
Царь Давид! Царь Давид! Надменная Равва не пала!..
Твой народ в ожиданьи, а я
Буду в царском дворце отдыхать!
Нет, пока твои воины, царь,
Томятся по эту сторону стен,
В лагере место мое, среди них.
Возвратиться туда мне пора.
— Урия, друг, посиди еще с нами немного;
Сколько надо тебе, чтоб доехать до Раввы? Час или два...
Ночь спускалась уже; мы сидели в глубоком молчаньи;
Воздух так чист был, что слышался лепет ручья,
И сумрак, сгущаясь кругом, казалось,
Тихому Урии счастью глубину придавал...
Но желанье, Иоав, в душу входит желанье,
Как гость незнакомый, измученный жаждой.
Иоав
Что мешает тебе, царь Давид? Возьми эту женщину.
Давид
Да. Я взял ее тут же, Иоав.
Крохотный сад у Урии есть,
Меньше самой малой террасы дворца моего!
Столько счастья и столько добра в руке у меня,
Что ни зернышка больше она не удержит.
Но чтоб малое Урии счастье добыть,
Я бы выкинул все, чем владею теперь...
Так несложно оно, это счастье!
И казалось, что стоит мне руку одну протянуть,
Стоит только его пожелать
И приникнуть к нему, и оно уж мое...
Иоав
Ну, а Вирсавия, о властелин?
Давид
Вирсавия, да. Знаешь, я думал, она много краше.
В саду своем она была лучше,
Когда, нагая, купалась в ручье.
382
Кто ты, Вирсавия? Женщина? Или ручей?
Неясный предмет желаний моих.
Иоав, когда наконец она лежала в объятьях моих,
Поверишь ли, я сомневался, она ли желанной была
Иль, может быть, сад, где я видел ее.
А вино,— вино, что я пил!
Вино из Урьиных лоз!
Боюсь, не выпил ли я всех запасов его.
Ах, с какой жадностью припал я к нему! —
Казалось, оно увлажняет, капля за каплей,
Иссохший участок в сердце моем.
Помнишь ли ты вифлеемскую воду,
Что Урия взялся добыть для меня в день палящего зноя?
Только она могла утолить мою жажду; только она;
Теперь же я жажду Урьина счастья,
Несложного, малого счастья...
Но, довольно, Иоав! Это все пустые мечтанья.
Разве ныне могу я малым владеть?
А теперь эту женщину ты отведи
В сад ее мужа.
Было бы все хорошо, если б я желал лишь ее.
Но... А впрочем, я знаю: сегодня он возвратится.
Значит снова найдет свое мирное счастье
Таким, как оставил его,— по крайней мере, он так
будет думать,
Ибо след корабля на воде
И мужчины на женщины теле глубоком.
Сам Господь, Иоав, различить не сумеет.
Позаботься также, Иоав,
Чтоб Нафан пророк не дознался об этом.
Иоав уходит.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Та же зала во дворце. Ночь. Царь Давид один.
Давид
Это ты, Иоав!.. Нет. Пока никого.
Неужели один я останусь до самой зари?
383
И неужто не кончится ночь, эта долгая ночь?
Я молился, надеясь после молитвы заснуть.
Но, увы! Есть ли сон для Давида отныне?
Я хотел помолиться, затем погрузился в раздумье.
Горе, горе тому, кто в ночи воззрится духа очами
На деянья, коими тешились днем взоры плоти!
Горе, горе тому, кто, деянье свершив, не заснет,
Но в ночи вспоминает о нем без конца,
Кто, подобно слепцу, ласкает и гладит
Умершего друга лицо, чтоб яснее представить его.
Обрету ль я когда-нибудь мир? Иоав! Да избавит нас Бог
От ночей, не заполненных сном и любовью.
Мне ничто не мешало заснуть. Все молчало кругом,
Все заснуло уж в сердце моем, на земле и на небе,
И сам я уже засыпал... Но Хеттеянин встал предо мной.
Он внезапно вышел из мрака; сперва я его не узнал;
Освещал его только светильник у моего изголовья.
Как вошел он ко мне? Ведь заперты двери дворца.
Предо мною он молча стоял и плаща не снимал.
— Урия,— молвил я,— это ты? Отвечай! Ты зачем
здесь? Чего тебе надо?
Равву вам взять удалось? Не думаю. Нет.
Я знал бы уже... Скинь же плащ. Я не вяжу лица твоего.
Говори!
Говори же. Зачем ты стоишь неподвижен?
Кто впустил тебя? Что тебе надо?
Ждет супруга тебя. Рядом с ней твое место, на ложе,
В твоем малом салу. Уходи. Возвращайся туда. Дай мне
спать.
Почему он безмолвен стоял?
И чего от меня он хотел? Не даров — он дары презирал...
Видя, что он все стоит, я ему протянул
Кубок со сладким вином, но он его не коснулся
И не трогался с места в сумраке ночи;
Мне казалось порой, что светильник мой угасает,
Иль Хеттеянин пятится к двери во мрак...
Не знаю, ушел он, когда появился Нафан,
Божий пророк... Видно, мне не заснуть в эту ночь...
384
Правду сказал я! Опасаться надо Нафана...
Но теперь, Иоав, пусть ответит Господь: что нам делать,
Если за каждым желанием нашим скрывается Бог?
И начал Нафан говорить, и так говорил он в ночи,
Будто каждое слово свое вырывал из меня самого.
Что сказал он? Я хотел бы изгладить из памяти эти слова!
— У одного бедняка,— говорил он,— овечка была —
Все добро его,— он ее выкормил, вырастил,
Ягненком купив, и на сердце лелеял как дочь.
—Довольно, Нафан! Я знаю: Вирсавия имя ее.
Молчи! — Но он продолжал, как будто не слыша меня:
— А рядом с бедным жил человек очень богатый,
Столько было добра у него, и скота
У него было столько, что и не счесть.
Однажды к богатому странник пришел...
—Довольно, Нафан, замолчи! Узнаю в нем желанье мое...
— Был он голоден.— Я не знал, как насытить его.—
— И богач, у которого столько добра...
— Все богатства мои отвергло желанье мое.—
— Сделал вид, что не видит добра своего,
И пошел за овцой к бедняку.— Но так требовал странник,
И больше ничто, говорю, не могло бы насытить его.
Напрасно его я хотел бы унять;
Говорил он громко и властно, как царь во дворце.
—Х)н овцу, все добро бедняка, без стеснения взял.
—Довольно, Нафан, замолчи! Смерти достоин богач твой.
— Он овцу, все добро бедняка, без стеснения взял...
— Но даже не к ней странник-желанье влеклось...
Ты знаешь: Вирсавию вернул я ему.
Она желанной была лишь в тенистом саду.
То, чего я желал, был Урии мир, простота его жизни,
Все, что он оставлял ради служения мне...
К покаянью готов я, но разве я виноват?
Когда желанье томило меня, образ Вирсавии
Неотступно стоял предо мной, все затмевая,
Но теперь... А, это ты, Иоав?
Входит Иоав и останавливается в темноте у самой двери, вытя¬
нувшись в струнку и не произнося ни слова.
385
Да, это ты
Наконец-то! Я ждал тебя, как зари.
Ты вернулся из Раввы? Хеттеянин тоже с тобой?
Город взят? Нет. Иначе ты мне уж сказал бы.
Что вы делали там? Ты все мои приказанья исполнил?
Я ведь сказал тебе... Урия был среда храбрых;
Самый смелый, наверно шел он в первом ряду...
Ты молчишь?.. Ты послал его к самым стенам?
Слишком близко... а вы отступили, оставив его...
Молчи, Иоав! Даже бог это слышать не должен,
Даже я не должен узнать, иначе мне никогда не забыть...
Нет! Нет! Скажи мне, что спит он в саду у себя, возле
лоз виноградных.
Рассвет, начинающий проникать во дворец, слабо озаряет Иоава
и позволяет различить за ним закутанную женскую фигуру.
Что там ты тащишь во мраке, одетое в траур?.. Как?..
Вирсавия!..
Ступай прочь! Уведи ее! Веда я же сказал, что видеть ее
не желаю... Мне она ненавистна!
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА
Я изобразил здесь, на тайную радость себе, как изо¬
бражали на старинных триптихах, притчу, расска¬
занную нам господом нашим Иисусом Христом. Остав¬
ляя раздробленным и сливая воедино осенившее меня
двойное вдохновение, я не пытаюсь доказать победу на¬
до мной какого-нибудь бога — или что сам я победил
себя. И все же, если читатель требует от меня неко¬
торой почтительности, он, может быть, не напрасно
стал бы искать ее в моем повествовании, где, подобно
жертвователю в углу картины, я стою на коленях в па¬
ре с блудным сыном, улыбаясь, как он, и в то же время
орошая лицо слезами.
Блудный сын
Тогда, после долгого отсутствия, утомившись своей
причудой и как бы опостылев самому себе, блудный
сын, среди скудости, которой он искал, вспоминает ли¬
цо отца своего, просторную комнату, где мать склоня¬
лась над его ложем, сад , орошенный проточной водой,
но обнесенный оградой, откуда всегда хотелось бежать
на свободу, бережливого старшего брата, которого он
никогда не любил, но который еще хранит в ожидании
ту часть его имущества, которую он, мот, не мог расто¬
чить,— ему приходится сознаться, что он не обрел сча¬
стья и даже не сумел продлить надолго опьянение, ко¬
торого искал за отсутствием счастья. Ах, думает он, ес¬
387
ли отец мой, сперва разгневанный на меня, решил, что
я умер,— может быть, несмотря на мой грех, он обра¬
дуется, увидев меня снова. Вот я смиренно возвращусь
к нему с опущенной и посыпанной пеплом главой, вот
я склонюсь перед ним со словами: «Отец, я согрешил
против неба и перед тобою»; и если в ответ на это он
поднимет меня и скажет: «Войди в дом, сын мой», что
я тогда сделаю? И блудный сын, уже почтительный, пу¬
скается в путь.
Когда с вершины холма он замечает наконец куря¬
щиеся кровли родного дома, наступил уже вечер; но он
ждет теней ночи, чтобы скрыть немного от чужих взо¬
ров свою нищету. Он слышит вдали голос отца; колени
его сгибаются; он падает и закрывает руками лицо, ибо
стыдится своего стыда, сознавая, что он все же закон¬
ный сын. Он голоден; в складках его дырявого плаща
есть только горсточка сладких желудей, которыми он
питался, подобно порученным его охране свиньям. Он
видит приготовления к ужину. Различает свою мать, вы¬
ходящую на крыльцо... Больше у него нет сил; бегом
спускается он с холма, входит во двор, где с воем на не¬
го бросается собака, которая его не узнала. Он хочет за¬
говорить со слугами, но они с недоверием отступают от
него, идут доложить хозяину; вот и он сам.
Должно быть он лодал блудного сына, ибо сразу уз¬
нает его. Он раскрывает объятия; тогда сын опускается
перед ним на колени и, закрыв чело левой рукой, а пра¬
вую воздев как бы с мольбой о прощении:
— Отец! отец! тяжко согрешил я против неба и перед
тобою; я не достоин, чтобы ты допустил меня к себе; но
позволь мне хотя бы, подобно слуге твоему, самому по¬
ел еднему, жить где-нибудь в углу нашего дома...
Отец поднимает его и прижимает к своей груди.
— Сын мой! Да будет благословен день твоего воз¬
вращения ко мне! — и он плачет от радости, перепол¬
няющей его сердце. Он целует сына в лоб, поднимает
голову и обращается к слугам:
— Принесите самое нарядное платье, дайте обувь на
ноги его и драгоценный перстень на руку. Выберите в
стойле самого откормленного теленка и заколите его;
388
приготовьте все для радостного пира, ибо сын, которо¬
го я считал мертвым, жив.
И так как весть уже распространяется по дому, он
спешит, не желая, чтобы кто-нибудь другой сказал:
— Мать, к нам вернулся сын, которого мы оплаки¬
вали.
Всеобщая радость, возносясь как гимн, повергает в
задумчивость старшего сына. Если он и подсаживается
к общему столу, то лишь потому, что отец своими на¬
стоятельными просьбами заставляет его. Из всех при¬
глашенных на пир — а приглашен даже самый послед¬
ний слуга — только он один гневно хмурится. Почему
раскаявшемуся грешнику больше почести, чем ему —
ему, никогда не грешившему? Любви он предпочитает
порядок. Если он соглашается присутствовать на пиру,
то лишь потому, что, веря брату в долг, может ссудить
его радостью на один вечер; кроме того, отец и мать
обещали ему завтра пожурить блудного сына, да и сам
он собирается прочитать ему строгое наставление.
Факелы курятся, вознося дым к небу. Пир окончен.
Слуги убрали со стола. Теперь в недвижной и безглас¬
ной ночи засыпает усталый дом, засыпает в нем всякая
живая душа. Но я знаю, что в комнате, смежной с ком¬
натой блудного сына, юный мальчик, его младший брат,
всю ночь до рассвета будет тщетно призывать сон.
Выговор отца
Господи, как отрок преклоняю я перед тобой коле¬
ни, с лицом, залитым слезами. Если я вспоминаю и пе¬
ресказываю здесь твою знаменательную притчу, то
лишь потому, что знаю, кто был твоим блудным сыном;
потому что в нем я вижу себя самого; потому что слы¬
шу в себе иногда и тайно повторяю слова, которые ты
вложил в уста его, заставив воскликнуть из последних
глубин отчаяния:
— Сколько наемников у отца моего избыточествуют
хлебом, а я умираю от голода.
389
Я наглядно представляю себе объятия отца; сердце
мое тает от жара такой любви. Я даже представляю се¬
бе нужду и лишения, которые этому предшествовали;
ах, я могу представить себе все, что угодно. Я в это ве¬
рю; это я — тот юноша, чье сердце колотится, когда с
вершины холма он видит синие кровли покинутого им
дома. Чего же я жду, почему не бросаюсь к родному до¬
му, не вхожу в него? Меня ждут. Я уже вижу, как гото¬
вят откормленного теленка... Остановитесь! Не накры¬
вайте столов слишком рано! Блудный сын, я думаю о те¬
бе; поведай мне прежде всего, что сказал тебе отец на
следующее утро после пиршества. Ах, хотя старший
брат и подсказывает тебе, отец, дай мне хоть изредка
расслышать твой голос в его словах.
— Сын мой, почему ты покинул меня?
—Да точно ли я тебя покинул, отец? Ведь ты — вез¬
де. Я ни на миг не переставал тебя любить. .
— Не будем спорить из за мелочей. У меня был дом,
заключавший тебя. Для тебя был он возведен. Поколе¬
ния трудились, чтобы душа твоя могла обрести в нем
убежище, достойную ее роскошь, удобства, поле для де¬
ятельности. Почему же ты, наследник, сын, бежал из
этого дома?
— Потому что дом держал меня в заключении.
Дом — это не ты, отец.
— Но ведь я его выстроил и выстроил для тебя.
—Ах! Это сказал не ты, а брат. Ты создал всю зем¬
лю, и дом, и все, что за пределами дома. Дом же постро¬
или другие: во имя твое, я знаю, но все же другие.
— Человек нуждается в кровле, под которой он мог
бы преклонить голову. Гордец! Уж не думаешь ли ты,
что можно спать на ветру?
— Надо ли для этого много гордости? Люди более
бедные, чем я, отлично спали таким образом.
—То бедные. А ты не беден. Никто не вправе отре¬
каться от своего богатства. Я сделал тебя богачом сре¬
ди богатых.
— Отец, ты ведь знаешь, что, уходя, я унес все мои
390
богатства, какие только мог. Что мне до благ, которых
нельзя унести с собой?
— И все взятое с собой ты безрассудно расточил.
—Я превратил твое золото в наслаждения, твои на¬
ставления — в прихоти, мое целомудрие — в поэзию,
мое умерщвление плоти — в желания.
—Для того ли твои бережливые родители старались
выработать в тебе все эти высокие качества?
— Может быть для того, чтобы я пылал еще более
ярким пламенем, когда во мне загорелось новое рве¬
ние.
— Вспомни о чистом пламени, которое видел Мои¬
сей на неопалимой купине; оно блистало, не сжигая.
— Я познал сжигающую любовь.
—Любовь, которой я хочу научить тебя, освежает.
А по прошествии краткого времени что осталось у те¬
бя, блудный сын?
— Воспоминание об испытанных наслаждениях.
— И оскудение, за ними следующее.
— В этом оскудении я почувствовал твою близость,
отец.
— Значит, нужна была нищета, чтобы побудить те¬
бя вернуться ко мне?
— Не знаю, не знаю. В бесплодности пустыни я
больше всего возлюбил мою жажду.
—Твоя нищета заставила тебя лучше почувствовать
цену богатств.
— Нет, не то! Ужели ты не понимаешь меня, отец?
Мое до дна опустевшее сердце наполняется любо¬
вью. Ценой всех моих богатств я купил себе душевный
пыл.
— Значит ты был счастлив вдали от меня?
—Я не чувствовал себя вдали от тебя.
— Так что же заставило тебя вернуться? Скажи.
— Не знаю. Может быть леность.
— Леность, сын мой! Вот как! Значит, не любовь ко
мне?
— Отец, я ведь сказал тебе, что никогда не любил те¬
бя больше, чем в пустыне. Но я устал добывать себе каж¬
дое утро пропитание. Дома по крайней мере сытно едят.
391
— Да, слуги об этом заботятся. Значит, тебя привел
сюда голод.
— Может быть, также малодушие, болезнь... С тече¬
нием времени эта случайная пища меня изнурила; ибо
питался я дикими плодами, акридами и медом. Мне все
труднее было переносить лишения, которые сперва раз¬
жигали мой пыл. По ночам, когда мне становилось хо¬
лодно, я думал о том, как удобна была моя постель в от¬
цовском доме; когда мне приходилось голодать, я вспо¬
минал, что изобилие поданных яств в доме отца моего
всегда превосходило мой голод. Я сдал; для продолже¬
ния борьбы я не чувствовал в себе больше достаточно
мужества, достаточно силы, и все же...
— Значит, вчерашний откормленный теленок при¬
шелся тебе по вкусу?
Блудный сын с рыданием падает ниц.
— Отец! Отец! Терпкий вкус сладких желудей все
еще остается у меня во рту. Ничто не может его заглу¬
шить.
— Бедный мальчик! — продолжает отец, поднимая
его,— может быть я говорил с тобой слишком сурово.
Так хотел твой брат; здесь он законодатель. Это он по¬
требовал, чтобы я сказал тебе: «Вне дома для тебя нет
спасения». Но слушай: я тебя создал; я знаю все, что в
тебе таится. Я знаю, что влекло тебя к странствиям; я
ждал тебя в конце пути. Ты бы мог позвать меня... я был
недалеко.
— Отец! Значит, я мог найти тебя, не возвращаясь?
— Если ты почувствовал себя слабым, то хорошо
сделал, что вернулся. Ну, ступай; иди в комнату, кото¬
рую я велел для тебя приготовить. На сегодня довольно;
отдохни; завтра можешь побеседовать с братом.
Выговор старшего брата
Сперва блудный сын пытается говорить высокомерно.
— Старший брат,— начинает он,— мы мало похожи
друг на друга. Брат мой, мы вовсе не похожи.
Старший брат:
392
— Это твоя вина.
— Почему же моя?
— Потому что я держусь порядка; все, что от него
отступает, есть плод или семя гордыни.
— Разве я отличаюсь от тебя одними лишь недостат¬
ками?
— Называй достоинствами только то, что возвраща¬
ет тебя к порядку, а все остальное обуздывай.
— Этого изуродования я как раз и опасаюсь. То, что
ты собираешься истребить, тоже исходит от отца.
— Да нет же, не истребить: обуздать, сказал я.
—Я прекрасно тебя понимаю. И однако именно так
обуздал я мои добродетели.
— И именно потому теперь я снова их нахожу. Тебе
надо их превознести. Пойми меня хорошенько: не ума¬
ление, но превознесение предлагаю я тебе, так чтобы
самые разнообразные, самые непокорные стихии твоей
плоти и твоего духа гармонически сочетались, чтобы
худшее в тебе питало лучшее, а лучшее подчинялось.
— Ия искал в пустыне,— и находил — «превозне¬
сение»; может быть не столь уже отличное от того, ко¬
торое ты мне предлагаешь.
— По правде сказать, я хотел бы его предписать тебе.
— Наш отец не говорил со мной так сурово.
—Я знаю, что сказал тебе отец. Расплывчатые ве¬
щи. Он теперь не очень отчетливо выражает свои мыс¬
ли; его можно заставить сказать все, что угодно. Но за¬
то я хорошо знаю его мысли. Я остаюсь их единствен¬
ным истолкователем для наших слуг: кто хочет понять
отца, должен слушать меня.
—Я легко понимал его и без твоей помощи.
—Тебе так казалось; ты понимал плохо. Не существ
вует нескольких способов понимать отца; не существу¬
ет нескольких способов его слушать. Не существует не¬
скольких способов любить его, если мы хотим быть
объединены в его любви.
— В его доме.
—Любовь эта приводит в его дом; ты хорошо это ви¬
дишь, ведь сам ты вернулся. Скажи мне теперь: что те¬
бя побудило уйти?
393
— Я слишком ясно чувствовал, что наш дом еще не
весь мир. И сам я не весь в том, кем вы хотели сделать
меня. Помимо воли воображению моему рисовались
другие посевы, другие земли, другие дороги для стран¬
ствий, дороги не проторенные. Я творил в себе новое
существо, готовое устремиться по ним. И я бежал.
— Подумай о том, что случилось бы, если бы и я, по¬
добно тебе, покинул дом нашего отца. Слуги и разбой¬
ники расхитили бы все наше добро.
— Меня это мало заботило, ибо воображению мое¬
му рисовались иные блага...
— Которые преувеличивала твоя гордыня. Брат
мой, то была распущенность. Ты узнаешь, если это те¬
бе еще неизвестно, из какого хаоса вышел человек. Но
вышел не совсем; по простоте своей и неуклюжести он
снова падает туда, если дух его не возносит. Не совето¬
вал бы тебе узнавать это на собственном опыте; строй¬
но упорадоченные элементы твоего существа ждут
только молчаливого согласия, попущения с твоей сторо¬
ны, чтобы вернуться к анархии... Но чего ты никогда не
узнаешь,— это количества времени, потребного чело¬
веку для того, чтобы выработать человека. Теперь же,
раз образец получен, будем его держаться. «Держи, что
имеешь», говорит Дух ангелу церкви * и добавляет: «Да¬
бы никто не восхитил венца твоего». То, что ты
и м е е ш ь,— это твой венец твоя царственная власть над
другими и над самим собой. Венцом твоим стремится
завладеть узурпатора Он везде — он бродит вокруг те¬
бя, он в тебе. Держись крепко, брат мой! Держись
крепко.
—Я слишком давно разжал руки, я уже не могу
удержать в них добро мое.
— Можешь; я тебе помогу. Я охранял это добро в
твое отсутствие.
— Кроме того, мне тоже известны слова духа; ты
привел их не полностью.
—Да, он продолжает так: «Побеждающего сделаю
столпом в храме бога моего, и он уже не выйдет вон».
* Отар., III, 11.
394
— «Не выйдет вон», Это как раз меня пугает.
—Для его же счастья.
— О, я понимаю! Но ведь я был в этом храме...
— Видно плохо пришлось тебе по уходе из него, ес¬
ли ты захотел вернуться.
— Знаю, знаю. Я вернулся — согласен.
— Каких еще благ тебе надобно в другом месте?
Разве ты не находишь здесь всего в изобилии? Или луч¬
ше: все твои блага только здесь.
— Я знаю, что ты сберег для меня богатства.
—Я сберег из твоего имущества то, что ты не рас¬
точил, то есть нашу общую часть: земельные владения.
— Значит, мне больше ничего не принадлежит на
правах собственности?
— Принадлежит,— та особая часть, которую отец
наш может быть согласится еще тебе пожаловать.
—Только это мне и дорого; я согласен владеть толь¬
ко ею.
— Гордец! Тебя не спросят. Между нами говоря, эта
часть весьма сомнительна; я тебе советую лучше от нее
отказаться. Ведь подобные дары уже привели тебя на
край гибели: именно их ты немедленно расточил.
—Других благ я не мог унести с собою.
— Потому и обретешь их в неприкосновенности. Ну
на сегодня довольно. Приобщись же к покою нашего
дома.
—Хорошо сказано, ибо я устал.
—Да будет же благословенна твоя усталость! А те¬
перь спи. Завтра с тобой поговорит мать.
Мать
Блудный сын, ум твой еще возмущается словами
твоего брата, но пусть сейчас говорит твое сердце. Как
сладостно тебе, полулежа у ног матери и запрятав голо¬
ву в ее колени, ощущать ее ласкающую руку на твоей
строптивой шее!
— Зачем ты покинул меня так надолго?
Но ты отвечаешь только слезами, и она продолжает:
395
— Зачем же плакать теперь, сын мой? Ты мне воз¬
вращен. В ожидании тебя я выплакала все слезы.
—Ты еще ждала меня?
—Я никогда не переставала надеяться на твое воз¬
вращение. Каждый вечер перед тем, как заснуть, я ду¬
мала: а если он вернется сегодня ночью, сумеет ли он
открыть дверь? И я долго не засыпала. Каждое утро,
еще в полусне, я думала: может быть он вернется сегод¬
ня? Потом я молилась. Я так много молилась, что ты не
мог не возвратиться.
—Твои молитвы вынудили мое возвращение.
— Не смейся надо мной, дитя мое.
—Ах, матушка! Я возвращаюсь к тебе, полный сми¬
рения. Смотри, я не смею прижать голову к твоему серд¬
цу, я опустил ее ниже. Среди моих вчерашних мыслей /
нет ни одной, которая не сделалась бы сегодня суетной.
Подле тебя я с трудом понимаю, зачем я ушел из дому.
—Ты больше не уйдешь?
— Я не могу больше уйти.
— Что же манило тебя на воле?
— Не хочу больше и думать об этом: ничего... я сам.
—Так ты думал, что будешь счастлив вдали от нас?
—Я не искал счастья.
— Чего же искал ты?
—Я искал... кто я такой.
— О, ты сын твоих родителей и брат твоих братьев.
— Я не походил на братьев. Не будем больше об
этом говорить; ведь я возвратился.
— Нет, поговорим об этом еще. Не думай, что
братья твои так несхожи с тобой.
— Отныне у меня только одна забота: походить на
вас всех.
—Ты говоришь это так, словно покоряешься неиз¬
бежности.
— Нет ничего утомительнее забот об утверждении
своего несходства с другими. Я устал под конец от мо¬
их странствий.
— Это правда, ты совсем осунулся.
— Я много страдал.
— Бедное дитя мое! Наверно, не каждый вечер стла¬
396
ли тебе постель и не всякий раз перед едой накрывали
тебе на стол?
— Я ел что попало, и часто мне случалось утолять
голод зелеными или гнилыми плодами.
— Но по крайней мере ты страдал только от голода?
— Ни полуденный жар, ни холодный ветер самого
глухого часа ночи, ни густые заросли, раздиравшие мне
ноги,— ничто меня не остановило, но — этого я не ска¬
зал брату — мне пришлось поступить в услужение...
— Зачем же ты это утаил?
—Дурным господам, которые изнуряли мое тело,
оскорбляли мою гордость и едва кормили меня. Тогда-
то я и подумал: «Ах, служить ради служения»... Во сне
мне привиделся наш дом; и я вернулся.
Блудный сын снова склоняет чело, которое нежно
ласкает материнская рука.
— Что же ты теперь намереваешься делать?
—Я уже сказал тебе: стараться походить на моего
старшего брата; управлять нашим имуществом; женить¬
ся, как он...
— У тебя верно уже есть кто-нибудь на уме?
— О, любая женщина мне полюбится с той минуты,
как ты ее выберешь! Сделай так, как ты сделала, когда
женила моего брата.
—Я хотела бы выбрать такую, которая была бы те¬
бе по сердцу.
— Не все ли равно? Мое сердце уже выбирало. Те¬
перь я отрекаюсь от гордыни, увлекшей меня далеко от
тебя. Руководи моим выбором. Я подчиняюсь, говорю я
тебе. И точно так же я буду держать в подчинении мо¬
их детей; тогда моя попытка не будет больше казаться
мне столь суетной.
— Слушай: у нас ведь есть мальчик, которым ты
уже и теперь мог бы заняться.
— Что ты хочешь сказать и кого ты имеешь в виду?
—Твоего младшего брата, которому не было и деся¬
ти лет, когда ты ушел, которого ты едва узнал и в кото¬
ром однако...
— Договаривай, матушка. Что тебя теперь беспо¬
коит?
397
— В котором однако ты мог бы узнать себя, ибо он
совсем такой, каким был ты перед своим уходом.
— Он похож на меня?
— На того, кем ты был тогда, говорю я тебе,— еще,
увы, не на того, кем ты стал.
— И кем он станет.
— Но кем его нужно заставить стать немедленно.
Поговори с ним; наверное, он послушается тебя, непу¬
тевого. Расскажи ему подробно, сколько неприятно¬
стей было на твоем пути. Избавь его...
— Но почему ты так тревожишься за моего брата?
Может быть, просто внешнее сходство...
— Нет, нет, сходство между вами более глубокое.
Меня в нем беспокоит то, что раньше не очень беспо¬
коило в тебе. Он слишком много читает и не всегда от¬
дает предпочтение хорошим книгам.
—Только это тебя и тревожит?
— Он часто забирается на самое высокое место са¬
да, откуда, ты знаешь, можно видеть, что делается за
его оградой.
— Помню это место. И это все?
— Он гораздо реже бывает с нами, чем на ферме.
— Вот как! Что же он там делает?
— Ничего дурного. Но он водится не с фермерами,
а с батраками из самых отдаленных мест и с чужезем¬
цами. Особенно с одним, прибывшим издалека и посто¬
янно рассказывающим ему всякие вещи.
—А, со свинопасом!
—Да. Ты его знаешь? Чтобы слушать его речи, твой
брат каждый вечер уходит с ним в свинарник; он воз¬
вращается только к обеду, ест без аппетита, и одежда
его дурно пахнет. Замечания бесполезны: он ожесточа¬
ется, когда его неволят. Иногда, на рассвете, в доме
еще все спят, а он бежит провожать до ворот свинопа¬
са, когда тот выгоняет свое стадо.
— Но ведь он знает, что ему нельзя выходить.
—Ты это тоже знал! В один прекрасный день он от
меня ускользнет, я в этом уверена. В один прекрасный
день он пустится в путь...
— Нет, я поговорю с ним, матушка. Не тревожься.
398
— Тебя, я знаю, он будет слушать. Заметил ты, как
он на тебя смотрел в первый вечер? Какое обаяние име¬
ли в его глазах твои лохмотья? А потом пурпурная
одежда, в которую облек тебя отец? Я боялась, не сме¬
шивает ли он их в своем уме и не привлекают ли его в
первую очередь лохмотья. Но сейчас эта мысль кажет¬
ся мне нелепой; ведь в конце концов, дитя мое, если бы
ты мог предвидеть все бедствия, которые на тебя обру¬
шились, ты бы нас не покинул, не правда ли?
—Я теперь уже не понимаю, как я мог покинуть те¬
бя, матушка.
—Так скажи ему все это.
— Завтра вечером я скажу ему все. А теперь поце¬
луй меня в лоб, как в дни моего детства, когда я засы¬
пал возле тебя. Мне хочется спать.
— Иди же, спи. А я помолюсь за вас всех.
Разговор с младшим братом
Рядом с комнатой блудного сына есть другая комна¬
та, просторная, с голыми стенами. Блудный сын с све¬
тильником в руке подходит к постели, в которой лежит
«го младший брат, повернувшись лицом к стене. Он на¬
чинает тихим голосом, чтобы не потревожить мальчи¬
ка, если он спит.
—Я хотел бы поговорить с тобой, брат.
— Кто же тебе мешает?
—Я думал, ты спишь.
— Нет нужды спать, чтобы грезить.
—Ты грезил. О чем же?
— Что тебе до этого? Если я сам уже не понимаю
моих снов, то и ты, я думаю, мне их не объяснишь.
— Они, значит, очень хитрые? Если бы ты мне рас¬
сказал, я бы попробовал.
— Разве ты выбираешь себе сны? Мои сны свое¬
вольны, и они свободнее, чем я... Чего тебе здесь надо?
Зачем ты тревожишь мой сон?
399
—Ты ведь не спишь, и я хочу тихонько поговорить
с тобой.
— Что же ты можешь мне сказать?
— Ничего, если ты принимаешь такой тон.
—Тогда прощай.
Блудный сын направляется к двери, он ставит на пол
светильник/который теперь едва освещает комнату, по¬
том возвращается, садится на край постели и долго гла¬
дит в темноте лоб отвернувшегося от него мальчика.
—Ты отвечаешь мне грубее, чем я когда-либо гово¬
рил с твоим братом. А ведь меня возмущало его пове¬
дение.
Строптивый мальчик резко выпрямился.
— Скажи, это брат тебя подослал?
— Нет, милый, не он, а мать.
— Значит, по собственному желанию ты бы не при¬
шел?
— Но я прихожу к тебе, как друг.
Привстав на постели, мальчик внимательно смотрит
на брата.
— Разве кто-нибудь из моих близких может быть
мне другом?
—Ты заблуждаешься насчет брата...
— Не говори мне о нем. Я его ненавижу... Сердце
мое преисполнено негодования против него. Это он ви¬
новат в том, что я грубо тебе отвечал.
— Как так?
—Ты все равно не поймешь.
— Все же скажи...
Блудный сын прижимает брата к своей груди, баю¬
кает его, и мальчик уже уступает его ласке.
— В тот вечер, как ты вернулся, я не мог заснуть.
Всю ночь размышлял: у меня есть другой браг, а я это¬
го не знал...
Потому-то сердце мое и забилось так сильно, когда
я увидел, как ты входишь во двор нашего дома, покры¬
тый славой.
—Увы! Я был покрыт тогда лохмотьями.
—Да, я видел. Но ты был во славе. И я видел так¬
же, что сделал наш отец: он надел тебе перстень на па¬
400
лец, перстень, какого нет у нашего брата. Я никого не
хотел расспрашивать о тебе; я знал только, что ты воз¬
вращаешься издалека, и твой взгляд, когда ты сидел за
столом...
— Ты тоже был на пире?
— О, я знаю, что ты меня не заметил. За столом ты
все время смотрел вдаль, ничего не видя кругом. И что
на следующий вечер ты пошел говорить с отцом, это
было понятно, но на третий...
— Кончай.
—Ах, ты все же мог бы сказать мне хоть одно лас¬
ковое слово!
— Значит ты ждал меня?
— И как ждал! Неужели ты думаешь, что я до та¬
кой степени возненавидел бы старшего брата, если бы
ты не разговаривал с ним так долго сегодня вечером.
О чем вам было беседовать? Ты ведь знаешь, если ты
похож на меня, то не можешь иметь с ним ничего об¬
щего.
—Я очень провинился перед ним.
— Может ли это быть?
— Во всяком случае — перед отцом и матерью. Ты
знаешь, что я бежал из дома.
—Да, знаю. Это было давно?
—Я был приблизительно твоих лет.
—А... И это ты называешь своей виной?
—Да, это была моя вина, мой грех.
— Но разве ты уходил с чувством, что поступаешь
дурно?
— Нет, у меня было такое чувство, точно я обязан
уйти.
— Что же произошло с тех пор? Почему твоя тог¬
дашняя правда превратилась в заблуждение?
— Я натерпелся невзгод.
— И потому говоришь: я был неправ?
— Нет, не совсем так. Это заставило меня призаду¬
маться.
— Значит, до этого ты не думал?
—Думал, но мой немощный разум поддался внуше¬
нию моих желаний.
401
— Как впоследствии внял голосу страданий? Зна¬
чит, теперь ты возвращаешься... побежденным?
— Нет, не совсем так: покорившимся.
Мальчик некоторое время молчит, затем внезапно
разражается рыданиями:
— Брат, я тот, кем ты был уходя. О, скажи: значит,
в пути ты встретил одни лишь разочарования? Значит,
все, что рисуется мне во внешнем мире столь непохо¬
жим на то, что мы видим здесь,— только мираж? И то
новое, что я в себе ошущаю,— только безумие? Ска¬
жи: какие ужасы встретил ты на своем пути, которые
тебя так обескуражили? Скажи: что заставило тебя
вернуться?
— Свобода, которой я искал, была мной утрачена;
попав в плен, я принужден был служить.
*. — Здесь я тоже в плену.
—Да, но служить дурным господам! Здесь же те, ко¬
му ты служишь,— твои родители.
— Ах, служить для того, чтобы служить! Не остает¬
ся ли у нас, по крайней мере, свободы в выборе наше¬
го рабства?
—Я так надеялся. Пока несли меня ноги, я все шел
вдогонку за моими желаниями, как Саул шел за свои¬
ми ослицами. Но там, где его ожидало царство, я нашел
нищету. И все же...
—А ты не сбился с пути?
—Я шел прямо вперед.
—Ты в этом уверен? А ведь есть еще Другие царст¬
ва и страны без царей, которые надо открыть.
— Кто тебе это сказал?
—Я знаю. Я чувствую. Мне уже кажется, что я над
ними владычествую.
— Гордец!
—Ха, ха! Это слово сказал тебе брат. Зачем же те¬
перь ты мне его повторяешь? Отчего ты не сохранил
своей гордыни? Тебе не пришлось бы возвращаться.
— И я не мог бы с тобой познакомиться.
— Мог бы, мог! Там, где я встретился бы с тобою,
ты узнал бы во мне брата; мне даже до сих пор кажет¬
ся, что я ухожу лишь для того, чтобы тебя найти.
402
—Ты уходишь?
— Разве ты об этом не догадался? Разве сам ты не
побуждаешь меня уйти?
— Я хотел бы избавить тебя от возвращения... изба¬
вив тебя от необходимости уйти.
— Нет, нет, этого мне не говори. Нет, не это ты хо¬
чешь сказать. Ведь и ты, не правда ли, ушел как завое¬
ватель?
— И потому-то рабство показалось мне особенно тя¬
желым.
—Так зачем же ты покорился? Разве ты уже на¬
столько устал?
— Нет, еще не устал. Но я усомнился.
— Что ты хочешь сказать?
—Усомнился во всем, в себе; я захотел остановить¬
ся, устроиться наконец где-нибудь; удобства, которые
сулил мне хозяин, соблазнили меня... да, теперь я пони¬
маю: я допустил ошибку.
Блудный сын опускает голову и закрывает лицо ру¬
ками.
— А вначале?
—Я долго шел по обширным невозделанным зем¬
лям.
— По пустыне?
— Не всегда они были пустыней.
— Чего же ты там искал?
— Я сам уж этого не понимаю.
— Встань с моей постели. Посмотри на стол у мое¬
го изголовья,— там, у разорванной книги.
—Я вижу разломанный гранат.
— Свинопас принес мне его вчера вечером, про¬
блуждав где-то три дня.
—Да, это дикий гранат.
—Я знаю. Он ужасно терпкий и кислый. И все же я
чувствую, что, будь у меня сильная жажда, я бы вонзил
в него зубы.
—Ах, теперь я могу сказать тебе все: именно этой
жажды искал я в пустыне.
—Жажды, которую может утолить только этот не-
подслащенный плод...
403
— Нет; но он внушает любовь к этой жажде.
— Ты знаешь, где его можно сорвать?
— В маленьком заброшенном саду, к которому
можно дойти под вечер. Ограда уже не отделяет его от
пустыни. Там протекал ручей; полусозревшие плоды
висели на ветвях.
— Какие плоды?
— Такие же, как и в нашем саду, только дикие. Весь
день было очень жарко.
— Слушай, знаешь ли, почему я ждал тебя сегодня
вечером? Я ухожу еще до рассвета. Сегодня ночью; се¬
годня ночью, когда она начнет бледнеть... Я препоясал
чресла свои, я не снимал на ночь сандалий.
— Как? Ты совершишь то, чего не мог совершить я?
— Ты открыл мне путь, и мысль о тебе будет меня
поддерживать.
— Это я должен восхищаться тобою, а ты, напротив,
должен меня забыть. Что ты берешь с собой?
— Ты не знаешь, что я, как самый младший, не
имею доли в наследстве. Я иду без ничего.
—Так лучше.
— Что ты там видишь в окне?
—Я вижу сад, где покоятся наши умершие родные.
— Брат... (И мальчик, встав с постели, об¬
нимает блудного сына за шею рукой, лас¬
ковой, как его голос.) Пойдем со мной.
— Оставь меня! Оставь! Я остаюсь утешать нашу
мать. Без меня ты будешь смелее. Но тебе пора. Небо
бледнеет. Уходи без шума. Ну, поцелуй же меня, мой
юный брат: ты уносишь все мои надежды... Будь силен;
забудь нас; забудь меня. О, если бы тебе не пришлось
возвратиться... Сходи потихоньку. Я держу светильник...
—Ах, проводи меня за руку до ворот.
— Ступай осторожнее по ступенькам крыльца...
|^3b<g=^n r^dig
КОММЕНТАРИИ
Трактат о Нарциссе
Написано осенью 1891 г., впервые опубликовано отдель¬
ной книжкой в декабре 1891 г. Это первое произведение Ан¬
дре Жида, подписанное его именем (после псевдонимной
книги «Тетради Андре Вальтера», 1890).
В томе I Собрания сочинений Жида (1932), выходившем
хотя и при жизни автора, но под редакцией другого литерато¬
ра — Луи Мартен-Шофье, в текст этого «трактата» вкралась
курьезная ошибка: вслед за последним абзацем «Трактата о
Нарциссе» были напечатаны еще два абзаца из другого про¬
изведения — «Опыт любви». Скорее всего, редактор случай¬
но положил страницу рукописи не на свое место... Уже в од¬
ном из прижизненных переизданий «Трактата о Нарциссе»
(A. Gide. Recits. Romans. Soties. Paris, Gallimard, 1948) эта
ошибка была исправлена; чужеродное добавление исключено
и в наиболее авторитетном посмертном издании художест¬
венных сочинений А. Жида («Библиотека Плеяды», 1958).
1 Посвящается Полю Валери.— Поэт и эссеист Поль Ва¬
лери (1871—1945) был другом А Жида, участвовал, как и он,
в поэтическом кружке Стефана Малларме. В начале 90-х го¬
дов они оба обратились к сюжету о Нарциссе: Валери напи¬
сал поэму «Нарцисс говорит», а позднее еще не раз возвра¬
щался к той же мифологической фигуре.
2 Nuper те litiore vidi — Вергилий. «Буколики», II, 25.
3 Иггдрасшь — мировое древо в скандинавской мифоло¬
гии. А. Жид в духе постромантического религиозного синк¬
ретизма, отождествляет его с другим вариантом того же ми¬
405
фического мотива — «древом познания добра и зла» из Кни¬
ги Бытия, плоды которого стали причиной грехопадения Ада¬
ма; называя Иггдрасиль «логарифмическим» древом, он хо¬
чет сказать, что оно, как и это греческое слово, объединяло в
себе «слово» и «число».
4 Элохим — обозначение Бога в древнееврейской мифо¬
логии.
5 фула — по античным представлениям, далекая северная
земля, «край света» (возможно, Исландия или Норвегия).
6 «Сделалось безмолвие на небе» — Апок VIII, 1.
...произносит последнее свое слово: «Свершилось!» — Ин
XIX, 30.
7 «Горе тому человеку, чрез которого соблазн прихо¬
дит». — Мф XVIII, 7; Лк XVII, 1.
Странствие Уриака
Впервые опубликовано отдельным изданием в мае 1893 г.
1 Ангер.— Как говорил А. Жид в одной беседе, этим име¬
нем обозначается его друг Поль Валери.
2 ...а волосы — словно облако, окрашенное восходящим сол¬
нцем (Новалис).— Цитируется книга Новалиса «Ученики в
Саисе» (1799).
3 Бактрия — древнее государство в Средней Азии (на се¬
вере нынешнего Афганистана).
4 Эллис — одно из имен (Эмманюэль, Анжель, Алиса), ко¬
торые в прозе А. Жида носила его кузина, а затем жена Мад¬
лен Рондо.
5 «Пролегомены ко всякой будущей метафизике— «Про¬
легомены ко всякой будущей метафизике, могущей возник¬
нуть в качестве науки» (1783), трактат И. Канта.
6 «Теодицея» (1710) — трактат Г.-В. Лейбница.
7 «Трактат о случайности» — сочинение, которое соби¬
рался написать сам А. Жид и которое в итоге получило назва¬
ние «Топи».
8 «Жизнь Франклина» — автобиография Бенджамина
Франклина (фр. пер. 1795).
9 «Нынешний долг» г-на Дежардена.— Автор этой книги
406
(1892), писатель-эссеист Поль Дежарден (1859—1940), в даль¬
нейшем прославился организацией писательских «декад» в
старинном аббатстве Понтиньи, на которых обсуждались ак¬
туальные морально-философские проблемы. Постоянным
участником «декад» был и Андре Жид.
Ю «И все сии не получили обещанного...» — См. Евр XI,
39—40.
11 Ла Рок — имение семьи А. Жида в Нормандии до
1900 г. (см. автобиографию «Если зерно не умрет»).
Опыт любви
Впервые опубликовано отдельным изданием в ноябре
1893 г. Подзаголовок произведения — «...или Трактат о тщет¬
ности желаний» — появился лишь в переиздании 1899 г.
В томе I Собрания сочинений А. Жида (1932) первая стра¬
ница основного текста (два абзаца, начиная со слов «Ни на¬
вязчивые людские законы..,») были по ошибке изъяты из
«Опыта любви» и напечатаны в конце «Трактата о Нарциссе»
(см. комментарий к нему); в современных изданиях эта ошиб¬
ка исправлена.
1 Франсис Жамм (1868—1938) — поэт, друг Андре Жида.
2 «Тайо! Тайо!» — охотничий крик, науськивающий собак.
Топи
Написано в 1894 г., во время лечения в Швейцарии (см.
вторую часть автобиографии А. Жида «Если зерно не умрет»).
Первая публикация вышла отдельным изданием в мае 1895 г.
с подзаголовком «Трактат о случайности».
1 Эжен Руар (1872—1935) — сын крупного коллекционе¬
ра современной живописи, имевший много друзей в литера-
турно-художественной среде и сам написавший несколько ли¬
тературных произведений.
2 Я прочел у Вергилия две строки...— «Буколики», I, 47—
48. Эта эклога, во времена молодости Жида известная любо¬
407
му школьнику, изучающему латынь, положила начало тради¬
ционному поэтическому сюжету «странствователь и домо¬
сед».
3 Рдест — род водных трав; по-французски называется
пышным греческим словом Potamogeton.
4Пайрон, Эдуард (1834—1899) — комедиограф, член
Французской академии.
5 ...держа в руке мою ежедневную чашку молока (в стиле
некоторых лакистов)...— Лакисты (от англ. Lake Poets) —
так называемая «озерная школа» в английской поэзии начала
XIX в., получившая название от поэмы Вордсворта «Описание
пейзажа озер». В английской поэтической «озерной школе»
молоко расценивалось как знак возврата к природе, к просто¬
му естественному быту.
6 Бластодерма — зародышевая оболочка.
7 ...Вальтер, которого я не могу выносить...—Андре Валь¬
тером звали лирического героя первой книги А. Жида «Тетра¬
ди Андре Вальтера» (1890); таким образом, данное шутливое
замечание выражает либо недовольство автора своим преж¬
ним сочинением, либо вообще «непереносимость» для него
своего собственного образа.
8 Бискра — о роли этого алжирского города в жизни
А. Жида см. во второй части его автобиографии «Если зерно
не умрет».
9 Ты мне напоминаешь тех, кто переводит Numero Deus
impure gaudet как «Второй номер радуется своей непарно¬
сти»...— Школьная ошибка, вызванная сходством латинского
слова deus (бог) и французского deux (два). У Вергилия («Бу¬
колики», VIII, 74) речь идет о колдовском обряде, включаю¬
щем в себя троекратный обход алтаря.
Ю Ты мне напоминаешь тех, кто переводит Et dona
farentes как: «Я боюсь греков»...— Опять механическая ошиб¬
ка в переводе хрестоматийного стиха из «Энеиды» Вергилия
(11, 49) «Страшусь я данайцев (т. е. греков), даже и дары при¬
носящих».
11 Выбор меню на каждый день...— В этом «меню» шутли¬
во упоминаются имена модных писателей 1890-х годов, в том
числе Йориса-Карла Гюисманса (1848—1907), Мориса Барре-
са (1862—1923), Габриэля Трарьё (1870—1940).
12...господа из Портики.— Школа стоицизма, которую
408
римляне именовали также Портикой, была основана в Афи¬
нах около 300 г. до н. э. Зеноном из Китиона, преподававшим
под крытой галереей — портиком (по-греч. stoa).
13 Фарнезе — дворец в Риме кардинала Алессандро Фар-
незе, впоследствии ставшего папой Павлом III (1534—1549).
14 Болотодорога — в оригинале maraischaussee, калам¬
бурно переиначенное слово marechaussee — «конная стража,
жандармерия».
15 ...от вас не останется ничего, кроме этого стебелька
nymphea botaniqueНамек на стихотворение в прозе Сте¬
фана Малларме «Белая кувшинка» (1885), герой которого со¬
храняет себе этот цветок на память о недоступной, так и не
увиденной им женщине.
16 «Лоэнгрин» — опера Р. Вагнера (1850).
17 ...в одном из стихотворений мсье Малларме, восклица¬
ние «Palmes!» — Имеется в виду стихотворение С. Малларме
«Дар поэмы» (опубл. 1885).
Бежать, бежать туда, где птицы опьянели! — Из сти¬
хотворения С. Малларме «Ветер с моря» (1866).
19 «Все, что нельзя уложить в чемодан, непереносимо!» —
Это сказал мсье Баррес...— По-видимому, шутливая вариация
на тему ранней прозы М. Барреса («Культ своего «я»», 1886—
1889).
20...как оседлавший Синдбада морской шейх.— См. «Тыся¬
ча и одна ночь», ночь 557.
21 ...Плавта или Самсона, вращающих мельничные жерно¬
ва...— О римском комедиографе Марке Плавте сохранились
сведения, что одно время, разорившись на поприще театраль¬
ной антрепризы, он вынужден был зарабатывать на жизнь как
чернорабочий на мельнице. Таким же трудом, согласно Биб¬
лии (Суд XVI, 21), должен был заниматься и плененный фи¬
листимлянами Самсон.
22 Монморанси — городок к северу от Парижа.
23 «Малый пост» — воскресное наставление верующим
на период поста.
24 Польдер — отгороженный от моря дамбой, осушенный
и возделанный участок побережья. «Польдеры» — название,
сближающееся с названием «Топь» («Paludes») как по звуча¬
нию, так и по смыслу.
25 Оратуар — бывшая ораторианская церковь в Париже,
409
превращенная в протестантский храм. Герой «Топи», как и
сам Андре Жид,— протестант.
26 Посылка — во французской балладе — заключительная
строфа, где автор обращается к определенному лицу, которо¬
му посвящена данная баллада.
Яства земные
Впервые опубликовано отдельным изданием в мае 1897 г.
В 1935 г. А. Жид опубликовал также «Новые яства» — сбор¬
ник поэм в прозе, писавшихся на протяжении многих лет; в
отличие от «старых», они были тогда же переведены на рус¬
ский язык («Знамя», январь 1936 г.).
1 Морис Кийо (1870—1844) — писатель, школьный това¬
рищ Пьера Луиса (см. о них обоих в автобиографии А. Жида).
2 «Мое ленивое счастье, которое долго дремало, просыпа¬
ется» — Гафиз, газель II. В 90-е годы А. Жид читал эти- сти¬
хи в переложении Гёте («Западно-восточный диван»).
3 Jhe Exile's song (Taine, Litt. ang., I, 30) — имеется в ви¬
ду древнеанглийская песня, приведенная в 1 томе «Истории
английской литературы» Ипполита Тэна, на с. 32 первого из¬
дания (1863).
4 Мудрость в том, чтобы удивляться всему.— Выверну¬
тая наизнанку максима стоической философии «мудрости
свойственно ничему не удивляться» (Цицерон. «Тускуланские
беседы», V, 81).
5 Песня в знак поклонения тому, что я сжег.— Подразу¬
меваются легендарные слова епископа Ремигия (конец V в.),
который убеждал принять христианство вождя сикамбров
Хлодвига, ставшего первым королем Франции: «Склонись,
гордый сикамбр, поклонись тому, что ты сжигал, и сожги то,
чему ты поклонялся».
6 Та книга, что когда-то Иоанн / На Патмосе, как кры¬
са, съел поспешно...— См. Апокалипсис (который написан
Иоанном Богословом на острове Патмос), 10,10.
7 В пещере Одоллам томился ты, Давид...— См. 1 Цар
XXII, 1.
% ...аргументы святого Ансельма...— Архиепископ Ан¬
410
сельм Кентерберийский (1033—1109) выдвинул знаменитое
«онтологическое доказательство» бытия Божьего: поскольку
Бог — совершенное существо, а к числу атрибутов совершен¬
ства не может не относиться существование (иначе оно не со¬
всем совершенно), то, следовательно, Бог существует.
9...притча о совершенных островах Блаженства.— По-ви¬
димому, речь идет о Елисейских полях.
10...как Елисей лег над сыном Сонамитянки, чтобы вос¬
кресить его...— См. 4 Цар IV, 34.
11 Онфлер — город в Нормандии, у впадения Сены в море.
*2Принесите мне вина — / Пусть прольется оно на
платье...— Гафиз, газель LVIII.
Я вспоминаю, как однажды вечером мы сидели с Амбру-
азом...— Имеется в виду Поль Валери, которого А Жид час¬
то называл по его второму имени Амбруаз. Валери был уро¬
женцем городка Сет — близ Монпелье, где происходит опи¬
сываемая сцена.
14 Сахель — в Северной Африке название холмов, отделя¬
ющих морское побережье от пустынных равнин.
15 «Наукоучение» Фихте — этот трактат И.-Г. Фихте был
опубликован после смерти философа, в 1804 г.
16 ...чудесная нить, связывавшая Тезея с его прошлой любо¬
вью...— Подразумевается Ариадна и ее путеводная нить в Крит¬
ском лабиринте. Этот сюжет использован в последнем художе¬
ственном произведении А Жида — повести «Тесей» (1946).
17 Идуана — значащее имя: Idoine по-французски «подхо¬
дящая», «пригодная».
18...а огромном парке, неподалеку от берега Вандеи.—
Очевидно, А Жид вспоминает нормандские имения своей
семьи — JIa Рок и Кювервиль.
19 ...трех зерен граната достаточно, чтобы Прозерпина
помнила.— По греческому мифу, дочь Зевса и Деметры Пер-
сефона (в латинской традиции Прозерпина) была похищена
Аидом; в дальнейшем он отпустил ее назад из своего подзем¬
ного царства, но заставил вкусить зернышко граната, чтобы
она не забыла о нем; с тех пор Персефона треть года прово¬
дит среда мертвых, а две трети на земле, со своей матерью
Деметрой. В драматическом отрывке «Прозерпина» (1912)
А Жид перевернул ситуацию: зернышко граната напоминает
не о подземном царстве, а, наоборот, о земле.
411
20 Зулейка — мистическая возлюбленная Гафиза, а также
имя жены Потифара в восточной традиции.
21 Боабдил — последний мавританский король Гренады
(XVI в.).
22 Фамарь — сестра Авессалома, жертва кровосмеситель¬
ной страсти своего брата Амнона (2 Цар XIII).
23 Суламита (Суламифь) — героиня Песни песней.
24 Форнарина — Маргарита Лутти, возлюбленная худож¬
ника Рафаэля.
25 Зубейда — имя нескольких персонажей «Тысячи и од¬
ной ночи».
26 Дамьетт — город в Нижнем Египте.
27 Памфило и Фьяметта — герои произведения Дж. Бок-
каччо «Элегия мадонны Фьяметты» (1344); персонажи с теми
же именами фигурируют и среди рассказчиков «Декамерона».
28Линкей — герой греческих мифов, обладавший нео¬
быкновенным зрением: он умел видеть под землей и под во¬
дой. Фигурирует в «античных» сценах второй части «Фауста»
Гёте, где несет службу как дозорный; именно он произносит
слова, поставленные в эпиграф к этой шестой книге «Яств
земных».
^ Мерит.— См. о ней во второй части автобиографии
А. Жида «Если зерно не умрет».
30 Quid turn si fuscus Amyntas — Вергилий. «Буколики», X,
37—38: «Страстью б, наверно, пылал к Филлиде я, или к Амин-
ту,/ Или к другому кому,— не беда, что Аминт — загорелый»
(пер. С. Шервинского). Под названием «Аминт» изданы в 1906 г.
записные книжки А. Жида о поездках в Северную Африку.
31 Атман (Атман Бубакар, ок. 1879 — ок. 1950). — См. о
нем во второй части книги «Если зерно не умрет».
32 Nocet cantantibus umbra — искаженная цитата из Верги¬
лия («Буколики», II, 75—76).
33 Марабут — мусульманский отшельник.
34 Шотт — род солончаков в Северной Африке.
35 Саул, искавший в пустыне своих ослиц...— 1 Цар IX, 3
след.
36 Ибо то, чего ты лишаешься сегодня, завтра воздается
тебе стократ — сказано в Евангелии...— Ср. Мф XIX, 29.
37 Я верил, что сам был солью земли.— Ср. Мф V, 13.
38 М. А. Ж.— Мадлен Андре Жид, жена писателя.
412
Плохо скованный Прометей
Впервые опубликовано в журнале «Эрмитаж», январь—
март 1899 г. Название содержит игру слов «Le Promethee mal
enchaine» и может означать и «плохо скованного Прометея»,
и «плохо связанный рассказ о Прометее», что намекает на
подчеркнуто небрежную композицию повести.
1 Полъ-Альбер Лоран (1870—1934) — художник, друг Анд¬
ре Жида; см. о нем подробнее в книге «Если зерно не умрет».
2 Кокл и Дамокл (Codes и Damocles) — значащие имена.
Гораций Коклес — легендарный римский герой, потерявший
глаз в бою с этрусками («Коклес» собственно и значит «одно¬
глазый»); ср. со злоключением соответствующего персонажа
у А. Жида. Дамокл — другой легендарный персонаж, прибли¬
женный тирана Дионисия Сиракузского, который на пиру за¬
ставил его сидеть под угрожающе нависшим мечом («дамок¬
лов меч»), ср. смертельную тревогу, которой мучается Да¬
мокл у А Жида.
3 Я долго размышлял по самому лучшему методу: сиг,
unde, quo, qua? — Имеется в виду риторическая схема вопро¬
сов, предназначенных для выяснения обстоятельств действия;
в традиционной форме она включает в себя следующие воп¬
росы: «Кто? Что? Где? С чьей помощью? Для чего? Каким об¬
разом? Когда?»
4 «Ему должно расти, а мне умаляться» — Ср. Ин III, 30,
слова Иоанна Крестителя об Иисусе.
5...0рел совершит несколько кругов...— Игра слов: tours в
контексте рекламной афиши воспринимается в значении «фо¬
кусы», тогда как в действительности публике будут показаны
всего лишь «круги», по которым летает птица.
6 Нарушения логики.— В оригинале сказано конкретнее:
о так называемом petitio principi, неверном рассуждении, ког-
да д ля аргументации используется то положение, которое еще
само нуждается в доказательстве. Одновременно писатель
обыгрывает и внутреннюю форму этого выражения — оно мо¬
жет означать также «прошение о начале».
7...создав человека по собственному образу и подобию, я
теперь понимаю...— По одной из версий мифа, Прометей не
только подарил людям огонь, но и вообще был их творцом; в
413
этом смысле А. Жид и приписывает ему известную формулу
из Книги Бытия (I, 27).
8 И безуспешно подставляет всем и каждому другую ще¬
ку.— Ср. Мф V, 39; Лк VI, 29.
9 «Чем ты владеешь, чего бы ты не получил?» — говорит¬
ся в Писании...— 1 Кор IV, 7.
10 «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов».—
Мф VIII, 22; Лк К, 60.
11 Титир — герой первой эклоги Вергилия.
12 И под этим дубом Титир с теневой стороны творил
суд,,.— Легендарная поза короля франков Дагоберта (VII в.).
13 ...вегтлку с акростихом...— Каламбур: «акростих» зву¬
чит сходно с французским глаголом accrocher — «вешать,
подвешивать».
14 Мелибей — имя второго героя первой эклоги Вергилия,
по сюжету «странствователя», а не «домоседа», как Титир.
15 Леда и Тиндар, Минос и Пасифая — два семейства из
греческих мифов, связанные с любовными приключениями
Зевса, который принимал животный облик (лебедя для Леды,
быка для Пасифаи). В результате Леда снесла яйцо, из кото¬
рого вылупились братья-близнецы Диоскуры, а Пасифая про¬
извела на свет чудовищного человекобыка Минотавра.
Трактаты
«Эль-Хадж» и «Филоктет» были впервые опубликованы в
1899 г., «Вирсавия» — в 1903 г. и «Возвращение блудного сы¬
на» — в 1909 г. В 1912 г. в N. R. F. все четыре «трактата»
вышли отдельным томом. Заглавие одного из «трактатов» —
«Возвращение блудного сына» — стало заглавием всей книги.
С. Зенкин, И. Сабова
СОДЕРЖАНИЕ
В. А. Никитин. Андре Жид: вехи творческого пути .... 5
ТРАКТАТ О НАРЦИССЕ (Теория символа)
Перевод И. Стаф ' 27
СТРАНСТВИЕ УРИАНА. Повесть
Перевод И. Кузнецовой 39
ОПЫТ ЛЮБВИ, или ТРАКТАТ О ТЩЕТНОСТИ
ЖЕЛАНИЙ. Повесть. Перевод О. Каменевой 91
ТОПИ. Повесть. Перевод И. Сабовой 107
ЯСТВА ЗЕМНЫЕ. Поэма. Перевод Ю. Покровской 175
ПЛОХО СКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ
Перевод М. Ваксмахера 283
ТРАКТАТЫ. Перевод Я. Рыковой
ЭЛЬ-ХАДЖ, или ТРАКТАТ О ЛОЖНОМ ПРОРОКЕ 335
ФИЛОКТЕТ 356
ВИРСАВИЯ 375
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА 387
Комментарии 405
АНДРЕ ЖИД
Собрание сочинении
в семи томах
Том первый
Редактор О. Равданис
Художественный редактор И, Марев
Технический редактор В. Нефедова
Корректор Т. Топчий
Компьютерная верстка И. Понятых
JIP № 071673 от 01.06.98 г. Изд. № 0402186.
Подписано в печать 18.06.02 г.
Формат 84х108‘/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Центурион». Печать высокая.
Уел. печ. л. 21,84. Уч.-изд. л. 20,45.
Заказ Ко 0210070.
ТЕРРА—Книжный клуб.
115093, Москва, ул. Щипок, 2.
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.
til ш*