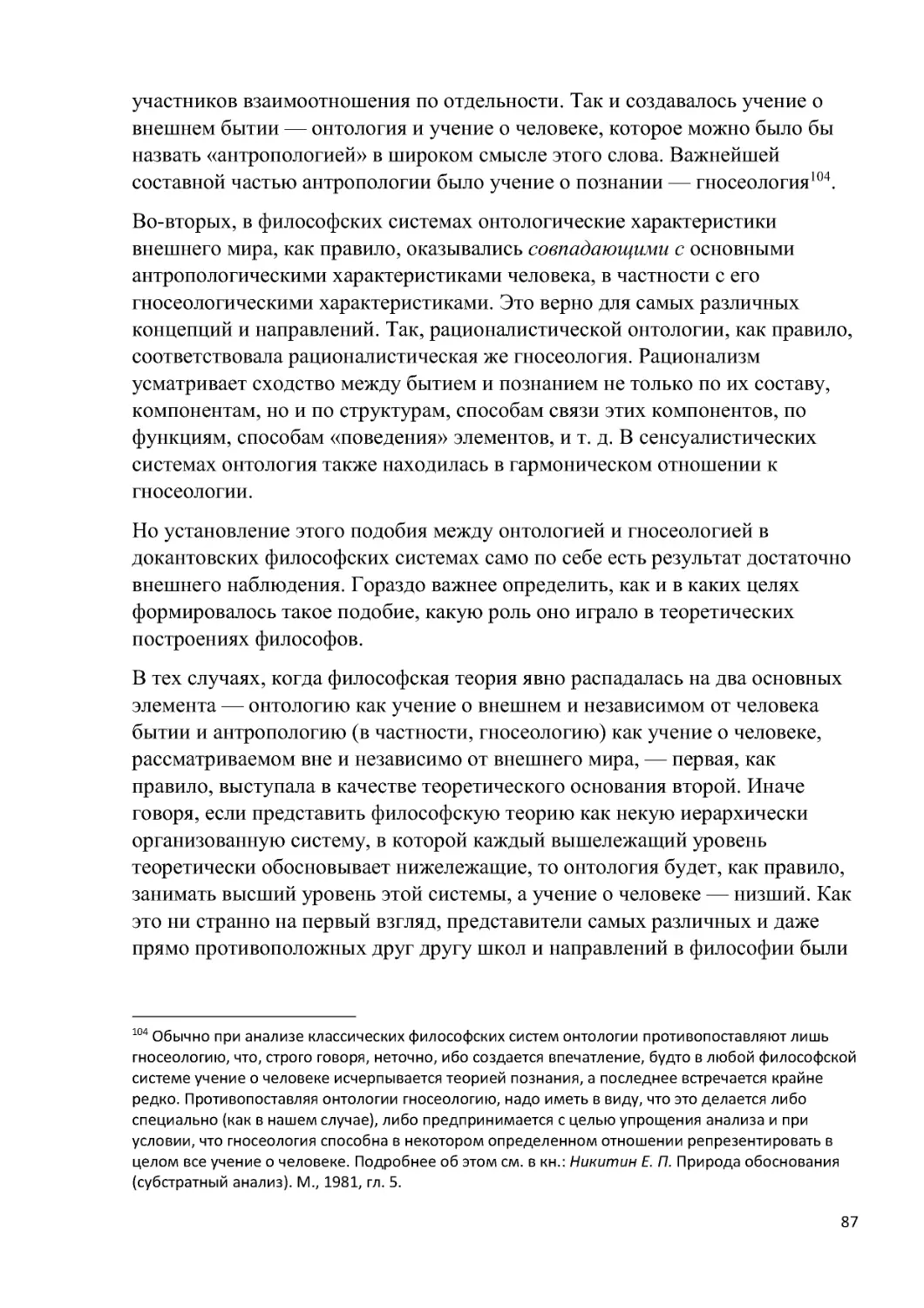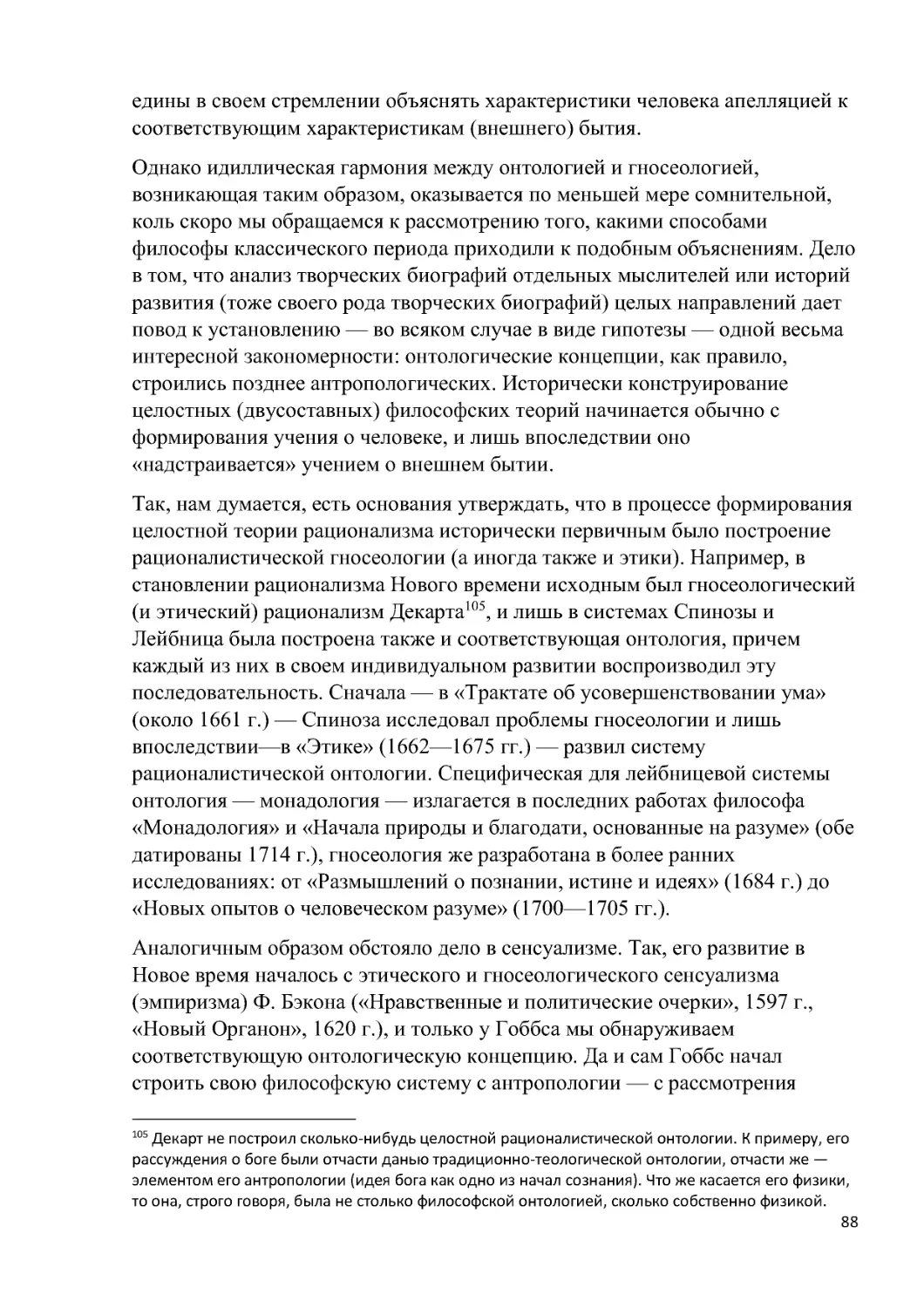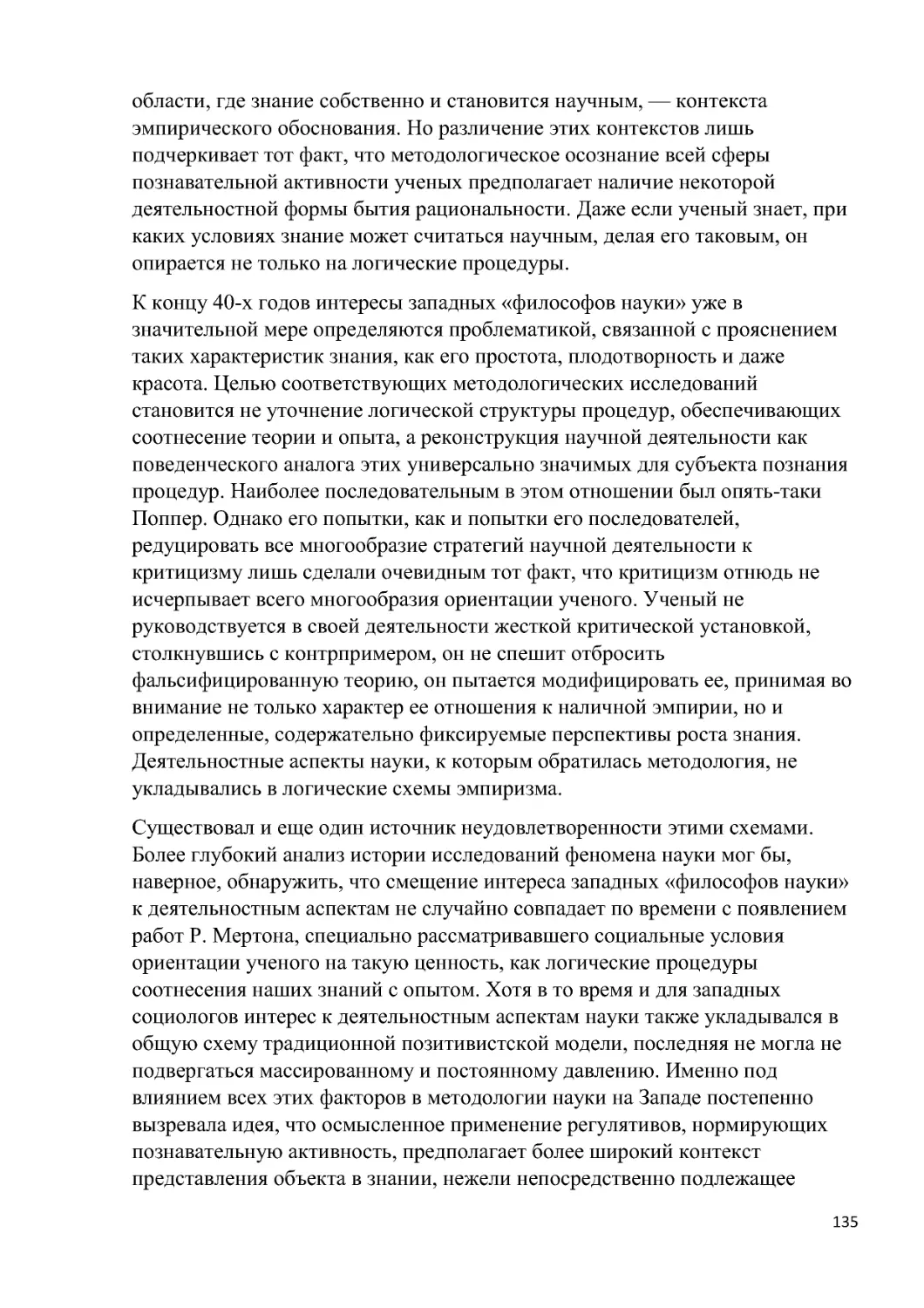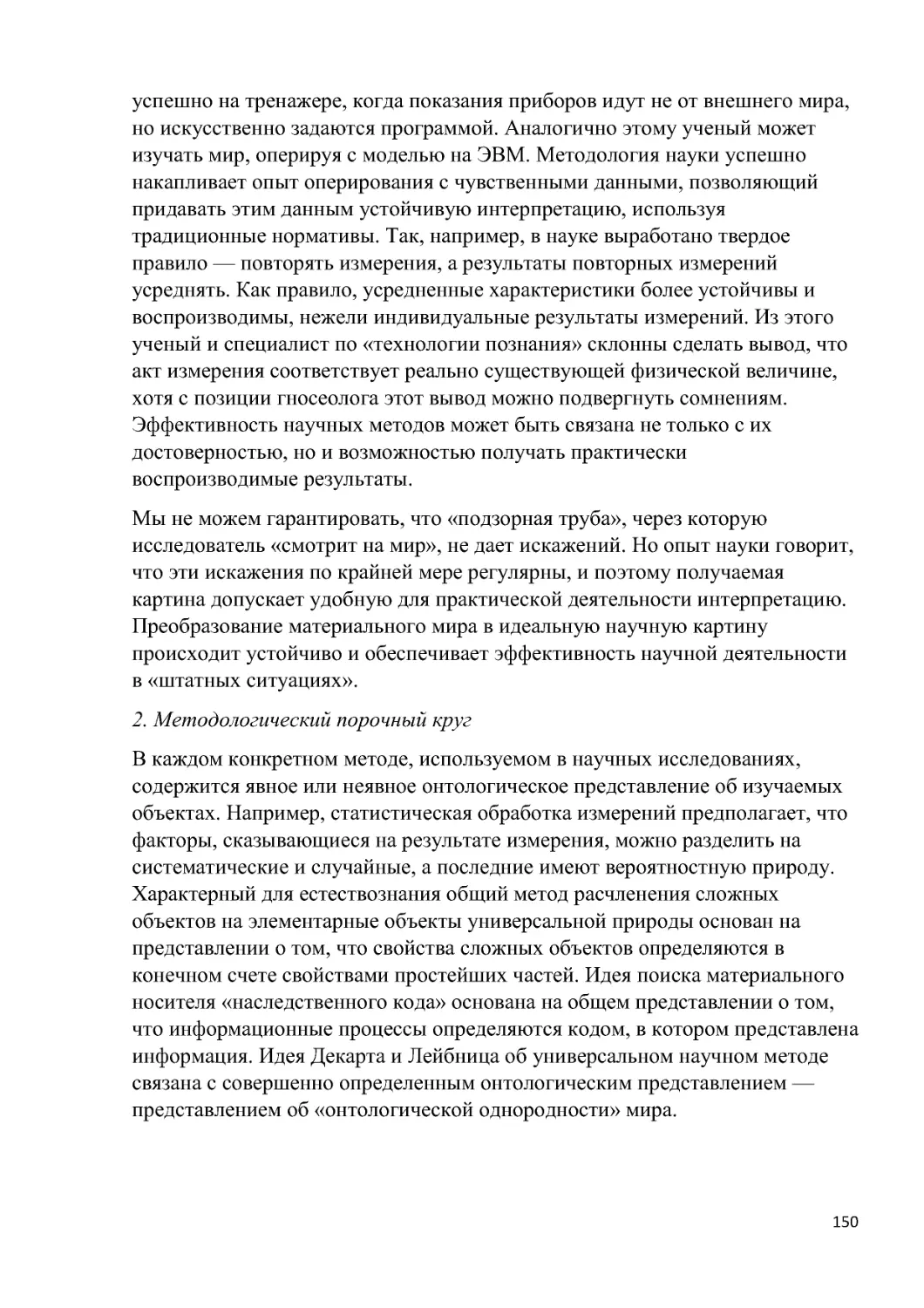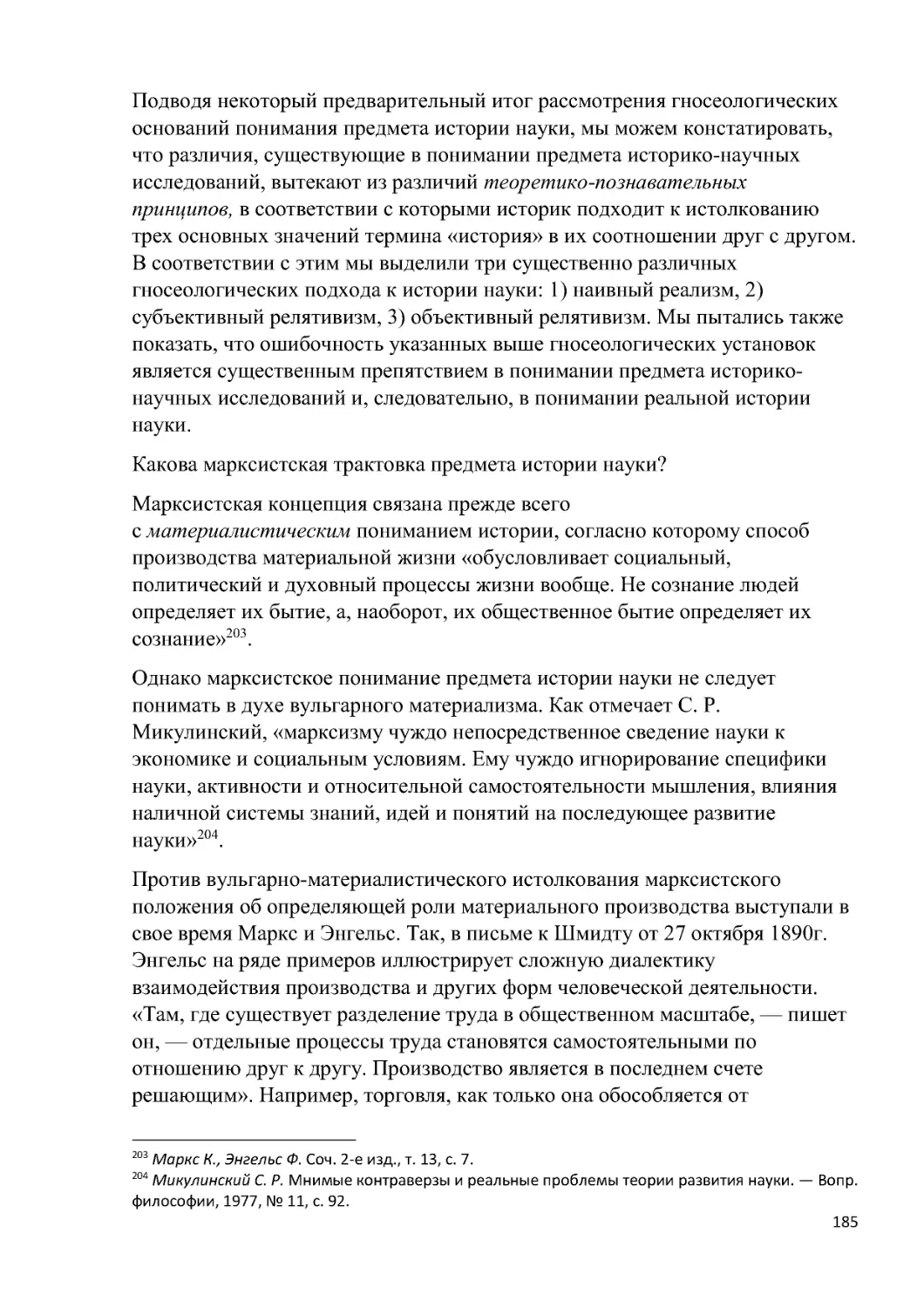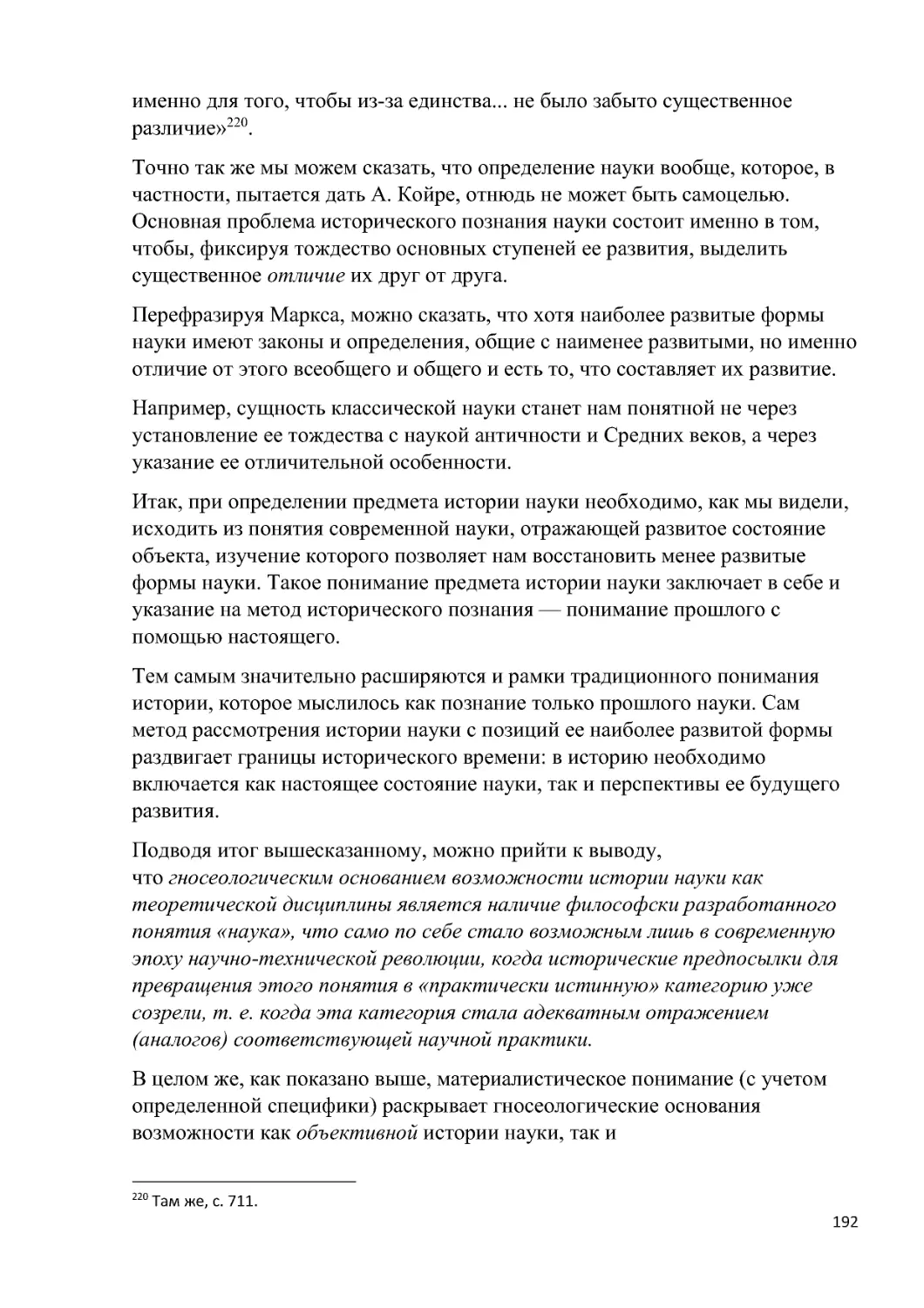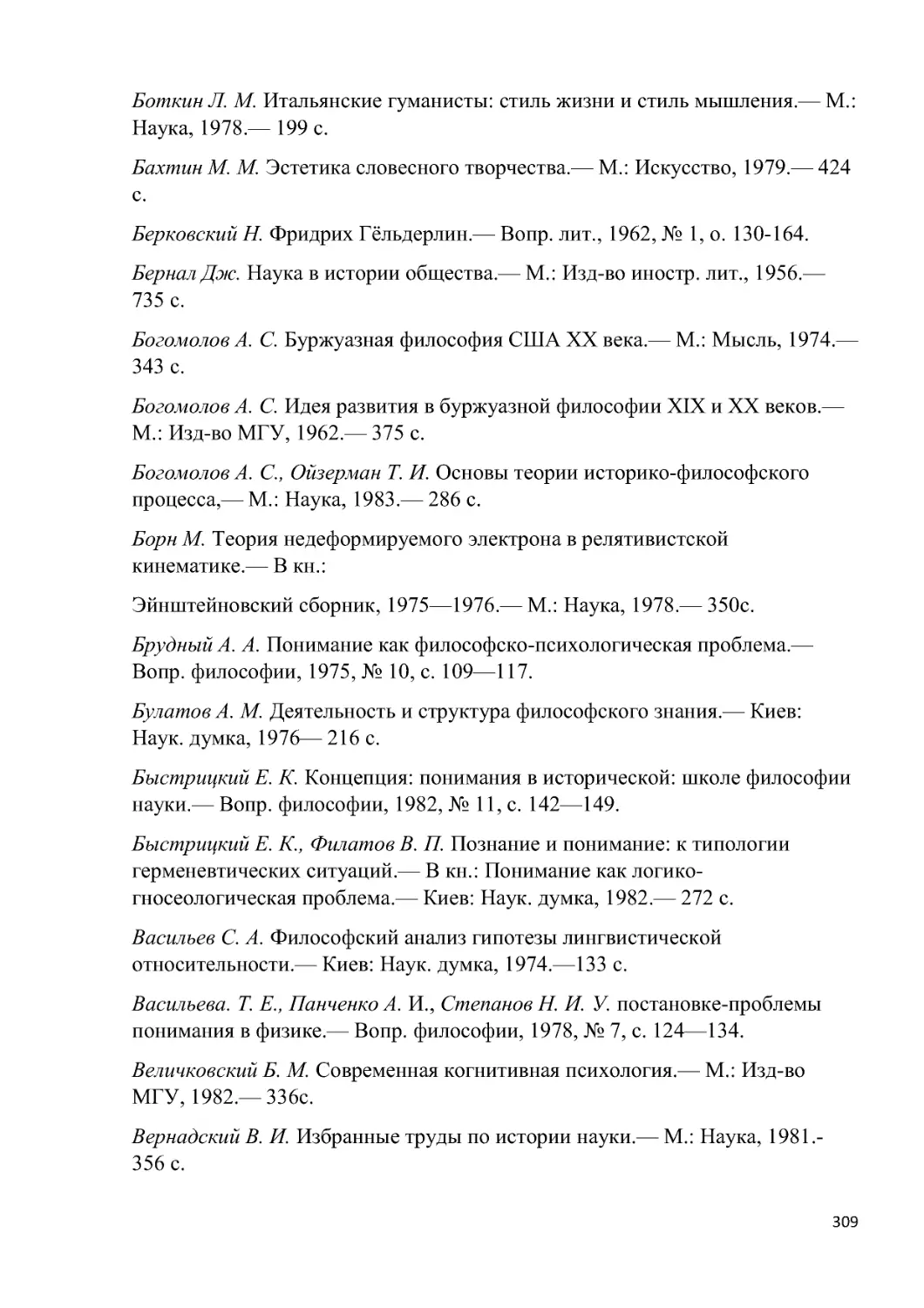Текст
1
Гносеология в системе философского мировоззрения / [В. А. Лекторский,
В. С. Швырев, Н. Н. Пугачев и др.; Отв. ред. В. А. Лекторский]. - М.:
Наука, 1983. - 383 с.; 21 см.; ISBN В пер. (В пер.): 2 р. 40 к.
2
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ГНОСЕОЛОГИЯ
в системе философского мировоззрения
МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»
1983
В работе анализируются проблемы, связанные со статусом теории познания в
условиях интенсивного развития специальных наук, исследующих
познавательную деятельность, а также с развитием гуманитарного знания.
Обсуждаются вопросы о взаимоотношении теории познания, онтологии и
мировоззрения, специфике теоретико-познавательного исследования.
Раскрываются связи теории познания, методологического анализа науки и
теоретической истории научного знания.
Ответственный редактор доктор философских наук
В. А. ЛЕКТОРСКИЙ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Советские философы провели большую и плодотворную работу по
исследованию проблем теории отражения, опираясь на достижения таких
специальных наук, как физика, химия, биология, физиология высшей
нервной деятельности, кибернетика, и в тесном сотрудничестве с
естествоиспытателями — специалистами в этих областях знания. Немало
сделано в плане анализа процессов отражения под углом зрения
семиотической и логико-семантической проблематики (изучение
кодирования и дешифровки информации, свойств и законов
3
функционирования знаковых систем, взаимоотношения понятий
«гносеологический образ», «модель», «знак», «сигнал» и т. д .) .
Однако меньше сделано в изучении генезиса и функционирования
познавательного отражения в связи с его включением в предметно-
практическую деятельность и в связи с социально-культурными и
историческими измерениями этой деятельности. Между тем именно на
последнем пути, как показывает марксистско-ленинская философия, и можно
в полной мере выявить специфику познания, отличающую его от всех других
форм отражения. Физическое или физиологическое отражение, процессы
передачи и дешифровки информации хотя и принимают исключительно
важное участие в познании, но сами по себе непосредственно еще не
конституируют познавательного образа.
Акт познания осуществляется не биологическим организмом, не
перерабатывающим информацию механизмом, а человеком как активным
субъектом, творчески преобразующим мир и включенным в систему
социальной деятельности. Только в этой более широкой системе могут быть
поняты генезис и функционирование познавательного отношения, т. е .
отношение знания как гносеологического образа и объекта. Подобное
понимание познания радикально трансформирует теоретико-познавательную
тематику и выводит ее за рамки тех традиций, которые характерны для
буржуазной гносеологии в целом.
Признание единства отражения и предметно-практической деятельности
является исходным принципом марксистско-ленинской теории познания, тем
самым принципом, с которым ведут безуспешную борьбу представители
современного философского ревизионизма. В этой связи особое значение для
теоретико-познавательного исследования приобретает изучение связи
познания и предметно-практической деятельности, социально-культурной
опосредованности познания, всей той системы предметов-«посредников»,
которые человек ставит между собой и познаваемым объектом и которые
функционируют по законам социальной деятельности. Специфически
человеческое, т. е . познавательное, отражение — это исторически
развивающаяся система. Поэтому, как подчеркивал В. И. Ленин, теория
познания должна опираться на широкое философское обобщение филогенеза
и онтогенеза познания, на анализ истории познания и культуры в целом.
Следует подчеркнуть, что актуальность теоретико-познавательного
исследования этих проблем стимулируется интенсивным развитием ряда
общественных и гуманитарных наук, анализирующих как предметно-
практическую, так и знаково-символическую деятельность (психологии,
лингвистики, психолингвистики, антропологии, теории культуры др.), а
4
также появлением целого ряда научных дисциплин, которые не только
исследуют человеческую деятельность, но и проектируют ее новые виды.
В качестве характерной особенности новой физики В. И. Ленин отметил
тенденцию к возрастающей математизации знания. В ходе развертывания
научной революции XX в. эта тенденция распространилась на всю систему
знания. Вместе с тем в последние годы современная наука обнаруживает и
другую тенденцию, которую иногда именуют «гуманитаризацией» знания.
Речь идет не только о все более настоятельной необходимости в интенсивном
развертывании социально-гуманитарных дисциплин, но также и о растущем
значении мировоззренческих, этических и других проблем для развития
самих естественных наук (при этом не только на стадии применения
добытых наукой результатов, но и на стадии исследования) и, наконец, о все
большем осознании значения социально-культурных и исторических
предпосылок естествознания и науки в целом.
Для марксистско-ленинской теории познания, исходящей из признания
социально-исторического характера познания, обстоятельное исследование
теоретико-познавательных проблем, связанных как с развитием современных
общественных и гуманитарных наук, так и с тенденцией «гуманитаризации»
знания в целом, является исключительно важной задачей.
Целый ряд проблем встает перед теорией познания в связи с еще одной
важной особенностью современной научной революции — резким
возрастанием саморефлектированности научно-теоретического мышления.
Усложнение структуры теоретического знания достигается не только за счет
увеличения количества посредствующих звеньев между верхними этажами
теории и ее эмпирическим базисом, но и за счет резкого возрастания в
системе научного знания роли теоретической рефлексии над логической
структурой и познавательным смыслом тех концептуальных систем, которые
отображают объективную реальность.
В некоторых случаях эта рефлексия приобретает форму специальных
научных дисциплин, подобных метаматематике. В других случаях рефлексия
не оформляется в специальную науку или ее раздел, однако играет
принципиально важную роль в процессе формулирования, разработки и
содержательного истолкования научной теории.
Вместе с тем идет бурный процесс роста специальных наук, изучающих
процесс познания под тем или иным углом зрения (психология, в том числе
такие ее новые разделы, как когнитивная психология; науковедение, история
науки, логический анализ языка науки и др.). В этих условиях складываются
новые взаимоотношения между теорией познания и специально-научным
знанием вообще, специальными науками, изучающими познавательную
5
деятельность, в частности. Поэтому вопросы о специфике теоретико-
познавательного исследования, о его возможностях и перспективах, о
методах его получения, обоснования и развития, о взаимоотношении теории
познания и специальных наук о познании, теории познания и специально-
научной рефлексии и т. д . — становятся вопросами о самоопределении
теории познания, о ее статусе в условиях современной научной революции.
Нужно отметить, что этот круг вопросов усиленно мистифицируют
представители современной буржуазной философии, предлагая различные,
но в равной мере ложные их решения: начиная от фактической ликвидации
теории познания путем растворения ее в нейрофизиологии, теории
информации и семиотике (идея так называемой натурализованной
эпистемологии У. Куайна) и кончая провозглашением тезиса о том, что
теория познания (эпистемология) не относится к тому, что реально имеет
место в познании, а лишь выдвигает определенные предписания по вопросу о
том, каким должно быть познание, причем эти предписания якобы в
конечном счете имеют конвенциональный характер (К. Поппер).
В связи с этим исключительную важность именно сегодня приобретает
анализ широкого мировоззренческого смысла теоретико-познавательной
проблематики, выявление философского характера гносеологии как
дисциплины.
В данной коллективной монографии делается попытка решить две задачи.
Во-первых, обсудить комплекс вопросов, связанных с самоопределением
гносеологии в условиях современной познавательной ситуации, с
выявлением специфики теоретико-познавательного исследования в его
отношении к другим разделам философии, а также к специальным наукам
вообще и наукам о познании в частности. Исследование этих вопросов
осуществляется в широком мировоззренческом контексте, ибо именно это, по
убеждению авторов монографии, дает ключ к решению указанных проблем.
Во-вторых, выявить те новые проблемы, которые поставлены перед теорией
познания интенсивно развивающимся специально-научным знанием, и
прежде всего науками о познании, человеке и культуре, и наметить пути
решения этих проблем.
Книга состоит из трех разделов. В первом из них обсуждаются вопросы
взаимоотношения теории познания, онтологии и мировоззрения в самом
широком плане, анализируется проблематика специфики теоретико-
познавательного исследования, роли онтологических вопросов в теоретико-
познавательном изучении научного знания.
Второй раздел посвящен вопросам связи теории познания, логико-
методологического анализа науки и теоретической истории научного знания
6
и является как бы конкретизацией тех общих установок, которые содержатся
в первом разделе. Наконец, в третьем разделе анализируется наименее
разработанная у нас тематика — теоретико-познавательные проблемы
гуманитарного и социального знания; диалектика познания, практики,
овещнения и межсубъектных коммуникаций; проблема связи познания и
понимания; теоретико-познавательная тематика, выдвигаемая развитием
теории культуры и семиотически ориентированного гуманитарного знания;
взаимоотношение теории познания и эстетического сознания, и др.
Философский анализ обсуждаемой в книге проблематики опирается на
изучение материала истории философии, истории естествознания,
науковедения, психологии, лингвистики, теории культуры, семиотики,
логического анализа языка науки. В работе дается анализ и критика
влиятельных концепций современной буржуазной гносеологии.
Авторский коллектив сознает, что вопросы, рассматриваемые в монографии,
далеки от окончательного решения. Более того, представляется, что их
настоящее обсуждение только еще начинается.
Данная работа подготовлена в секторе теории познания Института
философии АН СССР. Сектор благодарит В. В . Малкову и Л. С . Савельеву за
большую научно-вспомогательную работу, проделанную при подготовке
данной книги. Л . С . Савельева составила также библиографию и предметный
указатель.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ, ОНТОЛОГИЯ, МИРОВОЗЗРЕНИЕ
ЕДИНСТВО МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИКО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО АСПЕКТОВ
В МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В. А. ЛЕКТОРСКИЙ, В. С. ШВЫРЕВ
Исследуя роль гносеологии в системе философского знания в целом,
необходимо рассмотреть природу и функции философии как особого вида
интеллектуальной деятельности. Философия прежде всего является
мировоззрением. Под мировоззрением следует понимать не просто сумму
взглядов на мир, а некоторое целостное представление о мире, включающее
выяснение места человека в мире, направление его деятельности, или
основные программные принципы его сознательного отношения к
7
действительности. В отличие от других форм мировоззрения —
мифологической, религиозной и т. д .— философия осуществляет свою
мировоззренческую функцию на основе теоретического отношения к
действительности, противопоставляя антропоморфизму мифологии
представление о мире как о поле действия объективных безличных сил, а
традиционности и непосредственности мифа — сознательный поиск и выбор
представлений на основе логических и гносеологических критериев. В
философии, как и вообще в теоретическом сознании, модель мира не просто
постулируется, задается на основе традиции, веры или авторитета. Принятие
философских представлений о мире предполагает процесс обоснования,
убеждения в правильности выдвигаемой точки зрения. А это, естественно,
связано с рефлексивным анализом самого познавательного процесса,
рассматриваемого как поиск истины. Именно поэтому в философии с самого
начала присутствует гносеологический аспект исследования знания. Важно,
однако, подчеркнуть, что этот аспект является не главным, не определяющим
моментом философского сознания, а подчиненным, производным от задачи
реализации мировоззренческой функции.
Следовательно, анализ познания осуществляется в философии в контексте
решения мировоззренческой задачи, т. е . в контексте выявления предельных
оснований и возможностей отношения человека к действительности.
Философский вопрос «что есть истина?» касается не каких-то частных
моментов познавательного отношения к миру, связанных с решением
отдельных задач человеческого существования. Он касается принципиальной
возможности человека познавать мир, проникать в его сущность, овладевать
им в своем сознании. Постановка и исследование этого вопроса с самого
начала существования философского сознания являются необходимым
следствием выдвижения мировоззренческой проблематики. Различные
мировоззренческие позиции и философские учения о мире в целом в
существенной мере зависят от ответа на этот вопрос и так или иначе
предполагают определенные его решения. Существование, так сказать,
«гносеологической размерности» во всяком философском сознании не
обязательно предполагает наличие достаточно развитой теории познания как
особого раздела философии. Такая дифференциация философского знания
свойственна уже весьма поздним стадиям эволюции философии.
Изложенное выше дает исходные основания для критики ошибочных
представлений о роли теории познания в системе философии, прежде всего
так называемого гносеологизма. Последний является своеобразной реакцией
на проблемы, связанные с существованием философии как самостоятельной
сферы знания в условиях интенсивного развития специально-научного
познания. Как известно, уже немецкий неокантианец В. Виндельбанд
8
сравнивал философию с Королем Лиром, который раздал все свое имение
дочерям и остался ни с чем. Позитивизм, доведя эту линию до логического
конца, вообще объявил философию донаучной формой сознания, которая по
мере развития конкретной науки должна уступить ей свое место.
Гносеологизм пытается отстоять самостоятельное существование
философии, сведя ее к учению о познании и сознании. Иногда даже
отдельные высказывания классиков марксизма, в частности Ф. Энгельса1
,
трактуются как выражение этой точки зрения.
По-видимому, правы авторы, которые, критикуя такую интерпретацию
взглядов Ф. Энгельса, считают, что Ф. Энгельс в данном случае имел в виду
то содержание старой («прежней») философии, которая сохраняет свое
рациональное значение и в дальнейшем развитии философии и науки. Ясно
во всяком случае из всего контекста воззрений Ф. Энгельса, что
материалистическая диалектика рассматривалась им как учение о мышлении,
как метод мышления прежде всего постольку, поскольку формулируемые ею
законы и категории выступали как отражение, как «аналог», по известному
выражению Ф. Энгельса, коренных свойств объективного мира. Сознание,
мышление для Ф. Энгельса, так же как для К. Маркса и В. И. Ленина, — это
образ объективного мира и предмет философии прежде всего в этом
качестве. Таким образом, для марксизма принципиально невозможно
ограничение предмета философии сферой сознания, противопоставляемого
сферам природной и социальной действительности. Содержание сознания
является для марксизма в конечном счете не чем иным, как отражением
объективной действительности. Ошибочность исходной позиции
гносеологизма заключается в том, что он считает возможным рассматривать
сознание как некую особую сферу бытия наряду с природными и
социальными его формами. Или мы рассматриваем сознание как отражение
действительности, и тогда формулировка философии как учения о мышлении
является неадекватной формой выражения той мысли, что философия в
своем концептуальном аппарате «в чистом виде» выражает наиболее общие
закономерности развития природы, общества и мышления. Или мы считаем,
что мышление является особой сферой действительности наряду с другими
формами природного и социального мира, и тогда гносеологизм не может
рассматриваться как «спасение» философии, поскольку философия в этом
случае вырождается фактически в особый вид конкретно-научного знания:
знание о знании, или деятельность по анализу сознания.
1
«...Из всей прежней философии самостоятельное существование сохраняет еще учение о
мышлении и его законах — формальная логика и диалектика. Все остальное входит в
положительную науку о природе и истории» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т, 20, с. 25).
9
Именно эту возможность логического движения реализовали
неопозитивисты и сторонники так называемой аналитической философии в
XX в. Неопозитивисты, как известно, пытались свести философию к логико-
методологическому анализу языка науки. Сторонники же аналитической
философии, включая представителей так называемой философии
лингвистического анализа, считали оправданной работу философа лишь в
том случае, если она выступала как деятельность по анализу языка, связанная
с «распутыванием» традиционных философских проблем. В обоих случаях
накладывалось табу на мировоззренческую деятельность философии, которая
оценивалась как в принципе не реализуемая средствами теоретического
сознания. По существу в этом упразднении философии как «метафизики» (т.
е. как мировоззрения) и усматривали неопозитивисты и философы-
«аналитики» суть своей так называемой революции в философии. Познание и
сознание перестают быть предметом философского анализа в этих
направлениях. Последний вытесняется логико-методологическим
исследованием языка науки или анализом естественного языка в тех
специфических ситуациях, когда он используется для выражения
философской, этической, эстетической и т. п. проблематики. Дальнейшая
эволюция самой буржуазной философии XX в. привела в конечном счете к
краху этих направлений именно потому, что они не только не давали ответа
на коренные мировоззренческие проблемы, но и пытались дискредитировать
саму возможность постановки и обсуждения философской
мировоззренческой проблематики. Таким образом, гносеологизм при своем
последовательном проведении выступает не просто как неправомерное
сужение философской проблематики, а как разрушение философии, в том
числе и самой теории познания как философской дисциплины.
Гносеология может существовать либо в контексте философии в целом, либо
вообще теряет основание своего существования. Дело в том, что, с одной
стороны, познание не является какой-то независимой сущностью. Оно может
быть понято как некое функциональное по существу образование, как,
пользуясь гегелевским языком, «инобытие другого», а именно: объективной
действительности. Нет познания как некоей самостоятельной сущности. Есть
познавательное отношение человека к миру. И анализ природы познания
предполагает выявление этого отношения, его функционирования. В свою
очередь это отношение, как показал марксизм, может быть понятно лишь в
более широкой системе отношений человека к действительности, в основе
которой лежит общественно-производственная практика. Таким образом, нет
и не может быть гносеологии вне философского мировоззрения, и это
обусловливается самой объективной сущностью познания. С другой
стороны, развитие философского мировоззрения невозможно без
тщательного теоретико-познавательного обоснования. В . И. Ленин
10
подчеркивал, что «Логика с большой буквы», которой для него была
материалистическая диалектика, представляет собой «итог, сумму, вывод
истории познания мира». Формулируемая в материалистической диалектике
философская позиция марксизма обосновывается, доказывается,
оправдывается в том числе историческим анализом развития форм
познавательного отношения человека к действительности. Поэтому все
определения философии, связанные с так называемым онтологическим
содержанием, все компоненты философского взгляда на мир опосредуются
опытом познавательной деятельности общественно развитого человека.
Таким образом, если невозможна гносеология без мировоззрения, то
невозможно и философское мировоззрение без гносеологического
обоснования. В частности, в корне ошибочна позиция наивного онтологизма,
который интерпретирует законы материалистической диалектики как законы
бытия, не опосредованные опытом познавательного движения.
Философия возникает как специфический способ обсуждения и решения
принципиально мировоззренческой проблематики с помощью особых
теоретических средств. Первые античные философы противопоставляют
мифологической картине мира космологическую теорию, отличающуюся как
принципиальным изгнанием всех антропоморфных элементов из объяснения,
так и установкой на логическую обоснованность этого объяснения.
Фактически в построениях этих философов — ионийских натурфилософов,
Гераклита, элеатов, Анаксагора, Эмпедокла, Демокрита — уже содержится
рефлексия как над мифом, так и над обыденным знанием, ибо всякая попытка
отличить от этих последних (как заблуждений, или только «мнений»)
философию в качестве истинного знания необходимо предполагает наличие
определенного критерия оценки знания и степени его соответствия
реальности. Таким образом, с самого своего возникновения философия как
специфический вид духовной деятельности оказывается «обремененной»
теоретико-познавательной проблематикой (хотя эта проблематика может и не
выступать в явной форме), и в этом состоит одно из важных отличий
философии от мифа. В то же время следует подчеркнуть то принципиальное
обстоятельство, что сама теоретико-познавательная проблематика возникает
в философии в качестве имеющий смысл лишь в связи с решением проблем
мировоззренческого плана.
У досократиков различение знания «по истине» и знания «по мнению»
выступает в форме противопоставления одной онтологически-
космологической картины мира («истинной» действительности) другой его
картине (выражении не-бытия, не-сущего в картине, совпадающей с
обыденными представлениями). Размышления над всеобщими условиями
производства знания, т. е . условиями, дающими возможность отличать
11
истинные суждения о мире от тех, которые выражают лишь мнение,
появляются впервые у софистов и Сократа. Деятельность софистов была
исторически и логически необходимой предпосылкой развернутого
формулирования проблематики теории познания. Эту задачу выполнил
Платон, впервые давший вполне четкую и развернутую форму постановки
основных проблем теории познания, форму, которая при всей ее наивности
является классической: что есть знание? Каковы способы его обоснования?
Может ли считаться знанием то, что обычно, в повседневном обиходе,
считается таковым? Обеспечивается ли знание чувствами или разумом?
Каково отношение между знанием и мнением, в частности правильным
мнением? Негативные аргументы софистов позволили обнаружить
проблематичность знания, пробудив тем самым интерес к анализу всеобщих
условий получения знания (не случайно всякая теория познания не только
исследует проблему истины и ее критерия, но и пытается выявить природу
иллюзии, заблуждения, ложного мнения). Платоновское размышление над
природой познания возникло как своеобразная попытка дать ответ на
негативную аргументацию софистов. В философии Платона в четкой форме
выявляется то обстоятельство, что знание, поскольку оно остается таковым,
не может не носить общеобязательного, устойчивого, объективного
характера, т. е . не может зависеть от индивидуальных, личных характеристик
познающего субъекта, отсюда учение Платона об общеобязательном
характере понятий, которым соответствует царство идей как реальный
объект истинного знания, как инвариант, противостоящий всем
субъективным изменениям мнений. Достигнутый в системе Платона
прогресс в формировании проблематики теории познания сопровождается
отходом от стихийного материализма досократиков и появлением первой в
истории философии системы идеализма.
Специфика постановки проблем теории познания в античной философии
состоит в том, что мыслители той эпохи, рассуждая о познании, исходят из
положения о том, что знание не может не быть едино с тем, знанием о чем
оно является, т. е . не может не быть своеобразной копией предмета. Эта
предпосылка принимается как нечто совершенно естественное и даже
особенно не обсуждается; главный интерес дискуссии лежит в выяснении
того процесса, посредством которого предмет переводится в состояние
знания.
Тезис о единстве знания и предмета специфически сочетается в античной
философии с отсутствием понимания активности субъекта в процессе
познания, с неумением разглядеть необходимость творческой деятельности
субъекта как средства истинного воссоздания объекта. Истинный объект
может быть только «дан» познающему; все же, являющееся продуктом его
12
творчества, его субъективной познавательной деятельности, — лишь мнение,
не истинное, не соответствующее бытию. Это положение столь характерно
для античной мысли, что присутствует не только у досократиков, не умевших
еще различить ощущение и размышление. Оно есть даже у Демокрита и
Платона, которые прекрасно понимали роль рационального рассуждения для
достижения истинного знания о бытии, но вместе с тем смотрели на
мыслительную деятельность не столько как на способ воспроизведения
бытия, сколько как на некоторое необходимое условие, позволяющее
схватить, узреть образ, адекватный самому объекту (не случайно греческое
слово «теория» буквально означает «созерцание»).
В европейской философии XVII—XVIII вв., развивавшейся в тесной связи с
возникшим естествознанием, проблематика теории познания занимает уже
центральное место, будучи исходной при построении философских систем (а
иногда и совпадая с самой системой). С особой остротой ставится задача
отыскания абсолютно достоверного знания, которое было бы исходным
пунктом и вместе с тем предельным основанием всей остальной
совокупности знаний, позволяя дать оценку этих знаний по степени их
истинности.
Выбор разных путей решения этой задачи обусловливает деление философов
на рационалистов и эмпириков. При этом проблема взаимоотношения
чувственности и разума, эмпирического и рационального исследуется не
только как проблема происхождения знания или, тем более, простого
предшествования во времени одного другому, а прежде всего как проблема
логического обоснования системы знания.
Одна из самых характерных черт теории познания XVII—XVIII вв.— это
споры вокруг проблемы связи субъекта и материальной субстанции, «я» и
внешнего мира (и производных от них проблем «внешнего» и «внутреннего»
опыта, «первичных» и «вторичных» качеств, и т. д .). Эта проблематика
возникла как следствие осуществленного Декартом выделения субъекта,
субъективного в качестве чего-то резко отличного от материальной
субстанции и даже логически противоположного ей. Декарт, с одной
стороны, отождествляет «я» с внутренним, непосредственным переживанием
субъектом самого себя, а с другой — рассматривает его как выражение
некоей рациональной вещи, мыслящей субстанции, которая сливается у него
с идеальным (идеи выступают как своеобразные модусы существования
духовной субстанции).
Приписав идеальной и материальной субстанциям, субъекту и объекту
логически несовместимые признаки, последекартовский рационализм был не
в состоянии решить проблему возможности познания.
13
Материалистический эмпиризм, выступая против превращения идеалистами-
рационалистами мышления в самостоятельную субстанцию, в
«рациональную вещь», остро критикуя декартовское учение о «врожденных
идеях», вместе с тем не мог не признать самого факта существования «я» как
феномена психической жизни, непосредственно переживаемого познающим
субъектом. Поскольку материалисты не могли принять той интерпретации
этого факта, которая давалась в рационализме, перед ними встала задача
объяснения происхождения и функционирования так называемого
внутреннего опыта, неразрешимая в рамках метафизической формы
материализма.
Слабости метафизического материализма были использованы
представителями субъективного идеализма, который как четко оформленная
школа появляется именно в XVIII в. и спекулирует на проблемах теории
познания. Исходя из невозможности средствами метафизической философии
показать производность «внутреннего опыта» от «внешнего» и из
несомненности, интуитивной достоверности самопереживания, рефлексии,
Беркли провозглашает тезис о зависимости «внешнего» опыта от
«внутреннего»: внешний мир — лишь совокупность моих идей, ощущений.
Юм продолжает ту же линию, отождествляя все (в том числе и «я»,
предполагаемый носитель «внутреннего» опыта) с совокупностью
чувственных впечатлений.
Таким образом, как в античности, так и в философии XVII—XVIII вв.
исследование проблем знания и познания непосредственно связано с
философским анализом природы реальности, с выявлением первичных
оснований действительности. В зависимости от понимания природы
реальности теория познания выступает либо в связи с онтологической
системой (где реальность мыслится как объективное, существующее
независимо от индивидуального сознания бытие — идеалистический
рационализм, метафизический материализм), либо в связи с системой
психологической метафизики (реальность отождествляется с эмпирически
«данными» познанию чувственными впечатлениями — субъективный
идеализм Беркли, Юма). У Декарта теоретико-познавательная проблема
отношения знания и реальности неотделима от онтологической проблемы
отношения идеальной и материальной субстанций. Метафизические
материалисты исследуют проблемы теории познания в рамках понимания
человека как биологического индивида, целиком зависимого от Природы и
наделенного ею всеми необходимыми для познания способностями.
Для уяснения соотношения мировоззренческой, онтологической и
гносеологической проблематики в истории философии большое значение
имеет анализ содержания немецкой классической идеалистической
14
философии. Последняя является, как известно, одним из источников
философии марксизма. Именно в немецкой классической философии было
сформулировано понимание философии как учения о познании и (или)
сознании («критика разума» у Канта, наукоучение Фихте, диалектика как
логика, совпадающая с «метафизикой», у Гегеля). Углубленный анализ
понимания соотношения мировоззренческой, онтологической и
гносеологической проблематики в марксистско-ленинской философии,
соотношения объективной и субъективной диалектики, диалектики как
учения о развитии объективного мира и развитии познания требует
тщательного критического исследования, характерного для немецкого
классического идеализма, гносеологизма и логицизма в понимании предмета
философии.
Немецкая классическая философия продолжает и развивает общую линию
западноевропейской философии Нового времени, подчеркивающей значение
активности субъекта в сознательной выработке им исходных установок,
«предельных оснований» отношения к миру. Максимой деятельности
философско-теоретического сознания становится требование переработки
всего внешне заданного в саморефлексии, которая только и придает
соответствующему мысленному содержанию характер внутренней
достоверности сознания2
. Немецкий классический идеализм углубляет и
развивает этот принцип рефлексии, самосознания, сознательного контроля
над исходными установками отношения субъекта к объекту в процессе
познания как необходимого условия продуктивной деятельности сознания.
Кант распространяет этот принцип на выявление тех исходных скрытых
механизмов работы сознания, которые лежат в основании философии
(«метафизики»), науки, нравственности, эстетического отношения к
действительности. В выявлении этих механизмов и состоит суть
«трансцендентального метода» Канта — обнаружить за внешне данными
феноменами сознания — научными знаниями, метафизическими
концепциями, поступками, претендующими на ту или иную нравственную
квалификацию, внутреннюю работу духа, структуру деятельности,
определяющую внешне данный результат. В результате использования
трансцендентального метода сознание, по Канту, должно взять под свой
контроль свои собственные неявные предпосылки и установки,
обусловливающие его деятельность. Традиционная философия,
«метафизика» также должна стать, согласно Канту, объектом применения
2
Сравним высокую оценку Гегелем, как бы мы теперь сказали, стиля философского мышления
Нового времени, начинающегося с Декарта: «Здесь, можно сказать, мы очутились у себя дома и
можем воскликнуть, подобно мореходу, долго носившемуся по бурному морю, „суша!",
„суша!"» (Гегель. Соч. М.; Л., 1935, т. XI, с. 252).
15
этого метода, его определяющей критико-рефлексивной установки,
направленной на выявление скрытых механизмов работы сознания.
Эту критико-рефлексивную установку по отношению к «метафизике»
стимулировала ситуация, сложившаяся в процессе развития культуры нового
времени, — распространение принципов научного мышления с его
критериями строгой доказательности, обоснованности и в то нее время
очевидные трудности реализации этих критериев в сфере «метафизики».
Исходным объектом критико-рефлексивного анализа Канта и становится
возможность применения норм научного мышления к исследованию
фундаментальных философско-мировоззренческих проблем («возможна ли
метафизика как наука?»). Решая этот вопрос, Кант, естественно, должен
выяснить, в чем же заключаются эти нормы и предпосылки научного
мышления, т. е . подвергнуть критико-рефлексивному анализу основания
научного мышления в том виде, как оно реализуется в математике и
естествознании. В целом критико-рефлексивное исследование Канта
предполагает:
1) осознание исходных установок «метафизики», ее целей и задач;
2) анализ исходных оснований научно-теоретического сознания, его
возможностей вообще и в отношении к задачам философии в частности
(демонстрация Кантом неадекватности «метафизики» критериям научности);
3) критический анализ существующей «метафизики». Решая последнюю
задачу, Кант отрицает правомерность существования онтологии как особой
философской дисциплины. Чему противостоит этот кантианский
гносеологизм, против чего он в первую очередь направлен? Прежде всего
против наивного нерефлексивного онтологизма традиционной «метафизики»,
которая исходила из «первого отношения мысли к объективности», по
терминологии Гегеля, когда содержание знания рассматривается как нечто
заданное, преднайденное и просто переносимое в сознание3
.
Этой точке зрения Кант противопоставляет понимание сознания как
деятельности, при котором то, что представляется наивному
нерефлексивному подходу в качестве внешне заданного, преднайденного,
выступает как результат определенной позиции самого сознания. Этот
исключительно важный принцип философии Канта представляет собой не
просто отрицание старой «метафизики», он является необходимым моментом
3
«Основоположения рассудка суть лишь принципы описания явлений, и гордое имя онтологии,
притязающей на то, чтобы давать априорные синтетические знания о вещах вообще в виде
систематического учения (например, принцип причинности), должно быть заменено скромным
именем простой аналитики чистого рассудка» (Кант И. Соч.: В 6-ти т . М ., 1964, т. 3, с. 305).
16
в углублении философской рефлексии, — Гегель называет эту позицию
«вторым отношением мысли к объективности». И хотя отрицание наивного
дорефлексивного онтологизма связано у Канта с отрицанием вообще
соответствия мысли объекту, рефлексивная установка по отношению к
исходным содержательным предпосылкам познания, составлявшим
традиционный предмет философии как учения об «основных определениях
вещей», стала необходимым компонентом философского сознания.
Выдвинутая впоследствии Гегелем в рамках немецкого классического
идеализма, концепция тождества форм мысли и бытия отнюдь не была
возвращением к докантовской философии, а явилась определенным
развитием и истолкованием указанной выше рефлексивной установки. Не
может выступать, разумеется, в качестве его отрицания и возвращения к
нерефлексивному онтологизму позиция диалектического материализма, хотя,
естественно, решительно она противостоит кантианскому гносеологизму и
отрицанию соответствия мысли объективной действительности.
Будучи несомненно отрицанием правомерности наивного дорефлексивного
онтологизма в понимании природы философии, является ли в то же время
гносеологизм Канта отрицанием мировоззренческого характера философии?
Было бы, по-видимому, упрощением утверждать, что кантовское отрицание
правомерности традиционной «метафизики» и онтологии дает достаточное
основание в пользу утвердительного ответа на этот вопрос. Прежде всего
Кант не только не отвергает правомерности «метафизической» установки как
таковой, но он считает, что потребность в «метафизике», в постижении
«предельных оснований, движение разума к «безусловному» представляют
собой неискоренимую черту человеческого сознания4
.
С «метафизической» проблематикой связано понимание человеком своего
места в мире, понимание отношений свободы и необходимости, поиск
высших духовных идеалов. Кант не только не игнорирует эту
мировоззренческую «метафизическую» проблематику, он рассматривает ее
как наиболее важную и ценную в духовной жизни человечества. Он, однако,
исходит из необходимости сознательного, критико-рефлексивного
отношения к жизни духа, к тем формам, в которых реализуется эта жизнь, —
к науке, нравственности, «метафизике», эстетическому отношению к миру.
Все эти формы духа делаются предметом критического исследовательного
сознания, руководствующегося — это надо особо подчеркнуть — общими
4
Сравним высказывания И. Канта в письме к М. Мендельсону: «Я настолько далек от того, чтобы саму
метафизику, рассматриваемую объективно, считать чем-то незначительным или лишним, что в особенности
с того времени, как я постиг, как мне кажется, ее природу и настоящее ее место среди человеческих
познаний, я убежден в том, что от нее зависит даже истиннее и прочное благо человеческого рода» (Кант
И. Соч., т. 2, с. 365)
17
нормами научно-теоретического мышления. Жизнь сознания протекает, по
Канту, таким образом, как бы на двух уровнях, на двух этажах. Во-первых,
сознание реализует заложенные в его природе стремления, установки,
потребности. Во-вторых, эта деятельность сознания сама становится
объектом особого вида сознания, критико-рефлексивной работы, по нормам
«трансцендентального метода». Философско-мировоззренческая установка
на поиск «предельных оснований» сознательного отношения человека к миру
является необходимым моментом духовной жизни. Критико-рефлексивное
отношение к этой установке не может и не должно каким-то образом
дискредитировать или устранить эту установку; напротив, оно призвано
осознать, зафиксировать ее как необходимый непреложный компонент
человеческого духа5
. Оно, однако, предполагает критику тех наличных форм
работы сознания, в которых реализуется эта философско-мировоззренческая
установка.
Таким образом, то, что мы называем гносеологизмом Канта, не есть отказ от
философско-мировоззренческой проблематики. Не следует смешивать
философско-мировоззренческую установку как необходимый момент
духовной жизни человечества с тем рефлексивным онтологизмом и
«метафизикой», с той традиционной философией как учением о мире в
целом, которые становятся предметом критики Канта. Кантовская позиция
скорее является развитием и углублением философского сознания,
связанным с его рефлексивным обращением на самое себя, на собственные
предпосылки и основания. Иное дело, что эта рефлексия предполагает
определенную интерпретацию «предельных оснований», которая носит
субъективно-идеалистический и агностический характер.
Признанием реальности, более того, неустранимости «метафизической»
проблематики из жизни духа кантовский гносеологизм в корне отличается от
неопозитивистского «методологизма», который своим сведением философии
к критическому анализу языка науки внешне напоминает кантовский
критицизм. Однако неопозитивистский «логицистский методологизм» в
интерпретации предмета философии исходит из принципиального отрицания
за «метафизикой» познавательного смысла и значения. Сама постановка
«метафизических» вопросов, с точки зрения неопозитивистов, является
неправомерной и представляет собой своего рода извращение сознания. Та
же «научная философия» как «логический анализ языка науки», которую они
пытались развить в качестве антитезы «метафизики», представляет собой
решительный разрыв с классической традицией, выступает как замещение
5
Сравним высказывание И. Канта: «Ведь какая-то метафизика всегда была и будет существовать в
мире...» (Кант И. Соч., т, 3, с, 96).
18
философского сознания определенным видом специально-научного сознания,
что вообще является характерной особенностью позитивизма.
Заметим далее, что кантовская «критическая философия» отнюдь не сводится
только к «критике чистого разума», теоретического сознания, т. е . к
гносеологии. В собственном смысле кантовский критицизм представляет
собой попытку рефлексии над работой сознания в целом, как оно
проявляется не только в теоретическом познании, но и в нравственности и в
эстетическом отношении к миру. В этом тоже заключается коренное отличие
критицизма Канта от неопозитивистского логицизма и методологизма, в
основании которых лежит позиция узкого сциентизма. Кант отрицает
докритическую метафизику и онтологию как попытку реализации
философско-мировоззренческой потребности духа на основе
дорефлексивного убеждения в совпадении форм мысли и форм бытия. Но он
исходит из реальности человеческого сознания с его философско-
мировоззренческими, познавательными установками, в которых проявляется
специфика человека, осуществимость его «свободы» как особого типа бытия
в отличие от бытия «природы», что он и делает предметом «критической
философии». Тем самым создается возможность разработки «метафизики» и
«онтологии» нового типа, посткритической метафизики и онтологии, в
которой «бытием», «миром», если угодно, выступает сознание, духовная
деятельность человека.
Эта возможность, безусловно, заложенная уже в основаниях кантовского
трансцендентализма и критицизма, реализуется в философии Фихте, который
отказывается от истолкования «вещи в себе», как существующей вне и
независимо от человеческого сознания. Сознание, по Фихте, должно
объяснить все свое содержание из самого себя, не прибегая ни к каким
внешним факторам6
. Все то, что противостоит сознанию как внешний предел
—
«не-Я», в терминологии Фихте — «объект», «чувственная данность»,
«природа», «вещь в себе», — согласно Фихте, представляет собой лишь
границу деятельности сознания, «Я», остановку в его деятельности.
Единственной «реальностью», «субстанцией», в классическом философском
смысле этого термина, является лишь «Я», сознание, дух. Философия и есть
учение об этой духовной субстанции, сущностью которой выступает эта
принципиальная неограниченная свободная деятельность. Тем самым
философия, сохраняя момент критицизма — поскольку в том, что
представляется сознанию на поверхности как внешняя по отношению к нему
данность, следует усматривать лишь результат деятельности самого
6
«Метафизика... должна быть не учением о мнимых вещах в себе, но генетическим выведением
того, что встречается в нашем сознании...» — писал Фихте в работе «О понятии наукоучения»
(Фихте И.-Г . Избр. произведения. М., 1916, т. 1, с. 6).
19
сознания, определенной его позиции, установки, — превращается у Фихте в
«метафизику», но в «метафизику» особого типа — «метафизику свободы». И
здесь опять следует подчеркнуть, что эта позиция — не разрыв с
традиционным пониманием философии как мировоззрения, а определенная
интерпретация его, рассматриваемая как его развитие. «.. .Философия, —
говорит Фихте, — должна указать основание всякого опыта; ее объект,
следовательно, необходимо лежит вне всякого опыта»7
. Под «опытом»
Фихте понимает в соответствии с традицией, следующей от Канта, некоторое
обусловленное наличными средствами «конечное», в терминологии
немецкой классической философии, отношение субъекта к объекту,
понимаемое как определенная позиция сознания субъекта. Постановка
вопроса об определенных основаниях подобного «опыта» приводит, по
Фихте, к необходимости встать над самим этим опытом, выйти в
«запредельную» по отношению к нему сферу. Такой сферой и является сфера
духа, сфера сознания как свободной деятельности, различные стадии
реализации возможностей которой и создают многообразие «опыта».
Это, конечно, последовательно идеалистическое мировоззрение, но это,
безусловно, определенное мировоззрение, хотя миром здесь оказывается не
мир вне сознания, а мир сознания. Таким образом, представление о
философии как учении о сознании отнюдь не исключает мировоззренческой
направленности философии. Если же говорить об «онтологии», т. е .
философском учении о бытии, то само «бытие» может пониматься не только
в духе материализма. «Метафизику свободы» Фихте, по-видимому, также
можно трактовать как онтологию свободы. В современной западной
философии термин «онтология» приобретает, как известно, специфический
характер, о чем будет еще сказано ниже.
Рассматривая сознание, дух как единственную и подлинную реальность и тем
самым трактуя «предельные основания» философско-мировоззренческой
установки как осмысление этой «субстанциальности свободы духа», Фихте, а
впоследствии Гегель рассматривают эту позицию как результат, итог
трудной и длинной рефлексивной деятельности духа, его самосознания.
Диалектическое движение сознания, перманентное выявление предельности,
односторонности, узости, «конечности», определенной его позиции и
конструктивное преодоление этой «конечности», благодаря расширению
горизонта «сознания», составляют суть этой деятельности самосознания. У
Гегеля это движение сознания к осмыслению своей субстанциальности,
достижение позиции тождества сознания и бытия становится предметом
особой философской дисциплины — «феноменологии духа», которая служит
7
Там же, с. 415.
20
как бы «пропедевтикой» к логике, которая, по Гегелю, совпадает
«с метафизикой, с наукой о вещах, (т. е . с онтологией. — Авт.),
постигаемых в мыслях»8
. Тождество логики и «метафизики» (онтологии),
субъективной и объективной диалектики, которое, как правило,
подчеркивается при характеристике гегелевской концепции философии,
предполагает, таким образом, специальное рассмотрение различных форм
«конечного» сознания, исходящего из противоположения субъекта и объекта.
«Феноменология духа» выполняет тем самым в философской системе Гегеля
функцию гносеологии, теории познания, или скорее теории сознания как
учения о специфических (по сравнению с «определениями вещей») формах
сознания. При этом эта теория сознания имеет исторический и
диалектический характер. Ее диалектика, однако, субъективная диалектика,
диалектика сознания, в которой не достигается еще подлинной всеобщности
диалектических категорий, относящихся к развитию ««всех материальных,
природных и духовных вещей»», по выражению В. И. Ленина9. Гегель, таким
образом, не только допускает возможность, но и считает необходимым
анализ в философии специфических для сознания диалектических форм
движения, хотя он и рассматривает эту позицию как позицию «конечного
сознания», подлежащую исследованию на уровне «феноменологии духа».
Сознание, таким образом, является для поздней немецкой классической
философии (Фихте, Гегель) не просто некоей «данностью», взятой вне
движения, становления, а представляет собой деятельность, которая в
процессе своего развития выявляет, так сказать, «доказывает» свою
субстанциальность. И это «доказательство» осуществляется, по Гегелю, в
философии.
Основоположники марксизма ассимилировали рациональное, диалектическое
зерно этой идеи, подвергнув критике и преодолев в то же время лежащую в
ее основе идеалистическую абсолютизацию сознания как субстанции (в
философском смысле) человеческой деятельности. Маркс писал, что Гегель
«рассматривает труд как сущность, как подтверждающую себя сущность
человека...»
10
. Но вместе с тем Маркс подчеркивал, что Гегель «знает и
признает только один вид труда, именно абстрактно-духовный труд»11
.
Впоследствии эта мысль получает свое более полное и развернутое
выражение в «Тезисах о Фейербахе» К. Маркса, когда, имея в виду немецкий
8
Гегель. Соч. М., 1929, т. 1, с. 52 .
9
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 84 . Отмечаемая здесь позиция Гегеля подробно
проанализирована в кн.: Шинкарук В. И. Единство диалектики, логики и теории познания. Киев,
1977. Разд. 2. Гл. 1 .
10
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с. 159 .
11
Там же.
21
классический идеализм, прежде всего в лице Гегеля, Маркс говорит о том,
что «деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась
идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает
действительной, чувственной деятельности как таковой»12
.
Подчеркивая значение практически-преобразовательной предметной
деятельности как сущности человеческого отношения к действительности,
марксизм рассматривает сознание, дух, мышление как «идеальный план»
этой деятельности, как необходимое ее условие и предпосылку. Он
решительно отказывает сознанию в субстанциальности в философском
значении этого термина. Поэтому и философия для марксизма не может
быть, конечно, только учением о сознании и познании. Само сознание и
познание рассматриваются марксизмом в контексте более широкого
мировоззренческого подхода, предполагающего понимание материи как
субстанции, с необходимостью порождающей на определенном этапе своего
развития идеальное, сознание, дух, мышление.
Сознание появляется и развивается как необходимая предпосылка
осуществления практически-преобразовательного отношения к миру,
реализуемого в человеческом обществе. Философский анализ сознания и
познания, духовной деятельности с точки зрения диалектического
материализма прежде всего предполагает разработку проблематики,
связанной с охарактеризованным выше местом и ролью сознания в мире. Тем
самым, исходная гносеологическая проблематика в системе философии
диалектического материализма неразрывно связана с философско-
мировоззренческой тематикой — с пониманием материи как
саморазвивающейся субстанции, порождающей сознание на определенном
этапе, с исследованием механизмов развития объективной действительности,
иерархии усложняющихся форм движения материи, выявлением движущих
сил этого усложнения, анализом отражения как всеобщего свойства материи
в понимании В. И. Ленина.
Достаточно ясно, что при принципиальном подходе марксистско-ленинской
философии к сознанию (и, стало быть, к познанию как определенной форме
сознания) как свойству высокоразвитой материи нет и не может быть какой-
то «китайской стены» между так называемой онтологической и
гносеологической проблематикой. Это достаточно наглядно проявляется в
теории отражения, которая выступает в качестве основания всей
марксистской теории познания. В самом деле, является ли категория
отражения чисто онтологической или чисто гносеологической категорией?
Очевидно, что ни то, ни другое. Фундаментальное значение категории
12
Там же, с. 264.
22
отражения для всей системы диалектического материализма в целом
заключается как раз в том, что ее разработка позволяет перекинуть мост
между материей неощущающей и материей ощущающей, показать
потенциальные возможности развития материи, ощущающей и в конечном
счете обладающей сознанием, из материи, не обладающей ощущением,
психикой, сознанием. В то же время, конечно, было бы неправильно,
подчеркивая органическое единство исходной гносеологической
проблематики диалектического материализма с его философски-
мировоззренческой проблематикой, не выделять специфики
гносеологической проблематики. И объективным основанием для
существования специфики гносеологической проблематики является, на наш
взгляд, как раз вытекающая из отправных принципов диалектико-
материалистического философского мировоззрения необходимость показа
генезиса форм сознания и познания. Диалектический материализм, как
известно, подчеркивает совпадение форм познания с формами бытия. Но это
совпадение не является чем-то изначально данным. Оно выступает как
результат, конечный продукт долгого, сложного и трудного процесса.
Говоря, таким образом, о специфике познавательных процессов по
отношению к процессам существования и развития в объективной
действительности, философы-марксисты имеют в виду отнюдь не какую-то
независимость познавательных форм от объективного содержания в стиле
неокантианства, а именно это обращение философской мысли к
генетическому процессу возникновения и развития форм отражения. Теория
познания является, таким образом, результатом обобщения истории
познания. Коренной диалектико-материалистический принцип
познаваемости мира (вторая сторона основного вопроса философии, по Ф.
Энгельсу) в системе философии марксизма-ленинизма должен быть не
постулирован, а обоснован исследованием развития познавательной
способности человека. В . И. Ленин в связи с этим указывал на те области
знания, «из коих должна сложиться теория познания и диалектика»: история
философии, история познания вообще, история отдельных наук, история
умственного развития ребенка и животных, история языка, а также
психология и физиология органов чувств13
.
Положение о способности общественно развитого человека адекватно
познавать существенные связи и закономерности действительности, наиболее
полно реализуемой в научном познании, представляет собой с точки зрения
логики развития самого предмета теории познания итог обобщающего
теоретико-познавательного анализа. Этот анализ «снимает» (в
13
См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 314.
23
диалектическом смысле) рассмотрение всех предшествующих
теоретическому мышлению человека форм и видов отражения.
При этом важно постоянно помнить, что сам этот гносеологический
обобщающий анализ познавательного опыта человечества, философски
обосновывающий его способность к адекватному отражению
действительности, должен исходить из понимания различных форм сознания
и познания как «адекватных планов» человеческой предметно-практической,
преобразовательной деятельности. Критерий практики отнюдь не приходит в
гносеологию извне, как некоторое внешнее обоснование гносеологической
позиции марксизма. Плодотворный анализ собственной природы форм и
видов познания и сознания возможен только на основе выявления их
функций в системе человеческой жизнедеятельности, выявления того
социально-культурного контекста, внутри которого они функционируют и
развиваются и который является, так сказать, реальной почвой их
существования14
.
Следовательно, существование специфической гносеологической
проблематики в системе философии диалектического материализма никоим
образом не противоречит принципиальному положению об отражающем
характере человеческого мышления. Всеобщие законы развития, изучаемые
материалистической диалектикой, преломляются здесь в особенной форме.
Так, скажем, всеобщий диалектический закон единства и борьбы
противоположностей как источник развития проявляется здесь в своей
специфической, особенной форме существования внутренних противоречий
познания, например антиномий как движущих сил развертывания теории,
противоречия между теоретическими положениями и эмпирическими
данными. Но признание существования специфических закономерностей
развития познания, изучаемых гносеологией, не исключает того, что
всеобщие диалектические законы, формулируемые в теории
материалистической диалектики, выступают в качестве универсальных
познавательных норм и регулятивов, в том числе и при исследовании
специфики самого познания. Ф. Энгельс, характеризуя соотношение
объективной и субъективной диалектики, указывал, что «так
называемая объективная диалектика царит во всей природе, а так называемая
субъективная диалектика, диалектическое мышление, есть только отражение
14
Убедительным свидетельством плодотворности именно такого принципиального подхода к
исследованию форм познания и сознания является опыт советской психологической школы
(Выготский Л. С., Леонтьев А. Н., Рубинштейн С. Л., Лурия А. Р ., Гальперин П. Я ., Давыдов В. В. и
др.), которая, сознательно отправляясь от указанных принципов диалектического материализма,
многое сделала для раскрытия природы форм психики как «дериватов» реальной человеческой
жизнедеятельности.
24
господствующего во всей природе движения путем
противоположностей...»
15
.
Таким образом, материалистическая диалектика как учение о познании, с
одной стороны, имеет дело со специфическими диалектическими
закономерностями развития познания, а с другой стороны, она выступает как
учение о познании постольку, поскольку она формулирует некоторые
универсальные диалектические закономерности, функционирующие как в
природе и обществе, так и в мышлении, выступающие в качестве всеобщих
познавательных принципов. Именно эту методологическую роль теории
диалектики имел в виду В. И. Ленин, формулируя тезис о единстве
диалектики, логики и теории познания марксизма: «В „Капитале" применена
к одной науке логика, диалектика и теория познания [не надо 3-х слов: это
одно и то же] материализма, взявшего все ценное у Гегеля и двинувшего сие
ценное вперед»16
. «Диалектика и есть теория познания (Гегеля и) марксизма:
вот на какую „сторону" дела (это не „сторона" дела, а суть дела) не обратил
внимания Плеханов, не говоря уже о других марксистах»17
.
Всеобщие законы и категории материалистической диалектики,— как писал
В. И. Ленин,— схватывают инвариантное содержание развития всех
материальных, природных и духовных вещей.
Разумеется, философско-гносеологическое обобщение опыта познания, о
котором говорилось выше, должно опираться на данные широкого круга наук
о познании и сознании. Для нашего времени характерно интенсивное
развитие специально-научных дисциплин, имеющих своим предметом
сознание и его формы. Большой опыт накоплен сегодня такими
дисциплинами, как психология, лингвистика, методология и логика научного
познания, история науки, эстетика. Возникли и развиваются такие
дисциплины, как семиотика, математическая логика, науковедение. Большое
значение для гносеологического анализа имеют исследования различных
форм традиционного сознания, роли и значения знаково-символических
форм в познании и сознании, различные формы филологического,
литературоведческого, искусствоведческого анализа. В общем и целом весь
комплекс наук о культуре содержит необходимый для гносеологических
обобщений материал. Нельзя, например, дать глубокий философско-
гносеологический анализ такого важного для познания явления, как знак, не
опираясь на материалы математической логики, семиотики, структурной
лингвистики, на исследование знаково-символических форм в психологии,
искусствоведении, истории культуры и т. д . Развивать гносеологическую
15
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 526 .
16
Ленин В. И . Полн. собр. соч., т. 29, с. 301 .
17
Там же, с. 321.
25
проблематику в настоящее время, не обращаясь к данным конкретных наук о
сознании и культуре, так же невозможно, как развивать, скажем,
философское представление о пространстве и времени или о детерминизме,
не анализируя данные естественных наук. В то же время, гносеология, теория
познания как раздел философии не может и не должна быть сведена просто к
суммированию данных этих наук. Соответствующую конкретно-научную
проблематику необходимо рассматривать в гносеологии под углом зрения
задач философского мышления. Скажем, философское исследование роли
знаково-символических форм в познании в конечном счете связано с
выяснением возможности адекватного отражения действительности при
помощи знаково-символических средств.
Классики марксизма-ленинизма всегда выступали против спекулятивного
философского мышления, всегда подчеркивали необходимость серьезного
отношения к данным науки. В . И. Ленин вслед за Ф. Энгельсом подчеркивал,
что «„с каждым, составляющим эпоху, открытием даже в
естественноисторической области" (не говоря уже об истории человечества)
„материализм неизбежно должен изменять свою форму"»
18
.
В настоящее время в связи с повышением удельного веса и значения
конкретных наук о познании и сознании этим общим принципом следует
руководствоваться и в отношении результатов этих наук. Однако задача
гносеологии не сводится к усвоению данных этих наук. Эти данные должны
быть осмыслены с точки зрения принципиальной гносеологической
проблематики. Только руководствуясь этой сложной диалектикой
взаимоотношения гносеологии и конкретных наук о познании, теория
познания диалектического материализма может выполнить свою роль.
СПЕЦИФИКА ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА
В. А. ЛЕКТОРСКИЙ
Вопрос о судьбах гносеологии как вида теоретического исследования
выступает в условиях современной познавательной ситуации в особом
ракурсе и вместе с тем приобретает определенную остроту. Ряд
обстоятельств определяет характер обсуждения этого вопроса сегодня.
Прежде всего это интенсивный рост специальных наук, изучающих те или
иные аспекты познавательного процесса (при этом число таких наук имеет
18
Там же, т. 18, с. 265.
26
тенденцию к возрастанию). Далее, это обнаружение сложности и
многоуровневости познания, в котором, как все более становится очевидным,
важную роль играют также и неосознаваемые, так называемые неявные
предписания и регулятивы, относительно возможности явной формулировки
которых могут существовать определенные сомнения. Это выявление
существования разных, несводимых друг к другу типов и видов знания на
каждом данном этапе развития познания и вместе с тем осмысление
исторического характера познавательных канонов, признание факта их
изменчивости. Наконец, это сознание того обстоятельства, что сами способы
постановки и обсуждения теоретико-познавательной проблематики,
традиционно сложившиеся в классической философии, нуждаются в
радикальном переосмыслении.
В таких условиях в современной западной литературе (как философской, так
и специально-научной), посвященной проблемам познания, довольно
влиятельны концепции, в которых на разных основаниях подвергается
сомнению законность существования теории познания (гносеологии,
эпистемологии) как самостоятельной философской дисциплины. Так,
например, согласно концепции «натурализованной эпистемологии»
известного американского философа, логика и математика У. Куайна, все,
что может быть научно выяснено относительно познания, полностью
укладывается в рамки таких специальных дисциплин, как нейрофизиология,
теория информации и семиотика19
. Один из крупнейших современных
западных психологов Ж. Пиаже считает, что все осмысленные проблемы
традиционной теории познания могут быть разрешены в рамках создаваемой
им так называемой генетической эпистемологии, которая по сути дела,
является обобщением его психологической теории20
. С другой стороны,
науковед М. Полэни придерживается мнения о том, что всякая рефлексия над
познанием, над его неявно принимаемыми нормами, методами, правилами
обречена на неудачу, так как якобы неизбежно искажает собственный
объект21
. Специалист по «философии науки» П. Фейерабенд развивает идею
о том, что каждая крупная научная теория должна, помимо прочего, исходить
из собственной теории познания, отличной от всех других, и что поэтому
гносеология как особая область теоретического исследования бессмыслена
—
можно лишь описывать фактически существовавшие в истории теоретико-
познавательные концепции (идея так называемого анархизма в теории
познания)22
.
19
См.: Qutne W. V. О. Epistemology Naturalised. — In: The Psychology of Knowing/Ed, by J. B. Royce, W.
W. Boseboom. N. Y .; P., 1972.
20
См.: Piaget J. Introduction a l'epistemologie genetique. T. I —III . P ., 1950.
21
См.: Polanyi М. Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy. Chicago, 1958.
22
См.: Feyerabend P. Against Method: Outlines of an anarchistic theory of Knowledge. L ., 1975.
27
В данной статье мы попытаемся обосновать два тезиса. Первый тезис:
современная познавательная ситуация действительно требует радикального
переосмысления традиционно принятых в классической философии способов
постановки и методов анализа гносеологической проблематики.
Плодотворный путь такого переосмысления указывается в марксистско-
ленинской философии. Второй тезис: теория познания как философская
дисциплина, не сводимая к совокупности данных специальных наук о
познании, не только сохраняет свой смысл и право на существование — в
обновленном виде она становится все более необходимым компонентом
развития специально-научного знания. Можно даже сказать, что судьбы
науки и культуры (которая уже невозможна без науки и помимо нее) ныне
оказались тесно переплетенными с судьбами теории познания как особой,
специфически-философской рефлексии над познавательной деятельностью в
ее целостности.
1. Теория познания и ее эмпирический базис
Теория познания как теоретическая дисциплина изучает знание и познание
под особым углом зрения (и этим отличается от всех наук, исследующих те
или иные механизмы и аспекты опознавательного процесса): в плане
соответствия знания объективно-реальному положению дел. Поэтому в
центре теории познания всегда находился тот круг проблем, который связан с
выявлением норм получения истинного знания и критериев отличения его от
неистинного, а также целая серия производных от них вопросов: знание и
мнение; достоверное и вероятное знание; отличение реальности от иллюзии и
заблуждения; взаимоотношение опыта и мышления с точки зрения
получаемого в них знания и т. д . В связи с анализом научного познания этот
круг проблем конкретизируется в вопросах, связанных с гносеологическими
основаниями индукции и дедукции, взаимоотношения содержательных и
формальных компонентов знания, взаимосвязи теоретического и
эмпирического уровней научного знания, и т. д .
Следует, однако, обратить внимание на тот важный факт, что указанная
общая тематика любого гносеологического исследования сама по себе еще не
определяет конкретный способ постановки и метод анализа теоретико-
познавательных проблем. «Знание» — это такой специфический объект
исследования, способ теоретического анализа которого отнюдь не очевиден.
Поэтому ответы на коренные вопросы теории познания и сами способы их
формулирования приобретали разную форму в разных философских
концепциях и в разное время.
При этом проблемы, находившиеся в центре одних гносеологических систем,
оказывались в других на периферии. Например, для феноменологии как
28
теории познания одной из основных является проблема «данности»,
самоочевидности в познании; прагматизм выдвигает на первый план
проблему проверяемости познавательных утверждений, ставя в зависимость
от нее решение других проблем теории познания, в частности вопрос об
отношении знания и реальности; современная аналитическая философия
исследует прежде всего проблему значения, пытаясь доказать, что решение
этого вопроса позволяет ответить на все другие вопросы, традиционно
фигурировавшие в теории познания. (В этой связи следует подчеркнуть
различие между реальным смыслом той или иной гносеологической
концепции и осознанием этого смысла философом: сознательное
выдвижение той или иной проблемы как исходной не отменяет того, что в
действительности всякая теория познания так или иначе не может не
исходить из решения основного вопроса философии.) Проблемы,
обстоятельно обсуждаемые в одних концепциях, снимаются как
бессмысленные, возникшие в результате ложной постановки вопроса,
другими. Так, например, проблема скачка, «трансцензуса» от субъекта к
внешнему миру, одна из центральных для Декарта и многих других
философов XVII—XVIII вв., снимается немецкой классической философией,
на другой основе элиминируется англо-американским неореализмом и,
наконец, по принципиально иным мотивам отвергается философией
диалектического материализма.
Однако при всем разнообразии проблематики и способов анализа
домарксистским и немарксистским теоретико-познавательным концепциям
были свойственны определенные общие особенности. В контексте
интересующих нас вопросов обратим внимание на две из них. Во-первых,
познание и его продукт — знание — обычно рассматривались как
определяемые отношением индивидуального субъекта к познаваемому
предмету, объекту. Правда, субъект мог пониматься по-разному: и как
сложно организованное физическое тело, биологический организм
(метафизический материализм), и как индивидуальное эмпирическое
сознание (субъективный идеализм эмпирического толка), и как
трансцендентальный субъект, не сводимый к эмпирическому, но тем не
менее выражающий глубинную природу именно индивидуального субъекта
(трансцендентальный идеализм). Во-вторых, решение вопроса о нормах
получения истинного знания искалось на пути выявления некоего
«эталонного» знания, относительно неоспоримости которого не должно
возникать ни малейших сомнений. Это «абсолютное», принятое за эталон
знание опять-таки понималось по-разному: то как элементарное ощущение
или восприятие, «простая идея» эмпириков; то как полная саморефлексия,
сознание самого себя в качестве носителя знания и источника всеобщих
познавательных смыслов, — последняя линия идет от Р. Декарта и достигает
29
наивысшего развития в философском трансцендентализме, включая и
трансцендентальную феноменологию Э. Гуссерля. Комбинация отмеченных
особенностей гносеологических концепций ведет к тому, что теоретико-
познавательное исследование оказывается нацеленным на анализ
индивидуального субъекта, тех его действий, операций и процедур, которые
так или иначе связаны с получением и использованием знания. Прежде всего
имеются в виду определенные процедуры сознания, однако в некоторых
концепциях (например, операционализм) это могут быть и внешние,
физические действия субъекта. Конечно, теория познания как философская
дисциплина исследует в данном случае познавательную деятельность не с
точки зрения индивидуальных механизмов ее протекания (это — задача
психологии), а в плане выявления всеобщих норм познания, отделяющих
знание от незнания. Задача гносеологии в данном случае мыслится как
обоснование знания, а сама теория познания выступает в качестве
совершенно особой дисциплины, по существу принципиально отличной от
тех теорий, которые строятся в рамках специально-научного знания.
В самом деле. В рамках данного подхода теория познания не может
предполагать какие-либо образцы знания — обыденного или научного — в
качестве обоснованного до тех пор, пока не осуществлен гносеологический
анализ. Лишь последний позволяет выявить, считают представители данных
теоретико-познавательных концепций, в каком случае мы действительно
обладаем подлинным знанием, а не ложной мудростью, только лишь
напоминающей истину. Поэтому, если знанию присуща полнота рефлексии
относительно собственных предпосылок, принятых им неявно методов
получения и норм обоснования, то в нем неразделимо смешаны, переплетены
достаточно хорошо обоснованные слои с тем, что обосновано в меньшей
степени, те компоненты, которые соответствуют реальному положению дел,
с теми, которые по существу являются неким ложным примысливанием.
Разобраться в содержательной структуре знания, отделить в нем то, что
имеет реальный смысл, от всякого рода ненужных надстроек и воздушных
замков — в этом усматривается задача теоретико-познавательного
исследования в рамках обсуждаемого подхода. Но если именно в
гносеологии формулируются, «абсолютные» эталоны знания и выявляются
всеобщие нормы познавательной деятельности, то сама теория познания при
подобном понимании должна выступать как дисциплина совершенно особого
рода: обладающая совершенной полнотой саморефлексии и имеющая дело
исключительно с «абсолютным» знанием. Необходимость именно такого
понимания статуса гносеологического исследования в его отношении к
исследованию специально-научному (не говоря уже о формах обыденного
знания) наиболее четко осознается в философском трансцендентализме, а в
рамках последнего — в трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля.
30
Основатель феноменологии, доводя данную линию рассуждений до
логического конца, приходит даже к выводу о том, что философская
гносеология в сущности не является теорией в принятом обычно смысле
этого слова, так как не предлагает более или менее правдоподобные
объяснения совокупности эмпирических фактов, а лишь описывает
выявляемые при помощи определенной техники «абсолютные» смысловые
содержания «чистого сознания». В других теоретико-познавательных
концепциях указанного типа «абсолютивистские» притязания нередко
маскируются. Они могут выступать, например, в виде обычных
эмпирических констатации, вроде бы особенно не отличающихся от тех, с
которыми имеет дело нефилософское познание. Таковы претензии
философского эмпиризма на то, что постулируемые «чувственные данные»,
непосредственные конституенты чистого содержания опыта, якобы лишь
выражают обычный факт познания, признаваемый в любой сфере
познавательной деятельности.
Важно, однако, заметить, что и в последнем случае теоретико-
познавательное исследование выступает как такое, которое вряд ли можно
было бы считать лишь разновидностью теоретического исследования (пусть
даже очень специфической). Именно вследствие абсолютистских притязаний
теории познания — а они, в свою очередь, являются результатом претензий
на нахождение такого эталона, который позволяет совершенно однозначно
отделять знание от незнания, — гносеологическое исследование выводится
за рамки обычной научной теории и выступает как «абсолютная» рефлексия
над сознанием, как особая аналитическая деятельность по расчленению
смысловых структур познания23
. Если так понимать задачи теории познания,
то реальный прогресс познающей мысли в этой области в сущности
23
Можно подумать, что такое значительное достижение домарксистской мысли, как теоретико-
познавательная концепция Гегеля, не подходит под данную характеристику. Действительно, в
анализе конкретно-исторического процесса развития познания Гегель далеко вышел за пределы
философского трансцендентализма, выявил коллективный характер познания, развитие во
времени его форм и норм. Вместе с тем, по Гегелю, полностью адекватное познание, т. е .
познание, которое по-настоящему заслуживает своего имени, достигается лишь тогда, когда
возникает абсолютная полнота рефлексии, когда субъект — а это относится к Абсолютному
Субъекту — становится как бы совершенно прозрачным для самого себя и рефлектирует над
собою, не выходя за собственные пределы. Подобно Декарту, Канту и Фихте, Гегель считает, что
наиболее адекватным может быть лишь самопознание духа, сознание о себе самом. Именно в
акте абсолютной рефлексии выявляется абсолютное основоположение знания. Таким образом, в
этом принципиальном пункте своей теоретико-познавательной концепции Гегель по существу
воспроизводит ту философскую традицию, о которой шла речь выше. Правда, Гегель говорит о
некотором надындивидуальном, Абсолютном Субъекте. Но и индивид, считает Гегель, поскольку
он приобщился к движению Абсолютного Духа и встал на точку зрения «абсолютного знания», не
только адекватно постигает Абсолют, но вместе с тем сознает собственную глубинную сущность, т.
е. познает самого себя. Самопознание индивида совпадает в этом случае с абсолютной
рефлексией.
31
становится невозможным. Речь может идти только о нахождении такой
теории, которая является полностью адекватной своему предмету, а в рамках
уже найденной системы — лишь об уточнении ее отдельных положений и
применении ее эталонов к анализу конкретных видов знания. Такое
положение существует даже в тех случаях, когда гносеологическое
исследование как будто бы выступает в качестве результата кооперации
деятельности многих участников и на первый взгляд напоминает то, что
имеет место в специальных науках (это относится, например, к
феноменологии, критическому реализму, неореализму и другим течениям
современной буржуазной философии).
В философии диалектического материализма происходит радикальное
изменение в понимании познания, а в связи с этим принципиальная
переориентация теории познания в самом способе постановки и
исследования ее проблем. Марксистская гносеология не только дает ключ к
решению тех вопросов, на которые натолкнулись представители
домарксистских и немарксистских концепций. Она открывает новые
горизонты теоретико-познавательного исследования, ставит такие проблемы,
которые не обсуждались в гносеологических концепциях, традиционных для
буржуазной философии, и вместе с тем иначе понимает характер
гносеологического исследования, его отношения к специальным наукам, и в
частности к наукам о познании.
Исходный пункт анализа знания понимается в этом случае не как изучение
отношения индивидуального субъекта (будет ли это организм или сознание)
к противостоящему объекту, а как исследование функционирования и
развития систем коллективной, межсубъектной деятельности, в основе
которой лежит практическое преобразование внешних объектов.
В основе познания лежит практическая деятельность, подчеркивает теория
познания диалектического материализма; при этом последняя должна быть
понята в ее специфически человеческих характеристиках, а именно: как
деятельность коллективная, совместная, в ходе осуществления которой
индивид вступает в определенные отношения с другими людьми; как
деятельность опосредованная, в процессе которой человек ставит между
собой и внешним, естественно-возникшим предметом, другие предметы,
созданные людьми и играющие роль орудий деятельности; и, наконец, как
деятельность, исторически развивающаяся и несущая в себе собственную
историю. Созданные человеком предметы, опосредующие разнообразные
виды его деятельности, — начиная от орудий труда, включая предметы быта,
и кончая знаково-символическими системами, моделями, чертежами,
схемами и т. д .— и грают не только инструментальную, но и важнейшую
познавательную роль. Ибо в познаваемых объектах человек выделяет те
32
черты, которые оказываются существенными с точки зрения развивающейся
общественной практики, а это становится возможным именно при помощи
предметов-посредников, несущих в себе опредмеченный социально-
исторический опыт практической и познавательной деятельности. Овладевая
социально-функционирующим, созданным человеком для человека,
предметом, ребенок начинает выделять во внешних объектах, во-первых, те
черты и характеристики, которые существенны для деятельности
посредством данного инструмента, данного человеком созданного предмета,
во-вторых, те их особенности, в которых они подобны предметному арсеналу
человеческой деятельности. Иными словами, созданные человеком
предметные средства выступают в качестве объективных, вне данного
индивида существующих форм выражения познавательных норм, эталонов.
Усвоение индивидом этих норм, имеющих социальное происхождение,
делает возможным их функционирование в качестве структурообразующих
компонентов познания.
Субъективный мир, мир сознания, вовсе не является некоторой первичной
данностью. Исходя из принципиальных положений марксистской теории
познания, выдающийся советский психолог Л. С . Выготский высказал идею,
которая затем легла в основу многочисленных теоретических и практических
разработок24
, — о том, что внутренние процессы сознания возникают как
следствие «интериоризации», т. е . «вращивания», переноса во внутренний
план тех действий субъекта, которые первоначально осуществляются во
внешней форме и направлены на внешние предметы. Совершаясь во внешней
форме, деятельность предполагает сотрудничество, кооперацию с другими
людьми и использование общественно-исторически сформированных
средств и способов, закрепленных в виде системы предметов-посредников. В
процессе интериоризации внешние действия подвергаются специфической
трансформации и вместе с тем становятся способными к дальнейшему
развитию, которое переходит границы возможностей внешней деятельности.
Поэтому любая идея выступает в так или иначе объективированной форме,
хотя последняя не обязана быть словесной: идея может выступить в виде
представления деятельности с тем или иным предметом, и даже просто как
наглядный образ той или иной ситуации — в последнем случае деятельность
дана субъекту в «свернутом» виде и включена в это представление. Это
24
См.: Выготский Л. С . Развитие высших психических функций. М ., 1960; Леонтьев А.
Н. Проблемы развития психики. М ., 1972; Он же. Деятельность. Сознание. Личность. М .,
1975; Лурия А. Р . Об историческом развитии познавательных процессов: Экспериментально-
психологическое исследование. М., 1974; Гальперин П. Я. Введение в психологию. М .,
1976; Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. М ., 1960; Давыдов В. В. Виды
обобщения в обучении. М., 1972; Запорожец А. В., Венгер Л. А ., Зинченко В. П., Рузская Л.
Г. Восприятие и действие. М ., 1967; и др.
33
значит, что и процесс восприятия не является чисто субъективным, ибо
опосредован овладением общественно-сформированным миром предметов,
которые можно рассматривать как опредмечивание восприятия, подобно
тому как, например, научные тексты (хотя, разумеется, не только они) — это
опредмечивание мышления. Человек смотрит на мир «глазами общества».
В исходном пункте процесса формирования сознания три вида деятельности
выступают как связанные воедино: внешняя практическая деятельность,
процесс познания и коммуникация. В процессе осуществления одного и того
же предметного действия субъект одновременно выполняет ряд функций:
изменяет форму внешнего предмета, совершает акт познавательной
ориентировки и усваивает общественно-сформированные способы
практической и познавательной деятельности, воплощенные в том предмете,
который он использует в качестве посредника-орудия. Следует при этом
заметить, что акт коммуникации, передачи сообщения от одного субъекта к
другому следует понимать не просто как усвоение субъектом общественного
опыта, опредмеченного в данном орудии, — т . е . как совершаемый
собственными силами акт распредмечивания «свернутых» способов
деятельности, процесс раскодирования «посланных предками» сообщений. В
действительности само усвоение адекватных способов деятельности с
социально-функционирующим предметом возможно лишь при условии
включения субъекта, в данном случае ребенка, в живую коммуникативную
связь с другими ныне существующими людьми, взрослыми, которые
обучают его человеческим методам использования человеком созданных
вещей и этим самым формируют у него культурные установки и нормы,
включая эталоны познавательной деятельности.
Впоследствии, на стадии сформировавшегося сознания, непосредственная
связь практической деятельности, познания и коммуникации разрывается.
Отнюдь не всякое познание прямым образом связано с выявлением способов
практического преобразования объекта, хотя глубочайшая внутренняя связь
познания и практической деятельности сохраняется на всех этапах и уровнях
знания. Очевидно и то, что развитый процесс познания вовсе не совпадает с
актом коммуникации — последний выделяется в самостоятельную сферу
деятельности, управляемую особыми законами. Вместе с тем любая
познавательная деятельность — какова бы ни была форма ее
непосредственной субъективной данности — по принципиальным
механизмам своего осуществления носит социально-опосредованный
характер, а значит, всегда содержит интенцию коммуницирования.
Поэтому если речь идет о теоретико-познавательном исследовании, т. е . о
выявлении используемых для производства знания всеобщих предметных
смыслов, норм и эталонов, то наиболее подходящим материалом для анализа
34
оказываются именно процессы, средства и продукты такой деятельности, в
которых познание получает опредмеченное, объективированное выражение,
а не сами по себе взятые явления сознания, в которых эти предметные
смыслы и эталоны выступают как бы уже в «превращенной форме», в
«свернутом» виде и не всегда достаточно явственны для самого субъекта.
Важно при этом подчеркнуть, что нормы и эталоны познавательной
деятельности изменяются и развиваются в процессе исторического развития
познания, в процессе диалектического перехода от незнания к знанию, в ходе
накопления элементов абсолютной истины посредством истин
относительных.
Гносеология, таким образом, подобно любой другой научной теории,
приобретает эмпирическую базу для своих построений; это система
постоянно развивающейся коллективной познавательной деятельности,
неразрывно связанной с деятельностью предметно-практической. Сама
теория познания получает возможность к развертыванию, росту проблемного
поля, к подлинному развитию: ведь ассимилируемый ею материал
оказывается не только весьма разнообразным и обширным, он к тому же
множится и изменяется, ибо коллективная познавательная деятельность
подвергается перестройкам, в ней происходят сложные сдвиги. Особую и
весьма важную именно сегодня роль для развития теории познания играет
гносеологический анализ современных научных теорий. Нужно, однако,
заметить, что, если речь идет о подлинно философском анализе научного
знания, важно осуществлять его в широком контексте, в исторической
перспективе, т. е . соотносить особенности современного этапа науки с теми
долговременно действующими механизмами порождения знания, которые
сложились не сегодня, но без понимания которых нельзя выявить глубинные
тенденции развития познавательной деятельности. Иными словами, изучение
истории науки представляет особый интерес для гносеологических
обобщений.
Было бы неверно заключать из сказанного, что теория познания должна
ориентироваться исключительно или прежде всего на анализ научного
знания: в его современном виде или же в историческом развитии. Нужно
заметить, что подобная точка зрения — а она существует в философской
литературе — может быть принята лишь в том случае, если исходить по
крайней мере из следующих двух посылок. Во-первых, если считать, что
такие специализированные формы познания, как наука, «самодостаточны» и
могут быть поняты без соотнесения с другими формами деятельности
вообще, с иными типами познавательной деятельности в частности. Во-
вторых, если полагать, что научное познание дает ключ к полной
расшифровке специфики и роли разных видов до-научного,
35
неспециализированного, в том числе обыденного, познания и сознания.
Представляется, что обе сформулированные выше посылки не могут быть
приемлемы. Но в таком случае гносеология должна опираться как на
материал для теоретического анализа на достаточно широко понятую
историю коллективного познания, включающего не только естествознание,
но и философию, социально-гуманитарное знание, обыденное познание,
разного рода синкретические образования культуры, и т. д .
Если учесть, что ныне различные аспекты функционирования и
исторического развития коллективного познания исследуются целым рядом
специальных дисциплин — начиная от этнографии и культурологии и кончая
социолингвистикой, этнолингвистикой, науковедением, историей науки,— то
специалисту по гносеологии приходится самым серьезным образом считаться
с полученными в их рамках эмпирическими данными и теоретическими
обобщениями. Разумеется, теоретику познания не возбраняется и самому
заняться специально-научным исследованием того или иного аспекта
познания, например истории отдельной науки (иногда это бывает просто
необходимо ввиду того, что некоторые эпизоды истории познания до сих пор
не изучены под тем углом зрения, который важен с точки зрения
философских выводов). Важно, однако, не забывать того, что гносеология не
сводится и принципиально не может быть сведена ни к той или иной
специально-научной дисциплине, имеющей дело с изучением познания, ни к
простой совокупности данных таких дисциплин. Для теории познания как
философского исследования результаты специально-научного анализа
познания — это своеобразный эмпирический материал, который особым
образом реконструируется в рамках решения задач по выявлению норм
получения истинного знания, в контексте разработки проблематики,
связанной с взаимоотношением знания и реальности.
В связи со сказанным возникает следующий вопрос: имеет ли значение для
теории познания изучение познавательного процесса не в коллективной, а в
индивидуальной форме? Ответ непосредственно связан с проблемой так
называемого психологизма в гносеологии, проблемой, широко
обсуждавшейся в западной философии XX в. «Психологизм» — это
представление о том, что решение теоретико-познавательных вопросов
возможно путем эмпирического обобщения фактов, характеризующих
деятельность индивидуального сознания. Такого рода подход к теории
познания, таким образом, предполагает принятие следующих двух
положений (вообще говоря, логически независимых друг от друга): во-
первых, о том, что возможно выявление всеобщих познавательных норм
путем чисто эмпирического обобщения фактов; во-вторых, что
непосредственным объектом гносеологического анализа является сознание
36
индивидуального субъекта25
. Поскольку на рубеже XIX и XX вв. весьма
распространенным было мнение о том, что психология как эмпирическая
наука должна строиться путем простого индуктивного обобщения данных
сознания, то при подобном толковании гносеологического исследования оно,
по сути дела, выступало как разновидность психологического.
Реакция на гносеологический «психологизм» пошла в современной
буржуазной философии по разным направлениям. Некоторые направления
попытались преодолеть подчеркнутый эмпиризм «психологизма»
посредством выработки особой техники анализа, которая якобы позволяет
выявить «абсолютные» смысловые содержания «чистого» сознания
(трансцендентальная феноменология). Установка на исследование сознания
индивидуального субъекта остается, но сам этот субъект изучается уже не в
его эмпирических проявлениях, а в его «трансцендентальной сущности».
Другие направления, и прежде всего аналитическая философия в ее
различных видах, связали преодоление «психологизма» с полным отказом в
теоретико-познавательном исследовании от анализа субъекта, его сознания и
деятельности. В этом случае задача гносеологического анализа
усматривается в изучении логической структура такого объективированного
продукта и вместе с тем средства познавательной деятельности, как язык
(либо в его специализированных формах — язык науки, либо в форме
обыденного языка)26
. Нетрудно видеть, что оба типа реакции на
«психологизм» ведут к подчеркиванию «абсолютистской» установки в
гносеологии — хотя в замаскированном виде «абсолютизм» был свойствен и
самому «психологизму»27
.
25
«Психологизм» в теории познания (характерный для эмпиризма субъективно-идеалистического
толка: Юм Д., Милль Д. С . и др.) отлично уживался с «абсолютистской» установкой в указанном
выше смысле. Дело в том, что «факты сознания», на которых пытались строить так понимаемую
гносеологическую концепцию, истолковывались в качестве чего-то непосредственно данного,
самоочевидного и неоспоримого. (В действительности «бесспорные факты» этих концепций были
лишь определенными теоретическими конструкциями.)
26
Традиционная теория познания, писал Л. Виттгенштейн, была лишь неадекватной
интерпретацией в философских терминах данных психологии. В отличие от последней подлинная
философия, считал он, должна заниматься анализом языка: «4.1121. Психология не ближе к
философии, чем любая другая естественная наука. Теория познания есть философия психологии»
(Виттгенштейн Д. Логико-философский трактат. М ., 1958, с. 50).
27
Так, например, в современной философии лингвистического анализа подчеркивается, что
философское исследование возможно лишь в результате кропотливых коллективных усилий
многих специалистов, каждый из которых уточняет и углубляет уже полученные результаты,
используя целый ряд технических приемов по исследованию способов употребления слов
обыденного языка. Деятельность философа-аналитика напоминает во многих отношениях работу
ученого, занятого в той или иной области специальной науки. Вместе с тем аналитическая
деятельность, подчеркивают эти философы, сама по себе не является научной, ибо относится к
таким вопросам, которые уже предполагаются специальными науками, и принципиально
атеоретична. Результаты анализа не могут сопоставляться с опытом таким путем, как специально-
37
Диалектический материализм исходит из необходимости эмпирической базы
для теоретико-познавательного исследования и поэтому противостоит
всякого рода «абсолютистским» тенденциям в гносеологии: выступают ли
они в форме откровенного априоризма или в каком-либо ином виде. Вместе с
тем гносеология в ее марксистском понимании, как и всякая теория,
совершенно не сводима к простым индуктивным обобщениям и
эмпирическим генерализациям. Нужно к тому же учесть, что в качестве
материала для гносеологического анализа выступают данные целого ряда
специальных наук. Поэтому наличие эмпирической базы у теоретико-
познавательного исследования вовсе не означает принятия позиции
эмпиризма. в гносеологии. Вместе с тем, как уже говорилось, марксистская
гносеология ориентируется на изучение коллективного процесса познания, в
котором процессы, средства и продукты познавательной деятельности
выступают в объективированной форме. Уже поэтому она не может иметь
что-либо общее с теоретико-познавательным «психологизмом».
Из сказанного, однако, не вытекает, что теория познания должна строиться
на какой-то бессубъектной основе (как это пытается ныне делать Поппер).
Если индивидуальный субъект изучается в его включенности в процесс
коллективной жизнедеятельности, в систему межсубъектных связей,
порождающих процессы сознания и познания, то такого рода исследование
оказывается исключительно важным для теории познания. Но ведь именно
этот подход и принят в современной марксистской психологии. Естественно,
что материал такого психологического анализа является одной из важных
составляющих эмпирической базы гносеологии28
. Между теорией познания
диалектического материализма и марксистски ориентированной психологией
устанавливается тесная связь и плодотворное взаимодействие.
До сих пор мы говорили о том, что научная гносеология как особая
дисциплина, решающая определенные проблемы, необходимо должна
соотносить собственные теоретические построения с соответствующим
эмпирическим базисом. Обратим теперь внимание на непростоту этой
процедуры соотнесения. Как известно, вообще отношение теоретического
уровня знания к уровню эмпирическому многоступенчато и достаточно
научные теории, ибо анализ имеет дело со структурой самого опыта. Обыденный язык,
являющийся предметом деятельности философа-аналитика, выступает в качестве некоей
первичной данности, определяющей содержание всех типов и способов познания.
28
Теория познания не может не считаться и с данностью предметных смыслов в сознании — хотя
бы уже потому, что объективная предметная деятельность, соответствующая некоторым из
глубинных познавательных эталонов (в частности, перцептивным объект-гипотезам), до сих пор
совершенно недостаточно глубоко исследована, и мы не располагаем иными — помимо данных
сознания, полученных в психологическом анализе, — способами выявления содержания этих
смыслов.
38
сложно. Что касается гносеологии как философской теории высокой степени
абстрактности, то проблема эмпирической интерпретации в данном случае
заслуживает специального анализа.
Дело в том, что реально любая серьезная теоретико-познавательная
концепция — независимо от ее собственных претензий и деклараций — в той
или иной мере схватывает какие-то подлинные факты познания и сознания,
хотя немарксистские гносеологические системы включают эти факты в такой
концептуальный контекст, который искажает их подлинный смысл. Поэтому
в целом ряде случаев формально оказывается возможным давать
гносеологическую интерпретацию разных видов познавательной
деятельности посредством таких теоретико-познавательных концепций,
которые в целом явно несостоятельны: факты, которые не укладываются в
данную систему анализа познания или даже противоречат ей, считаются
относящимися не к сути дела, а к некоей сфере видимости, которая должна
быть удалена или даже отброшена. В этой связи следует подчеркнуть, что
эмпирическое обоснование теоретико-познавательной концепции
предполагает возможность объяснения с ее помощью не тех или иных
отдельных фактов, а достаточно большого массива эмпирических данных,
относящихся к различным видам и типам познавательной деятельности,
взятой к тому же в широкой перспективе диалектического взаимодействия ее
филогенеза и онтогенеза (в соответствии с классическим указанием В. И.
Ленина). При этом из двух теоретико-познавательных концепций та имеет
явные преимущества, которая обладает большими объяснительными
возможностями в указанном отношении.
Проиллюстрируем эту мысль некоторыми примерами. Хорошо известно,
например, что логические позитивисты не исходили в гносеологическом
анализе науки из факта «теоретической нагруженности» эмпирических
терминов. Можно подумать, что представители данного течения просто не
знали или не замечали этого весьма важного факта. Однако стоит лишь
обратиться к работам логических позитивистов, как становится ясно: данный
факт достаточно хорошо им известен29
. Все дело лишь в том, что с их точки
зрения, факт этот не может быть принят в качестве исходного, а должен быть
понят как результат интерпретации непосредственных чувственных данных.
Если истолковывать структуру научной теории с точки зрения данной
позиции, тогда, например, все попытки «реалистической» интерпретации
некоторых теоретических терминов (т. е . в качестве относящихся к
некоторым реальным непосредственно не наблюдаемым референтам)
29
См., например: Франк Ф. Философия науки: Связь между наукой и философией. М., 1960, с. 58—
62.
39
выглядят как какие-то искусственные ухищрения, не имеющие отношения к
подлинному смыслу теоретических конструкций.
Но если попытаться понять научную теорию не в том узком срезе, который
был предметом анализа логических позитивистов, а в ее изменении и
развитии, если попытаться осмыслить реальное поведение людей, занятых
построением, разработкой и проверкой научных теорий, то обнаруживается,
что и факт «теоретической нагруженности» научной эмпирии, и факт
«реалистической» интерпретации теоретических терминов оказываются
нередуцируемыми, неэлиминируемыми и принципиально важными. Так,
например, выясняется, что сама научная теория вводит представления о
таких реально существующих объектах, которые могут не совпадать с
объектами, фиксируемыми в обычном, донаучном опыте, или даже быть
ненаблюдаемыми (актуально или потенциально). Дело в том, что
предположение о существовании ряда реальных объектов, знание о которых
существует лишь на теоретическом уровне (по мере развития теории и
увеличения степени ее подтверждения это знание из простого
предположения постепенно перерастает в более или менее достоверное
отражение действительности), обычно непосредственно связано с
формулированием так называемого ядра исследовательской программы, на
основе которой затем развертывается серия научных теорий, и в
значительной степени определяет эвристические возможности данной
программы. Идеализированные теоретические объекты, т. е . объекты, не
существующие объективно-реально, имеющие лишь «внутри-теоретический»
смысл, конструируются лишь по отношению к реальным, т. е . выступают в
качестве таких, в которых отсутствуют те или иные характеристики реальных
объектов или же, наоборот, которым присущи свойства, невозможные у
реальных объектов30
.
С другой стороны, возможна односторонняя интерпретация и самого факта
«реалистической» интерпретации теоретических терминов. Так, например,
сторонники влиятельного ныне в англо-американской философии так
называемого научного реализма (У. Селларс и др.) исходят из здравой и, по
сути дела, материалистической идеи о том, что учение современной
теоретической науки—и прежде всего физики — о строении материи, о
наличии материальных частиц (молекул, атомов, электронов и т. д .) является
истиной, соответствует объективно-реальному положению дел. В этой связи,
однако, возникает вопрос: каков онтологический статус объектов обычного
восприятия? Ведь те предметы обыденного опыта, которые мы считаем
существующими объективно-реально (столы, деревья, горы и даже сами
научные приборы), «с точки зрения современной физики» как будто бы
30
Подробнее см.: Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. М ., 1980.
40
являются в действительности лишь особым сочетанием некоторых
материальных частиц (атомов и т. д .) . В этой связи сторонники «научного
реализма» по существу приходят к отрицанию познавательного значения
обычного опыта:
предметы этого опыта на самом деле не существуют, считают они, являются
некоторыми субъективными феноменами в кантовском смысле, за которыми
скрывается «подлинный мир», который, однако, не является кантовской
непознаваемой «вещью в себе», а вполне познаваем средствами современной
науки.
Между тем, как показывает марксистская теория познания, опирающаяся на
ленинское понимание диалектики абсолютной и относительной истины,
следует говорить о многоуровневости процесса отражения, углубляющегося
от явления к сущности, от сущности первого порядка к сущности второго
порядка, и т. д ., а также о многоуровневости самой объективной реальности.
Стол и совокупность атомов, из которых он состоит, существуют
объективно-реально, но, так сказать, на разных уровнях реальности, между
которыми имеются определенные — и не всегда простые — отношения.
Отсюда, между прочим, вытекает возможность многоуровневости знания, в
частности эмпирического знания, которое, например, в форме научного
наблюдения позволяет фиксировать не только объекты донаучного
обыденного опыта, но и те объекты, которые могут быть выявлены только
научным мышлением31
.
Еще пример.
С точки зрения гештальт-психологии, исходящей из философских установок
феноменологии, выделение субъектом формы окружности в
воспринимаемых предметах является одним из явных случаев действия
внутренних структурных особенностей сознания. Основным законом,
определяющим восприятие формы, гештальтисты считают так называемый
закон прегнантности, т. е . стремление образа восприятия к принятию
«хорошей формы»: симметричной, замкнутой и простой (примером такой
симметричной и простой формы является, в частности, форма окружности).
Субъект действительно склонен выделять в воспринимаемых объектах такие
простые формы, как окружность, в большей мере, чем другие.
В исследованиях советских психологов, исходивших из развиваемого в
марксистской теории познания принципиального положения о природе и
путях формирования познавательных норм, была выдвинута и затем
31
См.: Лекторский В А. «Материализм и эмпириокритицизм» и современные проблемы теории
познания. — Вопр. философии, 1979, No 5.
41
экспериментально подтверждена гипотеза о том, что в качестве средств
осуществления перцептивных действий выступают выделенные и
фиксированные в общественном опыте системы чувственных качеств
предметов, которые, будучи усвоены ребенком, приобретают значение
«эталонов», «единиц измерения» при восприятии многообразных явлений
действительности. В различных видах человеческой деятельности
выделяются такие системы чувственных качеств (цвета спектра,
геометрические формы и т. д .), которые определенным образом «квантуют»
соответствующие стороны действительности32
. Это значит, например, что
четкое различение в процессе восприятия окружности и овала (и выделение
этих форм также в предметах естественной природы) производно от их
различного функционирования в составе предметной деятельности.
Ретинальные изображения окружности и овала могут быть довольно близки
друг к другу и их различение при восприятии существенно обусловлено
практикой оперирования созданными человеком предметами,
выполняющими роль эталонов перцептивной деятельности.
2. Теория познания как особый тип рефлексии
Итак, теория познания необходимо должна сопоставляться с эмпирией
познания. Но, подобно любой научной теории, она не просто пассивно
воспроизводит, описывает эту эмпирию, а пытается выявить сущность
изучаемого процесса. Для гносеологии это означает выделение таких
познавательных эталонов, норм, которые выражают глубинные
характеристики процесса познания.
Теории познания прежде всего приходится считаться с реальными
познавательными процессами, корректировать свои положения, уточнять и
развивать их в свете реальных фактов познания. Фундаментальные принципы
диалектико-материалистической теории познания выражают вовсе не
«абсолютное» и окончательное решение всех возможных гносеологических
проблем, не создание замкнутой и не способной к развитию теоретико-
познавательной конструкции. В этих принципах речь идет о формулировке
необходимых условий плодотворного научного исследования проблем
теории познания, такого исследования, которое не стоит на месте, а ставит и
решает новые вопросы, уточняет определенные положения в связи с
развитием как самого реального познания, так и специальных наук о нем.
Вместе с тем научная гносеология, как и любая научная дисциплина, строит
определенную идеализированную модель изучаемого процесса, а затем
постепенно уточняет и конкретизирует эту модель, сопоставляя ее с
эмпирией познания.
32
См.: Запорожец А. В., Венгер Л. А . и др. Указ. соч., с. 265—285.
42
Однако, хотя гносеология в ряде принципиальных отношений похожа на
другие научные теории, это теория особого рода — рефлексивная.
Большинство научных теорий имеет дело с такими объектами, относительно
которых они не имеют никакого предварительного знания. Конечно, наука не
может не считаться с данными обыденного опыта. Однако развитие научного
знания означает выход за пределы этого опыта. Последний ничего не говорит
о характере тех объектов, с которыми имеет дело, например современная
физика. Знание об этих объектах получается лишь в самом процессе
научного исследования. Что же касается теории рефлексивной, то она имеет
некоторое предварительное, неявное знание того объекта, относительно
которого она формулирует явное знание. Гносеология как рефлексивная
теория исходит из неявного знания того, что такое знание, познание, каковы
основные познавательные нормы, т. е . так или иначе считается с тем неявным
знанием, которое содержится в индивидуальном сознании, в обыденном
языке, в «парадигмальных» предпосылках научных теорий.
Заметим, что процедура рефлексии играет важную роль и в развитии
специально-научного знания, примером чего могут служить исследования по
обоснованию математики или пересмотр Эйнштейном ряда исходных
оснований классической физики.
Поэтому сначала мы обратим внимание на некоторые общие черты всякой
рефлексивной теории.
Дело в том, что рефлексия над знанием, перевод его из неявной формы в
явную, его теоретическая формулировка означает определенные изменения
самого объекта рефлексии. Неявные предпосылки, превращаясь в явные, не
только выявляются, расчленяются и реконструируются — хотя даже сама по
себе эта процедура меняет в определенных отношениях характер знания,
являющегося объектом рефлексии. Ряд предпосылок уточняется или
отбрасывается. Само по себе это обстоятельство понятно. Ведь потребность в
рефлексии возникает лишь тогда, когда появляются сомнения в
обоснованности исходных предпосылок. Задача теоретического анализа
состоит как раз в пересмотре этих предпосылок, а выполнение этой задачи
невозможно без хотя бы частичного изменения того, что критически
исследуется. А это значит, что в результате теоретической рефлексии
меняется сам ее объект. Попробуем несколько подробнее остановиться на
этом важном обстоятельстве.
Когда в теоретическом знании воспроизводятся зависимости между
реальными объектами, существующими независимо от знания, сплошь и
рядом приходится выходить за пределы той или иной концептуальной
системы, ставить исследуемые объекты в новые отношения, разрабатывать
43
новые теоретические представления, вводить новые идеализации, строить
новые системы абстрактных объектов, и т. д . Однако все эти процессы,
характеризующие развитие теоретического знания о реальных объектах, не
меняют самих этих объектов. Иного рода отношение существует между
рефлексией и ее объектом. В результате рефлексии ее объект — система
знания — не только ставится в новые отношения, но достраивается и
перестраивается, т. е . становится иным, чем он был до процесса рефлексии.
Процесс исследования оказывается связанным с процессом перестройки
самого изучаемого объекта. Столь необычное отношение между познанием и
изменением объекта объясняется тем, что мы имеем в данном случае дело не
с таким предметом, который существует независимо от познания и сознания,
а с познавательным воспроизведением самого познания и сознания, т. е . с
обращением познания на самое себя.
Не вытекает ли, однако, из сказанного, что рефлексия просто творит
собственный объект и по существу ничего не отражает? Многие
современные буржуазные философы, а также ряд западных специалистов по
теории науки в той или иной форме склоняются к этому мнению. Согласно
отстаиваемому Куайном тезису «онтологической релятивности», нельзя
говорить об онтологии данной теории до тех пор, пока мы остаемся в ее
рамках: данная теоретическая система будет иметь ту или иную онтологию
—
при этом разные приписываемые теории онтологии могут быть взаимно
исключающими — в зависимости от того, на язык какой другой системы мы
будем ее переводить. Получается так, что произвольно выбранный нами
«угол зрения» в процессе рефлексии над теорией определяет ее онтологию и
содержание33
. Полэни развивает концепцию о том, что всякая попытка
подвергнуть теоретической рефлексии принимаемые данным
естественнонаучным сообществом в форме неявного знания нормы и правила
теоретического размышления и стандарты научности заведомо обречены на
провал, ибо эти нормы и правила якобы в принципе не поддаются
рациональному анализу. То, что формулируется в результате такой
рефлексии, считает он, это лишь продукт самой рефлексии, не имеющий
никакого отношения к реальным нормам теоретического мышления, навсегда
обреченным оставаться неявным знанием34
. Последнее, таким образом,
приобретает иррациональный оттенок.
В действительности отнюдь не всякая рефлексия принимается наукой. Если
рефлексия неразрывно связана с развитием системы теоретического знания,
то лишь тот рефлексивный анализ отвечает поставленной перед ним задаче,
который способствует приросту и обогащению знания. Иными словами,
33
См.: Qutne W. V. О. Ontological Relativity and Other Essays. N . Y .; L„ 1969, p. 67.
34
См.: Polanyi M. Op. cit., p. 63—65.
44
теоретическая рефлексия может перестраивать свой объект — систему
знания — лишь в той мере, в какой эта перестройка служит выявлению таких
концептуальных структур, которые более точно отражают объективно-
реальные процессы, воспроизводимые в научной теории, и в то же время
соответствуют объективным нормам развития самого знания. В том случае,
если это условие не соблюдается, рефлексия оказывается ложной. Это
значит, что рефлексивно воссозданный образ знания и само реальное научное
знание могут не соответствовать друг другу. История науки знает немало
подобных примеров. Так, осуществленный Э. Махом в конце прошлого
столетия анализ теоретических предпосылок и логической структуры
классической механики хотя и содержал отдельные верные наблюдения, в
целом оказался ложным рефлективным образом. Иногда рефлективный образ
бывает неадекватен в ряде существенных отношений и в то же время
схватывает некоторые реальные зависимости знания. Так, например, та
рефлексия над основаниями математики, которая осуществлялась в рамках
интуиционизма, во многом способствовала развитию научной мысли и в то
же время не могла воссоздать ряд важных положений математической
теории, пожертвовать которыми невозможно, не выходя за пределы самой
математики.
Теория познания отличается от специально-научной рефлексии тем, что
пытается выявить необходимые условия любого познания и выделить
всеобщие познавательные нормы. Поэтому связь гносеологической системы
с той или иной конкретной специально-научной теорией является довольно
опосредованной. И тем не менее формулировка теоретико-познавательной
концепции — это всегда либо попытка санкционировать сложившуюся
практику познания, вписав ее в систему общих представлений о познании и
знании, о соответствующей последнему реальности;
либо попытка в чем-то эту практику изменить, отвергнуть некоторые
принятые каноны познавательной деятельности в качестве приводящих
познание к уклонению от достижения его задачи и в то же время стремление
узаконить новые стандарты, опять-таки вписав их в систему общих
представлений об отношении познания и мира. И в том и в другом случаях
гносеология выполняет принципиальную мировоззренческую функцию. В то
же время создаваемый теорией познания общий образ познания, науки сам
включается в реальный ход познания и так или иначе влияет на него, а
иногда и перестраивает явным образом. Влиятельные теоретико-
познавательные концепции — это не только осмысление существующей
практики познания, но и критика некоторых аспектов этой практики в свете
того или иного идеала знания, науки.
45
Таким образом, наличие некоторого расхождения между моделью знания,
конструируемой в гносеологии, и некоторыми моментами познавательной
эмпирии может объясняться не только теми отличиями, которые существуют
между научной теорией и ее эмпирической базой. Поскольку речь идет о
различиях последнего рода, постольку теория познания должна стремиться к
все большей ассимиляции эмпирического материала и в этой связи
необходимо должна перестраиваться и уточняться. Вместе с тем отличия
между теорией познания и соответствующей эмпирией познания могут
характеризовать расхождения между задаваемым идеалом знания и
практикой его реализации. В последнем случае должна перестраиваться,
подтягиваться к идеалу практика, эмпирия познания.
История теории познания — это изменение (расширение и вместе с тем
переосмысление) представлений о том, что следует считать знанием и самой
объективной реальностью, ибо знание — это то, что соответствует
объективно-реальному положению дел. Когда в античной философии в
качестве идеального образца знания стала рассматриваться математика, то
радикальное изменение обыденных представлений о знании уже содержало
возможность развития математического естествознания (возможность,
реализованная в ходе научной революции XVII столетия)35
. Когда Галилей
обсуждал проблему взаимоотношения рационального и чувственного в
познании, то в контексте его теоретической деятельности это было
философским обоснованием создаваемой им новой механики и
одновременно способом критики перипатетической физики.
Сказанное, конечно, не означает, что все теоретико-познавательные системы,
а история философии насчитывает их достаточно много, могли повлиять на
реальный ход познания.
Скорее это касается меньшинства таких систем: тех, которые так или иначе
сумели включиться в этот процесс. Не следует также думать, что в тех
случаях, когда такое влияние имело место, оно было обязательно
плодотворным. В истории философской и научной мысли нередко дело
обстояло так, что та или иная гносеологическая концепция задавала
ориентиры для производства специально-научных теорий определенного
типа и в то же время формулировала в целом неверное понимание природы
знания, науки, что приводило к неразрешимым коллизиям в построении
35
В свете этого, между прочим, особенно ясно, насколько принципиально неверна установка
представителей философии лингвистического анализа на то, чтобы лишь описывать те способы
словоупотребления, которые сложились в обыденном языке (в случае анализа знания — это
случаи употребления глагола «знать»). Не случайно, что на этом пути некоторые философы
пришли к выводу о том, что общая теория познания вообще невозможна, ибо глагол «знать»
употребляется в обыденном языке слишком в разных смыслах.
46
общей теоретико-познавательной концепции и в то же время существенно
ограничивало возможности самой науки. Так, например, теоретико-
познавательный эмпиризм Бэкона в целом сыграл прогрессивную роль в
период становления экспериментальной науки. Вместе с тем он уже в то
время не соответствовал реальной практике естествознания, а позже стал
явным тормозящим фактором в ее развитии. Известны принципиальные
изъяны гносеологической концепции Декарта. Нельзя, однако, не учитывать
того факта, что декартовская теория познания служит обоснованием его
метафизики, а последняя явилась ядром исследовательской программы, с
одной стороны, в физике, с другой стороны, в психологии.
При этом картезианской физике принадлежат важные исторические заслуги.
В рамках эмпирической психологии, исходившей из декартовского
понимания сознания, был накоплен значительный фактический материал. В
то же время эта психология как научная дисциплина изжила себя к началу
XX в. Теория познания Канта не только формулировала общую стратегию
поиска в ряде теоретических дисциплин (так, например, из кантовской
гносеологии вытекает невозможность рационалистической онтологии,
особый статус психологии как нематематизируемой науки, необходимость в
биологии дополнять причинное объяснение телеологическим, и т. д .).
Кантовская концепция (вместе с феноменологией Гуссерля) была
использована Брауэром и Рейтингом при создании интуиционистской
программы обоснования математики. Вместе с тем хорошо известно, что
данное Кантом априористское истолкование основных принципов
классической науки пришло в резкое столкновение с развитием научного
познания.
Бывают и иные случаи воздействия теоретико-познавательной концепции на
ход развития науки. Гносеологическая система может быть совершенно
неадекватной рефлексией над научным знанием, давать в целом ложный
образ науки, легко выявлять свою уязвимость в общефилософском плане. И в
то же время подобная система используется для производства некоторых
локальных частнонаучных теорий, причем таких теорий, которые сохраняют
известную ценность даже после того, как отвергнута их старая философская
интерпретация. Подобная возможность объясняется тем, что какие-то
стороны реального познавательного процесса могут схватываться даже в
ложных гносеологических конструкциях. Однако произведенные в этом
случае специально-научные теории, как правило, имеют весьма узкое
значение. В то же время главные пути развития научного знания
оказываются перекрытыми ложными гносеологическими концепциями,
развитие теоретической мысли в данной области знания в целом уводится в
47
сторону. Так обстояло дело, например, с гносеологией операционализма и с
физическими теориями, полученными по операционалистским рецептам.
Особенность теории познания диалектического материализма заключается в
том, что в ней дается вполне адекватный образ познания, знания, науки. И
это значит, что воздействие этого образа познания на реальный ход развития
науки должно привести к весьма существенным результатам. История
марксистской философии, история ее взаимоотношений с естественными и
общественными науками подтверждает эту мысль. Марксов «Капитал»,
воплощающий научную теорию политической экономии, создан на основе
сознательного применения диалектико-материалистической теории познания
и методологии науки.
Исходя из развиваемой им научной концепции природы теоретического
мышления и сознательно пользуясь философски обоснованным методом
восхождения от абстрактного к конкретному, К. Маркс строит научную
экономическую теорию. При этом он детально формулирует возникающие в
ходе теоретического движения методологические проблемы и
последовательно решает их, используя общие теоретико-познавательные и
методологические принципы. Критика буржуазной политической экономии
осуществляется К. Марксом не просто в плоскости сопоставления
содержания научной теории с превратными истолкованиями того же самого
предмета. а всегда также и в плоскости столкновения с принципиально
ошибочными методологическими подходами. Главный изъян буржуазной
политической экономии, предопределяющий ее ненаучность и
непосредственно связанный с ее социальной функцией, это, как показывает
К. Маркс, ложное понимание ее представителями и характера познаваемого
объекта, и самих путей и методов научного познания. Поэтому изменение
теоретико-познавательной ориентации является необходимым условием
создания научной политической экономии.
В своей классической работе «Материализм и эмпириокритицизм» В. И.
Ленин дал глубокий анализ новейшей революции в естествознании, показал,
что она связана с необходимостью проникновения идей материалистической
диалектики, диалектико-материалистической теории познания в саму ткань
естественнонаучных теорий, что новейшая физика стихийно «рождает
диалектический материализм». Однако преобразования в физике на рубеже
нашего столетия были лишь началом целого ряда переворотов, захвативших
не только физику, но и целые другие научные дисциплины и приведших к
глубинным изменениям в научной картине мира, в характере и структуре
научной теории. Революция в естествознании в ходе своего развития
переросла в научно-техническую революцию и, войдя в состав последней в
48
качестве одного из ее основных компонентов, сама поднялась на качественно
новую ступень.
Общая направленность происходящей ныне революционной трансформации
науки представляется более или менее отчетливо. Суть этой трансформации
состоит в радикальной мировоззренческой и методологической
переориентации науки, в формировании принципиально новых
представлений о мире и о самом научном знании, в возникновении нового
идеала науки и научности. Изменение представлений о характере
познаваемой реальности, о взаимосвязи пространства и времени, о
возможности локализации познаваемых объектов, о месте прибора в
процессе получения научных данных, о природе и характере объективной
детерминации и т. д .— все это одновременно означало формирование новых
требований, предъявляемых научному описанию и объяснению, изменение
канонов построения научной теории и даже — в более широком плане —
самих представлений о том, что следует считать научным знанием. В этом же
направлении действовало изменение взаимоотношений различных наук,
возникновение принципиально новых научных дисциплин.
Развитие современной науки характеризуется все большим усложнением той
системы средств исследования, которые человек ставит между собой и
познаваемым объектом. Все это создает определенные сложности в
объектной, предметной интерпретации систем теоретического знания и
вместе с тем формирует такую ситуацию, когда в качестве необходимого
условия движения теоретической мысли во все большей степени выступает
самоотчет ученого относительно характера используемых им средств
исследования — как приборов, так и теоретических допущений — и
осознаний возможностей и границ их применимости.
Все это означает резкое возрастание саморефлексированности научно-
теоретического мышления. Усложнение структуры теоретического знания
достигается не только за счет увеличения количества посредствующих
звеньев между верхними этажами теории и эмпирическим базисом, но и за
счет интенсивного развития в самой структуре теоретического знания
рефлексии над логической структурой и познавательным смыслом тех
концептуальных систем, которые отображают объективную реальность.
В некоторых случаях эта рефлексия приобретает форму специальных
научных дисциплин, подобных, например, метаматематике, имеющей в
качестве предмета исследования логическую структуру математических
доказательств. В других случаях рефлексия не оформляется в специальную
науку или ее раздел, однако играет принципиально важную роль в процессе
формулирования, разработки и содержательного истолкования научной
49
теории. Такой характер имеют, например, выделение и анализ общих
принципов построения физической теории: принципов соответствия,
дополнительности, наблюдаемости, инвариантности, симметрии и т. д .
Вместе с тем важно заметить, что теоретическая рефлексия над наукой в той
мере, в какой она обращается к исследованию все более глубоких оснований
научно-теоретического знания, не может не приобретать философского
характера, не может не касаться фундаментальных теоретико-
познавательных проблем относительно природы познаваемой реальности,
взаимоотношения субъекта и объекта, характера научного знания и т. д .
В ходе научной революции XX в. теоретико-познавательная рефлексия
начинает играть все более важную роль в процессе выработки
теоретического знания. Развернутое обсуждение мировоззренческих и
теоретико-познавательных проблем оказывается ныне необходимым
условием формирования принципиально новых идей в самой науке. Это
наглядно демонстрируется горячими философскими дискуссиями в таких
дисциплинах, характеризующих лицо современной науки, как обоснование
математики, квантовая механика, космология, теория биологической
эволюции и др. Важно при этом подчеркнуть, что речь идет не просто об
осмыслении в теоретико-познавательных понятиях уже готовых научных
концепций в той или «иной области знания. К теории познания сегодня
предъявляются гораздо более серьезные требования, поскольку совокупность
философских идей играет существенную роль в самой формулировке
научной исследовательской программы. Рисуемый гносеологией образ науки,
научности, познания призван не просто описывать сложившуюся практику
научных исследований, он сам вписывается, включается в эту практику и в
известных отношениях перестраивает ее.
Научная теория познания все в большей мере выступает в качестве
необходимого ориентира в процессе научного поиска. В то же время
гносеология вписывает растущий и постоянно меняющийся мир науки в
общую систему познания и реальности и тем самым решает задачу
сохранения целостности знания и культуры, т. е . выполняет незаменимую
мировоззренческую функцию, при отсутствии которой познавательная
деятельность распалась бы на отдельные, не связанные между собою
фрагменты и по всей вероятности просто стала бы невозможной.
50
ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ В ФИЛОСОФСКОМ АНАЛИЗЕ
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Н. Н. ПУГАЧЕВ
В конкретно-научном исследовании проблема онтологического статуса
научных теорий обсуждается далеко не всегда. На определенных этапах
научного исследования она или не возникает вообще, или же разрешается
учеными неосознанно, так сказать, «на ощупь».
Вместе с тем эта проблема неизбежно возникает в самом научном
исследовании на таком его уровне, когда появляется необходимость
разрешения коренных вопросов отношения субъекта к объекту, отношения
форм знания к внешнему миру36
.
Генетическое развитие науки, связанное с заменой од' ной научной теории
другой научной теорией, заключается не только в смене их логико-
математического языка, но прежде всего в смене предметных областей
теорий. Последнее влечет за собой необходимость как анализа самого
объективного содержания теории, так и ее логической формы. Не случайно
то или иное решение проблемы онтологического статуса научных теорий
лежит в основе влиятельных в зарубежной методологии концепций развития
науки Т. Куна, И. Лакатоса, П. Фейерабенда.
Научный эксперимент представляет собой, говоря философским языком,
решение проблемы отношения знания (научной теории) к внешнему миру,
поэтому предварительно можно ожидать, что «поиск» предметной области
научной теории в эксперименте проявляется наиболее наглядно.
Роль онтологического статуса научной теории на теоретическом и
эмпирическом уровнях исследования и будет предметом анализа в данной
главе.
1. Онтологический статус научных теорий на теоретическом уровне
научного исследования (гносеологический анализ революции в физике начала
XX в.)
Наличие в научных теориях объективного содержания (дополнительной
информации о бытии, которую они несут с собой по сравнению со своими
эмпирическими базисами) являлось проблемой для ученых на протяжении
всей истории науки. В самом деле, если ученый не в состоянии представить
36
В общей градации типов и уровней методологического анализа науки проблему
онтологического статуса научных теорий можно отнести к специфически философским вопросам
как самого научного исследования, так и методологического анализа. См.: Лекторский В. А .,
Швырев В. С . Методологический анализ науки (типы и уровни). — В кн.: философия, методология,
наука. М ., 1972, с. 14 .
51
информацию, которая заключена в научной теории, в виде конечного числа
результатов наблюдений, если при этом всегда остается
«непроанализированный остаток», то в этой связи встают по крайней мере
два вопроса. Откуда у научных теорий эта дополнительная информация о
бытии и что она описывает в объективном мире?
Невозможность полной редукции информации, которую несет с собой
научная теория, к наблюдениям воспринимается исследователем как
объективное содержание научной теории, т. е . такое содержание, которое от
него не зависит. В грубом приближении ученому представляется, что кто-то
как бы стоит за его спиной и диктует ему, что предмет исследования его
науки является именно таким и таким-то и что эти объективные
характеристики он не вправе изменить, ибо это не в его власти37
. «. ..Мне
кажется вероятным,— писал Ньютон об онтологическом статусе
классической механики,— что бог в начале дал материи форму твердых,
массивных, непроницаемых, подвижных частиц таких размеров и фигур и с
такими свойствами и пропорциями в отношении к пространству, которые
более всего подходили бы к той цели, для которой он создал их»38
.
Оговоримся, что онтологические предпосылки научного исследования
представляют собой сложную многоуровневую систему. Предметная область
научной теории отнюдь не определяется только ее онтологическим статусом.
Научная теория «завязана» в общую систему знания, в которой она создается.
Ее предметная область определяется по крайней мере также и картиной мира
и категориальным аппаратом философской онтологии. Но онтологический
статус научной теории играет определяющую роль. Поэтому в философском
отношении научную революцию, на наш взгляд, можно анализировать при
помощи этого понятия. Попробуем этот анализ провести для научной
революции в физике начала XX столетия.
Если сделать поправку на определенную степень грубости подхода (что
естественно, ибо в любом анализе что-то учитывается, а от чего-то
отвлекаются), то кратко основную гносеологическую проблему научной
революции начала XX в. можно сформулировать в виде дилеммы: должна
или не должна научная теория иметь объективное содержание
37
В философии проблема объективного содержания знания осмысливается начиная с Платона,
хотя поставлена она Парменидом. В немецкой классической философии онтологические
предпосылки продуцировал Трансцендентальный Субъект, или Абсолютный Субъект
(см.: Лекторский В. А. К проблеме диалектики субъекта и объекта в познавательном процессе. —
В кн.: Проблемы материалистической диалектики как теории познания: Очерки теории и истории.
М., 1979). В современной зарубежной философской литературе эта проблема как бы переживает
свое второе рождение после засилья позитивизма, особенно в методологии. Укажем хотя бы на
работы позднего Поппера.
38
Сэр Исаак Ньютон. Оптика. М.; Л., 1927, с. 311.
52
(онтологические предпосылки)? Эта же дилемма допускает и другие
переформулировки. Говорят ли о том, что реально существует, только наши
наблюдения, или же о реально существующем говорят также и теории?
В классической механике — научной теории, от которой в начале XX в.
«отпочковались» три фундаментальные научные теории (специальная теория
относительности, общая теория относительности и квантовая механика), —
положительный ответ на вопрос был естественным. Он следовал из первого
закона классической механики — закона инерции. Этот закон предполагает
существование такой онтологической предпосылки, как инерциальное
движение, которое нигде и никогда невозможно наблюдать. Ньютон хорошо
это осознавал: «Возможно, — писал он, — что равномерного движения... нет,
а все движения могут быть ускорены или замедлены»39
. Однако он полагал,
что инерциальное движение не наблюдаемо только в тех относительных
отрезках пространства и времени, с которыми индивид сталкивается в опыте.
По Ньютону, инерциальное движение существует, но только в абсолютном
пространстве и времени. В качестве доказательства существования
инерциального движения в абсолютном пространстве и времени он приводил
известный пример с ведром воды, подвешенным на закручивающейся нити:
когда начинают закручивать ведро, то поверхность воды в нем остается
плоской и движение ее относительно стенок является наибольшим, а
абсолютного движения нет, но со временем вода увлекается стенками ведра и
ее относительное движение исчезает, а абсолютное становится наибольшим.
При всех трудностях, связанных с различием между относительным и
абсолютным движением — а на них указывал и сам Ньютон, — из его не
столько физических, сколько философских рассуждений следовали
совершенно определенные следствия для классической механики. Более того,
они составляли ее основу. Наряду с такими ее идеальными объектами, как
«материальная точка» и «сила», абсолютное пространство и время
определяют предметную область классической механики; субъективно же
для самого создателя классической механики это представлялось так, что
«бог вначале дал материи форму твердых, массивных, непроницаемых,
подвижных частиц». Можно выразить это более кратко: онтологические
предпосылки классической механики (абсолютное пространство и время)
«ответственны» за то, что она описывает только абсолютно твердые тела, не
меняющие свои формы и размеры. В специальной теории относительности
рушится понятие недеформируемого твердого тела. В этой связи А.
Эйнштейн развивал мысль о различии между геометрической и
кинематической формами тела. Геометрическая форма тела — его
39
Ньютон И. Математические начала натуральной философии. — В кн.: А. Н. Крылов. Собр. тр. М.;
Л., 1936, т. II, с. 186.
53
конфигурация, определяемая посредством твердых стержней в системе
отсчета данного тела, кинематическая форма тела — его форма относительно
той системы координат, в которой тело движется. Шар, например, если он
движется относительно системы координат, превращается в сплющенный
сфероид в специальной теории относительности и остается шаром в
классической механике40
.
Но проблема определения того, что существует сточки прения той или иной
научной теории, с точки зрения ее онтологических предпосылок,
представляет самостоятельный интерес. Для наших целей важно подчеркнуть
другое — эти онтологические предпосылки, как правило, связаны с
введением таких теоретических объектов и их зависимостей, которые
ненаблюдаемы. Само собой разумеется, что наличие в структуре научных
теорий онтологических предпосылок никак не вяжется с отправными
принципами позитивистской философии. Согласно этой философии, в
теоретическом мышлении не содержится никакой дополнительной
информации о бытии по сравнению с наблюдением. Следовательно, для того
чтобы та или иная научная теория отвечала канонам этой философии,
необходимо из ее структуры исключить эти предпосылки. Такое
философское требование оформилось в методологическое правило, — в
научной теории должны иметь место только такие высказывания, которые
говорят о наблюдаемом. Если же то или иное утверждение говорит о
ненаблюдаемом (как, например, абсолютное пространство и время), то оно
должно быть исключено из научной теории. Теории говорят только о
наблюдаемых величинах. Это методологическое правило получило название
«принцип наблюдаемости». В качестве методологического требования
исключения онтологических предпосылок из структуры научной теории
принцип наблюдаемости, понимаемый в широком плане (включая и
операциональную определяемость теоретических понятий), сыграл
определенную роль в научной революции в физике начала XX столетия.
Основываясь на принципе наблюдаемости, А. Эйнштейн отверг понятие
эфира и связанную с ним лоренцовскую интерпретацию результатов опыта
Майкельсона41
. Это, в свою очередь, сыграло важную роль в создании
40
В реальном физическом исследовании «ответственность» абсолютного пространства и времени
за то, что классическая механика описывает абсолютно твердые тела, выражается в том, что
постулируется абсолютная система отсчета. Это, в свою очередь, приводит к возможности
измерения формы тела неизменными отрезками (масштабами). В физических исследованиях
давно установлено, что структуры предметных областей классической механики и специальной
теории относительности определяются принципами относительности Галилея и Эйнштейна
соответственно. См., например, раздел «Дискуссия о твердом теле» в книге «Эйнштейновский
сборник, 1975—1976» (М., 1978). Но философский аспект этой проблемы еще ждет своего
анализа.
41
См.: Чудинов Э. М. Теория относительности и философия. М ., 1974, с. 32.
54
специальной теории относительности (специального принципа
относительности), в которой понятия пространства и времени потеряли свой
абсолютный смысл, т. е . тот онтологический статус, который они имели в
классической механике согласно принципу относительности Галилея. Если в
классической механике длину какого-нибудь тела можно измерить
абсолютно жестким стержнем независимо от того, движется ли это тело
относительно выбранной системы отсчета или нет, то в специальной теории
относительности необходимы для этого специальные операции, связанные с
установлением одновременности измерений в системе отсчета, связанной с
телом, и системе отсчета покоящейся. «Какова длина этого стержня? —
писал Эйнштейн, — Этот вопрос может иметь один смысл: какие операции
мы должны проделать, чтобы узнать, какова длина стержня»42
.В
классической механике понятие одновременности имело статус
«абсолютной» онтологической предпосылки. Одновременность
рассматривалась (определялась) в терминах свойств. Это — свойство двух
событий, когда одно предшествует другому или же одновременно с ним. У
Эйнштейна же в специальной теории относительности понятие
одновременности потеряло статус свойства событий в мире, а приобрело
статус операции по его измерению (эйнштейновское определение
одновременности). Необходимость операциональной определяемости
одновременности в специальной теории относительности Бриджмен обобщил
и сформулировал в качестве методологической концепции операпионализма,
согласно которой теоретические понятия тождественны множеству операций
по их измерению43
. По Бриджмену, любая научная теория говорит не о
свойствах объективного мира, а об операциях по их измерению. Поэтому,
согласно операционалистской трактовке принципа наблюдаемости
Бриджменом, если в научной теории имеются операционально
неопределяемые онтологические предпосылки, которые говорят о
ненаблюдаемых свойствах предметной области теории, о том, что
существует с точки зрения этой теории, то они должны быть исключены или
же операционально определены, примерно так, как это сделал Эйнштейн с
понятием одновременности.
В свете своей операционалистской концепции Бриджмен рассматривал
эйнштейновскую специальную теорию относительности в качестве образца
операционально проверяемой теории. А ее центральное понятие — понятие
одновременности двух событий — в качестве образца операционально
проверяемых понятий, описывающих не свойства, а операции,
следовательно, и не исходящих из онтологических предпосылок. Что же
42
Эйнштейн А. Собр. науч. тр. М„ 1965, т. 1, с. 10.
43
См.: Bridgman P. W . The Logic of Modern Physics. N . Y„ 1958, p. 5 .
55
касается общей теории относительности, то она не удовлетворяла Бриджмена
в том отношении, что в ее структуре имелась такая онтологическая
предпосылка, как понятие ковариантности. Это понятие не допускает
операционального определения, а следовательно, по Бриджмену, и сама
общая теория относительности не является удовлетворительной с
операционалистской точки зрения. «В своей вере в возможность исключения
любой специальной координатной системы, — писал Бриджмен, — в своем
рассмотрении события как чего-то первичного и неанализируемого он
(Эйнштейн. — Лег.) привнес в общую теорию относительности именно эту
некритическую доэйнштейновскую точку зрения, которая, как он
убедительно показал в своей специальной теории относительности, таит в
себе возможность фиаско»44
.
На «отрезке» ломки понятий классической физики и становления новой
физики XX в. проводил свое методологическое кредо (научные теории
говорят только о наблюдаемых сущностях) Э. Мах. Его «Механика» сыграла
определенную роль в критике онтологических предпосылок классической
механики, в особенности абсолютного пространства и времени. Мах писал:
«Абсолютное пространство и абсолютное движение — абстрактные вещи, не
обнаруживаемые на опыте. Все же наши основные принципы механики
представляют собой... данные опыта об относительных положениях и
движениях тел. Никто не вправе расширить сферы действия этих основных
принципов за пределы опыта»45
. Р уководствуясь принципом наблюдаемости,
Мах предпринял попытку проанализировать, редуцировать информацию о
предметной области классической механики, которую несут в этой теории ее
онтологические предпосылки, к наблюдаемому, к тому, что встречается в
опыте. В качестве причины инерциального движения какого-нибудь тела он
предложил считать не абсолютное пространство и время, а другие
окружающие его тела, которые, в принципе, можно встретить в опыте. Мах
считал, что пример с ведром воды на закручивающейся нити, который, по
мнению Ньютона, доказывал, что причиной инерциального движения тела
является абсолютное пространство и время, на самом деле показывает, что
относительное вращение воды по отношению к стенкам сосуда не
пробуждает заметных центробежных сил, но что эти последние вызываются
относительным (по отношению к массе Земли и остальным небесным телам)
вращением. И никто, считал Мах, не может сказать как протекал бы опыт,
если бы стенки сосуда становились бы все массивнее46
.
44
Bridgman P. W . Einstein's Theories and the operational point of view. — In: Albert Einstein:
philosopher-scientist. L ., 1949, p. 354 .
45
Max Э. Механика. СПб., 1909, с. 190.
46
Там же, с. 194.
56
Результатом такой элиминации онтологических предпосылок классической
механики было утверждение, что инерциальное движение какого-нибудь тела
определяется гравитационным воздействием на него других окружающих его
тел. Это утверждение называют, как известно, «принципом Маха». Эти
«другие тела» можно встретить в опыте, и они, по Маху, не являются
принципиально не-наблюдаемыми в отличие от абсолютного пространства и
времени Ньютона. Поскольку в опыте исследователь встречается только с
малыми телами и их гравитационное воздействие на исследуемое тело мало,
то Мах считал, что причиной инерциального движения являются бесконечно
удаленные звезды во Вселенной.
Принцип Маха, являющийся своеобразным следствием принципа
наблюдаемости, сыграл некоторую роль при построении общей теории
относительности. В начале своей работы по построению этой теории А.
Эйнштейн даже разделял принцип Э. Маха, впоследствии он дал его
принципиальную критику. Мах указал на определенные моменты, которые
потом получили свое развитие в общей теории относительности, в
особенности на связь физических процессов гравитации и инерции, а также
поставил вопрос о тех системах отсчета, в которых выполняются законы
динамики Ньютона.
Важную роль принцип наблюдаемости сыграл также и для построения
третьей фундаментальной научной теории — квантовой механики.
Например, из ее матричного варианта, построенного В. Гейзенбергом,
элиминируются такие ненаблюдаемые величины, как «координата
электрона», «период обращения», «форма орбиты электрона», а остаются
только наблюдаемые частоты спектров атомов.
Таким образом, принцип наблюдаемости сыграл определенную роль в
научной революции в физике начала нашего века. Этот несомненный факт
послужил основанием не только для ссылок неопозитивистов на науку как на
основу их «философии науки», но и отправным моментом довольно
широкого мнения среди многих западных ученых, согласно которому
научные теории описывают только наблюдаемые сущности. Если же теория
имеет онтологические предпосылки, то они должны быть, согласно этому
представлению, исключены из ее структуры. По мнению Дирака, «наука
имеет дело лишь с наблюдаемыми вещами...»
47
. В тех или иных вариациях
сходные утверждения можно встретить и в работах Гейзенберга,
Шредингера, Зоммерфельда и других известных физиков. Более того, в
недавнем прошлом среди философов-позитивистов бытовало мнение, что с
47
Дирак П. А. Принципы квантовой механики. М., 1979, с. 14.
57
философской стороны научная революция начала нашего века якобы обязана
гносеологии Э. Маха.
С целью дальнейшего прояснения вопроса обратимся к анализу структуры
зрелых, сложившихся после научной революции теорий. Оказывается, что
все эти три фундаментальные научные теории в своей основе содержат
онтологические предпосылки, хотя, конечно, последние отличны от
онтологических предпосылок классической механики, что никак не
соответствует субъективистской философии Маха, Бриджмена и всех тех, кто
считает, что научные теории описывают только наблюдаемые сущности.
Вопреки мнению Бриджмена, специальная теория относительности не
является образцом операционально проверяемой теории. Ее центральное
понятие—понятие одновременности событий в мире - допускает
операциональную экспликацию, но это не означает, что вся та информация,
которая содержится в эйнштейновском понятии одновременности, всецело
исчерпывается процедурой синхронизации часов. Остается «операционально
непроанализированный остаток». Действительно, в основе эйнштейновского
определения одновременности лежат две предпосылки: 1) независимость
скорости света от скорости его источника и 2) утверждение, что скорости
света в двух противоположных направлениях в любой инерциальной системе
равны48
. Первая предпосылка — утверждение о независимости скорости
света от скорости его источника — является эмпирически проверяемой (опыт
Майкельсона—Морли). Но второе утверждение — о том, что скорости света
в двух противоположных направлениях равны, — не допускает
операциональной проверки. Эйнштейновская операциональная процедура
синхронизации часов состоит в следующем. Пусть А и В — двое часов,
расположенных в различных точках пространства. Для того чтобы узнать,
одновременно ли произошли события в точках А и В, по Эйнштейну, в
момент времени t1 надо из A в В послать световой сигнал, который,
отразившись в В, возвращается в А в момент времени t2. По Эйнштейну,
события в А и. В произошли одновременно, если в момент прибытия
светового сигнала из А в В часы В показывают время t1+t2/2. В этом
выражении предполагается, что скорость света из А в В равна скорости света
из В в А. Но это утверждение не допускает эмпирической проверки, ибо
эйнштейновская процедура установления одновременности двух событий
дает нам возможность вычислить только среднюю скорость распространения
сигнала из А в В и обратно. Эта скорость равна удвоенному расстоянию
от А до В, деленному на сумму времен t1+t2. Но в принципе возможны и
такие гипотетические ситуации, когда свет распространяется из точки А в
точку В со скоростью, большей скорости света С, а возвращается со
48
Чудинов Э. М. Указ. соч., с. 75 .
58
скоростью, меньшей С. Тогда в наших вычислениях мы могли бы получить
результат, идентичный тому, который получается, когда скорость света
одинакова в противоположных направлениях. Строго говоря, вообще
невозможно пользоваться понятием скорости для установления
одновременности, так как само это понятие уже предполагает знание
свойства одновременности. «Понятие скорости является производным от
понятий расстояния и времени. Если время в данной точке мы можем
измерить на основе какого-либо периодического процесса, выбранного нами
в качестве часов, то для определения расстояния между двумя точками мы
должны установить условие одновременности событий, происходящих в этих
точках, так как расстояние (в специальной теории относительности.
—
Авт.) представляет собой не просто длину пути между некоторыми
точками, но между точками, определенными в один и тот же момент
времени»49
. Наличие в эйнштейновском операциональном определении
одновременности операционально непроверяемой онтологической
предпосылки — равенства скорости света в инерциальной системе отсчета в
двух противоположных направлениях — является предметом современных
дискуссий по философским основам пространства и времени (работы Г.
Рейхенбаха, А. Грюнбаума и др.).
Если в начале своей работы по созданию общей теории относительности
Эйнштейн и разделял «принцип Маха», то затем отказался от него. Сам
«принцип Маха» не является опытным, как считал Мах. При его более
детальном анализе оказывается, что он основан на таких предпосылках,
которые невозможно проверить в опыте. Если следовать этому принципу, то
для определения массы (меры инерции тела) необходимо, строго говоря,
учесть действия всего бесконечного множества тел во Вселенной, производя
суммирование их «вкладов». Необходимо также и определить расстояния до
этих тел. Ясно, что в опыте выполнить такие операции принципиально
невозможно, и в «принципе Маха» утверждение о возможности их
выполнения в опыте носит статус опытно непроверяемой онтологической
предпосылки. Для объяснения инерциального движения Ньютон предлагал
«абсолют» — абсолютное пространство и время. Мах элиминировал эту
онтологическую предпосылку, но заменил ее предположением другого
«абсолюта» — возможностью суммировать «вклады» в инерциальное
движение данного тела бесконечного множества других тел Вселенной.
Определение Махом движения по инерции (движения без ускорения) какого-
нибудь тела по признаку достаточной удаленности его от других тяжелых тел
содержит в себе такую же логическую ошибку круга, как вышеразобранное
эйнштейновское операциональное определение одновременности, в котором
49
Там же, с. 77.
59
понятие одновременности предполагало равенство скоростей света в
противоположных направлениях его распространения, но, в свою очередь,
даже само понятие скорости предполагало, хотя и неявно, знание
одновременности. На логическую ошибку круга в принципе Маха указал
Эйнштейн: «...масса движется без ускорения, если она достаточно удалена от
других тел; но мы знаем о ее достаточной удаленности от других тел только
по ее движению без ускорения»50
.
Идеи Маха о связи процессов инерции и гравитации, о системах отсчета, в
которых выполняются законы механики, вошли в общую теорию
относительности Эйнштейна, но не как воплощение его позитивистской
философии, согласно которой существует только наблюдаемое и поэтому
научная теория должна говорить только о наблюдаемом, а как раз наоборот,
они вошли в общую теорию относительности как воплощение другой идеи—
существует как наблюдаемое, так и ненаблюдаемое. Онтологические
предпосылки научной теории, составляющие ее отправные принципы, как
раз говорят о ненаблюдаемом. Основополагающие постулаты общей теории
относительности — принципы эквивалентности и ковариантности — имеют
в ней статус онтологических, непосредственно непроверяемых опытно
предпосылок. В частности, «принцип Маха» требует, чтобы при выборе
системы координат учитывалось распределение всей материи во Вселенной.
Эйнштейн же в своем принципе ковариантности отказывается от этого
посредством принятия определенной онтологической предпосылки —
динамической геометрии, которая является «абсолютным» элементом его
теории. Поэтому то, что, согласно «принципу Маха», не есть физическое
явление, согласно общей теории относительности, является физическим
явлением, т. е . входит в ее предметную область.
На наш взгляд, гейзенберговское соотношение неопределенностей в
квантовой теории имеет статус онтологической предпосылки в структуре
этой научной теории, хотя, может быть, это и не столь очевидно, как в
разобранных случаях со специальным и общим принципами относительности
Эйнштейна. Такое заключение позволяют сделать последние работы самого
Гейзенберга по истории создания соотношения неопределенности, в которых
выражена мысль, что это соотношение получено не как индуктивное
обобщение данных наблюдений, а введено как онтологическая предпосылка,
которая определяет предметную область этой научной теории, т. е . то, что
существует с точки зрения этой теории.
Как и всякая теория в развитой науке, квантовая механика была построена
«сверху», т. е . прежде всего был создан ее математический формализм
50 Эйнштейн А. Сущность теории относительности. М ., 1955, с. 55.
60
сначала для волнового варианта этой теории, а затем — для матричного.
Шредингеру удалось доказать математическую эквивалентность этих
формализмов. Перед создателями квантовой механики встала проблема того,
что Гейзенберг называет физическим истолкованием математического
формализма квантовой механики51
, или того, что мы называем проблемой
экспликации онтологического статуса научной теории, определения того, что
существует в мире с точки зрения этой теории.
Шредингер пытался показать, что квантовая механика описывает
наблюдаемые волны материи. Но такое решение вопроса об онтологическом
статусе этой научной теории столкнулось с трудностью. Исследуя
математический формализм, М. Борн показал, что квадрат амплитуды волны
в конфигурационном пространстве является
мерой вероятности обнаружения квантовомеханической частицы и данной
точке пространства. Это никак не соответствовало классическому
пониманию наблюдаемого, согласно которому наблюдать частицу в данной
точке пространства можно с любой наперед заданной степенью точности.
Кроме того, шредингеровское решение вопроса об онтологическом статусе
квантовой механики, состоящее в том, что эта научная теория якобы
описывает лишь наблюдаемое, потерпело фиаско, так как на его основе
невозможно было объяснить даже планковский закон теплового излучения52
.
Основополагающим в решении этого сложного вопроса, вспоминает
Гейзенберг, явилось высказанное ему замечание Эйнштейна о том, что
теория определяет, что можно наблюдать, а что нельзя53
, теория выделяет,
задает в объективном мире свою предметную область, т. е . то, что
существует с ее точки зрения. «Тогда, — пишет Гейзенберг, — я попытался
обернуть вопрос. Может быть, верно, что в природе или эксперименте
существуют только такие ситуации, которые могут быть представлены в
математической схеме квантовой механики? Это означало бы, что никакой
действительной траектории электрона в камере Вильсона не существовало.
Имеется ряд водяных капелек. Каждая капелька неточно определяет
положение электрона, а скорость опять же неточно могла быть установлена
по расположению капелек. Такую ситуацию действительно можно было
представить в математической схеме»54
. Факт, что соотношение
неопределенностей (невозможность сколь угодно точно измерить
одновременно импульс и координату квантовомеханической частицы,
51 См.: Гейзенберг В Замечания о возникновении соотношения неопределенностей, —
Вопр. философии, 1977, No 2, с. 58.
52
Там же.
53
Там же, с. 60.
54
Там же.
61
например электрона) имеет статус онтологической предпосылки в квантовой
теории, подтверждается, в частности, и тем, что опыт, в котором оно
иллюстрируется,— явление интерференции электронного пучка при его
прохождении через пластину с относительно близко расположенными
отверстиями — никогда и никем не ставился. Он имеет характер того, что в
современной науке и методологии называют «мысленным экспериментом».
Следовательно, соотношение неопределенностей является онтологической
предпосылкой, а не непосредственно опытно проверяемым утверждением.
«Этот опыт, — пишет Фейнман, — Никто так и не ставил. Все дело в том,
что для получения интересующих нас эффектов, прибор должен быть
чересчур миниатюрным. Мы с вами ставим сейчас „мысленный
эксперимент", отличающийся от других тем, что его легко обдумать.
Что должно в нем получиться, известно заранее...»
55
. «Принцип
неопределенности, — считает Фейнман, —„спасает" квантовую механику.
Гейзенберг понимал, что если б можно было с большой точностью измерять
и положение и импульс частицы одновременно, то квантовая механика
рухнула бы»56
.
Таким образом, в узкогносеологическом смысле смена одной научной теории
другой в ходе научной революции является переходом не от ненаблюдаемого
к наблюдаемому, как это пыталась представить позитивистская «философия
науки», а переходом от одних онтологических предпосылок к другим
онтологическим предпосылкам. Это, в свою очередь, ведет и к смене
предметных областей теорий. То, что движущийся шар и остается шаром в
классической механике, а в специальной теории относительности
«превращается» в сплющенный сфероид, непосредственно не следует ни из
каких наблюдений. Этот факт следует из принципа относительности Галилея
и специального принципа относительности Эйнштейна, которые являются
соответственно онтологическими предпосылками данных научных теорий,
при помощи которых, в свою очередь, мы пытаемся объяснить опыт и
предсказать ход наблюдаемых событий.
Следовательно, не только классическая физика, но и современные теории не
отвечают принципу наблюдаемости. Их онтологические предпосылки
допускают только опосредованную связь с опытом. «Для того, чтобы какую-
нибудь теорию можно было считать физической теорией, — писал
Эйнштейн, — необходимо лишь, чтобы вытекающие из нее утверждения в
принципе допускали эмпирическую проверку»57
. Создатель матричного
варианта квантовой механики, которую неопозитивисты рассматривали в
55
Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. М ., 1976, вып. 3/4, с. 208.
56
Там же, с. 220.
57
Эйнштейн А. Собр. науч. тр. М ., 1967, т. 4, с. 306.
62
качестве одного из главных оснований принципа наблюдаемости, В.
Гейзенберг также считает, что в физической теории это требование
совершенно невозможно провести58
. По мнению В. Фока, «каждая
физическая теория, будучи отражением законов природы, имеет
относительную и абсолютную сторону. Отсюда, — считает Фок, —
возникает ... задача, а именно — необходимость вскрыть и осветить
достаточно подробно абсолютные (не зависящие от наблюдателя)
соотношения и понятия как в теории относительности, так и в теории
тяготения»59
.
Явная невозможность осмысления физических теорий XX в. в духе принципа
наблюдаемости, а также та роль, которую этот принцип тем не менее сыграл
при построении этих теорий, явились основанием для трактовки некоторыми
авторами его в «ослабленном варианте» — в форме принципиальной
наблюдаемости. Иногда считают, что в физической теории допускаются
такие понятия, которые в принципе обоснованы опытом, а те утверждения,
которые не допускают такой обоснованности опытом, должны быть
исключены из физической теории. Но в теориях с эмпирическим базисом,
каковыми являются теории современной физики, вообще говоря, и не может
быть утверждений, не обоснованных опытом. Поскольку научная теория
представляет собой не простой конгломерат понятий, а их взаимосвязанную
систему, то понятия, не имеющие непосредственного опытного обоснования,
обязательно являются опосредованно (через другие понятия)
обоснованными. В определенном отношении и такое понятие, как «эфир»,
было до некоторой степени опытно обосновано в классической физике, ибо в
предположении реального существования эфира ставились многие
эксперименты, и в этих экспериментах получали в свое время довольно
удовлетворительные результаты. В такой широкой трактовке принцип
наблюдаемости совпадает с простой констатацией, что теория является
эмпирически проверяемой. На основе требования принципиальной
наблюдаемости, например, можно отличить логико-математическую теорию
от теории с эмпирическим базисом.
Эвристическое значение этот принцип приобретает тогда, когда он выражен
в «жесткой форме»: те понятия в структуре научной теории, которые
описывают ненаблюдаемые сущности, должны быть исключены. Но в такой
форме он невыполним в сложившейся научной теории. Если та или другая
онтологическая предпосылка той или иной научной теории допускает даже
непосредственно операциональную определяемость, то это отнюдь не
58
См.: Гейзенберг В. Физические принципы квантовой теории. Л.; М., 1932, с. 9.
59
Фок В. А. Теория Эйнштейна и физическая относительность. М ., 1967, с. 4 .
63
означает, что она непосредственно описывает наблюдаемые сущности в
мире. «Идеальный газ» — идеализированный объект современной
молекулярно-кинетической теории газов — допускает множество
«операциональных определений» (Бриджмен) или «правил соответствия»
(Карнап). Его можно определить как газ, который всегда имеет постоянное
произведение давления на объем при постоянных массе и температуре (закон
Бойля—Мариотта). Его можно также определить как газ, у которого
существует прямо пропорциональная зависимость между объемом и
температурой при постоянных массе и давлении (закон Гей-Люссака) и т. д .
Давление, объем и температура являются наблюдаемыми, но сам идеальный
газ не является наблюдаемым, так как он описывает принципиально
ненаблюдаемое свойство реальных газов. Это свойство заключается в
«требовании», чтобы реальный газ имел расстояния между молекулами
значительно большие размеров самих молекул; только в таком случае можно
пренебречь силами взаимодействия между молекулами газа. На основе этого
«требования» молекулярно-кинетическая теория калибрует реальные газы,
ограничивая предметную область идеального газа. В частности, в эту область
входят достаточно разреженные газы, ибо у них расстояние между
молекулами значительно больше размеров самих молекул. И они
описываются наблюдаемыми параметрами. Сам же идеальный газ как
свойство реальных газов ненаблюдаем в принципе, так как, хотя и малое, все
же всегда существует взаимодействие между молекулами реального газа.
Свое эвристическое значение принцип наблюдаемости имеет не в
сложившейся теории, а на «стыке» двух научных теорий в период научной
революции, т. е . в период смены одних онтологических предпосылок
другими. «На наш взгляд, — пишет М. Э. Омельяновский, —
гносеологические и методологические аспекты принципа наблюдаемости
нельзя рассматривать независимо от вопросов, связанных с применением
диалектики к процессу и развитию познания»60
. В . И. Ленин, анализируя
научную революцию в физике начала XX в., отмечает, что там, где речь идет
об ограниченности механистического понимания, закостенелости старых
понятий, эмпириокритики приводят доказательства «с громадной затратой
труда, с рядом столь же интересных и ценных примеров из истории физики,
какие часто можно встретить у Маха...»
61
. Именно в качестве средства
элиминации одних онтологических препосылок и перехода к другим
онтологическим предпосылкам принцип наблюдаемости и приобретает свое
эвристическое значение в ходе научных революций.
60
Омельяновский М. Э. Диалектика в современной физике. М ., 1973, с. 88 .
61
Ленин В. И . Полн, собр. соч., т. 18, с. 329 .
64
Но сама необходимость в ломке онтологических предпосылок научной
теории возникает тогда, когда уже начинают складываться новые
онтологические предпосылки, новые взгляды на структуру реальности,
описываемую наукой. В известном споре между Симпличио и Сальвиати в
«Диалогах» Галилея речь шла не столько о том, доверять ли наблюдениям
или не доверять им, сколько о том, какова структура Вселенной с точки
зрения физики Аристотеля и с точки зрения физики Галилея. Примеры,
которые Сальвиати приводил в пользу системы Коперника, сами были
основаны на принятии основной онтологической предпосылки классической
физики— утверждении о существовании в природе движения по инерции.
Вообще всю галилеевскую революцию в физике можно логично осмыслить
только в том случае, если учитывать «теоретическую нагруженность»
наблюдений. То же самое можно сказать и о характере становления
специальной теории относительности, общей теории относительности и
квантовой механики.
Откуда у научных теорий берутся онтологические предпосылки? В немецкой
классической философии объективность знания относилась, как известно, «за
счет» предположения о существовании Трансцендентального, или
Абсолютного, Субъекта. В философии диалектического материализма
показано, что объективность знания следует из того, что знание является
социально-культурным и исторически опосредованным отражением
объективной реальности. Современная зарубежная «философия науки»
рассматривает онтологические предпосылки как ингредиенты социальных
коммуникаций, хотя сами коммуникации разными философами понимаются
по-разному. У Куайна — это бихевиористски понимаемый язык, у Куна и
Фейерабенда — научные сообщества, у Поппера—его «третий мир». Но
объективность знания вообще и объективное содержание научных теорий, в
частности, можно трактовать различным образом. Можно считать понятие
существующим независимо (объективно) от индивидуального субъекта и в то
же время ни на что не указывающим в объективном мире62
, не имеющим
референта в нем. Именно на этом этапе признания объективности научного
знания и заканчивается нередко признание онтологического статуса научных
теорий современной зарубежной «философией науки». Поскольку же
онтологические предпосылки научных теорий не выводятся из наблюдений, а
«производятся» в «недрах» социокультурных коммуникаций, то и переход от
одной научной теории к другой истолковывается исследователем чисто
релятивистски. «Я думаю, — пишет Кун, — что нет независимого ни от
какой теории способа перестроить фразы, подобные выражению „реально
62
Например, В. Гейзенберг считал, что состояние системы, описываемое в квантовой механике
волновой функцией, «объективно, но не реально». См.: Нильс Бор и развитие физики. М., 1958, с.
42.
65
существует"; представления о соответствии между онтологией теории и ее
„реальным" подобием в самой природе кажутся мне теперь в принципе
иллюзорными»63
.
Для объяснения развития наук релятивисту, как известно, не хватает
центральной характеристики научного знания — понятия его объективной
истинности.
В известном смысле кризис в современной зарубежной «философии науки»
напоминает кризис в философских основаниях физики в начале нашего века,
проанализированный В. И. Лениным в «Материализме и
эмпириокритицизме». В . И. Ленин отмечал, что суть кризиса в физике
«состоит в отступлении ее от прямого, решительного и бесповоротного
признания объективной ценности ее теорий»64
. Но объективное содержание
научного знания вообще и научных теорий в частности в диалектическом
материализме в отличие от современной зарубежной «философии науки»
непосредственно связывается с воспроизведением, отражением объективной
реальности. Прообразами объектов научных теорий являются
ненаблюдаемые, но реально существующие объекты, свойства, отношения их
предметных областей.
2. Онтологический статус научных теорий в научном эксперименте
Если оставаться только в рамках социокультурной интерпретации
онтологического статуса научных теорий (Лакатос, Кун, Фейерабенд) и не
доводить эту интерпретацию до утверждений об объективном существовании
референтов теоретических объектов, то не только история науки (научная
революция) представляется релятивистски, но и нельзя понять, как возможен
научный эксперимент в качестве средства проверки научной теории. На
многочисленных историко-научных примерах современная зарубежная
«философия науки» убедительно продемонстрировала зависимость языка
наблюдения от теоретического языка. Однако из реального факта этой
зависимости нередко делается вывод о том, что если мы хотим какую-нибудь
теорию проверить посредством наблюдений, то этого якобы невозможно
сделать, ибо язык наблюдений сам зависит от языка проверяемой теории.
Если не существует нейтральных фактов, независимых от теорий, то, решая
проблему выбора между теориями, мы, согласно П. Фейерабенду, должны
полагаться не на эксперимент, а на «эстетические суждения, оценки,
основанные на вкусе, и наши субъективные желания»65
.
63
Кун Т. Структура научных революций. М ., 1975, с. 259 .
64
Ленин В. И . Полн. собр. соч., Т. 18, с. 324.
65
Feyerabend P. К . Consolations for the specialist— In: Criticism and growth of knowledge. Cambridge,
1970, p. 228.
66
Один из наиболее распространенных примеров, приводимых в литературе и
показывающих, по мнению некоторых авторов, неэффективность
наблюдений как средства проверки теории, — пример со смещением
перигелия Меркурия. Ньютоновская теория тяготения, удовлетворительно
объяснившая орбиты движения других планет, в случае с орбитой Меркурия
потерпела провал. В случае Меркурия астрономы обнаруживали очень малое,
но твердо установленное отклонение его перигелия (точки орбиты,
ближайшей к Солнцу) от величины, вычисленной по теории Ньютона.
Однако теория тяготения Ньютона не была отброшена (этот же историко-
научный пример используется также и для критики методологии К. Поппера
в качестве аргумента в пользу того, что в истории науки не существует
«решающих экспериментов»). Общая теория относительности с достаточной
точностью объяснила смещение перигелия Меркурия, но этот наблюдаемый
факт, если следовать логике рассуждений Фейерабенда и др., не может
служить аргументом в пользу достоверности общей теории относительности,
ибо само понятие пространственного положения тела (в данном случае
Меркурия) в ньютоновской теории тяготения и в теории тяготения
Эйнштейна различно. На вопрос о том, находится ли Меркурий в данной
точке пространства, приверженцы теорий Ньютона и Эйнштейна могут дать
совершенно разные ответы.
По Лакатосу, главной причиной того, что научный эксперимент не может
служить аргументом в пользу подтверждения или опровержения научной
теории, является необходимость при его осуществлении пользоваться таким
«посредником», как научный прибор. Когда Галилей объявил, что он
наблюдал горы на Луне и пятна на Солнце, пишет Лакатос, и тем самым
опроверг теорию Аристотеля, что небесные тела представляют собой чистые
хрустальные шары, то его наблюдения не были «чистыми» в том смысле, что
они были получены только с помощью органов чувств. В результате
наблюдений Галилея «вклинилась» некритически принятая оптическая
теория телескопа, с помощью которого он производил свои наблюдения, а
значит, и сами наблюдения, по Лакатосу, теряют свою достоверность, так как
с помощью одного прибора можно получить одни данные, а с помощью
другого—другие. Поэтому Лакатос считает, что «ни одно фактуальное
положение не может быть доказано из эксперимента: высказывание может
быть выведено из других высказываний, но они не могут быть получены из
фактов»66
. А значит, «мы не можем доказывать теории и мы не можем
также их опровергать»67
. В качестве выхода из такого совершенно не
соответствующего реальной практике науки положения, пытаясь сгладить
66
Lacatos I. Falsification and methodology of scientific research programmes. — In: Criticism and growth of
knowledge, p. 99.
67 Ibid., p. 100.
67
явный диссонанс своей методологии с этой практикой, Лакатос предлагает
факты принимать просто конвенционально: «Методологический
фальсификационист, — пишет он, — утверждает, что в „экспериментальную
технику" включаются ошибочные теории, „в свете" которых он
интерпретирует фактй»68
. Итак, факты — конвенции, которые
«институированы и одобрены научным сообществом»69
.
Так ли это? Может показаться, что это так в том случае, если теории
рассматривать только в качестве ингредиентов социокультурных
коммуникаций. Если теории не имеют «выхода в мир», если им в этом мире
ничего не соответствует, если их теоретические объекты не имеют
референтов, то научный эксперимент не может ни подтвердить, ни
опровергнуть научной теории, а его достоверность гарантируется только
достоверностью общественного мнения.
На самом деле гарантии достоверности научного эксперимента не
ограничиваются только его приемлемостью научным сообществом. Они
лежат гораздо глубже. Научные теории совместно с наблюдениями в
экспериментах, которые проводятся с целью их проверки, описывают одну и
ту же предметную область объективной действительности. В этой
объективной действительности объектам научных теорий соответствуют
объективно существующие референты — реальные объекты, свойства,
отношения. Это проявляется в том, что научные теории не «безразличны» к
структурам своих предметных областей. Научная теория еще до того, как она
будет проверена экспериментальным путем, уже накладывает свои
ограничения на предметную» область, причем независимо от каких бы то ни
выло наблюдений. Эти условия, которые мы считаем удобным назвать
условиями калибровки, выделяют именно ту предметную область из
бесконечно многообразной объективной действительности, на которой и
имеет смысл экспериментальная проверка научной теории.
Рассмотрим процедуру предварительной калибровки на примере
экспериментов по проверке общей теории относительности70
. Со времени
своего открытия и до последнего времени эта теория в научных кругах
считалась практически неподтвержденной экспериментально. Два
экспериментальных факта — Эйнштейн не только объяснил смещение
перигелия Меркурия, но и вычислил его величину, которая совпала с
наблюдаемой, а также показал, что луч света, проходя вблизи тяжелой массы,
должен искривлять свою траекторию, что подтвердилось последующими
68
Ibid., p. 106 .
69
Ibid., p. 108 .
70
См.: Коноплева Н. П Гравитационные эксперименты в космосе,— Успехи физ. наук, 1977, т. 123,
вып. 4.
68
наблюдениями, — вследствие своей малочисленности не считались
достаточно убедительными. В настоящее время новейшие открытия в
астрономии (квазары, пульсары, реликтовое излучение, «черные дыры» и
др.), а также появившаяся в связи с развитием космической техники
возможность ставить гравитационные эксперименты непосредственно в
космосе, изменили отношение к общей теории относительности, и она
считается подтвержденной современными экспериментами. С
методологической точки зрения эти эксперименты в космосе представляют
интерес в том отношении, что в них наиболее наглядно видна необходимость
предварительного исследования онтологического статуса общей теории
относительности. Определение предметной области этой теории составляет
наряду с другими факторами предварительное условие корректности
постановки самого эксперимента.
Предметная область экспериментирования определяется из условия,
задаваемого онтологической предпосылкой теории, — из принципа
эквивалентности инертной и гравитационной масс движущегося тела. В
общей теории относительности гравитационное поле «ответственно» за
инерциальное движение физического тела. Это означает, что тело, которое в
отсутствии гравитационных полей движется по инерции по прямой, начинает
искривлять свою траекторию вблизи тяготеющих масс. Зная распределение
этих масс в пространстве, можно построить карту тех траектории
движущихся тел, которые движутся по инерции в гравитационном поле.
Именно тела, движущиеся по геодезическим линиям (линиям, вдоль которых
расстояние между двумя мировыми точками является кратчайшим), и
описываются общей теорией относительности. Но в реальных условиях
движение по геодезической удается осуществить лишь приблизительно, так
как любое тело наряду с гравитационными подвергается и другим
воздействиям. Степень геодезичности движения тела оценивают из
следующих соображений: все негравитационные воздействия носят характер
поверхностных сил в отличие от объемных сил тяготения. Поэтому наиболее
геодезическим будет движение такого тела, у которого отношение
поверхностных сил к объемным будет минимальным. Такие тела и образуют
предметную область общей теории относительности. Очевидно, что эти тела
должны иметь форму массивного шара. Форму шара потому, что шар при
заданном объеме имеет наименьшую поверхность, а массивного потому, что
с ростом массы тела растет и гравитационное воздействие на него. При этом
тела, образующие предметную область общей теории относительности,
должны сравнительно далеко находиться друг от друга, так как вблизи они
уже обладают заметным собственным гравитационным полем. Не случайно
69
поэтому, что областью применения теории Эйнштейна являются
космические объекты71
.
Для того чтобы малые тела двигались по геодезической и, следовательно,
входили в предметную область общей теории относительности, необходимо
или защитить их от гравитационных воздействий, или же иметь плотность
вещества, превышающую ядерную. Поскольку второе условие в настоящее
время осуществить невозможно, то те зонды и спутники, которые запускают
в космос с целью проверки теории тяготения Эйнштейна, снабжают
устройствами, позволяющими им двигаться вдоль геодезической линии без
существенных отклонений.
Лишь после того, как проведен анализ онтологического статуса научной
теории и этим анализом показано, что эксперименты по проверке этой теории
производились именно на ее предметной области, можно доверять
свидетельству эксперимента. «В каждом конкретном случае,— пишет Н. П.
Коноплева,— нужно оговаривать, как и с чем мы отождествляем события,
которые наблюдаем. Это приводит к процедуре довольно сложной обработки
эксперимента, занимающей месяцы и даже годы. Отрицательный
экспериментальный результат не может считаться аргументом против теории
(или положительный — в ее пользу), если не доказано, что сопоставление
теоретических понятий с реальными физическими объектами произведено
правильно»72
.
Вопреки мнению И. Лакатоса, эксперимент может служить аргументом как в
пользу теории, так и против, но только с одним условием: если он
выполняется именно на той предметной области, которую эта теория
описывает73
. Эксперимент ничего не доказывает, если он выполнялся с теми
объектами, которые не входят в предметную область теории.
Вышеописанный факт смещения перигелия Меркурия опровергает теорию
тяготения Ньютона. Не была же она отброшена в истории науки просто
потому, что не было ничего лучшего предложено. Но она была заменена, как
известно, с появлением теории тяготения Эйнштейна.
Не является также обоснованной и конвенционалистская трактовка
Лакатосом достоверности научного эксперимента на том основании, что в
экспериментальную технику включаются теории приборов (как, например,
71
Там же, с. 542.
72
Так же, с. 540.
73
Наблюдения могут подтверждать или опровергать теории, которые говорят о ненаблюдаемых
свойствах, именно потому, что ни сам по себе взятый язык теории, ни сам по себе взятый язык
наблюдения не говорят о бытии (в данном случае о предметной области теории). О предметной
области они говорят совместно. Эта их взаимосвязь и является основой возможности
экспериментальной проверки теории.
70
оптическая теория телескопа у Галилея). Во-первых, далеко не все приборы
построены на основании «собственных теорий». Трудно утверждать,
например, что такие приборы, которые используются для экспериментальной
проверки классической механики, как абсолютно твердый стержень и
абсолютно равномерно идущие часы, основаны на каких-то «собственных»
теориях. Во-вторых, если следовать Лакатосу, то чем сложнее прибор, тем
меньше у нас оснований доверять результату эксперимента, проведенного с
помощью этого прибора. Многие физические приборы конструируются не на
основе одной какой-то физической теории, а на основе нескольких. А такие
сложные современные приборы, как ускорители элементарных частиц,
основаны чуть ли не на всех физических теориях, и не только физических.
Несмотря на то что эксперименты по проверке разных научных теорий могут
вестись с одними и теми же приборами, в интерпретации показаний прибора
доминирует именно та теория, которую проверяют. Это проявляется в том,
что существует прямая зависимость между онтологическими предпосылками
научной теории и характером приборов, посредством которых производится
ее экспериментальная проверка. В частности, использование в эксперименте
абсолютно твердого стержня основано на принятии таких онтологических
предпосылок классической механики, как абсолютное пространство и время.
М. Борн прямо указывает на зависимость между онтологическими
предпосылками классической механики, специальной теорией
относительности и приборами по их экспериментальной проверке: «Большое
значение, — пишет он, — которое имеют понятия недеформируемого
твердого тела и жестких связей в механике Ньютона, теснейшим образом
связано с основополагающими воззрениями на пространство и время, на
которых строится эта наука. Требование, что длины должны быть сравнимы
друг с другом в разные времена, прямо приводит к образованию понятия
масштаба, длина которого независима от времени и движения...»74
. Ноот
этого требования следует отказаться, «если считать справедливым
электродинамический принцип относительности в формулировке Лоренца,
Эйнштейна, Минковского и других. Ибо здесь связь пространства и времени
с „миром" другая: независимость законов природы от равномерного
перемещения пространственной системы отсчета имеет место только тогда,
когда также и временной параметр претерпевает изменение... Это связано с
тем обстоятельством, что масштабы, которые при равномерном переносе
сохраняют свою длину в сопутствующей им координатной системе,
испытывают сокращение в направлении их скорости относительно
покоящейся системы»75
. «Аксиомы евклидовой геометрии, — отмечает Н. П.
74
Борн М. Теория недеформируемого электрона в релятивистской кинематике. — В кн.:
Эйнштейновский сборник, 1975—1976. М, 1978, с. 287.
75
Там же, с. 288.
71
Коноплева, — отражали свойства приборов, используемых при
„экспериментальном" построении и сравнении геометрических фигур, а
именно: циркуля и линейки без делений»76
.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что предметная область научной
теории непосредственно связана с использованием определенного прибора,
поскольку в самом приборе заключена информация, которую задает теория
об этой предметной области. В научном эксперименте калибровка объектов в
мире становится «физической». Научный прибор выполняет в этом случае
роль «физического посредника», роль канала, по которому передается
именно та информация из объективно-реального бытия, которая
соответствует предметной области данной теории. Если научный прибор
построен именно на основе проверяемой теории, тогда результату
эксперимента можно доверять, разумеется, при прочих равных условиях.
Известно, сколько сложных усовершенствований претерпел интерферометр
Майкельсона, причем усовершенствований, проводимых на основе теории
эфира Лоренца, прежде чем им стало возможным произвести измерение
абсолютного движения Земли относительно эфира. Лишь после того, как
убедились в том, что этот интерферометр способен измерить величины
второго порядка скорости света, предсказываемые теорией Лоренца, а не
только скорости света вообще, только тогда стало возможным доверять
отрицательному результату опыта Майкельсона—Морли.
Таким образом, онтологический статус научных теорий представляет собой
сложную, комплексную проблему не только на теоретическом уровне
исследования, но и на эмпирическом. На наш взгляд, проблема
онтологического статуса научных теорий — основная философская
проблема, с которой столкнулась неклассическая физика в процессе своего
формирования. Важной она остается и в настоящее время. Необходимость ее
разрешения составляет гносеологическую черту неклассической физики по
сравнению с классической, т. е . то, что Нильс Бор называл
«гносеологическим уроком», который нам преподнесла физика XX столетия.
Причем эта необходимость возникает не только в экспериментах с
ультрабольшими космическими объектами, как в вышеприводимом примере
с гравитационными экспериментами в космосе, но и в экспериментах с
микрофизическими объектами в квантовой теории. Более того, именно в
квантовой механике она и вызвала большие дискуссии.
Проблема онтологического статуса этой научной теории осмысливалась
ведущими физиками с помощью понятия «физическая реальность», которое,
76
Коноплева Н. П . Понятие инерции и принцип симметрии. — В кн.: Принцип симметрии. М ., 1978,
с. 197.
72
по сути дела, идентично с тем, что мы понимаем под термином «предметная
область научной теории». В самом начале изучения поведения квантовых
объектов физики столкнулись с непривычным для их классического стиля
мышления обстоятельством — свойства изучаемых микрофизических
объектов непосредственно связаны с такой онтологической предпосылкой
квантовой теории, как соотношение неопределенностей. Как отмечалось, это
соотношение запрещает сколь угодно точное одновременное измерение
импульса и координаты микрофизической частицы. Если мы, например, так
конструируем наш прибор, что световые волны, испускаемые им, становятся
все короче и, следовательно, координата измеряемой частицы, допустим
электрона, определяется этими квантами света все точнее, то в то же время
точность определения его импульса в данном эксперименте уменьшается, так
как с уменьшением длины волны импульс, сообщаемый квантом света
электрону, растет.
Такая ситуация не встречалась в классической физике, где координату и
импульс объекта можно точно измерить. Микрофизическая же область —
предметная область квантовой теории — оказалась непосредственно
связанной с измерительной техникой. Какова природа этой связи? Поскольку
используемый в квантовой теории прибор описывается в классических
понятиях, то В. Гейзенберг понимал эту связь в смысле зависимости
результатов эксперимента с квантовыми объектами от классического способа
описания: «Наше теперешнее положение в естествознании таково, — писал
он,— что для описания эксперимента мы фактически используем или
должны использовать классические понятия. Иначе мы не поймем друг
друга. Задача квантовой теории как раз и состоит в том, чтобы на этой основе
объяснить эксперимент»77. В . А. Фок считал, что основная гносеологическая
черта квантовой физики и неклассической физики вообще состоит в том, что
в ней, в отличие от классической, приходится учитывать зависимость
описания от средств наблюдения, под которыми он имел в виду органы
чувств человека и измерительные приборы78
. М . А. Марков физическую
реальность определял как форму реальности, в которой «реальность
проявляется в макроприборе»79.
Если научный прибор рассматривать в качестве «посредника», не имеющего
ничего общего с той научной теорией, которая проверяется в эксперименте,
тр вполне обоснованным будет утверждение Гейзенберга, что «наблюдение
играет решающую роль в атомном событии и что реальность различается в
77
Гейзенберг В. Физика и философия. М., 1963, с. 35.
78
См.: Фок В. А . Квантовая физика и философские проблемы. — В кн.: Физическая наука и
философия. М., 1973, с. 56.
79
Марков М. А . О природе материи. М ., 1976, с. 43.
73
зависимости от того, наблюдаем ли мы ее или нет»80
. Но в квантовой
измерительной технике, как, впрочем, и в измерительной технике любой
другой научной теории, применяемой для ее экспериментальной проверки,
заключена информация о предметной области проверяемой теории.
Приборы, Используемые для измерения характеристик микрофизической
реальности, сконструированы в предположении, что предметная область, в
которой они применяются, носит именно вероятностную структуру. Более
того, так как пользование этими приборами предполагает принятие
онтологической предпосылки квантовой механики — соотношения
неопределенностей, — то эти приборы как бы «физически делают» эту
структуру вероятностной, что Н. Бору представлялось «неконтролируемым
взаимодействием». «Нельзя, — пишет М. А. Марков, — придумать такой
опыт, утверждает квантовая теория, в результате которого можно было бы
получить точные знания положения частицы и ее импульса. Это утверждение
носит принципиальный характер и не зависит от качества аппаратуры
наблюдения. По своему характеру оно вполне аналогично утверждению
невозможности создания вечного двигателя первого рода, добывающего
энергию „из ничего"»
81
.
Квантовая механика, как и общая теория относительности, в приведенной
выше схеме гравитационных экспериментов в космосе уже до эксперимента
выделяет исходную предметную область, и только на этой предметной
области (информация о которой получается с помощью прибора) имеет
смысл проводить измерения. В . А. Фок называл эту информацию
«потенциальными возможностями»: «Теория, — отмечал он, — должна
давать распределение вероятностей для каждой доступной измерению
величины, иначе говоря, для результатов взаимодействия объекта с
прибором, приспособленным для измерения этой величины. Пока прибор не
выбран и не приведен в действие, существуют только потенциальные
возможности, совокупность которых и характеризует состояние объекта»82
.
По мнению М. А. Маркова, «для успешного проведения наблюдения
координаты или другого опыта — наблюдения импульса — необходима
общая для двух опытов объективная предпосылка существования,
объективного существования „нечто" до опыта.
Такое общее понятие существования электрона имеется в квантовой теории
наряду с более конкретным характером физической реальности. Если
электрон существует в природе, то соответствующий интеграл, взятый по
80
Гейзенберг В. Физика и философия, с. 32 .
81
Марков М. А . О природе материи, с. 10 .
82
Фок В. А. Квантовая физика и философские проблемы. — В кн.: Физическая наука и философия,
с. 76.
74
своему бесконечному пространству, равен единице; если электрона нет в
наличии, то соответствующее выражение исчезает»83
.
Квантовая теория также не отличается от классической физики (в равной
степени как и от других неклассических теорий) и в том, что ее предметная
область (физическая реальность) также определяется ненаблюдаемыми
свойствами. В . А. Фок считает, что «предметом нашего изучения является не
расположение пятен на фотографической пластинке и т. п ., а им являются
свойства атомов»84
. В квантовой теории они также не являются
наблюдаемыми: «В теории Дирака, — пишет М. А. Марков, — электрон
точечный, но тот же электрон обладает по абсолютной величине
определенным спином (вращением — моментом количества движения). С
точки зрения классических понятий момент количества движения и
вращения вокруг собственной оси вообще имеет смысл только для тела,
обладающего некоторыми размерами. Здесь же берется одно свойство
(разрядка моя. — Авт.), которое имеет, смысл для тела, имеющего
принципиально не точечную, т. е . пространственную форму, и относится оно
к объекту, который по своему пространственному смыслу (точечный объект)
не мог бы им обладать»85
.
Таким образом, проблема онтологического статуса научных теорий имеет
один и тот же смысл как для теорий классической физики, так и для теорий
неклассической физики. Однако предметную область классической физики
можно было откалибровать (выделить) с помощью таких несовершенных
«приборов», как наши органы чувств. В неклассической физике этих
«приборов» недостаточно, так как релятивистские и квантовые эффекты
настолько малы, что они не заметны для наших органов чувств, — поэтому
приходится предварительно эксплицировать предметные области
неклассических физических теорий, а затем уже проводить эксперименты по
их проверке.
Научные теории несомненно являются плодами мыслительной деятельности
ученых и в этом отношении функционируют в научной деятельности в
качестве составляющих социокультурных коммуникаций. Но если
ограничиваться трактовкой их только как феноменов социума и культуры, то
можно зайти в тупик: научная революция будет трактоваться чисто
релятивистски, будет казаться, что теорию в принципе нельзя достоверно
проверить, что сам прибор, при помощи которого производится эксперимент,
выражает субъективный акт «вмешательства» человека в объективный ход
83
Марков М. А . О природе материи, с. 45 .
84
Фок В. А. Дискуссия с Нильсом Бором. — Вопр. философии, 1964, No 8, с. 50.
85
Марков М. А . О природе материи, с. 33 .
75
природных процессов и, наконец, если неизвестно, что теории описывают в
мире, то тогда неясно, зачем они создаются.
Такая точка зрения на онтологический статус научных теорий противоречит
реальной практике развития науки. Научные теории создаются именно для
описания объективного мира.
Важнейшей особенностью диалектико-материалистической философии
является необходимость рассматривать научное знание вообще и научные
теории в частности не только в качестве составляющих человеческой
деятельности, но и как отражение бытия, отражение структур изучаемых
научными теориями предметных областей. Поэтому образу (научной теории)
необходимо сопоставить его прообраз — референты ее объектов.
Именно поэтому — и это обстоятельство особенно важно подчеркнуть — сам
теоретико-познавательный, философско-методологический анализ научного
знания не может ограничиться исследованием только лишь формальных
действий и операций исследователя. Этот анализ с необходимостью должен
выявить предметно-смысловое содержание познавательных операций. А это
означает раскрытие онтологических предпосылок научно-теоретического
мышления вообще и отдельных научных теорий в частности. Таким образом,
если онтологические и теоретико-познавательные установки не могут быть
противопоставлены в общем случае, то тем более не могут они
противопоставляться при гносеологическом исследовании структуры,
функционирования и развития научно-теоретического знания. Сегодня
проблематика онтологического содержания научно-теоретического знания
является необходимым компонентом методологического исследования, с
разработкой этой проблематики связано изучение целого ряда актуальных
вопросов гносеологии науки.
Если в структуре научной теории имеются такие объекты, которые
указывают на сущности, существующие в мире независимо ни от человека,
ни от человечества, то оказывается несостоятельной попытка некоторых
зарубежных авторов рассматривать научные сообщества, придерживающиеся
разных научных теорий, как некоммуницирующие между собой. Эту
коммуникабельность задает основная предпосылка познания — объективное
существование познаваемого мира, что находит свое выражение в наличии у
разных теорий объективно существующих референтов в одном и том же
мире.
76
ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГНОСЕОЛОГИИ И
ОНТОЛОГИИ
В НЕМАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Н. С. МУДРАГЕЙ, Е. П. НИКИТИН
Одной из специфических характеристик философии как особой формы
человеческого духа является то, что она анализирует взаимоотношения мира
и человека, стремясь, в частности, выяснить место и «предназначение»
человека в мире. При этом не только внешнее бытие, но и сам человек
квалифицируется как своего рода мир. Тем самым объектом философского
анализа оказывается связь внутреннего (человеческого) и внешнего миров,
или, как говорили античные философы, микрокосма и макрокосма.
Соотношение онтологии и гносеологии — существенная характеристика
философии, ибо они являлись ее главнейшими составными частями
фактически на протяжении всей ее истории, а тот или иной способ связи этих
частей в значительной мере определял самую сущность, природу
философских концепций.
Правда, сами термины «гносеология» и «онтология» весьма молоды (так,
последний введен в Новое время представителем протестантской
неосхоластики Гоклениусом, а широкое применение получил в вольфианской
философии), что, впрочем, объясняется достаточно просто. Ведь само то
обстоятельство, что многие философские теории включают в себя
онтологическую и гносеологическую «части», было подмечено только в
Новое время, около трех столетий тому назад, т. е . сравнительно недавно,
если иметь в виду, что возраст философии оценивается примерно в три
тысячелетия. Думается, не случайно философия столь поздно узнала эту
достаточно элементарную автобиографическую истину.
Во всяком случае понадобился многовековой период развития философии,
чтобы эта истина открылась людям. Дело в том, что на разных этапах
философской истории онтологические и гносеологические учения обладали
разной степенью проявленности, «выделенности», целостности,
автономности в рамках целого. Так, в античной и средневековой философии
они еще не были сколько-нибудь самостоятельными образованиями, но в
лучшем случае представляли собой фрагменты, аспекты единых
концептуальных систем. Лишь в Новое время они обретают статус
относительно самостоятельных концепций. Что же касается философских
теорий прежних эпох, то для выявления в их составе учения о сущем и
учения о познании приходится проводить определенную реконструктивную
работу. Впрочем, в подобном реконструировании, эксплицировании
77
внутреннего состава системы нередко нуждаются и самые современные
философские теории. При этом иногда оказывается, что действительные
(выявляемые путем такой экспликации) состав и структура теории
существенно отличаются от тех представлений о составе и структуре теории,
которые имеются у ее автора и которые он пытается сообщить читателю.
Из того, что онтология и гносеология были важнейшими составными
частями философских концепций, однако, не следует, что соотношение
между ними всегда было одинаковым. Напротив, в разные исторические
периоды оно было различным, имело конкретно-исторический характер.
Больше того, это соотношение определенным образом эволюционировало,
обнаруживало вполне определенную тенденцию в своем развитии. Правда, с
другой стороны, эту тенденцию не следует переоценивать и представлять в
некоем финалистском образе, т. е . как стремящуюся к какому-то конечному
«идеальному состоянию».
В свете сказанного нам представляется, что наиболее плодотворным было бы
такое рассмотрение соотношения между онтологией и гносеологией, которое
можно было бы назвать генетическим и которое только и может позволить
выяснить общую тенденцию эволюции этого соотношения. При этом мы
отнюдь не собираемся здесь излагать полную историю вопроса во всех ее
подробностях. Для генетического исследования как раз характерно то, что
оно позволяет выяснить общую закономерность, принципиальную
направленность процесса, его «логику». Разумеется, в ходе исследования, а
также при изложении его результатов (в последнем случае в целях
демонстрации) мы обращаемся к конкретным примерам, выбирая в качестве
образцов наиболее влиятельные и к тому же наиболее характерные в
интересующем нас отношении философские системы.
1. Мировоззрение, онтология, гносеология
Онтология и гносеология — разделы философии, которые наиболее строго и
необходимо обусловлены мировоззренческой позицией философа, строящего
свою систему в определенном социально-культурном контексте.
Мировоззрение, представляющее собой систему идей мыслителя, выражение
его взглядов на мир в целом и на взаимоотношение мира и человека, лежит в
основе теоретических, гносеологических и онтологических построений
конкретной философской системы. Даже сам способ мыслить мир тем или
иным образом есть, как справедливо замечает Л. М . Баткин, стержень
мироотношения, то, что мыслитель свидетельствует не о себе, но собою86
.
86
См.: Баткин М. М. Итальянский гуманистический диалог XV века. — В кн.: Из истории культуры
Средних веков и Возрождения. М ., 1976, с. 180 . Там же Баткин пишет: «Весь комплекс культуры, с
его внутренними натяжениями и антиномиями, необходимо соотносится с „логикой"
78
Средневековая философия, пожалуй, является наиболее ярким примером,
подтверждающим высказанное положение, ибо здесь обусловленность
гносеологии и онтологии мировоззрением не только никаким образом не
завуалирована, но, напротив, открыто подчеркивается и даже
устанавливается как необходимое условие занятий философией (из чего
вовсе не следует, что в другие исторические эпохи эта обусловленность
ослабевает).
Глубочайшая проблема средневекового мировоззрения — это отношение
человека и мира к богу. Именно эта проблема определяла собой содержание
духовных изысканий средневекового мыслителя, его отношение к
действительности, его понимание способов познания. Ведь христианство в
Средние века не было только вероисповеданием, но целой культурной
системой, охватывающей все проявления личной и общественной жизни.
Поскольку же смысл и цель человеческого существования составляло
царство божие, то и предметом размышлений, естественно, был не
действительный мир сам по себе, но исключительно сверхчувственный,
неземной. Отсюда — утрата интереса к конкретным научным знаниям,
застой в научной области. Н. И. Кареев приводит интересные высказывания
средневековых мыслителей, выразивших квинтэссенцию мировоззрения
своего времени. «К чему наука христианам? — спрашивает св. Дамиан. —
Разве зажигают фонарь, чтобы видеть солнце? Оставим науку Юлианам
Отступникам. Св. Иоанн обходился без нее, св. Григорий ее презирал, св.
Иероним упрекал себя в ней, как в преступлении». — «Древние, —
проповедует Петр Достопочтенный, — блистали в литературе, искусствах и
науках: к чему послужила им эта образованность? Когда Истина
воплотилась, она отвергла их образованность. Пусть замолчит человеческое
чванство, когда заговорило слово божественное!» — «Что такое жизнь
человеческая, —говорит Hugo de Sancto Victae, — как не путешествие? Мы
—
путники и только проходя видим этот мир. Если на пути мы встречаем
незнакомые вещи, то есть ли смысл отдать себя в их власть и своротить со
своей дороги? А это-то и делают люди, посвящающие себя науке:
неосторожные прохожие, они забывают цель своего путешествия, они не
направляются к своему отечеству»87
. Понятно, делает вывод Кареев, что при
таком взгляде самая обширная литература была церковная, главным
самопостроения культуры, определяющей самосознание ее деятелей, но именно поэтому
незаметной для них, т. е . не выступающей для них как предмет особой рефлексии, а растворенной
во всеобщем предмете. Так глаз способен видеть и сознательно пользоваться своей способностью
благодаря тому, что не видит себя». То, что Баткин говорит о влиянии культуры на самосознание
ее деятелей, следует отнести к мировоззрению мыслителя, которое зачастую не является
предметом его рефлексии, но целиком определяет его философию.
87
См.: Кареев Н. И. Общий ход всемирной истории: Очерки главнейших исторических эпох. СПб.,
1903, с. 135 —136.
79
факультетом в университетах был богословский, а профессорами — часто
клирики. Область науки была сильно ограничена, так как изучение внешнего
мира считалось занятием пустым, да и в той ограниченной области
духовного, в которой вращалась наука, она не была свободна: мысль
человека не имела права делать самостоятельные изыскания, ей давались
готовые решения, которым она должна была подчиняться88
.
Как все это отразилось на средневековом понимании природы бытия и
познания? Типичным было разделение бытия на сотворенное (внешний мир)
и несотворенное (бог). Изучение сотворенного бытия имело смысл
постольку, поскольку оно несло на себе следы своего творца — бога
(сотворенное бытие в силу грехопадения человека утратило первоначально
чистый образ творца; уловить следы бога почти невозможно опять же в силу
грехопадения человека, в результате которого человеческое познание стало
темно и смутно).
Целью познания должно быть бытие несотворенное. Однако здесь
человеческое познание тем более не обладает достаточной силой постижения
божества: «... познание самого субстанциального бытия, — пишет Фома
Аквинский, — свойственно лишь интеллекту бога и превышает возможности
какого бы то ни было сотворенного интеллекта, ибо никакое творение не есть
свое собственное бытие, но участвует в бытии»89
. Для спасения же
человеческого, рассуждает Фома, было необходимо, чтобы, помимо
88
См.: Там же, с. 136. Когда речь идет о полном подчинении в Средние века теоретического
знания церковным установкам, имеется в виду, так сказать, норма, ибо фактически дело обстояло
гораздо сложнее. Возьмем, к примеру, деятельность Г. Реймсского, будущего папы Сильвестра II
(!). Он изучал гуманитарные науки в Реймсе, математические — в Испании, где познакомился и с
арабской культурой; из Испании вывез абак (таблицу для позиционного исчисления, крайне
облегчавшую все арифметические действия и подготовлявшую переход Европы от римских цифр к
арабским), астрономические приборы. Он собирает в Реймсе списки древних книг со всей Европы,
чтение которых рассматривалось, кстати, как святотатство и отступничество от бога. Герберт,
французский диалектик, вступает в первый в Средние века публичный диспут (ставший
прообразом схоластических диспутов XII—XIII вв.) с германским диалектиком Отрихом,
посвященный отвлеченной теме классификации наук (980). Или, например, Р. Бэкон. Он заявляет,
что наука, не имеющая связи с христианским вероучением, «ведет к адскому мраку». Философия,
утверждал он, должна давать доказательства истины христианской веры. Однако именно Р. Бэкон
вошел в историю философии как мыслитель, противопоставивший магии эксперимент и
увидевший в опыте основу всякого знания. Бэкон предугадал большое научное значение
математики и считал, что без нее наука не может существовать.
Необходимо поэтому помнить, что Средневековье — крайне неоднородное явление хотя бы
потому, что оно не могло не вмещать в себя на протяжении восьми веков (V—XIII вв.) различные
точки зрения. Однако, повторяем, мы ориентируемся на идеал, заданный церковно-феодальными
устоями и определяющий мировоззрение средневекового философа. Это замечание относится и к
другим историческим эпохам, когда во внимание берется то общее и определяющее, что легло в
основу мировоззрения современников (например, Декарт, а не Вико и Паскаль, определял
духовную ситуацию Нового времени).
89
Антология мировой философии: В 4-х т . М., 1969, т. 1, ч. II, с. 835 .
80
философских дисциплин, основывающихся на человеческом разуме,
существовала наука, основанная на божественном откровении, — теология.
«Отсюда следует, что человеку необходимо для своего спасения знать нечто
такое, что ускользает от его разума, через божественное откровение»90
.
Значит ли это, что место разума должна занять вера? Ответа на этот вопрос в
Средние века не существовало. Проблема разума и веры была одной из
важнейших гносеологических проблем в средневековой философии, но,
несмотря на различные, зачастую прямо противоположные решения ее, сама
постановка проблемы была предопределена вопросом: что — вера или разум
—
является наиболее надежным средством постижения божественных истин?
(При этом, естественно, никаких сомнений в необходимости веры не могло
быть. Речь шла о том, следует ли ограничиться верой или нужно привлечь и
разум. Для средневековья типично не противопоставление веры и разума как
противоположных средств познания, но различение их по степени.)
Как известно, единственным истинным методом познания в Средние века
признавался дедуктивный метод. Г . Эйкен пишет, что Д. Скот называл
познание, восходящее от низу к верху, т. е . индуктивный метод, запутанным,
тогда как он признавал ясным дедуктивное познание истины, исходящее из
понятия существования. «Понятие существования, — говорил он, — есть
первое ясно познаваемое понятие»91
. И это было определено типом
средневекового мировоззрения, ибо, согласно иерархическому
христианскому учению, невозможно понять высшее (бога) исходя из
низшего, но только наоборот.
Если мы обратимся к средневековому схоластическому спору относительно
проблемы универсалий (спор номинализма и реализма), то и здесь увидим,
что за внешне диалектическим, иногда чисто формальным развитием и
уточнением понятий стоит та же, остро волновавшая средневековых
мыслителей проблема отношения бога и мира. Так, номинализм, отделяя
всеобщее бытие от вещей, устраняет всякую непосредственную связь
первопричины сущего (бога) с реальным миром, утверждая тем самым
абсолютно трансцендентный характер бога (в противоположность
пантеистической точке зрения реализма).
Таким образом, зависимость онтологии и гносеологии от мировоззрения,
отражающего особенности общественного развития исторической эпохи,
очевидна. Однако эту зависимость нельзя представлять жестко закрепленной
в одном направлении — от мировоззрения к онтологии я гносеологии.
Имманентное развитие учений о бытии и познании, в свою очередь,
90
Там же, с. 824.
91 Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания, СПб., 1907, с. 531.
81
неизбежно заставляет вносить коррективы в представление о мире. Это
положение, кстати, четко просматривается на проблеме веры и разума. К
концу эпохи Средневековья в результате деятельной и пытливой работы
мысли возрастает роль разума в процессе познания, неустанно расширяется
область самостоятельной деятельности разума (далеко не последнюю роль
сыграли в этом схоластические диспуты, ставшие прекрасной школой для
оттачивания интеллекта). Все это приводит к резкому обострению проблемы
веры и разума, в результате вера закрепляется за высшей наукой —
теологией, а разуму в удел достается низший мир, действительность сама по
себе. Происходит окончательный раздел мира познания на религиозное и
научное знание. Не углубляясь в социально-экономические, культурно-
исторические и другие причины возникновения научного мировоззрения92
,
скажем лишь, что в XVII в. научное познание вытесняет (отодвигает на
задний план) религиозное познание, и мы имеем уже совсем иную картину
мира — и философию.
Если еще в XIII в. внешний мир имел хоть какое-то значение только потому,
что был озарен божественным светом Творца, то в XVI—XVII вв. пафос
исследований (именно пафос) сосредоточивается на природе, на
естественном, т. е . существующем по природе вещей, а не по человеческому
или божественному установлению. На основе развития естествознания,
основанном на опыте и эксперименте, вырабатывается новое
рационалистическое миросозерцание, ярчайшим выразителем и
представителем которого явилось Просвещение. Мы говорим
«рационалистическое», потому что независимо от того, в чем философы
видели последние основания знания — в опыте или в разуме, — для этого
времени существенным была почти религиозная вера в силу разума, его
могущество, его возможность все объяснить и все создать.
Рационалистическое мировоззрение отличалось убеждением в том, что все
должно быть подвержено критике и анализу с точки зрения начал разума,
всему должны быть представлены разумные доказательства. То, что не
выдерживало проверки разумом, отбрасывалось как суеверие, как
предрассудки.
92
Чрезвычайно важную роль в замене теологического мировоззрения Средних веков светским
мировоззрением Нового времени сыграли гуманизм (возрождение) и реформация XIV—XVI вв.
Для них характерно безудержное стремление освободившегося от авторитаризма и догматизма
мыслителя к выработке собственного мироощущения, основой чего было, во-первых, остро
критическое отношение к культурно-социальной действительности; во-вторых, не просто
реабилитация человека (запятнавшего себя грехопадением), но героизация и обожествление
его(это, конечно, Возрождение; место divina studia занимает humana studia — учение о делах и
вещах человеческих); в-третьих, освобождение философии, науки, литературы, вообще духовной
культуры от церковной опеки (поддержанное секуляризацией государства и общества).
82
Мощным фактором, коренным образом изменившим представление о мире,
было возникновение и становление науки в ее современном статусе.
Решающим для формирования мировоззрения Нового времени стало
успешное и плодотворное развитие математики и механики. В течение XVII
в. на основе возникновения современного математического естествознания
сформировалась математическая же, рационалистическая конструкция
действительности, благодаря которой иррационалистическая вера
Средневековья в могущество и действие священных и несвященных сил была
лишена почвы. Перед глазами современника раскинулась действительность,
противопоставившая всякому произвольному и трансцендентному
постижению единство и закономерность. Математический анализ явлений
открыл закономерную структуру всего сущего. Книга природы, казалось,
была написана геометрическими фигурами, следовательно, численно
выраженными образами (Галилей). Предпринимаются попытки объяснить
даже социальные и психические явления на основе прямого заимствования
положений механики93
.
Наивное восприятие научных понятий в качестве онтологических
характеристик самого бытия, однако, покоилось на глубинном философском
убеждении (неосознаваемом философами и продержавшемся до Канта) в
наличии полной гармонии между организацией бытия и субъективной
организацией человека.
Классическая философия полагает, что «осознать что-либо данное в
сознании, т. е . понять это данное в качестве принадлежащего его
«естественной организации», — значит достигнуть высшего знания о бытии
„как оно есть". Бытие открывается в данности сознания и в своей
независимости от последнего является именно таким, каким оно осознается.
Сознание, репродуцированное рефлексией, и есть „как есть" бытия — таково
здесь мысленное уравнение классической философии, которое
ориентировало в ней все операции над сознанием и вообще над человеческой
деятельностью, осуществляющейся с участием сознания. Оно означало как
то, что все глубины мировых связей прозрачны, доступны для
самосознающего субъекта... так и то, что объективно сущее (будь то скрытые
от непосредственного наблюдения свойства природных объектов, или
значения знаков, или содержание устанавливаемых между индивидами
отношений, предметы потребностей, механизмы связей идей в психике, и т.
93
Насколько в Новое время изменилось мировосприятие, можно судить, сравнив два
высказывания: Бруно и Ньютона. Бруно говорил: мир, в его гармонической красоте и созвучии его
противоречий, есть художественное произведение бога. Ньютон сказал: мир, в законченной
целесообразности его явлений, есть совершенная машина, созданная рукой божественного
мастера.
83
п.) есть выполнение понятого, находится в одном пространстве с некоторым
сознательным к нему отношением»94
.
Для Нового времени, как, пожалуй, ни для одного исторического отрезка
развития буржуазного общества, характерно идиллическое согласие
мировоззрения, онтологии и гносеологии, сплетенных столь тесным и почти
неразличимым образом, что, за какую бы то нить не потянуть, разматывается
весь клубок. Эта идиллия поддерживается не только уверенностью в том, что
человеческое теоретическое сознание целиком и полностью отражает мир
сам по себе, но и уверенностью в абсолютной прозрачности самого сознания
для его носителя. Образ «чистого, универсального» сознания с его
общезначимым, разумно контролируемым содержанием чрезвычайно важен
для мировоззрения, гносеологии и онтологии Нового времени, ибо на его
основе вводятся такие мыслительные конструкции, которые не
ограничиваются одними только рамками теории познания, но применимы
для анализа всех тех сфер, где человек в принципе способен предпринимать
то или иное действие (социальное, экономическое, культурное, нравственное
и т. д .) на рациональных основаниях95
, т. е . на основе «чистого,
универсального», которое одновременно есть онтологическое представление,
строится концепция мира, независимого от субъекта, но рационально
познаваемого им и прозрачного для него в силу того, что сознание,
самосознание субъекта есть зеркало этого мира96
.
Таким образом, в классической философии мы наблюдаем не просто
взаимообусловленность мировоззрения, с одной стороны, и онтологии и
гносеологии, с другой стороны, но их совершеннейшее идейное единство,
базирующееся на убеждении в однородности внешнего мира и человека.
Однако развитие капиталистического общества, сопровождавшееся
революциями, войнами, социально-экономическими катаклизмами и
кризисами, в корне разрушило идиллическую гармонию мировоззрения,
теории познания и учения о бытии. Мир и общество, с которыми до сих пор
человек жил в полном согласии и единении (или по крайней мере идеал этого
согласия мыслился вполне достижимым), предстали силами чуждыми и даже
враждебными человеку. Больше того, сам человек для себя оказался вовсе не
таким познанным и познаваемым субъектом, каким он представлялся в
классический век рационализма. Уже Виндельбанд замечает по поводу
Декарта: «Ближайшим же следствием для учения самого Декарта был тот
гносеологический принцип, что все, претендующее на значение научной
94
Мамардашвили М. К ., Соловьев Э. Ю., Швырев В. С . Классическая и современная буржуазная
философия: (Опыт эпистемологического сопоставления). — Вопр. философии, 1970, No 12, с. 30-31 .
95
См.: Там же, с. 32.
96
См. подробнее там же.
84
истины, должно быть в состоянии выказать себя мышлению с такой
же ясностью и отчетливостью, как самосознание... Как будто бы понятно и
самоочевидно, что именно содержит это самоудостоверяющее свое
существование самосознание! Замечательно, что великий философ, по-
видимому, никогда не замечал пропасти тех заблуждений, которые
содержатся в том, что мы называем нашим представлением о самом себе:
напротив, он всегда исходит из допущения, что не может быть ничего более
простого и прозрачного, чем это наисложнейшее и наитемнейшее из всех
наших представлений, и хочет, чтобы этот темный фон нашей душевной
жизни бросал свет на все знание»97. Между сознанием и действительностью
образовалась все ширящаяся трещина. Встал вопрос, как же возможно
познание, если средства и способы познания человека отнюдь не адекватны
подлинной реальности мира. В буржуазной философии возникло великое
множество учений о бытии самом по себе и о познании его; ибо там, где
было единство, образовался калейдоскоп мнений и убеждений. Конец XIX и
начало XX в. —время, отмеченное наличием самых разнообразных
философских школ и концепций и соответственно мировоззрений.
Тем не менее если мы приглядимся к современной буржуазной философии,
то увидим, что множество концепций разделяется на два лагеря —
сциентистский и антисциентистский. Если сциентизм в определенной мере
продолжает линию Нового времени и Просвещения с их верой в могущество
науки и ее способность социально, нравственно и т. п . преобразовать мир и
человека, то антисциентизм в глобальном масштабе есть явление в истории
человеческого духа качественно новое.
Важным и существенным для антисциентизма является отнюдь не отрицание
за наукой возможности решать фундаментальные мировоззренческие
проблемы98
, но выдвижение в качестве центральной проблемы философии
проблемы человека. Утрата современным буржуазным обществом
целостного мировоззрения, веры в прогресс, в разумность миропорядка и
истории привела к тому, что вопрос о смысле человеческого существования
97
Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками.
Т. I. От Возрождения до Канта. СПб., 1902, с. 142 -143.
98
Нетрудно убедиться, что обе вышеназванные крайние позиции (сциентизм и антисциентизм. —
Авт.) отрицают возможность выработки философией мировоззрения, отражающего целостность
человеческой культуры. В одном случае традиционная философско-мировоззренческая
проблематика снимается как недопускающая строгого научного анализа, а в другом — наука не
рассматривается как необходимый ингредиент подлинной культуры иди даже рассматривается
как нечто чуждое ей. Заметим, что обе крайности исходят из того, что мировоззренческая
проблематика выводится из сферы теоретического сознания, только это выведение проводится
под разными аксиологическими знаками» (Философия — человек — образ мира в современной
науке. — Вопр. философии, 1978, No 8, с. 10 —11).
85
(всегда, естественно, волновавший мыслителей) встал необычайно остро. В
связи с этим в философиях антропологического толка угасает интерес к
познанию природы и внешнего мира и безмерно возрастает интерес
к истории. Немецкий философ А. Либерт (много писавший о специфике
мировоззрения новейшего времени) так объясняет это явление: мир
исторического бытия возвышается перед нами с такой настоятельностью, что
трудная проблематика этого бытия не позволяет пренебречь им как чем-то
второстепенным. В человеке, говорит Либерт, есть страстное желание знать о
том отрезке времени, в котором он находится. Он не просто хочет знать, «что
это значит, быть человеком», но хочет постигнуть своеобразное значение
своей эпохи для конкретной непосредственности общественно-исторической
цели мира. Человек узнал, в каком всеохватывающем смысле он — дитя
истории, узнал, что неразрывные нити связи с историей для его судьбы не
менее важны, чем всеобщие законы природы99.
Попытку дать объяснение современному историзму, причем объяснение,
ярко характеризующее мировоззрение современного западного буржуазного
философа вообще, находим в книге К. Левита «Природа, история и
экзистенциализм». Отмечая исключительное подчеркивание в современной
философии историчности как человеческой экзистенции, так и мира, Левит
заявляет, что это подчеркивание возникает, однако, не вместе с современным
историзмом и экзистенциализмом, но вместе с современным
естествознанием, когда досовременное (premodern) понятие человеческой
экзистенции внутри организованного космоса превращается в случай-
экзистенцию. Это изменение, говорит Левит, произошло в начале XVII в. как
следствие астрономических открытий XVI в. Универсум, казалось, утратил
всю свою гармонию и стабильность. Человек был потерян в этом
универсуме, основным свойством которого явилась бесконечность
(пространства и времени). По мнению Левита, новое мироощущение выразил
Паскаль, сказав: человек есть нуль между бесконечно великим и бесконечно
малым100
.
Распад двух убеждений — классического и христианского, заявляет Левит,
вызвал к жизни историзм и экзистенциализм. «Если универсум, —
рассуждает он, — не является ни вечным, ни божественным (Аристотель), ни
случайным, но сотворенным (Августин), если человек не имеет больше
определенного места в иерархии вечного или сотворенного космоса, то тогда
и только тогда человек начинает «существовать» («exist») экстатически и
исторически»101
.
99
См.: Liebert A. Geist und Welt der Dialektik. В., 1929, S. 45, 334.
100
См.: Lowith К. Nature, History and Existentialism. Evanston, 1966, p. 28-29 .
101
Lowith К. Op. cit., p. 28 .
86
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что сегодня в духовной
культуре буржуазного Запада история воспринимается как определенная —
историческая — реальность, как особый слой бытия. На основе такого
понимания истории развивается мировоззренческий историзм как особое,
пропитанное субъективизмом мирочувствование. Такого рода историзм
наложил яркий отпечаток на развиваемое в буржуазной философии учение о
бытии (самый убедительный пример—фундаментальная онтология
Хайдеггера102) и на учение о познании («Наше мышление, наши суждения и
наши обсуждения теперь историзированы»103).
Все это еще раз подтверждает теснейшую органическую связь между
мировоззрением, онтологией и гносеологией в любой философской системе.
Мы уже говорили, что эта связь взаимная, что как мировоззрение определяет
собой специфику того или иного учения о бытии и познании, так, в свою
очередь, развитие онтологии и гносеологии заставляет мыслителей
пересматривать свое понимание взаимоотношения человека и мира,
понимание роли человека и его места во вселенной и обществе, т. е . на
основе учения о бытии и познании формировать средства мировоззренческой
ориентации человека. Однако ведущим звеном в этой тройке является
именно мировоззрение, ибо именно мировоззрение наиболее
непосредственным и прямым образом определяется духовной и социально-
практической деятельностью человека и человечества, являющейся
фундаментом познания и всей жизни человеческого общества.
Рассмотрев на основе приведенных примеров вопрос о взаимосвязи
важнейших разделов философии с мировоззрением в истории западной
философии, обратимся теперь к вопросу о внутренней связи в этой
философии гносеологии и онтологии.
2. Соотношение гносеологии и онтологии в докантовской философии
Для классической философии докантовского периода в плане интересующей
нас темы характерны две главные особенности.
Во-первых, онтология представляла собой учение о бытии лишь внешнего
(внечеловеческого) мира, который к тому же понимался обычно как
независимый от человека. Ставя своей задачей исследование
взаимоотношения между внешним миром и человеком, философия
предполагала, что ему должно предшествовать рассмотрение каждого из
102
См.: Гайденко П. П . Экзистенциализм и проблема культуры: Критика философии Хайдеггера М.
М., 1963; Она же. Хайдеггер и современная философская герменевтика. — В кн.: Новейшие
течения и проблемы философии в ФРГ. М., 1978.
103
Liebert A. Op. cit., S. 387 .
87
участников взаимоотношения по отдельности. Так и создавалось учение о
внешнем бытии — онтология и учение о человеке, которое можно было бы
назвать «антропологией» в широком смысле этого слова. Важнейшей
составной частью антропологии было учение о познании — гносеология104
.
Во-вторых, в философских системах онтологические характеристики
внешнего мира, как правило, оказывались совпадающими с основными
антропологическими характеристиками человека, в частности с его
гносеологическими характеристиками. Это верно для самых различных
концепций и направлений. Так, рационалистической онтологии, как правило,
соответствовала рационалистическая же гносеология. Рационализм
усматривает сходство между бытием и познанием не только по их составу,
компонентам, но и по структурам, способам связи этих компонентов, по
функциям, способам «поведения» элементов, и т. д . В сенсуалистических
системах онтология также находилась в гармоническом отношении к
гносеологии.
Но установление этого подобия между онтологией и гносеологией в
докантовских философских системах само по себе есть результат достаточно
внешнего наблюдения. Гораздо важнее определить, как и в каких целях
формировалось такое подобие, какую роль оно играло в теоретических
построениях философов.
В тех случаях, когда философская теория явно распадалась на два основных
элемента — онтологию как учение о внешнем и независимом от человека
бытии и антропологию (в частности, гносеологию) как учение о человеке,
рассматриваемом вне и независимо от внешнего мира, — первая, как
правило, выступала в качестве теоретического основания второй. Иначе
говоря, если представить философскую теорию как некую иерархически
организованную систему, в которой каждый вышележащий уровень
теоретически обосновывает нижележащие, то онтология будет, как правило,
занимать высший уровень этой системы, а учение о человеке — низший. Как
это ни странно на первый взгляд, представители самых различных и даже
прямо противоположных друг другу школ и направлений в философии были
104
Обычно при анализе классических философских систем онтологии противопоставляют лишь
гносеологию, что, строго говоря, неточно, ибо создается впечатление, будто в любой философской
системе учение о человеке исчерпывается теорией познания, а последнее встречается крайне
редко. Противопоставляя онтологии гносеологию, надо иметь в виду, что это делается либо
специально (как в нашем случае), либо предпринимается с целью упрощения анализа и при
условии, что гносеология способна в некотором определенном отношении репрезентировать в
целом все учение о человеке. Подробнее об этом см. в кн.: Никитин Е. П . Природа обоснования
(субстратный анализ). М ., 1981, гл. 5.
88
едины в своем стремлении объяснять характеристики человека апелляцией к
соответствующим характеристикам (внешнего) бытия.
Однако идиллическая гармония между онтологией и гносеологией,
возникающая таким образом, оказывается по меньшей мере сомнительной,
коль скоро мы обращаемся к рассмотрению того, какими способами
философы классического периода приходили к подобным объяснениям. Дело
в том, что анализ творческих биографий отдельных мыслителей или историй
развития (тоже своего рода творческих биографий) целых направлений дает
повод к установлению — во всяком случае в виде гипотезы — одной весьма
интересной закономерности: онтологические концепции, как правило,
строились позднее антропологических. Исторически конструирование
целостных (двусоставных) философских теорий начинается обычно с
формирования учения о человеке, и лишь впоследствии оно
«надстраивается» учением о внешнем бытии.
Так, нам думается, есть основания утверждать, что в процессе формирования
целостной теории рационализма исторически первичным было построение
рационалистической гносеологии (а иногда также и этики). Например, в
становлении рационализма Нового времени исходным был гносеологический
(и этический) рационализм Декарта105
, и лишь в системах Спинозы и
Лейбница была построена также и соответствующая онтология, причем
каждый из них в своем индивидуальном развитии воспроизводил эту
последовательность. Сначала — в «Трактате об усовершенствовании ума»
(около 1661 г.) — Спиноза исследовал проблемы гносеологии и лишь
впоследствии—в «Этике» (1662—1675 гг.) — развил систему
рационалистической онтологии. Специфическая для лейбницевой системы
онтология — монадология — излагается в последних работах философа
«Монадология» и «Начала природы и благодати, основанные на разуме» (обе
датированы 1714 г.), гносеология же разработана в более ранних
исследованиях: от «Размышлений о познании, истине и идеях» (1684 г.) до
«Новых опытов о человеческом разуме» (1700—1705 гг.).
Аналогичным образом обстояло дело в сенсуализме. Так, его развитие в
Новое время началось с этического и гносеологического сенсуализма
(эмпиризма) Ф. Бэкона («Нравственные и политические очерки», 1597 г.,
«Новый Органон», 1620 г.), и только у Гоббса мы обнаруживаем
соответствующую онтологическую концепцию. Да и сам Гоббс начал
строить свою философскую систему с антропологии — с рассмотрения
105
Декарт не построил сколько-нибудь целостной рационалистической онтологии. К примеру, его
рассуждения о боге были отчасти данью традиционно-теологической онтологии, отчасти же —
элементом его антропологии (идея бога как одно из начал сознания). Что же касается его физики,
то она, строго говоря, была не столько философской онтологией, сколько собственно физикой.
89
гносеологических, нравственных и социально-политических проблем в
«Элементах законов естественных и политических» (1640 г., трактат издан
спустя десять лет в виде двух работ — «Человеческая природа» и «О
политическом теле») и «О гражданине» (1642 г.) . Лишь через полтора
десятилетия в трактате «О теле» (1655 г.) он разработал свою онтологию.
Представляется правдоподобным допустить, что в классических
философских системах онтология строилась не просто позднее гносеологии,
но в той или иной мере «по образу и подобию» ее, т. е . путем ее
онтологизации. Коротко говоря, онтология в подобных системах есть учение
о человеке, «опрокинутое» на бытие. Так, рационалистические концепции
бога, начал бытия, вещей (и отношений между ними) суть не что иное, как
результат онтологизации (соответственно) концепций разума, начал
познания, производных знаний (и отношений между ними). Эта
онтологизация наиболее очевидна в рационализме XVII в. Боги Спинозы и
Лейбница — это гиперболизированный и онтологизированный разум
ученого-теоретика, представителя математического естествознания того
времени. Подобно тому как в этом разуме из исходных аксиом и
фундаментальных законов получаются теоремы и производные положения, в
боге из начал бытия рождаются вещи, чистые сущности развертываются во
множество вещественных свойств. Не случайно эти свойства именовались да
и поныне в силу инерции мышления еще нередко
именуются «определениями вещей»: развертывание начал бытия, сущностей
в вещи представлялось наподобие «развертывания» понятия в ряд суждений,
осуществляемого посредством операций определения. По аналогии с тем, как
в этих операциях определяющее понятие выступает в роли основания
определяемого понятия, начало бытия квалифицировалось как основание
вещи. Для того чтобы отличить его от познавательного основания, начало
бытия титуловали «реальным основанием».
Все это позволяло решать не только определенные гносеологические
проблемы (например, проблему истины, которая, как это ни странно, и в
сенсуализме, и в рационализме часто понималась как соответствие мыслей
внешнему бытию), но и более общие антропологические проблемы. В общем
виде создавалась картина гармонии человека и окружающего его мира,
«предустановленной гармонии», как сказал Лейбниц. Благодаря такой
картине человек чувствовал себя в макрокосме как у себя дома, в своем
мире, вполне доступном познанию и преобразованию, тождественном
человеку по принципам своего устройства и функционирования, по законам
развития, изменения, по способу устроения, и т. д . И хотя этот мир
рассматривался как внешний для человека и независимый от него, он
воспринимался как родной, одноприродный; «душа следует своим законам,
90
тело — также своим; и они сообразуются в силу гармонии
предустановленной между всеми субстанциями, так как они все суть
выражения одной и той же вселенной»106
. Эта гармония проявляется в
тождественности фундаментальных законов макро- и микрокосма.
Однако нетрудно заметить, что эта идиллическая картина строится с
помощью такого исследовательского процесса, который содержит в себе
порочный круг: онтология, будучи сформирована на основании («по образу и
подобию») учения о человеке, превращается сама в основание этого учения.
Исторически, как мы видели, гносеология строится раньше онтологии, и
последняя, вероятнее всего, образуется путем онтологизации первой, однако
в завершенной целостной философской системе онтология выдается за
теоретическое основание гносеологии. Иначе говоря, при объяснении
феномена человека пытаются найти для него внешнюю опору, и при этом в
стремлении показать мирообразность человека добиваются успеха путем
построения человекообразного мира.
Первый удар по этому способу построения философских систем в Новое
время нанес Д. Юм. Построив гносеологию ярко выраженного
сенсуалистического типа, он, однако, не стал подводить под нее
соответствующую онтологию. Больше того, он вообще усомнился в
возможности строить онтологию классического типа, т. е . как учение о
внешнем по отношению к человеку и независимом от него бытии. О таком
бытии, о наиболее глубоких и существенных его характеристиках мы, по
Юму, ничего знать не можем; «природа держит нас на почтительном
расстоянии от своих тайн и дает нам лишь знание немногих поверхностных
качеств объектов, скрывая от нас те силы и принципы, от которых всецело
зависят действия этих объектов»107
. Эта позиция, однако, была лишь чисто
негативной, скептической. Подвести под нее детально разработанную
теоретическую базу предстояло И. Канту.
3. Критика Кантом классического соотнесения гносеологии и онтологии
Кант отказался от традиционных способов построения онтологии вообще. Он
исходит из принципиального отличия мышления от бытия, их
«непохожести». Каждое из них, по Канту, представляет собой замкнутый,
обособленный, чуждый другому мир. Кант строит теорию такого мышления,
которое отличается абсолютной самостоятельностью по отношению к
реальности. Мышление независимо в своих принципах и формах от
действительности. Эти формы, которые оно должно применять в процессе
познания, в опыте, сами являются трансцендентальными, предшествующими
106
Лейбниц Г. В. Избр. филос. соч. М ., 1908, с, 360.
107
Юм Д. Исследование о человеческом уме. Пг., 1916, с. 35.
91
всякому опыту, доопытными формами. В результате мышление не имеет
выхода к самой реальности. Реальность не познается сама по себе, но лишь
организуется в определенное единство с помощью априорных форм
рассудка. Но организуется опять-таки не по своим собственным законам, а по
законам познавательной способности субъекта.
В отличие от рассудка чувственные созерцания имеют дело непосредственно
с предметами, существующими вне субъекта познания, но «доставляют» они
субъекту познания эти предметы отнюдь не в их непосредственности,
данности, а определенным образом оформленными и обработанными (с
помощью априорных, субъективных форм чувственности — пространства и
времени). И причина того, что мы не знаем и принципиально не можем знать
бытие само по себе, заключается не столько в мышлении, сколько в
«ограничении нашей чувственности», в том, что мы вынуждены созерцать
предметы через (пространство и время), а не сами по себе. В результате
субъект познает не вещи сами по себе, но явления. Кант, чтобы подчеркнуть
мысль, что мы имеем дело не с вещами, как они существуют сами по себе, но
с вещами, как они существуют для нас, людей, т. е . как мы их воспринимаем,
вместо общепринятого «чувственный объект», «чувственный мир» пишет
«чувственно воспринимаемый объект», «чувственно воспринимаемый мир».
Но проблема познания в «Критике чистого разума» этим далеко не
исчерпывается. Человеку важно иметь знание законченное и завершенное,
иметь систему знания. Однако принцип «абсолютной целокупности» знания
не может быть найден ни в каком опыте. Его дает разум, который допускает
в качестве условия существования явлений чувственно воспринимаемого
мира умопостигаемую сущность — бога. Требование разумом единства и
систематичности познания мира влечет за собой требование положить в
основу этого мира нечто безусловное. Именно поэтому чувственно
воспринимаемый мир, который есть, в сущности, только представление
субъекта, только его собственная мысль, мы вынуждены рассматривать так,
«как если бы совокупность всех явлений (сам чувственно воспринимаемый
мир) имела вне своего объема одно высшее и вседовлеющее основание, а
именно как бы самостоятельный, первоначальный и творческий разум...»
108
.
Эта идея бога, по Канту, есть трансцендентальная идея. Важнейшая
особенность подобных идей состоит в том, что они являются не
конститутивными идеями разума, т. е . сами по себе не дают приращения
знания, какого-либо выхода за пределы чувственно-воспринимаемого мира,
за пределы всякого возможного опыта, а регулятивными, т. е . дающими
108
Кант И. Соч.: В 6-ти т. М., 1964, т. 3, с. 572.
92
субъекту правило действия, средство систематизации, синтезирования,
финализации знания.
Итак, попытка разума выйти за пределы опыта с тем, чтобы познать бытие
само по себе, не может быть успешной, ибо разум попадает в недоступную
ему и непостижимую область. Мы не можем и не имеем права претендовать
на познание — строгое, научное, логическое — тайн бытия. Стремление
создать онтологию как науку о мире самом по себе оканчивается
построением догматических, антропоморфных учений, которые можно
приравнять к пустым домыслам, лишенным всякого смысла. Тем не менее
само познание мира опыта, чувственно-воспринимаемого мира, возможно
только при допущении «идеи целесообразной каузальности высшей причины
мира», как если бы она в качестве высшего мыслящего существа была
причиной всего согласно мудрейшему замыслу»109
.
Таким образом, хотя при категорическом отрицании прежней —
догматической — онтологии Кант как будто бы сохраняет некоторые ее
компоненты, в частности представление о боге как причине всего, эти
компоненты имеют уже совсем иную природу. По меркам прежних
философских систем это — вырожденная онтология, квазионтология, как
если бы онтология.
Во-первых, в отличие от прежних философов Кант прекрасно отдавал себе
отчет в том, что, скажем, подобное представление о первосущности всех
вещей необходимо является антропоморфным, ибо, чтобы составить его себе,
мы заимствуем материал у чувственно-воспринимаемого нами мира и
у самих себя. Избежать некритического антропоморфизма, полагал он,
можно только одним путем: узаконив его. Внутреннее свойство высшей
сущности, рассуждает Кант, мне неизвестно. Что я знаю? Я знаю действие
этой сущности, выраженное в устроении целесообразного, закономерного
миропорядка, имеющего согласные с моим разумом формы. Это действие
по моим понятиям я могу назвать разумным, и потому я называю высшую
причину разумом, «не приписывая ей этим в качестве ее свойств ни того, что
я понимаю под этим термином у человека, ни чего-то другого, мне
известного»110
. Но слово «разум» употребляется по отношению к
первосущности вещей не как понятие, выражающее знание природы этой
высшей сущности, но как символ. Таким путем мы, по Канту, избегаем
догматического антропоморфизма, ибо не приписываем высшей сущности
самой по себе никаких определенных свойств, знания о которых мы
получаем из мира опыта или из своей собственной головы, но
109
Там же, с. 583.
110
Тамже,т.4,ч.I,с.184.
93
мы символически обозначаем действие этой сущности по отношению к миру,
как он является для нас. Тем самым скрытый антропоморфизм прежних
онтологии у Канта преодолевается через символизм. Мы, пишет Кант,
«допускаем символический антропоморфизм, который на деле касается лишь
языка, а не самого объекта»111
.
Во-вторых, в предшествующих философских системах онтология всегда
квалифицировалась как учение, т. е . как знание о внешнем бытии. У Канта
это абсолютно исключено. Его трансцендентальные идеи являются и всегда
могут быть только предположительными допущениями по принципу «как
если бы». Именно поэтому они и не конститутивны, т. е . сами не
представляют собой знания и не дают никакого приращения знания. Они суть
лишь регулятивы, позволяющие систематизировать уже имеющееся знание.
Наконец, в-третьих, в отличие от прежних онтологии кантовское
рассмотрение трансцендентальных идей не рассчитано на какое-либо
теоретическое обоснование его гносеологии или антропологии в целом.
Таким образом. Кант отказался от построения онтологии в ее классическом
смысле. В этом отношении, как, впрочем, и в ряде других, философия
кенигсбергского мыслителя оказалась переломным пунктом в развитии
буржуазной философской мысли.
Значит ли это, что в кантовской философии вообще нет никакой онтологии?
Нам думается, что не значит. В предисловии ко второму изданию «Критики
чистого разума» Кант писал, что «критика (разума, которую он
предпринимает в этой книге. — Авт.) есть необходимое предварительное
условие для содействия основательной метафизике как науке, которая
необходимо должна быть построена догматически и в высшей степени
систематически... при построении будущей системы метафизики, мы должны
следовать строгому методу знаменитого Вольфа, величайшего из всех
догматических философов...»
112
. И действительно, в конце этой книги Кант
дает план будущей метафизики, долженствующей состоять «из четырех
главных частей: 1) онтологии, 2) рациональной физиологии, 3) рациональной
космологии, 4) рациональной теологии»113
. Этот план почти буквально
совпадает со схемой вольфовской метафизики. Но Канту не удалось его
реализовать. «Странное впечатление производит эта система, в которой
основную часть составляет развитая в три капитальных
трактата пропедевтика, а то, что должно было быть основным — метафизика
111 Там же, с. 181 (разрядка наша. — Авт.).
112
Там же, т. 3, с. 99 (курсив наш. —Авт.) .
113
Там же, с. 689.
94
как доктрина, — сжимается до крайне скромных размеров, явно не
соответствующих грандиозности и серьезности введения!
Объяснять эту диспропорцию только тем, что Кант состарился во время
критических работ и попросту не успел развить полной системы метафизики,
конечно, не приходится. Очевидно, в самом кантовском содержании понятия
метафизики лежало какое-то внутреннее противоречие, которое
парализовало метафизическую энергию Канта... Сохраняя формально идею
метафизической науки, Кант, фактически, нанес ей удар, от которого ей уже
трудно было оправиться. Он крайне сузил ее содержание. При помощи своей
критики он отнял от метафизики громадное большинство ее тем и объектов...
И когда Кант, закончив разработку критики, хотел приступить к
положительному строительству, оказалось, что строить то почти нечего!»114
.
Строить действительно было почти нечего. Однако—и тут мы должны
сделать одно существенное уточнение — не столько потому, что Кант в ходе
критики срубил все те сучья, на которых мог бы расположиться, сколько
потому, что в этом ходе он параллельно и совершенно неизбежно занимался
также и строительством собственной системы. Конечно, не все четыре
прокламированные части были созданы (что, впрочем, было компенсировано
построением «незапланированных объектов», например этики и эстетики), но
в интересующем нас отношении план, как нам думается, осуществился.
Кант построил свою онтологию. Но это была онтология совершенно нового
типа, ибо единственный род бытия, который он считал возможным
исследовать, это — внутреннее бытие человека. Что же касается внешнего
мира, то если о нем что-то и можно сказать, считает Кант, то лишь в его
отнесенности к этому человеческому бытию, в его данности человеку,
явленности ему. Так, пространство и время, традиционно считавшиеся
формами бытия внечеловеческого мира, превращаются в формы
человеческой чувственности, фрагменты внешнего бытия — вещи —
становятся явлениями, и т. д .
Тем самым у Канта онтология оказалась не только не противопоставленной
гносеологии (вообще антропологии), но неразрывно слитой с нею,
включающей ее в себя.
4. Проблема гносеологии и онтологии в новейшей западной буржуазной
философии
Мы сказали, что система Канта оказалась переломным пунктом в понимании
буржуазной философией соотношения между онтологией и гносеологией.
Это, конечно, не значит, что все философы и философские направления
114
Асмус Р. Ф. Иммануил Кант. М ., 1973, с. 159 —160 .
95
буржуазной философии после Канта резко изменили свое отношение к
данной проблеме. В XX в. одной из наиболее показательных в этом
отношении является логико-философская теория, разработанная в начале
века Б. Расселом и Л. Витгенштейном и получившая название теории
«логического атомизма». В гносеологической части этой концепции
утверждается, что в основе всего человеческого знания лежат далее
неразложимые, элементарные предложения — «атомарные предложения». Из
них состоят (к ним сводятся) все другие предложения. Атомарные
предложения взаимонезависимы. Значение истинности составного
предложения есть функция от значений истинности входящих в него
атомарных предложений. Что же касается значений истинности атомарных
предложений, то они определяются внелогическим путем — через
чувственное восприятие. Эту гносеологическую теорию Рассел и
Витгенштейн обосновывали с помощью соответствующей «атомической
онтологии». Согласно этой онтологии, мир состоит из множества
взаимонезависимых вещей — «атомарных фактов». Причем, как справедливо
заметил В. С . Швырев, «в ходе разработки своей доктрины логические
атомисты сначала постулировали структуру экстенсиональной логики
(гносеологическую теорию. — Авт.) как первичное, а уже затем —
„атомическую" структуру мира как ее проекцию, т. е ., следовательно, как
вторичное. В изложении же это отношение оказывается перевернутым —
логическая структура знания представлена выводимой из атомической
структуры мира. Именно так выступает соотношение онтологии и логики
логического атомизма в „Логико-философском трактате" Витгенштейна»115
.
Рассел, впрочем, и не скрывал, что его логика в историческом плане
послужила прообразом онтологии.
Но для большинства философов и философских школ современной
буржуазной философии кантовская критика классики представляется весьма
поучительной. При этом были применены различные способы преодоления
кругообразности обосновательных взаимоотношений между онтологией и
гносеологией.
Одни философы, восприняв кантовскую идею принципиального отличия
мышления от бытия, их «непохожести», вместе с тем не согласились с
тезисом о принципиальной непознаваемости мира самого по себе. Здесь,
правда, возникло определенное противоречие: как можно познавать мир,
имеющий совершенно иную природу, нежели наше мышление. Выход из
этого противоречия находили в признании внемыслительных форм
познавательного освоения мира — таких форм, которые схожи с ним,
одноприродны. Тем самым до некоторой степени смягчалась и
115
Швырев В. С . Неопозитивизм и проблемы эмпирического обоснования науки. М., 1966, с. 21 .
96
ригористичность кантовского тезиса о существенном различии человека и
внешнего мира. В итоге такой подход давал возможность строить онтологию,
объектом которой, как и в былые времена, считалось внешнее и независимое
от человека бытие. Но в существенном отличии от классики это бытие
квалифицировалось как принципиально отличное во многих отношениях от
внутреннего мира человека, в частности от его мышления, интеллекта. Тем
самым онтология и гносеология по-прежнему формулировались как
относительно автономные философские учения, имеющие разные объекты
исследования, однако теперь эти объекты оказывались не просто разными, но
и принципиально несходными, и потому онтология не могла выступать в
роли теоретического основания гносеологии.
Классической системой такого типа является философия А. Бергсона.
Действительность в ней характеризуется как «длительность» (duree), как
поток «творческого развития», в котором постоянно производится нечто
новое, непредвидимое. Интеллект же оперирует жесткими, застывшими
образами. Отображать реальность он может в лучшем случае в виде серии
неподвижных снимков, подобных кадрам киноленты. Очевидно, что такое
отображение не позволяет схватывать само движение, т. е . наиболее
существенную характеристику действительности. Да, собственно, интеллект
и не рассчитан на ее познание. Он—лишь орудие нашего практического
действия. А подлинное познание действительности достигается только с
помощью интуиции. Тем самым мир человеческих познавательных форм
лишь в этой части подобен внешнему миру, в целом же эти миры довольно
различны и в некоторых аспектах даже противоположны друг другу.
Поэтому онтология никак не может выступать в роли основания гносеологии.
Более жестко это противопоставление двух миров проведено в философии Э.
Мейерсона. Здесь реальность опять-таки характеризуется как абсолютно
текучая, каждый раз уникальная. Что же касается понимания реальности,
которого стремится достичь человек, то оно основывается на прямо
противоположном принципе — принципе тождества (или схеме
отождествления). Чтобы понять движение, изменение, говорит Мейерсон,
надо его рационализировать, сделать доступным для разума. Но поскольку
«схема тождества составляет вечный каркас разума»116
, постольку такая
рационализация состоит в усмотрении тождества между причиной и
следствием. Действительность становится понятной для человека лишь в том
случае, если ему удается увидеть предсуществование следствия в причине,
постулировать тождественность вещей во времени; «наиболее совершенное
объяснение будет состоять в показе того, что то, что существовало раньше,
будет существовать и после, что ничто не было создано и ничто не исчезло,
116
Meyerson E. Explanation.— In: Encyclopedia Britannica, 1946, vol. 8, p. 986 .
97
что никакие изменения не происходили кроме изменений в
пространственном расположении»117
. Тем самым, здесь онтологическая
картина внешнего мира оказывается противоположной гносеологической
картине человеческого познания, возникает «драматический конфликт между
путем следования объяснения и путем следования реальности. Сущность
объясняющей процедуры он (Мейерсон. — Лег.) видел в отождествлении...
Реальность вечно становится иной с ходом времени, объяснение вечно
стремится устранить различие и время, стремясь к идеальной цели голого и
пустого тождества. Объяснение идет одним путем, реальность—другим»118
.
Другие же философы и философские направления современной буржуазной
философии, составляющие большинство, пошли иным путем: они поставили
своей задачей понять и объяснить онтологическую структуру мира исходя из
человеческого способа быть. Если «классики» строили онтологию как
своеобразную копию человеческого сознания, но не сознавали этого, то в
неклассической философии этот факт не только стал предметом
саморефлексии, но — исходным моментом собственного учения о бытии. В
сущности отход от классических концепций онтологии в буржуазной
философии начался просто с критики абстрактно-универсалистских систем и
с выдвижения в качестве центральной проблемы человека.
В связи с социальными потрясениями глобальных масштабов приобретают
особое значение проблемы нравственности. «Обнаружение антиномичности
европейской культуры повлекло за собой выявление неудовлетворительности
и старой метафизики, которая была высшим духовным выражением этой
культуры,— пишут авторы статьи „Философия".— Осознание этой
неудовлетворительности было связано, с одной стороны, с критикой
спекулятивного системосозидания, дискредитированного в условиях
интенсивного развития научного познания и социальной практики, а с другой
стороны, с обнаружением в этих условиях недостаточности средств старой
метафизики для решения новых социально-практических и
мировоззренческих проблем. Все это приводило к радикализации и
углублению философской рефлексии, к вовлечению в нее новых слоев
человеческого опыта и к переосмыслению проблемы „последних оснований"
отношения человека к миру. Продуктом этого переосмысления явилось, в
частности, возникновение философских концепций, превращающих
проблему человека в центральную проблему философии»119
.
117 Meyerson E. De 1'explication dans les sciences. P., 1927, p. 159.
118 Kelly T. R. Explanation and Reality in the Philosophy of Emile Meyerson. Princeton, 1937, p.
1.
119
Лекторский В., Огурцов А; Швырев В., Юдин Э. Философия. — В кн.: философская
энциклопедия. М., 1970, т. 5, с. 340.
98
Отсюда, разумеется, вовсе не следует, что человек не был предметом старой
метафизики. Однако для неклассических концепций человека характерен
качественно новый подход к данной проблеме. Человек отнюдь не
воспринимается здесь как общественное существо, определенное
социальными и культурными условиями того общества, в которое «внедрен»
человек. Акцент ставится на самодостаточности и замкнутости внутреннего
мира человека, на психологическом переживании индивидом
совершеннейшей уникальности своего бытия и своей судьбы. Если
классическая философия мыслила как бытие вообще, так и бытие человека
рационально структурированными, прозрачными для рациональной же
рефлексии и саморефлексии, то современная буржуазная философия
антропологического толка, начиная с Кьеркегора («существует что-то, что не
может быть помыслимо, именно — экзистенция»120), исходит из строго
иррационалистического представления о существовании человека (основные
характеристики которого: конечность, историчность, фрагментарность,
разорванность, несистематичность и пр.).
Иррационалистическим представлениям о бытии человека соответствуют
иррационалистические представления о его познании. Специфика интимной
реальности существующего такова, утверждает экзистенциализм, что она не
может быть выразима в теоретических понятиях, т. е . принципиально
необъективируема. Бытие человека, реализующееся в уникальных
интимнейших переживаниях, могут обрисовать только понятия,
выражающие субъективно-психологические состояния индивида. В
соответствии с пессимистически-иррационалистическим пониманием
человека и его места в мире это такие понятия, как страх, смерть, отчаяние,
вина и пр.
Однако если на ранней кьеркегоровской стадии развития философии
антропологического толка место онтологических конструкций в
значительной мере занимают этико-психологические, религиозные
проблемы, то современный экзистенциализм, вобрав в себя кантовскую
критику догматического онтологизма, Кьеркегорово учение о человеке и
феноменологический метод Гуссерля, вновь возвращается к попыткам
построения онтологии в чистом виде. М . А. Киссель в своей работе «Судьба
старой дилеммы» совершенно справедливо отмечает, что отказ современного
иррационализма от онтологии в классическом виде означает лишь
радикальный разрыв «с укоренившейся чуть ли не со времен элеатов идеей
философии как обнаружения и описания интеллигибельного —
умопостигаемого — бытия, «спокойного царства законов» по ту сторону
120
Kierkegaard S. Concluding Unscientific Pestcript. Princeton, 1944, p. 274,
99
непосредственно воспринимаемых явлений»121
. В то же время среди
различных школ современной буржуазной философии именно
иррационализм, в частности в лице экзистенциализма, взял на себя функции
рационализма и, прежде всего, пишет М. А. Киссель, «функцию
универсальной онтологии и синтетического охвата действительности в
противоположность аналитическому подходу эмпириков, с самого начала
ограничивших предмет своего исследования точными рамками (теория идей
как часть общего учения о человеческой природе). Затем функции
специфически философского учения о мире в отличие опять-таки от
эмпиризма, представители которого более всего стремились к тому, чтобы и
в их учении было все «как у Ньютона» (хотя они никогда не достигали
этого)»122
.
Особенности новой, неклассической онтологии хорошо прослеживаются в
философии К. Ясперса123
.
Природа человеческой самости такова, заявляет Ясперс, что человек не
может не спрашивать о самом бытии, поэтому конечным вопросом всякой
философии остается вопрос о самой действительности. Глубочайшая
удовлетворенность, — пишет немецкий философ, — может быть в
действительности, которая является самой действительностью, бесконечной
и завершенной, из которой и в которой есть все, что мы есть и что есть для
нас... Однако вместе с раскрытием всякого явления бытие отступает от нас.
То, что мы называем обычно познанным бытием, есть только абсолютизация
одного способа определенного бытия (материя ли, энергия, жизнь, дух):
«Никакое познанное бытие не есть именно бытие (das Sein), — часто
повторяет в своих работах Ясперс. Он пишет, что Кант понимал: — мир не
становится предметом для нас, но он есть только идея; все, что мы можем
узнать, есть в мире, но никогда сам мир, когда же мы хотим узнать мир как в
себе сущее целое, мы запутываемся в неразрешимых противоречиях —
антиномиях; все предметное бытие для нас дано при условии мыслящего
сознания»124
.
121 Киссель М. А . Судьба старой дилеммы (рационализм и эмпиризм в буржуазной
философии XX века). М ., 1974, с. 165 .
122 Там же, с. 176—177 .
123 По фундаментальной онтологии М. Хайдеггера мы уже рекомендовали работы П. П.
Гайденко. Об онтологии во французском экзистенциализме см., в частности, статью Г. М .
Тавризян «„Экзистенциальный мир" как антипод социального бытия во французском
экзистенциализме». — В кн.: Человек и его бытие как проблема современной философии.
М., 1978.
124
Jaspers К. Existenzphilosophie. В., 1938, S. 15 —16 .
100
То, что бытие дано нам исключительно при условии мыслящего сознания, и
является причиной невозможности выйти к бытию самому по себе, ибо
изначальная структура сознания — субъект-объектная дихотомия. Наше
мышление движется в рамках субъект-объектного отношения и
потому опредмечивает бытие. Ясперс пишет, что бытие само, основание всех
вещей, абсолют действует на наше сознание в объективной форме, которая,
именно как объект, неадекватна, разделяет нас с бытием, не достигая чистой
ясности присутствия бытия125
. Поскольку мы осознали, продолжает Ясперс,
что мы привязаны к форме нашего мышления, превращающего все, что мы
хотим познать, в предмет, то нам необходимо, мысля бытие, совершить
основную философскую операцию, преобразовывающую наше сознание
бытия: не представлять себе никакого предмета, когда мы ищем бытие как
основу всего. Что же тогда будет бытием, о котором мы не можем не
спрашивать, но не можем и познать? Выше мы говорили, что, по Ясперсу,
вместе с раскрытием каждого явления бытие отступает. Так вот то, что
отступает, Ясперс и предлагает считать бытием, а точнее выражаясь —
«объемлющим». Тем самым, считает Ясперс, мы не нарушим кантовской
заповеди по поводу догматического онтологизма и в то же время сможем
размышлять о бытии. Объемлющее, говорит Ясперс, есть как бы горизонт,
который никогда не становится видимым сам, но из которого выступает все
новый горизонт. Объемлющее есть то, что всегда только извещает о себе — в
предметном присутствии и в горизонтах, но никогда не становится
предметом. Это то, что не есть само, но в чем все другое нам встречается.
Одновременно это то, благодаря чему все вещи не только есть то, чем они
непосредственно кажутся, но остаются прозрачными126
.
Объемлющее невозможно познать. Место познания в философствовании
занимает высветление. Таким образом, традиционному понятию бытия
Ясперс противопоставляет объемлющее, а познанию — высветление. Бытие,
рассуждает он на основе этих кардинальных для его философии категорий,
больше не является отвлеченно познаваемым через онтологию, но является
высветляемым как объемлющее пространство. Поскольку, продолжает он, в
онтологии бытие мыслилось как порядок предметов или смысловых единиц,
то теперь — начиная с Канта — всякая онтология отвергнута. Остаются
пространства, в которых мы впервые должны найти то, что есть бытие.
Онтология стремилась к предметному прояснению, например, онтология
обнаруживала в имманентном мышлении прямо-таки зримость; высветление
косвенно касается бытия в трансцендентном мышлении. Образом, говорит
Ясперс, передающим смысл онтологии, является упорядоченная таблица
125
См.: Jaspers К. Way to wisdom: An Introduction to Philosophy. New Haven, 1959, p. 37.
126
См.: Jaspers К. Existenzphilosophie, S. 14.
101
неподвижных категорий; образом, передающим смысл высветления
объемлющего, — подвижные, как незавершенное плетение тесьмы,
проясняющие линии127
.
Что еще чрезвычайно важно для понимания неклассической концепции
онтологии и гносеологии в философии Ясперса? Это то, что, согласно этой
концепции, философствование по поводу «объемлющего» и его способов
есть дело решения философствующего. Это решение имеет другой источник,
нежели мышление, именно — свободу. Подлинную даль и глубину, смысл
бытию вообще и человеческому существованию дает, по Ясперсу, только
трансценденция. Как и бытие (и даже в большей степени), трансценденция
непознаваема. Бытие хотя бы извещает о себе предметами, трансценденция
же существует для нас только в философском решении, философской вере.
Это значит, что трансценденция впервые становится реальной лишь в
экзистенции.
К. Ясперс видит единственную возможность постижения бытия в том, чтобы,
проникнув в последние глубины своей экзистенции, найти точку соединения
человеческого существования, бытия и трансценденции, т. е . раскрыть
онтологическую структуру бытия через онтологическую структуру
человеческого существования, что, по сути дела, есть субъективизация
онтологии.
В философии Ясперса четко прослеживаются типичные для современных
буржуазных учений антропологического толка черты, основная из которых
—
отрицание возможности познать бытие само по себе. Пытаясь выйти к
самой действительности, современные буржуазные философы, как правило,
застревают на скрупулезном анализе сознания, подменяя тем самым
онтологию гносеологией или онтологизируя само сознание (см. Э. Гуссерль).
Тем самым они отказываются от возможности теоретического познания
мира. Однако не размышлять о бытии, о мире, о человеке — значит просто
«закрыть» философию, оставить ее в прошлом и для прошлого. Буржуазные
философы не находят выхода к действительности, ибо замкнуть философию
в каждом индивидуальном «я», сделать ее по существу делом решения, воли
каждого, к чему призывают экзистенциалисты, также означает утрату
философии как общеобязательного учения о мире и человеке, утрату
широкой мировоззренческой философской перспективы.
127
См.: Ibid, S. 17-18 .
102
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ,
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НАУКИ
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУКИ
В. С. ШВЫРЕВ
То, что усиленное внимание к исследованию методологической
проблематики науки, к анализу различных методов и приемов научного
познания, форм и структур знания в науке представляет собой важнейшее
условие усиленного воспроизводства и развития современной науки,
является в настоящее время общепризнанным фактом.
Задача теоретического философско-гносеологического и логико-
методологического анализа заключается сейчас не в том, чтобы лишний раз
зафиксировать, повторяем, это, на наш взгляд, достаточно очевидное
обстоятельство, а в том, чтобы рассмотреть характерные особенности
современной ситуации в исследовании научного познания, выявить ее
основные тенденции, те проблемы и задачи, которые специфичны именно
для настоящего момента.
Не претендуя на обстоятельный и скрупулезный анализ, укажем на те
факторы, которые, по нашему мнению, достаточно очевидны. Это, прежде
всего, дискредитация узко ориентированных, жестких, так сказать, линейных
исследовательских программ в логико-методологическом анализе науки,
претендовавших на весьма простые и универсальные способы разрешения
всего комплекса проблем, связанных с анализом науки, научного знания. В
первую очередь речь здесь должна идти о программе так называемого
логицистского эмпиризма. Содержательные основания критики этой
программы достаточно известны в общих чертах, и поэтому мы не будем
останавливаться на них. Важно подчеркнуть методологическую сторону дела
—
крах претензий на некую всеохватывающую, универсальную программу,
дающую модель строения науки, рамки которой определяются лежащим в
основе этой программы логико-гносеологическим идеалом. Существенно,
что этот идеал привносится в анализ науки, исходя из некоторых априорных
по отношению к исследованию реального научного знания оснований.
Провал исследовательской программы логицистского эмпиризма оказался
убедительным свидетельством в пользу некоторых важных ориентации и
подходов к методологическому анализу науки. Здесь, прежде всего,
необходимо подчеркнуть установку на исследование реальной ситуации в
научном познании, реальных приемов и методов исследования, реальных
103
структур научного знания, процессов познания, критериев, действующих в
науке, и пр. Задача методологического исследования заключается в
объективном изучении всех этих приемов, методов, структур, критериев,
того, как они сформировались в истории науки и существуют и
функционируют в современной науке, а не в попытках втиснуть это реальное
содержание в прокрустово ложе априорных моделей и схем, диктуемых
узкими, ограниченными гносеологическими или логическими установками.
Эта, казалось бы, очевидная истина далеко не всегда легко прокладывала
себе дорогу в методологическом исследовании науки.
Четкая установка на объективное исследование реальных ситуаций в
научном познании стимулирует, как нам представляется, некоторые
характерные именно для современного этапа развития методологии науки
особенности. К их числу относится, во-первых, многоуровневость и
разноплановость методологического анализа науки. Так, существует уровень
анализа частной методологической проблематики отдельных научных
дисциплин, понятий, проблем, теорий, методов этих дисциплин,
познавательных ситуаций, свойственных именно этим дисциплинам.
Существует методологическая проблематика, свойственная группам
родственных дисциплин, скажем наук о неживой, живой природе, наук
социально-гуманитарного цикла. Можно выделить методологическую
проблематику, общую для таких типов науки, как естественные,
общественные, технические науки, как фундаментальные и прикладные
науки, развитые науки, достигшие стадии построения сложных
математизированных теорий, и развивающиеся научные дисциплины, в
которых нет ещё своего развитого теоретического аппарата, и т. д .
Существует методологическая проблематика, связанная с разработкой общих
закономерностей функционирования и развития научного знания, вплотную
примыкающая к проблемам теории познания. Существует, наконец, уровень
философского обобщения методологической проблематики. Специфика
современного методологического исследования и характер его актуальных
задач, как нам представляется, во многом определяется именно этой
дифференциацией уровней методологического анализа при необходимости,
разумеется, определенной взаимосвязи и единства этих уровней.
Говоря о разноплановости методологического анализа, мы имеем в виду его
направленность на различные компоненты научного познания, на разные его
элементы, слои, условия и т. д . Так, непременным объектом
методологического исследования являются, естественно, приемы и методы
научного познания, такие, как идеализация и моделирование, такие
процессы, как объяснение и предвидение, и т. п. (Впрочем, различение
первых и вторых как «приемов» и «процессов» также весьма условно, хотя
104
чувствуется, что мы здесь имеем дело с какими-то разными по типу
«единицами» методологического анализа.) Вместе с тем объектом
методологического анализа выступают такие структуры знания, как закон,
теория, такие образования, выполняющие функцию некоторых исходных
координат, предпосылок или условий формирования и развития научного
знания, как «стиль мышления», «парадигма», «исследовательская
программа». Очевидно, методологический анализ, опирающийся на
различные группы этих понятий, исходящий, если угодно, из различных
таксономических единиц, будет давать различные образы, планы, «срезы»
научного познания. И эти «срезы» должны не исключать, не игнорировать
друг друга, а давать многоплановую конкретную картину научного познания.
И действительно, все эти выделяемые в разных планах методологического
исследования компоненты научного познания в принципе взаимно
предполагают друг друга. Однако построение на их основе некоторой единой
теоретической системы исследования научного познания представляется
далеко не тривиальной задачей. Установление соответствующего
теоретического синтеза, «единства многообразия» в этой разноплановости
представляет собой скорее тенденцию, чем реально достигнутое состояние.
Важной особенностью современного методологического исследования,
далее, является, на наш взгляд, необходимость реализации принципа
историзма, подхода к научному познанию как исторически формирующемуся
и развивающемуся целому. В частности, реализация этого принципа
выступает в качестве необходимого условия выработки того теоретического
синтеза «единства многообразия» в методологических представлениях о
науке, о котором говорилось выше. Так, выработать некоторое единство
представлений о теоретическом и эмпирическом как о всеобщих и
необходимых сторонах, параметрах научного познания в целом, которое не
исключало, а предполагало бы многообразие конкретных исторических и
функциональных форм проявления этих двух параметров, невозможно без
этого исторического, генетического подхода. И это, по нашему убеждению,
относится не только к теоретическому и эмпирическому, но и ко всем
коренным методологическим проблемам, прежде всего к основной проблеме
—
природы научно-теоретического познания в целом.
Значение исторического подхода к научному познанию. состоит еще и в том,
что оно прорывает границы узкого подхода к логико-методологическому
анализу научного знания и заставляет рассматривать его уже в рамках самого
методологического анализа в качестве определенной социокультурной
реальности. Можно, конечно, спорить о характере социально-культурной
обусловленности исходных предпосылок научного познания и о способах
учета этой обусловленности, но абстрагироваться полностью от этой
105
проблемы при достижении того уровня методологического анализа, который
сталкивается с выявлением исходных предпосылок научного знания,
просто невозможно.
Итак, последовательная и принципиальная ориентация на реальность
научного познания, недоверие ко всякого рода упрощающим априорным
схемам, многоуровневость и разноплановость этого анализа, реализация
принципа единства исторического и логического, выход на определенном
уровне методологического анализа в широкий контекст социокультурного
исследования науки — таковы, на наш взгляд, характерные особенности
современного этапа методологического анализа науки, которые определяют в
значительной степени «стиль» методологического мышления нашего
времени.
Какова в этих условиях роль философии, прежде всего теории познания как
философской дисциплины, непосредственно обращенной к научному
познанию, каковы особенности взаимодействия философского анализа
научного познания с многообразными формами специального
методологического анализа науки? В общей форме ответ ясен: теория
познания диалектического материализма, материалистическая диалектика
как логика с большой буквы, теория познания и всеобщая методология науки
выступает как теоретическая основа и обобщение всех форм
методологического анализа науки. Эта общая формула, однако, должна быть,
очевидно, конкретизирована под углом зрения того, каковы наиболее
существенные проблемы современного методологического исследования,
которые должны стать предметом теоретического анализа и обобщения со
стороны диалектико-материалистической теории познания, каковы
конкретные формы взаимодействия философского и специально-
методологического подхода к научному познанию, каковы самые актуальные
философско-гносеологические проблемы современного методологического
анализа науки.
Гносеология, теория познания является наукой о природе познавательного
процесса в целом, и уже поэтому она должна выступать как теоретическая
основа анализа научного познания в таких дисциплинах, как методология и
логика науки, которые делают специальным предметом своего исследования
механизмы, процессы и формы познания, как они осуществляются в науке.
Но проблема соотношения гносеологии и специальных наук о научном
познании не сводится только к проблеме степени общности исследования, с
методологической точки зрения она не идентична, скажем, проблеме
соотношения теоретической биологии и частных биологических дисциплин.
Как уже подчеркивалось выше, во вводных главах, теория познания не
просто общая наука о познании, это философское учение о природе
106
познания. Суть дела в том, что общая наука о познании не может не быть
философской дисциплиной. Этот тезис проводит четкую границу между
диалектико-материалистическим и позитивистским подходами к отношению
теории познания как общей науки о познании, науки о познании в целом и
дисциплинами, рассматривающими частные формы и проявления
познавательного процесса. Ведь вполне возможна такая позиция, когда
признается необходимость существования науки о познании в целом, так или
иначе обобщающей данные отдельных наук о познании и даже выступающей
в качестве их теоретической основы, но отрицается специфически
философский характер такой общей науки. Исходная установка
диалектического материализма, как известно, заключается в том, что
сущность познания неизбежно должна быть предметом именно
философского анализа, поскольку ее выявление предполагает исследование
отношений субъекта и объекта познания, постановку и определенное
решение основного вопроса философии, исследование соотношения
познания и сознания, и пр. Все это составляет специфически философскую
проблематику, и никакое развитие специальных наук о познании, его формах,
процессах и т. д . само по себе не может снять этой философской
проблематики, сделать ее якобы излишней, как это полагают позитивисты.
Напротив, развитие специально-научных дисциплин, изучающих познание,
стимулирует эту проблематику, выдвигает новые вопросы, заостряет ее
различные аспекты. Ниже мы постараемся конкретизировать это положение
на основе рассмотрения ситуации в современной логике и методологии
науки.
Философия не есть просто некая всеобщая наука о мире в целом, во всяком
случае такая абстрактная характеристика недостаточна, если мы не
указываем на то, что сама философская модель «мира в целом» предполагает
определенное рассмотрение соотношения бытия и сознания. Разумеется, это
относится и к гносеологии как философскому учению о познании в целом,
которое призвано проанализировать природу познания не как некоего
замкнутого образования, объясняемого из самого себя, субстанциального,
говоря традиционным философским языком, а как функционального
элемента, системы человеческой жизнедеятельности, основу которой
составляет практически преобразовательная материальная деятельность.
Гносеология выступает как теоретическое основание отдельных наук о
познании, в том числе логики и методологии науки, прежде всего потому,
что, будучи философской наукой о познании, она дает возможность раскрыть
эту исходную сущность познания. Она показывает, что в конечном счете
анализ природы познавательного процесса упирается в философскую
проблематику диалектики взаимоотношения субъекта и объекта в
107
практической деятельности человека, что, только понимая познание как
формирование и развитие идеального плана человеческой практически
преобразующей деятельности, можно анализировать коренные свойства
познавательного процесса, сущности знания и его различных форм, в том
числе сущность самого научного познания.
Итак, важнейшая ориентирующая методологическая и теоретическая
функция гносеологии как философского учения о познании по отношению к
специальному логико-методологическому анализу заключается в том, что
она показывает специфическую природу предмета этого анализа —
познавательных процессов и форм знания в науке — как таких образований,
коренные основания формирования и развития которых в конечном счете
можно выявить, выходя за пределы непосредственной данности этих
образований и обращаясь к тем исторически обусловленным
социокультурным функционально-генетическим контекстам, в рамках
которых складываются, функционируют, выполняя определенные роли,
развиваются и т. п . эти образования. Иными словами, философско-
гносеологический подход к анализу научного знания призван ориентировать
конкретное логико-методологическое исследование на расширение его
теоретического горизонта, позволяющее рассмотреть свой подход к предмету
с более широкой позиции, осознать ее как его определенный частный способ
анализа, определенный уровень углубления в предмет, при котором какие-то
стороны, слои предмета неизбежно остаются за пределами исследования.
Такое расширение теоретического горизонта, стимулируемое философско-
гносеологическим подходом, дает возможность выявить и осознать
некоторые неявные предпосылки и установки, лежащие в основе
соответствующего частного логико-методологического подхода и
очерчивающие возможности анализа предмета в его рамках. С другой
стороны, оно дает возможность понять, в каком направлении должно
развиваться исследование, чтобы решать проблемы, не разрешимые в рамках
данного узкого подхода, каковы дальнейшие цели и ориентиры логико-
методологического анализа, призванного дать более широкое и глубокое
понимание сущности познавательной деятельности в науке. Выдвигая
некоторые «предельные основания», исходные принципы анализа научного
познания как наиболее развитой, специализированной формы
познавательного процесса вообще и связывая их с философской
проблематикой взаимоотношения бытия и сознания, субъекта и объекта,
практически преобразовательной деятельности и возможности ее
программирования в идеальном плане, гносеологический подход к научному
познанию задает теоретическую перспективу логико-методологическому
анализу науки, ориентирует его на дальнейшее углубление в предмет,
препятствует абсолютизации различного рода частных логико-
108
методологических моделей и подходов, претендующих на универсализм в
исследовании научного познания.
Категорически выступая против позитивистской по существу недооценки
или даже отрицания роли философско-гносеологического подхода в
современном исследовании науки, нельзя в то же время представлять себе
взаимодействие гносеологического и специальных логико-методологических
подходов к познанию как своего рода одностороннее привнесение
философского сознания в логико-методологическое исследование. Последнее
само активно стимулирует и выдвигает философскую проблематику. Без
уяснения и достаточно конкретного доказательства этого обстоятельства
путем анализа реальной ситуации в современном логико-методологическом
исследовании тезис о необходимости философско-гносеологического
подхода к познанию повисает в воздухе или, хуже того, становится
догматическим, априорно навязываемым утверждением.
По нашему мнению, философско-гносеологическая проблематика
имманентно возникает в реальном процессе конкретного логико-
методологического анализа. Дело не просто в том, что, скажем, исходя из
определенных гносеологических установок, мы должны в методологическом
анализе постоянно учитывать отношение знания к действительности, а в том,
что сами реальные ситуации методологического анализа выдвигают
проблему отношения знания к действительности, учет которой оказывается
необходимым условием исследования определенных познавательных
ситуаций и решения возникающих в них задач. Так, разрешение антиномии,
т. е . ситуации сосуществования равно обоснованных в некоторой
концептуальной системе и взаимно исключающих утверждений,
предполагает выход за пределы данной концептуальной системы и
модификацию или развитие ее исходных предпосылок, неполнота и
несовершенство которых и являлись причиной возникновения антиномии. Но
само это расширение концептуального «горизонта» мышления, выход за
пределы налично данной системы посылок предполагает сознание того
факта, что антиномия возникает в знании, которое с необходимостью
отлично от реальности, что, с одной стороны, существует наше
субъективное, ограниченное в чем-то представление о мире и, с другой—сам
этот реальный мир, который отнюдь не совпадает полностью с тем его
образом, который мы в данный момент имеем. Иначе говоря, анализ
антиномии и ее разрешение стимулируют преодоление представления
обыденного сознания о наивном тождестве, совпадении мысли и бытия,
стимулируют формирование теоретического представления о независимом от
мысли объекте мысли и отношении знания к этому объекту.
109
Аналогичные примеры можно привести и на материале ситуаций с анализом
знаково-символических средств науки, когда с необходимостью приходится
различать знак и его значение, которые выступают как слитные для
обыденного сознания при употреблении знака, и при рассмотрении других
ситуаций методологического анализа. Общей чертой всех этих ситуаций
является то, что они носят проблемный характер. Они возникают там и тогда,
когда отказывается срабатывать привычный способ работы с
познавательными средствами, когда эти средства по тем или иным причинам
оказываются недостаточными для решения соответствующих задач. Тогда,
собственно, и возникает необходимость в методологическом анализе, в
рефлексии, в осознании привычно и, как правило, неявно, неосознанно,
бесконтрольно применяемых предпосылок, установок, средств. Во всех этих
случаях приходится отказываться от наивного нерефлективного
представления тождества сознания и бытия, выделять определенную
субъективную позицию по отношению к объективной ситуации. Таким
образом, любая ситуация, требующая рефлексии над познавательными
средствами и установками, ситуация деятельности сознания,
предполагающая разрушение наивной нерефлексивной позиции слитности
субъекта и объекта, его средств и установок с объективным положением дел,
потенциально содержит в себе философскую проблематику отношения
знания и реальности, субъекта и объекта и т. д ., хотя эта проблематика и не
выступает, и не осознается в своей всеобщности.
Это положение имеет, на наш взгляд, исключительно важное значение для
понимания соотношения философско-гносеологического и конкретно-
методологического подходов к познанию. Что такое вообще
методологический анализ науки, каковы критерии методологичности, когда,
при каких условиях мы можем говорить о методологическом подходе к
знанию, к познавательным процессам, средствам, приемам? Нам
представляется, что целесообразно определять методологический анализ
достаточно широко, понимая под ним всякое исследование форм знания или
познавательных действий и процессов, имеющих своей целью выявление и
осознание тех приемов, установок, предпосылок, условий и средств
деятельности, которые лежат в основе формирования, функционирования и
развития форм отражения действительности в научном познании. Будучи
отрефлексированы и выявлены, эти средства, приемы, установки и пр. из
неявных условий деятельности превращаются в сознательно используемые
средства и методы. Это их превращение в сознательно используемые
средства и методы предполагает возможность развития и совершенствования
этих средств и методов, разработку новых и т. д . Таким образом,
методологический анализ науки в принципе обеспечивает не только
выявление уже существующего арсенала средств, приемов и методов
110
познавательной деятельности, но и его совершенствование, конструирование
новых средств, приемов и т. д ., т. е . предполагает сознательный контроль,
управление с перспективой дальнейшего проектирования средств и методов
познавательной деятельности128
.
Исходной необходимой предпосылкой всего этого, однако, является
способность рефлексии над неявными предпосылками познавательной
деятельности, способность осознания ее условий, преодоление наивной
нерефлексивной позиции. Все остальное — сознательное использование
выявленных приемов, их усовершенствование, конструирование новых —
является уже движением и развитием на базе позиции рефлексии познающим
субъектом своего отношения к познавательной ситуации, осознания своих
установок и средств, и т. д . Таким образом, методологический анализ не
сводится, конечно, к рефлексии, понятие методологического анализа в этом
смысле шире понятия критико-рефлексивного подхода к знанию, но критико-
рефлексивный подход, сознательное выявление исходных предпосылок,
преодоление позиции нерефлексивного тождества субъекта и объекта, такого
способа видения мира, при котором субъект как бы погружен в имеющуюся у
него картину мира и не выделяет себя из этой картины, не контролирует
сознательно своего отношения к объекту, является необходимой логической
и генетической предпосылкой методологического анализа в целом, той
основой, на которой он только и может возникнуть и развиваться.
Достаточно, очевидно, далее, что намеченное выше понимание
методологического анализа предполагает то, что можно было бы назвать
деятельностным подходом к научному познанию. Мы не вкладываем в этот
термин никакого иного содержания, кроме констатации той, по нашему
мнению, несомненной истины, что всякое знание является результатом
определенного рода деятельности. А это значит, что, анализируя знание, мы
всегда можем и должны выявить некоторые исходные предпосылки, условия,
средства, материал и т. д . познавательной деятельности, которая привела к
формированию этого знания. Деятельностный подход в таком понимании не
что иное, как антитеза созерцательности в подходе к познанию,
представления о познании как о схватывании, усвоении некоторого
преднайденного содержания. В действительности же, познавательный
процесс всегда опосредствован различными условиями и предпосылками,
связанными с имеющимися на данном этапе развития науки и культуры
128
Очевидно, что возможна методология не только науки в узком смысле как фиксация данного,
но и науки, включающей в себя задачи проектирования, технико-конструктивной деятельности и
т. д. Данное здесь понимание методологического анализа, естественно, распространяется и на
выявление и дальнейшее сознательное использование и развитие приемов и средств
конструирования, проектирование и пр., а не только приемов и средств формирования знания,
воспроизводящего налично данное положение дел.
111
вообще, «парадигмами», «стилями мышления», онтологическими
представлениями, распространенными теоретическими моделями, приемами
исследования и пр. Деятельностный подход, если брать его в самом общем
виде, и выражает направленность методологического анализа на выявление
всей этой системы средств и предпосылок формирования конкретного
знания. Иначе говоря, реальное осуществление методологического анализа
возможно только на базе деятельностного подхода.
Таким образом, суть методологического анализа, суть методологической
установки по отношению к знанию заключается в том, чтобы вскрыть
основания и условия возникновения знания, «порождающие механизмы»
знания. Контроль над этими «порождающими механизмами» и последующее
управление ими и их развитие и усовершенствование являются необходимым
условием успешного функционирования современной науки. Порождающие
же знания механизмы, выявляемые посредством рефлексии над основаниями
знания, представляют собой деятельность по решению различных
познавательных задач, опирающуюся на различного рода содержательные и
формальные предпосылки, средства и приемы и т. д . Тем самым, как мы
можем убедиться, методологическая установка по отношению к знанию,
деятельностный подход и критико-рефлексивный анализ знания находятся
между собой в органическом единстве. По существу в этих терминах
фиксируются различные моменты, аспекты самосознания науки как
деятельности по формированию научного знания, научной картины мира.
Степень методологичности научного исследования соответствует, таким
образом, степени развитости научного мышления в отношении осознания
собственных установок, средств, предпосылок, осознания норм и методов
собственной деятельности.
Важно подчеркнуть принципиальное единство исходных принципов и
установок рассмотрения всех компонентов, средств и предпосылок
познавательной деятельности в науке в рамках такого осознания. Иногда
высказывается точка зрения, что предмет методологии науки следует
ограничить операциями, методами, приемами, непосредственно
представляющими собой исследовательские действия познающего субъекта.
Рассмотрение же процессов познания, различного рода принципов, норм и
предпосылок, обусловливающих, естественно, исследовательские действия
субъекта, но не входящих прямо в их структуру, следует отнести к сфере,
скажем, «гносеологии науки», теории научного знания и пр. Эта точка зрения
имеет, конечно, некоторые основания, поскольку действительно следует
отличать непосредственно субъективные действия исследователя от условий,
предпосылок, норм и т. д . познавательного процесса. Но само это
различение, по нашему мнению, носит функциональный, а не
112
субстанциальный характер. Непосредственные исследовательские операции
всегда органически связаны с некоторыми предпосылками,
обусловливающими познавательный процесс, вплетены в его ткань, являются
средствами его реализации. Моделирование, например, безусловно,
представляет собой прием исследования. Но этот приём реализует
определенный познавательный процесс, в основании которого лежит
использование некоторых содержательных предпосылок в виде знаний об
объекте — модели, отношения между знанием о модели и
знанием об оригинале, и т. д . Активность субъекта в осуществлении процесса
моделирования заключается в установлении пределов правомерности
переноса знания о модели на моделируемый объект, в преобразовании этого
знания, «вживании» его в контекст исследования моделируемого объекта, и
т. д . Эту исследовательскую активность нельзя, естественно, оторвать от
предзаданного ей материала знаний, норм рассуждения, логических
отношений, которые она мобилизует, организует и направляет для решения
соответствующей задачи. Нетрудно убедиться, что аналогично обстоит дело
с методом гипотезы, объяснением и пр.
Итак, имеющиеся знания как содержательные предпосылки процессов
формирования новых знаний выступают тем самым как условия и объект
активных исследовательских действий субъекта познания, реализующих
познавательные процессы, направленные на получение нового знания и,
следовательно, на решение соответствующих познавательных задач.
Имеющиеся знания, выступающие как условия и средства получения нового
знания, представляют собой объект активной исследовательской
деятельности (скажем, знания об объекте-модели, основания объяснения,
модифицируемые посылки, в которые вводятся ограничительные условия,
онтологические схемы, используемые в качестве исходных принципов
рассуждения, и пр.), являются компонентом конструктивной деятельности
познающего мышления, элементом его картины, того его образа, который
является целью деятельностного подхода к познанию, результатом
рефлексии над познавательным процессом. Конструктивные, порождающие
новое знание процессы научного мышления, исходными предпосылками
которых являются имеющиеся знания, концептуальные структуры, нормы и
принципы научного познания, воплощенные в соответствующих
«парадигмах», пользуясь термином Т. Куна, не могут, таким образом, на наш
взгляд, быть абстрагированы от исследовательских операций и выступать в
качестве предмета некоей «гносеологии науки», обособленной от
методологии. Дифференциация познавательных процессов, формирование
нового знания, лежащих в их основе содержательных концептуальных
предпосылок, норм и критериев научного мышления и собственно
конструктивных действий по организации, использованию и преобразованию
113
исходных наличных данных для решения определенных познавательных
задач не только правомерно, но и необходимо для конкретного анализа
познавательной деятельности в науке. Но эта дифференциация, выявление
многообразия элементов познавательной деятельности, форм, уровней и
типов ее анализа должна осуществляться в рамках единого деятельностного
подхода, при котором активная конструктивная мыслительная деятельность
предполагает имеющиеся знания, нормы, принципы и т. д . в качестве своего
условия и предпосылок, а знания, нормы, принципы и пр., в свою очередь,
рассматриваются в контексте этой деятельности как ее элементы. Не может
быть, таким образом, методологии, абстрагирующейся от анализа
содержательных предпосылок познания, направленности познавательны?
процессов, типов исследовательских задач и пр., и «гносеологии науки»,
которая рассматривала бы познавательные процессы науки помимо активной
конструктивной деятельности субъекта по осуществлению этих процессов.
Как уже отмечалось выше, лежащая в основе методологического подхода к
анализу научного знания рефлексивная установка на осознание
«порождающих механизмов» познавательной деятельности, ее средств и
методов с необходимостью предполагает отказ от позиции нерефлексивного
наивного совпадения мысли и бытия, картины объекта, вырабатываемой
познанием, и самого объекта. Анализ знания как результата определенной
деятельности субъекта познания предполагает выявление тех предпосылок,
на основе которых вырабатывается знание, учет возможных альтернатив
мыслительных действий при решении соответствующей познавательной
задачи, и пр. Это означает, что на любом уровне методологического анализа
знания, в любых его формах и разновидностях объективно возникает
философско-гносеологическая проблематика отношения мысли и
объективной реальности, субъективной оценки ситуации и ее объективного
содержания, средств и целей познавательной деятельности, и пр. Таким
образом, любая конкретная, частная ситуация методологического подхода к
знанию, которая предполагает рефлексивную установку различения задачи
объективного познания и его субъективных средств и предпосылок, является
объектом гносеологии как философского учения о познании. Во всякой
методологической проблеме объективно имеется определенное
гносеологическое содержание, которое можно выявить и сформулировать в
гносеологических терминах при соответствующей глубине анализа. Это
объективное гносеологическое содержание методологической проблематики,
какие бы частные и специальные формы она ни принимала, и составляет
принципиальное основание той органической связи между философским
подходом к научному познанию и специально-методологическим
исследованием, значение которой справедливо подчеркивает Л. Ф. Ильичев,
указывая, что специально-научное, частное, методологическое исследование
114
не может осуществляться без каких-либо общефилософских предпосылок,
автономно, независимо от философии — и что «общефилософская
методология пронизывает все уровни научного исследования»129
.
Следует при этом еще раз отметить, что соответствующая философско-
гносеологическая проблематика возникает в специально-методологическом
исследовании объективно и существует независимо от того, осознает ли эту
проблематику исследователь или нет, или если осознает, то в каких формах.
Например, как известно, логические позитивисты отрицали правомерность
философско-гносеологической проблематики отношения знания и
объективной действительности, рассматривая ее как ненаучную
«метафизику». По существу же они, однако, не могли уйти от этой
проблематики, и в их методологических концепциях, там, где эти концепции
сталкиваются с решением общих вопросов о «предельных основаниях»,
скажем, логико-семантического анализа языковых схем, как это имеет место,
например, у Карнапа в его учении о «внешних» и «внутренних» вопросах
исследования «языковых каркасов», объективно, независимо от
субъективных позиций самих авторов с необходимостью возникает тематика,
связанная с решением философско-гносеологических вопросов.
В то же время, естественно, теоретико-познавательная проблематика в
частных специально-научных методологических исследованиях не выступает
в форме всеобщности, в своем явном виде. Необходим тщательный анализ,
чтобы выявить эту проблематику. Так же как анализ философско-
гносеологической проблематики, связанной с принципиальными моментами
диалектики познания, отношения субъекта и объекта, мышления и бытия, и т.
д. требует выработки общих гносеологических понятий, так и анализ и
решение частных методологических проблем, возникающих в научном
познании, требует разработки специальных методологических понятий. В
этих специальных понятиях в неявном виде содержится, конечно,
гносеологическая проблематика. Однако непосредственно эти понятия не
являются философскими, гносеологическими понятиями. Для современного
состояния развития самосознания науки как раз и характерно появление
широкого слоя таких специально-методологических понятий разного уровня
общности, охватывающих различные аспекты анализа научного познания.
Повторяем, речь идет не о том, что существуют какие-то проблемы анализа
научного познания, которые допускают только исследование на частном
методологическом уровне. Любая методологическая проблема может стать
объектом философско-гносеологического подхода при достаточной глубине
и теоретической всеобщности анализа. Однако конкретное и разностороннее
129
Ильичев Л. Ф. Философия и научный прогресс: Некоторые методологические проблемы
естествознания и обществознания. М ., 1977, с. 114.
115
исследование познавательной деятельности в науке требует
и теоретического исследования более специальной методологической
проблематики. Необходимость такого специального теоретического
исследования и выработки соответствующего концептуального аппарата,
который непосредственно не является концептуальным аппаратом
гносеологии и вообще философии, как нам представляется, не может
вызывать в настоящее время каких-либо сомнений3.
3 Выше мы приводили высказывание Л. Ф. Ильичева, подчеркивающего
необходимость постоянного учета органической связи философии с
частными методологическими исследованиями. В то же время Л. Ф. Ильичев
выражает согласие с мнением о том, что не всякое частно-методологическое
исследование является философским, отмечая, что «разграничение
общефилософской методологии, с одной стороны, и частной методологии —
с другой, кажется нам обоснованным хотя бы уже потому, что наличие в
специально-научной методологической проблематике гносеологического
содержания позволяет рассматривать саму гносеологическую, теоретико-
познавательную тематику как необходимый продукт развития
методологического сознания, как такой его уровень, когда рефлексии
подвергаются «предельные основания» познавательной деятельности,
связанные с осмыслением коренных проблем отношения мышления и бытия,
субъекта и объекта, критериев истины и т. д . Методологическое значение
философских категорий и принципов, основных теоретико-познавательных
понятий по отношению к частным формам рефлексии над научным
познанием и заключается в том, что теоретико-познавательная проблематика,
с которой сталкивается эта рефлексия, рассматривается с точки зрения
развитой философской культуры, аккумулирующей в своих понятиях и
методах «итог, сумму, вывод истории познания мира», как характеризовал В.
И. Ленин материалистическую диалектику как логику и теорию познания.
Какие же проблемы ставит сегодня перед теорией познания развитие
методологического анализа науки? Для ответа на этот вопрос надо, очевидно,
в общих чертах рассмотреть основные тенденции современного
методологического исследования, рассмотреть основные проблемы,
возникающие в исследовании анализа научного познания, той его картины,
которая предстает сегодня перед методологическим сознанием науки.
Говоря о современном состоянии методологического анализа науки,
необходимо различать реальную методологическую проблематику и ее
исследование, с одной стороны, и состояние концептуального аппарата
методологического анализа, тех понятийно-теоретических средств, при
помощи которых должно осуществляться указанное выше реальное
исследование, с другой стороны. Разработка концептуально-теоретического
116
аппарата методологического анализа также, естественно, является
исследованием, но это исследование в самой методологии, а не исследование,
непосредственно направленное на решение
таким путем будет предотвращено чрезмерное расширение проблематики
философии за счет методологических проблем, относящихся к специальным
областям исследования, и только к ним» (там же, с. 113) практических задач
методологического характера. Разумеется, разработка понятийного аппарата
и теоретических средств и моделей методологии науки происходит в связи с
анализом реального положения дел в науке. Но изучение этого реального,
эмпирически данного положения дел в науке выступает здесь
как средство развития аппарата методологии, ее схем и моделей, тогда как в
исследовании конкретной, методологической тематики решения
соответствующих задач анализа науки представляет собой цель применения
каких-либо методологических установок и ориентации к частной ситуации в
научном познании. Это уточнение необходимо иметь в виду, когда речь идет
о современной методологической проблематике.
Выше мы указывали на общие тенденции в развитии современной
методологии, связанные с отказом от примитивных универсалистских схем,
ориентацией на реальную практику и запросы исследования, на материал
истории науки, и пр. Теперь мы попытаемся раскрыть содержание этих
тенденций и процессов, показывая, как они конкретно проявляются в
развитии теоретических установок и средств современной методологии
науки, в развитии ее теоретической проблематики.
На анализ научного знания, на те представления, которые играли очень
значительную роль в истории наук о познании, большое воздействие оказали
философско-гносеологические концепции природы познавательного
процесса, которые сложились в классической философии Нового времени.
Суть этих концепций заключалась, как известно, в том, что основание
знания, его исходный базисный уровень рассматривались как результат
непосредственного восприятия субъектом некоторого преднайденного
содержания. В зависимости от того, как понималась познавательная
способность субъекта схватывать, воспринимать это преднайденное
содержание, в классической философии Нового времени возникли и
развивались две основные гносеологические концепции — рационализма и
эмпиризма сенсуалистического толка. Рационализм усматривал основание
знания в истинах ratio, априорных истинах интеллектуальной интуиции,
источником которых его представители считали «естественный свет разума»,
по выражению Декарта, эмпиризм же утверждал, что в основании знания
лежат истины опыта, являющиеся результатом чувственного восприятия.
Важно подчеркнуть, что эти обе концепции или, может быть, точнее,
117
основные тенденции философско-гносеологической мысли Нового времени,
поскольку их четкое противопоставление в такой общей форме скорее
является некоторой историко-философской реконструкцией, чем буквальным
отражением гораздо более сложной и многообразной картины реальных
взглядов, выступают как контрапозиции в рамках, по существу, одной и той
же модели познания, предполагающей только различную интерпретацию.
Действительно, в обоих случаях, как мы уже отметили выше, исходной
установкой является положение о том, что в основании знания лежат истины,
фиксирующие некоторое непосредственно данное, преднайденное
содержание, восприятие которого и задает пределы знания вообще,
определяет объем его возможного содержания. Отсюда с необходимостью
вытекает определенное понимание задач и характера анализа знания. В
рационалистическом варианте вышеуказанной концепции он тяготеет к
дедуктивизму, к установке на представление знания в виде дедуктивной
системы, в основе которой лежат априорные аксиомы интеллектуальной
интуиции. Эмпирико-сенсуалистический вариант этой гносеологической
концепции, в свою очередь, тяготеет к индуктивизму, к представлению о
процессе познания как о получении индуктивных обобщений из отдельных
эмпирических истин, содержащих достоверное знание, на основе правил, т. е .
научной индукции типа Бэкона-Милля.
Таким образом, по существу в истории науки о познании мы имеем две
концепции, которые обычно рассматриваются как альтернативные:
рационалистско-дедуктивистскую и эмпиристско-индуктивистскую, которые
выступают, если пользоваться современным методологическим термином,
как две большие исследовательские программы анализа научного знания. В
литературе имеется достаточно подробная оценка реальных оснований этих
концепций, основных их недостатков. Мы не будем касаться сейчас всех этих
моментов. Подчеркнем лишь один — по существу эти концепции являются
двумя «ипостасями» некоторого исходного образа познания. Его
гносеологическая сущность, о которой уже говорилось выше, задает и
определенную логико-методологическую установку. А именно, задача
логико-методологического анализа сводится к разработке методов, схем и
критериев обоснования каждого фрагмента знания, который можно выделить
в качестве независимой истины (утверждения, суждения, высказывания)
путем его логического сведения к базисным истинам (утверждениям) или
его выведения из этих истин. Суть логико-методологического процесса этого
сведения или выведения заключается в переносе истинности от базисных
исходных утверждений к обосновываемым утверждениям. То общее
содержание, которое инвариантно к различиям рационалистического
дедуктивизма и эмпиристского индуктивизма и которое представляет
118
исходную схему обоих этих подходов, можно было бы, таким образом,
несколько условно назвать концепцией обоснования.
Из самой сути концепции обоснования вытекает достаточно простое
постулируемое ею «разделение труда» в анализе познания между теорией
познания, логикой и в известной мере методологией. Теория познания задает
интерпретацию той познавательной способности, которая обусловливает
предел возможного знания. Т. е . она определяет, какой источник истинности
исходного знания, какова его достоверность и т. д . Логика формулирует
критерии и нормы сведения и выведения, т. е . собственно обоснования.
Статус методологии менее ясен, но он в общем связан с теми правилами и
действиями субъекта, которые предполагают осуществление логических
процессов обоснования.
Эта, казалось бы, достаточно примитивная концепция проявила
удивительную стойкость и живучесть в истории наук о познании.
Представление о том, что схема движения от некоторых истин, принимаемых
за основу знания, и критерий истинности всех остальных утверждений
являются единственно возможной схемой нормативного логико-
методологического анализа и что гносеологический анализ ограничивается
вопросами характера истинности этих исходных утверждений, долгое время
довлело над сознанием многих представителей философии и логики науки.
Притом даже и тогда, когда его гносеологические основания претерпели
значительную эволюции и классический рационализм и априоризм отошли
уже в прошлое.
Разумеется, философско-гносеологическая мысль давно уже выявила
альтернативу концепции обоснования, показав, что она не является
единственно возможной нормативной схемой анализа научного познания. В
частности, в качестве такой альтернативы выступило учение о познании
Канта. Центральным пунктом этого учения явилась идея априорного синтеза
как «порождающего», конструктивного механизма научного познания,
формирования научно-теоретических истин. В отличие от классической
гносеологии как рационалистического, так и эмпирико-сенсуалистского типа.
Кант рассматривал формирование содержания знания не просто как его
схватывание в чувственной или интеллектуальной интуиции, а
как деятельность по применению некоторых исходных, структурных
предпосылок познания («априорных форм») к имеющемуся материалу. Не
касаясь сейчас философско-гносеологической несостоятельности
кантианского априоризма и ограниченности его понимания
119
конструктивности процесса познания130
, хотелось бы подчеркнуть, что такой
подход, безусловно, прорывал узкие рамки концепции обоснования и
намечал новый предмет философско-методологического анализа научного
знания. Если для концепции обоснования предметом гносеологии выступает
некая изначальная способность схватывания преднайденного содержания, а
объектом логико-методологического нормативного анализа оказываются
процессы сведения и выведения, основанные на перекомпановке,
суммировании экспликации этого преднайденного содержания, то Кант
делает предметом гносеологического исследования порождающие процессы,
т. е . процессы формирования, конструирования идеального содержания
знания в результате ассимиляции заданного содержания и материала
познания в исходных априорных структурах мышления и рассматривает эти
процессы в качестве объяснительного механизма природы налично данного
знания. Тем самым, исходная гносеологическая установка органически
включает в себя, так сказать, методологическое измерение,
методологический подход, критико-рефлексивную предпосылку
«распредмечивания» знания путем выявления скрытой за ним подспудной
конструктивной познавательной деятельности.
Существо этой деятельности Кант усматривал в ее опосредствовании
исходными структурными предпосылками, априорными по отношению к
конкретным исследовательским ситуациям, приводящим к формированию
нового знания. В неадекватной априористической форме им была,
безусловно, схвачена важная реальная особенность познавательного
процесса — решение любой конструктивной познавательной задачи всегда
осуществляется на основе некоторых принципиальных предпосылок,
«исходных координат» познавательного процесса той или иной степени
общности, того, что, в общем, соответствует в современной
методологической терминологии «парадигмам», «твердому ядру
исследовательской программы», «стилю мышления» и т. п. Сам Кант
рассматривал в качестве таких исходных априорных предпосылок
категориальную структуру познания и априорные основоположения
рассудка, являющиеся, по существу, канонизацией отправных принципов
«стиля мышления» современного Канту механистического естествознания.
Диалектическая логика Гегеля является в известной мере развитием
трансцендентальной логики Канта. Категориальная структура мышления,
которая являлась для Канта предпосылкой познавательной деятельности, ее
элементом, становится для Гегеля основным объектом анализа. При этом то,
что у Канта выступало как отдельные рядоположные априорные формы, у
130
Анализ этих моментов см. в кн.: Швырев В. С . Теоретическое и эмпирическое в научном
познании. М ., 1978, с. 53—68.
120
Гегеля рассматривается как единая, целостная, развивающаяся система.
Логическому развертыванию этой категориальной системы,
осуществленному в «Логике», Гегель предпосылает исследование
исторического развития форм сознания в «Феноменологии духа». Гегель
предпринял попытку дать гигантскую сложную системную, многоярусную
картину развития сознания и познания, где феноменологическое
развертывание форм сознания является предпосылкой и основанием
последовательного логического выведения, развития системы категорий.
Несмотря на общую философскую и логико-методологическую
несостоятельность гегелевской трактовки сознания и познания, им на
идеалистической основе впервые сформулированы в достаточно развернутом
виде принципы представления знания как развивающейся системы
(восхождения от абстрактного к конкретному), диалектического
противоречия как источника развития знания, единства логического и
исторического в анализе знания, которые впоследствии, будучи развиты на
материалистической основе, выступили в качестве важнейших принципов
материалистической диалектики как логики и теории познания131
.
Дальнейшее развитие методологического самосознания науки показало
необходимость учета тех рациональных моментов, которые содержались в
идейном наследии немецкой классической идеалистической философии. Но
надо заметить, что философия науки на Западе в XX в. долгое время
находилась под влиянием неопозитивизма, который игнорировал значение
этого наследия и относился к нему пренебрежительно и враждебно,
рассматривая его как типичное спекулятивное философствование,
несовместимое с «научным эмпиризмом», от имени которого выступали
неопозитивисты. Неопозитивисты, как известно, довольно шумно
рекламировали будто бы совершенную ими «революцию в философии». В
настоящее время совершенно очевидны узость и ограниченность их
исследовательской программы, притом именно не только в понимании
предмета собственно философии, но и в области логико-методологического
анализа науки. Это стало уже общим местом, но нам здесь хотелось бы
подчеркнуть связанный с этим следующий принципиальный момент.
Неопозитивистские «революционеры в философии» оказались весьма
традиционными в своих исходных гносеологических воззрениях на природу
знания дискуссий о структуре философско-методологического сознания
вопросы о соответствии теории познания и логики Гегеля. Бесспорно, они
находятся в органической связи, которая" воплощается во внутреннем
единстве содержания «феноменологии духа» и логики. В то же время нельзя
131
Мы не рассматриваем здесь более подробно очень интересные и не потерявшие, на наш
взгляд, актуальность для современных
121
не видеть и различия подходов, различия феноменологического и
логического типов анализа у Гегеля. По существу, то, что мы сейчас
причисляем к собственно гносеологической проблематике, т. е . проблема
отношения субъекта и объекта, взаимоотношения форм сознания,
рассматривается Гегелем в «Феноменологии духа». Но это — особая теория
познания. Историческое значение «Феноменологии духа» Гегеля состоит в
том, что в ней «впервые была предпринята попытка вывести теорию
познания из истории познания...» (Шинкарук В. И. Единство диалектики,
логики и теории познания. Киев, 1977, с. 188). Феноменологическим
формообразованиям сознания соответствуют определенные категориальные
формы «Логики», но ото не означает, что эти два подхода не имеют
самостоятельного значения132
. Поэтому никак нельзя, на наш взгляд,
говорить о полном совпадении теории познания и логики у Гегеля. Можно
говорить лишь об их внутреннем органическом единстве, предполагающем в
то же время и различия. Но тем самым обращение к Гегелю не может быть
аргументом в пользу постулирования принципа полного совпадения теории
познания и диалектической логики в системе марксистско-ленинской
философии (сравним там же, с. 240—242) и в вытекающих отсюда реальных
установках анализа науки6. Применение ими современных методов
логической формализации оказалось связанным (в методологии, т. е .
фактуальной науке, пользуясь известным термином Р. Карнапа) с четко
выраженной концепцией обоснования в ее эмпирической интерпретации.
Любопытно, пожалуй, что наиболее последовательная и ясная модель
анализа знания, выражающая основную направленность концепции
обоснования, сформулирована не кем иным, как Л. Витгенштейном в его
«Логико-философском трактате». «Все знание состоит из совокупности
элементарных или атомарных предложений». Указание всех истинных
элементарных предложений полностью описывает мир. Мир полностью
описывается указанием всех элементарных предложений вместе с указанием
того, какие из них истинны, а какие ложны133
. Задачей логического анализа
оказывается тогда выявление, экспликация этой структуры, дающие ей
возможность обоснования или опровержения любого предложения путем
сведения его к совокупности атомарных предложений, выражающих его
условия истинности. В Венском кружке атомарные предложения
Витгенштейна были интерпретированы затем как протокольные
предложения и его «атомарно-экстенсиональная модель» знания получила
четко выраженную эмпиристскую интерпретацию, из которой вытекал
132
Ср.: Мамардашвили М. К., Соловьев Э. Ю., Швырев В. С . Классика и современность: Две эпохи в
развитии буржуазной философии. — В кн.: Философия в современном мире: Философия и наука.
М., 1972, с. 88—93.
133
См.: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М ., 1958, с. 56.
122
известный принцип верифицируемости. Гипотетико-дедуктивистская модель
(ГДМ), которую логические позитивисты вынуждены были заменить на
атомарно-экстенсиональную модель для того, чтобы включить в логико-
методологический анализ предложения, формулирующие законы науки, в их
интерпретации также выступила как четко выраженный вариант концепции
обоснования, а именно обоснования гипотетико-дедуктивного типа путем
выведения из обосновываемого утверждения следствий, подлежащих
непосредственной эмпирической проверке и свидетельствующих с
определенной степенью вероятности об истинности или ложности данного
утверждения.
Современная методология науки, даже в том случае, если она исходит только
из гипотетико-дедуктивной модели, существенно иначе рассматривает саму
методологическую проблему, возникающую в результате применения этой
модели.
В основе интерпретации ГДМ как разновидности концепции обоснования
лежало убеждение, что цель получения эмпирически проверяемого следствия
заключается в выявлении неявного эмпирического содержания проверяемых
утверждений. В действительности же соотношение между теоретическим
уровнем знания и эмпирическим знанием, полученным в результате
наблюдения и эксперимента, носит более сложный характер и не
укладывается в эту узкоэмпирическую схему. Получение эмпирических
следствий имеет иные функции, чем это представлялось сторонникам
верификационизма и примитивного фальсификационизма. Функция
эмпирической проверки — и это достаточно четко признается в современной
логике науки — отнюдь не сводится просто к подтверждению или
опровержению проверяемых утверждений, — это, по существу, наиболее
простой предельный случай. Эмпирическая проверка является, прежде всего,
условием механизма обратной связи, от эмпирии к теории, своеобразным
«оселком», на котором оттачивается теория или гипотеза, средством ее
уточнения, коррекции, в конечном счете ее развития. Такое понимание
гипотетико-дедуктивного подхода выходит за узкие рамки концепции
обоснования и сближает его с концепцией метода гипотезы Энгельса как
формы развития естествознания (и, очевидно, науки вообще).
Такое понимание эмпирической проверки ставит, далее, вопрос не только о
критерии приемлемости допустимых изменений при обнаружении
контрапримеров — проблематика «конвенционалистских уловок», a ad hoc
допущений, прогрессивного дегенеративного сдвига проблем, критериев
динамической простоты и пр., которой занимались представители так
называемого утонченного фальсификационизма. Оно ставит гораздо более
сложный и более важный для методологии науки вопрос о механизмах
123
изменения и развития знания, о конструктивных процессах научного
познания. Тем самым, объектом методологического исследования
становится исторический процесс изменения и развития знания и механизмы
активной познавательной деятельности по осуществлению этого изменения и
развития. Знание выступает как сложная иерархическая система, имеющая
свою историю, различные слои и уровни, находящиеся между собой в
различных генетических связях и функциональных взаимоотношениях.
Анализ с позиции концепции обоснования предполагал движение только в
плоскости знания с уже вычлененным содержанием. В действительности же,
разносторонний методологический анализ изменения и развития знания и
обеспечивающих его конструктивных механизмов научного мышления
предполагает не просто иерархию слоев знания, отличающихся по степени
ясности содержания, его близости к эмпирии и пр., а
сложный системный образ научного познания, где само знание выступает
как наличная данность, как результат деятельности. В структуру этой
деятельности входят различного рода предпосылки, средства, задачи. Она
рассматривается в определенной исходной сетке координат и пр. (сравни
понятия «парадигма», «твердое ядро исследовательской программы», «стиль
мышления» и пр.) .
Гносеологическая проблематика касается всей этой системы, а не отдельных
ее элементов или слоев, как это предполагалось «концепцией обоснования».
Как уже подчеркивалось выше, любой вид или форма методологического
исследования неявно влечет за собой определенную гносеологическую
проблематику. Разнообразные методологические исследования научного
познания как сложной исторически развивающейся системы представляют
собой, по существу, эмпирию для современного гносеологического анализа
науки. Реальная методологическая проблематика анализа науки призвана
стимулировать развитие гносеологии, способствовать постановке новых
проблем, выявлению актуальных для современной науки аспектов
классической проблематики. Без этой стимуляции гносеология в тех ее
аспектах, которые связаны с рассмотрением научно-теоретического
мышления, не будет отвечать реальным запросам развития современной
науки. С другой стороны, современному методологическому исследованию
науки, сталкивающемуся с новыми сложными проблемами, необходима
широкая философско-гносеологическая перспектива.
124
ИСТОРИЗАЦИЯ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ НАУКИ И ГНОСЕОЛОГИЯ
Б. И. ПРУЖИНИН
Наука— феномен многогранный. Соответственно и область его
исследований — сложная и весьма подвижная констелляция подходов, точек
зрения и концептуальных схем. Смена ориентации происходит здесь
довольно часто. Однако характер изменения, осуществляющегося в этой
области в настоящее время — выдвижение на передний план гуманитарной
проблематики, широкое обращение к дисциплинам
социокультурологического цикла, интенсификация историко-научных
изысканий и стремление создавать теоретические конструкции прежде всего
на базе диахронических сопоставлений,— позволяет предположить, что эта
перестройка подхода к науке связана не только с внутренними задачами ее
исследования, но обусловлена также и более глубокими процессами,
протекающими в структуре научной деятельности как таковой. Изменились
не просто средства формирования моделей научного познания, изменился
методологический статус этих моделей. Одним из показателей серьезности
произошедшего является характер возрастающего интереса к философским
основаниям исследования феномена науки.
Вообще говоря, интерес к философским основаниям исследования науки
оживляется всякий раз, когда последние претерпевают сколько-нибудь
значимое изменение. Отмеченная выше перестройка — оттеснение методов
формального анализа и включение в предметное поле этих исследований
процессов изменения знания при соответствующей переориентации на
анализ механизмов и социокультурных детерминант развития науки — также
породила ряд проблем, имеющих явно выраженные теоретико-
познавательные аспекты. Стержень такого рода проблематики (проблема
синтеза синхронии и диахронии, структуры и истории, устойчивого
изменчивого, абсолютного относительного и пр.) образует задача соединения
и взаимной компенсации различных (связанных с различием подходов)
ракурсов науки. Но в данном случае дело этим не ограничивается. Образ
науки, будучи компонентом сознательной, целесообразной деятельности
ученых, выполняет в ходе этой деятельности вполне определенные
когнитивные функции: представление о характере и целях науки нормирует
реальную научную практику и в этом качестве выступает как ее
непосредственная составляющая. Поэтому содержание гносеологических
проблем, возникающих в связи с анализом оснований методологического
сознания, отнюдь не исчерпывается обсуждением путей и методов точного
описания реальности науки. В деятельностно-функциональном контексте
125
оценка методологических представлений осуществляется также и с точки
зрения их когнитивной эффективности непосредственно в самом процессе
научного познания, а исследование их гносеологического статуса
приобретает особую форму — оно протекает в виде обсуждения источников
нормативной значимости методологических образований в науке. Именно к
такого рода сюжетам смещается ныне исследование философских оснований
методологической рефлексии науки.
Между тем данная проблематика всегда находилась в центре диалектико-
материалистического исследования науки. Марксистская философия нашла
здесь такие подходы, плодотворность которых в полной мере
обнаруживается именно сегодня. В частности, она зафиксировала тот факт,
что повышенный интерес к источникам нормативной значимости
методологических идей свидетельствует о перестройках, происходящих в
нормативной структуре самой науки. О некоторых особенностях обращения
к деятельностно-функциональному контексту рассмотрения науки в
современных методологических исследованиях пойдет речь в этой статье.
Тот факт, что методологическая рефлексия неоднородна, обнаруживается
уже в способах употребления термина «методология науки». В узком смысле
он используется для обозначения области самосознания науки, формируемой
с помощью ее собственных средств. Внутринаучная рефлексия образуется
путем отображения процедур и норм наличной познавательной практики,
опираясь на методы самой науки, в частности используя для этих целей
специальный аппарат формальной (символической) логики и другие столь же
специальные средства. Важно подчеркнуть при этом, что так понимаемая
внутринаучная рефлексия пытается решать методологические вопросы
анализа научного знания без обращения к философской, в частности
теоретико-познавательной, рефлексии над наукой134
. Но даже тогда, когда
внутринаучная рефлексия погружается в специальные вопросы техники
научного познания, она не сводится просто к науке о познании или науке о
134
В этой связи следует отличать внутринаучную рефлексию, которая имеет признаки конкретно-
научного исследования, от той позиции, которая не только практикует подобного типа рефлексию,
но и возводит ее в абсолют и пытается с ее помощью решать философские вопросы относительно
науки. Последняя позиция явно выходит за рамки внутринаучной рефлексии и приобретает
характер философской рефлексии, при этом рефлексии явно неадекватной. Такого рода
философской рефлексией был, например, логический позитивизм. Правда, в реальной практике
исследования оба эти типа рефлексии постоянно переплетаются. Так, например, логические
позитивисты не только формулировали определенную ложную философскую концепцию науки,
но и проделали определенную конкретную научную работу по анализу логической структуры
научного знания. Тем не менее, для понимания реальной картины изменения методологического
сознания науки различать эти типы рефлексии следует даже в том случае, когда философская
рефлексия является лишь абсолютизацией внутринаучной, ибо их функции по отношению к науке
далеко не совпадают.
126
науке. Нормативная значимость результатов исследований, осуществляемых
в ее рамках, покоится не только на полноте их соответствия общепринятым
стандартам научности, но предполагает еще более или менее ясное
представление о «подлинной» науке. Наличие таких представлений является
необходимым условием функционирования результатов положительного
исследования науки в качестве активных методологических компонентов
познавательной деятельности. Внутринаучное исследование осуществляется
всегда в контексте определенных трактовок истинности, объективности,
рациональности и прочих подобных характеристик знания и является, по
сути дела, их конкретизацией. Такое исследование, стало быть, задается
возможными решениями вопроса о природе теоретического отношения к
миру как одного из типов человеческого отношения к действительности
вообще. Решать эти вопросы—прерогатива философии. И потому в самом
общем смысле «методология науки» совпадает с философской рефлексией,
коль скоро последняя рассматривает теоретическое отношение как такой тип
отношения к действительности, который лежит в основе науки и который
представлен в науке в своей наиболее развитой форме135
.
Между выделенными слоями или уровнями методологического сознания
существует отношение взаимного формирования. Вне взаимной связи
каждый из них теряет методологическую эффективность: философия —
потому, что ее синтетические построения отрываются от реальной практики
познания; положительное исследование науки — потому, что теряет
способность к синтезу и рассыпается на частные, противостоящие друг другу
подходы и точки зрения. Но удельный вес философского и, так сказать,
частно-научного момента методологической рефлексии может варьировать в
достаточно широких пределах. Оценивая развитие методологического
сознания за последние полтора столетия, можно сказать, что до сравнительно
недавнего времени роль частно-научного рассмотрения науки постепенно, но
неуклонно нарастала. (Во всяком случае, применительно к естествознанию
это достаточно очевидно). Ниже я более подробно остановлюсь на причинах
этого процесса, здесь же отмечу лишь тот факт, что «частно-научный»
компонент методологического сознания получил в середине прошлого
столетия новый дополнительный импульс: в ходе «отпочкования» от
философии частных наук были затронуты пласты содержащегося в ней
положительного знания о человеке, в силу чего сложился ряд специальных
наук, исследующих различные аспекты человеческой деятельности, и в
частности деятельности познавательной136
. Так или иначе, к началу нашего
столетия важной формой методологического сознания естественной науки
135
См.: Лекторский В. А., Швырев В. С . Методологический анализ науки: (Типы и уровни). — В кн.:
Философия, методология, наука. М ., 1972.
136
Подробнее об этом см. статью Н. С. Автономовой в данной книге.
127
стала внутринаучная рефлексия — разработка методологических
представлений посредством прежде всего частно-научного обобщения
реальной практики науки.
Может показаться, что в рамках такого сознания слой философской
рефлексии науки как бы отодвигается на задний план. Причем философские
представления о характере и природе теоретического отношения к миру
рассматриваются тогда как самоочевидные, интуитивно ясные, первичные
(донаучные) констатации положения дел в науке. Эти представления,
считают в данном случае, подлежат дальнейшей экспликации в ходе
положительного исследования, которое, собственно, и определяет лицо
методологической рефлексии — допустимые способы постановки
методологических проблем и их решения. Некоторые методологические
доктрины, опирающиеся главным образом на внутринаучную рефлексию
науки, вообще отрицают какую бы то ни было значимость дискуссий на
философском уровне.
В связи со сказанным важно подчеркнуть, что, коль скоро рефлексия
опирается главным образом на средства частной науки, она может
проблематизировать (и прояснять) лишь представления ученого о
сложившихся путях производства научного знания. Сам предмет рефлексии
(наука сама по себе) представляется тогда как явление вполне «объективное»
и от методологических идей не зависящее. Напротив, эти идеи должны
сообразовываться с реальностью науки как она есть. Правда, реальность
науки, в свою очередь, должна сообразовываться с реальностью
объективного мира, отображать который она призвана и который
представлен в ней только в формах научной же деятельности. Так что
отделить «подлинную» науку от «неподлинной» можно лишь выйдя за
пределы науки, к иным (не теоретическим) формам освоения
действительности. Но внутринаучная рефлексия обращается к таким
сюжетам крайне неохотно, а если об этом вообще заходит речь, просто
ссылается на интуитивно очевидное соответствие средств научного познания
и структуры отображаемого мира как предпосылку успехов науки.
Фактически достигнутые успехи выступают для нее как реализация целей и
методов подлинной науки. Отображение структуры науки с точки зрения
накопленных истин и создает для внутринаучного исследования
нормативную позицию, т. е . превращает это исследование в
методологическую рефлексию. В успехах науки этот тип методологического
сознания видит залог того, что «подлинный» научный метод существует
объективно. А в точности и полноте его отображения— источник
нормативной мощи методологических идей.
128
Наличие различных, зачастую противоположных трактовок такого метода
оценивается внутринаучной рефлексией как аберрация методологического
сознания науки, возникающая вследствие несовершенства (ненаучности)
используемых рефлексией средств. Но, между прочим, именно благодаря
несовершенству методологического сознания наука, с точки зрения
внутринаучной рефлексии, обретает историю. Познают люди, а они
нуждаются в установках и стимулах, далеко не всегда имеющих отношение к
истине, и подвержены внешним влияниям. По этой причине окутанный
покровом человеческих иллюзий «объективный метод науки» открывается
ученому лишь в форме методологических прозрений и интуитивных догадок
о подлинных ориентирах познания. Так происходит перестройка, углубление
и уточнение научного знания. Хронологически аранжированная
«субъективная» форма реализации «объективных» основ научного познания
и образует с этой точки зрения реальную историю науки.
Данное (естественно, типологизированное) описание трактовки истории в
рамках внутринаучной рефлексии будет тем не менее неполным, если мы не
учтем в нем место, которое эта рефлексия отводит себе. Совершенствуя
способы осознания подлинно научного метода, методолог-«профессионал»,
как считают представители данной точки зрения, сам непосредственно
включается в процесс научного познания: полученные им результаты
нормируют (должны нормировать) реальный ход познавательной
деятельности. Но тогда история науки превращается в историю методологии
науки, ибо грань между совершенствованием средств отображения метода
науки и отображением этого метода становится совершенно неощутимой.
Более того, поскольку внутринаучная рефлексия видит свою задачу не только
в разработке средств исследования науки, но главным образом в
формировании с помощью этих средств эффективных норм научной
практики, хронологизированная последовательность реальных перестроек
знания выступает для нее не столько как заслуживающая специального
рассмотрения история, сколько как сырой эмпирический материал. На базе
этого материала претендуя на использование только средств самой науки,
внутринаучная рефлексия пытается формулировать нормы,
стабилизирующие рост научного знания.
Между тем подобное понимание исторического (в его отношении к
логическому) диалектический материализм характеризует как абстрактное.
Более глубокое (конкретное) понимание истории связано с трактовкой
исторического как предпосылки (а не формы только) логического: суть
истории усматривается не в реализации предположенных логических схем,
но в создании оснований для дальнейшего движения. В контексте
исследований феномена науки более глубокое понимание обнаруживает себя
129
в том, что в методологическом сознании науки выделяется особый
познавательно эффективный слой, нормативная значимость которого не
может быть объяснена точностью и полнотой отображения наличной
реальности науки. Ибо этой реальности еще нет. Она как раз и должна быть
создана решением ученого, предлагающего в качестве науки новый тип
знания. Никакое описание уже данной реальности полностью прояснить
основания такого решения не может, как не могли нормы,
сформулированные на базе описания методов классической физики, служить
ориентиром для создателей квантовой теории. На передний план выступает
тогда исторический опыт самоизменяющейся науки — опыт по самой своей
сути не полный, не окончательный, диалектически изменяющийся, но тем не
менее единственно пригодный для обоснования меняющего облик науки
решения.
Если, однако, обращение к историческому опыту развития науки
представляется вполне естественным следствием углубления наших
представлений о природе исторического вообще, то с точки зрения
специальных исследований науки, обеспечивающих эффективное
функционирование ее методологического сознания, такой мыслительный ход
требует по крайней мере дополнительных пояснений. Как уже отмечалось,
внутринаучная рефлексия также не отрицает изменчивости образа науки.
Более того, она постоянно имеет дело с методологическими образованиями,
когнитивная эффективность которых очевидна, но источники нормативной
мощи которых неясны. А между тем она не видит причин рассматривать
подобные образования как принципиально не редуцируемые к отображению
наличной реальности науки. В такого рода редукции внутринаучная
рефлексия как раз и усматривает свою задачу. А сталкиваясь при этом с
трудностями, — апеллирует к безграничным возможностям научного
познания, в том числе к возможностям наук о науке. И если историзация
методологического сознания является тем не менее ведущей тенденцией
современных методологических исследований науки, если в этом сознании
все же постоянно нарастает интерес к историческому опыту качественного
изменения норм научности, то это очевидно означает, что речь идет не
просто о формах представления истории науки, но о выборе позиции,
имеющей также и мировоззренческий смысл.
Каковы причины интереса современной методологии к предпосылкам
конституирующих науку решений? Является ли этот интерес просто
неадекватной формой постановки проблем внутринаучной рефлексии, или
историзация современного методологического сознания свидетельствует о
происходящей в современной науке серьезной нормативной перестройке?
Любая попытка ответить на эти вопросы или хотя бы обозреть возможные
130
ответы нуждается в более серьезной, нежели отдельная статья, форме
исследования. И потому ниже будет затронут только один из аспектов
данной проблемы: будет предпринята попытка показать, что сам факт
подобной постановки методологических проблем свидетельствует о наличии
более глубоких оснований происходящего изменения в характере
методологической рефлексии науки, нежели сложности, связанные
исключительно с проблемой полноты и точности отображения наличной
реальности науки.
В связи со сказанным обратимся к эволюции так называемой «философии
науки» — одного из направлений современной буржуазной философии, на
фоне которого на Западе долгое время и довольно плодотворно
разрабатывались некоторые аспекты внутринаучной рефлексии. До
известной степени интерес к эволюции данного течения обусловлен его
статусом ведущего на Западе методологического направления, но в данном
случае главная причина обращения к эволюции «философии науки» состоит
в том, что в ее рамках в свое время сложилась доктрина, которая, пожалуй,
наиболее последовательно пыталась превратить анализ науки средствами
частных наук в единственно возможный способ осмысления и нормирования
научной практики. И весьма поучительно проследить, под влиянием каких
факторов «философия науки» вынуждена была отступить от этой крайней
установки.
Речь идет соответственно о неопозитивистском и постпозитивистском этапах
эволюции «философии науки». Причины произошедших здесь изменений в
общем прояснены в отечественной литературе по методологии науки. Это
прежде всего недооценка неопозитивистами того обстоятельства, что
процесс познания носит диалектический характер, что характер
познавательной активности субъекта обусловлен общественно-исторической
практикой и что нормативная структура познания способна обеспечить все
более точное отображение объективного мира именно благодаря
историческим изменениям, сопряженным также и с качественной
перестройкой существенных ориентиров и параметров науки. Неучет этого
обстоятельства предопределил в конечном счете неудачу неопозитивистской
программы методологических исследований. В какой-то мере вынужден
считаться с диалектическим характером научного познания постпозитивизм,
хотя и он не смог, выработать вполне адекватные теоретические средства для
осмысления диалектики развития науки. Однако произошедшая в
«философии науки» трансформация заслуживает специального внимания в
плане интересующей нас темы, ибо здесь, в силу радикального
антиисторизма неопозитивистов, особенно ярко обнаруживается специфика
131
того интеллектуально-практического контекста, который привел к
историзации методологических исследований науки.
Замечание о радикальном антиисторизме неопозитивистов не означает, что в
его рамках вообще отсутствовал интерес к гуманитарным аспектам
познавательной деятельности. Хотя эти аспекты и выносились за сферу
собственно методологического анализа науки, но выносились определенным
образом, на определенных основаниях. Позитивисты не отрицали, что
отношения, складывающиеся между людьми в процессе познания, оказывают
самое непосредственное воздействие на этот процесс — такие отношения
могут ускорять или тормозить его, мешать или благоприятствовать
использованию ученым соответствующих научных процедур. В
позитивистски ориентированных журналах и книгах содержалось достаточно
много социологических и исторических материалов, разрабатывающих
данный сюжет. Специфика нынешней ситуации в западной «философии
науки» (постпозитивистский этап) определяется не просто интенсификацией
интереса к общественным связям научной практики, но прежде всего
совершенно иной трактовкой роли этих связей в процессе познания.
Включенные в научное исследование науки дисциплины гуманитарного
цикла проникают в область процедур формирования научного знания, куда
прежде вход им был строжайшим образом воспрещен.
Многие комментаторы постпозитивистского движения, как и сами
представители современной «философии науки», подчеркивают
радикальность произошедшего поворота. И действительно, переориентация
произошла значительная. Однако, как отмечают те же самые комментаторы,
основания для такой переориентации в философии науки имелись еще в 30-х
годах, в период самого расцвета неопозитивизма. Уже тогда ряд
исследователей отмечали, что «философия науки» теряет связь с
реальностью науки. Программа логического позитивизма еще не имела в те
годы на Западе сколь-нибудь значительной теоретической альтернативы.
Сами неопозитивисты находили достаточно широкое поле для применения
выработанных ими способов отыскания универсальных логических структур
познания. Но уже тогда было не очень ясно, является ли описание науки в
терминах современной формальной логики средством формирования
адекватной идеи научного метода, или оно представляет собой лишь
удобный полигон для совершенствования логико-математических идей.
Фактически с позитивистской программой научного исследования науки уже
тогда происходило самое нежелательное из того, что вообще может
случиться с научной исследовательской программой,—возник разрыв между
стратегией и тактикой: способы постановки проблем и характер
дифференциации предметного поля задавались не столько ориентацией на
132
решение центральной проблемы (дать логически корректную экспликацию
истинного метода эмпирической науки), сколько возможностями логико-
математических формализмов решать частные, не всегда заведомо
относящиеся к делу задачи. А между тем эта программа еще полных два
десятилетия считалась плодотворной в области методологических
исследований науки. Отмеченная напряженность между средствами и целями
логико-методологической доктрины неопозитивизма привела к ее крушению
лишь в конце 50-х годов.
Значение, которое здесь придается некоторому частному циклу развития
конкретной методологической концепции, может показаться чрезмерным.
Ведь очевидно, что становление и закат неопозитивизма были
детерминированы также и вполне определенным контекстом. Но как раз этот
контекст интересует нас прежде всего. Дело в том, что популярности
программ внутринаучной рефлексии никогда не мешал тот факт, что ни одна
из них так и не смогла оправдать свои претензии — дать исчерпывающее и
функционально эффективное представление о характере и целях науки.
Расхождение между средствами и целью — вещь обычная для
внутринаучной рефлексии и не в этой плоскости, видимо, осуществляется ее
оценка. Частные успехи в экспликации отдельных сторон научного метода,
конечно же, всегда были необходимы, но они лишь поддерживали
уверенность той или иной методологической программы в своей способности
дать исчерпывающий образ характера познавательной активности в науке.
Решающее значение частные результаты внутринаучной рефлексии науки
могли приобрести лишь в соответствующей духовной атмосфере,
складывающейся внутри науки и около нее. Общий духовный контекст
познавательной практики определяет в конечном счете те требования,
которые предъявляются к методологическим программам.
Еще в начале нашего столетия многие из профессиональных исследователей
науки на Западе не сомневались в том, что, изучая формы познавательной
практики частной науки ее собственными (достаточно тонкими) средствами,
т. е . не выходя на уровень философской рефлексии над наукой, можно четко
отличить истинную науку от ненауки. (И это несмотря на кризис в физике.)
Казалось, что наука сама себя отличает достаточно отчетливо. Исследователь
феномена науки должен был просто открыть то, что существует объективно.
Кстати, поэтому он мог не спешить. Ведь считалось, что результаты его
работы, конечно, способствуют ускорению темпа развития науки, но
неполнота этих результатов не может остановить ее прогресс. В дальнейшем
ситуация в науке меняется. Увеличивается число наукоподобных и
откровенно лженаучных образований, отличить которые от науки оказалось
не так просто. В самой науке резко возросло число ситуаций, когда некоторая
133
эмпирическая область получает более чем одну корректную теоретическую
интерпретацию. Причем множественность интерпретаций возникает в столь
фундаментальных разделах науки, что отмахнуться от них методология уже
просто не могла без ущерба для собственного авторитета. К тому же вырос
массив инструментального, зачастую вообще теоретически не
интерпретированного знания, которое тем не менее обладает способностью к
самовозрастанию. В этих условиях требования, предъявляемые к
методологическим концепциям, резко возросли. Претензии внутринаучной
рефлексии на формулировку универсального критерия истинности надо было
подтвердить чем-то более значительным, нежели частные успехи в
уточнении отдельных аспектов научного метода. И хотя отказ от идеи
существования в науке «объективных» оснований рациональности и
истинности сразу не последовал, возникшая ситуация побуждала западных
методологов к обсуждению запретного, вообще говоря, сюжета — вопроса о
возможности средствами частной науки сформулировать универсальные
нормы «подлинной» науки. Позднее этот вопрос трансформировался в
проблему оснований нормативной значимости методологического сознания.
Здесь, видимо, надо сделать одно пояснение. Вопрос о возможности
сформулировать метод подлинной науки средствами тех или иных частных
наук не раз поднимался в рамках внутринаучной рефлексии. С обсуждением
этого вопроса было связано появление биологических, психологистских и,
наконец, логицистских тенденций в методологических исследованиях.
Неопозитивизм опирался на логический подход к науке. Но специфика
последнего подхода состоит в том, что обсуждение возможностей
сформулировать с его помощью универсальные нормы науки совпадает с
вопросом о возможности рациональной формулировки универсальных
методологических представлений вообще и, следовательно, с вопросом о
рациональности самой науки. По существу, здесь обсуждаются причины
совпадения логической структуры знания и отображаемого в нем объекта. И
не случайно от суждений на этот счет предостерегал в своих ранних работах
Л. Витгенштейн. Такая постановка вопроса выводит за рамки не только
логического анализа языка науки, но и внутри-научной рефлексии вообще.
Тем не менее настоятельная потребность обсудить хотя бы возможности (не
границы!) универсальной логической экспликации оснований
рациональности науки возникла. А удовлетворить эту потребность
попытался К. Поппер, которого во всяком случае никак нельзя считать
ортодоксальным позитивистом.
Особенность его концепции состоит в том, что идеал логической
(рациональной) организации научного знания был сформулирован им исходя
из возможности дать универсально значимую для субъекта формулировку
134
этого идеала в терминах логики. Поппер не обращается здесь к несомненным
научным истинам, чтобы, уточнив логический аппарат их исследования,
выявить содержащуюся в них истинную структуру научных процедур. В
первых параграфах «Логики научного открытия» он отвергает этот путь:
универсально значимая формулировка логической структуры научного
метода сама должна быть аналитической истиной. Опираясь на законы
логики, Поппер предлагает единственно корректную, с его точки зрения,
структуру процедур соотнесения теории и опыта — структуру
фальсификации.
Нормативная значимость законов логики очевидна, и предложенная
Поппером процедура действительно выражает необходимое условие
логической корректности научного знания. Но в качестве реально
действующего методологического критерия она обладает одним
существенным недостатком — она почти полностью неэффективна.
Попперовский критерий был получен благодаря отвлечению от форм
реальной научной практики. А формы эти складываются не только под
влиянием требования их самодостоверности, они являются также формами
отображения объективного мира и определяются структурой последнего. Для
концепции Поппера это обстоятельство обернулось проблемой
реконструкции деятельности ученых на базе поведенческого аналога
процедуры фальсификации — критицизма. Логический идеал организации
эмпирии определяет деятельность ученого лишь в качестве общей цели;
формы его достижения весьма различны, подчиняются собственным
регулятивам, и даже возможность редукции этих регулятивов к процедуре
фальсификации (а на такой возможности Поппер настаивал всегда) не
исключает их самостоятельной методологической значимости.
В те же 30-е годы, когда К. Поппер разрабатывал свою концепцию, вполне
ортодоксальный неопозитивист Р. Карнап констатировал одну особенность
логико-методологического анализа науки, логически проясненную затем в
работах Рамсея и Крейга и, наконец, методологически четко
отформулированную в общем виде к 60-м годам: в конкретной практике
научного познания способ логической организации эмпирических данных не
определяется исключительно требованиями логической корректности этой
организации; логическая корректность не исключает модификаций
теоретических систем, продиктованных соображениями «открытости»,
«плодотворности» и прочее, а фиксирующие эти модификации теоретические
термины являются принципиально неустранимым компонентом растущего
знания. Правда, для позитивистов сфера действия регулятивов,
определяющих введение таких терминов, выводилась за рамки
методологического исследования как контекст открытия, лежащий вне
135
области, где знание собственно и становится научным, — контекста
эмпирического обоснования. Но различение этих контекстов лишь
подчеркивает тот факт, что методологическое осознание всей сферы
познавательной активности ученых предполагает наличие некоторой
деятельностной формы бытия рациональности. Даже если ученый знает, при
каких условиях знание может считаться научным, делая его таковым, он
опирается не только на логические процедуры.
К концу 40-х годов интересы западных «философов науки» уже в
значительной мере определяются проблематикой, связанной с прояснением
таких характеристик знания, как его простота, плодотворность и даже
красота. Целью соответствующих методологических исследований
становится не уточнение логической структуры процедур, обеспечивающих
соотнесение теории и опыта, а реконструкция научной деятельности как
поведенческого аналога этих универсально значимых для субъекта познания
процедур. Наиболее последовательным в этом отношении был опять-таки
Поппер. Однако его попытки, как и попытки его последователей,
редуцировать все многообразие стратегий научной деятельности к
критицизму лишь сделали очевидным тот факт, что критицизм отнюдь не
исчерпывает всего многообразия ориентации ученого. Ученый не
руководствуется в своей деятельности жесткой критической установкой,
столкнувшись с контрпримером, он не спешит отбросить
фальсифицированную теорию, он пытается модифицировать ее, принимая во
внимание не только характер ее отношения к наличной эмпирии, но и
определенные, содержательно фиксируемые перспективы роста знания.
Деятельностные аспекты науки, к которым обратилась методология, не
укладывались в логические схемы эмпиризма.
Существовал и еще один источник неудовлетворенности этими схемами.
Более глубокий анализ истории исследований феномена науки мог бы,
наверное, обнаружить, что смещение интереса западных «философов науки»
к деятельностным аспектам не случайно совпадает по времени с появлением
работ Р. Мертона, специально рассматривавшего социальные условия
ориентации ученого на такую ценность, как логические процедуры
соотнесения наших знаний с опытом. Хотя в то время и для западных
социологов интерес к деятельностным аспектам науки также укладывался в
общую схему традиционной позитивистской модели, последняя не могла не
подвергаться массированному и постоянному давлению. Именно под
влиянием всех этих факторов в методологии науки на Западе постепенно
вызревала идея, что осмысленное применение регулятивов, нормирующих
познавательную активность, предполагает более широкий контекст
представления объекта в знании, нежели непосредственно подлежащее
136
логической организации поле эмпирических данных, и что, стало быть,
экспликация логических норм этой организации не может полностью
прояснить источники когнитивной мощи значительной части
методологических представлений.
Такие ориентиры познавательной деятельности, как простота, красота и даже
предсказательная мощь наличного знания, приобретают определенность
лишь на фоне содержательных установок различной степени общности (от
конкретных объяснительных схем до фундаментальных воззрений на мир),
которые расширяют горизонты науки и позволяют ученому увидеть наличное
состояние дел в перспективе дальнейшего движения. Эти установки
определяют допустимые типы синтеза, возможные объекты,
удовлетворительные способы объяснения, заслуживающие внимания факты,
и пр. В контексте этих концептуальных каркасов и наполняются
определенным логическим содержанием ориентиры научной деятельности.
Введение в методологическое сознание особого слоя содержательных
установок как предпосылки и условия когнитивной эффективности
логических процедур было продиктовано, таким образом, не столько
трудностями формально-логической экспликации структуры научного
метода, сколько резким ужесточением требований к такого рода
исследованиям. А последнее отражает не столько ситуацию в современной
формальной логике, сколько положение дел в современной науке. Ныне
наука дает ученому повод сомневаться в существовании формального
критерия научности, и внутринаучная рефлексия, претендующая на
формулировку такого критерия, должна либо дать его исчерпывающую
формулировку, либо допустить наличие в методологическом сознании
нормативно значимых образований, источники которых не могут быть в
принципе эксплицированы ее средствами.
Адекватность отображения наличной реальности науки является лишь
формой, обеспечивающей внутринаучной рефлексии эффективное
выполнение соответствующих методологических функций. Основа же ее
функциональной мощи — способность частно-научного исследования науки
«объективировать», полагать как неизменную и стабильную когнитивную
ценность определенную совокупность норм, на которую оно заправлено.
Нормы научности меняются, вычеркнуть этот факт из памяти науки
невозможно, но вполне допустимо представить процесс изменения этих норм
как уточнение наших представлений о некоей неизменной структуре науки,
структуре метода науки. Собственно функция внутринаучной рефлексии в
том и состоит, чтобы создать у ученого ощущение несомненной
стабильности тех или иных норм. Причем наличие окончательной
формулировки критерия научности в этом случае не только не обязательно,
137
но даже противопоказано, ибо такой критерий практически сразу
обнаруживает свою ограниченность (как это случилось с попперовской
фальсификацией). Только изменившаяся общенаучная ситуация может
вынудить внутринаучную рефлексию решиться на такой шаг.
Безусловно, в науке нет и не может быть запрета на сомнение. Попытки
внести в нее какие бы то ни было запреты ведут лишь к ее деформации и в
конечном счете уничтожению. Существует множество соображений, в силу
которых ученый принимает те или иные идеи, придерживается тех или иных
стандартов, но как только в ходе исследования обнаруживается
неэффективность этих идей, средств и стандартов, он перестраивает или
безжалостно отбрасывает их. Так осуществляется прогресс науки. Вместе с
тем критицизм науки не безбрежен. Ученый может сомневаться в любом
частном результате или стандарте, но единственно приемлемой для него
формой реализации этих сомнений является научное исследование —
определенным образом структурированная, нормированная практика науки.
Сомнение до и вне исследования, сомнение, направленное прямо на средства
исследования, т. е . сомнение, направленное на первичные формы
представления объекта в исследовании, равносильно сомнению в
осмысленности дела, которым он занимается.
Прогресс науки был бы в таком случае невозможен. И не только потому, что
бесконечные споры по поводу предпосылок парализуют деятельность,
направленную на производство результатов определенного типа, и тем
самым снижают ее результативность. Но прежде всего потому, что
исследование, осуществляемое на базе сомнительных стандартов, хотя и не
отменяет его локальной эффективности, тем не менее превращает науку с
нравственной (как и любой другой ценностной культурной точки зрения) в
весьма двусмысленное предприятие. Не трудно представить себе социальный
механизм, способный поддерживать и стимулировать такого рода
активность, но действующие на уровне личности культурные стимулы в этом
случае деформируются или разрушаются вообще. Поэтому наука,
культурный феномен, олицетворяющий собой дух высокого критицизма,
может успешно осуществляться лишь в формах, имманентно
ограничивающих критицизм. Это — реальное, движущее противоречие
научного познания, и внутринаучная рефлексия функционирует в рамках
этого противоречия: снимая напряжение, порождаемое изменчивостью норм
науки, перенося его в сферу совершенствования методологического
сознания, она как бы замыкает науку саму на себя. Внутринаучная рефлексия
сужает деятельностные аспекты науки так, что от активной целеполагающей
деятельности людей остается лишь «бескорыстное стремление к истине», все
глубокое практически-жизненное содержание которого сводится к.
138
ориентации на предположенные процедуры. Но именно благодаря этому в
науке образуется стабильная основа прироста знания (определенного типа), и
наука оказывается способной удовлетворить (вполне определенные,
конкретно-исторические) потребности культуры. Но когда цели культуры
меняются...
Нормативная структура науки является продуктом познавательной
деятельности людей, складывающимся в ходе реализации определенных
практических, жизненных целей. Коль скоро структура науки сложилась,
она, в свою очередь, выступает как непосредственная посылка дальнейшей
познавательной деятельности, что естественно не исключает возможности
уточнять и совершенствовать эту нормативную структуру по мере
обобщения текущей познавательной практики. Однако именно уточнять и
совершенствовать. Основа ее — совокупность общих представлений о
характере и целях науки — остается неизменной, пока остаются
неизменными породившие ее потребности культуры. Когда же цели
культуры меняются, когда в системе ценностей культуры происходят сдвиги,
возникающие не в последнюю очередь в результате влияния самой науки, и
наука выходит к новым познавательным горизонтам, ставшая нормативная
структура науки теряет свою когнитивную эффективность. Она все еще
способна приносить знание, но не то, в котором нуждается изменившая свой
характер общественно-историческая деятельность людей. И тогда на
передний план методологического сознания вновь выступают
характеристики науки как жизненно обусловленной, исторически конкретной
формы освоения мира, поскольку лишь опыт формирования науки может
дать основу для оценки и переориентации познавательной практики в целом.
Рассмотрение структуры науки в этом ракурсе — дело философии, ибо
философская (гносеологическая) рефлексия проблематизирует не только
сознание ученого, но и сам осознаваемый предмет — науку, представляя ее
как продукт целесообразной, сознательной деятельности людей. Этим, между
прочим, философия существенным образом отличается от частных наук, и в
том числе от наук, на которые опирается внутринаучная рефлексия.
Внутринаучная рефлексия возникла и первоначально осуществлялась
целиком в рамках философской рефлексии науки. И не только в том
отношении, что специальное исследование науки использовало накопленные
философией положительные наблюдения о природе познавательных
способностей человека. Исследование науки средствами самой частной
науки явно и недвусмысленно определялось философскими установками, в
контексте которых деятельность ученого представала как нечто
мировоззренчески продуманное и санкционированное, как один из истинных
способов человеческой жизнедеятельности, человеческого бытия. Осознание
139
жизненного смысла этой деятельности составляло первичную
концептуальную основу исследования и обоснования нормативной
значимости специальных техник научного познания, нормативной
значимости специальных методологических образований. Бэконовская
разработка индуктивной логики приобретала методологический смысл
только в контексте задач «великого восстановления наук», т. е . как аспект
широкой программы перестройки всего мышления на основе
мировоззренческой по своей сути идеи «естественной», не противоречащей
природе сущности человека. Картезианская дедукция также выступала в
качестве основы научного познания только в контексте мировоззренческой
идеи «здравого смысла», который «от природы у всех людей одинаков».
Ориентировавшиеся на науку философы Нового времени отчетливо
сознавали, что создание специального учения о методе науки возможно
только в виде прояснения и конкретизации жизненно-практического смысла
идеи истины (хотя и осуществляли проработку этой идеи в терминах
теологии).
К началу XVIII столетия наука наработала уже значительный массив знания,
сомневаться в истинности которого казалось просто неуместным. Наука
продемонстрировала свою практическую ценность, завоевала признание, и
потому мировоззренческое обоснование потеряло для нее особую
актуальность. Потеряло, заметим, не потому, что ее мировоззренческие
основания были недостаточно глубоко продуманы, но как раз напротив,
благодаря их адекватности наличной практике общества, благодаря тому, что
ориентированное ими исследование поставляло практически необходимое
знание. Породившая науку историческая потребность стала доминирующей
исторической реальностью. Мировоззрение не исчезло, оно просто
превратилось из посылки научной практики в не всегда осознаваемую
предпосылку, растворилось в реальности науки, ее нормах и идеалах.
Многим казалось, что соответствующие методологические потребности
наука может удовлетворять более простым и эффективным способом —
путем описания этой реальности с помощью средств самой частной науки.
Таким путем успешно разрабатывалась техника научного исследования, а
общие задачи культурной ориентации науки решались независимо от
бесконечных философских споров. После Канта, предпринявшего
последнюю в рамках буржуазной философии серьезную попытку
синтезировать, так сказать, культурные и технические аспекты науки,
внутринаучная рефлексия выделяется как особый тип методологического
сознания. Попытки сохранить такой подход к науке предпринимаются на
Западе и ныне. Но сегодня это достигается весьма дорогой ценой.
140
В «западной» философии науки 60-х годов все более нарастает интерес к
выявлению концептуальных каркасов, в рамках которых нормы организации
знания приобретают определенность. Их реконструкция позволяет
рационально объяснить, почему ученый, конструируя научную теорию,
поступает так, а не иначе, почему он принимает одни формы теоретической
организации эмпирии и отвергает другие, не менее корректные с логической
точки зрения. В труднейших для внутринаучной рефлексии случаях — в
случаях научных изменений, затрагивающих фундаментальные концепции,
—
можно просто указать на смену концептуальных каркасов, и
рациональность деятельности ученого восстанавливается. Правда,
необъяснимым остается переход от каркаса к каркасу, но зато внутри
каждого из них может быть отчетливо прояснена интеллектуальная
перспектива, определяющая концептуальный уровень деятельности ученого
и тем самым допустимые и желаемые способы теоретической организации
знания. Такая реконструкция требовала привлечения ряда гуманитарных
наук (психологии, лингвистики, социологии), что обеспечивало ей успех в
области истории науки. Большие надежды возлагались на эти дисциплины и
в плане формирования целостного, методологически значимого образа науки.
Но от этих надежд пришлось довольно скоро отказаться.
В данной, статье нет необходимости и места рассматривать современные
концепции западной «философии науки». Отметим только одну характерную
особенность постпозитивистских построений. Она очень рельефно
обнаруживается, например, в концепции Т. Куна. Его взгляды наиболее
полно изложены в книге «Структура научных революций», но на самом деле
никакого теоретического анализа структуры революций в ней не содержится.
В книге можно найти подробное описание характера работы ученого внутри
концептуального каркаса (что фиксируется в понятиях «парадигма»,
«нормальная наука»), есть описание работы ученого до и вне парадигмы
(«допарадигмальная наука», «экстраординарная наука»). содержится
всесторонний анализ причин, по которым изменение парадигм не может быть
представлено в терминах логики, и даже содержится намек на возможные
социологические и психологические экспликации этого изменения, но
теоретического рассмотрения факторов, определяющих смену парадигм,—
научную революцию как таковую — в книге нет. И это не следствие
незавершенности куновской концепции научных изменений. Отсутствие
общей теоретической экспликации структуры научных революций является
результатом его подхода к науке, характерного для любой разновидности
внутринаучной рефлексии, в том числе и для столь радикально критикуемых
Куном неопозитивистов; рациональная, методологически значимая оценка
научного знания возможна только на базе описания знания, принятого в
науке за истинное. Но, коль скоро сам статус истинности определяется
141
выбором концептуального каркаса — вот тут новейшая философия науки
расходится с позитивизмом, — универсальной оценки рациональности быть
не может.
Постпозитивисты по-разному относятся к идее иррациональности оснований
методологического сознания ученых (а стало быть, и науки как таковой).
Некоторые принимают ее как факт, даже как основополагающий. Другие —
видят свою задачу в том, чтобы максимально уменьшить ее значимость за
счет поиска историзованных форм научной рациональности. Но отказаться
вообще от идеи иррациональности оснований методологического сознания
науки они не могут, ибо эта идея является для них способом фиксации
предметного поля методологии, позволяющим формулировать хотя бы
локально эффективные методологические нормы.
Что же касается Куна, то он полагает, что любая теория сталкивается с
контрпримерами, но будут ли они рассматриваться как предпосылки
революционной смены парадигм или просто как источник головоломок,
решение которых составляет основу нормальной деятельности ученых,
невозможно утверждать на базе универсальных норм. «.. .Если аномалия
должна вызывать кризис, — пишет Кун, — то она, как правило, должна
означать нечто большее, чем просто аномалию. Всегда есть какие-нибудь
трудности в установлении соответствия парадигмы с природой; большинство
из них рано или поздно устраняется, часто благодаря процессам, которые
невозможно было предвидеть. Ученый, который прерывает свою работу для
анализа каждой замеченной им аномалии, редко добивается значительных
успехов. Поэтому мы должны спросить, что именно в возникшей аномалии
делает ее заслуживающей сосредоточенного исследования, и на этот вопрос,
вероятно, нет достаточно общего ответа»137
. А значит, невозможна и общая
формулировка методологических оснований выбора парадигм.
В этом пункте куновская позиция была подвергнута резкой критике, и весьма
показателен тот путь, на котором он попытался преодолеть неизбежно
возникающие здесь релятивистские выводы. Нормальная наука, по Куну,
кумулятивна, поскольку решение задач и головоломок осуществляется в ней
под эгидой парадигмы. Но время от времени нормальное развитие науки
прерывается; ученые теряют доверие к стратегиям решения задач, которые
генерирует данная парадигма, начинают искать альтернативные модели и в
конце концов переходят к ним. Однако будет ли такое изменение
кумулятивным? Будет ли новая парадигма лучше с какой-либо точки зрения?
Кун предположил, что выбор между парадигмами, также как и рациональная
деятельность внутри парадигм, коренится в свойствах научного сообщества.
137
Кун Т. Структура научных революций. М., 1977, с. 116.
142
Но выбор — действие совершенно иного рода, ибо он не узаконивается
апелляцией к принципам или прецеденту. Выбор напоминает религиозный
переворот или переключение гештальта — фактор, скорее вторгающийся в
нормальную науку, чем вырастающий из нее. Поэтому обращение к природе
научного сообщества для обоснования и объяснения столь противоположных
и даже взаимоисключающих способов деятельности ведет к противоречию.
Кун пытается преодолеть это затруднение, меняя исходную позицию: под
давлением критических замечаний он вводит понятие «вневременных
ценностей» (paramount values), которые позволяют ученым ориентироваться
в периоды выбора парадигмы138
, т. е . фактически отказывается от идеи, что
приверженность ученых к вполне определенным концептуальным каркасам
является способом деятельности только в рамках «нормальной науки» и
превращает эту приверженность в универсальную характеристику науки,
удивительным образом напоминающую «бескорыстное стремление» к
вневременным, предположенным процедурам. Отказаться от идеи, что
рациональная оценка научного знания ограничивается исключительно
нормами организации опыта, гарантирующими прирост данного типа знания,
и предположить, что подобная оценка должна включить в себя также
практическую обусловленность науки, Кун не пытается.
Интересно отметить, что против куновских «вневременных ценностей»
выступили западные социологи науки, т. е . представители как раз той
дисциплины, на которую Кун возлагал особые надежды. Идея
социоисторической обусловленности научного знания открыла для них
перспективу исследования социальных процессов, протекающих в научном
сообществе в ходе эволюции той или иной парадигмы. Приверженность
ученых к этим парадигмам не может быть полностью прояснена в терминах
логики, но она может получить хотя бы частичную экспликацию в терминах
социологии. Однако если ученые привержены не к данным частным
парадигмам, не к единству мнений в том или ином сообществе, а к
«нормальности» и «групповому единству» как таковым, социологическая
перспектива исчезает. Ведь именно благодаря тому, что ученые не способны
дать когнитивную оценку парадигмы как таковой, не способны
сформулировать идеал парадигмы, социологическая структура сообщества
ученых, поддерживающая ориентацию на парадигмы, приобретает
когнитивную значимость, а социология науки — специфику. Прослеживая,
как данная парадигма определяет ход конкретной работы ученого, социолог
получает возможность объективно исследовать специфическую структуру
социума науки. В противном случае он отличается, скажем, от социолога
138
См.: Kuhn Т. S . Logic of Discovery or Psychology of Research. — In: Criticism and the Growth of
Knowledge / Ed. by I. Lacatos and A. Musgrave. Cambridge, 1970, p. 1—24.
143
кино только сферой приложения социологических понятий. Попытки ввести
вневременные характеристики парадигмы в качестве реально действующего
фактора методологического сознания ученых отбрасывают социологию
науки вспять, к мертонианскому подходу 40-х годов. Не желая в угоду
эпистемологическим нуждам терять перспективу, социологи науки на Западе
предпочитают держаться некоторого методического варианта релятивизма
(«методологический агностицизм» — Кинг, Барнес и др). Они полагают, что
именно благодаря тому, что Кун учел момент «эпистемологического
иррационализма» среди ученых, открылась дверь для социологического
анализа научного развития139
.
В действительности, однако, «дверь для социологического анализа научного
развития», как, впрочем, и для других типов гуманитарного исследования
науки, открыл отнюдь не учет «эпистемологического иррационализма»
ученых. Специфические для современной науки тенденции —
интенсификация прямых связей с производством, прогрессирующая
институциализация, повышение роли планирования научных изысканий, и
пр., — все эти тенденции отчетливо демонстрируют нарастающую
зависимость науки от факторов, которые не могут быть учтены путем
простого описания сложившихся в науке методологических норм.
Ориентация на решение конкретных практических задач ведет к
выдвижению на передний план научных исследований, где оценка
приемлемости знания осуществляется не только с точки зрения устоявшихся
канонов научных дисциплин, но по преимуществу на базе довольно
расплывчатых, зачастую интуитивно принимаемых (зато «предметных»)
требований утилизации знания140
. Более того, решение практических задач
предполагает в большинстве случаев комплексное исследование, т. е .
привлечение дисциплин с различными, иногда взаимоисключающими
стандартами, а нынешний этап институциализации превращает отдельного
ученого в элемент «квазиличностного разума» познающего коллектива. Но
все это может рассматриваться как свидетельство в пользу релятивизма
только лишь при отсутствии подлинной исторической, диалектической
перспективы, в контексте которой знание выступает не только как продукт
деятельности сообразно сложившимся идеалам истины, но включает в себя
все многообразие практических отношений к миру.
В этом контексте нынешний этап развития науки предстает как период
глубокой перестройки ее нормативной структуры, ее идеалов и целей,
139
См.: Social Processes of Scientific Development/Ed, by R. Whitley. London; Boston, 1974.
140
Эту утилизацию не следует понимать слишком прямолинейно — только как использование
промышленностью результатов научного познания. Промышленной стала экспериментальная
база самой науки, и решение возникающих в ней технических задач прямо сказывается на
стандартах научности.
144
обусловленный изменением характера практической деятельности людей. На
такой подход к исследованию современной ситуации в науке ориентирует
марксизм. Поэтому именно с практической точки зрения следует оценивать
протекающие в современной науке процессы. Но при этом не следует
забывать, что задачи общественно-исторической практики реализуются
наукой в специфическом виде — в способах организации эмпирического
опыта по нормам языка науки, что сложившиеся на практической основе
формы этой организации сами становятся основой дальнейшего движения и
что именно благодаря возникающей тем самым автономности
(относительной самостоятельности) науки она может фиксировать и
удовлетворять общественную потребность, а не частные прихоти.
Практический взгляд на науку не исчерпывается ссылкой на ее зависимость
от производственных или непроизводственных нужд, а состоит прежде всего
в последовательном рассмотрении всех ее структур как имеющих не только
значение средств организации опыта, но содержащих в себе также и
специфический смысловой аспект общения. Наука есть феномен культуры —
деятельности, взятой в аспекте общения. Как таковая она выполняет в
культуре определенные функции — формулирует общий взгляд на мир. И
именно осмысление этого аспекта научной деятельности становится
ведущим в периоды значительных перестроек, ведущим также и в контексте
задач формирования методологического сознания наук.
Рассмотрение смысловых аспектов науки в целостной системе конкретной
общественно-исторической практики людей — задача философии,
диалектико-материалистического учения о человеческом познании,
гносеологии. Сегодня такое исследование приобретает особую актуальность,
ибо имеются основания полагать, что современная наука переживает
изменения, глубина и значимость которых позволяет сопоставить нынешний
период ее развития, пожалуй, что с Новым временем.
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФЕНОМЕН НАУКИ
Ю. А. ШРЕЙДЕР
1. Особенность позиции гносеолога
Будущему историку сегодняшние достижения науки могут показаться столь
же необъяснимыми (или, что то же самое, объяснимыми лишь с помощью
гипотезы о вмешательстве инопланетян), как историку сегодняшнему —
некоторые сооружения древности. Эффективность научных методов
поразительна. Наука обладает странным «секретом» получать сильные
прогнозы на весьма слабых, как часто потом выясняется, исходных
145
основаниях. Более того, «тупики» и противоречия, возникающие время от
времени в сфере научного познания, стимулируют новые идеи и -
оказываются источником научного прогресса. Достаточно упомянуть
«парадоксы», связанные с излучением абсолютно черного тела, с увлечением
эфиром, трудности с проблемой континуума и программой формализации
математики, «кошмар Дженкинса» в теории наследственности, и т. д . Этот
опыт питает уверенность ученого в состоятельности и эффективности
научного метода вплоть до стремления распространить научный подход на
сферу «вечных проблем», которыми мучается философское познание.
На этой (оправданной опытом) уверенности науки произрастает философия
позитивизма, сводящего роль философии лишь только к задаче обобщения
части научных данных и построения общенаучной картины мира. Именно
против такого низведения философии на один уровень с частной наукой
резко возражал В. И. Ленин в известных замечаниях на книгу Абеля Рея.
Философ (гносеолог) не может просто принять эту уверенность. Задача
диалектической теории познания — объяснить феномен науки и выявить, что
представляет из себя эта загадочная эффективность научного подхода. Тем
самым научное знание становится предметом теории познания.
Существенным моментом здесь оказывается выделение позиции гносеолога,
отличающейся от позиции конкретного специалиста, ученого-исследователя
природы. Именно отрицание особенности позиции гносеолога специфично
для позитивизма, в то время как отрицание специфичности позиции ученого-
исследователя (редукция ее к позиции философа) характерна для того, что
мы называем «натурфилософским» подходом.
Диалектичность познания проявляется уже в самом выделении,
принципиально разных, хотя и предполагающих друг друга и
взаимодействующих позиций. Дело ведь не только в том, что предмет
интересов гносеолога отличен от предмета исследовательской деятельности
специалиста в области конкретных наук. В принципе гносеолог может,
рассматривая знание, интересоваться и предметом этого знания. Важно то,
как он этим интересуется. Важна именно позиция, а не охватываемая
предметная область. В некотором смысле позиции исследователя в области
конкретных наук и гносеолога-диалектика противоположны. Ученый
стремится построить логически непротиворечивую модель изучаемого
фрагмента действительности, а диалектик пытается выявить и довести до
крайней отчетливости противоречия этой же действительности. Диалектик
стремится увидеть явления в их целостности и взаимосвязи, а ученый обязан
выделить фрагменты действительности, в которых пригоден его
инструментарий. Философ-диалектик утверждает, что мир неисчерпаем, а
ученый пытается дать исчерпывающую картину мира, зафиксированную в
146
научной концепции. Ученый стремится достичь логически замкнутого
описания хотя бы фрагмента мира, хотя бы в некотором аспекте описания.
Астроном не может одновременно смотреть в телескоп и любоваться
красотой небосвода. «Открылась бездна звезд полна. Звездам числа нет.
Бездне дна», — пишет не астроном, а поэт Михаил Васильевич Ломоносов.
Вера ученого в абсолютную непреложность создаваемых моделей столь же
неприемлема для гносеолога, как для ученого, часто кажется необъяснимым
стремление диалектика работать с противоречиями. Парадокс состоит в том,
что сама наука развивается диалектически — гносеолог видит
диалектичность, находясь во внешней по отношению к науке позиции, т. е .
не тот или иной отдельный фрагмент научного знания, а науку в ее развитии,
в широкой исторической перспективе. Для самого же ученого
противоречивость науки представляется тем несовершенством, которое он
призван преодолеть. Ученый осознает свою зависимость от логики и фактов,
но не от преходящих предрассудков, образующих научную парадигму.
Последние представляются ему положениями, не подлежащими не только
сомнению, но даже выявлению. Обнаружить существование парадигмы (и
тем самым историческую смену парадигм) удалось не специалистам в
области конкретных наук, а науковедам, сумевшим занять объективную по
отношению к науке позицию: увидеть науку в развитии.
Разумеется, противопоставление ученого и гносеолога имеет ролевой
характер — противопоставляются роли, а не конкретные личности. Есть
ученые, хорошо понимающие необходимость гносеологические анализа, и
гносеолога, умеющие оценить красоту и значимость конкретного научного
результата, признавая теоретико-познавательный статус последнего. Это
означает не тождество указанных позиций, но способность конкретного
человека менять свою позицию: выступать в разных ролях. Обычно именно
возможность получать эффективные результаты питает уверенность
исследователя в самодостаточности конкретно-научной позиции.
Необходимость же перехода к позиции гносеолога вызывает скепсис, в
котором воплощена вера некоторых естествоиспытателей в полную
бесполезность для науки обращения к «метафизическим» проблемам теории
познания. По сути дела, такой скепсис по отношению к «метафизике» есть
отрицание диалектики и благодатная почва для возникновения философского
позитивизма. Поэтому для теории познания актуальна задача выяснения
гносеологических оснований поразительной эффективности научных
методов.
И. Кант видит эти основания в априоризме категорий, в которых
человеческий разум представляет действительность. Познаваемым
оказывается то, что имманентно разуму. По сути дела, это означает, что
147
человеческий разум (и, как главный частный случай, человеческая наука)
успешно изучает то, что фактически заранее есть достояние разума. С этой
точки зрения эффективность науки означает, что наука успешно изучает
категориальные сетки, накладываемые ею на действительность, но отнюдь не
самое действительность. По сути дела, логическое обоснование научного
знания есть реализация этой мысли.
Встав во внешнюю позицию гносеолога, Кант делает отсюда вывод о
существовании трансцендентных разуму «вещей в себе». Непознаваемость
«вещи в себе» не компрометирует эффективности науки, поскольку «вещь в
себе» лежит вне сферы научного познания. Граница между познаваемым и
непознаваемым, между сферой компетентности разума и областью
трансцендентного оказывается, в системе Канта, метафизическим абсолютом.
Этот абсолют «взрывается» диалектикой Гегеля, для которого предмет
обретает подлинность в процессе познания. «Предмет, каков он без
мышления и без понятия, есть некоторое представление или даже только
название; только в определениях мышления и понятия он есть то, что
он есть». Этой мысли Гегеля из «Науки логики» придавал существенное
значение В. И. Ленин141
. Логика познания, по Гегелю, оказывается логикой
самого предмета. Понятийное мышление позволяет обнаружить в предмете
логику развития Духа. Познать — это значит обнаружить в предмете
идеальное и зафиксировать его в доступных человеческому разуму понятиях.
В философии диалектического материализма это положение Гегеля
существенным образом корректируется — познание трактуется как
«отражение» предмета в общественном сознании, т. е ., по сути, «перенос»
предмета в сферу идеального, которое существует не как частное сознание
субъекта, но как некая объективная реальность, связанная с человеческим
обществом в его истории142
. Это «освоение» предмета в сфере идеального в
значительной мере составляет функцию науки.
Отсюда вытекает первостепенная важность для теории дознания изучения
феномена науки в его реальной истории. «Продолжение дела Гегеля и
Маркса должно состоять в диалектической обработке истории человеческой
мысли, науки и техники»143
. Слово «диалектический» в данном контексте
чрезвычайно существенно. Было немало попыток предложить взамен
известных в науке теорий, якобы идеалистических и метафизических, новые
«диалектические». Практически это приводило к отвержению прогрессивных
научных концепций, к неприятию современных научных идей и теорий —
таких, как теория относительности, квантовая механика, молекулярная
141
См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 206.
142
См.: Ильенков Э. В. Проблема идеального. — Вопр. философии, 1979, No 6—7.
143
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 131.
148
генетика, химическая теория резонанса, кибернетика и т. п. Подобные
попытки были заранее обречены на неудачу, ибо они основаны на неверном в
корне понимании диалектики, на отрицании специфики гносеологического
исследования. По сути дела, это ошибки позитивистского или
натурфилософского толка. В одних случаях они основаны на вере в
абсолютизм конкретного частно-научного знания, в других — на столь же
наивной вере в то, что философствование может подменить конкретные
частно-научные исследования.
«Диалектическая обработка» истории науки состоит, на наш взгляд, прежде
всего в том, чтобы, следуя Гегелю и Марксу, рассмотреть ход научного
познания с позиции гносеолога — увидеть науку в ее целостном отношении к
миру, во всей противоречивости ее развития.
Ученый работает с материальным миром, «пересаженным в человеческую
голову и преобразованным в ней» — преобразованным (добавим мы)
согласно принятым сегодня в науке методам и правилам. Ученый смотрит на
мир сквозь «подзорную трубу» созданных наукой концепций и освоенного
им мировоззрения. Он не может одновременно «рассматривать мир» и
думать об устройстве «подзорной трубы». Он не видит подзорную трубу, он
видит через нее. Чтобы осмыслить отношение «подзорной трубы» и «мира»
надо по крайней мере занять позицию вне соединяющей их «прямой». Это и
есть позиция гносеолога. Но при этом нельзя отказаться и от позиции
наблюдающего через трубу, иначе мир не будет виден. Диалектика не
случайно происходит от слова диалог. Она подразумевает наличие
нескольких позиций, между представителями которых возможен
плодотворный диалог. (Собственно, и наука состоит не из одного
наблюдателя, а многих, рассматривающих мир через различные приборы.
Наука не похожа на наблюдателей, любующихся вместе одной и той же
прекрасной панорамой через одно огромное окно. Скорее это совокупность
или сообщество наблюдателей, смотрящих на мир через выходящие в разные
стороны окна. Согласование открывающихся картин оказывается сложной
методологической и гносеологической проблемой).
Необходимую многоплановость позиций удобно пояснить следующим
образом. Представим себе космический корабль с экипажем, который пилот
ведет, опираясь на показания приборов и телеэкранов. Пилот фактически
совершает привычные манипуляции на пульте управления, стремясь
привести показания приборов в соответствие с некоторым заданным
положением. Эти свои действия он осознает как управление кораблем в
соответствии с поставленной целью. Для пилота безусловным является тот
факт, что показания приборов и экранов отражают положение и параметры
траектории корабля в космическом пространстве относительно небесных тел.
149
Приборы и экраны — это для пилота чувственные образы внешнего мира,
представление о котором постулировано заранее. Позицию и внутреннюю
установку пилота вполне можно уподобить позиции конкретного
исследователя природы, воспринимающего ее как пространство чувственных
образов, интерпретируемое с помощью заранее имеющейся модели мира.
Позицию пилота внутри корабля естественно обозначить как внутреннюю.
Точно так же естественно назвать и позицию ученого, стоящего перед
своими эмпирическими и теоретическими «экранами» и усматривающего на
них изображение определенным образом представляемого себе мира.
В экипаже космического корабля есть свое место и для «методолога»,
рефлексирующего о действиях пилота с той же внутренней позиции.
Осмысляя действия пилота с точки зрения их эффективности в рамках
принятой картины мира, методолог может помочь пилоту найти наиболее
эффективную с точки зрения данной картины тактику управления. Он,
фактически, отвечает на вопрос: «Как получить и использовать знание о
мире, имеющем определенную природу, с помощью имеющихся в
распоряжении средств?». Аналогичную роль выполняет исследователь
«технологии познания» в научном исследовании. Но можно себе представить
среди членов экипажа того, кто рискнет мысленно выйти за пределы корабля
и поставить вопрос совсем по-другому: «Каковы основания считать, что
показания приборов и экранов выражают представление об определенным
образом устроенном космосе?». Этому человеку (гносеологу в силу занятой
позиции) могут прийти в голову самые странные вопросы. Например, он
может усомниться в том, что корабль вообще находится в космосе, а не стоит
на испытательном стенде. (Такова ситуация в одном из рассказов С. Лема о
пилоте Пирксе, сумевшем «спастись» в, казалось бы, безвыходной
обстановке. В то же время его напарника вынесли со стенда в обмороке: он
«врезался в Луну»). «Гносеологу» может прийти в голову, что показания
приборов могут оказаться результатом их собственного функционирования,
не связанного ни с какой внешней деятельностью. Эта «солипсистская» идея
как-то пришла в голову тому же пилоту Пирксу в другом рассказе С. Лема и
спасла его (и не только его) от верной гибели.
В «штатных ситуациях» присутствие в экипаже гносеолога может быть даже
мешающим непосредственным целям управления кораблем. Но в науке
«нештатные ситуации» возникают достаточно регулярно.
Эффективность науки связана со способностью человека хорошо
адаптироваться к штатным ситуациям. Для успешных действий пилота во
многих случаях достаточно знания того, что связь между управляющими
воздействиями «пилота» и показаниями «приборов» оказывается (в штатных
ситуациях) весьма регулярной. Именно поэтому пилота можно обучать
150
успешно на тренажере, когда показания приборов идут не от внешнего мира,
но искусственно задаются программой. Аналогично этому ученый может
изучать мир, оперируя с моделью на ЭВМ. Методология науки успешно
накапливает опыт оперирования с чувственными данными, позволяющий
придавать этим данным устойчивую интерпретацию, используя
традиционные нормативы. Так, например, в науке выработано твердое
правило — повторять измерения, а результаты повторных измерений
усреднять. Как правило, усредненные характеристики более устойчивы и
воспроизводимы, нежели индивидуальные результаты измерений. Из этого
ученый и специалист по «технологии познания» склонны сделать вывод, что
акт измерения соответствует реально существующей физической величине,
хотя с позиции гносеолога этот вывод можно подвергнуть сомнениям.
Эффективность научных методов может быть связана не только с их
достоверностью, но и возможностью получать практически
воспроизводимые результаты.
Мы не можем гарантировать, что «подзорная труба», через которую
исследователь «смотрит на мир», не дает искажений. Но опыт науки говорит,
что эти искажения по крайней мере регулярны, и поэтому получаемая
картина допускает удобную для практической деятельности интерпретацию.
Преобразование материального мира в идеальную научную картину
происходит устойчиво и обеспечивает эффективность научной деятельности
в «штатных ситуациях».
2. Методологический порочный круг
В каждом конкретном методе, используемом в научных исследованиях,
содержится явное или неявное онтологическое представление об изучаемых
объектах. Например, статистическая обработка измерений предполагает, что
факторы, сказывающиеся на результате измерения, можно разделить на
систематические и случайные, а последние имеют вероятностную природу.
Характерный для естествознания общий метод расчленения сложных
объектов на элементарные объекты универсальной природы основан на
представлении о том, что свойства сложных объектов определяются в
конечном счете свойствами простейших частей. Идея поиска материального
носителя «наследственного кода» основана на общем представлении о том,
что информационные процессы определяются кодом, в котором представлена
информация. Идея Декарта и Лейбница об универсальном научном методе
связана с совершенно определенным онтологическим представлением —
представлением об «онтологической однородности» мира.
151
Существование в науке прямо противоположных познавательных
установок144 заставляет осознать недекартов характер современной научной
методологии, связанный с признанием онтологического разнообразия мира.
Универсализм диалектического метода не противоречит сказанному, ибо он
принципиально отрицает превращение в абсолют любой научной модели.
Диалектический метод требует выявления антиномических черт
действительности и тем самым не дает абсолютизировать ту или иную
познавательную установку исходя из требования конкретности истины.
Строго говоря, само понятие «диалектический метод» относится уже не к
узко понятой «технологии мышления», но к теории познания. Применение
диалектического метода требует выхода из внутренней позиции конкретного
частно-научного исследования и поиска необходимых альтернатив к
используемым в этих исследованиях установкам.
Сделав эту необходимую оговорку, мы будем ниже понимать под методом
только конкретные частно-научные методы. Представим себе, что некоторый
метод, основанный на определенной онтологической схеме исследуемого
объекта, применяется к объекту, для которого эта схема недействительна.
Можем ли мы в результате применения этого метода обнаружить, что
исследуемый объект не укладывается в соответствующую онтологическую
схему? Вообще говоря, такого знания исследователь, оставаясь во
внутренней позиции, получить не может. В самом деле, все, что дает ему
результат применения данного метода в неподходящих условиях, — это факт
отсутствия четких и «окончательных» результатов. Но этот факт всегда
можно интерпретировать как сложность конкретного объекта, требующая
более изощренного использования тех же методов. Уверенность в принятой
онтологической схеме является для ученого исходной. Она препятствует
смене познавательной установки и поиску иных онтологических схем. Более
того, даже появление новых онтологических представлений часто не
приводит к прекращению попыток решить проблему в традиционной
онтологии, за счет усовершенствования метода. Так, уже после
формулировки в квантовой механике так называемого дополнительного
способа описания Бора физики продолжали попытки интерпретировать
неопределенность в совместном представлении импульса и координаты
квантово-механической частицы за счет введения «скрытых» параметров,
статистический разброс которых отвечает за эту неопределенность. Даже
появление точной теоремы фон Неймана, показывающей принципиальную
невозможность объяснения квантовой неопределенности «скрытыми
параметрами»145
, не прекратило подобных поисков. Идея, что
144
См.: Шрейдер Ю. А. Сложные системы и космологические принципы. — В кн.: Системные
исследования: Ежегодник, 1975, М., 1976.
145
См.: Манин Ю. И. Доказуемое и недоказуемое. М ., 1979, с. 89 .
152
неопределенности подобного типа могут быть сняты за счет
«доопределения» системы до полностью заданной, и сегодня имеет своих
приверженцев. Так довлеет исследователю принятая онтологическая схема.
Изучая живой организм как физико-химическую систему, исследователь
ничего и не узнает об организме, кроме его физико-химических свойств.
Анатомируя труп, никому не удавалось открыть свойств живого.
Оказывается, анатому легче счесть это доказательством отсутствия
специфики живого, чем задуматься о том, что анатомирование трупов —
негодный метод для изучения природы живого. Если исследователь верит,
что человеческое сознание устроено аналогично процессам, происходящим в
компьютерах, то он ничего не обнаружит в сознании, кроме машино-
подобных процессов, реализуемых в мозгу по тем же принципам, по которым
функционируют вычислительные машины. Отсутствие четких научных
результатов всегда может интерпретироваться как следствие чисто
количественной сложности человеческого интеллекта и временное
отсутствие подходящих технических средств для его моделирования в
компьютере. Пилоту Пирксу в рассказе Лема было гораздо легче признать
собственную неумелость в управлении кораблем, чем додуматься до того,
что его корабль находится на испытательном стенде.
Итак, оставаясь во внутренней исследовательской позиции и приняв в
качестве исходного некоторый метод, основанный на тех или иных
онтологических предпосылках, невозможно выйти за пределы этих
онтологических предпосылок. Эту ситуацию естественно назвать
методологическим порочным кругом. Здесь лежит один из труднейших
барьеров собственно научного познания при возникновении «нештатных
ситуаций» — при переходе к изучению неклассических для данного
состояния науки объектов.
Преодолеть этот барьер научного познания как раз и помогает
диалектический метод — диалектика развития и теория познания. Сегодня в
науке возникают принципиальные трудности с изучением эко-систем:
исследование экономии, экологии и других потенциальных эко-наук. Об
этом, в частности, очень интересно написано в книге Н. Н. Моисеева146
,
излагающей конкретный опыт работы математика, занимавшегося изучением
сложных систем. В этих системах трудности связаны, в частности, с
отсутствием четких критериев оптимальности. Цели, позволяющие говорить
об оптимальном режиме системы, здесь не задаются извне, как это
свойственно привычным для математики и кибернетики техническим
системам, но формируются внутри самих систем. Н. Н. Моисееву
146
См.: Моисеев Н. Н. Математика ставит эксперимент. М ., 1979.
153
принадлежат очень интересные методологические идеи изучения подобных
систем. Но все-таки решающее слово о том, что при изучении подобных
систем необходимо рассматривать принципиально иную онтологию, было
сказано гносеологом. Мы имеем здесь в виду принципиальную статью Б. А.
Ласточкина, в которой говорится о необходимости придания
онтологического статуса таким категориям, как «возможность» и
«прогноз»147
. Как пишет Б. А. Ласточкин: «Понимание функционального,
процессирующего и саморазвивающегося объекта, имеющего в качестве
движущей причины противоречие, рефлексию, целеполагание, — такое
понимание еще не овладело „массовым сознанием" (ученых. — Авт.), хотя
возрастающая роль экономической, социологической и экологической
проблематики ... оставляет надежду на неизбежность диалектизации
научного мышления. Современной науке все чаще и чаще приходится иметь
дело с объектами, в которых оперирующий и прогнозирующий субъект
внутренним образом, органически включен в процесс функционирования и
развития. Специфика именно таких объектов вызвала к жизни прогностику,
исследование операций, теорию принятия решений и тому подобные
дисциплины, остро нуждающиеся в новой онтологии»148
.
Нам представляется, что роль общей теории систем в современной науке в
значительной мере состоит в расширении необходимых онтологических
представлений, что позволяет преодолевать предрассудок онтологической
примитивности мира и связанный с ним позитивистский редукционизм в
научном исследовании живой природы и человеческого общества.
Об особых качествах системности и организменности интересно написал
биолог А. А. Любищев149
. Он одним из первых среди биологов обратил
внимание на философско-методологический характер трудностей, стоящих
перед теоретической биологией. По существу, он указал на имеющиеся в
классической биологии барьеры, связанные с методологическими порочными
кругами. Так, еще в одной из ранних работ он заметил, что традиционная
методология позволяет говорить о механизмах передачи наследственности
признаков, но не дает возможности подойти к гораздо более важной
проблеме осуществления этих признаков в онтогенезе. Философская критика
А. А. Любищевым традиционных биологических воззрений весьма
существенна для намечающегося перехода к неклассической науке150
.
147
См.: Ласточкин Б. А . О диалектическом объекте и модальной онтологии. — В кн.:
Диалектическое противоречие. М ., 1979, с. 180 -190.
148
Там же, с. 181 —182.
149
См.: Любищев А. А. Системность и организменность. — В кн.: Труды по знаковым системам.
Тарту, 1978, вып. 9.
150
См.: Мейен С. В., Соколов Б. С ., Шрейдер Ю. А . Классическая и неклассическая наука: Феномен
Любищева. — Вестн. АН СССР, 1977, No 10, с. 112—124 .
154
Системный подход обогатил науку представлением о целостном характере
объектов, о необходимости многоаспектных представлений объектов
системной природы, о системных механизмах целеобразования и
целеполагания. Воздействие системного подхода на науку привело к
изменениям в самом представлении о том, что такое научное объяснение
явления. Традиционное для классической науки объяснение состоит в
обнаружении причинностного механизма; системное — дает возможность
апеллировать к таким целостным факторам, как, например, симметрия или
упорядоченность системы. В этом можно усмотреть идейное родство
системного подхода с квантово-механической методологией.
Нетрадиционность последней, как это ни парадоксально, несколько
затемняется обилием решенных конкретных задач. Связь системных идей с
квантовой механикой заслуживала бы специального рассмотрения.
Таким образом, обогащая онтологические представления по сравнению с
классическими подходами151
, общая теория систем вводит в науку
специфические нормативы оперирования со знанием. Если в первом аспекте
общая теория систем выступает как некоторое общенаучное направление, то
во втором она же выступает как некоторый полезный образец конкретного
частно-научного описания. Это объясняет известную трудность
категориального отнесения общей теории систем к тому или иному уровню
познания. Соответствующее решение зависит от аспекта рассмотрения, но
разделить полностью эти аспекты невозможно.
Сама наука может быть рассмотрена как сложная система. Подобная
постановка вопроса заставляет искать в структуре науки системообразующие
факторы, обусловливающие единство и взаимодействие слагающих науку
дисциплин.
Классические науковедческие модели развития науки основывались на
постулировании марковского152 характера развития науки: предполагалось,
что состояние науки в данный момент определяет по крайней мере
вероятности возможных переходов науки в новые состояния. Подобные
марковские модели сыграли заметную роль в наукометрических моделях
роста науки. Но значение представления о марковском характере развития
науки далеко выходит за пределы количественных наукометрических
методов. Сегодня можно уже с полным правом говорить о немарковском
науковедении, опирающемся на системные представления о природе науки.
151
См.: Шрейдер Ю. А. Теория множеств и теория систем. — В кн.: Системные исследования:
Ежегодник, 1978. М ., 1978, с. 70 —85.
152
Речь идет о теории особого типа случайных процессов, разработанной выдающимся русским
математиком конца XIX — начале XX столетий А. А . Марковым.
155
С внутренней позиции можно обнаружить в науке такие системообразующие
факторы, как цели научного познания. Эти цели не могут быть полностью
описаны в рамках самой науки: в них входит социальный заказ общества,
связанный с осознанием общественной потребности в решении наукой
определенных социокультурных задач. Эти цели определяются тем самым не
самой по себе наукой (тем более ее состоянием в данный момент времени),
но культурой, в которую наука входит лишь как одна из важных компонент.
Единство социокультурных целей науки способствует взаимодействию
научных дисциплин, проявляющемуся во взаимном методологическом
обогащении153
. Исследуемые наукой методы сравнительно легко проникают
через междисциплинарные границы. Именно поэтому можно говорить о
междисциплинарном общенаучном подходе к проблеме, не оговаривая
каждый раз, какая именно область науки имеется в виду.
С внешней позиции можно увидеть единое нормативное пространство науки.
Каждый норматив — это образец поведения, записанный в социальной
памяти и тем самым доступный для воспроизведения. Нормативы науки
возникают в рамках конкретных дисциплин как определенные способы
оперирования со знанием, как использование определенных репрезентаторов
—
освоенных предметов или мысленных конструкций, через которые
представляется новое знание. Но эти нормативы не связаны жестко
междисциплинарными границами и формируют нормативное пространство
науки в целом154
.
С внешней позиции наука может быть рассматриваема как культурный
феномен, в котором осуществляется транслирование нормативов. С
внутренней позиции ученого эти же нормативы могут осознаваться и как
предписанные культурной средой науки нормы (обязательные методы, в
основе которых лежат навязываемые онтологические схемы), и как
допускаемые этой средой возможности творческого отношения к
действительности.
Возможность изучения науки с различных позиций определяет важную
особенность теоретического науковедения. С одной стороны, — это
конкретная наука, изучающая феномен науки как конкретное социальное и
культурное явление. С другой стороны, — это часть теории познания,
специально изучающая особенности и основания научного знания. Отказ от
любого из этих моментов сильно обеднил бы науковедение не только как
теоретическую область, но и как способ самосознания науки.
153
См.: Шрейдер Ю. А. Взаимодействие наук и синтез знания. — Природа,1979, No 10.
154
См.: Розов А. А. Проблемы эмпирического анализа научных знаний. Новосибирск, 1977.
156
Предметом науковедения является не только фактическая научная
деятельность в ее историческом развитии и представленная в ее собственной
рефлексии (представлении ученых как социального сообщества о
собственных целях и задачах). Отсюда видно, что, во-первых, изучение науки
невозможно вне исторического социально-культурного контекста и, во-
вторых, что изучение науки непосредственно влияет на ее самосознание.
Скажем, выдвинутая в науковедении идея исторической смены парадигм
помогла осознать преходящий характер многих установок,
представляющихся с позиции ученого «абсолютом» и «вершиной»
научности. А отсюда возникает осознанная потребность науки в
рассмотрении собственных проблем не только с методологической
внутренней позиции, но и с позиции гносеолога, позволяющей «разомкнуть»
методологический порочный круг.
3. Гуманитаризация знания
С точки зрения конкретного исследователя необходимость в рассмотрении
проблемы с гносеологических позиций возникает в сравнительно редких
«нештатных» ситуациях. Гносеолог для ученого—это «собеседник»,
потребность общения с которым возникает в особых случаях, когда обычные
полезные советы специалиста по «технологии мышления» явно не помогают.
(Подчеркнем еще раз, что, сопоставляя позиции конкретного ученого-
исследователя, «технолога мышления» и гносеолога, мы имеем в виду
прежде всего различие позиций, а не отличие персонажей. Одно и то же лицо
способно занимать в принципе разные позиции. Но при этом важно
различать эти позиции).
Итак, в рамках собственно научных исследований позиция гносеолога
представляется несколько изысканной.
К рассмотрению проблемы с этой позиции ученый готов лишь в особых
ситуациях, когда, говоря словами К. Маркса, «кретинизм
профессионализации» ведет к явному тупику. Повседневная эффективность
науки заставляет верить, что подобные ситуации весьма редки.
Представителю конкретной частной науки мешает признать необходимость
целостного знания, не укладывающегося в дисциплинарные рамки, именно
эффективность отлаженного механизма науки. Атмосфера науки
культивирует уверенность в успешности отлаженного пути научного поиска.
Дерзкий поиск нового в науке тесно связан с уважением к накопленным
традициям. Такое сочетание выражает некоторую моральную максиму,
вполне выводимую из практики научной деятельности. Крупного ученого
характеризует не компромисс между научным дерзанием мысли и почтением
к традиции, а максимальное развитие обоих качеств в их противоречивом
157
сочетании. Дерзость мысли, неуравновешенная по меньшей мере серьезным
отношением к тому, что уже есть, дает своеобразный тип «паранаучного»
деятеля, изобретающего очередной «вечный двигатель» или новую
спекулятивную теорию происхождения жизни, Вселенной, разума или языка,
не считающегося с накопленными фактами и культурой научного мышления.
Такая деятельность имеет право на существование, но не на признание в
качестве научной, ибо такое признание способствовало бы «загрязнению
среды» в науке. Чистое почтение к традиции создает вполне уважаемый тип
научного работника, но не им движется паука. Наконец, отсутствие как
дерзновенной мысли, так и уважения к традиции создает бессильного
скептика.
С позиции гносеолога уважение к традициям научного исследования есть
необходимая для ученого серьезность по отношению к нормативам как к
достоянию науки не менее значимому, чем добытые наукой фактические
сведения. В этом сила позиции ученого. Слабость же ее проявляется в
стремлении утвердить самодостаточность этой позиции и отказаться от
принципа множественности альтернативных позиций.
Слова «сила» и «слабость» — оценочны, и, употребив их, мы приняли на
себя обязательства ввести и обосновать такую систему ценностей, с точки
зрения которой можно оценивать состояние науки и возникающие в ней
процессы. До сих пор мы принимали как безусловную оценку, что барьер на
пути познания (тем самым методологический порочный круг) есть зло.
Подобная оценка безусловна в рамках собственно науки, когда высшей
ценностью считается знание. Не стремясь подвергнуть эту оценку сомнению
(а ведь можно было бы с общекультурной позиции установить
отрицательные свойства некоторых видов знания, особенно когда оно
заведомо неполно), мы только заметим, что эта шкала ценностей невыводима
в рамках самой науки, но внеположенна ей, выражая отношение к науке в
контексте определенной культуры.
Функция науки в обществе неоднозначна. Рассматривая разные аспекты
науки, мы можем найти разные основания для оценочных суждений. В
некотором смысле наиболее просто дело обстоит с технологической
функцией науки, которую мы будем понимать достаточно широко, включая
сюда и социологические методы анализа производства, и создание
письменности для ранее бесписьменных языков, и методы борьбы с
загрязнением среды, и мн. др. Все это можно обозначить как расширение
средств цивилизации на основе научных знаний. Сюда могут входить даже
средства самоуничтожения цивилизации.
158
История показала, что любое научное знание потенциально может быть
использовано. Как, например, резкое увеличение в США ассигнований на
такую область науки, как археологию, объясняется возросшим интересом к
причинам гибели древних цивилизаций. Тем самым получает свое
обоснование принцип безусловной ценности научного знания и возникает
возможность ценностного сравнения научных результатов через перспективы
их практического использования.
Отметим сразу же, что технологическое отношение к науке сводит (с точки
зрения самой науки) роль гносеолога к функции советчика, призываемого
лишь в особых «нештатных» ситуациях. А «технолог мышления» в этом
случае играет очень существенную роль. Именно ему принадлежит
решающий голос при выяснении, какими средствами лучше достигнуть
решения технологических задач. Гносеолог в этой ситуации лишь фиксирует,
как фактически (по каким нормативам) знание переводится в рецепт и
предписание практического действия.
Однако технологический (даже в самом широком смысле) аспект науки не
исчерпывает ее содержания. Как любой культурный феномен, наука обладает
самоценностью творчества. Как бы ни был практически ориентирован
ученый, занимаясь собственно исследовательской (собственно научной)
деятельностью, он ощущает, что не просто работает на упрочение
цивилизации, но создает некую культурную ценность. Добывая знание,
ученый (в большей или меньшей степени) испытывает соприкосновение с
миром непреходящих ценностей, значение которых не зависит от их
реальной пользы. Недаром в науке столь существенны эстетические
критерии. Ученый оказывается строителем культуры.
Но тогда результаты, добываемые наукой, принадлежат не только
цивилизации, не только в конечном счете миру создаваемых человечеством
вещей, но и миру культуры — ноосфере. Слово ноосфера выражает сегодня
не столько определенное понятие, сколько надежду на целостный,
общечеловеческий характер того, что производится человеческим разумом.
Это, по сути дела, предположение о том, что человек живет не только в той
или иной цивилизации, но и в мире общечеловеческой культурной общности.
В этом смысле позволительно говорить о ноосфере как о человеческой среде
обитания. Наука и искусство создают для этой среды необходимые предметы
обстановки — плоды своего творчества. Но ведь мастер, создающий предмет
обстановки для жилья, вовсе не занят планировкой жилища. Созданный им
предмет может быть установлен в то или иное место, и сама потребность в
этом предмете определяется и осмысляется не им. Этим занимается сам
хозяин дома или специалист-дизайнер.
159
Эту роль «дизайнера» в ноосфере выполняет гносеолог — в этом
особенность его позиции: внешней по отношению к конкретному творчеству
и потому позволяющей осмыслить целостную взаимосвязь продуктов
творчества.
Когда ученый занимается «чистой», а не «технологически ориентированной»
наукой, он действует как мастер, производящий те или иные предметы
потребления на рынок, а не в расчете на их конкретное помещение. Рынок
может оказаться затоваренным. Может возникнуть и дефицит необходимого,
и ситуация, когда остро необходимый предмет не может быть изготовлен.
При этом для хорошего состояния ноосферы необходимо, чтобы
«потребляемые предметы» производились. Чтобы наука оставалась живым
явлением культуры, нужно, чтобы творчество ученых происходило в
традиционных формах, чтобы функционировали лаборатории и
университеты. Когда некоторой областью науки перестают заниматься, она
становится лишь музейной ценностью, а не элементом живой ноосферы.
Сегодня, например, такова участь алхимии. Стихи Пушкина остаются живым
фактом русской культуры, пока есть версификаторы, создающие стихи по
нормативам пушкинской поэзии. Силлабические русские вирши XVII—XVIII
вв. в живую культуру уже не входят, и отнюдь не потому, что они сами по
себе плохи. Просто они уже не воспринимаются как действующий норматив.
Ноосфера дает общечеловеческое мерило ценностей для произведений
творчества. О том или ином творчестве можно говорить, улучшает ли оно
ноосферу или ухудшает. Это критерий весьма тонкий, и работать с ним
может только философ. По сути дела, ноосфера есть «воспитатель»
человеческого творчества. Точно так же как жилище воспитывает своих
обитателей, так и ноосфера воспитывает «обитающих» в ней людей путем
задания контекста для творчества. Но, как говорил К. Маркс, «воспитатель
сам должен быть воспитан»155
. Проблема организации и улучшения
ноосферы приобретает тем самым особый смысл. Она оказывается полем
активного творчества гносеолога, который, занимаясь «диалектической
обработкой» создаваемого наукой знания, «организует» ноосферу. На уровне
ноосферы гносеолог уже не тот «пассивный собеседник» ученого, к которому
последний обращается в крайних «безвыходных» ситуациях, связанных с
методологическим порочным крутом. Отношения гносеолога и конкретного
специалиста-исследователя в сфере науки — это лишь проекция их
отношений в ноосфере. Проекция, весьма слабо отражающая истинный
характер этих отношений. В ноосфере гносеолог оказывается активным
155
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 42, с. 262.
160
устроителем «жилого пространства» ноосферы, для которого ученый создает
«предметы потребления».
Итак, мы указали три возможные системы отсчета ценностей для науки.
Первый — это соотнесение науки с ее технологическими приложениями. В
данном случае ценность научных результатов оценивается через их
полезность с точки зрения определенной цивилизации. Второй — признание
самоценности научного знания и самодостаточности феномена науки. Третий
—
осознание науки как культурного феномена в контексте ноосферы.
Разумеется, сама проблема выяснения возможных ценностных систем
осмыслена только с позиции гносеолога — ученый и методолог работают по
заранее данной и не подвергаемой сомнениям шкале ценностей. Само
выяснение роли общекультурного контекста науки есть факт ноосферы, есть
результат гносеологической проблематизации феномена науки.
Сегодня в самой науке происходит процесс осознания ее теснейшей
зависимости от социального и культурного контекста. Фактически —
осознание человеческой природы науки, ее общечеловеческих корней. Этот
процесс, несколько по-разному трактуемый разными авторами, получил
название «гуманитаризация знания». В контексте сказанного ранее это
означает, что наука начинает осознавать значение «заказа» ноосферы и свое
значение как средства «обживания» ноосферы. Это требует перестройки
самосознания науки, о котором весьма четко пишет Л. К . Науменко: «Сейчас
все более явственно ощущается потребность в ином самосознании науки, в
другой ориентации, при которой «логика науки» выступала бы не столько
как «хитрость» человеческого разума, сколько как мудрость его...»
156
.
Другой вопрос, что это уже не будет только «логика науки», но та логика,
которую В. И. Ленин приравнивал к гносеологии.
Гуманитаризация знания связана с осознанием наукой роли человеческого
субъекта познания и тем самым сложности отношения между гуманитарным
и естественнонаучным знанием. Сегодня науке приходится отказаться от
убеждения о «несовместимости» науки с гуманизмом, с этическим и
эстетическим отношением человека к миру157
. Осознание необходимости
плодотворного познания наличия нескольких позиций, включая позицию
«собеседника»-гносеолога, отражает постепенное осознание наукой своей
культурной роли в рамках ноосферы.
В свое время исторический переворот в естествознании был связан с отказом
от рассмотрения механики как науки о механизмах. Ньютон стал
156
Науменко Л. К . Диалектико-материалистическая философия в современном мире. —
Коммунист, 1979, No 14, с. 47.
157
Там же, с. 47.
161
рассматривать механику как учение о силах природы. Само понятие силы из
чисто человеческого стало природным. Освобождение науки от
прямолинейной технологической ориентации заложило фундамент
неслыханных до того технологических приложений научного знания.
Великолепное развитие классической науки как самостоятельного
культурного феномена, как эффективнейшего средства получения
необходимых человечеству знаний привело к программе внутреннего
обоснования науки. Наука стала рассматриваться как самодостаточный
способ получения знаний, а внеположенные науке установки получили
статус необходимого условия существования науки. В этом понимании
природы науки коренятся истоки позитивистского редуцирования теории
познания к проблеме обобщения конкретного знания науки с конечным
отказом от признания самостоятельного значения диалектики.
Оказалось, что даже в математике программа замкнутого логического
обоснования, выдвинутая Д. Гильбертом, не привела к успеху. Более того,
фундаментальные результаты К. Гёделя показали иллюзорность этой
программы. Никакая достаточно богатая формально-логическая система не
может быть «полной» настолько, чтобы обеспечить собственными
средствами вывод всех суждений, истинных в этой системе.
Мы полагаем не только допустимым, но и плодотворным связать
неклассические тенденции в современной науке с ее «ноосферической
ориентацией», с осознанием ее роли в устроительстве и обживании
ноосферы.
Научное познание оказывается, таким образом, не самодовлеющим, но тесно
связанным с философской теорией познания. С позиции самой науки это
означает необходимость собеседника-гносеолога. С позиции ноосферы это
означает тесную согласованность культурной функции науки с творчеством
философа-гносеолога.
Обоснование науки заключается в ее пригодности и необходимости для
устроительства ноосферы, а адекватность научного знания оказывается
обусловленной тем, что ноосфера не может строиться на субъективных
иллюзиях. Стремление науки к истине есть результат общечеловеческой
потребности в истине — как основании ноосферы. Наука же оказывается с
этой общефилософской точки зрения не бескорыстным созерцанием
природы, но активной познавательной деятельностью, органически
включенной в общечеловеческую деятельность по устроительству ноосферы.
Тем самым научное познание оказывается соотнесенным с высшими
эстетическими и ценностными критериями.
162
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИСТОРИИ НАУКИ
В. С. ЧЕРНЯК
Традиционно понятие истории связывают с познанием прошлого людей.
«Этот термин, как мы его понимаем, — пишет видный французский историк
науки А. Койре, — в собственном смысле применяется к человеческой
истории, к прошлому людей. Но он заключает в себе двусмысленность: он
обозначает, с одной стороны, совокупность всего того, что случилось до нас,
т. е . множество фактов и событий прошлого, которые можно было бы назвать
«объективной историей» или «действительностью прошедшего». С другой
стороны, этот термин обозначает рассказ, объектом которого является само
это прошлое»158
.
Прошлое в первом смысле актуально нам не дано: оно рассеялось и стало
недоступным чувственному восприятию. Непосредственно мы имеем дело
только со «следами» прошлых событий (свидетельствами, памятниками и т.
д.) . Функционально эти «вестники давно минувших дней» играют роль
знаков, при помощи которых историк пытается мысленно реконструировать
прошлое. Историку приходится по разрозненным, неполным материалам
восстанавливать целостную картину отдаленной эпохи в науке. Эта работа
аналогична работе археолога, и историю науки в некотором смысле можно
назвать археологией познания.
Таким образом, об истории можно говорить по крайней мере в трех
значениях: 1) как о реальных событиях, которые случились в прошлом; 2) как
о следах этих событий, запечатленных в документах, памятниках и т. д .: и
наконец, 3) как о знании, добытом путем изучения исторических источников.
Историческое познание базируется на единстве этих трех аспектов истории.
Так, объектом исторических исследований является известная совокупность
актуально данных нам вещей — источников, в которых запечатлены какие-то
стороны реальной истории. Историк, подобно следователю, дешифрирует
заключенную в этих вещах-знаках информацию о прошлых событиях и
строит модель предполагаемого исторического процесса. Конструирование
моделей тех или иных явлений объективной действительности свойственно
любой научной дисциплине и представляет существенно важную сторону
научного познания.
Однако процесс историко-научного моделирования имеет, конечно, свою
специфику. Прежде всего это касается проблемы выбора источников. Чем
располагает историк, когда приступает к своей работе? Во-первых, тем, что
осталось от прошлого. Нередко эти «остатки» настолько малочисленны,
158
Коуre A. Etudes d'histoire de la pensee scientifique. P., 1966, p. 352.
163
разрозненны и рассеяны в массе исторических памятников, что собрать их
воедино, чтобы составить целостную картину прошлого, оказывается трудно
выполнимой, а иногда и просто неразрешимой задачей. Но и то, что
сохранилось в потоке времени, оказывается результатом селекции,
произведенной прошлыми поколениями историков, которые в своих анналах,
записках, мемуарах старались отразить факты, которым они придавали
определенную значимость и которые, следовательно, были достойны того,
чтобы, с их точки зрения, стать достоянием истории. Последующие
поколения историков продолжают эту работу, так что историк, который
спустя некоторое время использует документы, доставшиеся ему от
предшественников, чаще всего имеет свое собственное мнение относительно
важности и ценности тех или иных текстов.
Отсюда следует, что прошлое, зафиксированное историком, не может быть
однозначным и тем более абсолютно достоверным, поскольку историк всегда
руководствуется определенной теорией, в свете которой отбираются
«значимые» факты и отношения исследуемого объекта. При этом из поля его
зрения неизбежно выпадают факты и события, которые в рамках принятой
им концептуальной схемы считаются лишенными какого-нибудь интереса.
Нередко — это весьма значительные факты.
История науки знает множество случаев, когда открытия, в том числе и
выдающиеся, годы и даже десятилетия оставались никем не замеченными и
не оказали влияния на науку своего времени или же были неадекватно
оценены. Об одном таком случае рассказывает известный физик М. Лауэ в
статье, посвященной творчеству и личности Л. Ланге, которой предпослан
характерный подзаголовок — «Несправедливо забытый». В этой статье
сообщается, что Л. Ланге «так далёко продвинул проблему физической
системы отсчета, не вполне решенную Коперником и Ньютоном, что лишь
теория относительности Эйнштейна добавила к ней кое-что новое»159
.
Между тем об этом ученом до появления статьи М. Лауэ практически ничего
не было известно. Причины подобного забвения важных исторических
открытий могут быть самыми различными, но чаще всего они связаны с
проблемами восприятия, оценки и интерпретации научного открытия его
современниками, и прежде всего научным сообществом160
.
Таким образом, особенности историко-научного исследования во многом
определяются характером его объекта — наличием определенной
совокупности источников — их полнотой, информативностью,
159
Лауэ М. Статьи и речи. М., 1969, с. 153 —154.
160
См.: Восприятие и оценка научного открытия. М., 1973. (Сер. Науковедение: проблемы и
исследования).
164
объективностью и т. д . Но это лишь одна (хотя и очень существенная сторона
дела). Конструирование моделей определенных фрагментов истории науки
опирается не только на материал источников, но и на всю сумму знаний
историка: его мировоззрение, общие концепции, методологические
принципы и приемы работы с материалом,— на все то, что принято в
соответствующей литературе называть внеисточниковым знанием, которое и
является тем арсеналом методологических средств, при помощи которых
историк не только «прочитывает» и отбирает источники, но и смело
конструирует теоретические модели определенных фрагментов истории.
Подобная реконструкция истории — это не пассивный процесс регистрации
неких неизменных фактов прошлого. По словам У. Ньюджента, это скорее
диалог между историком и используемыми им источниками, в процессе
которого историк непрерывно формулирует, переформулирует и уточняет
вопросы в отношении прошлого, снова и снова обращаясь за ответом к
источникам. «Историк начинает с интерпретативной модели прошлых
событий. Сначала — это грубая модель и ее части не соответствуют
обнаруживаемой им рано или поздно структуре прошлого. Через посредство
взаимодействия данных и разума интерпретативная модель перестраивается
и совершенствуется па эмпирической основе, что означает прогрессивную
корректировку посредством обнаружения значения специфических
элементов данного»161
.
Диалог между историком и источниками может иметь различный финал,
который зависит прежде всего от общей концепции истории, гносеологии и
методологий историко-научных исследований, принятой ученым. Среди
построений историка можно встретить и весьма примитивные с теоретико-
познавательной точки зрения модели тех или иных исторических событий,
которые не имеют под собою четкого гносеологического базиса. Основным
пороком таких моделей является недостаточно ясное различение и даже
смешение всех трех упомянутых значений термина «история»: 1)
объективной истории, 2) исторических источников, 3) мысленной истории.
Нередко «следы» прошлого (памятники, свидетельства и т. п .)
отождествляют с прошлым как таковым, а представление об истории,
существующее в уме историка, неявно отождествляется с объективной
историей. Начать хотя бы с последнего случая. Отождествление
субъективного и объективного аспектов термина «история» — весьма частый
прецедент не только в истории науки, но и в историографии вообще. Такая
ситуация по существу есть проявление наивно-реалистического подхода к
действительности, при котором противоположность бытия и мышлений еще
не осознана, и когда предполагается, что мышление непосредственно
161
Nagent W. Creative history. Philadelphia, Lippincott, 1973, p. 48 .
165
схватывает предметы, обеспечивая полное совпадение предмета и мысли
(«предмет как он есть на самом деле»)162
. Эту особенность наивного образа
мышления в свое время удачно охарактеризовал Гегель который писал:
«Питая такую веру, мышление приступает прямо к предметам,
воспроизводит содержание ощущений и созерцаний, делая его содержанием
мысли, и удовлетворяется этим содержанием, видя в нем истину. Все
начальные ступени философии... и даже повседневная деятельность и
движение сознания живут в этой вере»163
.
Наивно-реалистический подход к действительности обычно опирается на
некоторую укоренившуюся и ставшую традиционной систему воззрений,
которая проецируется на прошлое и рисует историческую реальность по
«своему образу и подобию». На реальную историю переносятся характерные
черты наивно-реалистического мышления, согласно которому вещи суть
именно таковы, какими они мыслятся.
Следует, однако, отметить, что сущность наивного реализма состоит не в
признании совпадения «содержания» мысли и предмета, а в некритическом
отождествлении структуры умственного образа с соответствующей вещью,
событием и т. п. «Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка
(=понятия) с нее не есть простой, непосредственный, зеркально-мертвый
акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в
себя возможность отлета фантазии от жизни; мало того:
возможность превращения (и притом незаметного, несознаваемого человеком
превращения) абстрактного понятия, идеи в фантазию... Ибо и в самом
простом обобщении, в элементарнейшей общей идее („стол"
вообще) есть известный кусочек фантазии»164
.
Отсюда, между прочим, проистекает доверие ко всякого рода вымыслам,
мифам, легендам, что особенно свойственно наивной историографии.
Типичным представителем такой наивной историографии является Геродот,
«История» которого содержит наряду с действительными фактами
значительную часть мифологических сюжетов. Причем мифы у него
находятся на том же онтологическом уровне, что и факты действительной
жизни. И это вполне естественно, ибо, как замечает Майрс, «информация, им
представленная, рассматривается теперь в качестве такой, какую мыслящий и
наблюдательный человек его эпохи и воспитания мог по зрелом
162 Нередко выражение «предмет как он есть на самом деле» можно встретить в ученых
статьях и книгах, когда их авторы наивно полагают, что их мышление прямо-таки
«совпадает» с предметом.
163 Гегель. Соч. М .; Л., 1929, т. 1, с. 64.
164
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 330.
166
размышлении на основании собственных наблюдений и по полученным от
других сведений счесть правдивой»165
.
Наивно-реалистический подход к прошлому нередко можно встретить и в
историографии науки, причем мы имеем в виду не какие-нибудь
свидетельства, уходящие в глубь веков, а факты, представляющие
сегодняшний день истории науки. Возьмем такой исторический факт,
который в изобилии встречается в современных учебниках по физике и даже
в солидных трактатах по истории физики. Мы имеем в виду пизанский
эксперимент Галилея. Историки науки приписывают этому эксперименту
огромное значение, усматривая в нем решающий момент в истории науки,
когда благодаря опытам по падению тел с вершины Пизанской башни
Галилей нанес смертельный удар аристотелевской физике и заложил основы
новой динамики.
Но был ли такой эксперимент в действительности? По-видимому, сама
постановка этого вопроса может шокировать каждого, кто со школьной
скамьи знаком с этой «прописной» истиной. И все же некоторые историки,
являющиеся общепризнанными авторитетами в области генезиса
классической науки, не только поставили под сомнение сам факт этого
эксперимента, но, как нам представляется, достаточно аргументированно
доказали логическую невозможность подобного события.
В частности, А. Койре166 считает этот эксперимент сплошным вымыслом,
который никогда не подвергался сомнению по той причине, что историки
верят в действительность этого эксперимента, полностью полагаясь на
рассказ Вивиани, единственный источник, которым они располагают.
Наивно-реалистический подход к истории науки в данном случае состоит в
том, что последующие поколения историков имплицитно отождествляли
мысленную картину, созданную воображением Вивиани, с реальной
действительностью. В результате такого неправомерного, некритического
отождествления легенда возведена в ранг объективно существовавшего
события.
Подобное доверие к источнику, характерное для наивно-реалистического
подхода к истории науки, имеет и другие формы проявления. Историк
нередко анализирует творчество того или иного крупного ученого, опираясь
не па то, что он делает, а на то, что он сам по этому поводу думает. При
этом историк искренне считает, что представление ученого о самом себе
совпадает якобы с тем, что есть на самом деле. Такое доверие к
165
Цитируем по послесловию В. Г . Боруховича в кн.: Геродот. История. Л., 1972, с. 497 —498.
166
Коуre A. Galilee et l'experience de Pise: a propos d'une legende. — In: Etudes d'histoire de la pensee
scientifique, p. 192—201.
167
высказываниям ученых о своей деятельности психологически понятно,
однако историк науки не должен упускать из виду, что мнение ученого
относится к повествовательной, или мысленной истории, а его практическая
деятельность в качестве творца нового знания — к
истории объективной. Неразличение мышления и бытия в указанном выше
смысле — весьма типичный случай наивного реализма в историко-научном
исследовании. Яркий пример подобного рода — это отношение современной
историографии науки к творчеству Ньютона. Известно, что Ньютон считал
себя сторонником индуктивного метода и даже сформулировал правила этого
метода применительно к физике.
Известно также негативное отношение Ньютона к гипотезам. Но, как
показали исследования современных ученых, мнение Ньютона о собственной
методологии исследования было весьма далеким от действительности. Тем
не менее многие историки продолжали считать, что Ньютон пользовался тем
методом, который он исповедовал. Как пишет Д. Агасси, особенностью
творчества Ньютона, как оно представляется современному исследователю,
является то, что «Ньютон пользовался правильным методом, а исповедовал
неправильный метод»167
. И далее, он замечает, что многие исследователи
творчества Ньютона знали о расхождении между его методологическими и
практическими взглядами, но не придавали этому особого значения. По
мнению Агасси, этот пункт должен стать предметом особого
методологического анализа.
В данном случае методологически правильным следует считать замечание
Эйнштейна, что не надо слушать ученого, говорящего, как он делает, а
смотреть на то, что он фактически делает.
Наконец, мы остановимся еще на одной достаточно распространенной форме
проявления наивного образа мышления в истории — на смешении фактов и
событий. Следует сразу же оговориться, указав на то, что означают в нашем
понимании эти термины. Под событием (мы не собираемся давать здесь
точную дефиницию этого понятия) мы понимаем некоторого рода
реальность, которая является объектом исследования.
Когда событие осмысленно, оно принимает форму утверждения или ряда
утверждений о нем, и тогда наше знание о событии квалифицируется
как факт. Поскольку же разные исследователи могут делать различные
утверждения относительно одного и того же события (в силу многогранности
явлений или же различий концептуальных установок исследователей),
последнее является источником «разных» фактов. Между фактами и
событиями не существует, следовательно, взаимооднозначного соответствия,
167 Agassi I. The logic of scientific inquiry. — Synthese, Dordrecht, 1P74, vol. 26, N 3/4, p. 499.
168
ибо никакая сумма исторических свидетельств, самым тщательным образом
подобранных, не может дать полного отображения реальности во всей ее
сложности и противоречивости.
Отсюда следует, что пространство исторических фактов не может быть
неизменным и конечным. Оно постоянно меняется вместе со сменой тех
вопросов, которые интересуют историка. В этом смысле множество
исторических фактов является потенциально бесконечным.
Хотя различие событий и фактов достаточно очевидно, тем не менее в
исторических исследованиях оно не всегда учитывается. «Ортодоксальный
историк, — пишет М. Постан, — уверен в существовании некоего конечного
универсума фактов с четкими и неизменными границами. Следствием такой
уверенности является претензия «знать все факты» и нежелание делать
какие-либо выводы прежде, чем «все факты» будут известны»168
.
Отсюда легко прийти к выводу о неизбежных пределах исторического
познания. К нему приходит, например, западногерманский историк Эрнст
Питц. «Успехи, достигнутые в воспроизведении хода исторических событий,
—
пишет он, — одновременно ставят и определенные границы дальнейшему
развитию науки, ибо объем нашего исторического знания не может
увеличиваться бесконечно. Ограниченность письменных источников ставит
естественный предел его дальнейшему расширению»169
.
Гносеологической подоплекой подобных представлений является, по
существу, убеждение в том, что фиксируемые на основе наблюдения факты,
которые мы находим в соответствующих документах и свидетельствах, сами
по себе бесспорны и достоверны и по содержанию якобы совпадают с тем,
как нечто происходило на самом деле или поистине. При этом вовсе не
предполагается, что документалистика — это не собрание «голых фактов»
(существующих, по-видимому, только в голове некоторых историков), а
фактов, которые, в общем, несут в себе определенные концептуальные
воззрения авторов упомянутых свидетельств, их симпатии и антипатии,
словом, определенное видение событий, зависящее от многих факторов
(личностных и социальных), перечислять которые здесь нет необходимости.
Это понимают сейчас и многие немарксистские историки. «Факты истории,
—
пишет М. Постан, — даже те, которые в обиходе историков фигурируют
как «твердо установленные», суть не что иное, как существенные аспекты, те
стороны явлений прошлого, которые оказались в центре внимания
исследователей-историков ко времени осуществления ими исследований.
168
Postan M. Fact and relevance. Essay on historical method. Cambridge, 1971, XI, p. 32 .
169
Питц Э. Исторические структуры. — В кн.: Философия и методология истории. М ., 1977, с. 171 .
169
Каждый исторический факт есть продукт абстракции или ограниченного
видения историка»170
.
Более того, многие факты, сообщаемые «очевидцами», не только не
бесспорны и не полны, но часто не соответствуют действительно
происходящим событиям. И дело здесь вовсе не в желании свидетелей
данных событий сознательно фальсифицировать историю (хотя и такое
нередко случается), а в тех концептуальных установках, которые определяют
характер исторического видения исследователя. В качестве иллюстрации
обратимся к известной работе К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи
Бонапарта». В ней Маркс на основе материалистического понимания истории
сумел блестяще описать события французской истории, связанные с
государственным переворотом, совершенном сторонниками Луи Бонапарта.
Эти же события па основе иных теоретических установок были описаны В.
Гюго и Прудоном. Казалось бы, что речь идет об одних и тех же фактах, но
это не так. Вот что пишет по этому поводу Маркс: «Виктор Гюго
ограничивается едкими и остроумными выпадами против ответственного
издателя государственного переворота. Самое событие изображается у него,
как гром среди ясного неба. Он видит в нем лишь акт насилия со стороны
отдельной личности. Он не замечает, что изображает эту личность великой
вместо малой, приписывая ей беспримерную во всемирной истории мощь
личной инициативы. Прудон, с своей стороны, стремится представить
государственный переворот результатом предшествующего исторического
развития. Но историческая конструкция государственного переворота
незаметным образом превращается у него в историческую апологию героя
этого переворота. Он впадает, таким образом, в ошибку наших так
называемых объективных историков. Я, напротив, показываю, каким
образом классовая борьба во Франции создала условия и обстоятельства,
давшие возможность дюжинной и смешной личности сыграть роль героя»171
.
Как видим, руководствуясь ложными историческими концепциями, Гюго и
Прудон не сумели правильно описать события французской истории. Факты,
которые они сообщают читателю, не соответствуют исторической
реальности, они заведомо являются ложными.
Таким образом, любое событие в силу его многогранности не может быть
описано однозначно и с предельной полнотой, не говоря уже о том, что
свидетели этого события всегда интерпретируют его согласно собственным
представлениям, которые далеко не всегда адекватны реальному положению
вещей. И если, вопреки этой очевидной истине, существует концепция
170
Postan M. Fact and relevance. Essay on historical method, p. 51.
171
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 16, с. 375.
170
однозначных и бесспорных фактов, свободных от «предвзятых» идей и т. п.,
то подобный взгляд возможен лишь как специфическое выражение наивно-
реалистического образа мышления, согласно которому мир таков, каким он
воспринимается, ощущается и представляется.
Отождествление событий и фактов (т. е. объективной и мысленной истории)
—
наиболее распространенный вариант наивно-реалистического подхода к
истории. Об этом свидетельствует пример так называемой школы «научной
истории», которая пользовалась преобладающим влиянием в XIX в.
«Выявление массы документов породило среди историков взгляд, согласно
которому проблема исторической истины полностью сводится к проблеме
документальной подлинности»172
,— пишет видный французский историк Ф.
Бродель и приводит затем высказывание теоретика этой школы Л. Альфана:
«Достаточно отдаться, так сказать, в распоряжение документов, читая их
один за другим в том виде, как они дошли до нас, для того чтобы цепь
событий восстановилась почти автоматически»173
.
В настоящее время мало кто из серьезных историков разделяет подобную
пассивистскую точку зрения на процесс исторического исследования. Однако
еще совсем недавно эта наивная концепция была весьма популярной в
широких кругах историков, о чем весьма выразительно писал М.
Блок: «Многие люди, и среди них, кажется, даже некоторые авторы
учебников, представляют себе ход нашей работы до странности наивно.
Вначале, мол, есть источники. Историк их собирает, читает, старается
оценить их подлинность и правдивость. После этого, и только после этого, он
пускает их в дело. Но беда в том, что ни один историк так не действует. Даже
когда ненароком воображает, что действует именно так.
Ибо тексты или археологические находки, внешне даже самые ясные и
податливые, говорят лишь тогда, когда умеешь их спрашивать... Другими
словами, всякое историческое изыскание с первых же шагов предполагает,
что опрос ведется в определенном направлении. Всегда вначале — пытливый
дух. Ни в одной науке пассивное наблюдение никогда не было
плодотворным. Если допустить, впрочем, что оно вообще возможно»174
.
Таким образом историк не должен выступать пассивным регистратором
сообщаемых данных. Напротив, он должен тщательно проверить,
проанализировать эти данные и на этой основе рационально
реконструировать не только факты, но и нечто большее, что обычно стоит за
172
Бродель Ф. История и общественные науки: Историческая длительность, — В кн.: Философия и
методология истории, с. 120.
173
Там же.
174
Блок М. Апология истории. М., 1973, с. 38 .
171
этими фактами и определяет их. Если же историк стоит на позиции
пассивной регистрации событий, сообщаемых источником, то он неизбежно
должен прийти к выводу о том, что прошлое, как оно представляется
историку, по существу: 1) однозначно (поскольку однозначны сообщаемые
источником факты); 2) неизменно (поскольку набор этих фактов
принципиально исчерпаем) и как следствие этого — 3) ограничено
определенными познавательными рамками.
Эти методологические импликации являются логическим следствием наивно-
реалистического подхода к истории, в основе которого лежит
отождествление фактов и событий, т. е . убеждение в том, что событие таково,
каким его изображает источник. Но, как правильно заметил М. Блок, «было
бы большим заблуждением считать, что каждой исторической проблеме
соответствует один-единственный тип источников, применимых именно в
данном случае. Напротив, чем больше исследование устремляется к
явлениям глубинным, тем скорее можно ждать света от сходящихся в одном
фокусе лучей — от свидетельств самого различного рода»175
.
С другой стороны, события, о которых сообщается в источниках, в
зависимости от интересов исследователя, от характера его вопросов и т. д .
могут поворачиваться то одной, то другой стороной и фиксироваться в той
или иной системе фактов, т. е . высказываний историка об интересующих его
аспектах событий. По этой причине пространство исторических фактов не
может быть неизменным и конечным (вопреки тому что об этом думают
некоторые представители «документальной» школы историков). Оно
постоянно меняется вместе со сменой тех вопросов, которые интересуют
историка. В этом смысле множество исторических фактов является
потенциально бесконечным (как и сам процесс исторического познания в
целом).
Отход от наивно-реалистического описания истории с его претензией
объективного изображения событий посредством надлежащим образом
подобранных документов становится неизбежным, как только от
хроникальной документалистики пытаются перейти к научному анализу
долговременных тенденций и причин, образующих глубинные пласты
исторической реальности. Такой подход уже несовместим с пассивно-
созерцательной позицией историка, а предполагает активную аналитико-
синтетическую деятельность по конструированию гипотез и моделей,
объясняющих эмпирическую хронику событий, представленную через
источники.
175
Там же, с. 39.
172
Необходимость отхода от непосредственного данного, активная работа
исследователя по реконструированию исторической реальности, связанная с
различением сущности и существования, непосредственно данного и данного
опосредованно (мышлением), порождают различные типы гносеологических
оценок исторических исследований — от релятивизма и субъективизма до
признания их объективности и достоверности.
В отличие от наивно-реалистического подхода к истории с его тенденцией
совпадения исторического бытия и исторического мышления (истории в
объективном и субъективном значении этого термина) сущность указанного
выше подхода состоит, напротив, в различении и даже
в противопоставлении того и другого.
Одной из наиболее характерных форм такой оппозиции является широко
распространенное ныне в философии истории направление, получившее
название презентизма. Это направление имеет в качестве гносеологического
базиса в общем то бесспорное обстоятельство (о котором мы, в частности,
говорили выше), что позиция историка в отношении исторических
источников, фактов, событий и т. д . связана с определенным выбором. Для
историка проблема поэтому состоит в том, чтобы показать, чем, собственно,
определяется избирательная позиция историка. А. Койре, например, считает,
что «историк проектирует в историю интересы и шкалу ценностей своего
времени, и только в соответствии с идеями своего времени — и своими
собственными идеями — он производит свою реконструкцию»176
.
В целом же для различных вариантов презентизма свойственно в той или
иной степени противопоставление двух ипостасей прошлого — объективной
истории и ее мысленного отображения в голове историка.
Рассмотрим крайний случай, когда противоположность указанных аспектов
прошлого настолько абсолютизируется, что сама их оппозиция снимается
посредством устранения понятия реальной (объективной) истории. Речь идет
о той разновидности идеализма в исторической науке, которая иногда
обозначается как субъективный релятивизм. Ярким примером подобного
релятивизма является философия истории американского историка Г. С .
Коммаджера. Свою статью под характерным заголовком «Существует ли
философия истории?» Коммаджер начинает с семантического анализа
термина «история», результатом которого явилось признание «истории»
только в одном смысле — в качестве произвольной, субъективной
176
Koyrе A. Perspectives sur l'histoire des sciences,— In: Etudes d'histoire de la pensee scientifique, p.
353—354.
173
конструкции исследователя. Само понятие объективной истории Коммаджер
считает фиктивным.
«Не существует ничего такого, — пишет он, — что на деле является
историей, подобно тому как существуют атомы, скалы или химические
вещества. Указанные вещи — в природе, они останутся там, если человек
исчезнет со сцены. Но история существует не в природе, и ее нет, пока нет
человека, чтобы воображать и формулировать ее. Это софистическое
понятие, посредством которого человек организует свою коллективную
память и налагает порядок и смысл на некогерентное прошлое»177
.
Конечно, по определению прошлое есть то, чего уже нет. Однако оно
существовало в действительности, и следы этого существования хранятся в
многочисленных свидетельствах, документах, памятниках и т. д . Одним
словом, прошлого нет, но имеется объективная информация, закодированная
в этих «следах», и цель историка состоит в том, чтобы извлечь эту
информацию путем мысленной реконструкции прошлого.
Коммаджер оспаривает подобное решение вопроса. Наше понимание
исторического материала остается субъективным и индивидуальным, считает
он.
«Поскольку всякая историческая философия является философией историка,
постольку и важнейшие исторические термины должны определяться как
термины, используемые конкретным историком. Субъективна не только
историческая философия, но и исторический словарный запас»178
.
Философия истории — это «не продукт логики в рамках истории и даже не
продукт логики историка; это продукт индивидуального опыта и личности
историка»179
.
Следует заметить, что Коммаджер развивает здесь понимание истории в
целом, частным случаем которого выступает история идей. В соответствии с
такой трактовкой историко-научные реконструкции представляют собой не
что иное, как произвольные, искусственные схемы, лишенные какой-либо
объективной значимости.
В этом плане представляют интерес рассуждения известного историка
философии И. Бернета в его книге «Греческая философия от Фалеса до
Платона». Она открывается своеобразным «рассуждением о методе»
историка: «Никто и никогда не преуспеет в написании истории философии,
ибо философские учения, подобно произведениям искусства, — вещи сугубо
177
Mind, science and history/Ed, by H. E . Kiefer and M. K. Munitz. N. Y., 1970, p. 301 .
178
Ibid., p. 305.
179
Ibid., p. 313.
174
индивидуальные. И действительно, Платон был убежден, что философская
истина вообще не может быть сообщена через письменность; только
благодаря некоторого рода непосредственному контакту одна душа может
зажечь пламя в другой... Следовательно, труд историка будет иметь ценность
только в той мере, в какой историк сможет воспроизвести платоновский
контакт душ. В какой-то мере это возможно. Религиозная вера часто
оказывается способной прорываться через барьеры пространства и времени и
таким образом ощущать свой объект непосредственно. Однако такая вера
представляет собою нечто индивидуальное и непередаваемое, и точно так же
воссоздание прошлого, осуществляемое историком, действительно главным
образом только для него одного. Оно не является вещью, которую он может в
готовом виде передать другим»180
.
Подобное смещение акцентов в сторону абсолютизации субъективного
фактора связано с игнорированием, а тем самым — с неверным пониманием
роли исторических источников. Как уже отмечалось выше, функционально
эти источники являются носителями объективной информации о прошлом.
Это как бы средний термин, опосредствующий реальную и мысленную
историю и придающий объективность последней.
У Коммаджера, Бернета и других субъективных релятивистов исторический
материал (источник) — это всего лишь мозаика, посредством которой
воображение историка рисует произвольные и по существу фиктивные
картины «исторического прошлого». Тем самым прошлое является такой
вещью, о которой ничего достоверно сказать нельзя. Это всего лишь фикция,
сконструированная нашим разумом для упорядочивания нашего
субъективного опыта.
Конечно, проблема понимания исторических текстов далеко не проста. Со
временем одни и те же термины приобретают все новые и новые оттенки
значений, так что между первоначальным значением термина, уходящим в
глубь веков, и нынешним его значением (оно также не всегда определенно)
во многих случаях не остается ничего общего. Возьмем, к примеру, такое
важное понятие современной физики, как масса. Уже при обсуждении
этимологии этого термина у филологов обнаруживаются значительные
расхождения во мнениях, в результате чего изыскания, предпринятые в этой
области, носят преимущественно предположительный характер181
.
Наименьшие трудности подстерегают историка при анализе тех
концептуальных значений, которые имело это понятие на разных этапах
эволюции физической науки. Объективно эти трудности связаны с тем, что в
180
Цит. по кн.: Томсон Дж. Исследования по истории древнегреческого общества: Первые
философы. М., 1959, т. II, с. 155 .
181
См.: Джеммер М. Понятие массы в классической и современной физике. М ., 1967. с . 15.
175
каждый период своей истории понятие массы оказывается так или иначе
обремененным теми значениями, которые были характерны для более ранних
этапов его истории. Например, понятие инертной массы было введено в
физику Ньютоном. Но как показал М. Джеммер, «хотя понятие инертной
массы, несомненно, является продуктом семнадцатого столетия, его глубокие
корни могут быть прослежены до неоплатонической инертности и
неактивности разума... Несмотря на то что ньютоновская динамика много
сделала для освобождения указанных понятий от метафизического влияния,
она тем не менее оставила некоторые трудности неустраненными»182
.
Чтобы уяснить хотя бы в общих чертах те реальные трудности, с которыми
сталкиваются историки в процессе работы с источниками, обратимся к
некоторым историко-научным реконструкциям, посвященным
семантическому анализу научных текстов. В качестве примера такого
анализа возьмем статью видного французского историка А. Койре «Гипотеза
и опыт у Ньютона», где анализируются различные высказывания Ньютона
относительно роли гипотез в научном познании. Общее содержание этих
высказываний выражено в его знаменитой фразе «Hipotheses nоn
fingo», буквальное толкование которой не оставляет никаких сомнений в
негативном отношении Ньютона к гипотезам.
Долгое время такое буквальное толкование ньютоновских текстов,
характеризующих методологические взгляды великого физика, было
преобладающим в историографии науки (особенно усердно негативизм
Ньютона по отношению к гипотезам пропагандировался сторонниками
«чистого описания», т. е . представителями позитивистской философии). Но
именно оно оказалось ошибочным, так как не соответствует ни тому смыслу,
который вкладывал в них Ньютон, ни тому положению дел, которое имело
место в его реальной научной практике. Сравнивая различные издания
«Начал» Ньютона, А. Койре в упомянутой выше статье сумел показать, что
термин «гипотеза», помимо своего классического смысла, в котором он
употребляет его в первом издании183
, имеет у него по крайней мере два или,
может быть, даже три других смысла. Весьма любопытно то, что, анализируя
различные смысловые оттенки термина «гипотеза», А. Койре в качестве
отправной точки берет не только тексты самого Ньютона, но и пытается
также раскрыть всю гамму значений этого термина, которая была ему
присуща в различные исторические эпохи.
В конце своего анализа А. Койре приходит к выводу, что в общем и целом
Ньютон употребляет термин «гипотеза» в «хорошем» и «дурном» смысле. В
182
Там же, с. 13.
183
Здесь под гипотезой понимается фундаментальное предположение теории, являющееся
основой для последующих логических заключений.
176
первом издании «Начал» этот термин взят в «хорошем» (классическом)
смысле — фундаментального предположения теории; во втором издании он
взят в «дурном» смысле — фикции или по крайней мере недоказанного
предложения. Именно этот «дурной» смысл имеет в виду Ньютон, когда он
говорит: «Всё, что не выводится из явлений, должно называться гипотезою,
гипотезам же метафизическим, физическим, механическим, скрытым
свойствам не место в экспериментальной философии»184
. Комментируя этот
отрывок, А. Койре признается, что ему не удалось точно определить, что
понимает Ньютон под различными сортами гипотез, и ограничивается лишь
некоторыми правдоподобными предположениями. Так, он полагает, что под
«метафизическими гипотезами» Ньютон, по-видимому, понимал либо
«гипотезы» аристотелевской космологии, либо картезианские утверждения,
которые выводят сохранение движения из неизменности бога. Не совсем
также ясно, что Ньютон понимал под «скрытыми свойствами».
Скорее всего, полагает А. Койре, это были свойства алхимии, которой
Ньютон очень интересовался. В отношении других терминов —
«механических» и «физических» гипотез — также нет полной
определенности, и Койре ограничивается более или менее вероятными
предположениями. Трудности семантического анализа ньютоновских текстов
не могут, однако, скрыть того факта, что в действительности имело место
расхождение между словами Ньютона и его реальной научной практикой.
Слово гипотеза, пишет А. Койре, «стало для Ньютона к концу его жизни
одним из курьезных терминов, таких, например, как термин «ересь», который
мы никогда не применяем к себе, но только к другим»185
.
Уже краткий и схематический анализ статьи А. Койре о Ньютоне может
показать читателю, что правильное понимание исторических текстов
предполагает сложный анализ терминологии, возможно более полный учет
всей гаммы значений того или иного термина, что историк должен владеть не
только буквальным пониманием текста, он должен также видеть и понимать
подтекст источников, их имплицитное содержание, скрытое от глаз
неспециалиста. Разумеется, прочтение текста, особенно исторического, не
может быть свободным от философских, мировоззренческих и других
установок, которые историк разделяет вместе со своими современниками, от
особенностей его личности — мотивов, творческой индивидуальности,
фактического объема знаний, и т. д . Одним словом, понимание текста в
определенной степени релятивно и субъективно. Но каковы пределы
подобного субъективизма и релятивизма?
184
Ньютон И. Математические начала натуральной философии. — В кн.: Крылов А. Н . Собр. трудов.
М.; Л., 1936, т. VII, с. 662 .
185
Koyrе A. L'hypothese et l'experience chez Newton. — In: Etudes newtoniennes. P ., 1968, p. 73.
177
На этот вопрос можно ответить по-разному: все зависит от гносеологических
установок исследователя. Американский историк Г. Коммаджер, положив
релятивизм и субъективизм в основу теории познания, пришел, как мы
видели, к отрицанию понятия объективной истории, считая наше понимание
исторического материала субъективным и индивидуальным.
Данный вывод логически вытекает из философии истории Г. Коммаджера,
«ибо положить релятивизм в основу теории познания, значит неизбежно
осудить себя либо на абсолютный скептицизм, агностицизм и софистику,
либо на субъективизм»186
. «Релятивизм, как основа теории познания, —
писал В. И. Ленин, — есть не только признание относительности наших
знаний, но и отрицание какой бы то ни было объективной, независимо от
человечества существующей, мерки или модели, к которой приближается
наше относительное познание...
Материалистическая диалектика... безусловно включает в себя релятивизм,
но не сводится к нему, т. е . признает относительность всех наших знаний не в
смысле отрицания объективной истины, а в смысле исторической условности
пределов приближения наших знаний к этой истине»187
.
Как отмечает С. Р. Микулинский, «по мере развития науки многие ранее
известные факты выступают в новом свете, поворачиваются к нам новой,
ранее не обращавшей на себя внимание стороной, выявляются такие аспекты
в развитии науки, которые прежде не были, а часто и не могли быть
замечены. Короче говоря, с каждым новым крупным этапом в развитии науки
по-новому прочитывается и ее история. Это не означает, конечно,
исторического релятивизма, а тем более периодического перелицовывания
истории. Это означает лишь необходимость постоянного и все более
глубокого и всестороннего изучения в свете новейших задач и достижений
науки всей совокупности факторов, влияющих на развитие научного знания,
выявление условий, способствовавших возникновению новых плодотворных
направлений исследования для того, чтобы полнее раскрыть закономерности
развития науки, объективную логику ее движения»188
.
Что же касается Коммаджера и Бернета, то их субъективная трактовка
истории логически вытекает из ошибочной трактовки трех основных
компонентов, из которых складывается понятие истории: 1) объективной
истории; 2) свидетельств; 3) мысленной реконструкции истории.
Не признавая за источником (историческими свидетельствами и т. п .)
функции носителей объективной информации, эти историки разрушают ту
186
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с, 139.
187
Там же.
188
История биологии: С древнейших времен до начала XX века. М ., 1972, с. 5.
178
связь, которая существует между реальной историей и ее мысленным
изображением, что ведет, с одной стороны, к агностицизму (о прошлом мы
ничего объективно не знаем — это вещь в себе), а с другой—к
субъективизму (выдумыванию «историй»).
Рассмотрим теперь другой случай, когда вместо отрицания объективной
значимости исторических свидетельств, мы встречаемся с противоположной
крайностью — абсолютизацией их гносеологической роли, превращением в
особый онтологический срез реальности.
На почве самой истории науки эту идею развивал в своих последних работах
известный философ К. Поппер.
Если Коммаджер рассматривает исторический источник как нечто
безразличное к знанию или скорее имеющее к нему внешнее отношение в
качестве материала для познающего субъекта, в голове которого этот
материал только и преобразуется в знание путем придания смысла и
значения соответствующим материальным знакам, то Поппер, напротив,
абсолютизирует роль исторического источника.
Одна из основных причин субъективистского подхода к рассмотрению
знания и его истории является, считает он, уверенность в том, что источник
без познающего субъекта — это ничто, что книга без читателя — это лишь
бумага со следами типографской краски, и что она становится книгой, если
кто-нибудь ее читает. Поппер считает это убеждение ошибочным.
«Возможность быть понятой или диспозициональное свойство быть понятой
или интерпретированной — вот что делает книгу книгой, — пишет он. — И
эта потенциальность, или диспозициональность, может существовать даже не
будучи актуализированной»189
.
Данный вывод является следствием следующего гносеологического
постулата. «Мой первый тезис, — пишет Поппер, — связан с
существованием двух различных смыслов «знания» или «мышления»:
1) знание или мышление в субъективном смысле, образующее состояния
мышления или сознания или предрасположение к определенному поведению
или реакции, и 2) знание или мышление в объективном смысле, образующее
проблемы, теории и аргументы как таковые. Знание в этом объективном
смысле вообще не зависит от чьей-либо веры или согласия, от чьего-либо
признания или деятельности. Знание в объективном смысле есть знание без
знающего: это есть знание вне познающего субъекта»190
.
189
Popper К. Objective Knowledge. An evolutionary approach. Oxford, 1973, p. 116.
190
Ibid., p. 108-109.
179
В целом же свою гносеологию Поппер строит путем членения универсума на
три слоя («мира»): 1) мир вещей или физических состояний, 2) мир
состояний сознания и 3) мир объективного содержания мышления.
К третьему миру — миру объективного знания — принадлежит такое
содержание мышления, которое объективировано в текстах (статьях, книгах
и т. д .). Объективное знание является продуктом второго мира —
человеческого сознания. Но, будучи высказанным и объективированным в
печатном слове, оно приобретает статус автономности и начинает жить своей
собственной жизнью.
Касаясь проблемы взаимоотношения трех миров, Поппер утверждает, что
мир вещей и мир знания, непосредственно не соприкасаясь, тем не менее
могут взаимодействовать через посредничество мира сознания. Способность
взаимодействовать с физическим миром является доказательством
реальности постулируемых миров, а их несводимость друг к другу —
показателем их автономии.
Поппер придает особое значение относительной первичности мира
объективного знания по отношению к миру физических вещей и сознания.
Своеобразной аргументацией ему служит следующий мысленный
эксперимент: допустим, пишет он, что вся материальная культура, а также
паши субъективные знания о том, как пользоваться техническими
устройствами, исчезли в результате какой-то катастрофы. Однако
сохранились библиотеки и наша способность пользоваться ими. Тогда после
долгих усилий цивилизация все же возродится. Если же допустить, что при
этом будут уничтожены и библиотеки, то цивилизация не будет
восстановлена даже спустя тысячелетия.
Не будем обсуждать ценность этого мысленного эксперимента. Его
философскую ущербность хорошо показал А. И. Ракитов191; к тому же
абстрактность разыгранной в нем ситуации вообще не оставляет места для
логических аргументов за или против сделанных Поппером выводов. Но само
обращение к такого рода аргументам показательно: Поппер во что бы ни
стало стремится обосновать примат третьего мира.
Необходимо заметить, что попперовский «третий мир» — это не изобретение
Поппера, чего он, впрочем, и не скрывает. Он ясно указывает на то, что его
«третий мир» имеет много общего с платоновским миром идей в с
гегелевским объективным духом, хотя в еще большей степени он похож на
универсум «истин в себе» Больцано и на универсум объективного
содержания Фреге. Уже это обстоятельство наталкивает на мысль, что само
191
См.: Ракитов А. И . Философские проблемы науки; Системный подход. М„ 1976, с, 102—107.
180
понятие «объективного знания» далеко не однозначно и, по-видимому, имеет
ряд не всегда легко различимых оттенков, на которых здесь нет возможности
остановиться более подробно. Но дело, конечно, не в оттенках, а в существе
проблемы, которая заключается в том, что Поппер отчуждает знание от
сознания человека, а затем противопоставляет это отчужденное знание миру
вещей и миру человеческого сознания. На этот спекулятивный прием
«объективизации» знания указывал еще Маркс при анализе гегелевского
понятия абсолютного знания. «Отчужденный от самого себя человек, это
также — отчужденный от своей сущности, т. е . от своей природной и
человеческой сущности, мыслитель. Поэтому его мысли, это — какие-то
застывшие духи, обитающие вне природы и вне человека»192
.
Отчуждение мира «объективного знания» от человека и его деятельности
Поппер пытается обосновать исходя из различия между процессом
производства научного знания и его продуктами. При этом он исходит из
сомнительного постулата о том, что изучение продуктов чьей-либо
деятельности важнее непосредственного изучения самой этой деятельности,
откуда следует, в частности, вывод о том, что мы можем больше узнать
относительно эвристики, методологии и психологии научного исследования
благодаря изучению «объективного знания».
Но как можно что-либо узнать о субъективной деятельности ученого из
анализа «третьего мира», если по определению — это мир безличного
знания, в котором элиминировано все человеческое?
В свое время Маркс, критикуя Гегеля за то, что он отделил мышление от
субъекта, писал: «... если нет человека, то и проявление его сущности не
может быть человеческим, а потому и мышление не могло рассматриваться в
качестве проявления сущности человека как человеческого и природного,
наделенного глазами, ушами и т. д ., живущего в обществе, в мире и природе,
субъекта»193
.
Свое понятие объективности, независимости от субъекта Поппер раскрывает
па примере натурального ряда чисел. Этот ряд, будучи продуктом
человеческой деятельности, тем не менее обнаруживает такие скрытые
свойства, которые никак не предполагались его демиургом. Поэтому-то здесь
возможны факты, которые открываются людьми наподобие фактов
физического универсума.
192
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 42, с. 172.
193
Там же.
181
Может ли такая аргументация служить доказательством независимости
развития знания от его исторического субъекта (научного сообщества,
отдельных ученых и т. д .)?
Поппер настаивает на том, что наука имеет свою объективную логику
изменения, которую он берет под защиту от посягательств со стороны
субъективизма и произвола. И он, конечно, прав в том смысле, что, когда
имеется налицо данная логическая структура, ее можно изменить, лишь
учитывая собственные возможности ее изменения. В этом смысле не только
наука, но и вообще любой объект, независимо от того, является ли он
продуктом природы или человеческой деятельности, имеет свою
собственную логику изменения: он может изменяться не как попало, а лишь
в соответствии с его диспозициями или возможностями. Однако одно дело
логика изменения знания, где речь идет о возможных путях его
трансформации, и другое дело — реальная история науки, которая выступает
как реализация некоторых из этих логических возможностей. Причем данный
акт реализации или реальная история науки уже не могут обойтись и без
реального исторического субъекта, который практически изменяет научное
знание в том или ином направлении.
Рассматривая с этой точки зрения попперовский третий мир, можно
констатировать, что он имеет собственную логику, изменения, однако он не
имеет самостоятельной истории. Научное знание, рассматриваемое
абстрактно, в отрыве от человеческой деятельности, не может выступать
субъектом своих собственных изменений. У идей «нет истории, у них нет
развития; — писали К. Маркс и Ф. Энгельс, — люди, развивающие своё
материальное производство и своё материальное общение, изменяют вместе
с этой своей действительностью также своё мышление и продукты своего
мышления»194
.
Конечно, не все у Поппера ошибочно. «Критический анализ концепции
Поппера, — пишет А. И. Ракитов, — имеет и позитивный аспект. Он состоит
в понимании того, что знание может рассматриваться при определенных
условиях как объективный феномен, проявляющий себя в знаковых
конструкциях, но не совпадающий с ними полностью. Поэтому выделение
текста как объекта исследования требует эксплицитного указания на те
реальные отношения, в системе которых была осуществлена изолирующая
абстракция — абстракция выделения знаковых конструкций из контекста
познавательной деятельности»195
. Но Поппер этого условия как раз и не
соблюдает. Пытаясь преодолеть субъективизм и релятивизм в понимании
194
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 3, с. 25 .
195
Ракитов А. И. Философские проблемы науки, с. 110 .
182
развития знания, он абсолютизировал роль исторических источников-текстов
и построил определенный вариант объективно-идеалистической трактовки
данной проблемы196
, где на место реальной истории науки
ставится логика развития объективного знания.
Характерно, что термин «история» сохраняется, но ему придается весьма
специфическое значение. Это легко показать на примере историографии
науки, развиваемой последователем Поппера — Лакатосом. В
методологическом плане его концепция истории науки значительно
отличается от соответствующих взглядов Поппера. В плане же гносеологии
позиции Лакатоса и Поппера практически совпадают.
Для Лакатоса рациональная реконструкция истории есть результат
применения к известному эмпирическому материалу определенной
методологической схемы — логики научного открытия. Все, что
укладывается в эту схему, составляет рациональную модель роста знания. Эта
модель образует то, что Лакатос называет внутренней историей в отличие
от внешней, которая дает нерациональное объяснение темпа развития науки,
географического распределения исторических событий, психологии
творчества и т. п. Внутренняя история является первичной по отношению к
внешней истории, ибо она определяет наиболее важные проблемы внешней
истории. По своему смыслу понятия внутренней и внешней истории
соответствуют попперовским понятиям третьего и второго миров197
.
Таким образом, внутренняя история — это логическая модель «роста
объективного научного знания», рассматриваемого безотносительно к
эмпирическим условиям существования науки в тот или иной период
социальной истории. Но можно ли подобный подход квалифицировать как
рациональную реконструкцию истории? Конечно, многое здесь зависит от
смысла, который вкладывается в понятие истории. Но как бы ни трактовать
этот термин, по крайней мере ясно одно, что история имеет дело
с существованием определенных явлений, связь и хронологическую
последовательность которых она должна объяснить. Абстракция от
условий существования науки в тот или иной период равносильна
абстракции от ее истории, а поэтому понятие «рациональная реконструкция»
в смысле Лакатоса и Поппера никакого отношения к истории не имеет.
196
Материалистическое «понимание истории, в отличие от идеалистического ... объясняет не
практику из идей, а объясняет идейные образования из материальной практики...» (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 3, с. 37). Идеализм Поппера состоит именно в постулировании примата
третьего мира перед остальными.
197
См.: Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции. — В кн.: Структура и
развитие науки. М., 1978, с. 230 —231 .
183
В этой связи весьма показателен критический анализ историографической
программы Лакатоса, который проделал другой видный западный историк
науки — Т . Кун. Касаясь проблемы разделения истории на внутреннюю и
внешнюю, он отмечает, что Лакатос сужает обычное содержание этих
терминов. Его внутренняя история, пишет Кун, гораздо уже, чем у
историков. Он исключает, в частности, из нее рассмотрение личностных
характеристик ученого, которые так или иначе определяют выбор ученым
теории, способов ее создания и оформления. Из нее элиминируется
рассмотрение заблуждений и т. п .
Но дело заключается не только в простом сужении содержания термина
«история». Для Лакатоса внутренняя история не совпадает с тем, что когда-
то было в действительности. Его рациональная реконструкция есть история
событий, выбранных и интерпретированных
некоторым нормативным образом.
Причем в своей статье Лакатос пытается показать, что философия науки
вырабатывает нормативную методологию, на основе которой историк
реконструирует «внутреннюю историю, и тем самым дает рациональное
объяснение роста объективного знания»198
. Такой подход настораживает
Куна, который пишет, что в таком случае принятая историком философия
задает все множество критериев, по которым он действует, и тогда
совершенно неясно, каким образом отобранные и интерпретированные
данные могут оказать обратное влияние на методологическую позицию
историка и как-то корректировать её199
.
По существу же Лакатос рассматривает историю не в плане того, что было, а
в плане того, как нечто должно было произойти в свете его рациональной
реконструкции. Таким образом, его понятие истории отличается от обычного
понимания этого термина как должное от сущего. «Один из способов
фиксации расхождений между реальной историей и ее рациональной
реконструкцией, — пишет Лакатос, — состоит в том, чтобы изложить
внутреннюю историю в основном тексте, а в примечаниях указать, как
„неправильно вела себя" реальная история в свете ее рациональной
реконструкции»200
. Таким образом, считает он, в тексте говорится о том,
что должно было бы произойти, а в примечании — что произошло на самом
деле.
Но почему же тогда рациональная реконструкция именуется историей (пусть
даже внутренней), если она не сообщает читателю о том, что было на самом
198
Там же, с. 203.
199
Кун И. Замечания на статью И. Лакатоса. — в кн.: Структура и развитие науки, с. 277.
200
Там же, с. 233.
184
деле? Фактически речь идет здесь вовсе не об истории науки, о чем-то совсем
ином — скорее о ее внутренней логике, внутренних возможностях развития.
Кун совершенно справедливо заметил, что «то, что Лакатос понимает под
историей, таковой вообще не является, а представляет собою примеры,
сфабрикованные философией. Если действовать так, как предлагает Лакатос,
то история в принципе не оказывала бы ни малейшего влияния на принятую
философскую позицию, которую она в конечном счете формирует»201
.
Если сравнить субъективистскую трактовку истории науки с концепцией
развития объективного знания, то можно прийти к следующему выводу.
Субъективный релятивизм отрицает реальность прошлого и, пренебрегая
знанием исторических текстов, рассматривает историю как творение
историка. Философия истории Поппера и Лакатоса внешне как будто
противоположна субъективному релятивизму. Она не отрицает
объективности прошлого и акцентирует свое внимание на исторических
источниках (текстах), превращая их в особый мир объективного знания. Но
означает ли это признание факта объективности исторических
реконструкций, если термин «объективность» трактовать
как истинное отражение реального исторического процесса развития знания?
Отнюдь нет. Задача историка, как ее понимают философы объективного
знания, состоит не в том, чтобы описывать события, имевшие место в
прошлом (это якобы можно сделать походя в примечаниях), а в том, чтобы
построить нормативный образ истории, какой она должна быть в свете его
философии науки. Но такая реконструкция также является не чем иным, как
творением историка, его придуманной версией. Только здесь нормативы
историка не являются делом его личного вкуса и опыта, а представляют
собою некоторые общепринятые (в известных кругах историков) правила,
функционирующие в качестве «кодекса научной честности, нарушать
который непростительно»202
.
Сам Лакатос в цитированной выше статье указывает на четыре системы
подобных правил или логик открытия, каждая из которых определяет свой
собственный тип рациональности, свое специфическое видение истории, свое
определение науки. Тем самым рациональная реконструкция истории
ставится в зависимость от определенной методологии, принятие которой
является делом выбора историка и которую никакая реальная история не
может ни изменить, ни подправить. Одним словом, мы имеем дело с такой
философией истории науки, которую можно квалифицировать
как объективный релятивизм.
201
Там же, с. 278.
202
Там же, с. 205.
185
Подводя некоторый предварительный итог рассмотрения гносеологических
оснований понимания предмета истории науки, мы можем констатировать,
что различия, существующие в понимании предмета историко-научных
исследований, вытекают из различий теоретико-познавательных
принципов, в соответствии с которыми историк подходит к истолкованию
трех основных значений термина «история» в их соотношении друг с другом.
В соответствии с этим мы выделили три существенно различных
гносеологических подхода к истории науки: 1) наивный реализм, 2)
субъективный релятивизм, 3) объективный релятивизм. Мы пытались также
показать, что ошибочность указанных выше гносеологических установок
является существенным препятствием в понимании предмета историко-
научных исследований и, следовательно, в понимании реальной истории
науки.
Какова марксистская трактовка предмета истории науки?
Марксистская концепция связана прежде всего
с материалистическим пониманием истории, согласно которому способ
производства материальной жизни «обусловливает социальный,
политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей
определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их
сознание»203
.
Однако марксистское понимание предмета истории науки не следует
понимать в духе вульгарного материализма. Как отмечает С. Р.
Микулинский, «марксизму чуждо непосредственное сведение науки к
экономике и социальным условиям. Ему чуждо игнорирование специфики
науки, активности и относительной самостоятельности мышления, влияния
наличной системы знаний, идей и понятий на последующее развитие
науки»204
.
Против вульгарно-материалистического истолкования марксистского
положения об определяющей роли материального производства выступали в
свое время Маркс и Энгельс. Так, в письме к Шмидту от 27 октября 1890г.
Энгельс на ряде примеров иллюстрирует сложную диалектику
взаимодействия производства и других форм человеческой деятельности.
«Там, где существует разделение труда в общественном масштабе, — пишет
он, — отдельные процессы труда становятся самостоятельными по
отношению друг к другу. Производство является в последнем счете
решающим». Например, торговля, как только она обособляется от
203
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 13, с. 7 .
204
Микулинский С. Р . Мнимые контраверзы и реальные проблемы теории развития науки. — Вопр.
философии, 1977, No 11, с. 92 .
186
производства, «следует своему собственному движению, над которым в
общем и целом главенствует движение производства, но которое в отдельных
частностях и внутри этой общей зависимости следует опять-таки своим
собственным законам, присущим природе этого нового фактора. Это
движение имеет свои собственные фазы и, в свою очередь, оказывает
обратное действие на движение производства»205
.
Переходя затем к другим формам человеческой деятельности, Энгельс
настойчиво проводит мысль, что, как только они становятся относительно
самостоятельными в рамках общественного разделения труда, эти формы
тотчас же приобретают черты собственного развития с его особыми законами
и фазами, вытекающими из их собственной природы. Это в равной мере
относится и к различным формам духовного производства. «Преобладание
экономического развития в конечном счете также и над этими областями...
неоспоримо, но оно имеет место в рамках условий, которые предписываются
самой данной областью: в философии, например, воздействием
экономических влияний... на. имеющийся налицо философский материал,
доставленный предшественниками. Экономика здесь ничего не создает
заново, но она определяет вид изменения и дальнейшего развития
имеющегося налицо мыслительного материала, но даже и это она производит
по большей части косвенным образом, между тем как важнейшее прямое
действие на философию оказывают политические, юридические, моральные
отражения»206
.
Эти соображения Энгельса, касающиеся материалистического понимания
истории, полностью применимы и к развитию науки. Выше уже отмечалось,
что наука обладает собственной логикой, которая задает пространство
возможностей изменения научного знания. Однако наука не развивается в
вакууме, и ее история — это не просто логическая филиация идей, а
деятельность практически действующих в определенных социально-
экономических условиях индивидов. Характер этих условий, экономическая
структура общества, уровень развития производительных сил представляют
собою существенные факторы, в значительной мере определяющие не только
степень развития науки, но также и ее внутреннюю структуру207
.
При этом следует иметь в виду, что взаимодействие материального и
духовного производств имеет не абстрактный, а конкретно-исторический
205
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 37, с. 415.
206
Там же, с. 420.
207
Обстоятельное изложение марксистской концепции истории науки читатель может найти в
работах С. Р . Микулинского «Современное состояние и теоретические проблемы истории
естествознания как науки» (Вопр. философии, 1976, No 6), «Мнимые контраверзы и реальные
проблемы теории развития науки» (Вопр. философии, 1977, No 11) и Б. М. Кедрова, А. П. Огурцова
«Марксистская концепция истории естествознания — XIX век». М ., 1978.
187
характер. «Чтобы исследовать связь между духовным и материальным
производством, — писал Маркс, — прежде всего необходимо рассматривать
само это материальное производство не как всеобщую категорию, а
в определенной исторической форме. Так, например, капиталистическому
способу производства соответствует другой вид духовного производства, чем
средневековому способу производства. Если само материальное
производство не брать в его специфической исторической форме, то
невозможно понять характерные особенности соответствующего ему
духовного производства и взаимодействия обоих»208
.
Конечно, прямое соответствие между социальной структурой общества и
соответствующими содержательными структурами самой науки — явление
достаточно редкое. Чаще всего такое соответствие имеет косвенный,
опосредованный характер, когда изменение содержания научного мышления
и даже форм его логической организации детерминируется
господствующими в ту или иную эпоху формами общественного сознания.
Так, в Средние века вся совокупность идеологических отношений
определялась преимущественно характером христианской религии, которая,
в свою очередь, была идеологическим отражением общественных отношений
феодального общества. Наука, если о таковой можно говорить, играла
ничтожную роль в духовной жизни людей и в целом определялась задачами,
диктуемыми потребностями религии. Р . Гроссетест — один из наиболее
выдающихся представителей средневековой науки — смотрел на науку как
на средство иллюстрации теологических истин. «Изучение света и проверка
линз опытным путем были предприняты им потому, что он представлял себе
свет как аналог божественного освещения»209
.
Конкретное влияние религии на науку выражалось и в самой ее формальной
структуре, в способах ее логической организации и методах ее обоснования.
Эта наука могла быть преимущественно дедуктивной, ибо свои исходные
принципы черпала не из опыта, а в священном писании, истины которого не
подлежали никакому сомнению. Остальные же истины доказывались
посредством логики (чем и объясняются некоторые успехи логики в эпоху
схоластики).
Аналогичным образом возникновение новых форм научного исследования и
в особенности возникновение экспериментального метода в науке Нового
времени является прямым следствием изменившегося способа производства
и соответствующих ему форм общественного сознания.
208
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 26, ч. I, с. 279 .
209
Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956, с. 182.
188
Таким образом, исторический материализм, раскрывая материальные
предпосылки существования науки в различные периоды ее развития, по
существу дает ответ на вопрос: Как возможна объективная история науки в
качестве особого вида духовного производства. Но есть и другая сторона
этого вопроса, связанная с познанием этой объективной истории науки, с
воспроизведением объективного развития науки в
категориях мысленной или повествовательной истории науки. В данном
случае проблема состоит в том, чтобы показать гносеологические условия
возможности историографии науки.
Конкретно-исторический подход к науке как развивающемуся объекту
позволяет сформулировать гносеологические условия возможности понятия
науки. Вопрос «как возможно понятие науки?» некоторым читателям может
показаться несколько искусственным: зачем определять условия
возможности того, что реально существует и не вызывает никакого сомнения
в своей реальности. И все же история науки знает немало примеров того, как
реально существующее явление в силу конкретных исторических причин не
могло быть осмыслено в теоретической форме
Яркий пример подобной ситуации приводит Маркс в «Капитале», когда он
показывает, почему, несмотря на широкое развитие товарно-денежных
отношений в античной Греции, ее великие мыслители, в частности
Аристотель, не сумели сформулировать понятие стоимости. Теоретические
условия для экспликации этого понятия были налицо, но, как показал Маркс,
категория стоимости не могла стать «практически истинной» в условиях
рабовладельческого общества, поскольку она предполагает понятие
абстрактного труда, которое могло возникнуть лишь в тот момент
гражданской истории, когда идея равенства (а отсюда идея равнозначимости
в некотором смысле любых форм трудовой деятельности) приобрела
«прочность народного предрассудка».
Можно привести примеры гораздо более простых и обыденных
вещей, понятие которых является результатом длительной исторической
практики людей. Возьмем такое, казалось бы, элементарное понятие, как
труд. «Труд кажется совершенно простой категорией, — пишет К. Маркс. —
Представление о нем в этой всеобщности — как о труде вообще — является
также весьма древним. Однако „труд", экономически рассматриваемый в
этой простой форме, есть столь же современная категория, как и отношения,
которые порождают эту простую абстракцию»210
.
Понятие абстрактного труда может возникнуть лишь на той ступени развития
общества, которая предполагает весьма развитую совокупность
210
Маркс К, Энгельс Ф Соч. 2-е изд., т. 12, с. 729 .
189
действительных видов труда, из которых ни один не является более
господствующим над другими. «Таким образом,— пишет К. Маркс,—
наиболее всеобщие абстракции возникают вообще только в условиях
богатого конкретного развития, где одно и то же является общим для многих
или для всех элементов. Тогда оно перестает быть мыслимым только в
особенной форме»211
. Когда индивиды могут с легкостью переходить от
одного вида труда к другому, лишь тогда для них какой-то определенный
труд выступает как случайный и безразличный. И только тогда категория
«труд» становится практически истинной. «Итак,— заключает К. Маркс,—
простейшая абстракция, которую современная политическая экономия ставит
во главу утла и которая выражает древнейшее отношение, имеющее силу для
всех общественных форм, выступает, однако, только в этой абстракции
практически истинной как категория наиболее современного общества»212
.
Методологическое значение приведенных рассуждений К. Маркса
неоценимо и может быть распространено с учетом определенной специфики
и на понятие науки и научного труда. Перефразируя К. Маркса, мы можем
сказать, что наука как определенная абстракция «выступает практически
истинной как категория наиболее современного общества». В этом, по сути
дела, заключен ответ не только на поставленный выше вопрос о том, как
возможно теоретическое понятие науки, но также и на вопрос: как
возможна история науки? Здесь мы опять-таки опираемся на
методологическое указание Маркса о том, что в историческом исследовании
необходимо исходить из развитой формы объекта, ибо в ней — ключ к
раскрытию его менее развитых форм213
.
Многие существенные черты науки, которые находились ранее в зачаточном
состоянии и, казалось бы, нисколько не выражали ее внутренней природы, в
настоящее время проявились настолько, что стали предметом специальных
науковедческих дисциплин. Это обстоятельство имело огромные
теоретические последствия для расширения понимания предмета истории
науки. В орбиту историко-научных исследований стали вовлекаться все
новые пласты исторической действительности, которые ранее вообще
выпадали из поля зрения историков науки. Сюда относятся прежде всего
вопросы, связанные с историей науки и общества, науки и производства,
науки и техники, вопросы, относящиеся к истории науки как социального
института, и т. п .
211
Там же, с. 730.
212
Там же, с. 731.
213
«Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны. Наоборот, намеки более высокого у низших
видов животных могут быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже
известно», — писал К. Маркс (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 12, с. 731).
190
Таким образом, теоретическое определение науки (а тем самым и ее
истории) стало объективно возможным лишь в современную эпоху научно-
технической революции. Именно теперь это понятие можно
квалифицировать, если воспользоваться терминологией Маркса, как наиболее
всеобщую абстракцию, в отличие от тех особенных его форм, в которых оно
(это понятие) мыслилось в другие исторические эпохи.
Мы не случайно поставили вопрос о теоретической возможности самого
понятия науки. Возможность еще не есть действительность, и не все
историки действительно владеют теоретическим понятием науки и ее
истории. Нередко это понятие и в наше время мыслится не в форме
всеобщности214
, а в его особенной форме: берется, скажем, форма науки,
какой она была в античности и в Средние века, и выдается за определение
науки вообще.
Любопытную иллюстрацию подобного понимания дел представляют
рассуждения известного историка науки А. Койре. Возражая американскому
историку Г. Герлаку, который в своем выступлении на коллоквиуме в
Оксфорде (1961 г.) выдвинул идею комплексного подхода к развитию науки,
учитывающему взаимодействие науки с другими сферами материальной и
духовной жизни общества215
, Койре в своем сообщении «Перспективы
истории наук» отмечал следующее: «Герлак полагает... что история наук,
которая в последнее время осуществила свою связь с историей идей, а не
только с историей философии, остается тем не менее слишком абстрактной,
слишком „идеалистической". Он думает, что она должна преодолеть этот
идеализм, перестав изолировать факты, которые она описывает, от
исторического и социального контекста... и что она должна отказаться в
первую очередь от произвольного и искусственного разделения между
чистой и прикладной наукой, теорией и практикой»216
.
Далее Койре задает вопрос, не является ли связь между чистой и прикладной
наукой, на которой настаивает Герлак, и роль науки как исторического
фактора по крайней мере частично проекцией на прошлое современного
состояния вещей.
«Несомненно, — продолжает он, — что роль науки в современном обществе
постоянно возрастала в течение последних веков. Несомненно, что наука
стала фактором огромной, может быть, решающей важности в истории. Не
менее очевидно также то, что ее связь с прикладной наукой является более
214
Понятие всеобщности Маркс употребляет в смысле единства многоразличных аспектов, т. е .
как синоним понятия конкретного.
215
Текст доклада Герлака был опубликован затем в «Scientific Change» /Ed. by А. С. Crombie. L .,
1963, p. 797—812 .
216
Koyre A. Etudes d'histoire de la pensee scientifique, p. 355 .
191
чем тесной: крупными инструментами ядерной физики являются заводы, а
наши автоматизированные заводы — лишь воплощенной теорией... Все это,
без сомнения, не является целиком новым феноменом, но результатом
развития, развития всегда ускоренного, начало которого находится далеко
позади нас...»
217
.
Однако это взаимное проникновение теории и практики, теоретическая
разработка решения практических проблем являются, по мнению Койре,
феноменом существенно современным. Подобное положение дел не было
свойственно ни науке античности, ни науке Средних веков, где наука и
практика существовали порознь. Отсюда А. Койре делает вывод, что наука не
является необходимым атрибутом в жизни общества, в развитии культуры, и
вообще ее роль в прошлом, даже там, где она эффективно развивалась, как,
например, в Греции, была минимальной.
Что же является предметом истории науки? Койре пытается найти то общее,
что было свойственно науке на протяжении всей истории. К какому же
выводу он приходит? «Я считаю... что наука, наука нашей эпохи, как и наука
Греков, является существенно теорией, поиском истины, и поэтому она
имеет и всегда имела собственную жизнь, имманентную историю, и что лишь
в зависимости от своих собственных проблем, своей собственной истории
она может быть понята своими историками»218
.
Легко видеть, что определение предмета истории науки, данное А. Койре, по
существу неисторично, поскольку он акцентирует внимание не на развитии
науки, которое состоит именно в отличии одного исторического этапа от
другого, а на абстрактном тождестве ее различных форм. Тем самым он
исключает из определения ее предмета такие категории, как Время,
Пространство, Общество и т. д .
Ошибочность методологии, которой руководствуется А. Койре, можно
показать на примере Марксовой критики метода буржуазной политической
экономии. «.. . Есть определения, — писал он, — общие всем ступеням
производства, которые фиксируются мышлением как всеобщие; однако так
называемые общие условия всякого производства суть не что иное, как эти
абстрактные моменты, с помощью которых нельзя понять ни одной
действительной исторической ступени производства»219
. Маркс
подчеркивает, что «определения, которые действительны для производства
вообще», — это разумные абстракции, и они «должны быть выделены
217
Ibid., p. 357.
218
Ibid., p. 360.
219
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 12, с. 714 .
192
именно для того, чтобы из-за единства... не было забыто существенное
различие»220
.
Точно так же мы можем сказать, что определение науки вообще, которое, в
частности, пытается дать А. Койре, отнюдь не может быть самоцелью.
Основная проблема исторического познания науки состоит именно в том,
чтобы, фиксируя тождество основных ступеней ее развития, выделить
существенное отличие их друг от друга.
Перефразируя Маркса, можно сказать, что хотя наиболее развитые формы
науки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми, но именно
отличие от этого всеобщего и общего и есть то, что составляет их развитие.
Например, сущность классической науки станет нам понятной не через
установление ее тождества с наукой античности и Средних веков, а через
указание ее отличительной особенности.
Итак, при определении предмета истории науки необходимо, как мы видели,
исходить из понятия современной науки, отражающей развитое состояние
объекта, изучение которого позволяет нам восстановить менее развитые
формы науки. Такое понимание предмета истории науки заключает в себе и
указание на метод исторического познания — понимание прошлого с
помощью настоящего.
Тем самым значительно расширяются и рамки традиционного понимания
истории, которое мыслилось как познание только прошлого науки. Сам
метод рассмотрения истории науки с позиций ее наиболее развитой формы
раздвигает границы исторического времени: в историю необходимо
включается как настоящее состояние науки, так и перспективы ее будущего
развития.
Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу,
что гносеологическим основанием возможности истории науки как
теоретической дисциплины является наличие философски разработанного
понятия «наука», что само по себе стало возможным лишь в современную
эпоху научно-технической революции, когда исторические предпосылки для
превращения этого понятия в «практически истинную» категорию уже
созрели, т. е . когда эта категория стала адекватным отражением
(аналогов) соответствующей научной практики.
В целом же, как показано выше, материалистическое понимание (с учетом
определенной специфики) раскрывает гносеологические основания
возможности как объективной истории науки, так и
220
Там же, с. 711.
193
ее мысленного отображения—историографии науки. Но этим исчерпывается
лишь одна сторона основного философского вопроса, связанная
с первичностью общественного бытия в отношении научного мышления и
его категорий.
Что же касается самой возможности познания объективной истории и
степени достоверности такого познания, то общие контуры марксистского
решения этого вопроса были даны выше в связи с критическим анализом
соответствующих историографических концепций. Остается лишь добавить,
что историческое познание как таковое рассматривается в марксизме с точки
зрения его общего учения об объективности истины, соотношения
абсолютной и относительной истины. При этом Энгельс, учитывая
специфику истории, где «повторение явлений составляет исключение, а не
правило...»
221
, подчеркивает, что в исторической группе наук элемент
релятивности, относительности наших знаний оказывается более
значительным по сравнению с другими группами наук. Так что здесь
познание носит по самой своей сути относительный характер. Это
объясняется тем, что «все приобретаемые нами знания по необходимости
ограничены и обусловлены теми обстоятельствами, при которых мы их
приобретаем»222
.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ
ПОЗНАНИЕ В ТРЕХМЕРНОМ ИЗМЕРЕНИИ И ПРОБЛЕМА
ЧЕЛОВЕКА
Н. Н. ТРУБНИКОВ
В данной статье мы рассматриваем не столько процесс познания сам по себе,
понятый как некоторого рода восходящее движение от незнания к знанию и
от менее глубоких форм знания к более глубоким и общим, но скорее то
живое и не всегда еще оформленное многообразие знания, ту движущуюся
его реальность, которой задается сама материя знания и которая обладает не
только различного рода внешними формами и характеристиками (в том числе
и внешним движением, внешними пространственно-временными
определениями этого движения), но и достаточно развитой и подвижной
внутренней структурой, целым рядом внутренних характеристик,
специфическим внутренним движением, специфической внутренней
организацией составляющего .его содержания. Это последнее, а также и
221
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 20, с. 91).
222
Там же, т. 21, с. 302.
194
место в этом многообразии идеи человека, центральной223 идеи всякого более
или менее развитого мировоззрения, и интересует нас здесь прежде всего.
Всякое более или менее развитое познавательное содержание обнаруживает в
своем составе различные, часто как бы полярным образом противоположные
и как будто даже исключающие друг друга тенденции. Так, с самого начала
оно обнаруживает отчетливо выраженную тенденцию к определенности
построения своего предмета, к его отграничению от других, к выделению его
из общего поля связанного с ним познавательного содержания, еще
неосвоенного познанием, а также и уже освоенного, но в каком-то другом,
несущественном для данного случая отношении. С другой стороны, оно
обнаруживает столь же заметную тенденцию к приведению этого предмета в
связь с другими, к реконструкции его отношений с уже сложившейся и
действующей системой знания и к приведению его в связь с так иди иначе
сознаваемым опытом живой действительности, с представлением о той
широкой и не вполне определенной совокупности вещей, откуда этот
предмет был отвлечен, и которая, хотя и оказалась опущенной при этом
отвлечении, тем не менее составляет как его реальную почву, которая и
послужила исходной основой для его определения, так и поле его возможных
приложений.
При всей, казалось бы, противоположности этих двух тенденций их
действительное отношение — и это положение является азбучным для
диалектически ориентированной теории познания — состоит в том, что обе
они оказываются в некотором изначальном смысле реализацией в сущности
одного и того же, лишь различным образом определенного, под различными
углами зрения рассмотренного познавательного содержания. Лишь вместе,
во взаимном единстве этих различных и даже противоположных
определений и рассмотрении, во взаимной дополнительности этих двух
различных фиксаций они оказываются способными сформировать
относительно данного предмета материю того, что можно было бы назвать
знанием в прямом и собственном смысле этого слова.
То же, с еще большими на то основаниями, может быть сказано
непосредственно и о научном познании и о философском, в частности и о
теоретико-познавательном содержании философского знания. Научное
познание также в силу исходного и для него стремления к определенности, а
сверх того и к формальной чистоте воспроизведения своего предмета, к
логико-теоретической последовательности в организации развиваемого в
формах науки познавательного содержания обнаруживает столь же заметную
223
Вернее было бы сказать, одной из двух центральных идей, поскольку другой его (еще более
важной для него) центральной идеей является идея внешнего мира. И в этом смысле скорее
следовало бы говорить не о «круге знания», как это принято, а о его «эллипсе».
195
тенденцию к построению предмета «самого по себе», к фиксации четких его
границ, к теоретической строгости его определения. Оно обнаруживает сверх
того и тенденцию к выявлению всех необходимых для научного построения
предмета исходных допущений и формул преобразования относящегося к
данному предмету познавательного содержания, а также и к ограничению
числа этих определений, допущений и формул некоторым научно значимым
для данного содержания, конструктивно необходимым для него и предметно
достаточным минимумом.
Вместе с тем в силу столь же недвусмысленно выраженного и в научном
познании стремления в цельности и полноте знания, не только к формальной,
но и к содержательной последовательности в построении предмета — и это
особенно заметно на обобщенно-философском уровне научного познания —
оно обнаруживает и эту вторую, может быть, менее заметную в иных
случаях, но не менее существенную и для научного познания тенденцию к
преодолению границ так или иначе фиксированного познавательного
содержания, к выходу за его определенности и конечности,—не только к
исчислению всей суммы его значений, всей полноты его внутренних и
внешних опосредований с существующей и действующей системой знания,
но и к определению возможных связей данного содержания с существующей
системой миропознания вообще, с налично сущими представлениями о мире,
о человеке и человеческом познании мира, к определению в конечном счете
всей полноты его связей и опосредований в системе человеческого
миропознания вообще.
И дело не только в том, что в силу исторически сложившихся в научном
познании форм разделения труда первая из этих тенденций как будто
наиболее заметным образом реализуется в естественнонаучном познании, и
особенно в тех его познавательных структурах, которые в настоящее время
принято рассматривать под углом зрения физического знания, тогда как
другая заметнее сказывается в познании гуманитарном, находя наиболее
полное свое выражение в тех интеллектуальных построениях, которые
именуются философскими. Эта антитеза частноопределенного и
общезначимого совсем не непременно и далеко не всегда и не во всем
совпадает со сложившимся к настоящему времени делением познания на
конкретно-научное, с одной стороны, и философское — с другой. Речь идет
не об этой внешней антитезе, исторически заданной, а потому и исторически
преходящей224
, но о внутренней антитетичности всякого знания, независимо
224
Заданной буржуазному европейскому знанию в Новое время господствовавшей клерикальной
монополией на истины высокого мировоззренческого порядка. Преходящей с падением этой
монополии и различного рода ее пережитков. В иных культурных регионах, где подобная
монополия не сложилась, например в античном знании Средиземноморья или Востока,
отсутствует и эта внешняя антитеза.
196
от его научного уровня и характера представленного в нем обобщения
познавательного материала. Речь идет о том, что лежащие в самом истоке
человеческого познания, максималистское по самой своей духовной основе и
сущности стремление к постижению всей полноты конечного определения
предмета, и в то же время к общезначимости этого определения, к
бесконечной цельности и полноте как в познании частного, отдельного и
конечного, так и к беспредельной цельности и полноте бесконечного,
бесконечно связанного и бесконечно значимого,— это исходное для
человеческого познания стремление, изначально двойственное, своеобразно
бинокулярное по своей природе и сущности, необходимым образом
сказывается во всяком знании и лишь в силу внешних для познания условий,
в силу исторически сложившихся форм разделения научного труда, в силу,
наконец, чисто интеллектуальной конечности и пространственно-временной
ограниченности человеческих его -агентов реализуется в этой форме
различия, а в иных случаях и противоположности и конфронтации единых в
своем общем истоке и не столько противоположных, сколько направленных
скорее под известным углом друг к другу, как две из единого начала
исходящие оси одной и той же координатной сетки, взаимно необходимых и
дополнительных и взаимно же—в силу этой необходимости и
дополнительности — провоцирующих и продуцирующих общих тенденций.
Как бы ни преобладала в тех или иных научных, как частно-научных, так и
философских, построениях одна или другая из этих тенденций, исходное
предметное единство знания, общая его духовная основа и общий его
материальный базис сказываются прежде всего в том, что обе они явно или
неявно присутствуют во всяком знании, какие бы разнообразные частные и
даже частичные формы оно ни принимало. Лишь обе вместе, и именно в
своем изначальном предметном и духовном единстве, они задают знанию его
определенность, не только приводят его в соответствие с достигнутыми
познавательными нормами и выделяют данную форму знания среди других
его форм, но и сообщают знанию его общее основание, включают всякое
данное его содержание в систему и процесс более общего и более широкого,
беспредельного в его как пространственно-временной, так и предметной и
интеллектуальной перспективе познавательного опыта, а через него и в
систему и процесс человеческого миропознания и самопознания,
человеческого мироотношения и самоотношения, в систему и процесс
человеческого духовного опыта вообще.
Если реализация первой из этих двух тенденций способна представить для
нас сегодня в формах современного научного познания то или иное
познавательное содержание в виде некоторого рода
теоретической очевидности, чем, собственно, и санкционируется это
197
содержание как научное, то именно реализация второй, в какой бы
завуалированной или слабо выраженной форме, как это по большей части и
бывает, она ни была представлена в каждом отдельном случае, позволяет нам
принять это содержание как знание, т. е . не как некоторую интеллектуальную
игру, но как постигаемую в понятиях действительность.
Этими двумя векторами знания задается, таким образом, само его поле,
исходные границы его пространства. Именно внутри этих границ и
располагается всякая данная форма знания. Соотношение с ними задает
знанию как его определенность и место в существующей системе знания, так
и его общий, не всегда достаточно сознаваемый и концептуально
определенный, но всегда присутствующий и так или иначе соотносящийся с
ним, звучащий и резонирующий с ним духовный фон. То и другое вместе,
таким образом, задает научной жизни всякой данной эпохи ее общие, в ряде
случаев недостаточно выявленные и теоретически прослеженные духовные
границы, так называемые «пределы научной эпохи». Выход за эти пределы
оказывается—с точки зрения господствующих идей эпохи — не чем иным,
как выходом за пределы самого знания. В одном случае, когда то или иное
познавательное содержание не отвечает стандартам научного построения
своего предмета, оно может рассматриваться как выход за пределы принятых
форм научности, а значит — в глазах эпохи — за пределы научности вообще,
за пределы научной очевидности, а значит—и за
пределы действительности, поскольку очевидность и действительность и
здесь, не в одном только обыденном сознании, отождествляются иногда
самым некритическим образом. В другом случае оно оказывается выходом за
пределы знания, когда то или иное познавательное содержание не отвечает
существующим представлениям о действительности, в силу чего это
содержание и рассматривается как выход за ее пределы, а значит — и за
пределы знания действительности и действительного знания, что — и на этот
раз вполне основательно — равнозначно выходу за пределы знания как
такового.
Между этими взаимно противоположными полюсами, что ни в какой мере не
исключает многообразия и иных его полярностей, в какой-то из точек
пресечения этих двух координат знания и располагается всякая данная его
форма. Однако, где бы ни располагалось знание в этом общем его поле,
образованном двумя этими различными, разнонаправленными его
координатами, задающими своего рода континуум между беспредельно
конечным определением предмета, с одной стороны, и предельно
бесконечным его определением — с другой,— где бы ни располагалось
всякое данное познавательное содержание, тяготея то к одной, то к другой
определенности, именно положением в этой системе координат, привязкой к
198
ней задается место этого научного содержания в общей системе знания. А
сам этот континуум составляет если не все пространство
знания, требующее, о чем будет сказано ниже, введения по крайней мере еще
одной, а именно временной координаты, а то общее моментальное поле
звания, тот общий его контекст, в связи с которым всякое данное
познавательное содержание и выступает как форма знания, т. е . как нечто
принадлежащее именно этому, а не какому-то другому пространству и миру.
В силу этого всякое данное научное содержание с самого начала оказывается
необходимым образом поставленным в ту или иную, если не прямую и
непосредственную, то во всяком случае так или иначе предполагаемую и по
большей части поддающуюся теоретическому анализу связь как с хотя и
предельно конечным и ограниченным, но живым и ежедневным — sub
speciae loci et temporis определенным — эмпирическим опытом, питающим
знание свежей плотью конкретного, чувственно-предметного человеческого
общения с миром, так и с теми отвлеченно общими,— sub speciae alternitatis
принимаемыми — в глазах всякой данной эпохи—философскими
представлениями о мире, о человеке и человеческом познании мира, которые
складываются в тех или иных исторических условиях человеческого бытия и
позволяют подключить всякое конечное научное содержание к
санкционирующей их более общей, иногда текстуально выраженной, а чаще
контекстуально выносимой как бы «за скобки» научного содержания, но так
или иначе предполагаемой мировоззренческой системе.
Вполне естественно, что далеко не всегда эта более общая система, а именно
система знания о мире, о человеке и человеческом познании мира, носит
вполне развитый философский или научный характер. В ряде случаев здесь
приходится встречаться с целым конгломератом представлений,
включающих, помимо действительного знания, различного рода
идеологические доктрины, всевозможные мифологические построения,
различным образом объясняющие человека и мир, однако, в сущности, лишь
заполняющие пустоты на поле действительного знания некоторым
искусственным, иногда весьма искусно слаженным содержанием. А иногда,
особенно в тех случаях, когда эти последние, нередко отличающиеся хотя и
ненаучным, но весьма развитым и утонченным для своего времени
характером, претерпевают своего рода эрозию и падают под
разрушительными ударами опровергающего их живого опыта жизни, как и
под ударами развивающегося научного познания, успевающего их расшатать,
но не всегда успевающего заместить их действительным знанием,
приходится встречаться и с весьма неразвитыми и далеко не утонченными
формами так называемой обыденной, заранее все знающей, ни в чем не
сомневающейся и не убеждающейся, всегда уверенной в своей
199
непогрешимости, короткой в рассуждениях и скорой в решениях «житейской
мудрости».
Важно, однако, не это. Важно, что эта связь научного и философского
содержания с его более общей мировоззренческой системой, независимо от
того, насколько развитой в философском или научном отношении она
является, есть связь необходимая в самом прямом и строгом смысле этого
слова.
Столь же важно, — а для раскрытия нашей темы это весьма существенное
обстоятельство, — что эту связь не только в положительно-научном знании,
но нередко и в философском и непосредственно мировоззренческом
(вследствие указанного выноса «фона знания» за скобки научного
содержания) не всегда удается легко проследить. Она не всегда
самоочевидна, не лежит на поверхности научного содержания. Исследование
ее на реальном историко-научном или историко-философском материале, как
правило, встречается с содержанием, которое не столько полагается той или
иной философской или научной концепцией, сколько предполагается ею и с
самого начала относится к тем ее составляющим, которые принимаются
скорее как нечто «само собой разумеющееся», «и без того понятное», а
потому и не нуждающееся в сколько-нибудь подробном освещении.
Речь идет поэтому хотя и о необходимой, но по большей части скрытой,
невыявленной или лишь частично выявленной связи, а именно — связи
прямым образом высказанного «текста» той или иной научной или
философской концепции с ее более общим и необходимым для нее, ибо лишь
в связи с ним она только и имеет свой смысл, но далеко не столь четко, как
она сама, определенным и концептуально в ней выраженным «контекстом».
Вполне понятный и контекстуально как бы само собой разумеющийся,
«ясный и отчетливый» для автора и ближайшего круга его современников
(это понятие не следует толковать здесь слишком прямолинейно, поскольку
хронология духовного пространства-времени носит далеко не линейный
характер, отчего ее одновременности, как и вообще одновременности
культурно-исторического порядка, вовсе не обязательно совпадают с
одновременностями в определениях так называемого «физического течения
времени»), этот контекст далеко не всегда оказывается «ясным и
отчетливым» для исследователя, исходящего из иных историко-научных
условий, работающего в иной мировоззренческой традиции, в иной
познавательной системе, а потому в известной мере неосознанно, если это
обстоятельство не учитывается, вынужденного соотносить непосредственно
высказанные «тексты» исследуемого научного содержания с совсем иными
200
для него контекстами, с иными, нередко чуждыми для него, совсем по-иному
с ним резонирующими духовными формами.
Данное обстоятельство имеет самое непосредственное отношение к весьма
остро вставшей в современной западной философии (не без влияния, правда,
некоторых идей М. Хайдеггера225
, однако вовсе не благодаря только
им) проблеме понимания.
Широкое обсуждение этой проблемы в форме
современной герменевтики занимает сейчас в западной философии все
большее место. Да и сама эта проблема, ближайшим образом возникшая еще
в XIX в. на довольно узкой почве исторического исследования, где она
первоначально определилась как проблема языка и перевода, т. е . как чисто
техническая, совсем не философская и не мировоззренческая проблема, лишь
позднее, а именно в работах так называемой исторической школы
Шлейермахера, а позднее Дильтея вышла на более общий уровень
понимания «языка культуры» и «перевода» духовных достижений одной
культуры на язык другой. Сегодняшнее же специфическое звучание этой
проблемы скорее связано не с философским ее содержанием как таковым, но
с характерным для нашего времени чуть не экспоненциальным ростом
различного рода «научных языков», понятных все более узкому кругу все
более узких специалистов.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что современный интерес к проблеме
понимания далеко не случаен. Проблема эта ныне весьма занимает и
исследователей-марксистов, тем более что в материалистически
переосмысленной марксизмом диалектике Канта и Гегеля проблема
понимания была поставлена не просто в иной, но и в философско-
методологически более обстоятельной форме. Понятие понятия—высшей для
Гегеля формы мышления226
—оказывается здесь в сущности тождественным
понятию понимания227
.
Тем не менее новое обсуждение проблемы понимания, рассматриваемой как
проблема освоения духовных достижений одной культуры в весьма иногда
225 См.: Гайденко П. П . От экзистенциализма к герменевтике и философской антропологии. — В кн.:
Новейшие течения в проблемы философий в ФРГ. М., 1978.
226 См.: Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1972, т. 3, с. 16.
227 «Один из самых глубоких,—пишет Гегель,—и самых правильных взглядов,—имеющихся в „Критике
чистого разума",—это взгляд, согласно которому единство, составляющее сущность понятия, есть
первоначально-синтетическое единство апперцепции, единство „Я мыслю" (des Ich denke), или
самосознания. — Это положение составляет так называемую трансцендентальную дедукцию категорий; но
эта дедукция издавна считалась одной из самых трудных частей кантовской философии,—пожалуй, только
по той причине, что она требует возвыситься над простым представлением об отношении, в котором Я и
рассудок или понятия находятся к вещи и ее свойствам иди акциденциям, и перейти к
мысли.— «Объект, говорит Кант, есть то, в понятии чего объединено многообразное, охватываемое
данным созерцанием» (Кант И. Соч.: В 6-ти т. М., 1964, т. 3, с. 195).
201
неэквивалентных ей терминах другой, а шире — вообще проблема
проникновения в глубинные пласты того или иного духовного содержания,
как раз и затронуло эту проблему контекста, без действительного учета
которого всякий данный, непосредственно представленный текст попадает в
лучшем случае в некоторого рода культурный вакуум, где утрачивает
питавшую его живой связью с действительностью духовную почву, а в
худшем — переносится в совершенно чуждую для него духовную среду, в
силу чего в немалой степени способен утратить не только свой
первоначальный, но и вообще сколько-нибудь соответствующий истине
смысл.
Есть еще одно, более глубокое и более существенное» в частности и для
нашей темы, обстоятельство. Оно заключается не просто в попытке
выработать научные способы проникновения как в контексты, так и вообще в
более глубокие пласты различного рода духовного содержания. В
значительно большей мере оно связано с тем, что «герметическая традиция»,
почти забытая и утраченная европейской наукой Нового времени, издавна
разрабатывала довольно близкий к современному обсуждению проблемы
понимания круг проблем, хотя и несколько отличным от того, что интересует
нас сейчас, отчасти даже противоположным образом228
. Эта традиция,
развивавшаяся в отличных от западноевропейской науки познавательных
формах Востока, насчитывает (по сравнению с европейской наукой) не одно
тысячелетие и успела за это солидное время накопить, даже и с учетом
известной восточной неторопливости, немало ценностей весьма высокого
духовно-познавательного порядка. Освоение этих ценностей, да и всего
классического наследия Востока, возможное лишь в результате своего рода
«разгерметизации» его контекстов, включение этих ценностей в обиход
современного научного познания представляет огромный как чисто научный
и философский, так и общекультурный интерес. Это освоение позволит
обогатить современное философское, в частности в теоретико-
познавательное, содержание некоторыми весьма ценными идеями
классического философского наследия Востока, прежде всего философского
наследия Индии, наиболее утонченного и богатого содержанием.
Это освоение может явиться тем более плодотворным, что в отличие от
европейского буржуазного мышления и европейской буржуазной философии
в центре тяжести последнего лежит не столько устремление к внешнему
228
Для старой герметической традиции характерно не столько изучение способов
«разгерметизации» того или иного содержания, хотя этим ей также приходилось заниматься,
сколько, напротив, выработка надежных способов «герметизации» добываемого ею содержания
от непосвященных, т. е . интеллектуально и нравственно — непременные условия посвящения —
неподготовленных к принятию могущественного тайного знания и особенно к практическому его
использованию.
202
миру как таковому, сколько смещение центров тяжести философского
познания в сторону человеческого самопознания, основанного на идее
определенного рода связи и единства макрокосма внешнего мира и
человеческого микрокосма. Обращенное поэтому прежде всего к
человеческой личности и индивидуальности, это человеческое самопознание
именно через них, как через нечто непосредственно данное сознанию, а
потому и исходное для него, нечто не разделенное на противостоящие друг
другу, двум разным мирам принадлежащие субъект и объект, нечто изнутри
наблюдаемое, а потому и внутренне достоверное, вместе с тем осуществляет
выход за пределы личности в широкий мир ее бытия. И это уже не выход в
некоторую внешнюю данность, но постижение той же самой, но лишь более
общей и более универсально представленной ценности, включающей в свое
содержание и человека, не полагающей его как нечто трансцендентное себе,
принадлежащее, как это наиболее последовательно высказано И. Кантом,
двум различным и чуждым друг другу, «в себе и для себя» сущим мирам229
.
Если попытаться выразить эту исходную теоретико-познавательную идею
единства человека и мира в категориях европейской философии, придется
сказать, что здесь субъект делает себя объектом и тем самым познает в себе
объект. Два различных «центра» европейского познания, а именно — идея
человека и идея мира самого по себе здесь, таким образом, совмещаются в
одной точке, и познание приводится к своему единому основанию и
раскрывает себя уже не в расшатывающей себя, опирающейся в
ускоряющемся своем движении на два различных центра фигуре эллипса, но
к наиболее устойчивой в движении, внутренне равновесной и наиболее
отвечающей строению космоса, наиболее совершенной и «приятной для
глаза» фигуре окружности.
Вполне естественно, что это освоение явится для западного мышления, как
это можно предположить отнюдь не без серьезных к тому оснований,
немалым духовным сдвигом. Но оно, несомненно, позволит включить в
состав научного познания достаточно мощные контексты иных, по-иному
развитых, в некоторых своих моментах очень утонченных культур. Все это
заставит по-иному зазвучать и наше современное знание, по-иному
резонировать в заметно более широком и многообразном смысловом поле.
Вполне понятно, что этот занимающий нас смысловой фон знания, он же и
смысловой его фонд, — эти понятия исходно, если иметь в виду их
первоначальное смысловое ноле, тождественны, — этот общий его контекст,
в составе которого только и приобретает свое значение всякое данное
познавательное содержание, не только уже сложившееся и вошедшее в плоть
229
См.: Радхаккришнан С. Индийская философия. М., 1956. Т . I (Введение).
203
знания, но и новое, еще только формирующееся, не есть нечто статическое.
Уже простой количественный рост знания свидетельствует о непрестанном
расширении его границ, о постоянном росте поля его, так сказать,
горизонтального распространения. Но ведь существует еще и качественный
рост знания, своего рода длительность качественного его восхождения.
Существует не только последовательность пополнения его новым
содержанием, но и последовательность смены старого содержания новым,
более истинным, более глубоким и развитым. Вот этот-то вектор
качественного восхождения знания и оказывается в своем усредненном
значении величиной временного изменения знания, величиной развития,
общей временной координатой рассматриваемого нами пространства знания.
В результате именно этого изменения, а не просто количественного роста
знания пространство знания в один из моментов времени оказывается
существенным образом отличным от него же в другие моменты его бытия. И
не только количественно, но и качественно, как по содержанию
представленного в нем знания, так и по формам и способам его
функционирования.
Отсюда, между прочим, возникает и своеобразная самогерметизация знания
во времени, а вслед за ней и проблема понимания, разгерметизации и
перевода на новые языки, проблема приведения знания к живому и новому
для него смысловому полю.
Нечто подобное этой герметизации можно, например, наблюдать в тех
случаях, когда содержание того или иного произведения или «текста» (в этом
обобщенном его понимании), не только научного или философского, но и
художественного, музыкального и т. д ., вовсе даже и. не принадлежащего к
какой-либо иной культуре или иным эпохам одной и той же культуры,
остается тем не менее непонятным и даже отвергнутым не столько
вследствие присущих ему как таковому качеств, сколько как раз в силу
несовпадения «текста» этого произведения с ведущими и в чисто внешней
временной определенности, казалось бы, современными ему «контекстами».
Оно может быть отвергнуто, когда эти контексты успели уйти о г него вперед
в общей своей временной размерности, т. е . когда «часы» этого
произведения, частные временные характеристики его, отстают от общей,
статистически усредненной временной определенности смысловых полей
действующего знания. Это содержание может быть отвергнуто и оказаться
непонятным также и в том случае, когда сами эти контексты в их усредненно
общей временной определенности не успели созреть для принятия его текста.
Тогда это произведение должно ждать «своего времени», которое «в свое
время» придет и не просто разгерметизирует его для новой, «в свое время»
пришедшей эпохи, но просто разовьет необходимые для понимания этого
204
произведения новые контексты. И тогда это содержание уже не будет в
новых условиях герметичным п займет по праву принадлежащее ему место.
Мы не будем касаться здесь других случаев, когда, например, новые
контексты по-новому определяют старые, хорошо известные тексты,
выявляют в них до поры скрытые пласты содержания. Нас интересует
другое, а именно, что как раз в силу этой временной самогерметизации
знания очень многое «само собой разумеющееся», «и без того
понятное», с точки зрения эпохи исследуемого содержания, а потому и
вынесенное за скобки текста оказывается часто весьма непростым и отнюдь
не само собой разумеющимся для исследователя, исходящего из иных
контекстов, из иных смысловых полей, из иных фонов и фондов знания, а
потому и нуждается для своего понимания в определенного рода
реконструкциях, без чего действительное понимание текста, даже и
прозрачного на первый взгляд, часто оказывается просто невозможным.
В конце концов это «само собой разумеющееся» содержание, подобно
«ясным и отчетливым» идеям Декарта, оказывается таковым лишь в
некоторых фиксированных исторических условиях, отчего здесь и
приходится учитывать существеннейший элемент историзма и вводить
совершенно необходимую для понимания этого содержания временную
координату в соответствующее этому содержанию пространство знания.
Подобного рода подкупающая ясность и отчетливость «само собой
разумеющегося», отвлекающая от оснований, в силу которых одна часть
содержания выступает как само собой разумеющаяся, а другая как
нуждающаяся в выведении и опосредовании, в иных исторических условиях,
в новых более развитых или новых менее развитых (так тоже бывает)
познавательных контекстах может получить, как мы говорили, совсем иной,
нередко прямо противоположный характер. К тому же история познания
самым недвусмысленным образом показывает, что в ясной и отчетливой
форме может легко мыслиться не только истина, но и заблуждение, и что
именно это последнее чаще всего как раз и мыслится куда более ясно и
отчетливо, чем какая-либо истина, только еще прокладывающая себе путь в
действующее пространство знания. И если всякая духовная, научная и
интеллектуальная эпоха имеет свою собственную меру ясности и
отчетливости, ей и только ей принадлежащую меру само собой
разумеющегося и понятного, то она же вместе с тем имеет и свою
собственную, именно ей принадлежащую меру истинности, меру
человеческой осознанности действительности и меру её человеческой
самоосознанности.
Эти меры истинности, научности, научной очевидности и ясности одной
познавательной эпохи могут, как мы видим, заметно отличаться от подобных
205
мер других познавательных эпох, и только взаимное сличение этих мер, их
соизмерение способно обнаружить как внутреннюю их определенность, так и
внешнюю определенность и понять то и другое не только как некоторого
рода исторически фиксированную величину, но и как величину исторически
же преходящую, конечную, как величину ограниченную и, стало быть,
временную.
Вне этого сличения, этого взаимного определения мер то и другое остается
чем-то неопределенно безмерным, а потому и претендующим, что вполне
естественно в этом случае, на поистине беспредельное значение, т. е .
остается величиной еще не реализовавшей себя как мера в собственном
смысле слова. Без этого соизмерения то и другое не способно, таким образом,
определить себя, как не способен «свой аршин» измерить себя «своим же
аршином». Не реализовав себя как такую меру, это содержание не знает ни
своих действительных границ, ни своей действительной ограниченности. И
чаще всего именно это «само собой разумеющееся» и стоит за спиной знания
и направляет его движение по уже разработанным руслам, оставляя на
границе между ними целые материки содержания, недоступного для мысли,
протекающей по этим готовым, расчерченным и снабженным различного
рода указателями путям.
Сказанное относится не только к обыденному сознанию, но и к научному
познанию, и к философскому, к исследованию различных отраслей
философской науки, различных сторон философского мышления о мире,
которые также по большей части лишь предполагают, далеко не всегда
формулируя ее положения, более общую философскую теорию или систему.
То же в непосредственной форме может быть сказано и о связи теоретико-
познавательного содержания философского знания с его более общей
мировоззренческой системой. И теоретико-познавательное знание не только
вследствие общего для всякого теоретического знания стремления к полноте
и законченности «сверху», в выводах теоретико-познавательной концепции,
в ее приложениях и выходах в познавательную практику, но и в связи с
непосредственно философским характером самой этой дисциплины, как и в
силу еще более заметного для философии стремления н выявленности
оснований «снизу», со стороны исходных для познания пунктов, иногда
вполне сознательно, как в классических системах Платона, Декарта,
Лейбница, как в классической системе марксистско-ленинской философии
диалектического и исторического материализма, а чаще полуосознанно,
«интуитивно», что в действительности не имеет близкого отношения к
интуиции, ставится в эту необходимую для всякого теоретического познания,
но далеко не всегда ясно сознаваемую и сознательно выявляемую
контекстуальную связь.
206
Сказанное с полным правом может быть отнесено и к связи теоретико-
познавательного содержания философского знания уже не только с более
общей философско-мировоззренческой Системой вообще, но и с таким
центральным пунктом всякого более или менее развитого мировоззрения, как
то или иное понимание человека, причем уже не только как некоторого
внешнего орудия познания, своего рода облеченного в человеческую плоть
субъекта познания, «познающего разума», «гносеологического субъекта» и т.
д., но прежде всего как субъекта самой этой действительности, а если и
субъекта познания, то лишь в качестве этого последнего.
Эти представления о человеке, о его сущности, о его месте во вселенной, а не
только о его орудийной роли в познании как таковом как раз и являются для
теории познания тем ближайшим планом общего контекстуального фона
знания, в органической связи с которым и формируется и осуществляет свою
работу данный раздел философии. И здесь тема человека в
общефилософском ее плане разрешается не только на пути исследования
всякого рода познавательных возможностей, границ и ограниченностей
человека, понятого как своего рода орудие познания, каковой она остается по
большей части в теориях познания буржуазной философии, но прежде всего
на пути исследования познавательных возможностей, границ и
ограниченностей, которые сообщаются познанию и, соответственно,
теоретико-познавательному содержанию, существующими представлениями
о человеке. Эта тема разрешается также и на пути исследования
познавательных возможностей, границ и ограниченностей, которые сами, в
свою очередь, накладываются всякой данной теоретико-познавательной
системой на само это понимание человека, а через него, естественно, и на
понимание человеческого познания, на понимание смысла и размеров
действительной связи того и другого и, наконец, на понимание — или
непонимание — того кардинального теоретико-познавательного факта, что в
наших земных условиях именно в человеке реализует себя самосознающая
субъектность, если позволено будет так сказать, самого этого мира; что не
только человеческое познание действительности, но в человеческое
самопознание есть одновременно и по самой своей глубокой сущности
самопознание самой этой действительности.
Человеческое познание, понятое в его философски наиболее глубоком и
общем смысле, какие бы частные формы оно ни принимало, как бы ни
углублялось в детали самых, казалось бы, отвлеченных от проблематики
человека предметов, в сущности начинает и заканчивает одним и тем же,
первым и последним из человеческих вопросов: что есть человек, каковы его
место и роль во вселенной, что есть он Гекубе-Вселенной и что есть Гекуба-
Вселенная ему.
207
Эти вопросы с самого начала лежат в основании человеческого стремления к
знанию, не утолимого никаким частным содержанием и скорее всего
неутолимого вообще, что свидетельствует об изначально неутилитарном
характере человеческого познания, взятого в его наиболее глубоком и общем
определении, о несводимости жажды познания к удовлетворению каких-то
вне его самого лежащих потребностей. (Сказанное не противоречит
пониманию тесной связи между познанием и практическим преобразованием
мира, ибо сама практика в ее марксистском понимании отнюдь не сводится к
утилитарному отношению к действительности.) Этой беспредельностью
устремления и отличается знание в прямом и собственном смысле, этого
слова от различного рода частных его форм, лишь служащих некоторым
промежуточным звеном (иногда весьма длинной цепи различного рода
прикладных его определений) в созидании знания в собственном смысле.
Этим оно отличается и от всякого рода прикладного по своему характеру
умения или навыка, каковые также есть знание в каком-то из смыслов,
однако не совсем в том, интерес к которому и сам предмет которого может
быть определен как всеобщий.
Эти вопросы лежат и в основе человеческого познания внешнего мира,
понимаемого или непонимаемого, но так или иначе, пускай смутно,
полагаемого как некоторого рода «большое его тело», как естественная и
необходимая среда человеческого обитания, как мир человека, единственный
и неповторимый, ибо никакой другой вселенной, кроме этой, ему не дано.
Они же лежат и в основе человеческого самопознания, ибо человек есть
существо именно этого мира, его, этого мира, самосознающее и данное
человеку в формах человеческого сознания и самосознания, «Я»,—
Самосознающее как в смысле человеческого сознания себя как существа
этого мира, так и в смысле самосознания себя миром в формах человеческого
самосознания.
Здесь, таким образом, раскрывается первостепенно важная, хотя и предельно
простая с точки зрения философского взгляда на вещи мысль, что не только
от того, кар человеком понимается внешний мир, самым непосредственным
образом зависит и понимание внутреннего мира человека, существа этого
мира, единого, не внешнего для себя и не внутреннего, но также и само это
человеческое познание мира в столь же существенной степени оказывается
зависимым от того, как человек относится и к своему внутреннему миру, как
понимает себя как человека, чем сознает себя во вселенной, какую ценность,
хотя бы и в сопоставлении с ценностями так называемого внешнего мира,
придает своему внутреннему человеческому существу, в какой степени сумел
осознать себя как форму бытия и одновременно и в том же самом отношении
форму самосознания этого мира. И здесь же раскрывается тот простой
208
теоретико-познавательный факт, что иначе, чем в формах «внутреннего
мира» человека, никакой «внешний мир» вообще не дан нашему познанию.
Лишь содержание и смена впечатлений внутреннего мира свидетельствуют
для него, а при воспроизведении в эксперименте и с большей или меньшей
степенью достоверности, о содержании и смене состояний внешнего мира.
В такой общей теоретико-познавательной постановке вопроса
действительное отношение этих различных, как будто непосредственно не
связанных и относительно самостоятельных областей философского знания
—
как учение о познании и учение о человеке, — предстает перед нами в
существенно ином освещении. Человеческое познание получает определение
самопознания мира, а человеческое самопознание — познания и
самопознания того же мира, воплощенного в одной из высоких, а для нас —
высшей субстанциальной его форме. То и другое обнаруживает, таким
образом, свое глубочайшее и глубочайшим образом диалектическое
единство.
Очевидно, что действительная связь человеческого познания с «идеей
человека» и самим философским учением о человеке далеко не столь
однозначна и проста, как это может представляться философски неразвитому
взгляду на вещи. Как познание внешнего мира не является одним только
служебным средством для пополнения арсенала внешних орудий и средств,
служащих каким-то иным, внешним для познания целям, так и изучение
человека, даже и в теоретико-познавательном его определении, отнюдь не
сводится к изучению орудийной его роли в познании.
С самого начала оно определяется «идеей человека», задающей ему, как
некоторого рода субстанцией-субъектом познания, его зависимые и
преходящие модусы, формы и способы бытия. И действительная связь
теоретико-познавательного содержания и философского учения о человеке
оказывается связью такого взаимного определения, в котором пределами
постижения одного необходимым образом задаются и пределы постижения
другого, а в беспредельности и самоценности одного раскрывается и
беспредельность и самоценность, бесконечная и вполне взаимная с ним
ценность другого.
Понимание действительного объема этой связи позволяет, таким образом,
понять фундаментальную ценность и цельность познания, не только его
главную и высшую, первую и последнюю цель, но и размеры его
действительной целостности и полноты, ибо без ответа на вопрос, что есть
человек и какова его действительная связь с миром, мы не способны понять и
знание (как знание о человеке, так и знание о мире) в собственном смысле.
Без этого ответа мы получаем представление не более, чем о некотором
209
частном содержании, которое лишь служит средством для каких-то иных,
чем оно само, целей, и которому, таким образом, еще только предстоит
определить свой действительный смысл, чтобы занять соответствующее
место в системе человеческого миропознания и вступить в деятельную связь
с витающим над его частными пределами и лишь предполагаемым целым,
лишь в живой связи с которым это содержание только и может быть
определено как знание в собственном смысле, т. е . может и должно быть
определено как постигнутая понятием, как понятая мыслью
действительность.
ПРОБЛЕМА ОВЕЩНЕНИЯ И ЕЕ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
(в свете Марксовой концепции овещнения)
Г. С. БАТИЩЕВ
Для познавательного процесса, для его успехов важно, чтобы умножались
возможности проникновения в неисчерпаемую объективную
действительность. Это важно и вообще для человеческой жизни во всех ее
измерениях. Но существуют различные, в том числе исторически
определенные, факторы, которые могут препятствовать указанному
умножению возможностей. К такого рода факторам относится явление,
наиболее основательно проанализированное К. Марксом в «Капитале», —
овещнение, которое, согласно его же более ранней характеристике, есть
«превращение личных сил (отношений)... в силы вещные»230
. Для
гносеологического исследования существен тот аспект этого явления,
который заключается в социально обусловленном резком обеднении и
огрублении объекта, в редукции его к наиболее простым и грубым уровням
бытия, в утверждении такого образца и идеала познания, который исключает
ценностные связи и измерения. Это тесно связано с овещнением внутри
процесса предметной деятельности, в частности внутри познавательной
деятельности, более того -- с овещнением самого субъекта. Последнее, по К.
Марксу, означает, что даже человек выступает в искаженном облике — как
всего лишь наделенная сознанием вещь своего рода231
. Подобно тому как под
руками царя Мидаса все конкретное обращалось в золото, так под действием
овещнения всякое вовлеченное в него содержание огрубляется настолько, что
230
Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического
воззрений. М ., 1966, с. 92—93.
231
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 213—214 .
210
в нем подавляется и как бы отсекается все наиболее диалектическое, все
более тонкие и сложные его уровни. Поэтому при социально-историческом
подходе к познанию существенно дать философский анализ и критику
феномена овещнения как вообще в культуре, так и в культуре
познавательной в особенности.
Два процесса в структуре овещнения: от человека к вещи и от вещи к
человеку.
В трех вариантах «Капитала» К. Маркс дает широкую картину формирования
овещненных форм существования, придаваемых производительным силам
людей, их общественным, прежде всего производственным отношениям,
всем тем аспектам культуры, которые втягиваются в этот процесс, хотя
овещненные формы и остаются внутренне присущими социальной
реальности, но лишь. в виде второго мира, как бы второй действительности
—
наряду и вместо бытия самих людей. Эти формы повсюду наделяются
притязанием быть заместителями людей, их ожившими «тенями». Поэтому
для критики овещнения первостепенное значение имеет методологическая
ориентация на скрытые под овещнением глубинные уровни или слои
социально-человеческой действительности — на производство, как на
процесс, в котором преобразование объектов, объективных обстоятельств и
созидание отделимого от него продукта опосредствует собою общественно-
человеческое самосозидание. Важно понимать продукт производства не как
лишь безразличный результат-след, а как само же производство, лишь
воплощенное предметно и посредством этого адресованное другим
субъектам или социальным группам, эпохам или культурам. «Продукт есть
[результат] производства не просто как овеществленная деятельность, а лишь
как предмет для деятельного субъекта»232
.
Овещнение не может полностью уничтожить способность деятельности
наполнять свои предметные воплощения адресованностью к другим
субъектам и тем самым включать их в положительно выраженное социальное
отношение к ним, делая их носителями такого отношения. Однако
овещнение может придавать этой адресованноеTM и включенности
отрицательную внешнюю форму безразличия и нивелировки, причем не в
одних лишь явлениях экономического плана, каковы товар, деньги, капитал,
а равно и в явлениях плана юридического, организационного и т. п., в
предметных носителях и воплощениях различного рода суеверий, в
мифологических символах. Поскольку и наука может испытывать влияние
овещнения, постольку и в ней многие ее достояния, и прежде всего язык
232
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 46, ч. I, с. 27 —28 (под «овеществлением» следует понимать
«овещнение»).
211
науки, под воздействием овещнения делается все более чуждым диалектике
творческого поиска и неформального общения, а следовательно, и
диалектике вообще. Поэтому всякий, кто начинает рассмотрение науки с
некритического приятия и описания ее языка, рискует утратить способность
различать и выделять там овещненные формы233
.
Овещненная форма не обнаруживает своего происхождения из человеческой
деятельности. Она как бы замкнута в себе, самодовлеюща в ее
внеположности человеку, в ее бессубъектности. В своем существовании она
выступает как сама по себе обретающаяся —субъект здесь как бы вовсе не
при чем: она ему якобы не обязана своим происхождением, подобно тому как
не обязаны субъекту природные объекты, еще не опосредованные
человеческой деятельностью и не затронутые ею. Так вот и получается, что в
мире овещненных форм — сил, отношений, институтов — мы имеем дело с
нечеловеческой и внечеловеческой действительностью, хотя и социальной.
Здесь производительная сила — сама по себе, в качестве социальной вещи,
есть сила; здесь производственное, точнее — экономическое отношение само
с собою соотносится, якобы совершенно независимо от предметной
деятельности людей, и может даже втягивать людей в свои структуры,
подобно тому как мощная вещная система втягивает в поле своего влияния и
подчиняет своим особенным законам все, что только ей поддается, — всякую
мелочь... «Общественное отношение, определенное отношение индивидов
друг к другу выступает как ... чисто телесная вещь, существующая вне
индивидов»234
. Более всего это характерно для некоторых (так называемых
безразличных) атомистических социальных связей: «Общественная связь,
возникающая в результате столкновения независимых индивидов, выступает
по отношению к ним одновременно и как вещная необходимость, и как чисто
внешняя связь...»
235
.
Отсюда — существование богатства человеческого развития в виде чего-то
совершенно внеположного для сущностных сил субъектов: «общественная
форма богатства как вещь существует вне его»236
, т. е. вне того живого
субъектного развития, чьим богатством оно только и может быть.
«Общественное бытие денег проявляется как нечто потустороннее, как вещь,
предмет, товар, существующий рядом с действительными элементами
233
Уместно вспомнить здесь слова К. Маркса об «иррациональных формах» и их носителях: «...так
как они привыкли вращаться в этих отношениях, то их ум нисколько не спотыкается о них». «В
формах проявления, лишенных внутренней связи и нелепых... они так же чувствуют себя, как рыба
в воде» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. II, с. 340).
234
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 46, ч. I, с. 185 (ср.: т . 13, с. 35).
235
Там же, т. 46, ч. II, с. 449.
236
Там же, т. 25, ч. II, с. 121.
212
общественного богатства и вне их»237
. Аналогичным образом и в науке
знание, претерпевая овещнение, перестает быть подконтрольной людям их
собственной силой, сущностной человеческой силой238
. Она становится
вместо этого достоянием бессубъектного фонда знаний, более того — даже
просто фонда информации. Последний в качестве безличного,
«неперсонального» псевдосубъекта предстает как субстанциальное начало
научного познания, как воплощение его общественного
характера вместо самих людей, как Вещь, которой люди должны
фунционалистски служить, отдаваясь ей во власть и жертвуя ради нее
собственным духовным развитием. Мыслящий человек превращается в
научную рабочую силу, потребляемую более или менее производительно239
.
Но этого-то как раз и нужно капиталу как потребителю научной рабочей
силы.
Самый очевидный элементарный акт овещнения — это наделение продукта
деятельности самостоятельным бытием, независимым уже не только от
мыслей своего производителя-человека, а и от самого этого человека.
Продукт превращается в социальную вещь, якобы не нуждающуюся для
претерпевания своей социальной судьбы в людях-созидателях. За этим актом
следует другой — перенесение человеком выхолощенных атрибутов своей
собственной субъектности, титула своей субъектности с самого себя на вещь.
Рука об руку идут два переплетающихся друг с другом и взаимно
противоречивых процесса: деперсонификация живого субъекта и
персонификация вещей, как грубо осязаемых, так и неосязаемых, вроде
социальных институтов, фондов знания и т. п . Таково субъективирование
вещей, овеществление [Versachlichung] субъектов240
. В пределах экономики
—
это «овеществление общественных определений производства и
субъективизация материальных основ производства»241
. За пределами
экономики — это точно такое же придание субъектных свойств и атрибутов
овещненным формам юридического, идеологического и т. п. порядка. Это —
возведение Науки как социального института в сан Субъекта. Отнюдь не в
воображении отдельных индивидов, а вполне реально-практически
237
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 25, ч. II, с. 121.
238
Речь идет не об общественном характере знания как таковом, всегда неизбежно
возвышающемся над «частным» существованием, над «дурной индивидностью»,
над самостью, а о том, что этот характер перестает быть общественно-человеческим,
междусубъектным, подлежащим ценностному контролю и нравственно-духовной
ответственности самих субъектов в их взаимных отношениях.
239
См. схему в кн.: Диалектическое противоречие. М., 1979, с. 49.
240
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 26, ч. III, с. 519.
241
Там же, т. 25, ч. II, с. 453.
213
происходит придание субъектных качеств бестелесной социальной вещи —
ей вместо людей.
Все, что было и что в глубине социальной действительности, разумеется,
продолжает оставаться произведением рук человеческих, совместным
продуктом человеческой деятельности, — все это на поверхности формы
овещнения выступает как сила, якобы обладающая сама по себе той
энергией, которую люди ей вверили. Коллективный инструмент
человеческой воли перестает быть инструментом. Поистине, бунт вещей! И
вот бывшее творение людей «превращается в вещь, но в такую вещь, которая
содержит в себе, проглотила в себя общественное отношение, — в вещь,
обладающую фиктивной жизнью и самостоятельностью, вступающую в
отношение с самой собой, в чувственно-сверхчувственное существо»242
.
Живой человек отныне находит себя во всё возрастающей степени
лишенным способности быть самому общественным, социальным, — ибо он
переложил свою социальность на вещь, «зато противостоящая ему вещь
превратилась теперь в подлинное общественное существо...»
243
—
в такое, от
которого отныне зависит его собственная социальность и уместность в
обществе.
При более пристальном аналитическом рассмотрении овещнение предстает
содержащим в себе два процесса. Первый процесс идет от субъекта-человека,
«виновника» овещненности, к предметному воплощению, к порождению его
деятельности. К этому процессу относятся оба рассмотренных выше акта.
Вторичный же процесс — обратный: от социальной вещи, уже наделенной
прерогативами субъекта вместо самого человека, назад к индивиду. То, что
человек утратил, возложив на вещи и вещные структуры, теперь он
компенсаторно обретает вновь, но уже лишь как нечто производное и
зависимое от социальных вещей, которым уже были приданы атрибуты псев-
досубъектности. В таком положении человек уже не формирует себя
посредством самостоятельной созидательной деятельности, развертываемой
им в мире его собственных, во взаимности с другими культурно-
исторических содержаний, но, напротив, даже и деятельность свою, правда в
ее ущербном виде, подчиняет процессу приспособления самого себя к
требованиям и функциям заведомо иной, нежели общественно-человеческая
действительность. Он подчиняет и приспособляет себя явно лишенным
такого характера факторам — овещненным формам, — возможно, нисколько
не считая это чем-то ненормальным, а, напротив, принимая овещненность за
242
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 26, ч. III, с. 507. Чем больше деятельность переносит свою
субъектность на вещи, тем больше они консолидируются «как тот субъект, в котором эти вещи
обладают собственной волей, сами себе принадлежат и персонифицированы в виде
самостоятельных сил» (Там же, с. 498).
243
Тамже,т.46,ч.I,с.486.
214
нечто само собой разумеющееся, привычное. Поэтому теперь он именно в
овещненных формах стремится утвердить себя и как бы восстановить свою
утраченную субъектность посредством принятия этих форм внутрь себя.
Такая восстановленная из овещненных форм его персональность дана ему
только как представителю функций, выразителю и исполнителю логики
вещного порядка, логики социальных вещей. Таковы «фиксированные
образы, персонифицированные в самостоятельных личностях, которые...
выступают как всего лишь представители персонифицированных вещей...»
244
.
Так во вторичном процессе индивид наделяется «ewecro-личностью»,
которую он получает как всецело производную от уже
персонифицированных социальных вещей. В этом смысле К. Маркс и
называет такого представителя вещей их «персонификацией»245
. Так,
например, капиталист в пределах процесса овещнения выступает как
персонификатор капитала.
Согласно К. Марксу, важно не терять из виду, что превращение конкретного
человека в персонификатора некоторой экономической или институциальной
категории предполагает определенные особенности его формирования.
Индивид должен быть достаточно подавлен в своем стремлении стать
подлинным субъектом, а его развитие предварительно должно быть
достаточно духовно выхолощено и ценностно опустошено, чтобы он принял
ситуацию овещнения за естественную для себя. Короче говоря, нужна
жизненная «школа», приучающая его воспринимать социальность как
тождественную свойствам вещей, подобных внешней природе, как роковые
условия его бытия. Тогда «эти условия кажутся чем-то определяющим его
независимо от него самого, а собственные отношения... представляются... как
вещные условия, как вещные силы, как определенности вещей...»
246
.
Внутри сферы экономики и в пределах капитализма сказанное выше
относится прежде всего к наиболее характерной фигуре и носителю этого
способа производства — к капиталисту. «.. . Вся деятельность капиталиста
есть лишь функция капитала, одаренного в его лице волей и сознанием»247
.
Однако было бы ошибкой — и об этом постоянно предупреждал К. Маркс —
244
Там же, т. 26, ч. III, с. 541.
245
Вводя такое понятие, как «персонификация», К. Маркс подчеркивает радикальное его отличие
от тех характеристик, которые могли бы указывать на конкретно-личностный, индивидуально-
субъектный мир человека. Специфика овещненных форм и способов поведения в том и состоит,
что на их уровне человек утрачивает свою истинную индивидуальность, а поэтому логически
необходимо здесь рассматривать «лиц только как персонифицированные категории, а не
индивидуально» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 23, с. 173).
246
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 26, ч. III, с. 534.
247
Там же, т. 23, с. 606 (см. также т. 25, ч. II, с. 453—454; т. 26, ч. I, с. 396). «Господство капиталиста
над рабочим есть поэтому господство вещи над человеком, мертвого труда над живым, продукта
над производителем...» (Там же, т. 49, с. 46—47).
215
полагать, будто рабочий стоит вне этого процесса
овещнения. Поскольку рабочий остается фигурой того же, буржуазного
способа производства и строя отношений, постольку он также выступает
персонификатором определенных экономических категорий, в первую
очередь категории наемного труда, так что ближайшим образом он —
персонификатор рабочей силы. «Главные агенты самого этого способа
производства, капиталист и наемный рабочий как таковые, сами являются
лишь воплощениями, персонификациями капитала и наемного труда...»
248
.«В
рамках этого процесса рабочий производит самого себя как рабочую силу...
каждый воспроизводит самого себя тем, что он воспроизводит другого,
воспроизводит свое отрицание...»
249
. Этот порочный круг воспроизведения
обеспечивается, вместе с прогрессирующим расширением этого круга,
непосредственно тем фактом, что «рабочий прикован к необходимым
жизненным потребностям»250
.
Аналогичным образом и вне пределов сферы экономики овещнение находит
в себе выражение повсюду, где «люди оказывают вещи ... такое доверие,
какого они не оказывают друг другу как личностям»251
. Так, например, даже
в научном познании парадигмально оформленное и зафиксированное знание
нередко предстает в его значении и действенности не столько потому, что
содержательную силу ему все еще продолжает придавать его относительная
истинность, сколько потому, что оно однажды было канонизировано как
истинное. Об этом К. Маркс говорит: овещнение в жизни идей выступает так,
что «над индивидами теперь господствуют абстракции»252
. Механизм этого
господства абстракций, по сути дела, такой же, как и механизм господства
овещненных форм вообще. Чтобы специально проанализировать этот
механизм, рассмотрим три главных направления, присущих целостному
процессу овещнения.
Три главных направления процесса овещнения — три формы фетишизации.
Процесс овещнения не только низводит всякое ввергнутое в него бытие на
уровень низшего, ценностно незначимого. Одновременно он еще и ставит
низшее на место высшего, узурпирует положение и роль высшего и все
внешние «признаки» последнего, как бы отнятые у него, относит к низшему
так, как если бы низшее само по себе могло бы обладать ими как своими
собственными. Получается замещение высшего, его вытеснение низшим с
248
Там же, т. 25, ч. II, с. 452. «. ..Рабочий функционирует лишь как олицетворенный труд...» (Там
же, т. 49, с. 46).
249
Там же, т. 46, ч. I, с. 447; см. также т. 23, с. 583.
250
Там же, т. 47, с. 254 . «Меня определяют и насилуют мои собственные потребности...» (Там же,
т. 46, ч. I, с. 192).
251
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 46, ч. I, с. 103 .
252
Там же, с. 108.
216
помощью взятых у первого и присвоенных последнему «признаков»,
превращенных теперь в якобы собственное свойство того, что на деле было
всего лишь материалом-носителем. К . Маркс диагностировал такой процесс
как заключающий в себе прозаически-реальную, повседневную мистику
взбесившихся вещей — нечто «чувственно-сверхчувственное»253
. Ибо вещи-
«слуги», вещи-«рабы», взбунтовавшись, выступили с притязанием на
«господскую» суверенность, на самостоятельное, «от природы», обладание
теми свойствами, которые на самом деле лишь накладывались на них сверху,
из высших уровней действительности и поручались им, как носителям, лишь
ради их системного функционирования в качестве подсобных средств.
Безумное фортепиано присвоило себе заслуги композитора, не говоря уж об
исполнителе! Материя языка присвоила себе полет мысли! Желтый металл
присвоил себе экономическое свойство все покупать, не ведая границ и
непереходимых табу — покупать не только полезности, а и самих
«полезных» людей! Запечатленные на бумаге правовые обозначения
выступили как придающие человеку — его личность, как средоточие его
чести, достоинства, верности идеалам! Удивительные бывают вещи! —
констатирует К. Маркс.
Тот процесс, в котором или посредством
которого осуществляется овещнение и который заключается в описанном
выше присвоении низшим объектам-носителям свойств высших
уровней вместо этих последних, как если бы первые имели их у себя «от
природы», автор «Капитала» и назвал процессом фетишизации. Поскольку
очевидные результаты такого процесса прямо-таки бросаются в глаза — как
фетишистский характер товаров и т. п ., постольку он и начинает свой анализ
с рассмотрения такого их характера. Но, конечно же, речь идет у К. Маркса о
вполне объективном характере объективно происходящего процесса, а вовсе
не о чьих бы то ни было индивидуальных или коллективных иллюзиях,
мнениях или концепциях и т. п . Не останавливаясь на этой системе фактов,
присущих всему буржуазному миру, он идет от них дальше вглубь — к
раскрытию того процесса, из которого они возникают и которым ежедневно
и ежечасно воспроизводятся. Тогда-то и выясняется, что это и есть процесс
овещнения, осуществляющийся как процесс фетишизации в трех своих
главных взаимосвязанных направлениях, или формах.
Во-первых, овещнение произведений как продуктов всей человеческой
культуры вообще, так или иначе опосредованных предметно-преобразующей
деятельностью людей. В известном смысле, достаточно глубоком, каждый
собственно человеческий поступок (живое дело) тоже есть созидание своего
рода произведения внутри самой жизни, без выхода за пределы ее
253
См.: Там же, т. 23, с. 80 и далее.
217
непосредственного контекста. Вовсе не столь уж существенно, что такое
произведение не подвергается тиражированию и бесконтрольному
сообщению неопределенно многим другим людям сразу, — ведь нередко
именно конкретность адресата поступка и сосредоточенность на нем одном
как раз и благоприятствуют его полноценности и подлинности: лучше
меньше, да лучше! Зато очень существенно, чтобы поступок не был
механическим следом инерции, т. е . чтобы он не был чисто подражательным
(даже и без его тиражирования), а поэтому — стертым, абстрактным. Только
в таком поступке, в котором все проникнуто атмосферой его своеобразия и в
котором находится место для уникального содержания, получают достойное
претворение и живое продление своей жизни унаследованные человеком
ценности, принципы, критерии, нормы. Только через максимальную полноту
уникального содержания приходит и оживает богатство универсального
опыта... Чем более всесторонне человек присутствует своими различными
сущностными силами — нравственными, художественными, общительными,
познавательными — в своем нынешнем поступке «здесь и теперь», тем шире,
многомернее и глубже его узы преемства и тем меньше остаются они лишь
условными, лишь «теоретическими» (для багажа эрудиции припасенными), т.
е. тем более практически-жизненными становятся в субъектно-
личностном мире254
.
Что же касается произведений культуры в более обычном значении этого
понятия (т. е . произведений художественных, научных и т. п .), то многое в
них, особенно в их развитых формах, как будто отделяет их от прямых
поступков. Целая система условностей, все более сложно разработанных,
ставит произведение как бы вне принадлежности тому безусловному
контексту, в котором автор своих поступков весь таков, каково его
претворение себя самого в них «здесь и теперь». Произведение же тем и
отличается, что у него есть собственная логика и целостность, собственные
персонажи с их судьбами либо собственная атмосфера теоретизма —
целый особый мир, построенный и восстанавливаемый вновь и вновь... И тем
не менее на всякого искусника создавать произведения — художественные
или научно-теоретические, с их самостоятельным внутренним движением —
на всякого автора-«мудреца» довольно в конечном счете простоты! Ибо
итоговый смысл и оправдание всякого «переселения» автором самого себя и
нас вслед за ним в условно-произведенческое как бы «инобытие» не в том,
чтобы покинуть действительность или отвернуться от нее, а в том, чтобы к
254
Когда субъектно-личностная жизнь полностью перестает быть «частной» и через
самоотвержение всякого своецентризма делает себя всю насквозь общественной, ценностно
устремленной во взаимности с миром, тогда «личная жизнь человека... — это самое богатое,
самое конкретное, включающее в себя как единичное многообразие, так и иерархию все более
абстрактных отношений...» (Рубинштейн С Л. Проблемы общей психологии. М., 1969, с. 348).
218
ней же вернуться, но с возможностями иного, более свободного и более
глубокого в нее погружения. А это значит, что за всяким, казалось бы,
лишь отходом от прямого ближайшего поступка во внутреннюю логику
произведения, в атмосферу теории, в иной сюжет, в условность в конечном
счете скрыт именно живой, авторский и притом еще более емкий поступок.
Этот последний внутри себя, «здесь и теперь» всегда несет всю громадную
историю опыта подобных и неподобных поступков, накопленного
человечеством и унаследованного индивидом: опыт присутствует в
поступке и участвует в нем, внутри его смысловой логики и в его
адресованности другим. Каждый человеческий поступок и каждое
произведение-поступок рассчитано на то, что возникающие из него и
выражающие его опредмеченные формы послужат его восстановлению —
его распредмечиванию — в личностных мирах адресатов, в их опыте, в
контекстах их жизни и их ценностей, в унаследованных ими своеобразных
традициях. Поступок-произведение не просто отпечатывается или
повторяется каждым адресатом, как при тиражировании, — он потому только
и принимается и оживает внутри каждого личностного мира адресатов, что
каждым из них одновременно достраивается, получает
живое продление своей логики, своих имманентных возможностей. И таких
продлений, закономерно оправданных и необходимых, т. е . глубоко верных
объективно принятому авторскому оригиналу (в противоположность любым
искажениям), множество. Следовательно, сама жизнь произведения, само его
собственное культурно-историческое существование есть единство
многообразия таких верных истоку обновляющих, дополняющих,
раскрывающих «прочтений» его. Такова его нормальная судьба255
.
Овещнение же навязывает всякому произведению-поступку совсем иную
«норму» существования. Овещненная форма, в которую облекается
произведение-поступок, приравнивает его к не-произведению, к не-
поступку, т. е . снижает его в его онтологическом статусе на
уровень объекта-вещи или соответственно объектно-вещного акта
воздействия. Но объект-вещь выступает как нечто без потенциальных
возможностей продления его бытия, без субъектного достраивания, без
вариантности: ему допускается только быть тем, что оно эмпирически есть
в наличии, как факт наряду со всяким иным естественным фактом. Поэтому и
255
Необходимое присутствие восстанавливающей и достраивающей деятельности в понимании
произведения бывает хорошо замаскировано там, где должна иметь
место формальная идентичность результатов — в теоремах математики, в аппарате
естественнонаучных теорий и т. п . Однако достраивание по своей сути вовсе не обязано быть
нарушающим идентичность в формальных аспектах. Важно здесь не упустить из виду то, что само
единообразие такого рода возникает не иначе, как из претворения сугубо своеобразных усилий
каждого из понимающих субъектов. Что же касается оригинальничаний, то оно чуждо задаче
объективно верного достраивания.
219
произведение-поступок в овещненной форме берется так, как если бы все его
над-вещные свойства могли бы быть всего-навсего такими
же свойствами материала носителя, как и у ничего нам не говорящей и
никакого смысла нам не несущей мертвой вещи.
Единственное различие, здесь признаваемое, заключается в том, что одни
вещи никак не затронуты и не изменены человеческой деятельностью, тогда
как другие изменены и стали из-за этого в той или иной степени
«искусственными». Однако эти последние выступают вовсе не как
ограниченные, временные, всегда лишь не полные выразители и подсобные
предметные обиталища тех содержаний, которые отчасти в них
опредмечены, но как исключительные, монопольные обладатели и «хозяева»
таких содержаний, как властно завладевшие ими, поглотившие их внутри
себя и превратившие их в свои собственные, тоже вещные свойства.
Марксов анализ овещненных форм прослеживает целую их иерархию даже
внутри экономической сферы. Над более простыми ступенями
надстраивается та, на которой стоит капитал, выступающий как
самовозрастающая стоимость, в частности—в его денежной форме, как
сумма, которая якобы сама по себе способна порождать из себя все новые и
новые приращения. «.. . Автоматический фетиш... уже не имеет на себе
никаких следов своего происхождения. Общественное отношение получило
законченный вид, как отношение некоей вещи... к самой себе»256
. Таково
отнюдь не мнимое, лишь в чьих-то мнениях обретающееся, но
вполне реальное извращение, «не воображаемая, а прозаически реальная
мистификация», «фикция без фантазии»257
. Человеческое существование
среди такого рода «фикций без фантазии» оказывается как бы отгороженным
от всей действительности, от ее многосложной конкретности и
неоднородности в каждой «точке», от ее живой, напряженной
противоречивости,— отгороженным простыми и безжизненными
плоскостями овещненных форм. Скольжение по этим плоскостям создает
также адекватное ему видение мира — унифицирующее, объективистское
видение... Сформированное и плененное овещнением фетишистское
сознание привыкает точно так же скользить по идеализованным плоскостям в
сфере операторно-рассудочных абстракций, как практическое поведение
привыкло повседневно плавно катиться по гладким дорожкам «фикций без
фантазии». Так обыденно-житейское и социально-ролевое самозамыкание
внутри овещненных форм находит себе продолжение, дополнение и
безграничное обобщение в подчинении господству чрезмерных,
выхолащивающих абстракций, в накладывании на всю действительность
256
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 25, ч. I, с. 431 .
257
Тамже,т.13,с.36;т.26,ч.III,с.471.
220
вообще объективистских фетишей-структур. Однако этот безжизненный и
мертвящий мир, построенный посредством универсализации овещненных
форм, неизбежно рушится в прах для того, кто сумеет сквозь настил таких
форм пробиться до хотя бы одного единственного настоящего произведения
—
и понять его над-вещное содержание, насыщенное человеческим трудом,
его ритмом, его энергией, его устремленностью к его ценностям, его
атмосферой созидания, переходящего заранее установленные границы.
Далее, овещнение есть овещнение всех социальных отношений: реально-
практическое превращение их из связей человеческих в не-человеческие, из
созидаемых и поддерживаемых людьми — в нечто изначально само по себе
сущее и вещное, из между субъектных — в междуобъектные. Хотя процесс
овещнения и фетишизации сам есть именно сугубо социальное,
специфически историческое отношение, он придает и самому себе и всем
иным социально-человеческим отношениям, попадающим в сферу его
влияния, характер «естественной», от века данной, и если не целиком, то
хотя бы в существе своем неизменной вещеподобной реальности — характер
«связей по природе». Они «кажутся именно тем, что они представляют собой
на самом деле, т. е . не непосредственно общественными отношениями самих
лиц в их труде, а, напротив, вещными отношениями лиц и общественными
отношениями вещей»258
. При этом нормальными и образцовыми, так сказать,
эталонными выступают именно взаимодействия между самими грубо-
физическими вещами. По их образу и подобию и притом в качестве чего-то
вторичного и производного берутся связи между индивидами. В этих связях
образующим и конституирующим началом признается зависимость от грубо-
физических вещей и взаимное воздействие объектно-вещного порядка.
Поскольку сама социальность присвоена вещами, вобрана ими внутрь себя в
качестве их собственных свойств и получила в них свою «постоянную
прописку», постольку людьми она обретается извне — путем интериоризации
из внешних вещей. Чтобы доказать свою социальную уместность,
пригодность и стопроцентность, люди вынуждены подражать вещам и даже в
тех своих взаимоотношениях, которые не претерпели овещнения, как
бы прикидываться вещеподобными. Им приходится обнаруживать свою
общность друг с другом не иначе, как в переводе на язык объектно-вещных
взаимодействий, прибегая к фетишистской мимикрии, либо же их связи
вытесняются за пределы сферы делового поведения во все более
суживающиеся уголки так называемого интимного мира. В этом последнем
межсубъектная общность рискует быть подмененной взаимодействием
«дурных индивидностей» или погрязнуть в иных формах овещнения,
258 Там же, т. 23, с. 83.
221
сопряженных с житейско-бытовой рутиной, потребительством и
опустошающим влиянием буржуазной индустрии досуга и развлечений...
Все это не означает, однако, что междусубъектные отношения полностью
уничтожаются, — их чрезвычайно трудно искоренить в человеке. Это
означает их относительное, соответственно интенсивности процесса
овещнения, оттеснение в глубь неявной действительности, скрытой
под превратными нагромождениями низших, объектно-вещных
взаимодействий, в силу чего они могут казаться исчезнувшими,
невозможными, даже немыслимыми... Течение этих отношений
превращается в своего рода подземную реку, до которой еще надо поистине
«докопаться», чтобы уразуметь междусубъектный смысл и значение всех
опредмеченных форм цивилизации и культуры. На овещненной же
поверхности явлений субъект может соотносить себя только с объектами-
вещами как таковыми и, более того, как бы по определению своему способен
сам быть соотносим только с ними. Ибо предметными перед ним выступают
одни лишь связи междуобъектные. Только объектно-вещное
здесь объективно. Что бы то ни было над-вещное тем самым оказывается
исключенным из сферы допустимого объективного бытия. Именно так и
происходит как бы замораживание и отсечение культурно-исторической
опосредствованности объекта.
Наконец, овещнение знаменует собой низведение человеком не просто
какой-либо своей стороны, а самого себя до положения вещи — овещнение
самого индивида. Это проявляется даже в позиции человека по отношению к
себе, к своей сущности, а также в самооценке, в саморефлексии, поскольку
они, идя во след реальному процессу, более или менее верно фиксируют
стадии «прогресса» этой социальной болезни или хотя бы ее симптомы.
Начинающийся с самого человека в его действительно-практическом
отношении к другим, т. е . с субъекта, процесс овещнения, будучи направляем
субъектом на предметные воплощения его деятельности и на все иные
взаимоотношения, на все социальные связи вообще, возвращается теперь к
своему началу, к исходному пункту. Теперь он увлекает всего человека в тот
самый нигилистический процесс омертвления и угашения живой
конкретности бытия, в который человек ввергал прежде свои произведения,
поступки, связи с другими. То, что могло первоначально казаться
невинным упрощением (а ведь чего только не делается людьми упрощения
ради!), втягивает в свою логику всеобщего снижения инициатора-автора. Так
овеществление претворяется во всей его целостности
как самоовещнение, включающее в себя различные опосредствующие
моменты.
222
Самый типичный, массовидный случай такого самоовещнения К. Маркс
зарегистрировал как практическое отождествление человека с его бытием в
качестве носителя рабочей силы, в том числе и при умственном труде.
Человек выступает тогда уже не как субъект своих производительных сил, а
—
вопреки всей парадоксальности этого — как элемент этих же
производительных сил, как их составная часть: рабочая сила. «Сам человек,
рассматриваемый только как наличное бытие рабочей силы, есть предмет
природы, вещь, хотя и живая, сознательная вещь, а самый труд есть
материальное проявление этой силы»259
. Все свои жизненные отправления,
все способности и атрибуты, всю свою волю и сознание персонификатор
своей рабочей силы приписывает, следуя логике овещнения,
своему наличному бытию как продуктивно работающему организму, как
функционирующей телесной индивидности. От всего многомерного и
многоуровневого культурного мира субъекта, актуального и виртуального,
остается только система собственных свойств («от природы») эмпирически-
наличного тела-вещи. Однако в сколько-нибудь развитой и расчлененной
системе деятельностей, в сложных условиях цивилизации, вкладывающей
существование индивида во множество взаимосвязанных и нагромождаемых
друг над другом «частичных» функций, логика этих последних слишком
самостоятельна, слишком самодовлеюща, чтобы ее удавалось всю приписать
«природе организма» и рассматривать как извлекаемую из индивида, как его
естественную «эманацию». Поэтому фетишизация «естественного тела», т. е .
вульгарно-биологизаторский путь ее осуществления, находит себе
дополнение в фетишизации социально-конституциальных овещненных форм
—
в пути вульгарно-социологизаторском. Эти две взаимно переплетающиеся
фетишизации идут рука об руку, выражая собою лишь две стороны одного и
того же процесса человеческого самоовещнения.
Органическое тело человека фетишизируется им больше всего тогда, когда
его культурный мир достаточно сильно деформирован, извращен,
деперсонифицирован — настолько, что человек не обретает и не узнает
самого себя в нем, в его содержаниях, в его ценностях, но оказывается
вытесненным из него прочь — в свое наличное бытие. Тогда человек
вынужден относиться к своему органическому телу не как к
физическому носителю, призванному быть средством обеспечения и
выражения его над-органической, внутри-культурной, подлинно субъектной
жизни, развертывающейся в пространстве общения, но как к
исключительному средоточию и единственно возможному
непосредственному бытию его как индивида. Тем самым органическое тело,
259
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 23, с. 213—214. Критика этого перевода дана в кн.:
Марксистская философия в XIX веке: В 2-х кн. М ., 1979, кн. I, с. 396 (вместо «материальное» —
«вещное»).
223
или индивидная самость, выступает для человека не как подчиненное ему
воплощение его общественной сущности, но как якобы сама его
сущность. Так происходит подмена субъектом самого себя, самоутрата и
подстановка на место самого себя своего органического носителя, своего
психосоматического воплощения.
Особенно характерна такая подмена для так называемых эскапистских
тенденций, проявляющихся в настроениях усталости от жизни, в ропоте на
свою судьбу, в попытках отказаться или хотя бы временно спрятаться от
своего жизненного долга, от кардинальных проблем своего культурно-
исторического бытия, как если бы это были чужая незаслуженная судьба,
чужой долг и чужие непрошенно на голову свалившиеся проблемы. Однако,
конечно, такое избавительство или бегство индивида в свое псевдо-я от своей
действительной субъектности и от действительной культурно-исторической
и общественной жизни всякий раз приводит отнюдь не к «спасению», а лишь
к усугублению того самого низведения человеком самого себя до вещи,
которое вызвало такую тенденцию. Другим характернейшим проявлением
самоовещнения следует признать практику и теорию технократизма и
сциентизма, где человек ставится в один ряд с техническими устройствами—
как однородная с ними «единица» перечисления и учета. При этом не
обязательно настаивать на грубом приравнивании человека к машине.
Достаточно допустить сравнимость их друг с другом, — хотя бы и с
намерением указать и подчеркнуть специфическое отличие человека на
почве такой сравнимости, — тогда уже имеет место вся полнота подмены
субъекта его овещненным обликом — фетишизированным псевдо-субъектом,
физическим носителем. Если совлечь с индивида эту форму овещненности,
то ни о какой сравнимости с машиной не может быть и речи — даже в
постановке вопроса.
Если судить по притязаниям фетишистского сознания, то можно было бы
подумать, что фетишизация органического тела человека и приписывание
ему (взятому в качестве конечной «живой» вещи) статуса и достоинства
субъекта, или сущности субъекта, сверх меры возвеличивает естественно-
органические предпосылки — все природное в человеке. Но на самом деле
провозглашаемое превознесение (и даже неоязыческий культ) телесной
индивидности наносит ущерб не только тому миру культуры, из которого
человек предательски эмигрирует в «естество», в дремучее «нутро», а также
и тем естественно-органическим предпосылкам, которые он фетишизирует.
Прежде всего все то, что несет внутри себя человеческое тело —
психосоматический комплекс предпосылок — далеко не столь уж
«естественно», как это кажется с точки зрения овещнения. Даже простейшие
способности сенсорного восприятия — умение видеть, слышать и т. п. — е сть
224
плод всей богатейшей истории культуры, запечатлевшей свои многосложные
влияния на телесной конституции индивида и как бы присутствующей в
снятой форме внутри каждого нашего элементарного движения. Телесное
наличное бытие являет нам органическую природу, вовсе не первозданную и
не тронутую, не «непосредственную», но
глубоко преобразованную культурой, иногда же и заново образованную ею260
.
Фетишизация же как бы «выключает» историю и стирает печать культуры на
телесной организации, а тем самым влечет вниз, к расчеловечиванию, к
утрате плодов прошлого, обретенных дорогою ценою многовековых
перипетий... Но не менее существенно и то, что фетишизация тела
«выключает» также будущее — перспективы пробуждения и раскрытия тех
возможностей, тех дремлющих до поры до времени потенции, которые
предполагают для своей актуализации атмосферу достаточно высокой
культуры, атмосферу воспитания и преображения бывшего «естества» и
«нутра». Культ тела делает его идолом — вещью. Культивирование же
телесных предпосылок, взятых в качестве подчиненных моментов мира
субъектности, напротив, берет их гораздо более достойно, как обладающих
ценностными, т. е . принципиально над-вещными качествами. Только через
признание на практике таких качеств и приобщение их к более высокому
миру духовно-устремленного развития и восхождения человека могут
пробудиться и дремлющие потенции, отчасти заложенные в
психосоматическом комплексе.
Взгляды, так или иначе выражающие точку зрения «дурной индивидности»,
более или менее последовательно отождествляемой с «естественным телом»,
давно уже стали мишенью резкой критики и сурового осуждения. Однако
нередко такая критика и такое осуждение исходили и исходят сами из
предпосылок или позиции, противоположность которых критикуемым
взглядам есть на деле не более чем внутренняя полярность процесса
овещнения человека. Нередко это бывала и бывает позиция фетишизации
социально-институциальных форм: социальных ролей и соответствующих
им ролевых масок, или «масок социальных характеров», с которыми и
отождествляется человеческая сущность в противовес естественно-
органическому телу. Как мы сейчас увидим, такое противостояние остается
всецело в плену у овещнения.
Заслугой К. Маркса следует признать то, что он положил начало анализу
также и этой стороны овещнения человека. Именно в контексте своей
концепции овещнения — а как раз об этом-то часто, увы, и забывают —
автор «Капитала» вводит понятия вещной социальной роли и вещной «маски
260
«Образование пяти внешних чувств — это работа всей предшествующей всемирной
истории» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с. 122).
225
характера», подчеркивая их относительно необходимое возникновение и
существование внутри специфически-исторических общественных
отношений, сопряженных с овещнением. Их можно преодолеть только
вместе со всеми другими овещненными формами и отношениями, в
контексте и на почве которых они складываются и деперсонифицирующим
свойствам которых они соответствуют. Имея в виду такие роли, К. Маркс
указывает: «Эти определенные общественные роли вытекают отнюдь не из
человеческой индивидуальности вообще»; в них «...отрицается
индивидуальный характер их (индивидов. — Лет.) труда...»
261
. Хотя у автора
«Капитала» речь идет преимущественно об экономических вещных ролях,
понятие это отнюдь не лишено широкой применимости и за пределами
экономической сферы. Вещная роль — это прежде всего и главным образом
роль персонификатора такой социальной (не только экономической)
категории, которая имеет овещненный, фетишистский характер и которой
придано значение некоего псевдо-субъекта (социальный объект, который тем
не менее наделен своими правами, предъявляет свои требования,
преследует свои интересы, выражает свое мнение).
Таковы же и вещные маски. «.. .Характерные экономические маски лиц — это
только олицетворение экономических отношений, в качестве носителей
которых эти лица противостоят друг другу»262
. Эти маски отнюдь не
выражают — хотя бы в ограниченно-фиксированной форме личностной
жизни индивида — его внутренней, собственной «персоны» (буквально —
«маски»!), но лишь более или менее удачно и квалифицированно
представительствуют от имени псевдо-персоны — от имени
персонифицированной вещи-объекта. На вещной маске может дежурить,
когда нужно, надлежащая подобострастная или деланно-оптимистическая
улыбка, но это — отнюдь не излучение изнутри радующейся человеческой
души, а, наоборот, печать торжества вещи над душою и лицедейское его
приятие263
. На этой маске может изобразиться угодливая серьезность и
послушная исполнительность, но — это не отблеск огня человеческой любви
и преданности человеческому смыслу дела или искреннего самоотвержения в
служении ценностям, а, наоборот, ситуативная показуха безличного
службизма. Маску может посетить негодование, но это — не крик боли
уязвленной совести, а, наоборот, лишь досада за неудачу в рационально-
хитром функционировании, — досада и испуг от проигрыша в рассудочной
комбинаторике... Это все есть лишь имитация симптомов внутренне-
261
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 13, с. 78 .
262
Там же, т. 23, с. 95.
263
Поразительно меткое портретное изображение сросшегося со своей вещной маской
персонификатора некоего безотносительного к людям Дела см.: Палиевский П. В. Фантомы. —В
кн.: Палиевский П. В. Литература и новый человек М., 1963, с. 204 . и далее.
226
личностной жизни, лишь такая подделка под нее, которая на деле утверждает
мертвящую логику полной безличности, логику роботов-профессионалов,
невозмутимо перешагивающих через все «слишком человеческое» ради
формального соблюдения вещного порядка264
. К сожалению, подобная
имитация и подделка может заражать собою даже и тех людей, которые на
самом деле совершают настоящие человеческие поступки, с присутствием в
них своих личностных сущностных сил и выполняя повеления своей совести,
но которые тем не менее в своей манере «объяснять» свои
поступки другим снижают самих себя до уровня вещно-ролевого поведения и
его логики265
.
Следует строго различать понятия, к настоящему времени разведенные друг
с другом: с одной стороны, принадлежащие концепции овещнения понятия
специфических объектно-вещных роли и маски, а с другой — понятия
социальной роли и олицетворяющей ее логику «маски» («персоны») в
контексте теории ролей, социальной психологии и т. п ., когда последние
интересуются в первую очередь именно не-овещненными отношениями и
формами поведения. Социальная роль, вообще говоря, вовсе не обязательно
должна быть специфически объектно-вещной. Внутри достаточно
предметно-дифференцированной, исторически развитой социальной системы
деятельностей (если отвлечься от расщепления деятельности на «частичные
функции») каждая из них обладает особенной, ею предметом задаваемой,
относительно самостоятельной логикой и даже алгоритмом поведения,
включая и этикет, и костюм, и социально-психологический лик исполнителя
роли, — ролевой логикой. Таковы социальные профессиональные роли
школьного учителя, врача, председателя собрания, гида экскурсии,
проводника туристов и т. п. Все подобного рода роли, соответственно их
предметно-содержательному общественно-человеческому наполнению,
лишь опосредствуют собою междусубъектные общественные отношения —
отношения к ученикам, пациентам, клиентам, пассажирам и т. п. как
субъектам и личностям. Исполняющий свою профессиональную роль
264
Вот удивительно символичный случай, показывающий, как взрослые авторитетно
демонстрируют детям свое «искусство» вести себя не в качестве людей-личностей, а в качестве
служебно-функциональных вещей. Двое мальчиков, Гайдар и Алик, переболевшие «свинкой»,
пишут министру здравоохранения: «Нас из-за этой болезни все дразнят. Нельзя ли ее назвать
„зайкой", на которую она тоже похожа». Пересылаемое сверху вниз и обрастающее
сопроводиловками письмецо в конце концов находит себе такой «ответ»: «Ученику Гайдару
Алику. Ленинградский райздравотдел... дает разъяснение, что название заболевания воспаления
околоушной железы в медицине называется „паротитом"... Зав. райздравотделом Медведева»
(цит. по: Семенов М. Быть тринадцатым...—Вопр. лит ., 1981, No 6, с. 298 —299).
265
Люди «„наговаривают" на себя. Человек, сделавший доброе дело „просто так", начинает
выдумывать, приписывать себе утилитарные намерения, чтобы не выглядить странным, чтобы
представить свое поведение рациональным, понятным» (Наумова Н. Ф. Человек рационален? —
Знание — сила 1981 No 10 с. 33).
227
индивид, пребывая внутри нее, следуя ее правилам и алгоритмам,
одновременно удерживает ее исполнение под своим личностно-ценностным
контролем, будучи постоянно не только внутри нее, но и в состоянии
непрестанной готовности и способности к вне-ролевому поступку или по
меньшей мере — к коррекции ролевого алгоритма во имя конкретных живых
людей и их уникальных судеб. Здесь принципиально важна та культура, то
внутреннее духовное богатство человека и та его нравственная
ответственность, благодаря которым он, как субъект, владеет и
управляет своей, принятой им на себя социально-профессиональной ролью, а
не наоборот, не инерция ролевого поведения и не его формализм, вышедшие
из-под его контроля, владеют им и «несут» его, подобно неприрученной
лошади с неумелым седоком... Для этого человек должен быть больше, шире,
многомернее, сильнее принимаемой им ролевой логики.
Если же культура индивида ниже или едва равна ролевому минимуму
исполнительства, то ролевая логика не поддается его субъектному
управлению, над-ролевые поступки и ориентация на над-ролевые ценности
поглощаются инерцией функционального поведения, форма роли отделяется
от живого междусубъектного содержания, выхолащивается, омертвляется,
наконец, овещняется: превращается в объектно-вещную. Соответственно
этому и ролевой лик превращается из того профессионального
опосредствования, сквозь которое постоянно светилось духовно-
нравственное лицо живого субъекта, в непроницаемую, объектно-вещную
маску266
. Особенно бывает печально, когда это происходит с педагогом-
воспитателем: более всего печально для судьбы доверчивых детей-
воспитанников. Но у самого носителя маски с течением времени скрываемое
за непроницаемой искусственностью человеческое лицо, переставшее быть
искренне раскрытым окном души, как бы вытесняется приросшей к индивиду
маской и атрофируется: человек теряет собственное лицо.
Подведем итоги. Как было показано выше, именно овещнение своим
ограничивающим, деформирующим и извращающим влиянием вызывает к
существованию ряд далеко не случайных заблуждений и, если идти глубже,
ряд реально бытующих превратных форм протекания познавательного
процесса, а также и форм рефлексии над ним. Главные из таких заблуждений,
взятые в их кратком подытожении, таковы.
Во-первых, натурализация и технизация познавательного процесса, его
субъекта и его предмета. Это означает ту или иную степень «выключения»
познания из социокультурных связей и лишение его того специфического
266
Исполненную трагизма характеристику «человека в маске» см. Абэ Кобо. Чужое лицо. — В кн.:
Абэ Кобо. Женщина в песках. Чужое лицо. М., 1969, с. 305—307 и др.
228
культурно-исторического характера, который на самом деле всецело
пронизывает его и присущ ему в каждой «точке» его осуществления.
Во-вторых, формально-знаковый фетишизм, проникающий не только в
область естественного языка, а иногда даже в еще большей степени в
выразительные средства и символические системы всех отраслей культуры.
Повсюду это означает свертывание символических значений до простейших
знаковых, а эти последние выступают так, как если бы смысл знака был
отнюдь не многослойным единством многообразия, чем он на самом деле
является в действительности, по просто-напросто прямым естественным
свойством своего вещественно-телесного носителя, взятого самого по себе.
Отсюда своего рода суеверное приписывание знакам и «знаковым» вещам
всего того, что стоит за ними и через них может выражаться.
В-третьих, ценностный нигилизм, т. е . игнорирование и как бы «стирание»
ценностных свойств, качеств и измерений, где бы они ни встречались.
Критика овещнения, как можно надеяться, будет способствовать
преодолению этих и им подобных заблуждений и лежащих в их основании
превратных форм или хотя бы ориентировать на их преодоление.
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ
Е. К. БЫСТРИЦКИЙ, В. П. ФИЛАТОВ
Начиная с XVII в. естественнонаучное познание выступало ориентиром для
многих гносеологических концепций. Выяснение оснований и структуры
естественнонаучного познания, а также соотнесение этого нового для
культуры типа познания с целостностью человеческого познавательного и
жизненного опыта — эти темы находились в центре внимания гносеологии
Нового времени. Картина мира, вырабатываемая точными науками,
вызванные ими к жизни нормы и методы познания, способы рассуждения и
проверки знания служили эталоном для оценки, как правило невысокой,
других форм познавательного опыта. Но уже в XIX в. стала осознаваться
узость подобной ориентации гносеологии: сначала в немецкой классической
философии, а затем — уже вполне на научной основе — в философии
диалектического материализма. Вместе с тем в конце прошлого века ряд
буржуазных философов тоже пытаются по-своему расширить тематику
теоретико-познавательных исследований.
Вопрос о понимании как специфическом типе познавательного отношения,
направленном на познание человека и продуктов его деятельности, зародился
в сфере историко-филологического знания и долгое время находился на
периферии гносеологических исследований. Однако заметное увеличение
229
удельного веса в научном познании таких дисциплин, как история,
социология, филология, психология, этнография и т. п., привлечение к
анализу познавательной деятельности данных историографии науки
заставляют все чаще обращаться к этой проблеме в методологическом и
гносеологическом аспектах. Хотя в нашей литературе проблема понимания
еще не стала предметом развернутого исследования267
, она несомненно имеет
позитивный смысл и заслуживает углубленной разработки с позиций
диалектического материализма.
Возможности и перспективы подобной разработки обусловлены целым
рядом принципов, заложенных в самих основах марксистской философии.
Это прежде всего единство гносеологического и социально-культурного
подходов к анализу познания, принцип обусловленности познания уровнем
развития материальной и духовной культуры и вытекающая отсюда идея
культурно-исторической конкретности форм познания, положения о
соотнесенности теоретического мышления с дотеоретическим сознанием и
предметно-практическими формами человеческой жизнедеятельности.
Исходным пунктом для экспликации понимания как общегносеологического
феномена, на наш взгляд, может быть представление о нем как о процессе, в
котором предданная субъекту реальность (как природная, так и социально-
историческая) преломляется в связную систему предметов «мира человека»
(Маркс), в действительность мира человеческой культуры. Соотнесенность
этого мира с формами человеческой жизнедеятельности, общения, познания
сказывается в том, что составляющие его предметы предстают как носители
значений. Понимание в самом абстрактном смысле является процессом
выработки значений, а также и их постижения, освоения человеком.
Гносеологический анализ понимания — это прежде всего выяснение условий
его возможности, исследование механизмов конституирования систем
культурных значений.
Нетрудно видеть, что рассматриваемый под этим углом зрения феномен
понимания относится не только к наукам, но и к общему человеческому
опыту, включая самые элементарные его проявления. Однако впервые
267 Можно тем не менее указать на ряд вышедших в последнее время работ, в которых эта проблема
рассматривается как в историко-философском, так и в позитивном плане: Гайденко П. П . Герменевтика и
кризис буржуазной культурно-исторической традиции. — Вопр. лит., 1977, No 5; Она же. Хайдеггер и
современная философская герменевтика. — В кн.: Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. М .,
1978; Панин Л. Г . Понимающая социология; Историко-критический анализ. М ., 1979; Брудкый А.
А. Понимание как философско-психологическая проблема. —Вопр. философии, 1975, No 10; Малиновская К.
В. Понимание и его роль в науке. —Филос. науки, 1974, No 1; Васильева. Т. Е., Панченко А. И., Степанов Н.
И. К постановке проблемы понимания в физике. — Вопр. философии, 1978, No 7; Лекторский В
А. Альтернативные миры и проблема непрерывности опыта. — В кн.: Природа научного познания. Минск,
1979.
230
проблема понимания была осознана как вопрос о методах постижения
культурно-исторического мира, отделенного от исследователя временной
дистанцией, т. е . как методологическая проблема историко-
интерпретирующих дисциплин.
Понимание и проблема возможности исторического знания
Когда Кант в «Критике чистого разума» фактически уже подводил
философские итоги естествознания Нового времени, разрушая тем самым
основы для спекулятивных натурфилософских построений, историко-
филологические дисциплины еще находились в стадии формирования, в
поиске собственных, отвечающих своему предмету методов исследования.
В буржуазной философии одна из наиболее развернутых гносеологических
программ обоснования исторического знания была предложена В. Дильтеем.
В своей концепции Дильтей пытался переосмыслить и объединить три
основных идейных течения: литературно-критическую традицию немецкого
романтизма, в частности герменевтическую теорию Ф. Шлейермахера,
методологические исследования представителей «исторической школы» Т.
Ранке и И. Дройзена и гносеологические идеи немецкой классической
философии, прежде всего Канта и Гегеля. Дильтей рассматривал свою
программу как «критику исторического разума», подводя под разнообразие
частных методик гуманитарных дисциплин вопрос об общих условиях
возможности исторического познания.
Необходимо заметить, что эпистемологические исследования немецкого
философа осуществлялись на фоне постоянной оппозиции, с одной стороны,
раннему позитивизму, который, например, в лице О. Конта претендовал на
позитивно-научное объяснение истории, ориентируясь на методы
естественных наук, а с другой — спекулятивной метафизике истории
гегелевского типа. Дильтей подчеркивал опытный, эмпирический характер
историко-гуманитарного знания, полагая вместе с тем, что предметность, с
которой имеют дело эти дисциплины, существенно отличается от объектов
естественных наук. Поэтому гносеологический анализ этих дисциплин не
может ни следовать естественнонаучным методам, ни строиться путем
простого повторения трансцендентального метода.
Если для Канта условием возможности познания является синтез
воспринимаемого в контексте трансцендентальных условий опыта, то, по
Дильтею, исторический предмет дается исследователю уже как нечто
связанное субъектом истории в индивидуальное событие, как нечто
обладающее значением уже до процесса познания. В связи с этим перед
Дильтеем возник ряд вопросов. Каким образом, если не естественнонаучным,
постигается индивидуальное значение исторического объекта? На каком
231
основании вообще возможны объективные суждения в историческом
познании?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, Дильтей вводит понятие «жизнь»,
выражающее связь между индивидуальными субъективными значениями, ту
субстанцию, которая, по его мнению, обусловливает связность событий в
непрерывном историческом континууме. Прообразом ее служит психическая
непрерывность переживания субъективного опыта. То обстоятельство, что и
объект и субъект гуманитарного познания существуют в этом жизненном
контексте, является условием возможности исторического познания. Лишь
жизнь может понимать жизнь, считает Дильтей.
Цель исторического познания, по Дильтею, состоит в постижении
уникального духовного мира людей прошлых эпох. Поскольку внутренний
мир человека не дан непосредственно, он познается через его чувственно-
предметные выражения, объективации (Ausdruck) — жесты, поступки,
высказывания, тексты, произведения искусства и т. п. Все эти объективации
конституируются в указанном жизненном контексте, в связи с чем
постижение заложенного в них смысла не может предполагать возможности
полностью рационального его прояснения, но выступает как его
«понимание» посредством вчувствования (эмпатии). Проблема понимания
как отношение познающего субъекта к объектам, заключающем в себе
опредмеченную субъективность их создателей, тем самым получает свое
гносеологическое выражение как центральная проблема исторического
познания. «Под пониманием, — дает определение Дильтей, — я
подразумеваю процесс, в котором мы используем чувственно данные
объективации для достижения знания духовной жизни»268
.
Рассмотрим более подробно этот процесс понимания, описываемый
Дильтеем по аналогии (заимствованной им у Ф. Шлейермахера) с
пониманием предложения в целостном смысловом контексте текста или
целого текста в единстве всей литературы. Как и Шлейермахер, Дильтей
идентифицирует значение текста или действия с субъективной интенцией его
автора. Отталкиваясь от эмпирических данных исторического исследования
—
исторических документов, автобиографий и биографий людей,
материальных памятников культуры, понимание должно раскрыть
уникальный жизненный мир, на который они указывают. Исследователь
должен понять их автора так же, как тот понимал сам себя. Понимание, по
Дильтею, таким образом, является по существу актуализацией живого опыта
автора, воображаемым самопереносом, посредством которого познающий
преодолевает культурную и временную дистанцию, отделяющую его от
268
Dilthey W. Gesammelte Schriften. Stuttgart, 1957, Bd. 5, S. 332.
232
объекта, и становится «современником» исторического субъекта269
. Вэтом
смысле понимание — это «не концептуализация, но тотальное осознание
духовного состояния и его реконструкция на основе вчувствования»270
.
Отсюда вытекает и психологическая трактовка понимания как основания
исторических дисциплин, дающая историку возможность стать мысленно и
чувственно-эмоционально соучастником исторического события. Возникает,
однако, сложный вопрос о том, как такое — фактически бесконечное —
понимание, «дальнодействие» возможно для конечного познающего
субъекта.
Пытаясь объяснить условия этой возможности, Дильтей вводит ряд
неприемлемых допущений. Так, переходя от структуры непрерывности в
опыте индивидуально-психической жизни к исторической непрерывности,
которая не может стать предметом эмпирического опыта конечного
индивида, философ допускает не только эту последнюю непрерывность, но и
сходство общих структур жизни у того, кто познает, и у того, кто
познается271
. На уровне жизни существует идентичность между индивидами,
как в случае одного поколения или нации, так и в человеческой истории в
целом, в том целом, которое историк постоянно представляет себе в ходе
исследовательской практики. В этом отождествлении гносеологических
условий возможности исторического знания и реальных оснований
непрерывности исторического процесса легко заметить возврат к
представлениям идеализма о рациональном единстве истории.
К этому же его вел и своеобразно понятый идеал автономного исторического
знания, равного по своей объективности естественнонаучному. Так же как и
естественнонаучный эксперимент, который может быть повторен любое
количество раз при идентичных начальных условиях, авторская интенция
является тем видом «смысла в себе», который повторяется при правильном
понимании. При возможности различных интерпретаций исторического
объекта он все же имеет только один смысл, а именно тот, который имел в
виду его автор.
Такая трактовка смысла необходима Дильтею для обоснования возможности
однозначного, канонического понимания. Здесь хорошо просматривается
внутренняя противоречивость его концепции понимания, связанная с
попыткой совместить понятие «жизни», выражающее эмпирическую
ориентацию его гносеологии, с утверждениями рефлективной философии
269
Ibid., 1958, Bd. 7, S. 205-220 .
270
Ibid., S. 136.
271
«Жизнь есть контекст актуальных, внешне обусловленных взаимодействий между людьми,
рассматриваемый независимо от частных изменений во времени и месторасположении» (Ibid., S.
228).
233
немецкого идеализма. С одной стороны, понимание определяется как
постижение уникального явления на основании связанного субъективным
смыслом «жизненного контекста», а с другой — индивидуальное «я»
выступает основанием этой связности в историческом времени и культурно-
смысловых различиях. Поэтому осознание конечности индивидуального
опыта для Дильтея не означало принципиального условия понимания,
наоборот, историческое понимание, считает он, — это действие субъекта,
освобожденного от всех предпосылок. Достижение понимания находится,
согласно Дильтею, в прямой зависимости от способности познающего выйти
из своего собственного жизненного контекста в опыте эмпатии. В этом
случае главным судьей в оценке объективности исторического суждения
становится самопонимание исторического субъекта. Но возможно ли такое
самопонимание, которое отличалось бы несомненной достоверностью
исторического факта, «смысла в себе»?
Дильтей отвечает на этот вопрос положительно, пользуясь
двусмысленностью в определении понятия «жизнь». С одной стороны,
психическое переживание как связное целое является условием понимания
каждого индивидуального психического события, но с другой — осознание
этой целостности возможно лишь в результате рациональной деятельности
«я», объединяющей в биографию отдельные проявления жизни индивида. По
отношению к пониманию интенции автора исторического предмета эта же,
картезианская по существу, позиция выражается в утверждении, что
окружающая его жизнь сама упорядочена рефлексией, является своего рода
знанием, «нерефлективно связанным с опытом»272
. Поэтому существует
потенциальная возможность, и здесь Дильтей воспроизводит
рационалистический идеал автономного субъекта познания, избавляющегося
от авторитетов и традиций, перевести это вплетенное в жизнь знание в явную
форму.
На этом пути преодолевается последнее препятствие для эмпатического
постижения истории. Познаваемый и познающий субъекты преодолевают
свою конечность, возвышаются над субъективными и культурно-
историческими предпосылками познания и самопознания. Хотя мы и можем,
пишет Дильтей, «делать ошибки при оценке мотивов исторических
агентов,— действительно, эти агенты сами могут вводить нас в заблуждение
по поводу своих намерений,— но произведение великого поэта или ученого,
религиозного гения или подлинного философа может быть только истинным
выражением его духовной жизни; в человеческом обществе, полном
заблуждений, такое произведение всегда истинно, и, следовательно, оно
272
Ibid., S. 18.
234
может, в отличие от наших обыденных выражений жизни,
интерпретироваться с полной объективностью»273
.
В концепции понимания Дильтея имеется ряд интересных наблюдений,
идущих от учета вполне реальных особенностей исторического познания.
Подчеркивание специфики исторического предмета, необходимости
эмпирического, опосредствованного изучения исторического прошлого не
может вызывать каких-либо возражений. Собственно, и задача эмпатической
реконструкции субъективного мира действовавших в истории людей не
может оцениваться негативно: и в общей истории и в истории идей этот
метод применяется, что, кстати говоря, сближает историю с искусством.
Вместе с тем, рассматривая значения как выражения жизни и полагая
основным условием возможности исторического познания «жизненное»
сходство познающего и познаваемого, Дильтей чересчур «облегчал» решение
проблемы понимания. (Не говоря уже о том, что сами методологические
рекомендации Дильтея базируются на ложных философских представлениях
относительно природы сознания, значения и т. д .). Если природа человека
есть внеисторический субстрат понимания, то историческое движение
затрагивает лишь сферу действий людей и их предметных проявлений, тогда
как само понимание выводится за пределы исторического опыта.
В результате понимание предстает лишь субъективным умением, лишенным
к тому же конкретно-исторических черт. Вследствие этого у Дильтея
фактически отсутствует представление о возможности ситуаций понимания,
т. е . столкновения, конфликта существенно отличных, но в то же время
исторически обоснованных типов понимания и интерпретации.
Методологическое ограничение проблемы понимания усилилось в
рассматриваемой концепции и в результате переноса на историю
романтической модели герменевтики, ориентировавшейся на методы
истолкования текстов. Вместе с этой моделью Дильтей перенял и аналогию
между историей и текстом, подлежащим расшифровке. История при этом в
сущности сводится к интеллектуальной истории, к пониманию текстов. «Все
в истории является интелдегибельным, ибо все текстуально... Дильтей в
конечном счете представлял себе исследование исторического прошлого как
расшифровку, а не как исторический опыт»274
.
Заметим, далее, что в результате подобной методологической ориентации в
теории Дильтея остаются вне анализа те условия понимания, которые
складываются благодаря собственному участию интерпретатора в
определенной культурной и концептуальной традиции. Существенно
273
Ibid., Bd. 5, S. 319-320.
274
Gadamer H. -G. Truth and Method. N . Y., 1975, p. 213.
235
осознать, что феномен понимания охватывает не только чуждый
исторический мир значений, который необходимо ассимилировать историку,
но и тот привычный и в целом понятный мир, в котором он сам живет. Этот
привычный смысловой мир, хотя и не является объектом приложения
эксплицитных процедур понимания, тем не менее выступает условием его
возможности, его постоянно присутствующей, хотя и не эксплицируемой
предпосылкой. Если учесть этот компонент, то понимание уже нельзя
трактовать лишь как субъективную способность исследователя, поскольку
наличие этого компонента придает пониманию характер события, в котором
субъект исходит из определенных интерсубъективных условий понимания,
не имея возможности ни контролировать их в полной мере, ни радикально
изменить или устранить, что в сущности подразумевается в дильтеевской
концепции эмпатического «переселения» в иной исторический мир значений.
В социальном познании это обстоятельство впервые с полной ясностью было
выявлено в марксизме, показавшем объективный характер базисных форм
конституирования социальных значений. «Формы, налагающие на продукты
труда печать товара... — отмечал К. Маркс, — успевают уже приобрести
прочность естественных форм общественной жизни, прежде чем люди
сделают первую попытку дать себе отчет не в историческом характере этих
форм, — последние уже, наоборот, приобрели для них характер
непреложности, — а лишь в их содержании»275
. Поскольку историк или
социолог, как человек определенного времени, не может не опираться в
своем исследовании на систему подобных, складывающихся вне его
методологического контроля значений, то и его исходное понимание будет
социально-исторически обусловленным и в этом смысле «конечным».
Разумеется, этот исходный контекст значений, определяющий
предварительное понимание, является достаточно гибким и диффузным,
оставляющим простор теоретическим построениям, направленным на
ассимиляцию чуждых смыслов, однако эта диффузность не беспредельна.
История познания показывает, что культурный и концептуальный контексты
налагают существенные ограничения на возможность теоретических
реконструкций. «. .. Мы можем познавать, — подчеркивал Ф. Энгельс, —
только при данных нашей эпохой условиях и лишь настолько, насколько эти
условия позволяют»276
. Сказанное, разумеется, не противоречит
марксистскому пониманию диалектики абсолютной и относительной истины,
а, напротив, входит в качестве важного компонента в это понимание.
Рассмотрение проблемы понимания в контексте исторического познания
позволяет, на наш взгляд, наметить два наиболее важных в гносеологическом
275
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 23, с. 85 —86 .
276
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 20, с. 556.
236
плане аспекта этой проблемы. Поскольку понимание исторического объекта
предполагает в качестве конституирующего условия наличие в
познавательном опыте субъекта привычного понимания современного ему
окружающего мира, постольку необходимо, во-первых, ответить на вопрос о
структуре этого последнего, выяснить, какие именно компоненты
познавательного опыта в принципе позволяют человеку говорить «я
понимаю». И, во-вторых, для теории познания представляют интерес такие
ситуации понимания, в которых в результате исторических или культурных
изменений возникают разрывы в понимании как в его донаучных
элементарных формах, так и в более специализированных, включенных в
научное познание.
Элементарные акты понимания. Гносеологический подход
Исследование первичных, элементарных уровней понимания — это анализ
того, как в опыте человека формируется образ значимого мира его
жизнедеятельности. Естественно, что при таком повороте темы понимание не
может рассматриваться лишь как метод истории, поскольку предметами
этого мира выступают и физические и социальные явления и объекты, а их
понимание является неспециализированным, относящимся к
познавательному опыту любого человека как субъекта истории и культуры.
Элементарные акты понимания, собственно, и составляют основную ткань
донаучного опыта человека, причем они настолько привычны, что
субъективно даже не переживаются именно как акты понимания. Между тем
по своей структуре первичные уровни понимания весьма сложны, и их
описание предполагает анализ данных целого ряда исследований: теории
обучения, проблем восприятия других людей, психологии восприятия,
анализа языка, теории социальной и культурной символики, изучения
понимания у детей и в патологии, и т. п.
Теория познания не может и не должна претендовать на раскрытие всех
многообразных проявлений феномена понимания. Ее задача — выявление
общих условий понимания. Представляется, и этот тезис будет
обосновываться ниже, что понимание на его первичных,
неспециализированных уровнях не имеет характера эмпатии, и его скорее
можно описать как предметно-смысловое расчленение опыта,
воспроизводящее структуру предданной субъекту реальности. Это
воспроизводство, переводящее объекты внешнего мира в предметы мира
человека, исходит из формальных и содержательных предпосылок,
складывающихся в культуре, в традиционных способах деятельности и
общения людей. На наш взгляд, эти предпосылки, а следовательно, и
феномен понимания можно обнаружить на разных уровнях познания: в
чувственном восприятии, в языке, в мышлении. Именно традиционный
237
характер познавательного опыта является условием понимания, и,
следовательно, транслируемые традицией предпосылки следует
рассматривать не как помеху пониманию, но как его активный,
продуктивный фактор: наличие предпосылок обусловливает возможность
понимания.
В нашей философской литературе идея предпосылочности познания, в
частности его культурно-исторической предпосылочности, обсуждается
довольно интенсивно. Вместе с тем еще недостаточно прояснен вопрос о
существовании различных типов предпосылок и о тех специфических
функциях, которые они выполняют в процессе познания. Можно назвать
целый ряд материальных, социальных, исторических, индивидуально-
психических условий, без которых познание невозможно. С другой стороны,
в качестве предпосылок, прежде всего научного познания, обычно
рассматриваются аксиомы, более или менее универсальные гипотезы, общие
суждения философско-мировоззренческого плана. В связи с этим возникает
вопрос о выделении из этого многообразия условий познания таких
предпосылок, которые являются конституирующими условиями именно
понимания. На наш взгляд, эти условия должны быть отличены, с одной
стороны, от материальных, институциональных и т. п. как содержательно-
смысловые, входящие в сам познавательный опыт, а с другой— от аксиом,
допущений и т. п. как традиционно складывающиеся и не представленные в
сознании субъекта в явном виде конститутивные принципы порождения
значений.
Каковы же гносеологические средства описания и анализа подобных
познавательных образований? Для марксистской теории познания одним из
отправных пунктов в решении этого вопроса служит критическое
переосмысление способов анализа условий познания, характерных для
немецкой классической философии. Особый интерес здесь представляет ряд
идей Канта, наиболее глубоко и полно в домарксистской философии
исследовавшего предпосылочную структуру познавательного опыта277
.В
контексте проблемы понимания следует обратиться к его анализу
трансцендентальных условий опыта или, точнее, трансцендентальных
условий предметной расчлененности опыта и конституирования предметных
значений. Кант исходил, и это глубоко рациональная идея, из предметного
характера эмпирического познания, доказывая, что оно имеет дело не с
ощущениями, а с внешними объектами. Поскольку же, как он считал, в
восприятии нам дано лишь многообразие ощущений, то познание объекта
277
В нашу задачу не входит обозрение всех аспектов учения Канта об условиях познания. Этот
вопрос подробно разбирается в ряде работ В. С . Швырева. См., например, его книгу
«Теоретическое и эмпирическое в научном познании» (М., 1978, с. 53—81).
238
предполагает его синтез, совершаемый посредством трансцендентальных
условий опыта. Отметим, что этот генезис предметов из материала
ощущений философ называет также «пониманием» (Verstehen)
восприятий278
. Таким образом, трансцендентальные условия выступают у
него условиями возможности понимания. Такие характеристики
познавательного опыта, как объективность, интерсубъективность,
связанность, непрерывность, обусловлены, согласно Канту, именно наличием
в опыте трансцендентальных условий, «без этого он был бы даже не знанием,
а лишь набором восприятий, которые не могли бы войти ни в какой контекст
по правилам полностью связанного (возможного) сознания...»
279
.
Выяснение важной роли в познании целостного пред-посылочного контекста
несомненно является существенным шагом в исследовании познания.
Конечно, трактовка Кантом трансцендентальных условий, составляющих
этот контекст, как априорных, внеисторических и не доступных изменению в
ходе конкретно-эмпирического познания, не приемлема для научной теории
познания. Однако глубоко рациональный смысл имеет сама идея о пред-
посылочном контексте, лежащем в основании любых познавательных актов и
выполняющем продуктивную, предметно-синтетическую функцию в
познании. Эта идея позволила Канту, в частности, существенно пересмотреть
фундаменталистскую установку в понимании истоков познания, характерную
для предшествующих ему гносеологических учений. Для докантовского
рационализма и эмпиризма типичны поиск и обсуждение условий, в которых
мышление или чувственное восприятие давало бы человеку прямой доступ к
реальности. Целью этого поиска было получение элементов безусловно
достоверного знания, которые могли бы служить исходным пунктом для
рефлективно-контролируемых процедур (например, индукции и дедукции),
распространяющих эту достоверность на более широкие сферы выводного
знания. Очевидно, что проблема понимания при такой ориентации
гносеологических поисков просто не могла возникнуть.
Существенно иной подход у Канта. Объективное познание чего бы то ни
было возможно, если только ему предпослана целостная система условий
опыта. Никакие отдельные мысленные содержания или чувственные данные
не могут служить основанием познания или входить в объективное знание,
пока они не синтезируются и не получают значение в контексте
278
См.: Кант И. Соч.: В 6-ти т ., т. 3, с. 348. У Канта по ряду причин, которые мы обсудим ниже, не
было концепции понимания в современном смысле. Однако с известной долей условности можно
говорить о рассудочной модели понимания у Канта, поскольку понимание он фактически
отождествлял с синтетической функцией рассудка.
279
Там же, с. 233.
239
трансцендентальных условий опыта, т. е . пока они не становятся
«понятыми».
Отметим еще одно существенное для дальнейшего обстоятельство. Кант не
рассматривает это первичное предметное понимание как некий
субъективный акт. Хотя трансцендентальные компоненты входят в объект
знания и имеются в познавательном опыте производящего знание субъекта, в
самосознании конечного эмпирического субъекта они в явном виде не
представлены. Синтезирующая функция предпосылок опыта, согласно
Канту, не осознается субъектом этого опыта и предстает перед ним лишь как
нечто опредмеченное, как уже предметно-расчлененный и осмысленный мир.
Хотя подобный взгляд на отношение субъекта к своим собственным
предпосылкам и не может быть полностью принят, представляется, что Кант
нащупывает здесь реальную проблему, касающуюся специфики
представленности предпосылок (а стало быть, и основывающегося на них
понимания) в процессе познания.
Таким образом, можно наметить различие между явным знанием объектов,
их закономерностей и т. п . и имеющимся у субъекта, но остающимся
неявным, объективно применяемым, но субъективно не представленным
пониманием. Конечно, подобный поворот вопроса несколько выходит за
спектр возможных интерпретаций концепции самого Канта, но нам фиксация
этого различия важна, поскольку оно воспроизводится и в понимании на
уровне восприятия и в языке.
Как мы видим, Кант выдвинул ряд весьма плодотворных идей, без учета
которых трудно представить себе какую-либо рациональную трактовку
понимания. Однако интеллектуальная ситуация, в которой складывалась его
концепция, привела к неприемлемым в контексте обсуждаемого вопроса
выводам.
Так, для научной теории познания неприемлема локализация условий
понимания в синтетической способности рассудка. Кант в своей критике
разума заимствовал многие понятия и различения из определенной
(восходящей к Локку) психологической традиции, резко отделяющей
ощущения от восприятий и восприятия от мышления. Это выразилось в
характерной для кантовой философии дихотомии материала опыта и его
формы, перцепции и апперцепции.
Между тем в свете сегодняшних представлений о восприятии этот процесс
выглядит иначе. Постулируемая Кантом резкая грань между перцепцией и
апперцепцией, между пассивным восприятием и активным оформлением и
осмыслением чувственных данных отрицается большинством нынешних
учений о восприятии, в том числе и прежде всего советской психологией,
240
глубоко обосновавшей предметный характер восприятия280
. Восприятие не
является пассивной регистрацией атомарных ощущений, напротив, мир
перцепций дан нам как стабильный, связанный, предметно-расчлененный и
осмысленный мир, причем его организация не является ни продуктом
чистого созерцающего «Я», ни конструкцией рассудка.
Из предшествующего обсуждения можно вынести ту мысль, что первичный
уровень понимания состоит не во «вчувствовании» в уже данный и
осмысленный предмет и не в его подведении под рассудочные категории, но
в первоначальном предметном расчленении воспринимаемого или
осмысляемого фрагмента действительности. В связи с этим перцептивный
мир предстает естественным полем для истолкования феномена понимания.
Разумеется, в основе всех сложных типов перцептивного понимания лежит
привычное для человека восприятие знакомого ему окружающего мира.
Восприятие в обычных условиях не представляет для нас никакой проблемы,
сам процесс видения не переживается нами как работа сознания, и
воспринимаемые объекты предстают как непосредственно данные. Однако
воспроизведение внешнего мира в чувственном опыте является весьма
сложным процессом, не все детали которого еще ясны современной науке.
Между световым узором на сетчатке (действительно данным по законам
оптики) и тем, что мы реально видим, лежит огромная пропасть. Мы
воспринимаем не оптические узоры, но предметы, существующие в
пространстве и времени. Более того, предданные объекты уже на
перцептивном уровне, без какой-либо дискурсии воспринимаются как вещи,
как живые существа, как процессы и отношения (известные опыты А.
Мишотта показывают, например, что непосредственно воспринимается
причинность), как предметы культуры, как другие люди. Если в оптическом
поле нам презентированы лишь образы физических тел, в том числе такие,
как тела других людей и их движения, то в видимом мире, как первично
данной нам реальности, мы окружены предметами культуры, знакомыми и
незнакомыми людьми, их социально значимыми поступками. Причем других
людей мы воспринимаем как субъектов, воспринимающих тот же самый мир,
который воспринимается и нами.
Таким образом, процесс восприятия включает в
себя интерпретацию образов, которая хотя и не осознается в обычных
условиях, но является необходимым конституирующим компонентом
восприятия. «. ..Чтобы воспринять зрительные образы, — подчеркивает
известный психолог Р. Грегори, — их нужно истолковывать — только так
280
Еще Маркс отмечал, что в восприятии нам дан не субъективный поток ощущений, а
«объективная форма вещи, находящейся вне глаз» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 82).
241
они могут быть связаны с миром предметов»281
. Отметим то существенное
обстоятельство, что эта скрытая от сознательного контроля субъекта
интерпретация, понимание образов является компонентом самого
восприятия, а не актом, следующим за этим восприятием. «Понимать—
значит видеть вещи определенным образом, но нельзя «видеть» не
понимая»282
. Восприятие всегда неполно в информационном плане: в
зрительном восприятии, например никогда не даны все стороны объекта.
Восприятие поэтому всегда является «достраиванием» предмета путем
выбора подходящих предметных интерпретаций. В случае явной
недостаточности информации, а еще более наглядно в сложных, необычных
перцептивных ситуациях процесс понимания этих ситуаций, их предметно-
смыслового различения становится развернутым во времени. Такие условия
ясно показывают, что видение наступает лишь тогда, когда подобраны
приемлемые перцептивные эталоны, если же у человека не хватает запаса
эталонов, выработанных в прошлом опыте восприятия, то стабильное
видение объектов не достигается вообще283
.
Каковы же предпосылки, обусловливающие возможность понимания на
перцептивном уровне? Не углубляясь в рассмотрение специального
материала по психологии восприятия, отметим следующие основные
элементы, организующие перцептивный опыт. Во-первых, это
функционирующая на дорефлективном уровне сознания амодальная схема
мира с «встроенной» в нее схемой тела человека. Этот компонент является
своеобразным «гештальтом», синтезирующим отдельные восприятия в
целостный воспринимаемый мир; помимо этого, его постоянное
функционирование в сознании позволяет отличать изменения в объективном
мире от изменений в состоянии и ориентации самого субъекта восприятия.
Во-вторых, к конституирующим компонентам перцептивного опыта
принадлежит система предметных эталонов и предметных значений, на
основании которой происходит идентификация, различение и осмысление
объектов внешнего мира, находящихся в поле восприятия. Основная функция
предметных значений в перцептивном опыте состоит в преломлении
воспринимаемого в соответствии с общественно выработанными, социально-
культурными способами действия с вещами. В результате человеку в его
восприятии дана не только устойчивая и предметно-интерпретированная, но
и интерсубъективно значимая картина мира. Перцептивное понимание, хотя
и варьируется от человека к человеку в зависимости от его биографии и
281
Грегори Р. Разумный глав. М ., 1972, с. 11 .
282
Там же, с. 7. Грегори подчеркивает здесь характерную синонимию английских слов «видеть» и
«понимать», которая отчасти существует и в русском языке.
283
См., например, работы В. В. Столина и А. Д. Логвиненко по псевдоскопическому и
инвертированному визуальному восприятию (в кн.: Восприятие и деятельность. М ., 1976).
242
предметного окружения, не является чем-то сугубо личностным, в основе
своей оно интерсубъективно: человек смотрит на мир «глазами общества».
Обратим внимание на то, что и в восприятии воспроизводится отмеченное
выше соотношение между явным знанием и неявным пониманием. В
восприятии в виде знания фиксируется наличие определенных объектов,
закономерности их поведения и т. п . Между тем все это предполагает уже
осуществленное действие только что описанной структуры восприятия,
которая, однако, презентирует субъекту не саму себя, но предметно-
смысловую организацию определенного фрагмента действительности, из
которого исходит и на которое опирается знание, получаемое в опыте
восприятия.
Перцептивное понимание и предпосылки его возможности не составляли бы
проблемы для гносеологии, если бы они, подобно кантовым
трансцендентальным условиям, гарантировали воспроизведение
тождественного предметно-смыслового расчленения действительности для
всех возможных субъектов опыта. Однако по своей природе эти предпосылки
не являются культурно-историческими инвариантами, своего рода телесно-
перцептивным априори. Они вырабатываются в предметной деятельности и
межсубъектном общении, не имеют поэтому надэмпирического характера и
доступны изменению: культура отлагается и в способах нашего восприятия
мира.
В западной герменевтике перцептивная модель понимания не
рассматривается; предполагается, что проблема понимания — это проблема
языка. Между тем, как мы видим, понимание имеет место уже на доязыковом
уровне, в обычной перцепции. Предметное расчленение мира не является
продуктом языкового конституирования, основные типы предметов опыта не
порождаются языком, но предпосланы ему.
Вместе с тем и в познании и в реальной жизни перцептивное понимание
никогда не выступает в чистом виде — оно всегда взаимодействует с языком.
Даже в самом исследовании перцептивного опыта мы вынуждены
пользоваться языком, что, между прочим, порождает такой вопрос: что в
результирующем знании относится к самому долингвистическому опыту, а
что «вносится» в него структурами языка. Перцептивная модель понимания
имеет, естественно, и довольно ограниченное применение в социально-
историческом познании. Далеко не все как в обществе, в истории, так и в
природе может быть предметом восприятия или таких производных от него
типов опыта, как представление или воображение.
Как уже отмечалось, феномен понимания связан с отложением традиции в
человеческом познании. Поскольку же в языке, как и в чувственном
243
восприятии, культура отлагается наиболее глубоко и полно, постольку язык
как «практическое, существующее и для других людей... действительное
сознание»284 не может не привлечь внимание в контексте проблемы
понимания. Факт предметной представленности языка, данности его
структур не только в качестве содержаний сознания с самого начала
переводит проблему понимания в непсихологический план, позволяет
показать ее как объективный компонент познавательного опыта. Помимо
этого, интерсубъективность, присущая уже и восприятию, еще нагляднее
проявляется в языке. «Язык как продукт отдельного человека —
бессмыслица»285
. Поскольку же не существует приватного языка, то и
понимание, встроенное в языковую деятельность, не может быть чем-то
сугубо личностным.
Язык дает возможность понимания, поскольку он презентирует субъекту
предметно-смысловое членение мира, схематизацию и типизацию явлений
природы и общества. В языке воспроизводится объективная расчлененность
вне человека находящейся реальности, вместе с тем это именно
воспроизводство; артикуляция действительности не только отражается, но и
производится в опыте субъекта при посредничестве языка, поскольку она
осуществляется не чистым, незаинтересованным сознанием, но самими
людьми в процессе их коммуникации и предметно-практических форм
жизнедеятельности. При сравнении различных языков с существенно
отличными наборами грамматических категорий и лексическими запасами
обнаруживается значительное различие миропонимании у носителей этих
языков, к этому же приводит и историческое изменение одного языка,
вызванное изменениями в формах жизнедеятельности286
. Какивслучае
перцептивного пониманий, мы сталкиваемся здесь с фактом неосознанного
использования языка. Участие в языковой коммуникации, описание
действительности посредством языка предполагают, что субъект владеет
языком, имеет в своем распоряжении определенное знание его лексико-
грамматической структуры. Однако и здесь это знание родного языка не
имеет характера явного знания: язык непосредственно предоставляет нам
предметно-смысловую артикуляцию мира, собственная же структура языка
не представлена нам при этом, мы обладаем ей в виде неявного знания.
Таким образом, каждое отдельное получаемое с помощью языка актуальное
знание предполагает культурно и исторически обусловленное понимание
мира, которое не укоренено в индивидуальности субъекта языка, но
284
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 3, с. 29 .
285
Тамже,т.46,ч.I,с.479.
286
См.: Васильев С. А. Философский анализ гипотезы лингвистической относительности. Киев,
1974.
244
развивается в процессе взаимодействия между многими индивидами, т. е .
является интерсубъективным.
Как уже отмечалось, проблема понимания как таковая не сводится лишь к
вопросу о наличии у субъекта исторически конкретной структуры
предпосылок, являющейся условием понимания им окружающего мира. Эта
структура определяет лишь один момент в целостном акте понимания и
интерпретации. В историческом познании, например, понимание
предполагает также интерсубъективный предпосылочный контекст, в
котором происходит деятельность изучаемых историком людей и
конституируются духовные продукты этой деятельности.
Мы здесь рассмотрели элементарные акты понимания. В более сложных
ситуациях оно приобретает процессуальный характер, включая в себя
дискурсивные уровни интерпретации. В познавательном плане центральным
моментом понимания и интерпретации становится опосредствованно двух
различных предпосылочных контекстов, прояснение одного контекста в
терминах другого, что, заметим, ведет и к более глубокому осознанию
субъектом своих собственных предпосылок, т. е . к более глубокому
самопониманию.
Сложные ситуации понимания
В гносеологическом плане истоки сложных ситуаций понимания (в
дальнейшем ради краткости мы будем называть их просто «ситуациями
понимания») лежат в нарушении непрерывности и интерсубъективности
познавательного опыта. Возникновение подобных ситуаций, по нашему
мнению, свидетельствует прежде всего о трансформациях предпосылочного,
неявного уровня знания.
На это указывает и то обстоятельство, что проблема понимания не возникает
и не ставится в эксплицитной форме как особая гносеологическая и
методологическая проблема до тех пор, пока субъект познания
непосредственно вовлечен в деятельность по продолжению и развитию той
или иной научной или мировоззренческой традиции. Эта проблема ясно
осознается лишь в ситуациях, где традиционный опыт сталкивается с
решением познавательных и мировоззренческих задач, которые требуют
выхода за горизонт, определяемый транслируемыми традицией
предпосылками.
Если, например, гуманисты Возрождения «не в состоянии были ощутить себя
внеположными и античной и христианской традициям»287
, то романтическая
критика явно не адекватных имитаций античных произведений в немецком
287
Боткин Л. М . Итальянские гуманисты: Стиль жизни, стиль мышления. М., 1978, с. 173.
245
классицизме осознается как задача преодоления «неверного понимания»
классических текстов и сопровождается попыткой разработать
соответствующую методику герменевтической интерпретации. Другим
примером может служить тот факт, что поиски нового содержательного
языка для предметного осмысления квантово-механических формализмов,
выходящих за рамки естественных представлений и интерпретаций
классической механики, вызвали пристальное внимание к данной проблеме
со стороны многих выдающихся физиков современности (В. Гейзенберга, Н.
Бора и др.)
288
.
При постановке вопроса о способах исторического изменения предметно-
смысловых структур познания стоит различать по крайней мере три типа
предпосылочных контекстов: наряду с внутринаучными предпосылками
(контекстом знания) и культурно-историческими предпосылками познания
следует также иметь в виду и персональный контекст, определяющий
личностный смысл знания.
Если, не вдаваясь в детальный историко-философский анализ существующих
в современной буржуазной философии концепций понимания — как в
философской герменевтике, так и в методологии науки, — попытаться
определить их общую типологическую характеристику, то можно показать,
что различные подходы к постановке и решению данной проблемы во
многом зависят от того, какие именно предпосылки выделяются при
гносеологическом анализе ситуаций понимания.
Решающими при этом оказываются два взаимозависимых обстоятельства.
Это, во-первых, представление о возможности или невозможности перевода
предпосылочного знания из неявной, имплицитной формы знания в
эксплицитное объективное знание, или, иначе говоря, о возможности его
объективации в носителях предметного значения — самом человеке, его
поступках, идеальных системах знания, языке, текстах, мире предметов
культуры и т. д . Во-вторых, это определение объективирующей функции
самого познавательного контекста и тех сознательно-методических
процедур, на основании которых достигается интерсубъективное соглашение
по поводу познаваемого объекта.
Та или иная оценка этих обстоятельств предопределяет ответ на основной
вопрос теории понимания — о выявлении предметно-смысловых контекстов,
конкретно-исторических норм объективности знания и исследовании
способов их взаимодействия, изменения и развития.
288
См.: Heisenberg W. Der Tiel und das Ganze. Munchen, 1973.
246
Следует также заметить, что в большинстве западных теоретико-
познавательных концепций так и не преодолены сложившиеся еще в конце
XIX — начале XX в. оппозиции в выборе исходных ориентиров для анализа
проблемы понимания. Воспроизводится или дихотомия естественнонаучного
и гуманитарного знания, или же противопоставляются эпистемологическое
исследование внутринаучной деятельности и анализ, ориентирующийся на
личностные и коммуникативные аспекты процесса познания.
При ориентации на естественнонаучное познание и на внутринаучные нормы
и методы (характерной для большинства представителей англо-американской
«философии науки») уже не имеет принципиального значения, что именно
принимается в тех или иных концепциях за контекст знания —
концептуальные рамки единого интерсубъективного языка наблюдения в
конструктивной семантике логического позитивизма или, например,
объективное содержание теоретических систем значений в «герменевтике
третьего мира» К. Поппера. Для нас важно подчеркнуть тот факт, что в
данном случае проблема исследования реальных ситуаций понимания хотя и
возникает, но при оценке и решении сводится к ситуациям знания в узком
смысле его естественнонаучных образцов — либо к естественнонаучному
объяснению289
, либо к более общим ситуациям решения естественнонаучных
проблем290
.
Отметим, что для подобного типа редукции при исследовании субъективных
значений социальных фактов имеются и определенные основания. Дело в
том, что такой подход считает принципиальным требование анализировать
условия познавательной деятельности в их объективированных
воплощениях291
. Это требование заставляет предполагать, что в акте
познания мы можем одновременно сделать объектом знания и те неявные
289
Неопозитивистская концепция научного объяснения разрабатывалась в прямой оппозиции к
постулатам теории понимания Шлейермахера—Дильтея на основании бихевиористского тезиса —
общего как логическому анализу языка науки, так и социальному объяснению — о том, что все
субъективно-смысловые, интенциональные аспекты человеческих действий, рассматривающихся
как содержание социальных фактов, могут быть полностью объективированы в актах внешнего
поведения людей. См.: Abel Th. The Operation Called «Verstehen». — In: Reading in the Philosophy of
Science. N . Y., 1953.
290
К. Поппер также выдвигает свою концепцию понимания как альтернативную психологической
трактовке понимания. Однако в отличие от неопозитивистов он не отрицает того, что проблема
понимания — это проблема исследования идеальных значений человеческого действия,
исторического события или познания, и различает субъективные процессы человеческого опыта и
их объективный результат — знание. Поэтому понимание для него — это в конечном счете
теоретическое постижение возможных объектов идеализированных систем знания.
См.: Popper К. On the Theory of Objective Mind. —In: Akten der XIV Internatio-nalen Kongresses fur
Philosophic. Wien 2—9 September, 1968. Wien, 1968, Bd. I .
291
В этом одна из причин замещения в неопозитивизме проблемы субъекта и объекта анализом
логических структур языка и претензий К. Поппера на построение «эпистемологии без
познающего субъекта».
247
предпосылки, которые задаются нам культурной или научной традицией,
или, иначе, считать, что теоретическая деятельность является
самообосновывающейся. Однако научно-теоретическое познание не является
такой деятельностью, но предполагает, как мы видели, что субъект познания
уже ориентирован в своем отношении к миру предварительным
перцептивным и языковым пониманием.
Анализ процессов понимания в контексте развития познания позволяет, на
наш взгляд, выйти как за рамки субъективно-психологического истолкования
понимания, так и снять установку на резкое противопоставление
гуманитарного мышления естественнонаучному. Несомненно, что проблема
понимания, рассматриваемая в этой перспективе, имеет самое
непосредственное отношение к таким актуальным гносеологическим
вопросам, как непрерывность познавательного опыта, взаимоперевод
различных смысловых систем, усвоение нового знания и рефлексивное
присвоение прошлого опыта, как моментов, конституирующих научную
традицию. В решении этих вопросов существенное место занимают
проблемы рациональных норм и границ самопонимания субъекта познания и
интерсубъективных способов передачи конкретного, качественного опыта от
одного человека к другому.
Для исследования ситуаций понимания в этом плане имеет смысл выделить
среди предметных средств коммуникации, свойственных различным
способам освоения мира, например эстетическому, научному и т. п.,
достаточно универсальные знаково-символические средства общения,
имеющие сравнительно низкую степень специализации — естественный
язык и обобщенный образ его письменного закрепления — текст. Пределы
самопонимания и понимания речевого или письменного сообщения другого
субъекта как раз и обнаруживают пределы коммуникации.
Одной из отличительных особенностей естественного языка по сравнению с
семантическими характеристиками языка науки является, как известно, его
полисемия, или свойство слов иметь более чем одно значение. В то же время
лексический запас словарных значений, находящихся в распоряжении
индивида или речевого сообщества, всегда конечен. Использование
естественного языка при речевом общении, например, в обыденном
разговорном диалоге, возможно, следовательно, лишь при своеобразном
«решении» двух противоположных задач. Во-первых, при условии выбора
определенного значения слова из ряда возможных в данном языке и, во-
вторых, при выражении им индивидуальной перспективы видения предмета
сообщения, передаче личностного смысла, оттенки которого бесконечно
вариативны как в пределах самопонимания отдельного индивида, так и среди
различных людей, говорящих на одном и том же языке. Понимание же
248
сообщения предполагает определенную степень унификации и значения
слова и его индивидуального смысла.
В литературе, посвященной вопросам понимания речевого сообщения292
,
подчеркивается, что обе эти функции выполняет контекстуальное
использование языка. Под контекстом в данном случае подразумевается, с
одной стороны, лингвистическое окружение данного слова другими
актуальными словами, например предложением или целым сообщением, в
котором оно высказывается, а с другой — ситуация, общая говорящим,
включая их поведение. Благодаря контекстуальному использованию слово
черпает практически неограниченное количество смыслов из конечных
лексических средств, закрепленных в словаре. Однако реальный диалог
всегда происходит в определенной речевой ситуации, ограниченной
окружающим предметным миром, темой и полнотой используемого
словарного запаса. Это предполагает «подбор» необходимых для передачи
сообщения слов не в полном объеме смысловой полисемии, но так, чтобы
использование слова в сообщении затрагивало только часть его
семантического поля, а именно, тот спектр значений, который устанавливает
его предметную отнесенность с окружающим миром вещей и темой
разговора. Остаток полисемии исключается контекстом предложения, в
которую оно входит. Если предложения недостаточно для выделения
необходимых контекстуальных значений слова в данной ситуации, эту роль
выполняет сообщение в целом. Окончательно этой же функции служит
обмен вопросами и ответами, позволяющий слушающему контролировать
семантический выбор говорящего, а последнему определить, насколько
верно сообщение было понято тем, кому оно предназначалось.
При рассмотрении речевого диалога нам важно подчеркнуть два момента.
Первое — то, что в естественной коммуникации контекст выполняет
унифицирующую функцию, или, иначе, подводит смысловое многообразие
слова и затем сообщения под конкретные, индивидуальные особенности
речевой ситуации и употребляемого языка и, таким образом, ограничивает
полисемию. Второе — направленность акта понимания на поиск контекста
воспринимаемого высказывания, т. е . сознательное ограничение выражаемых
им смыслов. Оба момента использования слов и контекста для редукции
полисемии в диалоге указывают на то, что интерсубъективность при
передаче личностных смыслов имеет своим пределом смыслоразличающую
способность самого языка как средства коммуникации — наличие
необходимого значения для артикуляции предмета, имеющего уникальный
292
См.: Лурия А. Р . Язык и сознание. М., 1979, лекции XI—XIII; Ricoeur P. Creativity in Language.
Word. Polysemy. Methaphor. — Philosophy Today, vol. 17, N 2/4, 1973.
249
смысл для говорящего, — и конкретную ситуацию диалога — тему разговора
и окружающий обоих собеседников общий предметный мир.
Речевой диалог является прототипом любой ситуации понимания. Обобщая
его, можно сказать, что предел самопонимания индивида и понимания им
внешнего мира обнаруживается в их отношении к закрепленному в средствах
коммуникации и предметах культуры традиционному опыту, т. е . только на
уровне культурно-исторического контекста общения. Конечен не
личностный смысл знания, но возможность его реального выражения в
интерсубъективных средствах передачи культурной или познавательной
традиции независимо от того, рассматриваются ли они в своей орудийно-
практической или знаково-символической форме. Речь идет, таким образом,
не о том, что пределами рефлексии индивида выступают некие натурально
заданные пределы его познавательных возможностей, но о том, что такими
пределами выступают интерсубъективные для данной культуры или
научного сообщества культурно-исторические предпосылки понимания. При
этом не следует забывать и того, что пределы эти исторически обусловлены и
меняются по мере развития культуры и познания, которое, будучи
ограничено в каждый данный момент определенными условиями,
безгранично по своим возможностям, т. е . в исторической перспективе.
Если с точки зрения познавательной установки науки объективация этого
типа предпосылок может быть целиком и полностью осуществима в рамках
специализированного теоретического знания за счет их отождествления с
предметными характеристиками средств коммуникации, то персонализация
их смыслового аспекта, в свою очередь, заставляет рассматривать такую
возможность как принципиально неосуществимую и постоянно выпадающую
из поля зрения объективного исследования и сознательного контроля.
Однако уже сам интерсубъективный характер культурно-исторических
предпосылок, их мировоззренческая «самоочевидность» указывают на то, что
они задают критически допустимые нормы предметно-смысловой
артикуляции персонального знания, понимания других субъектов, понимания
внешнего мира, понимания средств коммуникации. Изменение культурно-
исторического контекста, таким образом, предполагает и сознательное
отношение к нему, определенную степень критической оценки, что особенно
заметно в историческом познании. Поэтому есть все основания
предположить в самой структуре познавательного опыта существование
таких способов объективации культурно-исторических предпосылок,
которые эксплицитно учитывают как объектное знание, выраженное в
средствах общения, так и его отношение к постоянно присутствующему,
унифицирующему его понимание контексту. В литературе, посвященной
анализу проблемы понимания, этот аспект познавательного отношения
250
выражается понятием интерпретации — методически организованной
системы правил исследования контекста иной традиции. Особое значение в
исследовании процесса интерпретации имеет текст как письменная фиксация
традиционного опыта, выходящая за пределы непосредственного живого
общения или диалога.
Проблема понимания текстов относится к одному из важных и сложных
вопросов методологии научного познания, и в частности специфики
культурно-исторических дисциплин. Любое значимое человеческое действие
и его опредмеченный результат в конечном счете может рассматриваться как
знаково-символическое выражение субъективного значения, т. е . как
своеобразный вид текста. «Текст, — подчеркивает выдающийся советский
специалист в области теории культуры и литературоведения М. М . Бахтин,
—
первичная данность (реальность) и исходная точка всякой гуманитарной
дисциплины»293
. Не претендуя на всестороннее рассмотрение понятия текста,
мы попытаемся выделить только некоторые важные для нашей темы
гносеологические аспекты ситуации его понимания, представляющей собой
диалог особого вида: «сложное взаимоотношение текста (предмет изучения и
обдумывания) и создаваемого обрамляющего контекста (вопрошающего,
возражающего и т. п .), в котором реализуется познающая и оценивающая
мысль ученого»294
. Особенность ситуации понимания текста в отличие от
ситуации речевого диалога выражается прежде всего в изменении роли языка
в случае его письменной фиксации.
Если понимание речевого сообщения предполагает непосредственную
очевидность общего для говорящих контекста диалога — лингвистических
средств, окружающего мира и его предметной и тематической артикуляции
системой культурно-исторических предпосылок, то при интерпретации
текста такое общее основание, как правило, отсутствует. Автор текста может
быть отделен от интерпретатора языковыми, пространственными и
временными границами различных культур. Даже если предположить, что
всякая система знаков, язык принципиально может быть расшифрован или
переведен на другие языки295
, то все же остается под вопросом сама
возможность понимания выраженного в знаковой форме человеческого
опыта при отсутствии общего предметно-смыслового контекста. Конечно, не
следует забывать и о том, что практически каждый текст содержит в себе
предложения, выполняющие смыслоразличающую функцию не только по
отношению к предмету сообщения, но и по отношению к самым различным
293
Бахтин М. М . Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 292.
294
Там же, с. 285.
295
Детальный анализ теоретико-методологических вопросов, возникающих в связи с переводом
как одной из наиболее общих ситуаций понимания см.: Лекторский В. А . «Альтернативные миры»
и проблема непрерывности опыта.
251
обстоятельствам своего производства, например употребляемому языку,
авторской задаче, точке зрения, замыслу, другим источникам и
свидетельствам, и т. п . Обычно это называется подтекстом, который в
зависимости от типа специализации произведения — автобиографического,
литературного, историографического, научного — получает ту или иную
степень представленности в тексте. Однако его культурно-исторический
контекст, неявные предпосылки авторского видения мира во многих случаях
остаются за пределами содержания текста296
.
Особенно хорошо это заметно на примере научных текстов, где способ
изложения материала предполагает, как правило, только объектную
отнесенность: описание, объяснение, доказательство и т. д . предмета
сообщения — и практически не учитывает их зависимости от нормативов,
выходящих за рамки исследования в контексте теории. Таким образом, в
отличие от речевого диалога в ситуации понимания текста для
интерпретатора перестают непосредственно совпадать предметно-смысловые
предпосылки сообщения и его объективное содержание. Интерпретатору,
поэтому, известен прежде всего пропозициональный аспект составляющих
текст предложений, то, что объективируется в нем наиболее полно, —
тематическое знание его автора.
В то же время следует особо подчеркнуть и различие в способах объективной
отнесенности речевого сообщения и записанного языка. Если диалог
осуществляется при условии непосредственного отнесения употребляемых
слов к общему для говорящих миру объектов, например простым указанием
на тот или иной объект в ситуации разговора, то тематическое знание,
зафиксированное в составляющих текст единицах, теряет свои остенсивные
референты. Текст, коль скоро он текст, а не речевое сообщение, попадая к
читателям, уже «дистанцирован» от автора и его культурного горизонта и не
имеет прямого отнесения к ним. С другой стороны, для интерпретатора такое
отнесение усложняется не столько из-за различия в самих объектах
природного и искусственного мира иной культуры, сколько в результате
изменившейся предметной артикуляции действительности в языке и
перцепции, заданных ему современной познавательной и мировоззренческой
традицией.
Возникновение письменной фиксации человеческого опыта изменяет и
гносеологические характеристики самой коммуникации на основании текста
по сравнению с речевым общением. Знание, объективированное в тексте,
выступает как относительно независимое от автора я исследователя, так же
296
Очевидно, подтекст и контекст наиболее совпадают в философских текстах, предполагающих
высокую степень рефлексии по поводу своих оснований.
252
как и от непосредственной отнесенности к внешнему миру297
. Указанные
особенности текста как предметного посредника в передаче традиционного
опыта позволяют наметить общие исходные пункты процесса его
интерпретации. С одной стороны, такой «отправной точкой» выступает
реальное знание об объекте сообщения, заключенное в письменных знаках. С
другой — это познавательный опыт интерпретатора, основывающийся на
определенных конкретно-исторических предпосылках практического и
теоретического освоения этого же объекта. Ситуация понимания текста и
возникает в результате того, что существует различие в предметной
артикуляции действительности и произведенных на этом основании
идентификациях, описаниях, объяснениях и т. п. объектов коммуникации,
данных в тексте и в опыте самого исследователя. Основные моменты в
преодолении такого отличия, или выявление общего предметно-смыслового
контекста коммуникации, и составляют определенную последовательность
шагов интерпретативной деятельности. Подчеркнем только некоторые из
них.
Во-первых, для определения тематического знания, объективированного в
тексте, необходимо обнаружить соответствующие ему референты в
окружающем исследователя предметном мире и наличном знании.
Часто при освоении культурного наследия встречаются такие ситуации,
когда передающееся по традиции знание выступает в качестве несомненно
авторитетного и не подлежащего критической оценке, как, например, это
случилось с интерпретацией данных опыта Майкельсона— Морли на
основании классических представлений ньютоновской физики в работах
297
Эти черты текста, взятые вместе, образуют его своеобразную «объективность» — то, что текст
может быть самостоятельным объектом научного исследования вне зависимости от его функции
предметного посредника в передаче традиционного опыта. Как отмечает один из представителей
зарубежной философской герменевтики П. Рикер, если Дильтей считал применение процедуры
объяснения при изучении явлений культуры некритическим заимствованием методов из области
естественнонаучного знания, то подобая «объективность» возникает из гносеологического статуса
текста в самих гуманитарных дисциплинах. Поэтому исследование записанного сообщения в
принципе возможно ограничить только анализом знакового содержания текста без дальнейших
поисков его культурно-исторического контекста. Эта стратегия и была положена в основание
структурных методов анализа как в лингвистике при исследовании закономерностей соотношения
между единицами языка малых порядков (фонемами, морфемами, лексемами, предложениями),
так и в философском структурализме, объясняющем структурные связи между единицами текста
больших порядков, например тех, которые Леви-Стросс называет мифемами (см.: Ricoear
P. Human Sciences and Hermeneutical Method: Meaningful Action Considered as a Text— In:
Exploration in Phenomenology. The Hague, 1973). Очевидно, что подобный подход, вполне
правомерный при исследовании внутренней структуры текста, тем не менее не может ответить на
основные вопросы проблемы понимания, и в частности на вопрос о способах преемственности
культурно-исторического опыта.
253
Лоренца. В этом случае осмысление знания — отыскание необходимых
референтов — приобретает вид толкования. Следует заметить, что
толкование имеет не только отрицательное значение в процессе
исторического развития и изменения знания, но и является положительным
моментом при сохранении культурного наследия. Однако для нас важно в
данном случае подчеркнуть, что толкование по существу ограничивается
аппликацией, нахождением подтверждающих примеров для переданного нам
знания в культурно-историческом контексте, наличном для самого
исследователя текста.
Во-вторых, при обнаружении противоположных определений тематического
знания интерпретатор сталкивается с более сложной задачей, которая
заключается не только в том, чтобы найти подходящие предметные
референты в своей традиции, но и определить те смысловые нормативы
познания и мировоззрения автора, на основании которых оно было
сформулировано. В этом случае исходным «материалом» для определения
контекста иной традиции выступают культурно-исторические предпосылки
опыта наличного интерпретатору, а их сознательное, критико-рефлексивное
выявление и трансформация организуются так, чтобы они могли
соответствовать той картине мира, которая типична для представлений
автора текста.
Что значение текстов может быть понимаемо многими различными
способами в зависимости от аргументов, Которые прилагаются в качестве
предположительных определений специфики их исторических контекстов, —
хорошо известно в области гуманитарных дисциплин. Тем не менее такая
методологическая возможность возникает не вследствие различия в
субъективных взглядах ученых или полисемии употребляемого языка, но
заключается в гносеологических особенностях самого процесса
интерпретации.
Невозможность до конца объективировать собственный контекст
теоретического исследования в этом смысле создает определенную
«конечность», ситуационную ограниченность и неоднозначность
интерпретаций. С другой стороны, от степени осознания неявных
нормативов собственной традиции зависит и возможность объективации
культурно-исторических предпосылок текста. Поэтому, по-видимому, можно
говорить о том, что основными критериями интерпретации в гуманитарных
науках выступают глубина и широта понимания, где углубление понимания
—
это степень критического осознания собственных смысловых норм
артикуляции действительности, а его расширение — возможность на этом
основании определять все более широкий горизонт контекстов исторических
первоисточников. Интерпретация в этом отношении выступает только в
254
качестве методически организованного процесса взаимопрояснения
контекстов гуманитарного исследования и изучаемого текста на основании
различий в знании об объектах общей темы коммуникации вне зависимости
от того, относятся ли они к природной действительности, как, например, в
историографии естественных наук, или к историческому миру культуры в
литературоведении, лингвистике, история и т. д .
Для марксистско-ленинской гносеологии принципиальным является
признание фундаментального единства процесса познания природных и
общественных явлений. Поэтому можно говорить о том, что теоретико-
познавательная специфика гуманитарных дисциплин лишь более отчетливо
демонстрирует то, что составляет одно из важных условий любой формы
познания как существенно исторического феномена,—наличие процесса
понимания в структуре познавательного опыта. Таким образом, речь идет не
столько о понимании как отличительной черте специфического вида
познания, направленного на изучение исторической связи между людьми и
продуктами их деятельности, сколько о понимании как непосредственном
условии межсубъектной и культурной преемственности самого
познавательного отношения.
Философский анализ проблемы понимания, даже в самом общем плане,
позволяет, на наш взгляд, показать, что представление о теоретической
деятельности, ориентирующееся на специфические особенности
естественнонаучного знания, как раз недостаточно учитывает данный факт. С
другой стороны, можно говорить и о своеобразном «гуманитарном
сциентизме» в современной буржуазной герменевтике. Одностороннее
подчеркивание и противопоставление понимания эмпирическому
исследованию, описанию, объяснению приводит к преувеличению и
искажению его познавательного значения.
Анализ ситуаций понимания дает достаточно оснований для того, чтобы
показать существенную односторонность обеих отмеченных точек зрения.
Культурно-историческая, диалектическая преемственность познавательного
опыта, традиции и мировоззрения в целом, развитие и приращение
содержания знания находятся в прямой зависимости от критического
отношения к своим «естественно очевидным» предметно-смысловым
нормативам. Конечно, это не означает, что все, в том числе и
неспециализированные предпосылки, познания должны непосредственно
контролироваться и осмысляться в самом процессе научного исследования.
Как правило, этого не происходит. Но вместе с тем историческое изменение
познания происходит в широком культурном и мировоззренческом
контексте, в котором освоение прошлого человеческого опыта фактически
невозможно без сознательного понимания его непрерывности. В этом
255
отношении проблема понимания является необходимым и еще далеко не
изученным аспектом в исследовании познавательного отношения, который
открывает новые возможности анализа сложного диалектического
взаимоотношения теоретической деятельности и ее культурно-исторических
оснований.
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ГУМАНИТАРНЫМИ
НАУКАМИ
И ТЕОРИЕЙ ПОЗНАНИЯ
(на материале семиотически ориентированных гуманитарных наук)
Н. С. АВТОНОМОВА
Взаимоотношения между наукой и философией в истории европейской
культуры подчинены общей тенденции. Это постепенное «отпочкование» и
отпадение от философии тех или иных конкретных областей знания и
превращение их в самостоятельные научные дисциплины.
Древнегреческая философия была универсальна: равноправными ее частями
были логика, физика с метафизикой, этика с политикой и эстетикой и др.;
самостоятельными были только чисто описательные науки, как ботаника или
география. Общеизвестно, что именно путем постепенного отпадения от
философии, от «метафизики», отдельных областей исследования природы
возникло естествознание Нового времени. Так, в XVI—XVII вв. (прежде
всего в работах Галилея) теоретической самостоятельности достигает
физика, в XIX в. — хи мия и биология. Примерно к середине XIX в. этот
процесс казался уже полностью завершенным, а мыслительное поле
культуры — перестроенным полностью и окончательно. В этой связи иногда
высказывалось мнение, что философия вычленила из себя все возможное
конкретное знание и, лишившись тем самым онтологии, оставила за собой
логику и теорию познания.
Новая стадия этого процесса начинается примерно с 60-х годов XIX в.:
теперь он охватывает также и область социальных и гуманитарных знаний.
Уже в XIX в. делаются попытки самоопределения психологии (ср.
исследования восприятия у Г. Мюллера и Г. Гельмгольца), вычленяются в
самостоятельные дисциплины этика и социология.
На рубеже веков и далее в XX в. этот процесс отслоения от философии
различных областей социально-гуманитарного знания особенно усилился.
Начинаются экспериментальные исследования высшей нервной
деятельности. Очерчиваются контуры психоаналитической проблематики
256
(первоначально психоанализ содержал в себе определенный научный
импульс в противоположность иррационалистическим трактовкам
бессознательного и лишь позднее сам превратился в своего рода
иррационалистическую метафизику). В первые же десятилетия XX в.
создаются предпосылки научного самоопределения лингвистики в
современном смысле («Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра) и
литературоведения («формальная школа» в русском литературоведении).
Параллельно возникновению отдельных социально-гуманитарных наук
складываются взаимосвязи между смежными дисциплинами (социальная
психология), возникают комплексные дисциплины (многоотраслевые
исследования науки, включающие ее историю, логику и методологию,
социологию, экономику финансирования и практического приложения,
психологию научного творчества и пр., а также целый ряд отраслей научного
знания о человеке).
Это конституирование гуманитарных наук, если рассмотреть его на уровне
общетипологических закономерностей, проходит несколько этапов. Первое
—
это существование гуманитарного знания в виде практических навыков и
приемов. Второе — это осознание ими своей сопричастности философии,
своей зависимости от строя господствующих представлений о мире; на этой
стадии гуманитарное знание принимает вид практических вкраплений в
философские схемы, которые придают им смысл и научную
оправданность. Третье — это, условно говоря, этап «автономизации»,
который проходят в своем развитии все науки, а гуманитарные — в
особенности. Данный этап — это упование науки только на свои
собственные силы, мнение о собственной абсолютной независимости от
философии, а в некоторых случаях также и от практики (коль скоро практика
не может обосновать общие понятия, общие законы, то, значит, их следует
выводить из самой структуры научного знания). Четвертое — это обратное
движение специального знания к философии в рамках уже завоеванной им
предметной самостоятельности298
.
Эти этапы можно проследить на материале различных гуманитарных наук,
хотя их точная хронология и степень выявленности будут весьма
неодинаковыми. Возьмем, к примеру, науку о языке. Она возникает из нужд
переводческой практики и экзегетики (толкования Библии, сравнения ее
текстов на различных языках) и в течение довольно долгого времени
существует в виде совокупности практических приемов и навыков. Затем
298
Казалось бы, второй и четвертый этапы — сопричастность философии — в отличие от первого
(еще-не-включенности) или третьего (уже «исключенности» из философии) тождественны друг
другу. Однако их разделяет третий этап — период выработки и осмысления собственных
имманентных закономерностей научного знания, после которого наука становится «равным
партнером» в диалоге с философией.
257
следует период ее осознания своей сопричастности философским
мировоззренческим представлениям (ср., например, влияние философии
немецкого романтизма и позднее Гегеля на представления о языке как форме
выражения духа народа или же на гумбольдтовскую концепцию речи-языка
как деятельности-результата). Далее идет этап осознания независимости от
философии (младограмматическая фактография) или даже от практики
(ельмслевская глоссематика). И, наконец, нынешний этап характеризуется
новым тяготением к философскому осмыслению после завоевания
предметно-смысловой самостоятельности.
Несомненно, что «освобождение» специальных наук от философии было в
свое время плодотворным шагом в истории познания. Оно позволило новым
областям знания найти свой собственный объект и методы его изучения. В
целом ряде гуманитарных наук поиску самоопределения весьма
способствовал структурный подход к объекту, т. е . попытка ответить на
вопрос «как устроено?» (будь то язык, литературное произведение или
психика) в противоположность причинно детерминистическому вопросу
«чем порождается?», «из чего выводится?». В лингвистике, например,
именно отказ от каузально-генетического рассмотрения объекта,
превращающего язык в побочный продукт логических, психологических,
биологических закономерностей, акцент на внутренней структуре языка, на
внутриязыковых взаимосвязях оказался полезен для ее научного
самоопределения. Причем поначалу исследователям приходилось
отвлекаться здесь от динамики функционирования языка и от его
семантических аспектов и сосредоточиваться на внутренних фонологических
и морфологических структурах. Напротив, на современном этапе
лингвистика в тех или иных формах стремится, сохраняя относительную
строгость первоначальных схем своего объекта, ввести в сферу исследования
и эти некогда исключенные его измерения: смысловые и динамические
аспекты его существования. Важно и другое: после узкопозитивистских
обоснований, в известном смысле тождественных отказу от философии, это
расширение объекта лингвистики неизбежно сопровождается расширением
философского кругозора, и прежде всего — интересом к проблеме языка и
мышления. И такое расширение философского кругозора — не единичный
пример, а скорее общая тенденция.
Для большинства современных гуманитарных наук отпадение от философии
—
это область предыстории. Тем не менее какие-то симптомы сходных по
смыслу процессов обнаруживаются и здесь. Условно говоря, это
«посягательство» специальных наук на некоторые традиционные проблемы
258
философии, и прежде всего—весьма широкий круг проблем, связанных с
анализом сознания, этой исконной привилегией философии299
.
Классическая схема западноевропейской философии, которая нашла свое
наиболее ясное выражение в буржуазном рационализме XVII—XVIII вв., но
скрыто содержалась и подразумевалась в мыслительных процедурах
новоевропейского естествознания, основывалась на ряде необходимых
посылок, выявить которые в их наиболее полном виде мы можем лишь
сегодня300
. Прежде всего это ряд допущений относительно деятельности
сознания как условие познания природы: допущение беспредельной
способности рефлексии (или способности сознательно и в очищенном от
каких-либо случайностей виде воспроизвести любой акт мысли),
принципиальная однородность познающих индивидов в разуме (и отсюда —
единство и непрерывность их опыта об окружающем мире и о внутренних
состояниях собственного сознания) и др. Определенный образ сознания и
определенный образ мира — вселенная как упорядоченное поле процессов,
подчиняющихся предначертанным свыше, но в принципе познаваемым
закономерностям,— неразрывно связаны друг с другом.
В противоположность классическому естествознанию специфика
мыслительной ситуации современных гуманитарных наук заключается не в
том, чтобы через сознание, через определенный образ сознания исследовать
несознание (природу), но в том, чтобы через несознание (через что-то вне, за
пределами сознания находящееся, иначе получится порочный круг)
исследовать сознание. Сама возможность исследовать сознание как объект,
исследовать его специально-научными средствами, возникает где-то на
рубеже веков (разумеется, мы говорим здесь не столько об осознании этого
перелома тем или иным индивидуальным исследователем, сколько об
общетипологических возможностях мысли). Распространенная в западной
буржуазной философии абстракция трансцендентального субъекта,
трансцендентального сознания301 как необъективируемого условия всякого
299
Разумеется, это заимствование проблематики нельзя представить себе так, что какая-то одна,
раз навсегда определенная, предметная делянка распахивается различными концептуальными
орудиями — сначала философскими, а потом специально-научными. Под одним и тем же словом,
одним и тем же понятием — сознание — скрываются подчас весьма различные вещи. Философия
издавна занималась выявлением тех допущений относительно работы сознания, которые
позволяют объективно исследовать природу. Гуманитарные науки превращают сознание из
предпосылки познания в объект познания, а это, в свою очередь, заставляет по-новому ставить
вопрос о тех гносеологических допущениях, которые лежат в основе подобных познавательных
процедур.
300
Мамардашвили М. К ., Соловьев Э. Ю ., Швырев В. С. Классика и современность: Две эпохи в
развитии буржуазной философии. — В кн.: Философия и наука. М.: Наука, 1972,
301
Именно абстракцию трансцендентальной субъективности можно считать главной для
классической буржуазной философии, во многом определяющей ее облик (Декарт, Кант, Гегель).
Это не означает, однако, что абстракция трансцендентальной субъективности была единственно
259
объективирования по определению не может быть опорой гуманитарного
знания: нельзя одновременно и сохранить это необъективируемое условие и
превратить его в объект познания, а в том случае, если необъективируемое
условие не сохранится, придется искать новое условие опыта, и т. д . — в
итоге получится уход в бесконечность. И все эти обстоятельства хорошо
понимали мыслители классической эпохи. Кант, например, считал, что
вследствие запрета на объективацию трансцендентальной субъективности
(или, что для нас в данном случае то же самое, — запрета на объективацию
сознания) психология как наука в собственном смысле слова, т. е .
как теоретическое знание, невозможна.
Именно поэтому возможность самостоятельного развития гуманитарных
наук, для которых исследование сознания становится важнейшей задачей,
совпадает — и в формальном, и в социально-культурном смысле — с
обнаружением факта бытия сознания, того, что сознание не только «сознает»,
мыслит, но и «живет», опосредуется исторически меняющимися условиями
материальной и духовной жизни. Это одновременно и тот рубеж, за которым
становится уже более невозможным чистый гносеологизм классической
буржуазной философии. Наиболее радикальный выход за рамки этого
традиционного философского гносеологизма был дан марксистской
философией — и прежде всего в понятии практики, которая одновременно и
опосредует полюсы субъект-объектного отношения, и выступает как область
предметного обнаружения различных форм и структур человеческого
сознания, давая тем самым возможность объективного научного изучения
человека и человеческого сознания.
Таким образом, Марксова концепция практики означает выход за пределы
«порочного круга» исследования сознания через сознание. Из сказанного не
следует, что сразу и немедленно находятся концептуальные средства для
разрешения ситуации порочного круга и в частных областях познания,
однако если некогда сама возможность этого круга могла остаться
незамеченной, то теперь на его преодоление направляются осознанные
усилия. По-своему пытаются выйти из этой ситуации так называемые
«философии субъективности», которые, используя феноменологические
процедуры, вводят бытие вовнутрь самого сознания, опускаются на
дорефлексивные уровни определения сознания (хотя, по сути, и остаются
внутри анализа сознания через сознание), и некоторые современные частные
науки, которые ищут подход к сознанию извне сознания и, как мы увидим в
дальнейшем, находят его в языке.
возможной опорой классического философствования: например, у Фихте, а позднее у Гуссерля
основополагающей является корреляция субъекта и объекта.
260
Исследование сознания средствами частных наук не только влечет за собою,
но и заранее предполагает как изменения в понимании сознания, так и
достаточную методологическую утонченность самих этих наук. Даже если
поначалу эта утонченность и не проявляется, то на какой-то следующей
стадии, как показывает конкретная история гуманитарного знания, в нем
неизбежно возникает озабоченность методологической сложностью своей
позиции. Как правило, гуманитарные науки весьма чувствительны к
сопоставлениям своего предмета и своих установок как с традиционным
предметом естествознания (причем это может проявляться в самых
различных формах: от стремления к уподоблению до стремления к
размежеванию со всеми промежуточными вариациями), так и с
соответствующими философскими подходами. Таким образом,
исследовательская позиция современных гуманитарных наук расщепляется:
наряду с операциями познания в той или иной предметно-смысловой области
ими осуществляется рефлексия, направленная на свои собственные критерии,
возможности, цели, задачи и, что особенно для нас здесь важно, — на то, как,
где, какими средствами можно познавать сознание.
Эту расщепленность можно обнаружить в весьма различных текстах — и
«канонических», и менее заметных, рядовых. Мы видим ее в работах
«формальной школы», в некоторых направлениях лингвистики — и
структуральных, и более традиционных — у Якобсона и Мукаржовского,
Ельмслева и Бенвениста. Весьма интересна в этом отношении серия трудов
по знаковым системам, издаваемая Тартуским государственным
университетом, и в особенности работы Ю. М . Лотмана: в них отчетливо
отобразился определенный этап в развитии методологического самосознания
гуманитарных наук с их попыткой найти в исследуемом материале такой
срез, который можно было бы анализировать объективными методами и
получать объективно значимые результаты (в данном случае речь идет о
методах структурно-семиотического исследования объекта).
Одна из интересных иллюстраций сложного процесса самоопределения
гуманитарного знания — французский структурализм 60—70-х годов, —
течение, в котором переплетается специально-научное исследование,
использование новых методов анализа в сфере гуманитарного знания, и
вместе с тем философская рефлексия, во многом неадекватная своему
предмету. Структурализм одновременно и принадлежит социально-
культурной истории Франции (и в этой связи выполняет определенную
культурную и даже идеологическую функцию в условиях буржуазного
общества), и отображает общеметодологические интернациональные
закономерности; он близок к нам во времени и вместе с тем относительно
завершен как явление социально-культурного плана (собственно научные
261
тенденции, которые лежат в его основе, не здесь начинаются и не здесь
заканчиваются). Вычленение в структурализме размышлений о собственной
исследовательской позиции обусловлено, по-видимому, двумя причинами.
Первая причина методологическая: поскольку французский структурализм,
по сути, не создал новых методов, но лишь применял «старые» (уже
созданные в структурной лингвистике) методы на новом культурном
материале, постольку у него было больше возможностей для
методологических сопоставлений и выводов. Вторая причина
мировоззренческая: поскольку французский структурализм как социально-
культурное явление был реакцией на исчерпавшие себя субъективистские
философские схемы, постольку ему приходилось доводить до рефлексивной
ясности302 философские вопросы, касающиеся его самоопределения,
например вопрос об объекте гуманитарного знания.
Обращаясь к анализу концепций структурного анализа в различных
предметно-смысловых областях — литературоведении, теоретической
этнографии, психологии, истории знания, мы везде увидим большие
трудности при вычленении собственного объекта. В самом деле, как
построить этот объект? Раз исследование сознания через сознание ведет к
порочному кругу, значит, нужно искать доступ к сознанию в какой-то иной
области, строить для этого исследования иную систему предметно-
смысловых координат303
. В каждой концепции можно найти ключевую
метафору, помогающую (лишь условно) представить исследуемый объект.
Так, для историка науки М. Фуко это «дискурсия», совокупность «речевых»
формаций (в терминологии его главной методологической работы
«Археология знания»), для психоаналитика Ж. Лакана—это «означающее»,
для этнолога К. Леви-Стросса — «символические системы», и пр. Между
всеми этими описательными определениями обнаруживается смысловое
единство. Их общий знаменатель — язык, нечто, связанное с языком или
напоминающее язык в своем функционировании.
Ответить на вопрос, почему именно язык становится «другим объектом»
гуманитарных наук, а также условием единства опыта, не так-то просто.
302
Правда, и здесь эта ясность не всегда достаточна, и часто методологическую позицию автора
приходится реконструировать на основе вкраплений и отступлений в его основных текстах.
303
Иногда структуралисты отказывают сознанию в праве быть объектом гуманитарного знания.
Вспомним известное высказывание К. Леви-Стросса: «...философия слишком долго и успешно
держала гуманитарные науки в порочном кругу, не позволяя сознанию заметить какой-либо
другой объект для изучения, кроме самого себя... Структурализм... стремится раскрыть сознанию
другой объект...» («Мифологики», т. IV, «Нагой человек», с. 653). Условие объективности познания
Леви-Стросс видит в исследовании бессознательных отношений. Поскольку в нашем широком
понимании сознание не противополагается бессознательному, а включает его как один из
модусов своего существования, постольку тезис о сознании как объекте гуманитарных наук
сохраняет свою силу.
262
Конечно, язык— это всеобщий и в каком-то смысле даже «материальный»
аспект культуры, общественного сознания. Именно эта всеобщность
позволяет сопоставлять между собою внешне несходные элементы культуры
и исследовать их сходными средствами (в данном случае — средствами
исследования языка). Следовательно, опора на языковое измерение объекта
дает реальную надежду на радикальное измерение познавательной
установки, при которой не субъект очищается от объекта ради вычленения
всех рефлексивных условий постижения объекта, а, напротив, объект
очищается от субъекта ради вычленения всех нерефлексивных условий
постижения субъекта.
По-видимому, этому изменению обосновывающей схемы познания
способствуют обстоятельства социального и научного порядка, вследствие
которых проблема языка стала одной из самых насущных и злободневных в
современной культуре.
С одной стороны, всеобщий интерес к языку в современной буржуазной
культуре возникает в связи с кризисом общества и его следствием —
кризисом общения, понимания. При этом в концепциях буржуазных
теоретиков следствие, как правило, встает на место причины: антагонизм
классов, классовых позиций и классовых сознаний интерпретируется ими
лишь в терминах кризиса общения как неотлаженность механизма знаково-
символических систем культуры, «прочистка» и «смазка» которых
представляется главной, жизненно важной задачей. Другой аспект этой же
социальной ситуации — это кризисное изменение и переориентация
сознания западной интеллигенции: чем меньше сил для осуществления своей
исконной миссионерской роли она в себе чувствует, чем менее она способна
просвещать массы и вести их за собою, тем больше она замыкается в рамках
языковой практики — работы со словом и понятием7.
7 Весьма показательно, что, например, многие общественные движения во
Франции начала 70-х годов, возникшие как отголосок событий мая 1968 г., а
именно движение за женское равноправие, за демократизацию
университетского и школьного образования и пр., формулируют свои
требования как раз в терминах освобождения языка, обеспечения права
собственной речи, права голоса для тех или иных социальных групп. Это —
политическое требование «свободы слова» в переводе на философский язык.
Кульминационной точкой обожествления социальной роли языка была
программа группы «Тель кель», где «перераспределение символической
собственности», т. е. права владения языком и другими символическими
системами культуры, приравнивалось к собственно социальному
освобождению.
263
С другой стороны, интерес к языку подкрепляется определенными
обстоятельствами научного порядка. И в этой связи язык и философские
проблемы, связанные с его исследованием, привлекают ныне самое серьезное
внимание также и марксистских теоретиков. Главное для нас здесь — это
возможность применения некоторых методов структурной лингвистики на
обширном материале культуры. Эта возможность возникла вследствие
соединения лингвистики с семиотикой и образования единого комплекса
лингво-семиотических исследований, практически воплощающих самое
идею внутреннего родства различных образований культуры, единства
структуры и методов ее исследования.
Однако, быть может, наиболее важен и для самих гуманитарных наук и для
других областей культуры, в частности для философии в некоторых ее
ответвлениях, даже не столько язык как метод, сколько язык как метафора:
языковая проблематика в широком смысле, граничащем с метафорическим.
Традиционное риторическое понятие «метафора» («перенос», например,
перенос свойств с одного объекта на другие) переживает в наши дни свое
возрождение. Оно вышло далеко за рамки эстетических трактатов и стало
употребляться в исследованиях самой науки — этой наиболее строгой
области человеческого духа, а также в исследованиях о науке. Оба эти новые
использования можно объяснить стремлением найти аналог, эквивалент
понятию «модель» для наименее структурированных и наиболее
синкретических разделов гуманитарного знания, а чаще — стремлением
отыскать общие корни научного и художественного сознания, понять их
изначальное единство, не разделенное на специализированные формы.
Причем это осознание метафорических истоков человеческого мышления (не
только в ретроспективе его исторического возникновения, но и в его
современных формах) свидетельствует о все большем распространении
взгляда на мир как единство реальности, т. е . имеет глубокие, можно было бы
сказать, онтологические основания: всякий предмет есть член целостного
единого мира, и потому никакой перенос не может быть переносом в
«чужую» область.
В данном случае приложение к различным областям культуры методов
языкового исследования уже заведомо предполагает понимание культуры как
совокупности языков, а такое понимание в каком-то смысле — метафора.
Речь идет об осмыслений менее известного через более известное, о попытке
понять механизмы функционирования различных областей культуры так,
«как если бы» они были языками (даже если в них начисто отсутствует
собственно языковый слой), о выявлении их дискурсивных механизмов
порождения и передачи смысла, в чем-то подобных языковому.
264
В истории гуманитарных наук такая трактовка механизмов культуры как
особого рода языков и исследование их методами языкового анализа — это
метафора в ряду других метафор. После отпочкования гуманитарных наук от
философии, когда они начали искать образец в смежных, а не
«вышестоящих» дисциплинах, сменилось несколько таких метафор. В
зависимости от того, какой познавательный идеал в то или иное время
господствовал, внимание уделялось какому-то определенному срезу объекта,
его биологическим, психологическим, физическим, социологическим или,
наконец, лингвистическим аспектам. И соответственно, если какой-то срез
или аспект становился заместителем всего объекта, происходила
«биологизация», «психологизация», «физикализация», «социологизация»
этого объекта. Для современного нам этапа такой методологической
возможностью становится использование лингвистических средств в
трактовке культуры (это, разумеется, не должно означать лингвистического
редукционизма).
Эпистемологическая суть метафоризации заключается в исследовании
одного объекта (культуры, сознания) через другой объект (через язык),
средствами исследования этого другого объекта (языка). Иначе говоря,
метафора здесь — это средство проникнуть — косвенным,
опосредствованным путем — в такие культурные содержания, которые либо
вообще недоступны прямой рационализации (например, бессознательное в
психике), либо недоступны рационализации тех относительно высоких
ступеней, где строит свои теоретические процедуры современная наука с
развитым концептуальным аппаратом (например, содержательные
доязыковые предпосылки знания). В этих и подобных случаях уже одна
только презумпция языковости (и тем самым осмысленности) несет большую
смысловую нагрузку и определенным образом направляет исследование. Так,
предположив, что бессознательное — это особого рода язык, мы тем самым
получаем право и возможность «говорить» о нем, познавать его, а не
Просто переживать некоторые бессознательные Содержания или постигать
их интроспекционистскими интуитивистскими методами. Например, тезис
психиатра Лакана о том, что «бессознательное — это язык, бессознательное
структурировано как язык», предполагает, что бессознательное «имеет
значение» и может быть исследовано рациональными средствами,
независимо от того, способны ли мы найти тем или иным его элементам
прямые соответствия во внешней реальности или внутрипсихической
реальности человека. Подобно этому, предположение о «языковости» или,
точнее, «дискурсивности» всех тех слоев культурной почвы, на которой
возникает научное знание, позволяет Фуко — историку науки (он особо
оговаривает, что речь идет не о языке в собственном смысле слова, но о чем-
265
то, находящемся на границе языка) — браться за описание и анализ таких
культурных образований, которые, согласно привычным представлениям,
либо сводимы к теоретическим формам знания в пределе своего развития, т.
е. представляют собою нечто, не имеющее самостоятельного значения, либо
могут вовсе не приниматься во внимание как нечто несущественное.
Вместе с тем попытка рационализировать нерациональные содержания
сознания через уподобление их языковым ставит больше вопросов, нежели
решает. В какой мере достигаемое при этом прояснение можно считать
познанием? Каковы критерии и нормы верификации такого знания? Или,
быть может, и в самом деле нужно признать, что перед нами либо
«донаучный» этап в развитии знания, либо самостоятельный тип знания,
несводимый к научному даже в пределе своего развития? И в том и в другом
случае существующие и действующие критерии собственно научного типа
неприменимы. Во всяком случае очень часто получается так, что
метафоричность понятий, применяемых для рационализации
бессознательных содержаний, не позволяет проверить надежность
познавательных операций, соответствие метода объекту, величину зазора
между тем, что в объекте существует независимо от налагаемой на него сетки
понятий, и тем, что как бы «порождается» самой этой сеткой. Вследствие
этого возникают различные познавательные затруднения. Можно выделить
их основные типы.
Во-первых, это возможность априорной подгонки объекта под метод.
Известно, сколько споров среди специалистов-этнографов и среди
философов породило использование у Леви-Стросса бинарной оппозиции
«природа — культура» применительно к первобытному мышлению. В какой
мере оппозиция, значимая для новоевропейского сознания, значима и для
мышления туземцев? Казалось бы, полевые исследования показывают, что
туземцы иначе проводят границу между «природным» и «культурным», что
для них «природные» явления — это дело рук человеческих, и, наоборот, —
сотворенное кажется от века и естественно заданным? Другой спорный
вопрос касается уже не содержательных расчленений объекта, но опорной
для структурного анализа процедуры — самого вычленения бинарных
оппозиций. Не свидетельствуют ли те же полевые исследования о том, что
для мышления туземца характерен не столько бинаризм, сколько
триадические расчленения познавательных ситуаций? А если даже
допустить, как это делает Леви-Стросс, что любая триада в принципе
сводима к бинарной оппозиции и может быть представлена через нее, то все
равно открытым остается вопрос о том, насколько исконным для
функционирования человеческого сознания является принцип бинарного
расчленения (по-видимому, исчерпывающего доказательства бинарности
266
нельзя в данный момент привести ни на нейро-физиологическом, ни на
психологическом уровне), можно ли считать его универсальным. Таким
образом, ситуация остается непрояснённой: структурная методология,
порожденная европейской наукой XX в., применяется на объектах из другого
культурного ареала, оказывается (априори?) их существенной чертой, и в
этом усматривается доказательство универсальности метода, хотя мы не
можем ни убедительно подтвердить, ни исчерпывающим образом
опровергнуть правомерность этой операции.
Во-вторых, это, напротив, сопротивление материала используемому методу,
образование нерационального остатка, не охватываемого никакими
научными методами Это происходит, как правило, там, где содержания с
трудом поддаются расчленению и имеют тенденцию к образованию
неинтерпретируемых «сращений», «сгущений» и пр. Например, рассматривая
лакановскую попытку рационализировать бессознательное в
психотерапевтической ситуации, мы сталкиваемся с тем, что допущение
«языковости», осмысленности бессознательного само по себе вовсе
недостаточно для того, чтобы представить иррациональные содержаний в
умопостигаемом виде. За порогом такой интеллектуализации
бессознательного остается, в частности, все то, что связано с
аффективностью, эмоциями, а их роль в психиатрической практике
чрезвычайно велика. При этом пробелы в интеллектуальном понимании
бессознательного заполняются в этом случае образами экзистенциалистско-
феноменологической традиции, которая, как известно, исключает и само
бессознательное и какие-либо попытки его рационализировать. (У Лакана
таков, например, образ Смерти как высшего смысла человеческого
существования: он не поддается никаким рационализациям, но сам влияет на
смысл и ход рациональных процедур, затушевывая или даже сводя их на
нет.) Неожиданные проявления мистицизма и иррационализма возникают и в
других концепциях при анализе другого материала, и это вряд ли можно
считать случайностью.
В-третьих, это деформации метода в столкновении с объектом. Когда Леви-
Стросс в своих ранних работах размышлял о применении структурного
метода в исследовании терминов родства и других сторон первобытной
культуры, он особо подчеркивал, что исследовать при этом нужно
«гомологичные отношения». В его терминологии это означало, что
мельчайшая клетка исследуемого объекта должна включать как минимум
отношение двух отношений, например отношение одного термина родства и
соответствующего ему поведенческого акта к другому термину родства и
соответствующему ему поведенческому акту, или, иначе говоря, смысл того
или иного элемента возникает и может быть исследован лишь в двоякой
267
отнесенности этого элемента — к смежным с ним явлениям того же самого
ряда и к интерпретирующим его явлениям другого ряда. В этом, по-
видимому, и заключается «языковость» культурных явлений. Характерно
здесь само наличие как минимум двух уровней—таких, что элементы одного
из них служат для интерпретации другого, — а также то обстоятельство, что
возникновение и передача смысла рассматриваются как результат
многосторонних взаимодействий (а не как само по себе значимое
божественное откровение).
Вот эти-то минимальные условия языковости, и особенно первое, нередко
оказываются нарушенными в процессе рационализации объекта через язык.
В самом деле, поскольку найти содержательную интерпретацию для таких
уровней и областей, которые не имеют четкой предметной структуры, далеко
не просто, постольку в рассматриваемых нами концепциях иногда
происходит «вырождение» языковости при столкновении объекта и метода:
на месте двуединства формального и содержательного аспектов языка
остается лишь принцип его формальной расчлененности. Так, признавая
бессознательное языком, но не находя для него общезначимой
содержательной интерпретации, Лакан поясняет свой принцип языковости
бессознательного таким способом, который, по сути, подрывает этот
принцип. Уравнение бессознательного и языка сводится к уравнению
бессознательного и означающего (т. е . языка, взятого только в его
формальной проекции). Вслед за этой подстановкой начинаются
теоретически неразрешимые трудности: если анализ бессознательного — это
распутывание линейных цепей означающего, то каким образом такой анализ
может помочь восстановить, перестроить и вернуть больному его
человеческий, т. е . целостный, облик? По сути, эта и подобные ей ситуации
содержат скрытый парадокс: чем больше язык «похож» на бессознательное,
тем больше он теряет ту свою исходную определенность, которая
оправдывала первоначальное уподобление явлений культуры языковым
явлениям.
Таким образом, метод ломается от столкновения с объектом: рационализация
иррационального и внерационального с помощью метафорического переноса
свойств языка на рассматриваемый объект представляется весьма
проблематичной. Незыблемым остается лишь ее общий смысл: критический
заряд, направленный против мистицизма и интроспекционизма, против
субъективистского порочного круга исследования сознания через сознание. В
самом деле, хотя структуралистский путь преодоления порочного круга
«сознание через сознание» объективнее экзистенциалистского или
феноменологического пути, он все равно не дает нам того решительного
прорыва к объективности, без которого научность гуманитарного знания
268
остается под вопросом. Подобно тому как философы-субъективисты,
несмотря на все попытки выйти к дорефлексивным уровням и ввести бытие в
сознание, остались в кругу сознания через сознание, так структуралисты,
несмотря на все попытки снабдить исследование той объективностью,
которая добывается при рассмотрении его языковых определений, остаются в
порочном кругу — «язык через язык». Реальное разрешение возникающего
здесь комплекса философских проблем, предлагаемое в работах философов-
марксистов (назовем здесь в первую очередь работы Э. В . Ильенкова и М. К .
Мамардашвили), требует исследования сознания как объективного, хотя и
идеального продукта функционирования социально-экономических систем и
соответственно разработки концептуального аппарата такого исследования.
Даже эти немногие примеры показывают, насколько важные философские,
теоретико-методологические вопросы возникают и перед самими
исследователями, и перед методологом, изучающим эти концепции с точки
зрения специфики решаемых ими задач и средств их решения.
Методологические сложности, выявляющиеся в процессе рационализации
содержаний культуры средствами языка, заставляют задуматься над
новизной той познавательной ситуации, в которой находится ныне
гуманитарное знание.
Проблемы, которые при этом возникают, можно было бы назвать
проблемами поиска новых способов обоснования знания, которое
осуществлялось бы в самом специально-научном знании и весьма отличалось
бы от способов обоснования, принятых в классическом рационализме.
(Разумеется, говорить об обосновании здесь можно лишь условно, за
неимением лучшего термина, поскольку имеются в виду не выявление
незыблемых априорных формальных оснований, предсуществующих любому
познавательному акту и в известной мере предопределяющих этот акт, но,
если угодно, об обосновании как итоге и пределе мыслительных операций,
учитывающих все многообразие социально-культурных содержательных
опосредствований познания.) Проблема языка оказывается ставкой и
пробным камнем этого искомого нового рационализма: от ее разработки во
многом зависит, насколько жизнеспособной окажется в конечном счете
попытка обосновать объективность научного знания не на
трансцендентальном субъекте, а на лишенной центра и какой бы то и было
предзаданной иерархичности сетке языковых взаимодействий.
Отсюда весьма важный для конкретного анализа и методологической работы
вывод: исследование нижних этажей структуры научного знания (здесь
следы конкретно-исторических взаимодействий видны четче, нежели на
верхних его этажах), исследование уровней знания с несложившейся или
неокончательно сложившейся предметно-смысловой структурой, с
269
доконцептуальными смысловыми элементами столь же значимо при анализе
исторически меняющихся критериев теоретического знания, как и
исследование других его аспектов. Причем исследование низких уровней
формализованности и структурированности знания существенно не только
для гуманитарных, но также и для естественных наук. Именно на этих слабо
формализованных уровнях можно (как это делает, например, Фуко в
«Археологии знания») ставить проблему генезиса научных понятий; в свою
очередь исследование этой проблемы необходимо при переходе от анализа
готовых структур знания к анализу различных аспектов его динамики —
возникновения, функционирования, развития, проработки или отбрасывания
в ходе этого развития тех или иных возможностей, тех или иных понятийных
или допонятийных альтернатив. Далее, из равноправия различных слоев,
уровней, образований в структуре научного знания вытекает и другая важная
и для ученого, и для эпистемолога проблема — проблема принципиальной
многослойности науки как системы, требующая одновременно учитывать
самые различные факторы ее существования и функционирования в их
нередуцируемом к простым и исходным принципам единстве.
В обоих этих случаях тезис о языковом характере рассматриваемого объекта
или какого-то его уровня облегчает путь исследователя. Так, при
рассмотрении неформализуемых уровней структуры научного знания он
вооружает исследователя презумпцией структурированности и
осмысленности этих уровней объекта, а при анализе многослойности науки
позволяет как-то соизмерять и сопоставлять между собою ее различные слои
и уровни, подготавливая почву для последующего синтеза. Вместе с тем эти-
то самые синтезирующие функции языковая проблематика и неспособна
выполнять. Даже в тех случаях, когда язык используется с какой-то общей
целью (например, в рассматриваемом материале он служит средством
рационализации иррациональных и внерациональных содержаний культуры),
языковая проблематика все равно не образует органического единства: в
данном случае она распадается на столь различные части, как проблема
использования лингвистической методологии в узком смысле слова и
проблема языка в широком, метафорическом смысле слова. Еще очевиднее
становится это доходящее до взаимоисключения разнообразие языковых
функций при взгляде — пусть самом беглом — па реальную ситуацию
осмысления языка в культуре. Формализующая функция языка (языки
математики) сосуществует здесь с онтологической, методологическая
(перенос методологии мы видели в представленном здесь материале) — с
социологической, и т. д . и т . п. Всеобщий интерес к проблематике языка в
культуре еще не создает, однако, содержательной общности
рассматриваемых здесь нами вопросов. В применении к представленному
здесь материалу это означает, в частности, что языковая проблематика «не
270
все может»: что она выявляет пути аналитического расчленения, но в ней
вряд ли можно увидеть ту работу синтезирования, без которой говорить хотя
бы о частичном воплощении замыслов нового обоснования знания было бы
преждевременно.
Таким образом, как подчеркивает марксистско-ленинская философия,
отношения между философией вообще, теорией познания как ее частью и
наукой ни в коей мере не предзаданы наперед так, что одна из сторон этого
отношения была бы господствующей и определяющей, а другая (или другие)
подчиненной и вторичной. Отношения этих форм мысли, форм культуры
пронизаны живым напряжением и, следовательно, строятся не на принципе
иерархического подчинения, но на необходимости уяснения их места в
контексте соседствующих и равноправных мыслительных форм. Философия
в целом обнаруживает, что она не дает предельных оснований всего и вся, по
сама, в свою очередь, опирается на ту или иную общекультурную
концептуально-мировоззренческую схему. Теория познания осознает себя
как одну из форм философствования в контексте культуры (наряду с
этической, эстетической, а также спонтанно возникающей в науке), а не как
обладательницу исключительных привилегий. Специальные науки (в нашем
примере гуманитарные) оказываются одной из мало исследованных областей
реального бытия философии, тем материалом, в котором осуществляется
процесс философствования как неотъемлемая часть общего культурного
процесса, той областью, в которой закрепляется, раскрывается и развивается
новый стиль отношений между философским и специально-научным
знанием.
Все это означает, что не только философская рефлексия определенным
образом влияет па постановку специально-научных проблем, но и
специальные науки обогащают философские понятия новыми смыслами,
вносят в теоретико-познавательную проблематику тот или иной
содержательный акцент, обусловленный спецификой определенного
исторического периода развития знания. Таким образом, анализируя историю
познания, мы замечаем, что философия обогащает самое себя наукой — тем,
что некогда от нее отделилось, чтобы приобрести теоретическую
самостоятельность. В самом деле, наиболее сильное, хотя всегда косвенное,
опосредованное общими мыслительными структурами той или иной эпохи,
ее концептуально-мировоззренческими схемами влияние на философию
каждый раз оказывали те науки, которые, во-первых, достигали к
рассматриваемому историческому моменту наиболее впечатляющих успехов
и, во-вторых, были способны поставить наиболее серьезные, глубокие,
сложные проблемы. Так, в XVII в. это была механика, в XVIII—XX вв.—
физика и химия, затем биология и генетика. Ныне такой «горячей» точкой
271
проблемных напряжений становится лингвистика, впервые в истории
гуманитарных наук достигшая впечатляюще точного знания и поставившая
тем самым множество проблем. Чем строже была рациональная модель ее
объекта, тем очевиднее становилось, что за рамками этой точности остается
бездна неточного, за рамками формализуемого — много неформализуемого,
неосмысляемого, хотя и существенного для языка, выражаемого в языке,
влияющего на его функционирование. Именно эта очевидная
неоднозначность процессов рационализации в культуре и объясняет нам,
почему успехи лингвистики определенным образом повлияли на
философский поиск дорефлексивных условий языка, сознания, культуры.
(Этот момент нам бы особенно хотелось подчеркнуть: именно в тех областях,
где, казалось бы, достигнута наибольшая научная строгость, наиболее
отчетливо выражается и то, что можно было бы назвать «сопротивлением
материала», иррациональной свободой неподдающихся рациональному
схватыванию содержаний.) Однако затем этот поиск, эти задачи, выведенные
философией на ступень концептуальной ясности (ясности наличия проблем,
но вовсе не обязательно их решения), вновь растекаются по всем уголкам
проблемного поля культуры, вновь подхватываются специально-научным
знанием, которое как-то решает их на своем собственном уровне, своими
средствами и вновь обнаруживает тяготение к широте философских
смысловых горизонтов, и т. д . и т. п .
Процесс отпадения от философии тех или иных областей знания и обратного
их к ней тяготения, сопровождающегося попытками самостоятельно ставить
и решать не только узкопрофессиональные, но также общеметодологические,
теоретико-познавательные проблемы, продолжается и поныне и, вероятно,
будет продолжаться и в дальнейшем. Осмысление этого процесса для пас
весьма существенно, поскольку взаимоотношения науки и философии — это
осевая линия культурной традиции, и логика этого процесса во многом
определяет логику развития, культуры.
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА
(критико-теоретический очерк)
И. П. ФАРМАН
Познание и искусство
Теория познания, исследующая процесс получения истинного знания, имеет
сложную структуру: являясь наукой о всеобщих связях и закономерностях
человеческого познания, она опирается па специальное знание, на результаты
науки и культурные достижения как необходимые составные части познания,
272
аккумулируя самые разные содержания, выраженные в самых разных
формах.
В современном обществе, когда наука и техника приобретают все большее
значение в качестве определяющего фактора общественного развития,
постоянно возрастает роль научного знания. Будучи рациональной формой
познания, оно становится необходимостью и не только открывает
неограниченные перспективы развития цивилизации, но и на основе
рационального подхода решает проблему выбора пути, по которому она
может пойти, определяет ее возможности, конкретизирует цели,
разрабатывает средства и методы их достижения. Все это дает основание для
широко распространенного в настоящее время утверждения о том, что роль
научных методов познания стала доминирующей. Вместе с тем следует
иметь в виду, что наука в своих основных тенденциях развития опирается на
то, что называется веками сложившейся культурой, на ее гуманистические
традиции и идеалы, которые, несмотря на постоянно происходящую
переоценку, всегда были ориентированы на человека. Наряду с
общественными теориями немалую роль в этом сыграло и искусство.
Начиная с древнейших времен, человек и мир человека были в центре
произведений искусства. Глубокое понимание того, что именно человек, его
потребности, стремления и чаяния должны являться главным смыслом и
целью всего общественного развития, выражение высоких нравственных и
духовных ценностей человеческой личности составляют смысл великих
творений, имеющих непреходящее, общечеловеческое значение. Они
утверждают жизненную силу гуманистических и революционных идей,
имеющих решающее влияние на судьбы всего человечества.
Марксистско-ленинская философия как мировоззрение и методология
познания рассматривает создаваемые наукой и техникой материальные
ценности не как исчерпывающую цель и конечный смысл бытия, а как
необходимое условие истинно человеческого существования. Коммунизм, т.
е. реальный гуманизм, по определению К. Маркса, предполагает «развитие
богатства человеческой природы как самоцель»; этот идеал осуществляется
в процессе борьбы и общественно-практической деятельности, конечный
смысл которой — «возвращение человека к самому себе как
человеку общественному, т. е . человечному»304
.
Ввиду этого совершенно закономерно, что по мере движения нашего
общества вперед будет повышаться значение нравственных начал и
эстетических потребностей, а следовательно, и искусства, его духовного и
нравственного богатства, которое будет играть все более существенную роль
304
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 26, ч. II, с. 123; т. 42, с. 116 .
273
в духовной жизни общества. Это — объективный процесс, и потому
современное научно-техническое развитие не только не снимает постановку
вопроса о значении искусства, но, напротив, благодаря своим все
увеличивающимся познавательным возможностям во многом способствует
расширению и действенности всех его функций — эстетической,
гносеологической и социальной, — а это, в свою очередь, ставит новые
задачи по освоению художественной мысли и методов художественного
познания.
Для гносеологии как теории, ориентирующейся прежде всего на анализ
познавательных способностей человека в их синтезе и выявление характера
их всеобщих соотношений, важно исследование всех способов познания, их
взаимодействия, изменения и развития, так как только при этом условии она
может успешно выполнить свое назначение — служить теоретической
основой для осознания уровня материального и духовного общественного
развития и указывать перспективные пути познания.
Руководствуясь ленинской теорией отражения как методологической
основой осмысления и научного освещения закономерностей развития
искусства и закономерностей художественного творчества как процесса,
марксистско-ленинская философия рассматривает искусство как особую
форму отражения действительности, а также как форму общественного
сознания, основным содержанием которой является отражение эстетического
отношения человека к миру. Искусство понимается как широкая сфера
познания, познания мира и человека, и прежде всего потому, что оно
представляет собой особый вид жизненного человеческого опыта, которой
осваивается и передается из поколения в поколение, особое видение мира и
мироощущение, в котором раскрывается диалектика отношений человека и
среды и «диалектика души» самого человека.
Посредством типизации, обобщения характернейших черт отображаемого
явления — одного из главных методов художественного познания —
искусство способно выразить закономерное, общее, уловить «связь времен»
и в то же время благодаря веками сложившемуся образному языку передать
все богатство проявлений отдельного, особенного. В своих высших
достижениях искусство представляет не только образцы художественного
стиля определенной культурно-исторической эпохи, но и характерные черты
самой эпохи, ее смысл и специфику, так что содержание, которое оно несет,
приобретает объективную значимость, а идейный смысл —
значение истины. Вполне правомерна поэтому по отношению к искусству
постановка вопросов о соотношении истины и достоверности,
художественной правды в искусстве, о рассмотрении искусства как
274
познавательного процесса и др., которые являются предметом исследования
как специальных искусствоведческих наук, так и эстетики.
Диалектико-материалистический подход к пониманию искусства как
эстетического освоения человеком действительности учитывает сложную
связь эстетического и мировоззренческого аспектов, требует всестороннего
рассмотрения субъектно-объектных отношений в искусстве, являющихся
единством субъективного (восприятия художника) и объективного
(отражения объективной реальности). Специфика искусства, состоящая в
том, что содержательный смысл и эстетическая оценка в нем нераздельны,
устанавливает определенную зависимость познавательных возможностей
художника, глубины постижения им сущности явлений, отображаемых в
художественном творчестве, от его мировоззрения, идейной и социальной
позиции. Мировоззрение же — это не только индивидуальное, но и классовое
образование. Следовательно, уровень понимания и освоения
действительности, степень объективности в искусстве зависят и от классовой
позиции, и художественное произведение может оцениваться с точки зрения
соответствия воплощенного в нем содержания мировоззрению того или
иного класса. Исторический опыт убеждает нас в том, что только с позиций
передового класса возможно осмысление, адекватное реальным
закономерностям общественного развития, и что только при условии
совпадения идейной направленности произведения с идеологическими
устремлениями этого класса искусство достигает своего высшего смысла —
утверждает передовые, способствующие прогрессу человечества идеи
посредством неотъемлемой части мировоззрения — эстетического идеала как
диалектического единства истины и красоты.
Специфика искусства такова, что идея выступает в нем не в чистом виде, как,
скажем, в общественной теории, а в художественной форме: только
«образное содержание художественного произведения может быть носителем
его идейного содержания»305
. Более того, образы, несущие идейно-
художественное содержание, неизбежно включают в себя и оценку этого
содержания субъектом (художником), причем не в качестве какого-то
дополнения, а как неотъемлемый компонент отображения. Ценностный
подход в искусстве опирается на практику — основу процесса познания — и
посредством ценностных характеристик, представлений и т. п . служит
раскрытию соотношения эстетического идеала и действительности,
соотношения гносеологического (истина), эстетического (красота) и
аксиологического (добро).
305
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1946, с. 364.
275
Диалектико-материалистическое истолкование искусства учитывает эту
сложную структуру искусства и освещает во взаимосвязи, как
«взаимопроницаемые сферы» (выражение К. Маркса), важнейшие его
аспекты, не допуская абсолютизации ни одного из них. То же самое можно
сказать и по отношению к идейному содержанию и форме — разным, но тем
не менее тесно связанным между собой сторонам единого процесса
отражения жизни искусством. Будучи само целостным идейно-
художественным явлением, искусство отображает и жизнь как целостность в
общезначимых ее проявлениях посредством художественности, т. е .
благодаря целой системе художественных средств: метода, художественного
образа и самых разных его модификаций, а также сюжета, языка и др., если
речь идет о литературе. Вся эта сложная определяющая стиль художника
структура, взятая в целом, и обеспечивает как образное исследование,
направленное на определенный объект, так и выражение его в чувственно-
конкретной, наглядной форме.
Специфика искусства как особого способа осмысления и познания
действительности служит подчас основанием для принципиального
разделения и противопоставления научного и художественного познания в
современной буржуазной философии и эстетике. Такая постановка вопроса
представляется нам неверной по существу.
Связь художественного мышления с научным, понятийным, логическим
была подчеркнута еще в гегелевском определении искусства как средства,
которое призвано заполнить разрыв между духом и чувственно-осязаемой
материей. Развивая идею о качественном отличии искусства от других форм
общественного сознания, он рассматривает его как «мост», соединяющий
действительность с логикой и абстракцией, но не являющийся ни тем, ни
другим. Такое понимание искусства основано на диалектическом
осмыслении прежде всего самого творческого процесса, в котором эта
специфика наглядно проявляется.
Так, классическое положение о том, что «искусство не требует признания его
произведений за действительность»306
, ведет к утверждению, что искусство,
не подменяя реальность, строит свой мир, который не является ни
механически-фотографическим, ни натуралистическим воспроизведением
жизни, а представляет собой продукт творческого воображения
субъекта (художника), т. е . нечто идеальное, основанное на отражении
объективной действительности и овеществленное в процессе творчества
в объекте — художественном произведении. В материальной форме оно
продолжает существовать независимо от своего создателя, однако с
306
Ленин В. П. Полн. собр. соч., т. 29, с. 53.
276
необходимостью предполагает наличие воспринимающего субъекта, в
процессе взаимодействия с которым только и могут осуществиться его
различные функции как произведения искусства: эстетическая,
познавательная, воспитательная, коммуникативная и др.
К художественному мышлению, несмотря на его специфику, полностью
применимо ленинское определение основных ступеней развития познания: от
живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике. Как и
всякое познание, оно начинается с восприятия окружающего мира, но уже на
этой стадии имеет свои особенности. Процесс восприятия у художника очень
сложен и требует большого эмоционального напряжения;
он определенным образом направлен (задан), подчинен условиям
изображения действительности и преобразован в соответствии с ними307
.
Чувственная ступень познания имеет особенно важное значение для
художника, поскольку именно на этой стадии явления объективного мира
охватываются в чувственно-конкретной форме, которая сохраняется у
художника в виде представления и затем воспроизводится в искусстве в
формах самой жизни. Созерцание художника не пассивно, оно предполагает
активную работу мысли по отбору фактов, выделение организующих
моментов на основе профессионального опыта, практики художника, что
позволяет охватывать те стороны явлений, в которых выражена сущность308
.
Проблема соотношения гносеологического и эстетического в «критической»
гносеологии
Проблема отражения объективной реальности в искусстве, начиная с теории
подражания Аристотеля до многочисленных современных концепций, была
и остается главной философско-эстетической проблемой. Если в
марксистской философии она анализируется с диалектических позиций, то в
буржуазной философии и эстетике преобладает тенденция, узаконивающая
отрыв искусства от реальности. В литературе отмечалось, что «хотя и не все
буржуазные теоретики отрицают связь искусства с реальностью, однако эта
тенденция является главенствующей», к тому же некоторые из них, даже
признавая наличие такой связи, основываются «на идеалистическом
понимании самой реальности»309
. Такая позиция ведет к противопоставлению
познавательных методов (понятийного мышления) художественным методам
освоения действительности.
В современной буржуазной философии существуют самые различные
интерпретации искусства, в которых его оценка далеко не однозначна: так, в
307
См.: Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1957, с. 576.
308
См.: Органова О. Н . Специфика эстетического восприятия. М., 1975, с. 80-82 .
309
Леонтьева Э. В. Искусство и реальность. М., 1972, с. 58.
277
одних искусство рассматривается как более сущностное и более реальное,
чем само реальное бытие, т. е . рассматривается как новый вид реальности; в
других выражается негативное отношение к ценностям искусства и культуры
(впрочем, эти две стороны могут сосуществовать друг с другом).
Существуют позитивистские концепции искусства, умаляющие его значение
как творческого метода, и не позитивистские, утверждающие превосходство
искусства как средства интуитивного знания над наукой и выдающие его за
новую религию; определенные позиции занимает теологическая теория
искусства, в которой последнее рассматривается как способ нравственного
совершенствования и приравнивается к религии, и т. д . Ярким
свидетельством проявления духовного кризиса буржуазного мира являются
концепции антинауки и антикультуры, пытающиеся дать обобщение
развития современной мысли с позиций культурной катастрофы.
Большинство этих концепций эклектично и построено на сочетании
формалистических, натуралистических, интуитивистских, мистических и
других элементов. Проблема соотношения научного и художественного
познания в этих концепциях гипертрофировапа.
Подобные интерпретации широко используются в современной борьбе идей
и мировоззрений, поэтому критический анализ их с марксистских позиций
продолжает оставаться актуальной задачей. В связи с этим нам
представляется целесообразным выявление одной из актуальных тенденций
эволюции идеалистической гносеологии, идущей от Канта310 и
проявляющейся в том, что поиски решения ею познавательных проблем, как
в чисто теоретическом плане, так и в различных контекстах социальных
учений у самых разных буржуазных философов, переносятся с почвы науки в
310
И. Канта с его учением об антиномиях и противоречивой природе наших понятий, знания вообще В. Ф .
Асмус назвал основателем направления «критической» гносеологии (см.: Асмус В. Ф. Диалектика
в философии Канта. — Избр. философские труды. М ., 1971, т. II, с. 65). К этому направлению могут
быть отнесены многие последующие концепции буржуазной философии, однако при этом следует
иметь в виду, что «продолжатели» Канта допускали одностороннее толкование его теории
познания и, игнорируя положительные итоги рассмотрения им диалектики мышления,
абсолютизировали те моменты, где понятие диалектики уже чисто отрицательное. Аналогичным
образом было истолковано и кантовское учение об эстетическом суждении. Если у самого Канта
оно рассматривалось как претендующее на общезначимость наряду с логическим и моральным
суждениями, то последующие учения — И. Ф. Гербарта, Э. Гартмана, Б. Кроче, логического
позитивизма, современной аксиологии — стали противопоставлять эстетические и моральные
суждения логическим, пытаясь обосновать разделение наук на естественные (о бытии, о природе)
и науки об обществе («культуроведение», наука о ценностях В. Виндельбанда и Г. Риккерта).
Ассоциирующийся с «критической философией» и антисциентизмом термин «критическая»
гносеология вполне употребим, на наш взгляд, по отношению к теоретико-познавательному
содержанию рассматриваемых ниже концепций, варьирующих кантовские ключевые позиции, —
о «непохожести» бытия и мышления, о независимости мышления от действительности, о
возможности познания не самих вещей, а только их явлений, противопоставление теоретического
и практического разума, и пр.
278
другие, ненаучные области, в частности в область искусства и эстетического
осмысления действительности, и этим последним придаются особые
теоретико-познавательные функции моделей знания.
Эта имеющая глубокие корни в истории философии тенденция развивалась в
течение XIX—XX вв. в общем русле идеалистической иррационалистической
философии и философии культуры, в разного рода «критических», а по сути
нигилистических концепциях — от Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра, С.
Кьеркегора и Ф. Ницше, феноменологии и экзистенциализма Э. Гуссерля, М.
Хайдеггера, К. Ясперса и др., где философско-эстетическая проблематика
доминирует, до «негативной диалектики» представителей Франкфуртской
школы, «новой критики» и культурологической модели знания французских
структуралистов Р. Барта, М. Фуко и др., включая отчасти самые новейшие
варианты «критической теории» познания Г. Альберта и др.
311
Речь, таким
образом, идет о замене научных, рациональных методов познания методами
ненаучными, что, согласно утверждениям сторонников этой тенденции,
приведет к новым результатам, обогатит структуру философского знания —
особенно это относится к области предвидения — и определенным образом
укрепит общегносеологические позиции в социальном прогнозировании.
Не являясь в целом агностическими и в принципе не отрицая познаваемость
мира, эти концепции подвергают критике материалистическую теорию
познания, называя ее «традиционной», «догматической»,
«узкогносеологической», и якобы с целью преодоления этого догматизма
выдвигают в качестве нового познавательного ориентира одну из поистине
вечно возвращающихся идей: от гносеологии — к искусству, от
гносеологического — к эстетическому, что предполагает принципиальное
изменение направленности познавательного процесса и в итоге — переход от
теории познания к эстетической теории.
Такая направленность обусловливает и соответствующий выбор
познавательных актов: превозносятся эстетические способы освоения
действительности, при этом возрождаются многие имеющие давние
традиции приемы и методы идеалистической гносеологии с целью
установления между ними новых соотношений, создания с их помощью
новых теорий. Характерно, что в состав ориентирующихся на искусство
теоретико-познавательных схем в качестве постоянно функционирующих
основных положений входят такие приемы, как критика познавательных
способностей интеллекта и науки; отказ от возможности теоретического
познания мира; противопоставление разума, рассматриваемого лишь как
311
Критический анализ этого направления см. в работах Т. Шварца. К . М. Делгова, П. П . Гайденко,
Ю, Н. Давыдова, А. В. Михайлова и др.
279
орудие практического действия («инструментального разума»), интуиции
(«созерцанию», «откровению», «высветлению» и т. п .) как независимой от
бытия и практической деятельности; обращение к психоанализу, к
антропологическим концепциям;
внимание к областям гуманитарного знания и культуре как особому
смысловому измерению человеческой деятельности, как отражению
индивидуального видения, которое не может быть выражено в сфере науки и
техники; преувеличение роли истолкования в процессе познания, обращение
в этой связи к герменевтике, лингвистике, структурному анализу и т. д . и
рассмотрение их как определенных моделей знания; и др.
Особенно широко эти приемы варьируются в современных концепциях
буржуазной философии, где в разных сочетаниях под видом выработки
«комплексной» программы знания, достижения «сущностного» знания и т. д .
они выдаются за качественно новые методы познания,
Анализ этих концепций с марксистских позиций показывает, что подобные
новации затрагивают самые основы теории познания и в действительности
направлены не на выработку положительной программы знания, а на
вытеснение традиционного философского теоретико-познавательного
аппарата и его основы основ — важнейших понятий и категорий,
ассоциирующихся с научным знанием, что практически ведет к отказу от
изучения объективных закономерностей развития человека и общества.
Разумеется, формы, которые принимает «критическая» гносеология в этих
многочисленных философских построениях, различны, как различны и
мотивационные факторы, побуждающие буржуазных философов
преподносить все новые версии «критики» теории познания, однако нас
будет интересовать прежде всего не их специфика, а выявление
определяющей уровень теоретизирования и единство развиваемых
концепций общей закономерности и методологической основы, которые
позволяют отнести эти разные концепции к одному направлению.
Соответственно и в обращении «критической» гносеологии к искусству,
также содержащем самые различные проблемные постановки, нам важно
прежде всего раскрыть обоснование предложенного изменения
направленности познавательного процесса в целом и показать принципы
включения художественного познания в контекст философской
общегносеологической проблематики.
В отличие от ориентирующейся на научное знание материалистической
философии с ее объективным, детерминистическим пониманием бытия,
«критическая» гносеология исходит из общеметодологического принципа —
«критицизма» по отношению к теории научного метода —
280
материалистической диалектике и теории познания, имеющим дело с
научными утверждениями и разработкой концепции научного знания. Этот
«критицизм» можно рассматривать как одну из ферм проявления
антисциентистского мировоззрения, отражающего особенности
общественного развития и свидетельствующего о связях этой философии с
кризисной социальной действительностью:
кризис социально-практической деятельности человека побуждает
буржуазных философов к пересмотру не только содержания философских
рационалистических концепций действительности и социального
прогнозирования, но и методов их построения, когда подвергаются
сомнению сами принципы подхода к анализу действительности в процессе
познания, когда рационалистическая формула «все должно быть подвергнуто
критике и анализу с точки зрения начал разума» перевертывается таким
образом, что предметом критики — а часто и отрицания — оказывается «все,
созданное с точки зрения начал разума», и в том числе — накопленное
философское теоретическое знание и результаты духовной культуры.
Одной из первых систем, в которых ограничивается роль разума, явилась
система Ф. Шеллинга. Сама основа мира объявляется в ней бессознательной
и представляющей собой нечто невыразимое, иррациональное, которое
может быть воспринято только с помощью чувств и которое определяется
через заимствованное у Бёме понятие «ничто». С целью объяснения единства
мира у Шеллинга одухотворяется сама природа; дух рассматривается в
качестве носителя принципа жизненности, а история природы — как ряд
последовательных ступеней развития духа. Так намечается становящаяся в
дальнейшем характерной для «критической» гносеологии тенденция, когда
самый объект познания — реальное бытие, пусть даже в виде непознаваемых
кантовских ноуменов, — подменяется противоположным по смыслу
объектом, означающим нечто не-явное, для познания которого рациональные
методы оказываются неприемлемыми.
Речь идет уже не о «непохожести» мышления и бытия и методах познания
последнего (это априори постулируется), а о постижении этого не-явного,
под которым подразумевается сущность мира и которое фигурирует в
последующих системах под разными названиями: у Шопенгауэра — это
«воля», у Ницше — «воля к власти», у Хайдеггера — «ничто», и т. д . Даже у
тех из них, кто стоит на реальной почве и исследует объективную
действительность, например у философов Франкфуртской школы, — идеи о
«ничто», о «пустотах», об означающих отсутствие конкретного «идеях» и т.
п. оказываются многозначными и широко варьируются. Они предстают в
разных концепциях, но их главный, принципиальный смысл остается
неизменным: они направлены на элиминацию рациональных методов
281
познания и понятийного мышления. Не случайно поэтому постоянным
объектом критики в «критической» гносеологии оказывается гегелевский
рационализм и роль разума как организатора систематизации и целостности
знания, создателя теоретического знания.
Концепции эстетического «созерцания» С. Кьёркегора, А. Шопенгауэра и Ф.
Ницше
Составляющая основу «критической» гносеологии критика понятийного и
каузального логического мышления восходит к С. Кьеркегору и Ф. Ницше и
широко развертывается современными буржуазными философами —
представителями экзистенциализма, Франкфуртской школы и др.
Выступивший против Гегеля Кьеркегор подверг критике его главный
теоретико-познавательный принцип — принцип тождества бытия и
мышления, настаивая на их «непохожести». Исходя из «несоизмеримости
реальности и познаваемости», Кьеркегор утверждает, что мышлению присущ
абстрактный, дискурсивный характер, в силу чего оно якобы в принципе не
способно выразить многообразие и конкретность реальности во всей ее
особенности, индивидуальности, подвижности. Поскольку реальность для
Кьеркегора — это прежде всего реальность человеческого
существования, постольку его интерпретация системы категорий —
субъективного и объективного, абстрактного и конкретного, возможности и
действительности, и др.— приобретает иной, чем в рационалистической
философии, смысл, экзистенциальный, а не теоретический характер: он
пытается доказать несостоятельность этих категорий для выражения проблем
существования индивида. Определение парадоксального смысла истины
выводится датским философом из парадоксального, иррационального
характера самой действительности:
«Истина человеческого существования, экзистенция сама есть то, что
мышление не в состоянии понять, это есть „брешь" во всяком мышлении.
Здесь мышление останавливается»312
. На смену ему, согласно Кьеркегору,
приходят теологические размышления, формой постижения истины-
парадокса может быть только вера, исключающая понимание.
Одним из важных типов мышления, могущих схватить и выразить
экзистенцию, является, по Кьеркегору, художественное мышление,
способное посредством художественных образов, на материале
художественных явлений приблизиться к истине.
В дальнейшем развитии «критической» гносеологии в критике понятийного
мышления используются кьеркегоровские аргументы, допускающие
312
Kierkegaard S. Gesammelte Werke. Jena, 1924, Bd. VI, S. 155 .
282
известное искажение гегелевского понимания процесса познания, которое
мыслилось автором не как создание логических абстракций предмета в виде
понятия, а как исследование предмета с точки зрения его соответствия
понятию, когда положение о неидентичности преодолевается в процессе
реализации понятия посредством разных определений, которые оно получает
при различных отношениях объекта и субъекта на разных ступенях познания,
так что в результате вся конкретная действительность вполне укладывается в
эти понятия. Не случайно совпадение онтологического и гносеологического
рационализма рассматривается в марксистской литературе как вклад Гегеля в
развитие философии.
Что касается искусства, то в эстетическом учении Гегеля, одном из самых
разработанных и цельных, оно также оказывается причастным к «свету
разума», к той воплощенной в «духе» истине, которая, однако, в конечном
счете выступает все-таки в форме мысли, выражающей эту истину в более
совершенном виде, чем искусство. Гносеологический рационализм, таким
образом, выдержан у Гегеля и здесь.
Насколько обратившееся к иррационалистическому истолкованию мира
буржуазное мышление отходит от логико-гносеологических основ не только
гегелевского, но и кантовского понятийного мышления, показывает
антидиалектическая гносеология А. Шопенгауэра, основные положения
которой представляют собой наглядный пример распада классических форм
идеализма. Отказавшись от веры в разумность и смысл бытия и выдвинув
идею о господстве неразумной и бессмысленной мировой воли, этот
франкфуртский философ с целью объяснения реального мира обратился к
сверхприродной силе: воля в его трактовке представляет сущность мира, его
внутреннее содержание, в то время как жизнь, видимый мир, явления
оказываются только зеркалом воли. Происходит, таким образом, подмена
самого объекта познания: реальность — материя, пространство, время,
причинно-следственные связи, вещи, данные в опыте, — оказываются не
первореальными, а считаются проявлением воли, которая и занимает их
место в качестве объекта познания. Исходным в таком познании оказывается
не объект и субъект, а первый акт познания — представление,
распадающееся на объект и субъект. И только воля — вещь в себе — не
является представлением, она есть то, явлением, видимостью, объектностью
чего служит всякое представление, всякий объект.
Воля как вещь в себе совершенно отлична от своего явления и всех его форм,
от своей объектности, однако она может быть постигнута только через ее
явление;
283
будучи подчинена в своем явлении (т. е . в форме представления) закону
основания, она сама «в своем внутреннем существе этой постижимостью
нимало не уясняется», утверждает Шопенгауэр (в духе Канта)313
. Чем больше
действительно-объективного и истинно-реального содержания в таком
познании, тем больше в нем необъяснимого, т. е . несводимого далее ни к
чему другому. Познанию (науке) доступна лишь поверхностная
характеристика вещей, так как оно воспринимает в объектах только их
отношения — взаимоотношения вещей, условия времени, пространства,
причины естественных изменений, сравнение формы, мотивы событий и т. д .;
с устранением этих отношений исчезнут и самые объекты, потому что оно
(познание) ничего другого в них не восприняло.
Место интеллекта в теории Шопенгауэра занимает проявляющаяся
в «.правильном созерцании» интуиция. Разуму же отводится одна функция —
образование понятий, закрепление в понятиях того, что было познано иным
путем; к тому же роль самого понятия здесь также ограничена: оно служит
только для характеристики отношений, оно «отвлеченно, дискурсивно,
внутри своей сферы совершенно неопределенно, определенно только в своих
границах»314
, и главное — оно не раскрывает содержания, полученного из
интуитивного, непосредственного, наглядного познания. Рефлексия,
отражение, познавательная способность рассматриваются как нечто
производное от интуиции — основы познания. Вполне закономерно поэтому,
что «не доказанные суждения и не их доказательства, а суждения,
непосредственно почерпнутые из интуиции и на ней вместо всякого
доказательства основанные», объявляются главными в научном познании315
.
Поскольку интеллект в учении Шопенгауэра подчинен воле и оказывается
лишь ее органом и слепым орудием, то, разумеется, он не может служить
методом ее познания, а следовательно, и познания вообще, так как, согласно
концепции, воля лежит в основе всех вещей и образует их формы,
их Идеи. Это восходящее к античной философии понятие означает у
Шопенгауэра существенное и постоянное во всех явлениях мира. Идеи
вечны, в них воплощено то, что существует вне и независимо от всяких
отношений, — это единственная действительная сущность мира, истинное
содержание его явлений, не подверженное никакому изменению и поэтому
во все времена познаваемое с одинаковой истинностью. Идеи представляют
собой непосредственную и адекватную объективность вещи в себе, воли.
Эти идеи-формы-тайны не исследуются, не познаются, а постигаются
посредством травильного созерцания», интуитивного прозрения, которое
313
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М ., 1900, т. 1, ч. II, с. 127 —128.
314
Там же, с. 194.
315
Там же, с. 67—68.
284
предполагает освобождение исследуемого объекта от всяких отношений и
«безмятежное созерцание» его «вне его связи с каким-либо другим»316
.
Шопенгауэровская трактовка отношения идеальной субстанциальности и
действительности как не предполагающего реального проявления
противоречит учению Гегеля о конкретности понятия и идеи, в частности его
утверждениям о том, что «сущность должна являться», иначе в своей
абстрактности она есть ничто; что «идея налична и действительна в
явлениях, а не где-то за пределами и позади явлений», что идея — это
«абсолютное единство понятия и объективности» и может быть постигнута
«как разум ... как единство идеального и реального»317
.
Шопенгауэр сужает также сферу действия методологии по сравнению с
Гегелем, который считал познание в чистой форме мышления наиболее
совершенным способом познания, однако допускал возможность постижения
истинного различными способами.
Что касается созерцания, то в трактовке Шопенгауэра это понятие по
сравнению с шеллинговским «интеллектуальным созерцанием» и
гегелевским «одухотворенным созерцанием» утратило свою духовность и
освободилось от необходимой связи с размышлением.
В шопенгауэровской концепции искусству отведена особая роль: оно
способно улавливать идеи сквозь реальность и приобщать к достижению
тайны. Как более связанное с чувственной сферой, оно служит прозрению,
способствует проникновению в недоступные для мышления глубины и тем
самым обеспечивает более высокий, чем познание с помощью логического
мышления, уровень понимания, постижения смысла.
Если наука никогда не может достичь конечной цели, если понятие
отвлеченно, то идея наглядна и, хотя заступает место бесконечного
множества отдельных вещей, безусловно определенна. Поэтому искусство,
по Шопенгауэру, всегда находится у цели. Особую роль он
отводит музыке, поскольку она способна выразить внутреннюю сущность
мира и нашего Я. Действие музыки он считает мощнее и глубже действия
других искусств, так как «последние говорят только о тени, она же — о
существе»: между ней и идеями существует если не непосредственное
сходство, то все же параллелизм, аналогия318
.
316
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление, с. 183 —184 .
317
Гегель Г. Наука логики. — В кн.: Энциклопедия филос. наук. М., 1975, т. I, с. 295, 220, 127, 399,
402.
318
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление, с. 264 —266 .
285
У Шопенгауэра речь идет, таким образом, не о непознаваемости мира, а о
«непонимаемости» его определенными средствами мышления. Собственно,
анализ этих средств и не входит в схему рассмотрения автора; аргументация,
доказательства их несостоятельности отсутствуют. Вместо этого приводится
характеристика познавательных интенций искусства, также недоказанных и,
по сути, недоказуемых. Весьма характерно для современной буржуазной
философии то, что эта шопенгауэровская мыслительная схема многократно
повторится319
.
Переоценка теории познания, осуществленная Ф. Ницше, исходила из
социальной критики и была радикальной в том смысле, что ориентировала
познание на отрицание истинности мира: он — заблуждение, ложное
представление и должен быть познан прежде всего как таковое.
Следовательно, и теория познания должна стать «критической теорией»,
чтобы не просто познать мир, но понять его как заслуживающий отрицания.
«Мир критикующее» (Т. Манн) учение Шопенгауэра получило развитие у
Ницше в целой серии негативных характеристик социальной жизни, а также
связанных с ними «перспективных» для «критической» гносеологии идей (в
частности, одна из современных — Ю. Хабермаса и др. — о том, что
радикальная критика познания возможна только как социальная теория, —
имеет корни уже в этой постановке вопроса).
Апеллируя к Шопенгауэру и Б. Паскалю, Ницше отрицает возможность
познания, поскольку оно «искажено» и «фальсифицировано» в этом ложном
мире; он отрицает религию и метафизику как несостоятельные формы
знания, выражает недоверие к философии прошлого и научному знанию
вообще.
В одном из разделов «Воли к власти» — «К критике теории познания» —
Ницше выражает скепсис по отношению к таким, по его словам, «теоретико-
познавательным догмам», как закон причинности (он якобы только
предварительное допущение), отвергает практику пользования готовыми
понятиями (как наследие прошлых веков, когда мысль была
непритязательна), в том числе философскими, так как философы до сих пор
руководствуются инстинктивными оценками, в которых отражаются эти
319
В литературе отмечалось, что Шопенгауэр хотел построить теорию познания, «близкую к
жизни, наглядную», в тесной связи с естествознанием, в особенности с физиологией; и
действительно, его толкование интеллекта как функции мозга во многих положениях
приближается к материалистическому учению, однако, вводя в свою теорию об интеллекте
интуицию и оценивая ее познавательные возможности как несравненно более высокие по
сравнению с интеллектом и одновременно насыщая теорию познания мистицизмом и
иррационализмом, философ вновь оказывается на позициях идеализма, причем далеко
отстоящих даже от кантовского агностицизма. См.: Шварц Т. От Шопенгауэра к Хайдеггеру. М .,
1964, с. 8.
286
ранние состояния культуры. В духе кантовской концепции регулятивного
знания Ницше рассматривает весь познавательный аппарат как
абстрагирующий и упрощающий, направленный не на познавание, но на
овладевание вещами: «цель» и «средство» так же далеки от истинной
сущности, как и «понятия». При помощи «цели» и «средства» овладевают
процессом (измышляют процесс, доступный пониманию), а при помощи
«понятий» — «вещами», которые образуют «процесс», — пишет он320
.
Прагматическая ориентация познания — «полезность» с точки зрения
сохранения — и является, по Ницше, непреодолимым препятствием на пути
к достижению истинного знания.
Ницше подвергает сомнению логику, как якобы исходящую не из
эмпирических законов, а основанную на предпосылках, которым не
соответствует ничего в действительном мире (например, на допущении
равенства вещей, тождества одной и той же вещи в различные моменты
времени, и др.), и утверждает, что «нелогичность— одна из дисгармоний
бытия», что «нелогичное тоже необходимо для человека», так как мы
изначально нелогичны и нуждаемся в природном, «т. е . в своем основном
нелогичном отношении ко всем вещам»321
. На таких же основаниях он
отвергает математику как содержащую только нормативные понятия («в
природе нет точной прямой линии, нет подлинного круга и нет абсолютного
мерила величины») и систематическое знание вообще322
.
Ницше подверг критике методологическую концепцию позитивизма и ее
претензию на научность как не идущую дальше «феноменов». Полемизируя с
положением позитивизма — «существуют лишь факты», он утверждает,
«нет, именно фактов не существует, а только интерпретации»; мир
познаваем, «но он может быть истолковываем и на иной лад, он не имеет
какого-нибудь одного смысла, но бесконечные смыслы»323
. Отом,что
проблема интерпретации здесь не связана с диалектически понимаемым
бесконечно развивающимся знанием и неисчерпаемостью понятия, с
объективностью знания свидетельствуют некоторые общие положения
концепции философа и, в частности, главное: познание, по Ницше,
развивается в общем русле жизненного процесса, подчиненного единой
господствующей силе — «воле к власти», которая делает его своим орудием:
орудием усиления власти. Она направляет познание, превращает его область
в сферу своего действия; наконец, сама выступает в качестве познания. При
этом знание как таковое теряет свое значение, поскольку воля к власти,
320
Ницше Ф. Собр. соч., М., 1910, т. IX, с. 232 .
321
Там же, т. III, с. 21 —22, 38—39 .
322
Ницше Ф. Собр. соч., т. III, с. 21 —22 .
323
Там же, т. IX, с. 224.
287
согласно концепции, более нуждается в полезных заблуждениях, чем в
истине.
Задачу философии Ницше сводит к определению ценности, познание в таком
случае должно уступить место социально-этической ценностной ориентации.
В своей программе «принципов новой оценки» он обращается к области
психологии, сфере чувственного, эмоционального и предлагает заменить
теорию познания «перспективным учением об аффектах»324
. Хотяони
подчеркивает, что его интересуют «преобразованные аффекты», «их
иерархия», их высший порядок, их «духовность», тем не менее очевидно, что
эта духовность не рационального происхождения, она — эмоциональное
условие (в духе шопенгауэровского «чистого созерцания»), предпосылка того
«откровения», которое и является якобы истинным познанием. Перспективы
такого познания он связывает с развитием физиологии и истории
происхождения мышления, т. е . с развитием научного знания, что, по
существу, противоречит концепции философа в целом и является
свидетельством того, что с результатами естественнонаучного знания не
могли не считаться даже такие его противники, как Ницше.
Вместе с тем Ницше считал предметом своего «главного интереса»
исследование так называемого «культурного комплекса». Известно, что
философ не занимался анализом объективных закономерностей
общественного развития. Составляющая основу его учения социально-
культурная проблематика рассматривалась им вне экономической эволюции
буржуазного общества, поэтому закономерно, что и перспективы познания
он соотносит главным образом со сферой культуры. Концепцией культуры
Ницше была задана та характерная и для современной буржуазной
философии система, в которой критика буржуазной псевдокультуры как
промышленной, создающей человека «газетной» культуры, направлена на-
отрицание существующей культуры в целом, как якобы способствующей
упадку «высшего типа человека» и утратившей способность к прогрессу, и в
которой уничтожение старой культуры рассматривается как необходимая
предпосылка высшей. Ницше не допускает диалектического развития и
преемственности: «...прогресс в духе старой культуры и на ее пути даже не
мыслим», он возможен только на абсолютно новом пути325
.
Ницше не объясняет, каким образом возможен этот скачок и что будет
представлять собой эта высшая культура. Однако он говорит о неизбежно
вытекающем из ее существа непонимании ее и низшей культурой, и даже
учеными, так как она «многострунна» и может быть постигнута лишь
324
Там же, с 211.
325
Ницше Ф. Собр. соч., т. III, с. 34 .
288
«гением созерцания». За могущественное возрождение «гения созерцания» и
«усиление в очень большой степени созерцательного элемента» и ратует
Ницше, считая, что «необходимые корректуры, которым с этой целью нужно
подвергнуть характер человечества», обеспечит искусство326
.
«Искания» философом новой культуры как новой религии, связанные
главным образом с музыкой Р. Вагнера, обнаруживают его стремление
направить познание к эмоционально-волевой деятельности человека:
искусство должно служить выражению «жизни». В статьях о творчестве
Вагнера Ницше выступает против рефлексивности, развивающейся в ущерб
собственно музыке и ее теургической силе, против символического, все
более заступающего место чувственно-реального в искусстве. Ницше
говорит об умирании эмоционального искусства, а значит, и искусства
вообще, в его интерпретации, и — как о взаимосвязанных процессах — об
отуплении наших чувств и зависимости их от разума. Он хотел бы повернуть
эту тенденцию вспять, поскольку, по его мнению, на этом пути мы так же
верно доходим до варварства, как и на каком-либо ином.
Духовный прогресс, «возможность великой надежды на новое возрождение»
Ницше связывает с развитием эстетического
мировоззрения, предполагающего, подобно романтизму, выявление не
духовного, а главным образом эмоционального потенциала. Ницшеанский
подход к трактовке проблем познания с привлечением социального и
психологического материала, с широким обращением к области искусства и
эстетики способствовал переориентации направления буржуазной
философской мысли от теоретико-познавательных проблем к социальной
истории, социальной обусловленности познания, «философии жизни» и др.
Поэтому вполне логично развитие этих тенденций в современной
«критической» гносеологии В. Дильтеем, М. Хайдеггером, К. Ясперсом и др.
Непонятийная истина М. Хайдеггера
В концепции экзистенциального мышления М. Хайдеггера познание в
соответствии с основным мировоззренческим принципом, идущим от
Кьеркегора, — вместо способа осмыслении мира — способ его
«переживания», — ориентировано на реальность, рассматриваемую как
«жизненный опыт» и как «существование». Интровертивный поворот от
объективных истин к «чувствующему» сознанию изменил критерии познания
и, отвергнув понятийное мышление, обратился к принципам, исходящим из
«субъективности» мыслителя и эмоциональной сферы его сознания.
Прокламируется категориальная форма «непонятийности», невозможность
раскрытия экзистенциалистски понятой действительности с помощью
326
Там же, с. 199 —200.
289
разума; сами экзистенциальные категории — «бытие» и «ничто» (вместо
«сущего»), «душа», «жизнь» и др.— выполняют функцию истолкования, в
котором методологические средства (созерцание, герменевтический метод и
др.) оказываются близки художественным. Речь, собственно, идет уже не о
способах познания, а скорее о способах выражения. Этот путь в теории
познания привел его создателя к онтологической эстетике, утверждающей,
что путь к красоте (истине) идет через чувственный мир и переживания, а
также обращение к искусству, как наиболее адекватно отражающему их.
Во многом опираясь на философичную поэзию Ф. Гёльдерлина и опыт
Ницше, Хайдеггер ищет новые познавательные возможности посредством
таких приемов художественного мышления, как аналогия (причем
предпочтение отдается сравнению неблизких, непохожих явлений,
обнаруживающему их различие, их иное); метафорически-символический
способ выражения и символ как косвенный способ указания на
предмет; ассоциативное мышление, близкое к художественному образу, в
котором важны не только типические черты, а, может быть, и не столько они,
сколько неявные, тайные ассоциации, недосказанность; переход от
логического взгляда к историческому, при котором контекст, «коллизия» (у
Гёльдерлина — утопия) имеют не менее существенное значение, чем самый
факт; и др.
Речь, слово, язык Хайдеггер рассматривает не как средства информации об
окружающем мире, а как связанные с миром «бытия», т. е . априорными
структурами человеческого существования, и, подобно В. Дильтею, считает
необходимым изучать языковые образования, инверсии слов, создавать
новые языковые формы; а также вслушиваться в звучание и музыку слова,
особенно имен собственных (ср. с «вслушивающимся созерцанием» у
Дильтея); использовать афористическую форму языка (как Ницше) и его
богатые синтаксические возможности, как это делал Гёльдерлин, у которого
смысл «рассыпан», так что мы сами ищем и воссоздаем его.
Поскольку для познания важно исследовать не столько действительные
конкретные связи, сколько искать новые, утверждает Хайдеггер, необходимо
сохранение интереса к эскизному (иному) пути, помимо законченного,
закономерного, вплоть до приравнивания главного и привносящего
дополнительный смысл. Так, новые возможности познания Хайдеггер
связывает с идеей новой культуры и, развивая ницшеанскую идею
«возвращения», в связи с анализом обращения Гёльдерлина к
доцивилизационной античности как прообразу такой культуры,
перекликающимся, в свою очередь, с интересом Ницше к изначально-
человеческому, пракультурному, мифическому, говорит о необходимости
290
изучения культуры в дометафизическую эпоху, а также изначальных, но так
и не реализованных возможностей европейской культуры327
.
Субъективистское понимание познания привело Хайдеггера к
противопоставлению культуры естественнонаучному подходу к миру, к
отождествлению науки и техники с производством, осуществляющим свою
деятельность якобы в несоответствующей целям познания форме.
Мышлению в таком познании отводится роль создателя «умопостигаемой
схемы» действительности, «жизненность» же ей придается богатым
арсеналом языка, поэзии и культуры, приближенным к методам познания.
Согласно Хайдеггеру, искусство, создавая посредством нового языка свое
собственное видение мира, должно открывать новые — иные — ценностные
перспективы, связанные не с идеями социальных преобразований общества, а
с познанием истины как «истины бытия».
Критика теории познания в концепциях философов Франкфуртской школы
Понятийно-рациональное мышление постоянно подвергалось критике в
социальной философии основателей Франкфуртской школы М. Хоркхаймера,
Г. Маркузе и Т. Адорно. Растущее благодаря концентрации и централизации
управление внешними условиями существования, при котором не остается
ничего не затронутого воздействием рационализма, рассматривается в их
концепции в качестве социального фактора, детерминирующего искажение
естественного сознания и превращение его в технократическое — в
«инструментальный разум» с заданной ограниченной функцией,—
способствовать все более тотальному господству овеществленных
взаимоотношений во всех возможных областях и формах, вплоть до
выработки стереотипных реакций и инструментализации формирования
мнений. Абсолютизируя положение о социальной обусловленности сознания,
Хоркхаймер и Адорно рассматривают науку и технократическое сознание
как вид идеологии, оправдывающей «господство», и на этом основании
заявляют об отрицании всей традиционной науки и культуры.
Такая мировоззренческая позиция ориентирует их в теории познания на
отход от методологических принципов, связанных с разумом, рациональным
и научным знанием (прежде всего это относится к диалектике, к таким
способам получения объективного знания, как понятийное мышление,
диалектика синтеза, движение от абстрактного к конкретному, и т. д .), и
обращение к эстетическим принципам, даже при рассмотрении проблем
социального прогнозирования.
327
См.: Heidegger М Nietzsche. Pfullingen, 1961, Bd. I—II.
291
Так, Г. Маркузе в книге «Разум и революция» (1941 г.), посвященной
интерпретации гегелевской диалектики и сосредоточенной главным образом
на выявлении в ней отрицательных, «негативных» тенденций, выстраивает
гносеологический аспект исследования на следующем основании: диалектика
как метод познания не в состоянии дать теоретическое обоснование
существующих непримиримых противоречий современной действительности
и ее иррациональности, а тем более указать способ их разрешения, однако
она дает возможность выявить потенции «иного», скрывающегося за
внешней формой явлений, но на самом деле являющегося тем истинным,
сущностным содержанием, к раскрытию которого и стремится познание. В
таком плане освещает Маркузе в частности, раскрытое Гегелем внутреннее
отношение, существующее между понятием и определяемым им объектом.
Правильное понятие объясняет нам природу объекта и сообщает, что
представляет собой вещь-в-себе, пишет он, и как только истина становится
очевидной, обнаруживается также, что вещи «не существуют» в их
подлинности: их возможности ограничены определенными условиями, в
которых вещи существуют, и им удается обрести свою подлинность, только
лишь отрицая детерминирующие их условия. Таким образом, понятие в
гегелевском смысле, утверждает Маркузе, является реальной формой
объекта, потому что оно сообщает нам истину о процессе, слепом и
случайном в объективном мире. Имеющееся же значительное различие
между объектами в неорганическом, растительном и животном мире и их
понятиями преодолевается только посредством мыслящего субъекта,
который способен реализовать их понятия в их экзистенцию (Dasein)328
.
Останавливаясь на первой части «Логики», освещающей характер понятий,
охватывающих реальность как множество объективных вещей, как простое,
наличное «бытие» (daseiend), свободное от всякой субъективности, Маркузе
утверждает, что, по Гегелю, они (понятия такого рода) качественно и
количественно связаны друг с другом, а анализ этих отношений показывает,
что их больше нельзя интерпретировать в терминах объективных качеств и
количеств, что они требуют принципов и форм мышления, отрицающих
традиционное понятие бытия и раскрывающих субъект как самую сущность
реальности329
.
Анализируя далее основную гегелевскую схему объект—понятие, Маркузе
подводит к выводу, что истинное объекта можно найти, только выявив
посредством негативной диалектики «третий путь», на который он может
выйти, совершив качественный скачок.
328
Marcuse H. Vernunf und Revolution. Hegel und die Entstehung der Gesellschaftstheorie. Darmstadt-
Neuwied, 1972, S. 67.
329
Ibid., S. 68.
292
Такое толкование неидентично гегелевской схеме, однако для концепции
Маркузе важно представить гегелевскую диалектику как проникнутую
глубокой убежденностью в то, что «все имеющиеся формы существования —
в природе и истории — „дурны", потому что они мешают вещам быть тем,
чем они могут быть», что «истинное бытие начинается тогда, когда
непосредственное состояние признается негативным, когда, стало быть,
сущность становится „субъектом" и стремится соединить свое внешнее
бытие со всеми потенциальными возможностями»330
.
Нельзя не заметить, что раскрываемое главным образом с теоретико-
познавательной стороны гегелевское тождество субъекта и объекта, объекта
и понятия интерпретируется Маркузе таким образом, что акцент смещается в
сторону субъекта, иногда до такой степени, что объект оказывается
продуктом деятельности субъекта, а диалектика — только его практикой.
Обращение к социальной философии Маркузе показывает, что
субъективистское толкование им гносеологических проблем обусловлено
односторонним «негативным» восприятием современного общественного
развития, характер которого, по его мнению, уже невозможно определить
посредством традиционных категорий, в частности категорий субъекта и
объекта, поскольку па современной исторической стадии реальность,
ставшая технологической реальностью, существенно изменилась: «субъект
теперь так тесно соединен с объектом, что понятие объекта обязательно
включает в себя субъект»331
. Для Маркузе это положение является одним из
оснований для отказа от рассмотрения объективных закономерностей и
диалектики общественного развития в пользу «неразрешимых
противоречий», которые якобы определяют «каждый отдельный факт и
каждое отдельное событие», «пронизывают все здание размышлений и
действий», вплоть до познающего мышления, не способного в таких
условиях быть аутентичным332
.
Подчеркивая необходимость исторического подхода к анализу самого
процесса познания, Маркузе считает решающим для философской ситуации
современности осознание необходимости в новом типе мышления, в
принципиальном изменении направленности познавательного процесса,
задачей которого должно стать выявление потенциальных возможностей
«иного», возможностей качественного скачка на основе радикального
«Великого отказа» от существующего.
330
Ibid., S. 68.
331
Marcuse H. Reason and Revolution. Hegel and the Rise of Social Theory. Boston, 1960, p. XIV.
332
Ibid.
293
Критику теоретико-познавательных основ научного знания продолжает Т.
Адорно в своей концепции «негативной диалектики», развиваемой на основе
«критической» гносеологии Кьеркегора, Ницше и сложившихся традиций
самой Франкфуртской школы. В духе рассмотренной нами интерпретации
соотношения «объект—понятие» Г. Маркузе Адорно критикует понятийное
мышление (особенно это касается абстрактных, общих понятий) как
отождествляющее, а сам принцип отождествления приравнивает
к идеологии. Развивая негативные выводы Маркузе о диалектике как методе
познания, Адорно переосмысливает само понятие диалектики. Под
диалектикой понимается не метод познания или вообще что-либо реальное в
обычном понимании, пишет автор. Опалишь один из способов мышления,
противоречивый сам по себе и направленный на выявление противоречий в
реальности. Но, согласно концепции, «противоречие в реальности — это
противоречие ей самой»333
, и, следовательно, фиксирующие это
противоречие понятия, выработанные нашим мышлением, также
противоречивы, а значит, неистинны. «Негативная диалектика» должна
способствовать обнаружению непонятийного, которое якобы стоит ближе к
реальности и обнаруживается с помощью «логики распада», т. е . разрушения
связей, отношений и прочих принципов единства и всеобщности и замены их
принципом отрицания идентичности.
Смысл «негативной диалектики», по Адорно, состоит в том, чтобы
направлять к некатегориальным формам мышления, «несистемной мысли» и
посредством серии анализов, состоящих главным образом
из отрицаний, способствовать выявлению нетождественного, ибо именно в
нем — истинное, сущностное содержание объекта. «А» должно быть тем,
чем оно еще не является, рассуждает Адорно. Эта надежда противоречиво
связана с тем, чем разрывается форма предикативной тождественности. Для
этого философская традиция имела слово «идеи». Они — негативные знаки
истины, которые живут в пустотах, между тем, чем хотят быть вещи, и тем,
что они суть. Выявление их смысла и является задачей познания, однако для
этого, по мнению автора, нужны новые теоретико-познавательные методы.
Адорно предлагает мыслить с помощью «моделей», под которыми
понимаются не какие-то предварительные теоретические построения,
которые являются аналогами действительности и функциональный смысл
которых направлен на активное познание определенного объекта. Это
модели особого рода. Они мыслятся автором как познавательные,
исследовательские мыслительные конструкции, опирающиеся на социальную
действительность (практику), по содержащие прежде всего критическую
рефлексию, направленную на разрушение стереотипных категорий,
333
Adorno Th. W . Negative Dialektik. Fr./M., 1966, S. 146.
294
довлеющих над сознанием человека, и на выявление в процессе этого
разрушения того «иного», которое нельзя выявить и познать обычными
средствами.
Моделирование не формулирует цели или «идеала», его суть (а
следовательно, и суть познания) оказывается в самом процессе и поэтому не
может быть определена однозначно. В качестве принципов осуществления
этого процесса у Адорно выступают произвольно, интуитивно избранные
принципы, прежде всего близкие по своему характеру
к художественным методам познания. Из методов, используемых в научном
познании, он уделяет особое внимание констелляции, способу, который
наиболее соответствует его собственному представлению о познавательном
процессе и моделью которого у него выступает образ действий языка. Язык,
пишет Адорно, «представляет собой не просто голую систему знаков для
функции познания. Там, где он по существу выступает как язык, становится
изображением, он не определяет свои понятия. Свою объективность он
приобретает для них посредством той связи, в которую он ставит понятия,
центрируя их вокруг определенной вещи. Этим он помогает понятию в его
намерении полностью выразить то, что подразумевалось»334
. Констелляция
«открывает» предметы, она «высвечивает специфическое предмета, которое
безразлично или тягостно для классификации», ведь смысл и самой
констелляции — не понятийная фиксация, а попытка «путем целой группы
понятий, расположенных вокруг искомого, центрального, выразить то, на что
оно направлено, вместо того чтобы очерчивать его контуры для оперативных
целей»335
.
Адорно выступает против системного мышления, как якобы замкнутого,
ограниченного определенными рамками, и предлагает ввести открытые
определения отдельных моментов, предполагающие неконкретность,
многосмысленность, возможность постепенного составления их, и т. п .,
которые по своему характеру близки констелляции. С целью активизации
познания Адорно рекомендует также широкое обращение к таким средствам
художественного мышления, как аналогия, метафорические способы и др.,
которые будят воображение, создают напряженность восприятия и тем
самым способствуют активизации творческих возможностей мышления,
создают предпосылки «отрыва», якобы необходимого для создания нового —
для качественного скачка, и др. Собственно, именно в подчеркивании (и,
разумеется, явном преувеличении!) возможности с помощью этих методов
выйти за пределы доступного обычными средствами и состоит предложенное
автором «обновление», поскольку сами методы вполне традиционны, и
334
Adorno Th. W . Negative Dialektik, S. 162.
335
Ibid., S. 164, 166.
295
каждый из них, даже в своей области,—лишь один, отнюдь не главный, из
богатого арсенала специальных методов; в чем автор, искусствовед и
музыковед, не может не отдавать себе отчета.
Искусство как «модель» познания в концепции Т. Адорно
Преувеличение потенций нетрадиционно используемых художественных
методов обнаруживает характерную для всей философии Адорно тенденцию
«освобождения» теории познания от «традиционалистичности» путем
использования эстетической теории и ее категорий. Начиная с работы о
Кьеркегоре, в своих многочисленных трудах о музыке и вплоть до вышедшей
посмертно «Эстетической теории» (1970), Адорно развивает эту тенденцию,
продолжая тем самым устойчивую традицию буржуазной философии,
рассматривающей искусство как сферу выявления истины, как «модель»
познания. При этом он подвергает пересмотру такие важнейшие понятия и
категории, как типическое, символическое, принцип отражения и др., а также
общие эстетические реалистические принципы оценки произведений
искусства.
В трактовке соотношения «научное знание — искусство» Адорно, во многом
опираясь на Шопенгауэра и Ницше, утверждает, что прежде всего искусству
доступно само сущее, ибо оно схватывает жизнь в противоречиях (а,
согласно «негативной диалектике», «только в противоречии сущего с тем,
чем оно хочет быть, и можно распознать сущность»336), в то время как
научное мировоззрение передоверяет решение вопроса о существенном и
несущественном тем дисциплинам, которые занимаются данным предметом
(но одной дисциплине может показаться несущественным то, что другая
считает существенным). Моделью констелляции, передающей объективное
духовное содержание, он считает музыку. Такой была высокая (классическая)
музыка, служившая высокой идее — создать посредством своей структуры
образ внутренней полноты, содержательности времени.
Учитывая предупреждение Адорно о том, что опыты раскрытия основного
общественного содержания музыки должны производиться с предельной
осторожностью, отметим, что сам автор придерживается утверждаемого им
принципа единства художественной и социальной интерпретации только по
отношению к музыкальному наследию прошлого. При рассмотрении же
современного музыкального процесса он отмечает эволюцию музыки в
направлении возрастающей изолированности, замкнутости, внутренней
опустошенности и развивающуюся параллельно камерность, которая якобы и
оказывается единственным прибежищем равновесия искусства и его
восприятия, усвоения, утраченного в условиях разъединения «объекта и
336
Adorno Th. W . Negative Dialektik, S. 167.
296
публики». Однако при этом метод раскрытия, дешифровки социального
содержания в музыке подменяется (вынужденно) раскрытием социальной
обусловленности отсутствия такого содержания.
Адорно не анализирует формирование различных направлений в лоне
искусства буржуазного общества, а рассматривает современный
музыкальный процесс по апробированной схеме, противопоставляя
«элитарное» искусство — «массовому», причем первому отводится роль
внутренней оппозиции. Это прежде всего относится к музыке стиля
«модерн» (композиторов «новой венской школы» и др.), в которой
качественно «новое» создается якобы не столько за счет техники, сколько
посредством последовательно критического содержания. В соответствий с
этим критерием новизны «новая музыка» наделяется способностью выразить
основные противоречия современной эпохи, в частности «отмеченное еще
немецким идеализмом и выявившееся у Фихте, а ранее у Гёльдерлина и
Гегеля противоречие межу назначением человека, его «божественным
разумом», по Гёльдерлину, и той гетерономной ролью, которая ему суждена
в условиях буржуазного предпринимательства»337
.
В статьях по социологии музыки и эстетике Адорно развивает свою
концепцию «новой музыки», ориентированную на учение и творчество
немецкого композитора А. Шёнберга, автора основанной на критике
тональности, лежащей в основе классической музыки, додекафонической
системы, которая преподносится не как какой-то особый раздел музыки, а
как технический метод, плодотворная попытка «рационализации» и
систематизации процесса музыкального творчества, отбрасывающая
привычные формы выразительности и пользующаяся техникой композиции
посредством двенадцати взаимосоотнесенных звуков, что якобы приводит к
включению в конструкцию тембра как нового измерения и к полифонии
музыки. Новые технические средства — додекафонизм, диссонансы,
атональность, «крик» и др. — Адорно считает необходимой формой для
выражения таких новых общественных тенденций, как «утрата субъектом
своей роли», репрессивное воздействие на сознание и мировоззрение
человека гнетущих мыслей о «конфликтах в масштабе всей земли и о
прогрессе техники разрушения» и др.; модернизм в музыке, согласно
Адорно,— это не только выражение «категорических музыкально-
технических потребностей времени», но и «предельно точная реакция на
социальные условия», а также «попытка достичь слуха тех, кто уже не
слушает»338
.
337
Adorno Th. W . Einleitung in die Musiksoziologie. Zw61f the&reti-sche Vorlesungen. Fr./M., 1962, S.
99.
338
Adorno Th. W . Einleitung in die Musiksoriologie, S. 190, 191.
297
В крайне индивидуализированных, «отрекшихся от всех схем произведениях
искусства», именно в крайности их индивидуализации, Адорно видит
«моменты общего скрытое от них самих участие в типичности»339
.
Вкладываемый в этот критерий новизны смысл, разумеется, субъективен; и
признание самим Адорно того, что отход новейшей музыки от всякой
эмпирической действительности неодолим, что она не поддается
коммуникации, а в перспективе становится возможной музыка без
социального содержания вообще340
, лишь подтверждает тщетность его
усилий поднять эти формы искусства выше их реального уровня в
современном музыкальном процессе на Западе, в жизни и в теории341
.
Известно, что критическое осмысление Адорно специфического характера
восприятия культуры, когда в ней видят не духовное; аналитическое
исследование им современной художественной культуры, особенно музыки,
свидетельствующее как о кризисе культуры, так и о кризисе общества,
оказало значительное влияние на интеллигенцию Запада. Т. Адорно
выступил с критикой современной буржуазной культуры в период, когда на
Западе определились некоторые новые ценностные культурные установки,
появление которых было обусловлено социально-историческими
особенностями развития капиталистического общества как «общества
потребления» и формирования в нем «культурной индустрии»
и потребительской «массовой культуры».
Как гуманитарно мыслящий социолог, Адорно рассматривал происходящую
на его глазах эволюцию культуры, видел утрату ею ценностей гуманитарного
наследия. История культуры в его интерпретации — это прежде всего
история человеческого духа, его исканий, стремления к истине; культура —
это духовные ценности, всечеловеческое достояние, и в этом ее сущность, —
таковы ценностные посылки Адорно, являющиеся результатом того, что он
сам был носителем определенных культурных начал, буржуазных по своей
природе, проявившихся в нем как в исследователе, в частности в
абстрактном, внеисторическом подходе к проблемам культуры.
На современном этапе, по Адорно, само понятие культуры оказывается
переосмысленным: под культурой стали понимать определенный уровень
общественного развития вообще, и показатели ее сместились в области
науки, техники, производства и т. п ., т. е . в области материальные. Если
культура из сферы духовного превращается в производство, становится
важным конституирующим элементом общественной структуры, то с этой
339
Adorno Th. W . Negative Dialektik, S. 162.
340
Adorno Th. W . Einleitung in die Musiksoziologie, S. 192, 197.
341
О философии музыки Адорно см. подробнее в работах Д. Золтаи (Вопр. философии, 1968, No 3;
1971, No 8).
298
точки зрения оказывается совместимым то, что культура входит во все более
широкие сферы общественной жизни и вместе с тем утрачивает свою
сущность.
В американский период деятельности у франкфуртских философов —
Хоркхаймера, Адорно, Маркузе и др.— с о всей очевидностью проявилось
недоверие к опыту и разуму как основе просвещения и рациональности,
отсюда резкая критика в их концепциях теоретических основ научного и в
первую очередь технического знания, скепсис и пессимизм по отношению к
бурно развивающейся технической рациональности во всех областях
общественной жизни, в том числе и в области культуры.
Акцент на социальной обусловленности тенденции к разрушению
гуманитарного, философского знания и культуры связан с несостоятельными
идеями концепции Адорно в целом. В ней не ставятся вопросы о
возможности использования арсенала традиционного научно-философского
знания и культуры вне индустрии потребления, а также о применении
средств массовой коммуникации в ином направлении: очевидно,
классическая немецкая традиция «культуртрегерства» оказалась
несовместимой с нигилизмом этого культурфилософа. В концепции допущен
недиалектический подход к субъекту, выражающийся в том положении, что
реальные жизненные связи субъекта якобы однозначно определены
навязанной ему ролью подверженного манипуляциям, бездуховного
существа, в утверждении его «тотального» бессилия и, что особенно важно
для характеристики творческой личности, в лишении его не только
необходимых реальных предпосылок для выражения человеческого
содержания, всегда бывшего сущностью эстетического, но даже сознания
правомерности и необходимости самого творческого процесса вообще.
К таким теоретико-философским заключениям неизбежно приводит взятый
автором за основу и характерный для буржуазной философии вообще
принцип исследования, при котором обилие фактического материала не
может компенсировать отсутствия многогранности научного анализа,
рассмотрения явлений и его внутренних тенденциях, противоречиях,
закономерностях, не говоря уже о запрограммированном выявлении «иного»,
нового, в результате чего сделанные теоретические выводы лишаются того
объективного смысла, на который претендует автор концепции.
Культурологические проекты Г. Маркузе
Иную социальную направленность имеют культурологические модели
познания Г. Маркузе. Начав с критики теоретико-познавательного мышления,
философ создает негативные концепции развития науки и техники в
современном буржуазном обществе, в которых подвергается резкой критике
299
мир технологической рациональности. Нет сомнения в том, что Г. Маркузе
шел от реально существующих кризисных проблем. В частности,
прослеживание им формирования «одномерного» сознания в результате
действия аппарата репрессий, созданного с помощью пауки и техники, было
ответом на одну из главных проблем века — проблему человека и его власти
над условиями и обстоятельствами существования, проблему пути к свободе.
Но решение ее с негативных позиций привело его к переосмыслению
основных методов познания.
Возможность радикального изменения познавательного процесса Маркузе в
духе своих предшественников связывает с культурой и искусством и в
критическом анализе, составляющем основу многих его работ (см. «Культура
и общество», «Эрос и цивилизация» и др.), развивает, в сущности,
традиционную для новейшей буржуазной философии культуры идею кризиса
буржуазной культуры и несостоятельности искусства. Автор «Одномерного
человека» раскрывает устанавливаемые современной технологической
цивилизацией «специфические взаимоотношения» между искусством и
техникой, в которых техника, подобно идеологии, выполняет функцию
разрушения. Он выражает негативное отношение к современной «культурной
индустрии» и потребительской «массовой культуре», к культуре Нового
времени в целом как репрессивной, утратившей свою истинность, высокий
смысл и «второе измерение» — оппозиционность по отношению
к существующему.
Тем не менее Маркузе, в духе традиций «школы» негативно оценивая
воздействие научно-технического прогресса на культуру, на социальный
«жизненный мир» в целом, в своих футурологических социальных
«проектах» отводит решающую роль не науке и научному знанию, а
области эстетического, единственно за ней оставляя право «называть вещи
своими именами и способствовать раскрытию истинного — „иного"»
342
.
Особое внимание он уделил модернизму — сюрреализму, дадаизму,
футуризму и др., рассматривая их прежде всего как попытку выйти из
кризиса современной буржуазной культуры, найти новое измерение
действительности.
В работах Маркузе американского периода (50— 70 гг.) утверждается
восходящая к Фрейду идея о том, что буржуазная культура, развивавшаяся
как продукт сексуального подавления, должна отказаться от
«рациональности» и, ориентируясь на «новую чувственность»,
способствовать осуществлению неиррационального прогресса, «нового
гуманизма» и подлинного бытия.
342
Marcase H. Der eindimensionale Mensch. Neuwied und Berlin, 1971, S. 79, 258.
300
Маркузе строит свои «гипотезы» на том, что искусство как «художественное
отчуждение» в принципе может осуществить свою созидательную функцию,
поскольку оно может «проектировать экзистенцию», «определить еще не
осуществившиеся возможности»343
, и рассматривает эксперименты
авангардизма, «интеллектуальный абсурд» С. Беккета, Р. Хоххута и др. как
попытку не дать новому искусству ассимилироваться, как «шанс для
альтернативы».
Маркузе не интересует реалистическое, в том числе социалистическое,
искусство, он не акцентирует внимание на нигилистическом отношении
модернизма к главной традиции реализма: искусство — широкая сфера
познания, основа —объективная реальность. Между тем без этого, как
показывает исторический опыт, все экспериментирования реформаторов
остаются «только выражением буржуазно-интеллигентского
индивидуализма»344
, «новыми свежими раздражителями», вызывающими
«элементарное любопытство»345
, и неизбежно вливаются в русло
потребительской культуры. Маркузе на опыте убедился в том, что
«элитарное» искусство сливается с «массовым», и в своих последних
высказываниях признавал, что и модернизм, и авангардизм истощились, не
дав обществу позитивных моральных импульсов.
Эстетическая концепция Маркузе ориентирована на «новую» культуру и
искусство, которых собственно еще нет в действительности и которые
существуют только в «проекте» самого автора, ратующего за их создание с
помощью таких средств, как «новая чувственность», интуиция, воображение
и фантазия. Прежде всего в искусстве, считает философ, доминирует чувство
нового, способствующее рождению новых форм жизни. Оно творит новый
мир мысли и практики, направленный на разрушение существующего. В
мире иррационального прогресса оно может стать моделью для новой
рациональности, укажет новые идеи и идеалы. Не случайно поэтому автор
отводит искусству решающую роль в создании проекта иной исторической
практики.
Истинное, иное, согласно Маркузе, находится, таким образом, не на пути
рационального научного знания и доступной ему реальности, вследствие
этого не случайно характерным для его футурологических проектов
становится отрыв от реальности, утопичность. Еще в программной для
Маркузе (и всей Франкфуртской школы) статье «Философия и критическая
теория» (1937) он писал об утопическом элементе как о бывшем долгое
время в философии лишь отдельном прогрессивном элементе и якобы только
343
Marcuse H. Der eindimensionale Mensch, S. 250.
344
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 12, с. 101.
345
Бояджиев Г. H. Проблема традиций и новаторства. — В кн.: Ленин и искусство. М ., 1969, с. 342 .
301
в «критической теории», которая «не страшится утопии», ставшем
настоящим философским принципом мышления: утопия «доносит»
(denunziert) на новое, выдает его346
. В этом Маркузе видит ценность утопии и
пытается поднять ее до уровня одного из основных методов социального
предвидения (переосмысляя, таким образом, предвидение — одну из
важнейших функций познания: вместо исследования причинно-следственных
связей и предпосылок возникновения нового автор обращается к утопии).
В таком же плане Маркузе рассматривает воображение и фантазию, считая
их принципами мышления, придающими философии «нечто существенное»,
вытекающее из их функции, — «силы воображения» (Einbildungskraft).
Маркузе во многих работах обращался к этим методам мышления,
исследовал их меняющийся в современных условиях характер, однако
утопий не создал (как и другие представители «критической теории»).
Спустя тридцать лет, уже менее оптимистически оценивая возможности этих
методов, он все же не отказывается от них. Так, автор «Конца утопии» (1967)
утверждает, что в современном обществе утопия и фантазия деградировали,
поскольку научно-технический прогресс задает воображению
направленность на реализацию и делает возможным осуществление любой
перспективы; утопии пришел конец; фантазия же потеряла привилегию
принадлежать к области эстетического, так как вследствие возможности
реализации «воображаемого» оказался устраненным разрыв между разумом
и фантазией: воображение становится институтом прогресса, «рациональной
иррациональностью». К тому же, считает Маркузе, реальность затмевает
возможности человеческой фантазии, и приводит в качестве примера
Освенцим и — как равное ему по трагедийности — начало завоевания
космоса347
.
Подобные высказывания, как и вообще исследования Маркузе только
негативных последствий научно-технического развития, далеки от
объективности, а иногда и реакционны. И все же справедливо отмечено348
,
что в отличие от многочисленных современных утопий-ужасов и утопий-
катастроф его концепция является лишь концепцией-предостережением. Ее
утопизм состоит не в попытках создать негативные футурологические
картины. Признавая марксистские положения о необходимости
революционного пути изменения мира, а в последние годы жизни — и о
революционной роли рабочего класса, Маркузе наряду с этими положениями
346 Marcase H. Philosophic und kritische Theorie. — In: Kultur und Gesellschaft I. Frankfurt
a/M., 1965, S. 111 .
347
Marcase H. Der eindimensionale Mensch. Neuwied; В., S. 258; Das Ende der Utopie. В., 1967.
348
См. критический анализ современных утопических теорий в кн.: О современной буржуазной
эстетике. Вып. 4 . М., 1976, с. 19 и далее.
302
выдвигает на первый план принцип Эстетического и такие «ценностные
универсалии», как «свобода», «красота», «счастье», в качестве программы
социального действия. Однако он не может предложить принципа ее
реализации, и в этом также проявляется утопизм его концепции.
Все его «гипотезы» относительно «нового человека», «развлекающегося
человека» и др. включают наряду с идеей «новой чувственности» и
эстетическое в качестве важнейшего компонента. Маркузе осознает
утопичность своих программ, однако не отказывается от них. В частности, в
одной из последних работ «Контрреволюция и восстание» (1973) он вновь
обращается к Эстетическому и утверждает, что искусство по своей природе
родственно революции, что оно способно обеспечить качественный скачок,
поскольку — и это главный его аргумент — обществом руководят не
материальные, а моральные и эстетические потребности и стремление к
свободе, коренящееся в этих потребностях. В сущности, возвращаясь к
мысли Шопенгауэра—Ницше—Хайдеггера о выявлении истинного через
прекрасное, Маркузе пытается дополнить марксизм эстетической
программой (как ранее неофрейдизмом), разделяя тем самым расхожую
мелкобуржуазную версию о необходимости соединения марксизма с
гуманизмом.
Теоретико-познавательная концепция Маркузе в целом свидетельствует о
непонимании проверенных историческим опытом марксистских положений о
том, что выбор ценностей детерминирован господствующими отношениями,
которые в конечном счете отражают объективную социальную структуру и
исторически обусловленный тип культуры данного общества, в результате
чего программы, не опирающиеся на анализ материальных и экономических
предпосылок революционных преобразований — реальных условий
качественного скачка (а именно такими и являются эстетические принципы
Маркузе и его «нововведения» в теорию познания), «повисают в воздухе», не
имея шанса реализоваться.
Несмотря на всевозрастающее число «негативных утопий», предвещающих
культурные катастрофы (О. Хаксли и др.)
349
,атакженато,чтониуодногоиз
представителей «критической» гносеологии нет убедительной аргументации
того, каким образом культура, искусство, эстетическое вообще могут
выступить в качестве конечной теоретико-познавательной инстанции,
тенденция обращения к культуре и искусству, к вопросу об использовании
культурных традиций, проблема «легитимации», признания вековых
культурных ценностей как мощного фактора формирования мировоззрения
продолжает развиваться в современной буржуазной философии, особенно в
349
См.: О современной буржуазной эстетике. М ., 1976, вып. 4.
303
разного рода проектах развития критического самосознания индивида и
футурологических социальных проектах (Э. Фромма, Ю. Хабермаса и др.).
Вопрос об идеях и возможностях современного просвещения ставится так
широко, что культуре и искусству в духе традиций «критической»
гносеологии приписываются не свойственные им функции. Так, в
предложенной Ю. Хабермасом реконструкции исторического материализма
—
новой «универсальной» философско-исторической концепции, которая
якобы может заменить исторический материализм как «частную»
концепцию, большое место отводится «интеракционистской» сфере — сфере
морального сознания, в которой автор видит средство активного воздействия
на всю область общественной жизни. Раскрыть структуру познания (т. е .
когнитивные, языковые и интеракционистские способности индивида)
возможно главным образом средствами культуры, утверждает Хабермас.
Разрабатывая социально-научную «теорему» «новых возможностей»,
«эмансипационного интереса» как программу «гуманитарного
реформирования» современного общества, он возлагает надежды не на науку
и технику, а на «рефлективное выявление и сохранение», «легитимацию»
культуры и средств ее воздействия на индивидуальное сознание человека350
.
Между тем в его системе доказательств отсутствует анализ главных,
определяющих общественные процессы в целом материальных сил, и
поэтому его теоремы остаются в сущности недоказанными.
Подведем некоторые итоги:
1) Прежде всего следует отметить, что традиционное для «критической»
гносеологии соотношение «гносеологическое-эстетическое» развивалось все
в новых и новых социокультурных контекстах, не утрачивая при этом своих
основных принципов, — свидетельство того, что в нем нашла выражение
одна из основных тенденций развития «критической» гносеологии,
отражающая, в свою очередь, объективно существующую теоретико-
познавательную и мировоззренческую проблему: соотношения наших знаний
с нашими целями и идеалами, особенно при ориентации на социальное
знание.
2) Рассмотрение «критической» гносеологией искусства и культуры как
мировоззрения, как сферы познания, связанной с движением к новой
действительности, особенно в условиях современного буржуазного
общества, явилось своего рода попыткой противопоставить гуманитарное
знание засилью техницизма, абсолютизации методологии естественных наук
и математизации познания, создать «художественный» эквивалент научно-
350
См.: Habermas J. Legitimationsprobleme im Spatkapitalismus. Fr./M., 1973; Idem. Zur Reconstruktion
des historischen Materialis-mus. Fr./M., 1973.
304
технической картине мира, философское осмысление которой у
представителей этого направления вылилось в исследования исключительно
негативных последствий научно-технического развития (весьма характерно,
что задача изучения новых возможностей знания, внесенная современной
наукой в теорию познания, ими даже не ставилась) .
3) Вместе с тем длительная история разработки «критической» гносеологией
соотношения «гносеологическое — эстетическое» свидетельствует о том, что
полученные ею теоретико-познавательные выводы не стали более
результативными в плане рекомендаций по выработке положительного
знания (и, разумеется, ориентации социального действия), даже по
сравнению с системами, в которых они родились, поскольку содержат лишь
предложения распространить результаты, полученные в музыковедческих,
литературоведческих, лингвистических и др. исследованиях, за пределы этих
специальных сфер и объявляют их средством для достижения нового
теоретического знания (иногда это не сформулировано явно, но наличествует
имплицитно).
И это не случайно. Суть дела в том, что предложенные нововведения
развивались в комплексе с «критицизмом» по отношению к понятийному
мышлению, являющимся формой отрицания диалектики научного знания и,
следовательно, не имеющим отношения к теории научного познания вообще.
Этот «критицизм», детерминированный мировоззренческими и классовыми
позициями, смыкается с отказом от основных методов познания и
переустройства мира. Такая постановка вопроса сужает поле объективного
научного познания и приводит к ложным выводам, к неистине, что отчетливо
проявляется при обращении к эстетическому как одному из главных
способов социальных изменений.
Проведенный анализ (далеко не полный) проблемных постановок
показывает, что хотя они возникли в разных концепциях и значительно
отошли от первоначальных основ, тем не менее имеют общие
гносеологические корни и опираются в своем развитии не на положительные
идеи (гегелевскую эстетику, учение Гёте, например), а на негативные
традиции, свойственные немецкой философии. Основная проблема
философии искусства — отношение искусства к действительности —
переориентирована в современной «критической» гносеологии на
противопоставление искусства и научного знания и утверждение
недостаточности, «неистинности» последнего. В этом смысле рассмотренные
концепции являются характерным примером тенденции «преодоления»
современной буржуазной философией классических структур философского
мышления, когда под видом оспаривания традиций и создания новаций
преподносятся сложные инверсии классических способов мышления.
305
Рассмотрение искусства как средства познания в материалистической
гносеологии и эстетике показывает, что весь богатый арсенал
художественных методов широко используется на практике, в том числе в
целях познания. Не подменяя других средств познания, искусство успешно
выполняет свои функции — познавательную, социальную, эвристическую и
другие — во взаимодействии с научным знанием.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В данном труде мы пытались проанализировать роль и значение теоретико-
познавательной проблематики в философии марксизма-ленинизма, показать
ее органическую связь с реальными проблемами, возникающими в науке и
культуре, рассмотреть гносеологию диалектического материализма как
определенный итог обобщения данных конкретных наук, изучающих
познавательную деятельность человека в ее различных формах. Классики
марксизма-ленинизма неустанно подчеркивали необходимость связи
философии диалектического и исторического материализма с данными
частных наук. В работах советских философов достаточно полно раскрыта
эта органическая связь философской и конкретно-научной проблематики в
области наук о природе и обществе. Столь же необходимо раскрыть эту связь
при рассмотрении гносеологической проблематики. Так же как в настоящее
время невозможна натурфилософия, так же невозможна и теория познания,
развитие которой не опиралось бы на опыт исследования структур знания и
видов познавательной деятельности в конкретных науках, в частности в
методологии и истории науки и в культурологических исследованиях. В то
же время опора на данные конкретных наук не означает какого-либо
принижения самостоятельности философско-гносеологической
проблематики, специфики подхода философии к проблемам познания.
В данной работе, опираясь на накопленный уже в советской философии опыт
теоретико-познавательного анализа, мы рассмотрели комплекс проблем,
связанный с выяснением роли и значения теории познания в системе
философского мировоззрения под углом зрения выявления, с одной стороны,
специфики теоретико-познавательной проблематики как особого типа
проблематики философии в целом, находящейся в органическом единстве с
остальными ее компонентами, с другой стороны, динамики связи теоретико-
познавательной проблематики с задачами, встающими в процессе конкретно-
научного исследования научного познания и культуры вообще.
Очерченная выше задача исследования последовательно реализуется при
анализе целого ряда конкретных проблем.
306
В работе подчеркивается, что теоретико-познавательная проблематика,
являясь необходимым компонентом философии, выступает в то же время как
производная от исходной мировоззренческой проблематики философии. В
этой связи приобретает значение различение форм внутринаучной рефлексии
над наукой (т. е . методологического анализа, осуществляемого на таком
уровне, когда еще не вычленяется в явном и развернутом виде собственно
философская проблематика) от гносеологической рефлексии, необходимо
связанной с исследованием мировоззренческой проблематики отношения
знания к объективному миру в его всеобщности. В то же время важно
заметить, что философско-гносеологическая проблематика потенциально
заключена в любом акте рефлексии по отношению к знанию, содержится в
методологическом исследовании любого уровня. Поэтому можно с полным
правом утверждать, что философско-гносеологическое исследование
представляет собой выявление, экспликацию, развитие методологического
подхода в целом.
Очень важное значение приобретает ныне исследование гносеологических
проблем социально-гуманитарного знания. В работе сделана попытка
показать, что различные позиции субъекта в процессе человеческой
жизнедеятельности и различные типы социальной общности влияют на сам
подход к изучению познания, что так называемое «понимание» связано с
проблемой неявных и явных контекстов познавательной деятельности, что
при исследовании гносеологической проблематики гуманитарных наук имеет
особое значение учет различных уровней рефлективной деятельности
субъекта, что полнота исследования познавательного отношения человека к
миру необходимо предполагает также философское обобщение опыта
художественно-эстетического освоения действительности.
Мы отдаем себе полный отчет в том, что исследование указанной тематики в
данной книге далеко от полноты и завершения. Свою задачу мы видели
скорее в том, чтобы сформулировать целый ряд философских проблем,
диктуемых развитием специально-научного знания (в частности, знания
социально-гуманитарного и специальных наук о познании) и самой
марксистско-ленинской теории познания, а также обрисовать пути их
разработки. Разумеется, ряд предлагаемых в книге решений имеет оттенок
дискуссионности. Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что исследование
проблематики, которой посвящена книга, является важным компонентом
углубленной разработки основ марксистско-ленинской гносеологии.
307
БИБЛИОГРАФИЯ
Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. — Ленин В. И. Полн. собр.
соч., т. 18. — 52 5с.
Ленин В. И. О значении воинствующего материализма. — Ленин В. И. Полн.
собр. соч., т. 45, с. 23—33 .
Ленин В. И. Партийная организация и партийная литература, — Ленин В.
И. Полн. собр. соч., т. 12, с. 99 —105.
Ленин В. И. Философские тетради. — Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, 782
с.
Из рукописного наследства К. Маркса. — Маркс К; Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.,
т. 12, с. 709-738.
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т . 1. — Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т . 23.— 907 с.
Маркс К. Капитал. (Книга третья). — Маркс К; Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25,
ч. I, с. 29-508.
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. (Том третий). — Маркс
К; Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. П.— 551 с.
Маркс К. Капитал (Книга первая). — Маркс К; Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.
49.—55 5 с.
Маркс К. К критике политической экономии. — Маркс К; Энгельс Ф. Соч. 2-е
изд., т. 13, с. 1—167.
Маркс К. Тезисы о Фейербахе. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с.
261—266.
Маркс К. Экономическая рукопись 1861—1863 годов. —
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 47. — 650 с.
Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. — Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с. 41—174
Маркс К. Экономические рукописи 1857—1859 годов. — Маркс К., Энгельс
Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. I.—559 с.
Маркс К. Экономические рукописи 1857—1859 годов (часть
вторая).— Маркс К; Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 46, ч. П. — 618 с.
Маркс К; Энгельс Ф. Немецкая идеология.— Маркс К; Энгельс Ф. Соч. 2-е
изд., т. 3, с. 7—544.
308
Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. —
М.: Политиздат, 1966.— 71 с.
Энгельс Ф. Анти-Дюринг. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 5—
342.
Энгельс Ф. Диалектика природы. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 20,
с. 343—628.
Материалы XXV съезда КПСС. — М .: Политиздат, 1976.—256 с.
Материалы XXVI съезда КПСС. — М .: Политиздат, 1982.— 2 23 с.
Абдильдин Ж. М., Балгимбаев А. С . Диалектика активности субъекта в
научном познании. — Алма-Ата: Наука, 1977. — 30 3 с.
Автономова Н. С . Философские проблемы структурного анализа в
гуманитарных науках. (Критический очерк концепции французского
структурализма). — М .: Наука, 1977. — 271 с.
Акчурин И. А. Единство естественнонаучного знания. — М .: Наука, 1974.—
207 с.
Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В 2-х т./ Под ред. А. А.
Бодалева, Б. Ф. Ломова. — М .: Педагогика, 1980.— Т. 1 . 230 с.; Т. 2 . 287 с.
Андреев И. Д. Теория как форма организации научного знания.— М .: Наука,
1979.— 303 с.
Антология мировой философии: В 4-х томах. Т . 1. Философия древности и
Средневековья, ч. II.— М .: Мысль, 1969. — 936 с.
Асмус В. Ф. Избранные философские труды. — М .: Изд-во МГУ, 1971.— Т. II.
445 с.
Асмус В. Ф. Иммануил Кант. — М .: Наука, 1973. — 534 с.
Асмус В. Ф. Проблема интуиции в философии и математике. — М .: Мысль,
1965. — 312 с.
Баженов Л. В . Строение и функции естественнонаучной теории. — М .:
Наука, 1978.— 231 с.
Батищев Г. С . Противоречие как категория диалектической логики. — М .:
Высш. шк ., 1963.— 1 19 с.
Боткин Д. М. Итальянский гуманистический диалог XV века,— В кн.: Из
истории культуры Средних веков и Возрождения.— М .: Наука, 1976. — 315 с.
309
Боткин Л. М . Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления.— М .:
Наука, 1978.— 199 с.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М .: Искусство, 1979. — 4 24
с.
Берковский Н. Фридрих Гёльдерлин.— Вопр. лит., 1962, No 1, о. 130-164.
Бернал Дж. Наука в истории общества.— М .: Изд-во иностр. лит., 1956. —
735 с.
Богомолов А. С . Буржуазная философия США XX века. — М .: Мысль, 1974. —
343 с.
Богомолов А. С . Идея развития в буржуазной философии XIX и XX веков. —
М.: Изд-во МГУ, 1962. — 375 с.
Богомолов А. С ., Ойзерман Т. И . Основы теории историко-философского
процесса,— М .: Наука, 1983. — 286 с.
Борн М. Теория недеформируемого электрона в релятивистской
кинематике. — В кн.:
Эйнштейновский сборник, 1975—1976.— М .: Наука, 1978.— 350с.
Брудный А. А . Понимание как философско-психологическая проблема.—
Вопр. философии, 1975, No 10, с. 109—117.
Булатов А. М . Деятельность и структура философского знания.— Киев:
Наук. думка, 1976— 216 с.
Быстрицкий Е. К . Концепция: понимания в исторической: школе философии
науки. — Вопр. философии, 1982, No 11, с. 142—149.
Быстрицкий Е. К ., Филатов В. П. Познание и понимание: к типологии
герменевтических ситуаций.— В кн.: Понимание как логико-
гносеологическая проблема. — Киев: Наук. думка, 1982.— 272 с.
Васильев С. А . Философский анализ гипотезы лингвистической
относительности.— Киев: Наук. думка, 1974. —133 с.
Васильева. Т. Е ., Панченко A. И., Степанов Н. И. У. постановке-проблемы
понимания в физике.— Вопр. философии, 1978, No 7, с. 124—134.
Величковский Б. М. Современная когнитивная психология. — М .: Изд-во
МГУ, 1982. — 33 6с.
Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. — М .: Наука, 1981.-
356 с.
310
Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и
отдельными науками. Т . 1. От Возрождения до Канта. —СПб.: 1902. —464 с.
Виттгенштейн Л. Логико-философский трактат.— М .: Изд-во иностр. лит-
ры, 1958.— 132 с.
Восприятие и деятельность / Под ред. А. Н. Леонтьева,— М .: Изд-во МГУ,
1976. — 320 с.
В поисках теории развития науки/Отв. ред. С . Р. Микулинский, В. С .
Черняк. — М .: Наука, 1982.— 295 с.
Выготский Л. С . Развитие высших психических функций: Из
неопубликованных трудов. /Под ред. А. Н. Леонтьева.— М .: Изд-во АПН
РСФСР, I960.- 498 с.
Выготский Л. С . Собрание сочинений: В 5-ти т .— М .: Педагогика, 1982.— Т.
1.487с.;Т.2.502с.
Гайденко П. П. Герменевтика и кризис буржуазной культурно-исторической
традиции. — Вопр. литературы, 1977, No 5, с. 130-165.
Гайденко П. П. Философия искусства Мартина Хайдеггера. — Вопр.
литературы, 1969, No 7, с. 94-115.
Гайденко П. П. Хайдеггер и современная философская герменевтика. — В
кн.: Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. —М .: Наука, 1978.—
365 с.
Гайденко П. П. Эволюция понятия науки: Становление и развитие первых
научных программ. — М .: Наука, 1980.— 3 68 с.
Гайденко П. П. Экзистенциализм и проблема культуры. (Критика философии
М. Хайдеггера). — М .: Высшая школа, 1963. - 121 с.
Гальперин П. Я . Введение в психологию.— М .: Изд-во МГУ, 1976. — 150 с.
Геворкян Г. А . О проблеме понимания.— Вопр. философии, 1980, No 11, с.
122—131.
Гегель Г. В . Ф. Лекции По истории философии, кн. 3 .— Гегель Г. В .
Ф. Сочинения, т. XI .— М .: Л.: Соцэкгиз, 1935.—527 с.
Гегель Г. В . Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа.— Гегель Г.
В. Ф. Сочинения. М .: Соцэкгиз, 1959. Т. IV.— 434 с.
Гегель Г. В . Ф. Энциклопедия философских наук. Часть первая. Логика. —
Гегель Г. В. Ф. Сочинения. М.; Л.: Гос. изд-во, 1929. Т. I.— 368 с.
311
Гейзенберг В. Замечания о возникновении соотношения
неопределенностей.— Вопр. философии, 1977, No 2, с. 58—61.
Гейзенберг В. Физика и философия. М .: Изд-во иностр. лит ., 1963. - 208 с.
Гейзенберг В. Физические принципы квантовой теории.— Л.; М.:
Гостехиздат. 1932.— 1 46с.
Гейзенберг В. Что такое «понимание» в теоретической физике.— Природа,
1971, No 4, с. 75-77.
Гордеева Н. Д ., Зинченко В. П. Функциональная структура действия. — М .:
Изд-во МГУ, 1982.— 208 с.
Горский Д. П. Проблемы общей методологии наук и диалектической
логики.— М .: Мысль, 1966. — 374 с.
Готт В. С . Удивительный неисчерпаемый познаваемый мир.— М .: Знание.
1974. — 221 с.
Грегори Р. Л . Разумный глаз.— М .: Мир, 1972.- 209 с.
Грибанов Д. П . Философские основания теории относительности. — М .:
Наука, 1982.— 220 с.
Грязное В. С . Логика. Рациональность. Творчество.— М .: Наука. 1982. — 256
с.
Давыдов В. В . Виды обобщения в обучении.— М .: Просвещение, 1972. — 4 23
с.
Давыдов Ю. Н. Эволюция социальной философии Франкфуртской школы.—
В кн.: Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ.— М .: Наука, 1978-с .
212-265.
Джеммер М. Понятие масс в классической и современной физике. — М .:
Прогресс, 1967. — 265с.
Диалектика в науках о природе и человеке: Тр. III Всесоюз. совещ. по филос.
вопр. соврем. естествознания. / Ред-кол.: И. Т. Фролов (отв. ред.) и др. Т . 1.
Диалектика — мировоззрение и методология современного естествознания /
Отв. ред. В . В . Казютинский и др. — М .: Наука, 1983.— 494 с.
Диалектика научного познания: Очерк диалектической логики. / Отв. ред. Е.
К. Войшвилло.— М .: Наука, 1978.— 47 с.
Диалектическое противоречие.— М .: Политиздат, 1979.—341 с.
Дирак П. Принципы квантовой механики. — М .: Наука, 1979. — 480с.
312
Долгов К. М. Кант и кризис буржуазного философско-эстетического
сознания.— Вопр. философии, 1976, No 6, с. 115—127; No 7, с. 109—120.
Запорожец А. В . Развитие произвольных движений. — М .: Изд-во АПН
РСФСР, 1960.- 427с.
Запорожец А. В ., Венгер Л. А., Зинченко В. П., Рузская А. Г . Восприятие и
действие. — М .: Просвещение, 1967.—323 с.
Зинченко В. П., Мамардашвили М. К . Проблема объективного метода в
психологии.— Вопр. философии, 1977, No 7, с. 109— 125.
Зись А. Я. Диалектика содержания и формы в искусстве. — Вопр.
философии, 1966, No 8, с. 122 -133.
Золтаи Д. Музыкальная культура современности в зеркале эстетики Т.
Адорно. — Вопр. философии, 1968, No 3, с. 97— 107.
Золтаи Д. Т. Адорно и негативность философии музыки. — Вопр.
философии, 1971, No 8, с. 73—84.
Зотов А. Ф. Структура научного мышления. — М .: Политиздат, 1973.— 182 с.
Иванов В. П. Человеческая деятельность — познание — искусство. — Киев:
Наук. думка, 1977.—25 1 с.
Идеалы и нормы научного исследования. / Ред. -с ост. В . С . Степин,— Минск:
Изд-во БГУ, 1981. - 432 с.
Ильенков Э. В. Идеальное. — В кн.: Филос. энцикл., т. 2 . 1962, с. 219—227.
Ильенков Э. В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма.— М .:
Политиздат 1980.— 176 с.
Ильенков Э. В. Проблема идеального — Вопр. философии, 1979, No 6, с.
128—140; Вопр. философии, 1979, No 7, с. 145 -158.
Ильичев Л. Ф. Философия и научный прогресс: Некоторые методологические
проблемы естествознания и обществознания.— М .: Наука, 1977.— 318 с.
Ионин Л. Г. Понимающая социология: Историко-критический анализ. — М .:
Наука, 1979.— 207с.
История биологии. С древнейших времен до начала XX века. / Под. ред. С . Р .
Микулинского.— М .: Наука, 1972.— 563с.
Кант И. Сочинения: В 6-ти т / Под общ. ред. В . Ф. Асмуса, А. В . Гулыги, Т.
И. Ойзермана. Т. 2 .— М .: Мысль, 1964.— 511 с.; т. 3. —М .: Мысль, 1964. —
799 с.; т. 4, ч. I. — М.: Мысль, 1965.— 544 с.
313
Кареев Н. Общий ход всемирной истории: Очерки главнейших исторических
эпох. — СПб.: 1903.— 303 с.
Кедров Б. М . Единство диалектики, логики и теории познания. — М .:
Госполитиздат, 1963. — 295 с.
Кедров Б. М . Из лаборатории ленинской мысли: (Очерки о «Философских
тетрадях» В. И. Ленина).—М .: Мысль, 1972. — 358с.
Кедров Б. М . Ленин и диалектика естествознания XX века: Материя и
движение. — М .: Наука, 1971. - 399 с.
Кедров Б. М . О методе изложения диалектики: Три великих замысла. —М .:
Наука, 1983.— 478с.
Кедров Б. М ., Огурцов А. П. Марксистская концепция истории естествознания
(XIX в.). —М .: Наука, 1978. -663 с.
Кисселъ М. А . Судьба старой дилеммы (рационализм и эмпиризм в
буржуазной философии XX века). —М .: Мысль, 1974. - 279 с.
Коноплева И. П. Понятие инерции и принцип инерции. — В кн.: Принцип
симметрии: Историке - методологические проблемы.— М .: Наука, 1978.—
397с.
Копнин П. В . Введение в марксистскую гносеологию. — Киев: Наук. думка,
1966.— 288 с.
Копнин П. В. Диалектика как логика и теория познания: Опыт логико-
гносеологического исследования. — М .: Наука, 1973. - 324 с.
Копнин П. В . Проблемы диалектики как логики и теории познания:
Избранные философские работы.— М .: Наука, 1982.— 368 с.
Копнин П. В . Лекторский В. А . Материалистическая диалектика —
методологическая основа научного познания. — Коммунист, 1971, No 7, с.
88— 98.
Коршунов А. М . Познание и деятельность,— М .: Политиздат, 1967.- 127 с.
Коршунов А. М . Отражение, деятельность, познание—. М .: Политиздат,
1979. — 216 с.
Коршунова Л. С . Воображение и его роль в познании. — М .: Изд-во МГУ,
1979. — 145 с.
Крымский С. Б . Научное знание и принципы его трансформации. — Киев:
Наук. думка, 1974.— 207 с.
314
Кузнецова И. И. Наука в ее истории. (Методол. пробл.). — М .: Л.: Наука,
1982. — 126 с.
Кузьмин В П. Принцип системности в теории методологии К. Маркса.— М .:
Политиздат, 1980. - 312 с.
Кун Т. Структура научных революций.— М .: Прогресс, 1975. — 288 с.
Кураев В. И . Диалектика содержательного и формального в научном
познании.— М .: Наука, 1977.— 160 с.
Лакатос И. История науки и ее рациональная реконструкция. — В кн.:
Структура и развитие науки.— М .: Прогресс, 1978.- 487 с.
Ласточкин Б. А . О диалектическом объекте и модальной онтологии.— В кн.:
Диалектическое противоречие,— М .: Политиздат, 1979.— 343 с.
Лауэ М. Статьи и речи.— М .: Наука, 1969. — 367 с.
Лейбниц Г. В . Избранные философские сочинения.— М .: 1908. — 364 с.
Лейбниц Г. В . Новые опыты о человеческом разуме. М .; Л.: Гос. соц. -экон.
изд-во, 1936. — 484с.
Лекторский В. А. «Альтернативные миры» и проблема непрерывности
опыта. — В кн.: Природа научного познания.— Минск: Изд-во БГУ, 1979, с.
57—105.
Лекторский В. А. К проблеме диалектики субъекта и объекта в
познавательном процессе,— В кн.: Проблемы материалистической
диалектики как теории познания: Очерки теории и истории,— М .: Наука,
1979. — 357 с.
Лекторский В. А . «Материализм и эмпириокритицизм» и современные
проблемы теории познания. — Вопр. философии, 1979. No 5, с. 70-82.
Лекторский В. А . Проблема субъекта и объекта в классической и
современной буржуазной философии.— М .: Высшая школа, 1965.— 12 1 с.
Лекторский В. А . Субъект, объект, познание. — М .: Наука, 1980. - 357 с.
Лекторский В. А . Теория познания.— В кн.: Филос. энцикл., т. 5, с. 216-223.
Лекторский В. А, Швырев В. С . Диалектика практики и теории. — Вопр.
философии, 1981, No 11, с.
Лекторский В. А; Швырев В. С . Методологический анализ науки (типы и
уровни).— В кн.: Философия, методология, наука.— М .: Наука, 1972. —235 с.
315
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность.— М.: Политиздат,
1975. — 304 с.
Леонтьев А. Н. Проблема развития психики. 3-е изд.— М .: Изд-во МГУ,
1972.— 575 с.
Леонтьева Э. В. Искусство и реальность. Критика некоторых буржуазных
концепций худож. правды.— Л .: Наука, Ленингр. отд., 1972.—238 с.
Логвиненко А. Д . Перцептивная деятельность при инверсии сетчаточного
образа. — В кн.: Восприятие и деятельность. / Под ред. А. Н. Леонтьева.—
М.: Изд-во МГУ, 1976.—320 с.
Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов.
Экспериментально-психологическое исследование. — М .: Наука, 1974—172
с.
Лурия А. Р. Язык и сознание.— М .: Изд-во МГУ, 1979.- 319 с.
Любищев А. А Системность и организменность. — В кн.: Труды по знаковым
системам. — Тарту: Изд-во АН ЭССР, 1978, вып. 8 .
Малиновская К. В. Понимание и его роль в науке.— . Филос. науки, 1974, No
1, с. 49—55 .
Мамардашвили М. К . Анализ сознания в работах Маркса.— Вопр.
философии, 1968, No 6, с. 14 —25.
Мамардашвили М. К, Форма превращенная. — В кн.: Филос. энцикл., т. 5. —
М.: 1970, с. 386 -389 .
Мамардашвили М. К ., Соловьев Э. Ю., Швырев В. С . Классика и
современность: Две эпохи в развитии буржуазной философии.— В кн.:
Философия в современном мире: Философия, и наука. Критические очерки
буржуазной философии. — М .: Наука, 1972.— 423 с.
Мамардашвили М. К , Соловьев Э. Ю., Швырев В. С . Классическая и
современная буржуазная философия. (Опыт эпистемологического
сопоставления) .— Вопр. философии, 1970, No 12, с. 23-38.
Манин Ю. И. Доказуемое и недоказуемое. — М .: Соврадио, 1979. — 167 с.
Марков М. А. О природе материи.— М .: Наука, 1976.— 216с.
Марксистская философия в XIX веке: В 2-х кн .— М .: Наука, , 1979.— Кн. 1.
486 с.; Кн. II . 398с.
Материалистическая диалектика. Краткий очерк теории. /Отв. ред. П. Н.
Федосеев. — М .; Политиздат, 1980. — 287 с.
316
Материалистическая диалектика как общая теория развития. / Под рук. и
общ. ред. Л. Ф. Ильичева. Кн. 2. Диалектика развития научного знания. / Ред.
И. С . Нарский и др.—М .: Наука, 1982.— 464 с.
Max Э. Механика: Историко-критический очерк ее развития.— СПб.: 1909. -
446 с.
Мейен С. В ., Соколов Б. С ., Шрейдер Ю. А . Классическая и неклассическая
биология: Феномен Любищева. — Вестник АН СССР, 1977, No 10, с. 112 -124 .
Мелюхин С. Т . Проблемы философской теории материи.— Филос. науки,
1974, No 5, с. 57—68.
Меркулов И. П. Гипотетико-дедуктивная модель и развитие научного знания:
Проблемы и перспективы методологического анализа.— М .: Наука, 1980.—
189 с.
Методологические проблемы взаимодействия общественных, естественных и
технических наук. / Отв. ред. Б. М . Кедров и др. — М .: Наука, 1981.— ЗвО с.
Методологические проблемы историко-научных исследований./Отв. ред. И.
С. Тимофеев.— М .: Наука, 1982.— 36 0 с.
Микулинский С. Р . Мнимые контраверзы и реальные проблемы теории
развития науки. — Вопр. философии, 1977, No 11, с. 88-104.
Микулинский С. Р . Современное состояние и теоретические проблемы
истории естествознания как науки.— Вопр. философии, 1976, No 6, с. 74— 86.
Михайлов А. В . Концепция произведения искусства у Теодора Адорно. — В
кн.: О современной буржуазной эстетике. Вып. 3 .— М .: Искусство, 1972. - 368
с.
Михалев В. П., Федорук В. С . и др. Художественное произведение в процессе
социального функционирования.— Киев: Наук. думка, 1979.
Мотрошилова Н. В . Познание и общество: Из истории философии XVII—
XVIII веков. — М .: Мысль, 1969.— 296 с.
Мудрагей Н. С . Проблема рационального и иррационального: античность,
Средневековье. — Вопр. философии, 1982, No 9, с. 107-116.
Науменко Л. К . Диалектико-материалистическая философия в современном
мире.— Коммунист, 1979, No 14, с. 39—52.
Науменко Л. К . Монизм как принцип диалектической логики.— Алма-Ата:
Наука, 1968.— 327 с.
Наумова Н. Ф. Человек рационален? — Знание — сила, 1981, No10.
317
Никитин Е. П. Объяснение — функция науки.— М .: Наука, 1979.— 280 с.
Никитин Е. П. Природа обоснования: Субстратный анализ.— М .: Наука,
1981.— 176 с.
Нильс Бор и развитие физики.— М .: Изд-во иностр. лит-ры, 1958.— 258 с.
Ницше Ф. Собрание сочинений. —М .: 1911. Т . 3. 349 с; Т. 9. 362 с.
Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. / Отв. ред. В . Т .
Григорян.— М .: Наука, 1978. — 365 с.
Овсянников М. Ф. Искусство и капитализм.— М .: Искусство, 1979. — 343 с.
Ойзерман Т. И. Диалектический материализм и история философии:
Историко-философские очерки. — М .: Мысль, 1979.— 308 с.
Ойзерман Т. И. Проблемы историко-философской науки. — М .: Мысль,
1969.— 398 с.
Омельяновский М. Э. Диалектика в современной физике.— М .: Наука,
1973.— 324 с.
Органова О. Н. Специфика эстетического восприятия.— М .: Высшая школа,
1975.— 224 с.
О современной буржуазной эстетике. Вып. 4 .— М .: Искусство, 1976.— 160 с.
Петров В В. Семантика научных терминов. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд.,
1982.— 127 с.
Пилипенко Н. В Диалектика необходимости и случайности.— М .: Мысль,
1980.- 263 с.
Платон. Сочинения: В 3-х томах, т. 2. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф.
Асмуса. — М .: Мысль, 1970. — 611 с.
Полторацкий А. Ф., Швырев В. С . Знак и деятельность.— М .: Политиздат,
1970.— 117 с.
Понимание как логико-гносеологическая проблема. Сб. научн. трудов. / Отв.
ред. М . В . Попович.— Киев: Наук. думка, 1982. — 272 с.
Попович М. В . Очерк развития логических идей в культурно-историческом
контексте.— Киев: Наук. думка, 1979.— 2 43с.
Прахт К. О специфике искусства. — Вопр. философии, 1974, No 3, с. 155 —
161.
Принцип симметрии: Историко-методологические проблемы. — М .: Наука,
1978.— 397 с.
318
Природа научного познания: Логико-методологический аспект./Ред. и сост.
В. С . Степин. — Минск: Изд-во БГУ, 1979. — 27 1 с.
Проблемы материалистической диалектики как теории познания: Очерки
теории и истории./Отв. ред. В . А. Лекторский. — М .: Наука, 1979.— 357 с.
Проблема человека в «Экономических рукописях 1857—1859 годов» К.
Маркса. — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовск. ун-та, 1977. - 170 с.
Протасова К. С . Ф. Гёльдерлин, его время, жизнь и творчество.— Ученые
зап. МГПИ им. В . И. Ленина, 1962, No 180.
Пружинин Б. И. Проблема рациональности в англо-американской
«философии науки». — Вопр. философии, 1978, No 6, с. 135-146.
Пугачев И. Н. Марио Бунге: Трактат об основаниях философии. — Вопр.
философии, 1979, No 10, с. 144—147 .
Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. —М .: Наука,
1979.- 391с.
Радхаккришнан С. Индийская философия, т. I. — М .: Изд-во иностр. лит.,
1956.— 623 с.
Ракитов А. И. Историческое познание (системно-гносеологический
подход).— М .: Политиздат, 1982.— 303 с.
Ракитов А. И. Философски» проблемы науки. (Системный подход).— М .:
Мысль, 1977.-2 70 с.
Роговин М. С Динамика соотношения понимания и перевода в познании.—
Вопр. философии, 1981, No 2, с. 132-143.
Розов А. А . Проблемы эмпирического анализа научных знаний. —
Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1977.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии.— М .: Наука, 1957.
Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. — М .: Наука, 1969.
Садовский В. Н. Основания общей теории систем: Логико-методологический
анализ. — М .: Наука, 1974. —279 с.
Сачков Ю. В. Научный метод: вопросы его структуры.— Вопр. философии,
1983, «N», с. 31—41.
Смирнов В. А . Уровни и этапы процесса познания.— В кн.: Проблемы логики
научного no-знания.— М .: Наука, 1964.— 4 10 с.
Спиноза Б. Этика. —М .; Л.: Гос. соц.- экон. изд-во, 1932.—222 с.
319
Спиркин А. Г . Сознание и самосознание.— М .: Политиздат, 1972. - 303 с.
Степин В. С . Становление научной теории: Содержательные аспекты
строения и генезиса теоретических знаний физики.— Минск: Изд-во БГУ,
1976. - 379 с.
Сталин В. В . Исследование порождения зрительного пространственного
образа.— В кн.: Восприятие и деятельность.— М .: Изд-во МГУ, 1976.— с .
101—208.
Структура и развитие науки.— М .: Прогресс, 1978.—487 с.
Тавризян Г. М . «Экзистенциальный мир» как антипод социального бытия во
французском экзистенциализме. — В кн.: Человек и его бытие как проблема
современной философии.— М .: 1978. — с . 135—157.
Томсон Дж. Исследования по истории древнегреческого общества: Первые
философы. Т. П. — М .: 1959.
Трубников Н. Н. О категориях «цель», «средство», «результат».— М .:
Высшая школа, 1968.— 148 с.
Трубников Н. Н. Проблема времени в свете философского мировоззрения.—
Вопр. философии, 1978, No 2, с. 111 -121 .
Тюхтин В. С . Отражение, системы, кибернетика: Теория отражения в свете
кибернетики и системного подхода.— М .: Наука, 1972.- 256 с.
Фарман И. П. К критике концепции культуры философов Франкфуртской
школы.— В кн.: Философия и идеология Франкфуртской школы.— Прага:
АН ЧССР, 1976, с. 291-319 (на чешек, яз.) .
Федосеев П. Н. Диалектика современной эпохи. 3 -е изд.— М .: Мысль, 1978.
—
656 с.
Федосеев П. Н. Марксизм в XX веке: Маркс, Энгельс, Ленин и
современность. 2 -е изд.— М .: Мысль, 1977.—6 38 с.
Фейнберг Е. Л . Кибернетика, логика, искусство. — М .: Радио и связь, 1981.—
144 с.
Фейнман Р., Лейтон Р, Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Вып.
3/4.— М .: Мир, 1976. — 492 с.
Физическая наука и философия.- М .: Наука, 1973.- 351 с.
Философия в современном мире: Философия и наука. Краткие очерки
буржуазной философии. — М .; Наука, 1972.— 423 с.
320
Философия, естествознание, современность: Итоги и перспективы
исследований, 1970—1980 гг./Под общ. ред. И. Т . Фролова, Л. И. Грекова.—
М.: Мысль, 1981.—351 с.
Философия, методология, наука. / Отв. ред. В . А. Лекторский. — М .: Наука,
1972.- 235 с.
Философия. Религия. Культура: Критический анализ современной
буржуазной философии. / Отв. ред. Г . М . Тавризян. — М .: Наука, 1982.— 397
с.
Фихте И. О понятии наукоучения, или так называемой философии.— Фихте
И. Г. Избранные сочинения.— М .: 1916.— 5 22 с.
Фок В. А. Дискуссия с Нильсом Бором.— Вопр. философии, 1964, No 8, с.
49—52.
Фок В А. Квантовая физика и философские проблемы.— В кн.: Физическая
наука и философия.— М .: Наука, 1973.— 351 с.
Франк Ф. Философия науки: Связь между наукой и философией. — М .: Изд-
во иностр. лит -ры, I960.—5 42 с.
Фролов И. Т. Жизнь и познание: О диалектике в современной биологии. —
М.: Мысль, 1981.— 268с.
Фролов И. Т. Перспективы человека: Опыт комплексной постановки
проблемы, дискуссии, обобщения. — М .: Политиздат, 1979.— 336 с.
Целищев В. В, Карпович В. Н., Поляков И. В . Логика и язык научной
теории. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1982. - 2 45 с.
Чудинов Э. М . Природа научной истины.— М .: Политиздат, 1977. — 312 с.
Чудинов Э. М . Теория относительности и философия— М .: Изд-во полит,
лит-ры, 1974.— 304с.
Шварц Т. От Шопенгауэра к Хайдеггеру.— М .: Прогресс, 1964. — 359 с.
Швырев В. С, Неопозитивизм и проблемы эмпирического обоснования
науки.— М .: Наука, 1966.— 215 с.
Швырев В. С . Теоретическое и эмпирическое в научном no-знании,— М .:
Наука, 1978.— 382с.
Швырев В. С ., Юдин Б. Г. Методологический анализ науки: (Его сущность,
основные типы и формы). — М .: Звание, 1980.— 64с.
Шептулин А. П. Диалектический метод познания,— М .: Госполитиздат,
1983.— 320 с.
321
Шинкарук В. И. Единство диалектики, логики и теории познания. Введение в
диалектическую логику. —Киев: Наук. думка, 1977.— 367 с.
Шинкарук В. И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. (Проблема
тождества до-гики, диалектики и теории познания в философии Гегеля).—
Киев: Изд-во Киевск. ун-та, 1964 No — 295 с.
Шинкарук В. И. Теория познания, логика и диалектика И. Канта. (И. Кант как
родоначальник немецкой классической философии). — Киев: Наук. думка,
1974.— 335 с.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление,— М .: 1900, т. I, ч. II . Вып. 4.
Шпет Г. История как проблема логики: Критические и методологические
исследования, ч. I. Материалы. — М .: 1916.— 476с.
Шрейдер Ю. А . Взаимодействие наук и синтез знания.— Природа, 1979, No
10, с. 64—69.
Шрейдер Ю. А . Сложные системы и космологические принципы. — В кн.:
Системные исследования: Ежегодник 1975.— М .: Наука, 1976.—21 5 с.
Шрейдер Ю. А. Теория множеств и теория систем.— В кн.: Системные
исследования: Ежегодник 1978. — М .: Наука, 1978. — 272 с.
Эддингтон А. С . Теория относительности.— М .; Л.: Гостехиздат, 1934.—508
с.
Юдин Б. Г. Объяснение и понимание в научном познании. — Вопр.
философии, 1980, No 9, с. 51 -63.
Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности: методологические
проблемы современной науки. — М .: Наука, 1979. — 391 с.
Юм Д. Исследование о человеческом уме. 2 -е изд.— Пг., 1916.— 195 с.
Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания. — СПб.,
1907. —732 с.
Эйнштейн А. Собрание научных трудов.— М .: Наука, 1965. Т . I. — 700 с.
Эйнштейн А. Собрание научных трудов.— М .: Наука, 1967. Т. IV.— 599 с.
Эйнштейн А. Сущность теории относительности. — М .: Изд-во иностр. лит.,
1955. —159 с.
Abel Th. The operation called «Verstehen».— In: Reading in the philosophy of
science. N Y 1953
Adorno Тh. W. Asthetische Theorie. Frankfurt a. М .: Suhrkamp VerL, 1970. 544 S.
322
Adorno Th. W. Einleitung in die Musiksoziologie. Zwolf theoretische Vorlesungen.
Frankfurt a. М.: Suhrkamp Veri., 1962. 241 S.
Adorno Th. W. Negative Dialektik. Frankfurt a. М .: Suhrkamp VerL, 1966. 406 S.
Adorno Th. W. Philosophic der neuen Musik. Tubingen, 1949. 203 S.
Agassi J. The logic of inquiry. — Synthese, Amsterdam, 1974, vol. 26, N 3/4, p.
498—514 .
Apel К. О. Analytic philosophy of language and the Geisteswis-senschaften.
Dordrecht, Holland: D. Reidel Publ. Co, 1967. 63 p.
Bridgman P. W. Einstein's theories and the operational point of view. — In: Albert
Einstein: philosopher-scientist. L ., 1949.
Bridgman P. W. The logic of modern physics. N. Y.: Macmillan, 1961. 228 p.
Criticism and the growth of knowledge/Ed, by I. Lakatos, A. Musgrave.
Cambridge: Cambridge Univ. press, 1970. 282р.
Feyerabend P. Against method: Outlines of an anarchistic theory of knowledge.
L.: NLB, 1975. 339 p.
Dilthey W. Gesammelte Schrif-ten. Stuttgart: Feubner, 1968. Bd. 5 . 442 S.
Gadamer H. G. Truth and method. N. Y., 1975.
Explorations in phenomenology: Papers of the society for phenomenology and
existential philosophy. The Hague: М. Nijhoff, 1973. 448 p.
Jaspers K. Existenzphilosophie. Drei Vorlesungen gehalten am Freien Deutschen
Hochstift in Frankfurt a. М ., September 1937. Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter
und Co, 1938. 86 S.
Jaspers K. Way to wisdom: An introduction to philosophy. New Haven: Yale
Univ. press, 1959. 208 p.
Habermas I. Legitimationsprob-leme im Spatkapitalismus.
Frankfurt a. М .: Suhrkamp Veri., 1973. 195 S.
Habermas J. Reconstruktion des historischen Materialismus. 2 Aufl. Frankfurt
a. М .: Suhrkamp Veri., 1976. 346 S.
Heidegger М. Erianterungen zu Holderiins Dichtung. Frankfurt a. М ., 1951.
Heidegger М. Nietzsche. Pfullin-gen: Neske, 1961. Bd. I/II.
Heisenberg W. Der Tiel und das Ganze. Gesprache im Umkreis der Atomphysik.
Munchen: Piper, 1971. 334 S.
323
Kelly Th. R. Explanation and reality in the philosophy of Emile Meyerson.
Princeton: Princeton Univ. press, 1937. 133 p.
Kierkegaard S. Concluding unscientific postcript. Princeton, 1944.
Kierkegaard S. Gesammelte Wer-ke. Jena: Diederichs, 1925. Bd. VI. 343 S.
Koyre A. Etudes d'histoire de la pensee scientifique. P .: Presses Univ. de France,
1966. 372 p.
Koyre A. L'hypothese et 1'experi-ence chez Newton.— In: Etudes newtoniennes.
P., 1968.
Kuhn T. S . Logic of discovery or psychology of research? — In:
Criticism and the growth of knowledge / Ed. by I. Lakatos, A. Musgrave.
Cambridge:
Cambridge Univ. press, 1970, p. 1-24 .
Lakatos I. Falsification and the methodology of scientific research programms. —
In: Criticism and the growth of knowledge/Ed. by I. Lakatos, A. Musgrave.
Cambridge: Cambridge Univ. press, 1970. 282 p.
Liebert A. Geist und Welt der Dialektik. I . Grerndlegung der Dialektik. В .: Pan —
Veri. Kurt Metzner, 1929. 470 S.
Lowtth K. Nature, history and existentialism/Ed, by A. Levi-son. Evanston:
Northwestern Univ. press, 1966. 220 p.
Marcase H. Das Ende der Utopie. В .: Krog. von H. Kurnizky, H. Kuhn, 1967. 150
S.
Marcuse H. Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der
fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Neuwied; Berlin:
Luchterhand Veri, 1971. 282 S.
Marcase H. Konterrevolution und Revolte. Frankfurt a. M ., 1973.
Marcase H. Philosophie und kritische Theorie. — In: Kultur und Gesellschaft I.
Frankfurt a. M .:
Suhrkamp Verl., 1965. 177 S.
Marcase H. Reason and revolution: Hegel and the rise of social theory. Boston:
Beacon press, 1960. 431 p.
Marcase H. Vernunf und Revolution: Hegel und die Entstehung der
Gesellschaftstheorie. Darmstadt; Neuwied: Luchterhand Verl., 1972. 399 S .
324
Meyerson E. De 1'explication dans les sciences. P .: Payot et Co, 1921. Т . I. 338 p.
Meyerson E. De 1'explication dans les sciences. P.: Payot et Co, 1921. Т . II . 470 p.
Meyerson E. Explication. — In:
Encyclopedia Britannica, 1946, vol. 8 . 986 p.
Nagent W. Creative history. Philadelphia: Lippincott, 1973. 178р.
Piaget J. Introduction a 1'epistemologie genetique. T . I. La pen-see
mathemathique. 361 p. T. II. La pensee physique. 355 p. T . III. La pensee
sociologique. 344 p. P.: Presses Univ. de France, 1950,
Polaayi M. Personal knowledge. Towards a post-critical philosophy. Chicago
(111.): The Univ. of Chicago press, 1958. 428р.
Polanyi M., Prosch H. Meaning. Chicago; London: The Univ. of Chicago press,
1975. 246 p.
Popper K. R . The logic of scientific discovery. N. Y.: Basic Books, 1959. 480 p.
Popper K. R . Objective knowledge: An evolutionary approach. Oxford: Clarenton
press, 1972. 380р.
Postan M. Fact and relevance. Essay on historical method. Cambridge, 1971.
Vol. XI.
Ricoeur P. Creativity in language. Word. Polysemy. Methaphor.— Philosophy
Today, 1973, vol. 17, N2—4.
Ricoeur P. Human sciences and hermeneutical method: Meaningful action
considered as a text.— In: Exploration in phenomenology. The Hague, 1973.
Social processes of scientific development/Ed. by B. Whitley. London; Boston:
Rontledge and Kegan Paul, 1974. 286 p.
Qaine W. V . 0. Epistemology naturalised.— In: The psychology of knowing / Ed.
by J. R . Roy-ce, W. W. Bozeboom. N. Y.; P.:
Gordon and Breach, 1972. 496 p.
Qaine W. V . 0. Ontological relativity and other essays. N. Y.;
L.: Columbia Univ. press, 1969. 165р.
325
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Бессознательное — 305, 315, 316, 318, 319
—
рационализация бессознательного — 316—318
—
языковый характер бессознательного — 318—319
Воображение — 329, 358, 359 Восприятие — 286—289 Вчувствование
(эмпатия) — 276—277, 286
Герменевтика — 280, 289, 301, 304
Гипотетико-дедуктивная модель —146, 147
Гносеологизм —10, 12, 19—21, 305
Гуманитарные науки
—
как анализ сознания — 308— 311
—
конструирование — 305—307
—
критика интроспектизма— 319
—
их объект — 307, 312
—
обоснование — 320
—
их самосознание — 310—311
—
их соотношение с философией - 303, 306-308, 322
Диалог — 296—297
Диалектика
—
диалектика, логика и теория познания — 11—13, 28—29, 57, 181
—
диалектика логического и исторического — 13, 28, 126, 149, 150, 154, 155,
177
—
«негативная диалектика» — 349, 350, 352
Знание
—
гуманитаризация знания — 5, 192
—
внеисточниковое — 196
—
неявное — 132, 291, 292
—
обыденное — 42, 274, 290, 296—300
Интерпретация — 287, 288, 291, 298, 300—303
326
Интерсубъективность — 288—291, 297
Истина — 13, 151, 203, 230, 281 Интериоризация и овещнение —263
Искусство и познание — 325— 330, 332, 333, 336, 343, 344, 346, 352, 356—
358, 363
История
—
внешняя история — 217, 218
—
внутренняя история — 217, 218, 219
—
историческая истина — 203
—
исторический источник — 197, 199, 204, 208, 212, 213
—
исторический факт — 201, 202, 203, 204, 205
—
история науки (реальный процесс) — 154
—
мысленная история (повествовательная история) — 197, 199, 200, 212, 224,
230
—
объективная история (реальная история) — 197, 200, 206, 212, 217, 219,
224, 230
Метафора
—
как синкретическое единство реальности — 314
—
как перенос методов в гуманитарном знании — 314—316, 319
Методологическая функция теории познания — 57—60, 128— 129, 133—135,
138, 139, 150, 151, 181, 365
Мировоззрение — 9, l3
—
мировоззренческая функция теории познания — 24, 93—104, 163, 231-249
Наивный реализм в теории познания —197—199, 203—205, 221
Неклассическая наука —184
Неопределенностей соотношение — 72, 73, 74, 86, 87
Ноосфера — 190
Объект
—
идеальный — 63, 76 «Обоснования концепция» — 142, 143, 148
Освещение — 250
—
знания — 253, 254, 257, 272
327
—
поступков — 260
—
предметов — 251, 255
—
произведений — 259, 260, 261, 262
—
отношений — 254, 262, 263
—
человека — 254, 264
Онтология—22, 23, 24, 91, 92, 93, 94-122
—
классическая — 99, 100, 104— 109, 114
—
неклассическая — 100—104, 108-122
—
онтологический статус научной теории — 61, 62, 65, 72, 73, 78, 79, 82, 83,
86, 89, 90
—
онтологическая примитивность мира —184 Онтологизм —13 Отражение
—
3, 4, 11, 27—29, 47, 48, 53, 55, 63, 77-79, 90, 326- 328
Познавательные установки —181
Понимание — 273—290
—
перцептивное — 287, 288, 289, 290
—
проблема понимания — 238
—
ситуации понимания — 280, 282, 292-304
—
элементарные акты — 282, 291
—
и язык — 290, 291, 295, 296, 297, 298, 299
Постпозитивизм — 157
Презентизм — 206
Принцип наблюдаемости — 65, 66, 67, 68, 74, 77
Принцип предметной практической деятельности в теории познания—4, 13,
26, 28, 38— 41, 50, 90, 133, 134, 172, 173, 225, 226, 274
Предпосылочность познания — 283-285, 293
Рационализация — 321, 323 Рациональность — 160, 162, 168, 169
—
рациональная реконструкция
истории науки — 196, 217, 218, 219
Рационализм — 308
328
Революция научная — 61, 62, 65, 69, 74, 76, 77, 79, 90
—
революция научная в естествознании XX в.— 58, 59 Релятивизм
—
объективный релятивизм — 220, 221
—
субъективный релятивизм— 206, 219, 221
Рефлексия в ее гносеологическом смысле — 5, 18, 20, 22, 51-60, 131, 132,-
134, 139, 308, 310, — 311, 322, 338, 343, 350, 361
—
внутринаучная рефлексия— 59, 150, 152, 154, 155, 164
—
дорефлексивные уровни сознания и культуры—310, 323
Символизм — 111 Системный подход — 184, 185 Созерцание — 329, 333
Сознание
—
бытие сознания — 309, 310
—
объективное исследование — 310
—
сознание через сознание—312, 319
Структурализм
—
как методология—311
—
как подход к анализу сознания — 312 Сциентизм —101
—
антисциентизм — 101, 102
—
и овещнение — 266
Теория научная
—
предметная область теории научной -61,- 64, 66, 72-74, 81-83, 85, 86, 89
—
референты теории научной — 47, 48, 78, 79, 81, 90
Теория познания (гносеология, эпистемология) — ее типы в современной
зарубежной философии:
—
«абсолютистская» установка в теории познания — 35—38
—
«анархизм» в теории познания — 33
—
генетическая эпистемология—32
—
«критическая гносеология» — 330, 331, 333—336, 340, 360—363
—
«натурализованная эпистемология» — 32
—
психологизм в теории познания — 43, 44, 45, 46
329
—
«эпистемологический иррационализм» (в социологии науки) —171
Фетишизация — 257 Физическая реальность — 86, 87, 89
Человека проблема —102, 117, 118, 119
—
в теоретико-познавательном ее определении — 246—249
Эксперимент научный — 61, 79. 80, 81, 83—90
Эмпиризм логицистский —123, 124
Эмпирия научная — 75, 76, 82, 83, 86
Эмпирический базис теории познания — 33—50
Язык-307, 308, 313-316, 318
—
наука о языке — 306, 307, 314
—
общефилософский интерес к языку — 313, 314 Я — 255, 266, 268—272
330
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ................. 3
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Теория познания, онтология, мировоззрение
Единство мировоззренческого и теоретико-познавательного аспектов в
марксистской философии. В. А. Лекторский, В. С. Швырев ............. 9
Специфика теоретико-познавательного исследования в системе
диалектического материализма. В. А. Лекторский .................... 31
Проблемы онтологии в философском анализе научного познания. Н. Н.
Пугачев ............ 60
Проблема взаимоотношения гносеологии и онтологии в немарксистской
философии. Н. С. Мудрагей, Е. П. Никитин .................... 91
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Теория познания, методология науки, теоретическая история науки
Теория познания и методологический анализ науки. В. С. Швырев
................. 123
Историзация методологической рефлексии науки и гносеология. Б. И.
Пружинин ........... 149
Теория познания и феномен науки. Ю. А. Шрейдер 173
Гносеологические основания истории науки. В. С. Черняк
..................... 194
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Теория познания и социально-гуманитарное знание
Познание в трехмерном измерении и проблема человека. Н. Н. Трубников
.............. 231
Проблема овещнения и ее гносеологическое значение (в свете
Марксовой концепции овещнения). Г. С. Батищев ................... 250
Теория познания и проблема понимания. Е. К. Быстрицкий, В. П.
Филатов ............. 273
Проблема взаимосвязи между гуманитарными науками и теорией
познания (на материале семиотически ориентированных гуманитарных
наук). Н. С. Автономова 304
331
Теория познания и философия искусства (критико-теоретический
очерк). И. П. Фарман ....... 324
Вместо заключения ........ ...... 364
Библиография ................ 367
Предметный указатель ........ 379
Авторы:
Владимир Семенович Черняк
Владимир Сергеевич Швырëв
Владислав Александрович Лекторский
Инна Петровна Фарман
Наталия Семёновна Автономова
Нелли Степановна Мудрагей
Николай Николаевич Трубников
Генрих Степанович Батищев
Владимир Петрович Филатов
Евгений Константинович Быстрицкий
Борис Исаевич Пружинин
Юлий Анатольевич Шрейдер
Николай Никитич Пугачёв
Евгений Петрович Никитин
Гносеология в системе философского мировоззрения / [В. А. Лекторский,
В. С. Швырев, Н. Н. Пугачев и др.; Отв. ред. В. А. Лекторский]. - М.:
Наука, 1983. - 383 с.; 21 см.; ISBN В пер. (В пер.): 2 р. 40 к.