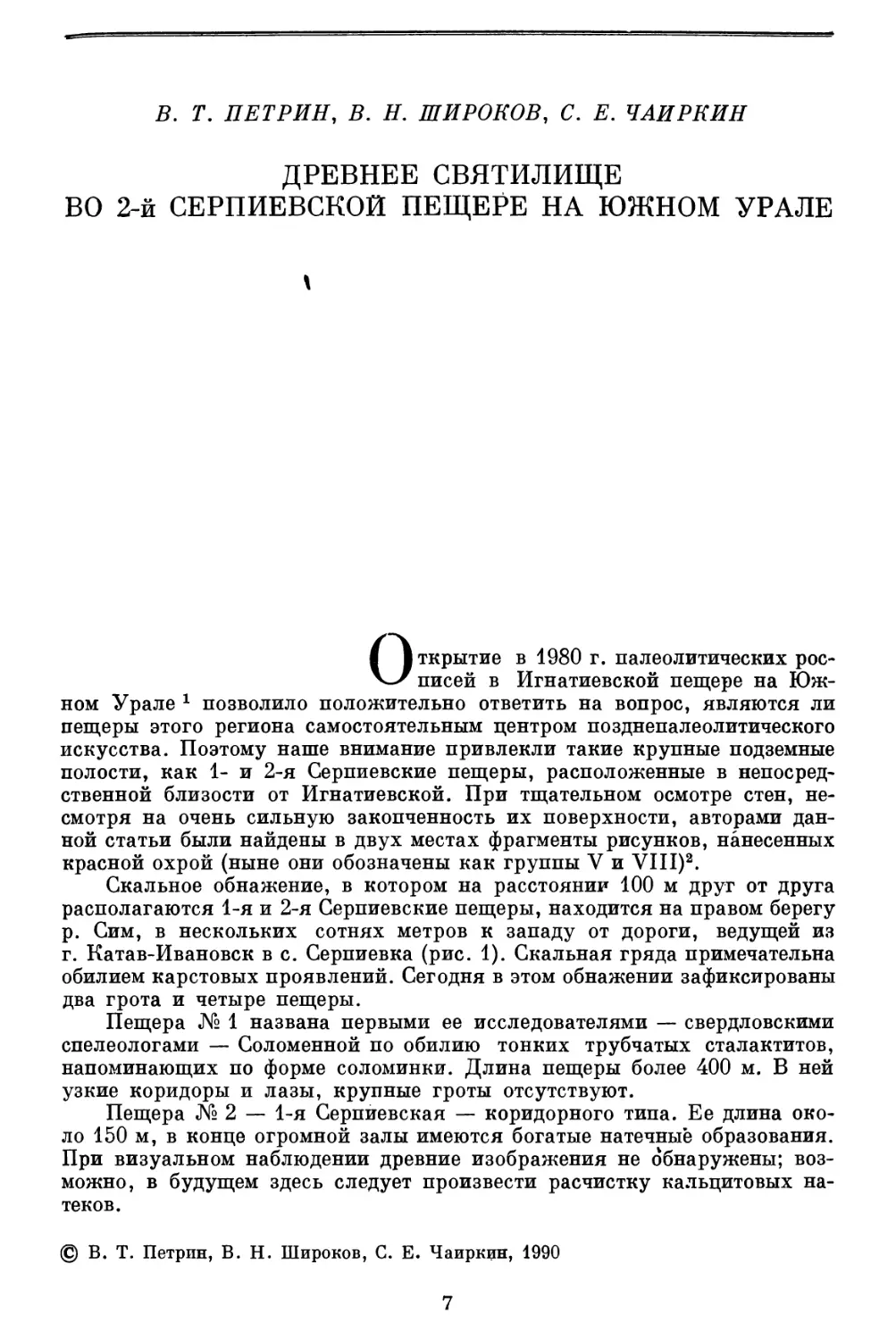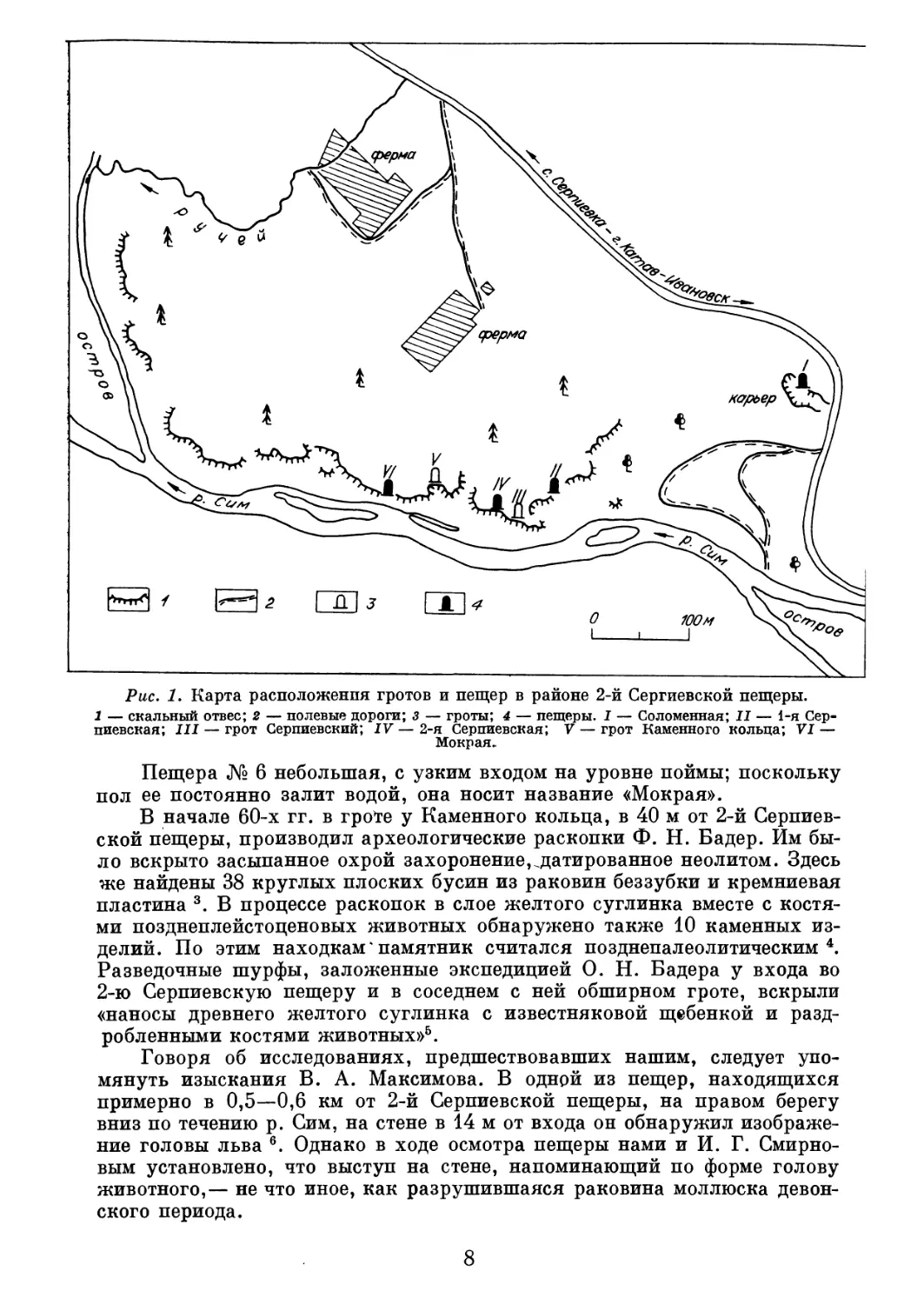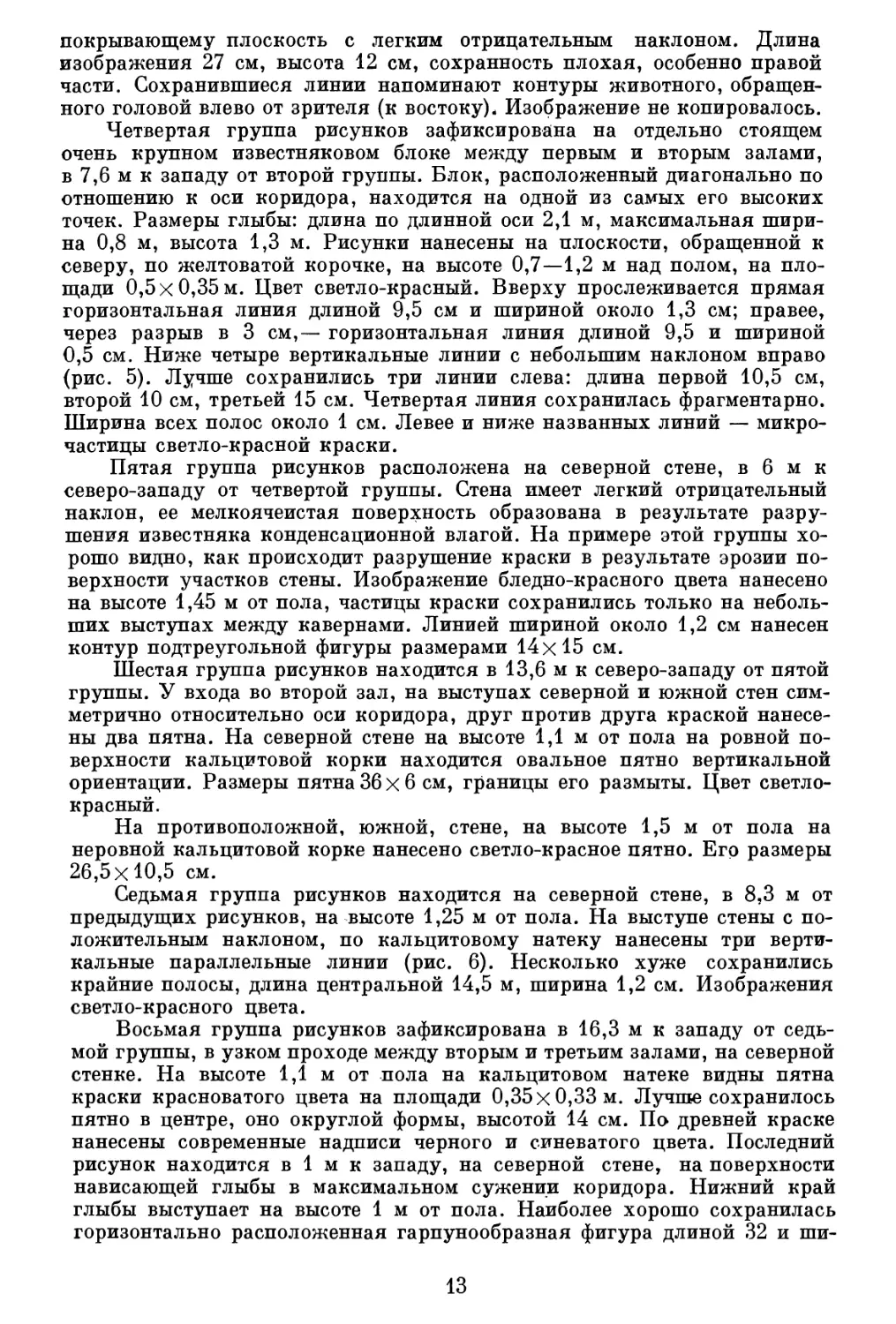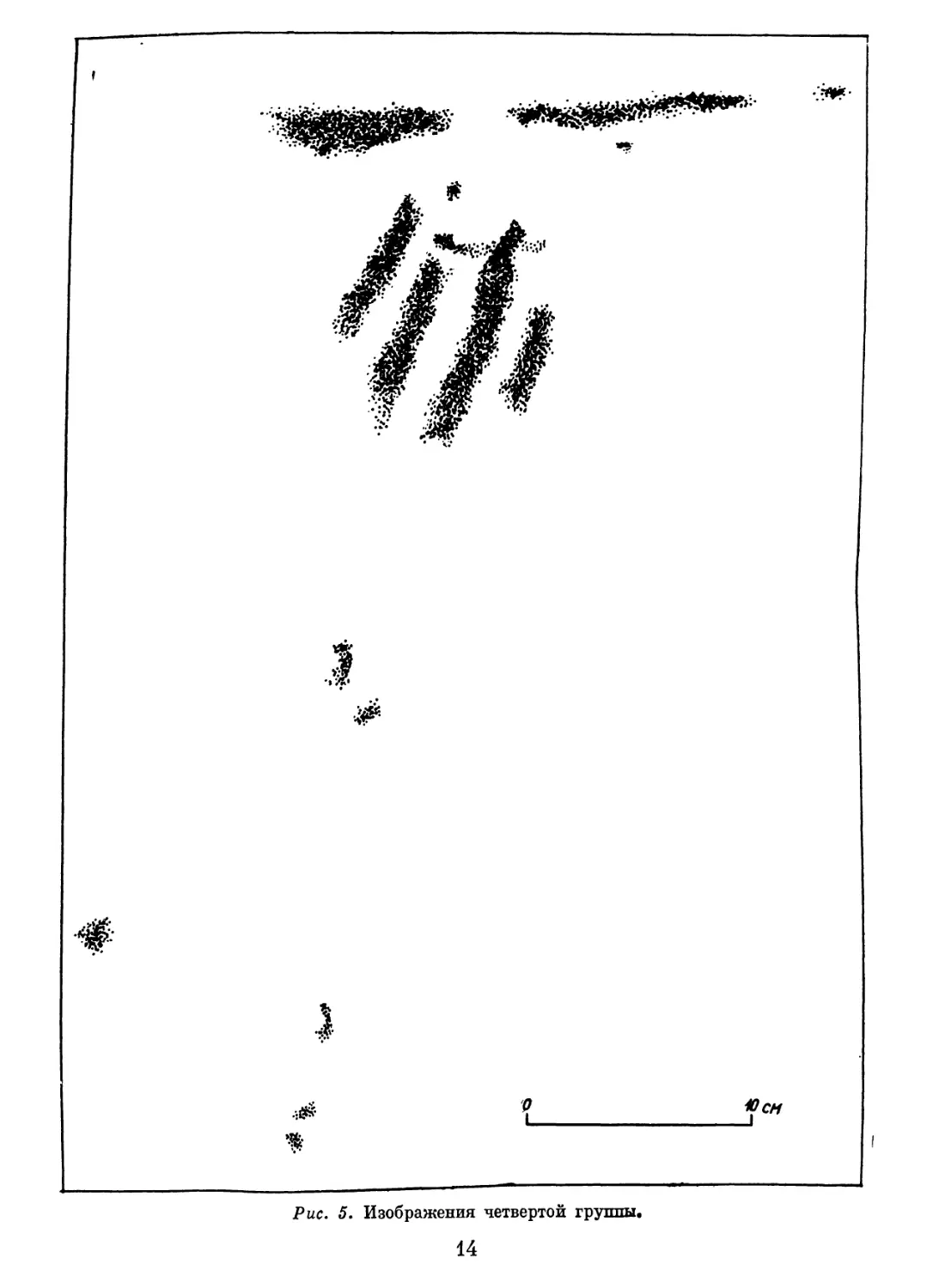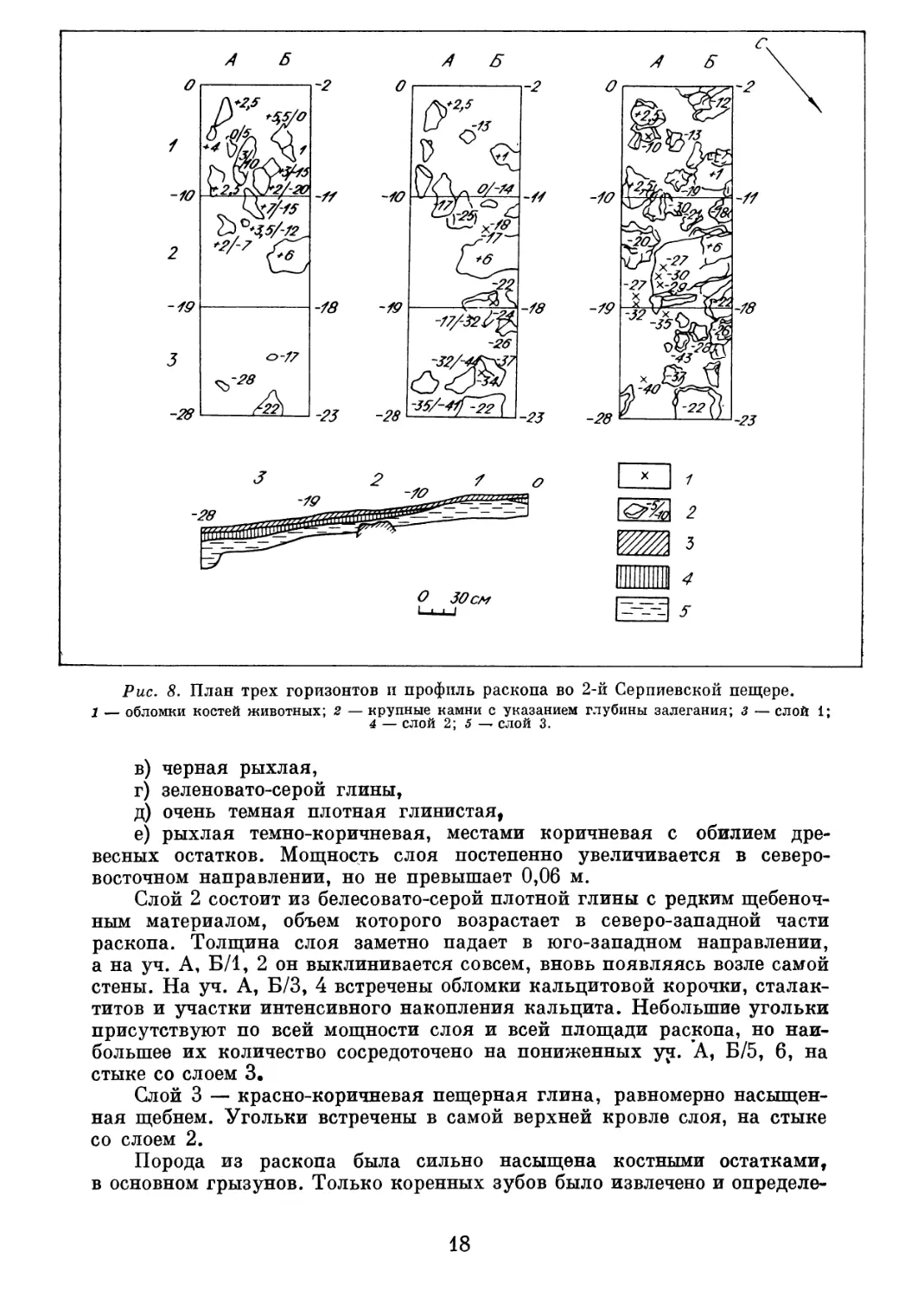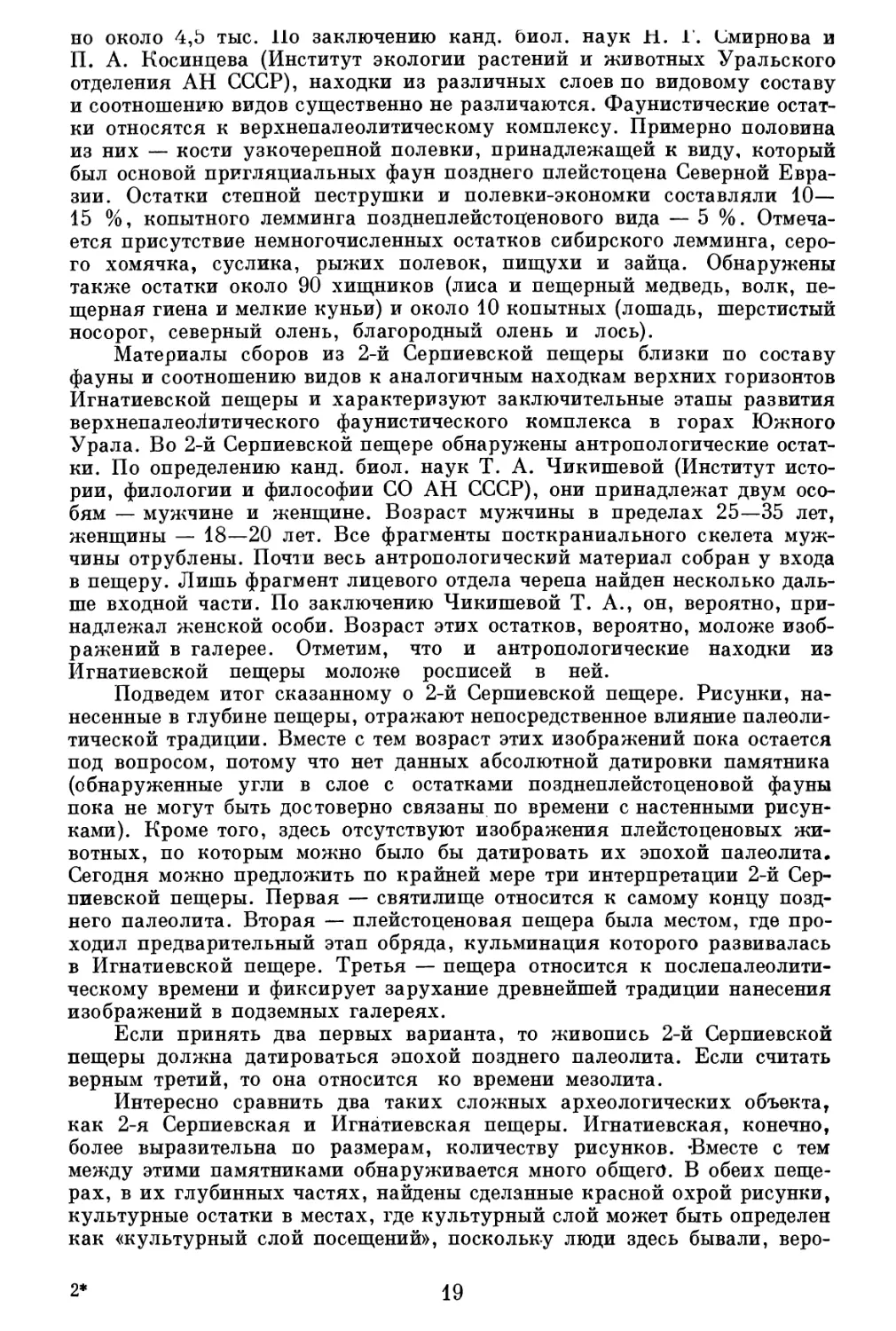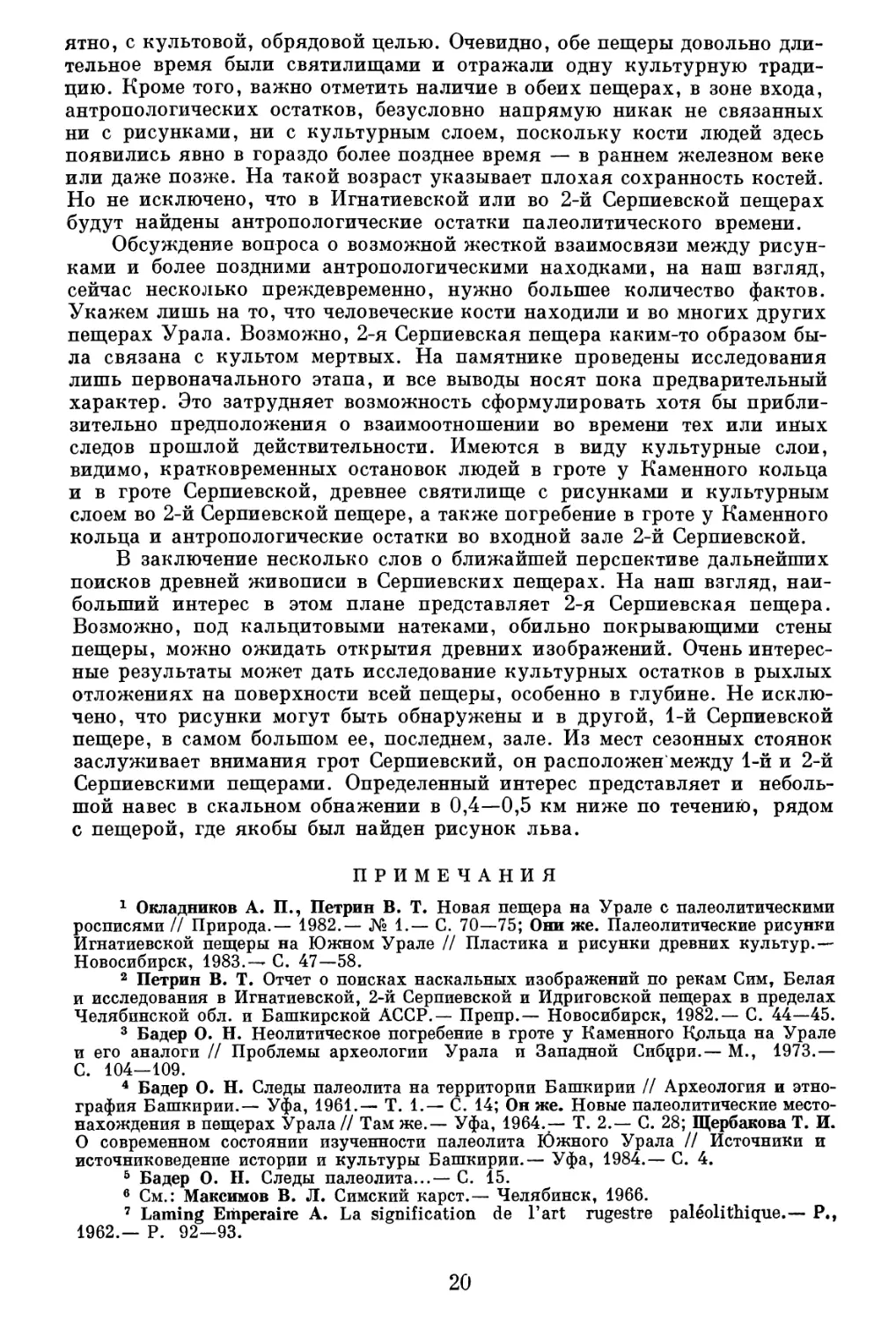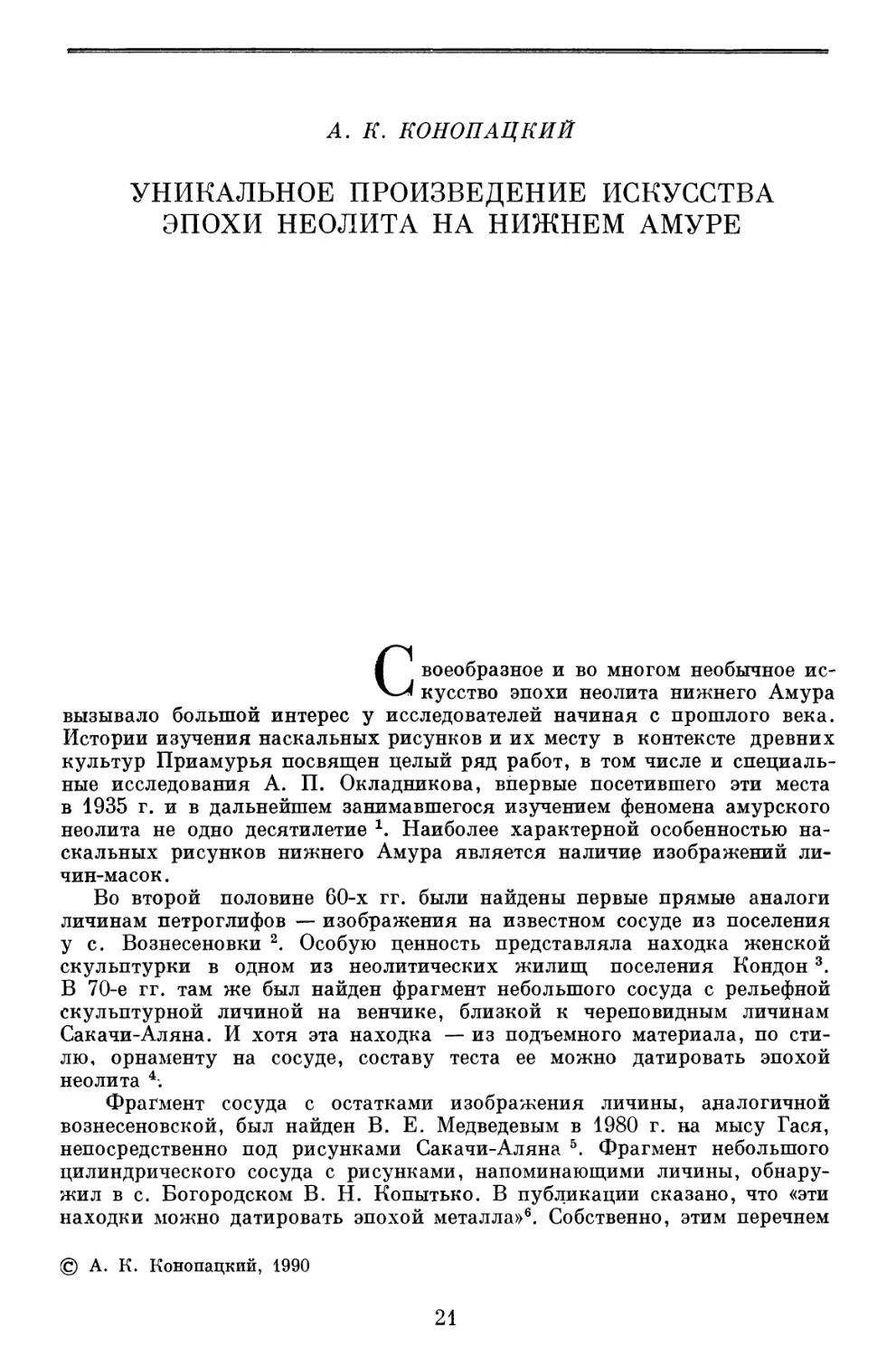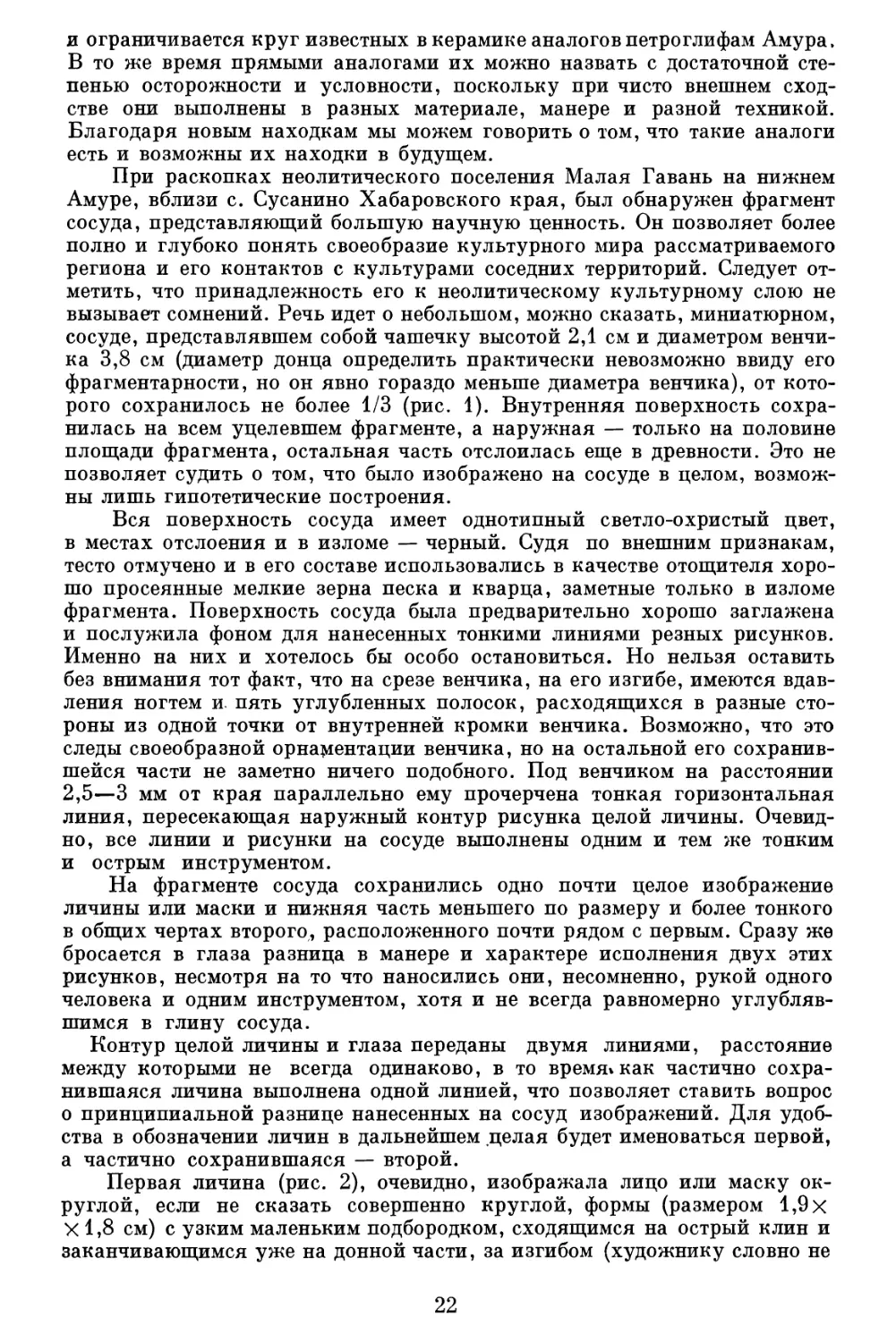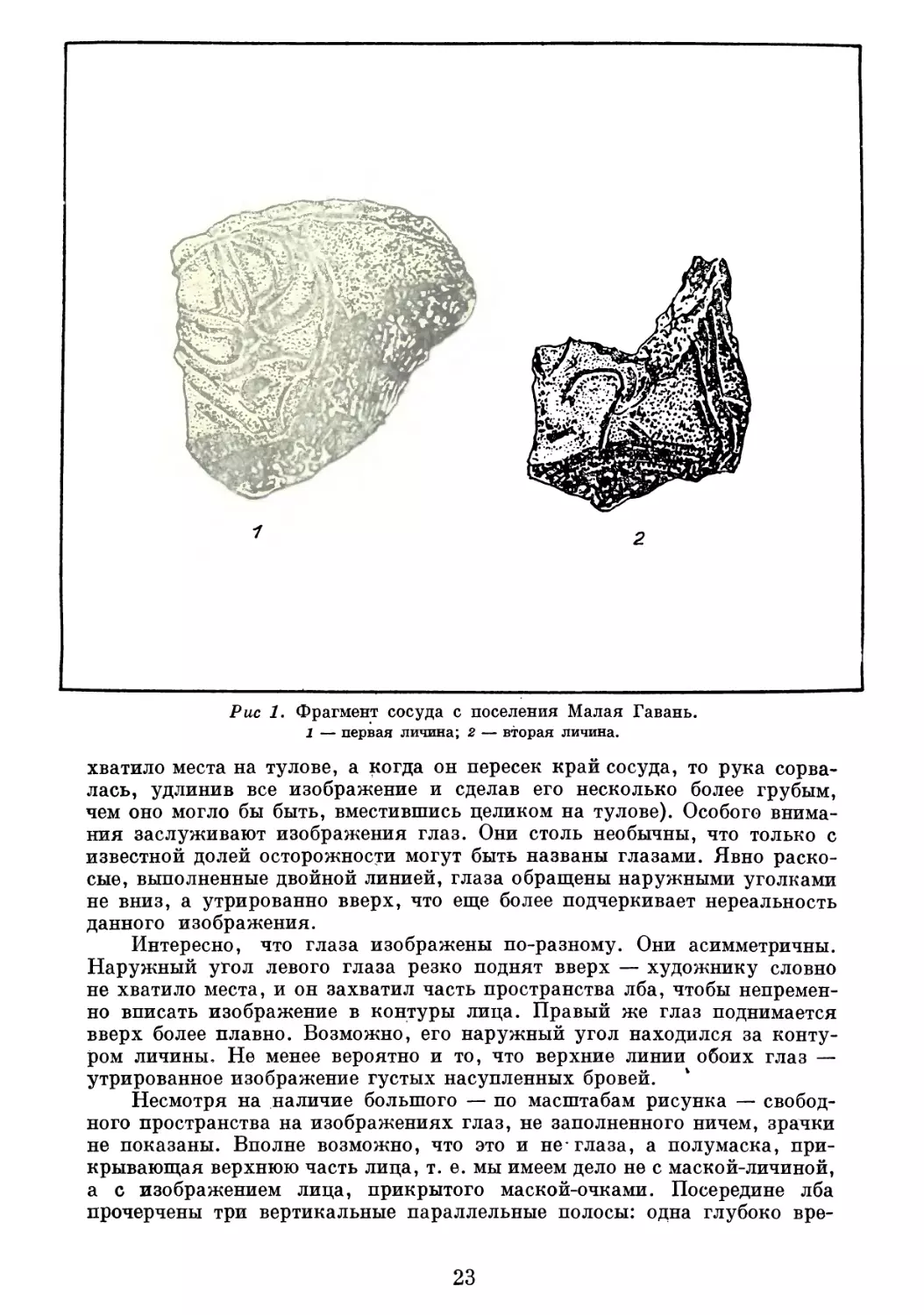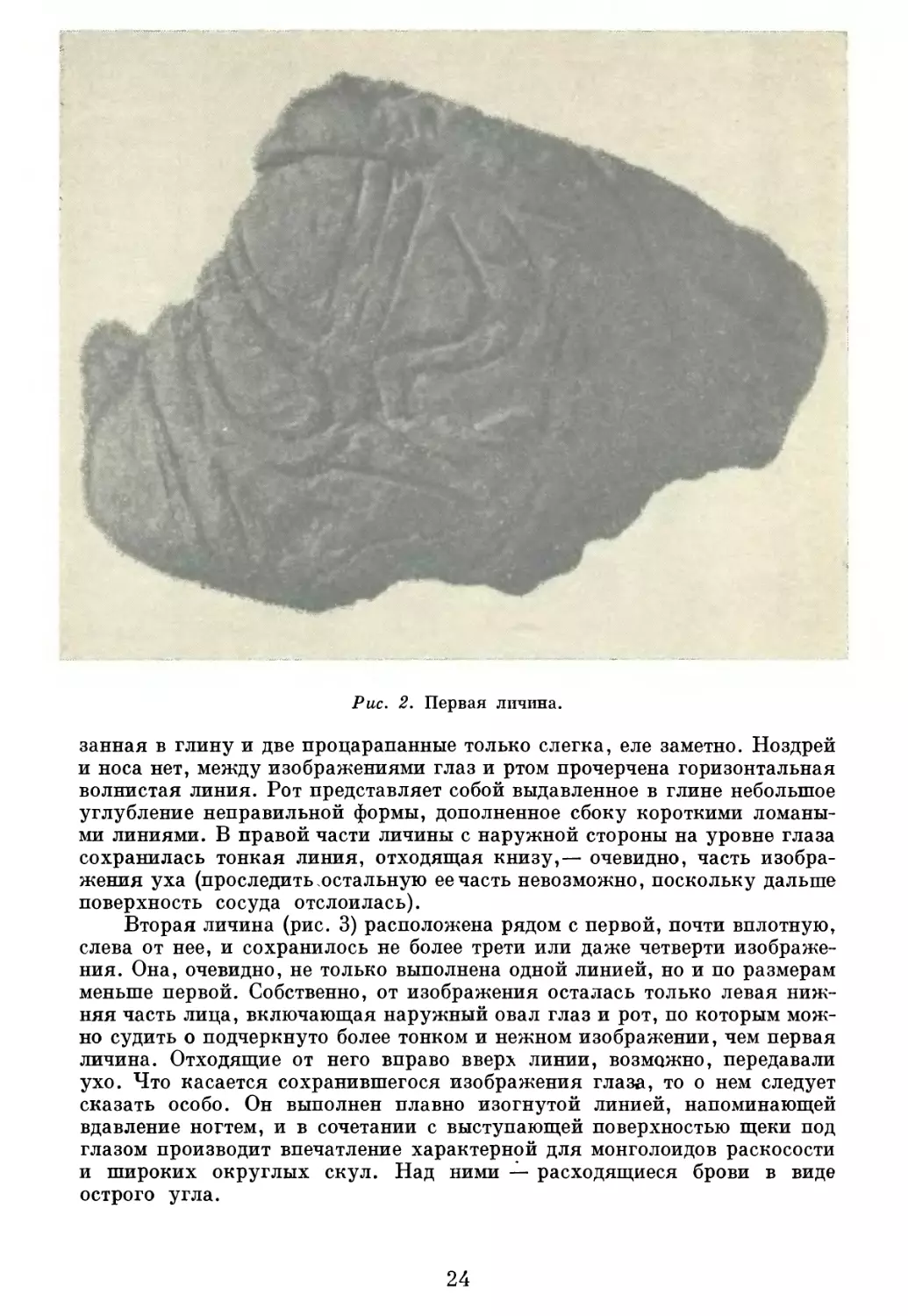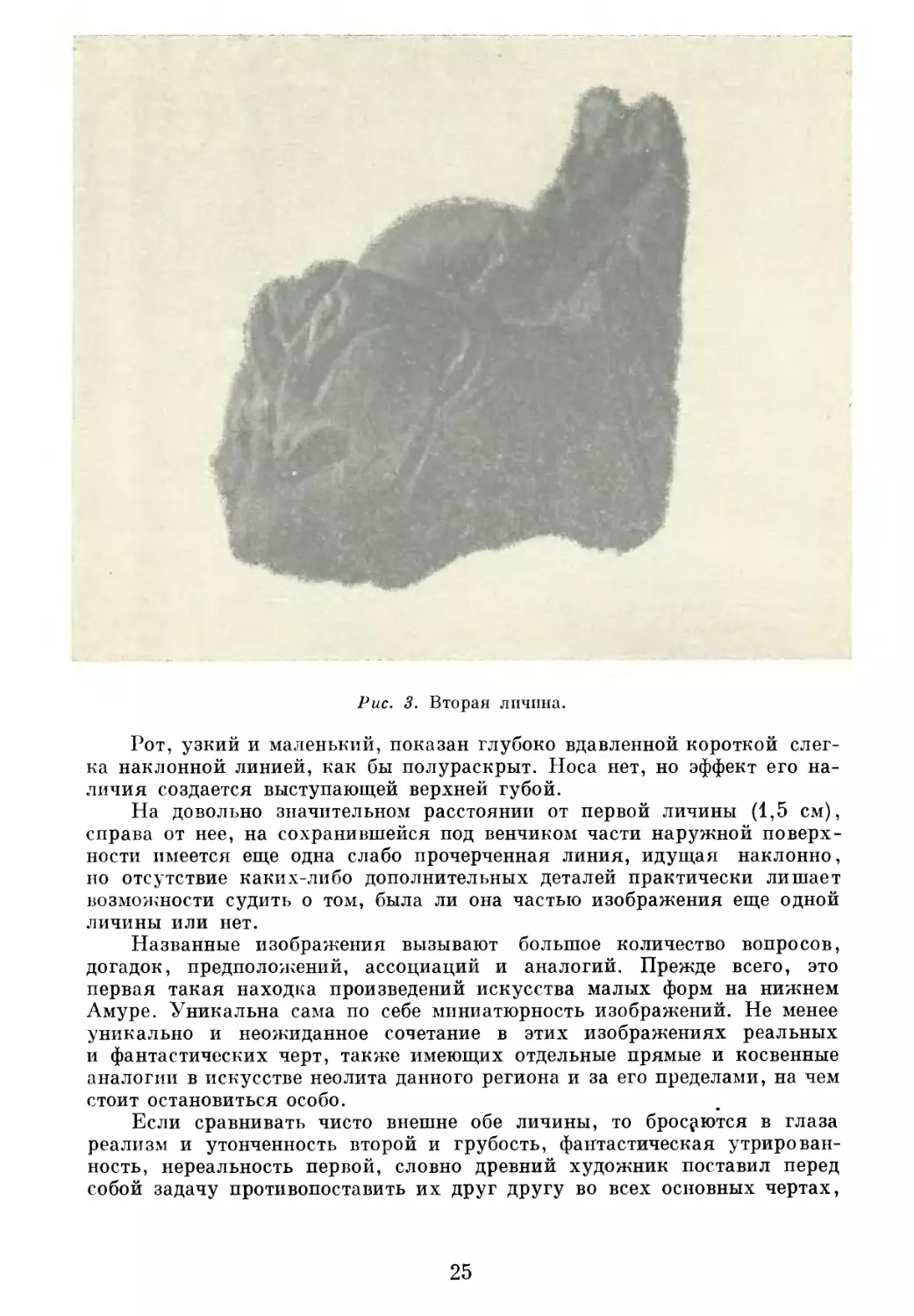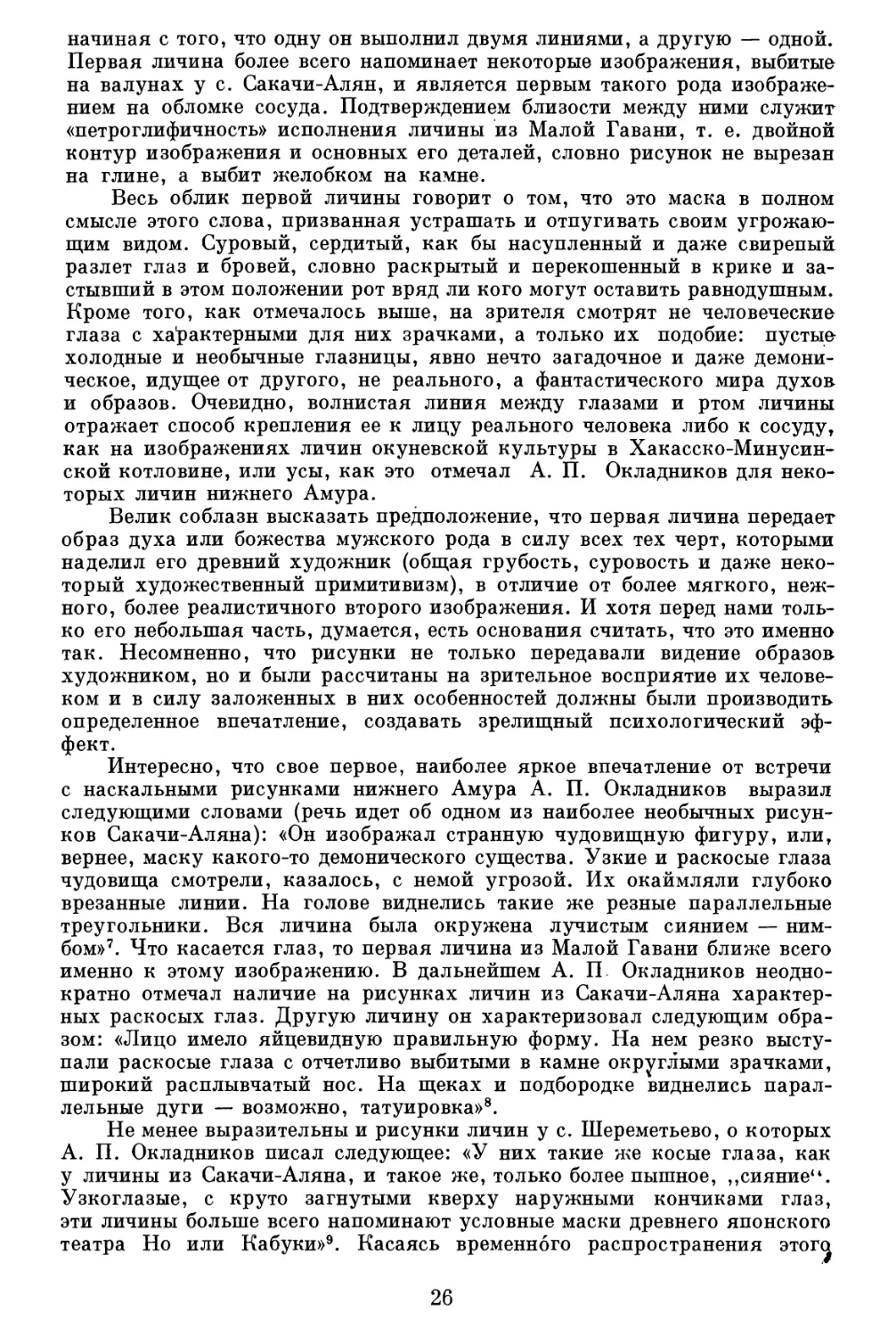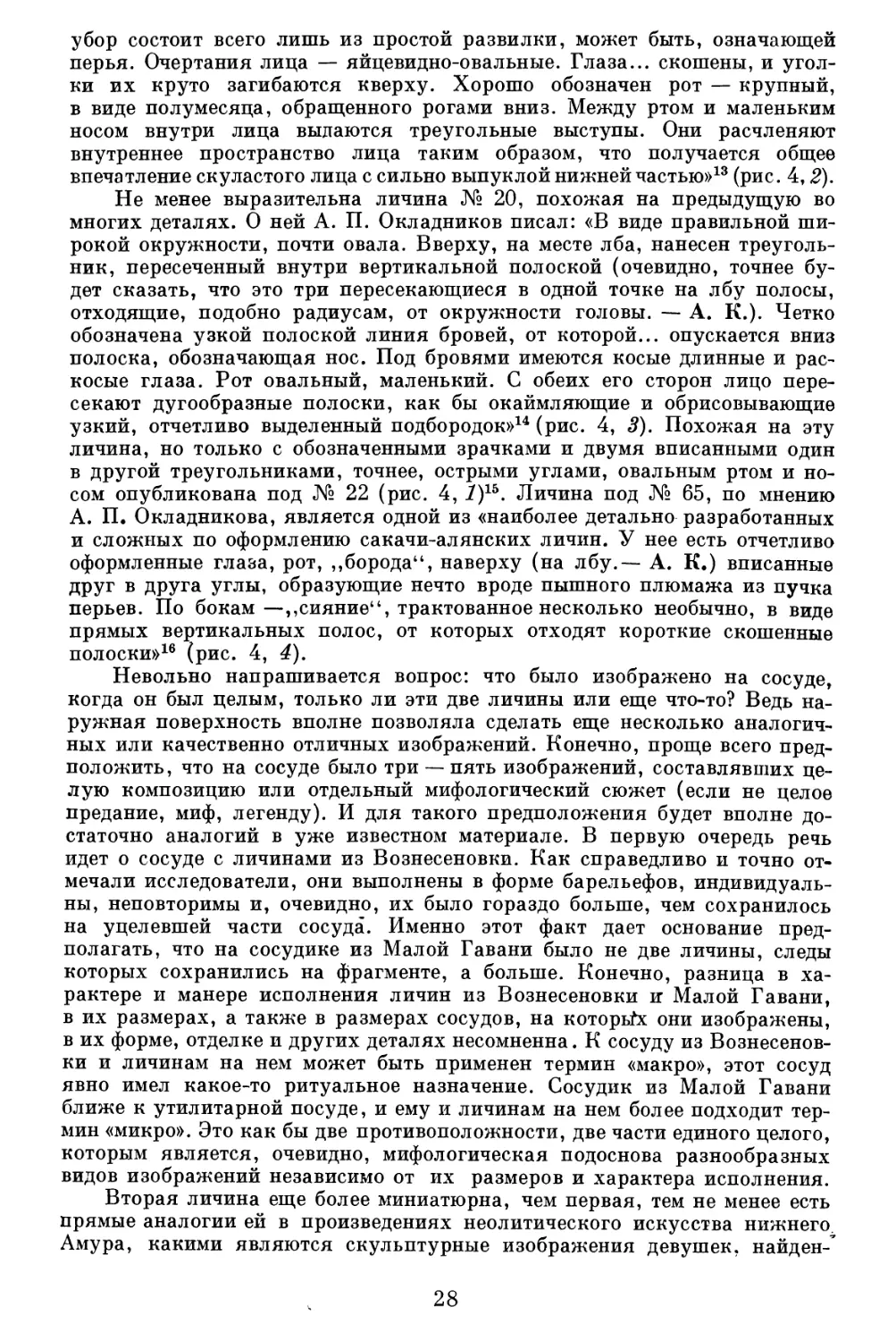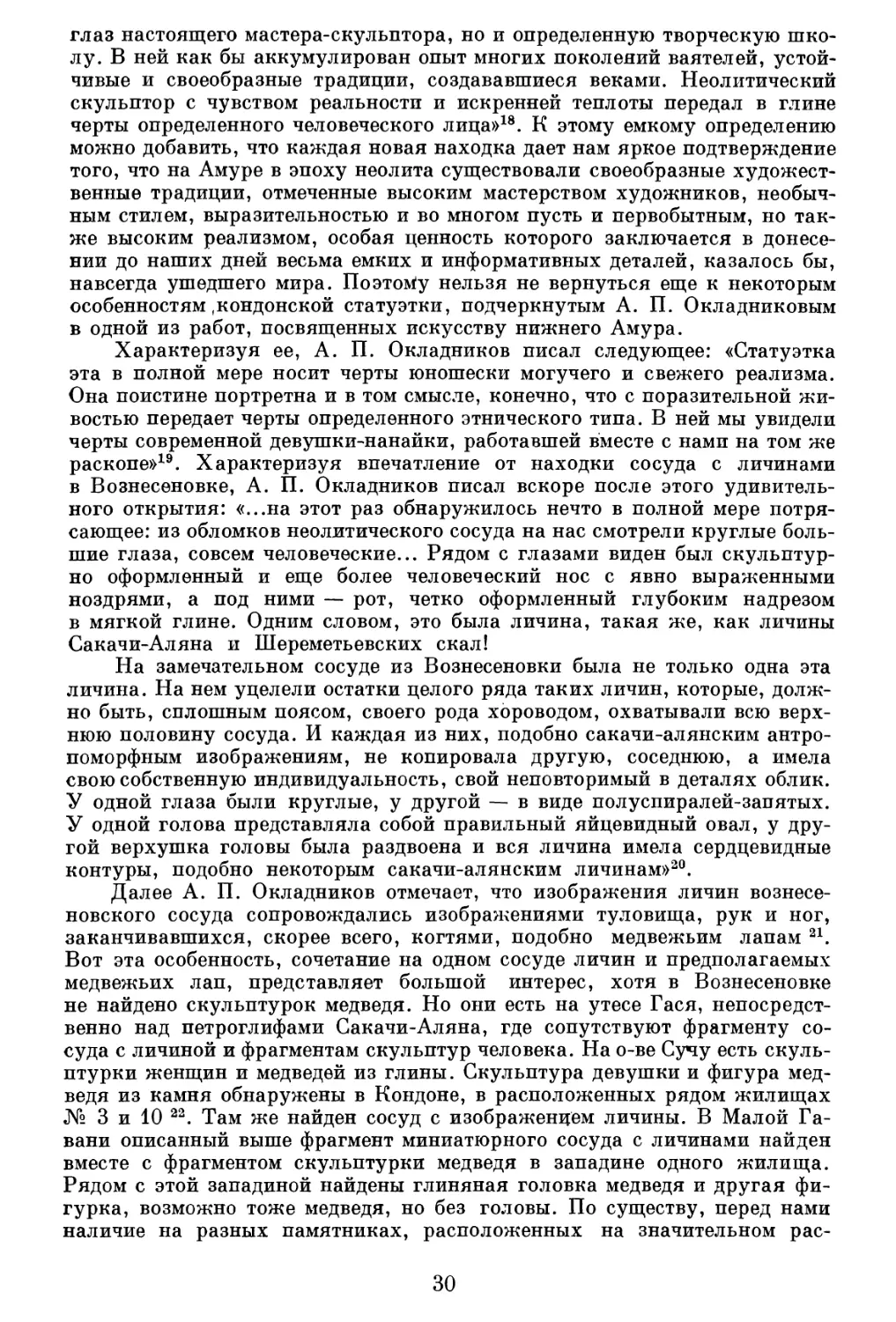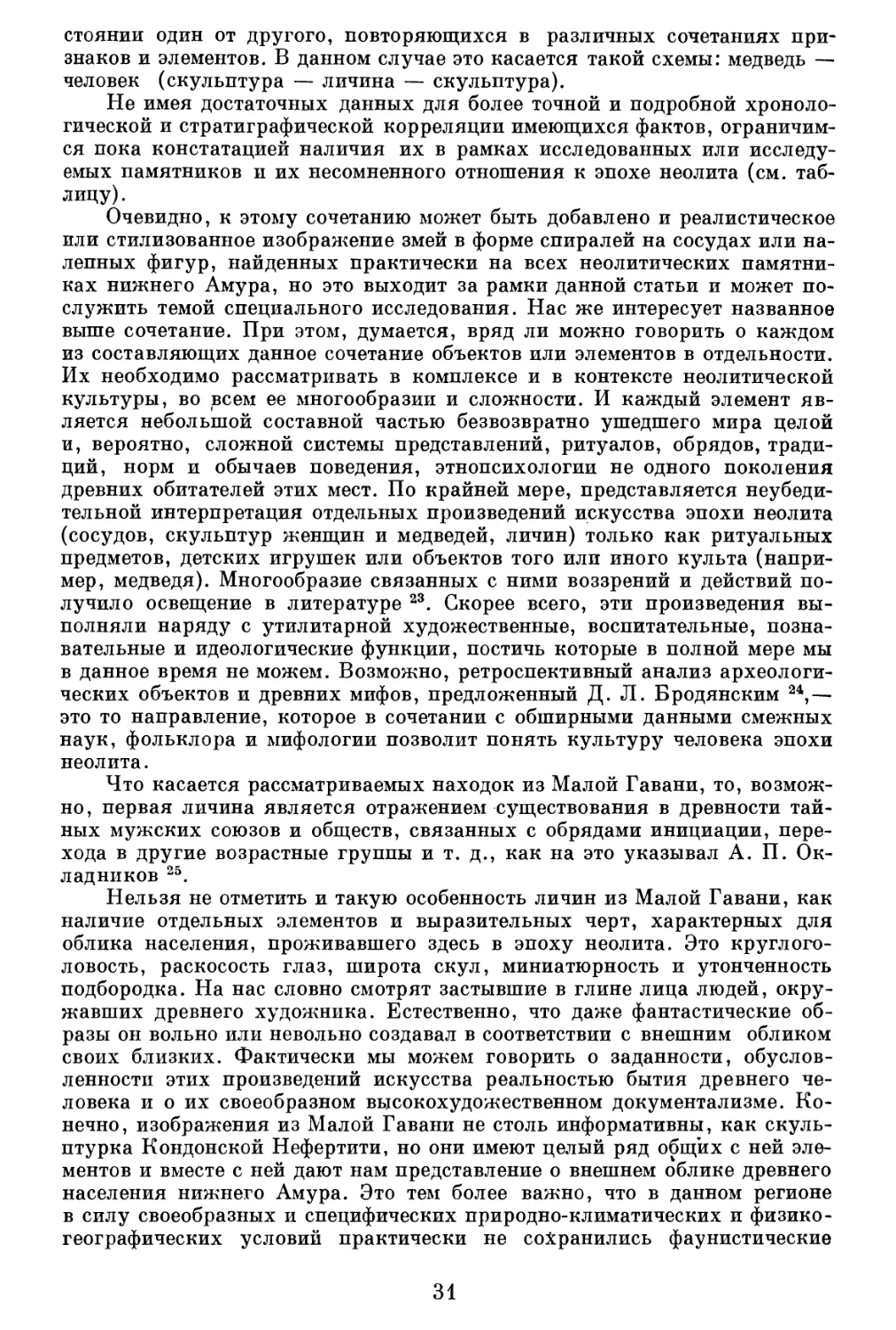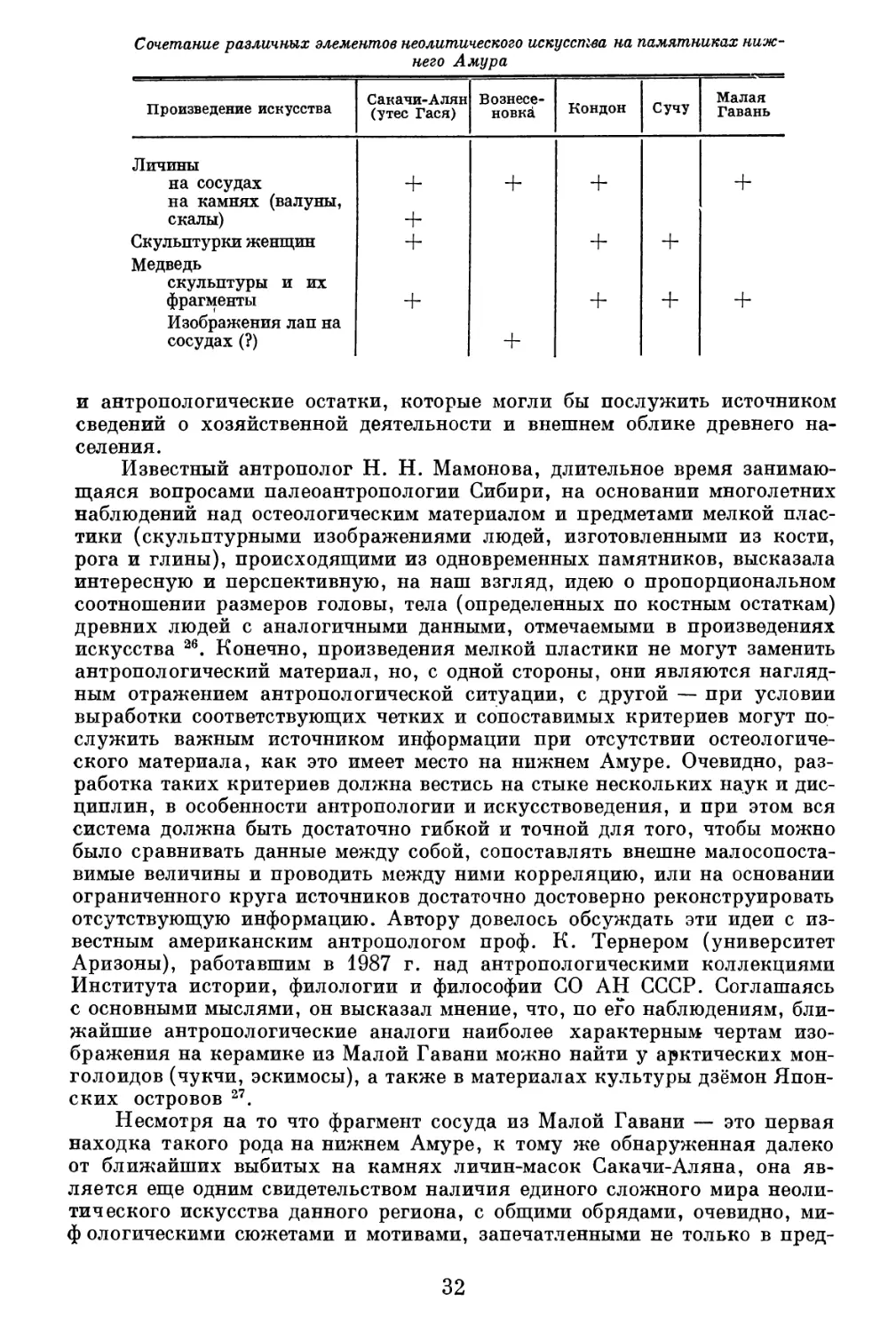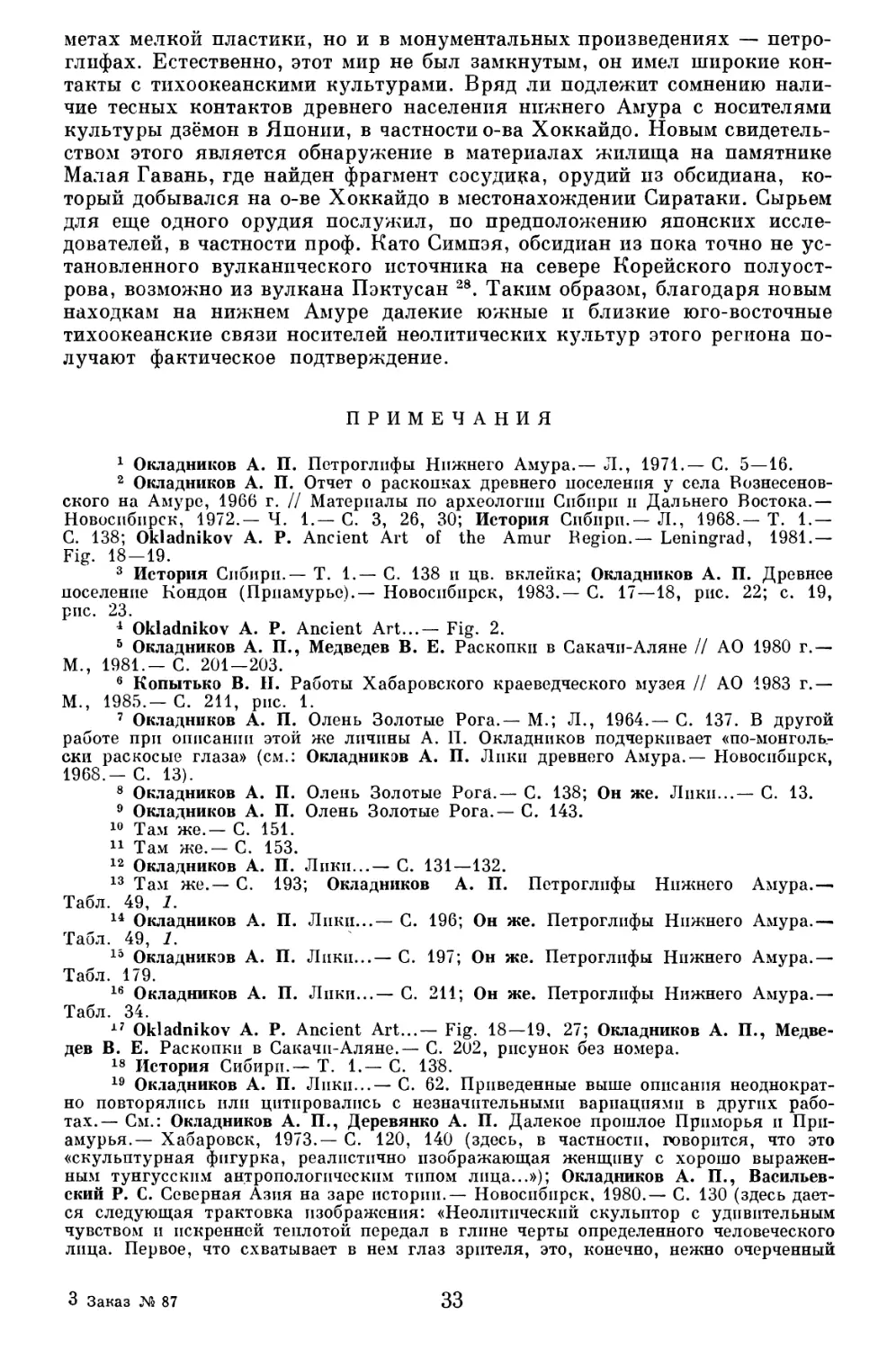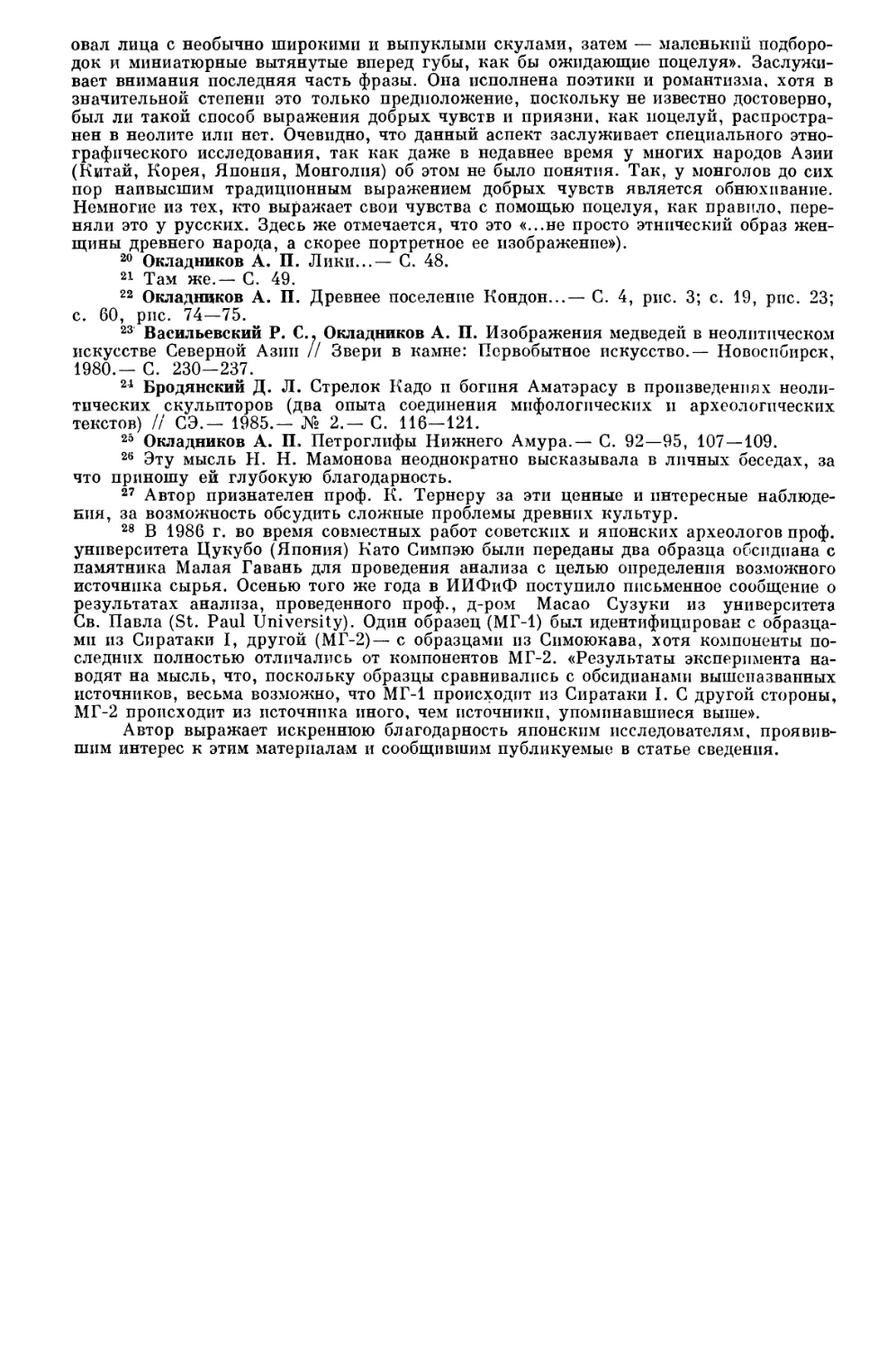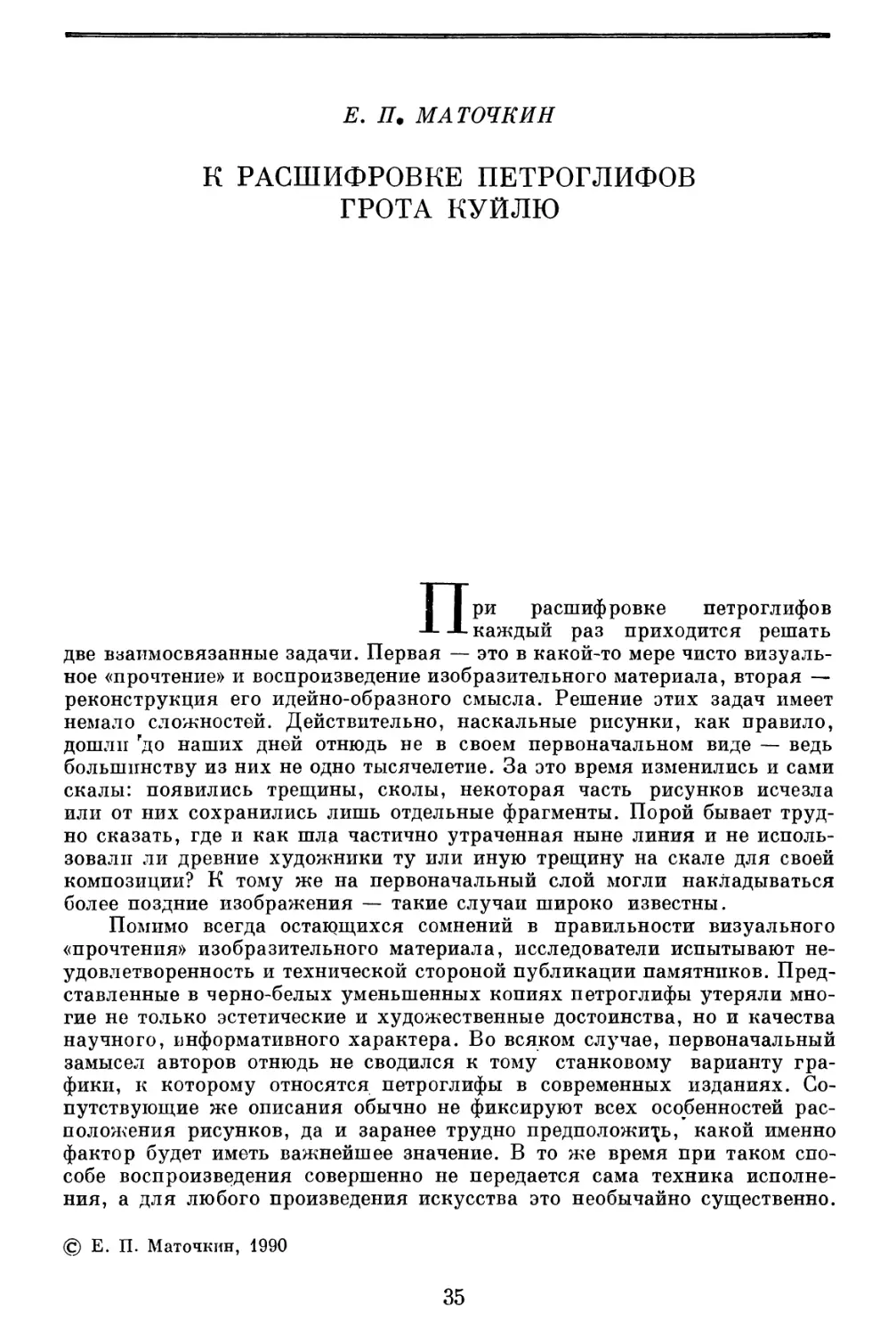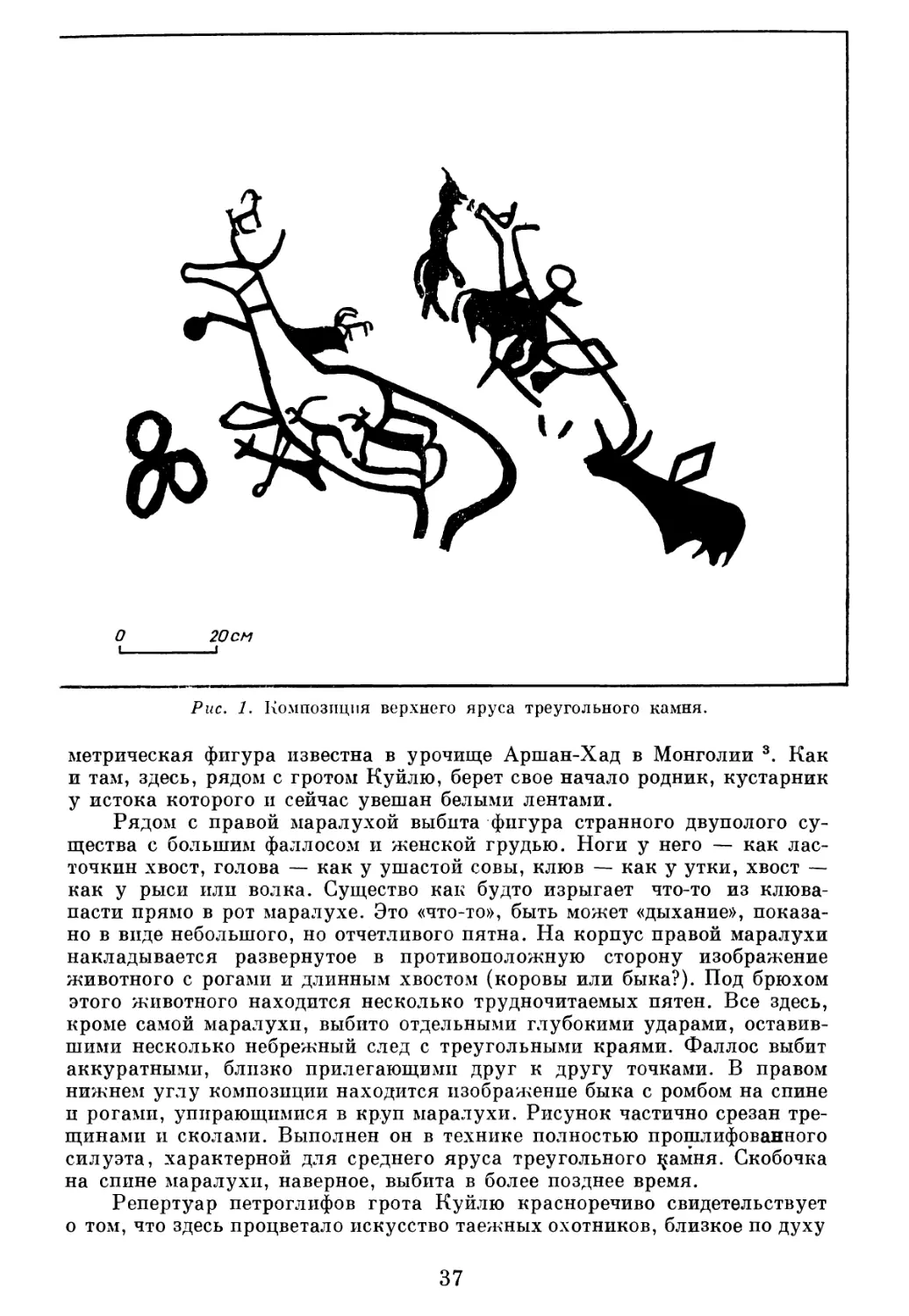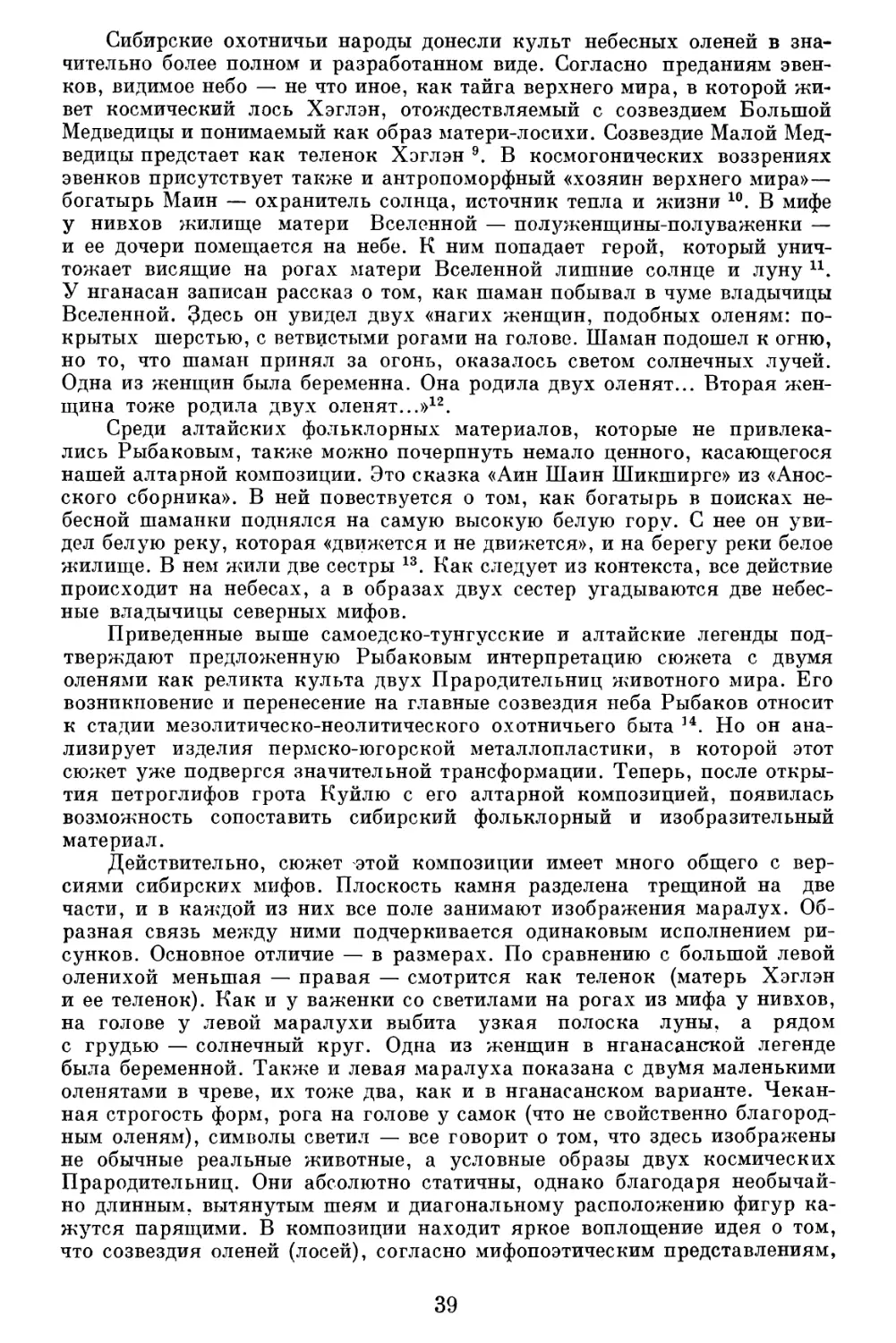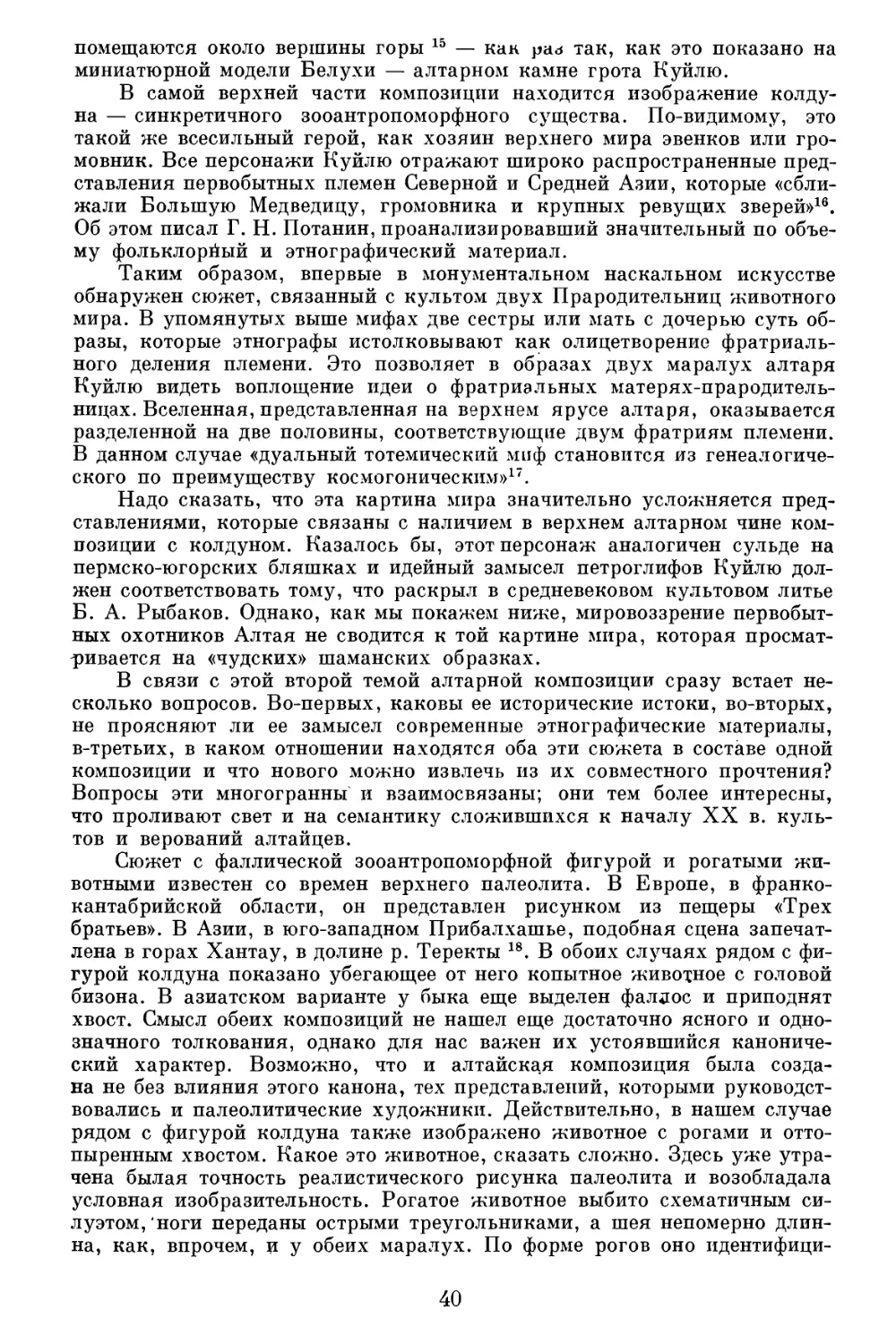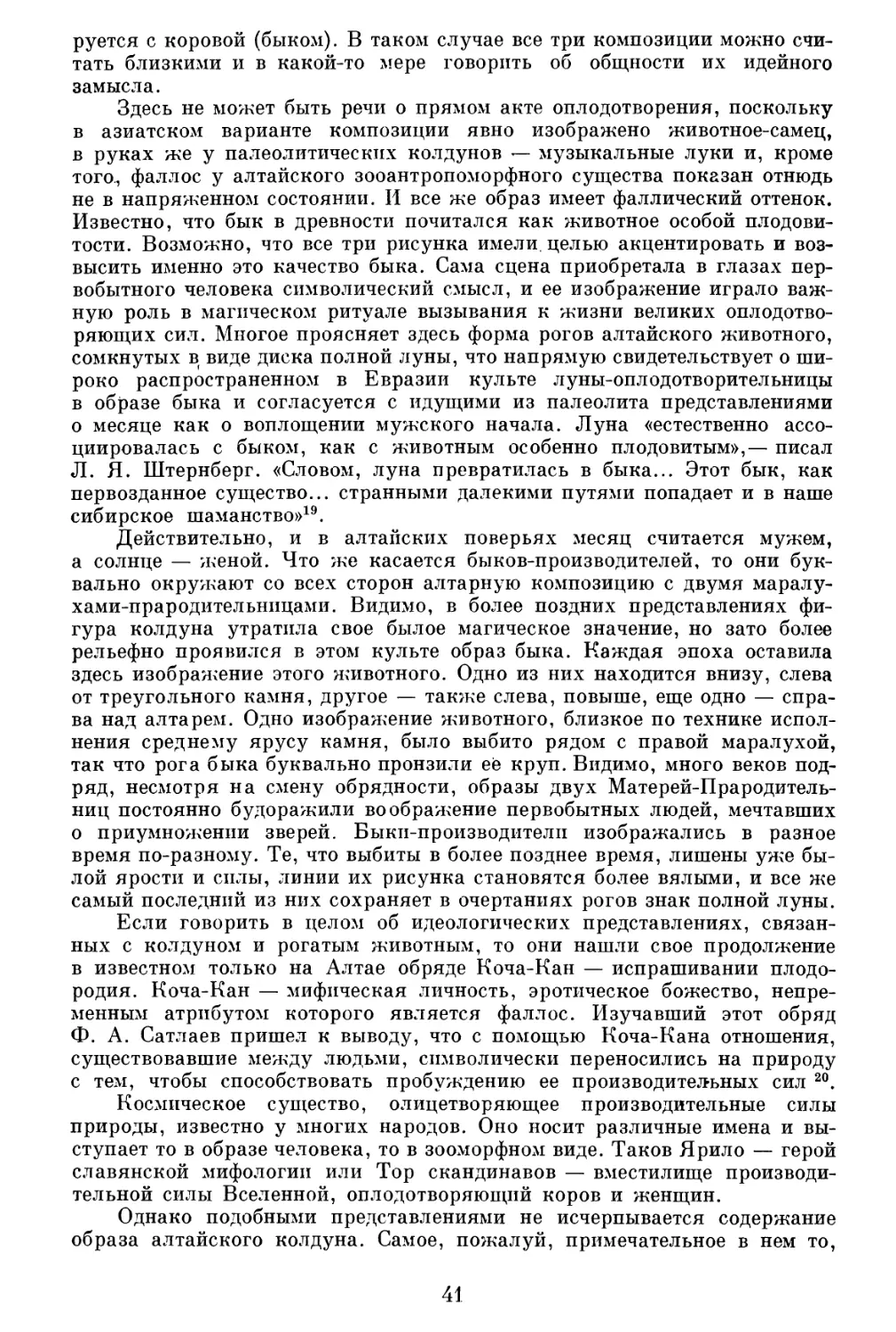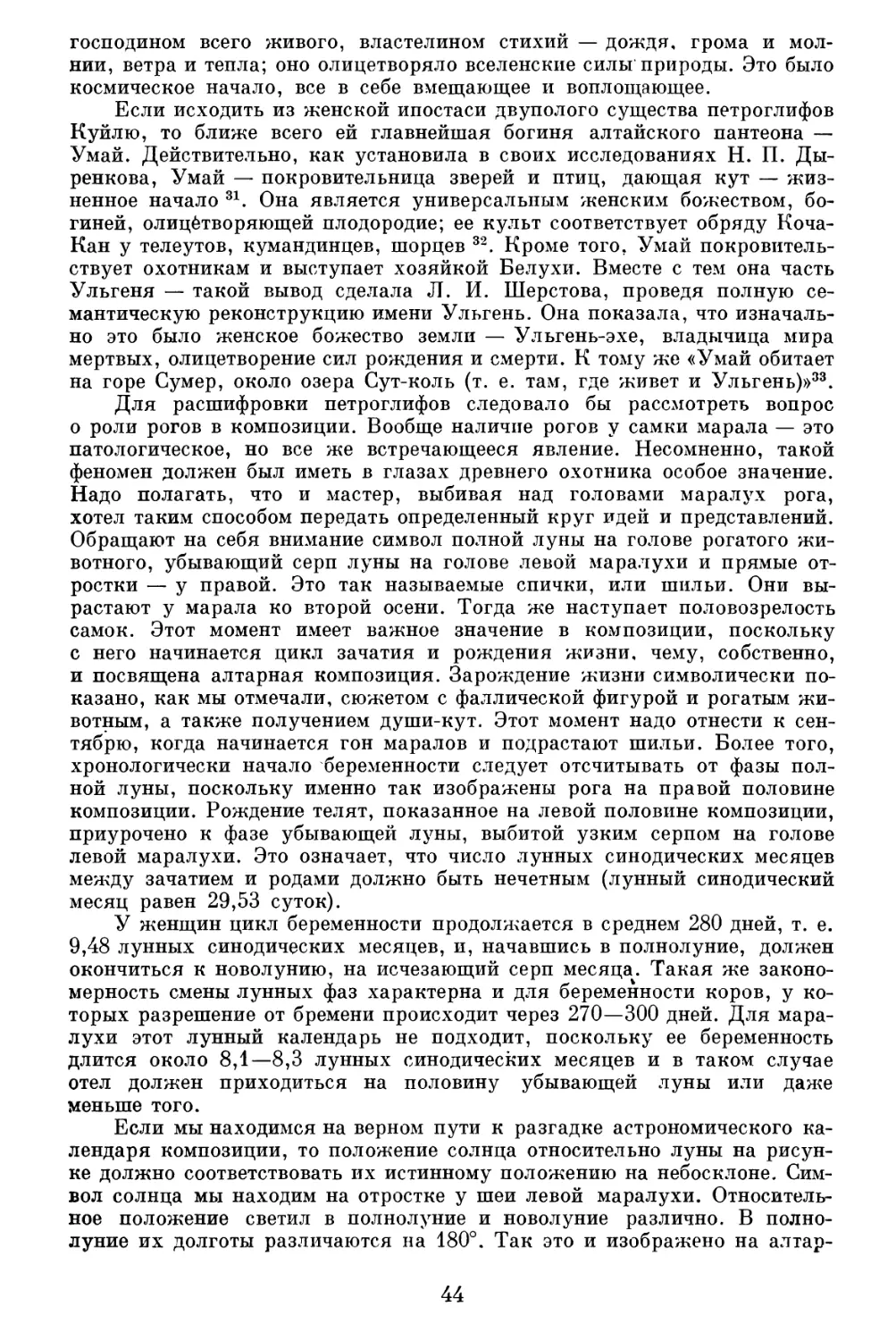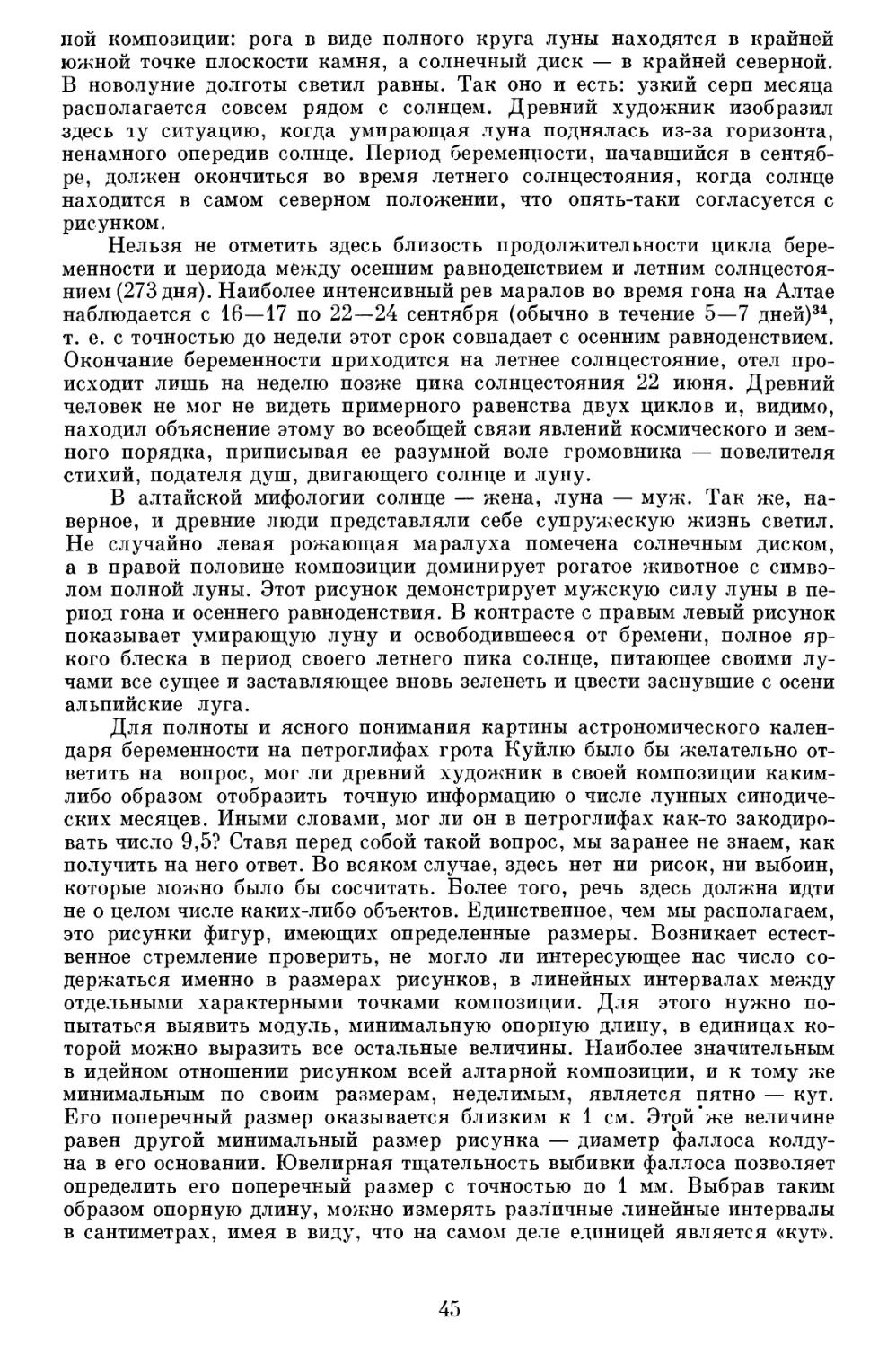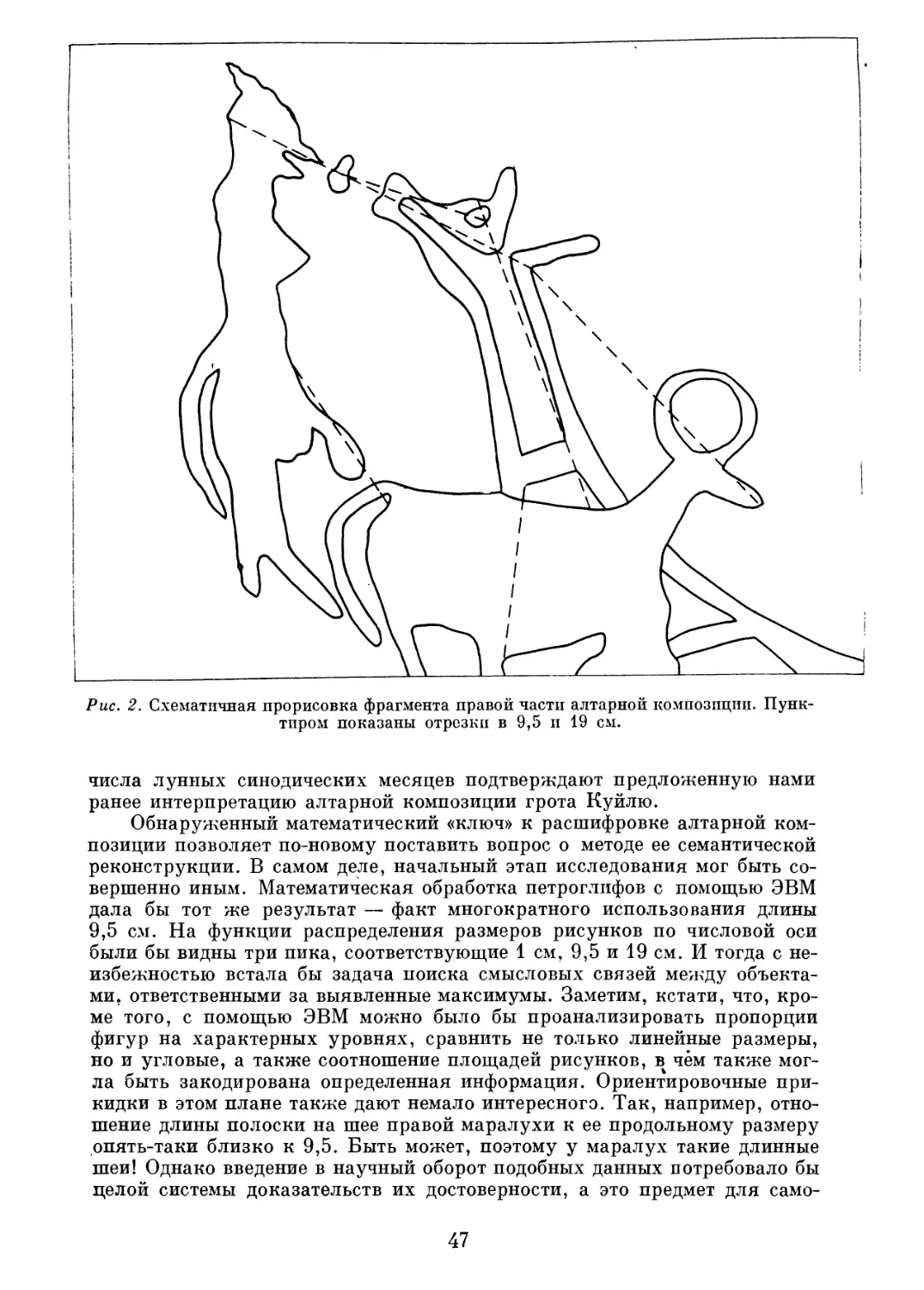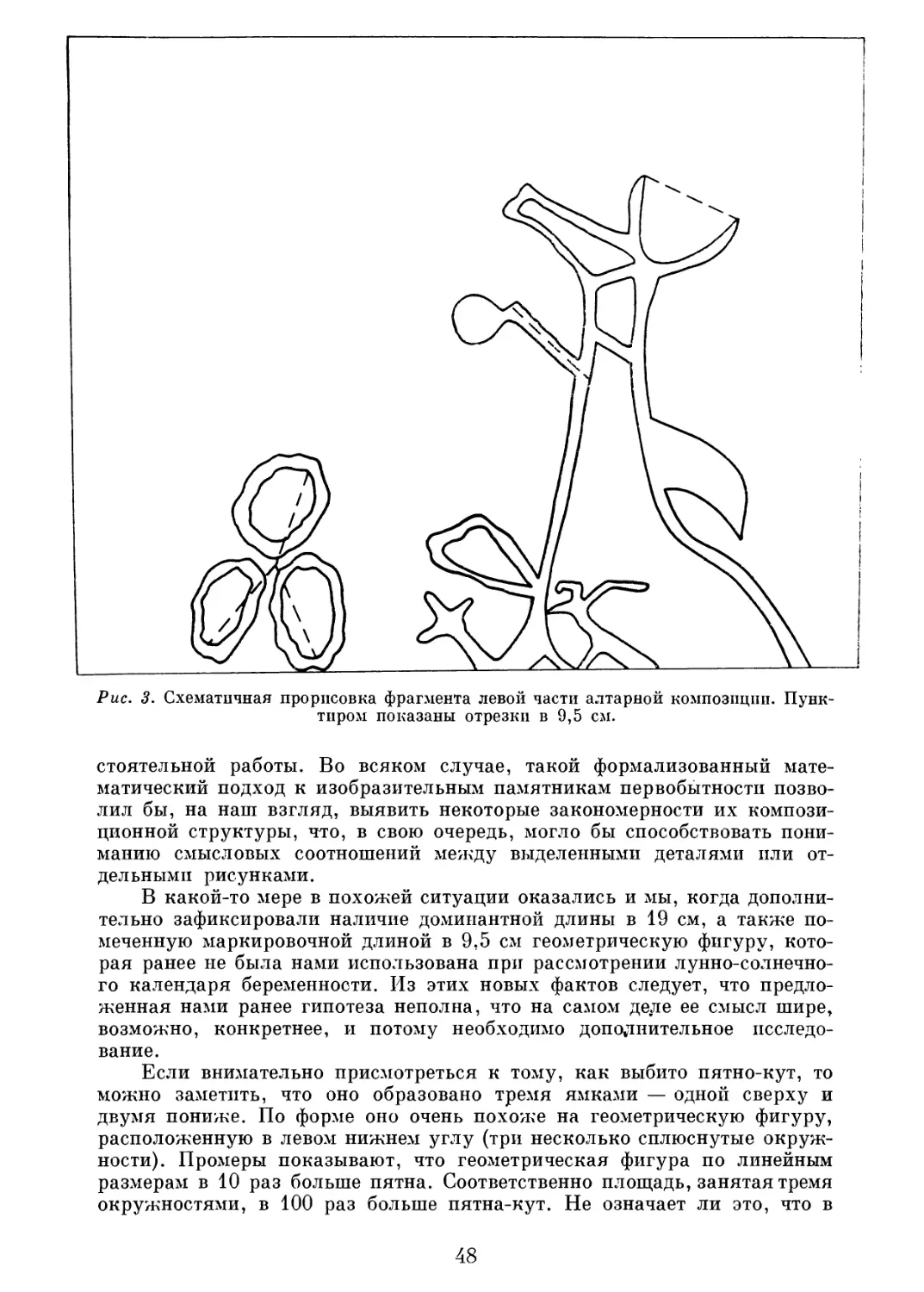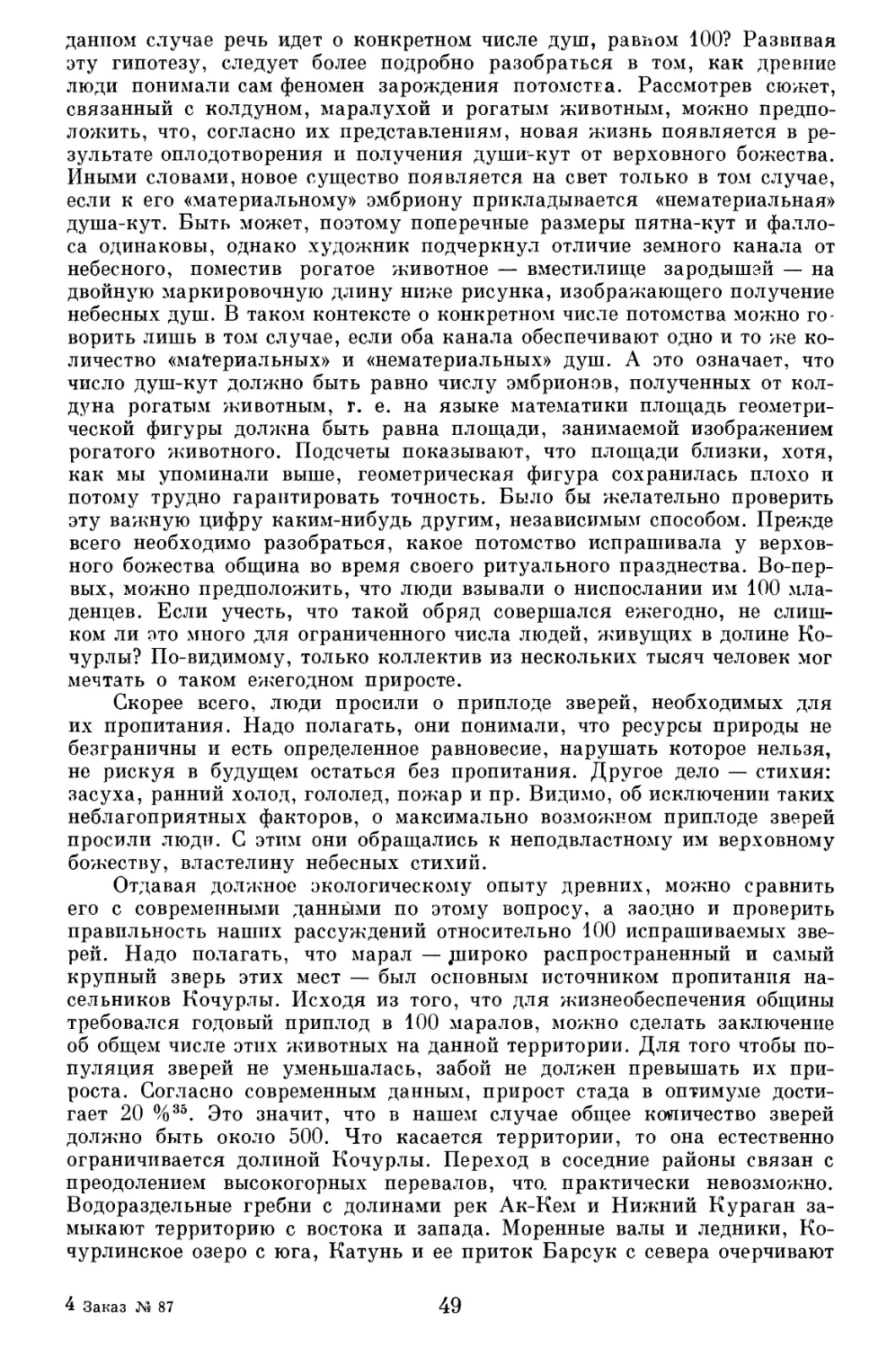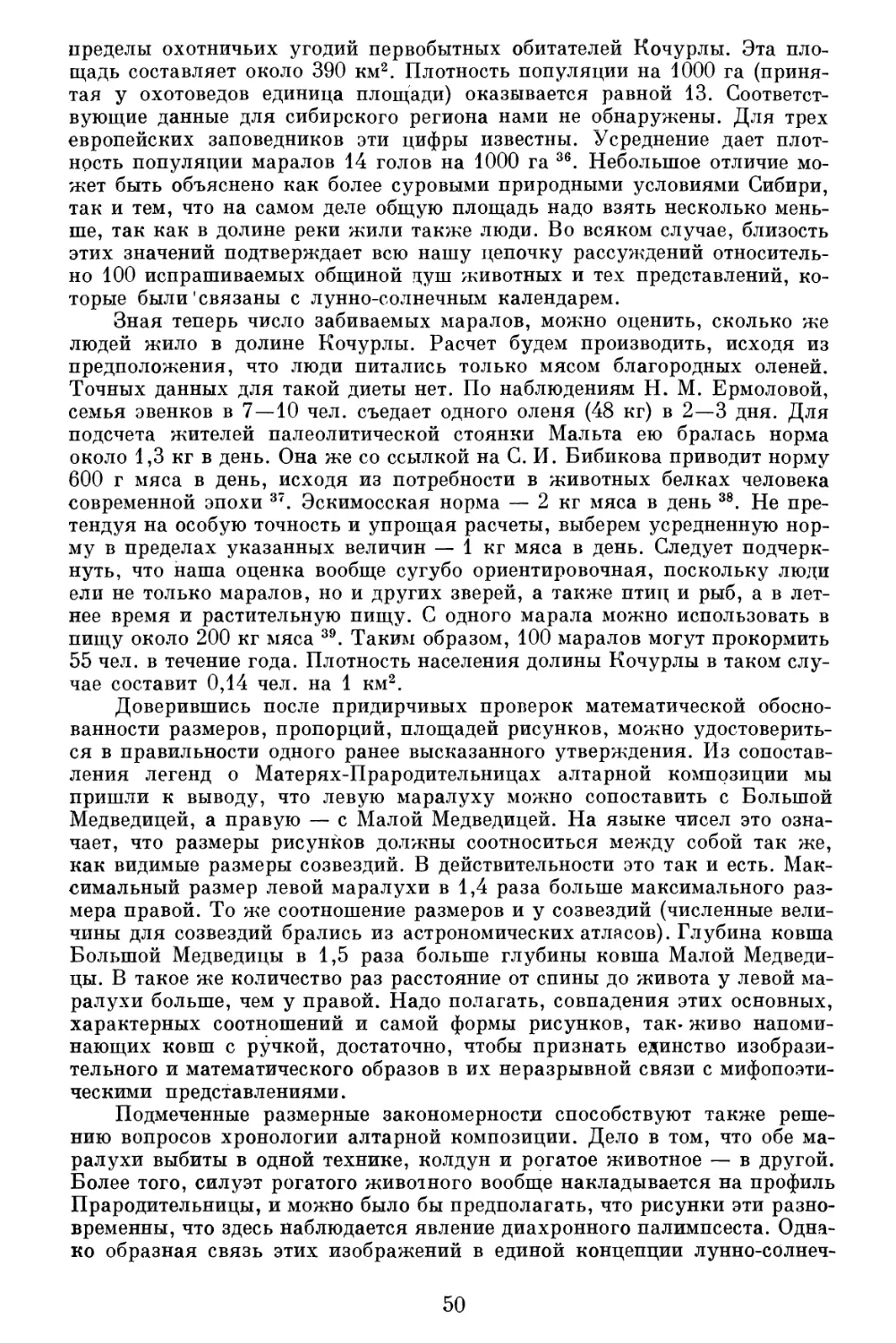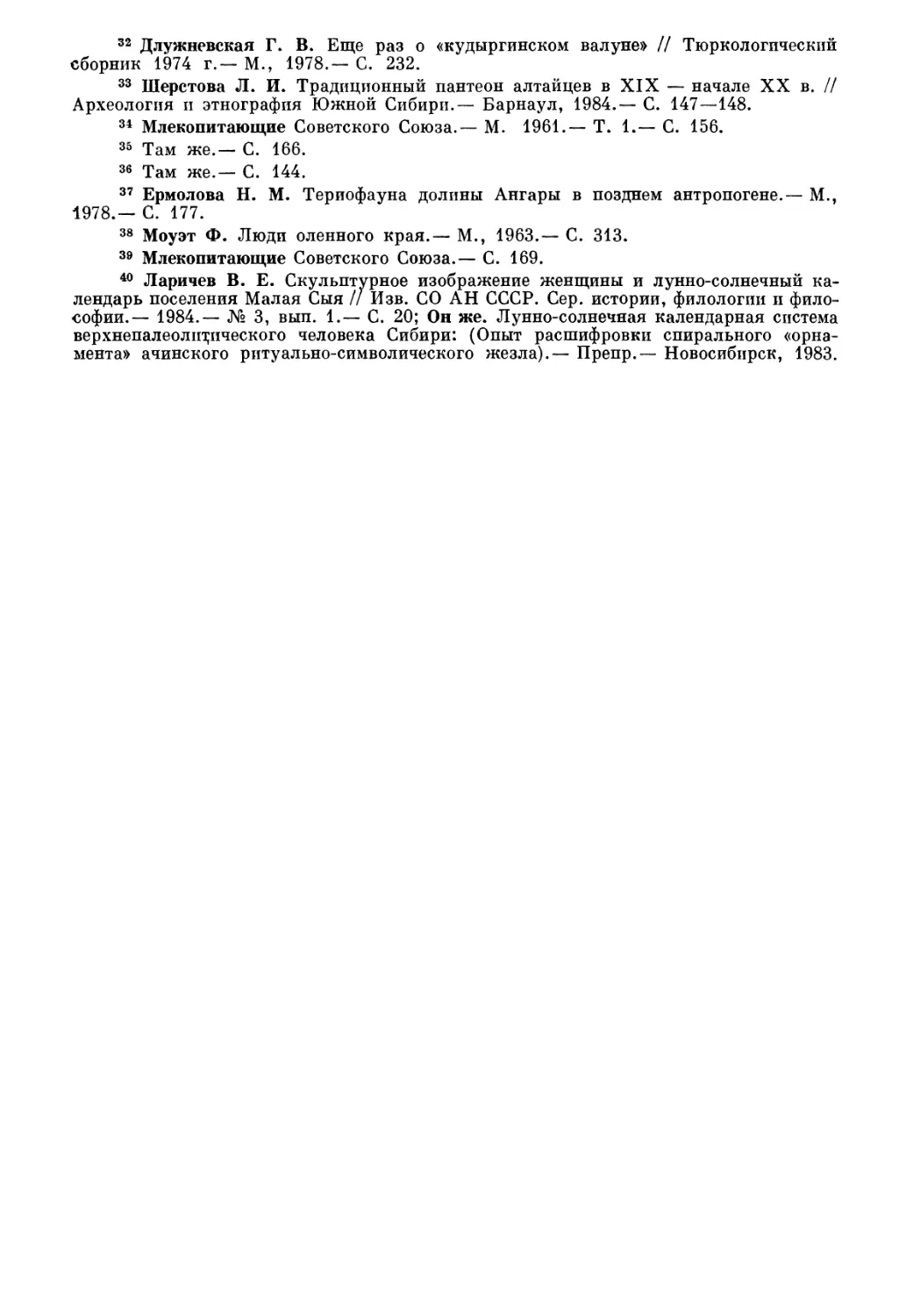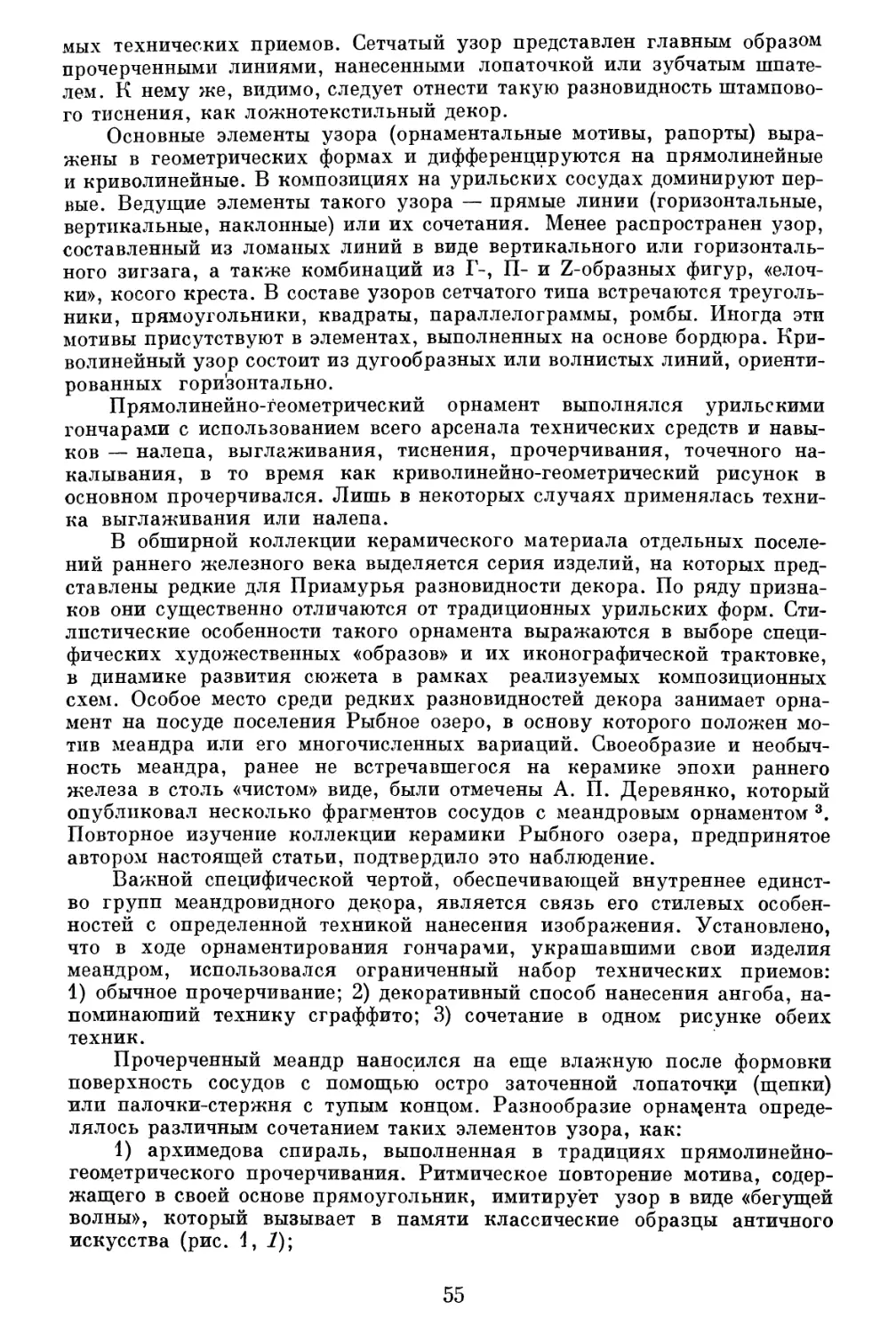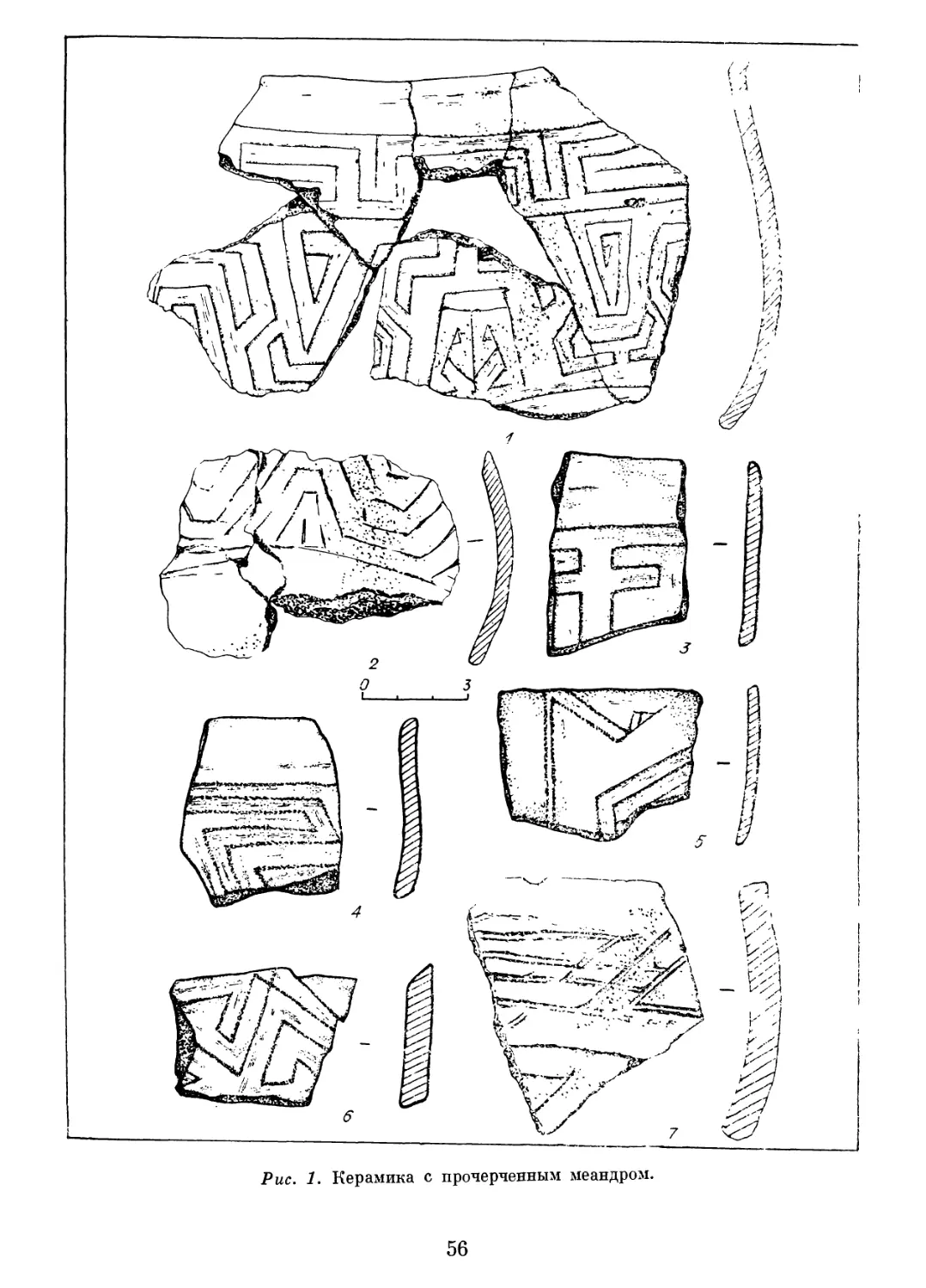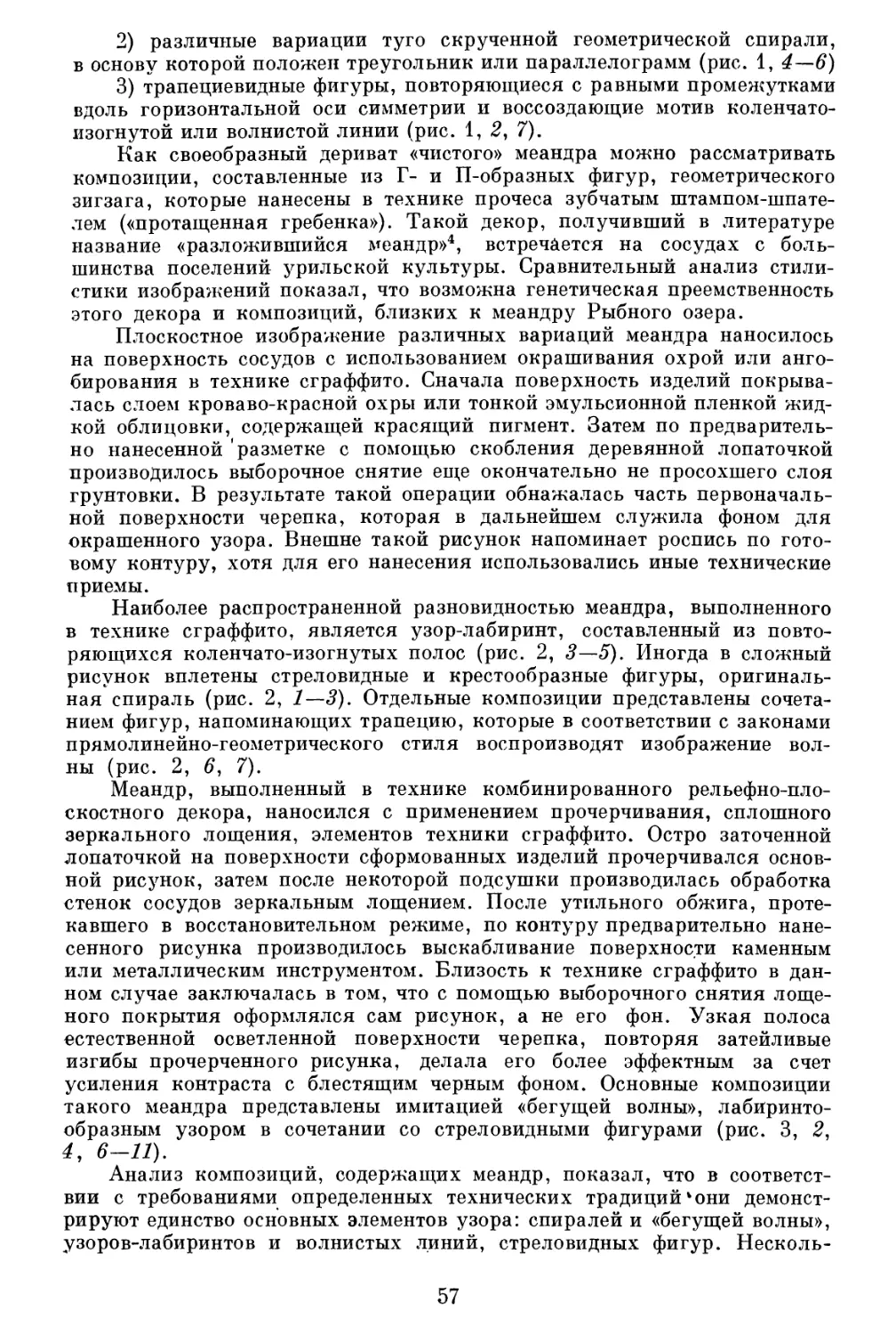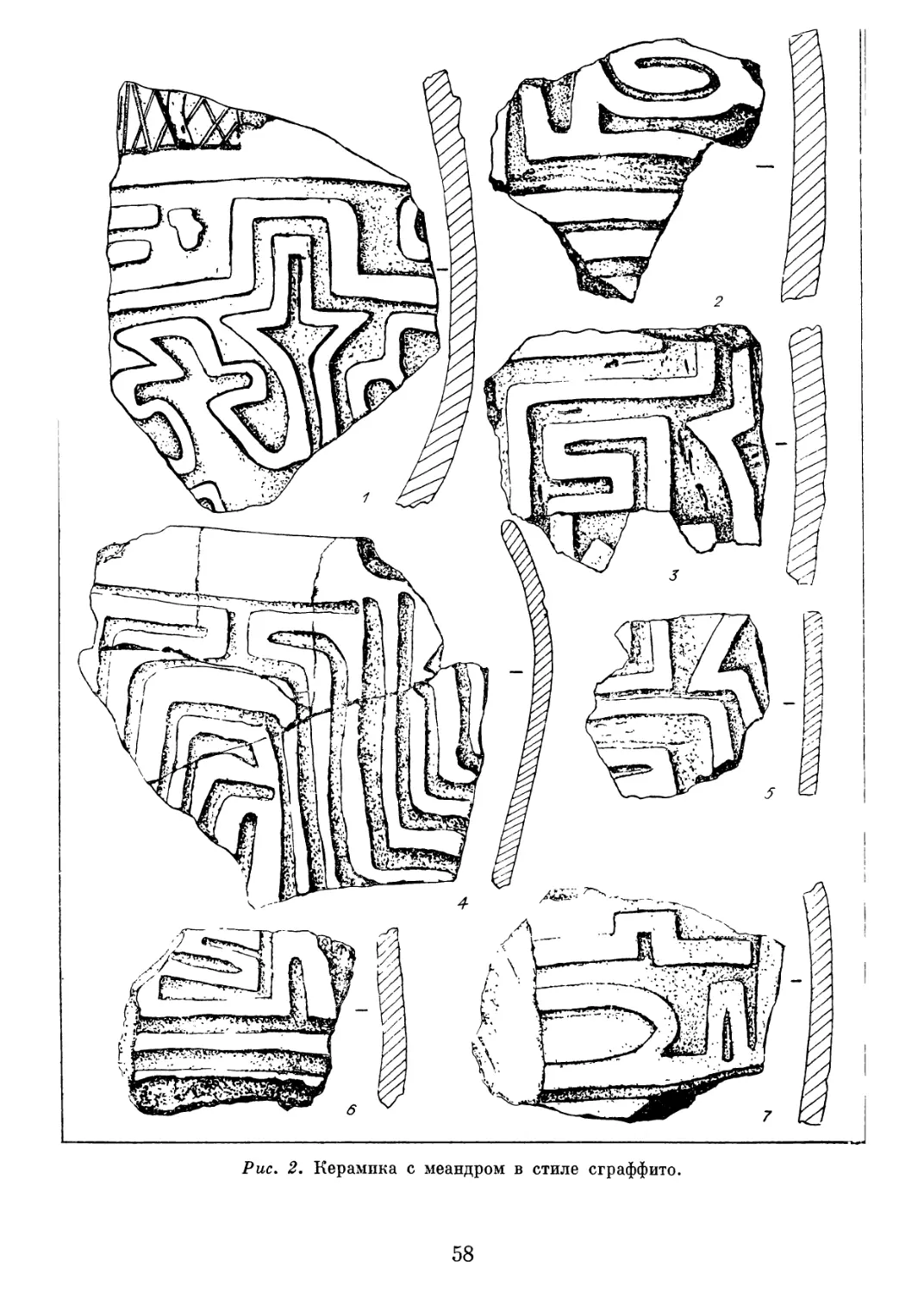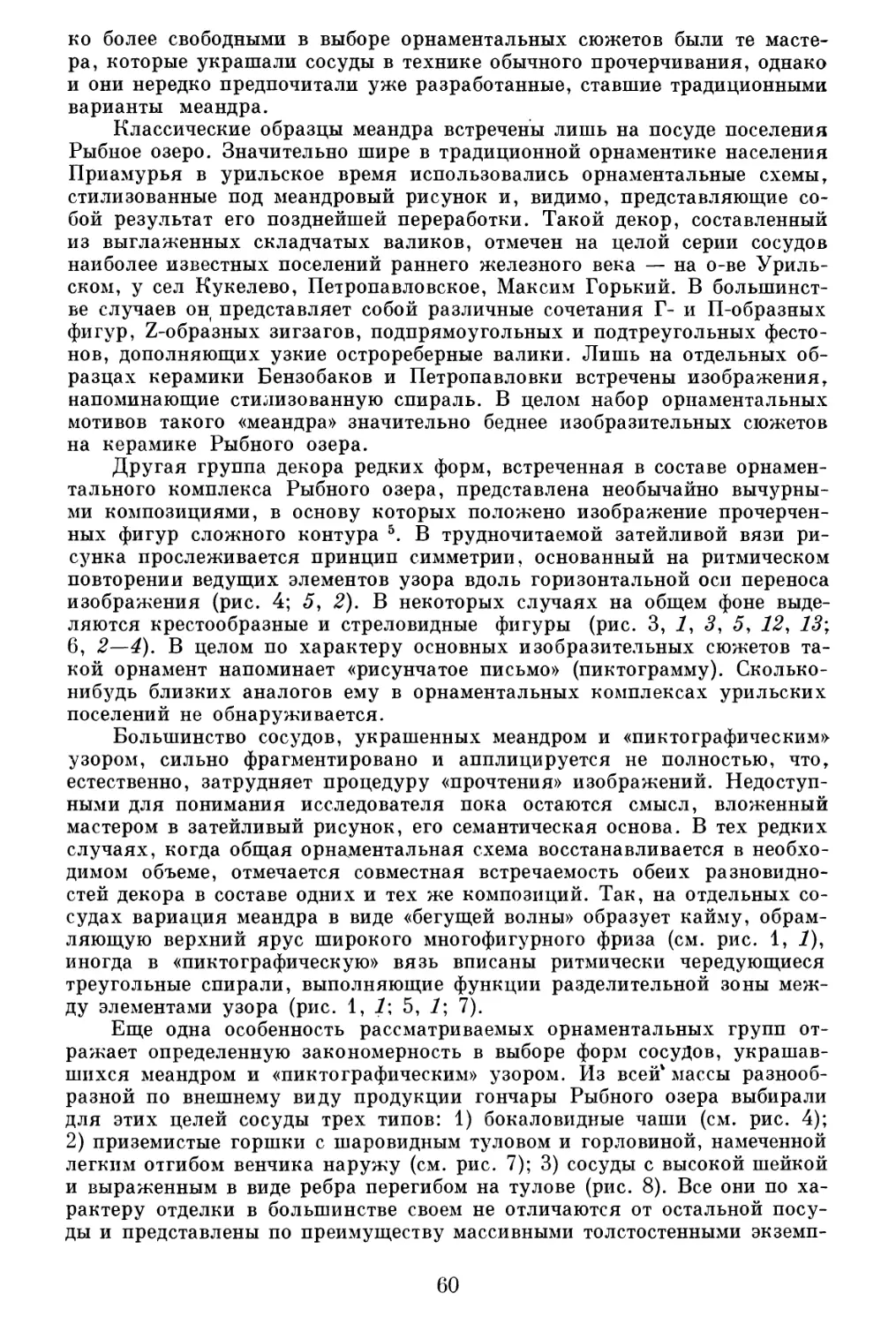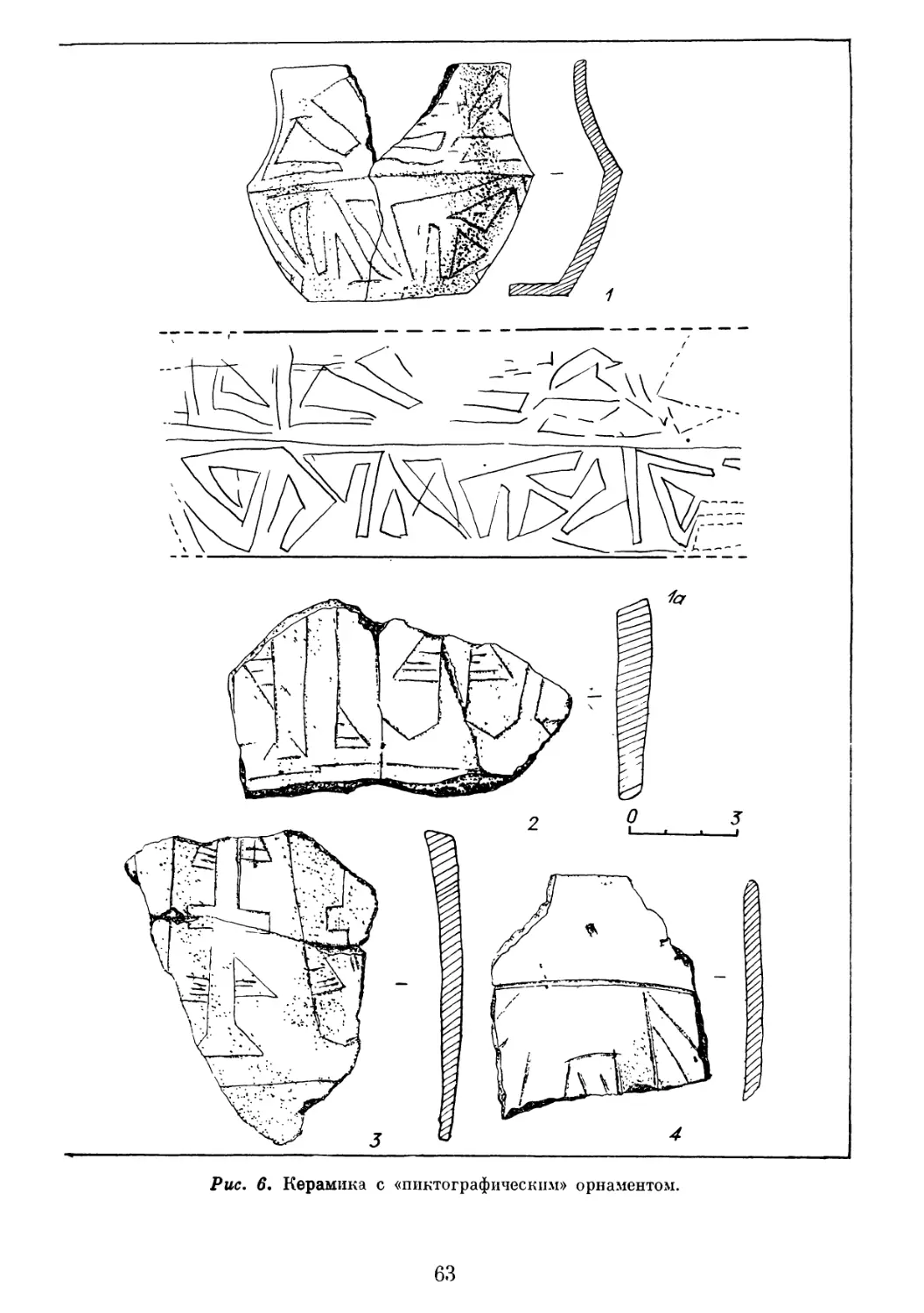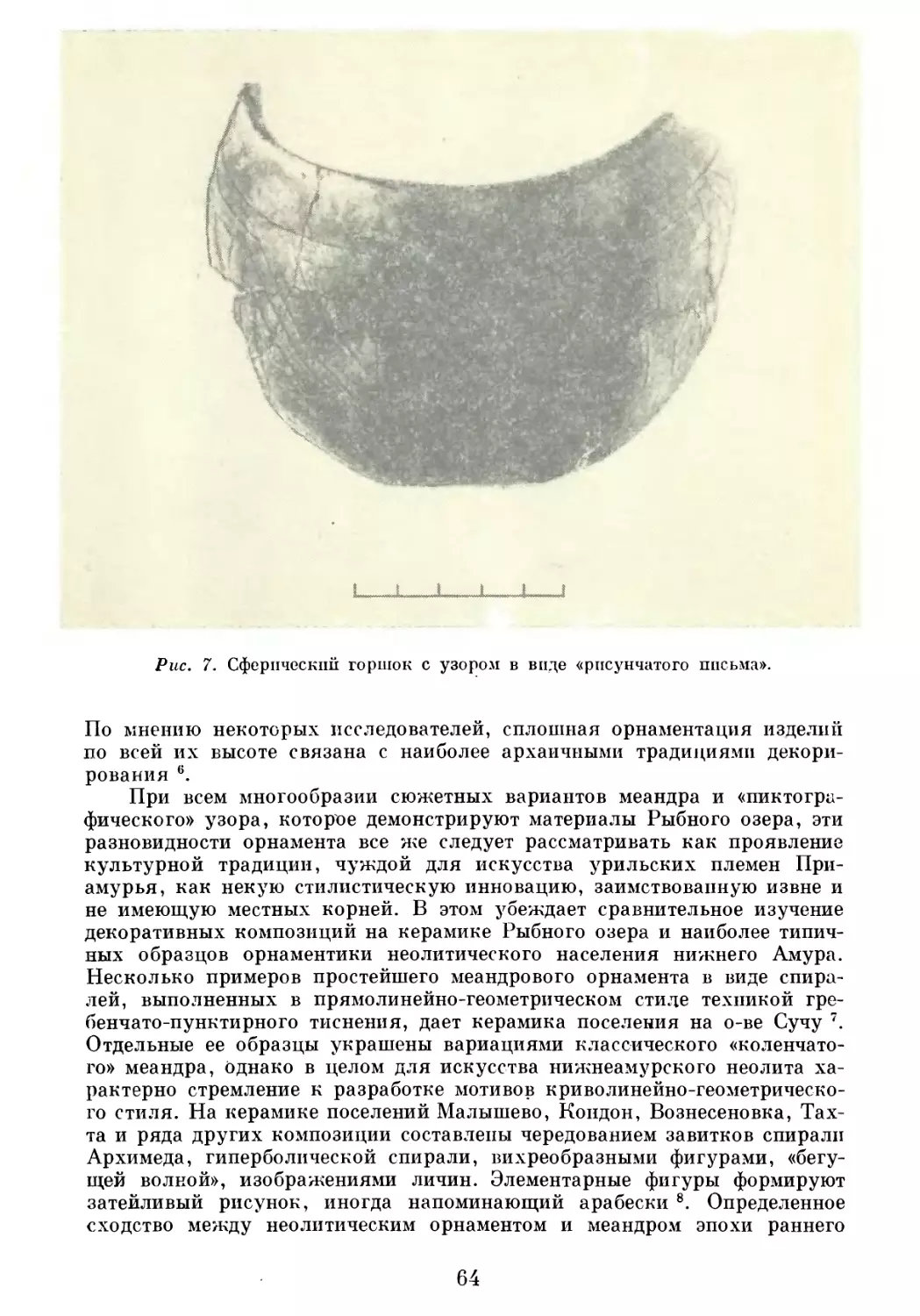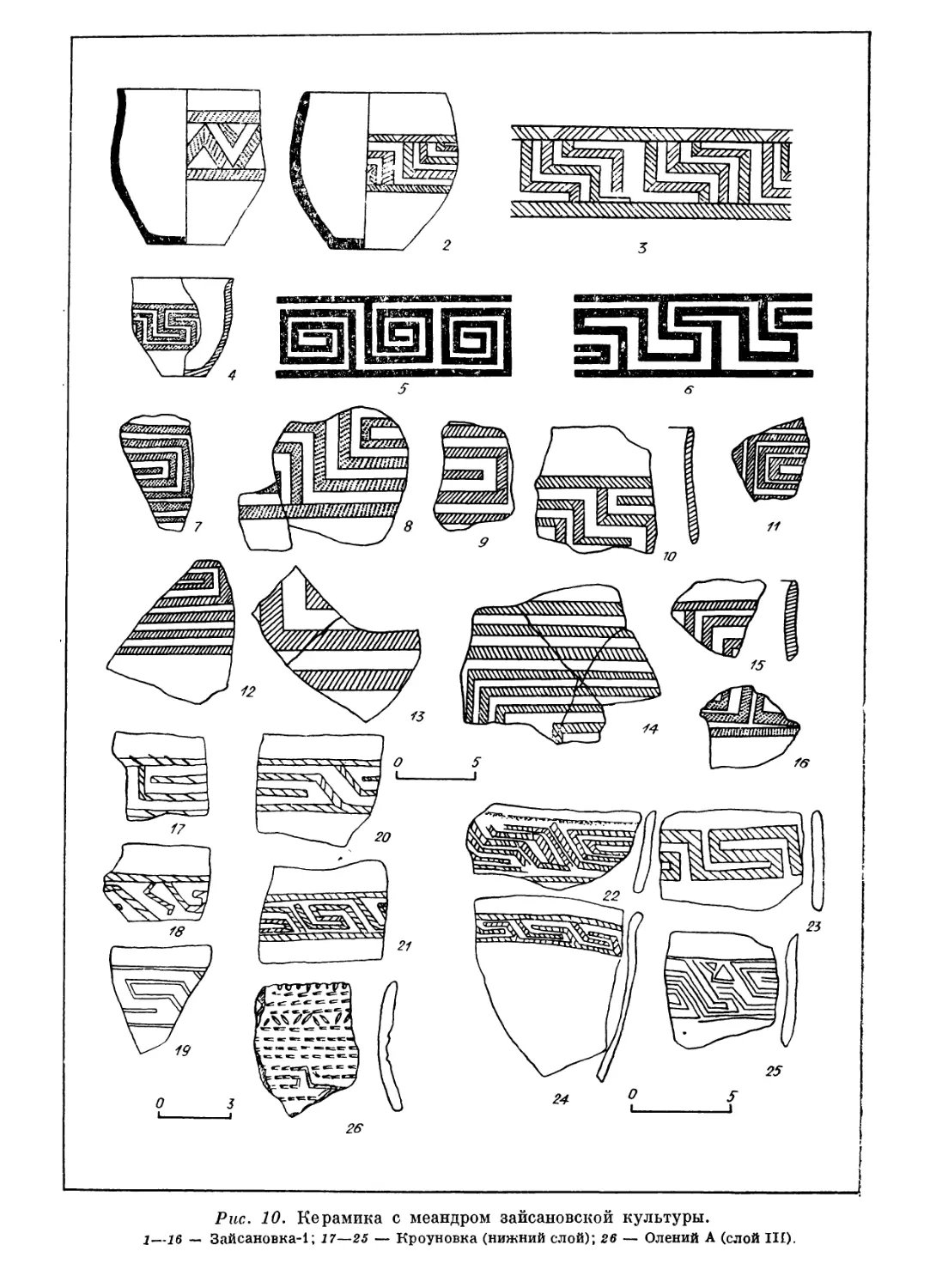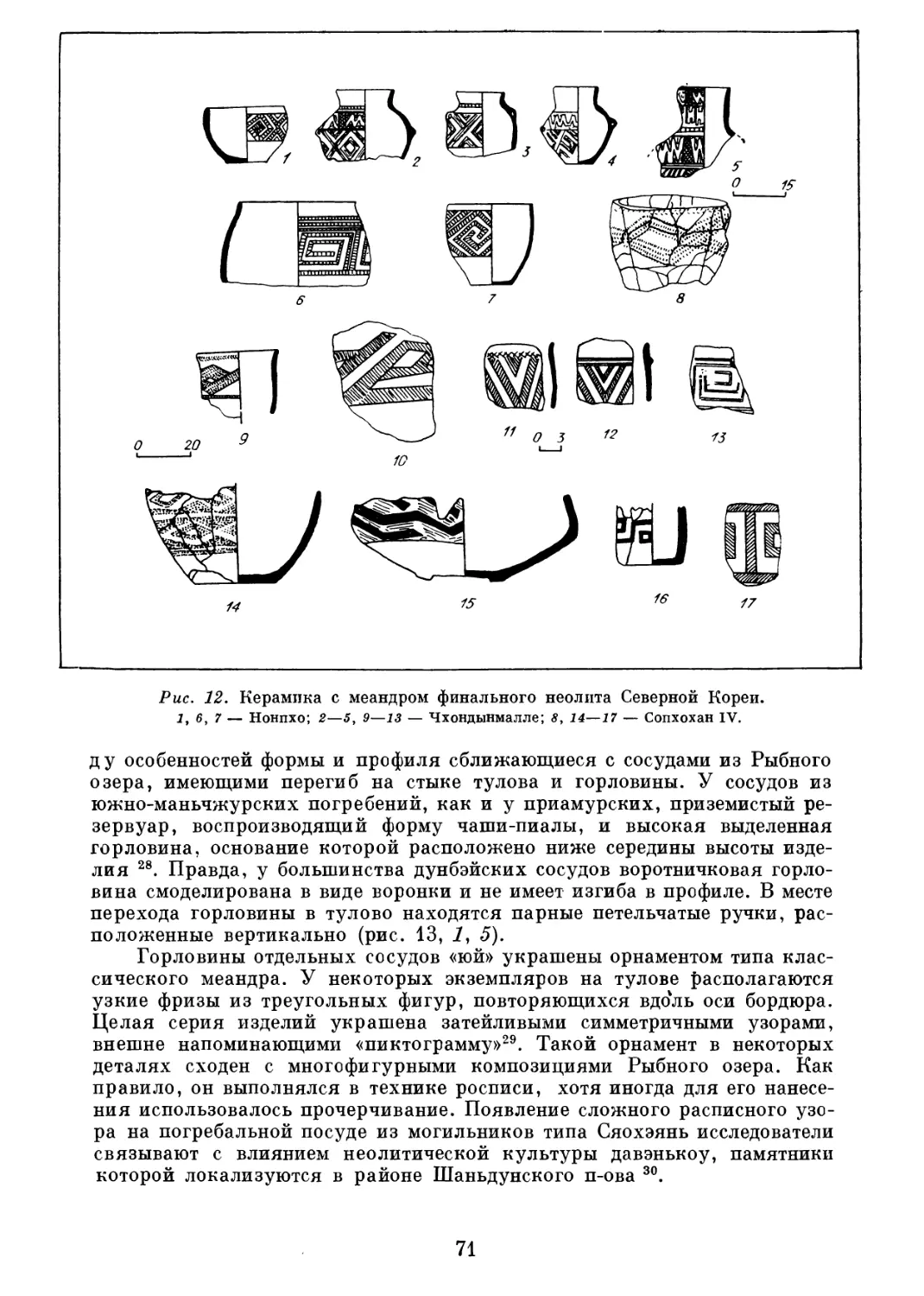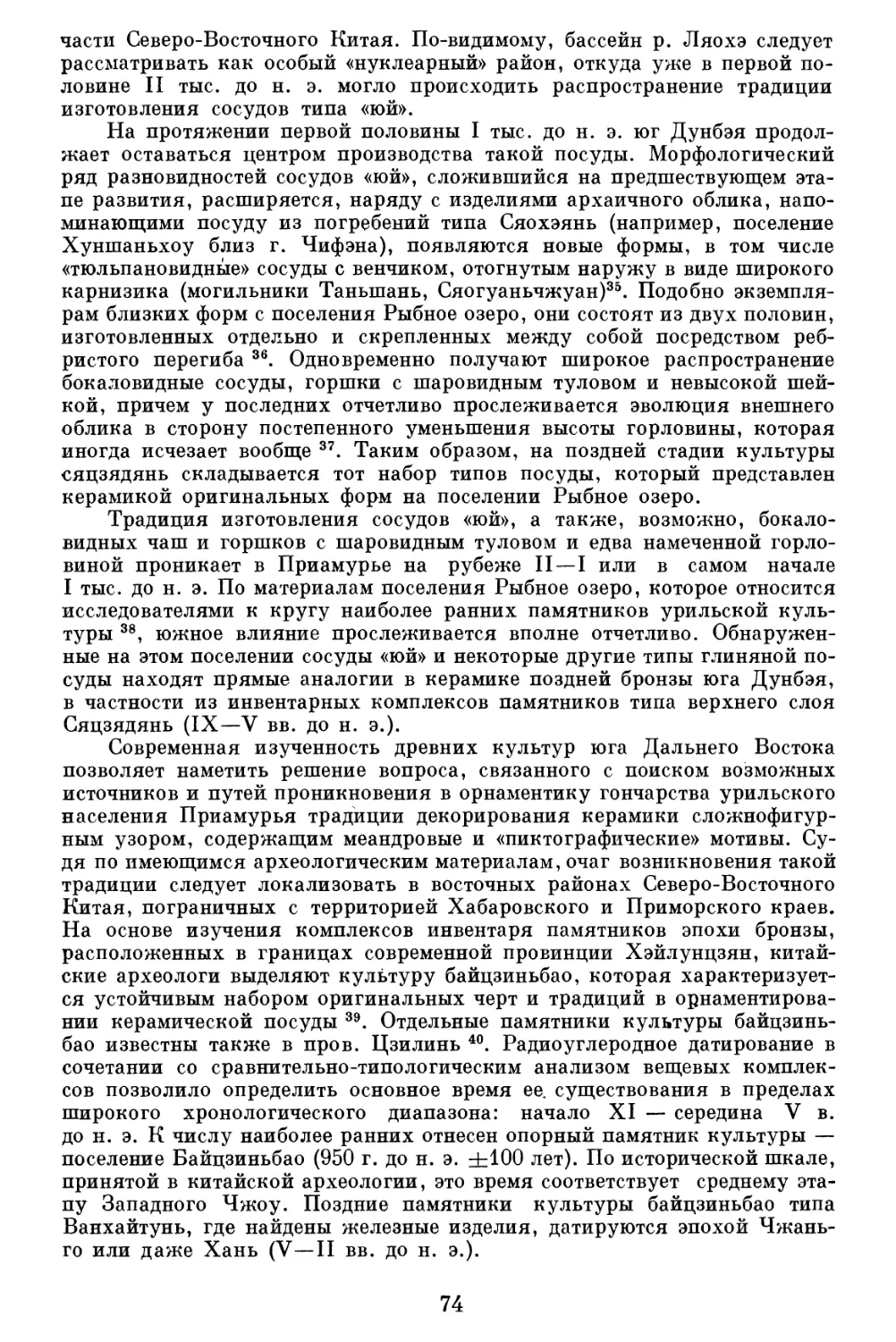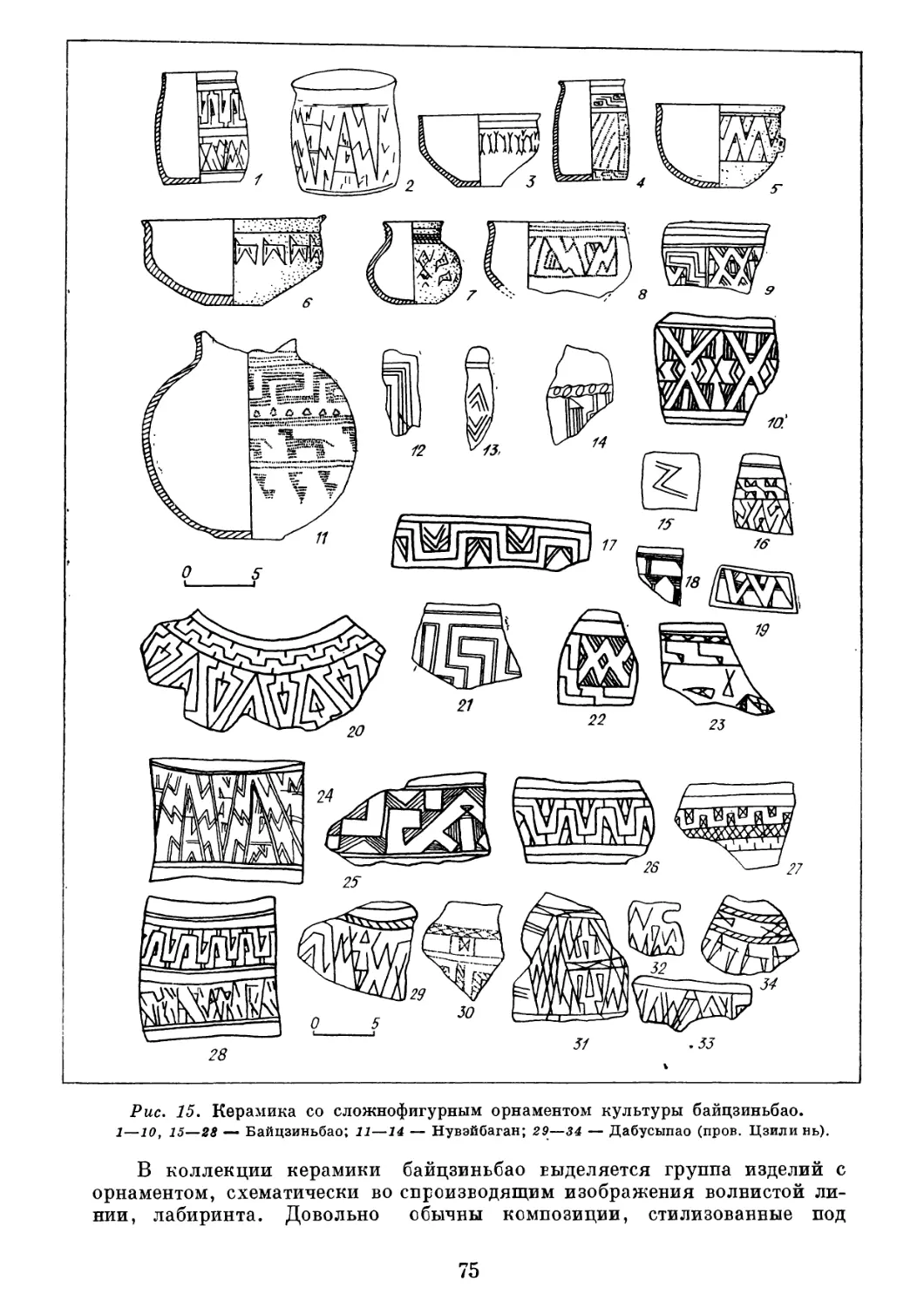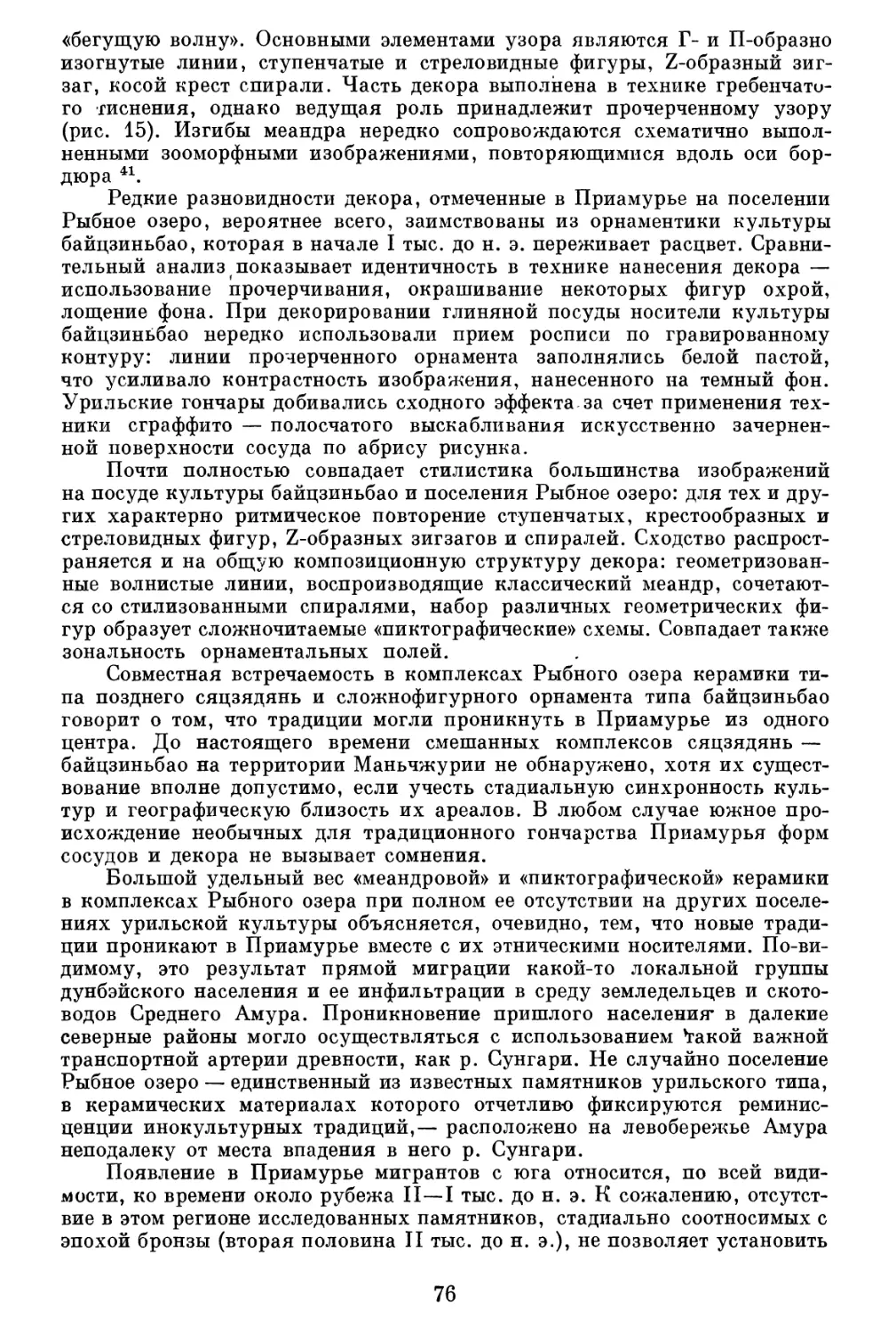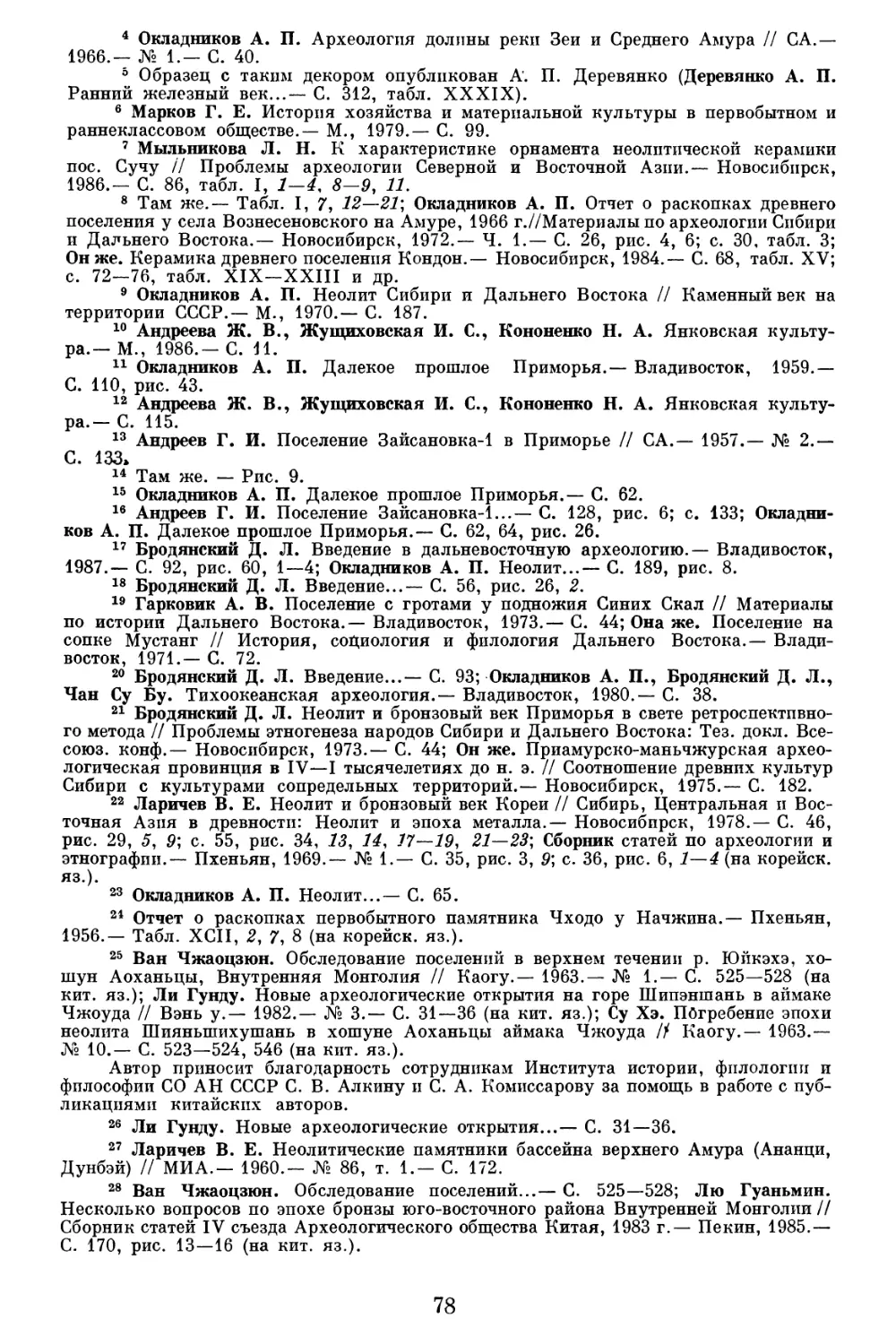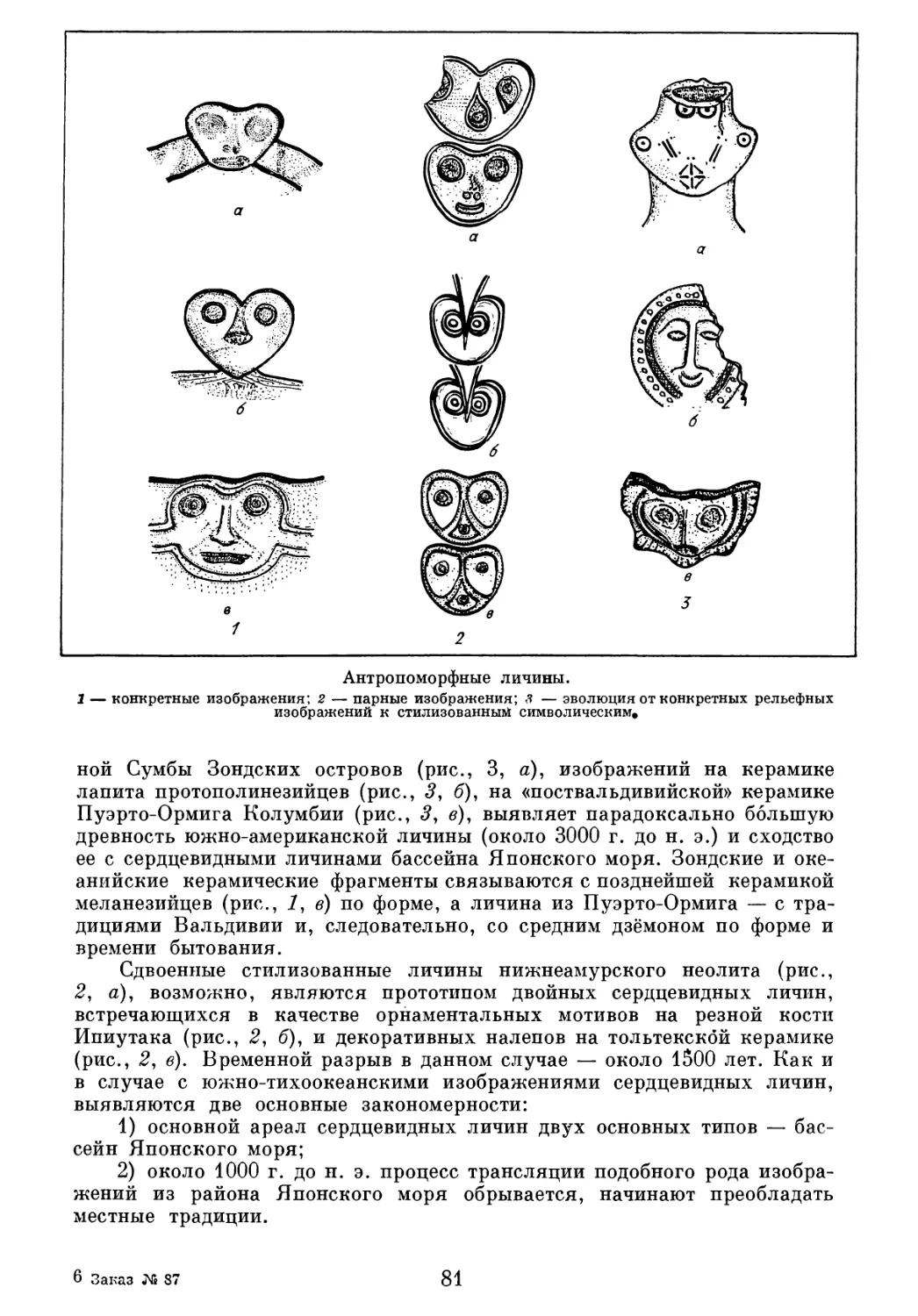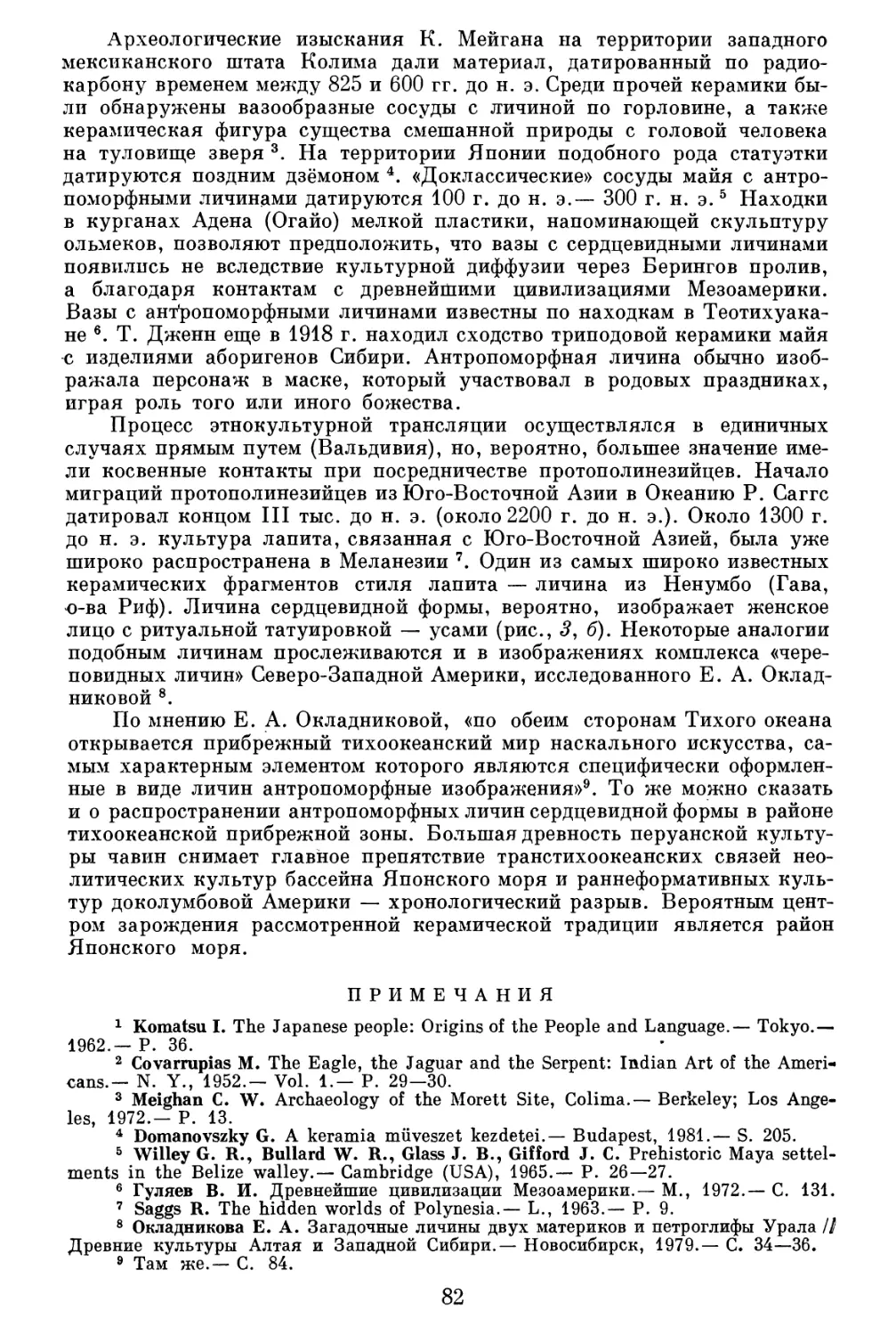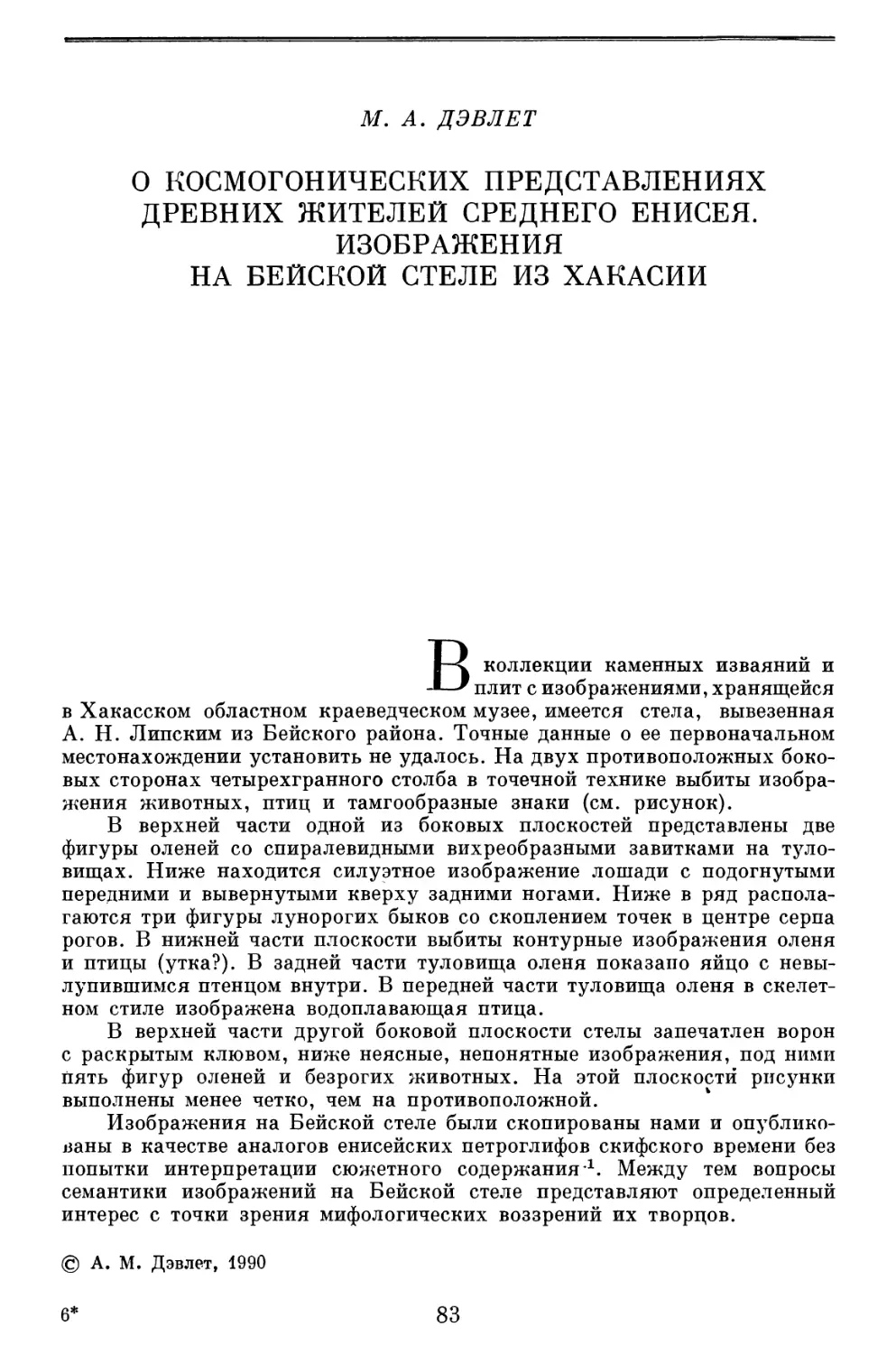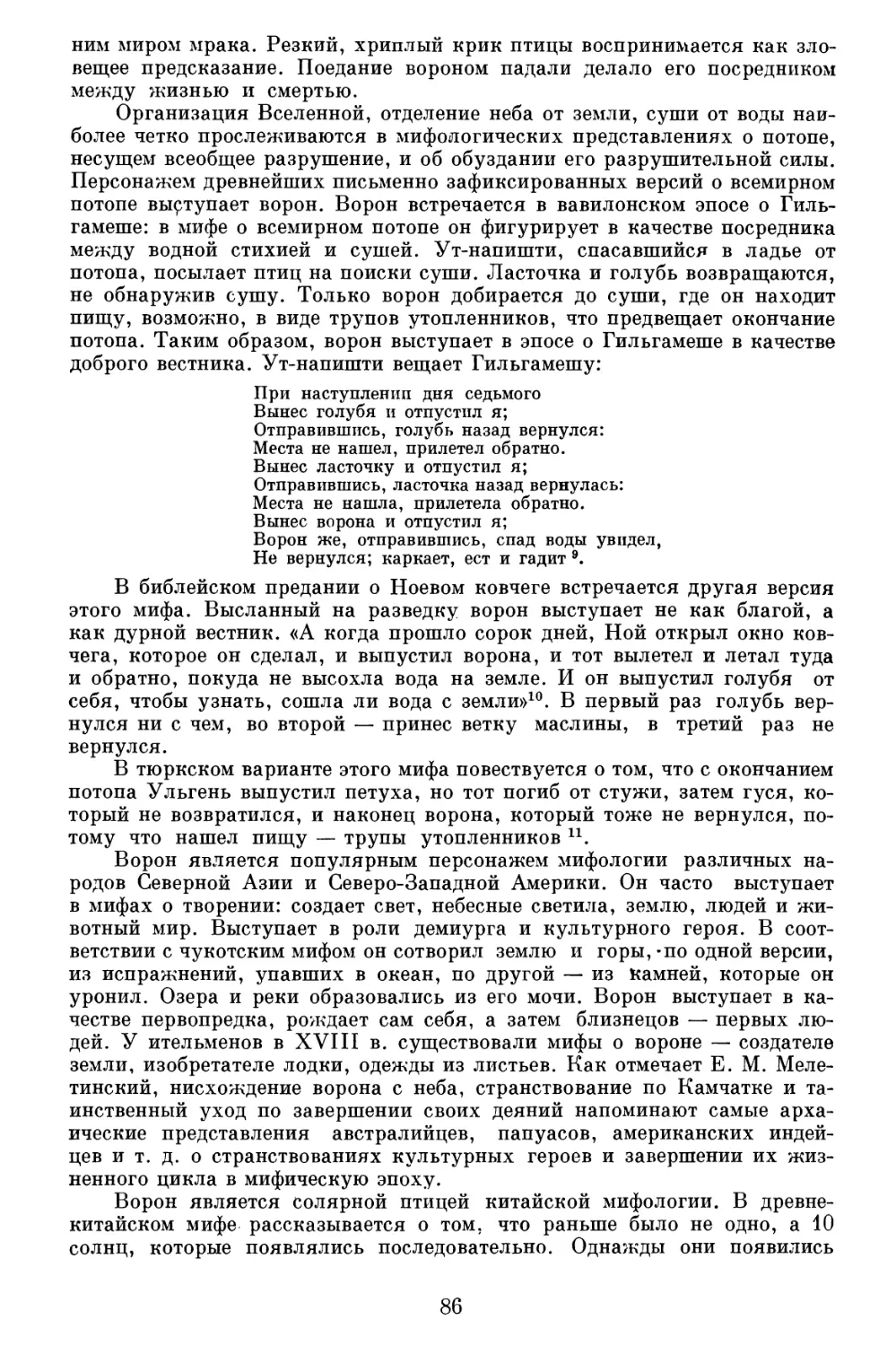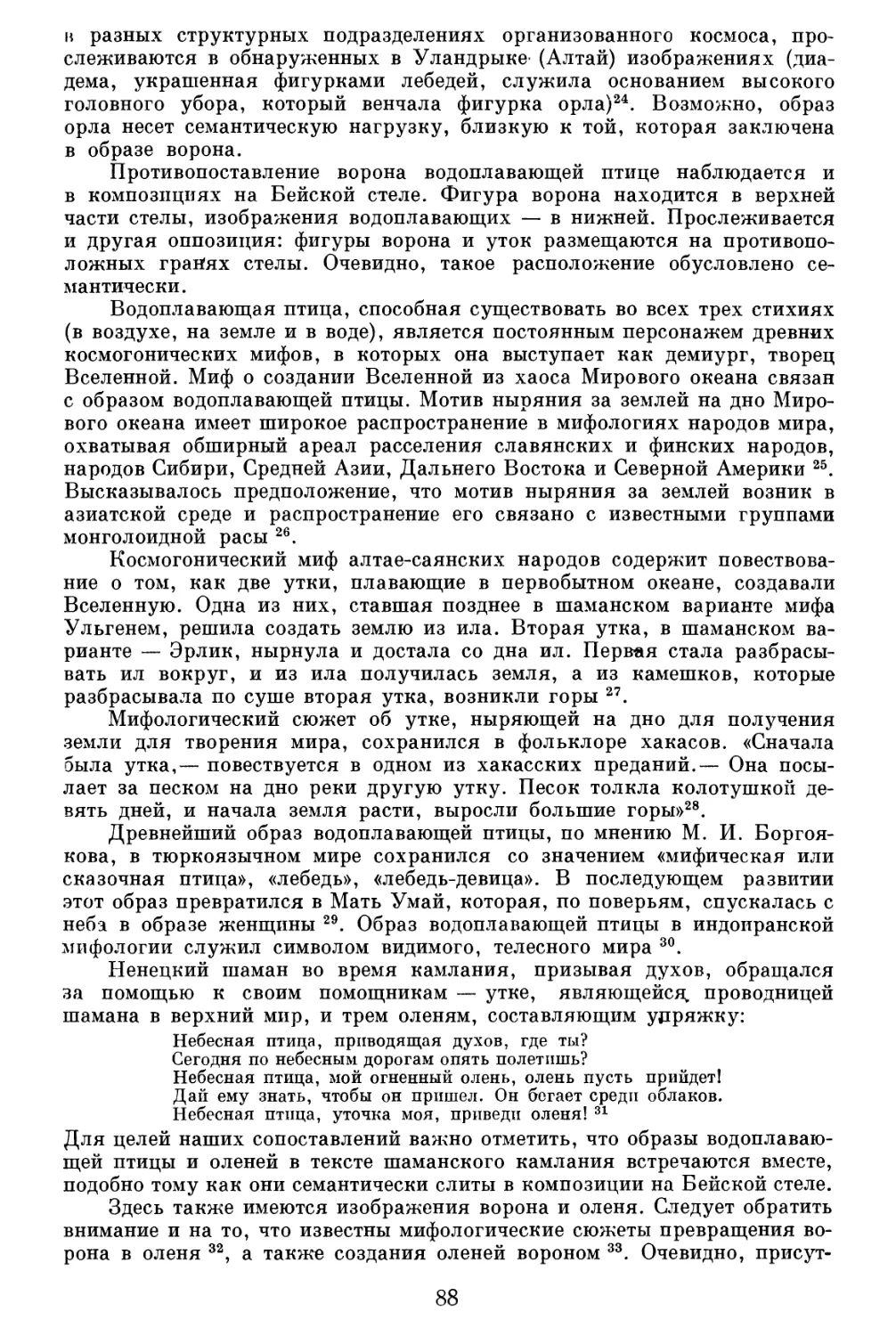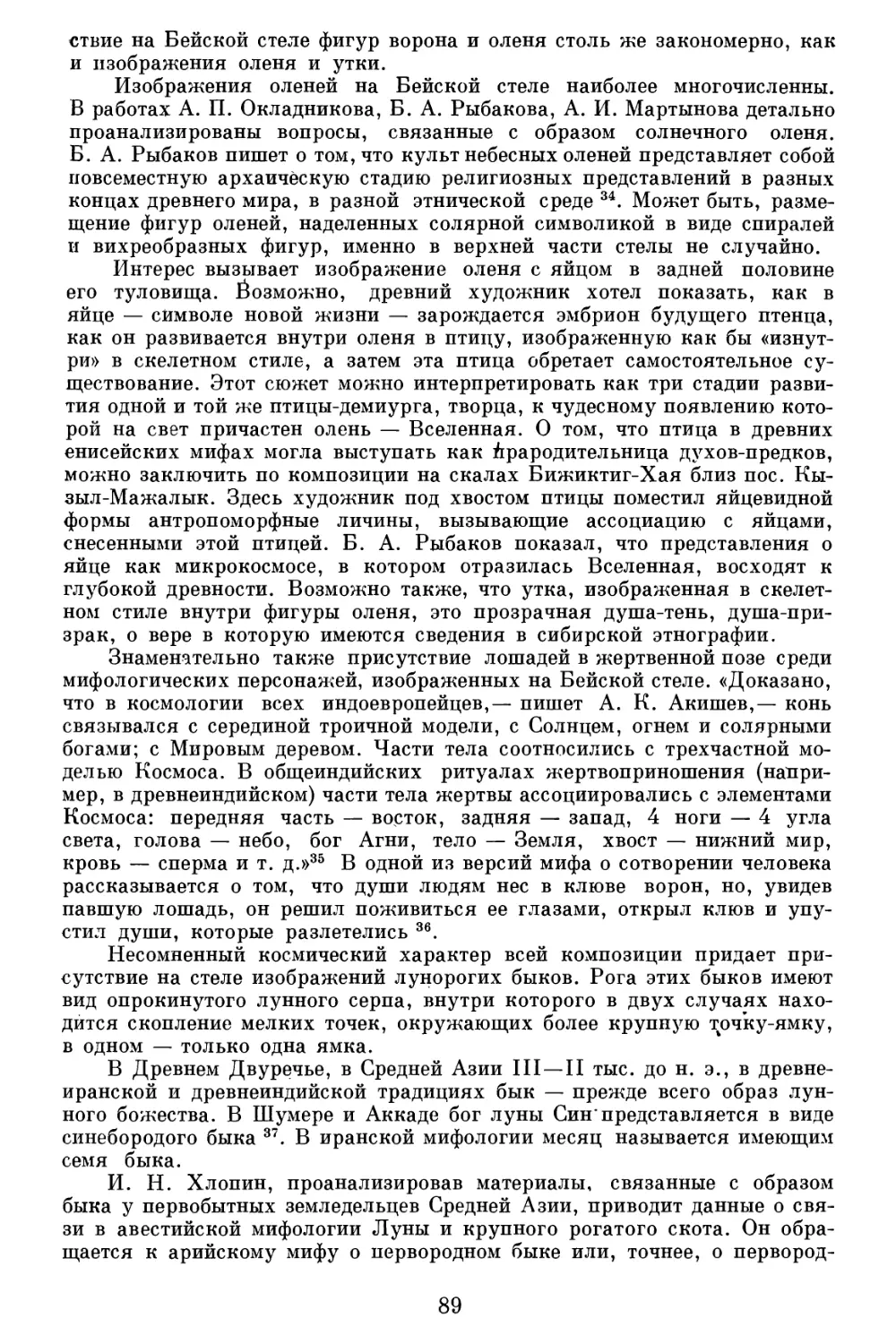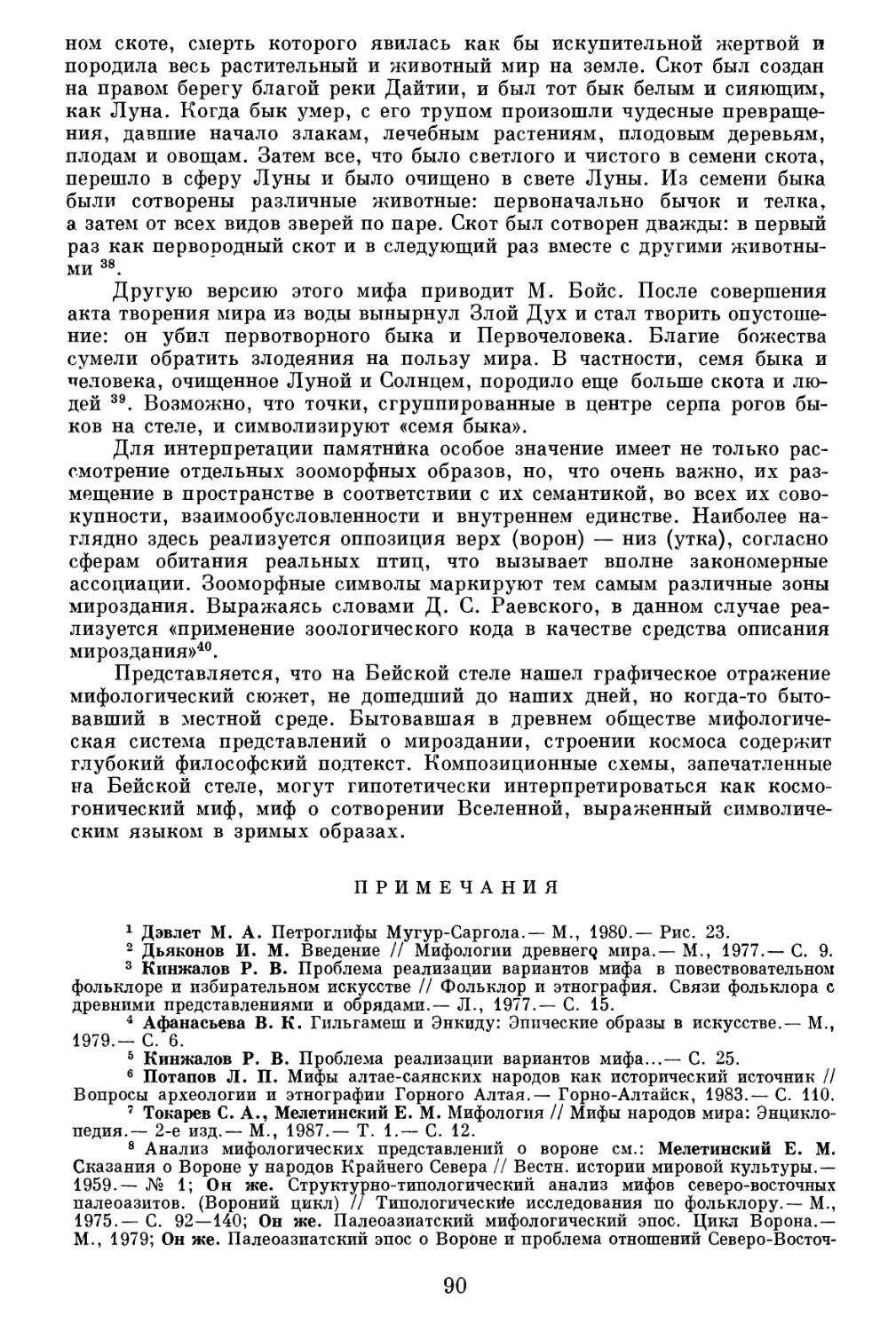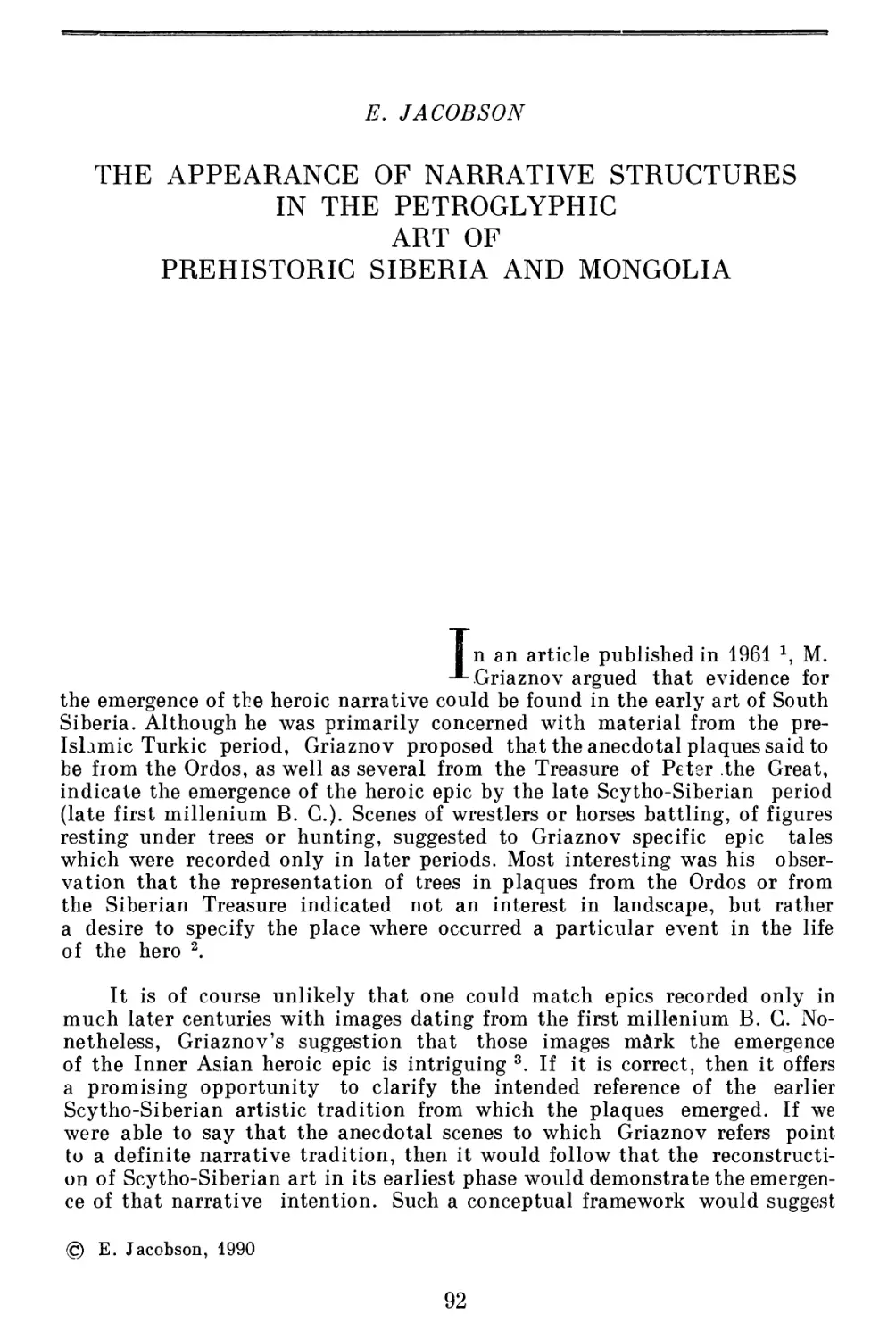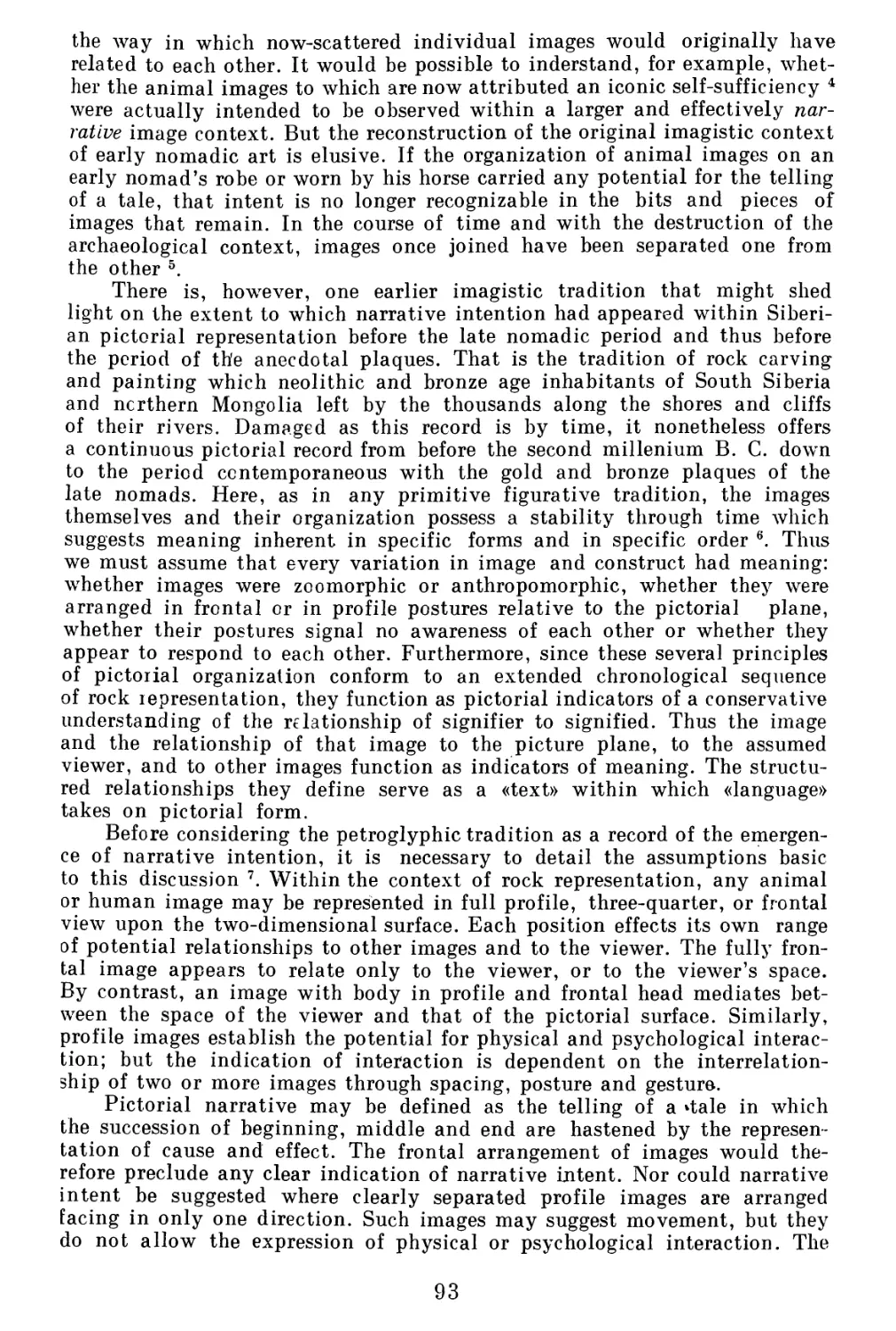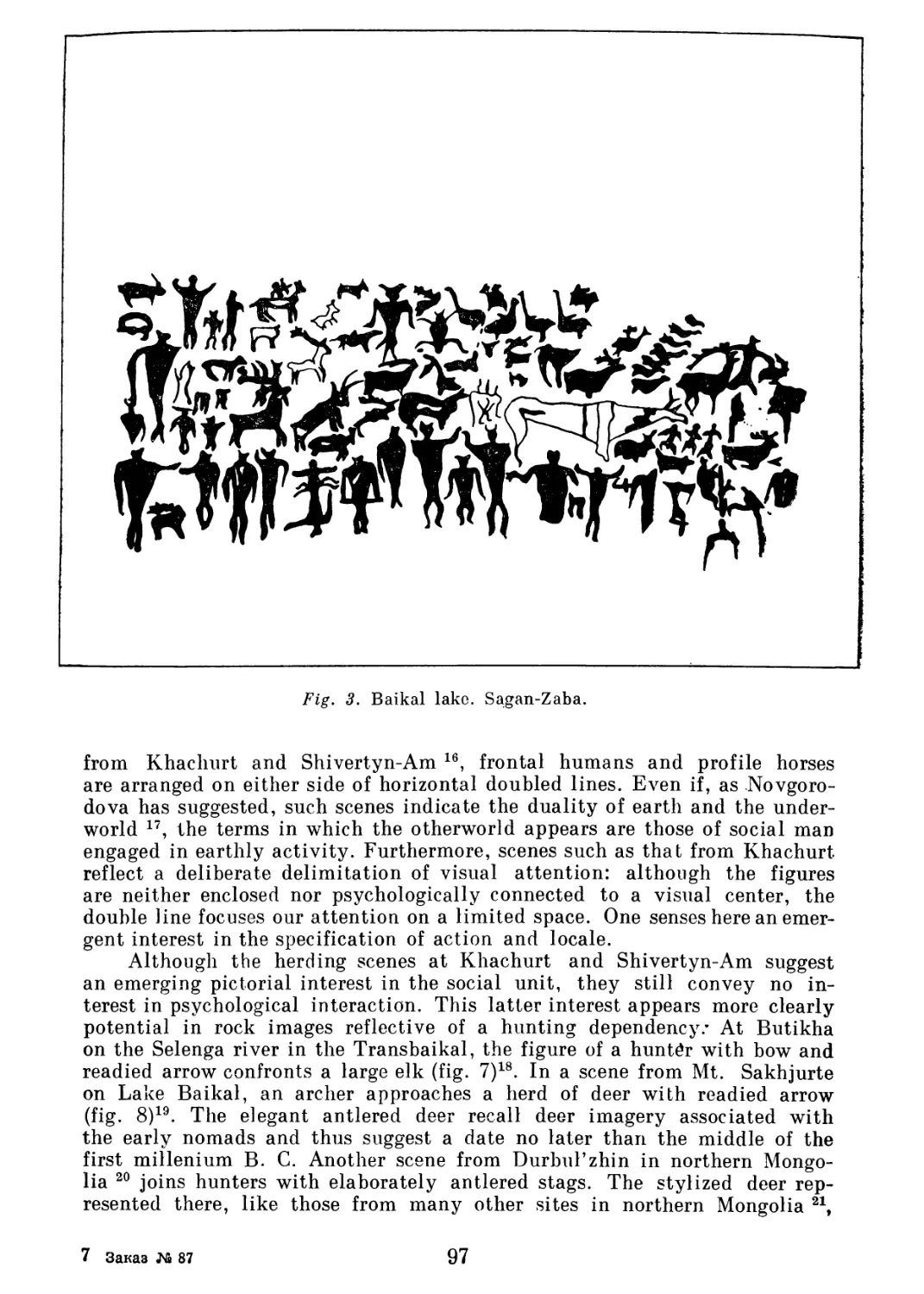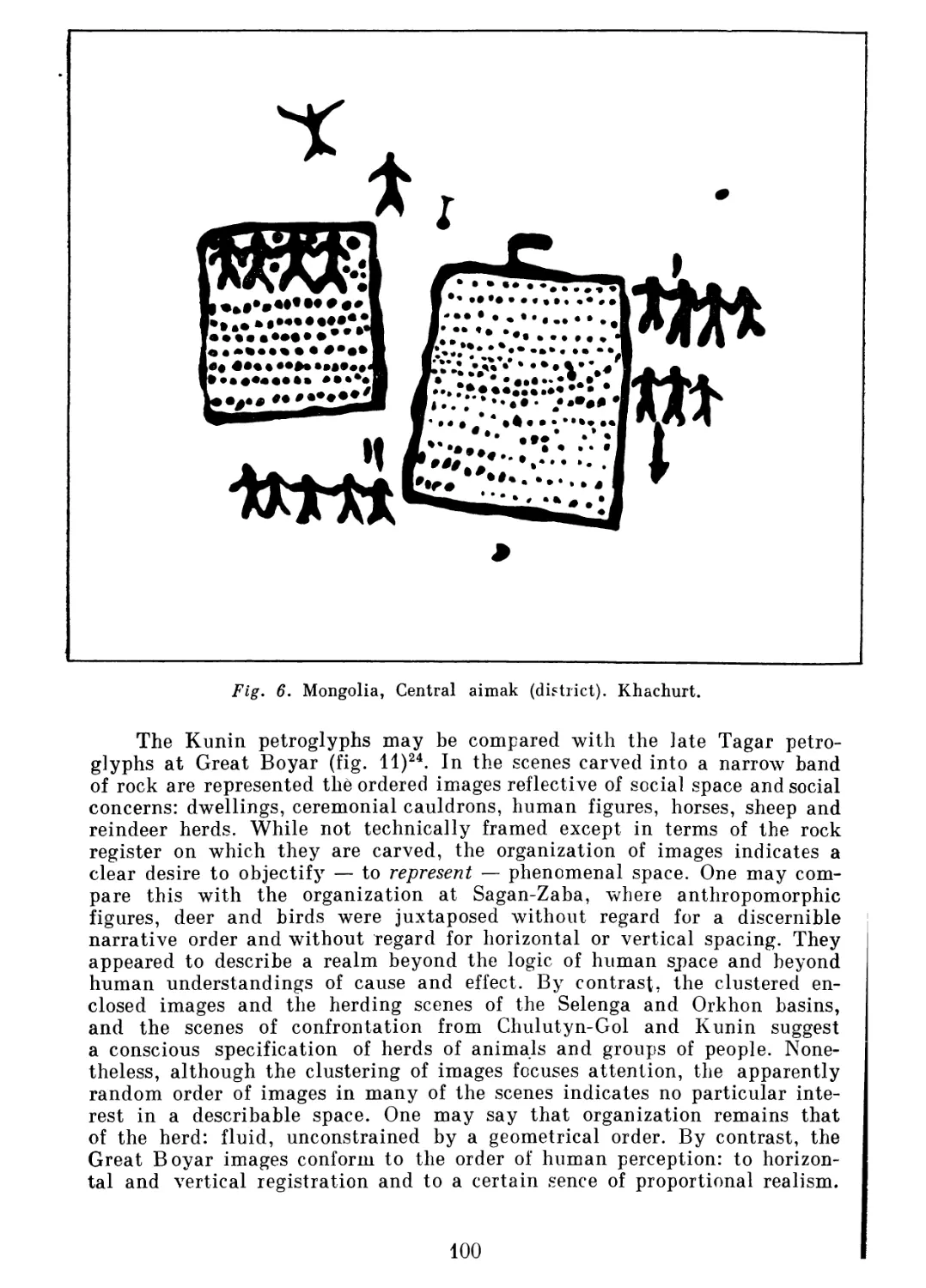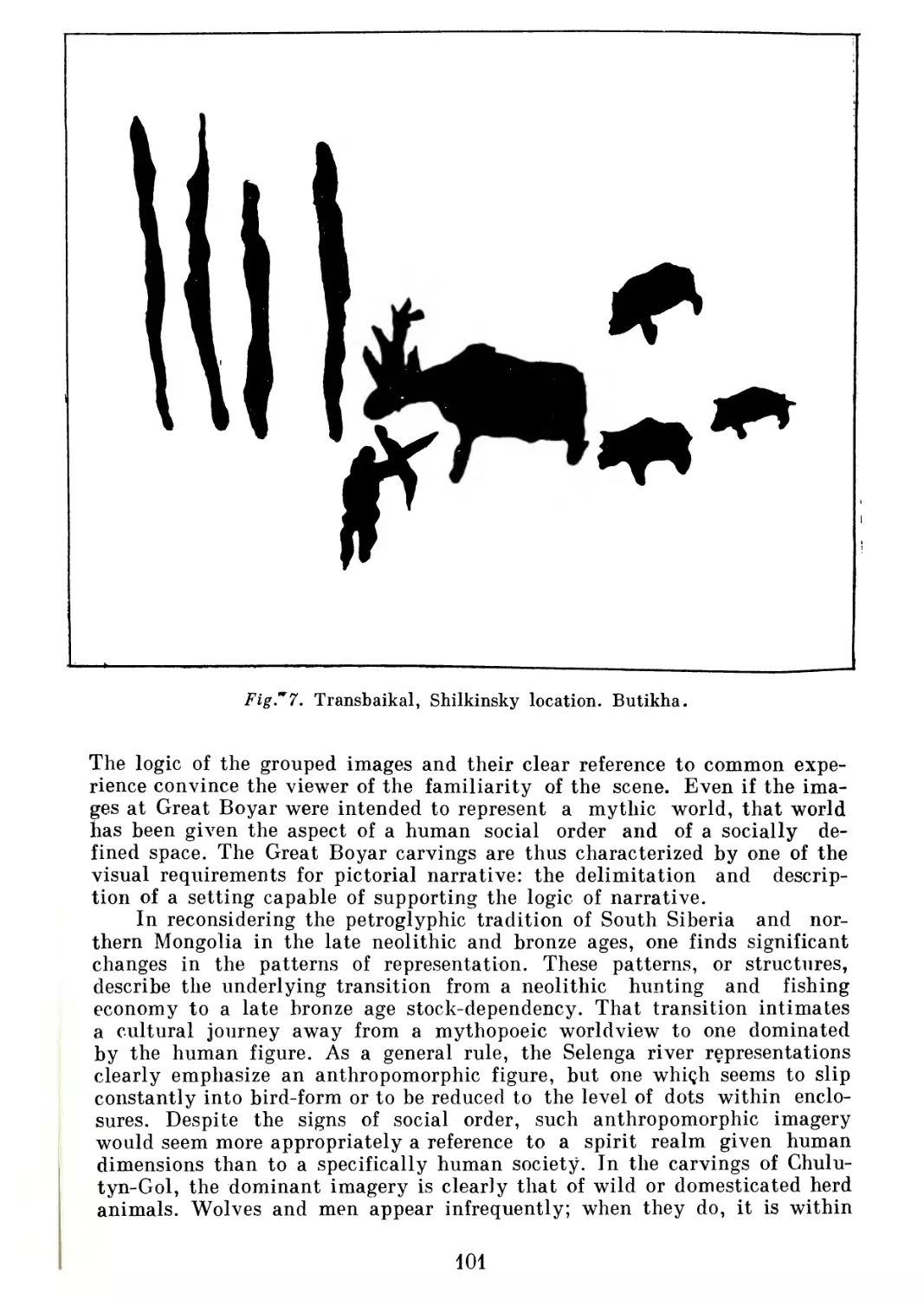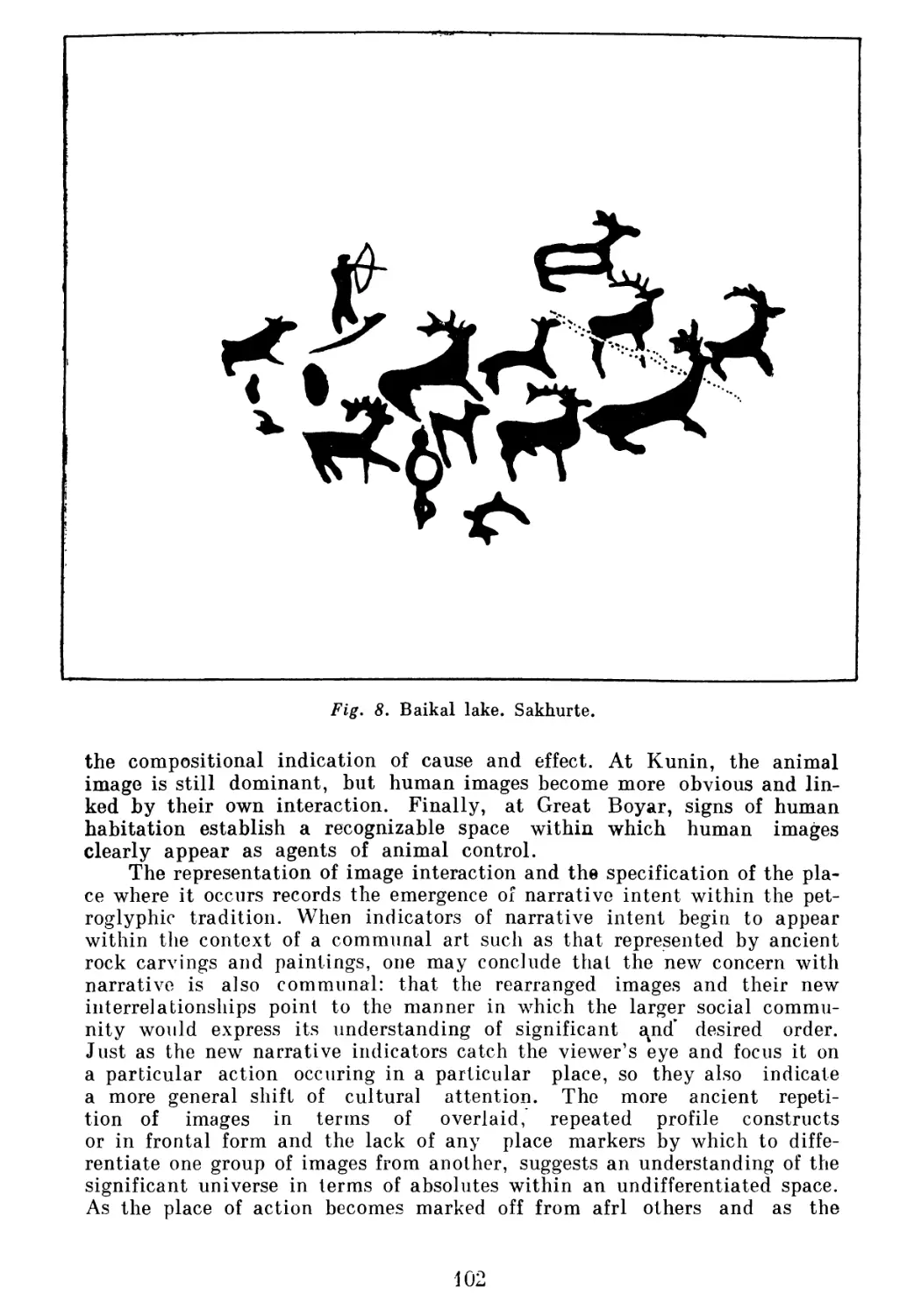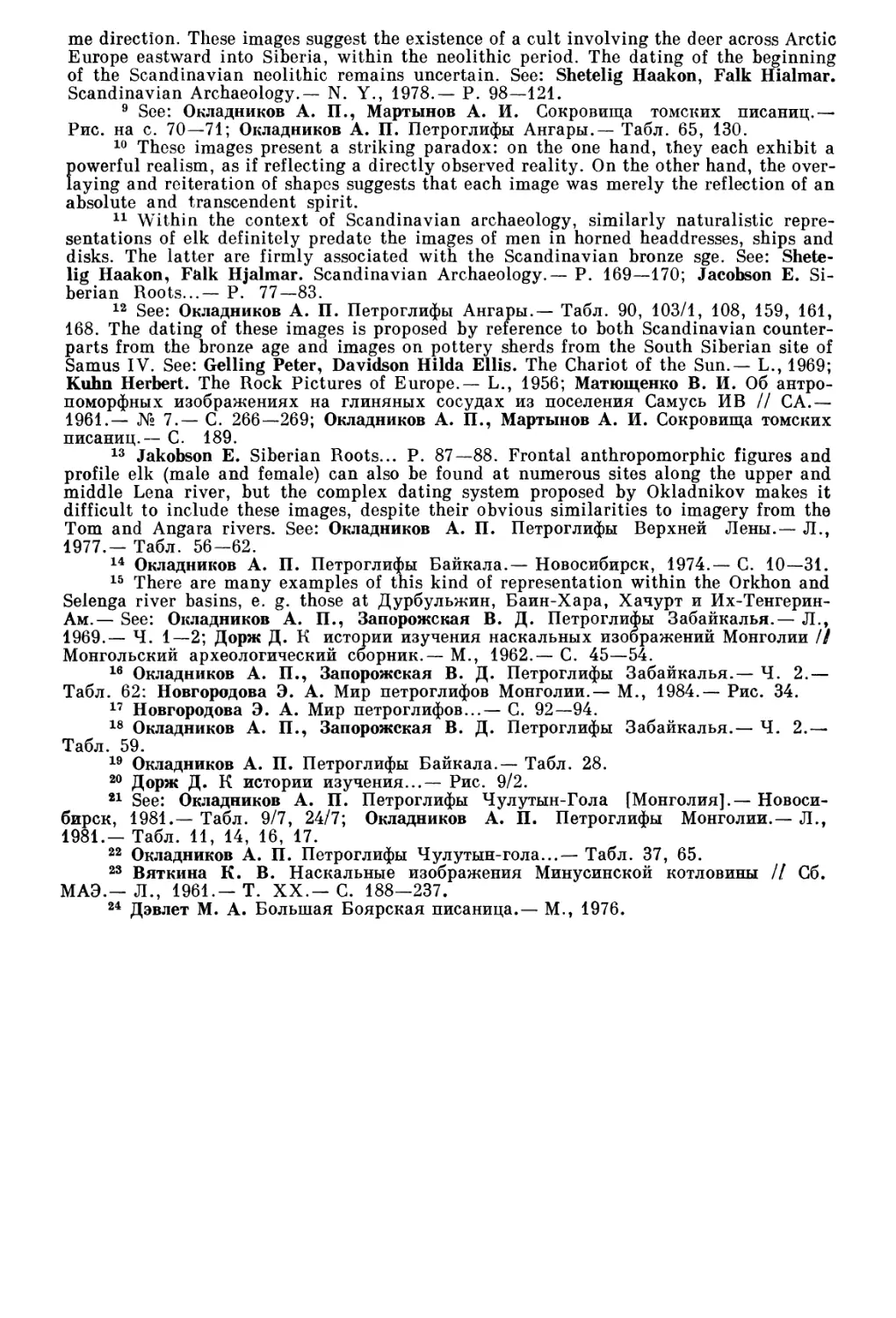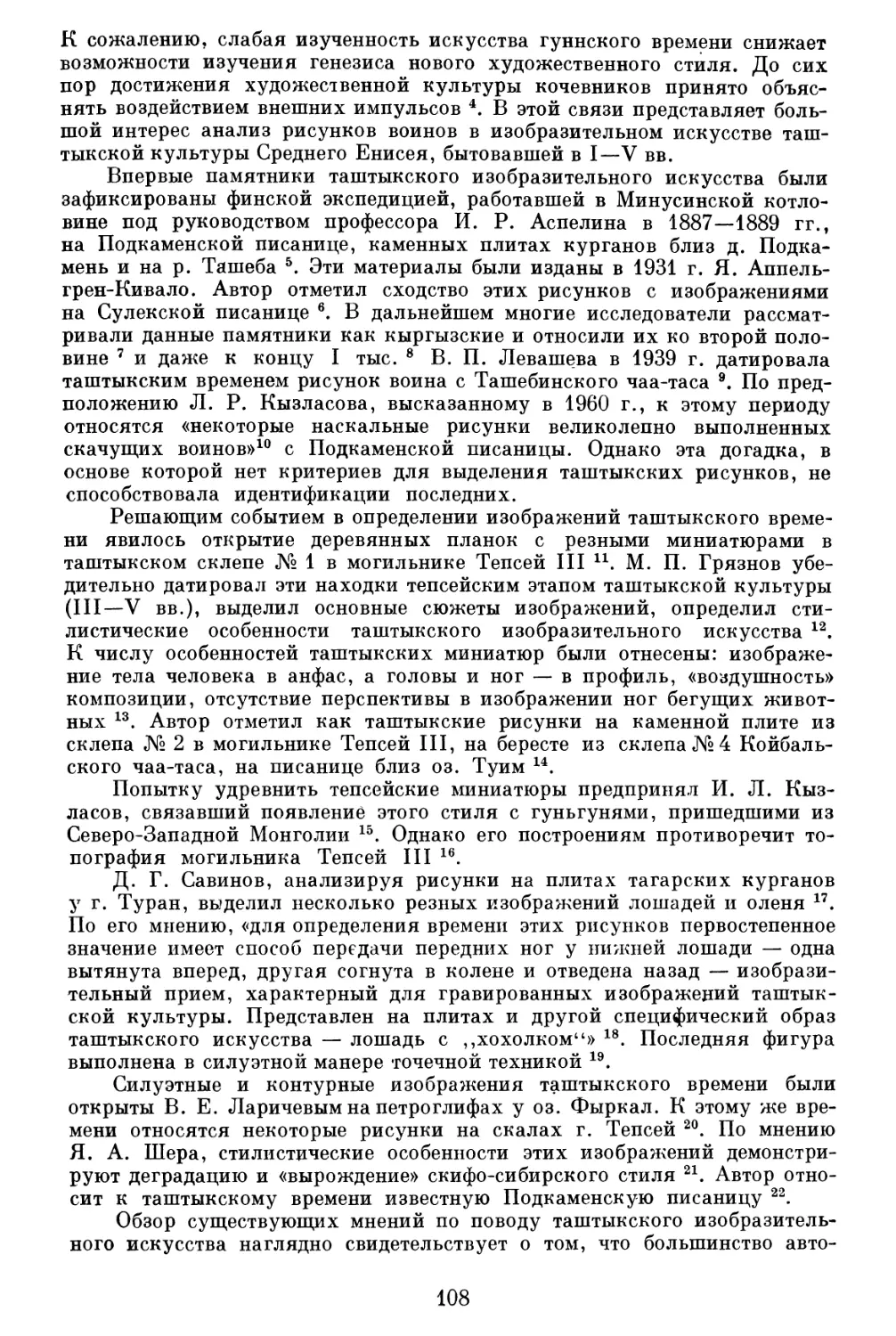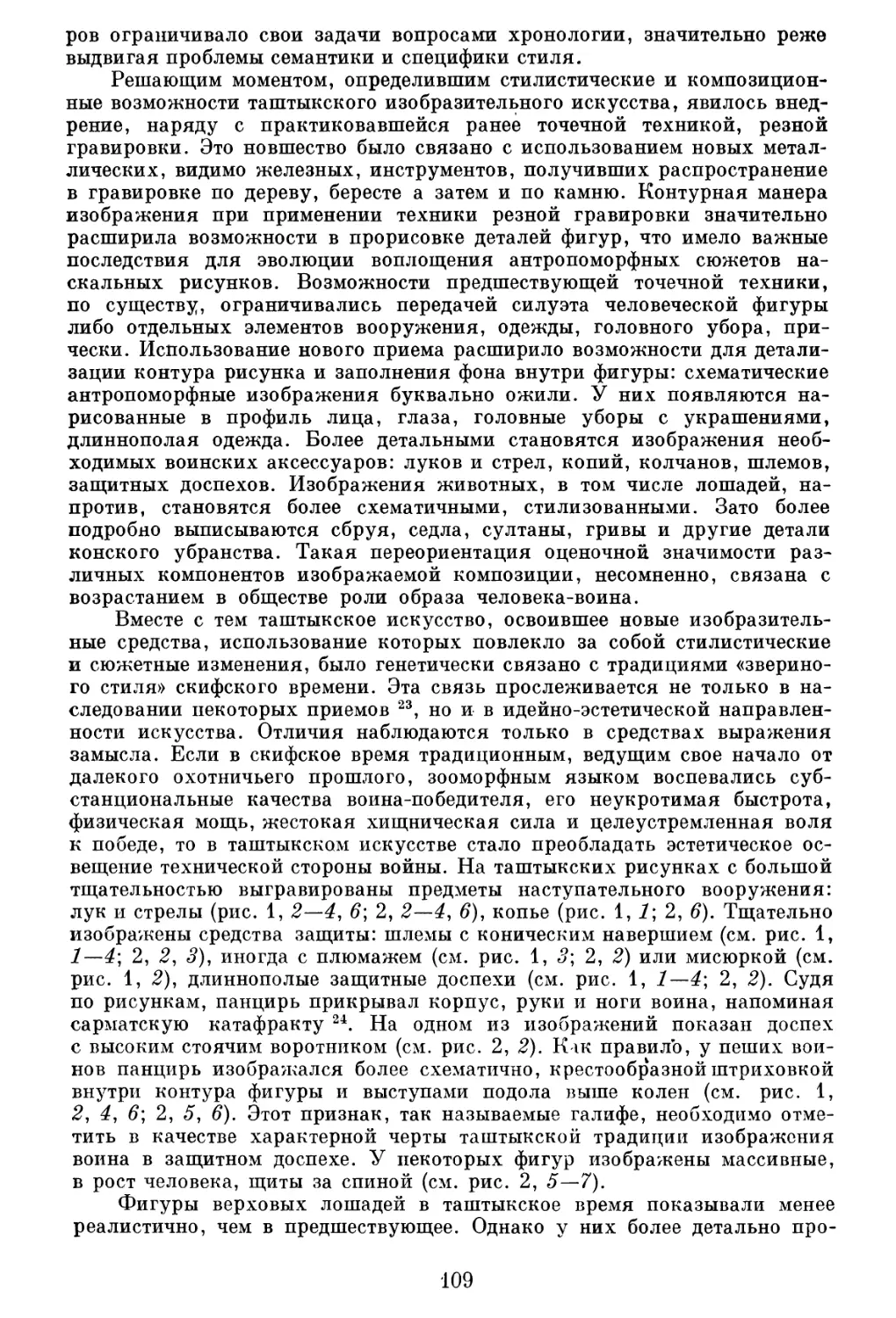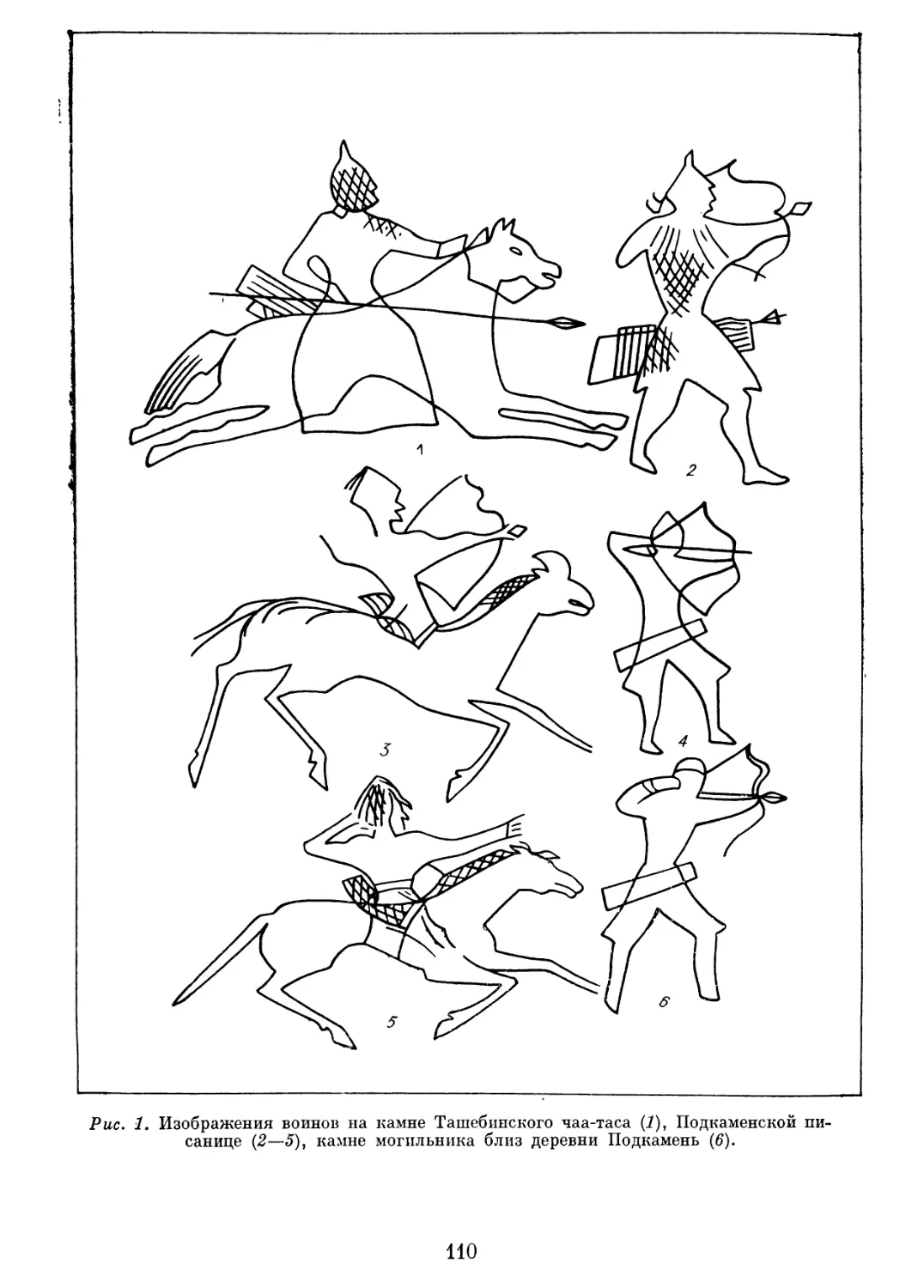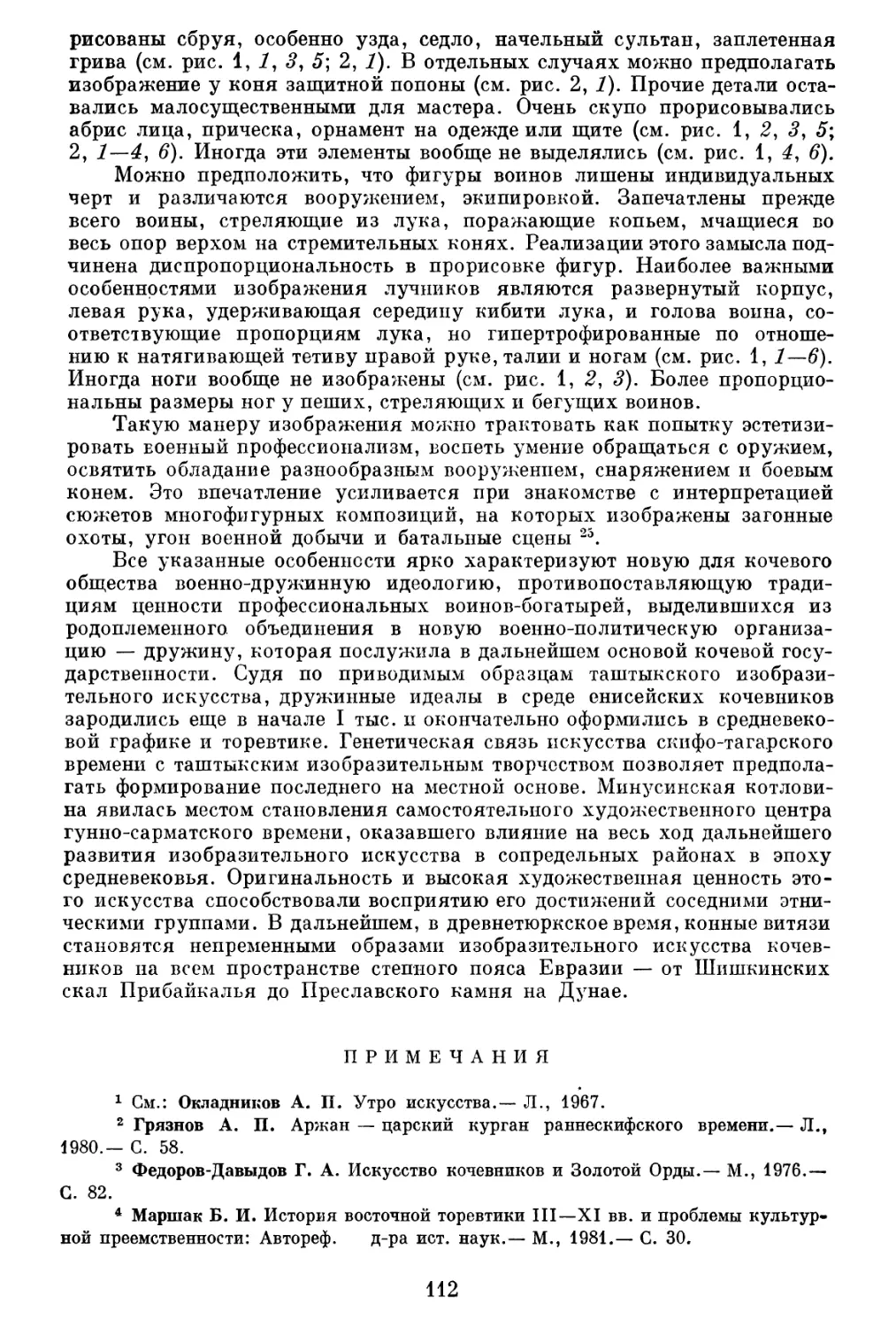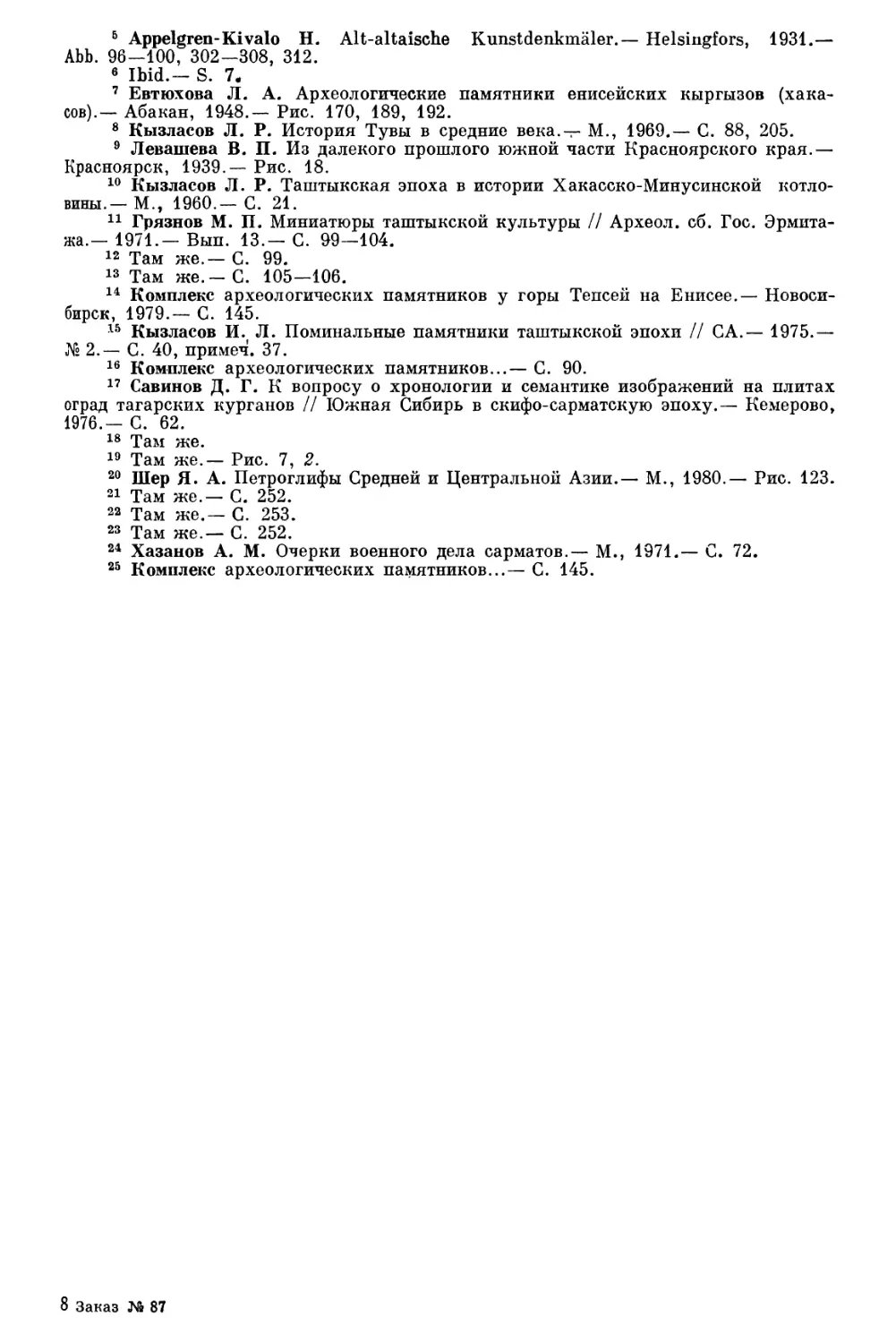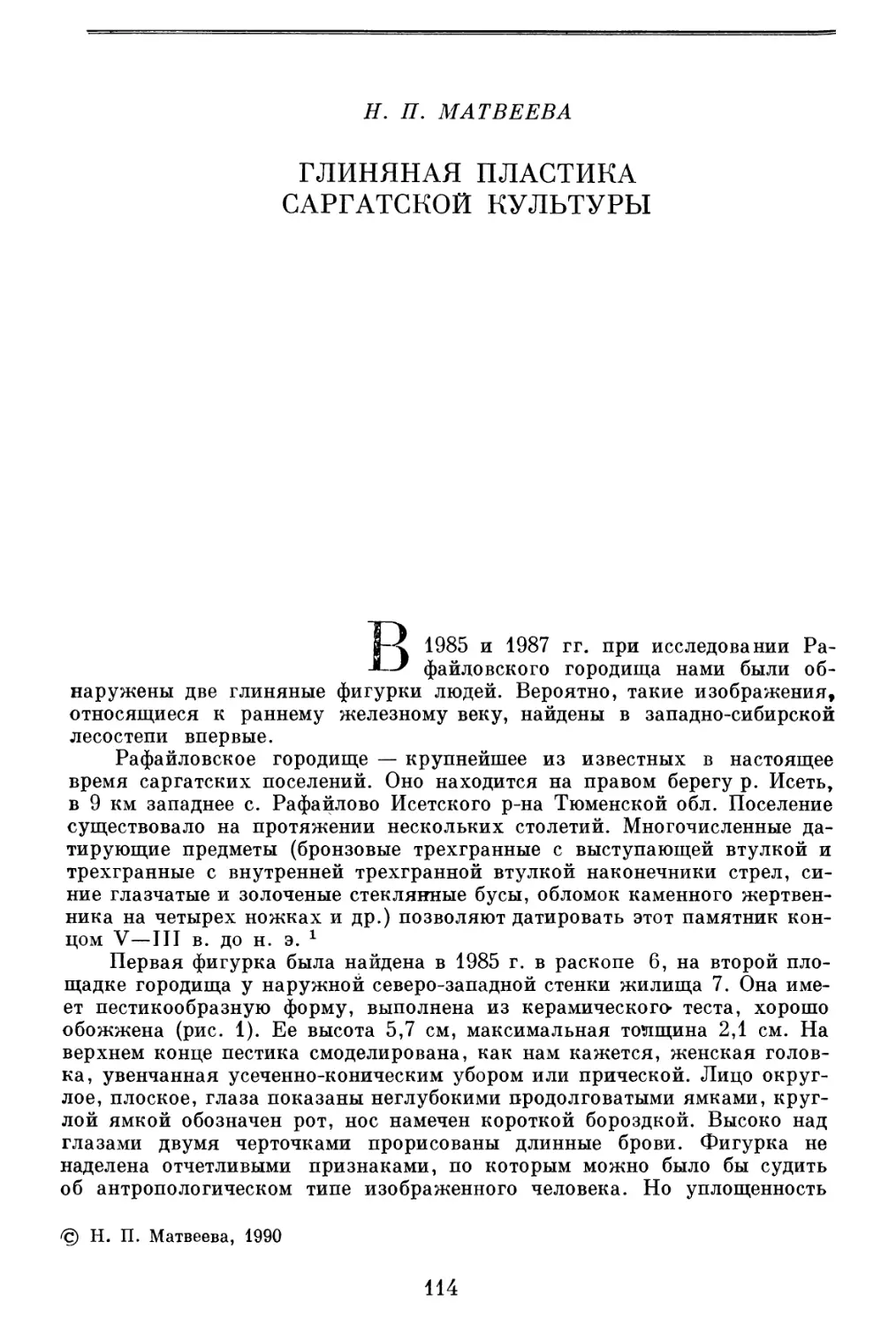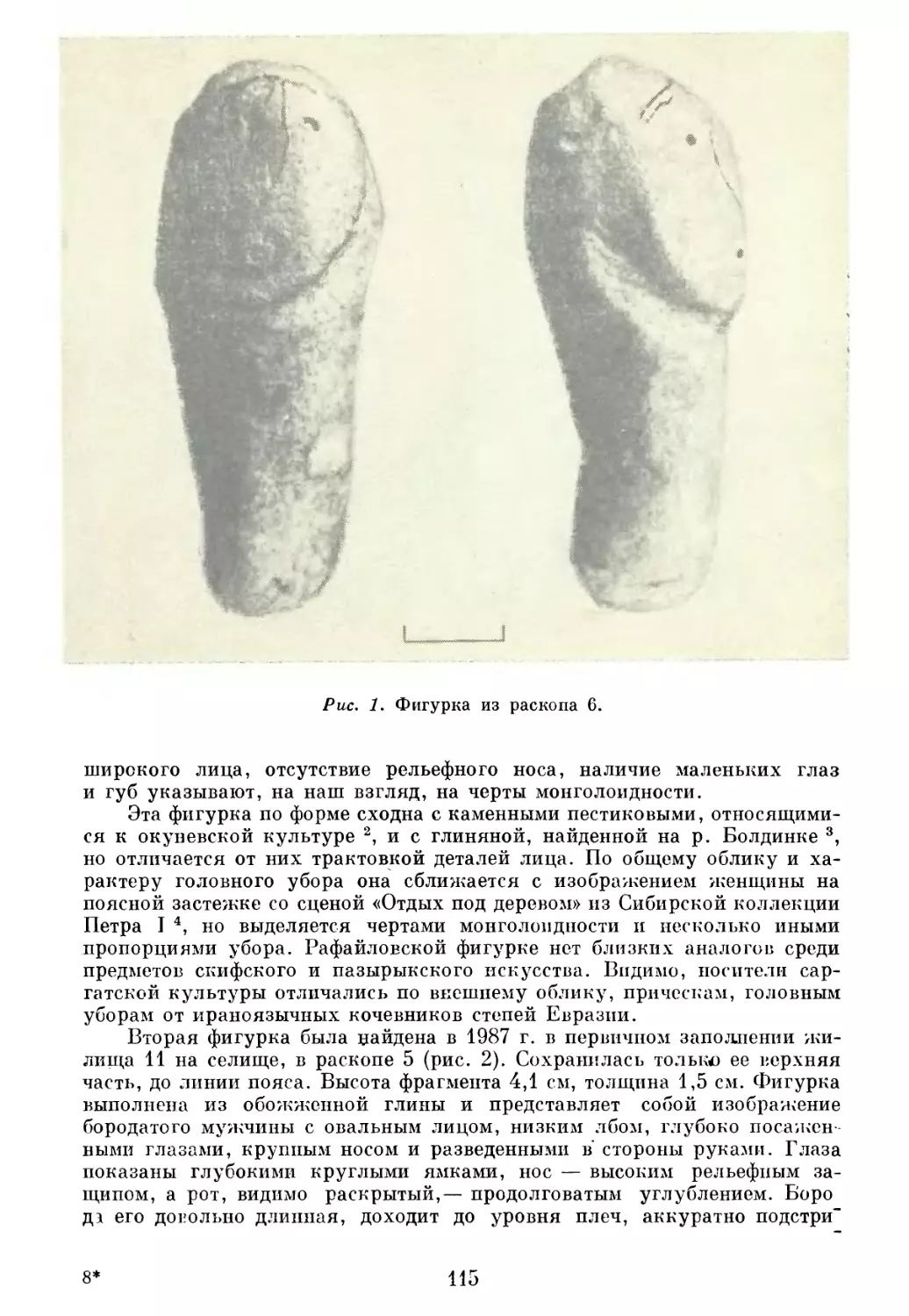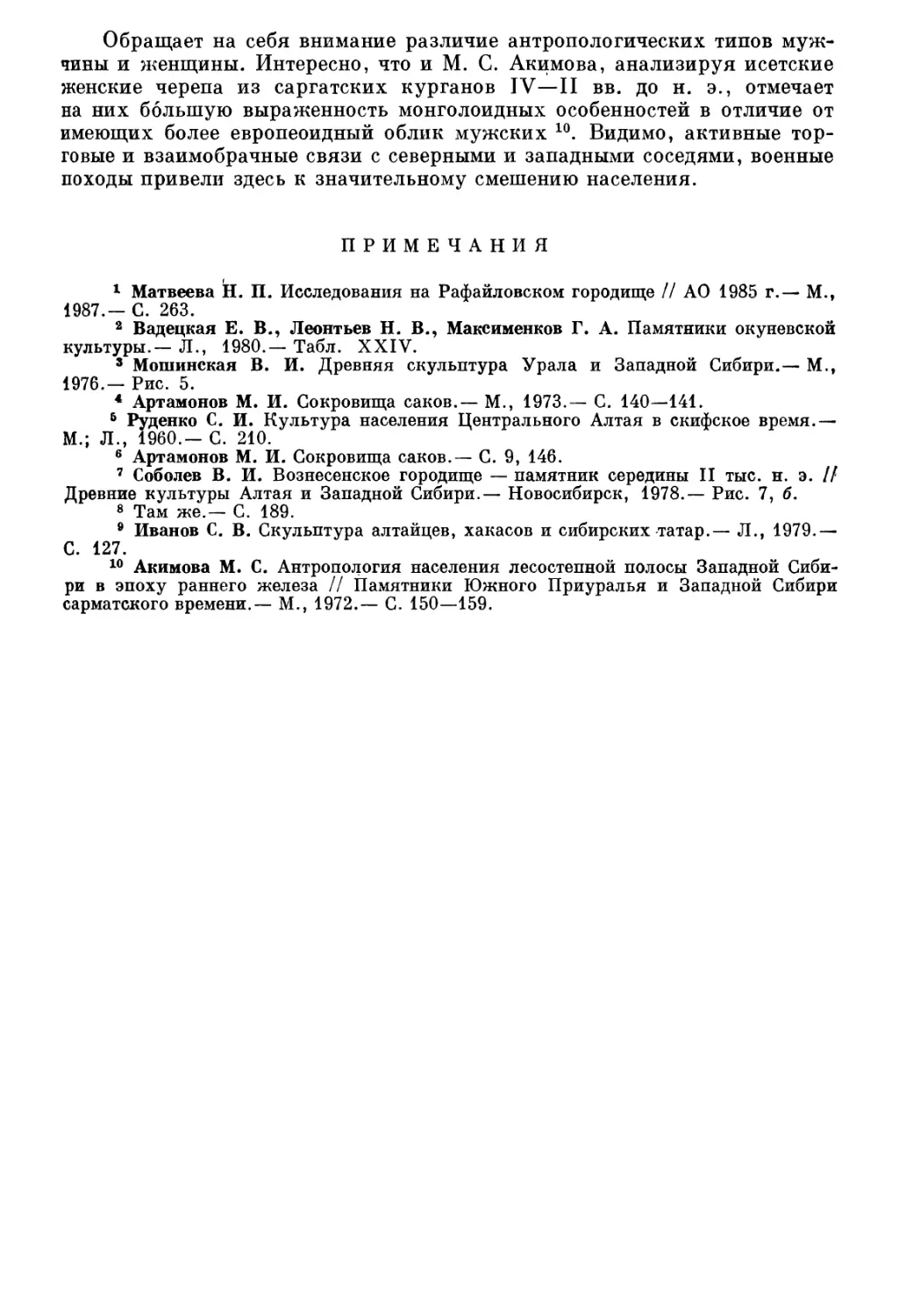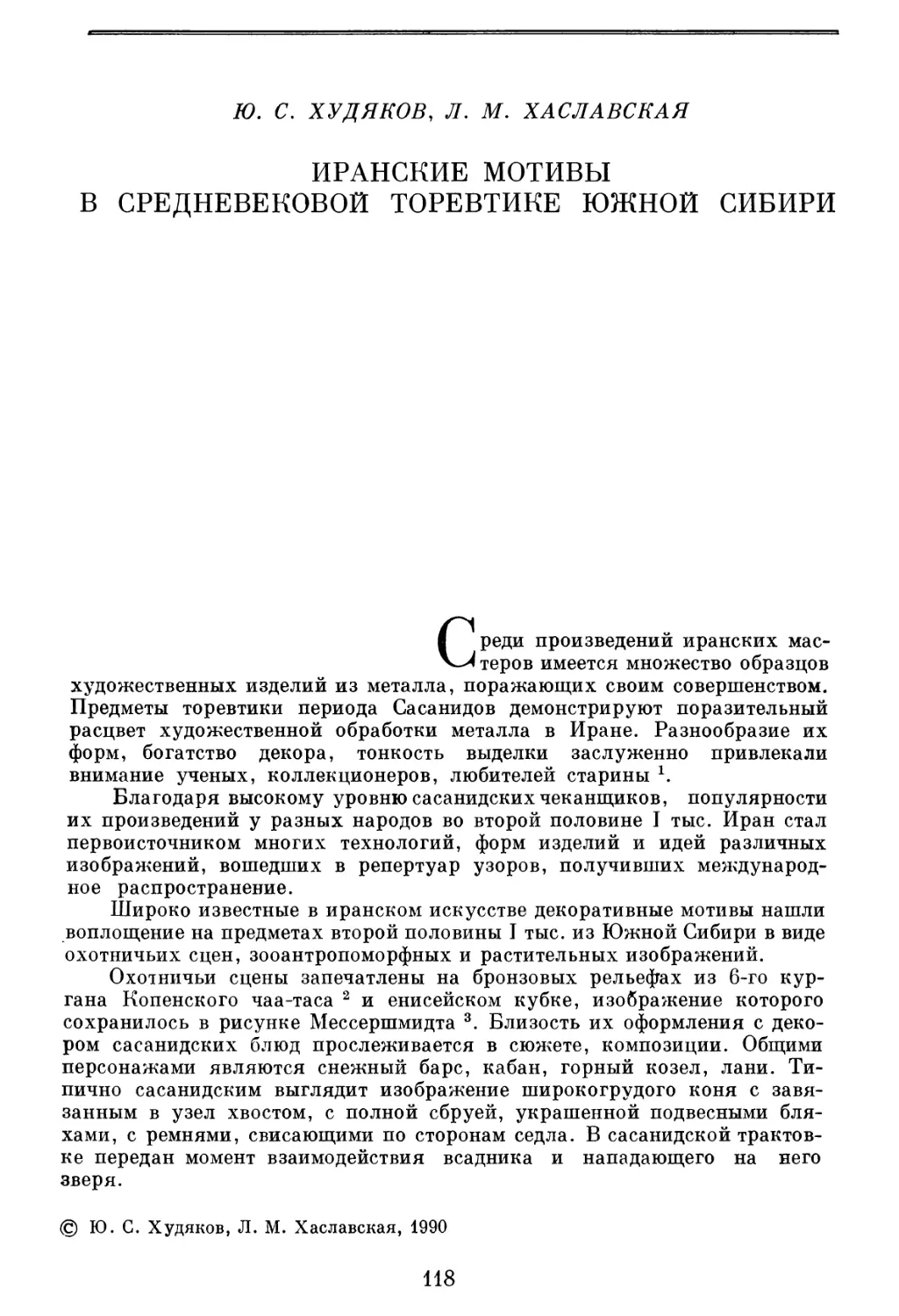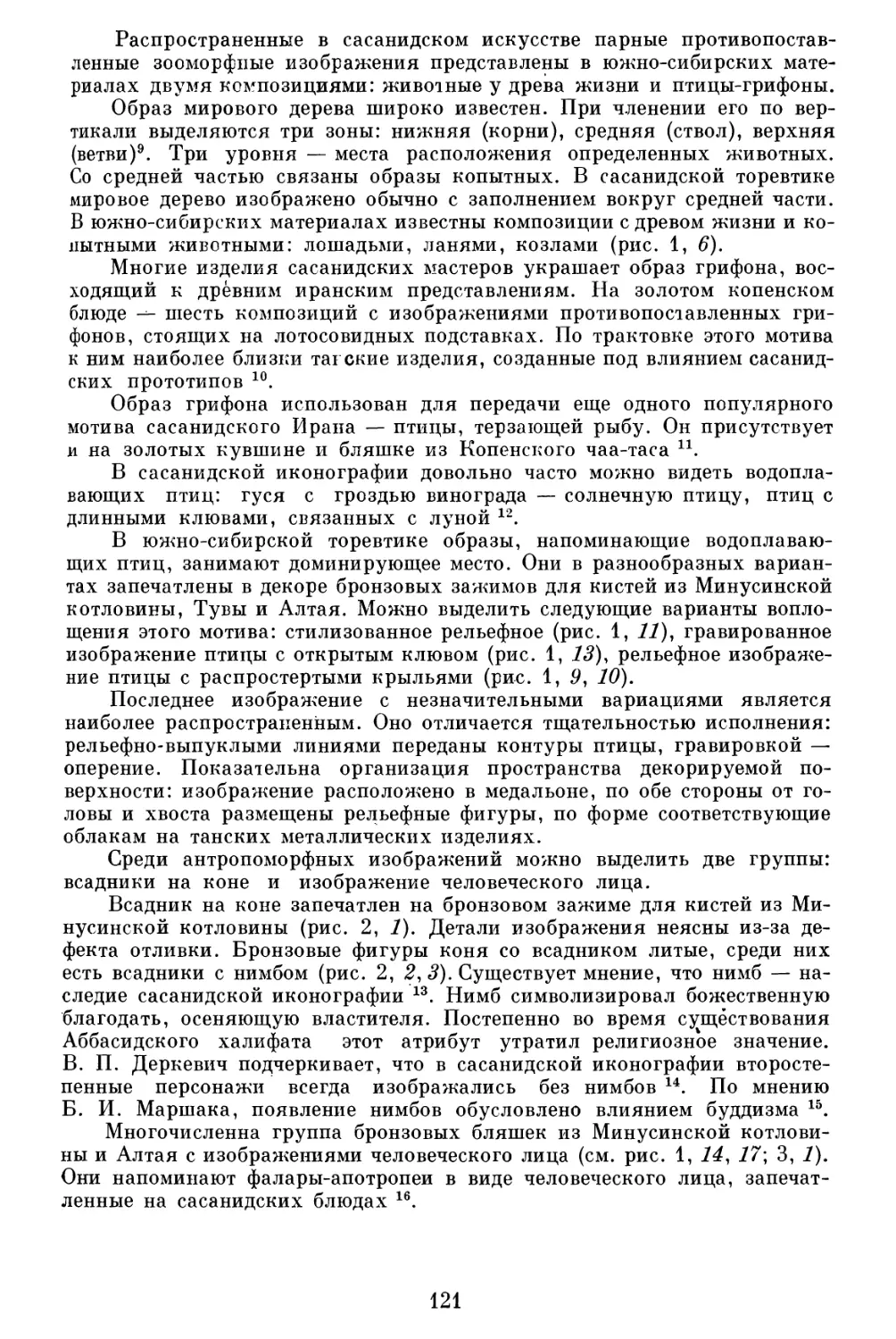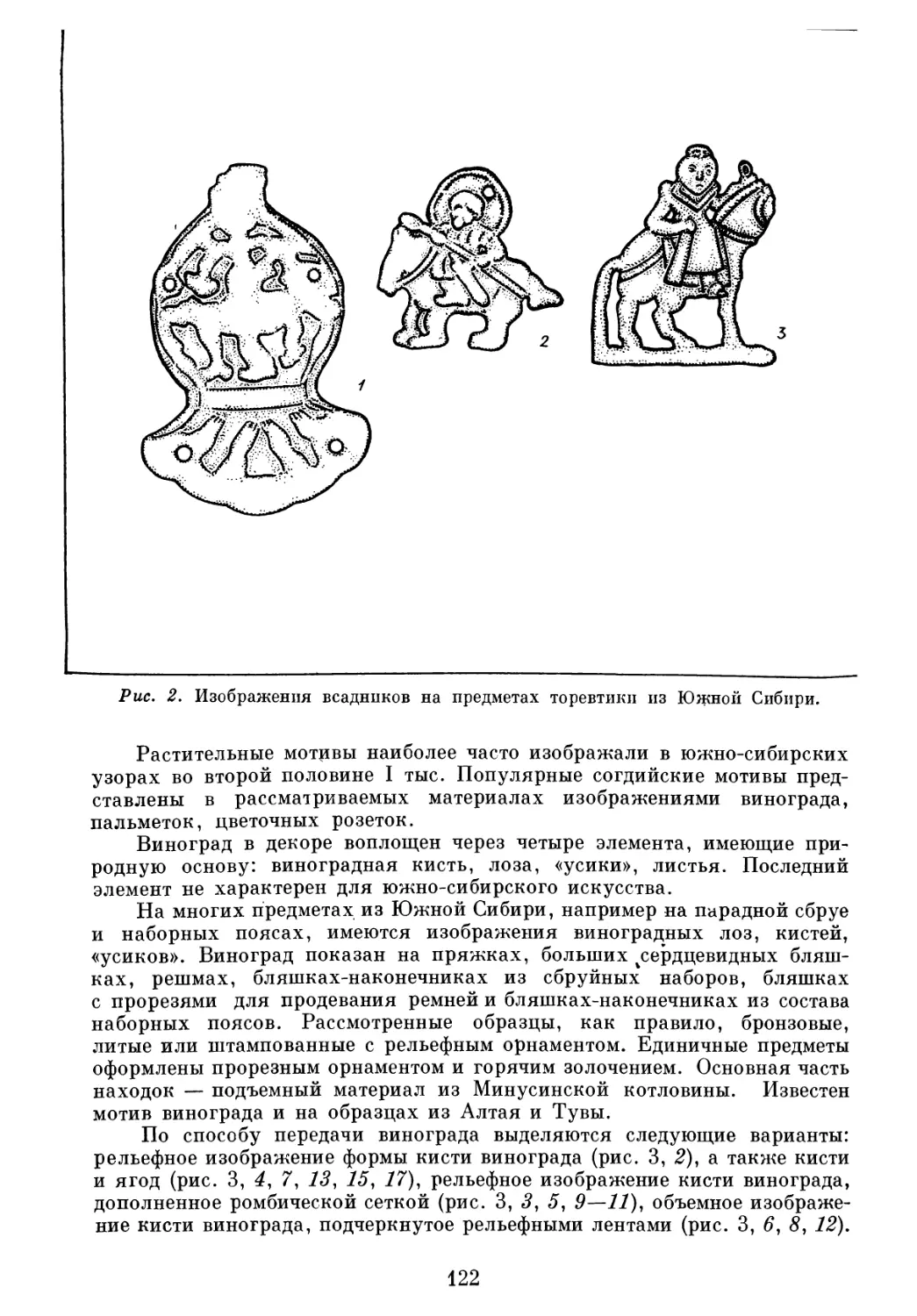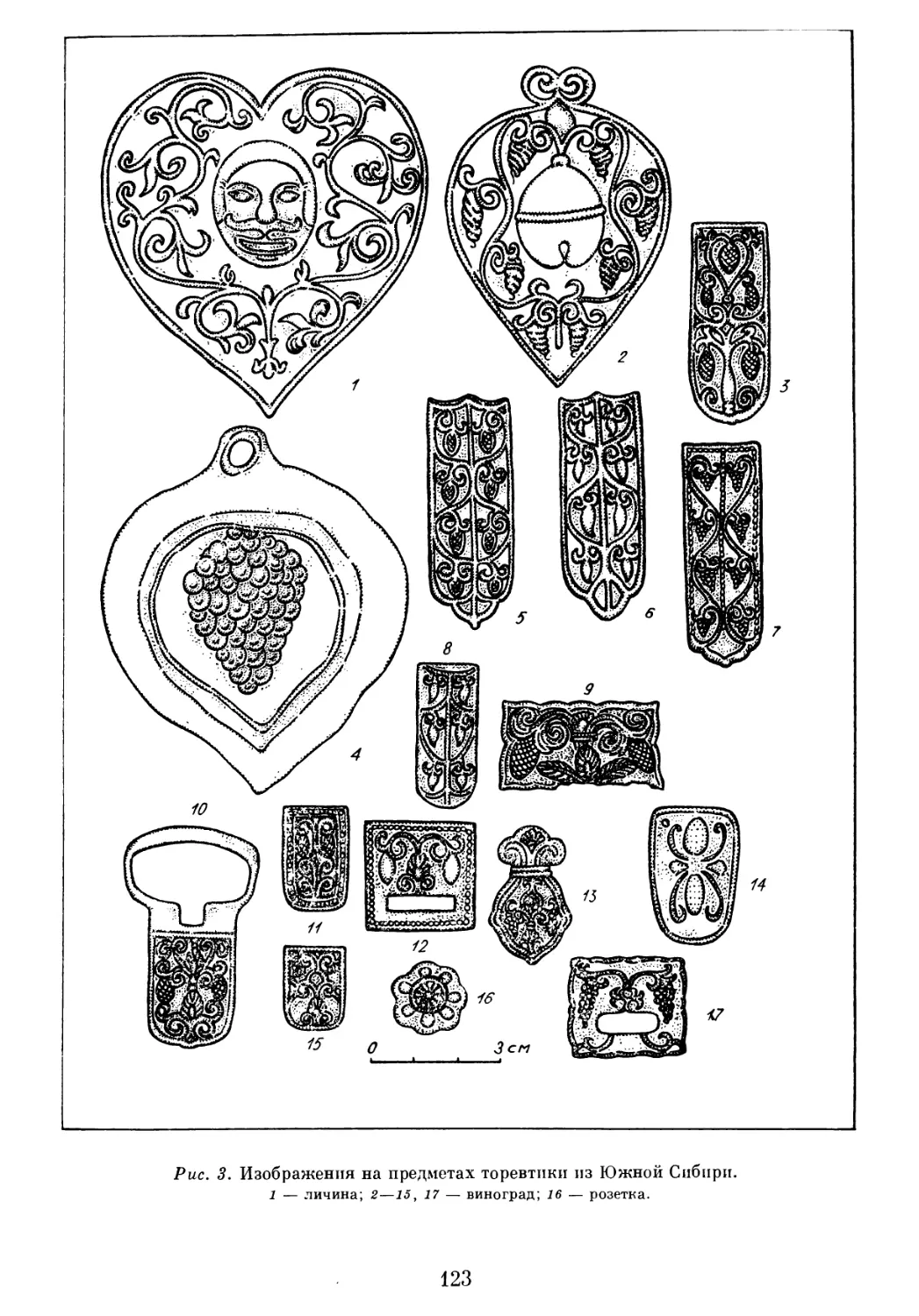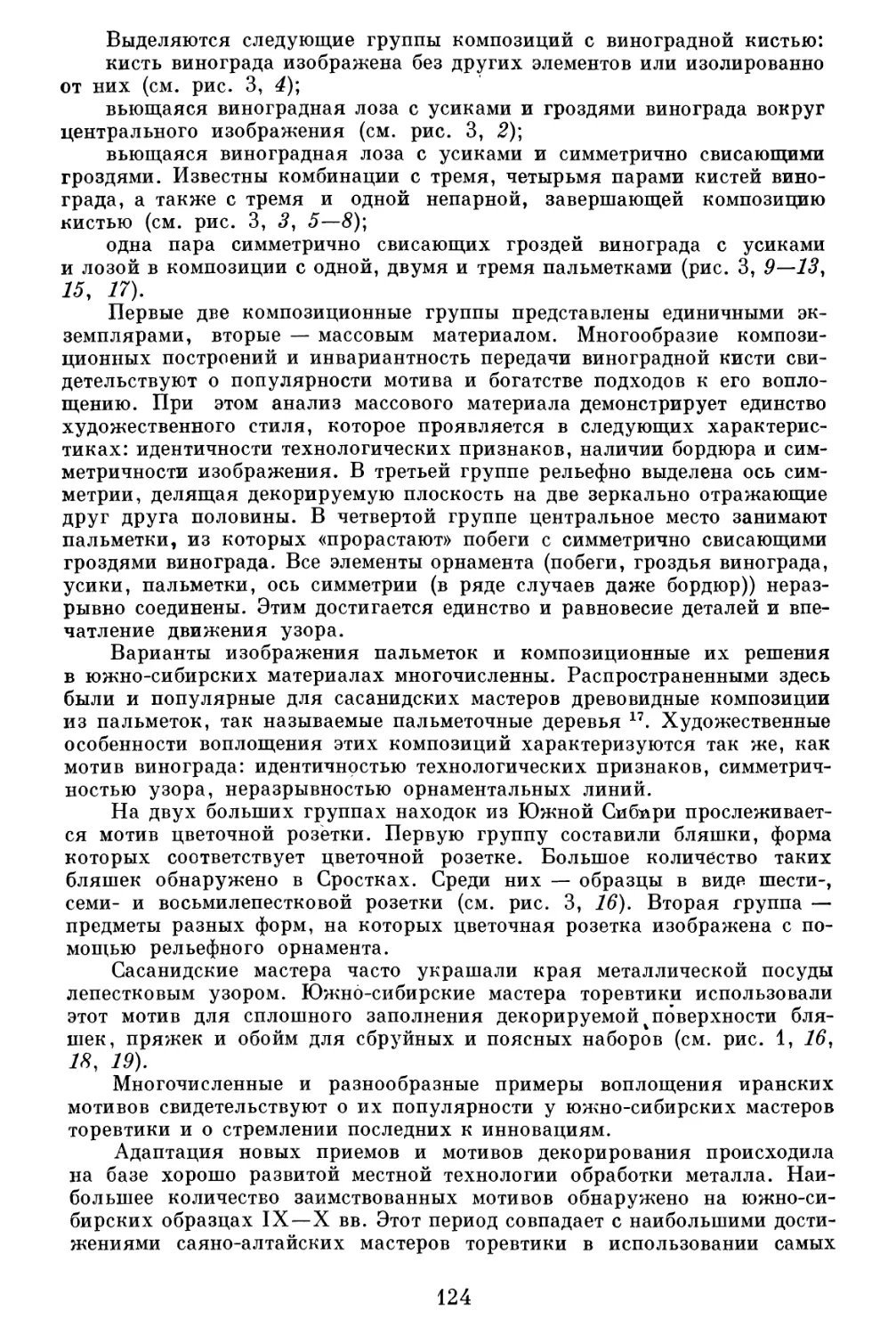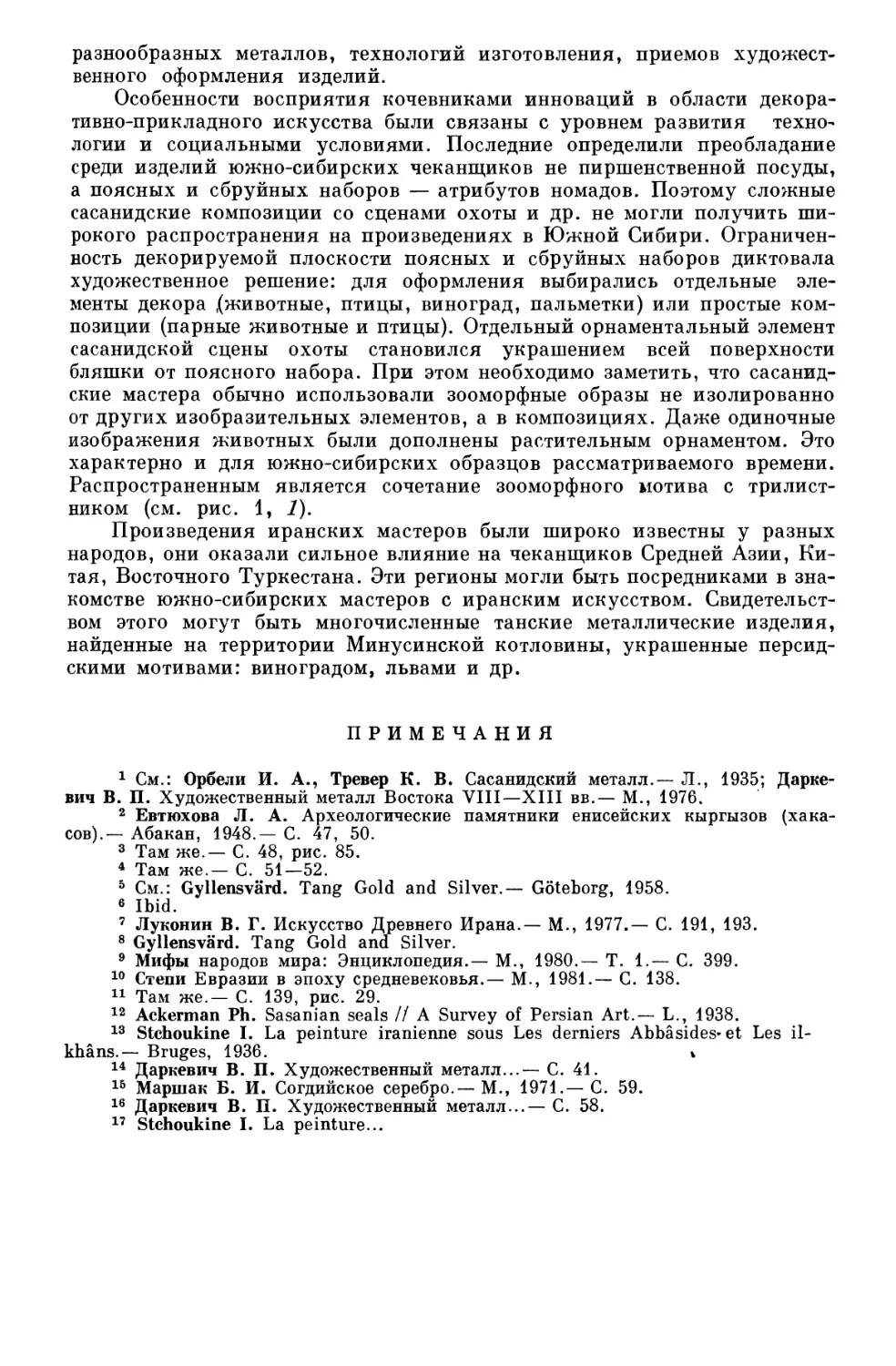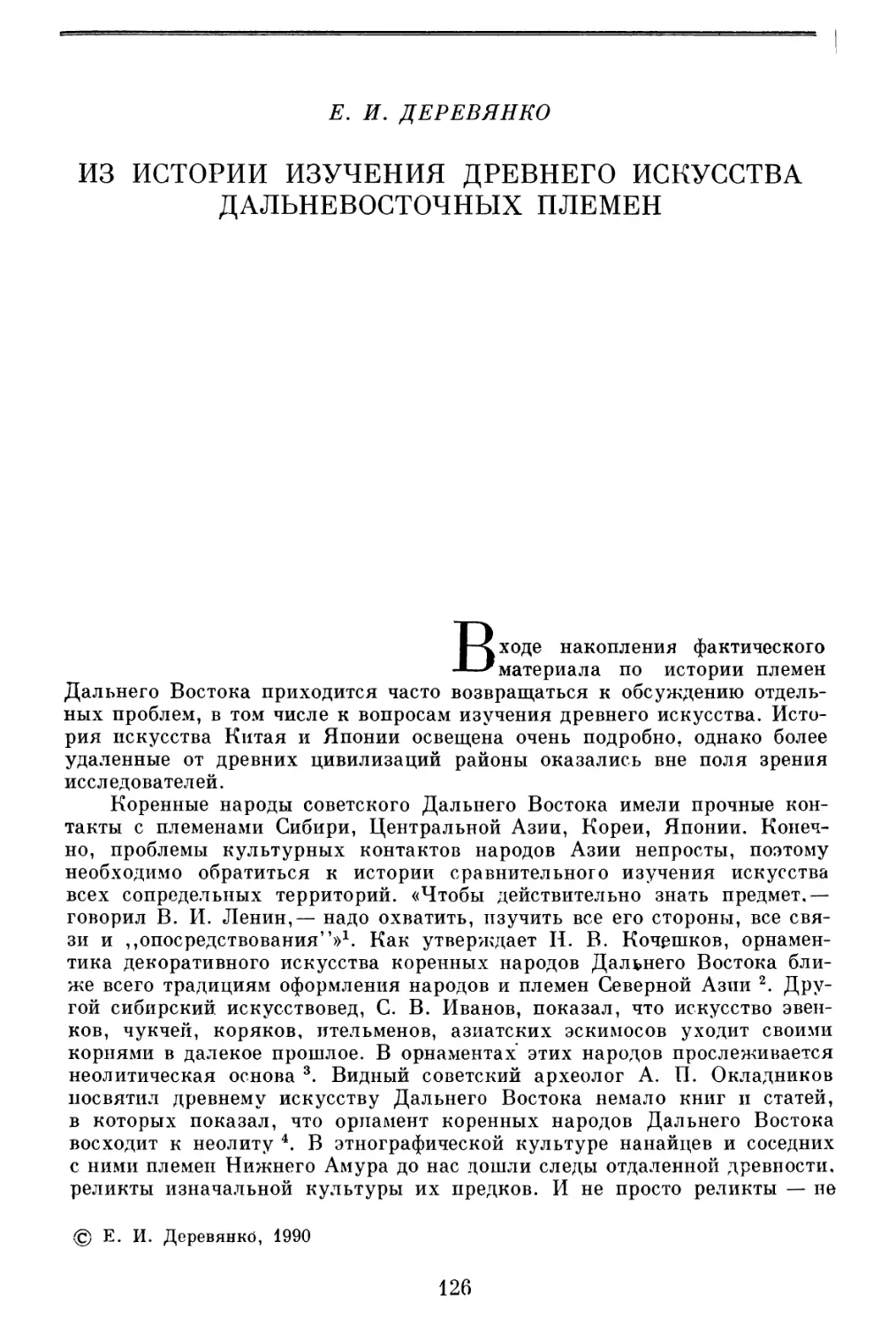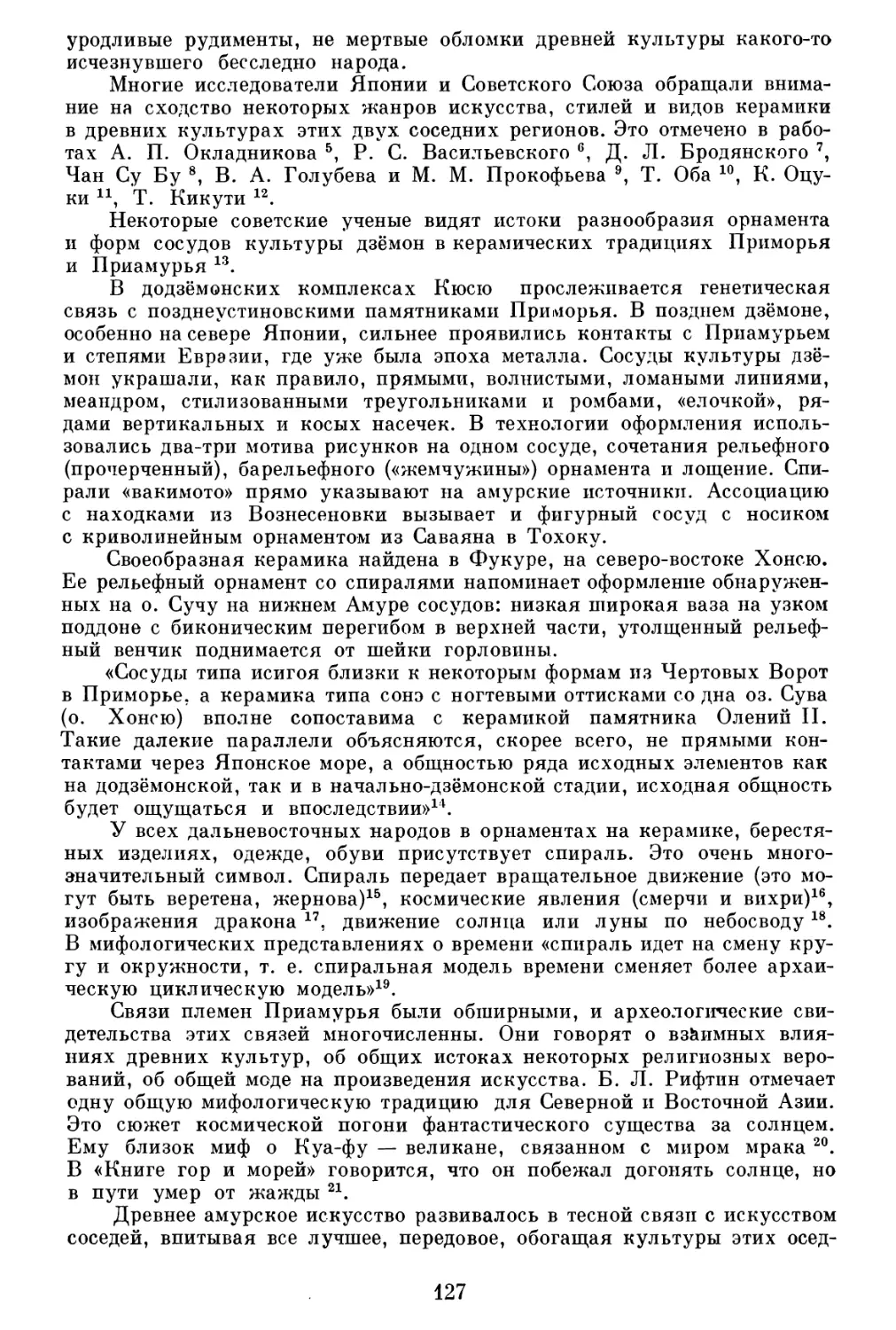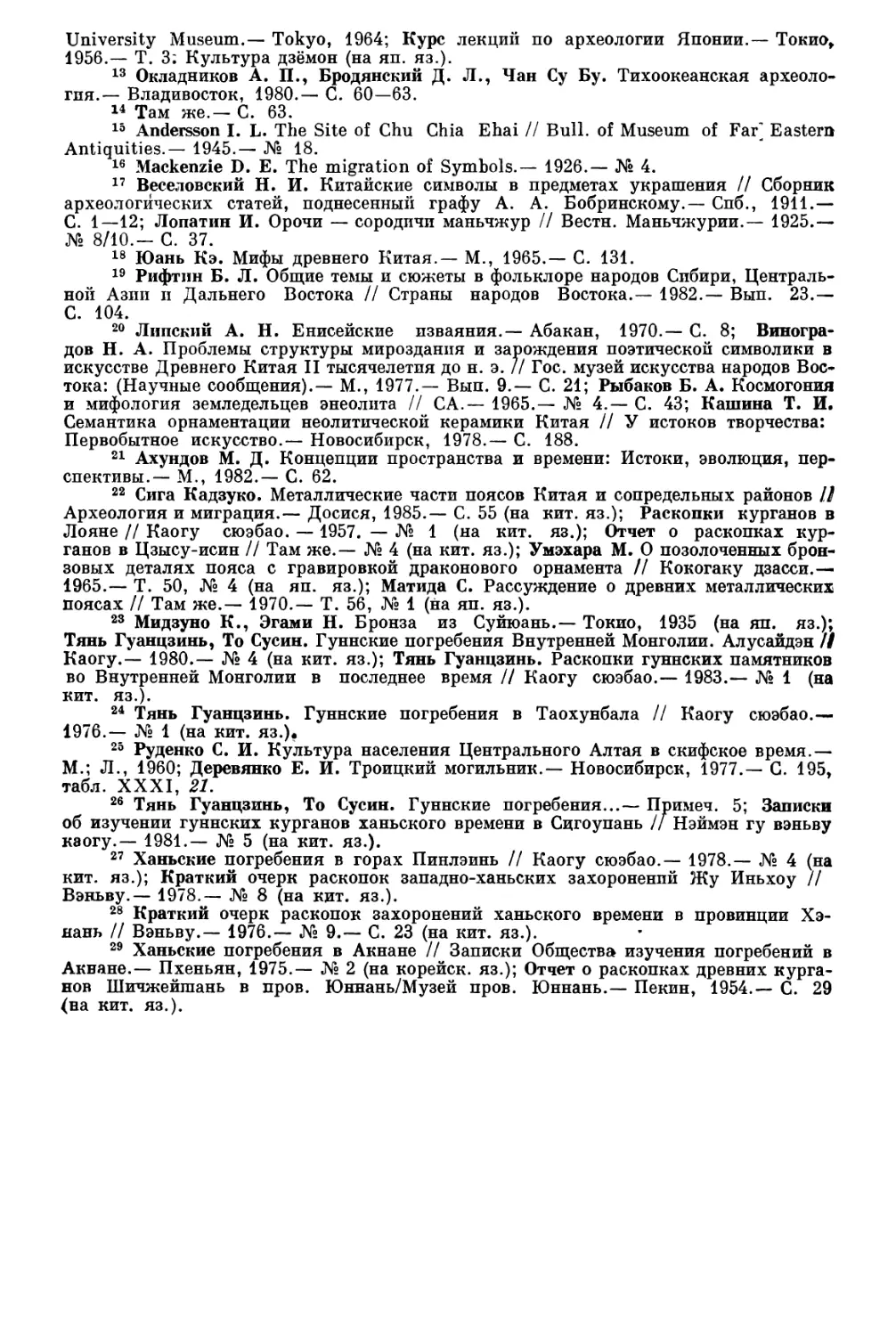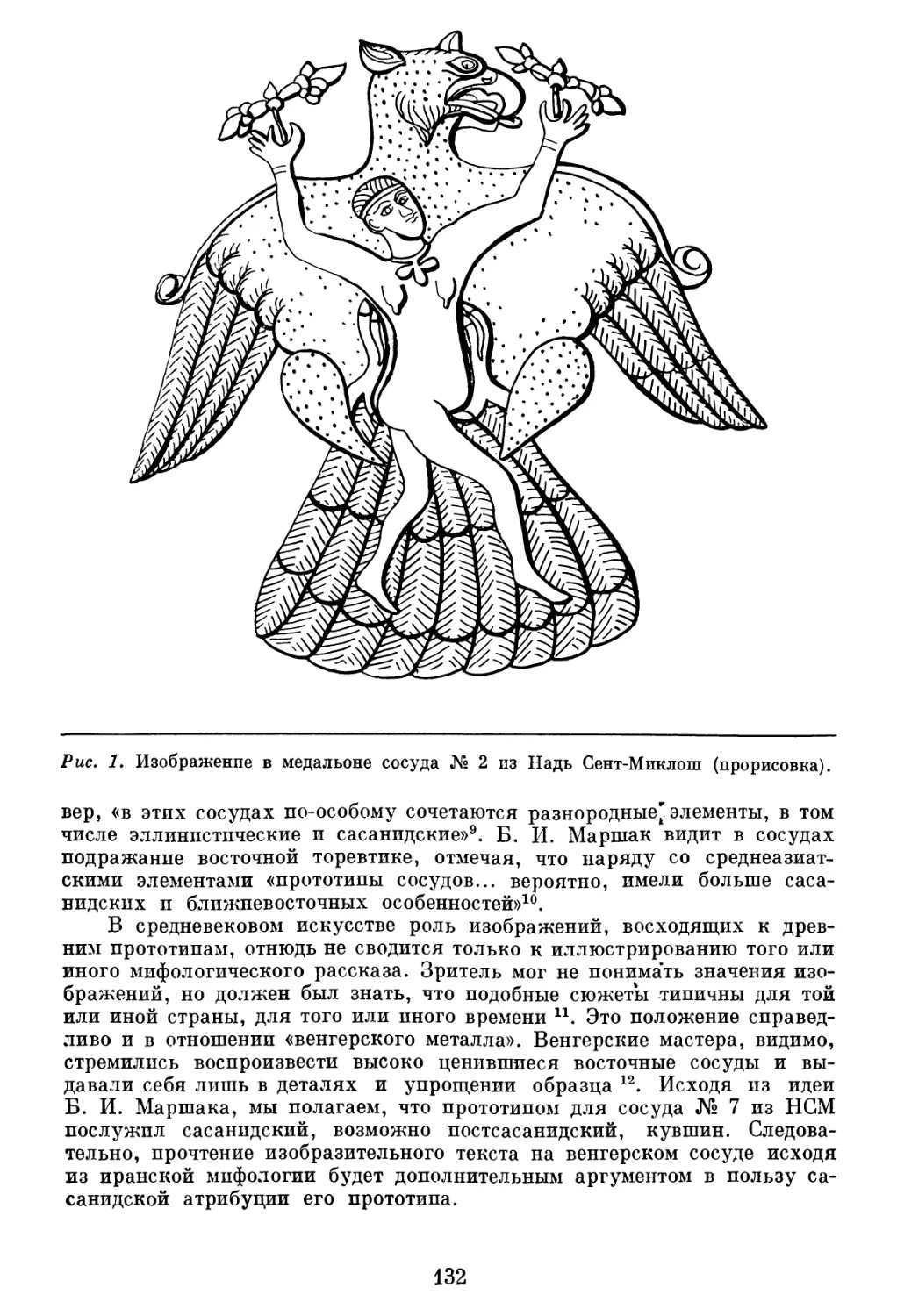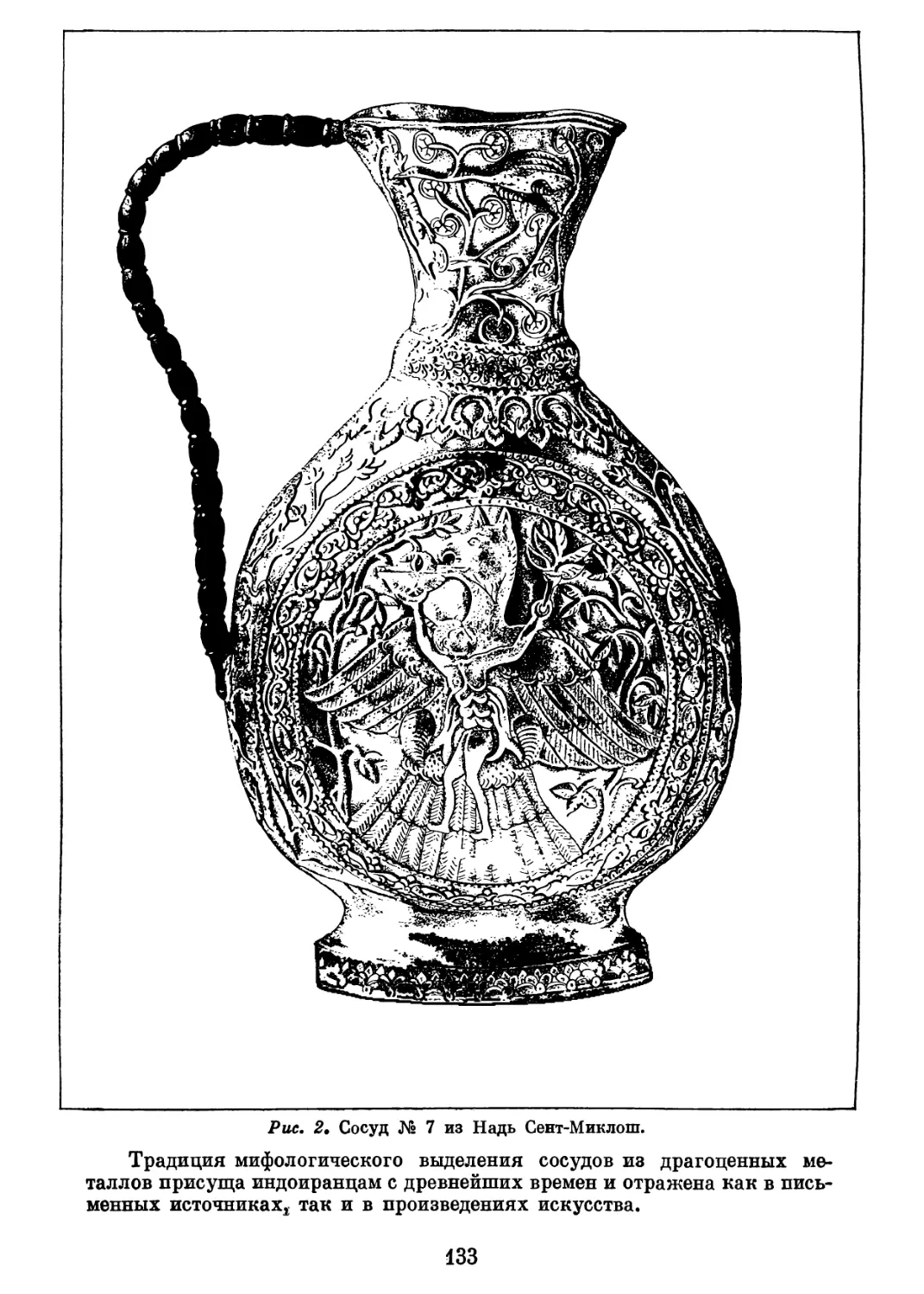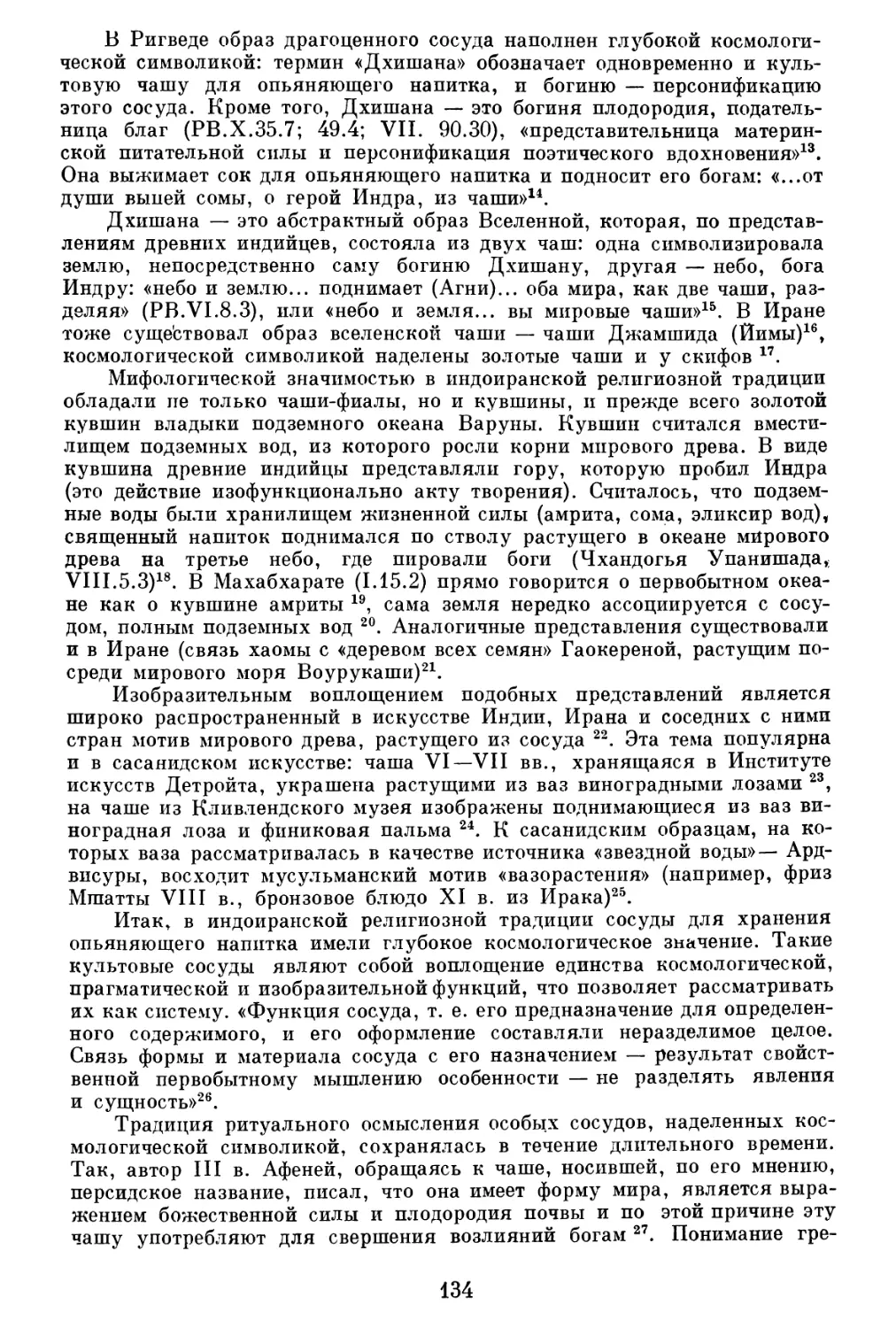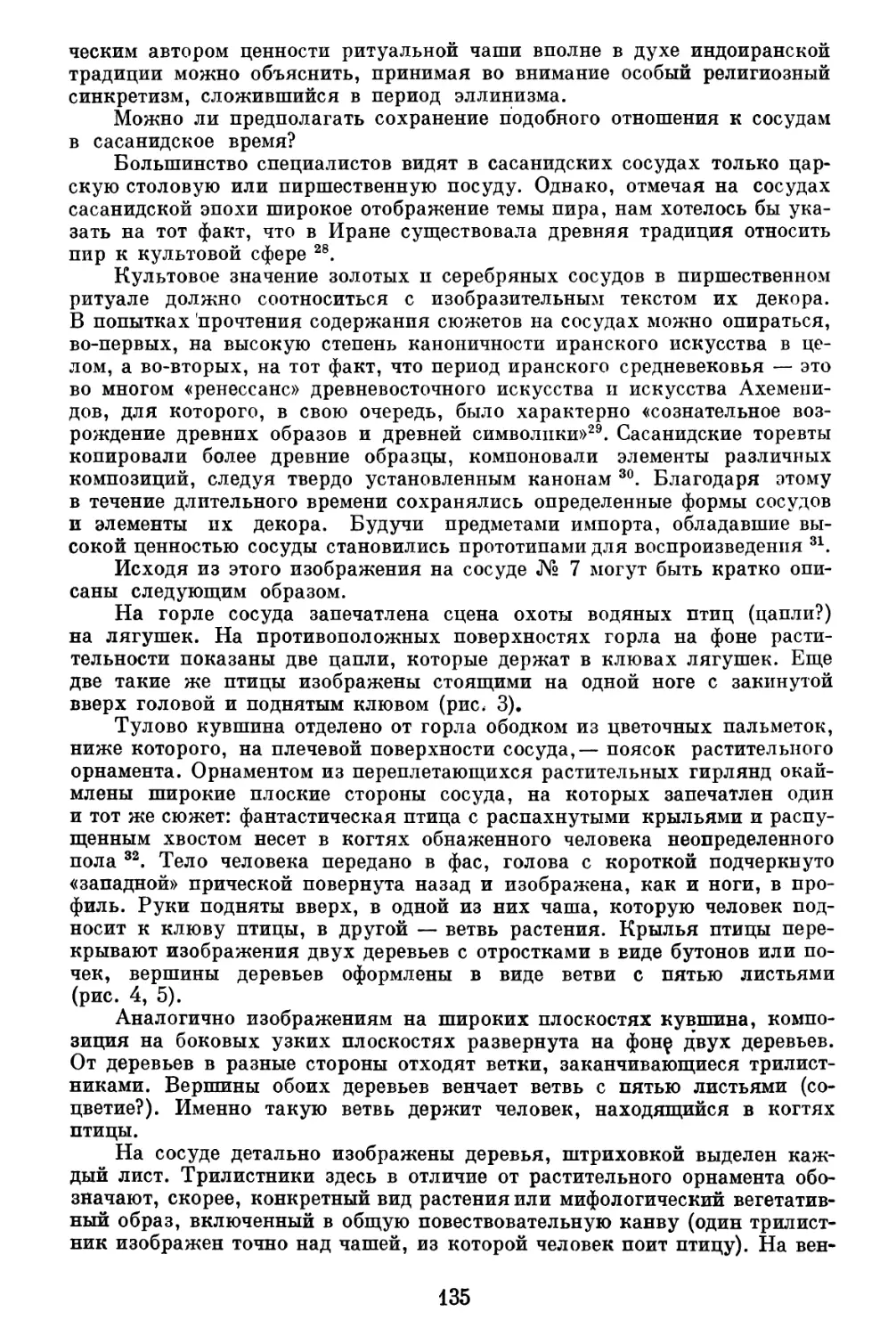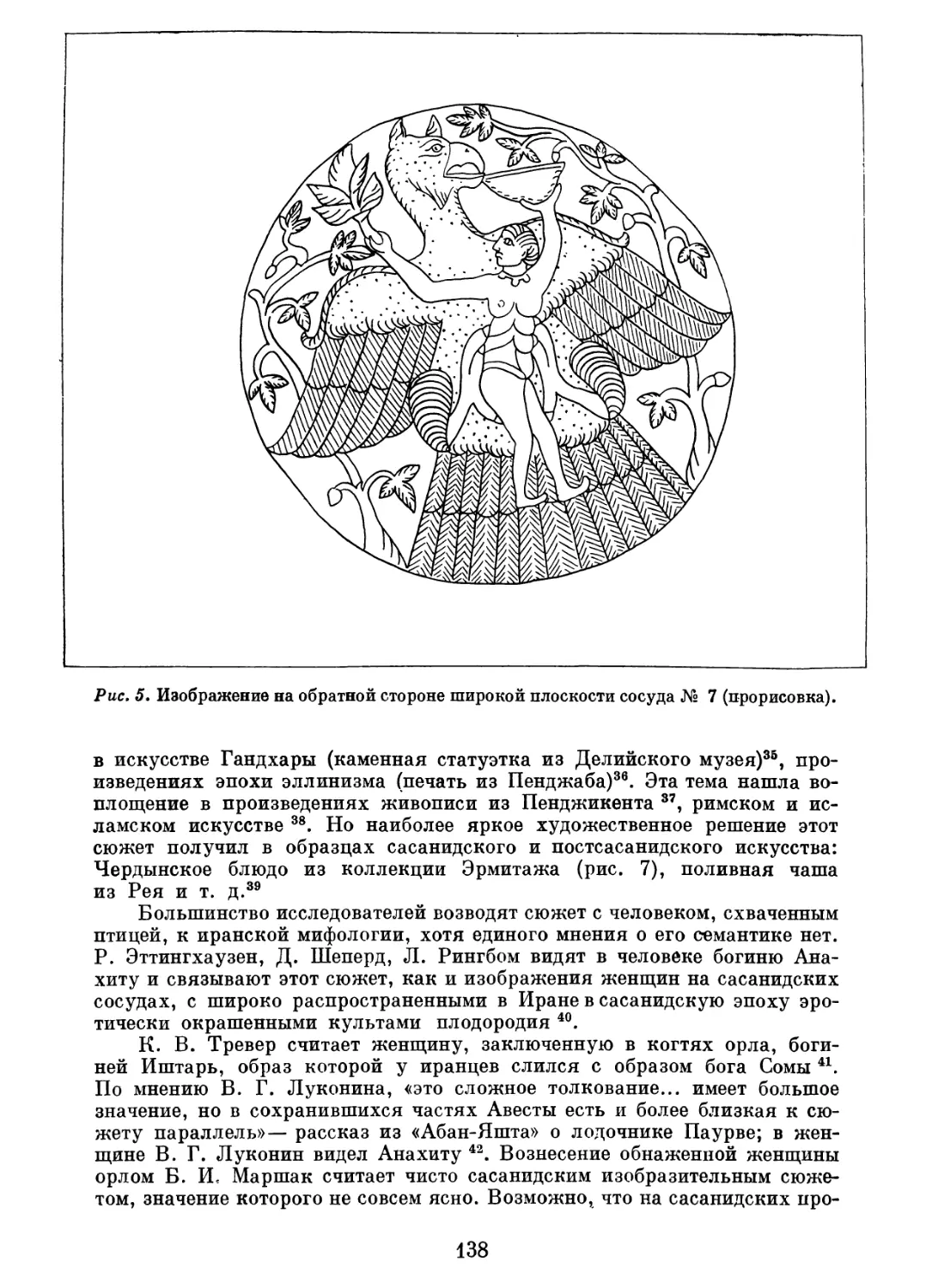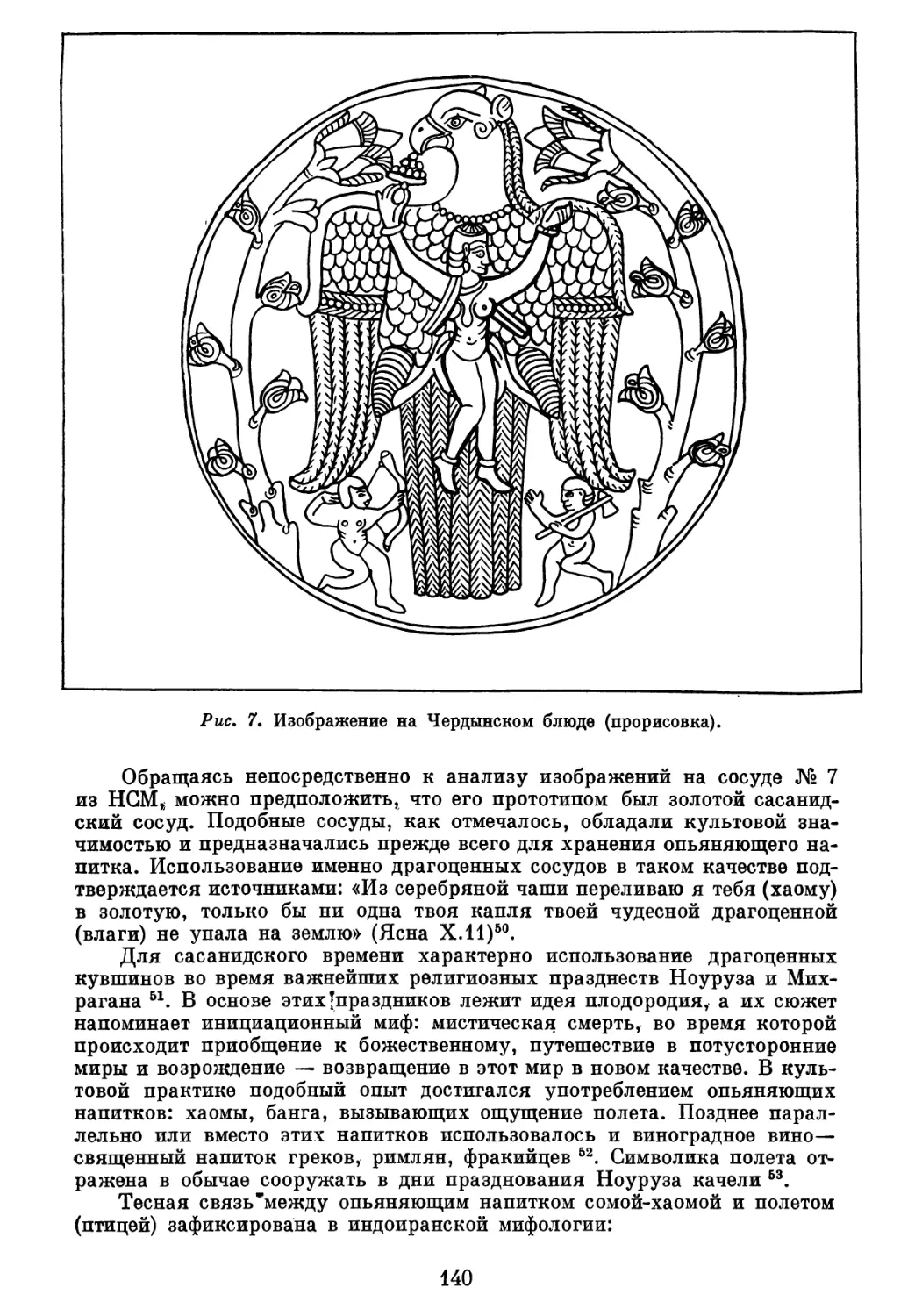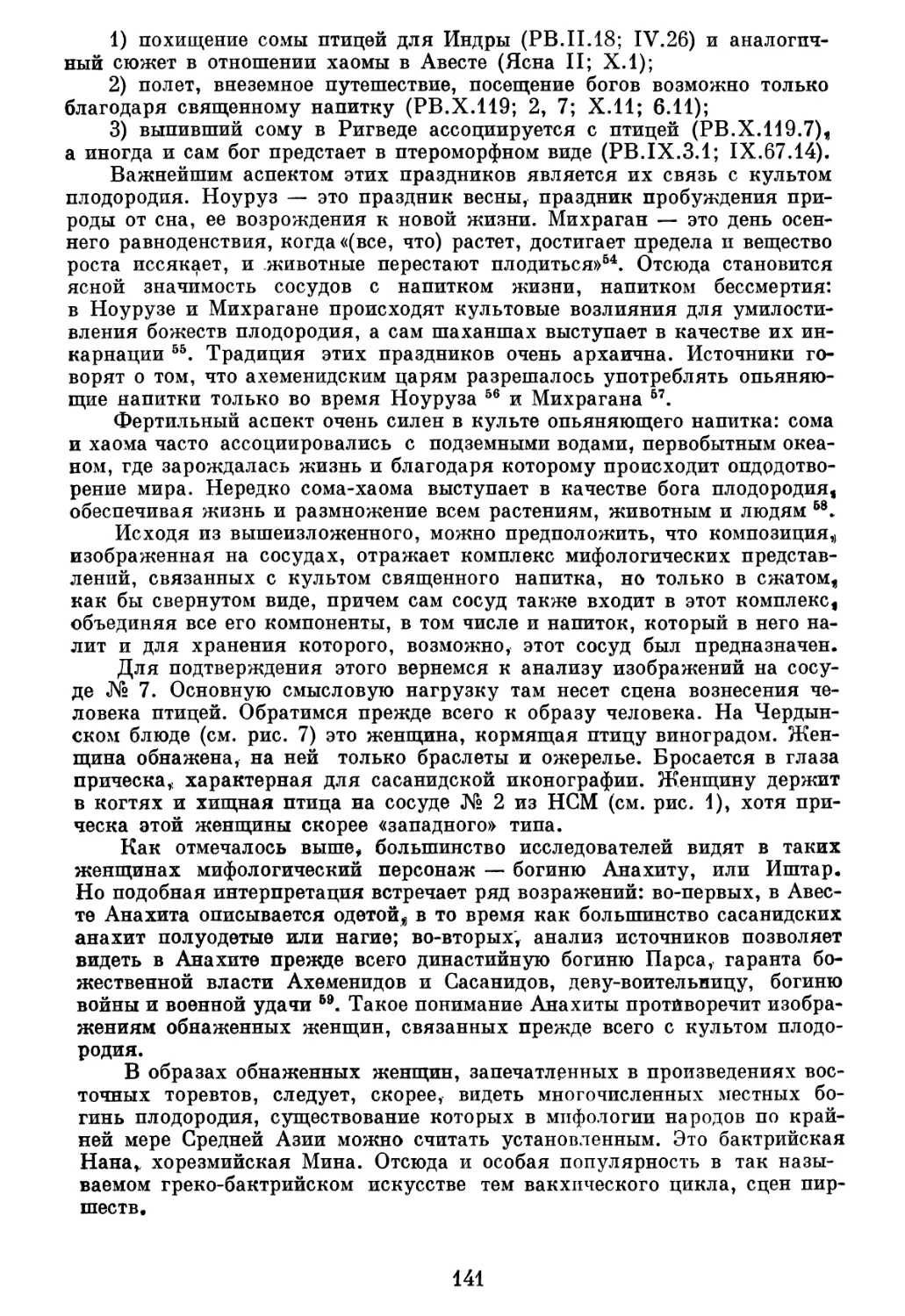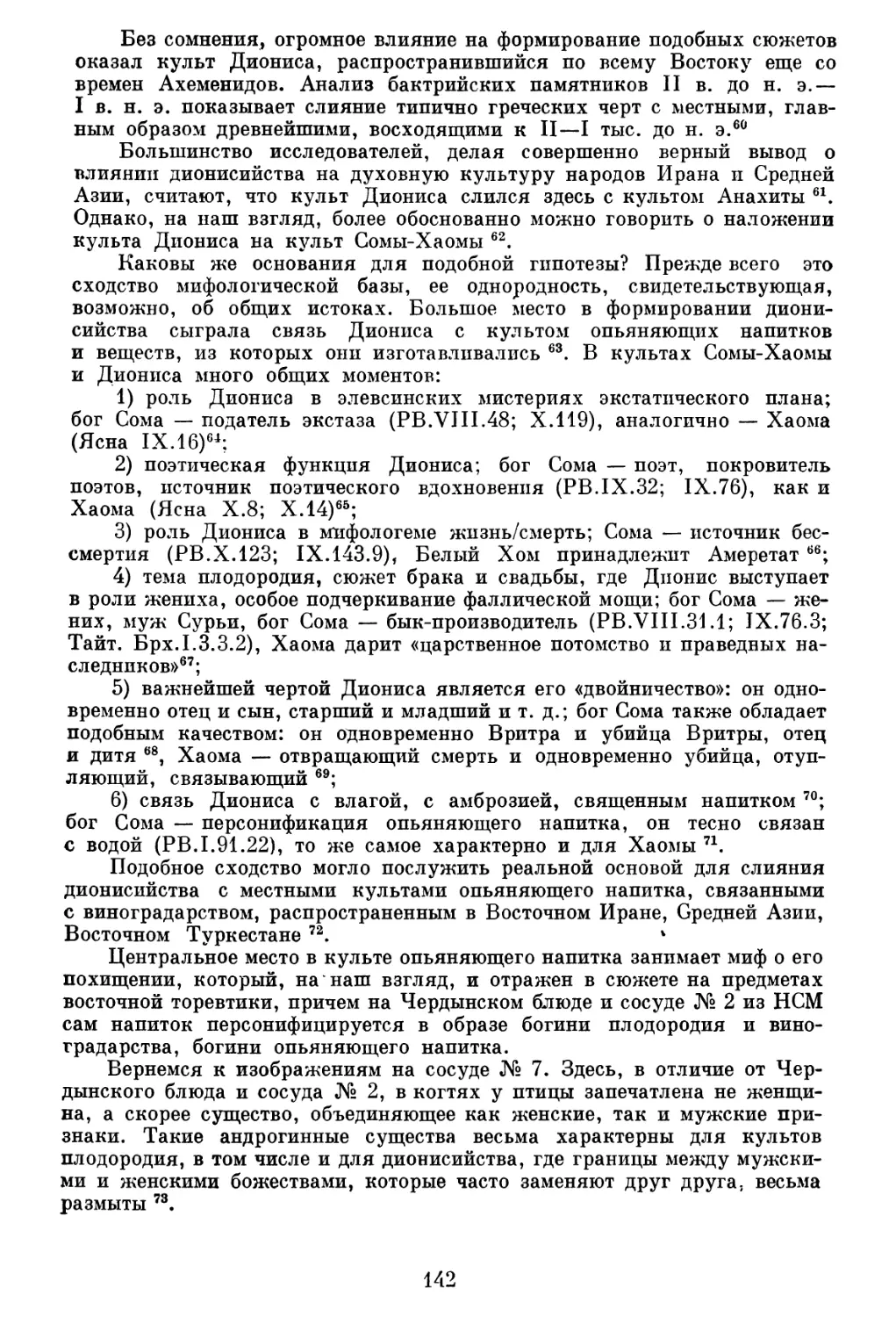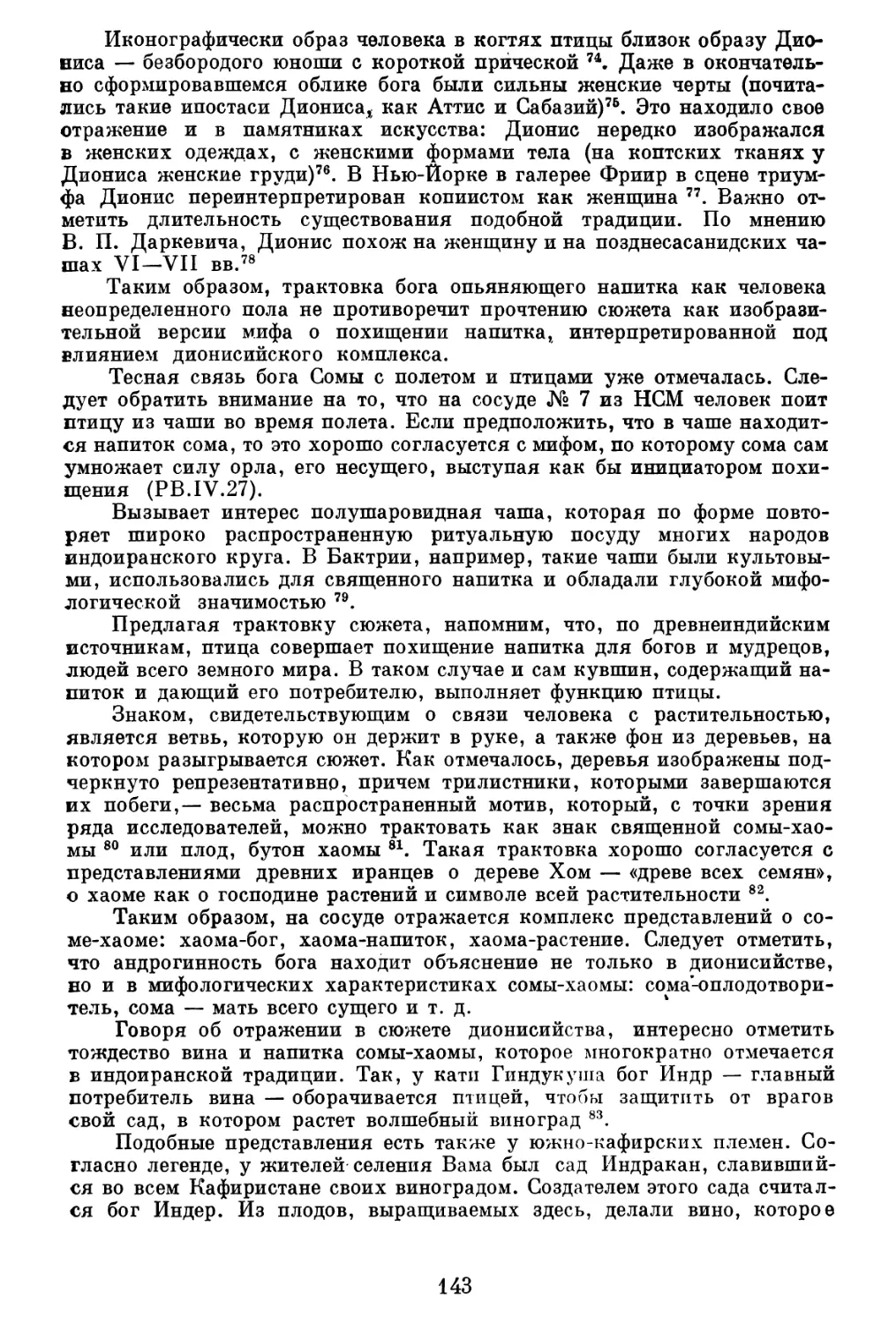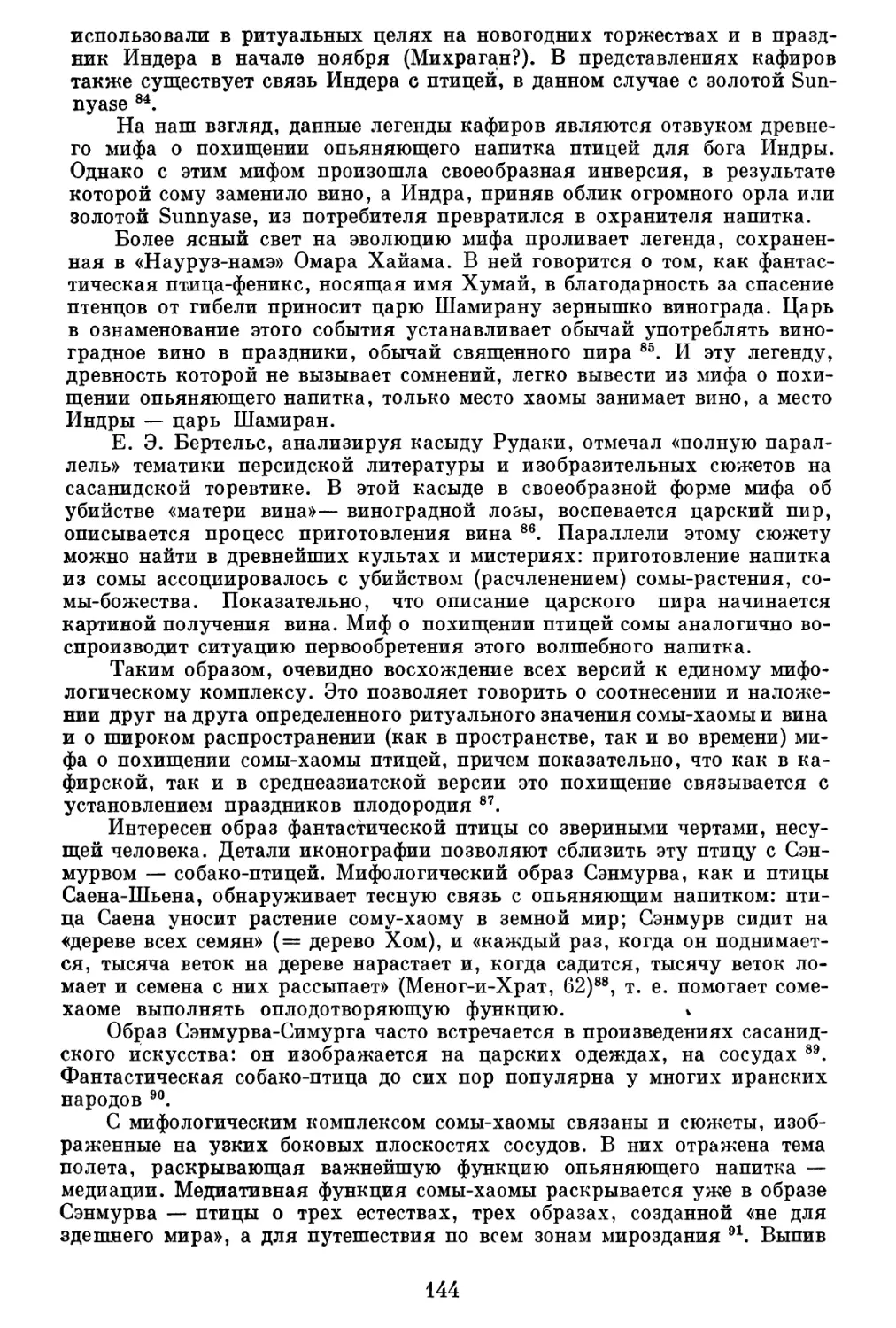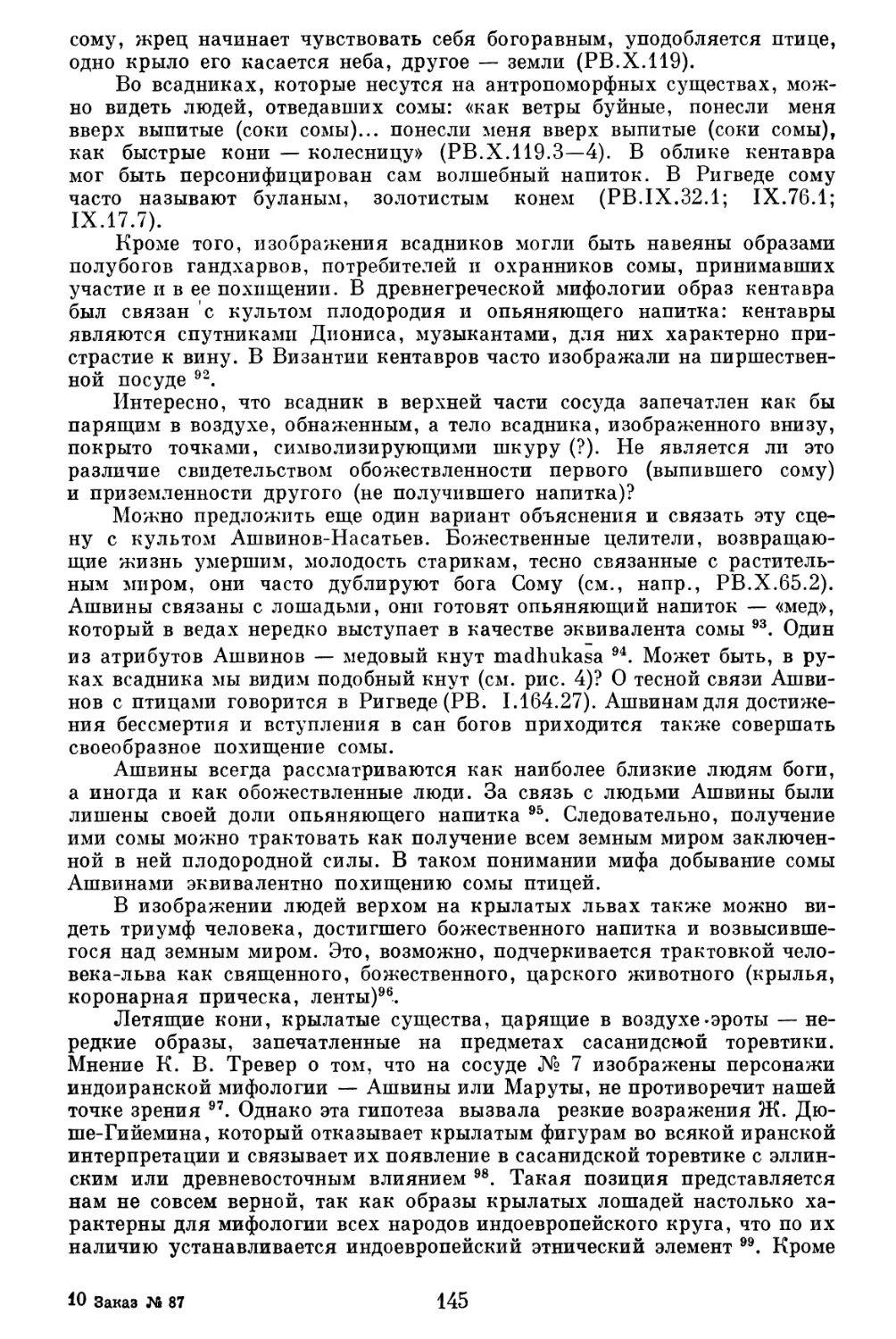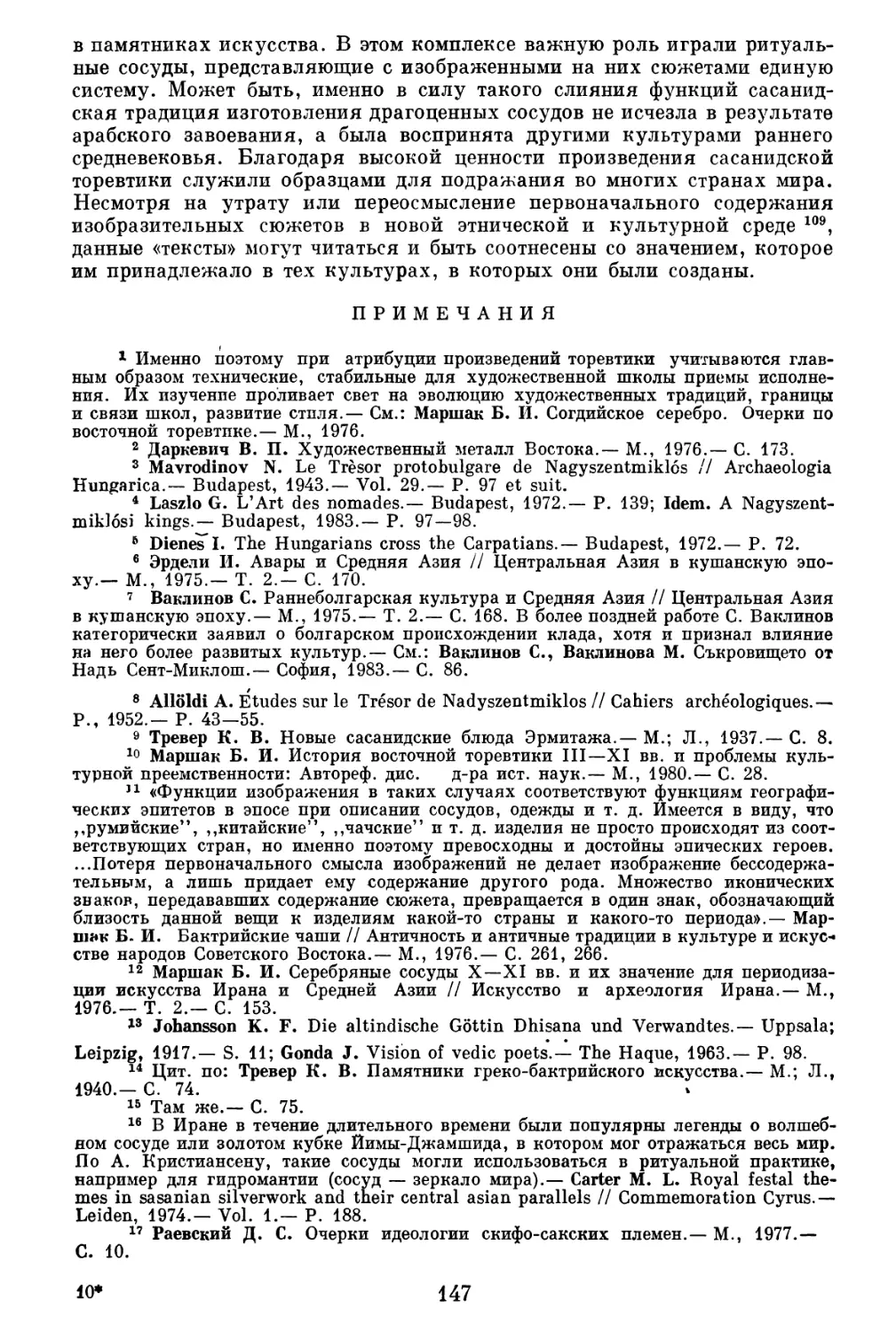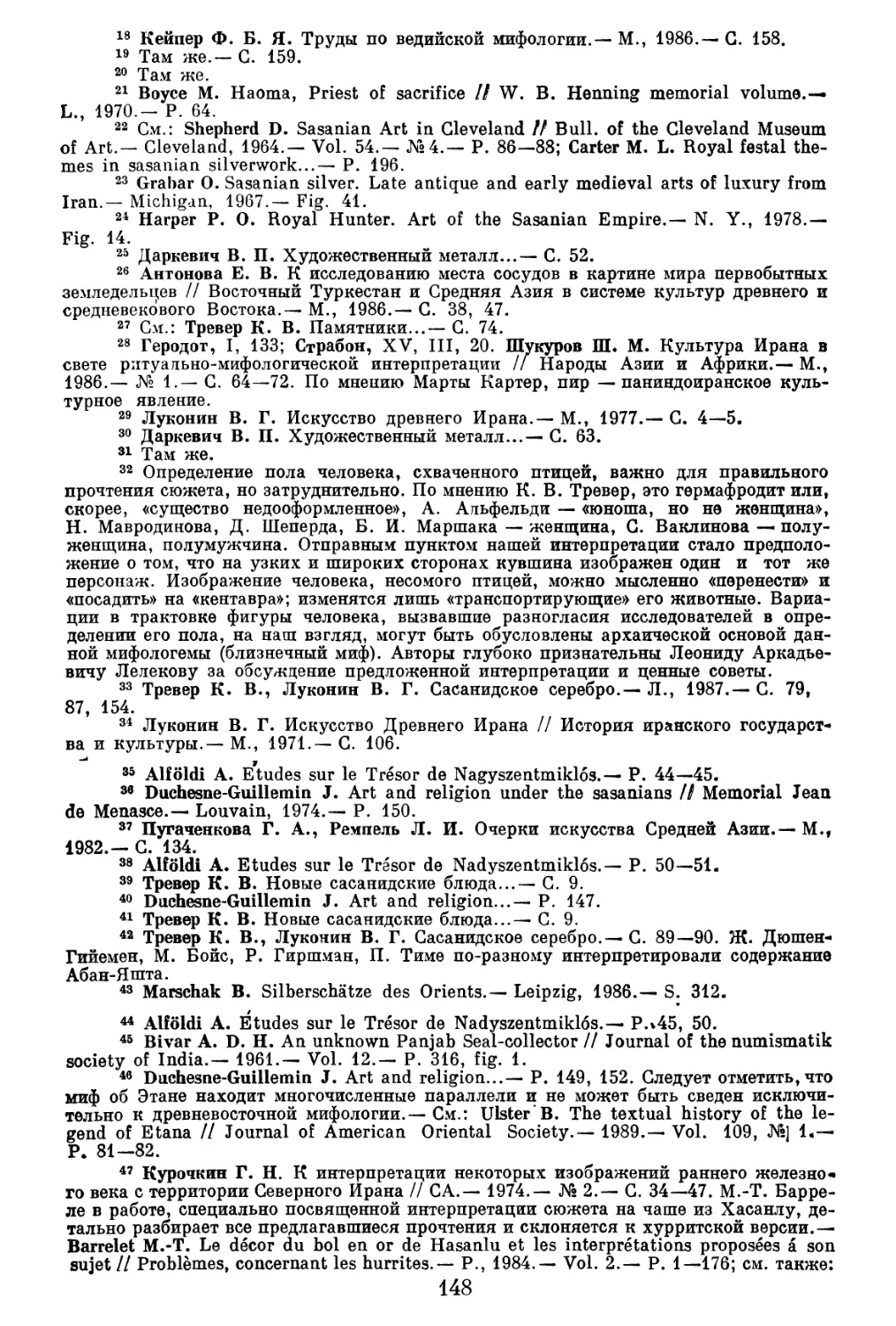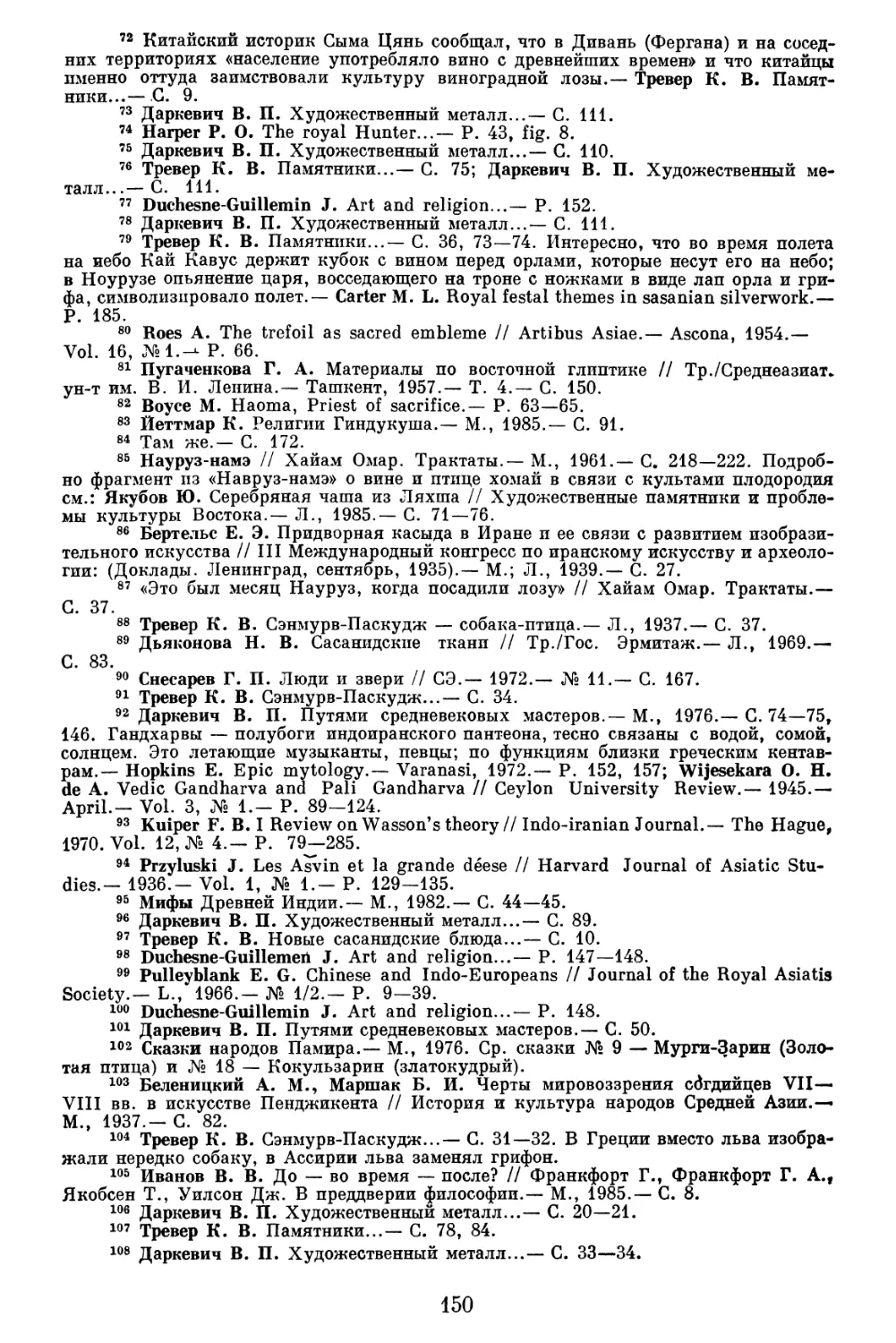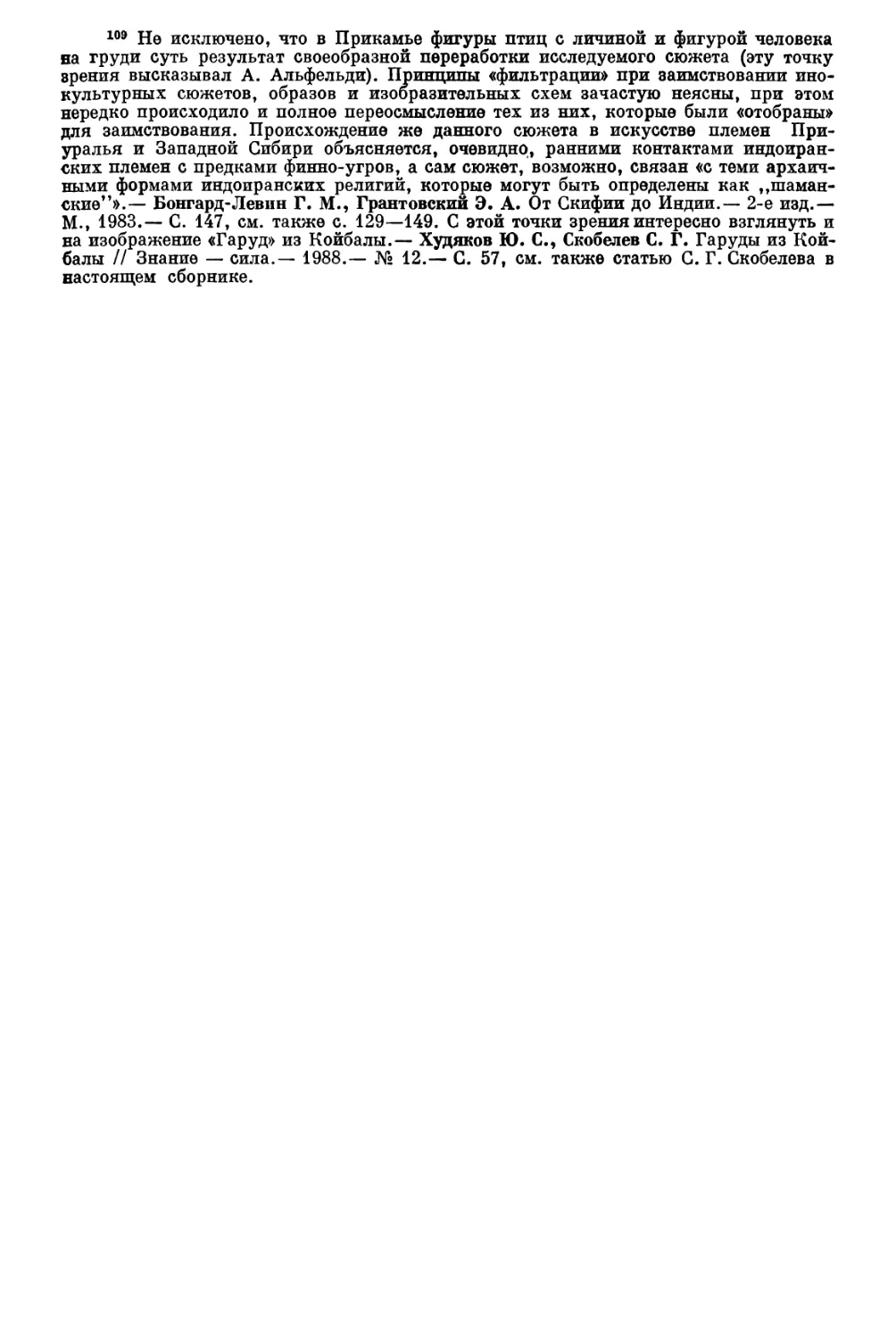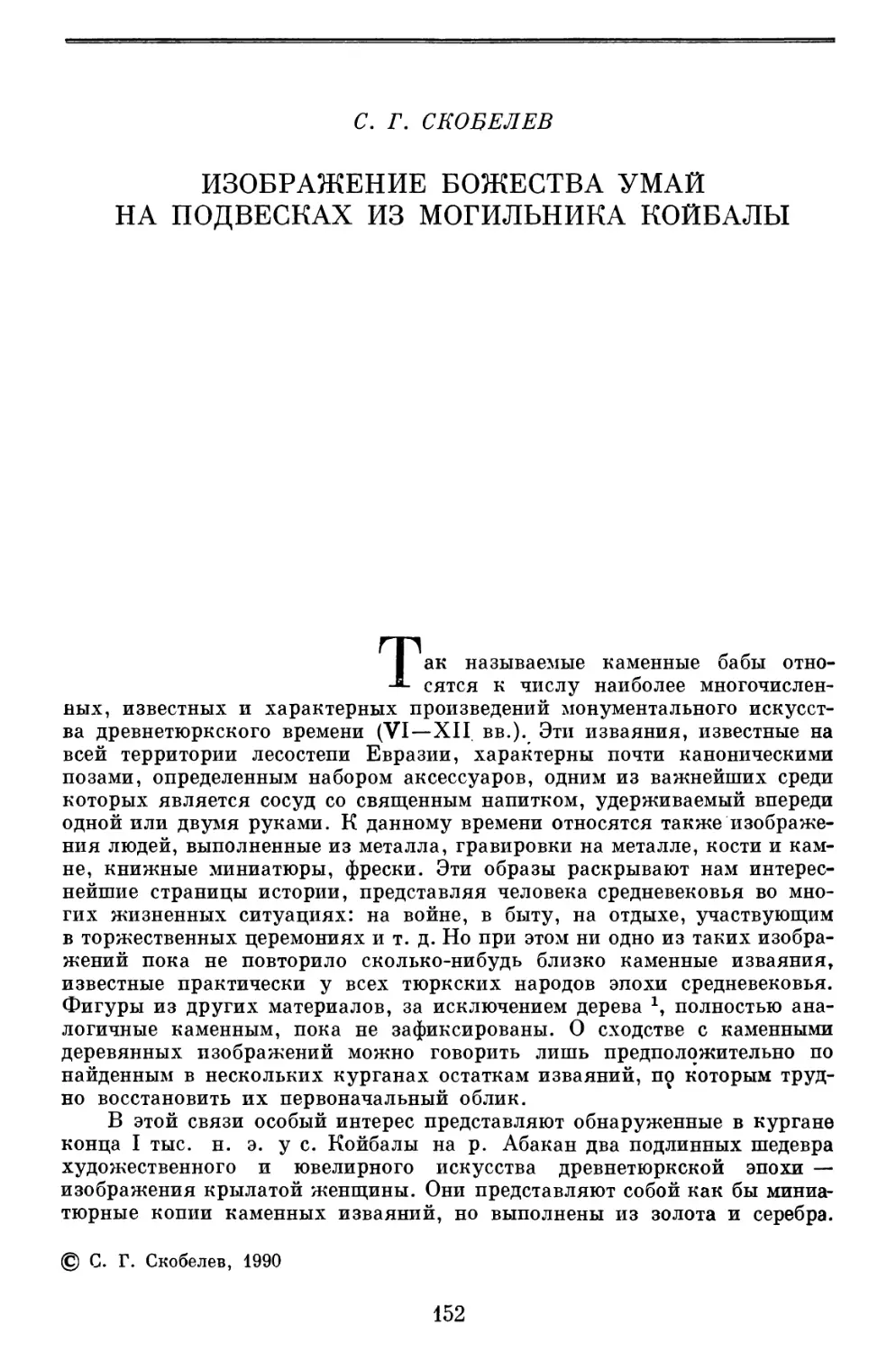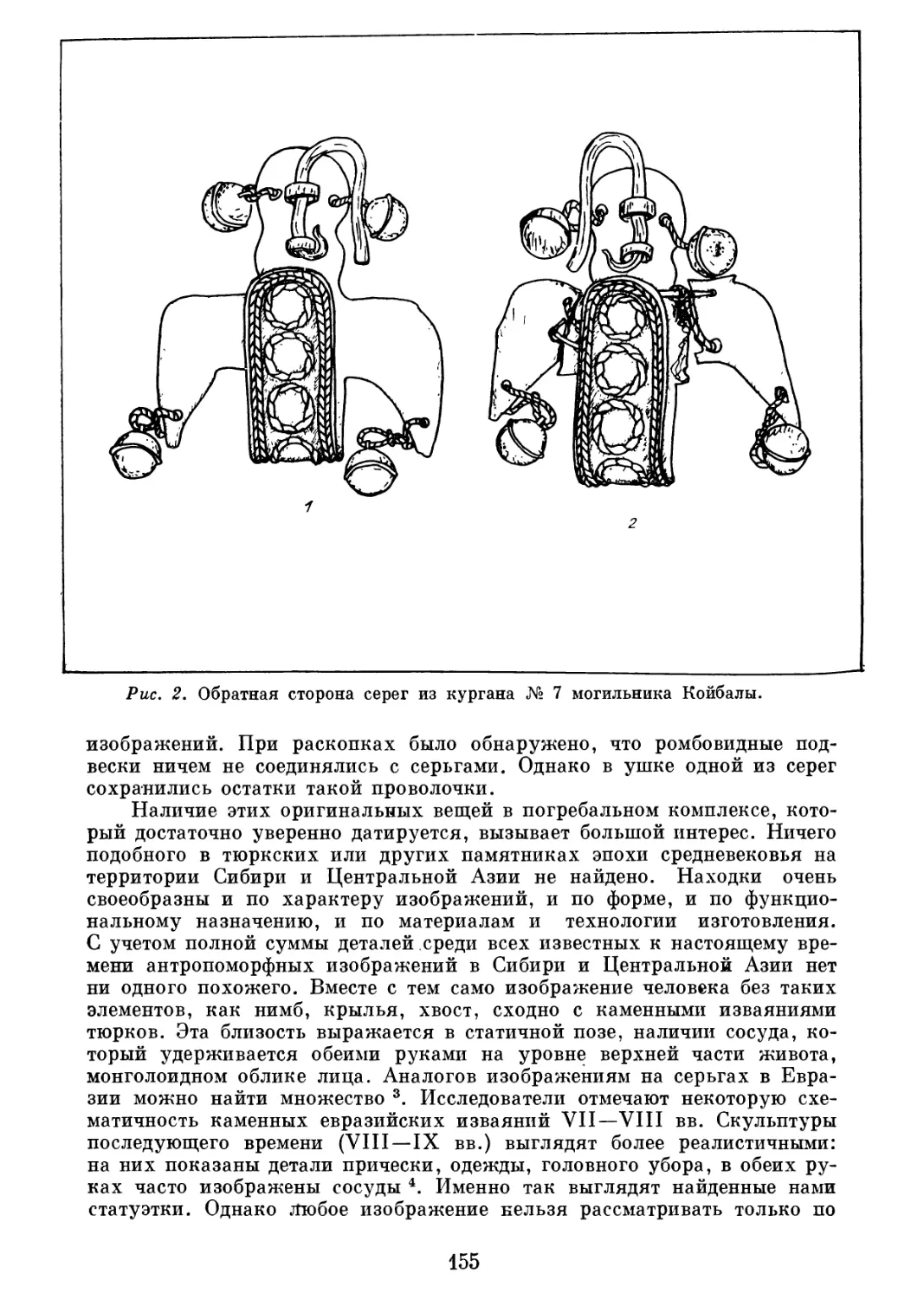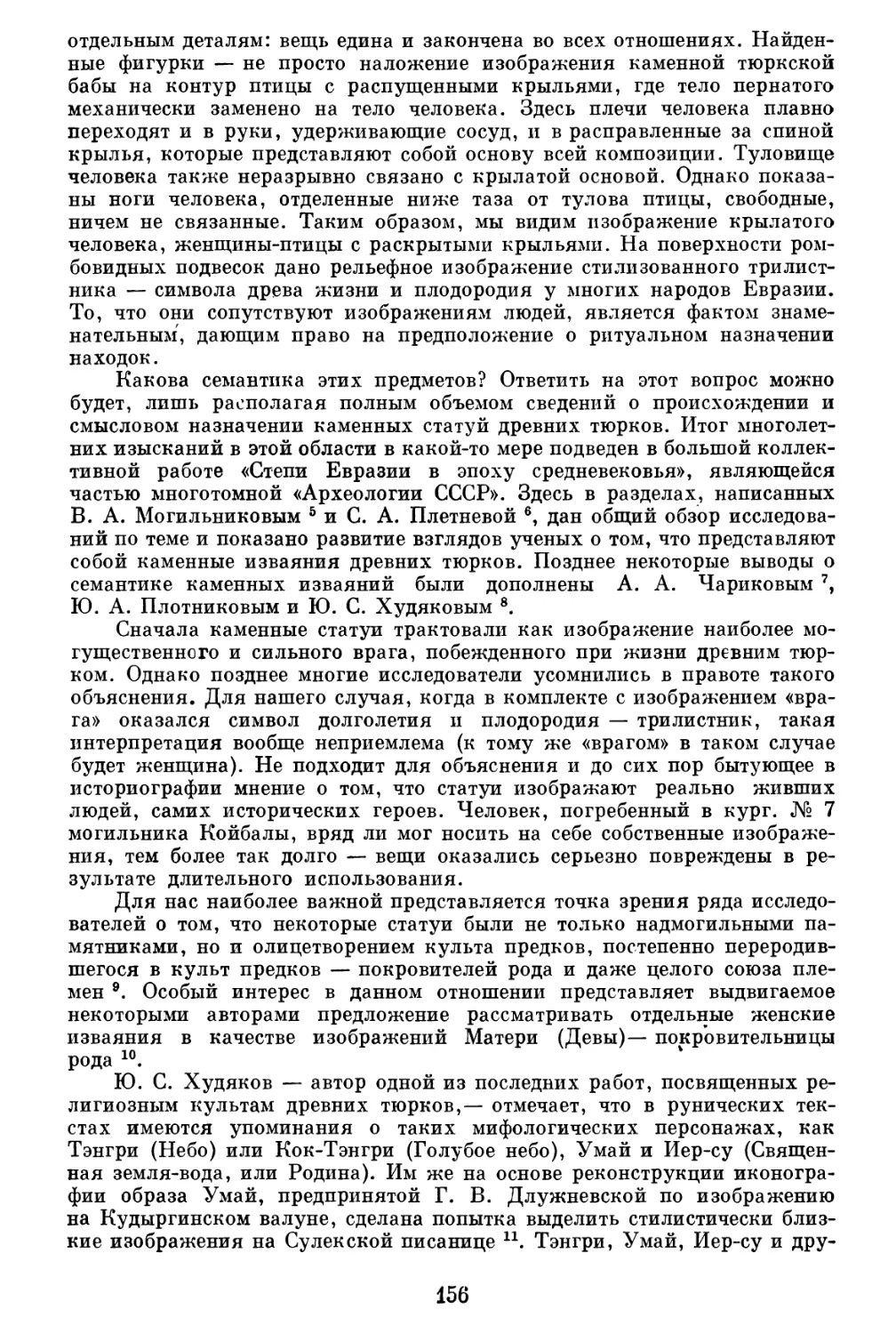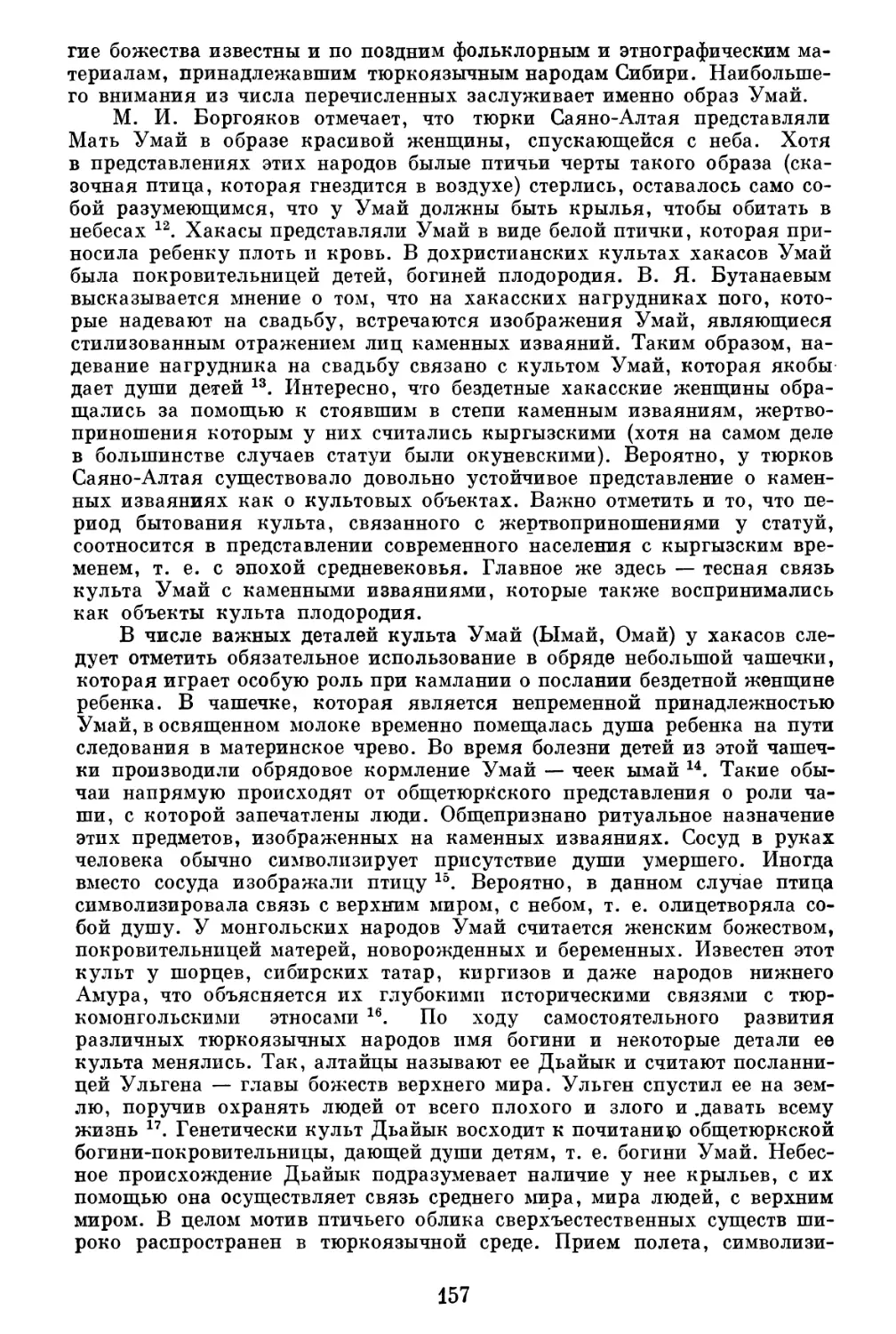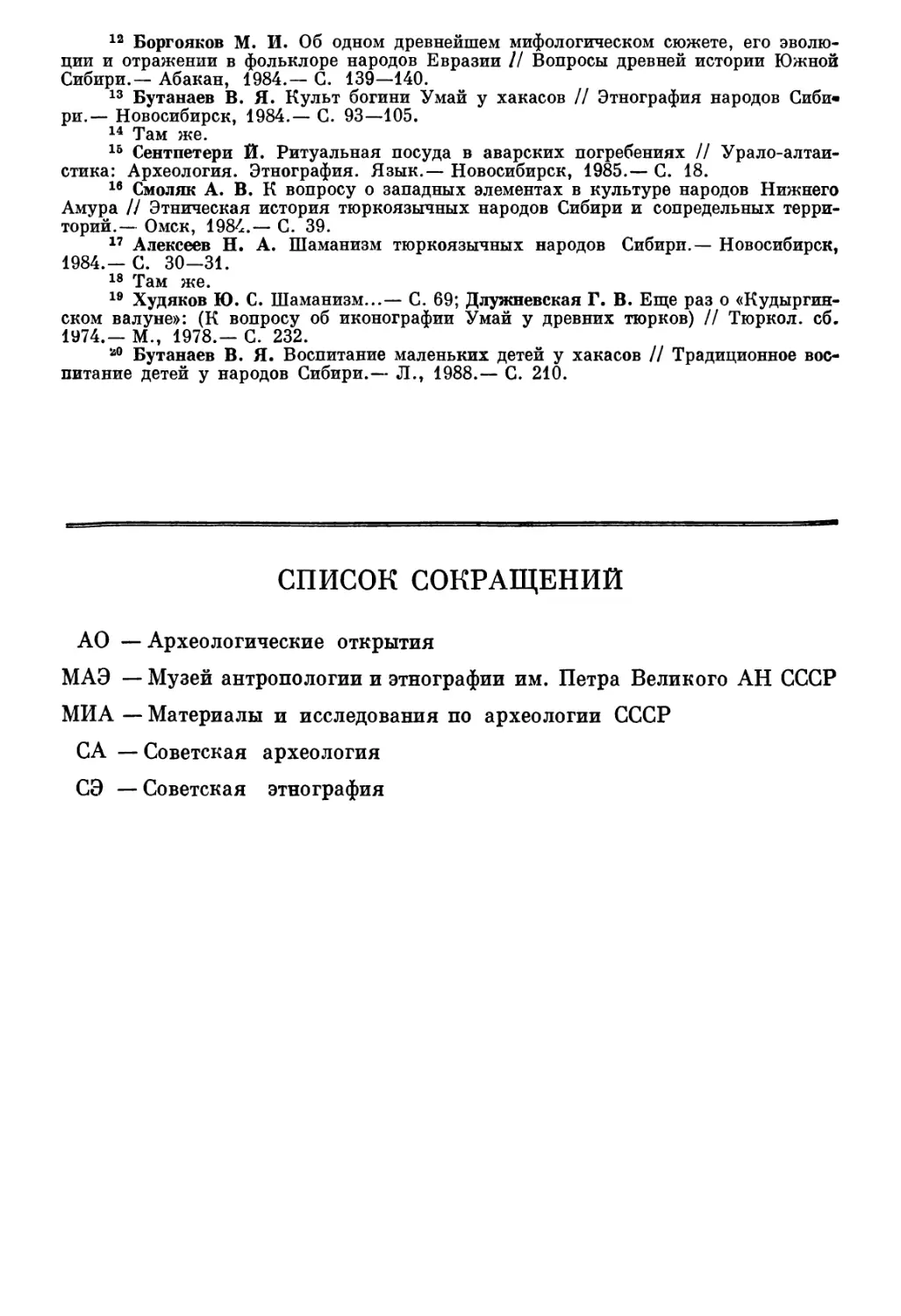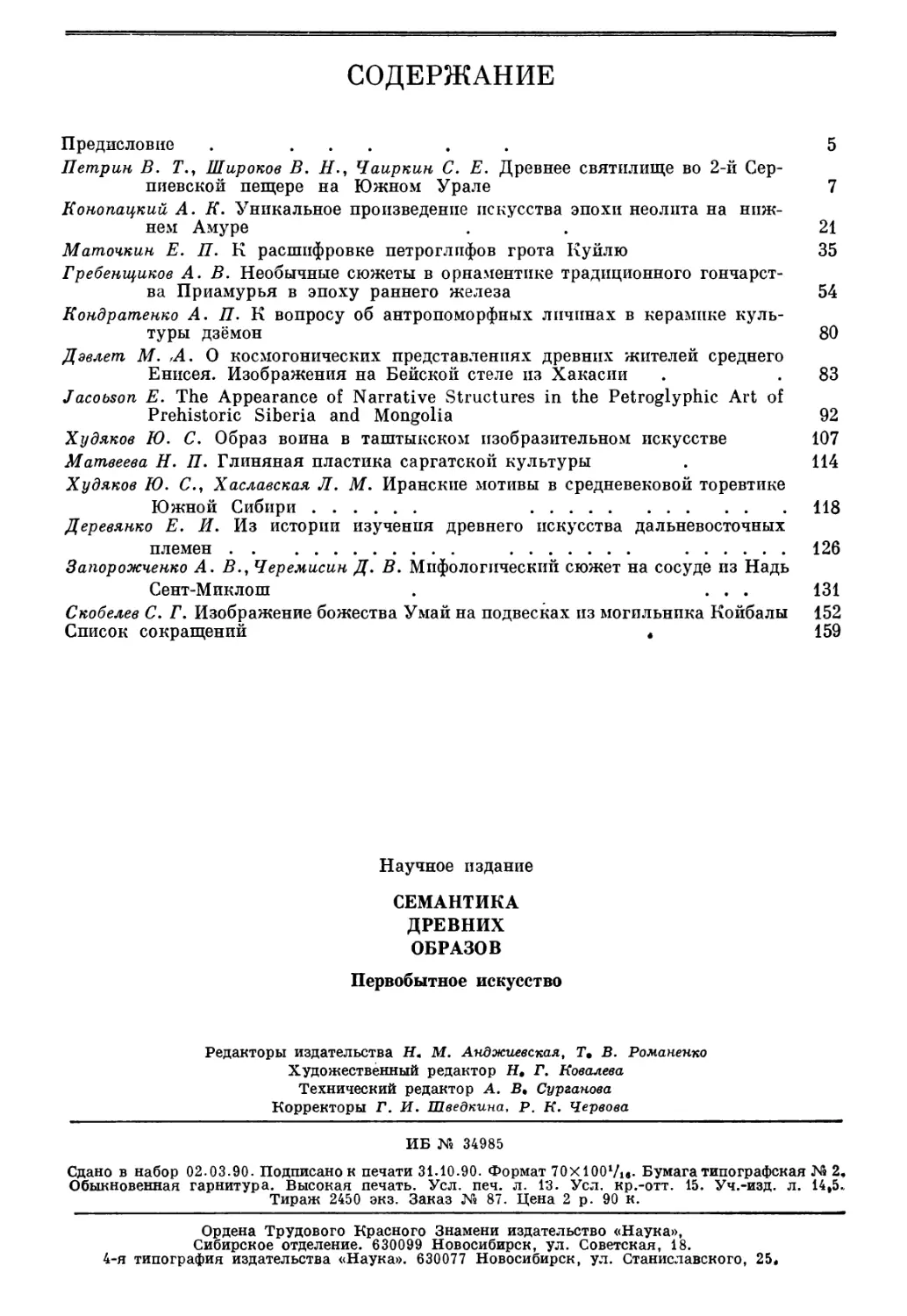Автор: Васильевский Р.С.
Теги: археология история искусство первобытное искусство
ISBN: 5-02-029369-5
Год: 1990
Текст
СЕМАНТИКА
ДРЕВНИХ
ОБРАЗОВ
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ
ПЕРВОБЫТНОЕ
ИСКУССТВО
i
СЕМАНТИКА
ДРЕВНИХ
ОБРАЗОВ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Ответственный редактор
доктор исторических наук Р* С* Васильевский
НОВОСИБИРСК
«HJA У К А»
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1990
ББК 63.4
сзо
Рецензенты
кандидаты исторических наук Н. В. Полосъмак, М. if. Рижский
Утверждено к печати
Институтом истории, филологии и философии СО АН СССР
Семантика древних образов. Первобытное искусство.— Ново-
СЗО сибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990,— 160 с.
ISBN 5-02-029369-5.
Сборник посвящен исследованиям в области семантики первобытного ис¬
кусства. Анализируются образы древней космологии, мифологии, эпоса, отобра¬
женные в наскальных рисунках и мелкой пластике. Рассматривается семантика
орнамента на керамике и произведениях торевтики. Характеризуются значение
иконографического анализа и возможности интерпретации древних изображений.
Книга рассчитана на археологов, этнографов, искусствоведов.
0504000000—067
042(02)-90
125—1990 II полугодие
ББК 63.4
ISBN 5-02-029369-5
(6) Издательство «Наука», 1990
ПРЕДИСЛОВИЕ
/
Актуальной задачей современной сибир¬
ской археологии является познание ду¬
ховных ценностей древнего и средневекового населения Северной Азии,
нашедших отражение в изобразительном, орнаментальном и прикладном
искусстве. Введение в научный оборот новых находок (предметов ис¬
кусства), их интерпретация, определение возраста и культурной при¬
надлежности, оценка возможностей их функционирования в сфере куль¬
туры и идеологии постоянно привлекают интерес и внимание сибирских
исследователей: петроглифистов, специалистов в области средневековой
торевтики, мелкой пластики. Разработка проблем древнего искусства
стала в последние десятилетия самостоятельным и активно развивающим¬
ся направлением сибиреведения. Большой вклад в изучение этих вопросов
внес основатель новосибирской археологической школы академик
А. П. Окладников. Над дальнейшим исследованием различных проблем
древнего искусства продолжают активно и успешно работать археологи
из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Кемерово, Якутска, Владивосто¬
ка и других городов нашей страны.
Основными вопросами археологического искусствоведения являются
определение композиционного построения наскальных рисунков, выде¬
ление отдельных сюжетов, оценка их возраста, культурной принадлеж¬
ности, смыслового содержания и функционального назначения в рамках
определенной культурной среды. Их решению посвящено несколько ста¬
тей настоящего сборника, в которых вводятся в научный оборот новые
наскальные рисунки из пещер Урала, из Карелии, Горного Алтая, Ха¬
касии. В них характеризуются образы на петроглифах эпохи палеолита,
5
энеолита, раннего железного века, прослеживается отражение сюжетов
героического эпоса древних скотоводов.
Другая важная тема, анализируемая в статьях,— орнаментика и
глиняная пластика. Орнамент служит важным этнодифференцирующим
признаком в культурах с эпохи неолита до раннего средневековья. Тем
важнее изучение закономерностей его распространения в памятниках на
территории Северной Азии. Внимание ученых и любителей древностей
привлекают антропоморфные личины из обожженной глины, запечатлев¬
шие мифологические персонажи народов, населявших в древности райо¬
ны Дальнего Востока. Эти сюжеты также нашли отражение в ряде ста¬
тей сборника.
Важным и малоизученным источником для изучения эстетических
и идеологических представлений средневековых кочевников Азии явля¬
ются произведения торевтики — украшения, декоративные элементы поя¬
са, сбруи, оружия, дорогая пиршественная посуда. Они служат важным
показателем этнокультурных связей, распространения художественных
образов и идеологических представлений из центров мировой цивилиза¬
ции по квчевому миру. В сборник включено несколько статей по пробле¬
мам торевтики средневековых кочевников Евразии.
Публикация данных материалов важна не только в научном отноше¬
нии. Их издание познакомит читателя, интересующегося историческим
прошлым Сибири, с достижениями древнего и средневекового населения
этого огромного региона в области духовной культуры, монументального
и мобильного искусства.
В. Т. ПЕТРИН, В. Я. ШИРОКОВ, С. Е. ЧАИРКИН
ДРЕВНЕЕ СВЯТИЛИЩЕ
ВО 2-й СЕРПИЕВСКОЙ ПЕЩЕРЕ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
\
Открытие в 1980 г. палеолитических рос¬
писей в Игнатиевской пещере на Юж¬
ном Урале 1 позволило положительно ответить на вопрос, являются ли
пещеры этого региона самостоятельным центром позднепалеолитического
искусства. Поэтому наше внимание привлекли такие крупные подземные
полости, как 1- и 2-я Серпиевские пещеры, расположенные в непосред¬
ственной близости от Игнатиевской. При тщательном осмотре стен, не¬
смотря на очень сильную законченность их поверхности, авторами дан¬
ной статьи были найдены в двух местах фрагменты рисунков, нанесенных
красной охрой (ныне они обозначены как группы V и VIII)2.
Скальное обнажение, в котором на расстоянии 100 м друг от друга
располагаются 1-я и 2-я Серпиевские пещеры, находится на правом берегу
р. Сим, в нескольких сотнях метров к западу от дороги, ведущей из
г. Катав-Ивановск в с. Серпиевка (рис. 1). Скальная гряда примечательна
обилием карстовых проявлений. Сегодня в этом обнажении зафиксированы
два грота и четыре пещеры.
Пещера № 1 названа первыми ее исследователями — свердловскими
спелеологами — Соломенной по обилию тонких трубчатых сталактитов,
напоминающих по форме соломинки. Длина пещеры более 400 м. В ней
узкие коридоры и лазы, крупные гроты отсутствуют.
Пещера № 2 — 1-я Серпиевская — коридорного типа. Ее длина око¬
ло 150 м, в конце огромной залы имеются богатые натечные образования.
При визуальном наблюдении древние изображения не обнаружены; воз¬
можно, в будущем здесь следует произвести расчистку кальцитовых на¬
теков.
© В. Т. Петрин, В. Н. Широков, С. Е. Чаиркин, 1990
7
Рис. 2. Карта расположения гротов и пещер в районе 2-й Сергиевской пещеры.
1 — скальный отвес; 2 — полевые дороги; з — гроты; 4 — пещеры. I — Соломенная; II — 1-я Сер-
пиевская; III — грот Серпиевский; IV — 2-я Серпиевская; V — грот Каменного кольца; VI —
Мокрая.
Пещера № 6 небольшая, с узким входом на уровне поймы; поскольку
пол ее постоянно залит водой, она носит название «Мокрая».
В начале 60-х гг. в гроте у Каменного кольца, в 40 м от 2-й Серпиев-
ской пещеры, производил археологические раскопки Ф. Н. Бадер. Им бы¬
ло вскрыто засыпанное охрой захоронение,.датированное неолитом. Здесь
же найдены 38 круглых плоских бусин из раковин беззубки и кремниевая
пластина 3. В процессе раскопок в слое желтого суглинка вместе с костя¬
ми позднеплейстоценовых животных обнаружено также 10 каменных из¬
делий. По этим находкам'памятник считался позднепалеолитическим4.
Разведочные шурфы, заложенные экспедицией О. Н. Бадера у входа во
2-ю Серпиевскую пещеру и в соседнем с ней обширном гроте, вскрыли
«наносы древнего желтого суглинка с известняковой щебенкой и разд¬
робленными костями животных»5.
Говоря об исследованиях, предшествовавших нашим, следует упо¬
мянуть изыскания В. А. Максимова. В однрй из пещер, находящихся
примерно в 0,5—0,6 км от 2-й Серпиевской пещеры, на правом берегу
вниз по течению р. Сим, на стене в 14 м от входа он обнаружил изображе¬
ние головы льва 6. Однако в ходе осмотра пещеры нами и И. Г. Смирно¬
вым установлено, что выступ на стене, напоминающий по форме голову
животного,— не что иное, как разрушившаяся раковина моллюска девон¬
ского периода.
8
Рис. 2. План и профиль 2-й Серпиевской пещеры.
1 — скала; 2 — крупные глыбы известняка; 3 — антропологические находки; 4 — скальный уступ*,
5 — раскоп; римскими цифрами обозначены -места сосредоточения групп рисунков*
Нами при проведении стационарных исследований осматривались
внутренние поверхности 1-й и 2-й Серпиевских пещер. Но рисунки при
этом не были найдены; возможно, из-за плохого освещения обследуемых
закопченных стен. В сентябре — октябре 1986 г. нами проведено стационар¬
ное обследование известных рисунков во 2-й Серпиевской пещере, велся
поиск новых. В пещере был заложен небольшой раскоп с целью выявления
культурного слоя, связанного с посещением внутренней части пещеры
людьми с ритуальными целями.
Серпиевская 2-я — типичная пещера коридорного типа, горизонталь¬
ная, разработана по трещине бокового отпора в массиве плотных, сильно
окремненных девонских известняков (рис. 2). Угол наклона пластов
скального обнажения, в котором находится полость, составляет 20°,
азимут простирания 340°. Вход расположен на высоте 4,5 м над уровнем
реки, имеет вид правильной симметричной арки высотой З’м и шириной
2,5 м. Пол пещеры плавно понижается от входа в глубину галереи и
в предпоследнем зале превышает уровень реки всего на 1—1,5 м. Общая
протяженность полости около 150 м. Входная часть пещеры длиной до
10 м имеет в сечении вид арки высотой 1,8—3 м. Стены и потолок здесь
ровные, с плавными очертаниями, натечных образований нет, сухо.
Извилистый коридор протяженностью 25—30 м, высотой 1,8—3,7 м и
шириной 1,8—4 м приводит в первый зал. Стены зала темно-серые, шеро¬
9
ховатые, сильно расчленены мелкими трещинами (особенно правая). Из
средней и дальней частей коридора влево уходят два широких прохода,
которые соединяются с первым залом (пол в левой части кольцовки выше
уровня пола в зале на 1,8 м). В левой части кольцовки влажно, с потолка
постоянно падают капли воды; основной, правый, коридор кольцовки
сухой. На стенах имеется небольшой налет мондмильха, кальцитовых
образований нет.
Размеры первого зала 10x9x6 м. Поверхность стен неровная, вся
в микротрещинках, кавернах и выступах, покрыта тонким налетом монд¬
мильха. В целом зал сухой, лишь в отдельных местах с потолка капала
вода. Пол ровный, на нем немногочисленные крупные обломки известняка
и мелкий щебень. В северо-восточном углу зала, у правой стены, начи¬
нается узкий, извилистый ход, который через 25 м соединяется с основ¬
ным коридором, образуя вторую кольцовку. Высота хода у его начала
1,5 м, в центральной части 2 м, в дальней части до 0,4—0,6 м. Три узкие
трещины соединяют его с основным коридором.
Последний является естественным продолжением первого зала, раз¬
работан по азимуту 315°, Т\ е. почти по простиранию пластов и почти
параллельно руслу реки. Коридор по форме в поперечном сечении не
изменяется, высота достигает 4—5 м. Стены неровные, в них много углуб¬
лений в виде ниш различного размера на всех высотных уровнях. По¬
верхность сильно трещиноватая, с кавернами и выступами, плотно покры¬
та мондмильхом и кальцитовой корочкой. Пол ровный, много мелкого
щебня, видны отдельные крупные глыбы, сухо. В самом конце коридор
расширяется до 6 м, образуя небольшой зал — второй. Здесь наблюдается
интенсивная капель.
Из второго зала коридор длиной около 10 м и высотой до 2,5 м ведет
в небольшой третий зал. Его высота в центральной части составляет
около 8 м. По стенам на высоте 1,5—2 м нависают громадные глыбы каль¬
цита. Поверхность стен сильно закопчена, на стенах множество надписей
посетителей. Пол ровный, незначительно понижается от южной стены
к северной. На поверхности крупные глыбы, возле южной стены мощные
натеки кальцита создают небольшие гуры.
Из этого зала два лаза недут в следующий, четвертый, зал. Осенью
1986 г., когда проводилось обследование, вода в проходе не позволяла
попасть в эту часть пещеры.
Первая группа рисунков находится в первом зале, на южной стене,
в 39,2 м от входа, в 2,6 м от обрыва левого хода. Стена здесь с небольшим
отрицательным наклоном, неровная, с многочисленными вертикальными
и диагональными трещинами, покрыта кальцитовой корочкой желтоватого
цвета. В 1,4—1,75 м над полом на площади 0,5 х 0,35 м фиксируются остат¬
ки красной краски.
Вторая группа расположена на южной стене, у выхода из. первого за¬
ла, в 11 м к северо-западу от первой группы рисунков. Стена с легким
отрицательным наклоном, неровная, покрыта трещинами, преимущест¬
венно горизонтальными, сильно закопчена. Красные рисунки нанесены
на желтоватой корочке, на высоте 1,3 м от пола, на площади 0,5х 0,25 м.
Краска очень бледная, с трудом просматривается на желтоватом фоне.
В верхней части видны три линии толщиной около 1 см с наклоном к запа¬
ду (вправо). В 0,15 м ниже верхнего края линий, возле ребра выступа, на¬
несена горизонтальная полоса; ниже фиксируются фрагменты древней
краски (рис. 3). В 0,9 м к западу на такой же высоте по желтоватой ко¬
рочке нанесены две линии. Одна из них вертикальная, длина 24,5 см,
толщиной около 1 см. Вторая линия с наклоном на запад (вправо), дли¬
ной 25,5 см, толщиной не более 1 см (рис. 4).
10
1
Юсм
.#f
:<Ф
V'**/
rttffi'
л
•;«ч.
У,'*'"*
ль;*-
: ;
Ж
Ш-
»■
«К-",.
. Л>л;
•..v#/ <'•; *: ;
. • *•.- •:;' 'к-
ДЙч
у#
•фйг.
■i5W •
/&
•••&£
,§Ь
if
^•лС5* •
#<#•
•л-V
Рис. 5. Изображения второй группы (левая часть).
11
о
L
Юсп
j
Рис. 4. Изображения второй группы (правая часть).
Третья группа рисунков обнаружена на высоте 0,5 м над полом на
южной стенке у узкого входа во вторую кольцовку. Рисунок светло-крас¬
ного цвета, нанесен по кальцитовому молочно-желтого оттенка натеку,
12
покрывающему плоскость с легким отрицательным наклоном. Длина
изображения 27 см, высота 12 см, сохранность плохая, особенно правой
части. Сохранившиеся линии напоминают контуры животного, обращен¬
ного головой влево от зрителя (к востоку). Изображение не копировалось.
Четвертая группа рисунков зафиксирована на отдельно стоящем
очень крупном известняковом блоке между первым и вторым залами,
в 7,6 м к западу от второй группы. Блок, расположенный диагонально по
отношению к оси коридора, находится на одной из самых его высоких
точек. Размеры глыбы: длина по длинной оси 2,1 м, максимальная шири¬
на 0,8 м, высота 1,3 м. Рисунки нанесены на плоскости, обращенной к
северу, по желтоватой корочке, на высоте 0,7—1,2 м над полом, на пло¬
щади 0,5 х 0,35 м. Цвет светло-красный. Вверху прослеживается прямая
горизонтальная линия длиной 9,5 см и шириной около 1,3 см; правее,
через разрыв в 3 см,— горизонтальная линия длиной 9,5 и шириной
0,5 см. Ниже четыре вертикальные линии с небольшим наклоном вправо
(рис. 5). Лучше сохранились три линии слева: длина первой 10,5 см,
второй 10 см, третьей 15 см. Четвертая линия сохранилась фрагментарно.
Ширина всех полос около 1 см. Левее и ниже названных линий — микро¬
частицы светло-красной краски.
Пятая группа рисунков расположена на северной стене, в 6 м к
северо-западу от четвертой группы. Стена имеет легкий отрицательный
наклон, ее мелкоячеистая поверхность образована в результате разру¬
шения известняка конденсационной влагой. На примере этой группы хо¬
рошо видно, как происходит разрушение краски в результате эрозии по¬
верхности участков стены. Изображение бледно-красного цвета нанесено
на высоте 1,45 м от пола, частицы краски сохранились только на неболь¬
ших выступах между кавернами. Линией шириной около 1,2 см нанесен
контур подтреугольной фигуры размерами 14x15 см.
Шестая группа рисунков находится в 13,6 м к северо-западу от пятой
группы. У входа во второй зал, на выступах северной и южной стен сим¬
метрично относительно оси коридора, друг против друга краской нанесе¬
ны два пятна. На северной стене на высоте 1,1 м от пола на ровной по¬
верхности кальцитовой корки находится овальное пятно вертикальной
ориентации. Размеры пятна 36x6 см, границы его размыты. Цвет светло-
красный.
На противоположной, южной, стене, на высоте 1,5 м от пола на
неровной кальцитовой корке нанесено светло-красное пятно. Его размеры
26,5x10,5 см.
Седьмая группа рисунков находится на северной стене, в 8,3 м от
предыдущих рисунков, на высоте 1,25 м от пола. На выступе стены с по¬
ложительным наклоном, по кальцитовому натеку нанесены три верти¬
кальные параллельные линии (рис. 6). Несколько хуже сохранились
крайние полосы, длина центральной 14,5 м, ширина 1,2 см. Изображения
светло-красного цвета.
Восьмая группа рисунков зафиксирована в 16,3 м к западу от седь¬
мой группы, в узком проходе между вторым и третьим залами, на северной
стенке. На высоте 1,1 м от пола на кальцитовом натеке видны пятна
краски красноватого цвета на площади 0,35 х 0,33 м. Лучше сохранилось
пятно в центре, оно округлой формы, высотой 14 см. По древней краске
нанесены современные надписи черного и синеватого цвета. Последний
рисунок находится в 1 м к западу, на северной стене, на поверхности
нависающей глыбы в максимальном сужении коридора. Нижний край
глыбы выступает на высоте 1 м от пола. Наиболее хорошо сохранилась
горизонтально расположенная гарпунообразная фигура длиной 32 и ши-
13
0
1
Рис. 6. Изображения седьмой группы.
15
риной 3,2 см. Зубец обращен вверх, острие несколько опущено. Ниже
и выше под слоем копоти видны фрагменты краски (рис. 7).
Крайне плохая сохранность и почти полное отсутствие хорошо де¬
шифруемых рисунков затрудняют обсуждение изображений.
Укажем лишь на сходство групп линий с подобными, расположенны¬
ми совершенно изолированно композициями в Игнатиевской пещере.
Последние включают, как правило, определенное количество по-разному
ориентированных полос. Достаточно хорошо фиксируются определенные
одинаковые по числу повторы изображений, которые можно счи¬
тать ритмообразующими группами. Они наделены, вероятно, особым
смыслом.
В Игнатиевской пещере группы параллельных линий сочетаются
с другими изображениями, например лошади, зигзагообразного знака
(змеи?). Во французских пещерах также часто встречаются подобные
группы, включающие, кроме линий, изображения лошадей и других
животных. В некоторых случаях такие сюжеты являются ведущим моти¬
вом композиции всего святилища. Подобное сочетание, безусловно, не
случайно и представляет собой определенный изобразительный сюжет,
отражающий какую-то идею, может быть, шифр у населявших в поздне¬
неолитическую эпоху Европу охотников на крупную, преимущественно
стадную, дичь.
Рассматривая изображения как маркирующие знаки, обратимся к
изображениям шестой группы, в частности к двум красочным пятнам,
нанесенным друг против друга в узкой части основного коридора перед
вторым залом. Такими по функции можно считать отдельные изображе¬
ния в Игнатиевской пещере. Впервые предположение о том, что изображе¬
ния в пещерах были маркирующими знаками, высказал Анри Брейль 7.
Возможно, данные знаки вычленяют пространственные части подземных
галерей, позволяя правильно ориентироваться в них и вместе с тем,
вероятно, придавая разным отделам пещеры различный статус.
В ходе исследования пещерных святилищ, представляющих собой
сложные археологические объекты, проводились раскопки рыхлых отло¬
жений в глубине пещер, непосредственно под рисунками. Во 2-й Серпиев-
ской пещере в 46 м от входа, перпендикулярно осевой линии ее основного
коридора (см. рис. 2) был заложен раскоп размером 3x1 м. Раскоп,
ориентированный длинной стороной по линии юго-запад — северо-восток,
одной короткой стороной примыкал к южной стене пещеры. Выборка
рыхлых отложений велась по слоям, последовательность и мощность ко¬
торых были предварительно прослежены в небольшой зачистке обнажения
грунта рядом с раскопом. Весь грунт промывался на поверхности. Ни¬
каких изделий в раскопе (он доведен до глубины 40 см) не обнаружено.
Встречены лишь древесный уголь и кости животных.
Охарактеризуем слои в раскопе.
Слой 1 — рыхлый, легкий, сухой. В разных частях раскопа неодно¬
роден по структуре (рис. 8). На уч. А, Б/1, 2 сложен из следующих про¬
слоек:
а) черная сажистая прослойка мощностью до 0,005 ms
б) темно-коричневая, местами коричневая прослойка с обилием дре¬
весных остатков — трухи, бересты, угля. Мощность ее постепенно уве¬
личивается к северо-востоку, но не превышает .0,03—0,04 м.
На более низких участках, в непосредственной близости от главного
магистрального хода пещеры, слой 1 включает следующие прослойки:
а) черная сажистая,
б) зеленовато-серой глины,
16
2 Заказ Л« 87
17
Рис. 8. План трех горизонтов и профиль раскопа во 2-й Серпиевской пещере.
1 — обломки костей животных; 2 — крупные камни с указанием глубины залегания; 3 — слой 1;
4 — слой 2; 5 —- слой 3.
в) черная рыхлая,
г) зеленовато-серой глины,
д) очень темная плотная глинистая,
е) рыхлая темно-коричневая, местами коричневая с обилием дре¬
весных остатков. Мощность слоя постепенно увеличивается в северо-
восточном направлении, но не превышает 0,06 м.
Слой 2 состоит из белесовато-серой плотной глины с редким щебеноч¬
ным материалом, объем которого возрастает в северо-западной части
раскопа. Толщина слоя заметно падает в юго-западном направлении,
а на уч. А, Б/1, 2 он выклинивается совсем, вновь появляясь возле самой
стены. На уч. А, Б/3, 4 встречены обломки кальцитовой корочки, сталак¬
титов и участки интенсивного накопления кальцита. Небольшие угольки
присутствуют по всей мощности слоя и всей площади раскопа, но наи¬
большее их количество сосредоточено на пониженных у^. А, Б/5, 6, на
стыке со слоем 3,
Слой 3 — красно-коричневая пещерная глина, равномерно насыщен¬
ная щебнем. Угольки встречены в самой верхней кровле слоя, на стыке
со слоем 2.
Порода из раскопа была сильно насыщена костными остатками,
в основном грызунов. Только коренных зубов было извлечено и определе-
18
но около 4,5 тыс. Но заключению канд. Оиол. наук Н. 1. Смирнова и
П. А. Косинцева (Институт экологии растений и животных Уральского
отделения АН СССР), находки из различных слоев по видовому составу
и соотношению видов существенно не различаются. Фаунистические остат¬
ки относятся к верхнепалеолитическому комплексу. Примерно половина
из них — кости узкочерепной полевки, принадлежащей к виду, который
был основой пригляциальных фаун позднего плейстоцена Северной Евра¬
зии. Остатки степной пеструшки и полевки-экономки составляли 10—
15 %, копытного лемминга позднеплейстоценового вида — 5 %. Отмеча¬
ется присутствие немногочисленных остатков сибирского лемминга, серо¬
го хомячка, суслика, рыжих полевок, пищухи и зайца. Обнаружены
также остатки около 90 хищников (лиса и пещерный медведь, волк, пе¬
щерная гиена и мелкие куньи) и около 10 копытных (лошадь, шерстистый
носорог, северный олень, благородный олень и лось).
Материалы сборов из 2-й Серпиевской пещеры близки по составу
фауны и соотношению видов к аналогичным находкам верхних горизонтов
Игнатиевской пещеры и характеризуют заключительные этапы развития
верхнепалео^итического фаунистического комплекса в горах Южного
Урала. Во 2-й Серпиевской пещере обнаружены антропологические остат¬
ки. По определению канд. биол. наук Т. А. Чикишевой (Институт исто¬
рии, филологии и философии СО АН СССР), они принадлежат двум осо¬
бям — мужчине и женщине. Возраст мужчины в пределах 25—35 лет,
женщины — 18—20 лет. Все фрагменты посткраниального скелета муж¬
чины отрублены. Почти весь антропологический материал собран у входа
в пещеру. Лишь фрагмент лицевого отдела черепа найден несколько даль¬
ше входной части. По заключению Чикишевой Т. А., он, вероятно, при¬
надлежал женской особи. Возраст этих остатков, вероятно, моложе изоб¬
ражений в галерее. Отметим, что и антропологические находки из
Игнатиевской пещеры моложе росписей в ней.
Подведем итог сказанному о 2-й Серпиевской пещере. Рисунки, на¬
несенные в глубине пещеры, отражают непосредственное влияние палеоли¬
тической традиции. Вместе с тем возраст этих изображений пока остается
под вопросом, потому что нет данных абсолютной датировки памятника
(обнаруженные угли в слое с остатками позднеплейстоценовой фауны
пока не могут быть достоверно связаны по времени с настенными рисун¬
ками). Кроме того, здесь отсутствуют изображения плейстоценовых жи¬
вотных, по которым можно было бы датировать их эпохой палеолита.
Сегодня можно предложить по крайней мере три интерпретации 2-й Сер¬
пиевской пещеры. Первая — святилище относится к самому концу позд¬
него палеолита. Вторая — плейстоценовая пещера была местом, где про¬
ходил предварительный этап обряда, кульминация которого развивалась
в Игнатиевской пещере. Третья — пещера относится к послепалеолити-
ческому времени и фиксирует зарухание древнейшей традиции нанесения
изображений в подземных галереях.
Если принять два первых варианта, то живопись 2-й Серпиевской
пещеры должна датироваться эпохой позднего палеолита. Если считать
верным третий, то она относится ко времени мезолита.
Интересно сравнить два таких сложных археологических объекта,
как 2-я Серпиевская и Игнатиевская пещеры. Игнатиевская, конечно,
более выразительна по размерам, количеству рисунков. -Вместе с тем
между этими памятниками обнаруживается много общего. В обеих пеще¬
рах, в их глубинных частях, найдены сделанные красной охрой рисунки,
культурные остатки в местах, где культурный слой может быть определен
как «культурный слой посещений», поскольку люди здесь бывали, веро-
2*
19
ятно, с культовой, обрядовой целью. Очевидно, обе пещеры довольно дли¬
тельное время были святилищами и отражали одну культурную тради¬
цию. Кроме того, важно отметить наличие в обеих пещерах, в зоне входа,
антропологических остатков, безусловно напрямую никак не связанных
ни с рисунками, ни с культурным слоем, поскольку кости людей здесь
появились явно в гораздо более позднее время — в раннем железном веке
или даже позже. На такой возраст указывает плохая сохранность костей.
Но не исключено, что в Игнатиевской или во 2-й Серпиевской пещерах
будут найдены антропологические остатки палеолитического времени.
Обсуждение вопроса о возможной жесткой взаимосвязи между рисун¬
ками и более поздними антропологическими находками, на наш взгляд,
сейчас несколько преждевременно, нужно большее количество фактов.
Укажем лишь на то, что человеческие кости находили и во многих других
пещерах Урала. Возможно, 2-я Серпиевская пещера каким-то образом бы¬
ла связана с культом мертвых. На памятнике проведены исследования
лишь первоначального этапа, и все выводы носят пока предварительный
характер. Это затрудняет возможность сформулировать хотя бы прибли¬
зительно предположения о взаимоотношении во времени тех или иных
следов прошлой действительности. Имеются в виду культурные слои,
видимо, кратковременных остановок людей в гроте у Каменного кольца
и в гроте Серпиевской, древнее святилище с рисунками и культурным
слоем во 2-й Серпиевской пещере, а также погребение в гроте у Каменного
кольца и антропологические остатки во входной зале 2-й Серпиевской.
В заключение несколько слов о ближайшей перспективе дальнейших
поисков древней живописи в Серпиевских пещерах. На наш взгляд, наи¬
больший интерес в этом плане представляет 2-я Серпиевская пещера.
Возможно, под кальцитовыми натеками, обильно покрывающими стены
пещеры, можно ожидать открытия древних изображений. Очень интерес¬
ные результаты может дать исследование культурных остатков в рыхлых
отложениях на поверхности всей пещеры, особенно в глубине. Не исклю¬
чено, что рисунки могут быть обнаружены и в другой, 1-й Серпиевской
пещере, в самом большом ее, последнем, зале. Из мест сезонных стоянок
заслуживает внимания грот Серпиевский, он расположен между 1-й и 2-й
Серпиевскими пещерами. Определенный интерес представляет и неболь¬
шой навес в скальном обнажении в 0,4—0,5 км ниже по течению, рядом
с пещерой, где якобы был найден рисунок льва.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Окладников А. П., Петрин В. Т. Новая пещера на Урале с палеолитическими
росписями // Природа.— 1982.— № 1.— С. 70—75; Они же. Палеолитические рисунки
Игнатиевской пещеры на Южном Урале // Пластика и рисунки древних культур.—
Новосибирск, 1983.— С. 47—58.
2 Петрин В. Т. Отчет о поисках наскальных изображений по рекам Сим, Белая
и исследования в Игнатиевской, 2-й Серпиевской и Идриговской пещерах в пределах
Челябинской обл. и Башкирской АССР.— Препр.— Новосибирск, 1982.— С. 44—45.
3 Бадер О. Н. Неолитическое погребение в гроте у Каменного Кцльца на Урале
и его аналоги // Проблемы археологии Урала и Западной Сибири.— М., 1973.—
С. 104—109.
4 Бадер О. Н. Следы палеолита на территории Башкирии // Археология и этно¬
графия Башкирии.— Уфа, 1961.— Т. 1.— С. 14; Он же. Новые палеолитические место¬
нахождения в пещерах Урала // Там же.— Уфа, 1964.— Т. 2.— С. 28; Щербакова Т. И.
О современном состоянии изученности палеолита Йжного Урала // Источники и
источниковедение истории и культуры Башкирии.— Уфа, 1984.— С. 4.
5 Бадер О. II. Следы палеолита...— С. 15.
6 См.: Максимов В. Л. Симский карст.— Челябинск, 1966.
7 Laming Emperaire A. La signification de Г art rugestre paleolithique.— P.,
1962.— P. 92—93.
20
А. К. КОНОПАЦКИЙ
УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
ЭПОХИ НЕОЛИТА НА НИЖНЕМ АМУРЕ
Своеобразное и во многом необычное ис¬
кусство эпохи неолита нижнего Амура
вызывало большой интерес у исследователей начиная с прошлого века.
Истории изучения наскальных рисунков и их месту в контексте древних
культур Приамурья посвящен целый ряд работ, в том числе и специаль¬
ные исследования А. П. Окладникова, впервые посетившего эти места
в 1935 г. и в дальнейшем занимавшегося изучением феномена амурского
неолита не одно десятилетие г. Наиболее характерной особенностью на¬
скальных рисунков нижнего Амура является наличие изображений ли¬
чин-масок.
Во второй половине 60-х гг. были найдены первые прямые аналоги
личинам петроглифов — изображения на известном сосуде из поселения
у с. Вознесеновки 2. Особую ценность представляла находка женской
скульптурки в одном из неолитических жилищ поселения Кондон3.
В 70-е гг. там же был найден фрагмент небольшого сосуда с рельефной
скульптурной личиной на венчике, близкой к череповидным личинам
Сакачи-Аляна. И хотя эта находка — из подъемного материала, по сти¬
лю, орнаменту на сосуде, составу теста ее можно датировать эпохой
неолита 4.
Фрагмент сосуда с остатками изображения личины, аналогичной
вознесеновской, был найден В. Е. Медведевым в 1980 г. на мысу Гася,
непосредственно под рисунками Сакачи-Аляна 5. Фрагмент небольшого
цилиндрического сосуда с рисунками, напоминающими личины, обнару¬
жил в с. Богородском В. Н. Копытько. В публикации сказано, что «эти
находки можно датировать эпохой металла»6. Собственно, этим перечнем
© А. К. Конопацкий, 1990
21
и ограничивается круг известных в керамике аналогов петроглифам Амура.
В то же время прямыми аналогами их можно назвать с достаточной сте¬
пенью осторожности и условности, поскольку при чисто внешнем сход¬
стве они выполнены в разных материале, манере и разной техникой.
Благодаря новым находкам мы можем говорить о том, что такие аналоги
есть и возможны их находки в будущем.
При раскопках неолитического поселения Малая Гавань на нижнем
Амуре, вблизи с. Сусанино Хабаровского края, был обнаружен фрагмент
сосуда, представляющий большую научную ценность. Он позволяет более
полно и глубоко понять своеобразие культурного мира рассматриваемого
региона и его контактов с культурами соседних территорий. Следует от¬
метить, что принадлежность его к неолитическому культурному слою не
вызывает сомнений. Речь идет о небольшом, можно сказать, миниатюрном,
сосуде, представлявшем собой чашечку высотой 2,1 см и диаметром венчи¬
ка 3,8 см (диаметр донца определить практически невозможно ввиду его
фрагментарности, но он явно гораздо меньше диаметра венчика), от кото¬
рого сохранилось не более 1/3 (рис. 1). Внутренняя поверхность сохра¬
нилась на всем уцелевшем фрагменте, а наружная — только на половине
площади фрагмента, остальная часть отслоилась еще в древности. Это не
позволяет судить о том, что было изображено на сосуде в целом, возмож¬
ны лишь гипотетические построения.
Вся поверхность сосуда имеет однотипный светло-охристый цвет,
в местах отслоения и в изломе — черный. Судя по внешним признакам,
тесто отмучено и в его составе использовались в качестве отощителя хоро¬
шо просеянные мелкие зерна песка и кварца, заметные только в изломе
фрагмента. Поверхность сосуда была предварительно хорошо заглажена
и послужила фоном для нанесенных тонкими линиями резных рисунков.
Именно на них и хотелось бы особо остановиться. Но нельзя оставить
без внимания тот факт, что на срезе венчика, на его изгибе, имеются вдав-
ления ногтем и. пять углубленных полосок, расходящихся в разные сто¬
роны из одной точки от внутренней кромки венчика. Возможно, что это
следы своеобразной орнаментации венчика, но на остальной его сохранив¬
шейся части не заметно ничего подобного. Под венчиком на расстоянии
2,5—3 мм от края параллельно ему прочерчена тонкая горизонтальная
линия, пересекающая наружный контур рисунка целой личины. Очевид¬
но, все линии и рисунки на сосуде выполнены одним и тем же тонким
и острым инструментом.
На фрагменте сосуда сохранились одно почти целое изображение
личины или маски и нижняя часть меньшего по размеру и более тонкого
в общих чертах второго, расположенного почти рядом с первым. Сразу же
бросается в глаза разница в манере и характере исполнения двух этих
рисунков, несмотря на то что наносились они, несомненно, рукой одного
человека и одним инструментом, хотя и не всегда равномерно углубляв¬
шимся в глину сосуда.
Контур целой личины и глаза переданы двумя линиями, расстояние
между которыми не всегда одинаково, в то время* как частично сохра¬
нившаяся личина выполнена одной линией, что позволяет ставить вопрос
о принципиальной разнице нанесенных на сосуд изображений. Для удоб¬
ства в обозначении личин в дальнейшем целая будет именоваться первой,
а частично сохранившаяся — второй.
Первая личина (рис. 2), очевидно, изображала лицо или маску ок¬
руглой, если не сказать совершенно круглой, формы (размером 1,9 х
X 1,8 см) с узким маленьким подбородком, сходящимся на острый клин и
заканчивающимся уже на донной части, за изгибом (художнику словно не
22
Рис 1. Фрагмент сосуда с поселения Малая Гавань.
1 — первая личина; 2 — вторая личина.
хватило места на ту лове, а когда он пересек край сосуда, то рука сорва¬
лась, удлинив все изображение и сделав его несколько более грубым,
чем оно могло бы быть, вместившись целиком на тулове). Особого внима¬
ния заслуживают изображения глаз. Они столь необычны, что только с
известной долей осторожности могут быть названы глазами. Явно раско¬
сые, выполненные двойной линией, глаза обращены наружными уголками
не вниз, а утрированно вверх, что еще более подчеркивает нереальность
данного изображения.
Интересно, что глаза изображены по-разному. Они асимметричны.
Наружный угол левого глаза резко поднят вверх — художнику словно
не хватило места, и он захватил часть пространства лба, чтобы непремен¬
но вписать изображение в контуры лица. Правый же глаз поднимается
вверх более плавно. Возможно, его наружный угол находился за конту¬
ром личины, Не менее вероятно и то, что верхние линии обоих глаз —
утрированное изображение густых насупленных бровей.
Несмотря на наличие большого — по масштабам рисунка — свобод¬
ного пространства на изображениях глаз, не заполненного ничем, зрачки
не показаны. Вполне возможно, что это и не* глаза, а полумаска, при¬
крывающая верхнюю часть лица, т. е. мы имеем дело не с маской-личиной,
а с изображением лица, прикрытого маской-очками. Посередине лба
прочерчены три вертикальные параллельные полосы: одна глубоко вре-
23
Рис. 2. Первая личина.
занная в глину и две процарапанные только слегка, еле заметно. Ноздрей
и носа нет, между изображениями глаз и ртом прочерчена горизонтальная
волнистая линия. Рот представляет собой выдавленное в глине небольшое
углубление неправильной формы, дополненное сбоку короткими ломаны¬
ми линиями. В правой части личины с наружной стороны на уровне глаза
сохранилась тонкая линия, отходящая книзу,— очевидно, часть изобра¬
жения уха (проследить.остальную ее часть невозможно, поскольку дальше
поверхность сосуда отслоилась).
Вторая личина (рис. 3) расположена рядом с первой, почти вплотную,
слева от нее, и сохранилось не более трети или даже четверти изображе¬
ния. Она, очевидно, не только выполнена одной линией, но и по размерам
меньше первой. Собственно, от изображения осталась только левая ниж¬
няя часть лица, включающая наружный овал глаз и рот, по которым мож¬
но судить о подчеркнуто более тонком и нежном изображении, чем первая
личина. Отходящие от него вправо вверх линии, возможно, передавали
ухо. Что касается сохранившегося изображения глаза, то о нем следует
сказать особо. Он выполнен плавно изогнутой линией, напоминающей
вдавление ногтем, и в сочетании с выступающей поверхностью щеки под
глазом производит впечатление характерной для монголоидов раскосости
и широких округлых скул. Над ними — расходящиеся брови в виде
острого угла.
24
Рис. 3. Вторая личина.
Рот, узкий и маленький, показан глубоко вдавленной короткой слег¬
ка наклонной линией, как бы полураскрыт. Носа нет, но эффект его на¬
личия создается выступающей верхней губой.
На довольно значительном расстоянии от первой личины (1,5 см),
справа от нее, на сохранившейся под венчиком части наружной поверх¬
ности имеется еще одна слабо прочерченная линия, идущая наклонно,
но отсутствие каких-либо дополнительных деталей практически лишает
возможности судить о том, была ли она частью изображения еще одной
личины или нет.
Названные изображения вызывают большое количество вопросов,
догадок, предположений, ассоциаций и аналогий. Прежде всего, это
первая такая находка произведений искусства малых форм на нижнем
Амуре. Уникальна сама по себе миниатюрность изображений. Не менее
уникально и неожиданное сочетание в этих изображениях реальных
и фантастических черт, также имеющих отдельные прямые и косвенные
аналогии в искусстве неолита данного региона и за его пределами, на чем
стоит остановиться особо.
Если сравнивать чисто внешне обе личины, то бросаются в глаза
реализм и утонченность второй и грубость, фантастическая утрирован-
ность, нереальность первой, словно древний художник поставил перед
собой задачу противопоставить их друг другу во всех основных чертах,
25
начиная с того, что одну он выполнил двумя линиями, а другую — одной.
Первая личина более всего напоминает некоторые изображения, выбитые
на валунах у с. Сакачи-Алян, и является первым такого рода изображе¬
нием на обломке сосуда. Подтверждением близости между ними служит
«петроглифичность» исполнения личины из Малой Гавани, т. е. двойной
контур изображения и основных его деталей, словно рисунок не вырезан
на глине, а выбит желобком на камне.
Весь облик первой личины говорит о том, что это маска в полном
смысле этого слова, призванная устрашать и отпугивать своим угрожаю¬
щим видом. Суровый, сердитый, как бы насупленный и даже свирепый
разлет глаз и бровей, словно раскрытый и перекошенный в крике и за¬
стывший в этом положении рот вряд ли кого могут оставить равнодушным.
Кроме того, как отмечалось выше, на зрителя смотрят не человеческие
глаза с характерными для них зрачками, а только их подобие: пустые
холодные и необычные глазницы, явно нечто загадочное и даже демони¬
ческое, идущее от другого, не реального, а фантастического мира духов
и образов. Очевидно, волнистая линия между глазами и ртом личины
отражает способ крепления ее к лицу реального человека либо к сосуду,
как на изображениях личин окуневской культуры в Хакасско-Минусин¬
ской котловине, или усы, как это отмечал А. П. Окладников для неко¬
торых личин нижнего Амура.
Велик соблазн высказать предположение, что первая личина передает
образ духа или божества мужского рода в силу всех тех черт, которыми
наделил его древний художник (общая грубость, суровость и даже неко¬
торый художественный примитивизм), в отличие от более мягкого, неж¬
ного, более реалистичного второго изображения. И хотя перед нами толь¬
ко его небольшая часть, думается, есть основания считать, что это именно
так. Несомненно, что рисунки не только передавали видение образов
художником, но и были рассчитаны на зрительное восприятие их челове¬
ком и в силу заложенных в них особенностей должны были производить
определенное впечатление, создавать зрелищный психологический эф¬
фект.
Интересно, что свое первое, наиболее яркое впечатление от встречи
с наскальными рисунками нижнего Амура А. П. Окладников выразил
следующими словами (речь идет об одном из наиболее необычных рисун¬
ков Сакачи-Аляна): «Он изображал странную чудовищную фигуру, или,
вернее, маску какого-то демонического существа. Узкие и раскосые глаза
чудовища смотрели, казалось, с немой угрозой. Их окаймляли глубоко
врезанные линии. На голове виднелись такие же резные параллельные
треугольники. Вся личина была окружена лучистым сиянием — ним¬
бом»7. Что касается глаз, то первая личина из Малой Гавани ближе всего
именно к этому изображению. В дальнейшем А. П Окладников неодно¬
кратно отмечал наличие на рисунках личин из Сакачи-Аляна характер¬
ных раскосых глаз. Другую личину он характеризовал следующим обра¬
зом: «Лицо имело яйцевидную правильную форму. На нем резко высту¬
пали раскосые глаза с отчетливо выбитыми в камне округлыми зрачками,
широкий расплывчатый нос. На щеках и подбородке виднелись парал¬
лельные дуги — возможно, татуировка»8.
Не менее выразительны и рисунки личин у с. Шереметьево, о которых
А. П. Окладников писал следующее: «У них такие же косые глаза, как
у личины из Сакачи-Аляна, и такое же, только более пышное, ,,сияние“.
Узкоглазые, с круто загнутыми кверху наружными кончиками глаз,
эти личины больше всего напоминают условные маски древнего японского
театра Но или Кабуки»9. Касаясь временного распространения этого
26
необычного вида искусства, А. П. Окладников также отмечал, «что маски-
личины, этот наиболее характерный элемент наскальных рисунков бас¬
сейна Амура, продолжают жить в современной орнаментике нивхов, уль-
чей и нанайцев»10. Рассматривая вопрос о происхождении и возможных
контактах древнего искусства народов нижнего, Амура, А. П. Окладников
отмечал, что «некоторые из наиболее причудливых масок-личин на Шере¬
метьевских скалах и вблизи Сакачи-Аляна поразительно напоминают та¬
кие же личины и антропоморфные фигуры, выбитые на гранитных валу¬
нах в Океании. О южных связях всей этой богатой и яркой культуры
дальневосточного неолита, помимо земледелия, столь же отчетливо сви¬
детельствуют отголоски тропических мифов, уцелевших в амурском фоль¬
клоре до настоящего времени. Сюда относится, в частности, легенда о трех
солнцах и Великом Стрелке, который подстрелил два солнца. Трудно
представить, как могла такая легенда возникнуть на далеком Севере, где
солнце является другом человека. Должно быть, подобные легенды амур¬
ских племен возникли где-то на юге и затем распространились на далекий
Север еще в незапамятной седой старине каменного века. Все это не только
напоминает мир древнейших культур южных морей и побережья Азии
с их особенным земледелием, но вместе с тем, как это ни неожиданно на
первый взгляд, приводит и к одной из важнейших проблем всемирной
истории искусства: о закономерностях перехода от искусства палеолита
к искусству неолита»11.
Нельзя не отметить и такую важную деталь, общую для личины из
Малой Гавани и некоторых личин из Сакачи-Аляна и Шереметьево,
как наличие изображений на лбу личины. На рассматриваемом нами
изображении — три параллельные полосы, в петроглифах это «вписанные
друг в друга треугольники» или «плюмажи» из перьев над головой, говоря
словами А. П. Окладникова (пожалуй, треугольники точнее было бы наз¬
вать острыми углами), причем иногда число их также равно трем. Несло
ли количество этих линий, углов и треугольников какую-то смысловую
нагрузку, или это были просто элементы татуировки, сочетающиеся
с другими изображениями и деталями? Однозначный ответ вряд ли воз¬
можен, но сам по себе факт довольно интересен и заслуживает присталь¬
ного внимания. Вполне возможно, что наряду с чисто художественными,
декоративными чертами за ними могли стоять какие-то вполне конкретные
опознавательные и хорошо идентифицируемые символы или образы.
А. П. Окладников отмечал относительно изображений личин в Сакачи-
Аляне: «...первое и самое сильное впечатление, которое производят изоб¬
ражения,— именно впечатление маски, искусственного, поддельного ли¬
ца человека. Такое впечатление вызывается, во-первых, отсутствием туло¬
вища... Кроме того, само лицо дано в странном, искаженном виде, в
гротескной манере и резко схематизированном абстрактном виде, часто
в орнаментальной схеме, с фантастическими дополнениями. Конечно,
узоры внутри контура лица могут означать вполне реально существо¬
вавшую на нем татуировку, расписную или выполненную виной технике,
например, рубцами или прошитую волосом под кожей, а потому при¬
надлежащую конкретному лицу»12. Возможно, что именно к%числу таких
индивидуальных, личностных признаков, персонифицирующих данное
изображение конкретного духа или человека, хорошо знакомого древним,
но не известного нам, и относятся параллельные вертикальные полосы
на лбу первой личины на сосуде из Малой Гавани. Среди личин Сакачи-
^ляна некоторые имеют очень близкое сходство с рисунком из Малой
Гавани. Характеризуя одну из них (№ 10 по нумерации в первой публи¬
кации «Лики древнего Амура»), А. П. Окладников отмечал: «...ее головной
27
убор состоит всего лишь из простой развилки, может быть, означающей
перья. Очертания лица — яйцевидно-овальные. Глаза... скошены, и угол¬
ки их круто загибаются кверху. Хорошо обозначен рот — крупный,
в виде полумесяца, обращенного рогами вниз. Между ртом и маленьким
носом внутри лица выдаются треугольные выступы. Они расчленяют
внутреннее пространство лица таким образом, что получается общее
впечатление скуластого лица с сильно выпуклой нижней частью»13 (рис. 4,2).
Не менее выразительна личина № 20, похожая на предыдущую во
многих деталях. О ней А. П. Окладников писал: «В виде правильной ши¬
рокой окружности, почти овала. Вверху, на месте лба, нанесен треуголь¬
ник, пересеченный внутри вертикальной полоской (очевидно, точнее бу¬
дет сказать, что это три пересекающиеся в одной точке на лбу полосы,
отходящие, подобно радиусам, от окружности головы. — А. К.). Четко
обозначена узкой полоской линия бровей, от которой... опускается вниз
полоска, обозначающая нос. Под бровями имеются косые длинные и рас¬
косые глаза. Рот овальный, маленький. С обеих его сторон лицо пере¬
секают дугообразные полоски, как бы окаймляющие и обрисовывающие
узкий, отчетливо выделенный подбородок»14 (рис. 4, 3). Похожая на эту
личина, но только с обозначенными зрачками и двумя вписанными один
в другой треугольниками, точнее, острыми углами, овальным ртом и но¬
сом опубликована под № 22 (рис. 4, 2)15. Личина под № 65, по мнению
А. П. Окладникова, является одной из «наиболее детально разработанных
и сложных по оформлению сакачи-алянских личин. У нее есть отчетливо
оформленные глаза, рот, ,,борода44, наверху (на лбу.— А. К.) вписанные
друг в друга углы, образующие нечто вроде пышного плюмажа из пучка
перьев. По бокам—,,сияние44, трактованное несколько необычно, в виде
прямых вертикальных полос, от которых отходят короткие скошенные
полоски»16 (рис. 4, 4).
Невольно напрашивается вопрос: что было изображено на сосуде,
когда он был целым, только ли эти две личины или еще что-то? Ведь на¬
ружная поверхность вполне позволяла сделать еще несколько аналогич¬
ных или качественно отличных изображений. Конечно, проще всего пред¬
положить, что на сосуде было три — пять изображений, составлявших це¬
лую композицию или отдельный мифологический сюжет (если не целое
предание, миф, легенду). И для такого предположения будет вполне до¬
статочно аналогий в уже известном материале. В первую очередь речь
идет о сосуде с личинами из Вознесеновки. Как справедливо и точно от¬
мечали исследователи, они выполнены в форме барельефов, индивидуаль¬
ны, неповторимы и, очевидно, их было гораздо больше, чем сохранилось
на уцелевшей части сосуда. Именно этот факт дает основание пред¬
полагать, что на сосудике из Малой Гавани было не две личины, следы
которых сохранились на фрагменте, а больше. Конечно, разница в ха¬
рактере и манере исполнения личин из Вознесеновки и Малой Гавани,
в их размерах, а также в размерах сосудов, на которьйс они изображены,
в их форме, отделке и других деталях несомненна. К сосуду из Вознесенов¬
ки и личинам на нем может быть применен термин «макро», этот сосуд
явно имел какое-то ритуальное назначение. Сосудик из Малой Гавани
ближе к утилитарной посуде, и ему и личинам на нем более подходит тер¬
мин «микро». Это как бы две противоположности, две части единого целого,
которым является, очевидно, мифологическая подоснова разнообразных
видов изображений независимо от их размеров и характера исполнения.
Вторая личина еще более миниатюрна, чем первая, тем не менее есть
прямые аналогии ей в произведениях неолитического искусства нижнего
Амура, какими являются скульптурные изображения девушек, найден-’
28
Рис. 4. Личины Сакачи-Аляна, наиболее близкие к личине из Малой Гавани.
ные в поселениях вблизи Кондона и на о-ве Сучу. Это касается узких
раскосых, показанных длинными изогнутыми линиями глаз и миниатюр¬
ного прямого рта, значительная углубленность которого в сосуд создает
впечатление, что рот полураскрыт. Аналогичные изображения рта и у ли¬
чин на сосудах из Вознесеновки и Сакачи-Аляна 17. Конечно, фигурки
из поселения на о-ве Сучу выполнены в более примитивной или, может
быть, не в столь высокохудожественной технике, как фигурка из Кондона,
но в той же манере и в тех же традициях, своего рода канонических фор¬
мах, и географически этот памятник гораздо ближе к Малой Гавани, чем
Кондон.
Можно сказать, что второе изображение, к которому более подходит
понятие лица, чем личины, занимает как бы среднее, промежуточное по¬
ложение между штриховым, если его так можно назвать, рисунком
и скульптурным изображением. По сути дела, перед нами почти барельеф,
только миниатюрный, один из самых близких и прямых аналогов неповто¬
римой в своей красоте и оригинальности скульптуре, получившей назва¬
ние Кондонской Нефертити.
Здесь уместно вспомнить, очевидно, одно из первых описаний и ис¬
черпывающих характеристик кондонской скульптурки, в котором отме¬
чается: «Она обнаруживает не только опытную руку и наблюдательный
29
глаз настоящего мастера-скульптора, но и определенную творческую шко¬
лу. В ней как бы аккумулирован опыт многих поколений ваятелей, устой¬
чивые и своеобразные традиции, создававшиеся веками. Неолитический
скульптор с чувством реальности и искренней теплоты передал в глине
черты определенного человеческого лица»18. К этому емкому определению
можно добавить, что каждая новая находка дает нам яркое подтверждение
того, что на Амуре в эпоху неолита существовали своеобразные художест¬
венные традиции, отмеченные высоким мастерством художников, необыч¬
ным стилем, выразительностью и во многом пусть и первобытным, но так¬
же высоким реализмом, особая ценность которого заключается в донесе¬
нии до наших дней весьма емких и информативных деталей, казалось бы,
навсегда ушедшего мира. Поэтому нельзя не вернуться еще к некоторым
особенностям лондонской статуэтки, подчеркнутым А. П. Окладниковым
в одной из работ, посвященных искусству нижнего Амура.
Характеризуя ее, А. П. Окладников писал следующее: «Статуэтка
эта в полной мере носит черты юношески могучего и свежего реализма.
Она поистине портретна и в том смысле, конечно, что с поразительной жи¬
востью передает черты определенного этнического типа. В ней мы увидели
черты современной девушки-нанайки, работавшей вместе с нами на том же
раскопе»19. Характеризуя впечатление от находки сосуда с личинами
в Вознесеновке, А. П. Окладников писал вскоре после этого удивитель¬
ного открытия: «...на этот раз обнаружилось нечто в полной мере потря¬
сающее: из обломков неолитического сосуда на нас смотрели круглые боль¬
шие глаза, совсем человеческие... Рядом с глазами виден был скульптур¬
но оформленный и еще более человеческий нос с явно выраженными
ноздрями, а под ними — рот, четко оформленный глубоким надрезом
в мягкой глине. Одним словом, это была личина, такая же, как личины
Сакачи-Аляна и Шереметьевских скал!
На замечательном сосуде из Вознесеновки была не только одна эта
личина. На нем уцелели остатки целого ряда таких личин, которые, долж¬
но быть, сплошным поясом, своего рода хороводом, охватывали всю верх¬
нюю половину сосуда. И каждая из них, подобно сакачи-алянским антро¬
поморфным изображениям, не копировала другую, соседнюю, а имела
свою собственную индивидуальность, свой неповторимый в деталях облик.
У одной глаза были круглые, у другой — в виде полуспиралей-запятых.
У одной голова представляла собой правильный яйцевидный овал, у дру¬
гой верхушка головы была раздвоена и вся личина имела сердцевидные
контуры, подобно некоторым сакачи-алянским личинам»20.
Далее А. П. Окладников отмечает, что изображения личин вознесе-
новского сосуда сопровождались изображениями туловища, рук и ног,
заканчивавшихся, скорее всего, когтями, подобно медвежьим лапам 21.
Вот эта особенность, сочетание на одном сосуде личин и предполагаемых
медвежьих лап, представляет большой интерес, хотя в Вознесеновке
не найдено скульптурой медведя. Но они есть на утесе Гася, непосредст¬
венно над петроглифами Сакачи-Аляна, где сопутствуют фрагменту со¬
суда с личиной и фрагментам скульптур человека. На о-ве Сучу есть скуль-
птурки женщин и медведей из глины. Скульптура девушки и фигура мед¬
ведя из камня обнаружены в Кондоне, в расположенных рядом жилищах
№ 3 и 10 22. Там же найден сосуд с изображением личины. В Малой Га¬
вани описанный выше фрагмент миниатюрного сосуда с личинами найден
вместе с фрагментом скульптурки медведя в западине одного жилища.
Рядом с этой западиной найдены глиняная головка медведя и другая фи¬
гурка, возможно тоже медведя, но без головы. По существу, перед нами
наличие на разных памятниках, расположенных на значительном рас-
30
стоянии один от другого, повторяющихся в различных сочетаниях при¬
знаков и элементов. В данном случае это касается такой схемы: медведь —
человек (скульптура — личина — скульптура).
Не имея достаточных данных для более точной и подробной хроноло¬
гической и стратиграфической корреляции имеющихся фактов, ограничим¬
ся пока констатацией наличия их в рамках исследованных или исследу¬
емых памятников и их несомненного отношения к эпохе неолита (см. таб¬
лицу).
Очевидно, к этому сочетанию может быть добавлено и реалистическое
или стилизованное изображение змей в форме спиралей на сосудах или на-
лепных фигур, найденных практически на всех неолитических памятни¬
ках нижнего Амура, но это выходит за рамки данной статьи и может по¬
служить темой специального исследования. Нас же интересует названное
выше сочетание. При этом, думается, вряд ли можно говорить о каждом
из составляющих данное сочетание объектов или элементов в отдельности.
Их необходимо рассматривать в комплексе и в контексте неолитической
культуры, во всем ее многообразии и сложности. И каждый элемент яв¬
ляется небольшой составной частью безвозвратно ушедшего мира целой
и, вероятно, сложной системы представлений, ритуалов, обрядов, тради¬
ций, норм и обычаев поведения, этнопсихологии не одного поколения
древних обитателей этих мест. По крайней мере, представляется неубеди¬
тельной интерпретация отдельных произведений искусства эпохи неолита
(сосудов, скульптур женщин и медведей, личин) только как ритуальных
предметов, детских игрушек или объектов того или иного культа (напри¬
мер, медведя). Многообразие связанных с ними воззрений и действий по¬
лучило освещение в литературе 23. Скорее всего, эти произведения вы¬
полняли наряду с утилитарной художественные, воспитательные, позна¬
вательные и идеологические функции, постичь которые в полной мере мы
в данное время не можем. Возможно, ретроспективный анализ археологи¬
ческих объектов и древних мифов, предложенный Д. Л. Бродянским 24,—
это то направление, которое в сочетании с обширными данными смежных
наук, фольклора и мифологии позволит понять культуру человека эпохи
неолита.
Что касается рассматриваемых находок из Малой Гавани, то, возмож¬
но, первая личина является отражением существования в древности тай¬
ных мужских союзов и обществ, связанных с обрядами инициации, пере¬
хода в другие возрастные группы и т. д., как на это указывал А. П. Ок¬
ладников 25.
Нельзя не отметить и такую особенность личин из Малой Гавани, как
наличие отдельных элементов и выразительных черт, характерных для
облика населения, проживавшего здесь в эпоху неолита. Это круглого-
ловость, раскосость глаз, широта скул, миниатюрность и утонченность
подбородка. На нас словно смотрят застывшие в глине лица людей, окру¬
жавших древнего художника. Естественно, что даже фантастические об¬
разы он вольно или невольно создавал в соответствии с внешним обликом
своих близких. Фактически мы можем говорить о заданности, обуслов¬
ленности этих произведений искусства реальностью бытия древнего че¬
ловека и о их своеобразном высокохудожественном документализме. Ко¬
нечно, изображения из Малой Гавани не столь информативны, как скуль-
птурка Кондонской Нефертити, но они имеют целый ряд общих с ней эле¬
ментов и вместе с ней дают нам представление о внешнем облике древнего
населения нижнего Амура. Это тем более важно, что в данном регионе
в силу своеобразных и специфических природно-климатических и физико-
географических условий практически не сохранились фаунистические
31
Сочетание различных элементов неолитического искусства на памятниках ниж¬
него Амура
Сакачи-Алян
Вознесе-
Кондон
Сучу
Малая
Произведение искусства
(утес Гася)
новка
Гавань
Личины
на сосудах
+
+
+
+
на камнях (валуны,
скалы)
+
Скульптурки женщин
Медведь
+
+
+
скульптуры и их
фрагменты
+
+
+
+
Изображения лап на
сосудах (?)
+
и антропологические остатки, которые могли бы послужить источником
сведений о хозяйственной деятельности и внешнем облике древнего на¬
селения.
Известный антрополог Н. Н. Мамонова, длительное время занимаю¬
щаяся вопросами палеоантропологии Сибири, на основании многолетних
наблюдений над остеологическим материалом и предметами мелкой плас¬
тики (скульптурными изображениями людей, изготовленными из кости,
рога и глины), происходящими из одновременных памятников, высказала
интересную и перспективную, на наш взгляд, идею о пропорциональном
соотношении размеров головы, тела (определенных по костным остаткам)
древних людей с аналогичными данными, отмечаемыми в произведениях
искусства 26. Конечно, произведения мелкой пластики не могут заменить
антропологический материал, но, с одной стороны, они являются нагляд¬
ным отражением антропологической ситуации, с другой — при условии
выработки соответствующих четких и сопоставимых критериев могут по¬
служить важным источником информации при отсутствии остеологиче¬
ского материала, как это имеет место на нижнем Амуре. Очевидно, раз¬
работка таких критериев должна вестись на стыке нескольких наук и дис¬
циплин, в особенности антропологии и искусствоведения, и при этом вся
система должна быть достаточно гибкой и точной для того, чтобы можно
было сравнивать данные между собой, сопоставлять внешне малосопоста¬
вимые величины и проводить между ними корреляцию, или на основании
ограниченного круга источников достаточно достоверно реконструировать
отсутствующую информацию. Автору довелось обсуждать эти идеи с из¬
вестным американским антропологом проф. К. Тернером (университет
Аризоны), работавшим в 1987 г. над антропологическими коллекциями
Института истории, филологии и философии СО АН СССР. Соглашаясь
с основными мыслями, он высказал мнение, что, по его наблюдениям, бли¬
жайшие антропологические аналоги наиболее характерным чертам изо¬
бражения на керамике из Малой Гавани можно найти у арктических мон¬
голоидов (чукчи, эскимосы), а также в материалах культуры дзёмон Япон¬
ских островов 27.
Несмотря на то что фрагмент сосуда из Малой Гавани — это первая
находка такого рода на нижнем Амуре, к тому же обнаруженная далеко
от ближайших выбитых на камнях личин-масок Сакачи-Аляна, она яв¬
ляется еще одним свидетельством наличия единого сложного мира неоли¬
тического искусства данного региона, с общими обрядами, очевидно, ми-
ф ©логическими сюжетами и мотивами, запечатленными не только в пред¬
32
метах мелкой пластики, но и в монументальных произведениях — петро¬
глифах. Естественно, этот мир не был замкнутым, он имел широкие кон¬
такты с тихоокеанскими культурами. Вряд ли подлежит сомнению нали¬
чие тесных контактов древнего населения нижнего Амура с носителями
культуры дзёмон в Японии, в частности о-ва Хоккайдо. Новым свидетель¬
ством этого является обнаружение в материалах жилища на памятнике
Малая Гавань, где найден фрагмент сосудика, орудий пз обсидиана, ко¬
торый добывался на о-ве Хоккайдо в местонахождении Сиратаки. Сырьем
для еще одного орудия послужил, по предположению японских иссле¬
дователей, в частности проф. Като Симпэя, обсидиан из пока точно не ус¬
тановленного вулканического источника на севере Корейского полуост¬
рова, возможно из вулкана Пэктусан 28. Таким образом, благодаря новым
находкам на нижнем Амуре далекие южные и близкие юго-восточные
тихоокеанские связи носителей неолитических культур этого региона по¬
лучают фактическое подтверждение.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Окладников А. П. Петроглифы Нижнего Амура.— Л., 1971.— С. 5—16.
2 Окладников А. П. Отчет о раскопках древнего поселения у села Вознесенов-
ского на Амуре, 1966 г. // Материалы по археологии Сибири и Дальнего Востока.—
Новосибирск, 1972.— Ч. 1.— С. 3, 26, 30; История Сибири.— Л., 1968.— Т. 1.—
С. 138; Okladnikov А. Р. Ancient Art of the Amur Region.— Leningrad, 1981.—
Fig. 18 — 19.
3 История Сибири. — T. 1.— С. 138 и цв. вклейка; Окладников А. П. Древнее
поселение Кондон (Приамурье).— Новосибирск, 1983.— С. 17—18, рис. 22; с. 19,
рис. 23.
4 Okladnikov А. Р. Ancient Art...— Fig. 2.
5 Окладников А. П., Медведев В. Е. Раскопки в Сакачи-Аляне // АО 1980 г.—
М., 1981.— С. 201—203.
6 Копытько В. II. Работы Хабаровского краеведческого музея // АО 1983 г.—
М., 1985.—С. 211, рис. 1.
7 Окладников А. П. Олень Золотые Рога.— М.; Л., 1964.— С. 137. В другой
работе при описании этой же личины А. П. Окладников подчеркивает «по-монголь¬
ски раскосые глаза» (см.: Окладникэв А. П. Лики древнего Амура.— Новосибирск,
1968.-С. 13).
8 Окладников А. П. Олень Золотые Рога.— С. 138; Он же. Лики...— С. 13.
9 Окладников А. П. Олень Золотые Рога.— С. 143.
10 Там же.— С. 151.
11 Там же.— С. 153.
12 Окладников А. П. Лики...— С. 131—132.
13 Там же.— С. 193; Окладников А. П. Петроглифы Нижнего Амура.
Табл. 49, 2.
14 Окладников А. П. Лики...— С. 196; Он же. Петроглифы Нижнего Амура.—
Табл. 49, 2.
15 Окладникэв А. П. Лики...— С. 197; Он же. Петроглифы Нижнего Амура.—
Табл. 179.
16 Окладников А. П. Лики...— С. 211; Он же. Петроглифы Нижнего Амура.—
Табл. 34.
17 Okladnikov А. Р. Ancient Art...— Fig. 18—19, 27; Окладников А. П., Медве¬
дев В. Е. Раскопки в Сакачи-Аляне.— С. 202, рисунок без номера.
18 История Сибири.— Т. 1.— С. 138.
19 Окладников А. П. Лики...— С. 62. Приведенные выше описания неоднократ¬
но повторялись или цитировались с незначительными вариациями в других рабо¬
тах.— См.: Окладников А. П., Деревянко А. П. Далекое прошлое Приморья и При¬
амурья.— Хабаровск, 1973.— С. 120, 140 (здесь, в частности, говорится, что это
«скульптурная фигурка, реалистично изображающая женщину с хорошо выражен¬
ным тунгусским антропологическим типом лица...»); Окладников А. П., Васильев¬
ский Р. С. Северная Азия на заре истории.— Новосибирск, 1980.— С. 130 (здесь дает¬
ся следующая трактовка изображения: «Неолитический скульптор с удивительным
чувством и искренней теплотой передал в глине черты определенного человеческого
лица. Первое, что схватывает в нем глаз зрителя, это, конечно, нежно очерченный
3 Заказ № 87
33
овал лица с необычно широкими и выпуклыми скулами, затем — маленький подборо¬
док и миниатюрные вытянутые вперед губы, как бы ожидающие поцелуя». Заслужи¬
вает внимания последняя часть фразы. Она исполнена поэтики и романтизма, хотя в
значительной степени это только предположение, поскольку не известно достоверно,
был ли такой способ выражения добрых чувств и приязни, как поцелуй, распростра¬
нен в неолите или нет. Очевидно, что данный аспект заслуживает специального этно¬
графического исследования, так как даже в недавнее время у многих народов Азии
(Китай, Корея, Япония, Монголия) об этом не было понятия. Так, у монголов до сих
пор наивысшим традиционным выражением добрых чувств является обнюхивание.
Немногие из тех, кто выражает свои чувства с помощью поцелуя, как правило, пере¬
няли это у русских. Здесь же отмечается, что это «...не просто этнический образ жен¬
щины древнего народа, а скорее портретное ее изображение»).
20 Окладников А. П. Лики...— С. 48.
21 Там же.— С. 49.
22 Окладников А. П. Древнее поселение Кондон...— С. 4, рис. 3; с. 19, рис. 23;
с. 60, рис. 74—75.
23 Васильевский Р. С.. Окладников А. П. Изображения медведей в неолитическом
искусстве Северной Азии // Звери в камне: Первобытное искусство.— Новосибирск,
1980.— С. 230—237.
24 Бродянский Д. Л. Стрелок Кадо п богиня Аматэрасу в произведениях неоли¬
тических скульпторов (два опыта соединения мифологических и археологических
текстов) // СЭ.— 1985.— № 2.— С. 116—121.
25 Окладников A. IL Петроглифы Нижнего Амура.— С. 92—95, 107—109.
26 Эту мысль Н. Н. Мамонова неоднократно высказывала в личных беседах, за
что приношу ей глубокую благодарность.
27 Автор признателен проф. К. Тернеру за эти ценные и интересные наблюде¬
ния, за возможность обсудить сложные проблемы древних культур.
28 В 1986 г. во время совместных работ советских и японских археологов проф.
университета Цукубо (Япония) Като Симпэю были переданы два образца обсидиана с
памятника Малая Гавань для проведения анализа с целью определения возможного
источника сырья. Осенью того же года в ИИФиФ поступило письменное сообщение о
результатах анализа, проведенного проф., д-ром Macao Сузуки из университета
Св. Павла (St. Paul University). Один образец (МГ-1) был идентифицирован с образца¬
ми из Сиратаки I, другой (МГ-2)— с образцами из Симоюкава, хотя компоненты по¬
следних полностью отличались от компонентов МГ-2. «Результаты эксперимента на¬
водят на мысль, что, поскольку образцы сравнивались с обсидианами вышеназванных
источников, весьма возможно, что МГ-1 происходит из Сиратаки I. С другой стороны,
МГ-2 происходит из источника иного, чем источники, упоминавшиеся выше».
Автор выражает искреннюю благодарность японским исследователям, проявив¬
шим интерес к этим материалам и сообщившим публикуемые в статье сведения.
Е. П. МАТОЧКИН
К РАСШИФРОВКЕ ПЕТРОГЛИФОВ
ГРОТА КУЙЛЮ
При расшифровке петроглифов
каждый раз приходится решать
две взаимосвязанные задачи. Первая — это в какой-то мере чисто визуаль¬
ное «прочтение» и воспроизведение изобразительного материала, вторая —
реконструкция его идейно-образного смысла. Решение этих задач имеет
немало сложностей. Действительно, наскальные рисунки, как правило,
дошли гдо наших дней отнюдь не в своем первоначальном виде — ведь
большинству из них не одно тысячелетие. За это время изменились и сами
скалы: появились трещины, сколы, некоторая часть рисунков исчезла
или от них сохранились лишь отдельные фрагменты. Порой бывает труд¬
но сказать, где и как шла частично утраченная ныне линия и не исполь¬
зовали ли древние художники ту или иную трещину на скале для своей
композиции? К тому же на первоначальный слой могли накладываться
более поздние изображения — такие случаи широко известны.
Помимо всегда остающихся сомнений в правильности визуального
«прочтения» изобразительного материала, исследователи испытывают не¬
удовлетворенность и технической стороной публикации памятников. Пред¬
ставленные в черно-белых уменьшенных копиях петроглифы утеряли мно¬
гие не только эстетические и художественные достоинства, но и качества
научного, информативного характера. Во всяком случае, первоначальный
замысел авторов отнюдь не сводился к тому станковому варианту гра¬
фики, к которому относятся петроглифы в современных изданиях. Со¬
путствующие же описания обычно не фиксируют всех особенностей рас¬
положения рисунков, да и заранее трудно предположить, какой именно
фактор будет иметь важнейшее значение. В то же время при таком спо¬
собе воспроизведения совершенно не передается сама техника исполне¬
ния, а для любого произведения искусства это необычайно существенно.
© Е. П. Маточкин, 1990
35
Вторая задача — семантическая реконструкция образов петрогли¬
фов, интерпретация их сюжетов нередко вообще остается в силу своей
сложности за пределами изучения. Ее решение связано с развитием всех
современных наук как гуманитарного, так и естественно-научного про¬
филя. Все более расширяются представления о математических и астро¬
номических познаниях первобытного человека. Творчество древних но¬
сило синкретичный характер, в силу чего наскальные рисунки несут в себе
не только художественный, образный смысл, но и определенную естест¬
венно-научную информацию. И хотя это общеизвестно, все же раскрытию
такой информативности ранее не уделялось должного внимания. Иногда
считалось достаточным обнаружить лишь косвенную близость к тем или
иным этнографическим свидетельствам, отчего предложенные интерпре¬
тации подчас носили односторонний и поверхностный характер.
Наконец, рисунки обычно анализировались лишь с позиций тради¬
ционного искусствоведения. Между тем изобразительный канон, стиль,
композиционное построение, пропорции фигур, относительные размеры
отдельных деталей, техника выбивки — все это могло быть обусловлено
не только чисто художественными задачами, но и потребностью выразить
определенные естественно-научные (эмпирические) закономерности. Толь¬
ко в том случае, когда между формой и содержанием обнаруживается глу¬
бокая диалектическая взаимосвязь, когда образный и информативный
смысл находятся в непротиворечивом единстве, нерасчлененности,—
только в этом случае можно рассчитывать на серьезный, доказательный
уровень семантических реконструкций.
В данной статье с этих позиций будет рассмотрена алтарная компози¬
ция грота Куйлю *. Грот расположен на Алтае, в отрогах Катунского
хребта в долине р. Кочурлы — притока Катуни. Петроглифы распола¬
гаются поясом на скалах грота, а также на большом треугольной формы
камне в глубине ниши. Плоскость камня разделена естественными гори¬
зонтальными трещинами на три яруса, каждый из которых получил свое
завершенное композиционное и идейное решение. Это своего рода алтарь
святилища. Верхняя композиция треугольного камня наиболее древняя.
Ее создание, по-видимому, можно отнести к концу неолитического перио¬
да 2. Именно эта писаница и является предметом нашего исследования
(рис. 1).
Основу алтарной композиции составляют две маралухи с необычайно
длинными шеями. Маралухи с большим совершенством вписаны в два
сектора треугольника, разделенные широкой трещиной. Левое животное
по размерам больше правого. Изображения даны в строго фронтальной
проекции, так что на каждом из них выбито всего по одной передней и по
одной задней ноге. Только одна нога, заканчивающаяся петлей, показана
полностью, все же остальные прерываются трещинами. Фигуры зверей
очерчены желобком шириной около 1 см. На шеях маралух — попереч¬
ные полоски, на головах — знаки-рога в виде серпа луны и спицы. Вокруг
левой большой маралухи — несколько геометрических знаковых фигур,
напоминающих флажок, кружок с отростком и треугольник. Внутри изо¬
бражения маралухи находится трудночнтаемый рисунок с двумя малень¬
кими оленятами. Внизу около ноги выбита фаллическая фигура с голов¬
кой зверя наподобие так называемых фигурных молотов. Два миниатюр¬
ных козлика сверху выбиты недавно; они имеют значительно более свет¬
лую, белесоватую окраску по сравнению с древним зеленым «загаром»
камня. Слева внизу на округлой грани камня изображена геометрическая
фигура, сохранившаяся частично. Мы усматриваем здесь три немного
сплюснутые окружности: одну вверху и две пониже. Аналогичная гео-
36
о
L.
20см
Рис. 1. Композиция верхнего яруса треугольного камня.
метрическая фигура известна в урочище Аршан-Хад в Монголии 3. Как
и там, здесь, рядом с гротом Куйлю, берет свое начало родник, кустарник
у истока которого и сейчас увешан белыми лентами.
Рядом с правой маралухой выбита фигура странного двуполого су¬
щества с большим фаллосом и женской грудью. Ноги у него — как лас¬
точкин хвост, голова — как у ушастой совы, клюв — как у утки, хвост —
как у рыси или волка. Существо как будто изрыгает что-то из клюва-
пасти прямо в рот марал ухе. Это «что-то», быть может «дыхание», показа¬
но в виде небольшого, но отчетливого пятна. На корпус правой маралухи
накладывается развернутое в противоположную сторону изображение
животного с рогами и длинным хвостом (коровы или быка?). Под брюхом
этого животного находится несколько трудночитаемых пятен. Все здесь,
кроме самой маралухи, выбито отдельными глубокими ударами, оставив¬
шими несколько небрежный след с треугольными краями. Фаллос выбит
аккуратными, близко прилегающими друг к другу точками. В правом
нижнем углу композиции находится изображение быка с ромбом на спине
и рогами, упирающимися в круп маралухи. Рисунок частично срезан тре¬
щинами и сколами. Выполнен он в технике полностью прошлифованного
силуэта, характерной для среднего яруса треугольного ^амня. Скобочка
на спине маралухи, наверное, выбита в более позднее время.
Репертуар петроглифов грота Куйлю красноречиво свидетельствует
о том, что здесь процветало искусство таежных охотников, близкое по духу
к писаницам Томи и Каменных островов Ангары. Правда, вместо хозяина
сибирской тайги — лося — в Горном Алтае основной звериный герой —
марал. В сравнении с этими масштабными очагами наскального искусства
писаница на Алтае отличается небольшими размерами; быть может, по¬
этому ей присущи идейная насыщенность, цельность и глубина замысла.
Святилище грота Куйлю, видимо, было известно многим охотничьим
племенам и повлияло на их обрядовый комплекс. Об этом говорят дошед¬
шие до наших дней культовые песнопения. В призываниях духу Земли,
которому приносят жертвы весной, когда расцветают цветы, упоминаются
молочное озеро (и Сумер Улан, высокая гора 4. Оба эти образа указывают
на святилище грота Куйлю, расположенное неподалеку от оз. Ак-Кем
с молочно-белой водой и около высочайшей вершины Сибири — Белухи.
Как ее модель или миниатюрный образ мог восприниматься алтарный ка¬
мень, стоящий в глубине грота. Казалось бы, здесь есть одно непреодо¬
лимое противоречие: ведь у камня две вершины, а у Белухи — три, хотя
две из них и выделяются высотой и треугольной формой. По-алтайски ее
так и называют: Учь-Сумер (учь —«три»). Противоречие снимается тем,
что ритуальный образ Белухи имеет две вершины. Дело в том, что у ал-
тай-кижи существует обычай изготовления из сыра ритуальных фигурок
зверей и почитаемых гор. Эти фигурки ставились затем в лесу, чтобы Дух
Алтая приумножил богатства зверей, к чему, собственно, и были направ¬
лены магические усилия древних обитателей Кочурлы. Сам же обычай,
несомненно, восходит к временам первобытности. Так вот, в качестве
модели Белухи вырезается скульптурка, имеющая два конуса, как на ал¬
тарном камне, а не три, как на самом деле 5. Некоторые исследователи
этот факт объясняют тем, что на Востоке в древности четные числа ассо¬
циировались с силами добра, а нечетные — с силами зла 6. Не исключая
такую трактовку, все же следует полагать, что ритуальный образ Белу¬
хи — обители Духа Алтая — возник не без влияния тех представлений,
которые сложились у охотничьих племен, обитавших возле этой священной
горы и совершавших свои магические обряды у святилища грота Куйлю.
Петроглифы треугольного камня необычайно сложны и богаты по
своему содержанию. Писаницу верхнего яруса алтаря можно условно
разделить на две композиции, которые, кстати, и выполнены в различной
технике. Одна из них связана с маралухами, другая — с колдуном и ро¬
гатым животным.
Мифологический сюжет с двумя оленихами известен на огромном
ареале — от севера Европы до Сахалина. Его разгадке посвятил спе¬
циальное исследование Б. А. Рыбаков в своей монографии «Язычество
древних славян». Он выделил этот сюжет как один из наиболее важных,
отражающих идеологию первобытного общества. Для раскрытия его се¬
мантики Рыбаков привлекает широкий круг текстовых источников и этно¬
графических записей о космогонических] представлениях народов севера
Сибири, собранных А. Ф. Анисимовым. Все это имеет к нашей алтарной
композиции самое непосредственное отношение. Наиболее раннее пись¬
менное свидетельство, приводимое Рыбаковым,— это сообщение лето¬
писца под 1114 г. о легенде, принесенной новгородцами из далеких северо-
восточных югорских земель: «...съпадеть туча велика, и в той тучи съпа-
деть веверица млада, акы топьрво рожена и възрастъши — расходится
по земли. И пакы бываеть другая туча и съпадають оленьци мали в ней,
и възрастають, и расходяться по земли»7.
Рыбаков справедливо полагает, что рождение оленьего приплода,
согласно легенде, совершается на небесах, там, где располагаются со¬
звездия оленей (лосей), имеющих у многих народов одно и то же название 8.
38
Сибирские охотничьи народы донесли культ небесных оленей в зна¬
чительно более полном и разработанном виде. Согласно преданиям эвен¬
ков, видимое небо — не что иное, как тайга верхнего мира, в которой жи¬
вет космический лось Хэглэн, отождествляемый с созвездием Большой
Медведицы и понимаемый как образ матери-лосихи. Созвездие Малой Мед¬
ведицы предстает как теленок Хэглэн 9. В космогонических воззрениях
эвенков присутствует также и антропоморфный «хозяин верхнего мира»—
богатырь Майн — охранитель солнца, источник тепла и жизни 10. В мифе
у нивхов жилище матери Вселенной — полуженщины-полуваженки —
и ее дочери помещается на небе. К ним попадает герой, который унич¬
тожает висящие на рогах матери Вселенной лишние солнце и луну и.
У нганасан записан рассказ о том, как шаман побывал в чуме владычицы
Вселенной. Здесь он увидел двух «нагих женщин, подобных оленям: по¬
крытых шерстью, с ветвистыми рогами на голове. Шаман подошел к огню,
но то, что шаман принял за огонь, оказалось светом солнечных лучей.
Одна из женщин была беременна. Она родила двух оленят... Вторая жен¬
щина тоже родила двух оленят...»12.
Среди алтайских фольклорных материалов, которые не привлека¬
лись Рыбаковым, также можно почерпнуть немало ценного, касающегося
нашей алтарной композиции. Это сказка «Айн Шаин Шикширге» из «Анос-
ского сборника». В ней повествуется о том, как богатырь в поисках не¬
бесной шаманки поднялся на самую высокую белую гору. С нее он уви¬
дел белую реку, которая «движется и не движется», и на берегу реки белое
жилище. В нем жили две сестры 13. Как следует из контекста, все действие
происходит на небесах, а в образах двух сестер угадываются две небес¬
ные владычицы северных мифов.
Приведенные выше самоедско-тунгусские и алтайские легенды под¬
тверждают предложенную Рыбаковым интерпретацию сюжета с двумя
оленями как реликта культа двух Прародительниц животного мира. Его
возникновение и перенесение на главные созвездия неба Рыбаков относит
к стадии мезолитическо-неолитического охотничьего быта ]4. Но он ана¬
лизирует изделия пермско-югорской металлопластики, в которой этот
сюжет уже подвергся значительной трансформации. Теперь, после откры¬
тия петроглифов грота Куйлю с его алтарной композицией, появилась
возможность сопоставить сибирский фольклорный и изобразительный
материал.
Действительно, сюжет этой композиции имеет много общего с вер¬
сиями сибирских мифов. Плоскость камня разделена трещиной на две
части, и в каждой из них все поле занимают изображения маралух. Об¬
разная связь между ними подчеркивается одинаковым исполнением ри¬
сунков. Основное отличие — в размерах. По сравнению с большой левой
оленихой меньшая — правая — смотрится как теленок (матерь Хэглэн
и ее теленок). Как и у важенки со светилами на рогах из мифа у нивхов,
на голове у левой маралухи выбита узкая полоска луны, а рядом
с грудью — солнечный круг. Одна из женщин в нганасанской легенде
была беременной. Также и левая маралуха показана с двумя маленькими
оленятами в чреве, их тоже два, как и в нганасанском варианте. Чекан¬
ная строгость форм, рога на голове у самок (что не свойственно благород¬
ным оленям), символы светил — все говорит о том, что здесь изображены
не обычные реальные животные, а условные образы двух космических
Прародительниц. Они абсолютно статичны, однако благодаря необычай¬
но длинным, вытянутым шеям и диагональному расположению фигур ка¬
жутся парящими. В композиции находит яркое воплощение идея о том,
что созвездия оленей (лосей), согласно мифопоэтическим представлениям,
39
помещаются около вершины горы 15 — как pad так, как это показано на
миниатюрной модели Белухи — алтарном камне грота Куйлю.
В самой верхней части композиции находится изображение колду¬
на — синкретичного зооантропоморфного существа. По-видимому, это
такой же всесильный герой, как хозяин верхнего мира эвенков или гро-
мовник. Все персонажи Куйлю отражают широко распространенные пред¬
ставления первобытных племен Северной и Средней Азии, которые «сбли¬
жали Большую Медведицу, громовника и крупных ревущих зверей»16.
Об этом писал Г. Н. Потанин, проанализировавший значительный по объе¬
му фольклорйый и этнографический материал.
Таким образом, впервые в монументальном наскальном искусстве
обнаружен сюжет, связанный с культом двух Прародительниц животного
мира. В упомянутых выше мифах две сестры или мать с дочерью суть об¬
разы, которые этнографы истолковывают как олицетворение фратриаль-
ного деления племени. Это позволяет в образах двух маралух алтаря
Куйлю видеть воплощение идеи о фратриэльных матерях-прародитель-
ницах. Вселенная, представленная на верхнем ярусе алтаря, оказывается
разделенной на две половины, соответствующие двум фратриям племени.
В данном случае «дуальный тотемический миф становится из генеалогиче¬
ского по преимуществу космогоническим»17.
Надо сказать, что эта картина мира значительно усложняется пред¬
ставлениями, которые связаны с наличием в верхнем алтарном чине ком¬
позиции с колдуном. Казалось бы, этот персонаж аналогичен сульде на
пермско-югорских бляшках и идейный замысел петроглифов Куйлю дол¬
жен соответствовать тому, что раскрыл в средневековом культовом литье
Б. А. Рыбаков. Однако, как мы покажем ниже, мировоззрение первобыт¬
ных охотников Алтая не сводится к той картине мира, которая просмат¬
ривается на «чудских» шаманских образках.
В связи с этой второй темой алтарной композиции сразу встает не¬
сколько вопросов. Во-первых, каковы ее исторические истоки, во-вторых,
не проясняют ли ее замысел современные этнографические материалы,
в-третьих, в каком отношении находятся оба эти сюжета в составе одной
композиции и что нового можно извлечь из их совместного прочтения?
Вопросы эти многогранны и взаимосвязаны; они тем более интересны,
что проливают свет и на семантику сложившихся к началу XX в. куль¬
тов и верований алтайцев.
Сюжет с фаллической зооантропоморфной фигурой и рогатыми жи¬
вотными известен со времен верхнего палеолита. В Европе, в франко¬
кантабрийской области, он представлен рисунком из пещеры «Трех
братьев». В Азии, в юго-западном Прибалхашье, подобная сцена запечат¬
лена в горах Хантау, в долине р. Теректы 18. В обоих случаях рядом с фи¬
гурой колдуна показано убегающее от него копытное животное с головой
бизона. В азиатском варианте у быка еще выделен фаллос и приподнят
хвост. Смысл обеих композиций не нашел еще достаточно ясного и одно¬
значного толкования, однако для нас важен их устоявшийся канониче¬
ский характер. Возможно, что и алтайская композиция была созда¬
на не без влияния этого канона, тех представлений, которыми руководст¬
вовались и палеолитические художники. Действительно, в нашем случае
рядом с фигурой колдуна также изображено животное с рогами и отто¬
пыренным хвостом. Какое это животное, сказать сложно. Здесь уже утра¬
чена былая точность реалистического рисунка палеолита и возобладала
условная изобразительность. Рогатое животное выбито схематичным си¬
луэтом, ноги переданы острыми треугольниками, а шея непомерно длин¬
на, как, впрочем, ц у обеих маралух. По форме рогов оно идентифици¬
40
руется с коровой (быком). В таком случае все три композиции можно счи¬
тать близкими и в какой-то мере говорить об общности их идейного
замысла.
Здесь не может быть речи о прямом акте оплодотворения, поскольку
в азиатском варианте композиции явно изображено животное-самец,
в руках же у палеолитических колдунов — музыкальные луки и, кроме
того., фаллос у алтайского зооантропоморфного существа показан отнюдь
не в напряженном состоянии. И все же образ имеет фаллический оттенок.
Известно, что бык в древности почитался как животное особой плодови¬
тости. Возможно, что все три рисунка имели, целью акцентировать и воз¬
высить именно это качество быка. Сама сцена приобретала в глазах пер¬
вобытного человека символический смысл, и ее изображение играло важ¬
ную роль в магическом ритуале вызывания к жизни великих оплодотво¬
ряющих сил. Многое проясняет здесь форма рогов алтайского животного,
сомкнутых в виде диска полной луны, что напрямую свидетельствует о ши¬
роко распространенном в Евразии культе луны-оплодотворительницы
в образе быка и согласуется с идущими из палеолита представлениями
о месяце как о воплощении мужского начала. Луна «естественно ассо¬
циировалась с быком, как с животным особенно плодовитым»,— писал
Л. Я. Штернберг. «Словом, луна превратилась в быка... Этот бык, как
первозданное существо... странными далекими путями попадает и в наше
сибирское шаманство»19.
Действительно, и в алтайских поверьях месяц считается мужем,
а солнце — женой. Что же касается быков-производителей, то они бук¬
вально окружают со всех сторон алтарную композицию с двумя маралу-
хами-прародительницами. Видимо, в более поздних представлениях фи¬
гура колдуна утратила свое былое магическое значение, но зато более
рельефно проявился в этом культе образ быка. Каждая эпоха оставила
здесь изображение этого животного. Одно из них находится внизу, слева
от треугольного камня, другое — также слева, повыше, еще одно — спра¬
ва над алтарем. Одно изображение животного, близкое по технике испол¬
нения среднему ярусу камня, было выбито рядом с правой маралухой,
так что рога быка буквально пронзили её круп. Видимо, много веков под¬
ряд, несмотря на смену обрядности, образы двух Матерей-Прародитель-
ниц постоянно будоражили воображение первобытных людей, мечтавших
о приумножении зверей. Быки-производителп изображались в разное
время по-разному. Те, что выбиты в более позднее время, лишены уже бы¬
лой ярости и силы, линии их рисунка становятся более вялыми, и все же
самый последний из них сохраняет в очертаниях рогов знак полной луны.
Если говорить в целом об идеологических представлениях, связан¬
ных с колдуном и рогатым животным, то они нашли свое продолжение
в известном только на Алтае обряде Коча-Кан — испрашивании плодо¬
родия. Коча-Кан — мифическая личность, эротическое божество, непре¬
менным атрибутом которого является фаллос. Изучавший этот обряд
Ф. А. Сатлаев пришел к выводу, что с помощью Коча-Кана отношения,
существовавшие между людьми, символически переносились на природу
с тем, чтобы способствовать пробуждению ее производительных сил 20.
Космическое существо, олицетворяющее производительные силы
природы, известно у многих народов. Оно носит различные имена и вы¬
ступает то в образе человека, то в зооморфном виде. Таков Ярило — герой
славянской мифологии или Тор скандинавов — вместилище производи¬
тельной силы Вселенной, оплодотворяющий коров и женщин.
Однако подобными представлениями не исчерпывается содержание
образа алтайского колдуна. Самое, пожалуй, примечательное в нем то,
41
что он может «вдыхать душу»— так можно истолковать изображенное
в композиции пятно между пастью-клювом колдуна и мордой маралухи.
По алтайским поверьям, звери имеют кут — жизненную силу. Она у жи¬
вотных находится будто бы в носу. Термином «кут» тюрки Алтая обозна¬
чали таинственную субстанцию, благодаря присутствию которой сущест¬
вуют не только звери, но и люди и растительный мир 21. Кут посылал на
землю небожитель Дьайучы-хан 22. Хакасы также верили в кут человека,
который, как и кут скота, давало небо. Сагайцы, когда у них не было де¬
тей, обращались к Кудаю с просьбой даровать кут ребенка 23. Согласно
шаманистическим представлениям алтайцев, в создании человека прини¬
мали участие оба верховных божества — Ульгень и Эрлик. Эрлика пред¬
ставляют стариком и называют «отец», «первый человек». Это он наделяет
человека душой и забирает ее после смерти. По записям В. И. Вербиц¬
кого, человека оживлял и сам Ульгень: создав остов человека, он «дунул
в уши и нос — и человек стал жив и разумен»24. У В. Радлова антропоге¬
нетический миф звучит несколько иначе: «Бай-Ульгень перед рождением
ребенка заставляет сына Джайнка принести жизненную силу новорож¬
денному из молочного озера (Сут-Коль), которая и остается у ребенка на
всю жизнь»25. Несомненно, было бы чрезвычайно интересно обнаружить
в древнем наскальном искусстве воплощение представлений, связанных
с кут. Души в петроглифах Куйлю получает от колдуна Мать-Прароди¬
тельница в образе маралухи. Сам же колдун предстает великим божест¬
вом, которое не только олицетворяет производительные силы природы,
но и является подателем душ, жизненной силы всего сущего. Упоминание
же об оживляющем дыхании можно обнаружить в полном имени верхов¬
ного божества якутского пантеона — Белого созидающего старца «с ды¬
ханием из сильного жара, с шапкой из трех соболей, подобного бе¬
лой рыси»26.
Представление о «подаче» души в связи с композицией алтаря Куй¬
лю могло иметь в своих истоках и чисто материалистическое обоснование.
Дело в том, что помимо источника, считающегося целебным для глаз,
в гроте Куйлю еще наблюдается периодическая капель со сводов. Вода
появляется после хорошего дождя или грозы. Если ночью в горах свер¬
кала молния, гремел гром, то утром можно ожидать капели. На поверх¬
ности скалы струйки оставили дорожку, бугристую от спекшихся солей.
Анализ воды на минеральный состав, проведенный в химико-аналитиче¬
ской лаборатории ИГиГ СО АН СССР, дал любопытный результат. Ока¬
залось, что эти капли необычайно насыщены солями металлов, которые
в первую очередь необходимы человеку и которые в медицинской литера¬
туре принято называть биоэлементами. Особое, благоприятное свойство
раствора состоит еще и в том, что соотношение биоэлементов в нем близко
к тому, которое требуется для человеческого организма. Ниже приводят¬
ся данные анализа воды в источнике, капель со скалы и суточная потреб¬
ность в биоэлементах для человека (мг/л):
к
Na
Са
Mg
Вода в источнике
2,1
3,7
21,4
2,2
Капли со скалы
187
61,6
177
29,3
Суточная потребность
(мг)2?
2000—3000
2000
1000
300-500
Самое замечательное качество этой воды, пожалуй, в ее насыщен¬
ности солями калия и магния — феномен, не так уж часто встречающийся
в природе. Недостаток в пище солей магния нарушает сокращение мышц,
нормальную возбудимость нервной системы. Калий участвует в генерации
42
и проведении биоэлектрических потенциалов в нервах и мышцах, в ре¬
гуляции сокращений сердца и поддержании осмотического давления. Этот
незаменимый биоэлемент человеческий организм получает в основном из
мясной и растительной пищи. Зимой охотничьи племена, по-видимому,
питались главным образом мясом. Исходя из среднего содержания калия
(2,4 г на 1 кг веса животных), можно подсчитать, что в течение суток че¬
ловек должен был съедать для своего полноценного функционирования
до 1 кг мяса. Вряд ли такая возможность представлялась ему регулярно,
особенно весной, когда после таяния снега пропадали следы животных
и охота становилась затруднительной. После скудного рациона организм
нуждался прежде всего именно в калии для восстановления мышечных
сил и сердечной деятельности. Их нормализация с помощью струек воды,
падающих со «сводов священного грота, могла восприниматься древним
человеком как ниспослание небесной благодати, как омоложение души.
Возможно, что испитие целебных капель было здесь своеобразным ритуа¬
лом, который, быть может, и вдохновил первобытного художника на со¬
здание подобной композиции.
Само появление капель после первых весенних гроз прямо и непо¬
средственно указывало на действия всемогущего громовника, поверья
и сказания о котором были широко распространены у народов Южной
Сибири и Северной Монголии. В своем известном исследовании о громов-
нике Г. Н. Потанин показал, что громовник представлялся предком че¬
ловечества, первым человеком, что молитвы о даровании детей и о их
здоровье были обращены к нему 28. Как видно, все эти дошедшие до на¬
ших дней характеристики древнего мифического героя изначально, не¬
сомненно, близки образу алтарного божества Куйлю. Однако их общность
проявится еще разительнее, если сопоставить рисунок петроглифов с опи¬
санием внешнего облика Кан-Кереде, небесной птицы-шаманки. Как по¬
лагает Потанин, такое имя имел сам громовник 29. О небесной птице-ша-
манке мы уже упоминали в связи с двумя небесными сестрами и богаты¬
рем из сказки Н. Я. Никифорова «Айн Шаин Шикширге». Как объясни¬
ли богатырю сёстры, перед возвращением Кан-Кереде «будет легкий про¬
должительный ветерок; пойдет также дождь. Перед входом в аил она сде¬
лает три круга белой рысью, а когда войдет в аил, то будет красным фили¬
ном и сделает поверх огня три круга, затем отряхнется, приняв свой на¬
стоящий вид»30. В этом фантастическом зооантропоморфном существе мож¬
но найти много общего с изображением алтайского колдуна из грота,
у которого ноги в виде ласточкиного хвоста, тело человеческое, хвост
рысий, голова же представляет настолько сложный симбиоз самых раз¬
нородных элементов, что, пожалуй, трудно со всей определенностью ска¬
зать, какие именно ее черты присущи тому или иному зверю или птице.
И только, кажется, про клюв можно сказать, что он, скорее всего, утиный.
Эта немаловажная деталь — утиный клюв — сближает колдуна
петроглифов Куйлю с владыкой верховного мира Ульгенем — светлым
божеством позднего алтайского шаманизма. В космогоническом алтай¬
ском мифе Ульгень, создавший земную твердь, двигающий солнце и луну,
был уткой. Не все, конечно, качества Ульгеня и громовника — небесной
птицы-шаманки в позднем сказании — нашли воплощение в образе вы¬
битого на камне грота зооантропоморфного существа — слишком слож¬
на для художника такая задача, однако нет особых оснований сомневать¬
ся в том, что все они в равной мере были ему присущи. Судя по значитель¬
ности самих «этнографических» заместителей или последователей, мож¬
но представить, какой великой мощью и универсальностью обладало это
созданное воображением первобытных охотников божество. Оно было
43
господином всего живого, властелином стихий — дождя, грома и мол¬
нии, ветра и тепла; оно олицетворяло вселенские силы природы. Это было
космическое начало, все в себе вмещающее и воплощающее.
Если исходить из женской ипостаси двуполого существа петроглифов
Куйлю, то ближе всего ей главнейшая богиня алтайского пантеона —
Умай. Действительно, как установила в своих исследованиях Н. П. Ды-
ренкова, Умай — покровительница зверей и птиц, дающая кут — жиз¬
ненное начало 31. Она является универсальным женским божеством, бо¬
гиней, олицетворяющей плодородие; ее культ соответствует обряду Коча-
Кан у телеутов, кумандинцев, шорцев 32. Кроме того, Умай покровитель¬
ствует охотникам и выступает хозяйкой Белухи. Вместе с тем она часть
Ульгеня — такой вывод сделала Л. И. Шерстова, проведя полную се¬
мантическую реконструкцию имени Ульгень. Она показала, что изначаль¬
но это было женское божество земли — Ульгень-эхе, владычица мира
мертвых, олицетворение сил рождения и смерти. К тому же «Умай обитает
на горе Сумер, около озера Сут-коль (т. е. там, где живет и Ульгень)»33.
Для расшифровки петроглифов следовало бы рассмотреть вопрос
о роли рогов в композиции. Вообще наличие рогов у самки марала — это
патологическое, но все же встречающееся явление. Несомненно, такой
феномен должен был иметь в глазах древнего охотника особое значение.
Надо полагать, что и мастер, выбивая над головами маралух рога,
хотел таким способом передать определенный круг идей и представлений.
Обращают на себя внимание символ полной луны на голове рогатого жи¬
вотного, убывающий серп луны на голове левой маралухи и прямые от¬
ростки — у правой. Это так называемые спички, или шильи. Они вы¬
растают у марала ко второй осени. Тогда же наступает половозрелость
самок. Этот момент имеет важное значение в композиции, поскольку
с него начинается цикл зачатия и рождения жизни, чему, собственно,
и посвящена алтарная композиция. Зарождение жизни символически по¬
казано, как мы отмечали, сюжетом с фаллической фигурой и рогатым жи¬
вотным, а также получением души-кут. Этот момент надо отнести к сен¬
тябрю, когда начинается гон маралов и подрастают шильи. Более того,
хронологически начало беременности следует отсчитывать от фазы пол¬
ной луны, поскольку именно так изображены рога на правой половине
композиции. Рождение телят, показанное на левой половине композиции,
приурочено к фазе убывающей луны, выбитой узким серпом на голове
левой маралухи. Это означает, что число лунных синодических месяцев
между зачатием и родами должно быть нечетным (лунный синодический
месяц равен 29,53 суток).
У женщин цикл беременности продолжается в среднем 280 дней, т. е.
9,48 лунных синодических месяцев, и, начавшись в полнолуние, должен
окончиться к новолунию, на исчезающий серп месяца. Такая же законо¬
мерность смены лунных фаз характерна и для беременности коров, у ко¬
торых разрешение от бремени происходит через 270—300 дней. Для мара¬
лухи этот лунный календарь не подходит, поскольку ее беременность
длится около 8,1—8,3 лунных синодических месяцев и в таком случае
отел должен приходиться на половину убывающей луны или даже
меньше того.
Если мы находимся на верном пути к разгадке астрономического ка¬
лендаря композиции, то положение солнца относительно луны на рисун¬
ке должно соответствовать их истинному положению на небосклоне. Сим¬
вол солнца мы находим на отростке у шеи левой маралухи. Относитель¬
ное положение светил в полнолуние и новолуние различно. В полно¬
луние их долготы различаются на 180°. Так это и изображено на алтар¬
44
ной композиции: рога в виде полного круга луны находятся в крайней
южной точке плоскости камня, а солнечный диск — в крайней северной.
В новолуние долготы светил равны. Так оно и есть: узкий серп месяца
располагается совсем рядом с солнцем. Древний художник изобразил
здесь iy ситуацию, когда умирающая луна поднялась из-за горизонта,
ненамного опередив солнце. Период беременности, начавшийся в сентяб¬
ре, должен окончиться во время летнего солнцестояния, когда солнце
находится в самом северном положении, что опять-таки согласуется с
рисунком.
Нельзя не отметить здесь близость продолжительности цикла бере¬
менности и периода между осенним равноденствием и летним солнцестоя¬
нием (273 дня). Наиболее интенсивный рев маралов во время гона на Алтае
наблюдается с 16—17 по 22—24 сентября (обычно в течение 5—7 дней)34,
т. е. с точностью до недели этот срок совпадает с осенним равноденствием.
Окончание беременности приходится на летнее солнцестояние, отел про¬
исходит лишь на неделю позже цика солнцестояния 22 июня. Древний
человек не мог не видеть примерного равенства двух циклов и, видимо,
находил объяснение этому во всеобщей связи явлений космического и зем¬
ного порядка, приписывая ее разумной воле громовника — повелителя
стихий, подателя душ, двигающего солнце и луну.
В алтайской мифологии солнце — жена, луна — муж. Так же, на¬
верное, и древние люди представляли себе супружескую жизнь светил.
Не случайно левая рожающая маралуха помечена солнечным диском,
а в правой половине композиции доминирует рогатое животное с симво¬
лом полной луны. Этот рисунок демонстрирует мужскую силу луны в пе¬
риод гона и осеннего равноденствия. В контрасте с правым левый рисунок
показывает умирающую луну и освободившееся от бремени, полное яр¬
кого блеска в период своего летнего пика солнце, питающее своими лу¬
чами все сущее и заставляющее вновь зеленеть и цвести заснувшие с осени
альпийские луга.
Для полноты и ясного понимания картины астрономического кален¬
даря беременности на петроглифах грота Куйлю было бы желательно от¬
ветить на вопрос, мог ли древний художник в своей композиции каким-
либо образом отобразить точную информацию о числе лунных синодиче¬
ских месяцев. Иными словами, мог ли он в петроглифах как-то закодиро¬
вать число 9,5? Ставя перед собой такой вопрос, мы заранее не знаем, как
получить на него ответ. Во всяком случае, здесь нет ни рисок, ни выбоин,
которые можно было бы сосчитать. Более того, речь здесь должна идти
не о целом числе каких-либо объектов. Единственное, чем мы располагаем,
это рисунки фигур, имеющих определенные размеры. Возникает естест¬
венное стремление проверить, не могло ли интересующее нас число со¬
держаться именно в размерах рисунков, в линейных интервалах между
отдельными характерными точками композиции. Для этого нужно по¬
пытаться выявить модуль, минимальную опорную длину, в единицах ко¬
торой можно выразить все остальные величины. Наиболее значительным
в идейном отношении рисунком всей алтарной композиции, и к тому же
минимальным по своим размерам, неделимым, является пятно — кут.
Его поперечный размер оказывается близким к 1 см. Этой'же величине
равен другой минимальный размер рисунка — диаметр фаллоса колду¬
на в его основании. Ювелирная тщательность выбивки фаллоса позволяет
определить его поперечный размер с точностью до 1 мм. Выбрав таким
образом опорную длину, можно измерять различные линейные интервалы
в сантиметрах, имея в виду, что на самом деле единицей является «кут».
45
Вначале обратимся к правой половине композиции, к верхней ее
части, поскольку в нижней значительная часть изображений утрачена.
Проведенные измерения показывают, что число 9,5 фигурирует во многих
случаях (рис. 2). Прежде всего, ему равно расстояние от левого края пят-
на-кут до правого края глаза марал ухи. Здесь же есть еще два отрезка
такой же величины: от затылка колдуна до губ маралухи и от губ мара-
лухи до ее затылка, где расположена точка перегиба внешнего контура
желобка. В сумме два эти отрезка равны 19 см, т. е. удвоенному значению
числа синодических месяцев 19 см равны и расстояние от затылка мара¬
лухи до губ рогатого животного, а также длина еще одного отрезка,
который начинается от ресницы маралухи и идет через уголок глаза вниз
вдоль шеи до спины рогатого животного. Во всех приведенных выше слу¬
чаях указанные отрезки имеют четкие границы, не допускающие какого-
либо иного способа их проведения и определения длины. Точность изме¬
рения расстояний связана лишь с гладкостью выбитого контура и состав¬
ляет во всех случаях около 1 мм с каждой стороны. Во всяком случае,
достаточно уверенно можно утверждать, что измеренное расстояние близ¬
ко именно к 9,5 см, а не к 9 или к 10 см. Хотелось бы отметить еще два от¬
резка длиной около 9,5 см, хотя и не имеющие столь резко обозначенных
границ, но, по-видимому, играющие важную смысловую роль в компози¬
ции. Во-первых, это ширина рогатого животного, измеренная от его спи¬
ны до живота вдоль накладывающегося внутреннего края желобка шеи
маралухи. Во-вторых, это расстояние от живота колдуна вдоль фаллоса
до вульвы рогатого животного.
В левой половине композиции отрезки по 9,5 см выявлены также
в нескольких случаях (рис. 3). Это длина отростка, на котором «подвеше¬
но» солнце, и расстояние между концами серповидных рогов. Кроме
того, мы обмерили геометрическую фигуру, находящуюся в нижнем ле¬
вом углу. К сожалению, само изображение плохой сохранности из-за
многочисленных сколов поверхностной корочки, а также из-за случайных
выбоин. Все это затрудняет определение истинных границ изображения,
интерпретируемого нами как три немного сплюснутые окружности. Тем
не менее нам удалось выделить точку центра, расстояние от которой до
внутреннего края желобка каждой из трех окружностей близко к 9,5 см.
Обнаруженные факты дают ответ на вопрос о возможности кодиров¬
ки числа лунных месяцев беременности. С помощью опорной длины, мо¬
дуля (в данном случае, надо полагать, случайно совпадающего с 1 см),
древние художники выбивали отдельные рисунки, их детали на строго
фиксированном расстоянии друг от друга, равном 9,5 опорной длины. Та¬
кое большое количество характерных деталей композиции, равных 9,5 см,
никак не объяснить простой случайностью или ссылками на канон либо
требования стиля. Не исключено в принципе, что выявленные закономер¬
ности могли быть обусловлены особенностями психомоторики человека,
спецификой его зрительного восприятия или, наконец, размерами самой
изобразительной плоскости и определенным количеством^ фигур компози¬
ции. Это вопрос, требующий специального изучения. Однако привязка
маркировочной длиной именно тех рисунков, которые имеют глубокую
смысловую связь, говорит о том, что равновеликими все эти части компози¬
ции были выбиты художником преднамеренно, чтобы акцентировать ка¬
лендарный аспект алтарной композиции и выразить определенное число
лунных фаз. В своей совокупности петроглифы грота Куйлю дают стро¬
гое и наглядное художественное воплощение основополагающей для мира
древних охотников культовой концепции плодовитости. Ее неразрывная
связь с явлениями астрономического характера, многократная кодировка
46
Рис. 2. Схематичная прорисовка фрагмента правой части алтарной композиции. Пунк¬
тиром показаны отрезки в 9,5 и 19 см.
числа лунных синодических месяцев подтверждают предложенную нами
ранее интерпретацию алтарной композиции грота Куйлю.
Обнаруженный математический «ключ» к расшифровке алтарной ком¬
позиции позволяет по-новому поставить вопрос о методе ее семантической
реконструкции. В самом деле, начальный этап исследования мог быть со¬
вершенно иным. Математическая обработка петроглифов с помощью ЭВМ
дала бы тот же результат — факт многократного использования длины
9,5 см. На функции распределения размеров рисунков по числовой оси
были бы видны три пика, соответствующие 1 см, 9,5 и 19 см. И тогда с не¬
избежностью встала бы задача поиска смысловых связей между объекта¬
ми. ответственными за выявленные максимумы. Заметим, кстати, что, кро¬
ме того, с помощью ЭВМ можно было бы проанализировать пропорции
фигур на характерных уровнях, сравнить не только линейные размеры,
но и угловые, а также соотношение площадей рисунков, в чём также мог¬
ла быть закодирована определенная информация. Ориентировочные при¬
кидки в этом плане также дают немало интересного. Так, например, отно¬
шение длины полоски на шее правой маралухи к ее продольному размеру
опять-таки близко к 9,5. Быть может, поэтому у маралух такие длинные
шеи! Однако введение в научный оборот подобных данных потребовало бы
целой системы доказательств их достоверности, а это предмет для само-
47
I
Рис. 3. Схематичная прорисовка фрагмента левой части алтарной композиции. Пунк¬
тиром показаны отрезки в 9,5 см.
стоятельной работы. Во всяком случае, такой формализованный мате¬
матический подход к изобразительным памятникам первобытности позво¬
лил бы, на наш взгляд, выявить некоторые закономерности их компози¬
ционной структуры, что, в свою очередь, могло бы способствовать пони¬
манию смысловых соотношений между выделенными деталями или от¬
дельными рисунками.
В какой-то мере в похожей ситуации оказались и мы, когда дополни¬
тельно зафиксировали наличие доминантной длины в 19 см, а также по¬
меченную маркировочной длиной в 9,5 см геометрическую фигуру, кото¬
рая ранее не была нами использована при рассмотрении лунно-солнечно¬
го календаря беременности. Из этих новых фактов следует, что предло¬
женная нами ранее гипотеза неполна, что на самом деле ее смысл шире,
возможно, конкретнее, и потому необходимо дополнительное исследо¬
вание.
Если внимательно присмотреться к тому, как выбито пятно-кут, то
можно заметить, что оно образовано тремя ямками — одной сверху и
двумя пониже. По форме оно очень похоже на геометрическую фигуру,
расположенную в левом нижнем углу (три несколько сплюснутые окруж¬
ности). Промеры показывают, что геометрическая фигура по линейным
размерам в 10 раз больше пятна. Соответственно площадь, занятая тремя
окружностями, в 100 раз больше пятна-кут. Не означает ли это, что в
48
данном случае речь идет о конкретном числе душ, равном 100? Развивая
эту гипотезу, следует более подробно разобраться в том, как древние
люди понимали сам феномен зарождения потомстЕа. Рассмотрев сюжет,
связанный с колдуном, маралухой и рогатым животным, можно предпо¬
ложить, что, согласно их представлениям, новая жешнь появляется в ре¬
зультате оплодотворения и получения души-кут от верховного божества.
Иными словами, новое существо появляется на свет только в том случае,
если к его «материальному» эмбриону прикладывается «нематериальная»
душа-кут. Быть может, поэтому поперечные размеры пятна-кут и фалло¬
са одинаковы, однако художник подчеркнул отличие земного канала от
небесного, поместив рогатое животное — вместилище зародышей — на
двойную маркировочную длину ниже рисунка, изображающего получение
небесных душ. В таком контексте о конкретном числе потомства можно го¬
ворить лишь в том случае, если оба канала обеспечивают одно и то же ко¬
личество «материальных» и «нематериальных» душ. А это означает, что
число душ-кут должно быть равно числу эмбрионов, полученных от кол¬
дуна рогатым животным, г. е. на языке математики площадь геометри¬
ческой фигуры должна быть равна площади, занимаемой изображением
рогатого животного. Подсчеты показывают, что площади близки, хотя,
как мы упоминали выше, геометрическая фигура сохранилась плохо и
потому трудно гарантировать точность. Было бы желательно проверить
эту важную цифру каким-нибудь другим, независимым способом. Прежде
всего необходимо разобраться, какое потомство испрашивала у верхов¬
ного божества община во время своего ритуального празднества. Во-пер¬
вых, можно предположить, что люди взывали о ниспослании им 100 мла¬
денцев. Если учесть, что такой обряд совершался ежегодно, не слиш¬
ком ли это много для ограниченного числа людей, живущих в долине Ко-
чурлы? По-видимому, только коллектив из нескольких тысяч человек мог
мечтать о таком ежегодном приросте.
Скорее всего, люди просили о приплоде зверей, необходимых для
их пропитания. Надо полагать, они понимали, что ресурсы природы не
безграничны и есть определенное равновесие, нарушать которое нельзя,
не рискуя в будущем остаться без пропитания. Другое дело — стихия:
засуха, ранний холод, гололед, пожар и пр. Видимо, об исключении таких
неблагоприятных факторов, о максимально возможном приплоде зверей
просили люди. С этим они обращались к неподвластному им верховному
божеству, властелину небесных стихий.
Отдавая должное экологическому опыту древних, можно сравнить
его с современными данными по этому вопросу, а заодно и проверить
правильность наших рассуждений относительно 100 ршпрашиваемых зве¬
рей. Надо полагать, что марал — щироко распространенный и самый
крупный зверь этих мест — был основным источником пропитания на¬
сельников Кочурлы. Исходя из того, что для жизнеобеспечения общины
требовался годовый приплод в 100 маралов, можно сделать заключение
об общем числе этих животных на данной территории. Для того чтобы по¬
пуляция зверей не уменьшалась, забой не должен превышать их при¬
роста. Согласно современным данным, прирост стада в оптимуме дости¬
гает 20 %35. Это значит, что в нашем случае общее количество зверей
должно быть около 500. Что касается территории, то она естественно
ограничивается долиной Кочурлы. Переход в соседние районы связан с
преодолением высокогорных перевалов, что. практически невозможно.
Водораздельные гребни с долинами рек Ак-Кем и Нижний Кураган за¬
мыкают территорию с востока и запада. Моренные валы и ледники, Ко-
чурлинское озеро с юга, Катунь и ее приток Барсук с севера очерчивают
4 Заказ № 87
49
пределы охотничьих угодий первобытных обитателей Кочурлы. Эта пло¬
щадь составляет около 390 км2. Плотность популяции на 1000 га (приня¬
тая у охотоведов единица площади) оказывается равной 13. Соответст¬
вующие данные для сибирского региона нами не обнаружены. Для трех
европейских заповедников эти цифры известны. Усреднение дает плот¬
ность популяции маралов 14 голов на 1000 га 36. Небольшое отличие мо¬
жет быть объяснено как более суровыми природными условиями Сибири,
так и тем, что на самом деле общую площадь надо взять несколько мень¬
ше, так как в долине реки жили также люди. Во всяком случае, близость
этих значений подтверждает всю нашу цепочку рассуждений относитель¬
но 100 испрашиваемых общиной душ животных и тех представлений, ко¬
торые были'связаны с лунно-солнечным календарем.
Зная теперь число забиваемых маралов, можно оценить, сколько же
людей жило в долине Кочурлы. Расчет будем производить, исходя из
предположения, что люди питались только мясом благородных оленей.
Точных данных для такой диеты нет. По наблюдениям Н. М. Ермоловой,
семья эвенков в 7—10 чел. съедает одного оленя (48 кг) в 2—3 дня. Для
подсчета жителей палеолитической стоянки Мальта ею бралась норма
около 1,3 кг в день. Она же со ссылкой на С. И. Бибикова приводит норму
600 г мяса в день, исходя из потребности в животных белках человека
современной эпохи 37. Эскимосская норма — 2 кг мяса в день 38. Не пре¬
тендуя на особую точность и упрощая расчеты, выберем усредненную нор¬
му в пределах указанных величин — 1 кг мяса в день. Следует подчерк¬
нуть, что наша оценка вообще сугубо ориентировочная, поскольку люди
ели не только маралов, но и других зверей, а также птиц и рыб, а в лет¬
нее время и растительную пищу. С одного марала можно использовать в
пищу около 200 кг мяса 39. Таким образом, 100 маралов могут прокормить
55 чел. в течение года. Плотность населения долины Кочурлы в таком слу¬
чае составит 0,14 чел. на 1 км2.
Доверившись после придирчивых проверок математической обосно¬
ванности размеров, пропорций, площадей рисунков, можно удостоверить¬
ся в правильности одного ранее высказанного утверждения. Из сопостав¬
ления легенд о Матерях-Прародительницах алтарной композиции мы
пришли к выводу, что левую маралуху можно сопоставить с Большой
Медведицей, а правую — с Малой Медведицей. На языке чисел это озна¬
чает, что размеры рисунков должны соотноситься между собой так же,
как видимые размеры созвездий. В действительности это так и есть. Мак¬
симальный размер левой маралухи в 1,4 раза больше максимального раз¬
мера правой. То же соотношение размеров и у созвездий (численные вели¬
чины для созвездий брались из астрономических атласов). Глубина ковша
Большой Медведицы в 1,5 раза больше глубины ковша Малой Медведи¬
цы. В такое же количество раз расстояние от спины до живота у левой ма¬
ралухи больше, чем у правой. Надо полагать, совпадения этих основных,
характерных соотношений и самой формы рисунков, так- живо напоми¬
нающих ковш с ручкой, достаточно, чтобы признать единство изобрази¬
тельного и математического образов в их неразрывной связи с мифопоэти¬
ческими представлениями.
Подмеченные размерные закономерности способствуют также реше¬
нию вопросов хронологии алтарной композиции. Дело в том, что обе ма¬
ралухи выбиты в одной технике, колдун и рогатое животное — в другой.
Более того, силуэт рогатого животного вообще накладывается на профиль
Прародительницы, и можно было бы предполагать, что рисунки эти разно¬
временны, что здесь наблюдается явление диахронного палимпсеста. Одна¬
ко образная связь этих изображений в единой концепции лунно-солнеч¬
50
ного календаря и заложенное в самой структуре композиции, во взаим¬
ном расположении рисунков многократное использование длины в 9,5 см
и ее удвоенной величины убеждают в том, что алтарная композиция соз¬
давалась по одному продухманному замыслу.
Итак, реконструкции семантики петроглифов грота Куйлю во многом
похмогают математические соотношения. Можно дискутировать по поводу
интерпретации выявленных закономерностей, но пройти мимо самих фак¬
тов нельзя. Сомневаться же в знании первобытным человеком таких до¬
статочно простых численных операций не приходится. Конечно, это не¬
сколько противоречит нашим современным представлениям о сути худо¬
жественного образа, поскольку ничего подобного мы не встречаем в искус¬
стве нового времени. Но это вовсе не означает, что такого не могло быть не¬
сколько тысячелетий назад. Ведь признаем же мы, что творчество перво¬
бытного человека носило синкретичный характер, однако редко пытаемся
разобраться, в чем собственно эта синкретичность проявлялась. А если
вспомнить об уже известных памятниках мобильного искусства палеолита
с их куда более сложной числовой информативностью 40, то подобный «ма¬
тематический» взгляд на алтарную композицию не покажется столь уж
удивительным. Собственно, для каждого рисунка композиции мы пыта¬
лись выявить синтез художественного образа, математических закономер¬
ностей и мифологических представлений. Только в таком единстве про¬
ясняется общая картина того, что хотел выразить древний мастер. Под¬
меченные математические закономерности в рисунках придают опреде¬
ленную строгость и обоснованную доказательность тем семантическим ре¬
конструкциям, которые образуют с ними непротиворечивое единство. Та¬
ким методом удалось расшифровать и лунно-солнечный календарь бере¬
менности, и эколого-экономические представления, запечатленные в
алтарной композиции.
Казалось бы, такая строгая детерминированность всех деталей изоб¬
ражения не позволяла проявиться художественному творчеству. Однако
чувство прекрасного шло в ногу с разумом и, пожалуй, не только не иссу¬
шалось от заданных априори ограничений, но, напротив, позволяло ху¬
дожнику яснее и убедительнее передать живое и. непосредственное во¬
сприятие мира. В самом этом соединении образности и математического
канона, отражающего причастность к упорядоченной гармонии космоса,
древний человек нашел новые художественные пути к воплощению поэзии
высшего и земного.
Семантика образов грота Куйлю позволяет в некоторой степени отве¬
тить и на вопрос, который так часто встает перед исследователями: почему
те или иные культы и верования складывались именно в тех, а не иных
формах, почему тот или иной персонаж получал вполне определенное
художественное толкование? Петроглифы грота Куйлю убеждают, что
здесь свою роль играют не только закономерности общественно-истори¬
ческого развития, но и природные особенности данного региона, харак¬
теристики экологического окружения, факторы естественно-историческо¬
го порядка. Именно они наложили отпечаток на специфику художествен¬
ных образов Куйлю. И этими образами, связанными всеми своими нитями
с горно-таежной природой Катунского хребта, со священной Белухой,
пропитана мифология Алтая.
Изучение, расшифровка всего комплекса наскальных изображений
грота Куйлю составляют большую и сложную исследовательскую задачу,
которой будет заниматься не одно поколение ученых гуманитарного и
естественно-научного профиля. Однако уже сейчас можно сказать, что
святилище грота Куйлю — выдающийся памятник культуры Алтая.
В нем нашли отражение наиболее значительные представления древних
людей, интерпретировать которые помогают исследования таких видных
сибиреведов, как В. В. Радлов, Г. Н. Потанин, В. А. Анохин,
Л. Я. Штернберг, Л. П. Потапов и др.
Автор благодарен геологу А. М. Обуту, биологам Н. Д. Оводову,
Г. Г. Собанскому, историкам В. Е. Ларичеву, В. В. Евсюкову, В. Д. Ку¬
бареву, А. М. Сагалаеву, физикам В. И. Тельнову, В. И. Мишневу,
В. А. Таюрскому, В. Н. Волкову за помощь в работе и полезные дис¬
куссии.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Маточкин Е. П. Петроглифы грота Куйлю — памятник древнего искусства
Сибири // Эпоха камня и палеометалла азиатской части СССР.— Новосибирск,
1988.-С. 80.
2 Там же.— С. 86.
3 Новгородова Э. А. Мир петроглифов Монголии.— М., 1984.— С. 32.
4 Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии.— Спб., 1883.— Вып. 4.—
С. 70.
5 Окладникова Е. А. Ритуальные скульптурки животных из сыра кумандинских
алтай-кижн // Пластика и рисунки древних культур: Первобытное искусство.— Но¬
восибирск, 1983.— С. 166.
6 Там же.
Рыбаков Б. А. Язычество древних славян.— М., 1981.— С, 56.
8 Там же.— С. 57.
9 Анисимов А. Ф. Космологические представления народов Севера.— М.; Л,.
1959.- С. 39.
10 Там же.— С. 12.
11 Там же.— С. 28-29.
12 Там же.— С. 49—50.
13 Никифоров Н. Я. Аносский сборник.— Омск, 1915.— С. 45.
14 Рыбаков Б. А. Язычество... — С. 72.
15 Потанин Г. Н. Громовник по поверьям и сказаниям племен Южной Сибири и
Северной Монголии // Журнал Министерства народного просвещения.— Спб., 1882.—
Ч. CCXIX.— С. 143.
16 Потанин Г. Н. Очерки...— С. 719.
17 Анисимов А. Ф. Космологические представления...— С. 72.
18 Медоев А. Г. Гравюры на скалах. — Алма-Ата, 1979.— Рис. 2; с. 36.
19 Штернберг Л. Я. Первобытная религия.— Л., 1936.— С. 506.
20 Сатлаев Ф. А. Коча-Кан — старинный обряд испрашивания плодородия у ку-
мандинцев // Сб. МАЭ.— 1971.— Т. 27.— С. 131.
21 Баскаков Н. А. Душа в древних верованиях тюрков Алтая // СЭ.— 1973.—
Вып. 5.— С. 108—113.
22 Алексеев Н. А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири.—
Новосибирск, 1980.— С. 100.
23 Там же.— С. 131. %
24 Вербицкий В. И. Алтайские инородцы.— М., 1893.— С. 78.
25 Radloff W. Aus Sibirien.— Leipzig, 1884.— Bd 1.— S. 19.
26 Кулаковский A. E. Научные труды.—, Якутск, 1979.— С. 17.
27 Малая медицинская энциклопедия.— М., 1967.— Т. 4.— С. 134; Т. 5.—
С. 455.
28 Потанин Г. Н. Громовник...— С. 116, 288, 297.
29 Там же.— С. 311.
30 Никифоров Н. Я. Аносский сборник.— С. 46.
31 Дыренкова Н. П. Умай в культе турецких племен // Культура п письменность
Востока.— Баку, 1928.— Т. 3.— С. 136.
4*
52
32 Длужневская Г. В. Еще раз о «кудыргинском валуне» // Тюркологический
сборник 1974 г.— М., 1978.—С. 232.
33 Шерстова Л. И. Традиционный пантеон алтайцев в XIX — начале XX в. //
Археология и этнография Южной Сибири.— Барнаул, 1984.— С. 147—148.
34 Млекопитающие Советского Союза.— М. 1961.— Т. 1.— С. 156.
35 Там же.— С. 166.
36 Там же.— С. 144.
37 Ермолова Н. М. Териофауна долины Ангары в позднем антропогене.— М.,
4978.— С. 177.
38 Моуэт Ф. Люди оленного края.— М., 1963.— С. 313.
39 Млекопитающие Советского Союза.— С. 169.
40 Ларичев В. Е. Скульптурное изображение женщины и лунно-солнечный ка¬
лендарь поселения Малая Сыя // Изв. СО АН СССР. Сер. истории, филологии и фило¬
софии.— 1984.— № 3, вып. 1.— С. 20; Он же. Лунно-солнечная календарная система
верхнепалеолшщческого человека Сибири: (Опыт расшифровки спирального «орна¬
мента» ачинского ритуально-символического жезла).— Препр.— Новосибирск, 1983.
А. В. ГРЕБЕНЩИКОВ
НЕОБЫЧНЫЕ СЮЖЕТЫ В ОРНАМЕНТИКЕ
ТРАДИЦИОННОГО ГОНЧАРСТВА ПРИАМУРВЯ
В ЭПОХУ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА
Начальный этап раннего железного
века в бассейне среднего и нижнего
Амура принято связывать с урильской археологической культурой, сущест¬
вовавшей здесь в первой половине I тыс. до н. э. В это время с учетом дости¬
жений предшествующих эпох происходит формирование новой, более со¬
вершенной технико-технологической основы местного гончарства, скла¬
дывается устойчивый набор традиций в создании и художественном
оформлении утилитарных изделий и предметов быта. Ведущим элементом
декоративно-прикладного творчества мастеров-керамистов урильской
культуры является орнамент на глиняной посуде, который характери¬
зуется единством технических, стилевых и семантических признаков,
отражающих этнокультурную специфику региона.
К наиболее общим стилевым особенностям урильского орнаменталь¬
ного комплекса относится концентрическая структура декора, т. е. та¬
кой принцип расположения его на плоскости, при котором узор опоясы¬
вает сосуд по окружности г. В соответствии с правилами концентрическо¬
го построения рисунка орнаментирована вся приамурская керамика.
По способу композиционного оформления орнамент подразделяется
на два типа: 1) бордюрный, при котором повторение элементарной фигуры
происходит вдоль горизонтальной оси переноса; 2) сетчатый, т. е. осно¬
ванный на определенной системе узлов, по которой происходит повторе¬
ние орнаментального мотива 2. Для керамики поселений урильской куль¬
туры свойственно сочетание обоих способов композиционного построения
при некотором преобладании орнаментов бордюрного типа — как по
удельному весу в общей массе декора, так и по разнообразию применяе-
© А. В. Гребенщиков, 1990
54
мых технических приемов. Сетчатый узор представлен главным образом
прочерченными линиями, нанесенными лопаточкой или зубчатым шпате¬
лем. К нему же, видимо, следует отнести такую разновидность штампово-
го тиснения, как ложнотекстильный декор.
Основные элементы узора (орнаментальные мотивы, рапорты) выра¬
жены в геометрических формах и дифференцируются на прямолинейные
и криволинейные. В композициях на урильских сосудах доминируют пер¬
вые. Ведущие элементы такого узора — прямые линии (горизонтальные,
вертикальные, наклонные) или их сочетания. Менее распространен узор,
составленный из ломаных линий в виде вертикального или горизонталь¬
ного зигзага, а также комбинаций из Г-, П- и Z-образных фигур, «елоч¬
ки», косого креста. В составе узоров сетчатого типа встречаются треуголь¬
ники, прямоугольники, квадраты, параллелограммы, ромбы. Иногда эти
мотивы присутствуют в элементах, выполненных на основе бордюра. Кри¬
волинейный узор состоит из дугообразных или волнистых линий, ориенти¬
рованных горизонтально.
Прямолинейно-геометрический орнамент выполнялся урильскими
гончарами с использованием всего арсенала технических средств и навы¬
ков — налепа, выглаживания, тиснения, прочерчивания, точечного на¬
калывания, в то время как криволинейно-геометрический рисунок в
основном прочерчивался. Лишь в некоторых случаях применялась техни¬
ка выглаживания или налепа.
В обширной коллекции керамического материала отдельных поселе¬
ний раннего железного века выделяется серия изделий, на которых пред¬
ставлены редкие для Приамурья разновидности декора. По ряду призна¬
ков они существенно отличаются от традиционных урильских форм. Сти¬
листические особенности такого орнамента выражаются в выборе специ¬
фических художественных «образов» и их иконографической трактовке,
в динамике развития сюжета в рамках реализуемых композиционных
схем. Особое место среди редких разновидностей декора занимает орна¬
мент на посуде поселения Рыбное озеро, в основу которого положен мо¬
тив меандра или его многочисленных вариаций. Своеобразие и необыч¬
ность меандра, ранее не встречавшегося на керамике эпохи раннего
железа в столь «чистом» виде, были отмечены А. П. Деревянко, который
опубликовал несколько фрагментов сосудов с меандровым орнаментом 3.
Повторное изучение коллекции керамики Рыбного озера, предпринятое
автором настоящей статьи, подтвердило это наблюдение.
Важной специфической чертой, обеспечивающей внутреннее единст¬
во групп меандровидного декора, является связь его стилевых особен¬
ностей с определенной техникой нанесения изображения. Установлено,
что в ходе орнаментирования гончарами, украшавшими свои изделия
меандром, использовался ограниченный набор технических приемов:
1) обычное прочерчивание; 2) декоративный способ нанесения ангоба, на¬
поминающий технику сграффито; 3) сочетание в одном рисунке обеих
техник.
Прочерченный меандр наносился на еще влажную после формовки
поверхность сосудов с помощью остро заточенной лопаточки (щепки)
или палочки-стержня с тупым концом. Разнообразие орнамента опреде¬
лялось различным сочетанием таких элементов узора, как:
1) архимедова спираль, выполненная в традициях прямолинейно¬
геометрического прочерчивания. Ритмическое повторение мотива, содер¬
жащего в своей основе прямоугольник, имитирует узор в виде «бегущей
волны», который вызывает в памяти классические образцы античного
искусства (рис. 1,7);
55
56
2) различные вариации туго скрученной геометрической спирали,
в основу которой положен треугольник или параллелограмм (рис. 1, 4—6)
3) трапециевидные фигуры, повторяющиеся с равными промежутками
вдоль горизонтальной оси симметрии и воссоздающие мотив коленчато¬
изогнутой или волнистой линии (рис. 1, 2, 7).
Как своеобразный дериват «чистого» меандра можно рассматривать
композиции, составленные из Г- и П-образных фигур, геометрического
зигзага, которые нанесены в технике прочеса зубчатым штампом-шпате¬
лем («протащенная гребенка»). Такой декор, получивший в литературе
название «разложившийся меандр»4, встречается на сосудах с боль¬
шинства поселений урильской культуры. Сравнительный анализ стили¬
стики изображений показал, что возможна генетическая преемственность
этого декора и композиций, близких к меандру Рыбного озера.
Плоскостное изображение различных вариаций меандра наносилось
на поверхность сосудов с использованием окрашивания охрой или анго-
бирования в технике сграффито. Сначала поверхность изделий покрыва¬
лась слоем кроваво-красной охры или тонкой эмульсионной пленкой жид¬
кой облицовки, содержащей красящий пигмент. Затем по предваритель¬
но нанесенной разметке с помощью скобления деревянной лопаточкой
производилось выборочное снятие еще окончательно не просохшего слоя
грунтовки. В результате такой операции обнажалась часть первоначаль¬
ной поверхности черепка, которая в дальнейшем служила фоном для
окрашенного узора. Внешне такой рисунок напоминает роспись по гото¬
вому контуру, хотя для его нанесения использовались иные технические
приемы.
Наиболее распространенной разновидностью меандра, выполненного
в технике сграффито, является узор-лабиринт, составленный из повто¬
ряющихся коленчато-изогнутых полос (рис. 2, 3—5). Иногда в сложный
рисунок вплетены стреловидные и крестообразные фигуры, оригиналь¬
ная спираль (рис. 2, 1—3). Отдельные композиции представлены сочета¬
нием фигур, напоминающих трапецию, которые в соответствии с законами
прямолинейно-геометрического стиля воспроизводят изображение вол¬
ны (рис. 2, 6, 7).
Меандр, выполненный в технике комбинированного рельефно-пло¬
скостного декора, наносился с применением прочерчивания, сплошного
зеркального лощения, элементов техники сграффито. Остро заточенной
лопаточкой на поверхности сформованных изделий прочерчивался основ¬
ной рисунок, затем после некоторой подсушки производилась обработка
стенок сосудов зеркальным лощением. После утильного обжига, проте¬
кавшего в восстановительном режиме, по контуру предварительно нане¬
сенного рисунка производилось выскабливание поверхности каменным
или металлическим инструментом. Близость к технике сграффито в дан¬
ном случае заключалась в том, что с помощью выборочного снятия лоще¬
ного покрытия оформлялся сам рисунок, а не его фон. Узкая полоса
естественной осветленной поверхности черепка, повторяя затейливые
изгибы прочерченного рисунка, делала его более эффектным за счет
усиления контраста с блестящим черным фоном. Основные композиции
такого меандра представлены имитацией «бегущей волны», лабйринто-
образным узором в сочетании со стреловидными фигурами (рис. 3, 2,
4, 6-11).
Анализ композиций, содержащих меандр, показал, что в соответст¬
вии с требованиями определенных технических традиций‘они демонст¬
рируют единство основных элементов узора: спиралей и «бегущей волны»,
узоров-лабиринтов и волнистых линий, стреловидных фигур. Несколь-
57
Рис. 2. Керамика с меандром в стиле сграффито.
58
Рис. 3. Керамика с меандровым и «пиктографическим» узором.
59
ко более свободными в выборе орнаментальных сюжетов были те масте¬
ра, которые украшали сосуды в технике обычного прочерчивания, однако
и они нередко предпочитали уже разработанные, ставшие традиционными
варианты меандра.
Классические образцы меандра встречены лишь на посуде поселения
Рыбное озеро. Значительно шире в традиционной орнаментике населения
Приамурья в урильское время использовались орнаментальные схемы,
стилизованные под меандровый рисунок и, видимо, представляющие со¬
бой результат его позднейшей переработки. Такой декор, составленный
из выглаженных складчатых валиков, отмечен на целой серии сосудов
наиболее известных поселений раннего железного века — на о-ве Уриль-
ском, у сел Кукелево, Петропавловское, Максим Горький. В большинст¬
ве случаев он представляет собой различные сочетания Г- и П-образных
фигур, Z-образных зигзагов, подпрямоугольных и подтреугольных фесто¬
нов, дополняющих узкие острореберные валики. Лишь на отдельных об¬
разцах керамики Бензобаков и Петропавловки встречены изображения,
напоминающие стилизованную спираль. В целом набор орнаментальных
мотивов такого «меандра» значительно беднее изобразительных сюжетов
на керамике Рыбного озера.
Другая группа декора редких форм, встреченная в составе орнамен¬
тального комплекса Рыбного озера, представлена необычайно вычурны¬
ми композициями, в основу которых положено изображение прочерчен¬
ных фигур сложного контура 5. В трудночитаемой затейливой вязи ри¬
сунка прослеживается принцип симметрии, основанный на ритмическом
повторении ведущих элементов узора вдоль горизонтальной оси переноса
изображения (рис. 4; 5, 2). В некоторых случаях на общем фоне выде¬
ляются крестообразные и стреловидные фигуры (рис. 3, 1, 5, 5, 12, 13;
6, 2—4). В целом по характеру основных изобразительных сюжетов та¬
кой орнамент напоминает «рисунчатое письмо» (пиктограмму). Сколько-
нибудь близких аналогов ему в орнаментальных комплексах урильских
поселений не обнаруживается.
Большинство сосудов, украшенных меандром и «пиктографическим»
узором, сильно фрагментировано и апплицируется не полностью, что,
естественно, затрудняет процедуру «прочтения» изображений. Недоступ¬
ными для понимания исследователя пока остаются смысл, вложенный
мастером в затейливый рисунок, его семантическая основа. В тех редких
случаях, когда общая орнаментальная схема восстанавливается в необхо¬
димом объеме, отмечается совместная встречаемость обеих разновидно¬
стей декора в составе одних и тех же композиций. Так, на отдельных со¬
судах вариация меандра в виде «бегущей волны» образует кайму, обрам¬
ляющую верхний ярус широкого многофигурного фриза (см. рис. 1, 1),
иногда в «пиктографическую» вязь вписаны ритмически чередующиеся
треугольные спирали, выполняющие функции разделительной зоны меж¬
ду элементами узора (рис. 1, 1\ 5, 1; 7).
Еще одна особенность рассматриваемых орнаментальных групп от¬
ражает определенную закономерность в выборе форм сосудов, украшав¬
шихся меандром и «пиктографическим» узором. Из всей' массы разнооб¬
разной по внешнему виду продукции гончары Рыбного озера выбирали
для этих целей сосуды трех типов: 1) бокаловидные чаши (см. рис. 4);
2) приземистые горшки с шаровидным туловом и горловиной, намеченной
легким отгибом венчика наружу (см. рис. 7); 3) сосуды с высокой шейкой
и выраженным в виде ребра перегибом на тулове (рис. 8). Все они по ха¬
рактеру отделки в большинстве своем не отличаются от остальной посу¬
ды и представлены по преимуществу массивными толстостенными экземп-
60
Рис. 4. Бокаловидная чаша, украшенная «пиктографической» композицией.
лярами. Компактную группу составляют сосуды с высоким качеством вы
делки. Как правило, именно на них встречаются наиболее сложные и за¬
мысловатые орнаментальные композиции. Такие изделия, по-видимому,
следует отнести к категории «парадной» посуды.
Сложные меандровые композиции в технике сграффито встречены на
сосудах второго, а комбинированный меандр — только на сосудах перво¬
го типа. Сложнофигурный прочерченный узор характерен для изделий
всех указанных форм. Следует отметить, что сосуды этого морфологическо¬
го ряда, как и украшающий их декор, являются нетрадиционными для ке¬
рамического комплекса урильской культуры. Бокаловидные чаши и со¬
суды с высокой шейкой вообще не известны на приамурских поселениях
эпохи раннего железа, а горшки с шаровидным туловом имеют единичные
аналоги лишь в коллекциях Петропавловки и Сухих проток-2.
У сосудов Рыбного озера, сохранившихся или восстановленных на
всю высоту профиля, оригинальный декор образует широкие фризы или
сплошные орнаментальные поля, покрывающие почти всю поверхность
изделий. У сосудов с высокой шейкой линия, прочерченная по ребру на
месте стыка тулова и горловины, делит орнаментальное поле на два са¬
мостоятельных яруса (см. рис. 6, 7; 8). У массивных горшков с шаровидным
туловом меандр нанесен на придонные участки стенок и сочетается с ред¬
ким декором смешанного типа, расположенным в верхней части тулова.
61
Рис. 5. Сосуды с «пиктографическим» орнаментом.
62
Рис. 6. Керамика с «пиктографическим» орнаментом.
63
^\\ЧЧЧЧЧ\Ч\\Ч^^^
L... JL I J I
Puc. 7. Сферический горшок с узором в виде «рисунчатого письма».
По мнению некоторых исследователей, сплошная орнаментация изделий
по всей их высоте связана с наиболее архаичными традициями декори¬
рования 6.
При всем многообразии сюжетных вариантов меандра и «пиктогра¬
фического» узора, которое демонстрируют материалы Рыбного озера, эти
разновидности орнамента все же следует рассматривать как проявление
культурной традиции, чуждой для искусства урильских племен При¬
амурья, как некую стилистическую инновацию, заимствованную извне и
не имеющую местных корней. В этом убеждает сравнительное изучение
декоративных композиций на керамике Рыбного озера и наиболее типич¬
ных образцов орнаментики неолитического населения нижнего Амура.
Несколько примеров простейшего меандрового орнамента в виде спира¬
лей, выполненных в прямолинейно-геометрическом стиле техникой гре¬
бенчато-пунктирного тиснения, дает керамика поселения на о-ве Сучу 7.
Отдельные ее образцы украшены вариациями классического «коленчато¬
го» меандра, однако в целом для искусства нижнеамурского неолита ха¬
рактерно стремление к разработке мотивов криволинейно-геометрическо¬
го стиля. На керамике поселений Малышево, Кондон, Вознесеновка, Тах¬
та и ряда других композиции составлены чередованием завитков спирали
Архимеда, гиперболической спирали, вихреобразными фигурами, «бегу¬
щей волной», изображениями личин. Элементарные фигуры формируют
затейливый рисунок, иногда напоминающий арабески 8. Определенное
сходство между неолитическим орнаментом и меандром эпохи раннего
64
t __J _J i l I
Puc. 8. Сосуд типа «юй» со схематически выполненным декором.
железа прослеживается главным образом в отдельных элементах техники
декорирования (прочерчивание, использование охры, ангоба) и в значи¬
тельно меньшей степени — в стилистике изображений. Редкие случаи,
когда в составе меандровых композиций на посуде Рыбного озера встре¬
чено изображение спирали, а на сосудах поселений Кондон-почта и
о-ва Сучу отмечены вариации меандра, не могут служить серьезным дока¬
зательством генетической преемственности этих традиций. Некоторые
исследователи допускают возможность эволюционного изменения прямо¬
линейно-геометрического орнамента в криволинейный. Так, А. П. Оклад¬
ников полагал, что спираль вознесеновской культуры могла возникнуть
из геометрического орнамента в результате «скругления» его углов 9,
однако примеры обратной эволюции художественного стиля к искусстве
древнего населения Приамурья нам неизвестны. *
Доля нетрадиционных разновидностей декора в общей структуре
орнаментального комплекса Рыбного озера довольно велика и состав¬
ляет 22,8 %. Удельный вес прочерченного меандра и «пиктографического»
узора в орнаменте, выполненного в той же технической традиции, равен
48,5 %, т. е. теоретически оригинальный декор встречен почти на каждом
втором сосуде, орнаментированном в технике линейного прочерчивания.
Показатель встречаемости сосудов с редкими формами декора в общей
массе керамического материала поселения соответственно равен: для бо¬
5 Заказ № 87
65
каловидных чаш — 9,4%, для горшков с шаровидным туловом — 8,1, для
сосудов с перегибом на тулове — 0,5 %. Приведенные статистические дан¬
ные указывают на то, что новая, ранее неизвестная автохтонному населе¬
нию традиция проникла в Приамурье из мощного культурного центра,
расположенного на сопредельной с бассейном Амура или близкой к нему
территории.
В поисках возможного источника культурного влияния обратимся к
археологическим материалам Приморья. На крайнем юге этого региона,
преимущественно в зоне побережья Японского моря, распространены па¬
мятники классического варианта янковской культуры, существовавшей
одновременно с урильской в Приамурье. Они относятся к первой половине
I тыс. до н. о. Меандровые композиции на посуде янковских поселений
встречаются нечасто (п-ов Песчаный, Славянка-1, 2, Чапаево и др.). Они
представлены как классическим типом меандра, так и его разновидностя¬
ми в виде Г-образных, П-образных и ступенчатых фигур. В первом слу¬
чае орнамент играет самостоятельную роль, во втором — используется
в составе более сложных композиций 10. Основной технический прием на¬
несения декора — бороздчатое прочерчивание. Особенно интересно при¬
сутствие в орнаментальных схемах, созданных по мотивам меандра,
стреловидных фигур, аналогичных тем, которые были встречены на посу¬
де Рыбного озера. Однако на янковской керамике они представляют со¬
бой вполне самостоятельные элементы узора, хотя и сочетаются с други¬
ми разновидностями декора. Единичные образцы янковской посуды
украшены имитацией слабоскрученной спирали, выполненной в геометри¬
ческом стиле п, но эти изображения нанесены с помощью рельефного на-
лепа и в большей степени напоминают позднейшие формы приамурского
орнамента, возникшие на основе трансформации меандровых мотивов
(рис. 9). Хорошо представлен в орнаментике янковской культуры «рас¬
павшийся» меандр.
В целом, как об этом можно судить по опубликованным материалам,
на посуде янковской культуры представлены простейшие меандровые
композиции, которые по разнообразию элементов узора заметно уступают
приамурским. К тому же, несмотря на довольно широкую географию
распространения меандра на юге Приморья, его удельный вес в орнамен¬
тальных комплексах каждого отдельного поселения невелик. Так, среди
декора сосудов с поселения Славянка-2, по подсчетам авторов раскопок,
он составляет не более 2 %12. Приморскому меандру присуща иная зо¬
нальность: обычно он опоясывает сосуд узким фризом в верхней его по¬
ловине. Следует также отметить, что среди янковской керамики не встре¬
чено сосудов, типологически идентичных изделиям с меандром из Рыб¬
ного озера. Декоративно-прикладному искусству Приморья чужд «пикто¬
графический» орнамент. Все это не дает оснований рассматривать данный
регион как возможный центр распространения редких форм посуды и
геометрического декора.
Среди традиционных разновидностей орнамента на посуде зайсанов-
ской культуры, существовавшей на юге Приморья в эпоху неолита, выде¬
ляются композиции, построенные на мотиве меандра. По данным
Г. И. Андреева, сосуды с таким декором составляют 2,5 % керамики по¬
селения Зайсановка-1 13. Отмечается ряд характерных особенностей в тех¬
нике нанесения меандра. Так, образцы из Зайсановки-1 содержат геомет¬
рический рисунок, выполненный обычным прочерчиванием, что сближает
его с приамурским меандром. Довольно типичны для зайсановского комп¬
лекса элементы узора в виде туго скрученной прямоугольной спирали,
коленчатых фигур, составляющих лабиринтообразный рисунок 14
Рас. 9. Керамика с меандром янковской культуры.
1 — Славянка-1, 2, Песчаный, Чапаево; 2,4 — Чапаево; 3 — Олений Б (слой V); 5 — поселение
на мысе Седловидном; 6—19 — Песчаный.
67
5*
(рис. 10). Нередко прочерченному меандру сопутствует лощеный до зер¬
кального блеска фон 15. Наиболее изящно выглядят узоры, у которых
прочерчиванием оформлялся лишь основной контур фигур, а их внутрен¬
нее пространство заполнялось оттисками мелкозубчатой гребенки, насеч¬
ками отступающей лопаточки, красно-бурой краской 16. Способ повыше¬
ния контрастности изображения за счет подчеркивания различий факту¬
ры рисунка и декорируемой плоскости широко применялся в гончарной
практике неолитических племен нижнего Амура, однако в эпоху раннего
железа в Приамурье он был неизвестен.
Наибольшее стилистическое сходство прослеживается между меанд-
ровым орнаментом Рыбного озера и декором на керамике неолитического
(нижнего) слоя поселения Кроуновка, расположенного в континентальной
части юга Приморья 17. На посуде обоих памятников в составе сложных
композиций' присутствует рисунок в виде причудливых сочетаний линий,
складывающихся в узор-лабиринт или имитирующих «бегущую вслну»,
которая состоит из повторяющихся завитков прямоугольных и ромби¬
ческих спиралей.
Меандр, выполненный в оригинальной технике прочерчивания от¬
ступающей палочкой, известен на сосудах зайсановского облика из
Оленьего А (слой III)18. По стилевым особенностям он напоминает про¬
стейший меандр, встречающийся на нижнеамурской посуде неолитическо¬
го поселения о-ва Сучу. Декор, подобный оленинскому, зафиксирован на
обломках сосудов раннего комплекса Синих Скал, а также на сопке
Мустанг 19.
Некоторые исследователи рассматривают «меандровую» керамику как
новый для зайсановской культуры элемент, который появляется уже на
заключительном этапе ее развития 20. Д. Л. Бродянский называет поздне¬
неолитический меандр орнаментом «андроновского типа (облика)», ранее
неизвестного в зайсаноЕских комплексах 21.
В бассейне Енисея — самой восточной области распространения па¬
мятников андроновской культуры — основными элементами декора на
керамической посуде являются спиралевидные фигуры в прямолинейно¬
геометрическом стиле, Z-образные и Г-образные мотивы, треугольники
(рис. 11). В орнаментике преобладают композиции, воссоздающие «бегу¬
щую волну» или обычную волнистую линию, «ковровый» узор. Почти все
эти элементы и способы композиционного построения встречаются в де¬
коративно-прикладном искусстве древнего населения юга Дальнего Вос¬
тока СССР, однако андроновские мастера наносили меандр в гребенчато¬
пунктирной технике с применением зубчатого штампа, т. е. использова¬
ли приемы, не знакомые зайсановским, урильским и янковским гончарам.
Меандр, близкий к зайсановскому, известен на керамике памятников
финального неолита Северной Кореи (Сопхохан IV, Чхондынмалле, Нонп-
хо, Тэсан)22. Наиболее традиционные его элементы — спирали с завитка¬
ми прямоугольной или квадратной формы. В составе большинства компо¬
зиций отмечено ритмическое чередование спиралей вдоль горизонтальной
оси бордюра, но иногда фигуры с противоположным направлением враще¬
ния как бы скручены в один клубок. Довольно обычными для местной
орнаментики выглядят имитации «бегущей волны», разорванные компози¬
ции, построенные по принципу классического меандра (рис. 12). С мате¬
риалами Рыбного озера поздненеолитическую керамику Северной Кореи
сближает присутствие в комплексах сосудов с шарообразным резервуа¬
ром, бокаловидных чаш. К числу общих орнаментальных сюжетов, кро¬
ме уже упомянутых, следует отнести также стилизованные изображения
волнистых линий, крестообразные фигуры. Вместе с тем основная масса
68
Рис. 10. Керамика с меандром зайсановской культуры.
1—16 — Зайсановка-1; 17—25 — Кроуновка (нижний слой); 26 — Олений А (слой НО.
Рис. 11. Керамика с меандром андроновской культуры на Енисее.
I — Соленоозерная I; 2 — Сухое озеро I; 3 — Пристань I; 4 — Андроново.
керамического материала северокорейских поселений существенно отли¬
чается от посуды Приамурья как по типологии изделий, так и по харак¬
теристикам декора. Эти различия объясняются не только разным обликом
сравниваемых культур, но и их асинхронностью. А. П. Окладников про¬
слеживает сходство в орнаментальных мотивах неолитического времени
Приморья (Зайсановка-1) и Южной Кореи (Тонсамдон)23. Реминисценции
неолитической традиции орнаментирования в виде отдельных компози¬
ций «распавшегося» меандра встречаются на керамике поселения о-ва Чхо-
до (пров. Северный Хамген) в слое, который может быть датирован пер¬
вой половиной I тыс. до н. э.24
Обратимся теперь к материалам древних памятников, расположенных
на территории Северо-Восточного Китая (Маньчжурия), которая на се¬
вере примыкает к районам Приамурья, а на востоке — к сЪветскому При¬
морью. В южной части дунбэйской равнины Сунляо, преимущественно
в бассейне р. Ляохэ, китайскими археологами выделена группа памятни¬
ков типа Сяохэянь, представленная грунтовыми могильниками Шиянь-
шихушань, Шипэншань, Байсыланинцзы и др.25 Некоторые исследовате¬
ли выделяют их в особую археологическую культуру 26, другие считают
позднейшим этапом в развитии неолитической культуры хуншань 27.
В составе инвентаря погребений, которые могут быть датированы
второй половиной III тыс. до н. э., есть оригинальные сосуды «юй», по ря-
70
Рис. 12. Керамика с меандром финального неолита Северной Кореи.
1,6,7 — Нонпхо; 2—5, 9—13 — Чхондынмалле; 8, 14—17 — Сопхохан IV.
ду особенностей формы и профиля сближающиеся с сосудами из Рыбного
озера, имеющими перегиб на стыке тулова и горловины. У сосудов из
южно-маньчжурских погребений, как и у приамурских, приземистый ре¬
зервуар, воспроизводящий форму чаши-пиалы, и высокая выделенная
горловина, основание которой расположено ниже середины высоты изде¬
лия 28. Правда, у большинства дунбэйских сосудов воротничковая горло¬
вина смоделирована в виде воронки и не имеет изгиба в профиле. В месте
перехода горловины в тулово находятся парные петельчатые ручки, рас¬
положенные вертикально (рис. 13, 7, 5).
Горловины отдельных сосудов «юй» украшены орнаментом типа клас¬
сического меандра. У некоторых экземпляров на тулове располагаются
узкие фризы из треугольных фигур, повторяющихся вдоль оси бордюра.
Целая серия изделий украшена затейливыми симметричными узорами,
внешне напоминающими «пиктограмму»29. Такой орнамент в некоторых
деталях сходен с многофигурными композициями Рыбного озера. Как
правило, он выполнялся в технике росписи, хотя иногда для его нанесе¬
ния использовалось прочерчивание. Появление сложного расписного узо¬
ра на погребальной посуде из могильников типа Сяохэянь исследователи
связывают с влиянием неолитической культуры давэнькоу, памятники
которой локализуются в районе Шаньдунского п-ова 30.
71
Рис. 13. Керамика со сложным орнаментом из погребений могильников типа Сяохэянь.
1—4 — Байсыланинцзы; 5—7 — Шипэншань; 8 — Шиянылихушань.
Памятники типа Сяохэянь служат связующим звеном между неоли¬
том и эпохой ранней бронзы 31. В культуре сяцзядянь, с появлением кото¬
рой на юге Дунбэя открывается эпоха палеометалла, формы сосудов «юй»
получают дальнейшее развитие. В памятниках типа нижнего слоя Сяц¬
зядянь, относящихся к раннему этапу бронзового века (XX—XVI вв.
до н. э.), наблюдается чрезвычайное многообразие морфологических ва¬
риантов посуды этого типа. Так, у сосудов из керамических комплексов
поселений Сяцзядянь, Фэнся, Яованмяо, Дадянцзы, Вэйфан, Чжанц-
зяюань и некоторых других прослеживается тенденция к уменьшению
высоты чашевидного тулова за счет увеличения высоты шейкич Последняя
приобретает выраженный в профиле изгиб в результате отгибания венчика
наружу. На месте перехода тулова в горловину появляется характерное
ребро перегиба, полностью исчезают детали лепнины32. Отдельные
экземпляры таких форм являются точной копией сосудов из Рыбного озе¬
ра (рис. 14, 7, 5, <$, 13).
В керамике поселений Фэнся и Сяцзядянь отмечается сосуществова¬
ние различных традиций в моделировании сосудов «юй». У одних изделий
резервуар уменьшается в объеме настолько, что становится едва разли¬
чимым в общем контуре, у других высота придонной части, наоборот, за¬
метно возрастает, в результате чего линия, соответствующая перегибу ту-
72
Рис. 14. Керамика типа «юй» культуры сяцзядянь.
1—3 — Сяцзядянь; 4 — Чжанцзяюань (округ Тяньцзинь); 5 — В эй фан (округ Тяньцзинь); 6 —
Хуншаньхоу; 7 — Сяогуаньчжуан; 8 — Дадянцзы; 9 — Яованмяо; 10—14 — Фэнся; 15—18 —
район Чжанцзякоу (нров. Хэбэй).
лова, перемещается ближе к середине общей высоты. Некоторые сосуды
«юй» такого типа отличаются крутобокостью, у них появляется выражен¬
ное в профиле плечико, переходящее в низкую воротничковую горло¬
вину 33.
Оригинальность и некоторая архаичность формы присуща разновид¬
ностям сосудов «юй» из поселений эпохи ранней бронзы в пров. Хэбэй
(Гуцзяин и др.). Они отличаются тем, что у резервуаров нет рельефного
перегиба, детали лепнины представлены вертикальными петельчатыми
ушками, характерными для посуды предшествующего времени. Вместе с
тем на целой серии сосудов есть ручки в виде сосцевидных выступов
(«пеньков») и широких горизонтальных скоб, которые появляются на ке¬
рамике уже в эпоху бронзы. Отдельные экземпляры сосудрв’«юй» по фор¬
ме резервуара и наличию высоких парных ручек сближаются с горшками
типа «гуань» из поселений эпохи энеолита в Ганьсу (культура цицзя)34.
Подавляющее большинство сосудов «юй» с памятников типа Сяцзядянь
не орнаментировано, лишь у некоторых из них на стенках тулова встре¬
чены оттиски шнура.
Итак, анализ археологических материалов показывает, что мак¬
симальная концентрация и наибольшее видовое разнообразие высоко-
горлых сосудов с низким чашевидным резервуаром отмечаются в южной
73
части Северо-Восточного Китая. По-видимому, бассейн р. Ляохэ следует
рассматривать как особый «нуклеарный» район, откуда уже в первой по¬
ловине II тыс. до н. э. могло происходить распространение традиции
изготовления сосудов типа «юй».
На протяжении первой половины I тыс. до н. э. юг Дунбэя продол¬
жает оставаться центром производства такой посуды. Морфологический
ряд разновидностей сосудов «юй», сложившийся на предшествующем эта¬
пе развития, расширяется, наряду с изделиями архаичного облика, напо¬
минающими посуду из погребений типа Сяохэянь (например, поселение
Хуншаньхоу близ г. Чифэна), появляются новые формы, в том числе
«тюльпановидные» сосуды с венчиком, отогнутым наружу в виде широкого
карнизика (могильники Таныпань, Сяогуаньчжуан)35. Подобно экземпля¬
рам близких форм с поселения Рыбное озеро, они состоят из двух половин,
изготовленных отдельно и скрепленных между собой посредством реб¬
ристого перегиба 36. Одновременно получают широкое распространение
бокаловидные сосуды, горшки с шаровидным туловом и невысокой шей¬
кой, причем у последних отчетливо прослеживается эволюция внешнего
облика в сторону постепенного уменьшения высоты горловины, которая
иногда исчезает вообще 37. Таким образом, на поздней стадии культуры
сяцзядянь складывается тот набор типов посуды, который представлен
керамикой оригинальных форм на поселении Рыбное озеро.
Традиция изготовления сосудов «юй», а также, возможно, бокало¬
видных чаш и горшков с шаровидным туловом и едва намеченной горло¬
виной проникает в Приамурье на рубеже И —I или в самом начале
I тыс. до н. э. По материалам поселения Рыбное озеро, которое относится
исследователями к кругу наиболее ранних памятников урильской куль¬
туры 38, южное влияние прослеживается вполне отчетливо. Обнаружен¬
ные на этом поселении сосуды «юй» и некоторые другие типы глиняной по¬
суды находят прямые аналогии в керамике поздней бронзы юга Дунбэя,
в частности из инвентарных комплексов памятников типа верхнего слоя
Сяцзядянь (IX—V вв. до н. э.).
Современная изученность древних культур юга Дальнего Востока
позволяет наметить решение вопроса, связанного с поиском возможных
источников и путей проникновения в орнаментику гончарства урильского
населения Приамурья традиции декорирования керамики сложнофигур¬
ным узором, содержащим меандровые и «пиктографические» мотивы. Су¬
дя по имеющимся археологическим материалам, очаг возникновения такой
традиции следует локализовать в восточных районах Северо-Восточного
Китая, пограничных с территорией Хабаровского и Приморского краев.
На основе изучения комплексов инвентаря памятников эпохи бронзы,
расположенных в границах современной провинции Хэйлунцзян, китай¬
ские археологи выделяют культуру байцзиньбао, которая характеризует¬
ся устойчивым набором оригинальных черт и традиций в орнаментирова¬
нии керамической посуды 39. Отдельные памятники культуры байцзинь¬
бао известны также в пров. Цзилинь 40. Радиоуглеродное датирование в
сочетании со сравнительно-типологическим анализом вещевых комплек¬
сов позволило определить основное время ее. существования в пределах
широкого хронологического диапазона: начало XI — середина V в.
до н. э. К числу наиболее ранних отнесен опорный памятник культуры —
поселение Байцзиньбао (950 г. до н. э. ±100 лет). По исторической шкале,
принятой в китайской археологии, это время соответствует среднему эта¬
пу Западного Чжоу. Поздние памятники культуры байцзиньбао типа
Ванхайтунь, где найдены железные изделия, датируются эпохой Чжань-
го или даже Хань (V—II вв. до н. э.).
74
Рис. 15, Керамика со сложнофигурным орнаментом культуры байцзиньбао.
1—ю, 15—28 — Байцзиньбао; 11—14 — Нувэйбаган; 29—34 — Дабусыпао (пров. Цзили нь).
В коллекции керамики байцзиньбао выделяется группа изделий с
орнаментом, схематически во спроизводящим изображения волнистой ли¬
нии, лабиринта. Довольно обычны композиции, стилизованные под
75
«бегущую волну». Основными элементами узора являются Г- и П-образно
изогнутые линии, ступенчатые и стреловидные фигуры, Z-образный зиг¬
заг, косой крест спирали. Часть декора выполнена в технике гребенчато¬
го тиснения, однако ведущая роль принадлежит прочерченному узору
(рис. 15). Изгибы меандра нередко сопровождаются схематично выпол¬
ненными зооморфными изображениями, повторяющимися вдоль оси бор¬
дюра 41.
Редкие разновидности декора, отмеченные в Приамурье на поселении
Рыбное озеро, вероятнее всего, заимствованы из орнаментики культуры
байцзиньбао, которая в начале I тыс. до н. э. переживает расцвет. Сравни¬
тельный анализ показывает идентичность в технике нанесения декора —
использование прочерчивания, окрашивание некоторых фигур охрой,
лощение фона. При декорировании глиняной посуды носители культуры
байцзиньбао нередко использовали прием росписи по гравированному
контуру: линии прочерченного орнамента заполнялись белой пастой,
что усиливало контрастность изображения, нанесенного на темный фон.
Урильские гончары добивались сходного эффекта за счет применения тех¬
ники сграффито — полосчатого выскабливания искусственно зачернен¬
ной поверхности сосуда по абрису рисунка.
Почти полностью совпадает стилистика большинства изображений
на посуде культуры байцзиньбао и поселения Рыбное озеро: для тех и дру¬
гих характерно ритмическое повторение ступенчатых, крестообразных и
стреловидных фигур, Z-образных зигзагов и спиралей. Сходство распрост¬
раняется и на общую композиционную структуру декора: геометризован-
ные волнистые линии, воспроизводящие классический меандр, сочетают¬
ся со стилизованными спиралями, набор различных геометрических фи¬
гур образует сложночитаемые «пиктографические» схемы. Совпадает также
зональность орнаментальных полей.
Совместная встречаемость в комплексах Рыбного озера керамики ти¬
па позднего сяцзядянь и сложнофигурного орнамента типа байцзиньбао
говорит о том, что традиции могли проникнуть в Приамурье из одного
центра. До настоящего времени смешанных комплексов сяцзядянь —
байцзиньбао на территории Маньчжурии не обнаружено, хотя их сущест¬
вование вполне допустимо, если учесть стадиальную синхронность куль¬
тур и географическую близость их ареалов. В любом случае южное про¬
исхождение необычных для традиционного гончарства Приамурья форм
сосудов и декора не вызывает сомнения.
Большой удельный вес «меандровой» и «пиктографической» керамики
в комплексах Рыбного озера при полном ее отсутствии на других поселе¬
ниях урильской культуры объясняется, очевидно, тем, что новые тради¬
ции проникают в Приамурье вместе с их этническими носителями. По-ви¬
димому, это результат прямой миграции какой-то локальной группы
дунбэйского населения и ее инфильтрации в среду земледельцев и ското¬
водов Среднего Амура. Проникновение пришлого населения’ в далекие
северные районы могло осуществляться с использованием *гакой важной
транспортной артерии древности, как р. Сунгари. Не случайно поселение
Рыбное озеро — единственный из известных памятников урильского типа,
в керамических материалах которого отчетливо фиксируются реминис¬
ценции инокультурных традиций,— расположено на левобережье Амура
неподалеку от места впадения в него р. Сунгари.
Появление в Приамурье мигрантов с юга относится, по всей види¬
мости, ко времени около рубежа II—I тыс. до н. э. К сожалению, отсутст¬
вие в этом регионе исследованных памятников, стадиально соотносимых с
эпохой бронзы (вторая половина II тыс. до н. э.), не позволяет установить
76
степень регулярности и устойчивости этнокультурных связей между на¬
селением Приамурья и Дунбэя. Основываясь на сравнительном анализе
материальных комплексов урильских поселений и памятников дунбэй-
ских культур бронзового века, можно предполагать, что в последующее
время — на протяжении всей первой половины I тыс. до н. э.— такие
контакты имели место и проявлялись преимущественно в виде заимство¬
вания отдельных элементов культурных традиций.
На начальном этапе раннего железного века в сферу влияния «меанд-
ровой» орнаментики попадают также районы Южного Приморья. Так,
вполне очевидно сходство между отдельными разновидностями меандра
байцзиньбао и геометрического декора на глиняной посуде Янковской
культуры. У истоков позднейших реминисценций классического меандра
и его сюжетных вариаций, основанных на повторении стреловидных и сту¬
пенчатых фигур, которые встречены на юге Приморья в «эпоху раковин¬
ных куч», мо!ли стоять непосредственно восточно-маньчжурские прото¬
типы. Во всяком случае, по подбору сюжетов и стилистике изображений
янковский орнамент ближе к восточно-маньчжурскому, чем к финально-
зайсановскому. Последний, как справедливо отмечено Д. Л. Бродянским,
по ряду технических характеристик и некоторым стилевым особенностям
также напоминает отдельные композиции на керамике байцзиньбао 42.
Однако однозначное решение вопроса о западных источниках «меандро-
вой» традиции в гончарстве поздненеолитического населения Приморья
затрудняет отсутствие достоверных данных, которые позволили бы осу¬
ществить надежную корреляцию позднезайсановских дат с ранними дата¬
ми байцзиньбао.
Общие элементы могут быть прослежены в орнаментике культуры
байцзиньбао и памятников финальной стадии неолита Северной Кореи.
Наличие на керамических изделиях различных вариаций стилизованной
спирали, разновидностей меандра коленчатого типа и декоративных схем
из крестообразных фигур напрямую сближает орнаментальные комплек¬
сы поселений типа Нонпхо, Чхондынмалле и памятников бронзового ве¬
ка Восточной Маньчжурии.
В сложной этнической истории народов, населявших в древности
южные районы Дальнего Востока и известных по китайским династийным
хроникам под именами фуюй, сушэнь, воцзюй, отразились важнейшие
военно-политические события, происходившие на севере Китая в конце
II тыс. до н. э. Борьба Чжоу с Шан-Инь и последующая экспансия
чжоускпх правителей против восточных варваров дун-и активизировали
миграционные процессы в Северо-Восточном Китае, которые, в свою оче¬
редь, способствовали установлению как прямых связей дунбэйских пле¬
мен с населением сопредельных областей, так и опосредованных контак¬
тов, осуществлявшихся транзитным путем. В конечном итоге это получило
отражение в расширении сферы влияния древних культур Дунбэя, под¬
тверждение чему мы находим в археологических материалах Приамурья.
ПРИМЕЧАНИЯ 11 Nordstrom Н.-А. Cultural Ecology and Ceramic Technology.— Stockholm,
1972.— P. 74—75.
2 Барышников А. П., Лямин И. В. Основы композиции.— М., 1951.— С. 52,
56-57, 60-61.
3 Деревянко А. П. Ранний железный век Приамурья.— Новосибирск, 1973. —
С. 312, табл. XXXIX; с. 315, табл. XLII; с. 316, табл. XLIII, 2-4.
77
4 Окладников А. П. Археология долины реки Зеи и Среднего Амура // СА.—
1966.— № 1.— С. 40.
5 Образец с таким декором опубликован А. П. Деревянко (Деревянко А. П.
Ранний железный век...— С. 312, табл. XXXIX).
6 Марков Г. Е. История хозяйства и материальной культуры в первобытном и
раннеклассовом обществе.— М., 1979.— С. 99.
7 Мыльникова Л. Н. К характеристике орнамента неолитической керамики
пос. Сучу /У Проблемы археологии Северной и Восточной Азии.— Новосибирск,
1986. — С. 86, табл. I, 1—4ч 8—9, 11.
8 Там же.— Табл. I, 7, 12—21; Окладников А. П. Отчет о раскопках древнего
поселения у села Вознесеновского на Амуре, 1966 г.//Материалы по археологии Сибири
и Дальнего Востока.— Новосибирск, 1972.— Ч. 1.— С. 26, рис. 4, 6; с. 30, табл. 3;
Он же. Керамика древнего поселения Кондон.— Новосибирск, 1984.— С. 68, табл. XV;
с. 72—76, табл. XIX—XXIII и др.
9 Окладников А. П. Неолит Сибири и Дальнего Востока // Каменный век на
территории СССР.— М., 1970.— С. 187.
10 Андреева Ж. В., Жущиховская И. С., Кононенко Н. А. Янковская культу¬
ра.— М., 1986.- С. И.
11 Окладников А. П. Далекое прошлое Приморья.— Владивосток, 1959.—
С. 110, рис. 43.
12 Андреева Ж. В., Жущиховская И. С., Кононенко Н. А. Янковская культу¬
ра.— С. 115.
13 Андреев Г. И. Поселение Зайсановка-1 в Приморье // СА.— 1957.— № 2.—
С. 133»
14 Там же. — Рис. 9.
15 Окладников А. П. Далекое прошлое Приморья.— С. 62.
16 Андреев Г. И. Поселение Зайсановка-1...— С. 128, рис. 6; с. 133; Окладни¬
ков А. П. Далекое прошлое Приморья.— С. 62, 64, рис. 26.
17 Бродянский Д. Л. Введение в дальневосточную археологию.— Владивосток,
1987. — С. 92, рис. 60, 1—4; Окладников А. П. Неолит...— С. 189, рис. 8.
18 Бродянский Д. Л. Введение...— С. 56, рис. 26, 2.
19 Гарковик А. В. Поселение с гротами у подножия Синих Скал // Материалы
по истории Дальнего Востока.— Владивосток, 1973.— С. 44; Она же. Поселение на
сопке Мустанг // История, социология и филология Дальнего Востока.— Влади¬
восток, 1971.— С. 72.
20 Бродянский Д. Л. Введение...— С. 93; Окладников А. П., Бродянский Д. Л.,
Чан Су Бу. Тихоокеанская археология.— Владивосток, 1980.— С. 38.
21 Бродянский Д. Л. Неолит и бронзовый век Приморья в свете ретроспективно¬
го метода // Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока: Тез. докл. Все-
союз. конф.— Новосибирск, 1973.— С. 44; Он же. Приамурско-маньчжурская архео¬
логическая провинция в IV—I тысячелетиях до н. э. // Соотношение древних культур
Сибири с культурами сопредельных территорий.— Новосибирск, 1975.— С. 182.
22 Ларичев В. Е. Неолит и бронзовый век Кореи // Сибирь, Центральная и Вос¬
точная Азия в древности: Неолит и эпоха металла.— Новосибирск, 1978.— С. 46,
рис. 29, 5, 9; с. 55, рис. 34, 13, 14, 17—19, 21—23; Сборник статей по археологии и
этнографии.— Пхеньян, 1969.— № 1.— С. 35, рис. 3, 9\ с. 36, рис. 6, 1—4 (на корейск.
яз.).
23 Окладников А. П. Неолит...— С. 65.
24 Отчет о раскопках первобытного памятника Чходо у Начжина.— Пхеньян,
1956.— Табл. ХСН, 2, 7, 8 (на корейск. яз.).
25 Ван Чжаоцзюн. Обследование поселений в верхнем течении р. Юйкэхэ, хо-
шун Аоханьцы, Внутренняя Монголия // Каогу.— 1963.— № 1.— С. 525—528 (на
кит. яз.); Ли Гунду. Новые археологические открытия на горе Шипэншань в аймаке
Чжоуда // Вэнь у.— 1982.— № 3.— С. 31—36 (на кит. яз.); Су Хэ. Погребение эпохи
неолита Шиянынихушань в хошуне Аоханьцы аймака Чжоуда // Каогу.— 1963.—
№ 10.— С. 523—524, 546 (на кит. яз.).
Автор приносит благодарность сотрудникам Института истории, филологии и
философии СО АН СССР С. В. Алкину и С. А. Комиссарову за помощь в работе с пуб¬
ликациями китайских авторов.
26 Ли Гунду. Новые археологические открытия...— С. 31—36.
27 Ларичев В. Е. Неолитические памятники бассейна верхнего Амура (Ананци,
Дунбэй) // МИА.— I960.— № 86, т. 1.- С. 172.
28 Ван Чжаоцзюн. Обследование поселений...— С. 525—528; Лю Гуаньмин.
Несколько вопросов по эпохе бронзы юго-восточного района Внутренней Монголии //
Сборник статей IV съезда Археологического общества Китая, 1983 г.— Пекин, 1985.—
С. 170, рис. 13—16 (на кит. яз.).
78
|29 Там же.— Рис. 13; Открытие трех типов первобытной культуры в коммуне
Сяохэянь, у. Аохань, пров. Ляонин // Вэнь у.— 1977.— № 12.— С. 13, рис. 1, 2 (на
кит. яз.).
30 Ли Гунду. Новые археологические открытия...— С. 35.
31 Археологические раскопки и исследования в Новом Китае.— Пекин, 1984.—
С. 175 (на кит. яз.); Открытие трех типов первобытной культуры...— С. 1—22.
32 Го Дашунь. Новые достижения в исследовании культур бронзы западной
части бассейна р. Ляохэ // Сборник статей IV съезда Археологического общества
Китая, 1983 г.— Пекин, 1985.— С. 186, рис. 3—4 (на кит. яз.); Ли Цзинхань. Второй
сезон раскопок стоянки Чжанцзяюань, у. Цзисянь, округ Тяньцзинь // Каогу.—
1984.— № 8.— С. 700, рис. 7 (на кит. яз.); Ли Цзинхань, Лиан Баолин. Отчет о раскоп¬
ках стоянки Вэйфан, у. Цзисянь в округе Тяньцзинь // Каогу.— 1983.— № 10.—
С. 883, рис. 19 (на кит. яз.); Открытие трех типов первобытной культуры...— С. 15,
рис. 5, 8; Сообщение о предварительных раскопках памятников Яованмяо и Сяцзя-
дянь, г. Чифэн // Каогу.— 1961.— № 2 (на кит. яз.); Сообщение о предварительных
раскопках 1974 г. поселения Дадянцзы, у. Аохань // Каогу.— 1975.— № 2 (на
кит. яз).
33 Го ДаФунь. Новые достижения...— С. 186, рис. 5, 10\ Открытие трех типов
первобытной культуры...— С. 15, рис. 5, 9.
34 Тао Цзунъе. Сообщение об археологическом обследовании района Чжанц-
зякоу, пров. Хэбэй // Каогу юй вэньу.— 1985.— № 6.— С. 14, рис. 2, 4, 13, 23 (на
кит. яз.).
35 Ларичев В. Е. Бронзовый век Северо-Восточного Китая: (По материалам рас¬
копок китайских и японских археологов) // С. — 1961.— № 1.— С. 7, рис. 3, 4\ с. 16,
19, рис. 15, 15.
36 Там же. — С. 16; Ань Чжиминь. Каменные могилы в Таныпань, а также куль¬
турные остатки, связанные с ними // Каогу сюэбао.— 1954.— № 7.— С. 77—86 (на
кит. яз.).
37 Ларичев В. Е. Бронзовый век...— С. 7, рис. 3, 7, 8; с. 22.
38 Деревянко А. П. Ранний железный век...— С. 243.
39 К вопросу об анализе периодизации культуры Байцзиньбао // Бэйфань вэ¬
ньу.— 1986.— № 1.— С. 11—15 (на кит. яз.); Первые раскопки поселения Байцзинь¬
бао, у. Чжаоюань, пров. Хэйлунцзян // Каогу.— 1980.— № 4.— С. 311—324 (на
кит. яз.).
40 Лю Фасян. Краткий отчет об обследовании восточного берега [озера] Дабу-
сыпао в у. Цяньань, пров. Цзилинь // Каогу.— 1984.— № 5.— С. 402, рис. 1—25
(на кит. яз.).
41 Ань Лу, Вэй Мин. Могильник Эркэсянь на р. Нэньхэ в пров. Хэйлунцзян
и некоторые вопросы его изучения // Бэйфань вэньу.— 1986.— № 2.— С. 5, рис. 1
(на кит. яз.); К вопросу об анализе периодизации...— С. 11; Первые раскопки...—
С. 318, рис. 13, 16, 20, 23; с. 319.
42 Бродянский Д. Л. Введение...— С. 162.
А. Я. КОНДРАТЕНКО
К ВОПРОСУ ОБ АНТРОПОМОРФНЫХ ЛИЧИНАХ
В КЕРАМИКЕ КУЛЬТУРЫ ДЗЕМОН
Керамика с антропоморфными изо¬
бражениями характерна для древ¬
них айнов и, будучи связана с «рангово-престижным обществом», несет
определенную информативную функцию. Важно отметить сложившуюся
каноничность таких изображений, устойчивое стилевое направление.
При сравнительном анализе керамики с антропоморфными личинами
устанавливается значительное сходство подобного рода изображений
амурского неолита IV—III тыс. до н. э. и синхронных памятников, от¬
носящихся к культуре дзёмон Японского архипелага. Сердцевидная фор¬
ма керамики с антропоморфными личинами зафиксирована по обе сто¬
роны Японского моря, можно провести аналогию между сердцевидными
личинами дзёмона и личинами на керамике из Кондона (см. рисунок, 2, а).
Личина в форме сердца представлена на атипичном догу собрания Ямад¬
заки из префектуры Гумма (рис., 2, б)1. Сдвоенные антропоморфные личины
на керамике из Вознесеновки (рис., 2, а) имеют ряд аналогий в других
культурах бассейна Тихого океана. В частности, сходные по'форме и рас¬
положению сердцевидные личины — на игольнике из Ипиутака (около
300 г. н. э.)2.
Анализируя антропоморфные налепы, по формальным признакам мы
можем выделить серию конкретных изображений (рис., 2) и группу более
стилизованных личин, как правило парных (рис., 2). Новогвинейская
и меланезийская керамика с сердцевидным налепом отделена от внешне
сходных с ней образцов бассейна Японского моря интервалом около
3 тыс. лет. Исследование процесса трансляции стабильных образов в
керамике дзёмон, например изображений раннего бронзового века Запад-
© А, П. Кондратенко, 1990
80
Антропоморфные личины.
1 — конкретные изображения; 2 — парные изображения; з — эволюция от конкретных рельефных
изображений к стилизованным символическим*
ной Сумбы Зондских островов (рис., 3, а), изображений на керамике
ланита протополинезийцев (рис., 3, б), на «поствальдивийской» керамике
Пуэрто-Ормига Колумбии (рис., 3, в), выявляет парадоксально большую
древность южно-американской личины (около 3000 г. до н. э.) и сходство
ее с сердцевидными личинами бассейна Японского моря. Зондские и оке¬
анийские керамические фрагменты связываются с позднейшей керамикой
меланезийцев (рис., 7, в) по форме, а личина из Пуэрто-Ормига — с тра¬
дициями Вальдивии и, следовательно, со средним дзёмоном по форме и
времени бытования.
Сдвоенные стилизованные личины нижнеамурского неолита (рис.,
2, а), возможно, являются прототипом двойных сердцевидных личин,
встречающихся в качестве орнаментальных мотивов на резной кости
Ипиутака (рис., 2, б), и декоративных налепов на тольтекскбй керамике
(рис., 2, в). Временной разрыв в данном случае — около 1500 лет. Как и
в случае с южно-тихоокеанскими изображениями сердцевидных личин,
выявляются две основные закономерности:
1) основной ареал сердцевидных личин двух основных типов — бас¬
сейн Японского моря;
2) около 1000 г. до н. э. процесс трансляции подобного рода изобра¬
жений из района Японского моря обрывается, начинают преобладать
местные традиции.
6 Заказ JSIb 87
81
Археологические изыскания К. Мейгана на территории западного
мексиканского штата Колима дали материал, датированный по радио¬
карбону временем между 825 и 600 гг. до н. э. Среди прочей керамики бы¬
ли обнаружены вазообразные сосуды с личиной по горловине, а также
керамическая фигура существа смешанной природы с головой человека
на туловище зверя 3. На территории Японии подобного рода статуэтки
датируются поздним дзёмоном 4. «Доклассические» сосуды майя с антро¬
поморфными личинами датируются 100 г. до н. э.— 300 г. н. э.5 Находки
в курганах Адена (Огайо) мелкой пластики, напоминающей скульптуру
ольмеков, позволяют предположить, что вазы с сердцевидными личинами
появились не вследствие культурной диффузии через Берингов пролив,
а благодаря контактам с древнейшими цивилизациями Мезоамерики.
Вазы с антропоморфными личинами известны по находкам в Теотихуака-
не 6. Т. Дженн еще в 1918 г. находил сходство триподовой керамики майя
с изделиями аборигенов Сибири. Антропоморфная личина обычно изоб¬
ражала персонаж в маске, который участвовал в родовых праздниках,
играя роль того или иного божества.
Процесс этнокультурной трансляции осуществлялся в единичных
случаях прямым путем (Вальдивия), но, вероятно, большее значение име¬
ли косвенные контакты при посредничестве протополинезийцев. Начало
миграций протополинезийцев из Юго-Восточной Азии в Океанию Р. Саггс
датировал концом III тыс. до н. э. (около 2200 г. до н. э.). Около 1300 г.
до н. э. культура ланита, связанная с Юго-Восточной Азией, была уже
широко распространена в Меланезии 7. Один из самых широко известных
керамических фрагментов стиля ланита — личина из Ненумбо (Гава,
о-ва Риф). Личина сердцевидной формы, вероятно, изображает женское
лицо с ритуальной татуировкой — усами (рис., 3, б). Некоторые аналогии
подобным личинам прослеживаются и в изображениях комплекса «чере¬
повидных личин» Северо-Западной Америки, исследованного Е. А. Оклад¬
никовой 8.
Г1о мнению Е. А. Окладниковой, «по обеим сторонам Тихого океана
открывается прибрежный тихоокеанский мир наскального искусства, са¬
мым характерным элементом которого являются специфически оформлен¬
ные в виде личин антропоморфные изображения»9. То же можно сказать
и о распространении антропоморфных личин сердцевидной формы в районе
тихоокеанской прибрежной зоны. Большая древность перуанской культу¬
ры чавин снимает главное препятствие транстихоокеанских связей нео¬
литических культур бассейна Японского моря и раннеформативных куль¬
тур доколумбовой Америки — хронологический разрыв. Вероятным цент¬
ром зарождения рассмотренной керамической традиции является район
Японского моря.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Komatsu I. The Japanese people: Origins of the People and Language.— Tokyo.—
1962.- P. 36.
2 Covarrupias M. The Eagle, the Jaguar and the Serpent: Indian Art of the Ameri¬
cans.- N. Y., 1952.— Vol. 1.- P. 29-30.
3 Meighan C. W. Archaeology of the Morett Site, Colima.— Berkeley; Los Ange¬
les, 1972.— P. 13.
4 Domanovszky G. A keramia miiveszet kezdetei.— Budapest, 1981.— S. 205.
5 Willey G. R., Bullard W. R., Glass J. B., Gifford J. C. Prehistoric Maya settel-
ments in the Belize walley.— Cambridge (USA), 1965.— P. 26—27.
6 Гуляев В. И. Древнейшие цивилизации Мезоамерики.— М., 1972.— С. 131.
7 Saggs R. The hidden worlds of Polynesia.— L., 1963.— P. 9.
8 Окладникова E. А. Загадочные личины двух материков и петроглифы Урала //
Древние культуры Алтая и Западной Сибири.— Новосибирск, 1979.— С. 34—36.
9 Там же.— С. 84.
82
М. А. ДЭВЛЕТ
О КОСМОГОНИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
ДРЕВНИХ ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ЕНИСЕЯ.
ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА БЕЙСКОЙ СТЕЛЕ ИЗ ХАКАСИИ
В коллекции каменных изваяний и
плит с изображениями, хранящейся
в Хакасском областном краеведческом музее, имеется стела, вывезенная
А. Н. Липским из Бейского района. Точные данные о ее первоначальном
местонахождении установить не удалось. На двух противоположных боко¬
вых сторонах четырехгранного столба в точечной технике выбиты изобра¬
жения животных, птиц и тамгообразные знаки (см. рисунок).
В верхней части одной из боковых плоскостей представлены две
фигуры оленей со спиралевидными вихреобразными завитками на туло¬
вищах. Ниже находится силуэтное изображение лошади с подогнутыми
передними и вывернутыми кверху задними ногами. Ниже в ряд распола¬
гаются три фигуры лунорогих быков со скоплением точек в центре серпа
рогов. В нижней части плоскости выбиты контурные изображения оленя
и птицы (утка?). В задней части туловища оленя показано яйцо с невы-
лупившимся птенцом внутри. В передней части туловища оленя в скелет¬
ном стиле изображена водоплавающая птица.
В верхней части другой боковой плоскости стелы запечатлен ворон
с раскрытым клювом, ниже неясные, непонятные изображения, под ними
пять фигур оленей и безрогих животных. На этой плоскости рисунки
выполнены менее четко, чем на противоположной.
Изображения на Бейской стеле были скопированы нами и опублико-
лзаны в качестве аналогов енисейских петроглифов скифского времени без
попытки интерпретации сюжетного содержаниял. Между тем вопросы
семантики изображений на Бейской стеле представляют определенный
интерес с точки зрения мифологических воззрений их творцов.
© А. М. Дэвлет, 1990
6!
83
I
Изображения животных на каменной стеле из Бейского района. Хакасский областной
краеведческий музей.
Еще на заре своей истории первобытный человек пытался осмыслить
окружающий его мир, понять свое место в нем. У разных народов зафик¬
сированы сходные сюжеты мифов. Древний человек осмысливал мир
через миф.
84
Миф выражает мироощущение и миропонимание эпохи его создания 2.
Мифология представляла собой наиболее раннюю форму мировосприятия,
способ понимания мира. Мифологическое мышление людей первобытной
эпохи осваивало мир посредством конкретных образов, а не абстрактных
понятий. Раскрытие мифологического смысла произведений древнего изоб¬
разительного искусства представляет исключительно сложную задачу.
Воплощение мифа в памятниках изобразительного искусства и устная
передача мифа всегда находятся в тесном взаимодействии 3. Однако нельзя
однозначно рассматривать памятники древнего изобразительного искус¬
ства как иллюстрацию к литературному тексту. Перед исследователем
неизбежно встают вопросы, которые все еще ждут своего ответа: каковы
закономерности перехода элементов одного вида искусства в элементы
другого, каково соотношение между изобразительным искусством и лите¬
ратурой, первоначально устной, затем, на позднейших этапах, зафиксиро¬
ванной в памятниках письменности?4 Изобразительные источники могут
представлять неизвестные или сильно отклоняющиеся от засвидетель¬
ствованных в письменных источниках версии мифа, стадиально более ран¬
ние, более архаические 5.
Попытаемся в самых общих чертах ответить на вопрос: какие идеи
нашли символическое выражение в композициях, представленных на
Бейской стеле? Для начала оговоримся, что мы не располагаем сколько-
нибудь достаточными данными, позволяющими реконструировать мифо¬
логический смысл всей композиции. Мы можем только рассмотреть от¬
дельные изображения и определить их место в идеологических воззрениях
древних, а также попытаться наметить в самых общих чертах семантиче¬
скую связь между запечатленными в камне образами. На основании со¬
поставления отдельных мотивов, сюжетов и образов первобытной симво¬
лики попробуем гипотетически реконструировать некоторые элементы
древнего комплекса представлений, связанных с мифологической моде¬
лью мира.
До наших дней сохранилась (причем фрагментарно) незначительная
часть мифов алтае-саянских народов. Утратив свои изначальные функции
мировоззрения, мироощущения, мифы воспринимаются как фольклор,
эпос, сказки и рассказы6.
Сравнительное изучение мифологии различных народов мира пока¬
зало, что при всем многообразии мифов их сюжеты в различных частях
света все же бывают близки друг другу, повторяются, что круг сюжетов
и тем касается основных, корённых вопросов мироздания 7. Космогони¬
ческие мифы — мифы о творении, о происхождении Вселенной — у раз¬
личных народов мира составляют центральную группу. По мифологиче¬
ским представлениям, мир был создан из хаоса, из яйца и т. д. или деми¬
ургом — сверхъестественным творцом. Космизация первоначального хао¬
са, переход от хаоса к космосу, создание упорядоченной, организованной
Вселенной заключают основное содержание космогонических мифов. Хаос
выступает в виде аморфной консистенции яйца, мрака, первоначального
океана.
Видное место в композиции на Бейской стеле занимает ворон:
его относительно крупное изображение находится в верхней части одной
из плоскостей. Образ ворона встречается в мифологии многих народов
мира 8. Принято считать, что ворон стал популярным персонажем мифов
и сказок в силу своих внешних особенностей (черный окрас) и повадок
(хриплый крик, способность питаться падалью). Черный цвет осмысли¬
вался как черта хтоническая, связанная с нижним миром, с потусторон¬
85
ним миром мрака. Резкий, хриплый крик птицы воспринимается как зло¬
вещее предсказание. Поедание вороном падали делало его посредником
между жизнью и смертью.
Организация Вселенной, отделение неба от земли, суши от воды наи¬
более четко прослеживаются в мифологических представлениях о потопе,
несущем всеобщее разрушение, и об обуздании его разрушительной силы.
Персонажем древнейших письменно зафиксированных версий о всемирном
потопе выступает ворон. Ворон встречается в вавилонском эпосе о Гиль-
гамеше: в мифе о всемирном потопе он фигурирует в качестве посредника
между водной стихией и сушей. Ут-напишти, спасавшийся в ладье от
потопа, посылает птиц на поиски суши. Ласточка и голубь возвращаются,
не обнаружив сушу. Только ворон добирается до суши, где он находит
пищу, возможно, в виде трупов утопленников, что предвещает окончание
потопа. Таким образом, ворон выступает в эпосе о Гильгамеше в качестве
доброго вестника. Ут-напишти вещает Гильгамешу:
При наступлении дня седьмого
Вынес голубя и отпустил я;
Отправившись, голубь назад вернулся:
Места не нашел, прилетел обратно.
Вынес ласточку и отпустил я;
Отправившись, ласточка назад вернулась:
Места не нашла, прилетела обратно.
Вынес ворона и отпустил я;
Ворон же, отправившись, спад воды увидел,
Не вернулся; каркает, ест и гадит 9.
В библейском предании о Ноевом ковчеге встречается другая версия
этого мифа. Высланный на разведку ворон выступает не как благой, а
как дурной вестник. «А когда прошло сорок дней, Ной открыл окно ков¬
чега, которое он сделал, и выпустил ворона, и тот вылетел и летал туда
и обратно, покуда не высохла вода на земле. И он выпустил голубя от
себя, чтобы узнать, сошла ли вода с земли»10. В первый раз голубь вер¬
нулся ни с чем, во второй — принес ветку маслины, в третий раз не
вернулся.
В тюркском варианте этого мифа повествуется о том, что с окончанием
потопа Ульгень выпустил петуха, но тот погиб от стужи, затем гуся, ко¬
торый не возвратился, и наконец ворона, который тоже не вернулся, по¬
тому что нашел пищу — трупы утопленников 11.
Ворон является популярным персонажем мифологии различных на¬
родов Северной Азии и Северо-Западной Америки. Он часто выступает
в мифах о творении: создает свет, небесные светила, землю, людей и жи¬
вотный мир. Выступает в роли демиурга и культурного героя. В соот¬
ветствии с чукотским мифом он сотворил землю и горы, - по одной версии,
из испражнений, упавших в океан, по другой — из камней, которые он
уронил. Озера и реки образовались из его мочи. Ворон выступает в ка¬
честве первопредка, рождает сам себя, а затем близнецов — первых лю¬
дей. У ительменов в XVIII в. существовали мифы о вороне — создателе
земли, изобретателе лодки, одежды из листьев. Как отмечает Е. М. Меле-
тинский, нисхождение ворона с неба, странствование по Камчатке и та¬
инственный уход по завершении своих деяний напоминают самые арха¬
ические представления австралийцев, папуасов, американских индей¬
цев и т. д. о странствованиях культурных героев и завершении их жиз¬
ненного цикла в мифическую эпоху.
Ворон является солярной птицей китайской мифологии. В древне¬
китайском мифе рассказывается о том, что раньше было не одно, а 10
солнц, которые появлялись последовательно. Однажды они появились
86
все вместе, неся с собой испепеляющий жар. Меткий стрелок И сбил
из лука девять из них, тем самым выступив в качестве спасителя мира.
В поэме «Тянь вэнь» (IV в. до н. э.) говорится: «Зачем И стрелами сбивал
солнца? Почему вороны потеряли свои крылья?» Согласно верованиям
древних китайцев, на каждом солнце есть ворон, ворон выступает как
воплощение солнца 12. Известен и тюркский вариант этого мифа.
В мифологических представлениях многих народов ворон выступает
посредником между небом, землей и загробным нижним миром. Эта функ¬
ция медиатора определена тем, что, как всякая птица, он связан с небом.
Как птица, копающаяся в поисках пищи в земле, он связан с ней, как
птица, поедающая трупы,— с подземным царством. Эта связь с тремя
мирами делает его могучим помощником шамана. Культ ворона имел
широкое распространение у тувинцев. Считалось, что через него шаман
общался со своими духами-помощниками 13. На плаще тувинского шамана
прикреплялись фигурки двух черных воронов, которые предназначались
для «разведочной службы» шамана — поисков пропавшей души, выявле¬
ния злых духов и т. п. 14 Ворон считался гонцом, посланником шамана 15.
В якутской мифологии с воронами связан глава верхних злых духов
Улу Тойон, который является одновременно отцом воронов и покровите¬
лем наиболее могущественных черных шаманов 16. Якуты испытывали
стабильную неприязнь к ворону как к птице, связанной с «нечистой»
силой 17. Бурятское божество Ажарай считалось главой злых духов верх¬
него мира и отцом воронов 18.
Ворон противостоит гусям, лебедям, уткам и как водоплавающим,
и как перелетным. Противопоставление ворона водоплавающим птицам
ясно прослеживается в сказаниях о женитьбе ворона на гусыне,
лебеди и т. п., а также в популярном на Аляске мифе об участии ворона
в перелете и создании им земли. В тлинкитском мифе о потопе ворон
спасается от воды, улетая на небо, а его мать — плавая в виде утки.
В мифах коряков, нганасанов повествуется о браке дочери ворона с гу¬
сем. В мифологии индейцев имеется сюжет о браке ворона с водоплаваю¬
щей птицей: уткой, гусыней, лебедью 19. В якутской сказке повествуется
о тех временах, когда не только ворон, но и гагара имела черное оперение.
Они решили изменить его цвет. Завидуя яркой окраске других птиц,
ворон раскрасил гагару, и она стала пестрой. Посмотревшись в воду,
гагара нырнула в нее, не позаботившись о вороне. В отместку за веро¬
ломство ворон рассек клювом крестец гагары, после чего она так и оста¬
лась с вывороченными ногами, а ворон черным 20.
Неоднократно фигурирует в палеоазиатском фольклоре утка-поганка,
причем, как и некоторые другие птицы, такие как чайка, зимушка, она
противопоставляется ворону. В юкагирском мифе утка-поганка красит
ворона древесным углем, а он в отместку сбрасывает ее вниз, делая водо¬
плавающей птицей. Противопоставление ворону гагар и нырков харак¬
терно для фольклора индейцев. Противопоставляются их внешний вид
(цвет оперения), пристрастия в пище (гнилая у ворона, свежая у нырков),
связь ворона с сушей, а нырка с влагой и соответственно с сухими или
влажными сезонами 21. В сказках эвенков Приангарья фигурирует сю¬
жет шаманского соперничества героя в гусиной ипостаси с демоническим
божеством, которое в конце концов превращается в ворона 22.
В древней индоиранской мифологии наблюдается противопоставле¬
ние образа хищной птицы (орел, сокол, орлиноголовый грифон) и водо¬
плавающей (утка, гусь). Хищная птица символизирует высший, поту¬
сторонний мир, а водоплавающая — мир земной и власть над ним 23.
Такие же противопоставления орла и водоплавающей птицы, находящихся
87
к разных структурных подразделениях организованного космоса, про-
слеживаются в обнаруженных в Уландрыке (Алтай) изображениях (диа¬
дема, украшенная фигурками лебедей, служила основанием высокого
головного убора, который венчала фигурка орла)24. Возможно, образ
орла несет семантическую нагрузку, близкую к той, которая заключена
в образе ворона.
Противопоставление ворона водоплавающей птице наблюдается и
в композициях на Бейской стеле. Фигура ворона находится в верхней
части стелы, изображения водоплавающих — в нижней. Прослеживается
и другая оппозиция: фигуры ворона и уток размещаются на противопо¬
ложных грайях стелы. Очевидно, такое расположение обусловлено се¬
мантически.
Водоплавающая птица, способная существовать во всех трех стихиях
(в воздухе, на земле и в воде), является постоянным персонажем древних
космогонических мифов, в которых она выступает как демиург, творец
Вселенной. Миф о создании Вселенной из хаоса Мирового океана связан
с образом водоплавающей птицы. Мотив ныряния за землей на дно Миро¬
вого океана имеет широкое распространение в мифологиях народов мира,
охватывая обширный ареал расселения славянских и финских народов,
народов Сибири, Средней Азии, Дальнего Востока и Северной Америки 25.
Высказывалось предположение, что мотив ныряния за землей возник в
азиатской среде и распространение его связано с известными группами
монголоидной расы 26.
Космогонический миф алтае-саянских народов содержит повествова¬
ние о том, как две утки, плавающие в первобытном океане, создавали
Вселенную. Одна из них, ставшая позднее в шаманском варианте мифа
Ульгенем, решила создать землю из ила. Вторая утка, в шаманском ва¬
рианте — Эрлик, нырнула и достала со дна ил. Первая стала разбрасы¬
вать ил вокруг, и из ила получилась земля, а из камешков, которые
разбрасывала по суше вторая утка, возникли горы 27.
Мифологический сюжет об утке, ныряющей на дно для получения
земли для творения мира, сохранился в фольклоре хакасов. «Сначала
была утка,— повествуется в одном из хакасских преданий.— Она посы¬
лает за песком на дно реки другую утку. Песок толкла колотушкой де¬
вять дней, и начала земля расти, выросли большие горы»28.
Древнейший образ водоплавающей птицы, по мнению М. И. Боргоя-
кова, в тюркоязычном мире сохранился со значением «мифическая или
сказочная птица», «лебедь», «лебедь-девица». В последующем развитии
этот образ превратился в Мать Умай, которая, по поверьям, спускалась с
неба в образе женщины 29. Образ водоплавающей птицы в индоиранской
мифологии служил символом видимого, телесного мира 30.
Ненецкий шаман во время камлания, призывая духов, обращался
за помощью к своим помощникам — утке, являющейся, проводницей
шамана в верхний мир, и трем оленям, составляющим удряжку:
Небесная птица, приводящая духов, где ты?
Сегодня по небесным дорогам опять полетишь?
Небесная птица, мой огненный олень, олень пусть прийдет!
Дай ему знать, чтобы он пришел. Он бегает среди облаков.
Небесная птица, уточка моя, приведи оленя! 31
Для целей наших сопоставлений важно отметить, что образы водоплаваю¬
щей птицы и оленей в тексте шаманского камлания встречаются вместе,
подобно тому как они семантически слиты в композиции на Бейской стеле.
Здесь также имеются изображения ворона и оленя. Следует обратить
внимание и на то, что известны мифологические сюжеты превращения во¬
рона в оленя 32, а также создания оленей вороном 33. Очевидно, присут¬
88
ствие на Бейской стеле фигур ворона и оленя столь же закономерно, как
и изображения оленя и утки.
Изображения оленей на Бейской стеле наиболее многочисленны.
В работах А. П. Окладникова, Б. А. Рыбакова, А. И. Мартынова детально
проанализированы вопросы, связанные с образом солнечного оленя.
Б. А. Рыбаков пишет о том, что культ небесных оленей представляет собой
повсеместную архаическую стадию религиозных представлений в разных
концах древнего мира, в разной этнической среде 34. Может быть, разхме-
щение фигур оленей, наделенных солярной символикой в виде спиралей
и вихреобразных фигур, именно в верхней части стелы не случайно.
Интерес вызывает изображение оленя с яйцом в задней половине
его туловища, бозможно, древний художник хотел показать, как в
яйце — символе новой жизни — зарождается эмбрион будущего птенца,
как он развивается внутри оленя в птицу, изображенную как бы «изнут¬
ри» в скелетном стиле, а затем эта птица обретает самостоятельное су¬
ществование. Этот сюжет можно интерпретировать как три стадии разви¬
тия одной и той же птицы-демиурга, творца, к чудесному появлению кото¬
рой на свет причастен олень — Вселенная. О том, что птица в древних
енисейских мифах могла выступать как йрародительница духов-предков,
можно заключить по композиции на скалах Бижиктиг-Хая близ пос. Кы-
зыл-Мажалык. Здесь художник под хвостом птицы поместил яйцевидной
формы антропоморфные личины, вызывающие ассоциацию с яйцами,
снесенными этой птицей. Б. А. Рыбаков показал, что представления о
яйце как микрокосмосе, в котором отразилась Вселенная, восходят к
глубокой древности. Возможно также, что утка, изображенная в скелет¬
ном стиле внутри фигуры оленя, это прозрачная душа-тень, душа-при¬
зрак, о вере в которую имеются сведения в сибирской этнографии.
Знаменательно также присутствие лошадей в жертвенной позе среди
мифологических персонажей, изображенных на Бейской стеле. «Доказано,
что в космологии всех индоевропейцев,— пишет А. К. Акишев,— конь
связывался с серединой троичной модели, с Солнцем, огнем и солярными
богами; с Мировым деревом. Части тела соотносились с трехчастной мо¬
делью Космоса. В общеиндийских ритуалах жертвоприношения (напри¬
мер, в древнеиндийском) части тела жертвы ассоциировались с элементами
Космоса: передняя часть — восток, задняя — запад, 4 ноги — 4 угла
света, голова — небо, бог Агни, тело — Земля, хвост — нижний мир,
кровь — сперма и т. д.»35 В одной из версий мифа о сотворении человека
рассказывается о том, что души людям нес в клюве ворон, но, увидев
павшую лошадь, он решил поживиться ее глазами, открыл клюв и упу¬
стил души, которые разлетелись 36.
Несомненный космический характер всей композиции придает при¬
сутствие на стеле изображений лунорогих быков. Рога этих быков имеют
вид опрокинутого лунного серпа, внутри которого в двух случаях нахо¬
дится скопление мелких точек, окружающих более крупную точку-ямку,
в одном — только одна ямка.
В Древнем Двуречье, в Средней Азии III —II тыс. до н. э., в древне¬
иранской и древнеиндийской традициях бык — прежде всего образ лун¬
ного божества. В Шумере и Аккаде бог луны Син*представляется в виде
синебородого быка 37. В иранской мифологии месяц называется имеющим
семя быка.
И. Н. Хлопин, проанализировав материалы, связанные с образом
быка у первобытных земледельцев Средней Азии, приводит данные о свя¬
зи в авестийской мифологии Луны и крупного рогатого скота. Он обра¬
щается к арийскому мифу о первородном быке или, точнее, о первород¬
89
ном скоте, смерть которого явилась как бы искупительной жертвой и
породила весь растительный и животный мир на земле. Скот был создан
на правом берегу благой реки Дайтии, и был тот бык белым и сияющим,
как Луна. Когда бык умер, с его трупом произошли чудесные превраще¬
ния, давшие начало злакам, лечебным растениям, плодовым деревьям,
плодам и овощам. Затем все, что было светлого и чистого в семени скота,
перешло в сферу Луны и было очищено в свете Луны. Из семени быка
были сотворены различные животные: первоначально бычок и телка,
а затем от всех видов зверей по паре. Скот был сотворен дважды: в первый
раз как первородный скот и в следующий раз вместе с другими животны¬
ми 38.
Другую версию этого мифа приводит М. Бойс. После совершения
акта творения мира из воды вынырнул Злой Дух и стал творить опустоше¬
ние: он убил первотворного быка и Первочеловека. Благие божества
сумели обратить злодеяния на пользу мира. В частности, семя быка и
человека, очищенное Луной и Солнцем, породило еще больше скота и лю¬
дей 39. Возможно, что точки, сгруппированные в центре серпа рогов бы¬
ков на стеле, и символизируют «семя быка».
Для интерпретации памятника особое значение имеет не только рас¬
смотрение отдельных зооморфных образов, но, что очень важно, их раз¬
мещение в пространстве в соответствии с их семантикой, во всех их сово¬
купности, взаимообусловленности и внутреннем единстве. Наиболее на¬
глядно здесь реализуется оппозиция верх (ворон) — низ (утка), согласно
сферам обитания реальных птиц, что вызывает вполне закономерные
ассоциации. Зооморфные символы маркируют тем самым различные зоны
мироздания. Выражаясь словами Д. С. Раевского, в данном случае реа¬
лизуется «применение зоологического кода в качестве средства описания
мироздания»40.
Представляется, что на Бейской стеле нашел графическое отражение
мифологический сюжет, не дошедший до наших дней, но когда-то быто¬
вавший в местной среде. Бытовавшая в древнем обществе мифологиче¬
ская система представлений о мироздании, строении космоса содержит
глубокий философский подтекст. Композиционные схемы, запечатленные
на Бейской стеле, могут гипотетически интерпретироваться как космо¬
гонический миф, миф о сотворении Вселенной, выраженный символиче¬
ским языком в зримых образах.
ПРИМЕЧАНИЯ 11 Дэвлет М. А. Петроглифы Мугур-Саргола.— М., 1980.— Рис. 23.
2 Дьяконов И. М. Введение // Мифологии древнегд мира. — М., 1977.— С. 9.
3 Кинжалов Р. В. Проблема реализации вариантов мифа в повествовательном
фольклоре и избирательном искусстве // Фольклор и этнография. Связи фольклора с
древними представлениями и обрядами.— Л., 1977.— С. 15.
4 Афанасьева В. К. Гильгамеш и Энкиду: Эпические образы в искусстве.— М.,
1979.- С. 6.
5 Кинжалов Р. В. Проблема реализации вариантов мифа...— С. 25.
6 Потапов Л. П. Мифы алтае-саянских народов как исторический источник //
Вопросы археологии и этнографии Горного Алтая.— Горно-Алтайск, 1983.— С. 110.
7 Токарев С. А., Мелетинский Е. М. Мифология // Мифы народов мира: Энцикло¬
педия.— 2-е изд.— М., 1987.— Т. 1.— С. 12.
8 Анализ мифологических представлений о вороне см.: Мелетинский Е. М.
Сказания о Вороне у народов Крайнего Севера // Вести, истории мировой культуры.—
1959.— № 1; Он же. Структурно-типологический анализ мифов северо-восточных
палеоазитов. (Вороний цикл) Н Типологические исследования по фольклору. — М.,
1975.— С. 92—140; Он же. Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл Ворона.—
М., 1979; Он же. Палеоазиатский эпос о Вороне и проблема отношений Северо-Восточ-
90
ной Азии и^Северо-Западной Америки в области фольклора // Традиционные культуры
Северной Сибири и Северной Америки.— М., 1981.— С. 182—200; Он же. Ворон //
Мифы народов мира: Энциклопедия.— 2-е изд.— М., 1987.— Т. 1.— С. 245—247.
9 «О все видавшем» со слов Син-леке-уннинни, заклинателя/Пер. И. М. Дьяко¬
нова // Поэзия и проза Древнего Востока.— М., 1973.— С. 215.
10 Из «Книги Бытия». Потоп/Пер. С. Апта // Поэзия и проза Древнего Восто¬
ка.- М., 1973.— С. 553.
11 Анохин А. В. Материалы по шаманству у алтайцев.— Л., 1925.— С. 18; Ка-
таш С. С. Мифы, легенды Горного Алтая.— Горно-Алтайск, 1978.— С. 16.
12 Дерк Бодде. Мифы древнего Китая // Мифологии древнего мира.— М., 1977.—
С. 390.
13 Кенин-Лопсан М. Б. Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманст¬
ва.— Новосибирск, 1987.— С. 42.
14 Там же.— С. 45.
15 Там же.— С. 66.
16 Мелетинский Е. М. Палеоазиатский мифологический эпос...— С. 188.
17 Алексеев Н. А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири.—
Новосибирск, 1980.— С. 99.
18 Михайлов Т. М. Из истории бурятского шаманизма.— Новосибирск, 1980.—
С. 171.
19 Мелетинский Е. М. Палеоазиатский мифологический эпос...— С. 198.
20 Алексеев Н. А. Ранние формы религии...— С. 100.
21 Мелетинский Е. М. Палеоазиатский мифологический эпос...— С. 74.
22 Там же.— С. 95.
23 Раевский Д. С. О семантике одного из образов скифского искусства // Новое в
археологии.— М., 1972.— С. 64.
24 Кубарев В. Д., Черемисин Д. В. Образ птицы в искусстве ранних кочевников
Алтая // Археология юга Сибири и Дальнего Востока.— Новосибирск, 1984.— С. 98.
25 Золотарев А. М. Родовой строй и первобытная мифология.— М., 1964.—
С 278
26 Там же.— С. 279.
27 Потапов Л. П. Мифы алтае-саянских народов... — С. 102.
28 Катанов Н. Ф. Хакасский фольклор.— Абакан, 1963.— С. 104—105.
29 Боргояков М. И. Об одном древнейшем мифологическом сюжете, его эволю¬
ции и отражении в фольклоре народов Евразии // Вопросы древней истории Южной
Сибири.— Абакан, 1984.— С. 139.
30 Раевский Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен.— М., 1977.— С. 63.
31 Хомич Л. В. Шаманы у ненцев // Проблемы истории общественного сознания
аборигенов Сибири. — Л., 1981.— С. 39.
32 Мелетинский Е. М. Палеоазиатский мифологический эпос...— С. 156.
33 Там же.— С. 148.
34 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян.— М., 1981.— С. 59, 75.
35 Акишев А. К. Искусство и мифология саков.— Алма-Ата, 1984.— С. 31.
86 Басилов В. Н. Тюркоязычных народов мифология // Мифы народов мира:
Энциклопедия.— 2-е изд. — М., 1988.— Т. 2.— С. 539.
37 Иванов В. В. Бык // Мифы народов мира: Энциклопедия. — 2-е изд.— М.,
1987.— Т. 1.— С. 203.
38 Хлопин И. Н. Образ быка у первобытных земледельцев Средней Азии // Древ¬
ний Восток и мировая культура. — М., 1981.— С. 27—28.
39 Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи.— М., 1987.— С. 35.
40 Раевский Д. С. Модель мира скифской культуры.— М., 1985.— С. 108.
Е. JACOBSON
THE APPEARANCE OF NARRATIVE STRUCTURES
IN THE PETROGLYPHIC
ART OF
PREHISTORIC SIBERIA AND MONGOLIA
i n an article published in 1961 \ M.
Griaznov argued that evidence for
the emergence of the heroic narrative could be found in the early art of South
Siberia. Although he was primarily concerned with material from the pre-
Isbmic Turkic period, Griaznov proposed that the anecdotal plaques said to
be from the Ordos, as well as several from the Treasure of Peter the Great,
indicate the emergence of the heroic epic by the late Scytho-Siberian period
(late first millenium В. C.). Scenes of wrestlers or horses battling, of figures
resting under trees or hunting, suggested to Griaznov specific epic tales
which were recorded only in later periods. Most interesting was his obser¬
vation that the representation of trees in plaques from the Ordos or from
the Siberian Treasure indicated not an interest in landscape, but rather
a desire to specify the place where occurred a particular event in the life
of the hero 2.
It is of course unlikely that one could match epics recorded only in
much later centuries with images dating from the first millenium В. C. No¬
netheless, Griaznov’s suggestion that those images m&rk the emergence
of the Inner Asian heroic epic is intriguing 3. If it is correct, then it offers
a promising opportunity to clarify the intended reference of the earlier
Scytho-Siberian artistic tradition from which the plaques emerged. If we
were able to say that the anecdotal scenes to which Griaznov refers point
to a definite narrative tradition, then it would follow that the reconstructi¬
on of Scytho-Siberian art in its earliest phase would demonstrate the emergen¬
ce of that narrative intention. Such a conceptual framework would suggest
© E. Jacobson, 1990
92
the way in which now-scattered individual images would originally have
related to each other. It would be possible to inderstand, for example, whet¬
her the animal images to which are now attributed an iconic self-sufficiency 4
were actually intended to be observed within a larger and effectively nar¬
rative image context. But the reconstruction of the original imagistic context
of early nomadic art is elusive. If the organization of animal images on an
early nomad’s robe or worn by his horse carried any potential for the telling
of a tale, that intent is no longer recognizable in the bits and pieces of
images that remain. In the course of time and with the destruction of the
archaeological context, images once joined have been separated one from
the other 5.
There is, however, one earlier imagistic tradition that might shed
light on the extent to which narrative intention had appeared within Siberi¬
an pictorial representation before the late nomadic period and thus before
the period of th'e anecdotal plaques. That is the tradition of rock carving
and painting which neolithic and bronze age inhabitants of South Siberia
and ncrthern Mongolia left by the thousands along the shores and cliffs
of their rivers. Damaged as this record is by time, it nonetheless offers
a continuous pictorial record from before the second millenium В. C. down
to the period contemporaneous with the gold and bronze plaques of the
late nomads. Here, as in any primitive figurative tradition, the images
themselves and their organization possess a stability through time which
suggests meaning inherent in specific forms and in specific order 6. Thus
we must assume that every variation in image and construct had meaning:
whether images were zoomorphic or anthropomorphic, whether they were
arranged in frontal or in profile postures relative to the pictorial plane,
whether their postures signal no awareness of each other or whether they
appear to respond to each other. Furthermore, since these several principles
of pictorial organization conform to an extended chronological sequence
of rock representation, they function as pictorial indicators of a conservative
understanding of the relationship of signifier to signified. Thus the image
and the relationship of that image to the picture plane, to the assumed
viewer, and to other images function as indicators of meaning. The structu¬
red relationships they define serve as a «text» within which «language»
takes on pictorial form.
Before considering the petroglyphic tradition as a record of the emergen¬
ce of narrative intention, it is necessary to detail the assumptions basic
to this discussion 7. Within the context of rock representation, any animal
or human image may be represented in full profile, three-quarter, or frontal
view upon the two-dimensional surface. Each position effects its own range
of potential relationships to other images and to the viewer. The fully fron¬
tal image appears to relate only to the viewer, or to the viewer’s space.
By contrast, an image with body in profile and frontal head mediates bet¬
ween the space of the viewer and that of the pictorial surface. Similarly,
profile images establish the potential for physical and psychological interac¬
tion; but the indication of interaction is dependent on the interrelation¬
ship of two or more images through spacing, posture and gesture.
Pictorial narrative may be defined as the telling of a dale in which
the succession of beginning, middle and end are hastened by the represen¬
tation of cause and effect. The frontal arrangement of images would the¬
refore preclude any clear indication of narrative intent. Nor could narrative
intent be suggested where clearly separated profile images are arranged
facing in only one direction. Such images may suggest movement, but they
do not allow the expression of physical or psychological interaction. The
93
indication of pictorial narrative requires the representation of interaction
within the pictorial space itself; and that can be established only when
placement, posture, and gesture suggest that the action of one image effects
the reaction of another.
When the represented interaction of images is accompanied by some
means of focusing the viewer’s attention within the pictorial plane, the
suggestion of narrative intent is strengthened. This may be accomplished
(as noted by Griaznov) through the addition of a pictorial marker, such
as a tree or mountain or rock; through the distinct and deliberate separation
of one group of images from all others; of through the actual imposition
of a frame or border around the focused image group. Such pictorial markers
and separators lend specificity to place. If associated with represented in¬
teraction, they endow the place where the represendet action occurred
with particular meaning. Markers or frames interrupt the otherwise undif¬
ferentiated flow of the pictorial surface, calling the viewer’s attention to
action and reaction occurring within a specific context. The specification
of pictorial context turns back on the representation of interaction, heig¬
htening its particularity and its narrative potential.
As will be seen in the following discussion of Siberian and Mongolian
rock representations, images treated as overlaid profiles, having no expres¬
sive relationship to each other, were gradually reoriented to express physi¬
cal or psychological interrelationships. Other images treated frontally
were likewise modified over time: their absolute frontality, expressive
of formality, hierarchy and transcendence, became mitigated by an incre¬
asingly profile or three-quarter position. Once the frontality of such
figures was replaced by a profile or three-quarter view, there emerged the
pictorial possibility of interaction between the figures themselves: Their
interaction established a new pictorial space, existing between them and
described by their own placement, posture and gesture. We shall see that
in petroglyphs of the late pronze and early iron age, the specification of
a pictorial space was occasionally heightened by the addition of non-animate
elements. It will be argued that the gradual modification of posture, gesture
and relative position of petroglyphic images, as well as the insertion of
place markers, allowed the pictorial field to become a potential context
for the visual telling of a tale.
Petroglyphic complexes dating to the Siberian neolithic period are
frequently characterized by large groups of female elk (fig. 1, a), all repre¬
sented in profile and all moving in the same direction. Among the most
spectacular of such petroglyphs are those from the Tom and Angara river
basins 8. In sites along both rivers 9, the profile images of female elk
have been layered over time, their repeated shapes suggesting a visual
invocation of a spirit world 10. The images end of their own: at the edge
of a rock face, perhaps, or in front of a significant break in the rock surface.
The animals’ lack of interaction and their insistent movement in one direc¬
tion focus our attention on the image as reiterated form within an undif¬
ferentiated time and space n. Realistic and monumental, these images
clearly reflect some element of religious belief and ritual involving the
female elk and reindeer.
At some point during the latter second ihillenium В. C., the images of
female elk were joined by those of strange anthropomorphic figures wearing
horned headdresses. Sometimes they appear in relative isolation (fig. 2),
at other times they are arranged frontally in rows as if dancing (fig. 1, b).
When they appear in combination with profile elk and boats at sites along
the Tom and Angara 12, there is again implied a relationship to analagous
94
а
' ft*
Fig. 1. Angara. The Second Stone Islet.
representations in the region of the White Sea and Scandinavia 13. By con¬
trast, the large image group recorded by Savenkov at Sagan-Zaba, Lake
Baikal, would have to represent a later date: late second or early first mil-
lenium В. C. (fig. 3)14. Here large gesturing frontal figures are juxtaposed
with profile water birds and a variety of profile deer. Particularly inte¬
resting is the appearance here of a recumbent deer strongly suggestive of
the early nomadic deer image.
In none of image complexes referred to above is there any true indica¬
tion of physical or psychological interaction among the images. For the
most part they exist as isolated or reiterated elements. Nonetheless, the
frontal action of the rows of «dancing» figures and the gesturing figures at
Sagan-Zaba create the sense of a deliberate focussing of the viewer’s atten¬
tion and thus of an implicit delimitation of the significant pictorial space.
Their collective gestures appear to define a pictorial coherency of purpose.
This does not mean that the images were intended to represent a specific
group or place or that they even necessarily represent human beings. They
may, in fact, have been intended to refer to spirits or to inhabitants
of the land of the dead. Whatever their reference, however, they are repre¬
sented in human terms: as social beings, joined in some kind of communal
activity.
A far more purposeful indication of human community if reflected in
rock paintings and carvings from the Selenga and Orkhon river basins 15.
95
Fig• 2. Angara. The Big Kada (a), Manzya (b).
Typical of these image complexes are frontal images of birds of prey juxta¬
posed with those of human figures (fig. 4); clusters of dots, enclosures with
dots or human figures (fig. 5); and human figures with profile animals
(fig. 6). The occasional juxtaposition of birds and humans visually recreates
the transformation of one living form (or spirit form) into another. The
gathering of anthropomorphic images into enclosures and their joining
of hands suggests a conscious sense of the collective, human or animal.
Without knowing what these bird, animal and human images mean, we
cannot say whether they refer to a human or spirit realm to religious or social
rituals. In the clarity of their organization, however, they convey a growing
desire to organize representation into a purposeful pictorial function. The
clustering of elements and the use of enclosures further imply a clarified desire
to focus attention on the fact of delimited space and on a specific idea of
the collective. Yet despite this new concern with the visual affirmation
of a collective body, there is still almost no indication of pictorial interest
in the process of action and response. In this respect one may conclude
that the Selenga and Orkhon representations of*enclosures, birds and human
figures lack any indication of narrative intent.
Scattered among the rock representations characterized by enclosures
and clustered images are a number which clearly indicate the human herding
of animals and thus a growing dependency on a herding economy. In scenes
96
Fig. 3. Baikal lake. Sagan-Zaba.
from Khacliurt and Shivertyn-Am 16, frontal humans and profile horses
are arranged on either side of horizontal doubled lines. Even if, as Novgoro-
dova has suggested, such scenes indicate the duality of earth and the under¬
world 17, the terms in which the otherworld appears are those of social man
engaged in earthly activity. Furthermore, scenes such as that from Khachurt.
reflect a deliberate delimitation of visual attention: although the figures
are neither enclosed nor psychologically connected to a visual center, the
double line focuses our attention on a limited space. One senses here an emer¬
gent interest in the specification of action and locale.
Although the herding scenes at Khachurt and Shivertyn-Am suggest
an emerging pictorial interest in the social unit, they still convey no in¬
terest in psychological interaction. This latter interest appears more clearly
potential in rock images reflective of a hunting dependency/ At Butikha
on the Selenga river in the Transbaikal, the figure of a hunter with bow and
readied arrow confronts a large elk (fig. 7)18. In a scene from Mt. Sakhjurte
on Lake Baikal, an archer approaches a herd of deer with readied arrow
(fig. 8)19. The elegant antlered deer recall deer imagery associated with
the early nomads and thus suggest a date no later than the middle of the
first millenium В. C. Another scene from Durbul’zhin in northern Mongo¬
lia 20 joins hunters with elaborately antlered stags. The stylized deer rep¬
resented there, like those from many other sites in northern Mongolia 21f
7 Заказ ЛЬ 87
97
Fig. 4. Transbaikal, the Orongoi river valley. Big Altan.
clearly relate this scene to the deer stone tradition of the early nomads
and thus to a date in the early nomadic period.
In all these hunting scenes, a simple psychological interaction is clear¬
ly promised if not actually represented. The archer at Sakhjurte points
his readied bow toward the antlered deer. One senses the impending re¬
lease of the arrow and the response of the startled animal. In two scenes
from Chulutyn-Gol, the juxtaposition of wolves and horned or antlered ani¬
mals vividly suggest the imminence of an attack (fig. 9 a, fo)22. In both ca¬
ses, the promise of interaction is conveyed by the use of complementary
profile images and complementary gestures, functioning together as signs
of expected action and reaction; and by the consequent alternation of our
attention between opposing images. The artists of these scenes have chosen
to represent recognizable images in terms which we associate with the heigh¬
tening of psychological tension. Even if the images were intended to refer
to a non-human realm (for example, to the land of the dead), their pos¬
tures, gestures and actions carry the implication of a relativity which
is specifically human.
The hunting scenes from Mt. Sakjiurte, Butikha, Durbul’zhin, Alarin-
Gol and Dagiin-Gol thus bring the petroglyphic tradition of South Siberia
and northern Mongolia down into the middle of the first millenium and
the age of the early nomads. They also indicate an increasing pictorial con-
98
Fig. 5. Mongolia, Gentral aimak (district). Khachurt.
cern with the representation of action and response and thus with simple
narrative intent. This occasional interest in narrative intent appears else¬
where in petroglyphs of the early nomadic period. At Kunin, in the Minu¬
sinsk valley 23, one finds clusters of images (fig. 10) frequently dominated
by the recumbent deer familiar from Tagar plaques. In some scenes, spread-
winged birds recall similar if earlier juxtapositions along the Selenga river
while elsewhere the combination of humans and horses suggest the process
of herding.
In general, the Kunin images are joined together by the simple method
of juxtaposition without apparent interaction. There are, however, excep¬
tions to that rule. The profile images of three figures in headdresses suggest
a possibly violent confrontation. In another group, a profile figure car¬
rying a large object (ax?) appears to menace another kneeling figure. In asso¬
ciation with a small group of recumbent deer recalling Tagar plaques,
two wolf-like animals confront each other. Their postures again suggest
physical and psychological interaction. Their snouted heads and vital bo¬
dies call to mind the snouted wolves found on many plaques from the Si¬
berian Treasure of Peter the Great, as well as those found frequently in brid¬
le mounts from Pazvryk. Within the promised interaction of the wolves lies
the suggestion of narrative intent: their confrontation intimates a «before»
and an «after» as surely as do the figures of humans in mutual challenge.
7*
99
Fig. 6. Mongolia, Central aimak (district). Khachurt.
The Kunin petroglyphs may be compared with the late Tagar petro-
glyphs at Great Boyar (fig. II)24. In the scenes carved into a narrow band
of rock are represented the ordered images reflective of social space and social
concerns: dwellings, ceremonial cauldrons, human figures, horses, sheep and
reindeer herds. While not technically framed except in terms of the rock
register on which they are carved, the organization of images indicates a
clear desire to objectify — to represent — phenomenal space. One may com¬
pare this with the organization at Sagan-Zaba, where anthropomorphic
figures, deer and birds were juxtaposed without regard for a discernible
narrative order and without regard for horizontal or vertical spacing. They
appeared to describe a realm beyond the logic of human space and beyond
human understandings of cause and effect. By contrast, the clustered en¬
closed images and the herding scenes of the Selenga and Orkhon basins,
and the scenes of confrontation from Chulutyn-Gol and Kunin suggest
a conscious specification of herds of animals and groups of people. None¬
theless, although the clustering of images focuses attention, the apparently
random order of images in many of the scenes indicates no particular inte¬
rest in a describable space. One may say that organization remains that
of the herd: fluid, unconstrained by a geometrical order. By contrast, the
Great Boyar images conform to the order of human perception: to horizon¬
tal and vertical registration and to a certain sence of proportional realism.
100
Fig"7. Transbaikal, Shilkinsky location. Butikha.
The logic of the grouped images and their clear reference to common expe¬
rience convince the viewer of the familiarity of the scene. Even if the ima¬
ges at Great Boyar were intended to represent a mythic world, that world
has been given the aspect of a human social order and of a socially de¬
fined space. The Great Boyar carvings are thus characterized by one of the
visual requirements for pictorial narrative: the delimitation and descrip¬
tion of a setting capable of supporting the logic of narrative.
In reconsidering the petroglyphic tradition of South Siberia and nor¬
thern Mongolia in the late neolithic and bronze ages, one finds significant
changes in the patterns of representation. These patterns, or structures,
describe the underlying transition from a neolithic hunting and fishing
economy to a late bronze age stock-dependency. That transition intimates
a cultural journey away from a mythopoeic worldview to one dominated
by the human figure. As a general rule, the Selenga river representations
clearly emphasize an anthropomorphic figure, but one whigh seems to slip
constantly into bird-form or to be reduced to the level of dots within enclo¬
sures. Despite the signs of social order, such anthropomorphic imagery
would seem more appropriately a reference to a spirit realm given human
dimensions than to a specifically human society. In the carvings of Chulu-
tyn-Gol, the dominant imagery is clearly that of wild or domesticated herd
animals. Wolves and men appear infrequently; when they do, it is within
101
Fig. 8. Baikal lake. Sakhurte.
the compositional indication of cause and effect. At Kunin, the animal
image is still dominant, but human images become more obvious and lin¬
ked by their own interaction. Finally, at Great Boyar, signs of human
habitation establish a recognizable space within which human images
clearly appear as agents of animal control.
The representation of image interaction and the specification of the pla¬
ce where it occurs records the emergence of narrative intent within the pet-
roglyphic tradition. When indicators of narrative intent begin to appear
within the context of a communal art such as that represented by ancient
rock carvings and paintings, one may conclude that the new concern with
narrative is also communal: that the rearranged images and their new
interrelationships point to the manner in which the larger social commu¬
nity would express its understanding of significant ajid' desired order.
Just as the new narrative indicators catch the viewer’s eye and focus it on
a particular action occuring in a particular place, so they also indicate
a more general shift of cultural attention. The more ancient repeti¬
tion of images in terms of overlaid, repeated profile constructs
or in frontal form and the lack of any place markers by which to diffe¬
rentiate one group of images from another, suggests an understanding of the
significant universe in terms of absolutes within an undifferentiated space.
As the place of action becomes marked off from afrl others and as the
102
а ^
Fig. 9. Mongolia, the Chulut river valley. Dagiin-Gol (a), Alarin-Gol (b)
Characterization of images becomes more relational through the use of in¬
teracting profile forms, one senses a growing cultural concern with the dif-
erentiation of events and with the places where they occur. The imagistic
means by which physical and psychological interaction are indicated and
those used to create the pictorial specification of place can be referred
to as narrative structures. As indicators of relationship and event, such
structures signify an emerging interest in explaining and organizing the
world in terms of narrative — that is, cause and effect — rather than
in terms of unqualified absolutes.
As documents of economic, social and spiritual change, the petroglyphs
of the late second — first millenium В. C. thus assume a cultural authori¬
ty which the broken remains of the contemporary archaeological record
rarely exhibit. In the organization of their imagery is recorded the emer¬
gence of narrative structures iondicative of human or animal agency, physi¬
cal and psychological interaction, and the conscious delimitation of space.
In demonstrating that representation in the pre-noma die and early no¬
madic periods was increasingly reflective of narrative intent, if not
of developed narrative, the rock paintings and carvings thus confirm the
probable validity of Griaznov’s thesis that the heroic epic had emerged by
the late first millenium В. C. With such information derived from rock rep-
103
Fig. 10. Minusinskaya depression. Kuninskaya.
resentations, il may also be possible to reconstruct the original organi¬
zation and signification of image constructs now scattered throughout the
early nomadic archaeological record.
FOOTNOTES
1 Грязнов M. П. Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной
Сибири // Археол. сб.— Л. 1961.— Вып. 3.— С. 7—31.
2 Там же.— С. 14.
3 Griaznov’s suggcsion may be considered against the scholarly opinion that arc¬
haic elements in the Turkic-Mongol heroic epic derive from social and economic condi¬
tions of the latter first millenium В. С. — См., наир.: Суразаков С. С. Алтайский герои¬
ческий эпос.— М., 1985.— С. 27—29; Пухов И. В. Якутский героический эпос.— М.,
1985.— С. 22—28; Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. — М., 1963.
104
A*. wA**
S*>* BffiS
t^B|
• T?
* .4
\MV
& Ж&Ж
ш ^fciterwistft
Wi
Fig. 11. The Middle Yenisei basin. Big Boyarskaya.
4 См., напр., диск с фигурой'хищника семейства кошачьих с Аржана и изобра¬
жение оленя из Костромского кургана.
6 Regarding a number of the issues involved in the reconstruction of early noma¬
dic images into their original imagistic complexes, see: Jacobson H. The Stag with Bird-
Headed Antler Tines: a Study in Image Transformation and Meaning // Bull, of the Mu¬
seum of Far Eastern Antiquities (Ostasiatiska Museet).— 1984.— P. 113—180.
6 I have discussed the issues involved in the broad chronological sequencing of
this petroglyphic material with reference to the extensive research of Soviet and Mongo¬
lian scholars, as in relationship to Scandinavian petroglyphic chronology; see: Jacob¬
son E. Siberian Roots of the Scythian Stag Image // Journal of Asian History.— 1983.—
P. 68—120.
7 The signification of body position within a pictorial tradition has been most
effectively discussed in: Shapiro M. Words and Pictures: On the Literal and the Symbolic
in the Illustration of a Text.— The Hague; Paris, 1973; see: Idem. Field and Vehicle as
Image-Signs // Semiotica.— 1969.— N 1/3.— P. 223—242. Although Shapiro is concer¬
ned primarily with early Christian art, his analysis of body position and meaning have
general applicability. Elsewhere I have developed his ideas with reference to another
early figural tradition; the theoretical basis of that article has influenced my considera¬
tion of petroglyphic representation. See: Jacobson E. The Structure of Narrative in Early
Chinese Pictorial Vessels // Representations.— 1984.— P. 61—83.
8 См.: Окладников А. П. Петроглифы Ангары.— M.; JI., 1966; Окладников А. П.,
Мартынов А. И. Сокровища томских писаниц.— М., 1972; Okladnikov’s dating of the
early neolithic (and of the images of large female elk along the Tom) as early as the sixth-
fifth millenium В. C. has been disputed in: Формозов А. А. Очерки по проблемам искус¬
ства.— M., 1969.— С. 88—101. The most important comparisons to these Siberian ima¬
ges can be found among the neolithic petroglyphs and sculpture of Scandinavia, where
one finds naturalistic elk, deer and reindeer, all in profile and usually facing in the sa¬
105
me direction. These images suggest the existence of a cult involving the deer across Arctic
Europe eastward into Siberia, within the neolithic period. The dating of the beginning
of the Scandinavian neolithic remains uncertain. See: Shetelig Haakon, Falk Hialmar.
Scandinavian Archaeology.— N. Y., 1978.— P. 98—121.
9 See: Окладников А. П., Мартынов А. И. Сокровища томских писаниц.—
Рис. на с. 70—71; Окладников А. П. Петроглифы Ангары.— Табл. 65, 130.
10 These images present a striking paradox: on the one hand, they each exhibit a
powerful realism, as if reflecting a directly observed reality. On the other hand, the over¬
laying and reiteration of shapes suggests that each image was merely the reflection of an
absolute and transcendent spirit.
11 Within the context of Scandinavian archaeology, similarly naturalistic repre¬
sentations of elk definitely predate the images of men in horned headdresses, ships and
disks. The latter are firmly associated with the Scandinavian bronze sge. See: Shete¬
lig Haakon, Falk Hjalmar. Scandinavian Archaeology. — P. 169—170; Jacobson E. Si¬
berian Roots...— P. 77—83.
12 See: Окладников А. П. Петроглифы Ангары.— Табл. 90, 103/1, 108, 159, 161,
168. The dating of these images is proposed by reference to both Scandinavian counter¬
parts from the bronze age and images on pottery sherds from the South Siberian site of
Samus IV. See: Gelling Peter, Davidson Hilda Ellis. The Chariot of the Sun.— L., 1969;
Kuhn Herbert. The Rock Pictures of Europe.— L., 1956; Матющенко В. И. Об антро¬
поморфных изображениях на глиняных сосудах из поселения Самусь ИВ // СА.—
1961.— № 7.— С. 266—269; Окладников А. П., Мартынов А. И. Сокровища томских
писаниц. — С. 189.
13 Jakobson Е. Siberian Roots... Р. 87—88. Frontal anthropomorphic figures and
profile elk (male and female) can also be found at numerous sites along the upper and
middle Lena river, but the complex dating system proposed by Okladnikov makes it
difficult to include these images, despite their obvious similarities to imagery from the
Tom and Angara rivers. See: Окладников А. П. Петроглифы Верхней Лены.— Л.,
1977.— Табл. 56—62.
14 Окладников А. П. Петроглифы Байкала.— Новосибирск, 1974.— С. 10—31.
15 There are many examples of this kind of representation within the Orkhon and
Selenga river basins, e. g. those at Дурбульжин, Баин-Хара, Хачурт и Их-Тенгерин-
Ам.— See: Окладников А. П., Запорожская В. Д. Петроглифы Забайкалья.— Л.,
1969.— Ч. 1—2; Дорж Д. К истории изучения наскальных изображений Монголии /I
Монгольский археологический сборник.— М., 1962.— С. 45—54.
16 Окладников А. П., Запорожская В. Д. Петроглифы Забайкалья.— Ч. 2.—
Табл. 62: Новгородова Э. А. Мир петроглифов Монголии.— М., 1984.— Рис. 34.
17 Новгородова Э. А. Мир петроглифов...— С. 92—94.
18 Окладников А. П., Запорожская В. Д. Петроглифы Забайкалья.— Ч. 2.—
Табл. 59.
19 Окладников А. П. Петроглифы Байкала.— Табл. 28.
20 Дорж Д. К истории изучения...— Рис. 9/2.
21 See: Окладников А. П. Петроглифы Чулутын-Гола [Монголия].— Новоси¬
бирск, 1981.— Табл. 9/7, 24/7; Окладников А. П. Петроглифы Монголии.— Л.,
1981.— Табл. И, 14, 16, 17.
22 Окладников А. П. Петроглифы Чулутын-гола...— Табл. 37, 65.
23 Вяткина К. В. Наскальные изображения Минусинской котловины // Сб.
МАЭ.—Л., 1961.—Т. XX.—С. 188—237.
24 Дэвлет М. А. Большая Боярская писаница.— М., 1976.
Ю. С. ХУДЯКОВ
ОБРАЗ ВОИНА
В ТАШТЫКСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Итерес к изучению древнего искусства
постоянно сопутствует сибирской архе¬
ологической науке. Благодаря усилиям нескольких поколений ученых
к настоящему времени накоплен и введен в научный оборот обширный
массив наскальных изображений из различных районов Сибири. Исследо¬
вателями разрабатываются проблемы происхождения художественного
творчества, вопросы хронологии, культурной принадлежности, семантики
и стилистических особенностей, методики работы с петроглифами, отно¬
сящимися к различным историческим эпохам — от верхнего палеолита
до этнографической современности х.
Важное место в многообразном комплексе вопросов, связанных с
изучением древнего искусства, занимает исследование изобразительного
творчества кочевых народов степных районов Южной Сибири. Благодаря
открытию законченных образцов торевтики в царском кургане Аржан
в Туве появилась возможность пересмотреть традиционные взгляды на
хронологию и формирование искусства «звериного стиля» скифо-сибир¬
ских кочевников 2. Учеными отмечено появление в эпоху раннего средне¬
вековья новых сюжетов в изобразительном искусстве кочевников, в част¬
ности изображений воинов-всадников, вооруженных луками, копьями,
верхом на быстроногих конях. «Именно в раннесредневековый период этот
сюжет проявляется в полной мере: степной конный витязь вторгается в
мир анимализма и вспугивает все животное дарство, как на пластине
от луки седла из Кудыргэ»3. Новые тенденции в изобразительном искус¬
стве отражают значительные перемены в эстетических представлениях
кочевников, получивших распространение на рубеже средних веков.
© Ю. С. Худяков, 1990
107
К сожалению, слабая изученность искусства гуннского времени снижает
возможности изучения генезиса нового художественного стиля. До сих
пор достижения художественной культуры кочевников принято объяс¬
нять воздействием внешних импульсов 4. В этой связи представляет боль¬
шой интерес анализ рисунков воинов в изобразительном искусстве таш-
тыкской культуры Среднего Енисея, бытовавшей в I—V вв.
Впервые памятники таштыкского изобразительного искусства были
зафиксированы финской экспедицией, работавшей в Минусинской котло¬
вине под руководством профессора И. Р. Аспелина в 1887—1889 гг.,
на Подкаменской писанице, каменных плитах курганов близ д. Подка¬
мень и на р. Ташеба 5. Эти материалы были изданы в 1931 г. Я. Аппель-
грен-Кивало. Автор отметил сходство этих рисунков с изображениями
на Сулекской писанице 6. В дальнейшем многие исследователи рассмат¬
ривали данные памятники как кыргызские и относили их ко второй поло¬
вине 7 и даже к концу I тыс. 8 В. П. Левашева в 1939 г. датировала
таштыкским временем рисунок воина с Ташебинского чаа-таса 9. По пред¬
положению Л. Р. Кызласова, высказанному в 1960 г., к этому периоду
относятся «некоторые наскальные рисунки великолепно выполненных
скачущих воинов»10 с Подкаменской писаницы. Однако эта догадка, в
основе которой нет критериев для выделения таштыкских рисунков, не
способствовала идентификации последних.
Решающим событием в определении изображений таштыкского време¬
ни явилось открытие деревянных планок с резными миниатюрами в
таштыкском склепе № 1 в могильнике Тепсей III n. М. П. Грязнов убе¬
дительно датировал эти находки тепсейским этапом таштыкской культуры
(III—V вв.), выделил основные сюжеты изображений, определил сти¬
листические особенности таштыкского изобразительного искусства 12.
К числу особенностей таштыкских миниатюр были отнесены: изображе¬
ние тела человека в анфас, а головы и ног — в профиль, «воздушность»
композиции, отсутствие перспективы в изображении ног бегущих живот¬
ных 13. Автор отметил как таштыкские рисунки на каменной плите из
склепа № 2 в могильнике Тепсей III, на бересте из склепа №4 Койбаль-
ского чаа-таса, на писанице близ оз. Туим 14.
Попытку удревнить тепсейские миниатюры предпринял И. Л. Кыз-
ласов, связавший появление этого стиля с гуньгунями, пришедшими из
Северо-Западной Монголии 15. Однако его построениям противоречит то¬
пография могильника Тепсей III 16.
Д. Г. Савинов, анализируя рисунки на плитах тагарских курганов
у г. Туран, выделил несколько резных изображений лошадей и оленя 17.
По его мнению, «для определения времени этих рисунков первостепенное
значение имеет способ передачи передних ног у нижней лошади — одна
вытянута вперед, другая согнута в колене и отведена назад — изобрази¬
тельный прием, характерный для гравированных изображений таштык¬
ской культуры. Представлен на плитах и другой специфический образ
таштыкского искусства — лошадь с ,,хохолком4‘» 18. Последняя фигура
выполнена в силуэтной манере точечной техникой 19.
Силуэтные и контурные изображения таштыкского времени были
открыты В. Е. Ларичевым на петроглифах у оз. Фыркал. К этому же вре¬
мени относятся некоторые рисунки на скалах г. Тепсей 20. По мнению
Я. А. Шера, стилистические особенности этих изображений демонстри¬
руют деградацию и «вырождение» скифо-сибирского стиля 21. Автор отно¬
сит к таштыкскому времени известную Подкаменскую писаницу 22.
Обзор существующих мнений по поводу таштыкского изобразитель¬
ного искусства наглядно свидетельствует о том, что большинство авто¬
108
ров ограничивало свои задачи вопросами хронологии, значительно реже
выдвигая проблемы семантики и специфики стиля.
Решающим моментом, определившим стилистические и композицион¬
ные возможности таштыкского изобразительного искусства, явилось внед¬
рение, наряду с практиковавшейся ранее точечной техникой, резной
гравировки. Это новшество было связано с использованием новых метал¬
лических, видимо железных, инструментов, получивших распространение
в гравировке по дереву, бересте а затем и по камню. Контурная манера
изображения при применении техники резной гравировки значительно
расширила возможности в прорисовке деталей фигур, что имело важные
последствия для эволюции воплощения антропоморфных сюжетов на¬
скальных рисунков. Возможности предшествующей точечной техники,
по существу, ограничивались передачей силуэта человеческой фигуры
либо отдельных элементов вооружения, одежды, головного убора, при¬
чески. Использование нового приема расширило возможности для детали¬
зации контура рисунка и заполнения фона внутри фигуры: схематические
антропоморфные изображения буквально ожили. У них появляются на¬
рисованные в профиль лица, глаза, головные уборы с украшениями,
длиннополая одежда. Более детальными становятся изображения необ¬
ходимых воинских аксессуаров: луков и стрел, копий, колчанов, шлемов,
защитных доспехов. Изображения животных, в том числе лошадей, на¬
против, становятся более схематичными, стилизованными. Зато более
подробно выписываются сбруя, седла, султаны, гривы и другие детали
конского убранства. Такая переориентация оценочной значимости раз¬
личных компонентов изображаемой композиции, несомненно, связана с
возрастанием в обществе роли образа человека-воина.
Вместе с тем таштыкское искусство, освоившее новые изобразитель¬
ные средства, использование которых повлекло за собой стилистические
и сюжетные изменения, было генетически связано с традициями «зверино¬
го стиля» скифского времени. Эта связь прослеживается не только в на¬
следовании некоторых приемов 23, но и в идейно-эстетической направлен¬
ности искусства. Отличия наблюдаются только в средствах выражения
замысла. Если в скифское время традиционным, ведущим свое начало от
далекого охотничьего прошлого, зооморфным языком воспевались суб¬
станциональные качества воина-победителя, его неукротимая быстрота,
физическая мощь, жестокая хищническая сила и целеустремленная воля
к победе, то в таштыкском искусстве стало преобладать эстетическое ос¬
вещение технической стороны войны. На таштыкских рисунках с большой
тщательностью выгравированы предметы наступательного вооружения:
лук и стрелы (рис. 1, 2—4, 6\ 2, 2—4, 6), копье (рис. 1, 2; 2, 6). Тщательно
изображены средства защиты: шлемы с коническим навершием (см. рис. 1,
1—4\ 2, 2, 5), иногда с плюмажем (см. рис. 1, 3\ 2, 2) или мисюркой (см.
рис. 1, 2), длиннополые защитные доспехи (см. рис. 1, 1—4\ 2, 2). Судя
по рисункам, панцирь прикрывал корпус, руки и ноги воина, напоминая
сарматскую катафракту 24. На одном из изображений показан доспех
с высоким стоячим воротником (см. рис. 2, 2). Как правило, у пеших вои¬
нов панцирь изображался более схематично, крестообразной штриховкой
внутри контура фигуры и выступами подола выше колен (см. рис. 1,
2, 4, 6; 2, 5, 6). Этот признак, так называемые галифе, необходимо отме¬
тить в качестве характерной черты таштыкской традиции изображения
воина в защитном доспехе. У некоторых фигур изображены массивные,
в рост человека, щиты за спиной (см. рис. 2, 5—7).
Фигуры верховых лошадей в таштыкское время показывали менее
реалистично, чем в предшествующее. Однако у них более детально про-
109
Рис. 1. Изображения воинов на камне Ташебинского чаа-таса (1), Подкаменской пи¬
санице (2—5), камне могильника близ деревни Подкамень (6).
110
Рис. 2J Изображения воинов на планках склепа №* 1 могильника Тепсей III.
1,3 — планка 7; 2 — планка 6\ 4, 7 — планка 3; 5 — планка 5; б — планка 1,
111
рисованы сбруя, особенно узда, седло, начельный сультан, заплетенная
грива (см. рис. 1, 2, 5, 5; 2, 2). В отдельных случаях можно предполагать
изображение у коня защитной попоны (см. рис. 2, 2). Прочие детали оста¬
вались малосущественными для мастера. Очень скупо прорисовывались
абрис лица, прическа, орнамент на одежде или щите (см. рис. 1, 2, 5, 5;
2, 2—4, 6). Иногда эти элементы вообще не выделялись (см. рис. 1, 2, 6).
Можно предположить, что фигуры воинов лишены индивидуальных
черт и различаются вооружением, экипировкой. Запечатлены прежде
всего воины, стреляющие из лука, поражающие копьем, мчащиеся во
весь опор верхом на стремительных конях. Реализации этого замысла под¬
чинена диспропорциональность в прорисовке фигур. Наиболее важными
особенностями изображения лучников являются развернутый корпус,
левая рука, удерживающая середину кибити лука, и голова воина, со¬
ответствующие пропорциям лука, но гипертрофированные по отноше¬
нию к натягивающей тетиву правой руке, талии и ногам (см. рис. 1, 1—6).
Иногда ноги вообще не изображены (см. рис. 1, 2, 3). Более пропорцио¬
нальны размеры ног у пеших, стреляющих и бегущих воинов.
Такую манеру изображения можно трактовать как попытку эстетизи¬
ровать военный профессионализм, воспеть умение обращаться с оружием,
освятить обладание разнообразным вооружением, снаряжением и боевым
конем. Это впечатление усиливается при знакомстве с интерпретацией
сюжетов многофигурных композиций, на которых изображены загонные
охоты, угон военной добычи и батальные сцены 23.
Все указанные особенности ярко характеризуют новую для кочевого
общества военно-дружинную идеологию, противопоставляющую тради¬
циям ценности профессиональных воинов-богатырей, выделившихся из
родоплеменного объединения в новую военно-политическую организа¬
цию — дружину, которая послужила в дальнейшем основой кочевой госу¬
дарственности. Судя по приводимым образцам таштыкского изобрази¬
тельного искусства, дружинные идеалы в среде енисейских кочевников
зародились еще в начале I тыс. и окончательно оформились в средневеко¬
вой графике и торевтике. Генетическая связь искусства скифо-тагарского
времени с таштыкским изобразительным творчеством позволяет предпола¬
гать формирование последнего на местной основе. Минусинская котлови¬
на явилась местом становления самостоятельного художественного центра
гунно-сарматского времени, оказавшего влияние на весь ход дальнейшего
развития изобразительного искусства в сопредельных районах в эпоху
средневековья. Оригинальность и высокая художественная ценность это¬
го искусства способствовали восприятию его достижений соседними этни¬
ческими группами. В дальнейшем, в древнетюркское время, конные витязи
становятся непременными образами изобразительного искусства кочев¬
ников на всем пространстве степного пояса Евразии — от Шишкинских
скал Прибайкалья до Преславского камня на Дунае.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Окладников А. П. Утро искусства.— Л., 1967.
2 Грязнов А. П. Аржан — царский курган раннескифского времени.— Л.,
1980.- С. 58.
3 Федоров-Давыдов Г. А. Искусство кочевников и Золотой Орды.— М., 1976.—
С. 82.
4 Маршак Б. И. История восточной торевтики III—XI вв. и проблемы культур¬
ной преемственности: Автореф. д-ра ист. наук.— М., 1981.— С. 30.
112
6 Appelgren-Kivalo H. Alt-altaische Kunstdenkmaler.— Helsingfors, 1931.—
Abb. 96—100, 302—308, 312.
6 Ibid.— S. 7,
7 Евтюхова Л. А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хака¬
сов).— Абакан, 1948.— Рис. 170, 189, 192.
8 Кызласов Л. Р. История Тувы в средние века.— М., 1969.— С. 88, 205.
9 Левашева В. П. Из далекого прошлого южной части Красноярского края.—
Красноярск, 1939.— Рис. 18.
10 Кызласов Л. Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котло¬
вины.— М., I960.— С. 21.
11 Грязнов М. П. Миниатюры таштыкской культуры // Археол. сб. Гос. Эрмита¬
жа.— 1971.— Вып. 13.— С. 99—104.
12 Там же.— С. 99.
13 Там же. - С. 105-106.
14 Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее.— Новоси¬
бирск, 1979.— С. 145.
16 Кызласов И. Л. Поминальные памятники таштыкской эпохи // С А.— 1975.—
№ 2.— С. 40, примеч. 37.
16 Комплекс археологических памятников...— С. 90.
17 Савинов Д. Г. К вопросу о хронологии и семантике изображений на плитах
оград тагарских курганов // Южная Сибирь в скифо-сарматскую эпоху.— Кемерово,
1976.- С. 62.
18 Там же.
19 Там же.— Рис. 7, 2.
20 Шер Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии.— М., 1980.— Рис. 123.
21 Там же.— С. 252.
22 Там же.— С. 253.
23 Там же.— С. 252.
24 Хазанов А. М. Очерки военного дела сарматов.— М., 1971.— С. 72.
25 Комплекс археологических памятников...— С. 145.
8 Заказ Na 87
Я. Я. МАТВЕЕВА
ГЛИНЯНАЯ ПЛАСТИКА
САРГАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ь 1985 и 1987 гг. при исследовании Ра-
файловского городища нами были об¬
наружены две глиняные фигурки людей. Вероятно, такие изображения,
относящиеся к раннему железному веку, найдены в западно-сибирской
лесостепи впервые.
Рафайловское городище — крупнейшее из известных в настоящее
время саргатских поселений. Оно находится на правом берегу р. Исеть,
в 9 км западнее с. Рафаилово Исетского р-на Тюменской обл. Поселение
существовало на протяжении нескольких столетий. Многочисленные да¬
тирующие предметы (бронзовые трехгранные с выступающей втулкой и
трехгранные с внутренней трехгранной втулкой наконечники стрел, си¬
ние глазчатые и золоченые стеклянные бусы, обломок каменного жертвен¬
ника на четырех ножках и др.) позволяют датировать этот памятник кон¬
цом V—III в. до н. э. 1
Первая фигурка была найдена в 1985 г. в раскопе 6, на второй пло¬
щадке городища у наружной северо-западной стенки жилища 7. Она име¬
ет пестикообразную форму, выполнена из керамического- теста, хорошо
обожжена (рис. 1). Ее высота 5,7 см, максимальная тошцина 2,1 см. На
верхнем конце пестика смоделирована, как нам кажется, женская голов¬
ка, увенчанная усеченно-коническим убором или прической. Лицо округ¬
лое, плоское, глаза показаны неглубокими продолговатыми ямками, круг¬
лой ямкой обозначен рот, нос намечен короткой бороздкой. Высоко над
глазами двумя черточками прорисованы длинные брови. Фигурка не
наделена отчетливыми признаками, по которым можно было бы судить
об антропологическом типе изображенного человека. Но уплощенность
@ Н. П. Матвеева, 1990
114
Рис. 1. Фигурка из раскопа 6.
широкого лица, отсутствие рельефного носа, наличие маленьких глаз
и губ указывают, на наш взгляд, на черты монголоидности.
Эта фигурка по форме сходна с каменными пестиковыми, относящими¬
ся к окуневской культуре 2, и с глиняной, найденной на р. Болдинке 3,
но отличается от них трактовкой деталей лица. По общему облику и ха¬
рактеру головного убора она сближается с изображением женщины на
поясной застежке со сценой «Отдых под деревом» из Сибирской коллекции
Петра I 4, но выделяется чертами монголоидное™ и несколько иными
пропорциями убора. Рафайловской фигурке нет близких аналогов среди
предметов скифского и пазырыкского искусства. Видимо, носители сар-
гатскс-й культуры отличались по внешнему облику, прическам, головным
уборам от ираноязычных кочевников степей Евразии.
Вторая фигурка была цайдена в 1987 г. в первичном заполлении жи¬
лища 11 на селище, в раскопе 5 (рис. 2). Сохранилась только ее верхняя
часть, до линии пояса. Высота фрагмента 4,1 см, толщина 1,5 см. Фигурка
выполнена из обожженной глины и представляет собой изображение
бородатого мужчины с овальным лицом, низким лбом, глубоко посажен
ными глазами, крупным носом и разведенными в' стороны руками. Глаза
показаны глубокими круглыми ямками, нос — высоким рельефным за¬
щипом, а рот, видимо раскрытый,— продолговатым углублением. Воро
Д1 его довольно длинная, доходит до уровня плеч, аккуратно подстри"
8*
115
[Рис. 2. Фигурка из раскопа 5.
жена овалом. Сзади показаны волосы, собранные в один пучок или косу,
спускающуюся до лопаток. Поскольку наличие волос спереди никак не
отражено, а сзади они смоделированы, можно предположить, что они
гладко зачесаны, или даже подбриты, как у мужчины, погребенного в
Пазырыкском кургане 5.
Несмотря на яркий европеоидный облик, вторая рафайловская фи¬
гурка далека от портретных изображений скифов и саков, запечатлен¬
ных обычно с волосами до плеч и клиновидной бородой или безбородыми
с длинными усами 6. Единственный близкий аналог данному изображению
можно увидеть среди предметов глиняной пластики с Вознесенского го¬
родища на р. Оми. Это идол со сходно трактованными чертами лица и
бородой, но в капюшоне или башлыке 7. Автор раскопок отнес его к куль¬
туре барабинских татар 8, хотя поселение там существовало уже в сар-
гатский период.
Рассматриваемые находки залегали изолированно от другого инвен¬
таря, поэтому судить о назначении этих фигурок трудно. Головка женщи¬
ны, по нашему мнению, могла быть составной частью тряпичной куклы —
домашнего божка; возможно, что эту же роль играло и мужское изоб¬
ражение. Не менее вероятна связь этих фигурок с изображениями злых
духов, которые были известны у народов Западной Сибири и выбрасыва¬
лись при выздоровлении больного 9.
116
Обращает на себя внимание различие антропологических типов муж¬
чины и женщины. Интересно, что и М. С. Акимова, анализируя исетские
женские черепа из саргатских курганов IV—II вв. до н. э., отмечает
на них большую выраженность монголоидных особенностей в отличие от
имеющих более европеоидный облик мужских 10. Видимо, активные тор¬
говые и взаимобрачные связи с северными и западными соседями, военные
походы привели здесь к значительному смешению населения.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Матвеева Н. П. Исследования на Рафайловском городище // АО 1985 г.— М.,
1987.— С. 263.
2 Вадецкая Е. В., Леонтьев Н. В., Максименков Г. А. Памятники окуневской
культуры.— Л., 1980.— Табл. XXIV.
3 Мошинская В. И. Древняя скульптура Урала и Западной Сибири.— М.,
1976.— Рис. 5.
4 Артамонов М. И. Сокровища саков. — М., 1973.— С. 140—141.
6 Руденко С. И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время.—
М.; Л., I960.- С. 210.
6 Артамонов М. И. Сокровища саков.— С. 9, 146.
7 Соболев В. И. Вознесенское городище — памятник середины II тыс. н. э. //
Древние культуры Алтая и Западной Сибири.— Новосибирск, 1978.— Рис. 7, б.
8 Там же.— С. 189.
9 Иванов С. В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар.— Л., 1979.—
С. 127.
10 Акимова М. С. Антропология населения лесостепной полосы Западной Сиби¬
ри в эпоху раннего железа // Памятники Южного Приуралья и Западной Сибири
сарматского времени.— М., 1972.— С. 150—159.
Ю. С. ХУДЯКОВ, Л. М. ХАСЛАВСКАЯ
ИРАНСКИЕ МОТИВЫ
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ТОРЕВТИКЕ ЮЖНОЙ СИБИРИ
Среди произведений иранских мас¬
теров имеется множество образцов
художественных изделий из металла, поражающих своим совершенством.
Предметы торевтики периода Сасанидов демонстрируют поразительный
расцвет художественной обработки металла в Иране. Разнообразие их
форм, богатство декора, тонкость выделки заслуженно привлекали
внимание ученых, коллекционеров, любителей старины х.
Благодаря высокому уровню сасанидских чеканщиков, популярности
их произведений у разных народов во второй половине I тыс. Иран стал
первоисточником многих технологий, форм изделий и идей различных
изображений, вошедших в репертуар узоров, получивших международ¬
ное распространение.
Широко известные в иранском искусстве декоративные мотивы нашли
воплощение на предметах второй половины I тыс. из Южной Сибири в виде
охотничьих сцен, зооантропоморфных и растительных изображений.
Охотничьи сцены запечатлены на бронзовых рельефах из 6-го кур¬
гана Копенского чаа-таса 2 и енисейском кубке, изображение которого
сохранилось в рисунке Мессершмидта 3. Близость их оформления с деко¬
ром сасанидских блюд прослеживается в сюжете, композиции. Общими
персонажами являются снежный барс, кабан, горный козел, лани. Ти¬
пично сасанидским выглядит изображение широкогрудого коня с завя¬
занным в узел хвостом, с полной сбруей, украшенной подвесными бля¬
хами, с ремнями, свисающими по сторонам седла. В сасанидской трактов¬
ке передан момент взаимодействия всадника и нападающего на него
зверя.
© Ю. С. Худяков, Л. М. Хаславская, 1990
118
Л. А. Евтюхова отмечает «внеиранскую» переработку охотничьей
сцены, аргументируя это местным своеобразием передачи животных и на¬
личием изображения облака в танском стиле. Она ошибочно полагает,
что «изображение гор на наших рельефах не находит себе параллели
ни в орнаментике металла, ни в миниатюре Ирана и Китая. Зато среди
находок около Минусинска можно указать сбруйную бляху с изображе¬
нием оленя, мчащегося через горы, точно повторяющие грибовидные вер¬
шины рельефов»4. Однако танская торевтика чрезвычайно богата приме¬
рами именно такой трактовки горных вершин 5. Декор сбруйной бляхи,
приведенный в качестве иллюстрации в работе Л. А. Евтюховой, имеет
близкие аналоги в китайских материалах 6. Его элементы (летящий олень
с грибовидными рогами и развевающимися за спиной лентами, грибообраз¬
ные вершины гор, облака) переданы в типично танском стиле, что не иск¬
лючает возможности импортного происхождения этой находки.
Таким образом, своеобразие копенских рельефов заключается в том,
что изображение сцены охоты, типичное для сасанидских мастеров, вклю¬
чает детали, характерные для танской трактовки этого сюжета: облака,
горы. Сцена охоты на кубке, нарисованном Мессершмидтом, демонстри¬
рует ту же особенность: в танском стиле выполнены облака и раститель¬
ные изображения.
Типично сасанидские зооморфные мотивы, известные в материалах
Южной Сибири, включают единичные и парные изображения животных
и птиц.
Один из популярных персонажей зороастрийской мифологии и ис¬
кусства эпохи Сасанидов — сенмурв — собака-птица с рыбьим хвостом.
Этот образ, восходящий к древним арийским мифам, приобрел особое зна¬
чение в Иране при Сасанидах, когда он служил царской эмблемой. В сред¬
невековой иранской мифологии сенмурв считался олицетворением муд¬
рости, силы, волшебства. Синкретизм образа сенмурва связан с его спо¬
собностью проникать во все стихии: небесную, земную и водную. В иран¬
ской мифологии сенмурв связан с добрым началом.
Динамичное изображение животного с собачьей мордой, хвостом,
загнутым над спиной, и крылом, будто приготовившегося к прыжку,
имеется на бронзовых пятиугольных бляшках из Минусинской котловины
(рис. 1, 1). Аналогично, но статично показан этот же персонаж на бронзо¬
вых сердцевидных бляшках из того же района (рис. 1, 3).
По передаче собачьей морды образ сенмурва на минусинских бляш¬
ках близок к некоторым сасанидским изображениям 7. Аналогично по¬
следним показаны сенмурвы на позолоченных бляшках из Барабинской
лесостепи 8.
Лев всеми народами Передней Азии почитался как солярное живот¬
ное. Обычно он является спутником солнечных божеств и божеств пло¬
дородия. В сасанидском Иране лев — зодиакальный знак июля — имел
отношение к культу Митры.
Крылатое изображение льва запечатлено на бронзовых пятиугольных
бляшках из Минусинской котловины (рис. 1, 2, 4). Такое динамичное во¬
площение образа характерно для сасанидских сцен охоты.
Среди популярных сасанидских зооморфных мотивов — животные
с развевающимися лентами или растительными побегами. Этот мотив
известен и в торевтике из Южной Сибири. На круглой бляшке из Мину¬
синской котловины — изящное изображение лежащей газели с разве¬
вающимися за спиной лентами. Оно дополнено кругом-солнцем. Вся компо-
з ицияпредставлена в медальоне, типичном для сасанидской торевтики,
с характерным для нее лепестковым бордюром (рис. 1, 5).
119
J 1 1
Рис. 1. Изображения на предметах торевтики из Южной Сибири.
1,3 — сенмурв; 2,4 — лев; 5 — гаэель; б — козлы у древа жизни; 7,8 — рыбы; 9—13 — птицы*
14, 17 — личины; 15 — сетка; 16, 18, 19 — лепестки,
120
Распространенные в сасанидском искусстве парные противопостав¬
ленные зооморфные изображения представлены в южно-сибирских мате¬
риалах двумя композициями: живоаные у древа жизни и птицы-грифоны.
Образ мирового дерева широко известен. При членении его по вер¬
тикали выделяются три зоны: нижняя (корни), средняя (ствол), верхняя
(ветви)9. Три уровня — места расположения определенных животных.
Со средней частью связаны образы копытных. В сасанидской торевтике
мировое дерево изображено обычно с заполнением вокруг средней части.
В южно-сибирских материалах известны композиции с древом жизни и ко¬
пытными животными: лошадьми, ланями, козлами (рис. 1, 6).
Многие изделия сасанидских мастеров украшает образ грифона, вос¬
ходящий к древним иранским представлениям. На золотом копенском
блюде шесть композиций с изображениями противопоставленных гри¬
фонов, стоящих на лотосовидных подставках. По трактовке этого мотива
к ним наиболее близки тагские изделия, созданные под влиянием сасанид¬
ских прототипов 10.
Образ грифона использован для передачи еще одного популярного
мотива сасанидского Ирана — птицы, терзающей рыбу. Он присутствует
и на золотых кувшине и бляшке из Копенского чаа-таса п.
В сасанидской иконографии довольно часто можно видеть водопла¬
вающих птиц: гуся с гроздью винограда — солнечную птицу, птиц с
длинными клювами, связанных с луной 12.
В южно-сибирской торевтике образы, напоминающие водоплаваю¬
щих птиц, занимают доминирующее место. Они в разнообразных вариан¬
тах запечатлены в декоре бронзовых зажимов для кистей из Минусинской
котловины, Тувы и Алтая. Можно выделить следующие варианты вопло¬
щения этого мотива: стилизованное рельефное (рис. 1, 11), гравированное
изображение птицы с открытым клювом (рис. 1, 13), рельефное изображе¬
ние птицы с распростертыми крыльями (рис. 1, 9, 10).
Последнее изображение с незначительными вариациями является
наиболее распространенным. Оно отличается тщательностью исполнения:
рельефно-выпуклыми линиями переданы контуры птицы, гравировкой —
оперение. Показательна организация пространства декорируемой по¬
верхности: изображение расположено в медальоне, по обе стороны от го¬
ловы и хвоста размещены рельефные фигуры, по форме соответствующие
облакам на танских металлических изделиях.
Среди антропоморфных изображений можно выделить две группы:
всадники на коне и изображение человеческого лица.
Всадник на коне запечатлен на бронзовом зажиме для кистей из Ми¬
нусинской котловины (рис. 2, 1). Детали изображения неясны из-за де¬
фекта отливки. Бронзовые фигуры коня со всадником литые, среди них
есть всадники с нимбом (рис. 2, 2,3). Существует мнение, что нимб — на¬
следие сасанидской иконографии 13. Нимб символизировал божественную
благодать, осеняющую властителя. Постепенно во время существования
Аббасидского халифата этот атрибут утратил религиозное значение.
В. П. Деркевич подчеркивает, что в сасанидской иконографии второсте¬
пенные персонажи всегда изображались без нимбов 14. По мнению
Б. И. Маршака, появление нимбов обусловлено влиянием буддизма 15.
Многочисленна группа бронзовых бляшек из Минусинской котлови¬
ны и Алтая с изображениями человеческого лица (см. рис. 1, 14, 17; 3, 1).
Они напоминают фалары-апотропеи в виде человеческого лица, запечат¬
ленные на сасанидских блюдах 16.
121
Рис. 2. Изображения всадников на предметах торевтики из Южной Сибири.
Растительные мотивы наиболее часто изображали в южно-сибирских
узорах во второй половине I тыс. Популярные согдийские мотивы пред¬
ставлены в рассматриваемых материалах изображениями винограда,
пальметок, цветочных розеток.
Виноград в декоре воплощен через четыре элемента, имеющие при¬
родную основу: виноградная кисть, лоза, «усики», листья. Последний
элемент не характерен для южно-сибирского искусства.
На многих предметах из Южной Сибири, например на парадной сбруе
и наборных поясах, имеются изображения виноградных лоз, кистей,
«усиков». Виноград показан на пряжках, больших ^сердцевидных бляш¬
ках, решмах, бляшках-наконечниках из сбруйных наборов, бляшках
с прорезями для продевания ремней и бляшках-наконечниках из состава
наборных поясов. Рассмотренные образцы, как правило, бронзовые,
литые или штампованные с рельефным орнаментом. Единичные предметы
оформлены прорезным орнаментом и горячим золочением. Основная часть
находок — подъемный материал из Минусинской котловины. Известен
мотив винограда и на образцах из Алтая и Тувы.
По способу передачи винограда выделяются следующие варианты:
рельефное изображение формы кисти винограда (рис. 3, 2), а также кисти
и ягод (рис. 3, 4, 7, 13, 15, 17), рельефное изображение кисти винограда,
дополненное ромбической сеткой (рис. 3, 3, 5, 9—11), объемное изображе¬
ние кисти винограда, подчеркнутое рельефными лентами (рис. 3, 6, 8, 12).
122
Рис. 3. Изображения на предметах торевтики из Южной Сибири.
1 — личина; 2—15, 17 — виноград; 16 — розетка.
123
Выделяются следующие группы композиций с виноградной кистью:
кисть винограда изображена без других элементов или изолированно
от них (см. рис. 3, 4);
вьющаяся виноградная лоза с усиками и гроздями винограда вокруг
центрального изображения (см. рис. 3, 2);
вьющаяся виноградная лоза с усиками и симметрично свисающими
гроздями. Известны комбинации с тремя, четырьмя парами кистей вино¬
града, а также с тремя и одной непарной, завершающей композицию
кистью (см. рис. 3, 3, 5—8);
одна пара симметрично свисающих гроздей винограда с усиками
и лозой в композиции с одной, двумя и тремя пальметками (рис. 3, 9—13,
15, 17).
Первые две композиционные группы представлены единичными эк¬
земплярами, вторые — массовым материалом. Многообразие компози¬
ционных построений и инвариантность передачи виноградной кисти сви¬
детельствуют о популярности мотива и богатстве подходов к его вопло¬
щению. При этом анализ массового материала демонстрирует единство
художественного стиля, которое проявляется в следующих характерис¬
тиках: идентичности технологических признаков, наличии бордюра и сим¬
метричности изображения. В третьей группе рельефно выделена ось сим¬
метрии, делящая декорируемую плоскость на две зеркально отражающие
друг друга половины. В четвертой группе центральное место занимают
пальметки, из которых «прорастают» побеги с симметрично свисающими
гроздями винограда. Все элементы орнамента (побеги, гроздья винограда,
усики, пальметки, ось симметрии (в ряде случаев даже бордюр)) нераз¬
рывно соединены. Этим достигается единство и равновесие деталей и впе¬
чатление движения узора.
Варианты изображения пальметок и композиционные их решения
в южно-сибирских материалах многочисленны. Распространенными здесь
были и популярные для сасанидских мастеров древовидные композиции
из пальметок, так называемые пальметочные деревья 17. Художественные
особенности воплощения этих композиций характеризуются так же, как
мотив винограда: идентичностью технологических признаков, симметрич¬
ностью узора, неразрывностью орнаментальных линий.
На двух больших группах находок из Южной Сибири прослеживает¬
ся мотив цветочной розетки. Первую группу составили бляшки, форма
которых соответствует цветочной розетке. Большое количество таких
бляшек обнаружено в Сростках. Среди них — образцы в виде шести-,
семи- и восьмилепестковой розетки (см. рис. 3, 16). Вторая группа —
предметы разных форм, на которых цветочная розетка изображена с по¬
мощью рельефного орнамента.
Сасанидские мастера часто украшали края металлической посуды
лепестковым узором. Южно-сибирские мастера торевтики использовали
этот мотив для сплошного заполнения декорируемой % поверхности бля¬
шек, пряжек и обойм для сбруйных и поясных наборов (см. рис. 1, 16,
18, 19).
Многочисленные и разнообразные примеры воплощения иранских
мотивов свидетельствуют о их популярности у южно-сибирских мастеров
торевтики и о стремлении последних к инновациям.
Адаптация новых приемов и мотивов декорирования происходила
на базе хорошо развитой местной технологии обработки металла. Наи¬
большее количество заимствованных мотивов обнаружено на южно-си¬
бирских образцах IX—X вв. Этот период совпадает с наибольшими дости¬
жениями саяно-алтайских мастеров торевтики в использовании самых
124
разнообразных металлов, технологий изготовления, приемов художест¬
венного оформления изделий.
Особенности восприятия кочевниками инноваций в области декора¬
тивно-прикладного искусства были связаны с уровнем развития техно¬
логии и социальными условиями. Последние определили преобладание
среди изделий южно-сибирских чеканщиков не пиршенственной посуды,
а поясных и сбруйных наборов — атрибутов номадов. Поэтому сложные
сасанидские композиции со сценами охоты и др. не могли получить ши¬
рокого распространения на произведениях в Южной Сибири. Ограничен¬
ность декорируемой плоскости поясных и сбруйных наборов диктовала
художественное решение: для оформления выбирались отдельные эле¬
менты декора .(животные, птицы, виноград, пальметки) или простые ком¬
позиции (парные животные и птицы). Отдельный орнаментальный элемент
сасанидской сцены охоты становился украшением всей поверхности
бляшки от поясного набора. При этом необходимо заметить, что сасанид¬
ские мастера обычно использовали зооморфные образы не изолированно
от других изобразительных элементов, а в композициях. Даже одиночные
изображения животных были дополнены растительным орнаментом. Это
характерно и для южно-сибирских образцов рассматриваемого времени.
Распространенным является сочетание зооморфного мотива с трилист¬
ником (см. рис. 1, 1).
Произведения иранских мастеров были широко известны у разных
народов, они оказали сильное влияние на чеканщиков Средней Азии, Ки¬
тая, Восточного Туркестана. Эти регионы могли быть посредниками в зна¬
комстве южно-сибирских мастеров с иранским искусством. Свидетельст¬
вом этого могут быть многочисленные танские металлические изделия,
найденные на территории Минусинской котловины, украшенные персид¬
скими мотивами: виноградом, львами и др.
ПРИМЕЧАНИЯ 1 111 См.: Орбели И. А., Тренер К. В. Сасанидский металл.— Л., 1935; Дарке-
вич В. П. Художественный металл Востока VIII—XIII вв.— М., 1976.
2 Евтюхова Л. А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хака¬
сов).— Абакан, 1948.— С. 47, 50.
3 Там же. — С. 48, рис. 85.
4 Там же.— С. 51—52.
5 См.: Gyllensvard. Tang Gold and Silver.— Goteborg, 1958.
6 Ibid.
7 Луконин В. Г. Искусство Древнего Ирана.— М., 1977.— С. 191, 193.
8 Gyllensvard. Tang Gold and Silver.
9 Мифы народов мира: Энциклопедия.— М., 1980.— Т. 1.— С. 399.
10 Степи Евразии в эпоху средневековья.— М., 1981.— С. 138.
11 Там же.— С. 139, рис. 29.
12 Ackerman Ph. Sasanian seals // A Survey of Persian Art.— L., 1938.
13 Stchoukine I. La peinture iranienne sous Les derniers Abbasides*et Les il-
khans.— Bruges, 1936. %
14 Даркевич В. П. Художественный металл...— С. 41.
15 Маршак Б. И. Согдийское серебро.— М., 1971.— С. 59.
16 Даркевич В. П. Художественный металл...— С. 58.
17 Stchoukine I. La peinture...
Е. И. ДЕРЕВЯНКО
ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПЛЕМЕН
Входе накопления фактического
материала по истории племен
Дальнего Востока приходится часто возвращаться к обсуждению отдель¬
ных проблем, в том числе к вопросам изучения древнего искусства. Исто¬
рия искусства Китая и Японии освещена очень подробно, однако более
удаленные от древних цивилизаций районы оказались вне поля зрения
исследователей.
Коренные народы советского Дальнего Востока имели прочные кон¬
такты с племенами Сибири, Центральной Азии, Кореи, Японии. Конеч¬
но, проблемы культурных контактов народов Азии непросты, поэтому
необходимо обратиться к истории сравнительного изучения искусства
всех сопредельных территорий. «Чтобы действительно знать предмет,—
говорил В. И. Ленин,— надо охватить, изучить все его стороны, все свя¬
зи и ,,опосредствования”»1. Как утверждает Н. В. Кочешков, орнамен¬
тика декоративного искусства коренных народов Дальнего Востока бли¬
же всего традициям оформления народов и племен Северной Азии 2. Дру¬
гой сибирский, искусствовед, С. В. Иванов, показал, что искусство эвен¬
ков, чукчей, коряков, ительменов, азиатских эскимосов уходит своими
корнями в далекое прошлое. В орнаментах этих народов прослеживается
неолитическая основа 3. Видный советский археолог А. П. Окладников
посвятил древнему искусству Дальнего Востока немало книг и статей,
в которых показал, что орнамент коренных народов Дальнего Востока
восходит к неолиту 4. В этнографической культуре нанайцев и соседних
с ними племен Нижнего Амура до нас дошли следы отдаленной древности,
реликты изначальной культуры их предков. И не просто реликты — не
© Е. И. Деревянко, 1990
126
уродливые рудименты, не мертвые обломки древней культуры какого-то
исчезнувшего бесследно народа.
Многие исследователи Японии и Советского Союза обращали внима¬
ние на сходство некоторых жанров искусства, стилей и видов керамики
в древних культурах этих двух соседних регионов. Это отмечено в рабо¬
тах А. П. Окладникова 5, Р. С. Васильевского 6, Д. Л. Бродянского 7,
Чан Су Бу 8, В. А. Голубева и М. М. Прокофьева 9, Т. Оба 10, К. Оцу-
ки n, Т. Кикути 12.
Некоторые советские ученые видят истоки разнообразия орнамента
и форм сосудов культуры дзёмон в керамических традициях Приморья
и Приамурья 13.
В додзёмонских комплексах Кюсю прослеживается генетическая
связь с позднеустиновскими памятниками Приморья. В позднем дзёмоне,
особенно на севере Японии, сильнее проявились контакты с Приамурьем
и степями Евразии, где уже была эпоха металла. Сосуды культуры дзё¬
мон украшали, как правило, прямыми, волнистыми, ломаными линиями,
меандром, стилизованными треугольниками и ромбами, «елочкой», ря¬
дами вертикальных и косых насечек. В технологии оформления исполь¬
зовались два-три мотива рисунков на одном сосуде, сочетания рельефного
(прочерченный), барельефного («жемчужины») орнамента и лощение. Спи¬
рали «вакимото» прямо указывают на амурские источники. Ассоциацию
с находками из Вознесеновки вызывает и фигурный сосуд с носиком
с криволинейным орнаментом из Саваяна в Тохоку.
Своеобразная керамика найдена в Фукуре, на северо-востоке Хонсю.
Ее рельефный орнамент со спиралями напоминает оформление обнаружен¬
ных на о. Сучу на нижнем Амуре сосудов: низкая широкая ваза на узком
поддоне с биконическим перегибом в верхней части, утолщенный рельеф¬
ный венчик поднимается от шейки горловины.
«Сосуды типа исигоя близки к некоторым формам из Чертовых Ворот
в Приморье, а керамика типа сонэ с ногтевыми оттисками со дна оз. Сува
(о. Хонсю) вполне сопоставима с керамикой памятника Олений И.
Такие далекие параллели объясняются, скорее всего, не прямыми кон¬
тактами через Японское море, а общностью ряда исходных элементов как
на додзёмонской, так и в начально-дзёмонской стадии, исходная общность
будет ощущаться и впоследствии»14.
У всех дальневосточных народов в орнаментах на керамике, берестя¬
ных изделиях, одежде, обуви присутствует спираль. Это очень много¬
значительный символ. Спираль передает вращательное движение (это мо¬
гут быть веретена, жернова)15, космические явления (смерчи и вихри)16,
изображения дракона 17, движение солнца или луны по небосводу18.
В мифологических представлениях о времени «спираль идет на смену кру¬
гу и окружности, т. е. спиральная модель времени сменяет более архаи¬
ческую циклическую модель»19.
Связи племен Приамурья были обширными, и археологические сви¬
детельства этих связей многочисленны. Они говорят о взаимных влия¬
ниях древних культур, об общих истоках некоторых религиозных веро¬
ваний, об общей моде на произведения искусства. Б. Л. Рифтин отмечает
одну общую мифологическую традицию для Северной и Восточной Азии.
Это сюжет космической погони фантастического существа за солнцем.
Ему близок миф о Куа-фу — великане, связанном с миром мрака 20.
В «Книге гор и морей» говорится, что он побежал догонять солнце, но
в пути умер от жажды 21.
Древнее амурское искусство развивалось в тесной связи с искусством
соседей, впитывая все лучшее, передовое, обогащая культуры этих осед¬
127
лых народов в целом. Нам бы хотелось особо отметить роль культур При¬
амурья в развитии искусства всего дальневосточного региона. Через пле¬
мена Приамурья шел обмен предметами искусства между носителями
земледельческих культур Востока и Юга и тюркоязычными кочевниками
азиатских степей. Попытаемся проиллюстрировать это на одном виде
прикладного искусства — бляхах и пряжках.
Вплоть до эпохи Борющихся Царств в Китае в качестве пряжки ши¬
роко использовались металлические крючки. Пряжка, скрепляемая при
помощи «язычка», который представлял собой, возможно, измененный
крючок, широко распространяется в эпоху Северной и Южной династий 22.
Позднее пояса с пряжками проникли в Корею и Японию. Истоки этой
традиции происходят из Ордоса (Внутренняя Монголия), где в послед¬
ние годы раскопано большое количество захоронений, в которых найдены
многочисленные детали наборных поясов 23. Эти детали можно разделить
на три группы: 1) пряжки в форме птиц, 2) прямоугольные пластины,
3) простые пряжки. Пряжки в форме птиц обнаружены в пяти из шести
курганов Таохунбала 24. Сходные пряжки в большом количестве встре¬
чаются на Алтае в захоронениях пазырыкской культуры, в мохэских
погребениях Приамурья 25. Детали пояса в виде прямоугольных пластин
найдены в Алучайдэн, Сигоупань № 2 и 4 26. Все они выполнены из золо¬
та и залегали вместе с золотыми и серебряными предметами. Многие пряж¬
ки и бляшки из бронзы имеют примесь золота, по этому признаку они
сближаются с пряжками из Внутренней Монголии 27 и Приамурья. Нуж¬
но подчеркнуть, что в гуннских захоронениях на территории Внутренней
Монголии пока не найдено ни одного пояса с крючками. В Китае, как уже
отмечалось, крючки-застежки использовались начиная с Чуньцю и до
эпохи Борющихся Царств, а во Внутренней Монголии в этот период уже
была известна пряжка. Понятно, что в поясах использовались и другие
виды застежек за исключением застежек-крючков. Это указывает на то,
что китайские застежки-крючки не были заимствованы у северных ко¬
чевых племен в отличие от других бляшек и пряжек. Поэтому мы пола¬
гаем, что пряжки проникают в Китай с севера в период правления им¬
ператора У-ди, т. е. в период обширных военных действий с соседями,
когда за пределами страны было приобретено большое количество вели¬
колепных лошадей. Возможно, именно тогда в качестве детали конской
упряжи в Китай проникла пряжка. В горнах ханьской эпохи 28 находят
формы для отливки подобных пряжек, свидетельствующие, что эти изде¬
лия в достаточном количестве создавались на территории Китая. По¬
скольку там же находят и формы для отливки гвоздцй и других деталей
повозок, то принадлежность пряжек к сбруе на вызывает сомнения.
Во второй половине ханьской эпохи пряжки наряду с конской сбруей
начинают использовать и в поясах. В поздней Хань распространяются
также простые пряжки с прямым язычком, но сказать точно об исполь¬
зовании их в качестве застежек пояса ’нельзя. Если они и служили за¬
стежками пояса, то, вероятно, в исключительных случаях, поскольку
в дальнейшем в Китае традиция изготовления таких пряжек не была
продолжена. Впервые пряжки с языком появляются в качестве деталей
наборного пояса только в III—V вв. н. э.
Хочется обратить внимание на подобные гуннским пряжки с при¬
крепленной к ним золотой или серебряной пластиной-бляшкой. Шесть
таких пряжек обнаружены в курганах Акнан неподалеку от Пхеньяна 29.
Пряжки найдены в трех курганах — Чонпэх (№ 2, 37) и Соками (№ 219)
с парными супружескими захоронениями в деревянных гробах под зем¬
ляными насыпями рядом с останками мужчины, в области поясничного
128
пояса. Пластины подпрямоугольной формы, серебряные и золотые, на них
выгравированы лапы медведя, фигуры дракона, тигра. Подобные бляшки
встречаются редко, они характерны для культур племен, населявших
земли, соседствующие с Китаем на севере и западе. Согласно западной
традиции, бляшки инкрустированы драгоценными камнями. Воплоще¬
нием дальневосточной традиции следует считать изображение дракона.
Образ тигра как символ силы и могущества также привлекал внимание
древних дальневосточных мастеров. Он запечатлен на бляшках наборного
пояса. Истоки искусства с многочисленными изображениями представи¬
телей семейства кошачьих следует искать у скифов Алтая и Сибири,
а в VII—VI вв. до н. э. — в скифском искусстве Северного Причерноморья.
Мода на оружйе, украшения распространялась с запада на восток, и каж¬
дый народ, привнося в это что-то свое, выделял бляхи и пряжки из массы
подобных. Определенные сочетания орнаментальных мотивов, техники
нанесения их на пластины составляли конкретный стиль — китайский,
корейский, амурский и т. д.
Все сказанное выше наглядно демонстрирует тесные связи древних
племен Дальнего Востока в области духовной культуры.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч.— Т. 42.— С. 290.
2 Кочешков Н. В. Искусство малых народностей Дальнего Востока и проблемы
его изучения // Рефераты докладов и сообщений.— Владивосток, 1973.— Вып. 1.—
С. 42.
3 См.: Иванов С. В. Орнаментика, религиозные обряды и представления, связан¬
ные с амурской лодкой // СЭ.— 1935.— № 4/5; Он же. Архитектурный орнамент на¬
родов Нижнего Амура // Сб. МАЭ.— М.; Л., 1953.— Т. 15; Он же. Орнаментированные
куклы ульчей // СЭ.— 1936.— № 4.
4 Окладников А. П. Лики древнего Амура.— Новосибирск, 1968.— С. 185;
см. также: Он же. У истоков культуры народов Дальнего Востока // По следам древ¬
них культур: От Волги до Тихого океана.— М., 1954; Он же. Далекое прошлое При¬
морья // Очерки по древней и средневековой истории Приморского края.— Влади¬
восток, 1959; Он же. Неолитические памятники как источник по этногонии Сибири и
Дальнего Востока // Краткие сообщения/Ин-т истории материальной культуры
АН СССР.— 1941; Он же. Древнеамурские петроглифы и современная орнаментика
народов Приамурья // СЭ.— 1959.— № 2; Он же. О палеолитической традиции в
искусстве неолитических племен Сибири // Первобытное искусство.— Новосибирск,
1971; Он же. Петроглифы Нижнего Амура.— Л., 1971; Он же. Олень Золотые Ро¬
га.— Л., 1964; Он же. К предыстории искусства амурских народов (петроглифы на
реках Кие, Уссури) // СА.— 1968.— № 4; История Сибири.— М.; Л., 1968.— Т. 1.
5 Окладников А. П. Далекое прошлое Приморья.
6 Васильевский Р. С. Женские статуэтки в искусстве охотской культуры //
У истоков творчества.— Новосибирск, 1978.— С. 142—154.
7 Бродянский Д. Л. Произведения искусства в синегайской культуре // Пласти¬
ка и рисунки древних культур: Первобытное искусство.— Новосибирск, 1983.—
С. 98-105.
8 Чан Су Бу. Искусство позднего дзёмона Хоккайдо // У истоков творчества: —
Первобытное искусство.— Новосибирск, 1978.— С. 173—183.
9 Голубев В. А., Прокофьев М. М. Изображения животных и птиц в искусстве
охотской культуры // Первобытное искусство.— Новосибирск, 1976.— С. 116—120.
10 Оба Т. Костяные изделия, найденные в раковинной куче Моёро // Материалы
исследований северных культур.— 1955.— Вып. 10, № 3 (на яп. яз.).
11 Оцука К. Идолы и изображения животных охотской культуры // Буссицу
бунка.— 1968.— № И (на яп. яз.).
12 Кикути Т. О соотношении охотской, сацумонской и айнской культур // Мате¬
риалы симпозиума «Проблемы охотской культуры».— Саппоро, 1977 (на яп. яз.);
Он же. Мохэские и чжурчжэньские предметы, найденные в памятниках охотской куль¬
туры // Хоппо бунка кэнкю Хококу.— Саппоро, 1976.— Вып. 10 (на яп. яз.); см. так¬
же: Exhibition of ancient Far Eastern ornaments and jewels in the Collection of Tenry
9 Заказ J4& 87
129
University Museum.— Tokyo, 1964; Курс лекций по археологии Японии.— Токио,
1956.— Т. 3; Культура дзёмон (на яп. яз.).
13 Окладников А. П., Бродянский Д. Л., Чан Су Бу. Тихоокеанская археоло¬
гия.— Владивосток, 1980.— С. 60—63.
14 Там же.— С. 63.
15 Andersson I. L. The Site of Chu Chia Ehai // Bull, of Museum of Far] Eastern
Antiquities.— 1945.— № 18.
16 Mackenzie D. E. The migration of Symbols.— 1926.— № 4.
17 Веселовский H. И. Китайские символы в предметах украшения // Сборник
археологических статей, поднесенный графу А. А. Бобринскому.— Спб., 1911.—
С. 1—12; Лопатин И. Орочи — сородичи маньчжур // Вести. Маньчжурии.— 1925.—
№ 8/10.— С. 37.
18 Юань Кэ. Мифы древнего Китая.— М., 1965.— С. 131.
19 Рифтин Б. Л. Общие темы и сюжеты в фольклоре народов Сибири, Централь¬
ной Азии и Дальнего Востока // Страны народов Востока.— 1982.— Вып. 23.—
С. 104.
20 Липский А. Н. Енисейские изваяния.— Абакан, 1970.— С. 8; Виногра¬
дов Н. А. Проблемы структуры мироздания и зарождения поэтической символики в
искусстве Древнего Китая II тысячелетия до н. э. 7/ Гос. музей искусства народов Вос¬
тока: (Научные сообщения).— М., 1977.— Вып. 9.— С. 21; Рыбаков Б. А. Космогония
и мифология земледельцев энеолита // СА.— 1965.— № 4.— С. 43; Кашина Т. И,
Семантика орнаментации неолитической керамики Китая // У истоков творчества:
Первобытное искусство.— Новосибирск, 1978.— С. 188.
21 Ахундов М. Д. Концепции пространства и времени: Истоки, эволюция, пер¬
спективы.— М., 1982.— С. 62.
22 Сига Кадзуко. Металлические части поясов Китая и сопредельных районов //
Археология и миграция.— Досися, 1985.— С. 55 (на кит. яз.); Раскопки курганов в
Лояне // Каогу сюэбао. — 1957. — № 1 (на кит. яз.); Отчет о раскопках кур¬
ганов в Цзысу-исин // Там же.— № 4 (на кит. яз.); Умэхара М. О позолоченных брон¬
зовых деталях пояса с гравировкой драконового орнамента // Кокогаку дзасси.—
1965.— Т. 50, № 4 (на яп. яз.); Матида С. Рассуждение о древних металлических
поясах // Там же.— 1970.— Т. 56, «N*2 1 (на яп. яз.).
23 Мидзуно К., Эгами Н. Бронза из Суйюань.— Токио, 1935 (на яп. яз.);
Тянь Гуанцзинь, То Сусин. Гуннские погребения Внутренней Монголии. Алусайдэн //
Каогу.— 1980.— № 4 (на кит. яз.); Тянь Гуанцзинь. Раскопки гуннских памятников
во Внутренней Монголии в последнее время // Каогу сюэбао.— 1983.— № 1 (на
кит. яз.).
24 Тянь Гуанцзинь. Гуннские погребения в Таохунбала // Каогу сюэбао.—
1976.— № 1 (на кит. яз.)*
25 Руденко С. И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время.—
М.; Л., 1960; Деревянко Е. И. Троицкий могильник.— Новосибирск, 1977.— С. 195,
табл. XXXI, 21.
26 Тянь Гуанцзинь, То Сусин. Гуннские погребения...— Примеч. 5; Записки
об изучении гуннских курганов ханьского времени в Сигоупань // Нэймэн гу вэньву
каогу.— 1981.— № 5 (на кит. яз.).
27 Ханьские погребения в горах Пинлэинь // Каогу сюэбао.— 1978.— № 4 (на
кит. яз.); Краткий очерк раскопок западно-ханьских захоронений Жу Иньхоу //
Вэньву.— 1978.— № 8 (на кит. яз.).
28 Краткий очерк раскопок захоронений ханьского времени в провинции Хэ¬
нань // Вэньву.— 1976.— № 9.— С. 23 (на кит. яз.).
29 Ханьские погребения в Акнане // Записки Общества изучения погребений в
Акнане.— Пхеньян, 1975.— № 2 (на корейск. яз.); Отчет о раскопках древних курга¬
нов Шичжейгаань в пров. Юннань/Музей пров. Юннань.— Пекин, 1954.— С. 29
<на кит. яз.).
А. В. ЗАПОРОЖЧЕНКО, Д. Я, ЧЕРЕМИС И Н
МИФОЛОГИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ
НА СОСУДЕ ИЗ НАДЬ СЕНТ-МИКЛОШ
В оформлении произведений вос¬
точной торевтики нередко исполь¬
зованы весьма архаичные мифологические сюжеты. На местных изделиях
такие сюжеты появлялись в результате копирования прототипов и могли
быть не связаны напрямую с той средой, в которой бытовали. Эти сюже¬
ты, запечатленные на драгоценной посуде, неоднократно воспроизводи¬
лись ремесленниками разных школ и художественных традиций, стано¬
вились сквозными мотивами в искусстве многих народов в эпоху раннего
средневековья г.
Один из таких мотивов — вознесение человека пт цей — отображен
на двух из 23 золотых сосудов, найденных в 1791 г. в Трансильвании в Надь
Сент-Миклош (НСМ). Композиция на сосуде № 2 запечатлена на одном
из четырех медальонов (рис. 1), а на сосуде № 7 она занимает большую
поверхность (рис. 2).
У исследователей нет единого мнения об атрибуции этого клада.
По мнению В. П. Даркевича, коллекция из НСМ представляет собой
эклектичное собрание с ярко выраженным азиатским фоном 2-. Н. Мавро-
динов определял золотую посуду из данного клада как протоболгарскую,
отмечая, что оба сосуда с интересующим нас сюжетом восходят к сасанид-
ским образцам 3. Д. Ласло считает эти золотые изделия протовенгерски¬
ми, а в сюжетах на них усматривает иранское влияние 4. К этому же мне¬
нию склоняются И. Динеш 5 и И. Эрдели e. С. Ваклинов полагает, что
в раннеболгарском наборе золотых сосудов есть вещи с передне- и средне¬
азиатским изобразительным декором 7. А. Альфельди относит сосуд № 7
к кругу образцов постсасанидского искусства 8. По мнению К. В. Тре-
© А. В. Запорожченко, Д. В. Черемисин, 1990
9*
131
Рис. i. Изображение в медальоне сосуда № 2 из Надь Сент-Миклош (прорисовка).
вер, «в этих сосудах по-особому сочетаются разнородные' элементы, в том
числе эллинистические и сасанидские»9. Б. И. Маршак видит в сосудах
подражание восточной торевтике, отмечая, что наряду со среднеазиат¬
скими элементами «прототипы сосудов... вероятно, имели больше саса-
видских п ближневосточных особенностей»10.
В средневековом искусстве роль изображений, восходящих к древ¬
ним прототипам, отнюдь не сводится только к иллюстрированию того или
иного мифологического рассказа. Зритель мог не понимать значения изо¬
бражений, но должен был знать, что подобные сюжеты типичны для той
или иной страны, для того или иного времени п. Это положение справед¬
ливо и в отношении «венгерского металла». Венгерские мастера, видимо,
стремились воспроизвести высоко ценившиеся восточные сосуды и вы¬
давали себя лишь в деталях и упрощении образца 12. Исходя из идеи
Б. И. Маршака, мы полагаем, что прототипом для сосуда № 7 из НСМ
послужил сасанидский, возможно постсасанидский, кувшин. Следова¬
тельно, прочтение изобразительного текста на венгерском сосуде исходя
из иранской мифологии будет дополнительным аргументом в пользу са-
санидской атрибуции его прототипа.
132
Рис. 2. Сосуд № 7 из Надь Сент-Миклош.
Традиция мифологического выделения сосудов из драгоценных ме¬
таллов присуща индоиранцам с древнейших времен и отражена как в пись¬
менных источниках* так и в произведениях искусства.
133
В Ригведе образ драгоценного сосуда наполнен глубокой космологи¬
ческой символикой: термин «Дхишана» обозначает одновременно и куль¬
товую чашу для опьяняющего напитка, и богиню — персонификацию
этого сосуда. Кроме того, Дхишана — это богиня плодородия, податель¬
ница благ (РВ.Х.35.7; 49.4; VII. 90.30), «представительница материн¬
ской питательной силы и персонификация поэтического вдохновения»13.
Она выжимает сок для опьяняющего напитка и подносит его богам: «...от
души выпей сомы, о герой Индра, из чаши»14.
Дхишана — это абстрактный образ Вселенной, которая, по представ¬
лениям древних индийцев, состояла из двух чаш: одна символизировала
землю, непосредственно саму богиню Дхишану, другая — небо, бога
Индру: «небо и землю... поднимает (Агни)... оба мира, как две чаши, раз¬
деляя» (PB.VI.8.3), или «небо и земля... вы мировые чаши»15. В Иране
тоже существовал образ вселенской чаши — чаши Джамшида (Йимы)16,
космологической символикой наделены золотые чаши и у скифов 17.
Мифологической значимостью в индоиранской религиозной традиции
обладали не только чаши-фиалы, но и кувшины, и прежде всего золотой
кувшин владыки подземного океана Варуны. Кувшин считался вмести¬
лищем подземных вод, из которого росли корни мирового древа. В виде
кувшина древние индийцы представляли гору, которую пробил Индра
(это действие изофункционально акту творения). Считалось, что подзем¬
ные воды были хранилищем жизненной силы (амрита, сома, эликсир вод),
священный напиток поднимался по стволу растущего в океане мирового
древа на третье небо, где пировали боги (Чхандогья Упанишада,:
VIII.5.3)18. В Махабхарате (1.15.2) прямо говорится о первобытном океа¬
не как о кувшине амриты 19, сама земля нередко ассоциируется с сосу¬
дом, полным подземных вод 20. Аналогичные представления существовали
и в Иране (связь хаомы с «деревом всех семян» Гаокереной, растущим по¬
среди мирового моря Воурукаши)21.
Изобразительным воплощением подобных представлений является
широко распространенный в искусстве Индии, Ирана и соседних с ними
стран мотив мирового древа, растущего из сосуда 22. Эта тема популярна
и в сасаяидском искусстве: чаша VI—VII вв., хранящаяся в Институте
искусств Детройта, украшена растущими из ваз виноградными лозами 23,
на чаше из Кливлендского музея изображены поднимающиеся из ваз ви¬
ноградная лоза и финиковая пальма 24. К сасанидским образцам, на ко¬
торых ваза рассматривалась в качестве источника «звездной воды»— Ард-
висуры, восходит мусульманский мотив «вазорастения» (например, фриз
Мгаатты VIII в., бронзовое блюдо XI в. из Ирака)25.
Итак, в индоиранской религиозной традиции сосуды для хранения
опьяняющего напитка имели глубокое космологическое значение. Такие
культовые сосуды являют собой воплощение единства космологической,
прагматической и изобразительной функций, что позволяет рассматривать
их как систему. «Функция сосуда, т. е. его предназначение для определен¬
ного содержимого, и его оформление составляли неразделимое целое.
Связь формы и материала сосуда с его назначением — результат свойст¬
венной первобытному мышлению особенности — не разделять явления
и сущность»26.
Традиция ритуального осмысления особых сосудов, наделенных кос¬
мологической символикой, сохранялась в течение длительного времени.
Так, автор III в. Афеней, обращаясь к чаше, носившей, по его мнению,
персидское название, писал, что она имеет форму мира, является выра¬
жением божественной силы и плодородия почвы и по этой причине эту
чашу употребляют для свершения возлияний богам 27. Понимание гре¬
134
ческим автором ценности ритуальной чаши вполне в духе индоиранской
традиции можно объяснить, принимая во внимание особый религиозный
синкретизм, сложившийся в период эллинизма.
Можно ли предполагать сохранение подобного отношения к сосудам
в сасанидское время?
Большинство специалистов видят в сасанидских сосудах только цар¬
скую столовую или пиршественную посуду. Однако, отмечая на сосудах
сасанидской эпохи широкое отображение темы пира, нам хотелось бы ука¬
зать на тот факт, что в Иране существовала древняя традиция относить
пир к культовой сфере 28.
Культовое значение золотых и серебряных сосудов в пиршественном
ритуале должно соотноситься с изобразительным текстом их декора.
В попытках прочтения содержания сюжетов на сосудах можно опираться,
во-первых, на высокую степень каноничности иранского искусства в це¬
лом, а во-вторых, на тот факт, что период иранского средневековья — это
во многом «ренессанс» древневосточного искусства и искусства Ахемени-
дов, для которого, в свою очередь, было характерно «сознательное воз¬
рождение древних образов и древней символики»29. Сасанидские торевты
копировали более древние образцы, компоновали элементы различных
композиций, следуя твердо установленным канонам 30. Благодаря этому
в течение длительного времени сохранялись определенные формы сосудов
и элементы их декора. Будучи предметами импорта, обладавшие вы¬
сокой ценностью сосуды становились прототипами для воспроизведения 31.
Исходя из этого изображения на сосуде № 7 могут быть кратко опи¬
саны следующим образом.
На горле сосуда запечатлена сцена охоты водяных птиц (цапли?)
на лягушек. На противоположных поверхностях горла на фоне расти¬
тельности показаны две цапли, которые держат в клювах лягушек. Еще
две такие же птицы изображены стоящими на одной ноге с закинутой
вверх головой и поднятым клювом (рис. 3).
Тулово кувшина отделено от горла ободком из цветочных пальметок,
ниже которого, на плечевой поверхности сосуда,— поясок растительного
орнамента. Орнаментом из переплетающихся растительных гирлянд окай¬
млены широкие плоские стороны сосуда, на которых запечатлен один
и тот же сюжет: фантастическая птица с распахнутыми крыльями и распу¬
щенным хвостом несет в когтях обнаженного человека неопределенного
пола 32. Тело человека передано в фас, голова с короткой подчеркнуто
«западной» прической повернута назад и изображена, как и ноги, в про¬
филь. Руки подняты вверх, в одной из них чаша, которую человек под¬
носит к клюву птицы, в другой — ветвь растения. Крылья птицы пере¬
крывают изображения двух деревьев с отростками в Биде бутонов или по¬
чек, вершины деревьев оформлены в виде ветви с пятью листьями
(рис. 4, 5).
Аналогично изображениям на широких плоскостях кувшина, компо-
зиция на боковых узких плоскостях развернута на фон^ двух деревьев.
От деревьев в разные стороны отходят ветки, заканчивающиеся трилист¬
никами. Вершины обоих деревьев венчает ветвь с пятью листьями (со¬
цветие?). Именно такую ветвь держит человек, находящийся в когтях
птицы.
На сосуде детально изображены деревья, штриховкой выделен каж¬
дый лист. Трилистники здесь в отличие от растительного орнамента обо¬
значают, скорее, конкретный вид растения или мифологический вегетатив¬
ный образ, включенный в общую повествовательную канву (один трилист¬
ник изображен точно над чашей, из которой человек поит птицу). На вен-
135
Рис. 3. Изображение на горлышке сосуда № 7 (прорисовка).
чине кувшина, где запечатлены цапли, совсем другая, хотя и столь же ре¬
презентативно показанная, растительность.
На узких плоскостях сосуда более сложная композиция. Одни и те же
персонажи на противоположных плоскостях перемещены относительно
друг друга (рис. 6). На передней узкой поверхности одно под другим по¬
мещены два изображения. Вверху представлен обнаженный человек, си¬
дящий верхом на фантастическом «кентавре». Над головой «кентавра»*
поднявшего, как бы защищаясь, вверх руки, «всадник» занес в поднятых
руках ветвь. В одной руке «кентавр» держит круглый плод, а другой сдер¬
живает напор несколько откинувшегося назад «всадника». Руки и торс
демона покрыты рядами насечек, обозначающими шкуру (?), задняя часть
тела — точками, нанесенными треугольным в сечении инструментом.
Под этими персонажами изображена еще одна пара. Здесь верхом
на крылатом льве с человеческой головой сидит всадник с поднятыми ру¬
ками, в которых он держит фигурно сложенный аркан (веревку(?)). Все
тело всадника, как и торс кентавра, покрыто насечками, а тело льва —
S-образными завитками и точками, украшено листовидными подвесками.
Крылатый лев — единственный персонаж из запечатленных на уз¬
ких гранях, не обладающий ожерельем с тремя подвесками (однако он
украшен лентами). Ожерелье с подвесками (перлами) было царской
инсигнией сасанидских принцев начиная с Арташира III до Ездигер-
да III. Такое ожерелье — характерный элемент декора сосудов, который
136
Рис. 4. Изображение на лицевой стороне широкой плоскости (прорисовка).
может служить определителем их принадлежности к сасанидской эпохе
(например, позолоченная бутыль из Тегеранского музея)33 и являться,;
таким образом, дополнительным аргументом в пользу сасанидской атри¬
буции прототипа сосуда № 7.
На противоположной узкой грани сосуда изображена та же компо¬
зиция, но верхняя пара предыдущей композиции стала нижней, а ниж¬
няя верхней. Однако на последней тело «всадника» на кентавре, покрытом
точками, напоминает внешний облик фантастических животных пер¬
сонажей.
Изображения на центральных и боковых плоскостях сосуда имеют
ряд общих черт: близки изображения антропоморфных фигур. — две ноги
в профиль, тело с поднятыми вверх руками в фас. Наиболее сходны фи¬
гуры человека в когтях птицы и обнаженного «всадника»: одинаковы при¬
ческа, поясок на широком бедре, ожерелье с тремя подвесками. Такое
украшение есть и у «кентавров». Совпадают и другие изобразительные
детали. Таким образом, можно предположить, что запечатлен один персо¬
наж и что сюжеты на широких и узких плоскостях кувшина являются
разными изобразительными вариантами одной мифологемы.
Сюжет с человеком, несомым хищной птицей, довольно часто воспро¬
изводился на произведениях восточной торевтики. Пожалуй, древнейшим
примером подобного рода может служить золотой кубок или чаша из Ха-
санлу (IX в. до н. э.)34. В более позднее время этот сюжет был популярен
137
Рис. 5. Изображение на обратной стороне широкой плоскости сосуда № 7 (прорисовка).
в искусстве Гандхары (каменная статуэтка из Делийского музея)36, про¬
изведениях эпохи эллинизма (печать из Пенджаба)36. Эта тема нашла во¬
площение в произведениях живописи из Пенджикента 37, римском и ис¬
ламском искусстве 38. Но наиболее яркое художественное решение этот
сюжет получил в образцах сасанидского и постсасанидского искусства:
Чердынское блюдо из коллекции Эрмитажа (рис. 7), поливная чаша
из Рея и т. д.39
Большинство исследователей возводят сюжет с человеком, схваченным
птицей, к иранской мифологии, хотя единого мнения о его семантике нет.
Р. Эттингхаузен, Д. Шеперд, Л. Рингбом видят в человеке богиню Ана-
хиту и связывают этот сюжет, как и изображения женщин на сасанидских
сосудах, с широко распространенными в Иране в сасанидскую эпоху эро¬
тически окрашенными культами плодородия 40.
К. В. Тревер считает женщину, заключенную в когтях орла, боги¬
ней Иштарь, образ которой у иранцев слился с образом бога Сомы 41.
По мнению В. Г. Луконина, «это сложное толкование... имеет большое
значение, но в сохранившихся частях Авесты есть и более близкая к сю¬
жету параллель»— рассказ из «Абан-Яшта» о лодочнике Паурве; в жен¬
щине В. Г. Луконин видел Анахиту 42. Вознесение обнаженной женщины
орлом Б. И, Маршак считает чисто сасанидским изобразительным сюже¬
том, значение которого не совсем ясно. Возможно, что на сасанидских ыро-
138
Рис. 6. Изображения на узких боковых плоскостях сосуда № 7 (прорисовка).
изведениях торевтики воспроизводились «древнеиранские легенды»43,
А. Альфельди рассматривает этот сюжет как индоиранский, восходящий
к мифу о Гаруде, похищающем змее-женщину Нага. Через индобактрий-
ское искусство эта изобразительная композиция проникает в Иран и даль¬
ше на Запад 44. С точки зрения А. Д. X. Бивара, данная тема в гандхар-
ском искусстве есть результат эллинистического влияния, в ней получил
отражение интерпретированный в индийском духе миф о Ганимеде или
миф о похищении Зевсом в облике орла нимфы Эгины 45. К этому мнению
склоняется и Ж. Дюшен-Гийемин: он отрицает всякую иранскую симво¬
лику сюжета и связывает его с дионисийским мифологическим комплек¬
сом; сюжет на чаше из Хасанлу исследователь объясняет,* исходя из ми¬
фологии Двуречья (миф об Этане)46.
Такой подход, на наш взгляд, не совсем оправдан. Прочтение
Г. Н. Курочкиным сюжета на чаше из Хасанлу на основе древнеиранской
мифологии 47 подкрепляется тем, что установлено наличие на этой террри-
тории, во всяком случае начиная с X в. до н. э., иранского лингвистиче¬
ского субстрата 48. В. Г. Луконин считает чашу произведением хуррит-
ских мастеров, а сюжет — хурритским мифом 49, но и это не препятствует
«иранскому прочтению» сюжета, принимая во внимание стиль «цитат»,
широко использовавшийся в древнеиранском искусстве.
139
Рис. 7. Изображение на Чердынском блюде (прорисовка).
Обращаясь непосредственно к анализу изображений на сосуде № 7
из НСМ,; можно предположить, что его прототипом был золотой сасанид-
ский сосуд. Подобные сосуды, как отмечалось, обладали культовой зна¬
чимостью и предназначались прежде всего для хранения опьяняющего на¬
питка. Использование именно драгоценных сосудов в таком качестве под¬
тверждается источниками: «Из серебряной чаши переливаю я тебя (хаому)
в золотую, только бы ни одна твоя капля твоей чудесной драгоценной
(влаги) не упала на землю» (Ясна Х.11)50.
Для сасанидского времени характерно использование драгоценных
кувшинов во время важнейших религиозных празднеств Ноуруза и Мих-
рагана 61. В основе этих’праздников лежит идея плодородия, а их сюжет
напоминает инициационный миф: мистическая смерть, во время которой
происходит приобщение к божественному, путешествие в потусторонние
миры и возрождение — возвращение в этот мир в новом качестве. В куль¬
товой практике подобный опыт достигался употреблением опьяняющих
напитков: хаомы, банга, вызывающих ощущение полета. Позднее парал¬
лельно или вместо этих напитков использовалось и виноградное вино—
священный напиток греков, римлян, фракийцев б2. Символика полета от¬
ражена в обычае сооружать в дни празднования Ноуруза качели б3.
Тесная связь'между опьяняющим напитком сомой-хаомой и полетом
(птицей) зафиксирована в индоиранской мифологии:
140
1) похищение сомы птицей для Индры (PB.IL18; IV.26) и аналогич¬
ный сюжет в отношении хаомы в Авесте (Ясна II; Х.1);
2) полет, внеземное путешествие, посещение богов возможно только
благодаря священному напитку (РВ.Х.119; 2, 7; Х.11; 6.11);
3) выпивший сому в Ригведе ассоциируется с птицей (РВ.Х.119.7),
а иногда и сам бог предстает в птероморфном виде (PB.IX.3.1; IX.67.14),
Важнейшим аспектом этих праздников является их связь с культом
плодородия. Ноуруз — это праздник весны, праздник пробуждения при¬
роды от сна, ее возрождения к новой жизни. Михраган — это день осен¬
него равноденствия, когда «(все, что) растет, достигает предела и вещество
роста иссякает, и животные перестают плодиться»64. Отсюда становится
ясной значимость сосудов с напитком жизни, напитком бессмертия:
в Ноурузе и Михрагане происходят культовые возлияния для умилости¬
вления божеств плодородия, а сам шаханшах выступает в качестве их ин¬
карнации 56. Традиция этих праздников очень архаична. Источники го¬
ворят о том, что ахеменидским царям разрешалось употреблять опьяняю¬
щие напитки только во время Ноуруза 56 и Михрагана б7.
Фертильный аспект очень силен в культе опьяняющего напитка: сома
и хаома часто ассоциировались с подземными водами, первобытным океа¬
ном, где зарождалась жизнь и благодаря которому происходит опдрдотво-
рение мира. Нередко сома-хаома выступает в качестве бога плодородия,
обеспечивая жизнь и размножение всем растениям, животным и людям б8.
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что композиция,,
изображенная на сосудах, отражает комплекс мифологических представ¬
лений, связанных с культом священного напитка, но только в сжатом,
как бы свернутом виде, причем сам сосуд также входит в этот комплекс,
объединяя все его компоненты, в том числе и напиток, который в него на¬
лит и для хранения которого, возможно, этот сосуд был предназначен.
Для подтверждения этого вернемся к анализу изображений на сосу¬
де № 7. Основную смысловую нагрузку там несет сцена вознесения че¬
ловека птицей. Обратимся прежде всего к образу человека. На Чердын-
ском блюде (см. рис. 7) это женщина, кормящая птицу виноградом. Жен¬
щина обнажена, на ней только браслеты и ожерелье. Бросается в глаза
прическа, характерная для сасанидской иконографии. Женщину держит
в когтях и хищная птица на сосуде № 2 из НСМ (см. рис. 1), хотя при¬
ческа этой женщины скорее «западного» типа.
Как отмечалось выше, большинство исследователей видят в таких
женщинах мифологический персонаж — богиню Анахиту, или Иштар.
Но подобная интерпретация встречает ряд возражений: во-первых, в Авес¬
те Анахита описывается одетой, в то время как большинство сасанидских
анахит полуодетые или нагие; во-вторых, анализ источников позволяет
видеть в Анахите прежде всего династийную богиню Парса, гаранта бо¬
жественной власти Ахеменидов и Сасанидов, деву-воительницу, богиню
войны и военной удачи б9. Такое понимание Анахиты противоречит изобра¬
жениям обнаженных женщин, связанных прежде всего с культом плодо¬
родия.
В образах обнаженных женщин, запечатленных в произведениях вос¬
точных торевтов, следует, скорее, видеть многочисленных местных бо¬
гинь плодородия, существование которых в мифологии народов по край¬
ней мере Средней Азии можно считать установленным. Это бактрийская
Нана,, хорезмийская Мина. Отсюда и особая популярность в так назы¬
ваемом греко-бактрийском искусстве тем вакхического цикла, сцен пир¬
шеств,
141
Без сомнения, огромное влияние на формирование подобных сюжетов
оказал культ Диониса, распространившийся по всему Востоку еще со
времен Ахеменидов. Анализ бактрийских памятников II в. до н. э.—
I в. н. э. показывает слияние типично греческих черт с местными, глав¬
ным образом древнейшими, восходящими к II—I тыс. до н. э.60
Большинство исследователей, делая совершенно верный вывод о
влиянии дионисийства на духовную культуру народов Ирана и Средней
Азии, считают, что культ Диониса слился здесь с культом Анахиты 61.
Однако, на наш взгляд, более обоснованно можно говорить о наложении
культа Диониса на культ Сомы-Хаомы 62.
Каковы же основания для подобной гипотезы? Прежде всего это
сходство мифологической базы, ее однородность, свидетельствующая,
возможно, об общих истоках. Большое место в формировании диони¬
сийства сыграла связь Диониса с культом опьяняющих напитков
и веществ, из которых они изготавливались 63. В культах Сомы-Хаомы
и Диониса много общих моментов:
1) роль Диониса в элевсинских мистериях экстатического плана;
бог Сома — податель экстаза (PB.VIII.48; Х.119), аналогично — Хаома
(Ясна IX.16)64;
2) поэтическая функция Диониса; бог Сома — поэт, покровитель
поэтов, источник поэтического вдохновения (PB.IX.32; IX.76), как и
Хаома (Ясна Х.8; Х.14)65;
3) роль Диониса в мифологеме жизнь/смерть; Сома — источник бес¬
смертия (РВ.Х.123; IX. 143.9), Белый Хом принадлежит Амеретат 66;
4) тема плодородия, сюжет брака и свадьбы, где Дионис выступает
в роли жениха, особое подчеркивание фаллической мощи; бог Сома — же¬
них, муж Сурьи, бог Сома — бык-производитель (PB.VIII.31.1; IX.76.3;
Тайт. Брх.1.3.3.2), Хаома дарит «царственное потомство и праведных на¬
следников»67;
5) важнейшей чертой Диониса является его «двойничество»: он одно¬
временно отец и сын, старший и младший и т. д.; бог Сома также обладает
подобным качеством: он одновременно Вритра и убийца Вритры, отец
и дитя 68, Хаома — отвращающий смерть и одновременно убийца, отуп¬
ляющий, связывающий 69;
6) связь Диониса с влагой, с амброзией, священным напитком 70;
бог Сома — персонификация опьяняющего напитка, он тесно связан
с водой (РВ.1.91.22), то же самое характерно и для Хаомы 71.
Подобное сходство могло послужить реальной основой для слияния
дионисийства с местными культами опьяняющего напитка, связанными
с виноградарством, распространенным в Восточном Иране, Средней Азии,
Восточном Туркестане 72. *
Центральное место в культе опьяняющего напитка занимает миф о его
похищении, который, на наш взгляд, и отражен в сюжете на предметах
восточной торевтики, причем на Чердынском блюде и сосуде № 2 из НСМ
сам напиток персонифицируется в образе богини плодородия и вино¬
градарства, богини опьяняющего напитка.
Вернемся к изображениям на сосуде № 7. Здесь, в отличие от Чер-
дынского блюда и сосуда № 2, в когтях у птицы запечатлена не женщи¬
на, а скорее существо, объединяющее как женские, так и мужские при¬
знаки. Такие андрогинные существа весьма характерны для культов
плодородия, в том числе и для дионисийства, где границы между мужски¬
ми и женскими божествами, которые часто заменяют друг друга, весьма
размыты 73.
142
Иконографически образ человека в когтях птицы близок образу Дио¬
ниса — безбородого юноши с короткой прической 74. Даже в окончатель¬
но сформировавшемся облике бога были сильны женские черты (почита¬
лись такие ипостаси Диониса,; как Аттис и Сабазий)76. Это находило свое
отражение и в памятниках искусства: Дионис нередко изображался
в женских одеждах, с женскими формами тела (на коптских тканях у
Диониса женские груди)76. В Нью-Йорке в галерее Фриир в сцене триум¬
фа Дионис переинтерпретирован копиистом как женщина 77. Важно от¬
метить длительность существования подобной традиции. По мнению
В. П. Даркевича, Дионис похож на женщину и на позднесасанидских ча¬
шах VI—VII вв.78
Таким образом, трактовка бога опьяняющего напитка как человека
неопределенного пола не противоречит прочтению сюжета как изобрази¬
тельной версии мифа о похищении напитка, интерпретированной под
влиянием дионисийского комплекса.
Тесная связь бога Сомы с полетом и птицами уже отмечалась. Сле¬
дует обратить внимание на то, что на сосуде № 7 из НСМ человек поит
птицу из чаши во время полета. Если предположить, что в чаше находит¬
ся напиток сома, то это хорошо согласуется с мифом, по которому сома сам
умножает силу орла, его несущего, выступая как бы инициатором похи¬
щения (PB.IV.27).
Вызывает интерес полушаровидная чаша, которая по форме повто¬
ряет широко распространенную ритуальную посуду многих народов
индоиранского круга. В Бактрии, например, такие чаши были культовы¬
ми, использовались для священного напитка и обладали глубокой мифо¬
логической значимостью 79.
Предлагая трактовку сюжета, напомним, что, по древнеиндийским
источникам, птица совершает похищение напитка для богов и мудрецов,
людей всего земного мира. В таком случае и сам кувшин, содержащий на¬
питок и дающий его потребителю, выполняет функцию птицы.
Знаком, свидетельствующим о связи человека с растительностью,
является ветвь, которую он держит в руке, а также фон из деревьев, на
котором разыгрывается сюжет. Как отмечалось, деревья изображены под¬
черкнуто репрезентативно, причем трилистники, которыми завершаются
их побеги,— весьма распространенный мотив, который, с точки зрения
ряда исследователей, можно трактовать как знак священной сомы-хао-
мы 80 или плод, бутон хаомы 81. Такая трактовка хорошо согласуется с
представлениями древних иранцев о дереве Хом — «древе всех семян»,
о хаоме как о господине растений и символе всей растительности 82.
Таким образом, на сосуде отражается комплекс представлений о со-
ме-хаоме: хаома-бог, хаома-напиток, хаома-растение. Следует отметить,
что андрогинность бога находит объяснение не только в дионисийстве,
но и в мифологических характеристиках сомы-хаомы: сома-оплодотвори¬
тель, сома — мать всего сущего и т. д.
Говоря об отражении в сюжете дионисийства, интересно отметить
тождество вина и напитка сомы-хаомы, которое многократно отмечается
в индоиранской традиции. Так, у кати Гиндукуша бог Индр — главный
потребитель вина — оборачивается птицей, чтобы защитить от врагов
свой сад, в котором растет волшебный виноград 83.
Подобные представления есть также у южно-кафирских племен. Со¬
гласно легенде, у жителей селения Вама был сад Индракан, славивший¬
ся во всем Кафиристане своих виноградом. Создателем этого сада считал¬
ся бог Индер. Из плодов, выращиваемых здесь, делали вино, которое
143
использовали в ритуальных целях на новогодних торжествах и в празд¬
ник Индера в начале ноября (Михраган?). В представлениях кафиров
также существует связь Индера с птицей, в данном случае с золотой Sun-
nyase 84.
На наш взгляд, данные легенды кафиров являются отзвуком древне¬
го мифа о похищении опьяняющего напитка птицей для бога Индры.
Однако с этим мифом произошла своеобразная инверсия, в результате
которой сому заменило вино, а Индра, приняв облик огромного орла или
золотой Sunnyase, из потребителя превратился в охранителя напитка.
Более ясный свет на эволюцию мифа проливает легенда, сохранен¬
ная в «Науруз-намэ» Омара Хайама. В ней говорится о том, как фантас¬
тическая птица-феникс, носящая имя Хумай, в благодарность за спасение
птенцов от гибели приносит царю Шамирану зернышко винограда. Царь
в ознаменование этого события устанавливает обычай употреблять вино¬
градное вино в праздники, обычай священного пира 85. И эту легенду,
древность которой не вызывает сомнений, легко вывести из мифа о похи¬
щении опьяняющего напитка, только место хаомы занимает вино, а место
Индры — царь Шамиран.
Е. Э. Бертельс, анализируя касыду Рудаки, отмечал «полную парал¬
лель» тематики персидской литературы и изобразительных сюжетов на
сасанидской торевтике. В этой касыде в своеобразной форме мифа об
убийстве «матери вина»— виноградной лозы, воспевается царский пир,
описывается процесс приготовления вина 86. Параллели этому сюжету
можно найти в древнейших культах и мистериях: приготовление напитка
из сомы ассоциировалось с убийством (расчленением) сомы-растения, со¬
мы-божества. Показательно, что описание царского пира начинается
картиной получения вина. Миф о похищении птицей сомы аналогично во¬
спроизводит ситуацию первообретения этого волшебного напитка.
Таким образом, очевидно восхождение всех версий к единому мифо¬
логическому комплексу. Это позволяет говорить о соотнесении и наложе¬
нии друг на друга определенного ритуального значения сомы-хаомы и вина
и о широком распространении (как в пространстве, так и во времени) ми¬
фа о похищении сомы-хаомы птицей, причем показательно, что как в ка-
фирской, так и в среднеазиатской версии это похищение связывается с
установлением праздников плодородия 87.
Интересен образ фантастической птицы со звериными чертами, несу¬
щей человека. Детали иконографии позволяют сблизить эту птицу с Сэн-
мурвом — собако-птицей. Мифологический образ Сэнмурва, как и птицы
Саена-Шьена, обнаруживает тесную связь с опьяняющим напитком: пти¬
ца Саена уносит растение сому-хаому в земной мир; Сэнмурв сидит на
«дереве всех семян» (= дерево Хом), и «каждый раз, когда он поднимает¬
ся, тысяча веток на дереве нарастает и, когда садится, тысячу веток ло¬
мает и семена с них рассыпает» (Меног-и-Храт, 62)88, т. е. помогает соме-
хаоме выполнять оплодотворяющую функцию. %
Образ Сэнмурва-Симурга часто встречается в произведениях сасанид-
ского искусства: он изображается на царских одеждах, на сосудах 89.
Фантастическая собако-птица до сих пор популярна у многих иранских
народов 90.
С мифологическим комплексом сомы-хаомы связаны и сюжеты, изоб¬
раженные на узких боковых плоскостях сосудов. В них отражена тема
полета, раскрывающая важнейшую функцию опьяняющего напитка —
медиации. Медиативная функция сомы-хаомы раскрывается уже в образе
Сэнмурва — птицы о трех естествах, трех образах, созданной «не для
здешнего мира», а для путешествия по всем зонам мироздания 91. Выпив
144
сому, жрец начинает чувствовать себя богоравным, уподобляется птице,
одно крыло его касается неба, другое — земли (РВ.Х.119).
Во всадниках, которые несутся на антропоморфных существах, мож¬
но видеть людей, отведавших сомы: «как ветры буйные, понесли меня
вверх выпитые (соки сомы)... понесли меня вверх выпитые (соки сомы),
как быстрые кони — колесницу» (РВ.Х.119.3—4). В облике кентавра
мог быть персонифицирован сам волшебный напиток. В Ригведе сому
часто называют буланым, золотистым конем (РВ.IX.32.1; IX.76.1;
IX.17.7).
Кроме того, изображения всадников могли быть навеяны образами
полубогов гандхарвов, потребителей и охранников сомы, принимавших
участие и в ее похищении. В древнегреческой мифологии образ кентавра
был связан с культом плодородия и опьяняющего напитка: кентавры
являются спутниками Диониса, музыкантами, для них характерно при¬
страстие к вину. В Византии кентавров часто изображали на пиршествен¬
ной посуде 92.
Интересно, что всадник в верхней части сосуда запечатлен как бы
парящим в воздухе, обнаженным, а тело всадника, изображенного внизу,
покрыто точками, символизирующими шкуру (?). Не является ли это
различие свидетельством обожествленности первого (выпившего сому)
и приземленности другого (не получившего напитка)?
Можно предложить еще один вариант объяснения и связать эту сце¬
ну с культом Ашвинов-Насатьев. Божественные целители, возвращаю¬
щие жизнь умершим, молодость старикам, тесно связанные с раститель¬
ным миром, они часто дублируют бога Сому (см., напр., РВ.Х.65.2).
Ашвины связаны с лошадьми, они готовят опьяняющий напиток — «мед»,
который в ведах нередко выступает в качестве эквивалента сомы 93. Один
из атрибутов Ашвинов — медовый кнут madhukasa 94. Может быть, в ру¬
ках всадника мы видим подобный кнут (см. рис. 4)? О тесной связи Ашви¬
нов с птицами говорится в Ригведе (РВ. 1.164.27). Ашвинам для достиже¬
ния бессмертия и вступления в сан богов приходится также совершать
своеобразное похищение сомы.
Ашвины всегда рассматриваются как наиболее близкие людям боги,
а иногда и как обожествленные люди. За связь с людьми Ашвины были
лишены своей доли опьяняющего напитка 95. Следовательно, получение
ими сомы можно трактовать как получение всем земным миром заключен¬
ной в ней плодородной силы. В таком понимании мифа добывание сомы
Ашвинами эквивалентно похищению сомы птицей.
В изображении людей верхом на крылатых львах также можно ви¬
деть триумф человека, достигшего божественного напитка и возвысивше¬
гося над земным миром. Это, возможно, подчеркивается трактовкой чело-
века-льва как священного, божественного, царского животного (крылья,
коронарная прическа, ленты)96.
Летящие кони, крылатые существа, царящие в воздухе-эроты — не¬
редкие образы, запечатленные на предметах сасанидсной торевтики.
Мнение К. В. Тревер о том, что на сосуде № 7 изображены персонажи
индоиранской мифологии — Ашвины или Маруты, не противоречит нашей
точке зрения 97. Однако эта гипотеза вызвала резкие возражения Ж. Дю-
ше-Гийемина, который отказывает крылатым фигурам во всякой иранской
интерпретации и связывает их появление в сасанидской торевтике с эллин¬
ским или древневосточным влиянием 98. Такая позиция представляется
нам не совсем верной, так как образы крылатых лошадей настолько ха¬
рактерны для мифологии всех народов индоевропейского круга, что по их
наличию устанавливается индоевропейский этнический элемент ". Кроме
10 Заказ JS6 87
145
того, Ж. Дюше-Гийемин противоречит сам себе, признавая, что в древне¬
иранских текстах этот символ обозначает «небесное блаженство»100. Нам ка¬
жется, что правильнее было бы говорить о наложении заимствованных
образов на местные. Что касается образа крылатого льва, то для вскрытия
его семантики необходимо обратиться к аналогиям. Так, в искусстве Ви¬
зантии грифон, объединявший черты льва и орла,— благожелательный
символ, эквивалент мифологического орла 101. В сказках народов Памира
Симург и крылатый лев являются изофункциональными персонажами 102,
в согдийской живописи крылатый лев выступает в роли Симурга —
охранника Рустама 103, а в раннесредневековом дворце Мшатты по сторо¬
нам вазы стоят мордами друг к другу грифон и Сэнмурв; это является
еще одним свидетельством того, что в иконографии «воплощение облика
существа, соединяющего в себе черты птицы и собаки, почти то же самое,
что и воплощение птицельва, крылатого льва»104. В таком случае крыла¬
тых львов можно сблизить с образом Сэнмурва-Симурга, а сюжет с их
участием может быть еще одной версией мифа, зафиксированного на широ¬
ких плоскостях сосуда.
Следовательно, изображения на узких гранях сосуда объединены
общим сюжетом и совпадают с темой ядра мифа. Их можно рассматри¬
вать как «иллюстрации» воздействия священного напитка на его потреби¬
теля или «иллюстрации», подчеркивающие и раскрывающие медиативную
функцию сомы-хаомы.
Необходимо заметить, что противоречивость или даже несовмести¬
мость вариантов «прочтения» одного и того же сюжета только кажущаяся.
В мифологии такие случаи нередки. «Древний человек давно уже поль¬
зовался принципом дополнительности, по которому по отношению ряда
объектов дать адекватное описание возможно только путем одновремен¬
ного соположения или наложения, казалось бы, противоречащих друг
другу образов и слов»105. Именно подобное явление происходит в данном
случае с сосудом, на котором изображения на широких и узких пло¬
скостях, излагающие разные версии мифа или различные аспекты мифоло¬
гии сомы-хаомы, дополняют друг друга и дают общую и наиболее полную
картину мифологического комплекса данного божества.
С основным сюжетом соотносятся и изображения на горле сосуда,
обозначающие аспект плодородия и вегетативности в культе сомы-хаомы.
Водяные птицы (цапли, аисты?), лягушки, пышная растительность легко
увязываются с представлениями о боге-соме как символе всего влажного,
произрастающего, тем более что водяных птиц с длинными клювами в
Иране традиционно связывали с луной, которая, в свою очередь, в индо¬
иранской мифологии — место обитания бога Сомы-Хаомы, символ воскре¬
сающего и умирающего бога. Взаимосвязь луны и сомы-хаомы получила
широкое отражение в произведениях восточной торевтики 106.
Не являются единичными и изображения водяных птиц. Аналогич¬
ные длинноклювные птицы представлены на «ведре с цаплями» из Афа¬
насьевского клада, на кувшинчике с Нижегородской ярмарки, на орна¬
менте шахской одежды из Тах-и-Бостан 107. Интересна связь этих птиц
с важнейшими земледельческими праздниками Ирана: Ноурузом и Мих-
раганом. В Иране во время празднества зазывания весны юноши хвалили
ее вестника аиста 108.
Подводя итоги, можно сказать, что сюжет вознесения человека пти¬
цей, часто встречающийся на восточной торевтике и связанной с культом
опьяняющего напитка, широко распространен у индоиранских народов.
Этот мифологический комплекс, в центре которого находился миф о по¬
хищении сомы-хаомы, отображен как в письменных источниках, так и
146
в памятниках искусства. В этом комплексе важную роль играли ритуаль¬
ные сосуды, представляющие с изображенными на них сюжетами единую
систему. Может быть, именно в силу такого слияния функций сасанид-
ская традиция изготовления драгоценных сосудов не исчезла в результате
арабского завоевания, а была воспринята другими культурами раннего
средневековья. Благодаря высокой ценности произведения сасанидской
торевтики служили образцами для подражания во многих странах мира.
Несмотря на утрату или переосмысление первоначального содержания
изобразительных сюжетов в новой этнической и культурной среде 109,
данные «тексты» могут читаться и быть соотнесены со значением, которое
им принадлежало в тех культурах, в которых они были созданы.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Именно поэтому при атрибуции произведений торевтики учитываются глав¬
ным образом технические, стабильные для художественной школы приемы исполне¬
ния. Их изучение проливает свет на эволюцию художественных традиций, границы
и связи школ, развитие стиля.— См.: Маршак Б. И. Согдийское серебро. Очерки по
восточной торевтике.— М., 1976.
2 Даркевич В. П. Художественный металл Востока.— М., 1976.— С. 173.
3 Mavrodinov N. Le Tresor protobulgare de Nagyszentmiklos // Archaeologia
Hungarica.— Budapest, 1943.— Yol. 29.— P. 97 et suit.
4 Laszlo G. L’Art des nomades.— Budapest, 1972.— P. 139; Idem. A Nagyszent-
miklosi kings.— Budapest, 1983.— P. 97—98.
6 Dienesf I. The Hungarians cross the Carpatians.— Budapest, 1972.— P. 72.
6 Эрдели И. Авары и Средняя Азия // Центральная Азия в кушанскую эпо¬
ху.— М., 1975.— Т. 2.- С. 170.
7 Ваклинов С. Раннеболгарская культура и Средняя Азия // Центральная Азия
в кушанскую эпоху.— М., 1975.— Т. 2.— С. 168. В более поздней работе С. Ваклинов
категорически заявил о болгарском происхождении клада, хотя и признал влияние
на него более развитых культур.— См.: Ваклинов С., Ваклинова М. Съкровището от
Надь Сент-Миклош.— София, 1983.— С. 86.
8 Alloldi A. Etudes sur le Tresor de Nadyszentmiklos // Cahiers archeologiques.—
P., 1952.— P. 43-55.
9 Тревер К. В. Новые сасанидские блюда Эрмитажа.— М.; Л., 1937.— С. 8.
10 Маршак Б. И. История восточной торевтики III—XI вв. и проблемы куль¬
турной преемственности: Автореф. дис. д-ра ист. наук.— М., 1980.— С. 28.
31 «Функции изображения в таких случаях соответствуют функциям географи¬
ческих эпитетов в эпосе при описании сосудов, одежды и т. д. Имеется в виду, что
,,румийские”, ,,китайские”, ,,чачские” и т. д. изделия не просто происходят из соот¬
ветствующих стран, но именно поэтому превосходны и достойны эпических героев.
...Потеря первоначального смысла изображений не делает изображение бессодержа¬
тельным, а лишь придает ему содержание другого рода. Множество иконических
знаков, передававших содержание сюжета, превращается в один знак, обозначающий
близость данной вещи к изделиям какой-то страны и какого-то периода».— Мар¬
шак Б. И. Бактрийские чаши // Античность и античные традиции в культуре и искус¬
стве народов Советского Востока.— М., 1976.— С. 261, 266.
12 Маршак Б. И. Серебряные сосуды X—XI вв. и их значение для периодиза¬
ции искусства Ирана и Средней Азии // Искусство и археология Ирана.— М.,
1976.— Т. 2.— С. 153.
*3 Johansson К. F. Die altindische Gottin Dhisana und Verwandtes.— Uppsala;
Leipzig, 1917.— S. 11; Gonda J. Vision of vedic poets.— The Haque, 1963.— P. 98.
14 Цит. по: Тревер К. В. Памятники греко-бактрийского искусства.— М.; Л.,
1940.— С. 74.
15 Там же.— С. 75.
16 В Иране в течение длительного времени были популярны легенды о волшеб¬
ном сосуде или золотом кубке Йимы-Джамшида, в котором мог отражаться весь мир.
По А. Кристиансену, такие сосуды могли использоваться в ритуальной практике,
например для гидромантии (сосуд — зеркало мира).— Carter М. L. Royal festal the¬
mes in sasanian silverwork and their central asian parallels // Commemoration Cyrus.—
Leiden, 1974.— Vol. 1.— P. 188.
17 Раевский Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен.— М., 1977.—
С. 10.
10*
147
18 Кейпер Ф. Б. Я. Труды по ведийской мифологии.—М., 1986.—С. 158.
19 Там же. — С. 159.
20 Там же.
21 Boyce М. Haoma, Priest of sacrifice // W. В. Henning memorial volume.—
L., 1970.— P. 64.
22 Cm.: Shepherd D. Sasanian Art in Cleveland If Bull, of the Cleveland Museum
of Art.— Cleveland, 1964.— Vol. 54.— №4.— P. 86—88; Carter M. L. Royal festal the¬
mes in sasanian silverwork...— P. 196.
23 Grabar 0. Sasanian silver. Late antique and early medieval arts of luxury from
Iran.— Michigan, 1967.— Fig. 41.
24 Harper P. 0. Royal Hunter. Art of the Sasanian Empire.— N. Y., 1978.—
Fig. 14.
25 Даркевич В. П. Художественный металл...— С. 52.
26 Антонова Е. В. К исследованию места сосудов в картине мира первобытных
земледельцев // Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и
средневекового Востока. — М., 1986.— С. 38, 47.
27 См.: Тревер К. В. Памятники...— С. 74.
28 Геродот, I, 133; Страбон, XV, III, 20. Шукуров Ш. М. Культура Ирана в
свете ритуально-мифологической интерпретации и Народы Азии и Африки.— М.,
1986.— № 1.— С. 64—72. По мнению Марты Картер, пир —паниндоиранское куль¬
турное явление.
29 Луконин В. Г. Искусство древнего Ирана.— М., 1977.— С. 4—5.
30 Даркевич В. П. Художественный металл...— С. 63.
31 Там же.
32 Определение пола человека, схваченного птицей, важно для правильного
прочтения сюжета, но затруднительно. По мнению К. В. Тревер, это гермафродит или,
скорее, «существо недооформленное», А. Альфельди — «юноша, но не женщина»,
Н. Мавродинова, Д. Шеперда, Б. И. Маршака — женщина, С. Ваклинова — полу-
женщина, полумужчина. Отправным пунктом нашей интерпретации стало предполо¬
жение о том, что на узких и широких сторонах кувшина изображен один и тот же
персонаж. Изображение человека, несомого птицей, можно мысленно «перенести» и
«посадить» на «кентавра»; изменятся лишь «транспортирующие» его животные. Вариа¬
ции в трактовке фигуры человека, вызвавшие разногласия исследователей в опре¬
делении его пола, на наш взгляд, могут быть обусловлены архаической основой дан¬
ной мифологемы (близнечный миф). Авторы глубоко признательны Леониду Аркадье¬
вичу Лелекову за обсуждение предложенной интерпретации и ценные советы.
33 Тревер К. В., Луконин В. Г. Сасанидское серебро.— Л., 1987.— G. 79,
87, 154.
34 Луконин В. Г. Искусство Древнего Ирана // История иранского государст¬
ва и культуры.— М., 1971.— G. 106.
35 Alfoldi A. Eludes sur le Tresor de Nagyszentmiklos.— P. 44—45.
36 Duchesne-Guillemin J. Art and religion under the sasanians // Memorial Jean
de Menasce.— Louvain, 1974.— P. 150.
37 Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. Очерки искусства Средней Азии.— М.,
1982.— G. 134.
38 Alfoldi A. Etudes sur le Tresor de Nadyszentmiklos.— P. 50—51.
39 Тревер К. В. Новые сасанидские блюда...— G. 9.
40 Duchesne-Guillemin J. Art and religion...— P. 147.
41 Тревер К. В. Новые сасанидские блюда...— G. 9.
42 Тревер К. В., Луконин В. Г. Сасанидское серебро. — G. 89—90. Ж. Дюшен-
Гийемен, М. Бойс, Р. Гиршман, П. Тиме по-разному интерпретировали содержание
Абан-Яшта.
43 Marschak В. Silberschatze des Orients. — Leipzig, 1986.— S. 312.
44 Alfoldi A. Etudes sur le Tresor de Nadyszentmiklos.— P.v45, 50.
45 Bivar A. D. H. An unknown Panjab Seal-collector // Journal of the numismatik
society of India.— 1961.— Vol. 12.— P. 316, fig. 1.
46 Duchesne-Guillemin J. Art and religion...— P. 149, 152. Следует отметить,что
миф об Этане находит многочисленные параллели и не может быть сведен исключи¬
тельно к древневосточной мифологии.— См.: Ulster*В. The textual history of the le¬
gend of Etana // Journal of American Oriental Society.— 1989.— Vol. 109, №] 1«—
P. 81—82.
47 Курочкин Г. H. К интерпретации некоторых изображений раннего железно*
го века с территории Северного Ирана // СА.— 1974.— № 2.— С. 34—47. М.-Т. Барре¬
ле в работе, специально посвященной интерпретации сюжета на чаше из Хасанлу, де¬
тально разбирает все предлагавшиеся прочтения и склоняется к хурритской версии.—
Barrelet М.-Т. Le decor du bol en or de Hasanlu et les interpretations proposees a son
sujet ll Problemes, concernant les hurrites.— P., 1984.— Vol. 2.— P. 1—176; см. также:
148
Duchesne-Guillemin J. Les interpretations iranistes du vase de Hasanlu. Examen criti¬
que // Ibid.— P. 187—190.
48 Грантовский Э. А. Ранняя история иранских племен Передней Азии.—
М., 1970.— G. 394.
49 Луконин В. Г. Древний и раннесредневековый Иран.— С. 66, 68.
50 Цит. по: Тренер К. В. Новые сасанидские блюда...— С. 18; см. также о золо¬
том сосуде Йимы и сосудах на пиру Кай Хосрова в статье: Розенберг Ф. А. О вине и
пирах в народной персидской национальной эпопее // Сб. МАЭ.— Пг., 1918.— Т. 5,
вып. 1.— G. 386; Boyce М. A history of Zoroastrianism.— Leiden; Koln, 1975.—
Vol. I.— P. 168.
51 Иностранцев К. А. Сасанидские этюды.— Спб., 1909.— G. 87—89, 96. Джам-
шид — изобретатель вина и Ноуруза (Розенберг Ф. А. О вине... — G. 385). Исполь¬
зование таких кувшинов в культовых пирах подтверждается изображениями на са-
санидской торевтике. На блюде из Эрмитажа с изображением царя на тахте среди му¬
зыкантов и слуг кувшин подобной формы стоит перед священнослужителем.— Тре¬
нер К. В., Луконин В. Г. Сасанидское серебро...— № 33 [16].
52 Топоров В. Н. К истории дионисийского комплекса // Античная балканисти¬
ка.— М., 1984.— G. 45. В Авесте Виштаспа совершает путешествие в мир духов с по¬
мощью Хома, а в пехлевийских сочинениях (Ривайят, Зардушт-Намэ и т. д.) Гуштасп
«путешествует» в Ноуруз с помощью вина, вино пьют во время внеземного полета п
Кай Кавус, и Йима.— См.: Dhabhar. Essays on Iranian Subjects.— Bombey, 1955. —-
P. 184, 189; Розенберг Ф. А. О вине...— G. 385.
53 Иностранцев К. А. Сасанидские этюды... — G. 100.
54 Цит. по: Даркевич В. П. Художественный металл...— G. 60.
55 Там же.— G. 78.
56 Об этом говорит Афеней в «Пире софистов».— См.: Тревер К. В. Новые са¬
санидские...— С. 15.
57 Frye R. N. Mithra in Iranian History // Mithraic Studies.— Manchester, 1975.—
P. 62—67. Опьянение царей в эти праздники было обязательным. Даже Омейяды пили
в эти праздники вино из золотых кубков; сравни сообщение Геродота и Страбона о
том, что «важнейшие дела персы решают за вином» (Страбон, XV, III, 20), «если же
они что-нибудь решают сперва в трезвом состоянии, то они его еще раз решают, буду¬
чи опьяненными» (Геродот, I, 133).
58 Boyce М. Haoma, Prist of sacrifice.— Р. 65.
59 Лелеков Л. А. Вопросы интерпретации среднеазиатской коропластики элли¬
нистического времени // СА.— 1985.— № 1.— С. 55.
60 Сарианиди В. И., Кошеленко Г. А. Дионисийские сюжеты в искусстве Бакт-
рии юэчжийского времени // Всесоюз. симпозиум по проблемам эллинистической куль¬
туры на Востоке.— Ереван, 1980.— С. 73; Кузьмина Е. Е. Дионис у усуней (о семан¬
тике Каргалинской диадемы) // Центральная Азия: Новые памятники истории и
искусства.— М., 1987.— С. 168—170.
61 Shepherd D. Sasanian art...— Р. 82; Ettinghausen R. From Bysantium to sa-
sanian art and islamic World.— Leiden, 1972.— P. 9—10; Harper P. O. Royal Hun¬
ter...— P. 61—77; Herzfeld E. Zoroaster and his world.— Princeton, 1947.— Vol. 2;
Dhabhar Essays on Iranian Subjects.— P. 67, 76.
62 «На эллинистическом Востоке преобладал синкретизм, возникающий на
основе слияния греческих божеств с местными в силу близости (если даже не одно¬
типности) семантики и атрибутики их культов».— Согомонов А. Ю. Греко-восточный
религиозный синкретизм. Истоки формирования // Всесоюз. симпозиум по пробле¬
мам эллинистической культуры на Востоке.— Ереван, 1984.— С. 62. К аналогичным
выводам в разное время приходили Дхабхар (Dhabhar. Essays on Iranian Subjects.—
P. 76) п M. Картер (Carter M. L. Royal festal themes in sasanian silverwork...—
P. 197). Рапопорт Ю. А. К вопросу о дионисийском культе в священном дворце Топ-
рак-Калы // Античность и античные традиции...— С. 275—284.
63 Топоров В. Н. К истории дионисийского комплекса.— С. 45; Мифы народов
мира.— 2-е изд.— М., 1988.— Т. 2.— С. 257—258.
64 Gershewitch I. An Iranist’s view of Soma controversy // Memorial Jean de Menas-
ce.— Louvain, 1974.— P. 49.
65 Ibid.— P. 64-65.
66 Ibid.— P. 63.
67 Ibid.— P. 48.
68 Топоров В. H. Семантика мифологических представлений о грибах // Balca-
nica.—М., 1979.—С. 287, 294.
69 Gershewitch I. An Iranist’s view of Soma controversy.— P. 49, 51.
70 Топоров В. H. К истории дионисийского комплекса.— С. 43.
71 Boyce М. Haoma, Priest of Sacrifice.— P. 65; Dhabhar. Essays on Iranian
Subjects.— P. 67, 76.
149
72 Китайский историк Сыма Цянь сообщал, что в Дивань (Фергана) и на сосед¬
них территориях «население употребляло вино с древнейших времен» и что китайцы
именно оттуда заимствовали культуру виноградной лозы.— Тревер К. В. Памят¬
ники...— С. 9.
73 Даркевич В. П. Художественный металл...— С. 111.
74 Harper Р. О. The royal Hunter...— Р. 43, fig. 8.
75 Даркевич В. П. Художественный металл...— С. 110.
76 Тревер К. В. Памятники...— С. 75; Даркевич В. П. Художественный ме¬
талл...—С. 111.
77 Duchesne-Guillemin J. Art and religion...— P. 152.
78 Даркевич В. П. Художественный металл...— С. 111.
79 Тревер К. В. Памятники...— С. 36, 73—74. Интересно, что во время полета
на небо Кай Кавус держит кубок с вином перед орлами, которые несут его на небо;
в Ноурузе опьянение царя, восседающего на троне с ножками в виде лап орла и гри¬
фа, символизировало полет.— Carter М. L. Royal festal themes in sasanian silverwork.—
P. 185.
80 Roes A. The trefoil as sacred embleme // Artibus Asiae.— Ascona, 1954.—
Vol. 16, № 1.—L P. 66.
81 Пугаченкова Г. А. Материалы по восточной глиптике // Тр./Среднеазиат*
ун-т им. В. И. Ленина.— Ташкент, 1957.— Т. 4.— С. 150.
82 Boyce М. Haoma, Priest of sacrifice.— Р. 63—65.
83 Йеттмар К. Религии Гиндукуша.— М., 1985.— С. 91.
84 Там же.— С. 172.
85 Науруз-намэ // Хайам Омар. Трактаты. — М., 1961.— С. 218—222. Подроб¬
но фрагмент из «Навруз-намэ» о вине и птице хомай в связи с культами плодородия
см.: Якубов Ю. Серебряная чаша из Ляхша // Художественные памятники и пробле¬
мы культуры Востока.— Л., 1985.— С. 71—76.
86 Бертельс Е. Э. Придворная касыда в Иране п ее связи с развитием изобрази¬
тельного искусства //III Международный конгресс по иранскому искусству и археоло¬
гии: (Доклады. Ленинград, сентябрь, 1935).— М.; Л., 1939.— С. 27.
87 «Это был месяц Науруз, когда посадили лозу» // Хайам Омар. Трактаты.—
С. 37.
88 Тревер К. В. Сэнмурв-Паскудж — собака-птица.— Л., 1937.— С. 37.
89 Дьяконова Н. В. Сасанидские ткани // Тр./Гос. Эрмитаж.— Л., 1969.—
С 83
90 Снесарев Г. П. Люди и звери // СЭ.— 1972.— № 11.— С. 167.
91 Тревер К. В. Сэнмурв-Паскудж...— С. 34.
92 Даркевич В. П. Путями средневековых мастеров.— М., 1976.— С. 74—75,
146. Гандхарвы — полубоги индоиранского пантеона, тесно связаны с водой, сомой,
солнцем. Это летающие музыканты, певцы; по функциям близки греческим кентав¬
рам.— Hopkins Е. Epic mytology.— Varanasi, 1972.— Р. 152, 157; Wijesekara О. Н.
de A. Vedic Gandharva and Pali Gandharva // Ceylon University Review.— 1945.—
April.— Vol. 3, № 1.- P. 89-124.
93 Kuiper F. В. I Review on Wasson’s theory// Indo-iranian Journal.— The Hague,
1970. Vol. 12, № 4.— P. 79—285.
94 Przyluski J. Les Asvin et la grande deese // Harvard Journal of Asiatic Stu¬
dies.— 1936.- Vol. 1, № 1.- P. 129-135.
95 Мифы Древней Индии.— M., 1982.— С. 44—45.
96 Даркевич В. П. Художественный металл...— С. 89.
97 Тревер К. В. Новые сасанидские блюда...— С. 10.
98 Duchesne-Guillemeii J. Art and religion...— P. 147—148.
99 Pulleyblank E. G. Chinese and Indo-Europeans // Journal of the Royal Asiatis
Society.— L., 1966.— № 1/2.— P. 9—39.
100 Duchesne-Guillemin J. Art and religion...— P. 148.
101 Даркевич В. П. Путями средневековых мастеров.— С. 50.
102 Сказки народов Памира.— М., 1976. Ср. сказки № 9 — Мурги-Зарин (Золо¬
тая птица) и «N*2 18 — Кокульзарин (златокудрый).
103 Беленицкий А. М., Маршак Б. И. Черты мировоззрения сбгдийцев VII—
VIII вв. в искусстве Пенджикента // История и культура народов Средней Азии.—
М., 1937.—С. 82.
104 Тревер К. В. Сэнмурв-Паскудж...— С. 31—32. В Греции вместо льва изобра¬
жали нередко собаку, в Ассирии льва заменял грифон.
105 Иванов В. В. До — во время — после? // Франкфорт Г., Франкфорт Г. A.f
Якобсен Т., Уилсон Дж. В преддверии философии.— М., 1985.— С. 8.
106 Даркевич В. П. Художественный металл...— С. 20—21.
107 Тревер К. В. Памятники...— С. 78, 84.
108 Даркевич В. П. Художественный металл...— С. 33—34.
150
109 Не исключено, что в Прикамье фигуры птиц с личиной и фигурой человека
на груди суть результат своеобразной переработки исследуемого сюжета (эту точку
эрения высказывал А. Альфельди). Принципы «фильтрации» при заимствовании ино-
культурных сюжетов, образов и изобразительных схем зачастую неясны, при этом
нередко происходило и полное переосмысление тех из них, которые были «отобраны»
для заимствования. Происхождение же данного сюжета в искусстве племен При-
уралья и Западной Сибири объясняется, очевидно, ранними контактами индоиран¬
ских племен с предками финно-угров, а сам сюжет, возможно, связан «с теми архаич¬
ными формами индоиранских религий, которые могут быть определены как ,,шаман¬
ские”».— Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии.— 2-е изд.—
М., 1983.— С. 147, см. также с. 129—149. С этой точки зрения интересно взглянуть и
на изображение «Гаруд» из Койбалы.— Худяков Ю. С., Скобелев С. Г. Гаруды из Кой-
балы // Знание — сила.— 1988.— № 12.— С. 57, см. также статью С. Г. Скобелева в
настоящем сборнике.
С. Г. СКОБЕЛЕВ
ИЗОБРАЖЕНИЕ БОЖЕСТВА УМАЙ
НА ПОДВЕСКАХ ИЗ МОГИЛЬНИКА КОЙБАЛЫ
Так называемые каменные бабы оТно-
сятся к числу наиболее многочислен¬
ных, известных и характерных произведений монументального искусст¬
ва древнетюркского времени (VI—XII вв.). Эти изваяния, известные на
всей территории лесостепи Евразии, характерны почти каноническими
позами, определенным набором аксессуаров, одним из важнейших среди
которых является сосуд со священным напитком, удерживаемый впереди
одной или двумя руками. К данному времени относятся также изображе¬
ния людей, выполненные из металла, гравировки на металле, кости и кам¬
не, книжные миниатюры, фрески. Эти образы раскрывают нам интерес¬
нейшие страницы истории, представляя человека средневековья во мно¬
гих жизненных ситуациях: на войне, в быту, на отдыхе, участвующим
в торжественных церемониях и т. д. Но при этом ни одно из таких изобра¬
жений пока не повторило сколько-нибудь близко каменные изваяния,
известные практически у всех тюркских народов эпохи средневековья.
Фигуры из других материалов, за исключением дерева \ полностью ана¬
логичные каменным, пока не зафиксированы. О сходстве с каменными
деревянных изображений можно говорить лишь предположительно по
найденным в нескольких курганах остаткам изваяний, по которым труд¬
но восстановить их первоначальный облик.
В этой связи особый интерес представляют обнаруженные в кургане
конца I тыс. н. э. у с. Койбалы на р. Абакан два подлинных шедевра
художественного и ювелирного искусства древнетюркской эпохи —
изображения крылатой женщины. Они представляют собой как бы миниа¬
тюрные копии каменных изваяний, но выполнены из золота и серебра.
© С. Г. Скобелев, 1990
152
Эти изделия имеют детали, которыми отличаются от каменных фигур.
Вместе с фигурами найдены золотые и серебряные подвески ромбовид¬
ной формы.
Курган № 7 могильника Койбалы, в котором обнаружены эти пред¬
меты, по особенностям конструкции, обряду погребения (трупоположение
со шкурой коня) и предметам погребального, инвентаря хорошо датирует¬
ся достаточно коротким промежутком времени: концом VIII — началом
IX в.— и может быть принадлежал уйгурам или какой-то группе тюрков,
пришедших вместе с уйгурами на Абакан из Тувы или Монголии 2. По¬
гребение было частично разграблено, однако самые ценные вещи (позоло¬
ченная узда и драгоценные серьги с изображением крылатых женщин),
спрятанные в тайники в стенках могильной ямы, грабители не обна¬
ружили.
Найденные изображения идентичны. Это миниатюрные скульптурки
женщины, запечатленной в статичной позе, с сосудом, который она дер¬
жит на уровне верхней части живота. Женщина показана с высокой
грудью, высокой прической, украшениями в волосах (бусы), на шее, поя¬
се (низки бус) и щеках (в виде трех точек). Лицо ее широкое, уплощенное.
Глаза удлиненные, нос широкий, приплюснутый. Выделены надбровные
дуги и большие уши. У одного изображения четко обозначены ноги,
у другого они выделены слабее из-за дефекта, допущенного при изготовле¬
нии изделия. Над головами обеих женщин показан нимб, окаймленный
искусно выполненным витком скани из тонкой проволоки, по бокам кры¬
лья, украшенные по краям и в центре витками скани. У пояса крылья
переходят в длинный, закругленный на конце хвост с витками скани по
периметру. Хвост украшен четырьмя концентрическими окружностями,
выполненными из витков скани; по размерам они аналогичны таким же
окружностям на крыльях. Несколько ниже ног хвост плавно загибается
назад и с тыльной стороны доходит до головы изображения. Подвески
украшены также шариками: они прикреплены с обеих сторон к нимбу и
концам крыльев с помощью витых проволочек, продетых в специальные
отверстия и петли. У ног изображения имеется ушко округлой формы.
С тыльной стороны с помощью двух ушек прикреплена скоба из толстой
проволоки, на которой эту подвеску или серьгу носили. Ромбовидные
подвески также аналогичны по размерам и форме. Их внешняя и тыльная
стороны украшены рельефными выступами в виде трилистника. Каждый
из углов ромба заканчивается ушком округлой формы. В трех ушках на
тонких витых и прямых проволочках подвешены такие же, как и на основ¬
ных изображениях, шарики с ушками аналогичного размера (рис. 1, 2).
Находки выполнены из различных материалов. Вся внешняя по¬
верхность изделий сплошь позолочена. Частично позолочена по серебру
и тыльная сторона фигурки женщины, а также тыльная сторона нимба,
крыльев и хвоста. Ромбовидные подвески позолочены целиком (или вы¬
полнены из золота). Скоба с тыльной стороны изображения, а также
ушки, на которых она крепится, выполнены из серебра. Из серебра изго¬
товлены все проволочки, на которых закрепляются шарики. Шарики, ко¬
торые крепятся к нимбу и нижнему ушку ромбовидной подвески, сделаны
из серебра, остальные — из золота *. v
Технология, по которой выполнены найденные предметы, довольно
сложна. Отдельно были изготовлены как единое целое нимб, крылья и
хвост, а также полое изображение женщины. Затем все это с помощью
* Качественная реакция на золото и серебро проведена в лаборатории минерало¬
гии Института геологии и геофизики СО АН СССР И. К. Кузнецовой.
153
Рис. 1. Лицевая сторона изображений (1, 2) и ромбовидные подвески (3, 4) из кургана
№ 7 могильника Койбалы.
пайки соединено вместе и украшено сканью. Ромбовидная подвеска из
соединенных вместе половинок также полая. По этому же принципу вы¬
полнены и шарики. На некоторых предметах просматриваются дефекты.
Так, на одном изображении левая сторона лица женщины выполнена ме¬
нее рельефно; на другом почти не выделены ноги; на обоих в отдельных
местах несимметрично нанесена скань.
Вещи длительное время были в употреблении. Во многих местах за¬
метны потертости, одна из ромбовидных подвесок и некоторые шарики
несколько смялись. В отдельных местах из-за дефектов в пайке произош¬
ло заметное отслоение деталей. Одна из находок подверглась ремонту
из-за того, что оказались обломанными оба крыла. В обломках крыльев
и остатках их на тулове были пробиты отверстия, через которые тонкими
проволочками детали были вновь соединены. Однако остатки крыльев на
тулове оказались очень небольшими и крепление на правой стороне вско¬
ре разрушилось. Тогда через шею фигурки была проложена шина из се¬
ребряной проволоки прямоугольного сечения, с помощью которой было
вновь укреплено правое крыло и дополнительно закреплено левое
(см. рис. 1, 2; 2, 2).
Изделия имели на тыльной стороне скобы, с помощью которых их
можно было продеть в уши. Ромбовидные подвески, вероятно, крепили
к ним с помощью тонких проволочек через ушки, укрепленные ниже ног
154
Рис. 2. Обратная сторона серег из кургана № 7 могильника Койбалы.
изображений. При раскопках было обнаружено, что ромбовидные под¬
вески ничем не соединялись с серьгами. Однако в ушке одной из серег
сохранились остатки такой проволочки.
Наличие этих оригинальных вещей в погребальном комплексе, кото¬
рый достаточно уверенно датируется, вызывает большой интерес. Ничего
подобного в тюркских или других памятниках эпохи средневековья на
территории Сибири и Центральной Азии не найдено. Находки очень
своеобразны и по характеру изображений, и по форме, и по функцио¬
нальному назначению, и по материалам и технологии изготовления.
С учетом полной суммы деталей среди всех известных к настоящему вре¬
мени антропоморфных изображений в Сибири и Центральной Азии нет
ни одного похожего. Вместе с тем само изображение человека без таких
элементов, как нимб, крылья, хвост, сходно с каменными изваяниями
тюрков. Эта близость выражается в статичной позе, наличии сосуда, ко¬
торый удерживается обеими руками на уровне верхней части живота,
монголоидном облике лица. Аналогов изображениям на серьгах в Евра¬
зии можно найти множество 3. Исследователи отмечают некоторую схе¬
матичность каменных евразийских изваяний VII—VIII вв. Скульптуры
последующего времени (VIII—IX вв.) выглядят более реалистичными:
на них показаны детали прически, одежды, головного убора, в обеих ру¬
ках часто изображены сосуды 4. Именно так выглядят найденные нами
статуэтки. Однако Любое изображение нельзя рассматривать только по
155
отдельным деталям: вещь едина и закончена во всех отношениях. Найден¬
ные фигурки — не просто наложение изображения каменной тюркской
бабы на контур птицы с распущенными крыльями, где тело пернатого
механически заменено на тело человека. Здесь плечи человека плавно
переходят и в руки, удерживающие сосуд, и в расправленные за спиной
крылья, которые представляют собой основу всей композиции. Туловище
человека также неразрывно связано с крылатой основой. Однако показа¬
ны ноги человека, отделенные ниже таза от тулова птицы, свободные,
ничем не связанные. Таким образом, мы видим изображение крылатого
человека, женщины-птицы с раскрытыми крыльями. На поверхности ром¬
бовидных подвесок дано рельефное изображение стилизованного трилист¬
ника — символа древа жизни и плодородия у многих народов Евразии.
То, что они сопутствуют изображениям людей, является фактом знаме¬
нательным, дающим право на предположение о ритуальном назначении
находок.
Какова семантика этих предметов? Ответить на этот вопрос можно
будет, лишь располагая полным объемом сведений о происхождении и
смысловом назначении каменных статуй древних тюрков. Итог многолет¬
них изысканий в этой области в какой-то мере подведен в большой коллек¬
тивной работе «Степи Евразии в эпоху средневековья», являющейся
частью многотомной «Археологии СССР». Здесь в разделах, написанных
В. А. Могильниковым 5 и С. А. Плетневой 6, дан общий обзор исследова¬
ний по теме и показано развитие взглядов ученых о том, что представляют
собой каменные изваяния древних тюрков. Позднее некоторые выводы о
семантике каменных изваяний были дополнены А. А. Чариковым 7,
Ю. А. Плотниковым и Ю. С. Худяковым 8.
Сначала каменные статуи трактовали как изображение наиболее мо¬
гущественного и сильного врага, побежденного при жизни древним тюр¬
ком. Однако позднее многие исследователи усомнились в правоте такого
объяснения. Для нашего случая, когда в комплекте с изображением «вра¬
га» оказался символ долголетия и плодородия — трилистник, такая
интерпретация вообще неприемлема (к тому же «врагом» в таком случае
будет женщина). Не подходит для объяснения и до сих пор бытующее в
историографии мнение о том, что статуи изображают реально живших
людей, самих исторических героев. Человек, погребенный в кург. № 7
могильника Койбалы, вряд ли мог носить на себе собственные изображе¬
ния, тем более так долго — вещи оказались серьезно повреждены в ре¬
зультате длительного использования.
Для нас наиболее важной представляется точка зрения ряда исследо¬
вателей о том, что некоторые статуи были не только надмогильными па¬
мятниками, но и олицетворением культа предков, постепенно переродив¬
шегося в культ предков — покровителей рода и даже целого союза пле¬
мен 9. Особый интерес в данном отношении представляет выдвигаемое
некоторыми авторами предложение рассматривать отдельные женские
изваяния в качестве изображений Матери (Девы)— покровительницы
рода 10.
Ю. С. Худяков — автор одной из последних работ, посвященных ре¬
лигиозным культам древних тюрков,— отмечает, что в рунических тек¬
стах имеются упоминания о таких мифологических персонажах, как
Тэнгри (Небо) или Кок-Тэнгри (Голубое небо), Умай и Иер-су (Священ¬
ная земля-вода, или Родина). Им же на основе реконструкции иконогра¬
фии образа Умай, предпринятой Г. В. Длужневской по изображению
на Кудыргинском валуне, сделана попытка выделить стилистически близ¬
кие изображения на Сулекской писанице п. Тэнгри, Умай, Иер-су и дру¬
156
гие божества известны и по поздним фольклорным и этнографическим ма¬
териалам, принадлежавшим тюркоязычным народам Сибири. Наибольше¬
го внимания из числа перечисленных заслуживает именно образ Умай.
М. И. Боргояков отмечает, что тюрки Саяно-Алтая представляли
Мать Умай в образе красивой женщины, спускающейся с неба. Хотя
в представлениях этих народов былые птичьи черты такого образа (ска¬
зочная птица, которая гнездится в воздухе) стерлись, оставалось само со¬
бой разумеющимся, что у Умай должны быть крылья, чтобы обитать в
небесах 12. Хакасы представляли Умай в виде белой птички, которая при¬
носила ребенку плоть и кровь. В дохристианских культах хакасов Умай
была покровительницей детей, богиней плодородия. В. Я. Бутанаевым
высказывается мнение о том, что на хакасских нагрудниках пого, кото¬
рые надевают на свадьбу, встречаются изображения Умай, являющиеся
стилизованным отражением лиц каменных изваяний. Таким образом, на¬
девание нагрудника на свадьбу связано с культом Умай, которая якобы
дает души детей 13. Интересно, что бездетные хакасские женщины обра¬
щались за помощью к стоявшим в степи каменным изваяниям, жертво¬
приношения которым у них считались кыргызскими (хотя на самом деле
в большинстве случаев статуи были окуневскими). Вероятно, у тюрков
Саяно-Алтая существовало довольно устойчивое представление о камен¬
ных изваяниях как о культовых объектах. Важно отметить и то, что пе¬
риод бытования культа, связанного с жертвоприношениями у статуй,
соотносится в представлении современного населения с кыргызским вре¬
менем, т. е. с эпохой средневековья. Главное же здесь — тесная связь
культа Умай с каменными изваяниями, которые также воспринимались
как объекты культа плодородия.
В числе важных деталей культа Умай (Ымай, Омай) у хакасов сле¬
дует отметить обязательное использование в обряде небольшой чашечки,
которая играет особую роль при камлании о послании бездетной женщине
ребенка. В чашечке, которая является непременной принадлежностью
Умай, в освященном молоке временно помещалась душа ребенка на пути
следования в материнское чрево. Во время болезни детей из этой чашеч¬
ки производили обрядовое кормление Умай — чеек ымай 14. Такие обы¬
чаи напрямую происходят от общетюркского представления о роли ча¬
ши, с которой запечатлены люди. Общепризнано ритуальное назначение
этих предметов, изображенных на каменных изваяниях. Сосуд в руках
человека обычно символизирует присутствие души умершего. Иногда
вместо сосуда изображали птицу 15. Вероятно, в данном случае птица
символизировала связь с верхним миром, с небом, т. е. олицетворяла со¬
бой душу. У монгольских народов Умай считается женским божеством,
покровительницей матерей, новорожденных и беременных. Известен этот
культ у шорцев, сибирских татар, киргизов и даже народов нижнего
Амура, что объясняется их глубокими историческими связями с тюр¬
комонгольскими этносами 16. По ходу самостоятельного развития
различных тюркоязычных народов имя богини и некоторые детали ее
культа менялись. Так, алтайцы называют ее Дьайык и считают посланни¬
цей Ульгена — главы божеств верхнего мира. Ульген спустил ее на зем¬
лю, поручив охранять людей от всего плохого и злого и .давать всему
жизнь 17. Генетически культ Дьайык восходит к почитанию общетюркской
богини-покровительницы, дающей души детям, т. е. богини Умай. Небес¬
ное происхождение Дьайык подразумевает наличие у нее крыльев, с их
помощью она осуществляет связь среднего мира, мира людей, с верхним
миром. В целом мотив птичьего облика сверхъестественных существ ши¬
роко распространен в тюркоязычной среде. Прием полета, символизи¬
157
рующий облик птицы, использовали шаманы, предпринимая «посещение
других миров». Подобная семантика характерна для шаманских костю¬
мов качинцев, сагайцев, шорцев, якутов, тувинцев 18. Образ птицы, играв¬
ший важную роль в системе космологических и мифологических пред¬
ставлений тюркских и монгольских народов, связывался с внешним ми¬
ром и олицетворялся с его вестником, являлся воплощением души. Осно¬
вы традиционного мировоззрения народов Южной Сибири и Центральной
Азии закладывались в древнетюркское время. Именно в это время наряду
с Тэнгри, Иер-су и другими персонажами мифологии у тюрков сформи¬
ровался и образ богини Умай, чье изображение в золоте и было обнару¬
жено в кург. № 7 могильника Койбалы. Такое толкование семантики на¬
ходок соответствует всему их облику — и символу плодородия и благо¬
получия в виде трилистника, и общему образу птицы, и канонической по¬
зе изображений, нашедшей широкое отражение в каменных изваяниях
тюрков. Вместе с тем не следует полагать, что Умай изображалась в древ¬
нетюркское время исключительно в таком виде. Как уже отмечалось,
у тюркских этносов не существовало очень строгих канонов в религиоз¬
ных культах, и поэтому попытки некоторых исследователей (Г. В. Длуж-
невская, Ю. С. Худяков) выделить образ Умай на других материалах в
несколько ином виде также не лишены смысла 19.
Что же касается функционального назначения описываемых изде¬
лий, то их носили в качестве серег, вероятно, с той же целью, с какой,
например, христиане носили нательные кресты и небольшие иконки с
изображением святых-покровителей. Такие серьги выполняли функции
оберега и одновременно украшения, прекрасно выполненного неизвест¬
ным мастером-ювелиром.
В результате предпринятого анализа иконографически выделен но¬
вый вид изображений одного из главных персонажей религиозных куль¬
тов средневековых конечников Евразии — богини плодородия Умай,
о которой и сейчас современные жители тех мест, где раскопан курган,
упоминают при рождении ребенка: «Пусть будет счастье матери... под
золотым крылом (богини Умай)!»20
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Плетнева С. А. Печенеги, торки, половцы // Степи Евразии в эпоху средне¬
вековья.— М., 1981.— С. 221.
2 Скобелев С. Г. Отчет об археологических раскопках и разведках позднесредне¬
вековых памятников в Бейском, Болыпеулуйском, Емельяновском, Минусинском, Но¬
восел овском и Орджоникидзевском районах Красноярского края в полевом сезоне
1985 г.— Архив ИА АН СССР.
3 Степи Евразии в эпоху средневековья.— М., 1981.
4 Могильников В. А. Тюрки // Степи Евразии в эпоху средневековья.— М.,
1981.—С. 42.
5 Там же.
6 Плетнева С. А. Печенеги...— С. 219—221.
7 Чариков А. А. Некоторые статуи Казахстана и Омского Прииртышья // Про¬
блемы происхождения и этнической истории тюркских народов Сибири.— Томск,
1987.—С. 31—39.
8 Плотников Ю. А., Худяков Ю. С. Древнетюркские каменные изваяния в доли¬
не р. Торгалыг // Археологические исследования на Алтае.— Барнаул, 1987.—
С. 188—197.
9 Плетнева С. А. Печенеги...— С. 220—221.
10 Чариков А. А. Некоторые статуи...— С. 36.
11 Худяков Ю. С. Шаманизм и мировые религии у кыргызов в эпоху средне¬
вековья // Традиционные верования и быт народов Сибири.— Новосибирск, 1987.—
С. 69.
158
12 Боргояков М. И. Об одном древнейшем мифологическом сюжете, его эволю¬
ции и отражении в фольклоре народов Евразии // Вопросы древней истории Южной
Сибири.— Абакан, 1984.— С. 139—140.
13 Бутанаев В. Я. Культ богини Умай у хакасов II Этнография народов Сиби¬
ри.— Новосибирск, 1984.— С. 93—105.
14 Там же.
16 Сентпетери Й. Ритуальная посуда в аварских погребениях // Урало-алтаи-
стика: Археология. Этнография. Язык.— Новосибирск, 1985.— С. 18.
16 Смоляк А. В. К вопросу о западных элементах в культуре народов Нижнего
Амура // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных терри¬
торий.— Омск, 1984.— С. 39.
17 Алексеев Н. А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири.— Новосибирск,
1984.—С. 30—31.
18 Там же.
19 Худяков Ю. С. Шаманизм...— С. 69; Длужневская Г. В. Еще раз о «Кудыргин-
ском валуне»: (К вопросу об иконографии Умай у древних тюрков) // Тюркол. сб.
1974.— М., 1978.— С. 232.
20 Бутанаев В. Я. Воспитание маленьких детей у хакасов // Традиционное вос¬
питание детей у народов Сибири.— Л., 1988.— С. 210.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АО — Археологические открытия
МАЭ — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого АН СССР
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР
СА — Советская археология
СЭ — Советская этнография
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ...... 5
Петрин В. Т., Широков В. Я., Чаиркин С. Е. Древнее святилище во 2-й Сер-
пиевской пещере на Южном Урале 7
Конопацкий А. К. Уникальное произведение искусства эпохи неолита на ниж¬
нем Амуре . . 21
Маточкин Е. Я. К расшифровке петроглифов грота Куйлю 35
Гребенщиков А. В. Необычные сюжеты в орнаментике традиционного гончарст¬
ва Приамурья в эпоху раннего железа 54
Кондратенко А. П. К вопросу об антропоморфных личинах в керамике куль¬
туры дзёмон 80
Дэвлет М. ,А. О космогонических представлениях древних жителей среднего
Енисея. Изображения на Бейской стеле из Хакасии . . 83
Jacobson Е. The Appearance of Narrative Structures in the Petroglyphic Art of
Prehistoric Siberia and Mongolia 92
Худяков Ю. С. Образ воина в таштыкском изобразительном искусстве 107
Матвеева Н. Я. Глиняная пластика саргатской культуры . 114
Худяков Ю. С., Хаславская Л. М. Иранские мотивы в средневековой торевтике
Южной Сибири 118
Деревянко Е. Я. Из истории изучения древнего искусства дальневосточных
племен 126
Запорожченко А. В., Черемисин Д. В. Мифологический сюжет на сосуде из Надь
Сент-Миклош . ... 131
Скобелев С. Г. Изображение божества Умай на подвесках из могильника Койбалы 152
Список сокращений * 159
Научное издание
СЕМАНТИКА
ДРЕВНИХ
ОБРАЗОВ
Первобытное искусство
Редакторы издательства Н. М. Анджиевская, Т. В. Романенко
Художественный редактор Я. Г. Ковалева
Технический редактор А. В* Сурганова
Корректоры Г. И. Шведкина, Р. К. Червова
ИБ № 34985
Сдано в набор 02.03.90. Подписанок печати 31.10.90. Формат 70xl00Vie- Бумага типографская М« 2,
Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Уел. печ. л. 13. Уел. кр.-отт. 15. Уч.-изд. л. 14,5.,
Тираж 2450 экз. Заказ № 87. Цена 2 р. 90 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
Сибирское отделение. 630099 Новосибирск, ул. Советская, 18.
4-я типография издательства «Наука». 630077 Новосибирск, ул. Станиславского, 25,
»НА#кл*
I МЬМРСКОК OTJK-Itiun