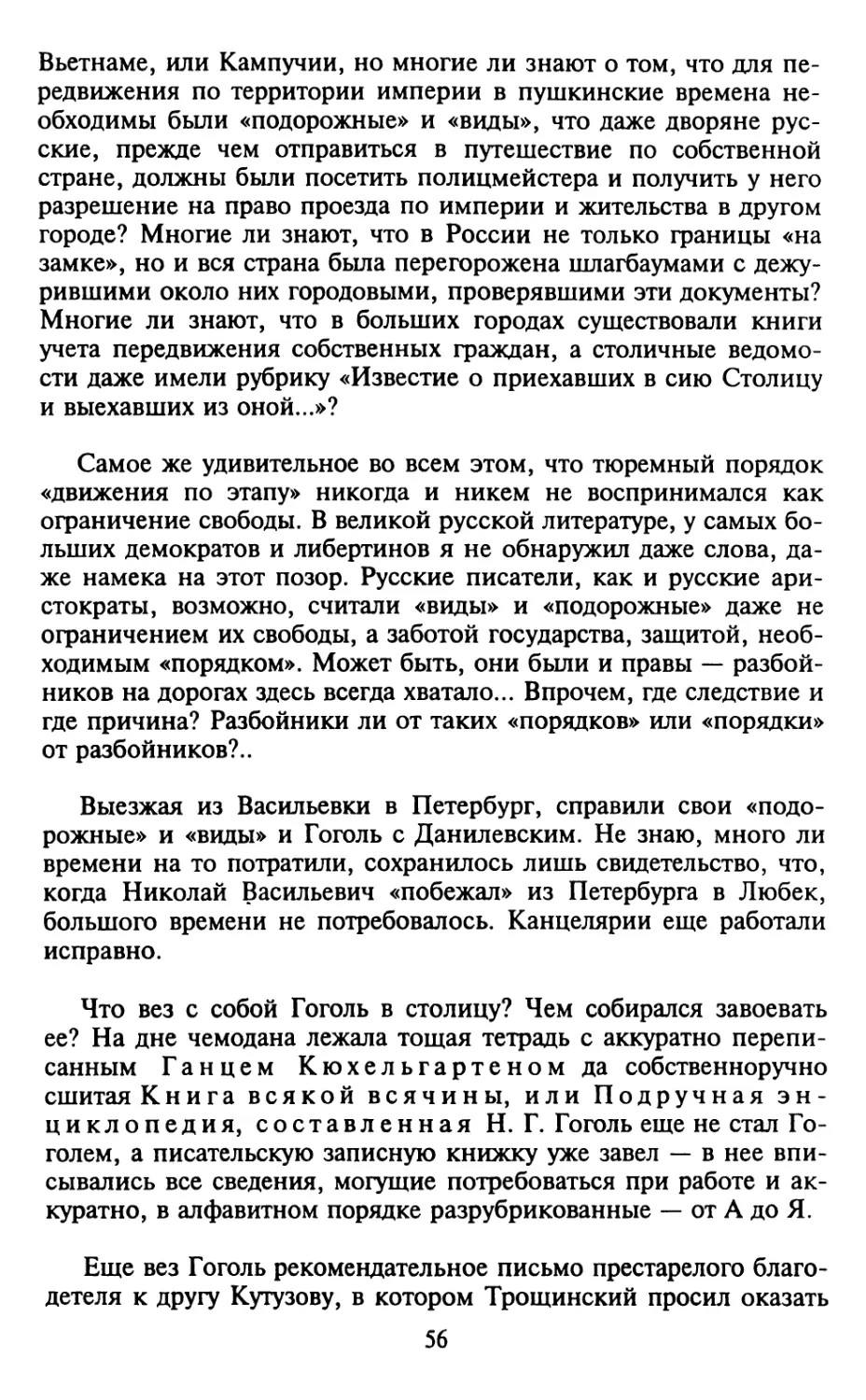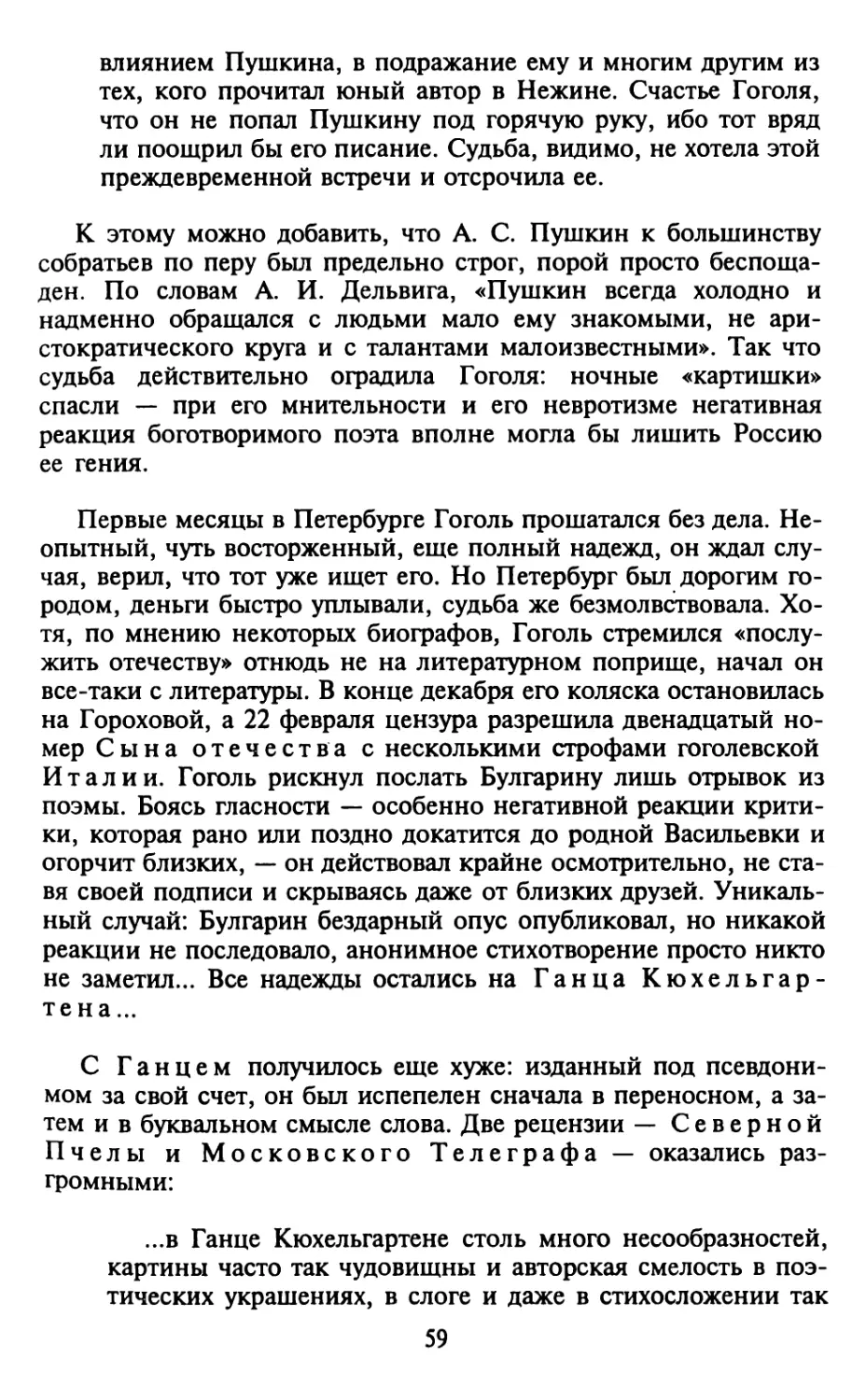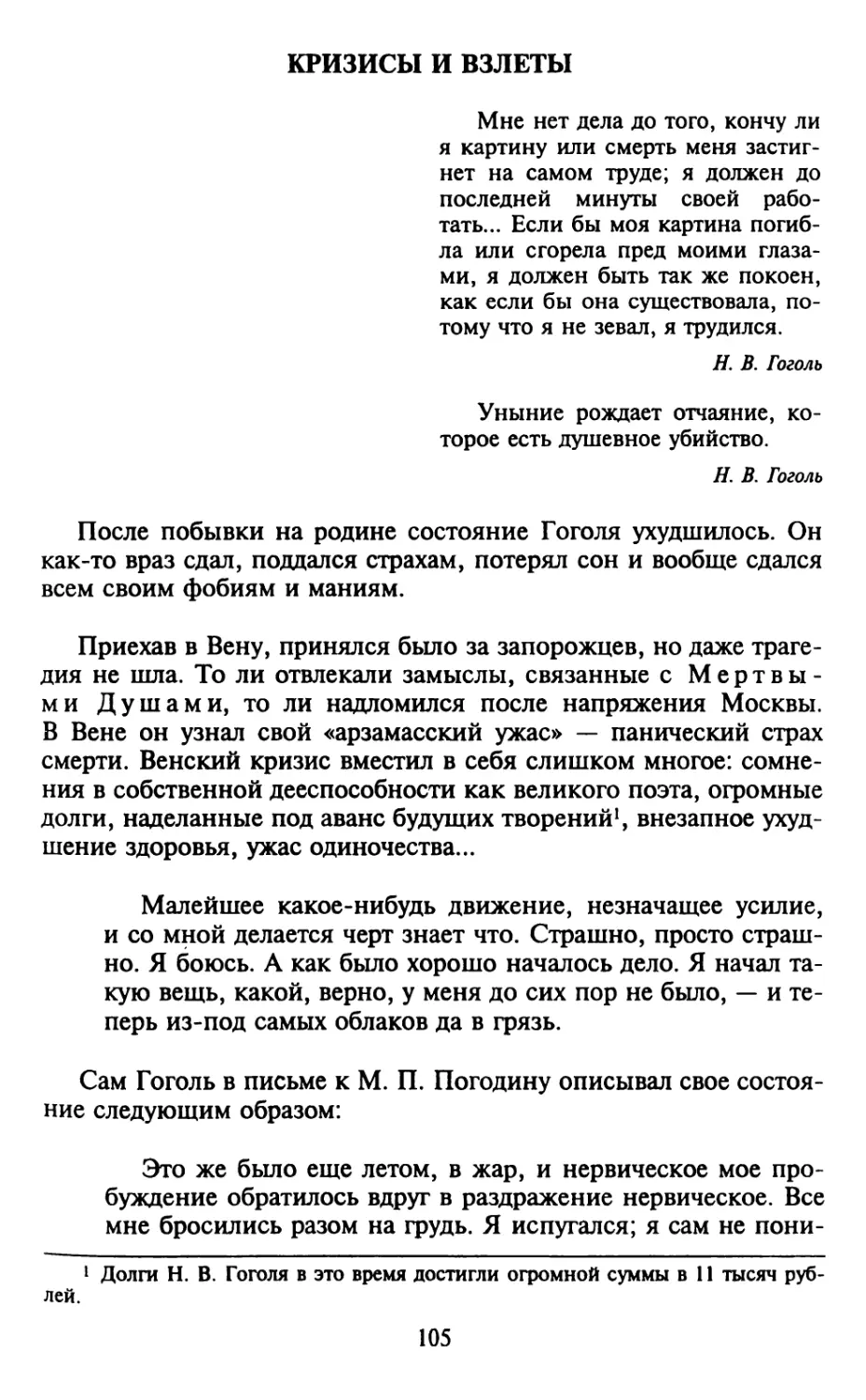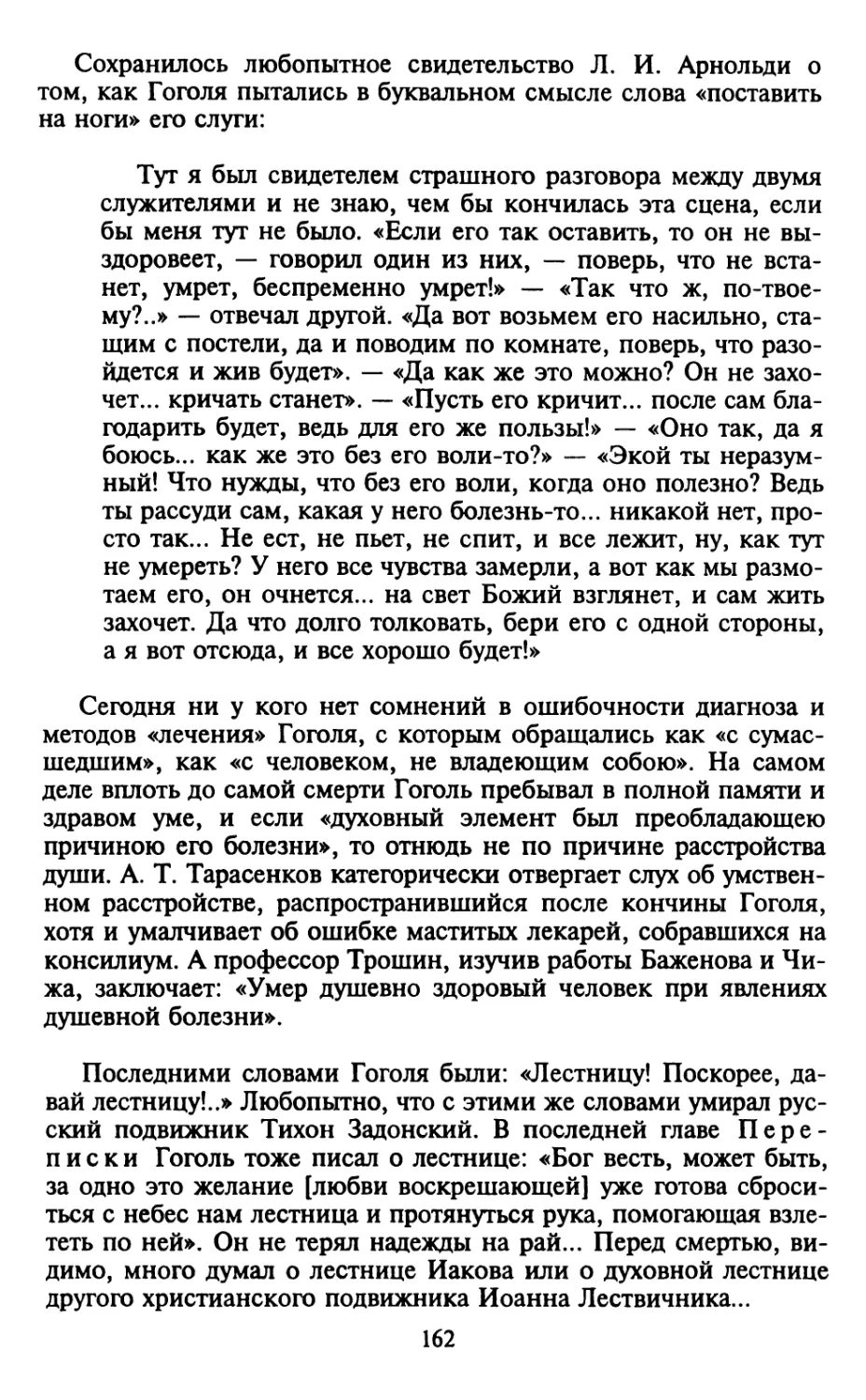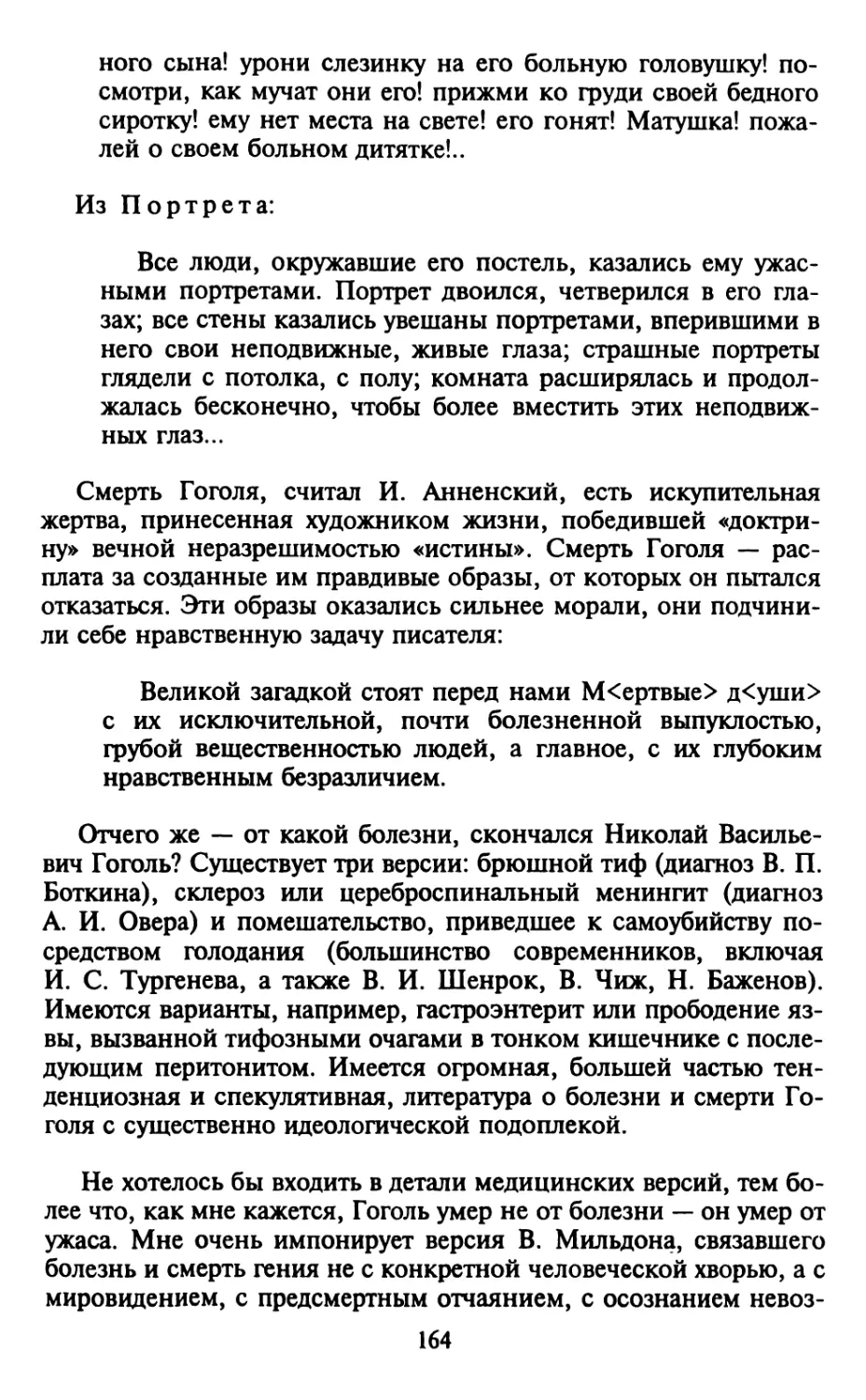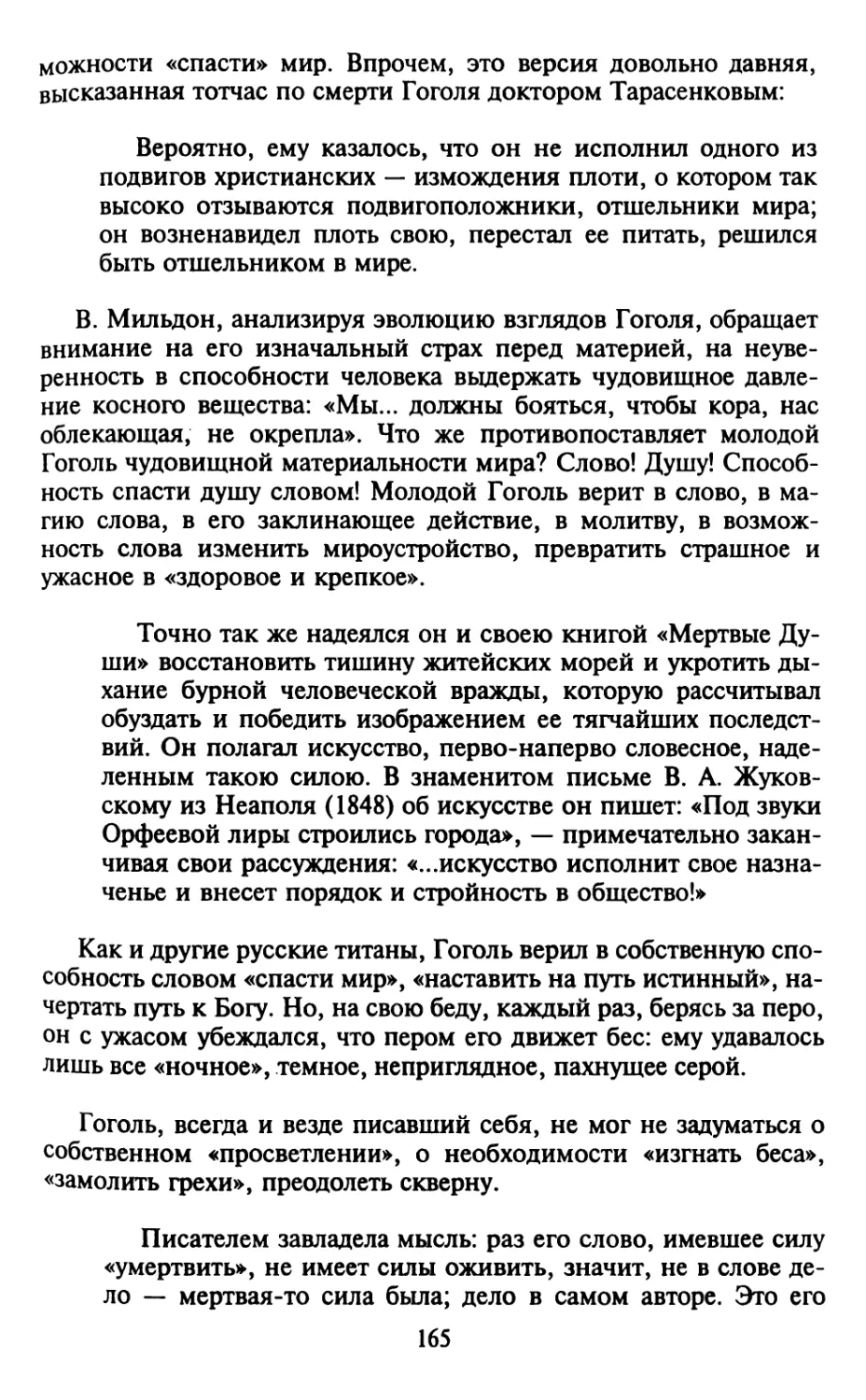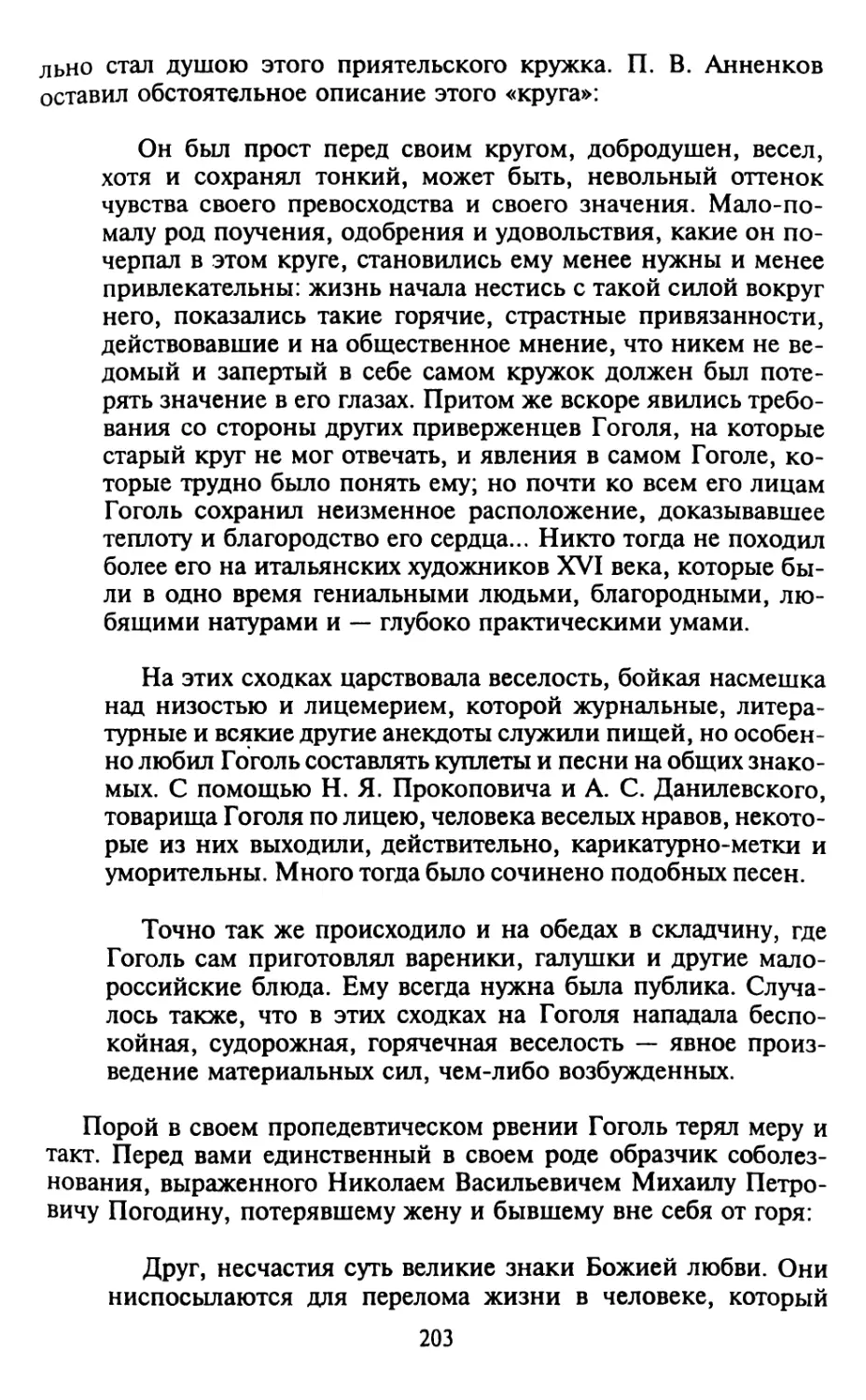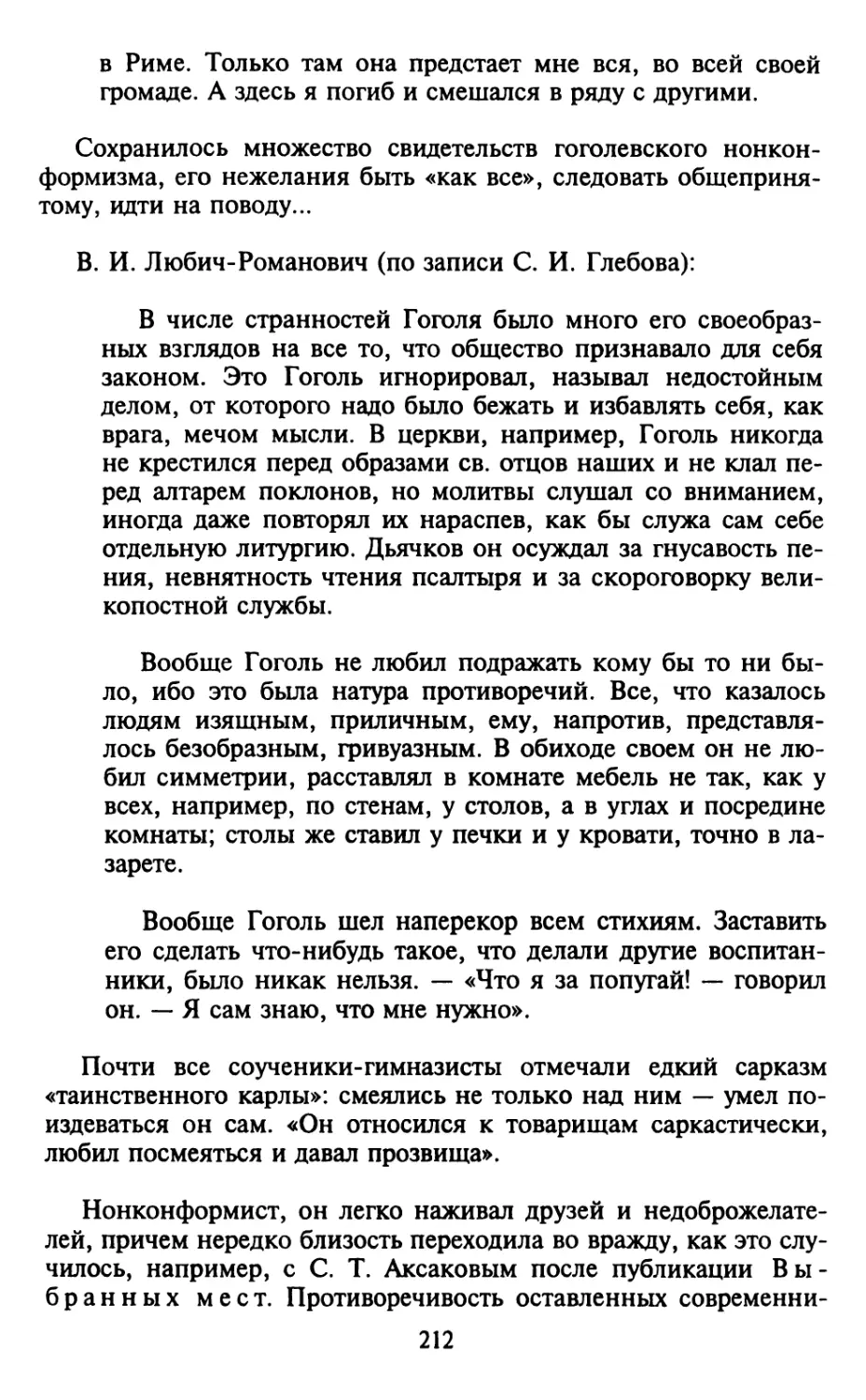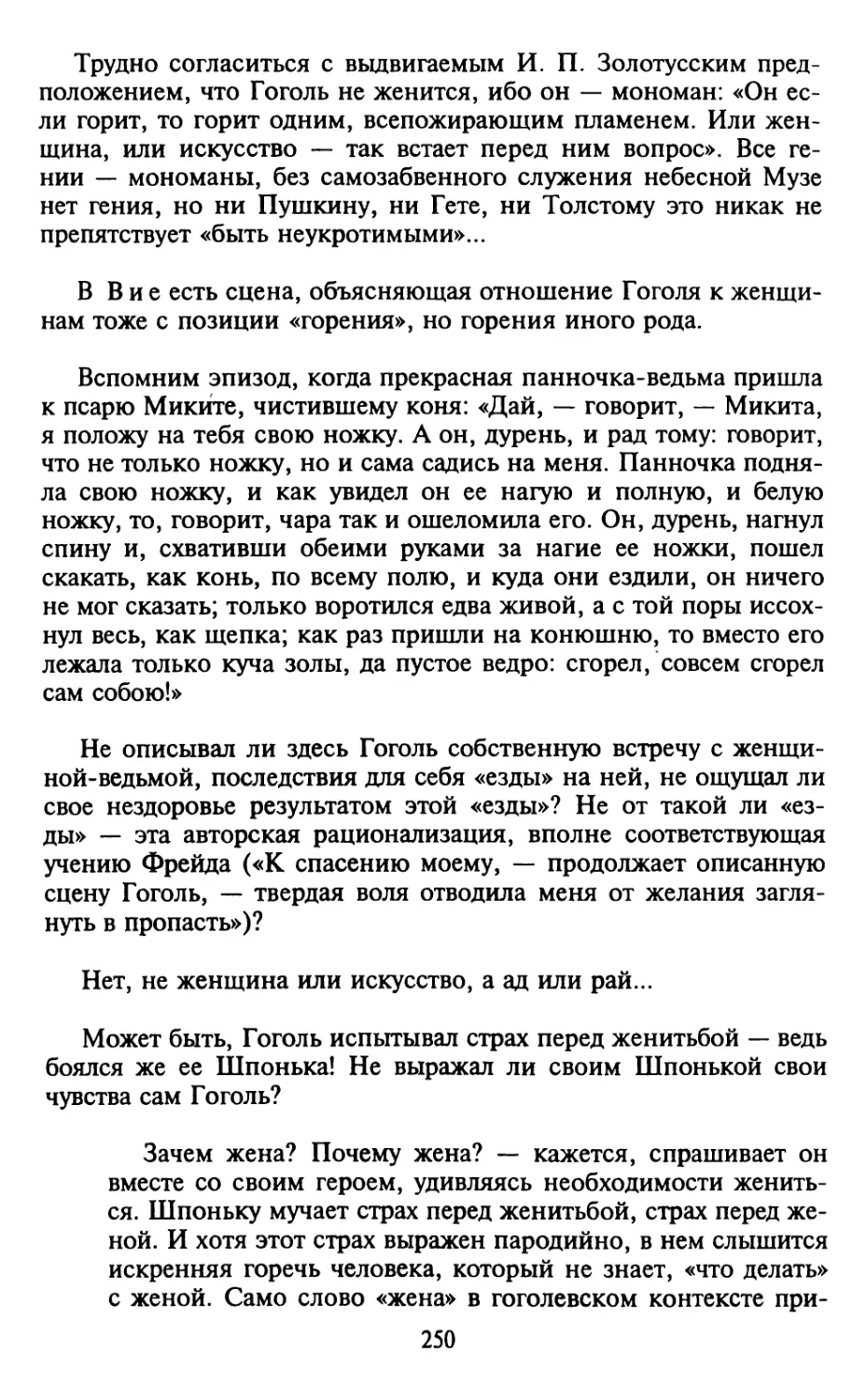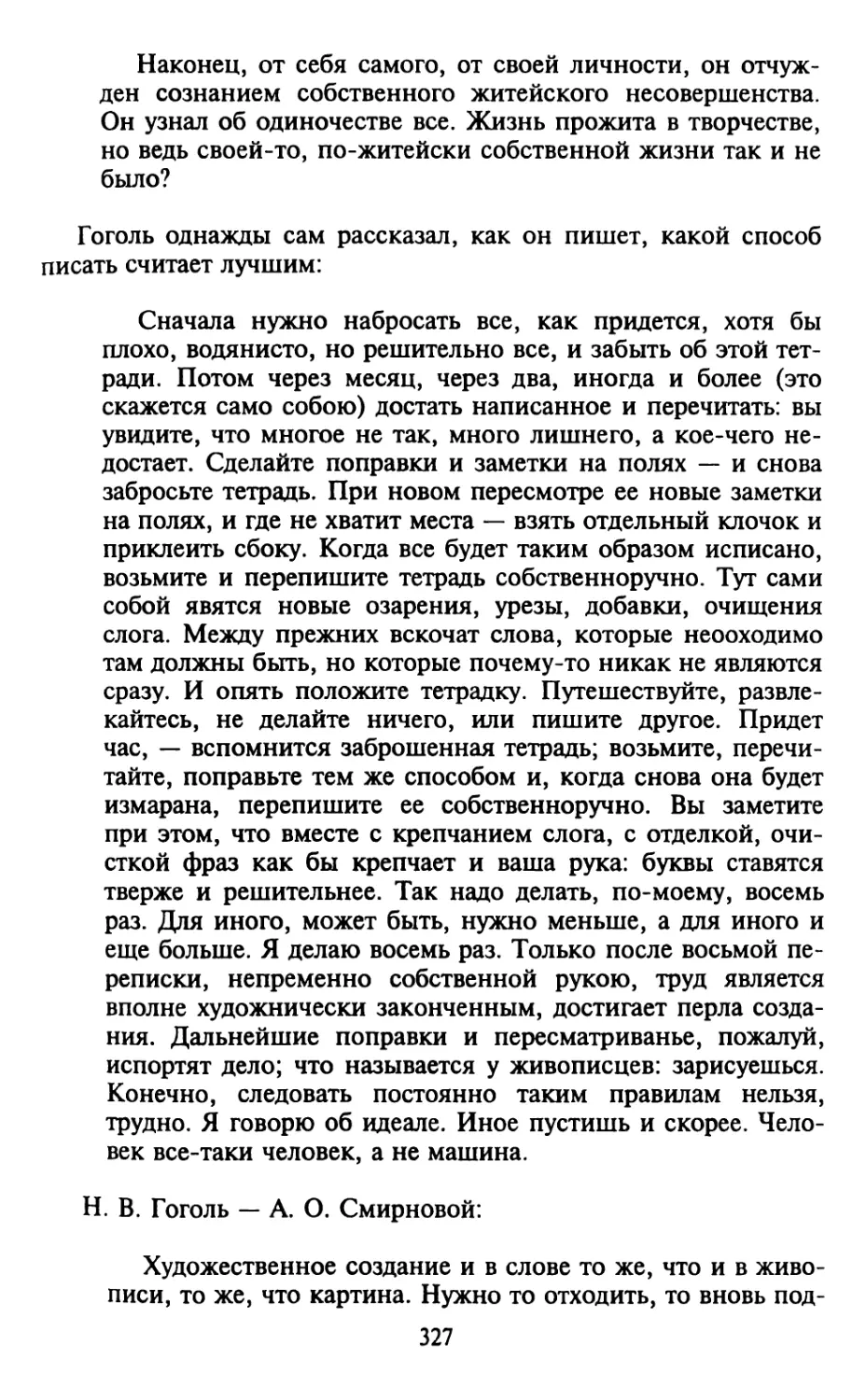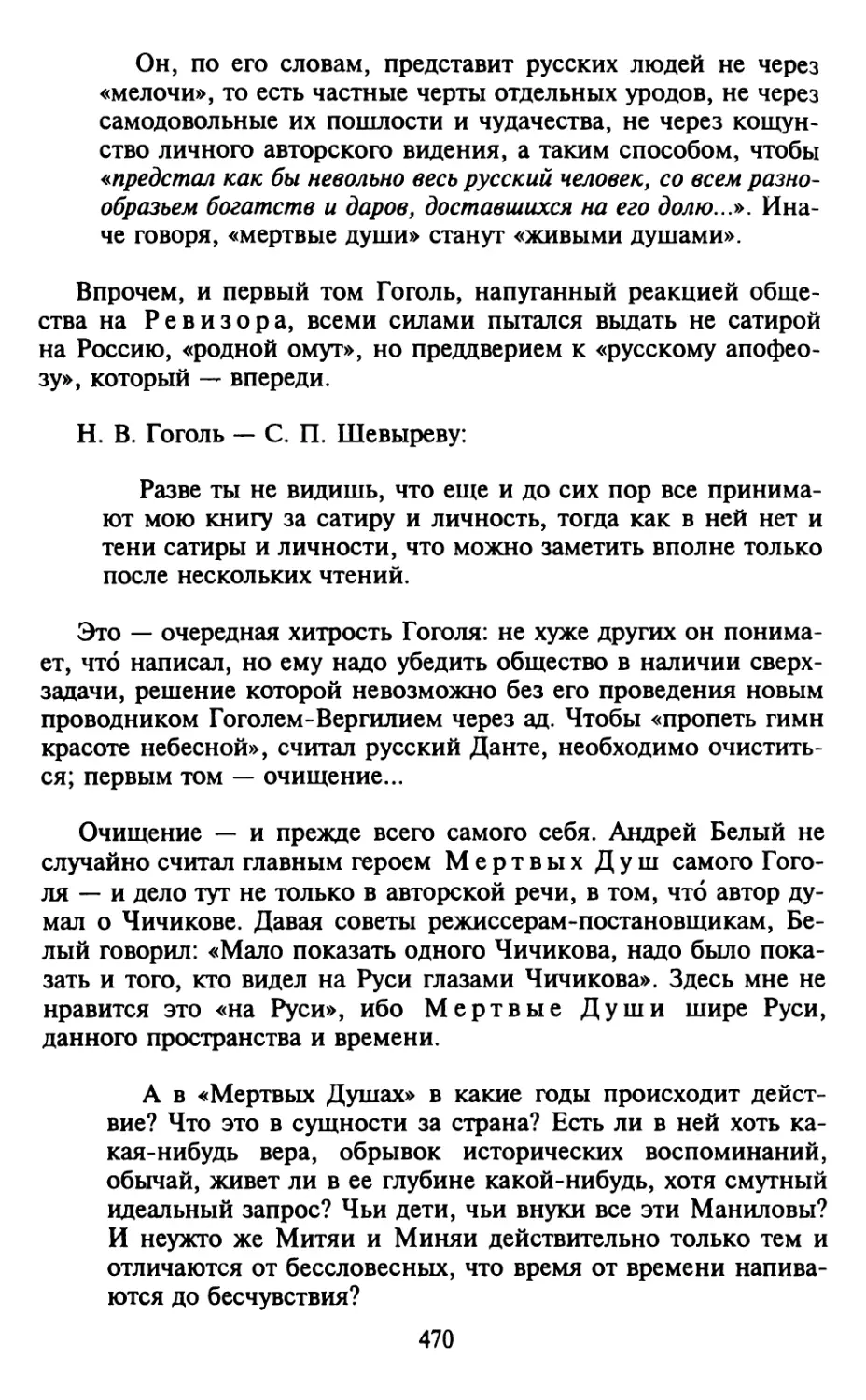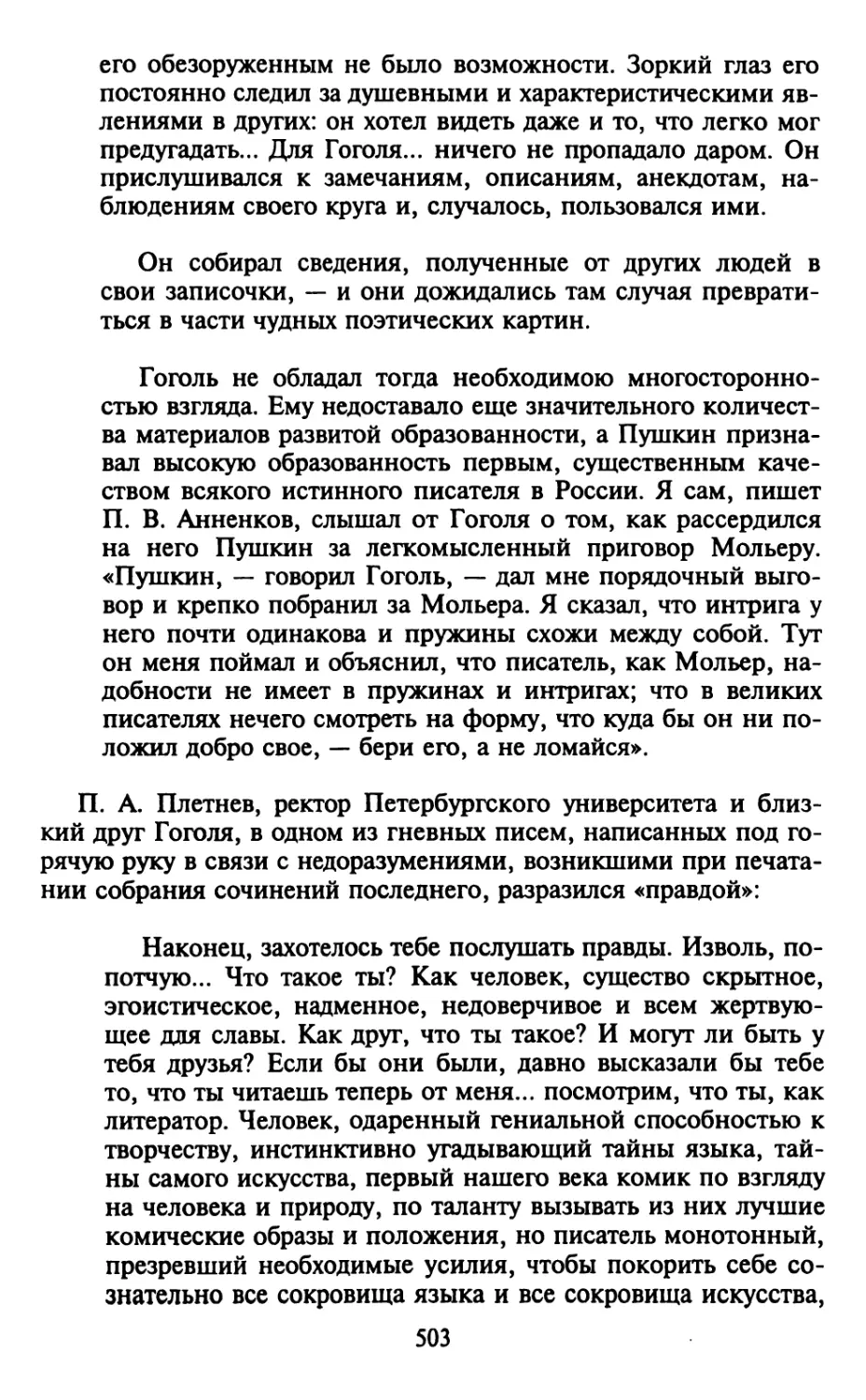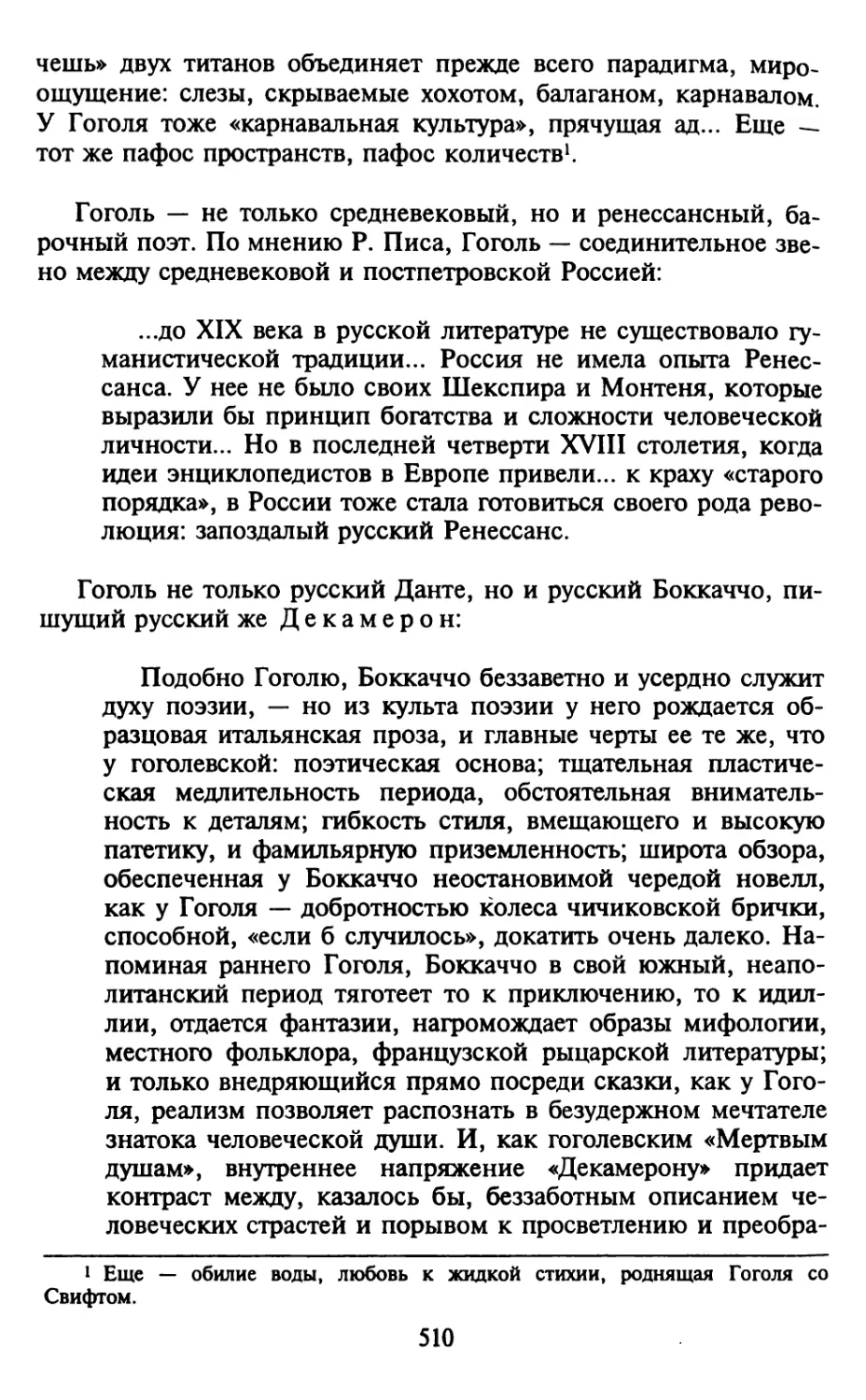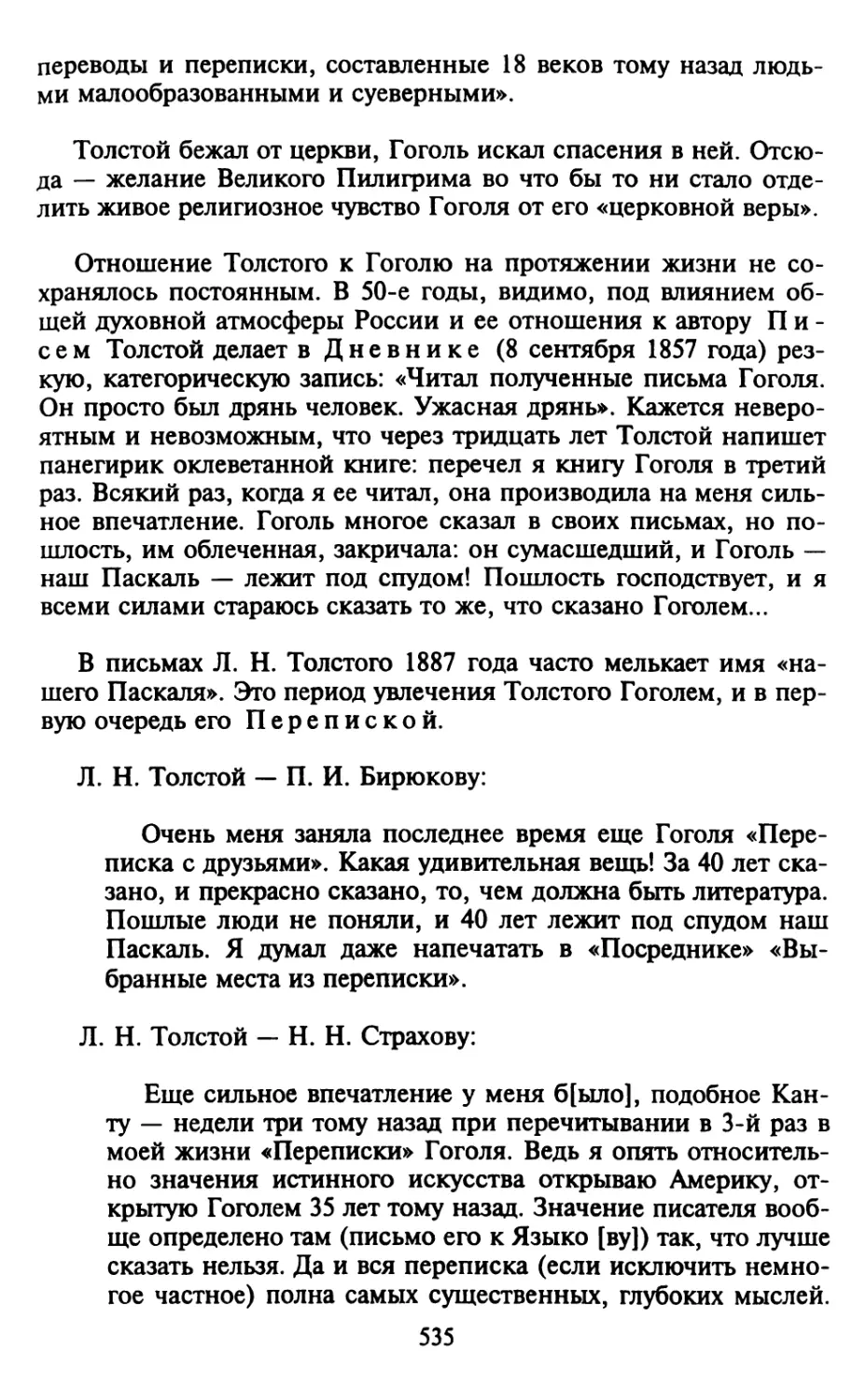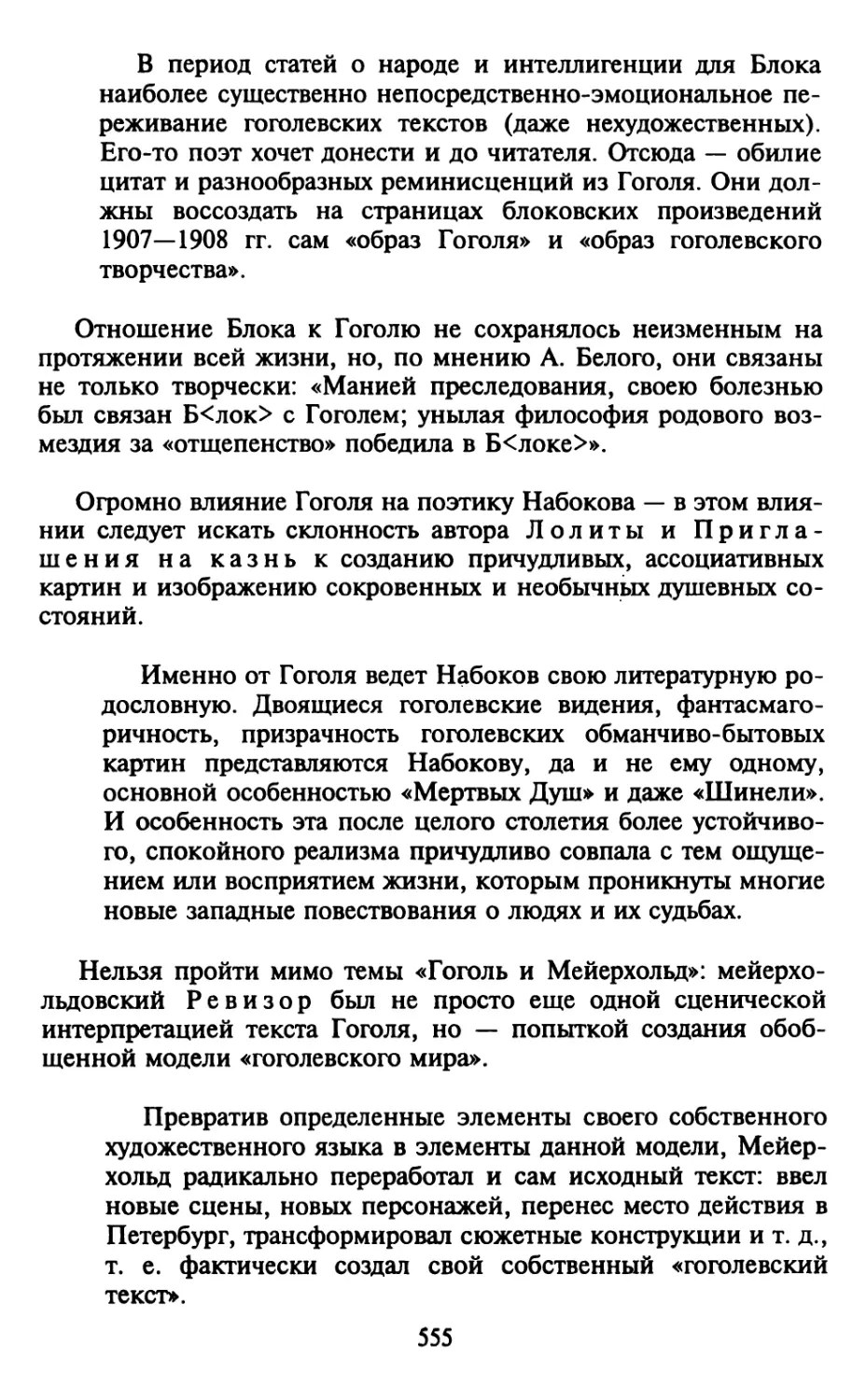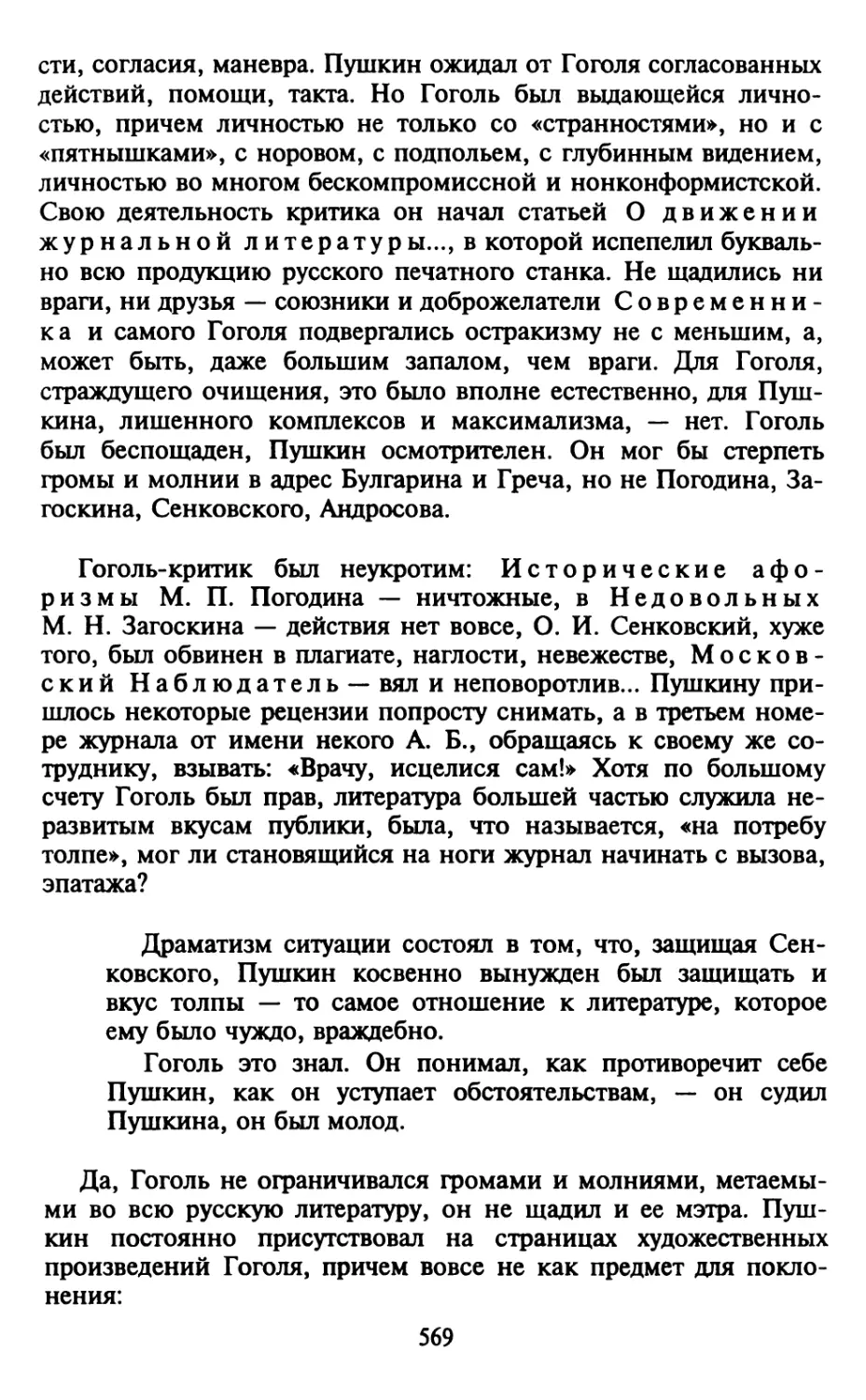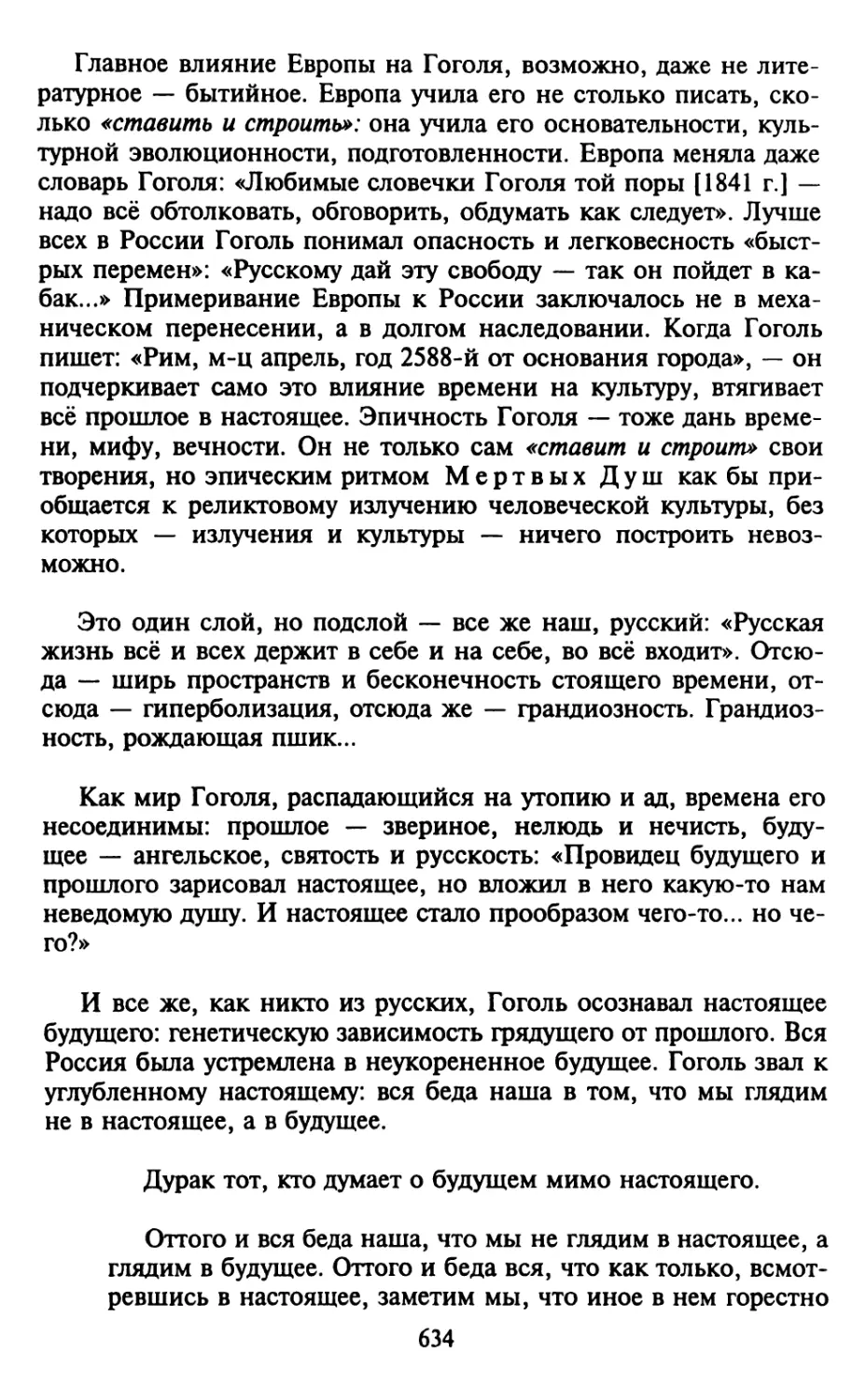Автор: Гарин И.И.
Теги: литература литературоведение история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран биографии
ISBN: 5-275-00435-4
Год: 2002
Текст
и.и.трин
Q-
31
Ж
И. И. ГАРИН
ЗАГАДОЧНЫЙ
ГОГОЛЬ
В
Москва
ТЕРРА - КНИЖНЫЙ КЛУБ
2002
УДК 82
ББК 83.3 (2Рос=Рус)-8 Гоголь
Г20
Оформление художника
И. МАРЕВА
В оформлении использовано произведение
Ф. БАРБЫШЕВА
Гарин И. И.
Г20 Загадочный Гоголь. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб,
2002. - 640 с.
ISBN 5-275-00435-4
Что есть загадки Гоголя? Вся его жизнь! Его постоянные бегства, ме-
тания по миру, самоотказы, сожжения произведений, таинственная лю-
бовь, странная дружба, не проясненная до конца связь с религиозными
конфессиями, история второго тома «Мертвых душ», недиагностируемые
болезни и, наконец, ужасная смерть... Загадочна личность великого поэта,
удивительно его отношение к собственной стране, простирающееся от
чудесных видений мчащейся тройки-птицы до омерзительных «харь и
рож».
Но самое загадочное — это творчество Гоголя, имеющее бессчетное
количество интерпретаций, отличающихся тем, что почти все они - даже
самые взаимоисключающие — верны.
Автор не претендует на «разгадки» этих и многих других загадок Го-
голя. Задача его иная — дать слово самому Гоголю, толкователям Гоголя
и конечно же высказаться самому: сказать о том, что еще совсем недавно
было скрыто.
УДК 82
ББК 83.3 (2Рос=Рус)-8 Гоголь
ISBN 5-275-00435-4 „^0/.^^ ©И. Гарин, 2002
U 1) Л /) С( Г ) <£) TFPPA—Книжный клуб. 2002
ПРОЛОГ: НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ГОГОЛЬ
У всякого есть что-то, чего нет
у другого; у всякого чувствительнее
не та нерва, чем у другого, и толь-
ко дружный размен и взаимная по-
мощь могут дать возможность всем
увидеть с равной яркостью и со
всех сторон предмет.
Н. В. Гоголь
Истины не существует, потому что существуют разные истины.
Не все они равноценны, но в разной степени плодотворны и пото-
му имеют право на существование. Я давно вынашивал мысль на-
писать портрет гения с разных перспектив, позиций, точек зре-
ния, ибо истина может быть только такой — многопозиционной,
неисчерпаемой, бесконечной. Так я пытался писать Многоли-
кого Достоевского и Неизвестного Толстого, так
написаны мои Тютчев, Соловьев, Данте, Шекспир,
Д ж о й с, но все-таки во всех этих книгах точка зрения автора пре-
валирует, подавляет другие. В. В. Вересаев, составляя свои книги о
Пушкине и Гоголе из воспоминаний современников, пользовался
аналогичным методом, но у него вообще отсутствует авторская
речь и, что для меня неприемлемо, — отсутствует элемент анали-
тичности, дискурсивное™, углубленности. У Вересаева нет собст-
венной позиции, а книга о Гоголе должна быть субъективной,
предвзятой, тенденциозной — такой, каким был сам Гоголь...
Реставрируя духовность, постоянно погружаясь во внутренний
мир великих людей, пытаясь постичь феномен гениальности, я
все больше и больше убеждаюсь, что избранничество — это сти-
хия, пространственно-временной простор, безмерность, беско-
нечность спектра человеческих качеств. Меня не удовлетворяют
характеристики духовидцев, представленные в терминах диалек-
тики, столкновения противоположностей, перелома, отказа, двух
начал и т. д., и т. п. Когда имярек пишет, что в личности Гоголя
схлестнулись два разнородных начала, а в его стиле различаются
две струи, мне всегда вспоминаются слова Пушкина об обывате-
3
ле, снижающем гения до своего уровня, захлебывающемся от
восторга: он — такой, как мы. Да, вестники — такие, как мы, то-
лько мы, вместе взятые, совокупные, соборные. Гоголь не амби-
валентен, не противоречив, не полярен — Гоголь стихиен, ши-
рок, неисчерпаем. Сколько бы книг ни написали о нем, большая
часть гоголевского ускользнет, окажется недоступной, неизве-
данной, несказанной. Сама претензия смертного постичь бес-
смертное, конечного представить бесконечное есть снижение ге-
ниального до обыденного. Задумываясь о том, как следует малым
писать портреты великих, я прихожу к выводу, что лучший спо-
соб — дать слово самому гению, другим великим. Писать стихию
должно с размахом: не претендовать на собственную убогую точ-
ку зрения, но выразить все существующие точки зрения, пред-
ставить все перспективы до наших включительно. Как и в других
своих книгах, я не претендую в книге о Гоголе на откровения —
только на многомерность, многокрасочность, многослойность. Я
предоставлю слово ВСЕМ — прогрессистам и реакционерам, за-
падникам и славянофилам, правым и левым, своим и чужим, со-
временникам и потомкам, предтечам и последователям. Хотя и
при таком подходе загадки Гоголя останутся неразгаданными,
ибо главные загадки ушли в вечность вместе с уходом в вечность
самого Гоголя, мне представляются важными не разгадки, а по-
пытки. Потому что жизнь человека, в том числе гениального, —
это только попытка, но эта попытка — ВСЁ.
Уже современники понимали, что Гоголь — и человек, и ху-
дожник — загадочен, непостижимо глубок, парадоксален, ни с
кем не сравним, не подводим «ни под какие теории». Н. Некра-
сов вскоре после смерти Гоголя писал:
Гоголь неоспоримо представляет нечто совершенно но-
вое среди личностей, обладавших силою творчества, нечто
такое, чего невозможно подвести ни под какие теории, вы-
работанные на основании произведений, данных другими
поэтами. И основы суждения о нем должны быть новые.
Наша земля не оскудевает талантами — может быть, явится
писатель, который истолкует нам Гоголя, а до тех пор будем
делать частные заметки на отдельные лица его произведе-
ний и ждать — это полезнее и скромнее.
Хотя о Гоголе писали лучшие умы России, «исчерпать» его
никому не удалось: очень много «частных заметок» и почти пол-
ное отсутствие исчерпывающих «разгадок».
4
И дело здесь не столько в слабости критической мысли,
создавшей немало глубоких работ о Гоголе, сколько в пора-
зительной загадочности и сложности самого «предмета ис-
следования».
Гоголевское творчество — это ряд острейших парадоксов,
иначе говоря, совмещений традиционно несовместимого и
взаимоисключающего. И понять «секреты» Гоголя — это
прежде всего объяснить парадоксы со стороны поэтики, со
стороны внутренней организации его художественного мира.
Художественный мир Гоголя, как и его личность, неисчерпае-
мы — потому-то так трудно с разгадками. Пишущие о Гоголе
знают, что он обладает качеством «ускользать»: казалось бы, все
понятно и все сказано, но нет удовлетворения, нет ощущения
«схваченности» — есть загадочная улыбка самого Гоголя, полу-
чавшего глубокое удовлетворение от собственной способности
мистифицировать, оставаться неуловимым, «непойманным».
Как и его соотечественника Григория Сковороду, «мир ло-
вил», но так и не поймал...
«Поймать» Гоголя действительно очень трудно: поймать — зна-
чит понять, а понять — значит настроиться на его волну, испытать
то же настроение души, проникнуться тем же мироощущением,
спуститься в подполье. Гоголь слишком остро ощущал мировое и
русское зло, чтобы причислять его просто к сатирикам, тем более
к комедийным писателям. Гоголь не комедиен — Гоголь трагичен.
Трагична его жизнь, трагичны многие его творения. Борис Садов-
ский очень правильно писал в Весах (1909 г.), что подлинное
лицо Гоголя до сих пор остается никому не известным и что пер-
вейшая необходимость — «освободить лик Гоголя» от «граждан-
ских пелен», которыми «до сих пор его так усердно окутывали».
Хотя Гоголю посвящены тысячи книг, его загадки стали чуть-
чуть приоткрываться лишь в начале XX века — в книгах и статьях
А. Волынского, Д. Мережковского, М. Гершензона, В. Розанова,
П. Перцова, позже — И. Анненского, В. Брюсова, К. Мочульско-
го, В. Зеньковского, В. Эрлиха, В. Сечкарева, А. Труайя, В. Набо-
кова. Именно в этих книгах был реализован главный принцип
щедринской эстетики — обнажить явления «от покровов обыден-
ности», поставить «в упор» вопрос: «Кто мы такие? Откуда?»
Гений — всегда загадка, разгадке которого обычно и посвяще-
на литература, создаваемая каждым новым поколением. Суть ге-
5
ниальности — в неисчерпаемости «разгадок». В сущности, разга-
дывая гениев, человечество каждый раз разгадывает себя.
Разгадка Гоголя, как, собственно, любого гения, — в неспо-
собности примирить смысл своего искусства со смыслом своей
жизни, идеалов и интересов, веры и человеческой сущности.
Примирить их и невозможно, потому что вера и правда, великая
идея и насмешка над ней — две стороны отношения поэта к жиз-
ни и своему собственному «я».
Многие загадки Гоголя не имеют и не требуют разгадок. По-
нять можно только то, что можно понять: всегда важно выявить
то, что в принципе поддается рационализации, вербализации,
выяснению, отделив его от того, что должно сохраниться в своей
потаенности, сокровенности, несказанности. Так, никому и ни-
когда не удастся проникнуть в глубины душевного склада конк-
ретного человека или до конца разобраться в его психических
побуждениях. Конечно, на каждую загадку существует множество
догадок, но всегда следует иметь в виду, что загадки принадлежат
гениям, а догадки простым смертным — так стоит ли приклады-
вать наши мерки к безмерности?..
Все же, наверное, стоит. Фантазии малых делают многомерны-
ми великих. Когда в работах западных комментаторов мы читаем
о Гоголе: «самый иррациональный и таинственный русский писа-
тель», «одна из самых эксцентрических и причудливых фигур
эпохи», «великий лицедей», опьяненный фразой, мифоман, мис-
тификатор, непрерывно меняющий маски, великий лжец («Го-
голь лгал самому себе так же, как и другим, ибо ложь составляла
стиль его жизни, сущность его гения»), — это свидетельствует не
об «отсутствии респекта к духовному содержанию личности», а о
наличии множественных подходов, об идеологической раскрепо-
щенности, о человечности, наконец. Ибо гений — прежде всего
человек, ничто человеческое ему не чуждо, а что до Гоголя, то он
не только гиперболизировал человека в своих творениях, но и сам
содержал в себе нечто гиперболизированно человеческое...
Создавая литературный портрет Андрея Белого, Владислав
Ходасевич писал в Некрополе:
Я долгом своим (не легким) считаю исключить из рас-
сказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от
меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие
изображения вредны для истории. Я уверен, что они и без-
6
нравственны, потому что только правдивое и целостное
изображение замечательного человека способно открыть то
лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой, по-
тому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвы-
шающему обману» хочется противопоставить нас возвыша-
ющую правду: надо учиться чтить и любить замечательного
человека со всеми его слабостями и порой даже за эти са-
мые слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он
от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания.
Таков и мой метод. С тем отличием, что я не верю в «высшую»
истину — только в свою собственную. Как нельзя любить за дру-
гого, нельзя верить в истину вне себя. Любую свою книгу я дол-
жен был бы снабдить местоимением «мой» — мой Гоголь, мой
Толстой, мой Достоевский, мой Данте, мой Шекспир. И разгадки
их всех — тоже мои... И бесконечное переписывание книг о Гого-
ле, Толстом, Достоевском, Данте, Шекспире происходит в такой
же мере ради их разгадки, в какой — ради версии очередного ав-
тора. 99% книг о гениях человечества скучны и неинтересны, по-
тому что написаны скучными и неинтересными людьми. Отличи-
тельная особенность моей — не в достоинствах автора, а в его
тенденциозности, которую он не скрывает: «истины» и «разгадки»
здесь только мои, но слово дано всем имеющим что сказать.
Разгадка Гоголя — в сверхчеловеческих притязаниях на абсо-
лютное совершенство образов и идей, замыслов и исполнений,
на «всенародность» и «всеправдивость», на божественность.
Подобно одному из своих персонажей, Гоголь заставлял
идти себя все выше и выше и наконец достиг той точки, от-
куда «вдруг стало видимо далеко во все концы света», —
значит, и его видели все и вся. Гоголевские смятения, неу-
дачи, поражения совершались на виду у всего «света», что
многократно усиливало их разрушительное действие на ду-
шу писателя. Развязать весь тугой узел противоречий —
творческих, идейных, психологических — не была в состоя-
нии никакая сила, и когда они достигли крайней степени,
разразилась катастрофа.
Гениальность — это не только притязание на божественность,
но и дьявольское самоизнурение и самоистребление. В известном
смысле все гении самоубийцы. Случай Гоголя уникален лишь в
том отношении, что это самоубийство было буквальным. Почти
никогда и никто не обращал внимания на то, что гениальны не
7
только творения, но и сами эти притязания «стать богом», гениа-
льно жить и гениально умереть. «Феномен Гоголь» интересен не
только тем, что осталось после него, но и тем, во что он превра-
тил свою жизнь. Написаны тома и тома о сожжении Гоголем
своей поэмы, но только одним человеком — И. С. Аксаковым —
сказаны замечательные слова о поэме самого сожжения...
Вся жизнь, весь художественный подвиг, все искренние
страдания Гоголя, наконец... это страшная торжественная
ночь сожжения и вслед за этим смерть, — все это вместе
носит характер такого события, представляет такую вели-
кую грозную поэму, смысл которой еще долго останется не-
разгаданным.
В. В. Каллаш:
Во всей истории мировой литературы трудно подыскать
что-нибудь трагичнее жизни Гоголя, в особенности ее по-
следних лет.
Он, который, казалось, «более всех смеялся на свете», лил
«часто душевные, глубокие слезы» и умер непонятый и не-
разгаданный, одинокий, покинутый почти всеми прежними
друзьями, окруженный светскими святошами и изуверами.
Мучительная загадка для близких, капризный чудак для
ограниченных наблюдателей, он так и покинул мир «сфин-
ксом, не разгаданным до гроба».
Гудит жизненная борьба, опрокидывая старых богов и
воздвигая новые алтари... И посреди этого, в смутном тумане
прошлого встает перед нами величавая фигура писателя-по-
движника, этого «двуликого Януса», взгляды которого, с од-
ной стороны, обращены в бездонный омут человеческой по-
шлости, где кишмя кишат вечные Собакевичи, Плюшкины,
Чичиковы и всякая прочая «нечисть», а другими — «духовны-
ми очами» в невыразимой тоске одиночества хочет проник-
нуть он в «горний мир» идеалов, ищет и не находит ответа...
Н. Котляревский:
Вся трагедия Гоголя, как человека и писателя, заключа-
лась в том, что «романтические» порывы его души стали в
противоречие с его собственным творчеством. Он был ро-
мантик со всеми отличительными чертами этого типа. Он
8
любил жить в мире воображаемом и ожидаемом, т. е. он ли-
бо разукрашивал действительность, превращая ее в сказку,
либо воображал ее такой, какой она должна была бы быть
сообразно с его религиозными и нравственными понятия-
ми. Он страшно тяготился разладом, который возникал
между его мечтой и тем, что он вокруг себя видел, и он ни-
когда не мог смягчить ощущения тоски и томления — здо-
ровой критикой существующего и неизбежного.
Редко когда природа создавала человека, столь роман-
тичного по настроению и такого мастера изображать все не-
романтическое в жизни. Естественно, что при такой раздво-
енности настроения и творчества художник был осужден на
страдание и не мог освободиться от тяжелого душевного
разлада, который должен был кончиться победой одного ка-
кого-нибудь дара: либо способность реально изображать
жизнь во всей ее прозе должна была в писателе утишить ро-
мантические порывы его сердца, либо, наоборот, это ро-
мантическое настроение должно было исказить и подавить
его дар правдивого воплощения жизни в искусстве. Чем бо-
льше в Гоголе разгоралось желание помочь своим ближним
в деле нравственного и общественного воспитания, тем
труднее становилось ему, как художнику. Дар обличителя
житейской прозы казался ему недостаточным для этой вы-
сокой цели, а романтическая способность упреждать жизнь
в мечтах и жить в просветленном мире не находила для
своего обнаружения подходящих слов и образов.
И глубокой трагедией стала жизнь этого человека.
Одна из главных загадок Гоголя — тематика его произведе-
ний. Что он изображал? Правда ли, что он писал «социальную
сатиру», «социальный памфлет», был «суровым обличителем дей-
ствительности»? Наши исписали горы книг в поисках доказа-
тельств «беспощадности гоголевского реализма», «революцион-
ные демократы использовали персонажи Гоголя в качестве поли-
тического оружия против господствующего строя». Но одна из
главных разгадок Гоголя состоит в том, что ни он сам, ни боль-
шинство непредвзятых критиков не считали его ни реалистом,
ни обличителем действительности, ни — тем более — критиком
господствующего строя. Гоголь — русский Свифт, пишущий не
свою эпоху, а человека вообще, человека как такового, человека
на все времена. Как и у Свифта, его художественные интересы
всегда вдохновлялись лишь вечными темами. Как проницательно
заметил А. В. Дружинин, «гений Гоголя был богат истинами веч-
9
ными, истинами, не зависящими от взглядов известного поколе-
ния, истинами, никогда не преходящими, как всякая настоящая
поэзия». Интерпретировать Гоголя иначе — значит — тенденци-
озно же — обужать его, переводить из ранга гениев-матерей в
бытописателя эпохи.
Кстати, сам Гоголь говорил об этом. Комедия — прежде всего
зеркало души человека. Города, в котором правит Антон Антоно-
вич Сквозник-Дмухановский, «нет во всей России». — «Это наш
же душевный город, и сидит он у всякого из нас», здесь под ви-
дом чиновников «бесчинствуют наши страсти», а ревизор — «на-
ша проснувшаяся совесть». Смех, возбуждаемый комедией, не
изобличает общество, а должен быть обращен внутрь человека,
показать ему мерзость «наших душевных лихоимств»...
Пройдет время, и один из крупнейших западных гоголеведов
В. Эрлих проницательно заметит, что в Мертвых Душах
изображена не реальная картина жизни России, но душа челове-
ка, точнее — душа самого Гоголя...
Хотя гениальность — это всегда протест против действитель-
ности, отличительная черта гениального протеста — в его вечно-
сти. Если бы Гоголь «разоблачал» николаевскую Россию, он так
бы и остался в своем времени вместе с Белинскими-Добролюбо-
выми-Чернышевскими. Величайшая заслуга Гоголя и его миро-
вое значение, конечно же, не в развенчании очередного русского
тирана, кстати, далеко не худшего и уж во всяком случае не иду-
щего ни в какое сравнение с коммунистическими некрофилами
XX века, но в том, что, по словам К. Мочульского, «ему было
суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к
религии, сдвинуть ее с пути Пушкина на путь Достоевского».
От Гоголя все «ночное сознание» нашей словесности,
нигилизм Толстого, бездна Достоевского, бунт Розанова.
Конечно же, мировой сделали русскую литературу не
Белинские-Добролюбовы-Чернышевские, но Гоголь, Достоев-
ский и Толстой, определившие ее религиозно-нравственный
строй, ее пророческий пафос и мессианство, «небывалую силу и
напряженность нравственного сознания», чувство греховности и
ответственности человека за вечное зло.
Духовная природа пророков и мессий влечет их к «иным ми-
рам», мирам вечных истин, великой любви и совершенной спра-
10
ведливости. Эти миры согревают их тяжкую жизнь и освещают
мрак реальности. Они заполняют их ум и фантазию, полностью
подчиняют их надежды, служат одновременно великой целью и
еще большим укором, поддерживают подвижнический труд и пи-
тают сомнения. Как правило, пророки и поэты либо отстают от
действительной жизни, либо опережают ее. В них отсутствует
смирение, но и вызов кажется им вульгарным. Они почти всегда
обесценивают реальную жизнь, даже презирают ее, но стремятся
не в неопределенное грядущее, а к идеализированному патриар-
хальному прошлому, которое тщатся возвратить.
Социальное зло — лишь тончайшая поверхностная пленка на
зле бытийном. Свифт, Гоголь, Кафка протестовали не против со-
циального настоящего, но против индивидуального вечного. Их
герои — не социальные типы, но архетипы, извлеченные из глу-
бин их собственных душ. Гениальность тем и отличается, что
она — протест человека, даже не против своего времени, но про-
тив самого себя, а раз так, то и требование — «начать с себя».
Никому из них, однако, реализовать это требование не удалось.
Я вообще полагаю, что даже те, кто находят в себе силы «начать
с себя», все равно терпят поражение, ибо Гантенбайну, как бы он
ни старался, невозможно стать иным. Люди хороши и плохи не
столько потому, что они делают себя таковыми, но потому, что
изначально — богоизбранны или богоотверженны — вечная сла-
ва Лютеру! Возможно, это фатализм, но мне в жизни не удалось
встретить ни одного человека, даже среди «начавших с себя», кто
бы одолел свою природу: все негодяи остались негодяями, все
ленинцы — ленинцами, даже став «монархистами», «демократа-
ми» или банкирами.
Видимо, поражение человека — суть его человечности, ибо...
человек слаб...
Поражение Гоголя, как поражение всякого художника, притя-
зающего на роль демиурга, связано с принципиальной неразре-
шимостью человеком божественной задачи, с невозможностью
дать ответы на «последние вопросы» бытия. Абсолют — досто-
яние одного Бога, и покушение на божественную прерогативу
неизбежно кончается трагедией. Все великие трагедии в истории
человеческого духа — трагедии Августина, Данте, Паскаля, Кир-
кегора, Достоевского, Толстого, Джойса — в истоках своих име-
ли это покушение на раскрытие тайны жизни, назначения чело-
века, его сокровенной сути.
11
Ю. В. Манн:
Ведь Гоголь отважился на большее, чем только воспро-
изведение положительных русских характеров и положите-
льного начала русской действительности. «Мертвые души»
должны были раскрыть тайну русской жизни, предназначе-
ние русского народа и государства. Ту великую тайну, кото-
рая осияет своим светом существование других народов, и
то великое предназначение, которое укажет путь всему че-
ловечеству. Изображение позитивных сторон — производ-
ное от этого колоссального замысла, к которому трудно по-
добрать аналогии не только в русской, но и в новой запад-
ной литературе. Это был замысел провиденциальный, с вы-
текающей отсюда тенденцией к абсолютности во всем — в
понимании правды, в художественных решениях, в творче-
ских силах писателя, не говоря уже о совершенстве в самом
первоисточнике — в самой жизни.
Гоголевский замысел, далее, заключал тенденцию к аб-
солютности и в своей обращенности к читателю. Предпола-
галось достигнуть такого уровня мыслительной и идейной
содержательности, заключить ее в такую рельефную и ося-
заемую форму, чтобы найденное обладало неотразимой и
неопровержимой очевидностью. Гоголь хотел убедить всех —
и высокообразованного интеллигента, и неискушенного чи-
тателя, и цензора, и чиновника, и государственного деяте-
ля, и обывателя; хотел завоевать расположение каждого — и
друга, и врага, и человека безразличного. Нет, он, конечно,
не стал бы приспосабливать текст к любому близорукому
суждению и к любой оценке неискушенного вкуса (худож-
ническая твердость и непоколебимость сохранились в нем
до конца). Но выражения критики или недоумения воспри-
нимались им как сигналы о том, что искомый идеал еще не
достигнут. Гоголь заведомо обрекал себя на неутолимость
творческого беспокойства, на бесконечность художническо-
го совершенствования, которое обращалось в столь же бес-
конечный процесс совершенствования нравственного. Ведь
дело писательское неразрывно связывалось в его представ-
лении с «делом души», и недостатки произведения воспри-
нимались как свидетельство недостаточного внутреннего са-
мовоспитания... Но не только убедить, — Гоголь хотел еще
всех примирить, внести своим произведением дух согласия
и взаимопонимания в ожесточившийся и распавшийся век.
12
И тут, понятно, он обрекал себя на не менее сложный и
бесконечный процесс.
Трагедия второго тома и вместе с ним всего замысла не
может быть понята в рамках имманентного развития текста.
Это был результат всей ситуации, в которую поставил себя
творец «Мертвых душ». Помимо максимализма во всем — в
художественном задании, в напряжении сил, в обращенно-
сти к читателям — эта ситуация была еще отяжелена тем,
что в ней примирялось и объединялось заведомо
непримиримое и несоединимое.
А. О. Смирнова подметила: «...Гоголь тщательно скрывал
от других значение своей бессмертной поэмы и в то же вре-
мя негодовал, что никто из читателей, и особенно из дру-
зей, не догадался, что он замышлял сделать из своих «Мерт-
вых душ», какое должно было быть влияние их на Россию.
Он так и говорил: на Россию, на судьбу России, на развитие
русского общества или на развитие русского человека».
Гоголь в величайшей тайне вынашивал свой великий за-
мысел, однако хотел, чтобы другие не только догадывались,
но и знали об его масштабе и значении.
Трудно согласиться с В. В. Набоковым, что Россию нельзя
изучать по Гоголю, что задача его — исключительно художест-
венная, стилистическая, магическая. Великая литература — это
не только феномен языка, но и синтез нового стиля и великих
идей. Другое дело, что идеи Гоголя не лежат на поверхности, что
они глубоко спрятаны в недрах стиля, и сам Набоков ярко про-
демонстрировал, что подлинные сюжеты Гоголя кроются за оче-
видными, общедоступными — тем более идеи. При всей той чу-
ши, которая наговорена нашими о «реализме», сатире, разоблачи-
тельной мощи Гоголя, над чем справедливо измывается Набоков,
Гоголь — великий модернист, а модернизм, в моем понимании,
это и есть синтез мысли и языка, неведомый предшественникам.
Может быть, Гоголь-художник выше Гоголя-мыслителя — не
знаю, — но мне трудно представить гения, ограничивающего се-
бя только художественной формой. Фактически Набоков видел в
Гоголе великого формалиста, стилиста, но, при всей естествен-
ности гоголевского новаторства, поэт обладал даром провидца,
до известной степени став русским Лютером, Киркегором или
Кафкой.
Гоголь — русский поэт, но, не проживи он часть жизни в Ев-
ропе, не подыши ее воздухом, не впитай ее культурные эмана-
ции, он так бы и остался только русским — как, скажем, Тол-
13
стой. Я не хочу сказать, что Европа сформировала Гоголя — я хо-
чу сказать, что она «углубила» его. При всем том, что он, конеч-
но же, ничего не знал о Киркегоре, при всем том, что и Паскаль
был ему мало знаком, чуткость и зоркость художника срабатыва-
ли на подсознательном уровне, а это гораздо эффективней, неже-
ли обыЧная рациональная память. Гоголь — русский алмаз, огра-
ненный Европой — в этом важнейший секрет его «явления»,
«феномена».
Говоря о настоящем и будущем нашей литературы, Андрей
Белый писал:
Настоящее наше темно, как и прошлое наше темно —
искони, искони. Тьма сливается с тьмой, в единую ночь над
единой равниной, сплошной, ледяной, гробовой — равни-
ной русской. Здесь еще беспредметно томился Пушкин,
когда под луной он увидел, что летят над ним «бесы разны»,
рассыпаются снегом, осаждаются ледяной коростой на рус-
ской действительности.
Эти пустыри, эти ползущие овраги, голодные деревень-
ки, полосатые версты, непременный бурьян глядят на нас
со всего пространства «Мертвых душ». Здесь мертвые люди
покупают мертвые души: мертвецы воскрешают мертвецов:
люди это или «бесы разны» — может быть, бесы, которых
увидел Пушкин в Великороссии, как увидел их Гоголь в
Малороссии: один из этих бесов у него украл луну («Ночь
перед Рождеством»). В наружности этого беса не было ни-
чего ужасного: спереди напоминал он свинью, а сзади кого-
то знакомого... в вицмундире. Потом этот бес окончательно
облекся в вицмундир: и мы увидели его на Невском у того
же Гоголя. Тут из Гоголя критика постаралась вывести тен-
денцию; но истинную тенденцию Гоголя просмотрела; Го-
голь хотел подчеркнуть, что вицмундир — действительный,
не аллегорический черт: и каким химерическим бредом
окрасилась обыденность, особенно когда экс-чиновник Чи-
чиков обнаружил свою подлинную природу, пытаясь
украсть мертвую нашу душу, как некогда воровал и луну, и
много, много, много звезд. Гоголь углубляет виде-
ние Пушкина; он вскрывает проделки бесов разных; но бес
останавливает его обличения, выпуская на Гоголя отца
Матвея.
Все — так, если не считать, что не было ни бесов, ни обличе-
ний. Как не было и «мертвых людей», покупающих и продаю-
14
щих «мертвые души». «Мракобесие столкнулось с бесновани-
ем», — пишет Андрей Белый для красного словца, но не было и
этого столкновения — была обычная, не самая худшая рус-
ская жизнь, самое странное в которой, что после Мертвых
Душ все набросились на Гоголя, саму эту жизнь — в худшем ее
варианте — не замечая... Не замечая ни рабства, ни продажно-
сти — снизу и сверху, — ни абсолютного отсутствия личного на-
чала...
В России не выпрямлялась личность, не отливалась в
формы, но одна форма равно придавила всех: не многооб-
разие форм — единообразие задавило нас. Нас задавила —
одна ледяная равнина. У нас — один общий враг. И тайны
многих — одно: одинаково в тайне перекликаемся мы друг с
другом. Ледяная равнина — не жизнь — с м е р т ь; не бодр-
ствование — кошмар. Искони нас замучил кошмар Черта: и
в тайне своей народ — против одного — против Черта. Вот
почему между нами, если мы — народ, одна связь, одна ре-
лигия.
На Западе каждый — против всех; у нас — все против
одного...
Интересно, вкладывал ли Андрей Белый в эти слова тот
смысл, который просматривается сегодня?..
На сей счет у Брюсова есть замечательное четверостишие, как
бы посвященное сути гоголевского видения мира:
Все — обман, все дышит ложью, —
В каждом зеркале двойник,
Выполняя волю Божью,
Кажет вывернутый лик.
Вывернутые лики Гоголя — мы, сам народ, хари и рожи...
Лики Гоголя... Я написал Многоликого Достоевско-
го, но, представляется, нет в мире художника, предстающего со
страниц книг о нем с большим количеством ликов, нежели Го-
голь...
Гоголь объявляется реалистом и фантастом; тонким зна-
током человеческого сердца и создателем одномерных пер-
сонажей; революционером и реакционером; любителем
низменного и жрецом всего прекрасного; патологическим
15
лгуном и честнейшим анатомом человеческой природы; са-
моутверждающимся честолюбцем и приносящим себя в
жертву страдальцем; типичным русским и типичным мало-
россом; узким националистом и носителем вселенского ду-
ха; пустым балагуром и трагическим поэтом.
Каждый раз, когда у меня возникает стремление разглядеть
в гении человека, мне вспоминаются жутко обескураживающие
строки Набокова, накладывающего табу на такие попытки:
«...то, что делают с гением в поисках человеческого элемента,
похоже на ощупывание и осматривание погребальной куклы,
такой же, как розовые трупы покойных царей, которые обычно
гримировали для похоронных церемоний». Если Набоков прав
и действительно нереально представить себе жизнь другого,
«воскресить ее в своем воображении» и «безупречно отразить
на бумаге», то для чего он сам писал портреты Пушкина, Гого-
ля, Толстого, Тургенева, Достоевского, Чехова? И вообще —
почему можно видеть человека в малых сих и нельзя в творцах
культуры? Мне представляется, что «очеловечивание» гения не
только допустимо, но крайне необходимо, что такого рода
«приобщение» способствует сближению земли и небес, жизни и
духа.
Увы, нам, малым, нельзя запретить писать книги о великих.
Потому-то и приходится строить гигантские книгохранилища,
чтобы хоронить в них единичные шедевры среди миллионов то-
мов всякого хлама. Но ведь так устроено не только «живописа-
ние» — так устроена сама жизнь: для появления гения необходи-
мы миллионы, и без «литературы» невозможны шедевры.
Есть и другая сторона проблемы: поскольку нет другого Го-
голя для полноценного представления Гоголя единственного и
неповторимого, необходимы мы, лилипуты, дабы коллектив-
ным, вековым трудом «стреножить» Гулливера. Но в нашем ко-
личестве содержится и некая плодотворная сила: не уменьем,
так числом... Только множество перспектив малых позволяет
обозреть уникальное и великое. Каждое поколение для того и
переписывает портреты творцов, чтобы обнаружить эти новые
перспективы.
Полная глубокого смысла финская легенда говорит, что
каждый предмет в мире имеет свое тайное имя, и кто его
узнает, тот и получает таинственную власть над предметом.
16
Это таинственно скрытое «сезам» слышит художник в глу-
бине своей души.
Оттого-то художественное произведение, как верное от-
ражение жизненного факта, дает всегда больше того, что
хотел дать в нем его творец. В каждом оно отражается
иначе, соответственно духовному зеркалу каждого; в раз-
личных натурах оно вызывает различное настроение; осо-
бенность каждого отдельного ума приводит к многоразлич-
ным выводам, заключениям и сопоставлениям. А поэтому
и влияние истинно художественного произведения почти
беспредельно: кажется, что оно рассмотрено со всех сто-
рон, со всех точек зрения; кажется, что о нем уже сказано
последнее слово, — но рождается новое поколение с новы-
ми взглядами, новым миросозерцанием — и для него оно
опять новый факт, дающий новое впечатление и другие за-
ключения.
И. Елагин:
гоголь
Владимиру Шаталову
Пока что не было и нет
Похожего, подобного,
Вот этот Гоголя портрет —
Он и плита надгробная.
Портрет, что Гоголю под стать,
Он — Гоголева исповедь,
Его в душе воссоздавать,
А не в музее выставить,
Его не только теплота
Высокой кисти трогала,
Но угнездились в нем места
Из переписки Гоголя.
И Гоголь тут — такой, как есть,
Извечный Гоголь, подлинный,
Как птица, насторожен весь,
Как птица, весь нахохленный.
И это Гоголь наших бед,
За ним толпятся избы ведь
И тройка мчит, чтоб целый свет
Из-под копыт забрызгивать.
Или затем, чтоб высечь свет,
Копыта сеют искры ведь!
О Русь, какой ты дашь ответ
На Гоголеву исповедь?
Иль у тебя ответа нет,
Кто грешник, а кто праведник?
Есть только Гоголя портрет.
Он и портрет и памятник.
жизнь
РОД
Родословная Гоголей-Яновских восходит к полковнику Евста-
фию (Остапу) Гоголю, о котором упоминается в описании битвы
на Дрижиполе (1655). Он один из полковников остался до конца
верен гетману Петру Дорошенку, после которого еще несколько
времени отстаивал подвластную себе часть Украины, — свидете-
льствует П. А. Кулиш.
В 1674 г. Остап Гоголь получил от польского короля
Яна-Казимира грамоту на село Ольховец, в которой объяс-
няется и служба Гоголя: «За приверженность к нам и к Речи
Посполитой благородного Гоголя, нашего могилевского
полковника, которую он проявил в нынешнее время, пере-
шедши на нашу сторону, присягнув нам в послушании и
передавши Речи Посполитой могилевскую крепость, поощ-
ряя его на услуги, жалуем нашу деревню, именуемую Оль-
ховец...»
Праправнук Евстафия Гоголя, Афанасий, о предках сво-
их в 1788 г. показал: «Предки мои фамилией Гоголи, поль-
ской нации; прапрадед Андрей (?) Гоголь был полковником
могилевским, прадед Прокоп и дед Ян Гоголи были поль-
ские шляхтичи; из них дед по умертвии отца его Прокопа,
оставя в Польше свои имения, вышел в российскую сторону
и, оселясь уезда Лубенского в селе Кононовке, считался
шляхтичем; отец мой Демьян, достигши училищ киевской
академии (где и название по отцу его, Яну, принял Янов-
ский), принял сан священнический и рукоположен до при-
хода в том же селе Кононовке.
Польское происхождение рода Гоголей возможно, но не одно-
значно: в XVIII веке положение малоросского пана было менее
престижно по сравнению со шляхетской породой; фабрикация
надлежащих документов была хорошо поставлена и за короткое
19
время на Украине появилось до ста тысяч дворян с грамотами,
сработанными за весьма умеренную плату. Учитывая разнобой с
именем первого предка — Евстахий, Остап, Андрей, — нельзя
исключить, что Гоголи принадлежали к этому «малороссийскому
панству». Косвенно это подтверждается и теми труднообъясни-
мыми фактами, что «грамота на село Ольховец» дарована Евста-
хию-Остапу-Андрею спустя шесть лет после отречения короля
Яна-Казимира от престола, а духовное происхождение предков
Гоголя с дворянством, тем более со шляхетством, трудно совмес-
тимо.
Есть и другие неясности: дворянская фамилия Гоголи-Янов-
ские появляется лишь в конце XVIII века у сына священника
Иоанна (Яна) Демьяна и внука Афанасия Демьяновича Гоголей-
Яновских. У брата Афанасия Кирилла и его священнического
потомства почему-то остается фамилия только Яновские, без Го-
голей.
К выводу о малороссийском происхождении Гоголя пришел и
В. В. Вересаев, затративший огромный труд на сбор документов
о жизни Пушкина и Гоголя. Вот итоги его анализа:
На основании этого можно думать, что по отцу Гоголь-
писатель вовсе не происходил от старинного украинского
панства, а был происхождения духовного, дворянство же
впервые получил его дед Афанасий Демьянович, сделавший
себе карьеру женитьбою на дочери бунчукового товарища
Лизогуба. Он, возможно, слышал о некоем могилевском
полковнике Гоголе, но даже не знал его имени; предъявил
наскоро сфабрикованный документ о своем якобы проис-
хождении от могилевского полковника Гоголя, получил
дворянство и прибавку «Гоголь» к своей настоящей фами-
лии «Яновский».
По женской линии Н. В. Гоголь принадлежал ветви Лизогу-
бов-Танских, знатному роду, прославившемуся при царе Петре.
Прапрадед и прабабка писателя Василий и Анна Танские отлича-
лись тяжелым характером и жестокосердием: налицо удивитель-
ная параллель с предками Ф. И. Тютчева, чей дед сожительство-
вал с одиозной Салтычихой, за садизм по отношению к крестья-
нам осужденной на пожизненное заключение (по своим нравам
дед Тютчева мало отличался от своей сожительницы); что до Ва-
силия Танского, то Анна Иоанновна сослала в Сибирь его само-
го, мало чем отличавшегося от Салтычихи. Можно себе предста-
20
вить зверства, послужившие причиной ссылки русских дворян в
стране многовекового бесправия и беспредела.
Конечно, я не случайно привожу «садистскую» параллель в
родах двух величайших гениев земли российской (при необходи-
мости ее можно усилить множеством других примеров). Делаю
это я отнюдь не по причине русофобии (Н. В. Гоголь — почти
мой земляк), а по причине почти противоположной: дабы пока-
зать, с какой бешеной скоростью Россия и Малороссия в XIX ве-
ке приближались к культуре Европы, если в родах, «прославив-
шихся» своей жестокостью и бесчеловечностью, через два-три
поколения могли появиться Тютчев* Гоголь и Достоевский (отца
последнего не пришлось ссылать — с ним разделались сами кре-
стьяне).
Своевольным и вздорным характером отличалась и Анна Тан-
ская, породнившаяся с родом Лизогубов. В отличие от нее пра-
дед Н. В. Гоголя Семен Лизогуб обладал не только мягким нра-
вом, но и талантами. Именно эти черты у него унаследовала Та-
тьяна Семеновна, жена Афанасия Демьяновича Гоголя-Яновско-
го, деда великого писателя. Татьяна Семеновна была прекрасной
рисовальщицей и сказочницей. В роду Танских тоже были не од-
ни изуверы — один из Танских прославился в середине XVIII ве-
ка «как славный поэт», создатель интерлюдий в простонародном
украинском духе.
Многие свои странности Гоголь унаследовал от отца, человека
крайне мнительного, болезненно раздражительного, чем-то на-
поминающего Манилова. Говорят, что прошения свои Василий
Афанасьевич нередко писал в стихах, был большим прожектером
и далеко не всегда доводил свои начинания до конца.
Об отце Гоголя Василии Афанасьевиче известно, что учился
он в полтавской семинарии, в учении преуспевал, однако ни в
Московский университет, ни в гвардию не попал и в конце кон-
цов избрал гражданскую службу на почтамте. В 1805-м в возрасте
28 лет вышел в отставку в чине коллежского асессора и с той по-
ры жил в своей деревне, периодически служа в роли секретаря у
Д. П. Трощинского, знатного сановника, одно время бывшего
министром и членом Государственного совета и даже секретарем
императрицы Екатерины. Трощинский был дальним родственни-
ком матери Гоголя Марии Ивановны Косяровской и сыграл зна-
чительную роль в судьбе Н. В. Гоголя.
21
Свидетельствует В. И. Шенрок:
Скудные сведения, которые нам удалось собрать об отце
Гоголя, сводятся, главным образом, к тому, что это был че-
ловек, выросший и проведший всю жизнь в скромной дере-
венской обстановке, преданный всей душой семье и род-
ным и не чуждый мечтательного романтизма. По выходе в
отставку до самой женитьбы он должен был помогать роди-
телям в их хозяйственных заботах и большую часть времени
употреблял на исполнение разных мелких поручений. Он
играл в доме второстепенную роль паныча, которою совер-
шенно удовлетворялся. Самым знаменательным событием в
жизни Василия Афанасьевича была, конечно, его женитьба
на Марии Ивановне Косяровской.
С нею Василий Афанасьевич был знаком еще в детстве;
как соседи, они часто видели друг друга; но когда красивая
дочь помещика Косяровского, получившая впоследствии от
тетки своей Трощинской за нежный цвет лица прозвание
белянки, стала подрастать, она произвела сильное впечатле-
ние на своего романтика-соседа.
Свидетельствует П. А. Кулиш:
Василий Афанасьевич Гоголь, отец поэта, обладал даром
рассказывать занимательно, о чем бы ему ни вздумалось, и
приправлял свои рассказы врожденным малороссийским
комизмом.
Его небольшое наследственное село Васильевка или, —
как оно называется исстари, — Яновщина, сделалось цент-
ром общественности всего околотка. Гостеприимство, ум и
редкий комизм хозяина привлекали туда близких и далеких
соседей.
В соседстве села Васильевки, в селе Кибинцах, недалеко
от местечка Сорочинцы, поселился Дм. Прок. Трощинский,
гений своего рода, который из бедного казачьего мальчика
умел своими способностями и заслугами возвыситься до
степени министра юстиции. Трощинский отдыхал в сель-
ском уединении посреди близких своих домашних и земля-
ков. Отец Гоголя был с Трощинским в самых приятельских
отношениях. Оригинальный ум и редкий дар слова, каким
22
обладал сосед, были оценены вполне воспитанником вы-
сшего столичного круга.
Свидетельство П. Е. Щеголева:
Безусловно неверно сообщение Кулиша о том, что отец
Гоголя и Трощинский были в самых приятельских отноше-
ниях. Их отношения были далеко не равноправны: между
ними было слишком большое расстояние. Он — богатый и
властный человек. Мария Ивановна и Василий Афанасье-
вич — бедные родственники, которым нужно было помо-
гать материально и которые могли несколько рассеять скуку
деревенской жизни. Василий Афанасьевич принимал боль-
шое участие в управлении угодьями Трощинского.
Василий Афанасьевич действительно был родственником-слу-
гой и во многом зависел от «благодетеля», что не могло не сказа-
ться на его гордости. Будучи человеком мягким, мнительным,
немного меланхоличным, он болезненно переживал взрывы гне-
ва и признаки неудовольствия своенравного богатого родствен-
ника.
Не будучи натурой боевой, способной к протесту или
«бунту» против сильных мира сего, Василий Афанасьевич
мирился со своим положением помощника в хозяйственных
делах, мастера на все руки, которому приходилось разъез-
жать даже не «для своих удовольствий», а чтобы «доставлять
забавное времяпрепровождение» «общему благодетелю».
Василий Афанасьевич «был человек хороший, нравственный,
правдивый, но особенно практическим не был», — свидетельст-
вовала одна из его дочерей. А вот фрагменты воспоминаний Ма-
рии Ивановны о муже:
Муж мой иногда писал стихи, но ничего серьезного.
К знакомым он писал письма в стихах, более комического
характера. Он имел природный ум, любил природу и поэ-
зию.
Муж мой писал много стихов и комедий в стихах на рус-
ском и малороссийском языках, но сын мой все выпросил у
меня, надеясь напечатать. Он тогда был очень молод, и,
верно, они сожжены в Италии вместе с его рукописью, не
23
рассмотри, будучи одержим жестокою болезнью; и у меня
не осталось ничего на бумаге...
У Василия Афанасьевича был не только поэтический талант,
но и поэтический характер, поэтический темперамент: он знал,
что такое вдохновение, но еще лучше, что такое тоска. Веселье,
острословие, смех нередко кончались приступами меланхолии, от
которых он спасался снова-таки смехом. По словам А. С. Дани-
левского, это был «бесподобный рассказчик» и прирожденный
актер. Он сам писал фарсы и участвовал в их постановках в до-
машнем театре Трощинского.
П. Е. Щеголев характеризует В. А. Гоголя как «хлопотуна по
чужим делам, живого человека, поглощенного интересами по-
вседневной жизни, не чуждого книг и литературы, любопытного
или любознательного, интересующегося предметами, далекими от
его жизненного обихода». По его словам, Гоголь-отец был «боль-
шим мастером на малые дела», всегда готовым оказать услугу
ближнему и дальнему своему. В. А. Гоголь нередко выступал по-
средником между Д. П. Трощинским и многочисленными его
просителями, среди которых были многие богатые и знатные лю-
ди, стараясь всем им помочь, или, как тогда говорили, «услу-
жить».
Василий Афанасьевич был на тринадцать лет старше невесты,
и, по преданию, в первый раз увидев любимую дочь соседей Го-
голей Косяровских, воскликнул: «Это она!» Пока девочка росла,
он играл с ней в куклы, сочинял ей стихи, читал книги. Когда
Маше исполнилось тринадцать, состоялось признание в любви, а
в четырнадцать — предложение руки и сердца. По одной версии,
их тогда же и помолвили, решив подождать год до свадьбы, пока
Маша подрастет. Но ждать так долго Василий Афанасьевич не
мог: уже через месяц прискакал в Яреськи с таким пламенем в
глазах, что там сразу поняли: ждать боле нельзя. Сама Маша
вспоминала события чуть иначе:
Когда мне было четырнадцать лет, нас перевенчали в ме-
стечке Яресках; потом муж мой уехал, а я осталась у тетки,
оттого, что еще была слишком молода; потом гостила у ро-
дителей, где часто с ним виделась. Но в начале ноября он
стал просить родителей отдать меня, говоря, что не может
более жить без меня. Так вместо году я пробыла у них один
месяц. Они благословили меня и отпустили. Он меня привез
в деревню Васильевку, где встретили нас отец и мать. Они
24
приняли меня, как родную дочь. Свекровь наряжала меня по
своему вкусу и надевала на меня свои старинные вещи. Лю-
бовь ко мне мужа была неописанная; я была вполне счаст-
лива... Я никуда не выезжала, находя все счастье дома.
Из автобиографических записок М. И. Гоголь:
В деревне нашей тогда было 130 душ. Я не выезжала ни
на какие собрания и балы, находя все счастье в своем семей-
стве; мы не могли разлучаться друг с другом ни на один
день, и когда он ездил по хозяйству в поле в маленьких
дрожках, то всегда брал меня с собою. Если же случалось,
что мне надобно остаться дома, то я боялась за него; мне ка-
залось, что я не увижу его. Мы почти не разлучались до при-
езда из Петербурга Д. П. (Трощииского). Он не хотел нас от-
пускать домой, очень любил моего мужа. Там я увидела все,
чего не искала в свете: и балы, и театры, и отличное обще-
ство, приезжавшее к нему из обеих столиц; но всегда была
рада, когда могла ехать в Васильевку, где я иногда прожива-
ла одна для моей свекрови: она скучала одна, а мой муж дол-
жен был оставаться у Трощинского, служащего тогда пред-
водителем по выборам в военное время, и дворянская сумма
была на руках моего мужа. Когда он сдавал ее, то дворяне
без счету от него приняли; не мог их принудить счесть.
Жизнь моя была самая спокойная; характер у меня и у
мужа был веселый. Мы окружены были добрыми соседями.
Но иногда на меня находили мрачные мысли. Я предчувст-
вовала несчастия, верила снам. Сначала меня беспокоила
болезнь мужа. До женитьбы у него два года была лихорадка.
Потом он был здоров, но мнителен. У нас было двенадцать
детей, из которых более половины мы потеряли. Из шести
сыновей остался один старший [Н. В. Гоголь]. Потом мы
лишились всех средних детей, и потом остались только ме-
ньшие три дочери.
Конечно же, столько утрат не могли не сказаться на отноше-
нии родителей к единственному выжившему сыну, окруженному
горячей любовью и в известной мере — поклонением, сказав-
шемся на известных чертах его натуры.
Мать Гоголя, отличавшаяся религиозностью и от природы
одаренная чуткой, мягкой, поэтической душой, имела большое
влияние на сына. Она не только «внушила сыну боязнь ада, ко-
25
торая терзала его всю жизнь», но и зажгла в восприимчивой душе
впечатлительного ребенка глубокое религиозное чувство, возбу-
див в нем безотчетное стремление к добру и стремление стать
лучше, нравственнее и выше других.
В книгах наших мы ничего не найдем о глубокой религиозно-
сти семьи Гоголя, о богобоязненности отца и набожности мате-
ри, об искренной вере родителей в Предопределение и Божест-
венный промысел, о тщательном соблюдении семьей религиоз-
ных обычаев и обрядов, о частых посещениях близлежащих свя-
тых мест. Между тем Гоголя не понять вне этой глубочайшей
приверженности к религии, вне сильнейшего чувства собствен-
ной греховности и предстоящей ответственности за все содеян-
ное, вне эсхатологических настроений и томящего душу страха
перед «загробным величием» или «Страшным судом».
Тема Страшного суда как неотвратимого наказания за
грехи становится одним из лейтмотивов гоголевского твор-
чества, причем она варьируется не только в сюжетном, айв
смысловом плане, обретая разные, подчас неожиданные ин-
терпретации.
Мария Ивановна, мать Гоголя, была женщиной экзальтиро-
ванной, импульсивной, страстной. Мечтательность и буйный по-
лет фантазии порой увлекали ее в головокружительные авантю-
ры, такие, как изначально обреченные на крах хозяйственные
проекты, подрывавшие и без того тощий бюджет семьи, но го-
раздо чаще фантазии заносили ее на небеса — «так далеко, что
достать ее оттуда и образумить был способен только сын». Она
была уверена, что ее гениальный ребенок накоротке с самим ца-
рем и что сам государь вот-вот нагрянет к ней в Васильевку, да-
бы выразить свои восторги по поводу творчества сына.
Своими «странностями» Гоголь обязан не только отцу, види-
мо, страдавшему маниакально-депрессивным психозом, но и
своей матери, неврозы которой, по терминологии того времени,
именовали горячкой или «припадками»:
В доме Гоголей всякие болезни, а также отклонения от
естественного состояния назывались «припадками». Такими
припадками страдал Василий Афанасьевич, когда вдруг впа-
дал в апатию, бросал все свои дела и предавался тоске.
С Марией Ивановной тоже случались припадки, но уже
позже, когда Василия Афанасьевича не стало, когда первый
26
страшный удар судьбы — его смерть — вызвал в ней протест
против самого Бога.
Обладая завидным физическим здоровьем, Мария Ивановна
имела ажурную психику: после смерти мужа она едва не сошла с
ума и готова была наложить на себя руки, если бы не благотвор-
ное влияние ее тетки Анны Матвеевны Трощинской.
По мнению современников, мать Гоголя была дивною краса-
вицей, долго сохранявшей молодость и свежесть.
Мать Гоголя жила долго и умерла, когда ей было семьде-
сят семь лет, — внезапно от апоплексического удара. Она
редко болела и до старости не имела ни одного седого волоса.
Соседи удивлялись, когда видели ее рядом с дочерьми, — ка-
залось, она моложе их, бодрее, свежее. Молодость матери
Гоголя поразила и Аксаковых, когда они познакомились с
ней в Москве в 1840 году. Марии Ивановне было тогда сорок
восемь лет. «Она была так моложава, так хороша „собой, —
пишет Сергей Тимофеевич Аксаков, — что ее решительно
можно было назвать только старшею сестрою Гоголя».
Согласно сложившейся комтрадиции все русские гении, если
их угораздило родиться в дворянских семьях, были обязательно
«мелкопоместные» или «разорившиеся». К таковым, естественно,
был причислен и Гоголь. На самом деле он родился в семье поме-
щика, владевшего более 1000 десятин земли, свыше 400 крепост-
ными, винокуренным заводом, сукновальней, кирпичным заво-
дом, шинками, разводившего племенной скот, устраивавшего яр-
марки, прикупавшего землю, крепостных и т. д., и т. п. Бедствен-
ное положение, в котором действительно в конце концов оказа-
лась семья Гоголей, связано с падением хлебных цен, экономиче-
скими неурядицами, «тяжелыми годами», как писал сам Н. В. Го-
голь, а также с плохим ведением хозяйства Марьей Ивановной.
Свидетельствует Н. А. Трахймовский:
В Васильевке было 1000 десятин земли, и хотя эта земля
и была заложена в Опекунском совете, но составляла име-
ние, на доходы с которого нетрудно было безбедно прожить
Марье Ивановне Гоголь и семье ее, даже при необходимо-
сти содержать сына в Нежине и помогать ему во время пе-
тербургской жизни. Родственники и многочисленные сосе-
ди, посещавшие Васильевку, проводили целые дни под кро-
27
вом дома Марьи Ивановны, гуляли в прелестном тенистом
саду, катались по обширному живописному пруду, осенен-
ному старыми деревьями, пользовались широким гостепри-
имством всегда милой, любезной, веселой хозяйки. Дом Го-
голей был всегда — полная чаша; дом небольшой, но поме-
стительный, многочисленная прислуга, сытный обед, ко-
нечно, деревенский, приличные экипажи и лошади. Прав-
да, и в Васильевке, при всем обилии плодов земных, налич-
ные деньги далеко были не в изобилии, торговля продукта-
ми имения была мало развита, частный кредит был редок и
дорог, а потому, когда являлась нужда в более или менее
значительной сумме денег для уплаты в Опекунский совет
или податей, для высылки в Нежин или Петербург, то день-
ги эти доставались с трудом и помощью немалых хлопот.
Но это была участь, которую Марья Ивановна разделяла со
многими своими соседями — помещиками средней руки.
Конечно, при хорошем ведении хозяйства с 1000 десятин
можно было иметь значительные доходы, но Марья Ива-
новна не отличалась особенными хозяйственными способ-
ностями; кроме того, была крайне непрактична, бралась
легкомысленно за весьма рискованные предприятия, не
умела соразмерять своих расходов с доходами... По словам
Анны Васильевны Гоголь, ее мать весьма часто не останав-
ливалась перед покупками, отнюдь не представлявшимися
необходимыми, несмотря на недостаток наличных денег.
В то время офени-ходебщики с их коробками были частыми
и весьма приятными гостями в усадьбах малороссийских
помещиков; одно из оснований их торговли был широкий
кредит, который они открывали своим покупателям, возна-
граждая себя за терпеливое ожидание уплаты высокою про-
дажною ценою. Вот этих-то торговцев радушно принимала
Марья Ивановна, покупала у них и нужные, и ненужные ве-
щи, покупала почти всегда в долг, конечно переплачивая за
то страшно в ущерб своим материальным средствам.
Свидетельствует сама Мария Ивановна Гоголь:
Я послушала неопытных людей и завела, кожевенную
фабрику. Попавшийся нам шарлатан, австрийский поддан-
ный, уверил, что мы будем получать по 8000 рублей годо-
вого дохода на первый случай, а дальше и еще больше...
В тот год [1832] приехал сын мой и советовал нам начать с
маленького масштабу; фабрикант сказал: «зачем терять
время даром, почему не получать вместо пяти тысяч сто?»
28
Нанято было сапожников двадцать пять человек, как под-
скочил страшный голод; покупали хлеб по три рубля пуд,
а между тем фабрикант наш намочил кожи и сдал на руки
ученикам, которые ничего не знали, а сам, набравши не-
сколько сотен сапогов, поехал продавать и, пол уча деньги,
на шампанском с своими знакомыми пропил. (Мы не зна-
ли, что он имел слабость пить.) Возвратясь, он сказал, что
ездил для больших для фабрики дел, а о такой безделице
он не намерен отдавать отчета, и что он договорился с
полковником на ранцы. Тогда я его позвала и объявила,
что больше на словах не верю ничему, когда не покажет
на деле. И, так как он долго не возвращался, то кожи,
оставленные им, все испортились, и он бежал, и мы не
знали, что с теми кожами делать; и обманул еще пять по-
мещиков очень аккуратных и умных. Наконец, умер, и
столько было наделано долгов, занимая в разных руках,
что должны были заложить Васильевку, чтобы с ними рас-
платиться, на двадцать шесть лет, и платить по пятьсот
рублей серебром проценту. И винокурня уничтожена, зем-
ляная мельница уничтожена для толчения дубовой коры,
для выделки кож, и совершенно оставил нам расстроенное
имение.
Характеристика, которую дает матери Гоголя В. Набоков, не
очень лестна, но, видимо, близка к действительности:
...эта нелепая, истерическая, суеверная, сверхподозрите-
льная и все же чем-то привлекательная Мария Гоголь вну-
шила сыну боязнь ада, которая терзала его всю жизнь. Но,
пожалуй, вернее сказать, что они с сыном просто схожи по
темпераменту, и нелепая провинциальная дама, которая раз-
дражала своих друзей утверждением, что паровозы, парохо-
ды и прочие новшества изобретены ее сыном Николаем (а
самого сына приводила в неистовство, деликатно намекая,
что он сочинитель каждого только что прочитанного ею по-
шленького романчика), кажется нам, читателям Гоголя,
просто детищем его воображения. Он так ясно сознавал, ка-
кой у нее дурной литературный вкус, и так негодовал на то,
что она преувеличивает его творческие возможности, что,
став писателем, никогда не посвящал ее в свои литератур-
ные замыслы, хотя в прошлом и просил у нее сведений об
украинских обычаях и именах. Он редко с ней виделся в те
годы, когда мужал его гений. В его письмах неприятно скво-
зило холодное презрение к ее умственным способностям,
29
доверчивости, неумению вести хозяйство в имении, хотя в
угоду самодовольному, полурелигиозному укладу он посто-
янно подчеркивал свою сыновнюю преданность и покор-
ность — во всяком случае, пока был молод, облекал это в на
редкость сентиментальные и высокопарные выражения.
Уже будучи за границей, в Риме, Гоголь писал другу своему
А. С. Данилевскому:
Я получил наконец из дому два письма. Грустно мне бы-
ло читать их! Они были совершенная вывеска несчастного
положения домашних. Наконец, маменька, кажется, дохо-
зяйничалась до того, что теперь решительно, кажется, не
знает, что делать. Дела наши по деревне, кажется, так рас-
строены, как только возможно, и я никаких не имею
средств помочь... Грустно, мой милый, ужасно грустно
иметь семейство!..
За два года до смерти в апреле 1850-го Гоголь отдает распоря-
жения П. А. Плетневу:
Дела моей матери и сестер от неурожаев и голодов при-
шли в такое расстройство, и они сами очутились в такой
крайности, что я принужден собрать все, какое у меня еще
осталось имущество, и спешить сам к ним на помощь. По-
трудись взять из ломбарда последний оставшийся мой билет
на 1168 руб. серебром со всеми накопившимися в это время
(трех, кажется, лет) процентами и перешли их...
В ряде источников ошибочно указано, что Николаша был
первенцем Василия Афанасьевича и Марии Ивановны, родившей
его в пятнадцать лет. Это — ошибка: по свидетельству Г. П. Да-
нилевского, Мария Ивановна имела до Николая двух других де-
тей, из которых ни один не жил более недели или, по другим ис-
точникам, оба родились мертвыми.
Свадьба родителей Гоголя состоялась в 1805-м, а третий ребе-
нок, Н. В. Гоголь, появился на свет 20 марта 1809-го, когда его
матери исполнилось восемнадцать. Новорожденный Николай
был необыкновенно слаб и худ. По свидетельству Г. П. Данилев-
ского, родители долго опасались за его жизнь.
Будущий писатель родился в Больших Сорочинцах, что на
Миргородщине, в доме доктора Трахимовского. Нарекли его Ни-
30
колаем в честь Николая Чудотворца исцелителя, иконе которого
Мария Ивановна ездила в Диканьку молиться незадолго до ро-
дов. Тогда же родители поклялись угоднику, что если родится
сын, то нарекут его в честь святого. Через шесть недель, когда
ребенок немного окреп, доктор разрешил перевезти новорожден-
ного в родную Васильевку.
Гоголь родился на берегу реки Псел, на обрывистом его
берегу, с которого открывался вид на пойму, на мост через
реку, на дорогу, ведшую в хутора и селения бывшей гетман-
щины.
Он явился на свет здесь, в сердце Малороссии, на земле,
где гремели битвы, где гордый Кочубей враждовал с Мазе-
пою и первый гетман Левобережной Украины Даниил Апо-
стол основал свою квартиру. Дом Апостола стоял как раз
там, где в тени деревьев прятались беленые стены хаты док-
тора Трахимовского. А в полуверсте от нее высилась воз-
двигнутая Апостолом Спасо-Преображенская церковь.
В этой церкви и крестили сына Гоголей.
Человечество мало интересуется своими гениями. До сих пор
оно не знает, почему, когда, где рождаются его вестники, чем от-
личаются от окружающих, что способствует и что препятствует
их появлению на свет. Одни считают, что гениальность, как и
умопомешательство, — это болезнь, другие — что гении суть ро-
стки грядущего сверхчеловечества, с трудом прорастающие в че-
ловеческой массе, еще не вышедшей из неолита. Существует вер-
сия, согласно которой гениальность генетически обусловлена.
В Англии прослежены многие роды, плодоносящие гениев на
протяжении многих столетий. Согласно другой имеются специ-
фические болезни гениев — подагра, маниакально-депрессивный
психоз, навязчивые состояния, эпилепсия, страхи греховности и
преследования, синдромы Марфана или Морриса, другие виды
бионегативности или отклонения от нормы. Но вот никто, ка-
жется, еще не подметил удивительной закономерности связи ге-
ния с родившей его землей и с временем, эпохой.
В XVII веке крохотный уголок необъятной земли русской, ле-
жащий на юго-востоке от Нижнего Новгорода, в районе некогда
широко известного монастыря Макария Желтоводского, на про-
тяжении каких-то десяти — двадцати лет дал России Никона и
Аввакума, Неронова и Вонифатьева, архиепископа Сибирского и
Тобольского Симеона. Настоящий всплеск русского гения в XIX
веке дала благословенная земля «золотого треугольника», распо-
31
ложенного между Брянском, Новгородом и Муромом: Толстой,
Тютчев, Фет, Тургенев, Лесков, Полонский, Кольцов, Никитин,
Пришвин...
На Украине плодоносным на гениев оказался тоже небольшой
клочок земли, именуемый Слобожанщиной и давший миру Гри-
гория Сковороду, Николая Гоголя, Илью Репина, П. П. Гулака-
Артемовского, Г. Ф. Квитку-Основьяненко, М. П. Старицкого,
Н. В. Лысенко, М. М. Хераскова, В. В. Капниста, В. Л. Борови-
ковского, Е. П. Гребенку...
Я не люблю патриотов, я люблю землю, рождающую великих
людей, и горжусь не родиной, а тем, что сам родился на земле
Сковороды и Гоголя, Репина и Лысенко, Хераскова и Борови-
ковского, Гулака и Квитки... Увы, я появился на этой земле, ког-
да она уже перестала плодоносить: самые толстые в мире слои
черноземов с 1917-го стали давать самые тощие урожаи, да и ге-
нии на родимой земле отчего-то перевелись... Политая щедро
кровью, засыпанная человеческими костьми земля не желает ро-
жать ни хлеба, ни людей... Убогие урожаи, убогие люди, вырож-
дение хлебов и человеков... Выветрилась земля, исчезает человеч-
ность, пышно цветет пьянь и рвань... Это не старческое брюзжа-
ние 30-летнего автора — это констатация фактов: земля — после
всех наших непотребств — не родит более великих людей, да и
людей вообще. Родильные дома пусты, аборты, выкидыши, урод-
цы... Только на протяжении моей жизни процент дебилов и не-
полноценных увеличился на моей земле в 15—20 раз (!) Если эти
темпы роста сохранятся и если я останусь на этой земле еще лет
30, то, по статистике, вполне вероятно, что каждый второй-тре-
тий из моих сограждан будет принадлежать новой расе — вырож-
денцев. Дебил — слева, дебил — справа...
Вообще Гоголю повезло с моментом рождения: он родился в
«наиреакционнейшую» из эпох, которые парадоксальным обра-
зом богаты на гениев: так и кажется, что тираны для того только
и приходят, чтобы «задавить» эту массу. Вот только незадача:
р-р-р-реакционнейшая Россия Николая I дала миру Пушкина,
Тютчева, Лермонтова, Чаадаева, Фета, Гончарова, Тургенева, Не-
красова, Островского, Достоевского, Толстого, Салтыкова-Щед-
рина, Аксаковых, Хомякова, а кого дала р-р-р-революционная
эпоха Лениных и Сталиных? Расцвет русской литературы начал-
ся именно при «тиране» Николае I, в его «аду», как любят выра-
жаться наши, а что дал наш «рай»?..
32
УЧЕБА
Во времена Гоголя знатные семьи приглашали домой гувер-
неров, нередко иностранцев, знавших языки и имевших евро-
пейское образование, однако у Василия Афанасьевича не было
достаточных средств, чтобы нанять сыновьям — Николаю и
Ивану — хорошего учителя. Не мог он дать им и столичного
образования, как-то намекнул на такую необходимость «благо-
детелю» (Д. П. Трощинскому), но ответа не дождался. В резуль-
тате в 1818-м Никоша оказался в грязном, заплеванном, про-
винциальном Полтавском уездном училище. Это была почти
«бурса» с ее «тарабарской грамотой», малограмотными учителя-
ми, знавшими лишь одно «воспитательное средство» — розгу.
Воспитание строилось на извечном российском принципе —
страхе. Жили Николай с братом Иваном на квартире школьного
учителя Спасского.
Немытые окна, темные классы, холод в классах, холод в
глазах учителей, нехотя поднимавшихся на кафедру, чтоб
произнести очередной урок, — вот что запомнил Гоголь об
этом учении. Девятилетний мальчик, нежившийся до этого
в тепле родительского дома, он, оказавшись в чужих сте-
нах — и на квартире жили у чужих людей, — чувствовал се-
бя неуютно. Сохранившиеся до нашего времени «Дела Пол-
тавского уездного училища за 1819 год» говорят о том, что
братья Гоголи часто опаздывали на занятия, а также часто
пропускали их.
В классах редко убирали, одноглазый солдат-инвалид
появлялся с ведром и тряпкою раз в два дня. Нечисто было
под партами, в коридорах, нечисто было и в отношениях
между учениками: ябедничали, рассказывали гадости про
учителей, про девочек, которые учились в другом отделе-
нии, старшие колотили младших, отбирали у них привезен-
ные из дому гостинцы.
В Полтаве Никоша пережил первый удар судьбы — смерть
брата Ивана. По словам Г. П. Данилевского, эта смерть «до того
поразила отрока Гоголя, что были принуждены отвезти в нежин-
ский лицей, чтоб отвлечь его от могилы брата». Отец и раньше
собирался перевести сыновей в более престижное учебное заве-
дение Екатеринослава или Одессы, но после смерти младшего не
решился отправлять старшего далеко от дома. Для подготовки к
поступлению в гимназию Никошу определили к учителю Гаври-
33
илу Сорочинскому, в доме которого он жил волонтером. Осенью
1820-го Василий Афанасьевич забрал сына из Полтавы, чтобы
определить в город Нежин, где незадолго до того была открыта
новая гимназия князя Безбородко.
Говорили, что эта гимназия высших наук устроена наподобие
Царскосельского лицея и на европейский манер. Действительно,
граф А. Г. Кушелев-Безбородко, основавший лицей в провинци-
альном Нежине и подаривший ему свою библиотеку, сам был
выходцем царскосельским и поручил предприятие, почетным по-
печителем которого являлся, профессору Ивану Семеновичу Ор-
лаю, слушавшему лекции в Вене и Кенигсберге, доктору медици-
ны и философии, одно время состоявшему гофхирургом при им-
ператоре Павле.
Хотя Орлай и пытался ввести в Нежине педагогику Песталоц-
ци, хотя и подбирал учителей образованных, знавших языки,
окончивших европейские университеты, но не отказывался ни от
кнута, ни от доноса: в гимназии было историческое общество, в
котором лицеисты переводили иностранных историков, но суще-
ствовала и система тотального фискальства, здесь учительствова-
ли не только такие блестящие личности, как Н. Г. Белоусов1,
Ф. И. Зингер, Н. Ф. Соловьев или К. В. Шапалинский, но и бес-
таланные, малограмотные Никольский, Волынский, Билевич.
Впрочем, независимо от педагогических способностей и талан-
тов, всем наставникам вменялось в обязанность заниматься фи-
лерством и шмоном.
В мае 1825 года в гимназии появился профессор естест-
венного права Николай Григорьевич Белоусов. Белоусов
учился в Киевской духовной академии, которую окончил в 15
лет. Затем он поступил в Харьковский университет, считав-
шийся лучшим учебным заведением на Украине. «Харьков
называли украинскими Афинами», — писал учитель латин-
ского языка в Нежинской гимназии И. Г. Кулжинский. Осо-
бенно силен был в университете философский факультет, на
котором с 1804 по 1816 год читал лекции профессор Иоганн
Шад, рекомендованный в Харьков Гете и Шиллером.
Даже когда Белоусов стал инспектором пансиона (отде-
ления для казеннокоштных студентов, находившегося в сте-
1 Н. Г. Белоусов послужил Н. В. Гоголю прототипом первого наставника
Тентетникова из второго тома Мертвых Душ.
34
нах гимназии) и в его обязанности была включена необхо-
димость следить за своими подопечными (то есть доклады-
вать в письменной форме об их умонастроении и поступ-
ках), он с неохотою писал свои «рапорты» и «доносы», как
назывались в те времена такого рода бумаги.
«С неохотою», но «писал»: для того, чтобы в стране так эффек-
тивно функционировала ЧК, необходима была многовековая
«школа», вовлекавшая в свою позорную деятельность даже лучших
своих граждан... Малоизвестный исторический факт: знаменитый
Бенкендорф, организуя свое отделение, одному из первых предло-
жил штатное сотрудничество... Александру Сергеевичу Пушкину.
Значит, допускал согласие — зачем же иначе предлагать?..
Тот же Белоусов, сам обвиненный в вольнодумстве,'после од-
ного из доносов вынужден был устроить шмон, лично участво-
вать в обыске пансионеров и изъятии «недозволенных» сочине-
ний... Увы, история донесла до нас доносы и самого «опального»
Белоусова:
Некоторые воспитанники пансиона, скрываясь от нача-
льства, пишут стихи, не показывающие чистой нравствен-
ности, и читают их между собою, читают книги неприлич-
ные для их возраста, держат у себя сочинения Александра
Пушкина и других подобных.
Сохранились воспоминания В. И. Любича-Романовича о пер-
вом появлении Гоголя в Нежинской гимназии:
В гимназию высших наук кн. Безбородко Гоголь был
привезен родными, обходившимися с ним как-то особенно
нежно и жалостливо, точно с ребенком, страдающим какой-
то тяжкой неизлечимою болезнью. Он был не только заку-
тан в различные свитки, шубы и одеяла, но просто-напрос-
то закупорен. Когда его стали разоблачать, то долго не мог-
ли докопаться до тщедушного, крайне некрасивого и обезо-
браженного золотухою мальчика. Мы чуть ли не всей гим-
назией вышли в приемную взглянуть на него. Глаза его бы-
ли обрамлены красным, золотушным ободком, щеки и весь
нос покрыты красными же пятнами, а из ушей вытекала
каплями материя. Поэтому уши его были крайне крепко за-
вязаны пестрым, цветным платком, придававшим его дряб-
лой фигуре потешный вид.
35
Хотя, по свидетельству Г. П. Данилевского, в гимназии Гоголь
быстро оправился и «из хилого, болезненного ребенка стал силь-
ным, веселым и падким до разных потех и шалостей юношей»,
сам Гоголь позже признавался матери, сколько много обид и
оскорблений ему пришлось поначалу вынести, каким изгоем он
был. Яркий образ Акакия Акакиевича сполна выстрадан Гоголем
не только во время службы в департаменте — все началось гораз-
до раньше...
Все делало мальчика предметом насмешки и оскорбительных
кличек: хилость, болезненность, некрасивость, замкнутость, туго-
думие, неспособность к языкам, гордый норов, рассеянность,
упрямство, особенно то свойство его личности, для описания ко-
торого лучше всего подходит современный термин «нонконфор-
мизм». Он не умел и не желал под кого-либо подлаживаться, го-
ворил, что думал, высоко ценил собственное достоинство: «таин-
ственный карла», «пигалица», «мертвая мысль» разбивались о не-
го, как о скалу...
Я говорил о связи гениальности с почвой и временем. Неко-
торые полагают, что связь гениальности со временем проявляет-
ся еще в раннем созревании и плодоношении: будто все гении —
вундеркинды. На самом деле это отнюдь не так. Наряду с Рембо
и Галуа культура изобилует Анненскими и Гончаровыми. Как в
этом отношении обстояло дело у нашего героя? Хотя сведения на
сей счет противоречивы — Г. П. Данилевский свидетельствует,
что трех лет от роду Н. В. Гоголь уж сносно разбирал и писал
слова, по свидетельству будто бы самого Гоголя, приведенному в
Русском Архиве за 1902 год, он долго, до трех лет, не гово-
рил, — будущий великий писатель явно не принадлежал к племе-
ни вундеркиндов, даже просто усидчивых детей: если он чем-то
отличался от своих сверстников, то не яркими талантами и спо-
собностями, но — странностями и чудачествами, шалостями и
норовом: «Совсем незаметно, чтоб был великий человек, только
глаза быстрые, быстрые».
Если исключить страсть к рисованию, то о способностях Ни-
коши-ребенка нигде не сказано ничего хорошего.
По аттестации учителей, Николай Яновский «туп...
слаб... резов», а его брат Иван «туп, слаб и тих». В записях
за вторую половину 1819 года о способностях братьев заме-
чено, что они «средственные», а в поведении оба мальчика
«скромные».
36
Из журнала надзирателя гимназического пансиона:
Во время двух дневных дежурств замеченными были
многократно за шалость, драку, грубость, неопрятность и
непослушание: (такие-то) и Яновский (Гоголь) получили
достойное наказание за их худое поведение. 13-го декабря
(такие-то) и Яновский за дурные слова стояли в углу. Того
же числа Яновский за неопрятность стоял в углу. 19-го де-
кабря Прокоповича и Яновского за леность без обеда и в
угле, пока не выучат свои уроки. Того же числа Яновского
за упрямство и леность особенною — без чай. 20-го декабря
(такие-то) и Яновский — на хлеб и на воду во время обеда.
Того же числа Н. Яновский за то, что он занимался во вре-
мя класса священника с игрушками, был без чаю.
Исписано много бумаги о том, в каком прекрасном и передо-
вом учебном заведении получил образование Николай Василье-
вич Гоголь. Все бы хорошо, коли б не слова самого Гоголя, за-
свидетельствованные Г. Высоцким: «...признаюсь, ежели бы не
он [Н. Г. Белоусов], то у меня недостало бы терпения здесь окон-
чить курс — теперь, по крайней мере, могу твердо выдержать эту
жестокую пытку».
Похоже, пытка не прекращалась и после занятий: Никоша
был определен на квартиру к Е. Зельднеру, взявшемуся быть на-
ставником отрока. Наставник не просто допекал мальчика доно-
сами, теперь уже отправляемыми родителям, но и цензурой пере-
писки с папенькой и маменькой: «каждая фраза... просматрива-
лась и цензуровалась: вместо призывов о помощи и жалоб на бу-
маге появлялись уверения в счастливом времяпрепровождении и
хороших успехах». Впрочем, это не мешало «прорываться» и та-
ким, например, письмам:
О! естлибы Дражайшие родители приехали в нынешнем
месяце, тогда бы вы услышали что со мною делается. Мне
после каникул сделалось так грустно что всякий божий день
слезы рекой льются и сам не знаю от чего, а особливо когда
вспомню об вас, то градом так и льются.
Уже юношей, описывая царивший в гимназии застой, Гоголь
скорбел:
Не знаю, дражайшая маменька, что бы вам сказать о на-
ших происшествиях: нового у нас мало, примечательного и
37
того менее; притом мы живем теперь совершенно в глуши;
никто не посещает наш бедный Нежин, мы совершенно,
так сказать, в другом мире, старом и забытом.
Не раз и не два в жизни Гоголю довелось стать свидетелем
вседоносительства, в атмосфере которого веками жила страна, в
которой высшим грехом всегда считалось вольнодумство. Не мо-
гу не привести тексты двух сохранившихся доносов гимназиче-
ских профессоров Гоголя, которые в совокупности с множеством
других привели в конце концов к возбуждению «дела о вольно-
думстве» в Нежинской гимназии — вольнодумстве, заключаю-
щемся в том, что один из профессоров (Белоусов) читал свои
лекции по Канту, а гимназисты «представляли разные театраль-
ные пьесы». Могли ли холопы не организовать ЧК в стране, в
которой профессора лицеев писали следующее...
Старший профессор политических наук Билевич:
Сего 1827 года января 29 числа по утру на вторых часах
учения я, послышавши необыкновенный стук возле классов
в зале под аркою, зашел в оную, где нашел работающих
плотников и увидел различные театральные приуготовле-
ния, как-то: кулисы, палатки и возвышенные для сцен осо-
бые полы, посему спросил, для чего таковые производятся
работы и приготовления, на что мне работники... сказали,
что это делается для театра, на котором воспитанники пан-
сиона будут представлять разные театральные пьесы. А как
таковые театральные представления в учебных заведениях
не могут быть допущены без особого дозволения высшего
учебного начальства, то дабы мне, как члену конференции
гимназии... безвинно не ответствовать за мое о сем молча-
ние перед высшим начальством, вслучае нет от оного осо-
бенного на это позволения, почему, доводя о сем до сведе-
ния конференции, прошу увольнить меня в том случае по
сему предмету от всякой ответственности и, записав сие мое
прошение в журнал... учинить о том надлежащее определе-
ние и донести о последствии сего г.г. окружному и почетно-
му попечителям, ежели не имеется от оных на то позволе-
ние...
В другом доносе Билевич верноподцаннейше фискалил:
Равномерно необходимою обязанностью для себя по-
ставляю, как старший профессор юридических наук, ска-
38
зать, что я приметил у некоторых учеников некоторые осно-
вания вольнодумства, а сие, полагаю, может происходить от
заблуждения в основаниях права естественного, которое,
хотя и предписано здесь по системе г-на Демартина, он, г-н
младший профессор Белоусов, проходит оное естественное
право по своим запискам, следуя в основаниях философии
Канта и Шада.
Профессор русской словесности Никольский приблизительно
в то же время доносил о недозволенных чтениях воспитанников
пансиона и снова о театре, за который придется отвечать «вслу-
чае каких-либо по оному предмету востребований правительст-
ва». Самое любопытное здесь — связь гимназического театра в
забытом Богом, трудно отыскиваемом на карте Нежине с «вос-
требованием правительства»...
Стоит ли удивляться, что Гоголь всегда чувствовал себя в
Нежине «как в тюрьме», заблуждаясь лишь в том отношении,
что может освободиться от оной в Петербурге, где как раз в
это время находились в Петропавловской крепости «вольнодум-
цы»-масоны. Когда один из них, В. Л. Лукашевич, после отсид-
ки приехал в Нежин и задал друзьям вопрос: «Ну как идут на-
ши дела?» — у филерствующей профессуры не осталось больше
сомнений, что в их городе зреет антиправительственный заго-
вор...
А мы говорим: Иосиф Виссарионович...
В начале XIX века один из профессоров Нежинского лицея
Зингер читал в подлиннике Канта, другой — Ландражин — вое-
вал в армии Наполеона — почему бы им не быть немецким или
французским шпионами?..
Атмосфера взаимного доносительства и фискальства могла
привести лишь к тому, к чему всегда приводит рабство и несво-
бода — к деградации и расстройству. Свидетельствует И. А.
Сребницкий:
Этот рапорт Билевича имел роковое значение в истории
гимназии. Рапортом этим положено было начало преслову-
тому делу о неблагомеренном преподавании естественного
права и вольнодумстве проф. Белоусова, а затем и некото-
рых других профессоров. Отсюда пошли расследования,
взаимные обвинения профессоров, допросы воспитанников
39
и, в заключение всего, удаление со службы профессоров Бе-
лоусова, Шаполинского, Ландражина, Зингера, а впоследст-
вии еще и Андрущенко. От этой передряги и кутерьмы, тя-
нувшейся более трех лет, заведение пришло в полное рас-
стройство..; В разгар этой истории Гоголь оканчивал курс
гимназии высших наук.
Такими вот были всегда «высшие науки» на святой Руси...
Н. В. Гоголь — Г. И. Высоцкому:
Уединяясь совершенно от всех, не находя здесь ни одно-
го, с кем бы мог слить долговременные думы свои, кому бы
мог выверить мышления свои, я осиротел и сделался чужим
в пустом Нежине... Несколько только я разгоняю скучное
уединение чтением новых книг, для которых беру деньги,
не составляющие для меня ничего, кроме их, и выписыва-
ние их составляет одно мое занятие и одну мою корреспон-
денцию. Никогда еще экзамен не был для меня так несно-
сен, как теперь. Я совершенно весь истомлен, чуть держусь.
Не знаю, что со мною будет далее. Только я и надеюсь, что
поездкою домой обновлю немного свои силы. Как чувстви-
тельно приближение выпуска, а с ним и благодатной свобо-
ды! Не знаю, как-то на следующий год я перенесу это вре-
мя!.. Как тяжело быть зарыту вместе с созданьями низкой
неизвестности в безмолвие мертвое! Ты знаешь всех наших
существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили
корою своей земности, ничтожного самодовольствия высо-
кое назначение человека. И между этими существователями
я должен пресмыкаться... Из них не исключаются и дорогие
наставники наши.
Оценивая плоды своего собственного просвещения в гимна-
зические годы, Гоголь в Авторской исповеди писал:
Я получил в школе воспитание довольно плохое, а пото-
му и немудрено, что мысль об ученье пришла мне в зрелом
возрасте, я начал с таких первоначальных книг, что стыдил-
ся даже показывать и скрывал все свои занятия.
Вряд ли он имел возможность в детстве много читать: книги
все еще были редкостью и символом богатства. Главным воспи-
тательным средством на Руси была не книга, а розга. Правда,
библиотека Нежинской гимназии по тем временам считалась бо-
40
гатой — более двух тысяч книг, да и в усадьбе Д. П. Трощинского
юный Гоголь мог найти книги Петрарки, Тика, Аристофана,
Державина, Пушкина. Гимназисты имели право сами выписы-
вать петербургские новинки, но стоило это дорого.
Курс учения в лицее был семилетний со множеством
обязательных предметов. Гоголь почти не занимался; толь-
ко благодаря хорошей памяти и отличным способностям,
он схватывал верхушки, обрывки лекций и, подзанявшись
перед экзаменами, переходил из класса в класс; зато он
любил чтение; все свои карманные деньги... он тратил на
книги.
Н. В. Гоголь — матери:
Я утерял целые шесть лет даром; нужно удивляться, что
я в этом глупом заведении мог столько узнать еще. Кроме
неискусных преподавателей наук, 'кроме великого нераде-
ния и проч., здесь языкам совершенно не учат. Ежели я что
знаю, то этим обязан совершенно одному себе. У меня не
было других путеводителей, кроме меня самого; а можно ли
самому, без помощи других, совершенствоваться? Но вре-
мени для меня впереди много; силы и старание имею. Мои
труды, хотя я их теперь удвоил, мне не тягостны нимало;
напротив, они не другим чем мне служат, как развлечени-
ем... Я больше испытал горя и нужд, нежели вы думаете; я
нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома, показать
рассеянность, своенравие и проч., чтобы вы думали, что я
мало обтерся, что мало был прижимаем злом. Но вряд ли
кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей,
глупых, смешных притязаний, холодного презрения и проч.
Все выносил я без упреков, без роптания, никто не слыхал
моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников моего горя.
Правда, я почитаюсь загадкою для всех; никто не разгадал
меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, ка-
ким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех,
что он создан на другой лад от людей. Верите ли, что я
внутренно сам смеялся над собою вместе с вами? Здесь ме-
ня называют смиренником, идеалом кротости и терпения.
В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в дру-
гом — угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в тре-
тьем — болтлив и докучлив до чрезвычайности, у иных
умен, у других глуп. Только с настоящего моего поприща
вы узнаете настоящий мой характер.
41
Письмо это представляется мне не только образцом тончай-
шего самоанализа, но — ключом к пониманию характера Гоголя,
его «странностей», которые, не сомневаюсь, многим обязаны ат-
мосфере травли, свойственной любой «бурсе», но особенно ха-
рактерной «бурсе» российской, провинциальной, домостроев-
ской. Это мало понять разумом, это надо прочувствовать на соб-
ственной шкуре, это хорошо понимают лишь люди с ажурным
складом души, претерпевшие приблизительно то же, что претер-
пел в школе Гоголь —- не обязательно в начале XIX века...
Свидетельствует В. И. Любич-Романович:
Пытка в школе для Гоголя тянулась в продолжение всего
времени, пока он оставался в Нежине. Благодаря его не-
ряшливости, мы все брезговали подавать ему руки при
встрече в классах. Да и он сам, замечая это, не искал от нас
доброго приветствия, стараясь всегда не замечать никого из
нас. Он вечно оставался один. В конце концов мы даже пе-
рестали брать в руки и те книги в библиотеке, которые он
держал в руках, боясь заразиться какой-нибудь нечистью.
Доктора, однако, находили его вполне здоровым физиче-
ски, хотя и признавали за ним золотушный недуг. И при
этой-то болезни он еще постоянно сосал медовые пряники,
ел сладости и пил грушевый квас, который был его люби-
мым напитком. Гоголь или сам его приготовлял из моченых
лесных груш или покупал его на городском базаре у баб-
хохлушек, таких же неряшливых, как и он сам.
Таким образом, жизнь Гоголя в школе была, в сущности,
адом для него. С одной стороны, он тяготился своим «ху-
торным происхождением» однодворца, с другой — физиче-
ской неприглядностью. И над всем-то мы смеялись, и отри-
цали в нем всякое дарование и стремление к образованию,
к наукам. Гоголь понимал что наше отношение к нему, как
признак столичной кичливости детей аристократов, и пото-
му сам знать нас не хотел.
Похоже, юному Гоголю пришлось перенести слишком много
издевательств и насмешек, деформировавших его ажурную пси-
хику, заставивших так много говорить о поприще и сделавших
его писателем. В письмах к матери, признаваясь в гонениях на
него, он писал, что никогда не забудет «уроков», полученных от
многочисленных травителей. Но тут же оговаривался, что зла не
держит, так как стремится обратить зло в добро. Не школьные ли
42
годы развили в Гоголе страх преследования и подозрительность к
окружающим, всегда готовым навредить или доставить неприят-
ности?..
Биографы сообщают о муках самолюбия и ущемлении гордо-
сти юного Гоголя, но мне представляется это преувеличением: в
стране, где воспитание дворян отличается от муштровки рабов
лишь заменой палки или шпицрутена на розги, самолюбие и гор-
дость как-то отходят на второй план по сравнению со страхом и
болью от порки. А в гимназии пороли всех без разбора. Нестор
Кукольник вспоминал, что во время экзекуции Гоголь всегда
орал пронзительно и истошно — такой была его реакция на вво-
димые методы педагогики Песталоцци в их российском испол-
нении...
Судя по всему, маленького Гоголя били часто и сильно. Со-
хранилось свидетельство Н. В. Кукольника, согласно которому
одна из экзекуций кончилась больницей: то ли затмение нашло,
то ли со страху пришлось симулировав умопомешательство:
Гоголь вскрикивает так пронзительно, что все мы испу-
гались, — и сходит с ума. Подымается суматоха; Гоголя ве-
дут в больницу; Иван Семенович [директор гимназии Ор-
лай] два раза в день навещает его; его лечат; мы ходим к не-
му в больницу тайком и возвращаемся с грустью. Помешал-
ся, решительно помешался! Словом, до того искусно при-
творился, что мы все были убеждены в его помешательстве,
и когда, после двух недель удачного лечения, его выпустили
из больницы, мы долго еще поглядывали на него с сомне-
нием и опасением.
Имеется другое описание этого события, записанное В. Паш-
ковым со слов Т. Г. Пащенко:
Что же сделал Гоголь? Взбесился! Вдруг сделалась
страшная тревога во всех отделениях, — «Гоголь взбесил-
ся!» — сбежались мы и видим, что лицо у Гоголя страшно
исказилось, глаза сверкают диким блеском, волосы нато-
порщились, скрегочет зубами, пена изо рта, падает, броса-
ется и бьет мебель, — взбесился! Прибежал и флегматичный
директор Орлай, осторожно подходит к Гоголю и до-
трагивается до плеча. Гоголь схватывает стул, взмахнул
им, — Орлай уходит... Оставалось одно средство: позвать
четырех служащих при лицее инвалидов, приказали им
43
взять Гоголя и отнести в особое отделение больницы, в ко-
тором пробыл он два месяца, отлично разыгрывая там роль
бешеного.
Свидетельствует В. И. Любич-Романович:
Гоголь часто недоговаривал того, что хотел сказать, опа-
саясь, что ему не поверят и что его истина останется не
принятой. Из-за этого он получил прозвище «мертвой мыс-
ли», т. е. человека, с которым умрет все, что он создал, что
думал, ибо он никогда не изрекал ни перед кем того, что
мыслил. Скрытность эта сделала Гоголя застенчивым, мол-
чаливым. Гоголь был молчалив даже в случаях его оскорбле-
ния. — «Отвечать на оскорбление? — говорил он. — Да кто
это может сказать, что я его принял? Я считаю себя выше
всяких оскорблений, не считаю себя заслуживающим
оскорбления, а потому и не принимаю его на себя». Зам-
кнутость в нем доходила до высшей степени. Кто другой
мог бы перенести столько насмешек, сколько переносил их
от нас Гоголь? Безропотно он также переносил и все выго-
воры начальства, касавшиеся его неряшества.
Уже в гимназии проявилась «маленькая хитрость» Гоголя про-
воцировать однокашников злостью: ему страстно хотелось знать,
что они на самом деле думают о нем, а правда узнается в присту-
пах пароксизма. Похоже, это качество провоцировать скрытые
чувства он сохранил на всю жизнь. Если хотите, его творчество —
такая провокация с целью узнать правду о себе в акте эпатажа.
Н. В. Гоголь — М. П. Балабиной:
Когда я был в школе, и был юношей, я был очень само-
любив: мне хотелось смертельно знать, что обо мне говорят
и думают другие. Мне казалось, что все то, что мне говори-
ли, было не то, что обо мне думали. Я нарочно старался за-
вести ссору с моим товарищем, и тот, натурально, в сердцах
высказывал мне все то, что во мне было дурного. Мне этого
было только и нужно; я уж бывал совершенно доволен, уз-
навши все о себе.
Пройдет время, и отношение к Гоголю у соучеников изменит-
ся: все забудут и «карлу», и «пигалицу», и «мертвую мысль», но
не забудет он сам: унижения детства откладываются в самых глу-
бинах подсознания человеческого. И кто знает, не этими ли глу-
44
боко спрятанными обидами подпитывался затем сатирический
гений, не из детского ли комплекса неполноценности возникла
мания величия и те многие «странности», которыми изобилует
литература об авторе Мертвых Душ?
П. А. Кулиш:
Он — любимец своих товарищей, которых привлекала к
нему его неистощимая шутливость, но между ними немно-
гих только, и самых лучших по нравственности и способно-
стям, он избирает в товарищи своих ребяческих затей, про-
гулок и любимых бесед, и эти немногие пользовались толь-
ко в некоторой степени его доверием. Он многое от них
скрывал, по-видимому, без всякой причины, или облекал
таинственным покровом шутки... У него все перерабатыва-
лось в горниле юмора. Слово его было так метко, что това-
рищи боялись вступать с ним в саркастическое состязание.
И. П. Золотусский:
В ту весну [1825 г.] гимназия «открыла» Яновского. На
место задумчивого «карлы» явился пересмешник и комик,
острого глаза которого теперь побаивались. Он всегда мог
«изобразить», и это не забывалось, приклеивалось к тому,
кого он изображал, как и прозвище или кличка, на которые
он тоже был мастер.
Свидетельствует П. А. Кулиш:
Воротясь однажды после каникул в гимназию, Гоголь
привез на малороссийском языке комедию, которую играли
на домашнем театре Трощинского, и сделался директором
театра и актером. Кулисами служили ему классные доски, а
недостаток в костюмах дополняло воображение артистов и
публики. С этого времени театр сделался страстью Гоголя и
его товарищей* так что после предварительных опытов уче-
ники сложились и устроили себе кулисы и костюмы, копи-
руя, разумеется, по указанию Гоголя, театр, на котором
подвизался его отец: другого никто не видел. Гоголь не то-
лько дирижировал плотниками, но сам расписывал декора-
ции.
Организация Гоголем гимназического театра и успех послед-
него позволили ему раскрыться, преодолеть собственную закомп-
45
лексованность, расцвести дремавшим талантам. Учение, языки,
логические упражнения трудно давались его поэтической нату-
ре — театр позволял проявить внутренний артистизм, дать выход
талантам. Согласно многочисленным свидетельствам, играл он
замечательно, вдохновенно, приводя публику в восторг.
Т. Г. Пащенко:
Все мы думали тогда, что Гоголь поступит на сцену, по-
тому что у него был громадный сценический талант и все
данные для игры на сцене: мимика, гримировка, перемен-
ный голос и полнейшее перерождение в роли, какие он иг-
рал. Думается, что Гоголь затмил бы и знаменитых коми-
ков-артистов, если бы вступил на сцену.
К. М. Базили:
Играли мы трагедии Озерова «Эдип» и «Фингал», воде-
вили, какую-то малороссийскую пьесу, сочиненную тогда
же Гоголем1, от которой публика надрывалась со смеху. Но
удачнее всего давалась у нас комедия Фонвизина «Недо-
росль». Видал я эту пьесу и в Москве, и в Петербурге, но
сохранил всегда то убеждение, что ни одной актрисе не уда-
валась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль
шестнадцатилетний тогда Гоголь.
Даже когда отношение к нему круто изменилось, после орга-
низации в лицее театра, первой его ролью в Эдипе в Афи-
нах стала роль Креона: тот тоже был некрасив, тщеславен, са-
молюбив и одинок.
Театр преобразил Гоголя — это была его стихия, здесь он был
свой. Здесь он реализовывал себя так, как не мог реализовать в
рутине учебы и конформизме поведения.
Гоголь не только играл главные роли в гимназическом театре,
не только расписывал декорации, но определял его репертуар и
даже сам пытался писать пьесы, подражая Шиллеру. Он купил
собрание сочинений немецкого поэта и первую свою трагедию,
не обинуясь, назвал Разбойниками. С ранее несвойствен-
ным ему старанием он любовно переписывает на лучшей бумаге
и с собственными иллюстрациями Цыган, Полтаву, Бра-
1 Имеется в виду отец Н. В. Гоголя.
46
тьев-разбойников, главы Евгения Онегина. Теперь,
возвращаясь домой на каникулы, он везет для подарка папеньке
не только «себя прославившие рисунки», но и «сочинения», по-
началу тщательно, скрываемые от соучеников.
Из Авторской исповеди:
Первые мои опыты, первые упражненья в сочинениях, к
которым я получил навык в последнее время пребывания
моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном
роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также
вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется
быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмот-
ря на мой меланхолический от природы характер, на меня
часто находила охота шутить и даже надоедать другим мои-
ми шутками, хотя в самых ранних суждениях моих о людях
находили уменье замечать те особенности, которые усколь-
зают от внимания других людей, как крупные, так мелкие и
смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но
угадать человека, то есть угадать, что он должен в таких
случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа его
мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я
даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого
употребление.
В 1825-м шестнадцатилетнего гимназиста подстерег второй
удар — неожиданная смерть отца. Хотя Василий Афанасьевич бо-
лел уже несколько лет, умер он внезапно 47-летним. Рассказыва-
ет Мария Ивановна:
Муж мой болел в продолжение четырех лет, и когда по-
шла кровь горлом, он поехал в Кибинцы, чтобы посоветова-
ться с доктором. Я была тогда на последнем месяце бере-
менности и не могла ехать с ним. Ему очень не хотелось
уезжать, и, прощаясь, он сказал, что, может быть, без меня
придется умереть, но потом сам испугался и прибавил:
«Может, долго там пробуду, но постараюсь поскорее верну-
ться». Я получала от него часто письма; он все беспокоился
обо мне. Я не знала, что жизнь его была в опасности, и да-
лека была от мысли потерять его... После родов, на второй
неделе, я только начала ходить по комнате и ожидала мужа,
чтобы крестить дитя, как вместо мужа приехала жена докто-
ра, акушерка, чтобы по просьбе мужа везти меня к нему. Я
очень встревожилась и подумала, что, верно, ему очень ху-
47
до, если он меня вызывает еще больную. Мы только выеха-
ли со двора, как увидели верхового, который подал письмо
докторше; она, прочтя письмо, вспыхнула и сказала: «Вер-
немся! Василий Афанасьевич сам приедет». Когда привезли
его тело к церкви, раздался удар колокола. Только на пятый
день могли его хоронить, так как многое не было готово.
Меня не пускали к нему, пока не внесли в церковь, а то он
все был в экипаже. Мне после говорили, что я, увидя его,
начала громко говорить к нему и отвечать за него. Тетка не
оставляла меня до шести недель и детей мне не показывала.
Старшие двое учились, сын — в Нежине.
Родители Гоголя счастливо прожили вместе двадцатилетнюю
супружескую жизнь, и неожиданная смерть Василия Афанасье-
вича чуть не довела эту чувствительную, экзальтированную жен-
щину до умопомешательства. Она заговаривалась, перестала при-
нимать пищу, разговаривать с другими и видеть их.
Свидетельствует сестра Н. В. Гоголя О. В. Гоголь-Головня:
После смерти отца мать была убита горем, ничего не хо-
тела есть и довела себя до того, что ее насильно заливали
бульоном и не могли раскрыть рта — стиснуты зубы — и ей
чем-то разжимали зубы и вливали бульон. При ней тогда
были отец и мать, и ничего не могли сделать. Наконец, ее
любимая тетка Анна Матвеевна Трощинская, у которой она
воспитывалась, — она только могла повлиять. Потом она
начала поправляться.
Анна Матвеевна, дабы вдохнуть в племянницу жизнь, привела
к ней одетых в траур детей и сказала: «Ты, видно, не хочешь сви-
деться с Василием Афанасьевичем в лучшем мире? Он с ангела-
ми, а ты никогда не будешь там, он берег свое здоровье для де-
тей, а ты хочешь быть самоубийцей». Эти слова подействовали,
Мария Ивановна впервые после смерти мужа согласилась добро-
вольно выпить рюмку вина, разбавленного водой...
Колю смерть отца тоже потрясла до основания, можно ска-
зать, что она изменила его личность, сделала более сердечным,
открытым, простым. 23 апреля 1825 г. он написал матери следую-
щее письмо:
Не беспокойтесь, дражайшая маменька! Я сей удар пере-
нес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва
48
был поражен ужасно сим известием; однако ж не дал нико-
му заметить, что я был опечален. Оставшись же я наедине, я
предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посяг-
нуть на жизнь свою, но Бог удержал меня от сего; и к вече-
ру приметил я в себе только печаль, но уже не порывную,
которая наконец превратилась в легкую, едва приметную
меланхолию... я имею вас и еще не оставлен судьбою. Вы
одни теперь предмет моей привязанности; одни которые
можете утешить печального, успокоить горестного. Вам по-
свящаю всю жизнь свою... Ах, меня беспокоит больше всего
ваша горесть! Сделайте милость, уменьшите ее, сколько
возможно, так, как я уменьшил свою... Зачем я теперь не с
вами? вы бы были утешены...
В. В. Каллаш:
Известно, какой любовью и нежностью окружала Гоголя
его семья, как привольно жилось ему в родной Васильевке,
среди неусыпных попечений доброй, чуткой матери и мяг-
кого мечтателя-романтика отца. Казалось бы, все данные
налицо для того, чтобы вселить в его душу полную откро-
венность отношений, а между тем мы сплошь да рядом
встречаем проблески наивной дипломатии, к которой он
прибегает даже в самых простых случаях. То преувеличен-
ным рассказом о своих нравственных и физических страда-
ниях старается он навести родителей на мысль взять его из
скучного заключения Нежинской гимназии, прямо не вы-
сказывая своего желания, то, например, сопровождает про-
сьбу о присылке денег жалобным повествованием о том,
как пропал у него чужой ножик, и надо за этот ножик, во
избежание наказаний «со всею строгостию», немедленно за-
платить потерпевшему товарищу, и т.п.
Он рано, даже слишком рано, набил руку в литературно-
сти изложения, не без самоудовлетворения щеголяет изыс-
канной фразой, иногда прямо впадая в трескучую риторику,
и благодаря этому мы почти не находим в его письмах тех
простых детских слов, многозначительных своей безыскус-
ственностью, которые бы так естественно было слышать от
него при его возрасте. Читая поздравительное письмо к ма-
тери, по случаю ее именин, а затем обращение к ней же по-
сле только что полученного известия о смерти отца, которо-
го он несомненно любил, мы с напряжением ищем, где
кончается «фраза» и где начинается неподдельное, глубо-
кое, лишенное всяких искусственных оболочек чувство. Мы
49
знаем, что горе его непритворно, но не из слов о том, что
он «предался всей силе безумного отчаяния» и «хотел даже
посягнуть на жизнь свою...» Не менее поражают приводи-
мые в этом же письме религиозные излияния: «Благослов-
ляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источник
утешения и утоления своей горести».
Глубоко задумываешься над этим, и невольно всплывает
вопрос: был ли когда-нибудь Гоголь ребенком в полном
смысле этого слова?..
А. С. Данилевский:
Любимых игр у Гоголя в детстве не было, как впоследст-
вии не было никаких любимых физических упражнений;
например, он не любил никакого спорта, верховой езды и
проч.; до некоторой степени нравившимся ему развлечени-
ем была разве игра на бильярде.
Учился Никоша плохо: то ли артистизм, то ли нонконфор-
мизм, то ли писательский зуд препятствовали ему постигать язы-
ки и глагольные спряжения. Свидетельствует И. Г. Кулжинский:
Гоголь очень плохо учился; хотя кончил курс Нежинской
гимназии, но в ней ничему, даже правописанию русскому,
не хотел научиться; не знал языков, и так выступил на по-
прище русской литературы...
От Гоголя менее всего можно было ожидать такой изве-
стности, какою он пользуется в нашей литературе. Это была
terra rudis et inculta1. Чтоб грамматикальным образом оце-
нить познания Гоголя при выпуске из гимназии, я не оби-
нуясь могу сказать, что он тогда не знал спряжений глаго-
лов ни на одном языке.
Школа приучила его только к некоторой логической
формальности и последовательности понятий и мыслей, а
более ничем он нам не обязан. Это был талант, не узнан-
ный школою и, ежели правду сказать, не хотевший или не
умевший признаться школе. Между тогдашними наставни-
ками Гоголя были такие, которые могли бы приголубить и
прилелеять этот талант, но он никому не сказался своим на-
стоящим именем. Гоголя знали только, как ленивого, хотя,
1 Почва невозделанная и необработанная (лат.).
50
по-видимому, небездарного юношу, который не по-
трудился даже научиться русскому правописанию.
Свидетельствует Н. Ю. Артынов:
В сочинениях его по словесности бывала пропасть грам-
матических ошибок. Особенно плох был Гоголь по язы-
кам... Вообще Гоголь был самая обыкновенная посредст-
венность, и никому из нас и в голову не приходило, чтобы
он мог впоследствии прославиться на поприще русской ли-
тературы.
Гоголь принадлежал к тому типу гениев, чей талант до поры и
времени находился как бы в свертке, в скрытой потенции, выли-
ваясь изредка в неожиданных выходках, нередко отрицательного
свойства, или в гротескных, эпатирующих формах: художествен-
ная фантазия трансформировалась в талант виртуозного пере-
дразнивания, артистичность — в шутовство, ум — в иронию. Го-
голь с детства обладал удивительным умением подмечать и копи-
ровать слабости людей — качество довольно опасное для норма-
льных отношений с окружающими.
Обладая прекрасной восприимчивостью и памятью, Гоголь
учился плохо, усваивая только то, что его интересовало. Этот ар-
тистизм натуры, надо полагать, никак не способствовал развитию
душевного равновесия в годы ученичества.
Хотя после гимназии Гоголь и занимался самообразованием,
отсутствие фундамента сказывалось на протяжении всей его жиз-
ни. В одном из писем Андрея Николаевича Карамзина, сына ве-
ликого историка, есть сакраментальная фраза: «Жаль, очень
жаль, что недостает в нем образования, и еще больше жаль, что
он этого не чувствует». Письмо датировано годом смерти Пуш-
кина и относится к итальянскому периоду жизни Гоголя, встре-
тившегося с А. Н. Карамзиным во Фраскати у Репниных...
Затхлая, застойная атмосфера малороссийской глубинки лишь
еще больше распаляла богатую фантазию его артистичной нату-
ры. Много сказано о внезапных «бегствах» Гоголя, существуют
десятки гипотез о их причинах — до необходимости немедленно-
го лечения от «срамной» болезни включительно. При этом все
забывают, что его главной мечтой всегда было «убежать» от «су-
щественности жалкой», от провинциального медленного гние-
51
ния, от живого захоронения и вечного молчания никогда не ме-
няющейся страны...
Еще не кончив гимназии, он пишет Высоцкому, что мечтает
удрать за границу, повидать мир, похерить проклятый Нежин,
погибающий в ничтожности. Ганц Кюхельгартен — не то-
лько поэма о выборе пути, но прежде всего о «раздоре мечты с
существенностью», о мятежном духе, о бегстве в иные миры. Го-
голь не мог не уехать из Нежина — и не куда-нибудь, а именно в
Петербург, а оказавшись в Петербурге, не мог не попытаться по-
бежать дальше...
Его ждет Петербург, испытанье страстей соперничества,
борьбы за место под солнцем, его ждут заграница и те стра-
ны, о которых он грезил вместе со своим героем. Что с ним
будет? Выдержит ли он, одолеет? Означит ли именем своим
свой след или погибнет в пыли?
Биографы Гоголя так и не знают истинную причину, по кото-
рой он «побежал», удрал из Петербурга, едва там появившись.
Между тем накануне выезда из Нежина в Петербург он уже писал
двоюродному дяде П. П. Косяровскому:
Я еду в Петербург непременно в начале зимы, и оттуда
Бог знает, куда меня занесет; весьма может быть, что попа-
ду в чужие край, что обо мне не будет ни слуху, ни духу...
Может быть, и весьма вероятно, что в самом деле я отлучусь
и слишком далеко (это и есть мое намерение)...
Как видим, бегство было заранее запланировано... Причину
же для реализации глубоких желаний человеку сыскать нетрудно.
Соученики по гимназии еще продолжали свои игры, а «таин-
ственный карла» посвящал свободное время «глубокому обдумы-
ванию будущей должности и нового бытия в деятельном мире».
Они были великовозрастными детьми, а он дал себе слово, что
все его «силы будут порываться на то, чтобы означить жизнь од-
ним благодеянием, одной пользою отечества».
Идея «служения» уживалась в нем с верой в «необыкновенную
судьбу». Гоголь не мечтал о богатстве или карьере — только о сла-
ве, возможности показать и проявить себя. Некрасивый, нелов-
кий, болезненный, дурно образованный и воспитанный, не проя-
вивший особых талантов в гимназии, Гоголь чувствовал себя мно-
52
го выше окружавших его людей, переоценивал наличные возмож-
ности, то есть... провидел свою гениальность до ее проявлений. Он
и из Малороссии убежал, считая, что родина его не оценила.
В. И. Шенрок:
Чем притязательнее становились замыслы Гоголя, тем на
большее число лиц распространялось его критическое отно-
шение.
И. Анненский говорил, что у человека есть две сущности —
одна, которую можно видеть, осязать — она дышит, бреется,
умирает, другая — тайная, в которой действует невидимое. Го-
голь, упреждая Фрейда, и сам чувствовал эту свою сокровенную,
до поры и времени не реализованную, но врожденную сущность,
ведущую его по жизни:
Есть страсти, которых избрание не от человека. Уже ро-
дились с ними в минуту рождения его в свет, и не дано ему
сил отклониться от них... есть в них что-то вечно зовущее,
неумолкающее на всю жизнь.
Все прочили Гоголю карьеру великого артиста, но он сам уже
в гимназии, задумываясь о карьере^ мечтал просто о славе, изве-
стности, служении отечеству.
В те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а
задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все
мои сверстники думали еще об играх), мысль о писателе
мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось,
что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает
просторный круг действий, и что я сделаю даже что-то для
общего добра. Я думал, просто, что я выслужусь, и все это
доставит служба государственная... От этого страсть служить
была у меня в юности очень сильна. Она пребывала неот-
лучно в моем голове впереди всех моих дел и занятий.
Еще с самых времен прошлых, самых лет почти непони-
мания, я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь
свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя
малейшую пользу.
Исполнятся ли высокие мои начертания? или Неизвест-
ность зароет их в мрачной туче своей?
53
Во сне и наяву мне грезится Петербург и служба государ-
ству.
Я чувствовал всегда, что буду участник сильный в деле
общего добра и что без меня не обойдется.
Мне захотелось служить земле своей... Я примирился и с
писательством своим только тогда, когда почувствовал, что
на этом поприще могу также служить земле своей.
Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит
большое самопожертвование.
В России теперь на всяком шагу можно сделаться бога-
тырем. Всякое звание и место требует богатырства.
По мнению В. И. Мочульского, творчество не заполняло це-
ликом души Гоголя, ему мало было писательского успеха. У Го-
голя была утопия «служения России», неясному и неопределен-
ному «общему делу», для которого искусство оказывалось вто-
ричным. У него первичными были внеэстетические задачи, он
видел в себе прежде всего не художника, а реформатора жизни,
испытывал «теургическое беспокойство», хотел дать обществу
программу, духовное и религиозное направление. По его собст-
венным словам, ему открылись «исходы и пути», возможность
экономических преобразований без обольщения богатством. Есте-
ственно, такое «поприще» не могло не обернуться трагедией ху-
дожника, не могло не превратить жизнь непризнанного и оклеве-
танного пророка в страдание.
Н. В. Гоголь — П. П. Косяровскому:
Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят
дорогу, что не дадут возможности принесть ему [государст-
ву] малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Хо-
лодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, мо-
жет быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив свое-
го имени ни одним прекрасным делом, — быть в мире и не
означить своего существования — это было для меня ужас-
но. Я перебирал в уме все состояния, все должности в госу-
дарстве и остановился на одном. На юстиции. — Я видел,
что здесь работы будет более всего, что... здесь только буду
истинно полезен для человечества. Неправосудие, величай-
шее в свете несчастие, более всего разрывало мое сердце. Я
54
поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не уте-
рять, не сделав блага. Два года занимался я постоянно изу-
чением прав других народов и естественных, как основных
для всех, законов, теперь занимаюсь отечественными...
В эти годы эти долговременные думы свои я затаил в себе.
Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял
своих тайных помышлений, не делал ничего, что бы могло
выявить глубь души моей. — Да и кому бы я поверил и для
чего бы высказал себя, не для того ли, чтобы смеялись над
моим сумасбродством, чтобы считали пылким мечтателем,
пустым человеком? — ... Я не знаю, почему я проговорился
теперь перед вами, оттого ли, что вы, может быть, принима-
ли во мне более других участия или по связи близкого род-
ства, этого не скажу; что-то непонятное двигало пером мо-
им, какая-то невидимая сила натолкнула меня, предчувст-
вие вошло в грудь мою, что вы не почтете ничтожным меч-
тателем того, который около трех лет неуклонно держится
одной цели и которого насмешки, намеки более заставят
укрепнуть в предположенном начертании...
«Начертание», «поприще», «польза для человечества» совме-
щали в себе честолюбивые помыслы с духовной ориентацией.
Как писал А. Волынский, Гоголь, «с детства волнуемый возвы-
шенной мечтой о каком-то особенном служении людям, терзае-
мый вопросами вечности, весь в огне религиозного экстаза, с по-
следней страстью призванного процоведника взывал к чело-
веческим сердцам во имя возвышеннейших духовных интересов».
ПЕТЕРБУРГ
Так созидаются отныне
Мечтанья тихие души.
Дойдет ли звук, подобно шуму,
Взволнует ли кого-нибудь?..
Н. В. Гоголь
Существует превратное мнение, будто мы живем в тоталитар-
ной стране с октября 1917 года. Отнюдь не с этого «пламенного»
и даже не от костра Аввакума, может быть, даже не со времен
Ивана Грозного... Все знают, как связывала советского человека
«красная паспортина» или отсутствие оной у государственных
крепостных сталинской эпохи, все слыхали об ограничении сво-
боды передвижения в коммунистической России, или Китае, или
55
Вьетнаме, или Кампучии, но многие ли знают о том, что для пе-
редвижения по территории империи в пушкинские времена не-
обходимы были «подорожные» и «виды», что даже дворяне рус-
ские, прежде чем отправиться в путешествие по собственной
стране, должны были посетить полицмейстера и получить у него
разрешение на право проезда по империи и жительства в другом
городе? Многие ли знают, что в России не только границы «на
замке», но и вся страна была перегорожена шлагбаумами с дежу-
рившими около них городовыми, проверявшими эти документы?
Многие ли знают, что в больших городах существовали книги
учета передвижения собственных граждан, а столичные ведомо-
сти даже имели рубрику «Известие о приехавших в сию Столицу
и выехавших из оной...»?
Самое же удивительное во всем этом, что тюремный порядок
«движения по этапу» никогда и никем не воспринимался как
ограничение свободы. В великой русской литературе, у самых бо-
льших демократов и либертинов я не обнаружил даже слова, да-
же намека на этот позор. Русские писатели, как и русские ари-
стократы, возможно, считали «виды» и «подорожные» даже не
ограничением их свободы, а заботой государства, защитой, необ-
ходимым «порядком». Может быть, они были и правы — разбой-
ников на дорогах здесь всегда хватало... Впрочем, где следствие и
где причина? Разбойники ли от таких «порядков» или «порядки»
от разбойников?..
Выезжая из Васильевки в Петербург, справили свои «подо-
рожные» и «виды» и Гоголь с Данилевским. Не знаю, много ли
времени на то потратили, сохранилось лишь свидетельство, что,
когда Николай Васильевич «побежал» из Петербурга в Любек,
большого времени не потребовалось. Канцелярии еще работали
исправно.
Что вез с собой Гоголь в столицу? Чем собирался завоевать
ее? На дне чемодана лежала тощая тетрадь с аккуратно перепи-
санным Ганцем Кюхельгартеном да собственноручно
сшитая Книга всякой всячины, или Подручная эн-
циклопедия, составленная Н. Г. Гоголь еще не стал Го-
голем, а писательскую записную книжку уже завел — в нее впи-
сывались все сведения, могущие потребоваться при работе и ак-
куратно, в алфавитном порядке разрубрикованные — от А до Я.
Еще вез Гоголь рекомендательное письмо престарелого благо-
детеля к другу Кутузову, в котором Трощинский просил оказать
56
покровительство своему родственнику. По словам А. С. Данилев-
ского, Кутузов принял Гоголя хорошо, обласкал, пригласил часто
бывать у себя запросто, но «этим почти все и ограничилось».
...честолюбивые мечты влекли его прочь. Бабушка тоже
провожала его, и Никоша чувствовал, что больше не увидит
ее, не увидит ее морщин, добрых глаз, не услышит ласково-
певучего голоса, не посидит в ее комнатке, где ему всегда бы-
вало хорошо. Старенькая бабушка, полуслепой дедушка,
отец матери, бедный и весь в долгах, все еще занимающийся
с тяжбою со своим дальним родственником, жена его, другая
бабушка, которая тоже не помощница Марии Ивановне, —
вот кто оставался дома. На мать он тоже не надеялся, ибо
мать всегда была фантазерка, она всегда жила за спиной отца
и не умела и не могла вести мужские дела. На кого же была
надежда? На сестер? Но старшая Мария только что окончила
пансион и думала о женихах, младшие были еще слишком
малы. Уезжая, он написал письма дядюшкам — Павлу Пет-
ровичу и Петру Петровичу. Но и на дядюшек было мало на-
дежды. Один из них собирался служить в военной службе,
другой — в гражданской, и вести хозяйство вдовы им было не
с руки. Да и сладит ли маменька с дядьями, поладит ли с при-
казчиком, с управляющим, с Андреем Андреевичем1, не-
смотря на благоговение и уважение к нему? «Благодетель»
был слишком дряхл, чтобы можно было рассчитывать на не-
го. Андрей Андреевич сам собирался на долгое время в Пе-
тербург, лишь отчим Данилевского Черныш, живущий по-
близости, в Толстом, мог помочь матери, но Васильевка была
для него чужим имением, а кто сердцем отдается чужому?
Юный Гоголь рассчитывал, что Петербург встретит его с рас-
простертыми объятиями, а он встретил его холодом, изморозью,
абсолютным безразличием. К тому же Никоша простыл в дороге
и первые дни вынужден был отлеживаться в темных комнатах га-
лыбинского дома на Гороховой, где они с Данилевским сняли
квартиру, выходящую на Семеновский мост. Потом будет много
переездов — как позже у Достоевского, — пока же петербургские
восторги сменились тяжелой депрессией заброшенного и зате-
рянного в унылом, столь не похожем на мечты граде.
Впрочем, хандра длилась недолго: «покоритель столицы» верил
в свою звезду и скорую победу. Едва выздоровев, он бросился к
1 Племянник и наследник Д. П. Трощинского.
57
портным, сапожникам, парикмахерам, просадил уйму денег на из-
возчиков и театры. «Первые дни уныния сменились азартом блес-
нуть, взять свое, притвориться петербургским франтом, перед ко-
торым сами собой раскроются двери департаментов и редакций...»
Двадцатилетний художник попал как раз в тот город, ко-
торый был нужен для развития его ни на что не похожего
дарования; безработный молодой человек, дрожавший в ту-
манном Петербурге, таком отчаянно холодном и сыром по
сравнению с Украиной (с этим рогом изобилия, сыплющим
плоды на фоне безоблачной синевы), вряд ли мог чувство-
вать себя счастливым.
Нет, в Петербурге Гоголь не обрел искомого: он почувствовал
себя еще хуже, чем в Нежине: человек без средств, связей, зна-
комств, семейной теплоты. Да, был азарт, были надежды, но бы-
ло и страшное разочарование: он здесь чужой, никому не нуж-
ный, затерянный...
Первым побуждением Гоголя в Петербурге было встретиться с
Пушкиным — как равный с равным... Вот как описывает со слов
самого Гоголя эту попытку П. В. Анненков:
Тотчас по приезде в Петербург Гоголь, движимый по-
требностью видеть Пушкина, который занимал все его во-
ображение еще на школьной скамье, прямо из дома отпра-
вился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина,
тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей
квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую
и потребовал рюмку ликера. Подкрепленный им, он снова
возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой:
«дома ли хозяин?», услыхал ответ слуги: «почивают!» Было
уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил:
«Верно, всю ночь работал?» — «Как же, работал, — отвечал
слуга, — в картишки играл». Гоголь признавался, что это
был первый удар, нанесенный школьной идеализации его.
Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как
окруженного постоянно облаком вдохновения.
И. П. Золотусский:
С чем же шел Гоголь к Пушкину?
Ему нечего было показывать Пушкину, кроме «Ганца
Кюхельгартена». Итак, он шел с «Ганцем», написанным под
58
влиянием Пушкина, в подражание ему и многим другим из
тех, кого прочитал юный автор в Нежине. Счастье Гоголя,
что он не попал Пушкину под горячую руку, ибо тот вряд
ли поощрил бы его писание. Судьба, видимо, не хотела этой
преждевременной встречи и отсрочила ее.
К этому можно добавить, что А. С. Пушкин к большинству
собратьев по перу был предельно строг, порой просто беспоща-
ден. По словам А. И. Дельвига, «Пушкин всегда холодно и
надменно обращался с людьми мало ему знакомыми, не ари-
стократического круга и с талантами малоизвестными». Так что
судьба действительно оградила Гоголя: ночные «картишки»
спасли — при его мнительности и его невротизме негативная
реакция боготворимого поэта вполне могла бы лишить Россию
ее гения.
Первые месяцы в Петербурге Гоголь прошатался без дела. Не-
опытный, чуть восторженный, еще полный надежд, он ждал слу-
чая, верил, что тот уже ищет его. Но Петербург был дорогим го-
родом, деньги быстро уплывали, судьба же безмолвствовала. Хо-
тя, по мнению некоторых биографов, Гоголь стремился «послу-
жить отечеству» отнюдь не на литературном поприще, начал он
все-таки с литературы. В конце декабря его коляска остановилась
на Гороховой, а 22 февраля цензура разрешила двенадцатый но-
мер Сына отечества с несколькими строфами гоголевской
Италии. Гоголь рискнул послать Булгарину лишь отрывок из
поэмы. Боясь гласности — особенно негативной реакции крити-
ки, которая рано или поздно докатится до родной Васильевки и
огорчит близких, — он действовал крайне осмотрительно, не ста-
вя своей подписи и скрываясь даже от близких друзей. Уникаль-
ный случай: Булгарин бездарный опус опубликовал, но никакой
реакции не последовало, анонимное стихотворение просто никто
не заметил... Все надежды остались на Ганца Кюхельгар-
тена...
С Ганцем получилось еще хуже: изданный под псевдони-
мом за свой счет, он был испепелен сначала в переносном, а за-
тем и в буквальном смысле слова. Две рецензии — Северной
Пчелы и Московского Телеграфа — оказались раз-
громными:
...в Ганце Кюхельгартене столь много несообразностей,
картины часто так чудовищны и авторская смелость в поэ-
тических украшениях, в слоге и даже в стихосложении так
59
безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия
первая попытка юного таланта залежалась под спудом.
Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на Алова
не было предназначено для печати, но что важные для оно-
го автора причины побудили его переменить свое намере-
ние. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не
издавать своей идиллии.
П. А. Кулиш:
Гоголь бросился со своим слугою Якимом по книжным
лавкам, отобрал у книгопродавцев экземпляры, нанял но-
мер в гостинице (эта гостиница, по указанию Прокоповича,
находилась в Вознесенской улице, на углу, у Вознесенского
моста) и сжег все экземпляры до одного.
23 марта 1829 года скончался «благодетель» семьи Гоголей,
«знаменитый муж отечества нашего» Д. П. Трощинский. По иро-
нии судьбы человек, протежировавший Гоголю, вознесенный над
ним почти на всю длину иерархической лестницы, в историю во-
шел только благодаря «сироте», «непутевому сыну» чуть ли не со-
стоявшего у него в услужении Василия Афанасьевича Гоголя-
Яновского. Но до истории было еще далеко, а после смерти
оплакиваемого благодетеля «взоры маменьки и всей Васильевки
обращались к нему, Гоголю, к его планам завоевания Петербур-
га, которые по истечении четырех месяцев так и не продвинулись
ни на вершок».
Какой там «продвинулись»! 20 июля 1829 года появилась раз-
громная рецензия Полевого на Г а н ц а, а уже 24 июля было на-
писано знаменитое письмо Н. В. Гоголя матери, информировав-
шее бедную женщину о решении сына удрать с деньгами за гра-
ницу — знаменитое количеством вызванного им злословия в ад-
рес Гоголя и числом гипотез, объясняющих этот его «выверт».
Полагаю, здесь необходимо привести весь текст этого простран-
ного послания, достаточно важного для понимания личности мо-
его героя:
Маменька! Не знаю, какие чувства будут волновать вас
при чтении письма моего; но знаю только то, что вы не бу-
дете покойны. Говоря откровенно, кажется еще ни одного
вполне истинного утешения я не доставил вам. Простите,
редкая, великодушная мать, еще доселе недостойному вас
60
сыну... Я решился, в угодность вам больше, служить здесь
во что бы ни стало; но Богу не было этого угодно. Везде со-
вершенно я встречал одни неудачи и, что всего страннее,
там, где их вовсе нельзя было ожидать. Люди, совершенно
неспособные, без всякой протекции, легко получали то, че-
го я, с помощью своих покровителей, не мог достигнуть.
Наконец... какое ужасное наказание! Ядовитее и жесточе
его для меня ничего не было в мире. Я не могу, я не в силах
написать. Маменька, дражайшая маменька! Я не знаю, вы
один истинный друг мне. Поверите ли? и теперь, когда
мысли мои уже не тем заняты, и теперь, при напоминании,
невыразимая тоска врезывается в сердце. Одним вам я толь-
ко могу сказать... Вы знаете, что я был одарен твердостью,
даже редкою в молодом человеке... Кто бы мог ожидать от
меня подобной слабости? Но я видел ее... нет, не назову
ее... она слишком высока для всякого, не только для меня.
Я бы назвал ее ангелом, но это выражение — не кстати для
нее. — Это божество, но облеченное слегка в человеческие
страсти. — Лицо, которого поразительное блистание в одно
мгновение печатлеется в сердце; глаза, быстро пронзающие
душу; но их сияния, жгучего, проходящего насквозь всего,
не вынесет ни один из человеков. О, если бы вы посмотре-
ли на меня тогда!., правда, я умел скрывать себя от всех, но
укрылся ли от себя? Адская тоска, с возможными муками,
кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне ка-
жется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен.
Нет, это не любовь была... я по крайней мере не слыхал по-
добной любви. В порыве бешенства и ужаснейших душев-
ных терзаний, я жаждал, кипел упиться одним только взгля-
дом, только одного взгляда алкал я... Взглянуть на нее еще
раз — вот бывало одно-единственное желание, возрастав-
шее сильнее и сильнее, с невыразимою едкостью тоски.
С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние.
Все совершенно в мире было для меня тогда чуждо, жизнь и
смерть равно несносны, и душа не могла дать отчета в своих
явлениях. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя,
если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в
истерзанную душу. В умилении я признал невидимую дес-
ницу, пекущуюся о мне, и благословил так дивно назначае-
мый путь мне. Нет, это существо, которое он послал ли-
шить меня покоя, расстроить шатко созданный мир мой, не
была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею
силою своих очарований не могла произвесть таких ужас-
61
ных, невыразимых впечатлений. Это было божество, им со-
зданное, часть его же самого. Но, ради Бога, не спрашивай-
те ее имени. Она слишком высока, высока!
Итак, я решился. Но к чему, как приступить? выезд за
границу так труден, хлопот так много! Но лишь только я
принялся, все, к удивлению моему, пошло как нельзя луч-
ше; я даже легко получил пропуск. Одна остановка была на-
конец за деньгами. Здесь уже было я совсем отчаялся; но
вдруг получаю следуемые в Опекунский совет. Я сейчас от-
правился туда и узнал, сколько они могут нам дать про-
срочки на уплату процентов; узнал, что просрочка длится на
четыре месяца после сроку, с платою до пяти рублей от ты-
сячи в каждый месяц штрафу. Стало быть, до самого ноября
месяца будут ждать. Поступок решительный, безрассудный;
но что же было мне делать?.. Все деньги, следуемые в опе-
кунский совет, оставил я себе и теперь могу решительно
сказать: больше от вас не потребую. Одни труды мои и соб-
ственное прилежание будут награждать меня. Что же касает-
ся до того, как вознаградить эту сумму, как внести ее спол-
на, вы имеете полное право данною и прилагаемою мною
при сем доверенностью продать следуемое мне имение,
часть или все, заложить его, подарить и проч., и проч. Во
всем оно зависит от вас совершенно. Не огорчайтесь, до-
брая, несравненная маменька! Этот перелом для меня необ-
ходим. Это училище непременно образует меня: я имею дур-
ной характер, испорченный и избалованный нрав (в этом
признаюсь я от чистого сердца); лень и безжизненное для
меня здесь пребывание непременно упрочили бы мне их на-
век. Нет, мне нужно переделать себя, переродиться, оживи-
ться новою жизнью, расцвесть силою души в вечном труде и
деятельности, и если я не могу быть счастлив (нет, я никогда
не буду счастлив для себя: это божественное существо вы-
рвало покой из груди моей и удалилось от меня), по крайней
мере всю жизнь посвящу для счастия и блага себе подобных.
Но не ужасайтесь разлуки, я недалеко поеду: путь мой
теперь лежит в Любек. Это большой приморский город Гер-
мании, известный торговыми своими сношениями всему
миру, — расстояние от Петербурга на четыре дня езды. Я
еду на пароходе и потому времени употреблю еще менее.
Прошу вас покорнейше, если случатся деньги когда-ни-
будь, выслать Данилевскому сто рублей. Я у него взял шубу
на дорогу себе, также несколько белья, чтобы не нуждаться
в чем.
62
Романтическая история, выдуманная Гоголем для объяснения
своего отъезда, свидетельствует о его проницательности: он вы-
брал повод, который был близок экзальтированной натуре мате-
ри и который мог смягчить ее гнев. Набоков, также целиком вос-
производящий это письмо в своем Гоголе, сравнивает его с
мотком шерсти, чьи разноцветные нити будут потом вплетены в
последующие высказывания Гоголя.
...какой бы ни была его любовная жизнь (насколько из-
вестно, в зрелые годы он выказывал полное равнодушие к
женскому полу), ясно, что намеки на «возвышенное созда-
ние», на языческую богиню, — образчик витиеватого и бес-
совестного вымысла... автора можно заподозрить в том, что
он просто переписал кусок из какой-то повестушки, кото-
рую сочинил в подражание сладкоречивой беллетристике
своего времени.
Понимая, что отвращение к конторской работе не пока-
жется матери убедительным доводом и она, как всякая про-
винциальная дама той поры, уважает «коллежского асессо-
ра» меньше, чем «коллежского советника» (звания в китай-
ской иерархии тогдашней России), он выдумал более ро-
мантическое объяснение своего бегства. И намекнул (наме-
ка этого его мать не поняла), что предмет его страсти — де-
вица высокородная, быть может, даже дочь действительного
статского советника.
Быть может, самое интересное в этом письме — довод, к
которому Гоголь будет судорожно прибегать на каждом ре-
шающем этапе своей литературной жизни: для того, чтобы
«в тиши одиночества» совершить нечто важное для блага
«себе подобных», которых в реальной жизни он так чуж-
дался, ему необходима обстановка чужой страны, любой
чужой страны.
Существует множество комментариев этого сумасбродного
письма Гоголя. Вот некоторые из них.
В. И. Шенрок:
Ссылаясь на пламенную страсть к какой-то неизвестной
особе, как на причину своей странной поездки, Гоголь, по
всей вероятности, лукавил: ни Данилевский, ни другие то-
варищи не видели в нем никаких следов романтических
63
увлечений и вообще никакой нравственной перемены. Ни-
когда и впоследствии никому не обмолвился Гоголь об этой
страсти, существовавшей в его воображении. Правда, Го-
голь был весьма скрытен по природе, но сколько ни припо-
минал А. С. Данилевский, — все его душевное состояние и
самое поведение в то время нисколько не подтверждали это
невероятное сообщение.
Н. С. Тихонравов:
Сожжение «Ганца Кюхельгартена», очевидно, соверши-
лось после рецензии «Северной Пчелы», т. е. после 20
июля. Оно совпадает по времени с внезапным решением
Гоголя ехать за границу, — решением, о котором он уведо-
мил свою мать 24 июля. Одною из главных причин (если
не главною) этой решимости был холодный прием, оказан-
ный «Ганцу Кюхельгартену».
В. Я. Ломиковский:
А. А. Трощинский заплатил в банк весь долг, лежавший
на Марье Ивановне под залог всего имения. Марья Ива-
новна весьма ошиблась заключениями своими о гениаль-
ном муже, сыне ее Никоше; он был выпущен из нежинско-
го училища, нигде не хотел служить, как в одном из мини-
стерств, и отправился в столицу с великими намерениями и
вообще с общеполезными предприятиями: во-первых,
сообщить матушке не менее 6000 р. денег, кои он имеет
получить за свои трагедии; во-вторых, — исходатайствовать
Малороссии увольнение от всех податей. Таковые способ-
ности восхищали матушку, и она находит любимый разго-
вор свой рассказами о необыкновенных дарованиях Нико-
ши. Едва Никоша прибыл в столицу, как начал просить у
матушки денег, коих она переслала выше состояния; нако-
нец, она, думаю, не без помощи А. А., собрала 1800 р. для
заплаты процентов в банк; для исполнения сего вернее че-
ловека не могла найти матушка, как сына своего, и тем
вернее было сие, что сыново же имение находится под за-
логом. Гений Никоша, получив такой куш, зело возрадо-
вался и поехал с сими деньгами вояжировать за границу,
но, увидевши границу, издержал все деньги и возвратился
опять в столицу. Но чтобы матушка не была в убытке, то
он дал ей письменное позволение пользоваться его дохода-
ми с имения, а в том имении ныне оказалось великое изо-
64
билие в снеговых слоях и глыбах. А. А., будучи еще в Ки-
бинцах, узнав о таковых подвигах Никоши, сказал: «Мерза-
вец! Не будет с него добра!» И пошло бы имение в публич-
ную продажу с пятью дочками, но теперь, как сказано вы-
ше, долг заплачен.
По мнению И. Д. Ермакова, пытавшегося «реставрировать»
личность Гоголя по его поступкам, бегство из Петербурга было
импульсивным актом психически неуравновешенного человека,
испытывавшего состояние глубокой депрессии. Гоголь убегал
«больным», а возвратился «здоровым», после спада начался
подъем. Вечера писались Гоголем на пике здоровья. И вооб-
ще, все творчество Гоголя, приходящееся главным образом на
1830—1836 гг., — результат огромного подъема, за которым по-
следовал столь же великий спад и угасание творческой активно-
сти.
Что до Марии Ивановны, то, получив от сына ужасное, непо-
нятное, можно сказать, убийственное письмо, она решила, что
Никоша заразился дурной болезнью и бежал за границу для из-
лечения от нее. Свидетельство тому — письмо самого Гоголя ма-
тери:
С ужасом читал я письмо ваше, пущенное шестого сен-
тября. Я всего ожидал от вас: заслуженных упреков, кото-
рые еще для меня слишком милостивы, справедливого не-
годования и всего, что только мог вызвать на меня безрас-
судный поступок мой; но этого я никогда не мог ожидать.
Как вы могли, маменька, подумать даже, что я — добыча
разврата, что нахожусь на последней ступени унижения че-
ловечества! наконец решились приписать мне болезнь, при
мысли о которой всегда трепетали от ужаса даже самые
мысли мои! Как вы могли подумать, чтобы сын таких анге-
лов-родителей мог быть чудовищем, в котором не осталось
ни одной черты добродетели! Нет, этого не может быть в
природе. Вот вам мое признание: одни только гордые по-
мыслы юности, проистекавшие, однако ж, из чистого ис-
точника, из одного только пламенного желания быть полез-
ным, не будучи умеряемы благоразумием, завлекли меня
слишком далеко. Но я готов дать ответ перед лицом Бога,
если я учинил хоть один развратный подвиг, и нравствен-
ность моя здесь была несравненно чище, нежели в бытность
мою в заведении и дома. Что же касается до пьянства, я ни-
когда не имел этой привычки. Дома я пил еще вино; здесь
65
же не помню, чтобы употреблял его когда-либо. Но я не
могу никаким образом понять, из чего вы заключили, что я
должен болен быть непременно этою болезнью. В письме
моем я ничего, кажется, не сказал такого, что бы могло
именно означать эту самую болезнь.
На самом деле основания подозревать сына у Марии Иванов-
ны были: в своем письме ей из Любека от 13 августа 1829 года
Гоголь писал:
Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины, за-
ставившей меня именно ехать в Любек. Во все почти время
весны и лета в Петербурге я был болен; теперь хотя и здо-
ров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая
сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи, что у
меня кровь крепко испорчена, что мне нужно было прини-
мать кровоочистительный декокт, и присудили пользовать-
ся водами в Травемунде, в небольшом городке, в восемнад-
цати верстах от Любека.
Завершу таинственную историю с бегством Гоголя из Петер-
бурга в Любек его собственным объяснением, данным много лет
спустя в Авторской исповеди, где, естественно, полно-
стью забыты обе причины, приведенные в письмах к матери в
пору юности:
Проект и цель моего путешествия были очень неясны. Я
знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться
чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться, точно как
бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне Рос-
сии и добуду любовь к ней вдали от нее. Едва только я очу-
тился в море, на чужом корабле, среди чужих людей (паро-
ход был аглицкий, и на нем ни души русской), мне стало
грустно; мне сделалось так жалко друзей и товарищей моего
детства, которых я оставил и которых я всегда любил, что,
прежде чем вступить на твердую землю, я уже подумал о
возврате.
И все же в истории бегства Гоголя из Петербурга осталось
много непроясненного. Была ли таинственная ОНА, о которой
он писал матери, чистым плодом фантазии, символом мечты,
чем-то вроде соловьевской Софии, или реально существующей
женщиной, вызвавшей временное умопомрачение? Или стреми-
тельное бегство действительно вызвано отчаянием, бессилием
66
посрамления, в которых он никому не мог сознаться? Хотел ли
Гоголь уподобиться своему романтическому герою, скрыться от
первых неудач, просто пуститься в немотивированную авантюру
или убежать от необходимости, рутины, жизненной колеи?
П. Кулиш считал, что женщина существовала, что Гоголь бе-
жал от нее, от безответной любви или от любви вообще, как
убегали от любимых многие гении, скажем, почти одновремен-
но с Гоголем — Киркегор.
Позже Гоголь обмолвился в письме к Данилевскому,
что у него были «два случая», которые ставили его на
край пропасти, но судьба отводила от него роковое ис-
пытание. Но и сии «два случая» могли быть плодом его
фантазии. Он мог выдумать и ЕЕ, и свою любовь к ней,
ибо мечтатели не приближаются к предмету своих возды-
ханий — они вздыхают издали, и предмет даже не подо-
зревает об их чувствах.
По мнению г-жи Чернецкой, Гоголь бежал от своей безрас-
судной любви к А. О. Россет, но эта версия ни на чем не осно-
вана: вряд ли тогда он был вообще знаком с фрейлиной.
П. А. Кулиш:
Гоголь, перед отъездом за границу, квартировал с Н. Я.
Прокоповичем. Они не вели в отсутствие Гоголя перепис-
ки, и Прокопович воображал его странствующим бог зна-
ет где. Каково же было его удивление, когда, возвращаясь
однажды вечером (22 сентября) от знакомого, он встретил
Якима, идущего с салфеткою к булочнику, и узнал, что у
них «есть гости»! Когда он вошел в комнату, Гоголь сидел,
облокотясь на стол и закрыв лицо руками. Расспраши-
вать, как и что, было бы напрасно, и таким образом об-
стоятельства, сопровождавшие фантастическое путешест-
вие, как и многое в жизни Гоголя, остались для него тай-
ною.
В. И. Шенрок:
По свидетельству А. С. Данилевского, во время своей
первой заграничной поездки Гоголь накупил множество
разных небольших, но чрезвычайно изящных красивых
вещей, которые особенно пришлись ему по вкусу.
67
СЛУЖБА В ДЕПАРТАМЕНТЕ
Сегодня утром впервые после
долгого перерыва снова радость
при представлении о поворачивае-
мом в моем сердце ноже.
Ф. Кафка
Есть какая-то сокровенная связь между творчеством и
чиновничеством трех столь похожих и столь неповторимых гени-
ев — Гофмана, Гоголя и Кафки. Все трое жутко тяготились лям-
кой «службы», все трое познали трагедию раздваивания, разлада
между действительностью и мечтой, все трое превратили отчая-
ние и мизерность «столоначальствования» в материал для искус-
ства — кот Мурр, Акакий Акакиевич, Процесс...
Маменька страстно хотела видеть своего гения генералом, ве-
рила, что непутевый Никоша благодаря талантам необыкновен-
ным возвысится над другими, станет хозяином жизни.
После первых литературных неудач и нелепого бегства Гоголю
ничего не остается, как «карабкаться»: в конце 1829-го он посту-
пает в «гражданскую его императорского величества службу»,
именно — в Департамент государственного хозяйства и публич-
ных зданий, его «употребляют на испытание».
Но из этого «употребления» ничего не вышло. После трех
месяцев скучного переписывания бумаг Гоголь, ссылаясь на
«долговременную отлучку», требует свой аттестат обратно.
Не имея ни призвания, ни охоты к службе, Гоголь тяго-
тился ею, скучал и потому часто пропускал служебные дни,
в которые он занимался на квартире литературою. Вот после
двух-трех дней пропуска является он в департамент, и секре-
тарь или начальник отделения делают ему замечание: «Так
служить нельзя, Николай Васильевич, службой надо занима-
ться серьезно». Гоголь вынимает из кармана загодя приго-
товленное на высочайшее имя прошение об увольнении от
службы и подает. Увольняется и определяется несколько раз.
В Департаменте уделов [куда он поступил в 1830-м] Го-
голь был плохим чиновником и, по собственным словам,
извлек из службы в этом учреждении только разве ту поль-
зу, что научился сшивать бумагу.
68
Служба писцом тяготит Гоголя, он то бросает ее, то вновь
«имеет желание служить под лестным начальством Вашего Пре-
восходительства» и «приемлет смелость всепокорнейше просить
об определении меня...», он даже дослуживается до «помощника
столоначальника» с окладом 750 рублей в год, но...
Н. В. Гоголь — матери:
Теперь моим местом я, можно сказать, обязан своим соб-
ственным трудам, и теперь, признаюсь, я в ужасном недо-
умении; сам не знаю, что начать, к чему обратиться, что де-
лать мне. Часто приходит мне на мысль все бросить и ехать
из Петербурга; но в то же время вдруг представятся мне все
выгоды по службе и по всему, чего я лишусь, удалившись
отсюда. Взявши свое место в сравнении с местами, которые
занимают другие, я тотчас вижу, что занимаемое мною есть
еще не самое худшее, что многие, весьма даже многие захо-
тели бы иметь его, что мне только стоит удвоить количество
терпения, и я могу надеяться получить повышение; но зато
эти многие получают достаточное количество для своего со-
держания из дому, а мне должно жить одним жалованьем.
Теперь посудите сами, сокративши все возможные издерж-
ки, выключая только самых необходимейших для продолже-
ния жизни, никого никогда у себя не принимая, не выходя
почти ни на какие увеселения и спектакли, отказавшись от
любимого моего развлечения — от театра, и за всем тем я
никаким образом не могу издерживать менее ста рублей в
месяц: сумма, с которою бы никто из молодых людей не ре-
шился жить в Петербурге. Сюда я не включаю денег, следу-
ющих на платье, на сапоги, на шляпу, перчатки, шейные
платки и тому подобное, чего наберется не менее, как на пя-
тьсот рублей. Теперь вообразите: жалованья я не получаю и
пятисот рублей. Если присовокупить к сему и получаемое
мною иногда от журналистов, то всего выйдет шестьсот;
шутка ли? это мне, выходит, и станет все на одно только
платье, сапоги, шляпу и вообще касающееся до одеяния. Где
же теперь мне взять сто рублей в месяц каждый на свое со-
держание? Занявшись же службой так, как следует, я не в
состоянии буду заниматься посторонними делами. Хорошо,
что я еще имел все это время такого рода благодетеля, как
Андрей Андреевич. До сих пор я жил одним его воспомоще-
ствованием. Доказательством моей бережливости служит то,
что я еще до сих пор хожу в том самом платье, которое я сде-
лал по приезде своем в Петербург из дому, и потому вы мо-
69
жете судить, что фрак мой, в которое я хожу повседневно,
должен быть довольно ветх и **сте£>сд также не мало, между
тем как до сих пор я не в состоянии был сделать нового, не
только фрака, но даже теплого плацщ, необходимого для зи-
мы. Хорошо еще, я немного привык к морозу и отхватал всю
зиму в летней шинели. Деньги, которое я выпрашивал у Ан-
дрея Андреевича, никогда не мог употребить на платье, по-
тому что они все выходили на содержание, а много я про-
сить не осмеливался, потому что заметил, что я становлюсь
ему в тягость. Он мне несколько раз уже говорил, что помо-
гает мне до того времени только, пока вы поправитесь не-
много состоянием, что у него есть семейство, что его дела
также не всегда в хорошем состоянии. И вы не поверите, че-
го мне стоит теперь заикаться ему о своих нуждах. Теперь,
вдобавку, он располагает ехать в мае месяце совсем из Пе-
тербурга. Что мне делать в таком случае? Теперь остается
мне спросить вас, маменька: в состоянии ли вы выдавать
мне в месяц каждый по сто рублей?
Нельзя сказать, что Гоголь, столь много размышлявший о
«поприще», искренне желавший «послужить» и «проявить себя»,
не пытался — видимо, через силу — преодолеть отвращение к де-
партаменту, побороть «я» художника старанием, усердием и по-
виновением чиновника.
Стало быть, вы спросите, теперь никаких нет выгод слу-
жить? Напротив, они есть, особенно для того, кто имеет ум,
знающий извлечь из этого пользу... этот ум должен иметь
железную волю и терпение, покамест не достигнет своего
предназначения, должен не содрогнуться крутой, длин-
ной, — почти до бесконечности и скользкой лестницы...
должен отвергнуть желание раннего блеска, даже прене-
бречь часто восклицанием света: «Какой прекрасный моло-
дой человек! как он мил, как занимателен в обществе!»
Но художнику не дано стать чиновником: его служебный по-
толок — «помощник столоначальника», коим Гоголь «помещен»
10 июля 1830 года...
Еще недавно взял у Андрея Андреевича сто пятьдесят
рублей на обмундировку. Думал, что останется что-нибудь в
присоединение к моему содержанию; напротив, еще должен
прибавить. Жалованья получаю сущую безделицу. Весь мой
доход состоит в том, что иногда напишу или переведу ка-
70
кую-нибудь статейку для г.г. журналистов, и потому вы не
сердитесь, моя великодушная маменька, если я вас часто
беспокою просьбою доставлять мне сведения о Малороссии
или что-либо подобное. Это составляет мой хлеб. Я и теперь
попрошу вас собрать несколько таковых сведений, если где-
либо услышите какой забавный анекдот между мужиками в
нашем селе, или в другом каком, или между помещиками.
Сделайте милость, описуйте для меня также нравы, обычаи,
поверья. Да расспросите про старину хоть у Анны Матвеев-
ны или Агафьи Матвеевны1: какие платья были в их время у
сотников, их жен, у тысячников, у них самих, какие материи
были известны в их время, и все с подробнейшею подробно-
стью; какие анекдоты и истории случались в их время смеш-
ные, забавные, печальные, ужасные. Не пренебрегайте ни-
чем, все имеет для меня цену. В столице нельзя пропасть с
голоду имеющему хотя скудный от Бога талант.
Мы убеждаемся, Гоголь просит не только деньги — в поисках
«поприща» он, человек порыва, настроения, первого побужде-
ния, тем не менее не хочет упустить ни одной возможности: от-
сюда — чиновничество, журналистика, театр, поэзия, педагоги-
ка... Он уже пережил в Петербурге несколько крупных ударов су-
дьбы: шок неудачи с Ганцем, шок побега за границу, шок про-
вала пробы в театре, вот-вот он предвидит провал работы в де-
партаменте — и вот уже одна за другой летят в Васильевку депе-
ши с уникальными для мира искусства просьбами «поставлять
материал», сырье для грядущих гениальных творений. Вот-вот
рухнет чиновник и появится Рудый Панько....
Ф. В. Булгарин:
В конце 1829 или 1830 г., хорошо не помню, один из на-
ших журналистов [сам Булгарин] сидел утром за литератур-
ною работою, когда вдруг зазвенел в передней колокольчик и
в комнату вошел молодой человек, белокурый, низкого рос-
та, расшаркался и подал журналисту бумагу. Журналист, по-
просив посетителя присесть, стал читать поданную ему бума-
гу,—это были похвальные стихи, в которых журнали-
ста сравнивали с Вальтер Скоттом, Адиссоном и т. д. Разуме-
ется, что журналист поблагодарил посетителя, автора стихов,
за лестное об нем мнение и спросил, чем он может ему слу-
жить. Туг посетитель рассказал, что он прибыл в столицу из
1 Тетки Н. В. Гоголя.
71
учебного заведения искать места и не знает, к кому обратить-
ся с просьбою. Журналист просил посетителя прийти через
два дня, обещая в это время похлопотать у людей, которые
могут определять на места. Журналист в тот же день пошел к
М. Я. фон Фоку, управляющему III Отделением собств. кан-
целярии его имп. величества, рассказал о несчастном поло-
жении молодого человека и усердно просил спасти его и
пристроить к месту, потому что молодой человек оказался
близким к отчаянию. М. Я. фон Фок охотно согласился по-
мочь приезжему из провинции и дал место Гоголю в канце-
лярии III Отделения. Не помню, сколько времени прослужил
Гоголь в этой канцелярии, в которую он являлся только за
получением жалованья; но знаю, что какой-то приятель Го-
голя принес в канцелярию просьбу об отставке и взял обрат-
но его бумагу. Сам же Гоголь исчез куда неизвестно!
П. А. Кулиш:
Не снискав известности на поприще литературном, Го-
голь обратился к театру. Успехи его на гимназической сцене
внушали ему надежду, что здесь он будет в своей стихии. Он
изъявил желание вступить в число актеров и подвергнуться
испытанию. Неизвестно, какую роль должен был он играть
на пробном представлении, только игру его забраковали на-
чисто, и я не знаю, приписать ли это робости молодого че-
ловека, не видавшего света. Как бы то ни было, но Гоголь
должен был отказаться от театра после первой неудачной
репетиции.
Секретарь при директоре театров Н. П. Мундт позже вспоми-
нал:
...Гоголь читал просто, без всякой декламации, но как
чтение это происходило в присутствии некоторых артистов,
и Гоголь, не зная на память ни одной тирады, читал по тет-
радке, то сильно сконфузился и, действительно, читал роб-
ко, вяло и с беспрестанными остановками. Разумеется, та-
кое чтение не понравилось и не могло нравиться Храповиц-
кому, истому поклоннику всякого рода завываний и драма-
тической икоты.
Гоголь, вероятно, сам чувствовал неуспех своего испыта-
ния и не являлся за ответом; тем дело и кончилось.
72
Неудачная проба Гоголя на сцене по меньшей мере представ-
ляется странной. Все знавшие его сходятся в высочайшей оценке
артистического дара как до, так и после провала у Храповицкого.
Даже великий Щепкин дал ему блистательную характеристику
как актеру. Поэтому фиаско на поприще артистическом имеет
единственное объяснение: перст судьбы. Можно привести десят-
ки и десятки восторженных отзывов о даре Гоголя-чтеца. Здесь
мне придется ограничиться наиболее характерными.
Читал Гоголь так превосходно, с такой неподражаемой
интонацией, переливами голоса и мимикой, что слушатели
приходили в восторг, не выдерживали и прерывали чтение
различными восклицаниями. Кончил Гоголь и свистнул...
Восторженный Щепкин сказал так: «Подобного комика не
видал и не увижу!» Потом, обращаясь к дочерям, которые
готовились поступить на сцену, прибавил: «Вот для вас вы-
сокий образец художника, вот у кого учитесь!»
Когда Гоголь бывал в ударе, а это случалось часто до отъ-
езда его за границу, он нас много смешил. К каждому слову,
к каждой фразе у него находилось множество комических
вариаций, от которых можно было помереть со смеху. Осо-
бенно любил он перевирать, конечно, в шутку, газетные
объявления. Шутил он всегда с серьезным лицом, отчего
юмор его производил еще более неотразимое впечатление.
Когда Гоголь читал или рассказывал, он вызывал в слу-
шателях неудержимый смех, в буквальном смысле слова
смешил до упаду. Слушатели задыхались, корчились, полза-
ли на четвереньках в припадке истерического хохота. Люби-
мый род его рассказов в то время были скабрезные анекдо-
ты, причем рассказы эти отличались не столько эротиче-
скою чувствительностью, сколько комизмом во вкусе Рабле.
Это было малороссийское сало, посыпанное крупною ари-
стофановскою солью.
Гоголь читал неподражаемо. Между современными лите-
раторами лучшими чтецами своих произведений считаются
Островский и Писемский: Островский читает без всяких
драматических эффектов, с величайшей простотою, прида-
вая между тем должный оттенок каждому лицу; Писемский
читает, как актер, — он, так сказать, разыгрывает свою пье-
су в чтении... В чтении Гоголя было что-то среднее между
двумя этими манерами чтений. Он читал драматичнее Ост-
73
ровского и с гораздо большей простотою, чем Писемский...
Когда он окончил чтение первой главы [«Мертвых душ»] и
остановился, несколько утомленный, обведя глазами своих
слушателей, его авторское самолюбие должно было удовлет-
вориться вполне... На лицах всех ясно выражалось глубокое
впечатление, произведенное его чтением. Все были потря-
сены и удивлены... Дамы восторгались, ахали, рассыпались в
восклицаниях. Гоголь еще более вырос после этого чтения в
глазах всех...
Обаяние чтения было настолько сильно, что когда, бы-
вало, Гоголь, закрыв книгу, вскочит с места и начнет бегать
из угла в угол, — очарованные слушатели его остаются все
еще неподвижными, боясь перевести дух...
Кстати, чтение потрясло и самого Гоголя. Свидетельствует
Д. М. Погодин:
Как на чрезвычайно нервного человека, чтение глубоко
продуманных и прочувствованных им очерков производило
на Гоголя потрясающее впечатление, и он или незаметно
куда-то скрывался, или сидел, опустив голову, как бы отре-
шаясь от всего окружающего...
Свидетельствует И. С. Тургенев:
Я слушал его тогда в первый — и в последний раз. Гоголь
поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью ма-
неры, какой-то важной и в то же время наивной искренно-
стью, которой словно и дела нет, есть ли тут слушатели, и что
они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как
бы вникнуть в предмет, для него самый новый, и как бы вер-
нее передать собственное впечатление. Эффект выходил нео-
бычайный, особенно в комических, юмористических местах;
не было возможности не смеяться — хорошим, здоровым
смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смуща-
ясь общей веселостью и как бы внутренно дивясь ей, все бег
лее и более погружаться в самое дело, и лишь изредка, на гу-
бах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка ма-
стера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь
произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в
самом начале пьесы): «Пришли, понюхали и пошли прочь».
Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объясне-
ния такого удивительного происшествия. Я только тут по-
74
нял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием
только поскорей насмешить обыкновенно разыгрывается на
сцене «Ревизор». Я сидел, погруженный в радостное умиле-
ние: это был для меня настоящий пир и праздник.
Гоголь сам прекрасно сознавал фальшь исполнения его пьесы
и даже несколько раз собирал у себя актеров для читок и автор-
ски-режиссерских наставлений.
Гоголь любил читать не только собственные произведения.
По свидетельству А. Т. Тарасенкова, даже при чтении чужих про-
изведений он «умел с непостижимым искусством придавать вес и
надлежащее значение каждому слову, так что ни одно из них не
пропадало для слушающих». Известно, что В. А. Жуковскому
«никогда так не нравились его собственные стихи, как после
прочтения их Гоголем».
В конце 1830 г. депрессия Гоголя, в которой он пребывал по-
сле всех неудач, пошла на убыль, изменился тон писем в Василь-
евку, полетели просьбы о «поставке материалов» с малороссий-
ским колоритом.
Мне верится, что Бог особенное имеет над нами попече-
ние: в будущем я ничего не предвижу для себя, кроме хоро-
шего... Все мне идет хорошо... Ваше благословение, кажет-
ся, неотлучно со мною.
Живите как можно веселее, прогоняйте от себя неприят-
ности... все пройдет, все будет хорошо... За чайным столи-
ком, за обедом, я невидимкой сижу между вами, и если вам
весело слишком бывает, это значит, что я втерся в круг
ваш... Труд... всегда имеет неразлучную себе спутницу — ве-
селость... Я теперь, более нежели когда-либо, тружусь, и бо-
лее нежели когда-либо, весел. Спокойствие в моей груди
величайшее.
Изменение настроения связано не только с концом хандры —
он творит, у него появились покровители, инспектор Патриоти-
ческого института Петр Александрович Плетнев высокого мне-
ния о только что появившейся Сорочинской ярмарке,
сам воспитатель наследника и знаменитый поэт Василий Андрее-
вич Жуковский внимает с удовольствием его смешным расска-
зам, князь Петр Андреевич Вяземский, друг Пушкина, сам пи-
шущий стихи, кланяется ему при встречах.
75
П. А. Кулиш:
В первые годы литературной своей деятельности Гоголь
работал очень много; к маю 1831 года у него уже готово бы-
ло несколько повестей, составивших первый том «Вечеров
на хуторе близ Диканьки». Не зная, как распорядиться эти-
ми повестями, Гоголь обратился за советом к П. А. Плетне-
ву. Плетнев хотел оградить юношу от влияния литературных
партий и в то же время спасти повести от предубеждения
людей, которые знали Гоголя лично или по первым его
опытам и не получили о нем высокого понятия. Поэтому он
присоветовал Гоголю, на первый раз, строжайше incognito и
придумал для его повестей заглавие, которое бы возбудило в
публике любопытство. Так появились в свет «Повести, из-
данные пасичником Рудым Паньком», который будто бы
жил возле Диканьки, принадлежавшей князю Кочубею.
Книга была принята огромным большинством любителей
литературы с восторгом.
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
В качестве преподавателя Го-
голь не отличался большими до-
стоинствами. Только в первое вре-
мя он принялся за исполнение
обязанностей своего звания с жа-
ром юноши, жаждавшего найти до-
стойное поприще для своей деяте-
льности, и, забывая под влиянием
этого чувства о материальных вы-
годах новой своей обязанности,
смотрел на нее, как на цель своего
существования, как на призвание
свыше. Но мало-помалу занятия
литературные отвлекли его от од-
нообразных трудов учителя.
П. Л. Кулиш
1831 год стал обильным для Гоголя: это год личного знакомст-
ва с А. С. Пушкиным, которого он так добивался, год выхода в
свет первой части Вечеров на хуторе близ Диканьки,
год начала учительствования в Патриотическом институте, обога-
тивший его не столько педагогическими навыками, сколько по-
76
стижением сути истории, роли личности в ней, духовного прио-
ритета Гомера по сравнению с Цезарем или Александром.
Гоголь сменил поприще: вместо писца в Департаменте уделов
появился пишущий учитель истории и гувернер. Одновременно с
преподаванием в Патриотическом институте Гоголь давал част-
ные уроки в домах князя А. В. Васильчикова, генерала П. И. Ба-
лабина, статс-секретаря М. Н. Лонгинова — вошел в «аристокра-
тические семейства»...
В жизни, правда, не все происходит так красиво, как пишется
в книгах. Сохранились содрогающие сердце свидетельства о ге-
ниальном «гувернере», вынужденном заниматься «воспитанием»
слабоумного...
A. А. Васильчиков:
Гоголь жил некоторое время в доме бабушки моей
Ал. Ив. Васильчиковой и занимал место воспитателя или,
вернее, дядьки слабоумного ее сына Васеньки. Мой отец
хорошо помнил, как Гоголь сиживал на балконе, держа на
коленях долговязого Васеньку, и пытался научить его азбу-
ке, по букварю в картинках: «вот это, душенька, барашек —
бе, скажи — б», — терпеливо и мягко твердит он своему
ученику. Живучи в доме бабушки, Гоголь написал «Май-
скую ночь» и под вечер заходил в комнату, где собирались
многочисленные приживалки и воспитанницы бабушки, и
читал им эту повесть. Раз идет по коридору Александра
Ивановна и слышит, как знакомый голос незнакомым для
нее звуком читает: «Знаете ли вы украинскую ночь?» Оста-
новилась бабушка, заслушалась, и тут же вырос у ней в гла-
зах облик бедного учителя ее слабоумного сына в великого
Гоголя. Гоголь не любил вспоминать, что он был учителем,
говорил всегда, что он не помнит этого, однако поддержи-
вал знакомство и посещал Васильчиковых.
B. А. Соллогуб:
На другой день после чтения1 я пошел опять к Васильчи-
ковым и увидал следующее зрелище: на балконе, в тени, си-
дел на соломенном низком стуле Гоголь, у него на коленях
полулежал Вася, тупо глядя на большую, развернутую на
1 Речь идет о чтении Гоголем отрывков из своих произведений.
77
столе книгу; Гоголь указывал своим длинным, худым паль-
цем на картинки, нарисованные в книге, и терпеливо раз
двадцать повторял следующее: «Вот это, Васенька, бара-
шек — бе... е... е, а вот это корова — му... у... му... у, а вот
это собачка — ray... ay... ay...» При этом учитель с каким-то
особым оригинальным наслаждением упражнялся в звуко-
подражаниях. Признаюсь, мне грустно было глядеть на по-
добную сцену, на такую жалкую долю человека, принужден-
ного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие.
Впоследствии Гоголь никогда не припоминал о нашем
первом знакомстве: видно было, что он несколько совестил-
ся своего прежнего звания толкователя картинок.
В Патриотическом институте, где Гоголь учил девиц истории
с 1831 по 1835-й, тоже постоянно чувствовалось, что учительские
обязанности обременительны для начинающего писателя. Он не
стал дисциплинированным учителем, как до того не стал дисцип-
линированным писцом. Часто «забывал» являться на уроки, а с
летних вакаций 1832 года вернулся с трехмесячным опоздани-
ем — отговорился «недугом», не позабыв, однако, «пристроить» в
институт привезенных из Васильевки сестер Лизу и Анну, не
имевших на то права по статусу института, обучавшего лишь де-
тей военных. Но в целом дела Гоголя явно шли в гору, крепли
его петербургские связи, пошли публикации, начала появляться
известность.
В Патриотический институт Гоголя рекомендовал поверив-
ший в его новое поприще Петр Александрович Плетнев: «Я... по-
казал уже несколько себя. Государыня приказала читать мне в
находящемся в ее ведении институте...» Гоголь не только заста-
вил поверить Плетнева, но уже уверовал сам, что призвание
его — педагогика. Одна из первых опубликованных статей так и
называется «Несколько мыслей о преподавании детям геогра-
фии». Статья посредственная, проходная, ограничивается общи-
ми словами: «слог преподавателя должен быть увлекающий, жи-
вописный»; «преподаватель должен быть обилен сравнениями».
Конечно, знаний ему не хватает, но и упорства не занимать — Го-
голь засаживается за изучение летописей, хроник, выписывает из
Харькова издающуюся там Запорожскую Старину, читает
Историю русов Г. Конисского и Описание Украины
Боплана... В истории его привлекают эпохи «перелома» — евро-
пейское Средневековье, XVI и XVII века в России и на Украине,
эпохи трагические и величественные, разгульные и самоотвер-
женные, жестокие и рыцарские.
78
К тому же на малое он не согласен: как затем в литературе он
будет равняться по Гомеру, так теперь, на поприще истории, он
замахивается...
Историю Малороссии я пишу всю от начала до
конца. Она будет или в шести малых, или в четырех боль-
ших томах.
Я также думаю хватить среднюю историю томиков в 8
или 9.
И та и другая у меня начинают двигаться...
Друзья верят, что так оно и будет, даже Пушкин... Но больше
всех — сам Гоголь...
Но и сам Пушкин поверил в историческое призвание
Гоголя. Не чьими-либо стараниями, а стараниями Пушкина
и Жуковского был возведен он на новую кафедру — на этот
раз на кафедру в Санкт-Петербургском университете, где
стал читать курс лекций по истории средних веков.
Смешная получилась история. Человек без ученой репу-
тации, без солидных трудов, без предварительной кротовьей
работы в библиотеках сразу поднялся на целый этаж. Он
уже не младший учитель в каком-то Патриотическом
институте, а адъюнкт-профессор по кафедре всеобщей ис-
тории Санкт-Петербургского университета, он читает в
аудитории, куда вход доступен каждому, куда может сбежа-
ться весь город — если, конечно, того пожелает. В институ-
те его слушателями были дети — здесь он сразу оказался пе-
ред цветом юношества...
Да, то был скорее театр, нежели ученье. Преподаватель
готовился, разыгрывал роль дома перед зеркалом — слуша-
тели шли на лекции как на представление, как на импрови-
зации чтеца-артиста, который к тому же и сам поэт.
Впрочем, как и в Патриотическом институте, в университете
Гоголь быстро «перегорел». После нескольких вдохновенных
фейерверков он, как фейерверк, и сгорел — хватило запала на
две-три вспышки.
«Он смотрел на науку, как на средство для составления
карьеры», — замечает биограф. По выражению самого Го-
79
голя — он «отжилил кафедру». Приятелю Максимовичу,
тоже будущему профессору, советует «работать с плеча,
что придется», и с истинно хлестаковскою легкостью ре-
шает «хватить среднюю историю томиков в восемь или де-
вять, если Бог поможет». И. С. Тургенев, один из слуша-
телей Гоголя, уверяет, будто бы все студенты были убеж-
дены, что он «ничего не смыслит в истории». Лекции на-
чинал он фразами вроде следующей: «Азия была каким-то
народовержущим вулканом». Скучал сам и видел, что всем
скучно.
Приведу несколько предвзятую характеристику Гоголя, дан-
ную ему в 1835-м профессором русской словесности Петербург-
ского университета А. В. Никитенко:
Гоголь, Николай Васильевич. Ему теперь лет 28—291.
Он занимает у нас место адъюнкта по части истории; чита-
ет историю средних веков. Преподает ту же науку в жен-
ском Патриотическом институте. Сделался известен публи-
ке повестями, под названием «Вечера на хуторе». Они за-
мечательны по характеристическому, истинно малороссий-
скому очерку иных характеров и живому, иногда очень за-
бавному рассказу... Талант его чисто теньеровский... Но
там, где он переходит от материальной жизни к идеальной,
он становится надутым и педантичным... Та же смесь ма-
лороссийского юмора и теньеровской материальности с
напыщенностью существует и в его характере. Он очень
забавно рассказывает разные простонародные сцены из ма-
лороссийского быта или заимствованные из скандалезной
хроники. Но лишь только начинает он трактовать о пред-
метах возвышенных, его ум, чувство и язык утрачивают
всякую оригинальность. Но он этого не замечает и метит
прямо в гении.
Вот случай из его жизни, который должен был бы по-
служить ему уроком, если бы фантастическое самолюбие
способно было принимать уроки. Пользуясь особым покро-
вительством В. А. Жуковского, он захотел быть профессо-
ром. Жуковский возвысил его в глазах Уварова до того, что
тот в самом деле поверил, будто из Гоголя выйдет прекрас-
ный профессор истории, хотя в этом отношении он не
представил ни одного опыта своих знаний и таланта. Ему
предложено было место экстраординарного профессора ис-
1 На самом деле Гоголю было тогда 26 лет.
80
тории в Киевском университете. Но Гоголь вообразил себе,
что его гений дает ему право на высшие притязания, потре-
бовал звания ординарного профессора и шесть тысяч руб-
лей единовременно на уплату долгов. Молодой человек, хо-
тя уже с именем в литературе, но не имеющий никакого
академического звания, ничем не доказавший ни познаний,
ни способностей для кафедры — и какой кафедры — уни-
верситетской! — требует себе того, что сам Герен, должно
полагать, попросил бы со скромностью. Это может делать-
ся только в России, где протекция дает право на все. Одна-
ко ж министр отказал Гоголю. Затем, узнав, что у нас по
кафедре истории нужен преподаватель, он начал искать
этого места, требуя на этот раз, чтобы его сделали, по
крайней мере, экстраординарным профессором. Призна-
юсь, и я подумал, что человек, который так в себе уверен,
не испортит дела, и старался его сблизить с попечителем,
даже хлопотал, чтобы его сделали экстраординарным про-
фессором. Но нас не послушали и сделали его только адъ-
юнктом.
Что же вышло? «Синица явилась зажечь море» — и то-
лько. Гоголь так дурно читает лекции в университете, что
сделался посмешищем для студентов. Начальство боится,
чтоб они не выкинули над ним какой-нибудь шалости,
обыкновенной в таких случаях, но неприятной по послед-
ствиям. Надобно было приступить к решительной мере.
Попечитель призвал его к себе и очень ласково объявил
ему о неприятной молве, распространившейся о его лекци-
ях. На минуту гордость его уступила место горькому созна-
нию своей неопытности и бессилия. Он был у меня и при-
знался, что для университетских чтений надо больше опыт-
ности.
Но это в конце концов не поколебало веры Гоголя в
свою всеобъемлющую гениальность. Хотя, после замечания
попечителя, он должен был переменить свой надменный
тон с ректором, деканом и прочими членами университета,
но в кругу «своих» он все тот же всезнающий, глубокомыс-
ленный, гениальный Гоголь, каким был до сих пор. Это
смешное, надутое, ребяческое самолюбие, впрочем, состав-
ляет черту характера не одного Гоголя.
Сохранились многочисленные характеристики Гоголя-учите-
ля, профессора, гувернера, отличающиеся довольно широким
спектром мнений.
81
М. Н. Лонгинов:
Уроки Гоголя нам очень нравились. Они так мало похо-
дили на другие уроки: в них не боялись мы ненужной взыс-
кательности, слышали много нового, для нас любопытного,
хотя часто и не очень идущего к делу. Кроме того, Гоголь
при всяком случае рассказывал множество анекдотов, при-
чем простодушно хохотал вместе с нами. Новаторство было
одним из отличительных признаков его характера.
В. П. Гаевский:
Как преподаватель, Гоголь не имел больших достоинств.
Сначала он горячо принялся за исполнение обязанностей
своего звания; он смотрел на свою обязанность не как на
средство к жизни, но как на цель, как на призвание; он хо-
тел даже совершенно посвятить себя ученому званию, но
деятельность его, требовавшая другого поприща, ослабева-
ла; он чувствовал себя не в своей сфере и должен был на-
всегда разделаться с несвойственным и наскучившим ему
занятием. Лекции Гоголя, по словам присутствовавших на
них, не отличались особенным знанием дела или новостью
взгляда, но блестящее изложение и уменье владеть внима-
нием слушателей были главными достоинствами молодого
адъюнкта. Какого мнения о своих лекциях был сам Го-
голь, — не знаем, но вот факт, доказывающий, что он не
слишком доверял себе в этом отношении. Говорят, что Го-
голь просил Пушкина и Жуковского приехать как-нибудь к
нему на лекцию. Оба поэта, очень долго собиравшиеся вос-
пользоваться приглашением, наконец условились, уведоми-
ли об этом предварительно Гоголя и в назначенное время
отправились в университет. Поэты нашли полную аудито-
рию студентов, но Гоголя еще не было; они решились его
дожидаться, но прождали напрасно, потому что Гоголь во-
все не явился.
Н. И. Иваницкий:
Гоголь вошел на кафедру, но вдруг, как говорится, ни с
того, ни с другого, начал читать взгляд на историю арави-
тян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая.
Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесках» («Ал-
Мамун»). Видно, что Гоголь не знал заранее о намерении
поэтов приехать к нему на лекцию, и потому приготовился
82
угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о
чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово «увлека-
тельно»...
Все следующие лекции Гоголя были очень сухи и скуч-
ны: ни одно событие, ни одно лицо историческое не вызы-
вало его на беседу живую и одушевленную. Какими-то сон-
ными глазами смотрел он на прошедшие века и отжившие
племена. Без сомнения, ему самому было скучно, и он ви-
дел, что скучно и его слушателям. Бывало, приедет, погово-
рит с полчаса с кафедры, уедет, да уж и не показывается це-
лую неделю, а иногда и две. Потом опять приедет, и опять
та же история.
М-н:
Гоголь не был никогда научным исследователем, и по
преподаванию уступал специальному профессору истории
Куторге, но поэтический свой талант и некоторый даже
идеализм, а притом особую прелесть выражений, делавших
его несомненно красноречивым, — он влагал и в свои лек-
ции, из коих те, которые посвящены были идеальному быту
и чистоте воззрений афинян, имели на всех, а в особенно-
сти на молодых его слушателей, какое-то воодушевляющее
к добру и к нравственной чистоте влияние.
В. В. Григорьев:
Как ни плохи были вообще слушатели Гоголя, они, од-
нако же, сразу поняли его несостоятельность. В таком по-
ложении оставался ему один исход —- удивить фразами, за-
говорить; но это было не в натуре Гоголя, который ниско-
лько не владел даром слова и выражался весьма вяло. Вы-
шло то, что после трех-четырех лекций студенты ходили в
аудиторию к нему только затем уж, чтоб позабавиться над
«маленько сказочным» языком преподавателя. Гоголь не
мог этого не видеть, сам тотчас же сознал свою неспособ-
ность, охладел к делу и еле-еле дотянул до окончания
учебного года, то являясь на лекцию с подвязанной щекой
в свидетельство зубной боли, то пропуская их за тою же
болью.
Среди слушателей Гоголя в Петербургском университете ока-
зался и И. С. Тургенев. В Литературных и житейских
воспоминаниях он писал:
83
Я был одним из слушателей Гоголя в 1835 году, когда
он преподавал (!) историю в С.-Петербургском университе-
те. Это преподавание, правду сказать, происходило ориги-
нальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций не-
пременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появ-
лялся на кафедре, он не говорил, а шептал что-то весьма
несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали,
изображавшие виды Палестины и других восточных
стран, — и все время ужасно конфузился. Мы все были
убеждены (и едва ли ошибались), что он ничего не смыс-
лит в истории, — и что г. Гоголь-Яновский, наш
профессор (он так именовался в расписании лекций), не
имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным
нам, как автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки». На вы-
пускном экзамене из своего предмета он сидел, повязан-
ный платком, якобы от зубной боли, — с совершенно уби-
той физиономией, — и не разевал рта. Спрашивал студен-
тов за него профессор И. П. Шульгин. Как теперь, вижу
его худую, длинноносую фигуру с двумя высоко торчавши-
ми—в виде ушей — концами черного шелкового платка.
Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и
всю неловкость своего положения: он в том же году подал
в отставку.
О злосчастном экзамене по истории сохранились и другие
воспоминания.
Н. И. Иваницкий:
В мае наступил экзамен. Гоголь приехал, подвязанный
черным платком: не знаю уж, зубы у него болели, что ли.
Вопросы предлагал бывший ректор И. П. Шульгин. Гоголь
сидел в стороне и ни во что не вступался. Мы слышали уже
тогда, что он оставляет университет и едет на Кавказ. После
экзамена мы окружили его и изъявили сожаление, что дол-
жны расстаться с ним. Гоголь отвечал, что здоровье его рас-
строено, и что он должен переменить климат.
В. В. Григорьев:
На годичный экзамен из читанного им Гоголь пришел с
окутанною косынками головою, предоставил экзаменовать
слушателей своих декану и ассистентам, а сам молчал все
время. Студенты, зная, как нетверд он в своем предмете,
84
объясняли это молчание страхом его обнаружить в чем-ни-
будь свое незнание.
Н. М. Колмаков:
Профессура Гоголя потерпела фиаско, и сам он начал
хворать. Голова его, по случаю ли боли зубов или по другой
причине, постоянно была подвязана белым платком; самый
вид его был болезненный и даже жалкий, но студенты отно-
сились к нему с большим сочувствием, что было, разумеет-
ся, последствием его талантливых сочинений. Читая из ис-
тории то одно, то другое, он всегда переходил к рассказу о
движении народов. Ясно, что предмет этот служил ему как
бы заручкой или опорою исторических его знаний.
Д. С. Мережковский:
На экзамен пришел с головою, окутанною косынками,
предоставил экзаменовать слушателей декану и ассистен-
там, а сам молчал все время. — «Боится, что Шульгин, дру-
гой профессор, собьет его самого, так и притворяется, буд-
то рта разинуть не может», — объясняли студенты... И в са-
мом деле, в этой жалкой и смешной фигуре университет-
ского Акакия Акакиевича с подвязанной щекою, кто мог
бы признать великого учителя, обладавшего, несмотря на
недостаток сведений, гениальными историческими прозре-
ниями?
Не получив никакой профессиональной подготовки, Гоголь
верил, что ему хватит знаний для профессуры, и для ученых за-
нятий, и для написания грандиозной истории. Конечно, ему не
хватало трезвой самооценки, но, с другой стороны, все это сви-
детельствует о необыкновенной смелости и широте. Писательст-
ва ему было мало, ему требовалось парение. История была для
Гоголя художественным полотном, а не наукой. Возможно, он
сам понял это и отказался от преподавания.
О своих лекциях Гоголь писал М. П. Погодину:
Никто меня не слушает, ни на одном, ни разу не встре-
тил я, чтобы поразила его яркая истина. И оттого я решите-
льно бросаю теперь всякую художественную отделку, а тем
более — желание будить сонных слушателей. Я выражаюсь
отрывками, и только смотрю вдаль и вижу его в той систе-
85
ме, в какой оно явится у меня вылитою через год. Хоть бы
одно студенческое существо понимало меня! Это народ бес-
цветный, как Петербург.
Эта самооценка человеку неискушенному может показаться
неадекватной, нарциссической, но, как мы увидим далее, при
всем своем действительном нарциссизме Гоголь был человеком
не только глубочайшей интуиции, но и в высшей степени экзи-
стенциальным, самокритичным: он прекрасно сознавал «годы
моего бесславия», но и непонимаемую другими «неузнанность»,
прибавку «в сокровищницу души», полученную им от профес-
сорского «фиаско»...
Н. В. Гоголь — М. П. Погодину:
Я расплевался с университетом, и через месяц опять без-
заботный казак. Неузнанный я взошел на кафедру и неуз-
нанный схожу с нее. Но в эти полтора года — годы моего
бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за
свое дело взялся, — в эти полтора года я много вынес отту-
да и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мыс-
ли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но вы-
сокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли
волновали меня... Мир вам, мои небесные гостьи, наводив-
шие на меня божественные минуты в моей тесной квартире,
близкой к чердаку!
Занятия историей Гоголь не прекратил и после отъезда из
России — она до конца жизни привлекала его не меньше фило-
софии. Исторические реминисценции не только пронизывают
его книги — история была постоянной темой его размышлений.
Свидетельствует Петр Семененко:
Занимается Гоголь русской историей. В этой области у
него очень светлые мысли. Он хорошо видит, что нет це-
мента, который бы связывал эту безобразную громадину.
Сверху давит сила, но нет внутри духа.
Хотя мне нигде не удалось найти основательных подтвержде-
ний нижеследующей мысли, представляется, что по восприятию
истории Гоголь —- ранний предтеча блоковской реконструкции
исторической антропологии, внутреннего облика исторического
человека, его психологии и мироощущения. Его интересовали не
86
только и не столько исторические события, сколько глубинные
духовные процессы, их порождающие. Как Муратори и Ж.
Мишле, он пытался заняться историческим вживанием, пости-
жением истории через внутренний мир человека, его чаяния и
страхи.
Н. В. Гоголь — А. О. Смирновой:
Историю никто еще так не писал, чтобы живо можно
было видеть или народ, или какую-нибудь личность. Вот
один Муратори понял, как описывать народ; у него одного
чувствуется все развитие, весь быт, кажется, Генуи, а про-
чие все сочиняли или только сцепляли происшествия; у них
не сыщется никакой связи человека с той землей, на кото-
рой он поставлен. Я всегда думал написать географию; в
этой географии можно было бы увидеть, как писать исто-
рию.
В статье О преподавании всеобщей истории Го-
голь оставил свое понимание исторического процесса, в основу
которого положена не закономерность, а связность, историче-
ская преемственность, неразрывность времен:
Всеобщая история, в истинном ее значении, не есть
собрание частных историй всех народов и государств без
общей связи, без общего плана, без общей цели, куча
происшествий без порядка, в безжизненном и сухом виде,
в каком очень часто ее представляют. Предмет ее велик:
она должна обнять вдруг и в полной картине все челове-
чество... Она должна собрать в одно все народы мира, раз-
розненные временем, случаем, горами, морями, и соеди-
нить их в одно стройное целое; из них составить одну ве-
личественную полную поэму... Все события мира должны
быть так тесно связаны между собой и цепляться одно за
другое, как кольца в цепи. Если одно кольцо будет вырва-
но, то цепь разрывается. Связь эту не должно принимать
в буквальном смысле. Она не есть та видимая, веществен-
ная связь, которою часто насильно связывают происшест-
вия, или система, создающаяся в голове независимо от
фактов и к которой после своевольно притягивают собы-
тия мира. Связь эта должна заключаться в одной общей
мысли: в одной неразрывной истории человечества, перед
которою и государства и события — временные формы и
образы!
87
Мы видим: Гоголь искал не «видимую, вещественную связь»,
не «систему, создающуюся в голове», а связь глубинную, опреде-
ленную сокровенной природой человечества и свойствами време-
ни. Его интересовал не «исторический материализм», но духов-
ная сокровенность.
Тяга к истории была большой, идущей из глубин его сущест-
ва. Как бы ни оценивать Гоголя-историка, профессора, учителя,
он тяйулся к Клио, она успокаивала его.
Ничто так не успокаивает, как история. Мои мысли на-
чинают литься тише и стройнее. Мне кажется, что я напи-
шу ее, что я скажу много того, чего до меня не говорили.
Все, кто читал первые две лекции Гоголя по истории, поме-
щенные в Арабесках (О средних веках и О движе-
нии народов в конце V века), легко поймут взволнован-
ность первых слушателей, засвидетельствованную Н. И. Иваниц-
ким: «Невозможно было спокойно следить за его мыслью, кото-
рая летела и преломлялась как молния...»
Гоголь стремился в Киев не только по причине петербургско-
го нездоровья, «проклятого климата его» — Киев был древней
историей, здесь он надеялся погрузиться в прошедшее время:
«Там кончу я историю Украины и юга России и напишу всеоб-
щую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор, к сожа-
лению, не только на Руси, но даже и в Европе нет».
Попытку сбежать туда он предпринял раньше, но она
не удалась. Маясь в институте, маясь в своей тесной квар-
тирке за столом, где ему не писалось, он задумал занять
кафедру в Киевском университете Святого Владимира, об
открытии которого объявили на исходе 1833 года. Он уз-
нал, что туда едет из Москвы Максимович — возможность
иметь при себе попутчика и единомышленника соблазнила
его еще больше. Он решил въехать в древнюю столицу
России на белом коне — в качестве ординарного профес-
сора всеобщей истории. Он думал, что ему, знакомому с
Пушкиным, Жуковским, Плетневым, Вяземским и други-
ми, это ничего не будет стоить. Одно слово министру, ко-
торое скажет каждый из них, один намек Жуковского, об-
роненный им при дворе, — и Киев откроет ему гостепри-
имно ворота.
88
Н. В. Гоголь — М. П. Погодину:
На предложение твое об адъюнктстве [в Московском
университете] я вот что скажу тебе. Я недавно только что
просился профессором в Киев, потому что здоровье мое
требует этого непременно, также и труды мои. Вот чем
можно извинить мне искание профессорства, которое, если
бы не у нас на Руси, то было бы самое благородное звание.
Прося профессорства в Киеве, я обеспечиваю там себя со-
вершенно в моих нуждах, больших и малых; но взявши мос-
ковского адъюнкта, я не буду сыт, да и климат у вас в Мо-
скве ничуть не лучше нашего чухонского, петербургского.
За Гоголя ходатайствовали лучшие умы России, он сам встре-
чался с могущественным Уваровым и заручился его поддержкой,
уже было написано письмо М. А. Максимовичу о покупке дома:
«Пожалуйста, разведывай, есть ли в Киеве продающиеся места
для дома, если можно, с садиком, и если можно, где-нибудь на
горе, чтоб хоть кусочек Днепра был виден из него, и если найдет-
ся, то уведоми меня; я не замедлю выслать тебе деньги».
Профессорства в Киеве Гоголь не получил. Попечитель Киев-
ского университета фон Брадке отказался принять его. То ли су-
дьба вела его к «поприщу», к его Музе, то ли провинциальный
чиновник, как нередко случается на Руси, был могущественнее в
своей вотчине по сравнению с чиновником столичным, но Гого-
лю указали на его место.
Я не хочу сказать, что Гоголь был лучше других претендентов.
Он и сам уже сознавал «свои ошибки», сам чувствовал, что «путь
у меня иной», но дело в том, что, каковы бы ни были конкрет-
ные обстоятельства отказа, всегда уж так получалось, что в стра-
не нашей малых предпочитали великим. Конечно, Гоголю было
еще далеко до величия, может быть, и трудно было тогда разгля-
деть в нем гения, но снова-таки не в том дело: Россия никогда и
нигде не считалась даже с гениями уже состоявшимися, травила
их, бросала в «мертвые дома», слала веревку Толстому, бросала
под забор Николая Успенского и Саврасова. Так что Гоголю,
можно сказать, еще повезло...
К тому же поездка в Киев, этот малороссийский Иерусалим,
знакомство со святыми местами, Лаврой, Андреем Первозван-
ным, вполне возможно, оживили его мистические чувства, стали
толчком к тому, что принято называть «крутым поворотом в
мыслях» и что на самом деле было новой ступенью в эволюции
его духа, приведшей в конце концов к Выбранным местам.
89
В Киеве он понял, что его ждет «цель высшая». «Может быть, я
еще мало опытен и молод в мыслях, — писал он М. П. Погоди-
ну. — Отчего же передо мною раздвигается природа и человек?»
Отказ фон Брадке приблизил рождение нового гения России.
Как у всех людей, склонных к депрессиям, творчество Гоголя
не отличалось постоянством: вдохновение часто покидало его, а
он не мог работать без присутствия Музы — отсюда постоянные,
доходящие до исступления мольбы, обращенные к небу, отсюда
«мелкого не хочется, великое не выдумывается...», отсюда «мои
светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил».
Гоголь легко пережил киевский отказ. 1834-й — год не его по-
ражения, но первых побед, счастливый год. Завершены первая
редакция Тараса Бульбы, Старосветские помещи-
ки, Портрет, Невский проспект, Записки сума-
сшедшего, Вий, Женихи. Хотя он еще числится учителем
истории в Патриотическом институте и адъюнктом в Петербург-
ском университете, с мечтой о карьере профессора внутренне по-
кончено: ни чиновник, ни профессор не получились... Ему так и
суждено остаться навеки «коллежским асессором», хотя никто из
людей могущественных еще не догадывается, что войдет в исто-
рию не благодаря министерским постам и генеральским чинам, а
лишь в силу причастности к судьбе этого «неудачника».
Может быть, я сам не знаю, кто я таков. Ведь сколько
примеров по истории: какой-нибудь простой, не то уже что-
бы дворянин, а просто какой-нибудь мещанин или даже
крестьянин — и вдруг открывается, что он какой-нибудь ве-
льможа, а иногда даже и государь.
Это слова из Записок сумасшедшего не просто намек
на Наполеона и карьеры людей революционной эпохи, но и
весть из подсознания самого Гоголя — тогда государь читается
как «государь духа».
SIGNORE NICOLO
Почему после постановки Ревизора1 Гоголь вновь бежал
из Петербурга? Вот его собственное объяснение, данное в письме
к М. П. Погодину:
1 История создания произведений Гоголя дана в разделе «Творчество».
90
Я не оттого еду за границу, что не умел перенести этих
неудовольствий. Мне хочется поправиться в своем здоро-
вьи, рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько
постояннее пребывание, обдумать хорошенько труды буду-
щие. Пора уже мне творить с большим размышлением.
На самом деле Гоголь снова бежал. О побеге свидетельствует
внезапность, выразившаяся в отказе от прощания не с одним то-
лько Пушкиным: он почти ни с кем не попрощался, никого не
предупредил. Его первое заграничное письмо к В. А. Жуковскому
начинается со слов: «Мне очень прискорбно, что не удалось с ва-
ми проститься перед моим отъездом». Бежал Гоголь не от триум-
фа, а от провала. Вся его жизнь изобилует подобными побегами.
И теперь, после удачного во многих отношениях 1834-го, он
вновь переживал депрессию: отказ от профессорства в Киеве,
увольнение из Петербургского университета, мотивированное
«упорядочением расписания» и интерпретируемое самим Гоголем
словом «расплевался», наконец, непонятость Ревизора. Ко-
нечно, для человека с нормальной психикой все это могло быть
расценено как обычные житейские перипетии, но здесь был Го-
голь — с его маниакальностью, депрессивностью, необузданной
фантазией и игрой воображения. Да, ему необходимо было лечи-
ться, но убегал он не для этого —- от себя самого... Что, как изве-
стно, сделать невозможно...
Погодину он объяснил свой отъезд за границу необходимо-
стью «развлечься», но это не более чем камуфляж. Он знал, что
уезжает надолго и что Европа необходима ему, чтобы реализовать
его «львиную силу».
Н. В. Гоголь — В. А. Жуковскому:
Мне очень прискорбно, что не удалось с вами простить-
ся перед моим отъездом, тем более, что отсутствие мое, ве-
роятно, продолжится на несколько лет. Но теперь для меня
есть что-то в этом утешительное. Разлуки между нами не
может и не должно быть, и где бы я ни был, в каком бы от-
даленном уголке ни трудился, я всегда буду возле вас. Каж-
дую субботу я буду в вашем кабинете, вместе со всеми близ-
кими вам. Вечно вы будете представляться мне слушающим
меня читающего. Какое участие, какое заботливо-родствен-
ное участие видел я в глазах ваших!.. Низким и пошлым по-
читал я выражение благодарности моей к вам. Нет, я не был
проникнут благодарностью; клянусь, это что-то выше, что-
91
то больше ее; я не знаю, как назвать это чувство, но катя-
щиеся в эту минуту слезы, но взволнованное до глубины
сердце говорят, что оно одно из тех чувств, которые редко
достаются в удел жителю земли. — Мне ли не благодарить
пославшего меня на землю! Каких высоких, каких торжест-
венных ощущений, невидимых, незаметных для света, ис-
полнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сделаю, чего не дела-
ет обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе
своей...
Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И хо-
тя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать Рос-
сии, но сам я, но бренный состав мой будет удален от нее.
Гоголь ехал на Запад для того, чтобы, дыша воздухом Европы,
впитывая ее культуру, сделать что-то, «чего не делает обыкновен-
ный человек». Если нанести на карту маршрут его поездки, то
траектория напомнит броуновское движение. Что гонит его из
страны в страну, из города в город? Поиск пристанища? Одино-
чество? Болезнь? Обостренное чувство новизны? Сама дорога?
Мы знаем, что в дороге он как бы выздоравливает, что именно
ритм дорожного движения способствует зарождению новых идей,
что в этом бегстве от самого себя он себя обретает. Вот объясне-
ние самого Гоголя: «Голова моя так странно устроена, что иногда
мне вдруг нужно пронестись несколько сот верст и пролететь
расстояние для того, чтобы менять одно впечатление другим,
уяснить духовный взор и быть в силах обхватить и обратить в од-
но то, что мне нужно».
Из страны в страну, из города в город Гоголя гнало его «не-
счастное сознание», его невроз, его донкихотство, его возбужден-
ный, трепещущий дух, его страх.
Впрочем, есть множество других версий. Э. Паппачена увидел
в бегстве Гоголя «послушание» художника, осознание им новых
целей, которые будут поставлены перед своим искусством:
Как только Гоголь понял, что его литературная деятель-
ность может оказаться полезной для его страны, он оставил
все другие занятия... оставил Петербург... удалился даже от
самой России, чтобы стать истинным гражданином своего
отечества и подлинно послужить ему... На этом пути Гоголь
исподволь, как бы незаметно для себя, восходит к самому
Христу.
92
До Аахена он едет вместе с А. С. Данилевским, далее пути их
расходятся. Судя по письмам этого периода жизни, у Гоголя нет
ни определенных планов, ни четких литературных замыслов.
«Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях»... Так будет
продолжаться всегда: «дельной» книгой Гоголя всегда будет по-
следняя, все предыдущие — «мараньями»...
Н. В. Гоголь — матери:
Я живу на знаменитых баден-баденских, куда заехал на
три дня и откуда уже три недели не могу выбраться... Мес-
тоположенье города чудесно... Мест для гулянья в окружно-
сти страшное множество; но на меня такая напала лень, что
никак не могу приневолить себя все осмотреть. Каждый раз
собираюсь пораньше встать, и всегда почти просплю. Лето
здесь хорошо. Слишком жарких дней нет.
Уже около недели, как я в Швейцарии; проехал швей-
царские города: Берн, Базель, Лозанну и четвертого дня
приехал в Женеву.
Два дня, как я здесь (в Риме). Приезд мой в Италию или,
лучше, в самый Рим затянулся почти на три недели. Ехал я
морем и землею с задержками и остановками. До Рима
успел еще побывать, кроме многих других городов, в Генуе
и Флоренции. Несмотря на все это, поспел как раз к празд-
нику (пасхи). Обедню прослушал в церкви Св. Петра, кото-
рую отправлял сам папа.
Из писем Гоголя к друзьям мы узнаем чуть больше о его впе-
чатлениях и времяпровождении.
Н. В. Гоголь — Н. Я. Прокоповичу:
Города швейцарские мало для меня были занимательны.
Ни Базель, ни Берн, ни Лозанна не поразили. Женева луч-
ше и огромнее их, и остановила меня тем, что в ней есть
что-то столично-европейское...
Сегодня поутру посетил я старика Вольтера: был в Фер-
нее. Старик хорошо жил. К нему идет длинная, прекрасная
аллея. Дом в два этажа из серенького камня. Из залы дверь
в его спальню, которая была вместе и кабинетом его. По-
стель перестлана, одеяло старинное, кисейное, едва держит-
93
ся, и мне так и представлялось, что вот-вот отворяется
дверь и войдет старик в знакомом парике, с отстегнутым
бантом и спросит: «Что вам угодно?» Сад очень хорош и ве-
лик. Старик знал, как его сделать... Я вздохнул и нацарапал
русскими буквами мое имя, сам не отдавши себе отчета, для
чего.
Я соскучился страшно без Рима. Там только я был со-
вершенно спокоен, здоров и мог предаться моим занятиям.
Мутно и туманно все кажется после Италии. Прежние си-
ние горы теперь кажутся серыми; все пахнет севером после
нее.
Н. В. Гоголь — В. А. Жуковскому:
Я хотел скорее усесться на месте и заняться делом; для
этого поселился в загородном доме близ Женевы. Там при-
нялся перечитывать я Мольера, Шекспира и Вальтер Скот-
та. Читал я до тех пор, покамест сделалось так холодно, что
пропала вся охота к чтению.
Сначала было мне в Веве несколько скучно, потом я
привык. На прогулках колотил палкою по сторонам яще-
риц, нацарапал даже свое имя русскими буквами в Шиль-
онском подземелье, не посмел подписать его под двумя
славными именами творца и переводчика «Шильонского
узника» (Байрона и Жуковского), впрочем, не было даже и
места...
Осень в Веве, наконец, настала прекрасная, почти лето.
У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за «Мерт-
вые души», которых было начал в Петербурге. Все начатое
переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду
его спокойно, как летопись... Если совершу это творение
так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой
оригинальный сюжет. Какая разнообразная куча. Вся Русь
явится в нем. Это будет первая моя порядочная вещь, кото-
рая вынесет мое имя.
Снова весел. «Мертвые» [«души»] текут живо, свежее и
бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я
в России; передо мною все наше, наши помещики, наши
чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, —
словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как по-
думаю, что я пишу «Мертвых душ» в Париже. Еще один Ле-
94
виафан затевается. Священная дрожь пробирает меня зара-
нее, как подумаю о нем; слышу кое-что из него? Божест-
венные вкушу минуты... но... теперь я погружен весь в
«Мертвые души». Огромно, велико мое творение, и не ско-
ро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и
много разных господ; но что ж мне делать. Уж судьба моя
враждовать с моими земляками. Терпение. Кто-то незри-
мый пишет передо мною могущественным жезлом. Знаю,
что имя мое после меня будет счастливее меня, и потомки
тех же земляков моих, может быть, с глазами, влажными от
слез, произнесут примирение моей тени.
Между тем деньги, полученные за Ревизораиза второе из-
дание Вечеров, были истрачены. Возвращаться в Россию Го-
голь не собирался. Нищий гений остался без гроша в кармане.
Н. В. Гоголь — В. А. Жуковскому:
...я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что
писатели в наше время могут умирать с голоду. Но чуть ли
это не правда. Будь я живописец, хоть даже плохой, я бы
был обеспечен. Здесь в Риме около пятнадцати человек на-
ших художников, которые недавно высланы из академии, из
которых иные рисуют хуже моего: они все получают по три
тысячи в год. Поди я в актеры — я бы был обеспечен: акте-
ры получают по 10 000 и больше, а вы сами знаете, что я не
был бы плохой актер. Но я писатель — и потому должен
умереть с голоду. На меня находят часто печальные мысли,
следствие ли ипохондрии, или чего другого. Рассмотрите
положение, в котором я нахожусь, мое болезненное состоя-
ние, мою невозможность заняться чем-нибудь посторон-
ним, и дайте мне спасительный совет, что я должен сделать
для того, чтобы протянуть на свете свою жизнь до тех пор,
покамест сделаю сколько-нибудь из того, что мне нужно
сделать... Если бы мне такой пансион, какой дается воспи-
танникам академии художеств, живущим в Италии, или
хоть такой, какой дается дьячкам, находящимся здесь при
нашей церкви, то...
Расчет Гоголя оказался точным: письмо попало в руки госуда-
рю, и тот, не задумываясь, велел выслать бедствующему автору
Ревизора четыре тысячи рублей, сказав при этом: «Пусть еще
напишет такое письмо, и я еще пошлю ему денеп>. Проблема вы-
живания на ближайшее время была решена.
95
Как у всех великих русских писателей (Пушкина, Достоев-
ского, братьев Успенских и т. д.), письма Гоголя нежинского,
петербургского и римского периодов изобилуют просьбами о
вспомоществовании: деньги — тема № 1 в эпистолярии русских
гениев. О «барыше» писал А. С. Пушкин («На поэму свою смот-
рю, как сапожник на пару своих сапог: продаю с барышом»),
письма Достоевского — сплошной поток воплей о вспомощест-
вовании, неослабевающий сигнал материального бедствия, плач
нужды...
Обращаюсь к вам с покорнейшею просьбой не оставить
меня без 10 р. сереб., которые требовались еще вчера для
уплаты моей хозяйке...
Я борюсь с моими мелкими кредиторами, как Лаокоон
со змеями; теперь мне нужно 15, только 15. Эти 15 успокоят
меня.
Прошу у Вас помощи, и если Вы не поможете, то я по-
гибну, вполне погибну!.. Голубчик, спасите меня! Если у
Вас нет, займите у кого-нибудь для меня...
То же — у Гоголя:
Прошу вас, дражайшие родители, прислать мне сколько-
нибудь денег, потому что у меня они вовсе вышли, так что я
найдусь принужденным занять; да и взаймы достать негде; а
мне надо ужасно, а особенно в теперешних моих обстояте-
льствах.
Ежели бы вы прислали денег мне, потому что моя казна
вся истощилась... И прошу вас, пожалуйста, пришлите мне
денег, хоть рублей десять...
Мне жалко, мне горестно только, что я принужден вас
беспокоить, зная наше слишком небогатое состояние, мои-
ми просьбами о деньгах, и сердце мое разрывается, когда
подумаю, что я буду иметь неприятную необходимость на-
доедать вам подобными просьбами чаще прежнего.
То же — в его письмах из Петербурга:
Наконец я принужден снова просить у вас, добрая, вели-
кодушная моя маменька, вспомоществования. Чувствую,
96
что в это время это будет почти невозможно вам, но всеми
силами постараюсь не докучать вам более. Дайте только мне
еще несколько времени укорениться здесь; тогда надеюсь
как-нибудь зажить своим состоянием. Денег мне необходи-
мо нужно триста рублей.
Даже после растраты материнских денег, присланных для
уплаты банковских процентов, и твердого обещания «больше от
вас не потребую» (об этом речь ниже) не пройдет и года, как в
письмах из Петербурга снова прочитаем:
Где же теперь мне взять сто рублей в месяц каждый на
свое содержание?.. Деньги, которые я выпрашивал у Анд-
рея Андреевича, никогда не мог употребить на платье, по-
тому что они все выходили на содержание, а много я про-
сить не осмеливался, потому что заметил, что я становлюсь
ему в тягость... Теперь остается мне спросить вас, мамень-
ка: в состоянии ли вы выдавать мне в месяц каждый по сто
рублей?
И еще через год:
О себе скажу, что мои обстоятельства идут, чем далее,
лучше и лучше, все поселяет в меня надежду, что если не в
этом, то в следующем году, я буду уже в возможности со-
держать себя собственными трудами; по крайней мере
основание положено из самого крепкого камня. Только я
вас теперь сильно потревожу убедительной просьбою о при-
сылке двухсот пятидесяти рублей. Это составит половину
следуемой мне суммы в нынешнем году (в теперешнем году
мне нужно от вас получить только пятьсот). В июне месяце
попрошу у вас остальную половину, и это требование, наде-
юсь, будет последнее.
Правда, наш государь духа нищ. Слава Богу, нищ. Почему
«слава Богу»? Потому что литература русская — от бедности...
Блаженная плетка вдохновения — бедность, блаженный
бич, подгоняющий русских литераторов и заставляющий их
создавать шедевры! Сколь мы обязаны ему, сколь должны
быть ему благодарны! Тут в пору сложить оду бедности,
долгам и отсутствию гроша в кармане, ибо, если б не они,
недосчитались мы многих великих созданий...
97
В жизни Гоголя не было периода, когда бы он не нуждался:
начиная Нежином и кончая Иерусалимом, его письма на 50% со-
стоят из просьб, мольб, требований о вспомоществовании...
Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву:
Я в чужой земле и прошу только насущного пропитания,
чтоб не умереть мне в продолжение каких-нибудь трех-че-
тырех лет... Напиши мне, могу ли я надеяться получить в
самом коротком времени... Мне нужны, по крайней мере,
3500...
Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову:
Что теперь я полгода живу в Риме без денег, не получая
ниоткуда, это, конечно, ничего. Случился Языков, и я мог у
него занять. Но в другой раз это может случиться не в Риме:
мне предстоят глухие уединения, дальние отлучения. Не те-
ряйте этого из виду. Если не достанет и не случится к сроку
денег, собирайте их хотя в виде милостыни. Я нищий и не
стыжусь своего звания.
Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву:
От вас я теперь потребую жертвы, но эту жертву вы дол-
жны принести для меня. Возьмите от меня на три или на
четыре даже года все житейские дела мои... Прежде всего я
должен быть обеспечен на три года... распорядитесь так,
чтобы я получал по шести тысяч в продолжение трех лет
всякий год. Это самая строгая смета; я бы мог издерживать
и меньше, если бы оставался на месте; но путешествие и
перемены мест мне так же необходимы, как насущный
хлеб... (у меня уже давно все мое состояние — самый кро-
хотный чемодан и четыре пары белья)... Если же средств не
отыщется, тогда прямо просите для меня; в каком бы то ни
было виде были мне даны, я их благодарно приму...
Н. В. Гоголь — П. А. Плетневу:
Денег я не получаю ниоткуда; вырученные за «Мертвые
души» пошли все почти на уплату долгов моих. За сочине-
ния мои тоже я не получил еще ни гроша, потому что все
платилось в эту гадкую типографию, взявшую страшно до-
рого за напечатание; и притом продажа книги идет, как
98
видно, туго. И потому, что можно сделать, — сделайте.
В теперешних моих обстоятельствах мне бы помогло отча-
сти вспомоществование в виде подарков от двора за пред-
ставленные экземпляры. Я, как вы знаете, не получил ни
за «Мертвые души», ни за сочинения. Прежде, признаюсь,
я не хотел бы даже этого, но теперь, опираясь на стеснен-
ное положение моих обстоятельств, я думаю, можно при-
бегнуть к этому. Если вы найдете это возможным, то на-
добно, чтобы эта помощь была или от государыни, или от
наследника; от государя мне ни в каком случае не следует
ничего. Это было бы даже бесстыдно с моей стороны про-
сить. Он подал мне помощь в самую трудную минуту
моей жизни... Важность всего этого тем более значитель-
на, что не скоро придется мне выдать что-нибудь в свет.
В зарубежной жизни Гоголь нередко попадал в стесненные
финансовые положения, но, надо признать, его вопли о вспомо-
ществовании никогда не оставались безответными. Друзья доби-
вались царских милостей, «выколачивали» гонорары или сбрасы-
вались вскладчину, посылая ему требуемые суммы.
У меня нет сомнений в том, что Гоголь порой тяжко страдал
не столько даже из-за своей неустроенности, сколько из-за по-
стоянной материальной зависимости от сильных мира сего, на
которой держалась культура России, страны, никогда не возда-
вавшей по заслугам, но вынуждавшей кланяться, просить, уни-
жаться, клянчить лучших своих сыновей. В одном из его писем
В. А. Жуковскому прорывается это глубоко скрытое чувство-стон
вечно зависимого человека, вынужденного всю жизнь просить
подаяние и в очередной раз вымаливающего синекуру:
Иногда мне приходило на мысль, неужели мне совер-
шенно не дадут средств быть на свете. Неужели мне не мо-
гут дать какого-нибудь официального поручения... Неужели
меня не могут приклеить и засчитать в какую-нибудь дол-
жность...
Ангел-хранитель, каким всегда был для Гоголя безотказный
Василий Андреевич, хотя помог ему — достал через императрицу
четыре тысячи, — остался Гоголем недоволен: не мог смириться
с его богемными привычками и даже назвал «капризным эго-
истом». Гоголя же мучила совесть, что в очередной раз необхо-
димо «повиснуть на плечи великодушных друзей». Гордыня и
99
бесцеремонность Гоголя, осуждаемые не одним лишь Жуков-
ским, вполне могли быть его реакцией на униженность и бед-
ность...
Н. В. Гоголь — В. А. Жуковскому:
Я получил данное мне великодушным нашим Государем
вспоможение. Благодарность сильна в груди моей, но изли-
яние ее не достигнет к его престолу. Как некий бог, он сып-
лет полною рукою благодеяния и не желает слышать наших
благодарностей; но, может быть, слово бедного поэта дой-
дет до потомства и прибавит умиленную черту к его царст-
венным доблестям.
В том же письме — редкий для Гоголя взрыв жизнерадостно-
сти, открытости жизни:
Я весел. Душа моя светла. Тружусь и спешу всеми сила-
ми совершить труд мой. Жизни! Жизни! Еще бы жизни!
Римский период 1837 -— 1839 гг. — лучшая пора в жизни Гого-
ля. Об этом свидетельствуют его друзья и он сам:
Никогда я не чувствовал себя так погруженным в такое
спокойное блаженство. О, Рим! Рим! О, Италия! Чья рука
вырвет меня отсюда? Что за небо! Что за дни! Лето — не ле-
то, весна — не весна, но лучше весны и лета, какие бывают
в других углах мира. Что за воздух! Пью — не напьюсь, гля-
жу—не нагляжусь. В душе небо и рай.
Свидетельствует И. Ф. Золотарев:
Однако уже в эти годы намечалось в Гоголе кое-что из
тех черт, которые сделались господствующими в последний
период его жизни. Во-первых, он был крайне религиозен,
часто посещал церкви и любил видеть проявление религи-
озности в других. Во-вторых, на него находил иногда род
столбняка какого-то: вдруг среди оживленного, веселого
разговора замолчит, и слова от него не добьешься. Являлось
у него это, по-видимому, беспричинно. Затем в нем прояв-
лялась иногда странная застенчивость. Бывало, разговорит-
ся, и говорит весело, живо, остроумно. Вдруг входит какое-
нибудь новое лицо. Гоголь сразу смолкает и, как улитка,
прячется в свою раковину.
100
В Париже, «куда вовсе не располагал было ехать», Гоголь
встретился с А. С. Данилевским:
Первое время после того, как мы расстались и встрети-
лись снова в Париже, я узнал в нем прежнего Гоголя.
В Париже он не поехал в гостиницу, а прямо ко мне. По-
том взял номер в гостинице, но там мерз, потому что не
было печей, а были камины. Мы хотели найти теплую
квартиру и поселились на углу Place de la Bourse и Rue Vi-
vienne; в этом доме мы нашли, наконец, печь. Здесь Гоголь
писал «Мертвые души». Я к нему не заглядывал, потому
что он был постоянно занят; только по вечерам мы часто
собирались в театр.
«Мертвые Души», за которые Гоголь принялся в Веве и Пари-
же, он писал с мечтами о посмертной славе: «Одна только слава
по смерти (для которой, увы! не сделал я, до сих пор, ничего)
знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не сто-
ит копейки». Он чувствовал, что это произведение затмит все со-
зданное до него — потому и относился к ранее написанному как
к чепухе. Творческий подъем не подавлял его мнительности, ско-
рее даже еще сильнее разжигал ее. Честолюбивые мечты боро-
лись в нем со страшными сомнениями, вечно обостряя его бо-
лезнь, лучше сказать, его рукотворную болезнь — болезнь, кото-
рую он творил сам.
В. И. Шенрок:
В Париже Гоголь уже нередко удручал Данилевского
своею убийственною мнительностью: вдруг вообразит, что у
него какая-нибудь тяжелая болезнь (всего чаще боялся за
желудок), и носится с своим горем до того, что тяжело и
грустно на него смотреть, а разубедить его в основательно-
сти ужасных призраков не было никакой возможности.
В конце 1838-го в Рим с наследником приехал В. А. Жуков-
ский. Гоголь воспринял встречу как праздник — благо начина-
лись знаменитые карнавальные торжества. Забыв хвори и сплин,
он заполнял свободное время старшего друга восторженными эк-
скурсиями, встречами с римской богемой, пиршествами на Mon-
te Pincio. Жуковский был в полном восторге. Но праздник не ве-
чен... Стоило свите наследника покинуть Италию, как болезни и
страхи вновь навалились на signore Nicolo — не лучшее ли свиде-
тельство их психического происхождения: Гоголь практически
101
никогда не болел, будучи в добром расположении духа, — болез-
ни были результатом одиночества, чувства заброшенности и
страха. Стоило ему засесть за письменный или пиршественный
стол, и хвори тут же отступали...
В конце 1839-го Гоголь возвратился в Россию «устраивать се-
стер». Положиться на мать он не мог, хотя ехать ему страшно не
хотелось. Возвращался странным, кружным путем — через не-
мецкие курорты, Мариенбад, Вену. После трехлетнего отсутст-
вия на родине Гоголь волновался: что ждет его в стране зим и
вьюг? Как она его встретит? Друзья встретили его ликованием,
С. Т. Аксаков не спал от волнения, Максимович благодарил По-
година из Киева за то, что привез в подарок русской литературе
«беглого Пасичника». Гоголь не ждал столь теплого приема и
был глубоко взволнован. Хотя страна помнила его, принимала с
восторгом, это не прибавляло средств. А он был, как всегда, весь
в долгах, делал новые, чтоб не ударить в грязь лицом перед вос-
торженной матушкой и обрядить своих девиц-«патриоток». Го-
голь был весь в долгах и весь в делах: выпускных, издательских,
светских.
Вернувшись после трехлетней отлучки в Россию, Гоголь обна-
ружил, что после смерти Пушкина здесь началась «великая сва-
ра» тех избранных, кто всегда и везде определяет сознание на-
ции, что идеи стали важнее людей и что все партии в своей меж-
дуусобной борьбе совсем не прочь заполучить его, почти чужест-
ранца, в свой стан. Пушкинская эпоха кончилась, растворилась,
бесследно исчезла, ее «столпы» разрушились, единого здания бо-
льше нет. Вяземский, Жуковский, Плетнев ушли в тень, а на
солнце идет борьба всех против всех, и эти все страстно пытают-
ся привлечь его на свою сторону.
Восторженный прием, оказанный Гоголю в 1839-м, не в по-
следней мере обязан этой «борьбе за Гоголя», самим Гоголем
воспринятой как признание его первенства в русской литературе.
Конечно, близкие друзья, такие, как С. Т. Аксаков, П. А. Плет-
нев или В. А. Жуковский, видели в нем не соратника, а дорогого
гостя, но «западники» или «славянофилы» — лишь потенциаль-
ного союзника или врага. Когда Белинский писал Боткину: «Го-
голь хандрит», — это можно было понимать и в том смысле, что
он пока еще не «наш».
Трудно сказать, почему Гоголь не принял чью-либо сторо-
ну, — из чувства абсолютной независимости, принципиальной
102
неангажированности или из-за свалившихся на него забот. Он
вернулся домой без денег, а последние гроши то ли потерял, то
ли их у него украли. Между тем ему необходимо было одеть и
обуть сестер, где-то их пристроить, как-то поправить собствен-
ные литературные дела, снова не попав в кабалу к скряге Смир-
дину, всегда готовому воспользоваться его финансовыми затруд-
нениями. На свою беду, ему не удалось привезти из-за границы
ничего такого, что можно «выгодно продать».
В Петербурге Гоголь поселился у В. А. Жуковского, вместите-
льная квартира которого располагалась в Шепелевском дворце.
Здесь он надеялся в тишине поработать, однако на сей раз тиши-
на и безлюдность не рождали воодушевления.
В этот приезд он не собирался посетить родную Украину —
мать приехала на встречу с долго отсутствовавшим сыном в Мо-
скву. Но и в России Гоголь не задержался надолго — хотя долг
требовал позаботиться о сестрах, он рвался обратно в Рим. Го-
голь очень любил своих «голубушек», пытался устроить их судь-
бы, уделял им огромное внимание, но...
С. Т. Аксаков:
Прожив несколько времени вместе с матерью и сестра-
ми в доме Погодина, Гоголь уверил себя, что его сестры-
«патриотки» (как их называют), которые по-ребячьи были
очень несогласны между собой, не могли ехать вместе с
матерью в деревню, потому что они будут постоянно огор-
чать мать своими ссорами. Он решился пристроить как-
нибудь в Москве меньшую сестру Лизу, которая была ум-
нее, живее и более расположена к жизни в обществе.
Приведение в исполнение этой мысли стоило много хло-
пот и огорчений Гоголю. Черткова, с которой он был
очень дружен, не взяла его сестры к себе, хотя очень мог-
ла это сделать; у других знакомых поместить было невоз-
можно. Наконец, через Надежду Николаевну Шереметье-
ву, почтенную и бдительную старушку, которая впоследст-
вии любила Гоголя, как сына, поместил он сестру свою
Лизу к г-же Раевской, женщине благочестивой, богатой,
не имевшей своих детей, у которой жили и воспитывались
какие-то родственницы. Мать Гоголя уехала из Москвы
прежде.
103
Аннет была любимицей матери, и оставлять ее в Москве она
не захотела. Так Лиза осталась в Москве, а Анна уехала с мате-
рью в Малороссию.
В Рим Гоголь рвался не только к неоконченным работам — в
одном из писем к Жуковскому он жаловался на «странности
своего существования в России», похожего на «тяжелый сон».
Был ли это хорошо ныне известный симптом так называемого
«возвратного шока», испытываемого тонкими душами после воз-
врата домой из Европы, или очередное гоголевское «окамене-
ние», или «бесчувственно-сострадательное оцепенение», давшее
впоследствии основание говорить о каталепсии, или то и другое
вместе?
В многолетнюю зарубежную поездку Гоголя провожал весь
«цвет России». Он прощался с Москвой в день своего ангела Ни-
колы вешнего, 9 мая 1840 года. На банкет, устроенный Погоди-
ным, собралась вся интеллигенция: Тургенев, Аксаковы, Хомя-
ковы, Чертковы, Свербеевы, Чаадаев, Глинки, Вяземский, Сама-
рин, Дмитриев, Загоскин, Орлов... Позже А. И. Тургенев записал
в своем дневнике:
9 мая... к Гоголю на Девичьем поле у Погодина, там уже
молодая Россия съехалась... Стол накрыт в саду: Лермонтов...
Это была последняя встреча с другим великим поэтом, впро-
чем, и первая... Точнее, Гоголь и Лермонтов встретились на
проводах Гоголя 9 мая и на следующий день проговорили до 2
часов дня. «Встретились — и разошлись. Оба уезжали...» Ни
один из них не оставил воспоминаний об этой встрече, хотя
впоследствии Гоголь высоко отзывался о Герое нашего
времени.
Свидетельствует С. Т. Аксаков:
Нам очень не нравился его отъезд в чужие края, в Ита-
лию, которую, как нам казалось, он любил слишком много.
Нам казалось непонятным уверение Гоголя, что ему надоб-
но удалиться в Рим, чтоб писать об России; нам казалось,
что Гоголь не довольно любит Россию, что итальянское не-
бо, свободная жизнь посреди художников всякого рода, ро-
скошь климата, поэтические развалины славного прошед-
шего, все это вместе бросало невыгодную тень на природу
нашу и нашу жизнь.
104
КРИЗИСЫ И ВЗЛЕТЫ
Мне нет дела до того, кончу ли
я картину или смерть меня застиг-
нет на самом труде; я должен до
последней минуты своей рабо-
тать... Если бы моя картина погиб-
ла или сгорела пред моими глаза-
ми, я должен быть так же покоен,
как если бы она существовала, по-
тому что я не зевал, я трудился.
Н. В. Гоголь
Уныние рождает отчаяние, ко-
торое есть душевное убийство.
Н. В. Гоголь
После побывки на родине состояние Гоголя ухудшилось. Он
как-то враз сдал, поддался страхам, потерял сон и вообще сдался
всем своим фобиям и маниям.
Приехав в Вену, принялся было за запорожцев, но даже траге-
дия не шла. То ли отвлекали замыслы, связанные с Мертвы-
ми Душами, то ли надломился после напряжения Москвы.
В Вене он узнал свой «арзамасский ужас» — панический страх
смерти. Венский кризис вместил в себя слишком многое: сомне-
ния в собственной дееспособности как великого поэта, огромные
долги, наделанные под аванс будущих творений1, внезапное ухуд-
шение здоровья, ужас одиночества...
Малейшее какое-нибудь движение, незначащее усилие,
и со мной делается черт знает что. Страшно, просто страш-
но. Я боюсь. А как было хорошо началось дело. Я начал та-
кую вещь, какой, верно, у меня до сих пор не было, — и те-
перь из-под самых облаков да в грязь.
Сам Гоголь в письме к М. П. Погодину описывал свое состоя-
ние следующим образом:
Это же было еще летом, в жар, и нервическое мое про-
буждение обратилось вдруг в раздражение нервическое. Все
мне бросились разом на грудь. Я испугался; я сам не пони-
1 Долги Н. В. Гоголя в это время достигли огромной суммы в 11 тысяч руб-
лей.
105
мал своего положения; я бросил занятия, думал, что это от
недостатка движения при водах и сидячей жизни, пустился
ходить и двигаться до усталости, и сделал еще хуже. Нерви-
ческое расстройство и раздражение возросло ужасно; тя-
жесть в груди и давление, никогда дотоле мною не испы-
танное, усилилось... К этому присоединилась болезненная
тоска, которой нет описания. Я был приведен в такое состо-
яние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему при-
слониться. Ни двух минут я не мог оставаться в покойном
положении ни на постели, ни на стуле, ни на ногах. О, это
было ужасно, это была та самая тоска, то ужасное беспо-
койство, в каком я видел бедного Виельгорского в послед-
ние минуты жизни.
По свидетельству С. Т. Аксакова, полученному от Н. П. Бот-
кина, в это время у Гоголя часто случались видения. У него воз-
никло навязчивое желание уехать на край света — убежать пода-
льше от себя самого.
Как впоследствии Толстого, кризис застал Гоголя в дороге. Как
впоследствии Толстой, он испытал жуткий, животный страх смер-
ти. Как Толстой, воспринял его предупреждением Божьим. Как
Толстой, задумался о правильности своей жизни и своем будущем.
Как всегда, спасла Гоголя дорога. Чуть живой от переживаний,
он сел в дилижанс и помчался в свой Рим, в очередной раз выле-
чивший и спасший этого сверхмнительного человека. Гоголь был
мистиком, но его мистика имела под собой крепкое основание —
психику Гоголя. При всей исповедальное™ гения, Гоголь, в от-
личие от Толстого, не оставил записей о том, что происходило с
ним во время его ужаса, но нет сомнений, что произошедшее с
ним в Вене и после нее оставило глубокий след в его духовной
жизни. Мы не знаем, какие он давал обеты Богу, но нам извест-
но, что, «нацарапав тощее завещание», которое, как известно,
тридцатилетние не пишут без основательного повода, пережив
все возможные страхи и ужасы, мечтая о воскрешении и только
двух годах жизни, он, едва приехав в Рим, почувствовал себя в
добром здравии и относительном покое. Кризис так же быстро
окончился, как и начался, завершившись тем подъемом, который
сопровождал Гоголя при работе над первым томом Мертвых
Душ. Кстати, почти никто из исследователей не усмотрел связи
между «венским ужасом», «римским исцелением» и той быстро-
той, с которой начали «двигаться» Мертвые. Между тем все
это самим Гоголем воспринималось не иначе как чудо — чудо,
106
без которого невозможно понять его душевную жизнь после по-
сещения России в сентябре 1839 — мае 1840-го.
Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову:
Теперь я пишу к вам, потому что здоров, благодаря чуд-
ной силе Бога, воскресившего меня от болезни, от которой,
признаюсь, я не думал уже встать. Много чудного соверши-
лось в моих мыслях и моей жизни!
Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый
том «Мертвых душ». Переменяю, перечищаю, многое пере-
рабатываю вовсе и вижу, что их печатание не может обой-
тись без моего присутствия. Между тем, дальнейшее про-
должение его выясняется в голове моей чище, величествен-
ней, и теперь я вижу, что может быть со временем что-то
колоссальное, если только позволят мне мои силы.
Вот это-то чувство колоссальности и было результатом всего
пережитого Гоголем после отъезда из России, здесь-то у него и
родилась мысль о «невидимой руке», ведущей его к высшему на-
значению.
И. П. Золотусский:
Именно в это время созревает в Гоголе мысль, что Бог
недаром совершил все это, что есть в этом не только всеоб-
щая милость Божия, но и снисхождение лично к нему, изб-
рание его в число тех, кому доверено представлять высшее
мнение на земле.
Да, в Вене с Гоголем произошло то чудо просветления, осене-
ния, благодарения, которое позже пережил Толстой в Арзамасе:
«Вся жизнь моя отныне — один благодарный гимн». Соприкос-
нувшись с ужасом смерти, он благодарит небо за отпущенные
ему дни жизни и влившееся в него вдохновение. Теперь это уже
другой Гоголь, осененный, смиренный, очистивший душу. Во
второй редакции Портрета он — вполне в духе Великого Пи-
лигрима — повествует о грехе искусства, соблазнившегося ярко-
стью зла: художник, написавший портрет ростовщика, сосущего
кровь людей, должен искупить свой грех хсизнью всех своих
близких. Дабы очиститься от скверны зла и приобщиться к боже-
ственности добра, художник уходит замаливать грехи в мона-
стырь.
107
Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти,
требовал от него написать главный образ в церковь. Но
смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться
за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жерт-
вами он должен прежде очистить свою душу, чтоб удостои-
ться приступить к такому делу.
Может быть, впервые в жизни Гоголь испытывает спокойст-
вие осененного божественной благодатью. Меняется даже его ли-
цо. На портрете Моллера оно выражает умиротворение и покой.
И. П. Золотусский:
Все умиротворилось в этом лице, пришло в согласие с
душевным состоянием, все как бы нежно озарилось постиг-
нутым внутренним светом. Это лицо доброе, светлое и бла-
годарное, хотя загадочная гоголевская улыбка, прячущаяся в
выражении его полных розовых губ и карих, глядящих рас-
крыто на зрителя глаз, придает этой гармонии одушевляю-
щую индивидуальность: то лицо Гоголя, первого насмешни-
ка на Руси.
Темно-коричневый тон его шинели и сюртука, темный
платок, подхватывающий под самый подбородок шею, как бы
высветляют лик — его округло-правильные черты, его свет-
лость («светлость, какою объят я весь в сию самую минуту»),
его притягательную открытость. Да, Гоголь открыт в этом
портрете, как ни в каком другом. Его льющиеся волосы мягко
закрывают часть лба — высокого благородного лба, — и кра-
сивые дуги бровей дают его облику сходство с обликом жен-
ским, юношески не огрубевшим, может быть, детским. «О,
моя юность! О, моя свежесть!» — кажется, они возвратились
на эту минуту к нему, и их-то схватил и увековечил художник.
Н. В. Гоголь — М. П. Погодину:
Я здоров. Чувствую даже свежесть, занимаюсь переправ-
ками, выправками и даже продолжением «Мертвых душ».
Вижу, что предмет становится глубже и глубже. Даже соби-
раюсь в наступающем году [1841] печатать первый том.
Многое совершилось во мне в немногое время; но я не в си-
лах теперь печатать о том, не знаю почему, — может быть,
потому самому, почему не в силах был в Москве сказать тебе
ничего такого, что бы оправдало меня перед тобою во мно-
гом. Когда-нибудь в обоюдной встрече, может быть, на меня
108
найдет такое расположение, что слова мои потекут, и я, с
чистой откровенностью ребенка, поведаю состояние души
моей, причинившей многое вольное и невольное. О, ты дол-
жен знать, что тот, кто создан сколько-нибудь творить в глу-
бине души, жить и дышать своими творениями, тот должен
быть странен во многом! Боже, другому человеку, чтобы
оправдать себя, достаточно двух слов, а ему нужны целые
страницы! Как это тягостно иногда! Но довольно. Я покоен.
Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову:
Болезнь моя много отняла у меня времени; но теперь,
слава Богу, я чувствую даже по временам свежесть, мне
очень нужную... Воздух теперь чудный в Риме, светлый. Но
лето, лето — это я уже испытал — мне непременно нужно
провести в дороге. Я повредил себе много, что зажился в
душной Вене.
Тому же адресату, через два месяца:
Да, друг мой! я глубоко счастлив. Несмотря на мое болез-
ненное состояние, которое опять немного увеличилось, я
слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и
совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз те-
перь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля Бога:
подобное внушение не происходит от человека; никогда не
выдумать ему такого сюжета! О, если бы еще три года с таки-
ми свежими минутами! Столько жизни прошу, сколько нуж-
но для окончания труда моего; больше ни часу мне не нужно.
Письма Гоголя Аксакову 1841 года полны элоквенций и пате-
тики:
Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет!.. Конечно,
эта ваза вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но
в этой вазе теперь заключено сокровище; стало быть, ее
нужно беречь.
Труд мой велик, мой подвиг спасителен.
П. В. Анненков:
1841 год был последним годом его свежей, мощной,
многосторонней молодости. Он стоял на рубеже нового на-
109
правления, принадлежа двум различным мирам1. По тай-
ным стремлениям своей мысли он уже относился к строго-
му, исключительному миру, открывавшемуся впереди; по
вкусам, некоторым частным воззрениям и привычкам ху-
дожнической независимости — к прежнему направлению.
Последнее еще преобладало в нем, но он уже доживал со-
чтенные дни своей молодости, ее стремлений, борьбы, па-
дений — и ее славы.
Работу над первым томом Мертвых Душ Гоголь завершал
в «городе своем мечты» — Риме. Рукопись ему помогали перепи-
сывать набело друзья — В. А. Панов и П. В. Анненков. Россия
ждала...
Вот как описывал процесс творчества Гоголя живший с ним в
Риме в 1837—1838 гг. И. Ф. Золотарев:
Когда Гоголь начинал писать, то предварительно делался
задумчив и крайне молчалив. Подолгу, молча, ходил он по
комнате, и когда с ним заговаривали, то просил замолчать и
не мешать ему. Затем он залезал в свою дырку: так называл
он одну из трех комнат квартиры... отличавшуюся весьма
скромными размерами, где и проводил в работе почти без-
выходно несколько дней.
В редкие периоды вдохновения — посещения ангелов — Го-
голь мог творить в любых условиях, самых богемных. Вот одно из
его собственных признаний:
Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в
этот трактир [речь идет о дорожной забегаловке в Италии
между городками Джансано и Альбано], мне захотелось пи-
сать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель и
под гром катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне
прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивитель-
ным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я счи-
таю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко
писал с таким одушевлением.
Хотя здесь речь идет скорее об исключении, чем правиле,
уединенное творчество Гоголя постоянно нуждалось в свежих
1 Ранних произведений, Мертвых Душ и Выбранных мест.
ПО
впечатлениях, бурлении жизни, вечном движении, широте про-
странства...
Странное дело, я не могу и не в состоянии работать, ког-
да я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда
нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем
пространством времени, неразграниченным и неразмерен-
ным. Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы
писать, нужно было забраться в деревню, одному, и запере-
ться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать,
где я один и где я чувствовал скуку...
Свидетельствует П. В. Анненков:
Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас прини-
мался за работу. На письменном его бюро стоял уже графин
с холодной водой из каскада Терни, и в промежутках рабо-
ты он опорожнял его дочиста, а иногда и удваивал порцию.
Это была одна из потребностей того длинного процесса са-
молечения, которому он следовал всю свою жизнь.
Взлелеянный уединением Рима, Гоголь весь предался
творчеству и перестал читать и заботиться о том, что делает-
ся в остальной Европе. Он сам говорил, что в известные
эпохи одна хорошая книга достаточна для наполнения всей
жизни человека. В Риме он только перечитывал любимые
места из Данте, «Илиады» Гнедича и стихотворений Пуш-
кина.
Гоголь никогда не скрывал своей огромной любви к Италии,
которая в чем-то напоминала любовь к женщине, от которой
влюбленный не в силах оторвать глаза. Все это происходило с
ним буквально: он мог часами недвижно, с воспаленными щека-
ми всматриваться в итальянские пейзажи, замирая, словно в ка-
талепсии, и отрешаясь от всего, кроме этой своей любви. Рим
был для Гоголя земным раем, мечтой, землей обетованной, в ко-
торой он черпал силы и где мечтал лечь в могилу.
Н. В. Гоголь — М. А. Максимовичу:
Приезжай когда-нибудь, хоть под закат дней, в Рим, на
мою могилу, если не станет уж меня в живых. Боже, какая
земля! Какая земля чудес! и как там свежо душе!..
111
А. О. Смирнова:
Вообще он хвастал перед нами Римом так, как будто это
его открытие.
Гоголь прекрасно знал, был влюблен в итальянскую культуру
и любил устраивать экскурсии по Риму заезжим землякам.
Не было итальянского историка или хроникера, которо-
го бы он не прочел, не было латинского писателя, которого
бы он не знал; все, что относилось до исторического разви-
тия искусства, даже благочинности итальянской, ему было
известно и как-то особенно оживляло для него весь быт
этой страны, которая тревожила его молодое воображение и
которую он так нежно любил...
В Риме Гоголю все нравилось, даже ослы. Он находил их
очень умными и приятными животными и уверял, что они ни на
каком языке не называются так приятно, как на итальянском (i
ciuchi).
В. Набоков:
В Риме жил тогда великий русский художник Иванов.
Больше двадцати лет он трудился над своим «Явлением
Христа народу». Судьба его во многом схожа с судьбой Го-
голя, с той только разницей, что Иванов в конце концов за-
кончил свой шедевр; рассказывают, что, когда его наконец
выставили (в 1858 году), он спокойно сидел перед карти-
ной, накладывая последние мазки — это после двадцатилет-
ней работы! — и не обращая внимание на сутолоку в выста-
вочном зале. Оба — и Гоголь, и Иванов — жили в постоян-
ной бедности, потому что не могли оторваться от главного
дела своей жизни ради заработка; обоих донимало нетерпе-
ние соотечественников, попрекавших их медлительностью;
оба были нервны, раздражительны, малообразованны, до
смешного неловки в мирских делах. В своем обширном
описании работы Иванова Гоголь подчеркивает это сродст-
во, и нельзя не почувствовать, что, когда он говорит о глав-
ной фигуре («А он, в небесном спокойствии и чудном отдале-
нии, тихой и твердой стопой уже приближается к людям»),
картина Иванова каким-то образом слилась в его сознании
с религиозной идеей его собственной, еще не написанной
112
книги, которую он видел плавно слетающей к нему с сереб-
ристых итальянских холмов.
А. А. Иванов видел в Гоголе пророка и всегда следовал его со-
ветам. Гоголь стал душой художественного кружка русских «ака-
демиков» в Риме.
Для Гоголя Иванов был уроком самоотверженной и безразде-
льной преданности искусству, подвижнического служения ему:
«Урок этот нужен, чтобы видели все другие, как нужно любить
искусство. Что нужно, как Иванов, умереть для всех приманок
жизни; как Иванов, учиться и считать себя век учеником; как
Иванов, отказывать себе во всем...» Гоголь даже пытался исхло-
потать А. А. Иванову, прикованному к галере своей великой кар-
тины, сносное содержание.
В искусстве А. А. Иванова Гоголь усматривал искомую им не-
разрывную связь искусства и религии, красоты и веры. Явле-
ние Христа было для него символом такого единения.
С Александром Андреевичем Ивановым Гоголь не просто дру-
жил — наброски к Явлению Христа возбуждали его религи-
озное чувство, возвращали к истокам христианства, заставляли
думать об обращенных и сомневающихся, святых и грешных.
Следы ивановского влияния легко усмотреть в авторских ремар-
ках к Мертвым Душами особенно в Выбранных мес-
тах. Впрочем, к моменту написания последних отношения с ав-
тором Явления Христа ухудшились. Н. П. Боткин свидете-
льствовал:
Сперва Гоголь и А. А. Иванов были очень и очень близ-
ки; но потом взгляды и понимание вещей у них изменились,
и их отношения сделались дальше. Иванов перестал быть от-
кровенен, и в ответ на письмо, в котором Гоголь посылал
ему молитву, старался отделаться различными фразами.
В РОССИИ
В конце 1841-го Гоголь морем прибывает в Петербург. В его
портфеле Мертвые Души, повесть Рим и наброски Ши-
нели, сам он полон надежд, среди которых не на последнем ме-
сте — надежда расплатиться с долгами, достигшими без малого
18 тысяч. В Петербурге Гоголь задержался недолго — спешил в
113
дорогую ему Москву, где необходимо было преодолеть всегдаш-
нее препятствие русских литераторов — цензуру.
С. Т. Аксаков:
Гоголя мы уже давно ждали, но, наконец, и ждать пере-
стали; а потому внезапное появление его у нас в доме 18 ок-
тября 1841 г. произвело такой же радостный шум, как в
1839 году письмо Щепкина, извещавшее о приезде Гоголя в
Москву. В этот год последовала сильная перемена в Гоголе,
не в отношении к наружности, а в отношении к его нраву и
свойствам. Впрочем, и по наружности он стал худ, бледен, и
тихая покорность воле Божьей слышна была в каждом его
слове...
Едва появившись в Москве, Гоголь отправляет рукопись в
Московский цензурный комитет в надежде на скорое разреше-
ние, но в России ничто не делается скоро: хотя цензор, профес-
сор Московского университета И. М. Снегирев, познакомившись
с Мертвыми Душами, доложил по начальству, что ничего
не дозволенного нет, помощник попечителя Московского учеб-
ного округа Д. П. Голохвастов, только услышав название поэмы,
«закричал голосом древнего римлянина: «Нет, этого я никогда не
позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть;
автор вооружается против бессмертия».
Я не буду останавливаться на всех перипетиях преодоления
цензурных рогаток, на воплях Гоголя о помощи, обращенных к
друзьям, — приведу лишь одну интересную деталь, ходатайство
шефа жандармов и начальника Третьего отделения графа А. X.
Бенкендорфа царю. «Гонитель» и «душитель», «жестоко пресле-
довавший все проявления русской прогрессивной общественной
мысли», «один из инициаторов травли и убийства Пушкина и
Лермонтова»1, писал:
Попечитель моек, учебн. округа генерал-адъютант гр. Строга-
нов уведомляет меня, что известный писатель Гоголь находится
теперь в Москве в самом крайнем положении, что он основал
всю надежду свою на сочинении своем под названием «Мертвые
Души», но оно московскою цензурою не одобрено и теперь нахо-
1 Как известно, А. X. Бенкендорф в свое время предлагал А. С. Пушкину
стать сотрудником Третьего отделения, что, безотносительно ко всему прочему,
свидетельствует об уровне «заведения»...
114
дится в рассмотрении здешней цензуры, и как между тем Гоголь
не имеет даже дневного пропитания и оттого совершенно упал
духом, то граф Строганов просит об исходатайствовании от мо-
нарших щедрот какого-либо ему пособия. Всеподданнейше доно-
шу вашему императорскому величеству о таком ходатайстве гр.
Строганова за Гоголя, который известен многими своими сочи-
нениями, в особенности комедией своей «Ревизор», я осмелива-
юсь испрашивать всемилостивейшего вашего величества повеле-
ния о выдаче в единовременное пособие пятьсот рублей сереб-
ром. (На письме пометка царя «Согласен».)
Н. В. Гоголь — министру народного просвещения, графу С. С.
Уварову:
Все мое имущество и состояние заключено в труде моем. Для
него я пожертвовал всем, обрек себя на строгую бедность, на глу-
бокое уединение, терпел, переносил, пересиливал сколько мог
свои болезненные недуги в надежде, что, когда совершу его, оте-
чество не лишит меня куска хлеба... Я думал, что получу скорее
ободрение и помощь от правительства, доселе благородно обод-
рявшего все благородные порывы и что же?.. Неужели и вы не
будете тронуты моим положением?.. Подумайте: я не предприни-
маю дерзости просить вспомоществования и милости, я прошу
правосудия, я своего прошу: у меня отнимают мой единствен-
ный, мой последний кусок хлеба. Почему знать, может быть, не-
смотря на мой трудный и тернистый жизненный путь, суждено
бедному имени моему достигнуть потомства. И ужели вам будет
приятно, когда правосудное потомство, отдав вам должное за ва-
ши прекрасные подвиги для наук, скажет в то же время, что вы
были равнодушны к созданьям русского слова...
В конечном счете ходатайства Уварова не потребовалось, как,
впрочем, и помощи многочисленных друзей и заступников: все
разрешилось само собой — рукопись попала к писателю и цензо-
ру Александру Васильевичу Никитенко, который, прочитав ее,
ничего крамольного не обнаружил, предложив лишь изменить
эпизод с капитаном Копейкиным.
О том, каковы были в то время цензоры на Руси, свидетельст-
вует первый отклик на Мертвые Души, данный Никитенко
тотчас после подписания поэмы. Вот он, этот отзыв:
Какой глубокий взгляд в самые недра нашей жизни! Ка-
кая прелесть неподдельного, вам одним свойственного ко-
115
мизма! Что за юмор! Божье и русское созданье... И что это
будет, когда все вы кончите: если это исполнится так, как я
понимаю, как, кажется, вы хотите, то тут выйдет полная ве-
ликая эпопея России XIX века. Рад успехам истины и мыс-
ли человеческой, рад нашей славе.
Не только цензоры оказались визионерами — русские поли-
цейские тоже. Первый панегирик Мертвым Душам был
опубликован в... Ведомостях С. П.-Бургской город-
ской полиции! Гражданские критики еще спали, а критик
бенкендорфский, первым оценивая «создание изумительное»,
писал:
С первого появления своего Гоголь занял почетнейшее
место в рядах русских литераторов; каждый дальнейший
шаг его, каждое дальнейшее произведение более и более
привлекали к нему любовь публики, более и более сниски-
вали к нему уважение истинных любителей литературы.
С появлением на сцене «Ревизора» имя его сделалось на-
родным; сам он стал в литературе кумиром для всех людей,
одаренных умом, вкусом и чувством.
Кстати, два слова о русской цензуре. Исписаны горы бумаги о
том, какие неимоверные трудности приходилось преодолевать
Гоголю, чтобы пропускать через цензуру свои произведения в пе-
чать, но при этом ни слова не сказано о том, как печатались при
Николае Палкине наши революционеры-демократы, современ-
ники Гоголя, все эти Белинские, Добролюбовы, Чернышевские...
Сказанное, видимо, заставляло задуматься «лучшие умы» и
искать объяснения такой непоследовательности «беспощадного»
царя. Одно из таких объяснений я обнаружил в Дневниках
А. И. Герцена. Может быть, оно тебя удовлетворит, мой чита-
тель, но меня — нет:
...Сам Николай, тридцать лет оборонявший Россию от
всякого прогресса, от всякого переворота, ограничился то-
лько фасадом строя, не порядком, а видом порядка. Ссылая
Полежаева, Соколовского за смелые стихи, вымарывая сло-
ва «вольность», «гражданственность» в печати, он пропус-
тил сквозь пальцы Белинского, Грановского, Гоголя и, са-
жая на гауптвахту цензора за пустые намеки, не заметил,
что литература с двух сторон быстро неслась в социализм...
116
На страницах моих книг уже пару раз мелькала тема Третьего
отделения и ее шефа. Любопытная добавка к этой теме — к лич-
ности Бенкендорфа. В докладе царю, датированном 1840 годом,
«изувер» писал:
Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб
под государством и тем опаснее, что войско составлено из
крестьян же и что ныне составилась огромная масса беспо-
местных дворян из чиновников, которые, будучи воспалены
честолюбием, и не имея ничего терять, рады всякому рас-
стройству.
Не только цензоры на Руси были наделены повышенной про-
ницательностью.
В этот приезд еще сильнее обострилась «борьба за Гоголя»
между «западниками» (Герцен, Белинский, Грановский) и «сла-
вянофилами» (Аксаковы, Киреевские, Хомяков, Языков, Пого-
дин, Шевырев, Свербеев). «Хитрый малоросс» пытался лавиро-
вать, не ссориться ни с Отечественными записками,
ни с Московитянином, но именно это его положение «над
схваткой» делало его объектом нападок с обеих сторон. Когда в
третьей книжке Московитянина за1842 год появился гого-
левский Рим, Белинский взбеленился:
Страшно подумать о Гоголе, — ведь во всем, о чем ни
написал, одна натура, как в животном. Невежество абсо-
лютное. Что он наблевал о Париже-то!
Начали портиться отношения и с издателем Московитя-
нина и Московского Вестника М. П. Погодиным, ко-
торого Гоголь заподозрил в «прикарманивании» Мертвых
Душ и всяческих кознях.
Свидетельствует С. Т. Аксаков:
В конце 1841 ив начале 1842 года начали возникать неу-
довольствия между Гоголем и Погодиным. Гоголь молчал, но
казался расстроенным; а Погодин начал сильно жаловаться
на Гоголя: на его капризность, скрытность, неискренность,
даже ложь, холодность и невнимание к хозяевам, т. е. к нему,
к его жене, к матери и теще, которые будто бы ничем не мог-
ли ему угодить. Я должен признаться, к сожалению, что жа-
лобы и обвинения Погодина казались так правдоподобными,
117
что сильно смущали мое семейство и отчасти меня самого, а
также и Шевырева. Я, однако, объясняя себе поступки Гого-
ля его природною скрытностью и замкнутостью, его прави-
лами, принятыми сыздетства, что иногда должно не только
не говорить настоящей правды людям, но и выдумывать вся-
кий вздор для скрытия правды, я старался успокоить других
моими объяснениями. Я приписывал скрытность и даже ка-
кую-нибудь пустую ложь, которую употреблял иногда Го-
голь, когда его уличали в неискренности, единственно стран-
ности его характера и его рассеянности. Будучи погружен в
совсем другие мысли, разбуженный как будто от сна, он ино-
гда сам не знал, что отвечает и что говорит, лишь бы только
отделаться от докучного вопроса; данный таким образом от-
вет невпопад надобно было впоследствии поддержать или
оправдать, из чего иногда выходило целое сплетение разных
мелких неправд. Впрочем, я должен сказать, что странности
Гоголя иногда были необъяснимы и остались навсегда для
меня загадками. Мне нередко приходилось объяснять само-
му себе поступки Гоголя точно так, как я объяснял их дру-
гим, т. е. что мы не можем судить Гоголя по себе, даже не мо-
жем понимать его впечатлений, потому-то, вероятно, весь
организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас; что нервы
его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего
мы не слышим, и содрогаются от причин, для нас неизвест-
ных. На такое объяснение Погодин с злобным смехом отве-
чал: «Разве что так». Я тогда еще не вполне понимал Погоди-
на и потому не догадывался, что главнейшею причиною его
неудовольствия было то, что Гоголь ничего не давал ему в
журнал, что он постоянно и грубо требовал, несмотря на все
письма Гоголя. После объяснилось, что Погодин пилил, му-
чил Гоголя не только словами, но даже записками, требуя
статей себе в журнал и укоряя его в неблагодарности, кото-
рые посылал ежедневно к нему снизу наверх. Такая жизнь
сделалась мучением для Гоголя и была единственною причи-
ною скорого отъезда его за границу.
Гоголь не желал вступать в «литературные баталии», чувствуя
после Европы «мышиную возню», ведущуюся литераторами на
родине:
Все эти славянисты и европисты, — или же староверы и
нововеры, или же восточники и западники, а что они в са-
мом деле, не умею сказать, потому что покамест они мне
кажутся только карикатурами на то, чем хотят быть, — все
118
они говорят о двух разных сторонах одного и того же пред-
мета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не пе-
речат друг другу.
Живя за границей, будучи оторван от литературной жизни
России, Гоголь страстно желал знать реакцию на публикуемые на
родине сочинения свои и засыпал друзей просьбами собирать
максимальную информацию о суждениях публики и мнениях
своих корреспондентов. Здесь жгучий интерес соседствовал с
хитростью: определением «своих» и «чужих»...
Н. В. Гоголь — Н. Я. Прокоповичу:
...Будь так добр: верно, ходят какие-нибудь толки о
«Мертвых душах». Ради дружбы нашей, доведи их до моего
сведения, каковы бы они ни были и от кого бы ни были.
Мне все они равно нужны.
Н. В. Гоголь — А. С. Данилевскому:
Уведоми меня сколько-нибудь о толках, которые тебе
случится слышать о «Мертвых душах», как бы они пусты и
незначительны ни были, со значением, из каких уст истек-
ли они. Ты не можешь вообразить себе, как все это полезно
мне и нужно, и как для меня важны все мнения, начиная от
самых необразованных до самых образованных.
Н. В. Гоголь — М. П. Балабиной:
Известите меня обо мне: записывайте все, что когда-ли-
бо вам случится услышать обо мне, — все мнения и толки
обо мне и об моих сочинениях, и особенно, когда бранят и
осуждают меня.
Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву:
После критики, всеобщего шума и разноголосья мне все-
гда ясней представляется мое творенье. А не изведав себя со
всех сторон, во всех своих недостатках, нельзя избавиться
от своих недостатков.
С. Т. Аксаков:
Он думал, что злость, напрягая и изощряя ум самого по-
шлого человека, может открыть в сочинении такие недо-
119
статки, которые ускользали н^ только от пристрастных дру-
зей, но и от людей равнодушна к ЛИЧНости автора, хотя бы
они были очень умны и °браз^ванны
Свое состояние, самохарактеристику и СВОе отношение к ве-
дущейся вокруг него борьбе Гогол^ с предельной искренностью
выразил в своем письме к Александре Осиповне Смирновой, на-
писанном в год издания Мертвых Душ:
Все литературные приятели мои познакомились со
мною тогда, когда я еще был прежним человеком, зная ме-
ня даже и тогда довольно плохо. По моим литературным
разговорам всякий был уверен, что меня занимает только
литература, и что все прочее ровно не существует для меня
на свете. С тех пор, как я оставил Россию, произошла во
мне великая перемена. Душа заняла меня всего, и я увидел
слишком ясно, что без устремления моей души к ее луч-
шему совершенству не в силах я был двигнуться ни одной
моей способностью, и без этого воспитания душевного
всякий труд мой будет только временно блестящ, суетен в
существе своем... В приезд мой в Россию все литературные
приятели мои встретили меня с разверстыми объятиями.
Всякий из них, занятый литературным делом, кто журна-
лом, кто другим, пристрастившись к одной какой-нибудь
любимой идее и встречая в других противников своему
мнению, ждал меня, как какого-то мессию, в уверенности,
что я разделю его мысли и идеи, поддержу его и защищу
против других, считая это первым условием и актом друж-
бы, не подозревая даже того (невинным образом), что тре-
бования эти, сверхнелепости, были даже бесчеловечны.
Жертвовать мне временем и трудами своими для поддер-
живания их любимых идей было невозможно, потому что
я, во-первых, не вполне разделял их, во-вторых, мне нуж-
но было чем-нибудь поддерживать бедное свое существова-
ние, и я не мог жертвовать им моими статьями, помещая
их к ним в журналы, но должен был их напечатать отдель-
но, как новые и свежие, чтобы иметь доход. Все эти безде-
лицы у них ушли из виду. Холодность мою к их литератур-
ным интересам они почли за холодность к ним самим. Не
призадумались составить из меня эгоиста в своих мыслях,
которому ничто общее благо, а дорога только собственная
литературная слава. Между моими литературными прияте-
лями началось что-то вроде ревности. Всякий из них стал
подозревать меня в том, что я променял его на другого. И,
120
слыша издали о моих новых знакомствах и о том, что меня
стали хвалить люди им неизвестные, усилили еще больше
свои требования, основываясь на давности своего знаком-
ства. Я получил престранные письма, в которых каждый,
выставляя вперед себя и уверяя меня в чистоте своих отно-
шений ко мне, порочили и почти неблагородно клеветали
на других, уверяя, что они мне льстят только из своих вы-
год, что они меня не знают вовсе, что любят меня только
по моим сочинениям, а не потому, что они любят меня са-
мого (все они еще до сих пор уверены, что я люблю всяко-
го рода фимиам), и упрекая меня в то же время такими ве-
щами, обвиняя такими низкими обвинениями, каких, кля-
нусь, я бы не сделал самому дурному человеку... Недоразу-
мения доходили до таких оскорбительных подозрений, та-
кие грубые наносились удары и притом по таким чувстви-
тельным и тонким струнам, о существовании которых не
могли даже и подозревать наносившие мне удары, что из-
ныла и исстрадалась вся моя душа, и мне слишком было
трудно.
Почему Гоголь отказался от участия в ведущейся на родине
литературной борьбе? Потому что чувствовал себя «избранным»,
«осененным», руководимым высшей силой, познавшим Божью
благодать. После «спасения» в Вене он считал, что сам Бог дал
ему продление жизни на исполнение высшего замысла, великого
творения, подобного Божественной комедии, написан-
ной Данте тоже по внушению свыше. Гоголь увидел небесный
свет и, как вестник, получивший знак свыше, исполнял божест-
венное предназначение, ведомый божественной рукой.
Таковы были чувства Гоголя. И потому он все происхо-
дящее вокруг видел как бы сквозь туман, может быть, от
этого и не замечал, что чувствуют другие, не брал этого в
расчет — он настолько жил своим, что иное, не его уже и не
тревожило его глаз.
После выхода Мертвых Душ Гоголь переживал свой оче-
редной кризис, называя последующие годы «антрактом». В нем
уже вовсю шел тот процесс внутреннего очищения, который он
определил всеобъемлющим словом «любовь»: «Весь бы я хотел
превратиться в любовь». Как безгранична, бесконечна и беспре-
дельна любовь Бога к человеку, так и любовь людей к Богу и друг
121
другу не должна иметь границ. В Гоголе зреет пророк, он сам на-
чинает верить, что этот идущий в нем процесс очищения и люб-
ви дает ему право на «глас небес». 1842 — 1843-й — почти бес-
плодные годы, но именно они заполнены максимальным количе-
ством «наставлений» и «поучений»: что кому читать, что кому
писать. В письмах он становится откровеннее, но и притязатель-
нее, а вместе с тем и непреклоннее, ригористичнее, слово «дол-
жен» оказывается преобладающим в его словаре: «Ты должен» —
так начинаются многие фразы писем.
Благодать, спустившаяся на Гоголя, — особого рода — она не
смягчает его, а, наоборот, делает резче, непреклоннее. Призывая
других «быть светлей», он сам становится жестче, холоднее, бес-
компромисснее. Происходит даже его разрыв со старшей сестрой
Марией, выведенной из себя его поучениями. Служение Гоголь
понимает как сражение — сражение за истину, победу единст-
венной, его истины над всеми остальными. Это типично русская
черта, присущая, кроме Пушкина, большинству русских гени-
ев — борение за единственную правду...
В 1844-м, в приливе благочестия, Гоголем овладела страсть
филантропии: похоже, он дал обет жертвовать крупные суммы
нуждающимся студентам. Сам вечно нуждающийся, постоянно
вымаливающий подачки, еще не расплатившийся с долгами, он
забрасывает друзей требованиями жертвовать его гонорары, со-
бранные за выручку сочинений. Настоятельность, даже упрямст-
во Гоголя в этом своем начинании повергло его близких в шок.
Из России посыпались увещевания одуматься:
У вас на руках старая мать и сестры...
Знаете ли, что св. Франциск Саль говорит: «Мы часто те-
шимся тем, чтобы быть хорошими ангелами, и забываем,
что раньше нужно стать хорошими людьми».
Ты должен еще Аксакову... Аксаковы нуждаются... не-
справедливо употреблять деньги на бедных студентов, когда
еще не уплачен тобою долг человеку нуждающемуся.
Друзья в категорической форме отказываются выполнить во-
лю Гоголя, но Гоголь неумолим:
Да и что толковать об этом долго: обет, который дается
Богу, соединяется всегда с пожертвованием и всегда в
122
ущерб или себе, или родным, но ни сам дающий его, ни
родные не восстают против такого дела.
За четверть века до Льва Толстого с Гоголем происходит нечто
подобное, разве что в более сильно выраженной форме, ибо Тол-
стой — богатый граф, а Гоголь — нищий, бездомный, богемный
поэт.
Какое же Гоголю нужно вспоможение, когда он беспрестанно
назначает пожертвования в пользу студентов и т. п.? — возмуща-
ется Москва.
Приблизительно в то же время, что Гоголь занимается филан-
тропией, друзья добиваются для него самого вспомоществования
от государства — трехлетней пенсии в три тысячи серебром из
сумм государственного казначейства.
1845-й — один из тяжелейших годов Гоголя, год острого пере-
живания гаснущих сил, тяжелого кризиса, обострения болезни,
сожжения второй части поэмы.
Лишь крайняя степень отчаяния могла заставить его это
сделать. В который раз устраивал он это аутодафе написан-
ному — сжигал без жалости, без возврата, не оставляя ни
себе, ни другим хоть какого-нибудь клочка. То карающий
огонь максимализма испепелял ни в чем не повинную бума-
гу. Раз написанное дурно, рассуждал он, то и я дурен, а если
я дурен, то и написанное дурно: из этого круга не было вы-
хода.
Был момент, когда, предвосхищая 1852-й, он почувствовал се-
бя умирающим: «Приезжайте ко мне причастить меня, я уми-
раю», — нацарапал он И. И. Базарову после сожжения второй ча-
сти поэмы. Он действительно был близок к рукотворной смерти,
к которой вела не его болезнь, а он сам, эту болезнь вызываю-
щий и подстегивающий.
Приступ захватил его во Франкфурте, приехавший к прича-
щению священник застал «умирающего» на ногах и был неска-
занно удивлен такому «умиранию».
На мой вопрос, почему он считает себя таким опасным,
он протянул мне руки со словами:
— Посмотрите, совсем холодные!
123
Гоголь бросился к врачам, покатил в Карлсбад, но лечение те-
ла не помогало, а лечить душу — не было доктора Фрейда...
Правда, немецкие врачи понимали, что дело именно в душе, в
нервах, но они еще не знали, что болезнь Гоголя гнездится в
подсознании, в слишком глубоком и ажурном подсознании этого
одинокого, гонимого холодным ветром скитальца...
Трагедия сожжения почти готового второго тома Мертвых
Душ произошла летом 1845-го. Это могло случиться в Берлине,
Карлсбаде или Франкфурте в ту минуту, когда он «увидел перед
собою смерть...». По словам самого Гоголя, погиб «пятилетний
труд, производимый с таким болезненным напряжением, где вся-
кая строка досталась потрясеньем...».
Единственное прямое свидетельство этого сожжения — рас-
сказ о нем самого Гоголя в Четырех письмах к разным
лицам по поводу «Мертвых Душ», опубликованных в
Выбранных местах. Благодаря Бога за силу, которую он
дал «это сделать», Гоголь писал о причинах, побудивших его пре-
дать рукопись огню:
Появленье второго тома в том виде, в котором он был,
произвело бы скорее вред, нежели пользу. Нужно прини-
мать в соображение не наслаждение каких-нибудь любите-
лей искусств и литературы, но всех читателей, для которых
писались «Мертвые души». Вывести несколько прекрасных
характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей
породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только одну
пустую гордость и хвастовство.
Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в обла-
сти литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть
то, о котором прежде всего должен подумать всяк человек,
не только один я. Дело мое — душа и прочное дело жизни.
А потому и образ действий моих должен быть прочен, и со-
чинять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их
торопятся другие! Жгу, когда нужно жечь, и, верно, посту-
паю как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к
чему.
В один из тяжелейших периодов своей жизни — в 1845-м —
Гоголь был удостоен почетного звания члена Московского уни-
верситета. Он стал одним из немногих писателей, возведенных в
это звание.
124
ИЕРУСАЛИМ
Что он чувствовал у гробницы
Спасителя, осталось тайной для
всех.
А. О. Смирнова
К поездке в Иерусалим Гоголь готовился долго и обстоятель-
но, много раз откладывал это свое «спасение» и вновь принимал
решение ехать — по всему видно было, что придавал этому собы-
тию огромное значение в жизни своей. И вместе с тем испыты-
вал какой-то панический страх, всех близких просил молиться за
него.
Н. В. Гоголь — матери:
Во время, когда я буду в дороге, вы не выезжайте никуда
и оставайтесь в Васильевке. Мне нужно именно, чтобы вы
молились обо мне в Васильевке, а не в другом месте. Кто
захочет вас видеть, может к вам приехать. Отвечайте всем,
что находите неприличным в то время, когда сын ваш от-
правился на такое святое поклонение, разъезжать по гостям
и предаваться каким-нибудь развлечениям.
В. В. Набоков:
Матери своей он послал специальную молитву, которую
местному священнику надлежало произнести в церкви.
В этой молитве Гоголь просил Господа уберечь его на Вос-
токе от разбойников и от морской болезни во время переез-
да по морю. Господь не внял второй просьбе: между Неапо-
лем и Мальтой на вертлявом пароходике «Капри» Гоголя
так рвало, что пассажиры просто поражались. Сведения о
самом паломничестве весьма туманны, и если бы не кое-ка-
кие официальные доказательства того, что оно действитель-
но состоялось, можно было бы предположить, что Гоголь
выдумал это путешествие, так же как раньше выдумал поез-
дку в Испанию. Когда год за годом твердишь о своем наме-
рении что-то сделать и тебе уже тошно оттого, что никак не
можешь на это решиться, гораздо проще убедить всех, что
ты уже это совершил, — и до чего же приятно забыть нако-
нец всю историю!
125
Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву:
Признаюсь, часто даже находит на меня мысль: зачем я
поеду теперь в Иерусалим? Прежде я был, по крайней мере,
в заблуждении насчет самого себя. Я думал, что я хоть не-
много лучше того, что я есмь... я думал, что молитвы мои
что-нибудь будут значить у Бога... Теперь думаю, не будет
ли оскорблением святыни мой приезд и поклонение мое?..
В груди моей равнодушно и черство.
Что же это за грех такой должен лежать на душе, если поездка
в Иерусалим — оскорбление святыни?..
Все замерло в нем, даже болезнь; он чувствовал себя фи-
зически почти здоровым, — «я был здоров во все время, бо-
льше здоров, чем когда-либо прежде», — почти спокойным,
но какое эта страшное спокойствие, страшная пустота!
Для чего он ездил? Почему так долго готовился? Чего от поез-
дки ждал? Говорят, что ездил, дабы получить указание свыше, а
заодно — силу и фантазию: то и другое катастрофически убыва-
ли. Он ехал молиться, как бесплодная женщина — просить Гос-
пода послать ей ребенка...
На самом деле все было гораздо сложней: в Иерусалиме Гоголь
надеялся развеять сомнения в открывшейся ему изначальной и
фундаментальной абсурдности бытия, убедиться в огромном жиз-
ненном потенциале реальности, найти в ней «живые души»...
П. А. Кулиш, со слов лицеистского приятеля Гоголя К. М. Ба-
зили, свидетельствует:
Гоголь совершил переезд через пустыни Сирии в сооб-
ществе своего соученика по гимназии Базили. Базили, за-
нимая значительный пост в Сирии, пользовался особенным
влиянием на умы туземцев. Для поддержания этого влияния
он должен был играть роль полномочного вельможи, кото-
рый признает над собой только власть «великого падишаха».
Каково же было изумление арабов, когда они увидели его в
явной зависимости от его тщедушного и невзрачного спут-
ника. Гоголь, изнуряемый зноем песчаной пустыни и выхо-
дя из терпения от разных дорожных неудобств, которые,
ему казалось, легко было бы устранить, — не раз увлекался
за пределы обыкновенных жалоб и сопровождал свои жало-
126
бы такими жестами, которые, в глазах туземцев, были дока-
зательством ничтожности грозного сатрапа. Это не нрави-
лось его другу; мало того: это было даже опасно в их стран-
ствовании через пустыни, так как их охраняло больше всего
только высокое мнение арабов о значении Базили в русском
государстве. Он упрашивал поэта говорить ему наедине, что
угодно, но при свидетелях быть осторожным. Гоголь согла-
шался с ним в необходимости такого поведения, но при
первой досаде позабыл дружеские условия и обратился в из-
балованного ребенка. Тогда Базили решился вразумить при-
ятеля самим делом и принял с ним такой тон, как с послед-
ним из своих подчиненных. Это заставило поэта молчать, а
мусульманам дало почувствовать, что Базили все-таки пол-
новластный визирь «великого падишаха», и что выше его
нет визиря в империи.
Что чувствовал и переживал Н. В. Гоголь в Святых местах, у
Гроба Господня? Какие мысли носились у него в голове, когда
ступал он по Святой земле? Увы, поток сознания писателя —
позднейшее изобретение, но кое-что все-таки сохранилось...
Н. В. Гоголь — В. А. Жуковскому:
Литургия совершалась на самом Гробовом Камне... Я
стоял один... Все это было так чудно! Я не помню, молился
ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился
на месте так удобном для моленья и так располагающем мо-
литься; молиться же собственно я не успел... Я не успел
почти опомниться, как очутился перед Чашей, вынесенной
священником из Вертепа...
Иерусалим не очистил его сердца, Святое место лишь обо-
стрило его переживания, усилило чувство собственной греховно-
сти и близости лукавого:
Еще никогда не был я так мало доволен состоянием сер-
дца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима. Только
что разве больше увидел черствость свою и свое себялюбие,
вот весь результат!.. Была одна минута... Но как сметь пре-
даваться какой бы то ни было минуте, испытавши уже на
деле, как близко от нас искуситель!..
У самого Св. Гроба мои молитвы даже не в силах были
вырваться из груди моей, не только возлететь, и никогда
127
еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувствен-
ность, черствость, деревянность...
Итак, далеко от меня то, что я прежде полагал чуть не
близко... Я и доселе также лепечу холодными устами и черст-
вым сердцем ту самую молитву, которую лепетал и прежде.
Мое путешествие в Палестину точно было совершено
мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собствен-
ными глазами, как велика черствость моего сердца... Я удо-
стоился провести ночь у Гроба Спасителя, я удостоился
приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом Гробе,
вместо алтаря, — и при всем том, я не стал лучшим, тогда
как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно
небесное. Что могут доставить мои сонные впечатления?
Видел я, как во сне эту Землю...
В Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня, по-
забыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в
России, на станции.
В Иерусалиме Гоголь надеялся проверить свою веру, остаться
один на один с внутренним покоем и Богом, сжечь свое про-
шлое. Но...
Люди со всего света толпились на Голгофе, и не было
торжественности покоя, того способствующего размышле-
нию уединения, о котором он мечтал, стремясь сюда, чтоб
остаться один на один если не с Ним, то с камнями, видев-
шими Его. Он искал свидания без свидетелей, а попал... на
ярмарку.
«Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе; признаю
Христа богочеловеком только потому, что так велит мне ум
мой, а не вера. Я изумился его необъятной мудрости и с неко-
торым страхом почувствовал, что невозможно земному че-
ловеку вместить ее в себе, изумился глубокому познанию его
души человеческой... — но веры у меня нет. Хочу верить».
Чтобы убедиться, он и поехал в Иерусалим. Поехал
со страхом воочию увидеть свое безверие — и убедился,
увидел. Это потрясло его. Будь это в другом месте (как не
раз бывало в иных местах), это не произвело бы на него та-
кого впечатления. Но в ту ночь он вернулся в гостиницу с
ясным сознанием, что опустошен. «Как растопить мне мою
128
душу холодную, черствую, не умеющую отделиться от зем-
ных, себялюбивых, низких помышлений?»
Он хотел совершенно очиститься и как бы сжечь себя
(себя прошлого), как сжигал он раньше свои «маранья», но
огонь не вспыхнул, не сжег его, не очистил.
В 1848-м после многолетних заграничных скитаний и поездки
в Иерусалим Гоголь «ступил на русский береп>. Он еще не знал,
что это — последнее его возвращение и что впереди — не новые
творения, а приуготовления к смерти...
Иерусалим не внес покоя в его душу, скорее — ее разбередил.
Он не обрел там того, чего искал. Там он лишь окончательно по-
нял, что единственный Иерусалим — в душе человека.
Поверкой разума поверил я то, что другие понимают яс-
ной верой и чему я верил дотоле как-то темно и неясно.
К этому привел меня и анализ над моею собственной ду-
шой: я увидел тоже математически ясно, что говорить и пи-
сать о высших чувствах и движениях человека нельзя по во-
ображенью... нужно сделаться лучшим.
В. В. Набоков:
Священные места, которые он посетил, не слились с их
мистическим идеальным образом в его душе, и в результате
Святая Земля принесла его душе (и его книге) так же мало
пользы, как немецкие санатории — его телу.
В. И. Мильдон:
По его собственным признаниям, он остался холоден к
иерусалимским святыням: опыт самовоспитания... не удал-
ся. Вот и появилась... у него ужасная мысль, ужасная для
его эстетики: нет ли в самой действительности свойств, не
позволяющих разглядеть симптомов надежды? Не сама ли
реальность мертва?
Творчество и письма Гоголя этого периода — сплошной эк-
стаз, молитва, вопль о помощи, поток отчаяния...
Как растопить мне мою душу холодную, черствую?.. Что
за молитва бескрылая?.. Увы, молиться не легко! Как моли-
129
ться, если Бог не захочет? — Чувствую, что нет сил помоли-
ться самому; силы мои как бы ослабели, сердце черство, ма-
лодушна душа...
Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе...
Дивлюсь тому, как Бог не поразил меня и не стер с лица
земли...
Я требую от всех вас помощи, как погибающий брат
просит у братьев...
О, молитесь обо мне... Молитесь, молитесь крепко обо
мне, и Бог вам да поможет обо мне молиться!..
Малодушнее меня, я думаю, нет в мире человека...
Часто в душевном бессилии восклицаешь: «Боже! где же,
наконец, берег всего?»
Когда читаешь позднего Гоголя, все время чувствуешь какую-
то огромную недоговоренность. Его мучит что-то страшно тяже-
лое, невысказанное, ему надо замолить какой-то чудовищный
грех, но — какой? — об этом молчит Гоголь...
Поездка в Иерусалим не оправдала надежд Гоголя. Мне ка-
жется, писала сестра, он был разочарован поездкой, потому что
ничего не хотел рассказывать. Когда его просили об этом, отве-
чал: «Можете прочесть «Путешествие в Иерусалим». Надежда на
Святые места уступила место надежде на Евангелие.
Настроение последних лет жизни — скука, оцепенение, пря-
мо-таки классический экзистенциальный ужас бытия.
И непонятною тоскою уже загорелась земля; черствее и
черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрас-
тает только в виду всех один исполинский образ скуки, до-
стигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо,
могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в Тво-
ем мире!
Отчего, зачем нашло на меня такое оцепенение, этого не
могу понять... Не пишется... не хочется говорить ни о чем...
130
Может быть, оттого, что не стало, наконец, ничего любо-
пытного на свете.
Он непрерывно сетует на «умственную спячку», «недвиж-
ность», «непостижимую лень и бездействие сил».
У меня все лениво и сонно... Мне нужно большое усилие,
чтобы написать не только письмо, но даже короткую запис-
ку. Что это? старость, или временное оцепенение сил? сплю
ли я, или так сонно бодрствую, что бодрствование хуже сна?
Работа над Мертвыми душами не подвигается;
иное слово точно вытягиваешь клещами...
Не работается, не живется, хотя покуда это и не видно
другим.
Слышу в себе силу и слышу, что она не может двинуться.
К. С. Аксаков:
Мы видели Гоголя в Москве, он мало наружно переме-
нился, но кажется так, как будто не тот Гоголь.
Весной 1848-го Николай Васильевич гостил в родной Василь-
евке. Его приезд не принес обычной радости.
Как он переменился! — записывает сестра Ольга в днев-
нике. — Такой серьезный сделался; ничто, кажется, его не
веселит, и такой холодный, и равнодушный к нам! Как мне
это было больно!
10 мая. Все утро мы не видели брата! Грустно: не видели
шесть лет, и не сидит с нами.
13 мая. Брат все такой же холодный, серьезный, редко
когда улыбнется.
20 мая. Сегодня у меня сильное раздражение нервов, и я
все плачу. У нас с братом были маленькие неприятности...
25 мая. Так было грустно; все что-то тревожит.
22 июля. Вчера мы все плакали. Тоска ужасная!
24 июля. Ах, как грустно!.. Все плакали...
Такими настроениями заражал Гоголь близких, привыкших к
врывающемуся с ним в дом веселью. А теперь любовь матери и
131
сестер лишь выводит его из себя, «заставляя его подозревать не
христианскую, но земную, распаленную любовь к нему».
При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери
Его. Иисус, увидев Матерь и ученика [Иоанна], тут стояще-
го, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын
Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя. — И с этого
времени ученик сей взял ее к себе.
Это непостижимо: Сын Человеческий и на кресте любит Мать
Свою земною любовью, Гоголь, прекрасно знавший Евангелия,
ведавший о вполне земной любви Христа к близким Его, бежит
любви...
Гоголь последних лет жизни — человек высохших чувств и ис-
сушенной плоти.
«Неужели чувство любви к родине у тебя высохл о?» —
спрашивает Гоголя один из его старых малороссийских
приятелей. Да, именно «высохло», вымерло в нем все, или,
по крайней мере, он хотел бы, чтобы все в нем высохло: в
этой-то мертвенной сухости, страшной духовной сухотке и
заключается, по мнению его — его ли одного? — христиан-
ская святость, «высота небесного бесстрастия».
Еще одно чувство, что живет теперь в нем, — это страх, он
страшится отвержения, отказа в спасении, погибели души.
Мне труднее спастись, чем кому другому.
Страшусь, видя ежеминутно, как хожу опасно.
Если Бог меня не вразумит... участь моя будет страшнее
участи всех прочих людей.
Большую часть времени он думает теперь о смерти, о собст-
венной посмертной судьбе, о завещании...
Я бы хотел, чтобы по смерти выстроен был храм, в кото-
ром бы производились поминки по грешной душе... Я бы
хотел, чтобы тело мое было погребено, если не в церкви, то
в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекра-
щались.
132
Уже перед самым концом, среди смертной тоски ужаса, по
какой-нибудь нежданной усмешке, «скоромной» шутке, ко-
ротенькой записочке к матери о посадке деревьев, огородных
овощей, любимой им цветной капусты и брунколей, чувству-
ется, что он все еще не оторвался от земли, любит землю, тя-
нется к «матери сырой земле». Неимоверное здоровье борется
с неимоверною болезнью; сила здоровья равна силе болезни,
так что до последней минуты неизвестно, что победит.
Эта-то бессознательная «языческая» стихия задерживает
христианское сознание Гоголя, не пускает его, тянет назад;
сознание его — точно привязанная птица: едва взлетая, тот-
час падает на землю и бьется крыльями. Он восстал на
плоть свою, и плоть восстала на него. Умерщвляемая, но
неумертвимая, она мстит ему страшною местью; проклятая
становится действительно проклятою и, как иссохшая зем-
ля, перестает питать корни всей его христианской «духовно-
сти», парализует ее, поражает бессильем, бесплодьем, мерт-
венной сухостью, черствостью. — «Крест тягчайший всех
крестов — крест черствости душевной, — стонет Го-
голь. — Молись рыданьем и плачем. Молись не так, как мо-
лится сидящий в комнате, но как молится утопающий в
волнах, ухватившийся за последнюю доску».
Но чем больше он молится, старается плакать, умилять,
умягчать себя, тем становится суше и суше, черствее и чер-
ствее. Ни слезинки, ни капли небесной росы. Сердце его
ожесточается, каменеет в этой мертвящей судороге.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
В России ему не работается. В одном из писем В. А. Жуков-
скому, датированном апрелем 49-го, Гоголь признается чуть ли
не в литературной стагнации:
Не могу понять, отчего не пишется и отчего не хочется
говорить ни о чем. Та же недвижимость и в моих литератур-
ных занятиях. Я ничего не издал в свет и ничего не готов-
лю; что и приуготовляю, то идет медленно и не может ни-
как выйти скоро. Отчего, зачем нашло на меня такое оцепе-
нение, этого не могу понять.
Не была ли одной из причин «оцепенения» литературная об-
становка страны, война всех против всех. Описывая именины
133
Гоголя в погодинском доме, И. С. Аксаков рассказал о встрече
бывших друзей:
Он позвал всех, кто только были у него в то время. Люди
эти теперь почти все перессорились, стоят на разных сторо-
нах, уже выказались в разных обстоятельствах жизни; мно-
гие не выдержали испытания и пали... Словом, обед был ве-
сьма грустный и поучительный, а сам по себе превялый и
прескучный. Когда же, по милости вина, обед оживился, то
многие перебранились, так, как и ожидать нельзя было.
В конце сороковых у Гоголя навязчивая идея: он плохо знает
Россию, ему следует познать ее и народ, следовательно, необхо-
димо путешествовать по стране, встречаться с людьми разных со-
словий и впитывать впечатления. Гоголь задумывает огромную
поездку по стране, но ограничивается Калугой, Оптиной пусты-
нью и Одессой.
Путешествие на долгих было для Гоголя уже как бы на-
чалом плана, который он предполагал осуществить впослед-
ствии. Ему хотелось совершить путешествие по всей Рос-
сии, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным до-
рогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему бы-
ло нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописней-
шие места в государстве, которые большею частью были из-
бираемы старинными русскими людьми для основания мо-
настырей; во-вторых, для того, чтобы изучить проселки рус-
ского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем его
разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать
географическое сочинение о России самым увлекательным
образом.
В Одессе Гоголь жил в доме Н. Г. Трощинского, часто посе-
щал князей Репнина и Гагарина. Его часто встречали в церквах.
Однако, как и всегда, он избегает светских приемов и встреч,
исключая любезных ему бесед с близкими друзьями. За год до
смерти он часто бывает весел, даже более общителен, чем в мо-
лодые годы.
Д. С. Мережковский:
По рассказам очевидца, после долгих месяцев болезни,
уныния, страха, именно в то время, когда этого, казалось,
можно было менее всего ожидать, овладевали Гоголем
134
«порывы неудержимой веселости»; в эти редкие
минуты он болтал без умолку, острота следовала за остро-
той, и веселый смех его слушателей не умолкал ни на мину-
ту. Он казался вдруг совсем здоровым; так же внезапно ис-
целялся, как внезапно заболевал: точно «припадки» здоро-
вья, чрезмерной силы жизни — обратно-подобные припад-
кам болезни. В изможденном постнике, монахе, «со сми-
ренным видом, с потухшими очами и тихим потрясающим
гласом, исходящим из души, в которой умерли все желания
мира», — мелькает прежний Гоголь, «вольный казак», кото-
рый «глядит на жизнь, как на трын-траву», и способен,
«встав поутру с постели, хватить в одной рубашке трепака
по всей комнате». Целые месяцы смотрит «букою», твердит
уныло: все прах, все грех, страшусь всего, — пока вдруг
опять не проснется, — как встрепанный.
Во второй половине апреля 1851-го Гоголь в последний раз
побывал в родной Васильевке, куда приехал из Одессы. Хотя это
был уже другой Гоголь, приезды домой всегда несколько оживля-
ли его.
Угрюмый в последние годы своей жизни, Гоголь мгно-
венно оживлялся, к нему возвращался веселый юмор моло-
дости, и во всем доме наступал настоящий праздник каж-
дый раз, когда в их деревню неожиданно приезжал А. С.
Данилевский.
Друг примчался и на сей раз, хотя супруга его была последний
месяц на сносях. Она поехала с мужем и родила в доме Гоголя —
не успели довезти до ближайшего врача.
На сей раз Гоголя не мог оживить даже приезд лучшего друга.
По свидетельству младшей сестры, Ольги Васильевны, Гоголь
почти не выходил из кабинета.
Исчезла та беззаботная веселость, какую он иногда обна-
руживал в обществе соседей, заставляя всех смеяться до
слез; исчезли та самоуверенность и спокойствие, с какими
он отправлялся после чая заниматься в свой кабинет.
«Часто, — рассказывала Ольга Васильевна, — приходя
звать его к обеду, я с болью в сердце наблюдала его печаль-
ное, осунувшееся лицо; на конторке, вместо ровно и четко
исписанных листов, валялись листки бумаги, испещренные
какими-то каракулями: когда ему не писалось, он обыкно-
135
венно царапал пером различные фигуры, но чаще всего —
какие-то церкви и колокольни. Прежде, бывало, приезжая в
деревню, братец непременно затевал что-нибудь новое в хо-
зяйстве: то примется за посадку фруктовых деревьев, то, на-
против, вместо фруктовых начинает садить дуб, ясень, бе-
рест; часто он изменял расписание рабочего времени для
крепостных, пробовал их пищу, помогал им устраивать свое
хозяйство, давая им советы. А теперь все это отошло в про-
шлое: братец все это забросил, и, когда маменька жалова-
лась ему на бездоходность своего имения, он только как-то
болезненно морщился и переводил разговор на религиозные
темы. Иногда, впрочем, когда ему удавалось хорошо пора-
ботать утром, он приходил к обеду веселый и довольный,
после обеда он шутливо упрашивал свою тетушку Екатери-
ну Ивановну петь под мой аккомпанемент малорусские пес-
ни, причем и сам подтягивал, притопывал ногой и прищел-
кивал пальцами. Особенно любил он старую песню: «Гоп,
мои гречаники, гоп, мои били». В эти моменты все в нашем
доме оживало: маменька улыбалась, в дверях появлялись
смеющиеся лица прислуги... Но эта вспышка веселости бы-
стро проходила, и снова братец, мрачный, подавленный,
уходил в свой кабинет».
Когда через месяц Гоголь собрался из Васильевки в Москву,
мать, предчувствуя, что это последняя встреча, умоляла его не
торопиться с отъездом и говорила: «Останься еще! Бог знает, ког-
да увидимся!»
И Гоголь несколько раз оставался и снова собирался в
дорогу, и наконец, отслужив молебен с коленопреклонени-
ем, причем он весьма горячо и усердно молился, расстался
с ней навсегда...
5 июня 51-го он уже был в Москве.
Вспоминая о последнем приезде сына домой, Мария Иванов-
на — вскоре после его смерти — признавалась С. П. Шевыреву:
В минуты откровения в юных его летах он говорил о
своих планах в жизни, но в средних летах и до самой кон-
чины он был молчалив насчет себя, — казалось, он хотел бы
скрыть и от себя, если бы то было возможно, значение его в
свете: в последнее мое свидание с ним на земле, когда я
провожала его в Москву, не подозревая разлучиться навек,
136
приписывала невыразимую тоску души временной разлуке,
оставшись с ним одна, сказала ему: «Кажется мне (так как
слежу за твоими действиями во всю твою жизнь, хотя никто
того не знает и даже ты сам), что ты достиг уже своей цели,
о которой говорил мне в юных твоих летах».
На что Николай Васильевич ответил:
Тем более вы не должны на меня надеяться, жизнь моя
ни для себя, ни для вас, близких моему сердцу, она есть для
всего мира...
Сам Гоголь тогда еще не думал, что едет умирать. В послед-
нюю свою побывку он был очень активен: задумал построить но-
вый дом, начертил его план, пометив три комнаты для себя, за-
купил лес, перед самым отъездом приобрел дубовый шкаф для
книг и пообещал, что в следующий приезд обязательно присту-
пит к строительству — осуществит мечту своего отца.
Тогда одна мать заметила, что тем самым Гоголь как бы завер-
шает свое главное поприще, что он уже все сделал...
И. П. Золотусский:
С этого времени начинается новый отсчет часов жизни
Гоголя, последний их отсчет. Теперь время побежит быстро.
«Я уверен, — говорил он Смирновой, — когда сослужу свою
службу и окончу, на что я призван, то умру. А если выпущу
в свет несозревшее или поделюсь малым, мною совершае-
мым, то умру раньше, нежели выполню, на что я призван в
свет». Это ощущение, что он выполнил то, на что был при-
зван в свет, преобладает в Гоголе 1851 года.
Лето 51-го было для него добрым, ничто не предвещало траге-
дии, он весь в надеждах на публикацию второго тома и весь в
трудах по его завершению. Однако осенью с ним что-то происхо-
дит: то ли написанное кажется теперь ему неготовым, то ли он
снова недоволен написанным...
Н. В. Гоголь — матери:
Здоровье мое сызнова не так хорошо, и, кажется, я сам
причиною. Желая хоть что-нибудь приготовить к печати, я
137
усилил труды и чрез это не только не ускорил дела, но и от-
далил еще года, может быть, на два. Бедная моя голова!..
Скорее всего, это можно расценивать как свидетельство неза-
вершенности труда, как очередное ослабление творческой силы.
Летом 1851-го Гоголь скучал в Москве — не работалось, а все
друзья разъехались по дачам. Известие матери о замужестве сест-
ры и приглашение на свадьбу застало его в состоянии очередной
хандры. Он решил ехать в Васильевку, но добрался лишь до Оп-
тиной пустыни.
Миновав Калугу, он почувствовал один из тех припадков
грусти, которые помрачали для него все радости жизни и ли-
шали его власти над его силами. В таких случаях он обыкно-
венно прибегал к молитве, и молитва всегда укрепляла его.
Так поступил он и теперь: заехав в Оптину пустынь, он про-
вел в ней несколько дней посреди смиренной братии, и уже
не поехал на свадьбу, а воротился в Москву. Первый визит
он сделал О. М. Бодянскому, который не выезжал на дачу, и
на вопрос его: зачем он воротился? отвечал: «Так, мне сдела-
лось как-то грустно», — и больше ни слова.
Свадьба сестры почему-то ввергла его в состояние очередного
нервного расстройства, и он долго колебался, ехать или нет.
В письмах матери накануне отъезда и после неожиданного воз-
вращения из Оптиной он писал:
Расстройство же нынешнее моего здоровья произошло от
беспокойства и волнения и в то же время от сильного жару,
какой был во все это время, который так же, как и холод,
раздражает мои нервы, особенно, если дух неспокоен. А ви-
ной этого неспокойства был я сам, как и всегда мы сами бы-
ваем творцы своего беспокойства, — именно оттого, что
слишком много даем цены мелочным, нестоющим вещам.
Не удалось мне с вами повидаться, добрейшая моя ма-
тушка и мои милые сестры, нынешней осенью. Уже было
выехал из Москвы, но добравшись до Калуги, заболел и
должен был возвратиться. Нервы мои от всяких тревог и ко-
лебаний дошли до такой раздражительности, что дорога, ко-
торая всегда для меня полезна, теперь стала даже вредонос-
на. Видно, уж так следует и угодно Богу, чтобы эту зиму
остался я в Москве. На прожитье в Крыму вряд ли бы до-
138
стало средств. Здесь же, в Москве, теперь доктор, успешно
лечащий нервические болезни наружными вытираниями и
обливаньями холодной водой.
Гоголь наводил тень на плетень, вымудривал: по неведомым
нам причинам он не желал замужества сестер и не представлял
себя на свадьбе. Подобно тому, как Панург донимал Пантагрюэ-
ля вопросами, стоит ли ему жениться, Гоголь надоел оптинскому
старцу Макарию со своими сомнениями, ехать или не ехать на
свадьбу. Кончилось тем, что старец просто выгнал его. Почему я
так подробно останавливаюсь на этом эпизоде? Потому что гого-
леведы упустили, что он мог быть решающим в объяснении ско-
рой смерти Гоголя. Поедь он на свадьбу, а оттуда, как собирался,
в Крым, зима не захватила бы его в Москве, а не захвати его зи-
ма с хилым здоровьем и изнемогшим духом, февраль 52-го мог
бы не кончиться трагедией. Но, как говорится, в жизни и исто-
рии нет сослагательного наклонения, если не считать таковыми
всю жизнь и историю.
РЖЕВСКИЙ САВОНАРОЛА
...после свидания с каким-то
аскетом, священником из Твер-
ской губ., Гоголь вдруг говеет на
масленице и держит... самый стро-
жайший пост.
Д. Н. Свербеев
Существует целый раздел гоголеведения, посвященный пагуб-
ному влиянию отца Матвея, чуть ли не спровоцировавшего гения
на сожжение Мертвых Душ и последующее самоубийство.
Какое-то влияние, бесспорно, было, но отнюдь не демоническое
и не определяющее: «Нельзя ставить, как делал Мережковский,
о. Матвея в финал гоголевской жизни: о. Матвей не мог иметь
решающего значения, определявшегося мыслью самого писателя
о собственном творчестве».
Не о. Матвей выбрал Гоголя, а Гоголь отца Матвея. Не отец
Матвей пробудил духовные искания Гоголя, и, конечно же, не он
повлиял на мировоззрение писателя. Может быть, Гоголь и наде-
ялся спастись с помощью слова Божьего проповедника. Навер-
няка ему и было необходимо такое слово в период последнего
кризиса, рушившего взгляд на мир. Но совершенно непредстави-
139
мо, чтобы великий поэт питал надежду найти разгадку мирозда-
ния с помощью заурядного попа.
Д. С. Мережковский:
Таково душевное состояние Гоголя до приезда о. Матвея;
через две недели после его отъезда Гоголь умер. Конечно, то,
что произошло между ними, было причиной этой смерти.
В. И. Мильдон:
Здесь критик ошибся: не между Гоголем и о. Матвеем, а
между Гоголем и его творчеством, и, само собой, не в по-
следние две недели — это даже странно читать. Работа не
шла, и писатель сжег второй том, уверившись, что нельзя
оживить мертвой субстанции. К такому вероятному ходу
мыслей писателя о. Матвей не имел никакого отношения:
для этого надо было понимать творчество, что о. Матвею не
было дано. Беседы с ним... лишь могли укрепить в Гоголе со-
мнения: все ли он, создатель образов, сделал, чтобы, невзи-
рая на сопротивление косных сил, оживить мертвые души?
Безусловно лишь следующее: Гоголь не отрекался от
творчества, к чему его склонял о. Матвей, никогда не вни-
мавший «благоуханным устам поэзии». Как раз напротив,
Гоголь хотел до последнего дня сохранить литературу, но
раз второй том не двигался, ему, автору, и ответ держать,
литература не виновна. Пусть не станет писателя, который
немощен одолеть косное вещество, коль скоро не рождается
под его пером благодетельный человек, не оживают мерт-
вые души.
Очевидно, тут не помогут ни проповеди о. Матвея, ни
поучения отцов и подвижников.
Но все ли так просто? Верно, что Гоголь выбрал о. Матвея, а
не наоборот, но разве собственных бесов мы выбираем не сами?..
Свидетельствует протоиерей Ф. И. Образцов:
О. Матфей, как духовный отец Гоголя, взявший на себя
обязанность очистить совесть Гоголя и приготовить его к
христианской непостыдной кончине, потребовал от Гоголя
отречения от Пушкина. «Отрекись от Пушкина, — потребо-
вал о. Матфей. — Он был грешник и язычник...» Что заста-
вило о. Матфея потребовать такого отречения? Он говорил,
140
что «я считал необходимым это сделать». Такое требование
было на одном из последних свиданий между ними. Гоголю
представлялось прошлое и страшило будущее. Только чис-
тое сердце может зреть Бога, потому должно быть устранено
все, что заслоняло Бога от неверующего сердца. «Но было и
еще...» — прибавил о. Матфей. Но что же еще? Это осталось
тайной между духовным отцом и духовным сыном. «Врача
не обвиняют, когда он по серьезности болезни прописывает
больному сильные лекарства». Такими словами закончил о.
Матфей разговор о Гоголе.
Никто никогда не узнает, в чем исповедовался Гоголь перед
своим духовником, но ясно, что обличение неправильной жизни
было жестоким и бескомпромиссным:
М. А.1 прямо и резко, не взвешивая личности и положе-
ния, поучал, с беспощадною строгостью и резкостью пропо-
ведовал истины евангельские и суровые наставления церк-
ви. Он объяснял, что если мы охотно делаем все для люби-
мого лица, то чем мы должны дорожить для Иисуса Христа,
Сына Божия, умершего за нас. Устав церковный написан
для всех; все обязаны беспрекословно следовать ему; неуже-
ли мы будем равняться только со всеми и не захотим испол-
нить ничего более? Ослабление тела не может нас удержи-
вать от пощения; какая у нас работа? Для чего нам нужны
силы? Много званых, но мало избранных. За всякое слово
праздное отдадим отчет, и проч. Такие и подобные речи,
соединенные с обличением неправильной жизни, не могли
не действовать на Гоголя, вполне преданного религии, вос-
приимчивого, впечатлительного и настроенного уже на
мысль о смерти, о вечности, о греховности... Разговоры это-
го духовного лица так сильно потрясли его, что он, не вла-
дея собою, однажды, прервав речь, сказал ему: «Довольно!
Оставьте, не могу далее слушать, слишком страшно!»
Оправдывая свое намерение и оправдываясь перед отцом
Матвеем, Гоголь писал своему благочестивому бесу:
Разве не может и писатель в занимательной повести
изобразить живые примеры людей лучших, чем каких изоб-
ражают другие писатели, — представить их так живо, как
живописец? Примеры сильнее рассуждения; нужно только
1 О. Матвей — Матвей Александрович.
141
для этого писателю уметь прежде самому сделаться добрым
и угодить жизнью своей сколько-нибудь Богу. Я бы не по-
думал о писательстве, если бы не было теперь такой повсе-
местной охоты к чтению всякого рода романов и повестей,
большею частию соблазнительных и безнравственных, но
которые читаются потому только, что написаны увлекатель-
но и не без таланта. А я, имея талант, умея изображать живо
людей и природу... разве я не обязан изобразить с равною
увлекательностию людей добрых, верующих и живущих в
законе божием? Вот вам (скажу откровенно) причина моего
писательства, а не деньги и не слова.
Это было жалкое оправдание: ангажированность даже с самы-
ми благими намерениями, даже — самим Богом, убивает худож-
ника: богоугодные книги необходимы для церкви, но не для ли-
тературы, художник и святоша несовместимы. Это было известно
задолго до Гоголя — отсюда блейковская идея о сотрудничестве
творца с бесом: нет произведения искусства без соавторства дья-
вола. Потому так ярок Дантов ад и так мертво сияние его рая.
Это был настоящий несокрушимый златоуст, побеждающий
паству красотою слова и неколебимостью веры. Обыкновенный
неказистый мужичок, которого от крестьян отличала только
одежда, он был назначен в ржевскую церковь Преображения для
искоренения старообрядчества. С последователями Аввакума он
сладил методами Аввакума: «Несокрушимость его веры являла
иногда примеры поистине невероятные».
Т. И. Филиппов:
О. Матвей ни на минуту не выступал из области чудес-
ного и явлениям самым обыкновенным любил придавать
чрезвычайный смысл. Я испытал сам на своей душе вредное
влияние этой черты его ума; суеверие, в которое он впадал,
прилипло и к моему уму, и мне нужны были усилия, чтобы
освободить душу от этого порабощения.
Даже церковное начальство возмущалось фанатизмом приход-
ского попа, но не трогало «подвижника веры» — слишком влия-
тельным был в округе.
В это время в Торжке происходил ремонт соборного хра-
ма, и неожиданно была открыта под алтарем могила препо-
добной Иулиании. Богомольные люди поспешно бросились
142
к заветному месту и повычерпали, как целительное средст-
во, всю воду, наполнявшую могилу. Когда, невзирая на
свою болезнь, на место прибыл о. Матвей, на дне могилы
оставались лишь комья липкой и вонючей грязи. Не долго
думая, о. Матвей опустился на самое дно, собрал благого-
вейно эти остатки, съел их... и совершенно выздоровел.
Когда по доносу о том, будто он смущал народ своими про-
поведями, его вызвали к тверскому архиерею, и тот стал
кричать на него, грозя упрятать его в острог, о. Матвей от-
рицательно закачал головой: «Не верю, ваше преосвященст-
во!» — «Как ты смеешь так отвечать?» — загремел владыка.
«Да не верю, ваше преосвященство, потому что это слиш-
ком большое счастие... пострадать за Христа. Я не достоин
такой высокой чести!» Эти слова так озадачили владыку,
что он с тех пор оставил о. Матвея в покое.
Согласно одной из версий, причиной предсмертной болезни
Гоголя стала размолвка с о. Матвеем. По словам самого Гоголя,
он «оскорбил» своего духовника и благодетеля. Чем он мог его
оскорбить? Скорее всего — отказом уйти от мира, «бросить имя
литератора и сделаться монахом».
И в последний раз Гоголь возмутился, со смертным ужа-
сом, отчаянием и, может быть, даже злобным ожесточением
противостал о. Матвею, возразил, что не должен этого делать,
потомучто «не знает, есть ли на то воля Божья».
Но воли хватило ему ненадолго. Вослед уехавшему отцу поле-
тела мольба о прощении, затем другая:
Уже написал было к вам одно письмо еще вчера, в кото-
ром просил извинения в том, что оскорбил вас; но вдруг
милость Божья чьими-то молитвами посетила и меня жес-
токосердного, и сердцу моему захотелось вас благодарить
крепко, так крепко! Но об этом что говорить!..
Обязанный вам вечною благодарностью и здесь, и за
гробом, ваш весь Николай.
Это письмо написано за две недели до смерти...
Борьба была кончена, о. Матвей победил. «Благодать»,
внезапно осенившая Гоголя «чьими-то молитвами», откры-
ла ему, что «воля Божья» требует, чтобы он отрекся от лите-
ратуры. По всей вероятности, Гоголь в ту минуту, когда пи-
143
сал духовнику, уже решил окончательно сжечь все свои ру-
кописи и больше «не писать — не жить».
Это была типичная церковная провокация, достойная иезуи-
та. Тем не менее она удалась: Гоголь решил исполнить больше,
чем требовал «устав церковный».
А. Т. Тарасенков:
По отъезде Матвея Александровича он стал изучать цер-
ковный устав и еще более говорить о смерти. По учрежде-
ниям церковным, масленица составляет преддверие поста:
уже начинает отчасти совершаться великопостная служба;
употребление мясной пищи запрещено с самого ее начала; в
продолжение же двух первых дней первой недели поста, по
некоторым уставам, не дозволяется вовсе употреблять ника-
кой пищи. Изучив подробнее устав, Гоголь начал его при-
держиваться, и по-видимому, старался сделать более, неже-
ли предписано уставом. Масленицу он посвятил говению;
ходил в церковь, молился весьма много и необыкновенно
тепло, от пищи воздерживался до чрезвычайности: за обе-
дом употреблял только несколько ложек овсяного супа на
воде или капустного рассола. Когда ему предлагали кушать
что-нибудь другое, он отзывался болезнью, объясняя, что
чувствует что-то в животе, что кишки у него перевертыва-
ются, что это болезнь его отца, умершего в такие же лета, и
притом оттого, что его лечили... Впрочем, в это время бо-
лезнь его выражалась только одною слабостью, и в ней не
было заметно ничего важного; самая слабость, видимо, про-
исходила от чрезмерного изнурения и мрачного настроения
духа. Несмотря на это ослабление тела, Гоголь продолжал
поститься и проводить ночи на молитве, ослабление возрас-
тало со дня на день.
Несколько дней питался одною просфорою. Свое лоще-
ние не ограничил пищею, но и сон умерил до чрезмерно-
сти: после ночной продолжительной молитвы рано вставал
и шел к заутрене. Наконец, он так ослаб, что едва держался
на ногах. Однажды целый день ничего не хотел есть; когда
же после съел просфору, то назвал себя обжорою, окаян-
ным, нетерпеливцем и сокрушался сильно.
Уже после смерти Гоголя отец Матвей, видимо, сознавая, что
его «обращение» способствовало трагическому концу поэта, от-
144
рицал свои запреты, наложенные на творчество. Сохранилась
любопытная запись протоиерея Ф. И. Образцова, которую с уче-
том лицемерия наших духовников не следует принимать полно-
стью, но которая проливает свет на характер отношений между
«пастырем» и «овцою»:
В 1855 или 1856 году мне пришлось присутствовать при
разговоре о. Матфея с Т. И. Филипповым о Гоголе. По сло-
вам о. Матфея, в то время, во время знакомства его с Гого-
лем, Гоголь был не прежний Гоголь, а больной, совершенно
больной человек, изнуренный постоянными болезнями,
цвет лица был землянистый, пальцы опухли; вследствие
тяжких продолжительных страданий художественный талант
его угасал и даже почти угас, — это чувствовал Гоголь: и к
страданиям тела присоединились внутренние страдания.
Старость надвигалась, силы ослабели, и особенно сильно
преследовал его страх смерти. В таком состоянии невольно
возбуждается мысль о Боге, о своей греховности. «Он искал
умиротворения и внутреннего очищения». — «От чего же
очищения?» — спросил Т. И. Филиппов. — «В нем была
внутренняя нечистота». — «Какая же?» — «Нечистота была,
и он старался избавиться от ней, но не мог. Я помог ему
очиститься, и он умер истинным христианином», — сказал
о. Матфей. С ним повторилось обыкновенное явление рус-
ской жизни. Наша русская жизнь нимало имеет примеров
того, что сильные натуры, наскучивши суетой мирской или
находя себя неспособным в прежней широкой деятельно-
сти, покидали все и уходили в монастырь искать внутренне-
го умиротворения и очищения своей совести. Так было и с
Гоголем. «Что ж тут худого, что я Гоголя сделал истинным
христианином?» — «Вас обвиняют в том, что, как духовный
отец Гоголя, вы запретили ему писать светские творе-
ния». — «Неправда. Художественный талант есть дар Бо-
жий. Запрещения на дар Божий положить нельзя; несмотря
на все запрещения, он проявится, и в Гоголе временно он
проявлялся, но не в такой силе, как прежде. Правда, я сове-
товал ему написать что-нибудь о людях добрых, т. е. изобра-
зить людей положительных типов, а не отрицательных, ко-
торых он так талантливо изображал. Он взялся за это дело,
но неудачно». — «Говорят, что вы посоветовали Гоголю
сжечь второй том «Мертвых душ»?» — «Неправда, и неправ-
да... Гоголь имел обыкновение сжигать свои неудавшиеся
произведения и потом снова восстанавливать их в лучшем
145
виде. Да едва ли у него был готов второй том: по крайней
мере, я не видел его. Гоголь показал мне несколько разроз-
ненных тетрадей с надписями: глава, как обыкновенно
писал он главами... Возвращая тетради, я воспротивился
опубликованию некоторых из них.
Существуют разные мнения о влиянии отца Матвея на Гого-
ля. Большинство биографов сходится в мнении, что ржевский
протоиерей — религиозный фанатик, подчинивший своей злой
воле Гоголя, терзаемого душевной болезнью, «мистическим бре-
дом», мыслями о спасении, что именно это болезненное состоя-
ние писателя он использовал, навязывая ему свою злую волю.
Совершенно иной портрет рисует нам сам Гоголь:
По-моему, это умнейший человек из всех, каких я доселе
знал, и если я спасусь, так это верно вследствие его настав-
лений, если только, нося их перед собой, буду больше вхо-
дить в их силу.
Н. В. Гоголь — отцу Матвею:
У Гроба Господня я помянул ваше имя... Молитва моя
состояла в изъявлении благодарности Богу за то, что послал
мне вас, бесценный друг и богомолец мой...
Ваши два последние письма держу при себе неотлучно.
Всякий раз, когда их в тишине перечитываю, вижу новое в
них... Не забывайте меня в молитвах ваших. Знаете и сами,
как они мне нужны.... Одна мысль о том, что вы молитесь
обо мне, поселяет в душу надежду.
Может быть, вам душа моя известна больше, чем мне са-
мому... Вопию о помощи: молитесь, добрая душа!
О, как бы мне хотелось открыть вам всю мою душу!
Из последнего крика души непосредственно следует, что даже
любимому духовнику своему души Гоголь не открывал...
Д. С. Мережковский:
Мы знаем, чем был Пушкин для Гоголя. И вот, однако,
этот никому не известный, мало образованный и, кажется
146
даже, несмотря на уверения Гоголя, не особенно умный
священник имеет большее влияние на судьбу его, чем Пуш-
кин. От Пушкина — жизнь, от о. Матвея — смерть Гоголя,
и жизнь явно побеждена смертью: о. Матвей оказывается
сильнее Пушкина — какою силою? — вот вопрос.
В о. Матвее было что-то от Аввакума: выходец из русской
глуши, деревенский поп, «смолоду наклонен был к подвижниче-
ской (читай — изуверской) жизни». Тот же фанатизм, та же ог-
ненная речь, та же влекущая за собой сила. Правда, Аввакум
Петров был личностью — пусть изуверской, фанатичной, но не-
повторимой, талантливой. Здесь же — ничего выдающегося, ни-
чего своего.
Но в этом-то, именно, отсутствии личного и заключа-
лась главная сила, тайна власти его. О. Матвей для Гоголя
не человек, а священник — только, но зато и во всей пол-
ноте — священник. Человек со своими личными особенно-
стями как бы окончательно растворился в безличном свя-
щенстве; оно поглотило в себя человека. О. Матвей для Го-
голя чистейший представитель чистейшего православия; он,
во всяком случае, не перетолковывал, не окрашивал его в
свой цвет, в цвет своей личности; как сквозь совершенно
прозрачное стекло, сквозь личность или, вернее, безлич-
ность о. Матвея можно заглянуть в самую глубину подлин-
ного исторического и народного христианства: таково оно
было, таково оно есть, не на словах, а на деле, потому что
этот деревенский поп был прежде всего человек дела; хрис-
тианство его — не словесное, не отвлеченное, а в высшей
степени действенное, жизненное.
Гоголь чувствовал в о. Матвее непотрясаемую крепость,
каменный кряж православия. Это несколько плоское и се-
рое мужичье лицо ржевского протопопа было лицом всей
русской церкви, всего «восточного католичества».
Чем все-таки «взял» Гоголя о. Матвей? Я полагаю — именно
фанатизмом, отсутствием сомнений, окончательностью веры.
Человек двух начал, духовного и плотского, христианского и
языческого, Гоголь изводил себя какими-то, я полагаю, далеко
не столь ужасными и вполне человеческими грехами плоти, ко-
торые, будучи вытесненными в подсознание, постоянно напоми-
нали о себе его сверхчувствительной душе. Грубая душа ржев-
ского Савонаролы, то ли бесчувственная к велениям плоти, то
147
ли по грубости своей не возводящая их в ранг ужасного греха,
привлекала Гоголя именно отсутствием борьбы, раздвоенности,
сомнений. В о. Матвее он видел тот идеал, к которому сам стре-
мился, но которого никогда не мог достичь: «Жить в Боге —
значит жить вне самого тела».
Святость значит бестелесность; плоть значит грех; дух
противополагается плоти, как одна абсолютная сущность
другой, столь же абсолютной, как начало божеское началу
бесовскому, как вечное добро вечному злу — в неразреши-
мом противоречии. Отсюда вывод: «Не любите мира, ни то-
го, что в мире; ибо все, что в мире — похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира се-
го. — Весь мир лежит во зле».
С этой позиции, в общем далекой от истинного христианства,
свойственной скорее изуверству, не только греховны радости
жизни, естественные влечения плоти, но бесовством объявлены
все проявления человечности: творчество, радость, смех, любовь,
вдохновение, порыв духа — все, что на языке аскетизма именует-
ся соблазном, «прелестью», искушением Сатаны. Даже самую ду-
ховную книгу Гоголя — Переписку — объявил о. Матвей
вредной, неугодной Богу... Даже за нее пришлось ему оправдыва-
ться перед самозваным духовным пастырем...
Нет, не допустит Бог меня впасть в ту прелесть, в кото-
рую подозревают меня впавшим.
Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова
ваши, что книга моя должна произвести вредное действие,
и что я дам за нее ответ Богу. Я несколько времени оста-
вался после этих слов в состоянии упасть духом. Книга моя
не от дурного умысла: мое неразумие всему причиною; за то
Бог и наказал меня... Что же до влияния на других, то мне
как-то не верится, чтобы от книги моей распространился
вред на них. За что Богу так ужасно меня наказывать? Нет,
Он отклонит от меня такую страшную участь, если не ради
моих бессильных молитв, то ради молитв тех, которые Ему
молятся обо мне, — ради молитв моей матери, которая из-
за меня вся превратилась в молитву.
Я, точно, моей опрометчивой книгой показал какие-то
исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учитель-
ства... А диавол, который как тут, раздул до чудовищной
148
преувеличенности даже и то, что было и без умысла учитель-
ствовать... Теперь только дивлюсь своей гордости, дивлюсь
тому, как Бог не поразил меня и не стер с лица земли...
Переписка Гоголя с изуверствующим монахом почти целиком
состоит из таких оправданий, из жалких попыток реабилитиро-
вать самое жизнь и из уступок все более агрессивным требовани-
ям отказаться от плоти.
Я подал вам повод думать, что посылаю людей в театр, а
не в церковь. Храни меня Бог от такой мысли!.. Я только ду-
мал, что нельзя отнять совершенно от общества увеселений
их, но надобно так распорядиться с ними, чтобы у человека
возрождалось желание идти к Богу, а не идти к черту.
Уступка за уступкой, шаг за шагом — и вот уже от Гоголя тре-
буется, чтобы тот «бросил имя литератора и пошел в монастырь».
Гоголь много культурней своего духовника, после многих лет,
проведенных в Европе, он понимает, что дух христианства не в
истязании плоти, а в полноте телесной и духовной жизни, но ему
приходится все время отступать, оправдываться, защищаться:
Признаюсь вам, я до сих пор уверен, что закон Христов
можно внести с собой повсюду, даже в стены тюрьмы, и
можно исполнять его, пребывая во всяком звании и во вся-
ком сословии; его можно исполнить также и в звании писа-
теля.
Если бы я знал, что на каком-нибудь поприще могу дей-
ствовать лучше во спасенье души моей и во исполнение
всего того, что должно мне исполнить, чем на этом, я бы
перешел на то поприще. Если бы я узнал, что я могу в мо-
настыре уйти от мира, я бы пошел в монастырь. Но и в мо-
настыре тот же мир окружает нас, те же искушения вокруг
нас... Словом, нет поприща и места в мире, на котором мы
бы могли уйти от мира.
Если писателю дан талант, то, верно, недаром и не на то,
чтобы обратить его во злое. Если в живописце есть склон-
ность к живописи, то, верно, недаром и не на то, чтобы об-
ратить ее во злое.
Не знаю, брошу ли я имя литератора, потому что не
знаю, есть ли на это воля Божья.
149
Гоголь мог прибавить завет апостольский: духа не угашайте!
Он мог привести неотразимый аргумент: Бог так возлюбил мир,
что Сына Своего Единородного принес за него в жертву. И хотя
«весь мир во зле лежит», не потому ли, что изуверы его своим
ханжеством ко злу толкают... Но совесть, ажурная совесть поэта
обременена грехом, болезненное состояние во сто крат увеличи-
вает его душевный надрыв, груз подсознания и страх возмездия
гнетут его, поэтому, даже возражая своему мучителю, даже чувст-
вуя свою правоту, он отступает и отступает. И чем уступчивее
становится Гоголь, тем требовательней отец Матвей.
В анафеме над Гоголем и Пушкиным устами о. Матвея
историческое христианство произносило анафему над всею
русскою литературою, над всем «просвещением», «светом»,
«миром», анафему над всею плотью, анафему над всею тва-
рью, еще не избавленной, но «совокупно стенающей об из-
бавлении».
Спор о. Матвея с Гоголем был таков, что между обеими
сторонами не могло быть никакой середины, никакого при-
мирения: ежели один был в абсолютной истине, то дру-
гой — в абсолютной лжи; ежели за одним была «воля Бо-
жья», то за другим воля, идущая против Бога.
С Богом ли он, или против Бога в этом споре, — Гоголь
не имел силы решить окончательно: не только вся история,
но и собственное сознание Гоголя были слишком на сторо-
не о. Матвея. И потому, что Гоголь не имел силы этого ре-
шить, он погиб.
«Не писать для меня совершенно значило бы то же, что
не жить». Отречение от литературы для Гоголя было не то-
лько самоумерщвление, но и самоубийство.
О. Матвей потребовал от него этого самоубийства. Го-
голь предвидел, что если бы он не согласился, то о. Матвей
сказал бы ему то, что святой схимник говорит колдуну в
Страшной мести: «Иди, окаянный грешник! не могу о
тебе молиться — нет тебе помилования! Еще никогда в мире
не было такого грешника!» Этой анафемы, которая носи-
лась над Гоголем всю жизнь и преследовала его в вещих
снах, он так боялся, что готов был на все.
Голос о. Матвея был для него голосом церкви, всего хри-
стианства, самого Христа. Ему предстояло одно из двух —
или жить вне церкви отступником, или совсем не жить. Он
выбрал последнее.
150
СМЕРТЬ
Душа убила тело.
А. С. Хомяков
Смерть его... многими была
воспринята как жест протеста про-
тив нестерпимости жизни.
Р. Мэгвайр
Завершая своего Испепеленного, Валерий Брюсов напи-
сал:
В жизни, как в творчестве, он не знал меры, не знал пре-
дела — в этом и было все его своеобразие, вся его сила и вся
его слабость. Все создания Гоголя — это мир его грезы, где
все разрасталось до размеров неимоверных, где все являлось
в преувеличенном виде или чудовищно ужасного или осле-
пительно прекрасного. Вся жизнь Гоголя — это путь между
пропастями, которые его влекли к себе; это — борьба «твер-
дой воли» и сознания высокого долга, выпавшего ему на до-
лю, с пламенем, таившимся в душе и грозившим в одно
мгновение обратить его в прах. И когда, наконец, этой внут-
ренней силе, жившей в нем, Гоголь дал свободу, позволил ей
развиться по воле,.— она, действительно, испепелила его.
Еще Брюсов писал:
Если вся жизнь Гоголя была мечтой, если все в его твор-
честве было преувеличением, — то какое фантастическое
видение, какая величественная гипербола его последние
дни! До последних пределов стремился Гоголь исполнить
заповеди Христа, как в то время понимал их; до последних
пределов стремился довести свое смирение, свое покаяние,
свое усердие в посте и молитве. Рассказы лиц, наблюдав-
ших его в последние недели его жизни, производят впечат-
ление потрясающее.
Действительно, такое придумать нельзя — никакой фантазии
не хватит...
И. П.Золотусский:
Все оставшиеся месяцы и дни своей жизни Гоголь искал
места, где можно было бы найти наконец покой. Он звал
151
Данилевского в Москву и просил его жить с ним одним до-
мом. Он упрашивал Аксаковых не уезжать в Абрамцево, а
снять квартиру в Москве и поселиться вместе с ним. Ему ну-
жен был дом, семья, где он мог бы приютиться, освободить-
ся от страха, развеять его. Но Аксаковы не могли снять квар-
тиры — денег не хватало. Данилевский и подавно не мог на
авось перебираться в Белокаменную. С Погодиным ему
жить не хотелось, с Шевыревым тоже. У Хомяковых отныне
пусто было в доме. 9 февраля он последний раз приехал к
ним и долго играл со своим крестником — будто прощался.
Гоголь знал, что смерть близка, знал, что дни его сочтены,
знал, что путь художника кончен.
Есть что-то ужасное, потрясающее в предсмертных во-
плях этого великого человека. Завещание, оставленное Го-
голем, написано огненными буквами, и все в нем горит от-
чаянием умирающего гения. Побеждая муки, страдания раз-
рушающейся плоти, поэт бросает последний взгляд на окру-
жающий его мир, волнуясь предчувствием новой, неведо-
мой жизни, уже слыша над собою дыхание безмолвной веч-
ности, в которой должно растаять и расплыться то, чем он
дорожил до сих пор. Луч света, упавший с небес и озарив-
ший все ничтожество земных дел, зажег в душе поэта насто-
ящий экстаз.
Но послушаем самого поэта:
...соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа
при одном только предслышании загробного величия и тех
духовных высших творений Бога, пред которыми пыль все
величие его творений, здесь нами зримых и нас изумляю-
щих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские
возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не
прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся.
Может быть, «Прощальная повесть» моя подействует сколь-
ко-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь иг-
рушкою... Соотечественники!., не знаю и не умею как вас
назвать в эту минуту. Прочь пустое приличие! Соотечествен-
ники, я вас любил; любил тою любовью, которую не выска-
зывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его,
как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне
в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий...
152
Из завещания мы узнаем, что Гоголь признает только напеча-
танные им самим произведения и что им предано огню все, что
он посчитал печати недостойным:
Объявляю также во всеуслышание, что, кроме доселе на-
печатанного, ничего не существует из моих произведений:
все, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное
и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состо-
янии.
Не в этих ли словах ответ на многие вопросы?..
За неделю до масленицы Гоголь казался здоровым и бодрым.
Он продолжал заниматься самолечением, страдая лишь от озно-
бов: «Сегодня ночью я чувствовал озноб, впрочем он мне особен-
но спать не мешал». Он пребывал в своем обычном состоянии
нервного возбуждения, пока не случилось то до конца не ведомое
событие, которое так быстро привело к трагической развязке. По-
следним толчком могла стать смерть жены Хомякова Е. М. Хомя-
ковой, по свидетельству друзей, сильно потрясшая Гоголя. На па-
нихиде по усопшей он внезапно сказал: «Все для меня кончено!»
С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, ко-
торое приняло характер религиозного помешательства.
П. А. Кулиш:
Г-жа Хомякова была родная сестра поэта Языкова, одного
из ближайших друзей Гоголя. Гоголь крестил у нее сына и лю-
бил ее как одну из достойнейших женщин, встреченных им в
жизни. Смерть ее, последовавшая после кратковременной
болезни, сильно потрясла его. Он рассматривал это явление с
своей высокой точки зрения и примирился с ним у гроба
усопшей. «Ничто не может быть торжественнее смерти, —
произнес он, глядя на нее: — жизнь не была бы так прекрасна,
если бы не было смерти». Но это не спасло его сердце от ро-
кового потрясения: он почувствовал, что болен тою самою
болезнью, от которой умер отец его, — именно, что на него
«нашел страх смерти», и признался в этом своему духовнику.
Ю. В. Манн:
В последние месяцы жизни настроение Гоголя менялось
необыкновенно часто, уверенность в своих силах уступала
место разочарованию и тоске.
153
Будучи истым писателем, он и за себя принялся «по-писа-
тельски» — словами: чтением святоотеческой литературы, но
не богословской, а «художественной» — молитв, поучений,
слов. И в православных церковных кругах заводил знакомст-
ва не с богословами-теоретиками, а с проповедниками-прак-
тиками, каков был отец Матвей Константиновский...
А в божественность слова Гоголь, как мы знаем, верил абсо-
лютно:
Обращаться со словом нужно честно. Оно есть вы-
сший подарок Бога человеку. Беда произносить его пи-
сателю в те поры... когда не пришла еще в стройность его
собственная душа...
Вот чего не хватало Гоголю — стройности души. Вот что он
искал. Искал в святоотеческих книгах, в Иерусалиме, в молитве,
во встречах с о. Матвеем. Искал и... не находил.
Вот и появилась... кроме творчества Гоголя и его писем,
у него ужасная мысль, ужасная для его эстетики: нет ли в
самой действительности свойств, не позволяющих разгля-
деть симптомов надежды? Не сама ли реальность мертва?
Гоголь искал истоки абсурда в самом себе, в одержимости бе-
сом, в недостаточно удачном внешнем устройстве, но нашел их в
самих основах бытия — и ужаснулся, к такому открытию непод-
готовленный, таким открытием сокрушенный...
Стоило появиться хотя бы предпосылкам подобной мыс-
ли, которая отчетливо так и не была сформулирована Гого-
лем (хотя следы этой вероятной в его сознании логики по-
падаются там и сям в его переписке, а главное, в его поэти-
ке1), и дело всей жизни, призвание, божественный дар та-
ланта оказывались ложными. Раз «Мертвые души» — не
темная сторона, но темная суть, и потому слово бессильно;
раз писатель не волен переменить натуры, а его деятель-
ность держалась единственно на базе веры в безграничное
могущество слова, зачем тогда писать? И если писатель
спрашивает (неважно, определяя в понятиях или только до-
1 Как представляется автору, все творчество и мироощущение Гоголя вели
его к этой «так и не сформулированной», экзистенциальной мысли.
154
гадываясь): «Зачем писать?» — ответом оказывается другой
вопрос: «Зачем жить?»
Незадолго до смерти Гоголь окончательно убедился в
том, что ни он сам, ни его слово, ни даже русская действи-
тельность не ответственны за «мертвые души», что их вос-
крешение противно устройству самого бытия, на дне кото-
рого отнюдь не одно добро...
В. И. Мильдон:
Разумеется, февральский недуг 1852 года носил реально-
физический характер, и, полагают ныне с большою долей
правды, это был тиф, который не распознали лечившие Го-
голя врачи, определив менингит. Однако так ли невероятна
гипотеза, что ослабленный вышеназванными размышления-
ми дух не позволил организму сопротивляться? Так ли мно-
го неправдоподобного в мысли, по которой Гоголь, отчаяв-
шись спасти мир словом, не захотел выздоравливать? Во
всяком случае, нельзя отделять истории его болезни от ис-
тории творчества, а, возможно, как раз в творчестве и нуж-
но искать истинные причины, приоткрывающие тайну
смерти писателя.
И. Д. Ермаков:
И он сжигает свои рукописи, он знаками объясняет, что
не хочет ни с кем говорить, он отказывается от принятия
пищи, он решил умереть в глубоком унынии, в болезни, ко-
торая одна, может быть, и могла показать всю глубину того
нравственного падения, в котором он находился, — он ушел
от людей.
Существуют болезни, которые являются самым нравст-
венным, лучшим выходом из создавшегося положения: та-
кой была «болезнь» Гоголя.
Борьба действительности с мечтой, власти и самостояте-
льности, смеха и слез, лирического волнения и пошлости,
любви к людям и глубокого отчуждения от людей, — все это
создало ту атмосферу, в которой жил, боролся и умер Гоголь.
Гоголь болел Россией и умер от этой болезни. Он умер, по-
няв, что его утопические представления и надежды не имеют
155
опоры, что российская реальность находится в трагическом раз-
ладе с русской мечтой, что его чаяния, обращенные к Будущему,
безосновательны. Будучи человеком веры, Гоголь умер, утратив
надежду и любовь...
До 10 февраля, то есть за десять (!) дней до смерти, Гоголь
еще выезжал, наносил визиты, ездил в церковь, играл с крестни-
ком. Затем что-то произошло.
Начиная с этого времени он почти перестал разговари-
вать с теми, кто приезжал к нему. Характерно признание С.
Шевырева, воспроизведенное Н. В. Бергом: «...свидания их
[Гоголя и Шевырева] стали похожи на аудиенции. Через
минуту, после 2 — 3 слов, уж он дремлет и протягивает ру-
ку: «Извини! дремлется что-то!» О странном состоянии Го-
голя знали, к нему приезжали, но никаких длительных раз-
говоров у него не было ни с кем. «Принял он меня ласко-
во, — записывал Д. Свербеев, — посадил и через 2 — 3 ми-
нуты судорожно вскочил со своего стула, говоря, что ему
давно уже нездоровится. Нашел я его каким-то странным,
бледным и, судя по глазам, чем-то встревоженным и пламе-
неющим. Я тотчас поднялся и от него вышел. Таким видел
я его в последний раз, дней за 5 перед концом».
Незадолго до смерти Гоголь привиделся себе мертвым. Он
слышал голоса и страдал от страхов, много и истово молился...
Часто думая о смерти, Гоголь как-то бросил: «Надо сладко
умирать!» Но сам он умирал далеко не сладко: чудовищно тяжело
и странно...
Почти все очевидцы умирания Гоголя не могут обойтись без
слов «странная смерть». «Что это за странная смерть! — пишет
С. Т. Аксаков. — Он умер, мне кажется, только потому, что был
убежден, что умирает. Физического расстройства в нем не было».
Свидетельствует А. Т. Тарасенков:
Не прошло месяца, как я с ним вместе обедал; он казал-
ся мне человеком цветущего здоровья, бодрым, свежим,
крепким, а теперь передо мною был человек, как бы изну-
ренный до крайности чахоткою или доведенный каким-то
продолжительным истощением до необыкновенного изне-
можения. Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза
156
сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, ще-
ки ввалились, голос ослаб, язык трудно шевелился от сухо-
сти во рту, выражение лица стало неопределенное, необъяс-
нимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда.
Он смотрел, как человек, для которого все задачи разре-
шены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны, ко-
лебание в решении невозможно.
Комментирует В. В. Набоков:
Крайнее физическое истощение в результате голодовки
(которую он объявил в припадке черной меланхолии, желая
побороть дьявола) вызвало острейшую анемию мозга (вмес-
те, по-видимому, с гастроэнтеритом), а лечение, которому
его подвергали — мощные слабительные и кровопуска-
ния, — ускорило смертельный исход: организм больного
был и без того подорван малярией и недоеданием. Парочка
чертовски энергичных врачей, которые прилежно лечили
его, словно он был помешанным (несмотря на тревогу более
умных, но менее деятельных коллег), пыталась добиться пе-
релома в душевной болезни пациента, не заботясь о том,
чтобы укрепить его ослабленный организм.
С той самой ночи, как сжег свои рукописи, сделался он
еще мрачнее прежнего. Сидел в креслах по целым дням в
халате, протянувши ноги на другой стул, перед столом, не
пускал к себе почти никого и еще меньше говорил. Замеча-
тельны слова, которые он в это время сказал Хомякову:
«Надо же умирать, и я уже готов и умру».
Врачи не находили ни причины его смертельной болезни, ни
болезненных симптомов. Ни на что не жаловался и сам Гоголь.
На глазах всех совершалось медленное самоубийство — само-
убийство путем бессрочной голодовки.
Свидетельствует доктор А. Т. Тарасенков:
Явившись к графу [А. П. Толстому], я, по его рассказам,
наводил его на мысль: не нужно ли подумать о том, как бы
заставить его употреблять питательную пищу, если нельзя
по убеждению, то хотя против воли? Я передал о несколь-
ких примерах психопатов, мною виденных и исцелившихся
после того, как они стали употреблять пищу.
157
П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому:
Как Толстой ни увещевал Гоголя подкрепиться, ничто не
действовало. Граф поехал к митрополиту Филарету, чтобы
словом архипастыря подействовать на расстроенное вообра-
жение кающегося грешника. Филарет приказал сказать, что
сама церковь повелевает в недугах предаться воле врача. Но
и это не произвело перемены в мыслях больного. Пропус-
кая лишь несколько капель воды с красным вином, он про-
должал стоять коленопреклоненный перед множеством по-
ставленных перед ним образов и молиться. На все увещева-
ния отвечал тихо и коротко: «Оставьте меня, мне хорошо».
А. Т. Тарасенков:
В воскресенье приходской священник убедил больного
принять ложку клещевинного масла; он проглотил, но по-
сле этого перестал вовсе слушаться его и не принимал уже в
последнее время никакой пищи.
Когда гр. Толстой для рассеяния начинал с ним говорить
о предметах, весьма близких к нему, и которые не могли не
занимать его прежде, он возражал с благоговейным изумле-
нием: «Что это вы говорите? можно ли рассуждать об этих
вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте?»
И. П. Золотусский:
Он лежал, отвернувшись к стене, в халате и сапогах и
смотрел на прислоненную к стене икону Божьей матери. Он
хотел умереть тихо, спокойно. Ясное сознание, что он уми-
рает, было написано на его лице. Голоса, которые он слы-
шал перед тем, как сжечь второй том, были голосами отту-
да — такие же голоса слышал его отец незадолго до смерти.
В этом смысле он был в отца. Он верил, что должен уме-
реть, и этой веры было достаточно, чтоб без какой-либо
опасной болезни свести его в могилу.
То был уход, а не самоубийство, уход сознательный, бес-
поворотный, как уход Пульхерии Ивановны, Афанасия Ива-
новича, понявших, что их время истекло. Жить, чтобы про-
сто жить, чтоб тянуть дни и ожидать старости, он не мог.
Жить и не писать (а писать он был более не в силах), жить и
стоять на месте значило для него при жизни стать мертвецом.
158
Верный своей вере в то, что жизнь дается человеку для
того, чтобы сделать свое дело и уйти, он и ушел от них, все
еще думавших, что они имеют власть над ним.
Муки Гоголя перед смертью были муками человека, ко-
торого не понимали, которого вновь окружали удивленные
люди, считавшие, что он с ума сошел, что он голодом себя
морит, что он чуть ли не задумал покончить с собой. Они
не могли поверить в то, что дух настолько руководил им,
что его распоряжения было достаточно, чтоб тело беспреко-
словно подчинилось.
Свидетельствует С. П. Шевырев:
В последние дни имел он еще силы писать хотя дрожа-
щей рукою... На длинных бумажках писал он большими
буквами: «Аще не будете малы, яко дети, не внидете в цар-
ствие небесное». Потом молитву Иисусу Христу против са-
таны, чтобы Иисус Христос связал его неисповедимою си-
лою креста своего. Последние слова, написанные им, были:
«Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно
помнить в сердце полученный урок?» К чему относились
эти слова, — это осталось тайной.
Понимая причину загадочной болезни Гоголя, А. П.Толстой
пытался внушить ему мысль о возможности восстановления со-
жженной рукописи: «Это хороший признак — и прежде вы сжи-
гали все, а потом выходило еще лучше; значит, и теперь это не
перед смертью». Слова эти был последними, оживившими Гого-
ля. На вопрос графа: «Ведь вы можете все припомнить?» — Го-
голь ответил: «Да, могу, могу: у меня все это в голове». А. Т. Та-
расенков: «После этого он, по-видимому, сделался покойнее, пе-
рестал плакать». Но Гоголь уже знал: начать все сначала ему не
удастся... Его творческие силы полностью исчерпались...
Врачи собрались для консилиума. Поставлен был во-
прос: «Оставить больного без пособий, или поступить с
ним, как с человеком, не владеющим собой, и не допускать
его до умерщвления себя?» — Решили: «Да, надобно его
кормить насильно».
Все врачи вошли к больному, стали его осматривать и
расспрашивать. Когда давили ему живот, который был так
мягок и пуст, что через него легко можно было ощупать по-
звонки, то Гоголь застонал, закричал. Прикосновение к
другим частям тела, вероятно, также было для него болез-
159
ненно, потому что также возбуждало стон и крик. На во-
просы докторов больной или не отвечал ничего, или отве-
чал коротко и отрывисто «нет», не раскрывая глаз. Нако-
нец, при продолжительном исследовании, он проговорил с
напряжением: «Не тревожьте меня, ради Бога!»
Доктора предписали пиявки и холодное обливание голо-
вы в теплой ванне. Нашли также успокоительное латинское
название болезни: Gastro-enteritis ex inanitione (желудочно-
кишечное воспаление вследствие истощения).
Рассказывают, что, когда его раздевали и сажали в ван-
ну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это делают на-
прасно; после того, как его положили опять в постель без
белья, он проговорил: «Покройте плечо, закройте спину!»; а
когда ставили пиявки, он повторял: «Не надо!»; когда они
были поставлены, он твердил: «Снимите пиявки, подними-
те (ото рта) пиявки!» — и стремился их достать рукою.
Обращение врачей было неумолимое; они распоряжа-
лись, как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед
трупом. Клименков приставал к нему, мял, ворочал, поли-
вал на голову какой-то едкий спирт, и, когда больной от
этого стонал, доктор спрашивал, продолжая поливать: «Что
болит, Николай Васильевич? А? Говорите же». Но тот сто-
нал и не отвечал.
За несколько часов до смерти, когда он уже был почти в
агонии, ему «обкладывали все тело горячим хлебом, причем
опять возобновился стон и пронзительный крик».
Комментирует Д. С. Мережковский:
Какое-то фантастическое безобразие! Мы видели, впро-
чем, что во всей личности, в жизни Гоголя иногда мелькает
это фантастическое, исполински-карикатурное, самое смеш-
ное в самом страшном; и вот это же повторяется в смерти.
Тут как будто в последний раз смеется Черт над челове-
ком, нарочно в самом унизительном положении тела и духа
тащит свою жертву. Доктора должны были казаться Гоголю
в предсмертном бреду его чем-то вроде той нечисти, кото-
рая задушила Хому Брута в оскверненной церкви. «Горь-
ким словом моим посмеюся»- эти слова пророка
Иеремии начертаны на гробовом камне Гоголя.
160
Комментирует В. В. Набоков:
Вот почему есть что-то до ужаса символическое в прон-
зительной сцене, когда умирающий тщетно пытался ски-
нуть чудовищные черные гроздья червей, присосавшихся к
его ноздрям. Мы можем вообразить, что он чувствовал, если
вспомнить, что всю жизнь его донимало отвращение ко все-
му слизистому, ползучему, увертливому, причем это отвра-
щение имело даже религиозную подоплеку.
С ужасом читаешь, до чего нелепо и жестоко обходились
лекари с жалким, бессильным телом Гоголя, хоть он молил
только об одном: чтобы его оставили в покое.
А вот комментарий врача-профессионала, доктора Н. Н. Ба-
женова, написавшего впоследствии знаменитую книгу Бо-
лезнь и смерть Гоголя:
Печально сознаться в этом, но одною из причин кончи-
ны Гоголя приходится считать неумелые и нерациональные
медицинские мероприятия... Гоголь был субъектом с при-
рожденною невропатическою конституцией. Его жалобы на
здоровье в первую половину жизни сводятся к жалобам не-
врастеника. В течение последних 15 — 20 лет жизни он
страдал тою формою душевной болезни, которая в нашей
науке носит название периодического психоза, в форме так
наз. периодической меланхолии. По всей вероятности, его
общее питание и силы были надорваны перенесенной им в
Италии (едва ли не осенью 1845 г.) малярией. Он скончал-
ся в течение приступа меланхолии от истощения и острого
малокровия мозга, обусловленного как самою формою бо-
лезни, — сопровождавшим ее голоданием и связанным с
нею быстрым упадком питания и сил, — так и неправиль-
ным, ослабляющим лечением, в особенности кровопуска-
нием. Следовало делать как раз обратное тому, что с ним
делали, т. е. прибегнуть к усиленному, даже насильственно-
му кормлению и вместо кровопускания, может быть, нао-
борот, к вливанию в подкожную клетчатку соляного рас-
твора.
Пытались лечить умирающего и гипнозом — пригласили для
этого известного магнетизера доктора Сокологорского. Однако,
когда доктор положил руку больному на голову и начал делать
пассы, Гоголь приказал оставить его.
161
Сохранилось любопытное свидетельство Л. И. Арнольди о
том, как Гоголя пытались в буквальном смысле слова «поставить
на ноги» его слуги:
Тут я был свидетелем страшного разговора между двумя
служителями и не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если
бы меня тут не было. «Если его так оставить, то он не вы-
здоровеет, — говорил один из них, — поверь, что не вста-
нет, умрет, беспременно умрет!» — «Так что ж, по-твое-
му?..» — отвечал другой. «Да вот возьмем его насильно, ста-
щим с постели, да и поводим по комнате, поверь, что разо-
йдется и жив будет». — «Да как же это можно? Он не захо-
чет... кричать станет». — «Пусть его кричит... после сам бла-
годарить будет, ведь для его же пользы!» — «Оно так, да я
боюсь... как же это без его воли-то?» — «Экой ты неразум-
ный! Что нужды, что без его воли, когда оно полезно? Ведь
ты рассуди сам, какая у него болезнь-то... никакой нет, про-
сто так... Не ест, не пьет, не спит, и все лежит, ну, как тут
не умереть? У него все чувства замерли, а вот как мы размо-
таем его, он очнется... на свет Божий взглянет, и сам жить
захочет. Да что долго толковать, бери его с одной стороны,
а я вот отсюда, и все хорошо будет!»
Сегодня ни у кого нет сомнений в ошибочности диагноза и
методов «лечения» Гоголя, с которым обращались как «с сумас-
шедшим», как «с человеком, не владеющим собою». На самом
деле вплоть до самой смерти Гоголь пребывал в полной памяти и
здравом уме, и если «духовный элемент был преобладающею
причиною его болезни», то отнюдь не по причине расстройства
души. А. Т. Тарасенков категорически отвергает слух об умствен-
ном расстройстве, распространившийся после кончины Гоголя,
хотя и умалчивает об ошибке маститых лекарей, собравшихся на
консилиум. А профессор Трошин, изучив работы Баженова и Чи-
жа, заключает: «Умер душевно здоровый человек при явлениях
душевной болезни».
Последними словами Гоголя были: «Лестницу! Поскорее, да-
вай лестницу!..» Любопытно, что с этими же словами умирал рус-
ский подвижник Тихон Задонский. В последней главе Пере-
писки Гоголь тоже писал о лестнице: «Бог весть, может быть,
за одно это желание [любви воскрешающей] уже готова сброси-
ться с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взле-
теть по ней». Он не терял надежды на рай... Перед смертью, ви-
димо, много думал о лестнице Иакова или о духовной лестнице
другого христианского подвижника Иоанна Лествичника...
162
А. Т. Тарасенков:
Часу в одиннадцатом он закричал громко: «Лестницу!
Поскорее, давай лестницу!..» Казалось, ему хотелось встать.
Его подняли с постели, посадили на кресло. В это время он
уже так ослабел, что голова его не могла держаться на шее и
падала машинально, как у новорожденного ребенка. Тут
привязали ему мушку на шею, надели рубашку (он лежал
после ванны голый); он только стонал. Когда его опять
укладывали в постель, он потерял все чувства; пульс у него
перестал биться; он захрипел, глаза его раскрылись, но
представлялись безжизненными. Казалось, что наступает
смерть, но это был обморок, который длился несколько ми-
нут. Пульс возвратился вскоре, но сделался едва примет-
ным... В двенадцатом часу ночи стали холодеть ноги... дыха-
ние сделалось хриплое и еще более затрудненное; кожа по-
крылась холодною испариною, под глазами посинело, лицо
осунулось, как у мертвеца.
Д. С. Мережковский:
«Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит
какое-то большое самопожертвование». И действительно, в
самоумерщвлении Гоголя совершилось «великое самопо-
жертвование» за всех нас — за русское общество, за русскую
церковь. Но мы не приняли и не поняли этой жертвы. В на-
шем движении вперед, в нашем «прогрессе», не останавли-
ваясь, даже не оглядываясь, мы перешагнули через эту жер-
тву — через мертвое тело Гоголя. «Слышно страшное в су-
дьбе наших поэтов», — говорит он о гибели других, но с
еще большим правом можно бы это сказать о его собствен-
ной гибели. «И никого это не поразило, даже не содрогну-
лось ветреное племя!»
Из Записок сумасшедшего:
Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они дела-
ют со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они
не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им?
За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного?
Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не
могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится
предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне трой-
ку быстрых, как вихорь коней!.. Матушка, спаси твоего бед-
163
ного сына! урони слезинку на его больную головушку! по-
смотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного
сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожа-
лей о своем больном дитятке!..
Из Портрета:
Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужас-
ными портретами. Портрет двоился, четверился в его гла-
зах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в
него свои неподвижные, живые глаза; страшные портреты
глядели с потолка, с полу; комната расширялась и продол-
жалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвиж-
ных глаз...
Смерть Гоголя, считал И. Анненский, есть искупительная
жертва, принесенная художником жизни, победившей «доктри-
ну» вечной неразрешимостью «истины». Смерть Гоголя — рас-
плата за созданные им правдивые образы, от которых он пытался
отказаться. Эти образы оказались сильнее морали, они подчини-
ли себе нравственную задачу писателя:
Великой загадкой стоят перед нами М<ертвые> д<уши>
с их исключительной, почти болезненной выпуклостью,
грубой вещественностью людей, а главное, с их глубоким
нравственным безразличием.
Отчего же — от какой болезни, скончался Николай Василье-
вич Гоголь? Существует три версии: брюшной тиф (диагноз В. П.
Боткина), склероз или цереброспинальный менингит (диагноз
А. И. Овера) и помешательство, приведшее к самоубийству по-
средством голодания (большинство современников, включая
И. С. Тургенева, а также В. И. Шенрок, В. Чиж, Н. Баженов).
Имеются варианты, например, гастроэнтерит или прободение яз-
вы, вызванной тифозными очагами в тонком кишечнике с после-
дующим перитонитом. Имеется огромная, большей частью тен-
денциозная и спекулятивная, литература о болезни и смерти Го-
голя с существенно идеологической подоплекой.
Не хотелось бы входить в детали медицинских версий, тем бо-
лее что, как мне кажется, Гоголь умер не от болезни — он умер от
ужаса. Мне очень импонирует версия В. Мильдона, связавшего
болезнь и смерть гения не с конкретной человеческой хворью, а с
мировидением, с предсмертным отчаянием, с осознанием невоз-
164
можности «спасти» мир. Впрочем, это версия довольно давняя,
высказанная тотчас по смерти Гоголя доктором Тарасенковым:
Вероятно, ему казалось, что он не исполнил одного из
подвигов христианских — измождения плоти, о котором так
высоко отзываются подвигоположники, отшельники мира;
он возненавидел плоть свою, перестал ее питать, решился
быть отшельником в мире.
В. Мильдон, анализируя эволюцию взглядов Гоголя, обращает
внимание на его изначальный страх перед материей, на неуве-
ренность в способности человека выдержать чудовищное давле-
ние косного вещества: «Мы... должны бояться, чтобы кора, нас
облекающая, не окрепла». Что же противопоставляет молодой
Гоголь чудовищной материальности мира? Слово! Душу! Способ-
ность спасти душу словом! Молодой Гоголь верит в слово, в ма-
гию слова, в его заклинающее действие, в молитву, в возмож-
ность слова изменить мироустройство, превратить страшное и
ужасное в «здоровое и крепкое».
Точно так же надеялся он и своею книгой «Мертвые Ду-
ши» восстановить тишину житейских морей и укротить ды-
хание бурной человеческой вражды, которую рассчитывал
обуздать и победить изображением ее тягчайших последст-
вий. Он полагал искусство, перво-наперво словесное, наде-
ленным такою силою. В знаменитом письме В. А. Жуков-
скому из Неаполя (1848) об искусстве он пишет: «Под звуки
Орфеевой лиры строились города», — примечательно закан-
чивая свои рассуждения: «...искусство исполнит свое назна-
ченье и внесет порядок и стройность в общество!»
Как и другие русские титаны, Гоголь верил в собственную спо-
собность словом «спасти мир», «наставить на путь истинный», на-
чертать путь к Богу. Но, на свою беду, каждый раз, берясь за перо,
он с ужасом убеждался, что пером его движет бес: ему удавалось
лишь все «ночное», темное, неприглядное, пахнущее серой.
Гоголь, всегда и везде писавший себя, не мог не задуматься о
собственном «просветлении», о необходимости «изгнать беса»,
«замолить грехи», преодолеть скверну.
Писателем завладела мысль: раз его слово, имевшее силу
«умертвить», не имеет силы оживить, значит, не в слове де-
ло — мертвая-то сила была; дело в самом авторе. Это его
165
душа темна и омертвела, и посему «магнетизм» умерщвле-
ния таков, что живое не выдерживает — свертывается, ка-
менеет, гибнет. Это он, Гоголь, виноват в появлении мерт-
вого мира такой напряженности, что в его силовом поле
гибнет все живое, включая авторские намерения воскресить
мертвых. Потому и не получается оживление, не идет вто-
рой том: у автора в душе не было нужного тона, он сам не
был просветлен и оживлен, чтобы написать мир живых, и
все, на что падал его взгляд, тотчас умирало. Только из про-
светленной души родится спасительное слово — значит,
нужно браться не за продолжение романа, а за себя.
Вот откуда и Выбранные места, и поездка в Иерусалим,
и связь с отцом Матвеем, и все прочее...
А. Т. Тарасенков:
В десятом часу утра, в четверг 21 февраля 1852 г., я спе-
шу приехать ранее консультантов, которые назначили быть
в десять (а Овер — в час), но уже нашел не Гоголя, а труп
его: уже около восьми часов прекратилось дыхание, исчезли
все признаки жизни. Нельзя вообразить, чтобы кто-нибудь
мог терпеливее его сносить все врачебные пособия, насиль-
но ему навязываемые. Умерший лежал уже на столе, одетый
в сюртук, в котором он ходил; над ним служили панихиду; с
лица его снимали маску. Когда я пришел, уже успели
осмотреть его шкафы, где не нашли ни им писанных тетра-
дей, ни денег. Долго глядел я на умершего: мне казалось,
что лицо его выражало не страдание, а спокойствие, ясную
мысль, унесенную в гроб.
Графиня Е. В. Сальяс:
Тело Гоголя было поставлено в приемной его комнате, в
доме графа Толстого, где он жил, и комната не вмещала
числа посетителей, приходивших поклониться покойнику.
В четверг вечером попечитель университета упросил графа
Толстого позволить ему перенести тело в университетскую
церковь, чтобы почтить память покойного, тем более что он
был почетным членом университета. Сперва эта просьба,
сделанная из глубокого уважения к покойному, встретила
несколько возражений, но, однако, все было устроено.
В пятницу вечером попечитель, профессора, студенты и
множество лиц из всех кругов пришли в комнату покойного
166
и вынесли тело его в университетскую церковь. Тело было
вынесено Островским, Бергом, Феоктистовым, студ. Сати-
ным, Филипповым, Рудневым и несено до самой церкви,
при просьбах других лиц, добивавшихся чести нести его хо-
тя несколько шагов. Оно было поставлено на катафалк в
университете, с почетным караулом шести студентов, день и
ночь не отходивших от гроба и сменявшихся через два часа.
В субботу, на утренней и вечерней панихиде, был весь город
и все сословия.
Погодина не было в Москве во время кончины и погре-
бения Гоголя; Шевырев был болен (он занемог за два дня
до смерти Гоголя), а другие друзья его: Хомяков, Аксаковы
и Кошелев сделали из дела общего, из скорби общей вопрос
партии и не несли покойного, а устранились от погребения.
В воскресение было отпевание тела. Стечение народа бы-
ло так велико, что сгущенные массы стояли до самых почти
местных образов. Граф Закревский в полном мундире, попе-
читель Назимов присутствовали при отпевании, так же, как
и все известные лица города. Гроб был усыпан камелиями,
которые принесены были частными лицами. На голове его
лежал лавровый венок, в руке огромный букет из имморте-
лей. Когда надо было проститься с ним, то напор всех был
так велик, что крышку накрыли силой. Всякий хотел покло-
ниться покойнику, поцеловать руку его, взять хоть стебель
цветов, покрывавших его изголовье. Из церкви профессора
Анке, Морошкин, Соловьев, Грановский, Кудрявцев вынес-
ли его на руках до улицы, на улице толпа студентов и част-
ных людей взяла гроб из рук профессоров и понесла его по
улице. За гробом пешком шло несметное число лиц всех со-
словий; прямо за гробом попечитель и все университетские
чины и знаменитости; дамы ехали сзади в экипажах. Нить
погребения была так велика, что нельзя было видеть конца
поезда. До самого монастыря Данилова несли его на руках.
Гоголя похоронили рядом с покойным Языковым, Венели-
ным, женой Хомякова, умершей за две недели прежде.
Спустя несколько дней после похорон был составлен акт об
оставшемся имуществе поэта. Вместе с книгами и золотыми
карманными часами стоимость имущества «скончавшегося от
простуды коллежского асессора Гоголя» составила 43 рубля 88
копеек серебром. Так уж, видимо, устроен этот мир для великих
поэтов...
167
Первый некролог написал Иван Сергеевич Тургенев:
Гоголь умер! — Какую русскую душу не потрясут эти два
слова? — Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна,
что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда
мы все могли надеяться, что он нарушит, наконец, свое дол-
гое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпели-
вые ожидания, — пришла эта роковая весть! — Да, он умер,
этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое пра-
во, данное нам смертию, назвать великим; человек, который
своим именем означал эпоху в истории нашей литературы;
человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших. Он
умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не
окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его
предшественников... Его утрата возобновляет скорбь о тех не-
забвенных утратах, как новая рана возбуждает боль старин-
ных язв. Не время теперь и не место говорить о его заслугах —
это дело будущей критики; должно надеяться, что она поймет
свою задачу и оценит его тем беспристрастным, но исполнен-
ным уважения и любви судом, которым подобные ему люди
судятся перед лицом потомства; нам теперь не до того; нам
только хочется быть одним из отголосков той великой скор-
би, которую мы чувствуем разлитою повсюду вокруг нас; не
оценять его нам хочется, но плакать; мы не в силах говорить
теперь спокойно о Гоголе... Самый любимый, самый знако-
мый образ не ясен для глаз, орошенных слезами... В день,
когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда
руку — соединиться с ней в одном чувстве общей печали. Мы
не могли взглянуть в последний раз на его безжизненное ли-
цо; но мы шлем ему издалека наш прощальный привет — и с
благоговейным чувством слагаем дань нашей скорби и нашей
любви на его свежую могилу, в которую нам не удалось, по-
добно москвичам, бросить горсть родимой земли! — Мысль,
что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-
то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоится там, в
этом сердце России, которую он так глубоко знал и так лю-
бил, так горячо любил, что одни легкомысленные или близо-
рукие руки не чувствуют присутствия этого любовного пла-
мени в каждом им сказанном слове. Но невыразимо тяжело
было бы нам подумать, что последние, самые зрелые плоды
его гения погибли для нас невозвратно, — и мы с ужасом вни-
маем жестоким слухам об их истреблении...
Едва ли нужно говорить о тех немногих людях, которым
168
слова наши покажутся преувеличенными, или даже вовсе
неуместными... Смерть имеет очищающую и примиряющую
силу; клевета и зависть, вражда и недоразумения — все
смолкает перед самою обыкновенной) могилой! они не заго-
ворят над могилою Гоголя. Какое бы ни было окончательное
место, которое оставит за ним история, мы уверены, что ни-
кто не откажется повторить теперь же вслед за нами: мир его
праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени!
Всю свою жизнь Гоголь окружал атмосферой загадки и тайны.
Никто никогда не знал, кого он любил, что писал, каковы его
планы. Таинственными были все его сожжения, загадочной
смерть, легендами окутана посмертная судьба тела. Даже насле-
дие, сохранившиеся бумаги Гоголя были окружены повышенным
общественным вниманием — ожиданием чуда Феникса, восстав-
шего из пепла.
Чуда не произошло. 28 апреля, два месяца спустя после смер-
ти Гоголя, С. П. Шевырев, А. П. Толстой и московский губерна-
тор И. В. Капнист произвели распечатывание бумаг, обнаружив,
помимо завещания и 12 записных книжек, в которые писатель
заносил отдельные мысли, анекдоты и оригинальные выражения,
рукописи Авторской исповеди, Размышления о
Божественной литургиии пяти глав второго тома Мер-
твых Душ. Бумаги хранились в знаменитом гоголевском порт-
феле, а главы второго тома «нашлись завалившимися в шкафу за
книгами». Кроме того, были обнаружены обширные выписки из
Св. отцов, каллиграфически переписанный Гоголем псалтырь,
экземпляр Переписки с друзьями со всеми ненапечатан-
ными письмами, Учебная книга словесности для
русского юношестваи странный лоскуток бумаги с запис-
кой, написанной, судя по всему, уже после сожжения поэмы:
«Будьте живые, а не мертвые души! Единая дверь в небесное цар-
ствие — Иисус Христос! Вся, прелазяй инуду тать есть и разбой-
ник!..»
Разбором и публикацией обнаруженных бумаг занимался
С. П. Шевырев. После непродолжительной дискуссии о целесо-
образности обнародования сохранившихся материалов собствен-
норучно сожженной поэмы было принято решение об издании
материалов. Интересно, что прохождению через цензурные ро-
гатки посмертных публикаций способствовал великий князь
Константин, а разрешение дал новый царь Александр II, начер-
тавший высочайшую резолюцию: «Согласен».
169
личность
ДВА ГОГОЛЯ?
Каждый видел в нем то, что хо-
телось видеть, а не то, что действи-
тельно есть.
П. А. Вяземский
Мы еще не знаем, что такое Го-
голь.
А. Белый
Каждый раз, когда я приступаю к воссозданию психологиче-
ского портрета великого духовидца, предо мной возникает все та
же проблема «пятнышек», проблема оправдания гения, в оправ-
даниях не нуждающегося, проблема правды жизни и идеализа-
ции, человечности и небесности. П. А. Кулиш, оставивший наи-
более содержательные Записки о жизни Николая Ва-
сильевича Гоголя, даже не скрывал своего намерения ико-
низировать любимого писателя. П. В. Анненков, наоборот, счи-
тал, что гений в оправданиях не нуждается, что «для биографа
чрезвычайно важно смотреть прямо в лицо герою своему и иметь
доверенность к его благодатной природе». Здесь решающее сло-
во — «благодатная природа». Если природа благодатна, ретушь не
нужна.
П. В. Анненков:
Глубоко продуманный, поэтически угаданный и смело
изложенный характер имеет еще и ту выгоду, что он точно
так же и принимается, как составился в уме жизнеописате-
ля, то есть целиком. Цельно изображенный характер может
быть только целиком отвергнут или, наоборот, целиком
принят, на основании строгих нравственных соображений.
Без соблюдения этих коренных условий хорошего биографа
автор будет походить всегда на человека, который стоит у
весов день и ночь и беспрестанно обвешивает приходящих,
170
задерживая одну чашку с событиями и обвинениями слиш-
ком тяжелыми, или подталкивая другую с явлениями, в мо-
ральном смысле несколько легковесными. Стрелка не при-
дет никогда в свое правильное положение и центральной
точки никогда не укажет.
Переходя далее непосредственно к характеристике личности
Гоголя, П. В. Анненков пишет:
Если с самого детства, со школьнической жизни в Не-
жине, мы видим что достижение раз задуманной цели или
предприятия приводило в необычайное напряжение все
способности Гоголя и вызывало наружу все качества, соста-
вившие впоследствии его характер, то будем ли мы удивля-
ться, что вместе с ними появилась врожденная скрытность,
ловко рассчитанная хитрость и замечательное по его возрас-
ту употребление чужой воли в свою пользу. Станем ли мы
скрывать, или, еще хуже, искать у читателя отпущения этим
жизненным чертам, которые более всего предвещают не со-
всем обыкновенного человека. В школьнической переписке
Гоголя с матерью мы видим, по риторическому тону неко-
торых писем, что в них скрывается какое-то другое дело,
чем то, которое излагается на бумаге, и имеем историче-
ские, несомненные свидетельства в подтверждение неволь-
ных догадок, возбуждаемых ими. Многие места их, наибо-
лее пышные, держатся за фактические основания совсем не
того рода, какие молодой ученик старается выставить перед
семейством. Посредством этих пышных фраз он растет в
глазах своих родных с одной стороны и исполняет свои соб-
ственные намерения с другой. Это раннее проявление неко-
лебимой воли, идущей упорно к своим тайным целям, по-
нашему, заключает более поучения и выводов, чем самое
прилежное исполнение задачи спасать ежеминутно его ре-
путацию...
Чем интересны личности великих людей? Тем, что это люди-
мифы, легенды, архетипы. Изучение не только творчества, но и
личности Гоголя позволяет проникнуть в архаическое сознание,
писал Ю. Лотман, может быть основой для реконструкции мифо-
мышления, особенно славянского.
Как все гениальные люди, Гоголь не сохранялся духовно не-
изменным, на протяжении короткой жизни пройдя огромную
171
эволюцию от неуклюжего неискусного провинциала до духовно
высокоразвитой, экзистенциально ориентированной личности.
Великую ошибку сделает тот, кто смешает Гоголя по-
следнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Пе-
тербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравст-
венные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда,
как совершился важный переворот в его жизни.
Человек огромной духовной энергии и постоянной внутрен-
ней работы, Гоголь не просто чтил духовную жизнь других, но
крайне отрицательно относился к нигилизму и «новаторству».
Как все духовидцы, это был консерватор, ретрист, в известном
смысле «реакционер».
Видно было, что утрата некоторых старых обычаев, про-
зреваемая им в будущем и почти неизбежная при новых
стремлениях, поражала его неприятным образом. Он был
влюблен... в свое воззрение на Рим, да тут же действовал от-
части и малороссийский элемент, всегда охотно обращенный
к тому, что носит печать стародавнего или его напоминает.
Никоша рано проявил свой «норов». Зная сложные отноше-
ния, сложившиеся между отцом и благодетелем [Д. П. Трощин-
ским], он как-то подошел к знатному гостю, игравшему партию
шахмат, и сказал отцу: «Папа, не играйте с ним. Пусть идет».
Дмитрий Прокофьевич был ошарашен и заговорил о розге. Ни-
коша не растерялся. «Плевать на вас и на вашу розгу», — париро-
вал он, ретируясь. Василий Афанасьевич испугался инцидента и
действительно хотел прибегнуть к главному «воспитательному»
на Руси средству, но старик помешал. «Он будет характерен», —
предрек Д. П. Трощинский.
Видимо, еще в гимназии Гоголь научился подавлять свои
страсти, умерять порывы поэтической натуры, преобразовывать
романтическую экзальтацию пионера в консерватизм охраните-
ля. Иными словами, он пытался сбить огонь, пылавший в его ду-
ше, загоняя его пламя в невидимые постороннему глазу темные
пещеры подсознания.
В этом соединении страсти, бодрости, независимости
всех представлений со скромностью, отличающей практиче-
ский взгляд, и благородством художественных требований
заключался весь характер первого периода его развития...
172
С. Мельшиор-Бонне:
Что удивляться непонятливости современников, когда
Гоголь был недоразумением для самого себя... Против пося-
гательств извне он прибегает к оружию слабых: к скрытно-
сти и иронии... Он ускользает... лжет с такой же легкостью, с
какой дышит... играет роли в различных регистрах, предпо-
читая, впрочем, напыщенность и сентиментальный пафос...
Он расширяет свой актерский репертуар, пополняет коллек-
цию своих прихотей, маний и причуд, которые вскоре, по-
мимо его воли, завладеют его мозгом и начнут обескровли-
вать его, подобно пиявкам... Странный Гоголь! Вот и опре-
делились основные черты его характера, которым предстоит
затвердевать в течение двадцати лет, пока он не превратится
в высохшую мумию: воспринятый с детства страх перед
адом, страх перед женщинами... любовь к мистификациям,
психоз пораженчества, комплекс неполноценности, связан-
ный с непомерной гордыней и верой в свою миссию. И бег-
ство как единственное лекарство против всех этих болезней.
Человек крайне мнительный и экзальтированный, Гоголь легко
впадал в состояния крайнего восторга, отчаяния, гордыни, само-
уничижения, богоизбранности и оставленное™ небом. Риторич-
ность, превосходные степени, вопли страха и радости, кличи, раз-
глагольствования о поприще и служении, славословия и прокля-
тия, хвала и хула — все это можно понять лишь в свете этой склон-
ности поэта «все развивать и в самых страшных призраках». Даже
многочисленные реальные и мнимые хвори этого человека — при
всей слабости его организма — в немалой степени обязаны его
сверхчувствительности и самовнушению. Решив, что он дряхлеет,
Гоголь в 35 лет стал стариком. Решив, что умирает, — умер...
В. В. Каллаш:
Письма Гоголя вводят нас в громадный, запутанный ла-
биринт: какое удивительное соединение в них самой заду-
шевной искренности, непосредственности, с явными при-
знаками природной хитрости, — хитрости, скрывающейся
еще в детстве, вместе с странной преждевременной практич-
ностью и ранним уменьем играть на самых затаенных стру-
нах человеческой души! В них и искательность, преклонение
пред сильными — и гордость гениальной натуры, уверен-
ность в себе и сознание своего высокого назначения. Стрем-
ление найти родную душу, высказаться ей — и полная само-
173
стоятельность отношений; могучее чутье действительно-
сти — и сентиментально-элегическая мечтательность, спо-
собность далеко уноситься от жизни в мир грез и идеала;
капризная надменность, широковещательные, навязчивые,
чисто мессианические предсказания и поучения — и острое
сожаление к обиженному человеку; самобичевание, всегдаш-
нее искание совершенства — и постоянная личная неудов-
летворенность; порою чисто детская религиозность — насле-
дие матери — и высокомерное ханжество, мистическая вера в
исключительность своего избранничества; смех и слезы.
Недоверие к самым близким лицам, боязнь быть непо-
нятым с ранних лет порождают в нем необыкновенную раз-
двоенность натуры, которая не только не уничтожалась с
годами, но росла и увеличивалась все более и более. Эта
раздвоенность углубляла старые и вырывала новые тайники
в его душевном лабиринте, в котором заблудился он сам и
погиб, не находя выхода.
Недоверие к людям в таком человеке, как Гоголь, не мо-
жет не вызывать удивления. Он, столь мучительно любив-
ший их, превративший всю свою жизнь в сплошной подвиг
самопожертвования, ни перед кем не распахнул своей души.
Может быть, потому это происходило, что самая его любовь
к людям носила какой-то особый, отвлеченный характер:
отдавая свою душу массе в ее целом, на отдельной личности
не мог он сосредоточить сильной, глубокой привязанно-
сти, — привязанности, которая настолько сближает, что ка-
кое-либо замалчивание и недосказанность становятся уже
невозможными. А между тем он бывал нежно-заботлив и
внимателен ко многим, но эта заботливость редко проявля-
ется в его словах, находя себе более полное выражение в
действиях и поступках. Отношения Гоголя к его друзьям
благодаря всему этому зачастую кажутся странными, возь-
мем хотя бы, например, то письмо к Жуковскому, в кото-
ром он просит его выхлопотать пособие от Николая I. Го-
голь знал, что Жуковский его ценит и любит, сам говорит
ему об этом, а между тем письмо его не носит характера
простой дружеской просьбы, а скорее представляет из себя
какую-то робкую челобитную, исполненную неприятного и
ненужного самоуничижения. К Пушкину обращается он,
как к литературному «генералу», в преувеличенно скромном
тоне, и одновременно с этим звучат самолюбивые нотки че-
ловека, знающего себе цену.
174
Почти все пишущие о Гоголе склонны к констатации «надло-
ма», «перелома», «крутого поворота», произошедшего в нем где-
то накануне написания Выбранных мест, может быть, даже
несколько раньше. История культуры, жизни великих людей дей-
ствительно изобилуют примерами такого рода «переворотов»,
«обращений», «просветлений». Почти все святые знакомы с эти-
ми «посещениями Бога», почти все великие рано или поздно пе-
реживают горечь прощания с романтическими или утопическими
экзальтациями юности. Относится ли сказанное к Гоголю?
«Все, кто помнят Гоголя в ту пору (речь идет о начале 30-х),
помнят его веселым», — пишет биограф. Это — правда, но не
вся, даже не главная ее часть. Гоголь действительно умел весе-
лить, даже до упаду, видимо, он любил и умел это делать, но, ес-
ли мы возьмем его книги, даже первые, даже самые веселые,
светлые, гармонические, мы сразу почувствуем за смехом Гоголя
отнюдь не простодушную радость и не праздничное настроение,
а глубоко притаившуюся боль, может быть, даже страх.
Когда Гоголь был маленьким, бабушка Татьяна Семено-
вна рассказывала ему о лестнице: ее спускали с неба анге-
лы, подавая руку душе умершего. Если на лестнице было
семь мерок, то на седьмое небо поднималась душа, если ме-
ньше — значит, ниже предстояло ей обитать. Седьмое не-
бо — небо рая — было высоко.
Образ лестницы запомнился Гоголю. В своих письмах и
сочинениях он станет возвращаться к нему. И всякий раз
образ этот будет двоиться — то относясь к лестнице детской
сказки, то к лестнице, ведущей к успеху.
Герои Гоголя лезут вверх, они карабкаются по ступеням,
обдирая пальцы, сталкиваемые вниз и вновь подбрасывае-
мые вверх случаем, и, лишь истратив почти все силы, осоз-
нают, что не достигли ничего. На высоте миллиона, положе-
ния в обществе, генеральства, наполеонства, фердинандства
они вдруг чувствуют потребность простого счастья человече-
ского. Они стремительно летят вниз по мнимым ступеням,
чтоб начать новый подъем — на этот раз подлинный.
Как и все люди, Гоголь, конечно, менялся, но апокалиптиче-
ская картина Страшного суда, пережитая им в раннем детстве,
преломленная его хрупким сознанием, легшая в фундамент его
подсознания, давала себя знать и в Вечерах,ив Арабесках,
ив Миргород е. Не случайно страшная месть так напоминает
175
Страшный суд, а всадник на вороном коне, стоящий на горе Кри-
вая, — Всадника из Откровения Иоанна Богослова, не случайно
Катерина вещает отцу-колдуну: «Отец, близок страшный суд!»
Страшный суд, совершающийся над колдуном в «Вече-
рах на хуторе близ Диканьки», апокалиптичен — то не част-
ное осуждение одного грешника, а как бы справедливая па-
нихида по мировому Злу: поэтому отворяются пространства,
раздвигаются дали, и из Киева становятся видны Карпат-
ские горы. И за одним грешником тянется цепь грешников,
тянется весь род греха — от мертвецов, лежащих в могилах,
до живущего еще колдуна.
Я не люблю разговоры о «двух Гоголях», о «выходе за пределы
своей личности», о раздвоении «я».
Гоголь вышел за пределы своей личности и вместо того,
чтобы использовать это расширение личности в целях искус-
ства, Гоголь кинулся в бездну своего второго «я» — вступил
на такие пути, куда нельзя вступить без определенного окку-
льтно разработанного пути, без опытного руководителя; вме-
сто того, чтобы соединить эмпирическое «я» свое с «я» миро-
вым, Гоголь разорвал связь между обоими «я» и черная без-
дна легла между ними; одно «я» ужасалось созерцанием шпо-
нек и редек, другое «я» летало в неизмеримости миров — там
за небесным сводом; между обоими «я» легло мировое про-
странство и время биллионами верст и биллионами лет.
Это тот редкий случай, когда я не могу согласиться с кумиром
моим, Андреем Белым: не было разделяющих мировых про-
странств и биллионов верст и лет — было сознание и безгранич-
ные толщи гоголевского подсознания, «я» и «оно», рациональное
и трансцендентное, надежда и правда, мечта и ужас. Еще было
подавление сознания подсознанием, вечные наплывы из этого
темного, подпольного, бессловесного мира — вот почему «свет
для Гоголя померк», вот почему в разговоре об этом уместна без-
дна. Но бездна, не разъединяющая «я» и «оно», но поглощающая
то и другое.
А. Белый:
Душа стосковалась по Гоголю; Гоголь стосковался по
душе своей, но бездна легла между ними: и свет для Го-
голя померк. Гоголь знал мистерии восторга, и мистерии
ужаса — тоже знал Гоголь. Но мистерии любви не знал,
176
Мистерию эту знали посвященные; и этого не знал Гоголь;
не знал, но заглядывал в сокровенное.
Нет, не было ни раздвоений, ни противоречий — была нео-
быкновенная сложность натуры, огромное богатство души, мно-
гообразие чувств и порывов, был большой человек, не замыкаю-
щийся сам в себе...
Любопытно, что традиция двойничества Гоголя, этого живого
героя Элексира дьявола, восходит отнюдь не к западным
его интерпретаторам, инициатива расчленения образа национа-
льного поэта принадлежит русскому вивисектору по имени Вис-
сарион Белинский. Он впервые расколол лик творца на две несо-
единимые противоположности.
Один Гоголь выступал гением искусства и соответствен-
но служил возвышенным, гуманистическим и политиче-
ским идеалам; другой, мыслитель, демонстрировал недоста-
ток интеллекта, здравого смысла и даже пристойности, и
потому его следовало сбросить со счетов при рассмотрении
художественных достижений первого.
Нет, трагедия Гоголя не в противостоянии художника идеоло-
гу, а в структуре сознания, его разорванности, в экзистенциаль-
ном феномене «несчастного сознания»: «он хотел быть Рафаэлем,
а был Босхом», он стал жертвой «глубокого раскола между спе-
цификой своего таланта и тем, к чему он стремился».
Драма Гоголя — в столкновении сознания и подсознания, в
противоречии моральных и религиозных исканий с правдой жиз-
ни: чем цельнее и совершеннее становилась его личность, тем
сильнее она давила на его душу, тем сильнее страдал он без люб-
ви и счастья. Дар Гоголя потому и сатирический, что иное худо-
жественное творчество, кроме иронии, травестии, эпатажа, не
давалось ему. Все попытки создать «положительного героя» и
«земной град» оказались бесплодными: гимн красоте небесной
Гоголю не удался.
Надо прямо признать, что в целом это был человек с тяжелым
своенравным характером, неожиданными прихотями, почти бес-
причинными вспышками гнева. Он мог быть прост, но и — высо-
комерен, покладист, но и — бескомпромиссен, добр, но и — без-
жалостен. Однажды, зная тяжелое финансовое положение Гоголя,
Александр Андреевич Иванов предложил ему должность секрета-
ря русского сообщества художников в Риме. Какова была реакция
177
Гоголя? Взрыв негодования! Он, писавший, что любое место по-
четно, ибо от Бога, с гневом кричал о «лакействе», «дымном над-
мении», «ребячестве», «бреде человека в горячке», он обвинял ху-
дожника в неуважении к его личности, его гордости и роду его за-
нятий, о пренебрежении его способностями, о взятии на себя
полномочий герцога Лейхтенбергского. Он, ригорист и вития,
предписывающий, кому и что делать, унижал и ставил на место
гениального художника, пожелавшего сделать ему добро...
По слогу письма, — мечет громы и молнии Гоголь, —
можно бы подумать, что это пишет полномочный человек:
герцог Лейхтенбергский или князь Петр Михайлович Вол-
конский по крайней мере. Всякому величаво и с генераль-
ским спокойствием указывается его место и назначение.
Словом, как бы распоряжается здесь какой-то крепыш.
Гоголь даже не чувствует, что сам разговаривает языком «зна-
чительного лица», осмеянного им самим...
Свидетельствует Н. В. Берг:
Трудно представить себе более избалованного литератора
и с большими претензиями, чем был в то время Гоголь...
Московские друзья Гоголя, точнее сказать, приближенные
(действительного друга у Гоголя, кажется, не было во всю
жизнь), окружали его неслыханным, благоговейным внима-
нием. Он находил у кого-нибудь из них во всякий свой
приезд в Москву все, что нужно для самого спокойного и
комфортабельного житья: стол с блюдами, которые он наи-
более любил; тихое уединенное помещение и прислугу, го-
товую исполнять все его малейшие прихоти...
Я не терплю портретов-лакировок, и потому не могу пройти
мимо наиболее отрицательных качеств Гоголя, вместе с тем явля-
ющихся вполне человечными в том смысле, что человечность
выражается отнюдь не в одном гуманизме, но и в нарциссизме,
эгоизме, собственничестве, в отношении к рабовладению. Ни в
одной книге о русских гениях, родившихся до 1861 года, я не на-
шел ни слова о рабовладении, тем более о связанной с послед-
ним практикой...
Купля, продажа, разлучение родителей и детей, женихов и не-
вест, право «первой ночи», рекрутство мужей было такой практи-
кой, и никому из великих и в голову не приходила мысль о бесче-
178
ловечности. Когда Гоголь отвозил сестер в Патриотический ин-
ститут, возникла потребность в горничной. О. В. Гоголь-Головня:
«Чтоб не брать в дорогу няни для сестер, брат женил своего лакея
Якима на горничной Матрене, которая была у сестры».
Перед отправлением дочерей в институт Мария Иванов-
на Гоголь была очень озабочена назначением к ним горнич-
ной, но все находила, что было бы лучше, если бы человек
Николая Васильевича Яким был женат. И вот она призыва-
ет Якима и предлагает ему жениться на выбранной горнич-
ной, объявляя, что против желания женить его не хочет, а
что желает только слышать его мнение. Но Яким на все от-
вечал: «Мне все равно-с, а это как вам угодно». Видя такое
равнодушие, его женили за три дня до отъезда, и таким об-
разом совершенно неожиданно для себя и для всех Яким
отправился в Петербург с женою, и барышни — с горнич-
ною; а Марья Ивановна была очень довольна, что все так
устроилось по-семейному.
Не следует поддаваться благостности этого «по-семейному» —
ведь мы имеем дело с интерпретацией сестры Гоголя Анны Васи-
льевны. Еще несколько примеров.
Н. В. Гоголь — М. И. Гоголь:
Да, сделайте милость, выгоните вон Борисовича, и чем
скорее, тем лучше; он выучил моего Якима пьянствовать.
Теперь все мне открылось, когда они вместе, Яким с Яко-
вом и Борисовичем, ходили за утками и пропадали три дня:
это все они пьянствовали и были так мертвецки пьяны, что
их чужие люди перенесли. Я Якима больно бил.
П. В. Анненков:
Степенный, всегда серьезный Яким состоял тогда в дол-
жности его камердинера. Гоголь обращался с ним совершен-
но патриархально, говоря ему иногда: «Я тебе рожу побью»,
что не мешало Якиму постоянно грубить хозяину...
ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА
Большинство сохранившихся литературных портретов Н. В.
Гоголя рисуют его человеком некрасивым, странным, как гово-
рилось тогда, характерным.
179
М. Н. Лонгинов:
Небольшой рост, худой и искривленный нос, кривые но-
ги, хохолок волос на голове, не отличавшейся вообще изя-
ществом прически, отрывистая речь, беспрестанно преры-
ваемая легким носовым звуком, подергивающим лицо, —
все это прежде всего бросалось в глаза. Прибавьте к этому
костюм, составленный из резких противоположностей ще-
гольства и неряшества, — вот каков был Гоголь в молодо-
сти.
С. Т. Аксаков:
Наружный вид Гоголя был тогда совершенно другой и
невыгодный для него: хохол на голове, гладко подстрижен-
ные височки, выбритые усы и подбородок, большие и креп-
ко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую
физиономию его лицу: нам показалось, что в нем было что-
то хохлацкое и плутоватое. В платье Гоголя приметна была
претензия на щегольство... Вообще в нем было что-то от-
талкивающее, не допускавшее меня до искреннего увлече-
ния и излияния, к которым я способен до излишества.
П. А. Кулиш:
В Петербурге некоторые помнят Гоголя щеголем; было
время, что он даже сбрил себе волосы, чтобы усилить их гу-
стоту, и носил парик. Но те же самые лица рассказывают,
что у него из-под парика выглядывала иногда вата, которую
он подкладывал под пружины, а из-за галстуха вечно торча-
ли белые тесемки.
Н. М. Колмаков:
Но, Боже мой, что за длинный, острый, птичий нос был
у него! Я не мог на него прямо смотреть, особенно вблизи,
думая: вот клюнет, и глаз вон.
И. И. Панаев:
Наружность Гоголя не произвела на меня приятного
впечатления. С первого взгляда на него меня всего более
поразил его нос, сухощавый, длинный и острый, как клюв
хищной птицы. Он был одет с некоторою претензиею на
180
щегольство, волосы были завиты и клок напереди поднят
довольно высоко, в форме букли, как носили тогда. Вгляды-
ваясь в него, я все разочаровывался более и более, потому
что заранее составил себе идеал автора «Миргорода», и Го-
голь нисколько не подходил к этому идеалу. Мне даже не
понравились глаза его — небольшие, проницательные и ум-
ные, но как-то хитро и неприветливо смотревшие.
Д. К. Малиновский:
Небольшой рост, солидный сюртук, бархатный глухой
жилет, высокий галстук и длинные темные волосы, гладко
падавшие на острый профиль. Разговаривая или обдумывая
что-нибудь, Гоголь потряхивал головой, откидывая волосы
назад, или иной раз вертел небольшие красивые усы свои;
при этом бывала и добродушная, кроткая улыбка на его ли-
це, когда он, доверчиво разговаривая, поглядывал вам в ли-
цо. Когда беседа не оживляла его, он сидел, немного отки-
нувшись назад и несколько сгорбившись, как будто утом-
ленный или углубленный в продолжительную думу. Бывали
также минуты, когда он быстро ходил и почти бегал по ком-
нате, говоря, что этого требует его нездоровье и остывшая
будто бы его кровь.
Л. И. Арнольди:
Ровно в шесть часов вошел в комнату человек маленько-
го роста с длинными белокурыми волосами, причесанными
а-ля мужик, маленькими карими глазками и необыкновен-
но длинным и тонким птичьим носом. Это был Гоголь. Он
носил усы, чрезвычайно странно тарантил ногами, неловко
махал одной рукой, в которой держал палку и серую пухо-
вую шляпу; был одет вовсе не по моде и даже без вкуса.
Улыбка его была очень добрая и приятная, в глазах замеча-
лось какое-то нравственное утомление.
А. Т. Тарасенков:
Ходил Гоголь немного сгорбившись, руки в карманы,
галстук просто подвязан, платье поношенное, волосы длин-
ные, зачесанные так, что покрывали значительную часть
лба и всегда одинаково; усы носил постоянно коротенькие,
подстриженные; вообще видно было, что он мало заботился
о своей внешней обстановке. Когда встречался, протягивал
181
руку, жал довольно крепко, улыбался, говорил отчетливо,
резко, и хотя не изысканно сладко, но фразы были правиль-
ные, без поправки, слова всегда отчетливо выбранные.
В. А. Нащокина:
Он был небольшого роста, говорил с хохлацким акцен-
том, немного ударяя на о, носил довольно длинные волосы,
остриженные в скобку, и часто встряхивал головой, любил
всякие малороссийские кушанья, особенно галушки, что у
нас часто для него готовили. Общества мало знакомых лю-
дей он сторонился. Обыкновенно разговорчивый, веселый,
остроумный с нами, Гоголь сразу съеживался, стушевывал-
ся, забивался в угол, как только появлялся кто-нибудь по-
сторонний, и посматривал из своего угла серьезными, как
будто недовольными глазами или совсем уходил в малень-
кую гостиную в нашем доме, которую он особенно любил.
П. П. Каратыгин:
Невысокого роста блондин с огромным тупеем, в золо-
тых очках на длинном птичьем носу, с прищуренными глаз-
ками и плотно сжатыми, как бы прикуснутыми губами. Зе-
леный фрак с длинными фалдами и мелкими перламутро-
выми пуговицами, коричневые брюки и высокая шляпа-ци-
линдр, которую Гоголь то порывисто снимал, запуская па-
льцы в свой тупей, то вертел в руках, все это придавало его
фигуре нечто карикатурное. Никто не догадывался, какой
великий талант скрывался в этом слабом теле, какие страда-
ния он испытывал, предугадывая, что ни актеры-исполни-
тели, ни большинство публики не оценят и не поймут «Ре-
визора» при его первом представлении.
Д. С. Мережковский:
При первом взгляде наружность его удивляет: в ней что-
то странное, на других людей не похожее, слишком напря-
женное, слишком острое и вместе с тем надломленное, бо-
льное. «Длинный сухой нос придавал этому лицу и этим си-
девшим по его сторонам осторожным глазам что-то птичье,
наблюдающее, — говорит очевидец. — Так смотрят с кро-
вель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-
задумчивые аисты». — Зоркая и грустная птица. Самое по-
верхностное впечатление от наружности Гоголя — тревож-
182
ное, почти жуткое и в то же время смешное, комическое:
зловещая карикатура; других смешит и сам смешон. —
«Ведь ты, братец, сам делаешься комическим лицом!» — го-
ворит ему Погодин. — «Я, именно, комик, — соглашается
Гоголь, — и вся моя фигура карикатурна».
Чем пристальнее всматриваешься в него, тем это смеш-
ное становится более жутким, почти страшным, фантасти-
ческим.
Впрочем, наружность Гоголя, как это нередко случается с лю-
дьми неординарными, одухотворялась временем — дух все ярче
освещал его неправильное, даже гротескное лицо. Вот портрет
конца 1839 года, написанный С. Т. Аксаковым по возвращении
писателя из зарубежных странствий в Москву:
Наружность Гоголя так переменилась, что его можно бы-
ло не узнать. Следов не было прежнего, гладко выбритого и
обстриженного, кроме хохла, франтика в модном фраке.
Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти
по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену;
все черты лица получили совсем другое значение; особенно
в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость и
любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то
сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то
невнешнему.
А вот портрет, написанный П. В. Анненковым и относящий-
ся, видимо, к 1846 году:
Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная
работа мысли положила на нем ясную печать истощения и
усталости, но общее выражение его показалось мне как-то
светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа.
Оно оттенялось, по-старому, длинными, густыми волосами
до плеч, в раме которых глаза Гоголя не только не потеряли
своего блеска, но, казалось мне, еще более исполнились ог-
ня и выражения.
Еще два года спустя, княжна В. Н. Репнина:
Лицо его носило отпечаток перемены, которая воспосле-
довала в душе его. Прежде ему ясны были люди; но он был
закрыт для них, и одна ирония показывалась наружу... Те-
перь он сделался ясным для других; он добр, он мягок, он
183
братски сочувствует людям, он так доступен, он снисходи-
телен, он дышит христианством.
Впрочем, в зависимости от пристрастий пишущей братии, да-
же в этот, поздний период портреты существенно менялись...
Н. В. Берг:
Гостиная была уже полна. Одни сидели, другие стояли,
говоря между собою. Ходил только один, небольшого роста
человек, в черном сюртуке и брюках, похожих на шаровары,
остриженный в скобку, с небольшими усиками, с быстрыми
проницательными глазами темного цвета, несколько блед-
ный. Он ходил из угла в угол, руки в карманы, и тоже гово-
рил. Походка его была оригинальная, мелкая, неверная, как
будто одна нога старалась заскочить постоянно вперед, от-
чего один шаг выходил как бы шире другого. Во всей фигу-
ре было что-то несвободное, сжатое, скомканное в кулак.
Никакого размаху, ничего открытого нигде, ни в одном
движении, ни в одном взгляде. Напротив, взгляды, бросае-
мые им то туда, то сюда, были почти что взглядами испод-
лобья, наискось, мельком, как бы лукаво, не прямо другому
в глаза, стоя перед ним лицом к лицу. Для знакомого не-
много с физиономиями хохлов — хохол тут виден сразу. Я
сейчас сообразил, что это Гоголь, больше так, чем по како-
му-либо портрету.
Появление Гоголя на вечере, иной раз нарочно для него
устроенном, было почти всегда минутное. Пробежит по
комнатам, взглянет; посидит где-нибудь на диване, боль-
шею частью совершенно один; скажет с иным приятелем
два-три слова, из благоприличия, небрежно, бог весть где
летая в то время своими мыслями, — и был таков.
П. М. Щепкин:
Н. В. Берг едва ли верно подметил ту черту характера Го-
голя, что он был в обществе молчалив и не общителен до
странности и оживлялся только, столкнувшись нечаянно с
кем-нибудь из малороссов. Гоголь в нашем кружке, — а бо-
льшинство было русское, — был всегда самым очарователь-
ным собеседником: рассказывал, острил, читал свои сочи-
нения, никем и ничем не стесняясь. Нелюдимым он являл-
184
ся только на тех вечерах, которые устраивались так часто с
Гоголем многими из его почитателей и почитательниц.
Исключительно емкую внешнюю и внутреннюю характери-
стику Н. В. Гоголя оставил Д. М. Погодин, сын издателя Мос-
ковского Вестника, профессора Московского университе-
та и друга Гоголя Михаила Петровича Погодина:
На ходу, да и вообще, Гоголь держал голову несколько
набок. Из платья он обращал внимание преимущественно
на жилеты: носил всегда бархатные и только двух цветов:
синего и красного. Выезжал он из дома редко, у себя тоже
не любил принимать гостей, хотя характера был крайне ра-
душного. Мне кажется, известность утомляла его, и ему бы-
ло неприятно, что каждый ловил его слово и старался наве-
сти его на разговор; наконец, он знал, что к отцу приезжали
многие лица специально для того, чтобы посмотреть на
«Гоголя», и когда его случайно застигали в кабинете отца,
он моментально свертывался, как улитка, и упорно молчал.
Не могу сказать, чтобы у Гоголя было много знакомых. Го-
голь жил у нас скорее отшельником. Он любил беседовать с
духовенством и не обегал нашего немудрого, но очень доб-
родушного религиозного старичка, отца Иоанна: но в церк-
ви Гоголя я ни разу не видал.
Даже друзья не знали «настоящего Гоголя» — столь разным, не-
ординарным и неожиданным он мог быть. С. Т. Аксаков, общав-
шийся с ним чаще других, в Истории знакомства писал:
Гоголя, как человека, знали весьма немногие. Даже с дру-
зьями своими он не был вполне или, лучше сказать, всегда,
откровенен. Он не любил говорить ни о своем нравственном
настроении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о
своих делах семейных... Разные люди, знавшие Гоголя в раз-
ные эпохи его жизни, могли сообщить о нем друг другу раз-
ные известия... Но даже в одно и то же время, особенно до
последнего своего отъезда за границу, с разными людьми Го-
голь казался разным человеком. Тут не было никакого при-
творства: он соприкасался с ними теми нравственными сто-
ронами, с которыми симпатизировали те люди, или, по край-
ней мере, которые могли они понять. Так, например, с одни-
ми приятелями, и на словах, и в письмах, он только шутил,
так что всякий хохотал, читая эти письма; с другими говорил
об искусстве и очень любил сам читать вслух Пушкина,
185
Жуковского и Мерзлякова (его переводы древних); с иными
беседовал о предметах духовных, с иными упорно молчал и
даже дремал или притворялся спящим. Кто не слыхал самых
противуположных отзывов о Гоголе? Одни называли его за-
бавным весельчаком, обходительным и ласковым; другие —
молчаливым, угрюмым и даже гордым; третьи — занятым
исключительно духовными предметами... Одним словом,
Гоголя никто не знал вполне. Некоторые друзья и приятели,
конечно, знали его хорошо; но знали, так сказать, по частям.
Очевидно, что только соединение этих частей может соста-
вить целое, полное знание и определение Гоголя.
Аксаковская характеристика близка моему методу «портретиро-
вания»: синтеза всех перспектив, всех точек зрения, всех мнений,
образующих суммарную, плюральную, многоаспектную «истину».
Гоголь не мог не быть разным, как не может не быть разным
человек в периоды подъема и спада, радости и боли. Один чело-
век — кризисов, другой — экстазов. Один — всплесков творчест-
ва, другой — творческого упадка: «Ничего почти не сделано
мною во всю зиму, выключая немногих умственных материалов,
забранных в голову...» Удивительно, что тот же Аксаков этого не
понимал:
Решительно не знаю, какие житейские дела могли отни-
мать у Гоголя время и могли мешать ему писать. Книжными
делами заведывали Прокопович и Шевырев; в деньгах он
был обеспечен, из дома его ничто не беспокоило.
Впрочем, противоречивость аксаковских характеристик Гого-
ля—во многом результат не аксаковской предвзятости, а гого-
левской бесконечности. «Я вижу в Гоголе добычу сатанинской
гордости», — пишет С. Т. Аксаков, а через несколько лет добав-
ляет: «Я признаю Гоголя святым». Между этими полюсами — ин-
фернальное™ и святости, сумасшествия и мученичества — рас-
положены и многие другие характеристики, не из-за предвзято-
сти авторов — из-за неопределимости Гоголя.
А. Блок:
Если бы сейчас среди нас жил Гоголь, мы относились бы
к нему так же, как большинство его современников: с жу-
тью, с беспокойством и, вероятно, с неприязнью: непобеди-
мой внутренней тревогой заражает этот единственный в
186
своем роде человек: угрюмый, востроносый, с пронзитель-
ными глазами, больной и мнительный.
Источник этой тревоги — творческая мука, которою бы-
ла жизнь Гоголя. Отрекшийся от прелести мира и от жен-
ской любви, человек этот сам, как женщина, носил под сер-
дцем плод: существо, мрачно сосредоточенное и безучаст-
ное ко всему, кроме одного; не существо, не человек почти,
а как бы один обнаженный слух, отверстый лишь для того,
чтобы слышать медленные движения, потягивания ребенка.
Едва ли встреча с Гоголем могла быть милой, приятель-
ской встречей: в нем можно было легко почувствовать ста-
рого врага; душа его гляделась в другую душу мутными оча-
ми старого мира; отшатнуться от него было легко.
Только способный к восприятию нового в высшей мере
мог различить в нем новый, нерожденный мир, который
надлежало Гоголю явить людям.
Заглянувшему в новый мир Гоголя, вероятно, надолго
«становился как-то скучным разумный возраст человека».
Когда Гоголь говорил в «Портрете» о какой-то черте, до
которой художника «доводит высшее познание искусства и
через которую шагнув он уже похищает не создаваемое тру-
дом человека, вырывает что-то живое из жизни»; когда Го-
голь мучился, бессильный создать желаемое, и годами пере-
писывал свои творения, безжалостно уничтожая гениаль-
ное, бросая на середине то, что для нас неоцененно и лишь
для его художнической воли сомнительно; когда Гоголь
мечтал о «великих трудах» и звал «пободрствовать своего ге-
ния»; когда он слушал все одну отдаленную и разрастающу-
юся музыку души своей — бубенцы тройки и вопли скри-
пок на фоне однообразно звенящей струны (об этой музы-
ке — и в «Портрете», и в «Сорочинской ярмарке», и в «За-
писках сумасшедшего», и в «Мертвых душах»); когда, за-
мышляя какую-то несозданную драму, мечтал Гоголь «осве-
тить ее всю минувшим... обвить разгулом, казачком и всем
раздольем воли... и в поток речей неугасимой страсти, и в
бесчестность забубённых веков»; — тогда уже знал Гоголь
сквозь все тревоги, что радость и раздирающая мука творче-
ства суждены ему неизбежно.
Так женщина знает с неизбежностью, что ребенок ро-
дится, но что она будет кричать от боли, дорогой ценой
платя за радость рождения нового существа.
Перед неизбежностью родов, перед появлением нового
существа содрогался Гоголь; как у русалки, чернела в его
душе «черная точка». Он знал, что сам он — ничто сравни-
187
тельно со своим творением; что он — только несчастный
сумасшедший рядом с тем величием, которое ему снится.
«Спасите меня! Возьмите меня!» — кричит замученный По-
прищин; это крик самого Гоголя, которого схватила творче-
ская мука.
НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ...
Ничто человеческое не было ему чуждо. Размышляя о высо-
ких материях и абсурде человеческого существования, он легко
переходил к делам земным, связанным с панталонами и пугови-
цами. Хоть и был неуклюж, неаккуратен и безвкусен, в молодо-
сти много думал о нарядах и часто о них писал.
Н. В. Гоголь — Г. И. Высоцкому, то же письмо от 26 июня
1827 года, в котором речь шла о «ничтожном самодовольствии
высокого назначения человека» и «безмолвии мертвом»:
Позволь еще тебя попросить об одном деле: нельзя ли
заказать у вас в Петербурге портному самому лучшему фрак
для меня? Узнай, что стоит пошитье самое отличное фрака
по последней моде. Мне хочется ужасно как, чтобы к по-
следним числам или к первому ноября я уже получил фрак
готовый. Напиши, пожалуйста, какие модные материи у вас
на жилеты, на панталоны. Какой-то у вас модный цвет на
фраки? Мне очень бы хотелось сделать себе синий с метал-
лическими пуговицами; а черных фраков у меня много, и
они мне так надоели, что смотреть на них не хочется.
Гоголь сам признавал в себе «хлестаковщину»: любовь к наря-
дам, хлестаковское хвастовство, потребность пустить «пыль в
глаза».
Свидетельствует П. В. Анненков:
Вообще следует заметить, что природа его имела многие
из свойств южных народов, которых он так ценил вообще.
Он необычайно дорожил внешним блеском, обилием и раз-
нообразием красок в предметах, пышными, роскошными
очертаниями, эффектом в картинах и природе. «Последний
день Помпеи» Брюллова привел его в восторг. Полный
звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое
слово, все, исполненное силы и блеска, потрясало его до
188
глубины сердца. Он просто благоговел перед созданиями
Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического
анализа, но так же точно с выражением страсти в глазах и
голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи
Языкова. В жизни он был очень целомудрен и трезв, если
можно так выразиться, но в представлениях он совершенно
сходился со страстными, внешне великолепными представ-
лениями южных племен.
Сотканный из противоречий, Гоголь одновременно стремился
к щегольству и был неряшлив, стыдился своего внешнего вида и
отказывался следить со собой. В гимназии он никогда не приче-
сывался и его растрепанная голова всегда была предметом насме-
шек. Стричься он также не любил.
Человек по божественной природе своей противоречив, амби-
валентен, распростерт между небом и землей, раем и адом. Если
в среднем человеке все это стерто, плохо выражено, то человек
выдающийся чаще всего выдается именно широтой спектра че-
ловеческих качеств, удивительным сочетанием несовместимо-
стей.
Свидетельствует Л. И. Арнольди:
Разговор зашел о Гоголе; каждый из нас делал свои заме-
чания о нем и его характере, о его странностях. Разбирали
его как писателя, как человека, и многое казалось нам в
нем необъяснимым и загадочным. Как, например, согласить
его постоянное стремление к нравственному совершенству с
его гордостию, которой мы все были не раз свидетелями?
его удивительно тонкий, наблюдательный ум, видный во
всех его сочинениях, и вместе с тем, в обыкновенной жиз-
ни, какую-то тупость и непонимание вещей самых простых
и обыкновенных? Вспомнили мы также его странную мане-
ру одеваться, и его насмешки над теми, кто одевался смеш-
но и без вкуса, его религиозность и смирение, и слишком
уже подчас странную нетерпеливость и малое снисхождение
к ближним; одним словом, нашли бездну противоречий, ко-
торые, казалось, трудно было и совместить в одном челове-
ке. При этом брат мой сделал замечание, которое поразило
тогда своею верностию и меня, и графа Толстого1. Он на-
шел большое сходство между Гоголем и Жан-Жаком Руссо.
1 Здесь речь идет о поэте А. К. Толстом.
189
С сегодняшней моей позиции мне трудно согласиться с по-
следним сравнением, но вот с Блезом Паскалем что-то общее у
Гоголя действительно было.
Хотя в молодые годы за Гоголем был грех вещизма, впослед-
ствии он отказался от всего лишнего, первейше необходимого.
Все свое он носил с собой: ведя подвижный образ жизни, он по-
стоянно имел при себе маленький бессменный чемоданчик, с ко-
торым прожил почти тридцать лет и в котором содержалось не-
сколько пар белья и предметы первой необходимости.
Когда случалось, что друзья, не зная его твердого наме-
рения не иметь ничего лишнего и затейливого, дарили Го-
голю какую-нибудь вещь красивую и даже полезную, то он
приходил в волнение, делался скучен, озабочен и решитель-
но не знал, что ему делать. Вещь ему нравилась, она была в
самом деле хороша, прочна и удобна; но для этой вещи тре-
бовался и приличный стол, необходимо было особое место
в чемодане, и Гоголь скучал все это время, покуда продол-
жалась нерешительность, и успокаивался только тогда, ког-
да дарил ее кому-нибудь из приятелей.
Николай Васильевич любил природу, любил жизнь, любил
красивые вещи и вкусные яства. «Может быть, нет в мире друго-
го, влюбленного с таким исступлением в природу, как я».
Гоголь еще бывал шутливо весел, любил вкусно и плот-
но покушать, и нередко беседы его с Щепкиным склоня-
лись на исчисление и разбор различных малороссийских
кушаний. Винам он давал, по словам Щепкина, названия
«квартального» и «городничего», как добрых распорядите-
лей, устрояющих и приводящих в набитом желудке все в
должный порядок; а жженке, потому, что зажженная горит
голубым пламенем, давал имя Бенкендорфа: — «А что, —
говорил он Щепкину после сытного обеда, — не отправить
ли теперь Бенкендорфа?» — и они вместе приготовляли
жженку.
Гоголь был лакомкой, мог враз съесть банку варенья, гору
пряников, любил развеять печаль «добрым вином»:
Есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина. Ког-
да душа твоя потребует другой души, чтобы рассказать всю
свою полугрустную историю, поучал Гоголь Максимовича,
190
заберись в свою комнату и откупори ее, и когда выпьешь ста-
кан, то почувствуешь, как оживятся все твои чувства.
М. П. Погодин сохранил милую, полную доброго юмора исто-
рию о том, как он с друзьями, будучи в Риме, «уличил» страдаю-
щего от отсутствия аппетита Гоголя в тайном гурманстве и лу-
кулловском пиршестве:
Однажды вечером встретился я у княгини Волконской с
Бруни и разговорился о Гоголе. — «Как жаль, — сказал
я, — что здоровье его так медленно поправляется!» — «Да
чем же он болен?» — спрашивает меня с удивлением Бру-
ни. — «Как чем? — отвечаю я, — разве вы ничего не знае-
те? У него желудок расстроен; он не может есть ничего».
«Как не может, что вы говорите? — воскликнул Бруни, за-
хохотав изо всех сил, — да мы ходим нарочно смотреть на
него иногда за обедом, чтоб возбуждать в себе аппетит: он
ест за четверых. Приходите, когда угодно, около шести ча-
сов к Фалькони». Отправились мы гурьбой на другой день
к Фалькони... Фалькони славился отличной, свежей прови-
зией. Мы пришли и заперлись наглухо в одной каморке
подле Гоголевой залы, сказав, что хотим попировать особо,
и спросили себе бутылку Дженсано. К шести часам, слы-
шим, действительно, является Гоголь. Мы смотрим через
перегородку. Проворные мальчуганы, camerieri, привыкшие
к нему, смотрят в глаза и дожидаются его приказаний. Он
садится за стол и приказывает: макарон, сыру, масла, уксу-
су, сахару, горчицы, равиоли, брокколи... Мальчуганы на-
чинают бегать и носить к нему то то, то другое. Гоголь, с
сияющим лицом, принимает все из их рук за столом, в
полном удовольствии, и распоряжается: раскладывает перед
собой все припасы, — груды перед ним возвышаются вся-
кой зелени, куча склянок со светлыми жидкостями, все в
цветах, лаврах и миртах. Вот приносятся макароны в чаш-
ке, открывается крышка, пар повалил оттуда клубом. Го-
голь бросает масло, которое тотчас расплывается, посыпает
сыром, становится в позу, как жрец, готовящийся совер-
шить жертвоприношение, берет ножик и начинает разрезы-
вать... В эту минуту наша дверь с шумом растворяется.
С хохотом мы все бежим к Гоголю. — «Так-то, брат, — вос-
клицаю я, — аппетит у тебя нехорош, желудок расстроен?
Для кого же ты это все наготовил?» Гоголь на минуту скон-
фузился, но потом тотчас нашелся и отвечал с досадою: —
«Ну, что вы кричите, разумеется, у меня аппетита настоя-
191
щего нет. Это аппетит искусственный, я нарочно стараюсь
возбудить его чем-нибудь, да черта с два, возбужу, как бы
не так! Буду есть, да нехотя, и все как будто ничего не ел.
Садитесь же лучше со мной; я вас угощу»... Началось пиро-
вание, очень веселое. Гоголь уписывал за четверых и все
доказывал, что это так, что все это ничего не значит, и же-
лудок у него расстроен.
Вспоминая о слабости Гоголя по части вкусной еды,
И. Ф. Золотарев рассказывал:
Бывало, зайдем мы в какую-нибудь тратторию пообе-
дать; и Гоголь покушает плотно, обед уже кончен. Вдруг
входит новый посетитель и заказывает себе кушанье. Аппе-
тит Гоголя вновь разгорается, и он, несмотря на то, что то-
лько что пообедал, заказывает себе то же кушанье, или что-
нибудь другое.
Из наиболее любимых Гоголем блюд было козье молоко,
которое он варил сам особым способом, прибавляя туда ро-
му (последний он возил с собой во флаконе). Эту стряпню
он называл гоголь-моголем и часто, смеясь, говорил: «Го-
голь любит гоголь-моголь».
Даже в последний период жизни, в период отказа, бесконеч-
ных унылых рассуждений о посте, бесстрастии и умерщвлении
плоти, у Гоголя порой вырывается былая жизненная сила, милая
человеческая страсть.
Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову:
Любезный друг, Сергей Тимофеевич, имеют к вам сегод-
ня подвернуться к обеду два приятеля: Языков и я, оба гре-
ховодники и скоромники. Упоминаю об этом обстоятельст-
ве по той причине, чтобы вы могли приказать прибавить
кусок бычачины на лишнее рыло.
Д. С. Мережковский:
Как радуешься, как отдыхаешь на этой шутке! Точно
бледный луч солнца в гробовом склепе. Как узнаешь и при-
ветствуешь прежнего Гоголя, милого «язычника», неиспра-
вимого обжору, творца «Старосветских помещиков», для
которых вся жизнь — еда! Как начинаешь снова надеяться,
192
что он еще не погиб! И насколько этот кусок грешной бы-
чачины ближе ко Христу, чем та страшная сухая просвира,
которую впоследствии запостившийся Гоголь будет глодать,
умирая от истощения и упрекая себя в «обжорстве»!
Гоголь любил застольные песни, русские и малороссийские,
понимал и их красоту и умел петь сам.
Песня русская вообще увлекала его сердце непобедимою
силою, как живой голос всего огромного населения его оте-
чества. Но к малороссийской песне он сохранил чувство,
подобное тому, какое остается в нашей душе к прекрасной
женщине, которую мы любили в ранней молодости... он
обыкновенно говаривал: «Упьемся песнями нашей Мало-
россии»; и действительно, он упивался ими, так что иной
куплет повторял раз тридцать сряду, в каком-то поэтиче-
ском забытьи...
Гоголь любил анекдоты, умел их рассказывать, не смущаясь
интимными «подробностями». Он собирал «срамные» песни и
мог вписать оные в тетрадки друзей, не ставя стыдливого много-
точия вместо нецензурных слов (такие тетрадки сохранились).
Его письма изобилуют физиологическими подробностями о со-
стоянии и функционировании его организма, но в них практиче-
ски не найти признаний о интимных чувствах — здесь он всегда
«заперт», «застегнут» на все пуговицы, это для него самая щекот-
ливая тема. Здесь нужен Зигмунд Фрейд.
В кругу близких людей Николай Васильевич мог, раскрепоща-
ясь, употребить «соленую» шутку, даже крепкое словцо:
Остроты Гоголя были своеобразны, неизысканны, но
подчас не совсем опрятны. Старик Щепкин помнил наи-
зусть одно письмо Гоголя, писанное из-за границы к Бенар-
даки, где шутливость поэта заявила себя с такою нецере-
монною откровенностью, что это любопытное послание на-
всегда останется неудобным для печати.
Большею частью содержанием разговоров Гоголя были
анекдоты, почти всегда довольно сальные.
Возвышенность духа вполне уживалась в натуре Гоголя с тяго-
тением к праху, красота печатного слова — с пристрастием к сло-
ву непечатному. В его эпистолярии есть что-то раблезианское,
193
какое-то средневековое пристрастие к скатологическому и коп-
рологическому, явно выраженное желание заострять внимание
на физиологических отправлениях кишечного тракта.
Н. В. Гоголь — Тарновскому:
Что, как твое здоровье? Как с... ты вкруть или всмятку?
регулярно или нерегулярно? Также насчет поясницы и про-
чих почечуйностей.
Н. В. Гоголь — А. С. Данилевскому:
Ничего не случилось в дороге, кроме того только, что се-
годня поутру п...л на дороге и от радости позабыл на том же
месте, где с..л, моего итальянского Курганова.
Н. В. Гоголь — А. С. Данилевскому:
Удивительное производят действие на желудок хорошие
сушеные фиги... слабят, но так легко, можно сказать под-
масливают дорогу г...у.
Н. В. Гоголь — А. С. Данилевскому:
Попотчевать ли тебя чем-нибудь из Языкова, чтобы за-
кусить г...о конфетками?
Стоит ли удивляться, что даже стихи Николая Васильевича
называются Парнасский навоз или что его герои постоян-
но пачкают костюмы — себе и другим?..
Гоголь отнюдь не был человеком «не от мира сего». Скорее
наоборот, практичность усиливалась его изобретательностью,
хохлацкой хитростью, даже плутовством. Он не только написал
Ревизора, но несколько раз пользовался изобретением Хлес-
такова для получения практических выгод. Так, путешествуя из
Киева в Москву с Данилевским и Пащенко, он распространял
слух о проезде ревизора:
Для этой цели он просил Пащенка выезжать вперед и
распространять везде, что следом за ним едет ревизор, тща-
тельно скрывающий настоящую цель своей поездки. Па-
щенко выехал несколькими часами раньше и устраивал так,
что на станциях все были уже подготовлены к приезду и
194
встрече мнимого ревизора. Благодаря этому маневру, заме-
чательно счастливо удавшемуся, все трое катили с необык-
новенной быстротой... В подорожной Гоголя значилось:
«адъюнкт-профессор», что принималось обыкновенно сби-
тыми с толку смотрителями чуть ли не за адъютанта его им-
ператорского величества. Гоголь держал себя, конечно, как
частный человек, но как будто из простого любопытства
спрашивал: — «Покажите, пожалуйста, если можно, какие
здесь лошади; я бы хотел посмотреть их» и проч.
Желая стать профессором Киевского университета, Гоголь
просил М. А. Максимовича «сослужить службу»: «намекнуть» по-
печителю университета Брадке, «что вы бы, дескать, хорошо бы
сделали, если бы залучили в университет Гоголя, что нет никого,
кто бы имел такие глубокие исторические сведения и так бы вла-
дел языком преподавания, и тому подобные скромные похвалы,
как будто вскользь»...
Ходатайствуя о протекции по тому же вопросу перед А. С.
Пушкиным Гоголь просил его убедить министра народного про-
свещения Уварова отдать киевскую вакансию «умирающему» от
петербургского климата «историку». Два письма из эпистолярия
величайших русских гениев — как мгновенная вспышка, раскры-
вающая их характеры:
Н. В. Гоголь — А. С. Пушкину:
Я буду вас беспокоить вот какою просьбою: если зайдет
обо мне речь с Уваровым, скажите, что вы были у меня и
застали меня еле жива; при этом случае выбраните меня хо-
рошенько за то, что живу здесь и не убираюсь сей же час
вон из города; что доктора велели ехать сей же час и стара-
ться захватить там это время. И сказавши, что я могу весьма
легко через месяц протянуть совсем ножки, завесть речь о
другом, как-то: о погоде или о чем-нибудь подобном. Мне
кажется, что это не совсем будет бесполезно.
А. С. Пушкин — Н. В. Гоголю:
Я совершенно с вами согласен. Пойду сегодня же нази-
дать Уварова и поговорю о вашей смерти. От сего незамет-
ным и искусным образом перейду к бессмертию, его ожида-
ющему. Авось уладим.
195
Здесь неизгладимое впечатление оставляет детальный инст-
руктаж, даваемый Гоголем Пушкину, и «поговорю о вашей смер-
ти» последнего.
С Пушкиным связана еще одна «маленькая хитрость» Гоголя,
начинающего поприще в столице. Только-только познакомив-
шись с Пушкиным и уже успев подвести его (обещал доставить
Повести Белкина из Царского в Петербург и не заехал за
рукописью), Гоголь ставит Пушкина в неловкое положение, на-
казав знакомым без согласия последнего писать ему, Гоголю, «на
имя Пушкина в Царское Село». Для чего? Для эффекта, для пон-
та, для создания соответствующего реноме. Конечно, это — мо-
ветон, Гоголь понимал это и, чтобы сгладить неприятные по-
следствия, письменно извинялся и изворачивался...
Гоголь часто прибегает к подобным «уловкам»: то «Государы-
ня приказала читать мне в находящемся в ее ведении институте»
звучит так, будто он уже принят ко двору, то «адъюнкт» собст-
венноручно производит себя в «профессора», то невинное лукав-
ство с получением профессуры в Киеве...
История донесла до нас множество «маленьких хитростей»
Гоголя, удивляющих милой бесхитростностью.
Н. В. Гоголь — М. П. Погодину:
Пожалуйста, напечатай в «Московских Ведомостях» объ-
явление об «Арабесках». Сделай милость, в таких словах:
что теперь, дескать, только и говорят везде, что об «Арабе-
сках», что сия книга возбудила всеобщее любопытство, что
расход на нее страшный (NB: до сих пор ни гроша барыша
не получено) и тому подобное.
По своей натуре это был настоящий мистификатор, наслаж-
давшийся своими розыгрышами, вкладывавший в них какой-то
тайный, одному ему известный смысл. Возвратившись в сентябре
1839-го из зарубежных странствий в Москву, живя уже у Погоди-
на, он в течение целого месяца помечал свои письма к матери за-
граничными городами, Триестом и Веною, в 1846-м окутал нео-
быкновенной тайной свою поездку в Париж...
Гоголевская страсть к таинственности сказывалась даже в со-
крытии творческих планов и замыслов. То, что работа над вто-
196
рым томом Мертвых Душ окружена ореолом тайны, входи-
ло в задумки самого Гоголя:
Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изум-
лению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась),
раскрыться в последующих томах, если бы Богу угодно бы-
ло продлить жизнь мою. Повторяю... что это тайна, и ключ
от нее покамест в душе у одного автора.
Маленькие хитрости и мистификации Гоголя должны всегда
иметься в виду при чтении его писем, при описании его дейст-
вий, при объяснении его поступков.
Любопытно, что даже в посещении Гоголем родной Васильев-
ки обнаружена определенная закономерность: он никогда не ез-
дил туда после неудач — только как триумфатор, «пустив вперед
себя своих книги и славу...».
НАРЦИСС И ПАН
При всем внутреннем одиночестве, интровертированности,
нарциссизме Гоголя тянуло к людям. Ему необходимы были сер-
дечные поверенные, друзья, общение, разрядка.
Позже его одинокие прогулки стал разделять Саша Да-
нилевский — сосед и ровесник, — с которым сошлись они в
одночасье — сошлись прочно, навсегда. На всю жизнь за-
помнил Гоголь тот день, когда Саша вдруг оказался у его
постели, и внимательные, добрые, живые черные глаза
взглянули на него сквозь туман: у Никоши был жар, он бо-
лел. Перед постелью на столике стояла чашка с клюквой —
Никоша предложил Саше отведать ее, тот вежливо взял не-
сколько ягод. И этот жест доброты, согласия, участия сое-
динил их сердца. «Ближайший мой», «брат», «ненагляд-
ный» — такими словами станет называть взрослый Гоголь
своего друга Данилевского. К нему он будет привязан креп-
че, чем к кому-либо. Ему станет прощать обиды, молчание,
охлаждение. О нем будет тосковать в своих путешествиях по
дальним странам, ему писать нежнейшие письма. Вместе
пройдут они через гимназические годы, через петербург-
скую безвестность и петербургские искушения, вместе по-
кинут Россию, но и расставшись, не расстанутся душою.
Может быть, то была дружба неравных; дружба, в которой
197
один подчиняется другому? Но равным — и неизменным —
было их чувство друг к другу. В любви все равны.
Не были ли отношения Гоголя с Данилевским в чем-то сход-
ны отношениям Сковороды с Ковалинским? Не выражалось ли в
них подполье гения? Не по причине ли такой привязанности не
было привязанности к другому полу? Нет возможности ответить
на эти вопросы... Единственный сохранившийся в воспоминани-
ях и письмах факт — подобие трудно скрываемых восторгов и
текстов, столь напоминающих изъяснения в страстной привязан-
ности Сковороды к своему юному другу...
Н. В. Гоголь — А. С. Данилевскому:
...чего бы я желал? Чтоб остальные дни мои я провел с
тобою вместе, чтобы приносить в одном храме жертвы... Ни
с кем не хочется, как только с тобой. Чувствую, что ты бы
наполнил дни мои, которые теперь кажутся пусты.
Уже тяжко больной Гоголь, узнав о болезни и безденежье Да-
нилевского, немедленно бросил лечение и умчался из Кастелла-
маре в Париж выручать друга из беды. Весь сентябрь 1838-го они
провели с Данилевским в Париже, после чего Гоголь проводил
его до Брюсселя, где они расстались.
И. П. Золотусский:
С ранних лет он прижимался к людям, искал их сочувст-
вия, участия — при пересиливающей это чувство тяге к бег-
ству. Бывали дни, когда он убегал в степь и лежал там часа-
ми, глядя в небо и слушая подземные звуки, когда ни до-
кликаться, ни найти его было невозможно, бывали часы,
когда нельзя его было оторвать от матери, от бабушки, от
дома. В такие часы он предавался тихим домашним заняти-
ям — рисовал, раскрашивал географические карты, помогал
женщинам разматывать нитки. Он был кроток, послушен,
молчалив, ласков.
Ответной ласки немного выпало Гоголю в детстве, хотя
его любили как первенца, как наследника. «Детство мое до-
ныне часто представляется мне, — писал он матери. — Вы
употребили все усилия воспитать меня как можно лучше.
Но, к несчастью, родители редко бывают хорошими воспи-
тателями детей своих. Вы были тогда еще молоды, в первый
раз имели детей; в первый раз имели с ними обращение и
198
так могли ли вы знать, как именно должно приступить, что
именно нужно?»
Детей было много, забот тоже много, кроме того, отец и
мать то и дело уезжали в Кибинцы, они не всегда брали его
с собой, и Никоша проводил время один. Так привык он к
одиночеству — к одиночеству среди людей и одиночеству
наедине с собой. Это создало характер скрытный, закры-
тый, но и способный сосредоточиваться на себе, удовлетво-
риться собой. Гоголя, писала дочь Капниста С. В. Скалой,
«я знала мальчиком всегда серьезным и до того задумчи-
вым, что это чрезвычайно беспокоило его мать».
До десяти лет его наперсником был брат Иван, но разни-
ца натур сказывалась в их отношениях. Никоша быстро пе-
реходил от томления и скуки к действию, к разряжающей
вспышке, озарению, озорству. Иван как будто все время
пребывал во сне.
Оставались иные собеседники — парк, пруд, дорога и
степь. За церковью, стоящей на возвышении против дома,
начиналась дорога в Яворивщину — яворовый лес, идя ко-
торым можно было добрести до сельца Жуки, где когда-то
стояли на постое шведы, а оттуда к вечеру до Диканьки. По
дороге в Диканьку уходил он, прислушиваясь к звуку коло-
кола далекого Николы Диканьского — его «крестного».
Один из секретов человеческих связей Гоголя — его удивите-
льное, трудно совместимое с яркой личностностью, умение «под-
лаживаться» под людей, играть на их слабостях и пристрастиях.
Плетневу он пишет письма, проникнутые заботами о пе-
дагогике, письма младшего к старшему (но не с большой
дистанцией в летах и почтении), Жуковскому — в витиева-
том стиле его баллад, старцу Дмитриеву, сидящему в про-
винциальной Москве и вспоминающему дни былые (пер-
вый сатирик, русский Ювенал, к тому же экс-министр), — в
подобострастном тоне совсем молодого, пригретого добры-
ми лучами снисхождения «старейшины» и патриарха. Пого-
дину (хоть он и профессор, известный на Руси историк, из-
датель) — в простецки-свойской манере, так и клонящей
адресата перейти на «ты».
Отметим здесь, что Гоголь в отношениях с людьми очень
быстро избавляется от неловкости и переходит от почтите-
льно-просительной, даже заискивающей интонации к прия-
тельству, от несмелого взгляда снизу вверх к тому, чтобы
199
самому смотреть несколько сверху. История его литератур-
ного и житейского возвышения, почти сказка (вчера писец
в департаменте, сегодня автор двух книжек «Вечеров», собе-
седник Пушкина и Жуковского), есть феномен, но для Го-
голя он естествен.
Замкнутость и интровертированность Гоголя не мешали ему
иметь множество близких людей — А. С. Данилевского, Н. Я.
Прокоповича, К. С. Аксакова, П. А. Плетнева, С. П. Шевырева,
М. П. Погодина, А. М. Щепкина, А. К. Толстого, — с которыми
на протяжении многих лет он поддерживал тесные дружеские
связи. Он был сильно привязан к приятным для него людям, в
том числе к женщинам — Смирновой, Балабиной, к семье Вие-
льгорских. Вместе с тем он болезненно относился к попыткам
«залезть в душу», в творчестве любил абсолютное одиночество,
раздражался, когда его отвлекали просьбами прислать что-то для
того или иного журнала, реагировал отдалением на обожание Ак-
саковых.
Гоголь стремился к славе, но она тяготила и раздражала его,
ибо он не любил «приторности».
Вряд ли у кого из других великих русских писателей был та-
кой широкий круг знакомств, как у Гоголя, и вряд ли была такая,
чисто гоголевская, дружба. Впрочем, при столь странном, со-
тканном из противоречий, характере иной быть и не могло: тяга
к людям сочеталась в нем с ориентацией на самого себя, желание
раскрыть душу с «застегнутостью на все пуговицы», человеческая
теплота с холодом небес. Сам Гоголь признавался:
Я всегда умел уважать их [друзей] достоинства и умел от
каждого из них воспользоваться тем, что каждый из них в
силах был дать мне. Для этого у меня был всегда ум. Так
как в уме моем была всегда многосторонность и как пользо-
ваться другими и воспитываться была у меня всегда охота,
то неудивительно, что мне всякий из них сделался прияте-
лем... Но никогда никому из них я не навязывался на друж-
бу... ни от кого не требовал жить со мной душа в душу, раз-
делять со мною мои мнения и т. п... я уже и тогда чувство-
вал, что любить мы должны всех более или менее, смотря
по их достоинствам, но истинным и ближайшим другом,
которому бы могли поверять мы все до малейшего движе-
ния нашего сердца, мы должны избирать только одного
Бога.
200
Я бы никогда не мог высказать себя всего никому.
И таково было положение дел до времени выезда моего
из России. Никто из них меня не знал.
И. А. Линниченко:
Впечатлительный и самолюбивый, как все артистические
натуры, великий писатель осторожно и недоверчиво подхо-
дил к каждому новому лицу, скорее отталкивая, чем при-
влекая, по его собственному признанию, но, «услыхав» чу-
жую душу, найдя в ней родственные его душе отзвуки, он
привязывался к ней навсегда, несмотря на ее недостатки и
слабости, и за эти недостатки и слабости прекраснодушней-
ший Жуковский, уравновешенный Плетнев, неряшливый и
растрепанный душой баба-человек Погодин, педант Шевы-
рев, способный залюбить насмерть Аксаков и пылкие его
сыновья Константин и Иван, унылый Иванов и весенний
цветок Балабина, придворные дамы Смирнова и Виельгор-
ская и Божья старушка Шереметева — все эти и многие
другие лица всяких званий и состояний, воспитания и ду-
шевного склада, глубоко и искренно привязываются к мале-
нькому хохлу, берегут его, заботятся о его интересах, испол-
няют его нелегкие поручения, терпеливо переносят резкие
перемены его впечатлительного настроения, прощают его
необщительность и скрытность, выслушивают его подчас
резкие и обидные моральные проповеди, поверяют ему свои
житейские неудачи и душевные тайны, болеют с ним душой
и спешат к нему за тысячи верст — было же что-то такое,
помимо великого таланта, в этом человеке, что могло так
глубоко и искренно привязать к нему тех, кто не только чи-
тал и восхищался его произведениями, но и сходился с его
душой? Гоголя любили дети, и с ними он становился тем,
чем остался на всю жизнь, — гениальным ребенком — и в
этом тайна его обаяния. Колоссальный гений и детски-на-
ивная в своем существе душа, видевшая с гениальной инту-
ицией и рисовавшая с неподражаемым искусством то, что
скрывалось от обыкновенного прозаического взора, — и не
умевшая понимать вещей, доступных и ясных самому про-
стому трезвому уму, — таков был великий писатель.
Любил ли Гоголь людей? На сей счет есть разные мнения —
вплоть до таких крайних, как мизантропия: «не любя себе по-
добных» (А. Труайя), скрывая за своими насмешками глубокий
201
пессимизм в отношении человека (С. Мельшиор-Бонне), Гоголь
был занят «изображением мертвецов, обладающих видимостью
жизни» (X. Штольце), «усечением и принижением человеческо-
го» (Дж. Джерард); люди у него — «недочеловеки, занимающие
своим никчемным существованием место, где высшим смыслом
бытия требовалось бы что-то совершенно другое» (А. Труайя).
Хотя я негативно отношусь к литературоведению-приговору, в
детстве Гоголя действительно было что-то такое, что породило в
нем настороженность к людям. С одной стороны, он всю жизнь
только тем и занимался, что «пробивался» к ним, с другой — ис-
пытывал явный страх перед неведомым человеком, вечно стре-
мился к уединению. Доверял он считанным друзьям, но и тех мог
беспричинно и удивительно легко обидеть.
Эгоцентризм, самолюбие, сосредоточенность на себе имели
свои скрытые причины: с детских лет Гоголь заметил, что откро-
венность отталкивает от него людей, вызывает насмешки и изде-
вательства. Он рано замкнулся и стал скрытен.
Эксгибиционизм, страсть выставлять себя перед другими, об-
нажать душу, каяться, исповедоваться, как говорил Достоевский,
«оголяться» — неотъемлемое качество большого художника,
основа творчества. Все попытки такого рода приносили Гоголю
неизменное страдание, разрывали душу, усиливали странности.
Феномен Гоголя: эгоцентризм и неуверенность, самомнение и
сомнение, самолюбование и самобичевание — неадекватная ре-
акция на ситуацию «я и они», на органическую неспособность
стать «как все». Возможно, что и к сатире Гоголь обратился как к
средству самоутверждения, для обретения уверенности в себе.
Н. А. Котляревский:
Приходится удивляться, как при такой душевной орга-
низации мог он так часто забывать себя, иронизировать, хо-
тя хотелось плакать, рассказывать, когда хотелось рассуж-
дать, говорить о житейской мелочи и пошлости, когда душа
так и рвалась к возвышенному и вечному.
У него была «наклонность овладевать и управлять людьми»,
но не с целью властвовать над их душами, но самим стать «ду-
шою». Когда в Петербурге собрались многие лицеистские това-
рищи Гоголя (Прокопович, Данилевский, Пащенко, Кукольник,
Базили, Гребенка, Мокрицкий, некоторые другие), он действите-
202
льно стал душою этого приятельского кружка. П. В. Анненков
оставил обстоятельное описание этого «круга»:
Он был прост перед своим кругом, добродушен, весел,
хотя и сохранял тонкий, может быть, невольный оттенок
чувства своего превосходства и своего значения. Мало-по-
малу род поучения, одобрения и удовольствия, какие он по-
черпал в этом круге, становились ему менее нужны и менее
привлекательны: жизнь начала нестись с такой силой вокруг
него, показались такие горячие, страстные привязанности,
действовавшие и на общественное мнение, что никем не ве-
домый и запертый в себе самом кружок должен был поте-
рять значение в его глазах. Притом же вскоре явились требо-
вания со стороны других приверженцев Гоголя, на которые
старый круг не мог отвечать, и явления в самом Гоголе, ко-
торые трудно было понять ему; но почти ко всем его лицам
Гоголь сохранил неизменное расположение, доказывавшее
теплоту и благородство его сердца... Никто тогда не походил
более его на итальянских художников XVI века, которые бы-
ли в одно время гениальными людьми, благородными, лю-
бящими натурами и — глубоко практическими умами.
На этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка
над низостью и лицемерием, которой журнальные, литера-
турные и всякие другие анекдоты служили пищей, но особен-
но любил Гоголь составлять куплеты и песни на общих знако-
мых. С помощью Н. Я. Прокоповича и А. С. Данилевского,
товарища Гоголя по лицею, человека веселых нравов, некото-
рые из них выходили, действительно, карикатурно-метки и
уморительны. Много тогда было сочинено подобных песен.
Точно так же происходило и на обедах в складчину, где
Гоголь сам приготовлял вареники, галушки и другие мало-
российские блюда. Ему всегда нужна была публика. Случа-
лось также, что в этих сходках на Гоголя нападала беспо-
койная, судорожная, горячечная веселость — явное произ-
ведение материальных сил, чем-либо возбужденных.
Порой в своем пропедевтическом рвении Гоголь терял меру и
такт. Перед вами единственный в своем роде образчик соболез-
нования, выраженного Николаем Васильевичем Михаилу Петро-
вичу Погодину, потерявшему жену и бывшему вне себя от горя:
Друг, несчастия суть великие знаки Божией любви. Они
ниспосылаются для перелома жизни в человеке, который
203
без них был бы невозможен... Я знаю, что покойницу при
жизни печалили два находящиеся в тебе недостатка. Один,
который произошел от обстоятельства твоей первоначаль-
ной жизни и воспитания, состоит в отсутствии такта
во всех возможных родах приличий...
После одного из очередных гоголевских «наставлений» С. Т.
Аксакова «взорвало»:
Друг мой, — писал он, — ни на одну минуту я не усомнился в
искренности вашего убеждения и желания добра друзьям своим;
но, признаюсь, недоволен я этим убеждением, особенно форма-
ми, в которых оно проявляется. Я даже боюсь его. Мне пятьдесят
три года. Я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не ро-
дились... Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь были
бы они искренни; но уже, конечно, ничьих и не приму... И вдруг
вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского,
нисколько не знав моих убеждений, да как еще? в узаконенное
время, после кофею, и разделяя чтение главы, как на уроки...
И смешно и досадно...
Комментирует В. В. Набоков:
Но Гоголь упорствовал в этом новообретенном жанре.
Он утверждал, будто все сказанное и сделанное им вдохнов-
лено тем духом, который вскоре откроет свою мистическую
суть во втором и третьем томах «Мертвых Душ».
Любил ли Гоголь мать? Иногда его отношение к ней ка-
жется бессердечным. Она сама нуждается, а он берет у нее
деньги и тратит «на франтовство, на разные фраки, сюртуч-
ки, галстуки, подтяжки, платочки». Деньги, полученные от
матери для передачи в Опекунский совет, оставляет себе,
без ее ведома, и тратит на нелепую заграничную поездку,
оправдываясь мнимою болезнью и страстью, от которой
будто бы ему нужно бежать из Петербурга. Впоследствии
сам называет этот поступок «безрассудным» — выражение,
кажется, слишком снисходительное. «Чтобы отомстить
вам и рассердить вас я написал это», — пишет он ма-
тери по другому поводу.
Так — с одной стороны; а с другой — стоит вспомнить,
как в самые страшные минуты жизни обращается он к ма-
тери с просьбой помолиться за него и верит в чудо молит-
вы, как в свою последнюю святыню и спасенье, — чтобы
204
почувствовать, чем для него была мать, и чтобы воздержать-
ся от легких приговоров. Некоторые из его обращений к
матери напоминают ужасный, душу раздирающий вопль,
которым кончаются «Записки сумасшедшего»: «Матушка,
спаси твоего бедного сына!.. Посмотри, как мучат они его!..
Ему нет места на свете! его гонят!.. Матушка, пожалей о
своем бедном дитятке».
Гоголь был одновременно чувствительным и черствым, сенти-
ментальным и холодным. Это свое отношение к близким он пе-
реносил и на своих героев — оттого они «сделаны из воска» —
«из восковой массы слов, тайну которой знал один Гоголь»
(И. Д. Ермаков).
Н. В. Гоголя раздражала экзальтированная восторженность
собственной матери, постоянно напоминавшей о гениальности
своего сына и доходящей в его превознесении «до Геркулесовых
столбов»:
Вы, говоря о моих сочинениях, называете меня гением.
Как бы это ни было, но это очень странно. Меня, доброго,
простого человека, может быть, не совсем глупого, имею-
щего здравый смысл, назвать гением!.. Я вас прошу, маме-
нька, не называйте меня никогда таким образом, а тем бо-
лее еще в разговоре с кем-нибудь. Не изъявляйте никакого
мнения о моих сочинениях и не распространяйтесь о моих
качествах. Если бы вы знали, как неприятно, как отвратите-
льно слушать, когда родители говорят беспрестанно о своих
детях и хвалят их!
Конечно, это вовсе не значит, что честолюбивого Гоголя
оставляли безучастными лестные оценки его таланта. С. Т. Акса-
ков полагал, что изменение отношения к нему Гоголя произошло
именно после таких его признаний и выражения горячей любви.
Николай Васильевич не просто любил своих сестер — он сде-
лал для них почти невозможное — определил в Патриотический
институт, куда принимались исключительно дочери военных, до-
бился утверждения императрицей этого исключения и предло-
жил в оплату их пансиона «жалование, ему производимое, 1200
руб. в год, оставлять в пользу института». Однако последняя жер-
тва не потребовалась: «Ее импер. вл-во действительно соизволила
объявить высочайшую волю еще в начале сего года, чтобы г-ну
Гоголю-Яновскому производить положенное ему жалование, а
205
сестер его считать в институте сверхкомплектными воспитанни-
цами, вменив ему сие в особое вознаграждение».
Когда кончился курс обучения, Николай Васильевич при-
мчался к выпуску из-за фаницы и употребил все усилия, на ка-
кие только был способен для устройства институток, превратив-
шихся к этому времени в капризных, несносных, жеманных, нер-
вических девиц, на каждом шагу заставлявших брата краснеть и
испытывать невыносимый стыд.
Позже одна из сестер, Елизавета Васильевна Гоголь-Быкова,
вспоминала:
За три месяца до выпуска приехал из Рима брат, и так
как он не мог долго оставаться в Петербурге, то он взял нас
раньше выпуска. Брат и тут заботился о нас очень много, он
входил положительно во все: ездил по магазинам, заказывал
нам платья у Курт, покупая белье и все до последней мело-
чи, — вероятно, наш выпуск обошелся ему недешево; нака-
нуне выхода он сам привез нам все, но все-таки самое нуж-
ное он забыл: покупая все до мелочей, забыл купить рубаш-
ки и должен был ехать покупать две готовые. В первый раз
после 6 1/2 лет мы надевали свое платье, и это нас очень за-
нимало. Из института брат нас поместил у своих знакомых
Балабиных, которые предложили приютить нас у себя до
нашего отъезда в Москву; мы у них пробыли почти с месяц
и каждый день почти бывали в институте. Брат часто приез-
жал к Балабиным с нами обедать... Застенчивость положи-
тельно была моим мучением. У Балабиных, например, эта
застенчивость заставляла нас голодать: я не пила по утрам
чаю, а кофе мне было совестно попросить более получашки
с крошечным сухариком, и затем я ждала обеда до шести
часов. Нас спрашивали, не хотим ли мы завтракать, но мы
спешили отказаться, несмотря на сильнейший голод, и ког-
да оставались одни, то спешили к печке и ели уголь поло-
жительно от голода, — особенно я, и все это благодаря не-
лепой застенчивости. За обедом снова мучения, — я ничего
не ем, тем более что мне приходилось сидеть рядом с одним
из сыновей Балабиных. Кушанье я брала, не смотря на блю-
до; раз Балабин заметил мне, что я взяла одну кость, я тот-
час же оставила вилку, и полились слезы. Иногда, в виде
катания, брат возил нас к себе на квартиру, и здесь мы не-
сколько утоляли свой голод всем, что попадалось под руку:
калачом, вареньем и проч.
206
На самом деле извне все это выглядело совсем иначе. По воспо-
минаниям С. Т. Аксакова, угодить капризным «патриоткам» не бы-
ло никакой возможности, им все не нравилось, потому что «не бы-
ло похоже на их институт». Они ничего не ели, потому что кушанья
были приготовлены не так, как у них в институте. «Каково было
смотреть на все это бедному Гоголю? Он просто был мученик».
Трудно сказать, знали ли выпускницы, каких усилий стоило
брату поставить их на ноги, но ценили и любили они его не мень-
ше, чем сам Гоголь «своих голубушек». «Редкий был у нас брат, —
вспоминала позже Елизавета Васильевна, — несмотря на всю
свою молодость в то время, он заботился и пекся о нас, как мать».
Из воспоминаний Елизаветы Васильевны Гоголь-Быковой:
Я была трусиха и часто просила брата, чтоб он посидел,
пока я засну, и потушил бы свечу, и он всегда исполнял эти
прихоти, сядет, бывало, на кровать и ждет, пока я засну.
Его я совершенно не конфузилась и была с ним, как с стар-
шей сестрой. Раз он нарисовал меня лежащую в ночном
чепчике и кофточке — я рассердилась и долго приставала к
нему отдать мне этот рисунок, который севершенно не был
похож на меня.
НОНКОНФОРМИСТ
Крупнейший исследователь человеческого поведения Б. Скин-
нер писал: «Мы удивляемся, когда люди ведут себя необычно или
оригинально, не потому, что подобное поведение само по себе до-
стойно удивления, а потому, что мы не знаем, каким способом
можно простимулировать оригинальное, из ряда вон выходящее
поведение». Сами эксперименты Скиннера продемонстрировали,
что только конформистское поведение представляет собой реак-
цию на стимулы, поведение же гения выходит за рамки манипуля-
ций, ибо оно неповторимо. Чем оригинальней мышление и твор-
чество, тем менее они предсказуемы. Я полагаю, что непредсказу-
емость, неподконтрольность, неманипулируемость — качества,
отделяющие творцов человеческой культуры от ее потребителей.
П. В. Анненков:
Гоголь вообще любил те отношения между людьми, где
нет никаких связующих прав и обязательств, где от него ни-
207
чего не требовалось. Он тогда только и давал что-либо от
себя. В Риме система эта, предоставив каждому полную
свободу действий, поставила каждого в нравственную неза-
висимость, которою он всего более дорожил.
Как большинство гениев, Гоголь не был человеком обще-
ственным и весьма дорожил своим уединением, необходимым
для свободной работы духа. Самое великое в человеке происхо-
дит наедине с собой — в толпе, массе даже мудрые превращаются
в нумера, отдельные особи, части, винтики. Возможно, то, что
иногда выдают за каталепсию Гоголя, было его способностью са-
моуглубляться до почти полной потери связей с миром, до «па-
роксизмов раздумья».
П. В. Анненков:
Вообще, все окружающие Гоголя чрезвычайно берегли
его уединение и пароксизмы раздумья, находившие на него,
как бы предчувствуя за ними ту тяжелую, многослойную
внутреннюю работу, о которой мы говорили.
Л. И. Арнольди:
Иногда Гоголь поражал меня своими странностями. Вдруг
явится к обеду в ярких желтых панталонах и в жилете светло-голу-
бого, бирюзового цвета; иногда же оденется весь в черное, даже
спрячет воротничок рубашки и волосы не причешет, а на другой
день, опять без всякой причины, явится в платье ярких цветов,
приглаженный, откроет белую, как снег, рубашку, развесит золо-
тую цепь по жилету и весь смотрит каким-то именинником. Оде-
вался он вообще без всякого вкуса и, казалось, мало заботился об
одежде, а зато в другой раз наденет что-нибудь очень безобразное,
а между тем видно, что он много думал, как бы нарядиться покра-
сивее. Знакомые Гоголя уверяли меня, что иногда встречали его в
Москве у куаферов и что он завивал свои волосы. Усами своими
он тоже занимался немало. Странно все это в человеке, который
так тонко смеялся над смешными привычками и слабостями дру-
гих людей, от внимания которого ничего не ускользало и который
подмечал не только душевные качества и недостатки человека, не
только его наружность в совершенстве, но и как он говорит, хо-
дит, ест, спит, одевается, всю его внешность до последней булав-
ки, до самой ничтожной вещи, отличающей его от других людей.
Странности Гоголя не ограничивались внешним видом: изве-
стны его капризы, прихоти, внезапные отказы от назначенных
208
встреч, быстрая смена настроений, ничем не мотивированная и
ненужная ложь, порой доходящая до непозволительности и нару-
шения приличий невежливость...
Можно написать целую книгу о странностях Гоголя, если бы
такие книги уже не были написаны, хотя многие странности бы-
ли не более чем детскими шалостями, лицеистскими выходками
неординарного человека, эпатирующего человеческое стадо.
В. И. Любич-Романович (по записи С. И. Глебова):
Вообще Гоголь отличался всякими странностями, даже и
в словах. На деле же он иногда превосходил самого себя.
Забывая часто, что он человек, Гоголь, бывало, то кричит
козлом, ходя у себя по комнате, то поет петухом среди но-
чи, то хрюкает свиньей, забравшись куда-нибудь в темный
угол. И когда его спрашивали, почему он подражает крикам
животных, то он отвечал, что «я предпочитаю быть один в
обществе свиней, чем среди людей». Такое отрицание было
у него к обмену мыслей между людьми.
Гоголь не был жестоким человеком, но он был подвержен
приступам необъяснимого страха, делавшим его поведение не-
предсказуемым. Л. Н. Толстой описал свой арзамасский ужас,
Н. В. Гоголь рассказал А. О. Смирновой об одном из своих «при-
падков», случившихся в раннем детстве:
Спускались сумерки. Я прижался к уголку дивана и сре-
ди полной тишины прислушивался к стуку длинного маят-
ника старинных стенных часов. В ушах шумело, что-то на-
двигалось и уходило куда-то. Верите ли, — мне тогда уже
казалось, что стук маятника был стуком времени, уходящего
в вечность. Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяго-
тивший меня покой. Я видел, как она, мяукая, осторожно
кралась ко мне. Я никогда не забуду, как она шла, потяги-
ваясь, а мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтя-
ми, и зеленые глаза искрились недобрым светом. Мне стало
жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стене. «Киса,
киса», — пробормотал я и, желая ободрить себя, соскочил
и, схвативши кошку, легко отдавшуюся мне в руки, побе-
жал в сад, где бросил ее в пруд и несколько раз, когда она
старалась выплыть и выйти на берег, отталкивал ее шестом.
Мне было страшно, я дрожал, а в то же время чувствовал
какое-то удовлетворение, может быть, месть за то, что она
209
меня испугала. Но когда она утонула, и последние круги на
воде разбежались, — водворились полный покой и тиши-
на, — мне вдруг стало ужасно жалко «кисы». Я почувствовал
угрызения совести. Мне казалось, что я утопил человека. Я
страшно плакал и успокоился только тогда, когда отец, ко-
торому я признался в проступке своем, меня высек.
А. О. Смирнова (по записи П. А. Висковатова):
Гоголь был очень нервен и боялся грозы. Раз как-то в
Ницце, кажется, он читал мне отрывки из второй и третьей
части «Мертвых душ», а это было нелегко упросить его сде-
лать. Он упирался, как хохол, и чем больше просишь, тем
сильнее он упирается. Но тут как-то он растаял, сидел у ме-
ня и вдруг вынул из-за пазухи толстую тетрадь и, ничего не
говоря, откашлялся и начал читать... Тогда был жаркий день,
становилось душно. Гоголь делался беспокоен и вдруг за-
хлопнул тетрадь. Почти одновременно с этим послышался
первый удар грома, и разразилась страшная гроза. Нельзя
себе представить, что стало с Гоголем: он трясся всем телом
и весь потупился. После грозы он боялся один идти домой...
Когда после я приставала к нему, чтобы он вновь прочел и
дочитал начатое, он отговаривался и замечал: — «Сам Бог не
хотел, чтоб я читал, что еще не окончено и не получило
внутреннего одобрения... Признайтесь, вы тогда очень испу-
гались?» — «Нет, хохлик, это вы испугались», — сказала я. —
«Я-то не грозы испугался, а того, что читал вам, чего не надо
еще никому читать, и Бог в гневе своем погрозил мне».
Среди многочисленных причуд Гоголя было то, что он пред-
почитал писать стоя и спать сидя. Кровати он всегда предпочитал
кушетку, столу — конторку. Да и сам сон его напоминал дремоту.
Поводом к такому образу жизни могла быть, во-первых,
опасная болезнь, недавно им выдержанная и сильно напу-
гавшая его, а во-вторых, боязнь обморока и замирания, ко-
торым он, как говорят, действительно был подвержен.
Гоголь совершенно не выносил чужих страданий, чем можно
объяснить ряд его странностей и поступков, объясняемых мало
знакомыми с ним людьми жестокосердием, черствостью.
Кажется, вид страдания был невыносим для него, как и
вид смерти. Картина немощи если не погружала его в горь-
210
кое лирическое настроение, как это случилось у постели бо-
льного графа Иосифа Виельгорского в 1839 году, то уже
гнала его прочь от себя: он не мог вытерпеть природного
безобразия всяких физических страданий. Вообще при сер-
дце, способном на глубокое сочувствие, Гоголь лишен был
дара и уменья прикасаться собственными руками к ранам
ближнего. Ему недоставало для этого той особенной твердо-
сти характера, которая не всегда встречается и у самых
энергических людей. Беду и заботу человека он переводил
на разумный язык доброго посредника и помогал ближнему
советом, заступничеством, связями, но никогда не пережи-
вал с ним горечи страдания, никогда не был с ним в живом,
так сказать, натуральном общении.
В своей жизни Гоголь испытал неимоверное количество стра-
даний — телесных и душевных. Он — человек глубоко несчаст-
ный, поэтому неудивительно, что практически никогда не гово-
рит о человеческом счастье. Даже слова такого не сыскать в его
словаре. Даже очищение души счастьем не называет. Счастье и
Гоголь — понятия несовместимые, как несовместимы боль и ра-
дость.
Странности Гоголя — это странности ищущего человека, не
знающего, чего он, в конце концов, ищет, обусловленные богат-
ством его души, широтой порывов, одновременно рвущегося в
мир и бегущего от него.
Странности Гоголя — от поэтического склада его души, ост-
рого ощущения неправды, нарциссизма гения — Гоголь хотел
принадлежать лишь себе, не считаясь с тем, приятно ли его пове-
дение другим.
Странности Гоголя — от его нонконформизма, мужественного
противостояния общественному мнению, желания «пить из свое-
го (а не чужого) стакана».
Даже бегство свое из России Гоголь объяснял нежеланием
слиться с другими, отстранением, необходимостью «ухода».
Н. В. Гоголь — П. А. Плетневу:
Притом уже в самой природе моей заключена способ-
ность только тогда представлять себе живой мир, когда я
удалился от него. Вот почему о России я могу писать только
211
в Риме. Только там она предстает мне вся, во всей своей
громаде. А здесь я погиб и смешался в ряду с другими.
Сохранилось множество свидетельств гоголевского нонкон-
формизма, его нежелания быть «как все», следовать общеприня-
тому, идти на поводу...
В. И. Любич-Романович (по записи С. И. Глебова):
В числе странностей Гоголя было много его своеобраз-
ных взглядов на все то, что общество признавало для себя
законом. Это Гоголь игнорировал, называл недостойным
делом, от которого надо было бежать и избавлять себя, как
врага, мечом мысли. В церкви, например, Гоголь никогда
не крестился перед образами св. отцов наших и не клал пе-
ред алтарем поклонов, но молитвы слушал со вниманием,
иногда даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе
отдельную литургию. Дьячков он осуждал за гнусавость пе-
ния, невнятность чтения псалтыря и за скороговорку вели-
копостной службы.
Вообще Гоголь не любил подражать кому бы то ни бы-
ло, ибо это была натура противоречий. Все, что казалось
людям изящным, приличным, ему, напротив, представля-
лось безобразным, гривуазным. В обиходе своем он не лю-
бил симметрии, расставлял в комнате мебель не так, как у
всех, например, по стенам, у столов, а в углах и посредине
комнаты; столы же ставил у печки и у кровати, точно в ла-
зарете.
Вообще Гоголь шел наперекор всем стихиям. Заставить
его сделать что-нибудь такое, что делали другие воспитан-
ники, было никак нельзя. — «Что я за попугай! — говорил
он. — Я сам знаю, что мне нужно».
Почти все соученики-гимназисты отмечали едкий сарказм
«таинственного карлы»: смеялись не только над ним — умел по-
издеваться он сам. «Он относился к товарищам саркастически,
любил посмеяться и давал прозвища».
Нонконформист, он легко наживал друзей и недоброжелате-
лей, причем нередко близость переходила во вражду, как это слу-
чилось, например, с С. Т. Аксаковым после публикации Вы-
бранных мест. Противоречивость оставленных современни-
212
ками характеристик Гоголя, возможно, связана именно с этими
личными симпатиями-антипатиями, окрашивающими мнения в
пристрастные тона.
Н. М. Языков:
Гоголь до невероятности раздражителен и самолюбив,
как-то болезненно, хотя в нем это не заметно с первого
взгляда, но тем хуже для него!
П. И. Бартеньев:
Гоголь всегда держал себя бесцеремонно у Хомяковых:
он капризничал неимоверно, приказывал по нескольку раз
то приносить, то уносить какой-нибудь стакан чая, который
никак не могли налить ему по вкусу: чай оказывался то
слишком горячим, то крепким, то чересчур разбавленным;
то стакан был слишком полон, то, напротив, Гоголя серди-
ло, что налито слишком мало. Одним словом, присутствую-
щим становилось неловко; им только оставалось дивиться
терпению хозяев и крайней неделикатности гостя.
Я. К. Грот:
Талант Гоголя удивителен, но его заносчивость, самона-
деянность и, так сказать, самопоклонение бросают неприят-
ную тень на его характер.
Странности Гоголя не были чудачествами. И воспринимались
они не как легкие или смешные фантазии, но — часто — как
что-то демоническое, страшное, нечеловеческое...
«Вотдо какой степени Гоголь для меня не чело-
век, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов,
не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю
ночь», — т. е. чувства естественного страха перед мертвым
телом, — это пишет С. Т. Аксаков, один из ближайших дру-
зей Гоголя, тотчас после смерти его. Живой Гоголь для Ак-
сакова — «не человек», мертвый — не мертвец. Живой для
него таинственнее, призрачнее, чем умерший.
И чем ближе подходят к нему люди, тем сильнее чувст-
вуют в нем это страшно далекое, чуждое, удивительное, к
чему нельзя привыкнуть и что в иные мгновения внушает
213
самым близким друзьям его непонятную враждебность, сме-
шанную со страхом и отвращением.
Погодин с дружескою откровенностью называет Гоголя
«отвратительнейшим существом». — «Вообще в нем было
что-то отталкивающее, — замечает Сергей Аксаков. — Я
не знаю, — заключает он по этому поводу, — любил
ли кто-нибудь Гоголя исключительно как
человека. Я думаю — нет; да это и невозмож-
н о». Шевырев, тоже старый друг и даже отчасти ученик его,
видит в нем «неряшество душевное, происходящее от нео-
граниченного самолюбия».
Одни обвиняют его в «ханжестве», другие признаются,
что считают его «кандидатом в святые отшельники или...
в дом умалишенных» и чуть не в присутствии «друга» и
«учителя» рассуждают о его «сумасшествии» и о «плутовстве
в его сумасшествии».
Во всех этих «дружеских» отзывах какая-то беспричин-
ная жестокость. Любящие его вдруг начинают ненавидеть,
сами не зная за что, стараясь объяснить эту ненависть лич-
ными пороками Гоголя, но едва ли справедливо: ведь, не-
смотря на эти пороки, те же самые люди, которые называют
его плутом и сумасшедшим, в другие минуты с такою же
искренностью считают его пророком, учителем, даже прямо
«святым» и «мучеником». С. Т. Аксаков, который писал в
1847 году при жизни его: «Я вижу в Гоголе добычу сатанин-
ской гордости», —- пишет через пять лет после смерти его:
«Я признаю Гоголя святым; это — истинный мученик хрис-
тианства». В сущности же, для Аксакова так и осталось на-
всегда неразъясненным, что такое Гоголь — сумасшедший
или мученик, плут или святой.
Подобные противоречия в отзывах неразрешимы, если
не предположить, что они зависят от противоречия в самом
Гоголе: «два начала», два существа в нем; наблюдателю яв-
ляется то одно из них, то другое сообразно с точкою зрения,
на которой он стоит, и с меркою, которою он мерит.
Я не люблю сужать гениальность до двойственности и проти-
воречивости, но в Гоголе действительно земное постоянно вхо-
дило в противоречие с небесным, животное с божественным,
возвышенное с хлестаковским.
Отсутствие нравственной выдержки, цельности, внутрен-
няя неустойчивость, неравновесие ставят его в самые неле-
пые и смешные, унизительные положения, делают «комиче-
214
ским» или, вернее, трагикомическим лицом, собственною
карикатурою, правда, карикатурою исполинскою, ибо в са-
мом ничтожестве сохраняет он величие своих «первоздан-
ных элементов».
Какая-то странная бесчувственность и вместе с тем чрез-
мерная, почти безумная чувствительность. Именно в то вре-
мя, когда в нем наиболее кипит, пожирается внутренним
огнем, он кажется снаружи, по собственному выражению,
наиболее «деревянным, оболваненным, черствым и су-
хим». — «У вас, в ваших мыслях, я остался с черствою фи-
зиономией, с скучным выражением лица». — «Если вам ну-
жен теперь болван для того, чтобы надевать на него вашу
шляпку или чепчик, то я весь к вашим услугам».
«Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в меч-
тах воображения». — Все это опять-таки с одной стороны, а
с другой: «О, как отвратительна действительность! Что она
против мечты!» — «Из-под самых облаков, да прямо в
грязь!»
Беда его была в том, что он первый заболел новою, ни-
кому на Руси до тех пор не известною, страшною болезнью,
слишком нам теперь, после Л. Толстого и Ф. Достоевского,
знакомою, — болезнью нашего религиозного раздвое-
ния. «Это раздвоение всю жизнь во мне было», — говорит
Достоевский; «Я соединил в себе две природы», — говорит
Гоголь, определяя болезнь, которую в то время не только
лечить, но и назвать не умели.
СКРЫТНОСТЬ И ИСПОВЕДАЛЬНОСТЬ
Гоголь был сильно закомплексованным и весьма скрытным
человеком, не скрывавшим, однако, этого качества. В одном из
писем С. П. Шевыреву он даже описывает причины собственной
скрытности:
Скрытен я из боязни напустить целые облака недоразу-
мений моими словами, как случалось мне немало их напло-
дить доселе; скрытен и от того, что еще не созрел и чувст-
вую, что еще не могу так выразиться доступно и понятно,
чтобы меня как следует поняли.
215
На самом деле причины его скрытности гораздо глубже:
скрытность Гоголя — его защитная реакция на русское хоровое
начало, на желание всех копаться в чужой душе, стать хозяевами
или соглядатаями внутренних сокровенных движений, на извеч-
ное русское требование «быть как все».
Это добровольное соглядатайство непрошеных опекунов
заставило великого писателя, имевшего много глубоких и
важных причин замыкать перед друзьями двери своей осо-
бенной, самобытной души, воскликнуть: «У меня другое де-
ло, у меня душевное дело; не требуйте, покуда, от меня ни-
чего, не создавайте из меня своего идеала, не заставляйте
меня работать по каким-нибудь планам, от вас начертан-
ным. Жизнь моя другая, жизнь моя внутренняя, жизнь моя
покуда вам неведомая».
Н. В. Гоголь — матери, Нежин, 1828 г.:
Я почитаюсь загадкою для всех... Здесь в лицее меня на-
зывают смиренником, идеалом кротости и терпения. В од-
ном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом уг-
рюмый, задумчивый, неотесанный... Вы меня называете
мечтателем, опрометчивым, как будто бы я внутри сам не
смеялся над ними. Нет, я слишком много знаю людей, что-
бы быть мечтателем.
Гоголь действительно был загадкою: он совершенно не тер-
пел вопросов о личной жизни, планах, собственных сочинени-
ях.
К. С. Аксаков:
Гоголь написал много, но это секрет: он не любит, чтобы
ему говорили об его сочинениях. Мы все осторожны на этот
счет.
В. П. Гаевский:
Некоторые из наших художников, коротко знавшие Го-
голя в Риме, подтверждают его скрытность, прибавляя, что
он был молчалив в высшей степени. Бывало, отправится с
кем-нибудь бродить по выжженным лучами солнца полям
обширной римской Кампаньи, пригласит своего спутника
сесть вместе с ним на пожелтевшую от зноя траву послу-
216
шать пения птиц и, просидев или пролежав таким образом
несколько часов, тем же порядком отправляется домой, не
говоря ни слова.
В. И. Шенрок:
В разговорах, как мы слышали из разных источников,
Гоголь часто не принимал участия, молча и презрительно
поглядывая на собеседников; у иных зарождалась даже
мысль, что этот прием употреблялся им в некоторых случа-
ях нарочно для прикрытия своего невольного смущения.
Почти все близко знавшие Гоголя однокашники подчеркива-
ли его феноменальную скрытность: «Не было человека скрытнее
Гоголя: он умел сообразить средство с целью, удачно выбрать
средство и самым скрытным образом достигать цели»; «Он лю-
бил показать себя в некоторой таинственной перспективе и
скрыть от нее [толпы] некоторые мелочи, которые особенно на
нее действуют».
Молчаливость Гоголя, ставшая чертой характера во второй по-
ловине жизни, может быть расценена как свидетельство огром-
ной, непрерывно идущей внутренней работы, внутреннего созер-
цания, самоуглубленности. Когда участвующая в совместных про-
гулках по Кампанье Александра Осиповна Смирнова спрашивала
у него, отчего он молчит, Гоголь отвечал: «Зачем говорить? Тут
надобно дышать, дышать, втягивать носом этот живительный воз-
дух и благодарить Бога, что столько прекрасного на свете».
То, что кое-кому казалось болезненной замкнутостью,
обостренной гордыней, странностью, граничащей с юродст-
вом, на самом деле было всепоглощающей сосредоточенно-
стью на «глубоком внутреннем созерцании», без чего «опас-
но выходить на поприще» писателя. То, в чем видели рели-
гиозный фанатизм, мистический надлом, кризис, на самом
деле было лишь попыткой уйти от «страшной душевной
черноты» в «душевный монастырь», чтобы вдали от мир-
ской суеты искать пути чисто христианского разрешения
насущных социальных, нравственных и творческих проблем
в их неразрывном единстве, оплодотворить свой талант ис-
тиной и законом Христа.
Комментируя один из псевдонимов молодого Гоголя, надо
сказать, действительно уникальный — 0000, В. В. Набоков писал:
217
«Выбор пустоты, да еще умноженной вчетверо, чтобы скрыть
свое «я», очень характерен для Гоголя».
Ф. И. Иордан:
Исчезло прежнее светлое расположение духа Гоголя. Бы-
вало, он в целый вечер не промолвит ни единого слова. Си-
дит себе, опустив голову на грудь и запустив руки в карма-
ны шаровар, — и молчит. Не раз я ему говаривал: «Николай
Васильевич, что это вы так экономны с нами на свою соб-
ственную особу? Поговорите же хоть что-нибудь». Молчит.
Я продолжаю: «Николай Васильевич, мы вот все, тружени-
ки, работаем целый день; идем к вам вечером, надеемся от-
дохнуть, рассеяться, — а вот вы ни слова не хотите промол-
вить. Неужели мы все должны только покупать вас в печа-
ти?» Молчит и ухмыляется. Изредка только оживится, рас-
скажет что-нибудь. Признаться сказать, на этих наших со-
браниях была ужаснейшая скука. Мы сходились, кажется,
только потому, что так было уже раз заведено, да и ходить-
то более было некуда... Сделался он своенравным. Во время
обеда, спросив какое-нибудь блюдо, он едва, бывало, дотро-
нется, до него, как уже зовет полового и требует переменить
кушанье по два, по три раза, так что половой трактира «А1
Falcone» Луиджи почти бросал ему блюда, говоря: «Синьор
Николо, лучше не ходите к нам обедать, на вас никто не
может угодить. Забракованные вами блюда хозяин ставит на
ваш счет».
А. С. Жиряев:
Гоголь в природе своей — противоположность тому, ка-
ким он является в своих уморительных повестях и комеди-
ях: ипохондрик в высшей степени.
Почти в одно и то же время разные люди давали поведению
Гоголя взаимоисключающие характеристики — от эпатирующего
общество эксцентрика до простого и заразительно веселого «ду-
ши общества».
И. И. Панаев:
Гоголь изъявил желание А. А. Комарову приехать к нему
и просил его пригласить к себе несколько известных новых
литераторов, с которыми он не был знаком. А. А. пригласил
218
между прочим Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дру-
жинина. Я также был в числе приглашенных, хотя был дав-
но уже знаком с Гоголем. Мы собрались к А. А. Комарову
часу в десятом вечера. Радушный хозяин приготовил рос-
кошный ужин для знаменитого гостя и ожидал его с вели-
чайшим нетерпением. Он благоговел перед его талантом.
Мы все также разделяли его нетерпение. В ожидании Гого-
ля мы не пили чай до десяти часов, но Гоголь не показы-
вался, и мы сели к чайному столу без него.
Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от
чая, говоря, что он его никогда не пьет, взглянул бегло на
всех, подал руку знакомым, отправился в другую комнату и
разлегся на диване. Он говорил мало, вяло, нехотя, распро-
страняя вокруг себя какую-то неловкость, что-то принуж-
денное. Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича,
Некрасова и Дружинина. Гоголь несколько оживился, гово-
рил с каждым из них об их произведениях, хотя было очень
заметно, что не читал их.
М. П. Погодин:
Люди ему нипочем.
Н. В. Берг:
Трудно представить себе более избалованного литератора
и с большими претензиями, чем был в то время Гоголь.
И — рядом — свидетельство актера А. П. Толченова:
Я столько слышал рассказов про нелюдимость, недо-
ступность, замкнутость Гоголя, про его эксцентрические
выходки в аристократических салонах обеих столиц; так
жив еще в моей памяти рассказ, слышанный мною два года
назад в Москве о том, как приглашенный в один аристокра-
тический московский дом Гоголь, заметя, что все присутст-
вующие собрались собственно затем, чтоб посмотреть и по-
слушать его, улегся с ногами на диван и проспал, или при-
творился спящим, почти весь вечер, — что в голове моей с
трудом переваривалась мысль о том, чтоб Гоголь, с которым
я только расстался, которого видел сам, был тот же человек,
о котором я составил такое странное понятие по рассказам
о нем... Сколько одушевления, простоты, общительности,
заразительной веселости оказалось в этом неприступно хо-
219
ронящемся в самом себе человеке! Неужели, думал я, это
один и тот же человек, — засыпающий в аристократической
гостиной и сыплющий рассказами и заметками, полными
юмора и веселости...
Гоголь каждый раз «уползал в раковину», когда становился
предметом всеобщего внимания — вполне возможно, это была
бессознательная реакция, выработанная в период детских униже-
ний в нежинской «бурсе». Среди равных, близких нелюдимость
быстро исчезала — он становился «как все».
Свидетельствует А. П. Толченов:
Заметив, что на него не смотрят, как на чудо-юдо, что,
по-видимому, никто не собирается записывать его слов,
движений, Гоголь совершенно успокоился, оживился, и по-
шла самая одушевленная беседа между ним, Л. С. Богдано-
вой, П. И. Орловой, Соколовым, Ильиным и всяким, кто
только находил, что сказать.
Иногда находили на него минуты задумчивости, рассе-
янности, весьма редко, вообще же мне не привелось подме-
тить в Гоголе, несмотря на частые встречи с ним во время
его пребывания в Одессе, ни одной эксцентрической вы-
ходки, ничего такого, что подавляло бы, стесняло собесед-
ника, в чем проглядывало бы сознание превосходства над
окружающим; не замечалось в нем также ни малейшей тени
самообожания, авторитетности. Постоянно он был прост,
весел, общителен и совершенно одинаков со всеми в обра-
щении.
Я лично при встречах с ним не заметил в нем ни прояв-
ления колоссальной гордости, ни самообожания; скорее в
нем замечалась робость, неуверенность, какая-то нерешите-
льность — как в суждениях о каком-нибудь предмете, так и
в сношениях с людьми... Слабости к аристократическим
знакомствам в это время в нем тоже не было заметно... Ско-
лько мне случалось видеть, с людьми наименее значащими
Гоголь сходился скорее, проще, был более самим собой, а с
людьми, власть имеющими, застегивался на все пуговицы.
Вообще к молодежи Гоголь относился с горячей симпа-
тией, которая сказалась мне и в расспросах о моей собст-
220
венной жизни, о моих наклонностях и стремлениях и в тех
советах, которыми он меня подарил.
Скрытность уживалась в Гоголе с тончайшим самоанализом,
художественным автопсихологизмом, с исповедальностью, свой-
ственной лишь большим поэтам и позволяющей высказывать
вслух свои самые заветные думы.
Говорить откровенно о себе я никогда никак не мог.
В словах моих, равно как и в сочинениях, существовала все-
гда страшная неточность. Почти всяким откровенным сло-
вом своим я производил недоразумение и всякий раз раска-
ивался в том, что раскрывал рот... Мне недоставало такта и
верной середины в словах.
Я слышал сам, что мое душевное состояние до того сде-
лалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я
рассказать его понятно... Клянусь, бывают так трудны поло-
жения, что их можно уподобить только положению того че-
ловека, который находится в летаргическом сне, который
видит сам, как его погребают живого, и не может даже по-
шевельнуть пальцем и подать знака, что он жив.
Д. С. Мережковский:
Все более и более погружаясь в одиночество, он молчал,
пока был в силах молчать; когда же становилось ему слиш-
ком страшно, то уже не говорил, а кричал «благим матом»,
звал на помощь, как утопающий: «найти бы хоть одну жи-
вую душу!..» — «И хотя бы одна душа подала голос!.. Хотя
бы одна душа заговорила!.. Точно как бы вымерло все, как
бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то
мертвые души». — «Соотечественники! страшно...»
Скрытность была сосредоточенностью на самом себе, но и ре-
зультатом мучивших его комплексов, в том числе комплекса не-
полноценности, постепенно перераставшего в манию величия и
синдром пророка. Как писал И. И. Панаев, Гоголь «начал приоб-
ретать постепенно неприступность авторитета».
В его манере вести себя было что-то натянутое, искусст-
венное, тяжело действовавшее на всех, которые смотрели на
него не как на гения, а просто как на человека...
221
В. Розанов:
Нет в литературе нашей более неисповедимого лица, и
сколько бы в глубь этого колодца вы не заглядывали, никог-
да вы не проникнете до его дна; и даже по мере заглядыва-
ния — все менее и менее будете способны ориентироваться,
потеряете начала и концы, входы и .выходы, заблудитесь, из-
мучаетесь и вернетесь, не дав себе даже и приблизительно
ясного отчета о виденном. Гоголь — очень таинствен; это —
клубок, от которого никто не держал в руках входящей нити.
Это — правда, но и правда — все большее смирение старею-
щего Гоголя, все большая искренность Великого Интроверта, все
большая исповедальность, доходящая до предельной искренно-
сти и проникновенности.
Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову:
Я вас любил гораздо меньше, чем вы меня любили. Я
был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех
вообще, потому что я не был способен ни к кому питать не-
нависти; но любить кого-нибудь особенно, предпочтитель-
но, я мог только из интереса. Если кто-нибудь доставил мне
существенную пользу, и через него обогатилась моя голова,
если он подтолкнул меня на новые наблюдения или над
ним самим, или над другими людьми, — словом, если через
него как-нибудь раздвинулись мои познания, я уж того че-
ловека люблю, хоть будь он и меньше достоин любви, чем
другой, хоть и меньше меня любит. Что ж делать! Вы види-
те, какое творение человек: у него прежде всего свой собст-
венный интерес. Почем знать? Может быть, я и вас полю-
бил бы несравненно больше, если бы вы сделали что-ни-
будь собственно для головы моей, положим, хоть бы напи-
санием записок жизни вашей, которые бы мне напоминали,
каких людей следует не пропустить в моем творении. Но вы
в этом роде ничего не сделали для меня. Что ж делать, если
я не полюбил вас так, как следовало полюбить вас.
Настолько, насколько Гоголь был скрытен в жизни, настолько
он раскрывался в творчестве. Творчество как бы компенсировало
жизнь — но это уже феномен гениальности как таковой: все, чего
в жизни недостает, гений компенсирует своей фантазией, своим
мифом. Особенность «случая Гоголь»: все, что он делал и гово-
222
рил как частное лицо, находилось в непрерывной оппозиции к
тому, что он творил как художник.
Конечно, самый глубокий самоанализ, почти паскалевский
или киркегоровский в своей экзистенциальности, дан Гоголем в
период духовных исканий, в Выбранных местах:
Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои сто-
роны, но главного существа моего не определили. Его слы-
шал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще
ни у одного писателя не было этого дара выставлять так яр-
ко пошлости жизни, уметь очертить в такой силе пошлого
человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз,
мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойст-
во, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у
других писателей... Но достоинство это не развилось бы во
мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собст-
венное душевное обстоятельство и моя собственная душев-
ная история. Никто из читателей моих не знал того, что,
смеясь над моими героями, он смеялся надо мною. Во мне
не было какого-нибудь одного слишком сильного порока,
который бы высунулся виднее всех моих прочих пороков,
все равно, как не было также никакой картинной доброде-
тели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картин-
ную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось
собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и
притом в таком множестве, в каком я еще не встречал ни в
одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он
поселил мне также в душу, уже от рождения моего, неско-
лько хороших свойств; но лучшее из них было желание
быть лучшим. Я не любил никогда моих дурных ка-
честв. По мере того, как они стали открываться, усилива-
лось во мне желание избавляться от них; необыкновенным
душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать
их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе
не следует. С этих пор я стал наделять своих героев, сверх
их собственных гадостей, моею собственною дрянью. Вот
как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследо-
вал его в другом звании и на другом поприще, старался себе
изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне
самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою,
насмешкою и всем, чем ни попало. Если бы кто видел те
чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для
меня самого, он бы, точно, содрогнулся.
223
Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мерт-
вых душ» в том виде, как они были прежде, то Пушкин, ко-
торый всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник
до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее, сум-
рачнее, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же
чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как
грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, кото-
рый так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и
моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело,
взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужа-
сающем для человека виде может быть ему представлена
тьма и пугающее отсутствие света. С этих пор я уже
стал думать только о том, чтобы смягчить то тягостное впе-
чатление, которое могли произвести «Мертвые души».
Здесь принципиально важными мне представляются две мыс-
ли: «смягчить тягостное впечатление» — первая, гоголевское
изумление перед сверхжизненностью «выдумки» — вторая,
еще — гоголевская попытка пойти навстречу «русской идее»,
смягчить правду о своей стране.
«РУССКИЙ ПАСКАЛЬ»
Бездны боялся Гоголь.
А. Белый
Дисгармония Гоголя, проявлявшаяся во всем — от восприя-
тия мира до неумения приспосабливаться или одеваться, — это
следствие его глубочайшей экзистенциальное™, осознания мес-
тонахождения в «зазоре бытия». Это то гениальное мироощуще-
ние, которое свойственно всем людям «не от мира сего», неспо-
собным примирить в себе два человеческих начала — плотское и
духовное, языческое и христианское, земное и небесное.
Мировидение Гоголя не оставалось постоянным на протяже-
нии его недолгой жизни, но в его переписке постоянно звучит
нота человека, заброшенного в этот мир:
Право, странно: кажется, не живешь, а только забывае-
шься или стараешься забыться: забыть страдание, забыть
прошедшее, забыть свои лета и юность, забыть воспомина-
ние, забыть свою пошлую, текущую жизнь!
224
Весной 39-го, можно сказать, на руках Гоголя от чахотки умер
юный Иосиф Виельгорский — талантливый юноша, в которого
поэт был чуть-чуть влюблен. Смерть эта потрясла его. В письмах
второй половины 39-го появляется рефрен смерти, еще более
усиливающийся в художественных произведениях. Именно в это
время тридцатилетний поэт начинает остро переживать конец
молодости и безвозвратно уходящей жизни:
Отдайте, возвратите мне, возвратите юность мою, моло-
дую крепость сил моих, меня, меня свежего, того, который
был! О, невозвратимо все, что ни есть в свете!
Я глядел на тебя. Милый мой молодой цвет! Затем ли
пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости,
чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую
мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старее це-
лыми десятками, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел
исчезающую мою жизнь.
Было бы неправильным при обилии смертей в произведениях
Гоголя назвать его писателем смерти, но не подлежит сомнению,
что он во многом упредил Л. Н. Толстого в изображении тяжести
и неприглядности человеческого умирания, а также бесследности
пребывания человека на земле. В этом смысле Смерть Ива-
на Ильича тоже «вышла» из гоголевской Шинели:
Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург
остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и
никогда не было. Исчезло и скрылось существо никем не за-
щищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное,
даже не обратившее на себя внимание и естествонаблюдате-
ля, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную
муху и рассмотреть ее в микроскоп; — существо, переносив-
шее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвы-
чайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же та-
ки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый
гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на
которую также потом нестерпимо обрушилось несчастие,
как обрушивалось на царей и повелителей мира...
... и на другой день уже на его месте сидел новый чинов-
ник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не
таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее.
225
Здесь, может быть, впервые в мировой литературе, проскаль-
зывает мысль из грядущей драмы абсурда: человек — даже не му-
ха, так, запчасть огромного бюрократического механизма импе-
рии, разрушился штифтик — назавтра заменили новым...
Нигде экзистенциальность Гоголя не проявляется так ярко,
как в его безнадежной философеме смерти, являющейся высшим
выражением абсурда бытия.
Если в «Шинели» или «Старосветских помещиках»
смерть «малого» взывала к такому же состраданию, такому
же участию, как смерть любого человека (в то время как
официальное мышление грозит закрепить и интенсифици-
ровать эту убывающую малость, поставив ее на самое низ-
кое место — ниже «мухи»), то в «Мертвых душах» смерть
малого и смерть великого уравнены как философский фе-
номен. Уравнены в смысле абсолютной нелогичности;
странности, ужасности исчезновения индивидуально-живо-
го. А также в связи с этим, в смысле постановки коренных
вопросов бытия («...зачем он умер, или зачем жил»). Урав-
нены, независимо даже от конкретных ответов на эти во-
просы, даже при характерно-гоголевском умолчании, отказе
от определенного вывода («...об этом один Бог ведает»).
Обилие смертей у Гоголя стало основой гипотезы о некрофи-
лии писателя, однако, как мне представляется, следует говорить
не о «любви к смерти», а о ее экзистенциале.
«Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на
него мертвые позеленевшие глаза».
Труп была тогдашняя Россия, трупом казался Гоголю за-
пад, трупом мнился ему весь мир, все материальное. Худож-
ник стоял один, во тьме, когда «лежит неподвижная пол-
ночь», всеми оставленный. Вокруг билась в окна несметная
сила чудовищ, нечто хаотическое, косное, космически-без-
жизненное, материально-мертвое, готовое поглотить, как
ничтожную песчинку, человеческую личность со всеми по-
мыслами, чувствами и мечтаниями.
Об экзистенциальном отношении Гоголя к смерти свидетель-
ствуют и его тексты: «Появление смерти... было страшно»;
«...торжественный тон от мысли приближения к такой великой
минуте, какова смерть».
226
Собственному пониманию смерти Гоголь противопоставлял
национальное: говоря о гибели великих русских поэтов, которая
должна была потрясти современников, сокрушался: «...никого
это не поразило. Даже не содрогнулось ветреное племя».
Диву даешься, сколько в прозе Гоголя мертвецов, — бо-
льше чем у остальных русских писателей вместе. Если мерт-
вое не дано само по себе, в качестве постоянно действую-
щей силы, оно присутствует в множестве ассоциативных и
метафорических намеков...
У Гоголя — в смерти прокурора — уже заложена идея жизни
как смерти, живой мертвенности. В заметках к первому тому
Мертвых Душ, давая авторскую интерпретацию жизни и
смерти, Гоголь писал:
Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются
мутною, ничего не говорящею смертью. Как это страшное со-
бытие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть по-
ражает нетрогающийся мир. Еще сильнее между тем должна
представиться читателю мертвая бесчувственность жизни.
У Толстого тоже самое страшное в истории Ивана Ильича —
мертвый автоматизм бессмысленной жизни, в которой только
умирание оказывается живым...
В. Ерофеев:
...яркость гоголевской кисти «везде, где он говорит о по-
койниках», имеет своей причиной не физиологический по-
рок, а жгучий интерес писателя к самой неразрешимой
проблеме смерти и страх перед ней (он выразился, в частно-
сти, в «Завещании»). Перед этим страхом, перед загадкой
смерти, перед вопросом о смысле существования и литера-
туры на грани небытия розановский домысел [о некрофи-
лии Гоголя] неудовлетворителен... Гоголь входил в заповед-
ный мир смерти не как извращенец, слепой к смерти, по
сути дела, подменяющий смерть похотью, а как платонов-
ский «безумец», ищущий возможность через смерть объяс-
нить, понять и принять жизнь.
Паскалевское начало Гоголя, его страх перед мировой без-
дной сделали его художником, заставили искать спасения в соб-
227
ственных фантазиях, претворять собственное бессознательное в
образы искусства.
Герои Гоголя в поисках спасения от космического оди-
ночества и неприкаянности... бегут в мир сексуальных фан-
тазий, в мир грез и галлюцинаций, где, как правило, созна-
тельное сочетается с бессознательным, с несвязными мыс-
лями и непредсказуемыми образами, и возникает алогиче-
ская ирреальность, которую сюрреалисты доведут до своего
абсолютного выражения... Здесь вновь чрезмерность и жес-
токость гоголевского гротеска соприкасается с атмосферой
современной литературы, предпочитающей чрезвычайные,
сенсационные ситуации.
Принято разделять поздние, «ночные» произведения Гоголя
от ранних, «дневных». Но разве в Сорочинской ярмарке,
где «все неслось, все танцевало», — «Вот настоящая веселость,
искренняя, непринужденная...» — мы не находим совсем иных
аккордов? —
Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок
умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха...
скоро все стало пусто и глухо.
Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья,
улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить
веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пусты-
ню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и
вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по
свету и оставляют... одного старинного брата их? Скучно
оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и не-
чем помочь ему.
В творчестве молодого Гоголя только люди обостренной чув-
ствительности могли разглядеть его пристальный интерес к тем-
ным сторонам человеческого существования, его киркегоровскую
экзистенциальность. Впрочем, и слова такого еще не существова-
ло, и сам Киркегор, хотя и был современником Гоголя, числился
в городских юродивых.
В его [Гоголя] преследовании темных сторон человече-
ского существования была страсть, которая и составляла ис-
тинное нравственное выражение его физиономии. Он и не
думал еще представлять свою деятельность, как подвиг лич-
228
ного совершенствования, да и никто из знавших его не со-
гласится видеть в ней намеки на какое-то страдание, томле-
ние, жажду примирения и проч.
В какой-то мере и самому Гоголю приходилось порой играть
роль если не шута, то этакого великосветского Жванецкого, не-
редко вызываемого для увеселений «высоких особ»: «У пригла-
сившей Гоголя высокой особы он читал «Ревизора» в присутст-
вии большого общества, генералов и других сановников. Говори-
ли потом, что прочел он «Ревизора» неподражаемо. Каждое дей-
ствующее лицо этой комедии говорило у Гоголя своим голосом и
с своей мимикой.Все слушатели много и от души смеялись, бла-
годарили талантливого и превосходного чтеца за доставленное
удовольствие, и Гоголь получил в подарок превосходные часы».
Но Гоголь никак не был ни смехачом, ни юродивым. Послу-
шай, брат, признавался он М. А. Максимовичу, у нас на душе
столько грустного и заунывного, что если позволить всему этому
выходить наружу, то это черт знает что такое будет...
Гоголь казался весельчаком, но на самом деле заглушал весе-
льем острые приступы тоски и сам признавался в этом.
Из Авторской исповеди:
Причина той веселости, которую заметили в первых со-
чинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в не-
которой душевной потребности. На меня находили припад-
ки тоски, мне самому неизъяснимой, которая происходила,
может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы раз-
влекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что
только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и
характеры, поставлял их мысленно в самые смешные поло-
жения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому
от этого выйдет какая польза.
Жестокая двойственность бытия, контраст мечты и действите-
льности, вражда идеи, грезы и жизни, сосуществование святого
самоотвержения и низкой корысти, близость великого и мало-
го — все это заложено в самых истоках его творчества, является
содержанием первых произведений.
По странному устройству вещей всегда ничтожные при-
чины родили великие события и, наоборот, великие пред-
229
приятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-
нибудь завоеватель собирает все силы своего государства,
воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и на-
конец все это оканчивается приобретением клочка земли,
на котором негде посеять картофеля; а иногда, напротив,
два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между
собою за вздор, и ссора объемлет наконец города, потом ве-
си и деревни, а там и целое государство.
Художник Чартков, погубивший талант поделками, сходит с
ума и уничтожает чужие шедевры, Тарас Бульба убивает собст-
венного сына, смерть приходит за подругой Афанасия Иванови-
ча, пропадает ни за что Хома Брут — все это вначале, в первых
пробах пера. Его хвалят за малороссийский колорит, говорят, что
«приятно посмеяться», и только Пчела настороженно встречает
«шуточные истории»:
Но какая цель этих сцен, не возбуждающих в душе чита-
теля ничего, кроме жалости и отвращения?.. Зачем же пока-
зывать нам эти рубища, эти грязные лохмотья, как бы ни
были они искусно представлены? Зачем рисовать неприят-
ную картину заднего двора жизни и человечества без всякой
видимой цели?
Нет, не вчера и не сегодня появились блюстители нравов, за-
слоняющие нас от жизни, отказывающиеся печатать повесть
Нос «по причине ее пошлости и тривиальности», не терпящие
даже признаков грусти и уныния Хомы Брута.
Шинель — вполне экзистенциальное произведение, одна из
первых в мировой литературе драм отчаяния — абсурда жизни,
всевластия судьбы, безразличия мира.
Современники не заметили в Гоголе фантастической
широты его юмора и его способности выходить за пределы
ограниченной социальной тематики силою завораживающе-
го и поистине метафизического пафоса таких непревзой-
денных творений, как «Шинель». Ведь Башмачкин, мелкий
чиновник-переписчик... вырастает до фигуры намного бо-
лее внушительной, чем простая жертва несправедливой со-
циальной системы. Он — вневременный символ человечест-
ва in extremis, образ человека, бездомного не только в обще-
стве, но и во вселенной.
230
Экзистенциальность Гоголя сквозила во всем — в его нутря-
ном интересе к человеку («не пошлому человеку, а человеку во-
обще»), к жизни и смерти, к личности, к проблеме выбора.
И везде это чисто гоголевский экзистенциализм, глубоко укоре-
ненный в жизни «простых людей», идущий из самых недр жизни,
порой иронический. Скажем, слова о глубоко философской, поч-
ти религиозной проблеме свободы выбора Гоголь отнюдь не слу-
чайно вкладывает в уста Агафьи Тихоновны, выбирающей жени-
хов: «Право, такое затруднение — выбор!» Гоголь пишет так,
словно уже знает слова великого французского философа и тео-
ретика смеха Анри Бергсона: «Комедия может начаться только
там, где личность другого человека перестает нас трогать».
Если хотите, у Гоголя уже присутствуют и одномерный чело-
век, и man — «люди-брови», как поэтически точно выразился
Иннокентий Анненский, «люди-брови», «оставляющие в нас та-
кое чувство, что больше ведь ничего для человека и не надо».
Сам Гоголь почти всю жизнь содрогался, «на веку своем, ви-
дя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свире-
пой грубости в утонченной, образованной светскости — и, Бо-
же! — даже в том человеке, которого свет признает благородным
и честным...»
По мнению В. Эрлиха, гоголевский «видный миру смех и не-
зримые, неведомые ему слезы» порождены не сочувствием по-
пранной человечности, а тотальной абсурдностью человеческого
существования, впервые осознанной русским писателем.
Много написано об авторских отступлениях, но почти никем
не сказано, что они — философия Гоголя, его миропонимание и
его экзистенциальный выбор, или приговор, или художественно
схваченный абсурд бытия...
И во всемирной летописи человечества много есть целых
столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил,
как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений,
которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Какие
искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие да-
леко в сторону, дороги избирало человечество, стремясь до-
стигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был от-
крыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолеп-
ной храмине, назначенной царю в чертоги! Всех других пу-
тей шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещен-
ный всю ночь огнями; но мимо его, в глухой темноте, текли
231
люди. И сколько раз, уже наведенные нисходившим с небес
смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону,
умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захо-
лустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в
очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели — так и
добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг
друга: «ГДЕ ВЫХОД, ГДЕ ДОРОГА?» Видит теперь все яс-
но текущее поколение, дивится заблуждением, смеется над
неразумием своих предков, не зря, что небесным огнем ис-
черчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что
отовсюду устремлен пронзительный перст на него же, на
него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение
и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений,
над которыми также потом посмеются потомки.
Приобщившись к Христу, пройдя с Ним свой путь на Голго-
фу, Гоголь понял необходимость страдания, осознал несчастье
как орудие душевного развития, совести и ответственности чело-
века. Только пройдя через страдания, только поняв свое бесси-
лие в борьбе с человеческой бессердечностью и жестокостью, че-
ловек способен проникнуться сочувствием к страждущему брату.
Других путей нет. Не познавшему боль высшая радость не до-
ступна. Страдание есть необходимая и неизбежная ступень к вы-
сшему благу и справедливости. Оттого-то страдал Христос.
«О, как нужны нам недуги», — восклицал Гоголь. «Несчастье
умягчает человека, — находим мы в одном из писем к А. О. Смир-
новой, — природа его становится более чуткой и доступной для
понимания предметов, превосходящих обычные его силы». В не-
счастии есть святой и глубокий смысл, оно — небесный крик, «во-
пиющий человеку о перемене всей его прежней жизни». Страда-
ниями и горем, пишет Гоголь Шевыреву, определено нам добы-
вать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Стоит только
выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся понят-
ны, ум проясняется, непонятное становится внятным. Несчастно-
му человеку способен помочь лишь тот, кто сам подвизался на по-
прище нищеты, кто терпел сам и видел, как терпят другие.
Это христианское учение о страдании Гоголь примерял к себе,
чувствуя себя не только вечно страждущим, но и богоизбранным.
Ибо только страдание — свидетельство очищения.
Если смерть, величайшее страдание в мире, есть только
мучительный акт духовного освобождения, то все страдания,
которыми переполнена человеческая жизнь, являются тем
232
очистительным огнем, в котором сжигается все, что пороч-
но, что задерживает умственный и нравственный рост чело-
века. В личном страдании нетрудно открыть общечеловече-
ские элементы и, таким образом, душевно сродниться со все-
ми людьми, со всем миром. Не сами по себе, а по тому на-
строению, которое они создают в нас, страдания становятся
незримыми ступенями к высшему духовному совершенству.
Страдания без мудрости бесцельны, ибо только мудрость — в
том смысле, в каком ее понимает Гоголь — знает настоящую
цель и задачу страдания. Мудрость без страдания — мертвая
теорема, не перешедшая в жизнь, в дело... Это героическое,
доблестное учение, взывающее к мужеству, к страстотерпче-
скому кресту, открывающее светлую, радостную сторону там,
где близорукий ум материалиста или позитивиста видит то-
лько печаль и горе — в пытке нищеты, в самой смерти. Это
религиозная поэзия, вся в свету героического экстаза, пою-
щая гимны небесам в час разлуки со всем, что было близко
душе, поэзия храброй битвы за идеальное начало жизни, поэ-
зия вечной борьбы за философскую и нравственную истину.
Когда мудрость сделается всеобщим достоянием человечест-
ва, эта поэзия вытеснит всякую другую и окрасит собою все
проявления человеческой деятельности. Теперь истинная
мудрость есть удел только немногих людей, и поэзия борьбы
и страданий, в ее чистом виде, встречается только, как отрад-
ное исключение посреди невыносимо громкого, несносного,
растрепанного шума литературных барабанщиков, с азартом
выбивающих напевы души, напевы любви и горя по глухой и
толстой коже своих неуклюжих барабанов. Гоголь так и гово-
рит: есть люди, которые должны навеки остаться нищими.
Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил
свет, — но кого Бог удостоил отведать его сладость, кто ис-
тинно возлюбил свою нищенскую суму, тот навсегда прене-
брежет всеми сокровищами здешнего мира. Есть люди, кото-
рые должны навеки остаться нищими, которые пренебрега-
ют богатствами мира, но их немного. Большинство людей
жадно ищет удовольствия, мимолетных благ, наслаждений,
совершенно пренебрегая возвышенным чувством исполнен-
ного долга, ощущением свершенного нравственного под-
вига, поэзией героического освобождения от деспотической
власти грубой и мертвой материи.
Дрянь и тряпка стал всякий человек: он обратил себя в
раба самых пустых и мелких обстоятельств, и нет теперь
свободы в ее истинном смысле. «И непонятною тоскою уже
233
загорелась земля. Все мельчает и мелеет, и возрастает толь-
ко в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с
каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо. Могила
повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в Твоем мире».
Одиночество — удел гения, но и у гениев одиночество бывает
разным: одиночество Гете или одиночество Киркегора или Каф-
ки... Для Гоголя одиночество было не изоляцией, а философией:
он так и писал самому близкому своему другу: «Я... приготовил
на одиночество остаток своей жизни». Это было именно экзи-
стенциальное одиночество, вполне совместимое с постоянным
пребыванием среди множества людей.
Дело даже не в том, что Гоголю необходимо было «забыть
прошедшее», воспоминание, — но в том, что саму жизнь он вос-
принимал как Несчастнейший, как страдание и скорбь...
Моя скорбь — мой рыцарский замок, что как орлиное
гнездо... С него я мчусь вниз, в действительность, и хватаю
свою добычу, и эта добыча — образ, который я вплетаю в
ковры своего замка. Там я живу, как умерший.
Моя тоска, мой друг...
БОЛЕЗНЬ
Так чрез всю жизнь его, как
чрез великолепное здание, постро-
енное из твердого камня, но с ка-
ким-то нарушением основных за-
конов земной механики, земного
равновесия, проходит одна длин-
ная, сверху донизу, сначала едва
заметная, тонкая, как волосок, но
постепенно расширяющаяся и, на-
конец, бездонно зияющая тре-
щина.
Д. С. Мережковский
Еще современники обратили внимание на пристрастие Гоголя
к «болезням души». Но возможно ли такое у человека здорового,
не пережившего то, что чувствуют и от чего умирают его герои?
Может ли гениально писать болезнь Геркулес? И самый сакра-
ментальный вопрос: может быть, сама гениальность — болезнь?..
234
Две главные темы гоголевского эпистолярия: деньги и бо-
лезнь. Можно составить громадный фолиант «истории болезни»,
написанный самим больным.
Голова у меня одеревенела и ошеломлена так, что я ни-
чего не в состоянии делать, — не в состоянии даже чувство-
вать, что ничего не делаю.
Я был болен, очень болен, и еще болен доныне внутрен-
не. Болезнь моя выражается такими страшными припадка-
ми, каких никогда еще со мною не было; но страшнее всего
мне показалось то состояние, которое напомнило мне ужас-
ную болезнь мою в Вене, а особливо, когда я почувствовал
то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ,
пролетавший в мыслях, обращало в исполина, всякое не-
значительно-приятное чувство превращало в такую страш-
ную радость, какую не в силах вынести природа человека, и
всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, му-
чительную печаль, и потом следовали обмороки; наконец,
совершенно сомнамбулическое состояние.
Болезни моей — ход естественный: она есть истощение
сил. Век мой не мог ни в каком случае быть долгим. Отец
мой был также сложения слабого и умер рано, угаснувши
недостатком собственных сил своих, а не нападеньем ка-
кой-нибудь болезни. Я худею теперь и истаеваю не по дням,
а по часам; руки мои уже не согреваются вовсе и находятся
в водянисто-опухлом состоянии. Ни искусство докторов, ни
какая бы то ни была помощь, даже со стороны климата и
прочего, не могут сделать ничего, и я не жду от них помо-
щи. Но говорю твердо одно только, что велика милость Бо-
жия и что, если самое дыхание станет улетать в последний
раз из уст моих и будет разлагаться во тление самое тело
мое, одно его мановение — и мертвец восстанет вдруг. Вот в
чем только возможность спасения моего.
К изнурению сил прибавилась еще и зябкость в такой
мере, что не знаю, как и чем согреться: нужно делать дви-
жение, а делать движение — нет сил. Едва час в день выбе-
рется для труда, и тот не всегда свежий. Но ничуть не уме-
ньшается моя надежда. Дряхлею телом, но не духом. В духе,
напротив, все крепнет и становится тверже...
По моему телу можно теперь проходить курс анатомии:
до такой степени оно высохло и сделалось кожа да кости.
235
На меня находили припадки тоски, мне самому необъяс-
нимой, которая происходила, может быть, от моего болез-
ненного состояния.
Кровь стыла в нем, ввергая в состояние вечного озноба, холо-
да льдов Коцита. Он совершенно не выносит холода, зябнет даже
в тепле.
Я зябну и зябну, и зябкость увеличивается чем далее, тем
более... Существование мое как-то странно. Я должен бегать
и не сидеть на месте, чтобы согреться. Едва успею согреть-
ся, как уже вновь остываю, а между тем бегать становится
труднее и труднее потому, что начинают пухнуть ноги, или
лучше, жилы на ногах.
Малейший холод на меня ощетинивается бурею.
Я истаеваю не по дням, а по часам... Вы бы ужаснулись,
меня увидев...
У меня иссушение всего тела и цвет мертвечины...
Я мало чем лучше скелета. — Дело доходило до того, что
лицо сделалось зеленей меди, руки почернели, превратив-
шись в лед, так что прикосновение их ко мне самому было
страшно, и при 18 градусах тепла в комнате я не мог ничем
согреться.
А. О. Смирнова:
...гроза действовала на его слабые нервы, и он страдал
теми невыносимыми страданиями, известными одним нер-
вным субъектам.
Н. В. Гоголь — Н. Я. Прокоповичу:
Желудок мой гадок до невозможной степени и отказыва-
ется решительно варить, хотя я ем теперь очень умеренно.
Геморроидальные мои запоры по выезде из Рима начались
опять и, поверишь ли, что если не схожу на двор, то в про-
должение всего дня чувствую, что на мозг мой как будто на-
двинулся какой-то колпак, который препятствует мне ду-
мать и туманит мои мысли.
236
Н. В. Гоголь — М. П. Погодину:
О себе не могу сказать слишком утешительного. Увы!
Здоровье мое плохо, и гордые мои замыслы... О, друг! если
бы мне на четыре, пять лет еще здоровья! И неужели не
суждено осуществиться тому?.. Много думал я совершить...
Еще доныне голова моя полна, а силы, силы... Недуг, для
которого я уехал и который было, казалось, облегчился, те-
перь усилился вновь. Моя геморроидальная болезнь вся об-
ратилась на желудок. Это несносная болезнь. Она мне гово-
рит о себе каждую минуту и мешает мне заниматься. Но я
веду свою работу, и она будет кончена, но другие, другие...
О, друг, какие существуют великие сюжеты! Пожалей о мне!
Н. В. Гоголь — А. С. Данилевскому:
Ты спрашиваешь о моем здоровье. — Плохо, брат, плохо;
все хуже, — чем дальше, все хуже... Болезненное мое распо-
ложение решительно мешает мне заниматься. Я ничего не
делаю и часто не знаю, что делать с временем.
Вторая половина 38-го — период депрессии, болезни: хотя в
некоторых письмах Гоголь намекает на великие замыслы, работа
явно буксует, плоды никак не соответствуют намерениям.
И. А. Линниченко:
Но не забудем психологической истории этих душевных
алканий. Всецело преданный изучению души, исканию ее
вечных законов, придя к убеждению, что единственное спа-
сение в духовном самоусовершенствовании, великий писа-
тель, анатомируя свою душу, в экстазе самобичевания на-
шел ее полной мерзости и греховности и всем сердцем от-
дался одной мысли — очистить себя, воспитать свою душу
для той великой цели, которую ему предназначил Божест-
венный Промысл, и эта вечная анатомия, мучительный
внутренний анализ стал его манией, его кошмаром; борьба
с внутренними недугами была для него труднее и упорнее
борьбы с болезнями физическими; ему казалось, что подоб-
но тому, как в древней былине из одного рассеченного вра-
га вырастало целое войско, каждый упрек открывал ему не-
ведомые стороны душевного несовершенства, и он падал, —
поднимался и опять упадал, и эта сизифова работа убила
его душевные и телесные силы.
237
Но каково же должно было быть душевное состояние ве-
ликого писателя, всю жизнь положившего на одну великую
цель, неустанно работавшего над внутренним самоусовер-
шенствованием, жадно искавшего тех истин, которые пове-
дать миру он считал своим таинственным назначением, ког-
да он, по его убеждению, приготовил свою душу к восприя-
тию истины, познал ее, — и вдруг почувствовал свое бесси-
лие поведать ее миру тем языком, которым он только и умел
убедительно говорить — образами? Анатомируя свою душу,
он лишил ее производительной силы; те образы, которые на-
полняли ее прежде толпой, жили и вырастали в ней в чудные
созданья, теперь отлетели от его беззвучной монашеской ду-
шевной кельи; собиравшая их в стройный хоровод музыка
души замолкла навсегда. И его религиозно-нравственная си-
стема могла только усилить его страдания: ведь цель, к кото-
рой он стремился, было спасение души, и для этого спасения
Божий Промысл дал ему высокое назначение учить людей
помощью его чудного дара, — и он этого назначения не ис-
полнил; он онемел в тот самый момент, когда познал истину,
и ему теперь не спасти своей души, потому что он не выпол-
нил Богом на него возложенной задачи.
И этого мучительного сознанья не могла вынести его ис-
страдавшаяся душа.
Д. С. Мережковский:
В мнительности своей, доходящей до безумия, Гоголь
мечется между надеждой на докторов и надеждой на чудо,
между лекарствами и молитвами. «Наше выздоровление в
руках Божиих, а не в руках докторов». — «Молитесь обо
мне — от врачей я уже не жду никакой помощи». — «Чувст-
вую, что больше всего мне следует надеяться на Святые Ме-
ста и поклонение Гробу Господню, чем на докторов и лече-
ние». И тотчас обращается снова к докторам; они его осмат-
ривают, ощупывают, выстукивают, выслушивают, ничего не
находят, и ему кажется, что они недостаточно его осмотре-
ли; не веря одному, бежит он к другому; объявляет, нако-
нец, латинское словечко, от которого будто бы все зависит:
«У меня поражены нервы в желудочной области, так назы-
ваемой системе nervoso fascoloso».
Из одной лечебницы в другую, из Берлина в Дрезден, из
Дрездена в Карлсбад, из Карлсбада в Греффенберг. — «Я,
как во сне, среди завертываний в мокрые простыни, сажа-
ний в холодные ванны, обтираний, обливаний и беганий
238
каких-то судорожных, дабы согреться. Я слышу одно только
прикосновение к себе холодной воды и ничего другого, ка-
жется, и не слышу и не знаю». Но и отсюда, из-под брызжу-
щих кранов, из-под мокрых простынь опять отчаянный
вопль: «Отправьте молебен!.. Молитесь, молитесь обо мне!..
Не переставайте обо мне молиться!»
И эта агония длится целые годы, десятки лет. Гоголь как
будто и не жил вовсе, а всю жизнь умирал.
«И ни души не было около меня в продолжение самых
трудных минут, тогда как всякая душа человеческая была
бы подарком», — вспоминает он об одном из своих припад-
ков. В самом деле, может быть, всего ужаснее в болезни Го-
голя — это его совершенное одиночество. Не говоря уже о
других, даже такой человек, как Пушкин, не понял бы
нравственной причины его болезни. «Великий меланхо-
лик», — определил он Гоголя и ничего больше не мог бы
прибавить. Но откуда эта «меланхолия», ежели не только от
положения желудка «вверх ногами» и от nervoso fascoloso.
Свидетельствует Н. М. Языков:
Он рассказал мне о странностях своей, вероятно мнимой
болезни: в нем же находятся зародыши всех возможных бо-
лезней; так же и об особенном устройстве головы своей и
неестественного положения желудка. Его будто осматривали
и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что же-
лудок его вверх ногами.
Любопытно, что за несколько недель до смерти Г. П. Дани-
левский нашел Гоголя цветущим и полным сил. Среди близко
знавших его людей ходила молва, будто и с болезнью своей он
морочит друзьям голову. Многие считали, что болен Гоголь от
особой мнительности своей, от поэтической сверхчувствительно-
сти, от страдания совести за зло жизни...
Не вызывает сомнения, что на самом деле Гоголь был болен
хворью гениев — депрессивным психозом. Его собственное опи-
сание хода болезни не оставляет места иным толкованиям.
Среди совершенного здоровья и душевной ясности, как
будто даже от избытка, от чрезмерности этого здоровья,
этой грозовой силы жизни, рождается сначала смутное и,
по-видимому, беспричинное, неудержимо растущее возбуж-
дение; потом какой-то внезапный страх: словно крик Пана,
страшный зов в тишине безоблачного полдня. Потом бо-
239
лезненная тоска, которой нет описания. — «Я был приве-
ден в такое состояние, что не знал решительно, куда деть
себя, к чему прислониться. Ни двух минут я не мог остава-
ться в покойном положении, ни на постели, ни на стуле,
ни на ногах. О, это было ужасно». «У меня все расстроено
внутри. Я, например, увижу, что кто-нибудь споткнулся;
тотчас же воображение за это ухватится, начнет разви-
вать — и все в самых страшных призраках. Они до того ме-
ня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают
мои силы».
Судя по его письмам и по отказу принять схиму, творчество
не прекращалось даже в самые страшные часы самоистязаний —
мучительно, медленно, с надрывом, но дело шло. Тем более что,
рисуя утопию, он как бы частично освобождался от собственных
дум и страхов.
Я работаю в тишине по-прежнему. Иногда хвораю, ино-
гда же милость Божья дает мне чувствовать свежесть и бод-
рость, тогда работа идет свежее.
Если Бог будет милостив и пошлет несколько деньков,
подобных тем, какие иногда удаются, то, может быть, и я
как-нибудь управлюсь.
Сижу по-прежнему над тем же, занимаюсь тем же, — пи-
шет он Жуковскому за 19 дней до смерти. — Помолись обо
мне, чтобы работа моя была истинно добросовестна, и что-
бы я хоть сколько-нибудь был удостоен пропеть гимн кра-
соте небесной.
Да будет благословен Бог, посылающий нам все! И душе, и
телу моему следовало выстрадаться. Без этого не будут «Мерт-
вые души» тем, чем им быть должно. Итак, — обращается Го-
голь к А. О. Смирновой, — молитесь обо мне, друг, молитесь
крепко, дабы вся душа моя обратилась в одни согласно на-
строенные струны, и бряцал бы в них сам дух Божий.
Похоже, струны были основательно расстроены: никогда ра-
ньше Гоголь так часто не просил молиться за него, никогда не
возлагал такие надежды на молитву.
Болен, изнемогаю духом, требую молитв и утешения и
не нахожу нигде. С болезнию моей соединилось такое нер-
240
вическое волнение, что ни на минуты не посидит мысль
моя на одном месте и мечется, бедная, беспокойней самого
больного.
Никогда так не чувствовал потребности молитв ваших,
добрейшая моя матушка. О, молитесь, чтобы Бог меня по-
миловал, чтобы наставил, вразумил совершить мое дело че-
стно, свято и дал бы мне на то силы и здоровье! Ваши по-
стоянные молитвы обо мне теперь мне так нужны, так нуж-
ны, — вот все, что имею вам сказать. О, да поможет вам Бог
обо мне молиться!
Д. С. Мережковский:
Что такое болезнь Гоголя? В каком отношении находит-
ся она к тому особому душевному состоянию, которое, по-
видимому, неразрывно связано с нею, и так называемому
«мистицизму» Гоголя? «Мистицизм» ли от болезни или бо-
лезнь от «мистицизма»? Кажется, и то и другое предположе-
ния одинаково неверны.
«Мистицизм» — болезнь духа и болезнь тела вовсе не на-
ходятся во взаимной причинной связи: обе они суть только
следствия какой-то одной, более глубокой, первой причи-
ны, чего-то, что за телом и духом, какого-то первозданного
несоответствия, несогласия, опять-таки неравновесия
между телом и духом.
Трудно решить, когда собственно началась болезнь Гого-
ля. Кажется, он родился с нею точно так же, как Пушкин
со своим непобедимым здоровьем.
Может быть, в детстве и юности причина болезни была
по преимуществу физическая, но с годами, несмотря на ча-
сто повторявшиеся припадки, организм крепнет, и, вместе с
тем, обнаруживается, что причина болезни отнюдь н е
только физическая, что особое состояние духа, ежели не
производит болезнь тела, то во всяком случае предшествует
ей. Поверхностным наблюдателям кажется даже, что Го-
голь — мнимый больной, что он воображает себя или при-
творяется больным. «Он считал себя неизлечимо больным и
готов был советоваться со всеми докторами, хотя по наруж-
ности казался свежим и здоровым», — замечает биограф.
«Он удивил меня тем, — рассказывает С. Т. Аксаков, — что
начал жаловаться на свои болезни и сказал даже, что болен
неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивы-
241
ми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его:
«Да чем же вы больны?» Он отвечал неопределенно и ска-
зал, «что причина болезни его находится в кишках». — Из
Рима пишут осенью 1840 года: «Гоголь ужасно мнителен...
Он ничем не был занят, как только своим желудком, а,
между тем, никто из нас не мог съесть столько макарон,
сколько он их отпускал иной раз».
По мнению И. Д. Ермакова, главной хворью Гоголя была
мнительность, ипохондрия. От меланхолии он легко переходил к
экзальтации, от тоски — к эйфории. В своей болезни он чем-то
напоминает Цицше, впадавшего во время приступов эйфории в
манию величия.
При всем обилии сведений о болезнях Гоголя, установить, так
сказать, ретроспективный диагноз — нелегкая задача. Даже луч-
шие врачи Европы, пользовавшие его, приходили к взаимоиск-
лючающим выводам. Так, берлинский диагност д-р Шенлейн по-
ставил диагноз поражения нервов в желудочной области, так на-
зываемой системе nervoso fascoloso, и рекомендовал холодные
морские купания. Д-р Карус из Дрездена нашел причиной болез-
ни резкое увеличение печени и прекратившееся вырабатывание
крови, рекомендовав воды в Карлсбаде. Знаменитый Круккен-
берг из Галя «решил, что причина всех болезненных припадков
заключена в сильнейшем нервическом расстройстве, покрывшем
все прочие припадки и произведшем все недуги»1.
Конечно, дело было в нервной системе: после холодных купа-
ний и обтираний Гоголю неизменно становилось лучше, хотя
улучшения были, чаще всего, кратковременны.
Н. В. Гоголь — П. А. Плетневу:
Я заезжал в Греффенберг, чтобы вновь несколько осве-
житься холодной водой, но это лечение уже не принесло
той пользы, как в прошлом [1845] году. Дорога действует
лучше. Видно, на то воля Божья, и мне нужно более, чем
кому-либо, считать свою жизнь беспрерывной дорогой и не
i Русские врачи, пытавшиеся «реконструировать» болезнь Гоголя на основа-
нии сохранившихся описаний, пришли к выводу, что он страдал спинной сухо-
ткой, при которой часто возникают желудочно-кишечные осложнения, сопро-
вождающиеся явлениями ипохондрии и депрессии: «Все психические явления,
подобные фобии и даже психозы... как раз соответствуют тому, что бывает у бо-
льных, страдающих спинной сухоткой».
242
останавливаться ни в каком месте, как на временный ноч-
лег и минутное отдохновение.
В. А. Жуковский — М. П. Погодину:
У меня в Швальбахе гостил Гоголь; ему вообще лучше;
но сидеть на месте ему нельзя; его главное лекарство — пу-
тешествие; он отправился в Остенде.
В. В. Набоков:
Опасность превратиться в лежачий камень Гоголю не уг-
рожала: несколько летних сезонов он беспрерывно ездил с
вод на воды. Болезнь его была трудноизлечимой, потому
что казалась малопонятной и переменчивой: приступы ме-
ланхолии, когда ум его был помрачен невыразимыми пред-
чувствиями и ничто, кроме внезапного переезда, не могло
принести облегчения, чередовались с припадками телесного
недомогания и ознобами; сколько он ни кутался, у него
стыли ноги, а помогала от этого только быстрая ходьба — и
чем дольше, тем лучше. Парадокс заключался в том, что
поддержать в себе творческий порыв он мог лишь постоян-
ным движением — а оно физически мешало ему писать.
И все же зимы, проведенные в Италии с относительным
комфортом, были еще менее продуктивными, чем лихора-
дочные странствия в почтовых каретах. Дрезден, Бадга-
стейн, Зальцбург, Мюнхен, Венеция, Флоренция, Рим и
опять Флоренция, Мантуя, Верона, Инсбрук, Зальцбург,
Карлсбад, Прага, Греффенберг, Берлин, Бадгастейн, Прага,
Зальцбург, Венеция, Болонья, Флоренция, Рим, Ницца, Па-
риж, Франкфурт, Дрезден — и все сначала; этот перечень с
повторяющимися названиями знаменитых туристских горо-
дов не похож на маршрут человека, который хочет попра-
вить здоровье или собирает гостиничные наклейки, чтобы
похвастаться ими в Москве, штат Огайо, или в Москве рос-
сийской, — это намеченный пунктиром порочный круг без
всякого географического смысла. Воды были скорее пово-
дом. Центральная Европа была для Гоголя лишь оптиче-
ским явлением, и единственное, что было ему важно, един-
ственное, что его тяготило, единственная его трагедия была
в том, что творческие силы неуклонно и безнадежно у него
иссякали. Когда Толстой из нравственных, мистических и
просветительских побуждений отказался писать романы, его
гений был зрелым, могучим, а отрывки художественных
243
произведений, опубликованные посмертно, показывают,
что мастерство его развивалось и после смерти Анны Каре-
ниной. А Гоголь был автором всего лишь нескольких книг,
и намерение написать главную книгу своей жизни совпало с
упадком его как писателя: апогея он достиг в «Ревизоре»,
«Шинели» и первой части «Мертвых душ».
Видимо, вечное бегство Гоголя, бегство как бы от себя само-
го, было результатом его болезни, его страхов, панического ужа-
са, от которого он пытался таким образом спастись. Он бежит из
России, но, оказавшись на чужбине, тоже не может усидеть на
одном месте, даже таком замечательном, благотворном для его
здоровья, как Италия:
С какою бы радостью я сделался фельдъегерем, курье-
ром... даже на русскую перекладную и отважился бы даже в
Камчатку, — чем дальше, тем лучше... Мне бы дорога те-
перь, да дорога в дождь, в слякоть, через леса, через степи,
на край света!.. Клянусь, я бы был здоров!
Последнее — правда: стоит больному Гоголю сесть в дили-
жанс и проехать немного — и он уже чувствует облегчение, бо-
лезнь оставляет его.
Но только что он останавливается, внутренняя тревога
пробуждается вновь, и с еще большею силою, еще явствен-
нее слышится таинственный «зов». — «Душа изнывает вся
от страшной хандры, которую приносит болезнь, бьется с
ней и выбивается из сил биться...» — «Тяжело, тяжело, ино-
гда так приходится тяжело, что, хоть просто повесить-
ся...» — «Тягостнее всего беспокойство духа, с которым
труднее всего воевать, потому что это сражение решительно
в воздухе. Изволь управлять воздушным шаром, который
мчит первым стремлением ветра! Это не то что на земле, где
есть колеса и весла».
Здесь самое определенное физическое ощущение отража-
ет, так сказать, метафизическую причину болезни: наруше-
ние земного равновесия, законы земной механики, отсутст-
вие точки опоры, головокружительный полет над бездною.
Гоголь — не безумие, Гоголь — невроз. Симптомы невроза:
мнительность, придумывание и нанизывание недугов, сексуаль-
ная недостаточность, бегства, непрерывные странствия, судорож-
ные поиски поприща, попытки перетолковать собственные тво-
244
рения, сожжения рукописей, страхи. Экзистенциальный страх —
это задний план гоголевского комизма, считает Б. Зелински. Да-
же комик он — от невроза: «Подбадривает себя, как ребенок в
темноте. Чем сильнее страх, тем громче смех» (Труайя).
Наших возмущает попытка понять творчество Гоголя в связи с
его болезнью, трагедией, устройством души: «Поражает безразли-
чие к духовной одаренности Гоголя: его выслушивают не как со-
беседника, а только как пациента или разглядывают как экспо-
нат». Но разве не симптом безразличия отрыв художественного
мира от мира души? Разве можно до конца понять муки Паскаля
без его болезни, картины Эль Греко без его астигматизма, траге-
дию второго тома Мертвых Душ без невозвратного угасания
творческой энергии и склероза?
Кстати, главные книги о болезни Гоголя написаны отнюдь не
иностранцами — В. И. Шенроком, Н. Н. Баженовым, В. Чижом,
И. Д. Ермаковым, В. И. Мочульским. Если сама гениальность,
как ныне принято считать, — болезнь, то почему тема болезни
гения должна быть запретной? Почему Белинскому или Тургене-
ву дано право обвинять автора Переписки с друзьями в
помешательстве и объяснять им написание этой книги («Что-то
тронулось в голове... вся Москва была о нем такого мнения»), а
профессиональным врачам — не дано? Почему неправомерна по-
становка задачи о зависимости творчества от хода болезни?
Конечно, человек и его личные обстоятельства — это одно, а
тексты — это совсем иное, но разве между тем и другим — ника-
ких связей? Разве уникальные способности часто — не результат
наследственности или болезни?
Наследственность Гоголя была неблагоприятной: болезнен-
ный, рано умерший, мнительный отец, неврастеничка мать, ро-
жавшая нежизнеспособных детей. Отец Гоголя перед женитьбой
серьезно болел лихорадкой, мать страдала депрессиями и частой
сменой настроений. Сам Гоголь, как мы уже знаем, родился хи-
лым, узкоплечим ребенком с впалой грудью и плохим цветом ли-
ца, опасно болел в 1822 году, страдал страхом смерти и периоди-
ческими обострениями разных хворей, а также депрессиями.
Родители страшно боялись потерять единственного выживше-
го сына, очень любили и баловали Никошу, выполняли все его
прихоти — не отсюда ли эгоизм, нарциссизм, автоэротизм и ма-
теринский комплекс?
245
Никто из биографов не обратил внимания на мазохизм Гоголя.
Между тем у него самого можно встретить признания, свидетель-
ствующие о потребности в боли, о страдании как творческой силе:
Болезнь моя так мне была доселе нужна, как рассмотрю
поглубже все время страдания моего, что не дает духа просить
Бога о выздоровлении. Молю только Его о том, да ниспошлет
несколько свежих минут и надлежащих душевных располо-
жений, нужных для изложения на бумагу всего того, что при-
уготовляла во мне болезнь страданьями и многими, многими
искушеньями и сокрушеньями всех родов, за которые недо-
стает слов и слез благодарить Его всеминутно и ежечасно.
Гоголь был мазохистом, боль подстегивала его. С другой сто-
роны, он контролировал меру боли и саму болезнь. То, что он
сам считал посещением благодати, на самом деле было концент-
рацией на работе, созревшим плодом вдохновения. Каждый раз,
когда можно было «срывать плод», болезнь отступала как бы са-
ма собой: лучшие места и книги написаны Гоголем в состоянии
здоровой эйфории, победы над страданием — духа и тела.
Болезнь Гоголя — это подсознательные муки несвоевременно-
го и непонятого человека со слишком чувствительной, изнемога-
ющей душой, это шоковое чувство личности в «зазоре бытия»,
раздираемой слишком человеческим противоречием своей про-
межуточности между небом и землей.
Он страдал долго, страдал душевно — от своей неловко-
сти, от своего мнимого безобразия, от своей застенчивости,
от безнадежной любви, от своего бессилия перед ожидания-
ми русской грамотной публики, избравшей его своим куми-
ром. Он углублялся в самого себя, искал в религии спокой-
ствия и не всегда находил; он изнемогал под силой своего
призвания, принявшего в его глазах размеры громадные, то-
мился тем, что непричастен к радостям, всем доступным, и
изнывал между болезненным смирением и болезненной,
несвойственной ему по природе гордостью.
Гоголь нуждался в своем докторе Фрейде или Юнге, но, ока-
жись их лечение успешным, не было бы Гоголя...
Гоголь рано одряхлел. Судя по всему, в 30 лет он уже стар, в 35
кончился как художник, в 37 готов к смерти. В письме к Погоди-
ну от 8 февраля 1846 года он признается в желании повеситься.
246
К сорока годам, по словам Н. В. Берга, от прежнего Гоголя
остались одни развалины. Память ослабела, мучат галлюцина-
ции, усиливается страх смерти: «Ничего не мыслится не пишет-
ся; голова тупа»; «нашло на меня оцепенение» и т. д. и т. п.
Д. С. Мережковский:
Мы знаем, что в последние дни преследовали Гоголя ка-
кие-то ужасные видения. Дня за два, за три до сожжения
рукописей он «поехал на извозчике в Преображенскую бо-
льницу к одному юродивому, подъехал к воротам, подошел
к ним, воротился, долго ходил взад и вперед, долго оставал-
ся в поле на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и потом,
не входя на двор, опять сел на лошадь и возвратился». Что
он думал, что он видел там, в поле, ночью, один, или в ста-
ринной маленькой церкви Симеона Столпника, где в тем-
ноте молился целыми часами? Не проносились ли перед
ним снова те видения, которыми в юношеских сказках сво-
их, особенно в самой страшной и вещей из них — «Вие»,
напророчил он себе судьбу свою?
«Вдруг... среди тишины... с треском лопнула железная крышка
гроба и поднялся мертвец... Вихорь поднялся по церкви, попадали
на землю иконы, полетели вниз разбитые стекла окошек. Двери со-
рвались с петель, и несметная сила чудовищ, влетела в Божью цер-
ковь. Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю
церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа... Он толь-
ко крестился, да читал, как попало, молитвы... Все глядели на него,
искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кру-
гом. — «Приведите Вия, ступайте за Вием!..» И вдруг настала ти-
шина в церкви; послышалось вдали волчье завывание, и скоро раз-
дались тяжелые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, уви-
дел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого че-
ловека. Весь был он черней земли. Как жилистые, крепкие корни,
выдавались его, засыпанные землею, ноги и руки. Тяжело ступал
он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой
земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное».
«—- Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец,
и все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный,
грянулся он о землю, и тут же вылетел дух из него от страха».
Он [Хома] «умер от страха, так же, как Гоголь. И святы-
ня Божья не спасла его от дьявольской нечисти; церковь,
247
бедная, ветхая, вся дрожит под напором чудовищ и не мо-
жет им противиться: они побеждают ее; бесплотная духов-
ность оскверняется бездушною плотскостью — и предска-
занная «мерзость запустения становится на месте святом».
Каковы бы ни были предсмертные видения Гоголя, та-
ков именно должен был быть их пророческий смысл: его
собственная им самим убитая Муза, сверкающая страшной
красотою, ведьма в гробу, среди церкви, и уставленный на
него, убийцу, железный палец Вия.
«ЛЮБОВЬ» ГОГОЛЯ
Адское порождение! Зевс
Олимпиец! О! ты неумолим в своей
ярости! Ты захотел наслать бич на
мир, ты извлек весь яд, незаметно
разлитый в недрах прекрасной зем-
ли твоей, сжал его в одну каплю,
гневно бросил ее светодарною дес-
ницей и отравил ею чудесное тво-
рение свое: ты создал женщину!
Тебе завидно стало бедное счастие
наше, тебе не желалось, чтобы че-
ловек источал вечное благослове-
ние из недр благодарного сердца;
пусть лучше проклятие сверкнет на
преступных устах его... Ты создал
женщину!
Телеклес, ученик Платона
Любопытно: первым произведением, подписанным при пуб-
ликации своим собственным именем, была статья, опубликован-
ная в четвертом номере «Литературной газеты» за 1831 год под
названием Женщина. Именно в этой статье приведен текст,
вынесенный в эпиграф. Именно в ней впервые выражено преде-
льно амбивалентное отношение Гоголя к прекрасному полу —
исчадию ада и языку богов... Статья начинается «адским порож-
дением» и кончается «полубогиней», «тонким, светлым эфиром,
в котором купаются небожители».
Что такое любовь? — Отчизна души, прекрасное стремле-
ние человека к минувшему, где совершалось беспорочное на-
чало его жизни, где на всем остался невыразимый, неизгла-
248
димый след невинного младенчества, где все родина. И когда
душа потонет в эфирном лоне души женщины, когда отыщет
в ней своего отца — вечного бога, своих братьев — дотоле не
выразимые землею чувства и явления — что тогда с нею?
Тогда она повторяет в себе прежние звуки, прежнюю рай-
скую в груди Бога жизнь, развивая ее до бесконечности...
Даже в этой восторженной элоквенции выражено необычное
отношение 22-летнего поэта к женщине — как к отцу (Фрейд?) и
как к лону, но не к тому, о котором вожделеют 22-летние, — как
к лону именно «эфирному».
В одном из писем Гоголь признавался, что боится любви, так
как она сожгла бы его и превратила в пепел (как Микитку в
В и е). В В и е Гоголь выражает свой развитый материнский ком-
плекс. Психоаналитики считают, что Гоголю так и не удалось из-
бавиться от инфантильной привязанности к матери и что в В и е
налицо вытесненный половой инстинкт писателя. Сам Вий —
это imago отца, обнаружившего его вытесненные инцестуальные
желания, не видимые другими. Трудно согласиться, что сцены с
философом, оседланным сначала старухой, затем панночкой с
красивыми ногами, затем панночки — философом, как и описа-
ния русалок, полностью лишены эротизма, да и инцестуальная
тема не чужда Гоголю — вспомним страсть отца к дочери в
Страшной мести. Видимо, не случайно герои Гоголя умира-
ют из-за женщин или от страха перед «сильным отцом». Не слу-
чайны его женские портреты — то совершенно бесцветные, сера-
фические, то явно эротические, «сосредоточенные» на груди и
ногах. Гоголь явно борется с искушением женской красоты, как
борются с грехом, и одна из психоаналитических интерпретаций
гоголевского черта — вытесненные влечения его создателя: «Черт
Гоголя — это автоэротизм, который он проецирует вовне».
Уникальная зоркость Гоголя открывала ему не только выси
духа, но и бездны греха. Он подозревал, что само искусство слу-
жит греху, правдиво его передавая (Портрет). Считая «грехом»
созданное им самим, он терзался страхом, что участь его «будет
страшнее участи всех прочих людей», и потому требовал молить-
ся о нем «более, чем обо всяком другом человеке».
Герои, убиваемые женщинами, нос, отделившийся от героя
(кастрационный комплекс), добровольный целибат, страх перед
Страшным судом — все это проявления сверхразвитого чувства
вины, гипертрофия несуществующих грехов.
249
Трудно согласиться с выдвигаемым И. П. Золотусским пред-
положением, что Гоголь не женится, ибо он — мономан: «Он ес-
ли горит, то горит одним, всепожирающим пламенем. Или жен-
щина, или искусство — так встает перед ним вопрос». Все ге-
нии — мономаны, без самозабвенного служения небесной Музе
нет гения, но ни Пушкину, ни Гете, ни Толстому это никак не
препятствует «быть неукротимыми»...
В В и е есть сцена, объясняющая отношение Гоголя к женщи-
нам тоже с позиции «горения», но горения иного рода.
Вспомним эпизод, когда прекрасная панночка-ведьма пришла
к псарю Миките, чистившему коня: «Дай, — говорит, — Микита,
я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому: говорит,
что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подня-
ла свою ножку, и как увидел он ее нагую и полную, и белую
ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул
спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел
скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего
не мог сказать; только воротился едва живой, а с той поры иссох-
нул весь, как щепка; как раз пришли на конюшню, то вместо его
лежала только куча золы, да пустое ведро: сгорел, совсем сгорел
сам собою!»
Не описывал ли здесь Гоголь собственную встречу с женщи-
ной-ведьмой, последствия для себя «езды» на ней, не ощущал ли
свое нездоровье результатом этой «езды»? Не от такой ли «ез-
ды» — эта авторская рационализация, вполне соответствующая
учению Фрейда («К спасению моему, — продолжает описанную
сцену Гоголь, — твердая воля отводила меня от желания загля-
нуть в пропасть»)?
Нет, не женщина или искусство, а ад или рай...
Может быть, Гоголь испытывал страх перед женитьбой — ведь
боялся же ее Шпонька! Не выражал ли своим Шпонькой свои
чувства сам Гоголь?
Зачем жена? Почему жена? — кажется, спрашивает он
вместе со своим героем, удивляясь необходимости женить-
ся. Шпоньку мучает страх перед женитьбой, страх перед же-
ной. И хотя этот страх выражен пародийно, в нем слышится
искренняя горечь человека, который не знает, «что делать»
с женой. Само слово «жена» в гоголевском контексте при-
250
обретает пугающий смысл, ибо оно явно отделяется от кон-
кретной женщины и превращается в понятие, в символ, в
угрожающий образ чего-то невозможного и таинственно-
постоянного. Жена способна уменьшаться и увеличиваться,
то сидеть в кармане Шпоньки, то в его шляпе, она как буд-
то бы и человек, и вместе с тем у нее гусиное лицо, а вот
она уже материя, шерстяная материя (эта конкретность
убивает), которой торгуют в лавках и которую можно резать
и отмеривать. Но в то же время эта жена говорит со Шпо-
нькою мужским голосом, голосом командира П*** пехотно-
го полка. И еще жены много, она всюду, она везде, куда не
глянешь. В ужасе б е ж и т от нее несчастный Иван Федоро-
вич, но она тащит его на веревке на колокольню, и эта ве-
ревка напоминает петлю, которая еще до женитьбы грезит-
ся герою Гоголя.
Как это так, спрашивает себя Шпонька, я был один, и
вдруг окажемся мы двое. Вместо одинокой кровати в моей
комнате будет стоять двойная кровать. «Жить с женою... не-
понятно!» — восклицает он, и «тут его берет тоска».
Шпонькой Гоголь как бы перебрасывает мост от Рабле к гря-
дущему Джойсу: от Панурга, советующегося с Пантагрюэлем,
стоит ли ему жениться, и Пантагрюэля, доказывающего Панургу,
что советовать в вопросах брака — дело трудное, а равно — гада-
ний по Гомеру и Вергилию, он переходит к другим героям, Шему
и Шону, которые — белье, сохнушее на дереве, — приходят
прачки и снимают людей-ткань.
Позже Гоголь в «Женитьбе» блестяще разовьет эту идею
бессмыслицы, заключенную в самом акте брака, соедине-
ния навечно двоих людей.
Похоже, в Гоголе очень глубоко сидела мысль, высказанная
Тарасом Бульбой сыну: «Не доведут тебя бабы к добру!» Подобно
тому, как Андрея баба «довела» до предательства, «нежба» увлек-
ла в бездну, сам Гоголь, один или два раза заглянувший в нее,
отшатнулся с ужасом, зарекшись сам и заклиная самых дорогих
ему людей — от «темной пучины».
В. В. Розанов, как и Фрейд, много внимания уделявший связи
духовной жизни человека и особенностей его половой структуры,
считал отношение Гоголя к женщинам патологическим, даже не-
крофильским.
251
Интересна половая загадка Гоголя... Он, бесспорно, «не
знал женщины». Что же было? Поразительная яркость кис-
ти везде, где он говорит о покойниках... Везде покойник у
него живет удвоенной жизнью, покойник — нигде не
«мертв», тогда как живые люди удивительно мертвы... Ведь
ни одного мужского покойника он не описал, точно мужчи-
ны не умирают.
Хотя на самом деле у Гоголя встречаются и «мужские» смерти,
причем довольно красочно описанные (например, смерть Акакия
Акакиевича или прокурора в Мертвых Душах), налицо дей-
ствительно некое пристрастие к «женской» смерти, как и смерти
вообще. Конечно, это не некрофилия («Смерти я боюсь, смерти
я не хочу, смерти я ужасаюсь»), но попытка через смерть понять
и объяснить жизнь.
Очень чувствительный к тайнам творчества Андрей Белый за-
метил, что шкатулка была женой Чичикова, как шинель — лю-
бовницей Акакия Акакиевича или колокольня — тещей Шпонь-
ки. В этом много гоголевского, подмена женщины вещью. Кста-
ти, все его главные герои не женаты, и женщины, как правило,
интересуют их меньше всего сексуально.
Подозрительна сама «закрытость» Гоголя теме человеческой
любви. Подозрительна потому, что, долгое время живя в деревне
в атмосфере открытости деревенского быта, в котором «низ» все-
гда превалировал над «верхом», собирая «срамные» песни, рас-
сказывая «пикантные» анекдоты, Гоголь никогда не касался сво-
их чувств, лишь однажды и чуть-чуть приоткрыв их в письме к
Данилевскому. Трудно согласиться с тем, что отношение Гоголя к
женщине колебалось между крайностями обожествления и быто-
вого «снижения» — женские образы Гоголя субтильны, бесстраст-
ны, холодны, я бы сказал, бесполы. В них есть что-то от будущей
Иродиады Малларме — его тоже заботит девственность, ее сохра-
нение, он даже сестрам часто советует не выходить замуж. Все это
как бы косвенно свидетельствует о слабости полового чувства, но,
с другой стороны, при всей импотентной безжизненности образов
Гоголь явно неравнодушен к определенным частям женского те-
ла: «разметавшаяся на одинокой постели горожанка с дрожащими
молодыми грудями», которой «снится гусарский ус и шпоры»;
«нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, ни-
когда не видывал»; перед Андреем Бульбой «беспрерывно мелька-
ли ее сверкающие упругие перси...». «Молодые груди» у героинь
252
Гоголя обязательно упруги, куполообразны, они дрожат, колеб-
лются, трепещут, встревоженные вздохами.
А женские тела? Все они обязательно светятся, отливают про-
зрачной белизной, изваяны из облаков, но...
Дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклян-
ную рубашку; уста чудно усмехаются, щеки пылают, очи
выманивают душу... она сгорела бы от любви, она зацелова-
ла бы... Беги, крещеный человек!
Тело одной русалки не так светилось, как у прочих:
внутри его виднелось что-то черное.
А. Белый:
Когда он описывает женщину — то или виденье она, или
холодная статуя с персями «матовыми, как фарфор,
непокрытый глазурью», или похотливая баба, семе-
нящая ночью к бурсаку. Неужели женщины нет, а есть то-
лько баба, или русалка с фарфоровыми персями,
сваянными из облаков?
Эллис:
«Лукавая женственность», молодая мечтательная любовь,
милые облики девушек странно дисгармонируют с вульгар-
ным характером их бытовых и грубо реальных имен, Пидар-
ка, Хвеська, Параска, от которых рукой подать до безобраз-
ной Ховры или карикатурной Сол охи; лучший же по изоб-
ражению женский тип у Гоголя — тип «сварливой жинки»,
грубой отвратительной бабы, о женственности которой не
может быть и речи. Прекрасные женские облики неизменно
принадлежат у Гоголя колдуньям, русалкам, мертвецам или
женщинам недобрым, вносящим собой зло и разрушение,
словом — соблазнительницам.
Изящные аристократки его — пусты, фальшивы и вне-
шни.
Не найдем мы у Гоголя ни преклонения перед самым ве-
ликим, что есть в душе человеческой, — перед высоким и чи-
стым обожанием женщины; не найдем мы у него ни строки,
посвященной идеализации, хотя бы просто сочувственной
памяти о детстве, об этом потерянном Рае, об этом золотом
луче, озарявшем все разочарованные и безнадежно усталые,
253
больные души. Больше постигал он трагическую глубину ма-
теринства, но и женщина-мать у него прекрасна лишь тогда,
когда убивается она, тоскуя о судьбе своих «сынов»...
Полноценная, телесная, реальная любовь не играет роли в
произведениях Гоголя. Кто-то, кажется, профессор В. Чиж, ска-
зал, что лучший женский образ Гоголя — Коробочка... Целомуд-
ренный в печатных произведениях, Гоголь не только любил не-
печатные анекдоты, но и сам написал нецензурный рассказ
Прачка. По мнению В. Чижа, отмечаемый друзьями цинизм
Гоголя являлся результатом подавленного либидо.
Хотя Гоголь обращал внимание прежде всего на «женщин в
теле, в соку», существенным женским недостатком считал «недо-
статок толщины», на его жизненном пути чаще встречались худо-
сочные аристократки. Нози-Улинька даже как-то удивилась его
тяге к ней: «Вы, которые столько любите, чтобы женщины были
полны, сильны и свежего цвета лица...»
Некоторые героини Гоголя — женщины необыкновенной,
прямо-таки божественной красоты, вызывающей остолбенение,
желание упасть на колени, пропеть гимн совершенству. Такова
Аннунциата из Рима: увидевший ее князь поднял глаза «и
остолбенел: перед ним стояла неслыханная красавица... Это было
чудо в высшей степени... это была красота полная, созданная для
того, чтобы всех равно ослепить!.. И верующий и неверующий
упали бы пред ней, как пред внезапным появленьем божества».
Гоголь миновал женский характер во всей его глубине.
Присмотримся: у него существует одна-единственная
женщина — надменная красавица с одним-единственным
чувством превосходства своей красоты едва ли не над всем
окружающим миром — та гордая полячка, которая погубила
Авдрея, сына Тараса Бульбы, и та римлянка, которой, ви-
димо, предстояло сыграть не менее роковую роль, если бы
«Рим» был закончен.
Женский персонаж для Гоголя — персонаж всегда второ-
степенный, то и дело необходимый лишь постольку, поско-
льку без него нельзя построить сюжет. Детей же в мире Го-
голя — столь разнообразном и многоликом — и вовсе нет.
Разве только дворовые мальчишки и девчонки на побегуш-
ках. Дети не обременяют его героев, не усложняют они сво-
им существованием и авторской задачи, всегда столь опре-
деленно и четко выраженной. И действительно, их и пред-
254
ставить, гоголевских героев, — например, Чичикова, Хлес-
такова, Башмачкина — любящими мужьями и отцами про-
сто невозможно, и вот они, один за другим, холостяки, а
женщина — пусть и необходимый, но только атрибут этого
мира, частная его принадлежность.
О том, что Гоголь «недолюбил», свидетельствуют его письма к
женщинам, по тону, настроению, даже стилистике радикально
отличающиеся от его писем друзьям. «Письма ваши мне так же
сладки, как молитва в храме...» (Гоголь — Н. Н. Шереметевой);
«Забудем все, посмотрите на это небо» (Гоголь — А. О. Смирно-
вой). В письмах адресаткам Гоголь редко жалуется на свои болез-
ни: «Я свеж и бодр. Часто душа моя так бывает тверда, что, ка-
жется, никакие огорчения не в силах сокрушить меня».
Нельзя сказать, чтобы Гоголь совсем исключил женщин из
круга своего общения. Отнюдь! Как-то раз он сказал, что женщи-
на более благодарный слушатель, нежели мужчина, и эту мысль
он вынес из большого личного опыта. Женщины всегда преобла-
дали среди его слушательниц, и они с благоговением внимали
его советам и наставлениям. Пожалуй, только среди них у него
не было врагов.
Как человек скрытный, Гоголь почти никогда не раскрывал
своей души в интимных вопросах. Его отношение к любви мож-
но выяснить лишь по косвенным свидетельствам и чувствам, ка-
сающимся других. Так, например, узнав о пламенной любви дру-
га своего, А. С. Данилевского, к красавице Э. А. Клингенберг,
Гоголь написал ему:
Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя
самому, благодаря судьбу, не удалось испытать. Я потому
говорю «благодаря», что это пламя меня бы превратило в
прах в одно мгновенье. Я бы не нашел себе в прошедшем
наслаждения; я силился бы превратить это в настоящее и
был бы сам жертвой этого усилия. И потому-то, к спасению
моему, у меня есть твердая воля, два раза отводившая меня
от желания заглянуть в пропасть.Ты счастливец, тебе удел
вкусить первое благо в свете — любовь; а я... Но мы, кажет-
ся, своротили на байронизм.
Учитывая все ту же «закрытость» Гоголя, можно попытаться
перечесть это письмо без частицы «бы» — это интересный экспе-
римент, но трактовку его я оставлю читателю...
255
По свидетельству врача, наблюдавшего его перед смертью, Го-
голь «сношений с женщинами давно не имел, и сам признавался,
что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от
этого особого удовольствия».
Сам Гоголь, почти никогда не касавшийся собственных сер-
дечных дел, в одном из писем А. С. Данилевскому однажды при-
знался:
Ты спрашиваешь, зачем я в Ницце, и выводишь догадки
насчет сердечных моих слабостей. Это, верно, сказано тобою
в шутку, потому что ты знаешь меня довольно с этой сторо-
ны. А если бы даже и не знал, то, сложивши все данные, ты
вывел бы сам итог. Да и трудно, впрочем, тому, который на-
шел уже то, что получше, погнаться за тем, что похуже.
Гоголь намекал другу о полной своей принадлежности Богу.
Любопытная деталь: почти всех знакомых женщин Гоголь пы-
тался поставить себе «на службу»: именно к ним он чаше всего об-
ращался с просьбами стать его «информаторами», «внештатными
корреспондентами», именно им рассылал свои «вопросники»,
именно их донимал просьбами давать ему отчет о житейских на-
блюдениях и мнениях общества касательно его книг. Не всем это
нравится — даже ближайшим его друзьям. А. О. Смирнова упорно
сопротивляется такому давлению, чувствуя себя чуть ли не подо-
пытным кроликом Гоголя, упрекает его, что он небескорыстен в
дружбе, что он преследует в дружбе свой «актерский» интерес. Она
хочет, чтоб Гоголь «служил» ей, а не наоборот. Порой ее письма к
нему полны попреков, порой звучат, как объяснения в любви...
...она «привыкла иметь при себе Николая Васильевича»,
она деспотически желает, чтоб в «породнении» он весь при-
надлежал ей. «Душу бы не запирала, как вы, в три замка...
Сознайтесь, что все ваши недоразумения произошли от ва-
шей молчаливой гордости...» — пишет она ему. А он на это
молчит. И лишь в минуту отчаяния, болезни, когда ему ка-
жется, что он вновь стоит у двери гроба, прорываются в нем
и боль и нежность. Это удивительный момент, самый чис-
тый и искренний момент в их отношениях. Тут уж не умст-
вования, не софизмы, не цитаты из священных книг и лите-
ратуры, а неподдельная скорбь по скорби другого слышится
в письмах Смирновой, истинно чувствующей его как брата.
256
«Душа моя хотела бы перелететь к вам, быть с вами нераз-
лучно, прострадать около вашей и свои и ваши болезни...»
Как бы ни менялись их отношения на протяжении жизни, не
вызывает сомнения, что Смирнова была самым близким другом
стареющего Гоголя и как могла поддерживала угасавший дух
своего великого поклонника.
Пожалуй, больше всего известно об отношениях Гоголя с
Александрой Осиповной Смирновой-Россет, одной из самых
красивых и знатных женщин своего времени.
Их познакомил Василий Андреевич Жуковский еще в 1831
году. Она была фрейлиной матери-императрицы, за ней ухажи-
вал царь, а в восемнадцать лет случился роман с 54-летним кня-
зем Голицыным, создавший вокруг нее завистливые толки. Ее
южная красота, пытливый, свободный ум, огромный интерес к
искусству, остроумие, за которое князь Вяземский прозвал ее
донной Перец, привлекали к ней самых блистательных людей
России, создав исключительное положение при дворе. Скромная
фрейлинская келья на 4-м этаже Зимнего дворца сделалась мес-
том сбора всех знаменитостей тогдашнего литературного мира.
Почти все лучшие поэты страны — Жуковский, Пушкин, Лер-
монтов, Вяземский — посвятили ей стихи.
Вокруг нее очарованье,
Вся роскошь юга дышит в ней,
От роз ей прелесть и названье,
От звезд полудня блеск очей.
Или:
Без вас — хочу сказать вам много,
При вас — я слушать вас хочу,
Но молча вы глядите строго, —
И я в смущении молчу.
Она была богата и знатна: в родословной герцог Ришелье со-
седствовал с грузинским царем Георгием XIII, герб семьи Россет
красовался в Версале, а по женской линии немецкие князья ме-
шались с грузинскими. Вышла замуж Александра Осиповна не
по любви, но брак приумножал богатства семьи. Ее муж камер-
юнкер Н. М. Смирнов, «красноглазый кролик», как называл его
А. С. Пушкин, одно время служил в русском посольстве в Пари-
257
же, где Александра Осиповна и встретила Гоголя во время одно-
го из «странствий». Тогда, по ее словам, Гоголь «был у нас раза
три один, и мы уже обходились с ним, как с человеком очень
знакомым, но которого, как говорится, ни в грош не ставили.
Все это странно, потому что мы читали с восторгом «Вечера»...»
Следующая встреча произошла в 1843-м в Риме, когда велико-
светская красавица вдруг почувствовала, что вокруг нее впервые
в жизни начинает образовываться «вакуум».
Блестяще образованную, умную, живо интересующуюся куль-
турой аристократку не могло не влечь к странному, одинокому,
загадочному и, судя по всему, гениальному человеку. Она, знав-
шая самых блестящих людей России и Европы, явно выделяла
своим предпочтением этого некрасивого и несчастного человека.
Она сама дала наилучшую характеристику отношениям, сложив-
шимся у нее с Гоголем, — «светлая, исключительная, столь редко
встречающаяся между мужчиной и женщиной духовная дружба».
И. П. Золотусский:
Гоголь... открылся ей заново: он свалился на нее, как
счастливый дар, она и не думала когда-либо, что так повер-
нется к нему. Он сейчас лучше всего годился в друзья, пото-
му что ничего страстного не могло быть между ними — при
всем выросшем для нее авторитете Гоголя (особенно после
«Мертвых душ») он оставался героем не ее романа, он был в
некотором роде «моветон», как говорил ей о нем князь Га-
гарин еще в 1837 году в Бадене. Их сблизил Рим, Рим фев-
раля 1843 года.
Гоголь чуть ли не бросился к ней с раскрытыми объятия-
ми. Тут же составил он подробный план осмотра города,
окрестностей. Он потащил ее в Кампанью, облазил с ней ку-
пол Св. Петра, где она на стене внутренней разглядела над-
пись царя: «Я здесь молился о дорогой России». Гоголь был
расфранчен как никогда: серая шляпа, голубой жилет, мали-
новые (цвета малины со сливками) панталоны. Он, видимо,
хотел понравиться ей. Она смеялась над ним в душе, над его
неловкостью, безвкусицей, над тем, как он, не имея фрака,
подкалывал булавками сюртук, входя под своды храма. Ему
казалось, вероятно, что он выглядит комильфо, что он вро-
вень с нею, и, когда она без желания обидеть спросила его:
«А где же перчатки?» — он обиделся. Так и пахнуло на него
холодом аристократизма и отдаленностью. На следующий
день маскарад был снят, и он явился в обыкновенном платье.
258
Зато она оценила его познания, его точную ориентиров-
ку в мире древности, в мире искусства, в который он ввел
ее на второй же день ее пребывания в великом городе. Эта
женщина была достойной собеседницей и оппонентом, с
ней было интересно, кроме того, ее неувядшая красота вол-
новала его. Не такой он был монах и отшельник, чтоб вбли-
зи красивой, блестящей женщины не чувствовать ее обая-
ния, не смущаться, не тушеваться. Как ни высоко он ставил
себя, как ни сознавал трезво невозможность какого-либо
увлечения с обеих сторон, все же эти часы общения в Риме
были не только беседами и прогулками двух добрых прияте-
лей — они удовлетворяли и эстетическое чувство Гоголя.
С той поры потянется за ним слава пленника Смирно-
вой.
На самом деле Гоголь считал Смирнову своей ученицей и по-
клонницей, хотя и сильно переоценивал свою власть над ней.
Какое-то время Александра Осиповна действительно находилась
под его влиянием, но недолго.
Если Гоголя влекла женственность Александры Осиповны, то
ее притягивали талант, неординарность, внутренняя духовность,
полное взаимопонимание. Ей было с ним легко, как ни странно
это звучит, когда речь идет о Гоголе. Она принадлежала к тем не-
многим людям, с кем он позволял себе быть более или менее от-
кровенным — настолько, насколько откровенным мог быть Го-
голь. С ним она чувствовала себя свободной, он находил в ней
редкую душу, понимавшую его — потому-то считал ближайшим
своим другом.
Его пленяла в их отношениях независимость, в том числе
независимость от чувств: они могли разъехаться, не видеться
годами, она писала ему о своих беременностях, даже о лю-
бовных связях — это не влияло на дружбу, не рвало ее. Ни он
не навязывался ей, ни она ему — тут было полное равенство,
а об ином равенстве (скажем, светском) он и не помышлял.
Особенно теплой и сердечной стала их встреча в Ницце в
1843—1844 годах, где они «породнились» душами, то есть откры-
ли души друг другу (настолько, насколько это возможно с Гого-
лем). Именно здесь — в приливе откровенности — она бросила
ему обидевший его вопрос, не был ли он немного влюблен в нее.
Конечно, был — об этом свидетельствовала его реакция — побег
259
с последующим возвращением и продолжением прежних невин-
ных отношений.
Гоголь рассматривал Смирнову не только как задушев-
ного друга (в искренности такого отношения к ней мы не
можем сомневаться), но и как объект воспитания. Сама
«испорченность» ее, ее грешность и порочность были на-
добны ему, ибо иначе нечего было бы перестраивать. Он
называл ее «больной», а себя «врачом», он и ее желал обра-
тить во «врача», ибо вся Россия (и, в частности, «свет»)
представлялась ему теперь большим «лазаретом» или «боль-
ницей». ,
О характере этих отношений можно судить по эпизоду, запи-
санному П. А. Кулишом со слов А. О. Смирновой:
В то время на нее находила иногда непонятная тоска.
Гоголь списал собственноручно четырнадцать псалмов и за-
ставлял ее учить их наизусть. После обеда он спрашивал у
нее урок, как спрашивают у детей, и лишь только она хоть
немножко запиналась в слове, он говорил: «Нетвердо!» — и
отсрочивал урок до другого дня.
Гоголь никогда не скрывал теплых чувств своих в отношении
Александры Осиповны, никак не разделяемых его друзьями. Ни-
же приведено одно из его писем поэту Н. М. Языкову и реакция
последнего.
Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову:
Это перл всех русских женщин, каких мне случалось
знать, а мне многих случалось из них знать прекрасных по
душе. Но вряд ли кто имеет в себе достаточные силы оце-
нить ее. И сам я, как ни уважал ее всегда и как ни был дру-
жен с ней, но только в одни истинно страждущие минуты и
ее, и мои узнал ее. Она являлась истинным моим утешите-
лем, тогда как вряд ли чье-либо слово могло меня утешить,
и, подобно двум близнецам-братьям, бывали сходны наши
души между собою.
Н. М. Языков — А. М. Языкову:
Ты, верно, заметил в письме Гоголя похвалы, восписуе-
мые им г-же Смирновой. Эти похвалы всех здешних удив-
260
ляют. Хомяков, некогда воспевший ее под именем «Ино-
странки» и «Девы розы», считает ее вовсе не способной к
тому, что видит в ней Гоголь, и по всем слухам, до меня до-
ходящим, она просто сирена, плавающая в прозрачных вол-
нах соблазна.
О характере отношений Гоголя с женщинами можно судить
по Истории знакомства... С. Т. Аксакова:
Не менее вредны были его дружеские связи с женщина-
ми, большею частью высшего круга. Они сейчас сделали из
него нечто вроде духовника своего, вскружили ему голову
восторженными похвалами и уверениями, что его письма и
советы или поддерживают, или возвращают их на путь доб-
родетели. Некоторых я даже не знаю и назову только Виель-
горскую, Соллогуб и Смирнову. Первых двух, конечно, не
должно смешивать с последней; но высокость нравственно-
го их достоинства, может быть, была для Гоголя еще вред-
нее: ибо он должен был скорее им поверить, чем другим. Я
не знаю, как сильна была его привязанность к Соллогуб и
Виельгорской; но Смирнову он любил с увлечением, может
быть, потому, что видел в ней кающуюся Магдалину, и счи-
тал себя спасителем ее души. По моему же простому чело-
веческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную вы-
соту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни,
сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирно-
вой, блестящий ум которой и живость были тогда еще оча-
ровательны.
По мнению В. А. Соллогуба, женатого на графине С. М. Вие-
льгорской, единственная женщина, в которую был влюблен Ни-
колай Васильевич, — сестра его жены, Анна Михайловна Виель-
горская, которую Гоголь пытался изобразить во второй части
Мертвых Душ в Улиньке. Со слов родственников Анолины,
или Нози, — так близкие звали Анну Михайловну — В. И. Шен-
рок сообщал, что весною 1850 года, за два года до своей смерти,
Гоголь делал предложение младшей дочери Виельгорских.
Закомплексованный Гоголь предпринимал титанические уси-
лия, чтобы покрыть флером таинственности все наиболее значи-
тельные события своей жизни. Однако среди загадок Гоголя наи-
более плотной завесой тайны окружены его сердечные дела и, в
первую очередь, его отношения с Нози — Анной Михайловной
Виельгорской. С семьей графа Михаила Юрьевича Виельгорского,
261
богатого и знатного царедворца, Гоголь сблизился после того, как
на его руках скончался единственный сын Михаила Юрьевича
юный Иосиф. Своей горячей любовью и дружеской привязанно-
стью к сыну он растопил даже холодное сердце его матери Луизы
Карловны, урожденной принцессы Бирон, женщины гордой, вы-
сокомерной и крайне разборчивой в знакомствах. С семьей Виель-
горских Гоголя познакомила А. О. Смирнова — смерть единствен-
ного сына, в судьбе которого Гоголь принимал горячее участие,
сблизила их. В 1849 году Нози была еще подростком, гадким утен-
ком, но именно на нее, 15-летнюю девушку, Гоголь, похоже, сразу
«положил глаз». Гоголь часто встречался с Луизой Карловной и ее
дочерьми за границей, находя в них благодарных слушательниц.
Луиза Карловна благоволила занимательному писателю и настоль-
ко доверяла ему, что, отдыхая в Ницце, даже отпускала Нози одну
на прогулки с ним по живописным уголкам прекрасного города.
Связи с семьей Гоголь поддерживал и в периоды отъездов Виель-
горских — состоял в дружеской переписке с Луизой Карловной и
ее дочерьми. После выхода Выбранных мест Нози собирала
для Гоголя отклики на книгу, недоумевая, почему знаменитый пи-
сатель придает им такое большое значение:
Вы это, верно, делаете из смирения. Но... помните, лю-
безный Н. В., что ваше имя и талант обязывают вас быть
самостоятельным и что вы должны иметь некоторое уваже-
ние к самому себе и к званию писателя, важность и высоту
которого вы сами глубоко чувствуете.
Анна Михайловна была некрасива, но умна: ей нравилось
влиять на знаменитого писателя, ему нравилось не только быть
учителем жизни, но и немного попасть под ее опеку.
Скрытность Гоголя, его феноменальная способность уходить
в раковину при малейшей опасности касания к сердечным делам,
невероятная глубина его подсознания, почти талейрановская
хитрость и дипломатическая изворотливость Фуше — все это,
вместе взятое, делало его чувства невразумительными даже для
тех, по отношению к кому они проявлялись.
Роман Гоголя не похож на другие романы, он гоголев-
ский роман: будто бы он был и вместе с тем его не было.
Кажется, есть все свидетельства, и в то же время нет их, ка-
жется, на этот раз был пойман он за руку, схвачен на месте
преступления и опознан — нет, отвертелся, вывернулся,
ушел и такого туману напустил всем в глаза, что, протерши
262
их, еще долго причастные к этой истории спрашивали себя:
а было ли что-нибудь на самом деле или только причуди-
лось?
Даже сама графиня Анна Михайловна Виельгорская, ге-
роиня романа, едва ли смогла ответить, было ли. И с нею,
как с биографами своими, сыграл Гоголь очередную шутку:
на что-то намекнул, о чем-то невзначай проговорился, но,
оставив себе все пути для отступления, ничего не сказал.
Великий писатель, «друг дома» и даже «член семейства», как
называл его Михаил Юрьевич, бывший в коротких отношениях
со всеми великими русскими писателями — Карамзиным, Жу-
ковским, Пушкиным, практически не мог рассчитывать на руку
Нози — для нее это был бы мезальянс. Гоголь интересовал ее как
наставник, старший друг, ей нравилось влиять на знаменитого
поэта, она делилась с ним сердечными тайнами, но...
Однажды Нози призналась Николаю Васильевичу, что встре-
тила человека, с которым могла бы обрести счастье, сказав зага-
дочные, возбудившие надежду слова: «Я хотела бы, чтобы меня
что-нибудь схватило и увлекло; я не имею собственных сил».
Гоголю немедленно пришла мысль «схватить и увлечь» —
привлечь Анолину к своей работе над вторым томом.
Он пишет письмо Анне Михайловне, где излагает про-
грамму ее превращения в «русскую» и сообщает, что хотел
бы начать свои лекции с нею... вторым томом «Мертвых
Душ».
Это свидетельство высшего доверия с его стороны. Го-
голь никогда никого не допускал до неготового, сейчас он
решается на этот шаг, и эта его решимость говорит о край-
ней степени смущения и «испуга».
Роман Гоголя короток — он умещается в полгода. Пол-
года интенсивной переписки, обмена советами, намеками,
запросами, окольными признаниями. Полгода почти пол-
ного отвлечения от труда в пользу настоящей минуты, от-
рыва от «желаний небесных» во имя «желаний земных».
Последнее письмо от нее он получил в Васильевке:
«Наконец Вы в России... Как мы обрадовались этим из-
вестием!.. Приезжайте к нам скорее. Мы вас ожидаем с не-
терпением...»
Может, поэтому он и поспешил в Петербург? Может, ка-
кая-то слепая надежда гнала его?
263
Это действительно было ослепление, мгновенное помутнение,
утрата рассудка. Но любовь всегда ослепление — Анолина нра-
вится ему вопреки его идеалу женщины, вопреки тому, что она
дурна собой. С присущей ему изощренной хитростью Гоголь пы-
тается внушить ей, под видом невинных советов, мысль держать-
ся подальше от великосветских развлечений, а заодно намекнуть,
что она, некрасивая внешне, привлекает лишь тех, кто способен
разглядеть ее внутреннее благородство:
Старайтесь всеми мерами ложиться спать не позже 11
часов. Не танцуйте вовсе, в особенности бешеных танцев:
они приводят кровь в волнение, но правильного движения,
нужного телу, не дают. Да и вам же совсем не к лицу танцы:
ваша фигура не так стройна и легка. Ведь вы нехороши со-
бой. Знаете ли вы это достоверно? Вы бываете хороши толь-
ко тогда, когда в лице вашем появляется благородное дви-
жение; видно, черты лица вашего затем уж так устроены,
чтобы выражать благородство душевное: как скоро же нет у
вас этого выражения, вы становитесь дурны.
Не правда ли, чисто гоголевское выражение чувств, чисто го-
голевская хитрость, чисто гоголевская изощренность?
Бросьте всякие, даже и малые, выезды в свет. Вы видите,
что свет вам ничего не доставил: вы искали в нем душу,
способную отвечать вашей, думали найти человека, с кото-
рым об руку хотели пройти жизнь, и нашли мелочь да по-
шлость.
Еще один глубоко скрытый намек: такая душа есть, но искать
ее следует в ином месте... Нози отвечает: «Я мало выезжаю ны-
нешнюю зиму». Иными словами: прислушалась к вашим советам.
Последующие ее письма носят и вовсе интригующий характер:
Я заключила, что... все идет у вас благополучно и что вы
довольны самим собою. Понимаете, в каком смысле я гово-
рю? [Гоголь понимает: в смысле разведки его настроения,
его отношения к ней.] Ежели мои догадки верны, я готова
вам все простить (?) и даже дозволить вам никому не писать,
что весьма великодушно с моей стороны (?). Одно хотела бы
знать: приедете ли вы в Петербург и в какое именно время?
Я бы очень желала, чтоб мы сошлись вместе в Москве и
чтоб вы были нашим Cicerone.
264
Надеюсь, ваше и мое желание, наконец, исполнится, и...
я сделаюсь русскою. Вы видите, мой Н. В., что со всех сто-
рон меня влечет сделаться русскою... как я ни сопротивля-
юсь этому стремлению.
Возможно, именно эти письма придали нерешительному и
осмотрительному Гоголю храбрости. С одной стороны, даже пре-
даваясь своим мечтам, он понимает химеричность затеянного, с
другой — ведь он мечтатель, а случается, и самые фантастические
предприятия имеют успех.
Но перед нами Гоголь, а Гоголь слишком уж осторожен, чтоб
даже в таком однозначном предприятии, как предложение, идти
напролом.
Н. В. Гоголь — А. М. Виельгорской:
Мне казалось необходимым написать вам хоть часть
моей исповеди... Нужна ли вам, точно, моя исповедь? Вы
взглянете, может быть, холодно на то, что лежит у самого
сердца моего, или с иной точки, и тогда может все пока-
заться в другом виде, и, что писано было затем, чтобы
объяснить дело, может только потемнить его. Скажу вам
из этой исповеди одно только то, что я много выстрадался
с тех пор, как расстался с вами в Петербурге. Изныл всей
душой, и состояние мое так было тяжело, так тяжело, как
я не умею вам сказать. Оно было еще тяжелее от того, что
мне некому было его объяснить, не у кого было испро-
сить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его
поверить, потому что сюда замешались отношения к ва-
шему семейству; все же, что относится до вашего дома,
для меня святыня. Грех вам, если вы станете продолжать
сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными об-
лаками недоразумений. Тут было что-то чудное, и как оно
случилось, я до сих пор не умею вам объяснить. Думаю,
что все случилось от того, что мы еще не довольно друг
друга узнали и на многое очень важное взглянули
легко, по крайней мере, гораздо легче, чем следовало. Вы
бы все меня лучше узнали, если б случилось нам прожить
подольше где-нибудь не праздно, но за делом... Тогда бы
и мне, и вам оказалось видно, чем я должен быть относи-
тельно вас. Чем-нибудь да должен же я быть относительно
вас. Бог недароц сталкивает так чудно людей. Может
265
быть, я должен быть не что другое в отношении вас, как
верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу иму-
щество господина своего. Не сердитесь же. Все же отно-
шения наши не таковы, чтобы глядеть на меня, как на чу-
жого человека.
Мобилизуя весь свой ум, всю свою предприимчивость, всю
свою хохлацкую хитрость, он не просит, а зондирует, разведыва-
ет, прощупывает — слишком велик страх быть отвергнутым, по-
срамленным, освистанным. Он хочет руки Нози, но еще больше
боится скандала. Он полон решимости, но еще больше — страха
посрамления.,
Получить отказ из первых рук было бы для него вели-
чайшим посрамлением. Кроме того, это было бы уже офи-
циальным сватовством, которое невозможно было бы
скрыть. Он же хотел наибольшей секретности. Веневитино-
вы как раз подходили для этой роли. Они были как бы ча-
стью семьи Виельгорских и вместе с тем жили отдельно.
Зная благородство и независимость этой четы, он мог рас-
считывать на сохранение тайны.
Расчетливый Гоголь не рассчитал мощь аристократических
предрассудков: первый писатель России, но почти дворняга, он
никак не может претендовать на руку аристократки. Видимо, он
подсознательно чувствует результат и, чтобы смягчить грядущий
удар, пишет единственное в своей жизни любовное письмо, при-
веденное ранее, в котором в свойственной ему конспиративной
манере оправдывается в «поступке», сущность которого, конечно
же, не раскрывается — просто «дело». Это письмо — отступление
перед отказом, предупреждение гнева, предложение дружбы,
просьба не сердиться за «мутные облака недоразумений» и пока-
яние в безумии. В одном из последующих писем, адресованном
С. М. Соллогубу по окончании «дела», Гоголь так и напишет: «Я
действовал таким образом, как может только действовать в со-
стояньи безумия человек...»
Естественно, Гоголя ждал отказ — столь же тайный, как и
вся его затея. Возможно, он ждал его даже с облегчением —
все-таки определенность, ясность и окончательность. К тому же
он сам не был уверен в собственной любви, между прочим бро-
сив фразу, как бы относящуюся к другому «делу»: «Нервическое
ли это расположение или истинное чувство, я сам не могу ре-
шить».
266
Комментирует И. П. Золотусский:
Был миг, когда он [Гоголь] захотел выйти из кельи, за-
жить той же жизнью, какою живут все, но понял в тот же
миг, что это доля не для него. Оскорбление мечты было не-
поправимым. Он вновь получил «оплеуху», как в истории с
«Выбранными местами». То был удар по его очередной по-
пытке соединить мечту и действительность. ... роман Гого-
ля — это роман в письмах, это форма отношений с женщи-
ной, которую сам Гоголь высмеял в «Записках сумасшедше-
го». Роман в письмах — это роман бумажный, роман Мани-
лова, роман Хлестакова. Впрочем, у Гоголя и Чичиков в
любовных делах способен только на мечту. И все его герои
в любовных делах мечтатели, поэты, неумелые ученики, и
лишь в снах они способны на большее, лишь в опьянении
им видятся некие картины, когда они побеждают, одержи-
вают верх и получают в возлюбленные губернаторских до-
чек или... графинь. То лишь фантастические предположе-
ния насчет любви, а не сама любовь.
Хотя Гоголь и намекает на безумие, мгновенное помутнение, не
было ли «дело» одной из его мистификаций, так сказать, постав-
ленным на себе художественным экспериментом, примериванием
чужого опыта «на себя»? Гоголь был слишком умен, чтобы надея-
ться на руку Нози, и слишком суров, чтобы воспламенеть любо-
вью. Не потому ли в его письмах весны 1850-го, когда завершилась
«история», так много говорится об оскорблениях, которые он на-
нес, и о примирении с оскорбленными? Нет, конечно же, нет! Сре-
ди софизмов и иносказаний, которыми изобилует эпистолярий
этого времени, можно встретить разгадку этой сердечной тайны:
СОН. «То был сон, наваждение, искус поэтической мечты, которая
на этот раз увлекла его слишком в сторону от прямого пути».
Роман был изменой труду, клятвопреступлением по от-
ношению к нему, жертвой «пыли земной». «Моя мерзость»,
«недостоинство мое», — пишет он Н. Н. Шереметевой, —
«моя низость». Он клеймит и поносит себя за это отступле-
нье от своих обязанностей. И в этом осуждении себя прояв-
ляется нравственный максимализм Гоголя. То, что для
обыкновенного человека составляет обыкновенное событие,
для него мерзость и падение.
Семья Виельгорских понимает эзопов язык — аристократиче-
ским чутьем своим понимает все происходящее в сверхчувствите-
267
льной душе поэта. Теперь общая задача — не дать слухам распо-
лзтись, и все же это им не удается. Хотя никаких свидетельств
гоголевского сватовства нет, слухи все же возникли, конспира-
ция не помогла.
И. П. Золотусский:
Уже в начале 1850 года, после того как Гоголь провел не-
сколько недель у А. О. Смирновой и ее мужа в Калуге, он
пишет ей по поводу нового приглашения приехать: «Думаю
даже, не повредил бы чем-нибудь мой приезд; пойдут еще
новые какие-нибудь нелепые слухи». А в мае он почти то же
самое повторяет в письме к матери: «Теперь время лжей и
слухов. И о себе я слышал такие слухи, что волосы могли
бы подняться на голове, если б я ими покрепче смущался...»
Все это, без сомнения, имеет отношение и к А. О. Смир-
новой. Слухи об его увлечении ею распространились в Рос-
сии (преимущественно в Москве) еще до появления Гоголя
здесь. По приезде — когда их встречи с Александрой Оси-
повной возобновились — слухи могли ожить. Поездка Гого-
ля в Калугу тоже работала на них. Но распространительни-
ца этих слухов — Москва — уже успела воочию убедиться,
что фактов никаких нет. Гоголь и Александра Осиповна
успели за это время не раз показаться ей на глаза вдвоем, и
приметливая Москва ничего не заметила.
Разве только до маменьки могло доползти что-то столет-
ней давности, но не из-за одной Александры Осиповны стра-
хуется тут сын. Как ни замаскировано было сватовство, как
ни хладнокровно — в смысле утаения существа происходяще-
го — провел эту операцию Гоголь, он все же не мог рассчиты-
вать на ее полную секретность. Он и Смирновой говорит: вот
видите, ходят слухи и о нас, а ничего ведь нет. Но Александру
Осиповну, пожалуй, труднее всего было провести...
Последнее письмо к Виельгорским — точней, к одной
только Софье Михайловне — написано Гоголем 29 мая 1850
года. «В России мне не следовало заживаться, — пишет
он. — Я «странник», и мое дело — только «временный от-
дых на теплой станции».
Между тем Гоголю нужно было достойно, не утратив располо-
жения могущественных Виельгорских, выходить из конфликта.
Он и здесь проявил свою великую практичность-дипломатич-
ность: через сестру Нози Софью Михайловну Соллогуб прощу-
пывает, может ли рассчитывать на прощение своего безумного
268
поступка; делает вид, что ничего не произошло, уверяет в своих
дружеских чувствах, даже осмеливается предложить свои услуги
при посещении семьей Москвы — для развития «русских» заня-
тий. Получив ответное письмо, он не скрывает охватившей его
радости: это — прощение.
День 22 мая, в который я получил ваше письмо, был
один из радостнейших дней, каких я мог только ожидать в
нынешнее скорбное мое время. Если бы вы видели, в каком
страшном положении была до получения его душа моя, вы
бы это поняли...
В письме Софье Михайловне Гоголь продолжает укорять себя
в «эгоизме» и «жесткости сердца» и одновременно выражает свои
самые дружеские чувства к их семье.
И еще одна подробность из письма С. М. Соллогуб от 24
мая 1849 года важна в нашем романе. Это приписка: «Обни-
мите Веневитиновых. Я их смутил неуместным письмом.
Что ж делать, утопающий хватается за все».
Никакого пояснения этим словам, никакого намека или
обмолвки, объясняющей их смысл, нет более в письме Гого-
ля. Указание на Веневитиновых подтверждает легенду. Ста-
ло быть, и запрос о предложении, вероятней всего, был сде-
лан письменно. И здесь действовало письмо, а не сам автор.
«Вы теперь стали мне все ближе...», «что вы делаете все...
вы все стали ближе моему сердцу... увидимся все вместе...
Бог да сохранит... всех вас...» Такая переориентация с одной
на всех в гоголевском письме не случайна. Надо знать его
характер, чтоб понять, что ни одного слова он не поставит
зря, ни в одном месте невзначай не опишется, а если уж
опишется, то тут же, как птица зазевавшегося червяка, вы-
хватит из черновика неосторожное слово его острый глаз —
и не быть тому слову представленным пред очи читателя.
Впоследствии Анна Михайловна вышла замуж за князя А. И.
Шаховского; ее переписка и отношения с Гоголем прервались...
ВЕРА
Существуют сведения, согласно которым одно время Гоголь
склонялся к католицизму. На это, кроме прямых свидетельств
римских знакомых, указывают и слова самого Гоголя, написан-
269
ные в одном из писем из Рима: «...в одном только Риме молятся,
в других местах показывают только вид, что молятся». В конце
тридцатых годов Гоголь близко сошелся с польскими монахами -
католиками — вряд ли это можно объяснить одним лишь жела-
нием поэта угодить княгине Волконской, одной из многих рус-
ских аристократов, принявших на Западе католицизм. Трудно су-
дить, насколько серьезными были намерения самого Гоголя, но у
меня не вызывает сомнения, что, обладая сверхзоркостью, он не
мог не сравнивать глубину веры католиков и православных, и
трудно себе представить, чтобы вторые в этом отношении выиг-
рывали. Если бы не болезнь, ранняя смерть и влияние отца Мат-
вея, трудно предсказать, к чему пришел бы этот человек, неисто-
во ищущий Бога в своей почти экстатической религиозности.
Временами Гоголь говорит и пишет просто словами протес-
тантов-евангелистов, словами Лютера и Кальвина, Мильтона и
Нокса:
Мы сейчас станем думать о всяких удовольствиях и весе-
лостях, задремлем, забудем, что есть на земле страданья и
несчастья; заплывет телом душа, — и Бог будет забыт. Чело-
век так способен оскотиниться [это уже без пяти минут
Голдинг], что даже страшно желать ему быть в безнуждии и
довольствии. Лучше желать ему спасти свою душу. Это все-
го главней.
В Переписке с друзьями Гоголь — вполне в протес-
тантском духе — требует привести свою душу в соответствие со
своей земной должностью, требует от каждого на своем месте
(центральная мысль книги) соответствовать призванию своему,
установленному небесным законом: «Мы должны быть церковь
наша... На корабле своей должности и службы должен теперь
всяк из нас выноситься из омута, глядя на кормщика небесного».
Фактически Гоголь говорит о том же, о чем многие века тому
назад вещали реформаторы христианства: что церковь омертвела,
что жизнь стала отрицанием Христа, а само восприятие рели-
гии — безжизненным, бездейственным, бесплотным, что челове-
чество устремилось по пути не Бога, но — Сатаны...
И непонятною тоскою уже загорелась земля; черствее и
черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрас-
тает только в виду один исполинский образ скуки, достигая
270
с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила
повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в твоем мире!
Даже отношение Гоголя к монашеству — лютеровское! «Мона-
стырь ваш — Россия!» Монашество — не пустынножительство, не
схима, не вериги, но «зов Божий», высокое право самоотверженно-
го служения людям не в монастырях, а в миру. «Церковь наша есть
жизнь». Не риза чернеца, а служение людям, не созерцательная
монашеская жизнь, а активность, не бегство от жизни, а богоугод-
ная жизнь, возможная только «всем миром, со всеми братьями».
Как некогда Лютеру, Гоголю открылись «исходы и пути». Как
Лютеру и Кальвину, открылась связь религии с жизнью через
«праведное хозяйствование» — гоголевское выражение, как бы
действительно заимствованное из лексикона европейской Рефор-
мации XVI века.
В последний период жизни Гоголь почти полностью сосредо-
точен на построении нового религиозного миросозерцания, слу-
жащего «общему делу». «Праведное хозяйствование» должно
стать программой страны, спасти ее от европейской анархии.
Разница между отцами европейской Реформации и Гоголем
та, что Лютер и Кальвин чувствовали огромную поддержку, а Го-
голь — после шквала обрушившихся на него поношений — ис-
пытал горькое чувство бессилия «реформировать» русскую
жизнь, осознал нереальность реформ на Руси. Не отсюда ли его
сомнения в религиозной ценности всего своего творчества?
Переписка — это «благая мысль» Гоголя, его вопль о Боге,
но вопль не услышанный. Савонарола, Ян Гус, Лютер, Кальвин,
Цвингли подняли города и народы, Гоголь поднял лишь шквал
хулы. Хотя первые двое и сгорели на кострах, Лютер и Кальвин
привели Европу к Реформации, изменили ее облик, заложили
основы современной культуры, говоривший подобные вещи Го-
голь подвергся остракизму...
Грех человека, считает Гоголь, есть измена своему предназна-
чению, причем предназначению не только общему — страны, на-
рода, сословия, звания, профессии, — но, главным образом,
предназначению каждого человека в отдельности. На любом по-
прище — от крестьянина до помещика, от мастерового до губер-
натора — русский человек, «чтобы заслужить царство небесное»,
должен выполнять свое назначенье, предопределенье Божье.
271
Еще сильней лютеровские мотивы выражены во втором томе
Мертвых Душ. Образ Костанжогло — типичное воплощение
экономических идеалов Реформации, символ богоугодного обо-
гащения на нравственной основе. Как писал П. В. Анненков,
«это примирение капитала и аскетизма поставлено, однакоже, на
твердом нравственном фунте...».
О протестантских симпатиях Гоголя свидетельствует его пись-
мо Шевыреву, явившееся реакцией на дошедшие до него слухи о
увлечениях католицизмом:
Твое уподобление меня княгине Волконской относите-
льно религиозных экзальтации, самоуслаждений и устрем-
лений воли Божией лично к себе, равно как и открытие
твое во мне признаков католицизма, мне показались невер-
ными. Что касается до княгини Волконской, то я ее давно
не видал, в душу к ней не заглядывал; притом это дело та-
кого рода, которое может знать в настоящей истине один
Бог; что же касается до католичества, то скажу тебе, что я
пришел ко Христу скорее протестантским, чем католиче-
ским путем.
Княгиня Волконская действительно имела намерение обра-
тить Гоголя в свою веру и даже предприняла значительные уси-
лия для его сближения с католическими монахами-«воскресенца-
ми» П. Семененко и И. Кайсевичем. Однако после того, как кня-
гиня предприняла вероломную попытку обратить в свою веру
умирающего юного Виельгорского, Гоголь охладел к ней — не
потому, что она привела к его любимцу аббата Терье, но потому,
что бесцеремонно и фанатично, вопреки воле умирающего, пы-
талась обратить беспомощного человека в свою веру.
Время от времени с новой силой вспыхивает дискуссия о
«тайной любви» Гоголя, под которой понимается его пристрастие
к костелу. Вот и совсем недавно Владимир Солоухин обратил
внимание на музыкальную тональность, возникающую в текстах
Гоголя при описании «величественной музыки» и духовного сия-
ния католической молитвы.
И тут у Гоголя находятся не только другие слова и другие
краски, но меняется сама тональность, сама музыка повест-
вования. Что же противопоставлено опившемуся и объев-
шемуся, развалившемуся на траве храпящему войску хрис-
тову [имеются в виду православные запорожцы]?
272
Далее следует гоголевское торжественное описание католиче-
ского чуда, увиденного Андреем Бульбой... Гоголь не стал като-
ликом, но не оставил и сомнений в своей близости к «небесной
росе» и костелу. Не будем комментировать — вчитаемся в гого-
левские тексты:
Как религия наша, так и религия католическая, совер-
шенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности
переменять одну на другую. Та и другая — истина; та и дру-
гая признает одного и того же Спасителя нашего, одну и ту
же божественную Премудрость, посетившую некогда нашу
землю, претерпевшую последнее унижение на ней для того,
чтобы возвысить выше нашу душу и устремить ее к небу.
Гоголь, часто посещавший римские костелы, не скрывал сво-
их благоговейных настроений не только в живописаниях Тара-
са Буль бы, но и в письмах своих, повествующих, например,
об одной «из церквей римских, тех прекрасных церквей... где
дышит священный сумрак и где солнце, с вышины овального
купола, как Святой Дух, как вдохновение, посещает середину
их, где две-три молящиеся на коленях фигуры не только не от-
влекаются, но, кажется, дают еще крылья молитве и размышле-
нию». Интересно, есть ли у Гоголя нечто подобное о православ-
ном храме?
Есть и такие свидетельства...
И. Кайсевич:
Познакомились с Гоголем, малороссом, даровитым вели-
корусским писателем, который сразу выказал большую
склонность к католицизму и к Польше...
А. Кочубинский:
Великий русский поэт католиком не стал, но был близок
к «небесной росе»; православия не оставил, но был близок к
искусительному шагу...
Теология Гоголя несет на себе отчетливый отпечаток его мно-
голетнего пребывания на Западе; конечно же, это не православ-
ная система, а скорее все та же протестантская, а точнее, гого-
левская, преломившая западные влияния в душе поэта.
273
Его религиозная система приближается к так называемо-
му учению о предустановленной гармонии. Все в мире име-
ет установленную цель. Разнообразными, иногда чудными
путями Провидение ведет нас к определенной цели — спа-
сению души. Божий Промысл определяет каждому его на-
значение, его задачу, и только исполнив эту службу, чело-
век найдет спасение. Но для того, чтобы понять свое назна-
чение и честно нести свою службу, человек должен внут-
ренним воспитанием и самоуглублением приготовить себя к
восприятию глагола Божия. Все, что совершается с нами, —
радости и печали, несчастия и болезни, все имеет свою
цель, все ниспосылается нам Провидением для нашего ду-
шевного воспитания; средства душевного воспитания — со-
зерцание, самоуглубление, самосознание греховности и не-
достатков наших, крылатая молитва, слезы.
...самое важное дело жизни — дело душевное. Воспита-
ние души — важнейшее из всех дел, а мы погрязаем в по-
шлости и житейских мелочах, а о душе не заботимся. Наша
жизнь не потому скверна, что она плохо устроена, а потому,
что мы сами ничтожны и мерзки душой; эгоистически пре-
давшись своим интересам, мы забыли о душевном деле. Не в
недостатках общественного строя дело — строй хорош, ибо
все на свете устроено разумно, — но мы сами плохи. Стоит
нам сделаться лучше, воспитать свою душу, понять свое на-
значение и честно его исполнять, и все устроится, жизнен-
ная машина пойдет правильным и величественным ходом.
В Переписке Гоголь ни много ни мало открывал путь к
Богу, с неистовством и запалом богоискателя требовал следовать
за ним. «Он первый заговорил о Боге не отвлеченно, не созерца-
тельно, не догматически, а жизненно, действенно — так, как еще
никто никогда не говорил в русском светском обществе».
Мне ставят в вину, что я говорил о Боге... Что ж делать,
если говорится о Боге?.. Что ж делать, если наступает такое
время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда и
камни готовы завопить о Боге?.. Нет, умники не смутят ме-
ня тем, что я недостоин, и не мое дело и не имею права:
всяк из нас до единого имеет это право.
Это — голос пророка, а не писателя. Это голос творца новой
религии, а не поэта. Это голос вестника, реформатора религии,
отца церкви.
274
Он почувствовал до смертной боли и смертного ужаса,
что христианство для современного человечества все еще
остается чем-то сказанным, но не сделанным, обещанным,
но не исполненным. «Церковь, — говорит он, — созданную
для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь». — «Хри-
стиане!.. Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы,
на место того, чтобы призвать его в домы, под родную кры-
шу свою, и думают, что они христиане».
Почти никто и никогда не обращал внимания на уникальный
факт не-реформируемости православия. После крещения Руси,
насколько мне известно, лишь однажды Никон попытался сме-
нить двуперстие — трех.... Что из этого вышло? Пошли гулять са-
мосожжения по Руси. Никому уж не сосчитать, сколько «по-
движников веры» себя с женами своими и малыми детьми сгуби-
ли, сотни тысяч, миллионы? Сколько неистовых Аввакумов вста-
ло, дабы «держать и не пущать»?
Гоголь был далеко не Лютером и не Кальвином, да и «рефор-
мация» его была ближе к «Домострою» и даже к аввакумовскому
обскурантизму, чем к протестантству, но вон как все взвились...
вон как каменьев потребовали... А ведь не на церковь даже за-
махнулся, не на Русь святую...
Отчего же всколыхнулась Россия? Чем ей Гоголь не угодил?
Не этими же словами? — «Лучше ли мы других народов? Ближе
ли жизнью ко Христу, чем они? — Никого мы не лучше, а в жиз-
ни еще неустроенней и беспорядочней всех их. Хуже мы всех
прочих — вот что мы должны всегда говорить о себе».
Нет, не Лютером и не Кальвином был Гоголь, не радикально-
го изменения требовал, не от «русской идеи» отрывался — куда
там! даже в самобичевании верно служил ей: «У нас прежде, не-
жели во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресе-
ние Христово!» Но не нужны нам пророки, говорящие: «Хуже мы
всех прочих», даже если они и обещают сделать лучше всех...
Лютер и Кальвин действовали, вербовали сторонников, рефор-
мировали, радикально меняли, Гоголь уповал на чудо: «Церковь
может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы». Похо-
же, он сам и не подозревал о том, что в XV—XVII веках происхо-
дило в Европе, во всяком случае, ни он сам, ни понимающие его
замыслы современники не оставили свидетельств такого понима-
ния — понимания сути Реформации и протестантизма в Европе.
275
Н. В. Гоголь:
Если бы я вам рассказал то, что я знаю, тогда бы пому-
тились ваши мысли, и вы подумали бы, как бы убежать из
России. Но куда бежать? — вот вопрос. Европе пришлось
еще труднее, нежели России. Разница в том, что там никто
еще этого вполне не видит.
И. С. Аксаков утверждал, что духовными исканиями своими
Гоголь стремился разрешить задачу «исполински-страшную»,
«которой не разрешили все 1847 лет христианства». Я не хочу
сказать, что европейская Реформация «разрешила» все раз и на-
всегда, но не узреть ее даже как попытку приближения к Богу —
вот чисто русский феномен...
С одной стороны, вполне в духе Реформации, Гоголь говорит
о святости плоти, о необходимости «очистительного огня», о еди-
нении христианства и просвещения, но с другой — «жить в Боге
значит уже жить вне самого тела, а это невозможно на земле, ибо
тело с нами». Само реформаторство его половинчатое, непосле-
довательное, домостроевское...
Просветить не значит научить, или наставить, или обра-
зовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить че-
ловека, во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю
природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово
это взято из нашей церкви: «Свет Христов просвещает
всех!»
Гоголь не противополагает ни христианства просвещению,
как славянофилы, ни просвещение — христианству, как западни-
ки, комментирует Д. С. Мережковский, — он соединяет эти «два
начала» в одно. Гоголь, с такою силою, как никто другой, чувст-
вует, что первая и последняя сущность христианства — не мрак,
а свет, не отрицание, а утверждение мира, не распятие, а воскре-
сение плоти, не бесплотная святость, а святая плоть.
Но — рядом:
Чтобы отселе в ваших глазах как бы вовсе не существо-
вало вас самих.
Позабудьте о себе, как бы вас и не было вовсе на свете.
276
Берегитесь всего страстного, берегитесь даже в Божест-
венное внести что-нибудь страстное. Совершенного небес-
ного бесстрастия требует от нас Бог, и в нем только дает уз-
нать Себя.
Я ни во что теперь не верю и, если встречаю что пре-
красное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на
него. От него несет мне запахом могилы.
Радостью своей мы можем только оскорбить Бога; не та-
кое время, чтобы кому-либо теперь радоваться.
С одной стороны, Праздник Светлого Воскресения, «весеннее
дыхание», «всезвонные колокола» в солнечно-светлом храме гря-
дущего христианства, с другой — «мрак монастыря», никакой ра-
дости, никакой свободы: «Свету далеко до небесных истин хрис-
тианства. Он их испугается, как мрачного монастыря»; «Бог хо-
чет нас заставить насильно вспомнить о том, что нужно повести
другую жизнь, насильно хочет нас спасти».
Или Бог, или зверь, — но не Богочеловек. Вместо святой
плоти — бесплотная святость. Дух есть отрицание плоти,
Бог — отрицание мира. Не отрицание для утверждения, а
голое отрицание. «Вечная жизнь перед временной — то же,
что все перед ничто».
В протестантизме — освящение плоти, труда, земной жизни,
которая — лакмусова бумажка богоизбранности человека, реша-
ющее звено в жизни вечной, в «реформаторстве» Гоголя — уход
от мира сего, отказ, нирвана.
Некогда Гоголь верил, что «есть страсти, которых избра-
ние не от человека... Высшими начертаниями они ведутся,
и есть в них что-то вечное, зовущее, неумолкающее во всю
жизнь... Все равно, в мрачном ли образе или пронеслись
светлым явлением — одинаково вызваны они для неведомо-
го человеком блага...» В них «мудрость небес»; в них какая-
то божественная «тайна».
Когда Гоголь это писал, он понимал, почему страдания
Самого Господа названы «страстями», понимал, что здесь не
одно совпадение слов. Теперь для него страсть значит грех,
бесстрастие — святость... Некогда христианство было для не-
го величайшим деланием, новым героизмом, «богатырст-
вом». Теперь становится оно величайшим буддийским «неде-
ланием», отречением от мира, бездейственным созерцанием.
277
С одной стороны, призывы к просвещению, к воскресению, к
свету истины, с другой — в этом позор Гоголя — защита крепост-
ничества и идеал Домостроя:
В идеалах «Домостроя» слышна возможность основания
гражданского на чистейших законах христианства.
С одной стороны, Великая Русь, с другой — терпимость к
рабству, произволу, насилию. Или действительно, показывая
«животную глупость мужиков и патриархальную бестолковость
хозяев, он тем самым выносит приговор общественному строю
России»? Но если мужики глупы, а хозяева бестолковы, откуда
взяться величию?..
С одной стороны, «религия наша и католическая совершенно
одно и то же», с другой — «в Европе ничего сделать невозможно.
Она [религия] обольется кровью, изнеможет в напрасных боре-
ниях и ничего не успеет. В России может этому дать начало вся-
кий генерал-губернатор... и так просто...» Или еще: «Нигде нель-
зя говорить так свободно правду, как у нас».
«Никого мы не лучше», — пишет Гоголь, но тут же добавляет,
что «нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сосло-
вья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые
поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей...»
Отрицая славянофилов, он — в традициях великорусского
шовинизма — отрицает право славянских народов на националь-
ные языки — это-то фольклорист, столь ярко писавший малорос-
сийские нравы и столь сильно любивший национальную песен-
ную культуру.
Ох уж эта бессмертная «русская идея», никуда от нее не спря-
таться, никуда не убежать:
Патриархальностью жизни своей и простым образом об-
ращения со всеми он [наш генерал-губернатор] может выве-
сти вон моду с ее пустыми этикетами и укрепит те русские
обычаи, которые в самом деле хороши и могут быть приме-
нены с пользой к нынешнему быту.
Так же как на водворение обычаев, может подействовать
генерал-губернатор и на законное водворение Церкви в ны-
278
нешнюю жизнь русского человека: во-первых, примером
собственной жизни, и во-вторых, самими мерами...
Потрясающе! Это пишет тот же человек, что подвергал само-
му жесточайшему, самому сатирическому осмеянию всю Рос-
сию — сверху донизу, человек, совсем недавно предостерегав-
ший: «Вы очень односторонни... Не будьте похожи на тех свято-
шей, которые желали бы разом уничтожить все, что ни есть на
свете, видя во всем одно бесовское...»
Вот они, спасители, домостроевцы русские, преображенные
чудом Сквозняки-Дмухановские... «Христос научит вас, — пишет
Гоголь одному из них, — будьте отец истинный всем».
Если бы Чичиков сошел с ума и обратился в христианст-
во, он придумал бы что-то подобное.
Гора родила мышь. Начал гладью, кончил гадью. От хле-
стаковской «легкости» — к чичиковской «основательности».
«Размахнулся Хлестаковым», обернулся Чичиковым. Вместо
громового удара звонкая на всю Россию «оплеуха самому
себе». Не столько исполинское «страшилище», сколько ис-
полинская карикатура. Не лик Христов, а как в письме су-
масшедшего Кириллова в «Бесах» Достоевского — какая-то
«рожа с высунутым языком», едва ли не рожа самого «черта
без маски».
Есть какая-то трагическая закономерность в том, что, когда
великие русские начинают проповедовать, они становятся безна-
дежными утопистами-икарийцами, а предсказания их лопаются,
как мыльные пузыри. Так случилось с Гоголем, так — позднее —
с Достоевским и Толстым1.
...он стал говорить, что наконец бросят города и станут
жить в деревнях, что бросят такие покойные мебели, кото-
рые купили для здоровья, и полюбят простоту. Если он бу-
дет себе делать мебели, то сделает их деревянные.
Гражданин Фурье, ау...
Д. С. Мережковский, кажется, в первый (и последний!) раз
поднял вопрос о взаимоотношении Гоголя и русской церкви. На
1 См. моего Неизвестного Толстого и Многоликого Досто-
евского.
279
самом деле — это гораздо более широкий вопрос — об отноше-
нии православия к русскому Гению — Пушкину, Гоголю, Досто-
евскому, Толстому, Соловьеву.
Гораздо менее понятно отношение церкви к Гоголю, ес-
ли вообще тут было какое-либо отношение, так как, собст-
венно говоря, церковь не приняла и не отвергла, она просто
не заметила Гоголя (как и прочих великих, кого не отлучи-
ла), — то есть, не заметила, может быть, самого главного,
что произошло за последние два века ее существования.
Почему же не заметила? Преосвященный Григорий, епископ
Калужский, стоило зайти речи о гоголевском богословии Пе-
реписки, со свойственным ему добродушием бросил: «Э, пол-
ноте, какой он богослов! Он просто сбившийся с истинного пути
пустослов!» Не только Григорий пренебрежительно относился к
человеку, призывавшему денно и нощно молиться о спасении
Русской земли: «Исправи молитву и дай ему силу помолиться у
Гроба Святого о кровных своих, о всех людях земли нашей, о ее
мирном времени, о примирении всего в ней враждующего и не-
годующего, о водворении в ней любви и воцарении в ней Твоего
царствия, Боже!»
Церковь отвергла Гоголя, как отвергло его государство, за од-
но и то же — за непотребные слова: «Будьте не мертвые, живые
души». Как и государство, церковь приняла эти слова, как поще-
чину себе, и правильно приняла, ибо что же это за церковь, ко-
торая за столько веков не оживила душ человеческих...
«Будьте не мертвые, живые души» — это последний завет
Гоголя всем нам, не только русскому обществу, но и рус-
ской церкви.
Что же нам делать, чтобы исполнить этот завет? Одни
говорят: нельзя быть живым, не отрекшись от Христа. Дру-
гие: нельзя быть христианином, не отрекшись от жизни.
Или жизнь без Христа, или христианство без жизни.*
Гоголю на вопрос этот церковь ничего не ответила. Мо-
жет быть, тогда еще не исполнились времена и сроки. Но
теперь они исполняются.
Пусть же церковь ответит. Мы спрашиваем.
Почти никто не обратил внимания на редкость духовников в
русской литературе. Не только церковь отвергла великих писате-
280
лей, но и писатели — даже религиозные, богоищущие — отверга-
ли такую церковь. Интерес Гоголя к оптинским старцам возник
лишь в последние годы его жизни, в период катарсиса, очище-
ния. Собрать всех своих героев у исповеди в конце Мертвых
Душ, представить священника как «спасителя» — такого больше
не встретишь в русском романе. При всей важности Зосимы в
Братьях Карамазовых он занимает в романе далеко не
центральное и не самое важное место.
Гоголь не был религиозным фанатиком, его вера глубоко вы-
страдана, «через горнило мучений» пропущена. Какой честно-
стью, какой откровенностью надо обладать, чтобы в разгар рели-
гиозных исканий признаться:
Когда я начинаю молиться, то в мыслях у меня бывает
холодно так без любви и одушевления, что в иное время
становится страшно.
Признаю Христа Богочеловеком только потому, что так
велит мне мой ум, а не вера... Но веры у меня нет.
Религиозный экстаз, приписанный Переписке с друзь-
ями, всегда жил в Гоголе. В письмах двадцатилетнего молодого
человека, отправляемых из Петербурга в Васильевку, хорошо
слышны не только риторические нотки наставника, но и вопли
экзорциста, изгоняющего бесов: «Дух гордости овладел вами, и
сам сатана подсказывает вам такие речи, потому что и наиопыт-
нейший и наиумнейший человек делает ошибки» (из письма Го-
голя матери). Позже, умудренный, он ту же мысль выразит шире
и значительней: «Христианство дает многосторонность уму», а
«односторонний человек самоуверен, односторонний человек
дерзок, всех вооружает против себя».
Был ли Гоголь мистиком? Несомненно! Однако мистицизм
созревал в нем постепенно, креп по мере того, как им все больше
овладевала идея призвания, вестничества, провозвестничества.
П. В. Анненков — М. М. Стасюлевичу:
Я все держусь, — и не без причины, — того мнения, что
в первую пору своего развития был совсем свободным [от
мистицизма] человеком, искусно пробивавшим себе дорогу,
а то, что кажется в нем порывами в иной мир, чем действи-
тельный, должно считать не более, как маленьким, невин-
281
ным плутовством, отводившим глаза и потешавшим людей
иначе настроенных, чем он. Мистическим субъектом он
сделался вполне только тогда, когда успехи его внушили
ему идею об особенном его призвании на Руси, не просто
литературном, а реформаторском. Тогда он и заговорил с
друзьями языком ветхозаветного пророка.
Мистицизм Гоголя связан не только с верой в свое высокое
предназначение, не только с «порывами в иной мир», но с упова-
нием на провидение, с «направлением пути»: «Все, что ни дела-
лось со мною, все было спасительно для меня. Все оскорбления,
все неприятности посылались мне высоким провидением на мое
воспитание, и ныне я чувствую, что не земная воля направляет
путь мой. Он, верно, необходим для меня».
Очищение было необходимо Гоголю не столько для избавле-
ния от мнимых или реальных грехов, сколько для исполнения
функции небес, загадки собственного существования:
Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа
моя, и тогда только я приду в силы начать... великое попри-
ще, тогда только разрешится загадка моего существования.
В глубине его личности, на самом дне души происходит неви-
димый процесс этого очищения, приближения к небу, подъема
по лестнице Иакова...
Скажу только, что с каждым днем и часом становится
светлей и торжественней в душе моей, что не без цели и зна-
ченья были мои поездки, удаленья и отлученья от мира, что
совершалось незримо в них воспитанье души моей... что чи-
ще и торжественней льются душевные мои слезы и что жи-
вет в душе моей глубокая, неотразимая вера, что небесная
сила поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит
мне, хотя я стою еще на нижайших и первых ее ступенях.
Такие чувства переживает Гоголь в редкие периоды вдохнове-
ния, творческого подъема, как правило, сменяемые депрессиями
и чувствами совсем иного рода, греховности и бессилья.
И. Д. Ермаков:
С покаянной мыслью творит он — очищается нравствен-
но, но получается иной раз карикатура, а не исповедь.
282
И это потому, что у него все расстроено внутри. Малейший
повод — и он все видит и развивает в самых страшных при-
зраках. Призраки эти мучают до того, что не дают ему спать
и совершенно истощают силы.
Итак, Гоголь всю жизнь ищет самостоятельности и все
время... меняет свои стремления в различные периоды жиз-
ни: то он чиновник, то писатель, то подвижник. Он утверж-
дает, что Бог относится к нему как-то особенно, и в то же
время у него нет никакой веры, он только умом постигает
Бога; он борется со своим эротизмом, похотью и выставляет
на всенародные очи; он стремится показать, обнажить свою
душу и в то же время скрытен, замкнут, таинственен, он
ищет свободы, — и всегда оказывается во власти кого-либо;
он ищет объективности, собирает материал из самой жиз-
ни, — и все его образы глубоко субъективны, являясь собст-
венным его зеркалом; он думает о душе, о моральном — и
все его персонажи совершенно лишены всякой нравствен-
ной ценности, совсем лишены души, это — в полном смыс-
ле мертвые души. Он ищет спасения души и находит грех.
РУСЬ! РУСЬ! ВИЖУ ТЕБЯ...
Ничего не вижу, вижу какие-то
свиные рыла вместо лиц, а больше
ничего.
Н. В. Гоголь
На зеркало неча пенять, коли
рожа крива.
Пословица
У Гоголя есть замечательное словосочетание «прообразующий
смысл». Так вот, именно он, прообразующий смысл его произве-
дений, почему-то удивительным образом ускользал от публики и
критики, медленно, но верно убивая Николая Васильевича.
В чем же он?
На Руси всегда было изобилие доброхотов и народолюб-
цев — не оттого ли довели ее до скотства? А вот Гоголь добро-
хотом не был. Не оттого ли все смеялись и никто не желал по-
нять?
283
Все мы наслышаны о «героях нашего времени», столетия бо-
жимся то Печориным, то Рахметовым, то Островским. А вот двух
подлинных русских героев, рожденных нашими просторами, —
Хлестакова и Чичикова — в «герои нашего времени» зачислять
не спешим. А ведь всю историю нашу не Печорины творили —
Чичиковы и Хлестаковы. Все революции, все «египетские тьмы»,
все «страхи и ужасы России». А мертвыми душами по сей день
торгуем — миллионами душ, отданными за идеи все тех же Хлес-
таковых и Чичиковых.
Это не два противоположные конца и начала, не две бе-
зумные, но все-таки частные крайности, а две бесчестные,
потому что слишком благоразумные середины, две одинако-
вые плоскости и пошлости нашего века.
Два главных героя Гоголя — Хлестаков и Чичиков — суть
два современные русские лица, две ипостаси вечного и все-
мирного зла — «бессмертной пошлости людской». — По сло-
ву Пушкина: То были двух бесов изображенья.
Почти никто из исследователей не обратил внимания на синте-
тичность Хлестакова, на всеохватность этого образа: он и литера-
турой существует, и с Пушкиным приятельствует, и один раз даже
управлял департаментом, его сам государственный совет боится,
его завтра же произведут в фельдмарш... Он везде, везде.
А ведь то, что Хлестаковы везде, везде — это ключевая мысль
Гоголя: Хлестаковы действительно и в литературе (увы, и с Пуш-
киным приятельствуют), и русскими департаментами заправля-
ют, их и государственный совет, из них же состоящий, боится, и
в марш... производят. Причем никто, никто, как на спектакле, не
смеется — везде, везде все всерьез...
Хуже того, Хлестаковы больше всего народу русскому импо-
нируют, с ними так и легко, и ясно, к тому же — «рубахи-парни».
Он сокращает всякую мысль до последней степени крат-
кости, облегчает ее до последней степени легкости, отбра-
сывает ее конец и начало, оставляя одну лишь бесконечно
малую, самую серединную точку — и то, что было верши-
ною горного кряжа, становится пылинкою, носимою вет-
ром по большой дороге. Нет такого благородного чувства,
такой глубокой мысли, которые не могли бы, стершись, вы-
284
ветрившись, благодаря этому хлестаковскому гению сокра-
щения, облегчения, сделаться серою пылью.
Не потому ли марксизм-ленинизм подыскал себе наилучшую
почву на черноземах России, что страна была населена господа-
ми Хлестаковыми? Даже Чичиковы не помешали...
Сознавал ли «русскость» хлестаковщины сам Гоголь? Конечно
сознавал!
Соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа
при одном только предслышании загробного величия... Сто-
нет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возраста-
ния и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозре-
вая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...
Конечно же сознавал! Свидетельство тому — фраза из черно-
вой редакции Театрального разъезда, относящаяся к го-
роду Ревизора, самим автором определенному как «сборный
город всей темной стороны».
Одним из первых Гоголь постиг «принцип противоестествен-
ного отбора», движущий Россией, определяющий ее «эволю-
цию»: потому-то моральные нормы и поставлены с ног на голо-
ву, потому-то недостойные и значительней, и счастливее досто-
йных: «Пискарев и Пирогов — какой контраст!.. Один в могиле,
другой доволен и счастлив...»
Успех выпадает на долю людей типа Хлестакова, у кото-
рого нет ни ума, ни хитрости, ни даже внушительной фигу-
ры. Его «сила» — лишь в «лиризме хвастни и безоглядности»
(Ап. Григорьев), а больше всего — в полнейшей непредна-
меренности поступков, в аморфности воли и психики.
Даже предприимчивость наша не европейская — чичиковская,
а всякая иная заведомо обречена на провал, о чем также сделан
намек в Ревизоре. В России все происходит наоборот, хочет
сказать Гоголь, весь мир стремится — пусть в корыстных, мер-
кантильных интересах — поднабраться работников, Чичиковы
«скупают» мертвые души, таков наш «бизнес»...
Даже лица наши — в соответствии с хоровым началом — стер-
ты, похожи, хареобразны. И отличаются не умом, а иерархиче-
ским рангом...
285
Вспоминая крылатую (и надо сказать, затертую) фразу
Баратынского «Лица необщим выраженьем», приходишь к
выводу, что в гоголевском художественном мире лицо
обычно фигурирует в противоположной функции — стерто-
сти, похожести. Перед нами — «лица общее выраженье».
Подобно тому, как в житейском плане единственным от-
личием лица у Гоголя является объем, масса, так в плане
административном главным признаком лица становится
место в чиновничьей иерархии: ниже или выше. Все осталь-
ное опускается или подчинено этому моменту.
Даже ложь Хлестакова — чисто русская, бесцельная, бесхит-
ростная, бессмысленная, необязательная. Необязательность —
типично русская черта, русское обещание — самое ненадежное в
мире, такова же и русская ложь, о которой так много говорили
Гоголь и Достоевский.
Ложь Хлестакова имеет нечто общее с творческим вы-
мыслом художника. Он опьяняет себя мечтою до полного
самозабвения. Меньше всего думает о реальных целях, вы-
годах. Это ложь бескорыстная — ложь для лжи, искусство
для искусства. Ему в эту минуту ничего не надо от слушате-
лей: только бы поверили. Он лжет невинно, бесхитростно и
первый сам себе верит, сам себя обманывает — в этом тайна
его обаяния.
Мне кажется, что Ревизор потому мало известен Западу, что
Запад его просто не воспринимает: «легкость в мыслях необыкно-
венная» — явление довольно распространенное, но вот следствия
этой легкости, отсутствие границ между жизнью и фантазией, ис-
тиной и ложью, легкость перехода через «все черты и пределы»,
бессмысленность лжи, наскок, поверхностное усваивание исто-
рии, революционный через нее перескок — все это наше, наше...
Величайшие мысли человечества, которые давят его це-
лые века своей тяжестью, попадая в голову Хлестакова, ста-
новятся вдруг легче пуха.
Вот уж на что Аввакум Петров несовместим с Хлестаковым,
но и у того...
Коль много лет мнози философи еллинстии [греческие]
събирали и составливали грамоту греческую и едва уставили
286
мноземи труды и многыми времены едва сложили; перьмь-
скую же грамоту един чрьнець сложил, един составил, един
счинил, един калогер, един мних, един инок, Стефан глаго-
лю, приснопомнимый епископ, един в едино время, а не по
многа времени и лета...
Впрочем, есть кое-что и от гречества — кинизм, освобожде-
ние от нравственных уз, вседозволенность.
Языческая мудрость, принцип: «Жизнью пользуйся, жи-
вущий!» — сокращается у Хлестакова в изречение новой по-
ложительной мудрости: «Ведь на то живешь, чтобы
срывать цветы удовольствия». Как просто, как
общедоступно! Это освобождение от всех нравственных уз
не превратится ли впоследствии в карамазовское: «Нет до-
бра и зла, все позволено»?
Вот эту-то легкость перехода из хлестаковщины в карамазов-
щину, а оттуда к большевистскому бесовству почему-то никто не
проследил. Эту связь между легкостью «совершенно невинной
лжи», лжи без цели и умысла и коммунистическими обещаниями
никто не исследовал... Между тем между «милейшим» и «добрей-
шим» Хлестаковым и русскими бесами не столь велика разни-
ца — из одного русского характера выползли...
Между тем не кто иной, как сам Гоголь, предостерегал от
опасности «легкости необыкновенной». В Заметках на лос-
кутках нахожу:
Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокая сокрыта
в том тайна. — Не ужасное ли это явление — жизнь без
подпоры прочной? не страшно ли великое она явление?
Так — слепа...
Д. С. Мережковский:
Русская культура — это повелось еще с Петра — срывает
со всемирной только хлестаковские «цветы удовольствия»,
снимает с нее только лакомую пенку или накипь: плоды вы-
сшего западноевропейского просвещения проникают в Рос-
сию вместе с прочим «галантерейным товаром», наравне с
«голландскими рубашками» и «особым сортом французско-
го мыла, которое сообщает необыкновенную белизну и све-
жесть»... Из всемирной культуры выбирает Чичиков то, что
287
нужно ему, а все прочее, слишком глубокое и высокое, с та-
кою же гениальною легкостью, как Хлестаков, сводит к
двум измерениям, облегчает, сокращает, расплющивает до
последней степени плоскости и краткости.
По мнению Д. С. Мережковского, ключ к пониманию Ре-
визора — Россия, русская действительность, ее бесконечная
ширь и... мертвенность.
Цензура, индекс запрещенных книг, лакировка жизни, охрана
граждан от «тлетворных влияний» появились в России отнюдь не
с большевиками — все это элементы «русской идеи», носителем
и страдальцем которой был сам Гоголь. Уже он знал, что такое
внутренний цензор, еще больше — что такое цензор внешний,
правительственный...
Ценсор профессор Никитенко:
Прочитав статью, назначенную для напечатания в «Биб-
лиотеке для чтения» под названием «Кровавый бандурист»,
глава из романа, я нашел в ней как многие выражения, так
и самый предмет, в нравственном смысле, неприличным.
Это картина страданий и унижения человеческого, напи-
санная совершенно в духе новейшей французской школы,
отвратительная, возбуждающая не сострадание и даже не
ужас эстетический, а просто омерзение. Посему, имея в ви-
ду распоряжение Высшего Начальства о воспрещении но-
вейших французских романов и повестей, я тем менее могу
согласиться на пропуск русского сочинения, написанного в
их тоне.
Рабство, крепостничество, подавление личности, шпицрутены
омерзения у русской профессуры не вызывали, сострадания не
возбуждали; французские романы, «картина страданий и униже-
ния человеческого» ставили их в стойку...
Об этом мало кто знает, но «делу врачей» сталинской эпохи
предшествовали дела и похуже. При жизни Гоголя, во время эпи-
демии холеры летом 1831-го, народ вытаскивал врачей, не имев-
ших средств остановить эпидемию, из их квартир и с криками
«отравители!» вершил расправу на месте...
Не потому ли Б. Л. Пастернак говорил: «Нам, русским, всегда
было легче выносить и свергать татарское иго, воевать, болеть
чумой, чем жить»?..
288
Хотя я считаю, что понять каждого великого художника
можно лишь исходя из него самого, понять русского творца вне
связи со страной почти невозможно. Аввакумовщина, хлыстов-
щина, пугачевщина, романовщина, скуратовщина не могли не
сказаться на нашем архетипе, на разгуле стихии. Как писал
И. Бунин, Русь классическая страна буяна. Даже Н. Чернышев-
ский не мог скрыть того, что «мы во все вносим идею произво-
ла... мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного ре-
шения».
Русский народ самый покорный из всех, когда им сурово
повелевают; но он не способен управлять сам собою... Он
нуждается в повелителе...
В России была не только самая могущественная бюрократия,
но и самый лучший сыск, а секретность и подозрительность про-
низывали не только высшие эшелоны власти, но и народ, обла-
дающий сильно развитым чувством вездесущего врага. Между
тем недоверие к другим людям, деление на «наших» и «не-на-
ших», враждебность к миру, «фамилизм» — доверие и привязан-
ность прежде всего к кровнородственным связям, фатализм, не-
приятие реалий мира, утопичность сознания, преобладание мас-
сы над личностью, первобытности над культурой — все это черты
архетипа цивилизаций, так и не вставших на путь нормального,
демократического развития.
Нигилизм, отрицание, ожесточенность, завистливость — каче-
ства, присущие черни, смердам, плебсу, были, к несчастью, все-
гда свойственны русской интеллигенции. Не оттого ли у великих
русских всегда рано или поздно появлялось желание «пасти на-
род», вести за собой, указывать путь, что им хотелось «завоевать»
народ, увести его от чужих «тлетворных влияний»?
Отношение Гоголя к собственной стране полностью раскрыто
в одном из его писем Погодину, обожженном горечью утраты
А. С. Пушкина и потому предельно правдивом:
Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? не для то-
го ли, чтоб повторить вечную участь поэтов на родине?
Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого сборища на-
ших просвещенных невежд? или я не знаю, что такое со-
ветники, начиная от титулярного до действительных тай-
ных?
289
Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные не-
беса, мир, богатый искусством и человеком; но разве перо
мое принялось описывать предметы, могущие поразить вся-
кого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непре-
одолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяр-
кий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространст-
ва предпочел я небесам лучшим, приветливее глядевшим на
меня. И я после этого могу не любить своей отчизны? Но
ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса
людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пако-
стить, — нет, слуга покорный! В чужой земле я готов все пе-
ренести, готов нищенски протянуть руку, если дойдет до
этого дело; но в своей — никогда!
А вот строки из других писем Гоголя:
Не житье на Руси людям прекрасным; одни только сви-
ньи там живущи!..
И прекрасное должно было погибнуть, как гибнет все
прекрасное у нас на Руси.
...и какое странное мое существование в России! какой
тяжелый сон! о, когда б скорей проснуться!
(Из Вены) Тяжесть, которая жала мое сердце во все пре-
бывание в России, наконец как будто свалилась, хотя не
вся, но частичка. И то слава Богу.
...на Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что
невтерпеж мне пришлось глядеть на них. Даже теперь пле-
вать хочется, когда об них вспомню.
Н. В. Гоголь — А. А. Иванову:
...русские лишены от природы база, на котором можно
было бы все безопасно ставить и строить.
Н. В. Гоголь — М. А. Максимовичу:
Если б ты знал, как тягостно мое существование здесь, в
моем отечестве. Жду и не дождусь весны и поры ехать в мой
Рим, в мой рай, где я почувствую вновь свежесть и силы,
охладевающие здесь.
290
Н. В. Гоголь — А. О. Смирновой:
Гаже всех ведут себя наши соотечественники и соотече-
ственницы.
Переписка с друзьями изобилует многочисленными
зарисовками русских злоупотреблений и лихоимств: «...Россия,
точно, несчастна... несчастна от грабительства и неправды, кото-
рые до такой наглости еще не возносили рог свой...»; «неразум-
ная наша торопливость во всех делах»; «исполинские», ужасаю-
щие плоды нашей деятельности, «которых семена мы сеяли в
жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них по-
дымутся»; «право, у нас душа человеческая все равно, что паре-
ная репа» и т. д., и т. п.
«Мы трупы», — писал Гоголь, мы «выгнали на улицу Христа»:
«Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядоч-
ней». Вокруг — всеобщее омертвление, сон, «черт путаницы». «С
каждым годом, с каждым месяцем разрываются более и более
узы, связывающие меня с нашим холодным отечеством!..»
Россия для Гоголя — «родной омут», большой «лазарет», «бо-
льница», где «веселое мигом обратится в печальное», где все «бе-
рут» и где опасно не столько не брать, сколько зарываться:
«Смотри! не по чину берешь!», где все скрывают свои «рожи», пе-
няя на «зеркало»...
...теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонаме-
ренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор
выставили свою физиономию под публичную оплеуху, оты-
щется разве каких-нибудь два-три человека, да и те уже го-
ворят теперь о добродетели.
Гоголь много писал о патриотизме, но из всего, что он напи-
сал, мне больше всего импонируют строки, отнюдь не случайно
попавшие в Записки сумасшедшего:
А вот эти все чиновные отцы... вот эти все, что юлят во
все стороны и лезут ко двору и говорят, что они патриоты и
то и се: аренды, аренды хотят эти патриоты! Мать, отца, Бо-
га продадут за деньги, честолюбцы, христопродавцы!
Не кто иной, как Гоголь, прокричал эти самые страшные сло-
ва из когда-либо сказанных русским: «...Вымерло все, как бы в
291
самом деле обитают не живые, а какие-то мертвые души». И еще:
«Соотечественники! страшно...»
Да, народ у Гоголя не герой Мертвых Душ, а сами эти
мертвые души — оттого и страшно... Селифан — вот образ наро-
да у Гоголя, вот его «момент истины». Даже в краткий миг, отпу-
щенный ему для земной жизни, он только и занят почесыванием
в затылке. Потому-то перед нами раздраенная, сонная, обшар-
панная Россия с вечно чинимыми мостами...
И еще. Будучи вне партий, водя дружбу с Аксаковыми, Гоголь
как-то в сердцах бросил в адрес славянофилов: «После их похвал
только плюнешь на Россию». Понимал, видать, что за древо
взрастет на этой несчастной земле из посеянных семян самовоз-
величивания и народопоклонства...
Удивительно, но я нигде не встречал параллели между образа-
ми Гоголя и великих художников прошлого: Босха, Брейгеля,
Гойи. Между тем галерея Капричос вполне родственна луч-
шим иллюстрациям Мертвых Душ. Как писал сам Гоголь,
«что ни рожа, то уж, верно, на другую не похожа».
В. В. Гиппиус:
Рисунок Гоголя достигает... карикатурности, у него еще
небывалой; он откровенно рисует не лица, а рожи, причем
рожи человеческие переходят в звериные...
Если хотите, Гоголь — русский Свифт, познавший страшную
опасность слова, смеха, насмешки:
Стоит передо мною человек, который смеется над всем,
что ни есть у нас... Нет, это не осмеяние пороков: это от-
вратительная насмешка над Россиею.
Д. С. Мережковский:
Он видел, что «со смехом шутить нельзя». — «То, над
чем я смеялся, становилось печальным». Можно бы приба-
вить: становилось страшным. Он чувствовал, что самый
смех его страшен, что сила этого смеха приподымает какие-
то последние покровы, обнажает какую-то последнюю тай-
ну зла.
292
К Гоголю в полной мере относится то, что князь И. С. Гага-
рин и философ В. С. Соловьев говорили о Тютчеве: он «очень тя-
готился Петербургом и только и мечтал о возможности вернуться
за границу»; для него «Россия была не столько предметом любви,
сколько веры».
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Вот только незадача: веря в Россию, оба — Тютчев и Гоголь —
признавались, что у них «не тоска по родине, а тоска по чужби-
не», что в Россию ездят «поднабраться злости».
Сам он неоднократно признавался, что, живя за границею, его
тошнит по России, а не успев приехать в Россию, — от России.
Рим был для Гоголя «родиной души своей»:
Если бы вы знали, с какою радостью я бросил Швейца-
рию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию!
Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня. Я родился
здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, ка-
федра, театр — все это мне снилось. Я проснулся опять на
родине. Как будто с целью всемогущая рука провидения
бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл
о горе, о людях, о всем, и весь впился в ее роскошные кра-
сы. Она заменила мне все.
Пел ли Гоголь подобные гимны своей настоящей родине?
О Рим! Рим! Чья рука вырвет меня отсюда?
Кроме Рима, нет Рима на свете, хотел было сказать —
счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и радость.
О, мой Рим! Прекрасный мой, чудесный Рим! Несчаст-
лив тот, кто два месяца расстался с тобой и счастлив тот,
для которого эти два месяца прошли, и он на возвратном
пути к тебе!
Гоголь поэтичен и возвышен, когда описывает Италию, и ста-
новится напыщенным, переполненным пафоса, переходя к Рос-
сии.
293
Комментирует П. В. Анненков:
Он был влюблен в свое воззрение на Рим, да тут же дей-
ствовал отчасти и малороссийский элемент, всегда охотно
обращенный к тому, что носит печать стародавнего или его
напоминает.
Под воззрение свое на Рим Гоголь начинал подводить в
эту эпоху и свои суждения вообще о предметах нравствен-
ного свойства, свой образ мысли и, наконец, жизнь свою.
Мало кто обращал внимание на странный факт: почти все ве-
ликие русские, клянясь в преданности родине, коленопреклоня-
ясь перед народом, сбегали творить за границу или, за неимени-
ем такой возможности, при каждом подходящем случае, когда не
боялись быть услышанными, кляли ее. Трудно усомниться в го-
голевском патриотизме, но вот ведь как:
Когда я увидел во второй раз Рим, мне казалось, что я
увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а
в которой жили только мои мысли. Но, нет, это все не то:
не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа
моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет.
Подобные признания у Гоголя не редкость, наоборот, ими
пронизаны почти все его письма из Италии.
Но если есть где на свете место, где страдания, горе,
утраты и собственное бессилие может позабыться, то это
разве в одном только Риме. Здесь только тревоги не власт-
ны и не касаются души. Что бы было со мною в другом ме-
сте!
Тяжело очутиться стариком в лета, еще принадлежащие
юности, ужасно найти в себе пепел вместо пламени и услы-
шать бессилие восторга. Соберите в кучу всех несчастливцев
и выберите между ними несчастнее всех, и этот несчастли-
вец будет счастливцем в сравнении с тем, кому обрекла су-
дьба подобное состояние... Душа моя, лишившись всего,
что возвышает ее (ужасная утрата!), сохранила одну только
печальную способность чувствовать это свое состояние...
Теперь вообразите: над этим человеком, не знаю почему,
сжалилось великое милосердие Бога и бросило его (за что,
294
право, не знаю, ничего достойного не сделал он), — броси-
ло его в страну, в рай, где не мучат его невыносимые ду-
шевные упреки, где душу его обняло спокойствие чистое,
как то небо, которое его теперь окружает и о котором ему
снились сны на севере во время поэтических грез, где в за-
мену того бурного, силящегося ежеминутно вырваться из
груди фонтана поэзии, который он носил в себе на севере и
который иссох, он увидел поэзию не в себе, а вокруг себя, в
небесах, солнце, прозрачном воздухе и во всем, тихую, не-
сущую забвение мукам.
Отношение к России во многом проявляется у Гоголя через
его отношение к Петербургу, к городу, к урбанизации вообще.
Если для героев Бальзака город воплощает волю, энер-
гию, страсть, то у Гоголя вместо бальзаковской любви к Па-
рижу мы находим ярко выраженную ненависть к Петербур-
гу... Если у Диккенса позитивные ценности заключаются в
индивидуальной сфере, часто в семье, которая представляет
как бы остров в мире городского отчуждения, то у Гоголя,
напротив, в городской жизни нет никакого, даже самого
приблизительного идеала.
Тема города тесно связана у Гоголя с темой разлада меж-
ду мечтой и действительностью...
Носитель «русской идеи», Гоголь сознательно пел Русь-трой-
ку, пряча свое бессознательное к ней отношение в теме Петер-
бурга, через «проклятый город» выражая дно своей души...
Но не только: Гоголь — типичный ретрист, руссоист, для ко-
торого земной рай не впереди, а позади. Его ненависть к Петер-
бургу — желание «возвратить все на свое место», восстановить на
Руси ее исконно патриархальный быт, преданья старины глубо-
кой. Беда Руси, считал Гоголь, не в рабстве, не в крепостничест-
ве, не в отсутствии свободы — только в «прогрессе», западниче-
стве, урбанизации в широком смысле слова.
Когда вся Россия гневалась и плевалась, реагируя на «паск-
виль» де Кюстина Россия в 1839 году, Гоголь работал над
своей Шинелью, произведением еще более обличительным и
к тому же художественным — повествующем о страхе, безнадеж-
ности и унижении человека. То, о чем де Кюстин писал прямо,
Гоголь изображал иносказательно, срываясь, порой, до прямых
295
обличений: «так уж на святой Руси все заражено подражанием,
всякий дразнит и корчит своего начальника». Просто удивитель-
но, что почти никто в XIX веке не обратил внимания на почти
текстуальные совпадения между «пасквилем» иностранца, столь
возмутившим всю русскую интеллигенцию, и художествами
«своего», прикрывшего обличения «шинелью»...
При всем том, как прочие русские духовидцы, Гоголь считал
европейские пути заказанными для России. Не исключено, что
его напугали европейские революции, к которым он относился
не иначе как к бесовству и дьявольщине. Его письма после 1848
года изобилуют резкими осуждениями «совершенного разложе-
ния общества» и «возмутительных событий, отнимающих мир и
тишину, необходимых для дела». Революция, считал Гоголь, раз-
рушительна и разъединяет людей.
Гоголь был убежден, что «русский мир составляет отдельную
сферу, имеющую свои законы, о которых в Европе не имеют по-
нятия». В высшей степени показательна инвектива Гоголя, бро-
шенная в разговоре с П. В. Анненковым в 1846 году:
Вот начали бояться у нас европейской неурядицы —
пролетариата... думают, как из мужиков сделать немецких
фермеров... А к чему это?.. Можно ли разделить мужика с
землею?.. Какое же тут пролетариатство? Вы ведь подумай-
те, что мужик наш плачет от радости, увидев землю свою;
некоторые ложатся на землю и целуют ее, как любовницу.
Это что-нибудь да значит?.. Об этом-то и надо поразмыс-
лить.
Размышляя об этом сегодня, можно заключить, что ошиба-
лись наши вестники: мужик больше не плачет от радости и не
целует землю свою. Что до «неурядиц»-революций, то по крова-
вости русской нет ей равной в тысячелетней истории человече-
ства...
Гоголь на застал революции в Европе: когда буря разразилась,
он уже находился дома, в России. Но писатель предугадал ее, он
предсказал, как дорого она обойдется народу, он предупредил, во
что всегда обходится «героический порыв». Своей Перепис-
кой — как затем своими Бесами Достоевский — он хотел убе-
речь от этого ужаса и безумия Россию.
Зло внутри человека и только там, те же, кто ищет его извне...
296
Скорбью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по
всем струнам... вызовет нам нашу Россию — нашу русскую
Россию, не ту, которую показывают нам грубо какие-ни-
будь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам
из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую изв-
лечет она из нас же...
Этот резкий выпад против Герцена не был верноподданниче-
ством — это была позиция, глубокое убеждение, противостояние
«нечистой силе», это было почвенничество, консерватизм, почти
ницшеанский отказ государству, где будут «править портные и
ремесленники», это было одно из самых ранних предвидений,
которое не сбылось...
И в этом Гоголь также оказался ровней другому европейскому
духовидцу и своему современнику, тоже Несчастнейшему, как
называл себя Киркегор...
Не оттого ли, с одной стороны, народопоклонство, поток лес-
ти в адрес «народного величия», а с другой — барственное напле-
вательское отношение к черни. Не случайно у Гоголя авторское
отступление после описания Петрушки и Селифана: автор «весь-
ма совестится занимать так долго читателей людьми низкого
класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими
сословиями».
Таков уже русский человек, заключает Гоголь, страсть
сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был
его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем
для него лучше всяких тесных дружеских отношений.
Гоголя небезосновательно обвиняли в том, что к концу жизни
он любил коллекционировать знатных и богатых друзей. Но раз-
ве эта человеческая слабость не присуща большинству великих?
Разве Достоевский не дружил с Победоносцевым, а Руссо не ис-
кал пристанища у своих вельможных покровителей? Это не отно-
сится к Толстому, но не потому ли, что он принадлежал к рус-
ской знати, сам был графом?..
Увы, нам не дано проникнуть в подсознание Гоголя, но мы
можем попытаться реконструировать то, что скрывается за его
словами. Вглядитесь повнимательнее: с одной стороны, земля —
некий утопический рог изобилия, источник даровых благ и лета-
ющих вареников (неоскудевающие помещичьи имения, картина
297
хлебной пристани и фомадного «хлебного арсенала» в седьмой
главе Мертвых Душ), с другой — байбаки или механические
куклы, произведенные этой землей. Имел ли в виду Гоголь, что
такая земля родит таких людей или нет, но беспристрастный
читатель не может не вынести гоголевские уроки о великих про-
сторах, рождающих мелкие или мертвые души...
В сознании: Россия — «фад новый, спускающийся с неба на
землю», в подсознании: хари да рожи, Чичиковы да Хлестаковы...
Начиная с Вечеров, Гоголь будет часто возвращаться к те-
ме родины, России. В первой книге его родина — высшее доб-
ро, безродность же — зло. Но родина здесь — дом, семья, близ-
кие люди. Правда, позже, во второй редакции Тараса Буль-
бы, переполненный пафосом, Гоголь осудит
Андрея, для которого «отчизна есть то, чего
ищет душа наша», но даже в Тарасе Бульбе рас-
суждения о родине диалогичны: когда Тарас возмущается, что
его соратник не убил предателя-сына, он слышит в ответ: «За
что же убить? Он перешел по доброй воле... Там ему лучше, ту-
да и перешел».
У Гоголя мы найдем много прекрасных, возвышенных слов о
любви к родине, о России — монастыре, для которого нужно
«умертвить всего себя для себя», о беззаветности и даже безответ-
ности любви... Но мало кто обратил внимание, что это за любовь
для самого Гоголя? Это — любовь-страдание и сострадание, лю-
бовь-боль души, любовь-крик душевной болезни, любовь-отча-
ние и любовь-тоска... Родину только так и можно любить — как
Гоголь, как Христос — падшего человека... Всякая иная любовь к
родине — безумие, насилие, кровь...
А. Блок полагал, что родина для Гоголя — виденье, сон. Чу-
десное виденье, творческий сон... С одной стороны, глухая моги-
ла повсюду, с другой — свист ветра и полет бешеной тройки...
Там сверкнуло чудесное видение. Как перед весною раз-
рываются иногда влажные тучи, открывая особенно круп-
ные, точно новорожденные и омытые звезды, так разорва-
лась перед Гоголем непроницаемая завеса дней его мучени-
ческой жизни; а с нею вместе — завеса вековых российских
буден; открылась омытая весенней влагой синяя бездна,
«незнакомая земле даль», будущая Россия. Точь-в-точь как
298
в «Страшной мести»: «За Киевом показалось неслыханное
чудо: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали
засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бы-
валые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря,
и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Гали-
ческая». Еще дальше — Карпаты, «с которых век не сходит
снег, и тучи пристают и ночуют там».
Такая Россия явилась только в красоте, как в сказке,
зримая духовным очам. Вслед за Гоголем снится она и нам.
В полете на воссоединение с целым, в музыке мирового
оркестра, в звоне струн и бубенцов, в свисте ветра, в визге
скрипок — родилось дитя Гоголя. Этого ребенка назвал он
Россией. Она глядит на нас из синей бездны будущего и зо-
вет туда. Во что она вырастет, — не знаем; как назовем
ее, — не знаем.
Чем безлюдней, чем зеленее кладбище, тем громче песня
соловья в березовых ветвях над могилами. Все кончается,
только музыка не умирает. «Если же и музыка нас покинет,
что будет тогда с нашим миром?» — спрашивал «украин-
ский соловей» Гоголь.
Ни жизнь в Европе, ни попытка реформаторства, ни соедине-
ние «двух начал» — плоти и духа, Просвещения и христианст-
ва — не освободили Гоголя от служения «русской идее».
Праздник Светлого Воскресения воспразднуется как сле-
дует, прежде у нас, нежели у других народов... Мечта ли
это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому,
кроме русского? Что значит, в самом деле, что самый празд-
ник исчез, а видимые призраки его так ясно носятся по ли-
цу земли нашей: раздаются слова: Христос воскрес! и поце-
луй, и всякий раз так же торжественно выступает святая
полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и гудят по
всей земле, точно как бы будят нас. Где носятся так очевид-
но призраки, там не даром носятся; где будят, там разбу-
дят... И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль,
выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Вну-
шением Божиим порождаются они разом в сердцах многих
людей, друг друга не видавших, живущих в разных концах
земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются.
Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его не
299
знаю, твердо верит тому и говорит: у нас прежде, нежели во
всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресение
Христово!
Удивительно, что даже этот пафос последних строк Пере-
писки не отвратил громов и молний, выпущенных на эту уни-
кальную, единственную в своем роде книгу...
Почти все, что позже скажет Достоевский о «всемирности», в
зачатке уже содержалось у Гоголя: «Что нам французы и весь за-
морский люд? Разве мало у нас нашего народа?»
Способность русского человека воспринять упрек-обод-
рение обусловлена его национальной «природой», ибо Рос-
сия «сильнее других слышит божью руку на всем, что ни
сбывается в ней, и чует приближенье иного царствия».
То же — о соборности. К. Мочульский:
Гоголь не хочет индивидуального спасения души; тоскуя
по созерцательной монашеской жизни, он ни на минуту не
соблазняется мыслью о бегстве из мира. Спасаться можно
только всем миром, со всеми братьями.
Прожив значительную часть жизни за границей, Гоголь так и
не избавился ни от русского менталитета, ни от русской ксено-
фобии. Почти во всех иностранцах он видел или врагов или
«низших»: «На немцев гляжу как на необходимых насекомых во
всякой русской избе».
П. В. Анненков:
Отрицание Франции было у него так невозвратно и ре-
шительно, что при всех спорах по этому предмету он терял
обычную свою осторожность и осмотрительность, и ясно
обнаруживал не совсем точное знание фактов и идей, кото-
рые затрагивал.
Немцы были для него неизменно педантами, «снимающими
плеву со всякой дряни», французы — неженками, не выдержива-
ющими русских ухабов и слишком влюбленными в русский ко-
шелек, к тому же занятыми «пустейшими задачами»...
Даже всего Фауста Гете Гоголь ставил ниже одной пушкин-
ской сцены из Фауста... «Германия, — писал Гоголь, — есть не
300
что другое, как самая неблаговонная отрыжка гадчайшего табаку
и мерзейшего пива». Даже пиво, видите ли, — мерзейшее.
П. В. Анненков:
Намек на то, что европейская цивилизация может еще
ожидать от Франции важных услуг, не раз имел силу приво-
дить невозмутимого Гоголя в некоторое раздражение.
Однажды за обедом, в присутствии А. А. Иванова, разго-
вор наш нечаянно попал на предмет, всегда вызывавший
споры: речь зашла именно о пустоте всех задач, поставляе-
мых французами в жизни, искусстве и философии. Гоголь
говорил резко, деспотически, отрывисто. Ради честности,
необходимой даже в застольной беседе, я принужден был
невольно указать на несколько фактов, значение и важность
которых для цивилизации вообще признаваемы всеми.
Он не любил уже в то время французской литературы, да
не имел большой симпатии и к самому народу за «моду, ко-
торую они ввели в Европе», как он говорил: «быстро созда-
вать и тотчас же, по-детски, разрушать авторитеты».
Не случайно в бричку Чичикова впряжен Бонапарт, к тому же
проклятый, не император — просто француз.
Упреждая Достоевского, Гоголь в «доброй русской традиции»
дал самые отрицательные характеристики почти всем европей-
цам:
Да, немец вообще не очень приятен; но ничего нельзя
себе представить неприятнее немца-ловеласа, немца-любез-
ника, который хочет нравиться; тогда может он дойти до
страшных нелепостей.
Досталось и американцам:
А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина. Человек
в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит.
Гоголь отказывал европейцам не только в глубоких мыслях
(«везде намеки на мысли, и нет самих мыслей»), но практически
во всем — не тот образ жизни, не те бородки, не та одежда, даже
стрижка — не та.
301
Хотя причины неприятия Запада большинством русских гени-
ев никогда не исследовались, можно полагать, что дело тут не в
одном менталитете: Европа никогда не хотела знать русских ге-
ниев, и они платили ей той же монетой. Надежды на Россию —
это прежде всего надежды на признание Россией, ибо надежд на
признание Западом не было. Показательно, что признание Запа-
дом, как правило, быстро вылечивало русских гениев от неприяз-
ни к нему...
А. Белый:
Любит Гоголь Россию, страну свою; как любовник любимую,
ее любит Гоголь: «Русь! Чего ты хочешь от меня! Ка-
кая непостижимая связь таится между нами?»
(«Мертвые Души»). Какую-то не ведомую никому Россию любит
Гоголь: любит Гоголь Россию странной любовью: она для него —
как для колдуна дочь его, Катерина; над ней колдует Гоголь:
«Что глядишь ты так?.. Неестественной властью
осветились мои очи»... Что за тон, что за ревнивая власт-
ность — Гоголь заклинает Россию; она для него — образ всю
жизнь неведомый ему, и все же его любовницы. Не той ли же
властью светятся очи Гоголя, какой осветились очи старика-отца
в «Страшной мести»: «Чуден показался ей (Катерине, или
России?) странный блеск очей»... «Посмотри, как я
поглядываю очами», — говорит колдун, являясь во сне
дочери. «Посмотри, как я поглядываю на тебя оча-
ми», — как бы говорит Гоголь, являясь нам во сне русской жиз-
ни (русская жизнь — самый удивительный сон): «Сны много
говорят правды» («Страшная месть»). И какою-то вещей,
едва уловимой во сне правдой обращается Гоголь к спящей
еще досель земле русской. «Русь!.. Но какая же непостижимая
тайная сила влечет к тебе?.. Какая непостижимая связь таится
между нами?.. Неестественной властью осветились мои очи...»
Непостижимо, неестественно связан с Россией Гоголь, быть мо-
жет, более всех писателей русских, и не с прошлой вовсе Россией
он связан, а с Россией сегодняшнего, и еще более завтрашнего
дня.
Не мистерией любви разрешается экстаз Гоголя, а дикой
пляской; не в любви, а в пляске безумия преображается
все: подлинно — в заколдованном месте Гоголь: «и пошел...
вывертывать ногами по всему гладкому месту, ничего... во-
302
круг провалы; под ногами круча без дна; над головой све-
силась гора... из-за нее мигает какая-то харя» («Заколдован-
ное место»).
Заколдованное место — любимая, бескрайняя страна...
Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного да-
лека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не
развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, вен-
чанные дерзкими дивами искусства, города с многооконны-
ми высокими дворцами, вросшими в утесы, картонные де-
рева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли
водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на гро-
моздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глы-
бы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные
арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и не-
сметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них
вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные,
ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как
точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невы-
сокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора.
Но — вполне в гоголевском духе, оказывается, что это лишь
преамбула к объяснению в любви. Правда, — кажется, этого ни-
кто не заметил, — Гоголь всегда поэтичен, описывая Италию, и
всегда напыщен и полон пафоса, когда переходит к России...
Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе
ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без
конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где
развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня мо-
гучее пространство, страшною силою отразясь во глубине
моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая
сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..
И еще: в подсознании Гоголя, еще недостаточно исследован-
ном, мысли о России соседствуют с мыслями о посланниках са-
таны.
Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка
несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мос-
ты, все отстает и остается позади... Русь, куда ж несешься
ты? дай ответ. Не дает ответа...
303
Комментарий В. В. Набокова:
Как бы прекрасно ни звучало это финальное крещендо,
со стилистической точки зрения оно всего лишь скорого-
ворка фокусника, отвлекающего внимание зрителей, чтобы
дать исчезнуть предмету, а предмет в данном случае — Чи-
чиков.
Трудно сказать, что меня больше всего восхищает в этом
знаменитом взрыве красноречия, который завершает пер-
вую часть, — волшебство ли его поэзии или волшебство со-
всем другого рода, ибо перед Гоголем стояла двойная зада-
ча: позволить Чичикову избегнуть справедливой кары при
помощи бегства и в то же время отвлечь внимание читателя
от куда более неприятного вывода — никакая кара в преде-
лах человеческого закона не может настигнуть посланника
сатаны, спешащего домой, в ад.
Ад России Гоголь прикрывал сладкоголосным пением, пафо-
сом лжи...
Кстати, о лжи. Нет ни одного крупного русского писателя, не
задумавшегося об этом «русском» феномене: нет у нас человека,
не умеющего лгать, писал Достоевский. Хотя Гоголь по этому
поводу высказался как бы противоположным образом, контекст
только подтверждает тотальность лжи, пораженность ложью всех
социальных тканей:
Вообще у нас актеры совсем не умеют лгать. Они вооб-
ражают, что лгать значит просто нести болтовню. Лгать зна-
чит говорить ложь тоном так близким к истине, так естест-
венно, так наивно, как можно только говорить одну истину;
и здесь-то заключается именно все комическое лжи.
Гоголь прекрасно понимал, что подавать ложь как правду —
национальная черта, еще плохо усвоенная актерами, «играющи-
ми» ложь, тогда как ее следует не играть — в ней надо «жить»...
В. Солоухин:
...с одной стороны, «О, Русь, птица-тройка», с другой —
одни хари да рожи. Чего стоят имена русских и малорос-
ских людей во всех почти произведениях Гоголя. Все эти
башмачкины, довгочхуны, товстогубы, пошлепкины, держи-
304
морды, люлюковы, уховертовы, яичницы, хевакины, соба-
кевичи, кирдяги, козолупы, бородавкины, сквозники-дму-
хановские... Чего стоит описание русского губернского бала
и сравнение его с мухами, слетевшимися на сахар, да и
многое, многое другое.
А. Воронский:
Двойная Русь: она до тоски убога, прозаична, неподвиж-
на, темна, грязна — и она чудодейна, сказочна, она — в по-
лете, несется неведомо куда, но в прекрасную даль.
Гоголевская тройка летит ниоткуда в никуда, из одной неиз-
вестности в другую, из безмыслия в безумие... Бессмысленно да-
же задавать вопросы, куда и зачем — стране и писателю важен
лишь этот полет со свистом ветра, а не его цель...
Почему почти через все творчество Гоголя проходит тема бес-
конечных российских пространств, мчащейся тройки, бесконеч-
ной дали. Почему у Андрея Белого возникла эта ассоциация —
«чувство безысходной тоски», с которым Гоголь воспринимает
эти пространства?
Отвечает Д. С. Мережковский:
Герой «Шинели», Акакий Акакиевич, точно так же, как
Хлестаков, только не при жизни, а после смерти своей, ста-
новится призраком — мертвецом, который у Калинкина мо-
ста пугает прохожих и стаскивает с них шинели. И герой
«Записок сумасшедшего» становится лицом фантастиче-
ским, призрачным — «королем испанским Фердинан-
дом VIII». У всех троих исходная точка одна и та же: это —
мелкие петербургские чиновники, обезличенные клеточки
огромного государственного тела, бесконечно малые дроби
великого целого. Из этой-то исходной точки — почти со-
вершенного поглощения живой человеческой личности
мертвым безличным целым — устремляются они в пустоту,
в пространство, и описывают три различные, но одинаково
чудовищные параболы: один — во лжи, другой — в безумии,
третий — в суеверной легенде.
Государство росло, народ хирел. Чем необъятнее становились
пространства, тем более пустой — русская жизнь...
305
Я уже несколько раз свидетельствовал о проницательности
русских цензоров гоголевской эпохи. Еще один — последний —
пример. Когда Гоголь умер, цензор В. И. Кулешов в своем отзы-
ве на один из некрологов на смерть поэта писал:
Если он охвачен был предчувствием великих судеб, ожи-
дающих Русь, то для чего же было ему страдать и каким об-
разом он мог сделаться мучеником возвышенной мысли о
Руси? Как согласить неразрешимую задачу, которая поло-
жила Гоголя в гроб, с предчувствием великих судеб, ожида-
ющих Русь?
Пожалуй, в !этих вопросах — все ответы... И еще: Гоголь дей-
ствительно символ России — его дороги ведут в никуда...
ТВОРЧЕСТВО
ХУДОЖНИК
Нечеловеческие муки Гоголя
отразились в нечеловеческих обра-
зах; а образы эти вызвали в творче-
стве Гоголя нечеловеческую работу
над формой.
Быть может, Ницше и Гоголь —
величайшие стилисты всего евро-
пейского искусства, если под сти-
лем разуметь не слог только, а от-
ражение в форме жизненного рит-
ма души.
А. Белый
Художник — это первооткрыватель, первопроходец. Цель ис-
кусства — торить пути, находить новые средства, все больше уг-
лубляться в суть бытия. Хотя Гоголь известен в мире меньше,
чем Достоевский или Толстой, пионером, первопроходцем был
именно он.
Бросим взгляд на его творчество в целом, и тогда мы
увидим, что он был предтечей если не всех, так очень мно-
гих современных литературных направлений.
Разве «Шинель» не предшествует современному реализ-
му и даже крайнему его выражению — неореализму?
А что такое современный мистицизм? Это — «Вий» и
«Портрет».
Кафке предшествовал «Нос».
Карелу Чапеку — «Ревизор».
Школе исторического романтизма в ее современном ви-
де — «Тарас Бульба». Это — отнюдь не рыцарский роман,
но в то же время это подлинный романтизм.
Художественно-социологическим исследованиям пред-
шествовали — «Мертвые Души».
307
Художественному бытописанию — «Старосветские поме-
щики» и «Коляска»...
Детектив? Это — «Игроки».
Водевиль? Это — «Женитьба».
Эссе? Это — «Выбранные места из переписки», «Театра-
льный разъезд»...
Кажется, я не преувеличу, пишет С. Залыгин, если ска-
жу, что ни один писатель за всю историю существования
художественной литературы не угадал столько путей, столь-
ко возможностей, заложенных в литературе, сколько Го-
голь.
...природа гоголевского гения — это открытие как тако-
вое, а не истолкование и объяснение открытий.
Главный секрет приоритетов Гоголя — мощь его субъективно-
сти, распахнутость бессознательного. Пушкин называл Гоголя
«бессознательным обманщиком», но он был бессознательным
нарциссом, пристально всматривающимся в себя, любящим «зер-
кало», в котором видны его отражения.
Великий писатель не может унести загадки творчества в моги-
лу, оставляя само это творчество. Ибо творчество — раскрытие
психики, в нем — отражение подсознания писателя. Если хотите,
все самые значительные произведения Гоголя — увеличительные
стекла, через которые можно разглядеть его внутренний мир, его
страхи и болезни, его странности и фобии. Все его персонажи
что-то коллекционируют, кем-то притворяются, кому-то лгут,
все с большими странностями, у них «движение незамеченных
насекомых» (не отсюда ли Грегор Замза?).
Стремясь к действительности, реальности, он оставался фан-
тастом, мечтателем, деформатором, экспрессионистом, художни-
ком не внешней правды, а внутренней, следовательно, главной.
Эллис:
Страшно делается, когда... попытаешься глубже загля-
нуть в душу этого загадочного, страшного, чудовищно
страшного чародея. Не всегда ли спасение нисходило к лю-
дям, не всегда ли иной мир убаюкивал мятежные души, не
всегда ли венец искупления озарял гениев-отрицателей, из-
лучаясь с этих двух, только двух небес, — божественной
308
женственности и непорочного, беспечального дет-
ства? А вот о них-то и молчал равнодушно и таинственно
Гоголь!.. И страшная кара сгущалась над этим его молчани-
ем во все время его жизни. Невольно хочется воскликнуть:
где высокие образы, где до конца прекрасные звуки в твор-
честве того гения, который так много, и так горячо, и так
проникновенно говорил о божественной миссии писателя,
о его страшной ответственности перед Самим Творцом, о
«святом труде» писательства? Почему нехудожественным
языком говорил он о Небе и о «Красоте Небесной», а худо-
жественно воспроизводил только обратное, земное или дья-
вольское? Где хоть один идеальный, над землею парящий
образ? Где цельность прекрасного стиля, если «красавицы»
его «с лилейными плечами», с «мраморной шеей» «лущат
подсолнухи», если его «щеголеватые парубки» сверкают
«огненными очами», а любовный певец с «огненными оча-
ми» вдруг оказывается... «Голопупенков сын»? И не рыцари
живут, любят и умирают у него, а «лыцари», и «огненные
щеки» и ланиты у него приурочены к сварливым бабищам,
то и дело желающим, «чтоб ты подавился, негодный бур-
лак», «чтоб твоего батьку горшком в голову!», а бранности
эти именуются «мятежными речами»; не странно ли, что
«шум, брань, мычание, блеяние, рев» и ругательства срав-
нивает Гоголь с «чудными звуками» водопада?.. О чем же
мечтают его чернобровые красавицы, его Ганны и Пара-
ски?.. О медных крестах, да оловянных серьгах, а их удово-
льствие — глазеть, «как пьяный жид дает бабе киселя»; де-
монический образ воплощен им в фигуру ярмарочного жу-
лика-цыгана, однако^ раскрашенного под лубок, ибо «мол-
нии предприятий и умыслов» озаряют его «очи». Даже сви-
ная морда и та «с очами»... А над всем этим миром, полу-
романтическим, полулубочным, царят вульгарные до ужаса
фигуры Хавроний Никифоровн да дьяков Фом Григорьеви-
чей! Так и ждешь, что сам творец этого совершенного
уродства, наконец, воскликнет: «Скучно на этом све-
те, господа!»
Анненский считал высшим типом произведений искусства та-
кие, где автор отражен и в своих непосредственных чувствах, и в
«отстраненных» от эмоций и оценок мыслях. Отсутствие у Гоголя
дистанции между писателем и его героями, по Алненскому, ста-
ло причиной не только творческого бессилия, но и болезни авто-
ра Мертвых Душ.
309
Гоголь не только испугался глубокого смысла выведен-
ных им типов, но, главное, он почувствовал, что никуда от
них уйти не может. Не может потому, что они — это он. Эта
пошлость своею возведенностью в перл создания точно ис-
сушила его душу, выпив из нее живительные соки.
Анненскому же принадлежит очень глубокая мысль о пере-
вернутости прекрасного^ его некрасивой внутренней сущности:
«Алмазные слова поэта прикрывают иногда самые грязные жела-
ния, самые крохотные страстишки, самую страшную память о
падении, об оскорблениях». Мир Гоголя — двойной: «алмазные
слова» авторской речи прикрывают сажу его героев, правду жиз-
ни, о которой менее великие и менее глубокие поэты предпочи-
тали умалчивать. На пути от Руссо к Джойсу необходим был Го-
голь...
Выдающаяся черта Гоголя-художника — виртуозное самосо-
знание, глубочайшее понимание целей творчества, собственного
новаторства, самоистоков глубинного реализма:
Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в меч-
тах воображения.
Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю
моих мерзостей... Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню
их, и в этом мне поможет Бог.
В Выбранных местах Гоголь следующим образом ха-
рактеризует «дело жизни»:
Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в обла-
сти литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть
то, о котором прежде всего должен подумать всякий чело-
век, не только один я. Дело мое — душа и прочное
дело жизни. А потому и образ действий моих должен
быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем то-
ропиться; пусть их торопятся другие. Жгу, когда нужно
жечь, и, верно, поступаю, как нужно, потому что без молит-
вы не приступаю ни к чему.
Н. В. Гоголь — А. П. Толченову:
Но хорошо вы делаете, что любите искусство, служа ему.
Оно только тому и дается, кто любит его. Искусство требует
310
всего человека. Живописец, музыкант, писатель, актер —
должны вполне, безраздельно отдаваться искусству, чтобы
значить в нем что-нибудь...
Это руководство к действию Гоголь реализовал своей жизнью.
Результат? — Результат налицо:
...жизнь Гоголя-человека, несмотря на свою краткость, а,
может быть, и в силу именно этого, словно в малой капле,
отразила судьбу искусства: его яркое, радостное и уверенное
появление на свет, его глубокую и глубочайшую зрелость, и,
наконец, ту его трагедию, к которой глубина нередко при-
водит. Приводит уже не в силу событий внешних, а собы-
тий человеческой души.
Кстати, еще В. Майков разглядел многослойность гоголевских
образов, обратив внимание на такое их устройство, когда сквозь
верхнюю краску просвечивает «бездна других красок», сообщаю-
щих изображаемому лицу глубину и прозрачность. За внешним
«черно-белым» Гоголем скрывается Гоголь внутренний — цвет-
ной, многоцветный.
Согласно давно сложившейся традиции Гоголя редко причис-
ляют к мастерам психологического анализа. Хотя анализ как та-
ковой ему действительно не свойствен, он с огромным мастерст-
вом раскрывает внутренний мир своих героев, прибегая к своим,
отличным от Достоевского, средствам и приемам, получившим
позже название «психологии без психологии». Даже врачи-пси-
хиатры, например И. А. Сикорский, отмечали психологическое
чутье Гоголя и глубину его проникновения во внутренний мир
человека, «какая стала достоянием науки лишь в самое последнее
время»: «на своем несравненном художественном материале Го-
голь исследовал не только конкретные вопросы, но вместе с тем
положил угловые камни для будущего здания общей художест-
венной психологии».
Мастерство психологического анализа Гоголя мы наблю-
даем и в повести «Старосветские помещики», в центре ко-
торой, конечно же, не только быт и обстановка старинной
помещичьей усадьбы, но и глубина чувств и переживаний,
их неизменность и вечность, когда человек перестает забо-
титься лишь о себе и весь отдается последним заботам о
другом, или весь поглощен, до конца и беспредельно, тра-
гически-горестными чувствами о невозвратной утрате дру-
311
гого человека, память о котором не в силах стереть всепо-
глощающее время.
В петербургских повестях Гоголь все чаще обращается к
переломным моментам в духовной жизни своих героев.
В основе большинства произведений лежат события психо-
логического плана, развертывается картина внутренней
жизни героя, его потрясений в моменты необычных ситуа-
ций и событий... Писателя прежде всего интересуют факты
«духовной биографии» героя, нить его душевных движений,
ведущих к трагической отрешенности или, наоборот, духов-
ному прозрению, реже возрождению.
Кроме дороги, у Гоголя практически нет пейзажа. Его пей-
заж — переживание: «Мир он переживал только в человеке».
В своих книгах я уже касался проблемы «автор и его персона-
жи», как правило, склоняясь к мысли, что литературные герои в
большей или меньшей мере — лики творца. Гоголь сам сознавал-
ся, что большую часть своих пороков и слабостей передавал сво-
им созданиям. Более того, у него уже напрямую говорится о
фрейдовской сублимации: осмеивая героев в своих повестях,
признавался он, я «таким образом избавлялся от них навсегда».
Гоголь был необыкновенно строг к себе, постоянно бо-
ролся с своими слабостями, и от этого часто впадал в дру-
гую крайность и бывал иногда так странен и оригинален,
что многие принимали это за аффектацию и говорили, что
он рисуется. Много можно привести доказательств тому,
что Гоголь действительно работал всю свою жизнь над со-
бою и в своих сочинениях осмеивал часто самого себя.
Художественному миру Гоголя чужды фарс, карикатура, ко-
микование — ведь он смеется не над «кривым носом, а над кри-
вою душою», не над внешним, а внутренним, не над формой, а
содержанием. Ревизор — не комедия дель арте с ее элемента-
ми Derb Komisches1, а, по определению Ю. В. Манна, комедия
характеров с гротескным отсветом.
Художественный мир Гоголя фантастичен, призрачен, мета-
форичен. Когда же, по словам Анри Труайя, Гоголь оседлывал
метафору, она уносила его за тысячи верст. Иногда так далеко,
что уже и он сам не находил выходов обратно, в реальный, таин-
ственный мир...
1 Грубая комика (нем.).
312
...в Гоголе смолоду жила страсть к игре, лицедейству,
травестированию, мистификациям, он был, как говорят на
Украине, «характерником» (колдуном, чародеем) — любил и
умел предстать в неожиданном облике, удивить превраще-
нием, заморочить голову, запутать...
Конечно, как и в любом человеке, в противоречивом духе Го-
голя шла вечная мучительная борьба таланта с темпераментом,
поэта с мыслителем и моралистом, фантазера и мифотворца с ре-
алистом. Но мне импонирует не столько «диалектический» Го-
голь, сколько Гоголь плюралистический и... универсальный, ибо
универсальность и плюралистичность — разные ипостаси сущего.
В этом отношении мне близки психологические портреты Гого-
ля, принадлежащие Овсянико-Куликовскому, Венгерову и Брю-
сову.
Овсянико-Куликовский рассматривает дух Гоголя в про-
цессе творческой работы и подчеркивает в качестве специ-
фической его особенности преобладание траты над накоп-
лением, дедукции над индукцией, интуиции над знанием и
пониманием. Это неуравновешенный дух, в котором нару-
шен правильный оборот расходования и собирания энер-
гии, и вся творческая деятельность Гоголя носит на себе пе-
чать этой неуравновешенности. С точки зрения Венгерова,
специфическая черта Гоголя — это гражданское настрое-
ние, жажда послужить родине, которая и водит пером ху-
дожника, управляет его творческим вдохновением. Нако-
нец, Брюсов находит, что сущность гоголевской души — это
гипербола, склонность все видеть в увеличенном размере, и
достоинства, и недостатки, и свет, и тени, склонность роко-
вая, заставившая Гоголя и в жизни, и в творчестве бросать-
ся от крайностей восторга к крайностям горького смеха над
собой и жизнью, заставившая его вечно жить в судорогах,
гореть напряжением, в котором и испепелилась его душа.
Главное качество Гоголя как художника — зоркость: он обла-
дал способностью видеть то, что не мог увидеть никто, у него бы-
ло удивительное интровидение — сквозь покровы. «До появле-
ния его и Пушкина русская литература была подслеповатой».
Формы, которые она замечала, были лишь очертаниями,
подсказанными рассудком; цвета как такового она не видела
и лишь пользовалась истертыми комбинациями слепцов-су-
ществительных и по-собачьи преданных им эпитетов, кото-
313
рые Европа унаследовала от древних. Небо было голубым,
заря алой, листва зеленой, глаза красавиц черными, тучи се-
рыми и т. д. Только Гоголь увидел желтый и лиловый цвета.
Гоголь тщательно обдумывал и долго отделывал свои творе-
ния: «...я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, не-
обдуманного...»
Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву:
Например, никто не знал, для чего я производил пере-
делки моих прежних пьес, так как я производил их, основы-
ваясь на разумении самого себя, на устройстве головы
своей. Я видел, что на этом одном я мог только навыкнуть
производить плотное создание, сущное, твердое, освобож-
денное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и со-
вершенное в высокой трезвости духа.
Хотя у самого Гоголя периоды вдохновения перемежались
долгими кризисами, когда опускались руки и надолго прерывал-
ся творческий процесс, он считал, что работа художника не дол-
жна прерываться: «Человек пишущий так же не должен оставлять
пера, как живописец кисти. Пусть что-нибудь пишет непременно
каждый день. Надобно, чтоб рука приучилась совершенно пови-
новаться мысли». Можно полагать, что мысль самого Гоголя ра-
ботала непрерывно. Возможно, его кризисы в этом отношении
были не менее плодотворны, чем подъемы.
К Гоголю в полной мере относятся слова, сказанные Фуллье о
Данте: «Он великий творец, потому что великий наблюдатель».
Зоркость Гоголя усиливалась своеобразностью перспектив: он
необычно видел вещи, его видение сверхреально и фантастично
одновременно. Здесь костюм сливается с частью тела, шинель
становится «приятной подругой жизни» («и подруга эта была не
кто другая, как та же шинель, на толстой вате, на крепкой под-
кладке, без износу»), человек неотделим от маски и маска от че-
ловека, а вещь приобретает значение темы...
Маска одинаково вещна и призрачна; Акакий Акакиевич
легко и естественно сменяется привидением; маска казака в
красном жупане сменяется маской колдуна. Призрачно
прежде всего движение масок, но оно-то и создает впечат-
ление действия.
314
Маски могут быть либо комическими, либо трагически-
ми, — у Гоголя два плана: высокий, трагический и низкий,
комический. Они обычно идут рядом, последовательно сме-
няя друг друга. В одной из ранних статей Гоголя («Борис
Годунов»), где он говорит о «двух враждующих природах че-
ловека», уже даны особенности обоих планов... Различию
масок соответствует различие стилей (высокий — амплифи-
кация, тавтология, исоколон, неологизмы, архаизмы и т. д.;
низкий — иррациональность, варваризмы, диалектические
черты и т. д.). Оба плана прежде всего различны по лексике,
восходят к разным языковым стихиям: высокий — к цер-
ковно-славянской, низкий — к диалектической. Литератур-
ные роды, к которым преимущественно прикреплены оба
плана, восходят к разным традициям: традиция гоголевских
комедий и традиция его писем, восходящих к проповедям
XVIII века.
Но главный прием Гоголя, система вещных метафор, ма-
ски, имеет одинаковое применение в обоих его планах.
Маски Гоголя — это контрасты, для вещных метафор харак-
терно несходство соединяемого, по тому же принципу строится
смена масок и преображение жизни — отсюда та легкость, с ко-
торой маска казака преобразуется в маску колдуна, а Плюш-
кин — в щедрого хлебосола. Жизнь как литературный прием. По
этому принципу построены все утопии.
И. Д. Ермаков:
Человек Гоголя — это сформированный, крепко постро-
енный манекен, и только вчитавшись, всмотревшись в него,
откроешь те его стороны, которые остаются невидимыми
для тех, кто внешне подходит к ним [за внешним, нелепым,
странным таится сущность]. При этом Гоголь не карает, Го-
голь не упрекает, он прямо выставляет их, как это делают в
музеях, для того, чтобы глазели одни и задумывались дру-
гие.
Герои Гоголя действительно как бы из паноптикума: экспона-
ты. Они и сами любят коллекционировать, собирая что придется:
мертвые души, объявления, собак, вещи, деньги на шинель, вся-
кую дрянь, сердоликовые печатки, косточки от арбузов и дынь,
возлюбленных... Странно, что никому не пришло в голову со-
здать гоголевский «музей Тюссо», то-то была бы «человеческая
комедия»...
315
Одно из главных качеств Гоголя — человека и художника —
резкость зрения, гиперболичность взгляда. Он — деформатор, но
это деформация созидающая: деформация мифа, сминающего
оболочку, чтобы понять суть. Гоголь — наиболее мифологиче-
ский писатель в русской литературе — не реалист, а именно ми-
фолог, русский Гомер, пишущий русскую Одиссею.
С. Залыгин:
Гоголь... последний в мире писатель-мифолог и, конечно
уж, — самый крупный мифолог русской классики, может
быть, — и единственный.
Гоголевский художественный взгляд преднамеренно не-
естественный, он выхватывает из действительности только
одну какую-то сторону, из этой стороны — одного какого-
то человека, из этого человека — одну черту его характера и
лица, одну привычку и один жест, одну интонацию его го-
лоса, и слова только одного какого-то свойства... Таков этот
взгляд, такова эта неповторимая, невероятно гиперболизи-
рованная зоркость...
Пусть приблизительно, однако же мы все-таки можем
символизировать творчество великих писателей с той или
иной областью умственной и эмоциональной деятельности
человека: Жюль Верн — это фантазия, Флобер — чувство,
Толстой — философия, Достоевский — психология,
Франс — рассудок, а что такое Гоголь?
Гоголь — это наблюдательность, это — зрение. Это —
воображение, но опять-таки через зрение.
Он исследователь, натуралист, может быть — натурфило-
соф, опять-таки сын своего века. Двух величайших естест-
воиспытателей, двух ровесников 1809 года рождения дал
XIX век — Дарвина в науке, Гоголя в искусстве.
Такой вот парадокс: мифолог и естествоиспытатель — одно-
временно. Впрочем, для нынешнего знания — не парадокс, а за-
кономерность.
Гоголь — творец предельных состояний. Самое незначитель-
ное становится у него вселенским, ибо это — душа человека: «Он
преображал действительность и любил ее такой, какую сам выду-
мал».
316
А. Белый:
Вот так действительность! После сваянных из облачного
блеска тел выползают у него бараньи хари, мычащие на нас,
как два быка, выползают редьки с хвостами вверх и вниз, с
табачного цвета глазами и начинают не ходить, а шмыгать,
семенить — бочком-бочком... Здесь Гоголя называют реали-
стом, — но помилуйте, где же тут реальность: перед нами не
человечество, а дочеловечество; здесь землю населяют не
люди, а редьки; во всяком случае это мир, на судьбы кото-
рого влияет баран, подошедший к окну, пропавшая черная
кошка или «гусак» — не мир людей, а мир зверей.
Людей — не знал Гоголь. Знал он великанов и карликов; и
землю Гоголь не знал тоже — знал он «с в а я н н ы й» из ме-
сячного блеска туман, или черный погреб. А когда погреб со-
единял он с кипящей месячной пеной туч, или когда редьку
соединял он с существами, летающими по воздуху, — у него
получалось странное какое-то подобие земли и людей; та зем-
ля — не земля: земля вдруг начинает убегать из-под ног; или
она оказывается гробом, в котором задыхаемся мы, мертве-
цы; и те люди — не люди: пляшет казак — глядишь: изо рта
набежал клык; уплетает галушки баба — глядишь: вылетела в
трубу; идет по Невскому чиновник — смотрит: ему навстречу
идет собственный его нос. И как для Гоголя знаменательно,
что позднейшая критика превратила Чичикова — этого само-
го реального из его героев — ни более не менее, как в черта;
где Чичиков — нет Чичикова: есть «н е м е ц» со свиным ры-
лом, да и то в небе: ловит звезды, и уже подкрался к месяцу.
Гоголь оторвался от того, что мы называем действительно-
стью. Кто-то из-под ног его выдернул землю; осталось в нем
память о земле: земля человечества разложилась для него в
эфир и навоз; а существа, населяющие землю, превратились в
бестелесные души, ищущие себе новые тела: их тела — не те-
ла: облачный туман, пронизанный месяцем; или они стали
человекообразными редьками, вырастающими в навозе.
Хотя Андрей Белый охарактеризовал свою монографию Ма-
стерство Гоголя как «скромную работу собирателя сырья»,
направленную лишь на составление «словаря», на самом деле это
«введение к элементам поэтической грамматики Гоголя» являет-
ся фундаментальной попыткой философского осмысления и по-
строения «поэтической грамматики» одного поэта другим, при-
чем предельно заинтересованного, субъективного в лучшем
317
смысле слова, личностного, обладающего собственной поэтикой
и собственным мироощущением. Хотя здесь «дух Гоголя» неотде-
лим от «духа Белого», именно такого рода «пристрастность» дела-
ет книгу «объективной» и «универсальной», каковым является
личностное знание, знание-заражение...
Задолго до Полани и Фейерабенда Белый осознал, что объек-
тивация знания — не более чем попытка сложить с себя ответст-
венность за убеждение, что знание имманентно субъективно, то
есть содержит в себе элементы веры: убежденность, страстность,
персональность, ответственность, красоту, увлеченность, а глав-
ное, оно допускает множественность трактовок, конкурентность,
свободу, «новое зрение», элемент пролиферации1.
По Белому, культура обладает радикально субъективным ха-
рактером и в этом отношении подобна человеческой психике.
В истории культуры тоже можно выделить дихотомию рациона-
льного и стихийного начал, неизбежно присутствующих в инди-
видуальной творческой деятельности каждого художника, хотя в
творчестве одно из этих начал может быть вытеснено в подсозна-
ние. Цель духовного развития личности — синтез порядка и хао-
са, слияние сознания и подсознания — осознание вытесненного.
Белый считал, что такой синтез, воплощающий Мировой Ум,
удался Л. Н. Толстому, но не удался Пушкину и Гоголю.
В. М. Паперный:
«Двойником Пушкина, погубившим Пушкина», А. Бе-
лый считает ушедшее в подсознание рациональное «начало
Сальери». Гоголя же, напротив, по мнению А. Белого, погу-
било ушедшее в подсознание стихийное «начало Колдуна».
Вновь повторяя в «Мастерстве Гоголя» эту мифологему,
А. Белый пытается рационализировать ее, причем двояким
образом. Используя психоаналитический способ рациона-
лизации, А. Белый отождествляет «начало Колдуна» с влия-
нием дурной наследственности, породившей болезненные
аномалии в психике Гоголя. Но одновременно А. Белый
прибегает и к социологическому языку, отождествляя «на-
чало Колдуна» с воздействием на Гоголя его социального
происхождения.
1 Согласно принципу пролиферации Фейерабенда, необходимо строить тео-
рии, несовместимые с известными: «Единодушие годится для тирании, разнооб-
разие идей — методология, необходимая для науки и философии».
318
Уже I глава книги открывается разделом «Пушкин и Го-
голь», где развертывается противопоставление Пушкина и
Гоголя как представителей двух основных полярных начал,
противоборствующих в истории культуры. Связывая Пуш-
кина с рациональным, аполлоническим, классическим на-
чалом, А. Белый затем сосредотачивается на характеристике
Гоголя как представителя иррационального, стихийного,
дионисийского, барочного начала культуры, как типичней-
шего представителя в России особенностей стиля азиатиче-
ского, в котором «Гомер, арабизм и барокко, и готика ори-
гинально преломлены». С этой точки зрения А. Белый ста-
вит Гоголя в общий преемственный ряд с Шекспиром и
Ницше, а в качестве основных преемников Гоголя выделяет
Достоевского, Ф. Сологуба, А. Белого, Маяковского и Мей-
ерхольда...
На аналогии между искусством Гоголя и барочной тра-
дицией А. Белый основывает свою интерпретацию стиля
Гоголя. В качестве основных чисто литературных признаков
«барочности» этого стиля А. Белый выделяет: (1) риторич-
ность (повышенное использование тропов); (2) усложнен-
ность, «хаотичность»; (3) поэтичность (использование в
прозе ритмических, эвфонических и т. п. свойств стихо-
творного языка, синтез поэзии и прозы). С другой стороны,
важнейшим признаком «барочности» стиля является для
А. Белого универсальная синкретичность — свойство, бла-
годаря которому литература вбирает в себя черты поэтики
несловесных искусств. Усматривая этот признак в гоголев-
ском стиле, А. Белый проводит ряд аналогий между инди-
видуальными свойствами этого стиля и топологическими
свойствами стилей искусств: драматического (жест, движе-
ние), музыкального («музыкальность» прослеживается и как
некоторая материальная характеристика стиля Гоголя, во-
площенная в звуковой организации и в мотивной системе
его прозы) и изобразительных (аналогии с орнаментом, ар-
хитектурой и, особенно настойчиво, с живописью — А. Бе-
лый выделяет даже два типа «живописности» Гоголя: «ита-
льянский» и «японский»).
Таким образом, рассматривая весь «текст» Гоголя как целост-
ное проявление некоторого текстопорождающего механизма —
личности творца, — Белый пришел к выводу, что «творчество от-
печатлевается не в ряде замкнутых в себе самом произведений,
но в модуляции немногих основных тем лирического волнения»,
319
и что такими «темами» в творчестве Гоголя являются «Колдун»,
«двойничество», «нечистая сила», «смерть», «грязь» — темная, ха-
отическая, иррациональная, «дионисийская» стихия мира. По
мнению Белого, Гоголь — самый барочный из русских писате-
лей:
Его сознание напоминает потухший вулкан... Вместо
дорической фразы Пушкина и готической фразы
Карамзина — асимметрическое барокко. Фраза Гоголя
начинает период, плоды которого срываем и мы.
В. В. Розанов, анализируя типологию Гоголя на примере Ака-
кия Акакиевича, пришел к заключению о своего рода гиперболо-
иде, концентраторе черт:
...сущность художественной рисовки у Гоголя заключа-
лась в подборке к одной избранной, как бы тематиче-
ской черте создаваемого образа других все подобных же, ее
только продолжающих и усиливающих черт, со строгим на-
блюдением, чтобы среди них не замешалась хоть одна, дис-
гармонирующая им или просто с ними не связанная черта
(в лице и фигуре Акакия Акакиевича нет ничего не безоб-
разного, в характере — ничего не забитого). Совокупность
этих подобранных черт, как хорошо собранный вогнутым
зеркалом пук однородно направленных лучей, и бьет ярко,
незабываемо в память читателя.
Розанов считал типы в литературе недостатком, «переделкой
действительности», ибо лица не слагаются в типы, одно лицо не-
слиянно с другим и именно эту несливаемость как сущность че-
ловеческого литература не вправе разрушить. Но, по справедли-
вому замечанию В. В. Ерофеева, литература дает не типы, а архе-
типы, юнговские эйдосы человеческого.
Вырванные из «питательной среды» произведений, герои
Гоголя превращаются в окостеневшие понятия: манилов-
щина, хлестаковщина и пр. Но между Маниловым и мани-
ловщиной — существенный разрыв. Манилов — исключе-
ние, предел, архетип; маниловщина — ординарное, средне-
арифметическое, типическое, понятие. Споря с Гого-
лем, Розанов, по сути дела, ратует за «разбавление» Гоголя
(так разбавляют сироп газированной водой). Но гоголевские
герои — которые действительно собраны автором вогнутой
линзой в один луч, отчего, ярко вспыхнув, они мгновенно
320
сгорают, обращаются в прах, и их продолжение (так же, как
и их предыстория) немыслимо — в краткий момент вспыш-
ки освещают такие потаенные стороны человеческой при-
роды, какие при ровном, распыленном свете увидеть почти
невозможно.
Гоголь — художник экстремальных ситуаций, пределов, сгу-
щенных красок, крайностей, экзальтации, бездн, пропастей.
В этом — сила!
Для Гоголя нет ничего среднего, обыкновенного, — он
знает только безмерное и бесконечное. Если он рисует кар-
тину природы, то не может не утверждать, что перед нами
что-то исключительное, божественное; если красавицу, —
то непременно небывалую; если мужество, — то неслыхан-
ное, превосходящее все примеры; если чудовище, — то са-
мое чудовищное изо всех, рождавшихся в воображении че-
ловека; если ничтожество и пошлость, — то крайние, преде-
льные, не имеющие себе подобных. Серенькая русская
жизнь 30-х годов обратилась под пером Гоголя в такой апо-
феоз пошлости, равного которому не может представить
миру ни одна эпоха всемирной истории.
У Эдгара По есть рассказ о том, как два матроса проник-
ли в опустелый город, постигнутый чумой. Там, войдя в
один дом, увидели они чудовищное общество, пировавшее
за столом. Особенность участников попойки состояла в том,
что у каждого была до чрезвычайности развита одна какая-
нибудь часть лица. У одного был непомерной величины
лоб, подымавшийся над головой как корона; у другого —
невероятно огромный рот, шедший от уха до уха и откры-
вавшийся как страшная пропасть; у третьего — несообразно
длинный нос, толстый, дряблый, спадавший, как хобот, ни-
же подбородка; у четвертого — безобразно отвисшие щеки,
лежавшие на его плечах, как бурдюки вина, — и т. д. Все ге-
рои Гоголя напоминают эти призраки, пригрезившиеся Эд-
гару По, — у всех у них чудовищно, несоразмерно развита
одна часть души, одна черта психологии. Создания Гого-
ля — великие и страшные карикатуры, которые, только
подчиняясь гипнозу великого художника, мы в течение де-
сятилетий принимали за отражение в зеркале русской дей-
ствительности.
Хотя подчеркиваемая Валерием Брюсовым гротескность худо-
жественного мира Гоголя сомнений не вызывает, я не могу со-
321
гласиться с финальной мыслью Испепеленного о «великих
и страшных карикатурах»: парадоксальным образом гротески Го-
голя — живые люди, архетипы, символы человека реального,
притом вневременные, вечные, непреходящие и никогда не исче-
зающие...
Подобно тому, как в шекспирологии существует целое на-
правление «ошибки Шекспира», так, с легкой руки С. А. Венге-
рова, в гоголеведении существуют сторонники тезиса «Гоголь со-
вершенно не знал реальной русской жизни». Но никаким «выис-
киванием блох» нельзя опровергнуть глубинного (а не формаль-
ного) знания жизни, никак не сводящегося к тому, можно ли
приплыть в Милан из Вероны и было ли у Дездемоны время,
чтоб изменить Отелло. В этом смысле «неправильная» гоголев-
ская тирада «Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский
мастеровой, был пьяница страшный» гораздо содержательней бу-
зенскуловых выисканий противоречий в обозначении времени
действия Мертвых Душ.
К Гоголю здесь... применимо интересное высказывание
Гете о Шекспире. Отметив, что у Шекспира леди Макбет в
одном месте говорит: «Я кормила грудью детей», а в другом
месте о той же леди Макбет говорится, что «у нее нет де-
тей», Гете обращает внимание на художественную оправ-
данность такого противоречия: «Шекспир «заботился о силе
каждой данной речи... Поэт заставляет говорить своих лиц в
данном месте именно то, что тут требуется, что хорошо
именно тут и производит впечатление, не особенно заботясь
о том, не рассчитывая на то, что оно, может быть, будет в
явном противоречии со словами, сказанными в другом мес-
те». Эти «ошибки» Гоголя, как и Шекспира, художественно
настолько мотивированы, что мы, как правило, их не заме-
чаем. А если и замечаем, то они нам не мешают. Не мешают
видеть поэтическую и жизненную правду и каждой сцены
или образа в отдельности, и всего произведения в целом.
Магический реализм Гоголя глубоко продуман, эстетически
обоснован и теоретически выверен. В гениальном Портрете
он обосновывает мысль о том, что внешнее сходство оригинала и
художественной копии производит на развитого человека не эс-
тетическое, а иногда прямо отталкивающее впечатление. Стрем-
ление натурализма воспроизвести реальность, как «вещь в се-
бе», заключает на основании гоголевских текстов И. Лапшин, не
322
только антихудожественно, но философски нелепо. А вот
текст самого Гоголя, обосновывающий магию искусства:
Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэ-
ту, чтобы извлечь из него необыкновенное, и чтобы это не-
обыкновенное было, между прочим, совершенная истина,
мгновенная высокая мысль, вдруг объемлющая священным
холодом вдохновение читателя.
Кстати, эстетика Пушкина, Гоголя, Достоевского (Толстой —
здесь исключение) никогда не была эстетикой плоского реализ-
ма. Пушкин даже придумал слово, противостоящее реализ-
му — существенность, и, с другой стороны, обман: нас
возвышающий обман, упоительный обман.
Гоните мрачную печаль,
Пленяйте ум обманом...
У Достоевского эстетика искусства как фикции, иллюзии, ви-
димости, «эстетического вранья» превращается уже в стройную
модернистскую систему:
Сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает
он природу так, как она отражается в его идее, пройдя через
его чувство. В зеркальном отражении не видно, как зеркало
смотрит на предмет, или, лучше сказать, видно, что оно со-
всем не смотрит и отражает пассивно, механически.
Точность, верность элементарно необходимы, но они
лишь материал для художественного произведения, орудие
творчества.
И ведь так легко, так натурально создается этот сказоч-
ный, фантастический мир. Как будто и впрямь все это не
призрак. Право, верить готов в иную минуту, что вся эта
жизнь — не возбуждение чувства, не мираж, не обман вооб-
ражения, а что это и впрямь действительное, настоящее, су-
щее.
И ты невольно сим явлением
Даруешь жизни красоты,
И этим милым заблуждением
И веришь, и не веришь ты.
323
Уникальность художественного мира Гоголя —- симбиоз арха-
изма с модернизмом: «архаическое мировоззрение» плюс модер-
нистское мировидение. Пожалуй, в этом причина бездонности
мира Гоголя. В этом же главная точка соприкосновения Гоголя с
другими великими мифотворцами — от Гомера до Джойса.
Еще одна особенность их художественных видений — нерас-
членяемость реального и фантастического миров. Речь идет не о
«параллельности», а именно о слиянии, о котором говорят, что
жизнь фантастичней самых невероятных вьщумок взыгравшего
воображения. Мне представляется, что такое слияние не следует
рассматривать следствием позднеромантической традиции и ре-
зультатом влияния Гофмана: Гофману нельзя следовать — нужно
иметь изначально склад мышления, способный «материализо-
вать» плоды воображения. Сегодня, после Шекспира и особенно
Оскара Уайльда, мы знаем, что нет ничего более реального, чем
«наши сны»...
Фантастическое и есть самое реалистическое — и не только в
искусстве: фантасмагория жизни, утопичность идей, символич-
ность науки, мистификация философии...
После «Вия» [«Носа» (?)] фантастическое почти исчезает
у Гоголя, но странное и чудное дело: действительность сама
приобретает некую призрачность и порою выглядит фанта-
стической. Эту фантастичность придают ей жуткие хари,
свиные рыла, помесь нежити с человеком, мерзкие отребья.
...ибо мир, родная земля переполнена несметной силой
образин, и некуда скрыться от них поэту-философу.
Конечно же, Гоголь «ирреалист», его фантазия — сюрреали-
стическая, нацеленная на постижение иррациональных тайн че-
ловеческой психики. Зачисление его нашими в «критические реа-
листы» — сознательная фальсификация или непонимание приро-
ды его творчества.
Сама фантастичность Гоголя пародийна, иронична, гротеск-
на, двойственна. Фантастическое как бы параллельно реальному,
тесно переплетается с ним.
Достижения романтической фантастики были Гоголем
преобразованы, но не отменены. Снимая носителя фанта-
стики, он оставлял фантастичность; пародируя романтиче-
324
скую тайну, он сохранял таинственность; делая предметом
иронической игры слухи и пересуды, он укреплял достовер-
ность самого «происшествия». И кто скажет, что страш-
нее — тайна, за которой скрыт ее конкретный носитель,
или тайна, прячущаяся везде и нигде, иррациональность,
пропитавшая жизнь — как вода вату?
При обилии бесовства, дьявольщины демоническое у Гоголя
как бы противоприродно, сверхъестественно. Бог, природа, доб-
ро — порядок природы, бес — нарушение порядка, «вывих», «вы-
падение из колеи». Живописец в Портрете говорит: «Уже
давно хочет народиться антихрист, но не может, потому что дол-
жен родиться сверхъестественным образом; а в мире нашем все
устроено Всемогущим так, что совершается все в естественном
порядке...» Это — результат исторических влияний, проявление
менталитета, русской традиции легкости добра и трудности зла,
всегда искушавшей русский народ в мире, устроенном как раз на
противоположном принципе. Лишь правдивость художника вела
к тому, что «посрамленный человеком бес» в конце концов брал
у Гоголя верх над победителем-человеком.
Мир Гоголя вообще отличается повышенной контрастностью,
сопряженностью противоположностей, единством двусторонних
рядов противоположных начал, тесным переплетением вероятно-
го и действительного, реального и фантастического, комического
и трагического. Стихия контрастности охватывает как жанровую,
так и речевую структуру Мертвых Душ.
Контрастность присуща как общему масштабу изображе-
ния — «вся Русь», но «с одного боку»,— так и мельчайшим
деталям повествования. При всей своей символичности об-
раз Руси-Тройки сохраняет открытую двуплановость. Один
план этого символа определяет оптимистическую тональ-
ность, утверждение радостного восприятия несущейся как
птица Руси. Бешено мчащаяся тройка несет благо, «посто-
раниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».
Второй план имеет противоположную тональность, окра-
шен сомнениями, горестными раздумьями: «Русь, куда же
несешься ты? дай ответ. Не дает ответа».
Восприимчивость к поэзии, эмоциональность, лирическая
одаренность, внутренняя взволнованность уживались в нем с
трезвостью, близостью к земле. Как художник, Гоголь чужд вос-
торженной сентиментальности Руссо, «в его лиризме лувствуется
325
холодок». В конце жизни Гоголь создал целую философию ли-
ризма как проявления «высшей трезвости разума». Обладая
острым чувством лжи, он распространял его на поэзию, отсекая
и безжалостно уничтожая «красивости» и «обманы» — до сожже-
ния своих многолетних творений включительно...
Хотя после фиаско Переписки Гоголь принял решение
вернуться к искусству, к живым людям, он уже не мог полностью
отказаться от роли проповедника, учителя. Искусство он воспри-
нимал не как выражение своего внутреннего мира, а как — мира
внешнего. Будучи величайшим исповедальным художником, Го-
голь так и не освободился от химеры искусства-служения, искус-
ства-наставления, искусства-воспитания.
Искусство должно выставить нам на вид все доблестные
народные наши качества и свойства, не выключая даже и
тех, которые, не имея простора свободно развиваться, не
всеми замечены и оценены так верно, чтобы каждый почув-
ствовал их и в себе самом и загорелся бы желаньем развить
и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто.
Искусство должно выставлять нам все дурные наши народ-
ные качества и свойства таким образом, чтобы следы их
каждый из нас отыскал прежде всего в себе самом и поду-
мал бы о том, как прежде с самого себя сбросить все омра-
чающее благородство природы нашей. Тогда только и таким
образом действуя, искусство исполнит свое назначенье и
внесет порядок и стройность в общество!
Трагедия Гоголя как художника была предопределена его от-
ношением к искусству как к служению-наставлению-воспита-
нию.
И чем совершеннее, глубже и выразительнее станови-
лось его искусство, тем более необъяснимым, разительным
и трагическим представлялось отсутствие искомого резуль-
тата.
Трагедия Гоголя как художника — все большее отчуждение от
реальности, которую он хотел преобразить, хотя всем своим
творчеством демонстрировал, что изменить ее невозможно.
И от Бога он, верующий, отчужден все той же реально-
стью, в той же мере, в которой реальность отчуждена от него.
326
Наконец, от себя самого, от своей личности, он отчуж-
ден сознанием собственного житейского несовершенства.
Он узнал об одиночестве все. Жизнь прожита в творчестве,
но ведь своей-то, по-житейски собственной жизни так и не
было?
Гоголь однажды сам рассказал, как он пишет, какой способ
писать считает лучшим:
Сначала нужно набросать все, как придется, хотя бы
плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тет-
ради. Потом через месяц, через два, иногда и более (это
скажется само собою) достать написанное и перечитать: вы
увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего не-
достает. Сделайте поправки и заметки на полях — и снова
забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее новые заметки
на полях, и где не хватит места — взять отдельный клочок и
приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано,
возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами
собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения
слога. Между прежних вскочат слова, которые неооходимо
там должны быть, но которые почему-то никак не являются
сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развле-
кайтесь, не делайте ничего, или пишите другое. Придет
час, — вспомнится заброшенная тетрадь; возьмите, перечи-
тайте, поправьте тем же способом и, когда снова она будет
измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите
при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очи-
сткой фраз как бы крепчает и ваша рука: буквы ставятся
тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь
раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и
еще больше. Я делаю восемь раз. Только после восьмой пе-
реписки, непременно собственной рукою, труд является
вполне художнически законченным, достигает перла созда-
ния. Дальнейшие поправки и пересматриванье, пожалуй,
испортят дело; что называется у живописцев: зарисуешься.
Конечно, следовать постоянно таким правилам нельзя,
трудно. Я говорю об идеале. Иное пустишь и скорее. Чело-
век все-таки человек, а не машина.
Н. В. Гоголь — А. О. Смирновой:
Художественное создание и в слове то же, что и в живо-
писи, то же, что картина. Нужно то отходить, то вновь под-
327
ходить к ней, смотреть ежеминутно, не выдается ли что-ни-
будь резкое и не нарушается ли нестройным криком всеоб-
щего согласия.
Зрелый Гоголь — художник неторопливый, даже медлитель-
ный, дающий мысли созреть.
Чем более торопишь себя, тем менее подвигаешь дело.
Да и трудно это сделать, когда уже внутри тебя заключился
твой неумолимый судья, строго требующий отчета во всем и
поворачивающий всякий раз назад при необдуманном
стремлении вперед... Я знаю, что после буду творить полней
и даже быстрее, но до этого еще не скоро достигнуть. Сочи-
нения мои так тесно связаны с духовным образованием ме-
ня самого и такое мне нужно до того времени вынести
внутреннее, сильное воспитание душевное, глубокое воспи-
тание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих но-
вых сочинений.
Труд и терпение для Гоголя — это выведение творения из хао-
са, высечение прекрасной скульптуры из глыбы, не имеющей
формы:
Я продолжаю работать, т. е., набрасывать на бумагу хаос,
из которого должно произойти создание «Мертвых душ».
Труд и терпение, и даже приневоливание себя награждают
меня много. Такие открывают тайны, которых не слышала
дотоле душа, и многое в мире становится после этого труда
ясно. Поупражняясь хоть немного в науке создания, стано-
вишься в несколько крат доступнее к прозрению великих
тайн Божьего создания и видишь, что чем дальше уйдет и
углубится во что-либо человек, кончит все тем же: одною
полною и благодарною молитвою.
К собственному творчеству Гоголь относился как к раскры-
тию тайны, ему заповеданной: «Я ждал ответов, которые будут
прямо от Бога». Самого себя считал устами небес. Человек суе-
верный, он полагал, что преждевременное возвещение этой тай-
ны мира губительно для откровения — поэтому и был столь осто-
рожен с обнародованием замыслов или чтением неоконченных
произведений.
Когда я пишу, очи мои раскрываются неестественною
ясностью. А если я прочитаю написанное еще неокончен-
328
ным, кому бы то ни было, ясность уходит с глаз моих. Я это
испытал много раз. Я уверен, когда сослужу свою службу и
окончу, на что я призван, то умру. А если выпущу на свет
несозревшее или поделюсь малым, мною совершаемым, то
умру раньше, нежели выполню, на что я призван в свет.
Еще одним свидетельством частых творческих спадов являет-
ся упоминаемое в переписке «ожидание музы»: «Досада только,
что творческая сила меня не посещает до сих пор...»; «Ум в
странном бездействии; мысли так растеряны, что никак не могут
собраться в одно целое»; «Пошлет ли всемогущий Бог мне вдох-
новение, — не знаю».
Как-то не так теперь работается! Не с тем вдохновенно-
полным наслаждением царапает перо бумагу. Едва начи-
наю, и что-нибудь совершу из истории, уже вижу собствен-
ные недостатки... Я не знаю, отчего я теперь так жажду со-
временной славы. Вся глубина души так и рвется наружу.
И я до сих пор не написал ровно ничего... Примусь за исто-
рию, — передо мною движется сцена, шумит аплодисмент,
рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскалива-
ют зубы, и история к черту. И вот почему я сижу при лени
мыслей.
О роли вдохновения говорили и писали многие гении, но то-
лько у Гоголя есть воззвание, заклинание, молитва, мольба,
вопль о свершении, о даре озарения, о творческом упоении, ко-
торое ему даст время.
Великая, торжественная минута... У ног моих шумит мое
прошедшее; надо мною сквозь туман светлеет неразгадан-
ное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой Гений! О,
не скрывай от меня! Пободрствуй надо мною в эту минуту и
не отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий
для меня, год. Какое же будешь ты, мое будущее? Блистате-
льное ли, широкое ли, кипишь ли великими для меня под-
вигами, или... О, будь блистательно! Будь деятельно, все
предано труду и спокойствию! Что же ты так таинственно
стоишь передо мною, 1834-й? Будь и ты моим ангелом. Ес-
ли лень и бесчувственность хотя на время осмелятся косну-
ться меня, — о, разбуди меня тогда! Не дай им овладеть
мною!
Таинственный, неизъяснимый 1834! Где означу я тебя
великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один
329
на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильно-
сти, — этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников,
диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности? В
моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увен-
чанном многоплодными садами, опоясанном моим южным
прекрасным, чудным небом, упоительными ночами, где го-
ра обсыпана кустарниками, с своими как бы гармнически-
ми обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый,
мой Днепр. — Там ли? — О!.. Я не знаю, как назвать тебя,
мой Гений! Ты, от колыбели еще пролетавший с своими
гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные,
необъяснимые доныне зарождавший во мне думы, такие не-
объятные и упоительные лелеявший во мне мечты! О, взгля-
ни! Прекрасный, низведи на меня свои небесные очи! Я на
коленях. Я у ног твоих! О, не разлучайся со мною! Живи на
земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный
брат мой! Я совершу!.. Я совершу. Жизнь кипит во мне.
Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недо-
ступное земле божество! Я совершу!.. О, поцелуй и благо-
слови меня.
В одном из писем Гоголя А. О. Смирновой я обнаружил ду-
шераздирающее признание:
Бог недаром отнял у меня на время силу и способность
производить произведения искусства, чтобы я не стал про-
извольно выдумывать от себя, не отвлек [алея] бы в идеаль-
ность, а держался бы самой существенной правды.
В. Брюсов:
Всю жизнь Гоголь был уверен, что он находится под осо-
бым покровительством Промысла. В юношеских письмах
он не раз повторяет, что «Бог имеет об нем особенное свое
попечение». В 1836 г. он пишет: «Чувствую, что не земная
воля направляет путь мой». В том же году он выражается
еще сильнее: «Кто-то незримый пишет передо мною могу-
щественным пером». В каждой своей неудаче, как и в каж-
дом счастливом случае, он старается угадать веления и ука-
зания Провидения, и его «посещает мысль», что даже недо-
разумения между ним и матерью идут от «Самого Бога».
Уже после издания «Выбранных мест из переписки» он пи-
шет матери, что скоро начнет свою службу истинную отече-
ству, к которой готовит его Сам Бог. Эта вера в неземное
330
руководительство так сильна в Гоголе, что подавляет в нем
все доводы логики, затмевает в нем и наблюдательность и
чувство действительности.
Высшее обаяние Гоголя — в его художественном идеализме, в
способности пробиться через покровы вещей и тел к их эйдосам,
сути, идеям. Наверное, в том и состоит творчество, чтобы за
окружающим нас миром материи разглядеть почти невидимую
душу, «видеть Бога»...
И. Анненский:
В силу стремления, вложенного в нас создателем, мы
вечно ищем сближать в себе мир вещей с миром духовным,
очищая, просветляя и возвышая свою бренную телесную
жизнь божественным прикосновением к ней мира идеаль-
ного, и в этом заключается вся красота и весь смысл нашего
существования: стремимся ли мы к совершенствованию или
жертвуем собою для блага других — это творится веяние
мира идей, это значит, что в нас созвучно затрепетала наша
душа, атом бессмертного духа. Чувствуем ли мы радостный
трепет, угадав иную вечную красоту в творческом подборе
звуков или красок, значит нам удалось на миг освободиться
от ига вещей и созерцать вечное, или, как говорил Лермон-
тов, «видеть Бога».
РЕАЛИСТ ИЛИ АБСУРДИСТ?
Много написано о гротескности Гоголя, но почти ничего не
сказано о модернисте-деформаторе, упредившем художников-
экспрессионистов и антропологов-негативистов. Вы когда-ни-
будь задавались вопросом: зачем художникам потребовалось де-
формировать, дробить тела, нагромождать мир из частей, прида-
вать самостоятельность носам или глазам? Почему все это прои-
зошло именно в XX веке (Босх не в счет — он «выскочил» из
времени)? Мог ли Пикассо появиться до Герники или Мунк до
газовых атак? Но я отвлекся...
С. Г. Бочаров:
Мы говорили о деформации образа человеческого, явив-
шейся страшным делом Гоголя в русской литературе. Но
это страшное дело было и великим творческим вопросом,
331
обращенным к той же литературе. Странным, кажется, пу-
тем гоголевская «негативная антропология» означала одно-
временно крайнее овнешнение и упрощение образа челове-
ка (на фоне целостного пушкинского человека, духовно-те-
лесного, сложно-простого) и новое и таинственное его
усложнение и углубление. В составе образа Гоголь произвел
резкое расчленение, раздвоение: «внешнего нашего челове-
ка» (который «тлеет»: «мертвые души») в составе образа он
отделил от человека внутреннего (который призван со дня
на день обновляться: духовная программа позднего Гоголя,
на языке которого это внутреннее дело обновления и само-
восстановления человека называется его возвращением в
«самого себя» — Гоголь «Выбранных мест» и «Развязки Ре-
визора» как бы вырабатывает для убежавшего «от самого се-
бя» человека это обратное духовное движение, — его обра-
щением с глубоким и беспощадным взором «на самого се-
бя»). Это разделение в образе и было главным словом гого-
левской художественной антропологии; и было оно тем ве-
ликим вопросом, оставленным Гоголем литературе и «рус-
скому уму»...
Этот гоголевский разрыв в человеке и задавал вопросы,
«давящие ум», о которых скажет затем Достоевский. Он по-
буждал к неизвестному ранее литературе углублению в чело-
века, задавая этот вопрос о глубине, в которой таится «сам»
человек.
Вообще говоря, реализм — это абсурд, его просто не сущест-
вует, как не существует «голых фактов». Факт невозможен без
интерпретации, а интерпретация неизбежно субъективна. Худож-
ник — не реалист, а интерпретатор, а вот интерпретации бывают
разные: поверхностные, одномерные, примитивные, наивные,
сиюминутные или — модернистские, опережающие время, мно-
гослойные, гениальные. Если хотите, все великие писатели — ир-
реалисты. В их ирреальном «перевернутом» мире реальна лишь
непостижимость, сокровенность, магичность — те глубинные
связи между вещами, которые недоступны обычному зрению, но
которые определяют то, что происходит в мире. Гоголевская «ре-
альность» сюрреалистична.
Модернизм Гоголя — а гениальный художник не может не
быть модернистом — в его проникновенности, въедливости,
вскрытии покровов бытия. Он сам вряд ли осознавал этот свой
дар, свидетельство чему — его вечные просьбы своим корреспон-
дентам снабжать его «голыми фактами», собирать «материал».
332
И возможно, что сам Гоголь в своих жалких и тщетных
попытках собрать от самих читателей крохи, которые дол-
жны были составить мозаику его книги, полагал, что посту-
пает совершенно разумно. Ведь это так просто, раздраженно
твердил он разным господам и дамам, — сесть хоть на часок
в день и набросать все, что вы видели и слышали. С тем же
успехом он мог просить их выслать ему по почте луну в лю-
бой ее фазе.
Его биографов удивляло раздражение, которое он выка-
зывал, не получая того, что ему нужно. Их удивляло то
странное обстоятельство, что гениальный писатель не пони-
мает, почему другие не умеют писать так же хорошо, как он.
На самом-то деле Гоголь злился оттого, что хитроумный
способ получения материала, которого он сам уже не мог
придумать, себя не оправдал. Растущее сознание своего бес-
силия превращалось в болезнь, которую он скрывал от дру-
гих и от самого себя. Он радовался любым помехам в своей
работе («...препятствие придает мне крылья»), потому что
на них можно было свалить оттяжку окончания книги. Вся
философия последних лет с рефреном: чем темнее небеса,
тем ярче засияет блаженный день, — была навеяна постоян-
ным ощущением того, что завтра никогда не наступит.
С другой стороны, он приходил в ярость, если кто-ни-
будь предполагал, что появление этого «блаженного завтра»
может быть ускорено: я не литературный поденщик, не ре-
месленник, не журналист, писал он. И хотя он делал все,
чтобы убедить и других и самого себя, что напишет произ-
ведение, бесконечно важное для России (а Россия в его
чисто русском сознании стала синонимом всего человечест-
ва), он негодовал, когда до него доходили слухи, порожден-
ные его же собственными мистическими намеками. Период
его жизни после выхода в свет первой части «Мертвых Душ»
можно окрестить «большими надеждами», по крайней мере
со стороны его читателей. Некоторые из них ожидали еще
более резкого и беспощадного обличения продажности и
социальной несправедливости; другие предвкушали гомери-
чески смешную повесть, надеясь повеселиться над каждой
страницей. И в то время как Гоголь дрожал от холода в од-
ной из нетопленых каменных комнат, которые найдешь то-
лько на крайнем юге Европы, и уговаривал друзей, что от-
ныне жизнь его священна, что с его плотской оболочкой
надо обращаться любовно, беречь ее, как треснувший гли-
333
няный сосуд, содержащий вино мудрости (то есть вторую
часть «Мертвых Душ»), дома распространились радостные
слухи, что Гоголь заканчивает книгу о похождениях русско-
го генерала в Риме и ничего потешнее он в жизни не напи-
сал. Как это ни трагично, куски, относящиеся к заводной
кукле из фарса — генералу Бетрищеву, в самом деле лучшее,
что дошло до нас из второй книги «Мертвых Душ».
Одним из первых в мировой литературе Гоголь обратился к
темам нелепости жизни, непроницаемости и абсолютной отчуж-
денности человека, полного взаимного непонимания, взаимной
глухоты людей, то есть использовал тот же арсенал средств, кото-
рый принято связывать с именами Ионеско и Беккета. Обращаю
внимание на стилистическое подобие с «театром абсурда»: наро-
читая примитивность, рубленость фраз, алогизм в сочетании с
обыденностью, другие приемы, выражающие фундаментальную
идею абсурдности бытия.
Абсурд был любимой музой Гоголя, но, когда я употреб-
ляю слово «абсурд», пишет В. В. Набоков, я не имею в виду
ни причудливое, ни комическое. У абсурдного столько же
оттенков и степеней, сколько у трагического, — более того,
у Гоголя оно граничит с трагическим. Было бы неправильно
утверждать, будто Гоголь ставит своих персонажей в абсурд-
ные положения. Вы не можете поставить человека в абсурд-
ное положение, если весь мир, в котором он живет, абсур-
ден; не можете, если подразумевать под словом «абсурд-
ный» нечто, вызывающее смешок или пожатие плеч. Но ес-
ли под этим понимать нечто, вызывающее жалость, то есть
понимать положение, в котором находится человек, если
понимать под этим все, что в менее уродливом мире связа-
но с самыми высокими стремлениями человека, с глубочай-
шими его страданиями, с самыми сильными страстями, —
тогда возникает нужная брешь и жалкое существо, затерян-
ное в кошмарном, безответственном гоголевском мире, ста-
новится «абсурдным» по закону, так сказать, обратного кон-
траста.
В. В. Набоков впервые назвал Гоголя не реалистом, а абсур-
дистом, однако он не развил этой мысли: Гоголь — наследник
Босха и предшественник Беккета, первый русский абсурдист,
приобщивший национальный абсурд к мировому, понявший всю
полноту абсурда русской трагедии, соединяющего Россию с тра-
гедией мировой.
334
На крышке табакерки у портного был «портрет какого-
то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место,
где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклее-
но четвероугольным лоскуточком бумажки». Вот так и с аб-
сурдностью Акакия Акакиевича Башмачкина. Мы и не ожи-
дали, что среди круговорота масок одна из них окажется
подлинным лицом или хотя бы тем местом, где должно на-
ходиться лицо. Суть человечества иррационально выводится
из хаоса мнимостей, которые составляют мир Гоголя. Ака-
кий Акакиевич абсурден потому, что он трагичен, по-
тому, что он человек, и потому, что он был порожден
теми самыми силами, которые находятся в таком контрасте
с его человечностью.
В таком мире не может быть нравственного поучения,
потому что там нет ни учеников, ни учителей: мир этот
есть, и он исключает все, что может его разрушить, поэто-
му всякое усовершенствование, всякая борьба, всякая нрав-
ственная цель или усилие ее достичь так же немыслимы,
как изменение звездной орбиты.
Абсурдные произведения Гоголя — высшее достижение ху-
дожника, трагедия которого в непонимании этого факта, в
стремлении превозмочь абсурд — изменить звездную орбиту.
Первая отличительная черта гениальности — первопроход-
ность. Как и Гофман, Гоголь во многом — пионер, открыватель,
если хотите, конкистадор от литературы. Именно ему мы обяза-
ны появлением темы «маленького человека», подпольщика, су-
масшедшего. Задолго до Кафки у него появляется тема страха
как основы человеческого существования. По мнению В. Эрли-
ха, Записки сумасшедшего — один из первых в русской
литературе «патологических очерков и, говоря более широко,
одно из первых изображений шизофрении в европейской литера-
туре».
Шинель — одно из первых абсурдистских произведений в
мировой литературе, оттого — бесконечное количество интерпре-
таций и глубочайшая жизненность, главное качество которой —
абсурд.
Так что же собой представляет тот странный мир, про-
блески которого мы ловим в разрывах невинных с виду
фраз? В чем-то он п о д л и н н ы й, но нам кажется донельзя
335
абсурдным, так как нам привычны декорации, которые его
прикрывают. Вот из этих проблесков и проступает главный
персонаж «Шинели», робкий маленький чиновник, и оли-
цетворяет дух этого тайного, но подлинного мира, который
прорывается сквозь стиль Гоголя. Он, этот робкий малень-
кий чиновник, — призрак, гость из каких-то трагических
глубин, который ненароком принял личину мелкого чинов-
ника. Русская прогрессивная критика почувствовала в нем
образ человека угнетенного, униженного, и вся повесть по-
разила их своим социальным обличением. Но повесть го-
раздо значительнее этого. Провалы и зияния в ткани гого-
левского стиля соответствуют разрывам в ткани самой жиз-
ни. Что-то очень дурно устроено в мире, а люди — просто
тихо помешанные, они стремятся к цели, которая кажется
им очень важной, в то время как абсурдно-логическая сила
удерживает их за никому не нужными занятиями, — вот ис-
тинная «идея повести». В мире тщеты, тщетного смирения
и тщетного господства высшая степень того, чего могут до-
стичь страсть, желание, творческий импульс, — это новая
шинель...
Эта мысль нуждается в усилении: почти все в этом мире —
шинели: атомные бомбы, упоение оружейника, создающего но-
вые средства массового уничтожения, муки ученого, разрабаты-
вающего недра природы «ради чистой науки», а как оказывается
на деле, с целью все того же максимально эффективного уничто-
жения, страсти пишущей братии, эксгибиционизм «разоблачите-
лей», политическая возня и пр., и пр., без конца...
Нос — одновременно абсурдистское и экзистенциальное
произведение русской литературы. От Носа берут свое начало
Кафка и Камю. Первым человеком, понявшим связь «носа» и
личности, был А. М. Бухарев, еще при жизни Гоголя писавший:
Ваш даже «Нос» напомнил мне, как я, позабыв в иную
пору, что такое жизнь моя и чем я должен в жизни занима-
ться, точно иногда хлопочу, суечусь, беспокою других, а на
деле оказывается, что ищу не больше, как своего носа, и,
ощупав его наконец у себя, успокаиваюсь, как будто какое
великое сокровище нашел... Пресмешная, право, эта штука
ваша! Беремся, напр., исправлять других, примериваем к
этому делу тот или другой ключ, а ключ этот ближе, пожа-
луй, нашего носа к нам, в истинном и уже готовом для нас
336
раскрытии тайны нашего же «я». Подобная мысль как будто
сама приходит мне при чтении вашего «Носа».
В этом отношении ключевая для понимания Носа мысль ге-
роя повести: «Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о соб-
ственном моем носе: стало быть, почти то же, что о самом себе».
С. Г. Бочаров:
На почве нашей повести нос оказывается знаком суще-
ствования. Не шинель и коляска, не внешний предмет, а
часть самого человека, часть центральная и выдающаяся его
выставленного наружу и обращенного во все стороны внеш-
него лица; еще раз вспомним... «и зачем он выбежал на сре-
дину лица». Несомненно, это центральное, выдающееся по-
ложение носа на лице «играет» в сюжете. Нос как эмблема
публичности, средоточие, пик внешнего достоинства и об-
щественного признания, эмблема, следовательно, граждан-
ская («гражданин не гражданин») и даже как бы государст-
венная (оттого и вписана история в государственный гео-
графический кругозор), «орган общественного самоутверж-
дения», без чего нельзя ни жениться, ни получить место, и
на людях приходится закрываться платком, без чего герой
выпадает из общества, обращается в «существо вне граж-
данства столицы».
Акакий Акакиевич — уже вполне чиновник из Замка: ден-
ный и нощный бессмысленный труд переписывания, бессмыс-
ленная любовь к буквам, абсурд, возведенный в страсть. Не толь-
ко дух — даже стиль Шинели — кафкианский:
Приемы и обычаи значительного лица были солидны и
величественны, но немногосложны. Главным основанием
его системы была строгость. «Строгость, строгость и —
строгость», говаривал он обыкновенно... и держал свой «ме-
ханизм» в «надлежащем страхе».
Не из этого ли словечка — «механизм» — возникла затем
Исправительная колония?..
Хотя было бы ошибкою не видеть различия поэтических
систем Гоголя и Ф. Кафки (это художники различных эпох
и национальных традиций), но в самом типе их фантастики
есть знаменательные переклички. В романах Кафки часто
337
повторяется одна и та же ситуация, напоминающая гоголев-
скую дорожную путаницу и неразбериху. Карл, главный
персонаж романа «Америка», заблудился на корабле, кото-
рый доставил его в Новый Свет; потом он не может найти
выхода в загородном доме, потом вместе с Терезой беспо-
мощно блуждают по коридорам отеля «Оксиденталь». «Рас-
положение коридоров в этих домах диктовалось хитрыми
планами наилучшего использования помещения, но совер-
шенно не считалось с соображениями легкого ориентирова-
ния; как часто они проходили, вероятно, по одним и тем же
коридорам». Повторяемость «ситуации лабиринта» (подан-
ной вне участия чьей-либо злой, потусторонней воли) про-
являет черты «нефантастической фантастики».
Главный мотив, присущий «перевернутым мирам» Гоголя и
Кафки, — жестокость и нелепость человеческой жизни, трагизм
существования, отверженность «маленького человека». Поэтику
принадлежащих разным культурам художников сближает «стран-
ное» сочетание скрупулезного правдоподобия в изображении по-
вседневности с фантазией и гротеском. Самые невероятные со-
бытия (потеря носа майором Ковалевым, переписка собачек,
превращение Грегора Замзы в насекомое) оба художника пишут с
подчеркнутой достоверностью.
Конечно, Акакия Акакиевича можно интерпретировать как
чиновника из Замка, а повесть — как трагедию бесправия, безза-
щитности, судьбы человека дрожащего в всепожирающем госу-
дарстве.
Государство только отнимает. Когда отдельный человек
чем-то пособляет самому себе, то и это у него отнимается
при полном бездействии государства. Оно позволяет и дру-
гим отнимать, так как само оно только это и умеет.
Я не оспариваю такую трактовку, но сомневаюсь в ее автор-
ской «запрограммированности». Ни Гоголь, ни Кафка не имели в
виду конкретики — оба писали себя и мир, человека вообще и
бытие. Государство слишком незначительно по сравнению с эти-
ми крайними пределами...
Любопытно, что Гоголь, как и Кафка, был неточно интерпре-
тирован: Гоголь писал не сатиры по конкретному поводу, а «все-
мирные» произведения, обнажающие саму жизнь, Кафка, наобо-
рот, не гневные филиппики в адрес тоталитарного государства, а
338
символическую автобиографию. «Всемирность» и «автобиогра-
фичность» сходились в своей первооснове — правде о человеке и
абсурде существования.
Д. Перри:
Успокоительно открывать, что такой современный писа-
тель, как Кафка, стар и в своей сущности и в технике. В то
же время художники прошлых времен, скажем, Гоголь, ока-
зываются чрезвычайно современными.
Оба писателя испытывали непреодолимую потребность к ис-
следованию «подсознательных иррациональных мотивов в на-
дежде найти корни собственных человеческих проблем».
«Бессмысленность мира — эти кафковские слова могли бы
быть гоголевскими».
Мир Гоголя во многом предвосхищает мир Кафки: те же кош-
мары человеческого существования, тот же страх, те же «замок» и
«процесс».
Гоголь, действительно, за сто лет до Кафки изобразил
человека, затянутого в поле действия отчуждающих сил,
недоступных его личной воле, морочащих его ум, застав-
ляющих его чувствовать свою беспомощность и ничтоже-
ство. Гоголю эту ситуацию подсказал дух послепетровской
регламентации жизни. Но у Гоголя заверченный бюрокра-
тической каруселью персонаж еще смешон: смехом этим с
него спрашивается иная норма поведения, чем та, которой
он подчинился. В мире Кафки смех исключен: и обитате-
ли этого мира, и сам его создатель терроризированы не-
проницаемостью мистифицирующей завесы, неостанови-
мостью механизма, в недра которого они попали. Кафки-
анское пространство — тесное и замкнутое, все соверша-
ется в коридорах, закоулках, углах, в помещениях, откуда
не выбраться. У Гоголя же над всем господствует образ
простора...
Гоголь и Кафка принадлежат одному и тому же психологиче-
скому типу: у обоих «все расстроено внутри». Некоторые строки
из признаний Гоголя сегодня читаются вполне как кафкианские,
например, эти:
339
Часто я думаю о себе: зачем Бог создал сердце, может,
единственное, но крайне редкое в мире, чистую, пламенею-
щую душу; зачем он одел все это в такую страшную смесь
противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и са-
мого униженного смирения.
Малейший повод — и оба все видят и «развивают в самых
страшных призраках». Призраки эти мучают обоих так, что не
дают спать и совершенно истощают силы. «Я, например, — гово-
рит Гоголь, — увижу, что кто-нибудь споткнулся: тотчас же вооб-
ражение мое за это ухватится, начнет развивать и все в самых
страшных призраках». Для обоих все, что они видят, все, что они
знают, все, о чем пишут, — есть только предлог для выявления
себя самих и своих мучений.
Все, что изображал Кафка, происходило в его душе (Гоголь!),
то есть вместо реального мира — реалии души. У того и друго-
го — психическая реальность, собственная душа напоказ. Почти
все, написанное о Гоголе, применимо к Кафке:
В действительности серая, обыденная, неинтересная
жизнь, стирающая все выдающееся, одни «безвестные моги-
лы». А он именно это особенно и подчеркивает и выставля-
ет, и потому нет в нем ясного, светлого, гармоничного
творчества, все поставлено на дыбы, все доведено до край-
ности, до судороги...
Все, что связано с глазами (глаза — зеркало души, а ду-
ши мертвые), у Гоголя отличается ужасом и страхом...
В Неизвестном Толстом я писал, что начинающий
русский пилигрим едва не упредил Джойса, но на самом деле ин-
тонации и стилистика джойсовского Улисса предвосхищены
Гоголем, этим настоящим модернистом русской литературы, в
котором лишь люди, абсолютно нечувствительные к искусству,
могли увидеть предшественника «натуральной школы» и быто-
писца. Дело даже не в стилистике — Гоголь писатель магиче-
ский, фантасмагорический, его интересует не поверхность жиз-
ни, а ее глубина, в которой бессмертные души становятся мерт-
выми, люди обращаются в оборотней, а в оргиях участвуют не
только герои, но и их вещи.
Модернист тем и отличается от реалиста, что у последнего и
люди становятся вещами, а у первых и вещи уподобляются лю-
340
дям, оживают. И тогда дорожная шкатулка Чичикова превраща-
ется в круг ада и точную модель его души, вскрытой художни-
ком-вивисектором. Вот описание этой шкатулки, прокомменти-
рованное В. В. Набоковым:
В самой средине мыльница [Чичиков — мыльный пузырь,
пущенный нертом], за мыльницею шесть-семь узеньких пе-
регородок для бритв [пухлые щеки Чичикова, этого мнимого
херувима, всегда были гладкими, как атлас]; потом квадрат-
ные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолблен-
ною между ними лодочкой для перьев, сургучей и всего,
что подлиннее [писчие принадлежности для собирания мерт-
вых душ]; потом всякие перегородки с крышечками и без
крышечек для того, что покороче, наполненные билетами
визитными, похоронными, театральными и другими, кото-
рые складывались на память [светские похождения Чичико-
ва]. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимал-
ся, и под ним находилось пространство, занятое кипами
бумаг в лист [а бумага — главное средство общения у чер-
та], потом следовал маленький потаенный ящик для де-
нег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки [сердце Чи-
чикова]. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался
в ту же минуту хозяином [систола-диастола], что наверно
нельзя сказать, сколько было там денег [автор и сам этого
не знает].
Анализируя замысел Мертвых Душ, сравнивая поэму с
«вечными творениями», я раз за разом возвращаюсь к Улиссу
Джойса. Слишком во многом Гоголь упредил джойсовский тита-
низм: та же пародия на мировой процесс, те же бесконечные ку-
льтурно-исторические реминисценции, та же многоликость и
многослойность, та же насыщенность персонажами и событиями
глобального масштаба, то же сочетание глубочайшей продуман-
ности и спонтанности, те же гротески и сарказм... Стандартные
параллели с Гомером, как мне кажется, притянуты за уши, па-
раллели с Джойсом гораздо естественней и понятней. Героике
Гомера противопоставлены ирония, пародия, снижение, бурлеск:
сосиски с капустой в затхлом трактире Чичиков съедает под при-
стальными взглядами «исторических лиц», глядящих с портретов,
на покупку мертвых душ «глядит с чрезвычайным вниманием»
Багратион с орлиным носом, поездка Чичикова происходит не
только под свист птицы-тройки, но в сопровождении всадников
и полководцев, знаменитостей и вождей.
341
Просто удивительно, что в огромной литературе, посвящен-
ной истокам модернизма и предтечам Джойса, не оставлено мес-
та главнейшему из них — Гоголю...
Называя себя «историком предлагаемых событий», Го-
голь как бы высмеивает и свою роль летописца, русского
Гомера, который вынужден повествовать не о великих дея-
ниях своей нации, а о делах мелких, суетных и столь ни-
чтожных, что люди, участвующие в них, выглядят не более
мухи — с мухами и мушками Гоголь не раз сравнивает как
живых, так и мертвых героев поэмы. Как мухи, облепившие
рафинад, ползают и перелетают с места на место губернские
жители на балу; как мушки, налеплены в списке умерших
крестьян Плюшкина их фамилии. Сам Плюшкин сравнива-
ется с пауком, оплетающим паутиною все живое, что нахо-
дится вблизи него.
Обнаруживается, что в губернии, где губернатор выши-
вает по тюлю, идут настоящие сражения, крестьяне бунту-
ют и убивают чиновников, что купцы на ярмарках дерутся
насмерть и по дорогам валяются мертвые тела. А в город-
ской тюрьме вот уже третий год сидит некий пророк,
явившийся неизвестно откуда, в лаптях и нагольном тулу-
пе, и возвестивший, что грядет антихрист. Мигом всплы-
вают наружу в преувеличенном виде все грехи, преступле-
ния, злоупотребления законом и властью. И про дам ста-
нет известно, что многие из них способны на «другое-тре-
тье»...
Чичиков в воспаленном воображении дам и отцов города
приобретает последовательно несколько ликов. Сначала его
принимают за «приятного человека», «благонамеренного че-
ловека», за «ученого человека», за «дельного человека», за
«любезнейшего и обходительнейшего человека», потом воз-
никает словцо «миллионщик», уже несколько заставляющее
Чичикова подрасти в их глазах. Затем миллионщик превра-
щается в «херсонского помещика», а с момента заваривания
«каши» рост Чичикова становится каким-то лихорадочно-
страшным: вот он уже и советник генерал-губернатора, и
«шпион», и делатель фальшивых ассигнаций, и «разбой-
ник», и Наполеон, бежавший с острова Святой Елены, и,
наконец, сам Антихрист.
342
Чем не джойсовская стихия? Чем не анти-Гомер?
Гоголь, как затем Джойс, не скрывал, а всячески подчеркивал
вселенский масштаб, глобальный замысел и смысл своей поэмы,
мастерски манипулировал с пространством и временем, даже
ввел мифологически-модернистский мотив восстания из мерт-
вых, более полно обыгранный затем Джойсом в Поминках
по Финнегану. Подобно тому, как Гоголь освещал мировые
пространства и времена «русским лучом», так и Джойс затем ис-
пользовал с той же целью луч ирландский...
Сами пространства России порождают мысль о колосса-
льности усилий и размерах гоголевского замысла, само же-
лание показать Русь не с одного боку, а «всю» соответствует
этой идее. И ритм гоголевской прозы, почти переходящей
на гекзаметр, как бы навевается бесконечностью русских
просторов, которые он лишь за несколько глав до этого так
высмеивал в речах Чичикова: «Чичиков начал как-то очень
отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и
отозвался с большою похвалою об его пространстве, сказал,
что даже самая древняя римская монархия не была так ве-
лика...»
В сфере человеческих качеств Гоголя и Джойса сближала вир-
туозная способность эксплуатировать всех встречных и попереч-
ных: полуслепой Джойс не упускал ни единой возможности да-
вать поручения даже случайным посетителям, с которыми встре-
чался единственный раз в жизни.
[Гоголь] изобрел поразительную систему покаяния для
«грешников», принуждая их рабски на себя трудиться: бе-
гать по его делам, покупать и упаковывать нужные ему кни-
ги, переписывать критические статьи, торговаться с набор-
щиками и т. д. В награду он посылал книгу вроде «Подра-
жания Христу» с подробными инструкциями, как ей поль-
зоваться.
Откиньте все свои дела и займитесь моими — вот лейт-
мотив его писем, что было бы совершенно законно, если бы
адресаты считали себя его учениками, твердо верующими,
что тот, кто помогает Гоголю, помогает Богу... По-видимо-
му, он не был чересчур щепетилен и злоупотреблял своими
божественными правами.
343
живопись слов
Найдешь слова, найдутся выра-
жения. Огни, а не слова излетят от
тебя, как от древних пророков...
Н. В. Гоголь
А. А. Иванов не случайно был для Гоголя образцом художни-
ка и идеалом преданного делу человека. Нужно, как Иванов,
умереть для всех приманок жизни, как Иванов, учиться и считать
себя вечно учеником, как Иванов, отдаться делу своему, как мо-
нах — монастырю. Но это не все — нужно во всем быть самозаб-
венным живописцем — и тогда «огни, а не слова излетят от тебя,
как от древних пророков...».
Писательство было для Гоголя живописью слов — фейервер-
ком, рожденным поиском и вдохновением. И тогда — «тетрадь
подставлена — струись».
Я не склонен фетишизировать язык Гоголя, который, как
считают «новые критики», есть единственная тема, единствен-
ный герой и единственная его реальность. И тем не менее можно
согласиться с тем, что «форма произведений Гоголя и есть их со-
держание»: «темой лучших сочинений Гоголя в конечном счете
является их собственное литературное бытие».
Подобно тому, как в «Ревизоре» один герой — смех, в
«Мертвых Душах» один положительный персонаж — сам
язык Гоголя.
Как писал Д. Фэнгер, «поскребите гоголевский персонаж, и
вы обнаружите голую словесную ткань». Что хотел сказать аме-
риканский русист? Что поэтическое творчество есть «творчество
из ничего», что только поэту дана способность превращать пре-
зренный предмет жизни в «перл созданья», что острую нехватку
жизненного опыта художник способен восполнить «лингвистиче-
ски», что слова поэта и есть дела его?
В этом отношении Гоголь — клад для структурализма, все его
творчество — «гигантский троп», сквозная метонимия, символи-
ческая гипербола, материал для «пристального чтения». Обратите
внимание: Достоевский записывал идеи романов, Толстой вел
дневник, Чехов записывал сюжетные заготовки, Гоголь составлял
перечни слов и выражений, редких по употреблению и звучанию...
344
Существует «поток сознания», но существует и «поток речи».
Поток речи Гоголя — мера бытия, предметно-речевой хаос само-
очищающейся души, результат самоэкзорциума — изгнания де-
мона. Тайна космизма Гоголя — его речь, поток его речи, чье со-
отношение с опытом повседневности все еще остается дразняще
невыясненным (Д. Фэнгер).
Сюрреализм Гоголя в значительной мере обязан его языку,
рождающему этот язык воображению, сновидческой фантазии,
ищущей адекватного выражения в сновидческом языке.
Гоголь — не только деформатор образа, но и экспериментатор
языка. Ни к кому, больше чем к нему самому, не относятся сло-
ва, взятые из его Переписки: «...необыкновенное соединение
самых высоких слов с самыми низкими и простыми». В стиле
Гоголя мерная, закругленная, торжественная речь, звучащая как
гармоничные аккорды старой музыки, внезапно сменяется беше-
ными ритмами и диссонансами, скрипами и шорохами музыки
новой. Нам еще предстоит разговор о музыкальности Гоголя, но,
предвосхищая его, можно сказать, что Гоголь редко находил себе
музыкальных комментаторов в XIX веке именно по причине их
нечуткости к его «додекафонии», которая, может быть, впервые
удалась Шостаковичу в незаслуженно забытой ныне опере Нос.
Тон его повествований не спокойный и размеренный, а
порывистый, бурный. Речь его льется широким лирическим
потоком, прерывается восклицаниями, сыплет шутками,
впадает в шутовство даже и опять поднимается до пышной
лирики... Порывистость и бурность речи находит свое выра-
жение в обилии восклицаний, в любви к периодам. Стиль
Гоголя пестрит и теми, и другими.
Еще А. Белый заметил, что у Гоголя «вместо определения
предмета — куча слов, отсылающих к пустоте». Комментируя это
замечание, В. Турбин пишет: «Не сказано было важнейшего: пус-
тота у Гоголя — порождающая пустота. Из ничего возникает
все». Но ведь именно в этом извечный смысл всякого творчества:
все из ничего.
Ходил я к поэтам и спрашивал у них, что именно они
хотели сказать. И чуть ли не все присутствующие могли
объяснить это лучше, чем они сами. Не мудростью могут
они творить то, что они творят, а какой-то прирожденною
345
способностью и в исступлении, подобно гадателям и прори-
цателям.
В статье В чем же, наконец, существо русской
поэзии и в чем ее особенность? Гоголь писал:
...сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем
все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых
до самых нежных и мягких; он беспределен и может, жи-
вой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с од-
ной стороны, высокие слова из языка церковно-библейско-
го, а с другой стороны — выбирая на выбор меткие назва-
нья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по на-
шим провинциям, имея возможность, таким образом, в од-
ной и той же речи восходить до высоты, не доступной ника-
кому другому языку, и опускаться до простоты, ощутитель-
ной осязанью непонятливейшего человека, — язык, кото-
рый сам по себе уже поэт...
Эти слова — программа для собственного пользования, тео-
рия «двух языков», на которых писал сам Гоголь. Писал намерен-
но и непреднамеренно, писал продуманно и самопроизвольно...
«Я до сих пор, — писал он Плетневу в 1846 году, — как
ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой — первые
необходимые орудия всякого писателя. Они у меня до сих
пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных пи-
сателей». Зная свои недостатки, Гоголь часто просил исп-
равлять его произведения то Прокоповича, преподавателя
русской словесности, то Шевырева, то Плетнева, то Пого-
дина. Погрешности Гоголя против русского языка действи-
тельно чрезвычайно обильны.
Приходилось изобретать собственную грамматику и соб-
ственный синтаксис. Гоголь так и поступал. Он выдумывал
обороты, соединения предложений, выражения. В извест-
ной мере он мог про себя сказать, что однажды сказал...
Маяковский: «Зачем я буду служить русскому языку; пускай
он лучше служит мне».
Гоголя спасала гениальность, изобретательность, редкая
память, упорство, эстетическое чутье, музыкальность. Из
захолустных, разговорно-обиходных выражений, из слов
церковно-славянских, старинно-песенных, из оборотов,
изобретенных самим Гоголем, получился язык крайне свое-
образный, массивный и легкий, поражающий только Гого-
346
лю свойственными расстановками слов, связью, склонения-
ми и спряжениями, семинарской витиеватостью и кудряво-
стью, длиннотами и повторами, высоким лиризмом и самой
житейской прозой. Все это причудливое сочетание необык-
новенной гибкости, звучности, стихийности и умысла при-
дало языку Гоголя что-то шаманское и колдовское.
Язык Гоголя — язык заклятий. Может быть, никто из
писателей не верил так в магическое, во всемогущее дейст-
вие слова, как верил в него Гоголь. Он верил, что словами
можно пронять и переродить любого человека; считал, что
его слово облечено особой силой, данной ему свыше. В сло-
ве — спасение от пороков и грехов...
В. В. Стасов:
С Гоголя водворился на России совершенно новый язык;
он нам безгранично нравился своей простотой, силой, мет-
костью, поразительной бойкостью и близостью к натуре. Все
гоголевские обороты, выражения быстро вошли во всеобщее
употребление. Даже любимые гоголевские восклицания:
«черт возьми», «к черту», «черт вас знает», и множество дру-
гих сделались в таком ходу, в каком никогда до тех пор не
бывали. Вся молодежь пошла говорить гоголевским языком.
В. В. Ерофеев:
Гоголевское слово... обладает исключительной устойчи-
востью. Оно почти не подвержено процессу разложения, то-
му естественному процессу, который вызван несовершенст-
вом читательской памяти. По прошествии времени читатель
в той или иной степени забывает прочитанную книгу: раз-
мывается сюжет, распадаются внутрифабульные связи, пер-
сонажи утрачивают имена и т. д. Этот мало исследованный
процесс разложения в конечном счете приводит к тому, что
в памяти остается лишь общее настроение книги, ее индиви-
дуальный «аромат». С Гоголем происходит нечто обратное.
Чем больше времени проходит после чтения поэмы, тем бо-
лее выпуклым становится ее сюжет... Если так можно выра-
зиться, время доводит Гоголя до полного совершенства.
А. Белый:
До девяти раз переписывал и отделывал слог Гоголь, ра-
ботая над «Вечерами». И вот — произведение яркости нео-
347
бычайной, где каждый период узорной речи, озарив лаби-
ринты далей мгновенным, как зарница, блеском, замыкает
их кованым словом; где каждая фраза, точно убранная к
венцу невеста жемчуговым кокошником, так плавно колы-
шется в кисейной фате слов; где каждое слово, что яркий
позумент на сарафане у невесты.
Здесь словесность не словесность; здесь, как на мраморе,
извивается творческий порыв. Так писали художники слова,
давшие нам и стиль, и слог.
Сам Гоголь сознавался, что писательский труд давался ему с
«болезненным напряжением», а каждая строка «доставалась по-
трясением». Это действительно было творчество-подвижничест-
во, творчество-подвиг. Гоголь не только «вытаскивал из себя
фразы клещами», но и бесконечно шлифовал свои перлы, не
удовлетворяясь самим совершенством: его мнительной и экзаль-
тированной душе всегда казалось, что творения его полны недо-
статков, и он не мог остановиться, раз за разом стремясь дать
«последний туш своей картине».
В. Брюсов:
В оценке своих произведений Гоголь проявлял ту же не-
умеренность, то же увлечение крайностями, как и во всем
другом. Порою он готов был отрицать за ними всякое зна-
чение, доходить в отзывах о себе до крайнего самоуничиже-
ния. В 1836 г., в письме к Жуковскому, он отрекается ото
всех своих созданий.
Пожалуй, Гоголь был первым русским писателем, уделявшим
столь огромное внимание технике письма, мастерству. Он, как
никто, употреблял много усилий на шлифовку и отделку.
Нет у него в тексте ни одной случайной подробности, ни
одной зря произнесенной персонажами реплики. Каждый,
самый незначительный аксессуар «Мертвых Душ» работает,
выполняя свою, порою исключительно ответственную фун-
кцию в живой реалистической ткани произведения... каж-
дая, на вид кажущаяся несущественной, обмолвка автора
имеет колоссальнейшее значение.
По словам А. Белого, стиль Гоголя стал «вторичным произра-
станием сюжетной фабулы»: он придавал огромное значение со-
348
отношению между стилем и сюжетом, фабулой, темой. По сло-
вам того же А. Белого, гоголевское содержание зарыто в детали
и, «не приняв во внимание особенности гоголевского сюжета...
будешь глядеть в книгу, а видеть фигу».
Ю. Манн: у Гоголя «огромную роль играют тема, ситуация и
т. д., но вне стилистической обработки они просто не существу-
ют и ничего нам не говорят».
Противоречие — и в языке его. С одной стороны, безгра-
ничная власть над языком: не он ли расплавил алмазно-
твердый стих Пушкина и перелил его в новые формы? С
другой — какая-то детская беспомощность, неумелость,
косноязычие.
«Боюсь нагрешить против языка» — это вечный страх
его. За границей он так отвык от русской речи, что самые
простые выражения затрудняли его. «Слог и язык... у меня
до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дур-
ных писателей, так что надо мною имеет право посмеяться
едва начинающий школьник». — «Возьмешься за перо —
находит столбняк». — «Перо в руках моих, как деревянная
колода, между тем как мысли мои состоят из вихря».
Величайший реализм, меткость, точность слова: как буд-
то оно не описывает, не изображает предмет, а само стано-
вится предметом, новым явлением, новою реальностью.
И рядом с этим — фантастическая призрачность, неимовер-
ные преувеличения, гиперболы, исполинский «громоздь»:
«дико, громадно все, — нечаянно определяет он себя в дру-
гом, — этот громоздь служит на то, чтобы неестественною
силою оживить предмет, так что, кажется, как бы тысячью
глазами гладит он».
Свидетельствует Н. В. Берг:
...Шевырев исправлял, при издании сочинений Гоголя,
даже самый слог своего приятеля, как известно, не особен-
но заботившегося о грамматике. Однако, исправив, должен
был все-таки показать Гоголю, что и как исправил, разуме-
ется, если автор был в Москве. При этом случалось, что Го-
голь скажет: «Нет, уж оставь по-прежнему!» Красота и сила
выражения иного живого оборота для него всегда стояли
выше всякой грамматики.
349
А. Белый:
Что за слог!
Глаза у него с пением вторгаются в душу, а то вытягива-
ются клещами, волосы развиваются в бледно-серый туман,
вода — в серую пыль; а то вода становится стеклянной ру-
башкой, отороченной волчьей шерстью-сияньем. На каж-
дой странице, почти в каждой фразе перехождение границ
того, что есть какой-то новый мир, вырастающий из души в
«океанах благоуханий» («Майская ночь»), в «пото-
пах радости и света» («Вий»), в «вихре веселья»
(«Вий»). Из этих вихрей, потопов и океанов, когда деревья
шепчут свою «пьяную молвь» («Пропавшая грамота»),
когда в экстазе человек, как и птица, летит... «и каза-
лось... вылетит из мира» («Страшная месть»), рожда-
лись песни Гоголя; тогда хотелось ему песню свою «об-
лечь... в месячную чудную... облить ее свер-
кающим потоком солнечных ярких лучей и
да исполнится она нестерпимого блеска» (из
«Набросков» Гоголя).
И как реализм Гоголя слагается из двух сказок о дочело-
веческой и сверхчеловеческой земле, так и естественная
плавность его слога слагается тоже из двух неестественно-
стей. Она слагается из тончайшей ювелирной работы над
словом, и притом такой, что остается совершенно непонят-
ным, как мог Гоголь, нагромождавший чудо технического
искусства на чуде, так что ткань его речи — ряд технических
фокусов, — как мог Гоголь именно при помощи этих фоку-
сов выражать экстаз своей души живой? Такова одна сторо-
на гоголевской стилистики, перебиваемая подчас грубым,
даже не грамматическим оборотом речи или совершенно
грубым, нелепым и даже пошлым приемом. Такие ничего
не говорящие эпитеты, как «чудный», «роскошный»,
«очаровательный», пестрят слог Гоголя и сами по себе
ничего не выражают; но в соединении с утонченнейшими
сравнениями и метафорами придают особое обаяние слогу
Гоголя... Слог Гоголя одновременно и докультурный, и вме-
сте с тем слог Гоголя превосходит в своей утонченности не
только Уайльда, Рембо, Сологуба и других «декадентов», но
и Ницше подчас.
350
В Мастерстве Гоголя Андрей Белый, дотошно разби-
рая его стиль, называет творчество школой, великим экспери-
ментом, лабораторией языковых опытов:
Гоголь, будучи лабораторией языковых опытов, не зам-
кнут каноном; он — почва взаимооспаривающих школ; «на-
туральная школа», вытянув несколько граней его, в эпиго-
нах противопоставила себя другим граням; в исходе лишь ее
из Гоголя казалось, что целиком он воплотим в ней; но «на-
туральная школа» разрисовала передний план «Мертвых
душ»; у Гоголя он овеян фигурой фикции.
Наряду с натурализмом в Гоголе живы моменты, став-
шие позднее тенденцией борьбы символистов, инструмен-
талистов, импрессионистов с крайностями натурализма, пе-
реобремененного статикой; эти моменты у Гоголя долгое
время не виделись; в начале века они явно бросались нам в
глаза.
Виноградов указывает: до декадентов Гоголь дал под
влиянием де Квинси образ декадента-опиомана: звуковая
метафора, соответствие звуков, жестов и красок, культиви-
руемое эстетикою романтизма, напевность, — все то, что
поздней модернисты были притянуты к Верлену, к Рембо, к
прозе Ницше, — оказалось у Гоголя налицо.
А. Белый особенно подчеркивает модернизм Гоголя, его опре-
деляющее значение для современного искусства.
Я дал ощупь некоторых сюжетных деталей «Страшной
мести» и «Мертвых душ»; не придется доказывать, что реа-
лизм Гоголя непроизвольно насыщен символизмом; я пока-
зал роль звуковой метафоры в гоголевском языке; не при-
дется ломать копий за то, что лозунги Рембо до них были
Гоголем вобраны, так сказать, под шумок; я показал его
ритмы, аллитерации; смешно не видеть, что лозунг Верлена
о музыке в поэзии не был чем-то самим собою разумею-
щимся для Гоголя.
Когда это всплыло для глаз «модернистов», иные из них,
некогда следовавшие за плакатами западных бунтарей, ока-
зались в круге влияния Гоголя, заменившего им семинарий
по Ибсену, Метерлинку, Верхарну, Уайльду и Ницше; резу-
льтат семинария тут же сказался, как рост «гоголизма».
Нет связующей их традиции Гоголя с Сологубом; ана-
лиз же ходов Сологуба и вопрос, куда чалит проза «Мелко-
го беса», методом исключения (не к Толстому, Достоев-
351
скому, Лескову и Салтыкову) заставляют признать: она —
не без Гоголя, которого в истоках сологубовской прозы нет;
нет и в сознании, протянутом к Западу; тем не менее Го-
голем транспарирует «Мелкий бес»: в предисловии вскры-
лось и «горьким смехом моим посмеюся», и «нечего пенять,
коли рожа крива»', непроизвольно реставрировались «Мер-
твые души» — миром провинциальных мещан из опустив-
шихся мелких интеллигентов; классовые прослойки —
иные; но та ж на них провинциальная пыль, оседавшая
шестьдесят лет, отделивших «Мелкого беса» от «Мертвых
душ»: Сологуб прав: «этот роман — зеркало»; «Нет... ми-
лые современники, это я о вас писал»; Передонов взят из
натуры.
"Белый признается, что и его творчество — только ответвление
от гоголевского, приводит множество параллелей и парафраз и
заключает:
Ряд фраз из «Шинели» и «Носа» — зародыши, выраста-
ющие в фразовую ткань «Петербурга»; у Гоголя по Невско-
му бродят носы, бакенбарды, усы; у Белого бродят носы
«утиные, орлиные, петушиные»; бредут «котелок, трость,
пальто, уши, нос и усы». Фразочка «Шинели» — «виноват
петербургский климат» — в «Петербурге» целая фразеоло-
гия, становящаяся тенденцией: «изморозь... награждала
гриппами»; «в зараженной бациллами невской воде»; «петер-
бургская улица... леденит костный мозг...', ...тенет лихорад-
кой»; «о, зеленые, кишащие бациллами воды»; в бреду Неуло-
вимого и бацилла становится «тенью»: «Петербург» стоит
на болоте... Биология теней не изучена»; они входят «бацил-
лами всевозможных болезней...; желудок не варит... угнета-
ет... галлюцинация»; климат рождает бациллу, бацилла же
плодит бред...
Полагаю, что сказанного достаточно, чтобы видеть: про-
за Белого в звуке, образе, цветописи и сюжетных момен-
тах — итог работы над гоголевскою языковою образностью;
проза эта возобновляет в XX столетии «школу» Гоголя.
Гоголя называли поэтом задолго до Белого, но именно Борис
Николаевич разъяснил гоголевскую прозу как тончайшую, пол-
нозвучнейшую из поэзии. Проза — труднейшая форма поэзии,
ритм прозы Гоголя сложен. Проза Гоголя, как выяснил Белый,
обильно уснащена дактило-хореическими ритмами, близкими к
352
гекзаметру, она часто играет на анапестах, ямбах: «Когда же пой-
дут горами по небу синие тучи... Водяные холмы гремят, ударя-
ясь о горы...»
u—|uu—|u—|u—|uu—|u
uu- |uu—|u—|uu—|uu—|ul
To соединяет собою она два течения темпов, образуя в местах
пересечения их удары, из слов (это уже не «ухабы», а преднаме-
ренное воздействие ритма), как-то:
«Когда же пойдут горами по нёбу синие тучи»,
1 «Чёрный лес шатается до корня,
2 Дубы трещат и молния,
3 Изламываясь между туч,
4 Разом
5 Осветит целый мир —
6 Страшен тогда
7 Днепр!»
(«Страшная месть»)
Я, пишет Белый, нарочно расположил приводимый от-
рывок стихами; курсивом подчеркнуты столкновения ударе-
ний (тун — разом, мир — страшен, тогда — Днепр). Ритм от-
рывка в изысканном повторении столкновения ударений
(ии_1_1И, uu_i_iUj u——); между смежными ударяемыми
слогами, ударениями, естественно образуется пауза (ии-||—
и, uu—Ц—и, и—Ц—); слова разом, страшен и Днепр, ей осо-
бенно выделанные, ритмические ударенья и паузы, совпа-
дая с логическими, превращают толчки и «ухабы» в гармо-
нию ритма:
«Страшен —
Тогда —
Днепр...»
И три слова — удары. Ударами Гоголь играет с невероят-
ным умением; среди дактило-хореических стоп ряд ударов,
образующих эпитриты [четырехсложные размеры]:
1 «и» и «—» — неударяемые и ударяемые слоги соответственно.
353
«Дитя,
Спавшее на руках Катерины,
Вскрикнуло и пробудилось. Сама
Пани Катерина вскрикнула.
Гребцы пороняли шапки в Днепр.
Сам
Пан
Вздрогнул.
Всё
Вдруг
Пропало...»
(«Страшная месть»)
Поэтическими приемами уснащена проза Гоголя: в ней
бьется рифма: «щелк-нув, как волк зубами (щелк — волк)
(«Страшная месть»), «и лежит, и храпит на весь Киев»
(«Страшная месть»), «шумит, гремит конец Киева» («Страш-
ная месть»), «будет все поле с облогами и дорогами покры-
то... их... костями, щедро обмывшись... их кровью и покрыв-
шись...» и т. д. (облогами — дорогами, покрывшись — обмыв-
шись); иногда рифмы так спрятаны, что сознание не улавли-
вает их: «подбородок задрожал и заострился как копье, изо
рта выбежал клык, и стал казак — старик» («Страшная
месть»); эта фраза построена на том, что три последние сло-
ва «стал казак — старик» суть рифмы: стал — задрожал,
клык — старик, казак — как.
Аллитерациями полна проза Гоголя: «Девяностолетнее,
столетнее старье (сто-сто-ста), «гордо озираясь на сторо-
ны, готовы были понестись (рдо-ра-тор-то-ти), подборо-
док задрожал и заострился... изо рта выбежал...» и т. д. (д-
ород-дро-три-рта), «выдирать и выдергивать (выдир-выдер,
ать-ать) («Тарас Бульба»).
Проза Гоголя полна ассонансов: «Судьбу свою. Будет, бу-
дет...» (у-у-ю-у-у) («Тарас Бульба»); или: «услышав полков-
ничий приказ, слуги бросились к возам, палашами перере-
зывали крепкие веревки, снимали толстые воловьи кожи и
попоны и стаскивали с воза баклаги и бочонки...» («Tapac
Бульба»); выписывая ударные гласные и принимая во вни-
мание, что «ё» звучит как «ио» (близко к «о»), имеем следу-
ющую волну ударных гласных: ыоауо-ааеео-аоооо-ао-ао...
354
Ассонансами богат Гоголь более, чем любой из извест-
нейших стихотворцев.
Невероятно богат он оригинальностью своих троп (мета-
форами, метонимиями, эпитетами): «ветер дергал воду ря-
бью», «холод прорезался,., в жилы», «искрами, будто пылью,
осыпали себя казаки» и т. д. Выраженьями, подобными
приводимым, полна «проза» Гоголя, — полно, да «проза» ль
она? Тропами, фигурами речи, звучанием звуков словесных,
искусно закрытыми рифмами, ритмами, вольными, изощ-
ренными метрами она нам гласит, что она есть чудесней-
ший стих, а не проза; воистину: нет прозы в «прозе» вели-
ких художников слова.
Анализируя стиль Гоголя, А. Белый заключает, что все луч-
шие приемы современных стилистов-модернистов уже налицо у
творца Мертвых Душ: обилие аллитераций, сложные эпите-
ты, дерзкие до чрезвычайности, скопления глаголов, существите-
льных и прилагательных, повторы, параллелизмы, замаскирован-
ные фигуры нарастания, тончайшие изгибы фразы, изысканные
формы, риторические приемы, бьющие по нервам.
А. Белый:
Я не могу перечислить здесь и сотой части всех тех созна-
тельных ухищрений, к которым прибегает стилистика Гого-
ля. Знаю только одно: в стилистике этой отражается самая
утонченная душа XIX столетия. Нечеловеческие муки Гого-
ля отразились в нечеловеческих образах; а образы эти вызва-
ли в творчестве Гоголя нечеловеческую работу над формой.
Есть и другие мнения. Эллис, например, считал, что при изу-
мительной меткости, изобразительности, точности, смелости и
утонченности стиля и языка Гоголя ему был присущ своеобраз-
ный дефект, своего рода дальтонизм художественного зрения —
дисгармония, отсутствие благородства, даже вульгарность.
Все это имеет другое определение — повышенная экспрессив-
ность, контрастность, заострение черт, гротескность детали, но-
ваторство, знакомое нам сегодня «при посредничестве» Ионеско,
Беккета, Кокто.
Речевая ткань «Мертвых душ» буквально перенасыщена
стилистическими микроконтрастами: это и комическая игра
словесными деталями путем смешения лексических пластов
355
разных семантических уровней; и словесная «мозаика»
смысловых ассоциаций — «игра» эпитетов, сравнений, си-
некдох, метафор; детализация второстепенного и краткий
намек на существо дела. Авторская речь также предстает в
самых разнообразных ипостасях, в широком диапазоне — от
высокой патетики до мрачной иронии.
Возвращаясь к музыкальности Гоголя, начну с его собствен-
ного признания:
Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух,
как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся
дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ло-
мает голову наш XIX век. Все составляет заговор против нас;
вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений рос-
коши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить
наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убе-
жать от этих страшных обольстителей — и бросились в му-
зыку. О, будь же нашим хранителем, спасителем, музыка! Не
оставляй нас, буди чаще наши меркантильные души, ударяй
резче своими звуками по дремлющим нашим чувствам! Вол-
нуй, разрывай их и гони, хотя бы на мгновение, этот холод-
ный ужасный эгоизм, силящийся овладеть нашим миром.
Гоголь был человеком музыкально одаренным — потому-то
многие музыканты прислушивались к ритмам его прозы, пытаясь
претворить их в гармонию звука. Почти все творения Гоголя по-
ложены на музыку. Уже к началу XX века существовало шесть
опер по мотивам Ночи перед Рождеством и столько же
на сюжет Тараса Бульбы. Среди них наиболее известны опе-
ры и балеты Н. Я. Афанасьева, К. П. Вильбоа, В. Н. Кашперова,
В. В. Кюнера, Н. В. Лысенко, П. П. Сокальского, В. П. Соловье-
ва-Седого и Р. М. Глиэра. М. И. Глинка на склоне лет начал, но
не успел завершить симфонию на темы Тараса Бульбы.
Майская ночь имела четыре музыкальных переложе-
ния — Сокальского, Лысенко, Серова и Римского-Корсакова, но
одно из них автор (Серов) уничтожил после критики Стасова.
Целиком положены на музыку Вечера на хуторе близ
Диканьки, Вий, Сорочинская ярмарка, Страш-
ная месть.
Первым облюбовал Кузнеца Вакулу Серов, задумавший
написать комическую оперу. Хотя из этого замысла ничего не
356
вышло, Серов проложил дорогу Чайковскому (Черевички),
Соловьеву, Щуровскому, Афанасьеву, Лысенко, Римскому-Кор-
сакову, Асафьеву, писавшим музыку по мотивам Ночи перед
Рождеством. Большинство этих музыкальных переложений
не отвечали «духу Гоголя», разве что Н. В. Лысенко удалось пере-
дать малороссийский колорит Ночи. Лысенко трижды обра-
щался к гоголевской тематике: им написана музыка к Тарасу
Бульбе и Утопленница. Композитор и знаток русской на-
родной песни А. Д. Кастальский написал хоры на тексты М е р -
твых Душ, а М. П. Мусоргский — неудачную Женитьбу, в
которой Балакирев и Кюи увидели только музыкальный курьез,
хотя В. В. Стасов был от этой музыки в восторге.
При переложении гоголевских текстов на музыку большинст-
во авторов решали свои, чуждые Гоголю задачи. В лучшем случае
им удавалось «схватить» гоголевский комизм или колорит, но не
гоголевскую глубину: они хорошо передавали гоголевский смех,
но не гоголевские слезы. Пожалуй, единственное выдающееся
исключение — опера Д. Д. Шостаковича Нос, поставленная в
Ленинградском Малом оперном театре и наделавшая много шума
в 1928-1933 гг.
Самое удивительное, что в наиболее гоголевские времена со-
ветской власти Гоголь почти не «озвучивался» — это было опас-
но, ибо коммунисты не терпели диссонансов, без которых Гоголь
переставал быть собой...
СМЕХ
Горьким словом моим по-
смеюся.
Пророк Иеремия
Чему смеетесь? Над собой
смеетесь!
Н. В. Гоголь
Очень много написано о смехе Гоголя, о «бившей в нем по-
стоянно струе неодолимого комизма». После Ревизора Гого-
ля наперебой приглашали «их светлейшества», пытаясь превра-
тить чуть ли не в домового скомороха, веселящего знатную пуб-
лику. Похоже, сам он скоро осознал навязываемую роль, о чем
свидетельствует эпатаж, о котором сообщал П. А. Кулиш:
357
Живя в Петербурге, еще во времена «Миргорода» и «Ре-
визора», Гоголь был принят очень радушно в одном доме,
где к обеду непременно надобно было являться во фраке.
Чтоб уклониться от соблюдения этой церемонии, Гоголь
подкалывал булавками полы своего сюртука и являлся та-
ким образом к обеду. Хозяева, по доброте своей, старались
не замечать этой выходки и прощали ее поэту.
Возможно, горечь в смехе Гоголя появилась не сразу, возмож-
но, как позже Чехов, поначалу он не имел сознательного намере-
ния заглянуть в бездны, но, мне кажется, как это почти всегда
случается с великими людьми, в молодом Гоголе уже в свертке
находился Гоголь зрелый.
В Театральном разъезде Гоголь сам разъяснит приро-
ду своего смеха:
Смех, который весь излетает из светлой природы челове-
ка... углубляет предмет, заставляет выступать ярко то, что
проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь
и пустота жизни не испугала бы так человека. Презренное и
ничтожное, мимо которого он равнодушно проходит всякий
день, не возросло бы перед ним в такой страшной, почти
карикатурной силе и он не вскрикнул бы, содрогаясь...
Это почти жан-полевская концепция смеха: смешное — неле-
пица, воспринимаемая чувством. Смех низводит великое до ма-
лого, возвышает малое до великого, таким образом уничтожая
оба понятия, поскольку пред лицом бесконечности все обраща-
ется в прах.
Если взглянуть, как это делали древние теологи, из
внешнего, необъятного мира на мир земной, то он кажется
крохотным и суетным; если измерить бесконечный мир
крохотным мирком, как это делают насмешники, сопостав-
ляя их между собой, то возникает смех, к которому приме-
шивается печаль и чувство величия.
Нечто подобное — у Фридриха Теодора Фишера: комиче-
ское как контрастное: одно и то же существо, то есть человек,
чья голова касается заоблачных высот духа, одновременно обе-
ими ногами стоит на земле, с которой он прочно связан. Ко-
мическое — это der ertappte Mensch — человек, застигнутый
врасплох.
358
Смех Гоголя не карнавален, как считал Бахтин, а
головокружителен, как определял Г. Брандес: «Ирония Гоголя
так глубока, что, заглядывая в нее, испытываешь нечто вроде
головокружения». В известном смысле смех Гоголя космичен: от
него такое же впечатление, как от мировых пространств, пугаю-
щих Паскаля.
Здесь нельзя не согласиться с Белинским, впервые обнару-
жившим у Гоголя смену комического воодушевления глубоким
чувством грусти, уныния и тоски.
М. М. Бахтин находил у Гоголя народную смеховую культу-
ру и раблезианскую карнавальную традицию. Но был ли смех
Гоголя (впрочем, как и смех Рабле), так сказать, «светлым»,
«высоким»? Совместимы ли мертвые души и омертвление вооб-
ще с карнавалом? Положительные ответы на эти вопросы мож-
но дать лишь в том смысле, в каком в испанском или мекси-
канском карнавале главным действующим лицом является
смерть.
К Гоголю больше относится другая характеристика М. Бахти-
на, данная им смеющимся беременным старухам керченских тер-
ракотов: «Это очень характерный выразительный гротеск. Он ам-
бивалентен; это беременная смерть, рождающая смерть».
Впрочем, как заметил Ю. Манн, к старухам из Сорочин-
ской ярмарки эта характеристика тоже неприменима.
Они не участвуют в круговороте жизни — они ее имити-
руют. Они не радостны; наоборот, их стойкая безрадост-
ность, мрачность («без детской радости, без искры сочувст-
вия») находятся в зловещем контрасте с производимыми
ими движениями танца. Они не несут в себе плода новой
жизни — в них лишь «равнодушие могилы».
Таким образом, можно констатировать два направления,
в которых совершается отход от всеобщности и цельности
народного действа. Одно — в сторону механической имита-
ции жизни, предвещающей столь значащие для зрелого Го-
голя моменты мертвенности, автоматизма, омертвления —
весь комплекс мотивов «мертвых душ». Другое направле-
ние — в сторону какой-то глубокой, томящейся в себе и
страдающей духовности.
359
Если Гоголю свойственна карнавальность, то часто — «пля-
шущих человечков», кукол, марионеток. Даже в танцах Соро-
чинской ярмарки герои скованы, у них, что называется,
«не подымаются ноги, да и только!». Даже в радостные моменты
жизни героев они испытывают комплекс своего создателя: «Ка-
кая-то грустная и странная нота готова в любую минуту оборвать
веселие «племени поющего и пляшущего».
Кстати, эта «механизация живого» положена в основу «тео-
рии смеха» Анри Бергсона, согласно которой смех определяется
механичностью человеческих движений, оторванных от внутрен-
него смысла, движения души. Жизнь — это дух, механизация
жизни — обездуховление. Смех, писал А. Бергсон, есть обще-
ственная реакция на социальную ненормальность, некий обще-
ственный жест, которого боятся, который пробуждает актив-
ность и изгоняет порок. Смех — победа человека над осмеивае-
мым.
Впервые это качество смеха Гоголя постиг, видимо, В. Роза-
нов, чьи этюды о Гоголе, включенные в книгу Легенда о Ве-
ликом инквизиторе Ф. М. Достоевского, во многом
определили современное понимание художественных находок ав-
тора Мертвых Душ:
Свое главное произведение он назвал «Мертвые души»
и, вне всякого предвидения, выразил в этом названии вели-
кую тайну своего творчества и, конечно, себя самого. Он
был гениальный живописец внешних форм и изображению
их, к чему одному был способен, придал каким-то волшеб-
ством такую жизненность, почти скульптурность, что никто
не заметил, как за этими формами ничего в сущности не
скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их.
Пусть изображаемое им общество было дурно и низко,
пусть оно заслуживало осмеяния: но разве не из людей оно
состояло? Разве уже для него исчезли великие моменты
смерти и рождения, общие для всего живого чувства и не-
нависти?
Комментарий Ю. В. Манна:
Сказанное В. Розановым определило не только целое
направление литературоведческих изысканий о Гоголе,
включая работы В. Брюсова и А. Белого, но и вообще ха-
360
рактер восприятия творчества писателя в течение несколь-
ких десятилетий.
Гоголевский гротеск — и, в частности, мотивы куколь-
ное™, автоматизма, мертвенности — был оценен как одно
из высочайших достижений русской и мировой культуры.
Особенно популярной такая точка зрения стала в первые
годы после Октября, о чем можно судить прежде всего по
интерпретации «Ревизора» в театре Мейерхольда (1926) —
интерпретации, которая подняла мотивы «манекенности»,
автоматизма и безжизненности на уровень монументального
гротескного образа России.
Но Гоголь не был бы Гоголем, если бы подменил людей мане-
кенами даже в смехе. За «куклами» Мертвых Душ фонтаном
бьет «живая жизнь», гротески необходимы ему не сами по себе, а
для контраста, мастером которого, как мы теперь знаем, был ве-
личайший писатель России.
Словом, увидеть многообразие во внешней механично-
сти, тонкость движений в резкой определенности, иначе го-
воря, человеческую полноту в ее комическом, гротескном
преломлении — так, вероятно, можно было бы определить
задачу сегодняшнего прочтения Гоголя.
В. В. Розанов, как известно, считал, что смех Гоголя имеет
разлагающее, сатирическое действие.
Розанов отожествляет смех с сатирическим смехом. Видя
в смехе лишь обличение, зубоскальство, издевательство,
проклятие, Розанов полагает, что «смеяться — вообще
недостойная вещь, что смех есть низшая категория челове-
ческой души... и что «сатира» от ада и преисподней, и пока
мы не пошли в него и живем на земле... сатира вообще не-
достойна нашего существования и нашего ума».
Смех, по Розанову, — составная часть нигилизма, но
«смех не может ничего убить. Смех может только прида-
вит ь».
Конечно же, смех Гоголя не карнавален, не сатиричен и не
убийствен — он человечен, многопланов и даже метафизичен,
бытиен. Вообще, смех Гоголя — недостаточно разработанная те-
ма, требующая своих Бергсонов, потому что здесь нужен профес-
сионализм, и именно — философский.
361
«МАЛЫЕ ФОРМЫ»
Я острю перо.
Н. В. Гоголь
Первые произведения Гоголя, написанные в лицее, носили
явно ученический, подражательский характер, были топорны и
неумелы. Братья Твердославичи, сожженные автором, по
свидетельству П. А. Кулиша, подражали повестям, появлявшим-
ся в тогдашних альманахах. Стихи были переполнены деланным
романтическим пафосом, подчеркиваемым множеством воскли-
цательных знаков.
Земля любви и море чаровании!
Блистательной мирской пустыни сад!
Тот сад, где в облаке мечтаний
Еще живут Рафаэль и Торкват!
Узрю ль тебя я, полный ожиданий?
Душа в лучах, и думы говорят,
Меня влечет и жжет твое дыханье,
Я — в небесах весь звук и трепетанье!..
До нас дошли отзвуки «гимназической критики» первых гого-
левских опусов:
«В стихах упражняйся, — дружески посоветовал ему
тогда Базили, — а прозой не пиши: очень уж глупо выхо-
дит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется, это сейчас
видно». «Но без приятельской поддержки Прокоповича и
стихи Гоголя были бы не годны, так как он никогда не
мог совладать с размером, с гармонией, а гоняясь за риф-
мами, так обезображивал всегда смысл своих творений,
что даже всегда сдержанный Прокопович приходил в
ужас».
Стихия Вечеров, как и всякая стихия, чарует неожиданно-
стью изменений: фантастической сменой страстишек и страстей,
феерией красок, мощью порывов, бурной сменой событий.
С одной стороны, перед нами обыденная жизнь, празд-
ничная, яркая, нарядная, но ужасно смешная, мелкая, ли-
шенная сильной страсти, могучей мысли и героического по-
рыва. Шумная ярмарка, задорная перебранка, бессмыслен-
ная сплетня, пошленькое волокитство, кипение мелких
362
страстишек — вот сцены, которыми пестрит Гоголь в своих
«Вечерах». И в этой ярмарочной обстановке, в атмосфере
бессмыслицы и пошлости, обделывают свои делишки мел-
кие и смешные люди: Хиври и Солохи, Черевики и Чубы со
своими сватьями и свояками, любовниками и любовница-
ми. С другой стороны, рядом развертывается иная жизнь,
полная страха и опасностей, но зато богатая молодецкой
удалью и раздольем, богатая сильными радостями, красивы-
ми порывами, серьезными, глубокими переживаниями. Ти-
хий, мечтательный вечер, темная, таинственная ночь, шепот
влюбленных, задушевная песня, таинственные силы, то
темные, нечистые, то добрые и светлые, порой кровь, блеск
стальных клинков и крики грозной сечи — вот сцены этой
бурной, драматической жизни.
Автор как бы нарочно чередует свои повести так, чтобы
за изображением мелкой и смешной обыденщины следова-
ла полная трагического пафоса картина столкновения силь-
ных страстей и героических подвигов.
В. В. Набоков считал Вечера и Миргород не более чем
юношескими опытами псевдоюмориста и возмущался тем, что
русские учителя забивали головы своих учеников этими скоро-
спелыми поделками.
В период создания «Диканьки» и «Тараса Бульбы» Го-
голь стоял на краю опаснейшей пропасти (и как он был
прав, когда в зрелые годы отмахивался от этих искусствен-
ных творений своей юности). Он чуть было не стал авто-
ром украинских фольклорных повестей и красочных ро-
мантических историй. Надо поблагодарить судьбу (и жажду
писателя обрести мировую славу) за то, что он не обратил-
ся к украинским диалектизмам как средству выражения,
ибо тогда бы он пропал. Когда я хочу, признается Набо-
ков, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представ-
ляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за
томом «Диканьки» и «Миргороды» — о призраках, которые
бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих ка-
заках.
Хотя Гоголь действительно начинается с Арабесок и рас-
крывается в Ревизоре, Шинели и Мертвых Душах, я
бы не сбрасывал со счетов Вия, Шпоньку или страшную месть —
эту лабораторию позднего Гоголя. Модернизм Гоголя никогда
363
позже не проявлялся так отчетливо, как в его ранних произведе-
ниях, где мы можем обнаружить отдельные фрагменты, от кото-
рых бы в XX веке не отказались Джойс или Кафка.
То представлялось ему, что он уже женат, что все в до-
мике их так чудно, так странно: в его комнате стоит вместо
одинокой — двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему
странно: он не знает, как подойти к ней, что говорить с
нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно повора-
чивается он в сторону и видит другую жену [тема удвоения
кровати развивается по логике сна], тоже с гусиным лицом.
Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена. На-
зад — еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бе-
жать в сад; но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в
шляпе сидит жена [Сон как фокус: размножение предме-
тов]. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за плат-
ком — и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу —
и там сидит жена... То вдруг он прыгал на одной ноге, а те-
тушка, глядя на него, говорила с важным видом: «Да, ты
должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый чело-
век». Он к ней — но тетушка уже не тетушка, а колоколь-
ня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колоко-
льню [Тут бы фрейдисты навострили уши!]. «Кто это тащит
меня?» — жалобно проговорил Иван Федорович. «Это я,
жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол». — «Нет, я
не колокол, я Иван Федорович!» — кричал он. «Да, ты ко-
локол», — говорил, проходя мимо, полковник П*** пехот-
ного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не чело-
век, а какая-то шерстяная материя; что он в Могилеве при-
ходит в лавку к купцу. «Какой прикажете материи? — гово-
рит купец. — Вы возьмите жены, это самая модная мате-
рия! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюрту-
ки». Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет
под мышку, идет к жиду, портному. «Нет, — говорит
жид, — это дурная материя! Из нее никто не шьет себе
сюртука...»
Разладу между мечтой и действительностью, трагедии худож-
ника посвящены повести Гоголя Портрет и Невский
проспект, в которых талант бытописателя многократно усили-
вается зоркостью модерниста. Одна из идей обеих повестей —
борьба творца с прозой жизни, борьба жестокая и полная страда-
ний, борьба, извечно кончающаяся гибелью дерзкого, возмутив-
шегося против действительности человека.
364
О! как отвратительна действительность! Что она против
мечты?
Боже! что за жизнь наша! — вечный раздор мечты с су-
щественностью!
Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша!
Получаем ли мы когда-нибудь то, что желаем? Достигаем ли
мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши си-
лы? Все происходит наоборот.
Разглагольствования о «реализме» Гоголя вступают в явное
противоречие с одной из идей Портрета: искусство, слишком
близко подошедшее к жизни, переходит черту искусства, стано-
вится частью «мирового зла»...
По собственному признанию Гоголя, главной мыслью всей
его жизни и творчества было: «Как черта выставить дураком»:
Уже с давних пор я только хлопочу о том, чтобы после
моего сочинения насмеялся вволю человек над чертом.
Что имел в виду Гоголь под «чертом»? Человеческое зло, его
глубинную сущность. Смех Гоголя — борьба со злом. Но не со
злом вселенским, сверхчеловеческим, сатанинским, а над злом
обыденной жизни, возможно, самой страшной разновидностью
мирового зла.
Единственный предмет гоголевского творчества и есть
черт именно в этом смысле, то есть как явление «бессмерт-
ной пошлости людской», созерцаемое за всеми условиями
местными и временными — историческими, народными,
государственными, общественными — явление безусловно-
го, вечного и всемирного зла, — пошлость sub specie
d e t е г n i, «под видом вечности».
Зло видимо всем в великих нарушениях нравственного
закона, в редких и необычайных злодействах, в потрясаю-
щих развязках трагедий; Гоголь первый увидел невидимое и
самое страшное, вечное зло не в трагедии, а в отсутствии
всего трагического, не в силе, а в бессилье, не в безумных
крайностях, а в слишком благоразумной середине, не в ост-
роте и глубине, а в тупости и плоскости, пошлости всех че-
ловеческих чувств и мыслей, не в самом великом, а в самом
365
малом. Гоголь сделал для нравственных измерений то же,
что Лейбниц для математики, — открыл как бы диффе-
ренциальное исчисление, бесконечно-великое зна-
чение бесконечно малых величин добра и зла.
Гоголь, первый, увидел черта без маски, увидел подлин-
ное лицо его, страшное не своей необычайностью, а обык-
новенностью, пошлостью; первый понял, что лицо черта
есть не далекое, чуждое, странное, фантастическое, а самое
близкое, знакомое, реальное «человеческое, слишком чело-
веческое» лицо, лицо толпы, лицо «как у всех», почти наше
собственное лицо в те минуты, когда мы не смеем быть са-
ми собою и соглашаемся быть «как все».
Очень силен у Гоголя мотив посрамления черта, превращения
последнего в «глупого шута». Эта гофмановская традиция, иду-
щая от Серапионовых братьев, становится доминирую-
щей в Ночи перед Рождеством.
Ю. В. Манн:
В «Ночи перед Рождеством»... снижение демонологиче-
ской традиции, посрамление черта становится собственной
темой. Вакула — художник, выполняющий религиозные сю-
жеты, а изобразить черта — со смешной или уродливой сто-
роны — значит овладеть злом, побороть его. Поэтому черт
мешает работе кузнеца, рисующего, как святой Петр в день
Страшного суда изгоняет из ада злого духа. А в конце пове-
сти Вакула в церкви «намалевал... черта в аду, такого гадко-
го, что все плевали, когда проходили мимо...».
Но тут, в финале повести, возникает неожиданная нота:
страх перед нечистой силой. Какое для этого основание? —
черт посрамлен и одурачен, обезврежен благочестивой ки-
стью Вакулы, но когда мать подносила ребенка к картине,
приговаривая «От бачь, яка кака намалевана!», то «дитя, удер-
живая слезинки, косилось на картину и жалось к груди своей
матери». По «Сорочинской ярмарке» мы уже знаем о гоголев-
ском приеме нарочито немотивированного грустного аккор-
да в финале; но тут имеет значение еще и образ ребенка.
Гоголю очень хотелось повергнуть черта в самом себе и собст-
венном народе, но правда жизни, могущество темной стихии, по-
мимо воли, брали свое, врываясь на страницы его произведений.
И самому Гоголю, как Хоме Бруту из Вия, не помогали в борь-
бе с темными силами ни крест, ни молитва.
366
Мережковский считал, что черт побеждает человека в Мер-
твых Душах, но это верно лишь для первого тома. Во втором
по замыслу Гоголя человек берет верх над чертом, Чичиков от-
рывается от черта, а «внутренний человек» изгоняет искусителя:
идеальное побеждает материальное, а «весь народ встает как
один человек».
Приоритет идеального над материальным у Гоголя следует
рассматривать в русском ключе: как победу «русского бескорыст-
ного духа» над «духом наживы». В торжестве материи — ужас
жизни, закруженной вокруг пустоты. Даже этот странный сим-
вол — завихривающаяся вокруг самой себя пустота как знак ма-
терии — очень точен: материя — пустота, русская материя — от-
сутствие, бесовство — торжество отсутствующего...
Впрочем, бес Гоголя имеет и другие лики — вплоть до дуэнде
Лорки и покровителя писателей Рембо: «Я представляю себе, что
черт, большею частью, так близок к человеку, что без церемонии
садится на него верхом и управляет им, как самою послушною
лошадью, заставляя его делать дурачества за дурачествами». По
свидетельству Д. К. Малиновского, суетных молодых людей Го-
голь называл щелкоперами и говорил, что они большею ча-
стью незнакомы с чертом потому, что сами для него вовсе не ин-
тересны...
Главный бес Гоголя, который уже сродни бесам Достоевского,
отнюдь не Чичиков, а герой второго тома — юрисконсульт, гений
зла, его философ и маг. Вслушайтесь в его речи, сравните с реча-
ми бесов Достоевского, внимательно прочтите работы Владимира
Ильича...
Подберутся обстоятельства, подберутся. Поверьте: от ча-
стого упражнения и голова сделается находчивою... первое
дело спутать. Так можно спутать, так все перепутать, что
никто ничего не поймет. Я почему спокоен? Потому что
знаю: пусть только дела мои пойдут похуже, да я всех впу-
таю в свое — и губернатора, и вице-губернатора, и поли-
цеймейстера, и казначея, — всех запутаю. Я знаю все их об-
стоятельства: и кто на кого сердится, и кто на кого дуется, и
кто кого хочет упечь. Там, пожалуй, пусть их выпутываются.
Да покуда они выпутаются, другие успеют нажиться. Ведь
только в мутной воде и ловятся раки. Все только ждут, что-
бы запутать.
367
У Гоголя уже вполне бесовская стихия, причем не абстрактно
бесовская, а конкретно-политическая, без пяти минут коммуни-
стическая...
В одной части губернии оказался голод. Чиновники,
посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как
следовало. В другой части губернии расшевелились раско-
льники. Кто-то пропустил между ними, что народился ан-
тихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-
то мертвые души. Каялись и грешили, и под видом изло-
вить антихриста укокошили не-антихристов. В другом ме-
сте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-
исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними
слухи, что наступает такое время, что мужики должны
быть помещики и нарядиться во фраки, а помещики на-
рядиться в армяки и будут мужики, и целая волость, не
размысля того, что слишком много выйдет тогда помещи-
ков и капитан-исправников, отказалась платить всякую
подать.
Хотя Гоголь после Вечеров предпочитал утренние часы
творчества вечерним, он — поэт ночи (я имею в виду не вдохно-
венные ночные картины, а ночные фантазии и гротески, ночное
видение жизни, темные страсти его героев). Праздничная, игро-
вая, фантастическая стихия первой книги писателя — огромная
ярмарка страстей человеческих, на которой темные силы хотя и
усмиряются светлыми, а болезненность автора еще глубоко
скрыта, однако же вполне распознаваема: картинами Страшного
суда, длинной чередой грешников, обилием чертовщины и мо-
гил. Да и зло карается слишком по-сказочному...
Первый в русской литературе образ мечтателя, каковым явля-
ется Пискарев, герой Невского проспекта, мог появиться
лишь у молодого Гоголя, да и здесь доминирует тема ухода от
«отвратительной» действительности в мир восторженных грез,
подхваченная затем Достоевским в Бедных людях. Впрочем,
и здесь «идеализм высшей натуры» уже ведет к «высокой и ужас-
ной драме»: «слабое сердце», робость, ранимость, беззащитность
не могли не вести к бегству от безобразной «существенности» в
мир снов и грез, к жизни «во сне». Кстати, даже имена «мечтате-
лей» Гоголя и Достоевского — Пискарев, Мышкин — содержат
иронический налет бессилия, иллюзорности попыток героев пре-
одолеть зло.
368
Подобно теме «Достоевский и Петербург», существуют бес-
счетные вариации темы «Гоголь и Петербург» — согласно одной
из них именно Петербург с его фантасмагориями сформировал
Гоголя. Почти не подлежит сомнению, что «Петербург» Андрея
Белого навеян гоголевскими мотивами и гоголевской фанта-
зией.
Немудрено, что Петербург обнаружил всю свою причуд-
ливость, когда по его улицам стал гулять самый причудли-
вый человек во всей России, ибо таков он и есть, Петер-
бург: смазанное отражение в зеркале, призрачная неразбе-
риха предметов, используемых не по назначению; вещи, тем
безудержнее несущиеся вспять, чем быстрее они движутся
вперед; бледно-серые ночи вместо положенных черных, и
черные дни — например, «черный день» обтрепанного чи-
новника. Только тут может отвориться дверь особняка и от-
туда запросто выйти свинья. Только тут человек садится в
экипаж, но это вовсе не тучный, хитроватый, задастый муж-
чина, а ваш Нос; это «смысловая подмена», характерная для
снов. Освещенное окно дома оказывается дырой в разру-
шенной стене. Ваша первая и единственная любовь — про-
дажная женщина, чистота ее — миф, и вся ваша жизнь —
миф. «Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лоша-
дьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на
своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему
навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами
вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось,
на самой реснице его глаз». Вот они, вывески («Невский
проспект»).
Много написано об антиурбанистском пафосе «петербургских
повестей» Гоголя, но на самом деле речь идет о гоголевском рус-
соизме, бегстве «назад к природе», ретризме, антицивилизато-
рстве.
Гоголь: физиологические люди, люди-тела, живущие, од-
нако, в фантастическом мире департаментов и проспектов,
в мире фантастических связей и соотношений. Им бы жить
где-нибудь на бахче или возле миргородской лужи, а они
проживают в Петербурге, фантастическом городе чинов и
благочиния.
369
Однако в своем антицивилизаторстве Гоголь непоследовате-
лен: сам-то бежал не из Петербурга в Васильевку «пощипать
травки», а из украинской глуши в столицу, из России — в Ев-
ропу...
Часто интерпретируют Нос как пародию, иронию, гротеск.
По мнению С. Петерсена, повесть Гоголя «по своей идее превос-
ходно осуществленная насмешка над всеми современными пред-
рассудками и верой в иррациональные процессы и силы, с точки
зрения же формы это ...reductio ad absurdum1 романтического
двойничества».
Мне представляется, замысел Гоголя гораздо глубже: если хо-
тите, Нос — это фрейдизм до Фрейда, или, как говорил сам
доктор Фрейд, «бунт против диктата мышления и реальности».
В своем Фрейде я перечисляю длинную череду предтеч, среди
которых Гоголь несомненно занимает ключевую позицию. Без
большого преувеличения можно сказать, что Нос — художест-
венный плацдарм на подступах к психоанализу, равно примени-
мому к этому художественному произведению и к его творцу.
Нос — мост из века XIX в век XX, симптом расщепления со-
знания и распада мира, первый мазок грядущего Пикассо.
Н. Я. Берковский:
Все связи в этом мире формальные, все живут in sich и
fur sich2, поэтому этот мир и мертвый — распадающийся.
Нет связей органических изнутри, нет связей взаимопитаю-
щих. Отдельная жизнь частей. Ср. Чичиков, который очень
любил свой подбородок, Василиса Цупчевська, тетушка
Шпоньки, очень ценившая собственные брови.
А ну-ка, накажем фетишистов деталей собственной
внешности внезапной пропажей одной из них, дадим ей от-
дельную жизнь — ты ее выхаживал отдельно, пусть и пожи-
вет отдельно.
На самом деле «проблема Носа» серьезней и глубже — если
хотите, это проблема духовная: утрата носа — это утрата Бога...
i Доведение до нелепости (лат.).
2 в себе и для себя (нем.).
370
И. Анненский:
Гоголь написал две повести: одну он посвятил носу, дру-
гую — глазам [«Портрет»]. Первая — веселая повесть, вто-
рая — страшная. Если мы поставим рядом две эти эмбле-
мы — телесности и духовности — и представим себе фигуру
майора Ковалева, покупающего, неизвестно для каких при-
чин, орденскую ленточку, и тень умирающего в безумном
бреду Чарткова, — то хотя на минуту почувствуем всю не-
возможность, всю абсурдность существа, которое соединило
в себе нос и глаза, тело и душу... А ведь может быть и то,
что здесь проявился высший, но для нас уже не доступный
юмор творения, и что мучительная для нас загадка человека
как нельзя проще решается в сфере высших категорий бы-
тия.
И. Анненский увидел в Н о с е пролог к Шинели, историю
бунта «маленького человека», двойника, восстанавливающего
свои попранные права: «Нос коллежского асессора Ковалева об-
рел на две недели самобытность. Произошло это из-за того, что
Нос обиделся, а обиделся он потому, что был обижен, или, точ-
нее, не вынес систематических обид».
В. В. Набоков:
...нос был самой чуткой и приметной чертой его внеш-
ности. Он был таким длинным и острым, что умел самосто-
ятельно, без помощи пальцев, проникать в любую, даже са-
мую маленькую табакерку, если, конечно, щелчком не отва-
живали незваного гостя (о чем Гоголь игриво сообщал в пи-
сьме одной молодой даме). Дальше мы увидим, как нос
лейтмотивом проходит через его сочинения: трудно найти
другого писателя, который с таким смаком описывал бы за-
пахи, чиханье и храп. То один, то другой герой появляется
на сцене, так сказать, везя свой нос в тачке, или гордо въез-
жает с ним, как незнакомец из «Повести Слокенбергия» у
Стерна. Нюханье табака превращается в целую оргию. Зна-
комство с Чичиковым в «Мертвых душах» сопровождается
трубным гласом, который он издает, сморкаясь. Из носов
течет, носы дергаются, с носами любовно или неучтиво об-
ращаются: пьяный пытается отпилить другому нос; оби-
татели Луны (как обнаруживает сумасшедший) — Носы.
Обостренное ощущение носа в конце концов вылилось в
рассказ «Нос» — поистине гимн этому органу. Фрейдист
371
мог бы утверждать, что в вывернутом наизнанку мире Гого-
ля человеческие существа поставлены вверх ногами... И по-
этому роль носа, очевидно, выполняет другой орган, и нао-
борот. Но фантазия ли сотворила нос или нос разбудил
фантазию — значения не имеет. Я считаю, что разумней за-
быть о том, что чрезмерный интерес Гоголя к носу мог быть
вызван ненормальной длиной собственного носа, и рас-
сматривать обонятельные склонности Гоголя — и даже его
собственный нос — как литературный прием, свойственный
грубому карнавальному юмору вообще и русским шуткам
по поводу носа в частности.
Я упоминал о пристрастии Гоголя к фольклору, о влиянии на
него не мировой культуры, но «случая из жизни», житейской ис-
тории, анекдота. Своим появлением на свет Шинель обязана
канцелярской побасенке о бедном чиновнике, страстном охотни-
ке, неутомимыми усилиями накопившем 200 рублей для покупки
хорошего лепажевского ружья и потерявшем оное на первой же
охоте. Из заурядного анекдота, рассказанного в дружеском кругу,
под его пером вышла гениальная история о человеческой сущно-
сти, глубины которой хватит для разработок еще не одному по-
колению литературоведов и психологов.
Гоголь не раз пользовался рассказами Щепкина как ма-
териалом для своих созданий. Случай, рассказанный в
«Старосветских помещиках» о том, как Пульхерия Иванов-
на появление одичалой кошки приняла за предвестие своей
близкой кончины, взят из действительности. Подобное про-
исшествие было с бабкой Щепкина. Щепкин как-то расска-
зал о нем Гоголю, и тот мастерски воспользовался им в
своей повести. Щепкин прочитал повесть и при встрече с
автором сказал ему шутя: «А кошка-то моя!» — «Зато коты
мои!» — отвечал Гоголь, и в самом деле коты принадлежали
его вымыслу.
В. В. Набоков:
Подлинный сюжет как всегда у Гоголя в стиле, во
внутренней структуре этого трансцендентального анекдота.
Для того, чтобы по достоинству его оценить, надо произве-
сти нечто вроде умственного сальто, отвергнуть привычную
шкалу литературных ценностей и последовать за автором
по пути его сверхчеловеческого воображения. Мир Гоголя
сродни таким концепциям в современной физике, как
372
«Вселенная — гармошка» или «Вселенная — взрыв»; он не
похож на спокойно вращавшиеся, подобно часовому меха-
низму, миры прошлого века. В литературном стиле есть
своя кривизна, как и в пространстве, но немногим из рус-
ских читателей хочется нырнуть стремглав в гоголевский
магический хаос. Русские, которые считают Тургенева ве-
ликим писателем или судят о Пушкине по гнусным либрет-
то Чайковского, лишь скользят по поверхности таинствен-
ного гоголевского моря и довольствуются тем, что им ка-
жется насмешкой, юмором и броской игрой слов. Но водо-
лаз, искатель черного жемчуга, тот, кто предпочитает чудо-
вищ морских глубин зонтикам на пляже, найдет в «Шине-
ли» тени, сцепляющие нашу форму бытия с другими фор-
мами и состояниями, которые мы смутно ощущаем в ред-
кие минуты сверхсознательного восприятия. Проза Пушки-
на трехмерна; проза Гоголя по меньшей мере четырехмер-
на. Его можно сравнить с его современником математиком
Лобачевским, который взорвал Эвклидов мир и открыл сто
лет назад многие теории, позднее разработанные Эйнштей-
ном. Если параллельные линии не встречаются, то не пото-
му, что встретиться они не могут, а потому, что у них есть
другие заботы. Искусство Гоголя, открывшееся нам в «Ши-
нели», показывает, что параллельные линии могут не толь-
ко встретиться, но могут извиваться и перепутываться са-
мым причудливым образом, как колеблются, изгибаясь,
при малейшей ряби две колонны, отраженные в воде. Ге-
ний Гоголя — это и есть та самая рябь на воде; два плюс
два дают пять, если не квадратный корень из пяти, и в ми-
ре Гоголя все это происходит естественно, там ни нашей
рассудочной математики, ни всех наших псевдофизических
конвенций с самим собой, если говорить серьезно, не су-
ществует.
Шинель — русский гротеск на романтические мечтания и
великая правда жизни одновременно. Акакий Акакиевич — рус-
ский антипод гофмановского Ансельма, русская парафраза к не-
му, свидетельством чему являются прямые и, видимо, нескрывае-
мые заимствования: у Гофмана — «...только что стану я около
дверей... как какой-нибудь дьявол выльет мне на голову умыва-
льный таз», у Гоголя — «...к тому же он имел особенное искусст-
во, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время,
когда из него выбрасывали всякую дрянь...». Акакий Акакие-
вич — наша версия на тему «наивной поэтической души», чело-
373
век не от мира сего, но не творец, а механизм, получающий
огромное наслаждение от вечного переписывания:
Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не
существовало.
Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь зара-
нее при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог пошлет пере-
писывать завтра.
В. В. Набоков:
Гоголь был странным созданием, но гений всегда стра-
нен; только здоровая посредственность кажется благородно-
му читателю мудрым, старым другом, любезно обогащаю-
щим его, читателя, представления о жизни. Великая литера-
тура идет по краю иррационального. «Гамлет» — безумное
сновидение ученого невротика. «Шинель» Гоголя — гротеск
и мрачный кошмар, пробивающий черные дыры в смутной
картине жизни. Поверхностный читатель увидит в этом рас-
сказе лишь тяжеловесные ужимки сумасбродного шута; глу-
бокомысленный — не усомнится в том, что главное намере-
ние Гоголя было обличить ужасы русской бюрократии. Но
и тот, кто хочет всласть посмеяться, и тот, кто жаждет чте-
ния, которое «заставляет задуматься», не поймет, о чем же
написана «Шинель». Подайте мне читателя с творческим
воображением — эта повесть для него.
Уравновешенный Пушкин, земной Толстой, сдержан-
ный Чехов — у всех у них бывали минуты иррационального
прозрения, которые одновременно затемняли фразу и
вскрывали тайный смысл, заслуживающий этой внезапной
смены точки зрения. Но у Гоголя такие сдвиги — самая
основа его искусства, и поэтому когда он пытался писать
округлым почерком литературной традиции и рассматри-
вать рациональные идеи логически, он терял даже призна-
ки своего таланта. Когда же в бессмертной «Шинели» он
дал себе волю порезвиться на краю глубоко личной пропас-
ти, он стал самым великим писателем, которого до сих пор
произвела Россия.
Секрет Шинели — напластование контрастов: столкнове-
ние мечты и реальности, высоких устремлений и низких целей,
«вечных идей» и «кислых щей». Если хотите, Шинелью Го-
голь предвосхитил «торжество коммунистической идеи»: вначале
374
возвел «шинель» (корыто) в ранг великой мечты, затем отказался
ради нее от «малых радостей» жизни, а в конце концов заплатил
за нее и самой жизнью.
Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько
трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то
привыклось и пошло на лад; даже он совершенно приучил-
ся голодать по вечерам: но зато он питался духовно, нося в
мыслях своих вечную идею будущей шинели.
Как видим, не только литература, но и жизнь наша — из гого-
левской Шинели, из гениального прозрения больного писате-
ля о том, что случается с миллионами Акакиев Акакиевичей при
таких-то «идеалах»...
Какой страшный образ — Акакий Акакиевич! В этом
изуродованном, больном существе, оказывается, скрыта мо-
гучая внутренняя сила. И как необычна, «низка», нероман-
тична та цель, к которой она обращена. И как жизненно не-
обходима эта цель — шинель! — в его бедной, холодной
жизни... Привести в такое близкое соприкосновение высо-
кое и трансцендентальное с прозаическим и повседневным,
заместить идею Атлантиды «вечной идеей будущей шинели»
на толстой вате, а фигуру «истинного музыканта» — фигу-
рой титулярного советника — это значит создать такую глу-
бокую ситуацию, которую до конца не исчерпать никакими
словами, никакими разборами.
Никому до Набокова не удалось так глубоко проникнуть в
мир гоголевской Шинели — я полагаю, что сам Николай Ва-
сильевич был бы в немалой степени озадачен, до чего глубокую
вещь ему удалось создать...
Процесс одевания, которому предается Акакий Акакие-
вич, шитье и облачение в шинель на самом деле — его ра-
зоблачение, постепенный возврат к полной наготе его
же призрака. С самого начала повести он тренируется для
своего сверхъестественного прыжка в высоту, и такие безо-
бидные с виду подробности, как хождение на цыпочках по
улице, чтобы сберечь башмаки, и его смятение, когда он не
знает, где он находится — посреди улицы или на середине
фразы, — все эти детали постепенно растворяют чиновника
Акакия Акакиевича, и в конце повести его призрак кажется
самой осязаемой, самой реальной ипостасью его существа.
375
Рассказ о его призраке, снующем по улицам Петербурга в
поисках шинели, отнятой у него грабителями, и в конце
концов снявшем шинель с важного чиновника, который от-
казался помочь ему в беде, — этот рассказ может показаться
поверхностному читателю обычной историей о привидени-
ях, но к концу превращается в нечто, чему я не могу поды-
скать эпитета. Это и апофеоз и degringolade1.
«Бедное значительное лицо чуть не умер. Как ни
был он характерен в канцелярии вообще перед низшими, и хо-
тя, взглянувши на один мужественный вид его и фигуру всякий
говорил: «У, какой характер!» — но здесь он, подобно весьма
многим, имеющим богатырскую наружность, почувствовал
такой страх, что не без причины даже стал опасаться на-
счет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже ски-
нул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим го-
лосом: «Пошел во весь дух домой!» Кучер, услышавши голос, ко-
торый произносится обыкновенно в решительные минуты и
даже [обратите внимание на частое повторение этого слова]
сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упря-
тал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом
и помчался как стрела. Минут в шесть с небольшим [по осо-
бым гоголевским часам] значительное лицо уже был пред
подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели,
вместо того, чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе,
доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в
большом беспорядке, так что на другой день поутру за чаем
дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но
папа молчал [тут пошла пародия на библейскую притчу] и
никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и
куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное
впечатление [тут начинается снижение, та эффектная проза-
изация, которую Гоголь любил пользовать для своих нужд].
Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы
смеете, понимаете ли, кто перед вами?»; если же и произно-
сил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но
еще более замечательно то, что с этих пор совершенно пре-
кратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская
шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере,
уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с
кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди
никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних
частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точ-
i Стремительный спуск (фр.).
376
но, один коломенский будочник видел собственными глазами
[снижение от морализующей интонации к гротеску идет
полным ходом], как показалось из-за одного дома привидение;
но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что один
раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то
частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших
вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку
по грошу на табак, — итак, будучи бессилен, он не посмел
остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока
наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило:
«Тебе чего хочется?» — и показало такой кулак, какого и у
живых не найдешь. Будочник сказал: «Ничего», — да и поворо-
тил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже го-
раздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги,
как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной
темноте».
Поток «неуместных» подробностей (таких, как невозму-
тимое допущение, что «взрослые поросята» обычно случа-
ются в частных домах) производит гипнотическое действие,
так что почти упускаешь из виду одну простую вещь (и в
этом-то вся красота финального аккорда). Гоголем наме-
ренно замаскирована самая важная информация, главная
композиционная идея повести (ведь всякая реальность —
это маска). Человек, которого приняли за безшинельный
призрак Акакия Акакиевича, — ведь это человек, укравший
у него шинель. Но призрак Акакия Акакиевича существовал
только благодаря отсутствию у него шинели, а вот теперь
полицейский, угодив в самый причудливый парадокс рас-
сказа, принимает за этот призрак как раз ту персону, кото-
рая была его антитезой, — человека, укравшего шинель. Та-
ким образом, повесть описывает полный круг — порочный
круг, как и все круги, сколько бы они себя ни выдавали за
яблоки, планеты или человеческие лица.
И вот, если подвести итог, рассказ развивается так: бор-
мотание, бормотание, лирический всплеск, бормотание, ли-
рический всплеск, бормотание, лирический всплеск, бормо-
тание, фантастическая кульминация, бормотание, бормота-
ние и возвращение в хаос, из которого все возникло. На
этом сверхвысоком уровне искусства литература, конечно,
не занимается оплакиванием судьбы обездоленного челове-
ка или проклятиями в адрес власть имущих. Она обращена
к тем тайным глубинам человеческой души, где проходят
тени других миров, как тени безымянных и беззвучных ко-
раблей.
377
«РЕВИЗОР»
Теперь я вижу, что значит быть
комическим писателем. Малейший
призрак истины — и против тебя
восстают, и не один человек, а це-
лые сословия...
Н. В. Гоголь
Ревизор бесконечен. Это смех
не какой-либо частный, времен-
ный, исторический, а именно —
бесконечный смех русской совести
над русским Градом.
Д. С. Мережковский
В длинной истории фальсификации культуры Ревизор за-
нимает особое место как одно из самых оболганных и самых не-
понятых произведений. Отходя от крайностей «фарса», «разобла-
чения николаевского ада» или «апологии правительственной
бдительной власти», признавая многоплановость и многослой-
ность пьесы, я хочу восстановить ту правду, о которой говорил
князь Вяземский, бывший свидетелем работы Гоголя над коме-
дией: либералы напрасно видели в Гоголе союзника и едино-
мышленника. Сладкий гимн правительству не был присочинен
Гоголем в новой редакции — об этом свидетельствуют наброски
Театрального разъезда 1836 года.
В замысле Гоголя, — говорил Вяземский, — не было ни-
чего политического. У либералов глаза были обольщены
собственным обольщением, у консерваторов они были ве-
лики. Помню первое чтение этой комедии у Жуковского на
вечере при довольно многолюдном обществе. Все внимате-
льно слушали и заслушивались; все хохотали от доброй ду-
ши; никому в голову не приходило, что в комедии есть тай-
ный умысел. Тайный умысел открыли уже после слишком
зоркие, но вполне ошибочные глаза.
О чем говорил князь Вяземский? В чем суть правд и фальси-
фикаций Ревизора? Что хотел сказать им Гоголь? Почему он
так испугался после представления, что убежал из России?
Ревизор действительно комедия «без политической под-
кладки» (Н. Котляревский). Если таковая и обнаруживается, то
только через человека как «политического животного». Нет, это
378
отнюдь не «свистящий бич над крепостной Русью» — это бич над
человеком, конкретнее — русским человеком. «Ситуация ревизо-
ра» — это по преимуществу русская ситуация — точно так же,
как ситуация Дон Кихота, или Дон Жуана, или Фауста — евро-
пейская. Как сказал Юрий Манн, «Ревизор» — это целое море
страха. Это тоже — русский страх, вековечно лежащий на дне об-
щественного сознания: «...Прохожу через департамент — просто
землетрясенье — все дрожит, трясется, как лист». «В этот момент
и слушатели Хлестакова трясутся и не могут выговорить слова от
страха». Уберите страх — рассыплется затея и Ревизора, и
Хлестакова, и... российской империи...
А городничий, чиновники — и все, захваченные мыслью
о «ревизоре»? «Ситуация ревизора» требует от них притвор-
ства, игры, но эта игра слишком серьезна, слишком глубоко
захватывает их. Тут «дело идет о жизни человека», как гово-
рит городничий. Городничий хорошо знает, чему равны не-
сколько часов или дней ревизии. Остаться ли ему городни-
чим, быть ли с позором изгнанным, чтобы уступить место
другому — более удачливому, но не более честному, полу-
чить ли сановное «спасибо», сделать ли карьеру — все, ре-
шительно все определится в этот необычный час. На воло-
ске висит его «честь», благополучие семьи. Другие герои
пьесы переживают нечто подобное. Слишком много значит
для них «ситуация ревизора» — это tete-a-tete не с одним че-
ловеком — хотя бы и «высокопоставленным», — а с самим
«роком».
Кстати, заключительная немая сцена Ревизора — не «апо-
логия правительственной бдительной власти» и не «идея возмез-
дия», а грандиозный символ страха, русского страха, ужаса, пре-
вращающего людей в манекены, марионетки, «живые трупы» и
«мертвые души»...
Если хотите, ревизор — верховный символ иерархии, импе-
рии, тоталитаризма, где никто и никогда не верит никому, где
все всех проверяют и где любая ревизия — обман, очковтиратель-
ство, лишний повод для нарушения закона.
Идея ревизора у Гоголя гораздо шире, нежели идея от-
мщения за ложь, за «злоупотребления», за обирание город-
ничим купеческих «бородок», которые, в свою очередь,
обирают кого-то, за взятки, за пренебрежение служебными
обязанностями. Это идея взаимного рабства наказуемого и
379
наказующего, их кровного родства, их жалкой участи повто-
ряться друг в друге.
Ревизор на Руси всегда актуален не повторением приема,
но — благодаря неизменной сущности бюрократической систе-
мы, имперского принципа, несвободы и связанным с ними пле-
бейством, холопством, лицемерием, ложью...
Взор Гоголя проникал гораздо глубже «чисто анекдота» — он
начинал постигать «русскую трагедию», от него ждали и требова-
ли смешного, он обещал писать «смешнее чорта», а получалась
бесовщина...
Широта Ревизора не в эпичности событий, не в оживле-
нии целых эпох, не в гигантских масштабах личностей героев, но
в предельном обобщении характеров, типов, во внутренней их
правде: «Благодаря этому реальный масштаб «Ревизора» значите-
льно больше номинального. Перед нами действительно, как в
старой аттической комедии, «весь» мир». Так что не случайно
уже в наше время великий Пол Скофилд назвал пьесу «нашей
национальной английской комедией».
Нам долго внушали, что Гоголю пришлось «присочинить»
собственную интерпретацию пьесы в специально написанном
для этого Предуведомлении, но тот, кто внимательно чи-
тал его переписку и знаком с черновыми набросками, знает, что
и в год первой постановки Ревизора автор ценил свою коме-
дию как картину общечеловеческих нравов, а отнюдь не как са-
тиру на общественные порядки.
Многим зрителям на первом представлении пьеса пришлась
не по вкусу. Один знакомый утешил опечаленного таким прие-
мом Щепкина. «Помилуй, — сказал он, — как иначе могла при-
нять Ревизора публика, одна половина которой берет, а дру-
гая дает?» Но в том-то и суть, что «брать» и «давать» — катего-
рии не временные, а извечные. И отличие новых времен от ста-
рых лишь в том, что современная публика просто утратила чувст-
вительность прежней: брать и давать стало категориями выжива-
ния, способом жить...
Россия дозволяла Гоголю быть комиком, даже ерником. И по-
началу Гоголя, слишком хорошо знавшего Россию, такая слава
вполне устраивала. Он даже боялся прослыть критиком — отсюда
панический страх, что его неправильно поймут. Но Россия хоте-
380
ла видеть в нем только комика, она ждала от него смеха и поба-
сенок, а он оставаться шутом не хотел — именно в этом одна из
причин трагедии Гоголя, как и других великих русских писате-
лей, ибо великие России всегда были не нужны — нужны были
покладистые, а величие и согласие, как известно, несовме-
стимы...
К сожалению, до нас не дошли отзывы Пушкина, который то-
же только смеялся. Увы, так никто и не знает, над чем...
Россия смеялась, Гоголь был для нее даже не сатириком —
комиком, шутом. Даже Вяземский писал только о «неистощимой
веселости», Кукольник говорил о «фарсе, недостойном искус-
ства»...
Гоголь хотел просветлять, очищать, влиять, ждал катарсиса,
единого порыва, единения в покаянии и очищении, а в нем ви-
дели скомороха... «В громе смеха тонула идея». Вот почему так
«странно» вел себя Гоголь после премьеры, вот почему бежал из
России. «Это был удар не только по самолюбию. Это было пора-
жение Гоголя-учителя, Гоголя-пророка, Гоголя-проповедника».
Сакраментальный вопрос: а понял ли сам Гоголь? Понял ли,
что он написал? Понял ли, что он, всегда искавший возможно-
сти послужить России, служил ей как хирург, удаляющий опу-
холь или ушивающий язву?
Н. В. Гоголь — М. И. Гоголь:
Очень трудно это искусство! Знаете ли, что в Петербурге,
во всем Петербурге, может быть, только человек пять и
есть, которые истинно и глубоко понимают искусство, а
между тем в Петербурге есть множество истинно прекрас-
ных, благородных, образованных людей. Я сам, преданный
и погрязнувший в этом ремесле, я сам никогда не смею
быть так дерзок, чтобы сказать, что я могу судить и совер-
шенно понимать такое-то произведение. Нет, может быть, я
только десятую долю понимаю...
Когда говорят, что гений — вестник оттуда, то это, помимо
прочего, означает, что сам гений отнюдь не обязательно до конца
разумеет, какую благую или страшную весть, внушенную небом
или аидом, несет. «...Может быть, я только десятую долю пони-
маю...»
381
Свидетельствует В. В. Стасов:
Вся тогдашняя молодежь была от «Ревизора» в восторге.
Мы наизусть повторяли друг другу, подправляя и пополняя
один другого, целые сцены, длинные разговоры оттуда. До-
ма или в гостях нам приходилось вступать в горячие прения
с разными пожилыми (а иной раз, к стыду, даже и не пожи-
лыми) людьми, негодовавшими на нового идола молодежи
и уверявшими, что никакой натуры у Гоголя нет, что это
все его собственные выдумки и карикатуры, что таких лю-
дей вовсе нет на свете, а если и есть, то их гораздо меньше
бывает в целом городе, чем тут у него в одной комедии.
Охранительство и революционность — неотъемлемые компо-
ненты «русской идеи»: сначала «Да здравствует!» — затем «До-
лой!» Гоголь меньше страдал от «фарса», чем от «таких людей во-
все нет на свете». Он страдал оттого, что Россия не желала видеть
себя, обвиняя его в «кривизне зеркал».
Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кри-
чат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так го-
ворить о служащих людях; полицейские против меня; купцы
против меня; литераторы против меня. Бранят и ходят на
пьесу; на четвертое представление нельзя достать билетов.
Если бы не высокое заступничество государя, пиеса моя не
была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопо-
тавшие о запрещении ее. Теперь я вижу, что значит быть ко-
мическим писателем. Малейший призрак истины — против
тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. Вообра-
жаю, что ж было бы, если бы я взял что-нибудь из петербур-
гской жизни, которая мне больше и лучше теперь знакома,
нежели провинциальная. Досадно видеть против себя людей
тому, который их любит между тем братскою любовью.
Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят
мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современ-
ный, писатель комический, писатель нравов должен подаль-
ше быть от своей родины.
И. И. Панаев:
«Ревизор» имел успех колоссальный, но в первые мину-
ты этого успеха никто даже из самых жарких поклонников
Гоголя не понимал вполне значения этого произведения и
не предчувствовал, какой огромный переворот должен со-
382
вершить автор этой комедии. Кукольник после представле-
ния «Ревизора» только иронически ухмылялся и, не отрицая
таланта в Гоголе, замечал: «А все-таки это фарс, недостой-
ный искусства».
Такое мнение разделяли многие, даже слишком... «Лучшие
люди страны», за исключением буквально нескольких человек,
видели один только примитивный фарс... Стоит ли удивляться,
что шумный успех автор воспринимал как провал. П. В. Аннен-
ков вспоминал, как, явившись к Н. Я. Прокоповичу в раздражен-
ном состоянии духа, Гоголь, швырнув подаренный ему хозяином
только что вышедший экземпляр «Ревизора», прошептал: «Гос-
поди Боже! Ну, если бы один, два ругали, ну и Бог с ними, а то
все, все...» Он воспринимал «фарс» как высшую ругань.
Из Письма к одному литератору:
«Ревизор» сыгран — и у меня на душе так смутно, так
странно... Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при
всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло ме-
ня. Мое же создание мне показалось противно, дико и как
будто вовсе не мое. Главная роль пропала; так я и думал.
Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков... Хлестаков
сделался чем-то вроде... целой шеренги водевильных шалу-
нов, которые пожаловали к нам повертеться из парижских
театров. Он сделался просто обыкновенным вралем... А мне
он казался ясным. Хлестаков вовсе не надувает... он сам по-
забывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что гово-
рит... И вот Хлестаков вышел детская, ничтожная роль! Это
тяжело и ядовито-досадно.
С самого начала представления пьесы я уже сидел в теат-
ре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился.
Одного только судьи из всех бывших в театре я боялся, — и
этот судья был я сам. Внутри себя я слышал упреки и ропот
против моей же пьесы, которые заглушали все другие.
А публика вообще была довольна. Половина ее приняла пье-
су даже с участием; другая половина, как водится, ее брани-
ла, по причинам, однако ж, не относящимся к искусству...
...Во время представления я увидел ясно, что начало чет-
вертого акта бледно и носит признак какой-то усталости.
Возвратившись домой, я тот же час принялся за переделку.
Теперь, кажется, вышло немного сильнее, по крайней мере,
естественнее и более идет к делу. Но у меня нет сил хлопо-
тать о включении этого отрывка в пьесу. Я устал; и как
383
вспомню, что для этого нужно ездить, просить и кланяться,
то Бог с ним, — пусть лучше при втором издании или во-
зобновлении «Ревизора».
...У меня недостает больше сил хлопотать и спорить. Я
устал и душою и телом. Клянусь, никто не знает и не слы-
шит моих страданий. Бог с ними со всеми; мне опротивела
моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь Бог знает куда.
Такова вечная судьба творца на Руси: «хлопотать», «просить и
кланяться», «убежать Бог знает куда»...
Грандиозный успех у ничего не понявшей публики Гоголь
воспринял как позор.
Давно уже пролезли водевили на русскую сцену, тешат
народ средней руки, благо смешлив... Какое обезьянство!..
Где же жизнь наша? где мы со всеми современными страстя-
ми и странностями? Палачи, яды — эффект, вечный эффект,
и ни одно лицо не возбуждает никакого участия! Никогда
еще не выходил из театра зритель растроганный, в слезах...
Россия не поняла Гоголя. Даже умный, рептильный Булгарин,
будущий хулитель Гоголя, понял буквально: «Нас так легко не
проведешь! Даже последний писарь земского суда, в самом отда-
ленном городишке, разгадал бы того мнимого ревизора».
За исключением нескольких человек, Россия не поняла Ре-
визора. Даже немногие, отнесшиеся к нему с живейшим сочув-
ствием, до конца не разумели эту, может быть, первую в мировой
культуре драму абсурда. Дело даже не в том, что «артисты и мно-
гие писатели не могли решиться сбросить с голов пудреные па-
рики, с плеч — французские кафтаны и облечься в русское пла-
тье», — Россия не поняла русскости и человечности пьесы, вос-
приняла черную сатиру как легкий юмор.
А. П. Пыпин:
И. И. Лажечников, как многие писатели старой школы,
совершенно искренно не понимал восторги от «Ревизора»,
которого считал просто карикатурой, фарсом, годным для
потехи райка, а не художественным творческим произведе-
нием. «Высоко уважаю талант автора «Старосветских поме-
щиков» и «Бульбы», — пишет он Белинскому, — но не дам
гроша за то, чтобы написать «Ревизора».
384
По мнению В. В. Набокова, Гоголя огорчила не оценка его
пьесы, не непонимание публики, а то, что его не признали про-
роком, учителем, дающим нагоняй человечеству для его блага.
В пьесе нет ни грана дидактики, и вряд ли можно допус-
тить, что автор этого не знал; но... он был склонен домысли-
вать свои книги уже после того, как они были написаны.
С другой стороны, тот урок, который критики — совершенно
произвольно — усмотрели в его пьесе, был социальным и
почти — революционным, что казалось совсем уж неприем-
лемым для Гоголя... Он боялся, что бдительная цензура будет
многие годы вредить его литературной карьере в России. Его
также огорчало, что люди, которых он почитал за добрых
христиан (хотя темой «добрых христиан» он вплотную зай-
мется несколько позже) и честных чиновников (что станет у
него потом синонимом тех же христиан), были раздосадова-
ны и даже возмущены его пьесой и назвали ее «грубым и по-
шлым фарсом». Но, пожалуй, самым мучительным для него
было то, что, догадываясь, какие идут о нем пересуды, сам он
их не слышал и уж тем более не мог их направлять. Гул, до-
стигавший его ушей, был жутким и грозным потому, что это
был только гул. Похлопывание по плечу казалось ему ирони-
ческой насмешкой над теми, кого он уважает, а следователь-
но, насмешкой и над ним. Интерес, который проявляли к
нему совершенно незнакомые люди, мнился ему результатом
темных интриг, несказанно опасных (прекрасный мир, инт-
рига... сокровище в пещере). У меня, пишет Набоков, будет
возможность описать в другой книге, как одному сумасшед-
шему постоянно казалось, будто все детали ландшафта и
движение неодушевленных предметов — это сложный код,
комментарий по его поводу и вся вселенная разговаривает о
нем при помощи тайных знаков. Нечто подобное этой мрач-
ной и чуть ли не космической пантомиме можно себе пред-
ставить, размышляя о болезненном отношении Гоголя к
своей внезапной славе. Он воображал, будто вокруг него
ползает и перешептывается вся враждебная ему Россия, пы-
таясь его погубить, хваля и понося его пьесу.
Задолго до Выбранных мест Гоголь собирался «лечить»
общество правдой о нем, в письме В. А. Жуковскому он прямо в
том признавался — «русская идея» оказалась сильнее Гоголя и
его «лечения»...
Мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал
осмеивать кого-либо с какой-нибудь целью, и меня до та-
385
кой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и
даже сердятся на меня целые сословия и классы общества,
что я наконец задумался. «Если сила смеха так велика, что
ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому». Я
решился собрать все дурное, какое только я знал, и за од-
ним разом над всем посмеяться — вот все происхождение
«Ревизора»! Это было первое мое произведение, замышлен-
ное с целью произвести доброе влияние на общество, что,
впрочем, не удалось; в комедии стали видеть желание осме-
ять узаконенный порядок вещей и правительственные фор-
мы... Представление «Ревизора» произвело на меня тягост-
ное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня не по-
нявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня
не поняли. Мне хотелось убежать от всего.
В другом письме Гоголь жаловался:
И то, что бы приняли люди просвещенные с громким
смехом и участием, то самое возмущает желчь невежества; а
это невежество всеобщее. Сказать о плуте, что он плут, счи-
тается у них подрывом государственной машины; сказать
какую-нибудь только живую и верную черту — значит, в пе-
реводе, опозорить все сословие и вооружить против него
других или его подчиненных.
Но речь шла отнюдь не о плуте... Речь шла даже не о «реви-
зии»... Почему у Гоголя так много о дороге, пространстве, рос-
сийской бесконечности, в которую уносятся его герои? Почему в
первом варианте вместо Хлестакова был Скакунов — человек,
скачущий по России, неоседлый, завоеватель? В глубинных нед-
рах Ревизора и других произведений Гоголя лежит идея кон-
кисты, завоевания. «Лишь бы проскакать, пронестись, мель-
кнуть, взбудоражить, напугать, оставить по себе загадку, вопрос,
недоумение, а там хоть трава не расти», — пишет критик. Разве
это не о русской конкисте, не о русской загадке, не о русском
вопросе? И куда мчатся все герои Гоголя?
Куда? Неизвестно. Также неизвестно, откуда он [Хлеста-
ков-Скакунов] явился, кто и где его породил, потому что
породили его дорога, пространство, бесконечность россий-
ская, в которую он и уносится.
В самом написании, прохождении цензуры, постановке Ре-
визора было что-то лихорадочное, какая-то горячка. Реви-
зором Россия хотела познать себя, хотя еще не созрела для та-
386
кого самопознания — оттого и превратила самопроникновение в
водевиль, фарс, шутовство, бездумный смех. «Никто, никто, ни-
кто не понял!!!» — был в отчаянии Гоголь.
Почему царь дал «добро» и пропустил Ревизора через цен-
зуру: кто-кто, а он прекрасно понимал, о чем идет речь. Может
быть, ему хотелось встряхнуть своих подданных? Или это была
императорская забава, так сказать, каприз царя? Или действите-
льно это было провидение, выводящее на свою орбиту величай-
шего гения России?
В. В. Набоков:
Остается только предположить, что разрешение поставить
пьесу вызвано внезапным капризом царя, — ведь и появление
такою писателя, как Гоголь, можно приписать непонятной
причуде какого-то духа, ведавшего развитием русской сло-
весности в начале XIX века. Подписывая разрешение, деспот,
как ни странно, заразил русских писателей опаснейшей бо-
лезнью; опасной для идеи монархии, опасной для правитель-
ственного беззакония и опасной — а эта опасность самая
страшная — для художественной литературы; ведь пьесу Го-
голя общественные умы неправильно поняли как социаль-
ный протест, и в пятидесятых и шестидесятых годах от нее
пошел не только кипящий поток литературы, обличавшей
коррупцию и прочие социальные пороки, но и разгул литера-
турной критики, отказывавшей в звании писателя всякому,
кто не посвятил своего романа или рассказа бичеванию око-
лоточного или помещика, который сечет своих мужиков.
А. О. Смирнова:
На спектакле государь был в эполетах, партер был осле-
пителен, весь в звездах и других орденах. Министры и П. Д.
Киселев1 сидели в первом ряду. Они должны были аплоди-
ровать при аплодисментах государя, который держал обе ру-
ки на барьере ложи. Громко хохотали, Киселев громче дру-
гих, так как ему не в чем было себя упрекать.
П. П. Каратыгин:
Приехав неожиданно в театр, император Николай Пав-
лович пробыл до окончания пьесы, от души смеялся и, вы-
1 Вскоре — министр государственных имуществ.
387
ходя из ложи, сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне —
более всех!» Эти слова покойный Каратыгин1, в числе неко-
торых других артистов, сам слышал, находясь за кулисами
при выходе государя из ложи на сцену.
A. В. Никитенко:
Комедия Гоголя «Ревизор» наделала много шума. Ее бес-
престанно дают — почти через день. Государь был на пер-
вом представлении, хлопал и много смеялся... Я вчера ви-
делся с Гоголем. Он имеет вид великого человека, преследу-
емого оскорбленным самолюбием.
Сам Гоголь повсеместно подчеркивал, что отнюдь не пресле-
довал цели нападать на российскую государственность. Более то-
га, подобные обвинения произвели на него гнетущее впечатле-
ние, возможно даже, возбудили в его хрупком сознании манию
преследования, которая донимала его до самой смерти. По мне-
нию русского Сирина, он и побежал по этой причине — от стра-
ха, что двор вдруг пересмотрит свое высочайшее, но изменчивое
благорасположение к пьесе и к нему самому.
B. В. Набоков:
Другой бы писатель упивался этой атмосферой хвалы и
скандала. Пушкин просто оскалил бы свои ослепительные
негритянские зубы в добродушной усмешке и воротился к
неоконченной рукописи очередного шедевра. Гоголь же по-
ступил так, как и после провала «Кюхельгартена», — сбе-
жал, вернее, уполз за границу.
Но если б только это! Он позволил себе худшее, что мо-
жет позволить себе писатель в подобных обстоятельствах:
попытался объяснить в печати те места своей пьесы, кото-
рых критики либо не заметили, либо превратно истолкова-
ли. Гоголь, будучи Гоголем и существуя в зеркальном мире,
обладал способностью тщательно планировать свои произ-
ведения после того, как он их написал и опубликовал.
Этот метод он применил и к «Ревизору». Он присовокупил
к нему эпилог, где объяснял, что настоящий ревизор, кото-
рый маячит в конце последнего действия, — это человече-
ская совесть. А остальные персонажи — это страсти, живу-
щие в нашей душе. Другими словами, публике полагалось
поверить, что ее страсти символизируются уродливыми,
1 Речь идет об известном актере П. А. Каратыгине, отце П. П. Каратыгина.
388
продажными провинциальными чиновниками, а высшая
совесть — государством. Эпилог производит такое же удру-
чающее впечатление, как и более поздние рассуждения Го-
голя на сходные темы, если не предположить, что он просто
хотел натянуть нос читателю или себе самому. Если же от-
нестись к его эпилогу всерьез, то перед нами невероятный
случай: полнейшее непонимание писателем своего собст-
венного произведения, искажение его сути.
Что имел в виду В. В. Набоков? Набоков имел в виду предло-
жение Гоголя разъяснить публике смысл его комедии — занятие
с художественной точки зрения не очень достойное, но и не
столь уж редкое.
8 ноября 1846 г. Гоголь писал Н. М. Языкову из Флоренции:
В «Развязке Ревизора» актеры после представления в
восторге венчают «первого комического актера — Михаилу
Семеновича Щепкина», а он разъясняет им истинный
смысл комедии, — что город, в котором разыгрывается дей-
ствие, это есть «наш же душевный город», ревизор — это
«наша проснувшаяся совесть». «В безобразном нашем горо-
де, который в несколько раз хуже всякого другого города,
бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники,
воруя казну собственной души нашей».
Жаль, еще не родился Фрейд — ведь речь шла не только о ху-
дожественной символике, но в значительной мере о подсозна-
нии, с чем не желал согласиться в своей филиппике Набоков.
Впрочем, так считал не он один.
Задолго до Набокова так думали славянофилы, и прежде всего
С. Т. Аксаков, развивший на старости лет гигантскую энергию,
дабы не печатать комментариев автора.
С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову:
Я требую... не печатать «Предуведомления» к пятому из-
данию «Ревизора»: ибо все это с начала до конца чушь, дичь
и нелепость и, если будет обнародовано, сделает Гоголя по-
смешищем всей России. То же самое объявил я Шевыреву...
Если Гоголь не послушает нас, то я предлагаю Плетневу и
Шевыреву отказаться от исполнения его поручения. Пусть
он находит себе других палачей.
389
Самому Гоголю С. Т. Аксаков писал:
Скажите мне, положа руку на сердце: неужели ваши объ-
яснения «Ревизора» искренни? Неужели вы, испугавшись
нелепых толкований невежд и дураков, сами святотатствен-
но посягаете на искажение своих живых творческих созда-
ний, называя их аллегорическими лицами? Неужели вы не
видите, что аллегория внутреннего города не льнет к ним,
как горох к стене, что название Хлестакова светскою сове-
стью не имеет смысла?
Подобное письмо написал Гоголю и М. С. Щепкин:
Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновни-
ки, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки; это люди
настоящие, живые люди, между которыми я вырос и почти
состарился... Нет, я вам их не отдам! не дам, пока сущест-
вую! После меня переделывайте, хоть в козлов; а до тех пор я
не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог.
Никто не желал принимать символизм Гоголя... Даже если он,
этот символизм, был хитростью, уловкой, то, я считаю, — гениа-
льной. Совместить сатиру с символическим подтекстом — это
действительно было новое модернистское направление в искус-
стве, сравнимое с драмой или фарсом абсурда. Вполне естествен-
но, что в первой половине XIX века этого, кроме Гоголя, никто
не мог ни понять, ни усвоить...
Обвинения друзей Гоголя и Набокова относительно «разъяс-
нения» смысла мне представляются неприемлемыми: художник
далеко не всегда и не полностью осознает все смыслы собствен-
ного творения. Достаточно часто понимание приходит позднее.
То, что Н. В. Гоголь приписывал завершенным произведениям
их идею задним числом, вполне естественно для творца. Я бы
сказал, что такая возможность новых осмыслений — признак ве-
личия. Плоскому или примитивному произведению приписать
что-либо значительное нельзя ни до, ни после...
В. И. Немирович-Данченко считал, что Ревизор — новый
тип драмы, которую «мы можем без малейшей натяжки назвать
одним из самых совершенных и самых законченных произведе-
ний сценической литературы всех стран».
390
Самые замечательные мастера театра не могли завязать
пьесу иначе, как в нескольких первых сценах. В «Ревизоре»
же одна фраза, одна первая фраза:
«Я пригласил вас, господа, для того, чтобы сообщить вам
пренеприятное известие: к нам едет ревизор», — и пьеса
уже начата. Дана фабула, и дан главнейший ее импульс —
страх.
Как одной фразой городничего он завязал пьесу, так од-
ной фразой жандарма он ее развязывает, — фразой, произво-
дящей ошеломляющее впечатление опять-таки своей неожи-
данностью и в то же время совершенной необходимостью.
Новым, новаторским, я бы сказал — турандотовским, Гоголь
сделал прием «вставок», «злобы дня». Когда на репетицию Р е -
визора не явился один из запивших актеров, некто О. О. Про-
хоров, игравший эпизодическую роль квартального, чуть ли не в
очередном спектакле появилась новая сценка:
Городничий. Где Прохоров?
Квартальный. Прохоров в частном доме, да только к
делу не может быть употреблен.
Городничий. Как так?
Квартальный. Да так: привезли его поутру мертвец-
ки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрез-
вился.
Гоголь постоянно работал над уже опубликованными произ-
ведениями. Работа над Ревизором, начавшись в 1834-м, за-
кончилась только в 1842-м — четвертым вариантом пьесы, в ко-
тором мы ее знаем.
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
«Мертвые Души» была та по-
движническая келья, в которой он
бился и страдал до тех пор, пока
вынесли его бездыханным из нее.
П. В. Анненков
Хотя Гоголя нельзя назвать творцом одной книги, хотя у него
есть шедевры, не уступающие по глубине «Мертвым Душам», хо-
тя он рассыпал перлы и по своим «малым формам», все же в рус-
скую классику он вошел прежде всего как автор этой книги, ко-
торой отдал большую часть своей творческой жизни.
391
«Мертвые Души» — величайшее произведение Гоголя.
Он приступил к его написанию молодым человеком, почти
юношей; вошел с ним в пору зрелости; приблизился к по-
следней черте. «Мертвым Душам» Гоголь отдал все — и
свой художнический гений, и исступленность мысли, и
страстность надежды. «Мертвые Души» — это жизнь Гого-
ля, его бессмертие и его смерть.
Мертвые Души неправильно оценивать как окамене-
лость: во-первых, они менялись в процессе работы («...на первых
же порах создания поэма Гоголя подвергалась переработке в сто-
рону смягчения удручающего впечатления»); во-вторых, с годами
менялся сам Гоголь и, следовательно, «книга жизни»; в-третьих,
как любое великое творение, завершенная книга жила собствен-
ной жизнью, обретая все новые и новые смыслы по мере все бо-
лее глубокого ее понимания.
Между великим художником и его творением существует от-
нюдь не простая связь: жизнь книги — это не только жизнь твор-
ца, но и нечто самостоятельное, творцу сопротивляющееся, даже
противостоящее. В известной степени можно сказать, что, даже
занимаясь «смягчением удручающего впечатления», Гоголь в
конце концов не сладил со своим детищем, и оно, вырвавшись
из рук своего творца, взяло верх над ним, как Голем, вышедший
из-под контроля чародея в Лукиановом Любителе лжи.
Урок Ревизора, сделавший Гоголя, как он сам утверждал,
«мертвым для текущего», не смог отвратить его ни от современ-
ности, ни от опасной темы. Собственно, выбор был неширок:
либо продолжиться и повториться в поверхностном малороссий-
ском колорите, либо углубить и расширить «подлую современ-
ность» — то единственное, что он блестяще знал и понимал. По-
следнее таило в себе опасность, но гений и фантазия рисовали
ему соблазнительную привязку к вечности, к божественности.
Грешники Дантова Ада, Дон Кихот Сервантеса, Христос Алек-
сандра Иванова — эти смутные ориентиры прокладывали путь
Гоголя, обдумывавшего замысел своей «вечной» поэмы. Мне
трудно себе представить бессознательность великих творцов, за-
думавших свои Одиссеи или Илиады — творческий мак-
симализм, равнение на высшие образцы, продуманность, отто-
ченность, совершенство, строгость, то сочетание умозрения и
откровения, без которого невозможно ориентированное на веч-
ность.
392
Хотя Мертвые Души с первого взгляда чисто русское
произведение, оно, слишком во многом, результат соприкосно-
вения Гоголя с совершенством культуры Запада, соизмерения с
многовековой западной культурой и связанной с нею жаждой со-
вершенства. Сравнение с Илиадой отнюдь не случайно: по
Гомеру равнялся Гоголь, среди европейских вершин выбирал
собственный масштаб. Возможно, он написал бы великую поэму
и не покидая Россию, но то было бы иное, более внешнее и ме-
нее укорененное. Великим чутьем гения Гоголь уловил необходи-
мость перспективы — не просто необходимости наблюдать Рос-
сию извне, но и — стоя на фундаменте более высокой культуры,
исходя из ее масштабов. Он сам не скрывал грандиозности заду-
манного, долженствующего проникнуть в сущность собственного
и мирового бытия.
Н. В. Гоголь — А. С. Данилевскому:
... «Мертвые души», преддверие немного бледное той ве-
ликой поэмы, которая строится во мне и разрешит, нако-
нец, загадку моего существования.
Гоголь признавался, что, работая над Мертвыми Душа-
м и, «не мог почувствовать любви к делу»: «Напротив, я чувство-
вал что-то вроде отвращения... Все выходило у меня на-
тянуто, насильственно». Гоголь кривил душой. Натянуто,
насильственно он писал утопию — второй том, первый же вдох-
новенно, искренно. Эта же искренность в конечном счете и при-
вела к уничтожению «апофеоза»...
Гоголь изначально чувствовал свою призванность к
главному труду жизни: «И ныне я чувствую, что не земная
воля направляет путь мой», причем это ощущение богоизб-
ранности, предопределенности, подвига нарастало в нем
по мере того, как его главный труд продвигался к своему
венцу. Ему было близко пушкинское понимание вечного
противостояния гения и толпы. Видимо, он тоже воспри-
нимал самого себя в качестве «несчастливого героя», свя-
занного со своими предшественниками общей «участью
русских поэтов». В его душе камертоном звучали шилле-
ровские строки: «Нет великого Патрокла; жив презритель-
ный Терсит» — и находили глубокий отклик филиппики
пушкинского Полководца, которому толпа за подвиг
заплатила хулой:
393
О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиленье!
Ощущая колоссальность своего замысла, Гоголь настоятельно
внушал окружавшим мысль о собственном мессианстве, праве
нравственного поучения, открытия современникам путей и Про-
мыслов Божьих.
По мере работы над продолжением поэмы гоголевское
ощущение избранности крепло и усиливалось. «Один, мо-
жет быть, человек нашелся на всей Руси, который именно
подумал более всех о самом существенном...» И этот чело-
век — творец «Мертвых Душ».
Гоголь верил в целительную силу своего сочинения, ду-
мал, что оно есть дело души и потребно душе.
Ю. В. Манн:
Раньше Гоголь внушал своим друзьям, что его нужно бе-
речь как человека, который создает великое, огромное про-
изведение, и в этом уже заключалось осознание избранно-
сти. Теперь к нему прибавилась новая нота: нужно беречь
его как человека, вмещающего в себя великую истину (аб-
солютную), несущего в себе высокое пророческое слово.
Гоголь говорит о вмешательстве Бога, спасшего его от
страшной болезни, о «чудесном исцелении». Все это якобы
не могло случиться просто так, без цели. Бог наслал на него
недуг, провел его через мучительное состояние, вывел к
свету для того, чтобы он осуществил высшие предначерта-
ния. В тяготах пережитого Гоголь видит доказательства изб-
ранности и предначертанности своего дела.
Отсюда и гоголевская мотивировка своего «примирите-
льного» настроения. Оно следует из высокой, божественной
точки зрения, возвышающейся над всеми диссонансами и
перипетиями вседневной жизни, обнимающей их неким
всепонимающим вселенским взглядом, видящим их мел-
кость, незначительность, проходящность перед лицом ко-
нечной гармонии.
Раньше свой труд Гоголь характеризовал с помощью по-
394
нятий художественного, эстетического порядка, хотя и взя-
тых в превосходной степени: «огромный», «оригинальный
сюжет» и т. д. Теперь на первый план выступили моральные
категории высшего наполнения: он, писатель, осуществляет
спасительный подвиг («труд мой велик, мой подвиг спаси-
телен»), а тот, кто отвлекает его от дела, — великий греш-
ник («...клянусь, грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать
меня!»). Раньше эпитет «священный» был применен к
«Мертвым душам» в связи с конкретным лицом — Пушки-
ным (поэма — его «священное завещание»); теперь эпитет
«святой» выступил в более общем и высоком смысле: «...на
один миг оторваться мыслью от святого своего труда — для
меня уже беда».
В связи с этим Гоголь вновь принимается нагнетать ат-
мосферу таинственности вокруг своих планов, своего тру-
да, — таинственности, которая начала было заметно рассеи-
ваться во время московских чтений 1839—1840 годов.
Гоголь говорит с собеседником, заметил П. В. Анненков,
как власть имущий, как судья современников, как человек,
рука которого наполнена декретами, устраивающими их су-
дьбу, по их воле и против их воли.
Уже при жизни Гоголя, более того, еще до его тридцатилетия
некоторые современники понимали, что перед ними — гений,
художник мирового масштаба, слава русской культуры. Чтением
первых глав Мертвых Душ Гоголь совершенно потряс своих
юных слушателей, например Ю. Ф. Самарина и В. А. Панова.
Последний был так очарован чтением, что тотчас решил «пожер-
твовать всеми своими расчетами» и составить компанию Гоголю
в его поездке за границу.
Ю. Ф. Самарин:
Да, мы можем назвать себя счастливыми, что родились
современниками Гоголя. Такие люди родятся не годами, а
столетиями.
Когда Гоголь называл Мертвые Души поэмой, не имел
ли он в виду бесконечности поэзии, ее проекции в грядущее?
Ведь «поэт не создает образов, он бросает проблемы»: заражает
читателей будущих поколений мыслями-импульсами, обладаю-
щими мистическим потенциалом саморазвития. Не имел ли в ви-
ду Гоголь сокровенного свойства поэзии проецироваться в беско-
395
нечном, обретать новые, неожиданные смыслы, открываться не-
ведомыми сторонами, торжествовать над сказанным словом не-
сказанным и мимолетным, быть птицей Феникс, вечно возрож-
дающейся из праха?
Нет, Гоголь не думал обо всем этом, но, как мистик, чувство-
вал, что в самостоятельно существующей сфере духа, откуда все
исходит и которой все кончается, вечное эквивалентно бесконеч-
ному. Богу не может быть скучно именно потому, что главным
свойством «материи духа» является ее способность к обновле-
нию, импровизации, бесконечному разнообразию — уже не
внешних форм, а внутренних содержаний, истин...
Платоновские эйдосы отличаются от матриц именно своей
способностью творить неповторимое — отсюда бесконечное раз-
нообразие мира и способность слова выражать несказанное.
И. Анненский видел в понимании поэзии вечную модерниза-
цию, эволюцию, раскрытие многосмысленности таинственного
символа, заключенного в слове. В этом смысле Мертвые Ду-
ши —- поэзия, их чтение — сотворчество: сколько умных читате-
лей — столько новых произведений.
Андрей Белый, этот гений въедливости, как окрестил его В. В.
Набоков, усмотрел, что первая часть Мертвых Душ — зам-
кнутый круг, вращающийся так стремительно, что не видно
спиц: при каждом повороте сюжета вокруг персоны Чичикова
возникает символ колеса.
Мертвые Души, во многом упредившие лучшие об-
разцы европейского модернизма, — русское творение, все в
нем русское: топорность Собакевича, стертость Чичикова,
«господина средней руки», серость домов, боязнь «высуну-
ться», тройки, тюрьмы, кабаки... Даже сами «мертвые ду-
ши» — души русские...
И глаза его невольно остановились на одной фамилии:
это был известный Петр Савельев Неуважай-Корыто... Мас-
тер ли ты был, или просто мужик, и какою смертью тебя
прибрало? в кабаке ли, или середи дороги переехал тебя сон-
ного неуклюжий обоз? — Пробка Степан, плотник, трезво-
сти примерной... Где тебя прибрало? Взмостился ли ты для
большего прибытку под церковный купол, а может быть, и
на крест потащился и, поскользнувшись, оттуда, с перекла-
396
дины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший
возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примол-
вил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!» — а сам, подвязавшись ве-
ревкой, полез на твое место. — Максим Телятников, сапож-
ник. Хе, сапожник! Пьян, как сапожник, говорит пословица.
Знаю, знаю тебя, голубчик... и был ты чудо, а не сапожник...
Григорий Доезжай-не-доедешь! Ты что был за человек? Из-
возом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибит-
ку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги, и пошел та-
щиться с купцами на ярмарку? На дороге ли ты отдал душу
Богу, или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь
толстую и краснощекую солдатку, или пригляделись лесно-
му бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых,
но крепких коньков, или, может, и сам, лежа на полатях, ду-
мал, думал, да ни с того ни с другого заворотил в кабак, а
потом прямо в прорубь, и поминай как звали? Эх, русский
народец! не любит умирать своею смертью!
Одна последняя фраза —- философия в афоризме, националь-
ная парадигма, суть истории народа, его архетип...
Д. С. Мережковский:
«Казалось, в этом теле совсем не было души», — замеча-
ет Гоголь о Собакевиче. У Собакевича в живом теле — мер-
твая душа. И Манилов, и Ноздрев, и Коробочка, и Плюш-
кин, и прокурор «с густыми бровями» — все это в живых те-
лах — мертвые души. Вот отчего так страшно с ними.
Это страх смерти, страх живой души, прикасающейся к
мертвым. — «Ныла душа моя, — признается Гоголь, — ког-
да я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответ-
ных, мертвых обитателей, страшных недвижным холодом
души своей». И здесь, так же, как в «Ревизоре», надвигается
«египетская тьма», «слепая ночь среди белого дня», «оше-
ломляющий туман», чертово марево, в котором ничего не
видно, видны только «свиные рыла» вместо человеческих
лиц. И всего ужаснее, что эти уставившиеся на нас «дрях-
лые страшилища с печальными лицами», «дети непросвеще-
ния, русские уроды», по слову Гоголя, «взяты из нашей же
земли», из русской действительности; несмотря на всю
свою призрачность, они «из того же тела, из которого и
мы»; они — мы, отраженные в каком-то дьявольском и все-
таки правдивом зеркале.
397
А. В. Никитенко:
Выходит, что мертвые души не те, которых скупал Чичи-
ков, а души тех, у которых он покупал. Тут сочинение ста-
новится колоссально величественным, грозным, не поэмой,
как он его называл, а трагедией национальной.
Мы не любим распространяться на тему «русскости» Чичико-
ва, Плюшкина, Собакевича — слишком они противоречат расхо-
жему образу «русских молодцев», богатырей, бесшабашных раз-
бойничков. Я не хочу сказать, что они возможны только в Рос-
сии, фантасмагорической стране монстров и юродивых, — я хочу
сказать, что «ничто человеческое нам не чуждо», что все то, что с
такой горячностью обличали в Западе наши славянофилы и ксе-
нофобы, в самых карикатурных, гротескных, невероятных фор-
мах существовало у нас.
Куча Плюшкина — это бессмысленное накопительство и
уничтожение накопленного, шкатулка Чичикова — уже
предвестие деловитости Штольца, да и сам Чичиков гово-
рит, как бы обещая гончаровского героя: «Нужно дело де-
лать».
Тут хаос, неразбериха, никакого закона — и потому неза-
конен при этих условиях пытающийся «законно» плутовать
Чичиков, плутовать по своему внутреннему «закону» плу-
товства, то есть в согласии с логикой и расчетом. Логика и
расчет прекрасная вещь, но они отказывают там, где только
безумие и несообразность могут спасти, русское авось — так
расцениваются вдруг, сами по себе, неизвестно отчего сце-
пившиеся на дороге тройка Чичикова и шестерня губерна-
торской дочки, и не могут им помочь в этом бестолковые
усилия дяди Митяя и дяди Миняя.
Ну, а что сам Гоголь? Сам Гоголь по поводу Мертвых
Душ признавался одному из своих друзей:
Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну до-
брую черту любому из них, читатель помирился бы с ни-
ми всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей.
Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои
один пошлее другого, что нет ни одного утешительного
явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух
398
бедному читателю, и что, по прочтеньи всей книги, ка-
жется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба
на божий свет.
Хотя главный материал собственного творчества — душу
свою — Гоголь носил в себе, ему казалось, что он испытывает
постоянный дефицит информации: отсюда вечные его требова-
ния поставлять «непосредственные наблюдения», что так же не-
возможно, как невозможно попробовать яблоко за другого. Тон-
кий психолог, интроверт, гениальный писатель, наделенный бо-
жьим даром, Гоголь надеялся возместить отсутствие непосредст-
венных наблюдений «портретиками» и «картинками», просил
всех друзей «поработать за него грудью».
Погодин, мне кажется, многое бы мог записать, что
услышит от простых людей и купцов, с которыми ему весь-
ма часто приходится говорить. Мне бы очень нужно было
иметь всегда у себя в ящике один-другой портрет, набро-
санный ловкою рукою, хотя и бегло, с человека, которого
бы можно назвать типом и представителем своего сословия
в его современном, нынешнем виде.
Конечно, это был «пережиток реализма»: художник, творящий
мир из себя, не должен возлагать надежды на чужие «заготовки»,
не говоря уж о том, что высокое творчество несовместимо с ре-
месленничеством и «поставкой полуфабрикатов». Естественно,
надежды Гоголя в этом отношении оправдаться не могли. В Ав-
торской исповеди он с огорчением констатировал:
Я думал, что, может, хоть пять-шесть человек захотят ис-
полнить мою просьбу, так, как я желал... Но на мое пригла-
шение я не получил записок; в журналах мне отвечали на-
смешками.
Во втором издании Мертвых Душ, вышедшем почти од-
новременно с Выбранными местами, Гоголь предпринял
в своем роде беспрецедентную попытку призвать читателей к со-
творчеству, сотрудничеству. В предисловии «К читателю от сочи-
нителя» Гоголь писал:
В книге этой многое описано неверно, не так как есть, и
как действительно происходит в русской земле, потому что я
не мог узнать всего... Притом от моей собственной оплошно-
399
сти, незрелости и поспешности произошло множество вся-
ких ошибок и промахов, так, что на всякой странице есть,
что поправить: я прошу тебя, читатель, поправить меня.
Скорее всего это была очередная «маленькая хитрость» Гого-
ля: таким образом он сразу «убивал двух зайцев», обезоруживал
критику и надеялся получить от читателей необходимую ему ин-
формацию о характерах и нравах. Собственно, в Авторской
исповеди он сам признается в этом:
Я не требовал собственно поправок на «Мертвые души»:
мне хотелось, под этим предлогом, добыть частных записок,
воспоминаний о тех характерах и лицах, с которыми случи-
лось кому встретиться на веку...
Однако и в этом своем начинании Гоголь потерпел сокруши-
тельное фиаско: почти никто не откликнулся на странный при-
зыв автора «поправить» первую часть поэмы, а заодно прислать
желанную информацию.
Прекрасно ориентируясь в человеческих душах, Гоголь дейст-
вительно недостаточно знал свою страну и свой народ — об этом
свидетельствуют, в частности, многочисленные «шекспировские»
огрехи, которые можно коллекционировать, как это делали не-
доброжелатели Потрясающего Копьем. Причина — не только
длительная оторванность писателя от собственной страны (Джойс
был в добровольном изгнании гораздо дольше, что не помешало
ему не только избежать ошибок, но и упиваться мельчайшими де-
талями быта и жизни Дублина и Ирландии), но — свойства лич-
ности, в том числе — может быть, и результат самоуверенности.
Свидетельствует единоутробный брат А. О. Смирновой, Л. И.
Арнольди:
...Гоголь, который, сколько мне известно, никогда не за-
нимался хозяйством, и если знал что, то от других помещи-
ков; но он и тут не преминул поспорить, говорил свысока,
каким-то диктаторским тоном, одни общие места, и не вы-
слушивал опровержений и вообще показался мне самолю-
бивым, самонадеянным, гордым и даже неумным челове-
ком. И тогда, и после, так же, как и в этот раз, я замечал в
Гоголе странную претензию знать все лучше других. Он
иногда, правда, расспрашивал специалистов, но расспраши-
вал их таким образом, что клонил все подробности и объяс-
400
нения в ту сторону, куда ему хотелось, чтобы набрать еще
более подтверждений той мысли, или тому понятию, кото-
рые он себе составил уже заранее о предметах.
Учиться у других он не любил, и вот каким образом объ-
ясняются те промахи, которые были замечены всеми в его
сочинениях. Он не знал нашего гражданского устройства,
нашего судопроизводства, наших чиновнических отноше-
ний, даже нашего купеческого быта; одним словом, вещи
самые простые, известные последнему гимназисту, были
для него новостью.
Заглядывая в душу русского человека, подмечая все ма-
лейшие оттенки его душевных слабостей, вырывая все это с
необыкновенным искусством в своих произведениях, он не
обращал внимания на внешнее устройство России, на все
малые пружины, которыми двигается машина, и вот почему
он серьезно думал, что у нас существуют еще капитан-исп-
равники, что и теперь еще возможно без свидетельств совер-
шать купчие крепости в гражданских палатах, что никто не
спросит подорожной у проезжего чиновника и отпустит ему
курьерских лошадей, не узнав его фамилии, что, наконец, в
доме губернатора, во время бала, может сидеть пьяный по-
мещик и хватать за ноги танцующих гостей. И много, очень
много подобных несообразностей можно отыскать в сочине-
ниях Гоголя. Иной раз подумаешь, что он описывает какое-
то далекое прошедшее, известное нам по преданиям.
Уже в детстве Гоголь внушил себе мысль о «пользе брани»: «Я
и прежде любил, когда меня побранивали, а теперь всякое слово
упрека в грехе для меня червонец». В одном из писем П. В. Ан-
ненкову, инструктируя его, Гоголь требует выйти за рамки круга,
который о нем, Гоголе, «хорошего мнения», «стало быть от них
что от козла молока». Критика ему нужна как воздух, как обрат-
ная связь, как средство исправления ошибок, как опора для но-
вого строительства.
Гоголь смотрит на критику первого тома «Мертвых Душ»
в свете вырисовывающегося перед ним продолжения труда.
Замечания нужны ему для определения степени недовольст-
ва, и возрастание этой степени не пугает его, а наоборот —
радует. Он потому готов выслушивать любые толки и возра-
жения, что убежден: в завершенном своем виде поэма сни-
мет все возражения. Словно абсолютная истина откроется и
всех убедит и примирит с собою.
401
Больше того, самая ненависть к создателю «Мертвых
Душ», оказывается, входит в его творческие расчеты. «...Не-
нависть против меня должна существовать и быть в продол-
жение некоторого времени, может быть, даже долгого». Это
как струя в общем эмоциональном потоке, как необходимое
условие будущего катарсиса.
* * *
Как же Россия восприняла Мертвые Души? Поэма разде-
лила Россию на два лагеря, причем деление произошло не между
существовавшими лагерями славянофилов и западников, консер-
ваторов и либералов, а трещина прошла через сами эти лагеря.
«Между восторгом и ожесточенной ненавистью к МД середины
нет...»
Больше других злобствовал издатель Московского Те-
леграфа Н. А. Полевой: Мертвые Души бедны содержа-
нием, это грубая карикатура, перешедшая пределы изящного,
скопище грязи, клевета на Россию. Гоголь — близкий родствен-
ник Поля де Кока, видящий в каждом русском Хлестакова и Чи-
чикова.
Особенно много хулителей было среди помещиков, главных
героев поэмы. Вполне оправдалось предвидение писателя: «Еще
восстанут против меня новые сословия...» Н. М. Языков писал в
конце 1842 года:
Гоголь получает отовсюду известия, что его сильно руга-
ют русские помещики — вот ясное доказательство, что
портреты их описаны им верно и что подлинники задеты за
живое! Таков талант! Многие прежде Гоголя описывали жи-
тье-бытье российского дворянства, но никто не рассержи-
вал его так сильно, как он.
Да, Гоголь всех смешил! Жалко! Употребить всю жизнь и
такую краткую на то, чтобы служить обезьяною публике...
Так злословили не только окололитературные дамы...
И. И. Панаев:
Гоголю надо запретить писать, потому что от всех его со-
чинений пахнет тем же запахом, как от лакея Лаврушки.
402
О. И. Сенковский:
Я обожаю чистоту, ваши зловонные картины поселяют
во мне отвращение.
Нет, Россия не желала нюхать собственное зловоние, она хо-
тела амброзии...
Одни из критиков сокрушались, что Гоголь «не хочет
возвыситься хоть настолько, чтобы не уступать Поль де Ко-
ку», по мнению других, «Мертвые Души» не следовало
брать в руки из опасения замараться»...
Критик «Русского Вестника» Н. А. Полевой, обращаясь к
«Мертвым Душам», восклицал: «Начнем с содержания — ка-
кая бедность!» — «От Гоголя много ждали, — замечает с гру-
стью критик «Северной Пчелы», — но он разрешился ни-
чтожными «Мертвыми Душами». — «Истинно рус-
ские люди» кричали с пеной у рта, что Гоголь «враг России».
Господа Шафаревичи, ау...
В то время, как одни писали восторженные дифирамбы
Мертвым Душам, сравнивая их с Илиадой, другие (Н. И.
Греч, Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, Н. А. Полевой) ернича-
ли, поливали Гоголя грязью, обвиняли в антипатриотизме:
Помилуйте!., что вы это... при каждом неблаговидном
случае наводите речь на русских? В чем и за что вы беспре-
станно их обвиняете?.. Вы систематически унижаете рус-
ских людей.
Почему, в самом деле, современность представляется
ему в таком неприязненном виде, в каком изображает он ее
в своих «Мертвых Душах», в своем «Ревизоре», и для чего
не спросить: почему думает он, что каждый русский человек
носит в глубине души своей зародыши Чичиковых и Хлес-
таковых?
«Ложь», «кривлянья балаганного скомороха», «побасен-
ки» — вот далеко не самые крепкие определения из статьи
Н. Полевого в «Русском Вестнике». («Побасенки!.. — отве-
тит ему в «Театральном разъезде» Гоголь. — А вон протекли
веки, города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как
403
дым унеслось все, что было, а побасенки живут...»). Гоголь,
по его мнению, «хочет учиться языку в харчевне», его «вос-
хищает всякая дрянь итальянская» и он ненавидит русское,
он судит свое отечество, как «уголовный судья». «Если бы
мы осмелились взять на себя ответ автору от имени Руси, —
писал Полевой, имея в виду обращения Гоголя к Руси:
«Русь, чего же ты хочешь от меня?» — мы бы сказали ему:
М(илостивый) Г(осударь), вы слишком много о себе думае-
те... вы... сбились с панталыку. Оставьте в покое вашу «вью-
гу вдохновения», поучитесь Русскому языку, да рассказы-
вайте нам прежние ваши сказочки...»
Во все времена Полевые наши держали ответ не иначе как «от
имени Руси», сегодня — как вчера...
Главные стволы заговорили позднее. В «Московитянине»
С. Шевырев объявил Чичикова «героем нашего времени».
Не плут и мерзавец, а «поэт своего дела», своего рода гений
предпринимательства, наступавший на Русь, виделся ему в
образе гоголевского героя. Шевырев называл Чичикова
«Ахиллом», способным на «самопожертвование мошенниче-
ства», что соответствовало истине.
Ну а Петербург? В «Санкт-Петербургских ведомостях»
«Мертвые Души» назывались «превосходным творением»,
«согретым пламенем истинного чувства», говорилось, что
это сатира, но «глубоко грустная». Чичикову предсказыва-
лась судьба шекспировского Фальстафа и мольеровского
Гарпагона, ибо он, как и те в свое время, оказался «зерка-
лом» времени и заодно поднялся над ним.
Писавшие эти строки тогда еще не знали, что русские Чичи-
ковы все еще впереди, где-то аж в конце XX века...
Неудивительно, что некоторые считали Гоголя «врагом Рос-
сии» и даже считали необходимым «в кандалах отправить в Си-
бирь».
Один офицер (инженерный) говорил... что МД удивите-
льнейшее сочинение, хотя гадость ужасная. Один почтен-
ный наставник юношества говорил, что МД не должно в
руки брать из опасения замараться: что все, заключающееся
в них, можно видеть на толкучем рынке.
В то время, как друзья Гоголя писали о русском Гомере, рус-
ской Илиаде и Одиссее, апофеозе Руси, враги накладывали
404
анафему. Славянофил Д. Н. Свербеев считал, что Гоголь опозо-
рил Россию перед миром, сделал то же, что и шаромыжник Кюс-
тин, полив ее грязью. Ф. Ф. Вигель писал о Ревизоре, что это
«юная Россия во всей своей наглости и цинизме». Особенно
много недоброжелателей появилось у Гоголя на родине: после
Ревизора сам Гоголь писал: «Мои соотечественники, т. е.
Полтавской губернии, терпеть меня не могут».
Как это ни удивительно, среди недоброжелателей Гоголя ока-
зался и П. Я. Чаадаев, катастрофа Философических пи-
сем которого совпала с громким успехом Ревизора. Называя
комедию Гоголя фарсом, Чаадаев писал:
Никогда еще нация не подвергалась такому бичеванию,
никогда еще страну не обдавали такою грязью, никогда не
бросали в лицо публики столько гнусностей...
Сравнивая собственную филиппику в адрес народа с гоголев-
ской, Чаадаев вопрошал:
Отчего же мы так снисходительны к циническому уроку,
который дает нам комедия, и так нетерпимы к суровой ре-
чи, проникающей до глубины вещей?
С иных позиций нападал на Гоголя Д. И. Писарев. В статье
Реалисты, опубликованной уже после смерти Гоголя, критик
иронизировал: все шло хорошо и умно, пока Гоголь изображал
бедность и несовершенства нашей жизни, но потом вдруг пустил
бессмысленнейшее воззвание к России, которая будто бы куда-то
мчится, как бешеная тройка, да так шибко мчится, что остальные
народы только рты разевают. И кто тянул его на эти дифирамбы?
Решительно никто.
Так само собою вылилось, от полноты невежества и от не-
привычки к широкому обобщению фактов. И вышла чепуха:
с одной стороны — «бедность», а с другой — такая быстрота
развития, что любо-дорого. Ничего цельного и не оказалось.
И уже в этом лирическом порыве сидят зачатки второй части
«Мертвых душ» и знаменитой «Переписки с друзьями».
Даже издатель Гоголя Надеждин был скептически настроен по
отношению к Мертвым Душам: «Больно читать эту книгу,
больно за Россию и русских». А Н. Греч находил в творении Го-
голя «какой-то особый мир негодяев, который никогда не суще-
ствовал и не мог существовать».
405
Славянофил Ф. Чижов писал автору «Мертвых Душ» в
1847 году: «... Я восхищался талантом, но как русский был
оскорблен до глубины сердца». К. Леонтьев, оказавший бо-
льшое влияние на Розанова, признавался в «почти личном
нерасположении» к Гоголю «за подавляющее, безнадежно
прозаическое впечатление», которое произвела на него го-
голевская поэма.
Как воспринял Мертвые Души «передовой» Белинский?
Неоднозначно! Высоко оценивая поэму в целом, он обвинил Го-
голя во многих грехах: отсутствии «художественности», сюжета,
занимательной завязки, незнании современной жизни, утрате
чувства времени, отставании от «умственной жизни современно-
го мира», местничестве. В то время, когда К. С. Аксаков загово-
рил о мировом значении Гоголя, Белинский, иронически срав-
нивая Мертвые Души с Илиадой, писал:
«Илиада» выразила собою содержание положительное,
действительное, общее, мировое и всемирно-историческое,
следовательно, вечное и неумирающее: «Мертвые души»,
равно как и всякая другая русская поэма, пока еще не могут
выразить подобного содержания, потому что еще негде его
взять... В «Илиаде» жизнь возведена на апофеозу: в «Мерт-
вых душах» она разлагается и отрицается.
Это был уже большевистский подход: отношение к России пе-
реносилось на художника России: раз Россия отстала, раз «все-
мирно-исторического» в ней пока нет, значит, и «великий та-
лант», «гений» не дорос до Илиады — российские шедевры все
еще впереди, как и российская история; воспевать надо освобож-
дение, а не писать глухую действительность, жизнь. С последни-
ми надо «воевать»...
Гоголь был поэтом, интровертом, человеком внутренней борь-
бы, идущей в нем постоянно и с огромным накалом, Белинский
звал его на баррикады, звал к ангажементу, служению, борьбе за
освобождение. Гоголь уже вел эту борьбу всеми доступными для
художника средствами, а от него требовали не «актов творчест-
ва», но «идей», «объективного изображения фактов», участия в
борьбе...
Приведу некоторые другие отзывы. В. В. Стасов, тогда еще сту-
дент Петербургского училища правоведения, оставил яркую зари-
совку восприятия Мертвых Душ тогдашними студентами:
406
Эта книга пришла к нам в руки в конце лета, когда мы
воротились с каникул. Классы еще не начинались. Вот мы и
употребили свободное время так, как нам было всего доро-
же: на прочтение залпом «Мертвых душ» всеми нами вмес-
те, одной большой толпой, чтоб прекратить все споры об
очереди... И вот в таком-то порядке мы в продолжение не-
скольких дней читали и перечитывали это великое, неслы-
ханно оригинальное, несравненное, национальное и гениа-
льное создание. Мы были все точно опьяненные от восторга
и изумления.
А вот воспоминание Ф. М. Достоевского, относящееся к на-
чалу 1845 года, ко дню передачи рукописи Бедных людей
Некрасову. Мы с приятелем, писал Достоевский, «всю ночь про-
говорили... о «Мертвых душах» и читали их в который раз не по-
мню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или
трое: «А не почитать ли нам, господа, Гоголя! — садятся и чита-
ют, и пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весь-
ма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то
ожидали». Достоевский подчеркивал, что эстетическое воодушев-
ление от творения Гоголя сливалось с новыми веяниями, хотя
еще неотчетливыми и смутными.
ХЛЕСТАКОВ И ЧИЧИКОВ
Я везде, везде.
Слова Хлестакова
Не все ли мы, после юности,
так или иначе ведем одну из жиз-
ней гоголевских героев? Один оста-
ется при маниловской тупой мечта-
тельности, другой буйствует, а 1а
Nosdreff, третий Плюшкин и пр.
Л. И. Герцен
Один из секретов «вечных творений» человеческого гения — в
«вечности» изображаемых типов, феноменов, явлений, извлечен-
ных автором не из жизни, а из глубин собственного «я». Нам
долго внушали, во-первых, что Хлестаковы и Чичиковы — плоды
«николаевского ада», и, во-вторых, что автор — одно, а персона-
жи — другое. Между тем сам Гоголь многократно признавался в
407
своей данной Богом многосторонней природе и извлечении Хле-
стакова из собственной души.
Я глубоко убежден в том, что только такие герои — извлечен-
ные из собственной души — являются вечными архетипами, что
нельзя написать убедительных и вечных Хлестакова и Чичикова,
не содержа их частицу в самом себе. Но убедительными и вечны-
ми они могут стать по другой причине — по причине их наличия
в душах всех тех, кто и дает им «вечность» — всех нас...
Не поняв всеобъемлющий, всечеловечный, вневременной ха-
рактер Хлестакова и Чичикова, приписав эти типы определенной
системе или определенному времени, не понять и Гоголя. Ре-
визор потому и разобран на «крылатые выражения», что пред-
ставляет собой «матрицу» жизни, по которой она отливает свои
новые формы.
До известной степени все гоголевские герои — это сам Гоголь:
и сумасшедший Поприщин, и Хлестаков, и Чичиков...
«Вон и русские избы виднеют. Дом ли мой синеет вдали?
Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего
бедного сына!»
Это обращение к матери — песнь души несчастного су-
масшедшего. И именно на нее откликается «струна в тума-
не».
В отчаянные минуты петербургской безвестности Гоголь,
как и Поприщин, готов был воззвать к теплу матери и по-
проситься домой. И он хотел бы «сию же минуту» быть «по-
жалован генерал-губернатором», чтоб «увидеть, как они бу-
дут увиваться и делать все эти придворные штуки», и сры-
вался в мщении.
Труайя считал, что в образе Хлестакова Гоголь довел до апо-
гея собственную страсть водить за нос свое окружение, что в ли-
тературного героя его творец вложил собственный искус лжи ра-
ди лжи. Мне же представляется, что речь идет не о персональ-
ном, а общечеловеческом, по крайней мере, национальном каче-
стве, которым, естественно, обладал и Гоголь. В какой мере, не
нам судить...
Я не хочу сказать, как говорят некоторые исследователи, что
Гоголь был человеком бессердечным или патологическим лгу-
408
ном, но, возвращаясь к теме «автор и его персонажи», не могу не
согласиться с норвежским русистом Э. Крагом в том, что Гоголь
облек «свои собственные черты в плоть и кровь помещиков-кре-
постников». Как и любой творец, он извлекал свои гротески,
своих столь жизнеподобных монстров из тайников собственного
подсознания, и в известной степени прав Дж. Вудворд, называя
поэму Гоголя «аллегорией порчи русской души». Впрочем, так
считают не одни иностранцы. У Сергея Залыгина нахожу:
Непрактичный в жизни человек1, он в своем творчестве
обставляет дело с покупкой мертвых душ так, как не сумел
бы обставить его ни один пройдоха-юрист; он обманывает
городничего и целый город столь нахально, дерзко и само-
уверенно, как не смог бы обмануть величайший аферист и
повеса; он так устраивает карточную игру, что позавидовал
бы самый отъявленный и прожженный шулер...
В отличие от Достоевского, Гоголь никогда не скрывал гене-
тического отцовства своим героям: «Герои мои еще не отдели-
лись вполне от меня самого, а потому не получили настоящей са-
мостоятельности»; «Право, есть во мне что-то Хлеста-
ков с к о е».
Чичиковского было в Гоголе, может быть, еще больше,
чем хлестаковского. Чичикову точно так же, как Хлестако-
ву, мог бы он сказать то, что Иван Карамазов говорит свое-
му черту: «Ты воплощение меня самого, только одной,
впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только са-
мых гадких и глупых... Ты — я, сам я, только с другой ро-
жей».
Как Иван Карамазов борется с чертом в своем кошмаре,
так и Гоголь — в своем творчестве, тоже своего рода «кош-
маре». «Кошмары эти давили мою собственную душу: что
было в душе, то из нее и вышло».
Не следует упрощать Хлестакова — сам Гоголь дал слишком
много трактовок своего героя, чтобы выхолащивать его:
«Хлестаков есть человек ловкий, совершенный comme il
faut, умный, даже пожалуй, добродетельный»...
1 Тезис о «непрактичности» Гоголя представляется мне в данном контексте
весьма спорным. Да и в жизни, по воспоминаниям современников, он был дово-
льно практичен.
409
Ну, конечно, не слишком умный и добродетельный, коммен-
тирует Мережковский, но зато и не слишком глупый и злой.
У него самый обыкновенный ум, самая обыкновенная — общая,
легкая, «светская совесть».
Сущность Хлестакова именно в его неопределенности, нео-
конченное™. «Он не в состоянии остановить постоянного вни-
мания на какой-нибудь мысли». Он, как выражается черт Ивана
Карамазова, «потерял все свои концы и начала», он — воплощен-
ная нравственная и умственная середина, посредственность,
заключает автор Грядущего хама.
Хлестаков лжет вовсе не холодно, или фанфаронски-те-
атрально; он лжет с чувством; в глазах его выражается на-
слаждение, получаемое им от этого. Это вообще лучшая и
самая поэтическая минута его жизни — почти род
вдохновения.
У этого гения лжи, как у всякого истинного гения, —
почти детская простота и честность. Тот Хлестаков, кото-
рый берет взятки у обманутых им чиновников, с такою бес-
стыдною наглостью, уже совсем другой человек: поэт исчез,
вдохновение потухло:
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
С ложью связано в нем другое столь же первозданное,
стихийное свойство. «У меня легкость в мыслях необыкно-
венная...» Для него и в нем самом нет ничего трудного, тя-
желого и глубокого — никаких задержек, никаких преград
между истиной и ложью, добром и злом, законом и пре-
ступлением...
Хлестаков отнюдь не русский враль, не мольеровский плут, не
Маскариль или Тартюф, тем более не Фигаро, потому что Фига-
ро Бомарше воплощает черты «своей нации», а Хлестаков —
своей... Это лучше других понимал сам Гоголь: «Хлестаков вовсе
не надувает, он не лгун по ремеслу; он сам позабывает, что лжет,
и уже сам почти верит тому, что говорит».
В сцене вранья он — министр и поважнее министра —
до фельдмаршала включительно. В сцене приема чиновни-
410
ков он — взяточник, не очень крупного пошиба, но зато ре-
альный взяточник, извлекающий вполне осязаемую выго-
ду—в «ассигнациях». Потом — он «высокоблагородная
светлость, господин финансов», принимающий просьбы и
жалобы от населения. Потом — нареченный жених Марьи
Антоновны. Переход от воображаемых положений к реаль-
ным для Хлестакова нечувствительно легок, как переход от
«тысячи рублей», которые он вначале запросил у Бобчин-
ского и Добчинского, к сумме, отыскавшейся в карманах
обоих приятелей. «Хорошо, пусть будет шестьдесят пять.
Это все равно».
А вот комментарий самого Гоголя:
Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, де-
лался или делается Хлестаковым... И ловкий гвардейский
офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный
муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный
литератор, окажется подчас Хлестаковым...
Хлестаков — не аномия, а норма, норма русской жизни, рос-
сийский архетип, ничтожество, вполне способное заменить «ве-
льможу», «вельможа», нагоняющий страх на «сильных мира се-
го», символ той «хлестаковщины», о которой Аполлон Григорьев
писал:
Форма без содержания, движение без цели, внешность
интересов, и, стало быть, пустота их, — узкие цели деятель-
ности, поглощающейся в бесплодном формализме... все это
гордящееся чем-то, к чему-то неугомонно стремящееся,
толкающее на пути другое, толкающее без сердца и без жа-
лости...
Страшная, мрачная картина...
Да, страшная, жалкая, мрачная картина национального типа...
Сама фамилия Хлестаков гениально придумана, потому
что у русского уха она создает ощущение легкости, бездум-
ности, болтовни, свиста тонкой тросточки, шлепанья об
стол карт, бахвальства шелопая и удальства покорителя сер-
дец (за вычетом способности довершить и это и любое дру-
гое предприятие). Хлестаков порхает по пьесе, не желая
толком понимать, какой он поднял переполох, и жадно ста-
раясь урвать все, что подкидывает ему счастливый случай.
411
Он добрая душа, по-своему мечтатель и наделен неким об-
манчивым обаянием, изяществом повесы, услаждающим
дам, привыкших к грубым манерам дородных городских ту-
зов. Он беспредельно и упоительно вульгарен, и дамы вуль-
гарны, и тузы вульгарны — вся пьеса, в сущности (по-свое-
му, как и «Госпожа Бовари»), состоит из особой смеси раз-
личных вульгарностей и выдающееся художественное досто-
инство целого зависит (как и во всяком шедевре) не от то-
го, что сказано, а от того, как это сказано, от блистате-
льного сочетания маловыразительных частностей. Как в че-
шуйках насекомых поразительный красочный эффект зави-
сит не столько от пигментации самих чешуек, сколько от их
расположения, способности преломлять свет, так и гений
Гоголя пользуется не основными химическими свойствами
материи («подлинной действительностью» литературных
критиков), а способными к мимикрии — физическими яв-
лениями, почти невидимыми частицами воссозданного бы-
тия. Я употребляю слово «вульгарность» из-за недостатка
более точного термина, пишет Набоков, — Пушкин, в «Ев-
гении Онегине» тоже употребляя английское слово vulgar,
извинился, что не нашел в русском языке его точного экви-
валента.
Ведь каждое, внешне подчас непритязательное, слово
Ивана Александровича Хлестакова — это особый мир, це-
лая сфера жизни, обширная сторона бытия. Давно замечено
уже, что, скажем, фраза: «Это ничего! Для любви нет разли-
чия; и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся
под сень струй...» — не просто пошлость, но заключенная в
пошлость и уничтожаемая в пошлости и пошлостью вели-
кая эпоха культуры: и порывы человеческого духа, и анг-
лийский сенсуализм, и уроки руссоизма, и живопись Ватто,
и русский карамзинизм. «С Пушкиным на дружеской но-
ге» — это клеймо, положенное на колоссальное количество
мемуарной литературы, которую посвящают невеликие ми-
ра сего великим и пошлость которой часто определяется
уже даже простым ее обилием.
Стоит, вынув из пьесы, прочитать сами по себе слова:
«Скучно, брат, так жить; хочешь, наконец, пищи для души.
Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться», чтобы
легко представить их присутствие в бесчисленных — лите-
ратурных и нелитературных — дневниках лишних людей, и
высоких романтиков, и всех порывающихся к «высокому» и
412
неудовлетворенных. Но стоит, снова заключив их в кон-
текст, возвратить автору — Ивану Александровичу Хлеста-
кову, чтобы уже увидеть возможность хлестаковского начала
и у людей, казалось бы, бог знает как далеких от нашего ге-
роя.
Во времена Гоголя почти никто до конца не понимал слова,
которыми он сам резюмировал абсолютную природу созданного
им архетипа: «Всякий хоть на минуту, если не на несколько ми-
нут, делался или делается Хлестаковым». А ведь Гоголь букваль-
но вопил об этом, трубил трубным гласом, что не «ревизора»
осмеивает, а к совести взывает: «Хлестаков — ветреная, светская
совесть, продажная, обманчивая совесть... С Хлестаковым под
руку ничего не увидишь в душевном городе нашем»; «Все оты-
щешь в себе, если только опустишься в свою душу не с Хлестако-
вым, но с настоящим и неподкупным ревизором».
Испытание на Хлестакова и на хлестаковщину — в изве-
стном смысле — главное испытание, которое несла комедия
«людям, которых свет не называет пустыми...».
Хлестаков и Чичиков... Чичиков и Хлестаков...
В Хлестакове — преобладает начало движения «прогрес-
са»; в Чичикове — начало равновесия, устойчивости. Сила
Хлестакова в лирическом порыве, в опьянении; сила Чичи-
кова — в разумном спокойствии, в трезвости. У Хлестако-
ва — «необыкновенная легкость», у Чичикова — необыкно-
венная вескость, основательность в мыслях. Хлестаков —
созерцатель; Чичиков — деятель. Для Хлестакова все желан-
ное — действительно; для Чичикова все действительное —
желанно. Хлестаков —■ идеалист, Чичиков — реалист; Хлес-
таков — либерал, Чичиков — консерватор; Хлестаков —
«поэзия», Чичиков — «правда» современной русской дейст-
вительности.
Но, несмотря на всю эту явную противоположность, тай-
ная сущность их одна и та же. Они — два полюса единой
силы; они — братья-близнецы, дети русского среднего
сословия и русского XIX века, самого серединного, буржу-
азного из всех веков; и сущность обоих — вечная середина,
«ни то, ни се» — совершенная пошлость.
«Так есть хочется, как еще никогда не хотелось!» — мимохо-
дом бросает Хлестаков. Но у Гоголя ничего не бывает мимохо-
413
дом. Русскому народу всегда хотелось есть — потому у него и по-
являлись либо Хлестаковы и Чичиковы, либо нигилисты-нис-
провергатели, эту пищу обещающие — тоже, кстати, из Хлеста-
ковых...
В. В. Набоков находил Чичикова не просто дьявольским по-
шляком, но прямым агентом Вельзевула:
Да и сам Чичиков — всего лишь низко оплачиваемый
агент дьявола, адский коммивояжер: «наш господин Чичи-
ков», как могли бы называть в акционерном обществе «Са-
тана и К°» этого добродушного, упитанного, но внутренне
дрожащего представителя. Пошлость, которую олицетворя-
ет Чичиков, — одно из главных отличительных свойств дья-
вола, в чье существование, надо добавить, Гоголь верил ку-
да больше, чем в существование Бога. Трещина в доспехах
Чичикова, эта ржавая дыра, откуда несет гнусной вонью
(как из пробитой банки крабов, которую покалечил и забыл
в чулане какой-нибудь ротозей), — непременная щель в за-
брале дьявола. Это исконный идиотизм всемирной пош-
лости.
Чичиков с самого начала обречен и катится к своей ги-
бели, чуть-чуть вихляя задом — походкой, которая только
пошлякам и пошлячкам города NN могла показаться упои-
тельно светской. В решающие минуты, когда он разражает-
ся одной из своих нравоучительных тирад (с легкой пере-
бивкой в сладкогласной речи — тремоло на словах «возлюб-
ленные братья»), намереваясь утопить свои истинные наме-
рения в высокопарной патоке, он называет себя жалким
червем мира сего. Как ни странно, нутро его и правда точит
червь, и если чуточку прищуриться, разглядывая его округ-
лости, червя этого можно различить. Вспоминается довоен-
ный европейский плакат, рекламировавший шины; на нем
было изображено нечто вроде человеческого существа, це-
ликом составленного из резиновых колец; так и округлый
Чичиков кажется мне тугим, кольчатым, телесного цвета
червем.
Самая опасная интерпретация Чичикова — черт, антихрист,
лжемессия. Опасная сведением обыденного к исключительному.
Э. Фромм в Анатомии человеческой разрушитель-
ности предостерегал от возведения в ранг «уникумов» некро-
филов XX века — вовсе они не исключительны, ими кишит мир,
они опасны не масштабами, а количеством. Все это относится к
414
Хлестаковым и Чичиковым, первейшее качество которых — ти-
пичность... Потому-то Джойс не осуждал своего Блума, а Го-
голь — своего Чичикова...
Часто говорят о бесхарактерности Чичикова — не в мораль-
ном плане беспринципной уступчивости, а в смысле неопреде-
ленности душевных качеств. Даже внешне Чичиков гладок, обла-
дает «приятной полнотой», неопределенностью, почти неразли-
чимостью. Случайно ли это? Необычайная вежливость, гибкость,
когда надо — угодливость и подобострастность — типичные ка-
чества человека толпы, эвримена. Нет, не мошенник перед нами,
а человек ускользающий, мимикрирующий, играющий роли. Ма-
нилов, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин — характеры, Чичиков —
собирательный портрет, аллегория, символ...
А. К. Вронский обратил внимание на то, что в изображении
Чичикова, как и вообще в структуре Мертвых Душ, большую
роль играет «фигура фикции»: «Не красавец, но и не дурной на-
ружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать,
чтобы стар, однако ж и не так чтобы слишком молод...» У Гоголя
вообще многие герои — «нечто», «до некоторой степени», госпо-
да «средней руки», персонажи со стертыми лицами, по совер-
шенно непостижимой причине сильно врезающиеся в память.
Почему? Потому что типы Гоголя — архетипы, в такой же
степени «фигуры фикции», в какой вечны «человеческие состоя-
ния», неподвластные никаким революциям и эволюциям. По
этому поводу П. Кропоткин проницательно замечал:
Чичиков может покупать мертвые души или железнодо-
рожные акции, он может собирать пожертвования для бла-
готворительных учреждений, или стараться пролезть в ди-
ректора банка... Это безразлично. Он остается бессмертным
типом: вы встретитесь с ним везде; он принадлежит всем
странам и всем временам: он только принимает различные
формы, сообразно условиям места и времени.
Все люди — в той или иной мере Чичиковы, Хлестаковы,
Акакии Акакиевичи, Сквозник-Дмухановские... Понять это —
значит навсегда отказаться от революции, коей можно испога-
нить жизнь, но не переделать человека. Давно следует понять,
что персонажи Гоголя «представляют галерею вечных типов на-
подобие Гарпагона или Тартюфа». Чичиковы и Хлестаковы —
это мы, и Калибаны — это мы, и йеху — это мы, И гоголевскую
415
тему «пошлости пошлого человека» следует понимать не как са-
тиру, а как зеркало, поставленное перед каждым из нас. Литера-
тура не учит, не наставляет, не воспитывает — литература демон-
стрирует. В конце концов, Аристофан — это все те же мы, как и
театр абсурда Ионеско и Беккета — это все те же мы: «копошим-
ся, значит, существуем».
«ПЕРЕПИСКА С ДРУЗЬЯМИ»
Дух мой крайне изнемог.
Н. В. Гоголь
Хотя я не сторонник доктрины «гоголевского перелома»,
Переписка с друзьями — книга во многих отношениях
переходная — не от одного Гоголя к другому, просветленному, а
от одного тома Мертвых Душ к другому, от художника к су-
дне и пророку. Еще — это книга итоговая, прощальная — почти
та, на которую он намекал в «Завещании», последнее слово чело-
века, почувствовавшего приближение смерти. Подобно тому, как
на излете европейского средневековья в ходу были разного рода
суммы, энциклопедии, в середине XIX века Гоголь вознамерился
«все сказать», всему научить, все подытожить — замах, изначаль-
но обреченный, сколь бы талантливый человек ни пытался его
осуществить. Это еще одна причина поражения Гоголя. Это был
как бы обновленный, адаптированный к своему времени До-
мострой— даже с аналогичными параграфами-предписаниями
«О том, что такое слово», «Чем может быть жена для мужа в про-
стом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России».
Либералами она и воспринималась отрицательно, ибо, не говоря
об этом прямо, они воспринимали ее как сверхреакционный
Домострой, не разглядев при этом совсем иную — духов-
ную — основу. Но если позорный русский Домострой узако-
нивал тоталитаризм, тоталитарные отношения, то сверхзадачей
Переписки было нечто противоположное — разбудить лич-
ность каждого человека, сказать ему о смерти и Боге, помочь
превозмочь себя и подняться над собой. Это была книга бароч-
ная, антипросветительская, но одновременно экзистенциальная,
ставящая существо человека выше рассудка, дух выше страстей
ума. В ней четко слышались сковородинские нотки.
Все вынесет человек века: вынесет названье плута, под-
леца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его — и то-
лько не снесет названье дурака. Над всем он позволит по-
416
смеяться — и только не позволит посмеяться над умом сво-
им. Ум его для него — святыня. Из-за малейшей насмешки
над умом своим он готов сию же минуту поставить своего
брата на благородное расстоянье и посадить, не дрогнувши,
ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только
верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него
нет... Во всем он усумнится: в сердце человека, которого
несколько лет знал, в правде, в Боге усумнится, но не
усумнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за
какие-нибудь существенные права, не из-за личных нена-
вистей — нет, не чувственные страсти, но Страсти ума
уже начались: уже враждуют лично из-за несходства мне-
ний, из-за противуречий в мире мысленном. Уже образова-
лись целые партии, друг друга не видевшие, никаких лич-
ных сношений еще не имевшие — и уже друг друга ненави-
дящие.
Поразительно, в то время, когда уже было начали думать
люди, что образованьем выгнали злобу из мира, злоба дру-
гой дорогой, с другого конца входит в мир, — дорогой ума...
Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди на-
чинают говорить ложь противу собственного своего убежде-
ния... из-за того только, что гордость не позволяет сознать-
ся перед всеми в ошибке — уже одна чистая злоба воцари-
лась наместо ума.
Гоголь не читал и не мог читать Киркегора, но эти чисто кир-
кегоровские мысли возникли под влиянием его пребывания на
Западе, под влиянием западного разочарования в «просвеще-
нии», «прогрессе», предпочтения внешней жизни жизни души.
Все западноевропейские отцы церкви, начиная от Блаженного
Августина и кончая Лютером и Кальвином, твердили о первенст-
ве мира внутреннего, духовного, о превосходстве души над разу-
мом и любви над порядком. «Лучше в несколько раз больше сму-
титься от того, что внутри нас самих, нежели от того, что вне и
вокруг нас», — вторил им Гоголь.
И он доказывал этот тезис на собственном примере. По-
трясение, произведенное «Выбранными местами из перепи-
ски с друзьями», было прежде всего потрясение личной ис-
поведью Гоголя, его личным разоблачением, в котором он
доходил, кажется, до неприличия. Ничего не хотел он скры-
вать в себе от читателя, не хотел припомаживаться и наде-
417
вать на себя рыцарские доспехи — он открыто объявлял о
том, что стоит, может быть, ниже всех, что недостоин по-
учать и учить и что нынешнее его поученье скорей страда-
нье на миру, чем наставленье свыше. Он столь же беспо-
щадно присваивал себе недостатки и пороки своих героев,
говоря, что отдал им свои хвастливость, нахальство, завист-
ливость, тщеславие, гордость. Он и на сочинения свои,
принесшие ему славу, смотрел теперь новыми глазами, видя
в них чрезмерность, упоение одним искусством — без мыс-
ли о том, зачем оно и куда ведет, — торопливость и неряше-
ство... Казалось, собственное самосожжение на виду у всех
дает ему право так поступать, дает ему ту свободу и высо-
кую меру взыскания, которую он применил к своей родине,
желая ей лучшего.
В известной мере Переписка была отповедью Герцену,
развернутым ответом на его вопрос: «Кто виноват?» Все в России
всегда искали виноватых где угодно, но только не в себе, а вот
Гоголь взял на себя смелость ответить: мы! каждый из нас!
Парадокс русской идеи состоит в том, что, с одной стороны,
мы — самые лучшие, наиболее духовные, соборные и всечеловеч-
ные, а с другой, все у нас плохо — и власть прогнила, и государ-
ство разворовали. Для либеральной интеллигенции царь был
«жестоким распинателем», «темным мучителем» и «палачом», а
Гоголь, видите ли, требовал начать с себя, именуя злодея спаси-
телем: «Спасен я был государем».
Воистину, пути Господни неисповедимы: Гоголя, которого
Николай I неоднократно поддерживал, которого правильно по-
нял и ободрил, обвинили в реакционности за благодарность ца-
рю, Пушкина же никто не осмелился возводить в реакционеры
ни после Поэта и толпы, ни после Клеветникам Рос-
сии, ни после Бородинской годовщины, ни после
Стансов... Пушкин писал: «Народ (господин Всякий) властву-
ет со всей отвратительной властью демокрации. В нем все при-
знаки недежества — презрение к чужому, спесь необузданная и
решительная...», а Гоголь оказывался «проповедником кнута»,
Пушкин поучал, что «царю не должно сближаться лично с наро-
дом», ибо «чернь перестает скоро бояться таинственной влас-
ти...», а Гоголь становился «поборником мракобесия», Пушкин
требовал «задушить» мятежных поляков, «и наша медлительность
мучительна», а Гоголь был ксенофобом.
418
Мало кто обратил внимание на компенсационный характер
Выбранных мест. А между тем сам Гоголь прямо намекает
на то, что книга эта как бы замещает второй том Мертвых
Душ: отнюдь не случайно именно здесь описаны причины его
сожжения.
Новая книга выступала невольным антиподом неудавше-
муся художественному опыту. Там не удалось указать «путей
и дорог» к прекрасному «для всякого». Здесь вся книга яв-
ляла собою воплощенное, материализованное указание.
Поэтому Гоголь называет «Выбранные места...» «полез-
ной» книгой, «моей единственной дельной книгой», «пер-
вой моей дельной книгой» и т. д. Полезность и дельность
запечатлены уже в конкретности и императивности препод-
носимых советов: «Нужно любить Россию», «Нужно проез-
диться по России», «Чем может быть жена для мужа...» и т. д.
Кстати, проницательная Александра Осиповна Смирнова под-
метила, что Выбранные места стали вехой на пути к новой
редакции второго тома Мертвых Душ, что изъять их из твор-
ческой истории поэмы невозможно.
В. И. Мильдон:
Он делает отчаянную попытку воздействовать на себя и
одновременно на мир впрямую — «Выбранными местами»,
где сильно художественное «чур» всему мертвому, коснею-
щему в инерционном круговороте бесконечных физических
элементов. Эта книга — уникальный во всемирной литера-
туре опыт публичного автодидактизма, отдаленно напоми-
нающий, пожалуй, лишь «Исповедь» Руссо, но только у
французского писателя нет почти утробного в Гоголе убеж-
дения: изменю себя, изменится и мир (благодаря перемене
моего отношения к нему). В «Переписке» Гоголь намере-
вался воздействовать на себя публичным покаянием, кото-
рое, по его расчетам, провоцировало бы окружающих на
строгое суждение об авторе, но зато и ему эта предполагае-
мая строгость давала право на прямое и без утайки сужде-
ние обо всем.
Ключ к Выбранным местам — служение, поприще, «де-
ло общего добра». Как во всех великих русских, в Гоголе совме-
щались два качества: «идея службы» и «не могу молчать».
419
И. П. Золотусский:
Путь этот был завещан ему традицией русской литерату-
ры, всегда сознававшей себя участницей в «деле общего до-
бра». Не к абстрактному читателю обращалась она, а к со-
временному читающему русскому — и не только к читате-
лю, но и тянущемуся к грамоте, к познанию, к истине. Вы-
ражая себя, русский писатель все же при этом преследовал
цель — облагородить русскую жизнь, привести ее в некото-
рое соответствие со своим идеалом. Так поступали Хера-
сков, Сумароков, Державин, Капнист, Фонвизин. Идея
службы рдохновляла и Карамзина. Государственную ответ-
ственность мыслящего человека в России ощущал Пушкин.
Гоголь пошел далее своих предшественников. Он вывел
дело литературы за пределы литературы, поставив на его мес-
то «дело души» и из последнего — на что никто не решался —
сделав дело литературы. Он решился на обнародование своих
писем, причем это были письма сугубо семейные, личные,
частные, интимные. «Выбранные места» открывались «Заве-
щанием» Гоголя, и не завещанием литературным, условным,
направленным на то, чтобы завещать что-то читателю в сфе-
ре идей, а прямым завещанием человека, который перед
смертью исповедуется и дает распоряжение о своем имуще-
стве, о долгах и т. п. Такой откровенности никто до Гоголя в
русской литературе себе не позволял.
Главный парадокс Гоголя, как и парадокс русской души, в
этом невероятном, невозможном сочетании закрытости, изоли-
рованности, самососредоточенности с «душой нараспашку».
Ключ к Выбранным местам — донкихотство Гоголя,
его попытка повергнуть словом русские ветряные мельницы.
Кто-то так и сказал: пожертвовав свободой художника, поэт сме-
нил позицию Сервантеса на подвижничество Дон Кихота. По-
добно последнему, Гоголь считал, что живет в великую эпоху —
рыцарских подвигов и свершений.
Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое
ты и что такое они. Что помещик ты над ними не потому,
чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но по-
тому что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком,
что взыщет с тебя Бог, если б ты променял это званье на
другое, потому что всяк должен служить Богу на своем мес-
те, а не на чужом, равно как и они также, родясь под вла-
420
стью, должны покоряться той самой власти, под которою
родились, потому что нет власти, которая бы не была от Бо-
га. И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это
видели до единого. Потом скажи им, что заставляешь их
трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были
тебе деньги на твои удовольствия, и в доказательство тут же
сожги ты перед ними ассигнации...
Хотя в Выбранных местах можно найти другие подоб-
ные благоглупости, я не могу согласиться с мнением В. В. Набо-
кова, согласно которому основное содержание состоит из нази-
даний Гоголя русским помещикам и дворянам, рассматриваемых
как посредники Божьи. Во-первых, даже в приведенном отрывке
за примитивным наставлением чуткое ухо разберет вполне ре-
формистский, лютеровский мотив предопределения и одухотво-
рения любого труда. Во-вторых, суть, центральная точка Вы-
бранных мест — вполне экзистенциальная, киркегоровская:
свобода не вне, а внутри человека, ломать необходимо не внеш-
нюю жизнь — начинать надо каждому с себя.
В. В. Набоков критикует Выбранные места с тех же по-
зиций, что и Белинский:
Гоголь в «Выбранных местах» словно перевоплощается в
одного из своих восхитительно гротесковых персонажей. Не
надо школ, не надо книг, только ты и деревенский священ-
ник — вот система просвещения, которую он предлагает по-
мещику.
Но попытка сблизить Гоголя с реакционными староверами,
выдать его за нового Аввакума весьма опасна — при всех завихре-
ниях и наивностях этого произведения, «этой надутой и неопрят-
ной шумихи слов и фраз», по словам Белинского, «благородный
документ» не письмо Белинского, а именно Выбранные ме-
ст а — их экзистенциальная часть, нашим «революционным де-
мократам» органически недоступная. При всем том, что многое,
слишком многое здесь выглядит анахронизмом, при всей опасной
наивности Гоголя, опиравшегося на самую ретроградную часть
общества, я не могу разделить набоковских инвектив в адрес Го-
голя и согласиться с «чистой влагой» письма Белинского:
Сколь наивной ни была бы ограниченность Белинского
в оценке художественных произведений, у него как у граж-
данина и мыслителя было поразительное чутье на правду и
421
свободу, которое могла погубить только партийная борьба,
а она была только лишь в зачатке. В то время его чаша была
еще наполнена чистой влагой; понадобилась помощь Доб-
ролюбова, Писарева и Михайловского, чтобы превратить ее
в питательный бульон для самых зловещих микробов.
С другой стороны, Гоголь явно отстал от века и принял
маслянистый налет на луже за потустороннюю радугу. Зна-
менитое письмо Белинского, вскрывающее суть «Выбран-
ных мест»... — благородный документ.
Ю. Барабаш:
«Выбранные места...» — сочинение именно публицисти-
ческое; это собрание писательских эссе, предмет которых
есть «жизнь, а не что другое», жизнь, увиденная и понятая че-
рез религиозно-нравственную призму. «Поверка разума», без
сомнения, обогатила богословский багаж Гоголя, подкрепила
его веру знанием, однако она не сделала его сухим книжни-
ком, доморощенным богословом, не выхолостила живого
чувства и эстетического начала из религиозного мировоспри-
ятия. Он и здесь остается прежде всего художником, что и от-
личает его книгу, например, от богословской публицистики
А. Хомякова. Религиозная идея предстает у Гоголя не в ого-
ленном, не в препарированном теологическим скальпелем
виде, она «вплетена» в художественно-публицистическую
ткань, составляет основу и сердцевину образа.
Выбранные места нередко рассматривают как свидете-
льство того, что Гоголь изменил долгу художника и эстетическим
принципам. На самом деле многие идеи этой замечательной кни-
ги рассыпаны по ранним произведениям Гоголя, где уже содер-
жатся зерна той веры, той завещанной Спасителем любви к
ближнему, которые и дали обильные всходы в новой книге. Ведь
уже в Портрете творчество уподобляется «звучащей молитве»
и устремлено «вечно к Богу». А. М. Бухарев (архимандрит Фео-
дор) был одним из немногих, кто понял глубочайшую связь Пе-
реписки с личностью, мировидением, обстоятельствами жиз-
ни ее автора. Он так и писал: книга эта есть закономерный этап
творчества, «последний, самый естественный плод или последнее
звено, до которого дошло... стройное, поэтическое и духовное
развитие художника».
Переписку с друзьями часто трактуют как утопию Го-
голя, но на самом деле это книга визионерская, пророческая, ан-
422
тиидиллическая и антиутопическая, в чем-то даже эсхатологи-
ческая и апокалиптическая. В ней явно слышны настроения на-
двигающейся на Россию катастрофы, предощущение грядущего
кризиса, предостережение, предвосхищающее грядущие Вехи.
Антиутопические страницы гоголевской книги, как и
вышедшие чуть раньше «Последнее самоубийство» и «Город
без имени» В. Одоевского, предвосхищают будущие горькие
(и, увы, во многом сбывшиеся) пророчества Е. Замятина и
А. Платонова.
Ю. Я. Барабаш, размышляя над страницами Выбранных
мест, обращает внимание на гоголевское ощущение зыбкости,
непрочности настоящего, неудовлетворенности этим настоящим,
неизбежности перемен и устремленности к переменам. Но пере-
мен не внешних, а внутренних, не земных, а небесных...
Вспоминается в этой связи характерная и чрезвычайно
важная метафора из «Светлого Воскресения», заключитель-
ной главы книги: «Бог весть, может быть... уже готова сбро-
ситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогаю-
щая возлететь по ней». И через несколько лет, в предсмерт-
ном бреду, в угасающем воображении Гоголя, истощенного,
обессиленного, вконец измученного манипуляциями не-
умех-врачей, вдруг вновь возникнет этот образ и он громко
вскричит: «Лестницу, поскорее давай лестницу!..» Эта моль-
ба о Небесной Лестнице — выражение последней земной
надежды на спасение. Подобно пушкинскому страннику,
Гоголь всей душой, всем существом стремится к «тесным
вратам», однако, в отличие от странника, не бежит один из
обреченного града: своей прощальной книгой он хочет
увлечь за собой к свету людей, близких и чужих, друзей и
проклинающих его врагов.
Но «лестница» Гоголя — не просто духовный символ, но знак
того идеального мира, в котором и определяются перемены. Если
хотите, Переписка есть программа реформ всех сторон рус-
ской жизни, но не ломки, а духовного строительства, возведения
«лестницы»...
Киркегоровские начала миросозерцания Гоголя, считает уче-
ница гейдельбергского профессора Д. Чижевского X. Шрайер, в
«восстании против окаменевшей в условностях, поверхностной
религиозности того времени», в существе «радикальных эсхато-
423
логических и экзистенциальных воззрений», в самом феномене
аутсайдерства-отщепенства.
Как известно, русская ментальность малочувствительна к
приоритету права: почти никто из русских писателей не ставил
закон выше власти. А вот Гоголь в своих наставлениях генерал-
губернатору первейшим из «подвигов» считал строгое соблюде-
ние «пределов и границ, указанных законом». Говоря о повыше-
нии авторитета дворянства и об осознании им своей ответствен-
ности перед государством, он упирал на обязанности, а не на
права. Необходима «законодательная мудрость как в установле-
нии самих властей, так и в соприкосновениях их между собою»;
необходимо четкое разграничение гражданского закона, обычаев
и церковных установлений, необходимо правовое государство.
Негативная практика государственного управления — не в самой
системе, а в ее нарушениях, не в отсутствии законов, а в несо-
блюдении их. Дух недоверия к закону, как и к правительству, па-
губен для государства. Правят не люди, а законы.
Либералы вменили Гоголю в вину его защиту цензуры. При
всей справедливости упреков в «стеснении свободы» следует
уточнить, что отношение Гоголя к цензуре — киркегоровское:
никому не дано стеснить ту свободу, что внутри нас; все кричат о
свободе, забывая, что главная свобода — внутри, а не вне челове-
ка. А вот что говорил на сей счет Гоголь: «...Писателя не может
стеснить цензура, и если уже он исполнился чистейшим желани-
ем блага в такой мере, что желанье это, занявши всю его душу,
стало его плотью и пищей, тогда никакая цензура для него не
строга, и ему везде просторно».
Переписка — экзистенциальная философия Гоголя, книга
о человеческом разуме и человеческой мудрости, книга о перво-
основах жизни. Кстати, Гоголь не отделял мудрость от соприча-
стности Богу, от учения Христа, от мира духа. Видимый нами
мир держится на невидимом духовном начале, и нет ни единого
предмета, тела, которое было бы вне духовного первообраза.
Все, творимое человеком на самых различных поприщах
общественной и умственной деятельности, имеет смысл по-
тому, что есть неизменное, неразрушимое, идеальное нача-
ло, недоступное глазам, не объемлемое ни одним из органов
внешних чувств, но открытое внутреннему, духовному зре-
нию. Все лучшие политические теории, самые смелые эко-
номические предприятия, самые блестящие открытия, сде-
424
ланные с помощью телескопа или микроскопа, не имели бы
никакого смысла и значения, если бы человек был только
телом, если бы мысль была простою функцией нервного ве-
щества. Идея бессмертия, как она поставлена две тысячи лет
тому назад, имела великое практическое и теоретическое
значение: в свете этой идеи как бы стерлись границы види-
мых, чувственных предметов, затерявшись в невидимой ду-
ховной стихии, и выступил на первый план нравственный
закон человеческого существования. Все политические и
гражданские стремления отдельных людей и целых народов
должны быть подчинены идее морального совершенствова-
ния, нравственной чистоты, первенствующему духовному
началу.
Гоголь разделяет в человеке ум и мудрость, полицейского над-
смотрщика и небесную гостью. Лишь мудрость открывает пред
человеком высшие дали, пути вечного развития.
Когда она входит в душу, человек постигает всю чудную
сладость быть учеником: ничтожнейший из людей может
стать для него учителем, глупейший предмет обращается к
нему своею светлою стороною, вся вселенная раскрывается
перед ним, как одна открытая книга небесного учения. Эта
высшая мудрость дается человеку в учении Христа. «Для
христианина нет оконченного курса: он вечно ученик и до
самого гроба ученик».
В то время, когда «прогрессивная Россия» звала к топору, Го-
голь молил о бережном отношении к общественным формам и
обычаям, к их возрождению и обновлению, освобождению от не-
нужных наслоений, к реформации первооснов: «Бог недаром сбе-
регает простоту некоторых народов и хранит в ущельях и горах
остатки патриархального быта». Даже его пристальный интерес к
Одиссее не случаен: эпос Гомера поражает прежде всего «вели-
чавою патриархальностью древнего быта, простой несложностью
общественных пружин, свежестью жизни, не притуплённой, мла-
денческой ясностью человека». Даже в Европе его пытливый взор
привлекают страны патриархальные — заповедные утолки, забы-
тые прогрессом и революцией, где живы истинные чувства и под-
линная человеческая природа, не искореженная цивилизацией.
Новый Аввакум? Отнюдь! В консерватизме Гоголя напрочь
отсутствует фанатизм и изуверство ретристов, обращающих даже
«любовь к старине» в неистовый бунт против жизни.
425
Верный «русской идее», отрицающий Запад Гоголь тем не ме-
нее не скрывает своей любви к земле «Байронов и Диккенсов»,
демонстрирующей «разумное слитие того, что доставила человеку
высшая гражданственность, с тем, что составляет первообразную
патриархальность».
М. Гершензон:
Единственно реальная движущая сила истории — душа
отдельного человека; весь быт общества, в свою очередь,
могущественно влияющий на индивидуальную психику,
определяется нравственным уровнем, на котором стоят его
отдельные члены; стало быть, все старания, имеющие це-
лью усовершенствование общей жизни, должны быть
устремлены на исправление отдельных душ.
Выбранные места Гоголь воспринимал «верхушкой
своего развития», саму книгу — посещением Божественной бла-
годати, откровением, выраженным через него небесами.
Гоголь — Плетневу:
Ради Бога, употреби все силы и меры к скорейшему отпе-
чатанью книги. Это нужно, нужно и для меня, и для других;
словом, нужно для общего добра. Мне говорит это мое серд-
це и необыкновенная милость Божия, давшая мне силы по-
трудиться тогда, когда я не смел уже и думать о том, не смел
и ожидать потребной для того свежести душевной. И все
мне далось вдруг на то время: вдруг остановились самые
тяжкие недуги, вдруг отклонились все помешательства в ра-
боте, и продолжилось все это до тех пор, покуда не кончи-
лась последняя строка. Это, просто, чудо и милость Божия...
То, что было для Гоголя чудом и милостью, то для России
стало позором. Немногие, самые близкие увидели здесь «душу»,
большинство в гоголевской исповеди — а это действительно и
прежде всего была исповедь! — узрело эксгибиционизм, недопус-
тимую публичность, неподобающую откровенность. Может быть,
именно последняя больше всего шокировала любящую мундир и
штык страну... «Глубоко ты вынул это из нашей жизни, которая
чужда публичности», — ставил диагноз В. А. Жуковский.
Гоголь не скрывает, что, призывая других «начать с себя», он
сам только тем и занимается.
426
Сквозной мотив этих писем — испытываемая автором
внутренняя потребность нападать «на самые щекотливые
места, какие только во мне есть», острое ощущение необхо-
димости «строго взглянуть на самого себя», «вынести внут-
реннее, сильное воспитание душевное», устремление «души
к ее лучшему совершенству»...
Переписка — не только призыв к самоочищению, но и акт
катарсиса самого художника, неотделимого в сознании Гоголя от
священнослужителя.
Пока не станешь сам, хотя сколько-нибудь, на них [свя-
тых] походить, пока не добудешь медным лбом и не завою-
ешь силою в душу несколько добрых качеств — мертвечина
будет все, что ни напишет перо твое, и, как земля от неба,
будет далеко от правды.
Но гений Гоголя шире гения художника! Это гений святого,
подвижника, реформатора, пророка. Останься от него только
Переписка — мы все равно имели бы своего великого челове-
ка, русского Лютера. Правда, художника потеряли б...
Величайшая трагедия творца — выход из искусства в идеоло-
гию. Когда художник вместо творений создает учения, это свиде-
тельствует об исчерпанности искусства: плюрализму символа
бывший творец начинает предпочитать однозначность истины.
Характеризуя толстовскую Власть тьмы, Иннокентий Ан-
ненский писал, что, приковывая творчество к теории, закрывая
выходы за пределы собственного «я» ее творцу, догма мстит за
свое создание, порождая в художнике «одно глубокое отчаяние».
В полной мере это относится и к Гоголю. Не спасают ни богоис-
кательство, ни гуманизм, ни этика, ни «величие идеи» — как то-
лько вместо «Великого Может Быть» появляется ясность и опре-
деленность, гибнет поэт и мучительным становится его конец.
Художник-проповедник губительно влияет на художника-
поэта.
...писатель оказывался в роли учителя или проповедника.
Это тяготило или раскалывало его душу, искажало чистоту
художественной работы, понижало энергию чисто художни-
ческих потенций (Некрасов), губило в человеке художника
(Лев Толстой), губило самого человека (Гоголь и столько
других).
427
Творческая фантазия бесценна лишь тогда, когда она бесцель-
на. Поэзия, в отличие от рыцарства, дело «бумажное». Гоголь же,
увы, воспринимал ее как Дон Кихот — как дело практическое,
религиозное, даже идею «проводил» о неразрывной связи искус-
ства и религии, красоты и веры.
Д. С. Мережковский:
Он покидает искусство для искуса; кончается пушкин-
ская «молитва», жертвоприношение — начинается «битва»,
самопожертвование Гоголя; исчезает поэт, выступает про-
рок.
И вместе с тем тут начинается трагедия Гоголя — i n с i -
pit tragoedia — борьба с вечным злом — пошлостью, —
уже не в творческом созерцании, а в религиозном действии,
великая борьба человека с чертом.
Это притом, что поэт — один из главных героев Перепис-
ки, к нему раз за разом возвращается Гоголь, видя в поэте — ду-
шу общества, врачевателя и мастера, рожденного для «звуков
сладких и молитв», но и для служения, пробуждения и излечения
общества. «Да и как могло быть иначе, если духовное благородст-
во есть уже свойственность почти всех наших писателей?»
Но как Гоголь совмещает эти две несовместимости — самоус-
лаждение поэзией и служение, чистую красоту и пользу? А так,
что не видит вообще здесь несовместимости — это одно: подвиг
самоотречения, очищения и подвиг пробуждения — один подвиг,
добро и есть польза...
Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю
моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не
люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра.
Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом
поможет Бог.
Пока не станешь сам, хотя сколько-нибудь, на них [доб-
родетельных людей] походить, пока не добудешь медным
лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых ка-
честв — мертвечина будет все, что ни напишет перо твое...
Не смущайтесь никакими событиями, какие ни случают-
ся вокруг вас. Делайте каждый свое дело, моляся в тишине.
Общество тогда только поправится, когда всякий частный
428
человек займется собою и будет жить, как христианин, слу-
жа Богу теми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь
доброе влияние на небольшой круг людей, его окружающих.
Во всех своих книгах я стараюсь показать, что никакие «пере-
ломы», «озарения», «арзамасские ужасы» и прочие чудеса не меня-
ют суть великих людей. Толстой после 1882 года, Достоевский по-
сле 1849-го, Гоголь после 1846-го — это не вдруг прозревшие свя-
тые, а продолжатели самих себя, достигшие пика, акмэ, зрелости.
Главная ошибка его [Гоголя] обвинителей заключалась в
предположении, будто бы перед изданием «Переписки» про-
изошло с ним что-то особенное, какой-то религиозный пере-
ворот, тогда как ничего подобного не происходило в дейст-
вительности. В «Переписке» он шел тем же путем, которым
шел всегда. Мысль религиозная, главная, можно сказать,
единственная мысль всей жизни его выразилась здесь яснее,
чем в других произведениях, потому что именно в то время
мысль эта перед ним выступила яснее, чем когда-либо.
Это не мнение биографа, это — мнение Гоголя, неоднократно
им самим подчеркиваемое:
Вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое на-
правление. От ранней юности моей у меня была одна доро-
га, по которой иду.
Из всех писателей, которых мне ни случалось читать
биографии, я еще не встречал ни одного, кто бы так упрямо
преследовал раз избранный предмет.
Дело даже не в личностях Гоголя, Достоевского, Толстого, к
концу жизни перешедших от художественного созерцания к ре-
лигиозному и пророческому действию. Дело в атмосфере страны,
надышавшись которой все художники начинают вещать, утрачи-
вают веру в силу художественного слова и обретают дар вестни-
ков. Можно сколько угодно спорить о «смерти художника», заго-
ворившего нутряным гласом, уподобившимся оракулу, это не ви-
на, а беда России, обрекающей лучших своих сыновей на старче-
ское юродство...
И все же Выбранные места — книга далеко не смирив-
шегося человека, книга не благостная и не богоугодная. Гоголь
не был и не смог стать Франциском Ассизским или Сергием Ра-
429
донежским: в книге много вдохновения, но мало смирения. Об-
винения в жесткости имели под собой основания.
Мать и сестры, прочитав сначала «Завещание», послан-
ное им в письме, а затем в книге, тоже подумали, что Го-
голь сошел с ума. При том космическом чувстве любви к
России и к человеку, которая чувствуется в книге Гоголя, в
ней, кажется, мало любви к отдельному человеку, к адреса-
там своим, как мало ее и в частных его письмах той поры.
Он даже слепнущему Аксакову пишет, чтоб тот утешался
тем, что, лишая его внешнего зрения, Бог дает ему внутрен-
нее. Он молоденьким сестрам своим советует меньше знать-
ся с мужчинами и дружить только с женщинами, больше
молиться и меньше веселиться. «Я выждал... — пишет он. —
Теперь стану я попрекать...»
Была во всем этом какая-то прежняя жестокость нового
верования, какой-то обоюдоострый его аскетизм, который
понятен, когда он обращен к принявшему веру, но непоня-
тен в отношении тех, кто еще не одарен ею.
Порой жесткость Гоголя смахивает на беспощадность. Так,
например, он не щадит великодушного Михаила Петровича По-
година, дававшего ему кров и стол во время пребывания Гоголя в
Москве, а также немало сделавшего для организации «вспомоще-
ствования». Гоголь не только не согласился опубликовать неско-
лько глав Мертвых Душ в погодинском Московитяни-
не, нов Переписке дал резкий отзыв о Погодине, возмутив-
ший даже его друзей:
Наш приятель П. торопился всю свою жизнь, спеша де-
литься всем с своими читателями, не разбирая, созрела ли
мысль в его собственной голове, словом, — выказывал себя
перед читателем, себя всего во всем своем неряшестве...
Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот чело-
век, — и ни один человек не сказал ему спасибо; ни одного
признательного юноши я не встретил, который бы сказал,
что он обязан ему каким-нибудь светом или прекрасным
стремлением к добру.
Даже С. Т. Аксаков «взорвался», набросившись на своего ку-
мира:
Я не хотел и не хочу касаться до частностей вашей кни-
ги, но не могу умолчать о том, что меня всего более оскорб-
430
ляет и раздражает: я говорю о ваших злобных выходках про-
тив Погодина. Я не верил глазам своим, что вы, даже в за-
вещании (я верю вам, что вы писали точно завещание, а не
сочинение, хотя этому поверить довольно трудно), расстава-
ясь с миром и со всеми его презренными страстями, позо-
рите, бесчестите человека, которого называли другом, и ко-
торый, точно, был вам друг, но по-своему. Погодин сначала
был глубоко оскорблен, мне сказывали даже, что он плакал;
но скоро успокоился. Он хотел написать к вам следующее:
«Друг мой! Иисус Христос учит нас, получив оплеуху в одну
ланиту, подставлять со смирением другую; но где же он
учит давать оплеухи?» Желал бы я знать, как бы вы умудри-
лись отвечать ему.
* * *
Не было, казалось, в России силы, движения, отдельного че-
ловека, не плюнувшего в прозревшего Гоголя. Его христианская
трагедия именовалась не иначе как «больной бред изувера»,
«разъедавшая его нравственное существо гангрена», непонима-
ние прогресса. Гоголь-де «не нашел в себе силы при счастливом
руководительстве остановиться на скромной задаче преследова-
ния сатирой общественных язв». Действительно, сильную книгу,
видать, написал Гоголь, если «патриоты» соглашались предпо-
честь ей критику России...
Чернышевский, войдя в раж, принял тон грозного ментора:
«Ты читал не те книги, какие тебе нужно было читать!» Белин-
ский неистовствовал: «Надо всеми мерами спасать людей от бе-
шеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер».
(Наши любят противопоставлять «высочайшую оценку», дан-
ную Гоголю революционными демократами, гневным филиппи-
кам «друзей» — славянофилов, но самые ругательные слова в ад-
рес автора Мертвых Душ и Выбранных мест сказаны
именно нашими «передовыми». Писарев, в частности, находил в
Гоголе всю полноту «невежества», а в Мертвых Душах —
«чепуху». А вот что уже в наше время писал «передовой» Горький
по поводу Переписки, «ставшей орудием реакционеров»:
«Тяжело читать эту книгу, которая ныне становится модной; это
из нее, главным образом, черпают гнилую и мутную мудрость со-
трудники «Вех» и разные Мережковские». (Такая вот «высочай-
шая оценка»...)
431
Удивляет беспощадность русской критики Гоголя — то коли-
чество оскорблений и обвинений, которое за сравнительно ко-
роткое время брошено в адрес этого исстрадавшегося, больного
человека. На одном из памятных вечеров, посвященных пятиде-
сятилетию со дня его смерти, И. А. Линниченко сказал:
Нигде нет такой односторонности, шаблонности и пря-
молинейности в оценке чужой личности, чужих убеждений,
как у нас; нигде не предъявляют столько своих требований
чужой душе, нигде менее позволяют человеку быть самим
собою, петь свою собственную душевную песнь в разлад с
общими многоголосными, спевшимися хорами. Знаменитое
славянофильское хоровое начало, сознательно или бессоз-
нательно воспринятое, гнетет и подавляет то великое осво-
бождение личности от бесчисленных опутавших ее уз, какое
началось у нас в новом периоде русской жизни.
Даже нейтральный и хладнокровный Тургенев не устоял, что-
бы не пнуть Гоголя: «Более противной смеси гордыни и поды-
скивания, ханжества и тщеславия, пророческого и прихлебатель-
ского тона в литературе не существует!» Слова-то какие...
Гоголь пытался сказать своей стране глубоко выстраданное,
обретенное в муках, а в ответ слышал: лжец, спесивец, ипокрит,
Тартюф, Тартюф Васильевич, Талейран, кардинал Феш, безумец...
Поднялись против него действительно все: «прогрессивный»
Белинский гремел в унисон с «ретроградом» Н. Ф. Павловым, до-
казывавшим в Московских Ведомостях, что «сам дьявол
напитал слова Гоголя духом неслыханной гордости». Западник
Чаадаев видел «в падении Гоголя следствие печальной ошибки
славянофилов», славянофилы обвиняли автора Переписки в
западничестве, Герцен и вовсе назвал книгу преступлением...
Петр Яковлевич Чаадаев, знаменитое письмо которого, вы-
звавшее в 1836-м общественный резонанс не меньший, чем гого-
левская Переписка, объявленный сумасшедшим и отданный
под врачебный надзор, реагировал на книгу Гоголя резко и бес-
компромиссно.
П. Я. Чаадаев — П. А. Вяземскому:
Мне кажется, что всего любопытнее в этом случае не
сам Гоголь, а то, что его таким сотворило, каким он те-
432
перь перед нами явился. Как вы хотите, чтобы в наше над-
менное время, напыщенное народною спесью, писатель
даровитый, закуренный ладаном с ног до головы, не за-
знался, чтобы голова у него не закружилась? Это просто
невозможно... Недостатки книги Гоголя принадлежат не
ему, а тем, которые превозносят его до безумия, которые
преклоняются перед ним, как пред высшим проявлением
самобытного русского ума, которые налагают на него чуть
не всемирное значение... Разумеется, он родился не вовсе
без гордости, но все-таки главная беда произошла от его
поклонников. Я говорю в особенности о его московских
поклонниках. Но знаете ли, откуда взялось у нас в Москве
это безусловное поклонение даровитому писателю? Оно
произошло оттого, что нам понадобился писатель, которо-
го бы мы могли поставить наряду со всеми великанами ду-
ха человеческого, с Гомером, Дантом, Шекспиром, и выше
всех иных писателей настоящего времени. Этих поклонни-
ков я знаю коротко, я их люблю и уважаю: они люди ум-
ные, хорошие; но им надо во что бы то ни стало возвы-
сить нашу скромную, богомольную Русь над всеми народа-
ми в мире, им непременно захотелось себя и других уве-
рить, что мы призваны быть какими-то наставниками на-
родов. Вот и нашелся, на первый случай, такой крошеч-
ный наставник, вот они и стали ему про это твердить на
разные голоса, и вслух, и на ухо; а он, как простодушный,
доверчивый поэт, им и поверил. К счастию, в нем таился,
как я выше сказал, зародыш той самой гордости, которую
в нем силились развить их хваления. Хвалениями их он
пресыщался; но к самим этим людям он не питал ни ма-
лейшего уважения. Это выражается в его разговоре на каж-
дом слове. От этого родилось в нем какое-то тревожное
чувство к себе самому, усиленное сначала болезненным его
состоянием, а потом новым направлением, им принятым,
быть может, как убежищем от преследующей его грусти, от
тяжкого, неисполнимого урока, ему заданного современ-
ными причудами... Бог знает, куда заведут его друзья, как
вынесет он бремя их гордых ожиданий, неразумных вну-
шений и неумеренных похвал!..
В Гоголе ничего нет иезуитского. Он слишком спесив,
слишком бескорыстен, слишком откровенен, откровенен
иногда даже до цинизма, одним словом, он слишком нело-
вок, чтобы быть иезуитом.
433
Письмо это отнюдь не пророческое. Настолько, насколько Ча-
адаев точно поставил диагноз России, настолько он не понял «все-
мирное™» русского Киркегора, своей Перепиской действи-
тельно поставившего себя в ряд с «великанами духа человеческо-
го». Но здесь мы оказались не одиноки: Дания зачислила в сума-
сшедшие своего Киркегора, Германия — Ницше, Россия — Гоголя.
Правда, прочитав блестящую статью Вяземского о книге Гого-
ля, опубликованную в С.-Петербургских Ведомостях
25 апреля 1847 года, Чаадаев резко изменил тон, поняв истоки
общественной злобы. Однако свои упреки Гоголю-наставнику и
ритору все же сохранил: одно дело — злая паства, другое дело —
высокомерный пастырь...
Как это ни парадоксально, пуще всех неистовствовали славя-
нофилы:
Запевалою бранного хора, С. Т. Аксаковым, найдена бы-
ла окончательная, кажется, и до сей поры неотмененная
формула «общественного мнения» о христианстве Гоголя:
«религиозная восторженность убила великого художника и
даже сделала его сумасшедшим». Мысль о сумасшествии
Гоголя понравилась всем и всех успокоила: это был самый
простой и легкий выход из положения русской мысли, все
же несколько затруднительного.
Гоголь — или сумасшедший, или мертвец. Эту дилемму,
поставленную еще Белинским, разрешили славянофилы,
присоединив к мысли о сумасшествии Гоголя мысль о
«плутовстве в с у м а с ш е с т в и и»: Гоголь точно поме-
шался, в этом нет сомнения, пишет С. Т. Аксаков, но в са-
мом помешательстве много плутовства. Сумасшедшие быва-
ют плуты и надуватели: это я видел не раз, и помешательст-
во их делается и жалко, и гадко. — «Над живым телом еще
живущего человека, — застонал наконец Гоголь в отчая-
нии, — производилась та страшная анатомия, от которой
бросает в пот даже и того, кто одарен сильным сложением».
«Как много в человеке бесчеловечья!..»
С. Т. Аксаков:
Мы, надувая самих себя Гоголем, надували и его, и по-
истине я не знаю ни одного человека, который бы любил
Гоголя, как друг, независимо от его таланта. Надо мною
434
смеялись, когда я говорил, что для меня не существует лич-
ность Гоголя, что я благоговейно, с любовию смотрю на тот
драгоценный сосуд, в котором заключен великий дар твор-
чества, хотя форма этого сосуда мне совсем не нравится.
Сердце говорило Гоголю, что его книга нужна и полезна, а его
книга вызвала шквал негодования, какого еще не знала Рос-
сия, — подобные шквалы возникали лишь столетие спустя, когда
новые диктаторы России спускали своры своих «верных Русла-
нов» на новых Гоголей, чтоб те «не трогали»...
К. С. Аксаков:
Не вы ли, беглец родной земли, жили на Западе и вдыха-
ли в себя его тлетворные испарения? Книгу вашу считаю
полным выражением всего зла, охватившего вас на Западе.
Вы имели дело с Западом, этим воплощенным лгуном, и
ложь его проникла в вас.
Комментирует Д. С. Мережковский:
Ожесточение западников до известной степени понятно;
но точка зрения славянофилов представляется лишенною
уже всякого не только религиозного, нравственного, обще-
ственного, но и простого здравого смысла. Ведь ежели не
внутреннее ядро (ядра тогда еще никто не раскусил), то, по
крайней мере, внешняя оболочка «Переписки» была более
славянофильской, чем сами славянофилы. Чего же им недо-
ставало? Почему в один голос с «бесноватым» Белинским и
они, точно взбесившись, завопили: «В этом человеке бес!»
Что тут вообще действовали какие-то «бесы», в том, ка-
жется, не может быть сомнения; только вопрос — в ком: в
заклинаемом или заклинателях?
«Гордость, — на эту уду поймал тебя злой дух, приняв-
ший вид ангела светла», — предостерегает Погодин. — «Все
это ложь, дичь и нелепость, и, если будет напечатано, сде-
лает Гоголя посмешищем всей России», — объявляет С. Т.
Аксаков еще до выхода книги. «Вы грубо и жалко ошиб-
лись, — пишет он самому Гоголю. — Вы совершенно сби-
лись, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и,
думая служить небу и человеку, оскорбляете и Бога, и чело-
века». — «Вы впали в прелесть... Молю Господа... да
будет над вами благодать!» — заклинает «беса» некая Свер-
беева, дама тоже славянофильского кружка.
435
Только после смерти Гоголя славянофилы осознали «неуме-
ренность порицаний». Перечитав вновь Выбранные места
и увидав их в новом свете, С. Т. Аксаков писал:
Больно и тяжело вспоминать неумеренность порицаний,
возбужденных ими во мне и других... Но теперь, когда он
смертью запечатлел искренность своих нравственных и ре-
лигиозных убеждений, кажется, наступило время дать пол-
ную веру его христианской любви к людям.
Чем объяснить и эту «неумеренность порицаний», и единение
правых и левых против одного — автора Переписки? Реакция
общественности стала результатом крушения мифа о «передо-
вом» Гоголе. Негодование стало результатом непонимания гого-
левского консерватизма. Взгляды Гоголя в течение его жизни не
претерпели существенных перемен, но «передовые слои» слева и
справа не поняли этого — книга стала для них «предательством»,
хотя она лишь выразила в концентрированном виде то, что Го-
голь хотел сказать, начиная с первой, написанной им строки.
Я не хотел бы изображать отношения Гоголя с Белинским в од-
них темных тонах — они были сложными, неоднозначными и ме-
нялись со временем, — но не вызывает сомнений постоянный
вектор их ухудшения, и дело вовсе не в том, что Гоголю нравились
дифирамбы Белинского по поводу повестей и Ревизора и не
нравились гневные филиппики по поводу Выбранных мест...
Свидетельствует И. И. Панаев:
...когда впоследствии Белинский начал разъяснять вели-
кое общественное значение произведений Гоголя, Гоголь
пришел в ужас от этих разъяснений и объявил, что вовсе не
имел в виду того, что приписывают ему некоторые критики.
Свидетельствует П. В. Анненков:
Мы знаем положительно, что Гоголь, вместе с другими
членами обыкновенного своего круга, был настроен не со-
всем доброжелательно к Белинскому, и особенно потому,
что критик стоял за суровую, отвлеченную, идеальную исти-
ну, и, при случае, мало дорожил истиной исторической, а
еще менее преданием...
436
Если сравнить тексты друзей Гоголя — Аксаковых, П. В. Ан-
ненкова, Л. И. Арнольди, — с текстами Белинского и Чернышев-
ского, то первое, что бросается в глаза, — это теплота и человеч-
ность первых и идеологичность, запрограммированность, бесче-
ловечность вторых. Такое впечатление, что вторые написаны за-
программированными на определенную идею роботами. Даже
места, выражающие симпатию, скрежещут, лязгают металлом,
хрипят синтезированными голосами. Впрочем, и программы ка-
кие-то странные: те же люди, которые не так давно объявляли,
что в Гоголе русское общество имеет будущего великого писате-
ля, спустя короткое время объявляют его «проповедником кнута,
апостолом невежества, поборником обскурантизма и мракобе-
сия, панегиристом татарских нравов».
И вот что симптоматично: пройдет еще совсем немного вре-
мени, и та же история, почти с теми же словами, повторится в
отношении Достоевского...
Отношения Гоголя и Белинского никогда не были добрыми:
задолго до Переписки Гоголь выражал недовольство крити-
кой Белинского, неодобрительно отзываясь о нем в своих пись-
мах. Да и мог ли он принимать близко человека, требующего от
других ожесточения, человека, писавшего: «Тысячелетнее царст-
во Божие утвердится на земле не сладенькими и восторженными
фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а террориста-
ми — обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жю-
стов»? Мог ли Гоголь сблизиться с человеком, в словаре которого
преобладало слово «террор», считавшим, что «лучшее, что есть в
жизни — это пир во время чумы и террор»?
Белинский не только встретил в штыки Переписку с
друзьями, но и во втором томе Мертвых Душ почувство-
вал опасность изображения «положительной» стороны русской
действительности. Он был явно встревожен «крапинками и пят-
нышками в картине великого мастера» и предостерег Гоголя от
«лакировки действительности»:
Много, слишком много обещано, — тдк много, что негде
и взять того, чем выполнить обещание, потому что того и
нет еще на свете.
Стоило К. С. Аксакову назвать Гоголя российским Гомером,
как Белинский «подверг беспощадной критике антиисториче-
437
скую схему К. Аксакова, доказав вздорность сопоставления Гого-
ля с Гомером».
Было время, когда на Руси никто не хотел верить, чтоб
русский ум, русский язык могли на что-нибудь годиться: те-
перь настало другое время, когда нам уже нипочем и Гоме-
ры, и Шекспиры, и Байроны, потому что мы успели уже
позавестись своими — или чужих становим в шеренги,
словно солдат, заставляем маршировать и справа, и слева, и
взад, и вперед, благо бедняжки молчат и повинуются наше-
му гусиному перу и тряпичной бумаге...
Не доросли мы до Гомеров, — гремел Белинский, но еще бо-
льше, чем отстаивание провинциализма русской литературы, он
отстаивал ее революционную передовизну...
Белинский, стоящий одной ногой в могиле Неистовый Висса-
рион, в последний раз демонстрировал свое неистовство:
Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и
тогда бы я не более возненавидел вас, чем за эти позорные
строки.
Проповедник кнута, ч апостол невежества, поборник об-
скурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов,
что вы делаете?
Христа-то зачем вы примешали тут?
Или вы больны — и вам надо спешить лечиться, или...
не смею досказать своей мысли.
И при этом в вашей книге вы позволили себе циническо-
грязно выражаться не только о других (это было бы только
невежливо), но и о самом себе, — это уже гадко; потому что
если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбужда-
ет негодование, то человек, бьющий по щекам сам себя, воз-
буждает презрение. Нет, вы только омрачены, а не просвет-
лены; вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего
времени. Не истиной христианского учения, а болезненною
боязнию смерти, черта и ада веет от вашей книги.
Не могу сказать, что я абсолютно отвергаю обвинения Белин-
ского. Он имел все основания обвинять Гоголя в гимнах русско-
438
му духовенству, поставленному неизмеримо выше духовенства
католического, русскому народу как самому религиозному наро-
ду в мире («В нем еще много суеверия, но нет и следа религиоз-
ности»), в дифирамбе любовной связи народа с его владыками, в
византизме и отказе от свободы и просвещения (западнику это
было несносно), но с водой Неистовый Виссарион выплескивал
и «младенца» — экзистенциализм Гоголя, его ставку на персона-
льность и личную ответственность каждого. «Схватка» Гоголя и
Белинского была «русским вариантом» давно отгремевшего в Ев-
ропе спора Лютера и Эразма или Кальвина и Кастеллио, или,
уже при жизни наших героев, — Киркегора и Гегеля.
Белинский, ссылаясь на слухи, обвинил Гоголя в падении,
ханжестве, фарсе, прислужничестве властям, карьеризме, лице-
мерии:
Гимн властям предержащим хорошо устраивает земное
положение набожного автора. Вот почему в Петербурге рас-
пространился слух, будто вы написали эту книгу с целью
попасть в наставники к сыну наследника.
«Это такого рода обвинения, которых я бы не в силах был
взвести даже на отъявленного мерзавца», — отвечал оскорблен-
ный Гоголь.
Но это-то, именно, «обвинение», или, вернее, клеве-
та, — как это иначе назвать? — должно было показать Гого-
лю, что состояние, в котором писалось умирающим Белин-
ским знаменитое письмо, было невменяемым, более похо-
жим на подлинное сумасшествие, чем предполагаемое су-
масшествие самого Гоголя. — «Залаял собакою, за-
выл шакалом, зажмурил глаза и весь отдался
бешенству» — так выразился сам Белинский о своем
тогдашнем состоянии. Но в этом зверином «лае» и «вое»
бесноватого (вот когда еще начались «Бесы» Достоевского!)
была какая-то страшная человеческая правда, искренность,
которая заслуживала, требовала ответа или, по крайней ме-
ре, «заклятья бесов». И Гоголю, казалось бы, слишком лег-
ко было ответить не только на то обвинение в подлом угод-
ничестве перед правительством, на которое он и ответил
действительно в «Авторской исповеди», но и на все осталь-
ные обвинения.
Он уже и начал было ответ или «заклятие»: «О, да внесут
святые силы мир в вашу страждущую душу!.. О, как сердце
439
мое ноет за вас в эту минуту!.. И отчего у вас такой дух не-
нависти?..» Он указывает Белинскому на его «отважную са-
монадеянность», «пылкость невоздержанного рыцаря и
юноши». — «Опомнитесь, куда вы зашли!.. Какое невежест-
во!.. Нельзя, получа легкое журнальное образование, судить
о таких предметах... Журнальные занятия выветривают ду-
шу... Вспомните, что вы учились кое-как... Начните уче-
ние...»
Гоголь мог бы также напомнить Белинскому, как он,
плюющий ему в лицо, еще недавно чуть не на коленях со
слезами, как провинившийся школьник, молил у него про-
щения. — «Я изрыгнул хулу на ваши статьи (в «Арабе-
сках»), — писал Белинский Гоголю из Петербурга от 20 ап-
реля 1842 года, — не понимая, что тем изрыгаю хулу на
Духа. Они были тогда для меня слишком просты, а потому
и неприступно высоки; притом же на мутном дне самолю-
бия бессознательно шевелилось желание блеснуть... Я опро-
метчив и способен вдаваться в дикие нелепости... Вы у
нас теперь один, и мое нравственное существование,
моя любовь к творчеству тесно связаны с вашею судьбою;
не будь вас — и прощай для меня настоящее и будущее в
художественной жизни нашего отечества!»
Да, Гоголь, казалось бы, мог уничтожить Белинского.
Почему же он этого не сделал? Почему разорвал уже набро-
санную черновую письма? Из жалости к умирающему, из
презрения к «бесноватому»? — Едва ли.
Как реагировал на письмо Белинского Гоголь? Поначалу он
думал дать развернутый аргументированный ответ, но смирение
взяло верх:
Поверьте мне, что и вы, и я виновны равномерно. И вы,
и я перешли к излишествам... А покамест помыслите преж-
де всего о вашем здоровье. Оставьте на время современные
вопросы. Вы потом возвратитесь к ним с большею свеже-
стью, стало быть, и с большею пользою как для себя, так и
для них. Желаю вам от всего сердца спокойствия душевно-
го, первейшего блага, без которого нельзя действовать и по-
ступать разумно ни на каком поприще.
Руганью переполнено не только знаменитое письмо Белин-
ского к Гоголю, но и письма этого умирающего борца к другим
лицам, где Неистовый Виссарион уж совсем не бежит «изящ-
ной словесности» всех фанатиков Великой идеи, этих вечных
440
«истинно верующих»: «болезненное отвращение к Гоголю»,
«гнусная книга Гоголя», «подлость» и т. д., и т. п. Только один
образец такого рода «изяществ».
В. Г. Белинский — В. П. Боткину:
Терпимость к заблуждению я еще понимаю и ценю, по
крайней мере в других, если не в себе, но терпимости к
подлости я не терплю. Ты решительно не понял этой книги,
если видишь в ней только заблуждение, а вместе с ним не
видишь артистически рассчитанной подлости. Гоголь со-
всем не К. С. Аксаков. Это — Талейран, кардинал Феш, ко-
торый всю жизнь обманывал Бога, а при смерти надул сата-
ну. Вообще, ты с твоею терпимостью доходишь до нетерпи-
мости, именно тем, что исключаешь нетерпимость из числа
великих благородных источников силы и достоинства чело-
веческого.
Вот откуда тянутся они, истоки большевистского фанатизма.
Вот почему «верные ленинцы» так хорошо спелись с этими «не-
истовыми Виссарионами» и нетерпимыми Чернышевскими...
А ведь и они, Белинские и Чернышевские, обличали Гоголей и
Достоевских под ту же излюбленную большевиками шарманку
«оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства» —
этими словами начинается письмо Белинского к Гоголю: «Нель-
зя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута про-
поведуют ложь и безнравственность как истину и добродетель».
Ох, уж эти профессиональные поборники истины, нравственно-
сти и добродетели...
Кстати, современники уже неплохо разобрались в этих исти-
нах и добродетелях фанатизма. П. В. Анненков писал:
Тот самый Белинский, который первый провозгласил
Гоголя гениальным художником, объявлял теперь и печат-
но, и устно, что гениальность Гоголя... имеет все-таки зна-
чение относительное, что... Гоголь может, пожалуй, утерять
и значение великого русского художника.
Все силы своего критического ума напрягал он [Белин-
ский] для того, чтоб отстранить и уничтожить попытки к
допущению каких-либо других, смягчающих выводов из
знаменитого романа, кроме тех суровых, строго обличаю-
щих, какие прямо из него вытекают.
441
Стоит ли после сказанного удивляться, что само имя Белин-
ского, по образному выражению Тургенева, «обожгло бы его [Го-
голя] губы»?..
Значимость спора между Гоголем и Белинским до сих пор не-
дооценена — это было не столкновение двух литераторов по ча-
стному вопросу, но схватка двух парадигм, двух мировоззрений,
имеющих вневременное значение, двух систем идей, по-разному
определяющих пути развития человечества и первичность чело-
веческих качеств, от которых эти пути зависят. Значение этого
спора выходит далеко за пределы своей эпохи и личности спор-
щиков — здесь поставлена проблема вечная, огромной важности,
дающая ответ на вызов истории. Выбрав сторону Белинского в
этом споре, Россия оказалась там, где она оказалась.
Материалисты, мы всегда недооценивали первичность идей,
самого человеческого духа в историческом развитии. Пренебре-
жение эйдосами, существованием «параллельного» мира духа, все
определяющего, отказ от идеализма, возвышение тупой и косной
материи над хрупким и слабосильным духом человеческим — все
это и вело Россию туда, где Белинский взял верх над Гоголем.
А между тем в своей Переписке Гоголь предупреждал и об
этом. Предупреждал криком: «Россия гибнет! проснитесь, спя-
щие, нельзя медлить!»
Белинский требовал изменения форм жизни, общественных
отношений, уповал на прогресс, радикальные реформы, обще-
ственные мероприятия. Спасительности общественных мер Го-
голь противопоставил иную «программу реформ», суть которой
резюмируется формулой: «2? душе ключ всего».
Устроить дороги, мосты и всякие сообщения... есть дело
истинно нужное; но угладить многие внутренние дороги,
которые до сих пор задерживают русского человека в стрем-
лении к полному развитию сил его и которые мешают ему
пользоваться как дорогами, так и всякими другими внешно-
стями образования, о которых мы так усердно хлопочем,
есть дело еще нужнейшее.
Белинский обращал взоры человека вне его самого, возлагал
надежды на внешнее спасение. Гоголь требовал заглянуть в соб-
ственную душу, каждому допросить и ощупать себя. Один уповал
на общество, другой — на личность.
442
Переписка — это торжество русского идеализма, победа
духа над рылом, личного начала над коллективным, массовым,
человека будущего над человеком прошлым. Гоголь так много го-
ворит о самовоспитании и самосовершенствовании, потому что
на собственном трагическом опыте убедился в невозможности
иначе осуществить свою цель — «устремить общество, или даже
все поколение, к прекрасному».
Он убедился, что творчество — великая, но и опасная
сила, что слово может нанести людям неисчислимый вред и
может необыкновенно подвигнуть их к добру, но только в
том случае, если сам писатель «воспитается, как гражданин
своей земли и как гражданин всего человечества, и как кре-
мень станет во всем том, в чем повелено быть крепкой ска-
лой человеку».
Наследники Белинского «к топору звали Русь». Гоголь звал
ее к любви, самоочищению, служению. Он звал каждого к Бо-
гу. Без любви к Богу человек не может спастись, но любовь к
Богу абстрактна, неконкретна. Сам Христос открыл людям тай-
ну, что «в любви к братьям получаем любовь к Богу». А любовь
к ближним — это служение каждого на своем месте, Богом
определенном. Спасение человека — в любви и служении: «Кто
даже и не на службе, тот должен теперь вступить на службу и
ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за до-
ску, без чего не спастись никому». Кто сказал — Лютер?
Нет, — Гоголь!
Белинский и его последователи уповали на общественность,
служащую человеку, Гоголь — на человека, служащего обще-
ственности: «Мы все так странно и чудно устроены, что не имеем
сами в себе никакой силы, но как только подвигнемся на по-
мощь другим, сила вдруг в нас является сама собою».
Белинский говорил о прогрессе, Гоголь — о Христе. Белин-
ский говорил об общественных отношениях, Гоголь — о душев-
ной жизни человека.
От малых лет была во мне страсть замечать за человеком,
ловить душу его в малейших чертах и движениях его, которые
пропускаются без внимания людьми, — и я пришел к Тому,
Который один полный ведатель души и от Кого одного я
мог только узнать полнее душу.
443
Христос был для Гоголя историческим законом и законом ду-
шевной жизни человека. В Авторской исповеди он рас-
сказывает, как работа над Мертвыми Душами привела его
к сознанию необходимости познать природу человека — он стал
«преследовать жизнь в ее действительности, а не в мечтах вооб-
ражения». Белинский был утопистом, Гоголь — реалистом: пер-
вый надеялся изменить мир, меняя материю, второй — дух. Что
до духа человеческого, то последний должен быть устремлен к
божественному духу, к Христу. Для Белинского материя торжест-
вовала над духом, для Гоголя — дух над материей.
В мировоззрении Гоголя своеобразно сочетались два на-
чала: непоколебимый консерватизм в отношении ко всей
материальной действительности и самый смелый радика-
лизм в отношении к человеческому духу.
...есть только один путь к обновлению жизни, только од-
на форма истинно полезной общественной деятельности —
нравственное влияние каждого отдельного человека на каж-
дого в отдельности из окружающих его... Очевидно, что та-
кое влияние одной индивидуальной души на другую может
быть плодотворным только при двух условиях: если влияю-
щая душа чиста сама по себе и бескорыстна для самоотвер-
женной заботы о ближнем, и если тот, кто влияет, с вели-
чайшей тщательностью изучит ту душу, на которую он со-
бирается влиять...
Белинский — и здесь я с ним полностью согласен — считал,
что религия, христианство не укоренены в России, что русские —
атеистический народ, говорящий о Боге, почесывая у себя пони-
же спины. Гоголь отвечал:
Что мне сказать вам на резкое замечание, будто русский
мужик не склонен к религии и что, говоря о Боге, он чешет
у себя другой рукой пониже спины... Что тут говорить, ког-
да так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей,
покрывающих русскую землю. Они строятся не дарами бо-
гатых, но бедными лептами неимущих...
Но в целом — и по содержанию, и по тону — Гоголь брал верх
над Белинским. Белинский неистовствовал, Гоголь говорил вдох-
новенно, но спокойно. Белинский уличал и оскорблял, Гоголь
умиротворял. Вы подозреваете меня в корысти, писал он, но за-
444
бываете, что у меня «нет даже угла», а всего лишь один «поход-
ный чемодан».
Вы говорите, кстати, будто я спел похвальную песню на-
шему правительству. Я нигде не пел. Я сказал только, что
правительство состоит из нас же...
Я встречал в последнее время много прекрасных людей,
которые совершенно сбились. Одни думают, что преобразо-
ваньями и реформами, обращеньем на такой и на другой
лад можно поправить мир; другие думают, что посредством
какой-то особенной, довольно посредственной литературы,
которую вы называете беллетристикой, можно подейство-
вать на воспитание общества. Но благосостояние общества
не приведут в лучшее состояние ни беспорядки, ни пылкие
головы... Общество образуется само собою, общество слага-
ется из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполнила
должность свою.
За более чем полвека до В е х Гоголь уже сказал почти все то,
о чем предостерегали свою страну будущие пассажиры «фило-
софских пароходов». В середине XIX в., упреждая Бесов, Го-
голь учил, как появление бесов можно предотвратить...
Я отнюдь не случайно назвал Белинского «первым большеви-
ком», хотя с таким же основанием мог бы назвать столь разных
людей, как Иван Грозный, Аввакум или Петр Великий. Все они
задолго до Ленина пользовались ленинскими методами. Белин-
ский был первым большевиком в своем отстаивании Идеи, в ме-
тодах ведения полемики, даже в своем словаре, превращающем
всех мыслящих иначе в «мерзавцев».
К чести Третьего отделения — единственного учреждения,
превосходно работавшего на Руси, — оно своевременно постави-
ло диагноз:
Белинский и его последователи... нисколько не имеют в
виду коммунизма, но в их сочинениях есть что-то, похожее
на коммунизм.
Показательно, что писано это в 1848-м, в год выхода в свет
Манифеста Коммунистической партии. Грамотные
были тогда филеры...
445
М. Гершензон:
Спор между Белинским и Гоголем, считающийся давно
законченным, не только не решен, но, можно сказать, толь-
ко теперь впервые ставится на суд русского общества.
Даже А. Блок, заявляя о «великом грехе перед Гоголем», со-
вершенном Белинским, назвал письмо последнего «истериче-
ским бранным криком». Мыслители и поэты беловской и бердя-
евской генерации осознали, что истинная родословная русской
религиозно-нравственной литературы — Гоголь, Достоевский,
Соловьев. Черт Гоголя, писал Д. С. Мережковский, — воплоще-
ние мирового зла. Гоголь привил русской литературе религиоз-
ную тему, писал К. Мочульский, и эта прививка вскоре дала бо-
гатые плоды у Толстого, Достоевского, Соловьева и русских сим-
волистов.
Величайшая заслуга Гоголя-мыслителя — религиозная оценка
современности, поиск путей исцеления человека и мира, идея
«начни с себя». Нет сомнений, что эта книга действительно «не-
кая пророческая, таинственная страница русского духа». К сожа-
лению, русский мир пошел не по пути Гоголя и Достоевского, а,
на свою беду, по пути, предначертанном «передовыми» и «рево-
люционными»...
Русские «революционные демократы», предавшие Гоголя
анафеме за его Выбранные места из переписки с
друзьями, ценили в душеведе и пророке лишь «обличителя
действительности», который, к сожалению, «оказался неспособ-
ным возвыситься до последовательной защиты интересов угне-
тенных народных масс». Высшая заслуга Гоголя, считал Добро-
любов, в том, что он «очень близко подошел к народной точке
зрения, но подошел бессознательно, просто художнической
ощупью».
Пойти дальше Гоголя, сочетать глубину и беспощадность
гоголевского реализма с верой в революционную силу на-
родных масс — такова, по мнению Добролюбова, обязан-
ность «нынешних деятелей» литературы.
Н. А. Добролюбов:
Изображение пошлости жизни ужаснуло его, он не со-
знал, что эта пошлость не есть удел народной жизни, не со-
446
знал, что ее нужно до конца преследовать, нисколько не
опасаясь, что оно может бросить дурную тень на самый на-
род.
Вот на таких пошлых агитках строилось совковое гоголеведе-
ние постреволюционного периода. Создалась целая индустрия по
перекраиванию мистического реализма Гоголя, этого первого
«больного» и «мученика» русской литературы, в политическое
кликушество и социальную сатиру. Подобно тому, как в наше
время Франца Кафку, писавшего исключительно историю собст-
венной души и вечного зла, пытались превратить в гневного об-
личителя тоталитаризма, подобно этому из гениальных символов
Гоголя и его чувства величайшей ответственности за повсеместно
царящее в мире непреходящее зло лепили фарсы и карикатуры
на конкретную действительность.
Одна из причин неприятия Переписки русскими либера-
лами — гимнические песнопения Гоголя в адрес Церкви, его со-
кровенная надежда на этого единственного «примирителя всего
внутри самой земли нашей».
Уже готовится она [Церковь] вдруг вступить в полные
права свои и засиять светом на всю землю. В ней заключено
все, что нужно для жизни истинно русской, во всех ее отно-
шениях, начиная от государственного до простого семейст-
венного, всему настрой, всему направленье, всему законная
и верная дорога.
По мне, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововве-
денье в Россию, минуя нашу Церковь, не испросив у нее на
то благословенья. Нелепо даже и к мыслям нашим приви-
вать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не
окрестит их она светом Христовым.
Больше всего наших «демократов» и «революционеров» сму-
щали слова Гоголя о церкви — «целомудренной деве» и духовен-
стве, «возвысившем нашу Церковь». Церковь, писал Гоголь, как
целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апосто-
льских в непорочной первоначальной чистоте своей, одна в силах
разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, может произве-
сти неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое
сословье, званье и должность войти в их законные границы и
пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России
изумить весь мир согласной стройностью организма.
447
Конечно же, Гоголь не был слепцом или утопистом-идеали-
стом, не видевшим духовенства, «опозорившего нашу Церковь».
Но в самой Церкви он видел менее всего бюрократическую
структуру, а — дом Господен. Да и духовенство делил на святых и
недостойных, коим нет места в подлинном Храме. Опора на Цер-
ковь была необходима Гоголю потому, что он не обнаруживал в
России иных опор, кроме нее и монархии, ибо во всех остальных
местах видел лишь рожи, хари, мертвые души...
Свидетельствует П. В. Анненков:
В 1847 году вышли, наконец, «Выбранные места из пере-
писки с друзьями». В том самом Неаполе, куда звал меня
Николай Васильевич, застала его буря осуждений и упре-
ков, которая понеслась на встречу книги, сразила и опроки-
нула ее автора. Путешествие в Иерусалим было отложено.
С высоты безграничных надежд Гоголь падал вдруг в тем-
ную, безотрадную пучину сомнений и новых неразрешимых
вопросов. Известно, что тогда произошло. Вторая часть
«Мертвых душ», созданная под влиянием идей «Выбранной
переписки», подверглась новой переделке. Гоголь противо-
поставляет впервые истинно христианское смирение уда-
рам, которые сыплются на него со всех сторон. Глубоко
трогательная и поучительная драма, еще никем и не подо-
зреваемая, получает место и укореняется в его душе. Рас-
сказать все, что знаешь об этом страшном периоде его жиз-
ни, и рассказать добросовестно, с глубоким уважением к ве-
ликой драме, которая завершила его, есть, по нашему мне-
нию, обязанность каждого, кто знал Н. В. Гоголя и кому до-
роги самая неприкосновенность, значение и достоинство
его памяти.
Д. С. Мережковский:
Одно лишь ясное сознание правоты могло спасти Гого-
ля. Чувство правоты у него было, но сознания не
было. То положение, в которое он поставил себя «Пере-
пиской», требовало силы героя, «богатыря», как он сам
выражался. А по природе своей он был мученик, но не ге-
рой.
И Гоголь не выдержал, ослабел, отступил, запросил по-
щады.
448
Н. В. Гоголь — СТ. Аксакову:
Ради самого Христа прошу вас теперь не из дружбы, но
из милосердия войти в мое положение, потому что душа
моя изныла... Как у меня еще совсем не закружилась голо-
ва, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщи-
ны — этого я и сам не могу понять. Знаю только, что сердце
мое разбито, и деятельность моя отнялась. Можно еще вес-
ти брань с самыми ожесточенными врагами, но храни Бог
всякого от этой страшной битвы с друзьями! Тут все изне-
может, что ни есть в тебе. Друг мой, я изнемог... Тяжело
очутиться в этом вихре недоразумений! Вижу, что мне нуж-
но надолго отказаться от пера и от всего удалиться.
До какого состояния Русь довела Гоголя, затравила его, как
волка, чтобы он сам лучшую свою книгу назвал «чудовищной»?..
Я точно моей книгой показал исполинские замыслы на
что-то вроде вселенского учительства... А диавол, который
как тут, раздул до чудовищной преувеличенности даже и то,
что было без умысла учительствовать...
Я не имел духу заглянуть в нее [«Переписку»], когда по-
лучил ее отпечатанною: я краснел от стыда и закрывал лицо
себе руками...
Появление книги моей разразилось точно в виде какой-
то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, на-
конец, еще сильнейшая оплеуха мне самому...
Мне также нужна публичная оплеуха, и даже, может
быть, более, чем кому-либо другому.
Как бы кто ни судил об этой книге, несомненно, что в
известных частях ее выразилась подлинная человеческая
личность, живое лицо Гоголя — не то, чем желали бы его
видеть друзья или недруги, а то, чем он был в действите-
льности. Гоголь давно знал, что он один; но тут только
понял вдруг всю глубину своего одиночества. Он ожидал,
что его не поймут, но то, что случилось, превзошло все
его ожидания: связь великого писателя со временем, исто-
рией, обществом, государством, народом оказалась вдруг
одним сплошным недоразумением; все разлетелось, лопну-
ло, как мыльный пузырь. Произошло нечто, в самом деле,
449
единственное, ни с чем не сравнимое, кажется, не только
в русской, но и во всемирной литературе. Это не провал
литературный: не сам он провалился, а то, на чем он сто-
ял, земля под ним провалилась, как во время землетрясе-
ния. И он остался вдруг уже не в одиночестве, а в какой-
то страшной пустоте, в каком-то безвоздушном простран-
стве.
Гоголь полагал, что в его книге зародыш примирения всеоб-
щего, а не раздора, а первый большевик, Виссарион Белинский,
еще недавно называвший его «самым национальным» и «самым
великим из русских поэтов», писал Боткину: «Гнусная книга,
гнусность подлеца».
Это было не столкновение двух мнений, не месть за «щелч-
ки», как думал Гоголь, — за «щелчки», данные им «восточным,
западным и нейтральным», — это было столкновение двух пара-
дигм, двух несовместимых мировоззрений, двух уходящих в глу-
бины человеческой культуры позиций касательно первичности
человеческого бытия. Для Гоголя первичной была душа человека,
для Белинского — обстоятельства жизни, социальность. Гоголь
уповал на внутреннее перерождение каждого, Белинский — на
изменение социального устройства. Гоголь был экзистенциали-
стом, наследником Паскаля, Белинский — наследником Просве-
щения — Гельвеция и Дидро. Гоголь считал необходимым про-
светлить душу, Белинский — просветить ум.
Гоголь был просто ошеломлен поднявшимся шквалом брани:
Как же вышло, что на меня рассердились все до единого
в России? Этого я не могу понять... Восточные, западные,
нейтральные — все...
И. А. Линниченко:
И ему казалось, что причиною всего не наивность так
долго выношенных в душе мыслей, а способ их изложения;
он начал верить, что те же мысли, но объявленные привыч-
ным ему языком, живыми примерами, яркими художествен-
ными образами, заставят всех почувствовать истину его за-
ветных убеждений, так как он сам их почувствовал, и он
схватился за это открытие, как за якорь спасения, — но этот
якорь выпал из обессиленной руки.
450
И. Д. Ермаков:
Идеалы, им созданные, не могли его удовлетворить, но и
посмеяться над ними он не был в силах, т. к. в них заклю-
чалось самое лучшее, самое нужное ему с детства в его ду-
ше, — и когда другие вознегодовали, он почувствовал то,
что знакомо было ему давно: его откровенные беседы отша-
тывали от него людей.
В. В. Набоков:
Несмотря на потоки ругани, издевательств и поношений,
обрушившихся на его книгу почти со всех сторон, Гоголь
внешне вел себя довольно мужественно. Он хоть и призна-
вал, что книга была издана «под влияньем страха смерти» и
что неопытность в подобных сочинениях обратила смире-
ние в вызывающую позу самоуверенности (или, как он за-
метил в другом месте, «я размахнулся в моей книге таким
Хлестаковым...»), но продолжал утверждать с непреклонной
стойкостью мученика, что книга его необходима по трем
причинам: она позволила показать людям его подлинное
лицо, показала и ему и им, что собой представляют они, и
очистила общественную атмосферу, словно гроза. Этим он,
по существу, говорил, что выполнил свое намерение — под-
готовил общественное мнение ко второй части «Мертвых
душ».
Н. В. Гоголь — А. М. Виельгорской:
Книга моих писем выпущена в свет затем, чтобы пощу-
пать ею других и себя самого, чтобы узнать, на какой степе-
ни душевного состояния стою теперь я сам, потому что себя
трудно видеть, а когда нападут со всех сторон и станут на
тебя указывать пальцами, тогда и сам отыщешь в себе мно-
гое.
Н. В. Гоголь — В. В. Львову:
Появление этой книги полезно мне самому больше, чем
кому-либо другому. Одно помышленье о том, с каким не-
приличием и самоуверенностью сказано в ней многое, за-
ставляет меня гореть от стыда. Стыд этот мне нужен. Не по-
явись моя книга, мне бы не было и вполовину известно мое
душевное состояние. Все эти недостатки мои, которые вас
451
так поразили, не выступили бы передо мною в такой наготе:
мне бы никто их не указал.
Хотя мы снова имеем дело с постинтерпретацией, с реакцией
на шум, это не просто гоголевская рационализация постфак-
тум — открытие нового среза замысла, очередная перспектива.
Гоголь оправдывается, Гоголь придумывает объяснения, Го-
голь просит прощение, Гоголь называет себя «провинившимся
школьником».
Он пишет, что писал книгу на пороге смерти, что страх
за жизнь торопил его и что он вообще поспешил с нею. Вы-
брошенные из «Переписки» статьи, касавшиеся не его лич-
но, как бы оголили книгу и выставили ярче автора — стали
преобладать статьи о нем, и он как бы один оказался перед
всем народом. Он просит Вяземского всюду во втором изда-
нии «изгладить» его «я» и дать более простора общему,
снять заносчивые выражения, фальшивый тон и неумест-
ную восторженность... Я «чиновник 8 класса», пишет он, я
«слишком зарапортовался!».
Гоголь по своему обыкновению — вдогонку — говорит о
преждевременности издания, постепенно убеждая самого себя,
что «не дожеп>:
Мне следовало несколько времени еще поработать в ти-
шине, еще жечь то, что следует жечь...
С присущим ему свойством «додумывать» сверхидею книги
после ее выхода в свет Гоголь изобретает даже такую версию:
Выбранные места изданы с единственной целью «добиться
самому многих тех сведений, которые мне необходимы для труда
моего, чтобы заставить многих людей умных заговорить о пред-
метах более важных...».
По поводу моего неведения многих вещей, которые у меня
выдаются с такою дерзостью за знание, многие невольно бу-
дут заставлены выказать свое ведение, которого я добиваюсь.
Комментирует Ю. В. Манн:
Получается, что роль книги притворная, своего рода
провокационная: автор высказал заведомо незрелые и не-
452
верные суждения, чтобы вызвать поток материала для
«Мертвых душ»! Гоголь забыл, что перед выходом «Выбран-
ных мест...» он называл их «единственно дельной», «первой
дельной» и «полезной» своей книгой...
Д. С. Мережковский:
Это неимоверно, это преступает все границы литерату-
ры: так никто никогда не писал; тут в самом деле — или
«мерзавец», или «святой».
Все отреклись от него, и он сам от себя отрекся, пал, как
только может пасть человек.
И все-таки он был прав.
При жизни Гоголя так думало два-три человека в России, а из
друзей автора Выбранных мест, пожалуй, только А. О.
Смирнова и П. А. Плетнев, увидевший в них ни много ни мало
«начало собственной русской литературы»:
Вчера совершено великое дело: книга твоих писем пуще-
на в свет. Но это дело совершит влияние свое только над
избранными; прочие не найдут себе пищи в книге твоей.
А она, по моему убеждению, есть начало собственной рус-
ской литературы. Все, до сих бывшее, мне представляется,
как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии.
Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их
на свет. Обнимаю тебя, друг. Будь непреклонен и последо-
вателен. Что бы ни говорили другие, — иди своею доро-
гою... В том маленьком обществе, в котором уже шесть лет
живу я, ты стал теперь гением помыслов и деяний.
Понимание Выбранных мест пришло лишь с русским де-
кадансом, модернизмом, Серебряным веком. Это была не реаби-
литация Гоголя, но осознание величия этой книги, самого сокро-
венного и пророческого творения писателя. «Это — оклеветанная,
замечательная книга, которою Россия может гордиться перед всем
светом», — писал в Северном Вестнике А. Волынский.
Эта статья А. Волынского — первая развернутая отповедь ху-
лителям Переписки и одновременно панегирик этой книге и
подвигу человека, ее написавшего:
Гул порицаний и жесточайшей хулы стоит именно над
тем местом в произведениях Гоголя, где глазам ясно видно
453
глубочайшее страдание, где каждое слово, каждая мысль
сияет величием правды, где на каждом шагу слышатся муки
тягчайшей внутренней борьбы с самим собою. Густая туча
злобной клеветы закрыла от людей великий мир его надежд,
желаний и убеждений, набросив зловещую, мрачную тень
на трагический облик гениального писателя. Всеобщее
осуждение смело обвело Переписку с друзьями гус-
тою черною линиею, как обводят имена людей, навсегда
покончивших счеты в земными делами. Здесь — смерть по-
эта, здесь — погибель его светлого таланта! Здесь — оборва-
лась самоотверженная работа Гоголя на пользу людей!
Здесь — позор изуверства, позор ужасной измены своему
великому призванию!.. Это книга оклеветанная, это великая
книга. В этой книге автор прямо глядит вам в душу воспа-
ленным взглядом религиозного страдальца, говорит к вашей
совести языком пророческого вдохновения и поэтического
энтузиазма. В этой книге вера, разливающая волны света во
всех направлениях, смешана с муками ненависти к собст-
венному ничтожеству, ненависти, толкающей к аскетиче-
скому самоистязанию, к неведомым подвигам, ко всему, что
может возвысить дух над телом. В этой книге резкая, беспо-
щадная правда, обращенная на самого себя и на людей, час-
то сменяется каким-то исступленным бредом, где каждая
фраза, прожженная злобою, враждою к человеческой по-
рочности, звучит как проклятие, как неумолимый приговор
над человеком, как оглушительный гром обличения — без
проблеска снисхождения, без единого луча теплого, мягкого
сердечного сочувствия. Это великая, поучительная книга.
В ней Гоголь предстал пред людьми таким, каким он был
внутри себя, без сатирической улыбки, содравши маску ху-
дожника и артиста и распахнувши пред всем светом свои
помыслы, все движения сердца, все язвы своей души.
Далее Волынский пишет об извечной проблеме «поэт и
чернь», имея в виду общественную реакцию на великую книгу
Гоголя:
Это обычная история. Толпа становится на колени толь-
ко перед теми, которые могут обучить ее какому-нибудь
простому, житейскому делу, дать ей в руки простые, конк-
ретные сведения и направить ее волю к определенным, кон-
кретным задачам. Она беспощадна к тем, которые указыва-
ют ей на высшие цели, которые говорят с нею о невидимом
начале жизни, о вечных проблемах души, о философских
454
вопросах совместно с вопросами морали и религии. Она не
выносит речей пророческих и сходит с ума от восторга, ког-
да ей доказывают, что человек есть только тело, функцио-
нирующее в различных направлениях.
Любопытно, что строки эти написаны за четверть века до рус-
ской революции, столь точно подтвердившей их правду...
ТАЙНЫ ВТОРОГО ТОМА «МЕРТВЫХ ДУШ»
Вопрос о втором томе «Мерт-
вых Душ», без сомнения, является
самым трудным и наименее разъ-
ясненным в литературе о Гоголе.
В. И. Шенрок
Обширной областью мировых загадок являются загадки лите-
ратурные, к коим, без сомнения, относится детективная история
знаменитой книги Гоголя. Второй том Мертвых Душ — одно
из самых мистифицированных произведений мировой литерату-
ры, сожжение которого принесло ему гораздо большую славу и
вызвало гораздо больший интерес, чем если бы оно сохранилось
и было опубликовано. Впрочем, сами факты его завершения и
сожжения являются предметом ожесточенных баталий, часто но-
сящих сенсационный характер.
Иван Бунин, например, был глубоко убежден, что Гоголь ни-
когда не жег Мертвых Душ, а Нина Берберова, вторя Аксако-
вым, писала: «Можно облегченно вздохнуть, услышав, что Гоголь
сжег вторую часть «Мертвых Душ» — лучше назвать Гоголя сума-
сшедшим и тем самым уберечь его писательское имя от бесславия».
Что же на самом деле представлял собой второй том знамени-
той книги Гоголя и что с ним случилось? На вторую часть вопро-
са существует три версии ответов. Привожу их в соответствии с
одной из последних работ на сей счет, написанных знаменитым
норвежским славистом Гейром Хьетсо:
Во-первых, можно ответить в соответствии с учебниками
литературы, что Гоголь ранним утром 12 февраля 1852 года
сознательно сжег произведение, которым, дескать, остался
недоволен. Эта версия повторялась так часто, что наконец
стала восприниматься вроде неопровержимой научной ис-
455
тины. Но ведь повторением рассказа из вторых или третьих
рук истины не сотворишь. Перед нами скорее всего легенда,
к которой следует отнестись с осторожностью.
Более удовлетворителен второй ответ, согласно которому
Гоголь, вернувшись со всенощной в состоянии полного
упадка, по ошибке сжег беловик вместо предназначенных
для сожжения черновиков. «Сожжение второй части «Мерт-
вых душ» — по-видимому, красивая легенда, — пишет
Юрий Иваск. — Может быть, он [Гоголь] случайно сжег не-
сколько глав, вместе с другими бумагами».
Впрочем, по мнению автора этих строк, возможен и тре-
тий ответ на интересующий нас вопрос, а именно что поте-
рянная рукопись и по сей день пребывает где-то в целости
и сохранности.
На самом деле версий гораздо больше: Гоголь сжег беловую ру-
копись завершенного второго тома; Гоголь сам толком не знал,
что сжигает; «Мертвые Души» были сожжены «по ошибке»; Го-
голь вовсе ничего не сжигал, а его бумаги были похищены злокоз-
ненным графом А. П. Толстым; Гоголь сжег лишь компрометиру-
ющие и политически опасные бумаги, сохранив беловик, выкра-
денный «врагами»; «Мертвые Души» не были сожжены и до сих
пор спрятаны в одном из неизвестных архивов... Гораздо реже фи-
гурирует версия, что сохранившиеся главы и есть большая часть из
того, что было написано, и что уничтожены лишь 2—3 главы по
причине их художественного несовершенства. Почему-то всеми
исследователями выпускается из виду прогрессирующий склероз
Гоголя, заставлявший его в последние годы работы над Мерт-
выми Душами «вытаскивать каждую фразу клещами»...
В своей сенсационной статье Что случилось со вто-
рым томом «Мертвых Душ» Г. Хьетсо обосновывает вер-
сию, согласно которой миф о сожжении второго тома был сочи-
нен графом Александром Толстым и им же изъяты бумаги и ру-
кописи умершего (до их опечатывания Капнистом). Здесь повто-
ряется версия С. Дурылина: «Очевидно, чья-то дружеская рука,
заранее, тотчас после кончины Гоголя, изъяла их из его комнаты
для того, чтобы вернее сохранить для его семьи и для потомства».
Не разделяя общую концепцию Г. Хьетсо «рукописи не го-
рят», приведу тем не менее в конспективном виде его аргумента-
цию для полноты картины.
456
Важным моментом в нашей аргументации является то,
что у нас нет ни одного прямого высказывания самого Гоголя
о том, что сожжение второго тома действительно имело мес-
то1. Возможно, что всю историю о сожжении второго тома
сочинил его хозяин, граф Александр Толстой, в соавторстве
с малолетним слугой писателя, Семеном. Дело в том, что
если у самого Гоголя не было веских мотивов к сожжению,
то у графа было немало мотивов к созданию легенды о со-
жжении.
Почувствовав в феврале 1852 года приближение смерти,
Гоголь, естественно, должен был задуматься над приведени-
ем в порядок своих бумаг. В шкафу у него, несомненно, ле-
жали многие неоконченные рукописи, с которыми можно
было бы расстаться: множество набросков на исторические
темы, далее черновик пяти глав второго тома «Мертвых
душ», ставший теперь ненужным ввиду завершения белови-
ка, да и куча личных писем, среди которых, возможно, бы-
ло и злополучное письмо Белинского, бросающего ему в
лицо несправедливые обвинения в том, что издание «Вы-
бранных мест из переписки с друзьями» было сделано для
приобретения места учителя при царском дворе. Желание
писателя уничтожить подобные материалы представляется
вполне естественным: ведь в то время судили не только за
распространение запрещенных материалов, но и за «недо-
несение» о них.
Итак, возможность того, что имело место какое-то со-
жжение, мы отрицать не будем. Но сожжение само по себе,
конечно, вовсе не значит, что Гоголь сжег именно второй
том своей поэмы, и причем сделал это сознательно. Нет и
намека на то, что Гоголь собирался сжечь уже приготовлен-
ные им к печати произведения. Наоборот, эти работы он
всячески стремился определить в надежные места, передать
в руки верных друзей.
...граф Толстой тоже представлялся возможным персона-
жем [второго тома], хотя бы в роли довольно жалкого гене-
рал-губернатора в конце романа, наделенного, по-видимо-
1 Здесь имеется в виду отсутствие письменных свидетельств Гоголя, впавше-
го после сожжения рукописи в тяжелейшую, смертельную депрессию и больше,
кроме нескольких строк, ничего не написавшего. Все его высказывания на сей
счет переданы другими лицами, впрочем, довольно многочисленными.
457
му, некоторыми чертами, приписываемыми ему Гоголем.
Натурально, граф не мог не опасаться такого прозрачного
изображения. Считают, что к графу обращен ряд писем из
«Выбранных мест из переписки с друзьями», причем два из
них были запрещены цензурой. Желания еще раз попасть в
какое-нибудь произведение Гоголя он не имел, во всяком
случае не при жизни. Так или иначе, было бы более чем же-
лательно приостановить чтение романа. Например, сказав,
что Гоголь сжег свое произведение, граф мог бы сослаться
на повторение раннего и общеизвестного поведения писате-
ля, что давало ему возможность спокойно удалить и изучить
все материалы.
Видимо, так и случилось.
Несмотря на отдельные противоречия в разных версиях
легенды (Погодина, Тарасенкова, Берга, Шевырева, Ботки-
на), не может быть сомнения в ее авторстве, ее источник —
граф Толстой, который вообще не был свидетелем событий,
означенных выше. Однако тот факт, что граф вынужден
был частично использовать рассказ слуги Семена, вряд ли
повышает достоверность его версии, скорее наоборот: изве-
стно, что испуганный мальчик, вдруг попав в центр всеоб-
щего внимания, вскоре совершенно запутался и, по-види-
мому, стал давать ответы в зависимости от потребности об-
ращавшихся к нему людей. Любопытно в этом отношении
сообщение Е. Феоктистова И. Тургеневу от 25 февраля 1852
года: «Теперь все расспрашивают гоголевского мальчика о
подробностях его жизни, но он, кажется, понял свое инте-
ресное положение и развивает в себе Хлестакова...»
Только 1 мая сохранившиеся рукописи Гоголя были пе-
реданы графом душеприказчикам писателя, профессору
Шевыреву и московскому губернатору Капнисту. Иными
словами, в течение нескольких недель граф был полным хо-
зяином гоголевских бумаг. О том, что он изучал их тщатель-
но, свидетельствует его письмо сестре, в котором речь идет
как раз о разборе бумаг Гоголя: «Я не знаю достаточно Ше-
вырева, чтобы доверить ему без меня это дело и оставить его
одного хозяином этих бумаг, тем паче, что я нахожу и извле-
каю мои письма ко мне и также Ваши, мой дорогой друг».
В связи с этим нельзя не признать уместным вопрос
В. Осокина: «Не логично ли предположить, что Толстой с та-
кой бесцеремонностью мог «извлечь» и другие документы?»
458
Еще Погодин, заканчивая свой некролог о Гоголе, выра-
зил надежду, что рукопись находится в шкафу «или в дру-
гом неожиданном месте». Думается, что надежда ученого
все еще может сбыться. Возможно, например, что Гоголь,
следуя своему внутреннему желанию, сам сумел обеспечить
своему детищу безопасность, хотя бы у митрополита Фила-
рета или даже у наследника Александра Николаевича. Ко-
нечно, то же самое мог сделать и граф Толстой после смер-
ти писателя, будучи хозяином его бумаг; ведь главное для
него было не уничтожить рукопись, а приостановить ее
оглашение. Большой оригинал, граф вместе с тем пользо-
вался репутацией вполне порядочного человека. Обвинять
его в уничтожении глав рукописи мы вовсе не будем; нао-
борот, именно он мог их спасти. Потом из «надежных рук»
рукопись могла бы легко попасть в какую-то шкатулку или
к какому-нибудь частному коллекционеру...
Все знают о сожжении второй части Мертвых Душ, но
мало кто — о сожжении собственных произведений, практико-
вавшемся Гоголем на протяжении всей его жизни, можно ска-
зать, от первого произведения и до последнего...
Первая прозаическая вещь Гоголя была написана в гим-
назии и прочитана публично на вечере Редкина. Называлась
она «Братья Твердославичи, славянская повесть». Наш кру-
жок разнес ее беспощадно и решил тотчас же предать унич-
тожению. Гоголь не противился и не возражал. Он совер-
шенно спокойно разорвал свою рукопись на мелкие клочки
и бросил в топившуюся печь...1
В огне погибло почти все написанное Гоголем в гимназии.
Приезд Гоголя в Петербург тоже ознаменовался «фейерверком»:
после разгромных отзывов критики в гостиничную печь последо-
вали все скупленные Гоголем экземпляры Ганца Кюхель-
г а р т е н а, за которым в печь последовала читанная В. А. Жуков-
скому драма Выбритый ус. Произошло это во Франкфурте,
сам В. А. Жуковский свидетельствует:
Когда Гоголь кончил читать и спросил, как я нахожу, я
говорю: «Ну, брат Николай Васильевич, прости, мне сильно
1 По другим сведениям, эта повесть, прежде чем быть сожженной, была все-
таки «издана» в единственном экземпляре рукописного гимназического журнала,
называемого то ли «Звезда», то ли «Метеор». Возможно, сожжению был предан
именно этот экземпляр, имеющий вид печатной книги и разрисованный самим
автором.
459
спать захотелось». —- «А когда спать захотелось, тогда можно
и сжечь ее», — отвечал он и тут же бросил в камин.
А вот признание самого Гоголя, сделанное им в письме к
М. А. Максимовичу:
Если бы вы знали, какие со мною происходили страш-
ные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня!
Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал!
Мысль о сожжении своих произведений — идея фикс Гоголя,
его вечное искушение отойти от искусства. Мертвые Души
он сжег в момент религиозных сомнений. Это не результат ду-
шевного расстройства, а акт внутренних исканий, терзаний.
Я совершенно уверен в том, что сожжение не было «подвигом
христианского самоотвержения» (П. Кулиш), как не было и резу-
льтатом душевной болезни — за десять дней до смерти Гоголь яв-
лял собой «образец живой души, постоянно бодрствовавшей над
своим бессмертием», и составленный чуть ли не по часам распо-
рядок последнего месяца его жизни (выезды, встречи, игра с кре-
стником, причащения, молебны и т. д.) свидетельствует об абсо-
лютной психической вменяемости.
Начиная с 5—6 февраля Гоголь много молится, почти не
ест и не спит. Тем не менее продолжает выезжать из дому.
6 февраля приезжает к Шевыреву, 7 февраля едет утром в
свою бывшую приходскую церковь, причащается и испове-
дуется там, вечером снова едет в ту же церковь служить бла-
годарственный молебен, заезжает к Погодину, где его на-
шли очень расстроенным, 9 февраля он едет к Хомякову,
где не был с 27 января, играет там со своим маленьким кре-
стником.
Единственное свидетельство неблагополучия — тревожный
сон, ночные видения и кошмары, голоса, но для человека с инту-
ицией Гоголя вполне естественно заранее услышать шаги под-
крадывающейся Костлявой: можно ли считать свидетельством
безумия видение Смерти, посетившее его между 5 и 10 февраля?
Акты сожжения были для Гоголя судебными вердиктами,
творческими аутодафе, вынесенными самому себе. Почти все его
творчество, помимо прочего, было самосудом: сначала он судил
Вечера с позиции автора Ревизора и Мертвых Душ,
460
затем судил второй том с позиции первого, наконец, судил соб-
ственные свои утопии Выбранными местами.
При всей чувствительности к критике и к реакции на его тво-
рения Гоголь, похоже, быстро охладевал к написанному, обращая
все свои побуждения на новые замыслы, зревшие в голове.
Гоголь — М. П. Погодину:
Вы спрашиваете об «Вечерах» Диканьских. Черт с ними!
Я не издаю их1; и хотя денежные приобретения были бы не-
лишние для меня, но писать для этого, прибавлять сказки
не могу. Никогда не имею таланта заняться спекулятивны-
ми оборотами. Я даже позабыл, что я творец этих «Вече-
ров», и вы только напомнили мне об этом... Да обрекутся
они неизвестности, покамест что-нибудь увесистое, вели-
кое, художническое не изыдет из меня! Но я стою в бездей-
ствии, в неподвижности. Мелкого не хочется, великое не
выдумывается. Одним словом, умственный запор.
При всем элементе «красования» (безразличии к «Вечерам» и
«умственном запоре», которого в это время не было) Гоголь не
лицемерит: его зовет будущее, а не прошлое. Он спешит покон-
чить с ученичеством, но еще более — с юношеским мироощуще-
нием безмятежности и веселья. В предисловии к первому собра-
нию сочинений (1842) Гоголь напишет о своих Вечерах:
Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это
первоначальные ученические опыты, недостойные строгого
внимания читателя; но при них чувствовались первые слад-
кие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко иск-
лючить их, как жалко исторгнуть из памяти первые игры
невозвратной юности.
Д. С. Мережковский:
И от «Мертвых душ» так же, как от «Ревизора», Гоголь
бегал, скитаясь по всему свету от Парижа до Иерусалима.
Художник не кончил портрета. И «Мертвые души», и «Ре-
визор» — «без конца». Художник постригся в монахи.
И мечта Гоголя во всей второй половине его жизни — со-
вершенное отречение от мира, монашество.
1 Здесь речь идет о втором издании Вечеров.
461
Гоголь не только всю жизнь отказывался от написанного ра-
нее, в отличие от Толстого, отказавшегося раз и навсегда, но и
почти до конца считал, что вообще «ничего не сделал из того,
что следовало сделать».
В конце жизни Гоголь отказался не только от своих творений,
но и от последних «радостей жизни», которые мог себе позво-
лить, ограничиваясь тюрей и чтением святоотеческих книг.
Графиня Анна Георгиевна Толстая (жена А. П. Толстого)
часто вспоминала о Гоголе, особенно постом. Она пости-
лась до крайней степени, любила есть тюрю из хлеба, карто-
феля, кваса и лука и каждый раз за этим кушаньем говори-
ла: «И Гоголь любил кушать тюрю. Мы часто с ним ели тю-
рю». Настольной книгой графини были «Слова и речи прео-
священного Иакова, епископа Нижегородского и Арзамас-
ского», изд. 1849 г. На книге есть отметки карандашом, ко-
торые делал Гоголь, ежедневно читавший графине эти про-
поведи. По словам графини, она обыкновенно ходила по
террасе, чтобы не уснуть, а Гоголь, сидя в кресле, читал ей
и объяснял значение прочитанного. Самым любимым мес-
том книги у Гоголя было «Слово о пользе поста и молитвы».
Кстати, второй том Мертвых Душ сжигался Гоголем не
единожды, как о том повествуют его биографы, а скорее всего —
трижды.
П. В. Анненков:
К последней половине 1843 года относим мы первое
уничтожение рукописи «Мертвых душ» из трех, какому она
подверглась1. Если нельзя с достоверностью говорить о со-
вершенном истреблении рукописи в это время, то, кажется,
можно допустить предположение о совершенной переделке
ее, равняющейся уничтожению.
Н. С. Тихонравов:
Сожжение (вторичное) второго тома «Мертвых душ»
произошло, вероятно, в конце июня или в начале июля 1845
года.
i Видимо, это единственное свидетельство об уничтожении рукописи в 1843
году.
462
А вот свидетельство и объяснение самого Гоголя, данное им в
Выбранных местах:
Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было
нужно. Нужно прежде умереть, для того, чтобы воскреснуть.
Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с та-
кими болезненными напряжениями, где всякая строка до-
сталась потрясением, где было много такого, что составляло
мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все бы-
ло сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою
смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-
нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что
дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло послед-
ние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в
очищенном и светлом виде, подобно Фениксу из костра, и
я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я счи-
тал уже порядочным и стройным... Бывает время, что вовсе
не следует говорить о высоком и стройном... Бывает время,
что вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не
показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для
всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо раз-
вито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было
быть едва ли не главное; а потому он и сожжен...
В 1852-м Гоголь сжег не только второй том Мертвых
Д у ш, но и записки-дневник, о чем засвидетельствовал сам:
Я как-то писал, а бывши болен, сжег. Будь я более обык-
новенный человек, я б оставил, а то бы это непременно вы-
дали; а интересного ничего нет, ничего полезного, и кто бы
издал, глупо бы сделал. Я от этого и сжег.
Вообще Гоголь имел возможность сжигать свои произведения
не один и не три, а значительно большее количество раз. Ведь его
творческий метод предполагал многократное переписывание на-
писанного (до восьми раз, как говорил он сам), и, следовательно,
у него всегда должен был быть большой запас бумаги. Поскольку
многие варианты им написанного до нас не дошли, это может
означать лишь то, что все они были уничтожены самим автором.
Вот как описывал последнее самосожжение Михаил Петрович
Погодин:
Ночью на вторник [с 11-го на 12-е февраля 1852 г.] он
долго молился один в своей комнате. В три часа призвал
463
мальчика и спросил его, тепло ли в другой половине его по-
коев. «Свежо», — ответил тот. — «Дай мне плащ, пойдем,
мне нужно там распорядиться». И он пошел, со свечой в ру-
ках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил.
Пришел, велел открыть трубу, как можно тише, чтоб нико-
го не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда
портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей,
перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой
из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на ко-
лени и сказал: «Барин! что это вы? Перестаньте!» — «Не
твое дело, — ответил он. — Молись!» Мальчик начал пла-
кать и просить его. Между тем огонь погасал после того,
как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку
из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче
было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед ог-
нем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрес-
тясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал маль-
чика, лег на диван и заплакал.
Графиня Е. В. Сальяс — М. А. Максимовичу:
Долго огонь не мог пробраться сквозь толстые слои бу-
маги, но наконец вспыхнул, и все погибло. Рассказывают,
что Гоголь долго сидел неподвижно и наконец проговорил:
«Негарно мы зробили, негарно, недобре дило». Это было
сказано мальчику, бывшему его камердинером.
А. Т. Тарасенков:
Когда почти все сгорело, он долго сидел задумавшись,
потом заплакал, велел позвать графа [А. П. Толстого], пока-
зал ему догорающие углы бумаг и с горестью сказал: «Вот
что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на
то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, — вот
он к чему меня подвинул! А я там много дельного уяснил и
изложил. Это был венец моей работы; из него могли бы все
понять и то, что неясно было у меня в прежних сочинени-
ях... А я думал разослать друзьям на память по тетрадке:
пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало».
Потерпев фиаско как проповедник, Гоголь решил вернуться к
«чистому искусству». «Не мое дело, — писал он Жуковскому, —
поучать проповедью... я должен выставить жизнь лицом, а не
464
трактовать о жизни». «Искусство и без того уже поученье». В оче-
редной (который?) раз Гоголь отказывался от себя прошлого,
уповая на будущее.
Казалось, это отступление было единственное, на что он
теперь надеялся, в чем видел спасение и возрождение. Ис-
кусство было и его семья, и жена, и дом, и вера. Оно стало
главным и первым в моей жизни, писал он, а все прочее вто-
рым. «...Уже не должен я связываться никакими другими
узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной
жизнью гражданина», так как «словесное поприще есть то-
же служба».
В «Завещании» он отрекался от искусства — в этом пи-
сьме он вновь признавал его. «Искусство есть примиренье с
жизнью!» — писал он.
Тем не менее первый том Мертвых Душ писал художник,
второй — идеолог. Поэтому было бы гораздо страшней, если бы
сгорело начало и остался конец, ибо одно дело, когда Джойс со-
знательно пишет своего Блума — иронически-снижающую паро-
дию на гомеровского Одиссея, и совсем другое, когда Чичикова
превращают в мифического, легендарного героя-«богатыря», де-
лая это на полном серьезе. Из Чичикова, возможно, получился
бы еще лучший Улисс, чем вышел из Блума, но при условии со-
знательного «снижения» автором мифического героя до скупщи-
ка мертвых душ. Гоголь же, наоборот, сознательно подчеркивал
высокую сторону, разрушал жизнь ради Идеи, заранее продуман-
ной схемы, утопии. У него самого можно найти текст, свидетель-
ствующий о таком намерении:
Это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Мож-
но было сравнить его внутреннее состояние души с разо-
бранным строеньем, которое разобрано с тем, чтобы стро-
ить из него новое; а новое еще не начиналось, потому что
не пришел от архитектора определительный план и рабо-
тники остались в недоуменьи...
Работу над вторым томом Гоголь начал в Риме в конце 1840
года и первоначально планировал сдать в печать последующие
тома Мертвых Душ в течение трех лет после издания перво-
го тома (1842-й). М. П. Погодин накануне издания первого тома
поспешил объявить в Московитянине: «Гоголь написал уже
два тома своего романа «Мертвые души». Вероятно, скоро весь
465
роман будет кончен, и публика познакомится с ним в нынешнем
[1841] году». Собственно, такова была литературная традиция:
писатели приступали к публикации многотомников лишь тогда,
когда работа была в основном завершена. Хотя Гоголь был край-
не недоволен поступком Погодина, тогда и он сам предполагал,
что конец его труда не за горами. Друзья внушили ему, что Рос-
сия с нетерпением ждет продолжения (так оно и было!), и он был
полон надежд удовлетворить желание публики в ближайшие
годы.
Опубликованием первого тома Гоголь создал не только
ситуацию активного читательского интереса, но интереса,
особым образом направленного и настроенного. Настроен-
ного на очень важный ответ, снимающий то напряжение, те
противоречия, которые обозначились началом произведе-
ния. Отсюда страстность и напряженность самих читатель-
ских ожиданий.
Письма друзей были полны просьб ускорить работу, подстег-
нуть, дать отпор врагам самой книгой. 8 февраля 1843 года С. Т.
Аксаков писал Гоголю:
...теперь много обстоятельств требуют, чтоб вы, если это
возможно, ускорили выход второго тома «Мертвых душ».
Подумайте об этом, милый друг, хорошенько.
Много людей, истинно вас любящих, просили меня на-
писать вам этот совет. Впрочем, ведь мы не знаем, такое ли
содержание второго тома, чтоб зажать рот врагам вашим?..
Может быть, полная казнь их заключается в третьем томе.
Такого рода письма не подстегивали, а ожесточали Гоголя,
понимающего не хуже других необходимость продолжения, но не
способного удовлетвориться написанным.
В 1843 году, к которому некоторые относят первое сожжение
второго тома, книги как таковой еще не существовало: по собст-
венному признанию Гоголя, был один первозданный хаос и
огромные надежды. Вот слова на сей счет самого Гоголя:
Я продолжаю работать, то есть набрасывать на бумагу хаос,
из которого должно произойти создание «Мертвых душ».
Труд и терпение, и даже приневоливание себя, награждают
меня много. Такие открываются тайны, которых не слыша-
466
ла дотоле душа, и многое в мире становится после этого
труда ясно. Поупражняясь хотя немного в науке создания,
становишься в несколько крат доступнее к прозрению вели-
ких тайн божьего создания, и видишь, что чем дальше уйдет
и углубится во что-либо человек — кончит все тем же: од-
ною полною и благодарною молитвою.
По первоначальным замыслам Гоголя второй том Мерт-
вых Душ вполне мог бы быть завершен к середине 1844 года,
однако, несмотря на упорный труд и «антракт» 1843 года, он на-
чинает понимать, что работа движется медленно, и раз за разом
отодвигает намеченный срок: сначала на 1845-й, затем — 1848-й...
Ему явно «не пишется», антракты все чаще заполняются чтени-
ем, светской жизнью, очередными побегами.
Хотя Гоголь не оставляет работы, у многих знакомых склады-
валось впечатление о его бездействии. Сам Гоголь в письме, на-
писанном Н. М. Языкову в середине 1844-го, признавался:
Ты спрашиваешь, пишутся ли М[ертвые] д[уши]? И пи-
шутся и не пишутся. Пишутся слишком медленно и совсем
не так, как бы хотел, и препятствия этому часто происходят
и от болезни, а еще чаще от меня самого. На каждом шагу и
на каждой строчке ощущается такая потребность поумнеть
и притом так самый предмет и дело связано с моим собст-
венным внутренним воспитанием, что никак не в силах я
писать мимо меня самого.
Я иду вперед — идет и сочинение, я остановился — ней-
дет и сочи[нение]. Поэтому мне и необходимы бывают час-
то перемены всех обстоятельств, переезды...
В другом письме, датированном маем 1845 года, среди очеред-
ных жалоб на болезни бросается в глаза признание: «Больше не-
вмочь писать...»
Комментаторы обратили внимание на то, что в одном из пи-
сем, адресованном в том же году А. О. Смирновой, Гоголь пишет
о Мертвых Душах в прошедшем времени, как о чем-то
оставленном. По некоторым сведениям, летом 1845 года он поч-
ти полностью прекращает работу над поэмой, разуверившись в
возможности воплотить свою «сверхидею» в удовлетворяющем
его виде.
467
Выбранные места были в значительной мере компенса-
цией Гоголя за поражение второго тома Мертвых Душ — ав-
торской речью он сказал то, что хотел сделать с помощью худо-
жественных средств.
Ю. В. Манн:
Как же протекало написание второго тома после выхода
«Выбранных мест...»? Первые три месяца 1847 года, живя в
Риме, Гоголь хотя и «плохо и лениво», но продолжает рабо-
ту. О продвижении труда свидетельствует срок, назначае-
мый поездке в Иерусалим и возвращению в Россию. «Если
Бог мне поможет устроить мои дела, — пишет он 25 января
н. ст., — кончить мое сочинение, без которого мне нельзя
ехать в Иерусалим, то я направлюсь в начале будущего 1848
года...» Подразумевался именно второй том, который те-
перь, по новым срокам, должен быть написан через год с
небольшим.
Увы, новые сроки оказались оптимистическими. В 1847-м
упоминания о работе над поэмой полностью исчезают из писем
Гоголя. Он уходит в работу над Авторской исповедью -
отповедью на критику Выбранных мест, книгу-пережива-
ние и книгу-мольбу.
Тем временем меняется его решение относительно сро-
ков поездки в Иерусалим — верный признак того, что рабо-
та над «Мертвыми Душами» вновь расклеилась. Гоголь на-
меревается вначале совершить паломничество к святым мес-
там, а потом уже приняться за поэму. «Не хочу ничего ни
делать, ни начинать, покуда не совершу моего путешествия,
и не помолюсь...» Продолжить работу Гоголь намерен те-
перь в России, куда он направится сразу после паломниче-
ства. Вместо обещанного второго тома Гоголь привезет на
родину лишь черновики новой редакции.
В письме к Белинскому (10 августа н. ст., Остенде),
представляющем собою ответ на его знаменитое зальцбрун-
нское письмо, Гоголь писал: «А вывод из всего этого вывел
я для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего,
не только никаких живых образов, но даже и двух строк ка-
кого бы то ни было писанья, до тех пор, покуда, приехавши
в Россию, не увижу многого своими собственными глазами,
и не пощупаю собственными руками».
468
Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву:
Мне нужно будет очень много посмотреть в России са-
молично вещей, прежде чем приступить ко второму тому.
Теперь уже стыдно будет дать промах.
На замечанье твое, что «Мертвые души» разойдутся
вдруг, если явится второй том, и что все его ждут, скажу то,
что это совершенная правда; но дело в том, что написать
второй [том] совсем не безделица. Если ж иным кажется это
дело довольно легким, то, пожалуй, пусть соберутся да и на-
пишут его сами, совокупясь вместе, а я посмотрю, что из
этого выйдет.
Однако и в России работа не двигалась. Поездка в Иерусалим
не оправдала ожиданий Гоголя — не принесла вдохновения. Го-
голь осматривался, страдал от жары, уединялся, но...
Н. В. Гоголь — П. А. Плетневу:
Брался было за перо, но или жар утомляет меня, или я
все еще не готов.
Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву:
...ничего не мыслится и не пишется: голова тупа.
Похоже, что после возвращения в Россию Гоголь смог взяться
за перо лишь по приезде в Москву в конце 1848-го, но и тогда
«работа... шла вяло, туго и мало оживлялась благодатным огнем
вдохновения». К лету 1849-го и вовсе наступил спад, вызванный
«сильным нервическим расстройством».
В течение последних десяти лет своей жизни Гоголь
упорно вынашивал замысел продолжения «Мертвых Душ».
Он утратил волшебную способность творить жизнь из ниче-
го; его воображению требовался готовый материал для обра-
ботки, потому что у него еще хватало сил на то, чтобы по-
вторять себя; хотя он уже не мог создать совершенно новый
мир, как в первой части, он надеялся использовать ту же
канву, вышив на ней новый узор — а именно подчинив кни-
гу определенной задаче, которая отсутствовала в первой час-
ти, а теперь, казалось, не только стала движущей силой, но и
первой части сообщала задним числом необходимый смысл.
469
Он, по его словам, представит русских людей не через
«мелочи», то есть частные черты отдельных уродов, не через
самодовольные их пошлости и чудачества, не через кощун-
ство личного авторского видения, а таким способом, чтобы
«предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разно-
образьем богатств и даров, доставшихся на его долю...». Ина-
че говоря, «мертвые души» станут «живыми душами».
Впрочем, и первый том Гоголь, напуганный реакцией обще-
ства на Ревизора, всеми силами пытался выдать не сатирой
на Россию, «родной омут», но преддверием к «русскому апофео-
зу», который — впереди.
Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву:
Разве ты не видишь, что еще и до сих пор все принима-
ют мою книгу за сатиру и личность, тогда как в ней нет и
тени сатиры и личности, что можно заметить вполне только
после нескольких чтений.
Это — очередная хитрость Гоголя: не хуже других он понима-
ет, что написал, но ему надо убедить общество в наличии сверх-
задачи, решение которой невозможно без его проведения новым
проводником Гоголем-Вергилием через ад. Чтобы «пропеть гимн
красоте небесной», считал русский Данте, необходимо очистить-
ся; первым том — очищение...
Очищение — и прежде всего самого себя. Андрей Белый не
случайно считал главным героем Мертвых Душ самого Гого-
ля—и дело тут не только в авторской речи, в том, что автор ду-
мал о Чичикове. Давая советы режиссерам-постановщикам, Бе-
лый говорил: «Мало показать одного Чичикова, надо было пока-
зать и того, кто видел на Руси глазами Чичикова». Здесь мне не
нравится это «на Руси», ибо Мертвые Души шире Руси,
данного пространства и времени.
А в «Мертвых Душах» в какие годы происходит дейст-
вие? Что это в сущности за страна? Есть ли в ней хоть ка-
кая-нибудь вера, обрывок исторических воспоминаний,
обычай, живет ли в ее глубине какой-нибудь, хотя смутный
идеальный запрос? Чьи дети, чьи внуки все эти Маниловы?
И неужто же Митяи и Миняи действительно только тем и
отличаются от бессловесных, что время от времени напива-
ются до бесчувствия?
470
Гоголь действительно Вергилий, Мертвые Души дейст-
вительно ад, и отнюдь не только русский, хотя русский по преи-
муществу.
Не подлежит сомнению, что второй том, новая его редакция,
был написан (или восстановлен) Гоголем отнюдь не в состоянии
акмэ. Тем не менее в конце лета 1849-го первые главы второго
тома были отшлифованы до такой степени, что Гоголь решился
на их чтение — вначале А. О. Смирновой, затем Аксаковым. Им
Гоголь читал первую главу 19 августа и повторно, после очеред-
ной переработки, в начале января нового, 1850 г. Вторую главу
Гоголь прочитал Аксаковым 21 января. Одновременно в письме
П. А. Плетневу он признавался, что «все почти главы соображе-
ны и даже набросаны, но именно не больше, как набросаны', соб-
ственно написанных две-три и только».
Аксаковы как всегда восторженно приняли это долгожданное
чтение: «Слава Богу! Талант его стал выше и глубже...», «...до та-
кой степени превосходства дошел он, что все другие перед ним
пигмеи».
Однако до конца работы было еще далеко. 20 августа 1850-го
Гоголь писал А. П. Толстому:
Мне нужно всю эту зиму поработать хорошо, чтобы при-
готовить 2 том к печати, приведя его окончательно к концу.
Покуда, слава Богу, дело идет еще недурно. Когда я перед
отъездом из Москвы прочел некоторым из тех, которым
знакомы были, как и вам, две первые главы, оказалось, что
последующие сильнее первых и жизнь раскрывается, чем
дале, глубже. Стало быть, несмотря на то, что старею и хи-
рею телом, силы умственные, слава Богу, еще свежи.
Н. В. Гоголь — А. О. Смирновой:
Если только милосердный Бог приведет мои силы в со-
стоянье полного вдохновенья, то второй том эту же зиму бу-
дет готов.
Летом 1850-го Гоголь, судя по всему, планировал выход вто-
рого тома поэмы на конец следующего года, максимум — начало
1852-го...
471
Шел процесс бесконечной доводки-совершенствования поэ-
мы, однако полностью готовой Гоголь считал лишь первую главу.
Н. В. Гоголь — М. А. Максимовичу:
Беспрестанно поправляю... и всякий раз, когда начну чи-
тать, то сквозь написанные строки читаю еще ненаписан-
ные. Только вот с первой главы туман сошел.
Ю. В. Манн:
В то же время Гоголь поручает Шевыреву готовить новое
(второе) собрание своих сочинений. Издание должно по-
спеть «к выходу И-го тома» «Мертвых душ» — и в большом
количестве, ибо писатель убежден, что появление тома еще
больше оживит интерес к его творчеству в целом. Гоголь
уже не склонен отказываться от своих прежних творений и
рассматривает второй том «Мертвых душ» как их естествен-
ное продолжение. Но продолжение более глубокое и «ум-
ное»: «Что второй том «М[ертвых] д[уш]» умнее первого —
это могу сказать, как человек, имеющий вкус и притом уме-
ющий смотреть на себя, как на чужого человека...»
Хотя летом 1851-го циркулировали слухи, что Гоголь «кончил
свои «Мертвые Души» и готов пустить их в цензуру» — так писал
Ф. И. Иордан в Италию А. А. Иванову, — по свидетельству Ше-
вырева, Гоголь все еще продолжал отделку: «Он читал, можно
сказать, наизусть по написанной канве, содержа окончательную
отделку в голове своей».
Для чего творец Мертвых Душ, столь неохотно предавав-
ший гласности неоконченные творения свои, так часто и по соб-
ственной инициативе читал главы второго тома своим друзьям?
Ему нужна была их реакция, на них он обкатывал свои сомнения
и испытывал свои страхи оказаться ходульным и «идеальным».
Он был явно недоволен написанным и ждал подтверждения
своему недовольству. Восторги Аксаковых казались ему фальши-
выми...
Гоголь всегда был человеком настроения, а в последние меся-
цы жизни настроения его менялись особенно часто — любая от-
рицательная реакция или замедление работы вызывали сплин и
тоску. Видимо, его психика находилась «на последнем пределе»,
472
так что любая мелочь раздувалась им до масштабов вселенской
катастрофы.
Последнюю точку поставил отец Матвей. Прочитав по про-
сьбе Гоголя рукопись второго тома, он, по собственному призна-
нию, воспротивился опубликованию некоторых глав. Как при-
знавался он позже, «в этих произведениях был не прежний Го-
голь».
М. Константиновский:
В одной или двух тетрадях был описан священник. Это
был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавле-
ны такие черты, которых... во мне нет; да и к тому же еще с
католическими оттенками, и выходит не вполне православ-
ный священник. Я воспротивился опубликованию этих тет-
радей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были
наброски... только наброски какого-то губернатора, каких
не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, ска-
завши, что осмеют за нее даже больше, чем за переписку с
друзьями...
Гоголь больше всего страшился писать образы, «каких не бы-
вает», и слова отца Матвея вполне могли оказаться приговором
рукописи, тем более что и до встречи с ним Гоголь терзался со-
мнениями относительно завершенности труда. Во всяком случае,
2 сентября 1851-го писал матери, что, желая ускорить дело, пере-
напрягся и оттого отдалил его «года, может быть, на два».
О глубине отчаяния, которое напало на Гоголя, свидете-
льствует такой факт. Во время встречи с Ольгой Семено-
вной [Аксаковой] «Гоголь сказал, что он не будет печатать
второго тома, что в нем все никуда не годится и что надо
все переделать»,
Ю. В. Манн:
Настроение Гоголя последних лет его жизни, подчас не-
объяснимые колебания, резкие переходы, помимо чисто
физиологических причин, имели глубокую душевную под-
кладку. На самом дне сознания они неотвратимо пересека-
лись с главным его жизненным вопросом: получилось или
не получилось. Вся длинная череда чтений — устроенный
Гоголем самому себе долгий экзамен — казалось, решитель-
473
но склоняла к утвердительному ответу. Гоголь видел едино-
душное одобрение, нелицемерное выражение восторга и
восхищения. Но он был не такой человек, который позво-
лил бы себе поддаться этой волне и заглушить внутренние
вопросы. Все снова и снова устраивал он себе экзамен,
вглядывался в лица слушателей, искал тревожные симпто-
мы... И находил.
Ю. Ф. Самарин — А. О. Смирновой:
Я глубоко убежден, что Гоголь умер оттого, что сознавал
про себя, насколько его второй том ниже первого, сознавал
и не хотел самому себе признаться, что он начинает подру-
мянивать действительность.
Кстати, о. Матвей позже отверг предположение Т. И. Филип-
пова о том, что Гоголь сжег свое творение по причине его гре-
ховности, сказав, что «Гоголь сжег, но не все тетради, какие бы-
ли под руками, и сжег потому, что считал их слабыми». Действи-
тельно, сохранившиеся главы, видимо, не случайно «нашлись за-
валившимися в шкафу за книгами» — за книгами «завалились»
почему-то самые отработанные главы второго тома.
Почти все критики — современники Гоголя, в том числе и его
друзья, выражавшие восторги при чтении глав второго тома са-
мим автором, после его смерти стали сторонниками «двух ис-
тин» — утраты великого творения и... принципиальной неразре-
шимости поставленной Гоголем художественной задачи.
Свидетельствует Т. И. Филиппов:
Имело ли последнее свидание Гоголя с о. Матвеем влия-
ние на его предсмертное настроение, сказать наверное не
могу; но считаю его весьма вероятным, сопоставляя роко-
вой случай с другими ему подобными, в которых такого ро-
да влияние о. Матвея не подлежит сомнению.
Свидетельствует А. Т. Тарасенков:
Во всю масленицу после вечерней дремоты в креслах,
оставаясь один, по ночам, при всеобщей тишине, он вста-
вал и проводил долгое время в молитве, со слезами, стоя
перед образами. Ночью с пятницы на субботу (8—9 февраля)
474
он, изнеможенный, уснул на диване, без постели, и с ним
произошло что-то необыкновенное, загадочное: проснув-
шись вдруг, послал он за приходским священником, объяс-
нил ему, что он недоволен недавним причащением, и про-
сил тотчас же опять причастить и соборовать его, потому
что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и те-
перь почитает себя уже умирающим. Священник, видя его
на ногах и не заметив в нем ничего опасного, уговорил его
оставить это до другого времени. По-видимому, после посе-
щения священника он успокоился, но не прерывал раз-
мышлений, глубоко его потрясших.
С. П. Шевырев — М. Н. Синельниковой:
Мысль о смерти его не оставляла. Еще, кажется, в пер-
вый понедельник он позвал к себе графа Толстого и просил
его взять к себе его бумаги, а по смерти отвезти их к митро-
политу и просить его совета о том, что напечатать и чего не
напечатать. Граф не принял от него бумаг, опасаясь тем
утвердить его в ужасной мысли, его одолевавшей.
Участь Мертвых Душ была предрешена...
Спустя дня три граф опять пришел к Гоголю и застал его
грустным. «А вот, — сказал ему Гоголь, — ведь лукавый ме-
ня таки попутал: я сжег «Мертвые души». Он не раз гово-
рил, что ему представлялось какое-то видение. Дня за три
до кончины он был уверен в своей скорой смерти.
В четверг сказал: «Надо меня оставить; я знаю, что дол-
жен умереть».
С.Т.Аксаков одним из первых после смерти Гоголя заговорил
о несовместимости художественности и идеологичности, правды
и утопии, «высокой мысли» и «неразрешимой задачи»:
Нельзя исповедовать две религии безнаказанно. Тщетна
мысль совместить и примирить их.
Или поучения, проповеди и тогда — «художник погиб», или
искусство и тогда — погиб идеолог. Гоголь поставил перед собой
заведомо непосильную задачу: совместить высокое искусство с
проповедью, правду жизни с вымыслами о ней.
475
Развивая мысль отца о непосильности взятой Гоголем ноши,
И. С. Аксаков заключал, что Гоголь превратил свою жизнь в му-
чение, не понимая невыполнимости задуманного: «Но не удов-
летворялось правдивое чувство поэта... сжег он 2-й том «Мертвых
душ»; опять искал и мучился, снова написал второй том и сжег
его снова!..»
Первый редактор полного собрания сочинений Гоголя акаде-
мик Н. С. Тихонравов, объясняя мотивы сожжения 2-го тома,
писал после смерти Гоголя:
Последнее сожжение второго тома «Мертвых душ» вы-
звано было тем же строгим отношением художника к свое-
му труду, каким и первое; в основе того и другого пригово-
ра лежало справедливое недовольство «выдуманными» обра-
зами и особенно тою идеальностью, неестественностью об-
разов, которая ненавистна была Гоголю в произведениях
Кукольника и Полевого. Предсмертное сожжение многолет-
него труда не было у Гоголя следствием болезненного по-
рыва, нервного расстройства; всего менее можно в нем ви-
деть «жертву, принесенную смиренным христианином»: оно
было сознательным делом художника, убедившегося в несо-
вершенстве всего, что было выработано многолетним мучи-
тельным трудом.
Творец оказался раздавленным колоссальностью возведенного
без фундамента здания, непосильностью самой задачи его соору-
жения. По словам Вяч. Иванова, попытка адекватного нисхожде-
ния от идеала к художественным формам реальности Гоголю не
удалась...
Гоголь потерпел поражение со вторым томом Мертвых
Д у ш по той же причине, по которой одержал победу над своим
временем Перепиской с друзьями: то, что было спасите-
льно для Гоголя-философа, стало губительно для Гоголя-поэта.
Канту вменяли в вину его негативное воздействие на немецкую
поэзию, Гоголю следует предъявить претензию в попытке сделать
художественное произведение из философских идей. Я не хочу
сказать, что эта задача невыполнима — Камю, Сартр, Хайдеггер
справились с ней блестяще, но они были прежде всего филосо-
фами, а уж затем поэтами, Гоголь же хотел наростить плоть на
голые кости философем, к тому же в состоянии прострации и
полного телесного и душевного упадка.
476
То, что уцелело от второго тома этой поэмы, не может
быть понято иначе; весь пестрый узор характеров, происше-
ствий и разговоров, составляющий содержание этого тома,
расположен по генеральным линиям этой философии. Уста-
ми своих положительных героев Гоголь высказывает здесь
ее основные положения. Устами генерал-губернатора он в
торжественную минуту призывает всех спасать Россию, ибо
гибнет уже наша земля не от нашествия врагов, а от нас са-
мих: пусть всякий восстанет против неправды, пусть вспом-
нит долг, который на всяком месте предстоит человеку.
Устами Муразова он говорит, что не будет земного благо-
устройства, пока люди не подумают о благоустройстве ду-
шевном, ибо «от души зависит тело»... В Костанжогло он
воплотил свою мысль о труде и дисциплине, делающих че-
ловека «мужем» и устрояющих общество.
Причиной неудачи второго тома был не только крах гоголев-
ской утопии, но и усталость, угасание вдохновения, таяние твор-
ческих сил писателя. Второй том он не писал, а вымучивал, по-
стоянно ощущая утрату сил и тяжесть вериг.
Я мучил себя, насиловал писать, страдал тяжким страда-
нием, видя бессилие, и несколько раз уже причинял себе бо-
лезнь таким принуждением и ничего не мог сделать, и все
выходило принужденно и дурно. И много, много раз тоска и
даже чуть-чуть не отчаяние овладели мною от этой причи-
ны... не готов я был тогда для таких произведений, к каким
стремилась душа моя... Нельзя изглашать святыни, не освя-
тивши прежде сколько-нибудь свою собственную душу...
Поездка Гоголя в Иерусалим была, помимо всего, попыткой
обрести вдохновение посредством очищения, а разочарование
поездкой — результатом несбывшейся надежды. Наобещав друзь-
ям дать нечто необыкновенное и прекрасное, Гоголь не мог воз-
вратиться домой «пустым» — «стыдно и лицо показать», — а то,
что у него получалось, никак не соответствовало собственным
высоким стандартам. Многократные сожжения, участившиеся во
второй половине жизни, отнюдь не случайны — это самосуд мак-
симализма, отчаяние и надежда на помилование высших сил од-
новременно. Сжигая свои неудачи, он еще питал надежду на бла-
госклонность небес. Гоголь хотел видеть в себе птицу Феникс,
оживающую из пепла с новыми силами. Но... «силы мои гаснут»,
«силы исчерпаны».
477
Быстрое физическое угасание Гоголя — в значительной степе-
ни результат творческого спада. Его художественные стандарты
росли, его силы исчезали — в этом заключалась его трагедия.
Возможно, это было главной причиной последнего сожжения и
смерти...
Согласно одной из версий, Гоголь рано умер, потому что
«просиял и погас»: его жизнь и творчество были вспышкой, его
хватило лишь на вспышку, забравшую львиную долю его сил...
За год до смерти Гоголь признавался, что Мертвые Души
все еще существуют лишь в набросках, что предстоит еще долгая
работа, что написаны две-три главы...
Н. В. Гоголь — П. А. Плетневу:
Конец делу еще не скоро, т. е., разумею конец «Мертвых
душ». Все почти главы соображены и даже набросаны, но
именно не больше, как набросаны; собственно напи-
санных две-три и только. Я не знаю даже, можно ли творить
быстро собственно художническое произведение.
Незадолго до смерти писателя Ю. Ф. Самарин в письме, вы-
ражающем восторги по поводу чтения Гоголем этих глав, желал
ему благополучно совершить дело, «важность которого для нас
всех более и более обнаруживается».
Н. В. Гоголь — Н. Я. Прокоповичу:
С нового [1850 г.] напали на меня разного рода недуги.
Все болею и болею: климат допекает. Куда убежать от него,
еще не знаю; пока не решился ни на что. Болезни приоста-
новили мои занятия с «Мертвыми душами», которые пошли
было хорошо. Может быть, — болезнь, а может быть и то,
что, как поглядишь, какие глупые настают читатели, какие
бестолковые ценители, какое отсутствие вкуса... — просто
не подымаются руки.
Когда летом 1851-го Гоголь приехал из Васильевки в Москву
продолжить работу над вторым томом, это, по словам очевидцев,
были уже «развалины Гоголя». Сам он в одном из писем призна-
вался, что до того изнемог, что едва в силах водить пером. И все
же работа, хотя и медленно, продолжалась.
478
Н. В. Берг:
Анахорет продолжал писать второй том «Мертвых душ»,
вытягивая из себя клещами фразу за фразой. Шевырев хо-
дил к нему, и они вместе читали и перечитывали написан-
ное. Это делалось с такою таинственностью, что можно бы-
ло подумать, что... сходятся заговорщики и варят всякие зе-
лья революции.
Впрочем, существует немало свидетельств того, что к моменту
последнего сожжения второй том Мертвых Душ был закон-
чен. Будто бы Гоголь говорил об этом Л. И. Арнольди, хотя за
год до этого признания сам свидетельствовал о существовании
только набросков.
В. П. Чижов:
По свидетельству людей, близко знавших Гоголя, им был
уже вполне окончен весь второй том, состоявший из один-
надцати глав, т. е., из того же числа, какое входило в состав
первого тома, и он решался приступить к изданию его, ког-
да внезапная болезнь изменила его намерения и побудила к
сожжению с такою любовью взлелеянного произведения.
Хотя такие свидетельства действительно существовали, в част-
ности, доктор Тарасенков говорил, что второй том был перепи-
сан набело, до сих пор исследователи сомневаются в завершении
работы, за исключением первых 4—5 глав. Шевырев свидетельст-
вовал о существовании семи глав, но признавался в их читке «по
написанной канве», без окончательной отделки. Вот вывод одной
из последних работ, написанных на сей счет:
Таким образом, если судить по имеющимся на настоя-
щий день сведениям о втором томе «Мертвых душ», легко
увидеть, что кроме сохранившихся четырех глав и отрывка
одной из заключительных глав Гоголем было написано еще
две, которые он читал современникам. Вероятно, и Шевы-
реву, и отцу Матвею были известны одни и те же главы, и
скорее всего именно эти главы были уничтожены Гоголем в
ночь с 11 на 12 февраля. Поэтому вполне может быть, что
переписанных набело глав второго тома и было всего три
или четыре, — именно этой беловой рукописи не обнаружи-
ли в портфеле Гоголя, с которым он не расставался до самой
кончины. О дальнейшей судьбе этой рукописи можно стро-
ить за неимением фактов самые смелые предположения.
479
Дар проповедника, всегда живший в Гоголе, стал явным при
внесении дополнений в Мертвые Души, в которых намека-
лось на ждущий читателей величественный апофеоз. В эпистоля-
рии писателя все более крепчает — уже без каких бы то ни было
намеков — глас грозного витии, призывный клич пророка, указу-
ющего пути.
Горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова.
Оставь на время все, все, что ни шевелит иногда в праздные
минуты мысли, как бы ни заманчиво и ни приятно оно ше-
велило их. Покорись и займись год, один только год, своею
деревней.
При анализе Мертвых Душ почти все критики упустили
из виду, что процесс создания поэмы совпал по времени с перио-
дом накала духовных исканий и что Гоголю было свойственно
наделять написанное новыми смыслами после завершения труда:
он был русским Данте Новой Жизни.
В соответствии со своим методом закладывать основу
произведения после того, как оно было напечатано, Гоголь
сумел убедить себя в том, что (еще не написанная) вторая
часть [«Мертвых Душ»], по существу, породила первую и
что первая роковым образом остается всего лишь ее иллю-
страцией, лишенной всякой сути, если тупоголовой публике
не предъявят первоисточник.
Между первой и второй частями поэмы в Гоголе окончатель-
но восторжествовал пророк, проповедник, судья мира, которого
больше не устраивала чисто художественная задача, как и задача
социальная: он более не желал видеть в Мертвых Душах
пламенное обличение рабства — от своего Преступления и
наказания он шел к своему Идиоту, задачи сатирически-
обличительные или внутренне психологические уступали но-
вым — пророческим, гиперморальным. Так что вовсе не случай-
но одно из своих писем А. О. Смирновой он подписывает име-
нем своего героя — Тентетникова...
Он прекрасно ощущал ту власть, которую его художест-
венный гений имеет над людьми, и, к отвращению своему,
ответственность, проистекающую от такой власти. Но что-
то в его душе жаждало еще большей власти (правда, лишен-
ной ответственности), как жена рыбака в сказке Пушки-
на — еще более пышных хором, Гоголь стал проповедником
480
потому, что ему нужна была кафедра, с которой он мог бы
объяснить нравственную подоплеку своего сочинения, и
потому, что прямая связь с читателями казалась ему естест-
венным проявлением его магнетической мощи. Религия
снабдила его тональностью и методом. Сомнительно, чтобы
она одарила его чем-нибудь еще.
Н. В. Гоголь — В. А. Жуковскому:
Временами мне кажется, что II том «М. Д.» мог бы по-
служить для русских читателей некоторою ступенью к чте-
нью Гомера.
Из второго тома сохранился фрагмент, раскрывающий идею,
а точнее, грандиозное сновидение поэмы.
Счастлив писатель, который мимо характеров скучных,
противных, поражающих печальною своею действительно-
стью, приближается к характерам, являющим высокое до-
стоинство человека, который из великого омута ежедневно
вращающихся образов избрал одни немногие исключения,
который не изменял ни разу возвышенного строя своей ли-
ры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным
своим собратьям и, не касаясь земли, весь повергался в
свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы.
Вдвойне завиден прекрасный удел его: он среди их, как в
родной семье; а между тем далеко и громко разносится его
слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он
чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им
прекрасного человека. Все, рукоплеща, несется за ним и
мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим
всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над все-
ми другими гениями мира, как парит орел над другими вы-
соко летающими. При одном имени его уже объемлются
трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему бле-
щут во всех очах... Нет равного ему в силе — он бог! Но не
таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать
наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят рав-
нодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мело-
чей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раз-
дробленных, повседневных характеров, которыми кишит
наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою
силою неумолимого резца, дерзнувшего выставить их вы-
пукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных
481
рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и едино-
душного восторга взволнованных им душ; к нему не поле-
тит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившею-
ся головою и геройским увлеченьем; ему не позабыться в
сладком обаянье им же исторгнутых звуков; ему не избе-
жать, наконец, от современного суда, лицемерно бесчувст-
венного современного суда, который назовет ничтожными
и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный
угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст
ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и
сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не при-
знает современный суд, что равно чудны стекла, озирающие
солнцы и передающие движенья незамеченных насекомых;
ибо не признает современный суд, что много нужно глуби-
ны душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной
жизни, и возвести ее в перл созданья; ибо не признает со-
временный суд, что высокий восторженный смех достоин
стать рядом с высоким лирическим движеньем и что целая
пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха!
Не признает сего современный суд и все обратит в упрек и
поношенье непризнанному писателю; без разделенья, без
ответа, без участья, как бессемейный путник, останется он
один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почув-
ствует он свое одиночество.
И долго еще определено мне чудной властью идти об ру-
ку с моими странными героями, озирать всю громадно не-
сущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и не-
зримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда
иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из об-
леченной в святой ужас и в блистанье главы и почуют в
смущенном трепете величавый гром других речей...
Комментирует В. В. Набоков:
Сразу же после этого безудержного выплеска красноре-
чия, которое, как вспышка света, приоткрывает замысел
второго тома «Мертвых душ», следует дьявольски гротеско-
вая сцена, где жирный, полуголый Чичиков отплясывает
жигу в спальне, — не слишком убедительное доказательство
того, что «высокий восторженный смех» ужился в книге с
«высоким лирическим движеньем». В сущности, Гоголь об-
манывался, думая, что он умеет смеяться восторженным
смехом. Да и лирические излияния не больно прочно вхо-
дят в плотную канву его книги; они скорее естественные
482
перебивки, без которых эта канва не была бы такой, какова
она есть. Гоголь тешится тем, что дает сбить себя с ног ура-
гану, налетевшему из каких-то других краев его вселенной с
альпийско-итальянских просторов, так же как в «Ревизоре»
раскатистый крик невидимого ямщика: «Эй вы, залет-
ные!» — доносил дыхание летней ночи, ощущение дали, ро-
мантики, invitation an voyage1.
Объясняя шефу жандармов графу Орлову замысел второго то-
ма (еще одна маленькая хитрость Гоголя, испрашивающего раз-
решение для выезда и вспомоществование на дорогу), он писал:
А, между тем, предмет труда моего немаловажен. В оста-
льных частях «Мертвых душ», над которыми теперь сижу,
выступает русский человек уже не мелочными чертами
своего характера, не пошлостями и странностями, но всей
глубиной своей природы и богатым разнообразием внутрен-
них сил, в нем заключенных.
Не знаю, как обстояло дело с «глубиной природы», но замах
Гоголя на «широту жизни» действительно был дантовский, шекс-
пировский. Его сверхзадачей было — ВСЕ, все стороны совре-
менности, что-то вроде энциклопедии Дидро и — с той же
целью.
По мере того как развертываем мы листы этого сочине-
ния (и существующие и несуществующие, оставшиеся лишь
в памяти тех, кто слышал их), перед нами предстает дейст-
вительно необозримая картина современной России, кото-
рую на этот раз Гоголь и в самом деле обнимал со всех сто-
рон. Как предвестники всей последующей русской литерату-
ры встают с этих страниц и грядущие Обломов (Тентетни-
ков) и Штольц (Костанжогло), и старец Зосима (схимник),
и Улинька, давшая начало женщинам Тургенева и Толстого,
и кающийся грешник (который станет центральной фигу-
рой романов Достоевского), и прекрасный идеальный и без-
защитный русский Дон Кихот, чье единственное оружие
слово, тот же Тентетников (которому Гоголь отдал много
своего), и князь.
И некое фантастическое порождение российской «бес-
толковщины» и путаницы — страшный подпольный маг-
юрисконсульт, которого сам Чичиков считает в делах плу-
1 Приглашение к странствиям (франц.).
483
товства Наполеоном, гением, колдуном. Это одно из самых
прозренческих созданий Гоголя — венец его беспощадного
видения русских язв и российского неустройства, идеал бе-
зобразия...
Один из современников Гоголя, слушавший главы вто-
рого тома «Мертвых Душ» в исполнении автора, писал, что
Гоголь в нем должен дать отгадку 1847 годам христианства.
Так иногда воспринимал свой труд и Гоголь...
Хотя в замысел Гоголя входило не только превратить низкое в
великое, не только художественно обработать головную Великую
Идею, хотя среди его планов был и замысел вполне европей-
ский — показать, что гораздо умнее приобретать не мертвые ду-
ши и мифические земли, но честным трудом наживать миллио-
ны, делая богатой свою страну, все же идея торжествовала над
жизнью, в результате чего даже Плюшкин должен был заговорить
о погибшей жизни и утраченной совести и еще — о смертной
жизни и вечной душе. Я не отрицаю возможность перерождения
человека, Савла — в Павла, но я не принимаю за чистую монету
«перековку» пруфроков в зигфридов и нелюдей в сверхчеловеков.
Слишком еще на слуху, что происходит из завсегдатаев мюнхен-
ских пивных, вознамерившихся стать Заратустрами, или из пья-
ни-рвани, из которой «калят сталь».
Если первый том Мертвых Душ — русская правда, то вто-
рой — русская идея в ее художественном выражении, а плохую
правду я всегда предпочитаю хорошей идее. В этом смысле сожже-
ние второго тома — не трагедия Гоголя, а его победа над собой!
Как Гоголь планировал завершить Мертвые Души? Этого
никто не знает, хотя существуют глухие свидетельства знакомых
и друзей, с которыми он якобы делился отдельными планами.
Наиболее подробные свидетельства на сей счет оставил А. М. Бу-
харев, магистр Московской духовной академии и архимандрит, с
которым Гоголь встречался в Троице-Сергиевой лавре. По свиде-
тельству Бухарева, Чичикова в конце концов настигло наказание,
но обрушившаяся на него кара послужила началом раскаяния.
Ставший на новый путь Чичиков окажет благотворное влияние и
на других героев...
«...И подвигнется он взять на себя вину гибнущего
Плюшкина, и сумеет исторгнуть из его души живые звуки»;
скажет «сраженной скорбью Коробочке доброе и живитель-
484
ное слово»; укажет Ноздреву «достойное поприще его уда-
ли» и «Маниловой укажет средства окрепнуть в духе самой
и мужа укрепить», — «и все городское общество подвигнет к
лучшему», — и в этом скажется «многосторонняя и энерги-
ческая натура» Чичикова... «Плюшкин должен был превра-
титься в бессребреника, раздающего имущество нищим».
В. В. Набоков:
В считанных главах второй части, которые сохранились,
магический кристалл Гоголя помутнел, Чичиков хоть и
остался (в большей мере, чем можно было ожидать) центра-
льной фигурой, но как-то выпал из фокуса. В этих главах
есть ряд великолепных кусков, но они лишь отзвук первой
книги. А когда появляются положительные персонажи —
бережливый помещик, праведный купец, богоподобный
князь, — то создается впечатление, будто совершенно по-
сторонние люди столпились, чтобы занять продуваемый
сквозняками дом, где в унылом беспорядке теснятся при-
вычные вещи.
«Положительные лица» фальшивы, потому что неорга-
ничны для мира Гоголя, и всякая связь между ними и Чи-
чиковым режет ухо и раздражает. Если Гоголь в самом деле
написал часть об искуплении, где «положительный священ-
ник» (с католическим налетом) спасает душу Чичикова в
глубине Сибири (существуют обрывочные сведения, что Го-
голь изучал сибирскую флору по Палласу, дабы изобразить
нужный фон), и если Чичикову было суждено окончить
свои дни в качестве изможденного монаха в дальнем мона-
стыре, то неудивительно, что последнее озарение, послед-
няя вспышка художественной правды заставила писателя
уничтожить конец «Мертвых душ». Отец Матвей мог пора-
доваться, что незадолго до смерти Гоголь отрекся от литера-
туры; но короткая вспышка огня, которую можно было бы
счесть доказательством и символом этого отречения, на де-
ле выражала совсем обратное: когда, пригнувшись к огню,
он рыдал возле той печи (где? — вопрошает мой издатель; в
Москве), где были уничтожены плоды многолетнего труда,
ему уже было ясно, что оконченная книга предавала его ге-
ний; и Чичиков, вместо того, чтобы набожно угасать в дере-
вянной часовне среди суровых елей на берегу легендарного
озера, был возвращен своей природной стихии — синим
огонькам домашнего пекла.
485
Однако положение Гоголя было не таким уж простым,
во-первых, потому, что задуманная книга должна была
стать чем-то вроде религиозного откровения, а во-вторых,
потому, что воображаемый читатель должен был не только
восхищаться различными подробностями этого откровения,
но и получить моральную поддержку, облагородиться и да-
же возродиться под воздействием книги. Наибольшая труд-
ность состояла в том, чтобы совместить материал первой
части, который, с точки зрения обывателя, содержал одни
«необычности» (которыми Гоголю, однако, приходи-
лось пользоваться, потому что он уже не умел создать но-
вую художественную ткань), с чем-то вроде возвышенной
проповеди, умопомрачительные образцы которой он дал в
«Выбранных местах». И хотя его первоначальным намере-
нием было вывести своих персонажей не «прекрасными ха-
рактерами», а «крупными» в том смысле, что они должны
были выражать все богатство русских страстей, настроений
и идеалов, он постепенно выяснил, что эти «крупные» нату-
ры, выходящие из-под его пера, загрязняются непреодоли-
мыми «необычностями», которыми их одаривает природная
среда и внутреннее сродство с кошмарными помещиками
его первого творения. Следовательно, единственный вы-
ход — это создать другую, чуждую им группу персонажей,
которые будут явно и недвусмысленно «хорошими», ибо
любая попытка к обогащению их характеров неизбежно
превратит их в те же причудливые образы, которыми стали
не вполне добродетельные герои благодаря своим злосчаст-
ным прародителям.
Когда в 1847 году фанатичный русский священник отец
Матвей, обладавший красноречием Иоанна Златоуста при
самом темном средневековом изуверстве, просил Гоголя
бросить занятия литературой и заняться богоугодным де-
лом, таким, например, как подготовка своей души к перехо-
ду в мир иной по программе, составленной тем же отцом
Матвеем и ему подобными, Гоголь изо всех сил старался
разъяснить своим корреспондентам, какими положительны-
ми были бы положительные персонажи «Мертвых душ», ес-
ли бы только церковь разрешила ему поддаться той потреб-
ности писать, которую внушил ему Бог по секрету от отца
Матвея.
На самом деле Гоголь намеревался завещать рукописи митро-
политу Филарету: «пусть он наложит на них свою руку; что ему
486
покажется не нужным, пусть зачеркивает немилосердно». Пусть
сама церковь определит пользу, отделит грешное от святого, бе-
совское от божеского, мир, который «весь во зле лежит», от ми-
ра, который Бог так возлюбил, что Сына Своего Единородного
принес за него в жертву...
Знал ли Гоголь, что никому из смертных не дано ни силы, ни
права на такое «отделение», никто не наделен на земле судейст-
вом над духом человеческим, никто не волен определять высшую
волю?..
Когда Гоголь, не умея отделить святое от грешного в
своем искусстве, в своей плоти, от всего отрекся, про-
клял все, сжег все, — тогда вдруг почувствовал, что ис-
полнил волю не Божью, совершил преступление, кощунст-
во, которому нет имени, — похулил в святой плоти Дух
Святой: «Вот, что я сделал! хотел было сжечь некоторые ве-
щи, а сжег все. Как Лукавый силен! — вот он к чему меня
подвинул!»
Кто же, собственно, довел его до этого — Лукавый или о.
Матвей?
В ту минуту, когда Гоголь сидел у печки и смотрел, как
буквы тлеющих рукописей рдеют, точно кровью наливаются
(«смотри, окаянный грешник, святые буквы в книге нали-
лись кровью»), в этом страшном кровавом отблеске не
предстал ли ему образ о. Матвея, не захотелось ли Гоголю
закричать ему, как в «Страшной мести» колдун кричит свя-
тому схимнику: «Отец, ты смеешься надо мною!»
Рукописи горят, но жертвы необходимы для спасения...
Что было бы с нашей литературой, если бы он один за
всех нас не подъял когда-то этого бремени и этой муки и не
окунул в бездонную телесность нашего столь еще робкого,
то рассудительного, то жеманного, пусть даже осиянно-воз-
душного пушкинского слова.
Принеся себя в жертву, Гоголь спас литературу.
Хотя Лев Толстой и пытался повторить трагедию, но вышел
фарс. Леонид Андреев и Андрей Белый, Алексей Ремизов и Фе-
дор Сологуб, Михаил Булгаков и Андрей Платонов доказали, что
сгоревшие рукописи оставляют не один только пепел...
487
Почти все русские критики сохранившихся фрагментов вто-
рого тома, отмечая отдельные удачи Гоголя, концентрируются на
«идеализации», «ложной тенденции», «нехорошей струе», «неуда-
чах», «априорной цели» и т. д., и т. п.
И. С. Тургенев:
...что такое фантастический наставник Тентетникова
Александр Петрович, что за лицо — и какое его значение?
Не нравится мне также Улинька: ложью (виноват!), ложью
несет от нее — тою особенно неприятною ложью, которая с
какой-то небрежной естественностью становится перед Ва-
ми в виде самой настоящей истины.
...5-я глава с невыносимым Муразовым — меня более
нежели озадачила — она меня огорчила. Если все остальное
было так написано — уж не вследствие ли возмутившегося
художнического чувства сжег Гоголь свой роман?
Н. А. Некрасов, подчеркивая желание Гоголя писать то, что
он считал полезным для своего отечества, считал, что поэт «по-
гиб в этой борьбе, и талант свой во многом изнасиловал». Во
втором томе, считал Некрасов, есть нечто деланное, натужное,
насильственное, вышедшее не из органического творчества, но
из априорной цели. А. Ф. Писемский также обнаружил в поэме
две стороны: одна свидетельствовала о «силе и художественной
зрелости», другая — «о напряженности труда». Большая часть ге-
роев второго тома — фальшивы и надуманны: «не живые лично-
сти», а «мертвые олицетворения разных поучительных идей»
(Н. Д. Мизко). Прочитав опубликованные фрагменты второго то-
ма, В. П. Боткин писал А. В. Дружинину, что Гоголь «начинает
впадать в дидактику — явный признак, что его талант ослаб».
Обращает на себя внимание парадоксальный и до сих пор не
объясненный факт: даже те литераторы, которые после гоголев-
ских чтений признавали второй том «колоколом Ивана Велико-
го», выше всего, что есть в современной литературе, через два-
три года резко сменили свое мнение.
Ю. В. Манн:
«Мертвые души» несли в себе обещание великой тайны
и ее открытия, и пламя, истребившее последние листы ру-
кописи, унесло и откровение тайны. Теперь тайной сдела-
лась сама катастрофа и ее мотивы; напряженно-экзистенци-
488
альный эпитет — «таинственный» — был перенесен с ожи-
даемого произведения на совершившийся акт его уничтоже-
ния или, если говорить шире, на факт его ненаписания.
Именно в этом свете открывается смысл горьких слов И. С.
Тургенева: «...Скажу Вам без преувеличения, с тех пор, как
я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечат-
ления, как смерть Гоголя... Эта страшная смерть — истори-
ческое событие — понятна не сразу; это тайна, тяжелая,
грозная тайна — надо стараться ее разгадать... но ничего от-
радного не найдет в ней тот, кто ее разгадает... все мы в
этом согласны».
А. С. Хомяков:
Я мог бы написать об этом психологическую студию; да
кто поймет, или кто захочет понять?.. Эти сожженные про-
изведения, эта борьба между пустым обществом, думающим
только об эффектах, и серьезным направлением, которому
Гоголь посвящал себя... Мягка душа художника... строгость
свою обратила на себя и убила тело. Бедный Гоголь!
ИЗ «АВТОРСКОЙ ИСПОВЕДИ»
Все согласны с тем, что еще ни одна книга не произвела сто-
лько разнообразных толков, как «Выбранные места из переписки
с друзьями». И что всего замечательней, чего не случилось, мо-
жет быть, доселе еще ни в какой литературе, предметом толков и
критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво
разобрано было всякое слово, и всяк наперерыв спешил объявить
источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще
живущего человека производилась та страшная анатомия, от ко-
торой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким
сложеньем.
В итоге мне послышались три разных мнения: первое, что
книга есть произведение неслыханной гордости человека, возом-
нившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на
вниманье всей России и может преобразовывать целое общество;
второе, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в пре-
лесть и в обольщенье человека, у которого закружилась голова от
похвал, от самоуслаждения своими достоинствами, который
вследствие этого сбился и спутался; третье, что книга есть произ^
ведение христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставя-
489
щего всякую вещь на ее законное место. На стороне каждого из
этих мнений находятся равно просвещенные и умные люди, а
также и равно верующие христиане. Стало быть, ни одно из этих
мнений, будучи справедливо отчасти, никак не может быть
справедливо вполне. Справедливее всего следовало бы назвать эту
книгу верным зеркалом человека. В ней находится то же, что во
всяком человеке: прежде всего желанье добра, создавшее самую
книгу, которое живет у всякого человека, если только он почув-
ствовал, что такое добро; сознанье искреннее своих недостатков
и рядом с ним высокое мненье о своих достоинствах; желанье
искреннее учиться самому и рядом с ним уверенность, что мо-
жешь научить многому и других; смиренье и рядом с ним гор-
дость, и, может быть, гордость в самом смирении; упреки другим
в том самом, на чем поскользнулся сам и за что достоин еще бо-
льших упреков.
Издавая ее [книгу] под влияньем страха смерти своей, кото-
рый преследовал меня во все время болезненного моего состоя-
ния, даже и тогда, когда я уже был вне опасности, я нечувствите-
льно перешел в тон, мне не свойственный и уж вовсе не прилич-
ный еще живущему человеку. Из боязни, что мне не удастся
окончить того сочиненья моего, которым занята была постоянно
мысль моя в течение десяти лет, я имел неосторожность загово-
рить вперед кое о чем из того, что должно было мне доказать в
лице выведенных героев повествовательного сочинения. Это об-
ратилось в неуместную проповедь, странную в устах автора, в ка-
кие-то мистические непонятные места, не вяжущиеся с осталь-
ными письмами.
...человек и душа человека сделались, больше чем когда-либо,
предметом наблюдений. Я оставил на время все современное; я
обратил внимание на узнанье тех вечных законов, которыми дви-
жется человек и человечество вообще. Книги законодателей, ду-
шеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чте-
нием. Все, где только выражалось познанье людей и души чело-
века, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и
пустынника, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно,
почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в
нем ключ к душе человека и что еще никто из душезнателей не
всходил на ту высоту познанья душевного, на которой стоял Он.
Поверкой разума поверил я то, что другие понимают ясной верой
и чему я верил дотоле как-то темно и неясно. К этому привел
меня и анализ над моею собственной душой: я увидел тоже мате-
490
матически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и дви-
женьях человека нельзя по воображенью: нужно заключить в себе
самом хотя небольшую крупицу этого, — словом, нужно сделать-
ся лучшим.
Но возвращаюсь к истории. Итак, на некоторое время заняти-
ем моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа
человека вообще. Все меня приводило в это время к исследова-
нию общих законов души нашей: мои собственные душевные об-
стоятельства, наконец, обстоятельства внешние, над которыми
мы не властны и которые всякий раз обращали меня противово-
льно вновь к тому же предмету, как только я от него отдалялся.
Несколько раз, упрекаемый в недеятельности, я принимался за
перо. Хотел насильно заставить себя написать хоть что-нибудь
вроде небольшой повести или какого-нибудь литературного со-
чинения — и не мог произвести ничего. Усилия мои оканчива-
лись почти всегда болезнию, страданиями и наконец такими
припадками, вследствие которых нужно было надолго отложить
всякое занятие. Что мне было делать? Виноват я разве был в том,
что не в силах был повторять то же, что говорил или писал в мои
юношеские годы?
Я не успокоился по тех пор, покуда не разрешились мне неко-
торые собственные мои вопросы относительно меня самого.
И только тогда, когда нашел удовлетворенье в некоторых глав-
ных вопросах, мог приступить вновь к моему сочинению, первая
часть которого составляет еще поныне загадку, потому что за-
ключает в себе некоторую часть переходного состоянья моей соб-
ственной души, тогда как еще не вполне отделилось во мне то,
чему следовало отделиться.
Нужно, чтобы русский читатель действительно почувствовал,
что выведенное лицо взято именно из того самого тела, из кото-
рого создан и он сам, что это живое и его собственное тело. Тог-
да только сливается он сам с своим героем и нечувствительно
принимает от него те внушения, которых никаким рассужденьем
и никакою проповедью не внушишь. Это полное воплощенье в
плоть, это полное округленье характера совершалось у меня то-
лько тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический су-
щественный дрязг жизни, когда, содержа в голове все крупные
черты характера, соберу в то же время вокруг его все тряпье до
малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг челове-
ка, — словом, когда соображу все от мала до велика, ничего не
пропустивши. У меня в этом отношении ум тот самый, какой
491
бывает у большей части русских людей, то есть способный боль-
ше выводить, чем выдумывать. Мне всегда нужно было выслу-
шать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собст-
венное мое мнение, и тогда только мое мнение находили здра-
вым и умным. Когда же я не всех выслушаю и тороплюсь выво-
дом, оно выходило только резко и необыкновенно. Даже в ны-
нешней моей книге «Переписка с друзьями», в которой многое
походит на одни предположения, собственно предположений
нет. В ней все выводы; но дело в том, что одни выводы взяты из
всех сторон дела и потому всем ясны, другие из некоторых, не
всем известных, и потому темны, а для многих кажутся даже и
вовсе нелепицей. Вот отчего в редком моем сочинении не встре-
чается рядом и зрелость и незрелость, и муж и ребенок, и учи-
тель и ученик.
Как сравню эту книгу с уничтоженными мною «Мертвыми
душами», не могу не возблагодарить за насланное мне внушение
их уничтожить. В книге моих писем я все-таки стою на высшей
точке, нежели в уничтоженных «Мертвых душах».
Мне кажется, что теперь не только тот, кто пишет, но всякий
ум вообще, если только наклонен к тому, чтобы делать выводы и
заключенья, а сам в то же время еще... должен удержаться от дея-
тельности. Из людей умных должны выступать на поприще толь-
ко те, которые кончили свое воспитанье и создались как гражда-
не земли своей, а из писателей только такие, которые, любя Рос-
сию так же пламенно, как тот, который дал себе названье Луган-
ского козака, умеют по следам его живописать природу, как она
есть, не скрывая ни дурного, ни хорошего в русском и руковод-
ствуясь единственно желаньем ввести всех в действительное по-
ложение русского человека.
Итак, после долгих лет и трудов, и опытов, и размышлений,
идя видимо вперед, я пришел к тому, о чем уже помышлял во
время моего детства: что назначенье человека — служить и вся
жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что
взято место в земном государстве затем, чтобы служить на нем
государю небесному, и потому иметь в виду его закон. Только
так служа, можно угодить всем: государю, и народу, и земле
своей.
Как случилось, что я должен обо всем входить в объясненья с
читателем, этого я сам не могу понять. Знаю только то, что ни-
492
когда, даже с наиискреннейшими приятелями, я не хотел изъяс-
няться насчет сокровеннейших моих помышлений.
Не без стыда и краски в лице я перечитываю сам многое в
моей книге, но при всем том благодарю Бога, давшего мне силы
издать ее в свет. Мне нужно было иметь зеркало, в которое бы я
мог глядеться и видеть получше себя, а без этой книги вряд ли
бы я имел это зеркало. Итак, замышленная от искреннего жела-
ния принести пользу другим, книга моя принесла прежде всего
пользу мне самому.
Вместо того чтобы выступать ратниками за все общество и
вызывать меня на суд перед всю Россию, нужно было рассмот-
реть дело проще, рассмотреть книгу, что такое она в своем осно-
вании, а не останавливаться над частями и подробностями преж-
де, чем объяснился вполне внутренний смысл ее. От этого вы-
шли пустые придирки к словам и приписанье многому такого
смысла, который мне никогда и в ум не мог прийти.
Я не представлял себе общества школой, наполненной моими
учениками, а себя его учителем. Я не всходил с моей книгой на
кафедру, требуя, чтобы все по ней учились. Я пришел к своим
собратьям, соученикам как равный им соученик; принес неско-
лько тетрадей, которые успел записать со слов того же учителя, у
которого мы все учимся; принес на выбор, чтобы всяк взял, что
кому придется. Тут были письма, писанные к людям разных ха-
рактеров, разных склонностей, и притом находившимся на раз-
ных степенях своего собственного душевного состояния, которые
никак не могли прийтись ровно всем. Я думал, что каждый схва-
тит только что нужно ему, а на другое не обратит внимания. Я не
думал, что иной, схвативши то, что нужно для другого, будет
кричать: «Это мне не нужно!» — и сердиться за то. Я никакой но-
вой науки не брался проповедать. Как ученик, кое в чем успев-
ший больше другого, я хотел только открыть другим, как полегче
выучивать уроки, которые даются нам нашим учителем. Я думал,
что по прочтенье книги будет мне сказано: «Благодарю тебя, со-
брат», а не: «Благодарю тебя, учитель».
Не мешало бы подумать, прежде чем произносить такое обви-
нение: «Не ошибаюсь ли я сам? Ведь я тоже человек. Дело здесь
душевное. Душа человека — кладезь, не для всех доступный ино-
гда, и на видимом сходстве некоторых признаков нельзя основы-
ваться. Часто и наискуснейшие врачи принимали одну болезнь за
другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разрезывали
493
уже мертвый труп». Нет, в книге «Переписка с друзьями» как ни
много недостатков во всех отношениях, но есть также в ней мно-
го того, что не скоро может быть доступно всем.
«РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ»1
Божественная литургия есть в некотором смысле вечное
повторение великого подвига любви, для нас совершивше-
гося. Скорбя от неустроений своих, человечество отовсюду,
со всех концов мира, взывало к Творцу своему. И пребывав-
шие во тьме язычества и лишенные Боговедения сознавали,
что порядок и стройность могут быть водворены в мире то-
лько Тем, который в стройном чине повелел двигаться ми-
рам, от Него созданным. Тоскующая тварь звала своего
Творца. Бессильная понимать великий язык не только еже-
дневно совершающихся и говорящих событий в мире Божи-
ем, но даже разобрать и малейшую букву, требующую веко-
вых усилий, выжидала она вразумления из уст Самого Твор-
ца. Воплями взывало все к виновнику своего бытия, и во-
пли эти слышнее слышались в устах избранных и пророков.
Предчувствовали и гадали, что если Создатель предстанет
Сам лицом к человекам, то предстанет не иначе, как в обра-
зе создания Своего, созданного по Его образу и подобию.
Вочеловечение Бога на земле предпоставлялось всем по ме-
ре того, как сколько-нибудь очищались понятия о Божест-
ве; но ясно говорилось об этом только у пророков Богоизб-
ранного народа. И самое чистое воплощение Его от чистой
Девы было предслышано даже и язычниками, но ясно гово-
рилось о том только у пророков.
Вопли услышаны; явился в мир, Им же мир бысть. Сре-
ди нас явился Он подобным нам, в образе человека, как
предчувствовали, как предслышали и в темной тьме языче-
ства, но только не в том виде, в каком представлялся Он их
неочищенному понятию: не в гордом блеске и величии, не
как каратель преступления, не как судия, приходящий ист-
ребить одних, наградить других, — нет, свершилось Его яв-
ление образом, только одному Богу свойственным...
Среди бумаг, оставленных Гоголем, не было обнаружено того,
что все ожидали, но совершенно неожиданно нашлось почти ни-
кому не известное Объяснение на литургию — книга,
1 Дайджест статьи Ю. Манна.
494
ранее читанная автором графу А. П. Толстому. Так вот, книгу эту
советский читатель, не нашел бы ни в одном постреволюцион-
ном собрании сочинений, даже академическом. Книга, впервые
увидевшая свет в 1857 году и с тех пор многократно переиздавав-
шаяся в России, вдруг оказалась «не представляющей литератур-
ного интереса».
*Снига, определенная одним из зарубежных славистов «самым
значительным и самым известным» в XIX веке комментарием к
литургии, оказалась неизвестной советскому читателю, как,
впрочем, большая часть гоголевских работ на религиозные темы1.
От тлетворных влияний берегли нас партия, правительство и «ис-
кусствоведы в штатском»...2
...В январе 1845 года Гоголь встречается в Париже с настояте-
лем местного православного храма Д. С. Вершинским, снабдив-
шим писателя книгами, которые были ему «потребны и при-
шлись по состоянию души». Состояние души на сей раз оказа-
лось редким для Гоголя — душевное спокойствие и внутреннее
равновесие. Как он сам напишет позже, провел эти дни в Пари-
же совершенным монастырем: «в редкий день не бывал в нашей
церкви и был сподоблен Богом и среди глупейших минут душев-
ного состояния вкусить небесные и сладкие минуты...»
Видимо, тогда, в Париже, и возник замысел Размышле-
ний о Божественной литургии и начался сбор необхо-
димых материалов. Впрочем, еще в 1842-м поэт писал матери:
Если вы почувствуете, что слово ваше нашло доступ к
сердцу страждущего душою, тогда идите с ним прямо в цер-
ковь и выслушайте божественную литургию. Как прохлад-
ный лес среди палящих степей, тогда примет его молитва
под сень свою.
По возвращении из Парижа во Франкфурт Гоголь сблизился с
филологом-эллинистом и знатоком античности Ф. Н. Беляевым,
подготовившим ему список литургии Василия Великого. В со-
проводительном письме Ф. Н. Беляев благодарил Гоголя за
мысль обратить внимание «на наши православные священнодей-
1 Таковы, например, трактат «О любви к Богу и самовоспитании» — у-ж-ж-
жасно опасный, — «Правило жития в мире» и др.
2 В равной мере это относится ко многим произведениям Толстого, Достоев-
ского и менее крупных русских писателей, изъятых из оборота Шариковыми от
литературы.
495
ствия, которые возвышают мысль, услаждают сердце, умиляют
душу и проч. и проч.».
Судя по всему, первая редакция книги была завершена к на-
чалу 1848 г., но, как всегда, он многократно возвращался к руко-
писи — перерабатывал, дописывал, сокращал, — продолжая ра-
ботать над ней почти до конца жизни. Книга была окончательно
завершена за несколько недель до смерти. По свидетельству А. Т.
Тарасенкова, Гоголь был доволен «своим заветным сочинением»
и хотел сделать его народным, пустив в продажу «по дешевой це-
не и без своего имени, единственно ради научения и пользы всех
сословий».
А. Т. Тарасенков:
Одному из моих знакомых, перечитавшему почти все ду-
ховные назидательные сочинения, Гоголь прочел эту «Ли-
тургию», и, по уверению этого знакомого, никакая книга не
производила на него такого впечатления. «Это сочинение
нельзя и сравнивать ни с каким другим сочинением того же
рода: по силе слова оно превосходит все подобные сочине-
ния, написанные на разных языках», — говорил он мне.
После смерти Гоголя рукопись Размышлений... была пе-
редана С. П. Шевыревым, которому, кстати, принадлежит и ее
современное название, в Комитет духовной цензуры и в 1857-м
впервые опубликовано П. А. Кулишом. Любопытно, что право-
славная Россия почти никак не отреагировала на крупнейший
богословский труд великого писателя, хотя Святейший Синод
допустил ее в библиотеки церковных школ и народные читальни.
Почти все комментарии сделаны зарубежными славистами: так,
Лоренцо Амберг проанализировал все творчество Гоголя под уг-
лом зрения Размышлений о Божественной литур-
гии. Не вызывает сомнений огромное значение, придаваемое
книге самим Гоголем, восхищавшимся и наслаждавшимся звуча-
нием и гармонией звуков Священного писания и стремившимся
воспроизвести их в своем сочинении.
К. Фелми подметил, что... Гоголь обнаруживает «тенден-
цию к аффектации чувств участников литургии, при этом
намеренные императивы заменяются наглядными представ-
лениями и употреблением эмфатических выражений». Пи-
сателя завораживает само действо, каждому участнику кото-
рого предписана своя роль. «Твердым, мужественным пени-
496
ем, водружая в сердце всякое слово исповедания, поют пев-
цы] твердо повторяет каждый вослед за ним слова Символа.
Мужествуя сердцем и духом, иерей... повторяет в себе Сим-
вол веры, и все ему сослужащие повторяют его в самих себе,
колебля святый воздух над св. дарами». Помните описание
«немой сцены» в «Ревизоре»? «Городничий посередине в
виде столпа... По правую сторону его жена и дочь... за ними
почтмейстер...» и т. д. Совсем другая интонация, другая
окраска фигур — и все же есть общее с приведенным мес-
том из «Размышлений...». Гоголь режиссирует каждую сце-
ну, добиваясь полного созвучия и гармонии ее элементов.
Во втором случае (в «Ревизоре») это гармония неподвижно-
сти, омертвения, окаменения, возникшая как бы на отлете
жизни, на ее последнем дыхании. В первом — гармония вы-
сокой духовности и, как говорит Гоголь, «восстановившего-
ся согласия мира в сердцах».
Гоголь режиссирует не только отдельные сцены, но и все
действо Божественной литургии, скрепляя его сквозными
смысловыми линиями. Читатель обратит внимание, какое
место занимают в «Размышлениях...» разнообразные симво-
лы. Диакон с воздетым на него тонким лентием — как ангел
на небесах; изъятие хлеба от хлеба — как изъятие плоти
Христа от плоти Богоматери; дискос — как ясли, в которых
лежал младенец; покровы — как покрывавшие его пелены;
светильник — свет Христов и т. д. Символы не только по-
вторяются и варьируются, но и развиваются, живут, перехо-
дя из одного смыслового плана в другой.
Важнейший элемент Размышлений...— момент цельно-
сти, всеобщности, соборности, всегда игравший определяющую
роль у Гоголя: «Все долу преклоняют свои главы...» «Посреди
храма останавливается весь ход...» «...Диакон, как было у первых
христиан, призывает всех ко взаимной любви...» «Вся церковь во-
след за ликом возглашает...» Цельность необходима Гоголю как
противовес хаосу, литургия — как акт соборной благодати, опус-
тившейся на всех... Вот один из ключей к этой книге Гоголя:
«...Если общество еще не совершенно распалось, если люди не
дышат полною, непримиримой ненавистью между собой, то со-
кровенная причина тому есть Божественная литургия, напомина-
ющая человеку о святой небесной любви к брату».
Действие Божественной литургии велико: зримо и воо-
чию совершается, в виду всего света и скрыто. Если только
молящийся благоговейно и прилежно следит за всяким дей-
497
ствием, душа его приобретает высокое настроение, заповеди
Христовы становятся для него исполнимы, иго Христово
благо и бремя легко. По выходе из храма, где он присутст-
вовал при Божественной трапезе любви, он глядит на всех,
как на братьев. Принимается ли он за обыкновенные дела
свои в службе или в семье, где бы то ни было, — сохраняет
невольно в душе своей высокое начертание одушевленного
любовию обращения с людьми, принесенное с небес Бого-
человеком. Если имеет власть над другими — невольно ста-
новится милостивей с подчиненными. Если сам под вла-
стью другого — охотнее и с любовью ему повинуется. Если
видит просящего помощи — сердце его более чем когда-ли-
бо располагается помогать. Если он неимущий — он благо-
дарно принимает малейшее даяние и никогда с такою при-
знательностию не молится он о своем благодетеле. И все,
прилежно слушавшие Божественную литургию, выходят
кротче, добрее в обхождении с людьми, дружелюбнее, тише
во всех поступках. А потому для всякого, кто только хочет
идти вперед и становиться лучше, необходимо частое, ско-
лько можно, посещение Божественной литургии и внимате-
льное слушание.
Велико и неисчислимо может быть влияние Божествен-
ной литургии, если человек положит правилом вносить в
жизнь слышанное. Всех равно уча, равно действуя на все
звания, на все сословия, от Царя до последнего нищего,
всем говорит одно, одним и тем же языком: всех научает
любви, которая есть связь всего общества, сокровенная пру-
жина всего, стройно движущего жизнь всеобщую.
связи
ИЗ ИСТОРИИ ВЛИЯНИЙ
В своих книгах я стараюсь проследить историю влияний, ка-
ковой является человеческая культура. Но сами эти влияния ни в
коем случае нельзя понимать буквально: великие творцы велики
именно своей неповторимостью, абсолютной непохожестью, от-
сутствием предшественников. Но мистика культуры в том и со-
стоит, что именно наиболее оригинальные, самобытные, самодо-
статочные художники являются губками с максимальной погло-
щающей способностью. Их божественный дар — не одна гениа-
льность, но и энциклопедичность, и широкость, и бесконеч-
ность...
Влияние не означает следование, это и отрицание, и эпатаж,
и травестия, и филиппика, и пародия, и снижение, и соизмере-
ние, и попытка взгромоздиться на плечи гиганта. Влияние — это
трансформация всей человеческой культуры в одном, новая пер-
спектива, содержащая все старые. Влияние — это путь из про-
шлого в будущее, из мгновения в вечность.
Наиболее горячие почитатели Гоголя на Западе ощуща-
ют в нем собирательную культурную силу, связывающую не
только эпохи, но и цивилизации — «западную» и «восточ-
ную». «И мы, люди Запада, без русской эпики имевшие бы
ложное и уродливое понимание современного искусства, —
пишет Э. Паппачена по поводу открытия в «Шинели» «но-
вой формы человеческого духа», — и мы, люди латинского
мира, тоже взираем с глубоким уважением на этот архетип».
По К. Джакони, предсказание маркиза де Кюстина о синте-
зе, который дадут в России «европейское знание» и «азиат-
ский гений», начало сбываться в творчестве современника
Кюстина — Гоголя. «Вековой исторический вызов Запада,
обращенный к России, породил себе в ответ великую рус-
скую литературу, которая духовно заполонила западный
мир, и все высшее, что в XX веке создается западным ис-
499
кусством, становится в свою очередь ответом на вызов Рос-
сии, началом диалога двух цивилизаций». Первооткрыва-
тель Гоголь, пишет Джакони, стоит у истоков всех главных
направлений последующей литературы.
Действительно, трудно назвать имя другого писателя, пред-
восхитившего столько «измов»: сюрреализм, абсурдизм, футу-
ризм, экспрессионизм, другие формы модернизма. Например,
Есенин считал, что из гоголевских метафор вышел имажинизм.
Вяч. Иванов обнаружил сходство Ревизора с комедией
Аристофана: Гоголь «по-аристофановски» изображает русскую
жизнь в форме «некоего социального космоса». Гоголю присуще
Аристофаново стремление к крайнему обобщению, превращение
«частного случая» в «целый, в себе замкнутый» мир.
Гоголь действительно несколько раз обращался к творчеству
Аристофана в связи с попыткой понять сущность комедии и «це-
лым множеством злоупотреблений, против уклоненья всего об-
щества от прямой дороги». Я бы не стал отождествлять поэтику
двух столь разделенных во времени и пространстве драматургов,
но, учитывая Аристофаново отношение к времени и пространст-
ву как фикции разума, хотел бы подчеркнуть ту фундаменталь-
ную общность всех величайших сатириков — Аристофана, Рабле,
Свифта, Гоголя, -— которая заключается в стремлении за шутов-
ством и буффонадой смеющегося паяца скрыть слезы мудреца.
Аристофан был не только и не столько классиком смеха, ско-
лько мастером иронии и сарказма, с которого, если хотите, берет
начало театр абсурда. Дерзкие филиппики Птиц и Облаков,
патриархальная реакционность Пирующих и Всадников,
антиутопизм Ос, пацифизм Ах ар н ян, тотальная критика
своего времени и его мудрости превращали Аристофана в дисси-
дента, противостоящего эпохе и «велениям времени», страстного
оппонента Сократа и Еврипида, демагогов-демократов, греческо-
го плебса-демоса. Если хотите, Вавилоняне или Еккле-
сиазусы — античные версии Ревизора: город, говорит
Праксагора, управляется дурными правителями, честными раз в
десять дней, но если назначить других, будет еще хуже. Впрочем,
и демос хорош: рабски преклоняясь перед лжецами и лицемера-
ми, он изгоняет достойных.
Едкая сатира и убийственная ирония Аристофана — отправ-
ная точка нового способа постижения мира как гигантского гро-
500
теска, выпадающего из цепи разумности и причинности. В этом
отношении Босх, Брейгель, Рабле, Сакс, Свифт, Гофман, Гоголь,
Кафка, Джойс — художники аристофановской школы: их маги-
ческая реальность, их гротескный символизм, их неистовая хле-
сткость и сатирическая проникновенность — дань первому мо-
дернисту в мировой литературе, создавшему первый же «прекрас-
ный новый мир» Тучекукуевска, первый «процесс» Ос и впервые
открывшего глаза своим согражданам, заставив их взглянуть на
себя со стороны.
Птичий город, во-первых, вам нужно создать и единым
зажить государством,
А затем высоченной кирпичной стеной, наподобие стен
вавилонских,
Воздух весь окружить, обнести, оцепить весь простор
меж землею и небом.
...А когда многомощная станет стена, вы от Зевса
потребуйте власти.
Если ж он не захочет ее уступить, на своем пожелает
наставить,
Объявите священную Зевсу войну и богам накажите
строжайше,
Чтобы больше они по любовным делам через птичью страну
не ходили.
...К людям нужно вам тоже отправить посла и сказать,
что не боги, а птицы
Правят миром отныне, и птицам сперва приносить
полагается жертвы,
А потом уже богам.
В Осах Аристофана действительно обнаруживается первый
прототип кафкианского Процесса — доведенная до абсурда
судебная мания, в Женщинах в народном собрании —
первый «джойсизм» — 170-литерное слово, произносимое еди-
ным духом, в Плутосе — зародыш Корабля дураков,
Похвалы глупости и Ревизора.
Аристофан — не только первый сатирик, но и великий «реак-
ционер», предостерегающий человечество от опасности плебса,
разрушения прошлого, утопии, истинно верующих. Как и его ге-
ниальные последователи, он действительно «защищал старину
против нового, осуждая новое во имя старого». Но не таковы ли
и все другие гении человечества, в том числе и Гоголь?..
501
На Аристофана живого у нас
Нашли бы мигом управу.
Жандармский наряд проводил бы его
За городскую заставу.
Позволил бы черни хвостом не вилять,
А лаять и кусаться.
Полиции отдан был бы приказ
В тюрьме сгноить святотатца.
Гоголь стоит особняком в истории влияний. В отличие от
Пушкина, Достоевского, Толстого, сотнями нитей связанных с
мировой культурой, у Гоголя таких связей почти нет. Тому много
причин: происхождение (глухая провинция), образование (Пол-
тава, Нежин), состояние русской словесности (можно сказать,
первые самостоятельные шаги), особенности личности самого
Гоголя (нарциссизм, сильное личностное начало, скрытность),
история его жизни (изгойство в школе, плохое образование,
позднее самообразование). После первых провалов в столице че-
столюбивый молодой человек, сознавая нереальность пути Шек-
спира или Шиллера, избирает путь Рудого Панька: знаний у него
мало, с культурой он плохо знаком, зато наделен острой наблю-
дательностью, юмором, уникальной восприимчивостью: библио-
теку и музей ему заменили — жизнь, малороссийская действите-
льность, необыкновенная фантазия, сатирический дар. Что до
влияний русской литературы, то здесь у него не было предтеч,
тем более что литературой для него только и был Пушкин, с Го-
голем ни в одной точке не совместимый. Любопытно, что когда в
начале 1830-го начала издаваться дельвиговская Литерату-
рная газета, то она практически не имела собственной про-
зы, обходясь переводами из Вальтера Скотта, Поль де Кока и Ти-
ка. В литературе царил Пушкин, господствовала поэзия, почти
не оставляя место никому и ничему другому.
Влияния Гоголю заменяло чутье, культуру — фольклор и свое-
образие хорошо знакомого малороссийского быта.
Никогда, однако ж, даже в среде одушевленных и жар-
ких прений, происходивших в кружке1 по поводу современ-
ных литературных и жизненных явлений, не покидала его
лица постоянная, как бы приросшая к нему, наблюдатель-
ность. Он, можно сказать, не раздевался никогда, и застать
i Речь идет о кружке лицеистских однокашников Гоголя, собравшихся в Пе-
тербурге.
502
его обезоруженным не было возможности. Зоркий глаз его
постоянно следил за душевными и характеристическими яв-
лениями в других: он хотел видеть даже и то, что легко мог
предугадать... Для Гоголя... ничего не пропадало даром. Он
прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, на-
блюдениям своего круга и, случалось, пользовался ими.
Он собирал сведения, полученные от других людей в
свои записочки, — и они дожидались там случая преврати-
ться в части чудных поэтических картин.
Гоголь не обладал тогда необходимою многосторонно-
стью взгляда. Ему недоставало еще значительного количест-
ва материалов развитой образованности, а Пушкин призна-
вал высокую образованность первым, существенным каче-
ством всякого истинного писателя в России. Я сам, пишет
П. В. Анненков, слышал от Гоголя о том, как рассердился
на него Пушкин за легкомысленный приговор Мольеру.
«Пушкин, — говорил Гоголь, — дал мне порядочный выго-
вор и крепко побранил за Мольера. Я сказал, что интрига у
него почти одинакова и пружины схожи между собой. Тут
он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, на-
добности не имеет в пружинах и интригах; что в великих
писателях нечего смотреть на форму, что куда бы он ни по-
ложил добро свое, — бери его, а не ломайся».
П. А. Плетнев, ректор Петербургского университета и близ-
кий друг Гоголя, в одном из гневных писем, написанных под го-
рячую руку в связи с недоразумениями, возникшими при печата-
нии собрания сочинений последнего, разразился «правдой»:
Наконец, захотелось тебе послушать правды. Изволь, по-
потчую... Что такое ты? Как человек, существо скрытное,
эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвую-
щее для славы. Как друг, что ты такое? И могут ли быть у
тебя друзья? Если бы они были, давно высказали бы тебе
то, что ты читаешь теперь от меня... посмотрим, что ты, как
литератор. Человек, одаренный гениальной способностью к
творчеству, инстинктивно угадывающий тайны языка, тай-
ны самого искусства, первый нашего века комик по взгляду
на человека и природу, по таланту вызывать из них лучшие
комические образы и положения, но писатель монотонный,
презревший необходимые усилия, чтобы покорить себе со-
знательно все сокровища языка и все сокровища искусства,
503
неправильный до безвкусия и напыщенный до смешного,
когда своевольство перенесет тебя из комизма в серьезное.
Ты только гений-самоучка, поражающий творчеством сво-
им и заставляющий жалеть о своей безграмотности и неве-
жестве в области искусства.
Любопытен смиренный ответ Гоголя на эту инвективу-фи-
липпику:
Брани меня, мне будет приятно всякое такое слово, даже
если бы оно было гораздо пожестче тех, которые в письме
твоем. Но не предавайся напрасному раздумью и не досадуй
на меня в душе.
На самом деле Гоголь много читал, особенно во время учас-
тившихся «антрактов» после 1842 года. Он принадлежал к тому
сорту творцов, которые не умели совмещать работу и чтение. По-
этому «умственные материалы», как правило, заготавливал впрок
во время «простоев».
Н. В. Гоголь — С .П. Шевыреву:
Потребность чтения теперь [конец 1843 г.] слишком си-
льна в душе моей. Это всегда случается со мною во время
антрактов (когда я пишу, тогда уже ничего не читаю и не
могу читать), и потому этим временем я стараюсь восполь-
зоваться и захватить побольше всего, что нужно.
«Что нужно» всегда отвечало запросам и потребностям теку-
щего момента. Работая над вторым томом Мертвых Душ, он,
например, просил прислать ему сочинения по статистике, этно-
графии, истории, сочинения религиозного и духовного харак-
тера...
Гоголь накапливает сведения, так сказать, по двум лини-
ям, с двумя целями: и для изображения повседневной рус-
ской жизни, ее темных сторон и пороков, и для лепки более
значительных, позитивных характеров, появление которых
предвещалось в первом томе.
Вот, например, «заказ» Гоголя 1842—1843 гг.: «Памятник ве-
ры, представляющий благочестивому взору христианина праздне-
ства...», М., 1838; В. Андросов, «Земледельческая статистика Рос-
сии», М., 1827; «Материалы для статистики Российской импе-
504
рии...», Спб., 1839—1841; Г. К. Котошихин, «О России в царство-
вание Алексея Михайловича», Спб., 1840; «Русские в своих по-
словицах», «Народные Праздники», «Царские выходы», летописи
Нестора, Н. А. Иванов, «Россия в историческом, статистическом,
географическом и литературном отношении», Спб., 1837; Дм. Ро-
стовский, «Розыск о раскольнической брынской вере...», пропо-
веди Стефана Яворского, тома «Полного собрания русских лето-
писей...», комплекты журнала «Христианское чтение», записки
путешественников Н. П. Рычкова, В. М. Севергина, Н. И. Зуева,
С. Г. Гмелина-младшего, П. С. Палласа...
Особенно интересуют Гоголя книги, «производимые ны-
нешнею школою литераторов, стремящеюся живописать и
цивилизовать Россию». Он просит прислать «Петербургские
вершины» Я. Буткова, повести Даля. «Этого писателя я ува-
жаю потому, что от него всегда заберешь какие-нибудь све-
дения положительные о разных проделках в России». Гого-
ля привлекают «книги, где слышна сколько-нибудь Русь,
хотя бы даже в зловонном виде».
Главный интерес Гоголя в период работы над Выбранны-
ми местами — религиозная и патриотическая литература с
широчайшим спектром наименований и духовных писателей —
Афанасий Великий, Василий Великий, Ефрем Сирин, Григорий
Богослов, Иоанн Златоуст, Андрей Критский, Максим Исповед-
ник, Макарий Египетский, Иоанн Дамаскин, Мелетий Пигас...
Его интересуют не только сочинения отцов Восточной церкви,
но и труды Фомы Аквинского, Амвросия Миланского, Блажен-
ного Августина и особенно Фомы Кемпийского, его Подра-
жание Христу. Гоголь ни на минуту не расстается с Еванге-
лием. В круг его чтения входят книги синодальные, сочинения
отцов церкви, жития святых, церковные календари, проповеди,
церковные периодические издания. Гоголь интересуется исследо-
ваниями по литургии, журналом Христианское чтение,
Творениями Отцов Церкви в русском переводе,
Православным исповеданием веры Петра Могилы,
трудами современных духовных писателей — епископов Рязан-
ского — Гавриила, Костромского — Владимира, Полтавского —
Гедеона, затворника Задонского Богородицкого монастыря Геор-
гия Машурина и протоиерея Степана Сабинина.
Следами святоотеческих влияний полны образы гоголевской
Переписки, символика которой почти полностью заимствова-
на из Святых книг. Архетипы «лестницы» и «града» явно восхо-
505
дят к библейскому преданию об Иакове, узревшем во сне лестни-
цу, упирающуюся в небо, и к великой книге Блаженного Августи-
на. Трудно сказать, читал ли Гоголь О Граде Божьем (В. Д.
Носов обратил внимание на параллель между гоголевской кон-
цепцией Города и каноническим сочинением отца церкви Авгу-
стина О Граде Божьем), но документально подтвержден его
пристальный интерес к книге Иоанна Лествичника Лестница,
повествующей о ступенях духовного восхождения к Любви, со-
вершенству, просветлению ума и сердца.
С карандашом в руках Гоголь «выуживает, как рыбак», мысли
и идеи, созвучные его душе и его книге. П. Кулиш свидетельст-
вовал о существовании объемистого сборника, составленного Го-
голем из религиозньх мыслителей, оригинал которого, к сожале-
нию, утерян. В основном это выписки, которыми он пользовался
при написании Выбранных мест: о любви к Богу и к ближ-
нему, о боготворении монарха, о миротворчестве христианина, о
нравственном самосовершенствовании и подвижничестве, о сми-
рении... Занимали Гоголя и вопросы церковной догматики сугубо
богословского характера. Хотя в Выбранных местах мы не
обнаружим теологических откровений, видно, что ее автор живо
интересовался таинствами, почитанием святых, церковными пре-
даниями, спорными проблемами христианской догматики.
Гоголь ощущал в глубине души, что величайшее искус-
ство есть то, какое в Италии возвестили и осуществили
Данте и Мандзони, каждый по-своему; и Гоголь хотел, осо-
бенно в своих «Мертвых Душах», приблизиться к этому
идеалу спасительной и общезначимой всеобщности... С не-
выразимой горечью думал он о том, что предощущаемое им
безмятежное высшее искусство для него остается недости-
жимым!..
Упреждая современных медиевистов школы М. Блока, Гоголь
не скрывал своей любви к средним векам, считая их самой глав-
ной и самой плодотворной эпохой в человеческой истории, серд-
цем в организме человечества:
Средние века составляют узел, связывающий мир древ-
ний с новым; им можно назначить то самое место в исто-
рии человечества, какое занимает в устроении человеческо-
го тела — сердце, к которому текут и от которого исходят
все жилы.
506
Средние века — века чудесные. Чудесное прорывается
при каждом шаге и властвует везде, во все течение этих
юных десяти веков, юных потому, что в них действует все
молодое, порывы и мечты, не думавшие о следствиях, не
призывавшие на помощь холодного соображения, еще не
имевшие прошедшего, чтобы оглянуться. Все в средних ве-
ках — поэзия и безотчетность. Вы вдруг почувствуете пере-
лом, когда вступите в область истории новой. Перемена
слишком ощутительна, и состояние души нашей будет по-
хоже на волны моря, прежде воздымавшиеся неправильны-
ми, высокими буграми, но после улегшиеся и всею своею
необозримою равниною мерно и стройно совершающие
правильное течение.
По свидетельству Ф. И. Буслаева, в 1840—1841 гг. Гоголь был
увлечен лирикой Франциска Ассизского, а также старинных ита-
льянских поэтов.
Дантовские влияния на автора Мертвых Душ начинаются
со слова «поэма» и кончаются жанровой организацией трилогии:
Ад первой части, Чистилище — второй и Рай — третьей.
В работе О Данте в философском отношении
Шеллинг в 1803 году писал:
Расчленение универсума и расположение материала по
трем царствам — ада, чистилища и рая, даже независимо от
особого значения, которое эти понятия имеют в христиан-
стве, есть общесимволическая форма, так что непонятно,
почему бы каждой значительной эпохе не иметь своей бо-
жественной комедии в той же форме.
Гоголь вряд ли знал это высказывание Шеллинга, но с огром-
ным вниманием следил за переводом Божественной ко-
медии на русский, ибо чувствовал себя принадлежащим дан-
товской традиции в истории человеческого духа. Он и сам, в из-
вестной степени, был опален «пламенем ада», так же как и пи-
тался дантовскими надеждами на «очищение» и «обновление»
жизни. Дело здесь не в многочисленных реминисценциях и
внешнем сходстве двух «поэм», отмеченном еще современниками
Гоголя, в частности А. И. Герценом и П. А. Вяземским, а в сход-
стве миросозерцании, в глубинной интровертированности, в рет-
ризме двух великих поэтов. Если хотите, Мертвые Души
507
следуют пусть иронически, но в известной степени средневеко-
вой традиции «странствий души», «комедии души».
Ю. В. Манн:
У Данте в преддверии Ада находятся те, кто не делал ни
добра, ни зла:
И понял я, что здесь вопят от боли
Ничтожные, которых не возьмут
Ни Бог, ни супостаты божьей воли.
Отправной пункт путешествия по аду — безличие и в
этом смысле — мертвенность. «Характер здесь заключается
в полном отсутствии такового. В этом чреве рода человече-
ского нет ни греха, ни добродетели, ибо нет активной си-
лы». Но вспомним слова описания того рода людей, к кото-
рому «следует примкнуть и Манилова»: «...Люди так себе,
ни то, ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан...»
Если хотите, Мертвые Души, первая их часть, и есть.тот
русский ад «каждой эпохи», о которой писал Шеллинг. Осталь-
ные же части не состоялись и не могли состояться, ибо, в отли-
чие от чистосердечного Данте, у чистосердечного Гоголя уже не
было средневековой цельности и средневековых надежд.,. В этом
смысле прав А. Веселовский, в Этюдах и характеристи-
ках писавший:
Гоголь несколько заблуждался, думая, что может сладить
с такою задачей... выполнить ее мог бы только средневеко-
вый поэт дантовской силы, если бы мыслимо было соеди-
нение в нем религиозных восторгов и гражданской борьбы с
гениальным комизмом...
Это одно из самых убедительных объяснений принципиаль-
ной невозможности завершения Гоголем своей трилогии.
Почти никто не обратил внимания на «средневековую» окрас-
ку миросозерцания Гоголя. Речь идет даже не об интересе к пат-
ристике или благочестивое™ — речь о дантовской или аквина-
товской цельности философии Гоголя, о единстве знания и веры
(«знать, чтобы верить, верить, чтобы знать»), о единстве разума и
откровения.
508
Как никогда еще, ни в какой период духовной истории
Запад не жил в уверенности в бытие Бога, его мудрости,
власти, величия и доброты, в божественном происхождении
мира, его разумном устройстве и управлении, в сущности
человека и его месте в космосе, смысле его жизни, возмож-
ностях его духа в познании мирового бытия, в формирова-
нии собственного бытия, в его достоинстве, свободе и бес-
смертии, в основах права, строя государственной власти и
смысла истории.
Эта тирада, относящаяся к так называемым «темным векам»,
абсолютно приемлема и к мировоззрению Гоголя.
Но дело не только в мировоззрении: сам Гоголь в значитель-
ной мере — человек средневековый, русский Дон Кихот, сража-
ющийся с русскими же ветряными мельницами. Самому Гоголю
импонировало сравнение с Сервантесом, он тоже писал «стран-
ных героев». Много наговорено о «реализме» Гоголя, но почти
ничего не сказано о средневековой поэтике художника, принад-
лежащего не столько к постромантической, сколько к средневе-
ково-ренессансной эпохе. Обилие «живых» мертвецов, ведьм, не-
чисти, чертовщины в ранних произведениях Гоголя — все это ви-
зуализация гоголевского подсознания, скрывающего за громким
смехом не только слезы, но и пессимистические (апокалиптиче-
ские) настроения.
Сам смех Гоголя тоже «средневеков» — не в смысле даже его
«карнавальности» (М. Бахтин), но — ритуальности, социального
экзорцизма, скатологической традиции, смехового остракизма и
уничтожения. Смех Гоголя пропитан средневековым ядом гроте-
ска, торжеством патриархальной общины, взявшей верх над ин-
дивидом. Это смех не примиряющий, а карающий, по словам Р.
Писа, — «моральная сила, призванная оберегать общественные
ценности за счет ценностей индивидуальных». Это не смех со-
страдания — это смех кары.
На раблезианство Гоголя обратили внимание М. Бахтин и А.
Веселовский1. «Раблезианское у Гоголя — царство косной плоти,
из которой должна выработаться культура. Хаос тел, еще не осве-
щенный разумом и красотой», — писал Н. Я. Берковский. Мне
кажется, что при противоположном отношении к «делай, что хо-
i Сопоставление Гоголя с Рабле приходило на ум еще Просперу Мериме.
509
чешь» двух титанов объединяет прежде всего парадигма, миро-
ощущение: слезы, скрываемые хохотом, балаганом, карнавалом.
У Гоголя тоже «карнавальная культура», прячущая ад... Еще —
тот же пафос пространств, пафос количеств1.
Гоголь — не только средневековый, но и ренессансный, ба-
рочный поэт. По мнению Р. Писа, Гоголь — соединительное зве-
но между средневековой и постпетровской Россией:
...до XIX века в русской литературе не существовало гу-
манистической традиции... Россия не имела опыта Ренес-
санса. У нее не было своих Шекспира и Монтеня, которые
выразили бы принцип богатства и сложности человеческой
личности... Но в последней четверти XVIII столетия, когда
идеи энциклопедистов в Европе привели... к краху «старого
порядка», в России тоже стала готовиться своего рода рево-
люция: запоздалый русский Ренессанс.
Гоголь не только русский Данте, но и русский Боккаччо, пи-
шущий русский же Декамерон:
Подобно Гоголю, Боккаччо беззаветно и усердно служит
духу поэзии, — но из культа поэзии у него рождается об-
разцовая итальянская проза, и главные черты ее те же, что
у гоголевской: поэтическая основа; тщательная пластиче-
ская медлительность периода, обстоятельная вниматель-
ность к деталям; гибкость стиля, вмещающего и высокую
патетику, и фамильярную приземленность; широта обзора,
обеспеченная у Боккаччо неостановимой чередой новелл,
как у Гоголя — добротностью колеса чичиковской брички,
способной, «если б случилось», докатить очень далеко. На-
поминая раннего Гоголя, Боккаччо в свой южный, неапо-
литанский период тяготеет то к приключению, то к идил-
лии, отдается фантазии, нагромождает образы мифологии,
местного фольклора, французской рыцарской литературы;
и только внедряющийся прямо посреди сказки, как у Гого-
ля, реализм позволяет распознать в безудержном мечтателе
знатока человеческой души. И, как гоголевским «Мертвым
душам», внутреннее напряжение «Декамерону» придает
контраст между, казалось бы, беззаботным описанием че-
ловеческих страстей и порывом к просветлению и преобра-
1 Еще — обилие воды, любовь к жидкой стихии, роднящая Гоголя со
Свифтом.
510
жению, между растекающимся богатством содержания и
обручем скрытого замысла1.
В литературе барокко Гоголю гораздо ближе вырывающаяся
за пределы нормативных ценностей поэтика Гриммельсхаузена и
Беера, нежели старшего современника Жан-Поля, усложнившего
барочную картину мира и барочное упоение жизнью излишней
ученостью и рефлексией. Трудно судить о том, читал ли Гоголь
Симплициссимуса или Шпрингинсфельда, но плу-
товская стихия ему очень близка по духу.
Из более близких Гоголю предтеч на одном из первых мест
несомненно находится В. Скотт, бывший кумиром гоголевской
эпохи. По воспоминаниям И. С. Аксакова, художественный вкус
его времени формировался исключительно этим романистом, по-
истине ставшим эталоном жизненности:
Что это за удивительный человек! По прочтении каждого
романа кажется, что Вальтер Скотт только рассказывает вам
истинное событие и сам не волен переменить в нем ничего,
а передает, как есть, хоть рад был бы сам, чтоб это было
иначе. Даже при этих ненужных сведениях, как будто бы
ослабляющих впечатление... видно, что он поневоле будто
бы исполняет долг добросовестного рассказчика. Личного
его достоинства вы не видите почти, а между тем полная
картина жизни развертывается перед вами. Можно созер-
цать жизнь в Вальтер-Скоттовых романах.
Свидетельствует П. В. Анненков:
Гоголь любил Вальтера Скотта... за удивительное его
распределение материи рассказа, подробное обследование
1 Сходство между Гоголем и Боккаччо доходит до любопытных деталей: оба
были на 9—10 лет моложе своих поэтических кумиров, Петрарки и Пушкина; оба
заимствовали у них темы, сюжеты и приемы; оба, сравнивая себя с учителями,
кляли ущербность своего образования, оба неустанно старались восполнить его,
оба, как прилежные ученики, любили работу переписки; оба стремились послу-
жить отечеству; оба страдали непонятными приступами телесной немочи; оба
умерли бедняками, и перечень имущества в предсмертном завещании Боккаччо
(«дощечка... салфетки... бутылочка, вместимостью в три сальмы вина... оловянная
ваза... небольшая драповая подстилка...») напоминает опись вещей умершего Го-
голя. Оба — и Гоголь, и Боккаччо — на пятом десятке лет были потрясены, полу-
чив от «людей святой жизни» совет готовиться к кончине, спасать душу и покая-
ться в литературных амбициях (Примечание Р. Гальцева, И. Роднянской и В. Би-
бихина).
511
характеров и твердость, с которой он вел многосложное со-
бытие ко всем его результатам.
Он не любил уже и в то время французской литературы,
да не имел большой симпатии и к самому народу за «моду,
которую они ввели в Европе, как он говорил: «быстро со-
здавать и тотчас же, по-детски, разрушать авторитеты».
Впрочем, он решительно ничего не читал французской
изящной литературы и принялся за Мольера только после
строгого выговора, данного Пушкиным за небрежение к
этому писателю. Так же мало знал и Шекспира (Гете и во-
обще немецкая литература почти не существовали для не-
го), и из всех имен иностранных поэтов и романистов было
знакомо ему не по догадке и не по слухам одно имя — Ва-
льтер Скотта. Зато и окружил он его необычайным уваже-
нием, глубокой попечительной любовью.
Что до Шекспира, то существует и иное мнение. П. А. Кулиш
подчеркивал, что Гоголь любил читать Шекспира, но, не зная
английского языка и не имея возможности пользоваться превос-
ходным переводом Шлегеля, довольствовался французскими тек-
стами. Русские переводы Потрясающего Копьем начали появля-
ться позже.
Высоко ценя Мольера как писателя нравов, Гоголь предпочи-
тал новации Шекспира «законам старым» Мольера. Подобно то-
му как Аристофан выше Теренция, Шекспир-новатор выше Мо-
льера-традициониста. Это не помешало некоторым критикам
увидеть в Мертвых Душах эпопею своего рода Скапена,
«обрисованного Гоголем как бессмертный русский тип, который
не может умереть и вечно останется жив». Впрочем, проделки
Скапена — детские игры...
Гоголя редко сравнивают с Шекспиром, но в их видении ми-
ра, в склонности к травестии, в обилии гротескных художествен-
ных образов много общего. Есть и радикальное отличие: Шекс-
пир никогда не видел в искусстве средства практического пере-
устройства мира...
Любопытно, что русские переводы Шекспира, которые нача-
ли появляться при жизни Гоголя, не избежали влияния послед-
него. Когда знаменитый трагик Мочалов, играя Гамлета, произ-
носил фразу «За человека страшно!», потрясавшую зрителей, ма-
ло кто знал, что ее не было в подлиннике, — это переводчик
512
«стихийно подстраивал Шекспира под настроение, которое ввел
в литературу Гоголь».
Хотя нельзя говорить о серьезном влиянии на Гоголя Шекс-
пира, по диапазону и размаху художественной кисти, по ампли-
туде колебаний от небесного света до непроницаемого мрака ду-
ши Гоголь унаследовал шекспировский взгляд на жизнь.
По мнению В. В. Гиппиус, Шекспир был для русских писате-
лей образцом «искусства развивать крупные черты характеров в
тесных границах» (фраза из гоголевской статьи «Шлецер, Мил-
лер и Гердер»); в Ариосто ценилось «искусство подлинно эпичес-
кого замедленного повествования».
Ю. В. Манн:
Говоря, например, о «полном эпическом объеме» про-
изведений Сервантеса и Ариосто («Дон Кихота» и «Неис-
тового Роланда»), Гоголь отмечал еще их «шутливый тон»
и «легкость». Применительно к Ариосто это означает, что
помимо искусства «подлинно эпического замедленного по-
вествования» (В. Гиппиус) для Гоголя была важна и его
поэтика контрастов, лирической оркестровки эпической
тенденции. «Ариосто, — говорил Батюшков, один из самых
глубоких в то время и авторитетных в России ценителей
итальянского поэта, — умеет соединять эпический тон с
шутливым, забавное с важным, легкое с глубокомыслен-
ным, умеет вас растрогать даже до слез, сам с вами плачет
и сетует и в одну минуту и над вами, и над собою смеется.
Это уже близко той характеристике... стиля Гоголя, кото-
рая стала впоследствии общепризнанной — «смех сквозь
слезы».
Конечно же, проживя значительную часть творческой жизни в
Европе, Гоголь не избежал разлитых в эфире духа влияний, в том
числе — глубоких, метафизических, эстетическо-философских.
Когда отец дает в Портрете совет художнику-сыну «покорить
все кисти, но во всем уметь находить внутреннюю мысль», то это
явный плод шелленгианской эстетики «постигать во всем внут-
реннюю идею», переход от раннего Гоголя к позднему, обращен-
ному от поверхности к сути вещей. Не столь важно, насколько
Гоголю удалась эта попытка соединения конечного с бесконеч-
ным, факт влияния налицо.
513
Даже гоголевской Переписке найдена европейская ее
версия — Патриотические фантазии немецкого просве-
тителя XVIII века Юстуса Мёзера. По мнению германской слави-
стки X. Шрайер, название мёзеровского цикла статей полностью
соответствует духу гоголевского эпистолярия: налицо консерва-
тивная утопическая «фантазия», развивающая «философию свое-
го места» и «служения».
Сверхъестественные ужасы Ночи накануне Ивана
Куп алы весьма напоминают творчество ранних романтиков.
Лейтмотив невинно пролитой крови, нечестно полученного бо-
гатства звучит в рассказе Тика Чары Любви, переведенном на
русский язык в 1827 году.
Трудно говорить о «прямом» влиянии Тика на Гоголя, но в
Страшной мести исследователи давно усмотрели множест-
во параллелей, в том числе и в деталях, с Пиетро Апоне. По
мнению А. Дауенхауэра, композиции этих произведений почти
совпадают. Если бы речь шла о Достоевском, можно было бы го-
ворить о «впитывании» Тика, но Гоголь читал гораздо меньше
Достоевского, но не хуже его улавливал «дух эпохи», тот несуще-
ствующий эфир влияний, который передается от одного худож-
ника к другому, минуя чтение.
А вот стерновская традиция несомненно продолжается в твор-
честве Гоголя: Жизнь и мнения Тристрама Шендис
нагнетанием алогизмов, приемами путаницы, недоговоренности,
фантастичности проглядывает в ряде произведений Гоголя. На
связь Носа со стерновской «носологией» обращали внимание
В. Виноградов и Ю. Манн:
Вся эта «носология» увенчивается «девятой сказкой деся-
той декады» Слокенбергия, которую рассказывает Трист-
рам. Въехавший в Страсбург иностранец с огромным носом
породил вихрь мнений. Стоявший у ворот часовой сказал,
что нос натуральный; барабанщик —■ что он сделан из пер-
гамента; трубач — что нос медный, а жена трубача — что
нос иностранца звучит как флейта. Возникли ученые споры,
образовались партии — «носоряне и антиносоряне»; «целый
город наполнился носом».
В XIX веке мало кому из писателей удалось избежать стерни-
анской техники, в том числе и Гоголю, но, пользуясь его приема-
514
ми, он пытался превращать их в свою противоположность: у
Стерна авторские перебивки всегда нарушают «иллюзию», пере-
водя читателя из «действительности героя» в «действительность
автора и читателя», у Гоголя — наоборот: герои как бы начинают
слышать авторскую речь и реагировать на нее.
В черновиках Мертвых Душ сам Гоголь упоминает писа-
телей, выбранных им в качестве «образцовых», это — Шексцир,
Пушкин, Сервантес, Ариосто, Филдинг.
Филдинговское влияние сказывалось в Мертвых Душах
через соединение мотивов плутовского романа и романа путеше-
ствий с широким охватом жизни с ее мелочами и комизмом ха-
рактеров.
Филдинг был основатель в европейской литературе так
называемого аукториального романа, то есть романа с лич-
ным рассказчиком, не воплощенным в определенный пер-
сонаж и не имеющим с персонажами произведения прямых
контактов, — не «знакомый» с ними, нигде с ними не пере-
секающийся. Изображенный мир выступал независимо от
поведения и жизненной судьбы повествователя; был, как
говорят, дистанцирован от него. Все это, укрепляя эпичес-
кую тенденцию, представляло живой интерес для Гоголя.
Ведь именно в «Мертвых душах» русская литература впер-
вые получила пример большого эпического произведения, в
котором изображенные события сюжетно никак не сопри-
касались с авторской судьбой.
Но, с другой стороны, Филдинг, исходя из своей пози-
ции независимого и всезнающего рассказчика, всемерно
усиливает роль авторских размышлений, рефлексии. И эта
рефлексия направляется художником не только на описыва-
емые события, не только на персонажей, но и на собствен-
ный акт творчества, на свое произведение. Произведение
одновременно выступает и как готовое и как становящееся,
создаваемое автором на наших глазах. Возникает некое ху-
дожническое состояние, размывающее суверенность и зам-
кнутость наличного материала. Художник зависим от него,
послушен ему; однако же в некоторые моменты он может
поступать так, как диктует ему его собственное понимание
того же материала, глубокое проникновение в его пласты.
Гоголь подхватывает эту тенденцию филдинговского эпоса
515
с той только разницей, что, приобретая более тонкое иро-
ническое звучание, подчас она буквально вибрирует на на-
ших глазах.
К сожалению, совершенно недостаточно изучена тема «Гоголь
и Диккенс». Между тем в периоды творческих «антрактов» 40-х
годов Гоголь был увлечен Диккенсом, и это увлечение сказалось
на его собственном творчестве.
История влияний состоит не столько из заимствований, ско-
лько из гротесков. Великие художники чаще пародируют, ирони-
зируют, пишут карикатуры на предшественников, чем заимству-
ют у них. У л и с с — в такой же мере квинтэссенция мировой ку-
льтуры, в какой — сатирическое каприччио по ее мотивам. Еще
Вальтер Скотт подметил свойство искусства развиваться по
принципу самоотрицания:
Нередко случается так, что в то время как какое-нибудь
отдельное направление в искусстве ветшает и приходит в
упадок, карикатуры на это направление или сатирическое
использование его приемов способствуют появлению ново-
го вида искусства. Так, например, английская опера воз-
никла из пародии на итальянский театр, созданный Греем в
«Опере нищих».
По мнению Ю. В. Манна, подобным образом — через пароди-
рование романтизма, негативную переработку его достижений,
формировался стиль Гоголя.
Творчество Гоголя, рассмотренное с точки зрения фанта-
стики, показывает, как на новом уровне им были заимство-
ваны и переработаны романтические элементы. Языковеды
говорят, что изменение в языке связано, как правило, с пере-
движением какого-либо элемента с одного уровня на другой.
Можно в известном смысле считать, что у Гоголя фантастика
ушла в стиль. Она оставила поле прямой или завуалирован-
ной фантастики и образовала разветвленную систему... сти-
листических форм. Быть может, сочетание этих форм с пси-
хологически мотивированным, «правильным», нефантасти-
ческим ходом действия составляет одно из притягательных и
таинственных свойств гоголевского творчества.
Гоголь не только ближе других русских писателей подошел к
миру Гофмана, но и чуть ли не открыто вступил с ним в конф-
516
ликт, решив спор о борьбе мечты и действительности в пользу
сумасшедшего дома. Записки сумасшедшего — ответ Го-
голя Гофману, а заодно и Сервантесу: конец русских Дон Кихо-
тов — в психушках...
Гофмановская традиция глубоко укоренена в Гоголе: даже в
«дневном» Гоголе постоянно проглядывает Гоголь «ночной», да-
же смех его надтреснут, даже пляс скован, за лицом почти ка-
ждого героя проглядывает если не рыло, то мелкий бес, слишком
много двойников, перевертышей.
Как романтик Гоголь был увлечен одно время Гофма-
ном, но как пессимист он скептически относился к его экс-
центричной манере — ему нравилось пародировать Гофма-
на... Так, в «Носе» он прямо мистифицирует гофмановскую
тему «двойничества».
Хотя Гоголь никогда не заимствовал у Гофмана сюжетных мо-
тивов и тем, Невский проспект или Портрет — не что
иное, как попытки перенесения гофмановской мифологии на
русскую почву, как говорил сам Гоголь, попытки «улететь на лу-
ну». Эта атмосфера — «вечный раздор мечты и существенности»,
подверженность человеческой жизни губительным демоническим
силам, торжество судьбы.
Но если Гофман оставляет надежды, то Гоголь — нет. Мир
Гоголя гораздо суровее и беспощаднее — падения здесь всегда
смертельны.
В гоголеведческой «индустрии» имеется целое направление,
исследующее «следы Гофмана». Стараниями армии исследовате-
лей обнаружено множество параллелей между Мадемуазе-
лью Скюдери и Невским проспектом, Элекси-
ром дьявола и Портретом, Житейскими воззре-
ниями Кота Мурра и Записками сумасшедшего,
Выбором невесты и Носом, Альбано и Чартковым,
«украинским» и «немецким» чертом и т. д. У Гофмана и Шамис-
со герои теряют свое «я», у Гоголя нос — который, впрочем, и у
Гофмана совершает диковинные действия — «вытягивается и,
чуть не задев Альбертинину щеку, с громким стуком ударяется о
противоположную стену». Хотя существует действительно огром-
ное количество параллелей и даже совпадений, дающих основа-
ние писать книгу Гофман и Гоголь, мне представляется,
что для таких «феноменов», как эти два мастера магического реа-
517
лизма, язык влияний неприменим: Гофманом и Гоголем рожда-
ются, а не становятся. Художественные миры Гофмана и Гоголя
во многом совпадают не вследствие влияний, но вследствие сход-
ства психических структур, определяющих «магическое», «мифо-
логическое», «фантастическое» или иное мировоззрение. Можно
говорить о влиянии Гофмана на художников не-гофмановского
склада. Что до Гоголя, то он уже родился со своим «гоголевским»
миром, который действительно имеет ряд точек совпадений с
миром «гофмановским». Но это не относится к влияниям — это
результат структуры психики.
Различиями этой структуры объясняется и несовпадение этих
миров (как сходствами — точки соприкосновения). В фантазмах
Гоголя больше зла, которое по русской традиции сверхъестест-
венно, противоприродно. У Гофмана добро и зло уравновешены
и корнями уходят в один источник — человека.
Иногда в книгах о Гоголе проскальзывает параллель с Ницше:
«Львиную силу чувствую я в душе своей». Но до сверхчеловека
ему слишком далеко, гораздо ближе до реального, больного, схо-
дящего с ума автора Заратустры. Да, у Гоголя тоже была тяга
изображать титанов — героев добра, но удавались ему пигмеи и
низ жизни. Вряд ли Заратустра мог бы сказать это: «Ничего я не
сделал, как беден мой талант!»
ГОГОЛЬ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Хотя как драматург Гоголь превосходил всех своих предшест-
венников, не следует забывать, что Ревизору предшествовали
Хвастун Княжнина (с Хлестаковым XVIII века Верхолетом),
Недоросль Фонвизина, Горе от ума Грибоедова, а также
комедия Квитки-Основьяненко Приезжий из столицы,
которая по своей фабуле близка к Ревизору.
Русская литература 30—40-х гг. переживала период бурного
всплеска. Почти в тот же год, когда Гоголь огласил свою Пере-
писку с друзьями, были написаны первые Рассказы
охотника Тургенева, Обломов Гончарова, Бедные лю-
ди Достоевского, Банкрот Островского. Одновременно с
творениями Гоголя на русского читателя буквально обрушились
психологические повести и романы Марлинского и Полевого,
романы из жизни «высшего света» Одоевского и Соллогуба, нра-
воописательные произведения Загоскина, Даля и Гребенки.
518
Как писал В. Ф. Переверзев, гоголевское творчество не с неба
упало, оно связано живыми нитями со всей окружающей литера-
турой, и до Гоголя, и рядом с ним многие пробивали дорогу в
том же направлении, в каком творил его гений.
Хотя Гоголь считал себя наследником Пушкина, гораздо со-
звучнее был ему Жуковский, приемы которого заимствованы в
Ганце Кюхельгартене. В Громобое Жуковского уже
налицо стилистическая манера Вечеров... и Миргорода:
«В баллады Жуковского он ввел украинские бытовые подробно-
сти».
Гоголевская Ночь перед Рождеством имеет прототип
в Вертепе, а мотив одоления нечистой силы — в повести о пу-
тешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим и запо-
рожском фольклоре. По мнению Н. Котляревского, сатира Гого-
ля менее остра по сравнению с обличениями Ябеды Капниста
или Недоросля Фонвизина.
Н. Котляревский в своем Гоголе нарисовал широчайшую
панораму русской литературы, «готовившей» почву для «соедине-
ния фантазии и действительности, вымысла и жизни». Здесь не-
значительный — в художественном и человеческом планах —
Иван Выжигин Ф. Булгарина соседствует с Александ-
ром Сибиряковым, еще одним русским Жилблазом Г. Си-
моновского, Новый живописец Н. Полевого (с его Тугоду-
мовыми, Щелкоперовыми и Тонкосвистовыми) с Семейст-
вом Холмских Д. Бегичева (с его Змейкиными, Вампировы-
ми и Удушьевыми), Походные записки русского
офицера И. Лажечникова с Двумя Иванами В. Нареж-
ного. Тарасу Бульбе предшествовали историко-патриотиче-
ские романы и «героические» повести Нарежного (Славян-
ские вечера), Марлинского (Изменник), Загоскина
(Юрий Милославский), Булгарина (Дмитрий Самозва-
нец, Мазепа), Лажечникова (Ледяной дом, Басурман),
Полевого (Симеон Кирдяпа).
Если иметь в виду выполнение задачи, то, конечно, ни о
каком сравнении Гоголя с только что поименованными ав-
торами не может быть и речи. Человек с огромным литера-
турным талантом может остаться вполне художником и на
той дороге, идя по которой другой писатель с меньшей си-
лой необходимо упрется в шаблон и банальность. В «Тарасе
Бульбе» все недостатки нашей старой исторической повести
519
были действительно спасены талантом Гоголя, но они не
перестают быть недостатками. От того художественного вос-
произведения старины, при котором она становится для нас
переживаемой действительностью, Гоголь все-таки далек.
Его рассказ остается романтической грезой, а не живой по-
вестью о былом, хотя все погрешности против правды и
прикрыты в этой грезе художественным ее выполнением.
Новых путей в создании исторического романа Гоголь не
указал, но старое довел до совершенства.
По мнению Котляревского, в гоголевских типах и в завязках
его повестей есть известное сходство с героями и фабулами На-
режного, Полевого, Булгарина, Бегичева и других, хотя речь идет
не о каком-либо заимствовании, а о той же действительности, с
которой имели дело эти авторы.
Он писал с натуры так же, как и его предшественники, и
потому совпадения были неизбежны. Но если не было за-
имствования, то зависимость все-таки существовала. Прие-
мы реального воспроизведения жизни и интерес к бытовым
ее сторонам, тенденция изображать не одну лишь лицевую
сторону действительности, а также ее изнанку, отсутствие в
писателе отвращения к житейской пошлости и грязи,
стремление эту грязь претворить в художественный образ —
все эти черты «натуральной школы», отцом которой считал-
ся Гоголь, существовали в нашей литературе задолго до по-
явления его рассказов, и ему в данном случае пролагать но-
вых путей не приходилось.
Должно отметить также, что в некоторых отношениях
Гоголь даже отставал от скромных своих предшественни-
ков, не как художник, конечно. Было много очень острых и
важных вопросов нашей общественной жизни, о которых
предшественники Гоголя имели смелость говорить резко,
хотя и не совсем складно, и мимо которых... Гоголь прохо-
дил с опаской или молча.
Портрету Гоголя предшествовал Живописец Полево-
го, повесть о столкновении мечты и действительности, размыш-
ление об искусстве и Боге, присутствии беса в художественном
вдохновении и божественном даровании.
Известно, что Гоголь был в восторге от повестей В. Ф. Одоев-
ского, любил перечитывать их и даже непосредственно занимал-
ся их изданием в 1833 году. По мнению Н. С. Тихомирова, имен-
520
но увлекшись рассказами Одоевского о сумасшедших музыкан-
тах, он создал Записки сумасшедшего.
М. Бахтин считал, что существенные моменты гротескного
реализма Гоголь усвоил у В. Т. Нарежного, творчество которого
глубоко пропитано тонкой наблюдательностью и смелостью мыс-
ли. Барочный художник, развивающий традиции европейского
плутовского романа, Нарежный расширил последний до масшта-
бов философского постижения действительности. Роман Нареж-
ного был первым образцом нравоописательного повествования с
панорамным охватом жизни. Хотя в Российском Ж и л б л а -
зе или Двух Иванах Нарежному не удалось достичь гого-
левского мастерства, глубиной проникновения в материал жиз-
ни, «вчувствованием», он упредил гоголевский метод проникно-
вения сквозь внешнюю оболочку факта в сокровенные глубины
первичных сущностей явления.
Двух Иванов часто считают прототипом известного рас-
сказа Гоголя «о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном
Никифоровичем». И там, и здесь первопричина конфликта — от-
нюдь не страсть к тяжбам или самоуправству, бывшая чертой тог-
дашней дворянской жизни, а нечто гораздо более глубокое, пра-
человеческое — агрессивное, насильственное начало человека.
Российский Жилблаз вряд ли был бы запрещен цензу-
рой, будь это лишь огромная бытовая картина русских нравов.
На самом деле это была одна из первых в нашей литературе по-
пыток докопаться до истоков, архетипов, эйдосов. К сожалению,
в отличие от Мертвых Душ, роман В. Т. Нарежного почти
забыт ныне, многие писатели даже не подозревают о существова-
нии до Гоголя столь мощной экзистенциальной стихии, не слу-
чайно, впрочем, забытой...
Кстати, сам Гоголь дал блестящий обзор литературы своего
времени, от которой брала начало его муза. В статье В чем же,
наконец, существо русской поэзии и в чем ее
особенность Гоголь рисует поразительно рельефную карти-
ну российской словесности, потрясающую своей силой и про-
никновенностью, глубиной и масштабностью видения.
А. Волынский:
Таких блестящих характеристик, такого высокого порыва
ясновидящего чувства, таких метких ударов критической
521
мысли, такого размаха художественного изображения, в ко-
тором каждое слово горит, как краска на холсте живописца,
в котором каждая фраза раздается в ушах, как звон колоко-
ла в чистом весеннем воздухе, — мы не встречали ни у Бе-
линского, ни у лучших европейских критиков. Перед вами
проносятся величайшие русские писатели в раде поистине
гениальных набросков: вы видите их во весь рост, вы видите
их лица, фигуры, вы видите их выступающими из туманной
глубины прошедшего просвещения... Другой такой критиче-
ской статьи нет в русской литературе.
Всего лишь несколько гоголевских мазков из этом статьи. Вот
явился Жуковский:
Чудною, высшею волею вложено было ему в душу, от
дней младенчества, непостижимое ему самому стремление к
незримому и таинственному. В душе его... раздавался небес-
ный звонок, зовущий вдаль. Из-за этого зова бросался он
на все неизъяснимое и таинственное повсюду, где оно ни
встречалось ему, и стал облекать его в звуки, близкие нашей
душе.
Далее Гоголь пишет, что на всех его переводах отпечаталась
оригинальная, замечательная личность поэта, что Жуковский от-
решил поэзию от материализма не только в мыслях, но и в обра-
зе выражения, в бестелесности стиха, напоминающего видение.
Картины Жуковского, наполненные греющим, теплым светом и
благоговейной задумчивостью, навевают успокоение: становишь-
ся тише во всех своих порывах, какою-то тайною замыкаются
собственные уста.
Если на произведениях Державина, Жуковского, Батюшкова
лежит отчетливый свет их личностей, то Пушкин необъятен, как
необъятна жизнь. В Испании он испанец, в Греции — грек, на
Кавказе — вольный горец. Пушкин способен охватить весь мир
единым взглядом, обозначить одним метким эпитетом. Рисует он
схватку — слог его молния: фразы блещут как сверкающие сабли
и стих летит стрелой. А вот он рисует русскую природу — в каж-
дом слове бездна пространства, бесконечная ширь...
Из поэтов, современных Пушкину, выделились Языков
и Вяземский. В Языкове все — «разгул и буйство сил... свет
молодого восторга» и язык, подобный дикому, арабскому
522
коню. Юношеская свежесть так и брызжет из всего, к чему
он ни прикоснется. Не для элегии и антологических стихо-
творений родился Языков, а для дифирамба и гимна, ибо
стих его только тогда и входит в душу, когда он весь в лири-
ческом свету, когда предмет его движется, звучит, а не пре-
бывает в покое.
Вяземский — прямая противоположность Языкову. Он
не поэт по призванию, и природа, наделившая его всеми
дарами, дала ему талант поэта только ради полноты целого.
В его произведениях, говорит Гоголь, нет внутреннего гар-
монического согласования частей, слышен постоянный раз-
лад: слово не сочетается со словом, стих со стихом, то вдруг
вас что захватывает искренностью чувства, то оттолкнет
звуком, чуждым вашему сердцу.
Все прочие характеристики — Крылова, Лермонтова,
Грибоедова, Фонвизина — столь же блестящи, полны со-
держания и метких, скульптурных выражений.
Будущее русской поэзии — служение, божественная литургия,
глубина жизни, скорбь ангела. Еще никто не черпал из сокровен-
ных источников русской жизни. Еще не бьет всею силою кверху
самородный ключ русской поэзии. «Еще доселе загадка — этот
необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несет-
ся куда-то мимо жизни... как бы сгорая желанием лучшей отчиз-
ны, по которой тоскует со дня создания своего человек».
Самые прочные узы связывали Гоголя с московскими писате-
лями, прежде всего с семьей Аксаковых. Хотя в этой дружбе слу-
чались и «пятнышки», например после публикации Выбран-
ных мест, трудно назвать друзей, любивших Гоголя больше С.
Т. Аксакова. Ему мы во многом обязаны и знаниями жизни и
«разгадок» Гоголя. В первую годовщину со дня смерти Гоголя С.
Т. Аксаков со страниц Московских Ведомостей обра-
тился ко всем друзьям и знакомым великого писателя с предло-
жением записать «для памяти историю своего с ним знакомства».
Добрая половина сохранившихся воспоминаний о Гоголе — от-
вет на этот призыв. Почти все, что мы знаем о содержании без-
возвратно уничтоженных глав второго тома Мертвых Душ,
мы знаем благодаря сохранившимся воспоминаниям Л. И. Арно-
льди, Д. А. Оболенского и А. О. Смирновой.
Любопытно, что почти все «реакционеры», «дурно влиявшие
на Гоголя», оставили свои теплые воспоминания о нем, чего не
скажешь о «передовых» его современниках...
523
Для С. Т. Аксакова Гоголь был российским Гомером, его со-
чинения — откровениями. Творчество Гоголя пробудило в рути-
нере и консерваторе новые силы. По мнению И. И. Панаева,
без Гоголя Аксаков вряд ли бы написал Семейство Баг-
ровых.
Когда спустя два года после смерти Пушкина и три после за-
граничных скитаний Гоголь возвратился в Москву, он сам почув-
ствовал, что стал единственным неангажированным художником,
которого все партии хотят «перетянуть» на свою сторону. В изве-
стной степени «Россия жила им», надеясь заполучить его.
Письма Белинского той поры полны Гоголем. Чуть ли не
через строчку в них цитируется Гоголь, поминается Гоголь.
Его словечки и фразы, фразы и словечки его героев, разуме-
ется, становятся летучими, обозначающими типические
чувства, типические мысли — Гоголь входит в плоть и кровь
русского сознания, как некогда Пушкин. Так он сам цити-
ровал Пушкина когда-то. И не только письма Белинского,
но и переписка молодого Ю. Ф. Самарина, Константина
Аксакова, вся бесцензурная литература русской почты жи-
вет Гоголем. И это не только господство гоголевского сти-
ля, гоголевского языка — это торжество его образа мышле-
ния, его понимания русского характера и России.
Связи Гоголя с литературой своего времени и своей страны
имели не только позитивные, стимулирующие последствия, но и
последствия негативные, даже трагические. Как борьба лагерей
«за Гоголя», так и результат этой борьбы — отторжение человека,
постаравшегося оказаться вне или над схваткой, — подтолкнули
творца Мертвых Душ к донкихотству, превратили художни-
ка в проповедника, принудили отказаться от самого себя.
П. Дебрецени:
К несчастью, гоголевский талант, единственный в своем
роде, был несовместим с романтической концепцией месси-
анского искусства... Комический стиль и ироническая дис-
танция, создаваемая этим стилем, были обречены на гибель
под давлением противопоказанной им эстетической тео-
рии... Аксаков возвел Гоголя в сан, приличный Гомеру и
Шекспиру, Шевырев предсказал величественное развитие в
грядущих томах поэмы... Призыв к торжественному, вселен-
ски-значимому, боговдохновенному творчеству был для Го-
524
голя так же внятен, как долг отказаться от юмора и натура-
листического правдоподобия... Чтобы стать достойным вы-
сокого призвания, он иссушил себя и подверг бичеванию
свою музу.
* * *
...особенность процесса творче-
ства в Гоголе та, что ни в чем не
закончен он; Гоголь не замкнут со-
бранием сочинений; ищите его в
каждом художнике слова; откроете
Гоголя там, где ему не положено
быть «академиками».
А. Белый
Основополагающая идея Мастерства Гоголя заключа-
ется в том, что Гоголь — великая школа, университет, академия
русской словесности, неисчерпаемый источник далеко не одного
реалистического искусства: изобразительность, стиль, сюжет Го-
голя — законы мастерства, не познав которые нельзя стать ху-
дожником. Вся русская литература, считал Андрей Белый, — рас-
крытие Гоголя, раскрытие сокровищ этой тщательно укрытой пе-
щеры русского Аладина.
Но процесс, обусловленный спросом, проходя сквозь
творца, Гоголя, но минуя помещика-осознателя, не только
отпечатывается «Собранием сочинений», но и далее рас-
крывается в читательских коллективах, из которых выходят
Толстой, Достоевский, Тургенев — вплоть до нашего време-
ни: Маяковский, Сологуб, Блок, Белый, сколькие и катили,
и катят гоголевскую тройку мимо сарая, в котором ее хотел
запереть Гоголь-собственник.
Показать процесс, обусловивший мастерство, на законах
мастерства, и последние ощупать на отложениях изобрази-
тельности и слога — показать печать лавы на магме.
Существует весьма распространенная точка зрения, согласно
которой новые, молодые русские писатели мало интересовали
Гоголя, предпочитавшего им Державина, Крылова, Жуковского,
Пушкина. Анахорета якобы волновал «высокий штиль», хотя сам
он писал иным, чуть ли не пушкинским языком. Даже Бедных
людей начинающего Достоевского Гоголь будто бы прочел то-
лько после настоятельных рекомендаций Николая Николаевича
Языкова.
525
Правда ли это?
Иногда у Гоголя действительно проскальзывают нотки прене-
брежения: «здоровье мое хуже нынешней русской литературы»,
но, обладая тонким чутьем поэта, Гоголь — лучше критиков —
распознавал новые таланты и безошибочно оценивал произведе-
ния еще не известных авторов. Послушаем рассказ Афанасия
Афанасьевича Фета, относящийся к событию 1839 года, когда
юному поэту не исполнилось и 19-ти:
Желтая моя тетрадка все увеличивалась в объеме, и од-
нажды я решился отправиться к Погодину за приговором
моему эстетическому стремлению. «Я вашу тетрадку, поч-
теннейший, передам Гоголю, — сказал Погодин: — он в
этом случае лучший судья». Через неделю я получил от По-
година тетрадку обратно со словами: «Гоголь сказал, это —
несомненное дарование».
И. П. Золотусский:
Ходили слухи, что ничем в литературе он не интересует-
ся, ничего не читает. Это была неправда. «Он все читал и за
всем следил, — пишет Л. Арнольди. — О сочинениях Турге-
нева, Григоровича, Гончарова отзывался с большою похва-
лой. «Это все явления, утешительные для будущего, — гово-
рил он. — Наша литература в последнее время сделала кру-
той поворот и попала на настоящую дорогу».
Так оно и было. Еще в 1846 году он писал Плетневу:
«Современное нам время, слава Богу, не без талантов». Че-
рез год в печати появилась «Обыкновенная история»
И. Гончарова. Печатал свою «живую и верную статистику
России», как назвал Гоголь его очерки, Казак Луганский —
Владимир Даль. Вышли новые повести Ф. Достоевского —
«Двойник», «Господин Прохарчин», «Хозяйка», «Неточка
Незванова». В декабре 1849 года в доме Погодина Гоголь
слушал в исполнении автора комедию А. Н. Островского
«Свои люди — сочтемся»...
Русская литература разветвлялась и уходила дальше — он
иногда чувствовал себя остающимся на берегу и провожаю-
щим отходящие корабли. Однажды — это было еще в 1848
году — его пригласили к себе на обед Некрасов и его сто-
ронники. Он прибыл, но просидел с ними недолго, оглядел
их, пощупал несколькими вопросами и был таков.
526
Он знал их заочно, теперь воочию убедился, какие они
разные и какая пропасть между ним и ими. Он был дейст-
вительно «уходящим человеком», они — приходящими, вер-
ней, уже пришедшими.
Современных ему русских писателей Гоголь действительно
читал нерегулярно, но желание такое у него было всегда. Даже в
период интенсивной работы над Перепиской он признавал-
ся Языкову в письме от 22 апреля 1846 года:
Мне бы теперь сильно хотелось прочесть повестей на-
ших нынешних писателей. Они производят на меня всегда
действие возбуждающее, несмотря на самую тягость болез-
ненного состояния моего. В них же теперь проглядывает ве-
щественная и духовная статистика Руси, а это мне очень
нужно. Поэтому для меня имеют много цены даже и те по-
вествования, которые кажутся другим слабыми и ничтож-
ными относительно достоинства художественного.
Гоголь высоко оценивал Савонаролу и Три смерти
А. П. Майкова: «Это так же закончено и сильно, как терцеты
Пушкина, — во вкусе Данта». «Поэзия не умерла. Не оскудел
князь от Иуды и вождь от чресл его...»
А вот Тараса Шевченко, другого великого малоросса, явно не
любил: «Деггю много, дегтю больше, чем самой поэзии». Гоголю
не нравилось, что Шевченко писал по-украински.
Нам надо писать по-русски, надо стремиться к поддерж-
ке и упрочению одного, владычного языка для всех родных
нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и
сербов должна быть единая святыня — язык Пушкина, ка-
кою является евангелие для всех христиан, католиков, лю-
теран и гернгутеров.
С Иваном Сергеевичем Тургеневым Гоголя познакомил Щеп-
кин. Это произошло незадолго до смерти Гоголя по инициативе
Тургенева. Гоголь был рад знакомству, хотя в конце жизни редко
кому предлагал свою дружбу. М. С. Щепкин вспоминал:
Он [Гоголь] встретил нас весьма приветливо; когда же
Тургенев сказал Гоголю, что некотороые произведения его,
переведенные им, Тургеневым, на французский язык и чи-
танные в Париже, произвели большое впечатление, Гоголь
527
заметно был доволен и с своей стороны сказал несколько
любезностей Тургеневу. Но вдруг побледнел, все лицо его
искривилось злой улыбкой, и он в страшном беспокойстве
спросил: «Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня
своими выходками в иностранных журналах?»1 «Тут только
я понял, — рассказывал Щепкин, — почему Гоголю так хо-
телось видеться с Тургеневым». Выслушав ответ Тургенева,
Гоголь сказал: «Правда, и я во многом виноват, виноват
тем, что послушался друзей, окружавших меня, и, если бы
можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил
мою «Переписку с друзьями». Я бы сжег ее».
В Литературных и житейских воспоминаниях
И. С. Тургенев оставил подробную запись о этой встрече, в кото-
рой между прочим писал:
...из писем Гоголя мы знаем, какою неизлечимой раной
залегло в его сердце полное фиаско его «Переписки», — это
фиаско, в котором нельзя не приветствовать одно из немно-
гих утешительных проявлений тогдашнего общественного
мнения. И мы с покойным М. С. Щепкиным были свидете-
лями в день нашего посещения, до какой степени эта рана
наболела. Гоголь начал уверять нас внезапно изменившим-
ся, торопливым голосом, что не может понять, почему в
прежних его сочинениях некоторые люди находят какую-то
оппозицию, что-то такое, чему он изменил впоследствии;
что он всегда придерживался одних и тех же религиозных и
охранительных начал, и, в доказательство того, готов нам
указать на некоторые места в одной своей, уже давно напе-
чатанной книге... Промолвив эти слова, Гоголь с почти
юношеской живостью вскочил с дивана и побежал в сосед-
нюю комнату. Михаил Семенович только брови возвел го-
ре — и указательный палец поднял... «Никогда таким его не
видел», — шепнул он мне...
Гоголь вернулся с томом «Арабесок» в руках и начал чи-
тать на выдержку некоторые места одной из тех детски на-
пыщенных и утомительно пустых статей, которыми напол-
нен этот сборник. Помнится, речь шла о необходимости
строгого порядка, безусловного повиновения властям и т. п.
«Вот, видите, — твердил Гоголь, — я и прежде всегда то же
1 Речь идет о появившейся статье Герцена «О развитии революционных идей
в России», в которой Искандер упрекал Гоголя в отступничестве от прежних (до
«Переписки») убеждений.
528
думал, точно такие же высказывал убеждения, как и те-
перь... С какой же стати упрекать меня в измене, в отступ-
ничестве?.. Меня?!»
В письме Полине Виардо от 21 февраля 1852 г. И. С. Тургенев
писал о Гоголе:
Для нас он был больше, чем просто писатель: он рас-
крыл нам нас самих... Надо быть русским, чтобы это чувст-
вовать. Самые проницательные умы из числа иностранцев,
как, например, Мериме, видели в Гоголе только юмориста
на английский манер. Его историческое значение совер-
шенно ускользает от них..
Гоголевское начало дает себя знать во многих произведениях
И. С. Тургенева: поручик Петушков из одноименной повести во
многом напоминает героя гоголевской Шинели, тогда как
майор из этой же повести по своему самодурству и манерам на-
столько близок «значительному лицу», что нередко даже говорит
словами последнего. Сатирические портреты Тургенева, напри-
мер, Пандалевский в Рудине и Гедеоновский в Дворян-
ском гнезде, также напоминают гоголевские персонажи. Го-
голевская манера сквозит и в образах Кукшиной и Ситникова в
Отцах и детях.
Андрей Белый:
Я не уделю места разгляду влияний на Гоголя предшест-
венников (русских и иностранцев); этот вопрос исследован:
нет писателя, не начинавшего с «влияний»; повторять слова
о влиянии Стерна, Вальтер Скотта, Тика, Матюрина, Жане-
на, Жуковского, а тем паче Марлинских, Нарежных, Сомо-
вых, Олиных и т. д. — ломиться в открытую дверь... В. Гип-
пиус, Виноградов, Веселовский, Котляревский и Чудаков
достаточно распространялись на эту тему; я считаю, что
сумма всех влияний ничтожна в сравнении с «новым каче-
ством», выявленным из химии соединения суммы влияний;
и кроме того: разлагать писателя на «влияния» и суммой их
характеризовать писателя — все равно, что характеризовать
«Войну и мир» тем, что в наборе все буквы встретятся от «а»
до «я»; историки литературы в прошлом столетии достаточ-
но нагрешили поисками «влияний»; вместо того чтобы пи-
сателя «выярчить», они его протускляли перечнем влияний.
Разобрано и влияние Гоголя на наших классиков; отмечу
529
лишь перепев слоговых ходов Гоголя у раннего Достоевско-
го. Более внимания я уделю недавнему возврату к Гоголю в
кружках, резко противопоставленных «натуральной школе»
критикой начала века; в них подчеркнулись: гоголевский
гиперболизм, гоголевское «остранение» образов, рискован-
ность сравнений, изощренность восприятий, выиск неоло-
гизмов и т. д., т. е. все то, что звучало под сурдинкой у «на-
туральной школы»; в символизме, имажинизме, футуризме
вплоть до экспрессионизма — явные следы «гоголизма»
вместе с отходом от Тургенева, Гончарова, Писемского,
Григоровича и неудачных усилий исходить от Толстого.
Гоголь дважды прошелся ветром по нашей литературе: в
середине прошлого века, в начале нынешнего; дореволюци-
онная «писательская молодежь» у Гоголя училась во мно-
гом. Чернышевский писал: через четверть века по выходе
«Вечеров» еще нельзя говорить об успехах, преодолевающих
Гоголя. Теперь, через сто лет после «Вечеров», еще нельзя
говорить, что Гоголь отшумел в нас.
И. Анненский:
Гоголь-идиллик — а был ведь и такой, говорят, — дал
тоже интересный росток и крупный — Гончарова.
Пусть Гончаров позже так открещивался от Гоголя, но
ведь Захар-то налицо; и не в прямом ли родстве состоит Об-
ломов с Тентетниковым или семьей Платоновых?
Если Гончарова Гоголь научил глядеть, то Островского
он же выучил слушать и лицедействовать. Бальзаминов не
попал еще, правда, на смотрины к Агафье Тихоновне, но
зато одна гоголевская сцена выросла в целую трилогию. Не
кто другой, как именно Гоголь открыл Островскому уши на
сокровища Замоскворечья, ему самому, впрочем, кажется,
мало известного. Вся поэзия ковровой шали, фризовой ши-
нели и подстриженного затылка пошла именно от Гоголя.
Правда, смех Гоголя, еще вполне чуждый смешливости его
классического мичмана, ярко божественный, творческий
смех Гоголя, сверкает у Островского лишь редкими крупи-
цами; правда и то, что Островский не столько смеется сам
на выдумку свою, по-гоголевски смеется, как нас смешит и
что ему нужны для этого: то слеза Любима Торцова, то сло-
вечки особые, то ужимка, то шарж. Но и он, Островский,
идет своим путем от Гоголя — самобытный и в то же время
нераздельно — наш.
530
Именно Гоголь открыл русский феномен помпадурства, анто-
логия которого необозрима: Достоевский и Щедрин, Чехов и Су-
хово-Кобылин, Белый и Булгаков, Ильф и Петров, Зощенко и
Платонов...
— Приставить нового чиновника для того, чтобы ограни-
чить прежнего в его воровстве, значит сделать двух воров
наместо одного. Да и вообще система ограничения — самая
мелочная система. Человека нельзя ограничить человеком;
на следующий год окажется надобность ограничить и того,
который приставлен для ограничения, и тогда ограничени-
ям не будет конца. Это пустая и жалкая система... Нужно
оказать доверие к благородству человека, а без того не будет
вовсе благородства.
А. К. Воронский:
Некрасов, Салтыков-Щедрин, шестидесятники, Глеб
Успенский, Достоевский — все они обязаны Гоголю.
От Гоголя — «орлиное соображение вещей» в русской
литературе, преобладание материальности, плоти, красок,
языческого преклонения перед жизнью, интимной связи с
вещью, с природой, умение изобразить их полно и насы-
щенно. Это «соображение» — в стихийности Толстого, в
гимнах Достоевского, подлой, но могучей и неистребимой
карамазовской силе жизни с ее клейкими весенними лис-
точками, — в тяжелой купеческой «существенности» Остро-
вского, в жрущих и пьющих пошехонцах, ташкентцах, в
помпадурах и помпадуршах Салтыкова-Щедрина, в чувст-
венной восприимчивости природы у Тургенева, в его лиш-
них людях, детях Тентетникова, Хлобуева, Манилова, в Об-
ломове, Штольце-Констанжогло Гончарова, в прекрасной,
благородной, но тоже чувственной грусти Чехова, в его хму-
рых людях; она — в живописности и красочности Горького,
у которого его босяки напоминают итальянских лацарони,
Пеппе, — в «вещности» Владимира Маяковского, в хаосе и
в жесте-судороге Андрея Белого, в биологизме и фламанд-
ских настроениях советских писателей, в тоске по утрачен-
ной юности и свежести Сергея Есенина.
Петербургские повести Гоголя наметили линию урбаниз-
ма и импрессионизма Достоевского, символистов и футури-
стов. И разве не от Гоголя колорит и словечки Лескова, Ре-
мизова, наше областничество, которое, кстати сказать, луч-
ше назвать пародией на Гоголя.
531
Стремление Гоголя стать лучше, его «душевное дело» то-
же наложило на наше художественное слово глубокий отпе-
чаток. «Переписка с друзьями», дуализм, проповедь нравст-
венного самоусовершенствования во многом определили
христианство Достоевского, проповедничество Толстого.
В душевной болезни Глеба Ивановича Успенского, которо-
му казалось, что Глеб в нем ангел, а Иванович — свинья,
нетрудно увидеть отражение дуализма, погубившего и Гого-
ля. Мучения Гаршина, его болезнь тоже заставляют вспоми-
нать Гоголя.
От Гоголя идет чувство неблагополучия, катастрофы,
страх перед революционным пролетариатом у Розанова,
Мережковского, Андрея Белого, Блока, Сологуба.
От Гоголя последних лет русский символизм с его по-
пытками из грубых кусков жизни сотворить сладостную ле-
генду, со взглядом на нашу жизнь как на знак «миров
иных».
Как и Достоевский, Щедрин видел в Гоголе «родоначальни-
ка... нового направления русской литературы», к которому «во-
лею-неволею примыкают все позднейшие писатели», к коим он,
видимо, причислял и себя. Хотя у Щедрина мы действительно об-
наруживаем плеяду Нагибиных и Мичулиных — родных братьев
Акакия Акакиевича (у одного из них даже «старая и вытертая ши-
нелька, более похожая на капот, нежели на шинель»), хотя автор
Господ Головлевых заявлял о верности эстетическим заве-
там автора Мертвых Душ, все-таки это творцы разных масш-
табов — один, пишущий историю собственной души, другой,
стремящийся сблизиться с действительностью, «как бы уродливо
она ни выразилась», «изучать мелкую, кропотливую жизнь».
Сам Щедрин вполне осознавал широту Гоголя — вспомним
хотя бы его замечание о том, что Хлестаковым может оказаться и
«ловкий гвардейский офицер», и «государственный муж», и «наш
брат, грешный литератор», однако сам не мог удержаться на
столь высоком уровне обобщений. Он действительно ограничен
сатирой, социальной конкретикой, «текущим моментом» — отто-
го гоголевский Ноздрев под его пером обращается в «политиче-
скую фигуру», издателя газеты Помои, Держиморда — в дейст-
вительного статского советника, а Хлестаков — в ходульного
подленького либерала.
Нет, Салтыков-Щедрин не продолжатель «гоголевских тради-
ций», но прямая его противоположность: «Сравнивать Гоголя с
532
Салтыковым — это все равно, что ставить рядом имена Пушкина
и Розенгейма». Гоголь экзистенциален и бытиен, Щедрин —
конкретен и безжалостен. Щедрин полностью разрушил гоголев-
скую гармонию и гоголевскую идиллию. Это — карающий Го-
голь, Гоголь, отравленный желчью. Если хотите, Фемистоклюс
«состарился в Порфирия Головлева». При всем том нельзя отри-
цать, что Запутанное дело Щедрина навеяно бессмертной
Шинелью.
Надо сказать, что далеко не все литераторы разделяли то мне-
ние Достоевского, что наша литература вышла из Шинели.
В частности, В. Розанов считал это мнение совершенно несосто-
ятельным: «Было бы правильнее сказать, что она вся в своем це-
лом явилась отрицанием Гоголя, борьбой против него». Более то-
го, и в мировой литературе «он стоит одиноким гением, и мир
его не похож ни на какой мир».
Так кто же прав? Как это ни парадоксально, правы обе сторо-
ны, потому что речь идет о разных Гоголях, о разных сторонах
Гоголя. Конечно, Гоголь не был тонким психологом и, как пра-
вило, действительно оставался «гениальным живописцем внеш-
них форм». Верно и то, что он положил начало «ироническому
настроению» в русском обществе, подтачивающему и разлагаю-
щему его: «С Гоголя именно начинается в нашем обществе поте-
ря чувства действительности». В этом смысле Гоголь был рус-
ским утопистом, носителем русской идеи и «учителем», пасущим
народ. Во всех этих отношениях русская литература наследовала
Гоголю. Но также верно и то, что нельзя было унаследовать мир
фантазий и грез Гоголя, часто разраставшихся до размеров неи-
моверных.
Однако я не могу согласиться с мнением Розанова, будто, в
отличие от Достоевского, Толстого, Тургенева, Гоголь-художник
не отразил в своих творениях внутренний мир человека. Просто
он отразил собственный внутренний мир. По словам В. Брюсова,
Гоголь всегда оставался «мечтателем, фантастом, и, в сущности,
воплощал в своих произведениях только идеальный мир своих
видений». Но ведь каждый крупный художник только и пишет
этот собственный персональный неповторимый мир.
Трудно согласиться и с И. Анненским, будто «тело» восторже-
ствовало в искусстве Гоголя над «духом». В человеке, по словам
Анненского, всегда можно обнаружить две ипостаси: одна — ося-
заемая, телесная (голос, поза, смех), другая — сокровенная, идеа-
533
льная, тайная, являющаяся истинной сущностью каждого. Пер-
вая — человеческий типаж, вторая — человеческая индивидуаль-
ность. Первая — плоть, вторая — дух. По мнению И. Анненско-
го, Гоголь расчленил две ипостаси человека и столь возвысил те-
лесное, что духовное оказалось затертым и ненужным. С тех пор,
как это произошло, первая ипостась человека полонила всю рус-
скую литературу. С легкой руки Гоголя, считал Анненский, те-
лесность «загромоздила» и «сдавила» русский мир.
В русской литературе действительно плотское начало домини-
рует над сокровенно-духовным, социальное — над персональ-
ным, но, во-первых, это не вина Гоголя, а, во-вторых, Гоголь —
далеко не типичный пример такого «расчленения» и тем более
возвышения внешнего над внутренним. В этом отношении Го-
голь — не более чем сын века, созревший плод своего народа и
своей страны.
Я бы не стал возлагать на страдальца и мученика, каким без
всяких сомнений был Гоголь, грехи эпохи и ответственность за
эволюцию «потери чувства действительности». Не он — первый,
не он — последний...
* * *
Гоголь и Толстой?
Толстой был патриархальным анархистом, Гоголь — патриар-
хальным традиционалистом. Когда страждущий дух осознал свою
первородность, Толстой устремился к бунту, Гоголь бросился к
Церкви.
Толстого раздражало отношение Гоголя к искусству и к церк-
ви. Человека, отрекшегося от собственного искусства, конечно
же, никак не могла прельщать гоголевская любовь к искусству
«со всей страстью романтика, со всем упоением тонкого знатока
поэзии». Гоголь боготворил церковь, а Толстой церковь отрицал.
Для Гоголя художественное начало должно быть оплодотворено
началом религиозным, театр — «незримая ступень к христианст-
ву». Для позднего Толстого искусство — дьявольское искушение.
Даже к евангельскому сюжету «Явление Христа народу» отноше-
ние у них разное: один говорит о нем с возвышенным трепетом,
для другого само Священное писание не боговдохновенное тво-
рение, а «книга, прошедшая через многосложные соединения,
534
переводы и переписки, составленные 18 веков тому назад людь-
ми малообразованными и суеверными».
Толстой бежал от церкви, Гоголь искал спасения в ней. Отсю-
да — желание Великого Пилигрима во что бы то ни стало отде-
лить живое религиозное чувство Гоголя от его «церковной веры».
Отношение Толстого к Гоголю на протяжении жизни не со-
хранялось постоянным. В 50-е годы, видимо, под влиянием об-
щей духовной атмосферы России и ее отношения к автору Пи-
сем Толстой делает в Дневнике (8 сентября 1857 года) рез-
кую, категорическую запись: «Читал полученные письма Гоголя.
Он просто был дрянь человек. Ужасная дрянь». Кажется неверо-
ятным и невозможным, что через тридцать лет Толстой напишет
панегирик оклеветанной книге: перечел я книгу Гоголя в третий
раз. Всякий раз, когда я ее читал, она производила на меня силь-
ное впечатление. Гоголь многое сказал в своих письмах, но по-
шлость, им облеченная, закричала: он сумасшедший, и Гоголь —
наш Паскаль — лежит под спудом! Пошлость господствует, и я
всеми силами стараюсь сказать то же, что сказано Гоголем...
В письмах Л. Н. Толстого 1887 года часто мелькает имя «на-
шего Паскаля». Это период увлечения Толстого Гоголем, и в пер-
вую очередь его Перепиской.
Л. Н. Толстой — П. И. Бирюкову:
Очень меня заняла последнее время еще Гоголя «Пере-
писка с друзьями». Какая удивительная вещь! За 40 лет ска-
зано, и прекрасно сказано, то, чем должна быть литература.
Пошлые люди не поняли, и 40 лет лежит под спудом наш
Паскаль. Я думал даже напечатать в «Посреднике» «Вы-
бранные места из переписки».
Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову:
Еще сильное впечатление у меня б[ыло], подобное Кан-
ту — недели три тому назад при перечитывании в 3-й раз в
моей жизни «Переписки» Гоголя. Ведь я опять относитель-
но значения истинного искусства открываю Америку, от-
крытую Гоголем 35 лет тому назад. Значение писателя вооб-
ще определено там (письмо его к Языко [ву]) так, что лучше
сказать нельзя. Да и вся переписка (если исключить немно-
гое частное) полна самых существенных, глубоких мыслей.
535
Великий мастер своего дела увидал возможность лучшего
деланья, увидал недостатки своих работ, указал их и доказал
искренность своего убеждения и показал хоть не образцы,
но программу того, что можно и должно делать, и толпа, не
понимавшая никакого смысла делаемых предметов и досто-
инства их, найдя бойкого представителя своей низменной
точки зрения, загоготала, и 35 лет лежит под спудом в вы-
сшей степени трогательное и значительное житие и поуче-
нья подвижника нашего цеха, нашего русского Паскаля.
В письме Ф. Н. Бергу Л. Н. Толстой рекомендует издателю
Нивы статью А. И. Орлова Гоголь как учитель жизни,
предлагая написать предисловие к статье. Толстой обращает вни-
мание адресата на царящую в русской литературе ложь о Гого-
ле — стыд и позор нашей словесности: «Я дал мысль об этой ста-
тье ее автору для составления народной (в самом широком смыс-
ле) книжки о Гоголе, и автор исполнил эту мысль сверх моего
ожидания превосходно».
И. Анненский:
Но Лев Толстой, Толстой-пантеист, конечно, интерес-
нейшая параллель именно к Гоголю.
Толстой — это, так сказать, гоголевская эссенция, это
Гоголь, из которого выжгли романтика.
Гоголь-профиль, Гоголь — тревожный гений юмора, от-
лился в скульптурного ирониста Ясной Поляны. Гоголь-маг
в Толстого-бога. Глядите: ведь Чартков-то, несчастный, —
художник из «Портрета», помните, — все еще мечется, но
Иван Ильич отстрадал свое и спокоен: он знает себе, что и
это... даже это — ах! только-то? Жизнь у Гоголя не боится
сверкать бессмыслицей анекдота. У Толстого, наоборот, са-
мое нелепое стечение обстоятельств, например, во «Власти
тьмы» выходит необходимым и исполненным природою по
заказу яснополянского мастера.
И все же — почему яснополянский мастер, переживший в
своей эволюции отношений к Гоголю эти крайности — от «дрянь
человек» до «наш Паскаль» — до конца своих дней испытывал
чувство собственного превосходства, столь отчетливо выражен-
ное в предсмертной почти статье О Гоголе: «Гоголь — огром-
ный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый, робкий
ум»? Почему всю жизнь Толстой читает и перечитывает творения
этого «небольшого, робкого ума», находя у него «много своих
536
мыслей»? Почему только тем и занят, что, читая Гоголя, ищет в
нем Толстого — именно эти самые «свои мысли»?
Я солидарен с В. И. Сахаровым, видящим разгадку отноше-
ния Толстого к Гоголю в словах Тургенева, сказанных последним
в адрес Толстого: «Вот наконец преемник Гоголя».
Их обоих именовали русскими Гомерами, создателями
национального эпоса, учителями жизни, гениальными ху-
дожниками и слабыми мыслителями, узниками своего «ум-
ственного аскетизма» и т. п.
Разумеется, Толстой знал об этих сопоставлениях и от-
нюдь не был от них в восторге. Толстой постоянно ощущал
на себе этот пристальный и непонятный взгляд из прошло-
го и, как всякий самородный талант, не любил, когда его,
идущего собственной дорогой, называли наследником Го-
голя.
Конечно, это было большим преувеличением — ремизовские
слова, что без Мертвых Душ не было бы Войны и Ми-
ра,-но не было преувеличением известное сходство духовных
развитии двух не стыкующихся ни в одной точке русских тита-
нов. И совсем не случайно, узнав о новых идеях Толстого, изве-
стных ныне под не вполне удачным названием «толстовство»,
А. А. Фет написал автору Исповеди: «Или Вы шутите, или Вы
больны. Тогда, как о Гоголе, сжегшем свои сочинения, надо о
Вас жалеть, а не судить».
Как только Толстой в 80-е годы пережил духовный пере-
лом, отрекся от «Войны и Мира» и «Анны Карениной» и
сделался проповедником практической этики, учителем
жизни, то всем сразу же вспомнилось имя Гоголя. Вот тогда
сопоставления обоих писателей и сделались общим местом.
Сложное отношение Толстого к Гоголю — результат этих со-
поставлений и чуть ли не фрейдовского комплекса «любви-нена-
висти» к Эдипу-крестному отцу. Сама статья Толстого о Гоголе
имеет ключевое значение в понимании духовной эволюции Тол-
стого, потому что пишет-то он о другом, а имеет в виду себя.
Вчитайтесь в толстовский текст, вдумайтесь, не открещивался ли
он в очередной раз от себя самого, теперь уже «толстовца»:
...с одной стороны, Гоголь приписывает искусству не-
свойственное ему высокое значение, а с другой — еще ме-
537
нее свойственное религии значение церкви, и хочет объяс-
нить это воображаемое высокое значение своих произведе-
ний этой церковной верой.[...] Если бы Гоголь, с одной сто-
роны, просто любил писать повести и комедии и занимался
этим, не придавая этим занятиям особенного, гегельянско-
го, священнослужительского значения, и, с другой стороны,
просто признавал бы церковное учение и государственное
устройство, как нечто такое, с чем ему незачем спорить и
чего нет основания оправдывать, то он продолжал бы пи-
сать и свои очень хорошие рассказы и комедии и при слу-
чае высказывал бы в письмах, а может быть, и в отдельных
сочинениях, свои часто очень глубокие, из сердца выходя-
щие нравственные религиозные мысли. Но, к сожалению, в
то время как Гоголь вступил в литературный мир, в особен-
ности после смерти не только огромного таланта, но и бод-
рого, ясного, незапутанного Пушкина, царствовало по от-
ношению к искусству — не могу иначе сказать — то до не-
вероятности глупое учение Гегеля, по которому выходило
то, что строить дома, петь песни, рисовать картины и пи-
сать повести, комедии и стихи представляет из себя некое
священнодействие, служение «красоте», стоящее только на
одну степень ниже религии... Из этой-то попытки и вышли
те удивительные нелепости, которые так поражают в его пи-
саниях последнего времени.
* * *
Гоголь и Чехов?..
Восьмидесятые годы прошлого века вырастили своего
писателя гоголевской школы. Зябкий и слабогрудый Чехов
писал только пастелью, и обладание жизнью выходило у
Чехова страдальческим.
Даже в его артистическом равнодушии сквозило, может
быть, более всего болезненное самооберегание.
Зато Пошлость уже перестала в Чехове грозить, она разве
что делала большие глаза и пугала. В ней появились разду-
мье, нежность; она стала почти мечтою... Пошлость — меч-
тою?
Но это так.
Преобразилась у Чехова и дорожная гоголевская греза.
Чехов не переживал более ни странника, ни беглого, ни ре-
монтера, ни просто бекеши или енотов в кибитке. А все-та-
ки было и в Чехове неугомонное, что-то мечущееся, что-то
538
смеющееся над расстояньями. В Москву... В Москву... на
Большую Басманную... И ведь непременно откуда-нибудь с
Аутки. Нет, Гоголь и в Чехове не перестал жить мечтою о
дороге!..
Только резкость и холод скорбного размышления Чехова
пугали, потому что сам он, нежный, хотя и без малейшей
солнечности, был — весь обнаженные нервы. Мир выходил
у Чехова не волшебно-чарующе-слитым, как у Гоголя, мир-
имя: мир-Коробочка или мир-Собакевич, а лишь искусно-
омозаиченным, то в «Мужиках», то, даже виртуознее, — в
распаде «Вишневого сада».
И если Гоголь открывал жизнь, достойную божественно-
го смеха там, где другой глаз не увидел бы ничего, кроме
плесени, то Чехов, по его собственным словам, мог из вся-
кой вещи рассказ сделать. Видите — пепельница стоит, так
и из нее.
Так вот к чему привелось. Где гении открывали жизнь и
даже творили бытие, там таланты делали литературу.
Чехов начинал свою писательскую деятельность с нескрывае-
мой ориентации на Гоголя: в «Календаре «Будильника» на 1882
год» мы находим целую обойму гоголевских персонажей, перене-
сенных в начало 80-х гг., здесь и Иван Иванович и Иван Ники-
форович, и Хлестаков (издающий газету «Благонамеренные коз-
лы»), и Акакий Акакиевич, и Кифа Мокиевич, и Пульхерия Ива-
новна... Среди так и не осуществленных, но проработанных за-
мыслов Чехова, относящихся к началу 70-х, — новая версия Та-
раса Бульбы, претендующая на тот же жанр исторической
повести. Да и поздний Чехов, далеко ушедший от раннего Гого-
ля, хотя больше не черпает темы и имена героев в сокровищнице
Русского Свифта, широко пользуется своеобразием гоголевских
сюжетов: выходом за пределы фабулы или бесфабульностью,
способностью сюжета выглядеть «двойным», расширением про-
странства содержания, налетом философичности, использовани-
ем так называемых «кокаланов» — нелепых, нарочито неправдо-
подобных сюжетных ситуаций или словесных алогизмов в речи
рассказчика-повествователя.
Прослеживая влияние Гоголя на русскую литературу, И. Ан-
ненский обращает внимание на преемственность образов-симво-
лов. Так, воздействие Гоголя на Чехова прослеживается в транс-
формации символа дороги. Гоголевское переживание символа
дороги трансформируется у Чехова в мечту о дороге в Москву —
пути обновления жизни.
539
Ренессанс Гоголя в русской литературе бесспорно связан с
Серебряным веком: большинство писателей-символистов объя-
вило себя наследниками величайшего духовидца. Уже первый
символистский журнал Новый путь устами Д. С. Мережков-
ского и П. Перцова объявил Гоголя и Достоевского родоначаль-
никами течения. Трудно назвать поэта первого десятилетия XX
века, не отдавшего долги Гоголю, не назвавшего его своим пред-
шественником.
У Гоголя есть письмо, которое вполне можно взять в качестве
эпиграфа к Мелкому бесу Сологуба или Петербургу
Белого:
...ваше волнение есть просто дело черта. Вы эту скотину
бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он — точно мелкий
чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие.
Пыль запустит всем, распечет и раскричится. Стоит только
немножко струсить и податься назад — тут-то он и пойдет
храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост по-
дожмет. Мы сами делаем из него великана; а на самом деле
он черт знает что.
В еще более широком плане — это диагноз явления, которое я
назвал йехуизмом, символ коммунистического гигантизма, пре-
вращения мелких ничтожных бесов с жалкой, подлой душонкой
в монументальных идолов, стоящих над городами с распростер-
той в никуда лапой.
Превратили мелких бесов в титанов, они и куражились...
В. М. Паперный:
Русскому символизму (и А. Белому — в особенности) не-
обходим был Гоголь, но в Гоголе необходимо было увидеть
себя. Символистская критика артикулировала иррациона-
лизм, «мистицизм», интерес к подсознательному, таинствен-
ному, страшному в миросозерцании Гоголя, выделяла изоб-
ражения аномальных психических состояний (психоз, бред,
раздвоение личности) и в особенности изображения демо-
нических сил в его произведениях. Однако важная роль, ко-
торая в системе мышления Гоголя была присуща таким цен-
ностям, как естественность, простота, порядок, душевное
здоровье, справедливость, национальная, государственная и
церковная традиция, не была осознана, и в результате сама
540
эта система оказалась воспринятой в крайне деформирован-
ном виде, как лишенная позитивного ценностного содержа-
ния. Отсюда и возникло представление о «демонизме» Гого-
ля. Впервые это представление было развито В. В. Розано-
вым, и его концепция оказала сильное влияние на символи-
стские мифопоэтические истолкования личности и творче-
ства Гоголя, на соответствующие представления А. Белого.
У Розанова был всю жизнь интерес к Гоголю, основан-
ный на открытом неприятии, на осознании в Гоголе анти-
пода. Розанов стремился увидеть ценность в человеке как
бытовом, половом, семейном существе и противился любой
нормативности, любым «высшим» требованиям, обращен-
ным к человеку. Это было отчетливо противоположно тому,
что утверждалось самим Гоголем, и таким образом высшая
ценность признавалась за сферой, которая у Гоголя опреде-
лялась как «пошлость». А это естественно привело к тому,
что Розанов отказал в человечности как гоголевским героям
(«совершенно нет живых лиц», «крошечные восковые фи-
гурки», «куклы», «мертвые души» и т. д.), так и самому Го-
голю («оборотень», «черт», «демон, боязливо хватающийся
за крест»). Подчеркивая дисгармоничность Гоголя, Розанов
противопоставлял его Пушкину как художнику гармониче-
скому и утверждающему жизнь, причем в этом противопос-
тавлении Гоголю отводилась роль негативного фактора в
развитии русской литературы.
Концепция Розанова была трансформирована и приведе-
на в соответствие с категориями символистского мышления
Д. С. Мережковским, который усматривал в Гоголе (в про-
тивоположность Пушкину) «неравновесие языческого и
христианского, плотского и духовного, реального и мисти-
ческого», их «смешение» вместо «синтеза». Основной темой
Гоголя Мережковский считал «борьбу человека с чертом»
как «пошлостью», «серединой», «начатым и неокончен-
ным». Эта мысль, а также представление о черте как «двой-
нике» Гоголя была воспринята и отмечена А. Белым как
чрезвычайно важная.
Из всех авторов только Б. Садовский пытается видеть
Гоголя вне рамок истолкования Розанова — Мережковско-
го, призывая «взглянуть на Гоголя просто». В статье Брюсо-
ва «Испепеленный» дается вариация на одну из тем Розано-
ва: выделяется гиперболизм как эстетическая и психологи-
ческая доминанта творчества Гоголя и утверждается, что
для Гоголя «нет ничего среднего», есть «только безмерное и
541
бесконечное». Смерть Гоголя объясняется как «испепелен-
ность внутренней силой». Еще большее влияние Розанова
обнаруживает статья Эллиса, где «мир Гоголя» определен
как «музей», «зверинец», «арена цирка», гоголевский
смех — как «превращающий божеское в лице человека в
звериное», а «драма Гоголя» усматривается в том, что «ху-
дожник Гоголь отдал душу дьяволу», а «человек Гоголь жаж-
дал искупить великий грех Гоголя-художника».
И. Анненский:
Отстранивши всех посредников и примирителей, Гоголь-
автор действует среди нас уже самолично. Едва ли кто более
Сологуба, — правда, редкого Сологуба, не растерянного Со-
логуба «Навьих чар», а Сологуба пережитой им или лучше в
нем пережитой жизнью «Мелкого беса», — так непосредст-
венно не приближался к Гоголю. Пускай в телесности Со-
логуба уже прячется городской соблазн и луна его точно
сделана в Гамбурге. Но что же из этого? Разве все эти соло-
губовские люди, которых смешно обличать, но еще нелепее
любить и даже жалеть, — разве они уже не заготовлялись
вчерне в лаборатории «Мертвых душ»?
А речь Сологуба — шероховатая и в блестках, — разве
чья-нибудь глядится туда другая, кроме гоголевской?
Странно бы, кажется, среди наследья гоголевской эсте-
тики искать Куприна. Но бес неумирающего Гоголя щеко-
чет и этого писателя. Тип хотел бы слить воедино побольше
индивидуальностей и весело царить над ними. Но художник
то и дело сбивается с ноги. Мораль ломает ему перегородки,
и тип поневоле должен прятаться, жить под чужим именем,
а иногда, как в «Яме», даже и вовсе без всякого имени, про-
сто в виде какой-то упорной телесности, невыносимо власт-
ной, однако, среди самых разубедительных силлогизмов и
живой, несмотря на неврастенического Баркова.
Любопытен и арцыбашевский «Санин». Избави нас бог
только искать базаровщины. Базаров — это был разночин-
ный вольтерианец, и он так же глубоко, как все тургенев-
ское, сидел на своем корню. А Санин, наоборот, чисто по-
гоголевски карикатурен и метафизичен.
Корней Чуковский в статье Навьи чары мелкого б е -
с а заметил о Передонове: «Его, как и Сологуба, как некогда Го-
голя, тошнит от мира». Здесь употреблено символическое слово
«тошнота» — употреблено за четверть века до сартровской
542
Тошноты, романа, в чем-то предвосхищенного русскими сим-
волистами — Гоголем и Сологубом.
Из писателей начала века самые «гоголевские» — это Федор
Сологуб и Андрей Белый. Гоголевские и — одновременно — ан-
ти... Второй говорил о первом:
Нет, не стряхнешь Сологуба с действительности русской.
Плотью он связан с ней и кровью. В Чехове начался, в Со-
логубе заканчивается реализм нашей литературы. Гоголь из
глубин символизма вычертил формулу реализма: он — аль-
фа его. Из глубин реализма Сологуб вычертил формулы
своей фантастики: недотыкомку, елкича и др.; он — омега
реализма. Чехов оказался внутренним, но тайным врагом
реализма, оставаясь реалистом. Сологуб поднял знамя от-
крытого восстания в недрах реализма. Как-то странно со-
прикоснулся он тут с великим Гоголем, начиная с жуткого
смеха, которым обхохотал Россию от древнего города
Мстиславля до стен Петрограда и далее — до богоспасаемо-
го Сапожка.
Так соприкоснулся с Гоголем этот своеобразный анти-
под Гоголя. И слог Сологуба носит в себе иные черты гого-
левского слога: отчеканенный, простой и сложный одновре-
менно; только лирический пафос Гоголя, начертавший яр-
кие такие страницы, превращается у Сологуба в пафос су-
рового величия и строгости.
Вот какой слог этого большого писателя: тяжелый слог,
тяжелый, пышный; в пышности единообразный; в единооб-
разии простой.
Такова же идеология этого задумчивого летописца: тяже-
лая его идеология, причудливая; в причудливости единооб-
разная; в единообразии простая.
И если Гоголь неудачно пытался убить свой демонизм
реализмом, Сологуб в наследии Гоголя покончил с демо-
низмом навсегда, воображая при этом, будто он воскрешает
демонизм.
Гоголь начал с колдунов и басаврюков, а кончил Не-
вским Проспектом: но Невский Проспект оказался заве-
сой — и дырявой завесой: какой-то басаврюк выставил из
дыры нос: и нос заходил по Невскому; чего доброго, захо-
543
дили и ноги без туловища; наконец, котелок на палке. Реа-
лизм жизни русской сумел-таки проклятый колдун разло-
жить на носы. По всем правилам искусства Сологуб довер-
шил разложение: он — первый атомист; взвешивает дейст-
вительность русскую на атомные весы: и недотыкомка —
единица его веса: она — пылинка с головой и с ножками,
прикидывается бациллой; заползает в нос; человек чихнет,
простудится: пришел — разломала; глядь — «и тогда быстро
выбежала из угла длинная, тонкая лихорадка с некрасивым
лицом... обнимала...» («Истлевающие личины»). Уже не нос
басаврюкин глядит из дыры на Сологуба, а миллиарды ба-
саврюкиных бацилл свободно крутятся в пыли. О, Сапожек:
не спасешь, но погубишь!
Со свойственным Белому «перенесением» на «прототипы»
собственного миропонимания и мирочувствования он не только
использует «свое» в качестве «чужого», но и ищет генетические
связи между разными поэтиками и взаимовлияниями. Так, раз-
вивая тему «маленького человека» и устанавливая генетическую
связь Гоголь-Сологуб (у последнего в рассказе Маленький
человек герой уменьшается до размеров пылинки), Белый
прослеживает эволюцию человека в недотыкомку...
Здесь принципиальная мысль о постепенном измельчании об-
щества, о людях-неотличимых-пылинках, о превращении челове-
ка в условиях российского «синдрома сдавливания» сначала в
нос, а затем — в пыль: итоговое состояние — пыль лагерная...
К. В. Мочульский обратил внимание на явное стремление Бе-
лого играть роль Нового Гоголя и, главное, узнаваться в этой
«роли». Интересно, что несколько своих статей он даже подписал
псевдонимом Яновский, тем самым мифологически отождествив
себя с Гоголем путем присвоения первого имени последнего.
А. Белый стремится, посредством овладения стилем Го-
голя, овладеть его личностью, его «душой», самому стать
новым Гоголем, по-новому пройти путь Гоголя и пойти да-
льше. Тесно сопрягая судьбу Гоголя и судьбу России, А. Бе-
лый создает мифопоэтическую концепцию, в центре кото-
рой — судьба нового Гоголя (самого А. Белого) и новая су-
дьба России.
У Гоголя А. Белый нашел эстетическую утопию будуще-
го России как бесконечной Новой красоты и веру в быстрое
544
и чудесное превращение «таинственной», «загадочной» и
«страшной» России настоящего в прекрасную Новую Рос-
сию будущего... именно эта утопия (а не ее конкретная ма-
нифестация у Гоголя, связанная с его верой в провиденциа-
льность современных ему традиционных политических ин-
ститутов России) и была воспринята А. Белым... Но даже и
облеченная в новые мифо-политические формулы «револю-
ции духа», эта утопия сохранила свой романтически-враж-
дебный исторической реальности характер, так же, как уто-
пия Гоголя, приводя своих приверженцев к трагическому
разладу с миром и жизнью.
Как и Гоголь, Белый вечно недоволен написанным («...все,
мной написанное в стихах, в разгляде лет стоит, как черновики, с
опубликованием которых я поторопился»), как и Гоголь, Белый
вечно переписывает, перерабатывает заново, «не оставляет камня
на камне...» («...я хотел подготовить 2-е издание моих стихотво-
рений, распределив их по новым отделам и переработав ряд сти-
хотворений заново... Но занявшись переработкой, я понял, что
мое намерение — не оставить камня на камне в «Золоте в лазу-
ри», т. е. попросту заново написать «Золото в лазури»).
У Гоголя: «...чувства стали уже не человеков, а ка-
ких-то еще невоплощенных существ, — пишет Белый в ста-
тье о Гоголе, — летающая ведьма и грязная баба; Шпонька,
описанный как овощ, и Шпонька, испытывающий эк-
стаз, — несоединимы; далекое прошлое человечества (зве-
рье) и далекое будущее (ангельство) видел Гоголь в настоя-
щем». Но если Гоголь разложил людей на «зверье» и «репье»
(слова Белого), то Белый разложил людей на астральные
флюиды: — и предметы тоже. В своей нелюбви к плоти
Земли он пошел так далеко, что совершенно разрушил фи-
зический план бытия и перевел бытие в астральные сферы.
Так, например, Николай Аполлонович, запершись на ключ
в комнате и продумывая силлогизмы своих мысленных по-
строений, «чувствовал тело свое пролитым во «вселен-
н у ю», т. е. в комнату; голова же этого тела смещалась в го-
ловку пузатенького стекла электрической лампы под кокет-
ливым абажуром»; далее: «старый сенатор перед отходом ко
сну ощущал, будто смотрит не он, «а нечто», засевшее в
мозг и оттуда, из мозга глядящее»...
В связи с астральным мирочувствием у Белого замечает-
ся какая-то тягость от «пространства» в плане физическом.
545
Почти все его герои страдают боязнью пространства. Эту
боязнь Белый находит у русского народа вообще: «русский
народ еще доселе в пространствах умеет видеть нечистую
силу: разные бесы в холодных, голодных, в бесплодных на-
ших степях».
Гоголь вряд ли страдал клаустрофобией, но широта про-
странств смущала и его: два гения нутром ощущали, что то, что
хорошо для вселенной, опасно для государства — ширь вполне
может стать губительной при полном отсутствии порядка. Ведь
даже вселенная упорядочена, Русь же — нет...
По мнению В. М. Паперного, Белый испытывал «комплекс
Гоголя», который диагностировал сам в своей художественной
системе, воспринимал Гоголя как часть собственной личности,
причем это ощущение усиливалось от произведения к произведе-
нию.
Если в «1-й симфонии» гоголевское присутствие едва замет-
но, то во 2-й гоголевская ориентация автором не скрывается:
собственно, «2-я симфония» «смонтирована» из гоголевских мо-
тивов.
Описание города у А. Белого гораздо более ориентирова-
но на гоголевские тексты, чем на наблюдаемую самим авто-
ром реальность. Так попадают в «симфонию» выглядящие
для начала XX в. весьма архаично гоголевские темы «при-
сутственных мест» и чиновничества, или такие, стилизован-
ные под гоголевских чиновников персонажи, как «столона-
чальник Казенной палаты Дормидонт», «важная особа из
консерваторов», «молодой человек Кондижогло» (ср. Кос-
танжогло), «адвокат Ухо».
В «3-й симфонии» стилизован «гоголевский мир» Записок
сумасшедшего: магистрант Хандриков — забитый и ничтож-
ный человек, в безумном бреду ощутивший себя Христом. Атмо-
сфера симфонии — бредовая действительность нищеты, страха
перед начальством, несбыточных надежд.
В «4-й симфонии» «Кубок метелей» через комплекс гого-
левских мотивов экспонируется тема вторжения и разгула
«нечистой силы». Так появляется «белый мертвец, встаю-
щий у окна», так возникает эпизод скачки полковника и его
возлюбленной Светловой по воздуху и описание Светловой
546
как колдуньи, «мчащейся ночью на месяце» (ср. «Вий» Го-
голя). Уже общий фон повествования (метель, зима) явно
дан в соответствии с гоголевской темой разгула «нечисти» в
«ночь перед рождеством». А рядом с этим — бытовая «не-
чисть»: «мертвая серая вешалка», входящая в ресторан,
«кружащая по улицам» шинель (ср. «Нос», «Шинель» Гого-
ля). В одной из глав III ч. «Кубка метелей», названной
«Колдун», А. Белый полностью экспонирует сюжет «Страш-
ной мести».
На протяжении всей своей жизни я мечтал написать книгу о
«переселении душ»: проследить на конкретных примерах «миро-
вые линии» души Платона, или Аристотеля, или Эмпедокла. Так
вот, нет сомнений, что душа Гоголя, унаследованная им у Сково-
роды, жила в Белом. Поражают не только творческие параллели
или близость характеров — сочетание трезвости и неуравнове-
шенности, пребывание одновременно на земле и в «мирах иных»,
стремление к новому миропониманию, отношение к России, —
но те же телесные немощи и страдания (до геморроя включите-
льно)...
У Андрея Белого есть два совершенно «гоголевских» произве-
дения — Серебряный Голубь и Петербург. Пролог к
Петербургу — дайджест гоголевского Невского про-
спект а. А. Белый осознал то, что подсознательно и смутно чув-
ствовал Гоголь — разрушительность, иррациональность, кризис-
ность русского общества и русской власти, гигантское «бесовское
действо», развернувшееся на бескрайних просторах страны.
Позиция автора в «Петербурге» — это позиция страха,
неуверенности, одиночества и бессилия, перерастающих в
многократно гипертрофированную мстительность гоголев-
ского Акакия Акакиевича, грозящую уже не отдельным об-
ладателям богатых шинелей, но обрушивающуюся на весь
«старый мир», это позиция сознания, погруженного в сферу
безумия и бреда, многократно гипертрофирующих безумие
и бред гоголевского Поприщина.
Только намечающиеся у Гоголя образы пространственной
безмерности и безудержной стихийности под пером А. Белого
трансформируются в страшные и губительные силы, опасные для
существования страны и разрушительные для личности, забро-
шенной в эту неизмеримость:
547
Рыдай, буревая стихия
В столбах громового огня.
Россия! Россия! Россия!
Безумствуй, сжигая меня!
Белый тоже называл Петербург поэмой, и тяготение к
ритмизации, даже метризации языка легко узнаваема в романе:
«Моя проза — совсем не проза; она — поэма в стихах (анапест);
она напечатана прозой лишь для экономии места».
У Белого мышление тоже зижделось на контрастах: «Мы мыс-
лим контрастами. Мысль о линии вызывает в нас мысль о круге:
в круговом движении неправда — не все: и тут правда и ложь пе-
ремешаны».
И все же главное, что объединяло Белого с Гоголем, — это
мораль: как и автор Мертвых Душ, автор Петербурга
считал, что путь к идеальному обществу «не в борьбе с угнетате-
лями, а в моральном самосовершенствовании личности, ее само-
познании». Этика Белого — «моральная фантазия», то есть явле-
ние творчества личности — свободного, адогматического, ценно-
стного.
...в 1900-е гг. А. Белый был убежден, что предотвращение
гибельных последствий самопогружения в «испепеляю-
щий», «стихийный» мир достижимо путем его «изучения»,
что таким путем ему удастся пройти живым через «огонь»,
«испепеливший» Гоголя, избегнув трагического конца Гого-
ля. И проецируя на Гоголя негативный аспект своего собст-
венного миропонимания, А. Белый осуществлял чиста ми-
фологическую операцию «сожжения» неприемлемого Свое-
го под именем Другого.
Философия «стихийности» представляла собой не просто
некоторую ограниченную интеллектуальную концепцию, но
фундаментальную черту мышления А. Белого. Он стремился
видеть мир как единый поток взаимопроникающих идей и
стремился строить художественную картину мира в соответ-
ствии с таким видением.
В период написания Петербурга и Серебряного
Голубя А. Белый был всецело ориентирован на Гоголя, стре-
мился стать новым Гоголем, тематически и стилистически был
неотрывен от него.
548
Широкое применение приемов гротеска, гиперболиза-
ции, фантастического и иронического описания быта, ове-
ществления живого, приемов орнаментальной игры со сло-
вом и т. д. — все это делает ориентацию на стиль Гоголя в
«Петербурге» в принципе опознаваемой.
Уже в Прологе романа содержится утверждение, что
«Петербург не существует» — «это только кажется, что он
существует» (ср. в «Невском проспекте»: «Все обман, все
мечта, все не то, чем кажется»), и этот гоголевский мотив, в
дальнейшем — скрыто или явно — многократно повторяе-
мый, становится доминантой в создаваемом в романе обра-
зе города. Призрачный город, в котором человек теряет свое
человеческое лицо, отождествляясь с вещью (ср. описание
С. Л. Лихутиной в «Петербурге» как «куклы», сливающейся
с окружающими ее вещами); бюрократизированный город
«присутственных мест», «канцелярий», «департаментов»,
«циркуляров», «чиновников», в котором человеческое нача-
ло подавлено бюрократической регулярностью; страшный и
гибельный город, обрекающий человека на одиночество, бе-
зумие и болезнь, превращающий множество живых людей в
нерасчлененную толпу — «медленно текущую гущу», «мно-
гоногое существо», но лишающий их надежды на полное
духовное единение — таким, сквозь призму образов петер-
бургских повестей Гоголя, увидел Петербург А. Белый в
своем романе.
Но в «Петербург» «перенесены» не только символиче-
ские или идеологические атрибуты гоголевского Петербур-
га, но и некоторые «населяющие» его персонажи. Как гого-
левский забитый чиновник, описан революционер-терро-
рист А. И. Дудкин (одновременная ассоциация с «Записка-
ми сумасшедшего», откуда идут мотивы бреда и безумия
персонажа, и с «Шинелью», причем в последней ассоциа-
ции «значительным лицом», угнетающим А. И. Дудкина
(Башмачкина), оказывается «особа* Липпанченко). С гого-
левским Башмачкиным ассоциирован Н. А. Аблеухов, а в
А. А. Аблеухове функции угнетаемого мелкого чиновника и
угнетающего «значительного лица» объединены.
Петербург изображается в «Петербурге» как порождение
демонического сознания («наваждение»), и это создает поч-
ву для развертывания темы Петербурга через гоголевскую
тему «нечистой силы»...
549
«Красной свитке» Сорочинской ярмарки отвечает
«красное домино» и вообще все красное, включая «красные
флаги» Петербурга, мотиву Колдуна (Страшная
месть) — тема А. А. Аблеухова, околдовывающего Россию
циркулярами, «белой свитке» — «белое домино», символизирую-
щее Добро, братоубийству (Страшная месть) — отцеубий-
ство и т. д., и т. п.
Гоголевская традиция, или, как говорил сам Белый, «комп-
лекс Гоголя», пронизывает весь текст Серебряного Голу-
бя: стилизация, цитирование, генезис персонажей, ироническая
трансформация персонажей... Сам рассказчик Серебряного
Голубя представляется как «гоголевский герой с ограничен-
ным умственным горизонтом», а герой романа, Дарьяльский, ас-
социирующийся одновременно с Гоголем и самим автором, в
мифологическом жертвенном «самосожжении» как бы повторяет
трагический конец Гоголя. Пронизанный гоголевскими реми-
нисценциями, роман Белого является одновременно полемиче-
ской ассоциацией, снижением, ироническим противопоставле-
нием риторическим фигурам прототипа.
«Скольких, скольких в тайне считает полевая мечта; о
русское поле, русское поле! Дышишь ты смолами, злаками,
зорями: есть где в твоих просторах задохнуться и умереть».
Здесь содержится явно полемическая ассоциация с образа-
ми финала «Мертвых Душ», так что гоголевские образы ве-
личия России («поля неоглядные», «необъятный простор»)
превращаются у А. Белого в символы разрушения и сме-
рти...
Мифопоэтическая концепция России строится в «Сереб-
ряном Голубе» как развитие двух гоголевских тем, восходя-
щих прежде всего к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», —
тем «народа» и «нечистой силы». Вслед за Гоголем А. Белый
изображает народ как слитную целостность в ее сверхинди-
видуальных проявлениях: в многоголосом шуме и пестроте
ярмарки города Лихова, в праздниках села Целебеева, с их
буйным весельем, всенародным пьяным разгулом и всена-
родным же пеньем и плясками. Однако в противополож-
ность Гоголю А. Белый оценивает праздничную идиллию
народной жизни как иллюзию, за которой скрыта «темная
бездна» — «стихия», находящаяся во власти «нечистой си-
лы», испепеляющего дьявольского «огня».
550
Как и в «Мертвых Душах» Гоголя, понимание России ре-
зюмируется в «Серебряном Голубе» в авторских лирических
монологах, причем А. Белый воспроизводит в них не только
стиль, но и характерные композиционные структуры гого-
левских источников, что, впрочем, сопровождается прямой
полемикой. Так, например, авторский монолог в «Серебря-
ном Голубе»: «Не так ли и ты, старая умирающая Россия,
гордая в своем величии и застывшая... под ногами твоими
разверзается бездна: посмотришь ты, и свалишься в без-
дну», прерывается словами: «Вам, бабушка, кофе или чаю?»
точно так же, как в «Мертвых Душах» авторская лирическая
хвала России прервана восклицанием Чичикова: «Держи,
держи, дурак!» (Ср. у Гоголя: «Не так ли и ты, Русь, словно
бойкая необгонимая тройка несешься?»)
Почему Гоголю не удалось написать третью часть Мертвых
Душ, а Белому — Невидимый град? Почему обоим не да-
лось то, «во имя чего» они столь экстатично отрицали современ-
ность? При всем множестве ответов я предпочитаю один: все
творчество Гоголя и Белого есть история самосознающего «я»,
развитие по законам собственной личности, путь к обретению
чистой духовности, а все это несовместимо с ложью, самообма-
ном. Да, и Гоголь, и Белый жили химерами, самообманом, уто-
пией, но как люди, а не художники. Как художники, они не мог-
ли самообманываться и обманывать читателя — вот почему и то-
му и другому не удалось то, «во имя чего»...
И Гоголь, и Белый — художники стихии бессознательного,
большинство созданных ими образов — выходцы из этой стихии.
А подсознание, как известно, не лжет...
Петербург — стихия подсознательного: роман посвящен
не столько событиям, сколько изображению состояний души.
В «потоке сознания» персонажей, наполненном страхом,
безумными видениями, бредом, наиболее глубоко раскры-
вается их внутренний мир. Мистические сны и болезнен-
ные галлюцинации героев воссоздают нарочито нереальные,
фантастические картины.
Даже лучшим мемуаристам, пишущим революцию «с натуры»,
скажем Ивану Бунину или Зинаиде Гиппиус, не удалось передать
внутреннюю стихию революции и ее глубинную суть так, как
сделал Белый до революции в Петербурге: как «красочный
551
морок», поток ужаса, кошмара, «обездушенных людей и движу-
щихся мертвецов».
Тема гибели продолжена Белым в Москве и Масках.
Также построенные на гоголевских реминисценциях, романы
эти, однако, в противоположность движущейся в светлое гряду-
щее Руси-тройке рисуют Русь «закатную», сирую, умирающую:
«Застылая, синяя — там грохнула губерниями, как рыдван, косо-
горами сброшенный»; «Падала кондовая, неживая Россия»;
«Медное небо и бледное поле.. И сирая синяя Русь»...
В противоположность замыслу о пути центрального пер-
сонажа «Мертвых Душ», Чичикова, к нравственному обнов-
лению соотнесенный с Чичиковым центральный персонаж
«Москвы» и «Масок», Мандро, с самого начала задуман как
персонаж, движущийся к неотвратимой и заслуженной ги-
бели.
Снова-таки, провидя грядущее, рисуя своего «одномерного»
или «полого» человека, Белый изображает Мандро человеком без
личности, с дырой вместо «я». Не прототип ли «полых людей»
Элиота?! Мандро — синтетический образ будущего «винтика» то-
талитарной страны: «нечистая сила», «пошлость пошлого челове-
ка», ничтожество, безличность, но вместе со всем этим — «на-
следник русской традиции»: гоголевских «чертища», Вия, Колду-
на из Страшной мести:
Мандро — одновременно и пошлый и ничтожный персо-
наж, прямо сопоставляемый с Добчинским, и персонаж,
скрывающий свое ничтожество за пышной ложью о себе,
что вводит ассоциацию с Хлестаковым, и персонаж авантю-
ристического склада, уподобляемый Чичикову.
Здесь принципиальна наследственность: от чертовщины через
бесовство к недотыкомкам и «полым людям» «соборной» и «все-
человечной» Руси.
Много гоголевского в личности и творчестве А. М. Ремизова:
боль за весь мир, крайний экзальтированный идеализм, тяга к
мистике и фантастике, любовь к истории, острое заболевание
Россией («святая и крепкая Русь»; «без России никак невозмож-
но»). По свидетельству Е. Замятина, он так и прожил жизнь с ла-
552
донкой на груди — «тянул соки из той коробочки с русской зем-
лей, какую привез с собой в Берлин».
Его книги — тоже огнедышащие, сжегшие его душу. Его
речь — тоже стихия...
Здесь каждая фраза звучит чистотой необычайной, музы-
кой стихийной. Много стихийности в творчестве Ремизо-
ва... Но эта стихийность всюду покорена властным словом
художника. Художник в Ремизове покоряет стихию.
Даже книги свои он, как Гоголь, многократно переписывал от
руки, снабжая рисунками — росчерками пера...
Сам Ремизов в «снах и предсоньях» (книга Огонь вещей)
так определил «тропу», по которой должен пройти писатель и чи-
татель:
Мне представляется так:
к Гоголю тропа — надо взять на себя подвиг;
к Достоевскому — надо душу измаять;
к Лескову — блоху подковать.
В Огне вещей А. М. Ремизова мы находим гоголевскую
борьбу с кознями лукавого, чувство душевного дискомфорта от
незримого присутствия Люцифера — весь тот комплекс страха,
который внушила Гоголю мать яркой картиной «страшного су-
да».
Одним из первых Ремизов почувствовал в Гоголе модерниста
и ориентировался на Гоголя-художника как человека, порвавше-
го с литературной традицией реализма.
Даже весьма далекий от гоголевского мироощущения А. Блок,
по мнению А. Белого и современных исследователей, является
бесспорным наследником «мистического реализма», не скрывав-
шим своей тяги к автору Мертвых Душ:
Перечитал очень много Гоголя и пришел в совершенный
восторг. Отныне буду любить его и чтить, чего прежде не
делал по недоразумению.
553
На молодого Блока произвела огромное впечатление статья
Мережковского Судьба Гоголя, перепевы которой можно
встретить в его собственном творчестве. Гоголевская традиция
сильно ощущается в блоковской лирике 1904—1906 гг., а в Пу-
зырях земли обнаруживается присутствие духа Вечеров и
Миргорода; Город Блока находится в близком родстве с
Петербургскими повестями: «маленький человек» Го-
рода— тип, родственный Пискареву. Несвойственные поэтике
Блока инфернальные герои, видимо, также берут свое начало в
гоголевской дьяволиаде.
3. Г. Минц:
...непосредственное проникновение гоголевских мыслей
и образов в критическую прозу Блока начинается со статьи
«Безвременье» (ноябрь 1906). Сложная символика образов
статьи, имеющих чаще всего литературное происхождение,
определена впервые предпринятой Блоком попыткой вос-
становить распадавшуюся для «декадентского» сознания
«связь времен» — наметить основные линии родства между
современной литературой и реалистическим (хотя и истол-
кованным пока в символическом духе) наследием XIX века.
Имя и образы Гоголя играют в этой статье важную роль.
При этом, однако, «гоголевское» так прочно вплетено в об-
щую образную «вязь», что понять его смысл (и даже просто
обнаружить) не всегда просто.
Гоголь назван в числе «трех демонов» русской литерату-
ры прошлого — трех писателей, наиболее прямо, по мне-
нию Блока, связанных с современностью: «Предо мной вы-
растают два демона, ведущие под руки третьего — слепого и
могучего... Это — Лермонтов, Гоголь и Достоевский». Глав-
ное отличие «зрячих демонов» от «слепого» — то, что они
не верили в мгновенное «воплощение» своих высоких идеа-
лов, четко отделяя «видения» от реальности. Достоевский —
утопист, мечтающий о немедленном наступлении «вечной
гармонии».
Конечно же, главная и определяющая связь Блока и Гоголя —
Русь-тройка и связанные с нею образы пути, пространства (дали)
и времени. «Нужно любить Россию» — этой мысли Гоголя было
для Блока достаточно, чтобы в целом принять «реакционные»
Выбранные места и извлечь из них строительный материал
для собственной «революционности».
554
В период статей о народе и интеллигенции для Блока
наиболее существенно непосредственно-эмоциональное пе-
реживание гоголевских текстов (даже нехудожественных).
Его-то поэт хочет донести и до читателя. Отсюда — обилие
цитат и разнообразных реминисценций из Гоголя. Они дол-
жны воссоздать на страницах блоковских произведений
1907—1908 гг. сам «образ Гоголя» и «образ гоголевского
творчества».
Отношение Блока к Гоголю не сохранялось неизменным на
протяжении всей жизни, но, по мнению А. Белого, они связаны
не только творчески: «Манией преследования, своею болезнью
был связан Б<лок> с Гоголем; унылая философия родового воз-
мездия за «отщепенство» победила в Б<локе>».
Огромно влияние Гоголя на поэтику Набокова — в этом влия-
нии следует искать склонность автора Лолиты и Пригла-
шения на казнь к созданию причудливых, ассоциативных
картин и изображению сокровенных и необычных душевных со-
стояний.
Именно от Гоголя ведет Набоков свою литературную ро-
дословную. Двоящиеся гоголевские видения, фантасмаго-
ричность, призрачность гоголевских обманчиво-бытовых
картин представляются Набокову, да и не ему одному,
основной особенностью «Мертвых Душ» и даже «Шинели».
И особенность эта после целого столетия более устойчиво-
го, спокойного реализма причудливо совпала с тем ощуще-
нием или восприятием жизни, которым проникнуты многие
новые западные повествования о людях и их судьбах.
Нельзя пройти мимо темы «Гоголь и Мейерхольд»: мейерхо-
льдовский Ревизор был не просто еще одной сценической
интерпретацией текста Гоголя, но — попыткой создания обоб-
щенной модели «гоголевского мира».
Превратив определенные элементы своего собственного
художественного языка в элементы данной модели, Мейер-
хольд радикально переработал и сам исходный текст: ввел
новые сцены, новых персонажей, перенес место действия в
Петербург, трансформировал сюжетные конструкции и т. д.,
т. е. фактически создал свой собственный «гоголевский
текст».
555
Мне представляется, что Мейерхольд не осовременивал Гого-
ля, а углублял его, демонстрировал глубинные слои, подтекст,
подсознание —- метод, нашедший широчайшее распространение
в современном драматургическом искусстве. Любопытно, что
лучший знаток Гоголя из современников Мейерхольда, Андрей
Белый, не только не протестовал против такой «деформации» Го-
голя, но она натолкнула его на собственные «интерпретации».
М. О. Чудакова проследила связи автора Мастера и Мар-
гариты с творцом Мертвых Душ. Тяготение М. А. Булга-
кова к Гоголю было непреходящим и продолжалось всю жизнь:
«Из писателей предпочитаю Гоголя; с моей точки зрения, никто
не может с ним сравниться...» Эта тяга выражалась не только в
создании Булгаковым сценариев Мертвых Душ и Ревизо-
ра для театра и кино, но и в заряженности Мастера и Мар-
гариты, а также Кабалы святош гоголевскими мотивами.
Булгаков не только постоянно осмысливал Гоголя, но и «допи-
сывал» его: включал в свои сценарии эпизоды, отсутствующие у
Гоголя.
Называя Гоголя «великим учителем», Булгаков жил Гоголем,
благоговел перед ним. Прочтя вересаевскую Гоголеану, он писал
автору-составителю: «Просидел две ночи над Вашим Гоголем!
Боже! Какая фигура! Какая личность!» Гоголь вдохновлял его,
Мастер и Маргарита написаны под влиянием этого вдох-
новения: «В меня же вселился бес... задыхаясь в моих комнатен-
ках, я стал мазать страницу за страницей наново тот свой унич-
тоженный три года назад роман». М. О. Чудакова считает, что
Булгаков наделил Мастера чертами Гоголя и ввел в роман рад го-
голевских эпизодов, позаимствовав у него даже само это слово —
«мастер».
Мастер — не литератор, не профессионал, но весь по-
глощен одною целью — написать роман, и в этом смысле
весьма близок к Гоголю последних десяти — двенадцати
лет, времени работы над первым и особенно вторым томом
«Мертвых Душ». Слова Гоголя: «Не знал я, какими путями
поведет меня провидение, как отнимутся у меня силы ко
всякой живой производительности литературной и как умру
я надолго для всего того, что шевелит современного челове-
ка» кажутся определительными для поведения Мастера. От-
ношение Гоголя к «Мертвым Душам», как к откровению,
близко, как можно догадываться, к самоощущению Масте-
ра, о котором умолчено в романе Булгакова, но которое
556
восстанавливается по деталям рассказа Мастера о его работе
над романом о Пилате и из восклицания: «О, как я все уга-
дал!», выдающего его взгляд на свой труд как на постиже-
ние истины.
Мастер, подобно Гоголю, был историком, прежде чем
стал писать роман; он тоже заболевает — в отличие от Гого-
ля, успев завершить свой труд. Так же, как Гоголь, он много
говорит о своей болезни. Восклицание Мастера: «Да, хуже
моей болезни в этом здании нет, уверяю вас!» очень близко
к давней убежденности в особенной своей болезни Гоголя.
Но главное — сам акт сожжения романа. Мы уверены,
что этот фрагмент фабулы «Мастера и Маргариты» обязан
своим зарождением напряженным размышлениям Булгако-
ва-писателя и Булгакова-врача над загадкой трагического
финала жизни Гоголя. Сцена сожжения — едва ли не меди-
цинский протокол, клинический анализ того состояния, в
котором такой акт производится. И это некая возможность
интерпретации — не мистическая, а сугубо рациональная —
состояния Гоголя, каким восстанавливается оно по скуд-
ным свидетельствам современников. «Я лег заболевающим,
а проснулся больным.<...> Я встал человеком, который уже
не владеет собой. Я вскрикнул, и у меня явилась мысль бе-
жать к кому-то, хотя бы к моему застройщику наверх. Я бо-
ролся с собою как безумный. У меня хватило сил добраться
до печки и разжечь в ней дрова. Когда они затрещали и
дверца застучала, мне как будто стало немного легче». Не-
льзя не увидеть, что само описание сожжения романа — в
прямой зависимости от картины, нарисованной М. П. По-
годиным...
М. А. Булгаков, как и Гоголь, сжег первую редакцию своего
романа, слава Богу, сохранив вторую. Так что сожжение рукопи-
си Мастером было в чем-то автобиографично.
Булгаков не только «дописывал» Гоголя, но и несколько раз
пытался включить его образ в свои произведения: «Ступая на
цыпочках, вошел человек лет 35-ти примерно, худой и бритый,
блондин с висящим клоком волос и с острым птичьим носом»]
«В... кресле, почти совсем спиной к зрителю, сидит, сгорбив-
шись, человек. Длинные и жидкие пряди волос. Тень на стене
показывает его профиль, длинный, острый нос...»
Полеты в Мастере и Маргарите начинаются с Хомы
Брута с ведьмой на спине, с бешеной скачки Вия.
557
В полете Маргариты очевидна связь с ночным полетом
ведьмы с ее кавалером в «Ночи перед рождеством», но там
же и влияние «Страшной мести», уже совершенно преобла-
дающее в двух последних главах романа, в последнем полете
Мастера. «После этого раза два или три она видела под со-
бою тускло отсвечивающие какие-то сабли, лежащие в от-
крытых черных футлярах, и сообразила, что это реки». Ср.
в знаменитом описании Днепра: «Нежась и прижимаясь
ближе к берегам от ночного холода, дает он по себе сереб-
ряную струю; и она вспыхивает как полоса дамасской сталщ
а он, синий, снова заснул».
Полеты Булгакова продолжаются и в его последнем романе,
заканчиваясь здесь «на каменистой безрадостной плоской вер-
шине». В фигуре героя Театрального романа, «глаза кото-
рого казались слепыми», явно проглядывает связь с гоголевским
человеком «с закрытыми глазами» на вершине горы.
Само необыкновенное, кажется, не имеющее аналогий,
пространство последней сцены романа организовано по-
добно гоголевскому — вплоть до его «акустики»: «Как гром,
рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колду-
на, потрясши все, что было внутри его». (Ср. «...От этого
крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в без-
дну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла бы
сказать, был ли это грохот падения или грохот сатанинского
смеха», И далее: «Горы превратили голос Мастера в гром, и
этот же гром их разрушил».)
М. О. Чудакова обнаружила множество гоголевских реминис-
ценций, восходящих к Мертвым Душам, в торге Гавриила
Степановича с Максудовым о «вознаграждении» за пьесу (Теат-
ральный роман), в жестах и бормотанье булгаковского ге-
роя, в его столкновении с «отвратительным миром».
«Классические» гоголевские приемы сделаны достояни-
ем современности, полемически выдвинуты вперед — как
не оттесненные и не превзойденные тою современной про-
зой, которую читает Максудов, думая о своем втором рома-
не и желая узнать, «о чем они [современники] пишут, как
они пишут, в чем волшебный секрет этого ремесла». И этот
мотив начинает служить как бы ключом к расшифровке
значения сильного гоголевского элемента в «Театральном
558
романе». Ничего не разъясняя, Булгаков самим способом
рассказа указывает на того, кто стал не только для его героя,
но и для него самого живым ориентиром в работе над... ро-
маном.
В романе «Мастер и Маргарита» уже нельзя увидеть сле-
дов прямого воздействия одного какого-либо гоголевского
произведения. Творчество Булгакова вообще так глубоко
погружено в мир Гоголя, что многие из его героев и сама
художественная их связь в пределах романа или повести не
могут быть поняты вне гоголевского контекста.
Есть черты сходства в жизни и смерти двух писателей. Друг
Булгакова П. С. Попов вскоре после кончины творца Масте-
ра и Маргариты написал о его предсмертных часах: «Жиз-
нелюбивый и обуреваемый припадками глубокой меланхолии
при мысли о предстоящей кончине, он, уже лишенный зрения,
бесстрашно просил ему читать о последних жутких днях и часах
Гоголя».
Д. С. Лихачев обнаружил явные гоголевские реминисценции в
одном из самых «литературных» произведений Анны Ахматовой
Поэме без героя, до предела насыщенной художественными
ассоциациями, особенно на тему Петербурга.
Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,
И весь траурный город плыл
По неведомому назначенью
По Неве иль против теченья, —
Только прочь от своих могил.
На Галерной чернела арка,
В Летнем тонко пела флюгарка,
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.
Оттого, что по всем дорогам,
Оттого, что ко всем порогам
Приближалась медленно тень —
Ветер рвал со стены афиши,
Дым плясал вприсядку на крыше,
И кладбищем пахла сирень.
И, царицей Авдотьей заклятый,
Достоевский и бесноватый
Город в свой уходил туман,
559
И выглядывал вновь из мрака
Старый питерщик и гуляка,
Как пред казнью бил барабан...
У Гоголя в Невском проспекте:
Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми
казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей
арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему на-
встречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами
вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось,
на самой реснице его глаз.
У Гоголя, склонного к гиперболам, в Невском про-
спекте «мириады карет валятся с мостов» и на город надвига-
лись огромные тени...
И. П. Смирнов:
Как и в тексте Ахматовой, в «Невском проспекте» при-
сутствует тема неясной цели: «В это время чувствуется ка-
кая-то цель, или, лучше, что-то похожее на цель, что-то
чрезвычайно безотчетное» (ср. у Ахматовой: «И весь траур-
ный город плыл/ По неведомому назначенью...»). В связи с
гоголевским образом перевернутых петербургских домов
следует отметить также в четвертой главе «Поэмы» метафо-
ру «Рухнули зданья...». Наконец, и в повести Гоголя
(«Длинные тени мелькают по стенам и мостовой, чуть не
достигают головами Полицейского моста»), и у Ахматовой
(«Оттого, что по всем дорогам, / Оттого, что ко всем поро-
гам / Приближалась медленно тень...») возникает мотив
растущих теней, падающих на город.
Не исключено, что Ахматова восприняла гоголевскую
повесть через последующее звено — книгу Андрея Белого
«Мастерство Гоголя» (ср. петербургскую тему у самого Анд-
рея Белого). Именно в этой книге была подчеркнута бли-
зость урбанистических мотивов «Невского проспекта» и
творчества русских поэтов и художников 1910-х гг. Как раз
по поводу описания переламывающегося моста Андрей Бе-
лый замечал: «...Это — ракурсы художника Анненкова; Го-
голь доходит даже до смелости футуристического письма,
которым эпатировала так недавно художественная моло-
дежь, порвавшая с «Миром искусства».
560
ПУШКИН И ГОГОЛЬ
История культуры изобилует примерами усвоения элитарных
произведений массовой культурой. Можно даже сказать, что ра-
но или поздно все опережающие свое время шедевры «перевари-
ваются» «молчаливым большинством». Шопенгауэр и Ницше со-
здавали свою философию отнюдь не для широких масс, а Элиот
преднамеренно творил для малочисленной литературной элиты.
Могли ли они предполагать, что станут читаемыми теми самыми
«массами», к которым относились с таким пренебрежением? Ду-
мал ли Ницше, что его «сверхчеловеками» станут мелкие лавоч-
ники и завсегдатаи мюнхенских пивнушек? Великий Альбан Берг
был потрясен шумным успехом своих модернистских В о ц ц е -
к а и Лулу, отнюдь не предназначаемых для широкой публики,
а на спектакли абсурда Беккета и Ионеско просто валом шла та
публика, которая и была предметом язвительнейшей сатиры, до-
ходящей до абсолютного уничижения.
Гоголь не стремился ни к модернизму, ни к элитарности, но и
он был ошеломлен, когда, придя в типографию, где печатались
его Вечера, увидел фыркающих и прыскающих наборщиков,
которым они «принесли большую забаву». Тогда он и бросил
сакраментальную фразу: «Из этого я заключил, что я писатель
совершенно во вкусе черни». Впрочем, Вечера потрясли не
только наборщиков...
А. С. Пушкин — А. Ф. Воейкову:
Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили
меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужден-
ная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэ-
зия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в
нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказы-
вали, что когда издатель вошел в типографию, где печата-
лись «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать.
Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что на-
борщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и
Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих на-
борщиков. Поздравляю публику с истинно-веселою книгою.
Первая «встреча» Гоголя с Пушкиным произошла на страни-
цах новогодней Литературной газеты: именно в номере,
вышедшем 1 января 1831 года, был опубликован Кавказ
А. С. Пушкина, а также статья Г. Янова и отрывок из малорос-
561
сийской повести П. Глечика — под обоими псевдонимами скры-
вался Н. В. Гоголь, скрывался не только в переносном, но и в
прямом смысле...
...опасения Гоголя были по большей части опасениями
перед провинцией, перед теми людьми, которые его знали
(знали его родителей, его фамилию), и где имя Гоголь что-
то говорило читателям. И хотя столичные литературные но-
вости едва докатывались до Полтавщины (не забудем и Не-
жин), все же плохой отзыв, напечатанный в журнале или га-
зете, мог бомбой взорваться там. А сколько позора и слез
для маменьки! И как потом показаться всем на глаза!
Почти все знавшие Гоголя подчеркивали не только его фено-
менальную скрытность, но и его чисто украинскую хитрость,
оставив множество ярчайших примеров последней. Хитростью
были и его псевдонимы: они защищали его от возможного про-
вала, неуспеха и легко открывались в случае победы, триумфа.
Так оно и оказалось: при жизни Гоголя почти никто не узнал ав-
тора провалившегося Г а н ц а, но все немедленно были оповеще-
ны о настоящем авторе Вечеров.
1 января 1831 года произошла заочная встреча Гоголя с Пуш-
киным, а 2 ноября того же года Гоголь уже писал А. С. Данилев-
скому:
Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе. Почти
каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я.
О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера
сих мужей!
Это тоже была «маленькая хитрость»: встречались они далеко
не «почти каждый вечер», но знакомство действительно состоя-
лось и стало крепнуть.
История отношений Гоголя и Пушкина начинается, пожалуй,
с письма П. А. Плетнева, в котором последний обращает внима-
ние друга на своего подопечного. ^
П. А. Плетнев — А. С. Пушкину:
Надобно познакомить тебя с молодым писателем, кото-
рый обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заме-
тил в «Северных Цветах» отрывок из исторического романа,
562
с подписью 0000, также в «Литературной газете» — «Мысли
о преподавании географии», статью «Женщина» и главу из
малороссийской повести «Учитель». Их писал Гоголь-Янов-
ский. Сперва он пошел было по гражданской службе, но
страсть к педагогике привела его под мои знамена: он пере-
шел в учителя. Жуковский от него в восторге. Я нетерпели-
во желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит
науки только для них самих и, как художник, готов для них
подвергнуть себя всем лишениям. Это меня трогает и вос-
хищает.
Нигде и никогда я не встречал мысли о харизме Гоголя. Меж-
ду тем в его хилом, болезненном теле была заключена мощная
воля, подчинявшая ему людей. В тоталитарной стране карьера
человека строится на протекции, патронировании, меценатстве,
но в основе любого вассалитета лежат человеческие качества, со-
отношение воль, сила и слабость.
Как характер более слабый, Плетнев незаметно для се-
бя сразу же подчинился воле Гоголя и верил в его увере-
ния, как в свои. Внешне все выглядело иначе: Плетнев
был меценат, покровитель, старейшина, вводящий чуть не
за руку робкого ученика в свет, Гоголь — ученик, стесня-
ющийся и почтительно поглядывающий на него, но на де-
ле уже не его вели, а он вел, и так в отношениях с Плет-
невым, да и с большинством людей, окружавших Гоголя,
будет всегда.
Гоголь умел подчинять своей воле, как нередко случается с
людьми, пережившими в детстве комплекс неполноценности.
Известно, что в Петербурге он стал главою кружка бывших од-
нокашников, некоторые из которых сами участвовали в по-дет-
ски жестокой его травле в Нежинской гимназии. Известно, что
в Москве он обратил в своих страстных поклонников семью
Аксаковых. Известно, что, еще почти ничего не опубликовав,
он уже имел таких могущественных покровителей, как воспита-
тель наследника В. А. Жуковский и граф М. Ю. Виельгорский,
жена которого, гордая, недоступная, разборчивая на знакомства
принцесса Бирон, впоследствии тоже благоволила к Гоголю. На
протяжении своей недолгой жизни Гоголь сумел подчинить
своему влиянию многих великих и малых, может быть, самого
императора Николая I, слабостью воли никак не отличавше-
гося.
563
Но теперь перед ним был другой харизматический человек,
величайший гений, мощно подчинивший себе духовную жизнь
огромной страны...
Харизма гения заключает в себе не только духовный импульс,
но и скрытую волю, заразительность, способность к обращению,
силу убеждения, страстность, влиятельность, в известной степе-
ни — духовное подчинение. Нельзя стать великим, не подчинив
своей воле. Нельзя стать первооткрывателем, не заразив новым
знанием, не распространив свою внутреннюю убежденность. Да-
же гении-изгои, гении-аутсайдеры, ушедшие безвестными, не су-
мевшие подчинить себе при жизни, такие, как Киркегор, или
Клейст, или Кафка, даже гении, сломленные самыми малыми
препятствиями, несут в себе духовный заряд пролонгированного
действия...
Перед Гоголем был сам Пушкин, одно имя которого приводи-
ло в трепет, — человек, не имевший никакой власти и тем не ме-
нее подчинивший своей интеллектуальной воле всю Россию. Од-
на воля, уже реализовавшаяся, стояла перед другой, еще только в
сокровенных чаяниях своих намеренной властвовать над умами в
этой бескрайней стране. Как сложатся их отношения? Что вый-
дет из столкновения этих двух скрытых, но непобедимых воль?
Что могло бы выйти, не погибни Пушкин в расцвете сил и не
уйди Гоголь так рано? — Еще один совершенно потрясающий
сюжет для истории «как если бы», для правдивой истории, кото-
рая не состоялась...
Наши на все лады воспевают «отеческое» отношение «благо-
детеля» Пушкина ко всем подопечным, в том числе к колено-
преклоненному Гоголю. Но не было ни «благодетеля», ни «коле-
нопреклоненного» — была взаимная тяга двух харизматических
личностей, медленно, но верно перераставшая во взаимное от-
талкивание, столь свойственное таким людям. Пушкин, человек
огромной души, «радостно встречавший всякое молодое дарова-
ние», действительно на короткое время открылся своеобычному,
неповторимому, феерическому таланту младшего собрата по пе-
ру, действительно увлекся яркой, красочной фантазией автора
Вечеров, действительно кратковременно протежировал восхо-
дящей звезде, но...
Но, по словам Нащокина, Гоголь никогда не был близким че-
ловеком к Пушкину...
564
Поверив в Гоголя, оценив в нем талант, Пушкин с от-
крытой душой взялся ему помогать и покровительствовать.
Это не означало личной близости, допущения до своей жиз-
ни, но — всегдашнюю и бескорыстную пушкинскую отзыв-
чивость и желание помочь, которые вскоре и оседлал Го-
голь.
При всем своем расположении к Гоголю Пушкин никог-
да не будет с ним доверителен. Гоголь — даже при росте
своего понимания о себе — не решится перейти разделяв-
шее их до того расстояние.
Что прочел Гоголь на лице Пушкина? Усталость, ожив-
ленность, равнодушие, интерес? Это уже не был Пушкин
его детства, его нежинской юности, автор вольных «Цыган»,
«Бахчисарайского фонтана» и даже «Полтавы».
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море, —
писал накануне их встречи Пушкин. Он уже автор «Поэта и
толпы», автор «Бесов» и «Монастыря на Казбеке». Он пи-
шет о «далеком, вожделенном бреге», темные предчувствия,
как клубящиеся в вихре метели бесы, носятся в его созна-
нии. Он пишет о «пристани», к которой хотел бы наконец
пристать, о гласе Гомера и арфе серафима, которым внем-
лет в ужасе и восторге, отдаляясь от земных сует. «Ты понял
жизни цель: счастливый человек, для жизни ты живешь», —
пишет он в стихотворении «К вельможе», грустно оглядывая
в нем события последних пятидесяти лет, переменивших
Европу. Он не видит выхода в политике, в прямом дейст-
вии, которое всегда орошается кровью, он оглядывается на-
зад, в историю, и там ищет объяснения заблуждений и оши-
бок своего века.
Пушкин углублен в себя и в историю, он не рассчитыва-
ет ни на ответное «эхо» толпы, ни на ее понимание. «Когда
людей повсюду видя, в пустыню скрыться я хочу...» — вы-
рывается у него строка, которая говорит о глухом чувстве
одиночества и желании бегства от того, к чему влекут его
обстоятельства.
При таких чувствах Пушкин, пишущий о «закате», не видит
в юном Гоголе конкурента, он представляется ему певцом «вос-
565
хода», еще полном жизни, искрометного веселья, даже комизма
жизни. Позже он первым в России поймет свою ошибку, мо-
жет быть, даже осознает, что его собственные «бездны» мелки
перед гоголевскими, что «ночь» Гоголя гораздо темнее и опас-
нее его ночи, что «комик» куда больше трагик, чем он сам. Но
это произойдет еще в далеком 1836-м, когда Гоголь покинет
Петербург, с ним не попрощавшись — не попрощавшись уже
навеки...
Ныне ни у кого из исследователей нет сомнения в том, что
«между Пушкиным и Гоголем — дистанция немалого размера,
хотя Гоголь с умыслом или без умысла пытался ее уменьшить,
создавая легенду о дружбе с Пушкиным и интимной близости к
нему». Однако отсутствие близкой дружбы отнюдь не означает
«идейную отдаленность и разобщенность» — просто существова-
ло два огромных мира, ненадолго соприкоснувшихся и разошед-
шихся навсегда...
Пушкин не мог быть близок Гоголю просто в силу непреодо-
лимого различия их характеров, человеческих типов, темпера-
ментов, социальных происхождений. Пушкин был всемирен, Го-
голь был нетерпим. Пушкин — мудр, Гоголь — амбициозен,
Пушкин — ясен и открыт, Гоголь — инфернален и лукав, Пуш-
кин — полифоничен, Гоголь — контрапунктичен. Пушкина ин-
тересовала жизнь, все обилие жизни, Гоголь теоретически обо-
сновывал цель искусства и жизни — извлекать «необыкновен-
ное» из «обыкновенного».
Сходясь, Гоголь и Пушкин отталкивались, в сближении
самоопределялись, ясней видели каждый свое назначение.
Пожалуй, Пушкину в этом смысле и не нужен был Гоголь
(он когда-то так определялся по отношению к Державину),
но Гоголю нужен был Пушкин.
Отсюда его намеки и наскоки, его амбициозные парал-
лели и прозрачные оговорки. Все в них — и близость и да-
лекость, и солидарность и соперничество. Точно так же по-
ступит с Гоголем позже Достоевский. В первой же своей
повести «Бедные люди» он не только выразит несогласие с
его «Шинелью» (в оценке Девушкина), но и спародирует
гоголевский стиль в творениях бездарного литератора Рата-
зяева. Самоопределяясь, Достоевский будет отталкиваться
от Гоголя. Наследуя, он будет противоречить ему, поклоня-
ясь его авторитету, посягать и на авторитет.
566
Пушкин — заступник Гоголя на житейском поприще.
Именно Пушкин печатает в «Современнике» не принятые
нигде сцены из «Владимира III степени» и отвергнутый
всюду «Нос». Чего же еще? «Чего же боле?» — можем мы
сказать словами самого Пушкина. И... тем не менее все да-
лее отходят поэты друг от друга, отходят и творчески и лич-
но, что выливается во внезапный отъезд Гоголя за границу,
отъезд без прощания с Пушкиным.
Да, среди версий, объясняющих второй скоропалительный
отъезд Гоголя за границу после инсценировки Ревизора,
есть и такая: неудача сотрудничества с Современником,
свойственный Гоголю побег после поражения, расхождение пу-
тей...
Г. П. Данилевский донес до нас бесхитростное суждение гого-
левского слуги Якима о взаимоотношениях Пушкина и Гоголя,
относящееся ко времени Вечеров. Единственный коммента-
рий: нельзя исключать, что, говоря об этих взаимоотношениях,
крепостной Яким не мог не отразить точку зрения барина, не
представить все в приятном для барина свете — так уж устроен
русский человек при живом барине...
«Они [Пушкин] так любили барина. Бывало, снег,
дождь, слякоть, а они в своей шинельке бегут сюда. По це-
лым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то чи-
тал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи».
По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заста-
вая его, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, что он
написал нового. Он с любовью следил за развитием Гоголя
и все твердил ему: «пишите, пишите», а от его повестей хо-
хотал, и уходил от Гоголя всегда веселый и в духе.
Пушкин благоволил Гоголю отнюдь не «от хохота» — чело-
век в высшей степени проницательный, он понимал, что за
смехом Гоголя, за кажущейся радостью бытия и упоения
жизнью, за духом молодости кроется нечто гораздо более глубо-
кое, ему, Пушкину, созвучное, попытка смехом отгородиться от
собственной тоски, от «Исполинской Скуки» бытия, от угаса-
ния и смерти. Ведь даже в самой гармоничной, самой празд-
ничной и игровой книге Гоголя — Вечерах — уже много го-
ря, страдания и искусов, уже все симптомы того трагического
567
разрыва между разумом человека и его темными страстями, ко-
торый позже назовут «абсурдом» человеческого существования.
Кстати, давая Гоголю кличку «великого меланхолика», Пуш-
кин удивительно проницательно «схватил» сущность тогдашнего
«смехача».
Д. С. Мережковский:
Друг Пушкина, старик Плетнев, высказал однажды пора-
зительную мысль, как будто внушенную ему из-за гроба ве-
щим другом: «Переписка» есть начало русской
литературы. Если заменить здесь слово «литература»
словом «критика», разумеется не в старом, а в вечном и но-
вом смысле, то есть в смысле перехода от бессозна-
тельного творчества к творческому созна-
нию, то это и будет наша мысль. В «Переписке» нам слы-
шится именно конец, совершенство, «неповторяемость»
Пушкина, т. е. конец всей русской литературы и начало то-
го, что за Пушкиным, за русской литературой, — конец по-
эзии — начало религии.
При всей моей нелюбви к комментариям не могу пройти ми-
мо этого высказывания автора Грядущего хама. Пушкин
для него — синтез и единство плоти и духа, последний вырази-
тель высшей мудрости бытия, Гоголь — первый писатель России,
пожертвовавший полнотой жизни ради идеи, ставший идеоло-
гом, открывший путь русскому гению — Достоевскому, Толсто-
му, Тютчеву — от искусства к проповеди, менторству, риторике...
Писатель, полностью открывший свою «застегнутую на все пуго-
вицы» душу...
Пушкин в письмах совсем не тот, что Гоголь: для него
переписка с близкими не литература, а быт. Пушкин еще
держится традиционного классического представления о
литературе как о чистом творчестве, где творец преобража-
ется, сохраняя себя, выступает под другими именами. Го-
голь как бы срывает и этот последний покров условности:
он выходит со своей обнаженной душою, допускает читате-
ля в свою душевную жизнь.
Как складывалось сотрудничество Пушкина и Гоголя в Со-
временнике? Трудно. Журнал требует линии, коллегиально-
568
сти, согласия, маневра. Пушкин ожидал от Гоголя согласованных
действий, помощи, такта. Но Гоголь был выдающейся лично-
стью, причем личностью не только со «странностями», но и с
«пятнышками», с норовом, с подпольем, с глубинным видением,
личностью во многом бескомпромиссной и нонконформистской.
Свою деятельность критика он начал статьей О движении
журнальной литературы..., в которой испепелил букваль-
но всю продукцию русского печатного станка. Не щадились ни
враги, ни друзья — союзники и доброжелатели Современни-
ка и самого Гоголя подвергались остракизму не с меньшим, а,
может быть, даже большим запалом, чем враги. Для Гоголя,
страждущего очищения, это было вполне естественно, для Пуш-
кина, лишенного комплексов и максимализма, — нет. Гоголь
был беспощаден, Пушкин осмотрителен. Он мог бы стерпеть
громы и молнии в адрес Булгарина и Греча, но не Погодина, За-
госкина, Сенковского, Андросова.
Гоголь-критик был неукротим: Исторические афо-
ризмы М. П. Погодина — ничтожные, в Недовольных
М. Н. Загоскина — действия нет вовсе, О. И. Сенковский, хуже
того, был обвинен в плагиате, наглости, невежестве, Москов-
ский Наблюдатель — вял и неповоротлив... Пушкину при-
шлось некоторые рецензии попросту снимать, а в третьем номе-
ре журнала от имени некого А. Б., обращаясь к своему же со-
труднику, взывать: «Врачу, исцелися сам!» Хотя по большому
счету Гоголь был прав, литература большей частью служила не-
развитым вкусам публики, была, что называется, «на потребу
толпе», мог ли становящийся на ноги журнал начинать с вызова,
эпатажа?
Драматизм ситуации состоял в том, что, защищая Сен-
ковского, Пушкин косвенно вынужден был защищать и
вкус толпы — то самое отношение к литературе, которое
ему было чуждо, враждебно.
Гоголь это знал. Он понимал, как противоречит себе
Пушкин, как он уступает обстоятельствам, — он судил
Пушкина, он был молод.
Да, Гоголь не ограничивался громами и молниями, метаемы-
ми во всю русскую литературу, он не щадил и ее мэтра. Пуш-
кин постоянно присутствовал на страницах художественных
произведений Гоголя, причем вовсе не как предмет для покло-
нения:
569
А как странно сочиняет Пушкин. Вообразите себе: перед
ним стоит в стакане ром, славнейший ром, рублей по сту
бутылка, какова только для одного австрийского императо-
ра берегут, — и потом уж как начнет писать, так перо толь-
ко тр...тр...тр... Недавно он такую написал пиэсу: Лекарство
от холеры, что просто волосы дыбом становятся. У нас один
чиновник с ума сошел, когда прочитал. Того же самого дня
приехала за ним кибитка и взяли его в больницу...
Слова эти вложены в уста Хлестакова, но разве даже в коми-
ческом или ироническом плане так пишут о кумирах? Разве мож-
но говорить о Пушкине «тр...тр....тр...» рядом с все теми же хлес-
таковскими словами: «Я только на две минуты захожу... с тем то-
лько, чтобы сказать: это вот так, это вот так, а там уже чиновник
для письма... пером только: тр, тр... пошел писать...»
Это отчасти и о себе. Это сам Хлестаков (как и Гоголь в
свое время), чиновник для переписывания: и писание и пере-
писывание смешиваются здесь не случайно, образуя двой-
ной оборот иронии, направленной и на низкое уважение
публики к труду литератора, и на Пушкина косвенно.
Гоголь позволяет себе так играть с Пушкиным в своей
комедии.
Тут и смех, и слезы, и неразгаданная улыбка Гоголя, ко-
торый, почитая Пушкина, все же позволяет себе и щекотать
своего кумира.
В письмах он еще более откровенен. Совсем недавно еще его
шокировали слова пушкинского слуги: «Как же, работал, — в
картишки играл», — теперь он уже сам пишет А. С. Данилевско-
му: «Пушкина нигде не встретишь, как только на балах».
Гармония Гоголя в корне отлична от гармонии Пушки-
на. У Пушкина она подобна статуэтке, в которой форма и
содержание поданы уже в законченном замкнутом синтезе.
Гоголь — его полярный антипод. Он вечно взволнован, ме-
чется в поисках новой формы выражения своих мыслей, об-
разов, вечно меняет свои уже написанные тексты. Гоголь
недаром взывал постоянно к электрическому потрясению
своей читательской и зрительской аудитории, но он сам не
знал, как дать этот темп нарастающего crescendo. Гармония
Гоголя динамическая, имеющая свою диалектику, противо-
положную пушкинской.
570
Сам Гоголь прекрасно понимал как пушкинскую неповтори-
мость, так и необходимость искать собственные неповторимые
пути:
...Нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин
или кто другой должен стать теперь в образец нам: дру-
гие времена уже пришли... Другие дела наступают
для поэзии. Как во времена младенчества народов служила
она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая
в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать
на другую, высшую битву человека — на битву уже не за
временную нашу свободу... но за нашу душу.
Понимая свое отличие от Пушкина, Гоголь вместе с тем осоз-
навал свое подобие с ним в человеческом да и художественном
плане.
Из двух начал явился Пушкин, говорит Гоголь. Одно из
них определяет он как «отрешение от земли и существенно-
сти», стремление в «область бестелесных видений», то есть
как начало духовности, вернее, бесплотности, — христиан-
ское или кажущееся, в противоположность язычеству, «хри-
стианским». Другое — «прикрепление к земле и к телу», к
«осязаемой существенности» — начало плотское, языческое
или опять-таки кажущееся доныне, в противоположность
христианству, «языческим».
Предвидел ли Гоголь, что, определяя Пушкина, он и са-
мого себя определял, что и он явился из этих же самых
«двух начал»?
«В Пушкине, — писал Гоголь, —- середина». Середина в смыс-
ле соединения небесного и земного, христианского и языческо-
го. — «В нем все уравновешено».
Равновесие Пушкина нарушено в Гоголе; лад Пушкина
становится разладом в Гоголе. Это — одно из величайших
нарушений равновесия, которые когда-либо происходили в
душе человеческой. Здание дало трещину в главном своде,
поколебалось до последних основ своих и упало, и «было
падение дома того великое».
В этом-то неравновесии двух первозданных начал —
языческого и христианского, плотского и духовного, реаль-
ного и мистического — заключается вся не только творче-
571
екая, созерцательная, но и жизненная религиозная судьба
Гоголя.
Разлад, дисгармония во внутреннем существе его отра-
жаются и во внешнем, даже телесном облике.
И. Анненский:
Пушкин был завершителем старой Руси. Пушкин запе-
чатлел эту Русь, радостный ее долгим неслышным созрева-
нием и бесконечно гордый ее наконец-то из-под сказочных
границ засиявшим во лбу алмазом.
Не то Гоголь. Со страхом и мукой за будущее русской ли-
тературы стоит он перед нею, как гений, осеняющий ее
безвестный путь. Совершенство Пушкина, пускай лучезарно
далекое, — ведь оно прежде всего так ласково улыбалось с
своей высоты робкому и темному. Оно его манило, оно
окрыляло его.
Красота Гоголя наоборот: она подходила к человеку со-
всем близко, казалось, вплотную, а тот сам отпрядывал от
ее ослепительно страшного соседства. Люди пошли к Гого-
лю, они пошли от Гоголя, они разошлись от него, как дале-
кое сияние. Но, уходя каждый в свою сторону, из самой
святыни его творения, из благодати его страдальчества, эти
люди выносили две заветных, гоголевских мысли. Пер-
вая — я буду сам собою. Вторая — я буду любить одну загад-
ку, только одну, ту, с которой я родился, загадку моей ро-
дины.
Сведения о «последнем свидании» Пушкина и Гоголя сильно
расходятся: по рассказу Г. П. Данилевского, накануне отъезда
Гоголя за границу Пушкин просидел у него на квартире всю
ночь напролет, читал последние сочинения Гоголя; сам Гоголь в
письме Жуковскому писал, что даже с Пушкиным проститься
не успел — это притом, что Пушкин 6 июня 1836 года, в день
отъезда, был в Петербурге, жил в двух шагах ходьбы от порта.
О напряженности отношений с Пушкиным свидетельствует и
неожиданная добавка: «не успел и не мог проститься — впро-
чем, он в этом виноват». Слова эти сказаны о человеке, о кото-
ром тот же Гоголь писал: «Когда я творил, я видел перед собой
Пушкина».
В чем же «вина» одного гения перед другим? Я полагаю, «ви-
на» — в недостатке внимания Учителя к слишком требовательно-
му, ревнивому, неуравновешенному, неадекватно воспринимаю-
572
щему мир Ученику. Многие «странности» Гоголя объясняются
трагическим разрывом его притязаний и реалий, самооценок и
оценок другими, знания того, чего не дано еще было знать жи-
вым современникам, и отсутствия пророка в своем отечестве, ве-
стничества одного и глухоты всех.
В Париже Гоголя настигла страшная весть о гибели Пушкина.
Опередив почту и прессу, она ударила молнией в сознание поэта,
испепелив сердце и душу...
Письма Гоголя, написанные из-за границы после смерти
Пушкина, может быть, самые громкие вопли о понесенной поте-
ре, поздние объяснения в любви, но они же, эти письма, — горь-
кие свидетельства тоски, тоски не только о великой утрате, но о
недополученности, недостатке внимания, дефиците общения, ги-
бели высшей из возможных наград...
Н. В. Гоголь — П. А. Плетневу:
Никакой вести хуже нельзя было получить из России.
Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение
исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его
совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не во-
ображал его перед собою. Что скажет он, что заметит он,
чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одоб-
рение свое — вот что меня только занимало и одушевляло
мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удоволь-
ствия обнимал мою душу... Боже! нынешний труд мой, вну-
шенный им, его создание... я не в силах продолжать его.
Несколько раз принимался я за перо — и перо падало из
рук моих. Невыразимая тоска.
Н. В. Гоголь — М. П. Погодину:
Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним.
Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые
я творил. Когда я творил, я видел перед собою только
Пушкина. Ничто мне были все толчки, я плевал на пре-
зренную чернь; мне дорого было его вечное и непреложное
слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его
совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан
ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с
меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строчка не писалась
573
без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я те-
шил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что бу-
дет нравиться ему, и это было моею высшею и первою на-
градою. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой?
Что теперь жизнь моя?..
Н. В. Гоголь — А. С. Данилевскому:
Ты знаешь, как я люблю свою мать; но если б я потерял
даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь: Пушкин
в этом мире не существует больше.
Даже через два года после гибели Пушкина, уже возвратив-
шись в Москву и окунувшись в атмосферу взаимной вражды пи-
шущей братии, Гоголь писал П. А. Плетневу:
Как странно! Боже, как странно. Россия без Пушкина.
Я приеду в Петербург и Пушкина нет. Я увижу вас —- и
Пушкина нет. Зачем вам теперь Петербург?
Любовь к Пушкину Гоголь пронес до последних дней жизни.
П. А. Анненков свидетельствовал:
Таково было обаяние личности Пушкина, что когда за
три месяца до смерти Гоголя я напомнил ему о Пушкине,
то мог видеть, как переменилась, просветлела и оживилась
его физиономия.
Наши не любят об этом говорить, но настроения позднего
Пушкина во многом напоминают гоголевскую Переписку с
друзьями: например, пушкинский Странник — творение
не только религиозно-мистическое, но пророческое, провиден-
циальное, наполненное бессильным отчаянием и ощущением не-
отвратимых ужасов и катаклизмов:
Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь как больной:
«Что делать буду я? что станется со мной?»
574
«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! —
Сказал я, — ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом, мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время;
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обресть убежище; а где? о горе, горе!»
«...Я осужден на смерть и позван в суд загробный —
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит».
Почему-то Белинские промолчали, читая пушкинского
Странника или Пророка, не поскупившись на удар, при-
шедшийся по Гоголю.
ПУШКИН И ГОГОЛЬ
ОКОНЧАНИЕ
Сделайте милость, дайте какой-
нибудь сюжет, хоть какой-нибудь
смешной или несмешной, но чисто
русский чисто анекдот. Рука дро-
жит написать тем временем коме-
дию... Сделайте же милость, дайте
сюжет; духом будет комедия из пя-
ти актов, и клянусь, куда смешнее
черта!
Н. В. Гоголь — А. С. Пушкину
Общим местом стала принадлежность замыслов Ревизора
и Мертвых Душ Александру Сергеевичу Пушкину. Это мно-
го раз подчеркивал сам Гоголь, об этом сохранилось множество
других свидетельств.
В. А. Соллогуб:
Пушкин рассказал Гоголю про случай, бывший в городе
Устюжне Новгородской губ., о каком-то проезжем господи-
не, выдавшем себя за чиновника министерства и обобрав-
шем всех городских жителей. Кроме того, Пушкин, сам бу-
575
дучи в Оренбурге, узнал, что о нем получена гр. В. А. Пе-
ровским секретная бумага, в которой Перовский предосте-
регался, чтоб был осторожен, так как история Пугачевского
бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела це-
лью обревизовать секретно действия оренбургских чинов-
ников. На этих двух данных задуман был «Ревизор», коего
Пушкин называл себя всегда крестным отцом.
П. В. Анненков:
Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль «Ревизора»
и «Мертвых душ», но менее известно, что Пушкин не со-
всем охотно уступил ему свое достояние. В кругу своих до-
машних Пушкин говорил, смеясь: «С этим малороссом на-
до быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать
нельзя».
Существует обширная литература по проблеме пушкинского
происхождения сюжета гоголевской поэмы и о пушкинском про-
тотипе этого произведения. Так, Ю. М. Лотман считает таковым
Русского Пелама: «Осень 1835 г. — это время, когда оста-
новилась работа Пушкина над «Русским Пеламом». Можно пред-
полагать, что это и есть тот сюжет «вроде поэмы», который Пуш-
кин отдал Гоголю...» Ю. В. Манн считает, что в Русском Пе-
ла м е как раз нет того, что составляет суть пушкинской подсказ-
ки и что записей пушкинского замысла либо не существовало,
либо они были утеряны: «По-видимому, Пушкин обдумывал
произведение, перераставшее рамки поэмы, приближавшееся к
комическому роману (в стихах или в прозе) — жанру, дотоле им
еще не испробованному».
На сей счет сохранилось воспоминание племянника Пушкина
Л. Н. Павлищева, записанное П. А. Ефремовым в 1872 г., то есть
спустя полвека после событий, и потому далеко не всеми разде-
ляемое. Рассказав Гоголю о скупщике мертвых душ, Пушкин
якобы признался в намерении заняться этим сюжетом: «...к сти-
хам я ныне охладел и, как вам известно, занимаюсь прозою».
В свою очередь, Гоголь якобы не проявил никакого интереса к
рассказу Пушкина. «Между тем впоследствии Александр Сергее-
вич показывал своей сестре самую программу повести или рома-
на на сюжет похождений скупщика «мертвых душ». Но Гоголь
предупредил его, и когда труд его настолько продвинулся, что он
сообщил о нем Жуковскому и Плетневу, А. С. был этим крайне
576
недоволен». По словам того же Ефремова, примирило великого
поэта с «похитителем» идеи ее исполнение: «Я не написал бы
лучше. У Гоголя бездна юмора и наблюдательности, которых во
мне нет».
Сакраментальный вопрос: действительно ли сюжет Р е в и з о -
ра (как и Мертвых Душ) получен Гоголем от Пушкина, как
утверждали они оба? Если нет, какая выгода была в этом для
обоих?
Я отнюдь не собираюсь опровергать традиционную точку зре-
ния, но не собираюсь и принимать ее как данность. Как нет со-
мнений в том, что Пушкин действительно делился с Гоголем
своими замыслами, так нет уверенности в том, что незамыслова-
тые сюжеты лжеревизора и ловца мертвых душ к этому времени
не стали широко распространенными элементами фольклора,
никак не являющимися частной собственностью Пушкина. Гого-
лю было выгодно подчеркивать свое генетическое творческое
происхождение от «звездного» поэта, Пушкину, которому ничто
человеческое не было чуждо, была выгодна версия его «обира-
ния» звездой восходящей: вряд ли в мировой культуре есть ге-
нии-матери, считавшие себя таким образом «не обобранными»...
Гоголь в тот момент еще остро нуждался в патронаже, Пушкин
охотно выступал в роли патрона....
Далеко не все современники разделяли мнение, что Гоголь
был близким человеком к Пушкину, как это представлял сам
Николай Васильевич. Сложность и неоднозначность отношений
двух гениев отнюдь не сводилась к ролям мэтра и подобостраст-
ного ученика. Что до получения сюжета Ревизора из рук
Пушкина, то наряду с фактами, расцениваемыми как подтверж-
дение этой версии, существуют и многие «нестыковки».
Вынесенная в эпиграф просьба Гоголя к Пушкину «дать сю-
жет» датирована 7 октября 1835 года, последняя точка в рукопи-
си Ревизора поставлена 4 декабря того же года — эти даты
разделены менее чем двумя месяцами! На самом деле — и того
меньше: Пушкин воротился в Петербург 23 октября и лишь в
конце месяца мог дать Гоголю просимый сюжет. Мог ли Гоголь
«соорудить» Ревизора в темпе Шекспира?..
Есть и другие обстоятельства. Хотя молодой Гоголь не оставил
свидетельств о начале работы над Ревизором, многие иссле-
577
дователи — Н. С. Тихонравов, В. И. Шенрок, А. И. Кирпични-
ков — сообщали, что работа над «русским чисто анекдотом» на-
чата Н. В. Гоголем в... 1834 году...
Пушкин был уверен, что и сюжетами его Гоголь пользуется и
что по совету его начал историю русской критики. Сам Гоголь
поддерживал эту версию, как, впрочем, и другую — что идея
пушкинского Современника принадлежит чуть ли не ему,
Гоголю.
Н. В. Гоголь — П. А. Плетневу:
Грех лежит на моей душе — я умолил его. Я обещался
быть верным сотрудником... Моя настойчивая речь и обе-
щанье действовать его убедили.
Но зачем Пушкину нужно было дарить, а Гоголю просить сю-
жет Ревизора, если уже существовала комедия Квитки При-
езжий из столицы, а в Библиотеке для чтения, за
которой пристально следил Гоголь, уже появилась повесть А. Ве-
льтмана Провинциальные актеры с тем же сюжетом? Да
и в сюжете ли дело? Разве сам Пушкин не практиковал широчай-
шим образом заимствование сюжетов из всей мировой литерату-
ры? Разве до Гете не было сотен Фаустов и до Сервантеса
Кихано Добрых? Разве сюжеты античных трагедий не варьирова-
лись писателями всех стран в бессчетном количестве вариантов?
Вообще разве вся культура не есть история такого рода влияний?
Важен не сюжет — важно, что именно гетевский Фауст или
сервантовский Дон Кихот или гоголевский Ревизор стали
эпохами в культуре.
Не вызывает сомнений, что, обращаясь к Пушкину с про-
сьбой о сюжете, Гоголь уже обдумывал «Ревизора». Более того,
его следы уже были в написанном им ранее — в отрывках Вла-
димире III степени, в Собачкине, рассчитывающем разом
получить двести тысяч, в поручике Пирогове с его хлестаковской
«забывчивостью», в гуляющем по Невскому Носе. «Они говори-
ли его языком, думали его мыслями».
В. В. Набоков:
По какой-то причине (быть может, от ненормальной бо-
язни всякой ответственности) Гоголь старался всех убедить,
будто до 1837 года, то есть до смерти Пушкина, все, что он
578
написал, было сделано под влиянием поэта и по его под-
сказке. Но так как творчество Гоголя разительно отличается
от того, что создал Пушкин, а вдобавок последнему хватало
своих забот и недосуг было водить пером литературного со-
брата, — сведения, столь охотно сообщаемые Гоголем, вряд
ли заслуживают доверия.
Есть одно свидетельство — письмо Гоголя Погодину от 6 де-
кабря 1835 года, — говорящее о том, что, кончая работу над Ре-
визором, творец еще не осознавал того, что он сотворил:
Теперь вышел я на свежий воздух. Это освежение нужно
в жизни как цветам дождь, как засидевшемуся в кабинете
прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да
здравствует комедия! Одну наконец решаюсь давать на те-
атр...
Осознание пришло «на театре», во время первых постановок,
а более глубокое — в Выбранных местах, в признании
сверхжизненности «взятого из души» — того, о чем позже
О. Уайльд скажет: не театр из жизни, а жизнь из театра в смысле,
что фантазия или интуиция художника порой оказывается прав-
дивей и глубже самой жизни.
Позже Гоголь объяснял свой переход к «серьезному жанру»
влиянием Пушкина и внутренней потребностью заглушать при-
падки тоски уже не легким юмором молодости, а разоблачитель-
ной сатирой на постепенно постигаемый абсурд человеческого
существования и российской действительности.
Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело сурьезно.
Он уже давно склонял меня приняться за большое сочине-
ние и наконец один раз, после того, как я ему прочел одно
небольшое изображение небольшой сцены, но которое, од-
нако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного,
он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать челове-
ка и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как
живого, с этой способностью не приняться за большое со-
чинение! Это, просто, грех!» Вслед за этим начал он пред-
ставлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые мо-
гут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сер-
вантеса, который, хотя и написал несколько очень замеча-
тельных и хороших повестей, но если бы не принялся за
«Донкишота», никогда бы не занял того места, которое за-
579
нимает теперь между писателями, и, в заключение всего,
отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел
сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его,
он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых
душ». На этот раз и я сам уже задумался сурьезно, — тем
более, что стали приближаться такие года, когда сам собой
приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его де-
лаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, на-
прасно, сам на зная, зачем. Если смеяться, так уж лучше
смеяться сильно и над тем, что действительно достойно
осмеяния всеобщего.
Хотя сам Гоголь признавал версию получения сюжета Мер-
твых Душ из рук А. С. Пушкина, на сей счет есть также и дру-
гие свидетельства. Так, дальняя родственница Гоголя Марья Гри-
горьевна Анисимо-Яновская рассказывала В. А. Гиляровскому:
Мысль написать «Мертвые души» взята Гоголем с моего
дяди Пивинского. У Пивинского было 200 десятин земли и
душ 30 крестьян и детей пятеро. Богато жить нельзя и суще-
ствовали Пивинские винокурней. Тогда у многих помещи-
ков были свои винокурни, акцизов никаких не было. Вдруг
начали разъезжать чиновники и собирать сведения о всех, у
кого есть винокурни. Пошел разговор о том, что у кого нет
пятидесяти душ крестьян, тот не имеет права курить вино.
Задумались тогда мелкопоместные: хоть погибай без вино-
курни. А Харлампий Петрович Пивинский хлопнул себя по
лбу да сказал: «Эге! Не додумались!» И поехал в Полтаву, да
внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых.
А так как своих да и с мертвыми, далеко до пятидесяти не
хватало, то набрал он в бричку горилки, да и поехал по со-
седям и накупил у них за эту горилку мертвых душ, записал
их себе и, сделавшись по бумагам владельцем пятидесяти
душ, до самой смерти курил вино и дал эту тему Гоголю,
который бывал в Федунках, имении Пивинского, в 17 вер-
стах от Яновщины; кроме того, и вся Миргородчина знала
про мертвые души Пивинского.
История эта поучительна еще одним пассажем, утраченным
критиками при трактовке поэмы Гоголя: голь на выдумки хитра.
Характерная для земли российской легисломания, вера в дейст-
венность изобретенных в кабинетах законов, разбивается о рос-
сийскую жизнь, измышленным законам не подвластную. Пото-
му-то так тут веками и происходит: закон сам по себе, жизнь са-
580
ма по себе. Как сказал мне один «бывалый», закон придумывает
двадцать человек, а двести миллионов думает, как обойти его.
Так за кем же окажется победа?
ГОГОЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ
Хотя исследователи творчества Федора Михайловича Достоев-
ского внимательно проследили все его творческие связи с Гого-
лем, мне кажется, они не сказали главного: как глубоко, я бы
сказал генетически, они связаны между собой. Притом что Го-
голь менее психологичен, у него тоже хватает собственного и
русского подполья и не меньше русской амбивалентности. За-
долго до Достоевского он сказал всю правду о России, раскрыл
всю русскую жуть, и он же создал «русский апофеоз», первым за-
явил о «всемирности»:
Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что
такое православная русская вера! Уже и теперь чуют даль-
ние и близкие народы: подымается из Русской земли свой
царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась
ему!..
Как на фоне Ревизора и первого тома Мертвых Душ
ни фальшив гомеровский пафос Тараса Бульбы, этого русского
Ахилла, как ни правдива гоголевская народная стихия, не подда-
ющаяся никакому контролю, как ни точны гоголевские диагнозы
заболевания собственной страны, доминирующей идеей второй
редакции Тараса Бульбы является «великое чувство», все-
общность, тотальность, все как один, народ — «цельный сплош-
ной камень».
Украинцем Тарасом Бульбой Гоголь закладывал свой камень
в фундамент «русской идеи». Хотя Гоголь отнюдь не идеализи-
рует народную массу, сечь, менталитет, русский архетип требу-
ет, чтобы все делали одно дело, были как камень, чтоб народ
был одной семьей и атаман — батькой, отцом народа. Оды Дер-
жавина, херасковская Россияда, песнь «во стане русских во-
инов» Жуковского — все блекнет перед гоголевским пафосом
Тараса Бульбы, в речи которого мы найдем и Царьград, и «ка-
толических недоверков», и «бусурманские обычаи», и «мыши-
ную натуру» инородцев — весь будущий «джентльменский на-
бор» Федора Михайловича... Почти никто не обратил внимания
на воинственность Тараса Бульбы, признающего единственную
581
науку — войну, не мыслящего человеческих доблестей вне сра-
жения, ставящего отвагу насилия выше красоты и доблести по-
знания.
Хочется мне вам сказать, Панове, что такое есть наше то-
варищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у
всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царь-
града брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и
князья, князья русского рода, свои князья, а не католиче-
ские недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало [Везде
враги!]. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после
крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в
какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на
чем стоит наше товарищество!.. Бывали и в других землях
товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких то-
варищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на
чужбине; видишь — и там люди! также божий человек, и
разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того,
чтобы поведать сердечное слово, — видишь: нет, умные лю-
ди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так лю-
бить, как русская душа, — любить не то чтобы умом или
чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, а... Нет,
так любить никто не может!
Не от такого ли самовоспевания и такой самолюбви наши бе-
ды?..
В Дневнике писателя за 1876 год, споря с критиком
В. Г. Аверченко, Ф. М. Достоевский дал очень высокую оценку
Мертвым Душам и Женитьбе. Это — «самые глубочай-
шие произведения, самые богатые внутренним содержанием,
именно по выводимым в них художественным типам. Эти изоб-
ражения, так сказать, почти давят ум глубочайшими непосиль-
ными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные
мысли, с которыми, чувствуется это, справиться можно далеко не
сейчас; мало того, еще справишься ли когда-нибудь?»
Достоевский считал Гоголя обладателем «страшного могуще-
ства смеха» — «могущества, не выражавшегося так сильно еще
никогда, ни в ком, нигде, ни в чьей литературе с тех пор, как со-
здалась земля. И вот после этого смеха Гоголь умирает перед на-
ми, уморив себя сам, в бессилии создать и в точности определить
себе идеал, над которым бы он мог не смеяться». Эта цитата из
582
статьи Книжность и грамотность свидетельство неод-
нозначного, предельно амбивалентного отношения Достоевского
к своему предтече.
История влияний не есть только история преемственности:
когда речь идет о гениях, наследование подразумевает широчай-
шую гамму отношений — и заимствование, и травестию, и от-
рицание, и пародирование, и борьбу. Свое эссе Достоев-
ский и Гоголь Юрий Тынянов начинает следующим обра-
зом:
Когда говорят о «литературной традиции» или «преемст-
венности», обычно представляют некоторую прямую ли-
нию, соединяющую младшего представителя известной ли-
тературной ветви со старшим. Между тем дело много слож-
нее. Нет продолжения прямой линии, есть скорее отправле-
ние, отталкивание от известной точки, — борьба. А по от-
ношению к представителям другой ветви, другой традиции,
такой борьбы нет: их просто обходят, отрицая или прекло-
няясь, с ними борются одним фактом своего существова-
ния. Такова была именно молчаливая борьба почти всей
русской литературы XIX века с Пушкиным, обход его, при
явном преклонении перед ним. Идя от «старшей», держа-
винской «линии», Тютчев ничем не вспомнил о своем пред-
ке, охотно и официально прославляя Жуковского, Пушки-
на, Карамзина. Так преклонялся перед Пушкиным и Досто-
евский. Он даже не прочь назвать Пушкина своим родона-
чальником; явно не считаясь с фактами, уже указанными к
тому времени критикой, он утверждает, что «плеяда 60-х го-
дов» вышла именно из Пушкина.
Между тем современники охотно усмотрели в нем пря-
мого преемника Гоголя. Некрасов говорит Белинскому о
«новом Гоголе», Белинский называет Гоголя «отцом Досто-
евского», даже до сидящего в Калуге Ив. Аксакова донес-
лась весть о «новом Гоголе». Требовалась смена, а смену
мыслили как прямую, «линейную» преемственность.
Преемственность действительно была, но отнюдь не та, о ко-
торой говорили современники. Достоевский действительно «от-
правлялся» от Гоголя, но не как последователь, а как стилизатор,
соперник, пародирующий мэтра, как ниспровергатель, искатель
новых путей. Характеризуя отношения двух великих писателей,
Розанов, видимо, впервые произнес ключевое для этих отноше-
ний слово: борьба.
583
Я не могу согласиться с Розановым, что Достоевский восста-
навливал достоинство в человеке, которое отнял Гоголь. Ведь го-
голевская тема «лица» практически ничем не отличается от со-
временного экзистенциала личности. «Лицо» у Гоголя — это «со-
отнесенность с Богом», «окликнутость человека Богом», по тер-
минологии Р. Гвардини.
Можно не быть одаренной индивидуальностью, но нель-
зя, оставаясь человеком, не сохранить «лицо». «Единствен-
но этот факт делает каждого человека человеком. Не в том
смысле, чтобы он имел присущие лишь ему дарования, но в
том ясном, безусловном смысле, что каждый в своем само-
бытии не может быть как-либо заменен, представлен дру-
гим или вытеснен им».
Вяч. Иванов:
Что касается Гоголя, мне представляются Достоевский и
Гоголь полярно противоположными: у одного лики без ду-
ши, у другого — лики душ; у гоголевских героев души мерт-
вые или какие-то атомы космических энергий, волшебные
флюиды, — а у героев Достоевского души живые и живучие,
иногда все же умирающие, но чаще воскрешающие или уже
воскресшие; у того красочно пестрый мир озарен внешним
солнцем, у этого — тусклые сумерки обличают теплящиеся,
под зыбкими обликами людей, очаги лихорадочного горе-
ния сокровенной душевной жизни. Гоголь мог воздейство-
вать на Достоевского только в эпоху «бедных людей». Тогда
«Шинель» была для него откровением; и достаточно при-
помнить повесть «Хозяйка», чтобы измерить всю силу вну-
шения, воспринятого от Гоголя-стилиста чуждым ему по
духу молодым рассказчиком, в период до ссылки.
Борьба Достоевского с Гоголем, по Тынянову, началась с
проблемы характера. Гоголь, как известно, был характерный ху-
дожник, рисовавший человеческие типы. Достоевский типы ка-
тегорически отрицал — его интересовали оттенки, контрасты,
резкие переходы, взрывы.
Наполнять романы одними типами или даже просто, для
интереса, людьми странными и небывалыми было бы не-
правдоподобно, да пожалуй и не интересно. По-нашему,
писателю надо стараться отыскивать интересные и поучите-
льные оттенки даже и между ординарностями.
584
Модернизм Гоголя мифологичен, Достоевского — подсозна-
телен, подполен. Гоголь — фантаст, Достоевский — реалист. Го-
голь — художник неразбавленных красок, Достоевский — несо-
вместимых тонов. Гоголь упрощает, Достоевский — усложняет,
доводит до парадокса.
Начав со стилизации, Достоевский кончил травестией. Дя-
дюшкин сон открывается откровенными, нескрываемыми го-
голевскими приемами, а кончается пародией. Фома Опискин —
уже чистая пародия, причем материалом для нее явилось уже не
творчество, а сама личность Гоголя. Речи Фомы пародируют го-
голевскую «Переписку с друзьями».
Характер Гоголя пародирован тем, что взят Гоголь вре-
мен «Переписки» и вдвинут в характер неудачника-литера-
тора, «приживальщика».
О том, что Достоевский действительно имеет в виду Гоголя,
свидетельствует буквальное повторение Фомой гоголевских идей
из его Переписки: «Вы помещик; вы должны сиять как брил-
лиант в своих поместьях...» Вот как выглядит это у Достоевского,
в его травестии на гоголевские «завихрения»:
И так, вспомните, что вы помещик, продолжал Фома...
Не думайте, чтобы отдых и сладострастие были предназна-
чением помещика, его звания. Пагубная мысль! Не отдых, а
забота, и забота перед Богом, царем и отечеством! Трудить-
ся, трудиться обязан помещик, и трудиться, как последний
из крестьян его!
К вам теперь обращаюсь, домашние, продолжал Фо-
ма... — любите господ ваших и исполняйте волю их подобо-
страстно и с кроткостью. За это возлюбят вас и господа ваши.
О том, что Достоевский постоянно равнялся по Гоголю, сви-
детельствуют его письма. О Двойнике он пишет брату: «Тебе
он понравится даже лучше «Мертвых душ». О Романе в 9-ти
письмах говорит: «Он будет лучше гоголевской «Тяжбы». По
всему видно, что страстное желание Достоевского — превзойти
кумира, даже преодолеть его. Причем это «преодоление» он по-
рой понимал чуть ли не буквально: в Фоме Опискине мы обнару-
живаем не простое пародирование характера, но и довольно
злую, почти нескрываемую иронию:
585
Но гений, покамест еще собирался прославиться, требо-
вал награды немедленной. Вообще приятно получать плату
вперед, а в этом случае особенно. Я знаю, он серьезно уве-
рил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг,
для которого он и на свет призван, и к совершению которо-
го понуждает его какой-то человек с крыльями, являющий-
ся ему по ночам, или что-то вроде того. Именно: написать
одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном
роде, от которого произойдет всеобщее землестрясение и
затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то
он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет
молиться день и ночь в киевских пещерах о счастии отече-
ства.
Доминирующая в русской критике идея «преодоления Гоголя»
Достоевским, их отношения как резкого отталкивания, борьбы и
разрыва, выразившегося в формуле «полярной противоположно-
сти», отчеканенной Вяч. Ивановым: «У одного лики без души, у
другого — лики душ», — получила развитие и обоснование в ра-
ботах А. Л. Бёма, опубликованных в Праге.
В статье о «Носе» и «Двойнике» А. Л. Бём назвал повесть
о господине Голядкине «художественной отповедью» гого-
левскому анекдоту:
«Нос» больно задел Достоевского и вызвал резкую худо-
жественную отповедь». По мысли исследователя, Достоев-
ского больно задело анекдотическое обессмысленное иска-
жение его, Достоевского, идеи, потенциально таившейся в
«Носе», — идеи замещения и вытеснения человека, которая
явится «осмысленной» — как «трагедия личности» — в
«Двойнике». Гоголь «пропустил идею», «не заметил» траге-
дии, свел трагедию к анекдоту, не выявил, не углубил ми-
моходом намеченные возможности — словом, не написал
«Двойника», а написал «Нос». Самое это столь выразитель-
ное различие между носом и двойником как предметами и ге-
роями есть для исследователя различие между внешним
анекдотическим, уводящим от «проблемы личности», и глу-
боким трагическим решением той же, в сущности, темы.
Намеки же «на возможность углубления сюжета» А. Л. Бём
усматривал в том самом нашем словечке «почти» — заклю-
ченное в нем углубление и ведет от Гоголя к Достоевскому:
«Ведь «нос» был почти то же, что сам Ковалев; достаточно
отбросить это «почти», и перед вами не «Нос», а двойник».
586
С. Г. Бочаров:
Этот акцент на «преодоление», остро подчеркивая «но-
вое слово» Достоевского, заслонял в то же время другую
сторону дела — глубокую подготовку этого слова в недрах
гоголевского творчества, в том числе не в последнюю оче-
редь в «Носе». Поэтическая антропология Достоевского
была подготовлена тем раздвоением в человеческом образе,
которое, в самом деле, и высказалось, как в фокусе, в этой
ключевой фразе: «почти то же, что о самом себе».
А. Л. Бём верно почувствовал в этом «почти» обращен-
ность к будущим темам Достоевского, но расценил его как
досадное гоголевское препятствие, исказившее чистоту
идеи, не почувствовал бездны, которая открывается в этом
словечке, всей безмерной необходимой значительности
анекдота Гоголя на пути к трагическому откровению До-
стоевского, не увидел, что путь русской литературы лежит
через это «почти».
Бесспорным свидетельством сложности отношений Достоев-
ского и Гоголя является тот диапазон критических оценок, кото-
рыми эти отношения определяются: от синтеза в Достоевском
«гоголевской» и «пушкинской» традиции до решительного отхода
Достоевского от Гоголя. Так, В. Виноградов в Эволюции
русского натурализма представлял Бедных людей
как «сшибку» Станционного смотрителя и Шинели,
синтез «сентиментальной» и «натуральной» форм, тогда как
М. Бахтин в Проблемах поэтики Достоевского, от-
талкиваясь от оценки Шинели Макаром Девушкиным, как
«злонамеренной книжки» и «пустого примера из вседневного,
подлого быта», пришел к заключению о преодолении «завершен-
ного» гоголевского героя Акакия Акакиевича Башмачкина неза-
вершенным героем Достоевского Макаром Девушкиным. Герои
Достоевского, писал М. Бахтин, ощущают свою внутреннюю не-
завершенность, свою способность как бы изнутри перерасти и
сделать неправдой любое овнешняющее и завершающее их
определение. Или по-другому: в гоголевском мире «Достоевский
произвел как бы в маленьком масштабе коперниковский перево-
рот», «он перенес автора и рассказчика со всею совокупностью
их точек зрения и даваемых ими описаний, характеристик и
определений героя в кругозор самого героя...»
Я не стал бы говорить о разрыве — лучше всего отношения
Достоевского и Гоголя описываются словом «экстраполяция».
587
Почти нет сомнений в том, что молодой Достоевский, обладав-
ший всеми свойствами художественной губки с невероятной ад-
сорбционной способностью, не мог миновать гигантского горно-
го массива, простирающегося между Гофманом и Гоголем, не
мог избежать ни гротескного колорита Шинели, ни непреодо-
лимого противоречия между иллюзией и действительностью, ни
контраста между высокими устремлениями и низкими целями.
Дело даже не в многократном обыгрывании «переписывания» и
«шинели» в тех же Бедных людях — дело в тяготении Досто-
евского к магическому реализму, реализму человеческих глубин,
реализму, «изготовленному» из того же материала, что «наши
сны».
Конечно, Достоевский, следуя по стопам Гоголя, ушел
гораздо дальше Шинели — до подпольного человека, бесов и
Великого инквизитора, — но свои пещеры или Эвересты — как
угодно — он начал осваивать все же, отталкиваясь от Акакия
Акакиевича, еще раз подтверждая великую мысль о русской ли-
тературе, вышедшей из гоголевской Шинели.
Ю. В. Манн:
Полемизируя с Гоголем с помощью «романтических»
элементов в структуре характера, Достоевский восстанавли-
вал на своем уровне самый беспощадный и безысходный
гоголевский антиромантизм.
И быть может, в этом контрасте — величайшей свободы
героя в сфере самосознания и самоопределения (определе-
ния, оценки себя) и его несвободы от объективных условий
и воли других лиц — коренится одна из важнейших тенден-
ций произведений Достоевского. По крайней мере — его
первого романа.
Таким образом, полемический материал «Бедных людей»
Достоевского, «треугольник»: Макар Девушкин — Акакий
Акакиевич — Самсон Вырин, — а вместе с тем и вся ситуа-
ция первого романа Достоевского должны быть взяты с бо-
лее глубокого плацдарма — по крайней мере позднего ро-
мантизма, то есть романтизма гофмановского типа. И тогда
перед нами обозначатся, по крайней мере, четыре этапа
сложного и драматического процесса: мы увидим, как фор-
мировалась определенная романтическая структура характе-
ра; как в гоголевской «Шинели» она была подвергнута нео-
бычайно смелой перестройке, выразившейся и в «заземле-
нии» высокой трансцендентальное™, и в ее конечном
588
опровержении, «снятии», то есть в прямом антиромантизме;
увидим далее, как в произведениях «натуральной школы»
возникла тенденция «расщепить» ядро гоголевского персо-
нажа, вернуть высокой устремленности подобающее высо-
кое, «романтическое» содержание. Достоевский продолжил
и завершил эти усилия, однако он вместе с тем распростра-
нил на новый, «романтический» уровень гоголевскую бе-
зысходность и гоголевский антиромантизм. Отношение ав-
тора «Бедных людей» к Гоголю тем самым получает, в на-
ших глазах, более сложный вид и характеризуется не столь-
ко разрывом и «переворотом», сколько сложной перегруп-
пировкой конкретных элементов. Реакция Девушкина —
яркий показатель этой сложности, однако показатель вовсе
не прямой и не прямолинейный. Больше того: чем беспо-
щаднее проявлял Достоевский в отношении своего героя
гоголевскую трезвость и бескомпромиссность, тем сильнее
обозначалась полемичность реакции самого Девушкина, хо-
тя, повторяем, своим стремлением возвыситься над прозаи-
ческим, «вещным» уровнем он, безусловно, передавал нова-
торство типологических принципов Достоевского. Но все
делОч в том, что типологические принципы Достоевского
этим не исчерпывались.
Ю. Тынянов:
Достоевский явно отправляется от Гоголя; он это под-
черкивает. В «Бедных людях» названа «Шинель», в «Госпо-
дине Прохарчине» говорят о сюжете «Носа» («Ты, ты, ты
глуп! — бормотал Семен Иванович: — нос отъедят, сам с
хлебом съешь, не заметишь»). Гоголевская традиция отра-
жается неравномерно в его первых произведениях. «Двой-
ник» несравненно ближе к Гоголю, чем «Бедные люди»,
«Хозяйка» — чем «Двойник». В особенности эта неравно-
мерность видна на «Хозяйке», произведении, написанном
уже после «Бедных людей», «Двойника», «Господина Про-
харчина», «Романа в девяти письмах»; действующие лица
«Хозяйки» близки к лицам «Страшной мести»; стиль с его
гиперболами, параллелизмами...— черта, присущая Гоголю
и несвойственная Достоевскому.
Еще не определилось, что в Гоголе существенно для До-
стоевского; Достоевский как бы пробует различные приемы
Гоголя, комбинируя их.
Отсюда общее сходство его первых вещей с произведе-
589
ниями Гоголя; «Двойник» близок не только к «Носу», «Не-
точка Незванова» не только к «Портрету», но одни эпизоды
«Неточки Незвановой» восходят к «Портрету», другие — к
«Страшной мести»; моторные образы «Двойника» близки к
образам «Мертвых душ».
Стиль Достоевского так явно повторяет, варьирует, ком-
бинирует стиль Гоголя, что это сразу бросилось в глаза со-
временникам (Белинский о «гоголевском обороте фразы»,
Григорович: «влияние Гоголя в постройке фраз»).
Если хотите, Поприщин — первый в русской литературе
«подпольщик», как Записки сумасшедшего — предчув-
ствие Записок из подполья. Если их «сшить», получится
одно.
Даже в самой фамилии Поприщина слышны и «поприще» и
«прыщ», величие и ничтожество. Подпольщик Достоевского ради
своего чая соглашался, чтоб «свету провалиться», Поприщин же-
лал «плевать» на всех.
Желал бы я... сделаться генералом: не для того, чтобы
получить руку и прочее, нет, хотел бы быть генералом для
того только, чтобы увидеть, как они будут увиваться... и по-
том сказать им... плюю на вас...
Как затем Достоевский, имевший странное пристрастие к
темным, мрачным квартирам, Гоголь селил своих героев по соб-
ственным адресам: «В местах, обжитых им, поселятся и майор
Ковалев, и Поприщин («Записки сумасшедшего»), и художник
Пискарев из «Невского проспекта».
Андрей Белый считал, что ранний Достоевский вытек из сти-
ля зрелого Гоголя, а поздний Достоевский — из тематики ранне-
го Гоголя, сведенной с облаков в жизнь.
Словесная ткань Гоголя расплетаема на элементы (хо-
ды): сюжетные, жестовые, словесные. Во второй фазе всюду
у Гоголя появляется с одной стороны безродный, бездет-
ный, безбытный чудак, вброшенный в марево петербург-
ских туманов и развивающий в уединении дичь: мономан
Башмачкин, юный Чартков, сумасшедший Поприщин,
опиоман Пискарев; с другой стороны юркает безлично-се-
рый проныра и плутоватый пошляк (Ковалев, Пирогов);
590
среди этой компании бродят отчетливо демонические фигу-
ры: неумолимый доктор, украшенный смолистыми бакен-
бардами и дающий «большим пальцем щелчка («Нос»), и
подозрительный ростовщик.
Эту тему подхватывает молодой Достоевский, которого
«Двойник» напоминает лоскутное одеяло, сшитое из сю-
жетных, жестовых и слоговых ходов Гоголя: те ж бакенбар-
ды, ливреи, лакеи, кареты в дующем с четырех сторон
сквозняке; «не останавливающий на себе... ничьего внима-
ния» чудак Голядкин подобен незначительному, «как му-
ха», Башмачкину; тот — довольно плешив; этот — «довольно
оплешивевшая фигура»; тот — подмигивает, подхихикива-
ет, потирает руками; этот «улыбался и потирал... руки»;
«судорожно потер... руки и залился тихим, неслышимым
смехом»; «трусил... мелким частым шажком». Башмачкин,
выживи и рехнись, как Поприщин, влюбленный в дочь
«его превосходительства», стал бы Голядкиным, влюблен-
ным в Клару Олсуфьевну; как Поприщин, ворвавшийся в
комнату «предмета», Голядкин ворвался на бал и пытался с
возлюбленной отхватить польку; Голядкин договорился до
иезуитов; Поприщин — до испанских дел; Башмачкин кос-
ноязычит: «того-этого»; Голядкин косноязычит: «ничего се-
бе», «стою себе»; тема ж бреда Голядкина взята из «Носа» с
тем различием, что нос Ковалева стал статским советни-
ком другого ведомства; двойник же Голядкина, вынырнув-
ший из подсознания патрона, явился на место службы его,
чтобы выгнать со службы; там ужас, что нос убежал;
здесь, — что двойник прибежал; картина встречи Голядкина
старшего с младшим — взята из «Шинели»: та же метель,
но с дождем; «ночь... дождливая, снежливая, чреватая...
жабами», которую и схватил Башмачкин: Голядкину наду-
ло на жабу, а... двойника, привидением, на него напав-
шим; Башмачкин же обернулся сам нападающим привиде-
нием.
Отмечая повторы, словечки и ряд перепевов из Гоголя в
«Двойнике», Виноградов подчеркивает: первая сцена «Двой-
ника» имитирует первую сцену из «Носа»: «Голядкин очнул-
ся» («Двойник»); «Ковалев проснулся» («Нос»); Голядкин —
«потянулся» («Двойник»); Ковалев — «потянулся» («Нос»);
Голядкин «скачком выпрыгнул из постели» («Двойник») —
выскок Чичикова из постели, и т. д. Виноградов подчерки-
вает обилие в «Двойнике» глаголов совершенного вида
591
(«юркнул», «шаркнул», «шмыгнул» и т. д.), как у Гоголя; и
переклик с Гоголем во фразах: на Голядкина устремили
«полные ожидания они»; обратило на меня полные ожидания
очи («Мертвые Души»); Гоголь: «Эх, ты, фигурант... эта-
кой... дурашка ты этакой»; Чичиков: «Ах, ты, мордашка эта-
кой!»
Гоголь предвосхитил и идеи некоторых других произведений
Достоевского, в частности, в статье о переводе Жуковским
Одиссеи имеются наметки Сна смешного человека.
Как и у Гоголя, у Достоевского все происходит «вдруг», «вне-
запно», «врасплох». Даже словечки молодого Достоевского, а то и
целые фразы — из гоголевского словаря: «Лентяй ты такой, Фе-
тюк, просто Фетюк!»; «Письмо вздор, письма пишут аптекари»...
«Только в глупой светской башке могла образоваться такая глу-
пая мысль», — читаем у Гоголя: «Только в глупой светской башке
могла зародиться потребность таких бессмысленных прили-
чий», — находим у Достоевского.
Еще одна черта: постоянно употребляя в письмах и ста-
тьях имена Хлестакова, Чичикова, Поприщина, Достоев-
ский сохраняет и в своих произведениях гоголевские имена:
героиня «Хозяйки», как и «Страшной мести» — Катерина,
лакей Голядкина, как и лакей Чичикова — Петрушка.
«Пселдонимов, Млекопитаев» («Скверный анекдот»), «Ви-
доплясов» («Село Степанчиково») — обычный гоголевский
прием, введенный для игры с ним. Достоевский навсегда
сохраняет гоголевские фамилии (ср. хотя бы «Фердыщен-
ко», прямо восходящее к гоголевскому «Крутотрыщенко»).
Даже имя матери Раскольникова Пульхерия Александровна
воспринимается на фоне Пульхерии Ивановны Гоголя, как
имя стилизованное.
Мережковский обратил внимание на тождественность идеа-
лов Хлестакова, Чичикова и Ивана Карамазова. «Спокойное до-
вольство» — вот о чем с наслаждением любит рассуждать Чичи-
ков. «Пуще всего в покойном довольстве жить любите — это пу-
ще всего-с», — бросает Смердяков своему барину.
Не восторг, не роскошь, не опьянение, не последний
предел счастья, — а лишь серединное благополучие, уме-
ренная сытость духа и тела, «спокойное довольство» — вот
592
затаенная мечта, которая соединяет Ивана Карамазова, тра-
гического героя, с героем комическим, Чичиковым, через
Смердякова.
И у Гоголя, и у Достоевского речь идет отнюдь не о традици-
онных буржуазных идеалах, а — скорее — о грядущих бесовских.
Не оттого ли эта реплика беса-Смердякова: «Все это очень мило;
только если захотели мошенничать, зачем бы еще, кажется, санк-
ция истины?» Когда Чичиков говорит: «В другом поступке, по
человечеству, могу провиниться, но в подлости никогда», — не
его ли имеет в виду Гоголь — бесовство, прикрываемое «санк-
цией истины»?
Гоголь: «Нужно знать, что Чичиков был самый благопри-
стойный человек, какой когда-либо существовал на свете». Не
грядущих ли скупщиков «мертвых душ» имел он в виду, говоря
о «благопристойности», не нас ли провидел?.. Ведь Чичикова
тоже тянуло на Запад, оттуда он ждал вести, оттуда же мечтал
поживиться... «Вот бы куда перебраться [на таможню]: и грани-
ца близко, и просвещенные люди. А какими тонкими голланд-
скими рубашками можно обзавестись!» Это ли не грядущий
бес, с откровенностью бесов Достоевского раскрывающий вож-
деления последующих? И — власть, и — голландские руба-
шки...
Почти все образы и многие идеи Достоевского уже имелись у
Гоголя. Тут и отец Муразова, развративший сиротку, которой
был опекуном, и грешники, более достойные любви, чем правед-
ники, ибо пали, и грядущие бесы, и «прекрасный человек», кста-
ти, тоже полубезумный, пытающийся прошггь словом, пробудить
«внутреннего человека», и Великий инквизитор, и полковник
Кошкарев, вообразивший, что если мужик наденет немецкие
штаны и станет говорить по-французски, то в России немедлен-
но наступит «золотой век»...
Идея «всемирности», в сущности, тоже принадлежит Гоголю:
как затем Достоевский, Гоголь считал, что в будущем его страна
будет во многом определять судьбы мира, став для него этало-
ном, образцом для подражания...
Переписка с друзьями подготовила почву Дневни-
ку писателя, предвосхитив и разговор «от сердца к сердцу», и
исповедальность, и... русский мессианизм.
593
Почти мистическим образом Гоголь «вычислил» и идущего
ему на смену: во втором томе Мертвых Душ незримо при-
сутствует среди прочих... сам Федор Михайлович — я имею в ви-
ду тайное филантропическое общество, составленное из гусар-
ских философов, недоучившегося студента и промотавшегося иг-
рока. Общество возглавлял масон и карточный игрок, впрочем,
красноречивейший человек, присвоивший в конце концов сум-
мы, собранные рядовыми членами на благие цели, но, как всегда
случается в подобных обстоятельствах, доставшиеся «верховному
распорядителю». «Сами же члены общества, добрые люди, не
принадлежащие к классу огорченных людей, к концу пребывания в
этой организации сделались горькими пьяницами от частых тос-
тов во имя науки, просвещения и прогресса».
В годы работы Гоголя над окончанием второго тома во-
прос о тайных обществах, притихший было со времен 14
декабря 1825 года, вновь всплыл на поверхность. За кирил-
ло-мефодиевцами последовали петрашевцы. Их арестовали
в апреле 1849 года, а 18 мая А. О. Смирнова писала Гого-
лю, что «над ними производится суд». Возглавлял это об-
щество титулярный советник М. В. Буташевич-Петрашев-
ский, но, что более всего поразило Гоголя, состоял в нем
и писатель, автор романа «Бедные люди» Федор Достоев-
ский.
И. П. Золотусский:
В 1849 году Достоевский будет арестован за чтение пи-
сьма Белинского к Гоголю1, и этот факт станет главным
фактом обвинения против него — обвинения, которое
приведет его к месту казни на Семеновском плацу. Через
полтора десятка лет эта казнь войдет в роман «Идиот» —
книгу, которая не явилась бы в свет, не будь прецедента
«Переписки» и мечты Гоголя о создании образа прекрас-
ного человека.
Негативное отношение Достоевского к Переписке с
друзьями можно объяснить лишь его молодостью: формирую-
щийся консерватор не совпал по фазе с консерватором сформи-
ровавшимся.
i Достоевский был арестован за участие в кружке фурьериста Петрашевско-
го. Однако чтение и отдача для переписывания письма Белинского к Гоголю дей-
ствительно ставилась ему в вину на процессе петрашевцев.
594
Ю. Э. Маргулиес:
Но Достоевский принадлежит к другому поколению, по-
колению Некрасова, Гончарова, Григоровича. Естественно
поэтому, что чем сильнее восторг перед художественными
произведениями Гоголя и сознание литературной от них за-
висимости, тем больше возмущения вызывает Гоголь-мора-
лист и проповедник [пройдет время, и сам Достоевский
приобретет весь этот гоголевский комплекс].
Естественно также, что это возмущение, уже сильное у
молодого Достоевского с самого начала его литературной
деятельности, достигло своего апогея после выхода «Пере-
писки с друзьями», со всеми последующими перипетиями,
не исключая, разумеется, и пресловутого письма Белинско-
го. Мы знаем, что именно публичное чтение этой перепис-
ки Гоголя с Белинским и явилось самым серьезным из
предъявленных властями Достоевскому обвинений. Это об-
стоятельство, конечно, не преминуло усилить его негодова-
ние на «Переписку» и ее автора и в значительной степени
объясняет остроту сатиры «Степанчикова», начатой еще в
ссылке, насыщенной цитатами из «Переписки» и построен-
ной вокруг центрального карикатурного образа, целиком
навеянного этой книгой.
Хотя Достоевскому были близки многие идеи Переписки,
саму книгу он счел незрелой и неудачной по форме. В 1876 году
Достоевский записывает: «Гоголь в своей «Переписке» слаб, но
характерен», и позже: «Заволакиваться в облака величия есть не-
искренность, а неискренность даже самый неопытный читатель
узнает чутьем». Достоевский не любил отказов, а в «Переписке»
он увидел гоголевское «отречение от всех своих сочинений и
признание их бесполезными и даже более».
Довольно много известно о сложном отношении Достоевского
к Гоголю. А каково было отношение маститого Гоголя к начинаю-
щему Достоевскому? Гоголь успел прочитать только первые книги
будущего гения, затмившего его собственную славу, и, конечно
же, не мог в них разглядеть автора «подпольного человека» и Ка-
рамазовых. В своей Автобиографии А. О. Смирнова переда-
ла сказанные ей Гоголем слова о Достоевском: «А у него есть боль-
шой талант; жаль, что его перо пишет без остановки, но без руко-
водства. Макар Девушкин оставляет в душе невыносимое чувство
безотрадной грусти». В последней фразе явно различима пушкин-
ская реминисценция на тему Гоголя о «грустной России»...
595
Согласно гипотезе Ю. Э. Маргулиеса, Достоевский один раз
лично встречался с Гоголем. Он был анонимным молодым писа-
телем, присутствующим на организованном А. А. Комаровым
осенью 1848 рауте, описанном И. И. Панаевым без указания
имен начинающих литераторов. Гипотеза построена на сопостав-
лении текстов Села Степанчикова, где под именем Фомы
Опискина пародируется Гоголь, и воспоминаний И. И. Панаева.
Достоевский определенно и намеренно пародировал по-
ведение Гоголя на ужине у Комарова, обозвав его, кстати,
уже подлецом: «Кто теперь пьет малагу, кроме такого же,
как он, подлеца?» Этой фразой Достоевский, кроме того,
неоспоримо утверждал тождество Гоголя и Фомы в глазах
тех, кто знал об инциденте с малагой у Комарова1.
Достоевский сам присутствовал на пресловутом вечере,
где видел Гоголя, и описанную Панаевым сцену он воспроиз-
вел по личному своему, непосредственному воспоминанию.
Согласно гипотезе Маргулиеса, неприязнь Достоевского к Го-
голю объяснена самим автором Села Степанчикова: «Фо-
ма решительно не хотел замечать меня», «не обращал на меня ни
малейшего внимания»:
Вышесказанного, думается нам, достаточно, чтобы уста-
новить, с очень большой вероятностью, два факта: во-пер-
вых, что Достоевский, в числе прочих молодых литераторов,
был приглашен Комаровым осенью 1848 года на чай для
встречи с Гоголем, но представлен ему не был и вынес из
этого сильнейшее впечатление обиды и, во-вторых, что зна-
чительная часть повести «Село Степанчиково» является
преображенным авторским самолюбием изложением собы-
тий этой встречи, своего рода мемуарами в кривом зеркале.
Не столь важно, присутствовал ли Федор Михайлович осенью
1848 года у Комарова или нет, существенно, что в Селе Сте-
панчикове он действительно в нелицеприятной, даже гроте-
скной форме изобразил всеобщего кумира.
Конечно, этот «портрет» свидетельствует о чувстве враждебно-
сти, испытываемом Достоевским к Гоголю в момент написания
1 И. И. Панаев рассказал, что на встрече Гоголь отказался от ужина, попро-
сив у хозяина рюмку малаги, которой не оказалось в доме. Хозяин послал слуг
ночью на поиски малаги, но, когда ее принесли, Гоголь отказался и от рюмки.
596
повести. Однако же этим чувством не исчерпывается весь спек-
тор отношений двух гениев:
Наряду с ненавистью, в нем много и преклонения про-
тив воли, и сознания своей художественной преемственно-
сти. Если вспомнить, что Достоевский вступил на литера-
турное поприще в 1844 году, а Гоголь начал проявлять при-
знаки душевного перелома уже несколько раньше, идейные
причины этой враждебности становятся во многом ясными:
Достоевский, который глубоко переживает социальные и
личные проблемы страдающего человека, который начинает
свою литературную деятельность с ряда резко очерченных
социально-психологических этюдов, не может не преклоня-
ться перед Гоголем, отцом русского романа и русской пове-
сти, которому он стольким лично обязан... и от влияния ко-
торого он так долго не может освободиться, пожалуй, ни-
когда вполне и не освобождается.
РОЗАНОВ ПРОТИВ ГОГОЛЯ1
Уже из эпиграфа ясно, что Розанов не являлся сторонником
«искусства для искусства», отрицающим социальную значимость
художника, и исходил из требования общественного служения
поэта своему народу. Что же такое понаписали русские художни-
ки, что вызвали гневные филиппики В. В. Розанова, чему народ
1 Дайджест статьи В. Ерофеева.
597
По содержанию литерату-
ра русская есть такая мерзость, —-
такая мерзость бесстыдства и на-
глости, — как ни единая литерату-
ра. В большом Царстве, с большою
силою, при народе трудолюбивом,
смышленом, покорном, — что она
сделала? Она не выучила и не вну-
шила выучить — чтобы этот народ
хотя научили гвоздь выковать, серп
исполнить, косу для косьбы сде-
лать... Народ рос совершенно с
Петра Великого, а литература за-
нималась только, «как они люби-
ли» и «о чем разговаривали».
В. В. Розанов
не научили? Что породило в нем испепеляющий гнев, всем ост-
рием своим обращенный против главного «дьявола» русской ли-
тературы — Николая Васильевича Гоголя?
«Выяснение Гоголя, суд над ним был его [Розанова] личным
вопросом, и оттого это единственная по силе и глубине крити-
ка». Это мнение В. Гиппиуса определяет экзистенциальные исто-
ки розановского отношения к Гоголю, личностную вовлечен-
ность Розанова в литературный конфликт и в какой-то степени
объясняет пристрастность розановских оценок. Розанов был бо-
лен Гоголем, но в его воображении Гоголем болела вся Рос-
сия, так что исцеление, освобождение от Гоголя имело для Роза-
нова не только личный, но и социальный смысл.
Розанов считал Гоголя роковой, вредоносной для России фи-
гурой. Какая идейная позиция определила подобный взгляд?
Розанов считал Гоголя одним из самых загадочных русских
писателей, может быть, самым загадочным. Он рассматривал
творчество Гоголя как тайну, ключ к разгадке которой едва ли
можно вообще подобрать. Споря с Розановым, мы убеждаемся в
истинной глубине Гоголя.
Как известно, Белинский высоко отзывался о социальной ро-
ли Гоголя, ставя его в этом смысле выше Пушкина, но на фоне
розановского представления о роли Гоголя в судьбе России отзыв
Белинского выглядит довольно сдержанным, скромным. Розанов
настолько развенчал роль Гоголя, что невольно приходит в голо-
ву сравнение с той социальной ролью, которую сам Гоголь отво-
дил гомеровской «Одиссее» в русском переводе Жуковского. Го-
голь ждал от перевода чуда, буквально преображения России. Но
Гоголь только обещал чудо, в то время как Розанов писал о свер-
шившемся чуде Гоголя, стало быть, выступая не как пророк, а
очевидец. И этот очевидец без колебания сравнивает Гоголя не с
кем иным, как с Александром Македонским: «Да Гоголь и есть
Алекс<андр> Мак<едонский>, — пишет Розанов. — Так же ве-
лики и обширны завоевания».
Писатель как завоеватель — фигура мало симпатичная. Заво-
евание подразумевает захват, насилие, больше того — надруга-
тельство. Как это согласовать с нравственной миссией писате-
ля? — Несовместимые вещи. Зловещий образ. Розанов заклю-
чает, шепотом, в ухо читателю: «Ни один политик и ни один
598
политический писатель в мире не произвел в «политике» так
много, как Гоголь».
Кто еще так высоко ставил Гоголя?
Кто еще — так низко?
Отправная точка Розанова: русская литература «раскачала»
Россию, вместо сплочения народа вокруг государства, вместо
поддержки института власти, вместо укрепления последнего и
моральной помощи ему — нигилизм, разрушение, высмеивание,
эпатаж, сатира, прямые призывы к бунту. Нанося удары по вла-
сти, литература наносила удары по России, не боролась с соци-
альными «утопиями», несущими гибель стране, а потворствова-
ла им.
«Мертвые Души» оказались чуть ли не нокаутом собственной
стране. Русские читатели приняли их за реальное отображение
социального характера целого поколения — поколения «ходячих
мертвецов» — и возненавидели это поколение. За свою «гениаль-
ную и преступную клевету» Гоголь и понес заслуженную кару
(конец его жизни), но воздействие гоголевского творчества са-
мым негативным образом отразилось на развитии русского обще-
ства.
Из статьи в статью Розанов увеличивает меру гоголевской ви-
ны. Если в «Легенде о Великом инквизиторе» — оклеветанное
поколение, то уже в следующей статье о Гоголе (явившейся отве-
том на либеральную критику его концепции гоголевского творче-
ства) Розанов идет значительно дальше. «С Гоголя именно, —
пишет он, — начинается в нашем обществе потеря чувства дейст-
вительности, равно как от него же идет начало и отвращения к
ней».
Временами Розанов почти дословно вторит А. Дружинину,
который писал: «Скажем нашу мысль без обиняков: наша теку-
щая словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим на-
правлением. Против этого сатирического направления, к которо-
му привело нас неумеренное подражание Гоголю, — поэзия
Пушкина может служить лучшим орудием».
Кто сказал, что в России невыгодно быть обличителем? Это,
утверждал Розанов, обеспеченная общественная карьера, несмот-
ря ни на какие гонения. Гонения выдумала глупая власть для по-
599
ощрения гонимых, для раздувания шума вокруг их имен. В Рос-
сии куда более опасно быть консерватором: съедят, даже не вы-
слушав до конца, не разобравшись, что и как. В этом Розанов
был убежден на примере того же Н. Страхова, К. Леонтьева,
Н. Данилевского — «литературных изгнанников», мимо которых
прошел, как утверждал Розанов, русский читатель.
Русская литература — вот главный виновник русской револю-
ции. Это она готовила и питала ее — обличениями, утопиями,
несвоевременными размышлениями.
Розанов постоянно оперирует понятиями «пользы» и «вреда»,
подчиняя этим понятиям истину. Столкновение истины с поль-
зой рассматривается Розановым на примере деятельности Нови-
кова и Радищева. «Они говорили правду и высокую человеческую
правду», — признает он. Однако «есть несвоевременные
слова». Именно такие слова были произнесены Новиковым и Ра-
дищевым, и если бы их «правда» распространилась по всей Рос-
сии, то Россия не имела бы духа «отразить Наполеона».
Вот корень розановского отношения к русской литературе.
Русская литература либо сибаритствовала, либо вредила России,
говоря «правду». Россия была слишком слаба для принятия
«правды». Здесь розановская мысль вступает в конфликт с самой
«сущностью» печатного слова, и не случайно, что у Розанова в
основе основ виноват Гуттенберг. Именно из-за печатного станка
литература превратилась в источник славы и удовлетворения пи-
сательского тщеславия. Литература, по Розанову, только и живет
тревогой о «сохранении имени в потомстве». А самый верный
путь к «сохранению» указал Герострат.
Через прозрачный намек на Третий Рим, который поджигает
русский литератор — Добчинский, Розанов возвращается от ли-
тературы вообще к сущности русской литературы. Он находит
ее преисполненной самодовольства, сытости. Обличения идут на
пользу не России, а самим обличителям. «Как «матерый волк», —
пишет Розанов о Щедрине, — он наелся русской крови и сытый
отвалился в могилу». Даже Достоевский кажется Розанову подо-
зрительной фигурой. Он тоже виноват, виноват в том, что так
внимательно приглядывался к нигилистам, что, по сути дела,
«организовал» их направление: «Достоевский как пьяная нервная
баба вцепился в «сволочь» на Руси и стал пророком ее». В столь
же хлестких выражениях — о Герцене и Некрасове, Тургеневе и
600
Чернышевском... Только три исключения видит Розанов в рус-
ской литературе: Пушкин, Толстой, Суворин.
«Можно Пушкиным питаться и можно им одним пропитаться
всю жизнь, — пишет Розанов. — Попробуйте жить Гоголем...
Лермонтовым: вы будете задушены их (сердечным и умственным)
монотеизмом... Через немного времени вы почувствуете... себя,
как в комнате с закрытыми окнами и насыщенной ароматом си-
льно пахучих цветов, и броситесь к двери с криком: «Простора!»,
«Воздуха!»... У Пушкина — все двери открыты, да и нет дверей,
потому что нет стен, нет самой комнаты: это — в точности сад,
где вы не устаете».
После Пушкина, в другом месте пишет Розанов, «дьявол вдруг
помешал палочкой дно: и со дна пошли токи мути, болотных пу-
зырьков... Это пришел Гоголь. За Гоголем все. Тоска. Недоуме-
ние, злоба, много злобы...»
По сути дела, для Розанова существуют две литературы. Ли-
тература самовыражения, споспешествующая славе имени, и ли-
тература, если так можно сказать, национальных интересов.
Что такое литература самовыражения? — Она отражает лич-
ную истину писателя, его собственное видение мира. Розанов
ставит вопрос буквально следующим образом: кто таков писа-
тель, чтобы его личная истина стала достоянием общества? Мож-
но ли писателю доверить такое ответственное дело, как влияние
на умонастроение тысяч читателей?.. Не вносят ли они [писате-
ли] преимущественно сумятицу в читательские головы, не полу-
чается ли так, что их литературное дарование заставляет чи-
тателя принять ту точку зрения, с которой ему и не хочется со-
глашаться? В литературе самовыражения, выходит, есть элемент
насилия и гипноза. Не лучше ли в таком случае иметь дело с пи-
сателями, которые стремятся выразить не личную истину, а свое-
временные общественные интересы?
Здесь можно было бы возразить Розанову об отсутствии обще-
ственных истин, о персональном знании, об альтруизме обще-
ства, сложенном из персональных эгоизмов, если бы он сам не
требовал предельного субъективизма, если бы экзистенциальная
тема не была в его творчестве превалирующей...
Да и критика Розанова в адрес Гоголя как-то проходит мимо
превалирующей гоголевской идеи поприща, служения, гоголев-
601
ской страсти быть полезным России на каком угодно месте, в ка-
ком угодно звании. Почему же Розанов не замечает этого, почему
Гоголь вызывает у него особенную неприязнь?
Розанов не считается с намерениями Гоголя. Он судит Гоголя
по тому, что Гоголь создал, и находит, что Гоголь сам не ведал,
что творил. Именно в этом неведении, которое Розанов считает
роковым для России, заключается «главная тайна Гоголя»: «Он
показал всю Россию без-доблестной, — небытием. Показал с та-
кой невероятной силой и яркостью, что зрители ослепли и на
минуту перестали видеть действительность, перестали что-ни-
будь знать, перестали понимать, что ничего подобного «Мерт-
вым душам», конечно, нет в живой жизни ив полноте живой
жизни... Один вой, жалобный, убитый, пронесся по стране:
«Ничего нет!.. Пусто!.. Пуст Божий мир...» Таким образом,
Гоголь создал непроизвольную карикатуру, но в этой непроизво-
льности была ее сила. Гоголь — манекен, моргающий глазами в
бесплодных поисках смысла того, что он написал, а потому, пи-
шет Розанов, «я не решусь удержаться выговорить последнее сло-
во: идиот. Он был так же неколебим и устойчив, так же не
«сворачиваем в сторону», как лишенный внутри себя всякого ра-
зума и всякого смысла человек».
Если, по Мережковскому, Гоголь всю жизнь боролся с чер-
том, то в розановской интерпретации творчество Гоголя обретает
черты сатанического формализма, где самоценное сло-
во, освобождаясь от человеческого смысла, становится черной
магией. И Розанов настолько проникается своей интерпрета-
цией, что зовет на помощь крестную силу: «С нами крестная си-
ла! чем оборониться от тебя?»
«Верою, подсказывает сердце. В ком затеплилось зернышко
«веры», — веры в душу человеческую, веры в землю свою, веры в
будущее ее, — для того Гоголя воистину не было. Никогда
более страшного человека, — заключает Розанов, — ...подо-
бия человеческого... не приходило на нашу землю».
В статье «Отчего не удался памятник Гоголю» Розанов рисует
«внутренний портрет» Гоголя. В душе больших художников не-
редко зарождается особый вид метафизического безумия, о кото-
ром писал Платон в «Пире», настаивая на том, что только люди,
способные к безумию, приносят на землю глубокие откровения
истины. Безумие Гоголя несло в себе исключительные черты.
Оно было в нем всегда, с рождения, но впоследствии, особенно
602
перед смертью, овладело всем его существом. Это было, по Роза-
нову, преимущественно безумие тоски («Скучно на этом
свете, господа!»), которое дало особое направление его художест-
венному зрению, и из-под «веселого рассказца» («Как поссорил-
ся Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») глянули мелан-
холические глаза, «тускло и странно уставленные на мир»: «И са-
мую тоску он не мог ни рассеять, ни раскидать, едва ли даже
умел постичь...» Однако гоголевские глаза, глаза великого худож-
ника, взгляд которых имел особое свойство останавливаться и
прилипать к уродливым, пошлым сторонам бытия, вырывать эти
стороны из полной жизни и выдавать их за полную жизнь, — ко-
роче, эти «меланхолические глаза» смотрели не просто на абст-
рактные формы бытия, но именно на русскую землю так, что от-
ражение бытия, искаженное внутренним безумием автора, вобра-
ло в себя приметы реальной русской действительности, или,
иными словами, русская действительность оказалась невольно и
неожиданно жертвой черной магии, в результате чего она иска-
зилась до неузнаваемости... Несчастье России состояло не в том,
что на ее земле родился Гоголь (его метафизическая исключите-
льность — его беда, а не России), а в том, что Россия поверила в
искаженный образ как в достоверный и реальный. Гоголь сму-
тил Россию: «Самая суть дела и суть «пришествия в Россию Го-
голя» заключалась именно в том, что Россия была или, по край-
ней мере, представлялась сама по себе «монументальною», вели-
чественною, значительною: Гоголь же прошелся по всем этим
«монументам», воображаемым или действительным, и смял их
все, могущественно смял своими тощими, бессильными ногами,
так что и следа от них не осталось, а осталась одна безобразная
каша...»
Но не относится ли все сказанное в адрес Гоголя к любому
экзистенциальному мыслителю, пишущему человека? Паскалю,
Якоби, Гаману, Киркегору, Шопенгауэру? Не являются ли обви-
нения, брошенные человеку, обвинениями миру, абсурду челове-
ческого существования, темному смыслу бытия?
Ответы Розанова: в Гоголе необходимо различать метафизика
с особым взглядом на мир и социального писателя. Розанов не
ставит вопроса о том, насколько прав «метафизический» Гоголь.
Он лишь отмечает его — по сравнению с Пушкиным — непол-
ноценность, однобокость. Однако дефект души, придав специ-
фическое направление творчеству, способствует отражению
темного лика мира с невиданной силой — в этом положи-
тельная миссия Гоголя. С таким взглядом на мир жить чудовищ-
603
но трудно (Гоголь не выдержал), но взглянуть на мир гоголев-
скими глазами необходимо для полноты познания мира. Если
правильно читать Гоголя, утверждает Розанов, то вывод из
его сочинений или читательский вздох, раздающийся после про-
чтения, звучит примерно так: — Темно... Боже, как темно в этом
мире!
Пошлость жизни в ее онтологическом значении совпала с со-
циальной пошлостью, и мощь первого тома «Мертвых Душ»,
возможно, определилась этим уникальным тождеством социаль-
ного и онтологического уровней. Когда же Гоголь нарушил тож-
дество, насильственным образом подчинив свое онтологическое
зрение христианской метафизике и заставив себя смотреть на
мир не своими, а, так сказать, наемными глазами, то, как он ни
вынуждал себя, нового отношения между онтологическим и со-
циальным рядом не выстроилось, а выстроилась некоторая абст-
рактная схема, которая могла найти свое выражение в публици-
стической книге («Переписка»), но для художественного произ-
ведения она была непригодна. Отсюда — кризис; отсюда — со-
жжение второго тома. По сути дела, Гоголь, начиная с «Перепи-
ски», попробовал взглянуть на мир глазами «того, кто, как он
писал в «Авторской исповеди», есть источник жизни», а следова-
тельно, второй том «Мертвых Душ» в своем замысле был равно-
силен второму «Творению», то есть представлял собой художест-
венно невыполнимую задачу.
Метафизическую исключительность Гоголя и источник его
«беспредельной злобы» Розанов находил в демонизме («де-
мон, хватающийся боязливо за крест»). Этот демонизм несовмес-
тим с христианством: «...Я как-то не умею представить себе, что-
бы Гоголь «перекрестился». Путешествовать в Палестину — да,
был ханжою — да. Но перекреститься не мог».
После революции мысль Розанова расслоилась. С одной сто-
роны, он объявил русскую литературу виновницей революции.
«Собственно, никакого сомнения, что Россию убила литература.
Из слагающих «разложителей» России ни одного нет нелитера-
турного происхождения». «После того, как были прокляты поме-
щики у Гоголя и Гончарова («Обломов»), администрация у Щед-
рина («Господа Ташкентцы»), история («История одного горо-
да»), купцы у Островского, духовенство у Лескова («Мелочи ар-
хиерейской жизни») и наконец вот самая семья у Тургенева («От-
цы и дети» Тургенева перешли в какую-то чахотку русской се-
604
мьи»), русскому человеку не осталось ничего любить, кроме при-
бауток, песенок и сказочек. Отсюда и произошла революция».
Но одновременно — под влиянием все той же революции —
Розанов вдруг осознал, что русский народ никак не соответствует
его прежнему представлению о сказочном, богобоязненном, сми-
ренном великане, какой являлся ему ранее. Не той оказалась и
государственность. Трухлявым и государственное устройство:
«Русь слиняла в два дня... Самое большее — в три. Даже «Новое
время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. По-
разительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до
частей»1.
Переоценивая ценности, Розанов вдруг убедился во внутрен-
ней гнилости того, что защищал раньше, — самодержавной Рос-
сии, которой управляли «плоские бараны», и пришел к выводу,
что Россия была в конечном счете именно такой, какой ее изоб-
ражала русская литература: обреченной империей, колоссом на
глиняных ногах. Отсюда вывод: «Прав этот бес Гоголь». Розанов
отказывается от славянофильства и выбирает между И. Киреев-
ским и Чаадаевым — Чаадаева. «Явно, Чаадаев прав с его от-
рицанием России», — утверждает Розанов, и одновременно
происходит его примирение со Щедриным; «Целую жизнь я от-
рицал тебя в каком-то ужасе, но ты предстал мне теперь в
своей полной истине. Щедрин, беру тебя и благослов-
ляю». Но особенный интерес представляет его переоценка Гого-
ля. Подчеркивая, что в этой переоценке главную роль сыграла
революция («Вообще — только революция, и — впервые револю-
ция оправдала Гоголя»), Розанов теперь выделяет Гоголя из
русской литературы как писателя, первым сказавшего правду
о России...
Роль Гоголя в судьбе России находилась, по мысли Розанова,
в непосредственной зависимости от мощи гоголевского слова.
Именно эта причина объясняет интерес Розанова не только к
идеям, но и к эстетике Гоголя. «Поразительно, — утверждал он в
предисловии ко второму изданию «Легенды о Великом инквизи-
торе» (1901), — что невозможно забыть ничего из сказанного Го-
голем, даже мелочей, даже не нужного. Такой мощью слова ни-
кто другой не обладал». Благодаря своей мощи слово Гоголя мо-
1 Это розановское наблюдение повторилось уже в наше время — теми же
словами можно охарактеризовать крах тоталитаризма, слинявшего еще быстрее,
чем Русь...
605
жет оказаться убедительнее самой действительности: «Переста-
ешь верить действительности, читая Гоголя. Свет искусства, лью-
щийся из него, заливает все. Теряешь осязание, зрение и ве-
ришь только е м у».
Итак, в борьбе с Гоголем Розанов в конечном счете честно
признал свое поражение. Парадоксально, но факт: революция от-
крыла Розанову глаза на правду Гоголя.
В поражении Розанова нет ничего особенно удивительного.
В сущности, с Гоголем не мог справиться и... сам Гоголь. Важен,
однако, не только итог, но и сам смысл борьбы. Литературно-
критическая интуиция не подвела Розанова: именно в Гоголе он
нашел сосредоточие наиболее острых проблем, мучивших рус-
скую литературную мысль в течение десятилетий. В споре с Гого-
лем Розанов предстал как порождение и уникальное выражение
духовной и умственной смуты, охватившей русскую интеллиген-
цию в предреволюционные годы. Гоголь же, со своей стороны,
предстал как художник, загадка которого неисчерпаема, то есть,
стало быть, как истинный творец.
* * *
Называя Гоголя «гениальным живописцем внешних форм»,
В. В. Розанов видел трагедию писателя в том, что он не смог
сообщить этим формам духовности. Розанов писал, что лиризм
Гоголя суть великая жалость к человеку, скорбь художника о
своем творчестве, плач над изумительною картиною, которую
он не может нарисовать иначе, но которую он презирает и не-
навидит.
Беда Гоголя — в безоговорочном отрицании «цветов зла», ко-
торые ему так удавались. Когда в художнике моралист берет верх
над эстетиком, это чревато трагедией, бездной.
У Иннокентия Анненского есть статья Портрет, в которой
он пишет, что нарисованное Гоголем зло против его воли оказа-
лось слишком совершенным эстетически, а потому и слишком
привлекательным, вводящим мир в соблазн и искушение.
Гоголь умер, сломленный отчаяньем живописца, поте-
рявшего из виду недописанный им, но ставший ему ненави-
стным портрет, — портрет, который казался ему грешным,
ибо вместо того, чтобы являться лишь материалом, лишь
606
этюдом для картины, где блеск красоты и добра должен был
эстетически торжествовать над чернотой порока, — этому
пороку пришлось одному, шатаясь по миру, оправдывать
свое безрадостное существование.
Сожжением второго тома Мертвых Душ Гоголь, помимо
собственной воли, упредил Бодлера: «цветы зла» первого тома
вошли в вечность, тогда как «цветам добра» второго было отказа-
но самим писателем в праве на существование...
Не самая ли страшная ирония судьбы, сыгравшей с Гоголем
столь безжалостную шутку?
ГОГОЛЬ И ЗАПДД
Можно не знать Джойса, но нельзя избежать влияния Джой-
са, живя после него. Влияние Гоголя гораздо шире его известно-
сти. «Я посетил много стран, писал В. Набоков, и у многих зна-
комых встречал страстную мечту, подобную той, которую лелеял
Акакий Акакиевич, причем никто из них никогда не слышал о
Гоголе».
Интерес к теме «маленького» человека... характерен для
многих произведений американской литературы XX в., для
таких писателей, как Дж. К. Оутс, Ф. Рот, К. Воннегут, ко-
торые проявляют значительный интерес к творческому на-
следию Гоголя.
...достаточно прочитать отрывок, в котором затравлен-
ный Акакий Акакиевич восклицает: «Ах, оставьте меня...
Зачем вы меня обижаете?», чтобы почувствовать, что «без
этого многие вещи Тургенева, Мопассана, Чехова, Шервуда
Андерсона и Джеймса Джойса никогда не могли быть напи-
саны». — Ф. О'Коннор.
Своеобразным Акакием Акакиевичем предстает перед нами
Гомер Симпсон в Дне саранчи Н. Уэста, а Дж. Хеллера уже
сегодня называют американским Гоголем.
В романе «Уловка-22» нормальный человек начинает ка-
заться самому себе сумасшедшим, и возникает вопрос: кто
сошел с ума, он или окружающий его мир?
607
В одном из последних своих романов «Что-то случилось»
Дж. Хеллер изображает служащих некоей компании винти-
ками сложной бюрократической системы... Они боятся не
только увольнения, своих начальников, но и самих себя,
друг друга, и этот безграничный страх отравляет им жизнь,
делает ее нелепой.
«Итак, Грин опасается меня, Уайт — Грина, Блэк —
Уайта, Браун и Грин — Блэка, а мы с Грином и Энди Кей-
глом — Брауна, и все это чистая правда...»
Сущность жизни, по Хеллеру, заключается в страхе, в
ужасе перед тем, что может произойти...
В США Гоголь воспринимается как «русский Марк Твен», а
запорожские казаки ассоциируются с техасскими ковбоями.
К. Меннинг:
Гоголь и Достоевский оказали влияние на всю мировую
литературу. Мы учимся у них психологическому анализу че-
ловеческих характеров; их достижения вошли в то ограни-
ченное количество шедевров, с которыми должен быть зна-
ком каждый образованный человек...
Ф. Рав:
Гоголь пересекает языковые границы с гораздо большим
трудом, чем такие писатели, как Тургенев и Достоевский...
Однако гоголевские типы, подобные Чичикову или Хлеста-
кову, не менее универсальны, чем герои Толстого или До-
стоевского.
Вполне естественно, максимальным было влияние Гоголя на
«славянские» литературы. Достаточно перечислить имена писате-
лей, явно следовавших по его стопам: это — Я. Неруда, Галек,
Врхлицкий (Чехия), Л. Каравелов, X. Ботев, И. Вазов (Болгария),
В. Броневский (Польша).
Правда и то, что к славянским народам Гоголь пришел боль-
ше с Запада, чем с Востока — после получения известности в
Германии и Франции. В отличие от Достоевского, Гоголь трудно
«пробивался» за пределами России. Его долго не признавали.
608
Прижизненная и посмертная оценка Гоголя Западом мало от-
личалась от российской: за исключением Сент-Бёва, восторжен-
но принявшего перевод «запорожской Илиады» — так он опреде-
лил Тараса Бульбу, — французская критика в целом оказа-
лась негативной. Проспер Мериме положительно оценил только
Старосветских помещиков и полностью разошелся в
оценке Тараса Бульбы с Сент-Бёвом. Если Сент-Бёв, срав-
нивая Гоголя с Шекспиром, восторгался «диким, свирепым,
грандиозным и подчас вдохновенным характером старого казац-
кого атамана», то Мериме узрел в Тарасе «разбойника», «как и во
всех воюющих запорожцах». Мериме не понравились ни Запи-
ски сумасшедшего, ни Мертвые Души, в которых он
увидел только злость и сатиру:
Он беспощаден к злым и глупым, но у него одно лишь
оружие — ирония. Вполне уместная против смешного, она
кажется иногда недостаточной относительно преступного, а
к преступности она и обращена у него чаще всего. Его ко-
мизм граничит с фарсом, а веселость его не заразительна.
Если он заставляет иногда смеяться читателя, то оставляет в
душе его также чувство горечи и негодования; сатиры его не
отомстили обществу, а только озлобили его.
Мериме не скрывал своей нелюбви к Гоголю. В одном из пи-
сем к французскому переводчику Гоголя Эрнесту Шарреру он
писал:
Я не люблю Гоголя, который представляется мне подра-
жателем Бальзака и имеет склонность ко всему безобразно-
му. Я сожалею, что вы оказали ему честь, переводя его...
Тургенев в письме к Полине Виардо от 21 февраля 1852 года
комментировал отношение иностранцев к Гоголю:
Нужно быть русским, чтобы чувствовать его. Наиболее
прозорливые умы среди иностранцев, напр. Мериме, увиде-
ли в Гоголе только юмориста на английский образец. Исто-
рическое значение его ускользнуло от них полностью.
Провалом завершилась и первая постановка Ревизора на
парижской сцене: пьеса, поставленная в разгар Крымской вой-
ны, была освистана, и кто-то из критиков посетовал об усилиях,
затраченных переводчиком на «мало оригинальное» и «вульгар-
ное» произведение.
609
В высшей степени показательна критическая статья знамени-
того французского современника Гоголя Жюля Барбе д'Ореви-
льи, написанная через семь лет после смерти Гоголя. При всем
негативизме этой статьи мне представляется полезным ознако-
мить читателя с ее фрагментами.
В настоящее время Гоголь — один из самых знаменитых
людей в России. Он вызвал там настоящий скандал. Одни
находят, что он гадко оклеветал страну, которую хотел
изобразить; другие, что хотя он и действительно представил
ее отвратительной, но сходной с действительностью. И даже
не «отвратительной» нужно было бы сказать, потому что
всякая мерзость бросается в глаза, а гоголевская Россия не
имеет рельефа. Это верх скучнейшей пошлости, такой не-
объятной и нескончаемой, что право не знаешь, читая эту
книгу, кто или что несноснее: Россия ли, так изображенная,
или свойства таланта ее живописателя. Не знаешь, потому
ли он так изобразил ее, что такою ее видел, — ведь худож-
ники иной раз бывают жертвами своих органов чувств, —
или потому, что она действительно такова, эта Россия,
столь, в сущности, еще плохо известная, эта степь во всех
видах, эта убогая пошлость, всеобъемлющая, бесконечная,
безнадежная, которую автор представляет нам в русских
нравах, умах и характерах? Вот весьма сложный, но неиз-
бежный вопрос, возникающий из книги Гоголя перед вся-
ким критиком, который взял на себя труд говорить о ней.
Если эта книга, совершенно и нарочито лишенная вы-
мысла, отображает все самое тусклое, самое глупое и отвра-
тительное, что только есть в действительности; если это не-
слыханное повествование, на беду свою, правдиво, — ведь
это самое страшное, и для человека, имеющего сердце, —
самое мучительное обвинение, которое когда-либо могло
быть брошено этому бездушному колоссу, с бессознатель-
ной иронией именуемому в императорских указах «святою
Русью». Но если эта книга лжет, пусть даже невольно иска-
женная порочным воображением того, кто начертал ее стра-
ницы, чего заслуживал бы в памяти своих соотечественни-
ков этот нечестивый сатирик за попытку так ужасно обесче-
стить свою страну?
Герои гоголевского романа, все сплошь нелепые, совер-
шенно заурядны вне своей глубочайшей тупости. Неженка
Манилов, от которого не дождешься никакого живого, или
610
хотя бы даже заносчивого слова, госпожа Коробочка, хвас-
тун Ноздрев, скряга Плюшкин — эти люди скорее дурных
привычек, чем страстей, — не могут быть поставлены в
один рад с великолепным многообразием характеров, кото-
рыми изобилует «Человеческая комедия», и которые очер-
чены так глубоко, что люди, перестающие видеть на извест-
ной глубине (жалкие слепцы!), уже не могут считать их
правдоподобными.
Конечно, автор «Мертвых душ» по-своему талантлив, но
это талант русский, самый, может быть, русский в его стра-
не. У него есть и юмор, и наблюдательность, это несомнен-
но, но не настолько, чтобы иметь собственное лицо в том
или другом отношениях. У него нет лица, он двулик. У не-
го нет собственного облика, как нет его и у страны его, не
имеющей ни одной черты, которая дала бы основание ска-
зать: «Вот! на этот раз вот она, Россия без примеси, девст-
венная, чистая Россия, алмаз неграненый, но тем именно и
ценный, что ни одно иностранное влияние не коснулось
его!» Что ж! Какова страна, таков и человек. Подражатель-
ность — истинное свойство России. В этом — ее природа
и, может быть, единственная и неизбывная ее оригиналь-
ность.
Как ни хочется Гоголю быть только русским, как ни
отбрыкивается он от влияния французского и немецкого,
мысль его носит на себе следы и того и другого. Он полу-
чил свое образование из Жана Поля Рихтера и Вольтера.
Этот мыслитель наполовину и с двойными реминисценци-
ями хорошо знает, чего недостает России: он знает также,
чего недостает и ему самому. Даже в его глазах Россия то-
лько тем и самобытна, что не имеет самобытности. Итак,
русские бывают русскими только в тоске по родине или
из тщеславия перед иностранцами? Он положительно
утверждает это в своей «Авторской исповеди». «Странное
дело! — пишет он. -— Среди России я почти не увидел
России. Все люди, с которыми я встречался, большею ча-
стью любили поговорить о том, что делается в Европе, а
не в России». Но именно то обстоятельство, которое за-
ставляет его быть русским, отрицая, а не утверждая, пре-
пятствует ему быть изобретателем, подобно другим рус-
ским талантам, обладающим всеми достоинствами ума,
кроме одного — дара изобретения, творческой фантазии,
единственной вещи, которая самоутверждается и которой
611
нельзя подражать. Заимствованное «изобретение» — не
«изобретение», тогда как заимствованный стиль — все же
стиль. Впрочем, этот бедняк и сам вполне признается в
своем убожестве: «Я никогда не выдумывал из головы», —
пишет он. И дальше: «Для того, чтобы творить, я нуждал-
ся в гораздо большем количестве материалов, чем кто-ли-
бо другой».
Гоголь более или менее изощренный, более или менее
проницательный, более или менее искусный подражатель,
до некоторой степени подвергшийся европейским влияни-
ям, которому в силу всех этих причин недостает самого
главного в литературе качества — искренности. У него нет
искренности таланта. На чем же он в таком случае держит-
ся? Обладает ли он, по крайней мере, другим, более показ-
ным и необходимым достоинством — добросовестностью,
которая позволила бы нам не сомневаться в правдивости и
нравственной ценности его книги, направленной им против
своей родины? Он сказал однажды Пушкину: «Все мы
слишком мало знаем Россию».
Но если вы, живописец русских нравов, не знаете ее,
зачем же вы о ней говорите? Ваша ужасная книга о «мерт-
вых душах», в которой вы поносите все русские национа-
льные и общественные устои, является дерзкой и поверх-
ностной попыткой познакомиться с ними на ощупь, или
чистейшей нелепицей. И тем не менее именно за эту неле-
пицу Гоголь обвинен был в стремлении зажечь в России
войну рабов.
Но что, в сущности, представлял собой этот литератур-
ный Спартак, как не русского писателя, читавшего Байрона
и достаточно глубоко зараженного иронией английского по-
эта, притворявшегося в «Дон Жуане» и в своих политиче-
ских стихотворениях якобинцем и карбонарием? Подража-
тель Байрона, подражатель Руссо, сочетающий мизантро-
пию одного с мизантропией другого, комедиант, лгун, чело-
век, выбитый из колеи... — вот кто такой Гоголь! Его беше-
ная страсть иронизировать, его стремление сделать посме-
шищем и опошлить свою страну были опять-таки подража-
нием, в еще большей степени они были погоней за эффек-
том, который привел к тому, что его ужаснулся и от него
пострадал сам автор.
Послушайте эту усталую жалобу. «Все русские читате-
ли, —- пишет Гоголь одному из друзей, — убеждены, что
612
целью моей жизни является издеваться над людьми и
представлять их в карикатурном виде». Вскоре общество,
уязвленное рядом карикатур, составляющих отдельные
«песни» его поэмы о мертвых душах, чиновники этого чи-
новного Китая, — о низостях, мелочности и ничтожестве
которых он рассказал, глупая аристократия, женщины, ду-
ховенство, — все поднялись против него. Ему стало стра-
шно.
Первый перевод Мертвых Душ, подготовленный в Лей-
пциге Ф. Лёбенштейном, вышел еще при жизни Гоголя, в
1846 году. Через три года поэма публикуется на чешском языке в
переводе писателя и ценителя Гоголя К. Гавличка-Боровского.
В 1854 г. Мертвые Души изданы в Англии, а в 1886 г. — в
Америке.
Но все это еще не означало широкого международного
признания, которое пришло к творцу «Мертвых Душ» не
сразу. Было время, когда считалось, что «Гоголь, при всей
неотъемлемой великости его таланта, не имеет решительно
никакого значения во всемирно-исторической литературе».
Эти слова сказаны Белинским, человеком, известным своей
критической проницательностью и глубиной.
Француз Вогюэ, поставивший Мертвые Души в один ряд
с Дон Кихотом «в библиотеке каждого просвещенного чело-
века», оказался куда проницательней...
Во Франции первые переводы Мертвых Душ появились в
1859 году. Один был выполнен Э. Шаррером, другой Е. Моро.
Впрочем, уже при жизни Гоголя французы имели возможность
познакомиться с его повестями в переводе Л. Виардо, которому
помогал И. С. Тургенев, а в 1856 г. К. Мармье перевел и опубли-
ковал Шинель.
Как относился к переводам своих сочинений сам Гоголь? Со-
хранилось его письмо Н. М. Языкову, связанное с переводом
Ф. Лёбенштейна: «...Мне вообще не хотелось бы, чтобы обо мне
что-нибудь знали до времени европейцы, этому сочинению не-
прилично являться в переводе ни в каком случае, и я бы не хо-
тел, чтобы иностранцы впали в такую глубокую ошибку, в какую
впала большая часть моих соотечественников, принявших «Мер-
твые души» за портрет России». Как мы увидим, у Гоголя были
все основания для таких страхов...
613
ГОГОЛЬ И НАШИ
Безапелляционное гоголеведение наших с его судейством,
примитивностью, ригористичностью берет начало со статьи
Н.Г.Чернышевского Сочинения и письма Н. В. Гого-
ля, впервые опубликованной в 1857-м в Современнике.
Написанная в стиле судебного приговора, эта статья предвосхи-
щает жуткие примитивы «сталинских соколов» от литературы,
«умственная беспомощность» которых с лихвой перекрывается
категоричностью заключений: «не понял», «не сумел», «не уви-
дел». Впрочем, комментарии к текстам Чернышевского вряд ли
необходимы — они говорят сами за себя:
Нет, кажется, сомнения, что до того времени, когда на-
чало в Гоголе развиваться так называемое аскетическое на-
правление, он не имел случая приобрести ни твердых убеж-
дений, ни определенного образа мыслей. Он был похож на
большинство полуобразованных людей, встречаемых нами
в обществе. Об отдельных случаях, о фактах, попадающих-
ся им на глаза, судят они так, как велит им инстинкт их
натуры.
Например, конечно, редко случалось ему думать о том,
есть ли какая-нибудь связь между взяточничеством и неве-
жеством, есть ли какая-нибудь связь между невежеством и
организацией различных гражданских отношений. Когда
ему представлялся случай взяточничества, в его уме возбуж-
далось только понятие о взяточничестве и больше ничего;
ему не приходили в голову понятия [произвол], бесправ-
ность, [централизация], и т. п.
Когда он писал заглавие своей комедии «Ревизор», ему,
верно, и в голову не приходило подумать о том, есть ли в
других странах привычка посылать ревизоров; тем менее
мог он думать о том, из каких форм [общественного устрой-
ства] вытекает потребность [нашего государства] посылать в
провинции ревизоров.
Он видит только частный факт, справедливо негодует на
него, и тем кончается дело. Связь этого отдельного факта со
всею обстановкою нашей жизни вовсе не обращает на себя
его внимания.
614
Он, создавший Чичикова, Сквозника-Дмухановского и
Акакия Акакиевича, не знает, что грусть на душу благород-
ного человека навевается зрелищем Чичиковых и Акакиев
Акакиевичей! Это странно для нас, привыкших думать о
связи отдельных фактов с общею обстановкою нашей жиз-
ни; но Гоголь не подозревал этой связи.
...когда двадцатисемилетний человек вздумал искать в
книгах решения задач, его мучивших, он не знал, к каким
книгам обратиться ему, кроме тех, какие некогда советова-
ли ему читать в родительском доме... Он воображает, что
все будут согласны с ним, когда он утверждает, что нет
иной истины, кроме истины, заключающейся в книгах, за-
вещанных ему детскими воспоминаниями.
В настоящее время такая умственная беспомощность ед-
ва ли была бы возможна; но двадцать лет тому назад многое
было иначе.
Если бы Гоголь жил в России, вероятно, он встречал бы
людей, противоречащих ему во мнении о методе, им изб-
ранной, хотя и тут едва ли могло бы влияние этих людей
устоять против громких имен, одобрявших путь, на который
стал он. Но он жил за границею в обществе трех, четырех
людей, имевших одинаковые с ним понятия об авторитетах,
которыми вздумал он руководствоваться.
Этим знакомствам надобно приписывать сильное учас-
тие в образовании у Гоголя того взгляда на жизнь, который
выразился «Перепискою с друзьями». По всем соображени-
ям, особенно сильно должно было быть в этом случае влия-
ние Жуковского.
Сущность перемены, происшедшей с Гоголем, состояла
в том, что прежде у него не было определенных общих
убеждений, а были только частные мнения об отдельных яв-
лениях; теперь он построил себе систему общих убеждений.
...И не вздумайте говорить, что Гоголь только других
учил страдать, не прилагая к себе своих изуверских учений;
после описания его предсмертной болезни, напечатанного
доктором, его лечившим, невозможно сомневаться в том,
что он уморил себя. В одном человеке какие несообразные
крайности! Человек [двинувший вперед свою нацию,] мучит
себя и морит, как дикий изувер Брынских лесов!., оказа-
615
лось, что жизнь среди нас исказила светлый дар его разума
так, что он послужил только на погибель ему! Страшна и
нелепа эта жизнь!
Легок и весел был характер Пушкина, а на тридцатом го-
ду, подобно Гоголю, изнемогает он нравственно [теряет си-
лу быть руководителем своей нации] и умирает через неско-
лько лет [не по какому-нибудь случайному сцеплению об-
стоятельств, — нет], потому что невыносимо было ему оста-
ваться на свете, и он искал смерти.
Родившись среди общества, лишенного всяких прочных
убеждений, кроме некоторых аскетических мнений, дошед-
ших до этого общества по преданию старины и нимало не
прилагающихся этим обществом к жизни, Гоголь ни от вос-
питания, ни даже от дружеского кружка своих сверстников не
получил никакого содействия и побуждения к развитию в се-
бе стройного образа мыслей, нужного для каждого человека с
энергическим умом, тем более для общественного деятеля.
Собственно говоря, он не имел тогда никакого образа
мыслей, как не имели его в то время никто из наших лите-
раторов[, кроме двух журналистов, от которых отстранялся
он своими литературными связями...]1
В нем ничего не нашлось из нужных для того данных,
кроме преданий детства; те умственные влияния, о которых
вспоминал он и с которыми встречался он в заграничной
жизни, все склоняли его к развитию этих преданий, к
утверждению в них. Он даже не знал о том, что могут суще-
ствовать иные основания для убеждений, могут быть иные
точки воззрения на мир.
Мы имеем сильную вероятность думать, что Гоголь
1850 года заслуживал такого же уважения, как и Гоголь 1835
года; но положительно мы знаем только то, что во всяком
случае он заслуживал глубокого скорбного сочувствия...
После таких судебных вердиктов стоит ли удивляться литера-
туроведению «лучших учеников», доведшему идеи любимца Ле-
нина до параноидального бреда классовости, социальности и
«передовизны». Одним из таких «лучших учеников», а по совмес-
1 Конечно же, речь идет о Белинском и Герцене.
616
тительству стукачом и «верным Русланом» был Ермилов, Ге-
ний Гоголя которого — шедевр коммунистической схоласти-
ки, соцреалистического разложения гения на прогрессиста и ре-
акционера, квинтэссенция лжи, тенденциозности и жуткого при-
митивизма, уже не отделяющего хвалу от хулы и добро от зла.
Надо было обладать немалым талантом, чтобы книгу-панегирик
сдобрить таким количеством злобных поношений: «Гоголь лож-
ный, противонародный, ставший врагом своего же художествен-
ного творчества», «угнетающий своей фальшью», «апологетика
хозяев-приобретателей», «реакционный утопизм позиции Гого-
ля», «это означало конец художника», «примирение с реакцион-
ной действительностью», «уход от современности, идеализация
старины, противопоставление искусства общественной жизни» и
т. д., и т. п. без конца.
Чтобы осознать всю жуть общества, в котором мы прожили
всю свою жизнь, недостаточно иметь информацию о его зверст-
вах — необходимо помнить тексты тех, кто воспевал эту жуть,
одновременно строча доносы на собратьев по перу...
В произведениях Гоголя революционер Белинский уви-
дел взрывчатую силу, грозную для угнетателей. Творчество
Гоголя оказалось родным по всему своему духу передовому
лагерю, возглавлявшемуся Белинским, несмотря на все раз-
личие идейно-политических взглядов.
Во взглядах художника было немало противоречий: в них
было много передового, прогрессивного — гнев против не-
справедливости, насилия, косности, страстное стремление к
активной борьбе со злом; но, вместе с тем, во взглядах Гого-
ля было немало отсталого, наивного, ограниченного. У него
не было осознанной антикрепостнической программы; он
исходил из того, что все общество в целом уклонилось от
«идеала», но ему казалось, что это же общество способно и
вернуться к «идеалу», если у него хватит мужества прислу-
шаться к голосу беспощадного обличения всех язв и зол.
Разоблачение «барства дикого», феодально-крепостниче-
ского строя сочеталось у обоих писателей [Пушкина и Гого-
ля] с протестом и против нарождавшегося буржуазного хищ-
ничества.
Герои «Ревизора» и «Мертвых душ» — это нищие духом
люди, лишенные подлинных человеческих качеств. Беско-
617
нечно далекие от широких общественных интересов, они
охвачены узкоэгоистическими, корыстными чувствами и
побуждениями. Все явления жизни, окружающий мир они
рассматривают лишь с точки зрения своего личного, обо-
собленного существования.
Гоголь явился предшественником революционно-демо-
кратических писателей, он расчистил путь для них.
Передовые современники Гоголя чувствовали особое,
новое качество его народности, заключавшееся в непосред-
ственном слиянии с поэтическим мышлением народа.
Народ выступает у Гоголя как утверждение жизни; при-
вилегированные классы — как ее отрицание. Живое и мерт-
вое в их острейшем противопоставлении — таков один из
аспектов главной, постоянной гоголевской темы.
Сколько подобных «откровений» разбросано по другим кни-
гам наших «корифеев»: Гоголь — выразитель мироощущения и
интересов среднепоместного дворянства; все в гоголевской поэ-
тике — от сюжета и композиции до пейзажа, способа обрисовки
героев, деталей — призвано было нести на себе отблеск «мелко-
поместной стихии»; «среднепоместный художник плохо приспо-
соблен рисовать психологию интеллигенции»; фантастика Гого-
ля — бессильна; Хлестаков символизирует победу мануфактурно-
го века над крепостным; внимание Гоголя «было сосредоточено
на средствах потребления, а не на средствах производства»; «в
Гоголе пропал гениальный народный художник, писатель «во
вкусе черни». Произошло же это оттого, что он жил в мрачной, в
отравленной общественной среде...»
Он показал, как частная собственность растлевает самую
душу человека, как она угашает самые высокие ее свойст-
ва: товарищество, отвагу, дружбу, любовь, цельность и силу
характера. Он изображал пагубное влияние собственности
на общественного человека не с внешней, а с внутренней
стороны.
От нее — отравленной общественной среды — и погиб...
Насилие над собою, как над художником, навязанное
ему реакцией, явилось главнейшей причиной психического
расстройства Гоголя, приведшего его к самоубийству.
618
Поучительны ермиловские интерпретации отдельных творе-
ний Гоголя. Возьмем Тараса Бульбу—
Исторический пафос «Тараса Бульбы» заключается в
утверждении союза Украины с Москвой как единственного
пути, возможного для украинского народа. Патриотизм Та-
раса, любовь его к Украине неотделимы от его сознания
братства с народом русским, великим заступником украин-
ского народа. Сам народ Украины, крестьянин, угнетаемый
барами, терпящий двойной гнет — от польских и «своих»
панов, возмущенный низким предательством верхушки оте-
чественной шляхты, шедшей на «полонизацию», подобо-
страстничавшей перед польскими магнатами в угоду свое-
корыстным классовым интересам, — сам народ Украины
всей душой стремился к союзу с русским народом. И Тарас
Бульба выражает это народное стремление.
Нос-
...оно [произведение] заключало взрывчатую силу, пред-
ставляя собою сатирическую картину николаевской бюро-
кратической действительности.
Остаться без носа — остаться без чина, стать ничем: та-
ково содержание кошмара Ковалева.
В повести «Нос» заключался и прямой политический ан-
тикрепостнический взрывной материал, в связи с чем автор
прибегнул к эзопову языку.
Портрет —
В «Портрете» речь шла о враждебности искусству не то-
лько «века банкира», но и всякого давления привилегиро-
ванных классов, на службу к которым перешел художник
Чартков.
Но, однако, в противоречие с прогрессивным звучанием
«Портрета» вступали реакционные тенденции повести.
Ермилов обращается с «прогрессивностью» и «реакционно-
стью» Гоголя, как фокусник с предметами, вещами: то «Гоголь
возвращается к реакционным сторонам своего мировоззрения»,
то «прогрессивное значение «Портрета» велико и богато», то Го-
619
голю «предстоит реакционный перелом», то «разоблачение устоев
феодально-крепостнического строя оказывалось у Гоголя побе-
доносным», то «злобно и грубо «шутит» над Гоголем темная, ре-
акционная сторона его мировоззрения»...
Записки сумасшедшего —
Предметом сатирического изображения в «Записках су-
масшедшего» является уже не средний, ковалевский, а вы-
сший круг: директор департамента, генеральская дочка, ка-
мер-юнкер, ухаживающий за нею.
Противопоставление верхов и низов общества здесь яв-
ляется трагическим и гневным.
Внутреннее развитие повести заключается в нарастании
бунта; это спрятано в нарастании безумия.
Поприщин догадался о лицемерии, продажности верхов,
фальшивом характере их патриотизма, их религиозности.
Гоголь приходил к бунтарским догадкам в полном одино-
честве, не имея ясного представления о том, что в России уже
происходил великий процесс прояснения... Роль передового
разведчика на путях новой России досталась Гоголю ценою
постоянного сверхнапряжения, непрерывных внутренних
потрясений, изнурявшей его нестерпимой тоски и тревоги.
Здесь вполне уместна была бы гипотеза, что и умер Гоголь от
своей глубоко скрываемой гиперреволюционности...
Шинель —
Повесть об украденной шинели — это повесть об укра-
денной жизни людей в грабительском обществе.
...завуалированно, в форме шутливой, фантастической в
повести прозвучало грозное предупреждение «значительным
лицам», всему обществу, враждебному человечности.
«Значительное лицо» олицетворяет гнет действительно-
сти, несет гибель Акакию Акакиевичу.
Скорбное и гневное раздумье о социальном неравенстве,
ставшее коренной темой передовой русской литературы,
620
было начато Гоголем. Ему самому еще не было ясно все
значение этой темы, и он опасался ее революционных вы-
водов.
Автор «Шинели» поднял знамя обыкновенного, «малень-
кого» человека, сделал героем творчества нового социально-
го героя — разночинца [Акакий Акакиевич, оказывается,
разночинец]. Он проложил дорогу революционной литера-
туре. Он показал трагизм положения рядового человека в
эксплуататорском обществе, враждебность этого общества
человечности. Так Гоголь в своем творчестве обозначил ис-
торический переход от периода дворянской революционно-
сти к периоду разночинской революционности...
Ревизор —
«Ревизор» посвящен мрачной действительности, в пьесе
изображены угнетатели народа, страшные в своей грубой
силе.
«Ревизор» сыграл неоценимую роль в созревании само-
сознания прогрессивных и революционных сил страны.
Комедия явилась ошеломляющим ударом по самим усто-
ям николаевского режима.
Таким образом, ошибка городничего и прочих — не слу-
чайная, анекдотическая ошибка, а глубоко закономерная,
вытекающая из природы всего строя, порядка жизни, из
идеалов дворянско-чиновничьего общества.
О финальной «немой сцене»:
Перед нами парад высеченной подлости и пошлости, за-
стывшей в изумлении перед потрясшей ее самое бездной
собственной глупости. Сатирик пригвоздил к позорному
столбу весь николаевский режим.
Мертвые Души —
Историческая новизна образа Чичикова заключается в
том, что это была уже фигура, характерная для начинавших
пробивать себе дорогу сквозь толщу феодально-крепостни-
ческого общества новых, буржуазных отношений.
621
Для Гоголя нет грязнее человека, одержимого страстью к
деньгам. Именно потому, что Чичиков для Гоголя сплош-
ная грязь, Гоголь так «любовно» подчеркивает его чистоту.
Паразитизм разлагающейся социальной формации, из-
жившей себя, превратившейся в прореху на человечестве,
предстал в образе мертвого, хватающего живого.
Чичиков представляет противоприродное начало. Чуть
ли не каждое его слово, поступок, действие наполнены
смыслом, враждебным народу.
Чичиков — не только делец: он еще и адвокат этого об-
щества, умеющий прикрыть любую грязь парадной, благо-
образной фразой, приспособленной к каждому данному ви-
ду безобразия; он — специалист по гибкой фразеологии.
Последняя фраза неплохо подходит не только к Чичикову, но
и к самому Ермилову...
Замечательная гибкость Чичикова помогает ему в его ро-
ли апологета, фразеолога имущих классов.
И — эта...
Тут классически высмеиваются типичные приемы ком-
мун... тьфу, буржуазной апологетики с ее беспринципно-
стью, иезуитством, циническим несоответствием между
страшной действительностью и приукрашивающей ее фра-
зеологией.
Позорная бессмысленность накопительства, скупости,
паразитическое гниение, неизбежно порождаемые собствен-
ническим обществом, выражены в образе Плюшкина с бо-
лью стыда за человека. Обобщающее значение этого обра-
за не исчерпывается темой бессмысленного накопительст-
ва в прогнившем феодально-крепостническом обществе.
У Плюшкина гниет хлеб, пропадает напрасно все то, что
могло бы обеспечить жизнь голодным крестьянам. Но и чу-
довищный капитализм давно стал прорехой на человечестве.
Какая-то просто параноидальная зацикленность на строе,
классах, разлагающихся формациях, взрывчатой силе, историче-
ских переходах, ошеломляющих ударах, гниении, разложении и
622
т. д. без конца. А ведь вся 70-летняя критика «самого передового»
социалистического реализма «кроилась» по ермиловским лека-
лам. Причем авторов не смущала никакая ложь, никакие само-
противоречия. На странице 402 Ермилов мог написать, что «спор
Белинского с Гоголем оказывался спором новой, демократиче-
ской России со старым порядком», а на странице 406 — что
«всем своим существом Гоголь был устремлен в будущее». Ниче-
го не стоило соврать, что «только здесь, в лагере Белинского, и
любили Гоголя полной мерой, широко и свободно», «только
здесь хотели не насилия над его гением, а полной свободы его
творчеству» и что Гоголь «не имел никаких сколько-нибудь проч-
ных связей в том лагере, которому он был близок и всем своим
творчеством, и своей личностью».
Любопытен последний аккорд ермиловской книги о Гоголе,
тоже весьма характерный для таких «книп> и таких «писателей»:
В итоге героических самоотверженных поисков русский
народ нашел такого деятеля, который сумел на родном языке
русской души сказать всемогущее, заветное слово: вперед! Он
нашел этого деятеля в лице коммуниста, в лице вечно жи-
вого Ленина и ленинской героической партии.
Очень напоминает известный анекдот о трех премиях в кон-
курсе на лучший памятник Гоголю: третья — Гоголь с книгой
Ленина в руках, вторая — Ленин с книгой Гоголя в руках, пер-
вая — просто Ленин... А еще — анекдот об одном Карапете, ко-
торый «всю физику на х... свел...»
Подобным образом примитивизировал и «укладывал в рамки»
Гоголя далеко не один Ермилов, но все ученики Белинского и
Чернышевского. Вот они, перлы наших:
С огромной художественной силой Гоголь показал не то-
лько процесс разложения феодально-крепостнической сис-
темы и духовного оскудения ее представителей, но и ту
страшную угрозу, которую нес народу мир Чичиковых —
мир капиталистического хищничества.
Гоголь ненавидел уродливый мир крепостников и цар-
ских чиновников [сам он, получается, крепостником не
был]. В то же время он часто пугался выводов, естественно и
закономерно вытекавших из его произведений, — выводов,
623
которые делали его читатели. Гоголю, гениальному худож-
нику-реалисту, была свойственна узость идейного кругозо-
ра, на что не раз указывали Белинский и Чернышевский.
Гениальные произведения Гоголя служили Белинскому и
Герцену, Чернышевскому и Добролюбову, а также последу-
ющим поколениям революционеров могучим оружием в бо-
рьбе против помещичьего, эксплуататорского строя.
Произведения Гоголя отрицали крепостническую дейст-
вительность, будили яростную ненависть к ней.
Оказывается, «сильный идейный кризис писателя» — резуль-
тат тлетворных влияний неудачно выбранных «друзей». Гоголь
«отрицал» и «разоблачал» «уродливую действительность»...
...А московские его «друзья» целиком принимали эту
действительность и ее защищали. Аксаковы, как и все сла-
вянофилы, были враждебны общественному пафосу гого-
левского творчества, его критическому, обличительному на-
правлению.
В этих условиях сила сопротивления Гоголя тому систе-
матическому духовному отравлению, которому на протяже-
нии многих лет он подвергался со стороны своих «друзей»,
стала ослабевать. Их влияние в середине 40-х годов начало
сказываться на Гоголе, на его идейном развитии. Москов-
ские, как и некоторые его друзья — например, Жуковский, а
также А. О. Смирнова, 3. А. Волконская — во многом спо-
собствовали росту у писателя реакционных, религиозно-ми-
стических настроений. «Этим знакомствам, — писал Черны-
шевский [и здесь упредивший наших], — надобно приписы-
вать сильное участие в образовании у Гоголя того взгляда на
жизнь, который выразился «Перепискою с друзьями».
Оказывается, именно славянофилы виноваты в том, что Го-
голь написал и издал свою мерзкую книгу. Но как быть с резкой
критикой Переписки СТ. Аксаковым? А никак — разве есть
препятствия логике «истинных марксистов»? — «И то обстояте-
льство, что некоторые из славянофилов [в частности, сам
С. Т. Аксаков] лицемерно отмежевались от книги Гоголя, ниско-
лько не противоречит этому выводу». Недаром мы диалектики —-
никакие противоречия нас не устрашат...
624
Оказывается, никаким воспоминаниям современников, кроме
критики революционеров-демократов, доверять нельзя. Всё
это — только «происки», а вот отношение свое к этим революци-
онерам-демократам самому Гоголю приходилось глубоко скры-
вать, да и отношение самих этих революционеров-демократов то-
же замешено на всё тех же «происках» просто кишащих в XIX ве-
ке «врагов»:
Характерная черта подавляющего большинства мемуа-
ров о Гоголе состоит в том, что они принадлежали перу
людей, которым был чужд общественный пафос гениаль-
ных произведений Гоголя. Эти люди в конце концов мало
понимали подлинный масштаб личности Гоголя и значе-
ние его творчества для... освободительного движения в
России.
«История моего знакомства с Гоголем»... меньше всего
может быть названа беспристрастной мемуарной летопи-
сью. С. Т. Аксакова в этой работе интересовала не только
или, может, даже не столько личность Гоголя, сколько своя
собственная.
Нельзя не обратить внимание на то, как скупо в воспо-
минаниях освещаются личные отношения Гоголя с некото-
рыми передовыми деятелями русской литературы — напри-
мер, Белинским, Некрасовым.
Между Гоголем и Белинским не было личной близости.
Но известно, с каким уважением относился писатель к Бе-
линскому, с каким интересом читал его статьи, как ценил
его суждения о «Миргороде», «Ревизоре», «Мертвых ду-
шах». Гоголь, зная, сколь ненавистно многим из его окру-
жения имя Белинского, предпочитал скрывать свои истин-
ные чувства к критику. Подозревая о них, московские, да и
некоторые петербургские «друзья» Гоголя всячески восста-
навливали его против Белинского, стремясь добиться пол-
ного разрыва между ними.
Творчество Гоголя имело очень важное значение в жиз-
ни Чернышевского, в истории духовного, политического
его развития. Произведения Гоголя способствовали обо-
стрению в молодом Чернышевском интереса к социальным
625
вопросам современности и возбуждению его ненависти к
феодально-помещичьему строю России.
Вот ведь как: певец любви и христианских добродетелей «спо-
собствовал возбуждению ненависти»...
Развивая идеи Чернышевского об отсутствии у Гоголя «строй-
ных и сознательных убеждений», неспособности гения увидеть
связи между «частными явлениями» и «общею системою жизни»,
один из наших служивых «шел дальше»:
Выводы Чернышевского не только имели большое тео-
ретическое значение. Они окончательно выбивали из рук
врагов гоголевского направления [ленинская выучка] довод,
с помощью которого они давно пытались фальсифициро-
вать образ писателя: дескать, Гоголь никогда сознательно не
разделял критических устремлений своих произведений, что
в своем отношении к господствующему строю жизни Рос-
сии он всегда был благонамерен и, наконец, что основные
идеи «Выбранных мест из переписки с друзьями» были
свойственны писателю с самого начала его творческой дея-
тельности.
Несмотря на то, что Гоголь вполне сознательно обличал
в своих художественных произведениях русскую крепост-
ническую действительность, он, однако, был лишен строй-
ного мировоззрения [здесь так и просится — ленинского],
он поддавался чаще всего «инстинктивному направлению
своей натуры». В этой слабости и ограниченности идейно-
го теоретического развития Гоголя таилась величайшая для
него, как художника, опасность. В пору своей наибольшей
зрелости Гоголь и сам почувствовал необходимость выра-
ботать в себе «систематический взгляд на жизнь», «созна-
тельное мировоззрение». Но сделать этого Гоголь уже не
смог.
Видимо, Гоголю просто не хватило времени стать сознатель-
ным, как Чернышевский. Спасибо последнему, что он, «как и
другие революционеры-демократы, поднимал на щит великое и
бессмертное в творчестве Гоголя, что служило народу в его борь-
бе за освобождение от оков рабства и тирании». К сожалению,
Гоголь не успел стать великим революционером. Но великий
толчок революции он все же дал: «Деятели революционно-демо-
626
кратического движения в России испытали на себе могуществен-
ное влияние произведений Гоголя».
Неясна одна только «малость»: если испытали, то зачем, пере-
водя Гоголя на кинематографический язык, одному из «бдитель-
ных» понадобилось предостерегать постановщиков: «Экраниза-
ция «Мертвых душ» должна неизбежно сопровождаться преодо-
лением реакционных сторон мировоззрения Гоголя, выраженно-
го в «Мертвых душах»?..
Наших возмущает, как обращались с Ревизором или
Мертвыми Душами иностранные переводчики, критики,
литературоведы, но фальсификации ермиловых, храпченко,
смирновых-чикиных и иже с ними оставляют их спокойными и
тогда, когда Гоголя приспосабливают для борьбы с «врагами на-
рода», и тогда, когда «в борьбе за Гоголя против реакционной
клики Побеждает В. Г. Белинский, вернувший Гоголя к деятель-
ности в духе передового демократического направления крити-
ческого реализма», и тогда, когда — с «пафосом упрощения» —
перелицовывают религиозного мистика в примитивного револю-
ционера или второй том Мертвых Душ — в Что делать?
И вот уже налицо «антикрепостнический, антидворянский ха-
рактер мировоззрения Гоголя, и «крепостник Костанжогло пе-
рестал быть положительным героем II тома», и во II томе «Го-
голь вернулся к идеям и настроениям I тома» и т. д., и т. п.
И тогда...
Социальной типичностью гоголевских персонажей объ-
ясняется то, что В. И. Ленин и И. В. Сталин так часто по-
льзовались их именами для изобличения и осмеяния неза-
дачливых противников революции... На того же Манилова
для характеристики «политических обывателей» (читай —
жертв 1937-го) ссылается И. В. Сталин: «О таких людях не-
определенного типа, о людях, которые напоминают скорее
политических обывателей, чем политических деятелей, о
людях такого неопределенного, неоформленного типа дово-
льно метко сказал великий русский писатель Гоголь: «Лю-
ди, говорит, неопределенные, ни то, ни сё, не поймешь,
что за люди, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан»
(«Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинско-
го избирательного округа Москвы 11 декабря 1937 г.»). Ос-
трие гоголевской сатиры И. В. Сталин направлял также на
зарубежных буржуазных «политиков». Так, он ядовито
627
сравнивал буржуазных журналистов, критиковавших Ста-
линскую Конституцию, с «девчонкой» Пелагеей из «Мерт-
вых душ», которая не знает, «где право, где лево» («Вопро-
сы ленинизма»).
Дописались до того, что даже болезнь и смерть Гоголя превра-
тили в результат заговора реакционеров, а одну из версий по-
следних дней Гоголя — в «реакционную легенду»: «Беспомощ-
ный больной писатель оказался в плену у самых зловещих своих
персонажей». Оказалось, что даже у болезни человека могут быть
идеологические причины: меняется идеология — меняется бо-
лезнь.
В Тайне смерти Гоголя Белышевой мы находим и фа-
льсификацию текстов доктора Тарасенкова, «отредактирован-
ных» заговорщиками-реакционерами, и умышленное объявление
несчастного больного безумцем, и врачей-убийц, один из кото-
рых объявлен агентом Третьего отделения, и давление на Гоголя
с целью принудить его отказаться от своих трудов, и версию со-
жжения второго тома не самим Гоголем, а «заговорщиками», и...
великолепную трансформацию затравленного писателя в чуть ли
не революционера, жгущего перед смертью «революционную»
переписку — короче говоря, налицо весь комплекс приемов на-
ших «искусствоведов в штатском» от нашей же «карательной ме-
дицины», феномен гебистского менталитета с его комплексами
«психушек» и вездесущих «врагов».
Хорошо поднаторев в объявлении инакомыслящих психболь-
ными, наши даже трагедию великого писателя превратили в ана-
логичную историю, отличающуюся разве что тем, что в роли вы-
учеников «железного Феликса» оказались агенты царской охран-
ки и высокопоставленные царедворцы:
Хотя беседа1 касалась многих литературных и театраль-
ных тем, можно предположить, что Тарасенков не случайно
завел разговор о «Записках сумасшедшего». Врач-психиатр,
пользуясь специфической темой — отражение в литературе
психопатических характеров, — пытается узнать, не испы-
тывал ли автор нечто подобное состоянию его героя. Не
исключена возможность, что его для этого и пригласили в
i Речь идет об обеде, устроенном в начале 1852 года, на котором присутство-
вали Н. В. Гоголь и врач-психиатр А. Т. Тарасенков, приглашенный графом
А. П. Толстым якобы для установления вменяемости писателя.
628
дом графа. На такое предположение наводит то обстоятель-
ство, что три недели спустя, 13 февраля, граф Толстой
вновь вызывает Тарасенкова и беседует с ним таким обра-
зом, словно вопрос о психическом расстройстве Гоголя ре-
шен окончательно.
Тарасенков начинает размышлять над курсом лечения,
не ведая, что тем самым своим авторитетом специалиста-
психиатра поддерживает версию графа о сумасшедшем Го-
голе, вздумавшем уморить себя голодом.
Характер фальсификации фактов, изложенных в подлин-
нике статьи Тарасенкова, обнажил пружины чьих-то дейст-
вий, направленных на то, чтобы исказить в глазах русского
общества картину последней болезни Гоголя, моральный
облик писателя, а следовательно, и дискредитировать его
творчество.
Оказывается, даже диагноз менингита, поставленный Гоголю
уже другими, но тоже «наемными» врачами, отнюдь не случаен:
Зная то, что мы теперь знаем, можно предположить:
останься Гоголь жив, верх взяла бы вторая версия, основан-
ная на услужливом диагнозе титулованного невежды1 Ове-
ра, — цереброспинальный менингит. Гениального писателя
объявили бы сумасшедшим, как это сделали с Чаадаевым.
По-своему примечательна фигура третьего консультан-
та — Степана Ивановича Клименкова, субинспектора Мос-
ковского университета.
Судя по всему, он был близок к Третьему отделению.
Для чего же нужно было заговорщикам-реакционерам во гла-
ве с графом А. П. Толстым объявлять Гоголя сумасшедшим и
сживать со света? А для того, оказывается, чтобы предотвратить
его разоблачение «николаевского ада» или, на худой конец, от-
влечь от художественного творчества:
С самого начала знакомства с Гоголем А. П. Толстой
стремился усугубить намечавшийся интерес Гоголя к рели-
гиозным проблемам, отвлечь писателя от художественного
i Овер на самом деле был одним из виднейших врачей того времени, про-
фессором терапевтической клиники Московского университета.
629
творчества. Видимо, граф хорошо понимал, что такая заслу-
га перед троном покроет с лихвой одесские грешки1.
При помощи отца Матвея Гоголя хотели заставить отре-
чься от своих трудов; если это не удастся — объявить его су-
масшедшим, заручившись диагнозом врачей.
На несколько лет оторванный от родины, Гоголь нахо-
дил в знакомстве с высокопоставленным чиновником
[А. П. Толстым] и фанатичным священником [отцом Мат-
веем] богатейший материал для изображения высших сфер
николаевского ада, которым он собирался, по многочислен-
ным свидетельствам (?), посвятить второй том «Мертвых
душ».
Так что же сжигал Гоголь в доме человека, давшего ему по-
следний приют и близкого ему по духу, где, как свидетельствуют
наши, он «не чувствовал себя в безопасности, боялся за судьбу
своего творения».
В последние годы жизни и работы над вторым томом
«Мертвых душ» Гоголь внимательно следил за новыми вея-
ниями в политической жизни России. Изученные им све-
дения о процессе петрашевцев отразились во втором томе
и могли пригодиться ему для третьего. Будучи уже боль-
ным, Гоголь имел в начале февраля 1852 года свидание с
декабристом М. М. Нарышкиным, нелегально приезжав-
шим в Москву из своего тульского имения. Судя по содер-
жанию беседы с Анненковым, состоявшейся летом 1846
года в Бамберге, у Гоголя могли быть и материалы о рус-
ской революционной эмиграции. Вероятно, в архиве писа-
теля хранились материалы к категорически запрещенной
цензурой статье «Страхи и ужасы России»... Были письма,
в которых Гоголь объяснялся с «партией Герцена». Убедив-
шись в усилении полицейской деятельности правительства
и оказавшись больным в доме А. П. Толстого, которому
знал цену, он, естественно, мог обеспокоиться за судьбу
друзей в связи с этими материалами. Может быть, эти бу-
i Здесь следует иметь в виду, что речь идет о человеке с безупречной репута-
цией, ставшем к тому же ближайшим другом Гоголя, единственным человеком,
которому Гоголь читал Размышления о литургии и которому хотел дове-
рить второй том для передачи Филарету. По свидетельству А. Т. Тарасенкова, к
которому постоянно апеллирует Белышева, Толстой был единственным доверен-
ным лицом Гоголя, с которым он вел самые сокровенные беседы.
630
маги и сжигал Гоголь февральской ночью, за десять дней
до своей смерти?
Ну, а кто сжег второй том Мертвых Душ?
Сомнительно, чтобы это сделал сам Гоголь по требова-
нию отца Матвея, А. П. Толстого (?) или кого-то из их
окружения, хотя на протяжении более чем столетия это пы-
тались доказать.
Зная характер взаимоотношений Гоголя с Толстым1, зная
отношение Гоголя к поповским, да к тому же католического
толка, воззрениям Толстого, зная историю болезни и «лече-
ния» Гоголя и, наконец, зная, сколь горячо желал Толстой
заставить Гоголя отречься от своего творчества, весьма ве-
роятным представляется следующее: 22 или 21 февраля ка-
фельная печь в кабинете Гоголя снова наполнилась пеплом,
на этот раз пеплом действительно сгоревшей рукописи не-
которых глав второго тома «Мертвых душ», уничтоженных
безжалостной рукой.
Это могло произойти сразу же, как только тело Гоголя
было вынесено в университетскую церковь.
Представленный в писаниях наших исчадием ада граф
А. П. Толстой самим Гоголем характеризовался как «замечатель-
ный человек», способный «сделать у нас много добра при ны-
нешних именно обстоятельствах России, который не с европей-
ской заносчивой высоты, а прямо с русской здравой середины
видит вещь».
Такая вот «единственная правда», такое вот «литературоведе-
ние»...
1 На самом деле отношения Гоголя с Толстым были самыми дружескими —
фактически Гоголь выбрал его в душеприказчики. Да и мог ли человек с интуи-
цией Гоголя оказаться на смертном одре в доме человека, изображенного нашими
чуть ли не дьяволом во плоти, смертельно кусающей змеей?..
ЭПИЛОГ: СТУК ВРЕМЕНИ,
УХОДЯЩЕГО В ВЕЧНОСТЬ
Слова, вынесенные в заголовок, принадлежат самому Гоголю,
так воспринимавшему время.
Это не единственное его восприятие. Мне кажется, что только
современные модернисты могут конкурировать с Гоголем по
многообразию образов времени, временным фантасмагориям и
скачкам из небытия в вечность. «Год 2000 апреля 43 числа» или
«никакого числа. День был без числа».
У Гоголя есть необыкновенные образы времени, которые я
никогда и нигде более не встречал, например, «пространство вре-
мени, неразграниченное и неразмеренное» или сошедшее с ума
время Записок:
Уже тогда Гоголь позволял своему герою шутить со вре-
менем, играть с календарем и устраивать из истории бала-
ган со всеми атрибутами балагана — хождением вниз голо-
вой, сальто-мортале и тому подобное. Время скачет в днев-
нике сумасшедшего, оно как бы тоже сошло с ума, то есть
порвало с привычными представлениями о череде дней.
Дни перескакивают друг через друга и сами себе корчат ро-
жи. Иерархия времени для Поприщина так же призрачна,
как и сословная иерархия.
Гоголь в этой повести бросает усмешку в сторону само-
любия «настоящей минуты». Тут именно минута высмеива-
ется и все ставки на минутное, исторически смертное, хотя
и сама история, как ее понимают историки, для Поприщи-
на звук пустой. У нее свое время, говорит он, а у меня свое.
У каждого человека свой отсчет бытия, свой календарь — и
это не тот календарь, что отпечатывают типографским спо-
собом. Истинный Хронос — душа человека: душа бесконеч-
на, время конечно.
Чем не высший модернистский эксперимент?
632
И как бы итоговая, обобщающая метафора: «Какое
убийственно-нездоровое время и какой удушливо-томитель-
ный воздух!»
Последние слова — из письма к С. Т. Аксакову, напи-
санного в Васильевке 12 июля 1848 года, в состоянии чрез-
вычайного физического и душевного расстройства, чем в
известной мере они и могут быть объяснены. Отчасти то же
относится и к другим сетованиям Гоголя на неблагоприят-
ное время. Но только отчасти. «Нездоровье» времени Гоголь
ощущает как духовное нездоровье мира, собственные стра-
дания воспринимает через призму страданий современного
человека вообще, видя в них свидетельство царящего вокруг
общего неблагополучия, распада связей между людьми.
«Страданья твои, — пишет он М. Погодину, жалующемуся
на душевные тяготы и тревоги, — слишком мне понятны,
потому что я сам исстрадался весь, а страдающему понятен
страждущий. Но весь мир страждет. Все люди, с которыми я
ни сходился и с кем ни знакомился коротко, все страждут...
Мне кажется, что тяготнее всех других страданий страда-
ния, происходящие от взаимных недоразумений, а эти страда-
ния стали теперь решительно повсеместны. Только и слы-
шишь со всех сторон, как расходятся друзья, как люди, со-
зданные затем, чтобы любить друг друга, невозвратно оттор-
гнулись друг от друга. Только и слышишь теперь, как скор-
бно кричит человек: «меня не понимают!..»
Как говорил кто-то из поэтов, пространство, однажды поки-
нутое, приобретает свойства времени.
Я в Риме родился,
И он ко мне вернулся...
Гоголь родился в России, потому-то она постоянно возвраща-
лась к нему: «И грозно объемлет меня могучее пространство,
страшною силою отразясь в глубине моей...» Потому-то и Чичи-
ков движется со своей бричкой как бы в ином измерении, в из-
мерении гоголевской души...
Эта редкая в художественной литературе связь времени с бы-
тием и пространством в высшей степени характерна для Гоголя.
Задолго до того, как кто-то из философов произнес эту фразу —
«Бытие, уходя в Ничто, превращается в Вечность», — Гоголь уже
знал ее..
633
Главное влияние Европы на Гоголя, возможно, даже не лите-
ратурное — бытийное. Европа учила его не столько писать, ско-
лько «ставить и строить»: она учила его основательности, куль-
турной эволюционности, подготовленности. Европа меняла даже
словарь Гоголя: «Любимые словечки Гоголя той поры [1841 г.] —
надо всё обтолковать, обговорить, обдумать как следует». Лучше
всех в России Гоголь понимал опасность и легковесность «быст-
рых перемен»: «Русскому дай эту свободу — так он пойдет в ка-
бак...» Примеривание Европы к России заключалось не в меха-
ническом перенесении, а в долгом наследовании. Когда Гоголь
пишет: «Рим, м-ц апрель, год 2588-й от основания города», — он
подчеркивает само это влияние времени на культуру, втягивает
всё прошлое в настоящее. Эпичность Гоголя — тоже дань време-
ни, мифу, вечности. Он не только сам «ставит и строит» свои
творения, но эпическим ритмом Мертвых Душ как бы при-
общается к реликтовому излучению человеческой культуры, без
которых — излучения и культуры — ничего построить невоз-
можно.
Это один слой, но подслой — все же наш, русский: «Русская
жизнь всё и всех держит в себе и на себе, во всё входит». Отсю-
да — ширь пространств и бесконечность стоящего времени, от-
сюда — гиперболизация, отсюда же — грандиозность. Грандиоз-
ность, рождающая пшик...
Как мир Гоголя, распадающийся на утопию и ад, времена его
несоединимы: прошлое — звериное, нелюдь и нечисть, буду-
щее — ангельское, святость и русскость: «Провидец будущего и
прошлого зарисовал настоящее, но вложил в него какую-то нам
неведомую душу. И настоящее стало прообразом чего-то... но че-
го?»
И все же, как никто из русских, Гоголь осознавал настоящее
будущего: генетическую зависимость грядущего от прошлого. Вся
Россия была устремлена в неукорененное будущее. Гоголь звал к
углубленному настоящему: вся беда наша в том, что мы глядим
не в настоящее, а в будущее.
Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего.
Оттого и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а
глядим в будущее. Оттого и беда вся, что как только, всмот-
ревшись в настоящее, заметим мы, что иное в нем горестно
634
и грустно, другое просто гадко или же делается не так, как
бы нам хотелось, мы махнем на всё рукой и давай пялить
глаза в будущее. Оттого Бог и ума не дает; оттого и будущее
висит у нас у всех точно на воздухе: слышат некоторые, что
оно хорошо, благодаря некоторым передовым людям, кото-
рые тоже услышали его чутьем и еще не проверили закон-
ным арифметическим выводом; но как достигнуть до этого
будущего, никто не знает. Оно точно кислый виноград. Без-
делицу позабыли! Позабыли все, что пути и дороги к этому
светлому будущему сокрыты именно в этом темном и запу-
танном настоящем, которого никто не хочет узнавать: всяк
считает его низким и недостойным своего внимания и даже
сердится, если выставляют его на вид всем.
Н. В. Гоголь — А. С. Данилевскому:
Ты все еще не схватил в руки кормила своей жизни, все
еще носится она бесцельно и праздно, ибо о другом грезит
дремлющий кормчий: не глядит он внимательными и ясны-
ми глазами на плывущие мимо и вокруг него берега, остро-
ва и земли, а все еще стремит усталый, бессмысленный взор
на то, что мерещится в туманной дали, хотя давно уже поте-
рял веру в обманчивую даль.
Утопиям и прожектам Гоголь предпочитал цену настоящего
времени, дисциплину личной жизни, пунктуальность, европей-
скую ответственность. Русские пространства больно ударили по
беспорядку русского времени, этой высшей ценности, на Руси
столь мало ценимой. Вот Гоголь и требовал «положить всему не-
пременные часы», связать душевный порядок со временным.
Крепость воли в его глазах — условие всякой деятельно-
сти; без нее человек распускается в жизни, как мыло в воде,
и все его достоинства исчезают в беспорядке действий.
А выработать в себе эту крепость можно только строжайшей
дисциплиной, прежде всего — дисциплиной внешней:
«Укрепясь в деле вещественного порядка, вы укрепитесь не-
чувствительно в деле душевного порядка». Поэтому он не
устает проповедовать: крепитесь и будьте упрямы, будьте
педантичны в каждом вашем деле и в распределении дня;
«важно то, чтобы в человеке хотя что-нибудь окрепнуло и
стало непреложным; от этого невольно установится порядок
и во всем прочем».
635
Время Гоголя — стремительное, быстролетящее, уходящее.
«Время летит так, как еще никогда не помню». Гоголевская еди-
ница времени — миг. Этим часто встречающимся у него словом
он обозначает — как затем Достоевский — неожиданность, вне-
запность, скоротечность. «Миг» для Гоголя почти то же, что
«вдруп> для Достоевского.
Но у того же художника и в том же произведении — почти
полное отсутствие времени: у помещиков Мертвых Душ нет
прошлого, «кажется, и Манилов, и Собакевич, и Ноздрев, и Ко-
робочка уже родились такими, какими их застает действие поэ-
мы». Оправданно ли такое противоречие? Почему, с одной сто-
роны, стремительность времени, а с другой — его неподвиж-
ность? Потому, что, с одной стороны, тысячелетия проходят, а с
другой — для страны ничего не меняется.
Гоголь — художник вечного возврата. И тема эта постоянно
звучит в поэме рядом с темой божественного возмездия. Центра-
льный мотив поэмы — опустошенность, неподвижность, мерт-
венность человека (Ю. Манн). Если хотите, элиотовские «полые
люди» и «бесплодная земля», хотя их автор об этом не ведает, бе-
рут свое начало именно с «мертвых душ».
Если время всегда настоящее,
Значит, время не отпускает.
Ненастоящее — отвлеченность,
Остающаяся возможностью
Только в области умозрения.
Или:
Или:
Мы рождаемся с теми, кто умер: гладите
Они приходят и нас приводят с собой...
Народ без истории
Не свободен от времени, ибо история —
Единство мгновений вне времени...
И вот какими в старости дарами
Венчается наш ежедневный труд.
Во-первых, холод вянущего чувства,
Разочарованность и беспросветность,
Оскомина от мнимого плода
Пред отпадением души от тела.
636
Затем, бессильное негодованье
При виде человеческих пороков
И безнадежная ненужность смеха.
И в-третьих, повторенье через силу
Себя и дел своих, и запоздалый
Позор открывшихся причин; сознанье,
Что сделанное дурно и во вред
Ты сам когда-то почитал за доблесть.
И вот хвала язвит, а честь марает.
Меж зол бредет терзающийся дух,
Покуда в очистительном огне
Ты не воскреснешь и найдешь свои ритм.
Действительно, все эти элиотовские настроения можно встре-
тить в мельком брошенных фразах Гоголя. Например, в статье
Предметы для лирического поэта в нынешнее
время из Выбранных мест Гоголь призывал поэта
Н. М. Языкова написать «ведьму старость... которая вся из желе-
за, перед которой железо есть милосердье, которая ни крохи чув-
ства не отдает назад и обратно».
Элиотовский «катастрофизм» времени уже полностью присут-
ствует на страницах гоголевской Переписки: «время броже-
нья и смешенья всего»; «потрясающая бестолковщина времени»;
«повсюдная бестолковщина»; «неспокойствие в нашем времени»;
«время настало сумасшедшее»; «время беспутное и сумасшед-
шее»; «мутное время»; «время... содомное»; «теперь время лжей и
слухов»...
СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЛОГ: НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ГОГОЛЬ 3
ЖИЗНЬ. . 19
Род . 19
Учеба . . 33
Петербург . 55
Служба в департаменте ... 68
Учитель истории . 76
Signore Nicolo 90
Кризисы и взлеты 105
В России. . . 113
Иерусалим. 125
Последние годы 133
Ржевский Савонарола 139
Смерть. . . 151
ЛИЧНОСТЬ. 170
Два Гоголя? . 170
Портрет художника. 179
Ничто человеческое... 188
Нарцисс и Пан. 197
Нонконформист . 207
Скрытность и исповедальность . .215
«Русский Паскаль» . 224
Болезнь . . 234
«Любовь» Гоголя . 248
Вера..... 269
Русь! Русь! Вижу тебя 283
ТВОРЧЕСТВО 307
Художник 307
Реалист или абсурдист?. . 331
Живопись слов. 344
638
Смех.
«Малые формы» . .
«Ревизор» .
«Мертвые Души».
Хлестаков и Чичиков.
«Переписка с друзьями» . .
Тайны второго тома «Мертвых Душ»
Из «Авторской исповеди»
«Размышления о Божественной литургии»
т .
Из истории влияний .
Гоголь и русская литература
Пушкин и Гоголь . . .
Пушкин и Гоголь. Окончание
Гоголь и Достоевский
Розанов против Гоголя . .
Гоголь и Запад .
Гоголь и наши .
357
362
378
391
407
416
. 455
489
. 494
499
. 499
518
561
. 575
581
. . 597
607
614
ЭПИЛОГ: СТУК ВРЕМЕНИ, УХОДЯЩЕГО В ВЕЧНОСТЬ . 632
/
т
ISBN 5-275-00435-4
9