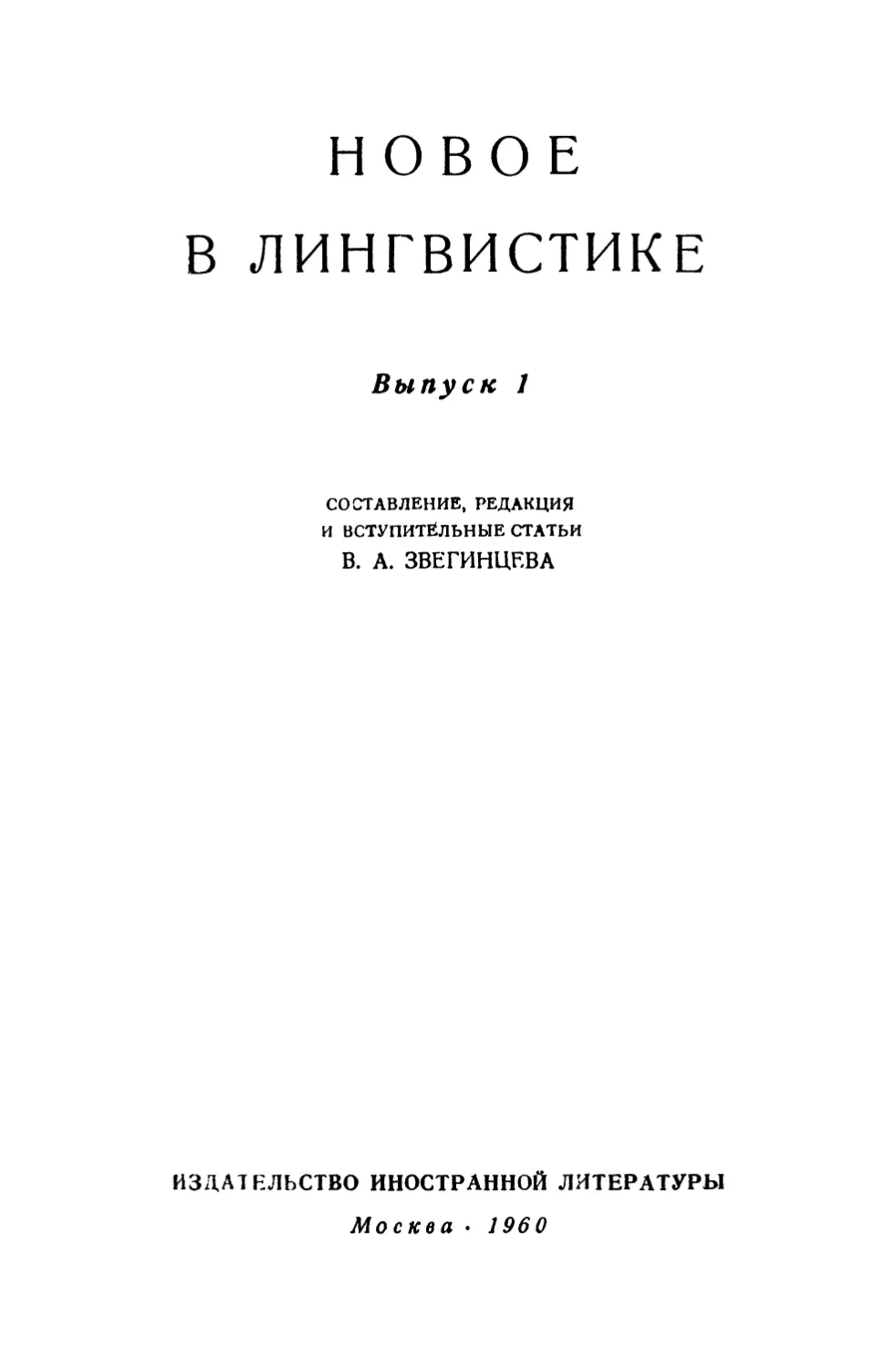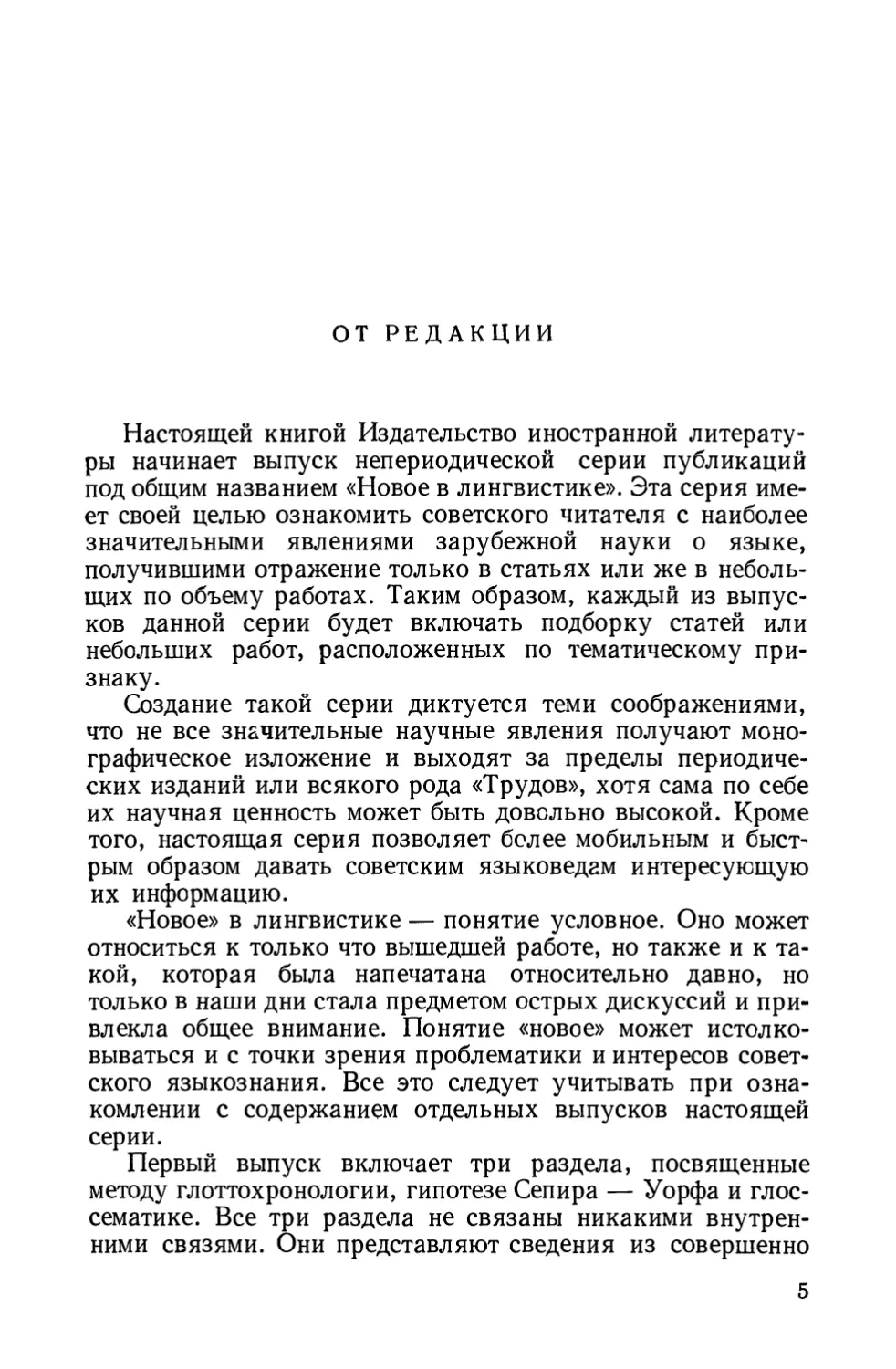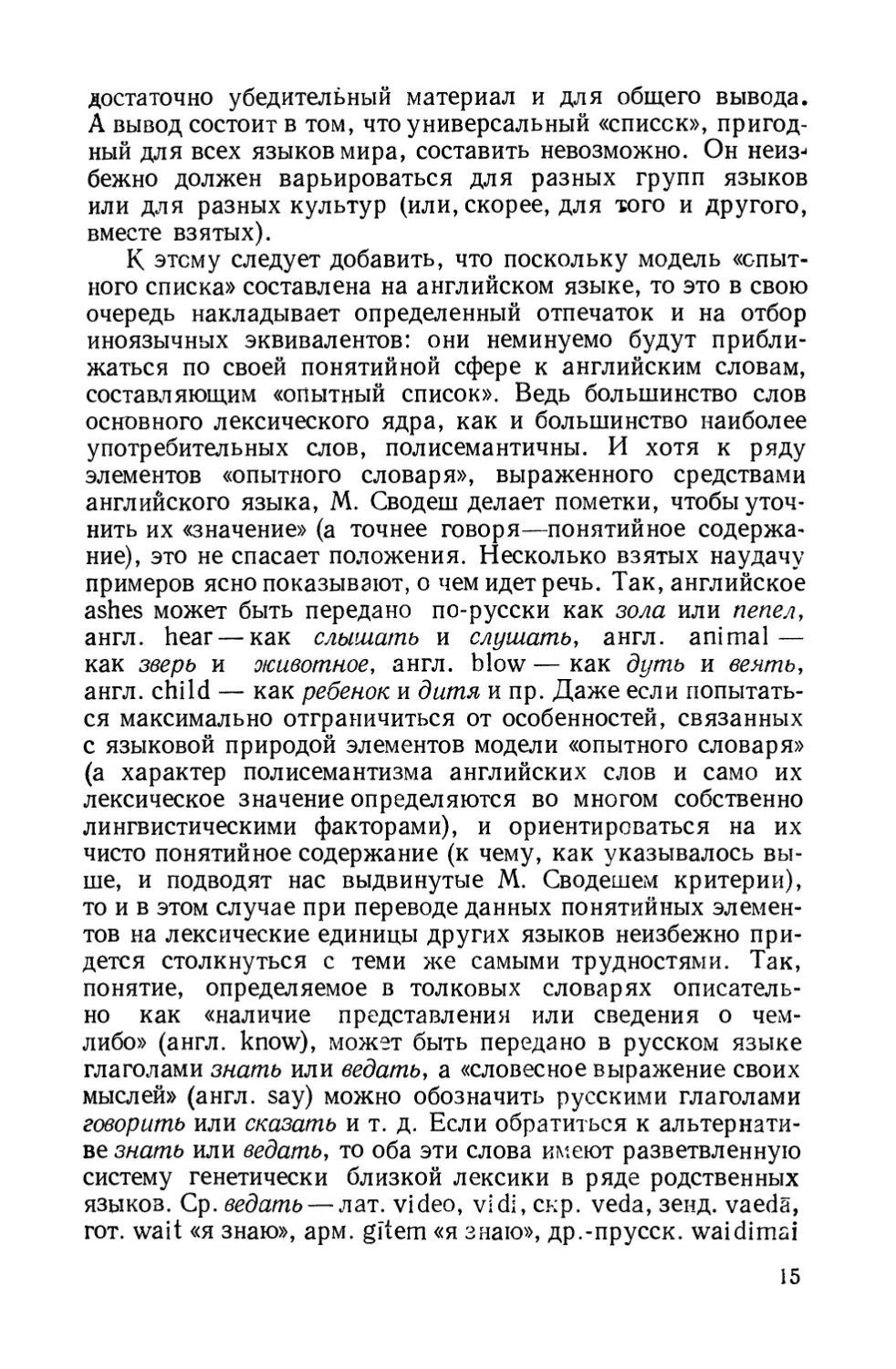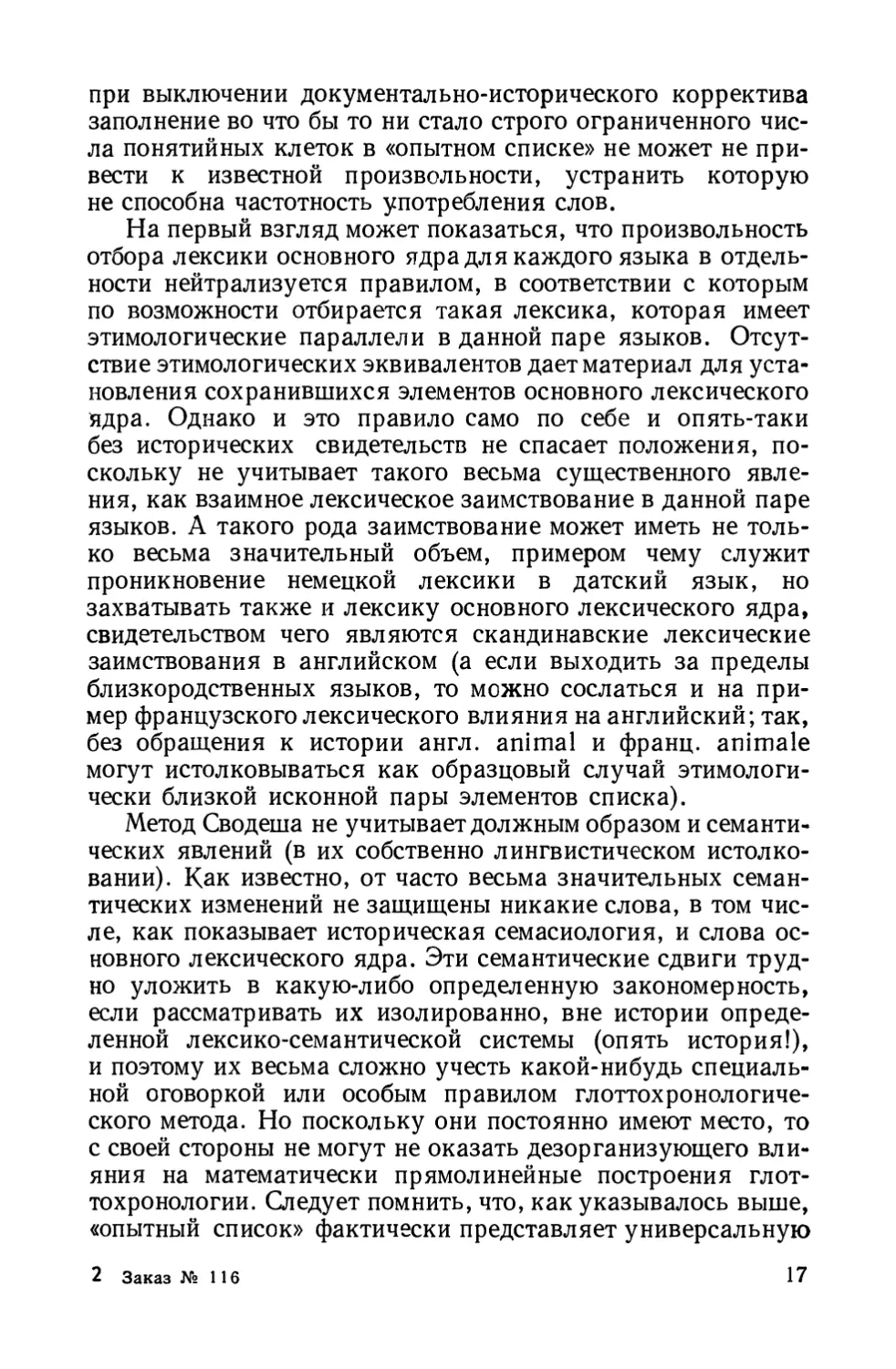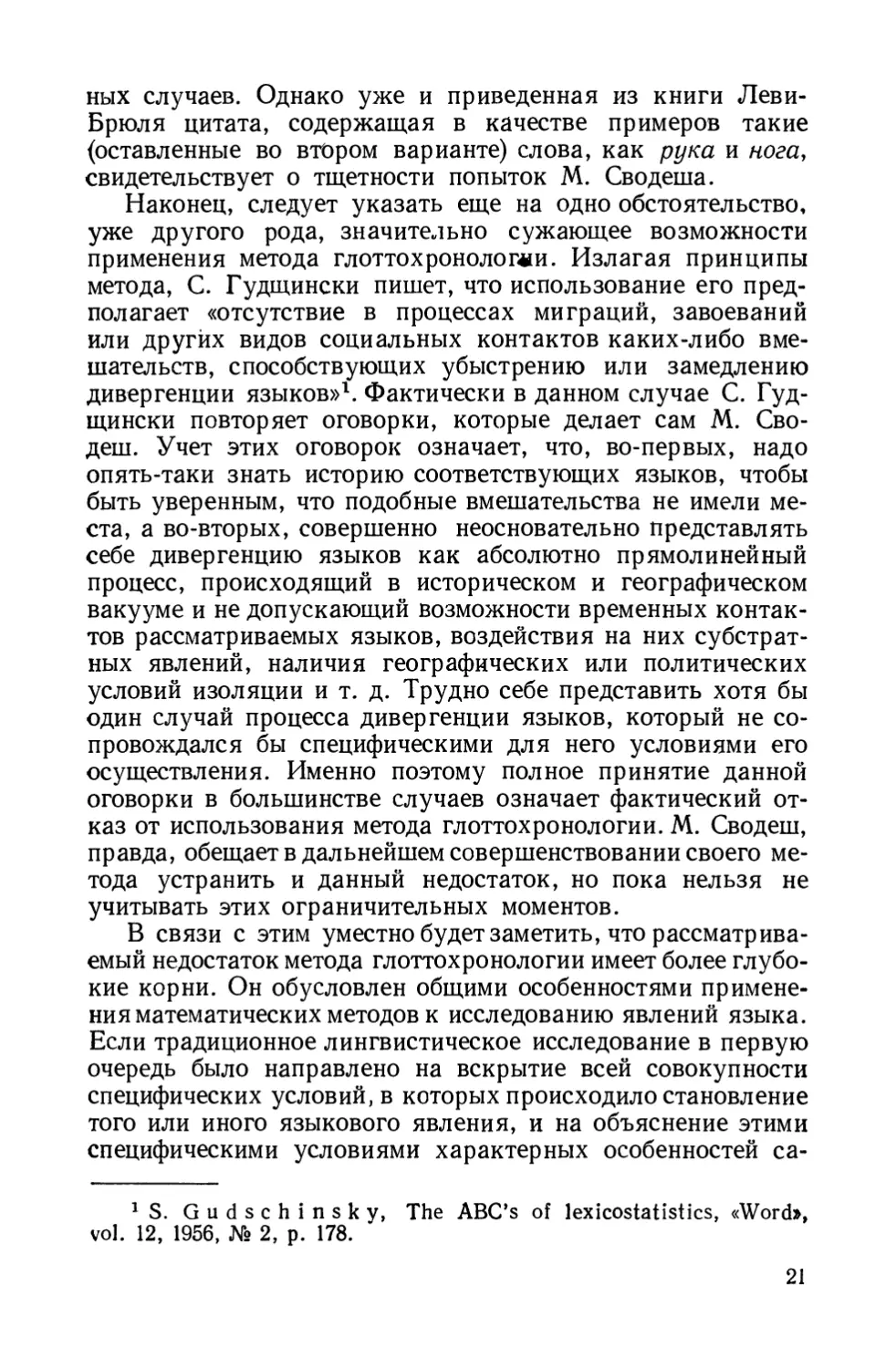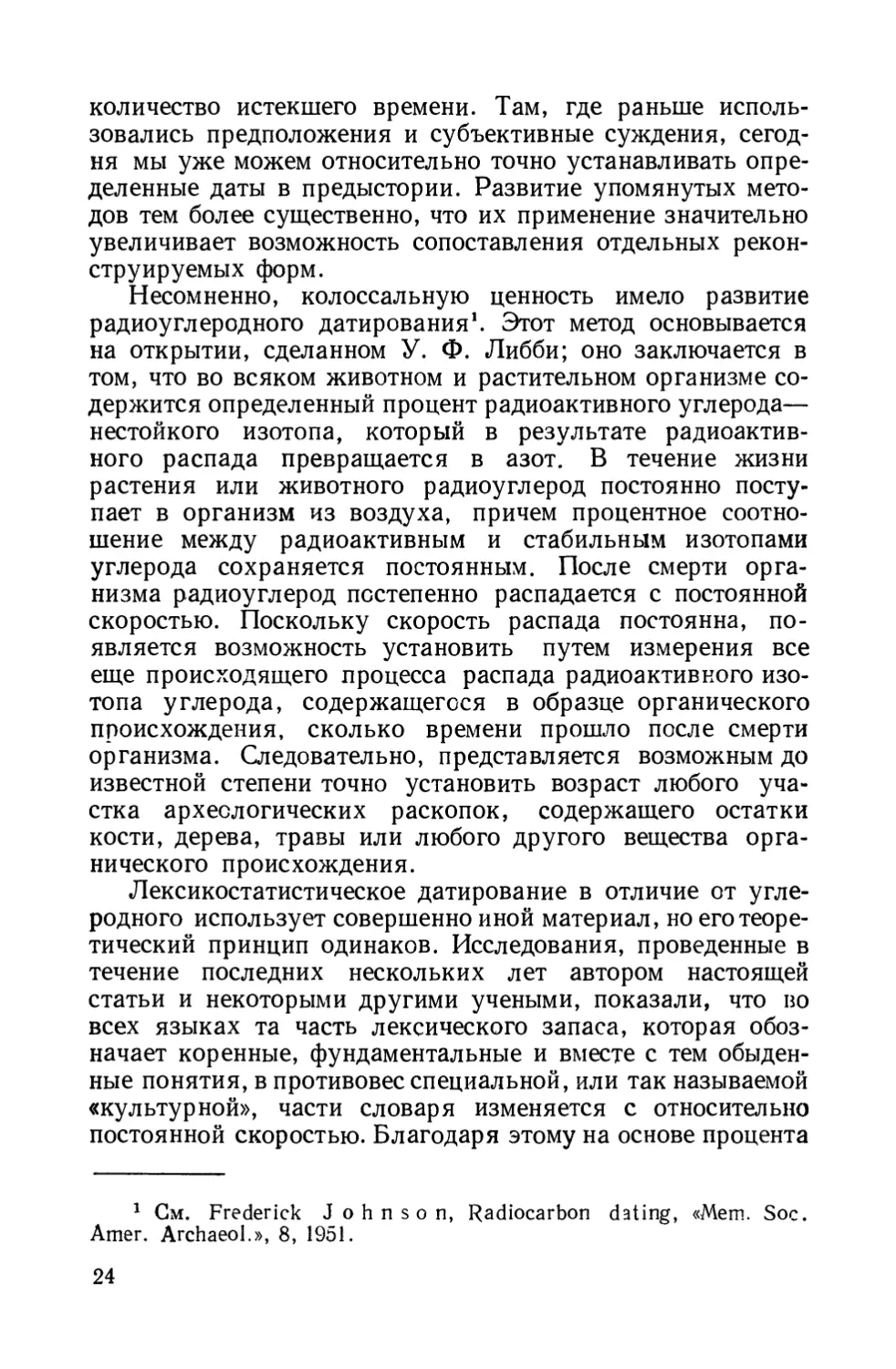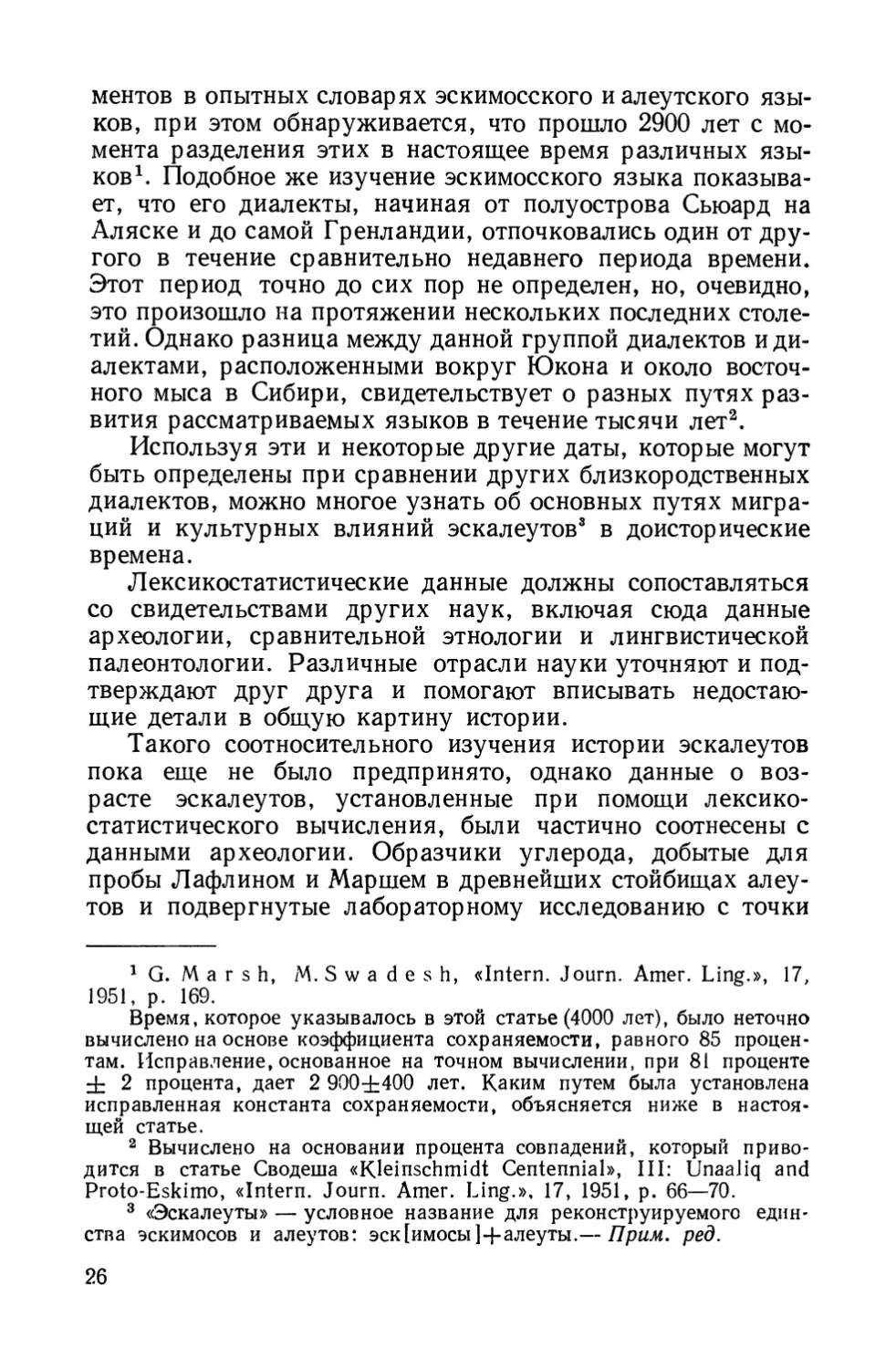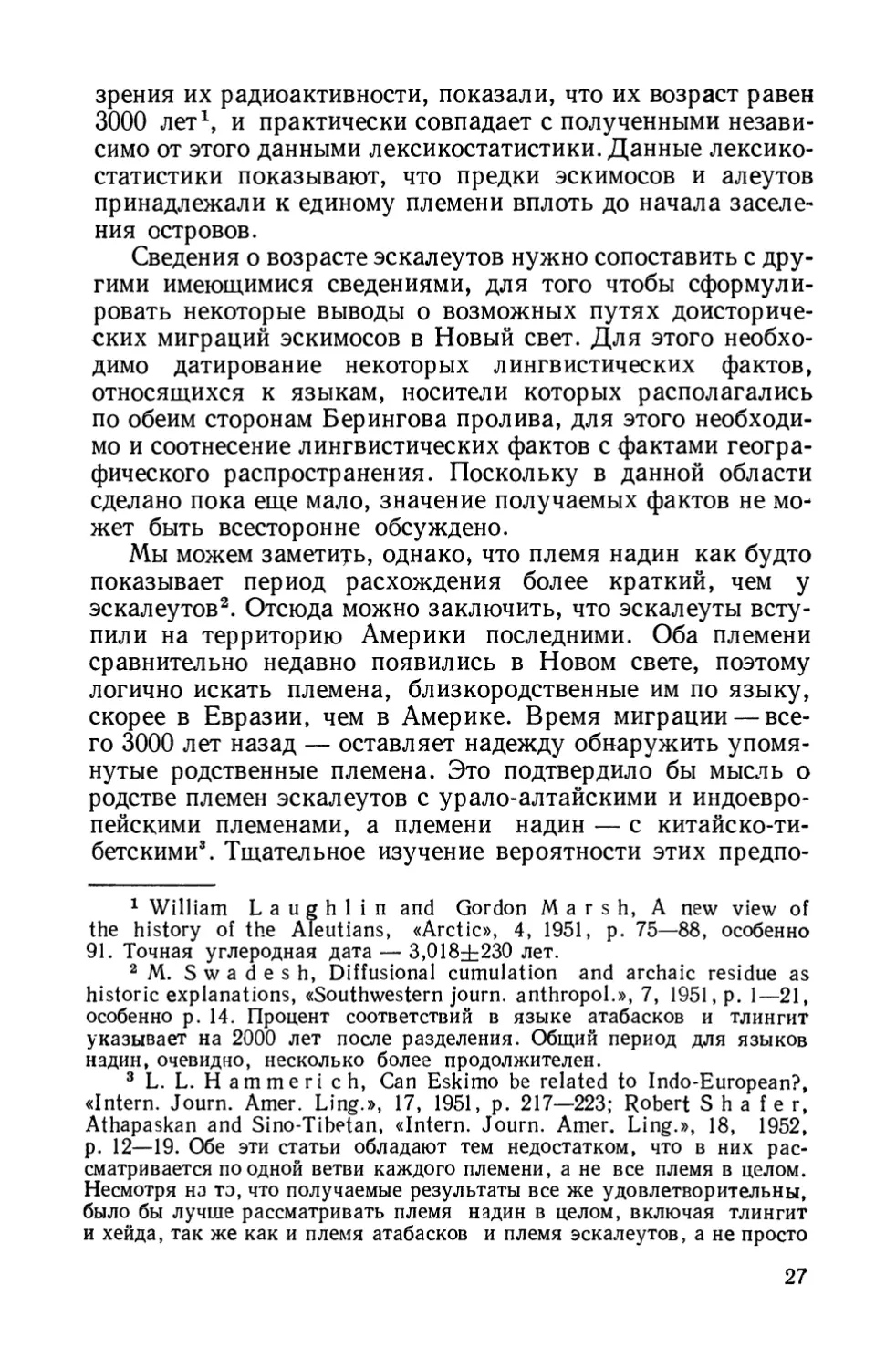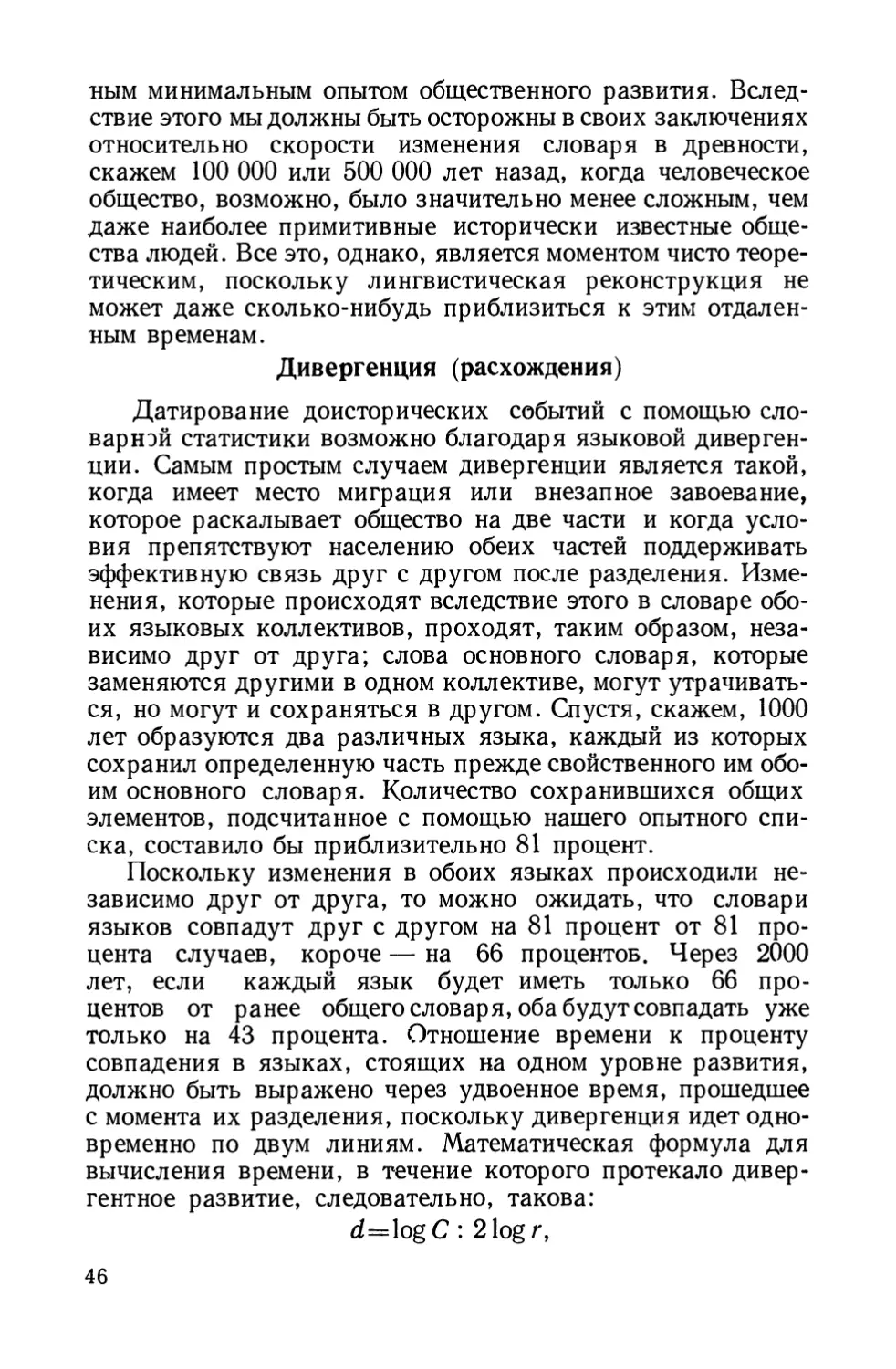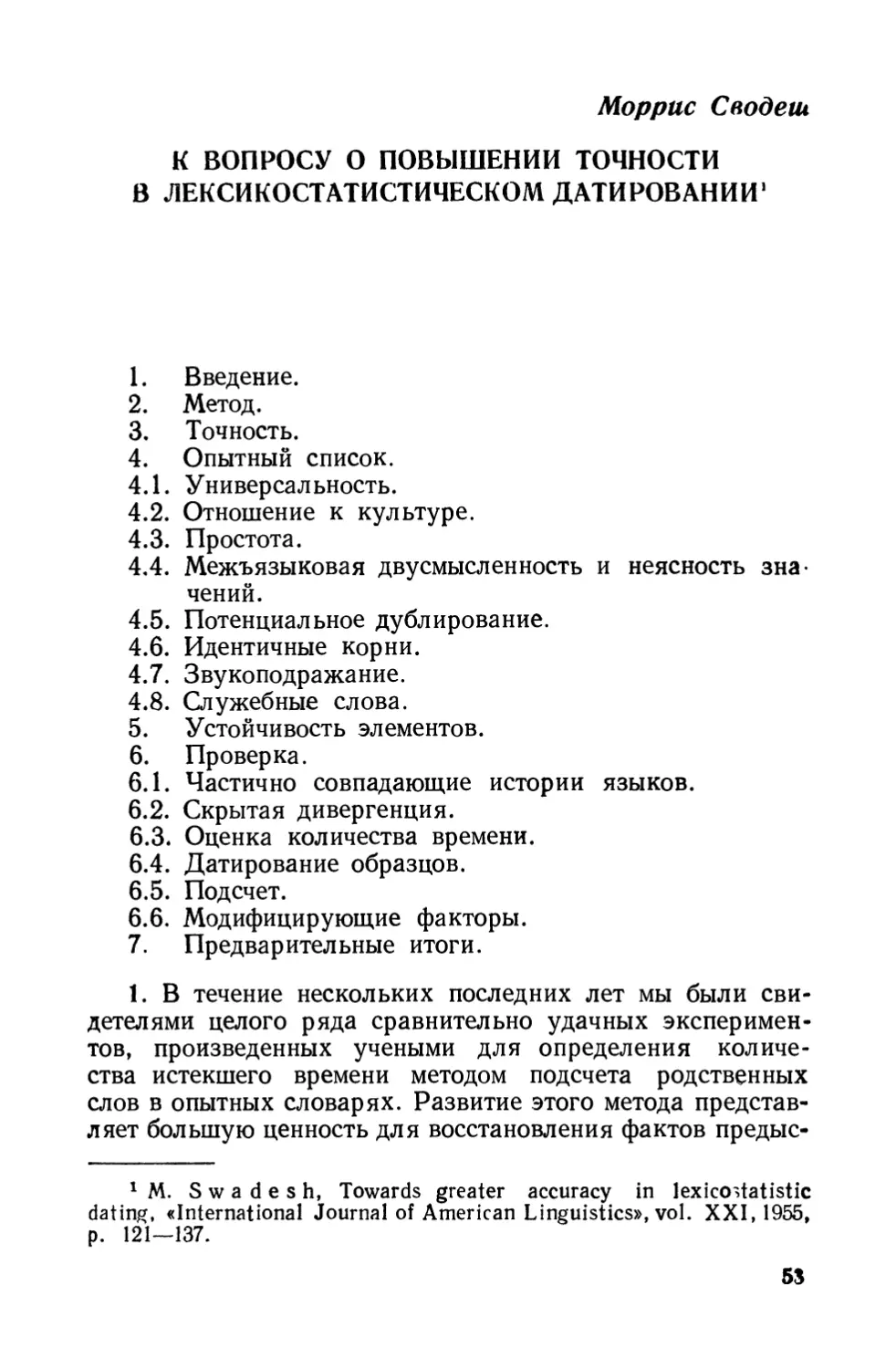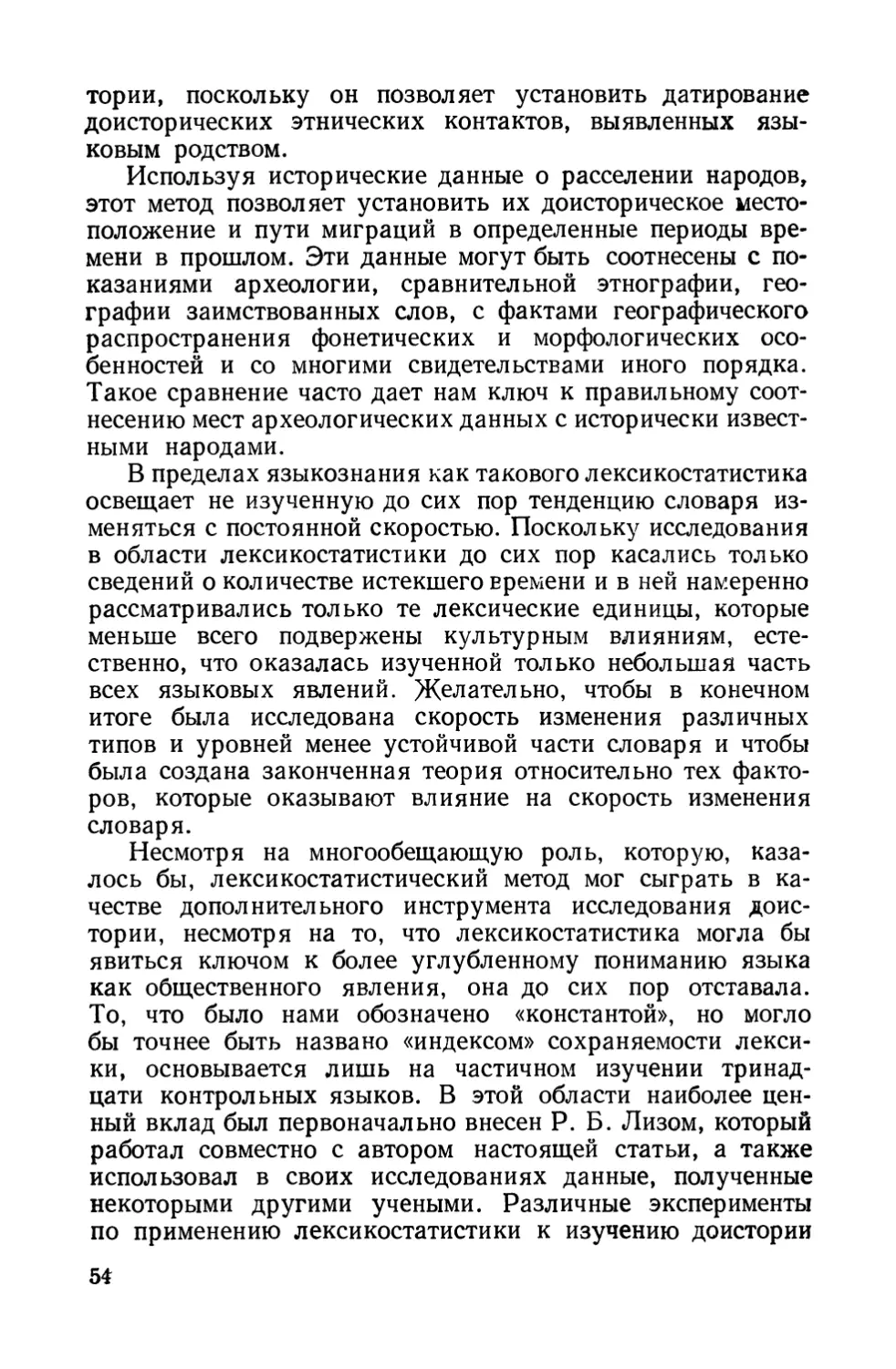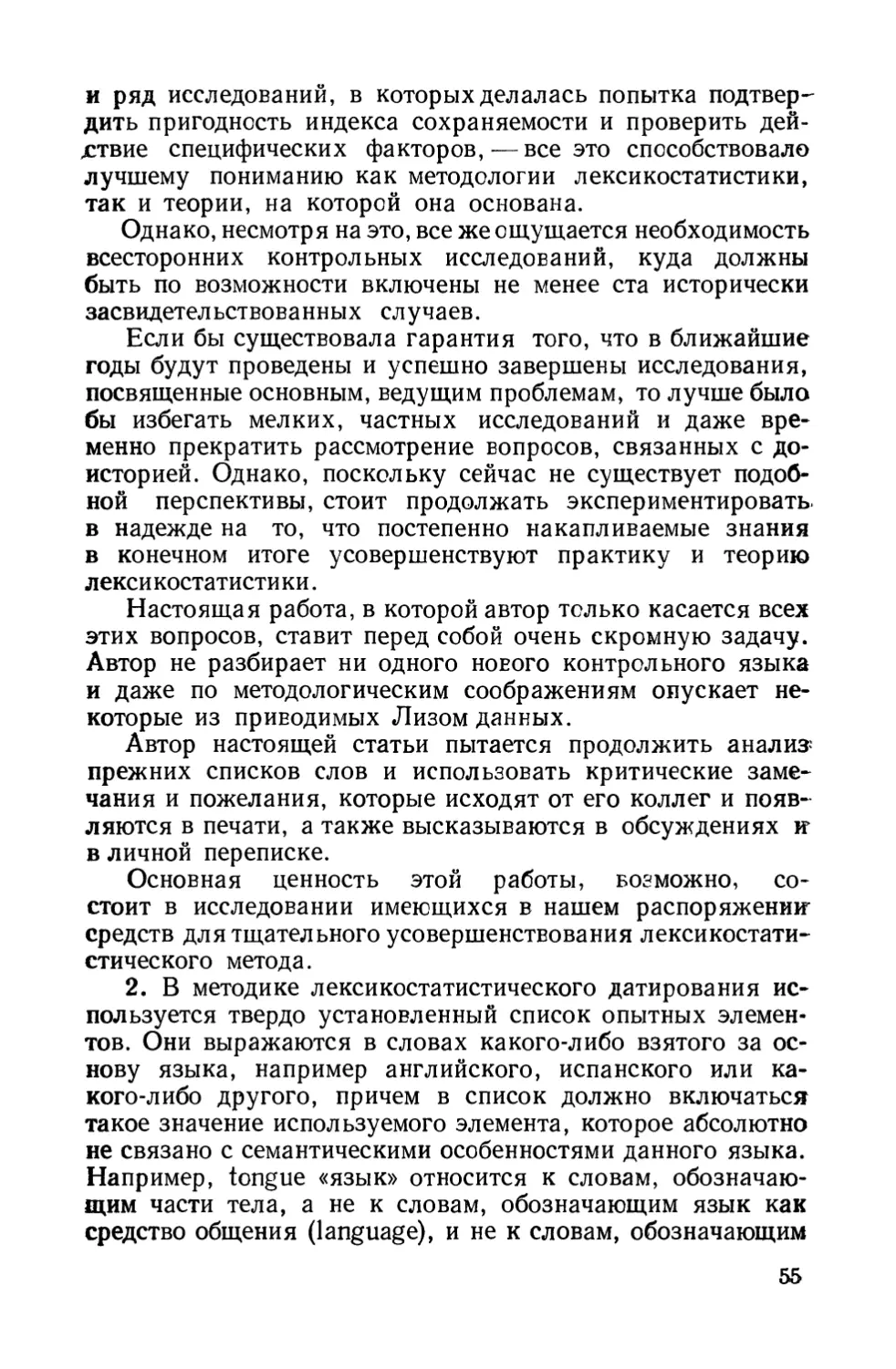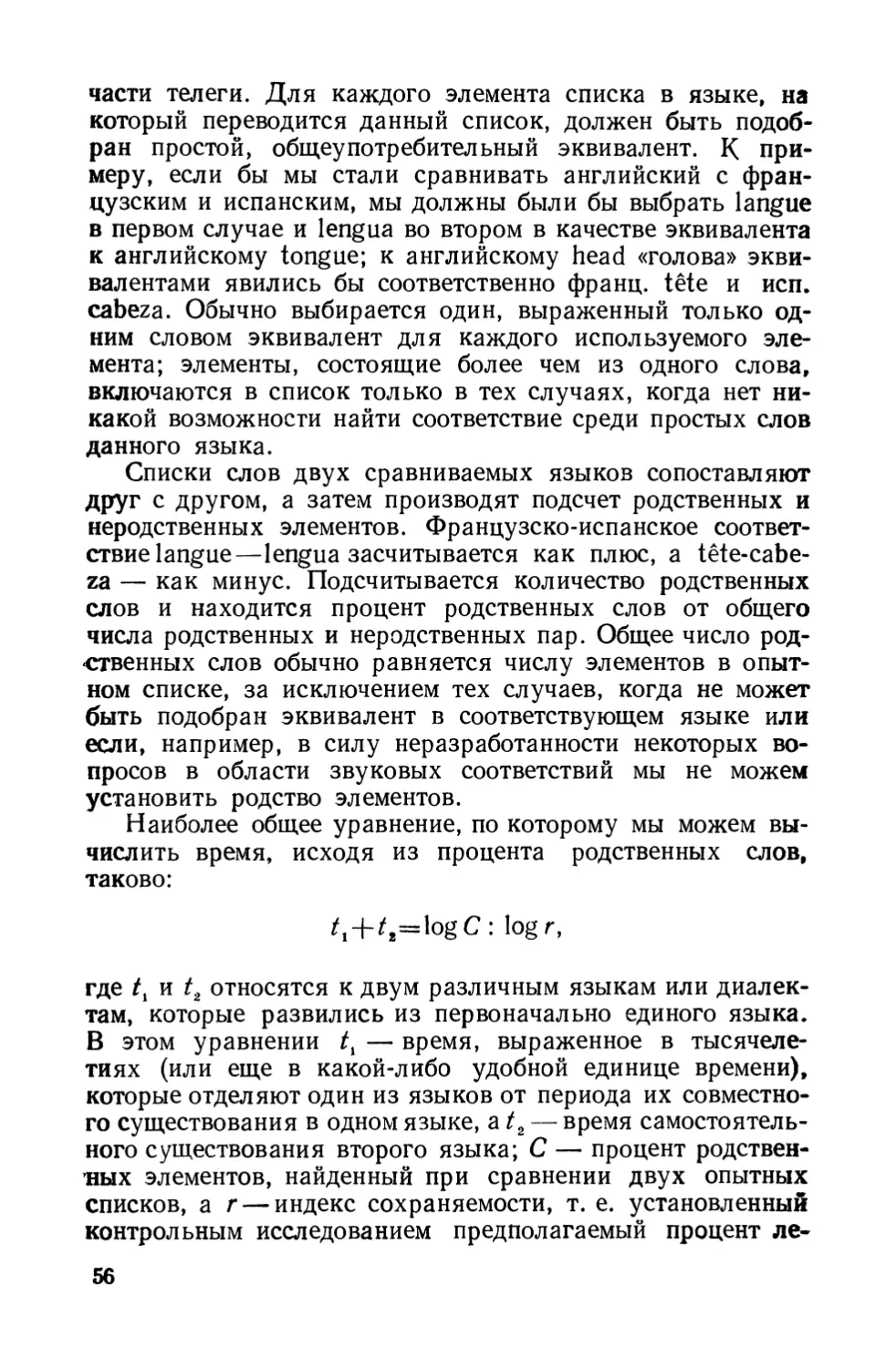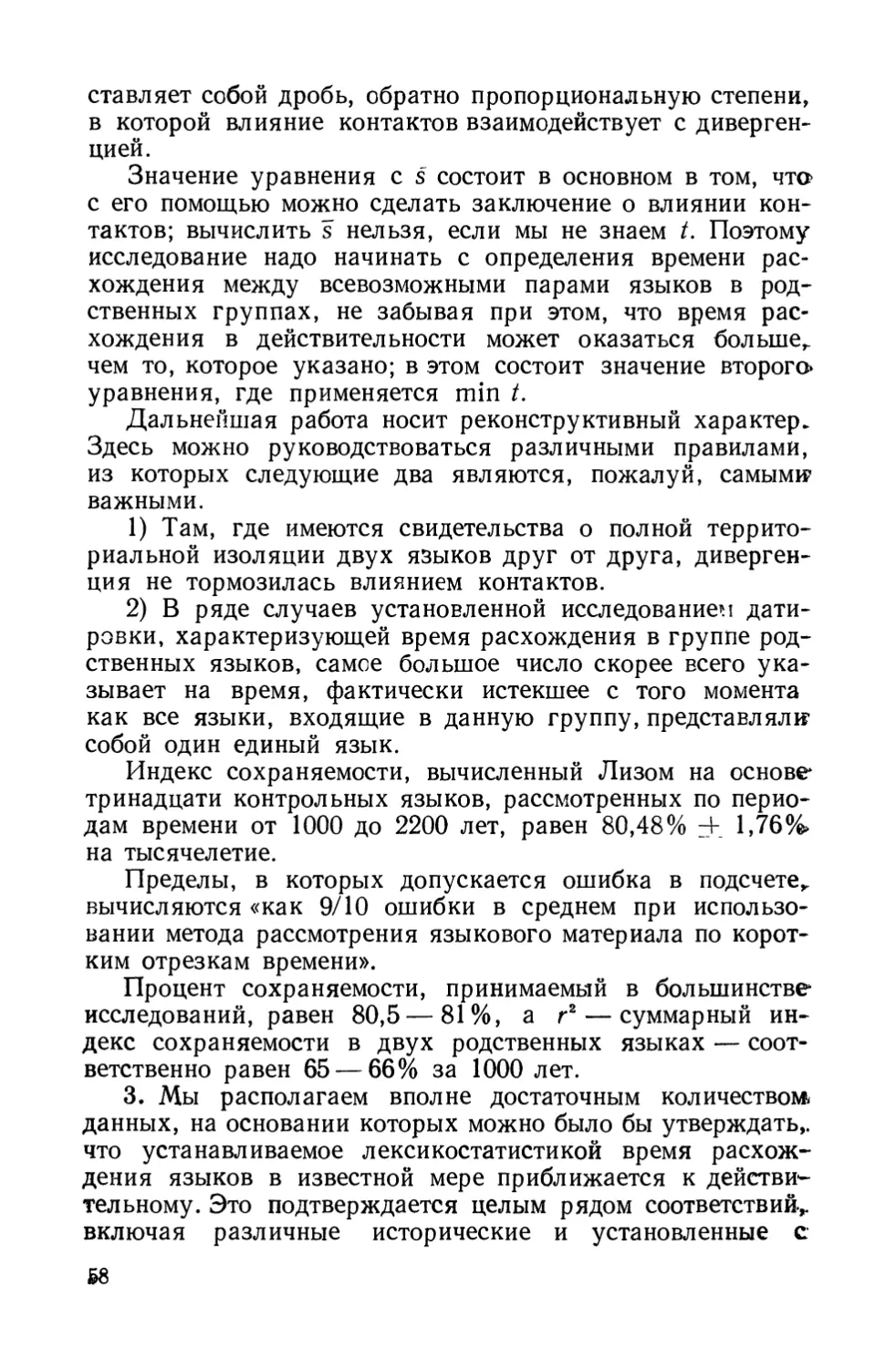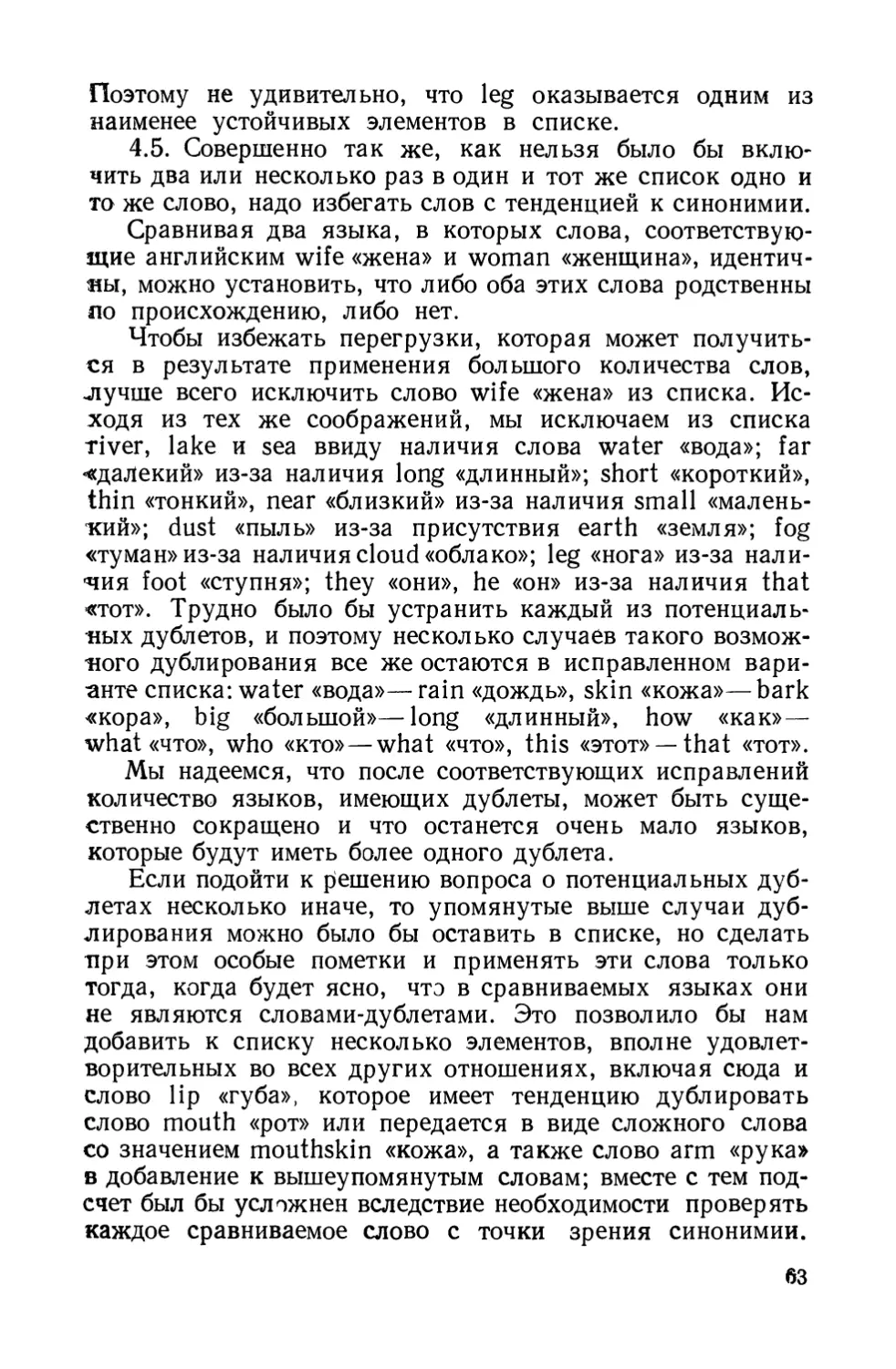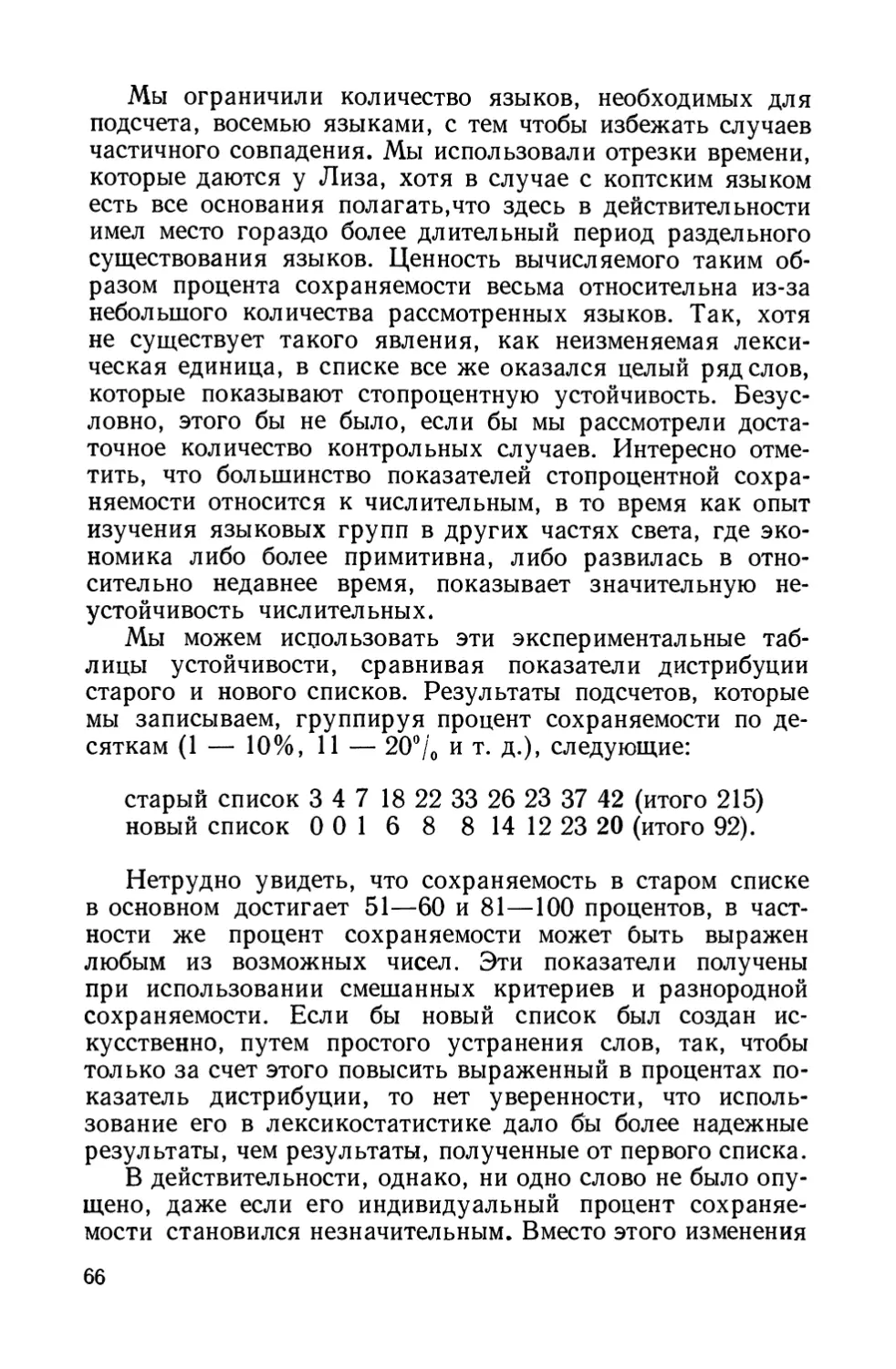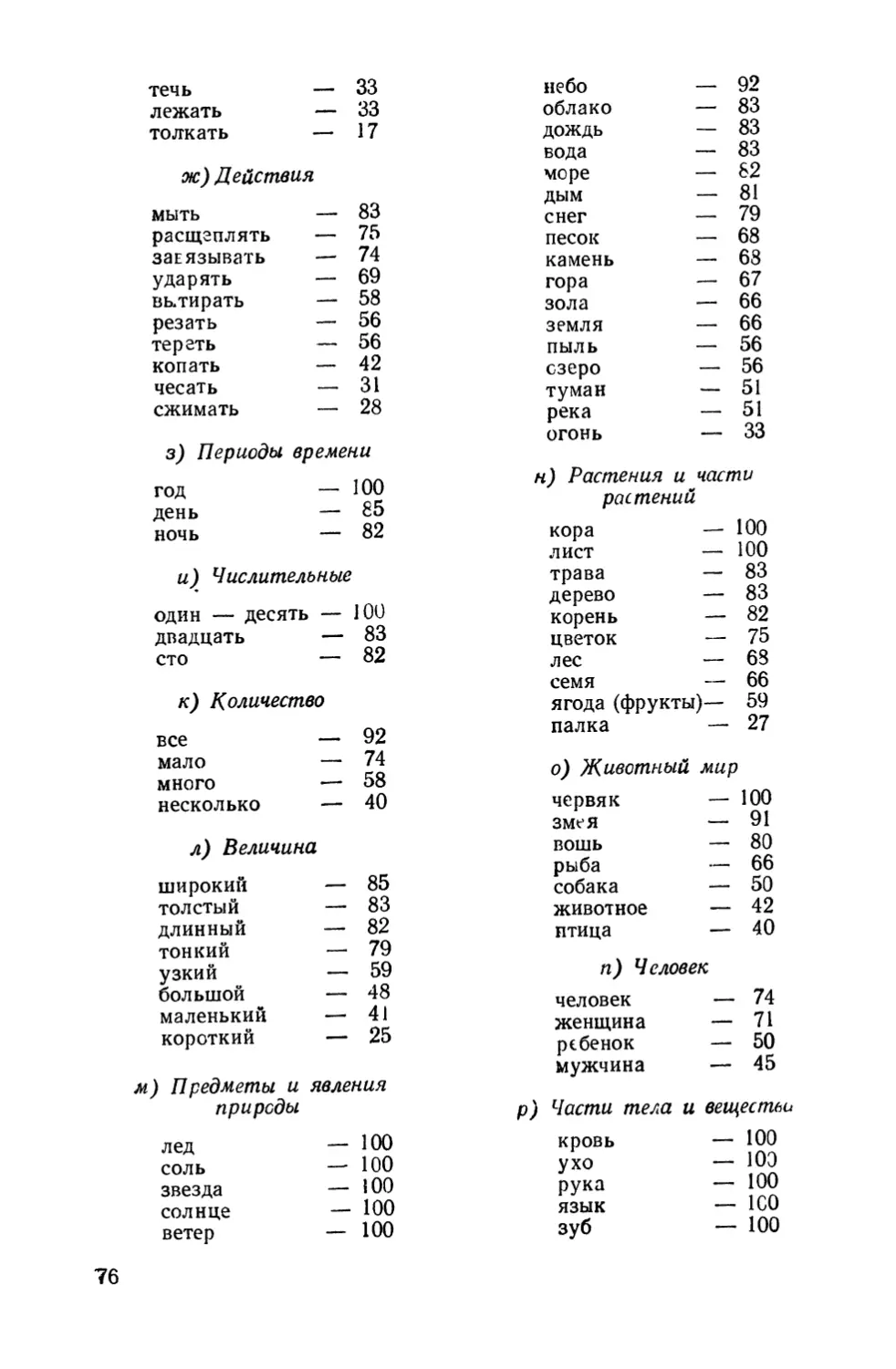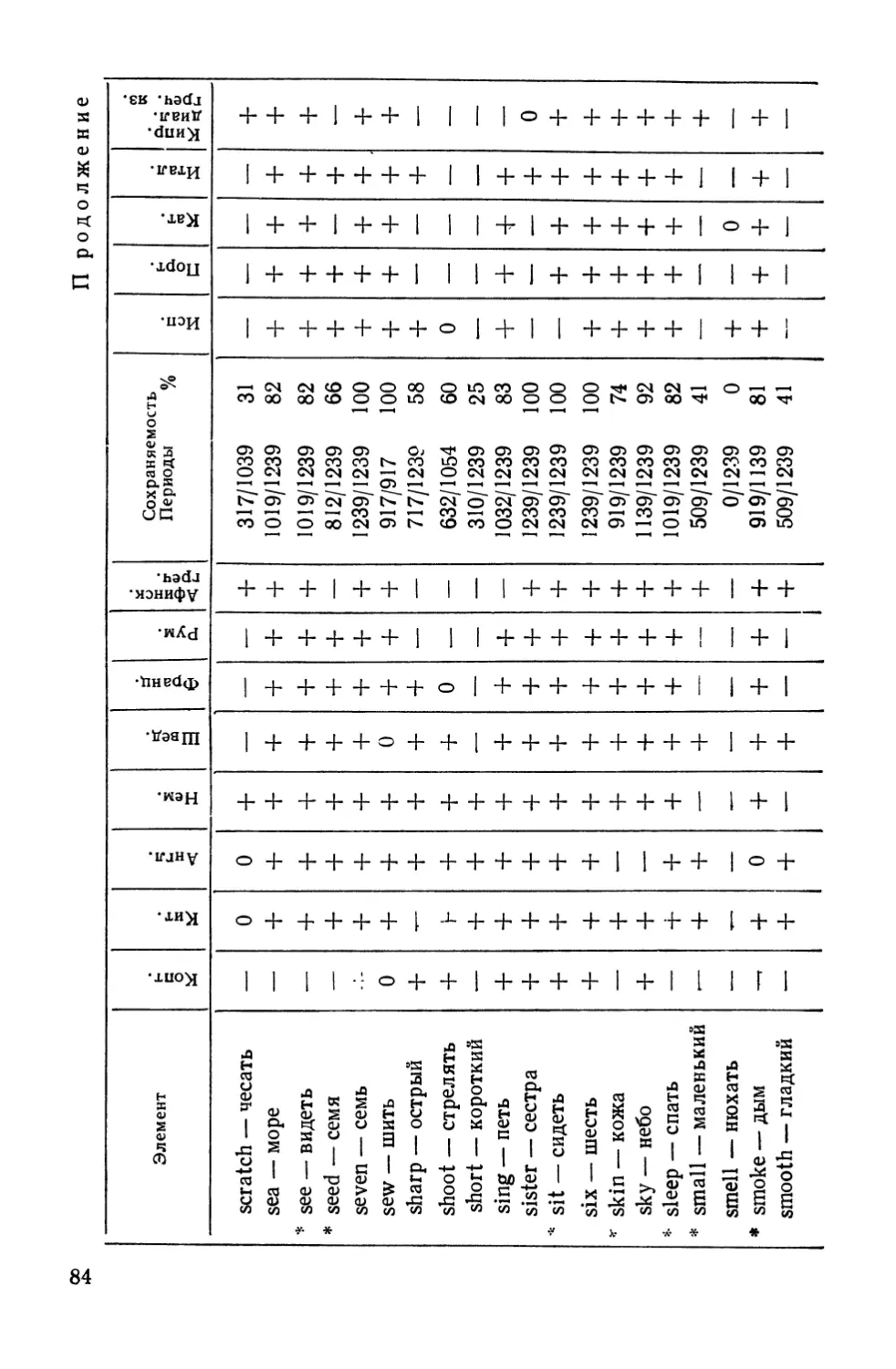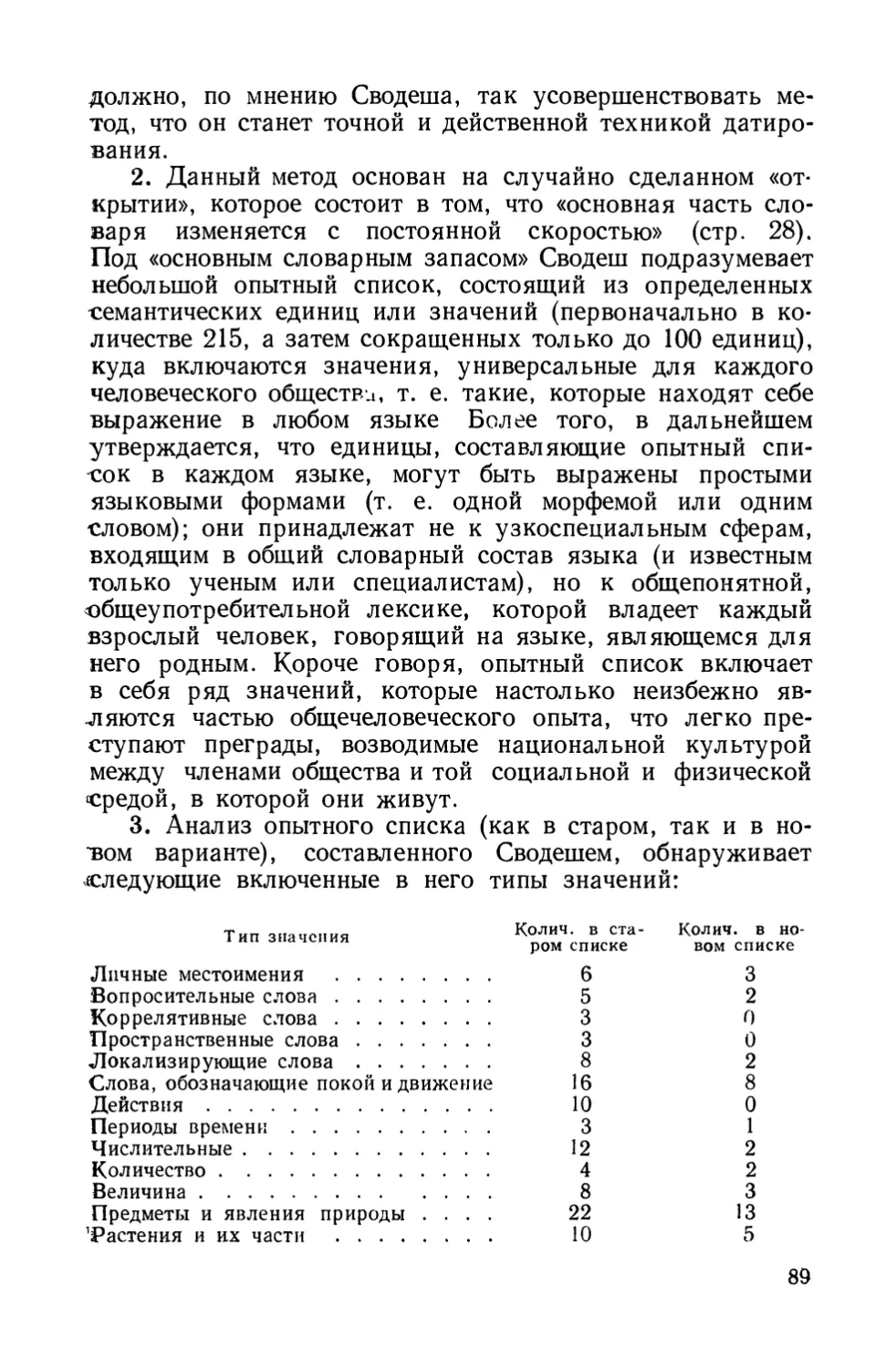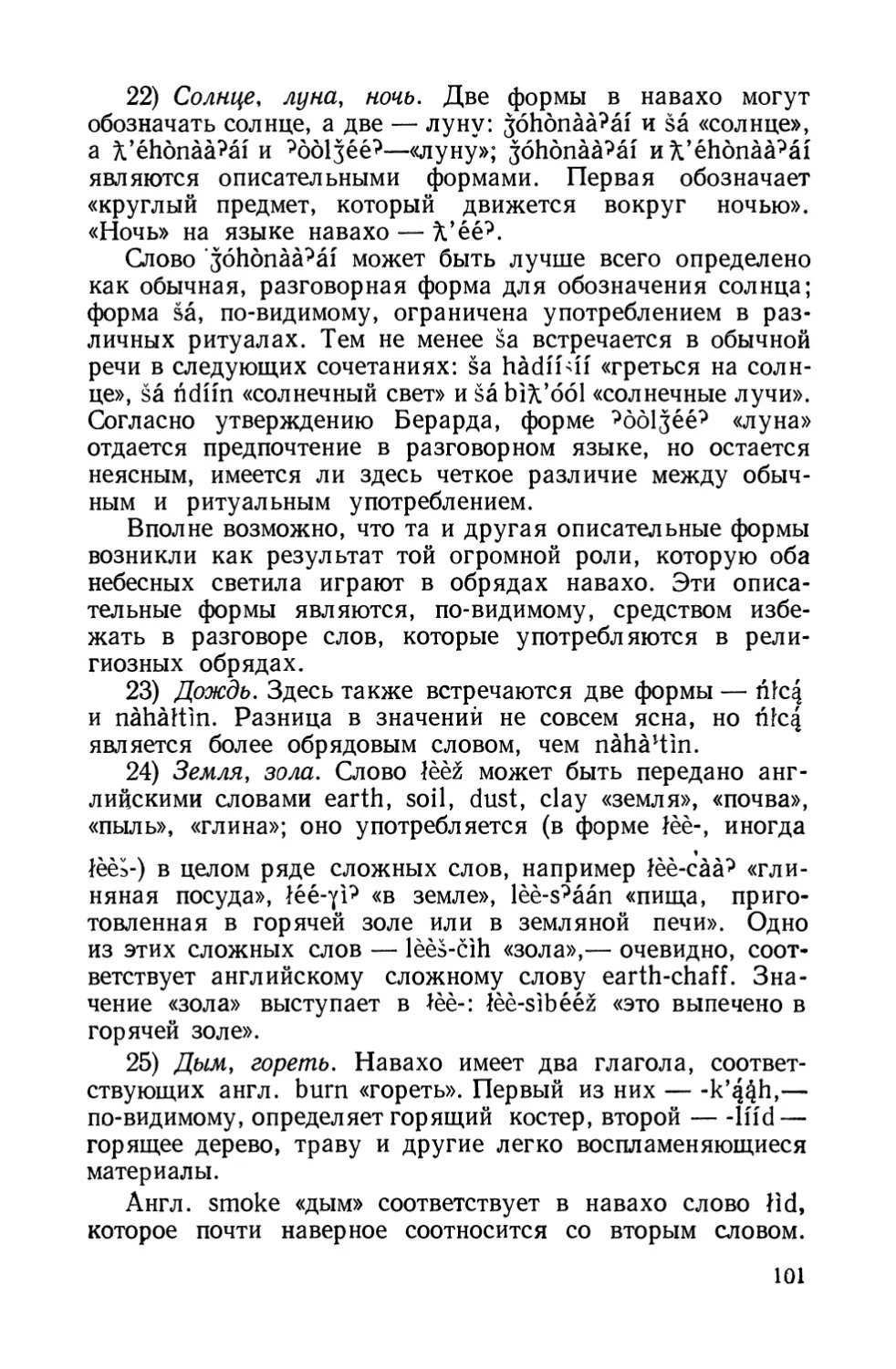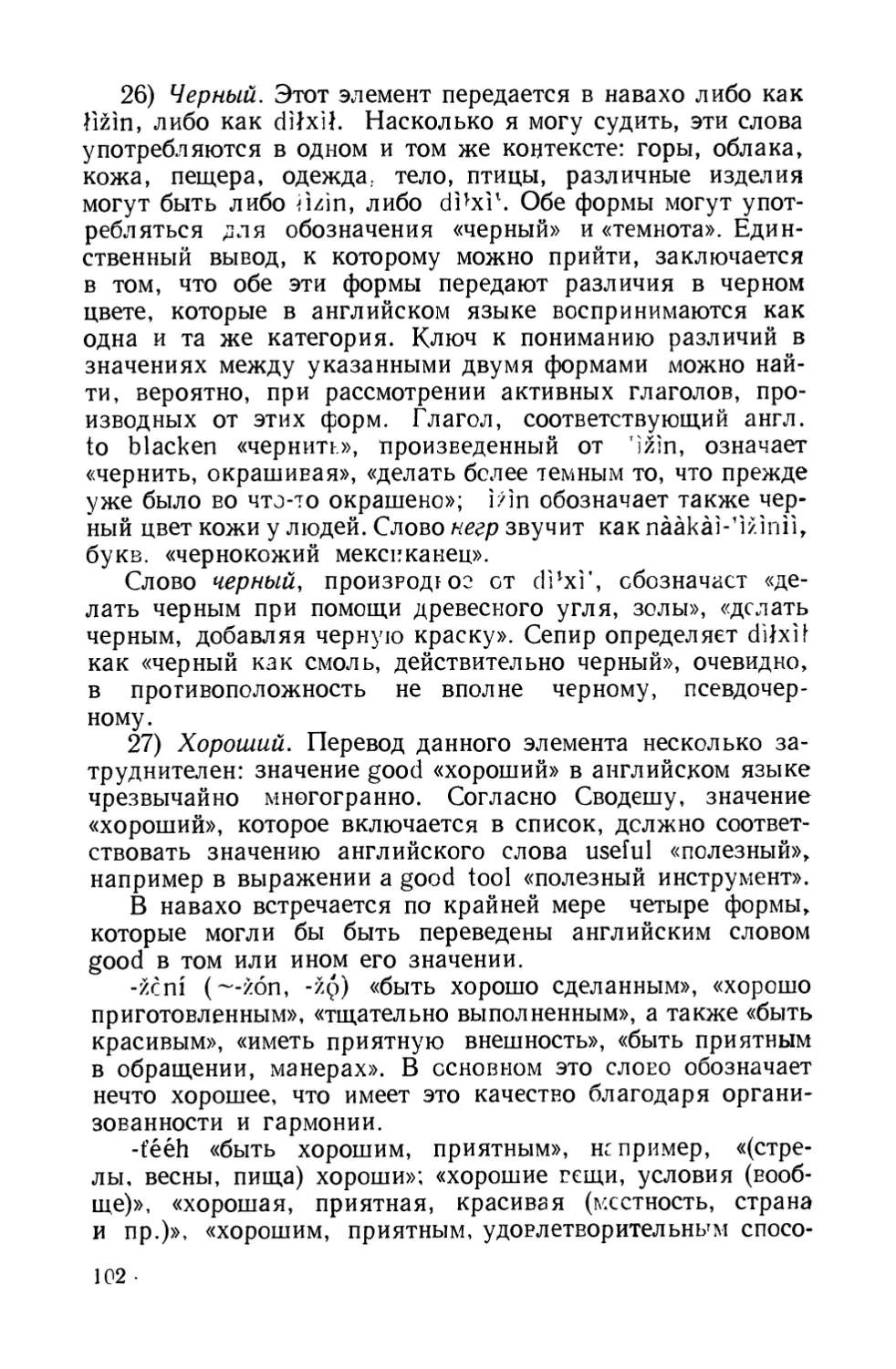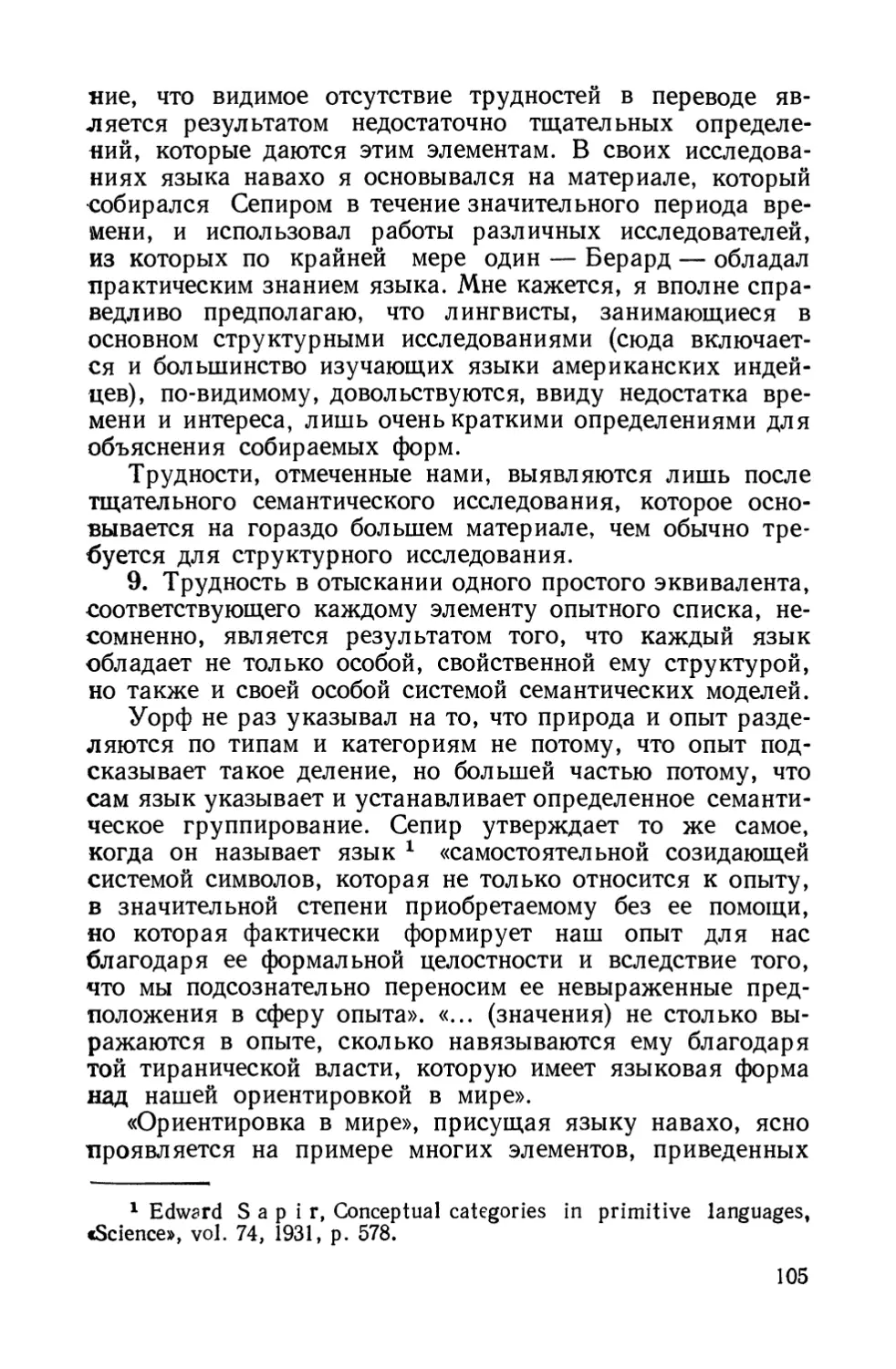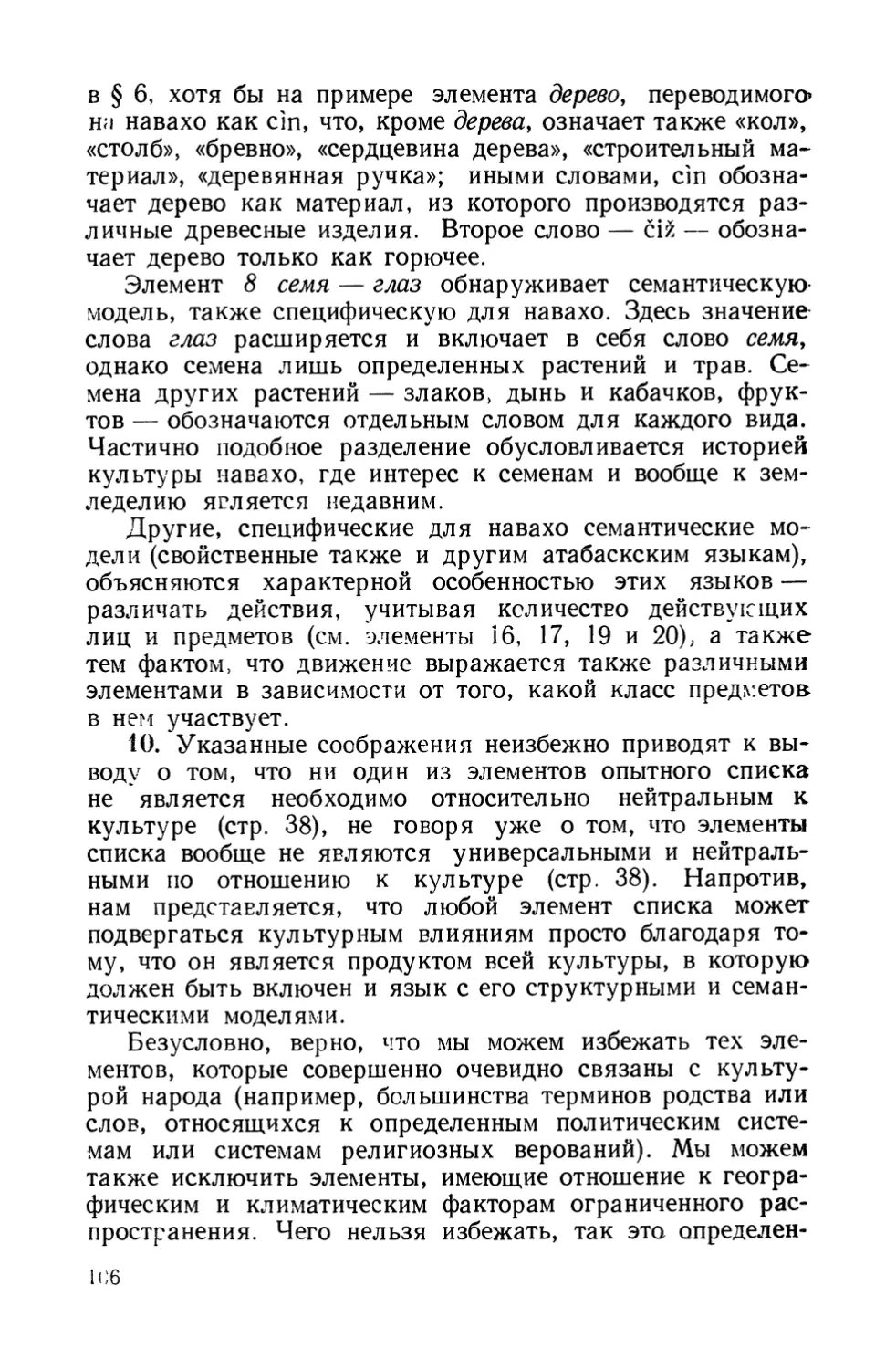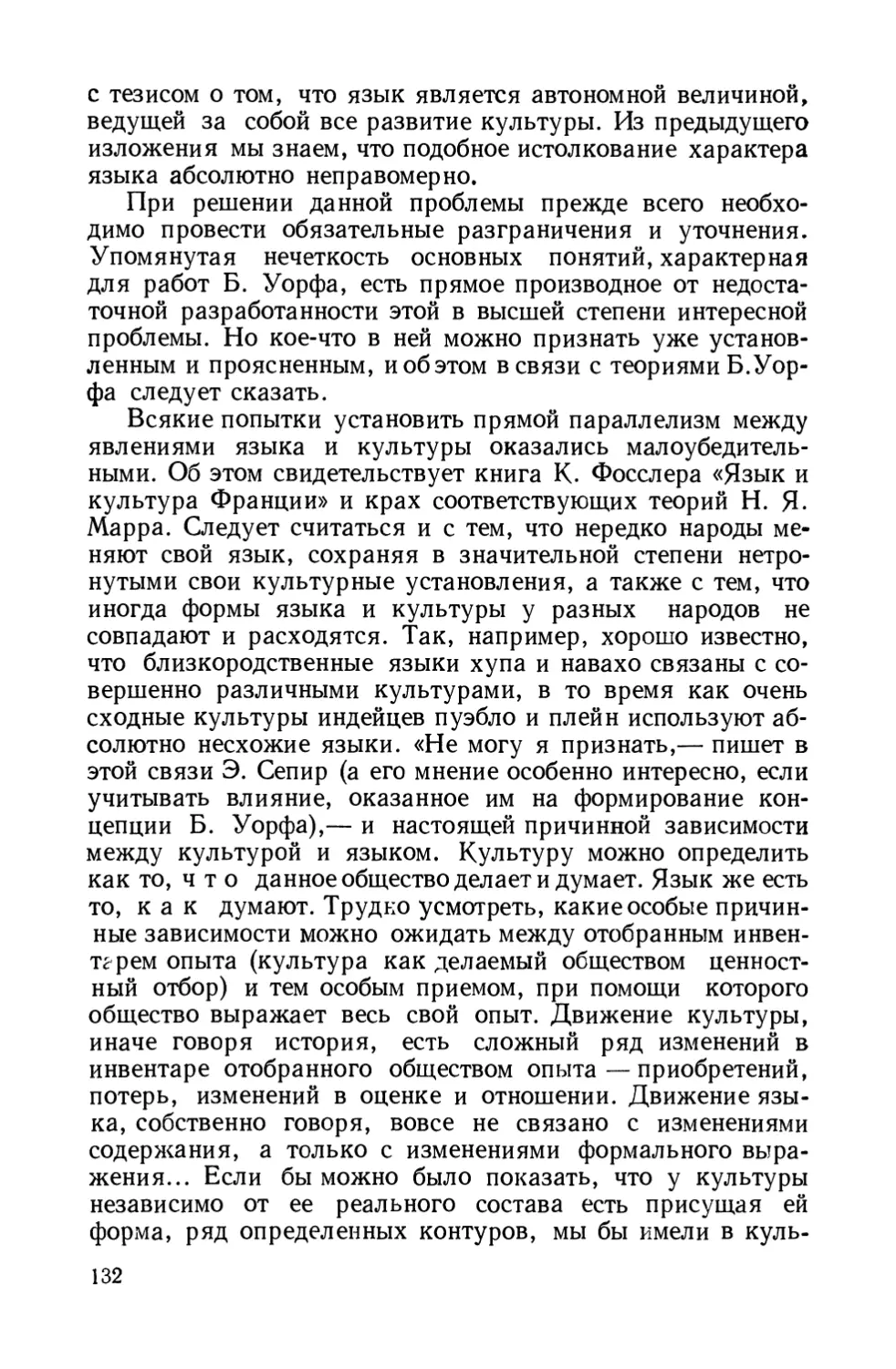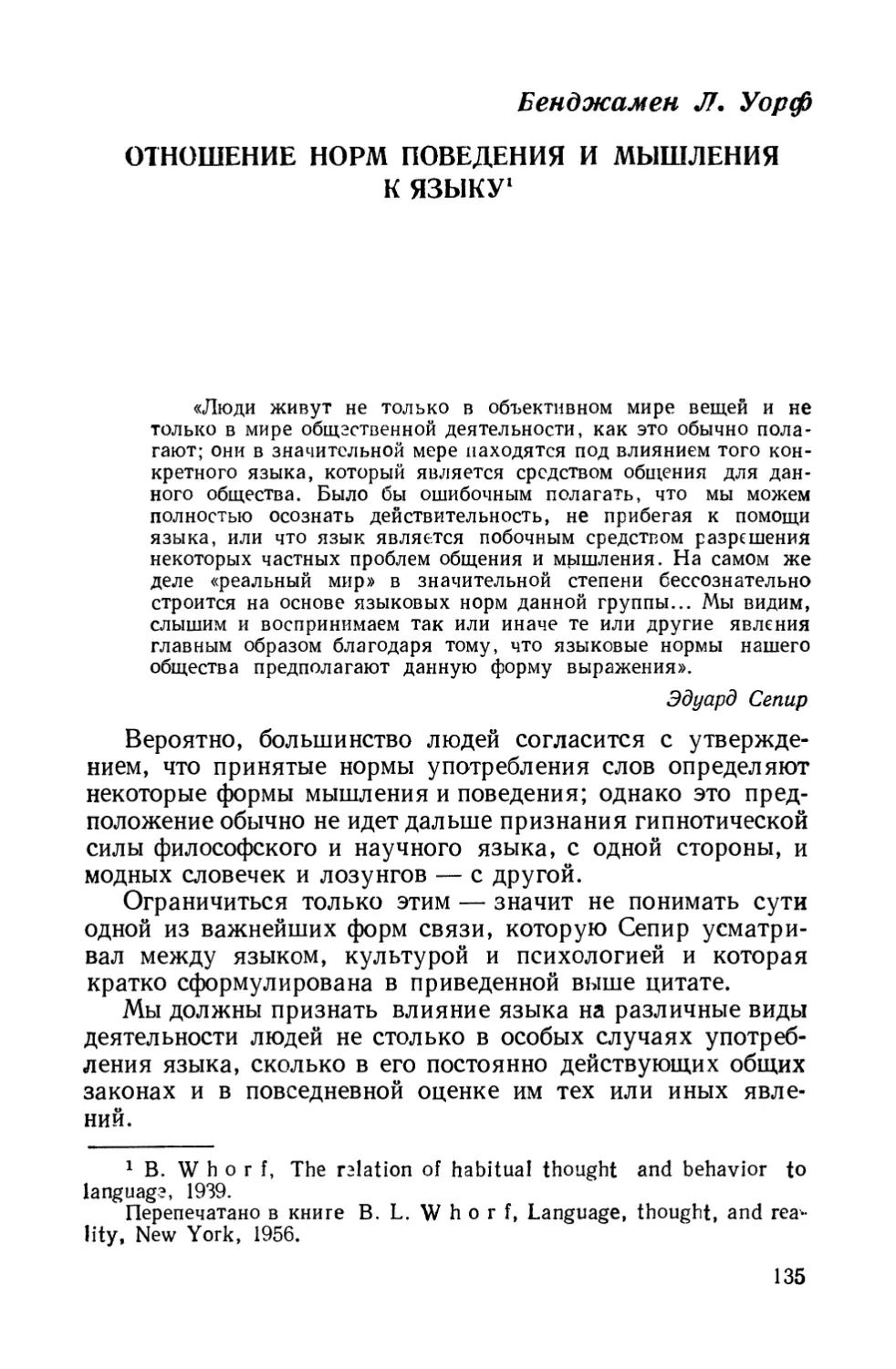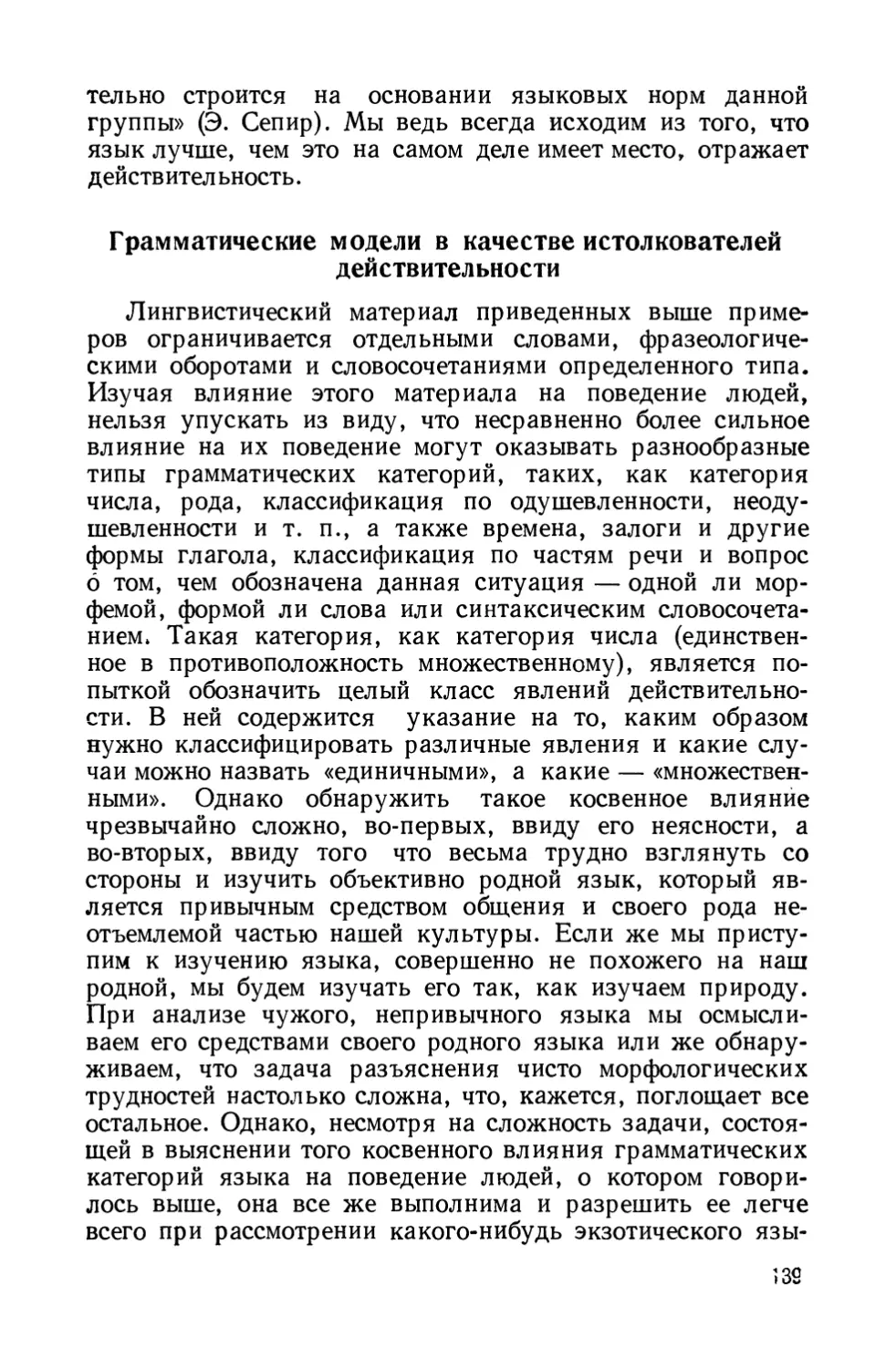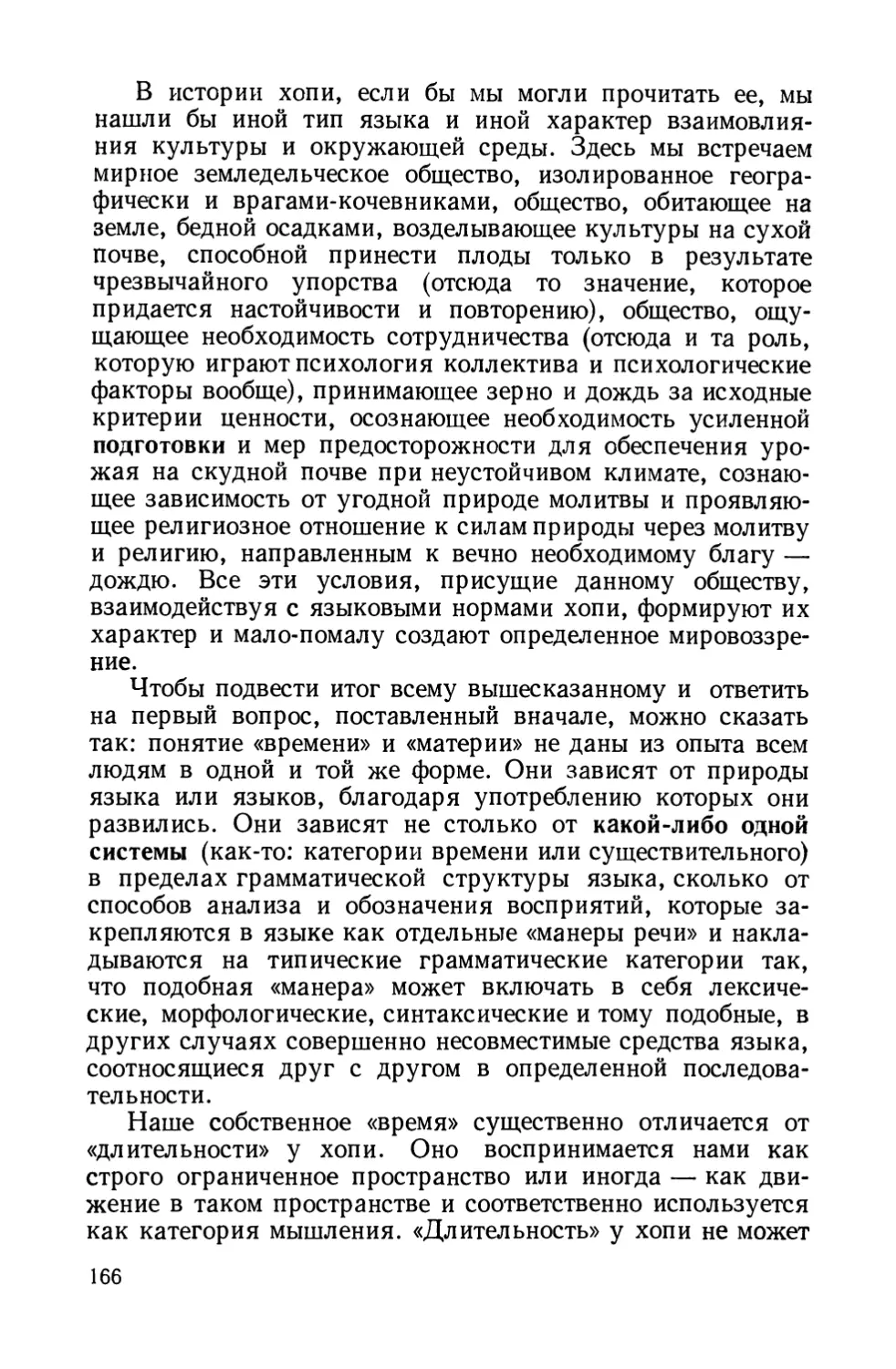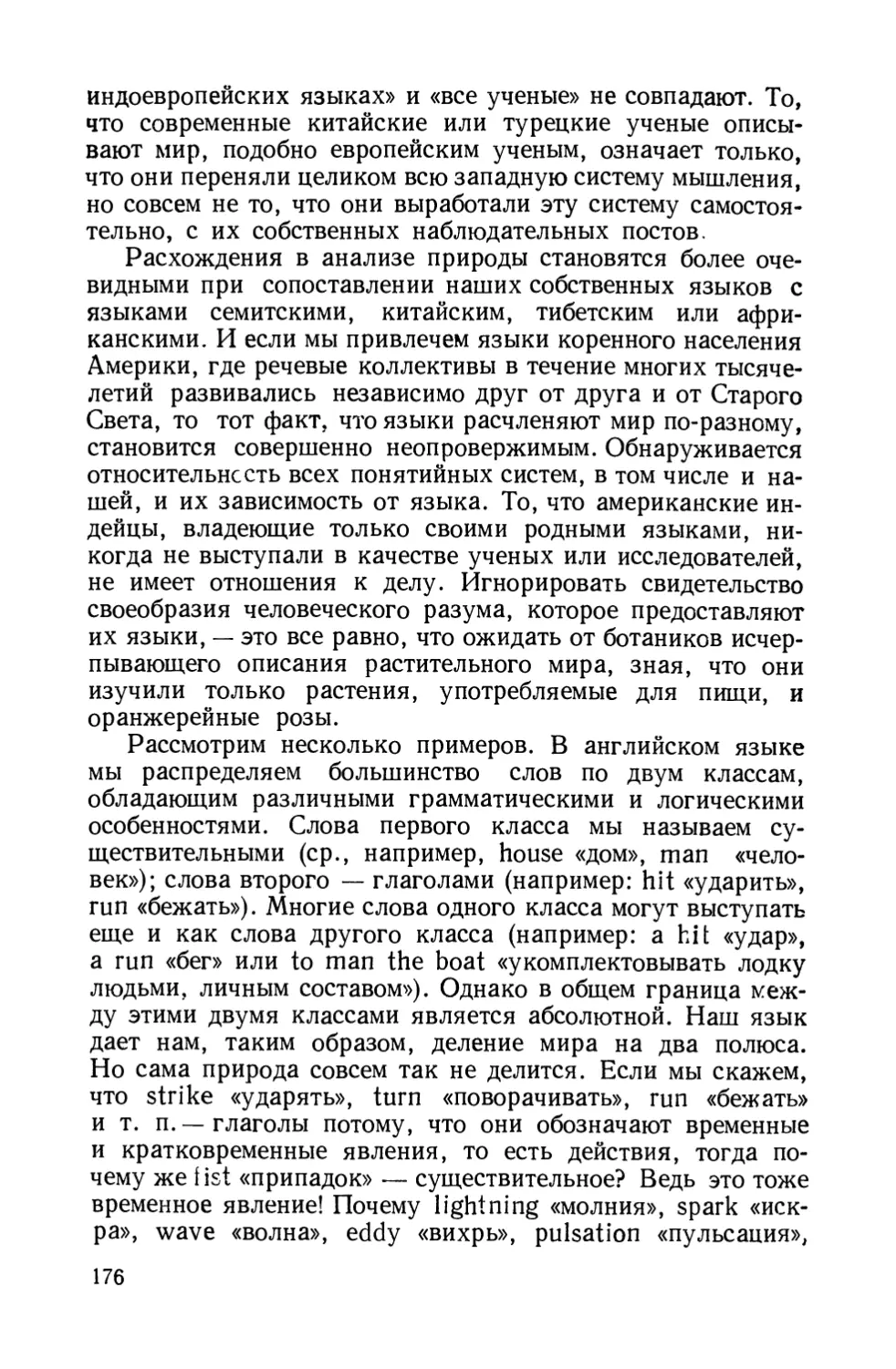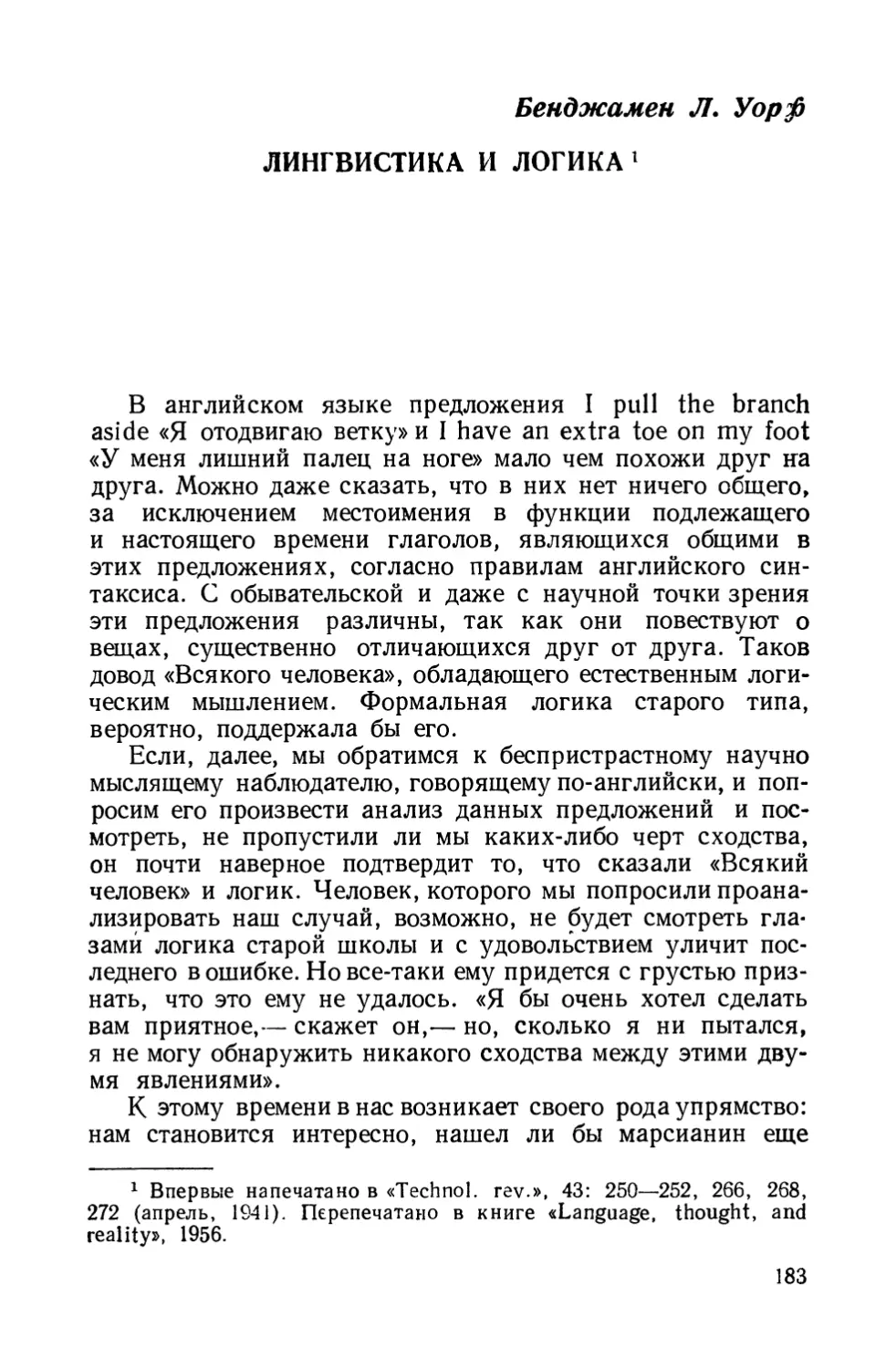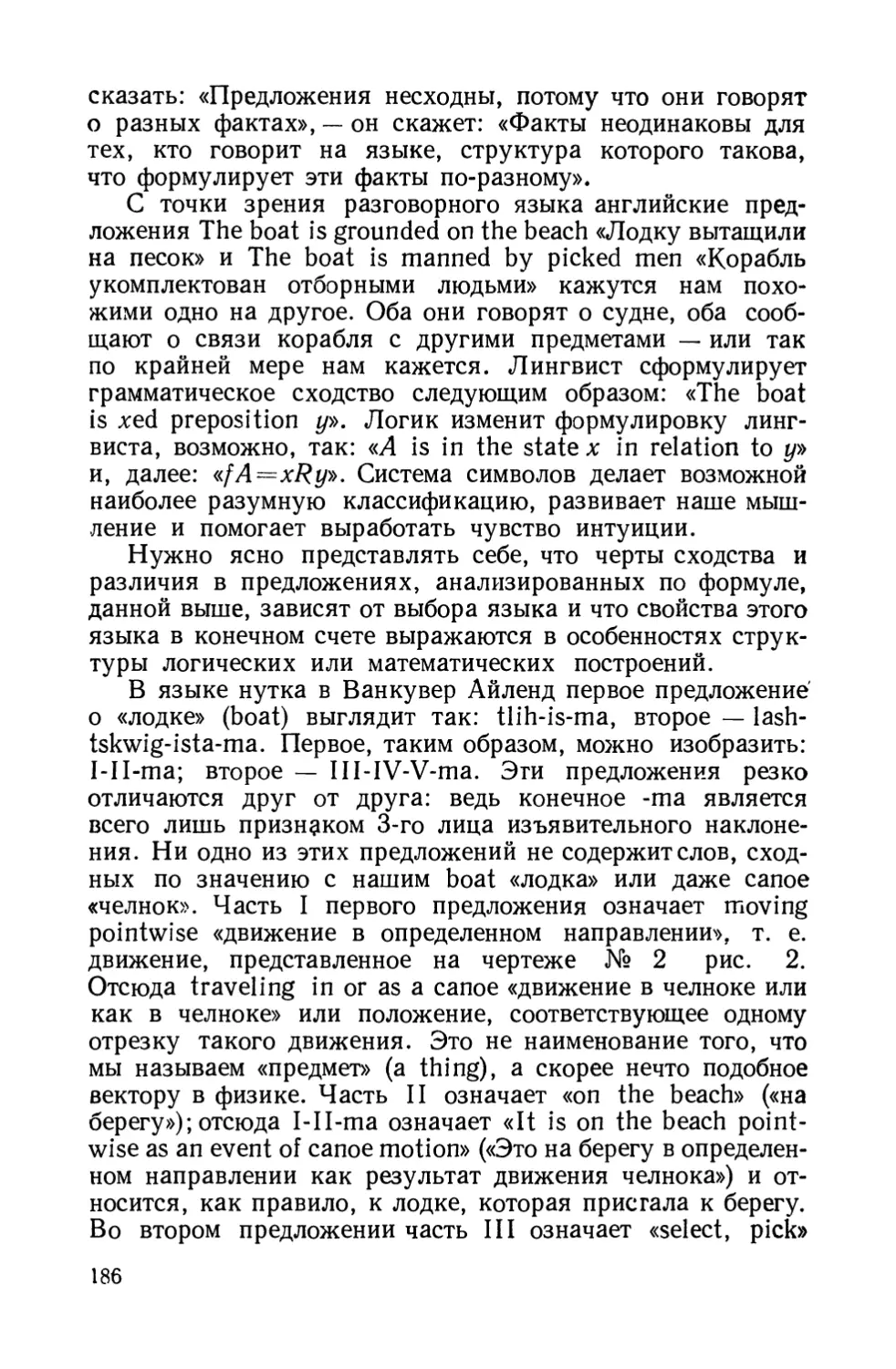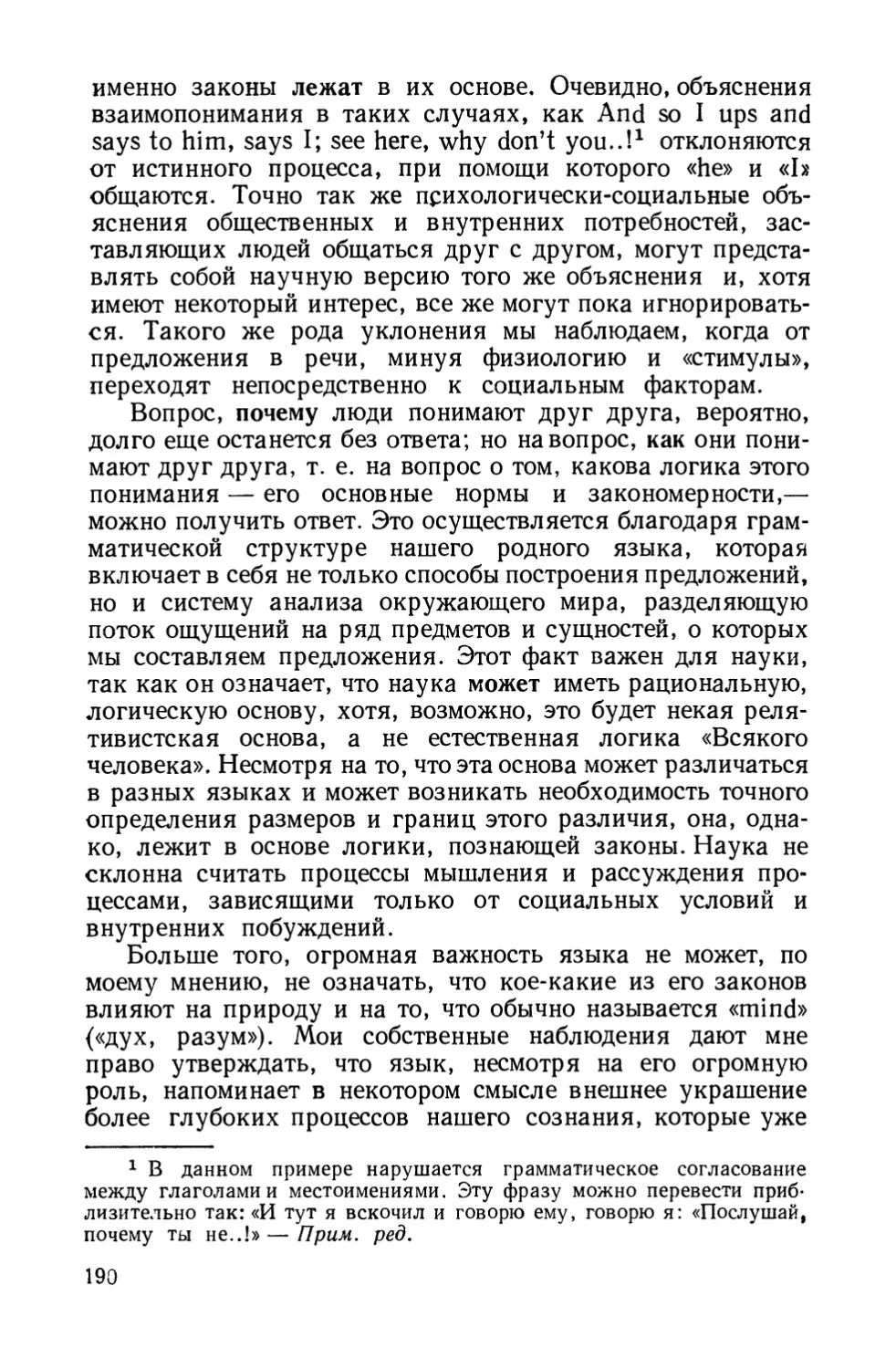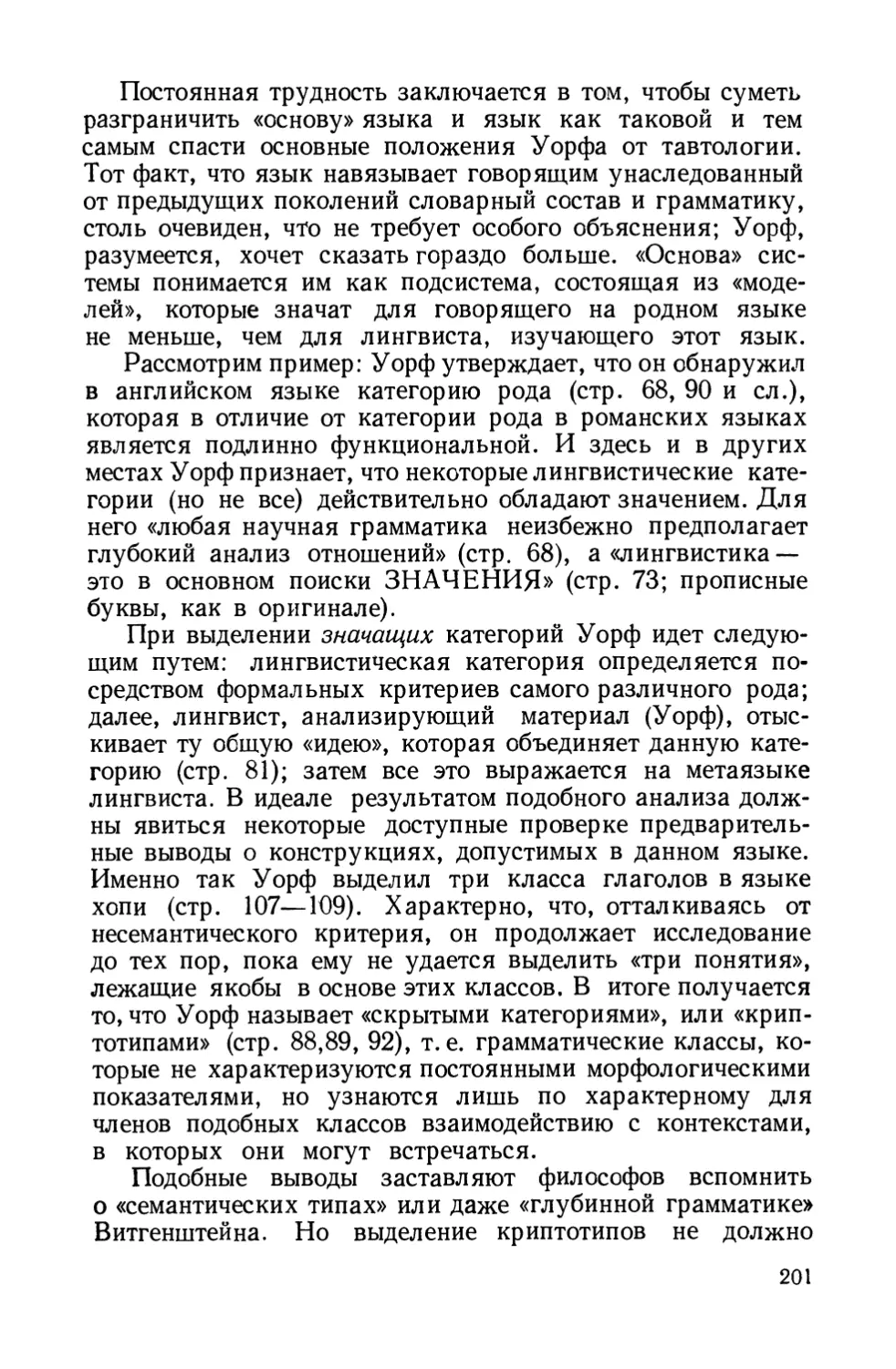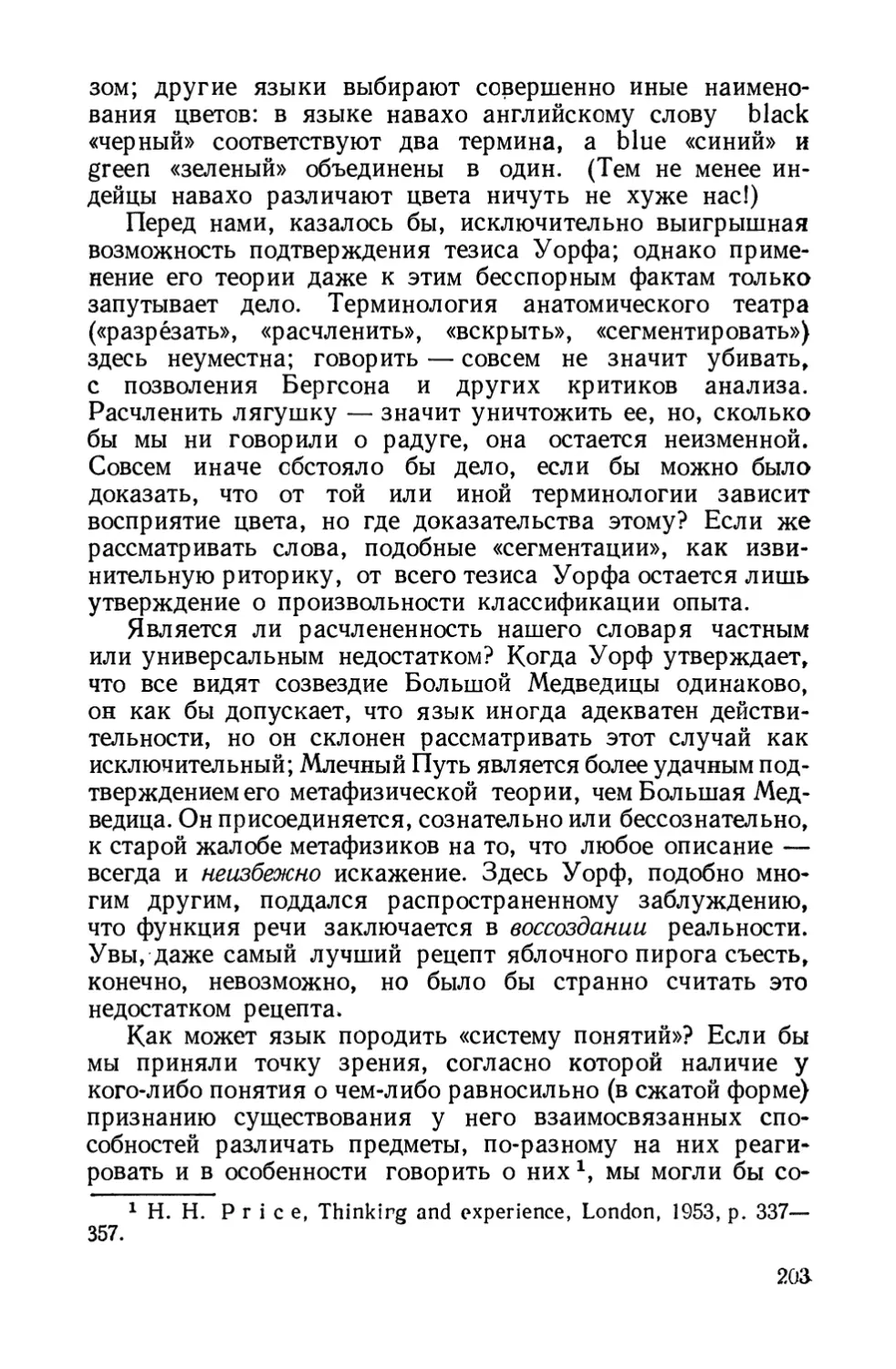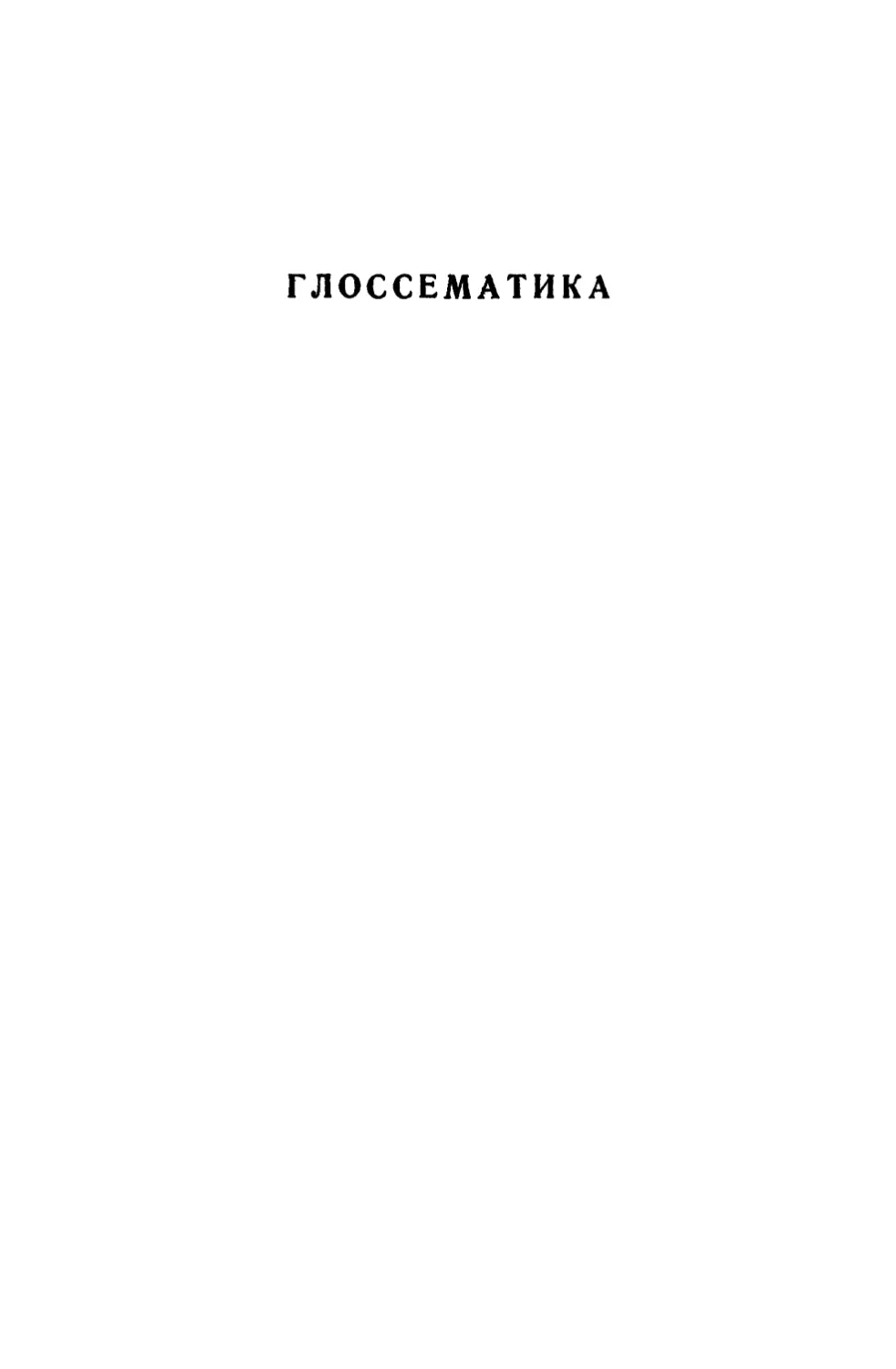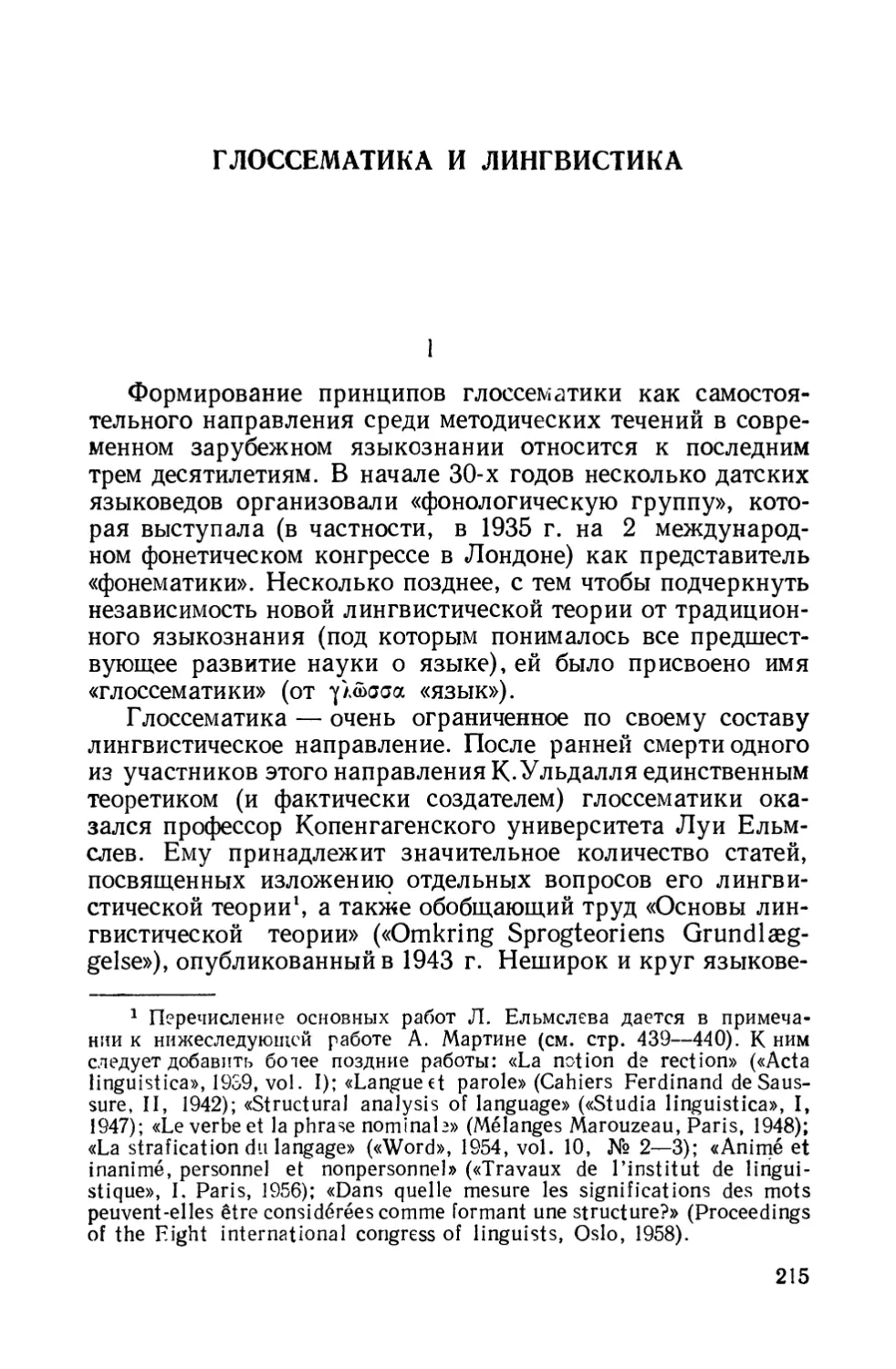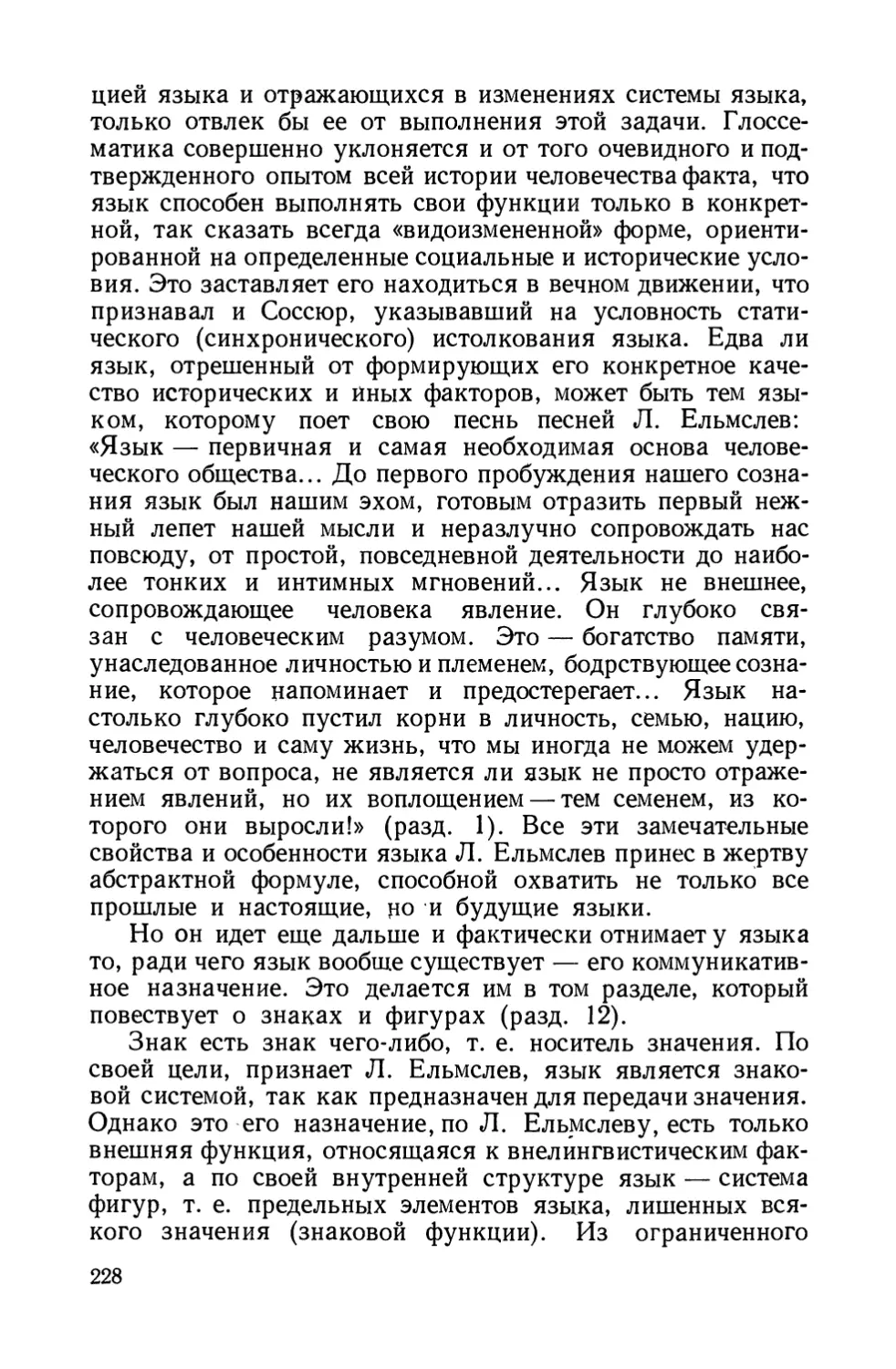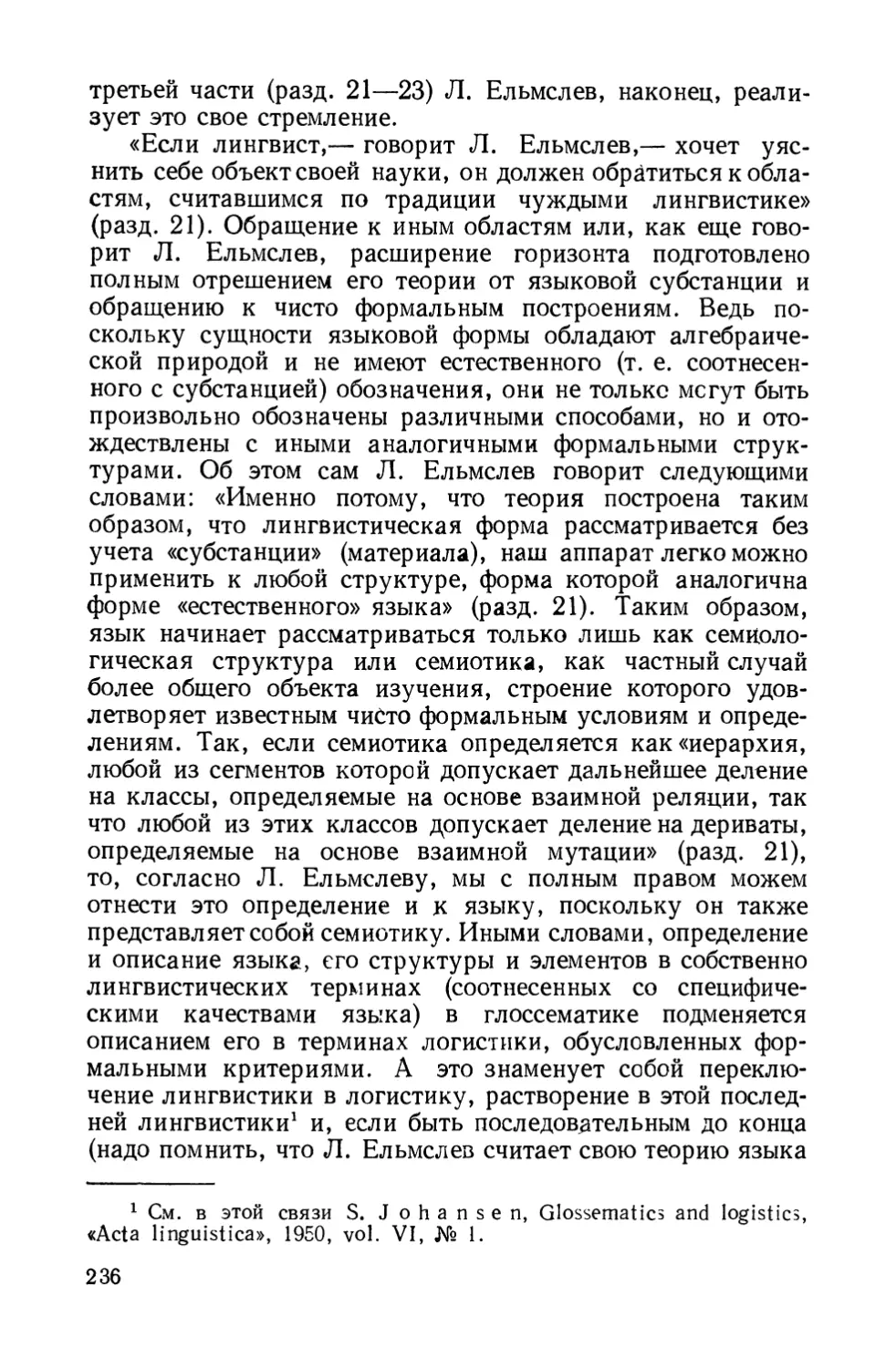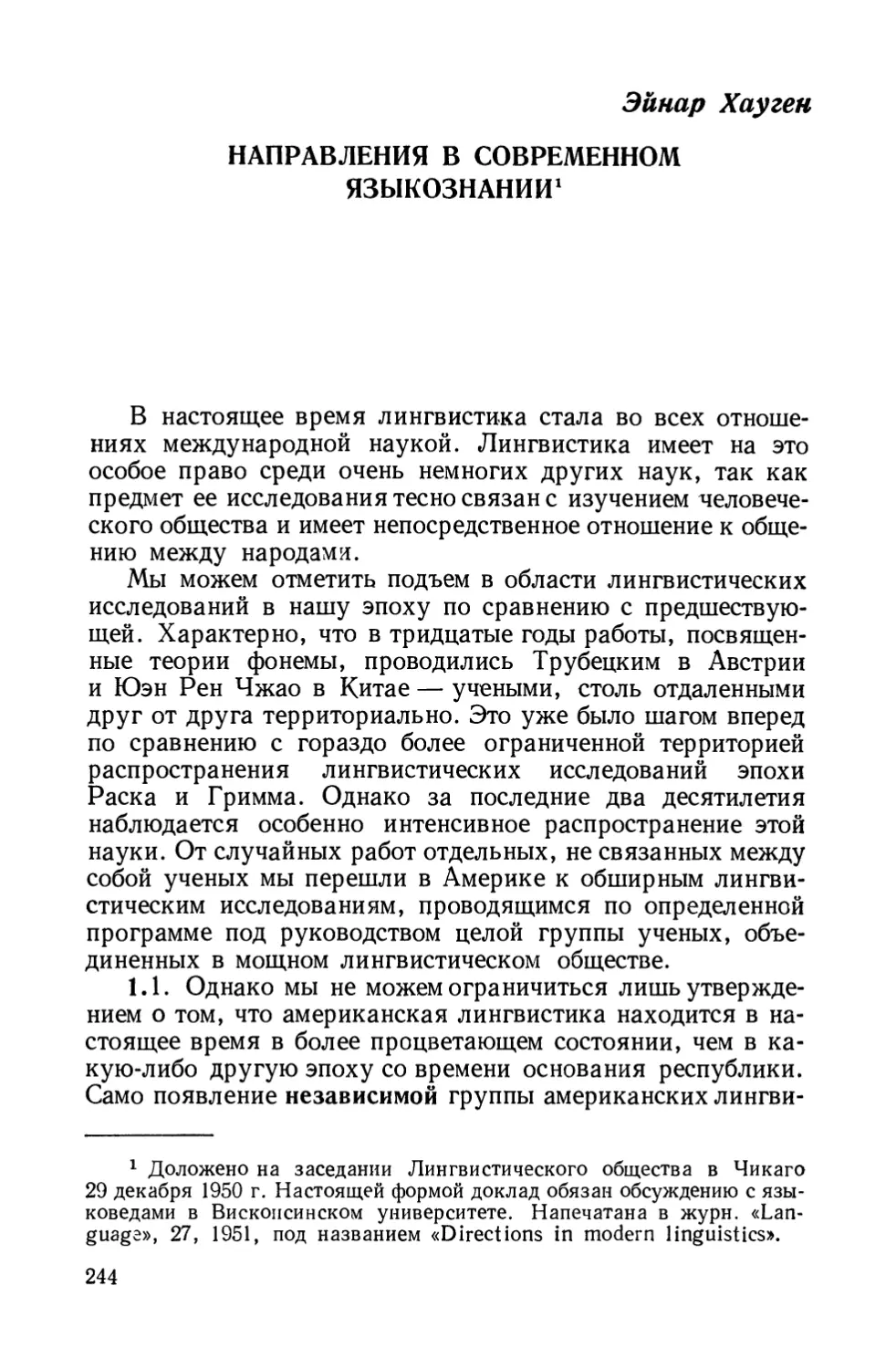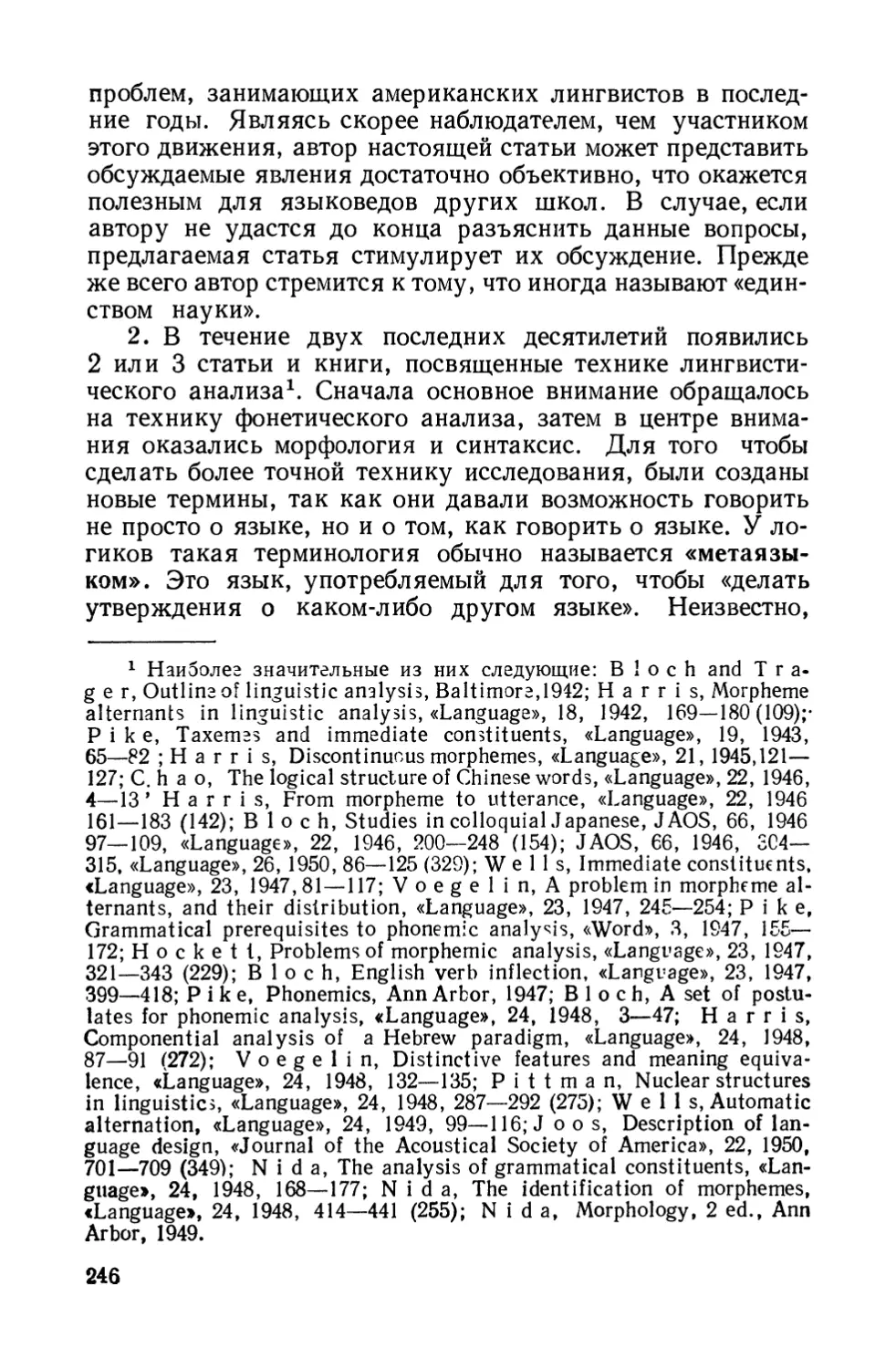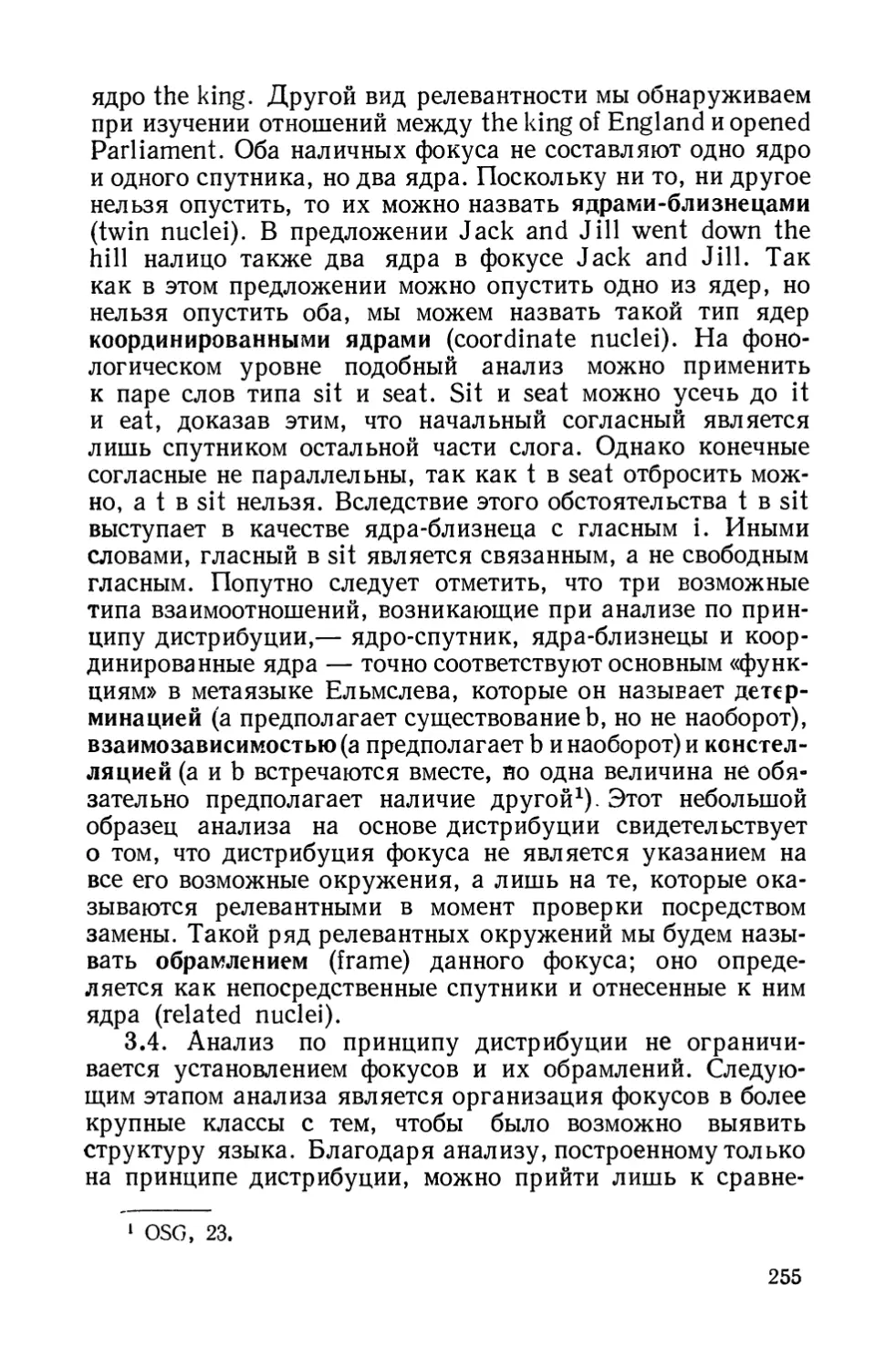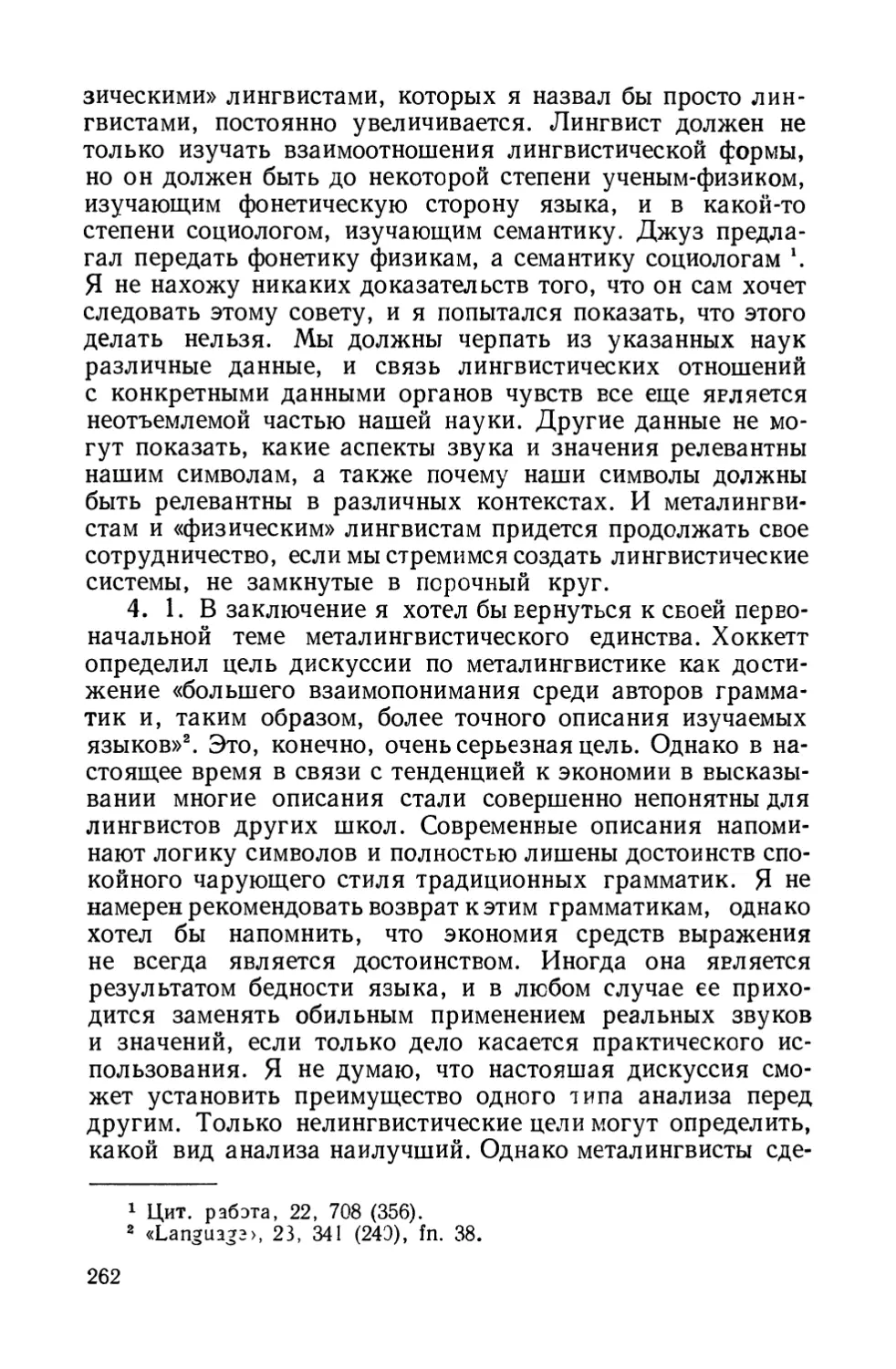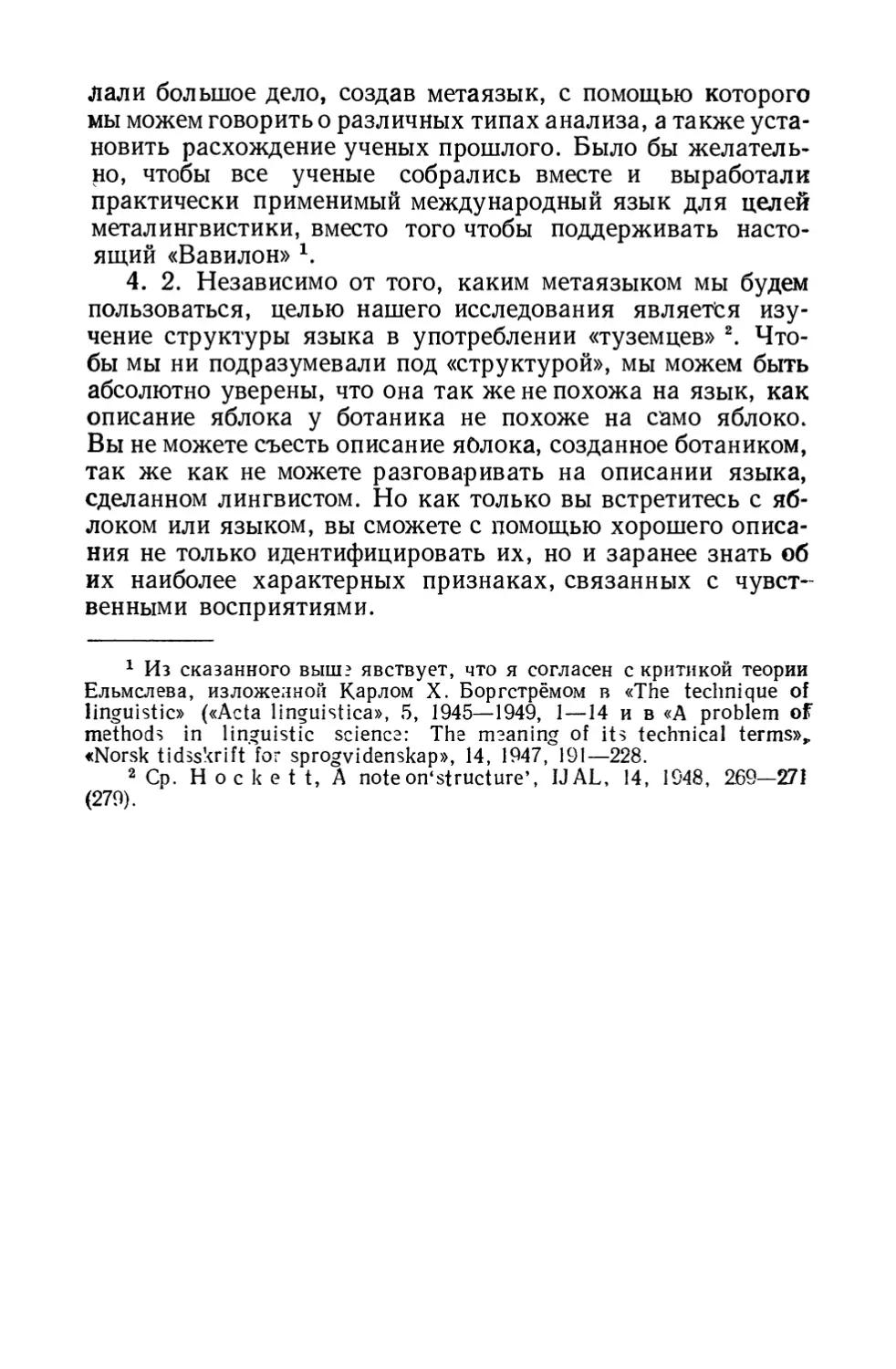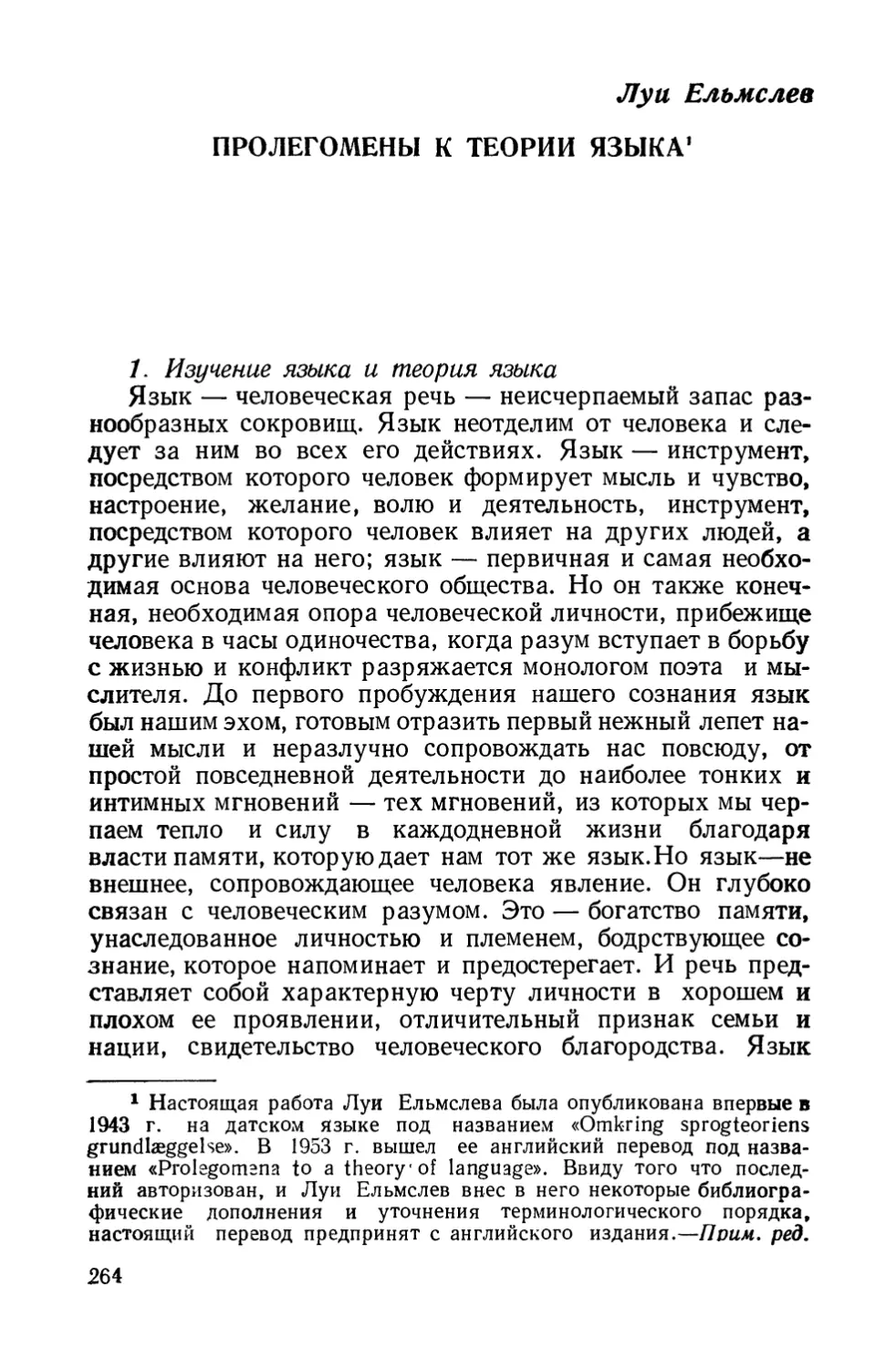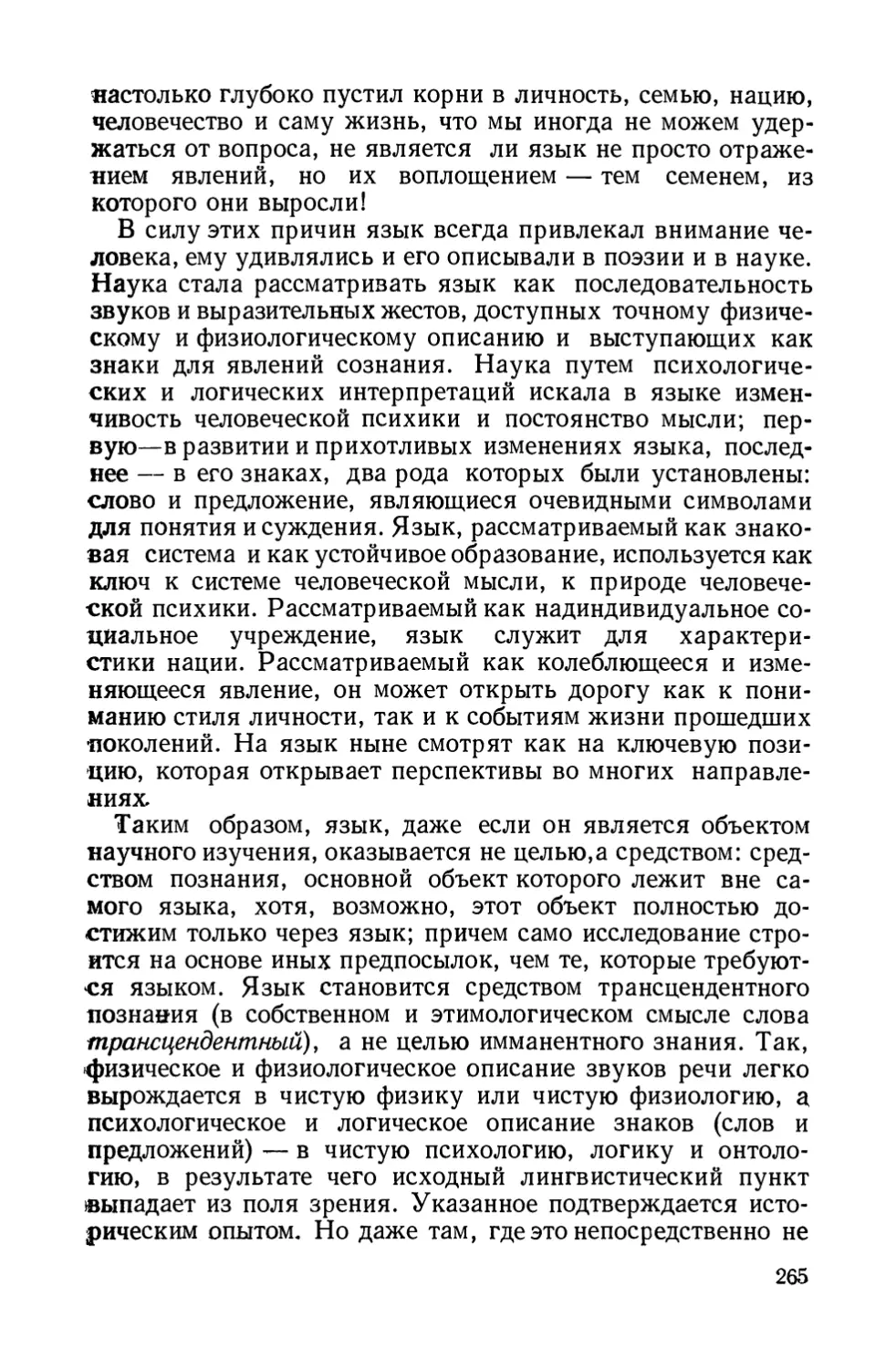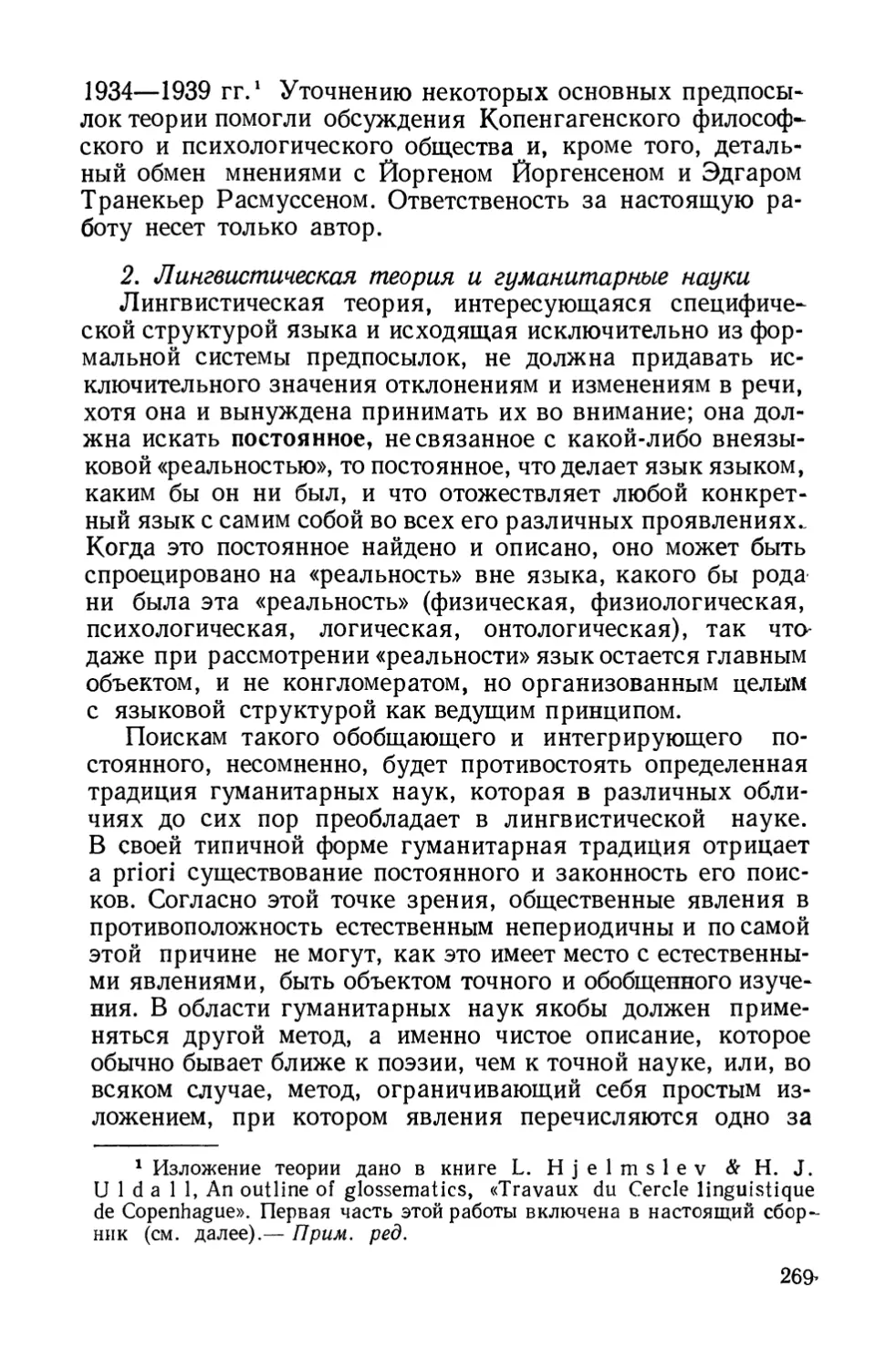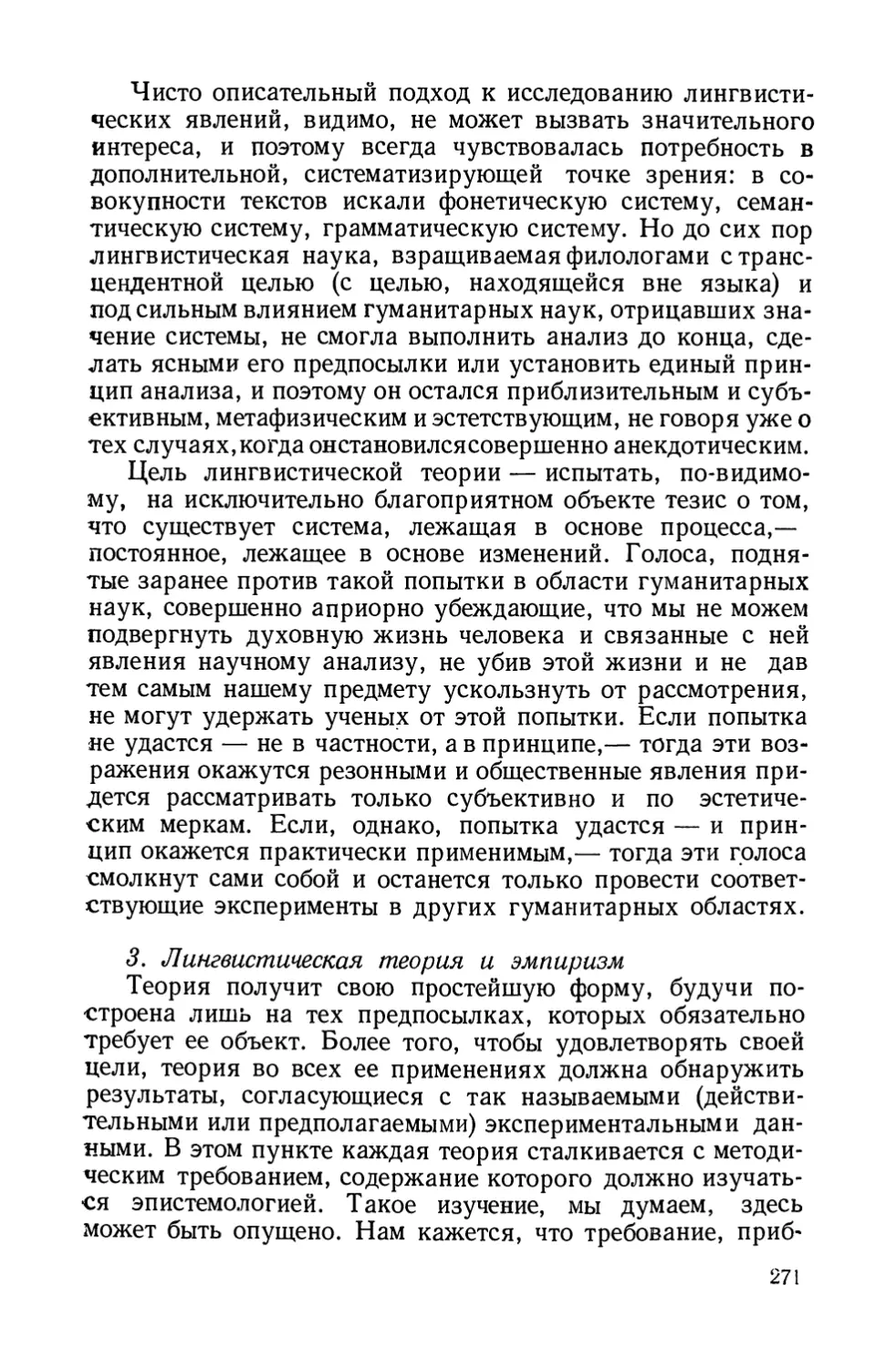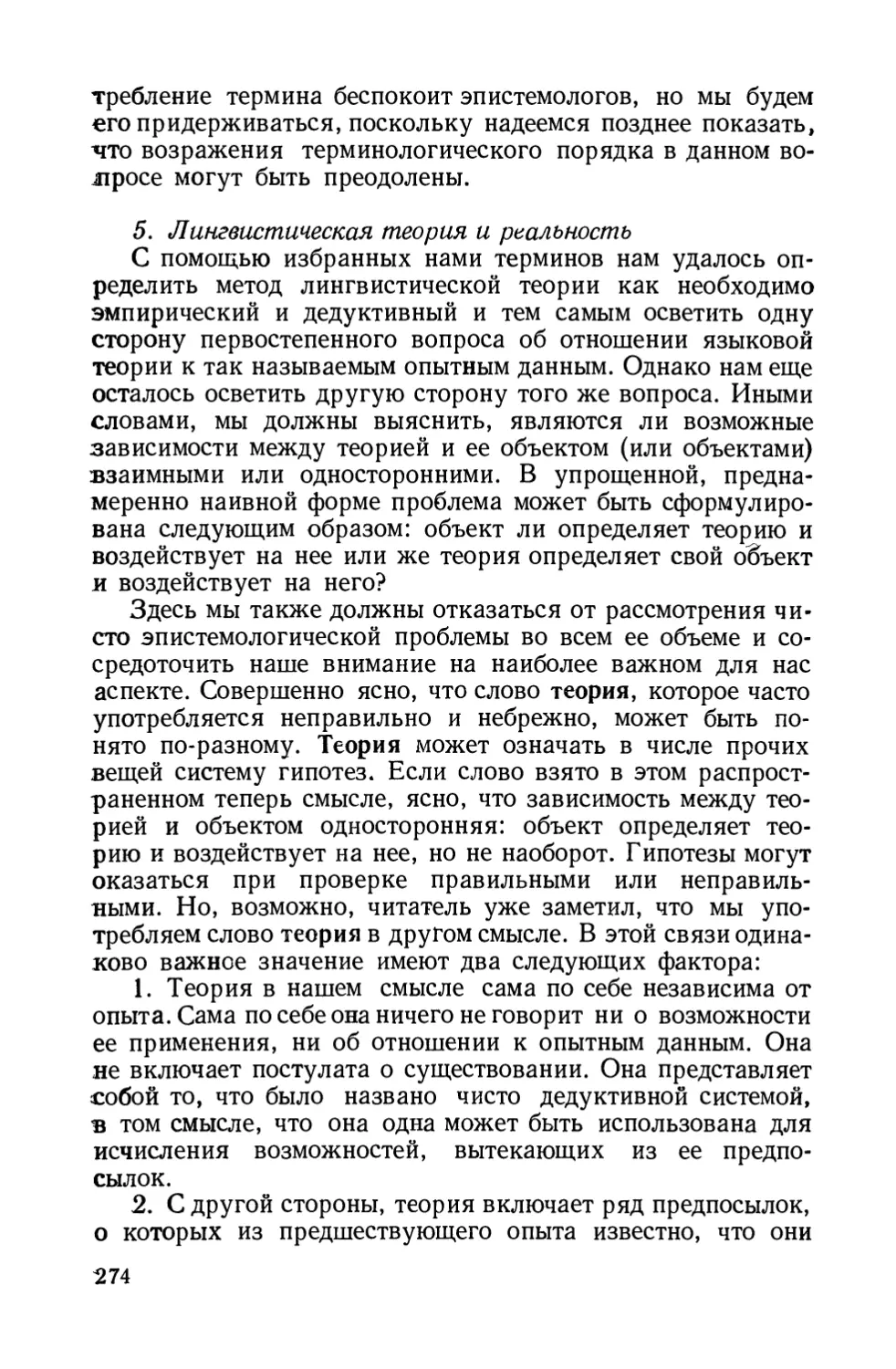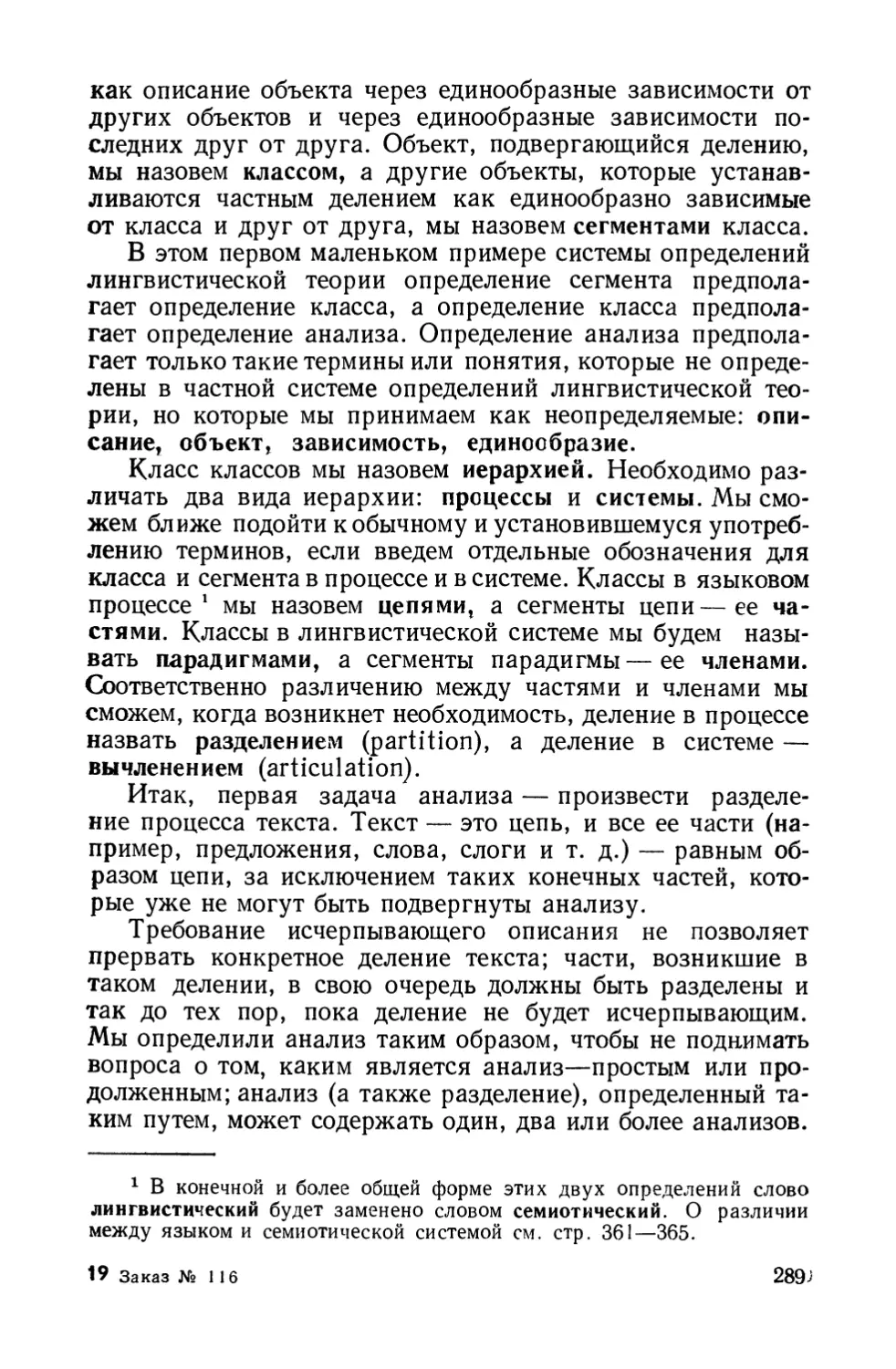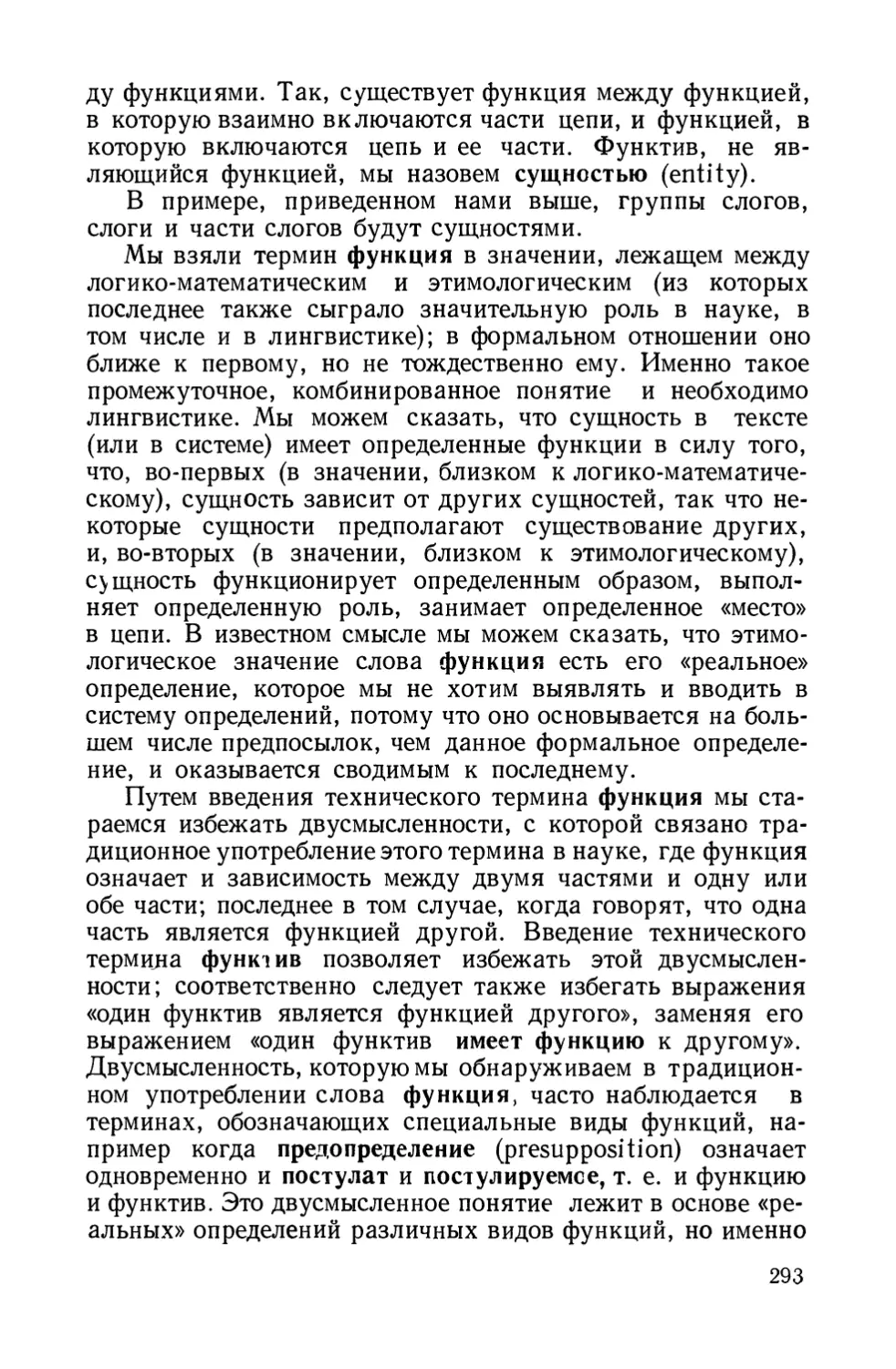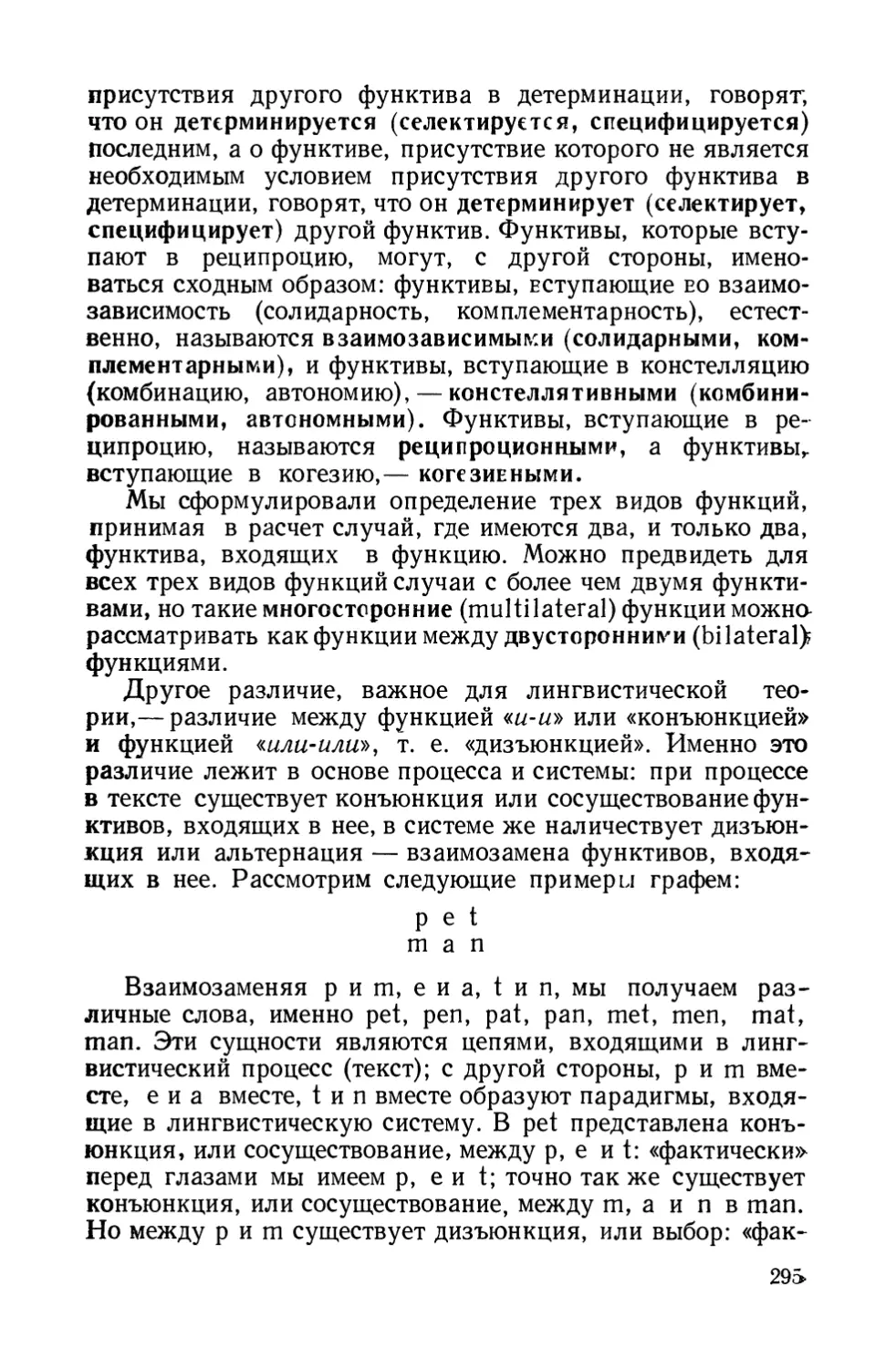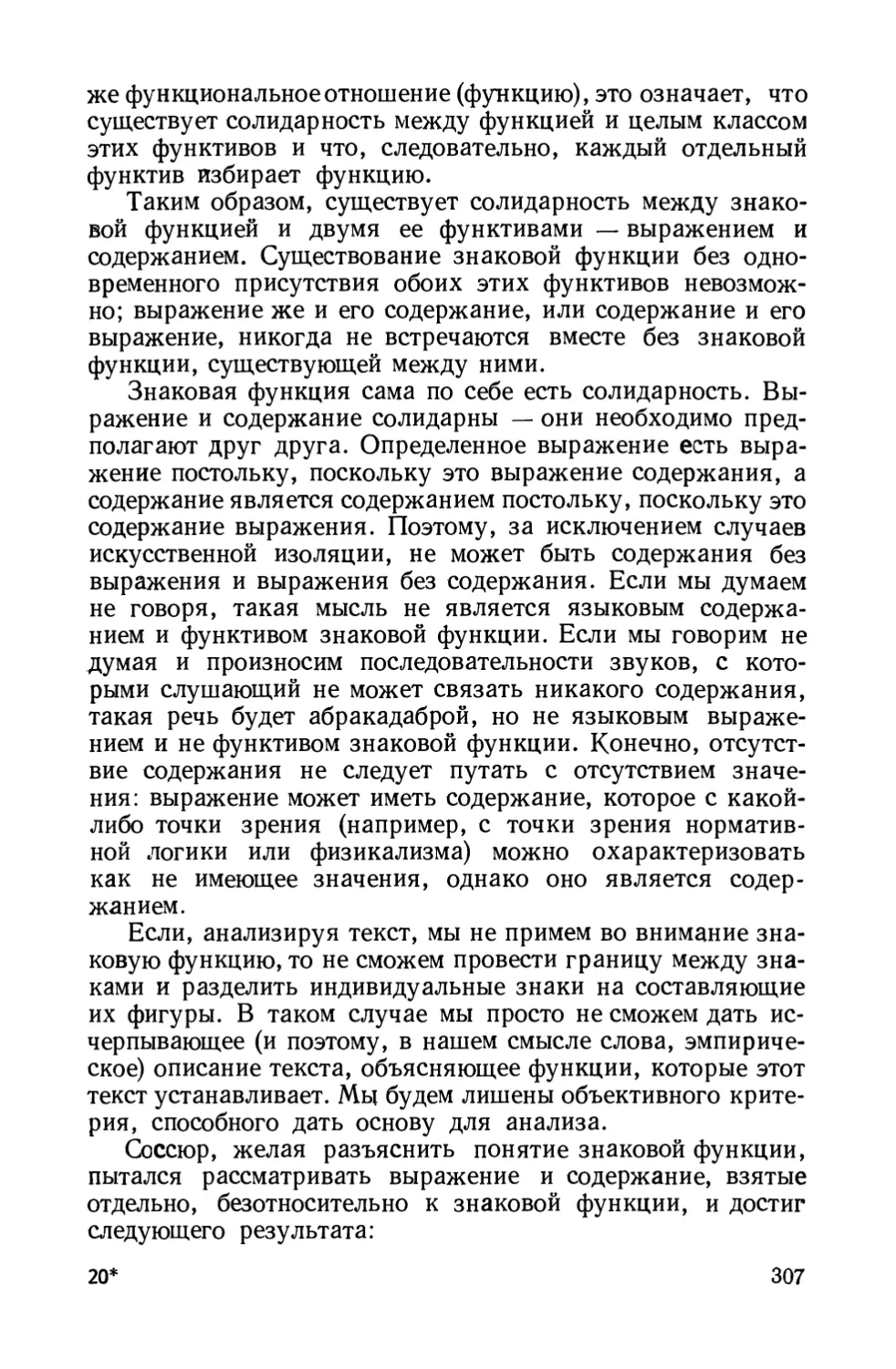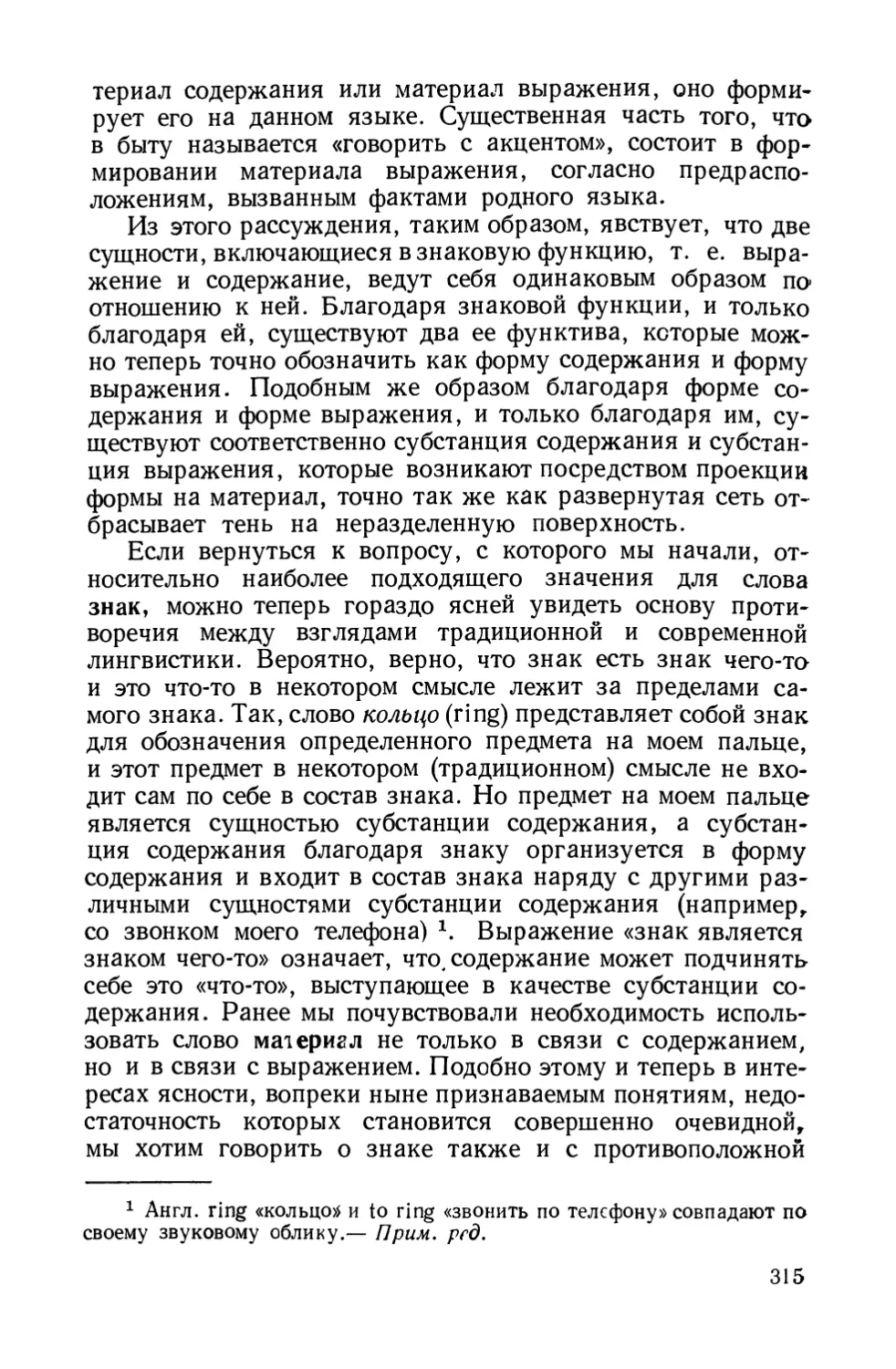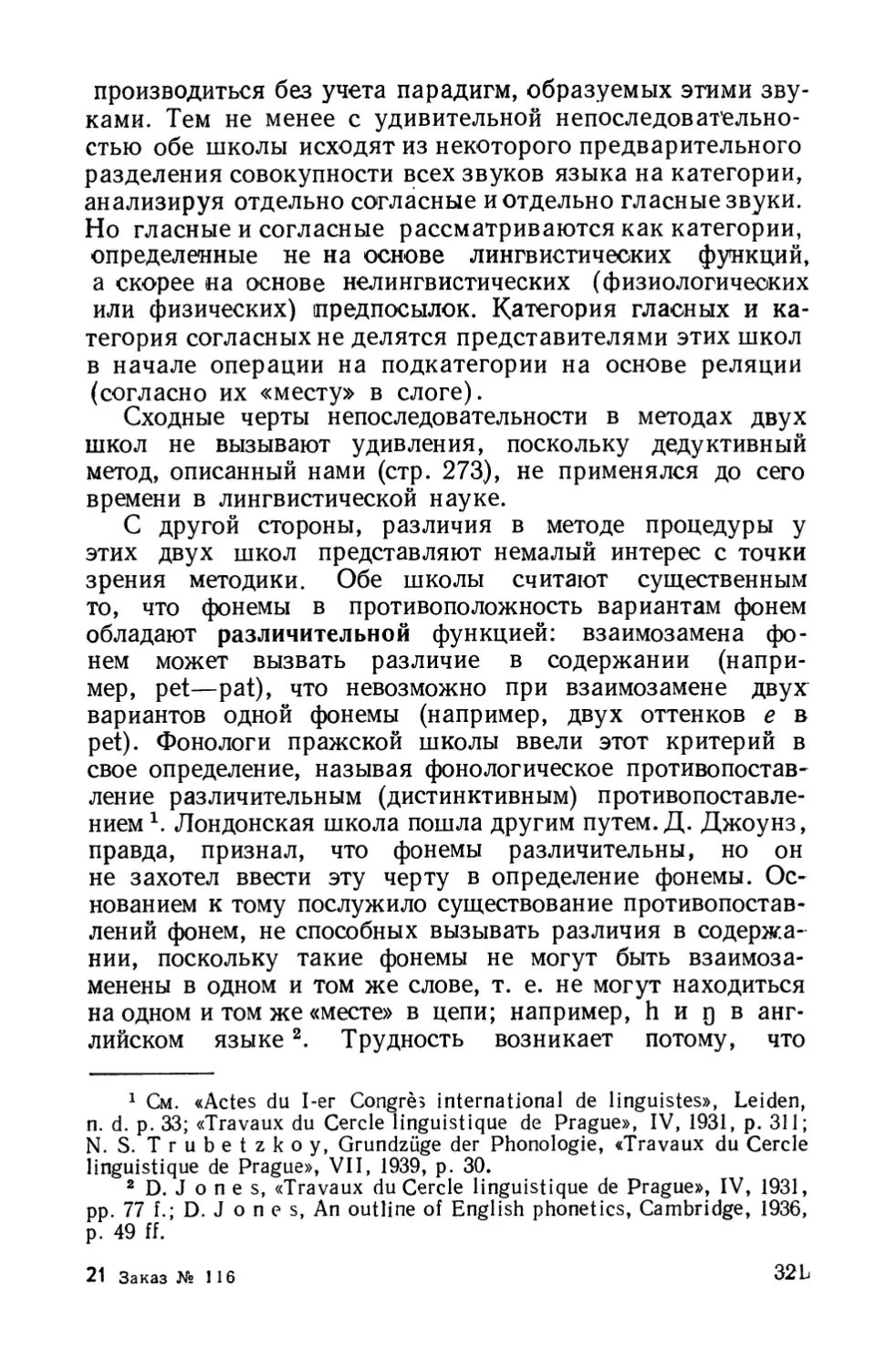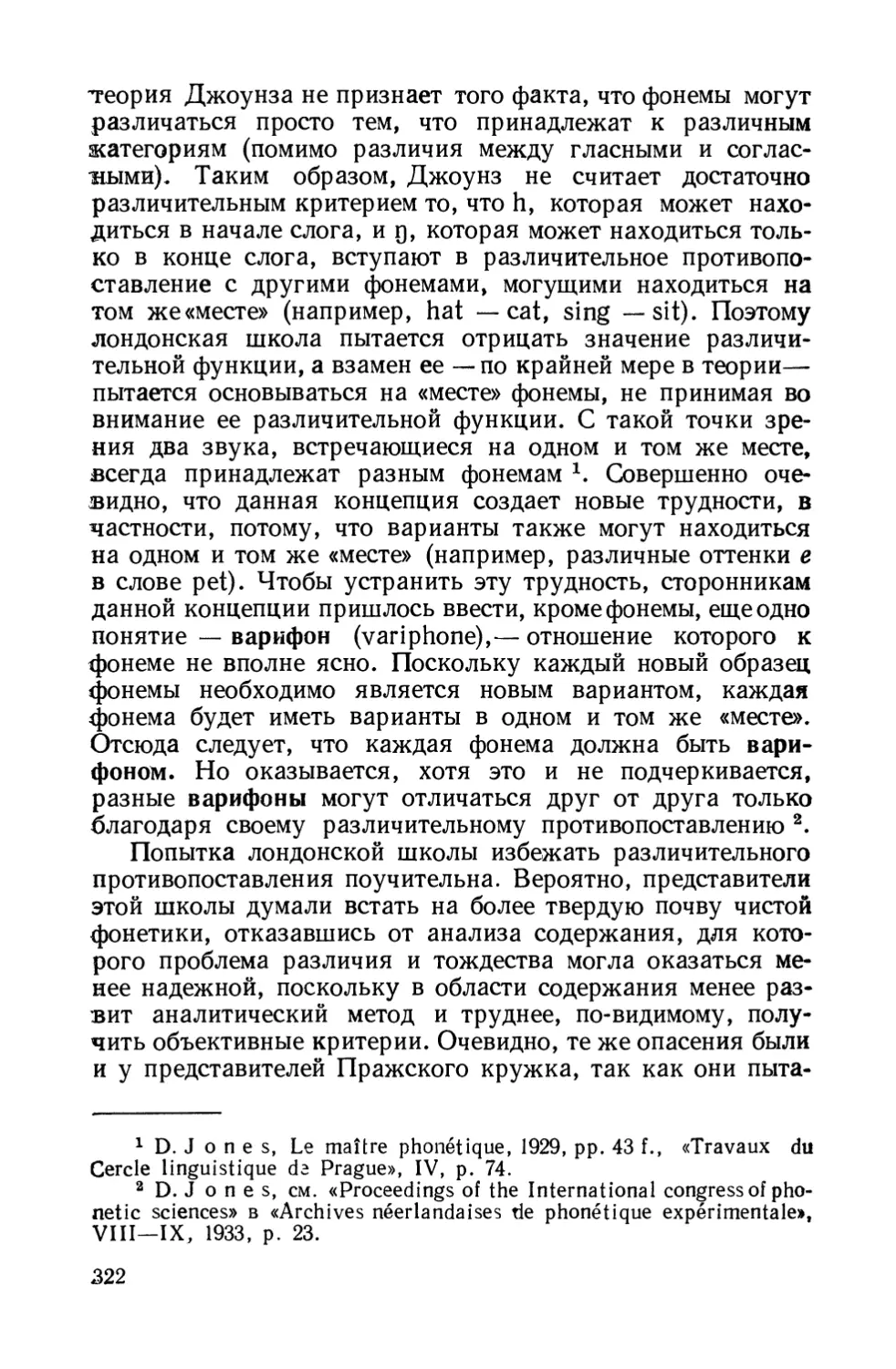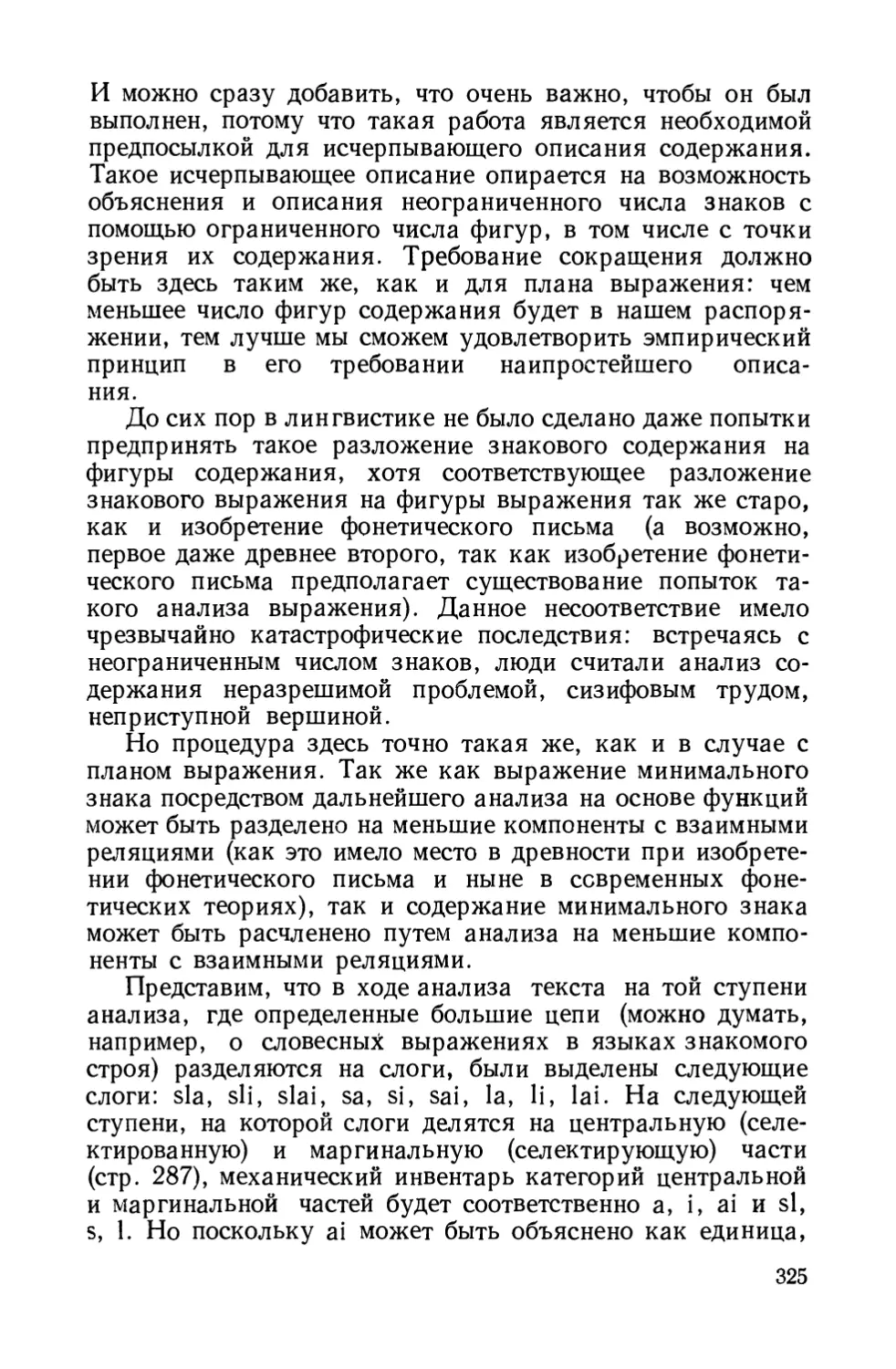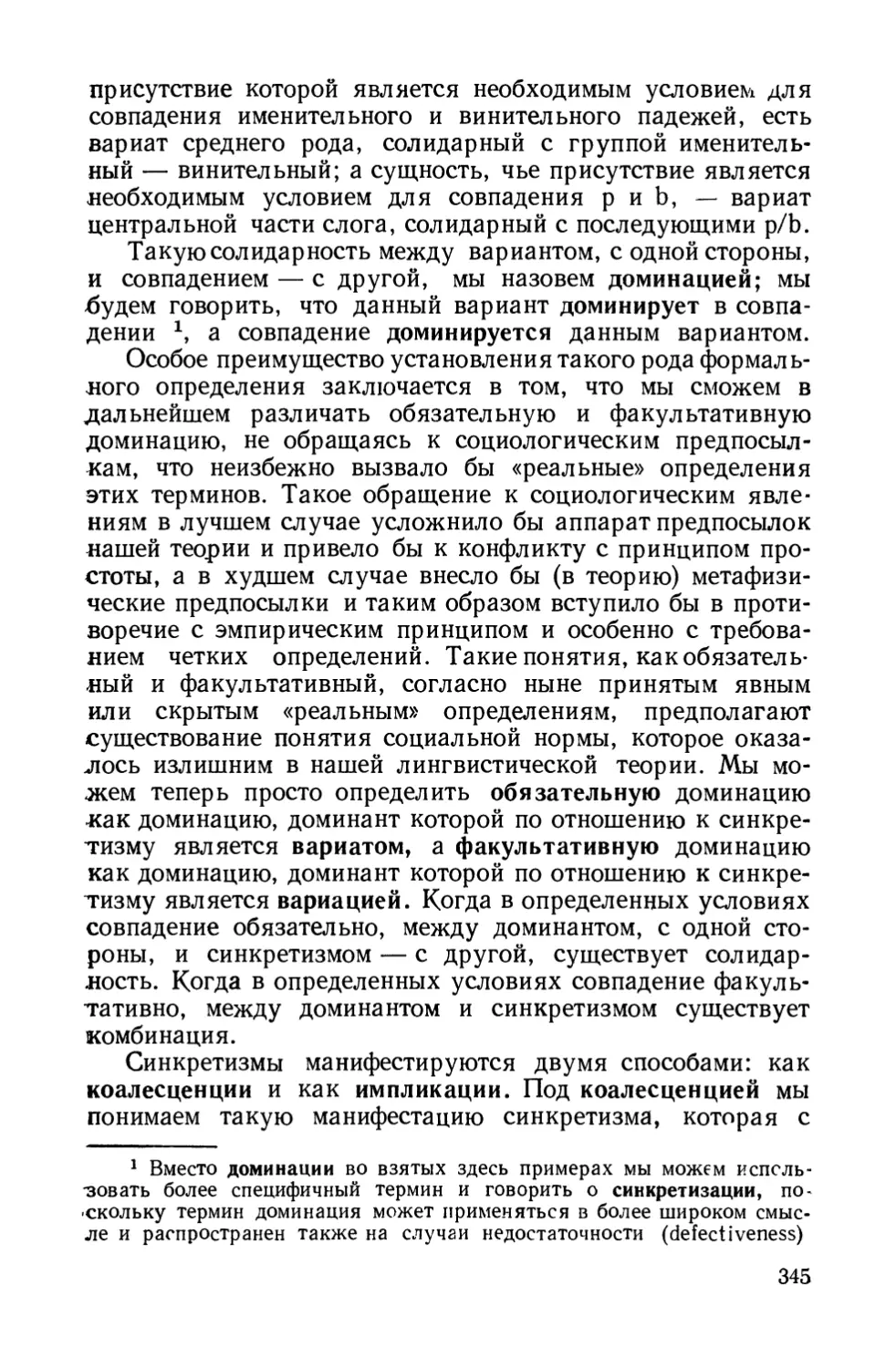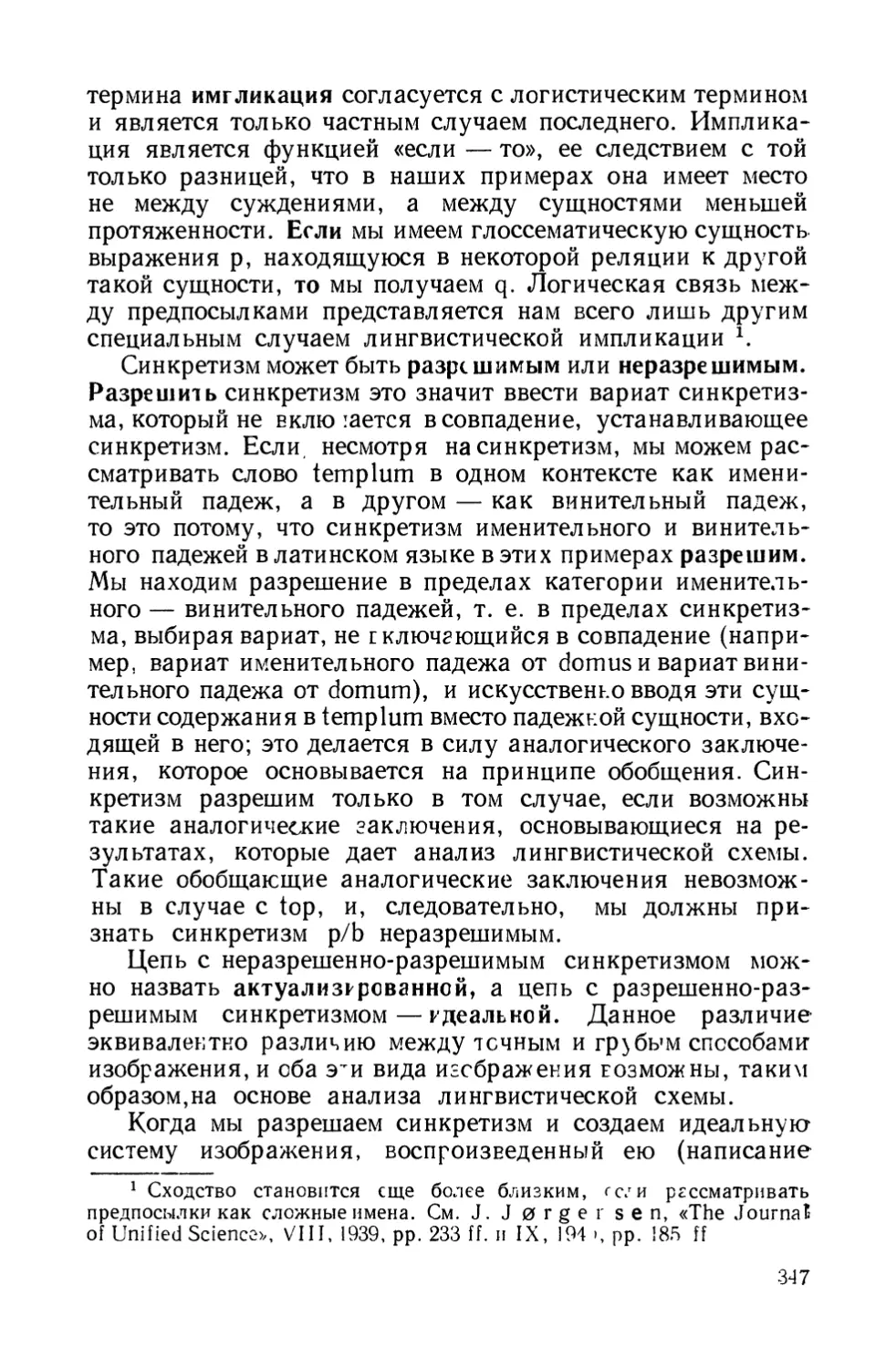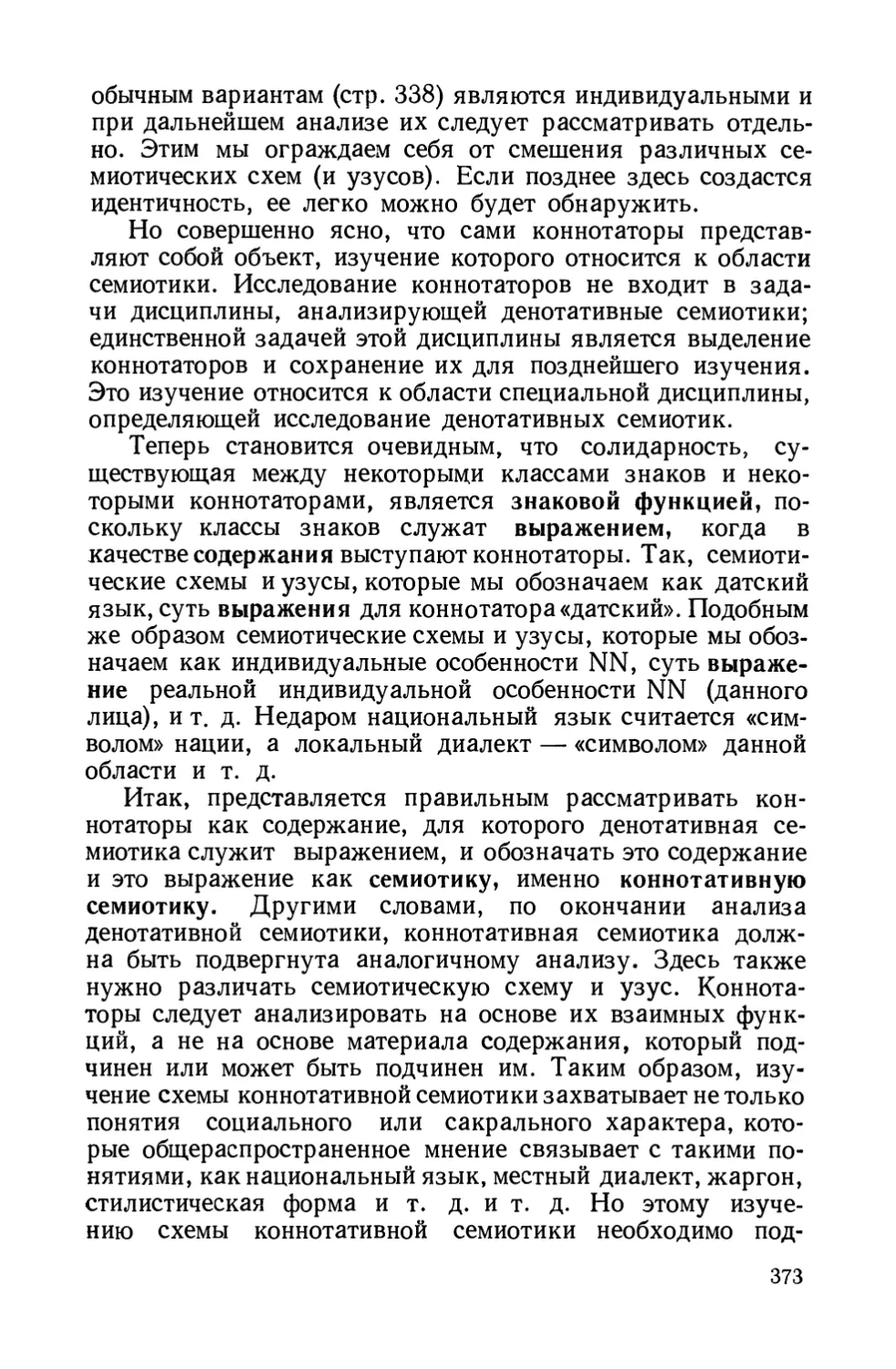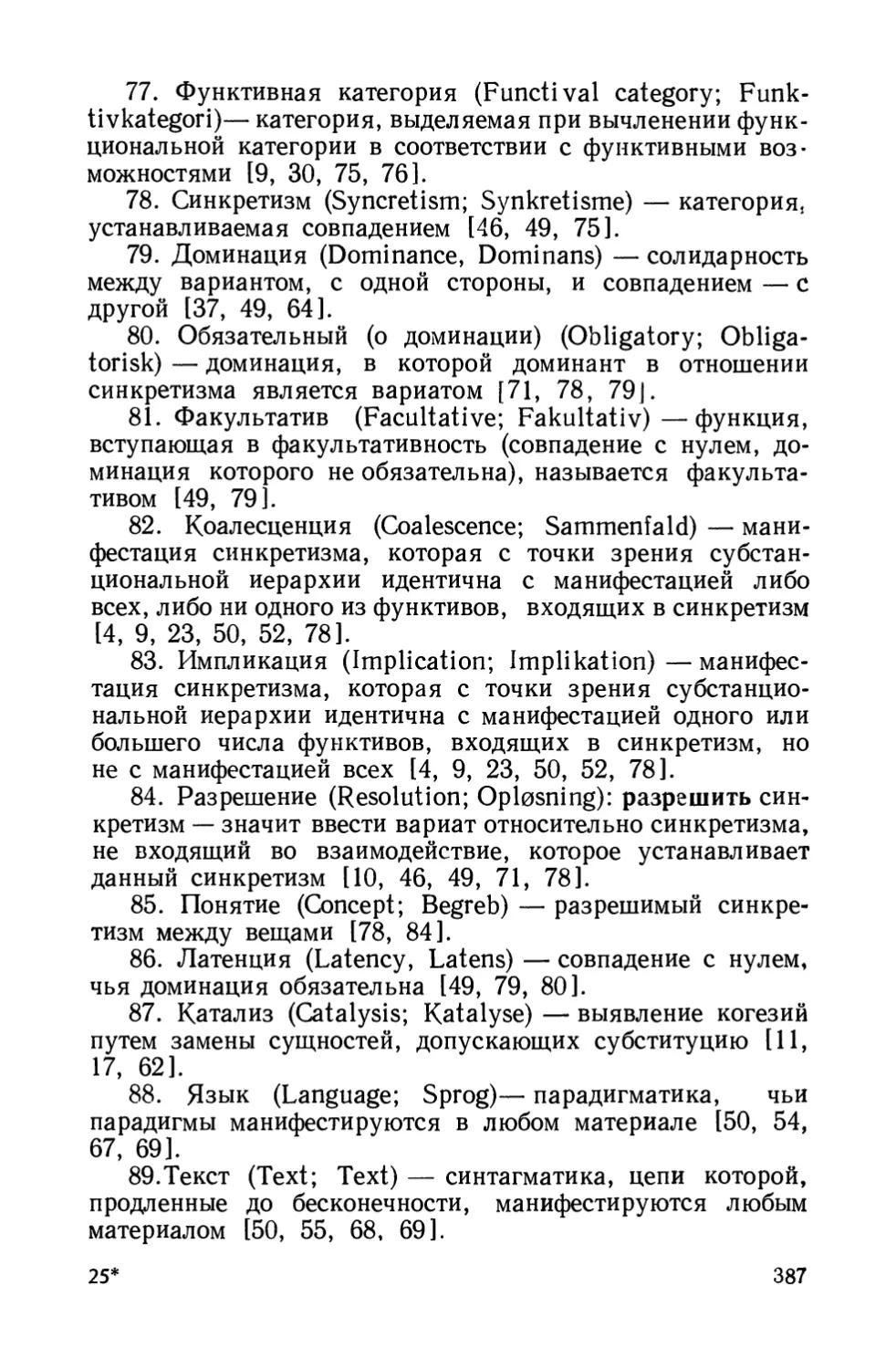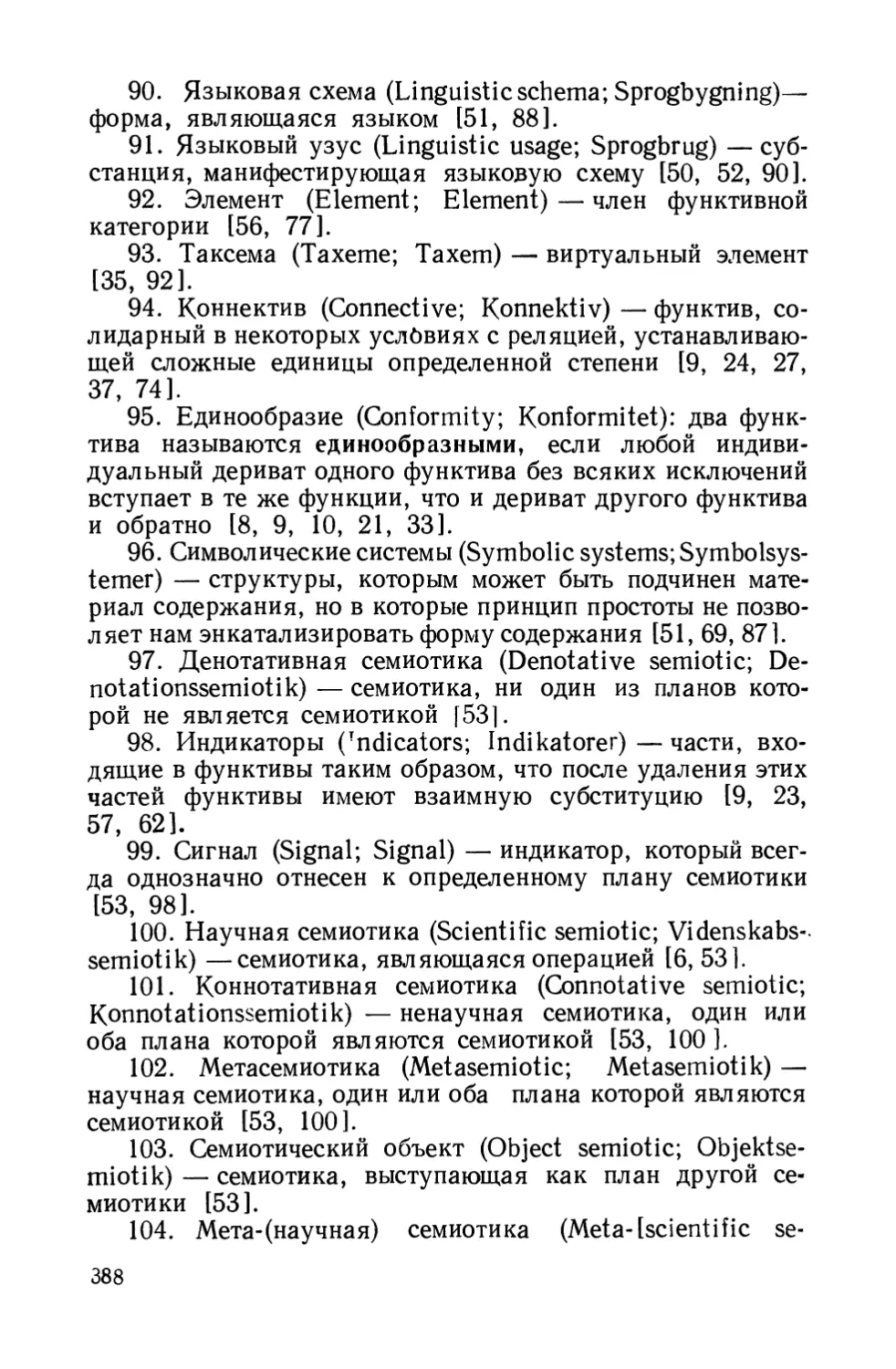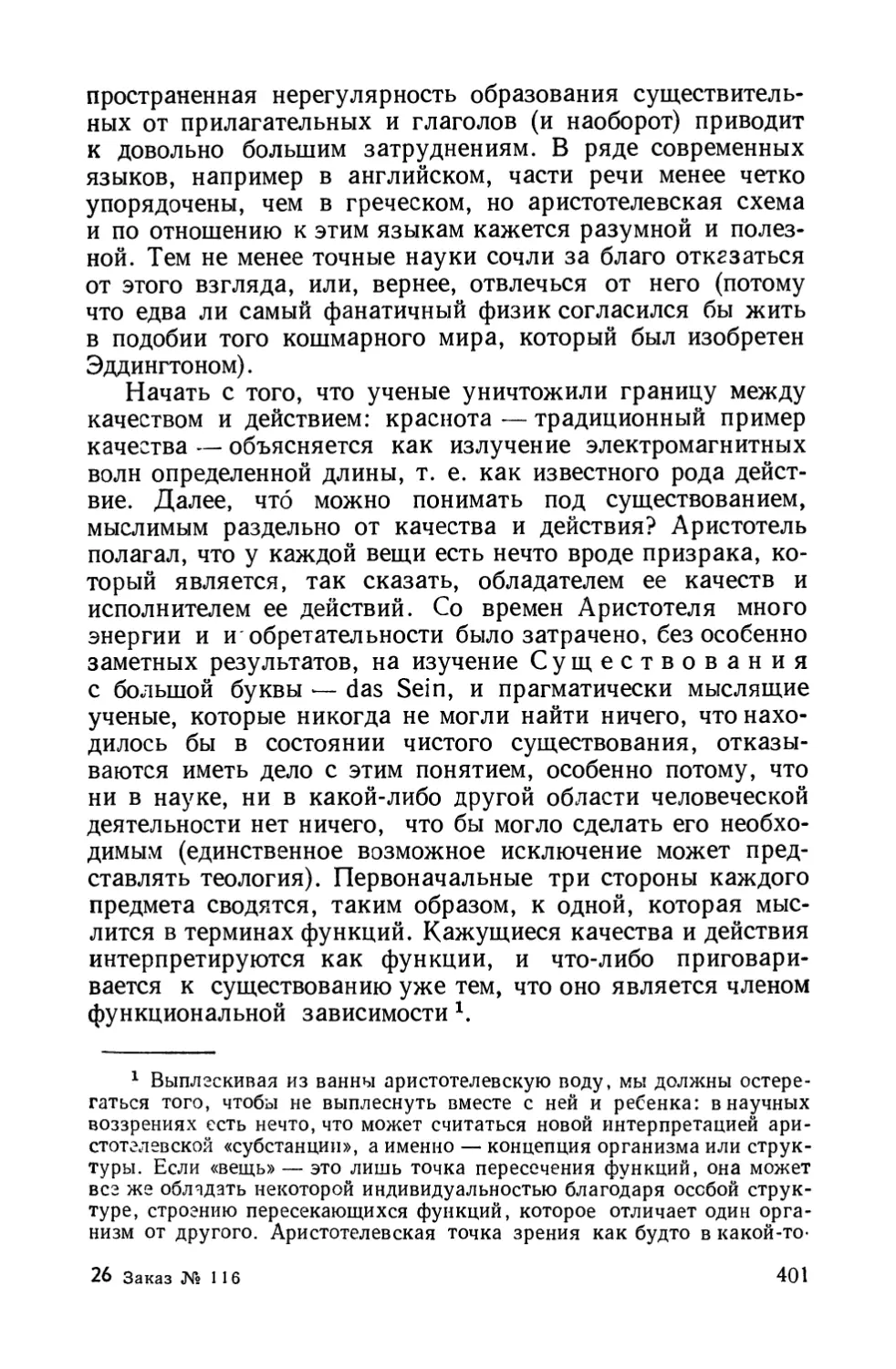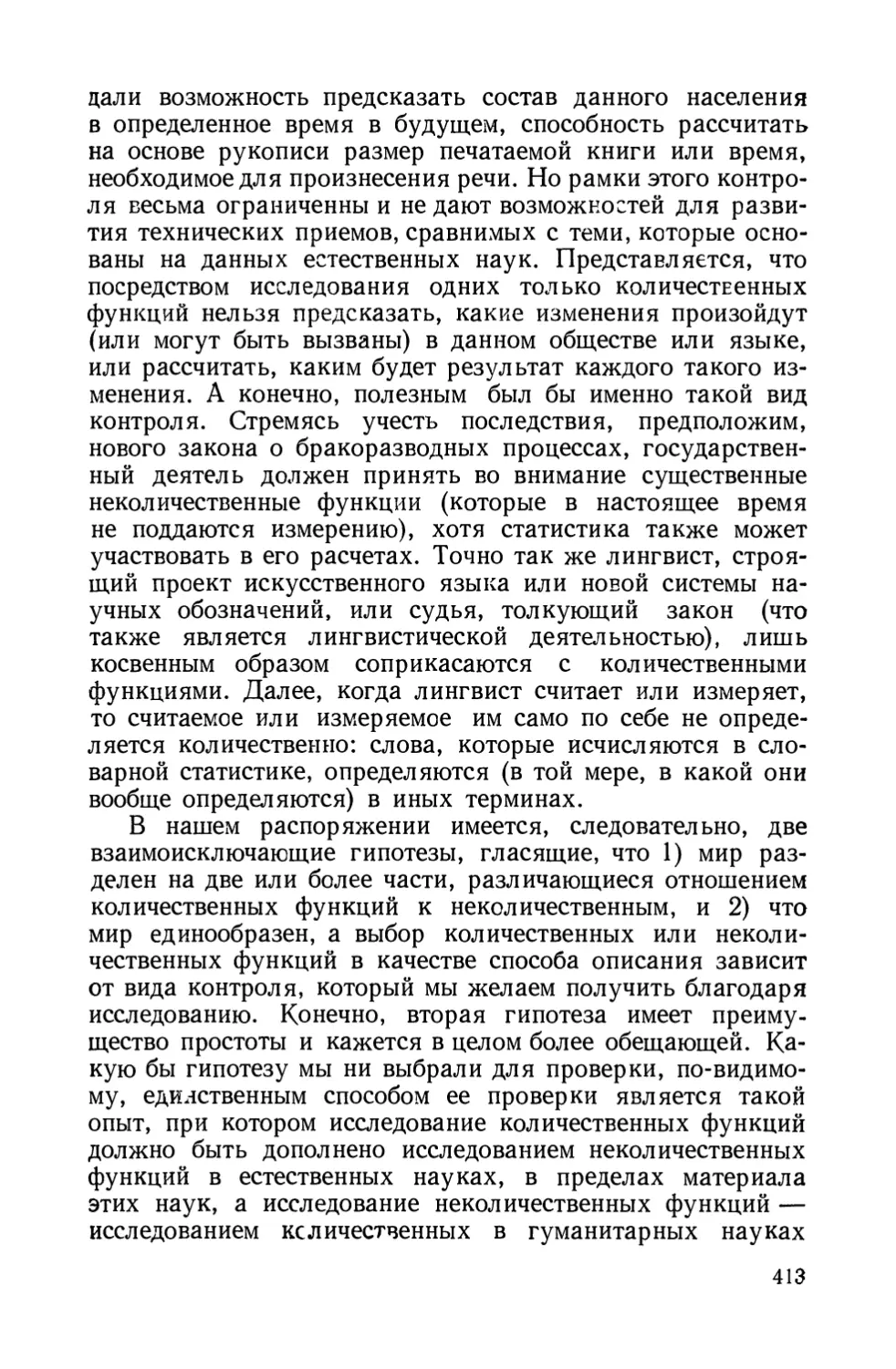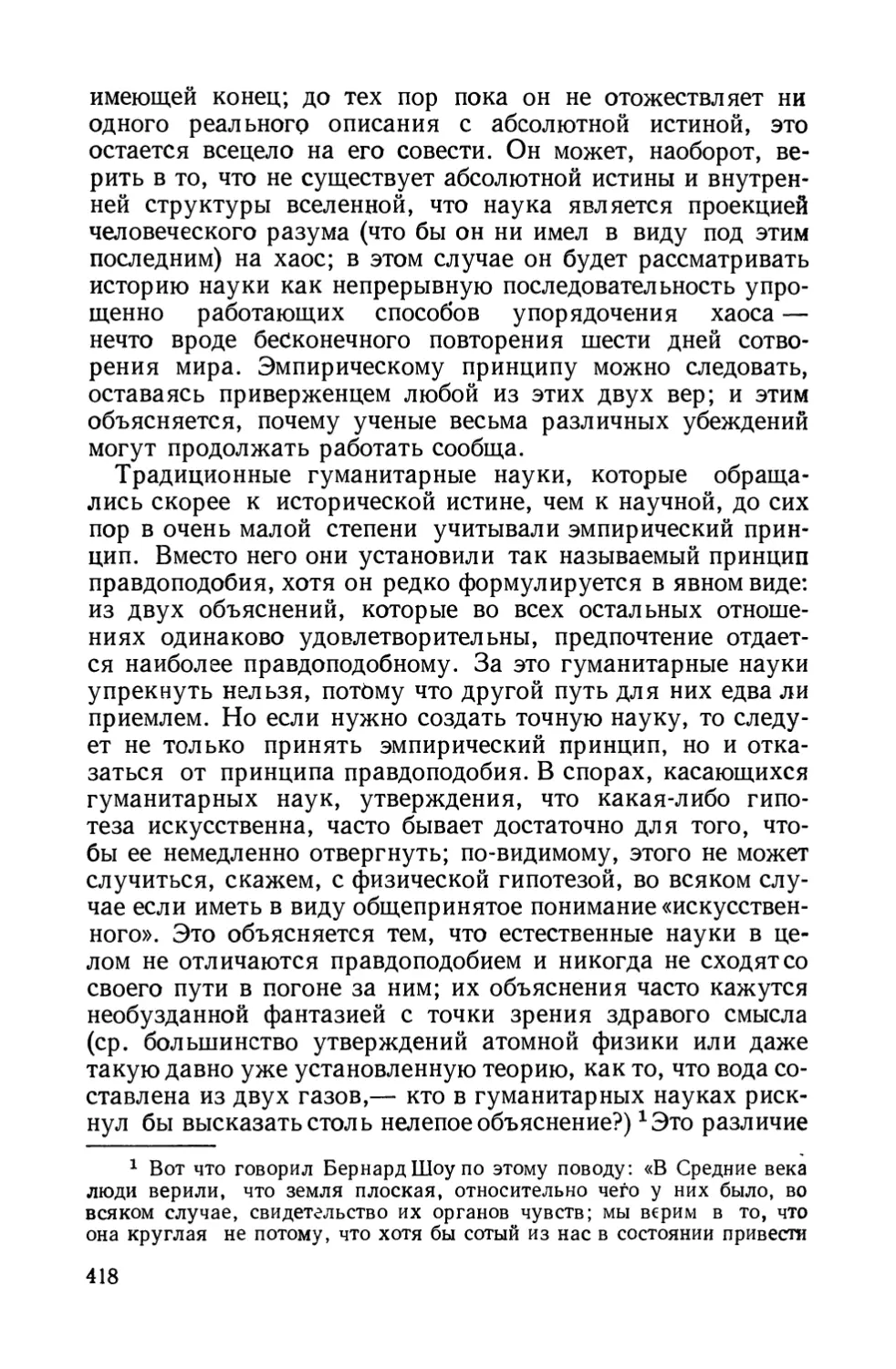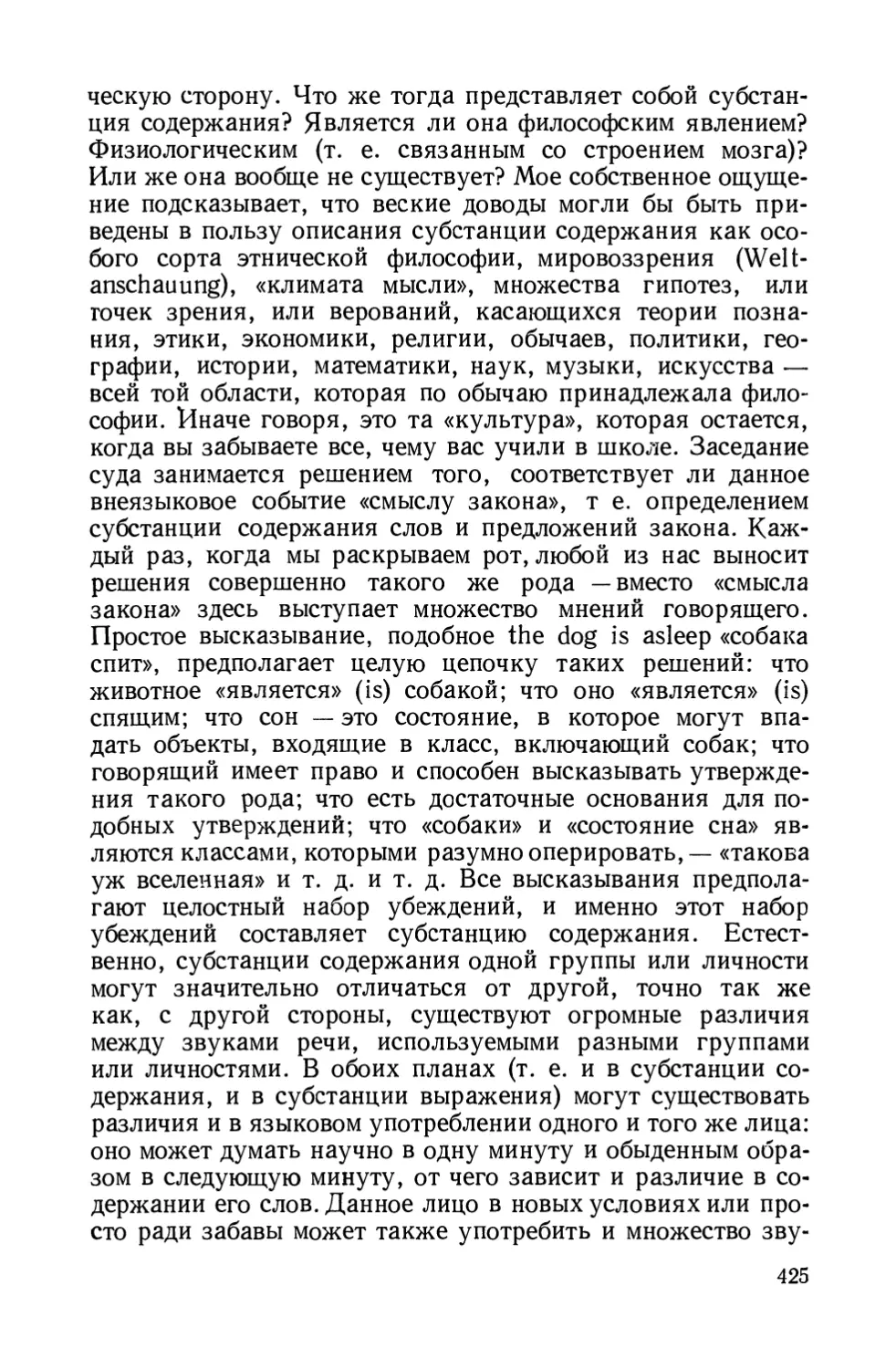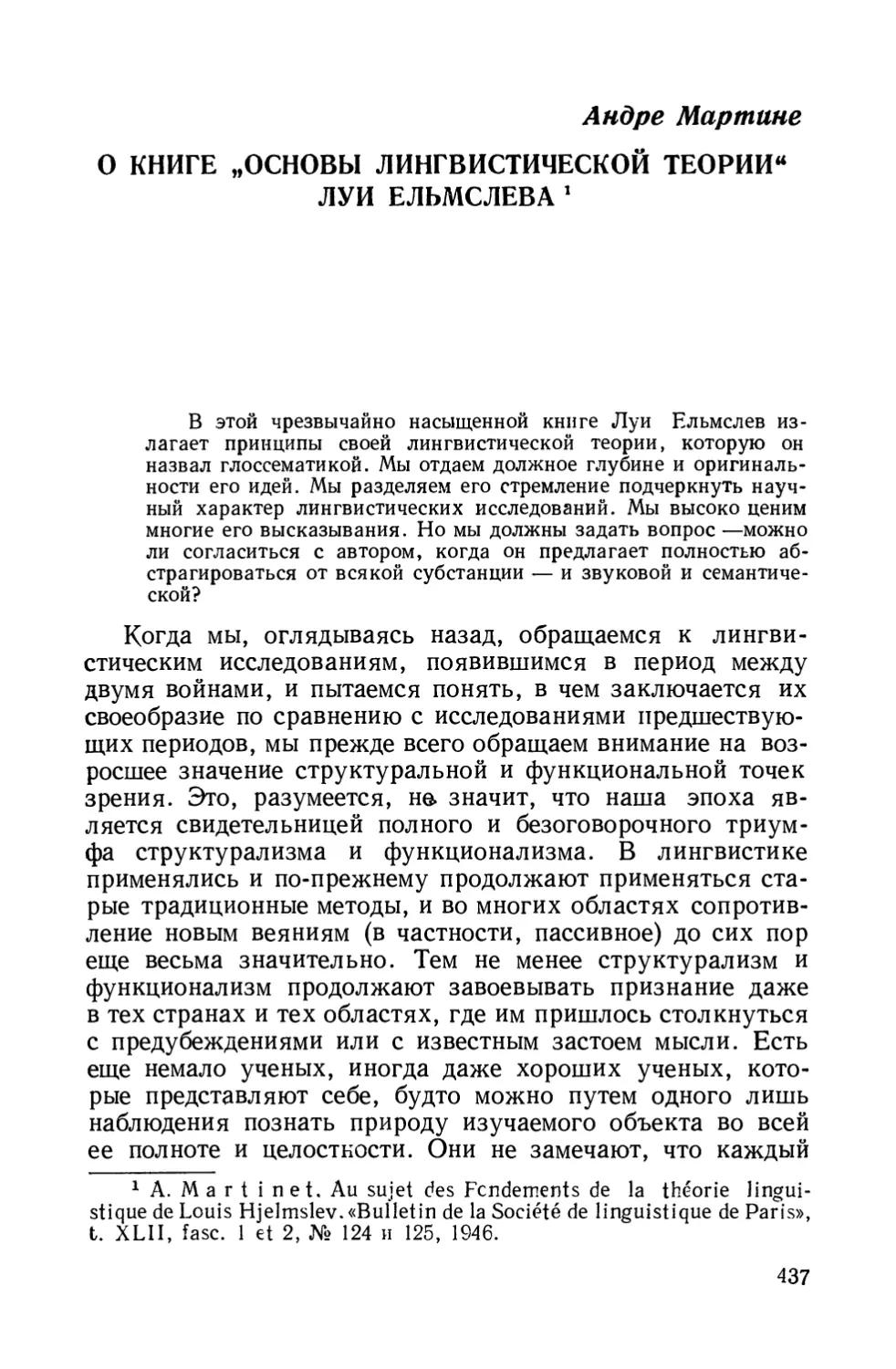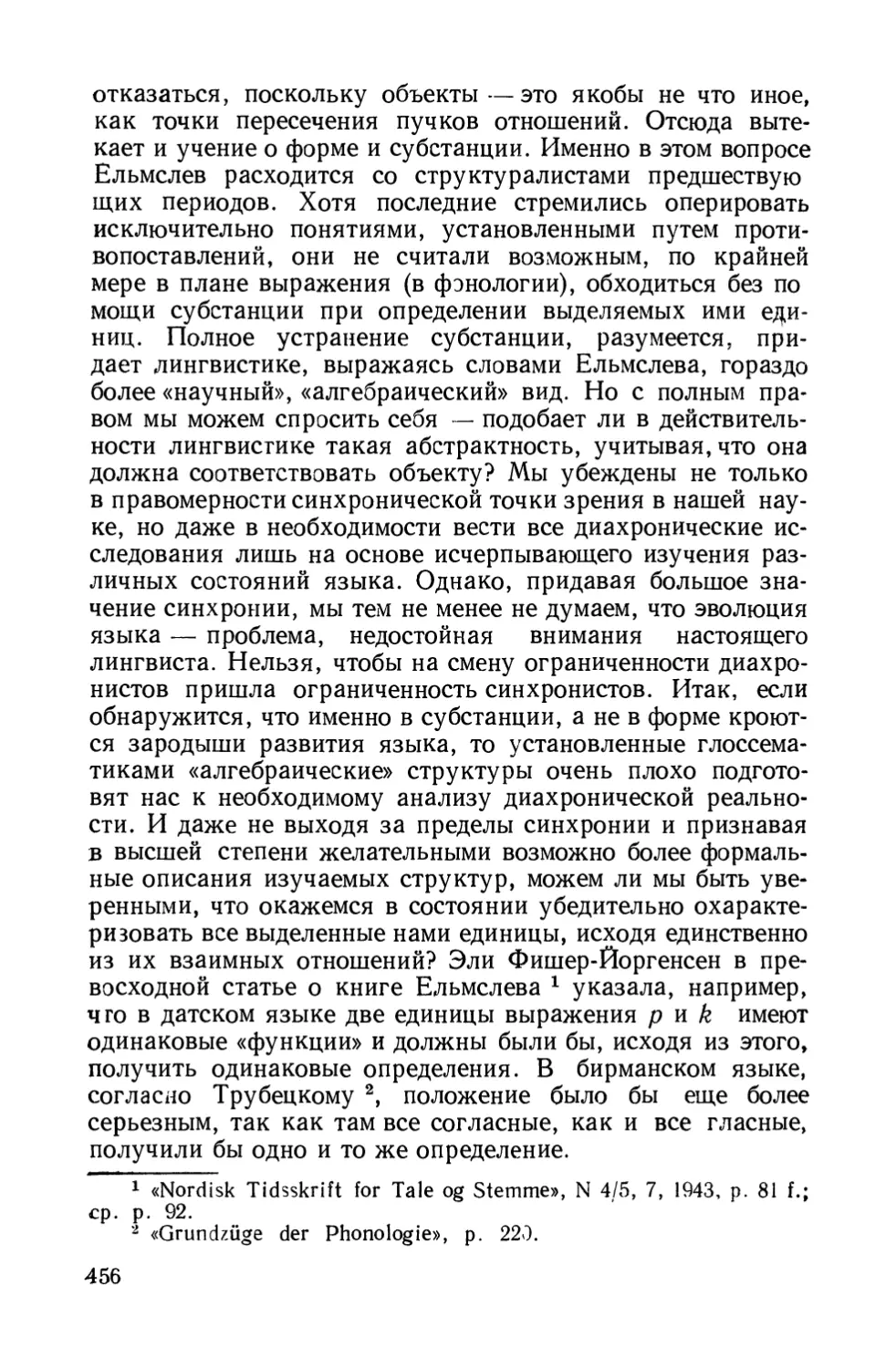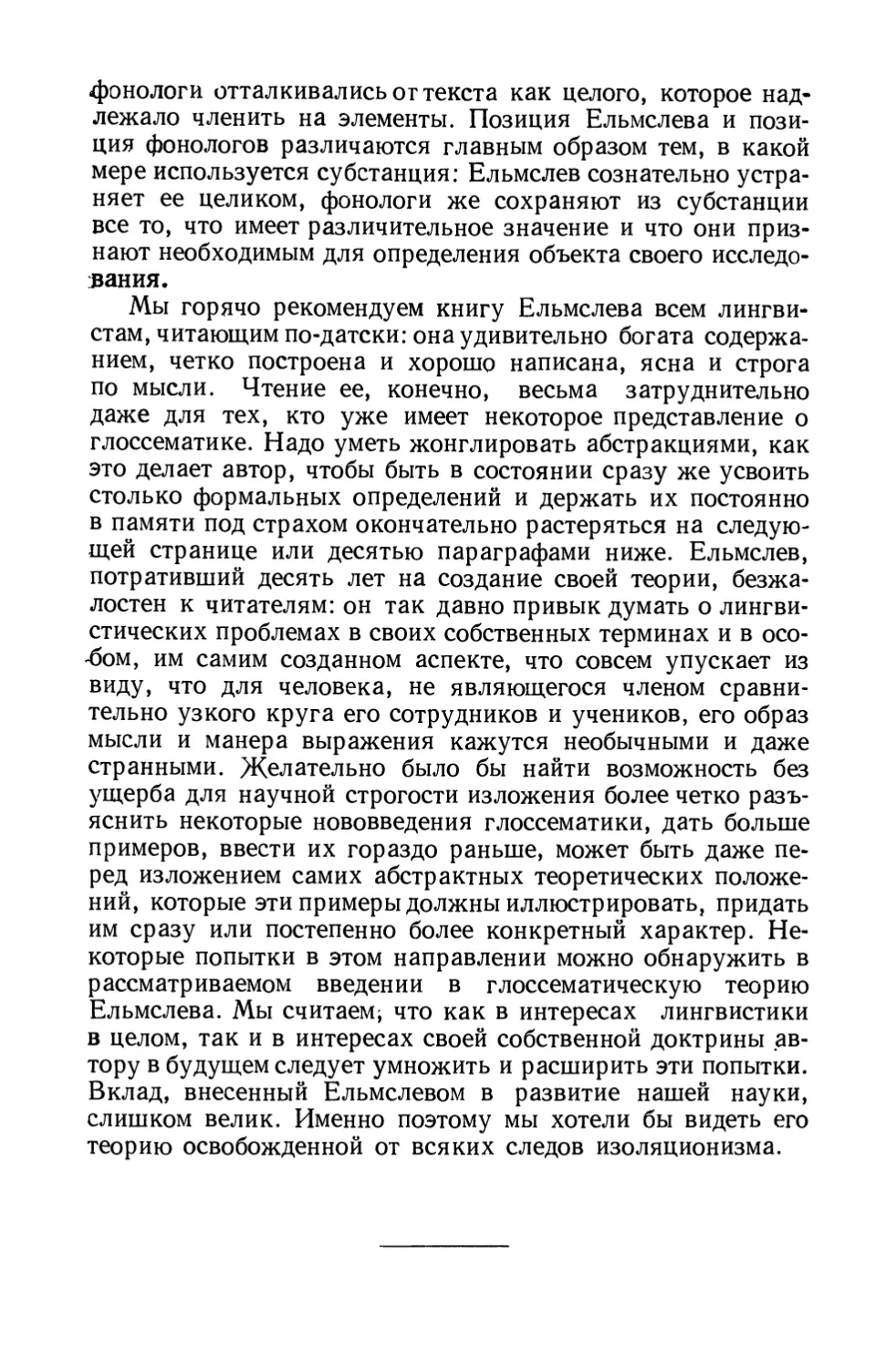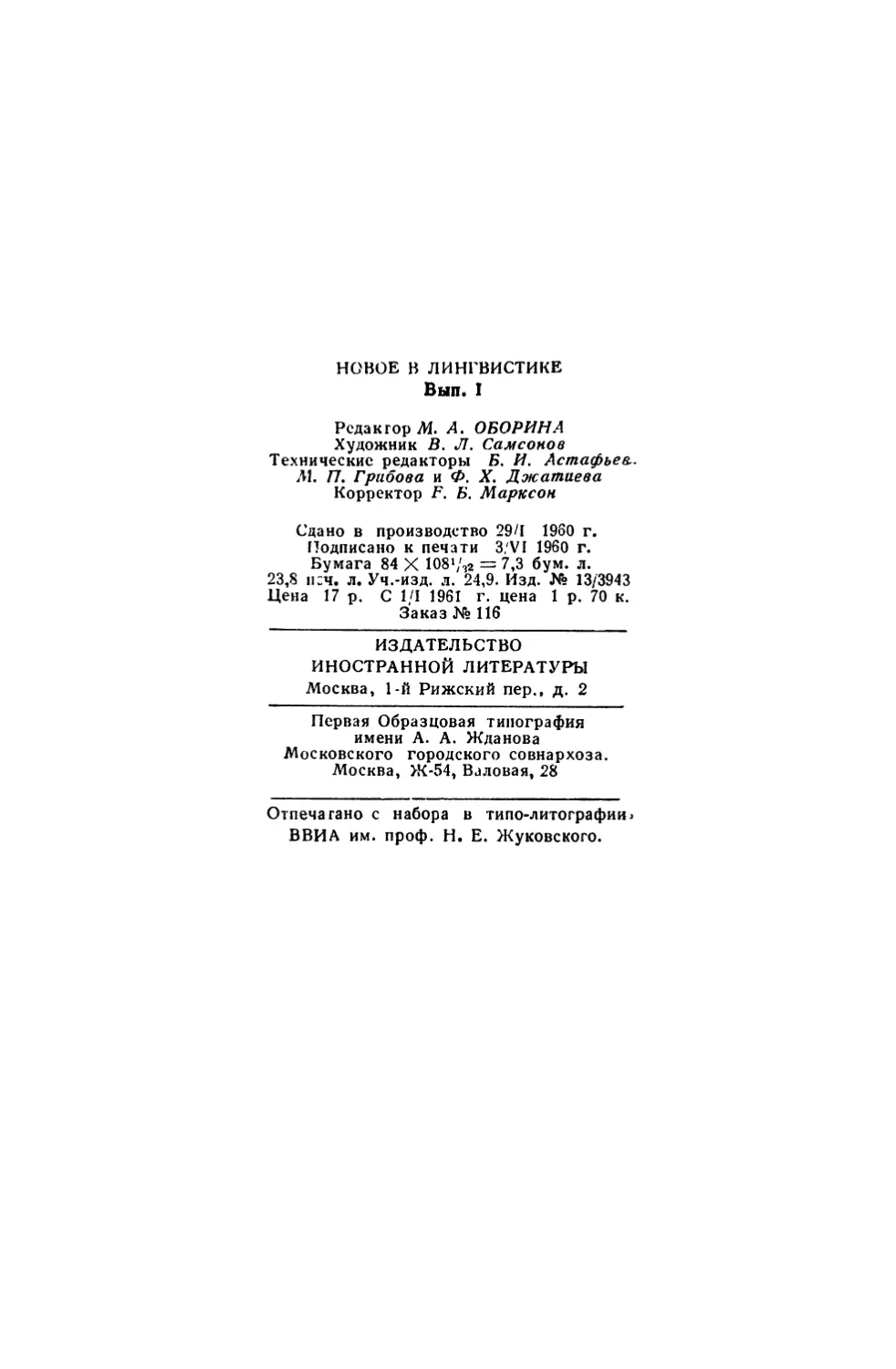Автор: Звегенцева В.А.
Теги: языкознание издательство иностранной литературы зарубежная лингвистика глоссематика
Год: 1960
Текст
НОВОЕ
В ЛИНГВИСТИКЕ
Выпуск 1
составление, редакция
и вступительные СТАТЬИ
В. А. ЗВЕГИНЦЕВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва · 1960
АННОТАЦИЯ
Настоящий сборник представляет собой первый выпуск
непериодической серии „Новое в лингвистике",
включающей наиболее значительные труды зарубежных
лингвистов по вопросам общего языкознания. Первый выпуск
содержит работы о методе глоттохронологии, гипотезе
Сепира — Уорфа и глоссематике.
Редакция литературы по вопросам филологии
ОТ РЕДАКЦИИ
Настоящей книгой Издательство иностранной
литературы начинает выпуск непериодической серии публикаций
под общим названием «Новое в лингвистике». Эта серия
имеет своей целью ознакомить советского читателя с наиболее
значительными явлениями зарубежной науки о языке,
получившими отражение только в статьях или же в
небольших по объему работах. Таким образом, каждый из
выпусков данной серии будет включать подборку статей или
небольших работ, расположенных по тематическому
признаку.
Создание такой серии диктуется теми соображениями,
что не все значительные научные явления получают
монографическое изложение и выходят за пределы
периодических изданий или всякого рода «Трудов», хотя сама по себе
их научная ценность может быть довольно высокой. Кроме
того, настоящая серия позволяет более мобильным и
быстрым образом давать советским языковедам интересующую
их информацию.
«Новое» в лингвистике — понятие условное. Оно может
относиться к только что вышедшей работе, но также и к
такой, которая была напечатана относительно давно, но
только в наши дни стала предметом острых дискуссий и
привлекла общее внимание. Понятие «новое» может
истолковываться и с точки зрения проблематики и интересов
советского языкознания. Все это следует учитывать при
ознакомлении с содержанием отдельных выпусков настоящей
серии.
Первый выпуск включает три раздела, посвященные
методу глоттохронологии, гипотезе Сепира — Уорфа и глос-
сематике. Все три раздела не связаны никакими
внутренними связями. Они представляют сведения из совершенно
5
различных областей науки о языке и характеризуют
различные направления лингвистического исследования. Но
каждый раздел построен по единой схеме: он начинается
вступительной статьей редактора, далее следует подборка
оригинальных работ и затем заключительная статья, дающая
авторитетное истолкование данной проблемы или данного
лингвистического направления с точки зрения
зарубежной науки о языке. В разделе, посвященном глоссематике,
после вступительной статьи редактора помещена статья
Э. Хаугена, которая помогает определить место данного
направления в ряду других лингвистических направлений
и выявить намечающиеся между ними связи. Как
представляется, указанное построение разделов выпуска дает
наилучшие возможности для всестороннего рассмотрения
излагаемых в каждом разделе вопросов.
Издательство ожидает от советских языковедов
рекомендаций относительно содержания последующих выпусков
серии «Новое в лингвистике».
МЕТОД
глоттохронологии
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ДАТИРОВАНИЕ МЕТОДОМ
ГЛОТТОХРОНОЛОГИИ (ЛЕКСИКОСТАТИСТИКИ)
Вопросы датирования всегда занимали в историческом
языкознании значительное место. Однако, если
исключить те сравнительно редкие случаи, когда возникновение
того или иного языкового факта датируется
хронологически определенным памятником, из двух видов датировки —
абсолютной и относительной (она иногда именуется также
топологической) — историческое языкознание, как
правило, использует лишь последнюю. Такое предпочтение
относительной датировки, позволяющей установить только
историческую последовательность фактов языковой
эволюции, т. е. определить, какой из двух или нескольких
фактов произошел раньше и какой позже, не есть
намеренный и сознательный выбор лингвистов, но в значительной
мере обусловливается теми «объективными» недостатками
специальных методов, которые находятся в распоряжении
лингвистического исследования.
Сравнительно-исторический метод, исходящий из
предпосылки постепенной дифференциации первоначальной
единой языковой общности, позволяет, например, установить,
что общеславянский язык есть исторически более позднее
явление, чем общеиндоевропейский, или в лучшем случае
выявить историческую последовательность выделения
отдельных языковых групп из предполагаемого единства, но
этот метод не дает возможности дать хотя бы даже
приближенную абсолютную датировку подобных явлений. Точно
так же обстоит дело и в отношении отдельных фактов истории
языка, когда, например, ориентируясь на процессы первого
и второго передвижения согласных в германских языках,
можно установить последовательность лексических герман-
9
ских заимствований в славянских и финских языках или
латинских заимствований в германских языках, но
абсолютная датировка перехода каждого лексического
элемента в отдельности из одного языка в другой, как правило,
оказывается при этом не всегда возможной.
Еще большей относительностью обладают датировки,
полученные методами внутренней реконструкции или аре-
альной лингвистики (неолингвистики). Так, выработанные
М. Бартоли1 «нормы ареалов» фактически полностью
ориентированы на установление относительного
хронологического соотношения инноваций родственных языков. В
соответствии с его нормами языковые факты, распространенные
на большем ареале или на боковых (латеральных,
маргинальных) ареалах, старше фактов, распространенных на
меньшем ареале или на центральном ареале. Все эти ареаль-
ные нормы перекрываются изолированным ареалом,
который наименее подвержен воздействиям со стороны других
языков или диалектов и поэтому в наименьшей степени
захватывается новыми явлениями (инновациями). Больше
такой временной соотносительности ареальные нормы дать
не могут.
Разумеется, не следует представлять себе дело таким
образом, что историческое языкознание всегда
довольствовалось относительной датировкой и не стремилось связать его
с абсолютной. Однако такого рода попытки носят обычно
весьма приблизительный и условный характер, а самое
главное не основываются на определенном и
апробированном методе. Вместе с тем у всех этих попыток есть общее
свойство, которое заключается в стремлении выйти за
пределы собственно языковых явлений и связать их с «вне-
языковыми моделями» разного порядка — социальными,
идеологическими, культурными и пр., и установить в
этой связи определенные закономерности. К числу такого
рода попыток следует отнести стадиальную теорию акад.
Н. Я. Марра и близкую к ней гипотезу Л. Леви-Брюля о
соотношении языковых и социальных явлений2, работы
1 См. сборник его основных работ «Saggi ai linguistics spaziaie»,
Torino, 1945, а также статью G. B o n f a n t e, On reconstruction and
linguistic msthod, «Word», vol. I, 1945, vol. II, 1946.
2 L. Levy-Bruhl, Des rapports de la linguistique et de la
sociologie, Actes du 4-eme Congres international des linguistes, Copenhague,
1938.
10
А. Соммерфельта1 и Г. Хойера2, которые возникновение
отдельных языковых явлений ставят в связь с характером
и формами культуры, и особенно теорию хронологического
отношения культурных и языковых элементов Э. Сепира 3.
Совершенно на иных основах строится метод лексикоста-
тистики или глоттохронологии, предложенный для
установления абсолютной датировки американским
языковедом Моррисом Сводешем 4. Глоттохронология использует
технику точных наук и, в частности, имеет много общего
со способом датировки археологических находок
посредством определения в них содержания углерода. Хотя по
признанию самого М. Сводеша его метод находится еще в
процессе становления и нуждается в уточнении,
совершенствовании и основательной проверке, он уже достаточно широко
известен и даже включен в некоторые пособия по
лингвистике5. Более или менее определились и рабочие приемы
глоттохронологии, поэтому вполне своевременно
представить ее на рассмотрение советских языковедов, предварив
публикацию двух основных работ М. Сводеша (и критической
статьи Г. Хойера) некоторыми общими соображениями.
Метод глоттохронологии имеет ограниченное
применение и может использоваться только для определения
приближенной абсолютной датировки процессов
дифференциации родственных языков. Говоря кратко (с тем, чтобы не
пересказывать содержание статей М. Сводеша, приводимых
1 A. Sommerfelt, La langue et la societe, Oslo, 1938.
Противоположная точка зрения представлена в статье J.Kurilowicz,
La construction ergative et le developpement «stadial» du langage, «Annali
delia scuola normale superiore di Pisa», ser. II, vol. 18, 1949.
2 H. Hoijer, Linguistic and cultural changes, «Language», vol.
24, 1948.
8 E. Sapir, Time perspective in Aboriginal American culture:
A study in method, Selected writings, Berkeley and Los Angelos, 1949.
4 Помимо приводимых в настоящем сборнике статей, принципы
глоттохронологии затрагиваются еще в следующих работах М.
Своде ш а: «Diffusional cumulation and archaic reidue as historical
explanations» в «Southwestern journal of anthropology», vol. 7,1951; «Time depths
of American linguistic groupings» в «American anthropologist.», vol. 56,
1954; «Perspectives and problems of Amerindian comparative linguistics» в
«Word», vol. 10, 1954 См. также R. Lees, The basis of glottochrono-
logy, «Language», vol. 29, 1953 и др. Наиболее полное рассмотрение
метода глоттохронологии см. в работе D. Н. Hymes, Lexicostatis-
tics so far, «Current Anthropology», vol. I, № 1, 1960. Там же дана
библиография.
5 См., напр., Ch. Hockett, A course in modern linguistics, New
York, 1958.
11
ниже), метод глоттохронологии основывается на следующих
четырех предпосылках1:
1. Определенная часть словаря всех языков
относительно стабильна и образует основное лексическое ядро. В это
основное лексическое ядро входят местоимения,
числительные, наименования частей тела, географических явлений ипр.
2. Степень сохраняемости элементов основного
лексического ядра постоянна на протяжении всего времени. Так,
установив некоторое количество слов основного ядра, мы
можем быть уверены, что определенный процент этих слов
будет оставаться неизменным в равные периоды времени
(например, в первое, во второе и в третье тысячелетия).
3. Процент утраты слов основного ядра примерно
одинаков во всех языках (обратная зависимость).
4. Если известен фактический процент сохранившихся
генетически близких элементов основного лексического
ядра любой пары родственных языков, то можно вычислить
время, прошедшее с того момента, когда эти языки начали
процесс расхождения (дивергенции).
Как видно из этих предпосылок, метод
глоттохронологии тесно связан с выделением той лексической категории,
которая в советском языкознании получила наименование
основного словарного фонда, но для науки о языке является
далеко не новой. Несомненно, именно подобного рода
категорию имел, например, в виду еще Расмус Раск, когда
писал о «...наиболее существенных, материальных,
необходимых и первичных словах, составляющих (наряду с
грамматикой) основу языка»2. В советском языкознании об этой
лексической категории, которую в порядке «развития»
нашей науки о языке некоторые языковеды объявили
методологической, писал и до того, как она превратилась(правда, на
сравнительно короткий период) в методологическую
проблему, Л. П. Якубинский2 и В. И. Абаев4. Однако, несмотря
1 См. S. Gudschinsky, The ABC's of lexicostatistics, «Word»,
vol. 12, 1956.
2 P. Pаск, Исследования в.области древнесеверного языка, цит.
по «Хрестоматии по истории языкознания XIX и XX вв.», сост.
В А. Звегинцевым, Учпедгиз, 1956, стр. 38.
3 Л. П. Якубинский, Несколько замечаний о словарном
заимствовании, «Язык и литература», т. I, вып. 1—2, 1926.
4 В. И. Абаeв, Язык как идеология и язык как техника, «Язык
и мышление», вып. II, 1934; его ж е, О взаимоотношении иранского
и кавказского элемента в осетинском, сб. «Осетинский язык и фольклор»;
I, Изд. АН СССР, 1949.
12
на огромное количество работ, которые были посвящены у
нас проблеме основного словарного фонда, он так и остался
почти неуловимой категорией, а границы и критерии его
определения никак не удалось установить хоть с какой-
нибудь степенью точности.
Тем не менее богатый опыт работы советских языковедов
по определению слов основного словарного фонда,
несомненно, поможет им составить правильное суждение о методе
глоттохронологии М. Сводеша, наиболее слабым местом
которого также является составление списка слов основного
лексического ядра.
Критика предложенного М. Сводешем метода
направляется главным образом именно против принципов отбора
«опытного списка» слов основного ядра. Стремясь уточнить и
усовершенствовать избранный им метод, М. Сводеш
точно так же свои усилия направляет преимущественно в
сторону более четкого и лингвистически обоснованного
определения способов установления «опытного списка»,
одинаково пригодного для любого языка. В порядке уточнения
«опытного списка» он свел количество включаемых в него
слов с 200 до 100. Однако и этот уточненный и
уменьшенный «опытный список» представляется спорным во
многих отношениях, о чем подробно и, бесспорно, обоснованно
говорит Г. Хойер в своей статье, которая следует за
работами М. Сводеша в настоящем сборнике1. Нам
представляется необходимым сделать по этому наиболее
существенному для глоттохронологии поводу несколько
добавочных замечаний.
Когда М. Сводеш пытается составить «опытный список»,
пригодный для всех языков, и формулировать
универсальные правила его составления, он ставит перед собой
фактически невыполнимую задачу. В доказательство этого
утверждения можно сослаться на очевидную несовместимость
структурных моделей лексики разных языков с необозримым
многообразием культур, оказывающих прямое воздействие
на формирование указанных структурных моделей. Но самым
веским доказательством в пользу такого пессимистического
1 Несколько в другом направлении проводит свою критику Ch.
Hockett. См. его статью «Linguistic time-perspective and its
anthropological uses» в «International Journal of American Linguistics»,
vol. 19r 1953, p. 146—152. Ответ M. Сводеша на критические замечания
Ч. Хоккетта см. в «Comment on Hocketts critique», "International
Journal of American Linguistics», vol. 19, 1953, p. 152—153,
13
вывода является опыт работы самого М. Сводеша (и других
языковедов, применявших его метод к конкретным языкам)
над установлением элементов «опытного списка». М.
Сводешу во многом пришлось отказаться от собственно
лингвистических критериев его определения. В действительности
«опытный список» строится у него главным образом на
понятийных признаках, и именно поэтому об отдельных его
элементах можно говорить только как о понятийных,
а не как о лингвистических. И основная трудность в
использовании метода глоттохронологии возникает как раз тогда,
когда отдельные клетки понятийной системы, каковой
фактически и является «опытный список», заполняются
конкретными лексическими элементами определенных языков.
Во многих случаях эти лексические элементы не
укладываются в понятийную систему «опытного списка», и с тем,
чтобы его все-таки заполнить, приходится прибегать к
натяжкам, которые не могут не вызвать сомнений и возражений
со стороны лингвистов.
Начать с того, что лингвистам нередко приходится иметь
дело с языками, которые не обладают словами для
обозначения обобщенных явлений или процессов. В «списке»
М. Сводеша содержатся такие слова, как дерево, рука,
черный, белый, ходить, умирать и т. д. Но, например, по
свидетельству Эйре (описывающего одно из австралийских
племен), «у них нет родовых слов для обозначения дерева,
птицы, рыбы и пр. вообще; у них есть лишь видовые
термины, приложимые к каждой особой породе деревьев, рыб,
птиц и т. д.»1 Аналогичное свидетельство относительно
слова рука мы обнаруживаем у Грэя: «Австралийцы имеют
названия почти для каждой части человеческого тела. Так,
спросив, как по-туземному называется рука, один
иностранец услышал в ответ слово, обозначающее верхнюю часть
руки, затем слово, обозначающее предплечье, далее слово,
обозначающее правую руку, еще одно слово — левую руку
и т. д.»2 Можно подобрать подобные свидетельства почти
на каждый элемент «опытного списка». Все они указывают
не только на часто непреодолимые трудности, с которыми
приходится иметь дело при заполнении «списка», но дают
1 E. Eyre, «Journals of expeditions of discovery into Central
Australia», vol. II, London, 1846, p. 392—393.
2 G. Grey, «Journal of two expeditions of discovery in North-West
and Western Australia», vol. II, London, 1841, p. 209.
14
достаточно убедительный материал и для общего вывода.
А вывод состоит в том, что универсальный «список»,
пригодный для всех языков мира, составить невозможно. Он
неизбежно должен варьироваться для разных групп языков
или для разных культур (или, скорее, для того и другого,
вместе взятых).
К этому следует добавить, что поскольку модель
«опытного списка» составлена на английском языке, то это в свою
очередь накладывает определенный отпечаток и на отбор
иноязычных эквивалентов: они неминуемо будут
приближаться по своей понятийной сфере к английским словам,
составляющим «опытный список». Ведь большинство слов
основного лексического ядра, как и большинство наиболее
употребительных слов, полисемантичны. И хотя к ряду
элементов «опытного словаря», выраженного средствами
английского языка, М. Сводеш делает пометки, чтобы
уточнить их «значение» (а точнее говоря—понятийное
содержание), это не спасает положения. Несколько взятых наудачу
примеров ясно показывают, о чем идет речь. Так, английское
ashes может быть передано по-русски как зола или пепел,
англ. hear — как слышать и слушать, англ. animal —
как зверь и животное, англ. blow—как дуть и веять,
англ. child — как ребенок и дитя и пр. Даже если
попытаться максимально отграничиться от особенностей, связанных
с языковой природой элементов модели «опытного словаря»
(а характер полисемантизма английских слов и само их
лексическое значение определяются во многом собственно
лингвистическими факторами), и ориентироваться на их
чисто понятийное содержание (к чему, как указывалось
выше, и подводят нас выдвинутые М. Сводешем критерии),
то и в этом случае при переводе данных понятийных
элементов на лексические единицы других языков неизбежно
придется столкнуться с теми же самыми трудностями. Так,
понятие, определяемое в толковых словарях
описательно как «наличие представления или сведения о чем-
либо» (англ. know), может быть передано в русском языке
глаголами знать или ведать, а «словесное выражение своих
мыслей» (англ. say) можно обозначить русскими глаголами
говорить или сказать и т. д. Если обратиться к
альтернативе знать или ведать, то оба эти слова имеют разветвленную
систему генетически близкой лексики в ряде родственных
языков. Ср. ведать — лат. video, vidi, скр. veda, зенд. vaeda,
гот. wait «я знаю», арм. gitem «я знаю», др.-прусск. waidimai
15
«мы знаем», ирл. ro-fetar «я знаю» и пр.; знать — лат.
(g)notus, ирл. gnath, скр. janati «знает», зенд. zanaiti «знать»,
др.-перс, xsnasatiy «они знали бы» и пр.
Таким образом, и ведать и знать в соответствии с
правилами, установленными М. Сводешем, имеют одинаковое
право использоваться в качестве элементов «опытного списка»
в соответствующей паре языков. Однако судьба
этимологических соответствий глаголов ведать и знать в других
языках неодинакова, в частности, в случае с глаголом знать
эта форма уступила место иным основам. Таким образом,
получается, что вычисление коэффициента устойчивости
во многом зависит от случайности — от выбора того или
иного конкретного слова, одинаково правомерного с точки
зрения критериев М. Сводеша. Ведь следует учесть, что
с выбором, подобным вышеописанному, исследователю
придется сталкиваться не в единичных случаях; чуть ли не
каждый элемент «опытного списка» дает повод для такого рода
произвольности в установлении конкретных элементов
списка основной лексики для каждого языка в отдельности.
С тем чтобы максимально объективизировать методы
отбора лексики, очевидно, можно было бы обратиться к
помощи частотных подсчетов. Но в действительности они также
не способны дать удовлетворительное решение данной
проблемы, и хотя не буквально, а с позиций
приблизительности, на основе «чувства» языка мы всегда опираемся на
них. Частотные подсчеты в любом виде могут дать сведения
лишь о том, какое положение занимает данный лексический
элемент в определенный период развития языка. Будучи
слепы к этимологическим связям, они могут неправомерно
выдвинуть на передний план слова, которые недавно и,
возможно, временно заняли место в кругу основного
лексического ядра, и отбросить в качестве архаизмов на далекую
периферию слова, несомненно более подходящие. В этих
случаях, бесспорно, необходимо обращение к
историческому коррективу.
Но обращаясь к историческому коррективу, мы
неизбежно приходим к весьма серьезным выводам относительно
рабочих возможностей метода глоттохронологии.
Выясняется парадоксальное обстоятельство, что без достаточно
основательных данных, которые способна дать только хорошо
документированная история языка, пользование
глоттохронологией может привести к весьма спорным
результатам. При наличии же одной синхронической плоскости и
16
при выключении документально-исторического корректива
заполнение во что бы то ни стало строго ограниченного
числа понятийных клеток в «опытном списке» не может не
привести к известной произвольности, устранить которую
не способна частотность употребления слов.
На первый взгляд может показаться, что произвольность
отбора лексики основного ядра для каждого языка в
отдельности нейтрализуется правилом, в соответствии с которым
по возможности отбирается такая лексика, которая имеет
этимологические параллели в данной паре языков.
Отсутствие этимологических эквивалентов дает материал для
установления сохранившихся элементов основного лексического
ядра. Однако и это правило само по себе и опять-таки
без исторических свидетельств не спасает положения,
поскольку не учитывает такого весьма существенного
явления, как взаимное лексическое заимствование в данной паре
языков. А такого рода заимствование может иметь не
только весьма значительный объем, примером чему служит
проникновение немецкой лексики в датский язык, но
захватывать также и лексику основного лексического ядра,
свидетельством чего являются скандинавские лексические
заимствования в английском (а если выходить за пределы
близкородственных языков, то можно сослаться и на
пример французского лексического влияния на английский; так,
без обращения к истории англ. animal и франц. animale
могут истолковываться как образцовый случай
этимологически близкой исконной пары элементов списка).
Метод Сводеша не учитывает должным образом и
семантических явлений (в их собственно лингвистическом
истолковании). Как известно, от часто весьма значительных
семантических изменений не защищены никакие слова, в том
числе, как показывает историческая семасиология, и слова
основного лексического ядра. Эти семантические сдвиги
трудно уложить в какую-либо определенную закономерность,
если рассматривать их изолированно, вне истории
определенной лексико-семантической системы (опять история!),
и поэтому их весьма сложно учесть какой-нибудь
специальной оговоркой или особым правилом
глоттохронологического метода. Но поскольку они постоянно имеют место, то
с своей стороны не могут не оказать дезорганизующего
влияния на математически прямолинейные построения
глоттохронологии. Следует помнить, что, как указывалось выше,
«опытный список» фактически представляет универсальную
2 Заказ № 11 б
17
понятийную систему, заполнение отдельных клеток которой
лексическими единицами конкретных языков проводится
также в значительной мере на основе понятийных
признаков (или на основе «значения» слов; ведь очевидно, что
такую понятийную клетку нельзя заполнить словом,
значение которого не подходит под понятие, закрепленное
за данной клеткой). А так как обычно семантические сдвиги
в понятийном отношении переориентируют слова, то и
оказывается (как это, в частности, показывает пример со
словом deer, разбираемый М. Сводешем), что в «опытный
список» не попадают, вероятно, наиболее подходящие слова,
и при этом вовсе не потому, что они выпали из языка, а
только вследствие того, что они ушли в другие понятийные сферы,
может быть сами по себе весьма существенные (особенно
для данного периода развития народа — носителя
конкретного языка), но оказавшиеся за пределами совокупности
понятий «опытного списка».
Именно так и поступает М. Сводеш даже тогда, когда
(как в случае с deer) ему известно, что исконное слово
сохранилось в языке, но лишилось своего «первоначального»
значения. Этот пример не только еще раз подчеркивает
понятийную сущность метода М. Сводеша (слово-то осталось,
но оно переориентировалось на другое понятие), но и
показывает, как уточняющие правила и оговорки, вступая в
прямое противоречие с декларированным основным принципом
метода, разрушают его.
Совершенно очевидно, что подобного рода факторы
отнюдь не способствуют уточнению баланса утерянных и
сохранившихся элементов «опытного списка». А так как под
влиянием этих факторов демаркационная линия,
разделяющая лексические группы, может уклоняться в обе стороны, то
полученные в результате датировки также неизбежно
приобретают до известной степени произвольный характер.
Сам М. Сводеш отлично осознает опасность, грозящую его
методу со стороны такого рода факторов. Большую их часть
он объединяет в одну общую категорию, которая носит
у него название «дублетности». Но, признавая, что
«дублетность» вносит элемент случайности в лингвистическое
датирование, он пока бессилен преодолеть дезорганизующие
последствия ее влияния. Возможно, в данном случае есть
основания говорить уже об объективных недостатках
метода, устранить которые можно только посредством
изменения самих принципов, положенных в основу метода.
18
Следует отметить также, что разработанная М. Своде-
шем процедура датировки, как правило, применяется к
одной паре языков и притом близкородственных. Но как
следует поступать, если оказывается необходимым
датировать распад целых языковых групп, представленных ныне
значительным количеством языков, например славянские и
балтийские, славянские и германские и т. д.? Следует ли
выбирать по одному представителю от каждой группы
языков и сводить их в сопоставляемую пару (на основании
какого критерия выбирать такие языки?), или осуществлять отбор
элементов «опытного списка» из совокупности языков
каждой группы, или же проводить этот отбор по всей сумме
языков? Какого метода надо придерживаться, если оказывается
необходимым установить время дивергенции одной группы
языков от совокупности других (например, хеттских от
прочих индоевропейских языков), имея к тому же в виду, что
доступные рассмотрению материалы этих языков
располагаются в разных временных плоскостях? Именно подобного
рода хронологические данные в первую очередь интересуют
лингвистов, но их-то глоттохронология, видимо, и не
способна предоставить, поскольку ввиду своей сложности они
превосходят скромные возможности данного метода.
Наводит на размышления и факт использования М. Сво-
дешем в его опытных и контрольных исчислениях языка
одного автора (например, Плавта) как представителя
целого периода развития языка. В этом случае М. Сводеш
поступает согласно свободному выбору. Но иногда отождествление
языка автора с языком эпохи оказывается вынужденным.
Это имеет место, в частности, когда целый язык (как,
например, готский) представлен фактически единственным
памятником. При свободном и вынужденном использовании
авторского языка в качестве опорного для исследования
допускается очевидная натяжка. М. Сводеш полагает, что отобранные
им элементы «опытного списка» в силу своей универсальности
находятся вне воздействия со стороны факторов
индивидуального, стилистического, диалектного и прочего
характера. Опыт изучения подобных явлений говорит, однако, о
неправомерности такого допущения. Все они, конечно,
весьма способствуют созданию «дублетности», но М. Сводеш
совершенно неправомерно игнорирует их.
Можно упомянуть еще о некоторых негативных для
метода факторах, частично примыкающих к
предшествующим. Они связываются со структурными особенностями язы-
2*
19
ков. В одних случаях речь здесь идет о том, что нередко
слова (и притом обычно наиболее употребительные)
сливаются, образуя чаще всего из двух слов одно. Так, в
первоначальном варианте «опытного списка» фигурировало слово
not «нет, не». Но это слово в английском языке
представляет как раз пример такого слияния, поскольку оно
составлено из двух слов: na-wiht «никакая вещь». В других случаях
приходится сталкиваться с тем, что отдельные элементы,
функционирующие в «опытном списке» как самостоятельные,
в некоторых языках инкорпорируются другими словами,
выступая в этом случае только в качестве элементов
сложных слов. Ф. Боас приводит в своем «Руководстве по языкам
американских индейцев» достаточное количество примеров
подобного рода, и едва ли есть надобность повторять их
здесь. Однако важно вспомнить его слова о том, что
«демаркационная линия между тем, что мы обычно называем
двумя словами, в этом случае, строго говоря, исчезает»1.
Л. Леви-Брюль подтверждает этот вывод своим собранием
языкового материала. «Во многих языках
североамериканских индейцев,— пишет он,— нет отдельного слова для
глаза, руки или для других частей и органов тела: слова,
обозначающие эти предметы, встречаются всегда с
инкорпорированным или приставленным местоимением, обозначая
„мою руку", „твой глаз", „его ногу" и т.д. Если бы какой-
нибудь индеец нашел в полевом госпитале руку, упавшую
с операционного стола, он выразился бы приблизительно
так: „Я от такого-то нашел его руку"»2. М. Сводеш борется
с явлениями подобного рода двояким путем. Он или
приводит большое количество различных оговорок (слова
«опытного списка» не могут быть связаны с семантическими
особенностями языка и с культурой народа, должны быть
универсальными, легко распознаваемыми, не сложными, не
двусмысленными, не иметь синонимов или потенциальных
дублетов, не быть звукоподражательными, не обозначать
действия и т. д.), строго придерживаясь которых вообще не
оказалось бы возможным составить «списка» для подобных
языков, или же стремится свести свой «опытный список»
к такому минимуму, который исключил бы наличие подоб-
1 F. Boas, Handbook of American Indian languages, Washington,
1911.
2 Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, изд. «Атеист»,
1930, стр. 111.
20
ных случаев. Однако уже и приведенная из книги Леви-
Брюля цитата, содержащая в качестве примеров такие
(оставленные во втором варианте) слова, как рука и нога,
свидетельствует о тщетности попыток М. Сводеша.
Наконец, следует указать еще на одно обстоятельство,
уже другого рода, значительно сужающее возможности
применения метода глоттохронологии. Излагая принципы
метода, С. Гудщински пишет, что использование его
предполагает «отсутствие в процессах миграций, завоеваний
или других видов социальных контактов каких-либо
вмешательств, способствующих убыстрению или замедлению
дивергенции языков»1. Фактически в данном случае С.
Гудщински повторяет оговорки, которые делает сам М. Сво-
деш. Учет этих оговорок означает, что, во-первых, надо
опять-таки знать историю соответствующих языков, чтобы
быть уверенным, что подобные вмешательства не имели
места, а во-вторых, совершенно неосновательно представлять
себе дивергенцию языков как абсолютно прямолинейный
процесс, происходящий в историческом и географическом
вакууме и не допускающий возможности временных
контактов рассматриваемых языков, воздействия на них
субстратных явлений, наличия географических или политических
условий изоляции и т. д. Трудно себе представить хотя бы
один случай процесса дивергенции языков, который не
сопровождался бы специфическими для него условиями его
осуществления. Именно поэтому полное принятие данной
оговорки в большинстве случаев означает фактический
отказ от использования метода глоттохронологии. М. Сводеш,
правда, обещает в дальнейшем совершенствовании своего
метода устранить и данный недостаток, но пока нельзя не
учитывать этих ограничительных моментов.
В связи с этим уместно будет заметить, что
рассматриваемый недостаток метода глоттохронологии имеет более
глубокие корни. Он обусловлен общими особенностями
применения математических методов к исследованию явлений языка.
Если традиционное лингвистическое исследование в первую
очередь было направлено на вскрытие всей совокупности
специфических условий, в которых происходило становление
того или иного языкового явления, и на объяснение этими
специфическими условиями характерных особенностей са-
1 S. Gudschinsky, The ABC's of lexicostatistics, «Word»,
vol. 12, 1956, № 2, p. 178.
21
мого изучаемого явления, то математические методы,
наоборот, игнорируют подобные специфические условия и
особенности (а во многих случаях просто не способны их
учесть, как это слишком часто имеет место и в
глоттохронологии) и стремятся свести всю сложность и многообразие
лингвистических явлений к однозначным характеристикам
и универсальным построениям.
В адрес метода глоттохронологии можно сделать много
упреков, его применение сопровождается большим
количеством весьма существенных оговорок, и сам М. Сводеш
говорит о настоятельной необходимости устранения ряда
значительных его недостатков. Но вместе с тем не следует
закрывать глаза и на то обстоятельство, что эмпирические
испытания метода глоттохронологии на тех процессах
дивергенции языков, датировка которых допускает проверку
на основе исторических данных, дали в ряде случаев
удовлетворительные результаты. Именно эти факты и
заставляют отнестись со вниманием к методу глоттохронологии,
трезво оценивая его возможности и не закрывая глаза
на его многочисленные недостатки.
В. Звегинцев
Моррис Сводеш
ЛЕКСИКОСТАТИСТИЧЕСКОЕ ДАТИРОВАНИЕ
ДОИСТОРИЧЕСКИХ ЭТНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ,
(НА МАТЕРИАЛЕ племен эскимосов
И СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ)
Предыстория представляет собой длительный период
существования человеческого общества на ранних ступенях
его развития и продолжается до того времени, когда была
изобретена письменность, сделавшая возможной
регистрацию происходящих событий. В некоторых странах этот
период уступает место современной эпохе зафиксированной
истории уже шесть-восемь тысячелетий тому назад, в
других — лишь несколько последних столетий. Повсеместно
предыстория представляет собой некую огромную, темную
бездну, в которую стремится проникнуть наука. Наукой
были изысканы действительно эффективные средства для
освещения незафиксированного прошлого, куда входят
показания археологических находок, а также другие
свидетельства о географическом распространении факторов
материальной культуры в наиболее ранние из известных
периодов.
Очень многое зависит от тщательного анализа и
сопоставления научных данных, от правильного истолкования
сущности этих данных. В научном исследовании важно
сочетать свидетельства лингвистики и этнографии, а также
археологии, биологии и геологии. Наравне с этим
необходимы поиски новых средств к расширению наших знании и
более точной передаче наших выводов относительно
предыстории. В последнее время одной из наиболее замечательных
тенденций в области изучения предыстории было развитие
объективных методов, при помощи которых измеряется
1 M. Swadesh, Lexico-statistic dating of prehistoric ethnic
contacts, Proceedings of the American philosophical society, vol. 96,
1952, p. 452—463.
23
количество истекшего времени. Там, где раньше
использовались предположения и субъективные суждения,
сегодня мы уже можем относительно точно устанавливать
определенные даты в предыстории. Развитие упомянутых
методов тем более существенно, что их применение значительно
увеличивает возможность сопоставления отдельных
реконструируемых форм.
Несомненно, колоссальную ценность имело развитие
радиоуглеродного датирования1. Этот метод основывается
на открытии, сделанном У. Ф. Либби; оно заключается в
том, что во всяком животном и растительном организме
содержится определенный процент радиоактивного углерода—
нестойкого изотопа, который в результате
радиоактивного распада превращается в азот. В течение жизни
растения или животного радиоуглерод постоянно
поступает в организм из воздуха, причем процентное
соотношение между радиоактивным и стабильным изотопами
углерода сохраняется постоянным. После смерти
организма радиоуглерод постепенно распадается с постоянной
скоростью. Поскольку скорость распада постоянна,
появляется возможность установить путем измерения все
еще происходящего процесса распада радиоактивного
изотопа углерода, содержащегося в образце органического
происхождения, сколько времени прошло после смерти
организма. Следовательно, представляется возможным до
известной степени точно установить возраст любого
участка археологических раскопок, содержащего остатки
кости, дерева, травы или любого другого вещества
органического происхождения.
Лексикостатистическое датирование в отличие от
углеродного использует совершенно иной материал, но его
теоретический принцип одинаков. Исследования, проведенные в
течение последних нескольких лет автором настоящей
статьи и некоторыми другими учеными, показали, что во
всех языках та часть лексического запаса, которая
обозначает коренные, фундаментальные и вместе с тем
обыденные понятия, в противовес специальной, или так называемой
«культурной», части словаря изменяется с относительно
постоянной скоростью. Благодаря этому на основе процента
1 См. Frederick Johnson, Radiocarbon dating, «Mem. Soc.
Amer. Archaeol.», 8, 1951.
24
сохранившихся элементов в соответствующим образом
отобранном опытном словаре можно установить количество
истекшего времени. Где бы ни происходило разделение языкового
единства на две или несколько частей таким образом, что в
дальнейшем языковые изменения идут различными путями в
каждом из вновь образованных языков, процент одинаковых
слов, сохранившихся в обоих языках, показывает то
количество времени, которое прошло с момента их разделения.
Следовательно, где бы нам ни встретились два языка, которые,
как свидетельствует сравнительный лингвистический
анализ, являются конечным результатом дробления единого
языка в доисторическом прошлом, мы сможем определить,
когда произошло их разделение.
Прежде чем продолжить детальное описание данного
метода, рассмотрим в качестве иллюстрации один
конкретный пример.
Языки эскимосский и алеутский ни в коем случае не
представляют собой один и тот же язык. Эскимос не
понимает алеута, если он не выучил его язык, как и любой
другой иностранный язык, хотя, возможно, некоторые
сходства в структуре и случайные словарные совпадения
несколько облегчают ему изучение алеутского языка.
Приблизительно в том же положении оказывается и англичанин,
изучающий гаэльский или литовский язык. Ранее было уже
доказано, что эскимосский и алеутский языки являются
современными дивергентными формами прежде единого
языка1. Иными словами, сходство между алеутским и
эскимосским языками не является ни случайным, ни
полностью обусловленным диффузным влиянием одного языка на
другой. Характер совпадений между этими двумя языками
подтверждает вывод о том, что мы имеем ярко выраженные
черты ранее единого языка. Для того чтобы определить, в
какой момент древности языковое единство распалось, мы
применяем лексикостатистическое вычисление. Оно
основывается на вычислении процентного отношения сходных эле-
1 Два недавно опубликованных независимо друг от друга
исследования представляют конкретные доказательства этого родства:
Knut Bergslund, Kleinschmidt Centennial, IV: Aleut
demonstratives and the Aleut-Eskimo relationship, «Intern. Journ. Amer. Ling.»,
17, 1951, p. 167—179; Gordon Marsh and Morris Swadesh,
Kleinschmidt Centennial, V: Eskimo-Aleut correspondences, «Intern. Journ.
Amer. Ling.», 17, 1951, p. 209—216.
25
ментов в опытных словарях эскимосского и алеутского
языков, при этом обнаруживается, что прошло 2900 лет с
момента разделения этих в настоящее время различных
языков1. Подобное же изучение эскимосского языка
показывает, что его диалекты, начиная от полуострова Сьюард на
Аляске и до самой Гренландии, отпочковались один от
другого в течение сравнительно недавнего периода времени.
Этот период точно до сих пор не определен, но, очевидно,
это произошло на протяжении нескольких последних
столетий. Однако разница между данной группой диалектов и
диалектами, расположенными вокруг Юкона и около
восточного мыса в Сибири, свидетельствует о разных путях
развития рассматриваемых языков в течение тысячи лет2.
Используя эти и некоторые другие даты, которые могут
быть определены при сравнении других близкородственных
диалектов, можно многое узнать об основных путях
миграций и культурных влияний эскалеутов3 в доисторические
времена.
Лексикостатистические данные должны сопоставляться
со свидетельствами других наук, включая сюда данные
археологии, сравнительной этнологии и лингвистической
палеонтологии. Различные отрасли науки уточняют и
подтверждают друг друга и помогают вписывать
недостающие детали в общую картину истории.
Такого соотносительного изучения истории эскалеутов
пока еще не было предпринято, однако данные о
возрасте эскалеутов, установленные при помощи
лексикостатистического вычисления, были частично соотнесены с
данными археологии. Образчики углерода, добытые для
пробы Лафлином и Маршем в древнейших стойбищах
алеутов и подвергнутые лабораторному исследованию с точки
1 G. Marsh, M. Swadesh, «Intern. Journ. Amer. Ling.», 17,
1951, p. 169.
Время, которое указывалось в этой статье (4000 лет), было неточно
вычислено на основе коэффициента сохраняемости, равного 85
процентам. Исправление, основанное на точном вычислении, при 81 проценте
± 2 процента, дает 2 900±400 лет. Каким путем была установлена
исправленная константа сохраняемости, объясняется ниже в
настоящей статье.
2 Вычислено на основании процента совпадений, который
приводится в статье Сводеша «Kleinschmidt Centennial», III: Unaaliq and
Proto-Eskimo, «Intern. Journ. Amer. Ling.», 17, 1951, p. 66—70.
3 «Эскалеуты» — условное название для реконструируемого
единства эскимосов и алеутов: эск[имосы] + алеуты.— Прим. ред.
26
зрения их радиоактивности, показали, что их возраст равен
3000 лет1, и практически совпадает с полученными
независимо от этого данными лексикостатистики. Данные
лексикостатистики показывают, что предки эскимосов и алеутов
принадлежали к единому племени вплоть до начала
заселения островов.
Сведения о возрасте эскалеутов нужно сопоставить с
другими имеющимися сведениями, для того чтобы
сформулировать некоторые выводы о возможных путях
доисторических миграций эскимосов в Новый свет. Для этого
необходимо датирование некоторых лингвистических фактов,
относящихся к языкам, носители которых располагались
по обеим сторонам Берингова пролива, для этого
необходимо и соотнесение лингвистических фактов с фактами
географического распространения. Поскольку в данной области
сделано пока еще мало, значение получаемых фактов не
может быть всесторонне обсуждено.
Мы можем заметить, однако, что племя надин как будто
показывает период расхождения более краткий, чем у
эскалеутов2. Отсюда можно заключить, что эскалеуты
вступили на территорию Америки последними. Оба племени
сравнительно недавно появились в Новом свете, поэтому
логично искать племена, близкородственные им по языку,
скорее в Евразии, чем в Америке. Время миграции —
всего 3000 лет назад — оставляет надежду обнаружить
упомянутые родственные племена. Это подтвердило бы мысль о
родстве племен эскалеутов с урало-алтайскими и
индоевропейскими племенами, а племени надин — с
китайско-тибетскими3. Тщательное изучение вероятности этих предпо-
1 William Laughlin and Gordon Marsh, A new view of
the history of the Aleutians, «Arctic», 4, 1951, p. 75—88, особенно
91. Точная углеродная дата — 3,018±230 лет.
2М. Swadesh, Diffusional cumulation and archaic residue as
historic explanations, «Southwestern journ. anthropol.», 7, 1951, p. 1—21,
особенно p. 14. Процент соответствий в языке атабасков и тлингит
указывает на 2000 лет после разделения. Общий период для языков
надин, очевидно, несколько более продолжителен.
3 L. L. Hammerich, Can Eskimo be related to Indo-European?,
«Intern. Journ. Amer. Ling.», 17, 1951, p. 217—223; Robert Shafer,
Athapaskan and Sino-Tibetan, «Intern. Journ. Amer. Ling.», 18, 1952,
p. 12—19. Обе эти статьи обладают тем недостатком, что в них
рассматривается по одной ветви каждого племени, а не все племя в целом.
Несмотря на то, что получаемые результаты все же удовлетворительны,
было бы лучше рассматривать племя надин в целом, включая тлингит
и хейда, так же как и племя атабасков и племя эскалеутов, а не просто
27
ложений с помощью лексикостатистического метода, а
также с учетом данных, полученных другими отраслями науки,
в значительной мере разъяснило бы вопрос о
доисторическом расселении народов западного полушария.
Определение константы
Тот факт, что основная часть словаря изменяется с
постоянной скоростью, был открыт случайно, причем углеродное
датирование было особым стимулом, обусловившим это
открытие. Достижения в области радиоуглеродного
датирования четыре года назад навели автора на мысль заняться
изучением скорости изменения словаря. Начиная свои
исследования, автор надеялся определить только
приблизительный максимум скорости изменения. На вечерней
конференции антропологов фонда Викинга 12 марта 1948 г. автор
выступил с докладом на тему «Значение времени в языковом
расхождении», доказывая важность приблизительного
подсчета языковых изменений. Некоторые пункты тезисов
к этому докладу, размноженные на мимеографе фонда
Викинга, гласят следующее: «Если компаративисты не
занимались систематической разработкой при изучении
предыстории, то это объясняется, очевидно, тем, что они в
основном удовлетворялись неточными, относительными
хронологиями, пригодными лишь для их личных целей и не
имеющими отношения к другим аспектам истории культуры.
Однако существует базис для абсолютной хронологии,
безусловно приблизительной, но очень ценной в совокупности
с другими данными».
«Чем больше степень языковой дифференциации внутри
семьи, тем продолжительнее период времени, необходимый
для подобной дифференциации» (Сeпир, Временная
перспектива, стр. 76). Хотя скорость изменения и не постоянна,
но для нее, безусловно, должен существовать определенный
максимум. К тому же, очевидно, может быть установлена
средняя скорость, которая останется в силе в применении и к
продолжительным отрезкам времени. Все эти вопросы могут
быть изучены с помощью контрольного материала, имею-
эскимосов. В последнем случае есть все основания предполагать, что
будут обнаружены даже более тесные связи с урало-алтайскими
племенами, как это уже очень давно предполагал Расмус Раек (см. William
Thalbitzer, The Aleut language compared with Greenlandic,
«Intern. Journ. Amer. Ling.», 2, 1921—1923, p. 40—57, особенно p. 40).
28
щегося в таких языковых семьях, как индоевропейская,
семитская, китайско-тибетская, которые располагают
большим количеством исторических памятников,
насчитывающих до 6 тысяч лет. Таблицы зависимости между мерой и
датой расхождения, составленные таким путем, могут
применяться во многих случаях, где ощущается недостаток
исторического материала, но где, однако, общее
происхождение двух или нескольких языков было доказано
сравнительным языкознанием.
Индекс, показывающий меру расхождения в лексике
двух языков, должен основываться на списках слов (или
морфем), которые являются сравнительно нейтральными в
смысле их отношения к предметам материальной культуры
и могут избегнуть влияния, оказываемого на язык
быстрыми культурными сдвигами. Каждый такой индекс
обозначает минимальное время. Там, где два разных индекса
обозначают две различные ближайшие временные точки,
более отдаленная из них будет более правильной.
Хотя автор предполагал, что «скорость изменения
непостоянна», однако он считал, что у нее, бесспорно,
существует максимум. Это убеждение базировалось на том
хорошо известном факте, что языковые изменения
происходят крайне медленно даже тогда, когда мы полагаем,
что они произошли сравнительно быстро. С другой
стороны, распространенным мнением в лингвистике было то
мнение, что некоторые языки изменяются гораздо
медленнее, чем другие, якобы остающиеся без изменений в течение
тысячелетий. И лишь впоследствии, только после того как
были проведены фактические подсчеты скорости
изменения в предполагаемых медленно изменяющихся языках,
автор обнаружил ошибочность этого представления.
Производя свой первый опыт по изучению скорости изменений в
основной части словаря, автор рассчитывал найти какую
угодно меру изменения, но не представляющую собой
константу. При этих условиях первый небольшой
эксперимент, доложенный на конференции фонда Викинга,
состоял в том, что сравнивался процент совпадения в лексике
языков нутка и квакиутль с процентом словарных
совпадений в английском и немецком языках. В первой
паре, которая представляет собой языки американских
индейцев, входящих в племя вакашэн на Северо-Западном
побережье, было обнаружено 30 процентов родственных
элементов в опытных словарях, тогда как количество общих
29
элементов в английском и немецком языках достигает 59
процентов словаря1. Это доказывает, что языки, входившие
в группу вакашэн, имели больший период расхождения,
чем языки английский и немецкий. Поскольку мы знаем,
что период расхождения в последних языках равен более
чем 1100 г., мы можем получить приблизительное
представление о том, чему равен этот период в вакашэн.
Полученные таким путем сведения способствуют освещению
предыстории.
В течение 1949 г. автор с помощью фонда Филипса
американского философского общества, используя
превосходную коллекцию рукописей на языке сэлиш из собрания
Франца Боаса, предпринял объективную классификацию
языков этого разветвленного племени, основанную на
лексическом сходстве. Он пользовался опытным списком,
составленным из лексических единиц, обозначающих
коренные понятия, в основном продолжая уже начатую им работу.
Автор с целью составить таблицу соответствий и
расхождений избрал в качестве единицы измерения процент
сохранившихся слов в современном английском языке в
сравнении с древнеанглийским, который существовал 1000 лет
назад. Первоначально этот процент автор считал всего лишь
такой конкретной единицей измерения, которая будет
просто удобной при статистических вычислениях. Однако по
мере того как изучение продвигалось вперед, оказалось,
что результаты обнаруживают замечательную внутреннюю
связь. Например, бела-кула, один из языков сэлиш, дальше
других ушедший в своем развитии от первоначального
состояния, показывает очень низкий процент совпадения с
двадцатью пятью другими языками этой группы, именно
от 11до 23 процентов. Во всех тех случаях, где был
установлен высокий процент лексических соответствий, языки
обнаруживали очень большое сходство также и по структуре,
а территориально оказывались расположенными таким
образом, что можно с вероятностью предположить, что они
разошлись сравнительно недавно. Ни в одном из языков
этого разветвленного племени не было найдено соответствий,
которые подтвердили бы мысль о существовании
неизменяющихся или почти неизменяющихся языков. Напротив, все
1 В докладе на конференции автор приводил 31 и 65 процентов,
так как он базировался на опытных словарях и технике подсчета,
несколько отличающихся от теперешних.
30
говорит за то, что рассмотренные языки изменяли свой
словарный запас приблизительно с одинаковой скоростью.
Успех в изучении языков сэлишей подчеркнул
необходимость изучения языков, история которых известна.
После того как была опубликована работа «Внутренние
взаимоотношения сэлишей»1, автор данной статьи (хотя и не
сразу) наряду с некоторыми из его коллег предпринял ряд
аналогичных исследований. Постепенно, с накоплением
материала, выяснилось, что общеупотребительный,
повседневный словарный запас (слова того типа, которые
включены в опытный список) изменяется с приблизительно
постоянной скоростью. Были обнаружены некоторые недостатки
этого списка, но самое главное — была подтверждена
несомненная истинность константы скорости, которая может
быть установлена, несмотря на недостатки списка.
Исследователям пришлось столкнуться с некоторыми проблемами
методологического порядка, однако из них не осталось ни
одной нерешенной. Описанию этих проблем посвящены
последующие разделы настоящей статьи.
Чрезвычайно ценной для применения статистического
анализа в лексическом датировании является работа,
проделанная Робертом Б. Лизом (Чикагский университет)2.
Его исследования на математической основе подтвердили,
что константа скорости реально существует и что для
исключения возможности чисто случайных совпадений
количества исторически засвидетельствованных примеров вполне
достаточно. В настоящее время он работает над проблемами
вычисления систематической ошибки данного метода. В то
же время были проведены новые исследования по вопросам
предыстории, включая упомянутые работы по эскалеутам:
Джозефу X. Гринбергу и автору данной статьи благодаря
субсидии от Колумбийского университета удалось
применить настоящий метод к изучению различных языковых
семей Африки, Австралии и Америки, и они добились
блестящих результатов3. В ходе этих исследований были уста-
1 «Intern. Journ. Amer. Ling.», 16, 1950, p. 157—167.
2 См. Robert R. B. Lees, A method of dating with lexicon
statistics, p. 3 (мимеографическое издание доклада, сделанного в
Мичиганском институте языкознания, 1951).
3 Законченная в настоящее время работа Джозефа X. Гринберга
«Генетическая классификация языков Австралии» была зачитана на
ежегодном заседании Лингвистического общества Америки. См. Joseph
H. Greenberg, The genetic classification of Australian languages.
31
новлены новые возможности применения
лексикостатистики. Сюда относится способ установления различий между
архаичными формами и диффузными накоплениями1 и метод
выявления отдаленных генетических связей2.
Коэффициент сохраняемости
Из трех основных аспектов языка — звуков,
морфологической структуры и словаря — последний более всего
отвечает требованиям, которые предъявляет метод
статистического датирования. Слова легко заимствуются, однако
давно известно, что заимствование имеет место
преимущественно в «культурной» части словаря, в то время как
«внутренний» словарь оказывает сопротивление факторам,
способствующим его изменению. Не представляет трудности
составить список, состоящий приблизительно из 200
относительно стабильных лексических элементов,
обозначающих части тела, числительные, определенные явления
природы, элементарные, свойственные всем людям действия.
Можно дать простое, четко очерченное определение того,
что представляет собой языковое изменение: оно
представляет собой введение всякого нового элемента, взятого из
любого источника для того, чтобы этот элемент служил
обычным, повседневным выражением данного понятия.
Сравнивая два периода развития данного языка или два
языка, развившихся из одного и того же языка древности,
мы могли бы установить их родство, вычислив процент
родственных элементов от общего числа сравниваемых
лексических единиц. Коэффициент сохраняемости можно
вычислять в его отношении к определенному периоду времени,
например к тысячелетиям или к столетиям, для того чтобы
было легко сравнивать различные случаи друг с другом.
Первые два опыта подобного вычисления были проведены
автором на материале современного английского языка в
сравнении с древнеанглийским и современного испанского
в сравнении с латынью. Метод сравнения проиллюстрирован
здесь на ряде элементов списка.
1 Swadesh, Diffusional cumulation and archaic residue as
historical explanations, «Southwestern jour, anthropol.», 7,1951, p. 1—21.
2 Доложен в 1951 г. на заседании Лингвистического общества
Америки как «эксперимент в ранней компаративистике»; будет
опубликован в связи со статьей, посвященной племени Мозан, которая готовится
к изданию.
32
Элемент
«все»
«и»
«животное»
«зола»
«в»
«спина»
«плохой»
«кора»
«живот»
Древ-
не англ.
eall
and
deor
aesc
set
baec
fui
rind
belg
Совр.
англ.
all
and
animal
ashes
at
back
bad
bark
belly
Родств.
элем.
+
+
—
+
+
+
—
—
+
Латынь
omnes
et (que)
animal
ciais
in
dorsum
malus
cortex
venter
Испанский
todos
У
animal
cenizos
a
espaldo
malo
corteza
vientre
Родств.
элем.
+
+
+
— I
— L
+
+
+
Здесь строго соблюдается семантический принцип. Хотя
слово deer все еще употребляется в английском языке, оно
более не является общим словом, обозначающим «животное»,
а относится только к определенной категории животных;
новое же слово романского происхождения приняло на себя
его прежние функции. Точно так же совр. rind уже более не
обозначает «кору дерева», a bad скорее, чем foul, является
теперь общепринятым выражением, соответствующим
древнеанглийскому ful. Следовательно, эти случаи надо
отнести к области несоответствий. С другой стороны,
естественные фонетические изменения, например belg> belly, и
структурные модификации (употребление нового суффикса, как
в cenizos) не принимаются в расчет. После того как
подобный анализ был применен ко всему опытному списку,
обнаружилось, что совпадение между древнеанглийским и
новоанглийским составило 85 процентов, а между испанским
языком и латынью оно равно 70 процентам. Истекшее время
в первом случае составляет 1000 лет, во втором — 2000 лет.
Так, если после тысячи лет 85 процентов первоначального
словаря все еще функционирует, как и прежде, то в течение
второго тысячелетия тот же коэффициент сохраняемости
дал бы 85 процентов от оставшихся 85 процентов, которые
все еще сохранялись в начале этого второго периода.
Иными словами, 2000 лет при коэффициенте сохраняемости,
характерном для английского языка, составили бы 72
процента, т. е. немногим более того, что сохранилось в испанском
языке по истечении такого же периода времени.
Коэффициент сохраняемости в испанском языке равен менее чем
3 Заказ № 116
зз
84 процентам за 1000 лет. Следовательно, он практически
одинаков в обоих рассмотренных нами случаях.
Чтобы установить, всегда ли постоянен этот
коэффициент, необходимо рассмотреть ряд примеров, зная, что
словарный состав двух периодов одного и того же языка, а
также время, разделяющее эти два периода, известны. Целый
ряд языков пригоден для подобного анализа. Поскольку
интервалы во времени обычно не являются кратными друг
Другу, для удобства, чтобы свести все случаи к
стандартному периоду времени, например в тысячу лет, можно
пользоваться логарифмами; математически это можно
выразить следующей формулой:
log r=log с : t,
т. е. логарифм коэффициента сохраняемости за 1000 лет в
процентах равен логарифму процента совпадений между
словарями, деленному на количество периодов времени.
Пробные подсчеты коэффициента сохраняемости были
произведены различными учеными со следующими
результатами 1: Проценты
на 1000 лет
Среднеегипетский (2100—1700 до н. э.) по сравнению
с коптским (300—500 н. э.) (Баер; вычислено
как 23 столетия)^ 76
Классич. латынь по сравнению с совр. румынским
(Е. Кросс) 77
Древневерхненемецкий (850 н. э.) по сравнению с совр.
немецким (Г. Дж. Мэткальф и Р. Д. Лиз) ... . 78
Классический китайский (950 н. э.) по сравнению с
совр. северокитайским (Фанг) 79
Латынь Плавта (200 до н. э.) по сравнению с
французским Мольера (1650 н. s.) (Д. А. Гриффин) . . 79
Доминика кариб (1650) по сравнению с совр. (Д.
Тейлор и М. Сводеш) 80
Классическая латынь (50 до н. э.) по сравнению с
португальским (Е. Кросс) 82
Койнэ по сравнению с совр. кипрским (Э. Хэмп) 83
Койнэ по сравнению с совр. языком Афин (Э. Хэмп) 84
Классическая латынь (50 до н. э.) по сравнению с
итальянским (Е. Кросс) 85
Древнеанглийский (950 н. э.) по сравнению с совр.
английским (М. Сводеш) 85
Латынь Плавта (200 до н. э.) по сравнению с
испанским (1600 н. э.) (Д. А. Гриффин) 85
1 См. Р. Д. Лиз, Цит. раб.
34
Необходимо детально исследовать, почему в различных
языках коэффициент сохраняемости неодинаков, хотя
колебание от 76 до 85 процентов и относительно невелико.
В целях изучения причин подобного колебания было бы
желательно произвести подсчет для значительно большего
числа случаев, но количество примеров, приведенных выше,
вполне достаточно для того, чтобы исключить возможность
чисто случайного совпадения коэффициентов.
Опытный словарь
Опытный список, примененный для изучения скорости
изменения, состоял из 215 единиц значения, выраженных
ради удобства словами английского языка. Если английское
слово звучало несколько двусмысленно или же его значение
было слишком широким, что затрудняло подбор
соответствующих ему слов в других языках, уточнялось, какое из
значений имеется в виду; уточнение приводится в скобках
рядом с соответствующим элементом списка. Особо
сложные пояснения вряд ли потребуются, поскольку в список
включаются преимущественно общеизвестные,
общеупотребительные, а не образные или узкоспециальные значения.
Список без 15 элементов, которые пока что
рекомендуется опустить, и еще без одного дополнительно опущенного
элемента выглядит следующим образом:
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
all
and
animal
ashes
at
back
bad
bark
because
belly
berry
big
bird
to bite
black
blood
— все (о
количестве)
— и (союз)
— животное
— зола
— в (предлог)
— спина
(человека)
— плохой
(вредный или
корбительный)
— кора
— потому что
— живот
— ягода
— большой
— птица
— кусать
— черный
— кровь
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35.
to blew
bone
breathe
to burn
child
cloud
cold
to corns
to count
to cut
day
to die
to dig
dirty
dog
to drink
dry
dull
dust
— дуть
— кость
— дыхание
— гореть
— ребенок (о
возрасте)
— облако
— холодный
— приходить
— считать
— резать
— день (а не
ночь)
— умирать
— копать
— грязный
— собака
— пить
— сухой
(вещество)
— тупой (нож)
— пыль
3*
35
36. ear
37. earth
38. to eat
39. egg
40. eye
41. to fall
42. far
43. fat
44. father
45. to fear
46. feather
47. few
48. to fight
49. fire
50. fish
51. five
52. to float
53. to flow
54. flower
55. to fly
56. fog
57. foot
58. four
59. to freeze
60. to give
61. good
62. grass
63. green
64. guts
65. hair
66. hand
67. he
68. head
69. to hear
70. heart
71. heavy
72. here
73. to hit
74. to hold
75. how
76. to hunt
77. husband
78. I
79. ice
80. if
81. in
82. to kill
83. to know
84. lake
УХО
- земля (почва)
¦ есть
(принимать пищу)
• яйцо
глаз
• падать
• далеко
жир (органич.
вещ-во)
отец
бояться
перо
мало
¦ сражаться
• огонь
рыба
пять
плыть
течь
цветок
летать
туман
¦ ступня
• четыре
замерзать
давать
хороший
трава
зеленый
кишки
волосы
• рука
- он
- голова
- слышать
- сердце
- тяжелый (по
весу)
- здесь
- ударить
- держать (в
руке)
- как
- охотиться
- муж (супруг)
- я
(местоимение)
- лед
- если
- в (предлог)
- убивать
- знать (факты)
- озеро
85. to laugh
86. leaf
87. left
88. leg
89. to lie
90. to live
91. liver
92. long
93. louse
94. man
95. many
96. meat
97. mother
98. mountain
99. mouth
100. name
101. narrow
102. near
103. neck
104. new
105. night
106. nose
107. not
108. old
109. one
110. other
111. person
112. to play
113. to pull
114. to push
115. to rain
116. red
117. right
118. right
119. river
120. road
121. root
122. rope
123. rotten
124. to rub
125. salt
126. sand
127. to say
128. to scratch
129. sea
130. to see
131. seed
132. to sew
133. sharp
134. short
135. to sing
— смеяться
— лист (дерева)
— левый
— нога
— лежать
— жить
— печень
— длинный
— вошь
— мужчина
— много
— мясо
— мать
— гора
— рот
— имя
— узкий
— близкий
— шея
— новый
— ночь
— нос
— не
— старый
— один
— Друюй
— лицо (человек)
— играть
— тянуть
— толкать
— идти (о дожде)
— красный
— верный
(точный)
— правый
— река
— дорога
— корень
— веревка
— гнилой
—- тереть
— соль
— песок
— сказать
— чесать (кожу
при зуде)
— море
— видеть
— семя (зерно)
— шить
— острый (как
нож)
— короткий
— петь
36
136. to sit
137. skin
138. sky
139. to sleep
140. small
141. to smell
142. smoke
143. smooth
144. snake
145. snow
146. some
147. to spit
148. to split
149. to squeeze
150. to stub
151. to stand
152. star
153. stick
154. stone
155. straight
156. to suck
157. sun
158. to swell
159. to swim
160. tail
161. that
162. there
163. they
164. thick
165. thin
166. to think
167. this
168. thou
169. three
170. to throw
— сидеть
— кожа (человека)
— небо
— спать
— небольшой
— нюхать
— дым
— гладкий
— змея
— снег
— несколько
— плевать
— расщеплять
— сжать
(сдавить)
— вонзать
— стоять
— звезда
— палка
— камень
— прямой
— сосать
— солнцу
— распухать
— плавать
— хвост
— тот
— там
— они
— толстый
— тонкий
— думать
— этот
— ты
— три
— бросать
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
to tie
tongue
tooth
tree
to turn
two
to vomit
to walk
warm
to wash
water
we
wet
what?
when?
where?
white
who?
wide
wife
wind
wing
to wipe
with
woman
woods
worm
ye
year
yellow
— завязывать
— язык
— зуб
— дерево
— поворачивать
(менять на -
правление)
— два
— рвать
(тошнить)
— ходить
(пешком)
— теплый
(погода)
— мыть
— вода
— мы
— мокрый
— что?
— когда?
— где?
— белый
— кто?
— широкий
— жена
(супруга)
— ветер
— крыло
— вытирать
— с (сопровожд.
— женщина
— леса
— червяк
— вы
— год
— желтый
Шестнадцать элементов, которые встречаются в
исследованиях, но не подходят для анализа ряда языковых!
групп, таковы: brother — брат, sister — сестра, six —
шесть, seven — семь, eight — восемь, nine — девять, ten —
десять, twenty — двадцать, hundred — сто, clothing —
одежда, to cook — варить, to dance — танцевать, to shoot —
стрелять, to speak — разговаривать, to work — работать,
to cry — кричать. Элемент to speak был заменен близким
синонимом или более устойчивым элементом to say «сказать»;
слово heavy «тяжелый» было добавлено для ровного счета,
чтобы получить 200.
Возможно, что и некоторые другие элементы списка
могут вызвать сомнения, но наиболее серьезные недостатки,
вероятно, все-таки заключены в тех 17 элементах, которые
37
здесь рекомендуется заменить или совсем исключить из
списка.
В настоящее время мы советуем продолжать
исследования, либо используя первоначальный список, либо слегка
его видоизменяя таким образом, чтобы новые результаты
можно было бы сравнивать с полученными прежде.
Сказанное в равной мере относится и к возможным добавлениям,
поскольку удлинение опытного списка потребовало бы
нового вычисления константы скорости.
Элементы, пригодные для опытного списка, должны быть
универсальными и не относиться к каким бы то ни было
областям «культуры», т. е. они должны обозначать
предметы, которые встречаются повсеместно и известны
каждому члену общества, а не только специалистам и ученым.
Более того, они должны обозначать легко распознаваемые
общие понятия, к которым нетрудно найти соответствия
среди простых слов в большинстве языков.
Конечно, было бы невозможно составить такой список,
который подходил бы ко всем без исключения языкам, и
поэтому можно ожидать, что иногда будут возникать
большие трудности. Однако их можно будет легко преодолеть, в
случае необходимости опуская элемент списка,
вызывающий сомнения. Правила, в соответствии с которыми
должен заполняться список в каждом языке, могут быть
сформулированы следующим образом:
а) Постарайтесь найти один простой эквивалент для
каждого элемента списка, игнорируя специальные и
связанные формы и опуская наименее употребительный из
двух эквивалентов.
б) Следует предпочесть одно слово словосочетанию, если
даже его значение шире, чем значение анализируемого
элемента.
в) Там, где невозможно подобрать эквивалент,
соответствующую форму лучше опустить.
Несомненно, можно было бы составить гораздо лучший
опытный список, чем приведенный выше, но, судя по опыту
автора в данной области, это сделать не так-то легко.
На первый взгляд некоторые понятия кажутся
подходящими, но из-за их структурных особенностей к ним
оказывается трудно подобрать соответствия; к таким понятиям
относятся, например, слова, обозначающие локальные
отношения: сзади, снизу, сверху и т. д. Многие из элементов,
которые, казалось бы, должны войти в список, в итоге ока-
38
зываются имеющими очень разветвленную систему
значений, например to work «работать». Поэтому надо полагать,
что только с помощью объективного метода проблема может
быть решена. Длинный список возможных элементов
необходимо испытать на многих языках, отобранных по
принципу их несходства, и для каждого элемента списка должно
быть выяснено, насколько легко к нему можно подобрать
соответствия в других языках. Годными следует считать
только те из них, к которым могут быть найдены четкие
эквиваленты в большинстве языков. Стабильность, или
устойчивость, элементов нуждается в объективной
проверке: необходимо отмечать, как часто встречаются данные
элементы и как долго сохраняются они в исторически
засвидетельствованных языках. Можно было бы составить
таблицу, фиксирующую устойчивость отдельных элементов
списка, и в дальнейшем использовать ее данные при
составлении нового, исправленного списка. Вероятно,
колебания в значениях коэффициента сохраняемости были
бы уменьшены при лучшем опытном списке, но мы не
знаем, до какой степени эти колебания могут быть
уменьшены, если такие исправления будут внесены.
Несомненно, одним из путей исправления опытного
списка является его удлинение, насколько это возможно.
Однако даже тогда, когда список состоит из двухсот
элементов, приходится оперировать еще несколькими сотнями,
чтобы выяснить статистическую пригодность слова в
соответствии со всеми предъявленными требованиями. Учитывая
все трудности при поисках слов, подходящих по всем
признакам для опытного словаря, вряд ли можно надеяться,
что возможен список более чем в триста элементов. Однако
такое его расширение могло бы много дать для изучения
далекого прошлого. Например, в случае, где имеется только
5 процентов сохранившихся слов, лучше иметь 15
действительных примеров, чем 5.
Определение интервала времени
При вычислении коэффициента сохраняемости
необходимо иметь точно датированные примеры и быть уверенным
в том, что оба примера находятся на одной и той же линии
языковой традиции. В одном из приведенных нами примеров
сравниваются языки коптский и древнеегипетский.
Древнеегипетский датируется от 2100 до 1700 г. до н.э., копт-
39
ский — от 300 г. н. э. до 500 г. н. э. Интервал времени
между двумя этими примерами несколько расплывчатый,
колеблющийся в пределах от 20 до 26 столетий,
коэффициент сохраняемости соответственно должен колебаться от
73 до 78 процентов за 1000 лет. Отмечаемая разница не
превышает этих величин, поскольку мы имеем дело с
продолжительным периодом времени. Если бы вопрос касался
периода в 400—500 лет, то изменение величины этого периода
лишь на одно столетие обусловило бы 4 процента разницы
в значении коэффициента для 1000 лет. Таким образом,
мы видим, что некоторые колебания в коэффициенте
сохраняемости вызываются не различиями в самом процессе
языкового изменения, но ошибками в определении промежутка
времени между сравниваемыми примерами. Примечательно,
как преодолевает эти трудности при рассмотрении
французского языка Гриффин: для обоих примеров, раннего
и позднего, он берет язык отдельных авторов, что дает ему
возможность датировать лексику двух-трех поколений.
Пользуясь этим методом, необходимо соблюдать
осторожность, как и поступает Гриффин в выборе авторов, которые
обязательно должны писать на современном им языке. Если
бы авторы рассматриваемых текстов следовали какой-либо
старинной традиции, отдающей предпочтение словам,
употребляющимся несколько столетий назад, анализ не дал
бы правильных результатов. То же можно сказать и
относительно изучения современного языка — надо
анализировать живую народную речь, а не речь, характерную для
официального или литературного стиля, либо имитирующую
язык давно прошедших времен.
При вычислении скорости изменения должно
соблюдаться и другое требование, а именно: нужно добиться того,
чтобы обе сравниваемые модели находились на одной
линии языкового развития. Если более ранняя модель не
является действительным предшественником второй, а
представляет собой только близкородственный ему язык, то
различие, наблюдавшееся между ними в более древний период,
явится добавлением к тому расхождению, которое возникло
но истечении рассматриваемого периода времени. Возможно,
что отклонение, замеченное в рассмотренных выше
случаях, возникает именно по этой причине.
Как уже отмечалось, влияние ошибки в вычислении
интервала времени наиболее заметно в случае короткого
периода. Поэтому разумнее использовать как можно более
40
продолжительные периоды времени. Однако это исключает
возможность рассмотрения явлений, характерных для
языков тех районов, где не существует древних записей,
например в Новом свете. Один такой пример мы
включили в рассматриваемый нами материал, именно доминика
кариб, где время исчисляется всего 300 годами. Можно
и должно рассмотреть и другие случаи, но для коротких
периодов времени при прочих равных условиях результаты
следует считать менее точными, чем результаты,
получаемые для длительных периодов времени. Таким образом,
наиболее продолжительные из рассматриваемых нами
исторических периодов равны приблизительно 2000 лет. Чтобы
всесторонне испытать предлагаемый метод, желательно было
бы найти примеры, охватывающие более продолжительные
периоды времени. Язык ассиро-вавилонян представляет
собой по крайней мере один такой случай. Полезным было бы
также проследить один язык на протяжении коротких
следующих друг за другом периодов, чтобы затем провести
сравнение с общим изменением на протяжении всей жизни
языка, что дало бы нам возможность выяснить, как
варьируется скорость изменения в рамках одной линии
развития1.
Колебания
Следует ожидать, что некоторые колебания в
вычисленном коэффициенте сохраняемости останутся даже после
того, как специфические источники ошибки будут
устранены. По крайней мере частично эти колебания являются
тем «разбросом», который обычно обнаруживается во всех
статистических данных. Настоящая статья не делает
попыток подробно излагать данный вопрос; автор
ограничивается тем, что приводит цитату из работы Р. Д. Лиза,
который на основе имеющихся данных выводит «среднюю
константу скорости», равную приблизительно 81 проценту
+2 процента за 1000 лет, где предел ошибки составляет
0,9 ошибки при подсчете методом малых промежутков
времени.
Лиз продолжает свою работу и намеревается
опубликовать полный анализ математического аспекта лексико-
статистики.
1 Профессор Гельб из Чикагского университета составил проект
такого изучения различных периодов ассирийского языка.
41
Вполне возможно, что в добавление к статистическому
расхождению константа испытывает влияние культурно-
исторических факторов. Безусловно, всякий культурный
сдвиг оказывает влияние на весь словарь языка в целом,
обогащая его новыми словами и видоизменяя старые.
Международные контакты часто ведут к заимствованию
новых понятий и новых слов. Одной из лучших
иллюстраций этого положения служит английский язык, который
воспринял так много слов (особенно из латыни и
французского), что почти половина всего словарного запаса этого языка
может быть определена как заимствование. Однако внутри
основного словарного запаса заимствований гораздо меньше,
в нашем опытном словаре — только 6 процентов. Между
тем дело не столько в том, что процент заимствованных слов
невысок, сколько в том, что они не оказывают никакого
влияния на коэффициент сохраняемости в английском
языке. 6 процентов заимствований, накопившихся в течение
2000 лет под воздействием культурно-исторических
явлений, чрезвычайно способствующих заимствованию новых
слов, значительно превосходят процент заимствований во
всех других рассмотренных нами языках. При этом надо
заметить, что коэффициент сохраняемости в английском
языке не уменьшается. Таким образом, язык, который
заимствует некоторые слова из чужого языка, не изменяет
свой основной словарный запас быстрее, чем другой язык,
где единственным видом языкового изменения является
замена одной исконной формы другой.
Существуют ли еще какие-либо особые факторы? То,
что мы обнаружили в отношении заимствованных слов в
английском языке, показывает, что мы не можем принять за
аксиому воздействие любого культурно-исторического
влияния на скорость изменения основного словарного
запаса. Вместо этого необходимо подвергнуть тщательному
исследованию каждую из выдвигаемых гипотез. Например,
Эльмендорф высказывает предположение, что слова табу,
связанные с погребением, фактически могут иметь тот же
коэффициент сохраняемости, который свойствен словам
определенных языков группы сэлиш1. Это может быть
проверено следующим образом: расхождение в языке твана,
который, как известно, имел табу, и в языке Колумбия, кото-
1 William W. Elmendor f, Word taboo and lexical change
in Coast Salish, «Intern. Journ. Amer. Ling.», 17, 1951, p. 205—208.
42
рый не имел табу, должно быть сопоставлено с языком,
состоящим с ними обоими в дальнем родстве, например с
языком бела-кула. Сейчас твана имеет 15 процентов
совпадений с бела-кула, Колумбия — только 12 процентов.
Квинолт, который является соседом твана и, возможно, тоже
имел обычаи табу, имеет 12 процентов совпадений с бела-
кула, точно так же, как и Колумбия. Эти цифры показывают,
что языки, имевшие табу, изменялись нисколько не
быстрее, чем языки, в которых табу отсутствует.
До тех пор пока не предпринято специальное
исследование с целью определения причин колебаний в
коэффициенте сохраняемости, надо попытаться выявить сходные
явления в опубликованных до сих пор исследованиях. Однако
пока что таких явлений обнаружить не удалось. Например,
каким историческим фактом можно объяснить, что
испанский язык имеет более высокий коэффициент, чем
французский или румынский? Если предположить, что это
происходит потому, что французский и румынский находятся на
границе романской территории, тогда не ясно, почему среди
языков западногерманской группы у английского языка
оказывается более высокий коэффициент сохраняемости,
чем у немецкого. Поиски объяснений этим явлениям в
настоящее время осложняются некоторой неопределенностью
в вопросах датирования образцов и некоторыми
сомнениями в непогрешимости самого опытного словаря. Когда
неясности будут устранены, появится возможность вновь
рассмотреть эту проблему с надеждой доказать
наличие или отсутствие факторов, влияющих на коэффициент
сохраняемости.
Причина константы скорости
Почему основной словарный запас изменяется с
постоянной скоростью? Не ради простого любопытства, а для
полноты научного исследования мы вынуждены искать
объяснение этому явлению. Если мы будем знать, почему данное
явление встречается в природе, мы легче сумеем определить
правильное направление для последующих исследований,
целью которых является дальнейшее расширение наших
знаний. В настоящее время мы можем пользоваться
константой скорости для датирования явлений предыстории,
даже если мы не знаем, что ее обусловливает. Однако, если
43
мы поймем сущность константы, нам будет легче
ориентироваться в нашей работе, что в свою очередь сделает ее
более плодотворной и точной. Ответ надо искать прежде всего
в природе самого языка.
Язык является чрезвычайно сложной системой символов,
выполняющих жизненно важную коммуникативную
функцию в обществе. Эти символы подвержены изменениям
благодаря влиянию многих обстоятельств, однако они не могут
изменяться слишком быстро, не нарушая общепонятности
языка. Если факторы, ведущие к изменению, достаточно
сильны, то скорость изменения будет сохраняться на
максимальном уровне, допускаемом коммуникативной функцией
языка. Таким образом, мы имеем как бы мощный мотор,
управляемый механизмом, регулирующим скорость.
Причины, обусловливающие языковые изменения, без
сомнения, разнообразны. Словесные табу, характерные для
различных местных обычаев, приводят к упразднению
некоторых слов или к ограничению их употребления. С другой
стороны, люди самых различных групп вынуждены
создавать и употреблять новые единицы речи. Очень важно
влияние новых моделей, свойственных языкам и диалектам
соседних народов; оно особенно сильно в пограничных
районах, где по крайней мере часть пограничного населения
почти наверняка двуязычна. Браки, торговля, войны являются
характерными формами контактов. Влияние языка в этих
случаях бывает прямым и косвенным, поскольку соседние
народы заимствуют друг у друга не только звуки,
структурные модели и слова, но перенимают, и даже более охотно,
понятия, разные установления и изобретения. Иными
словами, имеет место культурный обмен, что в свою очередь
вызывает развитие новых коммуникативных символов.
Даже изолированные общества, поскольку таковые
существуют, испытывают культурные сдвиги на основе внутренних
реакций на свой собственный опыт, ведущих к
возникновению новых слов. В то время как язык подвержен
разнородным импульсам, побуждающим его к изменению, он должен
все же сохранять значительное единообразие. Его должны
понимать все члены общества; необходимо, чтобы
существовала определенная согласованность в деталях среди
индивидуумов, составляющих общество. У старшего и
младшего поколений часто наблюдаются различия в лексике и в
употреблении слов, но эти различия никогда не достигают
таких размеров, которые явились бы причиной для наруше-
44
ния взаимной понимаемости языка. Это обстоятельство
максимально ограничивает скорость изменения языка.
Расширение словаря за счет пополнения его новыми
словами может происходить быстрее, чем замена старых слов.
Замена слов в культурно-историческом словаре
обусловливается обычно появлением новых факторов в области
культуры, приходящих на смену устаревшим,— процесс,
который может происходить на протяжении нескольких
поколений. Замена слов в основном словаре должна идти
медленнее, так как понятия (например, части тела) коренным
образом не меняются. Здесь изменение может произойти
посредством введения частичных синонимов, область применения
которых расширяется в очень редких случаях и то большей
частью постепенно, а частота употребления увеличивается
настолько, что один синоним заменяется другим.
Существует одно несомненное исключение из правила
медленного изменения словарных норм; оно состоит в
полной замене одного языка другим. В частных случаях,
касающихся отдельных индивидуумов и отдельных семей,
переселившихся в другой языковой коллектив, потомок
может разговаривать только на новом языке. Когда
небольшой языковой коллектив окружен большим, то при
известных обстоятельствах меньший коллектив становится
двуязычным и в итоге может утратить свой родной язык.
Процесс усвоения нового языка не является подобным
процессу замены отдельных словарных элементов и не
составляет подлинного исключения из того правила, что
скорость изменения словаря ограниченна. В прошлом
лингвисты оперировали понятием смешения языков, где
предполагалось, что новый язык может возникнуть путем
простого слияния двух самостоятельных языков.
Лексикостатистические исследования, а также некоторые другие
данные показывают, что подобного явления не существует.
Язык может изменяться под влиянием другого языка или
может быть заменен им, при этом новый язык иногда
изменяется под влиянием старого, прежде чем последний
исчезнет, но никогда не происходит механического смешения
эквивалентных частей двух языков.
Хотя материал для установления константы черпается
из различных исторически известных источников, а также
и незасвидетельствованных реконструированных примеров,
он относится в основном к последним тысячелетиям истории
человечества и почерпнут у людей, обладающих определен-
45
ным минимальным опытом общественного развития.
Вследствие этого мы должны быть осторожны в своих заключениях
относительно скорости изменения словаря в древности,
скажем 100 000 или 500 000 лет назад, когда человеческое
общество, возможно, было значительно менее сложным, чем
даже наиболее примитивные исторически известные
общества людей. Все это, однако, является моментом чисто
теоретическим, поскольку лингвистическая реконструкция не
может даже сколько-нибудь приблизиться к этим
отдаленным временам.
Дивергенция (расхождения)
Датирование доисторических событий с помощью
словарной статистики возможно благодаря языковой
дивергенции. Самым простым случаем дивергенции является такой,
когда имеет место миграция или внезапное завоевание,
которое раскалывает общество на две части и когда
условия препятствуют населению обеих частей поддерживать
эффективную связь друг с другом после разделения.
Изменения, которые происходят вследствие этого в словаре
обоих языковых коллективов, проходят, таким образом,
независимо друг от друга; слова основного словаря, которые
заменяются другими в одном коллективе, могут
утрачиваться, но могут и сохраняться в другом. Спустя, скажем, 1000
лет образуются два различных языка, каждый из которых
сохранил определенную часть прежде свойственного им
обоим основного словаря. Количество сохранившихся общих
элементов, подсчитанное с помощью нашего опытного
списка, составило бы приблизительно 81 процент.
Поскольку изменения в обоих языках происходили
независимо друг от друга, то можно ожидать, что словари
языков совпадут друг с другом на 81 процент от 81
процента случаев, короче — на 66 процентов. Через 2000
лет, если каждый язык будет иметь только 66
процентов от ранее общего словаря, оба будут совпадать уже
только на 43 процента. Отношение времени к проценту
совпадения в языках, стоящих на одном уровне развития,
должно быть выражено через удвоенное время, прошедшее
с момента их разделения, поскольку дивергенция идет
одновременно по двум линиям. Математическая формула для
вычисления времени, в течение которого протекало
дивергентное развитие, следовательно, такова:
d=logC: 2 log r,
46
т. е. время дивергенции равно логарифму от процента
совпадающей лексики, деленному на удвоенный логарифм
коэффициента сохраняемости. Чтобы избавить себя от
затруднения рыться в таблицах логарифмов и затем
производить деление, можно пользоваться готовой таблицей,
подобно приводимой ниже, основанной на r=81% (r2=66%).
Время дивергенции выражается в столетиях, минимальным
подразделением служат полстолетия:
Первый столбец выражает процент совпадающей лексики,
второй — время дивергенции, выраженное в столетиях.
Различные даты, которые автор вычислял в некоторых
ранних исследованиях, основывались на r=85%, что при
вычислении дает несколько более продолжительные
периоды времени.
В следующей таблице приводится сравнение для
периодов в десятки столетий, чтобы показать разницу в
результатах вычисления.
Иногда сравниваемые языки принадлежат к различным
эпохам. Допустим, что язык А — современный, а язык В
существовал 2000 лет назад. Вычисление не представляет
трудностей. Надо к половине времени существования В
прибавить время дивергенции, обозначаемое общим
процентом совпадения А и В. Формула, где dB обозначает
время существования В, такова:
d= (logC:21ogr)+(dB:2).
47
Медленная дивергенция
Часто дробление одного языка на несколько происходит
не как простое разделение прежнего языкового коллектива
на две части, а как результат неполных контактов в течение
продолжительного периода времени. Допустим, что на
определенном языке говорят на довольно большой
территории, где, возможно, расположены поселения A, В, С и D.
Допустим, что жители каждой пары соседних селений все
еще широко общаются друг с другом. Если подобная
ситуация сохранится, то по прошествии какого-то времени
может оказаться, что люди поселений А и В легко понимают
друг друга; то же будет наблюдаться и в отношении
жителей В — С и С — D, но жители А с трудом поймут жителей
С, а живущие в В — жителей D. Что касается людей,
живущих в А и D, то они, возможно, совсем не поймут друг
друга. Данное положение, называемое диалектной цепью или
сетью, если она является двухмерной, находит свое
отражение в лексической статистике диалектов. В такой
ситуации время дивергенции, вычисляемое для А и D,
по-видимому, соответствует времени, прошедшему с момента
первоначального заселения данной территории или с того момента,
когда существовавшие ранее близкие общественные
отношения между данными поселениями нарушались. Подобная
ситуация может быть проиллюстрирована на примере
многих, действительно имевших место случаев. Обстоятельства,
обусловливающие возникновение подобной ситуации,—
неполнота взаимоотношений удаленных друг от друга
языковых коллективов. Если такие взаимоотношения
продолжаются довольно долго, дивергенция даже между соседними
диалектами может достигнуть такой степени, что понимание
будет затруднено. Однако прежние взаимоотношения будут
отражены в лексических соответствиях этих диалектов.
По-видимому, такие языковые цепи можно наблюдать в
различных пунктах лингвистической карты племен сэлиш,
например в следующих языках внутренней группы,
которые приводятся здесь вместе с указанием на процент
совпадающих лексических единиц.
Л. Ш. Ок. Кол.
Лилуит . . — 48 33 25
Шусвап . . 48 — 50 34
Окэнагон .33 50 — 54
Колумбия . 25 34 54 —
48
Любая пара соседних языков в этой последовательности
имеет приблизительно 50 процентов их сбщего словарного
запаса, А с С и С с D — треть словаря, а A и D — только
четверть его. Из этих чисел мы заключаем, что ряд данных
языков развился из одного недифференцированного языка
ириблизительно за 34 столетия — время, на которое
указывает минимальное совпадение в 25 процентов. Диалекты,
явившиеся родоначальниками современных языков,
очевидно, с самого начала составляли цепь, звенья которой
территориально были расположены именно в таком порядке.
Напротив, расположенные по соседству языки, которые
не обнаруживают подобного лексического сродства,
издавна состоят в тесном контакте. В качестве
противоположного примера приведем данные о проценте совпадения
в языках сэлиш, территориально расположенных друг за
другом.
Ш. Л. Фр. Нт.
Шусвап — 48 19 19
Лилуит 48 — 28 26
Лоуер фрейзер . . 19 28 — 58
Нутсак 19 26 58 —
В этой последовательности А довольно близко связано с
В, а С с D, но между В и С наблюдается определенный
разрыв. Более того, В не ближе к С, чем к D. Это означает,
что дивергенция между С и D должна была иметь место,
когда прежний общий язык данной группы уже не состоял в
диалектной цепи с В. Тот факт, что С и D ближе к В, чем к А,
говорит о том, что очень давно, когда С и D были еще не
дифференцированы, существовала старая диалектная цепь.
Другими словами, приблизительно 39 столетий назад
(на основании 19 процентов минимального совпадения в
цепи) существовала цепь АВХ. Не более как 32
столетия назад (на основании 26—28 процентов совпадения
между В и С или D) цепь распалась на две части
(А, В : X) в результате какого-то внезапного
происшествия вроде миграции, нападения или вследствие
языковых изменений, постепенно приведших язык к тому,
что свободное влияние диалектов друг на друга стало
невозможным. Единый язык X распался на
диалектную цепь CD только после того, как В перестало оказывать
на него влияние. Дальнейшее освещение доисторических
взаимоотношений между этими языками может быть полу-
4 Заказ № 116
49
чено путем изучения взаимоотношений их носителей с
соседями, территории которых расположены в других
направлениях.
Предыдущие примеры показывают, какого рода выводы
могут быть сделаны при помощи лексикостатистики о
доисторических взаимоотношениях между отдельными
коллективами людей.
Количество фактов предыстории, которые могут быть
освещены таким путем, безусловно, не беспредельно,
однако по сравнению с прежними возможностями предлагаемый
метод представляет значительный прогресс.
Свидетельства диффузии
Свидетельства лексической статистики часто могут быть
согласованы с другими лингвистическими данными, в
частности с данными о диффузии языков. Интересным случаем
в семье языков сэлиш является близкое сходство
определенных фонетических моментов в целом ряде языков,
находящихся в отдаленном родстве. Группа следующих
языков: тиламук, керд'алейн, комокс и паджет саунд —
показывает, что они однажды проделали сдвиг звука w,
присущего языкам группы сэлиш, в gw; они также едины в
переходе k в ch и частично в своем отношении к у,
свойственному языкам сэлиш. Общие черты, объединяющие эту группу
языков, частично противостоят типичным чертам,
объединяющим их с более родственными им языками. Хотя комокс
и кер д'алейн разделены расстоянием в тысячу километров,
они более сходны друг с другом, чем их непосредственные
соседи, и являются, так сказать, языками-«братьями».
Эти факты могли бы быть легко объяснены, если бы оба
упомянутых языка были географически связаны друг с другом,
поскольку известно, что фонологические изменения могут
переходить благодаря явлениям диффузии через
языковые границы. Но так как в настоящее время они
территориально не соприкасаются, напрашивается вывод, что
когда-то они были расположены рядом в течение
продолжительного времени, которого было достаточно, чтобы перенять
^благодаря явлению диффузии целый ряд звуковых
изменений. Вероятнее всего, территория, на которой в
качестве соседей жили соответствующие языковые коллективы,
должна была быть расположена где-то около залива Паджет
50
или острова Ванкувер. Отсюда следует, что тиламук и кер
д'алейн мигрировали на место их теперешнего нахождения
сравнительно недавно.
Существует ли какой-нибудь способ датировать эти
события? Да, до известных пределов. Явление диффузии
имело место, когда комокс отпочковался от близкородственных
ему языков сешельт и пентлач, потому что ни один из этих
языков не имеет общих черт с тиламук и кер д'алейн.
Комокс — сешельт — пентлач, составлявшие некогда одну
диалектную цепь, имеют 45 процентов совпадения в
словарях тех языков, которые представляют собой крайние
звенья в цепи. Это число соответствует 19 столетиям
дивергентного развития. Связь комокс с паджет саунд, тиламук
и кер д'алейн осуществлялась поэтому на протяжении
последних 19 веков, а миграция тиламук и керд'алейн должна
была иметь место после этого времени. В настоящее время
наши выводы не могут быть более точными, но вполне
возможно, что дальнейшие исследования позволят сузить
период, в течение которого описанные события могли иметь
место.
Заимствованные слова как элементы диффузии
представляют особый интерес, потому что они свидетельствуют
не только о контактах в древности, но также и о том, какие
предметы материальной культуры переходят от одной
группы к другой. Можно привести здесь пример,
иллюстрирующий также и фонологическую диффузию, описанную выше.
В языке квилеут (п-ов Олимпия), который не относится к
группе сэлиш, и в языке нутка, который также не
относится к ней, мы находим слово qaawats «картофель».
Соотносительные формы мы обнаруживаем в тиламук—qakts
«картофель» и в керд'алейн — sqigwts «дикий картофель».
При этом в тиламук каждое современное k представляет
собой старое лабиализованное kw, которое в свою очередь
является либо исконным kw, либо происходит из gw < w.
Таким образом, в языке тиламук «картофель» должен был
иметь форму qawts, которая в точности соответствует
форме языков нутка и квилеут, кроме различия в огласовке,
отражающей не что иное, как количественную схему
гласных в языках сэлиш по контрасту с нутка и квилеут.
Нейтральный гласный между w и ts и долгота в произношении
первого гласного делают произношение qawts в сэлиш
практически аналогичным qaawats в нутка. Это же слово в кер
д'алейн имеет префикс существительного и изменяет гласный
4*
51
в первом слоге, а в остальном происходит из более ранней
формы, что и в тиламук, гласный же может быть
объяснен как результат вторичного изменения, которое имело
место в связи со звуковым символизмом в сэлиш1. Таким
образом, слова сэлиш совпадают со словами квилеут
и нутка, т. е. подтверждают тот факт, что имело место
заимствование. Сейчас пока трудно определить
направление, по которому шла диффузия,— из сэлиш в нутка или
квилеут, или из одного из этих языков, или из какого-либо
совсем другого языка во все три. Ясно только одно, что
рассматриваемое слово относится к той области, в которой имел
место переход звука w в gw, и что оно уже употреблялось
около 2000 лет назад. Ясно также, что это слово обозначает
корнеплод, очень важный в рационе местного населения,
и что родиной этого корнеплода является данный район.
Датированная лингвистическая палеонтология
Рассмотренный выше пример доисторического
заимствования показывает, как реконструкция древних слов и их
значений освещает доисторическую культуру и даже
некоторые мелкие подробности. Этот метод, известный под
названием лингвистической палеонтологии, может быть
применен к заимствованиям и к исконным словам различных
языковых коллективов и представляет собой важное средство
проникновения в предысторию 2. Лексикостатистика в
значительной мере увеличивает возможности лингвистической
палеонтологии, добавляя приблизительные даты к
детально разрабатываемым культурно-историческим
свидетельствам. Систематическое использование ее преимуществ
должно принести ценные результаты, особенно при
сопоставлении лингвистических реконструкций со свидетельствами
археологии.
1 См. Gladys A. Reichard, Sound symbolism in Coeur d'Alene,
«Intern. Journ. of Amer. Ling.», 11, 1945, p. 78—91.
2 Классический пример лингвистической палеонтологии
представляет собой работа О. Schrader, A. Nehring, Reallexiconder
indogermanischen Altertumskunde, Berlin—Leipzig, 1917—1928.
Моррис Сводеш
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ТОЧНОСТИ
? ЛЕКСИКОСТАТИСТИЧЕСКОМ ДАТИРОВАНИИ1
1. Введение.
2. Метод.
3. Точность.
4. Опытный список.
4.1. Универсальность.
4.2. Отношение к культуре.
4.3. Простота.
4.4. Межъязыковая двусмысленность и неясность
значений.
4.5. Потенциальное дублирование.
4.6. Идентичные корни.
4.7. Звукоподражание.
4.8. Служебные слова.
5. Устойчивость элементов.
6. Проверка.
6.1. Частично совпадающие истории языков.
6.2. Скрытая дивергенция.
6.3. Оценка количества времени.
6.4. Датирование образцов.
6.5. Подсчет.
6.6. Модифицирующие факторы.
7. Предварительные итоги.
1. В течение нескольких последних лет мы были
свидетелями целого ряда сравнительно удачных
экспериментов, произведенных учеными для определения
количества истекшего времени методом подсчета родственных
слов в опытных словарях. Развитие этого метода
представляет большую ценность для восстановления фактов предыс-
1 М. Swadesh, Towards greater accuracy in lexicostatistic
dating, «International Journal of American Linguistics», vol. XXI, 1955,
p. 121—137.
55
тории, поскольку он позволяет установить датирование
доисторических этнических контактов, выявленных
языковым родством.
Используя исторические данные о расселении народов,
этот метод позволяет установить их доисторическое
местоположение и пути миграций в определенные периоды
времени в прошлом. Эти данные могут быть соотнесены с
показаниями археологии, сравнительной этнографии,
географии заимствованных слов, с фактами географического
распространения фонетических и морфологических
особенностей и со многими свидетельствами иного порядка.
Такое сравнение часто дает нам ключ к правильному
соотнесению мест археологических данных с исторически
известными народами.
В пределах языкознания как такового лексикостатистика
освещает не изученную до сих пор тенденцию словаря
изменяться с постоянной скоростью. Поскольку исследования
в области лексикостатистики до сих пор касались только
сведений о количестве истекшего времени и в ней намеренно
рассматривались только те лексические единицы, которые
меньше всего подвержены культурным влияниям,
естественно, что оказалась изученной только небольшая часть
всех языковых явлений. Желательно, чтобы в конечном
итоге была исследована скорость изменения различных
типов и уровней менее устойчивой части словаря и чтобы
была создана законченная теория относительно тех
факторов, которые оказывают влияние на скорость изменения
словаря.
Несмотря на многообещающую роль, которую,
казалось бы, лексикостатистический метод мог сыграть в
качестве дополнительного инструмента исследования
доистории, несмотря на то, что лексикостатистика могла бы
явиться ключом к более углубленному пониманию языка
как общественного явления, она до сих пор отставала.
То, что было нами обозначено «константой», но могло
бы точнее быть названо «индексом» сохраняемости
лексики, основывается лишь на частичном изучении
тринадцати контрольных языков. В этой области наиболее
ценный вклад был первоначально внесен Р. Б. Лизом, который
работал совместно с автором настоящей статьи, а также
использовал в своих исследованиях данные, полученные
некоторыми другими учеными. Различные эксперименты
по применению лексикостатистики к изучению доистории
54
и ряд исследований, в которых делалась попытка
подтвердить пригодность индекса сохраняемости и проверить
действие специфических факторов,—все это способствовало
лучшему пониманию как методологии лексикостатистики,
так и теории, на которой она основана.
Однако, несмотря на это, все же ощущается необходимость
всесторонних контрольных исследований, куда должны
быть по возможности включены не менее ста исторически
засвидетельствованных случаев.
Если бы существовала гарантия того, что в ближайшие
годы будут проведены и успешно завершены исследования,
посвященные основным, ведущим проблемам, то лучше было
бы избегать мелких, частных исследований и даже
временно прекратить рассмотрение вопросов, связанных с
доисторией. Однако, поскольку сейчас не существует
подобной перспективы, стоит продолжать экспериментировать.
в надежде на то, что постепенно накапливаемые знания
в конечном итоге усовершенствуют практику и теорию
лексикостатистики.
Настоящая работа, в которой автор только касается всех
этих вопросов, ставит перед собой очень скромную задачу.
Автор не разбирает ни одного ноеого контрольного языка
и даже по методологическим соображениям опускает
некоторые из приводимых Лизом данных.
Автор настоящей статьи пытается продолжить анализ
прежних списков слов и использовать критические
замечания и пожелания, которые исходят от его коллег и
появляются в печати, а также высказываются в обсуждениях и
в личной переписке.
Основная ценность этой работы, возможно,
состоит в исследовании имеющихся в нашем распоряжении
средств для тщательного усовершенствования
лексикостатистического метода.
2. В методике лексикостатистического датирования
используется твердо установленный список опытных
элементов. Они выражаются в словах какого-либо взятого за
основу языка, например английского, испанского или
какого-либо другого, причем в список должно включаться
такое значение используемого элемента, которое абсолютно
не связано с семантическими особенностями данного языка.
Например, tongue «язык» относится к словам,
обозначающим части тела, а не к словам, обозначающим язык как
средство общения (language), и не к словам, обозначающим
55
части телеги. Для каждого элемента списка в языке, на
который переводится данный список, должен быть
подобран простой, общеупотребительный эквивалент. К
примеру, если бы мы стали сравнивать английский с
французским и испанским, мы должны были бы выбрать langue
в первом случае и lengua во втором в качестве эквивалента
к английскому tongue; к английскому head «голова»
эквивалентами явились бы соответственно франц. tete и исп.
cabeza. Обычно выбирается один, выраженный только
одним словом эквивалент для каждого используемого
элемента; элементы, состоящие более чем из одного слова,
включаются в список только в тех случаях, когда нет
никакой возможности найти соответствие среди простых слов
данного языка.
Списки слов двух сравниваемых языков сопоставляют
друг с другом, а затем производят подсчет родственных и
неродственных элементов. Французско-испанское
соответствие langue—lengua засчитывается как плюс, a
tete-cabeza — как минус. Подсчитывается количество родственных
слов и находится процент родственных слов от общего
числа родственных и неродственных пар. Общее число
родственных слов обычно равняется числу элементов в
опытном списке, за исключением тех случаев, когда не может
быть подобран эквивалент в соответствующем языке или
если, например, в силу неразработанности некоторых
вопросов в области звуковых соответствий мы не можем
установить родство элементов.
Наиболее общее уравнение, по которому мы можем
вычислить время, исходя из процента родственных слов,
таково:
t1 + t2 = log С: log r,
где t1 и t2 относятся к двум различным языкам или
диалектам, которые развились из первоначально единого языка.
В этом уравнении t1 — время, выраженное в
тысячелетиях (или еще в какой-либо удобной единице времени),
которые отделяют один из языков от периода их
совместного существования в одном языке, a t2 — время
самостоятельного существования второго языка; С — процент
родственных элементов, найденный при сравнении двух опытных
списков, а r — индекс сохраняемости, т. е. установленный
контрольным исследованием предполагаемый процент ле-
56
лексических единиц, сохранившихся в языках по истечении
каждой единицы времени.
Если речь идет об одной линии развития, т. е. если
сравниваются две различные ступени одного и того же
языка, то одна из ступеней может совпадать с периодом
совместного существования; при этом t1 будет равно нулю,
и, таким образом, 0+t2= logC:log r, или t2=logC:log r.
Если оба сравниваемых языка являются более
поздними ступенями развития некогда единого языка, то
мы имеем дело с проблемой языковой дивергенции.
Если языки находятся по времени на одной ступени
развития, то
t1 = t2 = t, откуда
2t=log С: logr,
или
t=logC:2log r,
или
t=logC : log r2.
Если t1 и t2 не равны, то можно вычислить одно из них,
зная другое: t1 + m = log С:log r (где m — известный
нам период времени), или, если мы знаем разницу между
ними, то t1 + t1 + d = log С:log r, или 2t1 +d = logC:log r.
Наиболее простым является отношение между
процентом родственных слов и количеством истекшего времени
в условиях полной или несокращенной
дивергенции, т. е. когда не существует контактов между двумя
разошедшимися диалектами, которые могли бы помешать один
другому развиваться своим собственным путем.
При наличии контакта дивергенция будет протекать
медленней. Чтобы сделать поправку на это, мы можем
обозначить дивергенцию как st — (средняя) степень
расхождения языков, умноженная на время; в исправленном виде
формула будет выглядеть следующим образом:
t=logC:s log r2,
отсюда
min t=logC:log r2.
В первом варианте s представляет собой число,
которое никогда не превышает 1 и равно 1 только в случае
полной дивергенции; во всех остальных случаях s пред-
57
ставляет собой дробь, обратно пропорциональную степени,
в которой влияние контактов взаимодействует с
дивергенцией.
Значение уравнения с s состоит в основном в том, что
с его помощью можно сделать заключение о влиянии
контактов; вычислить s нельзя, если мы не знаем t. Поэтому
исследование надо начинать с определения времени
расхождения между всевозможными парами языков в
родственных группах, не забывая при этом, что время
расхождения в действительности может оказаться больше,.
чем то, которое указано; в этом состоит значение второго»
уравнения, где применяется min t.
Дальнейшая работа носит реконструктивный характер.
Здесь можно руководствоваться различными правилами,
из которых следующие два являются, пожалуй, самыми
важными.
1) Там, где имеются свидетельства о полной
территориальной изоляции двух языков друг от друга,
дивергенция не тормозилась влиянием контактов.
2) В ряде случаев установленной исследованием
датировки, характеризующей время расхождения в группе
родственных языков, самое большое число скорее всего
указывает на время, фактически истекшее с того момента
как все языки, входящие в данную группу, представляли
собой один единый язык.
Индекс сохраняемости, вычисленный Лизом на основе
тринадцати контрольных языков, рассмотренных по
периодам времени от 1000 до 2200 лет, равен 80,48% ± 1,76%
на тысячелетие.
Пределы, в которых допускается ошибка в подсчете,
вычисляются «как 9/10 ошибки в среднем при
использовании метода рассмотрения языкового материала по
коротким отрезкам времени».
Процент сохраняемости, принимаемый в большинстве
исследований, равен 80,5 — 81%, a r2 — суммарный
индекс сохраняемости в двух родственных языках —
соответственно равен 65 — 66% за 1000 лет.
3. Мы располагаем вполне достаточным количеством
данных, на основании которых можно было бы утверждать,,
что устанавливаемое лексикостатистикой время
расхождения языков в известной мере приближается к
действительному. Это подтверждается целым рядом соответствий,
включая различные исторические и установленные с
58
помощью археологии данные, куда входит также и
датирование, установленное радиоуглеродным методом.
Свидетельством правильности лексикостатистического
метода в целом является внутренняя последовательность
датирования, устанавливаемого этим методом внутри
языков одной семьи или племени.
Не претендуя на безупречность точного инструмента,
лексикостатистика, несомненно, имеет большое значение
для приблизительного датирования и уже сейчас может
служить полезным орудием при реконструкции доистории.
В то же время есть все основания полагать, что
лексикостатистика еще не достигла, даже не приблизилась к
максимальному раскрытию своих потенциальных
возможностей. Это объясняется тем, что основные понятия
лексикостатистики — индекс сохраняемости (первоначально
названный константой) и определительный список —
базируются на слишком ограниченном материале.
Разные ученые, изучавшие данный метод, отмечают ряд.
его слабых сторон, большинство которых кажется
поддающимся исправлению. Хотя окончательная доработка
метода сейчас пока еще невозможна, мы можем
устранить его отдельные мелкие недостатки и совершенствовать,
методику его применения.
В настоящей работе основное внимание обращается на
определительный список. Делаются попытки внести в него
некоторые изменения и выяснить количественное влияние
этих изменений на точность лексикостатистического
датирования.
Ниже будет показано, что результаты в значительной
степени благоприятны.
4. «Элементы, пригодные для опытного списка, должны
быть универсальными и не относиться к каким бы тони было
областям культуры... Более того, они должны
представлять собой легко распознаваемые общие понятия, к
которым нетрудно подобрать соответствия среди простых слов
большинства языков» («Лексикостат. датир.», стр. 38). Эти
установленные нами нормы не всегда последовательно
соблюдались при создании первоначального опытного
списка. Начать с того, что уже 15 из 215 элементов в списке
Лиза, приводимом в его основном исследовании, в статье
«Лексикостатистическое датирование», мы рекомендуем
опустить (эта работа была закончена после того, как была
написана статья Лиза, но появилась в печати раньше).
59
В дополнение к этим нормам в процессе исследования
выяснились еще некоторые положения, включая сюда и
те отрицательные моменты, которых в исследовании
необходимо избегать, именно: потенциальные дублеты
(отмеченные Дугласом Тейлором), идентичные корни,
звукоподражания, смысловые оттенки.
Автор уже указывал на то, что «несомненно, можно
было бы составить лучший опытный список, чем
настоящий», но, основываясь на собственном опыте в данной
области, он вынужден заметить, что это достигается не так-то
легко («Лексикостат. датир.», стр. 38).
Первый опытный список в его наиболее раннем виде
после некоторых исправлений и уточнений включал в себя
около 200 элементов, причем в то время автор надеялся
увеличить его с целью достижения еще большей
статистической точности в исследовании; однако ему удалось
подобрать только небольшую горсточку действительно
подходящих элементов, в то время как, напротив,
обнаруживались все новые и новые элементы, которые надо было
исключить из старого списка. Поэтому он пришел к
убеждению, что улучшить список можно только при
решительном его сокращении в строгом соответствии с
установленными нормами, имея при этом в виду, что качество по
крайней мере так же важно, как и количество.
Новый список, состоящий из 100 элементов, включает в
себя 92 слова из старого списка, приводимые в табл. на
стр. 78, плюс 8 новых элементов: say «сказать», moon «луна»,
round «круглый», full «полный», knee «колено», claw
«коготь», horn «рог», breast «грудь».
Даже этот новый список имеет свои недостатки, но их
сравнительно немного, и они незначительны.
4.1. Если лексикостатистика должна найти широкое
применение в научном исследовании, то необходимо, чтобы
к опытным элементам списка было бы легко найти
соответствие во всех или почти во всех языках. Поэтому, чтобы
не отступать от данного правила, мы исключаем из нового
списка элементы ice «лед», snow «снег», freeze «замерзать»,
snake «змея», sea «море».
Выдвигалось и другое предложение: создать варианты
опытного списка для различных больших участков земного
шара. Эта работа требует большой тщательности в отборе
местной лексики и в определении колебаний в индексе
сохраняемости, связанных с каждым отдельным списком.
60
4.2. Причина, обусловливающая необходимость
избегать слов, относящихся к области культуры, заключается
в том, что их утрата или сохранение находятся в слишком
тесной зависимости от изменений, происходящих в
культурных областях,— отсюда их непригодность служить
показателем количества истекшего времени.
Первоначально мы предполагали, что некоторые
понятия, относящиеся к культуре, например различные
продукты и виды деятельности, настолько древни и настолько
широко распространены, что свободны от общих
недостатков, присущих терминам культуры.
Поэтому в первую редакцию старого списка входили
такие слова: father «отец», mother «мать», husband «муж»,,
wife «жена», spear «копье», rope «веревка», stab «вонзать»,
sew «шить», hunt «охотиться», play «играть», fight
«сражаться». Но эти элементы оказались непригодными по другим
причинам: во-первых, они не являлись универсальными,,
во-вторых, имели дублеты, в-третьих, иногда страдали
неточностью, были звукоподражательными и т. п.
Числительные также следует считать относящимися к культуре.
В Мексике существуют языки индейцев, которые
заимствовали числительные из испанского; то же самое
произошло и с японским языком по отношению к китайскому.
Это указывает на тесную связь чисел с областью
коммерции и технологии. Чрезвычайная устойчивость
числительных среди контрольных языков — а именно среди
различных европейских языков, египетского и китайского,—
возможно, обусловлена той ролью, какую играет счет в
жизни этих народов. С другой стороны, существуют языки,
в которых, как известно, отсутствуют названия чисел выше
двух и которые пользуются сложными словами, чтобы
выразить «три» и т. д. В новом списке сохраняются
числительные один, два и опускаются все остальные.
Существует ряд предметов природы, культурная роль
которых настолько велика, что они принимают характер
терминов культуры. Таковы, например, следующие слова,
входившие в старый список: соль (которая является
предметом торговли), цветы и фрукты (поскольку
культивируемые разновидности их все время являются чем-то новым
с точки зрения культуры), лед (в некоторых областях
предмет, изготовляемый искусственно). Одной из
характернейших черт так называемых терминов культуры
является необычайная легкость, с какой они заимствуются
61
вместе с новым предметом или новой разновидностью уже
известного предмета. Эта черта позволяет нам определять
вторичные термины культуры. Безусловно, любое слово
может приобрести значение такого термина, и поэтому
мы должны избегать употребления тех слов, которые
относятся к области культуры в наибольшей степени
потенциально.
Названия видов животных не могут использоваться в
опытном словаре как из-за их неуниверсальности, так и
в силу того, что они легко переходят из языка в язык,
особенно когда народ переселяется в те области, где
существуют новые виды или новые разновидности уже
известных животных. Единственными названиями живых
существ, которые сохранены в исправленном опытном
списке, являются следующие: bird «птица», fish «рыба», dog
«собака», louse «вошь».
4.3. Необходимо избегать различных специальных
терминов, поскольку они слишком часто выражаются не
простыми словами, а целыми фразами.
4.4. Слова, обозначающие определенные виды
деятельности, такие, как cut «резать», pull «тянуть», dig «копать»,
squeeze «сдавить», «сжать», обладают двумя
особенностями, благодаря которым они становятся
неудовлетворительными в качестве опытных элементов. Первая
особенность заключается в том, что к этим словам зачастую очень
трудно подобрать соответствия в исследуемых языках, а
вторая — в том, что они гораздо менее стабильны, чем
большинство других наших опытных элементов. Возможно,
эти две особенности взаимосвязаны.
Ср. устойчивые drink «пить», eat «есть», sleep «спать»
(нем. trinken, essen, schlafen) с неустойчивыми cut «резать»,
pull «тянуть», dig «копать» (нем. schneiden, ziehen, graben).
Встречаются также и слова неустойчивые и
двусмысленные (неясные) по своему значению в целой группе
родственных языков.
Даже в группу слов, обозначающих части тела, входят
такие слова, как leg, back, guts, значение которых нечетко
и перекрещивается со значением других слов. Например,
значение слова leg «нога» включает в себя значения calf
«икра», shin «голень», knee «колено», thigh «бедро», foot
«ступня», ankle «лодыжка». Во многих языках английским
foot и leg соответствует одно слово. В других же языках
английскому leg соответствуют два самостоятельных слова.
62
Поэтому не удивительно, что leg оказывается одним из
наименее устойчивых элементов в списке.
4.5. Совершенно так же, как нельзя было бы
включить два или несколько раз в один и тот же список одно и
то же слово, надо избегать слов с тенденцией к синонимии.
Сравнивая два языка, в которых слова,
соответствующие английским wife «жена» и woman «женщина»,
идентичны, можно установить, что либо оба этих слова родственны
по происхождению, либо нет.
Чтобы избежать перегрузки, которая может
получиться в результате применения большого количества слов,
лучше всего исключить слово wife «жена» из списка.
Исходя из тех же соображений, мы исключаем из списка
river, lake и sea ввиду наличия слова water «вода»; far
««далекий» из-за наличия long «длинный»; short «короткий»,
thin «тонкий», near «близкий» из-за наличия small
«маленький»; dust «пыль» из-за присутствия earth «земля»; fog
«туман» из-за наличия cloud «облако»; leg «нога» из-за
наличия foot «ступня»; they «они», he «он» из-за наличия that
«тот». Трудно было бы устранить каждый из
потенциальных дублетов, и поэтому несколько случаев такого
возможного дублирования все же остаются в исправленном
варианте списка: water «вода»—rain «дождь», skin «кожа»—bark
«кора», big «большой»—long «длинный», how «как»—
what «что», who «кто»—what «что», this «этот» —that «тот».
Мы надеемся, что после соответствующих исправлений
количество языков, имеющих дублеты, может быть
существенно сокращено и что останется очень мало языков,
которые будут иметь более одного дублета.
Если подойти к решению вопроса о потенциальных
дублетах несколько иначе, то упомянутые выше случаи
дублирования можно было бы оставить в списке, но сделать
при этом особые пометки и применять эти слова только
тогда, когда будет ясно, что в сравниваемых языках они
не являются словами-дублетами. Это позволило бы нам
добавить к списку несколько элементов, вполне
удовлетворительных во всех других отношениях, включая сюда и
слово lip «губа», которое имеет тенденцию дублировать
слово mouth «рот» или передается в виде сложного слова
со значением mouthskin «кожа», а также слово arm «рука»
в добавление к вышеупомянутым словам; вместе с тем
подсчет был бы усложнен вследствие необходимости проверять
каждое сравниваемое слово с точки зрения синонимии.
63
4.6. С описанным выше явлением сходно употребление
идентичных корней, образующих систему типа this «этот» —
that «тот», who «кто» — what «что» — when «когда» — where
«где» — how «как», I «я» — we «мы», thou «ты» — уе «вы»,
die «умирать» — kill «убивать» (последняя пара слов
представляет собой каузативное образование). Переработанный
список не содержит уже таких слов, как when, where, how,
уе, но сохраняет все остальные с гораздо меньшим риском.
Если язык имеет два слова, эквивалентных английскому
we (включающее и исключающее говорящего), то в список
должно быть включено первое из двух, поскольку в этом
случае гораздо меньше вероятность того, что оно
повторит корень первого лица единственного числа.
4.7. Слова различных языков, обозначающие «дуть»,
стремятся использовать лабиализованные или шипящие
согласные или те и другие наряду с лабиализованными
гласными. Ярким примером является исп. soplar,
состоящее из подражательных звуков, которые
сконцентрировались в слове в процессе его развития из лат. sub-flare.
Даже если гласный и сибилянтный согласный происходят
из префикса (sub- «под»), который первоначально не имел
ничего общего с идеей дуть, предположение, что оба они
стали ассоциироваться со старым корнем fl в основном
вследствие звукового символизма, кажется вполне
вероятным.
Назовем слова, которые считаются потенциально
звукоподражательными и поэтому исключаются из списка:
breathe «дышать», laugh «смеяться», puke «рвать» (тошнить),
scratch «чесать», cry «кричать».
Тенденция к звукоподражанию вызывает возражения
двоякого рода: во-первых, довольно трудно учесть
устойчивость подобных слов и также трудно установить, с
какого рода элементами имеем мы дело — с родственными
словами или со случайными звуковыми совпадениями.
Трудность при учете звукоподражательных слов
объясняется еще и тем фактом, что в огромном числе они
заимствуются соседними народами, даже если обычное заимствование
слов, обозначающих различные понятия культуры, в эта
время не имеет места. Эта тенденция присуща также и
детским словам, включая название матери и отца (pa,
papa, dad, ma, mama).
4.8. Хотя мы с самого начала старались избегать слов,
слишком тесно связанных с морфологическими особенностями
64
тями языка, некоторые из таких слов, например at, in,
because, if, and, все же пришлось включить в список. В
исправленном списке этих слов нет.
5. Чтобы опытный список был пригоден для
определения отрезков времени разной протяженности, он должен
быть составлен из элементов, обладающих приблизительно
одинаковой сохраняемостью в языке. В случае если это
условие соблюдаться не будет, менее устойчивые элементы
будут рано утрачиваться языком, благодаря чему в
оставшийся список войдут элементы с постепенно
возрастающей устойчивостью, пока процент сохраняемости не станет
выше первоначального.
Основное исследование Лиза мало что говорит
относительно решения этой стороны проблемы, так как все
изученные им контрольные случаи имеют сравнительно
небольшую продолжительность во времени, от 1000 до 2200 лет,
в развитии одного и того же языка. Учитывая, что
лексикостатистическое датирование применяется скорее к случаям
дивергенции двух языков, чем к линии развития отдельно
взятого языка, отрезки измеряемого времени гораздо
больше — они приближаются к 8000 лет. При этом
тысячелетие в развитии одного языка эквивалентно пяти столетиям
дивергенции, а 2200 лет в развитии одного языка
соответствуют 1100 годам дивергентного развития.
Таким образом, контрольные исследования
ограничиваются лишь исторически засвидетельствованными
случаями, охватывающими только небольшую часть необходимой
сферы исследования. Для того чтобы преодолеть этот
недостаток, нужно вычислить индекс сохраняемости
индивидуальных опытных элементов. Процедуру измерения
рекомендуется проводить следующим образом: «Стабильность,
или устойчивость, элементов нуждается в объективной
проверке: необходимо отмечать, как часто встречаются
данные элементы и как долго сохраняются они в исторически
засвидетельствованных языках. Этот подсчет устойчивости
мог бы быть принят во внимание при создании
исправленного опытного списка» («Лексикостат. датир.», стр. 39). Ввиду
того что необходимое количество языков практически не
может быть привлечено к исследованию, такое исследование
пока что невозможно. Однако можно вычислить
сохраняемость отдельных элементов в контрольном материале,
что и проделано нами в таблице № 2 (см.
приложение, стр. 78—87).
5 Заказ № 116
65
Мы ограничили количество языков, необходимых для
подсчета, восемью языками, с тем чтобы избежать случаев
частичного совпадения. Мы использовали отрезки времени,
которые даются у Лиза, хотя в случае с коптским языком
есть все основания полагать, что здесь в действительности
имел место гораздо более длительный период раздельного
существования языков. Ценность вычисляемого таким
образом процента сохраняемости весьма относительна из-за
небольшого количества рассмотренных языков. Так, хотя
не существует такого явления, как неизменяемая
лексическая единица, в списке все же оказался целый ряд слов,
которые показывают стопроцентную устойчивость.
Безусловно, этого бы не было, если бы мы рассмотрели
достаточное количество контрольных случаев. Интересно
отметить, что большинство показателей стопроцентной
сохраняемости относится к числительным, в то время как опыт
изучения языковых групп в других частях света, где
экономика либо более примитивна, либо развилась в
относительно недавнее время, показывает значительную
неустойчивость числительных.
Мы можем исцользовать эти экспериментальные
таблицы устойчивости, сравнивая показатели дистрибуции
старого и нового списков. Результаты подсчетов, которые
мы записываем, группируя процент сохраняемости по
десяткам (1 — 10%, 11 — 20°/о и т. д.), следующие:
старый список 3 4 7 18 22 33 26 23 37 42 (итого 215)
новый список 0 0 1 6 8 8 14 12 23 20 (итого 92).
Нетрудно увидеть, что сохраняемость в старом списке
в основном достигает 51—60 и 81—100 процентов, в
частности же процент сохраняемости может быть выражен
любым из возможных чисел. Эти показатели получены
при использовании смешанных критериев и разнородной
сохраняемости. Если бы новый список был создан
искусственно, путем простого устранения слов, так, чтобы
только за счет этого повысить выраженный в процентах
показатель дистрибуции, то нет уверенности, что
использование его в лексикостатистике дало бы более надежные
результаты, чем результаты, полученные от первого списка.
В действительности, однако, ни одно слово не было
опущено, даже если его индивидуальный процент
сохраняемости становился незначительным. Вместо этого изменения
66
были внесены в целые категории соответственно общим
критериям, о которых говорилось выше и которые
сформулированы на основе определенных методологических
соображений, осознанных нами в процессе
лексикостатистического исследования задолго до того, как были приняты
таблицы устойчивости.
При этих обстоятельствах новый список внушает
большие надежды на то, что будут внесены исправления в те
искажающие действительность результаты, которые были
обусловлены первым списком.
В дальнейшем будет показано, что новый список
обусловливает более высокий процент сохраняемости, чем
старый,— около 86% вместо приблизительно 81% на
тысячелетие. Этот процент соответствует проценту устойчивости
отдельных элементов и при этом позволяет вычислить
предполагаемое искажение, к которому приводил первый
список. Так, если для половины первоначального списка
индексом сохраняемости являлись 86%, а для полного
списка—81 %, то вторая половина должна была бы в среднем
показывать 76%. Если перейти от единой линии развития
языка к случаям дивергенции, то получим 74% для верхней
половины, 58% для нижней и 66% для всего списка.
Мы можем распространить эти цифры на более
продолжительные периоды времени и таким путем выяснить
размеры искажения, вычисленные очень приблизительно (см.
вывод).
Столетия | 10 | 20 | 20 | 40 | 50 60 | 70
Верхняя половина | 74
Нижняя половина | 58
Полный список
Старый подсчет
Просчет в столетиях
66
66
55
40
34 | 20
45
44
0| 1
30
11
30 | 21
28
2
22
6,6
14
19 j 12,5
3 4
16
3-,8
10
8,3
6
12
80 |
9
2,2 | 1,3 1
7
5,6
5 1
3,6
8 | 12 1
Оставляя в стороне другие недостатки и принимая во
внимание только искажающее действие смешанного процента
устойчивости в старом списке, мы отмечаем, что применение
единого процента сохраняемости, равного 66, вместо
использования смешанной устойчивости элементов старого
списка дает нам определенный просчет от одного до трех
веков на 20 столетий по мере того, как увеличивается коли-
5*
67
чество прошедшего времени (в пределах, доступных для
изучения при помощи лексикостатистического метода).
Этот подсчет не объясняет, однако, всего искажения
целиком, а только указывает на разницу между прежним
и исправленным вычислением, которое дает
приблизительный анализ устойчивости.
Нет сомнений в том, что новый список все еще дает
определенную меру искажения. Не следует думать (впрочем,
это и не имелось в виду при составлении таблиц
устойчивости), что все составляющие список элементы обладают
одинаковой устойчивостью. Однако мы можем заключить,
что искажение, которое показызает новый список,
значительно меньше того, которое дает старый. К тому
же, поскольку мера колебания значительно уменьшена в
новсм списке и поскольку она в большей степени
приведена к единому критерию, мы можем заключить, что
оставшееся искажение является лишь малой частью
прежнего. Как бы ни обстояло дело, не следует пытаться
вычислять (по-видимому, при помощи дифференциального
исчисления) искажающее воздействие нового списка до тех
пор, пока в нашем распоряжении не будет действительно
показательных таблиц устойчивости, основанных на большем
количестве контрольных случаев. Как только мы будем
располагать точной мерой искажения, мы сможем внести
поправки в уравнение вычисляемого времени или, что было бы еще
более удобным, получить готовую таблицу, указывающую
время и предполагаемое соотношение родства.
6. Некоторые аспекты нуждаются в пересмотре в самом
процессе контрольного исследования.
6. 1. Некоторые из контрольных примеров
представляют собой родственные языки, которые до
определенного момента имели общую историю. Например,
случай 2-й у Лиза: латынь Плавта (которая относится к
200 г. до н. э.) — ранний новоиспанский (1600 г. н. э.).
Случай 3-й: латынь Плавта — французский язык
Мольера (1650 г. н. э.). Упомянутые языки являлись единым
языком на протяжении примерно 1000 лет и только по
прошествии этого общего периода начали развиваться
совершенно самостоятельно. Поэтому, используя в
исследовании оба случая, мы в основном повторим один и тот
же пример, а для этого, безусловно, нет никаких оснований.
Чтобы избежать дублирования, можно было бы разделить
периоды времени на три неперекрещивающихся периода:
68
а) латынь Плавта — поздняя латынь;
б) поздняя латынь — ранний новоиспанский;
в) поздняя латынь — французский язык Мольера.
Таким же образом надо было бы подойти к
португальскому, каталанскому, итальянскому и двум типам греческого
языка.
Подобный порядок рассмотрения потребовал бы нового
списка по крайней мере для одной определенной ступени
развития поздней латыни, для иберийско-романской, и
для промежуточной ступени в развитии греческого,
которая была бы применена для распадающихся афинского
и кипрского диалектов греческого языка. Однако из-за
отсутствия подобных опытных списков мы должны
опустить все примеры, кроме одного, по каждой системе
примыкающих друг к другу случаев.
6. 2. В качестве контрольного примера выбирается один
язык и рассматривается на его ранней и поздней ступени
развития, причем большая часть случаев может быть
проверена на исторически засвидетельствованном материале
для обеспечения полной или почти полной уверенности
в том, что эти случаи отвечают предъявляемым к ним
требованиям.
Например, в последовательности латынь — французский
исследуемый язык известен из письменных памятников на
протяжении всего отрезка времени, лежащего между ними,
так что мы можем быть в значительной степени уверены
в том, что имеем дело в основном с единой линией
развития. Что же касается среднеегипетского и коптского
языков, то здесь мы находим значительный пробел в
наличии памятников между 1700 г. до н. э. и 300 г. н. э. Мы
не можем быть полностью уверены в том, что коптский
является прямым потомком среднеегипетского. Возможно,
он развился из устной речевой формы, которая к 1700 г.
до н. э. уже отошла от египетского языка, сохранившегося в
письменной форме. Эту неопределенность необходимо иметь
в виду при анализе наших результатов, ибо мы
обнаруживаем, что процент общих элементов в
египетско-коптском значительно ниже той величины, которую мы могли
бы ожидать, исходя из других разобранных примеров.
Действительно, если рассмотреть процент родственных
слов с точки зрения среднего процента сохраняемости,
полученного при анализе других примеров, можно
констатировать, что египетский и докоптский, относящийся
69
к 1700 г. до н. э., должен был уже иметь в соответствии
с найденным эквивалентом 10 столетий самостоятельного
развития. Возможно, аналогичные ситуации имеют место,
хотя и в меньшей степени, и в случаях с другими языками.
Исходя из задач настоящего исследования, коптский
язык мы в рассмотрение не включаем.
6. 3. В исследовании Лиза каждому из контрольных
случаев придается одинаковое значение независимо от
продолжительности охватываемого ими периода времени. Это,
вероятно, можно считать некоторым упрощением
математической процедуры, принимая во внимание тот факт,
что результаты могут получиться приблизительно
одинаковыми. Более точное вычисление требует рассмотрения
каждого случая в связи с рассматриваемым периодом
времени. Настоящее исследование придерживается
последнего принципа.
6.4. Датирование языковых образцов может представлять
известные трудности; поэтому Лиз допускает, что в его
исследовании могут оказаться ошибки в датировке.
Однако расхождение в несколько десятков лет (до одного
столетия) в отдельных примерах фактически не оказывает
значительного влияния на конечные величины; во всяком
случае, мы не находим причин для того, чтобы в настоящем
исследовании отказаться от датировки, приводимой Лизом.
6.5. Существует определенная опасность чересчур
субъективного подхода к заполнению опытного списка для
данного языка и к подсчету родственных слов из двух
опытных списков.
Арндт, производя подсчеты в германских языках, сделал
следующее заключение относительно предыдущих
подсчетов: «В них (в этих подсчетах) ощущается постоянное
стремление находить больше родственных элементов, чем
это допускает строгий анализ». Приводимый им процент
для шведского языка равен 79,7% вместо 85,4%, для
немецкого—82,0% вместо 85,4%, для английского—67,8% или
74,8% вместо 76,6%. Поскольку Арндт имел возможность
посвятить этому вопросу больше времени и внимания,
чем Лиз и его коллеги, и поскольку он подошел к решению
своей задачи с самых строгих позиций, есть все основания
предполагать, что его данные более точны, чем данные
его предшественников.
Однако автор во время подготовки настоящей статьи
не располагал записями Арндта и поэтому был вынуж-
70
ден пользоваться старыми подсчетами. Это очень досадно,
так как именно с немецким и шведским языками связано
значительное отклонение, которое обнаруживается при
исследовании.
Вычисления Арндта в области германских языков до
известных пределов уменьшили бы высокий процент,
полученный Лизом, и, если новый список дает такую же
разницу между вычислениями Арндта и нашим подсчетом,
его вычисления внесли бы исправления и в новые данные,
что для нас явилось бы большим разочарованием.
Другим контрольным случаем, подлежащим
рассмотрению, является китайский язык. Здесь можно
основываться на списках, которые так любезно предоставил в
наше распоряжение С. Я. Фанг. Подсчеты по этим спискам
произведены автором настоящей статьи, но не проверены
так тщательно, как это необходимо для того, чтобы
гарантировать максимально надежные результаты вычисления.
6. 6. Вопросы, о которых говорилось выше, касались
точности отбора определительных слов и процедуры
вычисления индекса. Сейчас мы должны рассмотреть вопрос
о влиянии иных факторов, а не только фактора времени.
Все эти иные факторы, во-первых, необходимо
обнаружить и, во-вторых, определить их количественное и
качественное воздействие. Это нужно для того, чтобы точно
установить их влияние на процент сохраняемости, или
для того, чтобы каким-либо другим путем устранить их
воздействие на окончательный результат. Последнее в
значительной степени было уже проделано: из определительного
списка устранялись слова, связанные с культурой, и
различные другие категории слов; однако нет доказательств,
что благодаря этому устраняется воздействие всех других
побочных факторов.
Арндт сообщает, что он обнаружил изменение в индексе
сохраняемости в английском языке, которое явилось
результатом междиалектных заимствований. Он приводит общий
процент сохраняемости, равный 67,8% за 1000 лет и
исправленный, с допуском на междиалектные заимствования,
равный 74,8%. Из всех германских языков, которые он
исследовал, он отмечает действие этого специфического
фактора только на английский язык.
7. Теперь мы можем провести сравнение старого и
нового опытных списков, чтобы определить, насколько нам
удалось исправить старый список.
71
Мы видим, во-первых, что новый список содержит более
универсальные и легко поддающиеся определению слова,
которые нетрудно найти во всех языках. Во-вторых,
благодаря тому, что мы стали вычислять устойчивость слов
на протяжении более коротких промежутков времени, мы
уменьшили искажение результатов, которое необходимо
вытекало из характера первого списка, где
рассматривались длительные периоды дивергенции.
Однако эти преимущества лишь в незначительной
степени сказываются на статистическом анализе, основанном
на наших семи контрольных языках, поскольку все они
принадлежат к относительно одинаковым культурам и
ступеням развития и поскольку рассматриваемые
промежутки времени относительно коротки.
Другие преимущества нового списка заключаются в
уменьшении количества элементов, которые являются
потенциальными терминами культуры и т. п. Эти
преимущества выявляются при сравнении среднего процента
сохраняемости и размеров отклонения в старом и новом
списках.
С другой стороны, малое количество контрольных
примеров и некоторая неточность в подсчетах могут
обусловить недостаточную точность результатов.
Результаты, полученные нами для двух опытных
списков (подсчет количества родственных слов, процент
сохраняемости за 1000 лет для каждого отдельного языка, а
также суммарный процент и, наконец, стандартное
отклонение), таковы:
Язык
1 Шведский . .
Немецкий . .
Английский
Румынский . .
Французский .
Афинский • .
Китайский . .
72
Первонач.
процент
80,2
3,65
79,7
3,44
79,0
3,19
Новый
процент
86,4
3,33
85,4
2,09
85,4
0,4
Для семи случаев (в общем на 10 190 лет)
Средний процент
Стандартное отклонение
Исключая шзедский язык (6 языков в
общем на 9 170 лет)
Средний процент
Стандартное отклонение
Для трех случаев по 2000 лет (в общем
6 070 лет)
Средний процент
Стандартное отклонение
Одно из очевидных преимуществ исправленного списка
состоит в том, что индекс сохраняемости повысился на 6%.
Но это еще не является особым достижением. Более
высокий индекс принесет определенную пользу, если будут
расширены рамки исследования в сторону более древних
времен.
Более низкий индекс, если он вычислен с не меньшей
точностью, позволил бы сделать более тонкие различия
во времени, охватывающем сферу его действия.
Говоря абстрактно, желательно было бы иметь
последовательный ряд различных опытных списков с более
высоким и более низким процентом сохраняемости для
того, чтобы они могли отвечать различным нуждам
исследования, которые могут возникать без конца. Однако нет
возможности подбирать необходимый опытный материал
в неограниченном количестве, и поэтому трудно
установить более чем две различные шкалы времени.
Если бы это было сделано, оба списка не совпадали бы
совершенно. Другими словами, наш новый и старый списки
нельзя было бы рассматривать как два параллельных
опытных списка, которые должны использоваться в
соответствии с исследуемым отрезком времени. Напротив,
задача состоит в том, чтобы решить, который из двух
является подходящим и точным как список, имеющий
относительно высокий процент сохраняемости. Мерой точности,
которой мы пользовались в этой работе, является
стандартное отклонение, определяемое как квадратный
корень из среднего квадратичного отклонений от нормы.
(Это не синоним стандартной ошибки, т. е. меры, при-
73
менявшейся Лизом в его исследовании, которая, по
определению, является меньшей частью стандартного
отклонения.)
Как правило, список тем надежнее, чем меньше
стандартное отклонение.
Приведенные выше цифры показывают, что отклонения
в предыдущих показателях процента сохраняемости
колеблются в известных, ограничивающих его пределах. Даже
данные коптского языка, который на первый взгляд
показывает очень низкий процент сохраняемости — 74,9%
(исправляем небольшую арифметическую ошибку у Лиза,
на которую указали Луи Кот и Альберт Рейд),
обусловленные, по нашему мнению, скрытой дивергенцией, могли бы
быть согласованы с другими цифрами, не на много
повысив стандартное отклонение. Исключение шведского языка,
для которого, как мы имеем все основания полагать, был
вычислен слишком высокий процент, дает нам только
небольшое сокращение отклонения.
Исключение трех других случаев, для которых, по
нашим предположениям, были сделаны неточные
подсчеты, обеспечивает лишь незначительное улучшение.
Исправленный список резко отделяет неточно
вычисленные случаи от других. Рассмотрение языков
румынского, французского и афинского греческого дает
сходные результаты. Интересно, что эти три случая
представляют собой языки, рассмотренные на протяжении
периодов времени около 2000 лет. Большая точность нового
списка может частично объясняться тем фактом, что ошибки
в подсчете, когда вычисление ведется короткими
периодами времени, могут исчезать при рассмотрении
продолжительных отрезков времени; большая точность
достигается также в результате тщательно проведенного
вычисления; иногда имеют место оба фактора одновременно.
Если включить в рассмотрение коптский, то новый список
обусловит отклонение немного меньшее, чем старый
список, т. е. около 4 процентов. Исключение шведского вместе
с коптским сокращает отклонение почти наполовину.
Исключение в дальнейшем трех остальных случаев, где подсчет
кажется несколько сомнительным, доводит стандартное
отклонение до 0,4 процента. Нельзя придавать этому
ободряюще низкому проценту отклонения особо большого
значения до тех пор, пока не будут проделаны
многочисленные эксперименты. Если эта цифра хоть сколько-ни-
74
будь сможет приблизиться к той, которая получится при
правильном использовании нового списка, то лексикоста-
тистика приобретет характер почти что точного
инструмента. Ввиду того что исправленный опытный список имеет
огромные преимущества перед старым, работу по
улучшению списка нужно считать необходимой, даже если не
будет достигнута заметно большая точность. Но нет
оснований сомневаться в том, что определенные улучшения в
статистической точности сопровождаются другими
улучшениями.
В то же время это побуждает нас искать дальнейших
путей к улучшению списка. Более того, мы надеемся
провести самое обширное исследование, которое могло бы точно
установить возможности и границы
лексикостатистического метода.
Таблица 1
Сохраняемость элементов по семантическим группам
(в процентах)
а) Личные местоимения
д) Локализирующие слова
я
ты
мы
он
вы
они
— 100
— 92
— 92
— 70
— 67
— 50
б) Вопросительные слова
кто
где
что
когда
как
— 83
- 75
— 74
— 74
— 70
в) Коррелятивные слова
и — 57
если — 31
потому что — 25
г) Пространственные слова
возле — 100
в — 57
с — 51
там
далеко
близко
правый
здесь
тот
этот
левый
— 88
— 74
— 51
- 51
— 49
— 42
— 34
— 33
е) Слова, обозначающие
движение и покой
приходить
сидеть
давать
лететь
стоять
держать
падать
плавать
поворачивать
идти
бросать
тянуть
плыть
— 100
— 100
— 85
— 82
— 77
— 69
— 67
— 59
— 59
— 59
— 49
— 43
— 40
75
течь
лежать
толкать
— 33
— 33
— 17
ж) Действия
мыть
расщеплять
заЕЯзывать
ударять
вытирать
резать
тереть
копать
чесать
сжимать
— 83
— 75
— 74
— 69
— 58
— 56
— 56
— 42
— 31
— 28
з) Периоды времени
год
день
ночь
— 100
— 85
— 82
и) Числительные
один — десять — 100
двадцать — 83
сто — 82
к) Количество
все —
мало —
много —
несколько —
л) Величина
широкий —
толстый —
длинный —
тонкий —
узкий —
большой —
маленький —
короткий —
92
74
58
40
85
83
82
79
59
48
41
25
м) Предметы и явления
природы
лед — 100
соль — 100
звезда — i 00
солнце — 100
ветер — 100
небо
облако
дождь
вода
море
дым
снег
песок
камень
гора
зола
земля
пыль
сзеро
туман
река
огонь
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
92
83
83
83
82
81
79
68
68
67
66
66
56
56
51
51
33
н) Растения и части
растений
p)
кора
лист
трава
дерево
корень
цветок
лес
семя
— 100
— 100
— 83
— 83
— 82
— 75
— 63
- 66
ягода (фрукты)— 59
палка
о) Животный
червяк
змея
вошь
рыба
собака
животное
птица
— 27
мир
— 100
— 91
- 80
— 66
— 50
— 42
— 40
п) Человек
человек
женщина
ребенок
мужчина
Части тела и
кровь
ухо
рука
язык
зуб
— 74
— 71
- 50
— 45
вещество
— 100
— 100
— 100
— 1С0
— 100
76
ступня
яйцо
спина
хвост
мясо
глаз
перо
кожа
кость
голова
рот
кос
крыло
сердце
жир
кишки
живот
шея
волосы
печень
нога
— 90
— 84
— 83
— 83
— 77
— 74
— 74
— 74
- 71
— 71
— 68
- 66
- 66
— 65
— 56
— 55
- 50
— 49
- 48
— 40
— 17
) Ощущения и деятельность
пить
умирать
слышать
видеть
спать
жить
есть
знать
кусать
бояться
думать
дышать
— 92
— 92
— 85
— 82
- 82
— 75
— 68
— 59
— 57
— 43
- 33
— 25
рвать (тошнить)— 19
нюхать
— 0
т) Действия, производимые
ртом
смеяться — 92
петь — 83
сосать — 75
кричать — 68
плевать — 56
говорить — 56
у) Цвет
черный — 83
зеленый — 83
красный — 66
белый — 51
желтый — 51
ф) Описательные элементы
старый
сухой
хороший
новый
теплый
гнилой
холодный
острый
правильный
прямой
гладкий
плохой
мокрый
тупой
грязный
— 100
— 89
— 83
— 82
— 79
- 66
— 65
— 58
— 50
— 49
— 41
— 40
— 33
— 20
— 10
х) Родство
брат — 100
сестра — 100
отец — 83
мать — 83
муж — 57
же!а — 51
ц) Предметы культуры
и культурная деятельность
шить
веревка
стрелять
охотиться
варить
считать
играть
одевание
работать
танцевать
копье
вонзать
сражаться
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
100
85
6Э
59
58
51
50
42
37
33
33
30
9
ч) Разное
имя
другой
не
гореть
дуть
замврзать
распухать
дорога
убивать
— 100
— 92
— 83
— 67
— 66
— 65
— 51
— 33
— 25
77
78
Таблица 2
Сохраняемость опытных элементов в языках коптском, китайском, английском, немецком, шведском,
французском, румынском и афинском; сохраняемость или утрата в испанском,
португальском, каталанском, итальянском и кипрском диалекте греческого языка ·
*alle — все
and — и
animal — животное
*ashes — зола
at — возле
back — спина
bad — плохой
*bark— кора
because — так как
*belly — живот
berry — ягода
*big — большой
*bird —птица
*bite — кусать
* black — черный
*blood — кровь
blow — дуть
79
I *bone — кость
breathe — дышать
I brother — брат
*burn — гореть
child — ребенок
clothing — одевание
*cloiid — облако
*cold — холодный
*come — приходить
cook — варить
count — считать
cry — кричать
cut — резать
dance — танцевать
day — день
*die — умирать
dig — копать
dirty — грязный
*dog — собака
*drink — пить
*dry — сухой
dull — тупой
dust — пыль
*ear — ухо
*earth — земля
*eat — есть (питаться)
80
*egg — яйцо
eight—восемь
*eye — глаз
fall — падать
far —далекий
*fat — жирный
father — отец
fear —- бояться
*feather — перо
few — мало
fight — сражаться
*fire — огонь
*fish — рыба
five — пять
float — плыть
flow — течь
flower — цветок
*fly — лететь
fog — туман
*foot — ступня
Продолжение
81
four — четыре
freeze — замерзать
* give — давать
* good — хороший
grass — траза
* green — зеленый
guts — кишки
* hair — волосы
* hand — рука
he — он
* head — голова
¦* hear — слышать
* heart — сердце
here — здесь
hit — ударять
hold —держать
how — как
hundred — сто
hunt — охотиться
husband — муж
* I — я (местоимение)
ice — лед
if — если
in — в (предлсг)
* kill — убивать
82
* know — знать
lake — озеро
laugh — смеяться
* leaf — лист (дерева)
left — левый
leg — нога
* lie — лежать
live —жить
* liver — печень
* long — длинный
* louse — вошь
* man — мужчина
* many — много
* meat — мясо
mother — мать
* mountain — гора
* mouth — рот
* name — имя
narrow — узкий
near — близкий
г neck — шея
П родолжение
83
* new — новый
* night — ночь
nine — девять
* nose — нос
* not — не
old — старый
* one— один
other — другой
* person — человек
play — играть
pull — тянуть
push — толкать
* rain — дождь
* red — красный
right — правый
right — правильный
river — река
* road — дорога
* root — корень
rope — веревка
rotten — гнилой
rub — тереть
salt — соль
* sand — песок
84
Элемент
scratch — чесать
sea — море
* see — видеть
* seed — семя
seven — семь
sew — шить
sharp — острый
shoot — стрелять
short — короткий
sing — петь
sister — сестра
И sit — сидеть
six — шесть
"" skin — кожа
sky — небо
* sleep — спать
* small — маленький
smell — нюхать
* smoke — дым
smooth — гладкий
П родолжение
85
snake — змея
snow — снег
some — некий
speak — говорить
spear — копье
spit — плевать
split — расщеплять
squeeze — сжимать
stab — вонзать
* stand — стоять
* star —звезда
stick — палка
* stone — камень I
straight — прямой
suck — сосать
* sun — солнце
swell — распухать
* swim — плавать
* tail — хвост
ten — десять
* that — тот
there — там
they — они j
thick — толстый
86
Продолжение
Элемент
thin—тонкий
think — думать
* this — этот
* thou — ты
three — три
throw — бросать
tie — связывать
* tongue — язык
* tooth — зуб
* tree — дерево
turn—поворачивать
twenty —двадцать
* two — два
vomit — рвать
(тошнить)
* walk — идти
* warm — теплый
wash — мыть
* water — вода
* Wf — мы
i
! wet — мокрый
* what — что
i when — когда
where — где
* white — белый
* who — кто
wide — широкий
wife — жена
wind — ветер
wing — крыло
wipe — вытирать
with — с
* woman — женщина
woods — леса
work — работать
worm — червяк
ye — вы
year — год
* yellow — желтый
87
Гарри Хойер
ЛЕКСИКОСТАТИСТИКА
(КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР)1
1. Моррис Сводеш в ряде статей, опубликованных им
за последнее время 2, описал метод, при помощи которого
устанавливается дата первоначального расхождения
генетически близких языков. Он утверждает, что этот
метод, называемый им лексикостатистическим или
глоттохронологическим, обеспечивает «датирование
доисторических этнических контактов, выявленных языковым
родством» (стр. 54). Достигнуть точности в подобном
датировании нелегко, однако Сводеш утверждает: «Мы
располагаем достаточным количеством данных, на основании
которых можно было бы утверждать, что устанавливаемое
лексикостатистикой время расхождения языков в
известной мере приближается к действительному». «Не
претендуя на безупречность точного инструмента,
лексикостатистика, несомненно, имеет большое значение для
приблизительного датирования и уже сейчас может
служить полезным орудием при реконструкции доистории»
(стр. 58—59).
Более того, «есть все основания полагать, что лексико-
статистика еще не достигла, даже не приблизилась к
максимальному раскрытию своих потенциальных
возможностей» (стр. 59). Дальнейшее применение данного метода
ко все большему количеству языков и языковых семей
1 Н. Hoijer, Lexicostatistics: A Critique, «Language», vol. 32,
№ 1, 1956, p. 49—60.
2 Список статей приведен в «Intern. Journ. of Amer. Ling.», vol. 2i,
1955, p. 121. Я буду ссылаться только на две статьи: «Lexico-
statistic dating of prehistoric ethnic contacts» (Proceedings of Amer,
philos, society, vol. 96, 1952, p. 453—463); «Toward greater accuracy
in lexicostatistic dating» (UAL, vol. 21, 1955, p. 121—137). [См.
приведенные выше статьи. —Прим. ред.]
€8
должно, по мнению Сводеша, так усовершенствовать
метод, что он станет точной и действенной техникой
датирования.
2. Данный метод основан на случайно сделанном
«открытии», которое состоит в том, что «основная часть
словаря изменяется с постоянной скоростью» (стр. 28).
Под «основным словарным запасом» Сводеш подразумевает
небольшой опытный список, состоящий из определенных
семантических единиц или значений (первоначально в
количестве 215, а затем сокращенных только до 100 единиц),
куда включаются значения, универсальные для каждого
человеческого общества, т. е. такие, которые находят себе
выражение в любом языке Более того, в дальнейшем
утверждается, что единицы, составляющие опытный
список в каждом языке, могут быть выражены простыми
языковыми формами (т. е. одной морфемой или одним
словом); они принадлежат не к узкоспециальным сферам,
входящим в общий словарный состав языка (и известным
только ученым или специалистам), но к общепонятной,
общеупотребительной лексике, которой владеет каждый
взрослый человек, говорящий на языке, являющемся для
него родным. Короче говоря, опытный список включает
в себя ряд значений, которые настолько неизбежно
являются частью общечеловеческого опыта, что легко
преступают преграды, возводимые национальной культурой
между членами общества и той социальной и физической
средой, в которой они живут.
3. Анализ опытного списка (как в старом, так и в
новом варианте), составленного Сводешем, обнаруживает
следующие включенные в него типы значений:
Тип значения
Личные местоимения
Вопросительные слова
Коррелятивные слова
Пространственные слова
Локализирующие слова
Слова, обозначающие покой и движение
Действия
Периоды времени
Числительные
Количество
Величина
Предметы и явления природы ....
Растения и их части
89
Животные 7 4
Человек 4 3
Части тела и вещества 26 26
Ощущения и деятельность 14 8
Действия, производимые ртом .... 6 1
Цвета 5 5
Описательные элементы 15 7
Предметы культуры и культурная
деятельность 13 0
Родство 6 0
Разкоз ; 9 5
Итого. 215 100
При создании первого списка Сводеш утверждал, что
«не представляет трудности составить список
приблизительно в 200 относительно стабильных лексических
элементов, обозначающих части тела, числительные,
определенные явления природы, элементарные, свойственные
всем людям действия» (стр. 32). Элементы, составляющие
этот список, по его словам, «должны быть универсальными
и [в то же время] не относиться к каким бы то ни было
областям культуры», к тому же «они должны обозначать
легко распознаваемые широкие понятия, к которым
нетрудно найти соответствия среди простых слов в
большинстве языков» (стр. 38). Этот оптимизм оказался
несколько обманчивым: он основывался на слишком
ограниченном опыте перевода списка на различные языки.
В действительности, создается впечатление, что
первоначальный список был составлен более или менее a priori,
на основании очень удобного, но ошибочного
представления о том, что «универсальные и не относящиеся к области
культуры» слова являются относительно стабильными в
индоевропейских языках.
Интересно, например, отметить, что числительные и
термины родства, приведенные в старом списке в
количестве соответственно 12 и 6, в новом списке сокращены
до 2 и нуля. Подобные же сокращения произошли и с
местоимениями, с пространственными словами, со словами,
обозначающими покой, движение, действия, предметы и
явления природы, предметы культуры и различные виды
человеческой деятельности.
4. Необходимость подобных сокращений возникла тогда,
когда были сделаны попытки перевести опытный список
на различные языки, особенно на языки, далекие от
европейской культурной традиции. При переводах обнару-
90
жилось, что при составлении первого списка не всегда
последовательно придерживались установленного
критерия — выбирать только «универсальные и не имеющие
отношения к культуре» слова. Сводеш был вынужден
значительно сократить первый список, поняв, что «качество
так же важно, как и количество» (стр. 38, 60).
Особые причины, обусловившие подобное сокращение
списка, суммированы в следующих параграфах.
1) Поскольку опытный список должен быть
универсально применимым, необходимо опустить все слова,
слишком тесно связанные с определенной географической
средой или климатическими зонами, такие, например, как
лед, снег, замерзать, море. Те же причины требуют
исключить из списка ряд названий живых существ (кроме
птица, рыба, собака, вошь), которые, помимо того, что они
не универсальны, еще очень легко заимствуются одними
языками у других. Однако интересно отметить, что
Сводеш сохраняет такие слова, как семя, корень, кора, листг
дерево, которые также могут быть подвержены влиянию
определенной среды. Кроме того, действительно ли
соответствует истине утверждение о том, что птица, рыба,
собака и вошь универсальны? 1
2) Некоторые слова, имеющие отношение к культуре,
поскольку «они настолько древни и настолько широко
распространены, что свободны от общих недостатков, присущих
терминам культуры» (стр. 61), были дополнительно
включены в первоначальный список. Однако слова эти (именно —
термины родства, слова, обозначающие предметы
материальной культуры и некоторые виды деятельности) иэ
второго списка исключены, поскольку практически все
они «оказались непригодными по другим причинам: во-
первых, они не являлись универсальными, во-вторых, имели
дублеты, в-третьих, иногда страдали неточностью, были
звукоподражательными и т. п.» (стр. 61). Числительные,
за исключением один и два, опущены по тем же причинам,
так же как и названия некоторых предметов природы
и названия растений (например соль, цветок, фрукты),
«культурная роль которых настолько велика, что они
принимают характер терминов культуры» (стр. 61).
1 Здесь и ниже в целях удобства даются русские (а не английские,
как в оригинале) эквиваленты элементов опытного списка Сводеша,
поскольку фактически мы имеем дело не с лингвистическими, а с
понятийными явлениями.— Прим. ред.
91
Из этих рассуждений видно, что вообще трудно
провести грань между «относящимися к области культуры»
и «не относящимися к области культуры» элементами
списка. Очевидно, не существует чисто теоретической
возможности для установления различий между ними.
Определение различий должно производиться исключительно на
эмпирической основе, что заставляет нас предполагать,
что любое слово в списке может в том или ином обществе
начать играть настолько активную роль «термина
культуры», что «примет его характер». К этому вопросу мы
вернемся ниже, в § 9 и 10 настоящей статьи.
3) «Необходимо избегать различных специальныx
терминов, поскольку они слишком часто выражаются не
простыми словами, а целыми фразами» (стр. 62). Не ясно,
что обозначает это требование, тем более что Сводеш не
приводит примеров элементов, которые были исключены
им из списка по этой причине. Раньше Сводеш уравнивал
«специальную» и относящуюся к области культуры
лексику (стр. 24); если здесь имеется в виду то же самое,
то это требование было уже нами рассмотрено. Но
«специальная лексика» определяется еще и структурно: нас
просят «найти один простой эквивалент для каждого
элемента списка, игнорируя специальные и связанные формы»
{стр. 38), а в цитате, которую мы привели выше,
элементы специальной лексики определяются как
«выражаемые чаще целыми фразами, чем отдельными словами».
Здесь опять мы сталкиваемся с чисто эмпирическим
критерием отбора слов: действительно, как мы можем узнать,
какие из элементов списка являются «специальными»,
пока мы не сделаем попытки перевести их на данный язык?
Кроме того, подразумевается — трудно сказать, на каком
основании,— что значения, выражаемые целыми фразами,
более культурно обусловлены, чем значения, облеченные
в более простые языковые формы.
4) Определенные элементы, особенно те, которые
классифицируются как «действия» (например, резать, тянуть,
копать, сжимать), вычеркиваются, «поскольку зачастую
к ним бывает трудно подобрать соответствия в
исследуемых языках» (обозначает ли это, что данные элементы
неуниверсальны?) и потому, что они «гораздо менее
стабильны, чем большинство других опытных элементов» (стр. 62).
Нестабильными элементами, по Сводешу, являются те,
которые подвержены сравнительно быстрой замене во вре-
92
мени. Поскольку определенная таким образом
нестабильность ранее была отмечена как характерная для
элементов, относящихся к области культуры (вследствие
сравнительно более быстрых изменений в иных аспектах
культуры, чем в языке), это утверждение (т. е. утверждение
о том, что некоторые, «не относящиеся к области
культуры элементы также нестабильны») вызывает сомнение в
обоснованности установления различий между
«относящимися» и «не относящимися» к области культуры
элементами списка.
Стабильность определяется при помощи «учета
сохраняемости», вычисляемого при изучении лексических единиц,
принадлежащих к языкам с зафиксированной историей.
Поскольку число языков, доступных изучению, невелико,
выясняется, что учет сохраняемости крайне неточен (стр.
66). Тем не менее Сводеш утверждает, что новый список
отражает более точный «процент сохраняемости», чем
старый список, по крайней мере для тех языков, в которых
подсчет уже произведен. Но где доказательство тому, что
«процент сохраняемости», установленный в
зафиксированных языках, точно совпадет с «сохраняемостью» в языках,
которые получили письменность совсем недавно, если
критерий, опирающийся "на различие между «относящимися»
и «не относящимися» к области культуры словами, признан
нами необоснованным?
5) Некоторые элементы исключаются из списка,
поскольку во многих языках они могут быть выражены
формами, употребляемыми также и для выражения других,
элементов в опытном списке. Например, слово жена часто
выражается формой, обозначающей, кроме того, «женщину»,
поэтому жена исключается из списка. Точно так же
поступают со словами река, озеро и море, так как в списке
есть уже слово вода; далекий исключается из списка из-за
слова длинный; короткий, тонкий и близкий — из-за
малый; пыль—из-за земля; туман — из-за облако; нога—из-за
ступня; они, он — из-за тот (стр. 63).
Таким же образом одна и та же лексическая единица,
может употребляться для слов этот и тот, для слов кто,
что, когда, где и как, для я и мы, для ты и вы, для умирать,
и убивать.
Поскольку оказывается трудным или даже вообще
невозможным определить заранее все потенциально
возможные и частичные дублеты, Сводеш сохраняет некоторые
93
из них в надежде на то, что те, которые были исключены,
значительно уменьшат количество языков, вообще
имеющих дублеты, и оставляет только небольшое число
имеющих более одного дублета. На каком основании одни
элементы оставляются а другие исключаются из нового
списка, остается неясным. В новом списке остаются кто,
что, тот, этот, идти, приходить (частично дублируемые
в некоторых языках), длинный, большой, дождь, вода, кожа,
кора и целый ряд других. В действительности нет критерия
иного, как эмпирический, для внесения или исключения
из списка, и мы вправе ожидать, что по мере того, как
новый список будет применяться к различным языкам,
будут обнаруживаться все новые и новые дублеты.
6) Два последних принципа, согласно которым из
списка исключаются определенные опытные элементы,— это
звукоподражательность и особенности языковой
структуры. Некоторые из элементов оказываются выраженными
звукоподражательными формами, и поэтому «довольно
трудно учесть устойчивость подобных слов и также трудно
установить, с какого рода элементами мы имеем дело —
с родственными словами или со случайными звуковыми
совпадениями» (стр. 64). Возможными
звукоподражательными словами, которые исключаются из списка,
являются слова дуть, дышать, смеяться, рвать, царапать,
кричать. Надо заметить, что критерий здесь снова чисто
эмпирический: не существует способа определить заранее,
какой из опытных элементов будет настолько часто
выражаться в различных языках звукоподражательными
словами, что потребуется исключить его из списка.
Первоначально опытный список содержал некоторые
коррелятивные и пространственные элементы — и, если, потому что,
у, в, с,— которые, как оказалось, во многих языках
выражаются структурными элементами, т. е. словами, тесно
связанными с морфологией языка и ею определяемыми.
Подобные элементы поэтому опускаются. Надо отметить,
однако, что Сводеш оставляет кто, что, этот, тот, все,
какой-либо и не, которые тоже могут быть в некоторых
языках связаны с их морфологической структурой.
5. Краткая история создания опытного списка,
приведенная выше, показывает следующее: 1) первоначально
этот список был составлен в основном на базе
европейских языков и культур (возможно, в основном в их
современных формах); 2) он был исправлен и отшлифован глав-
94
ным образом в применении к неиндоевропейским языкам
и культурам. Как выясняется, первоначальный список
включал большое количество элементов (более чем 50
процентов), не отвечающих установленным требованиям,
однако этот факт не был обнаружен до тех пор, пока не были
предприняты попытки перевести список на другие языки.
Более того, кажется вполне вероятным, что отмеченные
трудности появятся снова, когда список будет
применяться к еще большему количеству различных языков.
Следовательно, теория лексикостатистики не дает в наше
распоряжение ничего, что позволило бы нам раз и навсегда
создать твердый опытный список, переводимый без
всяких помех на любой язык. Чтобы проиллюстрировать
это положение, я предлагаю свидетельства, почерпнутые
из моих собственных попыток перевести новый список
Сводеша на язык навахо и на другие атабаскские
языки.
6. Делая перевод опытного списка на язык навахо,
я использовал в основном три источника — рукописные
материалы Эдварда Сепира, словари и грамматические
исследования Берарда Хейла и работу Роберта Янга
и Уильяма Моргана.
Трудности, с которыми я столкнулся, приводятся в
нижеследующих разделах; каждый из них озаглавлен
соответствующим элементом или элементами из последнего
опытного списка Сводеша.
1) Этот, тот. В языке навахо слово dii, обычно
переводимое англ. this «это», принадлежит к следующей
системе форм, каждая из которых является указательной
и относится к людям или предметам: dii «этот» (один из
числа нескольких), «этот» (указывается в присутствии
говорящего и слушающего), ?ei «этот» (поблизости), ?ei «тот»
(вдалеке или отсутствующий), ???? «этот» (рядом с вами),
nlei «тот» (там, далеко). Здесь совершенно очевидна
трудность в выборе лишь двух форм. Язык навахо содержит
большое количество форм, и, кроме того, система его форм
по-иному отражает действительность. Подобные примеры
специфической ориентации в системе указательных
местоимений не необычны. См., например, иллюстрации из
языков квакиутл и эскимосского, приведенные Боасом 1.
1 «Handbook of American Indian languages», 1.41, Introduction,
Washington, 1911.
95
2) Кто, что. Здесь возникает та же самая трудность.
Навахо имеет четыре вопросительных местоимения: xai
«кто» и xaa, daa, yaah, которые могут быть переведены
как «что», хотя здесь существуют небольшие различия в
значении, подобно различиям, имеющим место в
указательных местоимениях.
3) Большой. В навахо употребляются две
общераспространенные формы -со и -caa; различие в их значении не
совсем ясно, но, очевидно, оно относится к таким
различиям, которые в английском языке никак не
выражаются. Имеются еще две формы: -diil, употребляемая для
обозначения, например, большой ломовой лошади и «большого»,
«грубо скроенного» мужчины, и -caaz «большой,
громоздкий» (как колода).
4) Малый. Существуют три формы: -cihi = cisi «быть
небольшого размера», «быть карликовым» (по отношению
к людям, животным, предметам)», -yaaz = yazi «маленький
(о людях, животных, предметах)», «ребенок», «детеныш» и
-сiidi «небольшой» (по количеству), «малый»(малочисленный).
5) Мужчина, человек. Существует две формы, но
граница, разделяющая их, не совпадает с границей,
разделяющей в английском языке слова man и person.
Hastiin в навахо обозначает «мужчину», «мужчину
зрелого возраста», а в притяжательной форме — «мужа»,
«супруга». Это слово часто употребляется и как составная
часть мужского имени,например hastiin daxaana baadaani —
имя собственное — «зять старика Тексана»; hastiin
никогда не обозначает то, что в английском языке передается
словом «person». Вторая форма dine обозначает мужчину
(в противоположность женщине), человека (в
противоположность животному), человека, принадлежащего к племени
навахо (в противоположность человеку другой
национальности). Это слово является именем собственным для
обозначения племени навахо. Значение, присущее английскому
слову «male», не получает достаточно ясного выражения
в данных словах, а передается формой -ka?, антонимом к
которой служит слово -?aad «существо женского пола»,
«женщина»; -kc? может обозначать мужчину, мужа, по
крайней мере в притяжательной форме, но с несколько
вульгарным оттенком.
Иногда человек, человеческое существо обозначается
еще одним словом — bila?asla?ii. Как. однако, легко за-
96
метить, эта форма чисто описательная и буквально
означает «пятипалые».
6) Птица. cidii является единственным родовым словом
для обозначения птицы, причем оно обозначает только
маленьких птиц. Иногда для обозначения птицы можно
употребить слово naat'a?i «летающее существо», но сюда
включаются также летучие мыши и другие летающие животные,
которые не являются птицами.
7) Дерево. Для его обозначения может быть
использовано слово ein, но нужно отметить, что значение этого
термина более широко. Он обозначает не только деревья,
но также и пиломатериалы, столбы, колья, бревна, вообще
любой вид древесного строительного материала.
Производная форма ciin — служит для передачи названия
сердцевины дерева, ствола, деревянной ручки, как в
выражении bi-ciin «это ручка» (топора) или da?a-ciin
«кочерыжка кукурузного початка». Надо отметить, однако, что cin
не обозначает дерево в значении «дрова» или «горючее»,
для этого в навахо употребляется несоотносимая форма ciz.
8) Семя, глаз. То, что в языке навахо является наиболее
общим словом, соответствующим англ. seed «семя», именно
-naa?, столь же часто употребляется для обозначения «глаз».
Берард определяет -naa? как «глаз», «семя (растений и трав)».
К этому он добавляет: k'eelyei «семена злаков» (букв, «те,
которые сеют»), ?alasciP «семена (дыни или тыквы)»
и -к' [){Р «семена (косточки яблок, персиков, вообще
фруктов)»г.
9) Корень. Существует три формы. Во всех трех формах
используется основа -X'ooi «веревка», «канат», «шнур».
Слова, соответствующие англ. root, проанализировать не
так легко. Эти слова следующие: -heX'ool,-keX'ool и cebeX'ooL
Берард приравнивает-keX'ool к идентичной форме «root»,
которая означает завязку от мокасин, шнурки от ботинок2.
10) Кора. Для этого слова Берард приводит три формы:
-kasfooJ, -hasfooz, -lastooz. Все три обозначают кору сосны.
Кора (верхний покров) этих деревьев называется -kagi,
что значит также «кожа», «покров». Кора кедра, поскольку
она мягкая, называется -ziih 3. Очевидно, любое из этих
1 Berard Haile, A stem vocabulary of the Navaho language, Na-
vaho-English and English-Navaho, 1951, Engl.-Nav., p. 258.
2 См. там же, p. 207.
8 См. там же, p. 18.
7 Заказ № 116
97
слов может употребляться в зависимости от того, какая
кора имеется в виду — твердая, грубая или, наоборот,
мягкая.
11) Жир. Имеется две основных формы: k'ah,
употребляемая для обозначения жидких мазей или легко
размазываемых жиров, а также жира на теле и на мясе, и X'ah,
также обозначающая мазь, жир (в частности, тот, который
служит основой в косметических притираниях). Клейкие
мази, подобно тем, которые употребляются для смазывания
колес вагонов, передаются словом 3eeh, что обозначает
также сосновую смолу.
12) Волосы, голова. В навахо формой -ciP (-cii-, -ciP-
или -ciis- в сложных словах) можно перевести и слово
«голова» и слово «волосы», если речь идет о человеческих
волосах. Волосы животных, мех или шерсть обозначаются
словом -yaa?. Взятое отдельно, оно никогда не обозначает
волосы человека, однако может встречаться в таких
сложных словах, как -cii-ya^ «волосы на голове» и -da-yaa?
«борода» («волосы на губах»).
Следующие сложные слова иллюстрируют, какова сфера
значения -ciP: ciP-aa!' «подушка» («поддерживающая
голову»), ciP-beetodi «лысый» («тот, у кого голова гладкая»);
cii-taad «венец», «крона», «макушка», cii-ciin «череп»
(«кости головы»), cii-ziz «скальп» («головной мешок»); cii-ba^
«седой», cii-^eef «прическа» («груз из волос»), ciis-cil
«вьющиеся волосы», cii-fineezi «длинноволосый».
13) Есть. В навахо существует, по-видимому, один
глагольный корень -YIih, -уa, отвечающий требованиям
Сводеша. Эта форма используется также и для обозначения
акта принятия пищи в тех случаях, когда не указывается,
что представляет собой эта пища, или в тех случаях, когда
отмечается, что она состоит из нескольких компонентов.
Мы находим, однако, большое количество и других
глаголов, которые значат «есть», «принимать пищу». Берард 1
перечисляет их. Двенадцать форм различаются между
собой по роду принимаемой пищи (например, «есть
пшеницу, травы, овощи, каши») и еще большее количество
глаголов обозначает манеру принятия пищи (например,
последовательно глотая,- беря пищу пальцами, ложкой,
чавкая и т. п.).
1 Berard Haile, A stem vocabulary of the Navaho language:
Navaho-English and English-Navaho, 1951, Erg.-Nav., p. 99—101.
98
14) Видеть. Встречаются два глагола: нейтральный
-?i «видеть», «иметь (кого-либо) в поле зрения» и активный
-ceeh, -сц «смотреть», «глядеть».
15) Знать. Существуют четыре различных способа
перевести это слово на язык навахо: -niih — нейтральный глагол
«знать что-то», «располагать определенными сведениями или
знаниями» (ср. активный глагол -niih «узнать», «получить
сведения о чем-либо»); -у4 — нейтральный глагол «обладать
знанием, мудростью, опытом» (активный y\\h «стать
мудрым, разумным; получить знания, опыт»); форма,
производимая от корня -zin «думать», «ощущать», например
sifbeehozin «я знаю это», букв, «я имею знание этого при
себе»; наконец, форма -cjih «знать» (в смысле «выполнять
определенный вид работы», «иметь некоторые специальные
знания»).
16) Умирать. Перевод этого элемента на язык навахо
заключает в себе трудности, которые, очевидно,
встречаются и в других языках. Эти трудности связаны с категорией
числа. Глагол, обозначающий в навахо «умирать (вообще)»,
передается формой -caah, которая одновременно означает
«заболевать» (какой-либо роковой неизлечимой болезнью).
Другой глагол имеет более узкое значение — -neeh
«несколько человек умирают». Надо при этом отметить, что
народ навахо, как и многие другие народы, старается не
обсуждать вопросы смерти и поэтому особенно избегает
употреблять эти глаголы. Он заменяет их различными
эвфемизмами, которые можно сравнить с английским pass
away «покинуть мир». Чаще всего употребляется глагол
-dipi «исчезать», «переставать существовать».
17) Убивать. Этот элемент в навахо может быть
передан тремя глаголами в зависимости от того, в каком числе
выражено дополнение: -ye «убить одного», -уa «убить
многих» и -ceed «убить очень многих», «устроить резню». Надо
отметить также, что глагол -neeh «несколько человек
умирают», о котором говорится в пункте 16, имеет каузативную
форму: «убить», «заставить нескольких умереть».
18) Плавать. В навахо имеется два глагола beeh
«плыть» и -kpyh «плавать», «продвигаться (к определенному
месту) при помощи плавания». Здесь, по-видимому,
передается разница между плаванием как определенным видом
времяпрепровождения и плаванием как видом движения.
19) Идти, приходить. Язык навахо не располагает
глаголами, при помощи которых можно было бы точно
7*
99
перевести эти формы. Иными словами, оба элемента
значения выражаются в навахо весьма приблизительно и
оба основаны на системе одного и того же корня, в данном
случае представленного -ya, что означает «одно существо
движется». Если этот корень употребляется в
прогрессивном наклонении и не имеет наречных приставок, то он
обозначает «одно существо движется» (без указания на
способ передвижения), т. е. его значение приближается
к англ. walk; та же система корней, употребленная в
любом другом наклонении, кроме прогрессивного, означает
«одно существо движется (без указания на способ
передвижения) к определенному месту» или «одно существо
подходит (к определенному месту)», что приблизительно
эквивалентно англ. come. Если в движении принимают участие
два или несколько существ, то система корней меняется
на -?aas «двое или несколько движутся» или на -kaah,
если речь идет о большом количестве людей, или на -zeeh
«движется целая группа людей», если имеется в виду масса
людей или какая-то группа людей.
20) Лежать, сидеть. Эти элементы разделяются в
навахо по числам (следующие примеры приводятся в третьем
лице среднего рода среднего залога): siti «одно существо
лежит», siteez «двое или мало существ лежат», sijee?
«несколько лежат», sida «одно существо сидит», sike «двое
или мало существ сидят», dinibin «несколько сидят».
21) Давать. Здесь мы обнаруживаем еще более
сложное деление, которое зависит от характеристики предмета.
Существует двенадцать глаголов, которые могут быть
переведены с помощью английского глагола give «давать».
Все они имеют один и тот же комплекс приставок O-aa-,
где О представляет собой местоимение цели, a aa
послелог, обозначающий направление движения к; однако
система корней у каждого глагола неодинакова. Так, если
употребляется корень -?aah, то это значит «давать кому-
либо продолговатый предмет», если—t^h— «давать кому-
либо длинный предмет», если teeh — «давать кому-либо
одушевленный предмет» и т. д. Подробно относительно
классификации глагольных корней см. мою статью в
«Intern. Journ.of Amer. Ling.», 11, 1945, p. 13—23. Далее надо
отметить, что все 12 систем корней не составляют вместе
значения английского give «давать», так как каждая из
них обозначает движение определенного класса предметов
и четко отличается от других по структуре и по семантике.
100
22) Солнце, луна, ночь. Две формы в навахо могут
обозначать солнце, а две — луну: Johonaa^ai и sa «солнце»,
a X'ehonaa?ai и ^ool^ee^—«луну»; johonaa^ai HX'ehonaa^ai
являются описательными формами. Первая обозначает
«круглый предмет, который движется вокруг ночью».
«Ночь» на языке навахо — X'ee?.
Слово johonaa^ai может быть лучше всего определено
как обычная, разговорная форма для обозначения солнца;
форма sa, по-видимому, ограничена употреблением в
различных ритуалах. Тем не менее sa встречается в обычной
речи в следующих сочетаниях: sa hadii-ii «греться на
солнце», sa ndiin «солнечный свет» и sa biX'ool «солнечные лучи».
Согласно утверждению Берарда, форме ^ooljee^ «луна»
отдается предпочтение в разговорном языке, но остается
неясным, имеется ли здесь четкое различие между
обычным и ритуальным употреблением.
Вполне возможно, что та и другая описательные формы
возникли как результат той огромной роли, которую оба
небесных светила играют в обрядах навахо. Эти
описательные формы являются, по-видимому, средством
избежать в разговоре слов, которые употребляются в
религиозных обрядах.
23) Дождь. Здесь также встречаются две формы — nic4
и nahaftin. Разница в значений не совсем ясна, но пкц
является более обрядовым словом, чем nahaHin.
24) Земля, зола. Слово leez может быть передано
английскими словами earth, soil, dust, clay «земля», «почва»,
«пыль», «глина»; оно употребляется (в форме fee-, иногда
ieei-) в целом ряде сложных слов, например fee-caa?
«глиняная посуда», iee-YP «в земле», lee-s^aan «пища,
приготовленная в горячей золе или в земляной печи». Одно
из этих сложных слов — lees-cih «зола»,— очевидно,
соответствует английскому сложному слову earth-chaff.
Значение «зола» выступает в Jee-: lee-sibeez «это выпечено в
горячей золе».
25) Дым, гореть. Навахо имеет два глагола,
соответствующих англ. burn «гореть». Первый из них k'4ah,—
по-видимому, определяет горящий костер, второй — -Hid —
горящее дерево, траву и другие легко воспламеняющиеся
материалы.
Англ. smoke «дым» соответствует в навахо слово fid,
которое почти наверное соотносится со вторым словом.
101
26) Черный. Этот элемент передается в навахо либо как
fizin, либо как diixii. Насколько я могу судить, эти слова
употребляются в одном и том же контексте: горы, облака,
кожа, пещера, одежда,, тело, птицы, различные изделия
могут быть либо Hzin, либо dibri1. Обе формы могут
употребляться лля обозначения «черный» и «темнота».
Единственный вывод, к которому можно прийти, заключается
в том, что обе эти формы передают различия в черном
цвете, которые в английском языке воспринимаются как
одна и та же категория. Ключ к пониманию различий в
значениях между указанными двумя формами можно
найти, вероятно, при рассмотрении активных глаголов,
производных от этих форм. Глагол, соответствующий англ.
to blacken «чернить», произведенный от 'izin, означает
«чернить, окрашивая», «делать более темным то, что прежде
уже было во что-то окрашено»; i/in обозначает также
черный цвет кожи у людей. Слово негр звучит как naakai-'izinii,
букв, «чернокожий мексиканец».
Слово черный, произродюз от dibd', обозначает
«делать черным при помощи древесного угля, золы», «делать
черным, добавляя черную краску». Сепир определяет diJxH
как «черный как смоль, действительно черный», очевидно,
в противоположность не вполне черному,
псевдочерному.
27) Хороший. Перевод данного элемента несколько
затруднителен: значение good «хороший» в английском языке
чрезвычайно многогранно. Согласно Сводешу, значение
«хороший», которое включается в список, должно
соответствовать значению английского слова useful «полезный»,
например в выражении a good tool «полезный инструмент».
В навахо встречается по крайней мере четыре формы,
которые могли бы быть переведены английским словом
good в том или ином его значении.
-zeni (—zon, -zp) «быть хорошо сделанным», «хорошо
приготовленным», «тщательно выполненным», а также «быть
красивым», «иметь приятную внешность», «быть приятным
в обращении, манерах». В основном это слоео обозначает
нечто хорошее, что имеет это качество благодаря
организованности и гармонии.
-teeh «быть хорошим, приятным», например,
«(стрелы, весны, пища) хороши»; «хорошие гещи, условия
(вообще)», «хорошая, приятная, красивая (местность, страна
и пр.)», «хорошим, приятным, удовлетворительным спосо-
102
бом»; «иметь хорошее здоровье»; «хорошо жить»; «говорить
хорошо и отчетливо и то, что подобает», и т. д.
Третья форма базируется на корне -?i «быть в
определенном состоянии», эта форма с приставкой со- дает-co-...-^i,
что означает «быть полезным». Данное значение, однако,
довольно узко и обозначает только «быть пригодным», как
в выражениях: «эти палочки пригодны в ткачестве» или
«шерсть и мясо овцы приносят большую пользу».
iikan (букв, «быть сладким») может также
соответствовать good в основном смысле «хороший (для еды)»,'
«вкусный, аппетитный».
28) Сухой. Навахо имеет два глагольных корня, оба
обозначают сухое, но не совсем одинаковое вещество: -cal
обозначает «сухое дерево», «сухую дорогу», «пересохшую
реку», a -gan — «сухую кожу или шкуру», «сухое зерно
или сушеное мясо» либо сам процесс высушивания этих
предметов. Это слово может также означать «увядший
(растения)» или «истощенный (голодающий)».
7. Из двадцати восьми элементов, взятых для перевода,
семь являются или могли бы являться словами-дублетами.
Это — одна из трудностей, заставившая Сводеша
пересмотреть первый список (см. § 4, 5). Сюда входит, конечно,
не очень большое количество слов, но важно, что перевод.
списка на другие атабаскские языки, даже близко
родственные языку навахо, обнаруживает не только
некоторые из тех же самых дублетов, но также и другие, не
встречающиеся в навахо.
В цирикахуа мы находим, например, дублеты
мужчина — человеку семя — глаз, волосы — голова, идти —
приходить, луна—ночь, дым—гореть, которые мы
встречаем в навахо, но не обнаруживаем примера с земля —
зола (соответствующая форма в этом языке для «зола» —
gocscii).
Однако в цирикахуа появляется два новых дублета —
3Igonaa^ai и X'enaa^ai, которые обозначают соответственно
солнце и луну, а в примере кора — кожа оба слова
выражаются с помощью формы -kaye 1.
Язык хупа (надо сказать, что я располагаю неполным;
списком этсго атабаскского языка Калифорнии)
обнаруживает следующие дублеты: кто — что (имеют общую
морфему da-), малый — птица (вторая морфема слова teyi-yahj
Из моих собственных полевых заметок.
103.
«птица» является формой -yaaW, соответствующей англ.
small «маленький»), солнце — луна (оба передаются через
Waa), кровь — красный (соответственно -ceelirj и -ceeli),
рот — язык (-sa? «рот» и saa-staan «язык» [букв, «то, что
находится во рту»]), дым — гореть (соответственно H d и
-lid), зеленый — желтый (оба слова передаются через -cow?)
и огонь — зола (хотр «огонь» и сложное слово,
обозначающее «остатки от огня») 1. Почти все эти дублеты не
совпадают с теми, которые встречаются в навахо. Хотя бы
частичное рассмотрение языка чиппевеев (северный
атабаскский язык) обнаруживает следующие дублеты: кто —
что (оба значения выражаются формой ^edla); мужчина —
человек (как и в навахо); малый — птица (соответственно —
yaze «маленький», ?i,yess «птицы или маленькие существа»);
мясо — желудок (оба слова выражаются посредством bar);
умирать — убивать (выражаются различными формами
глагола -Sir «действовать», «делать»); идти — приходить (как
з навахо) и солнце — луна (как в хупа; общая форма -sa) 2.
Приведенные факты показывают, что новый список
Сводеша не решает проблемы устранения дублетов и, более
того, приводит к мысли, что эта проблема не может быть
решена. Если, как предлагает Сводеш, дублеты просто
опустить и заменить другими элементами из числа
дополнительных 100 элементов, входивших в старый список, то
окажется, что мы будем иметь более или менее различные
списки для каждого языка, к которому будет применяться
данный метод. Применительно к атабаскским языкам это
предполагает различные списки для навахо, хупа и др.,
что явилось бы очевидным препятствием к установлению
точной даты их расхождения.
8. Большое количество элементов, для выражения
которых навахо обладает двумя или несколькими
одинаково возможными вариантами перевода, противоречит
основной мысли Сводеша о том, что при переводе списка
«для каждого элемента должен быть найден один простой
эквивалент» (стр. 38). Возможно, что навахо —
единственный язык, представляющий в этой области такие
большие трудности. Ни один из исследователей не заявлял
о таком количестве элементов, которые так трудно было бы
перевести точно. Однако я должен высказать предположе-
1 Из полевых заметок Э. Сепира.
2Fang-kuei Li, A list of Chipewyan stems, UAL, 7, 1933,
p. 122—151.
104
ние, что видимое отсутствие трудностей в переводе
является результатом недостаточно тщательных
определений, которые даются этим элементам. В своих
исследованиях языка навахо я основывался на материале, который
собирался Сепиром в течение значительного периода
времени, и использовал работы различных исследователей,
из которых по крайней мере один — Берард — обладал
практическим знанием языка. Мне кажется, я вполне
справедливо предполагаю, что лингвисты, занимающиеся в
основном структурными исследованиями (сюда
включается и большинство изучающих языки американских
индейцев), по-видимому, довольствуются, ввиду недостатка
времени и интереса, лишь очень краткими определениями для
объяснения собираемых форм.
Трудности, отмеченные нами, выявляются лишь после
тщательного семантического исследования, которое
основывается на гораздо большем материале, чем обычно
требуется для структурного исследования.
9. Трудность в отыскании одного простого эквивалента,
соответствующего каждому элементу опытного списка,
несомненно, является результатом того, что каждый язык
обладает не только особой, свойственной ему структурой,
но также и своей особой системой семантических моделей.
Уорф не раз указывал на то, что природа и опыт
разделяются по типам и категориям не потому, что опыт
подсказывает такое деление, но большей частью потому, что
сам язык указывает и устанавливает определенное
семантическое группирование. Сепир утверждает то же самое,
когда он называет язык 1 «самостоятельной созидающей
системой символов, которая не только относится к опыту,
в значительной степени приобретаемому без ее помощи,
но которая фактически формирует наш опыт для нас
благодаря ее формальной целостности и вследствие того,
что мы подсознательно переносим ее невыраженные
предположения в сферу опыта». «... (значения) не столько
выражаются в опыте, сколько навязываются ему благодаря
той тиранической власти, которую имеет языковая форма
над нашей ориентировкой в мире».
«Ориентировка в мире», присущая языку навахо, ясно
проявляется на примере многих элементов, приведенных
1 Edward Sapir, Conceptual categories in primitive languages,
«Science», vol. 74, 1931, p. 578.
105
в § 6, хотя бы на примере элемента дерево, переводимого»
на навахо как сin, что, кроме дерева, означает также «кол»,
«столб», «бревно», «сердцевина дерева», «строительный
материал», «деревянная ручка»; иными словами, сin
обозначает дерево как материал, из которого производятся
различные древесные изделия. Второе слово — ciz —
обозначает дерево только как горючее.
Элемент 8 семя — глаз обнаруживает семантическую-
модель, также специфическую для навахо. Здесь значение
слова глаз расширяется и включает в себя слово семя,
однако семена лишь определенных растений и трав.
Семена других растений — злаков, дынь и кабачков,
фруктов — обозначаются отдельным словом для каждого вида.
Частично подобное разделение обусловливается историей
культуры навахо, где интерес к семенам и вообще к
земледелию ягляется недавним.
Другие, специфические для навахо семантические
модели (свойственные также и другим атабаскским языкам),
объясняются характерной особенностью этих языков —
различать действия, учитывая количество действующих
лиц и предметов (см. элементы 16, 17, 19 и 20), а также
тем фактом, что движение выражается также различными
элементами в зависимости от того, какой класс предметов
в нем участвует.
10. Указанные соображения неизбежно приводят к
выводу о том, что ни один из элементов опытного списка
не является необходимо относительно нейтральным к
культуре (стр. 38), не говоря уже о том, что элементы
списка вообще не являются универсальными и
нейтральными по отношению к культуре (стр. 38). Напротив,
нам представляется, что любой элемент списка может
подвергаться культурным влияниям просто благодаря
тому, что он является продуктом всей культуры, в которую
должен быть включен и язык с его структурными и
семантическими моделями.
Безусловно, верно, что мы можем избежать тех
элементов, которые совершенно очевидно связаны с
культурой народа (например, большинства терминов родства или
слов, относящихся к определенным политическим
системам или системам религиозных верований). Мы можем
также исключить элементы, имеющие отношение к
географическим и климатическим факторам ограниченного
распространения. Чего нельзя избежать, так это
определен106
ных моделей различных категорий и типов, которые язык
и культура (куда язык, собственно говоря, и включается)
навязывают лексике языка, моделей языка, которые
оказывают влияние на весь словарь, на все лексические
единицы, в отдельности на то и на другое, хотя первое больше
связано с культурой, а второе с ней не так тесно связано.
Это заключение рождается, как мне кажется, из
разбора того материала, который здесь представлен.
Каждая попытка перевести опытный список на какой-
либо определенный язык, если задача выполняется
тщательно и точно, неизбежно выявит некоторое количество
оставшихся элементов, для которых не может быть найден
единственный простой эквивалент, отвечающий всем
требованиям, выдвигаемым Сводешем. Необходимо
подчеркнуть, что этот остаток не будет одинаковым во всех
языках, и обратить внимание на различные остатки в навахо,
цирикахуа, хупа и чиппевейском языках. Это означает,
что опытный список, взятый в целом, возможно, и
представляет собой сферу опыта, присущего всему человечеству,
однако он не обеспечивает разделение этой сферы на сто «легка
распознаваемых общих понятий, к которым нетрудно
найти соответствия среди простых слов в большинстве
языков». Вряд ли какой-либо другой опытный список,
спланированный таким же образом, как список Сводеша,
достигнет цели, поскольку мы не знаем способа заранее
исключить все особенности отдельных индивидуальных
культур. Вероятно, этот неизбежный недостаток объясняет
довольно большую величину ошибки в
лексикостатистическом датировании. Из атабаскских языков мы рассмотрели,
язык навахо и отметили в нем 24 элемента, которые можно
было бы перевести различным образом. Если это остается
верным в приложении к другим языкам (а есть все
основания полагать, что это так), то легко можно было бы
для каждого из 24 элементов сделать один выбор в одном
языке, а другой в другом и, таким образом, одинаково
легко обнаружить как утраты в словаре, так и их
сохраняемость. Достаточно допустить ошибку лишь в
нескольких случаях, и сам метод и полученные с его помощью
датировки приобретут характер иллюзорности.
гипотеза
СЕПИРА —УОРФА
ТЕОРЕТИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ГИПОТЕЗЫ СЕПИРА-УОРФА
1
Проблема взаимоотношений языка и мышления
является традиционной для науки о языке и уходит своими
корнями в классическую древность. Первоначально и
преимущественно эта проблема рассматривалась в направлении
влияния категорий мышления на становление языковых
и в первую очередь грамматических категорий. Свое
наиболее полное выражение данное направление исследований
нашло в так называемой логической школе
языкознания, которая отождествляла грамматические категории
с логическими и свою научную задачу видела в описании
грамматических явлений через посредство и в терминах
логических категорий 1. В дальнейшем, однако,
направление исследований в области проблемы взаимоотношений
языка и мышления резко изменилось и обратилось в
противоположную сторону, т. е. в сторону влияния категорий
языка на процессы познания и формирование логических
категорий. Свою крайнюю форму это направление находит
в наши дни в гносеологических построениях представителей
логического позитивизма (Л. Витгенштейна, Р. Карнапа,
Б. Рассела, Г. Рейхенбаха, Ч. Пирса и др.). Расширяя
понятие языка (трактуя его как один из видов знаковых
систем и включая в него на этом основании логические
исчисления, терминологические номенклатуры и символы
таких наук, как геометрия, алгебра, химия и пр.) и основы-
1 Ср., например, такое высказывание К. С. Аксакова: «В языке
только то движение мысли важно для грамматики, которое получило
язычное выражение: но все, что в языке получило выражение, уже
непременно относится к логике. Язык мыслит... мыслит сам в себе; но
если мыслит, то логически» (Критический разбор «Опыта исторической
грамматики русского языка» Ф. И. Буслаева. Соч. филологические, ч. I,
стр. 530).
111
ваясь на том, что «Предложение — образ
действительности. Предложение — модель действительности, как мы
ее себе мыслим» 1, или же, исходя из утверждений, что
«Изобразить в языке нечто „противоречащее логике" так
же невозможно, как нельзя в геометрии посредством ее
координат изобразить фигуру, противоречащую законам
пространства, или дать координаты несуществующей
точки» 2, представители этого направления на основе анализа
структуры предложений или же языковых значений и их
типов выводят логические категории и устанавливают
формально-логические процедуры доказательства истины.
В пределах самого языкознания это второе направление
в исследовании проблемы языка и мышления было начато
гениальным основоположником общего языкознания и
философии языка (в ее идеалистическом толковании) В.
Гумбольдтом. Его постановка вопроса представлена в
следующем высказывании: «Так как ко всякому объективному
восприятию неизбежно примешивается субъективное, то
каждую человеческую индивидуальность независимо от
языка можно считать носителем особого мировоззрения.
Само его образование осуществляется через посредство
языка, поскольку слово в противоположность душе
превращается в объект всегда с примесью собственного значения и
таким образом привносит новое своеобразие. Но в этом
своеобразии, так же как и в речевых звуках, в пределах
одного языка наблюдается всепроникающая
тождественность, а так как к тому же на язык одного народа
воздействует однородное субъективное начало, то в каждом языке
оказывается заложенным свое мировоззрение. Если звук
стоит между предметом и человеком, то весь язык в целом
находится между человеком и воздействующей на него
внутренним и внешним образом природой. Человек
окружает себя миром звуков, чтобы воспринять и усвоить мир
предметов. Это положение ни в коем случае не выходит
за пределы очевидной истины. Так как восприятие и
деятельность человека зависят от его представлений, то его
отношение к предметам целиком обусловлено языком. Тем
же самым актом, посредством которого он создает язык,
человек отдает себя в его власть: каждый язык описывает
1 Л. Витгенштейн, Логико-философский трактат, М., 1958,
стр. 45.
2 Там же, стр. 37.
112
вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из
пределов которого можно выйти только в том случае, если
вступаешь в другой круг»1.
Идея о том, что человек замкнут в своеобразном
волшебном кругу своего родного языка, который сам по себе
обладает определенным мировоззрением и навязывает это
мировоззрение всем, пользующимся им, прошла через всю
историю европейского языкознания (и сопредельных с ним
наук) XIX и XX вв., хотя и не всегда находилась на
первом плане. В наше время в той или иной степени
влияние ее испытали на себе Марсель Гране, Клод Леви-Строс,
Жан Пиаже, Шарль Балли, Альф Соммерфельт и др. Но
особенно сильно этот теоретический мотив звучит у
неокантиантца Эрнеста Кассирера и у современных
неогумбольдтианцев . В работах последних ученых он,
по сути говоря, является ведущим.
На совершенно аналогичные мысли (причем, несомненно,
независимо от европейской научной традиции) натолкнуло
американских исследователей изучение культуры и языка
первых обитателей американского континента
—многочисленных индейских племен. Формы культуры, обычаи,
этические и религиозные представления, с одной стороны,
и структура языков—с другой, имели у американских
индейцев чрезвычайно своеобразный характер и резко
отличались от всего того, с чем до знакомства с ними
приходилось сталкиваться в этих областях ученым. Это
обстоятельство и подсказало американским ученым мысль
о прямой связи между формами языка, культуры и
мышления.
Впервые (хотя и недостаточно ясно) данную мысль
выразил один из пионеров изучения языка и культуры
американских индейцев — Франц Боас. Он высказал
предположение, что «...теоретическое изучение языков
индейцев не менее важно, чем практическое владение ими; чиста
лингвистическое исследование является неотъемлемой частью
глубокого изучения психологии народов мира»2. В
другом месте он писал: «...язык представляет собой одну из
1 В. Гумбольдт, О различии строения человеческих языков
и его влиянии на духовное развитие человеческого рода. Цит. по
«Хрестоматии по истории языкознания XIX и XX вв.», составленной
В. А. Звегинцевым, Учпедгиз, 1956, стр. 81.
2 F. Boas, Handbook of American Indian languages, Introduction/
1911, p. 63.
8 Заказ № 116
113
наиболее благодарных областей исследования при
изучении формирования основных этических представлений.
Большим преимуществом лингвистики в этом отношении
является тот факт, что лингвистические категории
формируются бессознательно, и поэтому можно проследить
процессы, ведущие к их формированию, не прибегая к помощи
дополнительных объяснений, которые часто дезорганизуют
и лишь мешают пониманию» 1.
Более четкую и определенную форму этим мыслям
придал один из самых талантливых представителей
американской науки о языке — Эдуард Сепир. Его высказывание
по данному вопросу Б. Уорф избрал в качестве эпиграфа
к своей основной статье. Оно многократно повторяется
и во многих других работах, посвященных интерпретации
идей Б. Уорфа, но его никак нельзя опустить и здесь, так
как оно открывает доступ к пониманию всей концепции
Б. Уорфа. «Люди живут не только в объективном мире
вещей,— пишет Э. Сепир,— и не только в мире
общественной деятельности, как это обычно полагают; они в
значительной мере находятся под влиянием того конкретного
языка, который является средством общения для данного
общества. Было бы ошибочным полагать, что мы можем
полностью осознать действительность, не прибегая к
помощи языка, или что язык является побочным средством
разрешения некоторых частных проблем общения и
мышления. На самом же деле «реальный мир» в значительной
степени бессознательно строится на основе языковых
норм данной группы... Мы видим, слышим и воспринимаем
так или иначе те или другие явления главным образом
благодаря тому, что языковые нормы нашего общества
предполагают данную форму выражения».
То, что для Э. Сепира было одной из многих проблем,
которыми он занимался, составило содержание всего
научного творчества Б. Уорфа. Специфичность его творчества
не только в том, что он попытался общую формулу Э.
Сепира наполнить конкретным содержанием и приложить
ее к изучению собственно языкового материала, но также
и в том (и это в большей мере), что он развил ее,
расширил, придав ей форму своеобразной метафизической
системы, а главное, сделал из нее крайние логические выводы.
1 F. Boas, Handbook of American Indian languages,
Introduction, 1911, p. 70—71.
114
Это, кстати говоря, тотчас же обнаружило все слабые
стороны данной идеи, получившей название гипотезы Сепира—
Уорфа или теории лингвистической относительности.
2
Бенджамен Ли Уорф не был специалистом-языковедом
и не обладал профессиональной лингвистической
подготовкой. Он родился в 1897 г., в 1918 г. окончил
Массачусетский технологический институт и в течение 22 лет вплоть
до самой смерти работал инженером по технике пожарной
безопасности в одной из американских страховых
компаний. С 1926 г. в свободное от основной работы время он
начал заниматься культурой, письменностью и
археологией ацтеков и майя, что в свою очередь пробудило в нем
интерес к индейским языкам (некоторые он основательно
изучил, в частности язык хопи). Воспользовавшись тем,
что в 1931 г. Э. Сепир занял пост профессора
антропологии в Ийельском университете, расположенном
поблизости, Б. Уорф прослушал у него курс по индейскому
языкознанию, а позднее, в 1937—1938 гг., даже сам читал
лекции по антропологии в этом же университете. В 1941 г.
Б. Уорф умер в возрасте 44 лет.
За период с 1925 по 1941 г. он напечатал значительное
количество работ, относящихся к письменности и
археологии майя, истории мексиканских индейских племен, и
только последние годы посвятил той проблеме, которая
уже после его смерти привлекла к себе внимание
широких научных кругов. Оставшиеся после Уорфа материалы
свидетельствуют, что он готовился написать обобщающую
работу под названием «Язык, мышление и
действительность», но успел сделать только общие ее наметки.
Выражением интереса, который вызвали к себе работы
Б. Уорфа о влиянии форм языка на нормы мышления,
является публикация трех сборников его работ,
последовавших вскоре один за другим: в 1950 г. «Четыре статьи по
металингвистике» 1, в 1952 г. «Собрание работ по
металингвистике» 2 и в 1956 г. более полный сборник
(включающий и неопубликованные работы) под тем названием,
которое Б. Уорф собирался дать своей ненаписанной
1 В. L. Whorf, Four articles on metalinguistics, Wash., 1950.
2 B. L Whorf, Collected papers on metalinguistics, Wash., 1952.
8*
115
книге,—«Язык, мышление и действительность»1. В связи
с изданием этих сборников в периодической печати появился
ряд статей как с отрицательной, так и с положительной
оценкой его работ 2, а в 1954 г. под редакцией Гарри
Хойера были опубликованы материалы конференции,
посвященной гипотезе Сепира — Уорфа 3. В конференции
принимали участие представители разных наук: лингвисты
и антропологи (Г. Хойер, Дж. Гринберг, Ч. Хоккетт,
Э. Хэмп, X. Крёбер и др.), философы (А. Каплан, М.
Зингер), психологи (Ф. Фиринг, Э. Леннеберг) и пр., которые,
хотя и разделились в оценке работ Б. Уорфа, пришли к
единому мнению о необходимости продолжить изучение его
идей предпочтительно в применении к конкретному
материалу.
В советском языкознании было также высказано
пожелание разобраться в «теории Уорфа» с позиций
диалектического материализма 4, а в книге О. С. Ахмановой
«Очерки по общей и русской лексикологии» 5 наряду с критикой
теоретических положений Б. Уорфа содержится даже
попытка выявить разные типы возможных влияний «языка
на образование мысли, отложившейся в языке в виде
семантики его слов».
К сожалению, конкретная работа в этом направлении
в Советском Союзе не проводилась, несмотря на наличие
в высшей степени благоприятных условий. Ведь на
обширной территории Советского Союза обитает большое
количество народов, имеющих чрезвычайно своеобразные
культуры и говорящих на многообразных в структурном
отношении языках.
1 В. L. Whorf, Language, thought, and reality, N. Y., 1956.
2 См. положительную оценку в статьях: H. Hoijer, The relet ion
of language to culture в книге «Anthropology today», Chicago, 1953;
Bertalanffy, An essay on the relativity of categories, «Philosophy of
science», vol. XX, 1955. Критическая оценка в статмx: L.
Lenneberg, Cognition in cthnolinguistics, «Language», vc 1. XXIX, 1953;
L. Feuer, Sociological aspects of the relation betv een language and
philosophy, «Philosophy of science», vol. 20, 1953; F. Fearing, An
examination of the conception of B. Whorf in the light of the theories o?
perception an cognition, «Am. anthropol. assoc», vol. 56, № 6, 1954.
3 «Language in culture», ed. by H. Hoijer, Chicago, 1954.
4 См. статью О. С. Ахмановой, В. В. Виноградова
и В. В. Иванова, О некоторых вопросах и задачах описательной,
исторической и сравнительно-исторической лексикологии, журн.
«Вопросы языкознания», 1957, № 3, стр. 6—7.
5 См. О. С. Ахманова, Очерки по общей и русской
лексикологии, Учпедгиз, 1957, стр. 38—53.
116
3
Общее представление о сущности гипотезы Сепира —
Уорфа дают уже приведенные выше цитаты. Однако
необходимо более детально изложить основные ее положения,
прежде чем перейти к критическому ее рассмотрению.
В той же статье 1, цитату из которой Б. Уорф избрал в
качестве эпиграфа к своей работе (она приводится выше),
Э. Сепир говорит далее, уточняя свою мысль: «Язык
служит руководством к восприятию социальной
действительности... Мир, в котором живут общественные образования,
говорящие на разных языках, представляет собой
различные миры, а не один и тот же мир с различными
этикетками... Язык представляет собой не просто более или менее
систематизированный перечень элементов опыта, которые
кажутся известными индивиду, как часто наивно полагают.
Язык является замкнутой продуктивной системой
символов, которая не только имеет отношение к опыту,
приобретенному в значительной степени без помощи языка, но
в действительности определяет для нас опыт в силу своей
формальной структуры, а также и потому, что мы
бессознательно переносим установленные языком нормы в
область опыта. В этом отношении язык напоминает
математическую систему, которая также в самом точном
значении слова фиксирует опыт только в самых исходных
своих положениях, но со временем превращается в
независимую систему понятий, заранее учитывающую любой
возможный опыт в соответствии с определенными
принятыми формальными правилами... [Значения] не столько
открываются в опыте, сколько накладываются на него
в силу той тиранической власти, которой обладает
языковая форма над нашей ориентацией в мире».
В работах Б. Уорфа мы часто встречаемся с повторением
этих мыслей, высказанных Э. Сепиром. Но Б. Уорф,
детализируя и конкретизируя их, вместе с тем толкует их
расширительно, придавая им характер целого
мировоззрения, которое в его последних работах приобретает даже
мистическую окраску. Он говорит о том, что
действительность представляет собой беспорядочный поток
впечатлений, который упорядочивает язык. Так как каждый язык
1 E. Sapir, Conceptual categories in primitive languages,
«Science», vol. 74, 1931, p. 578.
117
обладает своей особой метафизикой, то он обрисовывает
людям, говорящим на разных языках, действительнссть
по-разному. В этом смысле язык представляет собой
систему понятий для организации опыта. Навязывая человеку
определенное мировоззрение, язык обусловливает нормы
его мышления, а следовательно, и поведения. Из всего
этого делается вывод более общего порядка о том, что
логика, как она фиксируется в мировоззрении языка, не
отражает действительности, но, следуя за структурными
особенностями языков, меняется от языка к языку.
Таким образом, язык оказывается наделенным
абсолютной и всеобъемлющей властью. Он устанавливает нормы
мышления и поведения, руководит становлением
логических категорий и целых концепций, проникает во все
стороны общественной и индивидуальной жизни человека,
определяет формы его культуры, сопутствует человеку на
каждом его шагу и ведет его за собой, как слепца. Так,
указывая, что европейским языкам свойственно понятие
так называемого объективизированного времени, Б. Уорф
дает этому факту такое толкование: «Наше же
объективизированное время вызывает в представлении что-то вроде
ленты или свитка, разделенного на равные отрезки,
которые должны быть заполнены записями. Письменность,
несомненно, способствовала нашей языковой трактовке
времени, даже если эта языковая трактовка направляла
использование письменности. Благодаря взаимообмену между
языком и всей культурой мы получаем, например:
1. Записи, дневники, бухгалтерию, счетоводство,
математику, стимулированную счетом.
2. Интерес к точной последовательности — датировку,
календари, хронологию, часы, исчисление зарплаты по
затраченному времени, измерение самого времени, время,
как оно применяется в физике.
3. Летописи, хроники — историчность, интерес к
прошлому, археологию, проникновение в прошлые эпохи,
выраженные классицизмом и романтизмом.
Подобно тому как мы представляем себе наше
объективизированное время простирающимся в будущем так же,
как оно простирается в прошлом, подобно этому и наше
представление о будущем складывается на основании
свидетельств прошлого, и по этому образцу мы вырабатываем
программы, расписания, бюджеты. ...стоимость мы
исчисляем пропорционально затраченному времени, что при-
118
водит к созданию целой экономической системы,
основанной на стоимости, соотнесенной со временем: заработная
плата (количество затраченного времени постоянно
вытесняет количество вложенного труда), квартирная плата,
кредит, проценты, издержки по амортизации и страховые
премии. Конечно, эта некогда созданная обширная система
могла бы существовать при любом лингвистическом
понимании времени, но сам факт ее создания, многосбразие и
особая форма, присущие ей в западном мире, находятся в
полном соответствии с категориями европейских языков.
Трудно сказать, возможно была бы или нет цивилизация,
подобная нашей, с иным лингвистическим пониманием
времени; во всяком случае, нашей цивилизации присущи
определенные лингвистические категории и нормы
поведения, складывающиеся на основании данного понимания
времени, и они полностью соответствуют друг другу»
(«Отношение норм поведения и мышления к языку», стр. 160,161).
На основании предпосылок подобного рода вполне
логичным представляется вывод Б. Уорфа относительно того,
что ньютоновская концепция вселенной выглядела бы
совершенно иначе, если бы Ньютон говорил не на
английском языке, а, например, на языке хопи.
Таковы основные положения гипотезы Сепира — Уорфа.
Как уже указывалось выше, в настоящее время она
привлекает к себе широкое внимание языковедов,
антропологов, философов и психологов. Это не случайно и
определяется не только остроумием, глубокомыслием и
обостренной наблюдательностью авторов данной гипотезы. Она
представляет собой не обособленное и изолированное
явление, но выражает определенную тенденцию в
современной зарубежной науке. В собственно лингвистической
области она смыкается с концепцией Л. Вайсгербера,
отличаясь только акцентами: Б. Уорф проводит свои
исследования в контексте «язык и культура», а Л.
Вайсгербер — в контексте (характерном для
европейской традиции идеалистического языкознания) «язык
и народ». В общефилософских основах у Б. Уорфа —
прямые контакты с так называемой «общей семантикой»
(general semantics) и различными разветвлениями
идеалистической семантической философии. В силу этого последнего
обстоятельства представляется особенно важным
критически разобраться во всех предпосылках и весьма
ответственных выводах гипотезы Сепира — Уорфа.
119
4
Исходное положение гипотезы Сепира — Уорфа и
логические следствия из нее (при всей парадоксальности
конкретных выводов) представляются на первый взгляд
бесспорными: процессы понятийного мышления у человека
всегда протекают в языковой форме, а так как структуры
языков могут значительно отличаться друг от друга, это
якобы неизбежно должно привести к созданию у людей,
употребляющих неодинаковые языки, различных норм
мышления. Для оценки правильности этой формулы и
правомерности выводов Б. Уорфа требуется предварительное
разрешение ряда вопросов. К их числу относится прежде всего
вопрос о том, что Б. Уорф понимает под языком.
Язык, как известно, представляет собой сложное
образование. В него входит и звуковая сторона (с особой в
каждом отдельном случае фонологической системой, обладающей
своими закономерностями построения и
функционирования), и грамматическая структура (опять-таки
неодинаковая в различных языках), и лексика (с разными
лексическими системами), и семантика. Язык можно изучать с каждой
из этих сторон, намеренно ограничивая поле своего
исследования и отнюдь при этом не закрывая глаз на то, что это
всего лишь один из компонентов языка. Язык можно
изучать и в целом как структурное единство с учетом
взаимодействия всех его компонентов. В последнем случае очень
важно установить основные функции языка и зависимость,
существующую между этими функциями и структурной
организацией языка в целом.
Ознакомление с работами Б. Уорфа показывает, что он,
говоря о языке, в действительности имеет в виду только
одну из его сторон, а именно семантическую. Его
фактически интересует только совокупность «значений»,
представленная в языке. И эту совокупность «значений»,
фиксированных в языке, он совершенно неправомерно
отождествляет с языком в целом. Более того, он идет еще дальше
в своем сужении и ограничении понятия языка и сводит его
даже и не к совокупности языковых «значений», а к
характеру их членений в разных языках, причем
преимущественно только тех из них, которые представлены
грамматическими формами языка (лексическими значениями и их
членениями занимается Л. Вайсгербер). Иными словами,
когда Б. Уорф говорит о влиянии языка на нормы
поведе120
ния и мышления человека, он имеет в виду влияние некоторой
совокупности грамматических значений, рассматриваемых
с точки зрения особенностей их выражения и членения. На
основе соотнесения совокупности грамматических значений
отдельных языков с некоторыми общими логическими
категориями — пространства, времени, субстанции
(независимость которых от конкретных языковых форм, таким
образом, молчаливо признается, поскольку они выступают у
Б. Уорфа в качестве внеязыкового абсолютного эталона) —
и выявления в данных языках разных способов их
выражения Б. Уорф и строит свои дальнейшие рассуждения.
Отнюдь не отождествляя весь язык в целом с его
семантическим компонентом (что является одной из
существеннейших ошибок гипотезы Сепира — Уорфа), следует
отметить, что наличие в разных языках несовпадений
(грамматических) значений, членений этих значений,
классификаций (видоизменяющихся от языка к языку), а также
характер их отношений к логическим понятиям и — самое
главное — разные типы соотношения с объективной
действительностью — факт абсолютно бесспорный и не
вызывающий никаких сомнений. Самое важное заключается в том,
как истолковать все это — в соответствии с положениями
материалистической науки и в согласии с действительным
положением вещей или же на основе произвольных
утверждений (хотя и эффектно и впечатляюще преподнесенных,
как это делает Б. Уорф), покоящихся в конечном счете на
идеалистических предпосылках.
Разберем последовательно краеугольные теоретические
основы гипотезы Сепира — Уорфа.
5
Когда Б. Уорф говорит о наличии в языках разных
мировоззрений, реализующихся в несовпадающих системах
«значений», он совершенно не задается вопросом, откуда они
берутся. Он принимает их как таковые, описывает их
особенности, а затем делает свои выводы. Между тем
рассмотрение причин становления различий в языках (в том
числе в их семантической стороне) весьма способствует
правильному пониманию значения этих различий для
процессов познания. Но для того, чтобы выявить причины
становления различий в языках, необходимо иметь ясные и
правильные представления о взаимоотношении трех
основных величин, играющих основную роль при разрешении
121
тех проблем, к которым относится и гипотеза Сепира —
Уорфа. Речь идет о взаимоотношении языка, сознания и
действительности.
С самого начала здесь чрезвычайно важно
констатировать, что язык, включаясь составным элементом в единую
цепь отношений, существующих между человеческим
сознанием и объективной действительностью, является
производным и от сознания (и его деятельности, т. е. мышления),
и от объективной действительности. Язык отражает и
состояние развития сознания, и направление его деятельности,
и материальные условия (т. е. совокупность всех форм
объективной действительности), в которых осуществляется
эта деятельность. Поскольку все эти факторы являются
отнюдь не стабильными, а меняются во времени или в
пространстве, их различие в конечном счете (но только в
конечном счете, так как тут наличествует сложный клубок
опосредствовании) обусловливает и различие языков. Но,
являясь производным от сознания и действительности,
язык вместе с тем является и посредником между ними.
И именно этот момент Б. Уорф выхватывает из единой цепи
взаимоотношений языка с сознанием (не упоминая
должным образом о наличии третьего фактора —
действительности) и превращает его в основной и ведущий.
Посредническая роль языка у него проявляется в том, что язык
фиксирует в своей структуре особую «картину мира» и, находясь
между человеком и действительностью, подчиняет ей
человеческое мышление, когда оно направляется на
осмысление действительности.
Фактически, однако, все строится в обратном порядке,
и, когда мы сталкиваемся с бесспорным фактом наличия в
значимой стороне языка разных «картин мира», надо
говорить лишь о том, что действительная и объективная
картина мира запечатлена в языках неодинаковым образом.
При этом сам факт структурного разнообразия языков
указывает на то, что не сами языки образуют различные
«картины мира», а неодинаковое отражение в языках картин
объективного мира обусловливается теми подлинно
ведущими действующими силами, посредническую
деятельность в отношениях между которыми выполняет язык,—
человеческим сознанием в его познавательной деятельности
и объективной действительностью, на которую направлена
эта деятельность. Таким образом, язык действительно
является посредником, но не в том смысле, какой подсказы-
122
вают нам работы Б. Уорфа. Будучи посредником, язык не
управляет развитием и нормами функционирования
человеческого сознания, не указывает человеческому мышлению
правил его поведения, не обусловливает форм поведения
человека. Язык ниоткуда не мог получить этого
руководящего и направляющего качества. Но язык является
посредником в том смысле, что без его участия невозможна сама
познавательная деятельность человека, не может
осуществиться процесс мышления. Ведь язык есть орудие мысли.
Однако быть орудием мысли не значит быть ее
руководителем и полновластным господином.
Какими же конкретными путями происходит
возникновение в языках различий, становление разных «картин мира»
или, говоря словами Б. Уорфа, многообразных
лингвистических метафизик? Ответ на этот вопрос требует
всестороннего изучения истории каждого конкретного языка в
отдельности под указанным углом зрения. В данной статье это,
конечно, невозможно сделать. Однако все же можно
указать три основные категории причин, дающие общее
представление о том, как возникают различия; при этом ни в
коем случае не следует забывать того вышеотмеченного
обстоятельства, что у Уорфа речь фактически идет не о языке в
целом (и его структурных особенностях), а только о
языковых «значениях» и способах их членений и классификаций.
Первая категория причин соотносится с конкретными
материальными и социальными условиями бытования
каждого языка. Ведь совершенно очевидно, что в зависимости
от того, где обитает тот или иной народ — на севере или
на юге, в лесистой местности или в пустынной и т. д.,—
в язык войдут разные группы значений, отражающих
физические, географические, экономические и прочие условия
существования народа. Это же относится и к социальным,
культурным, историческим факторам. К тому же следует
добавить, что роль и значение отдельных явлений в жизни
каждого данного народа приводит к большей или меньшей
дифференциации их обозначения. Сравните
чрезвычайно подробную номенклатуру обозначений разных
состояний льда, снега и мороза у северных народов или весьма
дробное обозначение видов растительности и их стадий
роста у южных народов, очень богатую синонимику,
связанную у скандинавских народов с мореплаванием и
рыболовством, а у арабских народов — с верблюдами, конями,
водой и т. д. Эта категория языковых различий прямо и не-
123
посредственно обусловлена многообразием форм
действительности и условий общественного опыта.
Вторая категория причин связывается с человеческим
сознанием, особенностями его функционирования. Ведь
человеческое сознание не есть безошибочно и автоматически
действующий механизм с прямолинейной направленностью
на адекватное познание действительности. Путь познания
действительности извилист, сопряжен с ошибками,
уклонениями в сторону, заблуждениями, которые не проходят
для человечества бесследно, но обременяют его
продвижение по этому пути своей тяжестью и сбивают в сторону от
прямой дороги. И все эти ошибки, заблуждения и
уклонения человеческого познания фиксирует в системе своих
«значений» язык, так что достижение нового этапа на пути
познания нередко происходит посредством преодоления
недостаточно точных осмыслений, в том числе, конечно, и
тех, которые прочно вошли в структуру языка.
Мы располагаем по этому поводу очень точным
замечанием В. И. Ленина: «Подход ума (человека) к отдельной
вещи, снятие слепка (=понятия) с нее не есть простой,
непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный,
раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя
возможность отлета фантазии от жизни.... Ибо и в самом
простом обобщении, в элементарнейшей общей идее («стол»
вообще) есть известный кусочек фантазии» 1.
Подобное уклонение от «зеркально-мертвого» отражения явлений
и отношений действительности, включение известной доли
«фантазии» происходит в разных языках в их лексических
и грамматических значениях далеко не одинаковым
образом. Это также способствует созданию в языках
разнообразных «картин мира».
Третья категория причин соотносится с
конструктивными особенностями самого языка. Об этих особенностях
языка говорит Э. Сепир в вышеприведенной цитате, когда
указывает, что «... язык напоминает математическую
систему, которая в самом точном значении слова фиксирует
опыт только в самых исходных своих положениях, но со
временем превращается в независимую систему понятий,
которая заранее располагает любой возможный опыт в
соответствии с определенными принятыми формальными
правилами». Иными словами, все известные нам языки
1 В. И. Ленин, Философские тетради, ОГИЗ, 1947, стр. 308.
124
представляют собой системы, элементы которых связаны
закономерными внутренними отношениями. Такое строение
языка привело к тому, что он стал истолковываться как
структура, развивающаяся и функционирующая по своим
собственным (или, как принято в советском языкознании
говорить, внутренним) законам. Эта структура отнюдь не
замкнута в самой себе (на такое понимание может
натолкнуть приведенная формулировка Э. Сепира). Она
продолжает выполнять ту же посредническую роль между
сознанием и действительностью, какую язык выполнял всегда.
Но изменение или включение в него новых фактов,
обусловленных фактором сознания или фактором действительности,
получает всегда специфическую форму в соответствии с
особенностями структуры каждого языка в отдельности.
Таковы в общих чертах основные причины, которые
приводят к становлению различий в значимой стороне языка,
к созданию разных языковых «картин мира». Все, таким
образом, сводится к разным формам запечатления в языках
реальной действительности. А это позволяет установить и
правильные отношения и зависимости, которые в гипотезе
Сепира — Уорфа, бесспорно, извращаются.
Ко всему сказанному следует добавить, что как сама
совокупность языковых «значений», так и способы их
членения и классификации не являются вечными, раз и навсегда
данными. Как показывают истории конкретных языков, в
них постоянно меняются даже и такие категории
(грамматических) «значений», которые как бы составляют основной
костяк языка. Так, например, есть основания полагать,
что на древней ступени своего развития индоевропейские
языки не имели временных грамматических форм, обладая
системой видовых форм. С помощью этих видовых форм
индоевропейские языки и выражали последовательность
действий во времени, видимо, примерно так же, как это
наблюдается в семитских языках, например в литературном
(классическом) арабском языке 1. Отсюда вытекает, что ин-
1 Н. В. Юшманов пишет по этому поводу: «Семитский глагол не
имеет времен в европейском смысле. Вместо тройного деления действия
или состояния по соотношению во времени на прошедшее, настоящее и
будущее семит пользуется двойным делением по законченности на со
вершенное и несовершенное. Если рассматривать совершенное время
как «прошедшее» по преимуществу, а несовершенное как «будущее»,
на долю «настоящего» выпадает причастие действительного залога».
(«Грамматика литературного арабского языка», Л., 1928, стр. 29—30).
Кстати говоря, отличная от индоевропейской структура семитских
125
доевропейские языки далеко не всегда обладали тем
«объективизированным временем», которое Б. Уорф
считает характерным для языков SAE и которое по его
гипотезе послужило основанием для построения существенных
компонентов западной культуры (см. вышеприведенную
цитату)*. Фактически у древних индоевропейцев существовал
такой способ выражения временных значений, который
приближался к способу языка хопи и который выступает в
работах Б. Уорфа в качестве противопоставления языкам
«среднего европейского стандарта» (SAE).
В связи с подобными фактами, число которых,
разумеется, можно было бы значительно увеличить, ясно
определяется ответ на вопрос о том, откуда языки получают новые
«значения», свои новые классификации, новые способы
выражения и под влиянием каких факторов меняют они свои
«мировоззрения», свои «картины мира». Единственно
логически обоснованный ответ на данный вопрос подсказывается
лишь установленной выше истинной зависимостью,в
соответствии с которой язык, выполняя определенную
посредническую роль, является производным от действительности и
от человеческого сознания. Если же встать на точку
зрения Б. Уорфа и присвоить языку единовластные права
руководителя человека в его познавательной и социальной
деятельности, то право дарования конкретным языкам того
или иного их «мировоззрения» или изменение
«мировоззрения» придется признать за какой-то неизвестной силой,
находящейся за пределами и действительности, и сознания, и
самого языка. А это уже чистая мистика.
6
Перейдем теперь к рассмотрению второго основного
положения гипотезы Сепира — Уорфа. Оно устанавливает,
что разные языковые формы приводят к становлению разных
форм и норм мышления. Различие норм мышления якобы
обусловливает и различие норм поведения (последнему
понятию придается по преимуществу культурно-историческое
истолкование).
языков не помешала арабам воспринять без всяких существенных
изменений классическое культурное наследие, бережно хранить его на
протяжении средних веков, а затем вернуть его «индоевропейским
народам»
126
Поскольку Б. Уорф в данном случае стремится
установить закономерную зависимость языковых явлений
(«языковые значения») с внеязыковыми (логические понятия,
нормы социального поведения), очевидно, необходимо
обратиться к свидетельствам не только лингвистического
порядка, но также и к данным тех явлений, с которыми
соотносится язык и которые якобы определяются им. Однако
Б. Уорф не делает этого. Весь ход его рассуждений и
доказательств полностью замкнут языковым кругом.
Единственно, что он себе позволяет, это переход из одного
языкового «круга» в другой. Но и в данной процедуре многое
вызывает возражения. Фактически он оперирует не
собственно языковыми фактами, а вольным и соответствующим
образом интерпретированным пересказом языковых
особенностей, привлекаемых к рассмотрению. В такого рода
комментированном сопоставлении языков очень много
привнесенного, субъективного и примысленного.
Если же попытаться выйти за пределы языковых
явлений, то тотчас обнаружатся слабые места гипотезы
Сепира — Уорфа. Логически развивая тезис о лингвистически
детерминированных нормах мышления и поведения, мы
должны прийти к неизбежному выводу о том, что люди,
пользующиеся неодинаковыми языками, должны вести себя
различным образом в совершенно тождественных
ситуациях. Ведь именно в этом заключается смысл теории
лингвистической относительности. Рассматривая данную
проблему в психологическом аспекте, Э. Леннеберг совершенно
справедливо пишет: «Выявление того факта, что
определенные языки отличаются друг от друга, предполагает, но не
доказывает того, что говорящие на этих языках
представляют различные по своим психическим потенциям группы.
Чтобы доказать это, необходимо прежде всего показать,
что некоторые аспекты языка оказывают прямое
воздействие на психический механизм (или имеют связь с ним)
или по крайней мере обусловливают расхождение
определенных психических параметров» 1. Однако все данные
человеческого опыта и психологии отнюдь не подтверждают
того, что в своей массе люди разных языков ведут себя по-
разному в одинаковых ситуациях, и в частности в тех,
которые требуют оценки (и соответствующей реакции) реаль-
1 E. H. Lenneberg, Cognition in etnolinguistics. «Language»,
vol. 29, 1953, № 4, стр. 463.
127
ных явлений (и отношений), связанных с категориями
субстанции, пространства и времени. Точно так же мы не
располагаем и данными о расхождении психических
параметров у людей, говорящих даже на значительно
различающихся языках.
Но даже если, следуя Б. Уорфу, ограничиться одним
языковым материалом и, оставаясь в его пределах,
рассмотреть данный тезис, то и в этом случае возникают
весьма существенные возражения против него. Исходным при
этом будет общепринятое положение, в соответствии с
которым на любом языке может быть выражено в большей
или меньшей степени абсолютно все. Ясно, что здесь
имеются в виду и описательные формы выражения, когда те или
иные понятия, явления или события передаются в языке
комбинациями его элементов. Даже слова, связанные с
реалиями, не имеющими своих эквивалентов в
материальных условиях жизни других народов, оказывается
возможным передать описательно средствами других языков1
(ср. такие русские слова, как верста, дуга, самовар, лапоть,
онучи). Как известно, А. Дюма, переводя стихи Некрасова
на французский язык, испытывал большие затруднения
при передаче слова «душенька», которое он, однако, перевел
описательным оборотом ma chere petite ame «моя маленькая
милая душа».
Б. Уорф совершенно не учитывает этой возможности
описательной передачи чуждых данному языку «значений».
Все свои рассуждения он строит на прямых и однозначных
сопоставлениях элементов одного языка с элементами
другого языка. Так, например, рассматривая
сопоставительным образом способы передачи действий,
располагающихся в разных временных плоскостях в языке хопи и в
SAE, он имеет в виду только их грамматические формы и
средства, не учитывая того обстоятельства, что временные
значения можно выражать и лексическими средствами.
Кстати говоря, к этому часто прибегают и языки, имеющие
полную «временную парадигму» грамматических форм (ср.
русское «Я завтра еду в Москву», где при грамматической
форме настоящего времени действие посредством лексиче-
1 См. по этому вопросу две работы Н. И. Фельдман, содержащие
интересный материал и тонкие наблюдения: «Об анализе смысловой
структуры слова в двуязычных словарях» («Лексикографический
сборник», I, 1957); «О границах перевода в иноязычно-русских словарях»
(«Лексикографический сборник», 2, 1957).
128
ского значения слова «завтра» переносится в будущее
время).
Однако основная ошибка Б. Уорфа и в данном случае
заключается в том, что он полностью обходит влияние на
язык тех факторов, производным от которых, как уже
указывалось, является язык. Люди, разумеется, могут жить
в несколько видоизменяющихся физических условиях, но,
сколько бы они ни видоизменялись, различия составляют
незначительную долю в сравнении с тем, что у людей нашего
земного мира является общим. Именно поэтому в их
языках фиксируется огромное количество общих понятий,
хотя и разными языковыми способами. Б. Уорф разбирает
в своих работах главным образом категории субстанции,
времени, пространства, т. е. как раз те, которые, бесспорно,
являются общими для всех людей. В аспекте психическом
и логическом они, несомненно, также являются
общечеловеческими. Поэтому, когда языки фиксируют в своих элементах
понятия субстанции, времени и пространства, они наполняют
эти элементы общим и единым содержанием — как в
соотношении с явлениями действительности, так и в
соотношении с формирующимися на их основе логическими
понятиями. Отсюда следует, что, как бы ни видоизменялись
способы языкового их выражения, эти категории остаются во
всех случаях неизменными. Все сводится, таким образом,
только к тому, что, включаясь в систему языка и тем самым
в виде языковых «значений» превращаясь в лингвистические
элементы, эти категории с разной полнотой запечатлеваются
в языке, получают различное членение и по-разному
перераспределяются между элементами данного языка. В разных
языковых формах люди мыслят об одном и том же.
Употребляя аналогию, можно сказать, что различные
системы языков подобны различным системам денежных
знаков, имеющим единое золотое обеспечение — земную
действительность. И так же как единое золотое обеспечение
позволяет производить перерасчет с рубля на доллар и
обратно, так и единая земная действительность позволяет по
установленному «курсу» производить перерасчет реальных
ценностей (т. е. логических понятий, сформировавшихся на
основе явлений действительности) с одного языка на другой.
Мы можем говорить о милях, километрах или верстах, но,
переходя от одной из этих мер к другой, мы будем
производить их взаимный перерасчет по реальному пространству,
и именно реальное пространство всегда будет являться
9 Заказ № 116
129
основой содержания слов, хотя в каждом из них
фиксируются разные его части. И это положение относится ко
всем без исключения языковым элементам, обладающим
«значением», или, иными словами, способностью соотноситься
с понятиями.
Из всего изложенного следует, что тезис Б. Уорфа о
влиянии языковых форм на становление логических
понятий, о лингвистической детерминации мышления не имеет
под собой никаких оснований.
Однако Б. Уорф говорит о влиянии языка не только на
нормы мышлений, но и на нормы поведения. Как обстоит
дело с этой второй частью его формулы?
Прежде всего следует отметить, что в изложении
Б. Уорфа постоянно путаются эти две проблемы. Так,
начиная свою цепь доказательств о лингвистической
детерминации мышления, он приводит пример из своей практики
инженера по пожарной безопасности. Он утверждает, что
надпись «пустые бензиновые цистерны» способствовала
тому, что рабочие вели себя вблизи этих цистерн
беззаботно, хотя в пожарном отношении они были опаснее
наполненных бензином. Эта лингвистическая обусловленность
поведения переносится Б. Уорфом на нормы мышления.
В действительности, однако, зависимость от языка норм
мышления и норм поведения — совершенно разные
проблемы и рассматривать их в одном ряду абсолютно
неправомерно.
Выше мы установили независимость сознания и процессов
познания от языковых форм. Иное дело нормы поведения.
Влияние языковых форм (как их понимает Б. Уорф) на
поведение человека подтверждается нашей повседневной
практикой. Ведь языковая форма способна подчеркнуть и
выдзинуть на первое место определенные признаки,
оставив в тени другие. Она может представить то или иное
явление в более или менее привлекательном виде и протянуть
цепь ассоциаций к этически или эстетически
противоположным фактам. Она может даже оказать известное воздействие
на наше суждение, но только в той мере, в какой чувство
оказывает влияние на ум.
Эти качества языка давно известны человеку. Они
составляют основу и силу художественной литературы и
изучаются в том разделе науки о языке (а точнее, в
литературоведческой дисциплине), которая именуется стилистикой.
Все это, конечно, находится за пределами того комплекса
130
вопросов, которые разбираются в связи с гипотезой Сепира —
Уорфа, и поэтому нет надобности разбирать их здесь.
Однако все же следует отметить, что, хотя указанные
качества языка способны воздействовать на поведение
человека (и даже составляют отдельную функцию языка),
они, как правило, сознательно управляются и
применяются человеком (в определенных, чаще всего в
эстетических целях) и никак не держат человека в своей власти.
Они отнюдь не претендуют на «руководство к восприятию
социальной действительности». И менее всего они обладают
теми метафизическими качествами, которыми Б. Уорф
стремится наградить язык.
7
Остается рассмотреть положение Б. Уорфа о связях
между типом культуры и особенностями языка. К
сожалению, в данном случае, как и в других, сущность этого
вопроса изложена у Б. Уорфа чрезвычайно туманно. В
частности, большой неясностью страдают определения (а
точнее, употребление) обеих зависимых величин — языка и
культуры. Если, как указывалось выше, понимание языка
у него фактически сужается до его значимой стороны (или
структуры значимой стороны), то понятие культуры,
наоборот, трактуется очень широко. К культуре Б. Уорф
относит и социальные институты, и народные обычаи, и
научные концепции, и логические понятия. Такая постановка
вопроса затрудняет его рассмотрение и вносит много
произвольности, так как из широкого ассортимента явлений,
относимых к культуре, всегда можно отобрать такие,
которые обнаруживают известное соответствие
структурно-семантическим элементам языка.
Вызывает возражение и сам метод рассмотрения данного
вопроса. Обычно в плане языка и в плане культуры Б. Уорф
стремится выделить явления, которые в его толковании
обнаруживают определенную тождественность, а затем в
соответствии со своей концепцией он сообщает, что эти
явления культуры возникли под прямым влиянием
соответствующих форм языка. Здесь вполне закономерен вопрос —а
почему не наоборот? Какие у Б. Уорфа основания для
установления именно такой зависимости, а не обратной? Для ее
обоснования он не приводит никаких прямых доказательств,
а ведь принятие подобной зависимости означает согласие
9*
131
с тезисом о том, что язык является автономной величиной,
ведущей за собой все развитие культуры. Из предыдущего
изложения мы знаем, что подобное истолкование характера
языка абсолютно неправомерно.
При решении данной проблемы прежде всего
необходимо провести обязательные разграничения и уточнения.
Упомянутая нечеткость основных понятий, характерная
для работ Б. Уорфа, есть прямое производное от
недостаточной разработанности этой в высшей степени интересной
проблемы. Но кое-что в ней можно признать уже
установленным и проясненным, и об этом в связи с теориями
Б.Уорфа следует сказать.
Всякие попытки установить прямой параллелизм между
явлениями языка и культуры оказались
малоубедительными. Об этом свидетельствует книга К. Фосслера «Язык и
культура Франции» и крах соответствующих теорий Н. Я.
Марра. Следует считаться и с тем, что нередко народы
меняют свой язык, сохраняя в значительной степени
нетронутыми свои культурные установления, а также с тем, что
иногда формы языка и культуры у разных народов не
совпадают и расходятся. Так, например, хорошо известно,
что близкородственные языки хупа и навахо связаны с
совершенно различными культурами, в то время как очень
сходные культуры индейцев пуэбло и плейн используют
абсолютно несхожие языки. «Не могу я признать,— пишет в
этой связи Э. Сепир (а его мнение особенно интересно, если
учитывать влияние, оказанное им на формирование
концепции Б. Уорфа),— и настоящей причинной зависимости
между культурой и языком. Культуру можно определить
как то, ч т о данное общество делает и думает. Язык же есть
то, как думают. Трудно усмотреть, какие особые
причинные зависимости можно ожидать между отобранным
инвентарем опыта (культура как делаемый обществом
ценностный отбор) и тем особым приемом, при помощи которого
общество выражает весь свой опыт. Движение культуры,
иначе говоря история, есть сложный ряд изменений в
инвентаре отобранного обществом опыта—приобретений,
потерь, изменений в оценке и отношении. Движение
языка, собственно говоря, вовсе не связано с изменениями
содержания, а только с изменениями формального
выражения... Если бы можно было показать, что у культуры
независимо от ее реального состава есть присущая ей
форма, ряд определенных контуров, мы бы имели в куль-
132
туре нечто, могущее послужить в качестве термина
сравнения с языком и, пожалуй, средства связи с ним. Но покуда
нами не обнаружены и не выделены такие чисто
формальные стороны культуры, лучше будет, если мы признаем
движение языка и движение культуры несопоставимыми,
взаимно не связанными процессами» 1.
Но если между явлениями культуры и фактами
структуры языка нет прямой причинной зависимости и
прямого соответствия, то между ними несомненно существует
общая зависимость, благодаря которой изменения в
культуре могут находить косвенное, опосредствованное
отражение в языке. Возникновение конкретных фактов
языковой структуры в конечном счете может быть
стимулировано культурным развитием общества. При этом форма
языкового выражения новшеств, истоки которых лежат в
фактах культуры, определяется структурными
особенностями данного конкретного языка. Именно в этом смысле
допустимо говорить о возможности опосредствованных
влияний культуры на язык, но не языка на культуру, как это
делает Б. Уорф.
До сих пор речь шла о формах языка и формах
культуры. Но Б. Уорфа в первую очередь интересует значимая
сторона языка, так сказать его «содержание». Можно ли
здесь установить какие-либо связи между языком и
культурой? Данный вопрос можно решить только при условии
установления зависимости языка от действительности и от
сознания. Оба фактора создают культурный субстрат, в
котором функционирует и развивается язык. Именно поэтому
значимая сторона языка, как правило, несет на себе
отпечаток своеобразия культуры данного народа. В первую
очередь это, конечно, относится к лексическим значениям,
где легко устанавливается даже прямая зависимость между
фактами языка и культуры. В опосредствованном виде,
с теми оговорками, которые были сделаны выше, наличие
такой зависимости можно допустить и в области
грамматических значений, поскольку в грамматике нет ничего такого,
чего не было бы предварительно в лексике.
8
В работах Б. Уорфа много непоследовательностей. Но
основная, конструктивная его ошибка заключается в
искажении реальных зависимостей, существующих между
1 Э. С e п и р, Язык, Соцэкгиз, 1934, стр. 171—172.
133
языком, сознанием и действительностью. Устранение этой
ошибки фактически сопряжено с крушением всей гипотезы
Сепира — Уорфа. От этой теории могут сохраниться лишь
такие более частные вопросы, как влияние стилистических
средств языка на нормы поведения (в другом аспекте его
можно трактовать в смысле психических коррелятов разных
форм членения языкового содержания 1) или вопрос о
связях, существующих между «содержанием» языка и
своеобразием форм культуры. Но указанные вопросы относятся
к другим областям и решаются иными путями.
Однако, если гипотеза рушится, то остается проблема.
И с этой стороны для советских языковедов в гипотезе
Сепира — Уорфа много поучительного. Она наглядно
показывает, что даже при верной предпосылке об
обязательности языковых форм мышления можно прийти к ложным
выводам, если на протяжении всего исследования твердо
не придерживаться правильных методологических
принципов.
Работы Б. Уорфа полезны еще и потому, что они
сосредоточивают внимание на таких фактах и явлениях, от которых
советские лингвисты в последнее время несколько отошли,
но которые необходимо осмыслить с теоретических позиций
советской науки о языке.
В. Звегинцев
1 Знаменательно, что Э. Сепир, чьими идеями вдохновлялся
Б. Уорф, в конечном счете приходит к тем же выводам Он пишет:
«Переход от одного языка к другому аналогичен переходу от одной
геометрической системы отношений к другой. Окружающий мир, с
которым осуществляются отношения, один и тот же для любого
языка; мир точек один и тот же в любой системе отношений. Но
формальный подход к одному и тому же элементу опыта, так же
как и к данной точке пространства, настолько различен, что
конечное чувство ориентации не может быть одинаковым ни в двух
языках, ни в друх системах отношений. Необходимо считаться с
полностью или по крайней мере относительно различными
формальными нормами, а эти различия обладают своими психическими
коррелятами» («The grammarian and his language», Selected writings
of E. Sapir, 1949, p. 153).
134
Бенджамен Л. Уорф
ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ
К ЯЗЫКУ1
«Люди живут не только в объективном мире вещей и не
только в мире общественной деятельности, как это обычно
полагают; они в значительной мере находятся под влиянием того
конкретного языка, который является средством общения для
данного общества. Было бы ошибочным полагать, что мы можем
полностью осознать действительность, не прибегая к помощи
языка, или что язык является побочным средством разрешений
некоторых частных проблем общения и мышления. На самом же
деле «реальный мир» в значительной степени бессознательно
строится на основе языковых норм данной группы... Мы видим,
слышим и воспринимаем так или иначе те или другие явления
главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего
общества предполагают данную форму выражения».
Эдуард Сепир
Вероятно, большинство людей согласится с
утверждением, что принятые нормы употребления слов определяют
некоторые формы мышления и поведения; однако это
предположение обычно не идет дальше признания гипнотической
силы философского и научного языка, с одной стороны, и
модных словечек и лозунгов — с другой.
Ограничиться только этим — значит не понимать сути
одной из важнейших форм связи, которую Сепир
усматривал между языком, культурой и психологией и которая
кратко сформулирована в приведенной выше цитате.
Мы должны признать влияние языка на различные виды
деятельности людей не столько в особых случаях
употребления языка, сколько в его постоянно действующих общих
законах и в повседневной оценке им тех или иных
явлений.
1 В. Whorf, The ralation of habitual thought and behavior to
language, 1939.
Перепечатано в книге B. L. Whorf, Language, thought, and
геаlity, New York, 1956.
135
Обозначение явления и его влияние на действия людей
Я столкнулся с одной из сторон этой проблемы еще до
того, как начал изучать Сепира, в области, обычно
считающейся очень отдаленной от лингвистики. Это произошло во
время моей работы в обществе страхования от огня. В мои
задачи входил анализ сотен докладов об обстоятельствах,
приведших к возникновению пожара или взрыва. Я
фиксировал чисто физические причины, такие, как
неисправная проводка, наличие или отсутствие воздушного
пространства между дымоходами и деревянными частями
зданий и т. п., а результаты обследования описывал в
соответствующих терминах. При этом я не ставил перед собой
никакой другой задачи. Но с течением времени стало ясно,
что не только сами по себе эти причины, но и обозначение
их было иногда тем фактором, который через поведение
людей являлся причиной пожара. Фактор обозначения
проявлялся яснее всего тогда, когда мы имели дело с языковым
обозначением, исходящим из названия, или с обычным
описанием подобных обстоятельств средствами языка.
Так, например, около склада так называемых
gasoline drums «бензиновых цистерн» люди ведут себя
соответствующим образом, т. е. с большой осторожностью; в то
же время рядом со складом с названием empty gasoline
drums «пустые бензиновые цистерны» люди ведут себя иначе:
недостаточно осторожно, курят и даже бросают окурки.
Однако эти empty «пустые» цистерны могут быть более
опасными, так как в них содержатся взрывчатые
испарения. При наличии реально опасной ситуации
лингвистический анализ ориентируется на слово «пустой»,
предполагающее отсутствие всякого риска. Возможны два
различных случая употребления слова empty: в первом
случае оно употребляется как точный синоним слов null,
void, negative, inert (порожний, бессодержательный,
бессмысленный, ничтожный, вялый), а во втором — в
применении к обозначению физической ситуации, не
принимая во внимание наличия паров, капель жидкости или
любых других остатков в цистерне или в другом
вместилище. Обстоятельства описываются с помощью второго
случая, а люди ведут себя в этих обстоятельствах, имея
в виду первый случай. Это становится общей формулой
неосторожного поведения людей, обусловленного чисто
лингвистическими факторами.
136
На лесохимическом заводе металлические
дистилляторы были изолированы смесью, приготовленной из
известняка, именовавшегося на заводе «центрифугированным
известняком». Никаких мер по предохранению этой
изоляции от перегревания и соприкосновения с огнем принято
не было. Дистилляторы находились некоторое время в
работе, и однажды пламя под одним из них достигло
известняка, который, ко всеобщему удивлению, начал сильно
гореть. Поступление паров уксусной кислоты из
дистилляторов способствовало превращению части известняка в
ацетат кальция. Последний при нагревании разлагается,
образуя ацетон, который воспламеняется. Люди,
допускавшие соприкосновение огня с изоляцией, действовали
так потому, что само название limestone «известняк»
связывалось в их сознании с понятием stone «камень, который
не горит».
Огромный железный котел для варки олифы оказался
перегретым до температуры, при которой он мог
воспламениться. Рабочий сдвинул его с огня и откатил на некоторое
расстояние, но не прикрыл. Приблизительно через одну
минуту олифа воспламенилась. В этом случае языковое
влияние оказалось более сложным благодаря переносу
значения (о чем ниже будет сказано более подробно)
«причины» в виде контакта или пространственного
соприкосновения предметов на истолкование положения on the fire
«на огне» в противоположность off the fire «вне огня». На
самом же деле та стадия, при которой главным фактором
являлось наружное пламя, закончилась; перегревание
стало внутренним процессом конвенции в олифе благодаря
сильно нагретому котлу и продолжалось, когда котел был
уже off the fire «вне огня».
Электрическим рефлектором, висевшим на стене,
пользовались редко, и поэтому один из рабочих приспособил
его в качестве удобной вешалки для пальто. Ночью вошел
дежурный и повернул выключатель, мысленно обозначая
свое действие как turning on the light «включение света».
Свет не загорелся. Дежурный мысленно обозначил это как
light is burned out «перегорели пробки». Он не мог увидеть
свечения рефлектора только из-за того, что на нем висело
старое пальто. Вскоре пальто загорелось, а затем вспыхнул
пожар и во всем здании.
Кожевенный завод спускал сточную воду, содержавшую
органические остатки, в наружный отстойный резервуар,
137
наполовину закрытый деревянным настилом, а наполовину
открытый. Такая ситуация может быть обозначена как
pool of water «резервуар, наполненный водой». Случилось,
что рабочий зажигал паяльную лампу и бросил спичку в
воду. При разложении органических остатков выделялся
газ, скапливавшийся под деревянным настилом, так что
вся установка была отнюдь не watery «водной».
Моментальная вспышка огня воспламенила дерево, и огонь очень
быстро распространился на соседнее здание.
Сушильня для кож была устроена с воздуходувкой в
одном конце комнаты, чтобы направить поток воздуха
вдоль комнаты и далее наружу через отверстие в другом
конце. Огонь возник в воздуходувке и благодаря действию
последней перекинулся прямо на кожи, рассыпав искры
по всей комнате и уничтожив таким образом весь
материал. Опасная ситуация создалась, следовательно, ввиду
наличия термина blower «воздуходувка», который
является языковым эквивалентом that which blows «то, что
дует», указывающим на то, что основная функция этого
прибора blow «дуть». Эта же функция может быть
обозначена как blowing air for drying «раздувать воздух для
просушки», причем не принимается во внимание, что он может
«раздувать» и другое, например искры и языки пламени. В
Действительности воздуходувка просто создает поток
воздуха и может втягивать воздух так же, как и выдувать его.
Ее нужно было поставить на другом конце помещения, там,
где было отверстие и где она могла бы втягивать поток
воздуха, проходящий над шкурами, а затем выдувать его
наружу.
Рядом с тигелем для плавки свинца, имевшим
угольную топку, была помещена груда scrap lead «свинцового
лома» — обозначение, вводящее в заблуждение, так как
на самом деле «лом» состоял из листов старых
радиоконденсаторов, между которыми все еще были парафиновые
прокладки. Вскоре парафин загорелся, а за ним вспыхнула
и крыша.
Можно привести бесконечное множество подобных
примеров. Они показывают достаточно убедительно, как
рассмотрение лингвистических формул, обозначающих
данную ситуацию, может явиться ключом к объяснению тех
или иных поступков людей и каким образом эти формулы
могут анализироваться, классифицироваться и соотноситься
в том мире, который «в значительной степени бессозна-
138
тельно строится на основании языковых норм данной
группы» (Э. Сепир). Мы ведь всегда исходим из того, что
язык лучше, чем это на самом деле имеет место, отражает
действительность.
Грамматические модели в качестве истолкователей
действительности
Лингвистический материал приведенных выше
примеров ограничивается отдельными словами,
фразеологическими оборотами и словосочетаниями определенного типа.
Изучая влияние этого материала на поведение людей,
нельзя упускать из виду, что несравненно более сильное
влияние на их поведение могут оказывать разнообразные
типы грамматических категорий, таких, как категория
числа, рода, классификация по одушевленности,
неодушевленности и т. п., а также времена, залоги и другие
формы глагола, классификация по частям речи и вопрос
o том, чем обозначена данная ситуация — одной ли
морфемой, формой ли слова или синтаксическим
словосочетанием» Такая категория, как категория числа
(единственное в противоположность множественному), является
попыткой обозначить целый класс явлений
действительности. В ней содержится указание на то, каким образом
нужно классифицировать различные явления и какие
случаи можно назвать «единичными», а какие —
«множественными». Однако обнаружить такое косвенное влияние
чрезвычайно сложно, во-первых, ввиду его неясности, а
во-вторых, ввиду того что весьма трудно взглянуть со
стороны и изучить объективно родной язык, который
является привычным средством общения и своего рода
неотъемлемой частью нашей культуры. Если же мы
приступим к изучению языка, совершенно не похожего на наш
родной, мы будем изучать его так, как изучаем природу.
При анализе чужого, непривычного языка мы
осмысливаем его средствами своего родного языка или же
обнаруживаем, что задача разъяснения чисто морфологических
трудностей настолько сложна, что, кажется, поглощает все
остальное. Однако, несмотря на сложность задачи,
состоящей в выяснении того косвенного влияния грамматических
категорий языка на поведение людей, о котором
говорилось выше, она все же выполнима и разрешить ее легче
всего при рассмотрении какого-нибудь экзотического язы-
139
ка, так как, изучая его, мы волей-неволей бываем выбиты
из привычной колеи. И, кроме того, в дальнейшем
обнаруживается, что такой экзотический язык является
зеркалом по отношению к родному языку.
Мысль о возможности работы над данной проблемой
впервые пришла мне в голову во время изучения мною
языка хопи, даже раньше, чем я осознал сущность самой
этой проблемы. Казавшееся бесконечным описание
морфологии языка было наконец закончено. Но было совершенно
очевидно, особенно в свете лекций Сепира о языке навахо,
что описание языка в целом являлось далеко не полным. Я
знал, например, правила образования множественного
числа, но не знал, как последнее употребляется. Было
ясно, что категория множественного числа в языке хопи
значительно отличается от категории множественного
числа в английском, французском и немецком языках.
Некоторые понятия, выраженные в этих языках
множественным числом, в языке хопи обозначаются единственным.
Стадия исследования, начавшаяся с этого момента, заняла
еще два года.
Прежде всего надо было определить способ сравнения
языка хопи с западноевропейскими языками. Сразу же
стало очевидным, что даже грамматика хопи отражала в
какой-то степени культуру хопи так же, как грамматика
европейских языков отражает «западную», или
«европейскую», культуру. Оказалось, что эта взаимосвязь дает
возможность выделить при помощи языка классы
представлений, подобные «европейским»,— «время», «пространство»,
«субстанция», «материя». Поскольку те категории, которые
будут подвергаться сравнению в английском, немецком и
французском, а также и в других европейских языках, за
исключением, пожалуй (да и это весьма сомнительно),
балто-славянских и неиндоевропейских языков, имеют лишь
незначительные различия, я собрал все эти языки в одну
группу, названную SAE, или «Standard Average European»
«среднеевропейский стандарт».
Ту часть исследования, которая представлена здесь,
можно кратко сформулировать в двух вопросах: 1)
являются ли наши представления «времени», «пространства» и
«материи» в действительности одинаковыми для всех людей
или они до некоторой степени обусловлены структурой
данного языка и 2) существуют ли видимые связи между а)
нормами культуры и поведения и б) основными лингвис-
140
тическими категориями? Я отнюдь не утверждаю, что
существует прямая «корреляция» между культурой и
языком и тем более между этнологическими рубриками, как,
например, «сельское хозяйство», «охота» и т. д., и такими
лингвистическими рубриками, как «флективный»,
«синтетический» или «изолирующий»1.
Когда я начал изучение данной проблемы, она вовсе
не была так ясно сформулирована и у меня не было
никакого представления о том, каковы будут ответы на
поставленные вопросы.
Множественное число и счет в SAE и в хопи
В наших языках, т. е. в SAE, множественное число и
количественные числительные применяются в двух
случаях: 1) когда они обозначают действительно
множественное число и 2) при обозначении воображаемой
множественности, или, более точно, хотя менее выразительно: при
обозначении воспринимаемой нами пространственной
совокупности и совокупности с переносным значением. Мы
говорим ten men «десять человек» и ten days «десять дней».
Десять человек мы или реально представляем, или, во
всяком случае, можем себе представить эти десять как
целую группу2, например десять человек на углу улицы.
Но ten days «десять дней» мы не можем представить себе
реально. Мы представляем реально только один день,
сегодня, остальные девять (или даже все десять)—только
по памяти или мысленно. Если ten days «десять дней» и
рассматриваются как некая группа, то это «воображаемая»,
созданная мысленно группа.
Каким образом создается в уме такое представление?
Таким же, как и в случаях с ошибочным представлением,
послужившим причиной пожара, ввиду того что наш язык
часто смешивает две различные ситуации, поскольку для
1 Мы располагаем множеством доказательств в подтверждение того,
что это не так. Достаточно только сравнить хопи и юте с языками,
обладающими таким сходством в области лексики и морфологии, как,
скажем, английский и немецкий. Идея взаимосвязи между языком и
культурой в общепринятом смысле этого слова, несомненно, ошибочна.
2 Так, говоря «десять одновременно», мы показываем этим, что
в нашем языке и мышлении мы воспроизводим факт восприятия
множественного числа в терминах понятия времени, о языковом выражении
которого будет сказано ниже.
141
обеих имеется один и тот же способ выражения. Когда мы
говорим о ten steps forward «десять шагов вперед», ten
strokes on a bell «десять ударов колокола» и о какой-либо
подобной циклической последовательности, имея в виду
несколько times «раз», у нас возникает такое же
представление, как и в случае ten days «десять дней». Цикличность
вызывает представление о воображаемой
множественности. Но сходство цикличности с совокупностью не
обязательно возникает в восприятии раньше, чем это
выражается в языке, иначе это сходство наблюдалось бы во всех
языках, чего на самом деле нет. В нашем восприятии
времени и цикличности содержится что-то непосредственное и
субъективное: в основном мы ощущаем время как что-то
«становящееся все более и более поздним». Но в нашем
привычном мышлении, т. е. в мышлении людей, говорящих
на SAE, это отражается совсем иным путем, который не
может быть назван субъективным, хотя и осуществляется в
мыслительной сфере. Я бы назвал его
«объективизированным», или воображаемым, поскольку оно построено по
моделям внешнего мира. В нем отражаются особенности
нашей языковой системы. Наш язык не проводит
различия между числами, составленными из реально
существующих предметов, и числами «самоисчисляемыми». Сама
форма мышления обусловливает то, что и в последнем
случае так же, как и в первом, числа составляются из
каких-то предметов. Это и есть объективизация. Понятия
времени утрачивают связь с субъективным восприятием
«становящегося более поздним» и объективизируются как
исчисляемые количества, т. е. отрезки, состоящие из
отдельных величин, в частности длины, так как длина может
быть реально разделена на дюймы. «Длина», «отрезок»
времени мыслится в виде одинаковых единиц, подобно,
скажем, ряду бутылок.
В языке хопи положение совершенно иное.
Множественное число и количественные числительные употребляются
только для обозначения тех предметов, которые образуют
или могут образовать реальную группу. Там не существует
воображаемых множественных чисел, вместо них
употребляются порядковые числительные в единственном
числе. Такое выражение, как ten days «десять дней», не
употребляется. Эквивалентом его служит выражение,
указывающее на процесс счета. Таким образом, they stayed
ten days «они пробыли десять дней» превращается в «они
142
прожили до одиннадцатого дня» или «они уехали после
десятого дня». Ten days is greater than nine days «десять
дней больше, чем девять дней» превращается в «десятый
день позже девятого». Наше понятие
«продолжительность времени» рассматривается не как фактическая
продолжительность или протяженность, а как соотношение
между двумя событиями, одно из которых произошло
раньше другого. Вместо нашей лингвистически
осмысленной объективизации той области сознания, которую мы
называем «время», язык хопи не дал никакого способа,
содержащего идею «становиться позднее», являющуюся
сущностью понятия времени.
Существительные, обозначающие материальное
количество в SAE и хопи
Имеется два вида существительных, обозначающих
материальные предметы: существительные, обозначающие
отдельные предметы, и существительные, обозначающие
вещества: water «вода», milk «молоко», wood «дерево»,
granite «гранит», sand «песок», flour «мука», meat «мясо».
Существительные первой группы относятся к предметам,
имеющим определенную форму: a tree «дерево», a stick
«палка», a man «человек», a hill «холм». Существительные
второй группы обозначают однородную массу, не имеющую
четких границ. Между этими двумя группами существует
и лингвистическое различие: у существительных,
обозначающих вещества, нет множественного числа 1; в
английском языке перед ними опускается артикль, во
французском ставится партитивный артикль du, de, la, des. Это
различие более четко выступает в языке, чем в
действительности. Очень немногое можно представить себе не
имеющим границ: air «воздух», иногда water «вода», rain «дождь»,
snow «снег», sand «песок», rock «горная порода», dirt
1 Не является исключением из этого правила (отсутствия
множественного числа) и тот случай, когда лексема существительного,
обозначающего вещество, совпадает с лексемой «отдельного» существитель»
ного, которое, конечно, имеет форму множзстренного числа. Так,
например, stone (не имеет множественного числа) совпадает с a stone
(мн. ч.— stones). Множественное число, обозначающее различные сорта,
например wines, представляет собой нечто отличное от настоящего
множественного числа; такие существительные надо считать своеобразными
ответвлениями от «материальных» существительных в SAE. Они
образуют особую группу, изучение которой не входит в задачу данной работы.
143
«грязь», grass «трава», но butter «масло», meat «мясо»,
cloth «ткань», iron «железо», glass «стекло», как и
большинство подобных им веществ, встречаются не в
«безграничном» количестве, а в виде больших или малых тел
определенной формы. Различие это в какой-то
степени навязано нам потому, что оно существует в языке.
В большинстве случаев это оказывается так неудобно, что
приходится применять новые лингвистические способы,
чтобы конкретизировать существительные второй группы.
Отчасти это делается с помощью названий, обозначающих
ту или иную форму: stick of wood «брусок дерева», piece
of cloth «лоскут материала», pane of glass «кусок стекла»,
cake of soap «брусок мыла»,— но гораздо чаще — с
помощью названий сосудов, в которых находятся вещества,
хотя в данных случаях мы имеем в виду сами вещества:
glass of water «стакан воды», cup of coffee «чашка кофе»,
dish of food «тарелка пищи», bag of flour «мешок муки»,
bottle of beer «бутылка пива». Эти обычные формулы, в
которых of имеет явное значение «содержащий»,
способствовали появлению менее явных случаев употребления той же
самой конструкции: stick of wood «обрубок дерева», lump
of dough «ком теста» и т. д. В обоих случаях формулы
одинаковы: существительное первой группы плюс один и тот
же связывающий компонент (в английском языке —
предлог of). Обычно этот компонент обозначает содержание.
В более сложных случаях он только «предполагает»
содержание. Таким образом, предполагается, что lumps «комья»,
chunks «ломти», blocks «колоды», pieces «куски» содержат
какие-то stuff «вещество», substance «субстанцию», matter
«материю», которые соответствуют water «воде», coffee
«кофе», flour «муке» в соответствующих формулах. Для
людей, говорящих на SAE, философские понятия
«субстанция» и «материя» несут в себе простейшую идею; они
воспринимаются непосредственно, они общепонятны. Этим
мы обязаны языку. Законы наших языков часто
заставляют нас обозначать материальный предмет
словосочетанием, которое делит представление на бесформенное
вещество плюс та или иная его конкретизация («форма»).
В хопи опять-таки все происходит иначе. Там имеется
строго ограниченный класс существительных. Но в нем
нет особого подкласса — «материальных»
существительных. Все существительные обозначают отдельные
предметы и имеют и единственное и множественное число. Су-
144
ществительные, являющиеся эквивалентами наших
«материальных» существительных, тоже относятся к телам с
неопределенными, не имеющими четких границ формами.
Однако под последним следует понимать неопределенность,
а не отсутствие формы и размеров. В каждом конкретном
случае water «вода» обозначает определенное количество
воды, а не то, что мы называем «субстанцией воды».
Абстрактность передается глаголом или предикативной формой,
а не существительным. Так как все существительные
относятся к отдельным предметам, нет необходимости
уточнять их смысл названиями сосудов или различных форм,
если, конечно, форма или сосуд не имеют особого значения
в данном случае. Само существительное указывает на
соответствующую форму или сосуд. Говорят не a glass of
water «стакан воды», а кэ-yi «вода», не a pool of water «лужа
воды», а ра-he 1, не a dish of cornflour «миска муки», а
nemni «количество муки», не a piece of meat «кусок мяса», а
sikwi «Мясо». В языке хопи нет ни необходимости, ни
моделей для построения понятия существования как
соединения бесформенного и формы. Отсутствие определенной
формы обозначается не существительными, а другими
лингвистическими символами.
Периодизация времени в SAE и хопи
Такие термины, как summer «лето», winter «зима»,
September «сентябрь», morning «утро», noon «полдень»,
sunset «заход солнца», которые у нас являются
существительными и мало чем отличаются по форме от других
существительных, могут быть подлежащими или дополнениями;
мы говорим at sunset «на заходе солнца» или in winter
«зимой» так же, как at a corner «на углу», in an orchard «в
саду» 2. Они образуют множественное число и исчисляются
1 В хопи существует два слова для обозначения количества воды:
кэ-yi и pa-he. Разница между ними примерно та же, что и между stone
и rock в английском языке: ра*пэ обозначает больший размер и wildness
«природность, естественность»; текущая вода независимо от того, в
помещении она или в природе, будет ра пэ, так же как и moisture «влага».
Но в отличие от stone и rock разница здесь существенная, не зависящая
от контекста, и одним словом нельзя заменить другое.
2 Конечно, в английском языке существуют некоторые
незначительные отличия от других существительных, например в употреблении
артиклей.
10 Заказ №110
145
подобно тем существительным, которые обозначают
предметы материального мира, о чем говорилось выше. Наше
представление о явлениях, обозначаемых этими словами,
таким образом объективизируется. Без объективизации
оно было бы субъективным переживанием реального
времени, т. е. сознания becoming later and later «становления
более поздним», проще говоря,— повторяющимся
периодом, подобным предыдущему периоду в становлении все
более поздней протяженности. Только в воображении
можно представить себе подобный период рядом с другим
таким же, создавая, таким образом, пространственную
(мысленно представляемую) конфигурацию. Но сила
языковой аналогии такова, что мы устанавливаем упомянутую
объективизацию циклической периодизации. Это
происходит даже в случае, когда мы говорим a phase «период» и
phases «периоды» вместо, например, phasing
«периодизация». Модель, охватывающая как существительные,
обозначающие отдельные предметы, так и существительные,
обозначающие вещества, результатом которой является
двучленное словосочетание «бесформенное вещество плюс
форма», настолько распространена, что подходит для всех
существительных. Следовательно, такие общие понятия,
как substance «субстанция», matter «материя», могут
заменить в данном словосочетании почти любое
существительное. Но даже и они недостаточно обобщены, так как не
могут включить в себя существительные, выражающие
протяженность во времени. Для последних и появился
термин time «время». Мы говорим a time, т. е. какой-то
период времени, событие, исходя из модели a mass noun
(существительных, обозначающих вещества), подобно
тому как a summer «некое лето» мы превращаем в summer
«лето» (как общее понятие) по той же модели. Итак,
используя наше двучленное словосочетание, мы можем говорить
или представлять себе a moment of time «момент времени»,
a second of time «секунда времени», a year of time «год
времени». Я считаю долгом еще раз подчеркнуть, что здесь
точно сохраняется модель a bottle of milk «бутылка молока»
или a piece of cheese «кусок сыра». И это помогает нам
представить, что a summer реально содержит такое-то и
такое-то количество «time».
В хопи, однако, все «временные» термины, подобные
summer, morning и др., представляют собой не
существительные, а особые формы наречий, если употреблять терми-
146
нологию SAE. Это — особая часть речи, отличающаяся от
существительных, глаголов и даже от других наречий в
хопи. Они не являются формой местного или другого
падежа, как des Abends «вечером» или in the morning «утром».
Они не содержат морфем, подобных тем, которые есть в in
the house «в доме» и at the tree «на дереве» 1. Такое
наречие имеет значение when it's morning «когда утро» или
while morning-phase is occuring «когда период утра
происходит». Эти «temporals» «временные наречия» не
употребляются ни как подлежащие, ни как дополнения, ни в
какой-либо другой функции существительного. Нельзя
сказать it's a hot summer «жаркое лето» или summer is hot
«лето жарко»; лето не может быть жарким, лето — это
период, когда погода теплая, когда наступает жара. Нельзя
сказать this summer «это лето». Следует сказать summer
now «теперь лето» или summer recently «недавно лето».
Здесь нет никакой объективизации (например, указания
на период, длительность, количество) субъективного
чувства протяженности во времени. Ничто не указывает на
время, кроме постоянного представления о getting later
«становлении более поздним». Поэтому в языке хопи нет
основания для создания абстрактного термина, подобного
нашему time.
Временные формы глагола в SAE и холи
Трехвременная система глагола в SAE оказывает
влияние на все наши представления о времени. Эта система
объединяется с той более широкой схемой объективизации
субъективного восприятия длительности, которая уже
отмечалась в других случаях двучленной формулой,
применимой к существительным вообще, во «временных»
(обозначающих время) существительных, во
множественности и исчисляемости. Эта объективизация помогает нам
мысленно «выстроить отрезки времени в ряд».
Осмысление времени как ряда гармонирует с системой трех времен,
однако система двух времен—раннего и позднего— более
1 Year «год» и некоторые словосочетания year с названиями времен
года, а иногда и сами названия времен года могут встречаться с
«местной» морфемой at, но это является исключением. Такие случаи могут
быть или историческими напластованиями ранее действовавших
законов языка, или вызываются аналогией с английским языком.
10*
147
точно соответствовала бы ощущению длительности в
его реальном восприятии. Если мы сделаем попытку
проанализировать сознание, мы найдем не прошедшее,
настоящее и будущее, а сложный комплекс, включающий в себя
все эти понятия. Все есть в сознании, и все в сознании
существует и существует нераздельно. В нашем сознании
соединены чувственная и нечувственная стороны
восприятия. Чувственную сторону — то, что мы видим, слышим,
осязаем,— мы можем назвать the present (настоящее),
другую сторону — обширную, воображаемую область
памяти — обозначить the past (прошедшее), а область веры,
интуиции и неопределенности — the future (будущее).
Но и чувственное восприятие, и память, и предвидение — все
это существует в нашем сознании вместе; мы не можем
обозначить одно как yet to be «еще не существующее», а
другое как once but no more «существовало, но уже нет».
В действительности реальное время отражается в нашем
сознании как getting later «становиться позднее», как
необратимый процесс изменения определенных отношений.
В этом latering «опозднении» или durating «протяженности
во времени» и есть основное противоречие между самым
недавним, позднейшим моментом, находящимся в центре
нашего внимания, и остальными, предшествовавшими ему.
Многие языки прекрасно обходятся двумя временными
формами, соответствующими этому противоречивому
отношению между later «позже» и earlier «раньше». Мы
можем, конечно, создать и мысленно представить себе
систему прошедшего, настоящего и будущего времени в
объективизированной форме точек на линии. Именно к
этому ведет нас наша общая тенденция к объективизации,
что подтверждается системой времен в наших языках.
В английском языке настоящее время находится в
наиболее резком противоречии с основным временным
отношением. Оно как бы выполняет различные и не всегда
вполне совпадающие друг с другом функции. Одна из них
заключается в том, чтобы обозначать нечто среднее между
объективизированным прошедшим и
объективизированным будущим в повествовании, аргументации,
обсуждении, логике и философии. Вторая его функция состоит в
обозначении чувственного восприятия: I see him «я вижу
его». Третья включает в себя констатацию общеизвестных
истин: we see with our eyes «мы видим глазами». Эти
различные случаи употребления вносят некоторую пута-
148
ницу в наше мышление, чего мы в большинстве случаев не
осознаем.
В языке хопи, как и можно было предполагать, это
происходит иначе. Глаголы здесь не имеют времен,
подобных нашим: вместо них употребляются формы
утверждения (assertions), видовые формы и формы, связывающие
предложения (наклонения),— все это придает речи гораздо
большую точность. Формы утверждения обозначают, что
говорящий (не субъект) сообщает о событии (это
соответствует нашему настоящему и прошедшему), или что он
предполагает, что событие произойдет (это соответствует нашему
будущему) 1, или что он утверждает объективную истину
(что соответствует нашему «объективному» настоящему).
Виды определяют различную степень длительности и
различные направления «в течении длительности». До сих пор
мы не сталкивались с указаниями на последовательность
двух событий, о которых говорится. Необходимость такого
указания возникает, правда, только тогда, когда у нас есть
два глагола, т. е. два предложения. В этом случае
наклонения определяют отношения между предложениями,
включая предшествование, последовательность и
одновременность. Кроме того, существует много отдельных слов,
которые выражают подобные же отношения, дополняя
наклонения и виды: функции нашей системы грамматических
времен с ее линейным, трехчленным объективизированным
временем распределены среди других глагольных форм,
коренным образом отличающихся от наших
грамматических времен; таким образом, в глаголах языка хопи нет
(так же, как и в других категориях) основы для
объективизации понятия времени; но это ни в коей мере не значит,
что глагольные формы и другие категории не могут
выражать реальные отношения совершающихся событий.
1 «Предполагающие» и «утверждающие» суждения сопоставляются
друг с другом согласно «основному временному отношению».
«Предполагающие» выражают ожидание, существующее раньше, чем произошло
само событие, и совпадают с этим событием позже, чем об этом заявляет
говорящий, положение которого во времени включает в себя весь итог
прошедшего, выраженного в данном сообщении. Наше понятие
«будущее», оказывается, выражает одновременно то, что было раньше, и то,
что будет позже, как видно из сравнения с языком хопи. Из этого
порядка видно, насколько трудна для понимания тайна реального
времени и каким искусственным является ее изображение в виде
линейного отношения: прошедшее — настоящее —будущее.
149
Длительность, интенсивность и направленность
в SAE и хопи
Для описания всего многообразия действительности
любой язык нуждается в выражении длительности,
интенсивности и направленности. Для SAE и для многих
других языковых систем характерно описание этих
понятий метафорически. Метафоры, применяемые при этом,—
это метафоры пространственной протяженности, т. е.
размера, числа (множественность), положения, формы и
движения. Мы выражаем длительность словами: long
«длинный», short «короткий», great «большой», much «многое»,
quick «быстрый», slow «медленный» и т. д.; интенсивность—
словами: large «большой», much «много», heavy «тяжело»,
light «легко», high «высоко», low «низко», sharp «острый»,
faint «слабый» и т. д.; направленность — словами: more
«более», increase «увеличиваться», grow «расти», turn
«превращаться», get «становиться», approach «приближаться»,
go «идти», come «приходить», rise «подниматься», fall
«падать», stop «останавливаться», smooth «гладкий», even
«ровный», rapid «быстрый», slow «медленный» и т. д. Можно
составить почти бесконечный список метафор, которые мы
едва ли осознаем как таковые, так как они практически
являются единственно доступными лингвистическими
средствами. Неметафорические средства выражения данных
понятий, так же как early «рано», late «поздно», soon
«скоро», lasting «длительный», intense «напряженный», very
«очень», настолько малочисленны, что ни в коей мере не
могут быть достаточными.
Ясно, каким образом создалось такое положение. Оно
является частью всей нашей системы —объективизации —
мысленного представления качеств и потенций как
пространственных, хотя они не являются на самом деле
пространственными (насколько это ощущается нашими
чувствами). Значение существительных (в SAE),
отталкиваясь от названий физических тел, ведет к обозначениям
совершенно иного характера. А поскольку физические
тела и их форма в видимом пространстве обозначаются
терминами, относящимися к форме и размеру, и исчисляются
разного рода числительными, то такие способы
обозначения и исчисления переходят в символы, лишенные
пространственного значения и предполагающие воображаемое
пространство. Физические явления: move «двигаться», stop
150
«останавливаться», rise «поднимайся», sink
«опускаться», approach «приближаться» и т. д.— в видимом
пространстве вполне соответствуют, по нашему мнению, их
обозначениям в мыслимом пространстве. Это зашло так
далеко, что мы постоянно обращаемся к метафорам, даже
когда говорим о простейших непространственных
ситуациях. Я «схватываю» «нить» рассуждений моего
собеседника, но если их «уровень» слишком «высок», мое
внимание может «рассеяться» и «потерять связь» с их «течением»,
так что, когда он «подходит» к конечному «пункту», мы
расходимся уже «широко» и наши «взгляды» так «отстоят»
друг от друга, что «вещи», о которых он говорит,
«представляются» «очень» условными или даже «нагромождением»
чепухи.
Поражает полное отсутствие такого рода метафор в
хопи. Употребление слов, выражающих пространственные
отношения, когда таких отношений на самом деле нет,
просто невозможно в хопи, на них в этом случае как бы
наложен абсолютный запрет. Это становится понятным,
если принять во внимание, что в языке хопи существуют
многочисленные грамматические и лексические средства
для описания длительности, интенсивности и направления
как таковых, а грамматические законы в нем не
приспособлены для проведения аналогий с мыслимым
пространством. Многочисленные виды глаголов выражают
длительность и направленность тех или иных действий, в то время
как некоторые формы залогов выражают интенсивность,
направленность и длительность причин и факторов,
вызывающих эти действия. Далее, особая часть речи —
интенсификатор (the tensors) — многочисленнейший класс
слов — выражает только интенсивность, направленность,
длительность и последовательность. Основная функция
этой части речи — выражать степень интенсивности,
«силу», а также и то, в каком состоянии они находятся и
как видоизменяются: таким образом, общее понятие
интенсивности, рассматриваемое с точки зрения постоянного
изменения, с одной стороны, и непрерывности—с другой,
включает в себя также и понятия направленности и
длительности. Эти особые временные формы — интенсифика-
торы — указывают на различия в степени, скорости,
непрерывности, повторяемости, увеличении' и уменьшении
интенсивности, прямой последовательности,
последовательности, прерванной некоторым интервалом времени,
151
и т. д., а также на качества напряженности, что мы
выразили бы метафорически посредством таких слов, как
smooth «гладкий», even «ровный», hard «твердый», rough
«грубый». Поражает полное отсутствие в этих формах
сходства со словами, выражающими реальные отношения
пространства и движения, которые для нас значат одно и то же.
В них почти нет следов непосредственной деривации от
пространственных терминов 1.
Таким образом, хотя хопи при рассмотрении форм его
существительных кажется предельно конкретным языком,
в формах интенсификаторов он достигает такой
абстрактности, что она почти превышает наше понимание.
Нормы мышления в SAE и хопи
Сравнение, проводимое между нормами мышления
людей, говорящих на языках SAE, и нормами мышления
людей, говорящих на языке хопи, не может быть, конечно,
исчерпывающим. Оно может лишь коснуться некоторых
отчетливо проявляющихся особенностей, которые,
по-видимому, возникают в результате языковых различий, уже
отмечавшихся выше. Под нормами мышления, или
«мыслительным миром», разумеются более широкие понятия,
чем просто язык или лингвистические категории. Сюда
включаются и все связанные с этими категориями
аналогии, все, что они с собой вносят (например, наше «мыслимое
пространство» или то, что под этим может
подразумеваться), взаимодействие между языком и культурой в целом, в
1 Вот пример одного из таких следов: tensor, обозначающий long
in duration «длинный по протяженности», хотя и не имеет общего корня
с пространственным прилагательным long «длинный», зато имеет общий
корень с пространственным прилагательным large «широкий». Другим
примером может служить то, что somewhere «где-то» в пространстве,
употребленное с этой особой частью речи (т. е. с tensor), может
означать at some indefinite time «в какое-то неопределенное время».
Возможно, правда, что только присутствие tensor придает данному случаю
значение времени, так что somewhere «где-то» относится к пространству;
при данных условиях неопределенное пространство означает просто
общую отнесенность, независимо от времени и пространства. Следующим
примером может служить временная форма наречия afternoon; здесь
элемент, означающий after «после», происходит от глагола to separate
«разделять». Есть и другие примеры этой деривации, но они очень
малочисленны и являются исключениями, очень мало похожими на нашу
пространственную объективизацию.
152
результате которого многие факторы, хотя они и не
относятся к языку, указывают на его формирующее влияние.
Иначе говоря, «мыслительный мир» является тем
микрокосмом, который каждый человек несет в себе и с помощью
которого он пытается измерить и понять макрокосм.
Микрокосм SAE, анализируя действительность,
использует главным образом слова, обозначающие
предметы (тела и им подобные) и те виды протяженного, но
бесформенного существования, которые называются
«субстанцией», или «материей». Он воспринимает бытие
посредством двучленной формулы, которая выражает все
сущее как пространственную форму плюс бесформенная
пространственная непрерывность, соотносящаяся с
формой, так же как содержимое соотносится с формой
содержащего. Явления, не обладающие пространственными
признаками, мыслятся как пространственные, несущие в
себе те же понятия форм и непрерывностей.
Микрокосм хопи, анализируя действительность,
использует главным образом слова, обозначающие явления
(events, или точнее eventing), которые рассматриваются
двумя способами: объективно и субъективно.
Объективно — и это только в отношении к непосредственному
физическому восприятию — явления рассматриваются
главным образом с точки зрения формы, цвета, движения и
других непосредственно воспринимаемых признаков.
Субъективно как физические, так и нефизические явления
рассматриваются как выражение невидимых факторов
силы, от которой зависит их незыблемость и постоянство
или их непрочность и изменчивость. Это значит, что не
все явления действительности одинаково становятся «все
более и более поздними». Одни развиваются, вырастая
как растения, вторые рассеиваются и исчезают, третьи
подвергаются процессу превращения, четвертые сохраняют
ту же форму, пока на них не воздействуют мощные силы.
В природе каждого явления, способного выступать как
единое целое, заключена сила присущего ему способа
существования: его рост, упадок, стабильность,
повторяемость или продуктивность. Таким образом, все уже
подготовлено ранними стадиями к тому, как явление проявится
в данный момент, а чем оно станет позже — частично уже
подготовлено, а частично еще находится в процессе
«подготовки». В этом взгляде на мир как на нечто, находящееся
в процессе какой-то подготовки, заключается для хопи
153
особый смысл и значение, соответствующее, возможно,
тому «свойству действительности», которое «материя»,
или «вещество», имеет для нас.
Нормы поведения в культуре хопи
Поведение людей, говорящих на SAE, как и поведение
людей, говорящих на хопи, очевидно, многими путями
соотносится с лингвистически обусловленным
микрокосмом. Как можно было наблюдать при регистрации случаев
пожара, в той или иной ситуации люди ведут себя
соответственно тому, как они об этом говорят. Для поведения
хопи характерно то, что они придают особое значение
подготовке. О событии объявляется и к нему начинается
подготовка задолго до того, как оно должно произойти;
разрабатываются соответствующие меры
предосторожности, обеспечивающие желаемые условия, и особое
значение придается доброй воле как силе, способной
подготовить нужные результаты. Возьмем способы исчисления
времени. Время исчисляется главным образом «днями» (taLk,
-tala) или «ночами» (tok), причем эти слова являются не
существительными, а особой частью речи (tensors); первое
слово образовано от корня со значением «свет», «день»,
второе—от корня со значением «спать». Счет ведется посредством
порядковых числительных. Этот способ счета не может
применяться к группе различных людей или предметов, даже
если они следуют друг за другом, ибо даже и в таком
случае они могут объединяться в группу. Однако он
применяется по отношению к последовательному появлению
одного и того же человека или предмета, не способных
объединиться в группу. «Несколько дней» воспринимается не
так, как «несколько людей», к чему как раз склонны наши
языки, а как последовательное появление одного и того же
человека. Мы не можем изменить сразу несколько человек,
воздействуя на одного, но мы можем подготовить и таким
образом изменить последующие появления одного и того
же человека, воздействуя на его появление в данный
момент. Так хопи рассматривают будущее: они действуют в
данной ситуации так или иначе, полагая, что это окажет
влияние как очевидное, так и скрытое на предстоящее
событие, которое их интересует. Можно было бы сказать,
что хопи понимают такую нашу пословицу, как: «Well
begun is half done» «Хорошее начало — это уже половина
154
дела», но не понимают другой нашей пословицы:
«Tomorrow is another day» «Завтра — это уже новый день». Это
объясняет многое в характере хопи.
Что-то, подготавливающее поведение хопи, всегда можно
грубо разделить на объявление, внешнюю подготовку,
внутреннюю подготовку, скрытое участие и настойчивое
проведение в жизнь. Объявление или предварительное
обнародование является важной обязанностью особого
официального лица — Главного Глашатая. Внешняя
подготовка охватывет широкую, открытую для всех
деятельность, в которой не все, с нашей точки зрения, является
непосредственно полезным. Сюда входят обычная
деятельность, репетиция, подготовка, предварительные
формальности, приготовление особой пищи и т. п. (все это делается
с такой тщательностью, которая может показаться
чрезмерной), интенсивно поддерживаемая физическая
деятельность, например бег, состязания, танцы, которые якобы
способствуют интенсивности развития событий (скажем,
росту посевов), мимикрическая и прочая магия, действия,
основанные на таинствах с применением особых атрибутов
(например, священных палочек, перьев, пищи), и, наконец,
танцы и церемонии, якобы подготовляющие дождь и
урожай. От одного из глаголов, означающих «подготовить»,
образовано существительное «жатва» или «урожай»: па'-
twani «то, что подготовлено», или «то, что подготовляется»1.
Внутренней подготовкой являются молитва и
размышление и в меньшей степени — добрая воля и пожелания
хороших результатов. Хопи придают особое значение силе
желания и силе мысли. Это вполне естественно для их
микрокосма. Желание и мысль являются самой первой и
потому важнейшей, решающей стадией подготовки. Более того,
с точки зрения хопи, наши желания и мысли влияют не
только на наши поступки, но и на всю природу. Это также
понятно. Мы сами осознаем, ощущаем усилие и энергию,
которые вкладываются в желание и мысль. Опыт более
широкий, чем опыт языка, говорит о том, что, если расходуется
энергия, достигаются результаты. Мы склонны думать,
что в состоянии остановить действие этой энергии, поме-
1 Глаголы хопи, означающие «подготовить», не соответствуют точно
нашему «подготовить»; таким образом, na'twani может быть передано
как «то, над чем трудились», «то, ради чего старались» или что-либо
подобное.
155
шать ей воздействовать на окружающее, пока мы не
приступили к физическим действиям. Но мы думаем так
только потому, что у нас есть лингвистическое основание
для теории, согласно которой элементы окружающего
мира, лишенные формы, как, например, «материя», являются
вещами в себе, воспринимаемыми только посредством
подобных же элементов и благодаря этому отделимыми от
жизненных и духовных сил. Считать, что мысль связывает
все, охватывает всю вселенную, не менее естественно, чем
думать, как все мы это делаем, так о свете, зажженном на
улице. И естественно предположить, что мысль, как и
всякая другая сила, всегда оставляет следы своего
воздействия. Так, например, когда мы думаем о каком-то кусте
роз, мы не предполагаем, что наша мысль направляется к
этому кусту и освещает его, подобно направленному на
него прожектору. С чем же тогда имеет дело наше
сознание, когда мы думаем о кусте роз? Может быть, мы
полагаем, что оно имеет дело с «мысленным представлением»,
которое является не кустом роз, а лишь его мысленным
заменителем? Но почему представляется естественным
думать, что наша мысль имеет дело с суррогатом, а не с
подлинным розовым кустом? Возможно, потому, что в нашем
сознании всегда присутствует некое воображаемое
пространство, наполненное мысленными суррогатами.
Мысленные суррогаты — знакомое нам средство. Данный, реально
существующий розовый куст мы воспринимаем как
воображаемый наряду с образами мыслимого пространства,
возможно, именно потому, что для него у нас есть удобное
«место». «Мыслительный мир» хопи не знает воображаемого
пространства. Отсюда следует, что они не могут связать
мысль о реальном пространстве с чем-либо иным, кроме
реального пространства, или отделить реальное
пространство от воздействия мысли. Человек, говорящий на языке
хопи, стал бы, естественно, предполагать, что его мысль
(или он сам) путешествует вместе с розовым кустом или
скорее с ростком маиса, о котором он думает. Мысль эта
в таком случае должна оставить какой-то след и на
растении в поле. Если это хорошая мысль, мысль о здоровье
или росте,— это хорошо для растения, если плохая — плохо.
Хопи подчеркивает интенсифицирующее значение
мысли. Для того чтобы мысль была наиболее действенной,
она должна быть живой в сознании, определенной,
постоянной, доказанной, полной ясно ощущаемых добрых наме-
156
рений. По-английски это может быть выражено как
concentrating, holding it in your heart, putting your mind on
it, earnestly hoping «сосредоточиваться, сохранять в своем
сердце, направлять свой разум, горячо надеяться». Сила
мысли — это та сила, которая стоит за церемониями со
священными палочками, обрядовыми курениями и т. п.
Священная трубка рассматривается как средство,
помогающее «сосредоточиться» (так сообщил мне информант).
Ее название na'twanpi означает «средство подготовки».
Скрытое участие у хопи есть мысленное соучастие
людей, которые фактически не действуют в данной операции,
в чем бы она ни заключалась: в работе, охоте, состязании
или церемонии; эти люди направляют свою мысль и
добрую волю к достижению успеха предпринятого.
Объявление часто дается для того, чтобы обеспечить поддержку
подобных мысленных помощников, так же как и
действительных участников; объявление призывает людей помочь
своей доброй волей 1. Это напоминает сочувствующую
аудиторию или подбадривающих болельщиков на футбольном
матче; причем здесь нет противоречия, так как от скрытых
соучастников ожидается прежде всего сила направленной
мысли, а не просто сочувствие или поддержка. В самом
деле, ведь основная работа скрытых соучастников
начинается до игры, а не во время игры. Отсюда и сила злого
умысла, т. е. мысли, несущей зло; отсюда одна из целей скрытого
соучастия — добиться массовых усилий многих
доброжелателей, чтобы противостоять губительной мысли
недоброжелателей. Подобные действия способствуют развитию
чувства сотрудничества и солидарности. Это не значит, что в
обществе хопи нет соперничества или столкновения
интересов. Противодействие тенденции к общественной
разобщенности в такой небольшой изолированной группе, как
хопи, оказывает теория «подготовки» силой мысли,
логически ведущая к усилению объединенной,
интенсивированной и организованной мысли всего общества. Эта тео-
1 См. пример, приведенный у Ernest Beaglehole, Notes on
Hopi economic life(Yale University publications in «Anthropology», № 15,
1937), особенно ссылку на объявление о заячьей охоте и на стр. 30
описание деятельности в связи с очищением Источника Торева: выпуск
объявления, организацию различных подготовительных мероприятий и,
наконец, описание мер, предпринятых для обеспечения того, чтобы
достигнутые положительные результаты сохранялись и чтобы источник
продолжал действовать.
157
рия должна действовать в значительной степени как сила
сплачивающая, несмотря на частные столкновения, которые
наблюдаются в селениях хопи во всех основных областях их
культурной деятельности.
«Подготавливающая» деятельность хопи еще раз
иллюстрирует действие лингвистической мыслительной среды,
где особенно проявляется роль упорства и постоянного
неустанного повторения. Ощущение силы всей совокупности
бесчисленных единичных энергий притупляется нашим
объективизированным пространственным восприятием
времени, которое усиливается мышлением, близким к
субъективному восприятию времени как непрестанному потоку
событий, расположенных на «временной линии». Нам,
для которых время есть движение в пространстве,
кажется, что неизменное повторение теряет свою силу на
отдельных отрезках этого пространства. С точки зрения
хопи, для которых время есть не движение, а «становление
более поздним» всего, что когда-либо было сделано,
неизменное повторение не растрачивает свою силу, а
накапливает ее. В этом процессе нарастает невидимое изменение,
которое передается более поздним событиям 1. Например,
возвращение дня воспринимается здесь так же, как
возвращение какого-то лица, ставшего немного старше, но
несущего все признаки прошедшего дня. Мы воспринимаем это
лицо не как «другой день», т. е. не как совсем другое
«лицо». Этот принцип, соединенный с принципом силы
мысли и общим характером культуры пуэбло, выражен как
в передаче смысла церемониального танца хопи,
призванного вызывать дождь и урожай, так и в его коротком
дробном ритме, повторяемом тысячи раз в течение нескольких
часов.
1 Это представление о нарастающей силе, которая вытекает из
поведения хопи, имеет свою аналогию в физике: ускорение. Можно сказать,
что лингвистические основы мышления хопи дают возможность
признать, что сила проявляется не как движение или быстрота, а как
накопление или ускорение. Лингвистические основы нашего мышления
мешают подобному истолкованию, ибо, признав силу как нечто
вызывающее изменение, мы воспринимаем это изменение посредством нашей
языковой метафорической аналогии —движения,— вместо того, чтобы
воспринимать его как нечто абсолютно неподвижное и неизменное,
т. е. накопление и ускорение. Поэтому мы бываем так наивно поражены,
когда узнаем из физических опытов, что невозможно определить силу
движения, что движение и скорость, так же как и состояние покоя,—
понятия относительные и что сила может измеряться только ускорением.
158
Некоторые следы влияния языковых норм в западной
цивилизации
Обрисовать в нескольких словах лингвистическую
обусловленность некоторых черт нашей собственной культуры
труднее, чем культуры хопи, поскольку трудно быть
объективным, когда анализируются знакомые, глубоко
укоренившиеся в сознании явления. Я бы хотел только
дать приблизительный набросок того, что свойственно
нашей лингвистической двучленной формуле форма +
лишенное формы вещество или «субстанция», нашей
метафоричности, нашему мыслительному пространству и
нашему объективизированному времени. Все это, как мы
уже видели, имеет отношение к языку.
Философские взгляды, наиболее традиционные и
характерные для «западного мира», во многом основываются на
двучленной формуле — форма + содержание. Сюда
относятся материализм, психофизический параллелизм,
физика, по крайней мере в ее традиционной —
ньютоновской — форме, и дуалистические взгляды на вселенную в
целом. По существу, сюда относится почти все, что можно
назвать «твердым, практическим здравым смыслом».
Монизм, холизм и релятивизм во взглядах на действительность
близки философам и некоторым ученым, но они с трудом
укладываются в рамки «здравого смысла» среднего
западного человека не потому, что их опровергает сама природа
(если бы это было так, философы бы открыли это), а
потому, что для того, чтобы о них говорить, требуется
какой-то новый язык. «Здравый смысл» (как показывает само
название) и «практичность» (это название ни о чем не
говорит) составляют содержание такой речи, в которой все
легко понимается. Иногда утверждают, что ньютоновские
пространства, время и материя ощущаются всеми
интуитивно, тогда как относительность проводится для
доказательства того, что математический анализ опровергает
интуицию. Данное суждение, не говоря уже о его
несправедливом отношении к интуиции, является
непродуманным ответом на первый вопрос, который был поставлен
в начале этой работы и ради которого было предпринято
настоящее исследование. Изложение соображений и
наблюдений почти исчерпано, и ответ, я думаю, ясен.
Импровизированный же ответ, возлагающий всю вину за нашу
медлительность в постижении таких тайн космоса, как, на-
159
пример, относительность, на интуицию, является
ошибочным. Правильно ответить на этот вопрос следует так:
ньютоновские понятия пространства, времени и материи не
есть данные интуиции. Они даны культурой и языком.
Именно из этих источников и взял их Ньютон.
Наше объективизированное представление о времени
соответствует историчности и всему, что связано с
регистрацией фактов, тогда как представление хопи о времени
противоречит этому. Представление хопи о времени
слишком тонко, сложно и постоянно развивается, оно не дает
готового ответа на вопрос о том, когда «одно» событие
кончается, а «другое» начинается. Если считать, что все, что
когда-либо произошло, продолжается и теперь, но
обязательно в форме, отличной от той, которую дает память или
запись, то станет ослабевать стремление к изучению
прошлого. Настоящее же не записывается, а рассматривается
как «подготовка». Наше же объективизированное время
вызывает в представлении что-то вроде ленты или свитка,
разделенного на равные отрезки, которые должны быть
заполнены записями. Письменность, несомненно,
способствовала нашей языковой трактовке времени, даже если эта
языковая трактовка направляла использование
письменности. Благодаря взаимообмену между языком и всей
культурой мы получаем, например:
1. Записи, дневники, бухгалтерию, счетоводство,
математику, стимулированную счетом.
2. Интерес к точной последовательности — датировку,
календари, хронологию, часы, исчисление зарплаты по
затраченному времени, измерение самого времени, время,
как оно применяется в физике-
3. Летописи, хроники — историчность, интерес к
прошлому, археологию, проникновение в прошлые эпохи,
выраженные классицизмом и романтизмом.
Подобно тому как мы представляем себе наше
объективизированное время простирающимся в будущем так же,
как оно простирается в прошлом, подобно этому и наше
представление о будущем складывается на основании
свидетельств прошлого и по этому образцу мы вырабатываем
программы, расписания, бюджеты. Формальное равенство
якобы пространственных единиц, с помощью которых мы
измеряем и воспринимаем время, ведет к тому, что мы
рассматриваем «бесформенное явление» или «субстанцию»
времени как нечто однородное и пропорциональное по
160
отношению к какому-то числу единиц. Так, стоимость мы
исчисляем пропорционально затраченному времени, что
приводит к созданию целей экономической системы,
основанной на стоимости, соотнесенной со временем:
заработная плата (количество затраченного времени постоянею
вытесняет количество вложенного труда), квартирная
плата, кредит, проценты, издержки по амортизации и
страховые премии. Конечно, эта некогда созданная
обширная система мсгла бы существовать при любом
лингвистическом понимании времени, но сам факт ее
создания, многообразие и особая форма, присущие ей в
западном мире, находятся в полном соответствии с категориями
европейских языков. Трудно сказать, возможна была бы
или нет цивилизация, подобная нашей, с иным
лингвистическим пониманием времени; во всяком случае, нашей
цивилизации присущи определенные лингвистические
категории и нормы поведения, складывающиеся на основании
данного понимания времени, и они полностью
соответствуют друг другу. Конечно, мы употребляем календари и
различные часовые механизмы, мы пытаемся все более и
более точно измерять время,— это помогает науке, а наука
в свою очередь, следуя этим хорошо разработанным
путям, возвращает культуре непрерывно растущий арсенал
приспособлений, навыков и ценностей, с помощью которых
культура снова направляет науку. Но что находится за
пределами такой спирали? Наука начинает находить во
вселенной нечто не соответствующее представлениям,
которые мы выработали в пределах данной спирали. Она
пытается создать новый язык, чтобы с его помощью
установить связь с расширившимся миром.
Ясно, что особое значение, которое придается «экономии
времени», вполне понятное на основании всего сказанного
и представляющее очевидное выражение объективизации
времени, приводит к тому, что «скорость» приобретает
высокую ценность, и это отчетливо проявляется в нашем
поведении.
Влияние такого понимания времени на наше поведение
проявляется еще и в том, что однообразие и регулярность,
присущие нашему представлению о времени (как о ровно
вымеренной безграничной ленте), заставляют нас вести
себя так, как будто это однообразие присуще и событиям.
Это еще более усиливает нашу косность. Мы склонны
отбирать и предпочитать все то, что соответствует данному
11 Заказ №110
161
взгляду, мы как будто приспосабливаемся к этой
установившейся точке зрения на существующий мир. Это
проявляется, например, в том, что в своем поведении мы
исходим из ложного чувства уверенности, верим, например,
в то, что все должно идти гладко, и не способны
предвидеть опасности и предотвращать их. Наше стремление
подчинить себе энергию вполне соответствует этому
установившемуся взгляду, и, развивая технику, мы идем все
теми же привычными путями. Так, например, мы как будто
совсем не заинтересованы в том, чтобы помешать действию
энергии, которая вызывает несчастные случаи, пожары и
взрывы, происходящие постоянно и в широких масштабах.
Такое равнодушие к непредвиденному в жизни было бы
катастрофическим в обществе, столь малочисленном,
изолированном и постоянно подвергающемся опасностям, каким
является, или вернее являлось, общество хопи.
Таким образом, наш лингвистический
детерминированный мыслительный мир не только соотносится с нашими
культурными идеалами и установками, но вовлекает даже
наши собственно подсознательные действия в сферу своего
влияния и придает им некоторые типические черты. Это
проявляется, как мы видели, в небрежности, с какой мы,
например, обычно водим машины, или в том, что мы
бросаем окурки в корзину для бумаги. Типичным проявлением
этого влияния, но уже в несколько ином плане, является
наша жестикуляция во время речи. Очень многие жесты,
характерные по крайней мере для людей, говорящих по-
английски, а возможно, и для всей группы SAE, служат для
иллюстрации движения в пространстве, но, по существу,
не пространственных понятий, а каких-то внепространствен-
ных представлений, которые наш язык трактует с помощью
метафор мыслимого пространства: мы скорее склонны
сделать жест, передающий понятие «схватить», когда мы
говорим о желании поймать ускользающую мысль, чем когда
говорим о том, чтобы взяться за дверную ручку. Жест
стремится передать метафору, сделать более ясным
туманное высказывание. Но если язык, имея дело с
непространственными понятиями, обходится без
пространственной аналогии, жест не сделает непространственное
понятие более ясным. Хопи очень мало жестикулируют, а в
том смысле, как понимаем жест мы, они не жестикулируют
совсем.
Казалось бы, кинестезия, или ощущение физического
162
движения тела, хотя она и возникла до языка, должна
сделаться значительно более осознанной через
лингвистическое употребление воображаемого пространства и
метафорическое изображение движения. Кинестезия
характеризует две области европейской культуры — искусство
и спорт. Скульптура, в которой Европа достигла такого
мастерства (так же как и живопись), является видом
искусства в высшей степени кинестетическим, четко передающим
ощущение движения тела. Танец в нашей культуре
выражает скорее наслаждение движением, чем символику
или церемонию, а наша музыка находится под сильным
влиянием формы танца. Этот элемент «поэзии движения» в
большой степени проникает и в наш спорт. В состязаниях и
спортивных играх хопи на первый план ставится, пожалуй,
выносливость и сила выдержки. Танцы хопи в высшей
степени символичны и исполняются с большой
напряженностью и серьезностью, но в них мало движения и ритма.
Синестезия, или возможность восприятия с помощью
органов какого-то одного чувства явлений, относящихся к
области другого чувства, например восприятие цвета или
света через звуки и наоборот, должна была бы сделаться
более осознанной благодаря лингвистической
метафорической системе, которая передает непространственное
представление с помощью пространственных терминов, хотя,
вне всяких сомнений, она возникает из более глубокого
источника. Возможно, первоначально метафора возникает
из синестезии, а не наоборот, но, как показывает язык
хопи, метафора не обязательно должна быть тесно связана
с лингвистическими категориями. Непространственному
восприятию присуще одно хорошо организованное чувство —
слух, обоняние же и вкус менее организованны.
Непространственное восприятие — это главным образом сфера
мысли, чувства и звука. Пространственное восприятие —
это сфера света, цвета, зрения и осязания; оно дает нам
формы и измерения. Наша метафорическая система,
называя непространственные восприятия по образцу
пространственных, приписывает звукам, запахам и звуковым
ощущениям, чувствам и мыслям такие качества, как цвет, свет,
форму, контуры, структуру и движение, свойственные
пространственному восприятию. Этот процесс в какой-то
степени обратим, ибо, если мы говорим: высокий, низкий,
резкий, глухой, тяжелый, чистый, медленный звук,— нам
уже нетрудно представлять пространственные явления как
11*
163
явления звуковые. Так, мы говорим о «тонах» цвета, об
«однотонном» сером цвете, о «кричащем» галстуке, о «вкусе» в
одежде — все это составляет обратную сторону
пространственных метафор. Для европейского искусства
характерно нарочитое обыгрывание синестезии. Музыка пытается
вызвать в воображении целые сцены, цвета, движение,
геометрические узоры; живопись и скульптура часто
сознательно руководствуются музыкально-ритмическими
аналогиями; цвета ассоциируются по аналогии с ощущениями
созвучия и диссонанса. Европейский театр и опера
стремятся к синтезу многих видов искусства. Возможно, именно
таким способом наш метафорический язык, который
неизбежно несколько искажает мысль, достигает с помощью
искусства важного результата—создания более глубокого
эстетического чувства, ведущего к более
непосредственному восприятию единства, лежащего в основе явлений,
которые в разнообразных и разрозненных формах даются
нам через наши органы чувств.
Исторические связи
Как исторически создается такое сплетение между
языком, культурой и нормами поведения? Что было
первичным — норма языка или норма культуры?
В основном они развивались вместе, постоянно влияя
друг на друга. Но в этом содружестве природа языка
является тем факторохм, который ограничивает его свободу и
гибкость и направляет его развитие по строго
определенному пути. Это происходит потому, что язык является
системой, а не просто комплексом норм. Структура большой
системы поддается существенному изменению очень
медленно, в то время как во многих других областях культуры
изменения совершаются сравнительно быстро. Язык,
таким образом, отражает массовое мышление; он реагирует
на все изменения и нововведения, но реагирует слабо и
медленно, тогда как в сознании производящих изменения
это происходит моментально.
Возникновение комплекса язык — культура SAE
относится к древним временам. Многое из его метафорической
трактовки непространственного посредством
пространственного утвердилось в древних языках, в частности в
латыни. Эту черту можно даже назвать отличительной
особенностью латинского языка. Сравнивая латынь, скажем,
164
с древнееврейским языком, мы обнаруживаем, что если
для древнееврейского языка характерна лишь некоторая
трактовка непространственнсго через посредство
пространственного, то для латыни это характерно в большей
степени. Латинские термины для непространственных
понятий, например educo, religio, principia, comprehendo,—
это обычно метафоризованные физические понятия:
вывести, связывать и т. д. Сказанное относится не ко всем
языкам, этого совсем не наблюдается в хопи. Тот факт, что в
латыни направление развития шло от пространственного к
непространственному (отчасти вследствие столкновения
интеллектуально неразвитых римлян с греческой культурой,
давшего новый стимул к абстрактному мышлению), и что
более поздние языки стремились подражать латинскому,
явился, вероятно, причиной для того убеждения, что это —
естественное направление семантического изменения во
всех языках (этого убеждения придерживаются некоторые
лингвисты еще и теперь) и что объективные восприятия
первичны по отношению к субъективным (такого мнения
твердо придерживаются в западных научных кругах, но
оно не разделяется учеными Востока). Некоторые
философские доктрины представляют убедительные
доказательства в пользу противоположного взгляда, и, конечно,
иногда процесс идет в обратном направлении. Так, можно,
например, доказать, что в хопи слово, обозначающее
«сердце», является поздним образованием, созданным от
корня, означающего «думать» или «помнить». То же
происходит со словом radio «радио», если мы сравним значение
слова radio «радио» в предложении he bought a new radio
«он купил новое радио» с его первичным значением science
of wireless telephony «наука о беспроволочной телефонии».
В средние века языковые модели, уже выработанные в
латыни, стали приспосабливаться ко все увеличивающимся
изобретениям в механике, промышленности, торговле, к
схоластической и научной мысли. Потребность в
измерениях в промышленности и торговле, склады и грузы
материалов в различных контейнерах, помещения для разных
товаров, стандартизация единиц измерения, изобретение
часового механизма и измерение «времени», введение
записей, счетов, составление хроник, летописей, развитие
математики и соединение прикладной математики с
наукой — все это, вместе взятое, привело наше мышление и
язык к их современному состоянию.
165
В истории хопи, если бы мы могли прочитать ее, мы
нашли бы иной тип языка и иной характер
взаимовлияния культуры и окружающей среды. Здесь мы встречаем
мирное земледельческое общество, изолированное
географически и врагами-кочевниками, общество, обитающее на
земле, бедной осадками, возделывающее культуры на сухой
почве, способной принести плоды только в результате
чрезвычайного упорства (отсюда то значение, которое
придается настойчивости и повторению), общество,
ощущающее необходимость сотрудничества (отсюда и та роль,
которую играют психология коллектива и психологические
факторы вообще), принимающее зерно и дождь за исходные
критерии ценности, осознающее необходимость усиленной
подготовки и мер предосторожности для обеспечения
урожая на скудной почве при неустойчивом климате,
сознающее зависимость от угодной природе молитвы и
проявляющее религиозное отношение к силам природы через молитву
и религию, направленным к вечно необходимому благу —
дождю. Все эти условия, присущие данному обществу,
взаимодействуя с языковыми нормами хопи, формируют их
характер и мало-помалу создают определенное
мировоззрение.
Чтобы подвести итог всему вышесказанному и ответить
на первый вопрос, поставленный вначале, можно сказать
так: понятие «времени» и «материи» не даны из опыта всем
людям в одной и той же форме. Они зависят от природы
языка или языков, благодаря употреблению которых они
развились. Они зависят не столько от какой-либо одной
системы (как-то: категории времени или существительного)
в пределах грамматической структуры языка, сколько от
способов анализа и обозначения восприятий, которые
закрепляются в языке как отдельные «манеры речи» и
накладываются на типические грамматические категории так,
что подобная «манера» может включать в себя
лексические, морфологические, синтаксические и тому подобные, в
других случаях совершенно несовместимые средства языка,
соотносящиеся друг с другом в определенной
последовательности.
Наше собственное «время» существенно отличается от
«длительности» у хопи. Оно воспринимается нами как
строго ограниченное пространство или иногда — как
движение в таком пространстве и соответственно используется
как категория мышления. «Длительность» у хопи не может
166
быть выражена в терминах пространства и движения, ибо
именно в этом понятии заключается отличие формы от
содержания и сознания в целом от отдельных
пространственных элементов сознания. Некоторые понятия, явившиеся
результатом нашего восприятия времени, как, например,
понятие абсолютной одновременности, было бы или очень
трудно, или невозможно выразить в языке хопи или они
были бы бессмысленны в их восприятии и заменены
какими-то иными, более приемлемыми для них понятиями.
Наше понятие «материи» является физическим подтипом
«субстанции», или «вещества», которсе мыслится как что-то
бесформенное и протяженное, что должно принять какую-то
определенную форму, прежде чем стать формой
действительного существования. В хспи, кажется, нет ничего,
что бы соответствовало этому понятию; там нет
бесформенных протяженных элементов; существующее может иметь,
а может и не иметь формы, но зато ему должны быть
свойственны интенсивность и длительность — понятия, не
связанные с пространством и в своей основе однородные.
Как же все-таки следует рассматривать наше понятие
«пространства», которое также включалось в первый
вопрос? В понимании пространства у народов хопи и SAE
нет такого отчетливого различия, как в понимании
времени, и, возможно, понимание пространства дается в
основном в той же форме через опыт, независимый от языка.
Эксперименты, проведенные структурной психологической
школой (Gestaltpsychologie) над зрительными
восприятиями, как будто уже установили это, но понятие
пространства несколько варьируется в языке, ибо, как категория
мышления \ оно очень тесно связано с параллельным
использованием других категорий мышления, таких,
например, как «время» и «материя», которые обусловлены
лингвистически. Наш глаз видит предметы в тех же
пространственных формах, как видит их и хопи, но для нашего
представления о пространстве характерно еще и то, что оно
используется для обозначения таких непространственных
отношений, как время, интенсивность, направленность, и
для обозначения вакуума, наполняемого воображаемыми
бесформенными элементами, один из которых может быть
назван «пространство». Пространство в восприятии хопи не
1 Сюда относятся «ньютоновское» и «эвклидово» понятия
пространства и т. п.
167
связано психологически с подобными обозначениями, оно
относительно «чисто», т. е. никак не связано с
непространственными понятиями.
Обратимся к нашему второму вопросу. Между
культурными нормами и языковыми моделями существуют связи,
но не корреляции или прямые соответствия. Хотя было бы
невозможно объяснить существование Главного Глашатая
отсутствием категории времени в языке хопи, вместе с тем,
несомненно, наличествует связь между языком и
остальной частью культуры общества, которое этим языком
пользуется. В некоторых случаях «манеры речи» составляют
неотъемлемую часть всей культуры, хотя это и нельзя
считать общим законом, и существуют связи между
применяемыми лингвистическими категориями, их отражением в
поведении людей и теми разнообразными формами,
которые принимает развитие культуры. Так, например,
значение Главного Глашатая, несомненно, связано если не с
отсутствием грамматической категории времени, то с той
системой мышления, для которой характерны категории,
отличающиеся от наших времен. Эти связи обнаруживаются
не столько тогда, когда мы концентрируем внимание на
чисто лингвистических, этнографических или
социологических данных, сколько тогда, когда мы изучаем культуру
и язык (при этом только в тех случаях, когда культура и
язык сосуществуют исторически в течение значительного
времени) как нечто целое, в котором можно предполагать
взаимозависимость между отдельными областями, и если
эта взаимозависимость действительно существует, она
должна быть обнаружена в результате такого изучения.
Бенджамен Л. Уорф
НАУКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ 1
о двух ошибочных воззрениях на речь и мышление,
характеризующих систему естественной логики,
и о том, КАК слова и обычаи влияют на мышление
Каждый нормальный человек, вышедший из детского
возраста, обладает способностью говорить и говорит.
Именно поэтому каждый независимо от образования
проносит через всю свою жизнь некоторые хотя и наивные, но
глубоко укоренившиеся взгляды на речь и на ее связь с
мышлением. Поскольку эти воззрения тесно связаны с
речевыми навыками, ставшими бессознательными и
автоматическими, они довольно трудно поддаются изменению и
отнюдь не являются чем-то сугубо индивидуальным или
хаотичным — в их основе лежит определенная система.
Поэтому мы вправе назвать эти воззрения системой
естественной логики. Этот термин представляется мне более
удачным, чем термин «здравый смысл», который часто
используется с тем же значением.
Согласующийся с законами естественной логики факт,
что все люди с детства свободно владеют речью, уже
позволяет каждому считать себя авторитетом во всех
вопросах, связанных с процессом формирования и передачи
мыслей. Для этого, как ему представляется, достаточно
обратиться к здравому смыслу и логике, которыми он,
как и всякий другой человек, обладает. Естественная
логика утверждает, что речь — это лишь внешний процесс,
связанный только с сообщением мыслей, но не с их
формированием. Считается, что речь, т. е. использование языка,
лишь «выражает» то, что уже в основных чертах сложилось
без помощи языка. Формирование мысли — это якобы
1 Впервые опубликована в журнале «The technology review» (апрель,
1940); перепечатана в однотомнике избранных статей Уорфа,
вышедшем в издании Массачусетского технологического института в 1956 г.
под названием «Language, thought, and reality».
169
самостоятельный процесс, называемый мышлением или
мыслью и никак не связанный с природой отдельных
конкретных языков. Грамматика языка — это лишь
совокупность общепринятых традиционных правил, но
использование языка подчиняется якобы не столько им, сколько
правильному, рациональному, или логическому,
мышлению.
Мысль, согласно этой системе взглядов, зависит не от
грамматики, а от законов логики или мышления, будто бы
одинаковых для всех обитателей вселенной и отражающих
рациональное начало, которое может быть обнаружено
всеми разумными людьми независимо друг от друга,
безразлично, говорят ли они на китайском языке или на языке
чоктав. У нас принято считать, что математические формулы
и постулаты формальной логики имеют дело как раз с
подобными явлениями, т. е. со сферой и законами чистого
мышления. Естественная логика утверждает, что
различные языки — это в основном параллельные способы
выражения одного и того же понятийного содержания и что
поэтому они различаются лишь незначительными деталями,
которые только кажутся важными. По этой теории
математика, символическая логика, философия и т. п.— это не
особые ответвления языка, но системы, противостоящие
языку и имеющие дело непосредственно с областью чистого
мышления. Подобные взгляды нашли отражение в старой
остроте о немецком грамматисте, посвятившем всю свою
жизнь изучению дательного падежа. С точки зрения
естественной логики и дательный падеж, и грамматика в целом —
вещи незначительные. Иного мнения придерживались, по-
видимому, древние арабы: рассказывают, что два принца
оспаривали друг у друга честь надеть туфли самому
ученому из грамматистов королевства, а их отец, калиф, видел
славу своего королевства в том. что великие грамматисты
почитались здесь превыше королей.
Известное изречение, гласящее, что исключения
подтверждают правила, содержит немалую долю истины, хотя
с точки зрения формальной логики оно превратилось в
нелепость, поскольку «подтверждать» больше не значило
«подвергнуть проверке». Поговорка приобрела глубокий
психологический смысл с тех пор, как она утратила значение
в логике. Сейчас она означает то, что, если у правила
совершенно нет исключений, его не признают за правило и
вообще его не осознают. Такие явления — часть нашего по-
170
повседневного опыта, который мы обычно не осознаем. Мы
не можем выделить какое-либо явление или сформулировать
для него правила до тех пор, пока не найдем ему
противопоставления и не обогатим наш опыт настолько, что
столкнемся наконец с нарушением данной регулярности. Так,
мы вспоминаем о воде лишь тогда, когда высыхает колодец, и
осознаем, что дышим воздухом, только когда его нам
начинает не хватать.
Или, например, предположим, что какой-нибудь народ
в силу какого-либо физиологического недостатка способен
воспринимать только синий цвет. В таком случае вряд ли
его люди смогут сформулировать мысль, что они видят
только синий цвет. Термин синий будет лишен для них
всякого значения, в их языке мы не найдем названий
цветов, а их слова, обозначающие оттенки синего цвета,
будут соответствовать нашим словам светлый, темный,
белый, черный и т. д., но не нашему слову синий. Для того
чтобы осознать, что они видят только синий цвет, они
должны в какие-то отдельные моменты воспринимать и другие
цвета. Закон тяготения не знает исключений; нет нужды
доказывать, что человек без специального образования не
имеет никакого понятия о законах тяготения и ему никогда
бы не пришла в голову мысль о возможности
существования планеты, на которой тела подчинялись бы законам,
отличным от земных. Как синий цвет у нашего вымышленного
народа, так и закон тяготения составляют часть
повседневного опыта необразованного человека, нечто неотделимое
от этого повседневного опыта. Закон тяготения нельзя было
сформулировать до тех пор, пока падающие тела не были
рассмотрены с более широкой точки зрения — с учетом и
других миров, в которых тела движутся по орбитам или
иным образом.
Подобным же образом, когда мы поворачиваем голову,
окружающие нас предметы отражаются на сетчатке глаза
так, как если бы эти предметы двигались вокруг нас. Это
явление — часть нашего повседневного опыта, и мы не
осознаем его. Мы не думаем, что комната вращается вокруг
нас, но понимаем, что повернули голову в неподвижной
комнате. Если мы попытаемся критически осмыслить то,
что происходит при быстром движении головы или глаз,
то окажется, что самого движения мы не видим; мы видим
лишь нечто расплывчатое между двумя ясными картинами.
Обычно мы этого совершенно не замечаем, и мир предстает
174
перед нами без этих расплывчатых переходов. Когда мы
проходим мимо дерева или дома, их отражение на сетчатке
меняется так же, как если бы это дерево или дом
поворачивались на оси; однако, передвигаясь при обычных скоростях,
мы не видим поворачивающихся домов или деревьев.
Иногда неправильно подобранные очки позволяют
увидеть, когда мы оглядываемся вокруг, странные движения
окружающих предметов, но обычно мы при передвижении
не замечаем их относительного движения. Наша психическая
организация такова, что мы игнорируем целый ряд явлений,
которые хотя и всеобъемлющи и широко распространены,
но не имеют значения для нашей повседневной жизни и
нужд.
Естественная логика допускает две ошибки. Во-первых,
она не учитывает того, что факты языка составляют для
говорящих на данном языке часть их повседневного опыта
и поэтому эти факты не подвергаются критическому
осмыслению и проверке. Таким образом, если кто-либо, следуя
естественной логике, рассуждает о разуме, логике и
законах правильного мышления, он обычно склонен просто
следовать за чисто грамматическими фактами, которые в
его собственном языке или семье языков составляют часть
его повседневного опыта, но отнюдь не обязательны для
всех языков и ни в каком смысле не являются общей
основой мышления. Во-вторых, естественная логика смешивает
взаимопонимание говорящих, достигаемое путем
использования языка, с осмысливанием того языкового процесса,
при помощи которого достигается взаимопонимание, т. е.
с областью, являющейся компетенцией презренного и с
точки зрения естественной логики абсолютно бесполезного
грамматиста. Двое говорящих, например на английском
языке, быстро придут к договоренности относительно
предмета речи; они без труда согласятся друг с другом в
отношении того, к чему относятся их слова. Один из них (А)
может дать указания, которые будут выполнены к полному
его удовлетворению другим говорящим (В). Именно
потому, что А и В так хорошо понимают друг друга, они в
соответствии с естественной логикой считают, что им,
конечно, ясно, почему это происходит. Они полагают,
например, что все дело просто в тем, чтобы выбрать слова для
выражения мыслей. Если мы попросим А объяснить, как
ему удалось так легко договориться с В, он просто повторит
более или менее пространно то, что он сказал В. Он и
172
понятия не имеет о том процессе, который здесь
происходит. Сложнейшая система языковых моделей и
классификаций, которая должна быть общей для А и В, служит им
для того, чтобы они вообще могли вступить в контакт.
Эти врожденные, приобретаемые со способностью
говорить основы и есть область грамматиста, или лингвиста,
если дать этому ученому более современное название.
Слово «лингвист» в разговорной и особенно в газетной речи
означает нечто совершенно иное, а именно — человека,
который может быстро достигнуть взаимопонимания при
общении с людьми, говорящими на различных языках.
Такого человека, однако, правильнее было бы назвать
полиглотом. Ученые-языковеды уже давно осознали, что
способность бегло говорить на каком-либо языке еще
совсем не означает лингвистического знания этого языка,
т. е. понимания его основных особенностей (background
phenomena), его системы и происходящих в ней регулярных
процессов. Точно так же способность хорошо играть на
биллиарде не подразумевает и не требует знания законов
механики, действующих на биллиардном столе.
Сходным образом обстоит дело в любой другой отрасли
науки. Всех подлинных ученых интересует прежде всего
основа явлений, играющая как таковая небольшую роль в
нашей жизни. И тем не менее изучение основы явлений
позволяет обнаружить тесную связь между многими
остающимися в тени областями фактов, принимаемыми за нечто
данное, и такими занятиями, как транспортировка товаров,
приготовление пищи, уход за больными, выращивание
картофеля. Все эти виды деятельности могут с течением времени
подвергнуться весьма значительным изменениям под
влиянием сугубо научных теоретических изысканий, ни в коей
мере не связанных с самими этими банальными занятиями.
Так и в лингвистике — изучаемая ею основа языковых
явлений, которые как бы находятся на заднем плане:
имеет отношение ко всем видам нашей деятельности, связанной
с речью и достижением взаимопонимания,—во всякого
рода рассуждениях и аргументации, в юриспруденции,
дискуссиях, при заключении мира, заключении различных
договоров, в изъявлении общественного мнения, в оценке
научных теорий, при изложении научных результатов.
Везде, где в делах людей достигается договоренность или
согласие, независимо от того, используются ли при этом
математические или какие-либо другие специальные
173
условные знаки или нет, эта договоренность достигается
при помощи языковых процессов или не достигается вовсе.
Как мы видели, ясное понимание лингвистических
процессов, посредством которых достигается та или иная
договоренность, совсем не обязательно для достижения
этой договоренности, но, разумеется, отнюдь ей не мешает.
Чем сложнее и труднее дело, тем большую помощь может
оказать такое знание. В конце концов можно достигнуть
такого уровня — и я подозреваю, что современный мир
почти достиг его, — когда понимание процессов речи является
уже не только желательным, но и необходимым. Здесь
можно провести аналогию с мореплаванием. Всякое
плывущее по морю судно попадает в сферу действия
притяжения планет, однако даже мальчишка может провести свое
суденышко вокруг бухты, не зная ни географии, ни
астрономии, ни математики или международной политики; в
то же время для капитана океанского парохода знание
всех этих предметов весьма существенно.
Когда лингвисты смогли научно и критически
исследовать большое число языков, совершенно различных по
своему строю, их опыт обогатился, основа для сравнения
расширилась, они столкнулись с нарушением тех
закономерностей, которые до того считались универсальными,
и познакомились с совершенно новыми типами явлений.
Было установлено, что основа языковой системы любого
языка (иными словами, грамматика) не есть просто
инструмент для воспроизведения мыслей. Напротив, грамматика
сама формирует мысль, является программой и руководством
мыслительной деятельности индивидуума, средством
анализа его впечатлений и их синтеза. Формирование мыслей —
это не независимый процесс, строго рациональный в
старом смысле этого слова, но часть грамматики того или иного
языка и различается у различных народов в одних
случаях незначительно, в других — весьма существенно, так
же как грамматический строй соответствующих языков.
Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном
нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те
или иные категории и типы совсем не потому, что они (эти
категории и типы) самоочевидны; напротив, мир
предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений,
который должен быть организован нашим сознанием, а
это значит в основном — языковой системой, хранящейся в
нашем сознании. Мы расчленяем мир. организуем его в
174
понятия и распределяем значения так, а не иначе в
основном потому, что мы — участники соглашения,
предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет
силу для определенного речевого коллектива и закреплено
в системе моделей нашего языка. Это соглашение,
разумеется, никак и никем не сформулировано и лишь
подразумевается, и тем не менее мы — участники этого соглашения;
мы вообще не сможем говорить, если только не подпишемся
под систематизацией и классификацией материала,
обусловленной указанным соглашением.
Это обстоятельство имеет исключительно важное
значение для современной науки, поскольку из него следует,
что никто не волен описывать природу абсолютно
независимо, но все мы связаны с определенными способами
интерпретации даже тогда, когда считаем себя наиболее
свободными. Человеком, более свободном в этом отношении, чем
другие, оказался бы лингвист, знакомый со множеством
самых разнообразных языковых систем. Однако до сих пор
таких лингвистов не было. Мы сталкиваемся, таким
образом, с новым принципом относительности, который гласит,
что сходные физические явления позволяют создать
сходную картину вселенной только при сходстве или по
крайней мере при соотносительности языковых систем.
Этот поразительный вывод не так очевиден, если
ограничиться сравнением лишь наших современных европейских
языков да еще, возможно, латинского и греческого. Системы
этих языков совпадают в своих существенных чертах, что
на первый взгляд, казалось бы, свидетельствует в пользу
естественной логики. Но это совпадение существует только
потому, что все указанные языки представляют собой
индоевропейские диалекты, построенные в основном по одному
и тому же плану и исторически развившиеся из того, что
когда-то давно было одной речевой общностью; сходство
упомянутых языков объясняется, кроме того, тем, что все
они в течение долгого времени участвовали в создании
общей культуры, а также тем, что эта культура во многом,
и особенно в интеллектуальной области, развивалась под
большим влиянием латыни и греческого. Таким образом,
данный случай не противоречит принципу лингвистической
относительности, сформулированному в конце предыдущего
абзаца. Следствием этого является сходство в описании
мира у современных ученых. Нужно, однако,
подчеркнуть, что понятия «все современные ученые, говорящие на
175
индоевропейских языках» и «все ученые» не совпадают. То,
что современные китайские или турецкие ученые
описывают мир, подобно европейским ученым, означает только,
что они переняли целиком всю западную систему мышления,
но совсем не то, что они выработали эту систему
самостоятельно, с их собственных наблюдательных постов.
Расхождения в анализе природы становятся более
очевидными при сопоставлении наших собственных языков с
языками семитскими, китайским, тибетским или
африканскими. И если мы привлечем языки коренного населения
Америки, где речевые коллективы в течение многих
тысячелетий развивались независимо друг от друга и от Старого
Света, то тот факт, что языки расчленяют мир по-разному,
становится совершенно неопровержимым. Обнаруживается
относительнссть всех понятийных систем, в том числе и
нашей, и их зависимость от языка. То, что американские
индейцы, владеющие только своими родными языками,
никогда не выступали в качестве ученых или исследователей,
не имеет отношения к делу. Игнорировать свидетельство
своеобразия человеческого разума, которое предоставляют
их языки, — это все равно, что ожидать от ботаников
исчерпывающего описания растительного мира, зная, что они
изучили только растения, употребляемые для пищи, и
оранжерейные розы.
Рассмотрим несколько примеров. В английском языке
мы распределяем большинство слов по двум классам,
обладающим различными грамматическими и логическими
особенностями. Слова первого класса мы называем
существительными (ср., например, house «дом», man
«человек»); слова второго — глаголами (например: hit «ударить»,
run «бежать»). Многие слова одного класса могут выступать
еще и как слова другого класса (например: a hit «удар»,
a run «бег» или to man the boat «укомплектовывать лодку
людьми, личным составом»). Однако в общем граница
между этими двумя классами является абсолютной. Наш язык
дает нам, таким образом, деление мира на два полюса.
Но сама природа совсем так не делится. Если мы скажем,
что strike «ударять», turn «поворачивать», run «бежать»
и т. п.—глаголы потому, что они обозначают временные
и кратковременные явления, то есть действия, тогда
почему же fist «припадок» — существительное? Ведь это тоже
временное явление! Почему lightning «молния», spark
«искра», wave «волна», eddy «вихрь», pulsation «пульсация»,
176
flame «пламя», storm «буря», phase «фаза», cycle «цикл»,
spasm «спазм», noise «шум», emotion «чувство» и т. п. —
существительные? Все это — временные явления. Если man
«человек» и house «дом» — существительные потому, что
они обозначают длительные и устойчивые явления, то есть
предметы, тогда почему keep «держать», adhere «твердо
держаться, придерживаться», extend «простираться»,
project «выдаваться, выступать», continue «продолжаться,
длиться», persist «упорствовать, оставаться», grow «расти»,
dwell «пребывать, жить» и т. п.—глаголы? Если нам
возразят, что possess «обладать», adhere «придерживаться» —
глаголы потому, что они обозначают скорее устойчивые
связи, чем устойчивые понятия, почему же тргда
equilibrium «равновесие», pressure «давление», current «течение,
ток», peace «мир», group «группа», nation «нация», society
«общество», tribe «племя», sister «сестра» или другие
термины родства относятся к существительным? Мы
обнаруживаем, что «событие» (event) означает для нас «то, что наш
язык классифицирует как глагол» или нечто подобное.
Мы видим, что определить явление, вещь, предмет,
отношение и т. п., исходя из природы, невозможно; их
определение всегда подразумевает обращение к грамматическим
категориям того или иного конкретного языка.
В языке хопи «молния», «волна», «пламя», «метеор»,
«клуб дыма», «пульсация» — глаголы, так как все это собы- :
тия краткой длительности и именно поэтому не могут быть
ничем иным, кроме как глаголами. «Облако» и «буря»
обладают наименьшей продолжительностью, возможной для
существительных. Таким образом, как мы установили, в
языке хопи существует классификация явлений (или
лингвистически изолируемых единиц), исходящая из их
длительности, нечто совершенно чуждое нашему образу мысли.
С другой стороны, в языке нутка (о-в Ванкувер) все слова
показались бы нам глаголами, но в действительности там
нет ни класса I, ни класса II; перед нами как бы
монистический взгляд на природу, который порождает только один
класс слов для всех видов явлений. О house «дом» можно
сказать и «a house occurs» «дом имеет место» и «it houses»
«домит» совершенно так же, как о flame «пламя» можно
сказать и «a flame occurs» «пламя имеет место» и «it burns»
«горит». Эти слова представляются нам похожими на
глаголы потому, что у них есть флексии, передающие
различные оттенки длительности и времени, так что суффиксы
12 Заказ № 116
177
слова, обозначающего «дом», придают ему значения «давно
существующий дом», «временный дом», «будущий дом»,
«дом, который раньше был», «то, что начало быть домом»
и т. п.
В языке хопи есть существительное, которое может
относиться к любому летающему предмету или существу,
за исключением птиц; класс птиц обозначается другим
существительным. Можно сказать, что первое
существительное обозначает класс Л—П «летающие минус птицы».
И действительно, хопи называют одним и тем же словом и
насекомое, и самолет, и летчика и не испытывают при этом
никаких затруднений. Разумеется, ситуация помогает
устранить возможное смешение различных представителей
любого широкого лингвистического класса, подобного
Л—П. Этот класс представляется нам уж слишком
обширным и разнородным, но таким же показался бы, например,
эскимосу наш класс «снег». Мы называем одним и тем же
словом падающий снег, снег на земле, снег, плотно
слежавшийся, как лед, талый снег, снег, несомый ветром, и т.п.,
независимо от ситуации. Для эскимоса это
всеобъемлющее слово было бы почти немыслимым; он заявил бы, что
падающий снег, талый снег и т. п. различны и по
восприятию и по функционированию (sensuously and
operationally). Это различные вещи, и он называет их различными
словами. Напротив, ацтеки идут еще дальше нас: в их языке
«холод», «лед» и «снег» представлены одним и тем же словом
с различными окончаниями: «лед» — это существительное,
«холод» — прилагательное, а для «снега» употребляется
сочетание «ледяная изморозь».
Однако удивительнее всего то, что различные широкие
обобщения западной культуры, как, например, время,
скорость, материя, не являются существенными для
построения всеобъемлющей картины вселенной. Психические
переживания, которые мы подводим под эти категории,
конечно, никуда не исчезают, но управлять космологией
могут и иные категории, связанные с переживаниями
другого рода, и функционируют они, по-видимому, ничуть не
хуже наших. Хопи, например, можно назвать языком,
не имеющим времени. В нем различают психологическое
время, которое очень напоминает бергсоновскую
«длительность», но это «время» совершенно отлично от
математического времени T, используемого нашими физиками.
Специфическими особенностями понятия времени в языке
178
хопи является то, что оно варьируется от человека к
человеку, не допускает одновременности, может иметь нулевое
измерение, то есть количественно не может превышать
единицу. Индеец хопи говорит не «я оставался пять дней»,
но «я уехал на пятый день».
Слово, относящееся к этому виду времени, подобно
слову «день», не имеет множественного числа. Загадочные
картинки на приведенном рисунке помогут представить,
Как будет выражена мысль |
о том, что кто-то бежит
Англ. Не is running „Он бежит11 1
Хопи Wari „бегущий"
(Констатация факта.) |
Англ. He ran „Он бежал ". I
Хопи Wart „бегущий " 1
(Констатация факта.) I
Англ. Не is running „Он бежит"
Хопи Wari „бегущий**
(Констатация факта.)
Англ. Не ran „Он бежал ".
Хопи Era wari „бегущий**.
(Констатация факта
по памяти)
Англ. Не will run „Он побежит"
Хопи Warikni „бегущий"
(Констатация ожидаемого
факта ) I
Англ. he runs (m е. on the
track team) „Он бегает".
Хопи Warikngwe „бегущий»
(Констатация закона.) |
Рис. 1. Различие между языками, имеющими времена
(английский), и языками, не имеющими времен (хопи). То, что в английском
языке связано с различиями во времени, в хопи связано с различия -
ми в степени достоверности сообщаемого.
как глагол в языке хопи обходится без времен. И
действительно, в одноглагольном предложении единственная
польза от наших времен заключается в различении 5 типичных
ситуаций, изображенных на картинках. В не знающем
12*
179
времен языке хопи глагол не различает настоящее,
прошедшее или будущее события, но всегда обязательно
указывает, какую степень достоверности говорящий намеревается
придать высказыванию: а) сообщение о событии (ситуации
1, 2 и 3 на рисунке), б) ожидание события (ситуация 4),
в) обобщение событий или закон (ситуация 5). Ситуация 1,
где говорящий и слушающий объединены единым полем
наблюдения, подразделяется английским языком на два
возможных случая -— 1а и 1б, которые у нас называются
соответственно настоящим и прошедшим. Это подразделение
не обязательно для языка, оговаривающего, что данное
высказывание представляет собой констатацию события.
Грамматика языка хопи позволяет также легко
различать посредством форм, называемых видами и
наклонениями, мгновенные, длительные и повторяющиеся действия и
указывать действительную последовательность сообщаемых
событий. Таким образом, вселенную можно описать, не
прибегая к понятию измеряемого времени. А как же будет
действовать физическая теория, построенная на этих
основах, без T (время) в своих уравнениях? Превосходно, как
можно себе представить, хотя, несомненно, она потребует
иного мировоззрения и, вероятно, иной математики.
Разумеется, понятие V (скорость-velocity) также должно будет
исчезнуть. В языке хопи нет слова, полностью
эквивалентного нашему слову «скорость» или «быстрый». Обычно эти
слова переводятся словом, имеющим значение «сильный»
или «очень» и сопровождающим любой глагол движения.
В этом ключ к пониманию сущности нашей новой физики.
Нам, вероятно, понадобится ввести новый термин — I—
интенсивность (intensity). Каждый предмет или явление
будет содержать в себе / независимо от того, считаем ли мы,
что этот предмет или явление движется, или просто длится,
или существует. Может случиться, что / (интенсивность)
электрического заряда окажется совпадающей с его
напряжением или потенциалом. Мы должны будем ввести в
употребление особые «часы» для измерения некоторых
интенсивностей или, точнее, некоторых относительных
интенсивностей, поскольку абсолютная интенсивность чего-
либо будет бессмысленной. Наш старый друг ускорение
(acceleration) также будет присутствовать при этом, хотя,
без сомнения, под новым именем. Возможно, мы назовем
его V, имея в виду не скорость (velocity), а вариантность
(variation). Вероятно, все процессы роста и накопления
180
будут рассматриваться как V. У нас не будет понятия
темпа (rate) во временном смысле, поскольку, подобно
скорости (velocity), темп предполагает математическое и
лингвистическое время. Мы, разумеется, знаем, что всякое
измерение покоится на отношении, но измерение
интенсивностей путем сравнения с интенсивностью хода часов либо
движения планеты мы не будем трактовать как отношение,
точно так же как мы не трактуем расстояние на основе
сравнения с ярдом.
Ученому, представляющему иную культуру, культуру,
оперирующую понятиями времени и скорости, пришлось
бы тогда приложить немало усилий, чтобы объяснить нам
эти понятия. Мы говорили бы об интенсивности химической
реакции; он — о скорости ее протекания или о ее темпе.
Первоначально мы бы просто думали, что его слова
«скорость» и «темп» соответствуют «интенсивности» в нашем
языке, а он, вероятно, сначала считал бы, что «интенсивность»—
это просто слово, передающее то же, что слово «скорость»
в его языке. Сперва мы бы соглашались, потом начались бы
разногласия. И наконец, обе стороны начали бы,
по-видимому, осознавать, что все дело в использовании различных
систем мышления. Ему было бы очень трудно объяснить
нам, что он разумеет под «скоростью» химической реакции.
В нашем языке не оказалось бы подходящих слов. Он
попытался бы объяснить «скорость», сопоставляя химическую
реакцию со скачущей лошадью или указывая на различие
между хорошей лошадью и ленивой. Мы пытались бы с
улыбкой превосходства показать ему, что его аналогия
также иллюстрирует не что иное, как различные
интенсивности, и что, кроме этого обстоятельства, никакого
другого сходства между лошадью и химической реакцией в
пробирке нет. Мы не преминули бы отметить, что
скачущая лошадь движется относительно земли, в то время как
вещество в пробирке находится в состоянии покоя.
Важным вкладом в науку с лингвистической точки
зрения было бы более широкое развитие чувства перспективы.
У нас больше нет оснований считать несколько
сравнительно недавно возникших диалектов индоевропейской семьи
и выработанные на основе их моделей приемы мышления
вершиной развития человеческого разума. Точно так же не
следует считать причиной широкого распространения этих
диалектов в наше время их большую пригодность или нечто
подобное, а не исторические явления, которые можно назвать
181
счастливыми только с узкой точки зрения заинтересованных
сторон. Нельзя считать, что все это, включая собственные
процессы мышления, исчерпывает всю полноту разума и
познания, они (эти явления и процессы) представляют
лишь одно созвездие в бесконечном пространстве
галактики. Поразительное многообразие языковых систем,
существующих на земном шаре, убеждает нас в невероятной
древности человеческого духа; в том, что те немногие
тысячелетия истории, которые охватываются нашими
письменными памятниками, оставляют след не толще карандашного
штриха на шкале, какой измеряется наш прошлый опыт на
этой планете; в том, что события этих последних
тысячелетий не имеют никакого значения в ходе эволюционного
развития; в том, что человечество не знает внезапных
взлетов и не достигло в течение последних тысячелетий
никакого внушительного прогресса в создании синтеза, но лишь
забавлялось игрой с лингвистическими формулировками
и мировоззрениями, унаследованными от бесконечного в
своей длительности прошлого. Но ни это ощущение, ни
сознание произвольной зависимости всех наших знаний
от языковых средств, которые еще сами в основном не
познаны, не должны обескураживать ученых, но должны,
напротив, воспитать ту скромность, которая неотделима
от духа подлинной науки, и, следовательно, положит
конец той надменности ума, которая мешает подлинной
научной любознательности и вдохновению.
Бенджамен Л. Уорф
ЛИНГВИСТИКА И ЛОГИКА 1
В английском языке предложения I pull the branch
aside «Я отодвигаю ветку» и I have an extra toe on my foot
«У меня лишний палец на ноге» мало чем похожи друг на
друга. Можно даже сказать, что в них нет ничего общего,
за исключением местоимения в функции подлежащего
и настоящего времени глаголов, являющихся общими в
этих предложениях, согласно правилам английского
синтаксиса. С обывательской и даже с научной точки зрения
эти предложения различны, так как они повествуют о
вещах, существенно отличающихся друг от друга. Таков
довод «Всякого человека», обладающего естественным
логическим мышлением. Формальная логика старого типа,
вероятно, поддержала бы его.
Если, далее, мы обратимся к беспристрастному научно
мыслящему наблюдателю, говорящему по-английски, и
попросим его произвести анализ данных предложений и
посмотреть, не пропустили ли мы каких-либо черт сходства,
он почти наверное подтвердит то, что сказали «Всякий
человек» и логик. Человек, которого мы попросили
проанализировать наш случай, возможно, не будет смотреть
глазами логика старой школы и с удовольствием уличит
последнего в ошибке. Но все-таки ему придется с грустью
признать, что это ему не удалось. «Я бы очень хотел сделать
вам приятное,— скажет он,— но, сколько я ни пытался,
я не могу обнаружить никакого сходства между этими
двумя явлениями».
К этому времени в нас возникает своего рода упрямство:
нам становится интересно, нашел ли бы марсианин еще
1 Впервые напечатано в «Technol. rev.», 43: 250—252, 266, 268,
272 (апрель, 1941). Перепечатано в книге «Language, thought, and
reality», 1956.
183
какое-нибудь сходство между нашими предложениями?
И оказывается, что с точки зрения лингвиста вовсе не надо
отправляться так далеко. Мы еще не обыскали нашу
планету, чтобы выяснить, во всех ли языках эти два
утверждения так же несравнимы, как в нашей речи Оказывается, что
в языке шауни оба утверждения последовательно выглядят
так: ni-l Hawa-'ko-n-a и ni-l Oawa-'ko-ftite (в здесь
обозначает th, как в thin, а апостроф обозначает перерыв
дыхания). Оба предложения имеют большое сходство,
практичеР и с. 2. Здесь дано изображение
некоторых лингвистических представлений,
трудноподдающихся объяснению в тексте.
ски они различаются только в последней своей части. Более
того, в шауни начало предложения обычно является
основной, самой важной частью. Оба предложения начинаются
с ni-(«I»), которое фактически является приставкой. Далее
идет действительно важная часть — ключевое слово
l'Hawa — обычный для шауни термин, обозначающий
вилообразный предмет, подобный изображенному на рис. 2, № 1.
О следующем элементе -'ко мы не можем сказать ничего
определенного, кроме того, что он согласуется по форме с
одним из вариантов суффикса -a'kw или -а'ко, обозначающим
дерево, куст, часть дерева, ветку и т. п. В первом
предложении -п- обозначает by hand action «посредством действия
руки» и может быть или непосредственной причиной
основного состояния (вилообразной формы), или его
дальнейшим преобразованием, или же соединять оба эти
понятия. Конечное -а означает, что субъект ('I') производит
это действие по отношению к соответствующему предмету.
184
Таким образом, первое предложение значит: I pull it (что-
то подобное ветке дерева) more open or apart where it forks
«Я отодвинул это дальше от места развилки». В другом
предложении суффикс -0ite означает pertaining to the toes
«принадлежащий пальцам», а отсутствие других суффиксов
указывает на то, что субъект говорит о состоянии своего
собственного тела. Поэтому предложение может означать
только: I have an extra toe forking out like a branch from
a normal toe «У меня лишний палец, ответвляющийся от
нормального пальца, как ветка дерева».
Занимающиеся наблюдениями в области логики шауни
классифицировали бы оба утверждения как абсолютно
адекватные. Наш собственный наблюдатель, которому мы
все это рассказываем, вновь останавливает свое
внимание на обоих утверждениях и, к своей радости, сразу
обнаруживает явное сходство. Рис. 3 поясняет подобное же
Рис. 3. Английские предложения I push his head
back «Я толкаю его голову назад» и I drop it in water
and it floats «Я бросаю его в воду, и оно плывет»
не сходны. Но в языке шауни соответствующие
утверждения сходны друг с другом, что лишний раз
подчеркивает тот факт, что анализ явлений природы и
классификация событий как таковых в логике во многом
зависят от грамматики.
положение: I push his head back «Я толкаю его голову
назад» и I drop it in water and it floats «Я бросаю его в
воду, и оно плывет» — предложения, резко отличающиеся
в английском языке, но сходные в шауни. «Всякому
человеку» придется изменить свое суждение, если принять во
внимание природу языковых отношений. Вместо того чтобы
185
сказать: «Предложения несходны, потому что они говорят
о разных фактах», — он скажет: «Факты неодинаковы для
тех, кто говорит на языке, структура которого такова,
что формулирует эти факты по-разному».
С точки зрения разговорного языка английские
предложения The boat is grounded on the beach «Лодку вытащили
на песок» и The boat is manned by picked men «Корабль
укомплектован отборными людьми» кажутся нам
похожими одно на другое. Оба они говорят о судне, оба
сообщают о связи корабля с другими предметами — или так
по крайней мере нам кажется. Лингвист сформулирует
грамматическое сходство следующим образом: «The boat
is xed preposition у». Логик изменит формулировку
лингвиста, возможно, так: «A is in the state x in relation to y»
и, далее: «fA=xRy». Система символов делает возможной
наиболее разумную классификацию, развивает наше
мышление и помогает выработать чувство интуиции.
Нужно ясно представлять себе, что черты сходства и
различия в предложениях, анализированных по формуле,
данной выше, зависят от выбора языка и что свойства этого
языка в конечном счете выражаются в особенностях
структуры логических или математических построений.
В языке нутка в Ванкувер Айленд первое предложение
о «лодке» (boat) выглядит так: tlih-is-ma, второе — lash-
tskwig-ista-ma. Первое, таким образом, можно изобразить:
I-11-ma; второе — III-IV-V-ma. Эти предложения резко
отличаются друг от друга: ведь конечное -ma является
всего лишь признаком 3-го лица изъявительного
наклонения. Ни одно из этих предложений не содержит слов,
сходных по значению с нашим boat «лодка» или даже canoe
«челнок». Часть I первого предложения означает moving
pointwise «движение в определенном направлении», т. е.
движение, представленное на чертеже № 2 рис. 2.
Отсюда traveling in or as a canoe «движение в челноке или
как в челноке» или положение, соответствующее одному
отрезку такого движения. Это не наименование того, что
мы называем «предмет» (a thing), а скорее нечто подобное
вектору в физике. Часть II означает «on the beach» («на
берегу»); отсюда I-II-ma означает «It is on the beach point-
wise as an event of canoe motion» («Это на берегу в
определенном направлении как результат движения челнока») и
относится, как правило, к лодке, которая присгала к берегу.
Во втором предложении часть III означает «select, pick»
186
(«выбирать»), а IV — «remainder, result» («результат»), так
что III—IV означает «selected» («уже выбранный»). Часть
V значит «in a canoe (boat) as crew» («в лодке или челноке
в качестве команды»). Целиком III-IV-V-ma означает или
«They are in the boat as a crew of picked men» («Они в лодке
в качестве команды из отборных людей»), или «The
boat has a crew of picked men» («Лодка имеет команду
из отборных людей»). Это означает, что все событие,
включающее выбранных людей и команду лодки,
представляет собой процесс.
Мне иногда доставляет удовольствие вернуться к моей
специальности — химии. Возможно, читатели легче
поймут меня, если я сравню взаимоотношение составляющих
элементов в данных предложениях на языках шауни и
нутка с химическим соединением, в то время как
взаимоотношения составляющих в английских предложениях
напоминают скорее механическую смесь. Смесь, подобно костру
альпиниста, может состоять из чего угодно, и материал, ее
составляющий, не изменит своего внешнего вида.
Химическое соединение, напрогив, может быть получено только
из взаимодействующих элементов, причем результатом
реакции не обязательно будет раствор, но, возможно,
и кристаллическая масса и газообразное облако. Точно
так же типические словосочетания в языках шауни и нутка
состоят из слов, выбранных не столько в целях
непосредственного наименования, сколько благодаря их способности
вступать в многочисленные сочетания, дающие новые,
необходимые образы. Этот принцип выбора словаря и
анализа явлений, пожалуй, совершенно чужд тем языкам, с
которыми мы знакомы. Анализ, начинающийся с явлений
природы и заканчивающийся рассмотрением материала
основного словарного ядра языка, способного формировать
образные сочетания, является характерной чертой
полисинтетических языков, к которым принадлежат языки
нутка и шауни. Для этих языков не являются
характерными (как это считали некоторые лингвисты) связанность
и неразложимость словосочетаний. На языке шауни слово
l'Oawa может быть употреблено отдельно, но тогда оно
будет означать: «It (or something) is forked» («Это [или
что-то] разветвляется»), т. е. утверждение, которое не несет
в себе многочисленных новых оттенков, возникающих в
словосочетании с этим словом, — во всяком случае, мы с
нашим типом логического мышления не воспримем их.
187
Шауни и нутка пользуются не только химическим типом
сочетания слов. В этих языках широко применяется так
называемый внешний синтаксис, однако он не имеет
существенного значения. Даже нашим индоевропейским
языкам свойствен иногда «химический метод», но они редко
пользуются им для создания предложений, находя его
возможности ограниченными и предпочитая отдавать
преимущество другому методу. Вполне естественно поэтому,
что Аристотель основал традиционную для нас логику на
этом последнем. Я позволю себе привести еще одно
сравнение, на этот раз не из области химии, а из области
искусства — искусства живописи. Глядя на хороший натюрморт,
мы видим яркую фарфоровую вазу и покрытый пушкой
персик. Однако детальный анализ (при рассмотрении,
например, картины по частям, сквозь отверстие, прорезанное в
куске картона) показал бы нам только мазки краски
неопределенной формы и не дал бы возможности увидеть вазу
и плод, т. е. уничтожил бы целостность картины.
Совокупность частей картины, пожалуй, сродни «химическому»
типу синтаксиса, что указывает на психологические основы
как искусства, так и языка. Механический метод в
искусстве и языке изображен под номером ЗА на рис. 2.
Первый элемент — группа пятен — соответствует
прилагательному spotted «пятнистый», второй соответствует
существительному cat «кошка». Складывая их вместе,
мы получаем spotted cat «пятнистая кошка». Сравним это
с тем, как образуется словосочетание № 3B на этом же
рисунке. Здесь фигура, соответствующая cat, имеет сама
по себе весьма смутное значение — мы могли бы определить
ее как chevron-like «шевронообразная», — а первый
элемент еще более непонятен. Но, соединяясь, они образуют
цилиндрический предмет, похожий на металлическую
отливку. Общим моментом для обоих методов является
систематическое использование определенных образцов,
моделей словосочетаний, что в свою очередь является
характерным для всех языков. Я поставил вопросительные
знаки под отдельными элементами чертежа № 3В рис. 2,
чтобы подчеркнуть трудность нахождения эквивалентов
в английском языке, а также и то, что подобный метод,
возможно, непригоден в традиционной логике. Однако
анализ других языков и возможность появления новых
типов логического мышления, высказанная самими
логиками, позволяют предположить, что данный метод имеет
188
определенное значение для современной науки. Новые
типы логического мышления, может быть, помогут в конце
концов понять, почему электроны, скорость света и другие
объекты изучения физики ведут себя вопреки всем законам
логики и почему явления, которые вчера как будто
противоречили всякому здравому смыслу, сегодня оказались
реальностью. Современные мыслители давно говорят о том,
что так называемое механистическое мышление оказалось
в тупике, столкнувшись с новейшими научными проблемами.
Избавиться от этого способа мышления, не имея языкового
выражения какого-либо другого способа, тем более трудно,
что ни самые передовые ученые-логики, ни математики
не предлагают ничего, что могло бы заменить это
механистическое мышление. И повторяю, что это, очевидно,
невозможно без соответствующих языковых средств.
Механистический способ мышления, пожалуй, больше всего
подходит для повседневного употребления того «Всякого
человека», который пользуется индоевропейскими языками,
опираясь на учение Аристотеля и его средневековых и
современных последователей.
Как я уже говорил в статье «Наука и лингвистика»,
легкость, с которой мы пользуемся речью, и тот факт, что
мы бессознательно усваиваем речь в раннем детстве,
позволяют нам считать речь и мысль прямолинейными и
предельно ясными процессами. Мы, естественно,
предполагаем, что они воплощают в себе само собой разумеющиеся
законы мышления, одинаковые для всех людей. Нам
известны ответы на любые вопросы! Но при серьезном
изучении эти ответы оказываются весьма туманными. Мы
пользуемся речью, чтобы достичь взаимопонимания в
восприятии предметов: я говорю: Please, shut the door
«Пожалуйста, закройте дверь»,— и мой собеседник и я соглашаемся,
что слово the door «дверь» обозначает определенную часть
окружающего нас мира и что я хочу, чтобы было
произведено определенное действие. Наши объяснения того, как
мы достигли такого взаимопонимания, хотя удовлетворят
нас в повседневном общении, все же будут представлять
собой не что иное, как подобного же рода соглашения
(формулировки) о данном предмете (двери и т. п.), все более и
более усложненные утверждениями об общественной и
индивидуальной необходимости общения. В этом нет никаких
законов мышления. Однако структурные закономерности
наших предложений заставляют нас чувствовать, что
189
именно законы лежат в их основе. Очевидно, объяснения
взаимопонимания в таких случаях, как And so I ups and
says to him, says I; see here, why don't you..!1 отклоняются
от истинного процесса, при помощи которого «he» и «I»
общаются. Точно так же психологически-социальные
объяснения общественных и внутренних потребностей,
заставляющих людей общаться друг с другом, могут
представлять собой научную версию того же объяснения и, хотя
имеют некоторый интерес, все же могут пока
игнорироваться. Такого же рода уклонения мы наблюдаем, когда от
предложения в речи, минуя физиологию и «стимулы»,
переходят непосредственно к социальным факторам.
Вопрос, почему люди понимают друг друга, вероятно,
долго еще останется без ответа; но на вопрос, как они
понимают друг друга, т. е. на вопрос о том, какова логика этого
понимания — его основные нормы и закономерности,—
можно получить ответ. Это осуществляется благодаря
грамматической структуре нашего родного языка, которая
включает в себя не только способы построения предложений,
но и систему анализа окружающего мира, разделяющую
поток ощущений на ряд предметов и сущностей, о которых
мы составляем предложения. Этот факт важен для науки,
так как он означает, что наука может иметь рациональную,
логическую основу, хотя, возможно, это будет некая
релятивистская основа, а не естественная логика «Всякого
человека». Несмотря на то, что эта основа может различаться
в разных языках и может возникать необходимость точного
определения размеров и границ этого различия, она,
однако, лежит в основе логики, познающей законы. Наука не
склонна считать процессы мышления и рассуждения
процессами, зависящими только от социальных условий и
внутренних побуждений.
Больше того, огромная важность языка не может, по
моему мнению, не означать, что кое-какие из его законов
влияют на природу и на то, что обычно называется «mind»
(«дух, разум»). Мои собственные наблюдения дают мне
право утверждать, что язык, несмотря на его огромную
роль, напоминает в некотором смысле внешнее украшение
более глубоких процессов нашего сознания, которые уже
1 В данном примере нарушается грамматическое согласование
между глаголами и местоимениями. Эту фразу можно перевести
приблизительно так: «И тут я вскочил и говорю ему, говорю я: «Послушай,
почему ты не..!» — Прим. ред.
190
наличествуют, прежде чем возникнет любое общение,
происходящее при помощи системы символов или сигналов,
и которые способны моментально создать такое общение
(хотя оно и не будет истинным соглашением) без помощи
языка или системы символов. Я употребляю здесь слово
«внешний» (superficial) в том же смысле, в каком все
химические реакции могут быть названы внешними по
отношению к внутриатомным, или электронным, процессам.
Однако никто не сделает из этого вывода, что химия не важна;
в самом деле, суть этого высказывания в том, что наиболее
внешнее может быть в действительности наиболее важным.
Вполне возможно, что понятия «Язык» с большой буквы
вообще не существует! Утверждение, что «мышление
является материалом языка»,— это неверное обобщение более
правильной идеи о том, что «мышление является
материалом различных языков». Именно эти различные языки
суть реальные явления и могут быть обобщены не таким
универсальным понятием, как «язык» (language), но
«подязыковым» (sublinguistic) или «сверхязыковым»
(superlinguistic) понятием, хотя и отличным от понятия «язык»,
однако имеющим с ним и некоторые черты сходства, т. е.
тем понятием, которое мы называем сейчас «mental»
(«интеллект»). Подобное обобщение не только не уменьшает,
но даже увеличивает значение сравнительного изучения
языков в целях познания истины в этой области.
Ботаники и зоологи, для того чтобы понять мир живых
существ, вынуждены описывать разновидности,
обитающие во всех частях света; даже вымершие виды
подверглись изучению, без которого мы не овладели бы
исторической перспективой в данной области. Ученые столкнулись
также и с необходимостью сравнить и противопоставить
друг другу эти разновидности, разделить их на семьи и
классы, изучить различные стадии их развития, их
морфологию и таксономию. В науке о языке происходит то же самое.
Новые методы изучения языка и мышления — вот та
далекая цель, к которой направлены усилия ученых в этой
области. Большие успехи достигнуты по части деления всех
языков мира на генетические семьи, каждая из которых
восходит к одному праязыку, и в изучении их исторического
развития. Результаты исследований были объединены под
общим названием «сравнительное языкознание». Еще
большее значение для будущего развития мысли имеет та
отрасль лингвистики, которая может быть названа «проти-
191
вопоставительное языкознание» (contrastive linguistics).
Это последнее занимается изучением наиболее важных
различий в языках — в грамматике, логике и в общем анализе
ощущений.
Как я уже писал в статье «Наука и лингвистика»,
сегментация явлений природы — это одна из сторон
грамматики, хотя до сих пор она мало изучалась грамматистами.
Мы делим на отрезки и осмысляем непрерывный поток
явлений именно так, а не иначе в большой степени
благодаря тому, что посредством нашего родного языка мы
становимся участниками определенного «соглашения», а не
потому, что эти явления классифицируются и
осмысляются всеми одинаково. Языки различаются не только тем,
как они строят предложения, но и тем, как они делят
окружающий мир на элементы, которые являются материалом
для построения предложений. Эти элементы представляют
собой единицы словаря. «Слово» (word) — не очень удачное
слово для их обозначения; «Лексема» (lexeme) и «терм»
(term) кажутся мне более удачными обозначениями. Этими
более или менее ясными определениями мы обеспечиваем
искусственную изоляцию отдельных участков нашего
восприятия. Английские обозначения sky «небо», hill «холм»,
swamp «болото» и им подобные убеждают нас в возможности
рассматривать отдельные стороны бесконечного
разнообразия природы как отдельные предметы почти так же, как
table «стол» или chair «стул». Таким образом, английский
и ему подобные языки дают возможность воспринимать
мир как собрание отдельных предметов и событий,
соответствующих отдельным словам. В самом деле, восприятие
вселенной как собрания отдельных предметов различных
размеров — это наиболее полная характеристика
классической физики и астрономии.
Примеры, приводимые в данном случае логиками
старших поколений, обычно выбирались неудачно. Они
приводили чаще всего в качестве примеров столы, стулья и
яблоки на столах как доказательство предметной сущности
действительности и ее точного соответствия законам
логики. Человеческие изобретения и продукты сельского
хозяйства, извлекаемые человеком из растений, представляют
особую степень изоляции; можно ожидать, что различные
языки для их обозначения имеют свои особые слова. Важно
другое: как обозначаются в различных языках не
искусственно изолированные предметы, а непрерывно изменяю-
192
щиеся явления природы в ее развитии, в бесконечном
разнообразии ее движения, красок, форм; как поступают
языки с облаками, берегами, полетом птиц? Потому что
от того, как мы воспринимаем природу, зависит наше
восприятие вселенной.
Здесь мы обнаруживаем различия в классификации
явлений природы и в выборе основных обозначений. Можно
выделить некий объект действительности, обозначив его
It is a dripping spring «Это падающий источник». Язык апа-
чей строит это утверждение на глаголе ga «быть белым»
(включая — «чистым», «бесцветным» и т. д.). С помощью
префикса по- привносится значение действия,
направленного вниз: whiteness moves downward «белизна движется
вниз». Префикс ставится перед словом to, означающим и
water «вода» и spring «источник». Результат соответствует
нащему dripping spring «падающий источник», но на самом
деле утверждение представляет собой соединение As water,
or springs, whiteness moves downward «Подобно воде или
источнику, белизна движется вниз». Как это не похоже на
наш образ мышления! Тот же самый глагол ga с
префиксом, который имеет значение «место, обусловливающее
условие», становится «gohlga», т. е. the place is white,
clear; a clearing, a plain «место белое, чистое, очищение,
равнина». Эти примеры показывают, что в некоторых
языках средства выражения являются как бы химическими
соединениями, в которых определенные обозначения
представляют собой не отдельные слова, а части одного целого,
полученного в результате органического процесса синтеза.
Таким образом, языки, не изображающие мир в виде
отдельных объектов-предметов (так, скажем, как это
происходит в английском и родственных ему языках), указывают
нам путь к возможным новым типам логического мышления
и новым способам восприятия вселенной.
В индоевропейских и многих других языках придается
большое значение предложениям, состоящим из двух
частей, каждая из которых строится вокруг определенного
класса слов — существительных и глаголов, по-разному
трактуемых грамматически. Как я уже показал в
упомянутой статье, это различие не вытекает из условий
действительности; оно — результат того факта, что для каждого
языка необходим особый тип структуры, и индоевропейские,
а также и некоторые другие языки избрали именно этот
тип, а не другой. Греки, особенно Аристотелъ, создали это
13 Заказ № 116
193
противоречие и сделали его законом разума. С тех пор это
противоречие отмечалось в логике много раз; субъект и
предикат, деятель и действие, вещи и связь между ними,
объекты и их определения, количество и действие. И опять-
таки благодаря грамматике установилось представление,
что один из классов может существовать самостоятельно,
но что класс глаголов не может существовать без
представителя другого класса — класса «вещей», выступающего
в качестве гвоздя, на котором «висит» глагол. Лозунг этого
направления мысли — «Воплощение необходимо» — редко
подвергается серьезному сомнению. Однако вся
современная физика с ее особым интересом к пространству является
полным опровержением этой теории. Противоречие впервые
появляется в математике в виде двух групп знаков: первая
из них включает такие знаки, как 1, 2, 3, x, у, z; вторая —
знаки + —, :, у, log; впрочем, это деление на две группы
не всегда строго соблюдается ввиду существования знаков
0, 1/2, 3/4, pi и т. п. Однако идея двух групп всегда
присутствует в нашем сознании, хотя и не всегда находит
внешнее воплощение.
Языки индейцев показывают, что с соответствующим
грамматическим строем можно создавать вполне
осмысленные предложения, которые не делятся на субъекты и
предикаты. Всякая попытка такого деления будет делением
английского перевода или перефразированным
предложением, а не будет соответствовать тому, что сказано на языке
индейцев. С таким же успехом можно пытаться разложить
синтетические смолы на целлюлозу и известь, исходя из
того, что некоторые заменители этих смол получаются с
участием целлюлозы и извести. Языковая семья
алгонкинских языков, к которой принадлежит и язык шауни,
допускает использование предложений, содержащих,
наподобие наших, субъект и предикат, но все же предпочитает
употребление предложений того типа, который описан в
нашем тексте и представлен на первом рисунке. Дело в том,
что хотя ni- и переведено как подлежащее, но оно наряду
со значением I «я» имеет еще и значение my «мой».
Предложение могло бы быть переведено как My hand is
pulling the branch aside «Моя рука отодвигает ветку». Кроме
того, ni- может вообще отсутствовать; тогда нам придется
ввести подлежащее he «он», it «оно», «это», somebody «кто-
то», «некто» или сделать подлежащим в английском
предложении какое-либо представление, соответству-
194
ющее любому из элементов предложения на языке
шауни.
Если перейти к языку нутка, то в нем единственно
возможным типом предложения будет предложение без
подлежащего и сказуемого. Здесь часто употребляется термин
«предикация», но он, по существу, обозначает
«предложение». В языке нутка нет частей речи; простейшее
высказывание — это предложение, имеющее дело с событием или
рядом событий. Длинные предложения составляются из
отдельных предложений (сложные предложения), а не из
отдельных слов. На рис. 4 изображена схема простого, а
не сложного предложения из языка нутка.
Рис. 4. Здесь изображены различные способы
обозначения одного и того же события в английском языке
и в языке нутка. Английское предложение можно
разделить на субъект и предикат; предложение на языке
нутка не делится таким образом, но тем не менее оно
логично и имеет четкий смысл. Более того, это
предложение состоит из одного слова, включающего
корень tlimsh и пять суффиксов.
Перевод «Не invites people to a feast» («Он приглашает
людей на пир») делится на субъект и предикат. В
оригинальном предложении этого не происходит. Оно начинается с
события «boiling» («варки») или «cooking» («приготовления») —
tlimsh; затем следует -у а («результат») = «cooked», затем—
-4s («еда»)=«eating cooked food»; далее—ita («те, кото-
13*
195
рые едят»)=«eaters of cooked food»; затем —'itl
(«направляющиеся к ...»)=«going for»; затем -ma — признак 3-го
лица изъявительного наклонения; все вместе звучит
tlimshya' isita'itlma, что соответствует в необработанной
перефразировке «He, or somebody, goes for (invites) eaters
of cooked food» («Он или кто-то идет, чтобы (пригласить)
едоков к приготовленной пище»).
Техника английской речи зависит от
противопоставления двух искусственных классов слов —
существительных и глаголов —и от двустороннего восприятия
окружающего мира, о котором уже говорилось. Наше обычное
предложение (исключая предложение в повелительном
наклонении) должно состоять из существительного и
следующего за ним глагола; это требование отражает
философское и в то же время наивное представление о некоем
деятеле, который производит действие. Все могло бы быть
иначе, если бы в английском языке существовали сотни
и тысячи глаголов, подобных hold «держать»,
обозначающих положение. Но большинство наших глаголов отражает
тот тип деления явлений окружающего мира на
изолированные участки, которые мы называем «действиями» (actions),
т. е. движением предметов.
Следуя основному правилу, мы привносим действие в
каждое предложение, даже в I hold it «Я держу это».
Минутное размышление убеждает нас, что «hold» — это совсем
не действие, а относительное положение в пространстве.
Однако мы воспринимаем его мысленно и даже зрительно
как действие, потому что язык формулирует это выражение
так же, как он формулирует и многие другие, более
распространенные предложения, например I strike it «Я ударяю
по чему-либо», которые имеют дело с реальными
действиями и изменениями.
Мы постоянно привносим в окружающий мир
вымышленные сущности, совершающие действия просто потому, что
в наших языках глаголам должны предшествовать
существительные. Мы должны сказать It flashed «сверкнуло» или
A light flashed «Огонь (или свет) сверкнул», придумывая
деятеля it или light, чтобы изобразить то, что мы называем
действием to flash «сверкнуть». Однако сверкание и свет —
это одно и то же! В языке хопи то же событие изображается
одним глаголом rehpi: flash (occurred). Здесь нет деления
на субъект и предикат, нет даже суффикса, подобного
латинскому -t в слове tona-t «громыхает».
196
Хопи часто употребляют глаголы без субъектов; это
предоставляет им возможности, которые вряд ли могут
быть развиты в других языках, в частности в
использование оригинальной системы логики, позволяющей понять
некоторые стороны вселенной. Несомненно, современная
наука, находящаяся в основном под влиянием западных
индоевропейских языков, часто, как и все мы, видит
действия и силы там, где правильнее было бы видеть состояния.
С другой стороны, state «состояние»—это
существительное, и как таковое оно пользуется всеми традиционными
преимуществами класса предметов или вещей; поэтому
наука широко оперирует понятием состояния, если только
оно воплощено в существительном. Возможно, что вместо
states «состояний» атома или делящейся клетки было бы
лучше пользоваться термином, более близким глаголу,
но не содержащим в скрытом состоянии таких понятий,
как деятель и действие.
Я весьма сочувствую тем, кто говорит Put it into
plain, simple English «Скажите это по-английски простыми
словами», особенно когда они протестуют против пустого
формализма огромного количества псевдоученых слов,
осложняющих нашу речь. Но ограничить мышление
рамками английского языка, да еще рамками, в которых
сосредоточена высшая простота английского языка,— это
значит потерять силу мысли, которая, будучи однажды
утерянной, никогда не сможет быть восстановлена. Именно
«самый простой» («the plainest») английский содержит
наибольшее число бессознательных гипотез, относящихся к
бытию. Именно в этом — неудача схем, подобных Basic
English, в которых препарированный британский вариант
английского языка, где скрытые предпосылки действуют
еще сильнее, преподносится ничего не подозревающему
миру как квинтэссенция чистого Разума. Мы пользуемся
даже этим «простым» («plain») английским с большей
эффективностью, если рассматриваем его с удобной позиции
многоязычного сознания. По этой причине, по-видимому,
можно утверждать, что те, кто представляет себе
человечество будущего говорящим на одном языке, будь то
английский, немецкий или русский, глубоко заблуждаются,
принимая за идеал то, что способно принести огромный
вред развитию человеческого мышления. Западная
культура при помощи языка произвела предварительный анализ
реального мира и считает этот анализ окончательным,
197
решительно отказываясь от всяких корректив.
Единственный путь к исправлению ошибок этого анализа лежит через
все те другие языки, которые в течение целых эпох
самостоятельного развития пришли к различным, но одинаково
логичным, предварительным выводам.
В очень ценной работе «Современная логика и задачи
естественных наук» («Modern logic and the task of the
natural sciences») Гарольд H. Ли говорит: «Те науки,
достижения которых основаны на количественных измерениях,
развивались наиболее успешно, потому что мы знаем очень
мало о порядковых системах, за исключением тех, которые
представлены в математике. Однако мы можем с
уверенностью сказать, что существуют и другие системы, так
как развитие логики за последние полвека ясно доказывает
это. Мы можем ожидать, что существующие в настоящее
время науки будут развиваться в иных направлениях,
если логика предоставит нам достаточные знания о других
типах порядковых систем. Мы можем также предполагать,
что многие спорные вопросы, которые не являются
сейчас в полном смысле научными, станут таковыми, когда
новые порядковые системы сделаются доступными нашему
знанию»1.
Ко всему сказанному можно добавить, что широкое поле
деятельности для овладения новыми порядковыми
системами, близкими, хотя и не идентичными, современным
математическим системам, открывается в области более
глубокого изучения языков, отдаленных по своей
структуре от нашего родного языка.
1 «Sigma Xi Quart.», 28: 125 (осень, 1940 г.).
Макс Блэк
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ1
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ БЕНДЖАМЕНА ЛИ УОРФА)
Появление долгожданного собрания сочинений Уорфа,
дотоле разрозненных2, которому предпосланы
жизнеописание Уорфа и исчерпывающее введение, а также
библиография, наиболее полная из всех известных до сих пор,
позволяет увидеть работы этого выдающегося ученого в их
поразительной целостности. Немногие книги, равные этой
по значению, написаны столь увлекательно: не
заинтересоваться этой книгой Уорфа может разве лишь самый
равнодушный читатель.
Общепризнанным является огромный вклад Уорфа в
изучение языков американских индейцев, но его работы в
данной области затмеваются его блестящими, хотя и
спорными, высказываниями о связи языка, культуры и
процесса мышления. Последнему вопросу и посвящается
настоящая статья.
Попытаемся подвергнуть критическому рассмотрению и
проверке то, что Уорф называет «лингвистической
относительностью». Ставя такую задачу, мы сталкиваемся с
большими трудностями: в работах Уорфа различные
формулировки основных положений часто противоречивы,
многое преувеличено, а туманный мистицизм запутывает
й без того довольно неясные рассуждения.
Основная идея его теории удачно выражена в цитате из
Сепира, которую сам Уорф использует в качестве эпиграфа
к своей лучшей статье: «Люди живут не только в объектив-
1 Опубликована в журнале «The philosophical review», vol.
LXVIII, № 2, April 1959.
2 «Language, thought and reality: Selected writings of Benjamin
Lee Whorf», New York, 1956. Издание включает ряд ранее не
опубликованных статей Уорфа. Последующие переиздания книги следовало бы
снабдить индексом.
199
ном мире вещей, не только в мире общественной
деятельности, как это обычно полагают; они в значительной мере
находятся под влиянием того конкретного языка, который
является средством общения для данного общества. Было
бы ошибочным полагать, что мы можем полностью
осознать действительность, не прибегая к помощи языка, или
что язык является побочным средством разрешения
некоторых частных проблем общения и мышления. На самом деле
«реальный мир» в значительной степени бессознательно
строится на основе языковых норм данной группы». Это
получило название «гипотезы Сепира — Уорфа».
По моему мнению, теорию Уорфа можно свести к
следующим десяти положениям, каждое из которых нуждается
в разъяснении.
1. Языки воплощают в себе «совокупность речевых
моделей», или «основу лингвистических систем» (background
linguistic systems), складывающуюся из установленных
способов выражения мысли и опыта.
2. Говорящий на своем родном языке обладает
определенной «системой понятий» для «организации опыта».
3. Он имеет также определенное «мировоззрение»,
отражающее его отношение к вселенной.
4. Основа лингвистической системы в известной мере
определяет связанную с ней систему понятийную.
5. Основа лингвистической системы в известной мере
предопределяет связанное с ней мировоззрение.
6. Действительность представляет собой
«калейдоскопический поток впечатлений».
7. Восприятие «фактов» — производное от языка, на
котором о них сообщается.
8. «Сущность вселенной» — производное от того языка,
на котором о ней говорят.
9. Грамматика не отражает действительности, но
видоизменяется произвольно от языка к языку.
10. Логика не отражает действительности, но
видоизменяется произвольно от языка к языку.
1. Языки олицетворяют «непосредственно данные
лингвистические системы» (см. объяснение этого выражения
на стр. 212, 247 и др.); термины «совокупность речевых
навыков» (стр. 158) и «система моделей» (стр. 252)
приблизительно синонимичны1.
1 Здесь и далее имеется в виду упомянутая выше книга Б. Уорфа
«Languag, tehought, and reality». — Прим. ред.
200
Постоянная трудность заключается в том, чтобы суметь
разграничить «основу» языка и язык как таковой и тем
самым спасти основные положения Уорфа от тавтологии.
Тот факт, что язык навязывает говорящим унаследованный
от предыдущих поколений словарный состав и грамматику,
столь очевиден, что не требует особого объяснения; Уорф,
разумеется, хочет сказать гораздо больше. «Основа»
системы понимается им как подсистема, состоящая из
«моделей», которые значат для говорящего на родном языке
не меньше, чем для лингвиста, изучающего этот язык.
Рассмотрим пример: Уорф утверждает, что он обнаружил
в английском языке категорию рода (стр. 68, 90 и сл.),
которая в отличие от категории рода в романских языках
является подлинно функциональной. И здесь и в других
местах Уорф признает, что некоторые лингвистические
категории (но не все) действительно обладают значением. Для
него «любая научная грамматика неизбежно предполагает
глубокий анализ отношений» (стр. 68), а «лингвистика —
это в основном поиски ЗНАЧЕНИЯ» (стр. 73; прописные
буквы, как в оригинале).
При выделении значащих категорий Уорф идет
следующим путем: лингвистическая категория определяется
посредством формальных критериев самого различного рода;
далее, лингвист, анализирующий материал (Уорф),
отыскивает ту общую «идею», которая объединяет данную
категорию (стр. 81); затем все это выражается на метаязыке
лингвиста. В идеале результатом подобного анализа
должны явиться некоторые доступные проверке
предварительные выводы о конструкциях, допустимых в данном языке.
Именно так Уорф выделил три класса глаголов в языке
хопи (стр. 107—109). Характерно, что, отталкиваясь от
несемантического критерия, он продолжает исследование
до тех пор, пока ему не удается выделить «три понятия»,
лежащие якобы в основе этих классов. В итоге получается
то, что Уорф называет «скрытыми категориями», или «крип-
тотипами» (стр. 88,89, 92), т.е. грамматические классы,
которые не характеризуются постоянными морфологическими
показателями, но узнаются лишь по характерному для
членов подобных классов взаимодействию с контекстами,
в которых они могут встречаться.
Подобные выводы заставляют философов вспомнить
о «семантических типах» или даже «глубинной грамматике»
Витгенштейна. Но выделение криптотипов не должно
201
отталкивать даже самых консервативно настроенных
профессиональных лингвистов, поскольку критерии
установления криптотипов оказываются формальными.
Основное возражение, однако, вызывает утверждение
о том, что криптотипы значимы для любого говорящего
на своем родном языке, даже не имеющего лингвистического
образования. Уорф говорит о «чем-то вроде привычного
осмысления» (стр. 69), о «подсознательном, смутном,
неуловимом значении» (стр. 70), о «бесформенной идее» (стр. 71), а
«постепенном, более полном понимании... связующих
звеньев» (стр. 69) и т. д. Трудно, однако, поверить, чтобы
говорящий осознавал ту грамматическую классификацию, для
установления которой понадобились все знания и талант
Уорфа. Сомнительно, например, чтобы обычный человек,
говорящий по-английски, осознавал, что частица un-
может служить приставкой только для переходных
глаголов со значением «покрывать, заворачивать,
облекать», т. е. глаголов, конструирующих понятийный
прототип. Очевидно, у самого Уорфа это понятие должно
быть, поскольку ему удается его выразить; но
простой англичанин использует -un-, пребывая в
счастливом неведении. Здесь, я полагаю, Уорф совершает сшибку
лингвиста, приписывая говорящим, язык которых он
изучает, свои собственные взгляды ученого. Эвристическое
значение понятия криптотипа проявляется в том, что оно
позволяет сделать некоторые заключения, доступные проверке
(ср. анализ несуществующего глагола to flimmick на стр. 71);
все остальное здесь — чистейшее психологизирование.
2. Говорящий на своем родном языке обладает
определенной «систгмой понятий» для «организации опыта».
В основе этого лежит представление о некоей единой
целостности, условно, произвольно расчленяемой языком.
Уорф говорит о «сегментации природы» (стр. 240) и
«искусственном рассечении непрерывного потока сущего»
(стр. 253); он говорит: «мы расчленяем природу» (стр. 213,
214) и «мы расчленяем мир, организуя его в понятия»
(стр. 213), и все это «в основном потому, что родной язык
делает нас участниками определенного соглашения, а не
потому, что сама природа членится подобным, очевидным
для всякого образом» (стр. 240).
Проверим это на словах, обозначающих цвета. У нас
имеется лишь очень немного непроизводных названий для
обозначения миллионов оттенков цвета, различимых гла-
202
зом; другие языки выбирают совершенно иные
наименования цветов: в языке навахо английскому слову black
«черный» соответствуют два термина, a blue «синий» и
green «зеленый» объединены в один. (Тем не менее
индейцы навахо различают цвета ничуть не хуже нас!)
Перед нами, казалось бы, исключительно выигрышная
возможность подтверждения тезиса Уорфа; однако
применение его теории даже к этим бесспорным фактам только
запутывает дело. Терминология анатомического театра
(«разрезать», «расчленить», «вскрыть», «сегментировать»)
здесь неуместна; говорить — совсем не значит убивать,
с позволения Бергсона и других критиков анализа.
Расчленить лягушку — значит уничтожить ее, но, сколько
бы мы ни говорили о радуге, она остается неизменной.
Совсем иначе обстояло бы дело, если бы можно было
доказать, что от той или иной терминологии зависит
восприятие цвета, но где доказательства этому? Если же
рассматривать слова, подобные «сегментации», как
извинительную риторику, от всего тезиса Уорфа остается лишь
утверждение о произвольности классификации опыта.
Является ли расчлененность нашего словаря частным
или универсальным недостатком? Когда Уорф утверждает,
что все видят созвездие Большой Медведицы одинаково,
он как бы допускает, что язык иногда адекватен
действительности, но он склонен рассматривать этот случай как
исключительный; Млечный Путь является более удачным
подтверждением его метафизической теории, чем Большая
Медведица. Он присоединяется, сознательно или бессознательно,
к старой жалобе метафизиков на то, что любое описание —
всегда и неизбежно искажение. Здесь Уорф, подобно
многим другим, поддался распространенному заблуждению,
что функция речи заключается в воссоздании реальности.
Увы, даже самый лучший рецепт яблочного пирога съесть,
конечно, невозможно, но было бы странно считать это
недостатком рецепта»
Как может язык породить «систему понятий»? Если бы
мы приняли точку зрения, согласно которой наличие у
кого-либо понятия о чем-либо равносильно (в сжатой форме)
признанию существования у него взаимосвязанных
способностей различать предметы, по-разному на них
реагировать и в особенности говорить о них1, мы могли бы со-
1 H. Н. Price, Thinkirg and experience, London, 1953, p. 337—
357.
203
гласиться с тем, что «мышление — это функция (или одна
из функций?) в основном лингвистическая» (стр. 66). Но
наличие понятия никак нельзя прямо отождествить со
способностью употреблять соответствующее слово.
Мы должны признать, что существует гораздо больше
понятий (отдельных познавательных категорий), чем слов
для их выражения. Это с очевидностью явствует из примера
с названиями цвета. Даже если считать, что наличие тех
или иных символов и является существенным для
мышления, не следует тем не менее забывать о символах ad hoc,
неязыковых знаках и о других возможностях мыслить,
не прибегая к словам, зафиксированным в словаре.
Таким образом, выводы о мыслительных способностях,
построенные на основании словаря, всегда необоснованны.
Если наличие какого-либо слова в активном употреблении
подразумевает существование соответствующего понятия,
отсутствие слова, напротив, почти ни о чем не говорит.
Блестящий пример этому дает сам Уорф, констатируя, что
в языке хопи нет названия для kiva (стр. 205). Вряд ли
можно предположить, что у хопи отсутствует понятие
о «структуре, столь типичной для культуры пуэбло и столь
тесно связанной с их религией» (там же).
Если бы мы могли (но мы, как известно, не можем)
делать заключения о познавательных способностях по
данным словарного состава соответствующего языка, нам
следовало бы признать далее и то, что различные языки
отражают различные системы понятий. Общепризнанная
возможность перевода с любого языка на любой другой делает
предположение об относительности указанных систем
в высшей степени сомнительным.
Уорф больше всего интересуется тем, что можно было бы
назвать структурными понятиями и что, как правило,
выражается грамматически. Он всячески обыгрывает тот
факт, что предложение It is a dripping spring «это
падающий источник» (между прочим, очень странный пример)
передается в языке апачей совершенно иной конструкцией,
которую можно выразить примерно так: «Подобно воде
или источнику белизна движется вниз» (стр. 241). Уорф
добавляет: «Как это непохоже на наш образ мышления!»
Но где доказательства, что апачи мыслят иначе? Трудность
заключается в том, что гипостазированные Уорфом
структурные понятия так тесно у него связаны с
соответствующими грамматическими конструкциями, что их очень трудно
204
проверить с помощью экстралингвистических данных.
Наличие понятия предиката (для всех, за исключением
лингвиста или философа)—почти то же самое, что использование
языка, в котором обязательно употребление сказуемого, и в
результате мысль Уорфа сводится к тому, что нельзя
говорить правильно грамматически, не используя грамматики
конкретного языка. Это сильно отличается от утверждения,
что говорить правильно грамматически — значит
воссоздавать «действительность» в структуре, которая изоморфна
грамматике. Здесь Уорф снова совершает «ошибку
лингвиста».
3. Говорящий на своем родном языке имеет определенное
«мировоззрение», отражающее его отношение к вселенной.
Иными словами, каждый человек — философ. Каждый
язык кристаллизует «основные постулаты несформиро-
ванной философии» (стр. 61) и «скрывает МЕТАФИЗИКУ»
(стр. 58; прописные буквы, как в оригинале) *.
Я понимаю это так: каждый язык воплощает
определенный ряд общих категорий, применимых к вселенной, и ряд
онтологических положений, касающихся этих категорий.
Например, в английском языке 2, по Уорфу, существуют
категории «времени», «пространства», «субстанции» и
«материи» (стр. 138). Уорф утверждает, что мы «воспринимаем
бытие посредством двучленной формулы, которая выражает
все сущее как пространственную форму плюс бесформенная
пространственная непрерывность, соотносящаяся с формой
так же, как содержимое (sic) соотносится с формой
содержащего. Явления, не обладающие пространственными
признаками, мыслятся как пространственные и наделяются
теми же понятиями формы и протяженности» (стр. 147).
Быть может, Уорф хочет сказать, что основные категории
в английском языке — это либо «субстанция плюс
качество», либо «форма плюс материя», причем первая из
этих категорий применима в буквальном смысле к твердому
физическому телу с определенными очертаниями, а вторая —
1 «Грамматика содержит в кристаллизованной форме накопленный
и накапливаемый опыт, мировоззрение народа». (D. D. Lee,
Conceptual implications of an Indian language, журн. «Philosophy of science»,
т. V, 1938, стр. 89.) Анализируя язык племени уинту в Калифорнии,
автор статьи исходит из взглядов Уорфа.
2 Уорф считает, что и другие индоевропейские языки не отличаются
принципиально в метафизике от английского, и потому он подводит их
все под категорию SAE — Standard Average European, т. е. под
категорию некоего среднеевропейского языкового стандарта (стр. 138).
205
к осязаемому сосуду с жидким содержимым. Эти категории,
утверждает он далее, переносятся путем «распространения»
и «метафоры» на те случаи, к которым они в общем не
подходят, и в результате все наши описания имеют тенденцию
быть «опространственными» и «опредмеченными». [Наше
изложение ничуть не более туманно, чем у самого Уорфа,
хотя порою его можно понять в том смысле, что для него
дихотомия «форма плюс субстанция» (стр. 152)—это не
что иное, как «ньютоновские пространство, время и
материя» (стр. 152, 153).]
Обратимся теперь к «метафизике» хопи: здесь якобы
нет ни формально выраженной, ни скрытой категории
времени, нет здесь и «нашего обычного противопоставления
времени и пространства» (стр. 58); вместо этого имеются
«две большие космические формы, которые за отсутствием
лучших терминов мы пока можем назвать
ВЫЯВЛЕННОЙ (MANIFESTED) и ВЫЯВЛЯЕМОЙ
(MANIFESTING), или НЕОЧЕВИДНОЙ (UNMANIFEST), или
опять-таки ОБЪЕКТИВНОЙ и СУБЪЕКТИВНОЙ»
(стр. 59). Область «субъективного» включает то, что еще
только должно случиться, но понимается как нечто
«психическое», как нечто находящееся в стадии зарождения и
становления — в сфере волеизъявления и духовной
деятельности, охватывающей явления природы и животного мира,
а также и деятельности самого человека (стр. 62); область
«объективного» состоит из проявлений этой всеобщей
духовной деятельности в настоящем и прошлом (стр. 59). Хопи
осмысляют действительность главным образом как поток
событий (стр. 147): объективно он складывается из таких
непосредственно воспринимаемых признаков, как
очертания, цвета, движения (стр. .147), а субъективно из таких, как
«выражение невидимых факторов силы, от которой зависит
их незыблемость и постоянство или их непрочность и
изменчивость» (стр. 147). Что из всего этого понял бы обычный
индеец хопи? По всей вероятности, это ошеломило бы его
не менее, чем греческого крестьянина чтение Аристотеля.
На этом мы и закончим рассмотрение расхождений
между метафизикой языка хопи и метафизикой
«среднеевропейского языкового стандарта» и перейдем к отдельным
замечаниям.
Мысль о том, что язык навязывает говорящему
определенную философию, была превосходно сформулирована
Лихтенбергом: «Наша ложная философия находит свое
206
воплощение во всем нашем языке; мы не можем мыслить,
так сказать, не мысля неверно. Мы упускаем из виду то,
что о чем бы мы ни говорили, это уже само по себе
философия». Безусловно, мысль, казавшаяся привлекательной
столь различным ученым, как Гумбольдт1, Кассирер и
Витгенштейн, должна была содержать какое-то рациональное
зерно.
Крайним выражением этой точки зрения, с которой бы
Уорф не согласился, было бы утверждение о том, что язык—
лишь внешнее отображение независимого содержания и что
отношение между языком и содержанием подобно отношению
одеяния к телу, которое оно покрывает. На самом деле
речь — это часто неотъемлемая часть более широкой
деятельности, как убедительно показывает так называемый
«performatory language», о котором столько спорили. В этом
мы должны согласиться с Уорфом и Сепиром, но одно
простое отрицание того, что язык — это свободное,
отделимое одеяние для независимо существующей реальности,
является только программой и не дает пищи для каких бы то
ни было споров. Уорф идет гораздо дальше, утверждая,
например, что существует некая «имманентная метафизика»,
лежащая в основе английского и других европейских языков.
Рассмотрим пример того, как Уорф, отталкиваясь от
грамматики, делает выводы относительно метафизики,
лежащей в ее основе. Исходя из того, что в «нашем обычном
предложении» субъект якобы предшествует глаголу
(стр. 242), Уорф сразу же заключает, что «мы, следовательно,
привносим действие в каждое предложение, даже в
предложение типа I hold it «Я держу это» (стр. 243). И далее:
«Мы воспринимаем его мысленно и даже зрительно как
действие, потому что язык формулирует это выражение
так же, как он формулирует и многие другие предложения,
например I strike it «Я ударяю по чему-либо», имеющие
дело с реальными действиями и изменениями» (стр. 243).
Но что значит «ввести» действие в предложение? Значит
ли это что-либо помимо того, что мы используем переходный
глагол? Одним из формальных признаков «действия» в
узком смысле этого слова является возможность
добавления к глаголу какого-либо определителя: можно «ударять»
1 Ср. Harold Basilius Neo-Humboldtian ethnolinguistics, журн.
«Word», т. VIII, 1952, стр. 95-105. В этой полезной статье
рассматриваются некоторые сходные теории.
207
(если мы продолжим пример Уорфа) медленно, рывком,
энергично и т. д. Итак, если бы кто-нибудь употребил эти
же наречия с глаголом to hold «держать», это было бы
достаточным свидетельством «введения» действия в глагол.
Я думаю, что ребенок мог бы сказать, что он «держит свою
шляпу медленно»; подобная вольность была бы
позволительна также поэту, но в других случаях смешение данных
понятий слишком нелепо, чтобы его можно было совершить.
Еще больше сомнений вызывают некоторые более
общие положения о несформулированной метафизике. Уорф
говорит, что мы «объективизируем» наше «ощущение
времени и цикличности», и поясняет: «Я бы назвал его (наше
понятие времени) «объективизированным», или
воображаемым, поскольку оно построено по моделям
внешнего мира. Именно это отражает наше употребление»
(стр. 139—140). И опять: «Понятие времени утрачивает
связь с субъективным восприятием «становящегося более
поздним» и объективизируется как «исчисляемые
количества», т. е. как отрезки, состоящие из отдельных
величин, в частности длины, так как длина может быть
реально разделена на дюймы. «Отрезок времени» мыслится в
виде ряда одинаковых единиц, подобно, скажем, ряду
бутылок» (стр. 140).
Но что значит «объективизировать»? Подразумевается
ли под этим что-либо, кроме того, что мы используем такие
слова, как «долгий» и «краткий», применительно к отрезкам
времени? Предполагается, что объективизация проявляется
в нашем интересе к точной фиксации событий, к
вычислениям и к истории (стр. 153). Но если это так, то
«объективизация» значит нечто совсем иное. Сомневаюсь, чтобы можно
было даже отдаленно представить, что значит «оперировать
временем как пространством». Сомневаюсь, чтобы эта фраза
имела какое-либо определенное значение для Уорфа или
его читателей.
Уорф признает, что нет заметной разницы в поведении
людей, говорящих на языках разного грамматического
строя: «Язык хопи позволяет объяснить и точно описать
в прагматическом или практическом смысле все явления,
наблюдаемые во вселенной» (стр. 58). Я полагаю,
следовательно, что индейцы хопи могут разграничивать,
измерять периоды времени и устанавливать даты, так что, даже
если и справедливо замечание Уорфа о том, что «в языке
хопи нет указания на время, ни на выраженное, ни на скры-
208
тое» (стр. 58), вполне вероятно, что понятие времени хопи
ничуть не отличается от нашего. Разумеется, многое зависит
от того, что понимать здесь под термином «скрытый»: если
индейцы этого племени действительно обходятся без какого
бы то ни было указания на время, было бы любопытно
узнать, как это им удается.
Дело в том, что метафизическая теория, которую Уорф
усматривает в языке,— это совсем не «наивное и
несформулированное мировоззрение» непосвященного, а изощренные
построения метафизика. Отбросив все надуманные
построения самого Уорфа, мы увидим, что философия, которую
он обнаруживает у «среднего стандартного европейца»,
поразительно похожа на одну из версий «Принципов»
Ньютона. Если вообразить, что именно такова философия,
которая лежит в основе западноевропейских языков и
которую остается лишь выразить и сформулировать ученым,
то почему же тогда Декарт — тоже «средний стандартный
европеец» — пришел к совершенно иной философской
метафизической системе? Вряд ли могли воплощать единую
философию также и языки Юма и Гегеля.
4. Основа лингвистической системы в известной мере
определяет связанную с ней систему понятий и 5. В
известной мере предопределяет связанное с ней
мировоззрение. Я счел нужным употребить выражение «определяет
в известной мере» в обоих случаях, хотя очень трудно
решить, к какому конечному выводу относительно указанных
соотношений пришел сам Уорф. В одном из часто
цитируемых мест он отрицает существование прямой
«корреляции» между языком и культурой (стр. 139) и настойчиво
повторяет, что «существуют связи, но не корреляции или
прямые соответствия между нормами культуры и
моделями языка» (стр. 159). Но здесь же Уорф рассматривает
воздействие лингвистических явлений на такие частные
стороны культуры, как охота (стр. 139) или «существование
Главного Глашатая» (стр. 159). Утверждая, что «идея
корреляции между языком и культурой (если понимать
корреляцию в обычном смысле слова) несомненно ошибочна»
(стр. 139), он рассматривает культуру как совокупность
наблюдаемых обычаев и институтов. Однако, говоря о
связи с «привычным мышлением», он настойчиво проводит
мысль о существовании более тесных уз между языком
и мышлением: язык «навязывает» нам «осмысленные
противопоставления» (стр. 55); наши основные категории —
14 Заказ №116
209
это «создания» языка (стр. 162); наши мысли неизбежно
«контролируются» (стр. 252) «неумолимой системой»
(стр. 257) и т. д.
Выше я уже высказал свои возражения против того, что
Уорф отождествляет «систему понятий» и «мировоззрение»
с языком, в котором они нашли свое выражение,
продолжая вместе с тем, как это ни странно, считать их
различными явлениями. Не удивительно поэтому, что он
приходит к мысли о «неизбежности» подобной связи: если
«мышление» определяется как один из аспектов «языка»,
то из этого логически неизбежно вытекает наличие связи
между ними.
6. Мир предстает перед нами как «калейдоскопический
поток впечатлений» (стр. 213). Этот «поток впечатлений»
поразительно похож на «поток мыслей» Джеймза. Уорф
находится во власти представления о «сыром опыте» (стр.
102), «более широком, чем опыт языка» (стр. 149), опыте,
в котором все — движение и изменчивость и даже
противопоставления прошлого и настоящего еще нет: «Анализируя
сознание, мы найдем не прошедшее, настоящее и будущее,
а сложный комплекс, включающий в себя все эти понятия.
Все есть в сознании, и все в сознании существует, и
существует нераздельно» (стр. 143—144). Подлинным временем
нашего сознания является становление. «Реальное время
отражается в нашем сознании тогда, когда все в сознании
[глобальная нераздельность опыта] «становится позднее»
(getting later) и определенные отношения становятся
необратимыми» (стр. 144).
Несомненно, бесполезно оспаривать нарисованную
картину: настаивать на непрерывности и текучести опыта
непредосудительно, но бесплодно, поскольку при этом ничто не
отрицается. Необоснованно, однако, делать из этого вывод
о том, что привычное определение времени и установление
временных отношений всегда сопряжено с фальсификацией.
Когда Уорф утверждает, что «если десять дней
рассматривать как некую группу», то это обязательно
«воображаемая, созданная мысленно группа» (стр.139), он, очевидно,
исходит из того, что логика исчисления требует
одновременного существования исчисляемых предметов. Самое
большее, что мы можем сказать в защиту философии Уорфа,
это то, что при всей ее дилетантской незрелости она не
хуже многих других философских систем, пользовавшихся
не меньшим успехом.
210
К тому же Уорфу удается в конце концов изложить свои
философские взгляды. Описывая «более глубокие процессы
сознания», по отношению к которым язык — это «только
внешнее украшение» (стр. 239), он опровергает свое
собственйое утверждение о том, что ни один человек
не может описывать природу совершенно беспристрастно
(стр. 239). Перед нами обычный парадокс — все общие
теории относительности истины сами неизбежно оказываются
тенденциозными и ошибочными. Создатели теории обычно
претендуют на привилегированное положение — у Уорфа
это находит отражение в высказанной им надежде на то,
что лингвист, «знакомый со многими столь различными
языковыми системами» (стр. 214), будет лишен какой бы то
ни было предвзятости, свободен от влияния метафизики
какого бы то ни было языка. Но если лингвистические
занятия Уорфа привели его к Бергсону, которого он, вероятно,
читал по-французски, можно себе представить, что индеец
хопи, читающий по-гречески, придет в восхищение от
Аристотеля и его субстанции как основы действительности.
Метафизическая философия Уорфа предоставляет в его
распоряжение некий «эталон, критерий для всех
исследователей независимо от их языка и научной терминологии»
(стр. 163), позволяющий ему оценивать языки только с точки
зрения их относительной онтологической адекватности.
Как ни странно, он приходит к восхвалению языка, в
котором невозможно выразить существительным понятие
«волна» на том основании, что этот язык якобы «в данном
отношении ближе к действительности» (стр. 262). Он также
утверждает, что язык хопи больше подходит для физики,
чем европейские языки. Но если бы даже Уорфу пришлось
полностью отказаться от метафизики на том основании, что
все системы понятий, в том числе и его собственная,
неизбежно относительны, его положение вряд ли бы ухудшилось,
так как он снова мог бы попытаться доказать свою любимую
относительность уже с помощью межъязыковых
сопоставлений. Это аналогично установлению относительности
геометрических систем вне зависимости от предполагаемого
абсолютного и негеометрического знания пространства. Впрочем,
подобные межъязыковые сопоставления понадобятся в любом
случае, поскольку обращение к сомнительной онтологии не
освобождает ученого от необходимости тщательного
изучения различия грамматических структур. Отказ от
метафизических построений имел бы и то дополнительное преиму-
14*
211
щество, что в результате стал бы возможным обмен мнений
между учеными, которых нужно еще долго убеждать в
превосходстве бергсонианства.
Наш разбор взглядов Уорфа слишком затянулся, и мы
можем на этом закончить, поскольку об основных
противоречиях позиции Уорфа было сказано достаточно. На
протяжении всей статьи меня особенно интересовало, насколько
взгляды Уорфа были обусловлены его философской
концепцией. С моей стороны было бы слишком самонадеянным
вторгаться в область, которая внушает страх столь многим
лингвистам, если бы философия здесь не переплелась так
тесно с лингвистикой. Своими отрицательными выводами
мне не хотелось бы создать впечатления о том, что работы
Уорфа не представляют большой ценности. Как это часто
бывает в истории мысли, самые спорные взгляды
оказываются самыми плодотворными. Сами ошибки Уорфа
гораздо интереснее избитых банальностей более осторожных
ученых.
ГЛОССЕМАТИКА
ГЛОССЕМАТИКА И ЛИНГВИСТИКА
1
Формирование принципов глоссематики как
самостоятельного направления среди методических течений в
современном зарубежном языкознании относится к последним
трем десятилетиям. В начале 30-х годов несколько датских
языковедов организовали «фонологическую группу»,
которая выступала (в частности, в 1935 г. на 2
международном фонетическом конгрессе в Лондоне) как представитель
«фонематики». Несколько позднее, с тем чтобы подчеркнуть
независимость новой лингвистической теории от
традиционного языкознания (под которым понималось все
предшествующее развитие науки о языке), ей было присвоено имя
«глоссематики» (от ?????? «язык»).
Глоссематика — очень ограниченное по своему составу
лингвистическое направление. После ранней смерти одного
из участников этого направления К. Ульдалля единственным
теоретиком (и фактически создателем) глоссематики
оказался профессор Копенгагенского университета Луи Ельм-
слев. Ему принадлежит значительное количество статей,
посвященных изложению отдельных вопросов его
лингвистической теории1, а также обобщающий труд «Основы
лингвистической теории» («Omkring Sprogteoriens
Grundleggelse»), опубликованный в 1943 г. Неширок и круг Языкове-
1 Перечисление основных работ Л. Ельмслева дается в
примечании к нижеследующей работе А. Мартине (см. стр. 439—440). К ним
следует добавить более поздние работы: «La notion de rection» («Acta
linguistica», 1959, vol. I); «Langue et parole» (Cahiers Ferdinand de
Saussure, II, 1942); «Structural analysis of language» («Studia linguistica», I,
1947); «Le verbe et la phrase nominale» (Melanges Marouzeau, Paris, 1948);
«La strafication du langage» («Word», 1954, vol. 10, № 2—3); «Anime et
inanime, personnel et nonpersonnel» («Travaux de l'institut de
linguistique», I. Paris, 1956); «Dans quelle mesure les significations des mots
peuvent-elles etre considerees comme formant une structure?» (Proceedings
of the Eight international congress of linguists, Oslo, 1958).
215
дов, жалующих глоссематику; он включает главным образом
лингвистов скандинавских стран. И надо сказать, что вся
их деятельность ограничивается лишь общими
декларативными заявлениями: вроде того, которое делает Пауль
Дидерихсен. «Для меня,— пишет он 1,—нет никакого
сомнения в том, что во всех основных положениях я должен
опираться на теорию языка Луи Ельмслева, не только
потому, что я лучше всего ее знаю, но также и потому,
что она содержит ряд оригинальных идей, которые, как
кажется, бросают новый свет на ряд проблем,
рассматривающихся в логической семантике». Но крайне редко
идеи Л. Ельмслева находят практическое применение.
Фактически в этом плане все ограничивается
единственной книгой Knud Togeby, Structure immanente de
la langue francaise, которую, однако, нельзя признать
удачной 2.
Следует также отметить, что даже самые благосклонно
настроенные по отношению к Л. Ельмслеву лингвисты
вынуждены в конце концов констатировать малую пригодность
его теории для науки о языке. «Когда постигнешь
«Пролегомены»,— пишет, например, П. Гарвин 3,— получаешь
эстетическое удовольствие. Но, с другой стороны,
полезность этой работы для конкретного лингвистического ана-
1 Р. Diderichsen, Semantiske problemer i logik og lingvistik,
1953, p. 249—250. См. также материалы симпозиума «Betydnings
problemer» под ред. Mogens Blegvad (Akademisk Forlag., Oslo).
2 См. рецензию А. Мартине на эту книгу в журн. «Word», vol. 9,
1953, p. 78—82. В самое последнее время вышла основанная на идеях
Л. Ельмслева книга H. Sorensen, Word — classes in modern
English, 1958.
3Cm. P. Garvin в рецензии на «Prolegomena to a theory of
language», помещенной в «Language», 1954, vol. 30, №1, p. 95. Среди
прочих рецензий следует выделить следующие: Е. Fische
г—Jorgensen в «Nordisk tidsskrift for tale og stemme», 1944, vol. 7; E.
Haugen в «International journal of American linguistics», 1954, vol. 20,
№ 3; H. Vogt, «Acta linguistica», 1944, vol. 4; C. E. Bazell,
«Archivum linguisticum», 1949, vol. I; Характер общего обозрения и оценки
глоссематики носят статьи: L. Hammerich, Les glossematistes
danois et leurs methodes, «Acta philologica scandinavica», 1950, vol. 21,
p. 1—21; F. Hintze, Zum Verhaltnis der sprachlichen «Form» zur
«Substanz», «Studia linguistica», 1949, vol. 3, p. 86—105; V.
Skalicka, Kodansky Strukturalismus a prazska skola, «Slovo a slovesnost»,
1948, vol. 10, p. 135—142; J. Vachek, Written language and printed
language, «Recueil linguistique Bratislava», I, 1948; C. Borgstrom,
The technique of linguistic description, «Acta linguistica», vol. V
1945—1949.
216
лиза отнюдь не представляется очевидной». Чрезвычайно
характерным для отношения к Л. Ельмслеву языковедов
даже структуралистского толка является и тот разбор его
основной работы, который делает А. Мартине во
включенной в настоящий сборник статье.
Однако, несмотря на это, глоссематика занимает видное
место в современном зарубежном языкознании, очевидно,
потому, что она включается в общую тенденцию развития
многих гуманитарных и точных наук. Глоссематике уделяется
немало внимания и в теоретических работах по вопросам
общего языкознания. Голландская лингвистка Б. Сиертсема
уже дала ее монографическое описание1. Глоссематика
является предметом многочисленных рецензий, значительная
часть которых появилась в связи с опубликованием в 1953 г.
основной работы Л. Ельмслева на английском языке (под
названием «Prolegomena to a theory of language»), что
сделало ее доступной более широкому кругу читателей. По сути
дела глоссематика является одним из ведущих направлений
в современном зарубежном языкознании; она синтезирует
положения, догадки и идеи, разбросанные по
многочисленным работам различных авторов, в единую и
последовательно изложенную концепцию. Уже одно это обстоятельство
требует обязательного знакомства с нею и оправдывает
перевод работы Л. Ельмслева на русский язык.
Не следует думать, что Л. Ельмслев и его глоссематика
неизвестны советскому читателю. Л. Ельмслев сам
позаботился об этом и одну из своих статей с кратким
изложением своей теории опубликовал на русском языке 2.
Косвенно или прямо глоссематика трактуется и в ряде
советских работ и, за редким исключением, вызывает к себе
отрицательное отношение. Нередко при этом глоссематика
отождествляется со структурализмом в целом, что является
неправомерным и чрезвычайно запутывает оценку
достижений и недостатков зарубежного языкознания.
Непосредственное обращение к основному труду по глоссематике,
несомненно, позволит определить правильные внутренние
отношения между отдельными течениями сторонников
структурального подхода к изучению языка, что является
1 В. Siertsema, A study of glossematics. Critical survey of its
fundamental concepts, The Hague, 1955.
2 «Метод структурного анализа» («Acta linguistica», 1950—1951,
vol. VI, №2-3). Воспроизведена в «Хрестоматии по истории
языкознания XIX и XX вв.», составленной В. А. Звегинцевым, Учпедгиз, 1956.
217
дополнительным доводом в пользу перевода данной работы
на русский язык.
В настоящем издании за работой Л. Ельмслева следует
первая часть работы К. Ульдалля «Основы глоссематики»
(кстати говоря, трудно установить, в какой мере эта книга
является произведением самого Ульдалля, а не совместной
работой с Л. Ельмслевом). Работа Ульдалля написана
много лет назад1, но вышла в свет только в 1957 г. Она
представляет собой попытку глоссематики вырваться на
более широкие «стратегические просторы» общей теории
науки и интересна главным образом с этой стороны. Таким
образом, работа Ульдалля как бы дорисовывает картину
теоретических возможностей глоссематики и ее научных
притязаний.
2
Каковы гносеологические корни лингвистической
теории Л. Ельмслева и какое место занимает она в ряду
других Щкол и направлений, в частности тех, которые
ориентируются на структуральный принцип исследования?
Ответ на эти вопросы поможет нам приблизиться к
пониманию и правильной оценке глоссематики.
Сам Л. Ельмслев многократно указывал на свою
зависимость от лингвистической концепции Ф. де Соссюра,
которого он называет основоположником современного
языковедения. Но его не удовлетворяет известная
непоследовательность женевского лингвиста, создавшая
предпосылки для развития таких далеко не тождественных
явлений, как глоссематика и Пражский лингвистический
кружок, которые основываются на одном и том же соссю-
ровском наследии. При всех своих противоречиях взгляды
Соссюра представляли все же единую научную систему,
которая основывалась на реальных языковых фактах и
исходила из непосредственного их наблюдения. Именно
поэтому лингвистическая концепция Соссюра смогла оказать
мощное влияние на последующее развитие лингвистической
теории и нашла широкое применение в практике
лингвистического исследования, хотя воплощалась при этом
и не в одинаковые конкретные рабочие приемы. Иными
1 Первый очерк этой работы дан в докладе Л. Ельмслева и
К. Ульдалля, Synopsis of an outline of glossematics, опубликованном
в «Humanistisk Samfunds Skrifter», I.
218
словами, теория Соссюра всегда оставалась
лингвистической теорией, пригодной для изучения
реальных языков. Л. Ельмслев поставил своей целью сделать
теорию Соссюра максимально последовательной. К этому же
стремились и пражские языковеды. Но каждое из этих
направлений ориентировалось на разные элементы системы
научных взглядов Соссюра, почему они пришли к
неодинаковым результатам. Л. Ельмслев отбросил положение о
социальной природе языка, являющееся одним из
краеугольных камней концепции Соссюра, о материальном
характере фонем и порвал все связи с действительностью.
Он исключил те компоненты системы Соссюра, которые
связывали ее с языковой реальностью, и сохранил только
те, которые освобождали исследователя от необходимости
ориентироваться на эту реальность. Л. Ельмслев
постарался сделать крайние логические выводы из проведенного
Соссюром разграничения языка и речи. Он сосредоточил
свое внимание на разработке положений Соссюра о языке
как системе ценностей и форме, а не субстанции. Следует
признать, что в результате в логическом отношении
получилась действительно более последовательная система,
однако очень далекая от потребностей лингвистического
исследования. Новую, логически правильную систему
можно рассматривать как чрезвычайно одностороннюю
интерпретацию соссюровской концепции языка, но,
пожалуй, больше оснований согласиться с Л. Ельмслевом и
признать ее в значительной мере оригинальным
образованием. «... Я считаю нужным подчеркнуть,— пишет в этой
связи Л. Ельмслев,— что не следует отождествлять теорию
глоссематики с теорией де Соссюра. Трудно сказать, как
в деталях оформлялись концепции де Сосюра в его мыслях,
а мой собственный теоретический метод начал оформляться
много лет тому назад, еще до моего знакомства с теорией
де Соссюра. Повторное чтение лекций де Соссюра
подтвердило многие из моих взглядов, но я, конечно, смотрю на
его теорию с своей собственной точки зрения»1.
Автономность своей лингвистической теории сам
Л. Ельмслев ограничивает тем, что включает ее в один
круг направлений, ведущих изучение языка со
структуральных позиций. Он является одним из самых горячих
1 «Метод структурного анализа в лингвистике». Цит. по
«Хрестоматии по истории языкознания XIX и XX вв.», стр. 423.
219
и красноречивых защитников структурализма в
языкознании. «Нет надобности говорить о тех выводах, которые
вытекают из применения структурального метода в
лингвистике,— пишет он в одной из своих статей 1.— Достаточно
указать, что лишь благодаря структуральному методу
лингвистика, окончательно отказавшись от субъективизма
и неточности, от интуитивных и глубоко личных
заключений (в плену у которых она находилась до самого
последнего времени), становится способной превратиться,
наконец, в подлинную науку... Как только лингвистика станет
структуральной, она превратится в объективную науку».
Подобного рода выступления в пользу
структурального подхода к изучению языка и дают повод к тому, чтобы
рассматривать структурализм как единое направление. Но
есть ли для этого действительные основания?
В различных разветвлениях лингвистического
структурализма можно выявить идентичные положения,
выступающие, правда, в неодинаковом терминологическом обличье
(последнее обстоятельство, кстати говоря, весьма
затрудняет знакомство со структуралистскими работами 2). Так,
то, что у Л. Ельмслева описывается под именем
синкретизма, в значительной степени соответствует
нейтрализации пражских языковедов (на фонематическом уровне
они говорят в этом случае об архифонеме). Л. Ельмслев
вводит термин коммутации для процедуры, которая иными
структуральными направлениями используется для
отождествления структурно релевантных признаков. Инвариант
и вариант в глоссематике чрезвычайно напоминают фонему
и аллофон (или соответственно морфему и алломорфу) в
дескриптивной лингвистике. Подобных совпадений не только
отдельных понятий и положений, но и в самой процедуре
исследования языкового материала можно установить
довольно много3. Но все же не они решают дело и никак не
дают оснований для того, чтобы признать за
структурализмом методическое и методологическое единство и в согласии
1 «La notion de rection», «Acta linguistica», 1939, vcl. I, p. 11.
2 A. Мартине прав, когда в этой связи пишет: «Кто хочет
ознакомиться со структуральными исследованиями во всей их совокупности,
должен привыкнуть к различной и часто противоречивой
терминологической практике» («Structural linguistics» в «Anthropology today»,
Chicago, 1953, p. 576)
3 Об этих совпадениях говорит в своей рецензии П. Гарвин
(«Language», 1954, vol. 30, № 1) и А. Мартине в статье «Structural linguistics»
(«Anthropology today», Chicago, 1953).
220
с этим выносить суждение о стуктуральном направлении
в лингвистике в целом на основании знакомства, например,
только с работами Л. Ельмслева. Для того чтобы найти
такое единство, необходимо обратиться к более общим
критериям, что и пытается сделать А. Мартине, постулируя,
что структуралистом является всякий языковед, для кого
характерно понимание языка как особой структуры1.
Но на основании зтого признака у него в структуралисты
угодил Э. Сепир и, видимо, есть все основания включить
в их число также и Ф. Ф. Фортунатова. Если в первые
периоды становления лингвистического структурализма
(когда о нем говорилось в таких общих выражениях, какие мы
находим, например, в статье В. Брёндаля «Структуральная
лингвистика» 2) существовала какая-то видимость единства,
то очень скоро центробежные силы, обусловленные разной
методологической ориентацией, разбили это единство. Это
в сущности признает и А. Мартине, когда он пишет: «Если
среди рядов структуралистов и существует полное
единство, мы можем все же ожидать разногласия во многих
областях, и в качестве убежденного структуралиста автор
настоящих строк позволяет себе заявить, что это было бы
здоровой реакцией против научного тоталитаризма. Но,
конечно, такого единства нет. Многие лингвисты говорят
о структуре, но единство взглядов относительно того, что
же фактически представляет собой лингвистическая
структура, встречается редко»3. Немало свидетельств
расхождения структуральных направлений содержат и «Основы
лингвистической теории» Л. Ельмслева, в частности,
в своих критических замечаниях, направленных против
пражских языковедов. Другие структуралистские
направления также постарались провести подобного же рода
внутреннее размежевание. В Пражском лингвистическом кружке
это сделал Владимир Скаличка, который заключает свой
основательный разбор расхождений с Л. Ельмслевом
словами: «Ясно, что взгляды Ельмслева значительно
отличаются от взглядов пражских лингвистов»4. В дескриптив-
1 См. третью главу его книги «Принцип экономии в фонетических
изменениях», русск. перев., М., 1960, стр. 89—90.
2 См. «Acta linguistica», vol. I, fasc. I, 1939.
3 «Structural linguistics», «Anthropology today»,Chicago, 1953, p. 575.
4 V. Skalicka, Kodansky structuralismus a «prazska skola»,
«Slovo a slovesnost», 1948, т. X, № 3. См. также Б. Tpнка и др.,
К дискуссии по вопросам структурализма, «Вопросы языкознания»,
№ 3, 1957.
221
ной лингвистике эта работа выпала на долю 3. Хэрриса1.
И если в различных направлениях лингвистического
структурализма обнаруживаются сходные положения и
понятия, то они тождественны в такой же степени, в какой
тождественны звуки а или e одной фонологической системы
звукам а или e другой фонологической системы. Эти сходные
положения выступают в контексте разных лингвистических
теорий, занимают в них различное место, имеют разные
внутренние связи и отношения, почему и получают далеко
не равнозначный смысл.
Разумеется, дело не следует представлять таким
образом, что теория Л. Ельмслева выросла в абсолютно пустом
пространстве, вне всяких связей с современным
языкознанием. Выше уже отмечалась частичная зависимость
глоссематики от лингвистической концепции Соссюра. Не
подлежит сомнению, что Л. Ельмслев достаточно широко
использовал выводы и результаты исследований многих
других современных языковедов. Но он произвел
отбор теоретических положений под определенным углом
зрения, связал их в глубоко продуманную и логически
стройную систему и дал им определение в терминах этой
системы.
Где же искать ключ к пониманию его системы, с какой
стороны лучше всего подходить к оценке теории языка
Л. Ельмслева?
А. Мартине в своей статье о структуральной
лингвистике и ее разветвлениях пишет: «Конечно, различные
философские позиции много способствовали тому, чтобы придать
каждому движению его первоначальный уклон. Но за
возможным исключением бихейвиоризма в случае с
Блумфилдом было бы опасно и неправомерно отождествлять
каждое из структуральных направлений с определенной
школой психологии или логики »2. Глубоко ошибочное
утверждение, и особенно по отношению к глоссематике!
Подобного рода позиция приводит к тому, что анализ
лингвистической теории Л. Ельмслева скользит только по ее
поверхности, задерживаясь на отдельных деталях и теряясь
в непроходимой чаще сложных определений и необычных
1 См., в частности, его рецензию на книгу Н. Трубецкого
«Grundzuge der Phonologie» в журн. «Language», 1941, vol/17, p. 345—349.
2 «Structural linguistics» в «Anthropology today», Chicago, 1953,
p. 578.
222
терминов. А оценка ее в этом случае сводится к выражению
удивления по поводу того, что она проходит мимо
потребностей и нужд лингвистического исследования и довольно
часто вступает в прямое противоречие с языковым
материалом.
Между тем именно подход с философских позиций
объясняет многое в теории языка Л. Ельмслева и сводит его
сложные построения к сравнительно простым и
общепонятным формулам. Философская ориентация Л. Ельмслева
объясняет и причины той фатальной неудачи, которая
бесспорно постигла его теорию языка, несмотря на всю ее
подкупающую продуманность и логическую строгость,
действительно способные доставить эстетическое удовольствие
любителям отвлеченных построений.
Сделать это тем более легко и уместно, что сам Л. Ельм-
слев отнюдь не скрывает своих философских симпатий и
всячески подчеркивает философскую направленность своей
теории.
3
При создании своей теории Л. Ельмслев
руководствовался самыми добрыми намерениями, которые не могут не
поддержать все языковеды, искренне заинтересованные
в развитии своей науки. Его можно, пожалуй, упрекнуть
только в излишней самоуверенности. Л. Ельмслев поставил
перед собой едва ли выполнимую для одного ученого задачу
создания всеобъемлющей, авторитарной и нетерпимой до
отношению к иным системам взглядов теории языка,
оставив на долю последующих языковедов лишь ученическое
заполнение готовых ячеек и расписывание отдельных
элементов языка по заданным функциям и отношениям.
Однако и ад вымощен добрыми намерениями, а в науке
важны не столько благие порывы, сколько действительные
свершения. И именно на основании последних следует
давать оценку работе ученого.
«Пролегомены» Л. Ельмслева в основном распадаются
на три части. В каждой из них рассматривается
определенная проблема таким образом, что каждая последующая
исходит из предпосылок предыдущей. В первой части
(разд. 1—9) излагаются общие критерии теории языка, во
второй (разд. 10—20) — специфика лингвистической
теории и в третьей (разд. 21—23) — отношение языка к
неязыку. Все философские предпосылки (определяющие по-
223
следующее изложение) содержатся в первой части, в ней,
следовательно, заключен ключ к пониманию всей работы
и ее теоретической установки, поэтому из нее и надо
исходить.
Л. Ельмслев начинает первую часть с перечисления ряда
часто справедливых упреков в адрес традиционной
лингвистики, которая, с его точки зрения, является скорее
филологией, чем лингвистикой, и поэтому (как и все прочие
гуманитарные науки) приближается в большей мере к
поэтическому творчеству, чем к точной науке. Она глубоко
субъективна и по этой причине не обладает единым научным
принципом исследования. Она цепляется за случайные
и преходящие явления, опуская постоянное в языке. Она —
трансцедентна в том смысле, что сосредоточивает свое
внимание не на самом языке, но на явлениях, хотя и связанных
с языком тем или иным образом, но находящихся за его
пределами. Научное же языкознание должно быть не транс-
цедентно, а имманентно. Л. Ельмслев пишет в этой связи:
«То, что составляло главное содержание традиционной
лингвистики — история языка и генетическое сравнение
языков — имело своей целью не столько познание природы
языка, сколько познание исторических и доисторических
социальных условий и контактов между народами, т. е.
знание, добытое с помощью языка как средства... В
действительности, мы изучаем disiecta membra, т. е. разрозненные
части языка, которые не позволяют нам охватить язык как
целое. Мы изучаем физические и физиологические,
психологические и логические, социологические и исторические
проявления языка, но не сам язык» (разд. 1).
Добрые намерения Л. Ельмслева находят свое
выражение в том, что он стремится освободить лингвистику от всех
этих недостатков. В своем принципе путь, избранный для
этого Л. Ельмслевом, правилен. Знания о языке,
накопленные лингвистикой на протяжении ее истории,
добывались на основе далеко не одинаковых методологических
предпосылок, и в нынешней своей совокупности являют собой
довольно пестрый конгломерат различных философских,
психологических, собственно языковых и иных
представлений. Поэтому первейшей и самой неотложной задачей
науки о языке является переориентировка метода
лингвистического исследования, независимо от того, к какой
области языка он применяется, на единые методологические
основы. Однако сам выбор методологических основ (т. е.
224
философской позиции, определяющей подход к изучению
соответствующих явлений) у Л. Ельмслева глубоко
ошибочен. Порочность же методологических основ глоссематики
обусловила те ее очевидные просчеты чисто
лингвистического характера, на которые, как правило, только и
обращают внимание языковеды, критикующие теорию языка
Л. Ельмслева.
Вот как сам Л. Ельмслев определяет исходные
философские позиции своей теории: «Структурный метод в
языкознании (под ним Л. Ельмслев разумеет только
глоссематику.— В. 3.) имеет тесную связь с определенным научным
направлением, оформившимся совершенно независимо от
языковедения и до сих пор не особенно замеченным
языковедами, а именно с логистической теорией языка, вышедшей
из математических рассуждений и особенно разработанной
Уайтхэдом и Бертраном Расселом, а также венской
логистической школой и специально Карнапом — в настоящее
время профессором Чикагского университета, последние
работы которого по синтаксису и семантике имеют
неоспоримое значение для лингвистического изучения языка»1.
Иными словами, философскую основу лингвистической
теории Л. Ельмслева составляет логический позитивизм.
Он характеризуется тем, что совершенно обходит критерий
практики, в которой осуществляется единство
материального бытия и сознания, в результате чего фактически
снимается вопрос об адекватности познания. Его метод
базируется на чистом ковенционализме, основывающем свои
формальные построения на условных (операционалистских)
определениях, никак не соотносимых с реальностью. Это
приводит к полной независимости формы от субстанции и
к очевидному субъективизму, поскольку операционалист-
ские определения могут приниматься априорно, до того
как исследователь приступает к анализу. Наконец, в силу
того, что процедура анализа устанавливается заранее и
1 «Метод структурного анализа в лингвистике». Цит. по
«Хрестоматии по истории языкознания XIX и XX вв.», составленной В. А. Зве-
гинцевым, Учпедгиз, 1956, стр. 423. Ср. также следующее высказывание
П. Дидерихсена: «Я надеюсь, мой реферат показал, что логика и
лингвистика являются еще автономными науками, но что они именно в
семантике находят общую пограничную область, которая требует, чтобы обе
дисциплины в совместной работе согласовывали друг с другом методы,
терминологию и точки зрения» («Semantiske problemer i logik og
lingvistik», 1953, p. 278).
15 Заказ № 116
225
обусловливается системой условных определений, все
качества исследуемого (анализируемого) объекта оказываются
зависимыми и производными лишь от процедуры анализа.
С редкой последовательностью Л. Ельмслев переносит все
эти положения логического позитивизма в общие
критерии излагаемой им теории языка. Вот каковы основные
предпосылки, на которых он строит свою теорию.
«Лингвистическая теория, интересующаяся
специфической структурой языка и исходящая исключительно из
формальной системы предпосылок, не должна придавать
исключительного значения отклонениям и изменениям в
речи, хотя и вынуждена принимать их во внимание; она
должна искать постоянное, не связанное с какой-либо
внеязыковой «реальностью...». Когда это постоянное
найдено и описано, оно может быть спроецировано на
„реальность вне языка"» (разд. 2).
«Теория в нашем смысле сама по себе независима от
опыта. Сама по себе она ничего не говорит ни о возможности
ее применения, ни об отношении к опытным данным. Она
не включает постулата о существовании» (разд. 5).
«...экспериментальные данные не могут усилить или
ослабить теорию, они могут усилить или ослабить только
ее пригодность» (разд. 5).
«Таким образом, лингвистическая теория единовластно
определяет свой объект при помощи произвольного и
пригодного выбора предпосылок. Теория представляет собой
исчисление, состоящее из наименьшего числа наиболее
подходящих предпосылок, из которых ни одна предпосылка,
принадлежащая теории, не обладает аксиоматической
природой» (разд. 5).
«Целесообразно придать строго формальный и в то же
время эксплицитный характер определениям, которые
предпосланы другим определениям и которые из них вытекают.
Они отличаются от реальных определений, к которым до сих
пор стремилась лингвистика... Формальные определения
теории не стремятся исчерпать внутреннюю природу
объектов или же определить их внешне, со всех сторон, но
всего лишь связать их относительным образом с другими
объектами, аналогично определенными или
предпосланными в качестве основы. В некоторых случаях необходимо,
в ходе лингвистического описания, ввести в добавление
к формальным определениям операциональные
определения, играющие только временную роль» (разд. 8).
226
«Признание того факта, что целое состоит не из вещей,
но из отношений, и что не субстанция, но только ее
внутренние и внешние отношения имеют научное существование,
конечно, не является новым в науке, но может оказаться
новым в лингвистике. Постулирование объектов как чего-то
отличного от терминов отношений является излишней
аксиомой и, следовательно, метафизической гипотезой, от
которой лингвистике предстоит освободиться» (разд. 9).
Приведенные цитаты говорят сами за себя и не
требуют дополнительного комментирования. Однако
изложенные в них методологические предпосылки необходимо
постоянно держать в уме, чтобы понять, почему в своих
последующих выводах, составляющих собственно теорию
языка Л. Ельмслева, она в действительности проходит
мимо языка. Естественно, при этом не предполагается
дать полный и всесторонний анализ «Пролегомен» (эта
работа потребовала бы отдельной монографии, и такой
монографией, написанной, правда, с иных
методологических позиций, но содержащей ряд горьких для Л.
Ельмслева истин, является упомянутая выше книга Б. Сиерт-
семы). По необходимости придется остановиться только на
некоторых, имеющих наиболее принципиальный характер
положениях глоссематики.
4
Как указывалось, специфике теории языка в понимании
Л. Ельмслева посвящены разделы 10—20. Здесь
излагается процедура лингвистического анализа, даются его
основные понятия и определения и реализуется намерение
Л. Ельмслева создать такую теорию языка, которая
«должна быть полезна для описания и предсказания
любого возможного текста на любом языке» (разд. 6).
Поставленная Л. Ельмслевом задача достигается в
соответствии с вышеизложенными исходными предпосылками
ценой полной дематериализации и формализации языка.
Язык, который изучает лингвистическая теория
Л. Ельмслева, находится вне времени и пространства
подобно теореме Пифагора или алгебраическому
уравнению. Она намеренно закрывает глаза на тот факт, что язык
всегда располагается в двух взаимозависимых
измерениях — синхронии и диахронии. Глоссематика ищет в языке
постоянное, и поэтому учет изменений, вызванных эволю-
15*
227
эволюцией языка и отражающихся в изменениях системы языка,
только отвлек бы ее от выполнения этой задачи. Глоссе-
матика совершенно уклоняется и от того очевидного и
подтвержденного опытом всей истории человечества факта, что
язык способен выполнять свои функции только в
конкретной, так сказать всегда «видоизмененной» форме,
ориентированной на определенные социальные и исторические
условия. Это заставляет его находиться в вечном движении, что
признавал и Соссюр, указывавший на условность
статического (синхронического) истолкования языка. Едва ли
язык, отрешенный от формирующих его конкретное
качество исторических и иных факторов, может быть тем
языком, которому поет свою песнь песней Л. Ельмслев:
«Язык — первичная и самая необходимая основа
человеческого общества... До первого пробуждения нашего
сознания язык был нашим эхом, готовым отразить первый
нежный лепет нашей мысли и неразлучно сопровождать нас
повсюду, от простой, повседневной деятельности до
наиболее тонких и интимных мгновений... Язык не внешнее,
сопровождающее человека явление. Он глубоко
связан с человеческим разумом. Это — богатство памяти,
унаследованное личностью и племенем, бодрствующее
сознание, которое напоминает и предостерегает... Язык
настолько глубоко пустил корни в личность, семью, нацию,
человечество и саму жизнь, что мы иногда не можем
удержаться от вопроса, не является ли язык не просто
отражением явлений, но их воплощением — тем семенем, из
которого они выросли!» (разд. 1). Все эти замечательные
свойства и особенности языка Л. Ельмслев принес в жертву
абстрактной формуле, способной охватить не только все
прошлые и настоящие, но и будущие языки.
Но он идет еще дальше и фактически отнимает у языка
то, ради чего язык вообще существует — его
коммуникативное назначение. Это делается им в том разделе, который
повествует о знаках и фигурах (разд. 12).
Знак есть знак чего-либо, т. е. носитель значения. По
своей цели, признает Л. Ельмслев, язык является
знаковой системой, так как предназначен для передачи значения.
Однако это его назначение, по Л. Ельмслеву, есть только
внешняя функция, относящаяся к внелингвистическим
факторам, а по своей внутренней структуре язык — система
фигур, т. е. предельных элементов языка, лишенных
всякого значения (знаковой функции). Из ограниченного
228
числа фигур строятся разного рода языковые знаки —
морфемы, корни, слова, предложения.
На первых порах может показаться, что фигуры можно
уподобить фонемам, но это далеко не так. Хотя фонема сама
по себе не имеет значения, но она есть производное от
значения, поскольку ее выделение и описание ее признаков
(независимо от различия фонологических точек зрения)
осуществляется в соответствии с ее способностями служить
целям разграничения значения. Фигуры же находятся вне
всякой связи со значением. Кроме того, они выделяются
(и при этом совершенно независимо друг от друга) как
в плане выражения, так и в плане содержания (к слову
сказать, процедура выделения фигур в плане содержания
во многом остается неясной, а приводимые самим Л. Ельм-
слевом примеры только запутывают дело, так как легко
допускают иное толкование).
Всякое образование существует ради определенной
цели и ориентирует свою структуру, а также ее возможные
изменения на эту цель. Именно поэтому изучение любого
образования и его структуры всегда должно быть
соотнесено с его назначением. Если этого не придерживаться, то
изучение теряет всякий смысл. Оно становится изучением
ради процесса изучения, а не ради цели изучения (вроде
искусства ради искусства). Когда Л. Ельмслев посредством
сведения языка к системе фигур исключает из него значение,
он лишает язык его назначения, а изучение его —
практического смысла, которым обязательно в прямом или
косвенном виде должна обладать любая наука.
Затем за пределы языка Л. Ельмслев выносит вообще
всю субстанцию. Правда, лингвистический анализ
начинается с анализа текста, но этот анализ проводится в
соответствии с заранее и априорно установленной процедурой,
которой определяется объект исследования, а им отнюдь
не является субстанция. «Лингвистическая теория,—
пишет он,— предписывает анализ текста, который ведет нас
к выявлению языковой формы, скрытой за непосредственно
доступной чувственному восприятию «субстанцией», и к
установлению скрытой за текстом системы языка» (разд. 20).
Но такое определение еще может дать основание для
заключения, что субстанция (в виде текста) все же важна
и необходима для выявления через нее языковой формы.
Во избежание возможных недоразумений Л. Ельмслев
вносит полную ясность в зависимость, существующую
229
между субстанцией и языковой формой: «Субстанция...
не является необходимой предпосылкой для
существования языковой формы, но языковая форма является
необходимой предпосылкой для существования субстанции»
(разд. 21). В соответствии с такой установкой нельзя
исходить из описания субстанции в качестве основы для
описания языка. «Наоборот, описание субстанции зависит от
описания языковой формы» (разд. 15). Впрочем, с
субстанцией вообще можно покончить, она явно бесцельно
путается в ногах у глоссематики. Ведь элементы языка —
всего лишь пучки отношений, и язык — это только форма,
«... а то, что лежит вне этой формы... представляет собой
внеязыковой материал, так называемую субстанцию. В то
время как на долю лингвистики приходится анализ
языковой формы, на долю многих других наук выпадает анализ
субстанции» (разд. 15). Абсолютная автономность формы
подчеркивается также положением о том, что форма может
манифестироваться (реализоваться) в разной субстанции
(звуковой, графической и пр.).
Пожалуй, наиболее подробному рассмотрению со стороны
лингвистов подверглось именно это последнее положение
Л. Ельмслева, которое хотя и представляется частным и
зависимым от более общего вопроса об отношениях формы
и субстанции, однако позволяет перевести его в
конкретный план и проверить опытным порядком (следуя
прокламируемому Л. Ельмслевсм принципу пригодности).
Полученные при этом выводы являются отнюдь не
положительными для глоссематики.
Базелль в своей рецензии на книгу Л. Ельмслева
утверждает, что две субстанции (например, звуковая
речь и письмо) не могут равным образом манифестировать
одну и ту же форму. Это происходит потому, что
графические и фонологические системы асимметричны друг другу,
точно так же как обе они асимметричны системе
содержания. Например, отсутствие в письменности данного
языка определенных комбинаций букв не мешает пониманию,
если нам известны акустические признаки, которые они
символизируют, а изучение графических признаков никак
не способствует выявлению возможных комбинаций
фонем х. Независимо от работы Л. Ельмслева, интересные
1 См. рецензию в «Archivum Linguisticum», 1949, vol. I, p. 91
230
соображения о различиях структуры и функций письма
и речи высказывает также Й. Вахек 1. В другой своей
работе 2 Вахек отмечает, что речевые фонемы и письменные
графемы различаются на основе совершенно разных
признаков, соответственно обусловленных акустической
и графической субстанцией. Если бы даже для того или
другого языка можно было бы установить общую формальную
тождественность фонем и графем, то и тогда на уровне
различительных признаков мы имели бы дело с двумя
различными видами систематизации, которые неизбежно приводят
к образованию отдельной формы для каждой из этих двух
субстанций. Другие языковеды также отмечают, что
конкретная фонетическая субстанция оказывает определенное
влияние на манифестируемые ею формальные отношения.
Это засвидетельствовано, во-первых, классификацией
фонем на основе принципа корреляций и, во-вторых,
необходимостью наличия собственно фонетических критериев
для отождествления фонем в фонологии. В первом случае
Ф. Хинтце3 использует разработанное Пражской школой
понятие корреляций для доказательства того, что
важнейшие формальные характеристики фонетических моделей
основываются на фонетической субстанции и не могут
манифестироваться иной субстанцией. В доказательство он
приводит пример с передачей немецких слов цветными
флажками, которые оказываются лишенными внутренней
системообразующей связи и не способны передать некоторых
фонематических качеств (например, различия долгого и
краткого i). Во втором случае Э. Фишер-Ёргенсен
отмечает, что посредством коммутации в языке оказывается
возможным выделить, например, 15 различных начальных
элементов и 10 различных конечных. Но если не обращаться
к фонетической субстанции, то не представится возможным
осуществить отождествление этих элементов: нельзя
будет, например, установить, соотносится ли конечное p
с начальным p или же с начальным t4. Выводы Базелля,
1 J. Vachek, Written language and printed language, «Recueil
linguistique de Bratislavas, 1948, vol. I, p. 67.
2 J.Vachek, Soma remarks on writting and phonetic transcription,
«Acta linguistica», 1945—1949, vol. II.
3 F. Hintze, Zum Verhaltnis der sprachlichen «Form» zur
«Substanz», «Studia Lingu'stica», 1949, vol. III, S. 95.
4 См. рецензию E. Fischer- Jorgensen, «Nordisk tidsskrift
for tale og stemme», 1944, vol. 7, p. 92.
231
Хинтце и Фишер-Ёргенсен подтверждает и П. Гарвин1,
обращаясь к примеру с переложением речи на азбуку
Морзе. Разбор данного частного вопроса приводит всех
упомянутых языковедов почти к единому заключению
о том, что между формой и содержанием имеет место
постоянная взаимозависимость и постоянное взаимовлияние.
К утверждению Л. Ельмслева о примате формы и ее
абсолютной независимости от субстанции можно подойти
и с иной стороны. Очевидно, что если рассматривать язык
с точки зрения той цели (или тех функций), ради которой
он существует, то описание его может быть осуществлено
только в терминах и определениях, обусловленных этой
его целью (или функциями). Тогда субстанция не только не
может быть исключена, но является основой описания
языка, так как свою цель и свои функции язык выполняет,
конечно, как субстанция, а не как форма. И когда при этом
говорят о структуре языка, то разумеют структуру,
состоящую из материальных единиц, по реальным качествам
которых устанавливают внутренние отношения,
существующие между элементами структуры. В силу материального
характера такого рода структур они носят всегда
конкретный характер. И если даже согласиться с Р. Якобсоном
и признать универсальным бинарный принцип или целиком
переориентироваться на процедуру анализа дескриптивной
лингвистики, то ведь и бинарные противопоставления и
дескриптивные формулы применительно к конкретным
языкам наполняются разным содержанием и выглядят
по-разному (3. Хэррис говорит даже о том, что применительно
к разным языкам может меняться и процедура описания2).
Интересные соображения высказывает в этой связи
Б. Сиертсема. В своем докладе на Международном
конгрессе лингвистов в Осло она указывает, что всякое
отношение, не имеющее реальной опорной точки (relata),
напоминает беспредельно растягивающуюся гармонику.
Отношения, определяемые через другие отношения, образуют
бесконечную цепь отношений; ограничить ее могут только
реальные функтивы (relata), между которыми
устанавливаются отношения. «Для того чтобы быть подлинно
лингвистическим,— пишет она,— полное дистрибуционное (т, е.
1 См. рецензию P. Garvin в «Language», 1954, vol. 30, № 1, p.93.
2 См главу «Методологические предпосылки» в книге Z. Harris.
Methods in structural linguistics, Chicago, 1951.
232
построенное на отношениях) описание фонематической
структуры языка требует двух субстанций —звука и
значения на двух ступенях: 1) для отождествления его
элементов и 2) для мотивировки их дистрибуции» 1.
Становится ясным, что, когда Л. Ельмслев исключает из
теории языка языковую субстанцию, он исключает вместе с
ней язык. Соответственно он лишает лингвистику ее объекта.
Лингвистика Л. Ельмслева — это наука без своего
собственного предмета изучения. В отношении предмета своего
изучения лингвистика в понимании Л. Ельмслева в
действительности обращается к другим дисциплинам.
Именно потому, что лингвистика Л. Ельмслева — это
лингвистика без языка, она носит сугубо субъективный
характер при всей внешней математической
«бесстрастности» своих методов анализа и описания. Поскольку она
исходит не из постигаемых и проверяемых общественным
опытом объектов, она неизбежно вносит произвол
субъективности. Это обстоятельство очень скоро стало очевидным.
С наибольшей точностью оно сформулировано К. Борг-
стрёмом, который в этой связи писал: «Отношения,
устанавливаемые независимо от объекта, не могут быть общими
явлениями, они по необходимости остаются
индивидуальными»2. В. Скаличка и Ф. Хинтце справедливо связывают
указанный коренной недостаток теории языка Л.
Ельмслева с тем, что последний игнорировал социальный
характер языка. «Язык,— писал Хинтце,— по самому своему
характеру— социальное образование... В отрицании этого
самого существенного признака языка, а именно его
социального характера, как мне кажется, заключается причина
весьма абстрактного подхода, выдвигаемого Л. Ельмслевом.
Он строит чисто формальную теорию, которая имеет в виду
только доступную исчислению сторону развивающегося
в исторической и социальной среде языка, но не языковую
цельность в ее феноменологической действительности» 8.
Характерно, что в конце своей работы (разд. 22)
Л. Ельмслев неожиданно заверяет, что в конечном счете его
1 В. Siert sema, Futher thoughts on the glossematic idea of
describing linguistic units by their relations only, «Proceedings of the
Eight international congress of linguists», Oslo, 1958, p. 143.
2 «The technique of linguistic descriptions», «Acta linguistica», vol.
V, № 1, 1945-1949, p. 11.
3 F. Hintze, Zum Verhaltnis der sprachlichen «Form» zur
«Substanz», «Studia Linguistica», 1949, vol. 3, S. 102—103.
233
теория языка учитывает субстанцию, и «конечные варианты
языка подвергаются дальнейшему, индивидуальному
анализу на чисто физической основе»1. Однако его заверения
звучат очень неубедительно. При всем желании невозможно
дать адекватного анализа субстанции языка, его физической
основы, если исходные определения, из которых
складывается процедура анализа, совершенно обходят опыт, условны
и субъективно произвольны. Крометого, у Л. Ельмслева
такого рода исследование субстанции языка мыслится не в
собственно лингвистическом аспекте, а в плане метасемиологии.
В этих заявлениях можно усмотреть известную
непоследовательность, нарушающую полную автономность
лингвистической формы. В самом изложении лингвистической
теории можно обнаружить и иные непоследовательности,
так как Л. Ельмслев все же обращается к отдельным
явлениям, которые имеют собственно языковой характер и
могут быть установлены только в плане языковой субстанции,
а не чистой формы.
К таким явлениям относятся синкретизм, катализ,
вариант и инвариант и некоторые другие. Истолкование их
сопровождается, как правило, конкретными примерами,
которые делают доступным пониманию лингвистов
сущность данных явлений. И вот, когда отдельные положения
глоссематики приобретают собственно языковой облик, у
лингвистов возникает наибольшее число критических
замечаний, которые наглядно показывают противоречивость,
неправомерность и неприемлемость методов, определений
и формул, предлагаемых Л. Ельмслевом. Все рецензенты
его работы — А. Мартине, П. Гарвин, Э. Фишер- Ерген-
сен, Ф. Хинтце, В. Скаличка и др.— сосредоточивают свое
внимание по вполне понятным причинам в первую очередь
на указанных моментах 2. Но как бы ни были убедительны
все возражения лингвистов, они все же ничего не решают.
В действительности — и это, пожалуй, самое существен-
1 Ср. также следующее заявление Л. Ельмслева по докладу Б.
Сиертсемы на Международном конгрессе лингвистов в Осло: «Совершенно
очевидно, и это никогда нз оспаривалось, что в исчерпывающем
описании должна учитываться также и субстанция. Но учет субстанции
не равнозначен смешению формы и субстанции; субстанция имеет свои
собственные отношения, которые должны включаться в описание»
(«Proceedings of the Eight international congress of linguists», Oslo,
1956, p. 144).
2 Для примера, можно отослать читателя к включенной в
настоящий сборник статье А. Мартине.
234
ное — теория языка Л. Ельмслева абсолютно
непроницаема для собственно лингвистической критики по той
простой причине, что она стоит над языком и исходит не из
языковых предпосылок. Весьма удачно сказал о ней
А. Мартине: «Это башня из слоновой кости, ответом на
которую может быть лишь построение новых башен из
слоновой кости»1. Она очень напоминает не менее
трудоемкое и стройное построение А. Марти и, по-видимому,
разделит его судьбу2. Она отличается большой
систематичностью, но дает все основания для заключения, которое,
например, делает о ней К. Боргстрём: «Я склонен думать,
что практическое, несистематическое описание в некоторых
отношениях в действительности более научно, чем
подобного рода систематическое, и именно потому, что оно
допускает меньшее насилие над естественным порядком
исследовательского процесса и таким образом дает меньше
оснований для неверных истолкований»3. Если учесть, что под
естественным К. Боргстрём понимает такой порядок
исследования, который лингвистические отношения
устанавливают на основе лингвистического опыта, то с ним нельзя
не согласиться с той, однако, оговоркой, что
практикуемое за пределами глоссематики «несистематическое»
описание не следует считать идеальным. Л. Ельмслев, конечно,
прав, что надо стремиться к систематичности в
исследовании языка, но эта систематичность должна устанавливаться
в пределах самого языка и на основе его действительных
качеств и существенных черт, а не за счет вносимого со
стороны принципа. Как раз это последнее и делает глоссе-
матика, и это требует более детального рассмотрения.
5
Когда читаешь труд Л. Ельмслева, постоянно
ощущаешь, что ему тесно в пределах лингвистики, и он всячески
стремится выйти -за ее границы. И в заключительной
1 См. «Принцип экономии в фонетических изменениях», русск. перев.,
М., I960, стр. 54.
2 Ср. следующее замечание Г. Пауля в предисловии к 4-му изданию
«Принципов истории языка»: «Труд Марти выдержан в границах логико-
психологического исследования и не затрагивает специфическую
область языкознания».
3 С. Borgstrom, The technique of linguistic descriptions, «Acta
linguistica», vol. V, № 1, 1945—1949, p. 13—14.
235
третьей части (разд. 21—23) Л. Ельмслев, наконец,
реализует это свое стремление.
«Если лингвист,— говорит Л. Ельмслев,— хочет
уяснить себе объект своей науки, он должен обратиться к
областям, считавшимся по традиции чуждыми лингвистике»
(разд. 21). Обращение к иным областям или, как еще
говорит Л. Ельмслев, расширение горизонта подготовлено
полным отрешением его теории от языковой субстанции и
обращению к чисто формальным построениям. Ведь
поскольку сущности языковой формы обладают
алгебраической природой и не имеют естественного (т. е.
соотнесенного с субстанцией) обозначения, они не только мсгут быть
произвольно обозначены различными способами, но и
отождествлены с иными аналогичными формальными
структурами. Об этом сам Л. Ельмслев говорит следующими
словами: «Именно потому, что теория построена таким
образом, что лингвистическая форма рассматривается без
учета «субстанции» (материала), наш аппарат легко можно
применить к любой структуре, форма которой аналогична
форме «естественного» языка» (разд. 21). Таким образом,
язык начинает рассматриваться только лишь как
семиологическая структура или семиотика, как частный случай
более общего объекта изучения, строение которого
удовлетворяет известным чисто формальным условиям и
определениям. Так, если семиотика определяется как «иерархия,
любой из сегментов которой допускает дальнейшее деление
на классы, определяемые на основе взаимной реляции, так
что любой из этих классов допускает деление на дериваты,
определяемые на основе взаимной мутации» (разд. 21),
то, согласно Л. Ельмслеву, мы с полным правом можем
отнести это определение и к языку, поскольку он также
представляет собой семиотику. Иными словами, определение
и описание языка, его структуры и элементов в собственно
лингвистических терминах (соотнесенных со
специфическими качествами языка) в глоссематике подменяется
описанием его в терминах логистики, обусловленных
формальными критериями. А это знаменует собой
переключение лингвистики в логистику, растворение в этой
последней лингвистики1 и, если быть последовательным до конца
(надо помнить, что Л. Ельмслев считает свою теорию языка
1 См. в этой связи S. Johansen, Glossematics and logistics,
«Acta linguistica», 1950, vol. VI, № 1.
236
единственно возможной), утрату самостоятельности для
науки о языке. Поэтому труд Л. Ельмслева правильнее было
бы назвать не «Пролегомены к теории языка», а
«Пролегомены к теории изничтожения языка». Таково печальное
следствие несомненно искренних попыток
усовершенствовать лингвистическую теорию, ориентированных на
ложные методологические предпосылки.
Сказанное не следует истолковывать неправильным
образом и рассматривать как попытку дать известную оценку
логистике (термин, который в советской научной литературе
соотносится иногда с символической логикой, а иногда с
математической логикой). Это, разумеется, не может входить
в компетенцию лингвиста. Но лингвист не только вправе,
но и обязан дать оценку результатам логистического
изучения языка с точки зрения проблем и задач, которые
составляют науку о языке и отнюдь не снимаются в высшей
степени условным разграничением ее на «традиционную» и
«нетрадиционную» (последняя, кстати говоря, столь же
многообразна, как и первая).
В результате развития теории математики,
составляющей первоначальный объект логистики, возникло
понятие математики как системы знаков, конструируемой
в соответствии с определенными формальными правилами.
Система знаков стала обозначаться через термин «язык»,
трактуемый в широком смысле, включающем и логическое
исчисление, и языки (научные номенклатуры и знаки)
отдельных областей науки, и естественные языки. По
определению математической логики, любая система знаков может
быть названа «языком», если она удовлетворяет следующим
трем требованиям: 1) имеет совокупность элементарных
знаков; 2) обладает правилами образования из элементарных
знаков новых комбинаций знаков, допускаемых в этой
знаковой системе; 3) может иметь определенные правила
вывода, т. е. правила преобразования одних комбинаций
знаков в другие. Элементарные знаки допускают
рассмотрение с двух сторон: 1) если им не приписывается значение,
то образуемая ими знаковая система называется неинтерпре-
тированным «языком»; 2) если им приписываются некоторые
значения, то образуемая ими знаковая система называется
интерпретированным «языком». Принципы учения о
знаковых системах объединяются в семиотике, которая
подразделяется на три части: прагматику (изучает отношение знаков к
их интерпретатору, т. е. реакцию интерпретатора на знаки),
237
семантику (изучает отношение знаков к обозначаемому, т. е,
приписывание знакам и их комбинациям некоторых
значений) и синтактику (изучает отношение знаков к знакам).
Изучение естественных языков в плане чисто
семиотическом (что и стремится осуществить глоссематика)
показывает их значительное отличие от «языка» в логистическом
понимании, а самое главное, свидетельствует со своей
стороны, что в этом случае за пределами изучения
оказываются свойства, в своей совокупности образующие понятие
естественного языка. А ведь именно естественный язык,
и только он, составляет предмет той области науки, которую
человечество всегда знало под именем лингвистики.
Все формальные «языки» укладываются в пределах
семантики и синтактики, и этих двух семиотических аспектов
для них оказывается достаточным, чтобы они могли
передавать некоторое сообщение. Что касается естественных
языков, то в них еще обязательно присутствие
прагматической функции. Более того, все те качества, которые
позволяют естественному языку выполнять в полной мере свою
социальную функцию общения (ради чего язык вообще
существует) связываются с прагматическими свойствами
знака, и этой своей особенностью естественный язык резко
отличается от чисто семиотических знаковых систем.
Прагматическая функция естественного языка, связанная с
психическими, историческими, социальными и иными внеязы-
ковыми факторами, привносит в собственно семиотическую
систему чуждые ей элементы, нарушая ее строго
формальный характер. Но, с другой стороны, логическая структура
мысли не дана в естественном языке в чистом виде, а
поэтому, если стремиться к адекватному определению,
естественный язык нельзя представить как логическую
формальную систему с ее интерпретацией, поскольку в этом случае
за пределами изучения окажется все то, что связывается
с прагматической функцией естественного языка.
Разумеется, посредством соответствующих операций
можно приблизить естественный язык к формализованному,
т. е. языку, построенному как некоторое
(интерпретированное) логическое исчисление. В частности, это делается
при создании «машинного языка», или так называемого
метаязыка, что связано с задачей конструирования
рациональных систем записи научных сведений, автоматических
информационных устройств, установок для машинного
перевода и с иными практическими целями. Однако во всех
238
этих случаях имеют дело с «препарированным» языком,
из которого устранена «избыточность», обусловленная
прагматической функцией естественного языка, и который
совершенно лишен временного сечения. Последнее
обстоятельство особенно важно, если учесть, что самой формой
существования естественного языка является его развитие.
То, что допустимо в определенных практических целях,
когда сознательно идут на часто весьма существенные
ограничения и упрощения, конечно, совершенно неприемлемо
для теоретического изучения, стремящегося к адекватному
и всестороннему познанию объекта1.
Этими соображениями, как представляется,
определяются отношения собственно лингвистической теории
к математической логике, в которой глоссематика
фактически растворяет науку о языке.
6
Еще один шаг, и вот мы уже в области общей теории
науки. Это еще одно обличье многоликой глоссематики.
В «Пролегоменах» Л. Ельмслев по этому поводу роняет
только несколько мимолетных замечаний, суть которых
сводится в основном к тому, что «все науки группируются
вокруг лингвистики» (разд. 15), причем лингвистика
разумеется, конечно, в глоссематическом смысле. Разработка
глоссематики как общей тесрии науки выпала на долю
К. Ульдалля, который тем самым дает естественное
завершение всему глоссематическому построению. Но в
«Пролегоменах» были указаны методические предпосылки,
определяющие философскую позицию глоссематики. В «Основах
глоссематики» Ульдалля круг замыкается, так как здесь
после долгого и сложного пути глоссематика снова
возвращается к методологии, давая конкретные
рекомендации в отношении способов подхода к научному
исследованию вообще. Именно этим в первую очередь интересна
в целом довольно беспорядочная работа Ульдалля — она
предельно обнажает всю философскую сущность и научную
направленность глоссематики.
1 Ср. мнение Э. Хаугена: «Едва ли лингвист является тем
человеком, который способен прорецензировать эту книгу. Это скорее
вклад в семиотику, чем в лингвистику, поскольку книга имеет дело
с описанием всех символических систем, а не с определенной структу
рой естественных языков» (Рецензия в «International iournal of
American linguistics», vol. XX, №3, 1954, p. 247).
239
По сути говоря, в адрес глоссематики как общей теории
языка можно повторить большинство тех упреков,
которые были сделаны при рассмотрении глоссематики как
теории языка. Используя одни и те же принципы, там она
представляет единую основу для изучения всех языков, а
здесь — единую теоретическую основу для всех наук.
Разница, следовательно, заключается в масштабах объектов
и тем самым в ответственности выводов.
В конце своей работы (первый ее раздел,— «Общие
принципы» — приводится в настоящем сборнике, а второй —
«Глоссематическая алгебра» —опускается) Ульдалль
следующим образом определяет ее задачи: «Изложенная здесь
алгебра универсальна, т. е. ее приложение не
ограничивается материалом определенного порядка и, таким образом,
не имеет ничего специфически лингвистического или даже
гуманитарного в своем характере или изложении, хотя по
замыслу ее главная цель состояла в установлении основы
для описания лингвистического и иного гуманитарного
материала. Она стремится создать исчисление
некачественных функций, применение которых к материалу должно
привести к его описанию в терминах отношений,
корреляций и дериваций» 1.
Но в основном все сводится к рассмотрению вопроса о
возможности приложения методов точных наук (или, как их
еще называет Ульдалль, квантитативных, количественных),
к изучению гуманитарных (или квалификативных,
качественных) наук. Вопрос сам по себе интересный и
заслуживающий всяческого внимания, особенно в связи с
последними опытами применения математических методов в
лингвистике (разумеется, имеется в виду прикладная
лингвистика, а не иллюзорная математическая лингвистика). По
мнению Ульдалля, количественные науки достигли
значительно более высокого уровня в своих исследовательских
методах и поэтому применение их к гуманитарным наукам
(качественным) будет способствовать тому, что эти
последние также увеличат точность своих методов, а тем самым
поднимут и свой общий научный уровень.
В ходе изложения Ульдалль высказывает ряд
любопытных соображений и вполне справедливых
критических замечаний в адрес Тойнби, Леви-Брюля и др., но в
положительной части своего труда оказывается очень бес-
1 H. J. Uldall, Outline of glossematics, Copenhagen, 1957, p. 86.
240
помощным. Суть его идеи сближения наук двух типов
(количественных и качественных) сводится к перенесению
принципа полной дематериализации объектов, разработанной
в глоссематике первоначально применительно к языку,
на все другие области науки. Эта дематериализация
изучаемых объектов и выражение их «в терминах
отношений, корреляций и дериваций» является якобы
единственно возможной основой для объединения точных
и гуманитарных наук. «Поскольку,— пишет Ульдалль,—
было бы нелепым требовать, чтобы точные науки отступили
от достигнутого ими уровня развития, это объединение
может быть осуществлено только в том случае, если
гуманитарные науки откажутся от «вещей» в пользу функций
и, таким образом, станут, как я утверждаю, точными
науками» (стр. 404). Ульдалль идет на прямое искажение
действительного положения вещей с тем, чтобы обосновать свою
идею «онаучивания» гуманитарных наук. С его точки
зрения, прогресс науки заключается в отказе от материи
в пользу чистых функций и отношений. «Точные науки,—
уверяет он,—имеют дело не со всей массой явлений,
наблюдаемых во вселенной, а только с одной их стороной, а
именно с функциями, и при том только с количественными
функциями. С научной точки зрения вселенная состоит
не из предметов или даже «материи», а только из функций,
устанавливаемых между предметами; предметы же в свою
очередь рассматриваются только как точки пересечения
функций. «Материя» как таковая совершенно не принимается в
расчет, так что научная концепция мира представляет
собой скорее диаграмму, чем картину» (стр. 399—400).
Но здесь абсолютно все поставлено с ног на голову!
Цель науки — вскрыть объективные законы явлений,
объяснить эти явления. Сила науки — в ее обобщениях.
Посредством обобщения наука в хаотической и случайной
«массе явлений наблюдаемой нами вселенной» выявляет
существенное и основное и таким образом устанавливает
свои законы. Материя (во всем многообразии своих форм)
при этом очень принимается в расчет, так как является
исходным моментом исследования в первую очередь именно
в точных науках (или, вернее говоря, в естественных,
противопоставляемых общественным и науке о познании).
Обобщенное выражение, например физической или химической
закономерности, всегда есть производное от материи и
отнюдь не ограничивается количественными характери-
16 Заказ № 116
241
стиками, как это утверждает Ульдалль, а обычно стремится
проникнуть в структуру изучаемого объекта, почему и
само проводимое Ульдаллем разграничение наук на
количественные и качественные представляется натянутым.
В своей научной практике многие науки употребляют
специфическую для них символику, но эта символика
всегда носит вспомогательный характер, не является сама
по себе целью научного изучения и, выражая в наиболее
обобщенном виде выявленные закономерности (и, конечно,
также функции и отношения, «устанавливаемые между
предметами», как пишет сам Ульдалль), не отрывается от
«предметов» и всегда остается «привязанной» к ним. Иногда,
как в случае с формализацией естественных языков для
целей построения информационных и переводных устройств,
оказывается практически необходимым накладывать на
«предмет» чисто формальную систему правил. Но
генерализовать продиктованный практической потребностью
рабочий прием и возводить его в ранг методологического
принципа значит переходить на позиции прагматизма.
Помимо всеобщей дематериализации объектов,
проводимой глоссематической алгеброй в целях создания общей
основы для изучения количественных и качественных наук,
она практикует приведение всех объектов науки к единому
функциональному знаменателю. «Исчисление
некачественных функций» оказывается единственным орудием,
которое дается в руки исследователя независимо от изучаемого
им объекта. Такая методическая нивелировка, конечно,
никак не способствует всестороннему познанию
многообразия объектов. Но в ней заключается и большой
методологический порок, о котором уже приходилось говорить выше.
Речь идет о том, что глоссематика целиком опирается на
кантовское положение о том, что метод определяет объект.
И так как метод один, то и объект оказывается одним. А это
значит, что существует, по сути говоря, лишь одна наука —
глоссематика. Вывод, несомненно, парадоксальный, но,
если внимательно вчитаться в работы Л. Ельмслева и К. Уль-
далля, то он абсолютно логичен. И он говорит сам за себя.
Всякая теория проверяется практикой. О практическом
приложении глоссематики как лингвистической теории уже
приходилось говорить выше. Глоссематическая алгебра как
всеобщий и универсальный метод научного исследования,
как общая теория науки, доводящая все заложенные в глос-
сематике предпосылки до своего логического завершения,
242
чрезвычайно показательна и в этом отношении. С
необыкновенной наглядностью она демонстрирует (можно сказать,
«манифестирует») всю органическую бесплодность
избранного глоссематикой пути. Тот опыт научного исследования,
которым мы располагаем, не дает возможности
увидеть, какие реальные результаты глоссематическая алгебра
может дать науке, как бы своеобразно ее ни понимать.
7
Так что же такое глоссематика? По замыслу ее
создателя — это и теория языка, и семиотика, и общая теория
науки. Когда научное построение претендует быть
одновременно и одним, и другим, и третьим, то оно обычно не
бывает ни одним, ни другим, ни третьим. Глоссематика дает
прекрасный пример этого общего правила. Это не
лингвистика уже потому, что реальный «естественный» язык не
находит своего места в ее абстрактных схемах. Здоровый в
своей основе рабочий принцип структурного изучения
глоссематика связала с ложными методологическими
основами, что в конечном счете привело к тому, что язык
оказался исключенным из ее теории. Может быть, это
раздел или всего лишь частный пример математической
логики или семиотики? Об этом пусть судят сами
представители данных наук, но даже если это и так,
глоссематика не может рассматриваться как
самостоятельная дисциплина. Это, конечно, и не общая теория
науки, так как, помимо всего прочего, подлинная
общая научная теория никак не ограничивается
чрезвычайно узким и односторонним истолкованием одного
частного вопроса, но должна представлять учитывающую
всю совокупность человеческих знаний науку,
исследующую наиболее общие законы развития природы,
человеческого общества и мышления, и разрабатывающую научный
метод как инструмент познания и практической
деятельности. Всеми этими качествами глоссематика не обладает и
поэтому она никак не может претендовать на столь
ответственную роль.
Таким образом, даже в лучшем случае глоссематика — это
конгломерат разных дисциплин, связанных в формальную
систему на основе отвлеченных правил. Против чего
Л. Ельмслев боролся, к тому в конечном счете он в своей
теории и пришел.
В. А. Звегинцев
16*
243
Эйнар Хауген
НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ЯЗЫКОЗНАНИИ1
В настоящее время лингвистика стала во всех
отношениях международной наукой. Лингвистика имеет на это
особое право среди очень немногих других наук, так как
предмет ее исследования тесно связан с изучением
человеческого общества и имеет непосредственное отношение к
общению между народами.
Мы можем отметить подъем в области лингвистических
исследований в нашу эпоху по сравнению с
предшествующей. Характерно, что в тридцатые годы работы,
посвященные теории фонемы, проводились Трубецким в Австрии
и Юэн Рен Чжао в Китае — учеными, столь отдаленными
друг от друга территориально. Это уже было шагом вперед
по сравнению с гораздо более ограниченной территорией
распространения лингвистических исследований эпохи
Раска и Гримма. Однако за последние два десятилетия
наблюдается особенно интенсивное распространение этой
науки. От случайных работ отдельных, не связанных между
собой ученых мы перешли в Америке к обширным
лингвистическим исследованиям, проводящимся по определенной
программе под руководством целой группы ученых,
объединенных в мощном лингвистическом обществе.
1.1. Однако мы не можем ограничиться лишь
утверждением о том, что американская лингвистика находится в
настоящее время в более процветающем состоянии, чем в
какую-либо другую эпоху со времени основания республики.
Само появление независимой группы американских лингви-
1 Доложено на заседании Лингвистического общества в Чикаго
29 декабря 1950 г. Настоящей формой доклад обязан обсуждению с
языковедами в Вискоисинском университете. Напечатана в журн.
«Language», 27, 1951, под названием «Directions in modern linguistics».
244
стов повлекло за собой их изоляцию в научном отношении,
что является прискорбным фактом с точки зрения тех,
кто, подобно автору данной статьи, считает, что
лингвистика должна оставаться международной наукой1. Для
американских лингвистов становится все более
затруднительным понимать работы европейских ученых в этой
области. Ученые младшего поколения пренебрежительно
относятся к работам ученых старшего поколения, так что
мы до некоторой степени теряем связь как с традиционной
лингвистикой, так и с ее современными представителями во
всех других странах мира. В американской теоретической
литературе редко встречаются ссылки на произведения де
Соссюра, Трубецкого или какого-либо другого
европейского лингвиста, хотя это были теоретики, вооружившие
нас знаниями, которыми мы пользуемся и теперь. И хотя
автор настоящей работы является одним из самых
преданных почитателей Блумфилда и Сепира, тем не менее он
считает ограниченной точку зрения, что настоящее
языкознание будто бы начинается с деятельности этих ученых.
1.2. В какой-то степени отсутствие интереса
американских лингвистов к языкознанию в других странах можно
связать с эпохой быстрого развития новой лингвистической
терминологии в Америке в кругу так называемых
американских дескриптивных лингвистов. Те, кто принял эту
терминологию, часто бывают не склонны утруждать себя
переводом другой терминологии на свой язык. Они полагают, что
все, кто пользуется другой терминологией, либо говорят
бессмыслицу, либо недостаточно точно формулируют свои
мысли. Этот упрек с таким же успехом можно бросить и
тем европейским ученым, которые недооценивают
достижений американской дескриптивной школы2.
Данная работа ставит целью организацию дискуссии
по вопросам уточнения методов лингвистического анализа
и терминологии, что является одной из наиболее важных
1 Ср. SIL, 8. 8, 1950, где ярлык «ненаучный» применяется к
«большинству европейских структуральных исследований»; там же, 8. 100:
«обычное европейское философствование на основе недостаточного
фактического материала».
2 Нз придерживается общепринятых взглядов среди европейских
лингвистов лишь Эли Фишер Йоргенсен (см. «Travaux du Cercle
linguistique de Copenhague», 5. 214—234, 1949) и В.И. Коллинсон (см. «Lingua»,
I, 306—332, 1948). Исследование последнего по вопросу об участии
американских лингвистов в дискуссии по металингвистике превосходно.
245
проблем, занимающих американских лингвистов в
последние годы. Являясь скорее наблюдателем, чем участником
этого движения, автор настоящей статьи может представить
обсуждаемые явления достаточно объективно, что окажется
полезным для языковедов других школ. В случае, если
автору не удастся до конца разъяснить данные вопросы,
предлагаемая статья стимулирует их обсуждение. Прежде
же всего автор стремится к тому, что иногда называют
«единством науки».
2. В течение двух последних десятилетий появились
2 или 3 статьи и книги, посвященные технике
лингвистического анализа1. Сначала основное внимание обращалось
на технику фонетического анализа, затем в центре
внимания оказались морфология и синтаксис. Для того чтобы
сделать более точной технику исследования, были созданы
новые термины, так как они давали возможность говорить
не просто о языке, но и о том, как говорить о языке. У
логиков такая терминология обычно называется
«метаязыком». Это язык, употребляемый для того, чтобы «делать
утверждения о каком-либо другом языке». Неизвестно,
1 Наиболег значительные из них следующие: Bloch and
Trager, Outlins of linguistic analysis, Baltimore,1942; Harris, Morpheme
alternants in linguistic analysis, «Language», 18, 1942, 169—180(109);-
Pike, Taxemes and immediate constituents, «Language», 19, 1943,
65—82 ; Harris, Discontinuous morphemes, «Language», 21, 1945,121—
127; Chao, The logical structure of Chinese words, «Language», 22, 1946,
4—13* Harris, From morpheme to utterance, «Language», 22, 1946
161—183 (142); Bloch, Studies in colloquial Japanese, JAOS, 66, 1946
97—109, «Language», 22, 1946, 200—248 (154); JAOS, 66, 1946, SC4—
315, «Language», 26, 1950, 86—125 (329); Wells, Immediate constituents,
cLanguage», 23, 1947,81—117; Voegelin, A problem in morpheme
alternants, and their distribution, «Language», 23, 1947, 245—254; Pike,
Grammatical prerequisites to phonemic analysis, «Word», 3, 1947, 155—
172; Hockett, Problems of morphemic analysis, «Language», 23, 1947,
321—343 (229); Bloch, English verb inflection, «Language», 23, 1947,
399—418; Pike, Phonemics, Ann Arbor, 1947; В 1 o c h, A set of
postulates for phonemic analysis, «Language», 24, 1948, 3—47; Harris,
Componential analysis of a Hebrew paradigm, «Language», 24, 1948,
87—91 (272); Voegelin, Distinctive features and meaning
equivalence, «Language», 24, 1948, 132—135; Pittman, Nuclear structures
in linguistics, «Language», 24, 1948, 287—292 (275); Wells, Automatic
alternation, «Language», 24, 1949, 99—116; J o o s, Description of
language design, «Journal of the Acoustical Society of America», 22, 1950,
701—709 (349); N i d a, The analysis of grammatical constituents,
«Language», 24, 1948, 168—177; Nida, The identification of morphemes,
«Language», 24, 1948, 414—441 (255); Nida, Morphology, 2 ed., Ann
Arbor, 1949.
246
употребляют ли этот термин американские лингвисты1,
но кажется, что он полезен и что его следует принять.
Обсуждение техники лингвистического исследования является
поэтому скорее не лингвистикой, а, как мы уже сказали,
«металингвистикой»2. К сожалению, Трейджер предложил
этот термин для той области, которую обычно принято
называть семантикой3. По мнению Трейджера, термин
«семантика» не следует употреблять в лингвистике, так как он
приобретает совершенно иное значение, определяя
дисциплину, смежную с логикой. Если же семантика является
нежелательным термином, существует термин
«этнолингвистика» или «социолингвистика». В настоящей работе
для исследования, оперирующего с терминами: фона,
морфа, подстановка, составляющая, класс фокуса и
тактика,— будет применяться термин металкнгвистика.
Указанные термины определяют метаязык, созданный
американскими лингвистами и совершенно непонятный для
языковедов, знакомых лишь с терминологией наших
традиционных грамматических школ.
2, 1. Читая последние произведения американских
металингвистов, было бы трудно предположить, что в
течение последних двенадцати лет это течение утвердилось и
в Европе. Я имею в виду последние исследования Луи
Ельмслева и группы ученых, входящих вместе с ним в
Лингвистическое общество Копенгагена. Для описания своей
теории Ельмслев ввел термин глоссематика, однако в
действительности он создал новый метаязык. К сожалению,
полное изложение его теории опубликовано до сих пор лишь
на датском языке. Оно появилось в 1943 г. под названием
«Основы лингвистической теории»4. Однако действительная
трудность заключается не в датском языке, который легко
1 Ср. D. D. Runes, Dictionary of philosophy, 4th ed., New York,
1942; Charles Morris, Signs, language, and behaviour, 179, New York,
1946; R. Carnap, Introduction to semantics, 4, Cambridge, Mass.,
1942, id., Philosophy and logical syntax, London, 1935.
2 Ср. употребление Боргстрёмом термина «метаисследование» в
этом же смысле, «Acta Unguistica», 5, 1945—1949, 1—14. Ельмслев
употребляет понятие «мзтаязык» в работе «Omkring sprogteoriens
grundleggelse», 8.
3 George L. Trager, The field of linguistics, 2, Norman, Okla.,
1949.
4 Cm. «Omkring sprogteoriens grundlaeggelse», Copenhagen, 1943, в
английском перевода (пер. Francis J. Whitfield) — как «Prolegomena to
a theory of language», Indiana, University publications in anthropology
and linguistics, Memoir 7, Baltimore, 1953.
247
доступен пониманию лиц, владеющих немецким. Трудность,
с которой сталкивается читатель, заключается в
абстрактности теории Ельмслева и в сравнительной скудности
иллюстративного материала, поясняющего ее
содержание. Некоторым из нас трудно понять ее применение,
так как мы не обладаем достаточными знаниями в области
математики или символической логики, чтобы следить за
сложной системой доказательств. Недавно в пятом томе
«Работ лингвистического кружка в Копенгагене»1
появились «Структуралистские исследования», частично
основанные на теории Ельмслева. Поскольку эти работы
публикуются на английском либо на французском и
представляют собой более или менее конкретное применение теории
Ельмслева на практике, они безусловно привлекут
внимание большего числа языковедов, чем опубликованные до
сих пор работы самого Ельмслева.
2.2. Я не ставил перед собой задачи дать анализ
теории Ельмслева или оценку связанных с ней приемов. Мне
только хотелось указать на тот факт, что в Европе
оформляется новый метаязык, который столь же отличается от
языка традиционных грамматик, сколь отличается от них
и американский метаязык. Оба языка в той же мере
несоотносимы друг с другом, как языки английский
и французский. Поэтому можно ожидать, что скоро для
перевода с одного метаязыка на другой понадобится
двуязычный словарь метаязыка. Мы достигаем такой стадии,
когда метаязык лингвистики распадается на метадиалекты,
подвергая опасности единство нашей науки. Даже в
метаязыке американских металингвистов можно отметить
зарождение метадиалектов, вследствие чего становится
затруднительным следить за последними дискуссиями в
области языкознания. Каковы бы ни были различия между
европейской и американской лингвистическими школами,
однако, сравнивая их наиболее характерные черты, можно
прийти к выводу, что обе школы говорят об одном и том же
и стремятся к одной и той же цели.
2.3. В принципе обе эти школы пытаются дать
математическую формулировку лингвистическим положениям.
Хэррис описывает свой синтаксический анализ как мате-
1 «Recherches structurales», 1949: Interventions dans le debat glos-
sematique, Copenhague, 1949 [Reviewed by Wells, «Language», 27,
1951, 554—570].
248
матический. Ельмслев заявляет, что его цель заключается
в создании «лингвистической алгебры»1. Хэррис
определенно говорит, что его анализ чисто формален, Ельмслев
описывает свою теорию как основанную на «исключительно
формальной системе постулатов»2. Обе школы пытаются
избежать случайной эмпирической терминологии
традиционной лингвистики и стремятся установить метаязык,
который будет применим при синхронном описании любого
языка. Однако их словари не имеют между собой ничего
общего, кроме слова фонема. Обе школы пользуются
принципом так называемого двучленного деления: они делят
каждое высказывание на две (иногда больше) части и затем
подобным же образом делят каждую из них до тех пор,
пока не дойдут до последних составляющих3. Ельмслев
называет это «дедуктивным методом», Уэллс — «методом
анализа по непосредственно составляющим». То, что Уэллс
называет «составляющим» (constitute), Ельмслев называет
«классом», а то, что Уэллс называет «составляющей»
(constituent), Ельмслев называет «дериватом» (derivate)4.
Называемое Уэллсом «класс фокуса» (a focus class) Ельм-
слевом именуется парадигмой. Определяемое Уэллсом
как «последовательный ряд» (a sequence class) Ельмслев
называет «цепью» (chain). Технические приемы, которые
используют обе группы для определения любой данной
составляющей (constitute), именуются «заменой» (replacement).
В процессе замены любой части высказывания каким-либо
другим лингвистическим элементом можно определить,
1 Harris в «Language», 22, 161 (142); Hjelmslev, OSG,72;
ср. Joos, цит. соч., 22, 702 (349); «Мы должны сделать лингвистику
своего рода математикой, в пределах которой невозможна
непоследовательность».
2 Harris в «Language», 22, 177 (150), fn. 26; Hjelmslev, OSG,
9; ср. Nidа в «Language», 24, 437, fn. 40 (268).
3 Hjelmslev, OSG; Wells в «Language», 23, 92 (192 f.).
Хэррис первоначально предлагал деление на сегменты, а затем
постепенно — на более крупные включающие классы «от морфемы до
высказывания»; см. «Language», 22, 178 (150). Уэллс показал, как можно
проводить анализ по принципу выделения непосредственно составляющих,
исходя из целого и дробя его на более мелкие части, или наоборот;
порядок анализа в данном случае не имеет значения («Language», 23,
101 (198). Ельмслев утверждает то же, когда он определяет «индукцию»,
т.е. анализ от части к целому, и «дедукцию» —анализ от целого к части—
как функции Друг друга. Он все же настаивает на дедукции как
начальном этапе, поскольку лингвисту при анализе лучше отправляться от
целого текста.
4 Wells в «Language», 23, 84 (188); Hjelmslev, OSG, 30.
249
разложимо ли данное высказывание и как лучше всего его
разделить. Хэррис и его последователи называют этот
прием «подстановкой»1 (substitution), а
Ельмслев—«коммутацией» (commutation test). У Ельмслева этот прием лежит
в основе всей его теории2. Возможно, наиболее
существенной чертой, присущей обеим теориям, является
применение этого основного технического приема к
лингвистическому материалу любого вида, на любой стадии
лингвистического анализа, от анализа полного высказывания до
анализа фоны3.
2.4. Можно предположить, что проводимое мною
сравнение этих двух школ недостаточно удачно, поскольку
Ельмслев уделяет большое внимание значению, тогда как
большинство американских металингвистов всячески
избегают этого аспекта языка. В действительности можно было
бы легко доказать, что различие здесь также сводится в
основном к различию в терминологии. Так, Ельмслев
устанавливает четырехчленное деление лингвистического мира.
На одном полюсе находится действительный мир опыта,
который он называет содержанием (content), на него
налагается модель (pattern), называемая им формой
содержания (content form). В тесной связи с этой формой
находится форма выражения (expression form), которая
накладывает свои модели (patterns) на выражение
(expression), или истинный мир звуков. За исключением довольно
устарелых терминов «содержание» (content) и «выражение»
(expression), «форма» (form) и «материя» (substance), этот
анализ очень близок математическому анализу языка
в статье Мартина Джуза, посвященной описанию языковой
структуры4. Джуз различает, с одной стороны, реальность
значения, а с другой — реальность звучания. Как та, так
и другая могут быть выражены в терминах непрерывного
математического ряда (continuous mathematics). Между
1 Harris, «Language», 22, 161 (142).
2 OSG, 67.
3 Ср. Hjelmslev, OSG, 59: «Для понимания структуры языка
чрезвычайно существенно уяснить, что этот принцип следует
применять также ко всем другим инвариантам языка независимо от их
степени или места в системе». Хэррис пишет об анализе морфем
(«Language», 18, 179 (115)). «Он показывает, что мы можем объединять
альтернанты в единицы точно так же, как объединяем звуковые типы
(позиционные варианты) в фонемы».
4 «Journal of the Acoustical Society of America», 22, 1950, 701—
708 (349).
250
ними находится язык, обладающий смысловой и
фонетической формами, которые выражаются лишь в терминах
прерывающегося математического ряда (discontinuous
mathematics). За исключением математической терминологии,
анализ у Джуза остается тем же самым. Он пишет, что
наиболее известные математические схемы (maps) связаны
с реальным миром посредством единственного моста —
интуиции; лингвистика же связана с реальным миром двумя
мостами, ибо посредством языка реальный звук
соответствует реальному предмету и т. п. Язык является, таким
образом, «системой символов».
2.5. Было бы чрезвычайно полезно, если бы ученый,
в совершенстве владеющий обоими метаязыками,
проанализировал систему Ельмслева. Такой анализ был бы
одновременно и переводом терминологии Ельмслева на
американский метаязык, а также и критикой ее
целесообразности. На первый взгляд метаязык Ельмслева кажется
более унифицированным и логичным, чем американский.
Однако вряд ли им можно было бы воспользоваться в
данной статье, так как употребляемые им термины имеют
значение, прямо противоположное обычно принятым. Так,
называя взаимоотношения «функцией» или ряд единиц,
появляющихся в одинаковом окружении, «парадигмой»,
можно скорее запутать читателя, чем разъяснить ему свою
идею. Однако все течение, представителем которого
является Ельмслев, чрезвычайно интересно. Теперь, сравнив
два метаязыка, рассмотрим, с точки зрения обычного
лингвиста, преимущества и недостатки математического
подхода к лингвистике у этих ученых. Автор настоящей статьи
убежден, что любое лингвистическое явление может быть
описано с двух точек зрения — внутренней по отношению
к языку и внешней. Он считает, что традиционная
лингвистика пыталась объективно подойти к решению этого
вопроса, применяя внешний критерий, с которым она
соотносила язык, в то время как современные лингвисты
пытаются найти внутренние критерии, критерии отношений,
И наконец, хотя внутренние или дистрибутивные
критерии, возможно, и приведут к полезным открытиям в области
внутренней организации или структуры языка,
лингвистика не может (если только она не желает стать полностью
замкнутой или математической) отказаться от
использования внешних критериев, наделяющих конкретной
реальностью действительного мира ее относительные данные.
251
3. При описании любого лингвистического явления
обычно используется два ряда фактов. Если нужно описать
гласный [а], мы можем описать его либо как звук,
подобный итальянскому а, или сказать, что он близок
«кардинальному» а, или определить его, согласно
физиологическому способу его артикуляции, как «гласный среднего
ряда нижнего подъема», или, наконец, установить его
акустические свойства с помощью спектрографа. В любом
случае мы будем описывать этот звук в терминах,
соотносящих его с чем-то существующим во внешнем мире. Такое
определение может достигать любой желательной степени
точности в пределах ошибки, допускаемой при
наблюдениях. Чем более определенным будет наш критерий, тем
большее количество классов звуков мы сможем установить.
Любые два звука, попадающие в одно и то же деление
внешнего пространства и времени, можно считать фонетически
идентичными (тождественными). Определение, которое мы
таким образом получим, может быть названо идентичностью
(identity) рассматриваемого явления. Для нового
математического подхода характерен перенос основного внимания
с установления идентичности на дистрибуцию. Определение
по принципу дистрибуции англ. [а] включает следующие
факты: англ. а всегда силлабично; за ним может следовать
или ему предшествовать одна, две или три согласных или же
ни одной согласной; во всех ударных слогах оно
противопоставляется всем другим гласным. Пожалуй, главное
открытие, сделанное современной лингвистикой, заключается
в том, что можно найти взаимоотношения между всеми
лингвистическими элементами, изучая их дистрибуцию.
Однако здесь мы строго ограничены рамками изучаемого
языка. Нас уже более не интересуют внешние критерии,
а лишь окружения, в которых находятся изучаемые
элементы, и сравнение этих окружений с окружениями других
элементов. Даже лингвисты традиционной школы обычно
отмечали окружение по крайней мере некоторых
лингвистических единиц, в особенности морфем, входящих в
синтаксические сочетания. Однако особое внимание стало
уделяться этой стороне исследования, как основной для
лингвистического анализа, исключительно благодаря
структуральной школе, начиная с де Соссюра1.
1 Найда различает идентификацию и дистрибуцию морфем прибли
зительно таким же образом, как указано в данной работе. Ср.
«Morphology», 78.
252
3.1. Морфологические явления имеют двойную
«идентичность» — фонетическую и семантическую. С точки
зрения фонетики их идентичность можно легко установить
путем таких же методов описания, которые были применены
при описании звука а (см. выше). Однако с точки зрения
семантики они традиционно определялись посредством
соотнесения с явлениями внешнего мира (внешними
критериями). Так, например, яблоки описывались по
соотнесенности с действительными яблоками или их
изображениями. Класс «существительных» описывался по
соотнесенности с такими терминами, как «предмет», хотя
совершенно ясно, что многие существительные вовсе не являются
названиями предметов. Здесь также, согласно современной
тенденции, основное внимание уделяется дистрибуции или
функции. Существительные классифицируются в
зависимости от их способности участвовать в сочетаниях, что
означает их дистрибуцию по отношению к другим формам
высказывания. Поэтому существительные определяются
теперь не как названия предметов, а как класс форм,
встречающихся в сочетании с другими известными формами.
Таким образом, тогда как старая лингвистическая школа
при описании звука или значения выдвигала на первый план
принцип идентификации, новая школа во всех областях
лингвистических исследований основное внимание уделяет
«принципу дистрибуции» — основной момент, отличающий
фонемику от фонетики и морфемику от семантики. Она
является общим фактором в математическом подходе к
лингвистическому описанию.
3.2. Метод замены, лежащий в основе
металингвистического анализа, в первую очередь направлен на
установление дистрибуции1. До некоторой степени техника
замены аналогична технике управляемого опыта
естествоиспытателя. Как последний изменяет один из факторов,
сохраняя неизменными все остальные, так же и лингвист
изучает возможность варьирования в высказываниях. По
мере возможности он отбирает высказывания,
различающиеся лишь одним элементом. Если он находит человека,
для которого анализируемый язык является родным, он
1 Блумфилд называл его «изменением слова». Трубецкой (в
«Grundzuge der Phonologie», 31—32, TCLP, 7, Prague, 1939) говорил, что
известные звуки взаимозаменимы. Термин «подстановка» (substitution)
впервые был применен, очевидно, в Америке Моррисом Сводешем (см.
«The phonemic principle» в «Language», 10, 1934, 124 (35)).
253
просит его повторять одно и то же предложение, заменяя
только один элемент. Такая возможность предоставляет
лингвисту преимущества перед специалистами по другим
общественным наукам, которые вряд ли смогут по мере
необходимости так легко организовать повторение
изучаемой ситуации.
3.3. Замена обозначает обычно действительную
подстановку одного отчетливо выделяющегося элемента вместо
другого, например: p и b противопоставляются в pit и
в bit или John и the king of England можно взаимозаменять
поочередно в предложении The king of England opened
Parliament. Путем такого метода проверки можно выделить
любой лингвистический элемент и обнаружить его
потенциальное окружение. Следуя терминологии Уэллса, мы
будем называть выделяемый элемент фокусом (focus), а всю
остальную часть высказывания — окружением
(environment). Можно либо сохранять неизменным фокус и
изменять окружение, либо изменять фокус при неизменном
окружении. Особым типом замены, который не
упоминается в литературе, но который, казалось бы, может быть
наиболее плодотворным, является замена нулем, что будет
называться у нас усечением (excision). В применении к
предложению The king of England opened Parliament, которое
достаточно подробно анализировал Уэллс, такой анализ
приведет к расчленению the king of England на две
составляющих the king и of England и сделает невозможным
другой вариант разложения на the и king of England1.
Последний вариант неосуществим, поскольку можно сказать The
king opened Parliament, но нельзя сказать King of
England opened Parliament. Из двух составляющих—the king и
of England— последнюю можно опустить, а первую нельзя.
Это наблюдение позволяет нам продвинуться в нашем
анализе дальше и отнести элементы the king и of England
соответственно к группам ядра (nucleus) и спутника (satellite),
применяя терминологию Пайка и Питмэна2. Это различие
представляет собой весьма существенную черту анализа
по принципу дистрибуции, так как единственная часть
окружения, релевантная фразе of England, есть ее
1 «Language», 23, 83—84 (187—188). Ср. «Pittman's Premise»,
1(276), где это является единственным способом при определении
«спутника».
2 «Language», 24, 287—292 (275)
254
ядро the king. Другой вид релевантности мы обнаруживаем
при изучении отношений между the king of England и opened
Parliament. Оба наличных фокуса не составляют одно ядро
и одного спутника, но два ядра. Поскольку ни то, ни другое
нельзя опустить, то их можно назвать ядрами-близнецами
(twin nuclei). В предложении Jack and Jill went down the
hill налицо также два ядра в фокусе Jack and Jill. Так
как в этом предложении можно опустить одно из ядер, но
нельзя опустить оба, мы можем назвать такой тип ядер
координированными ядрами (coordinate nuclei). На
фонологическом уровне подобный анализ можно применить
к паре слов типа sit и seat. Sit и seat можно усечь до it
и eat, доказав этим, что начальный согласный является
лишь спутником остальной части слога. Однако конечные
согласные не параллельны, так как t в seat отбросить
можно, a t в sit нельзя. Вследствие этого обстоятельства t в sit
выступает в качестве ядра-близнеца с гласным i. Иными
словами, гласный в sit является связанным, а не свободным
гласным. Попутно следует отметить, что три возможные
типа взаимоотношений, возникающие при анализе по
принципу дистрибуции,— ядро-спутник, ядра-близнецы и
координированные ядра — точно соответствуют основным
«функциям» в метаязыке Ельмслева, которые он называет
детерминацией (а предполагает существование b, но не наоборот),
взаимозависимостью (а предполагает b и наоборот) и
констелляцией (а и b встречаются вместе, но одна величина не
обязательно предполагает наличие другой1). Этот небольшой
образец анализа на основе дистрибуции свидетельствует
о том, что дистрибуция фокуса не является указанием на
все его возможные окружения, а лишь на те, которые
оказываются релевантными в момент проверки посредством
замены. Такой ряд релевантных окружений мы будем
называть обрамлением (frame) данного фокуса; оно
определяется как непосредственные спутники и отнесенные к ним
ядра (related nuclei).
3.4. Анализ по принципу дистрибуции не
ограничивается установлением фокусов и их обрамлений.
Следующим этапом анализа является организация фокусов в более
крупные классы с тем, чтобы было возможно выявить
структуру языка. Благодаря анализу, построенному только
на принципе дистрибуции, можно прийти лишь к сравне-
1 OSG, 23.
255
нию обрамлений. Однако существует еще предварительная
стадия, которая не входила в данный анализ, а именно
идентификация одинаковых фокусов. При этом надо принимать
в расчет как фонетические, так и семантические критерии
идентичности, если мы хотим знать, о чем именно идет
речь. Мы поступаем правильно, когда говорим, что t в latter
противопоставляется d в ladder; однако, если мы не знаем,
чем являются эти t и d с фонетической точки зрения, мы
не можем идентифицировать их ни с чем другим, даже с t
и d в kitty и kiddy. Изолируя фокус -er в sooner, мы должны
иметь понятие о его значении, чтобы решить, к какой группе
слов его присоединить: к группе слов типа later или runner.
В результате сравнения обрамлений возникают проблемы,
аналогичные тем, которые встретились Блоку при
определении окружений в процессе дистрибуции 1. Его основной
принцип заключается в следующем: если два различных
фокуса имеют идентичные обрамления, они находятся
в отношениях свободного варьирования; если у них
несколько одинаковых обрамлений, они противопоставляются
друг другу; если они не имеют общих обрамлений, они
находятся в отношении дополнительной дистрибуции. Однако
проблема идентичности перекрещивается с указанной
схемой в нескольких пунктах. Под «идентичными
обрамлениями» следует понимать не только фонетическое, но и
морфологическое окружение, ибо свободное варьирование
подразумевает в потенции появление любого звука в любом
встретившемся слове. Проконтролировать это практически
невозможно, так что здесь мы сталкиваемся с теоретической
проблемой, неосуществимой на практике. Случается, что
некоторые фокусы, имеющие общее обрамление, находятся
внутри этих обрамлений действительно в состоянии
свободного варьирования, и поэтому Блоку приходится
устанавливать специальную категорию «перекрестной
дистрибуции» (overlapping distribution). Кроме того, он находит,
что иногда фокусы, которые не имеют общих обрамлений,
все же нельзя идентифицировать в силу их фонетической
природы, например начальный и конечный звуки в hang.
Таким образом, для того чтобы установить классы, к чему
стремятся фонемисты, необходимо постоянно прибегать как
к принципу идентичности, так и к дистрибуции. Я не
задаю себе вопроса, какова ценность таких классов, но пола-
1 «Language», 24, 22—26; 26, 89 (330).
256
гаю, следовало бы отметить, что это построения не одно-
плановые, а двуплановые.
3. 5. Двуплановый критерий выступает отчетливо у
Блока в определении фонемы как «класса непротивопостав-
ляемых и фонетически подобных фон» 1. Аналогично
группирует морфы в одну морфему, если они «находятся не
в контрастирующей дистрибуции и имеют одно и то же
значение»2, Хоккетт. Необходимость установить два по
существу несоизмеримых критерия для этих единиц очень
волновала металингвистов и приводила к различным
попыткам уничтожить критерий идентичности. Для
фонематики это означало уничтожение фонетики—решение,
выдвигаемое отдельными представителями Пражской школы.
Ельмслев стремится к такой «лингвистике, теория
выражения которой не была бы фонетикой, а теория содержания
не была бы семантикой»3. Предпринимались попытки
определять классы звуков только с точки зрения дистрибуции;
например, так поступал Ганс Фогт 4, изучая структуру
норвежских односложных слов. Хотя результаты его
исследования оказались интересными, однако они показали,
что фонетическая идентичность не совпадает с
дистрибутивной функцией. Определение гласных по отношению
к согласным с точки зрения слоговой дистрибуции подобно,
но не тождественно фонетическому определению:
например, появляется разница при рассмотрении n в button,
который с точки зрения фонетики является согласным, но
функционирует как слогообразующий. Английские
аффрикаты ch и j обычно рассматривались фонетистами как
двойные звуки; однако фонематисты стали колебаться,
определять ли их как один или как два звука, поскольку
введение критерия дистрибуции побуждало их
рассматривать данные звуки как единичные. Тогда можно сказать,
что в таких английских словах, как bunched и bulged,
только три согласных после гласных. Если бы это было так,
то слова, подобные jinxed, sixths, texts, нужно считать
исключением из этого правила. Кажется, что классы,
установленные с помощью дистрибуции, заметно не совпадают
в своих крайних элементах5. Практически каждое положе-
1 «Language», 26, 90 (331).
2 «Language», 23, 328 (233).
8 OSG, 71.
4 «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», 16, 1939, 1—29.
5 Следует отметить, что Уэллс, описывая классы, установленные
17 Заказ № 1 16
257
ние дистрибуции приводит в итоге к небольшим группам
слов или даже к отдельным словам, нарушающим общее
лравило и вносящим беспорядок в систему. Случается, что
лриходится изучать английский язык в течение ряда лет
(если предположить, что ранее этот язык не имел
письменности), прежде чем удастся обнаружить, что b может
встречаться после m в конечном положении, поскольку два
слова iamb и dithyramb, в которых встречаются эти
сочетания, возможно, попадутся лишь на несколько миллионов
слов сплошного текста. Трудно провести сплошной анализ
на основе дистрибуции, так как при этом необходимо
пользоваться большим количеством языковых систем, тогда как
лри установлении идентичности основных звуковых типов
достаточно проследить эти звуки в лингафонной записи
в течение нескольких часов. Большинство разногласий по
поводу фонематического анализа касается вопроса
примирения принципов дистрибуции и идентичности. Невозможно
связать анализ на основе дистрибуции с чем-либо
конкретным, что стало очевидным, когда лингвистам, проводившим
такой анализ, приходилось менять свои выводы
относительно той или иной языковой системы 1.
3. 6. В морфематике также имеет место стремление
уничтожить двойной критерий анализа и перейти к
единственному критерию дистрибуции. До настоящего времени
это выражалось лишь в теоретических определениях, не
дававших никаких практических результатов 2. Роль
значения в процессе лингвистического описания была сведена
до минимума, и это явилось сначала здоровой реакцией
против злоупотребления значением при установлении лин-
в результате дистрибуции, называет их «лишь приблизительно
совпадающими классами» [«Language», 23', 82 (186)]. Хэррис же предоставляет
лингвисту самому решать, какими классами он будет пользоваться,
чтобы достигнуть «наиболее приемлемого и полного описания»
[«Language», 22, 177 (150)].
1 Так, Трейджер при анализе американского варианта английского
языка в 1940 г. отмечает шесть гласных, а в 1947 — 9 гласных
(«Language», 23, 141). Сводеш в 1935 г. рассматривает американский вариант
английских дифтонгов как единичные фонемы, а в 1947 — как двойные
{«Language», 23, 137). Хоккетт в 1944 г анализировал китайские
придыхательные взрывные как единичные согласные («Spoken Chinese: Basic
course»), а в 1947 — как сочетание сh [JAOS, 67, 258 (221)].
Фонематический анализ японского языка у Блока в 1946 г. включал некоторые
особенности, в частности фонему q, которую он исключил в 1950 г.
[«Language», 26, 112 (342)].
2 Ср. Hосkett, «Language», 23, 327 (233), сн. 20.
.258
гвистических категорий, однако теперь некоторые
лингвисты переоценивают этот момент вплоть до его
фетишизации. Любопытно отметить, что те, кто не принимал во
внимание значение, теперь снова привносят его в анализ под
прикрытием принципа дистрибуции. В связи с анализом
одной формы посредством дистрибуции возникает вопрос о
возможности сочетания ее с другими формами. Так, window,
вероятно, можно было бы отличить от door независимо от
конкретной ситуации, если бы встречалось достаточно
предложений с этими словами. Путем замещения можно было бы
установить (как в игре с двадцатью вопросами), какой из
вариантов имеется в виду. Однако важно отметить, что
такие замещения может сделать только человек, для
которого данный язык является родным, поскольку он знает
значение форм, которые употребляет. В статье,
приводившейся выше, Джуз дает следующее определение значения
на основе дистрибуции: «... собрание всех возможных
случаев сочетания морфемы в контексте с другими
морфемами». Казалось бы, потребуется опыт целой жизни, чтобы
статистически установить возможное Число сочетаний даже
с одной морфемой. Однако «туземец», к которому мы
обратились за информацией относительно значения слова,
научился употреблять его почти в той же дистрибуции, что
и другие лица, говорящие на его языке. То, что «туземец»
дает нам в качестве значения слова, является в
действительности одной из замен, т. е. синонимом или описательным
оборотом, имеющим почти такую же дистрибуцию в языке.
Но он может сделать это только потому, что в его
распоряжении имеется нечто постоянное, с чем он может
соотносить данный вопрос, а именно — его внелингвистический
опыт. Пользуясь определениями «туземца», мы не
применяем сокращенный анализ, как говорят металингвисты, но
исходим из неотъемлемой основы языка — его
символичности. Нам всем не раз приходилось сталкиваться с
фактами неправильного понимания отдельных высказываний.
Это случалось из-за недостаточного ознакомления с
основными фактами общественной ситуации, которые не были
очевидны в форме высказывания. Хэррис рассмотрел
структуру следующего предложения: She made him a good
husband because she made him a good wife1. Он утверж-
1 «Language», 22, 180 (152). Предложение означает: «Она сделала
из него хорошего мужа, так как была ему хорошей женой». Но это вы-
17*
259
дает, что значение этого предложения ясно ввиду наличия
структурного момента, который выражается в том, что
him во второй части предложения можно заменить for him.
Однако с таким же, если не большим, основанием можно
было бы утверждать, что предложение понятно, так как
всякий знает, что мужчина не может быть женой.
3. 7. Постоянное стремление отделять анализ на основе
дистрибуции от определений идентичности свидетельствует
о математической природе критериев дистрибуции.
Техника замены основана на предположении идентичности,
чего не может дать применение только одной дистрибуции.
Как фокус, так и обрамление имеют лишь относительное
значение. Для практических целей мы оставляем
постоянным фокус, но изменяем обрамление. Однако совершенно
ясно, что это лишь удобный рабочий прием. В случае с
фонологическим анализом спектрографическим
исследованием было доказано, что каждая фона подвержена
влиянию ее окружения: как фокус, так и обрамление
представляют собой переменные величины в пределах одной общей
функции. Только когда это отношение привязывается к
какой-либо внешней константе, мы получаем определенную
идентификацию лингвистического описания. Это становится
очевидным при фонемном анализе, при котором мы получаем
критерий для идентификации фон только тогда, когда
определим их окружение. Но мы не можем определить их
окружение, пока не идентифицируем фоны. Поскольку
границы морфем являются частью их окружения,
нецелесообразно полностью отделять фонемный анализ от
морфемного. Леопольд показал, что в немецком языке либо надо
сначала анализировать такие слова, как Frauchen и
Kuhchen, по двум морфемам, либо рассматривать палатальный
и велярный спиранты в ich и ach как отдельные фонемы 1.
Очевидно, нельзя обойти и замечание Пайка о том, что при
фонемном анализе следует прибегать к помощи
морфологических критериев, если нельзя найти внешние объективные
критерии, которые соотнесли бы фонемы или морфемы с
какими-нибудь данными объективной действительности 2.
Анализу по непосредственным составляющим, как отмечает
ражено недостаточно ясно: повторяя конструкцию первой части,
вторая— допускает толкование: «так как сделала из него хорошую
жену».—Прим. ред.
1 «Language», 24, 179 (216).
2 «Word», 3, 1947, 155—172.
260
Уэллс, свойствен известный порочный круг; так, анализ,
проводимый на базе составляющих определенных
высказываний, предполагает, что характеристика всех
высказываний на этом языке дана заранее 1. Такая замкнутость
методов исследования в порочном кругу и послужила
причиной постоянных упреков по адресу металингвистов.
Казалось, что они прибегают к произвольным и недостаточно
обоснованным принципам анализа, для которых
характерна скорее эстетическая, чем научная ценность, и
которые способствуют скорее элегантности стиля, чем
научности исследования. Теперь, возможно, мы признаем,что
это свойственно применению критериев дистрибуции.
Порочный круг, по-видимому, является недостатком не
столько лингвистики, сколько математики. Математика замкнута
в себе, поскольку значение ее построений не зависит от
существования какой-либо определенной реальности.
4. Металингвисты проявили нетерпимость к
критериям идентичности, пытаясь исключить из цикла
лингвистических наук те дисциплины, которые первоначально
к ним относились. Ельмслев пишет о «так называемой
лингвистике», которая в отличие от его лингвистики не
базируется на критериях, внутренних по отношению к
описываемому языку 2. Трейджер определяет фонетику как «прелин-
гвистику». За настоящей лингвистикой он может признать
только анализ языковых систем 3. Уже Блумфилд
исключал семантику из лингвистики как нелингвистическую
дисциплину по существу. В настоящей работе я пытался
доказать, что анализ на основе принципов дистрибуции
должен проводиться одновременно с фонетической и
семантической идентификацией в любом общем описании языка.
Поэтому я не могу принять положение металингвистов
о том, что только отношения (или функции [по Ельмслеву])
являются релевантными 4. Хотя вклад металингвистов в
языкознание и значителен, однако их роль в лингвистике
до известной степени сходна с ролью математики в физике.
Расхождение между «математическими» лингвистами и «фи-
1 «Language», 23, 81 (186).
2 OSG, 7.
3 «The field of linguistics», 4.
4 Интересно отметить, что даже ученица Ельмслева Эли Фишер-
Йоргенсен возвращается в конечном итоге к фонетическому тождеству
(la parente phonique). Ср. «Travaux du Cercle linguistique de
Copenhague», 5, 227.
261
зическими» лингвистами, которых я назвал бы просто
лингвистами, постоянно увеличивается. Лингвист должен не
только изучать взаимоотношения лингвистической формы,
но он должен быть до некоторой степени ученым-физиком,
изучающим фонетическую сторону языка, и в какой-то
степени социологом, изучающим семантику. Джуз
предлагал передать фонетику физикам, а семантику социологам 1.
Я не нахожу никаких доказательств того, что он сам хочет
следовать этому совету, и я попытался показать, что этого
делать нельзя. Мы должны черпать из указанных наук
различные данные, и связь лингвистических отношений
с конкретными данными органов чувств все еще является
неотъемлемой частью нашей науки. Другие данные не
могут показать, какие аспекты звука и значения релевантны
нашим символам, а также почему наши символы должны
быть релевантны в различных контекстах. И металингви-
стам и «физическим» лингвистам придется продолжать свое
сотрудничество, если мы стремимся создать лингвистические
системы, не замкнутые в порочный круг.
4. 1. В заключение я хотел бы вернуться к своей
первоначальной теме металингвистического единства. Хоккетт
определил цель дискуссии по металингвистике как
достижение «большего взаимопонимания среди авторов
грамматик и, таким образом, более точного описания изучаемых
языков»2. Это, конечно, очень серьезная цель. Однако в
настоящее время в связи с тенденцией к экономии в
высказывании многие описания стали совершенно непонятны для
лингвистов других школ. Современные описания
напоминают логику символов и полностью лишены достоинств
спокойного чарующего стиля традиционных грамматик. Я не
намерен рекомендовать возврат к этим грамматикам, однако
хотел бы напомнить, что экономия средств выражения
не всегда является достоинством. Иногда она является
результатом бедности языка, и в любом случае ее
приходится заменять обильным применением реальных звуков
и значений, если только дело касается практического
использования. Я не думаю, что настоящая дискуссия
сможет установить преимущество одного типа анализа перед
другим. Только нелингвистические цели могут определить,
какой вид анализа наилучший. Однако металингвисты сде-
1 Цит. работа, 22, 708 (356).
2 «Language>, 23, 341 (240), fn. 38.
262
лали большое дело, создав метаязык, с помощью которого
мы можем говорить о различных типах анализа, а также
установить расхождение ученых прошлого. Было бы
желательно, чтобы все ученые собрались вместе и выработали
практически применимый международный язык для целей
металингвистики, вместо того чтобы поддерживать
настоящий «Вавилон» 1.
4. 2. Независимо от того, каким метаязыком мы будем
пользоваться, целью нашего исследования является
изучение структуры языка в употреблении «туземцев» 2.
Чтобы мы ни подразумевали под «структурой», мы можем быть
абсолютно уверены, что она так же не похожа на язык, как
описание яблока у ботаника не похоже на само яблоко.
Вы не можете съесть описание яблока, созданное ботаником,
так же как не можете разговаривать на описании языка,
сделанном лингвистом. Но как только вы встретитесь с
яблоком или языком, вы сможете с помощью хорошего
описания не только идентифицировать их, но и заранее знать об
их наиболее характерных признаках, связанных с
чувственными восприятиями.
1 Из сказанного выше явствует, что я согласен с критикой теории
Ельмслева, изложенной Карлом X. Боргстрёмом в «The technique of
linguistic» («Acta linguistica», 5, 1945—1949, 1—14 и в «A problem of
methods in linguistic science: The meaning of its technical terms»,,
«Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», 14, 1947, 191—228.
2 Cp. Hockett, A noteon'structure', UAL, 14, 1948, 269—271
(279).
Луи Ельмслев
ПРОЛЕГОМЕНЫ К ТЕОРИИ ЯЗЫКА1
1. Изучение языка и теория языка
Язык — человеческая речь — неисчерпаемый запас
разнообразных сокровищ. Язык неотделим от человека и
следует за ним во всех его действиях. Язык — инструмент,
посредством которого человек формирует мысль и чувство,
настроение, желание, волю и деятельность, инструмент,
посредством которого человек влияет на других людей, а
другие влияют на него; язык — первичная и самая
необходимая основа человеческого общества. Но он также
конечная, необходимая опора человеческой личности, прибежище
человека в часы одиночества, когда разум вступает в борьбу
с жизнью и конфликт разряжается монологом поэта и
мыслителя. До первого пробуждения нашего сознания язык
был нашим эхом, готовым отразить первый нежный лепет
нашей мысли и неразлучно сопровождать нас повсюду, от
простой повседневной деятельности до наиболее тонких и
интимных мгновений — тех мгновений, из которых мы
черпаем тепло и силу в каждодневной жизни благодаря
власти памяти, которую дает нам тот же язык. Но язык—не
внешнее, сопровождающее человека явление. Он глубоко
связан с человеческим разумом. Это — богатство памяти,
унаследованное личностью и племенем, бодрствующее
сознание, которое напоминает и предостерегает. И речь
представляет собой характерную черту личности в хорошем и
плохом ее проявлении, отличительный признак семьи и
нации, свидетельство человеческого благородства. Язык
1 Настоящая работа Луи Ельмслева была опубликована впервые в
1943 г. на датском языке под названием «Omkring sprogteoriens
grundlaeggelse». В 1953 г. вышел ее английский перевод под
названием «Prolegomena to a theory of language». Ввиду того что
последний авторизован, и Луи Ельмслев внес в него некоторые
библиографические дополнения и уточнения терминологического порядка,
настоящий перевод предпринят с английского издания.—Прим. ред.
264
настолько глубоко пустил корни в личность, семью, нацию,
человечество и саму жизнь, что мы иногда не можем
удержаться от вопроса, не является ли язык не просто
отражением явлений, но их воплощением — тем семенем, из
которого они выросли!
В силу этих причин язык всегда привлекал внимание
человека, ему удивлялись и его описывали в поэзии и в науке.
Наука стала рассматривать язык как последовательность
звуков и выразительных жестов, доступных точному
физическому и физиологическому описанию и выступающих как
знаки для явлений сознания. Наука путем
психологических и логических интерпретаций искала в языке
изменчивость человеческой психики и постоянство мысли;
первую—в развитии и прихотливых изменениях языка,
последнее — в его знаках, два рода которых были установлены:
слово и предложение, являющиеся очевидными символами
для понятия и суждения. Язык, рассматриваемый как
знаковая система и как устойчивое образование, используется как
ключ к системе человеческой мысли, к природе
человеческой психики. Рассматриваемый как надиндивидуальное
социальное учреждение, язык служит для
характеристики нации. Рассматриваемый как колеблющееся и
изменяющееся явление, он может открыть дорогу как к
пониманию стиля личности, так и к событиям жизни прошедших
поколений. На язык ныне смотрят как на ключевую
позицию, которая открывает перспективы во многих
направлениях.
Таким образом, язык, даже если он является объектом
научного изучения, оказывается не целью,а средством:
средством познания, основной объект которого лежит вне
самого языка, хотя, возможно, этот объект полностью
достижим только через язык; причем само исследование
строится на основе иных предпосылок, чем те, которые
требуются языком. Язык становится средством трансцендентного
познания (в собственном и этимологическом смысле слова
трансцендентный), а не целью имманентного знания. Так,
физическое и физиологическое описание звуков речи легко
вырождается в чистую физику или чистую физиологию, а
психологическое и логическое описание знаков (слов и
предложений) — в чистую психологию, логику и
онтологию, в результате чего исходный лингвистический пункт
выпадает из поля зрения. Указанное подтверждается
историческим опытом. Но даже там, где это непосредственно не
265
имеет места, все же физические, физиологические,
психологические и логические явления, взятые сами по себе, еще не
составляют языка; они представляют собой только
бессвязные, внешние грани его, выбранные как объекты изучения
не ради самого языка, но ради явлений, на которые язык
направлен. Это справедливо и в том случае, когда язык
рассматривается на основе данных описаний как ключ к
пониманию социальных условий и к реконструкции
доисторических отношений народов и наций.
Все сказанное здесь говорилось не для того, чтобы
уменьшить ценность приведенных точек зрения или всей
проделанной работы, но для того, чтобы указать на реальную
опасность: в ревностном стремлении к цели нашего знания
мы можем забыть о средстве познания — о самом языке.
Эта опасность реальна потому, что невнимание к языку
вызывается самой природой языка, который прежде всего
является средством познания, а не его целью. Только
искусственно можно направить ищущий луч света на само
средство познания. Это относится в равной мере как к
житейской практике, где на языке, как правило, не
концентрируется внимание, так и к научному исследованию. Давно
стало ясно, что наряду с филологией,где изучение языка и его
памятников есть средство познания литературных явлений
и исторических событий, должна существовать
лингвистика—наука о языке и его текстах как таковых. Но от
замысла до исполнения путь долог. Язык и на этот раз
разочаровал сторонников научного подхода. То, что составляло
главное содержание традиционной лингвистики — история
языка и генетическое сравнение языков, — имело своей
целью не столько познание природы языка, сколько
познание исторических и доисторических социальных
условий и контактов между народами, т. е. знание,
добытое с помощью языка как средства. Но все это также
филология. Правда, часто кажется, что, оставаясь в пределах
внутренних технических приемов сравнительной
лингвистики этого рода, мы изучаем сам язык, но это только
иллюзия. В действительности мы изучаем disiecta membra, т. е.
разрозненные части языка, которые не позволяют нам
охватить язык как целое. Мы изучаем физические и
физиологические, психологические и логические, социологические
и исторические проявления языка, но не сам язык.
Чтобы создать истинную лингвистику, которая не есть
лишь вспомогательная наука, нужно сделать что-то еще.
266
Лингвистика должна попытаться охватить язык не как
конгломерат внеязыковых (т. е. физических, физиологических,
психологических, логических, социологических) явлений,
но как самодовлеющее целое, структуру sui generis.
Только таким образом язык как таковой может
рассматриваться научно, не разочаровывая своих исследователей и не
ускользая из их поля зрения.
В конечном счете значение подобной попытки может
быть определено посредством того влияния, которое такая
лингвистика способна оказывать на различные
трансцендентные точки зрения — на филологию и на то, что до сих
пор считалось лингвистикой. В частности, с помощью
подобного рода лингвистической теории можно создать
единую основу для сравнения языков. Последняя даст
возможность устранить тот провинциализм в образовании понятий,
который является уделом филологов; таким путем будет
фактически построена действительная и рациональная
генетическая лингвистика. В результате значение подобной
лингвистики независимо от того, будет ли структура языка
приравнена к структуре действительности или взята как
более или менее деформированное отражение ее, может
быть также оценено величиной ее вклада в общую
эпистемологию.
Итак, необходимо построить теорию языка, способную
открыть и сформулировать предпосылки лингвистики
подобного рода, установить ее методы и обозначить ее пути.
Настоящая работа представляет собой введение в такую теорию-
Изучение языка с разнообразными, в сущности
трансцендентными, целями имело многих приверженцев; теория
языка с ее чисто имманентными целями — немногих.
В этой связи теорию языка не следует смешивать с
философией языка. Как и в истории других дисциплин, в
истории языкознания засвидетельствованы попытки дать
философское обоснование действительной практике
исследования, а в связи с интересом к основам лингвистики,
выросшим за последние годы, некоторым трансцендентным видам
лингвистики были предпосланы предполагаемые системы
аксиом1. В то же самое время рассуждения в области лин-
1 L. Bloomfield, A set of postulates for the science of language,.
«Language», II, 1926, p. 153—164; Karl Buhler, Sprachtheorie, Jena,
1934, id. Die Axiomatik der Sprachwissenschaften, «Kantstudien»,.
XXXVIII, 1933, p. 19-90.
267
гвистической философии очень редко имели сколько-нибудь
точную форму или осуществлялись систематически с
широким охватом материала, и весьма редко проводились
исследователями с достаточной подготовкой как в области
лингвистики, так и эпистемологии. Большинство
подобных рассуждений можно отнести к категории
субъективных, и поэтому ни одно из них не получило сколько-нибудь
значительного признания, за исключением, может быть,
временного, когда они становились довольно
поверхностными модными течениями. По этой причине история
теории языка не может быть написана и ее эволюция не
может быть прослежена—она слишком непоследовательна.
Поэтому многие рассматривают попытки создания теории
языка как пустое философствование и дилетантство, для
которого характерен априоризм. Такой приговор
представляется справедливым, поскольку дилетантское и априорное
философствование действительно преобладали в этой
области и так утвердились в ней, что со стороны становилось
трудно отличить истинное от ложного.
Настоящая работа, возможно, докажет, что подобные
характеристики не являются внутренне необходимыми для
любой попытки построения лингвистической теории. Мы
наилучшим образом достигнем этой цели, если до некоторой
степени забудем прошлое и начнем сначала со всех тех
случаев, где в прошлом не было получено положительных
результатов. В значительной мере мы будем основываться
на том же экспериментальном материале, который
рассматривался и в предшествующих изысканиях, на материале,
который, будучи взят в новой интерпретации, представит
объект языковой теории. Мы должны открыто признать
нашу зависимость от предшественников там, где
очевидные результаты были достигнуты другими учеными. В
качестве первооткрывателя должен быть назван лингвист-
теоретик швейцарец Фердинанд де Соссюр \
Чрезвычайно важная подготовительная работа по
созданию лингвистической теории, представленной здесь,
была проведена некоторыми членами Копенгагенского
лингвистического кружка, особенно X. Й. Ульдаллем в
1 Ferdinand de Saussure, Cours de lirguistiquegenerale, publ.
par Ch. Bally и Alb. Sechehaye. Paris, 1916, 2 ed., 1922, 3 ed., 1931;
русск. изд., M., Соцэкгиз, 1933.
268
1934—1939 гг.1 Уточнению некоторых основных
предпосылок теории помогли обсуждения Копенгагенского
философского и психологического общества и, кроме того,
детальный обмен мнениями с Йоргеном Йоргенсеном и Эдгаром
Транекьер Расмуссеном. Ответственость за настоящую
работу несет только автор.
2. Лингвистическая теория и гуманитарные науки
Лингвистическая теория, интересующаяся
специфической структурой языка и исходящая исключительно из
формальной системы предпосылок, не должна придавать
исключительного значения отклонениям и изменениям в речи,
хотя она и вынуждена принимать их во внимание; она
должна искать постоянное, несвязанное с какой-либо внеязы-
ковой «реальностью», то постоянное, что делает язык языком,
каким бы он ни был, и что отожествляет любой
конкретный язык с самим собой во всех его различных проявлениях.
Когда это постоянное найдено и описано, оно может быть
спроецировано на «реальность» вне языка, какого бы рода
ни была эта «реальность» (физическая, физиологическая,
психологическая, логическая, онтологическая), так что
даже при рассмотрении «реальности» язык остается главным
объектом, и не конгломератом, но организованным целым
с языковой структурой как ведущим принципом.
Поискам такого обобщающего и интегрирующего
постоянного, несомненно, будет противостоять определенная
традиция гуманитарных наук, которая в различных
обличиях до сих пор преобладает в лингвистической науке.
В своей типичной форме гуманитарная традиция отрицает
a priori существование постоянного и законность его
поисков. Согласно этой точке зрения, общественные явления в
противоположность естественным непериодичны и по самой
этой причине не могут, как это имеет место с
естественными явлениями, быть объектом точного и обобщенного
изучения. В области гуманитарных наук якобы должен
применяться другой метод, а именно чистое описание, которое
обычно бывает ближе к поэзии, чем к точной науке, или, во
всяком случае, метод, ограничивающий себя простым
изложением, при котором явления перечисляются одно за
1 Изложение теории дано в книге L. Hjelmslev & H. J.
Uldall, An outline of glossematics, «Travaux du Cercle linguistique
de Copenhague». Первая часть этой работы включена в настоящий
сборник (см. далее).— Прим. ред.
269
другим без всякой попытки интерпретации через систему.
У историков этот тезис выдвигается в качестве доктрины,
и он действительно кажется основой истории в ее
классической форме. Соответственно те дисциплины, которые,
возможно, следовало бы назвать наиболее гуманитарными —
изучение литературы и искусства,— также до сих пор
являются скорее исторически-описательными, чем
систематизирующими предметами. В некоторых областях можно
заметить тенденцию к систематизации, но история и
наряду с ней гуманитарные науки в целом, по-видимому, еще
далеки от готовности признать законность и возможность
такой систематизации.
A priori во всех случаях справедливым кажется тезис о
том, что для каждого процесса (в том числе и
исторического) можно найти соответствующую систему, на основе
которой процесс может быть проанализирован и описан
посредством ограниченного числа предпосылок. Следует
предположить, что любой процесс может быть разложен на
ограниченное число элементов, которые постоянно
повторяются в различных комбинациях. Затем эти элементы
могут быть объединены в классы по их комбинационным
возможностям. И наконец, в дальнейшем, очевидно, можно
построить всеобщее и исчерпывающее исчисление (calculus)
возможных комбинаций. История, в частности,
построенная таким образом, поднялась бы над уровнем чисто
примитивного описания, став систематичной, точной и
дедуктивной наукой, в теории которой все события (возможные
комбинации элементов) предвидятся, а условия их
осуществления устанавливаются заранее.
Кажется бесспорным, что, не пытаясь испробовать этот
тезис в качестве рабочей гипотезы, гуманитарные науки
пренебрегают своей наиболее важной задачей — стремлением
превратить исследование общественных явлений в науку. Нужно
понять, что исследованию общественных явлений
приходится выбирать между поэтической концепцией как
единственно возможной, с одной стороны, и поэтической и
научной концепциями как двумя соотносительными формами
описания, с другой стороны; следует также усвоить, что
выбор зависит от проверки правильности тезиса о том, что
в основе процесса лежит определенная система.
Казалось бы, a priori, язык является объектом, для
которого результат проверки этого тезиса должен быть
положительным.
270
Чисто описательный подход к исследованию
лингвистических явлений, видимо, не может вызвать значительного
интереса, и поэтому всегда чувствовалась потребность в
дополнительной, систематизирующей точке зрения: в
совокупности текстов искали фонетическую систему,
семантическую систему, грамматическую систему. Но до сих пор
лингвистическая наука, взращиваемая филологами с
трансцендентной целью (с целью, находящейся вне языка) и
под сильным влиянием гуманитарных наук, отрицавших
значение системы, не смогла выполнить анализ до конца,
сделать ясными его предпосылки или установить единый
принцип анализа, и поэтому он остался приблизительным и
субъективным, метафизическим и эстетствующим, не говоря уже о
тех случаях, когда он становился совершенно анекдотическим.
Цель лингвистической теории — испытать,
по-видимому, на исключительно благоприятном объекте тезис о том,
что существует система, лежащая в основе процесса,—
постоянное, лежащее в основе изменений. Голоса,
поднятые заранее против такой попытки в области гуманитарных
наук, совершенно априорно убеждающие, что мы не можем
подвергнуть духовную жизнь человека и связанные с ней
явления научному анализу, не убив этой жизни и не дав
тем самым нашему предмету ускользнуть от рассмотрения,
не могут удержать ученых от этой попытки. Если попытка
не удастся — не в частности, а в принципе,— тогда эти
возражения окажутся резонными и общественные явления
придется рассматривать только субъективно и по
эстетическим меркам. Если, однако, попытка удастся — и
принцип окажется практически применимым,— тогда эти голоса
смолкнут сами собой и останется только провести
соответствующие эксперименты в других гуманитарных областях.
3. Лингвистическая теория и эмпиризм
Теория получит свою простейшую форму, будучи
построена лишь на тех предпосылках, которых обязательно
требует ее объект. Более того, чтобы удовлетворять своей
цели, теория во всех ее применениях должна обнаружить
результаты, согласующиеся с так называемыми
(действительными или предполагаемыми) экспериментальными
данными. В этом пункте каждая теория сталкивается с
методическим требованием, содержание которого должно
изучаться эпистемологией. Такое изучение, мы думаем, здесь
может быть опущено. Нам кажется, что требование, приб-
271
лизительно сформулированное нами выше (требование так
называемого эмпиризма), будет удовлетворять изложенным
ниже принципам. В соответствии с этим принципом, кото-
рый мы ставим во главу всех остальных, наша теория сразу
становится четко отличима от всех предшествующих
попыток построения философий языка.
Описание должно быть свободным
от противоречий
(самоудовлетворяющим), исчерпывающим и предельно
простым. Требование
непротиворечивости предшествует требованию
исчерпывающего описания. Требование
исчерпывающего описания
предшествует требованию простоты.
Мы рискнем назвать этот принцип эмпирическим
принципом. Но мы намерены отказаться от этого названия, если
эпистемологические исследования покажут его
неприемлемость. С нашей точки зрения, это чисто терминологический
вопрос, не влияющий на содержание принципа.
4. Лингвистическая теория и индукция
Утверждение нашего так называемого эмпирического
принципа не равно утверждению индуктивизма, под
которым понимается требование постепенного перехода от
частного к общему, или от более ограниченного к менее
ограниченному, Здесь мы снова оказываемся в области терминов,
требующих эпистемологического анализа и уточнения, на
этот раз терминов, которые мы сами в дальнейшем будем
иметь случай использовать более точно, чем это можно
сделать сейчас. И здесь снова придется произвести
терминологический расчет с эпистемологией. В данный момент мы
заинтересованы в выяснении нашей позиции по отношению
к позиции предшествующей лингвистики. В своей типичной
форме эта лингвистика идет в образовании своих понятий
от отдельных звуков к фонемам (классам звуков), от
отдельных фонем — к категориям фонем, от различных
индивидуальных значений — к общим основным значениям, а от
последних — к категориям значений. Процедуру такого
рода в лингвистике мы называем обычно индуктивной. Она
может быть кратко определена как переход от сегмента к
классу, а не от класса к сегменту. Это синтетическое, а не
аналитическое движение, обобщающий, а не
специфицирующий метод. Сам опыт с очевидностью показывает недостат-
272
ки данного метода. Он неизбежно ведет к отвлечению
понятий, которые затем рассматриваются как реальность.
Этот реализм (в средневековом смысле слова) не может дать
полезной основы для сравнения, так как понятия,
полученные подобным образом, не являются общими и поэтому не
могут быть вынесены за пределы отдельного
конкретного языка. Вся унаследованная нами терминология
страдает от этого ущербного реализма.
Полученные путем индукции понятия таких
грамматических классов, как «родительный падеж», «перфект»,
«сослагательное наклонение», «пассив» и т. д., дают яркие
примеры подобных явлений. Ни одно из таких понятии,
в том виде, в каком они были использованы до сих пор, не
допускает общего определения: родительный падеж,
перфект, сослагательное наклонение и пассив—совершенно
различные явления в двух разных языках (например, в
латинском и в греческом). Зто же верно (без всякого
исключения) и для остальных понятий традиционной лингвистики.
В этой области индукция ведет, таким образом, от
изменчивого не к постоянному, а к случайному. Она поэтому в
конце концов вступает в противоречие с эмпирическим
принципом, который мы установили: она (индукция) не
может обеспечить непротиворечивого и простого описания.
Если мы исходим из некоторых экспериментальных
данных, то они подсказывают обратную процедуру.
Единственно, что дается исследователю языка в качестве
исходного пункта (мы излагаем это в традиционной форме по
причинам эпистемологического характера), так это текст
в своей нерасчлененной и абсолютной целостности. Нашей
единственно возможной процедурой, если мы хотим
построить систему для процесса, представленного этим текстом,
будет анализ, при котором текст рассматривается как класс,
разделенный на сегменты. Затем эти сегменты в качестве
классов в свою очередь делятся на сегменты и так далее
до тех пор, пока анализ не будет закончен. Поэтому данная
процедура может быть определена кратко как переход от
класса к сегменту, а не от сегмента к классу, как
аналитическая и специфицирующая, а не как синтетическая и
обобщающая, как движение, противоположное индукции в
том смысле, какой этот термин приобрел в лингвистике.
В современной лингвистике, если только в ней осознается
это противопоставление, такого рода процедура или
приближение к ней обозначается термином дедукция. Такое упо-
18 Заказ № 116
273
требление термина беспокоит эпистемологов, но мы будем
его придерживаться, поскольку надеемся позднее показать,
что возражения терминологического порядка в данном
вопросе могут быть преодолены.
5. Лингвистическая теория и реальность
С помощью избранных нами терминов нам удалось
определить метод лингвистической теории как необходимо
эмпирический и дедуктивный и тем самым осветить одну
сторону первостепенного вопроса об отношении языковой
теории к так называемым опытным данным. Однако нам еще
осталось осветить другую сторону того же вопроса. Иными
словами, мы должны выяснить, являются ли возможные
зависимости между теорией и ее объектом (или объектами)
взаимными или односторонними. В упрощенной,
преднамеренно наивной форме проблема может быть
сформулирована следующим образом: объект ли определяет теорию и
воздействует на нее или же теория определяет свой объект
и воздействует на него?
Здесь мы также должны отказаться от рассмотрения
чисто эпистемологической проблемы во всем ее объеме и
сосредоточить наше внимание на наиболее важном для нас
аспекте. Совершенно ясно, что слово теория, которое часто
употребляется неправильно и небрежно, может быть
понято по-разному. Теория может означать в числе прочих
вещей систему гипотез. Если слово взято в этом
распространенном теперь смысле, ясно, что зависимость между
теорией и объектом односторонняя: объект определяет
теорию и воздействует на нее, но не наоборот. Гипотезы могут
оказаться при проверке правильными или
неправильными. Но, возможно, читатель уже заметил, что мы
употребляем слово теория в другом смысле. В этой связи
одинаково важное значение имеют два следующих фактора:
1. Теория в нашем смысле сама по себе независима от
опыта. Сама по себе она ничего не говорит ни о возможности
ее применения, ни об отношении к опытным данным. Она
не включает постулата о существовании. Она представляет
собой то, что было названо чисто дедуктивной системой,
в том смысле, что она одна может быть использована для
исчисления возможностей, вытекающих из ее
предпосылок.
2. С другой стороны, теория включает ряд предпосылок,
о которых из предшествующего опыта известно, что они
274
удовлетворяют условиям применения к некоторым опытным
данным. Эти предпосылки наиболее общи и могут поэтому
удовлетворять условиям применения к большому числу
экспериментальных данных.
Первый из этих факторов мы назовем
произвольностью теории, второй — пригодностью теории. При
создании теории необходимо считаться с обоими факторами, но
из сказанного следует, что экспериментальные данные
никогда не могут усилить или ослабить теорию, они могут
усилить или ослабить только ее пригодность.
Теория позволяет нам выводить теоремы, которые
должны иметь форму импликаций (в логическом смысле) или быть
переводимыми в такую условную форму. Подобная теорема
утверждает только, что при выполнении некоторого
условия данное суждение справедливо. Применение теории
покажет, выполняется ли это условие в каждом случае.
На основе теории и ее теорем мы можем построить
гипотезы (включая так называемые законы), судьба которых
в противоположность судьбе самой теории зависит
исключительно от их проверки.
Здесь ничего не говорилось об аксиомах или постулатах.
Мы предоставляем решать эпистемологам, необходимы ли
лингвистической теории какие-либо предпосылки, за
исключением открыто вводимых этой теорией. Однако
предпосылки языковой теории уводят нас далеко назад. В результате
предпосланные ей аксиомы имеют столь общий характер,
что кажется, будто ни одна из них не может быть
характерной для лингвистической теории в противоположность
другим теориям Это объясняется тем, что мы ставили своей
задачей проследить (не выходя за пределы того, что
представляется непосредственно относящимся к лингвистической
теории), насколько далеко уходят наши предпосылки. Мы
вынуждены поэтому до некоторой степени вторгнуться в
область эпистемологии, как мы поступали и в
предшествующих разделах. Мы убеждены, что невозможно построить
теорию определенной науки без активного сотрудничества
с эпистемологией.
Таким образом, лингвистическая теория единовластно
определяет свой объект при помощи произвольного и
пригодного выбора (strategy) предпосылок. Теория
представляет собой исчисление, состоящее из наименьшего числа
наиболее общих предпосылок, из которых ни одна
предпосылка, принадлежащая теории, не обладает аксиоматиче-
18*
275
ской природой. Исчисление позволяет предсказывать
возможности, но ничего не говорит об их реализации. Таким
образом, если подобная лингвистическая теория
соотносится с понятием реальности, ответ на сформулированные
выше вопросы—объект определяет свою теорию и влияет на
нее или же наоборот — будет иметь двоякий смысл: в силу
своей произвольной природы теория не реалистична; в силу
своей пригодности она реалистична (слово реализм берется
здесь в современном, а не в средневековом, как
указывалось выше, смысле).
6. Цель лингвистической теории
Можно сказать, что теория в нашем смысле слова
направлена на создание процедуры, посредством которой
объекты определенной природы могут быть описаны
непротиворечиво и исчерпывающе. Такое непротиворечивое и
исчерпывающее описание ведет к тому, что обычно
называется знанием или пониманием исследуемого предмета.
Таким образом, в некотором смысле мы можем также сказать,
не опасаясь запутать и затемнить дело, что цель теории —
указать процедуру, дающую познание или понимание
данного объекта. Но в то же время предполагается, что теория
не только дает нам средство познания одного определенного
объекта. Она должна быть построена таким образом, чтобы
дать нам возможность познать все мыслимые объекты той
же самой природы, что и рассматриваемый объект. Теория
должна быть общей в том смысле, что она должна снабдить
нас инструментами для понимания не только данного
объекта или объектов, исследованных до этого, но всех
мыслимых объектов определенной природы. Теория вооружает
нас для встречи не только с теми случаями, которые
встречались нам ранее, но и с любым возможным случаем.
Объекты, интересующие лингвистическую теорию,—
суть тексты. Цель лингвистической теории — создать
процедурный метод, с помощью которого можно понять
данный текст, применяя непротиворечивое и
исчерпывающее описание. Но лингвистическая теория должна также
указать, как с помощью этого метода можно понять любой
другой текст той же самой природы. И она делает это,
снабжая нас инструментом, который может быть использован для
любого подобного текста.
Например, нам нужна лингвистическая теория, дающая
возможность непротиворечиво и исчерпывающе описать
276
не только данный датский текст, но также все другие
данные датские тексты, и не только все данные, но также все
мыслимые или возможные датские тексты, включая тексты,
которые еще не будут существовать до какого-то момента,
но которые являются текстами того же рода, т. е.
текстами той же предпосланной природы, что
рассматривались до сих пор. Лингвистическая теория
удовлетворяет этому требованию, базируясь на датских текстах,
существовавших до сих пор. И поскольку даже эти
последние чрезвычайно велики числом и протяженностью, надо
довольствоваться некоторой выборкой из них. Пользуясь
инструментом лингвистической теории, мы можем
извлечь из выборки текстов запас знаний, который снова
можно использовать на других текстах. Эти знания касаются
не только и не столько процессов или текстов, из которых
они извлечены, но системы или языка, на основе которой
(или которого) построены все тексты определенной природы
и с помощью которой (или которого) мы можем строить
новые тексты. Посредством лингвистической информации,
полученной нами таким образом, мы сможем построить любые
мыслимые или теоретически возможные тексты на одном и
том же языке.
Однако лингвистическая теория должна использоваться
не только для описания и предсказания любого возможного
текста, составленного на определенном языке; на основе
информации, которую она (теория) дает о языке вообще,
она должна быть полезна для описания и предсказания
любого возможного текста на любом языке. Лингвист-теоретик
должен, конечно, одинаковым образом попытаться
удовлетворить оба эти требования, исходя из некоторой выборки
текстов на различных языках. По-видимому, было бы
невозможным для человека проработать все существующие
тексты, и, более того, этот труд был бы напрасным, поскольку
теория должна распространяться также и на еще
несуществующие тексты. Лингвист-теоретик, как и всякий другой
теоретик, должен предвидеть все мыслимые возможности —
представить эти возможности, которые он сам не испытал и
не видел, реализованными, хотя некоторые из них,
вероятно, никогда не будут реализованы. Только таким образом
можно создать лингвистическую теорию, которую с
уверенностью можно применять.
В силу своей пригодности работа над лингвистической
теорией всегда эмпирична; в силу своей произвольности она
277
связана с исчислением. Исходя из ряда опытных данйых,
которые по необходимости являются ограниченными (даже
если они будут в высшей степени разнообразными),
лингвист-теоретик строит исчисление всех мыслимых
возможностей в определенных рамках. Эти рамки он конструирует
произвольно: он открывает некоторые свойства,
существующие во всех тех объектах, которые люди соглашаются
называть языками, чтобы затем обобщить эти свойства и
фиксировать их посредством определения. С этого момента
лингвист-теоретик сам предписывает — произвольно, но также
удовлетворяя принципу пригодности,— к каким объектам
его теория может применяться, а к каким нет. Затем он
строит для всех объектов, природа которых удовлетворяет
определению, общее исчисление, учитывающее все
мыслимые случаи. Исчисление, дедуцируемое из установленного
определения независимо от какого-либо опыта, создает
инструмент для описания и понимания данного текста и
языка, на основе которого этот текст построен.
Лингвистическая теория не может быть проверена (подтверждена или
оценена) этими существующими текстами и языками. Она
может только контролироваться испытаниями,
проверяющими, является ли исчисление непротиворечивым и
исчерпывающим.
Если благодаря такому общему исчислению
лингвистическая теория заканчивается построением нескольких
возможных процедур, каждая из которых может обеспечить
непротиворечивое и исчерпывающее описание любого данного
текста и поэтому любого языка, то тогда среди этих процедур
должна быть выбрана процедура, дающая наипростейшее
описание. Если несколько методов представляют в равной
степени простые описания, должен быть выбран тот метод,
который приводит к конечным результатам путем
наипростейшей процедуры. Этот принцип, выводимый из нашего
так называемого «эмпирического принципа», мы назовем
принципом простоты.
Опираясь на этот принцип и соотносясь только с ним,
мы сможем придать смысл утверждению о том, что одно
непротиворечивое и исчерпывающее решение правильно, а
другое неправильно. Решение считается правильным, если оно
в наибольшей степени удовлетворяет принципу простоты.
В этом случае мы можем контролировать
лингвистическую теорию и ее применение, проверяя, является ли
решение, к которому она приводит, не только решением не-
278
противоречивым и исчерпывающим, но также и наиболее
простым.
Становится ясным, что лингвистическая теория может
быть проверена только с точки зрения своего
«эмпирического принципа», и только с точки зрения его одного.
Следовательно, можно вообразить несколько лингвистических
теорий в смысле «приближений (апроксимаций) к идеалу,
построенному и сформулированному в терминах
„эмпирического принципа"». Одна из них непременно должна быть
окончательной, и любая конкретно развитая
лингвистическая теория имеет надежду быть таковой. Но отсюда
следует, что лингвистическая теория как дисциплина не
определяется своей конкретной формой и для нее является
как возможным, так и желательным дальнейшее
совершенствование путем внесения в нее новых конкретных
изменений, дающих все более полное приближение к основному-
принципу.
В данном введении к теории языка мы занимаемся
главным образом экспериментальной работой, которая по
отношению к теории представляет собой ее предварительное
условие. Мы будем интересоваться именно реалистической
стороной теории, идя навстречу требованию
применимости. Это будет достигаться исследованием элементов,
участвующих в построении любого языка, и исследованием
логических следствий, вытекающих из фиксации этих
элементов с помощью определений.
7. Перспективы лингвистической теории
Лингвистическая теория, избегающая преобладающей до
сих пор трансцендентной точки зрения, стремящаяся к
пониманию языка как имманентной, непротиворечивой и
специфичной структуры (стр. 265) и, наконец, устанавливающая
постоянное в пределах языка, а не вне его (стр. 269),
начинается с ограничения области своего объекта. Это
ограничение необходимо, но только как временная мера, и не
предполагает сужения поля зрения или ограничения
существенных факторов того глобального целого, каким является
язык. Оно (ограничение) предполагает только разделение
объекта исследования по степени трудности, устанавливая
ход мысли от простого к сложному в согласии со 2-м и 3-м
правилами Декарта. Это — всего лишь простое следствие
потребности различать, чтобы сравнивать, следствие
обязательного принципа янализа. Ограничение может считаться
279
оправданным, если в дальнейшем оно позволит
исчерпывающе и непротиворечиво расширить перспективу посредством
проекции обнаруженной структуры на окружающие ее
явления так, чтобы они удовлетворительно объяснялись в свете
структуры,— иначе говоря, если после анализа
глобальное целое (язык в жизни и действительности) может снова
рассматриваться синтетически как целое, на этот раз не
как случайное образование или же всего лишь
конгломерат de acto, но как явление, построенное в соответствии
с ведущем принципом. В той мере, в какой удается
осуществить такой анализ целого, лингвистическая теория может
быть названа удачной. Испытание заключается в
исследовании того, до какой степени лингвистическая теория
удовлетворяет эмпирическому принципу в его требовании
исчерпывающего описания. Это испытание может быть
осуществлено путем извлечения всех возможных общих
следствий из избранного структурного принципа.
Лингвистическая теория, таким образом, предоставляет
возможность расширить перспективу. Конкретный подход
будет зависеть от того, какой ряд объектов мы выберем для
наших начальных рассуждений.
Мы предпочитаем начать с предпосылок, установленных
предшествующими лингвистическими исследованиями и
рассматривать лишь так называемый "естественный» язык
как исходный пункт лингвистической теории. Отсюда
перспективные круги будут расходиться до тех пор,
пока не будут достигнуты самые конечные следствия.
Затем нам придется иметь дело с дальнейшим расширением
перспективы, посредством чего те стороны человеческой речи
как целого, которые вначале были исключены из
рассмотрения, включатся вновь и займут свое место в новом целом.
8. Система определений
Лингвистическая теория, главная задача которой
проследить возможно глубже специфические предпосылки
лингвистики, строит для этой цели систему определений. От
лингвистической теории требуется, чтобы она была
наименее метафизична, иными словами, она должна содержать
как можно меньше скрытых предпосылок. Ее понятия
поэтому должны быть определены, и, насколько это
возможно, сами определения должны строиться на уже
определенных понятиях. Таким образом, практически основная
цель состоит в определении как мо но большего числа по-
280
понятий и в строго последовательном введении определений,
когда предшествующие определения служат предпосылкой
для последующих определений.
Целесообразно придать строго формальный и в то же
время эксплицитный характер определениям, которые
предпосланы другим определениям и которые из них вытекают.
Они отличаются от реальных определений, к которым до
сих пор стремилась лингвистика, в той мере, в какой это
возможно с точки зрения лингвистики. Формальные
определения теории не стремятся исчерпать внутреннюю
природу объектов или же определить их внешне, со всех
сторон, но всего лишь связать их относительным образом с
другими объектами, аналогично определенными или
предпосланными в качестве основы.
В некоторых случаях необходимо в ходе
лингвистического описания ввести в добавление к формальным
определениям операциональные определения, играющие только
временную роль. Под этим термином объединены как такие
определения, которые на последующих ступенях
процедуры могут быть превращены в формальные, так и чисто
операциональные определения, определяемое (definienda)
которых не входит в систему формальных определений.
Это большое число определений, по-видимому, является
дополнительным поводом для освобождения лингвистической
теории от специфических аксиом (стр. 275).
Действительно, нам кажется, что соответствующий выбор определений
в любой науке представляет эффективное средство
сокращения числа аксиом или, в некоторых случаях, сведения
их числа к нулю. Целенаправленная попытка ограничить
имплицитные предпосылки ведет к замене постулатов
частично определениями и частично условными
предпосылками, так что постулаты как таковые устраняются из
аппарата теории. Таким образом, в большинстве случаев
кажется возможным заменить чистые постулаты о
существовании теоремами в форме условий.
9. Принципы анализа
Поскольку лингвистическая теория начинает с текста как
единственно данного и пытается прийти к
непротиворечивому и исчерпывающему описанию этого текста путем
анализа или последовательного разделения, т. е. с помощью
дедуктивного перехода от класса к сегменту и сегменту
сегмента (стр. 273,276), постольку основные положения системы
281
определений этой теории должно относиться к самому
принципу анализа. Эти определения должны установить природу
анализа и понятия, которые входят в него.
Основные положения системы определений будут
исходным моментом при решении вопроса о том, какой вид
процедуры должна избрать лингвистическая теория, чтобы
выполнить свою задачу.
Из соображений пригодности (т. е. в соответствии с
тремя требованиями, предъявляемыми эмпирическим
принципом) выбор основания для разделения текста может быть
неодинаковым для различных текстов. Поэтому основание
может быть установлено как универсальное только путем
общего исчисления, которое принимает во внимание все
мыслимые возможности. Подлинно универсальным является,
впрочем, сам принцип анализа, и он один интересует нас
в данный момент.
Принцип анализа также должен быть установлен с
учетом эмпирического принципа, и, в частности, именно в связи
с этим требование исчерпывающего описания имеет в данном
случае практический интерес.
Мы должны установить, что является необходимым для
обеспечения исчерпывающего результата анализа (в
широком, предварительном смысле термина), и позаботиться,
чтобы не вводился заранее метод, исключающий
возможность регистрации факторов, которые другой анализ также
признал бы принадлежащими объекту, изучаемому
лингвистикой. Мы можем выразить это иначе, сказав, что анализ
должен быть адекватным.
Наивный реализм, вероятно, предположил бы, что
анализ заключается в разделении данного объекта на части,
т. е. на новые объекты, и последних снова на части,
например еще на другие объекты и т. д. Но даже наивный реализм
столкнулся бы с выбором между несколькими
возможными способами разделения. Совершенно очевидно, что важно
не разделение объекта на части, но подготовка анализа
таким образом, чтобы он соответствовал
взаимозависимостям между этими частями и позволял нам адекватно
рассматривать их. Только благодаря этому деление
становится адекватным и с точки зрения метафизической теории
познания, можно сказать, отражает «природу объекта» и
его частей.
Когда мы извлечем из этого все следствия, мы придем
к заключению, наиболее важному для понимания прин-
282
ципа анализа: и рассматриваемый объект, и его части
существуют только в силу этих зависимостей;
рассматриваемый объект как целое может быть определен только через
их общую сумму; каждая из его частей может быть
определена только через зависимости, связывающие ее с другими
соотносимыми частями, с целым и с частями следующего
уровня, и через сумму зависимостей, которые связывают
части этого следующего уровня друг с другом. При
таком рассмотрении «объекты» наивного реализма, с нашей
точки зрения, являются не чем иным, как пересечением
пучков подобных зависимостей. Иными словами, объекты
могут быть описаны только с их помощью и могут быть
определены и научно рассмотрены только таким путем.
Зависимости, которые наивный реализм рассматривает как
вторичные, предполагающие существование объектов,
становятся с этой точки зрения первичными,
предопределяемыми взаимными пересечениями.
Признание того факта, что целое состоит не из вещей, но
из отношений и что не субстанция, но только ее
внутренние и внешние отношения имеют научное существование
конечно, не является новым в науке, но может оказаться
новым в лингвистике. Постулирование объектов как чего-то
отличного от терминов отношений является излишней
аксиомой и, следовательно, метафизической гипотезой, от
которой лингвистике предстоит освободиться.
Безусловно, в современной лингвистической науке мы
до некоторой степени подходим к идеям, которые, если
продумать их до конца, необходимо ведут к подобному
пониманию. Со времен Фердинанда де Соссюра часто
утверждалось, что между некоторыми элементами языка существует
взаимозависимость такого рода, что язык не может
обладать одним из элементов, не обладая другим. Идея, без
сомнения, верная, хотя она часто преувеличивалась и
применялась неправильно. Все указывает на то, что Соссюр,
который повсюду искал «зависимости» (rapport) и утверждал,
что язык есть форма, а не субстанция, признавал
первичность зависимостей в языке.
На этой стадии нашего исследования мы должны
остерегаться движения по кругу. Пусть мы утверждаем,
например, что существительные и прилагательные или гласные
и согласные взаимно обусловливают существование друг
друга, так что язык не может иметь существительных, не
имея прилагательных, и наоборот, или что он не может
283
иметь гласных, не имея согласных, и наоборот. Эти
суждения (их, как нам кажется, можно представить в виде
теорем) будут истинными или ложными в зависимости от
-определений, выбранных для понятий «существительное»,
«прилагательное», «гласный», «согласный».
Таким образом, уже на данной ступени мы оказались
в полосе трудностей. Трудности все больше возрастают
вследствие того, что наши примеры (которые мы до этого
искали главным образом во взаимных зависимостях)
взяты из системы языка, а не из процесса (стр. 270), а также и
потому, что мы искали именно такой вид зависимостей,
а не иной.
Кроме взаимозависимостей, мы должны предусмотреть
односторонние зависимости. В них один из членов
предполагает существование другого, но не наоборот. Затем
Бадо помнить о более свободных зависимостях,
существующих между двумя членами, не вступающими ни в какие
отношения зависимости и, однако, являющимися
совместимыми (в процессе или системе). Этим последним они
отличаются, таким образом, от другого набора членов,
которые являются несовместимыми.
Поскольку мы обнаружили существование различных
возможностей, возникает насущная потребность в
специальной терминологии. Предварительно введем термины
для возможностей, рассмотренных выше. Взаимные
зависимости, при которых один член предполагает
существование другого и наоборот, мы условно назовем
взаимозависимостями (интердепенденциями). Односторонние
зависимости, при которых один член предполагает
существование другого, но не наоборот, мы назовем
детерминациями. А более свободные зависимости, в которых оба
члена являются совместимыми, но ни один не предполагает
существования другого, мы назовем констелляциями.
К этим общим обозначениям для трех видов
зависимостей мы прибавим специальные обозначения для
зависимостей в процессе и в системе отдельно. Взаимозависимость
между членами в процессе мы назовем солидарностью,
взаимозависимость между членами в системе — компле-
ментарностью 1. Детерминацию между членами в про-
1 Примерами комплементарности могут служить отношения между
существительными и прилагательными и отношения между гласными и
согласными.
284
цессе мы назовем селекцией, а детерминацию между
членами в системе — спецификацией. Констелляции в
процессе мы назовем комбинациями, а констелляции в
системе — автономиями.
Удобно иметь в своем распоряжении три ряда терминов:
один ряд для процесса, второй ряд для системы и, наконец,
третий ряд, употребляемый в одинаковой мере как для
процесса, так и для системы. Дело в том, что найдено
несколько случаев с одним и тем же набором членов как
для процесса, так и для системы. И поэтому в таких
случаях различие между процессом и системой заключается
лишь в различии точек зрения. Данная теория сама дает
пример этого: иерархия определений может рассматриваться
как процесс, поскольку сначала утверждается, пишется или
читается одно определение, затем другое и т. д., или же
как система, т. е. как потенциальная основа, делающая
возможным процесс. Функции между определениями являются
детерминациями, так как наличие определений,
помещаемых ранее в процессе (или системе) определений,
предполагается последующими определениями, но не наоборот.
Если иерархия определений рассматривается как процесс,
между определениями существует селекция; если она
рассматривается как система, между определениями
наличествует спецификация.
Для настоящего исследования, посвященного анализу
текста, первоочередной интерес представляет процесс, а
не система. Если мы захотим найти примеры солидарности
в текстах индивидуального языка, то мы их легко найдем.
Например, в языке знакомой структуры часто существует
солидарность между морфемами 1 различных категорий в
пределах «грамматической формы», так что морфема одной
категории в пределах подобной грамматической формы
необходимо сопровождается морфемой другой категории и
наоборот. Так, морфема падежа и морфема числа всегда
сочетаются в латинском имени; ни одна из них не существует
отдельно, без другой. Более наглядными, однако, являются
селекции. Некоторые из них давно были известны под
названием управления, хотя это понятие оставалось
неопределенным. Между предлогом и падежом возможна селекция,
как, например, между латинскими sine и аблативом,
1 В настоящей книге термин «морфема» употребляется в значении
флективного элемента, рассматриваемого как элемент содержания.
285
поскольку sine предполагает существование аблатива в
тексте, но не наоборот. В других случаях будет иметь место
комбинация, например, между латинскими ab и аблативом,
где оба элемента могут сочетаться друг с другом, но не
обязательно. Своей способностью сосуществования они
отличаются, например, от ad и аблатива, которые не способны
сочетаться. Необязательность совместного употребления
ab и аблатива выводится из того факта, что ab может
функционировать и как глагольная приставка.
С другой точки зрения, которая не связана с текстом
индивидуального языка и является универсальной,
между предлогом и управляемым им падежом иногда
существует солидарность в том смысле, что ни предложное
управление не может существовать без предлога, ни предлог
(типа sine) — без падежа, которым он управляет.
Традиционная лингвистика более или менее
систематически интересовалась такими зависимостями в тексте,
постольку поскольку они существуют между двумя или
несколькими различными словами, но не между частями
одного и того же слова. Это связано с делением грамматики
на морфологию и синтаксис, необходимость чего
подчеркивалась со времен античности традиционной лингвистикой и
что нам скоро придется оставить как недостаточное
(inadequate) — на этот раз случайно в согласии с некоторыми
из современных школ. Логически установление этого
различия приводило к тому — и некоторые ученые готовы
были принять это следствие,— что морфология ведала
только описанием систем, а синтаксис — только
описанием процессов. На это следствие выгодно указать потому,
что оно делает парадокс очевидным. Логически было бы
возможно описывать зависимости в процессе только в
области синтаксиса, но не в пределах слова (not within logo-
logy), иначе говоря, между словами предложения, но не
в пределах индивидуального слова или его частей. Отсюда
излишнее внимание к управлению.
Однако легко обнаружить, даже в терминах знакомых
концепций, что в пределах слова существуют зависимости,
совершенно аналогичные зависимостям в пределах
предложения и подверженные mutatis mutandis анализу и
описанию того же рода. Структура языка иногда такова, что
основа слова может выступать и с деривационными
элементами и без них. При этих условиях между основой и
деривационным элементом существует селекция. С более уни-
.286
версальной или общей точки зрения в таких случаях всегда
существует селекция, поскольку деривационный элемент
необходимо предполагает существование основы, но не
наоборот. Таким образом, термины традиционной
лингвистики (морфологии) в конечном счете неизбежно
основываются на селекции, подобно терминам «главное
предложение» и «придаточное предложение» («primary clause» и
«secondary clause»). Мы уже привели пример,
показывающий, что в пределах окончания слова и между его
компонентами также имеются зависимости тех видов, о которых
мы писали выше. Так, совершенно очевидно, что при
некоторых условиях структурного порядка солидарность
между именными морфемами может быть заменена селекцией
или комбинацией. Имя, например, может обладать и не
обладать степенями сравнения, и, таким образом, морфемы
степеней сравнения не солидарны, например, с морфемами
падежа, как это имеет место у морфем числа, но
односторонне предполагают их существование; в данном случае
имеет место селекция. Комбинация выявляется, например,
как только мы начинаем рассматривать каждый падеж
и каждое число отдельно, вместо того чтобы изучать, как
делали выше, отношение между всей падежной
парадигмой и всей парадигмой числа. Между индивидуальным
падежом, например винительным, и индивидуальным числом,
например множественным, существует комбинация;
только между парадигмами, рассматриваемыми во всей своей
совокупности, существует солидарность. Слог может быть
разделен по тому же самому принципу: при некоторых
чрезвычайно общих условиях структурного порядка можно
проводить различие между центральной частью слога
(гласный или сонант) и маргинальной частью (согласный или
несонант) благодаря тому, что маргинальная часть
предполагает существование в тексте центральной части, но не
наоборот; таким образом, здесь снова имеется селекция.
Действительно, этот принцип, давно забытый учеными
мужами, но еще, я думаю, сохранившийся в элементарных
школах и несомненно унаследованный от античности,
является основой определения гласного и согласного.
Итак, можно считать установленным, что текст и любая
из его частей могут быть разделены на части на основе
зависимостей тех типов, которые обсуждались выше.
Следовательно,] принципом анализа должно быть выявление
(a recognition) этих зависимостей Части, полученные при
287
анализе, можно рассматривать лишь как точки
пересечения пучков линий, обозначающих зависимости. Таким
образом, нельзя приступить к анализу, прежде чем линии?
зависимостей не будут описаны в своих основных типах:
ведь основа для анализа в каждом отдельном случае должна
быть выбрана в соответствии с тем, какие линии
зависимости должны быть описаны, для того чтобы описание было
исчерпывающим.
10. Форма анализа
Таким образом, анализ заключается в регистрации
некоторых зависимостей между элементами, которые
являются частями текста и которые существуют благодаря этим
зависимостям и только благодаря им. Тот факт, что мы
можем считать эти элементы частями текста, а всю
процедуру— делением, или анализом, основывается на том,
что между этими элементами и целым (текстом)
обнаруживаются зависимости определенного вида, в которые, как мы
говорим, эти элементы вступают. Задача анализа и состоит
в том, чтобы установить эти зависимости. Особый фактор,
характеризующий зависимость между целым и его частямц,
который отличает такую зависимость от зависимости между
одним целым и другими целыми и позволяет рассматривать
полученные объекты (части) в качестве лежащих внутри,
а не вне целого (текста), этот особый фактор заключается,
по-видимому, в единообразии зависимостей: соотносимые
части, вытекающие из индивидуального анализа целого,
взаимно-единообразно зависят от этого целого. Эту черту
единообразия мы вновь найдем в зависимости между так
называемыми частями. Если, например, наше деление
текста приводит на каком-то этапе к выделению предложений
и если мы находим два вида предложений — главные и
придаточные, мы всегда найдем (поскольку не будет
производиться дальнейший анализ) ту же самую зависимость
между главным предложением и зависящим от него
придаточным предложением, в каких бы условиях они ни
выступали; подобное же явление можно обнаружить между
центральной и маргинальной частями слога и
соответственно во всех других случаях.
Мы используем данный критерий в определении, целью
которого является установление и ведение анализа
однозначным (в методологическом отношении) образом.
Деление, или анализ, мы можем формально определить
288
как описание объекта через единообразные зависимости от
других объектов и через единообразные зависимости
последних друг от друга. Объект, подвергающийся делению,
мы назовем классом, а другие объекты, которые
устанавливаются частным делением как единообразно зависимые
от класса и друг от друга, мы назовем сегментами класса.
В этом первом маленьком примере системы определений
лингвистической теории определение сегмента
предполагает определение класса, а определение класса
предполагает определение анализа. Определение анализа
предполагает только такие термины или понятия, которые не
определены в частной системе определений лингвистической
теории, но которые мы принимаем как неопределяемые:
описание, объект, зависимость, единообразие.
Класс классов мы назовем иерархией. Необходимо
различать два вида иерархии: процессы и системы. Мы
сможем ближе подойти к обычному и установившемуся
употреблению терминов, если введем отдельные обозначения для
класса и сегмента в процессе и в системе. Классы в языковом
процессе 1 мы назовем цепями, а сегменты цепи—ее
частями. Классы в лингвистической системе мы будем
называть парадигмами, а сегменты парадигмы—ее членами.
Соответственно различению между частями и членами мы
сможем, когда возникнет необходимость, деление в процессе
назвать разделением (partition), а деление в системе —
вычленением (articulation).
Итак, первая задача анализа — произвести
разделение процесса текста. Текст — это цепь, и все ее части
(например, предложения, слова, слоги и т. д.) — равным
образом цепи, за исключением таких конечных частей,
которые уже не могут быть подвергнуты анализу.
Требование исчерпывающего описания не позволяет
прервать конкретное деление текста; части, возникшие в
таком делении, в свою очередь должны быть разделены и
так до тех пор, пока деление не будет исчерпывающим.
Мы определили анализ таким образом, чтобы не поднимать
вопроса о том, каким является анализ—простым или
продолженным; анализ (а также разделение), определенный
таким путем, может содержать один, два или более анализов.
1 В конечной и более общей форме этих двух определений слово
лингвистический будет заменено словом семиотический. О различии
между языком и семиотической системой см. стр. 361—365.
19 Заказ № 116
289
Анализ, или деление, — «растяжимое понятие». Более
того, отныне можно считать установленным, что
описание данного объекта (текста) не исчерпывается таким
продолженным (continued) (и самим себя исчерпывающим)
разделением с одной основой для анализа, но что описание
может быть продолжено (т. е. могут быть установлены
новые зависимости) посредством других делений с иными
основами анализа. В таких случаях мы будем говорить о
комплексе анализов (комплексе разделений), т. е. о классе
анализов (разделений) одного и того же класса (цепи).
Анализ текста в целом примет, таким образом, форму
процедуры, состоящей из продолженного деления или
комплекса делений, в котором единичная операция
представляет собой единичное минимальное деление. В данной
процедуре каждая операция служит предпосылкой для
последующих операций и сама обусловлена предшествующей
операцией.
Точно так же если процедура является комплексом
делений, то каждое исчерпывающее деление, входящее в
комплекс, будет служить предпосылкой для других
исчерпывающих делений или само будет следствием предпосылки
других исчерпывающих делений, входящих в комплекс.
Между сегментами процедуры существует детерминация,
поэтому последующие сегменты всегда вытекают из
предыдущих, но не наоборот: как детерминацию между
определениями (стр. 284—285), так и детерминацию между
операциями можно рассматривать либо как селекцию, либо как
спецификацию. Подобную процедуру в целом мы назовем
дедукцией, а формально определим дедукцию как
продолженный анализ или как комплекс анализов с
детерминацией между анализами, входящими в него.
Таким образом, дедукция является специальным видом
процедуры, другим специальным видом процедуры
является индукция. Определим операцию как описание, что
согласуется с эмпирическим принципом, а процедуру — как
класс операций с взаимной детерминацией. По отношению к
этим определениям и операция, и процедура представляют
собой «растяжимые понятия» (как и анализ; см. выше). Таким
образом, процедура может состоять либо из анализов и
выступать как дедукция, либо из синтезов и являться
индукцией. Под синтезом мы понимаем описание объекта
как сегмента класса (и тогда синтез является тоже
«растяжимым понятием», как и его противоположность — ана-
290
лиз), а под индукцией —продолженный синтез с
детерминацией между синтезами, входящими в него. Если
процедура состоит и из анализа и из синтеза, то анализ и синтез
всегда будут связаны детерминацией, в которой синтез
предполагает анализ, но не наоборот. Это — простое следствие
того факта, что непосредственным данным является неана-
лизированное целое (например, текст; см. стр. 273).
Отсюда следует, что чисто индуктивная процедура (всегда
имплицитно содержащая дедукцию) не может удовлетворять
эмпирическому принципу в его требовании
исчерпывающего описания. Таким способом дается формальная
мотивировка преимуществ дедуктивного метода, упоминавшегося
в разделе 4. Фактически дедуктивный метод не препятствует
тому, чтобы впоследствии иерархия была пройдена в
обратном направлении. При этом будут получены не новые
результаты, но только установлена новая точка зрения,
которую иногда удобно принять для объяснения тех же явлений.
Мы не нашли сколько-нибудь действительного
основания для изменения терминологии, укоренившейся в
лингвистике. Формальные обоснования терминов и понятий,
приведенные здесь, перекинут мост к установившемуся
употреблению терминов в эпистемологии. В данное
определение не вводится ничего, что противоречило бы
употреблению слова дедукция в смысле «логического заключения»
или делало бы такое употребление невозможным. Мы с
полным основанием можем сказать, что положения,
вытекающие из других положений, следуют за последними в ходе
анализа 1: заключения являются на каждом этапе
объектами, единообразно зависящими друг от друга и от
предпосылок. Верно, что это противоречит обычной идее
анализа, но, именно используя определения формально, мы
надеемся защитить себя от постулатов о сущности объекта,
и поэтому относительно сущности или природы
определения или анализа мы не постулируем ничего, что лежало бы
за пределами определения. Если индукция используется
для обозначения специального рода логического заключения
от одних суждений к другим, представляя, таким образом,
в логической терминологии вид дедукции, то в данном
случае двусмысленное слово индукция употребляется в ином
значении, чем устанавливаем мы; процесс определений, вы-
1 Мы вернемся к этому вопросу в разд. 18.
19* 291
полненный здесь, должен устранить эту двусмысленность
в глазах читателя.
До сих пор мы пользовались терминами сегмент, часть
и член как соотнесенными с терминами класс, цепь и
парадигма. Далее мы будем употреблять сегмент, часть и член
только для обозначения результатов определенного
анализа (см. определение сегмента, данное выше); в случае
продолженного анализа мы будем говорить о дериватах.
Тогда иерархия станет классом своих дериватов.
Вообразим себе анализ текста, дающий на определенной ступени
группы слогов, которые затем делятся на слоги, а те в свою
очередь — на части слогов. В таком случае слоги будут
дериватами групп слогов, а части слогов — дериватами и
групп слогов и слогов. С другой стороны, части слогов
будут сегментами (частями) слогов, но не групп слогов, а
слоги — сегментами (частями) групп слогов, но не других
продуктов анализа. Сформулируем это в виде определения;
под дериватом класса мы будем понимать его сегменты и
сегменты сегментов в пределах одной и той же дедукции;
добавим к этому, что о классе следует говорить, что он
включает свои дериваты и что дериваты входят в свой класс.
Степенью дериватов мы будем называть число классов,
через посредство которых прослеживается их зависимость
от своего первичного общего класса. Если, например, число
классов ноль, то дериваты называются дериватами первой
степени; если число классов 1, то говорят о дериватах
второй степени и т. д. В примере, приведенном выше, где
группа слогов представляется деленной на слоги, а последние—
на части слогов, части слогов будут дериватами 1-й степени
от слогов и дериватами 2-й степени от групп слогов.
Следовательно, дериваты первой степени и сегменты —
равнозначные термины.
11. Функции
Зависимость, отвечающую условиям анализа, мы
назовем функцией. Так, мы скажем, что существует функция
между классом и его сегментами (цепью и ее частями, или
парадигмой и ее членами) и между сегментами (частями или
членами). Члены функции мы назовем функтивами, понимая
под функтивом объект, имеющий функцию к другим
объектам. Говорят, что функтив включается в функцию. Из
данного определения следует, что функции могут быть
функтивами, так как возможно существование функции меж-
292
ду функциями. Так, существует функция между функцией,
в которую взаимно включаются части цепи, и функцией, в
которую включаются цепь и ее части. Функтив, не
являющийся функцией, мы назовем сущностью (entity).
В примере, приведенном нами выше, группы слогов,
слоги и части слогов будут сущностями.
Мы взяли термин функция в значении, лежащем между
логико-математическим и этимологическим (из которых
последнее также сыграло значительную роль в науке, в
том числе и в лингвистике); в формальном отношении оно
ближе к первому, но не тождественно ему. Именно такое
промежуточное, комбинированное понятие и необходимо
лингвистике. Мы можем сказать, что сущность в тексте
(или в системе) имеет определенные функции в силу того,
что, во-первых (в значении, близком к
логико-математическому), сущность зависит от других сущностей, так что
некоторые сущности предполагают существование других,
и, во-вторых (в значении, близком к этимологическому),
сущность функционирует определенным образом,
выполняет определенную роль, занимает определенное «место»
в цепи. В известном смысле мы можем сказать, что
этимологическое значение слова функция есть его «реальное»
определение, которое мы не хотим выявлять и вводить в
систему определений, потому что оно основывается на
большем числе предпосылок, чем данное формальное
определение, и оказывается сводимым к последнему.
Путем введения технического термина функция мы
стараемся избежать двусмысленности, с которой связано
традиционное употребление этого термина в науке, где функция
означает и зависимость между двумя частями и одну или
обе части; последнее в том случае, когда говорят, что одна
часть является функцией другой. Введение технического
термина функтив позволяет избежать этой
двусмысленности; соответственно следует также избегать выражения
«один функтив является функцией другого», заменяя его
выражением «один функтив имеет функцию к другому».
Двусмысленность, которую мы обнаруживаем в
традиционном употреблении слова функция, часто наблюдается в
терминах, обозначающих специальные виды функций,
например когда предопределение (presupposition) означает
одновременно и постулат и постулируемое, т. е. и функцию
и функтив. Это двусмысленное понятие лежит в основе
«реальных» определений различных видов функций, но именно
293
вследствие его двусмысленности оно не годится для
употребления в качестве формальных определений последних.
Еще один пример двусмысленности представляет слово
значение, которое означает и процесс обозначения
(designation) и обозначаемое (designatum) (кстати, оно не ясно
также и в других отношениях).
Теперь мы сможем дать систематический обзор
различных видов функций (употребление которых в
лингвистической теории можно предвидеть), а также формальные
определения функции, которые были введены нами выше
операционально.
Под постоянной мы понимаем функтив, присутствие
которого является необходимым условием для присутствия
функтива, к которому он имеет функцию; под переменной
понимается функтив, присутствие которого не является
необходимым условием для присутствия функтива, к которому
он имеет функцию. Этим определениям предпосланы
некоторые неспецифичные неопределяемые понятия
(присутствие, необходимость, условие) и определения функции и
функтива. На основании этого мы можем определить
взаимозависимость как функцию между двумя постоянными,
детерминацию как функцию между постоянной и переменной и
констелляцию как функцию между двумя переменными.
В некоторых случаях будет полезным иметь термин,
общий для взаимозависимости и детерминации (две функции,
функтивы которых имеют одну и более постоянных); мы
назовем эти две функции когезиями. Точно так же иногда мы
можем использовать общее обозначение для
взаимозависимости и констелляции (две функции, общей чертой которых
служит то, что они имеют функтивы только одного рода:
взаимозависимости имеют только постоянные,
констелляции — только переменные); мы назовем эти обе функции
вместе реципроциями — термин, напрашивающийся сам
собой, поскольку в обеих функциях в противоположность
детерминации не выражено четко направление зависимости
относительно функтивов. Вследствие четко выраженного
направления зависимости два функтива детерминации
должны получить различные названия. Постоянный в
детерминации (селекции или спецификации) мы назовем
детерминированным (селектируемым, специфицируемым) функтивом и
переменный в Детерминации — детерминирующим
(селектирующим, специфицирующим) функтивом. О функтиве,
присутствие которого является необходимым условием для
294
присутствия другого функтива в детерминации, говорят,
что он детерминируется (селектируется, специфицируется)
последним, а о функтиве, присутствие которого не является
необходимым условием присутствия другого функтива в
детерминации, говорят, что он детерминирует (селектирует,
специфицирует) другой функтив. Функтивы, которые
вступают в реципроцию, могут, с другой стороны,
именоваться сходным образом: функтивы, вступающие ео
взаимозависимость (солидарность, комплементарность),
естественно, называются взаимозависимыми (солидарными,
комплементарными), и функтивы, вступающие в констелляцию
(комбинацию, автономию), — констеллятивными
(комбинированными, автономными). Функтивы, вступающие в
реципроцию, называются реципроционными, а функтивы,.
вступающие в когезию,— когезиЕными.
Мы сформулировали определение трех видов функций,
принимая в расчет случай, где имеются два, и только два,
функтива, входящих в функцию. Можно предвидеть для
всех трех видов функций случаи с более чем двумя функти-
вами, но такие многосторонние (multilateral) функции можно
рассматривать как функции между двусторонними (bilateral)
функциями.
Другое различие, важное для лингвистической
теории,— различие между функцией «и-и» или «конъюнкцией»
и функцией «или-или», т. е. «дизъюнкцией». Именно это
различие лежит в основе процесса и системы: при процессе
в тексте существует конъюнкция или сосуществование
функтивов, входящих в нее, в системе же наличествует
дизъюнкция или альтернация — взаимозамена функтивов,
входящих в нее. Рассмотрим следующие примеры графем:
pet
man
Взаимозаменяя p и m, e и a, t и n, мы получаем
различные слова, именно pet, pen, pat, pan, met, men, mat,
man. Эти сущности являются цепями, входящими в
лингвистический процесс (текст); с другой стороны, p и m
вместе, e и а вместе, t и n вместе образуют парадигмы,
входящие в лингвистическую систему. В pet представлена
конъюнкция, или сосуществование, между p, e и t: «фактически»
перед глазами мы имеем p, e и t; точно так же существует
конъюнкция, или сосуществование, между m, а и n в man.
Но между p и m существует дизъюнкция, или выбор: «фак-
295
тически» перед глазами мы имеем либо р, либо m; равным
образом существует дизъюнкция, или выбор, между t и п.
В некотором смысле можно сказать, что одна и та же
сущность входит в лингвистический процесс (текст) и в
лингвистическую систему: рассмотренный как компонент
(дериват) слова pet, p вступает в процесс и таким образом в
конъюнкцию и рассматривается как компонент (дериват)
парадигмы
P
m
p вступает в систему и таким образом в дизъюнкцию.С
точки зрения процесса p является частью; с точки зрения
системы p является членом. Два подхода (со стороны текста
и системы) ведут к признанию двух различных объектов,
ибо меняется функциональное определение. Однако,
объединяя определение, мы можем принять точку зрения,
позволяющую говорить в обоих случаях об «одном и том же»
p. Попутно надо отметить, что все функтизы языка входят
и в процесс и в систему, вступают и в конъюнкцию, или
сосуществование, и в дизъюнкцию, или выбор (альтернацию),
и что их определение в частном случае как конъюнктов или
дизъюнктов — элементов сосуществования или выбора —
зависит от точки зрения, с которой они рассматриваются.
В нашей лингвистической теории — в
противоположность прежней лингвистической науке и в качестве
сознательной реакции на нее — мы стремимся к установлению
однозначной терминологии. Но редко встречает лингвист-
теоретик такие трудности, как здесь. Мы попытались
назвать функцию «и-и» конъюнкцией (соответственно
логической терминологии), или сосуществованием, а
функцию «или-или» — дизъюнкцией (также соответственно
логической терминологии), или альтернацией
(взаимозаменой). Но, конечно, будет нецелесообразно оставлять эти
обозначения. Лингвисты привыкли понимать под
conjunction нечто совсем другое \ и мы вынуждены в согласии
с традицией употреблять conjunction (конъюнкция)
соответствующим образом (в качестве одной из так
называемых «частей речи», даже если мы не находим возможным
определить ее как часть речи). Термин дизъюнкция исполь-
1 Этим термином в традиционной грамматике обычно обозначаются
союзы.— Прим. ред.
296
зовался довольно широко в современной лингвистической
науке для обозначения специального вида функций «или-
или», и поэтому введение данного термина в качестве общего
обозначения для всех функций «или-или» вызовет путаницу
и недоразумения. Наконец, альтернация (alternation) —
глубоко укоренившееся (и, более того, удобное) и
неизменное понятие, применяющееся для некоторых очень
специфических видов функций (особенно для так называемого
аблаута и умлаута); оно ассоциируется с функцией «или-
или» и в действительности является специальной
усложненной функцией «или-или»; в силу этого оно непригодно для
общего обозначения функций «или-или». Термин
сосуществование, правда, не был еще использован, но мы не
рекомендуем его потому, что среди прочих причин, в
широком лингвистическом употреблении, он будет смешиваться
с сосуществованием членов парадигмы.
Мы должны поэтому искать другое решение и здесь, как
и в других случаях, насколько это возможно попытаться
установить связь с уже существующей лингвистической
терминологией. В настоящее время в современной
лингвистической науке широко распространена практика на
зывать функцию между членами парадигмы корреляцией.
Этот термин кажется особенно пригодным для
обозначения функций «или-или», а как на наиболее подходящем
обозначении для функций «и-и» мы остановимся на
термине реляция. Таким образом, мы будем употреблять
последнее в более узком значении, чем в логике, где
отношение (relation) используется в основном в том же самом
смысле, в каком мы используем слово функция.
Первоначальная трудность, вызванная таким употреблением
терминов, окажется легкопреодолимой.
Мы будем понимать, таким образом, под корреляцией 1
функцию «или-или» и под реляцией 2—функцию «и-и».
Функтивы, которые включаются в эти функции, мы назовем
соответственно коррелятами и релятами. На этой основе мы
можем определить систему как коррелятивную иерархию
и процесс как релятивную иерархию.
Итак, как мы видели (стр. 270—271), процесс и система
являются чрезвычайно широкими понятиями, которые не
1 Или эквивалентностью (ср. H.J. Uldall, On equivalent
relation, «Travaux du Ceicle linguistique de Copenhague*, V, p. 71—76).
2 Или конкексией (connexion).
297
могут быть сведены исключительно к семиотическим
объектам. Мы находим, что удобными и соответствующими
традиции обозначениями для семиотического процесса и
семиотической системы будут соответственно синтагматика
и парадигматика. Когда речь идет о языке (в обычном
смысле слова) — т.е. им мы интересуемся сейчас, — можно
также использовать более простые обозначения: процесс
может быть здесь назван текстом, а система — языком.
Процесс и система лежащая в его основе, включаются в
функцию, которая в зависимости от подхода может
рассматриваться либо как реляция, либо как корреляция.
Ближайшее рассмотрение функции показывает нам, что мы
имеем дело с детерминацией, в которой система является
постоянной: процесс детерминирует систему. Решающим
является не внешняя связь, состоящая в том факте, что
процесс более доступен для непосредственного наблюдения,
тогда как система должна быть «задана» процессу —
«открыта» в нем посредством процедуры и, таким образом,
только опосредствованно познаваема нами в той мере, в
какой она не представлена для нас на основе процедуры,
совершенной ранее. Эга внешняя связь создает
впечатление, что процесс может существовать без системы, но
не наоборот. В действительности решающим моментом
является то, что существование системы есть необходимая
предпосылка для суще:твования процесса: процесс
существует благодаря системе, стоящей за ним, системе,
управляющей им и определяющей его в его возможном
развитии. Нельзя вообразить процесс — он был бы в полном
смысле необъясним — без системы, стоящей за ним. С
другой стороны, систему можно вообразить без процесса;
существование системы не предопределяется существованием
процесса. Становление системы не обусловливается
обнаруживаемым процессом.
Таким образом, невозможно иметь текст, не имея языка,
лежащего в его основе. С другой стороны, можно иметь
язык, не имея текста, построенного на этом языке. Это
значит, что данный язык предвидится лингвистической
теорией как возможная система, но что ни один процесс,
относящийся к нему, не реализован. Процесс текста
виртуален. Это обязывает нас определить реализацию.
Операцию с данным результатом мы назовем
универсальной, если утверждается, что операция может быть
совершена на любом объекте; ее результаты мы назовем уни-
298
версальными результатами (universals). С другой стороны,
операцию с данным результатом мы назовем
индивидуальной, а ее результаты — индивидуальными результатами
(particulars), если утверждается, что операция может быть
совершена на данном объекте, но ни на каком другом.
На основе этого мы назовем класс реализованным, если он
может быть объектом индивидуального анализа, и
виртуальным, если это не имеет места. Мы думаем, что получили
таким образом чисто формальное определение, которое
защитит нас от метафизических требований, достаточно ясно
объясняя, что мы понимаем под словом реализация.
Если существует только язык (система), но не
существует текста (процесса), принадлежащего ему, т. е. имеется
язык, предусматриваемый в качестве возможного
лингвистом-теоретиком, но нет текста, естественного или
построенного им из системы, то лингвист-теоретик может
действительно считать существование таких текстов вероятным,
но не может использовать их в качестве объектов
индивидуального анализа. Поэтому в таком случае мы
говорим, что текст является виртуальным. Но даже чисто
виртуальный текст предполагает существование
реализованной лингвистической системы в смысле, данном
определением. С «реальной» точки зрения это связано с тем, что
процесс имеет более «конкретный» характер, чем система, и что
система имеет более «замкнутый» характер, чем процесс.
Мы закончим данный раздел схемой (сославшись на
детальный анализ функций, предпринятый нами в разделе
9), представляющей виды функций, предусмотренные
нами 1:
1 Употребление глоссематических символов для различных
функций иллюстрируется следующими примерами, в которых а и b пред-
299
12. Знаки и фигуры
У сущностей, получаемых в ходе дедукции, можно
заметить одну особенность, которая проявляется, например,
в том, что сложное предложение может быть представлено
одной его частью, а последняя — только одним словом.
Это явление постоянно встречается в самых различных
текстах. В латинском императиве i «иди!» или в английском
междометии ah! представлена сущность, о которой можно
сказать, что она является сложным предложением, его
частью и словом. В каждом из этих случаев мы находим также
слог, включающий только одну из частей слога (центральную
часть; ср. стр. 272—274). Мы должны быть осторожны и
принять во внимание эту возможность при подготовке анализа.
Для этой цели мы должны ввести специальное «правило
переноса» (правило трансференции), которое не позволяет
делить данную сущность на слишком ранней ступени
процедуры и в определенных условиях предусматривает
последовательное перенесение определенных сущностей
неразделенными из одной ступени в другую, на которой
подвергаются делению сущности той же степени.
При каждом делении можно составить инвентарь
сущностей, обладающих одними и теми же отношениями, т. е.
способными занимать одно и то же «место» в цепи. Мы
можем, например, составить инвентарь предложений,
которые будут встречаться в различных местах; в известных
условиях это может привести к инвентарю всех главных и
всех придаточных предложений. Аналогичным образом
можно составить инвентарь всех слов, всех слогов и всех частей
слогов с определенной функцией; при определенных
условиях это приведет к инвентарю всех центральных частей
слогов. Такие инвентари необходимо составлять для того,
чтобы удовлетворить требованию исчерпывающего
описания. Подобная процедура даст возможность выявить
особый вид функции, существующей между сущностями,
которые могут занимать одно и то же место в цепи.
Сравнив инвентари, полученные на различных этапах
дедукции, мы увидим, что их объем будет возрастать с ходом
ставляют любые части, v — переменные части и с — постоянные части;
функция: acpb; реляция: a R b; корреляция: а; b; детерминация: v ^->
с или с^-^ v; селекция: v->- с или с -<-v: спецификация: v|— с или с —| v;
взаимозависимость: с<--»с; соли парность: с ^ с; комплементарность:
о|х; констелляция; v|v; комбинация: v—v; автономность: vtv. Число
частей, конечно, не ограничивается двумя.
300
процедуры. Если текст неограничен, т. е. может быть
продолжен постоянным добавлением новых частей, что имеет
место в случае живого языка, взятого в качестве текста,
можно будет выявить неограниченное число сложных
предложений, неограниченное число их частей, неограниченное
число слов. Однако раньше или позже в процессе дедукции
наступит момент, когда число сущностей, вошедших в
инвентарь, станет ограниченным и далее они будут постоянно
уменьшаться. Несомненно, язык обладает ограниченным
числом слогов, хотя это число может быть относительно
большим. Что касается слогов, допускающих разделение на
центральные и маргинальные части, то число членов этих
классов будет меньше, чем число слогов в языке. Когда
части слогов подвергаются дальнейшему делению, мы
получаем сущности, традиционно называемые
фонемами; их число в любом языке обычно настолько
мало, что может быть определено двузначной цифрой,
во многих языках очень низкой (около 20).
Эти факты, установленные индуктивным опытом во всех
языках, исследованных до сих пор, лежат в основе
изобретения алфавита. По сути дела, если бы не существовало
ограниченных инвентарей, лингвистическая теория не
смогла бы надеяться достичь своей цели — сделать возможным
простое и исчерпывающее описание системы, на которую
опирается текст. Если бы в результате анализа, как бы долго
он ни продолжался, не было получено ограниченного
инвентаря, исчерпывающее описание было бы невозможным.
И чем меньше будет инвентарь, которым заканчивается
анализ, тем лучше мы сможем удовлетворить эмпирическому
принципу в его требовании простого описания. Поэтому
для лингвистической теории имеет большое значение
возможность уточнения идеи, лежащей в основе изобретения
письма, а именно идеи анализа, ведущего к наименьшему
числу сущностей и по возможности к наименьшей их
протяженности.
Два наблюдения, сделанные нами здесь (1.
Сущность может иногда быть той же самой протяженности, что
и сущность другой степени (пример с 1); 2. Объем
инвентаря уменьшается в ходе процедуры от
неограниченного к более ограниченному и, наконец, к сильно
ограниченному), особенно важны при рассмотрении языка как
системы знаков.
301
Что язык является системой знаков, кажется a
priori очевидным и основным суждением, которое
лингвистическая теория должна принять на очень раннем этапе.
Лингвистическая теория вместе с тем должна быть способной
определить, какое значение нужно придать этому суждению и
особенно слову знак. В настоящий момент нам придется
удовлетвориться нечетким понятием, установленным
традицией. Согласно этому понятию, «знак» (или, как мы
скажем, забегая вперед [см. стр. 306] знаковое выражение)
характеризуется прежде всего тем, что он является знаком
для чего-то. Эта особенность также должна вызвать у нас
интерес, так как она указывает, по-видимому, на то, что
«знак» определяется по функции. «Знак» функционирует,
обозначает, указывает; «знак» в противоположность
незнаку есть носитель значения.
Мы удовлетворимся этим временным пониманием и
на его основе попытаемся решить, до какой степени может
быть правильным суждение о том, что язык есть система
«знаков».
На первых шагах некоторый пробный анализ текста,
по-видимому, подтверждает это предположение. Сущности,
которые обычно называют сложными предложениями,
их частями и словами, очевидно, отвечают поставленному
условию: они являются носителями значения, т. е.
«знаками», и инвентари, установленные анализом, приведут нас
к выделению знаковой системы, лежащей в основе
знакового процесса. Здесь, как и везде, будет интересно
попытаться провести анализ как можно дальше, чтобы получить
исчерпывающее и максимально простое описание. Слова
не являются конечными, неразложимыми знаками, как
можно было бы подумать, учитывая интерес традиционной
лингвистики к слову. Слова могут быть разделены на части,
которые так же, как и слова, являются носителями
значения: корни, словообразовательные аффиксы,
словоизменительные аффиксы. Некоторые языки идут в этом
отношении дальше, чем другие. Латинское окончание -ibus не
может быть разложено на знаки меньшей протяженности, но
само является простым знаком, несущим значение падежа
и значение числа; венгерское окончание для дательного
падежа множественного числа в таком слове, как
magyarok-nak (от magyar «венгр»), есть сложный знак,
состоящий из знака -ok, несущего значение множественного
числа, и из знака -nak, несущего значение дательного падежа.
302
Суть анализа не изменится от факта существования
языков, не имеющих словообразовательных и
словоизменительных аффиксов, или того факта, что даже в языках,
имеющих аффиксы, могут встретиться слова, состоящие из
одного корня. Выше мы сделали общее замечание о том, что
сущность может иногда иметь ту же самую протяженность,
что и сущность более высокой степени, и в этом случае она
должна переноситься в неразделенном виде от операции к
операции; этот факт не вызывает больше никаких
трудностей. Именно по этой причине анализ имеет ту же самую
общую форму как в этом, так и во всех других случаях,
и его можно будет продолжать до тех пор, пока текст не
будет считаться исчерпанным. Когда, например, анализ
такого английского слова, как in-act-iv-aie-s, будет
выполнен, можно показать, что в результате его получены пять
различных сущностей, каждая из которых несет значение,
и, следовательно, в данном случае мы будем иметь пять
знаков.
Предпринимая такой детальный анализ на
традиционной основе, мы, возможно, обратим внимание на тот факт,
что «значение», которое несет каждая из минимальных
сущностей, должно пониматься как чисто контекстуальное.
Ни одна из минимальных сущностей, включая корни, не
обладает таким «независимым» существованием, чтобы ей
можно было приписать лексическое значение. Но с точки
зрения, принятой нами — с точки зрения продолженного
анализа на основе функций в тексте,— не существует иных
доступных восприятий значений, чем значения
контекстуальные; любая сущность, а, следовательно, также и любой
знак определяется относительно, а не абсолютно, и
только по своему месту в контексте. С этой точки зрения
бессмысленно проводить различие между значениями,
которые появляются только в контексте, и значениями, о
которых можно сказать, что они имеют независимое
существование, или, следуя древним китайским грамматикам,—
между «пустыми» и «полными» словами. Так называемые
лексические значения в некоторых знаках есть не что иное,
как искусственно изолированные контекстуальные значения
или их искусственный пересказ. В абсолютной изоляции ни
один знак не имеет какого-либо значения; любое знаковое
значение возникает в контексте, под которым мы понимаем
ситуационный или эксплицитный контекст, неважно какой,
поскольку в неограниченном или продуктивном тексте (жи-
303
вом языке) мы всегда можем превратить ситуационный
контекст в эксплицитный контекст. Таким образом, мы не
должны считать, например, что существительное более
значимо, чем предлог, или что слово более значимо, чем
словообразовательный или словоизменительный аффикс.
Сравнивая одну сущность с другой, мы можем говорить не только о
различии в значении, но и о различии видов значения; что
же касается всех этих сущностей, то здесь мы можем
говорить о значении с точно таким же относительным правом.
Этого не изменит и тот факт, что значение в традиционном
смысле — понятие расплывчатое (в дальнейшем оно будет
подвергнуто нами более пристальному рассмотрению).
При попытках анализировать знаковые выражения
таким же образом индуктивный опыт показывает, что во всех
до сих пор рассмотренных языках существует этап в
анализе выражения, на котором получаемые сущности не
могут больше быть носителями значения и поэтому не
являются больше знаковыми выражениями. Слоги и фонемы
не есть знаковые выражения, но только части знаковых
выражений или производные от них. Если знаковое выражение,
например слово или аффикс, может состоять из одного-
слога и из одной фонемы, это еще не означает, что слог есть
знаковое выражение или что фонема есть знаковое
выражение; это означает лишь, что некоторые сущности могут
переноситься, не подвергаясь анализу, от одной операции к
другой. С одной точки зрения (в аналитической операции)
s в in-act-iv-ate-s есть знаковое выражение, с другой точки
зрения (в другой аналитической операции) — это фонема.
Две точки зрения ведут к признанию двух различных
объектов. Мы прекрасно можем сохранить формулировку,
согласно которой знаковое выражение s включает одну и
только одну фонему, но это не то же самое, что
идентифицировать знаковое выражение с фонемой; фонема входит в
другие комбинации, где она не является знаковым
выражением (например, в слове sell).
Такое соображение принуждает нас оставить попытку
анализа по «знакам», и нам приходится признать, что
описание в согласии с нашими принципами должно
анализировать содержание и выражение отдельно, причем каждый
из двух анализов будет фактически выделять
ограниченное число сущностей, которые не обязательно могут быть
взаимно однозначно соотнесены с сущностями
противоположного плана.
304
Относительная экономия между инвентарем знаков и
незнаков полностью соответствует тому, что, видимо,
является целью языка. Язык по своей цели — прежде всего
знаковая система; чтобы полностью удовлетворять этой
цели, он всегда должен быть готов к образованию новых
знаков, новых слов или новых корней. Но при всей своей
безграничной избыточности, для того чтобы быть полностью
адекватным, язык должен быть удобным в обращении,
практичным в усвоении и употреблении. При условии
неограниченного числа знаков это достигается тем, что все
знаки строятся из незнаков, число которых ограниченно,
и предпочтительно строго ограниченно. Такие незнаки,
входящие в знаковую систему как часть знаков, мы назовем
фигурами; это чисто операциональный термин, вводимый
просто для удобства. Таким образом, язык организован
так, что с помощью горстки фигур и благодаря их все
новым и новым расположениям может быть построен легион
знаков. Если бы язык не был таковым, он был бы орудием,
негодным для своей задачи. Следовательно, имеются все
основания предполагать, что в указанной
черте—построение знака из ограниченного числа фигур —
обнаруживается наиболее существенная черта в структуре любого
языка.
Это означает, что языки не могут описываться как
чисто знаковые системы. По цели, обычно приписываемой им,
они прежде всего знаковые системы; но по своей
внутренней структуре они прежде всего нечто иное, а именно —
системы фигур, которые могут быть использованы для
построения знаков. Определение языка как знаковой системы
при ближайшем рассмотрении показало себя
неудовлетворительным. Оно затрагивает только внешнюю функцию
языка, его отношение к внелингвистическим факторам,
окружающим его, но не его собственные, внутренние функции.
13. Выражение и содержание
До настоящего момента мы сознательно
придерживались традиционной точки зрения, согласно которой знак
прежде всего есть знак для чего-то. Такой взгляд, конечно,
совпадает с общераспространенным мнением и, более того,
с пониманием, широко распространенным среди
эпистемологов и логиков. Но нам остается доказать, что это
понимание лингвистически несостоятельно, и в этом мы согласны
с современной лингвистической мыслью.
20 Заказ № 116
305
В то время как, согласно первой точке зрения, знак есть
выражение, указывающее на содержание, которое
находится вне самого знака, согласно второй точке зрения
(которая выдвинута, в частности, Ф. де Соссюром и которой
следует Л. Вайсгербер 1 ), знак есть явление, порожденное
связью между выражением и содержанием.
Предпочтительный выбор одной из этих точек зрения —
вопрос их практической пригодности. Чтобы ответить на
этот вопрос, мы должны некоторое время избегать
упоминания о знаках, так как именно это понятие нам предстоит
определить. Вместо этого мы будем говорить о чем-то,
существование чего мы предполагаем установленным, именно
о знаковой функции, имеющей место между двумя
сущностями — выражением и содержанием. На этой основе мы
сможем решить, как удобнее рассматривать знаковую
функцию — как внешнюю или как внутреннюю функцию той.
сущности, которую мы назовем знаком.
Мы ввели здесь термины выражение и содержание как
обозначения функтивов, включающихся в знаковую
функцию. Это чисто операциональное и формальное определения,
и в данном контексте не следует придавать терминам
выражение и содержание другого значения.
Между функцией и классом ее функтивов всегда
существует солидарность: функция невозможна без своих
функтивов, а функтивы — всего лишь конечные точки функции
и, таким образом, невозможны без нее. Если одна и та же
сущность включается поочередно в различные
функциональные отношения и, таким образом, селектируется ими, то все
дело в том, что в каждом случае мы имеем дело не с одним
и тем же функтивом, а с различными функтивами,
различными объектами, зависящими от избранной точки зрения,
т. е. зависящими от функции, с точки зрения которой эти
явления рассматриваются. Это не мешает нам судить о
«той же самой» сущности с других точек зрения, например,
рассматривая функции, входящие в эту сущность
(функции, связанные с ее сегментами) и устанавливающие ее.
Если несколько групп функтивов включаются в одно и то
1 Leo Weisgerber, «Germaisch-romanische Monatsschrift»,
XV, 1927, pp. 161 ff.; см. также «Indogermanische Forschungen»,
XLVI, 1928, pp. 310 ff.; его же: «Muttersprache und Geistesbildung».
Gottingen, 1929.
306
же функциональное отношение (функцию), это означает, что
существует солидарность между функцией и целым классом
этих функтивов и что, следовательно, каждый отдельный
функтив избирает функцию.
Таким образом, существует солидарность между
знаковой функцией и двумя ее функтивами — выражением и
содержанием. Существование знаковой функции без
одновременного присутствия обоих этих функтивов
невозможно; выражение же и его содержание, или содержание и его
выражение, никогда не встречаются вместе без знаковой
функции, существующей между ними.
Знаковая функция сама по себе есть солидарность.
Выражение и содержание солидарны — они необходимо
предполагают друг друга. Определенное выражение есть
выражение постольку, поскольку это выражение содержания, а
содержание является содержанием постольку, поскольку это
содержание выражения. Поэтому, за исключением случаев
искусственной изоляции, не может быть содержания без
выражения и выражения без содержания. Если мы думаем
не говоря, такая мысль не является языковым
содержанием и функтивом знаковой функции. Если мы говорим не
думая и произносим последовательности звуков, с
которыми слушающий не может связать никакого содержания,
такая речь будет абракадаброй, но не языковым
выражением и не функтивом знаковой функции. Конечно,
отсутствие содержания не следует путать с отсутствием
значения: выражение может иметь содержание, которое с какой-
либо точки зрения (например, с точки зрения
нормативной логики или физикализма) можно охарактеризовать
как не имеющее значения, однако оно является
содержанием.
Если, анализируя текст, мы не примем во внимание
знаковую функцию, то не сможем провести границу между
знаками и разделить индивидуальные знаки на составляющие
их фигуры. В таком случае мы просто не сможем дать
исчерпывающее (и поэтому, в нашем смысле слова,
эмпирическое) описание текста, объясняющее функции, которые этот
текст устанавливает. Мы будем лишены объективного
критерия, способного дать основу для анализа.
Соссюр, желая разъяснить понятие знаковой функции,
пытался рассматривать выражение и содержание, взятые
отдельно, безотносительно к знаковой функции, и достиг
следующего результата:
20*
307
«Взятое само по себе мышление похоже на
туманность, где ничто не разграничено. Нет
предустановленных идей, и нет никаких различений до
появления языка... Звуковая субстанция не является
чем-либо более устойчивым и застывшим, чем
мышление; она — не готовая форма, в которую послушно
отливается мысль, но мягкое вещество,
пластическая материя, которая в свою очередь делится на
отдельные частицы, могущие служить необходимыми
для мысли «означающими». Итак, мы можем
изобразить . . . язык в виде ряда смежных
подразделений, начерченных как в бесконечном плане
смутных идей, так и в столь же неопределенном плане
звуков . . . язык вырабатывает свои единицы,
оформляясь между двумя бесформенными массами . . . это
сочетание создает форму, а не субстанцию» 1.
Но этот педагогический прием, как бы блестяще он ни
был выполнен, не имеет смысла, и сам Соссюр должен был
прийти к этому выводу. В науке, избегающей лишних
постулатов, нет основания для предположения, что
субстанция содержания (мысль) и субстанция выражения
(поток звуков) предшествует языку во времени или в
иерархическом ряду, или наоборот. Если мы сохраним
терминологию Соссюра — и будем исходить именно из его
предположений, — станет ясным, что субстанция зависит от
формы в такой степени, что существует исключительно
благодаря ей и никоим образом не имеет независимого
существования.
С другой стороны, по-видимому, было бы оправданным
сравнить различные языки и затем извлечь фактор, общий
для всех них и общий для всех языков вообще, сколько бы
их ни привлекалось для сравнения. Этот фактор — если
мы исключим структуральный принцип, который
включает знаковую функцию и все выводимые из нее функции
(принцип, являющийся, безусловно, общим принципом для
всех языков, но выражение которого специфично для
каждого отдельного языка),— будет сущностью,
определимой только по своей функции к структуральному
принципу языка и по всем факторам, отличающим один язык
1 Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, русск. перев. М.,
Соцэкгиз, 1933, стр. 112—113.
308
от другого. Этот общий фактор мы назовем материалом
(purport). Таким образом, мы обнаруживаем, что цепи
jeg ved det ikke (датск.)
I do not know (англ.)
je ne sais pas (франц.) }> «не знаю»
en tieda (финск.)
naluvara (эским.)
несмотря на все различия, имеют общий фактор, а именно
материал, саму мысль. Этот материал, рассмотренный
таким образом, существует предварительно как аморфная
масса, как нерасчлененная сущность, которая определяется
только своими внешними функциями, а именно своей
функцией к каждому из языковых предложений, приведенных
нами. Мы можем предположить, что этот материал должен
подвергнуться анализу с многих точек зрения, являясь
предметом многих различных анализов, в результате
которых он выступит в виде многих различных объектов.
Он может, например, быть анализирован с той или другой
логической или с той или иной психологической точек
зрения. В каждом из рассматриваемых языков анализ
должен производиться различным образом. Этот факт
можно истолковать только как указание на то, что материал
расположен, расчленен, сформирован различно в
различных языках:
в датском: сначала jeg «я», затем ved «знаю» (настоящее
время, изъявительное наклонение), затем объект det «это»,
затем отрицание ikke;
в английском: сначала I «я», затем глагольное понятие,
которое не выражено определенно в датском предложении,
затем отрицание и только тогда понятие «знать» (но ни в
коем случае не понятие, соответствующее датской форме
настоящего времени изъявительного наклонения ved; и без
дополнения);
во французском: сначала je «я», затем ne — вид
отрицания (которое, однако, совершенно отлично от датского
и английского, так как оно не имеет значения отрицания
во всех комбинациях), затем «знать» (наст. вр. изъявит.
накл.) и, наконец, особый специальный знак, называемый
некоторыми отрицанием, но могущий означать также
«шаг»; как и в английском, дополнение отсутствует;
в финском сначала идет глагол, означающий «я — не»
(или, точнее, «не я», так как знак для «я» стоит последним;
309
отрицание в финском языке является глаголом,
изменяющимся по лицам и числам: en «я — не», et «ты — не», ei
«он — не», emme «мы — не» и т. д.), а затем понятие «знать»
в форме, имеющей значение императива в других
сочетаниях; дополнение отсутствует;
в эскимосском «не-знающий-есмь-я-это» — глагол,
образованный от nalo «невежество» с суффиксами для первого
лица субъекта и третьего лица объекта 1.
Итак, мы видим, что неоформленный материал,
извлеченный из всех этих лингвистических цепей, различно
формируется в каждом из языков. Каждый язык проводит свои
границы в аморфной «массе мысли», по-разному
располагает их и выделяет различные факторы; помещает
центры тяжести в различных местах и дает им различную
эмфазу. Это похоже на одну и ту же горсть песка, которая
принимает совершенно различные формы, или на облако
в небе, с каждой минутой меняющее свои очертания на
глазах Гамлета. Подобно тому как песок может принимать
различные формы, а облако вновь и вновь менять свои
очертания, принимает различную форму или различную
структуру в разных языках и исследуемый нами материал.
Форма этого материала детерминируется только функциями
языка, отсюда выводится знаковая функция и иные
функции. Материал каждый раз остается субстанцией для
новой формы и не может существовать иначе, как в виде
субстанции для той или иной формы.
Таким образом, в лингвистическом содержании, в его
процессе, мы устанавливаем специфичную форму, форму
содержания, которая независима и произвольна в
отношении к материалу, и формирует его в субстанцию
содержания.
Не нужно долгих размышлений, чтобы видеть, что
сказанное истинно и для системы содержания. Можно сказать,
что парадигма в одном языке и соответствующая парадигма
в другом языке покрывают одну и ту же зону материала,
который, будучи абстрагирован от этих языков,
представляет собой нерасчлененный аморфный континуум, на
котором проложило границы формирующее действие языков.
1 Мы огвлеклись от того факта, что один и тот же материал в
разных языках может быть сформирован в совершенно различных цепях:
франц. je l'ignore и эским. asuk или asukiaK (производное от aso,
которое само по себе означает «достаточно!»).
310
За пределами парадигм, установленных в разных
языках для обозначений цвета, мы можем, вычитая различия,
найти такой аморфный континуум—цветовой спектр, в
котором каждый язык произвольно устанавливает свои
границы. Хотя формации в этой зоне материала большей
частью приблизительно те же самые в наиболее
распространенных европейских языках, нам не нужно ходить
далеко, чтобы найти в них несовпадения. В уэльском
английскому green «зеленый» будет соответствовать gwyrdd
или glas; blue «синий» — glas; gray «серый» — glas или
llwyd; brown «коричневый» — llwyd. Так сказать, часть
спектра, занимаемая английским green, рассекается в
уэльском линией, относящей часть ее к той области, в какой
окажется английское слово blue, тогда как английская
граница между green и blue не свойственна уэльскому.
Более того, в уэльском нет границы, как в английском,
между blue и gray и точно так же нет границы между gray
и brown. С другой стороны, область, занимаемая
английским gray, пересекается в уэльском таким образом, что
половина ее относится к области английского blue, а
половина к области английского brown. Схематическое
изображение показывает несовпадение границ:
«зеленый»
«синий»
«серый»
«Коричневый»
green
blue
gray
brown
gwyrdd
glas
llwyd
Латинский и греческий точно так же показывают
расхождение с основными европейскими языками в этой
области. Переход от «светлого» к «темному», который
состоит из трех областей в английском и еще во многих языках
(белое, серое, черное), в других языках делится на
различное число областей посредством устранения или
дифференциации средней области.
Парадигмы морфем показывают то же положение вещей.
Зона числа делится по-разному в языках, различающих
только единственное и множественное число, в языках,.
311
в которых еще добавляется двойственное число (например,
древнегреческий и литовский), и в языках, имеющих также
паукальное или просто тройственное число (как
большинство меланезийских языков, западноиндонезийский язык
сангир на островах между Минданао и Целебесом и юго-
восточный австралийский язык кулин в некоторых своих
диалектах), а также четвертичное число (например,
микронезийский язык на островах Гилберта ). Зона времени
членится по-разному (описательные формы не
учитываются)как в языках, имеющих только прошедшее и настоящее
время (например, английский, где поэтому настоящее время
занимает также ту область, которая в других языках
занята будущим), так и в языках, проводящих границу
между настоящим и будущим. С другой стороны, границы
различны в языках, которые (как латинский,
древнегреческий, французский) различают несколько видов
прошедшего времени.
Это несовпадение в пределах одной и той же области
материала проявляется везде. Сравним, например, такие
соответствия между датским, немецким и французским:
Немецкий
Baum
Holz
Wald
Французский
arbre
bois
foret
Исходя из этого факта, мы сможем сделать вывод, что
в одной из двух сущностей, являющихся функтивами
знаковой функции, именно в содержании, знаковая
функция образует форму, форму содержания, которая с точки
зрения материала произвольна, может быть объяснена
только знаковой функцией и, очевидно, солидарна с ней.
В этом смысле Соссюр, различающий форму и субстанцию,
безусловно, прав.
То же самое наблюдается и в другой из двух
сущностей, являющихся функтивами знаковой функции, а
именно в выражении. Точно так, например, как мы можем
образовать зону цвета или зоны морфем, которые делятся
по-разному в разных языках (т. е. каждый язык имеет свое
собственное количество слов для обозначения цвета, свое
собственное количество грамматических чисел, свое собствен-
312
ное количество времен и т.д.), мы сможем путем
вычитания индивидуальных свойств при сравнении языков
образовать области фонетического характера, которые
делятся по-разному б разных языках. Мы можем, например,
думать о фонетико-физиологической области движений,
которая, конечно, может быть представлена в пространстве
с несколькими измерениями как нерасчлененный, но
поддающийся анализу континуум — например, на основе еспер-
сеновской системы «антальфабетических» формул. В такую
аморфную область произвольно входит в различных
языках различное число фигур, поскольку границы проходят
в различных точках в пределах континуума. Примером
может служить континуум, образованный контуром нёба
от гортани до губ. В известных языках эта зона обычно
делится на три области: задняя k-область, средняя
t-область и передняя р-область. Рассматривая только
взрывные согласные, мы обнаруживаем, что эскимосский и
латинский различают две k-области, линии разделения
которых не совпадают в этих языках. Эскимосский помещает
границу между увулярной и велярной областями,
латинский — между велярной и велярно-палатальной. Многие
языки Индии различают две t-области: ретрофлексную
и дентальную. Другим столь же очевидным
континуумом является зона гласных: число гласных меняется
при переходе от языка к языку благодаря несовпадениям
границ. Эскимосский проводит различие между i-областью,
u-областью и а-областью. В большинстве известных
языков первая из них расщепляется на более узкую i-область
и е-область, вторая — на более узкую u-область и о-об-
ласть. В некоторых языках каждая из этих областей, или
одна из них, может пересекаться линией, различающей
округленные гласные (у, 0; и, о) и неокругленные гласные
(i, e; ш, b ; эти последние — любопытные «глухие» гласные,
редкие в Европе; они обнаружены, например, в тамильском,
во многих восточноалтайских языках и в румынском);
по степени открытости из i и u могут быть образованы,
кроме того, гласные, например среднего ряда и, как
в норвежском и шведском, или неокругленное (4-), как в
русском и т. д. В частности, вследствие необычайной
подвижности языка как артикуляционного органа
возможности, которыми может воспользоваться язык, бесконечно
велики; но характерно то, что каждый язык устанавливает
свои границы среди бесконечности возможностей.
313
Поскольку в отношении выражения дела обстоят,
очевидно, так же, как и в отношении содержания, для нас
будет удобным подчеркнуть этот параллелизм, используя
ту же самую терминологию, которая была применена к
содержанию, и для выражения. Мы сможем тогда говорить,
о материале выражения, и, даже если это непривычно,
по-видимому, никакие факты не противоречат этому.
В приведенных нами примерах континуум гласных и контур
нёба являются фонетическими зонами материала, который
оформлен по-разному в различных языках (в зависимости
от специфики функций каждого языка) и который поэтому
подчинен их форме выражения в качестве субстанции
выражения.
Наши наблюдения относились к системе выражения;
но то же самое, как в случае с содержанием, мы можем
продемонстрировать и для процесса. Только благодаря
когезии между системой и процессом специфичность
образования системы в данном языке неизбежно отражается
на процессе. Частично вследствие проводимых в системе
границ, не совпадающих в различных языках, а частично
вследствие возможностей реляции между фонемами в цепи
(некоторые языки, например различные австралийские и
африканские, совершенно не допускают групп согласных,
другие имеют лишь определенные группы согласных,
различные в разных языках; постановка ударения в слове также
управляется различными законами в различных языках)
один и тот же материал выражения может быть формирован
различно в разных языках. Английское [be:'lin],
немецкое [ber'li:n], датское [baeK'li?n], японское [berulinu]
представляют собой различие формы одного и того же
материала выражения (названия города Берлин). Конечно,
не имеет значения, что материал содержания в этом
примере оказался тем же. Подобным же образом можно сказать,
что, например, произношение английского got «получил»,
немецкого Gott «бог» и датского godt «хорошо» представляет
собой различные формы одного и того же материала
выражения; в этом примере материал выражения один и тот
же, но материал содержания различен, точно так же как в
датск. jeg ved det ikke и. англ. I do not know «Я не знаю»
представлен один и тот же материал содержания и
различный материал выражения.
Когда лицо, знакомое с функциональной системой
данного языка (т. е. своего родного языка), воспринимает
ма314
териал содержания или материал выражения, оно
формирует его на данном языке. Существенная часть того, что
в быту называется «говорить с акцентом», состоит в
формировании материала выражения, согласно
предрасположениям, вызванным фактами родного языка.
Из этого рассуждения, таким образом, явствует, что две
сущности, включающиеся в знаковую функцию, т. е.
выражение и содержание, ведут себя одинаковым образом по
отношению к ней. Благодаря знаковой функции, и только
благодаря ей, существуют два ее функтива, которые
можно теперь точно обозначить как форму содержания и форму
выражения. Подобным же образом благодаря форме
содержания и форме выражения, и только благодаря им,
существуют соответственно субстанция содержания и
субстанция выражения, которые возникают посредством проекции
формы на материал, точно так же как развернутая сеть
отбрасывает тень на неразделенную поверхность.
Если вернуться к вопросу, с которого мы начали,
относительно наиболее подходящего значения для слова
знак, можно теперь гораздо ясней увидеть основу
противоречия между взглядами традиционной и современной
лингвистики. Вероятно, верно, что знак есть знак чего-то
и это что-то в некотором смысле лежит за пределами
самого знака. Так, слово кольцо (ring) представляет собой знак
для обозначения определенного предмета на моем пальце,
и этот предмет в некотором (традиционном) смысле не
входит сам по себе в состав знака. Но предмет на моем пальце
является сущностью субстанции содержания, а
субстанция содержания благодаря знаку организуется в форму
содержания и входит в состав знака наряду с другими
различными сущностями субстанции содержания (например,
со звонком моего телефона) 1. Выражение «знак является
знаком чего-то» означает, что содержание может подчинять
себе это «что-то», выступающее в качестве субстанции
содержания. Ранее мы почувствовали необходимость
использовать слово материал не только в связи с содержанием,
но и в связи с выражением. Подобно этому и теперь в
интересах ясности, вопреки ныне признаваемым понятиям,
недостаточность которых становится совершенно очевидной,
мы хотим говорить о знаке также и с противоположной
1 Англ. ring «кольцо» и to ring «звонить по телефону» совпадают по
своему звуковому облику.— Прим. ред.
315
точки зрения. И действительно, мы с таким же правом
можем сказать, что знак является знаком субстанции
выражения. Звуковая последовательность [rig] сама по себе,
как единичное явление, произнесенное hic et nunc,
является сущностью субстанции выражения только благодаря
знаку, поскольку она подчинена форме выражения и
рассматривается благодаря ей как сущность, тождественная
другим различным сущностям субстанции выражения
(имеются в виду другие всевозможные произношения, иные
люди или другие ситуации —для того же самого знака).
В таком случае знак, как бы это ни казалось
парадоксальным, является знаком субстанции содержания и
знаком субстанции выражения. Именно в этом смысле можно
сказать, что знак является знаком чего-то. С другой
стороны, мы не видим особого основания для того, чтобы
называть знаком знак только субстанции содержания или
(о чем, конечно, не может быть и речи) только субстанции
выражения. Знак — это двусторонняя сущность, которая,
подобно богу Янусу, глядит в двух направлениях и
действует двояко: «вовне» — по отношению к субстанции
выражения и «во-внутрь» — по отношению к субстанции
содержания.
Вся терминология произвольна, и, следовательно, ничто
не препятствует нам использовать слово знак в качестве
особого обозначения формы выражения (или, если бы мы
захотели, в качестве обозначения субстанции выражения,
хотя это нерационально, так как ни к чему не ведет). Но
представляется более удобным использовать слово знак
для обозначения единицы, состоящей из формы
содержания и формы выражения и установленной на основе
солидарности между этими двумя формами, которую
(солидарность) мы назвали знаковой функцией. В том случае,
когда слово знак используется для обозначения только
выражения, или части его, соответствующая терминология,
хотя и объединенная в формальную систему, может
привести к широко распространенному ложному
представлению, согласно которому язык есть не что иное, как
номенклатура или запас этикеток для существующих предметов.
Слово знак всегда по своей природе связывается с идеей
обозначаемого; поэтому слово знак должно использоваться
таким образом, чтобы отношение между знаком и
обозначаемым выступало как можно яснее и не подвергалось
опасному упрощению.
316
Различие между выражением и содержанием и их
взаимодействием в виде знаковой функции является основой
структуры любого языка. Любой знак, любая система
знаков, любая система фигур подчинены конечной цели
существования знаков, т. е. языку, содержащему в себе форму
выражения и форму содержания. Поэтому первой ступенью
анализа текста должно быть разделение текста на две
указанные сущности. Чтобы анализ был исчерпывающим, eго
нужно организовать следующим образом: на каждой
ступени деления мы должны получать части наибольшей
протяженности, т. е. число частей должно быть наименьшим
как во всей цепи, так и в любой произвольной ее части.
Например, если текст содержит и сложные и простые
предложения, можно показать, что число простых предложений
больше числа сложных предложений; поэтому мы не
должны делить текст непосредственно на простые предложения,
а обязаны разделить его сначала на сложные предложения,
а затем уже сложные на простые. При проведении в жизнь
этого принципа выяснится, что любой текст на первом
этапе делится всегда на две, и только на две, части,
минимальное число которых гарантирует их максимальную
протяженность, а именно — на линию выражения и линию
содержания, связанные друг с другом солидарностью
посредством знаковой функции. Затем линия выражения и
линия содержания каждая в свою очередь делятся дальше,
естественно, с учетом их взаимодействия в знаках.
Подобным же образом первое членение лингвистической системы,
приведет нас к установлению двух ее парадигм: стороны
выражения и стороны содержания. В качестве общих
названий для линии выражения и стороны выражения, с одной
стороны, и для линии содержания и стороны содержания—
с другой, мы используем наименования план выражения
и план содержания (обозначения, выбранные в соответствии
с формулировкой де Соссюра, приведенной выше: «в
...плане... идей... и плане... звуков»).
На протяжении всего анализа данный метод приводит
к наиболее ясным и простым результатам, а также проливает
свет на весь механизм языка, что не имело места в прежних
теориях. С этой точки зрения легко будет организовать
подчиненные лингвистические дисциплины, согласно
хорошо обоснованному плану, и избежать наконец старого
несовершенного деления лингвистики на фонетику,
морфологию, синтаксис, лексикографию и семантику — деления,
317
неудовлетворительного во многих отношениях, и в
частности перекрывающего одни понятия другими. Но, кроме того,
если анализ проведен до конца, он показывает, что план
выражения и план содержания могут быть исчерпывающе
и непротиворечиво описаны как совершенно аналогичные
по своей структуре, так что можно предвидеть идентично
определяемые категории в обоих планах. Это является еще
одним существенным подтверждением того взгляда, что
содержание и выражение следует рассматривать как
взаимосвязанные и равные во всех отношениях сущности.
Термины план выражения и план содержания, а также
выражение и содержание выбраны в соответствии с
установившимися понятиями и совершенно произвольны; их
функциональное определение не содержит требования,
чтобы тот, а не иной план называли выражением или
содержанием. Они определены только по своей взаимной
солидарности, и ни один из них не может быть индентифи-
цирован другим образом. Они определяются
противопоставительно и соотносительно как взаимно
противоположные функтивы одной и той же функции.
14. Инварианты и варианты.
Это проникновение в структуру знака является
необходимым условием подготовки точного анализа, и в частности
выявления фигур, из которых строится знак (стр. 305).
На каждой ступени анализа должен быть составлен
инвентарь сущностей с единообразными отношениями (стр. 300).
Инвентарь должен удовлетворять нашему эмпирическому
принципу (стр. 272): он должен быть исчерпывающим и
предельно простым. Это требование касается любой
ступени, потому что, помимо других доводов, мы не можем знать
заранее, является ли данная ступень последней или нет.
Оно (это требование) вдвойне важно для заключительной
ступени анализа, поскольку здесь нам предстоит выявить
первичные сущности, лежащие в основе системы, сущности,
из которых, как мы должны показать, построены все
другие сущности. И очень важно (не только ради достижения
простоты решения последней ступени, но и ради
достижения простоты решения в целом), чтобы на первой ступени
число первичных сущностей было наименьшим. Мы
формулируем это требование в виде двух принципов,
принципа экономии и принципа сокращения, причем и тот и
другой принцип выводятся из принципа простоты (стр. 278).
318
Принцип экономии. Описание
производится путем применения процедуры.
Процедура должна быть организована так,
чтобы результат ее был наиболее
простым, и остановлена в том случае,
если она не ведет к дальнейшему
упрощению.
Принцип сокращения. Каждая операция,
входящая в процедуру, должна
продолжаться или повторяться до тех
пор, пока описание не станет
исчерпывающим; эта операция на каждой
ступени должна вести к выявлению
наименьшего числа объектов.
Мы назовем элементами сущности, получаемые в виде
зшвентарей на каждой ступени деления. Применительно
к анализу мы дадим следующую уточненную формулировку
принципа сокращения:
Каждое деление (или каждый
комплекс делений), в котором функтивы
устанавливаются по данной
функции, должно быть проведено так,
чтобы оно вело к выявлению
наименьшего числа элементов.
Для выполнения данного требования нам нужен метод,
позволяющий в совершенно определенных условиях свести
две сущности к одной, или, как часто говорят, отождествить
две сущности 1. Вообразим себе текст, разделенный на слож-
1 В связи с последней формулировкой теория предполагает более
детальный анализ понятия лингвистического тождества. В
современной литературе эта проблема рассматривалась с различных точек
зрения. (См., например, Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М.,
Соцэкгиз, 1933, стр. 165; на основе иерархии типов Рассела: A.
Penttilab «Actes du IVcongres international de linguistes», Kobenhavn, 1938,
p. 160 ff., следуя U. Saarnio, Untersuchungen zur symbolischen Logik,
«Acta philosophica Fennica», I, Helsingfors, 1935; cp. A. Penllila & U.
Saarnio в «Erkenntnis», IV, 1934, p. 28 ff). Полученные таким образом
предварительные результаты достаточны, чтобы показать, что поиски
метода, использующего формальные определения,— трудный путь и что
проще найти такой метод, используя понятие сокращения. В этой связи
можно отказаться от рассмотрения проблемы тождества, так как это
связано с ненужным усложнением.
319
ные предложения, которые в свою очередь делятся на
простые предложения, а последние — на слова и т. д. На
каждой ступени деления устанавливается свой инвентарь
элементов.
При этом оказывается, что во многих местах текста
встречается «одно и то же» сложное предложение, «одно
и то же» простое предложение, «одно и то же» слово
и т. д.— иными словами, можно сказать, что встречается
много образцов каждого сложного предложения, каждого
простого предложения, каждого слова и т. д. Эти
образцы мы будем называть вариантами, а сущности,
образцами которых они являются,— инвариантами. Причем
мы тотчас же обнаружим, что не только сущности, но
также и функции имеют варианты, так что различие
между вариантами и инвариантами действительно в общем
и для функтивов. Варианты выявляются
непосредственно, путем механического деления цепи, но для перехода от
вариантов к инвариантам на каждой ступени анализа
нужно выработать специальный метод, устанавливающий
необходимые критерии для подобного рода сокращения.
В современной лингвистике значительное внимание
уделялось проблеме отождествления инвариантов высшей
степени в плане выражения (для звукового языка речь
идет о так называемых фонемах) и были сделаны первые
попытки выработать такой метод сокращения. Однако
часто исследователи останавливались на более или менее
расплывчатом «реальном» определении фонем, не
дающем объективных критериев в сомнительных случаях. Над
созданием объективного метода отождествления фонем
целеустремленно работали две школы, а именно
лондонская школа, представителем которой является Д. Джоунз,
и фонологическая школа, выросшая из Пражского
лингвистического кружка, главой которого был покойный
Н. С. Трубецкой. Методы отождествления, выработанные
в указанных лингвистических центрах, обнаруживают
характерное сходство и любопытное различие.
Сходство между ними состоит в том, что ни одна из
этих школ не признает анализа текста на основе функций
как предпосылку для инвентаризации. Метод,
используемый ими, является индуктивным, берущим в качестве
исходных данных массу индивидуальных звуков и
группирующий их затем в классы звуков, так называемые
фонемы. Группировка звуков в фонемы в принципе должна
320
производиться без учета парадигм, образуемых этими
звуками. Тем не менее с удивительной
непоследовательностью обе школы исходят из некоторого предварительного
разделения совокупности всех звуков языка на категории,
анализируя отдельно согласные и отдельно гласные звуки.
Но гласные и согласные рассматриваются как категории,
определенные не на основе лингвистических функций,
а скорее на основе нелингвистических (физиологических
или физических) предпосылок. Категория гласных и
категория согласных не делятся представителями этих школ
в начале операции на подкатегории на основе реляции
(согласно их «месту» в слоге).
Сходные черты непоследовательности в методах двух
школ не вызывают удивления, поскольку дедуктивный
метод, описанный нами (стр. 273), не применялся до сего
времени в лингвистической науке.
С другой стороны, различия в методе процедуры у
этих двух школ представляют немалый интерес с точки
зрения методики. Обе школы считают существенным
то, что фонемы в противоположность вариантам фонем
обладают различительной функцией: взаимозамена
фонем может вызвать различие в содержании
(например, pet—pat), что невозможно при взаимозамене двух
вариантов одной фонемы (например, двух оттенков e в
pet). Фонологи пражской школы ввели этот критерий в
свое определение, называя фонологическое
противопоставление различительным (дистинктивным)
противопоставлением 1. Лондонская школа пошла другим путем. Д. Джоунз,
правда, признал, что фонемы различительны, но он
не захотел ввести эту черту в определение фонемы.
Основанием к тому послужило существование
противопоставлений фонем, не способных вызывать различия в
содержании, поскольку такие фонемы не могут быть взаимоза-
менены в одном и том же слове, т. е. не могут находиться
на одном и том же «месте» в цепи; например, h и g в
английском языке 2. Трудность возникает потому, что
1 См. «Actes du I-er Congres international de linguistes», Leiden,
n. d. p. 33; «Travaux du Cercle linguistique de Prague», IV, 1931, p. 311;
N. S. Trubetzkoy, Grundzuge der Phonologie, «Travaux du Cercle
linguistique de Prague», VII, 1939, p. 30.
2 D. Jones, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», IV, 1931,
pp. 77 f.; D. Jones, An outline of English phonetics, Cambridge, 1936,
p. 49 ff.
21 Заказ № 116
321
теория Джоунза не признает того факта, что фонемы могут
различаться просто тем, что принадлежат к различным
категориям (помимо различия между гласными и
согласными). Таким образом, Джоунз не считает достаточно
различительным критерием то, что h, которая может
находиться в начале слога, и g, которая может находиться
только в конце слога, вступают в различительное
противопоставление с другими фонемами, могущими находиться на
том же «месте» (например, hat —cat, sing —sit). Поэтому
лондонская школа пытается отрицать значение
различительной функции, а взамен ее —по крайней мере в теории—
пытается основываться на «месте» фонемы, не принимая во
внимание ее различительной функции. С такой точки
зрения два звука, встречающиеся на одном и том же месте,
всегда принадлежат разным фонемам 1. Совершенно
очевидно, что данная концепция создает новые трудности, в
частности, потому, что варианты также могут находиться
на одном и том же «месте» (например, различные оттенки e
в слове pet). Чтобы устранить эту трудность, сторонникам
данной концепции пришлось ввести, кроме фонемы, еще одно
понятие — варифон (variphone),— отношение которого к
фонеме не вполне ясно. Поскольку каждый новый образец
фонемы необходимо является новым вариантом, каждая
фонема будет иметь варианты в одном и том же «месте».
Отсюда следует, что каждая фонема должна быть
варифоном. Но оказывается, хотя это и не подчеркивается,
разные варифоны могут отличаться друг от друга только
благодаря своему различительному противопоставлению 2.
Попытка лондонской школы избежать различительного
противопоставления поучительна. Вероятно, представители
этой школы думали встать на более твердую почву чистой
фонетики, отказавшись от анализа содержания, для
которого проблема различия и тождества могла оказаться
менее надежной, поскольку в области содержания менее
развит аналитический метод и труднее, по-видимому,
получить объективные критерии. Очевидно, те же опасения были
и у представителей Пражского кружка, так как они пыта-
1 D. Jones, Le maitre phonetique, 1929, pp. 43 f., «Travaux du
Cercle linguistique de Prague», IV, p. 74.
2 D. Jones, cm. «Proceedings of the International congress of
phonetic sciences» b «Archives neerlandaises de phonetique experimentale»,
VIII—IX, 1933, p. 23.
322
лись использовать только то, что называется
«дифференциациями интеллектуального значения». Но ученые
Пражского кружка, несомненно, правы, настаивая на
существенности различительного критерия как единственно
релевантного. Попытка лондонской школы показывает
непреодолимые трудности, возникающие в данном случае.
Твердое отстаивание принципа различительности—
главная заслуга Пражского кружка; во всех других случаях
относительно его теории и практики в так называемой
фонологии должны быть сделаны значительные оговорки.
Опыт прежних поисков метода сокращения, вероятно,
говорит о том, что различительный фактор должен
рассматриваться как существенный для выявления
инвариантов и для различения инвариантов и вариантов.
Инварианты плана выражения отличаются в том случае,
если между ними имеется корреляция (например,
корреляция между e и a в pet — pat), которой соответствует
корреляции в плане содержания (корреляция между
сущностями содержания pet и pat), так что мы можем установить
реляцию между корреляцией выражения и корреляцией
содержания. Эта реляция есть непосредственное
следствие знаковой функции, солидарности между формой
выражения и формой содержания.
Некоторые методические направления традиционной
лингвистики в последнее время подошли, как мы видели,
к признанию этого факта; однако соответствующий
метод был серьезно разработан только для фигур плана
выражения. Но, чтобы охватить структуру языка и
подготовить аналитическую процедуру, чрезвычайно важно
понять, что этот принцип должен быть распространен на все
инварианты языка независимо от их степени или от их
места в системе. Поэтому принцип действителен для всех
сущностей выражения, вне зависимости от их
протяженности, и не только для минимальных сущностей: он
пригоден и для плана содержания в той же мере, как и для
плана выражения. В действительности это всего лишь
логическое следствие из признания применимости данного
принципа к фигурам выражения.
Если вместо фигур мы рассмотрим знаки, и не один
конкретный знак, но два или более знаков во взаимной
корреляции, то всегда найдем реляцию между корреляцией
выражения и корреляцией содержания. Если такая реляция
отсутствует, значит мы имеем дело не с двумя различными
21*
323
знаками, а только с двумя различными вариантами одного
и того же знака. Если замена выражения одного
предложения выражением другого предложения вызывает
соответствующую замену двух различных содержаний, то
выражения принадлежат двум разным предложениям. Если
же указанная замена не приводит к такому следствию, то
это значит, что наличествует два варианта предложения
в выражении, два различных образца одного и того же
выражения-предложения. Это верно и для словесных
выражений и для иных знаковых выражений. То же самое
применительно и к фигуре независимо от ее
протяженности, например к слогам. Различие между знаками и
фигурами в этом отношении заключается только в том, что в
случае со знаками одно и то же различие в выражении
вызывает всегда одно и то же изменение в содержании,
тогда как в случае с фигурами одно и то же различие в
выражении может вызвать в одном отдельном случае
различные изменения в содержании (например: pet — pat, led —
lad, ten — tan).
Более того, рассматриваемая реляция обратима в том
смысле, что различие между инвариантами и вариантами
в плане содержания может быть проведено в соответствии
с тем же самым критерием (мы имеем дело с двумя
инвариантами содержания только тогда, когда их корреляция
имеет реляцию к корреляции в плане выражения). Таким
образом, практически мы имеем дело с различными
инвариантами содержания, если замена одного другим может
вызвать соответствующую замену в плане выражения.
В отношении знаков это совершенно очевидно. Если,
например, замена выражения одного предложения другим
вызывает соответствующую замену содержаний, то замена
содержания одного предложения другим должна вызвать
соответствующую замену выражений; это то же самое
явление, рассмотренное с противоположной точки зрения.
Наконец, отсюда вытекает неизбежное логическое
следствие: в плане содержания точно так же, как и в плане
выражения, опыт замены дает нам возможность выделить
фигуры благодаря разделению минимальных содержаний
знаков на функтивы (сущности и их взаимные реляции),
составляющие их. Совершенно так же, как и в плане
выражения, существование фигур будет всего лишь
логическим следствием существования знаков. Поэтому можно
с уверенностью предсказать, что такой анализ выполним.
324
И можно сразу добавить, что очень важно, чтобы он был
выполнен, потому что такая работа является необходимой
предпосылкой для исчерпывающего описания содержания.
Такое исчерпывающее описание опирается на возможность
объяснения и описания неограниченного числа знаков с
помощью ограниченного числа фигур, в том числе с точки
зрения их содержания. Требование сокращения должно
быть здесь таким же, как и для плана выражения: чем
меньшее число фигур содержания будет в нашем
распоряжении, тем лучше мы сможем удовлетворить эмпирический
принцип в его требовании наипростейшего
описания.
До сих пор в лингвистике не было сделано даже попытки
предпринять такое разложение знакового содержания на
фигуры содержания, хотя соответствующее разложение
знакового выражения на фигуры выражения так же старо,
как и изобретение фонетического письма (а возможно,
первое даже древнее второго, так как изобретение
фонетического письма предполагает существование попыток
такого анализа выражения). Данное несоответствие имело
чрезвычайно катастрофические последствия: встречаясь с
неограниченным числом знаков, люди считали анализ
содержания неразрешимой проблемой, сизифовым трудом,
неприступной вершиной.
Но процедура здесь точно такая же, как и в случае с
планом выражения. Так же как выражение минимального
знака посредством дальнейшего анализа на основе функций
может быть разделено на меньшие компоненты с взаимными
реляциями (как это имело место в древности при
изобретении фонетического письма и ныне в современных
фонетических теориях), так и содержание минимального знака
может быть расчленено путем анализа на меньшие
компоненты с взаимными реляциями.
Представим, что в ходе анализа текста на той ступени
анализа, где определенные большие цепи (можно думать,
например, о словесных выражениях в языках знакомого
строя) разделяются на слоги, были выделены следующие
слоги: sla, sli, slai, sa, si, sai, la, li, lai. На следующей
ступени, на которой слоги делятся на центральную
(селектированную) и маргинальную (селектирующую) части
(стр. 287), механический инвентарь категорий центральной
и маргинальной частей будет соответственно a, i, ai и si,
s, 1. Но поскольку ai может быть объяснено как единица,
325
возникшая на основе реляции а и i, a si — как единица,
возникшая на основе реляции s и 1, то ai и si исключаются
из инвентаря элементов. Остаются лишь а и i, s и 1, которые
определены по их способности вступать в упомянутые
«группы» (группа согласных si и дифтонг ai). Следует
заметить, что сокращение должно проводиться тогда, когда
отмечаются центральная и маргинальная части слога, и
не должно переноситься в следующую операцию, в
которой эти части слога будут взяты в качестве объектов
дальнейшего разделения. Поступать иным образом значило бы
вступать в конфликт с требованием наипростейшего
результата каждой частной операции. Однако если бы положение
было другим, например, если бы при делении больших цепей
на слоги мы нашли бы slai, но не sla, sli, sa, si, sai, la, li,
lai, тогда сокращение не могло бы производиться дальше
путем разделения слогов на части, и дальнейшее
сокращение должно было бы быть отложено до следующей операции,
в которой бы части слога служили объектами дальнейшего
деления. Если бы мы, взяв другой пример, имели slai, sla,
sli, но не sai, sa, si, lai, la, li, мы могли бы на этой ступени
разделить ai, но не si. (Если бы мы имели slai и sla, но не sli,
то разделение нельзя бы было предпринять, и тогда ai и а
пришлось бы отметить как два различных инварианта.
Нарушение этого правила привело бы нас к абсурду. Например,
в языке, имеющем слоги а и sa, но не s, нам пришлось бы
отметить в качестве инвариантов в инвентаре слогов не
только а, но и s.)
В основе данного метода лежит понятие обобщения
(генерализации). Сокращение может быть проведено,
если можно осуществить обобщение от случая к случаю,
не впадая в противоречие. Мы можем предположить в
нашем примере, что si сокращается лишь в некоторых
случаях, а не во всех, потому что содержание, связанное
со слогом sla с неразделенным si, отличается от
содержания, связанного со слогом sla с разделенным si, откуда
должно вытекать, что si есть равноправный элемент наряду
с s и 1. В некоторых хорошо известных языках (например,
в английском) сущность tj может быть разделена на t
и J, поскольку такоз деление может быть обобщено на все
случаи. Однако в польском tf существует как
независимая сущность наряду с t и J*, причем последние могут
вступать в группу tf (функционально отличную от if): два
слога trzy «три» и czy «ли» различаются в произношении
326
только благодаря тому, что первое имеет tj а второе—tfr..
Таким образсм, практически важно ввести здесь
специальный принцип обобщения. Более того,
практическое значение этого принципа проявляется во многих
других местах лингвистической теории, и поэтому он
должен быть утвержден в качестве одного из общих
принципов теории. Нам кажется возможным доказать, что этот
принцип в скрытом виде всегда присутствовал в научном
исследовании, хотя, насколько нам известно, до
настоящего момента он не был сформулирован. Этот принцип,
имеет следующий вид:
Если один объект допускает
только одно решение, а другой объект
допускает двоякое решение, то в
таком случае решение обобщается и
считается применимым также и для
объекта с двояким решением.
Правило, применимое к сокращениям, о которых
говорилось здесь, может быть соответственно сформулировано
следующим образом:
Сущности, которые при применении
принципа обобщения могут быть
однозначно определены как сложные
единицы, включающие только
элементы, отмеченные в одной и той же
операции, не должны определяться как
элементы.
Это правило, следовательно, может быть применено к
плану содержания точно таким же образом, как и к плану
выражения. Если, например, механическое составление-
инвентаря на данной ступени процедуры ведет к
выявлению сущностей содержания ram «баран», ewe «овца», man
«мужчина», woman «женщина», boy «мальчик», girl
«девочка», stallion «жеребец», таге «кобыла», sheep «овца»
(без различия пола), human being «человеческое существо»,
child «дитя», horse «лошадь» (без различия пола), he «он»,
1 L. Bloomfield, Language, New York, 1933, p. 119; George
L. Trager, «Acta Linguistica», I, 1939, p. 179. Полный анализ
польской системы выражения, с нашей точки зрения, вскроет, вероятно,
дальнейшее различие между двумя случаями; однако, это не ослабит
принципа или его применения на некоторой ступени анализа. Нечто
подобное можно сказать о примере Джоунза с английскими h и rj.
327
she «она», тогда ram, ewe, man, woman, boy, girl,
stallion, mare должны быть исключены из инвентаря элементов,
если они могут быть объяснены однозначно как
относительные единицы, включающие только he и she, с одной
стороны, и sheep, human being, child, horse — с другой.
Здесь, как и в плане выражения, критерием является
проверка на взаимозамену, которая позволяет находить
реляцию между корреляциями в обоих планах. Как
взаимозамены между sai, sa и si могут вызывать взаимозамены
между тремя различными содержаниями, так и
взаимозамены между сущностями содержания ram, he и sheep
могут вызывать взаимозамены между тремя различными
выражениями. Ram=he-sheep будет отличаться от ewe=
she-sheep то и.о так же, как si будет отличаться,
например, от fl; ram=he-sheep будет отличаться от stallion=
he-horse точно так же, как sl будет отличаться, например,
от sn.
Замена одного, и только одного, элемента другим в
обоих случаях достаточна, чтобы вызвать взаимозамену в
другом плане языка
В небольших примерах, рассматривавшихся нами
прежде (разделение сложных предложений на простые и простых
предложений на слова; разделение группы слогов на слоги
и слогов на меньшие фигуры), мы в согласии с
традиционными понятиями временно представляли дело так, как
будто бы текст состоял только из линии выражения. В
предшествующем разделе (стр. 317—318) мы пришли к тому
заключению, что после разделения текста на линию выражения и
на линию содержания необходимо разделить каждую из
них соответственно общему принципу. Следовательно, это
деление должно проводиться одинаково далеко (т. е. до
конца) в обеих линиях. При продолженном разделении
линии выражения мы в конце концов подойдем к границе,
на которой неограниченные инвентари сводятся к
ограниченным, а последние постоянно уменьшаются в размере
благодаря дальнейшим операциям (стр. 300). То же
наблюдается и при анализе линии содержания. Анализ на фигуры
в плане выражения, можно сказать, практически состоит
в сведении сущностей, входящих в неограниченные
инвентари (например, словесных выражений), к сущностям,
входящим в ограниченные инвентари; сведение продолжается
до тех пор, пока не получится самый ограниченный
инвентарь. Таким же путем проходит и анализ на фигуры в пла-
328
не содержания. В то время как инвентарь содержаний слов
неограничен, в языках знакомого строя даже минимальные
знаки могут распределяться (на основе относительных
различий) по некоторым (селектированным) инвентарям,
являющимся неограниченными (например, инвентари
содержаний корней), и по некоторым другим (селектирующим)
инвентарям, которые являются ограниченными (например,
инвентари, включающие содержания словообразовательных
и словоизменительных аффиксов, т. е. деривативы и
морфемы). Таким образом, на практике процедура заключается
в попытке разделения сущностей, входящих в
неограниченные инвентари, на сущности, входящие в ограниченные
инвентари. В примере, данном выше, этот принцип отчасти
выполнен: тогда как sheep, human being, child и horse
остаются пока в неограниченных инвентарях, he, she как
местоимения принадлежат к специальной категории,
относительно определенной, с ограниченным числом членов.
Дальнейшая задача будет состоять в продолжении анализа
до тех пор, пока все инвентари не станут ограниченными,
и как можно более ограниченными.
В этом сведении сущностей содержания в «группы»
знаковое содержание приравнивается к цепи знаковых
содержаний, имеющих определенные взаимные реляции.
Определения, при помощи которых переводятся слова в
одноязычном словаре, представляют собой явления именно
такого рода, хотя словари не стремятся к сокращению
(числа сущностей содержания) и поэтому не дают
определений, точно соответствующих определениям,
полученным в результате последовательно выполненного анализа.
Но то, что устанавливается в качестве эквивалента данной
сущности, когда эта сущность оказывается сокращенной,
есть не что иное, как определение этой сущности,
сформулированное на том же самом языке и в том же самом плане,
к которому относится сама сущность. Мы не видим ничего,
что препятствовало бы применению этой терминологии в
отношении обоих планов. Можно назвать, например,
определением анализ выражения слова pan, которое состоит
из согласного р, гласного а и согласного п. Таким образом,
мы подошли к определению самого понятия «определение»:
под определением понимается разделение знакового
содержания или знакового выражения.
Это сведение сущностей к группам элементов в
некоторых случаях может быть сделано более эффективно путем
329
выявления коннективов. Под коннективом мы понимаем
функтив, имеющий в определенных условиях солидарность
с реляцией, устанавливающей сложные единицы
определенной степени. В плане выражения коннективы практически
часто (но далеко не всегда) совпадают с тем, что в
традиционной лингвистике называется соединительными гласными,
но отличаются от последних тем, что они
определены. Гласный, возникающий в английском перед флексией
в слове fishes, может быть отмечен как коннектив. В плане
содержания, например, союзы часто являются коннекти-
вами. Этот факт может иметь решающее значение для
разделения и составления инвентаря сложных и простых
предложений в языках определенной структуры. Благодаря
этому мы сможем просто, уже на ступени разделения
сложных предложений, не только разделить сложные
предложения на части, но и свести инвентарь данного главного
и данного придаточного предложений к одному простому
предложению с двумя функциональными возможностями.
Главное (селектируемое) предложение и придаточное
(селектирующее) предложение окажутся тогда не двумя
видами простых предложений, но двумя видами «функций
предложения» или двумя видами вариантов предложения.
Добавим, ради полноты, что специфический порядок слов,
в некоторых видах придаточных предложений может
выступать как сигнал для этих вариантов предложения и,
таким образом, не может помешать выполнению
сокращения. Более того, судьба, постигшая два основных устоя
традиционного синтаксиса — главное и придаточное
предложение, сведенных всего лишь к вариантам,— точно так
же разрушает и ряд других основных его устоев. В языках
близкого нам типа субъект и предикат будут вариантами
одного и того же имени (одной и той же юнкции и т. д.).
Объект в языках, не имеющих объектного падежа, будет
вариантом наряду с субъектом и предикатом, а в языке,
имеющем объектный падеж, где последний несет еще и
другие функции, объект будет вариантом имени в этом падеже.
Другими словами, разделение функтивов на два класса —
инварианты и варианты,— предпринятое нами, уничтожает
традиционное разграничение лингвистики на морфологию
и синтаксис.
Мы должны, следовательно, выявить реляцию между
корреляцией в плане выражения и корреляцией в плане
содержания для всех сущностей текста в обоих планах.
330
Различительный фактор следует рассматривать как
существенный при составлении всех инвентарей. Корреляцию
в одном плане, которая имеет реляцию к корреляции в
другом плане языка, мы назовем коммутацией.
Это—практическое определение; в теории мы будем, конечно, искать
более абстрактную и общую формулировку. Точно так же,
как мы можем представить себе корреляцию и
взаимозамену в парадигме, имеющей реляцию к соответствующей
корреляции и к соответствующей взаимозамене парадигмы
в другом плане языка, мы можем вообразить реляцию
и сдвиг в цепи, который имеет реляция к
соответствующей реляции и к соответствующему сдвигу в цепи в
другом плане языка; в этом случае мы будем говорить о
пермутации. Пермутация часто имеет место между знаками
относительно большой протяженности; и можно даже
определить слева как наименьшие знаки, выражение
которых, а также содержание, доступны пермутации. В
качестве общего термина для обозначения коммутации и
пермутации мы избираем термин мутация. О производных одной
и той же степени, относящихся к одному и тому же
процессу или к одной и той же системе, говорят, что они образуют
ряд. Мы определяем мутацию как функцию, существующую
между производными первой степени одного и того же
класса, функцию, имеющую реляцию к функции между другими
производными первой степени одного и того же класса
и принадлежащими к одному и тому же ряду. Тогда
коммутация является мутацией между членами парадигмы,
а пермутация — мутацией между частями цепи.
Под субституцией понимается отсутствие мутации
между членами парадигмы; субституция, в нашем смысле,
является поэтому противоположностью коммутации. Из данного
определения следует, что некоторые сущности не имеют
ни взаимной коммутации, ни взаимной субституции и
именно такие сущности не входят в одну и ту же
парадигму, например гласный и согласный, или h и g в примере
Джоунза, приведенном выше. Тогда инварианты являются
коррелятами с взаимной коммутацией, а варианты —
коррелятами с взаимной субституцией.
Специфическая структура конкретного языка — черты,
характеризующие данный язык в противоположность
другим, т. е. отличающие его от других или делающие его
сходным с другими и определяющие типологическое место
каждого языка,— устанавливается тогда, когда мы выявляем,
331i
какие определенные категории имеет язык и каково число
инвариантов, вступающих в каждую из них. Число
инвариантов в пределах каждой категории устанавливается
посредством коммутации. То, что мы, следуя де Соссюру,
называем языковой формой, прокладывающей по-разному
в разных языках свои произвольные границы в аморфном
континууме субстанции, зависит исключительно от этой
структуры. Все примеры, данные нами (стр. 311), показы-
зывают релевантность коммутационного текста: число
обозначений цветов, чисел, времен, рывных согласных,
гласных и т. д., и т. п. установлены этим способом. Элементы
содержания «дерево» (как растение и как материал)
являются вариантами в датском, но инвариантами во
французском и немецком языках. Элементы содержания «лес»
(в смысле материала и массы деревьев) являются
инвариантами в датском, но вариантами во французском.
Элементы содержания «большой лес» и «небольшой лес»
или «лес безотносительно к его величине» являются
инвариантами во французском, но вариантами в немецком и
датском языках. Единственным критерием для
установления этих фактов является проверка путем коммутации.
Если старая грамматика слепо переносила категории
и элементы категорий латинского языка в современные
европейские языки, например в датский1, то это
происходило из-за отсутствия ясного понимания значения
коммутационной проверки для языкового содержания. Если
языковое содержание рассматривается безотносительно к
коммутации, это практически означает, что во внимание не
принимается его отношение к языковому выражению через
знаковую функцию. В результате в последующие годы в
качестве реакции на это мы стали требовать такого
грамматического метода, который исходил бы из выражения,
а от него стремился найти путь к содержанию 2.
После открытия коммутации во всем ее объеме
выяснилось, что это требование было сформулировано неточно.
С тем же правом можно требовать, чтобы изучение
выражения начиналось с содержания и шло от содержания к
1 Об этом см. H. G. Wiwel, Synspimkter for dansk sproglaere,
K0benhavn, 1901, p. 4.
2 Этому следовал и автор настоящей работы (см. L. Hjelmslev,
Principes de grammaire generale, Det. Kgl- Danske Videnskabernes
Selskab, Hist.-filol. Medd., XVI, 1, K0benhavn, 1928, .особенно стр. 89).
332
выражению. Важно отметить, что независимо от того,
заинтересованы ли мы в настоящий момент в выражении или
в содержании, мы ничего не поймем в структуре языка,
если не будем постоянно принимать во внимание
взаимодействие обоих планов. Как изучение выражения, так и
изучение содержания являются изучением отношения между
выражением и содержанием; каждое из этих двух
направлений исследования предполагает существование другого,
т. е. они взаимозависимы и поэтому не могут быть отделены
друг от друга без значительного ущерба.
Как говорилось (разд. 9—11), анализ должен
проводиться таким образом, чтобы в его основе лежали функции.
15. Языковая схема и языковой узус
Лингвист должен проявлять равный интерес и к
сходству языков и к их различию — к двум дополняющим друг
друга сторонам одного явления. Сходство языков — это
сам их структурный принцип, различие между языками —
проявление этого принципа in concreto. И сходство языков,
и различие между ними заключены в самих языках, в их
внутренней структуре; никакое сходство или различие
между языками не бывает основано на факторах, внешних
по отношению к языкам. И сходство языков, и различие
между ними основывается на том, что мы, следуя де
Соссюру, называли формой, а не на субстанции, подвергающейся
формированию. A priori материал, подвергающийся
формированию, можно было бы рассматривать как общий для всех
языков элемент и считать его носителем сходства между
языками, однако это иллюзия: материал формируется
специфическим образом в разных языках, поэтому не
существует универсальной формы, а существует лишь
универсальный принцип образования формы. Сам по себе материал
аморфен и не предполагает существования формы, но он
способен к принятию формы, причем любой формы. Любые
возможные внутренние разграничения присущи форме,
а не материалу. Материал сам по себе недоступен для
познания, так как условием познания является один
из видов анализа. Материал может быть познан только
благодаря наличию некоторой формы и взятый отдельно
от формы не имеет научного бытия.
Поэтому невозможно считать материал (материал
выражения или материал содержания) основой описания
языка. Провести такое описание можно только на основе
ззз
указанного формирования материала, причем структура
формы одного языка будет не совпадать со структурами форм
большинства других языков. Именно поэтому обречено
на неудачу как построение грамматики на основе
спекулятивных онтологических систем, так и построение
грамматики одного языка на основе грамматики другого
языка. Именно поэтому невозможно исходить из описания
субстанции в качестве основы для описания языка.
Наоборот, описание субстанции зависит от описания языковой
формы. Старая мечта об универсальной фонетической
системе и об универсальной системе значений (системе
понятий) не может быть осуществлена; во всяком случае, такие
системы будут оторваны от языковой реальности. Ввиду
появления даже в недавнее время некоторых пережитков
средневековой философии не будет лишним указать на тот
факт, что для языка нельзя построить эмпирически
общезначимые фонетические типы или извечную схему связи
идей. Различия между языками основываются не на
различных реализациях данного типа субстанции, но на
различных реализациях принципа образования формы. Иными
словами, различия между языками основываются на
различиях формы, налагаемой на тождественный, но
аморфный материал.
Соображения, развитые нами выше в полном согласии
с соссюровским делением на форму и субстанцию,
заставляют нас признать язык формой, а то, что лежит вне этой
формы и находится от нее в функциональной зависимости,
представляет собой внеязыковой материал, так называемую
субстанцию. В то время как на долю лингвистики
приходится анализ языковой формы, на долю многих других
наук выпадает анализ субстанции. Посредством проекции
данных лингвистики на данные других наук мы придем к
проекции лингвистической формы на субстанцию в
конкретном языке. Поскольку наложение языковой формы на
материал совершается произвольно, т. е. зависит не от
субстанции, а от конкретного принципа образования формы
и от возможностей последующей реализации, постольку
два описания — лингвистическое и нелингвистическое —
должны проводиться независимо друг от друга.
Чтобы уточнить эту мысль, сделать ее более ясной и
гибкой, мы укажем, какие науки должны описывать
субстанцию, или, вернее, материал, тем более что до сих пор
лингвистика в этом пункте имела нечеткие представления,
,334
передающиеся по традиции. Здесь мы обратим внимание
на два факта:
а) Описание материала обоих языковых планов
(выражения и содержания) в основном относится к сфере двух
наук: частично физики и частично психологии (мы
утверждаем это без всякого отношения к некоторым концепциям
современной философии). Субстанция обоих планов может
рассматриваться частично как физическое явление (звуки
в плане выражения, предметы в плане содержания) и
частично как отражение этих явлений в сознании говорящего.
Следовательно, для обоих планов необходимы физическое
и феноменологическое описания материала.
б) Исчерпывающее описание языкового материала
содержания требует участия всех других наук; с нашей точки
зрения, все они, без исключения, имеют дело с языковым
содержанием.
Итак, мы пришли к тому, как нам кажется,
обоснованному взгляду, что все науки группируются вокруг
лингвистики. Мы свели научные сущности к двум основным
видам — языкам и неязыкам и обнаружили отношения,
«ли функцию, между ними.
Позднее у нас будет возможность обсудить природу этой
функции между языком и неязыком и изучить характер
предпосылки и следствия, наличествующих в данном
частном случае. В то же самое время нам придется расширить
и изменить предварительно нарисованную картину. Все
сказанное здесь, в частности о соссюровской форме и
субстанции, имеет только предварительный характер.
Согласно принятой нами точке зрения, мы приходим к заключению,
что как различные специальные неязыковые науки могут
и должны анализировать языковой материал, отвлекаясь
от языковой формы, так и лингвистика может и должна
изучать языковую форму, отвлекаясь от материала,
который может быть подчинен этой форме в обоих планах.
Поскольку материал содержания и материал выражения
достаточным образом и совершенно однозначно описываются
неязыковыми науками, лингвистике следует отвести
специальную задачу описания языковой формы, для того чтобы
таким путем сделать возможной проекцию формы на
неязыковые сущности, которые с точки зрения языка являются
субстанцией. Лингвистика должна видеть свою главную
задачу в построении науки о выражении и науки о
содержании на внутренней и функциональной основе; она должна
335
построить науку о выражении без обращения к
фонетическим или феноменологическим предпосылкам и науку о
содержании без обращения к онтологическим или
феноменологическим предпосылкам (но, конечно, не избегающую
эпистемологических предпосылок, лежащих в основе
любой науки). В такую лингвистику в отличие от
традиционной в качестве науки о выражении не будет входить
фонетика, а в качестве науки о содержании — семантика.
Такая наука была бы алгеброй языка, оперирующей
безыменными сущностями, т. е. произвольно названными
сущностями без естественного обозначения (иными словами,
обозначения, мотивированного через отношение к субстанции).
Поскольку лингвистика стоит перед этой главной
задачей, решению которой до сих пор не уделялось внимания
в лингвистических исследованиях, нужно быть готовым к
вдумчивой теоретической и исследовательской работе. Что
касается языкового выражения, то начало этой работе
было положено в некоторых ограниченных областях в
недавнее время 1.
Со времени своего возникновения настоящая
лингвистическая теория была вдохновлена этой идеей; она стремилась
создать такую имманентную алгебру языка. Чтобы
подчеркнуть отличие данной теории от предшествующей
лингвистики и ее абсолютную независимость от неязыковой
субстанции, мы дали ей специальное название, которое
использовалось в подготовительных работах начиная с 1936 г.:
мы называем ее глоссематика (от гр. ?????? «язык»)
1 Описание категорий выражения на чисто нефонетической основе
проведено Л. Блумфилдом для английского языка и отчасти для других
языков («Language»,New York, 1933, pp.130 ff.),Джорджем Л.Трейджером
для польского языка («Acta linguistica», I, 1939, p. 179), Хансом Фогтом
для норвежского" языка («Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XII,
1942, p. 5), X. Й. Ульдаллем для датского языка (Proceedings of the
Second international congress of phonetic sciences, Cambridge, 1936, p. 54
ff.) и для готтентотского языка («Africa», XII, 1939, pp. 369 ff.), А.-Бьеру-
мом (Bjerrum) дчя датского диалекта в Fjolde («Fjoldemalets lydsystem»,
1944), ?. Куриловичем для древнегреческого («Travaux du Cerclel ingui-
stique de Copenhague», V, 1949, p. 56), Кнудом Тогебю для
французского («Structure immanente de la langue francaise», 1951) и
Л. Ельмслевом для литовского языка («Studi baltici», VI,e 1936—1937,
pp. 1 ff.) и для датского («Selskab for nordisk filologi», Arsberetning,
1948—1949—1950, pp. 12—23).
Уже в «Memoire sur le sisteme primitif des voyelles», Leipzig, 1879,
Ф. де Соссюра ясно и сознательно представлена данная точка зрения;
метод был блестяще сформулирован его учеником А. Сеше («Programme
et methodes de la linguistique theorique», Paris, 1908, pp. 111, 133, 151).
336
и используем термин глоссема для обозначения
минимальных единиц формы, которые теория устанавливает в
качестве основы для описания, т. е., иными словами, для
обозначения неразложимых инвариантов. Такое
специальное обозначение не было бы необходимым, если бы термин
лингвистика не использовался часто неправильно, означая
безуспешное изучение языка с внеязыковых точек зрения.
Соссюровское различие между «формой» и «субстанцией»
лишь относительно обосновано, так как употребление этих
терминов рационально лишь в пределах языка: «форма»
означает в таком случае языковую форму, а «субстанция»,,
как мы видели,— языковую субстанцию, или материал. Сами
по себе понятия «форма» и «субстанция» в абсолютном
смысле имеют более широкое значение, но мы не можем их
универсализировать, не вызывая опасности
терминологической путаницы. Нужно, конечно, решительно
подчеркнуть, что «субстанция» не противопоставляется понятию
функции, но означает целое, которое само по себе
функционально и которое определенным образом соотнесено с
данной «формой», точно так же как материал соотнесен с
языковой формой. Но и нелингвистический анализ материала,
предпринимаемый неязыковыми науками, ведет по самой
природе материи к выявлению «формы» по существу
того же самого вида, что и языковая «форма», хотя и
имеющей неязыковую природу. Мы считаем возможным
предположить, что некоторые из общих принципов,
установленных нами в начальных параграфах настоящей работы, ценны
не только для лингвистики, но и для науки в целом, по
крайней мере таковым представляется принцип
исключительного значения функций при анализе (стр. 283). Таким
образом, то, что с одной точки зрения является
«субстанцией», с другой точки зрения является «формой». Это
связано с тем, что функтивы обозначают лишь конечные точки,
или точки пересечения функций, а также с тем, что только
функциональная сеть зависимостей познаваема и имеет
научное бытие, в то время как «субстанция» в
онтологическом смысле остается метафизическим понятием.
Неязыковой анализ материала, проведенный в форме
дедукции (в нашем смысле), должен привести к выявлению
неязыковой иерархии, имеющей функцию к языковой
иерархии, выявленной путем лингвистической дедукции.
Мы назовем языковую иерархию языковой схемой, ai
производные неязыковой иерархии, подчиненные языковой
22 Заказ № 116
ЗЗ7
схеме,—языковым узусом. Мы будем в дальнейшем
говорить, что языковой узус манифестирует языковую схему;
функция, существующая между языковой схемой и
языковым узусом, будет названа манифестацией. Это
предварительные, рабочие (операциональные) термины.
16. Варианты в языковой схеме
В языковой схеме, как и в языковом узусе, некоторые
сущности могут быть сведены к образцам некоторых других
сущностей (см. разд. 14). Любой функтив в пределах схемы и
безотносительно к манифестации можно расчленить на
варианты. Это следует из самого определения варианта
(стр. 331). Более того, членение универсально, а не
индивидуально (стр. 299), поскольку любой функтив всегда может
быть расчленен неограниченное число раз на произвольное
число вариантов. Варианты поэтому, как правило,
виртуальны, подобно несводимым инвариантам (согласно
данным определениям; см. стр. 299), в то время как только
сводимые инварианты могут быть реализованы.
В современной науке о выражении, ориентирующейся
на фонетику, обычно разграничивают два вида вариантов —
так называемые «свободные» варианты, выступающие
независимо от окружений, и «связанные», или «обусловленные»
(иногда — но мы не рекомендуем этого выражения—их
называют «комбинаторными»), варианты, которые появляются
только в некоторых окружениях в цепи. Если анализ
выполнен тщательно, любая сущность выражения может
иметь столько связанных вариантов, сколько имеется
возможных реляций в цепи. И далее, если анализ выполнен
тщательно, любая сущность выражения может иметь
столько свободных вариантов, сколько имеется возможных
образцов, так как для достаточно чувствительного
экспериментально-фонетического исследования два образца
одного и того же звука речи никогда не дадут абсолютно
полного совпадения. «Свободные» варианты мы будем называть
здесь вариациями, а «связанные» варианты — вариатами.
Вариации определяются как комбинационные варианты,
поскольку они не предопределяют существование каких-
либо сущностей в цепи и сами не предопределяются
существованием последних; вариации включаются в комбинацию.
Вариаты определяются как солидарные варианты, ибо
данный вариат всегда предопределяет существование данного
вариата другого инварианта (или другой разновидности
338
инварианта) в цепи и предопределяется существованием
последнего: в слог ta входят два вариата двух различных
инвариантов, а именно вариат t, который может выступать
только с а, и вариат а, который может выступать только с
t; между ними имеется солидарность.
Распределение вариантов по двум категориям,
предлагаемое современной наукой о выражении, имеет, как можно
видеть, функциональное значение и может быть проведено
повсюду. В этой связи, учитывая настоящее положение
в лингвистике, важно подчеркнуть, что расчленение на
варианты в науке о содержании так же возможно и
необходимо, как и в науке о выражении. Все так называемые
контекстуальные значения манифестируют вариаты, и
частные значения, кроме того, манифестируют вариации.
Более того, для обоих языковых планов в соответствии с
требованием простейшего описания важно, чтобы членение на
вариации предшествовало членению на вариаты, поскольку
инвариант должен быть сначала расчленен на вариаты и
уже затем вариаты должны быть расчленены на вариации:
вариации специфицируют вариаты. Но, по-видимому,
новое расчленение на вариаты может быть связано с
исчерпывающим членением на вариации и так далее; в той мере,
в какой это возможно, необходима последовательная
спецификация.
При проведении расчленения инварианта на вариаты
для каждого индивидуального «места» достигается
несводимый вариат, и расчленение на вариаты исчерпано.
Вариат, который не может таким образом быть дальше
расчленен на вариаты, мы назовем локализованным вариатом.
Если выполнено расчленение локализованного вариата
на вариации вплоть до индивидуальных разновидностей,
то достигнута несводимая вариация, и расчленение на
вариации исчерпано. Вариацию, которая не может быть
дальше расчленена на вариации, мы назовем индивидом.
Иногда можно расчленить индивид снова на вариаты в
соответствии с различными «местами», в которых может
появляться данный индивид; в таких случаях имеет место
последовательная спецификация.
Тот факт, что расчленение на варианты может быть
исчерпано на данной стадии, не противоречит виртуальности
вариантов. При условии последовательной спецификации
членение на варианты в принципе неограниченно. Но
вместе с тем членение на варианты оказывается неограничен-
22*
339
ным также на его индивидуальной ступени даже тогда, когда
оно исчерпано. Это объясняется тем, что число вариантов
в неограниченном тексте будет всегда неограниченно, а
число возможных членений, посредством которого членение
на варианты даже на конкретной ступени может быть
исчерпано, будет, таким образом, тоже неограниченным.
Если последовательная спецификация не может быть
продолжена, и иерархия оказывается исчерпанной при
разделении вариатов на вариации, которые не могут снова
быть расчленены на вариаты, то в некотором
эпистемологическом смысле можно сказать, что рассматриваемый объект
не подлежит дальнейшему научному описанию. Цель науки
заключается всегда в регистрации когезий, и если объект
предоставляет только возможность регистрации
констелляций или характеризуется отсутствием функции, точное
рассмотрение объекта уже невозможно. Сказать, что
предметом науки является регистрация когезий,— это значит
установить, что наука всегда стремится познать объекты как
следствие определенного основания или причины. Но если
объект может быть разделен только на такие объекты, о
которых в равной мере можно сказать, что они являются
следствиями или результатами всего или ничего,
продолжение научного анализа становится бесполезным.
A priori можно представить себе, что любая наука,
выполняющая условия, которые мы требуем для
лингвистической теории, на заключительном этапе дедукции придет к
ситуации, при которой нельзя будет обнаружить никаких
следствий или воздействий причин. Тогда единственно
возможным подходом к вариациям будет
статистический подход, подобный тому, который Эбергард Цвир-
нер пытался систематически применить в отношении
фонетического выражения языков 1. Если, однако, этот
эксперимент будет выполнен точно, объектом такого
«фонометрического» подхода должен быть не индуктивно
найденный класс звуков, но установленный дедуктивно
лингвистически локализованный вариат высшей степени.
Выше (стр. 330) мы заметили, что сущности, обычно
рассматриваемые традиционным синтаксисом,— главные
предложения и придаточные предложения, члены предложения,
такие, как субъект, именной предикат, объект и т. д.,—
являются вариантами. Употребляя введенную нами тер-
1 См. Е. Zwirner в «Nordisk tiddsskrift for tale og stemme»,
II, 1938, особенно стр. 179 и сл.
340
минологию, мы можем ради точности добавить, что они
являются вариатами. Традиционный синтаксис
(понимаемый как изучение связей между словами) занимается
главным образом изучением вариатов в плане содержания, хотя
это изучение никогда не является исчерпывающим.
Поскольку каждое разделение вариантов предполагает
существование выделенных инвариантов, синтаксис нельзя
признать самостоятельной дисциплиной.
17. Функция и сумма
Класс, имеющий функцию к одному классу или многим
другим в одном и том же ряду, мы назовем суммой.
Синтагматическую сумму мы назовем единицей, а
парадагматическую—категорией. Таким образом, единица есть цепь,
имеющая реляцию к одной или многим другим цепям в
одном и том же ряду, а категория есть парадигма, имеющая
корреляцию к одной или многим другим парадигмам в
том же ряду. Под установлением (establishment) мы
понимаем реляцию, которая существует между суммой и
функцией, входящей в нее, и которую функция выбирает в
качестве постоянной; в этом случае говорят, что функция
устанавливает сумму, а сумма устанавливается функцией.
Так, например, в парадигматике (языковой системы) мы
можем заметить существование различных категорий,
имеющих взаимную корреляцию, каждая из которых, в
частности, установлена корреляцией между ее членами. Эта
корреляция в случае категорий инвариантов является
коммутацией; в случае категорий вариантов это —
субституция. Подобным же образом в синтагматике (языковом
процессе, тексте) мы можем наблюдать существование
различных единиц, имеющих взаимную реляцию, каждая из
которых, в частности, устанавливается реляцией между ее
частями.
Из этих определений следует, что функции всегда
существуют либо между суммами, либо между функциями;
другими словами, каждая сущность является суммой. При
этом число вариантов неограниченно, и членение на
варианты может быть продолжено бесконечно, так что каждая
сущность может рассматриваться как сумма и в каждом
случае именно как сумма вариантов. Эта точка зрения
необходимо связана с требованием исчерпывающего описания.
В теории это означает, что сущность есть не что иное,
как две или более сущностей с взаимной функцией —
341
факт, который еще раз подчеркивает, что только функции
имеют научное бытие (стр. 283)
В практике в отношении анализа особенно важно
понять, что реляция существует только между категориями.
Анализ должен быть построен таким образом, чтобы
пригодная для анализа основа выбиралась в соответствии
с эмпирическим принципом и принципами, вытекающими
из него. Представим себе, что в качестве основы для анализа
выбрана селекция. Тогда в первой операции данная цепь
разделяется на селекционные единицы первой степени;
категорию, полученную из всех единиц, мы назовем
функциональной категерией. Под последней, следовательно,
понимается категория функтивов, устаногленных в
единичном анализе с данной функцией, взятой за основу
анализа. В пределах такой функциональной категории
можно выделить 4 вида функтивов:
1. ФунктиЕЫ, которые могут Еыступать только как
селектированные.
2. Функтивы, которые могут выступать только как
селектирующие.
3. Функтивы, которые могут выступать и как
селектированные и как селектирующие.
4. Функтивы, не выступающие ни как селектированные,
ни как селектирующие(т.е. функтивы, включающиеся только
в солидарности или в комбинации, или совсем не
включающиеся в реляции).
Каждую из перечисленных категорий мы назовем фун-
ктивкой категерией; таким образом, под функтивной
категорией понимается категория, определяемая посредством
членения функциональной категории согласно функтивным
возможностям. Операция анализа состоит в выяснении того,
какие из этих 4 a priori возможных функтивных категорий
реализованы и какие виртуальны; это осуществляется
посредством деления каждой из функтивных категорий на
члены на основе коммутационного текста. Такие члены
мы назовем элементами. Если анализ состоит в делении
на селекционные единицы первой степени, то элементы,
для выделения которых предпринимается деление,
являются индивидуальными селекционными единицами
первой степени.
Возьмем опять-таки конкретный пример деления цепи
на главные и придаточные предложения. Главные
предложения будут принадлежать к 1-й функтивной категории,
342
придаточные предложения — ко 2-й функтивной
категории. Для простоты вообразим, что 3-я и 4-я категории
оказались виртуальными. Теперь ясно, что такое выделение
не может означать, что каждое индивидуальное
придаточное селектирует каждое индивидуальное главное
предложение: индивидуальное придаточное предложение не
нуждается в присутствии какого-либо определенного главного
предложения, но лишь в присутствии любого главного
предложения. Таким образом, только категория главных
предложений селектируется категорией придаточных
предложений; селекция существует между функтивными
категориями, тогда как реляция, существующая как следствие
этой селекции между членом одной функтивной категории и
членом другой, может быть иной, например комбинацией.
Одной из задач, стоящих перед лингвистикой, является
установление общего исчисления реляций между
элементами, которые соответствуют определенным реляциям
между функтивными категориями.
Если основой анализа является солидарность или
комбинация, т. е. синтагматическая реципроция, то
функтивными категориями будут:
1. Функтивы, которые могут выступать только как
солидарные.
2. Функтивы, которые могут выступать только как
комбинированные.
3. Функтивы, которые могут выступать и как
солидарные и как комбинированные.
4. Функтивы, не выступающие ни как солидарные, ни
как комбинированные (т. е. функтивы, включающиеся только
в селекции или не включающиеся ни в какую реляцию).
Здесь точно так же солидарность и комбинация будут
иметь место между функтивными категориями, в то время
как между элементами могут наблюдаться другие
отношения. Выше (стр. 286) мы встречались с этим явлением при
рассмотрении латинских именных морфем: категория
числа и категория падежа имеют взаимную солидарность, но
между конкретным числом и конкретным падежом
существует комбинация.
18. Синкретизм
Мы сможем теперь остановиться на явлении, известном
в традиционной грамматике под именем синкретизма, а в
современной фонемике под названием нейтрализации. Оно
343
заключается в том, что коммутация между двумя
инвариантами в некоторых условиях пропадает. Известными
примерами, которые мы также можем использовать,
являются синкретизм именительного и винительного падежа
среднего рода (и в некоторых других случаях) в латинском
языке, а также нейтрализация между датскими p и b в
конце слога (таким образом, слово top может
произноситься либо с р, либо с b).
Для подобных случаев мы будем употреблять термин
устранение (suspension) и введем следующее общее
определение: если дан функтив, существующий в определенных
условиях и отсутствующий в других определенных
условиях, то говорят, что там, где функтив присутствует, имеет
место приложение (application) функтива (в этих условиях
функтив прилагается), а там, где функтив отсутствует,
имеет место устранение функтива или его отсутствие
(функтив устраняется или отсутствует в этих условиях).
Устраненную мутацию между двумя функтивами мы
назовем совпадением (overlapping), а категорию, уста-
•новленную совпадением, назовем (в обоих планах языка)
синкретизмом. Так, например, мы говорим, что
именительный и винительный падежи в латинском языке или p и b
в датском языке имеют взаимное совпадение или включаются
в совпадение и что эти сущности вместе с совпадением
образуют синкретизм, или, что каждая из сущностей вступает
в синкретизм.
Из данных определений следует: когда две сущности в
одних условиях выявлены на основе коммутационного
испытания как инварианты, а в других условиях они
включаются в совпадение, то в последних они будут вариантами и
только их синкретизм будет инвариантом. В обоих примерах
условия состоят в реляциях, в которые включаются данные
сущности в цепи: коммутация между именительным и
винительным падежами в латинском языке (которая прилагается,
например, в первом склонении) устраняется, когда, например,
именительный или винительный падежи включаются в
реляцию со средним родом; коммутация же между p и b в
датском языке (которая имеет место, например, в начальной
позиции pere «груша» — baere «нести») устраняется, ког-
дар или b вкл очаются в реляцию с предшествующей
центральной частью слога.
Необходимо понять, что реляция, существующая в
данных случаях, есть реляция между вариантами. Сущность,
344
присутствие которой является необходимым условием для
совпадения именительного и винительного падежей, есть
вариат среднего рода, солидарный с группой
именительный — винительный; а сущность, чье присутствие является
необходимым условием для совпадения p и b, — вариат
центральной части слога, солидарный с последующими р/b.
Такую солидарность между вариантом, с одной стороны,
и совпадением — с другой, мы назовем доминацией; мы
будем говорить, что данный вариант доминирует в
совпадении 1, а совпадение доминируется данным вариантом.
Особое преимущество установления такого рода
формального определения заключается в том, что мы сможем в
дальнейшем различать обязательную и факультативную
доминацию, не обращаясь к социологическим
предпосылкам, что неизбежно вызвало бы «реальные» определения
этих терминов. Такое обращение к социологическим
явлениям в лучшем случае усложнило бы аппарат предпосылок
нашей теории и привело бы к конфликту с принципом
простоты, а в худшем случае внесло бы (в теорию)
метафизические предпосылки и таким образом вступило бы в
противоречие с эмпирическим принципом и особенно с
требованием четких определений. Такие понятия, как
обязательный и факультативный, согласно ныне принятым явным
или скрытым «реальным» определениям, предполагают
существование понятия социальной нормы, которое
оказалось излишним в нашей лингвистической теории. Мы
можем теперь просто определить обязательную доминацию
как доминацию, доминант которой по отношению к
синкретизму является вариатом, а факультативную доминацию
как доминацию, доминант которой по отношению к
синкретизму является вариацией. Когда в определенных условиях
совпадение обязательно, между доминантом, с одной
стороны, и синкретизмом — с другой, существует
солидарность. Когда в определенных условиях совпадение
факультативно, между доминантом и синкретизмом существует
комбинация.
Синкретизмы манифестируются двумя способами: как
коалесценции и как импликации. Под коалесценцией мы
понимаем такую манифестацию синкретизма, которая с
1 Вместо доминации во взятых здесь примерах мы можем
использовать более специфичный термин и говорить о синкретизации, по-
-скольку термин доминация может применяться в более широком
смысле и распространен также на случаи недостаточности (defectiveness)
345
точки зрения субстанциональной иерархии идентична
манифестации либо всех, либо ни одного из функтивов,
вступающих в синкретизм. Синкретизмы, приведенные выше в
качестве примеров, манифестируются как коалесценции,
в которых манифестация идентична манифестации обоих
функтивов, вступающих в синкретизм. Так, синкретизм
именительного и винительного падежей имеет значение
«именительно-винительный» (в различных контекстах это
значение вызывает манифестацию вариатов, которые
обычно имеют именительный и винительный падежи).
Точно так же синкретизм р/b произносится таким же
путем, как обычно произносится p и b (в различных
связях с теми жг самыми манифестациями вариата).
Примером синкретизма, манифестация которого не идентична
манифестации ни одного из функтивов, вступающих в
синкретизм, может служить совпадение различных гласных
в некоторых акцентуальных условиях в русском и
английском языках, где синкретизм принимает качество ]э]. Под
импликацией мы понимаем манифестацию синкретизма,
которая с точки зрения субстанциональной иерархии
идентична манифестации одного или более функтивов,
вступающих в синкретизм, но не всех. Если в языке глухой и
звонкий согласные взаимозаменимы (коммутабельны), но их
коммутация устраняется перед другим согласным, так что
глухой согласный произносится звонко перед звонким
согласным, то тогда имеет место импликация. Из
включающихся в импликацию функтивов тот, манифестация которого
идентична с манифестацией синкретизма, определяется как
имплицируемый другим функтивом, а последний — как
имплицирующий. Таким образом, можно сказать, что в
нашем примере глухой согласный в определенных
условиях имплицирует звонкий согласный или что звонкий
согласный в этих условиях имплицируется глухим. Если
синкретизм между звонким и глухим согласным
осуществляется таким образом (так обстоит дело, например, в
славянских языках), что не только глухой согласный
произносится звонко перед звонким, но также и звонкий
произносится глухо перед глухим, то импликация является не
односторонней (унилатеральной), но двусторонней или
многосторонней (билатеральной или мультилатеральной):
звонкий имплицирует глухой и глухой имплицирует
звонкий во взаимоисключающих условиях.
Мы обращаем внимание на тот факт, что употребление
346
термина импликация согласуется с логистическим термином
и является только частным случаем последнего.
Импликация является функцией «если — то», ее следствием с той
только разницей, что в наших примерах она имеет место
не между суждениями, а между сущностями меньшей
протяженности. Если мы имеем глоссематическую сущность
выражения р, находящуюся в некоторой реляции к другой
такой сущности, то мы получаем q. Логическая связь
между предпосылками представляется нам всего лишь другим
специальным случаем лингвистической импликации 1.
Синкретизм может быть разрешимым или неразрешимым.
Разрешить синкретизм это значит ввести вариат
синкретизма, который не еклю :ается в совпадение, устанавливающее
синкретизм. Если, несмотря на синкретизм, мы можем
рассматривать слово templum в одном контексте как
именительный падеж, а в другом — как винительный падеж,
то это потому, что синкретизм именительного и
винительного падежей в латинском языке в этих примерах разрешим.
Мы находим разрешение в пределах категории
именительного — винительного падежей, т. е. в пределах
синкретизма, выбирая вариат, не включающийся в совпадение
(например, вариат именительного падежа от domus и вариат
винительного падежа от domum), и искусственно вводя эти
сущности содержания в templum вместо падежной сущности,
входящей в него; это делается в силу аналогического
заключения, которое основывается на принципе обобщения.
Синкретизм разрешим только в том случае, если возможны
такие аналогические заключения, основывающиеся на
результатах, которые дает анализ лингвистической схемы.
Такие обобщающие аналогические заключения
невозможны в случае с top, и, следовательно, мы должны
признать синкретизм p/b неразрешимым.
Цепь с неразрешенно-разрешимым синкретизмом
можно назвать актуализированной, а цепь с
разрешенно-разрешимым синкретизмом — идеальной. Данное различие
эквивалентно различию между точным и грубым способами
изображения, и оба эти вида изображения еозможны, таким
образом, на основе анализа лингвистической схемы.
Когда мы разрешаем синкретизм и создаем идеальную
систему изображения, воспроизведенный ею (написание
1 Сходство становится еще более близким, если ргесматривать
предпосылки как сложные имена. См. J. Jorgersen, «The Journal*
of Unified Science», VIII, 1939, pp. 233 ff. и IX, 194 >, pp. 185 ff
347
или произношение) синкретизм, представленный одним из
его членов, будет сам по себе импликацией, в которой
синкретизм имплицирует данный член. Нам кажется, что
это должно соответствовать анализу логического
заключения, которое, согласно концепции современных логиков,
является чисто лингвистической операцией, а поэтому и
разъяснения следует ждать от лингвистических
предпосылок. Ранее (стр. 290) мы надеялись определить
логическое заключение как анализ предпосланного суждения. Мы
можем добавить теперь более точное утверждение, в
соответствии с которым предпосланное суждение может,
по-видимому, рассматриваться как разрешимый синкретизм своих
следствий; логическое заключение является тогда
расчленением предпосланного суждения, расчленением,
состоящим в разрешении данного синкретизма, выступающего
как импликация.
В общем нам кажется, что понятие синкретизма,
полученное из чисто лингвистических предпосылок,
могло бы быть с успехом использовано для освещения
различных якобы неязыковых явлений. Таким образом,
вероятно, удастся разрешить общую проблему отношения
между классом и сегментом. Поскольку парадигма
рассматривается не просто как сумма членов (класс как
множество в терминологии Рассела), но как что-то отличное от
своих членов (класс как целое), постольку она
представляется разрешимым синкретизмом своих членов; путем
разрешения синкретизма класс как целое превращается в
класс как множество. Следовательно, должно быть ясно,
что, если мы хотим попытаться придать точное значение
слову понятие, мы должны рассматривать понятие как
разрешимый синкретизм между предметами (именно между
предметами, входящими в понятие).
В синкретизм может вступать, кроме эксплицитных
сущностей, также нулевая сущность, имеющая особое значение
для лингвистического анализа. Нередко наблюдается
потребность в признании существования скрытых
(латентных) или факультативных языковых сущностей, в
частности «фонем» 1. Так, на основе некоторых результатов
анализа можно утверждать существование латентного d/t во
1 См. Бодуэн де Куртене, Fakultative Sprachlaute
(Donum natalicium Schrijnen, 1929, pp. 38 ff). А. Мартине,
анализируя французский язык, оперирует латентным h («Bulletin de la
Societe de linguistique de Paris, XXXIV, 1933, pp. 201 ff.)
348
французских словах grand, sourd, потому что при
изменении условий в этих словах появляются d или t: grande,
sourde; grand homme. С таким же успехом можно говорить о
факультативности датского у после i и u (yndig, kugle).
Достаточно минутного размышления, чтобы понять, что
латентность и факультативность нельзя определить как
неосуществленную манифестацию; рассматриваемые
функции коренятся в самой языковой схеме, поскольку условия,
в которых проявляется латентность и факультативность,
устанавливаются отношениями в цепи и покоятся на
доминации. Латентность и факультативность следует
рассматривать как совпадение с нулем. Латентность есть
совпадение с нулем при обязательной доминации нуля (так как
доминантом в отношении синкретизма является вариат);
функтив, характеризующийся латентностью, называется
латентом. Факультативность есть совпадение с нулем при
необязательной доминации нуля (поскольку доминантом
в отношении синкретизма является вариация); функтив,
характеризующийся факультативностью, называется
факультативом.
19. Катализ
Как мы уже видели (разд. 9—11), анализ
заключается в установлении функций. При принятии такой точки
зрения необходимо будет предвидеть возможность того, что
установление некоторых функций в силу солидарности
между функцией и функтивом может заставить нас
интерполировать некоторые функтивы, недоступные
непосредственному восприятию. Подобная интерполяция
называется катализом.
Практически катализ — необходимое условие для
проведения анализа. Например, анализ латинского языка
приводит нас к выводу, что предлог sine селектирует
отложительный падеж (управляет отложительным падежом)
(см. стр. 285), т.е., согласно определению, присутствие
отложительного падежа в тексте является необходимым
условием для присутствия sine (но не наоборот). Ясно, что этот
результат не может быть достигнут чисто механическим
наблюдением над сущностями, выступающими в
конкретных текстах. Мы можем легко представить себе
конкретный текст, в котором sine выступает без сопровождающего
его отложительного падежа, текст, в силу тех или иных
причин прерванный или незавершенный (поврежденная
над349
пись, фрагмент, незаконченное письменное или устное
высказывание). Как правило, определение любых связей
должно исключить такие не поддающиеся учету случаи
речевой практики (accidents de la parole). Но явления в
конкретных текстах, не поддающиеся механической
констатации связей, не ограничиваются только таким видом
непреднамеренных нарушений. Хорошо известно, что и
апозиопесис и аббревиатура являются постоянным и
существенным элементом в экономии языкового узуса (ср.
высказывания: Как мило! Если бы только имел! Потому!
и т. д.). Если бы при анализе исследователь ограничился
установлением отношений на этой основе, он кончил бы, по
всей вероятности, простой регистрацией механических
комбинаций (в противовес задаче науки, стр. 340).
Требование исчерпывающего описания, однако,
приводит к тому, что, устанавливая апозиопезисы и подобные
им явления, мы признаем их как таковые, поскольку
анализ в одинаковой мере должен выявлять и внешние
реляции, которыми обладают действительно наблюдаемые
сущности, и когезии, выходящие за пределы данной сущности.
Если мы имеем дело с латинским текстом, обрывающимся
на sine, мы все же можем отметить когезию (селекцию)
с отложительным падежом, т. е. необходимое условие для
sine может интерполироваться; соответственно следует
поступать во всех других случаях. Эта интерполяция
основания, стоящего за следствием, производится в согласии
с принципом обобщения.
С другой стороны, в катализе мы должны стараться
не вводить в текст сущностей, для включения которых нет
твердых оснований. В случае с sine мы твердо знаем, что
здесь требуется отложительный падеж. Мы знаем также, что
латинский отложительный падеж имеет свои предпосылки:
он требует сосуществований некоторых других морфем
в цепи; и мы знаем относительно цепи морфем,
выступающих с отложительным падежом, что она предполагает
наличие основы. Поскольку, однако, отложительный падеж не
солидарен с какой-либо конкретной морфемой в каждой
категории, а солидарен только с определенной категорией
морфем (стр. 342) и поскольку цепь морфем, включающая
падеж, число и род (в некоторых случаях вместе с
морфемой сравнения), имеет когезии не с конкретной
именной основой, а с категорией всех именных основ, мы не
можем вводить в операцию катализа какое-либо конкрет-
350
ное имя в отложительном падеже с данным sine. Таким
образом, то, что вводится здесь катализом, в
большинстве случаев является не индивидуальной сущностью, а
неразрешимым синкретизмом между всеми сущностями,
которые могут находиться на данном «месте» в цепи. В
случае с sine мы знаем, к счастью, что необходимой
предпосылкой существования sine может быть только
отложительный падеж; но в отношении сущностей,
которых требует сам отложительный падеж, мы знаем
только, что они имеют то или иное число, тот или иной
род, те или иные морфемы сравнения (конечно, в
границах возможностей латинского инвентаря) и ту или иную
основу. Фактически морфема отложительного падежа
предполагает существование одной из этих сущностей,
безразлично какой, а катализ должен лишь отметить этот факт.
Катализ мы определяем как выделение когезий путем
замены одной сущности другой сущностью, которая
находится в отношении субституции к первой. В нашем
примере sine — замененная сущность, a sine + отложительный
падеж (+ когезивный синкретизм) — заменяющая
сущность. Заменяющая сущность всегда эквивалентна
замененной (катализированной) сущности +
интерполированная или добавляемая (энкатализированная) сущность. Как
мы видели, относительно энкатализированной сущности
правильно утверждение, что она часто, но не обязательно
представляет синкретизм, далее, часто, но не обязательно
является латентом (латентные сущности могут
устанавливаться только катализом при применении принципа
обобщения) и, наконец, она всегда обязательно, если она
является сущностью содержания, имеет нуль выражения, а
если — сущностью выражения,— нуль содержания;
последнее есть следствие содержащегося в определении требования
субституции между замененной и заменяющей сущностью.
20. Сущности анализа
По существу на основе соображений и определений,
данных в предшествующих разделах настоящей работы и
уточненных и дополненных необходимым количеством
правил технического порядка, лингвистическая теория
предписывает анализ текста, который ведет нас к выявлению
языковой формы, скрытой за непосредственно доступной
чувственному восприятию «субстанцией», и к установлению
скрытой за текстом системы языка, состоящей из категорий,
351
из определений которых могут быть выведены возможные
единицы языка. Ядром этой процедуры является катализ,
благодаря которому форма энкатализируется в субстанцию,
а язык энкатализируется в текст. Процедура чисто
формальна в том смысле, что она рассматривает единицы языка
как состоящие из числа фигур, для которых существуют
определенные правила трансформации. Эти правила
устанавливаются без учета субстанции, в которую
манифестируются фигуры и единицы; лингвистическая иерархия,
а следовательно, и лингвистическая дедукция независимы
от физических, физиологических и вообще от неязыковых
иерархий и дедукций, ведущих к описанию «субстанции».
Поэтому не следует ждать от этой дедуктивной процедуры
каких-либо выводов семантического или фонетического
порядка; как для языкового выражения, так и для
языкового содержания процедура — это лишь «лингвистическая
алгебра», представляющая собой формальную основу для
упорядочения дедукций неязыковой «субстанции».
«Алгебраические» сущности, которыми оперирует процедура, не
имеют естественного обозначения, но, конечно, должны
называться так или иначе; это наименование произвольно и
обладает пригодностью в согласии со всем характером
лингвистической теории. Произвольность наименований
обусловливает тотфакт, что они вовсе не требуют манифестации; их
пригодность есть выражение того, что они выбираются
так, чтобы упорядочить информацию о манифестации
наипростейшим образом. На основе произвольной реляцию
между формой и субстанцией одна и та же сущность
лингвистической формы может манифестироваться в
совершенно различных субстанциональных формах при переходе от
одного языка к другим; проекция иерархии форм на
иерархию субстанции может существенно различаться от языка
к языку.
Процедура руководствуется основными принципами (стр.
272, 277, 319, 327), из которых специально для анализа
текста мы можем затем дедуцировать принцип, названный
нами принципом исчерпывающего описания:
Любое деление (или комплекс
делений), при котором выявляются
функтивы с данной функцией в качестве
основы деления, должно быть
организовано таким образом, чтобы оно
352
могло непротиворечиво привести к
установлению наибольшего числа
реализованных функтивных категорий
в пределах наибольшего числа
функциональных категорий.
Практически это означает, что при делении текста мы
не должны пропускать ни одной ступени, ибо это может
вызвать возвращение анализа к предшествующим этапам
(стр. 317); анализ должен идти в направлении от
инвариантов, имеющих наибольшую возможную протяженность, к
инвариантам, имеющим наименьшую возможную
протяженность, так что между этими двумя крайними точками
следует пройти наибольшее возможное число производных
ступеней.
Уже в этом пункте наш анализ существенно отличается
от традиционного. Последний не касался ни тех частей
текста, которые имеют очень большую протяженность, ни
тех частей текста, которые имеют маленькую протяжен
ность. Открыто или безоговорочно традиционный анализ
устанавливал, что работа лингвиста начинается с
разделения сложных предложений на простые предложения, в то
время как изучение больших частей текста, групп
предложений и т. п. нужно отнести к области других наук —
главным образом к логике и психологии. Согласно этому
взгляду, лингвист или грамматик, столкнувшись с неана-
лизированным текстом, например с текстом, состоящим из
всего написанного или сказанного по-датски, должен быть
способен совершить прыжок сразу на ту ступень, где
происходит разделение на простые предложения.
Теоретически он должен, по-видимому, считать, что
логико-психологический анализ больших частей текста уже совершен.
Практически, однако, ему вовсе не придется заботиться о
том, сделан ли в действительности такой анализ или нет,
а если сделан, то в какой мере он может считаться
удовлетворительным с точки зрения лингвиста.
Вопрос, поднятый нами здесь, не есть вопрос о
разделении труда, но вопрос о размещении объектов в соответствии
с их определениями. С этой точки зрения анализ текста
является неизбежным долгом лингвиста, включая анализ
частей текста, имеющих большую протяженность. Надо
попытаться разделить текст на основе селекции и
реципроции, и на каждой ступени анализа следует искать части
23 Заказ № 116
353
наибольшей протяженности. Нетрудно обнаружить, что
языковой текст очень большой или неограниченной
протяженности дает возможности для разделения на части
большой протяженности, определяемые по взаимной
селекции, солидарности, или комбинации. Самым первым из
этих разделений является разделение на линию
содержания и линию выражения, которые солидарны. Когда
последние будут подвергнуты дальнейшему членению, будет
возможно и необходимо, inter alia, разделить линию
содержания на литературные жанры и затем провести
разграничение между науками, предопределяющими
(селектирующими) и предопределенными (селектированными).
Систематика изучения литературы и науки находит таким
образом свое естественное место в рамках лингвистической
теории. При разделении наук лингвистическая теория
сможет найти в самой себе и свое собственное определение.
На последующей ступени процедуры более обширные части
текста должны быть разделены на произведения
отдельных авторов, отдельные работы, главы, параграфы и т. п.,
а затем уже на сложные предложения и простые
предложения. На этом этапе деления, inter alia, силлогизмы будут
разделены на посылки и заключения; по-видимому, это
та стадия лингвистического анализа, с которой связаны
многие проблемы формальной логики. Во всем этом мы
видим значительное расширение перспектив, рамок и
возможностей лингвистической теории, а также основу для
осознанного и организованного сотрудничества между
лингвистами в более узком смысле и специалистами целого
ряда дисциплин, которые до сих пор, и по-видимому
неправильно, не допускались в сферу лингвистической науки.
В заключительных операциях анализа лингвистическая
теория приведет к разделению, нисходящему к сущностям
меньшей протяженности, чем те, которые рассматривались
до сих пор как неразложимые инварианты. Это верно не
только для плана содержания, где, как мы видели,
традиционная лингвистика довела анализ далеко не до конца,
но также и для плана выражения. В обоих планах
разделение, основанное на реляции, закончится
инвентаризацией таксем, т. е. виртуальных элементов; для плана
выражения таксемами grosso modo будут лингвистические
формы, которые манифестируются в фонемах. Но в этой
связи следует сделать ту оговорку, что анализ,
выполненный в соответствии с принципом простоты, часто ведет к
354
иным результатам, чем обычный фонемический анализ.
Известно, что эти таксемы обычно делятся далее на основе
универсального деления, которое имеет место, когда они
в соответствии со специальными правилами распределяются
по системам из двух, трех и большего числа измерений 1.
Мы не можем здесь рассмотреть эти специальные правила,
основанные на том факте, что лингвистические элементы
одной и той же категории различаются не только по
количеству, но и качественно 2. В принципе мы должны
довольствоваться лишь указанием на тот до сих пор не
замеченный лингвистами факт, что когда инвентарь таксем
«упорядочивается в систему», то логическим следствием этого
является дальнейшее разделение отдельной таксемы.
Представим себе, например, что отмечена категория с
инвентарем, включающим 9 таксем, и что, исходя из специальных
правил качественного деления, последние могут быть
размещены в систему из 2 измерений с тремя членами в
каждом измерении, так что 9 может быть представлено
как произведение 3x3. Тогда члены измерений сами будут
частями таксем, поскольку каждая из 9 таксем теперь
оказывается представленной как единица, включающая один
член одного измерения и один член другого. 9 таксем,
следовательно, могут быть описаны как производные 3+
-4-3=6 инвариантов, а именно членов измерений. Таким
образом, мы приходим к более простому описанию и в
большей степени удовлетворяем требованию уточненного
принципа сокращения (стр. 319). Два измерения будут как
категории солидарны, и каждый член одного измерения
вступит в комбинацию с каждым членом другого измерения.
Члены измерения будут представлены таким образом как
части таксем и как неразложимые инварианты. Может ли
быть так «упорядочен в систему» инвентарь таксем или
нет, зависит в основном от размера инвентаря. Если такое
1 См., например, системы, установленные автором в книге «La
categorie des cas», I—II, «Acta Jutlandica», VII, 1 и IX, 2, 1935—1957.
Соответствующие системы могут быть установлены и для плана вы-
рачсешя.
2 См. «La categorie des cas», I, pp. 112; ср. Jens Holt, Etudes
d'aspect, «Acta Jutlandica», XV, 2, 1943, pp. 26. Исчерпывающее
изложение этой стороны лингвистической теории (представленное
Лингвистическому кружку 27 апреля 1933 г.) будет опубликовано под
названием «Structure generale des systemes grammaticaux» в «Travaux du Cercle
linguistique de Copenhague».
23*
355
упорядочение может быть выполнено, члены измерений,
а не таксемы будут конечными точками анализа; эти
конечные точки мы называем глоссемами. И если считать,
что одна таксема выражения манифестируется одной
фонемой, то глоссема выражения будет манифестироваться
частью фонемы.
После того как доведена до конца синтагматическая
дедукция текста, следует приступить к парадигматической
дедукции. Здесь язык членится на категории,
распределяемые как категории текстуального анализа таксем
высшей степени; из этих категорий путем синтеза могут быть
дедуцированы все возможные единицы языка.
Оказывается, что обе стороны (оба плана) языка имеют совершенно
аналогичную категориальную структуру — открытие,
которое, как нам кажется, имеет далеко идущее значение для
понимания структурального принципа языка или вообще
«сущности» семиотики. Представляется, что подобное
последовательно выполненное описание языка на основе
эмпирического принципа не допускает существования
таких дисциплин, как синтаксис или наука о частях речи.
Как мы видели, сущности синтаксиса чаще всего
являются вариатами, а «части речи» старой грамматики —
сущностями, которые на основе нового определения следует
найти вновь в совершенно различных местах в пределах
иерархии единиц.
Наука о категориях, однако, предполагает такой
обширный и взаимосвязанный аппарат терминов и
определений, что ее части не могут быть описаны без обращения к
целому; поэтому в пролегоменах к теории она может быть
изложена только как учение об определяющих ее единицах.
21. Язык и неязык
В отношении выбора и ограничения объектов в
предшествующих разделах (см. стр. 280) мы следовали за
общераспространенной лингвистической концепцией,
рассматривая «естественный» язык как единственный объект
лингвистической теории. Но в то же время (стр. 280) мы
указали на перспективу расширения нашей точки зрения
и теперь в последующих разделах (21—23) переходим
к выполнению обещанного. При этом мы подчеркиваем,
что расширение горизонтов не принимает форму
произвольного и необязательного придатка, но что, напротив,
именно тогда, когда мы ограничиваем
356
себя рассмотрением только
«естественного» языка, эти новые горизонты вытекают
из изучения «естественного» языка и утверждают себя с
неизбежной логической последовательностью. Если
лингвист хочет уяснить себе объект своей науки, он должен
обратиться к областям, считавшимся по традиции
чуждыми лингвистике. Этот факт, кстати, уже оставил
значительный след на нашем изложении, поскольку, начиная
со специальных предпосылок, сам характер постановки
проблем вынуждал нас обратиться к более общим
эпистемологическим принципам.
И, действительно, совершенно ясно, что не только
общие соображения, высказанные нами, но и введенные нами
более специальные термины применимы как к
«естественному» языку, так и к языку в более широком смысле. Именно
потому, что теория построена таким образом, что
лингвистическая форма рассматривается без учета «субстанции»
(материала), наш аппарат легко можно применить к любой
структуре, форма которой аналогична форме
«естественного» языка. Наши примеры взяты из «естественного» языка,
и мы сами исходили из него. Однако то, что мы
установили и проиллюстрировали примерами, по-видимому,
не является специфичным для «естественного» языка, а
принадлежит более широкому кругу явлений. Подобная
универсальная применимость к знаковым системам (или
к системам фигур, служащим для образования знака) как
целому обнаруживается при изучении функций и их
анализа (разд. 9—11, 17), при изучении знаков (разд. 12),
выражения и содержания, формы, субстанции и материала (разд. 13,
15), коммутации и субституции, вариантов, инвариантов и
классификации вариантов (разд. 14, 16), класса и сегмента
(разделы 10, 18), а также катализа (разд 19).
Иными словами, «естественный» язык может быть описан на
основе теории, обладающей минимальной спецификой и
предполагающей дальнейшие следствия.
Нам уже приходилось указывать на это при случае. Мы
сочли возможным сделать утверждение об универсальном
характере понятий «процесс» и «система» и их взаимосвязи
(стр. 270), и наш взгляд на «естественный» язык заставил нас
включить в теорию языка важные аспекты
литературоведения, общей философии науки и формальной логики (стр. 354);
мы не смогли обойти и некоторых почти неизбежных
замечаний о природе логического суждения (стр. 291, 347).
357
В то же время мы были вынуждены обозреть большое
число специальных наук, не связанных непосредственно с
лингвистикой, но выступающих в качестве материала
содержания для лингвистики; нам пришлось также провести
границу между языком и неязыком (стр. 335), временный
характер которой мы, впрочем, подчеркивали.
Построенная нами лингвистическая теория
сохраняется или рушится вместе с принципом, на котором она
построена и который мы назвали эмпирическим принципом
(стр.272). Это заставляет нас признать (с необходимыми
ограничениями, касающимися самой терминологии; ср. стр. 308,
335) соссюровское разделение на форму и «субстанцию» в
качестве логической необходимости, из чего следует, что сама
по себе «субстанция» не может быть
определена в пределах языка. Мы должны
были представить себе совершенно различные субстанции
(с точки зрения иерархии субстанции), подчиненные одной и
той же языковой форме; это логически вытекает из
произвольного отношения между языковой формой и
материалом.
Долгое господство традиционной фонетики ограничивало
понятия лингвистов даже в области «естественного» языка,
причем изучение языка было явно незмпирическим, т. е.
непригодным вследствие своего неисчерпывающего
характера. Считалось, что субстанция выражения в
разговорном языке должна состоять исключительно из «звуков».
Таким образом, как указывалось, в частности Цвирнера-
ми, был упущен тот факт, что речь сопровождается
мимикой и жестами и некоторые речевые элементы могут быть
заменены последними и что в действительности, как
говорят Цвирнеры, в механизме «естественного» языка
участвуют не только так называемые органы речи (гортань,
рот и нос), но и все связки мускулов 1.
Далее, можно заменить обычную субстанцию звука,
мимики и жеста какой-либо другой, оказавшейся
пригодной в измененных внешних условиях. Таким образом,
та же самая языковая форма может манифестироваться
(проявляться) также и в письме, как это имеет место в
фонетической и фонемической записях и в так называемых
фонетических системах письма, как, например, в финском
1 Eberhard Zwirner и Kurt Zwirner, «Archives
neerlandaises de phonet"que experimentale», XIII, 1937, p. 112.
358
языке. Здесь мы имеем дело с графической «субстанцией»,,
предназначенной исключительно для глаза, которую вовсе
не нужно переводить в фонетическую «субстанцию»,
чтобы понять смысл. И эта графическая «субстанция» может
быть с точки зрения субстанции как таковой совершенно
различных видов. Могут быть также и иные «субстанции»;
стоит лишь вспомнить о морских кодах флажками,
которые прекрасно могут использоваться для манифестации
«естественного» языка, например английского, или о
языке жестов у глухонемых.
Против изложенной точки зрения часто выдвигались
два довода. Первый из них подчеркивает, что все эти
субстанции являются «производными» по отношению к
субстанции звуков, мимики и жестов и «искусственными» в
противоположность «естественности» последних; говорят,
что возможно даже несколько ступеней этой
«производности», когда, например, код флажками или язык жестов
у глухонемых исходит от письменности, которая в свою
очередь исходит от «естественного» звукового языка.
Другой довод заключается в том, что различие в субстанции
сопровождается во многих случаях изменением языковой
формы; так, не все системы письма «фонетичны», но при
анализе они приведут нас к установлению инвентаря так-
сем, а, возможно, частично и категорий, отличных от
инвентаря разговорного языка.
Первый из доводов не имеет силы, поскольку тот факт,
что одна манифестация является «производной» по
отношению к другой, не меняет того, что она все же является
манифестацией данной языковой формы. Более того, не
всегда ясно, что является «производным», а что нет; мы не
должны забывать, что открытие алфавитного письма
теряется в доистории \ так что утверждение, будто алфавит
основывается на фонетическом анализе — одна из
возможных исторических гипотез; он может основываться
также и на формальном анализе языковой структуры2. На
во всяком случае, как признано современной лингвиста-
1 Бертран Рассел совершенно правильно замечает, что мы не
располагаем фактами для решения вопроса о том, речь или письмо
является более древней формой человеческого выражения («An outline of
philosophy», London, 1927, p. 47).
2 По этому вопросу см. работу автора в «Archiv fur vergleichende
Phonetik», II, 1938, pp. 211 f.
359
кой, диахронические соображения не имеют ничего общего с
синхроническим описанием.
Другой довод несостоятелен потому, что он не
опровергает общего факта манифестации языковой формы в
данной субстанции. Однако наблюдение, лежащее в
основе этого довода, интересно, так как оно показывает, что
различные системы выражения могут соответствовать
одной и той же системе содержания. Следовательно, задача
лингвиста-теоретика состоит не только в описании
действительно существующей системы выражения, но и в
исчислении того, какие системы выражения вообще
возможны для данной системы содержания и наоборот. Однако то,
что любая система языкового выражения может
манифестироваться в чрезвычайно различных субстанциях
выражения1, является наглядным фактом.
Таким образом, различные фонетические и различные
письменные узусы можно подвести под систему выражения
одной и той же языковой схемы. Язык может испытать
изменение фонетической природы, не затрагивающее
системы выражения языковой схемы, и точно так же он
может испытать изменение чисто семантической природы, не
затрагивающее системы содержания. Только таким
образом можно провести различие между фонетическими
изменениями и семантическими изменениями, с одной
стороны, и фсрмальными изменениями — с другой.
С нашей точки зрения во всем этом нет ничего
удивительного. Сущности языковой формы имеют
«алгебраическую» природу и не имеют естественного обозначения;
поэтому они могут быть обозначены произвольно самыми
различными способами.
Эти различные возможные обозначения по субстанции
не затрагивают теорию языковой схемы. Ее положение не
зависит от них. Главная задача теоретика — выявить
1 Об отношении между письменностью и речью см. A. Penttila
и U. Saarnio в «Erkenntnis», IV, 1934, pp. 28 ff. и H. J. Uldall
в «Congres international des sciences anthropologiques et ethnologiques»,
Compte rendu de la deuxieme session, Kobenhavn, 1939, p. 374. Из
более старых исследований письма со структуральной точки зрения
см. особенно И. Бодуэн дe Куpтeне, Об отношении русского
письма к русскому языку, СПб., 1912, и Ф. де Соссюр, Курс общей
лингвистики, особенно стр. 196. Ср. также статью с несколько неясным
решением проблемы: Joseph Vасhek, Zum Problem der geschriebenen
Sprache, TCLP, VIII, 1939, p. 94 ff. Анализ письма безотносительно к
звуку еще не производился.
360
путем определений структуральный принцип языка, из
которого может быть дедуцировано общее исчисление в
форме типологии, категориями которой являются
индивидуальные языки, или вернее, индивидуальные языковые
типы. Здесь нужно предвидеть все возможности, включая
и те, которые являются виртуальными в мире опыта или
остаются вне «естественной» или «действительной»
манифестации.
В этом общем исчислении не стоит вопрос о том,
манифестируются ли индивидуальные структурные типы, но
лишь о том, способны ли они манифестироваться и, nota
bene, способны ли они манифестироваться в любой
субстанции. Субстанция, таким образом, не является
необходимой предпосылкой для существования языковой формы,
но языковая форма является необходимой предпосылкой
для существования субстанции. Манифестация, иными
словами, есть селекция, постоянной в которой является
языковая форма, а переменной—субстанция; мы формально
определяем манифестацию как селекцию между
иерархиями и между дериватами различных иерархий.
Постоянная в манифестации (манифестированное) может, в
согласии с Соссюром, быть названа формой, и если форма
является языком, мы называем ее языковой схемой 1.
Переменная в манифестации (манифестирующее) может быть
(также в согласии с Соссюром) названа субстанцией;
субстанцию, манифестирующую языковую схему, мы
назовем языковым узусом.
Исходя из этих предпосылок мы приходим к
формальному определению семиотики как иерархии, любой
из сегментов которой допускает
дальнейшее деление на классы,
определяемые на основе взаимной
реляции, так что любой из этих классов
допускает деление на дериваты,
определяемые на основе взаимной
мутации.
Это определение, представляющее не что иное, как
формальное следствие всего сказанного выше,
обязывает лингвиста считать предметом своего исследования не
только «естественный» каждодневный язык,но и любую семи-
1 Термин схема употребляется здесь вместо термина модель
(pattern), предложенного в моей статье «Langue et parole» (Cahiers F. de
Saussure, II, 1942, p. 43).
361
отику — любую структуру, аналогичную языку и
удовлетворяющую данному определению. Язык (в обычном смысле)
может рассматриваться как специальный случай этого более
общего объекта, и его специфические характеристики,
касающиеся только языкового узуса, не влияют на данное
определение.
Здесь мы снова хотим указать, что речь идет не столько»
о практическом разделении труда, сколько о выявлении
объекта путем определения. Лингвист может и должен в.
своей исследовательской работе сосредоточивать свое
внимание на «естественных» языках, а другим, имеющим
лучшую подготовку, главным образом логикам, предоставить
исследование других семиотических структур. Но
лингвист не может безнаказанно изучать язык, не имея более
широкого кругозора с ориентацией на аналогичные
структуры. Он даже может извлечь из этого практическую
выгоду, потому что некоторые из таких структур проще по
своей конструкции, чем языки, и поэтому удобны в
качестве моделей в предварительной работе. Кроме того, на)
основе чисто лингвистических предпосылок стало ясно,
что между логиками и лингвистами должно быть особенно
тесное сотрудничество.
Со времен Соссюра лингвистам было известно, что язык.
не может изучаться изолированно. Соссюр требовал в·
качестве основы для лингвистики в узком смысле
создания дисциплины, названной им семиологией (от ???????
«знак»). Поэтому незадолго до второй мировой войны
отдельными лингвистами и лингвистическими кружками,
заинтересованными в изучении основ этой науки (в частности,,
в Чехословакии), были сделаны серьезные попытки
начать изучение других знаковых (но не языковых) систем,
а именно народных обычаев, искусства и литературы,,
на более широкой семиологической основе 1.
1 Ср., inter alia, P. Bogatyrev, Prispevek k strukturalni
etnografii, «Slovenska Miscellanea», Bratislava, 1931; его же,
FunkcnoStrukturalna metoda a ine mstody etnografie i folkloristiky, «Stovenske
pohl'ady», LI, 10, 1935; его же, Funkcie kroja na moravskom Slovensku.
«Spisy narodopisneho odboru Matice slovenskej», Г, Matica slovenska,
1937 (французское резюме, стр. 68); Jan Mukafovsky, Esteticka
funkce, norma a hodnota jako socialni fakty (Fonction, norme et valeur
esthetiques comme faits sociaux), Praha, 1936; его же, L'art comme fait
semiologique (оттиск без выходных данных). Более полная работа по
общей семиологии была сделана Е. Вuyssens, Les langages et
le discours (Collection Lebegue), Bruxelles, 1943.
362
Верно, что в «Курсе» Соссюра эта общая дисциплина
представляется построенной в основном на социологической
и психологической основе. В то же время Соссюр намечает
нечто, что может быть понято лишь как наука о чистой
форме, где концепция языка принимает вид абстрактной
трансформационной структуры, которую он объясняет
через сравнение с аналогичными структурами. Так, он
отмечает, что, может быть, самая существенная черта
семиологической структуры повторяется в структурах,
называемых играми, например в шахматах, которым он
уделяет большое внимание. Именно эти соображения нужно
выдвинуть на первый план, если мы хотим создать
лингвистику в широком смысле, «семиологию» на имманентной
основе. И именно эти соображения делают возможным и
необходимым тесное сотрудничество лингвистов и
логиков. Как раз знаковые системы и системы игр были взяты
современными логиками в качестве центрального объекта
и рассматривались ими как абстрактные
трансформационные системы; тем самым они подошли к изучению языка
именно с этих позиций 1. Таким образом, в указанном
смысле представляется плодотворным и необходимым
установить общую точку зрения для большого числа дисциплин,
от изучения литературы, искусства, музыки, истории вплоть
до логики и математики с тем, чтобы с этой общей точки
зрения данные науки концентрировались бы вокруг ряда
лингвистически определенных проблем. Каждая наука
смогла бы внести свой вклад в семиотику, исследуя, до
какой степени и каким образом их объекты подчиняются
анализу, согласованному с требованиями лингвистической
теории. Таким образом, эти дисциплины предстанут, по-
видимому, в новом свете, и исследователи, возможно,
придут к их критическсму пересмотру. Таким путем на
основе взаимного сотрудничества окажется возможным
создать общую энциклопедию знаковых структур.
В этой чрезвычайно обширной сфере проблем нас в
настоящий момент особенно интересуют два вопроса: пер-
в ы й: какое место в этом множестве семиотических
структур будет уделено языку? Второй: где лежат границы
между семиотикой и несемиотикой?
1 Основной работой является книга Р. Карнапа «Logische Syrtax
der Sprache», Wien, 1934; расширенное издание — «The logical syntax
of language», 1937.
363
Язык может быть определен как парадигматика, чьи
парадигмы манифестируются любым материалом, а текст —
соответственно, как синтагматика, цепи которой, если они
распространены бесконечно, манифестируются любым
материалом. Под материалом мы понимаем класс переменных,
которые манифестируют более чем одну цепь при более
чем одной синтагматике и более чем одну парадигму при
более чем одной парадигматике.
Практически язык является семиотикой, в которую
могут быть переведены все другие семиотики — как все
другие языки, так и все другие мыслимые семиотические
структуры. Эта переводимость основывается на том факте, что
языки и только они одни способны давать форму любому
материалу 1; в языке и только в нем мы можем «претворить
невыразимое в выразимое» 2. Именно это свойство делает
язык таким, каков он есть, т. е. способным удовлетворить
требованиям общения в любой ситуации. Мы не можем
здесь исследовать основу этого замечательного свойства;
нет сомнения, что оно покоится на структуральной
особенности, на которую мы могли бы пролить более яркий свет,
если бы знали больше о специфической структуре
неязыковых семиотик. Можно сделать заключение, что данное
свойство языка обусловлено неограниченной
возможностью образования знаков и очень свободными правилами
образования единиц большой протяженности
(предложения и т. д.). Это свойственно любому языку и, с другой
стороны, позволяет языку порождать ложные,
противоречивые, неточные, грубые и неэстетические
формулировки наряду с формулировками истинными,
непротиворечивыми, точными, красивыми и эстетичными.
Грамматические правила языка независимы от какой-либо шкалы
значимостей (scale of values) — логических, эстетических
или этических; и вообще язык не зависит ни от какой
специфической целеустановки.
Если мы хотим исследовать границу между семиотикой
и несемиотикой, ясно a priori, что игры лежат поблизости от
этой границы или, может быть, на самой границе.
Исследуя структуру игр, сопоставляя ее с семиотическими струк-
1 Мы сделали это наблюдение независимо от польского логика
Альфреда Тарского («Stiidia philosophica», i, Lwow, 1935); см.
Jorgensen, Traekaf deduktionsteoriens udvikling i den nyere tid (Festsskrift
udg. af Kobenhavns Universitet, nov. 1937), p. 15.
2 Kierkegaard.
364
турами, не являющимися играми, интересно сравнить
способы рассмотрения структур игр, существовавшие до сих
пор, как со стороны лингвистики, так и со стороны
логики, независимо друг от друга. С точки зрения логики
большое внимание уделялось тому факту, что игра, например
шахматы, есть трансформационная система по существу
той же самой структуры, что и семиотика (например,
математическая семиотика), и существовала тенденция
рассматривать игру как случай простой модели, как
нормативный образец семиотики. С лингвистической точки зрения
аналогию видели здесь в том факте, что игра является
системой значимостей, аналогичных экономическим
стоимостям. Язык же и другие системы значимостей
рассматривались как нормативные для понятия игры. Оба пути
рассуждения имеют исторические основания. Логическая
теория знаков берет начало в математике Гильберта,
рассматривавшего систему математических символов как
систему фигур выражения без всякого учета их содержания;
причем правила трансформации этих фигур данная
теория, не учитывая возможных интерпретаций, описывала
таким же образом, как описываются правила игр. Этот
метод был усовершенствован польскими логиками в их
«металогике» и доведен до конца Р. Карнапом в его теории
знака, где в принципе любая семиотика рассматривается
как система выражения без учета содержания. С этой точки
зрения в любой семиотике, т. е. в любом описании
семиотики, можно заменить inhaltliche Redeweise через formale
Redeweise г. Знаковая теория лингвистики, с другой
стороны, имеет глубокие корни в традиции, согласно
которой знак определяется своим значением. Именно в рамках
этой традиции решал данную проблему Соссюр. Он
уточняет ее и находит для нее обоснование, вводя понятие
стоимости. Результатом этого явилссь признание формы
содержания и двусторонней природы знака, что ведет к
теории знака, построенной на взаимодействии формы
содержания и формы выражения в принципе коммутации.
Со стороны логики, где продолжаются дебаты о
природе знака, проблема сводится в основном к вопросу о но-
1 Вводный исторический сбзор см. J. Jorgensen (op. cit) и
L. Bloomfield, Language or ideas?, «Language», XII, 1936,- pp. 89
ff.; и Otto Neurath and Eino Kailа в журнале «Theoria», II, 1936,
pp. 72 ff, 83 ff. См. также G. H. von Wright, Den logiska empirismen,
Stockholm, 1943.
365
минализме или реализме 1. Для лингвистической теории
языка, введение в которую представляет настоящий очерк,
вопрос заключается не в этом; он заключается скорее в
том, должен ли быть материал содержания вовлечен в саму
знаковую теорию. Поскольку материал содержания
оказывается излишним для определения и описания
семиотической схемы, нужны и достаточны формальное
изложение и номиналистический подход; с другой стороны,
формальное и номиналистическое описание в
лингвистической теории не ограничены формой выражения, но
находят свой объект во взаимодействии формы выражения и
формы содержания. Соссюровское различие между формой и
субстанцией чрезвычайно существенно для современного
состояния проблемы в логистике.
На этой основе логистика сможет также увидеть как
различие, так и сходство между играми и семиотиками, не
являющимися играми. Решающим для вопроса о том,
имеем ли мы дело со знаком или нет, является вовсе не
факт его интерпретации, т. е. подчинение ему материала
содержания. Ввиду селекции между семиотической
схемой и семиотическим узусом в исчислении лингвистической
теории существуют системы, не интерпретированные, но
лишь доступные интерпретации. С этой точки зрения тогда
не существует разницы между, например, шахматами и
чистой алгеброй, с одной стороны, и языком — с другой.
Но если мы хотим решить, до какой степени игра или
другая квазизнаковая система вроде чистой алгебры
являются или не являются семиотиками, мы должны выяснить,
необходимо ли для их исчерпывающего описания иметь
дело с двумя планами, или принцип простоты может быть
применен таким образом, что будет достаточно операции с
одним планом.
Предпосылкой необходимости оперировать двумя
планами должен быть тот факт, что два плана, будучи
экспериментально установлены, не могут иметь абсолютно
тождественной структуры, т. е. взаимно однозначного
соответствия между функтивами одного плана и функтивами
другого плана. Мы выразим это, сказав, что в данном случае
два плана не должны быть конформальны. Два функтива
называются конформальными, если любой конкретный де-
1 Так, например, у U. Saarnio в работе, приведенной на стр. 39,
прим.
366
дериват одного функтива без исключения вступает в те же
самые функции, что и любой конкретный дериват другого
функтива, и наоборот. Мы можем, следовательно,
сформулировать правило: два опытным путем установленных
сегмента одного и того же класса будут сведены к одному
сегменту, если они конформальны и не коммутабельны.
Испытание, устанавливающее это правило, называемое
нами деривационным испытанием, предписывается
лингвистической теорией для каждого конкретного этапа анализа
текста соотносительно с коммутационным испытанием;
оба испытания вместе необходимы для того, чтобы решить
вопрос, является ли данный объект семиотикой или нет.
Не будем затрагивать здесь применения деривационного
испытания к семиотическим дериватам высших степеней
(в процессе), но рассмотрим лишь дериваты первой
степени — планы семиотики. Они (т. е. планы семиотики) не
коммутабельны, и основным фактором в решении вопроса
о том, рассматривать ли их как различные или
идентичные сущности (в последнем случае приложение
лингвистической теории к данному объекту исключается), является
лишь их конформальность или неконформальность.
Индуктивный опыт показывает, что для всех до сих пор
исследованных языков деривационное испытание дает
отрицательный ответ. Без сомнения, отрицательный ответ будет
получен и для некоторых других структур, считавшихся
до сих пор семиотиками, или для тех, которые должны
считаться семиотиками на основе деривационного
испытания. Но вместе с тем деривационное испытание дает
положительный ответ для многих таких структур, которые
современная теория любит называть семиотиками. Это
видно на примере чистых игр; в их интерпретации
имеется одна сущность содержания, соответствующая одной
сущности выражения (шахматной фигуре и т. п.), так что если
экспериментально построить оба плана, функциональная
сеть будет одинакова в обоих из них. Такая структура не
является семиотикой в том смысле, какой вкладывает в
этот термин лингвистическая теория. Мы должны
предоставить специалистам различных областей решать, могут
ли быть определены с этой точки зрения как семиотики,
например, так называемые символические системы
математики и логики или некоторых видов искусства, например
музыки. По-видимому, не исключена возможность, что
логическая концепция семиотики как одноплановой есть
367
результат того, что исходным пунктом были взяты
структуры, которые, согласно нашему определению, не являются
семиотиками (отсюда их преждевременное обобщение) и
которые поэтому фундаментально отличаются от истинно
семиотических структур. Термин символические
системы предполагается использовать для таких структур,
которые могут быть интерпретированы (т. е. которым
может быть подчинен материал содержания), но которые не
являются двуплановыми (т. е. при наличии которых
принцип простоты не позволяет нам энкатализировать форму
в содержание). Лингвисты высказывали некоторые
опасения относительно применения термина символ к сущностям,
стоящим в чисто произвольном отношении к их интерпе-
тации 1. С этой точки зрения символ должен
использоваться только для сущностей, изоморфных со своей
интерпретацией, т. е. сущностей, являющихся изображениями или
эмблемами: например, фигура Христа скульптора Торваль-
дсена — символ сострадания; молот и серп как символ
коммунизма; весы как символ правосудия; сюда же относятся
и ономатопоэтические слова в сфере языка. Но в логистике
есть обыкновение использовать символ в более широком
смысле, и кажется удобным применять это слово к
интерпретируемым несемиотическим сущностям. Видимо,
существует близость между интерпретируемыми
единицами игры и изоморфичными символами; и те и другие
не допускают дальнейшего анализа на фигуры, что
характерно для знаков. Дискуссия о природе знака,
проходившая недавно у лингвистов, справедливо привлекла
внимание к грамматическому характеру изоморфичных
символов 2. Это та же мысль, что излагалась нами выше, но
в традиционной формулировке.
22. Коннотативная семиотика и метасемиотика
В предшествующих разделах, сознательно прибегая к
упрощению, мы рассматривали «естественный» язык в
качестве единственного объекта лингвистической теории.
В последнем разделе, несмотря на значительное расширение
кругозора, мы все еще действовали так, как если бы
единственным объектом теории была денотативная семиотика.
Под денотативной семиотикой мы понимаем такую семио-
1 Так, Соссюр (см. «Курс общей лингвистики», М., 1933, стр. 127
и сл.) определяет символ как непроизвольный (мотивированный).
2 E. Buyssens, «Acta linguistica», II, 1940—1941, p. 85.
368
тику, ни один из планов которой не является семиотикой.
Предельно расширяя кругозор, мы можем указать, что
существуют также семиотики, план выражения которых
является семиотикой, и существуют семиотики, план
содержания которых является семиотикой. Первую мы будем
называть коннотативной семиотикой, вторую — метасе-
миотикой. Поскольку план выражения и план содержания
определены только в противопоставлении друг к другу,
определения, данные нами здесь коннотативной семиотике
и метасемиотике, являются предварительными,
«реальными» определениями, которые мы не можем считать даже
операциональными.
Когда в разделе 21 мы дали определение семиотике,
это определение относилось не к индивидуальной семиотике,
противопоставленной другим семиотикам, но к семиоти-
кам, противопоставленным несемиотикам, т. е. оно
относилось к семиотике как высшему типу иерархии, к языку
(la langue) как понятию или к классу как целому.
Относительно индивидуальной семиотики
противопоставленной другим семиотикам, мы можем сказать, что лингвист-
теоретик предвидит ее в своем исчислении как
возможный тип структуры. С другой стороны, мы еще не касались
вопроса о том, как удается лингвисту-теоретику узнать
и выделить отдельную семиотику как таковую при анализе
текста. Подготавливая анализ, мы исходим из
молчаливого предположения, что данный текст представляет
собой единую семиотику, а не смешение двух или
нескольких семиотик.
Другими словами, чтобы построить простую модель
ситуации, мы допускали, что данный текст обладает
структурной однородностью, т. е. что мы можем энкатализиро-
вать в текст только одну семиотическую систему. Однако
эта предпосылка оказывается недейственной на
практике. Наоборот, любой текст, достаточно большой, чтобы из
него можно было вывести систему, приложимую к другим
текстам, обычно содержит производные элементы,
принадлежащие разным системам. Различные части текста и
части его частей могут состоять, таким образом, из:
1. Различных стилистических форм (характеризуемых
разного рода ограничениями: стихи, проза, различные виды,
их смешения).
2. Различных стилей (творческий стиль и чисто
подражательный, так называемый нормальный стиль; творческий
24 Заказ №116
369
и в то же самое время подражательный стиль,
называемый архаическим).
3. Различных оценочных стилей (value-styles) (высокий
оценочный стиль и низкий, так называемый вульгарный;
существует также нейтральный оценочный стиль — не
высокий и не низкий).
4. Различных средств (media) (речь, письмо, жесты,
сигнальные коды флажками и т. д.).
5. Различных эмоциональных тонов (сердитый,
радостный и т. д.).
6. Различных идиом, среди которых следует различать:
а) разные говоры (vernaculars) (язык того или иного
коллектива, жаргоны различных групп и профессий);
б) различные национальные языки;
в) различные региональные языки (общенародный язык,
локальный диалект и т. д.);
г) различные индивидуальные особенности (присущие
выражению акустические и артикуляционные различия).
Стилистическая форма, стиль, оценочный стиль,
средство, тон, говор, национальный язык, региональный язык
и индивидуальные особенности произношения являются
солидарными категориями, так что любой функтив
денотативного языка может быть определен в отношении всех
их в одно и то же время. Посредством комбинации члена
одной категории с членом другой возникают гибриды,
которые часто имеют специальное обозначение или легко
могут получить последнее: беллетристический стиль есть
одновременно творческий стиль и высокий оценочный
стиль 1. Слэнг — творческий стиль, являющийся
одновременно высоким и низким оценочным стилем; жаргон и
код — творческие стили, не являющиеся ни высокими, ни
низкими оценочными стилями; разговорный язык —
нормальный стиль, не являющийся ни высоким ни низким оценочным
стилем; лекторский стиль — высокий оценочный стиль, пред-
1 Жаргон в более общем смысле может быть определен как
нейтральный оценочный стиль со специфичными знаками (обычно знаковыми
выражениями); код— как нейтральный оценочный стиль со
специфичными манифестациями выражения. Используя обозначение жанровый
стиль для языка, свойственного определенным литературным жанрам
(типичными примерами служат некоторые древнегреческие диалекты),
мы можем определить терминологию как жаргон и жанровый стиль
одновременно, а научный знаковый язык (если это не символическая
система) — как код и жанровый стиль одновременно.
370
ставляющий собой речь и общий язык; церковный стиль —
высокий оценочный стиль, являющийся речью и жаргоном;
канцелярский стиль —высокий оценочный стиль,
являющийся архаическим стилем, видом письма и жаргоном,
и т. д.
Целью данных перечислений не является
исчерпывающее описание этих явлений или их формальное
определение; наша цель — указать на самый факт их существования
и на их многообразие.
Индивидуальные члены каждого из этих классов и
единицы, возникающие при комбинации индивидуальных
членов, мы назовем коннотаторами. Некоторые из этих кон-
нотаторов могут быть солидарны с некоторыми системами
семиотических схем, другие — с некоторыми системами
семиотического узуса, а третьи — с теми и другими. Это нельзя
знать a priori, поскольку ситуация меняется. Если назвать
только крайние случаи, то надо отметить, что невозможно
знать заранее, представляют ли собой индивидуальные
особенности произношения (произношение одного
индивидуума, противопоставленное произношению другого)
только специфический узус, а не специфическую схему
(может быть, слегка отличную от другой, но все же отличную),
или представляет ли собой национальный язык
специфическую лингвистическую схему, либо —в сравнении с
другим национальным языком — только специфический узус,
в то время как схемы обоих национальных языков
являются идентичными.
Чтобы обеспечить непротиворечивое и исчерпывающее
описание, лингвистическая теория должна выработать
такую процедуру анализа текста, которая позволила бы
различать эти случаи. Очень странно, что в прежних
лингвистических теориях этому требованию
уделялось лишь незначительное внимание. Объяснение
нужно искать отчасти в том, что вопрос рассматривался с
трансцендентной точки зрения. Например, с
расплывчатой социологической точки зрения (по всей видимости,
ложной) считалось возможным утверждать, что из
существования социальной нормы следует, что национальный
язык также единообразен и специфичен по своей
внутренней структуре; что, с другой стороны, индивидуальными
особенностями произношения в языке (linguistic
physiognomy) можно пренебречь; что речь любого индивида без
всяких рассуждений можно принять за образец националь-
24*
371
ного языка. Только представители лондонской школы
проявляли обоснованную осторожность в данном вопросе;
определение фонемы, данное Даниэлем Джоунзом,
относится к «произношению индивидуума, говорящего в
определенном стиле» 1.
При неограниченности (продуктивности) текста всегда
будет существовать «переводимость» (translatability),
означающая здесь субституцию выражения между двумя
знаками, каждый из которых принадлежит своему знаковому
классу, а эти последние солидарны со своим
соответствующим коннотатором. Этот критерий особенно очевиден и легко
применим к знакам большой протяженности, с которыми
анализ текста имеет дело в своих первичных операциях:
любой дериват текста (например, глава) может быть
переведен из одного оценочного стиля, средства, тона, говора,
национального или регионального языка,
индивидуального произношения в другие. Как мы видели, эта
переводимость не всегда взаимна, если речь идет об иной (чем
язык) семиотике, но если в круг семиотик включить язык,
то односторонняя переводимость всегда возможна.
Следовательно, в анализе текста коннотаторы будут выглядеть
как части, входящие в функтивы таким образом, что функ-
тивы будут иметь взаимную субституцию при условии
вычета этих частей; в некоторых условиях коннотаторы
присутствуют во всех функтивах данной степени. Но
этого еще недостаточно, чтобы определить коннотатор. Мы
назовем сущность, имеющую указанное выше свойство,
индикатором; мы должны различать два рода индикаторов:
сигналы (см. стр. 330) и коннотаторы. Разница между ними
с практической точки зрения заключается в том, что
сигнал может быть недвусмысленно отнесен всегда к одному
определенному плану семиотики, что не имеет места в
случае с коннотатором. Таким образом, коннотатор является
индикатором, существующим в определенных условиях
в обоих планах семиотики.
При анализе текста коннотаторы должны выделяться
в итоге вычитания. Таким образом, знаки, различающиеся
только солидарностью с своим собственным коннотатором,
выступают как вариаты. Эти вариаты в противоположность
1 См. стр. 322, прим. 2, а также, в частности, D. Jones,
TCLP, IV, 1931, р. 74.
372
обычным вариантам (стр. 338) являются индивидуальными и
при дальнейшем анализе их следует рассматривать
отдельно. Этим мы ограждаем себя от смешения различных
семиотических схем (и узусов). Если позднее здесь создастся
идентичность, ее легко можно будет обнаружить.
Но совершенно ясно, что сами коннотаторы
представляют собой объект, изучение которого относится к области
семиотики. Исследование коннотаторов не входит в
задачи дисциплины, анализирующей денотативные семиотики;
единственной задачей этой дисциплины является выделение
коннотаторов и сохранение их для позднейшего изучения.
Это изучение относится к области специальной дисциплины,
определяющей исследование денотативных семиотик.
Теперь становится очевидным, что солидарность,
существующая между некоторыми классами знаков и
некоторыми коннотаторами, является знаковой функцией,
поскольку классы знаков служат выражением, когда в
качестве содержания выступают коннотаторы. Так,
семиотические схемы и узусы, которые мы обозначаем как датский
язык, суть выражения для коннотатора «датский». Подобным
же образом семиотические схемы и узусы, которые мы
обозначаем как индивидуальные особенности NN, суть
выражение реальной индивидуальной особенности NN (данного
лица), и т. д. Недаром национальный язык считается
«символом» нации, а локальный диалект — «символом» данной
области и т. д.
Итак, представляется правильным рассматривать
коннотаторы как содержание, для которого денотативная
семиотика служит выражением, и обозначать это содержание
и это выражение как семиотику, именно коннотативную
семиотику. Другими словами, по окончании анализа
денотативной семиотики, коннотативная семиотика
должна быть подвергнута аналогичному анализу. Здесь также
нужно различать семиотическую схему и узус.
Коннотаторы следует анализировать на основе их взаимных
функций, а не на основе материала содержания, который
подчинен или может быть подчинен им. Таким образом,
изучение схемы коннотативной семиотики захватывает не только
понятия социального или сакрального характера,
которые общераспространенное мнение связывает с такими
понятиями, как национальный язык, местный диалект, жаргон,
стилистическая форма и т. д. и т. д. Но этому
изучению схемы коннотативной семиотики необходимо под-
373
чинить изучение ее узуса, точно так же как это имело место
в денотативной семиотике.
Следовательно, коннотативная семиотика есть
семиотика, не являющаяся языком; ее план выражения
представлен планом содержания и планом выражения денотативной
семиотики. Иными словами, это семиотика, один из планов
которой (а именно план выражения) является семиотикой.
Нас поражает здесь, что мы открыли семиотику, план
выражения которой является семиотикой. Ведь в результате
развития логистики в работах польских логиков можно было
ожидать выявления существования семиотики, план
содержания которой является семиотикой. Таковым
является так называемый метаязык 1 (или, как мы будем
говорить, метасемиотика), под которым понимается семиотика,
трактующая семиотику; в нашей терминологии это должно
означать семиотику, содержание которой есть семиотика.
Такой метасемиотикой должна быть сама лингвистика.
Как уже было замечено, понятия «выражение» и
«содержание» не вполне подходят в качестве основы для
формальных определений, потому что «выражение» и «содержание» —
произвольно данные обозначения для элементов,
определяемых только соотносительно и негативно. Поэтому мы
дадим определения на иной основе, первоначально разделив
класс семиотик на класс научных семиотик и класс
ненаучных семиотик. Для этого нам понадобится понятие
операции, которое мы определили раньше. Под научной
семиотикой 2 мы понимаем семиотику, представляющую собой
операцию; под ненаучной семиотикой — семиотику,
которая не есть операция. Мы соответствено определяем кон-
нотативную семиотику как ненаучную семиотику, один
или оба плана которой являются семиотиками, а метасе-
миотику — как научную семиотику, один или оба плана
которой являются семиотиками. Случай, как мы видели,
обычно встречающийся на практике, сводится к тому, что
один из планов является семиотикой.
Поскольку теперь, как указывают логики, мы в
состоянии представить себе научную семиотику, которая
рассматривается метасемиотикой, мы можем в соответствии с их
1 См. работу Йоргенсена, упоминавшуюся в ссылке на стр. 364.
2 Мы не говорим просто наука, потому что следует считаться с
возможностью существования наук, являющихся не семиотиками в нашем
смысле, а символическими системами
374
терминологией определить мета-(научную) семиотику как
метасемиотику, семиотический объект которой является
научной семиотикой (семиотика, выступающая как план
другой семиотики, называется ее семиотическим объектом).
В соответствии с терминологией де Соссюра мы можем
определить семиологию как метасемиотику. семиотический
объект которой есть ненаучная семиотика. И наконец,
мы можем использовать обозначение метасемиология для
мета-(научной) семиотики, семиотические объекты которой
суть семиологии.
Чтобы объяснить не только основу лингвистики, но и
ее тончайшие детали, лингвистическая теория обязана
прибавить к изучению денотативных семиотик изучение
коннотативных семиотик и метасемиологий. Это
обязанность нашей специальной науки, потому что задача может
быть выполнена удовлетворительно только в том случае,
если исходить из предпосылок данной науки.
Наша последняя задача должна заключаться в
рассмотрении вопроса, как, собственно, организована
метасемиология с лингвистической точки зрения.
Обычно метасемиотика бывает (или может быть)
полностью или частично идентична со своим семиотическим
объектом. Так, лингвист, описывающий язык, может
использовать тот же язык и для своего описания; подобным же
образом семиолог, описывающий семиотики, не являющиеся
языками, сможет сделать это описание при помощи языка;
и в любых других случаях используемая семиотика всегда
может быть переведена в язык (ср. определение языка).
Отсюда следует, что метасемиология, если появляется
необходимость дать полное описание семиологической
семиотики, должна в значительной мере повторять результаты
семиологии. Однако принцип простоты предписывает нам
следовать методу, который поможет избежать этого; из
соображений пригодности мы должны так организовать
метасемиологию, чтобы практически ее объект был отличен
от объекта семиологии; мы должны соответственно
действовать перед лицом возможных метасемиологий высшего
порядка и воздерживаться от добавлений метасемиологий
еще более высшего порядка, если их объекты не будут
отличаться от объектов уже рассмотренных метасемиоло-
гией.
В силу сказанного метасемиология должна
интересоваться не языком, уже описанным семиологией, используе-
375
мым семиологией, но возможными изменениями его и
добавлениями к нему, которые ввела семиология, чтобы
создать свой специальный жаргон. Точно так же ясно, что
метасемиология не должна давать описание положений,
входящих в теорию семиологии, если она может доказать,
что эти положения суть возможные единицы, которые можно
предвидеть из системы языка. Ее сферой является, напротив,
специальная терминология семиологии, и здесь
оказывается, что используются три различных рода терминов.
1. Термины, которые выступают как определяемые в
семиологической системе определений и содержание
которых поэтому уже определено, т. е. анализировано (стр. 329)
самой семиологией. Эти термины не относятся к
специальной сфере метасемиологии.
2. Термины, взятые из языка и выступающие как
неопределяемые в семиологической системе определений.
Такие неопределяемые термины занимают особое место в
семиологии в противоположность тому, что имеет место в
других науках. Поскольку эти неопределяемые термины
взяты из объекта языка — семиологии, семиология в своем
анализе плана содержания дает им определения. Указанные
термины также не относятся к специальной сфере мета-
семиологии.
3. Термины, не взятые из языка (но которые требуют
согласования структуры выражения с системой
языка) и выступающие как неопределяемые в положениях
семиологии. Здесь мы должны различать 2 вида терминов:
а) Термины для вариантов высшей степени от
инвариантов высшей степени, т. е. для вариантов-глоссем (и
вариантов-сигналов) высшей степени — самых конечных,
«мельчайших» вариантов (вариантов-индивидов или
локализованных вариантов), рассматриваемых семиологией в ходе
анализа. Эти варианты необходимо остаются неопределяемыми
в семиологии, поскольку определение означает анализ, а
анализ в семиологии невозможен именно на данном
этапе. С другой стороны, анализ этих вариантов возможен в
метасемиологии, так как там они должны описываться как
минимальные знаки, выступающие в семиологии, и
анализироваться таким же образом, как анализируются
минимальные знаки языка семиологии, т. е. посредством сведения
в фигуры на основе коммутационного испытания,
установленного для семиологической семиотики, и путем членения
на варианты. Мы увидим, что сущности, выступающие
376
как варианты плана содержания и плана выражения в
языке (или вообще в семиологическом объекте 1-го
порядка), будут инвариантами в плане содержания в
семиологии.
б) Термины для категорий вариантов и инвариантов
любой степени. Их содержания, рассматриваемые в качестве
класса как целого, будут синкретизмами сущностей,
рассмотренных в пункте «а», или синкретизмами самих
содержаний.
Задачей метасемиологии является, следовательно,
рассмотрение минимальных знаков семиологии, содержание
которых идентично с конечными вариантами содержания и
выражения семиотического объекта (языка); анализ
должен производиться согласно той же самой процедуре,
которая предписывается вообще для анализа текста. Как и
в ординарном анализе текста, так и здесь должна быть
предпринята попытка установить с возможной полнотой
реализованные сущности, т. е. сущности, доступные частному
(индивидуальному) делению.
Чтобы понять, что здесь может иметь место, следует
помнить, что мы не смогли сохранить неизменным соссю-
ровское разделение на форму и субстанцию и что в
действительности речь идет о различии двух форм разных
иерархий. Функтив, например, в языке может рассматриваться
как языковая форма или как форма материала; в
зависимости от этих двух точек зрения возникают различные
объекты; их, однако, можно назвать в некотором смысле
идентичными, поскольку все различие их заключается в
различных точках зрения на них. Разделение, произведенное
Соссюром, и формулировка, данная им, не должны внушить
нам неправильную мысль о том, будто бы функтивы, от
крываемые нами при анализе языковой схемы, не могут
с равным правом считаться имеющими физическую
природу. Можно сказать, что они являются физическими
сущностями (или синкретизмами последних), определенными
по взаимной функции. Поэтому с тем же правом можно
заявить, что метасемиологический анализ содержания
минимальных знаков семиологии является анализом физических
сущностей, определенных по взаимной функции. В какой
мере можно считать в конечном счете все сущности в
любой семиотике, в ее содержании и выражении,
физическими или сводимыми к физическим, является чисто
эпистемологическим вопросом физикализма, направленным против
377
феноменализма. Этот вопрос является предметом
развернувшихся в настоящее время споров 1, в которых мы
участвовать не будем и на которых теория языковой схемы
не должна задерживаться. С другой стороны, в
современных лингвистических дискуссиях часто можно
заметить некоторую тенденцию (как среди сторонников, так
и среди противников глоссематической точки зрения)
толковать вопрос таким образом, будто объект,
анализируемый лингвистом путем энкатализа языковой формы, не
может обладать физической природой точно так же, как и
объект, который «исследователь субстанции» должен
анализировать путем энкатализа той или другой «неязыковой»
формы материала. Но необходимо преодолеть это
непонимание, чтобы четко определить задачи метасемиологии.
Метасемиология, перемещая свою точку зрения, что
означает переход от семиотического объекта к его метасемио-
тике, в помощь обычным семиологическим методам дает
в руки ученого новые средства для дальнейшего
выполнения анализа, который с точки зрения семиологии был
исчерпан. Это может только означать, что конечные варианты
языка подвергаются дальнейшему, индивидуальному
анализу на чисто физической основе. Другими
словами, метасемиология на практике
идентична так называемому описанию
субстанции. Задача метасемиологии — проводить
непротиворечивый, исчерпывающий и наипростейший
анализ вещей, которые являются для семиологии
неразложимыми индивидами (или локализованными сущностями)
содержания^ звуков (или письменных знаков и т. д.),
которые являются для семиологии неразложимыми
индивидами (или локализованными сущностями) выражения. Мета-
семиологический анализ должен выполняться на основе
функций, согласно уже указанной процедуре до тех пор,
пока он не будет исчерпан и пока здесь мы также не
достигнем конечных вариантов, по отношению к которым
подход со стороны когезии будет безуспешным, и поиски
причин и условий должны будут уступить место чисто
статистическому описанию как единственно возможному
(стр. 340) — положение, в котором находится современная
физика и дедуктивная фонетика.
1 По этому вопросу, кроме работ Блумфилда и Нейрата, см. Alf
Ross, On the illusion of consciousness, «Theoria», VII, 1941, pp. 171 ff.
378
Совершенно очевидно, что можно и необходимо к кон-
нотативной семиотике добавить метасемиотику,
продолжающую анализ конечных объектов коннотативной
семиотики. Подобно тому как метасемиология денотативных
семиотик будет на практике рассматривать объекты
фонетики и семантики в форме, интерпретированной заново,
так и в метасемиотике коннотативных семиотик найдет
свое место в заново интерпретированной форме большая
часть специфической социологической лингвистики и
внешней лингвистики Соссюра. Этой метасемиотике принадле-
жит задача анализа различных — географических и
исторических, политических и социальных, сакральных,
психологических—материалов содержания, связанных с
нацией (носителем национального языка), областями
(носителями местных языков), оценочными формами стиля,
личностью (носителем индивидуальных особенностей, хотя
это по существу задача индивидуальной психологии),
настроением и т. д. Многие специальные науки, прежде
всего, очевидно, социология, этнология и психология,
должны прийти здесь на помощь.
С другой стороны, в соответствии с принципом
простоты, метасемиологии высших порядков не должны
привлекаться до тех пор, пока они, будучи последовательно
выполнены, не принесут иных результатов, чем те, которые
уже достигнуты в метасемиологии первого порядка или
ранее.
23. Конечные перспективы
Ограниченный практический и технический подход,
естественный для специалиста в процессе работы и
приведший в области лингвистики к требованию
лингвистической теории как надежного метода для описания данного
ограниченного текста, составленного на предварительно
определенном «естественном» языке, в ходе нашего
изложения с логической необходимостью направлял нас к
более широкой научной и гуманитарной точке зрения,
пока в заключение не сформулировалась идея о понятии
целого, абсолютного по своему характеру.
Индивидуальный акт речи обязывает исследователя
энкатализировать систему, связанную с этим актом.
Индивидуальная характеристика есть целостность, которую
дано познать лингвисту через анализ и синтез, но не
замкнутая в себе целостность. Это целостность с внеш-
379
ними когезиями, которые обязывают нас энкатализировать
другие лингвистические схемы и узусы; они одни могут
пролить свет на индивидуальные особенности; это целостность
с внутренними когезиями, с коннотативным материалом,
объясняющим целостность в своем единстве и многообразии.
Для местного диалекта и стиля, речи и письма, языков и
других семиотик процедура повторяется во все более
широких циклах. Самая маленькая система — это
непротиворечивая целостность, но никакая целостность не является
изолированной. Катализ за катализом заставляют нас расширять
кругозор до тех пор, пока не будут учтены все когезии. Не
только отдельный язык является объектом лингвиста, но
целый класс языков, члены которых связаны друг с другом,
объясняют и освещают друг друга. Невозможно провести
границу между изучением индивидуального языкового типа
и общей типологии языков; индивидуальный языковой тип-
частный случай общей типологии и, как все функтивы,
существует только благодаря функции, связывающей его с
другими. В исчислительной типологии лингвистической теории
предвидятся все языковые схемы; они образуют систему с
корреляциями между индивидуальными членами. Реляции
также могут иметь место; они выступают как контакты
между языками, которые манифестируются частично в
виде заимствований, а частично в генетической близости
языков; независимо от языковых типов они образуют
языковые семьи; эти реляции, так же как и все другие,
зависят от чистой предпосылки (presupposition),
которая подобно реляции между частями процесса в тексте,
манифестируется во времени, но сама не определятся
временем .
Посредством последующего катализа привлекаются к
рассмотрению коннотативные семиотики, метасемиотика и
метасемиология. Таким образом, все те сущности, которые
на первых этапах при рассмотрении схемы объекта
семиотики временно должны были быть исключены как
несемиотические элементы, вводятся вновь в качестве
необходимых компонентов семиотических структур высшего
порядка. Соответственно мы не находим несемиотик,
которые не были бы компонентами семиотик, и на
конечном этапе не остается объектов, не освещенных с
основной позиции лингвистической теории. Семиотическая
структура предстает в качестве такой позиции, с которой
могут быть рассмотрены все научные объекты.
380
Лингвистическая теория совершенно невиданным
образом и в невиданном масштабе выполняет здесь взятые на
себя обязательства (стр. 269, 279). На первом этапе
лингвистическая теория была создана как имманентная, и ее
единственной задачей было изучение ее констант, системы
и внутренней функции. Это осуществлялось за счет
утраты отклонений и нюансов конкретной физической и
феноменологической действительности. Временное ограничение
кругозора было ценой, заплаченной за отторжение у языка
его тайны. Но именно благодаря этой имманентной точке
зрения сам язык сполна окупает все то, что потребовал,
ранее. В более высоком смысле, чем в лингвистическом,
язык снова стал ключевой позицией познания.
Отказавшись от являвшейся препятствием трансцендентности,
имманентный подход дал новую и лучшую основу;
имманентность и трансцендентность соединились в высшем единстве
на основе имманентности. Лингвистическая теория,
руководимая внутренней необходимостью, приходит к
признанию не только языковой системы в ее схеме и узусе,
в ее всеобщности и ее индивидуальности, но также к
признанию человека и человеческого общества, стоящих за
языком, и всего мирового человеческого знания, добытого
посредством языка. На этом этапе лингвистическая
теория достигает той цели, к которой она стремилась:
humanitas et universitas.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины даются на русском, английском и датском
языках (в указанной последовательности). Цифры в скобках
указывают номера определений, от которых зависит
данное определение.
1. Деление (анализ) (Division [Analysis]; Inddeling
[Analyse ] — описание объекта на основе единообразных
зависимостей других объектов по отношению к данному
объекту и между собой.
2. Класс (Class; Klasse)—делимый объект [1].
3. Сегменты (Segments; Afsnit) — объекты,
выделяемые при простом делении в качестве единообразно
зависящих от класса и друг от друга [1, 2].
4. Иерархия (Hierarchy; Hierarki) — класс классов [2].
5. Комплекс анализов (Analysis complex;
Inddelingskomplex) — класс анализов одного и того же класса [1, 2].
6. Операция (Operation; Operation) — описание,
удовлетворяющее эмпирическому принципу
7. Синтез (Synthesis; Syntese) — описание объекта как
сегмента класса [2, 3].
8. Функция (Function; Funktion) — зависимость,
удовлетворяющая условиям анализа [1].
9. Функтив (Functive; Funktiv) — объект, имеющий
функцию к другим объектам [8].
10. Включаться в (Contract; Indgaa)— о функтиве
говорят, что он включается в свою функцию [8, 9].
11. Сущность (Entity; St0relse)—функтив, не
являющийся функцией [8, 9].
12. Постоянная (Constant; Konstant)—функтив,
присутствие которого есть необходимое условие для
присутствия функтива, к которому первый функтив имеет
функцию [8, 9].
382
13. Переменная (Variable; Variabel) — функтив,
присутствие которого не является необходимым условием для
присутствия функтива, к которому первый функтив имеет
функцию [8, 9].
14. Взаимозависимость (Interdependence;
Interdependens) — функция между двумя постоянными [8, 12 ]•
15. Детерминация (Determination; Determination) —
функция между постоянной и переменной [8, 12, 13].
16. Констелляция (Constellation; Konstellation) —
функция между двумя переменными [8, 13].
17. Когезия (Cohesion; Kohaesion) —функция, среди фун-
ктивов которой имеется одна или более постоянных
[8, 9,12].
18. Реципроция (Reciprocity; Reciprocity) — функция,
функтивы которой либо только постоянные, либо только
переменные [8, 12, 13].
19. Дедукция (Deduction; Deduktion) — продолженный
анализ или комплекс анализов, между анализами которых
Имеет место детерминация [1, 5, 15].
20. Процедура (Procedure; Procedure) — класс
операций с взаимной детерминацией 12, 6, 15].
21. Дериваты (Derivates; Derivater) — сегменты и
сегменты сегментов класса одной и той же дедукции [2, 3,19].
22. Включать (Include; Indbefatte) — о классе говорят,
что он включает свои дериваты [2, 21].
23. Вступать в (Enter into; Indgaa i) — о дериватах
говорят, что они вступают в свой класс [2, 21 ].
24. Степень (Degree; Grad)—указание на число
классов, которые отделяют дериваты данного класса от
первичного общего класса (если число классов 0, то дериваты
называются дериватами 1-й степени; если число классов
1, то дериваты имеют вторую степень, и т. д. [2, 21].
25. Индукция (Induction; Induktion) — продолженный
синтез, отдельные синтезы которого связаны детерминацией
[7, 15, 23].
26. Корреляция (Correlation; Korrelation) — функция
и-и [8].
27. Реляция (Relation; Relation)— функция или-или [8].
28. Система (System; System) —корреляционная
иерархия [4, 26].
29. Процесс (Process; Fortab) — реляционная иерархия
[4, 27].
383
30. Членение (Atriculation; Leddeling)—деление
системы [1, 28].
31. Разделение (Partition; Deling)—деление текста
[1, 29].
32. Универсальная операция (Universality;
Universalitet): операция с определенным результатом называется
универсальной, а ее результат — универсальным, если
операция может быть проведена на любом объекте [6].
33. Индивидуальная операция (Particularity; Partiku-
laritet): операция с данным результатом называется
индивидуальной, а ее результат — индивидуальным, если
операция может быть проведена только на данном объекте
[6].
34. Реализация (Realization; Realisation): класс
называется реализованным, если он может быть принят за объект
индивидуального анализа [1, 2, 33].
35. Виртуальность (Virtuality; Virtualitet): класс
называется виртуальным, если он не может быть принят за
объект индивидуального анализа [1, 2, 33].
36. Комплементарность (Complementarity; Komplemen-
taritet) — взаимозависимость между терминами в системе
[14, 28].
37. Солидарность (Solidarity; Solidaritet) —
взаимозависимость между терминами в процессе [14, 29].
38. Спецификация (Specification; Specifikation) —
детерминация между терминами в системе [15, 28].
39. Селекция (Selection; Selektion — детерминация
между терминами в процессе [15, 29].
40. Автономия (Autonomy; Autonomi) — констелляция
в системе [16, 28].
41. Комбинация (Combination; Kombination) —
констелляция в процессе [16, 29].
42. Определение (Definition; Definition) — разделение
знакового содержания или знакового выражения [31].
43. Ряд (Rank; R?kke): говорят, что дериваты одной
и той же степени, принадлежащие к одному и тому же
процессу или к одной и той же системе, образуют ряд [21, 24,
28, 29].
44. Мутация (Mutation; Mutation) —функция,
существующая между дериватами первой степени одного и того же
класса; функция, имеющая реляцию к функции между
другими дериватами первой степени одного и того же
класса, принадлежащими к тому же ряду [2, 8, 21, 24, 27, 431,
384
45. Сумма (Sum; Sum)— класс, имеющий функцию к
одному или большему числу других классов того же ряда
I2, 8, 43].
46. Установление (Establishment; Etablering) —
реляция, существующая между суммой и функцией, входящей'
в нее в качестве постоянной. Говорят, что функция
устанавливает сумму и что сумма устанавливается функцией
[8, 10, 12, 23, 27, 45].
47. Приложение (Application; lkrafttraeden): некоторый
функтив присутствует в определенных условиях и
отсутствует в других определенных условиях; в случае его
присутствия говорят о приложении функтива или о том,
что функтив прилагается в определенных условиях [9].
48. Устранение (Suspension; Suspension): некоторый
функтив присутствует в определенных условиях и
отсутствует в других определенных условиях; в случае его отсутствия
говорят об устранении функтива или о том, что функтив.
устраняется в определенных условиях [9].
49. Совпадение (Overlapping;
Overlapping)—устраненная мутация между двумя функтивами [9, 44, 48].
50. Манифестация (Manifestation; Manifestation) —
селекция между иерархиями и между дериватами различных
иерархий [4, 21, 39].
51. Форма (Form; Form) — постоянная в
манифестации [12, 50].
52. Субстанция (Substance; Substans) — переменная в
манифестации [13, 50].
53. Семистика (Semiotic; Semiotik) — иерархия,
каждый сегмент которой допускает дальнейшее деление
на классы, определяемые на основе их взаимной реляции
таким образом, что любой из этих классов допускает деление
на дериваты, определяемые на основе взаимной мутации
[1, 2, 3, 4, 21, 27, 44].
54. Парадигма (Paradigm; Paradigme) — класс в
семиотической системе [2, 28, 53].
55. Цепь (Chain; Kaede) — класс в семиотическом
процессе [2, 29, 53].
56. Член (Member; Led)—сегмент парадигмы 13, 54].
57. Часть (Part; Del) —сегмент цепи [3, 55].
58. Семиотическая схема (Semiotic schema; Semiotisk
sprogbygning)—форма, являющаяся семиотикой [51, 53].
59. Коммутация (Commutation; Kommutation) —
мутация между членами парадигмы [44, 54, 56].
25 Заказ № 116
385
60. Пермутация (Permutation; Permutation) — мутация
между частями цепи [44, 55, 57].
61. Слова (Words; Ord)—минимальные знаки,
выражения которых и содержания которых доступны перму-
тации [60].
62. Субституция (Substitution; Substitution) —
отсутствие мутации между членами парадигмы [44, 54, 56].
63. Инварианты (Invariants; Invarianter) — корреляты
с взаимной коммутацией [26, 59].
64. Варианты (Variants; Varianter)— корреляты с
взаимной субституцией [26, 62].
65. Глоссемы (Glossemes; Glossemer)— минимальные
формы, устанавливаемые теорией в качестве основы
объяснения, неразложимые инварианты [63].
66. Семиотический узус (Semiotic usage; Usus)
—субстанция, манифестирующая семиотическую схему [50, 52, 58].
67. Парадигматика (Paradigmatic; Paradigmatik) —
семиотическая система [28, 53].
68. Синтагматика (Syntagmatic; Syntagmatik) —
семиотический процесс [29, 53],
69. Материал (Purport; Mening) — класс переменных,
манифестирующих более чем одну цепь в более чем одной
синтагматике или более чем одну парадигму в более чем
одной парадигматике [2, 13, 50, 54, 55, 67, 68].
70. Вариации (Variations; Variationer) — варианты,
связанные комбинацией [41, 64].
71. Вариаты (Varieties; Varieteter) —варианты,
связанные солидарностью [37, 64].
72. Индивиды (Individual; Individ) — вариация,
которая не может быть расчленена на другие вариации
[30,70].
73. Локализованный (вариат) (Localized [variety];
Lokaliseret) — вариат, который не может быть расчленен
на другие вариаты [30, 71].
74. Единство (Unit; Enhed)—синтагматическая
сумма [45, 68].
75. Категория (Category; Kategori)—парадигма,
имеющая корреляцию к одной или большему числу парадигм
^одного и того же ряда [26, 43, 54].
76. Функциональная категория (Functional category;
Funktionskategori) — категория функтивов, выделенных
при простом анализе, произведенном на основе данной
функции [1, 8, 9, 75].
386
77. Функтивная категория (Functival category; Funk-
tivkategori)— категория, выделяемая при вычленении
функциональной категории в соответствии с функтивными
возможностями [9, 30, 75, 76].
78. Синкретизм (Syncretism; Synkretisme) — категория,
устанавливаемая совпадением [46, 49, 75].
79. Доминация (Dominance, Dominans) — солидарность
между вариантом, с одной стороны, и совпадением — с
другой [37, 49, 64].
80. Обязательный (о доминации) (Obligatory; Obliga-
torisk) — доминация, в которой доминант в отношении
синкретизма является вариатом [71, 78, 79J.
81. Факультатив (Facultative; Fakultativ) —функция,
вступающая в факультативность (совпадение с нулем,
доминация которого не обязательна), называется
факультативом [49, 79].
82. Коалесценция (Coalescence; Sammenfald) —
манифестация синкретизма, которая с точки зрения
субстанциональной иерархии идентична с манифестацией либо
всех, либо ни одного из функтивов, входящих в синкретизм
[4, 9, 23, 50, 52, 78].
83. Импликация (Implication;
Implikation)—манифестация синкретизма, которая с точки зрения
субстанциональной иерархии идентична с манифестацией одного или
большего числа функтивов, входящих в синкретизм, но
не с манифестацией всех [4, 9, 23, 50, 52, 78].
84. Разрешение (Resolution; Oplosning): разрешить
синкретизм — значит ввести вариат относительно синкретизма,
не входящий во взаимодействие, которое устанавливает
данный синкретизм [10, 46, 49, 71, 78].
85. Понятие (Concept; Begreb) — разрешимый
синкретизм между вещами [78, 84].
86. Латенция (Latency, Latens) — совпадение с нулем,
чья доминация обязательна [49, 79, 80].
87. Катализ (Catalysis; Katalyse) — выявление когезий
путем замены сущностей, допускающих субституцию [11,
17, 62].
88. Язык (Language; Sprog)— парадигматика, чьи
парадигмы манифестируются в любом материале [50, 54,
67, 69].
89.Текст (Text; Text) — синтагматика, цепи которой,
продленные до бесконечности, манифестируются любым
материалом [50, 55, 68, 69].
25*
387
90. Языковая схема (Linguistic schema; Sprogbygning)—
форма, являющаяся языком [51, 88].
91. Языковый узус (Linguistic usage; Sprogbrug)
—субстанция, манифестирующая языковую схему [50, 52, 90].
92. Элемент (Element; Element)—член функтивной
категории [56, 77].
93. Таксема (Taxeme; Taxem) — виртуальный элемент
[35, 92].
94. Коннектив (Connective; Konnektiv) — функтив,
солидарный в некоторых условиях с реляцией,
устанавливающей сложные единицы определенной степени [9, 24, 27,
37, 74].
95. Единообразие (Conformity; Konformitet): два функ-
тива называются единообразными, если любой
индивидуальный дериват одного функтива без всяких исключений
вступает в те же функции, что и дериват другого функтива
и обратно [8, 9, 10, 21, 33].
96. Символические системы (Symbolic systems;
Symbolsystemer) — структуры, которым может быть подчинен
материал содержания, но в которые принцип простоты не
позволяет нам энкатализировать форму содержания [51, 69, 87].
97. Денотативная семиотика (Denotative semiotic;
Denotationssemiotik) — семиотика, ни один из планов
которой не является семиотикой [53].
98. Индикаторы indicators; Indikatorer) — части,
входящие в функтивы таким образом, что после удаления этих
частей функтивы имеют взаимную субституцию [9, 23,
57, 62].
99. Сигнал (Signal; Signal) — индикатор, который
всегда однозначно отнесен к определенному плану семиотики
[53, 98].
100. Научная семиотика (Scientific semiotic;
Videnskabssemiotik) —семиотика, являющаяся операцией [6, 531.
101. Коннотативная семиотика (Connotative semiotic;
Konnotationssemiotik) — ненаучная семиотика, один или
оба плана которой являются семиотикой [53, 100].
102. Метасемиотика (Metasemiotic; Metasemiotik) —
научная семиотика, один или оба плана которой являются
семиотикой [53, 100].
103. Семиотический объект (Object semiotic;
Objektsemiotik) — семиотика, выступающая как план другой
семиотики [53].
104. Мета-(научная) семиотика (Meta-[scientific se-
388
miotic]; Metavidenskabssemiotik) —метасемиотика,
семиотический объект которой является научной семиотикой
[100, 102, 103].
105. Семиология (Semiology; Semiologi) —
метасемиотика, семиотический объект которой является ненаучной
семиотикой [100, 102, 103].
106. Метасемиология (Metasemiology; Metasemiologi)—
мета-(научная семиотика), семиотические объекты которой
являются семиологиями [103, 104, 105].
X. И. Ульдалль
ОСНОВЫ ГЛОССЕМАТИКИ 1
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ЛИНГВИСТИКЕ
Часть I. Общая теория
Общие принципы
Положение гуманитарных наук 2 в их отношении к
точным наукам много раз обсуждалось, хотя до сих пор по
этому вопросу как будто не сделано таких выводов,
которые стали бы общепризнанными. Очевидно, между этими
двумя группами дисциплин есть весьма существенные
различия, и вопрос о том, в чем именно состоят эти различия
и какова их причина, является не только очень трудным
и сложным, но вызывающим еще и тесьма сильные эмоции.
Никто не станет отрицать, что естественные науки,
особенно физика, достигли более высокого уровня
развития, чем гуманитарные, что они, попросту говоря, достигли
больших успехов. Обсуждать нужно не то, действительно
ли это так, а то, почему это так, или, выражаясь более
точно, необходимо выяснить, вызывается ли отставание
гуманитарных наук каким-то внутренне свойственным им—
и поэтому неизбежным — фактором и смогут ли
гуманитарные науки, изменив свои методы, встать в общий строй
и достичь столь же больших успехов. Учитывая
современное мировое политическое и экономическое положение,
нужно признать, что этот вопрос представляет известный
практический, равно как и теоретический, интерес. Наши
теперешние неудачи объясняются движением науки,
слишком нас опередившей, иначе говоря, несоответствием
между искусством, с помощью которого мы управляем
неодушевленной и низшими областями одушевленной природы,
и неловкостью, с которой мы решаем вопросы, относя-
1 См. H. J. Uldall, Outline of Glossemaiics, «Travaux du
Cercle linguistique de Copenhague», vol. X1, Copenhague, 1957.
2 За неимением лучшего термина я буду постоянно пользоваться
этим, когда буду говорить о дисциплинах, изучающих социальные
аспекты человеческого существования. Употреблять термин «социальные
науки» значило бы напрашиваться на вопрос: «А какие еще науки
существуют?»
390
щиеся к людям1. Некоторые утверждают, что источником
зла является низкий моральный уровень; так это или иначе,
но очевидно, что лучшее понимание действительного хода
дел в человеческом обществе должно принести всем нам
большую пользу.
Историки (которые гораздо чаще говорят на эту тему,
чем их коллеги по другим гуманитарным наукам) обычно
повторяют, что предмет их исследования настолько
неустойчив и подвержен таким колебаниям и случайным
переменам, что было бы совершенно безнадежной затеей
пытаться его систематизировать. Так, Буркхардт в своих
«Рассуждениях о всеобщей истории» («Weltgeschichtliche
Betrachtungen») отмечает: «История является наименее
научной из всех наук, хотя она и сообщает многое достойное
изучения. Точные определения принадлежат к области
логики, но не к сфере истории, где все шатко и находится
в постоянных изменениях и смешениях. Философские и
исторические понятия существенно отличаются по своему
характеру и по происхождению; первые формулируются
как можно более четко и законченно, вторые излагаются
в возможно более текучем и общем виде».
Это, разумеется, вполне приемлемая точка зрения, и
можно понять, что ученый, чувствующий, как почва
колеблется у него под ногами, приходит к выводу, что он в
состоянии дать лишь простой отчет о наблюдаемых им
событиях, пользуясь лишь обычными житейскими
понятиями. Многие этнографы и социологи, не говоря уже о
несчастных экономистах, испытывают сходные чувства. Тем
не менее остается недоказанным, что недостатки, на
которые жалуется историк, присущи исследуемому
материалу, а не методу, который применяется для его анализа. Не
существует причин, которые могли бы заставить нас заранее
утвердиться в мысли, что предмет точных наук сам по
себе более стабилен, чем материал истории, и тем не менее
ученым удалось приложить (даже к анализу самого
движения) те «четкие и законченные» понятия, которые историк,
по его собственному уверению, не в состоянии употреблять.
Довод, приводимый Буркхардтом, по существу,
является новой формой старой ссылки на исключительность и
непредсказуемость человеческой природы. Эту же мысль
можно обнаружить, например, в утверждении Л. X. Грэя
1 Очевидно, что эти суждения отнюдь не являются бесспорными;
их целиком следует отнести к личным воззрениям автора.—Прим. ред.
391
о том, что лингвистика «не является точной наукой в таком
смысле, в каком точны математика и химия;
человеческий фактор слишком силен в ней, чтобы она могла
совершать чисто механические операции» 1.
Если две свечи на обеденном столе горят не совсем
одинаково — а они в редких случаях могут гореть одинаковым
пламенем, — то по аналогии можно было бы заключить,
что связанный со свечой фактор слишком силен для того,
чтобы позволить физике или химии совершать чисто
механические операции. Однако вместе с тем оказывается
возможным ( и, более того, обычно так и поступают) объяснить
различие в состоянии двух свечей влиянием различия в
устройстве этих свечей или же разными внешними
обстоятельствами, такими, как температура или воздушные струи.
«Связанный со свечой фактор» тем самым лишается своей
таинственности и оказывается на самом деле простым
сочетанием вполне обычных явлений, которые могут быть
предметом расчетов. Не окажется ли, что и «человеческий
фактор», о котором говорит Грэй, можно будет свести к
подобному сочетанию простых явлений?
Прогресс в наших знаниях достигался только тогда,
когда люди пытались критиковать априорные убеждения,
являющиеся столь могущественными, что их никогда не
подвергали проверке. Развитие анатомии, физиологии,
эволюционной биологии задерживалось, пока
существовала вера в то, что человеческое тело отлично от всего
остального сущего. Гуманитарным наукам мешал выйти из
эмбрионального состояния тот же взгляд на человеческий
род как на какую-то космическую аристократию и
убеждение, что человеческий разум — это нечто совершенно
особое, единственная область во вселенной, подчиненная
загадочной силе Свободной Воли и поэтому недоступная для
исследования в таком направлении или теми методами,
которые применимы ко всем остальным областям 2.
Однако психология, хотя сама она едва ли уже стала
точной наукой, показала, что Свободная Воля далеко не
так свободна, как нам хотелось бы думать, что предмет
исследования психологии (в наши дни вряд ли можно
осмелиться употребить слово «разум») является результатом
1 L. Н, Gray, Foundations of language, New York, 1939, p. 4.
2 Недавняя попытка ввести сходные понятия в атомную физику
как будто встретила мало сочувствия в научной литературе, кроме
популярных статей.
392
воздействия наследственности и окружающей среды и что
поэтому человеческое поведение, как и поведение растений и
животных, в принципе можно предсказать, зная факторы,
его обусловливающие. Этот результат воздействия
наследственности и среды является, без сомнения, исключительно
сложной структурой, и, возможно, никогда нельзя будет
собрать достаточные данные, относящиеся к тому или иному
представителю человеческого рода, для того чтобы
предсказать его поведение во всех подробностях с высокой
степенью вероятности (хотя мы должны остерегаться
недооценки достижений наших потомков на протяжении миллиона
лет, в течение которых, как можно сейчас предполагать,
жизнь будет существовать на Земле). Однако распознать
те или иные явления в жизни общества можно уже и
сейчас, а следовательно, больше нет смысла во взгляде на
«человеческую природу» как на фактор, который совершенно
не поддается учету и поэтому должен неизбежно обесценить
любую попытку превращения гуманитарных наук в нечто
заслуживающее уважения.
Мистическая вера в то, что в языке существуют темные
уголки, не поддающиеся анализу и постигаемые только
интуитивно, с помощью «языкового чувства» и полного
погружения в «народную душу», утвердилась у лингвистов
в связи с занятиями литературой, которыми почти всегда
сопровождаются исследования языка. Как с горечью
замечает Блумфилд, «общепризнанным расположением
пользуется обсуждение литературных ценностей — то есть
художественного использования языка особенно одаренными
личностями,— но отнюдь не наблюдения над языком» 1.
Изучение литературы в том виде, как оно осуществляется
по традиции, имеет дело с эстетическими ценностями и
поэтому способствует скорее субъективному, чем
объективному подходу 2.
Нашему рассуждению можно придать и иную форму,
которая сделает его более убедительным. Леви-Брюль
обнаружил, что мышление первобытных людей является не
логическим, а, как он его назвал, «пралогическим»; в част-
1 «International encyclopedia of unified science», I, 4, p. 5.
2 Чтобы избежать недоразумений, я тут же должен прибавить,
что никоим образом не отчаиваюсь в возможности научного
исследования литературы и что я не хочу, чтобы меня цитировали как автора,
который бросает тень на профессию литературного критика,
заслуживающую, по всеобщему признанию, глубокого уважения.
393
ности, оно характеризуется безразличием к Принципу
Противоречия, выражаемому формулой aa=0, или
утверждениями типа «вы не можете съесть пирог и все-таки
сохранить его у себя»1. Это было очень важным и
плодотворным открытием, особенно потому, что, как указывали уже
многие авторы, Леви-Брюль, безусловно, ошибался, когда
проводил основополагающее различие между
«первобытным» и «цивилизованным» человеком. Постепенно становится
все более и более очевидным, что, все мы — братья,
несмотря на различие цвета кожи, и что логическое мышление
даже у «цивилизованных» людей похоже скорее на танцы
лошадей, т. е. на трюк, которому можно обучить некоторых,,
но далеко не всех, причем он может исполняться лишь с
большой затратой сил и с разной степенью мастерства, и
даже лучшие представители не в состоянии повторять его»
много раз подряд. Теперь, в частности, уже совершенно
точно установлено, что все языки (а не только, как думал
Леви-Брюль, «первобытные» языки) основаны на этой пра-
логической партиципации 2. Но если язык сам по себе
«алогичен», не исключает ли это возможность какого бы
то ни было его исследования посредством научных, т. е.
логических, методов? Я этого не думаю, потому что
вопреки Леви-Брюлю пралогическое и логическое мышление
нельзя считать полностью несопоставимыми; если бы они
были несопоставимы, то, конечно, едва ли было бы
возможно, чтобы он сам — высокообразованный человек — мог
выдвинуть теорию пралогического. Ничто не препятствует
построению теории, которая соответствует и логическому,
и пралогическому. И, во всяком случае, было бы
несколько преждевременным полагать, что метод научного
исследования должен отражать или всегда отражает «реальную»
структуру предмета исследования 3 только по той причине,
1 Ср. «Les fonctions mentales dans les societes inferieures»/ Paris,
1928.
2 Cp. L. Hjelmslev, Principes de grammaire generale,
Copenhagen, 1928, p. 257, и «La categorie des cas», Aarhus, 1935, p. 102.
Закон партиципации (сопричастия) выведен Леви-Брюлем (см.,
его книгу «Первобытное мышление», русск. изд. «Атеист», 1930) в
отношении к первобытному сознанию, которое в ассоциации представлений
считается якобы не с реальными свойствами вещей, а с мистическим»
силами, которые в них заключены и в качестве причин побуждают их
к действию.— Прим. ред.
8 Данное замечание Ульдалля относится к тому, что логический
метод исследования может быть применен и к таким явлениям, которые
по своей структуре не являются логическими.— Прим. перев.
394
что не существует способа обнаружить, в чем состоит эта3
«реальная» структура.
Тойнби в фундаментальном труде «Исследование
истории» приводит доводы другого рода: «Мы знакомы по опыту
с тремя различными методами рассмотрения и представления
предметов нашей мысли и среди них явлений человеческой
жизни. Первый метод состоит в определении и регистрации
отдельных «фактов»; второй — в установлении и
формулировании общих «законов» посредством сравнительного
исследования; третий заключается в той форме
художественного творчества и выражения, которая известна под
названием «вымысла» (fiction). Нет никакого сомнения в том,
что четкое различие между техникой каждого из этих трех
методов — различие, в котором мы на практике отдаем
себе отчет,— отвечает какому-то не менее четкому различию
между соответствующими явлениями, которые могут быть
изучены и представлены этими разными способами. Мы не
склонны, однако, принимать безоговорочно ни названий,
под которыми обычно выступают эти три технических
способа, ни общепринятого описания устройства тех областей,
к которым каждый из них применяется» 1.
Показав, что эти три технических приема никоим
образом не являются взаимоисключающими, он продолжает:
«Среди других различий между ними следует указать и на то,
что они отличаются возможностью их применения к
различным количествам «данных». Определение и регистрация
отдельных фактов — это все, что является возможным или
необходимым в той области исследования, где «данные»
оказываются немногочисленными. Выяснение и
формулирование общих законов посредством сравнительного
исследования являются одновременно и возможным и
необходимым, когда «данные» слишком многочисленны для
регистрации записей в таблицах, ко все же не настолько
многочисленны, чтобы их нельзя было обозреть. Форма
художественного творчества и выражения, известная под
названием «вымысла» (fiction), является единственным
техническим приемом, который можно использовать ( и который
имеет смысл использовать), когда «данные» неисчислимы,
И здесь (по отношению к исследуемым данным) мы
обнаруживаем внутреннее различие количественного харак-
1 Toynbee, A study of history, vol. I, ed. 2 (reprinted), Oxford,
1945, p. 441.
395
тера, как и при сравнении трех названных технических
приемов. Эти приемы различаются между собой, по
существу, тем, как они могут быть использованы при
исследовании различного количества данных» 1.
Тойнби далее заключает, что от истории, имеющей
дело не более чем с 21 цивилизованным обществом, нельзя
ожидать ничего, кроме ее обычных результатов;
антропология 2, имеющая в своем распоряжении около 650
известных нам первобытных обществ, обладает всем для того,
чтобы применять научный метод; личными же отношениями
могут заниматься только роман и драма.
Хотя это рассуждение и кажется увлекательным, оно
не обезоруживает самого Тойнби только потому, что
дальше он подвергает свое 21 цивилизованное общество
сравнительному исследованию для того, чтобы выявить и
сформулировать общие законы. И его деятельность более
убедительна, чем слова.
Мы должны согласиться, что «первобытных» обществ,
о которых что-либо известно, больше, чем обществ
«цивилизованных» (а поскольку языков даже больше, чем
первобытных обществ, приведенное рассуждение позволило бы,
несомненно, надеяться на применение научного метода при
изучении языков). Однако не было доказано, что данных,
относящихся к цивилизованным обществам, существенно
меньше, чем данных, которые можно собрать при изучении
первобытных обществ. Другие историки жалуются на то,
что они завалены данными. Тойнби упрекает их за это.
Он убедительно показывает, почему в качестве
структурной единицы при историческом исследовании нужно
выбрать то, что он называет «обществом» («общество» является
или может явиться более широким понятием, чем «нация»);
именно благодаря такому выбору структурной единицы
Тойнби приходит к числу 21. Далеко не столь очевидно,
сколь приемлемо предложенное им понимание
протяженности общества во времени; другой подход мог бы привести
в этом случае к очень большому увеличению данных: полный
жизненный цикл общества (сам по себе представляющий
сомнительную метафору), состоящий из подъема, роста и упад-
1 Toynbee, A study of history, vol. I, Oxford, 1945, p. 452.
2 Тойнби, как и другие современные зарубежные авторы,
использует термин «антропология» в расширенном виде, включающем, помимо
физической антропологии, также лингвистику, этнологию и
этнографию.— Прим. перев.
396
ка, не является, безусловно, наиболее полезной для
употребления единицей. Возможно, здесь действует принцип
дополнительности 1, согласно которому для получения
достаточного количества данных нужно оперировать во
времени или же в пространстве меньшими по величине
единицами. Что же такое единицы «данных» и как можно их
пересчитать? Сам Тойнби признает туманность этого термина,
так как заключает его в кавычки. Неясным остается и
положение естественных наук: действительно ли они
располагают большим числом данных, чем история, и меньшим,
чем художественный вымысел? Если история общества
действительно представляет собой аналогию жизни одного
организма, тогда у биологов есть преимущество по
сравнению с историками; но физики в той мере, в какой им
удалось свести вселенную к одной единице, как будто
поставили себя в гораздо худшее положение, чем историки,
имеющие дело с двадцать одной единицей. В каком смысле
сведения, относящиеся к Римской империи, можно сравнить
с данными о кислороде или о вечном треугольнике?
Кажется несомненным, что должна существовать какая-то
связь между числом, а также качеством обнаруженных
данных и методами, которые использовались для их
обнаружения, так что различие нужно проводить не между
тремя видами сырого материала (которые, во всяком случае,
едва ли можно было бы сравнить, потому что «сырой»
означает «неизвестный»), но между материалом,
исследованным разными методами. Поэтому по меньшей мере
возможно, что различия, отмеченные Тойнби, присущи скорее
трем названным методам, чем трем разновидностям
материала, — если, конечно, они реально существуют.
Совершенно не очевидно и даже маловероятно, чтобы
научное исследование привело к различению
«цивилизованного» и «первобытного» обществ: научный метод стремится
заменить различия в качестве различиями в степени, и
пограничная черта между цивилизацией и варварством,
которая является самое меньшее весьма туманной, слабо
защищена от нападок. Даже личные отношения,
обязательно отражающие культурные модели, находят свое
место в этой совокупности, и действительно, культурные
модели могут быть обнаружены только с помощью ана-
1 Имеется в виду аналогия с принципом дополнительности в
понимании копенгагенской школы физиков (в частности, Нильса Бора).—
Прим. перев.
397
лиза личных отношений: общество, будь оно
«цивилизованным» или «первобытным», не может быть не чем иным,
как совокупностью личных отношений. Без сомнения, мы
никогда не сможем учесть и проанализировать все личные
отношения даже в пределах очень маленького общества —
такого, как деревня (и мы должны радоваться этому!),
но и в этой области, как и в других, должна быть своя
точка насыщения 1.
Мы, вероятно, можем позволить себе вынести из
данного обсуждения известную долю скептицизма по
отношению к мнению, согласно которому определенный
материал предписывает применение одних методов и
исключение всех остальных 2. Следует, конечно, согласиться с тем,
что обобщение, строившееся на недостаточных данных,
опасно и может вести к ложным пророчествам; в дальнейшем у
нас будет еще повод обсудить достоверность индукции
вообще. Однако различие между гипотезой, основанной на
большом числе примеров, и гипотезой, основанной на
нескольких примерах, является только различием в степени
вероятности, а не различием по качеству. Если бы существовало
только одно общество (в понимании Тойнби), доступное
1 Между прочим, Тойнби цитирует замечание Аристотеля
относительно обобщающей силы «поэзии», в противовес ориентации истории
на частные события, и обвиняет его в «смешении техники драмы и
романа с техникой науки, основанном на желании отличить эти два
вида техники от техники так называемой „истории"». Несмотря на то,
что сейчас преобладает противоположное направление, мне кажется,
Аристотель совершенно прав. И наука, и литература имеют дело с
обобщениями, с тем, что может случиться, в противоположность тому, что
действительно уже случилось. Различие между ними заключается в
способе изложения: романисты и драматурги излагают свои обобщения
синтагматически, ученые — парадигматически. Система ученого
строится на основе наблюдений над последовательностью явлений, и
синтетическая последовательность, созданная романистом или
драматургом, выводится из системы, построенной исходным образом на основе
наблюдений над последовательностью, независимо от того, была ли эта
система выражена явным образом или нет. Пьесы Шекспира и романы
Теккерея содержат примерно тот же материал, что и учебники по
психологии. К этому можно добавить еще то различие, что в нашем
западном обществе жизнь устроена так, что торговля плохой литературой —
занятие более легкое и более прибыльное, чем торговля плохой наукой.
2 Тойнби, по-видимому, готов отчасти согласиться с нами, потому
что он говорит (там же, стр. 456): «Различия между предметами и
техникой исследования являются внутренне им присущими, неизменными
и абсолютными; различие в количестве «данных» является случайным,
изменчивым и меняется с течением времени». Его количественный
критерий, таким образом, не может считаться решающим с
теоретико-познавательной точки зрения.
398
для нашего исследования, то и тогда оставалась бы
возможность 1) устанавливать и регистрировать факты, 2)
выяснять и формулировать (различным образом) общие законы
и 3) на основе этих законов создавать романы и пьесы.
Я допускаю, что различие в технике зависит не от
природы — количественной или качественной — материала, а
главным образом (если не исключительно) от природы
исследователя.
В чем же, наконец, состоит разница между методом
истории, который является по преимуществу
методом гуманитарных наук, и методом точных наук?
Состоит ли она просто в том (как, по-видимому, полагает
Тойнби), что, тогда как и гуманитарные и точные науки
устанавливают и регистрируют факты одинаковым
способом, точные науки, располагая достаточным числом
фактов, совершают еще и дальнейший шаг, выясняя и
формулируя законы? Можно ли взять данные гуманитарных наук
в таком виде, в каком они сейчас имеются, и построить на
их основании законы, и будет ли это достаточно для того,
чтобы сделать гуманитарные науки точными?
Именно в этом и заключается задача, которую поставил
перед собой Тойнби: он обозревает всю совокупность
исторических фактов и стремится найти модель, совокупность
законов, на основании которых можно выявить прошлую
историю цивилизации и в общих чертах предсказать
будущее. Эта смелая и величественная теория блестяще
изложена в шести томах, вышедших в свет. Она имеет большие
методические преимущества по сравнению с робкими
хроникальными устремлениями традиционной истории; но все-
таки она еще недостаточно похожа на точную науку. В чем
же в таком случае заключается между ними различие?
Позволим себе подойти к данной проблеме с другой
стороны: рассмотрим, что такое наука и чем она
занимается. Наиболее яркой и отличительной чертой науки по
сравнению с другими формами познания является большая
абстрактность. Точные науки имеют дело не со всей массой
явлений, наблюдаемых во вселенной, а только с одной их
стороной, а именно с функциями 1, и притом только с ко-
1 Термин «функция» употребляется в дальнейшем для обозначения
любой зависимости, без учета особой природы этой зависимости или
объектов, между которыми данная зависимость устанавливается. Более
обычным термином для обозначения этого понятия является
«отношение», но этот термин в дальнейшем используется в более узком смысле.
399
личественными функциями. С научной точки зрения
вселенная состоит не из предметов или даже «материи», а
только из функций, устанавливаемых между предметами;
предметы же в свою очередь рассматриваются только как точки
пересечения функций. «Материя» как таковая совершенно
не принимается в расчет, так что научная концепция мира
представляет собой скорее диаграмму, чем картину.
Прототипом всех научных утверждений является
высказывание: «а больше, чем b»; относительно а и b как вещей в себе
наука ничего не может сказать. Выражение «больше чем»
может, конечно, относиться к разным явлениям, но все
отношения связаны между собой таким образом, что
качество соотносимых явлений не учитывается в получаемой
картине; как говорит Сьюзан Стеббинг (в книге
«Философия и физики»), сочетание «„качественная физика"
является, безусловно, внутренне противоречивым по своей
сути».
В нашей повседневной жизни мы привыкли
рассматривать все явления с трех самостоятельных и разных точек
зрения: «вещь» существует, у нее есть определенные
качества, и она совершает определенные действия. В пользу
этого аристотелевского тройного деления на первый взгляд
как будто бы говорит многое: в самом деле, оно кажется
почти неизбежным: вещь, например стул, должна каким-то
образом существовать1, прежде чем ей будут приписаны
какие-то качества; она должна иметь определенные качества,
прежде чем начнет какую-то деятельность, ибо мы считаем,
что действия зависят от качеств. Если бы стул не
существовал, у него не могло бы быть качества прочности, а не
будь у него этого качества, он не мог бы совершать
действие, которое заключается в поддерживании сидящего на
нем человека. Как показал Бертран Рассел, данные три
категории в точности соответствуют трем частям речи у
Аристотеля: то, что существует,— субстанция, вещь,—
обозначается существительным (которое поэтому правильно
названо именно таким образом)2, качество обозначается
прилагательным, а действие — глаголом, хотя широко рас-
1 Даже когда не может быть доказано, что какая-либо вещь,
например дракон, существует в физическом мире, нечто вроде признания
ее существования допускается из вежливости по отношению к ней в мире
слова (universe of discourse).
2 В подлиннике имеется в виду связь слова «substantive»
«существительное» со словом «substance» «субстанция».— Прим. перев.
400
пространенная нерегулярность образования
существительных от прилагательных и глаголов (и наоборот) приводит
к довольно большим затруднениям. В ряде современных
языков, например в английском, части речи менее четко
упорядочены, чем в греческом, но аристотелевская схема
и по отношению к этим языкам кажется разумной и
полезной. Тем не менее точные науки сочли за благо откгзаться
от этого взгляда, или, вернее, отвлечься от него (потому
что едва ли самый фанатичный физик согласился бы жить
в подобии того кошмарного мира, который был изобретен
Эддингтоном).
Начать с того, что ученые уничтожили границу между
качеством и действием: краснота — традиционный пример
качества — объясняется как излучение электромагнитных
волн определенной длины, т. е. как известного рода
действие. Далее, что можно понимать под существованием,
мыслимым раздельно от качества и действия? Аристотель
полагал, что у каждой вещи есть нечто вроде призрака,
который является, так сказать, обладателем ее качеств и
исполнителем ее действий. Со времен Аристотеля много
энергии и и обретательности было затрачено, без особенно
заметных результатов, на изучение Существования
с большой буквы — das Sein, и прагматически мыслящие
ученые, которые никогда не могли найти ничего, что
находилось бы в состоянии чистого существования,
отказываются иметь дело с этим понятием, особенно потому, что
ни в науке, ни в какой-либо другой области человеческой
деятельности нет ничего, что бы могло сделать его
необходимым (единственное возможное исключение может
представлять теология). Первоначальные три стороны каждого
предмета сводятся, таким образом, к одной, которая
мыслится в терминах функций. Кажущиеся качества и действия
интерпретируются как функции, и что-либо
приговаривается к существованию уже тем, что оно является членом
функциональной зависимости 1.
1 Выплескивая из ванны аристотелевскую воду, мы должны
остерегаться того, чтобы не выплеснуть вместе с ней и ребенка: в научных
воззрениях есть нечто, что может считаться новой интерпретацией
аристотелевской «субстанции», а именно — концепция организма или
структуры. Если «вещь» — это лишь точка пересечения функций, она может
все же обладать некоторой индивидуальностью благодаря особой
структуре, строению пересекающихся функций, которое отличает один
организм от другого. Аристотелевская точка зрения как будто в какой-то-
26 Заказ № 116
401
Методологические преимущества, которые мы можем
получить, сосредоточив внимание на функциях и
отвлекаясь от всего остального, являются весьма
существенными. С такой точки зрения вселенная единообразна: все
различия являются различиями в степени (которую
можно измерить), качественные различия исчезают
совершенно, и ничто не может оказаться исключительным.
Подобный подход намного облегчает работу ученого и открывает
такие возможности для обобщения, объединения и
упромере имеет или имела до недавнего времени хождение среди философов.
«Философский словарь» Лаланда («Vocabulaire de la philosophie», Paris,
1938) дает следующее определение «отношения» в логическом смысле:
«Если в суждении „А является сыном В", „Q является частным от
деления M на N" отвлечься от рассматриваемых терминов и иметь в виду
только форму объединяющей их связи, то последнюю следует назвать
отношением»; «суждения об отношениях», которые могут быть
разложены на составные части таким способом, отличаются от
«предикативных суждений», «предикат... мыслится как форма существования
субъекта». Другими словами, субъект представляет собой «вещь», и в
суждении утверждается о нем, что у него есть либо действие или зависимость
(суждение об отношениях), либо качество (предикативное суждение).
В «Принципах математики» («The Principles of mathematics», 1903)
Бертран Рассел предлагает деление, во многом сходное с только что
изложенным. Сначала он определяет «терм»: «все, что может быть
предметом мысли, или может встречаться в любом истинном или ложном
высказывании, или может быть сочтено чем-либо одним, я называю
термом»; далее термы он разделяет на «вещи», которые являются термами,
обозначаемыми собственными именами (в особом смысле, введенном
Расселом), и «концепты», к которым относятся термы, обозначаемые
всеми остальными словами; наконец, концепты разделяются на те,
которые обозначаются прилагательными и называются «предикатами»,
или «концептами, относящимися к классам», и на те, которые
обозначаются глаголами и «всегда или почти всегда являются отношениями».
Следует отметить, что для своей классификации Рассел использует
лингвистические критерии, хотя, очевидно, он не может быть уверен в том,
что эти критерии будут пригодны во всех случаях. Нельзя не пожалеть
о том, что философы хотят опираться на части речи, являющиеся одной
из наиболее сомнительных частей наследства классической грамматики.
В позднейшей книге «Исследование значения и истинности» («An
inquiry into meaning and truth», 1940) Рассел утверждает, что он
считает «вещи» метафизическим обманом (стр. 320) и что «везде, где с
обычной точки зрения существует «вещь», обладающая качеством С, мы
должны сказать вместо этого, что на данном месте существует само С и что
«вещь» должна быть заменена собранием качеств, существующих на
данном месте. Таким образом, С становится именем, а не предикатом»
(стр. 98). В «Истории западной философии» («A history of Western
philosophy », 1945, p. 202) он говорит об аристотелевском понятии «субстанции»:
«Это — метафизическая ошибка, вызванная перенесением на структуру
вселенной законов структуры предложений, состоящих из субъекта и
предиката».
402
щения во всей обширной области точных наук, о которых
и мечтать не приходится в любой другой сфере человеческой
деятельности. Было бы преждевременным утверждать, что
уже существует только одна точная наука, но, очевидно,
все идет именно к этому.
С другой стороны, гуманитарные науки
придерживаются общепринятой аристотелевской картины мира. Для
историка, лингвиста и т. п. данные, подлежащие установлению
и регистрации, все еще являются «вещами», каждая из
которых обладает качествами и действиями. И даже когда
нам удается упорядочить наши данные и разместить их по
классам, эти классы определяются скорее своими
качествами («концепты, относящиеся к классам» Рассела), чем
функциями.
Данный подход имеет и свои отрицательные стороны.
«Вещи» всегда индивидуальны; не существует двух
совершенно одинаковых «вещей». Следовательно, с этой точки
зрения вселенная разнородна, и все различия являются
различиями в качествах, которые не могут быть измерены или
даже сопоставлены, а могут быть лишь установлены и
зарегистрированы в терминах концептов, возможно более и з-
менчивых и открытых для расширения 1.
Неизбежным следствием данного метода является то, что
систематизация оказывается совершенно невозможной и что
не приходится думать о таких далеко идущих обобщениях,
какие были получены в точных науках.
Точка зрения, настаивающая на существовании
аристотелевских «вещей», естественно, ведет к тому, что ни одна
гуманитарная дисциплина не может приобрести
самостоятельность. В лингвистике, например, мы должны мириться
с пестрой мешаниной исторических, физиологических,
физических, биологических, логических, психологических,
философских, статистических и даже иногда теологических
идей. Самостоятельная наука может быть построена
только благодаря самоограничению, благодаря желанию
делать в один отрезок времени только одно дело, благодаря
строгому отбору множества функций, необходимых и
достаточных для непротиворечивого описания, т. е. абстракции.
1 Тойнби, как он говорит, «дает вежливый ответ» тем, кто
утверждает, что «история не повторяется» и что все исторические «факты»
исключительны; в конце концов он приходит к позиции, промежуточной
между воззрениями традиционной истории и методом точных наук.
(Toynbee, A study of history, vol. I, Oxford, 1945, p. 178 f.)
26*
403
Вы не сможете сделать географическую карту, если будете
настаивать на том, чтобы изобразить в натуральную
величину все без исключения холмы, долины, дома и деревья,
все вплоть до последней мокрицы.
Вот в чем состоит, как я полагаю, основное различие
между точными и гуманитарными науками: гуманитарные
науки не анализируют получаемых ими данных, или если
они их анализируют, то анализ не идет так далеко, как это
всегда делается в точных науках, — он никогда не идет
дальше «вещи» как единого целого.
Если согласиться с тем, что указанное различие
действительно имеет место, то возникает вопрос, нельзя ли
осуществить сближение между этими двумя группами наук,
сделав тем самым их результаты соизмеримыми и
осуществив их теоретико-познавательное объединение. Было бы
нелепым требовать, чтобы точные науки отступили от
достигнутого ими уровня развития. Поэтому объединение может
быть осуществлено только в том случае, если гуманитарные
науки откажутся от «вещей» в пользу функций и, таким
образом, станут, как я утверждаю, точными науками 1.
В таком случае нужно решить, возможно ли это, а если
возможно, то является ли это желательным.
Мы можем теперь, по-видимому, отвести высказанный
ранее довод о том, что материал гуманитарных наук не
пригоден для исследования посредством точных методов.
Мы рассмотрели три утверждения, сделанных в таком духе:
заявление Буркхардта о том, что изучаемый им материал
слишком неусгойчив; мысль Грэя о том, что «человеческий
фактор» слишком силен; и идею Тойнби, согласно которой
известные ему данные являются недостаточными. Мы
нашли все эти аргументы несостоятельными. То же самое
можно сказать и о другом часто приводимом доводе,
противоположном точке зрения Тойнби и поэтому, естественно, для
него неприемлемом: речь идет об утверждении, что
материал гуманитарных наук слишком богат и сложен.
Странно было бы думать, что социальные и языкоеыэ системы,
которые на практике могут быть усвоены всеми
нормальными людьми, являются слишком сложными для того,
чтобы ученый мог справиться с ними в теоретических
исследованиях.
1 «Функциональная» антропология и «структурная» лингвистика
уже существуют, но о них, как и об исторической концепции Тойнби,
нельзя сказать, что они достаточно последовательны
404
Остается рассмотреть еще одно возможное препятствие,
а именно тот любопытный факт, что гуманитарные науки,
так сказать, включают сами себя: они образуют часть
собственного материала. Лингвист говорит и пишет на языке —
удивительно редко более чем на одном,— создавая, таким
образом, текст, который становится частью материала его
собственной науки; социолог живет в обществе, и его жизнь
и работа образуют часть его собственного материала;
историк сам вовлекается в поток истории. Насколько завидным
благодаря контрасту кажется отчуждение химика от его
пробирок или генетика от его мушек! Может быть, именно
стремление найти архимедовскую точку опоры
привлекало стольких лингвистов к экзотическим языкам и
стольких антропологов к ultima Thule. Но химик сам состоит
из химических веществ, а генетик сам является продуктом
генов, сходных с теми, которые находятся под его
микроскопом. Следовательно, и химик, и генетик в такой же мере
являются частью своего собственного исследовательского
материала, в какой представитель гуманитарных наук
входит в свой материал, и наблюдения химика или
генетика над материалом, как мы теперь знаем, приводят к
воздействию, препятствующему наблюдению 1, что
сопоставимо с воздействием магнитофона лингвиста и фотокамеры
или записной книжки антрополога. Далекая от того,
чтобы быть непременным условием научного исследования,
архимедовская точка опоры оборачивается, таким образом,
не чем иным, как иллюзией, навеянной наркотиком.
Можно огорчаться, что у нас ее нет, но можно и утешаться
тем, что у нас дела идут не хуже, чем у других, и что
другие (т. е. представители других наук) достигли
достаточной точности методов, несмотря на этот недостаток.
Следовательно, можно — по крайней мере в теории —
сделать гуманитарные науки точными, но желательно ли
это? Многие люди не могут этого утверждать, и по разным
причинам.
Помимо причины, которая обусловлена произведенными
капиталовложениями и остается неизменной во всех
случаях, мы сталкиваемся прежде всего с человеческим
тщеславием. Если устранить «вещи», то и человек, который
является прежде всего «вещью» — в действительности да-
1 Имеется в виду взаимодействие прибора и исследуемого объекта
в квантовой физике.— Прим. перев.
405
же прототипом любой «вещи», — будет также устранен.
Нам неприятна даже мысль о том, что нужно подвергнуться
унижению, состоящему в отречении от собственной
личности, от собственного аристотелевского призрака, для того
чтобы стать просто точкой пересечения абстрактных
функций; о том, что общественное достоинство человека должно
быть сведено к алгебраической формуле. Есть что-то
унизительное в том, что ты должен подвергнуться анализу;
возможно, именно это чувство, в такой же мере, как и
религиозные предрассудки, препятствовало в течение столь
долгого времени рассечению человеческих трупов.
Холодный анализ человеческого поведения еще более
настораживает, поскольку он способен вывести на свет многое
из того, что лучше было бы оставить окутанным тьмой.
Ср. реакцию на «Kinsey Report» 1.
Эта позиция несколько напоминает точку зрения
мистика. Как говорит Хильтон Браун в своей книге о
Киплинге, «в обязанности мистика не входит ясное описание
положения вещей; он никогда не стремится объяснить свои
мысли другим, потому что никогда не стремится объяснить
свои мысли самому себе. Если бы все было прозрачным,
ясным, прямолинейным и четко выраженным, то что-то
драгоценное оказалось бы потерянным, и, как ему
представляется, именно то, что едва ли могло бы быть
восстановлено». Нет смысла доказывать ему, что научный
анализ не обязательно уничтожает предмет исследования,
что поэма, или любовная история, или религиозная
церемония могут быть подвергнуты такому анализу и тем не
менее могут остаться неприкосновенными. «Что-то
драгоценное потеряно»,— повторяет он без конца, и с ним нет
сладу.
Если эгоцентрики и мистики протестуют против науки
потому, что она излучает слишком резкий свет, то
другие обвиняют ее в том, что она, наоборот, является слишком
туманной, слишком нереальной. Ученые, говорят они,
поглощают привычный осязаемый мир и не оставляют взамен
ничего, кроме клубка абстрактных функций,
математической паутины, одновременно темной и непрочной, которая
никому не нужна, кроме самих ученых. Не удивительно,
что многие люди испытывают такие чувства. Научная кар-
1 Имеется в виду книга Кинсея, в которой биолого-статистическими
методами дано описание половой жизни среднего американца.—
Прим. ред.
406
тина мира является, как мы уже сказали, только
диаграммой, удивительно тонкой и невещественной и поэтому не
представляющей интереса для тех, кто по складу
характера не расположен видеть абстрактную красоту там, где ее
видят другие. В математических формулах можно найти
мало утешительного, и горстка функций может
показаться недостаточной заменой знакомства с прочной материей,
которое достигается и другими средствами. Кто
испытывает подобные чувства, легко испугается при мысли о
том, что он может увидеть, как расширяются границы
науки и как в гуманитарные науки проникает
негуманитарный метод; особенно это относится к тем людям, а их,
конечно, немало, которые стали заниматься
гуманитарными науками от нелюбви к математике. Будущее кажется
мрачным тем, кто по своему складу настроен против науки;
мы можем сочувствовать им, но не можем ради них
отказаться от опыта, который, если бы он удался, в конечном счете
принес бы пользу даже и этим людям.
Другое существенное возражение против науки
использует ссылку на неясность ее выводов. Хорошо
засвидетельствованный исторический факт, например дата
битвы при Ватерлоо, кажется чуть ли не наибольшим
возможным приближением к абсолютной истине, но известно, что
научные факты, если они вообще могут быть «фактами»,
не только неточны — или приблизительны, выражаясь
более вежливо,— но, кроме того, носят гипотетический
характер. Как говорит Дж. У. Н. Салливан, наука
усвоила прагматическое определение истины, основанное на
успехе: теория признается истинной до тех пор, пока она
приносит наибольший успех по сравнению с другими
существующими теориями; но как только возникла новая
теория, превосходящая прежнюю, эту последнюю
безжалостно отвергают. Это делает построение науки весьма
непрочным. В любой момент почта может принести ученому
известие о том, что все изменилось и что из истин
вчерашнего дня не сохранилось ни одной (или очень мало).
Истинный ученый считает такое явление вполне закономерным,
но для многих людей подобная шаткость положения
кажется непереносимой.
Конечно, обманчиво убеждение, будто выводы, к
которым можно прийти благодаря установлению и
регистрированию фактов, более достоверны, чем те, которые можно
получить при установлении и формулировании общих за-
407
законов. Данное убеждение опровергается хотя бы тем, что
сам процесс установления фактов предполагает наличие
извэстной теории — особого способа «выбирать и
группировать те явления, на которые направляется внимание» 1.
Нет ничего обязательного и в мысли о существовании двух
видов истин: исторических и научных. В высшей степени
полезно рассматривать исторический факт, например дату
битвы при Ватерлоо, как гипотезу — совершенно так же,
как любой другой научный «факт», например как то, что
вода состоит из Н2О. Такая гипотеза может и должна быть
отвергнута в пользу другой, если окажется, что она не
согласуется с общей структурой гипотез, частью которых
она является. Мы продолжаем верить, что битва при
Ватерлоо произошла 18 июня 1815 г. только по той причине,
что эта гипотеза была до сих пор самой подходящей; новое
летоисчисление или новый взгляд на битвы может вызвать
необходимость в другой гипотезе. Ведь «битва при
Ватерлоо» сама по себе является конструктом, результатом
определенного «выбора и группировки тех явлений, на
которые направляется внимание» историка, а не чем-то
«данным» в абсолютном смысле. Итак, поскольку в
гуманитарных науках многое зависит от высказываемых мнений,
возможно, справедливо утверждение, что в этих науках легче,
чем в точных, стать «авторитетом».
Доводы в пользу точных наук можно вкратце изложить
следующим образом: во-первых, выбор функций и
исключение из рассмотрения всех других сторон вселенной
сделали возможным дать единое сравнительно простое
описание огромного количества подробностей, которые в
противном случае показались бы не связанными друг с
другом. Это, если угодно, чисто эстетическое достижение,
воздействующее на интеллектуальное чувство гармонии,
сильно развитое не во всех людях; но некоторые высоко
оценивают это достижение. Во-вторых, данный метод
работает. Было показано, что знания одних количественных
функций достаточно для того, чтобы обеспечить ученому
контроль над материалом, с которым не сравнится ничто,
достигаемое другими методами. Правда, эти
преимущества сказываются в полной мере только в физике; в
биологии данный метод пока что оказался менее плодотворным,
чем ожидалось, и, вероятно, как предполагал Уайтхед.
1 Ср. Angus Sinclair, The conditions of knowing, London, 1951.
408
биологам предстоит расширить сферу своих исследований.
Тем не менее никуда нельзя уйти от того факта, что
указанный метод приводит к блестящим успехам.
К этому мы можем добавить другой довод. У каждого
человека есть свой собственный взгляд на мир, свой
собственный способ «выбирать и группировать те явления, на
которые направляется внимание»; каждый из нас в любой
момент жизни повторяет то, что описано в книге Бытия,
заново разделяя свет и тьму, землю и воду. Но
сотрудничество между людьми возможно лишь в том случае, если
эти различные картины совпадают, и лишь в той мере, в
какой они совпадают. Ведь наука, кроме всего прочего,
это — собрание правил, согласно которым нужно
«выбирать и группировать те явления, на которые направляется
внимание». Возможно, основная общественная заслуга
науки состоит в том, что она позволяет признающим
правила следовать им, работать сообща и более сплоченно, чем
это возможно при любом другом наборе правил,
сопоставимом с наукой. Результаты, полученные ученым, могут
сразу же понять и использовать все другие, и возможности
взаимного непонимания сводятся к минимуму. В этом
отношении гуманитарные науки также очень отстали.
Наше рассуждение приводит к выводу, что метод
точных наук обеспечивает более совершенный и
единообразный контроль над событиями, чем методы, до сих пор
используемые в гуманитарных науках, и нет достаточных
оснований верить тому, что к материалу, исследуемому
гуманитарными науками, по самому его существу не
приложим столь же точный метод. Неизбежным следствием из
этого, по-видимому, является настоятельная необходимость
проверить данный вывод посредством опыта,
осуществленного в достаточно широком масштабе. Только таким
способом мы в состоянии обнаружить, можно ли сделать
гуманитарные науки точными, и если можно, то что из
этого получится. Если опыт не удастся, множество людей с
удовлетворением скажет: «Мы же говорили вам об этом»,—
однако никаких других потерь не будет. Если опыт
удастся, то с его помощью многое будет достигнуто.
Попробуем в таком случае представить себе, что
будет означать такое изменение метода и на что будет похожа
точная гуманитарная наука или точные гуманитарные науки.
Естественные науки, в особенности физика, как мы уже
отмечали, строятся на исследовании количественных функ-
409
ций и, на деле, обязаны своим существованием
математике. Салливан утверждает даже, что «своеобразные
составные части современной научной мысли, новый способ
мышления пришли из математических наук. Именно в этих
науках обнаружилась несостоятельность обычного
здравого смысла. Другие науки, такие, как химия и биология,
сделали сравнительно мало для того, чтобы познакомить
нас с принципиально новыми идеями. Правда, есть
несколько биологов, которые считают, что общепринятый
взгляд на вещи, основанный на здравом смысле, оказался
несостоятельным, но в биологии еще не разработан
достаточно полный комплекс новых идей. Современный отход от
давно установленных способов мысли практически ничем
не обязан нематематическим наукам. Культурная ценность
последних заключается скорее в фактах, чем в принципах»1.
Следовательно, наша первоочередная задача состоит в
том, чтобы выяснить, является ли математика возможным
основанием для нашей предполагаемой будущей науки.
Тойнби, например, не думает этого: «Мы знаем, что в
мире действий было бы опасно рассматривать животных или
людей так, как если бы они были неодушевленными
предметами. Какое право мы имеем предполагать, что подобное
допущение было бы менее ошибочным в мире идей? Какое
право мы имеем предполагать, что научный способ мысли—
способ, предназначенный для изучения неживой
природы,— может быть применим к историческому мышлению,
исследующему живые существа, и в частности людей?
Мы довольно хорошо остерегаемся так называемой «ошибки
одушевления» (pathetic fallacy), заключающейся в том,
что неживые предметы в воображении наделяются жизнью.
Но теперь мы становимся жертвами противоположной
ошибки — «ошибки бездушия» (apathetic fallacy),
состоящей в том, что живые существа рассматриваются так, как
если бы они были неодушевленными» 2. Этот довод
приводится Тойнби в связи с нападками на «индустриализацию
исторической мысли», но имеет и непосредственное отношение
к тому, что мы сейчас обсуждаем.
Возможно, вывод Тойнби правилен — и, во всяком
случае, при имеющихся в нашем распоряжении данных мы не
можем позволить себе утверждать противоположное,— но,
1 «Limitations of science», Pelican edition, 1938, p. 240.
2 См. Tynbee, A study of history, vol. I, Oxford, 1945, p. 7—8.
410
несомненно, допущение принципиального различия между
неодушевленной природой и людьми неправомерно: это тот
самый способ рассуждения, который сам Тойнби отвергает,
когда говорит о «сопоставимости «фактов», встречающейся
при исследовании цивилизаций». Если люди имеют нечто
общее с неодушевленными предметами (а почему мы должны
предполагать, что между ними нет ничего общего?), то не
вероятнее ли всего, что это общее состоит именно в тех
количественных функциях, для исследования которых
приспособлен метод естественных наук? Очевидно, было
бы опасно утверждать заранее, что человеческие
установления, в том числе язык, вовсе не имеют никаких
математических черт. Если же у них имеются какие-то
математические черты, то эти последние в свете нашего
предшествующего опыта лучше всего можно исследовать
математически. Я думаю, что Тойнби никогда не станет возражать
против этого. Существо его утверждений заключается в
другом: он думает, что основное в мышлении историка не
может быть математическим по существу. Все же остальное
он охотно передал бы вспомогательным дисциплинам.
Если принять, что наша новая наука или науки
должны ограничиваться изучением функций для того, чтобы
быть точными, то основным вопросом явится следующий:
можно ли достигнуть того контроля над явлениями, к
которому мы стремимся, чисто количественным методом, т. е.
являются ли функции, с которыми мы должны иметь дело,
количественными?
Перед нами снова стоит вопрос о том, существует ли
какая-либо связь между особым характером материала
и методами, к нему приложимыми, хотя на этот раз
проблема предстает в другом виде. Без сомнения, мы должны
быть готовыми к тому, что найдем количественные
функции при изучении нашего материала; начало было уже
положено исследованием ряда функций в таких
дисциплинах, как экономика, политическая наука, а также в
дисциплинах, примыкающих к лингвистике,— в фонометрии,
экспериментальной фонетике и статистике слов. С другой
стороны, не менее ясно, что функции, традиционно — и
неточно — изучаемые историей, антропологией,
социологией грамматикой и т.п., большей частью не являются
количественными. Хотя мы не можем на этом основании
предположить, что вселенная четко разделена на две
части, одну — количественную, а другую — неколичествен-
411
ную, тем не менее, возможно, существует две
принципиально различные разновидности материала, как,
по-видимому, и думает Тойнби: неодушевленная природа,
характеризующаяся преобладанием количественных функций, и
социальные явления, обладающие более значительной частью
неколичественных функций. Возможно, имеются и другие
разновидности, помимо этих двух: так, например, может
случиться, что материал биологии окажется отличным по
своему составу от материала названных выше наук.
О неколичественных функциях в неживой природе
известно как будто крайне мало, может быть, даже меньше,
чем о количественных функциях в языке и обществе; во
всяком случае, существующих данных недостаточно для
того, чтсбы подтвердить или опровергнуть гипотезу,
изложенную выше в качестве предположения. Представители
естественных наук ограничивались изучением
количественных функций отчасти потому, что к этому располагало
развитие математики, а отчасти потому, что этот метод
давал им возможность осуществлять контроль над
явлениями, чего они и хотели добиться. Мы теперь не в состоянии
узнать, были ли они правы, думая (или действуя так, как
они могли бы думать), что тем самым они исчерпывают
все возможности, заложенные в неживой природе. Однако,
как бы то ни было, но, ео всяком случае, допустимо, что
определяющим фактором является вид контроля, к
которому стремятся ученые, а не характер материала, с
которым они имеют дело. В этом случае неколичественное
рассмотрение того же материала — неодушевленной
природы — оказалссь бы возможным и могло бы привести
к другому виду контроля, который мог бы представить
определенную ценность или, напротив, не иметь никакой
ценности. Если мы сможем придерживаться той гипотезы, что
выбор количественных или неколичественных функций
целиком зависит от вида контроля, тогда не будет больше
необходимости предполагать, что вселенная разнородна, а
это кажется достижением с точки зрения простоты
описания. В соответствии с этой гипотезой должны были бы
существовать две основные науки, одна — количественная
а другая — неколичественная; каждая из них имела бы
весь мир в качестве поля исследования.
Существующие количественные исследования
материала гуманитарных наук привели именно к тому виду
контроля, которого желали и добивались ученые: они
412
дали возможность предсказать состав данного населения
в определенное время в будущем, способность рассчитать
на основе рукописи размер печатаемой книги или время,
необходимое для произнесения речи. Но рамки этого
контроля весьма ограниченны и не дают возможностей для
развития технических приемов, сравнимых с теми, которые
основаны на данных естественных наук. Представляется, что
посредством исследования одних только количественных
функций нельзя предсказать, какие изменения произойдут
(или могут быть вызваны) в данном обществе или языке,
или рассчитать, каким будет результат каждого такого
изменения. А конечно, полезным был бы именно такой вид
контроля. Стремясь учесть последствия, предположим,
нового закона о бракоразводных процессах,
государственный деятель должен принять во внимание существенные
неколичественные функции (которые в настоящее время
не поддаются измерению), хотя статистика также может
участвовать в его расчетах. Точно так же лингвист,
строящий проект искусственного языка или новой системы
научных обозначений, или судья, толкующий закон (что
также является лингвистической деятельностью), лишь
косвенным образом соприкасаются с количественными
функциями. Далее, когда лингвист считает или измеряет,
то считаемое или измеряемое им само по себе не
определяется количественно: слова, которые исчисляются в
словарной статистике, определяются (в той мере, в какой они
вообще определяются) в иных терминах.
В нашем распоряжении имеется, следовательно, две
взаимоисключающие гипотезы, гласящие, что 1) мир
разделен на две или более части, различающиеся отношением
количественных функций к неколичественным, и 2) что
мир единообразен, а выбор количественных или
неколичественных функций в качестве способа описания зависит
от вида контроля, который мы желаем получить благодаря
исследованию. Конечно, вторая гипотеза имеет
преимущество простоты и кажется в целом более обещающей.
Какую бы гипотезу мы ни выбрали для проверки,
по-видимому, единственным способом ее проверки является такой
опыт, при котором исследование количественных функций
должно быть дополнено исследованием неколичественных
функций в естественных науках, в пределах материала
этих наук, а исследование неколичественных функций —
исследованием количественных в гуманитарных науках
413
в пределах их материала. В настоящей работе авторы
предполагают сделать скромный первый шаг в этом направлении
и постараются обрисовать очертания неколичественной
науки, которая должна быть применена сначала к
материалу гуманитарных наук, особенно к языку. Эту
предполагаемую новую науку мы называем глоссематикой.
Подобно тому как естественные науки основаны на
математике, глоссематика должна основываться на теории
неколичественных функций 1. Мы отмечали, что
прототипом высказываний в физике является утверждение «а
больше чем 6»; соответствующую роль в глоссематике
играет утверждение «а предполагает 6», которое сходным
образом служит для установления упорядоченной
зависимости, имеющей весьма общий характер. Эта
упорядоченная зависимость встречается в глоссематике, так же
как и в физике, в ряде форм, и глоссематическая теория
функций является исчислением видов упорядоченной
зависимости, при котором первоначальная простая идея
развита в целую алгебру. Эта алгебра была задумана как
способ описания (гуманитарного) материала в виде
целостной структуры, состоящей из неколичественных функций,
структуры законченной и не нуждающейся в привнесении
определений, заимствованных из других наук. Поэтому
мы старались развить нашу алгебру до такой
степени, чтобы выработать способы различения, необходимые
и достаточные для непротиворечивого описания.
Глоссематическая алгебра многим обязана
символической логике, но, как мы увидим ниже, в некотором
отношении отличается от нее. Эти различия (их оказалось
невозможно устранить), по-видимому, объясняются
различием в целях и исходных точках построения двух дан-
1 Это утверждение автора, как и предшествующие его рассуждения,
основано на совершенно ошибочном предположении о том, что
математика имеет дело только с количественными функциями. Для
современного этапа развития математики характерно понимание этой
дисциплины «как науки, изучающей общие системы, в которые входят
определенные объекты и определенные соотношения между ними. При этом
количественные или числовые аспекты отдельных математических
систем следует считать не главными или характеризующими, а скорее
второстепенными или феноменами для математики в целом. С этой точки
зрения было бы, например, неверно рассматривать научную теорию
как нематематическую только на том основании, что эта теория
неколичественная»; см. М. Стоун, Математика и будущее науки,
«Математическое просвещение», вып. 4, М., 1959, стр. 113.— Прим. перев.
414
ных наук. Символическая логика занимается
соотношениями классов и высказываний, которые могут быть истинными
или ложными; логики принимают свои высказывания,
классы и элементы, в эти классы входящие, как заранее
данные, не заботясь о том, откуда они берутся. Таким
образом, материал символической логики является
открытым, неограниченным, а логический подход предполагает
атомистический взгляд на вселенную или же
предварительный анализ, находящийся за пределами логики как
таковой. Глоссематическая алгебра имеет дело с замкнутыми
структурами и предполагает наличие связного материала,
анализ которого является неотъемлемой частью самой глос-
сематики; эта алгебра не предназначена для операций с
высказываниями или истинностью и ложностью, а классы в ней
появляются не с самого начала, а лишь после того, как
анализ материала дал то, что может быть классифицировано.
Однако возможно построение метатеории, из которой
может быть выведена и символическая логика и глоссемати-
ка, и, подобно тому как математика может быть выведена
из символической логики, все функции — количественные
и неколичественные — могут быть объединены под одной
крышей.
Новая алгебра излагается в данной книге в виде ряда
«высказываний». Между ними существует упорядоченная
зависимость, так что определения предполагают наличие
первоначальных высказываний; в первоначальные
высказывания вводятся термины, посредством которых затем
определяются другие термины. Существует немало способов
построения подобных систем и большое число возможных
определений для каждого термина; например, относительно
свободный выбор возможен при решении того, какие
элементарные термины должны быть оставлены в качестве
исходных, а какие — определены через посредство
исходных, поскольку вся система служит для определения
формально неопределенных терминов. Мы испробовали
множество способов размещения элементов, стремясь
достигнуть наибольшей простоты и последовательности, и поэтому
некоторые из терминов и высказываний, излагаемых здесь,
отличаются от первоначальных вариантов, время от
времени появлявшихся в других изданиях. Мы приносим
извинения за неудобства, вызванные
непоследовательностью, и надеемся, что возместим это большей строгостью
конечного результата, который должен дать лучшее
осно415
вание для продолжения обсуждения, чем любая из прежних
попыток.
Прежде чем переходить к детальному изложению глос-
сематики, сделаем общий ее обзор, не применяя
технических терминов. Свой обзор мы начнем с изложения
принципов, на которых базируется данная теория. Таким
образом, мы ставим перед собой двойную цель: во-первых,
ознакомить читателя с данной теорией, т. е. с тем, что мы
собираемся делать и, в общих чертах, как мы собираемся
это делать, и, во-вторых, дать ему возможность видеть
лес, когда впоследствии он окажется среди деревьев. Для
такого рода описания не предполагается ничего, кроме
общего очерка, и многое должно быть принято на веру до
тех пор, пока не начнется формальное изложение.
Идеалом любого научного описания является простота.
Нет никакой необходимости в том, чтобы это было так, и
обращение к простоте, возможно, носит просто
эстетический характер: простое объяснение более приятно, чем
сложное, хотя, очевидно, не для всех и не всегда.
Существуют и другие причины, благодаря которым простота
является желательной: поскольку часто оказывается
возможным думать о нескольких способах описания, в
равной мере пригодных, необходимо иметь какой-либо
критерий, для того чтобы решить, какое описание избрать;
более того, это должен быть критерий, который может
быть принят и применен всеми. Критерием, который был
с этой целью выработан, является простота: при прочих
равных условиях предпочтение дается простейшему из
возможных описаний. Как критерий простота имеет
преимущество объективности, и, хотя этот критерий не всегда
легко применить \ это сделать, по-видимому, проще, чем
при выборе в качестве критерия ее противоположности —
наибольшей возможной сложности.
Из простоты могут быть выведены все остальные
научные идеалы: объективность, последовательность, полнота.
Объективное описание проще, чем субъективное, потому
что оно не предполагает личных склонностей или частного
опыта, который входит в понятие субъективности;
объективное описание использует только часть человеческого опыта,
1 Ср. H. Spang-Hanssen, On the simplicity of descriptions,
«Recherches structurales», «Travaux du Cercle linguistique de
Copenhague», vol. V, 1949.
416
которая доступна (или может быть доступной) для всех.
Последовательное описание проще, чем непоследовательное,
потому что противоречие предполагает наличие более чем
одного множества исходных идей. Исчерпывающее же
описание проще, чем неполное, потому что в любом остатке
содержится и скрывается возможность противоречия.
Для того чтобы эти идеалы стали операциональными, мы
изложили их в виде набора принципов, которым мы
старались подчиняться при построении нашей теории и на
основании которых, по нашему мнению, следовало бы
оценивать нашу работу 1.
I. Эмпирический принцип: описание должно быть
возможно более последовательным, полным и простым. Три части
этого принципа находятся в отношении упорядоченной
зависимости таким образом, что полнота подчиняется
последовательности, а простота — полноте.
Этот принцип является, кроме всего прочего,
определением научной истины, которая, как мы отмечали,
несколько отлична от обычной бытовой истины. В двух вопросах:
«Правда ли, что Джордж купил себе дом?» и «Правда ли,
что молекула озона содержит три атома кислорода?» —
содержится два различных варианта слова «Истина»; первый
вопрос относится к историческому «факту», второй же не
имеет отношения к факту — его единственное научное
истолкование сводится к вопросу «является ли О3
простейшим из возможных последовательных и полных описаний
того, что называется «озоном»?» Как мы отмечали выше,
можно обобщить научное понимание истины и
рассматривать покупку дома Джорджем скорее как последовательное,
полное, простое описание, чем как «факт», но едва ли это
войдет в обыкновение, хотя существенные преимущества
могут быть получены скорее от обсуждения описаний,
чем от «фактов».
Ученый может обладать своей собственной верой в
абсолютную истину, если ему это нравится, то есть он может
верить в то, что «бог — это математик», что вселенная
обладает внутренней структурой, изучение которой
составляет задачу науки, и что каждое научное открытие
является шагом вперед по дороге хотя и длинной, но все же
1 Эти принципы впервые были опубликованы в книге L.
Hjelmslev, Omkring Sprogteoriens Grundl?ggelse, 1943; английский
перевод: «Prolegomena to a theory of language», 1953.
27 Заказ № 116
417
имеющей конец; до тех пор пока он не отожествляет ни
одного реального описания с абсолютной истиной, это
остается всецело на его совести. Он может, наоборот,
верить в то, что не существует абсолютной истины и
внутренней структуры вселенной, что наука является проекцией
человеческого разума (что бы он ни имел в виду под этим
последним) на хаос; в этом случае он будет рассматривать
историю науки как непрерывную последовательность
упрощенно работающих способов упорядочения хаоса —
нечто вроде бесконечного повторения шести дней
сотворения мира. Эмпирическому принципу можно следовать,
оставаясь приверженцем любой из этих двух вер; и этим
объясняется, почему ученые весьма различных убеждений
могут продолжать работать сообща.
Традиционные гуманитарные науки, которые
обращались скорее к исторической истине, чем к научной, до сих
пор в очень малой степени учитывали эмпирический
принцип. Вместо него они установили так называемый принцип
правдоподобия, хотя он редко формулируется в явном виде:
из двух объяснений, которые во всех остальных
отношениях одинаково удовлетворительны, предпочтение
отдается наиболее правдоподобному. За это гуманитарные науки
упрекнуть нельзя, потому что другой путь для них едва ли
приемлем. Но если нужно создать точную науку, то
следует не только принять эмпирический принцип, но и
отказаться от принципа правдоподобия. В спорах, касающихся
гуманитарных наук, утверждения, что какая-либо
гипотеза искусственна, часто бывает достаточно для того,
чтобы ее немедленно отвергнуть; по-видимому, этого не может
случиться, скажем, с физической гипотезой, во всяком
случае если иметь в виду общепринятое понимание
«искусственного». Это объясняется тем, что естественные науки в
целом не отличаются правдоподобием и никогда не сходят со
своего пути в погоне за ним; их объяснения часто кажутся
необузданной фантазией с точки зрения здравого смысла
(ср. большинство утверждений атомной физики или даже
такую давно уже установленную теорию, как то, что вода
составлена из двух газов,— кто в гуманитарных науках
рискнул бы высказать столь нелепое объяснение?) 1 Это различие
1 Вот что говорил Бернард Шоу по этому поводу: «В Средние века
люди верили, что земля плоская, относительно чего у них было, во
всяком случае, свидетельство их органов чувств; мы верим в то, что
она круглая не потому, что хотя бы сотый из нас в состоянии привести
418
между двумя видами наук можно непосредственно возвести
к основному различию, отмеченному нами: эмпирический
принцип соответствует функциям, принцип
правдоподобия — «вещам». Но даже и в этой области правдоподобие
является опасным критерием, потому что, как говорит
Леви-Брюль, «первое правило ученого, пользующегося
строгим методом, заключается в том, чтобы не принимать
за доказанное то, что всего лишь правдоподобно. Сколько
раз ученые убеждались на опыте в том, что правдоподобное
редко можно признать истинным» 1.
Эмпирический принцип может применяться на разных
уровнях, приводя в некоторых отношениях к
противоречивым результатам, потому что термин «описание» можно
истолковать как относящийся либо к конкретному
описанию конкретного предмета, либо к общему аппарату
описания. Описание конкретного предмета является полным,
если оно проводится до тех пор, пока (в пределах
применяемого метода) не обнаруживается никакого остатка, т. е.
пока весь предмет не сведен к структуре рассматриваемого
типа. Описание является простым, если оно, оставаясь
последовательным и полным, раскрывает предмет как нечто
состоящее из возможно меньшего числа единиц,
представляющих собой конечный результат исследования. Такие
«конечные результаты» являются чем-то вроде
неизбежных остатков, отмечающих границы области применения
методов; их внешние функции известны, и эти функции
служат для того, чтобы различить и определить сами
элементы. Однако, поскольку элементы по определению
неразложимы, ничего не известно об их внутренней структуре,
и поэтому эмпирический принцип требует, чтобы они были
сведены к возможно меньшему числу.
Алгебра — это общее описание, из которого могут быть
выведены все частные описания, действительные или
возможные. Конечная проверка ее полноты должна быть
осуществлена посредством индукции от всех конкретных
описаний. Но в той мере, в какой алгебра является общей,
физические доводы в пользу такой диковинной веры, а потому, что
современная наука убедила нас в том, что все очевидное неверно и что все
магическое, невероятное, сверхъестественное, огромное, микроскопиче-
скоэ, бессердечное или чудовищное является научным» (из предисловия
к «Жанне д'Арк»).
1 «Les fonctions mantales dans les societes in'erieures», Paris, 1928,
p. II.
27*
419
индукция по необходимости остается неполной, а так как
частные описания предполагают наличие алгебры,
которая поэтому должна быть построена заранее, полнота
этой алгебры может быть определена только как
возможная. То же самое можно сказать и о ее простоте, которая
в конце концов должна быть проверена индуктивно,
посредством исследования простоты конкретных описаний,
выведенных из алгебры.
Всегда можно упростить любую алгебру за счет
уменьшения сферы ее применимости. Из каждой алгебры,
упрощенной таким способом, можно вывести ограниченное
число конкретных описаний, каждое из которых проще, чем
соответствующие конкретные описания, выведенные из
более общей алгебры. Другими словами, любой материал,
например любой язык, может быть описан простым путем,
если аппарат описания — алгебра — предназначен только
для этой цели; если же, наоборот, желательно дать
единообразное описание разных исследовательских материалов,
например, более чем одного языка, тогда аппарат описания,
а следовательно, и каждое конкретное описание будут
более сложными. Причина этого очевидна: конкретные
описания различаются по степени сложности, и аппарат
описания должен быть приспособлен для того, чтобы
справиться с самой высокой степенью сложности, которая,
согласно предвидению, может встретиться в пределах
области приложения данного аппарата. Поскольку глоссемати-
ческая алгебра задумана как общая, отчасти даже
универсальная, нельзя утверждать, что каждое конкретное глос-
сематическое описание является простейшим из возможных,
последовательным, полным описанием предмета
исследования. Эта потеря простоты в конкретном описании
окупается выигрышем в общей простоте, которая происходит
благодаря получению большого числа единообразных
описаний.
Построение аппарата описания сопровождается, таким
образом, борьбой двух противоречивых стремлений: 1)
желанием сделать алгебру возможно более общей, приложимой
к более широкому многообразию конкретных описаний,
что означает увеличение ее различительной силы и тем
самым ее сложности, и 2) стремлением обеспечить
наибольшую возможную простоту конкретных описаний.
Результатом этой борьбы является компромиссное решение,
которое непрерывно нужно проверять и пересматривать.
420
Кроме конечных элементов, получающихся в результате
конкретных описаний, есть и другая группа неизвестных
элементов, число которых должно быть сведено к
минимуму: это — неопределяемые в алгебре термины. Здесь опять-
таки нам известны их внешние функции, т. е. роль этих
терминов в алгебре, но не их внутренняя структура, и
поэтому слишком большое число неопределяемых
терминов угрожает непротиворечивости теории. Алгебра должна
строиться с учетом метатеории, из которой она может
быть выведена и по отношению к которой она в свою
очередь является конкретным описанием. Чем больше
неопределяемых терминов, тем больше бремя, которое предстоит
нести метатеории, и тем больше вероятность того, что
нужно пересмотреть алгебру, а вместе с ней и все конкретные
описания, сделанные на ее основе, для того чтобы
метатеорию сделать последовательной, полной и простой.
Как мы видели, задача науки — описать и различить
возможно большее число предметов возможно более
простым путем (т. е. через возможно меньшее число конечных
элементов, полученных в результате исследования). Это
делается путем анализа и редукции, т. е. посредством
описания предмета как состоящего из небольшого числа
элементов, каждый из которых может встречаться много раз
и соединяться друг с другом функциями. Классический
пример подобного описания представляет, конечно, химия.
Для того чтобы применять данный метод, необходимо
принять две рабочие гипотезы: 1) предмет может быть
подвергнут анализу; 2) его составные части, обнаруживаемые
при анализе, могут быть размещены в конечном числе
классов.
1) Первая гипотеза настолько очевидна, что, вероятно,
большинство людей, исходящих в своей работе из данного
предположения, никогда не заботились о том, чтобы ее
сформулировать. Тем не менее формулирование гипотезы
никак нельзя считать ненужным делом, поскольку
полная объективность может быть достигнута лишь в том
случае, когда все предпосылки высказаны. Именно под
этой гипотезой отказываются подписаться мистики.
2) Вторая рабочая гипотеза может показаться
излишней. При ее рассмотрении может закрасться подозрение,
что она предназначается для обмана читателя, ибо
приверженец глоссематики, по-видимому, свободно решает,
сколько классов ему создать; число классов, несомненно, опре-
421
деляется алгеброй, которую он сам создал с этой целью.
Однако приверженца глоссематики в действительности
связывает эмпирический принцип: если он делает алгебру
слишком узкой, чтобы получить небольшое число классов,
его алгебра может не дать полных описаний или не будет
приложима ко всем объектам, которые он желает описать.
Во всяком случае, как бы ни была построена алгебра,
остается допущение, что любой данный предмет поддается
последовательному и полному описанию с помощью того
числа классов, которые предусматриваются алгеброй, или
вообще с помощью какого-то конечного числа классов.
Если классов, предусматриваемых алгеброй, оказывается
недостаточно, алгебра должна быть осуждена как
неподходящая для описания данного предмета; если бы встретился
предмет, который не мог бы быть описан в терминах
конечного числа классов, наука исчерпала бы до конца все свои
возможности, потому что описание в терминах бесконечного
многообразия явно невозможно. Принятие этой гипотезы
необходимо для того, чтобы начать любой опыт научного
исследования. Под данной гипотезой отказываются
подписаться приверженцы школы, утверждающей, что история
не повторяется, а также сторонники той школы, которая
отстаивает значение «человеческого фактора».
Описание, следовательно, принимает форму
постепенного разделения предмета на все меньшие и меньшие
составные части и последовательного уменьшения числа
различных составных частей благодаря их классификации.
Это мы называем процедурой. Процедура совершается
посредством ряда операций, находящихся между собой в
отношении упорядоченной зависимости; операция является
описанием, производимым в соответствии с эмпирическим
принципом. Каждая операция представляет собой
описание результатов предшествующей операции, и,
поскольку каждая операция включает и анализ и синтез
(классификацию), это открывает возможности для дедукции, т. е.
ряда действий анализа, находящихся в отношении
упорядоченной зависимости, и для индукции, т. е. для ряда дей
ствий синтеза, также находящихся в отношении
упорядоченной зависимости.
Иногда один и тот же конкретный предмет оказывается
возможным описать с помощью двух или более процедур,
которые ведут к одинаково простым результатам. В таком
случае эмпирический принцип обязывает нас предпочесть
422
простейшую процедуру, т. е. процедуру, состоящую из
наименьшего числа операций. Эти рассуждения
подытожены в следующем принципе.
II. Принцип простоты: из двух последовательных и
полных описаний предпочитается то, которое дает более
простой результат. Из двух последовательных и полных
описаний, дающих одинаково простые результаты,
предпочитается то, которое требует более простой процедуры.
Синтез, осуществляемый при каждой операции, — это,
конечно, классификация, в которой «концепты,
относящиеся к классам», являются функциями, а не «качествами».
Анализ состоит в регистрации функций и элементов,
которые являются членами функций, а синтез заключается в
классификационном объединении всех тех компонентов,
которые могут быть членами одной и той же функции
(одних и тех же функций). Это приводит к уменьшению числа
различных компонентов, потому что структурно
эквивалентными объявляются все те компоненты, которые
выступают как члены одного и того же определенного класса
(в то же время должно соблюдаться условие, согласно
которому ни один из таких компонентов не может входить
в какой бы то ни было определенный класс, если в него не
входят все остальные компоненты); о таких компонентах
можно сказать, что они являются отдельными
проявлениями одного и того же элемента. С помощью такой
процедуры в той мере, в какой наши рабочие гипотезы
подтверждаются на практике, число различных компонентов
уменьшается при каждой последовательной операции.
Поскольку операции по определению должны
проводиться согласно эмпирическому принципу, каждая
операция должна быть исчерпывающей, т. е. она должна
продолжаться и, если это необходимо, повторяться до тех пор,
пока не будут рассмотрены все результаты
предшествующей операции. Это означает, что при любой операции
следует стремиться анализировать каждый элемент,
полученный в результате предшествующей операции, и что при
каждой операции следует стремиться синтезировать классы,
получаемые от предшествующей операции. Если
результаты операции разнородны, т. е. обнаруживают различную
степень структурной сложности, попытка анализировать
их при следующей операции не всегда будет успешной.
Элементы, не поддающиеся анализу при данной опе-
423
рации, должны быть подвергнуты анализу при следующей
операции.
Если компоненты предмета разнородны, операции
должны повторяться столько раз, сколько это необходимо.
Такой случай, например, имеет место, когда предметом
исследования является язык. Данная теория ведет к описанию
текста, которое предполагает, что текст состоит из четырех
отдельных, но связанных между собой частей, или планов
(strata): две части условно называются содержанием
(content) и выражением (expression); каждая из них состоит в
свою очередь из двух планов, которые по терминологии,
взятой у Ф. де Соссюра, называются формой (form) и
субстанцией (substance).
Согласно общепринятой точке зрения, эти четыре
подразделения различаются по своему характеру: два основных
плана — форма содержания и форма выражения —
являются «лингвистической формой», т. е. абстракциями,
которые никогда не описывались иначе, как в терминах
функций, и существование которых часто вообще отрицалось.
Субстанция выражения может быть различной: это могут
быть звуки речи, описываемые как с физиологической,
так и с физической точки зрения, это может быть письмо
разных видов (точки и тире, сигнальные флажки, гудки,
вспышки света и т. д., даже танец 1); каждый из указанных
видов субстанции выражения можно описать с какой-либо
нелингвистической точки зрения. Исключительная
изменчивость субстанции выражения заставила лингвистов
предполагать, что между основной частью языка и субстанцией
выражения существует сравнительно слабая связь, хотя
обычно, но не всегда и не постоянно, изменение
субстанции выражения сопровождается изменением формы
выражения, так что связь между формой выражения и формой
содержания может показаться столь же слабой. По аналогии
подобный же взгляд распространяется и на субстанцию
содержания. Из четырех известных планов языка эта
последняя является наиболее загадочной, потому что она изучена
меньше всего. Представляет ли она, собственно,
психологический объект? Несомненно, не более чем три остальных.
Сепир и Трубецкой, так же как Соссюр и Бодуэн де
Куртене, показали, что и план выражения имеет психологи-
1 См. рассказ Дж. К. Честертона «Примечательное поведение
профессора Чедда» в книге «Клуб удивительных профессий».
424
ческую сторону. Что же тогда представляет собой
субстанция содержания? Является ли она философским явлением?
Физиологическим (т. е. связанным со строением мозга)?
Или же она вообще не существует? Мое собственное
ощущение подсказывает, что веские доводы могли бы быть
приведены в пользу описания субстанции содержания как
особого сорта этнической философии, мировоззрения
(Weltanschauung), «климата мысли», множества гипотез, или
точек зрения, или верований, касающихся теории
познания, этики, экономики, религии, обычаев, политики,
географии, истории, математики, наук, музыки, искусства —
всей той области, которая по обычаю принадлежала
философии. Иначе говоря, это та «культура», которая остается,
когда вы забываете все, чему вас учили в школе. Заседание
суда занимается решением того, соответствует ли данное
внеязыковое событие «смыслу закона», т е. определением
субстанции содержания слов и предложений закона.
Каждый раз, когда мы раскрываем рот, любой из нас выносит
решения совершенно такого же рода —вместо «смысла
закона» здесь выступает множество мнений говорящего.
Простое высказывание, подобное the dog is asleep «собака
спит», предполагает целую цепочку таких решений: что
животное «является» (is) собакой; что оно «является» (is)
спящим; что сон — это состояние, в которое могут
впадать объекты, входящие в класс, включающий собак; что
говорящий имеет право и способен высказывать
утверждения такого рода; что есть достаточные основания для
подобных утверждений; что «собаки» и «состояние сна»
являются классами, которыми разумно оперировать, — «такова
уж вселенная» и т. д. и т. д. Все высказывания
предполагают целостный набор убеждений, и именно этот набор
убеждений составляет субстанцию содержания.
Естественно, субстанции содержания одной группы или личности
могут значительно отличаться от другой, точно так же
как, с другой стороны, существуют огромные различия
между звуками речи, используемыми разными группами
или личностями. В обоих планах (т. е. и в субстанции
содержания, и в субстанции выражения) могут существовать
различия и в языковом употреблении одного и того же лица:
оно может думать научно в одну минуту и обыденным
образом в следующую минуту, от чего зависит и различие в
содержании его слов. Данное лицо в новых условиях или
просто ради забавы может также употребить и множество зву-
425
звуков, отличных от тех, которые для него нормальны,— это
то, что Элизабет Ульдалль удачно называет «фонетическим
жаргоном»; вспомните, например, о языке нутка,
описанном Сепиром. Исследования в этой области были начаты
Ангусом Синклером в его книге «The conditions of
knowing» (London, 1951), хотя — и он первый согласился бы
с этим — предстоит еще очень большая работа, в
особенности в отношении определения субстанции содержания
языков, находящихся за пределами культур атлантической
группы.
Все приведенные рассуждения совершенно не относятся
к глоссематическому описанию языков. Со структурной
точки зрения, встать на которую обязывает нас
эмпирический принцип, не существует качественных различий.
Единственная причина для описания текста,
предполагающего, что он состоит из четырех планов, абсолютно
формальна. Она заключается в том, что компоненты одного
плана не могут быть найдены посредством анализа
компонентов какого-либо другого плана; иными словами, планы
взаимно не соответствуют друг другу. Поэтому текст
должен быть описан посредством четырех различных актов
дедукции и индукции — ибо только элементы, получаемые
в результате дедукции, могут быть синтезированы
посредством индукции, — т. е. операции должны производиться
четыре раза. Первые несколько операций, относящиеся
к данной процедуре, вероятно, не представляют никаких
трудностей, поскольку элементы, получаемые при каждой
из этих операций, могут подвергаться анализу при
следующей операции без необходимого повторения. Но рано или
поздно — как скоро это произойдет, зависит от структуры
текста — будет достигнута точка, начиная с которой
необходимо совершать отдельные акты дедукции. Это
становится необходимым, когда единицы содержания и
выражения, или единицы формы и субстанции, начинают впервые
не совпадать друг с другом. Более обширные единицы
текста (параграфы, периоды, предложения) часто совпадают
во всех четырех планах, хотя это не обязательно и не
неизбежно; операции, необходимые для исследования на этих
уровнях, таким образом, не повторяются и разные
планы не разделяются. Но в дальнейших уровнях —несколько
ранее или несколько позднее в зависимости от особых
условий — должны быть совершены различные акты
дедукции. Например, в английском языке в единице I saw him
426
when he came in «Я увидел его, когда он вошел в комнату»
заключены два нексуса 1 в плане содержания, но эта
единица может быть произнесена (и обычно произносится) так,
как если бы она включала лишь один нексус в плане
выражения (т. е. она произносится с нисходящей интонацией).
Поэтому при операции, осуществляющей анализ данной
единицы, нужно знать, что только одна часть —
содержание — поддается анализу, тогда как другая часть —
выражение — должна быть передана в неанализированном
виде для того, чтобы подвергнуться анализу при
следующей операции 2. Названия планов, конечно, совершенно
условны: глоссематическое описание в принципе одинаково
для всех четырех планов и в нем могут быть выявлены
только различия структурного характера между этими планами.
По этой причине мы не придерживаемся широко
распространенной в настоящее время тенденции, последователи
которой стремятся разложить «фонемы» на
«различительные (дифференциальные) признаки». Не существенно, что
«различительные признаки» рассматриваются как
физические или физиологические явления, а «фонемы» — как
лингвистические (или психологические) «формы»: и те и
другие могут быть описаны как члены функций и должны
быть описаны именно так в глоссематике. Но
«различительный признак», например «звонкость», обнаруживается не
благодаря анализу «фонемы», например английского m,
скажем, в [miizli] (measly) «коревой», «негодный», а
посредством анализа более обширной единицы, всего слова
[miizli], на всю длину которого этот признак
распространяется. Такая единица как [miizli] может и должна быть
разделена и на «фонемы» и на «различительные признаки»,
но эти два разделения взаимно не соответствуют друг
другу; они относятся, так сказать, к разным измерениям.
«Фонема» обычно понимается как класс вариантов,
выделяемых в плане выражения, которые эквивалентны по
функциям, связывающим их с содержанием. Однако не
существует необходимой связи между таким классом в целом и ка-
1 Nexus «связь, нексус» — грамматический термин, введенный
О. Есперсеном и обозначающий выражение, содержащее «два понятия,
которые обязательно должны оставаться раздельными: вторичное слово
присоединяет нечто новое к тому, что уже былло названо» (О.
Есперсен, Философия грамматики, перев. с англ., М., 1958, стр. 132).—Прим.
перев.
2 Пример существенно упрощен.
427
ким бы то ни было классом единиц, относимых к
«различительным признакам»; но каждый из вариантов, входящих
в класс, является членом функции, другим членом которой
является единица из числа «различительных признаков».
«Различительные признаки» образуют особые классы, и
термин «фонема» было бы более разумным употреблять на
этом уровне; в самом деле, он мог бы получить примерно
значение «класса звуков», как у Дэниэля Джоунза.
Отсутствие взаимно однозначных соответствий между
формой и субстанцией, конечно, не представляет собой
структурной необходимости; возможно, существуют объекты,
при описании которых не обязательно проводить это
различие, но языки такого типа, видимо, очень редки.
Вероятно, описание культур также потребует
повторения операций, но остается еще проделать большую работу,
прежде чем мы сможем сказать что-либо об этом с
уверенностью. Моя собственная пробная гипотеза состоит в том,
что это действительно так и что, далее, план субстанции
содержания является общим для культуры и для языка ее
носителя. Это можно пояснить рисунком, напоминающим
чертеж строения, где по одну сторону находится язык, по
другую — культура; и язык и культура разделены на
различные планы. Верхний план, общий для них обоих —
так сказать, конек на крыше, — это и есть субстанция
содержания. Такая теория объяснила бы, между прочим,
отношения между текстом и контекстом ситуации 1. Текст,
без сомнения, встречается всегда в контексте определенной
ситуации, от которой он может быть отделен только
посредством анализа; но обычно исследователь действует так,
как если бы он исходил из того, что «мы знаем, что такое
текст», и, насколько это возможно, не принимает во
внимание контекст ситуации. Когда это невозможно, т. е.
когда функции пересекают границу между текстом и
контекстом ситуации, часть контекста ситуации, необходимая
для исследования текста, переводится в соответствующую
часть текста для того, чтобы ее можно было рассматривать
как лингвистический контекст.
Отделить с помощью действительного анализа
определенный текст от контекста ситуации, несомненно, можно
1 «Контекст ситуации» — термин, введенный известным этнографом
Малиновским и принятый английским лингвистом Ферсом (Firth) и его
школой; «контекст ситуации» обозначает ту ситуацию речевого общения,
которой определяется данное использование языка. — Прим. перев.
428
было бы только в том случае, если бы было дано
единообразное описание предмета исследования, состоящего
одновременно из текста и контекста ситуации. В таком описании
текст и контекст ситуации, вероятно, различались бы как
разные планы, но не обязательно с учетом общепринятой
границы между ними, к которой мы привыкли. Ситуация
состоит из ряда событий, относящихся к поведению, и, по
существу, она должна так же относиться к культуре, как
текст к языку. Глоссематическое описание определенного
контекста ситуации предполагает поэтому
глоссематическое описание всей культуры, к которой этот контекст
принадлежит. Настоящая функциональная антропология
(и социология) становится, таким образом, необходимой
для лингвистики. Вместе с тем антропологи и социологи
равным образом должны быть заинтересованы в
соответствующих описаниях языка, ибо они могут разрешать себе
не учитывать тексты, относящиеся к исследуемым
ситуациям, не в большей мере, чем могут разрешить себе
отвлечься от ситуаций, к которым относятся исследуемые
тексты, лингвисты 1.
Определение «разумного поля для исследования» (по
Тойнби), т. е. соответствующего предмета описания,
является весьма трудной проблемой. Философия науки ведет
к выводу, что мир является континуумом или, вернее, что
описание мира образует непрерывно связанную структуру.
Поэтому описание отдельного предмета в принципе
составляет только часть описания всего мира и не может считаться
окончательным до тех пор, пока все составные части не
нашли своего места на большой загадочной картине. Чтобы
быть уверенным в описании, скажем, английского текста,
нужно начать с анализа вселенной в первой операции
процедуры и затем постепенно, переходя от более общих
градаций к менее общим, дойти до текста или до какой-нибудь
большей единицы, включающей текст, но не намного его
превосходящей. На практике добиться этого явно
невозможно. Поэтому исследователь вынужден выбрать предмет
для своего исследования, согласуясь со здравым смыслом
или «научной интуицией», что придаст его описанию
предположительный характер и лишит его определенной
окончательной ценности. Но, как говорит Ритчи, «Положение
1 См. в этой связи работы покойного Б. Малиновского, особенно
приложение к книге Ogden and Richards, The meaning of
meaning, 5th ed., London, 1938, и его «Coral gardens», London, 1935.
429
ученого, быть может, совсем не так безнадежно, как это
кажется на первый взгляд. Существенное отличие ученого
от обычного здравомыслящего человека заключается в том,
что, прежде чем взяться за решение какой-либо задачи,
он делает несколько допущений относительно
рассматриваемой им конкретной ситуации. При этом его допущения
носят всегда характер предположений, с тем чтобы он мог
их пересмотреть, если они окажутся неправильными или
неудобными. Таким образом, все препятствия в позиции
ученого устранены. Наш ученый, например, допускает, что,
рассматривая небольшую часть вселенной, можно
пренебречь всем остальным. Тогда он действует на основании
своего допущения до тех пор, пока не обнаруживает, что
оно неправильно. Обнаружив это, он оглядывается кругом
и помещает в поле своего зрения еще одну небольшую часть
вселенной. Таким путем ученый продолжает изменять поле
своего исследования до тех пор, пока его изолированная
система не начинает вести себя так, как если бы она
действительно была изолированной. Каждую минуту он готов
полностью пренебречь вселенной как таковой, он получает
все преимущества, которые можно извлечь из
теоретического рассмотрения вселенной, но избегает всех невыгод,
связанных с этим рассмотрением» 1. Иными словами, он
получает все преимущества, кроме полной уверенности в
надежности результатов своего исследования.
Если принять высказанное выше мнение, согласно
которому научное описание мира должно представлять себе
как непрерывно связанную структуру, сплошную сеть
функций, то кажется странным, что могут существовать
части мира, которые «ведут себя так, как если бы они были
изолированными». Это можно объяснить с помощью
гипотезы, согласно которой данная сеть функций обладает
неодинаковой плотностью: существуют островки сравнительно
густой плотности, окруженные областями сравнительно
редкой плотности; именно эти островки могут быть
избраны для конкретного описания, потому что окружающие их
области с тонкой сетью функций дают им известную
степень самостоятельности.
Осуществляемый на практике метод перевода между
ситуацией и текстом — известный также из сценических
ремарок — представляется мне существенным. Повсед-
1 A. D. Ritchie, Scientific method, London, 1923, pp. 6--7.
430
невный перевод с одного языка на другой обычно, по моему
мнению, справедливо считается возможным постольку,
поскольку субстанция содержания является общей для
обоих языков. Следовательно, перевод становится процессом
перенесения общей субстанции из одного ряда форм в
другой ряд форм, подобно тому как можно переносить
чьи-нибудь одежды из ящиков одного шкафа в другой шкаф,
иначе устроенный. Если этот взгляд правилен, то перевод
между ситуацией и текстом предполагает общую субстанцию
содержания.
Едва ли полезно рассуждать о числе планов, нужных для
описания культуры, если предварительно не накоплен опыт
работы над такими описаниями. Но, быть может, читатель
позволит мне сослаться на увлекательную идею Турмана
Арнольда, не получившую, видимо, того внимания,
которого она заслуживает. По мысли Арнольда, культура имеет
два плана: первый из них представляет собой «реально»
действующие установления, а второй —
общераспространенные верования, относящиеся к этим установлениям1;
Арнольд приводит удачные доводы в пользу своей теории.
И если его теория окажется состоятельной, т. е. если
описание в терминах данных двух планов (с возможным
добавлением одного или двух других планов) окажется наиболее
последовательным, исчерпывающим и простым, тогда
описания языков и культур будут структурно гораздо более
похожими, чем это позволял предполагать здравый смысл.
В любом описании, имеющем дело с различными
планами, должно быть два типа единиц: внутренние единицы,
являющиеся членами функций, другие члены которых
принадлежат к тому же плану, и внешние единицы,
являющиеся членами функций, другие члены которых принадлежат
к другому плану; оба типа могут быть зарегистрированы
и расклассифицированы при каждой из наблюдаемых
операций. Ясно, что различные планы описания не
обязательно все содержат одинаковое число эффективных операций.
В том случае, если это необходимо, вся процедура
должна быть повторена. Это происходит опять-таки, если
предметом описания служит язык. В первой процедуре текст
делится, как мы видели, благодаря ряду последовательных
действий анализа и полученные результаты
классифицируются. Но первоначальная дедукция по необходимости
1 Tliurman W. Arnold, The folklore of capitalism, New Haven,
1937.
431
производится вслепую, потому что объект исследования
остается аморфным до тех пор, пока с помощью процедуры
его не сведут к определенной структуре; все, что мы можем
«знать» об этом объекте из других источников, должно
быть исключено, как бы ни трудно это было сделать.
Следовательно, порядок, в котором производятся действия
анализа, является в основном делом случая; после первого
анализа единица, появляющаяся в конце концов в виде
тройного сочетания abc, может предстать в виде а(bс) или
(ab)c; поскольку заранее мы не можем знать конечный
результат исследования, у нас нет способа для решения
того, какой порядок анализа является наилучшим или как
сделать технику анализа единообразной. Следовательно,
нельзя считать само собой разумеющимся, что конечные
результаты дачной операции сопоставимы с результатами
операции, которая имеет тот же номер в первой
процедуре, описывающей другой язык. Указанное неудобство
уменьшается благодаря введению твердых правил для
определения степени производности 1, но некоторая
неопределенность неизбежно остается. Вторая процедура состоит
в описании текста, уже описанного в первой процедуре;
поэтому дедукция больше не производится вслепую и
может быть дана окончательная классификация единиц в
терминах классов, к которым принадлежат конечные
результаты первого описания, или в терминах тех классов,
которые представлены среди компонентов конечных результатов
первого описания. После этого можно производить
сопоставления с уверенностью, что операции, имеющие
одинаковые номера в описаниях для разных языков,
действительно являются сопоставимыми.
Правила, которые мы здесь обсуждали, подытожены
в следующем принципе.
III. Принцип сводимости: описание принимает форму
процедуры. Каждая операция должна продолжаться или
повторяться до тех пор, пока описание не окажется исчер-
1 Степень производности (degree of derivation) — глоссематический
термин, определяющий максимальное число цепочек, через посредство
которых данный элемент может быть произведен от данной цепочки;
например, элемент а может быть образован от цепочки abc посредством
двух цепочек и поэтому имеет степень производности 2. Учение Уль-
далля о цепочках, производящих элементы, имеет общие черты с
трансформационной грамматикой Хомского.— Прим. перев.
432
пывающим; каждая операция должна вести к регистрации
возможно меньшего числа элементов, которые являются
конечными результатами исследования.
Из сказанного следует, что анализ служит не самоцелью,
а только средством уменьшения числа элементов. Задачей
операции является уменьшение числа элементов,
полученных в результате предшествующей операции, и, когда мы
доходим до операции, при которой дальнейшего
уменьшения числа элементов не происходит, процедура
заканчивается. И в случае, если нет надобности ее повторять,
описание оказывается исчерпывающим. Предположим,
например, что при определенной операции зарегистрирован класс,
состоящий из четырех элементов, скажем наклонений. При
следующей операции мы можем изобрести способ анализа
этих четырех элементов посредством их размещения в
двумерной системе того типа: который представлен нами в виде
схемы, где а=pr, b=qr и т.п.
Данный анализ не ведет к
уменьшению числа элементов,
поскольку число конечных
результатов исследования
(четыре) остается неизменным.
Анализ, таким образом,
производить не следует, за
исключением случая, при котором все новые результаты (p, q, r, s) или
хотя бы некоторые из них можно отождествить с
элементами, уже зарегистрированными, тогда как по отношению
к a, b, с, d это сделать вообще нельзя; в последнем случае
происходит реальное уменьшение инвентаря элементов.
Данное правило вводится для того, чтобы избежать
бесполезного труда и предупредить спор между исследователями
относительно момента прекращения исследования. Это
правило изложено в следующем принципе.
IV. Принцип экономии: процедура предназначается
для того, чтобы дать простейший возможный результат,
и должна быть прекращена, если нельзя достичь
дальнейшего упрощения описания.
В своем обсуждении научной истины мы до сих пор
оставляли без рассмотрения одну важную сторону —
правила проверки результатов. Теперь нам предстоит вкратце
a b
с d
28 Заказ № 116
433
обсудить их. Существуют хорошо разработанные
правила установления исторической истины: в химии,
например, вы можете проверить вашу гипотезу о том, что
вода = Н20, если возьмете две бутыли с водородом и одну с
кислородом и сделаете из них воду. В лингвистике можно
произвести нечто подобное: если ваше описание текста
правильно, вы должны быть в состоянии вывести из него любое
количество новых текстов, приемлемых для носителей
данного языка. В антропологии вы сможете вывести из вашего
описания новые последовательности актов поведения,
которые были бы приемлемы для туземцев. Для того чтобы
окончательно проверить результаты исследования, мы
должны обратиться к тому, что Салливан называет
«прагматическим критерием истины», — к успеху; теорию можно
считать подтвержденной в той мере, в какой законы и
предсказания, сделанные на ее основе, оказываются рабочими
принципами. В оценке эмпирического принципа, и только
с этой точки зрения, теория сама по себе не может быть ни
истинной, ни ложной. Критиковать можно только степень
целесообразности теории, ее способность давать законы и
предсказания и возможности контроля, получаемые с ее
помощью.
Поскольку не всегда и даже не часто оказывается
возможным исследовать весь объект — нельзя же
анализировать каждую каплю воды в мире! — ученые, как и
деловые люди, должны были сформулировать правило, согласно
которому допустимо действовать на основании
определенного выбора и считать само собой разумеющимся, что
неисследованная часть материала носит такой же
характер, как и избранная часть. Такое правило необходимо, и
вместе с тем оно опасно, так как может привести к
неприятным неожиданностям. По тем же причинам нам
необходимо такое же правило, но мы должны остерегаться
преувеличения сферы его действия. Существует еще одна
причина для принятия указанного правила: часто случается,
что для определенной части материала явно требуется
определенное описание, но можно сомневаться, нужно ли
употреблять это же описание или другое, в равной степени
годное для другой части. В таком случае необходимо
принять определенное решение, чтобы избежать участи
лошади, подохшей с голоду между двумя копнами сена. Из
эмпирического принципа вытекает следующее решение:
нужно использовать одно и то же описание, если оно вообще
434
является возможным, потому что одно описание проще, чем
два. При этом нельзя забывать или недооценивать
опасность обобщения. Правило сформулировано в следующем
принципе.
V. Принцип обобщения: если к одному объекту
безусловно может быть применено определенное описание и к
другому объекту безусловно может быть применено то же самое
описание, то тогда это описание обобщается для того,
чтобы его можно было применить к обоим объектам.
Выше говорилось уже о том, что в процедуре дедукция
предшествует индукции и действует как фактор проверки,
потому что только элементы, обнаруженные как результат
дедукции, могут быть синтезированы при индукции.
Позднее мы увидим, что в действительности оба процесса
производятся одновременно. Однако в целом правильней было
бы сказать, что при этой теории индукция предполагает
дедукцию и что теория сама по себе является дедуктивной,
развиваемой из общего понятия функции. В этом состоит
общая характеристика научных теорий в
противоположность законам, сформулированным в терминах этих теорий.
Смысл всего этого в конечном счете заключается в поисках
надежности, ибо выводы дедуктивного рассуждения
являются единственным вполне достоверным видом знания,
который вообще доступен. При дедуктивном построении
теории можно, во всяком случае, твердо знать, к чему эта
теория приведет. С другой стороны, научные законы
являются индуктивными и в удручающей степени
недостоверными. Но все наши практически используемые законы
носят такой характер потому, что дедукция, хотя и является
достоверной, не ведет к контролю непосредственно, а
только косвенно — посредством законов, которые она дает
возможность сформулировать. Ситуация, следовательно,
такова, что индуктивные законы, дающие нам контроль над
конкретным миром, сами контролируются дедуктивной
теорией, без которой никакие законы не могут быть созданы.
Поучительной и в то же время занятной может быть
следующая цитата из того же Ритчи, относящаяся к данному
вопросу: «Весьма привлекательна та мысль, что при начале
исследования мы не должны производить никаких
допущений относительно того, что мы должны открыть, и
разум наш должен быть открыт для любых выводов, а взор
направлен на факты. В этой мысли есть тонкий привкус
28*
435
теории Бэкона. Можно вспомнить о Дарвине,
исследовавшем факты на протяжении 15 лет (или еще большего
периода), прежде чем он сформулировал свою гипотезу.
Действительно, все это основано на здравой английской
традиции. Ни у кого не может быть большего уважения к
английской традиции, чем у меня, поэтому не нужно думать, что я
поклоняюсь какому-то континентальному идолу, если
скажу, что все это — вздор. Дарвин должен был иметь в
своем распоряжении какую-то гипотезу, иначе он не знал
бы, какие факты ему исследовать. Существовали миллионы
фактов, и он не мог уделить внимания всем. Иметь
открытый разум — это не то же самое, что иметь пустой ум.
Пустой ум подобен бездонному колодцу; никакое число
фактов никогда его не заполнит. Совершенно необходимо,
чтобы исследователь не позволял какой бы то ни было
гипотезе ссорить его с фактами. Если это условие
выполнено, то чем большим числом гипотез будет обладать
исследователь, тем будет лучше. Я думаю, что Дарвин,
рассказывая о своей работе, думал о маленькой шутке Ньютона,
сказавшего: «Я не сочиняю гипотез». Ритчи рассматривал
не тот уровень, о котором мы здесь говорим, но тем не
менее его замечания имеют прямое отношение к предмету
нашего обсуждения, ибо дедуктивная теория — это не что
иное, как очень общая и весьма изощренная гипотеза.
Точно так же, как обычная гипотеза избирает и ограничивает
подлежащие рассмотрению «факты», теория избирает и
ограничивает термины, в которых производятся конкретные
описания, и тем самым избирает и ограничивает законы,
которые могут быть выведены по индукции на основе
суммы конкретных описаний. Без таких указаний индукция
становится дикой и необузданной, если, разумеется, она
вообще будет возможной.
В настоящей книге изложена лишь теория,
составляющая основы нашей предполагаемой науки. Если эта
теория, или какой-либо иной ее эквивалент, будет признана
достаточно широко и на ее основе будет сделано большое
число конкретных описаний, то можно будет начать
работу по созданию второй, индуктивной части новой науки;
по выяснению и формулировке общих законов.
Андре Мартине
О КНИГЕ „ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ"
ЛУИ ЕЛЬМСЛЕВА *
В этой чрезвычайно насыщенной книге Луи Ельмслев
излагает принципы своей лингвистической теории, которую он
назвал глоссематикой. Мы отдаем должное глубине и
оригинальности его идей. Мы разделяем его стремление подчеркнуть
научный характер лингвистических исследований. Мы высоко ценим
многие его высказывания. Но мы должны задать вопрос —можно
ли согласиться с автором, когда он предлагает полностью
абстрагироваться от всякой субстанции — и звуковой и
семантической?
Когда мы, оглядываясь назад, обращаемся к
лингвистическим исследованиям, появившимся в период между
двумя войнами, и пытаемся понять, в чем заключается их
своеобразие по сравнению с исследованиями
предшествующих периодов, мы прежде всего обращаем внимание на
возросшее значение структуральной и функциональной точек
зрения. Это, разумеется, не. значит, что наша эпоха
является свидетельницей полного и безоговорочного
триумфа структурализма и функционализма. В лингвистике
применялись и по-прежнему продолжают применяться
старые традиционные методы, и во многих областях
сопротивление новым веяниям (в частности, пассивное) до сих пор
еще весьма значительно. Тем не менее структурализм и
функционализм продолжают завоевывать признание даже
в тех странах и тех областях, где им пришлось столкнуться
с предубеждениями или с известным застоем мысли. Есть
еще немало ученых, иногда даже хороших ученых,
которые представляют себе, будто можно путем одного лишь
наблюдения познать природу изучаемого объекта во всей
ее полноте и целостности. Они не замечают, что каждый
1 A. Martinet. Au sujet des Fondements de la theorie
linguistique de Louis Hjelmslev. «Bulletin de la Societe de linguistique de Paris»,
t. XLII, fasc. 1 et 2, № 124 и 125, 1946.
437
раз можно охватить лишь один аспект, который
видоизменяется в зависимости от нашего подхода к объекту. Они не
видят, что первым шагом любого научного исследования,
которое хочет оправдать свое название «научный», должно
быть точное определение той точки зрения, с которой
будут рассматриваться наблюдаемые явления. В данном
случае это значит, что до тех пор, пока явления речи и языка
изучаются без применения определенного метода или при
помощи случайного метода, неодинакового у разных
исследователей, нельзя говорить о лингвистике как о науке.
Лингвистика начинается тогда, когда с самого начала
определяется принцип абстракции sui generis и
устанавливается собственно лингвистическая точка зрения — тот
единственный подход, который позволит обеспечить, с
одной стороны, внутреннее единство науки о языке, а с
другой — ее особую автономию среди других наук,
изучающих человека.
Мы не будем подробно доказывать здесь, что
функционализм и структурализм не только не противоречат друг
другу, но, напротив, предполагают друг друга. Скажем
только, что рассмотрение языка как структуры, или,
точнее, как совокупности структур, является прямым
следствием классификации языковых фактов, осуществленной
на основе их функций.
В фонологии была сделана первая сколько-нибудь
серьезная попытка выделить, исходя из автономного принципа
лингвистической функции, обширную категорию
звуковых явлений или плана выражения. Различные
психологистические уклоны, которые могли в известной мере сбить
фонологию с правильного пути, были не чем иным, как
преходящим кризисом роста, и не помешали уже в 1931 г.
дать строго функциональное определение фонемы 1.
Именно из этого определения фонемы родились в результате
его широкого применения или как реакция на него все
различные тенденции структурализма, существующие в наши
дни. Глоссематика, подлинным создателем которой
является Луи Ельмслев, может в настоящее время
рассматриваться Как совершенно оригинальная дисциплина, независимая
от всего, что было сделано до нее, за исключением работ де
Соссюра. Но тем не менее глоссематика вначале
представляла собой определенную позицию нескольких датских лин-
1 См. «Travaux du Cercle Linguistique de Prague», вып. 4, 1931.
438
гвистов в отношении фонологии. Это явственно следует из
доклада, помещенного в «Bulletin de la Societe de
linguistique de Copenhague», II, 1934, p. 13 et suiv. Когда в
1935 г. в Лондоне Л. Ельмслев и Ульдалль
изложили перед учеными всего мира результаты своих
исследований в области языкового выражения, они, стремясь
возможно полнее подчеркнуть оригинальный характер своей
теории, старательно обходили молчанием вопрос о том,
что связывает или, наоборот, что отличает их от
ортодоксальной фонологии. Но участники конгресса отнюдь не
были обмануты. Впрочем, термин «фонематика»,
использованный тогда двумя датскими лингвистами для
обозначения выдвигаемой ими теории, не оставлял никакого
сомнения относительно того, кто были их предшественники.
Год спустя фонематика отжила свой век, ил и,точнее,
влилась под названием сенематики в более широкую
дисциплину — глоссематику. Сенематике— изучению единиц
выражения, или сенем (от гр. ?=??? «пустой»),— противостоит
плерематика — изучение единиц содержания — плерем (от
гр. ?????? «полный»).Таким образом, оказались
устраненными все термины, напоминавшие о роли, которую сыграла
фонология при зарождении новой доктрины. И действительно,
запрет, наложенный на термины «фонема» и
«фонематический», был вполне обоснован, поскольку, как мы увидим
далее, Ельмслев и его ученики стремятся изучать факты
выражения вне всякой связи с их звуковой субстанцией,
так же как они рассматривают единицы содержания,
полностью абстрагируясь от субстанции, с которой последние
соотносятся, иными словами, от их значений.
Начиная с лета 1936 г. нам обещали скорое появление
полного и окончательного изложения глоссематической
доктрины. Однако целый ряд обстоятельств, в том числе и
желание лучше обосновать теоретические основы глоссе-
матики, помешал появлению этой работы. В течение
долгого времени нам приходилось довольствоваться
сравнительно краткими сообщениями и статьями, посвященными
в большинстве случаев частным проблемам глоссематики х.
1 Ср., в частности, слэдующиз работы Луи Ельмслева: «On the
Principles of phonematics» (Proceedings of the Second international
congress of phonetic sciences, 1935, p. 51—54); «Accent, intonation,
quantite» («Studi Baltici», VI, 1937, p. 1—57); «La syllabation en slave»
(«Belicav Zbornik», 1937, p. 315—324); «Neue Wege der Experimental-
phonetik» («Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme», II, 1938, p. 154—
439
Появившаяся в 1943 г. небольшая книга Луи Ельмслева,
озаглавленная «Omkring sprogteoriens grundlaeggelse» 1,—
первое сколько-нибудь развернутое изложение, если не
результатов практики глоссематических исследований, то
по крайней мере общих принципов, на которые они
опираются. Можно пожалеть только, что книга написана по-
датски, поскольку это мешает ей получить такое широкое
распространение, которого она по праву заслуживает. Мы
постараемся сначала кратко суммировать основные
положения работы Ельмслева, а затем уже перейдем к ее оценке.
* * *
Название книги Ельмслева, весьма претенциозное, уже
само представляет собой целую программу: речь идет об
основах не одной из лингвистических теорий, а об основах
лингвистической теории вообще. Тем, кто полагает, что
лингвистика уже давно выделилась в самостоятельную науку,
Ельмслев сразу же отвечает, что это только иллюзия. Язык
для человека, естественно, является лишь средством, а не
целью. Этим и объясняется то, что наука о языке была в
течение долгого времени лишь вспомогательной
дисциплиной. Лингвистика смогла занять свое место среди других
наук, когда она порвала путы вассальной зависимости,
связывавшие ее с филологией. Но, говорит нам Ельмслев,
в своей генетической и сравнительной форме лингвистика
снова оказалась порабощенной, на этот раз наукой о
предыстории. И даже когда лингвисту кажется, что он
сосредоточил свое внимание на языке как таковом, ему, как
правило, удается охватить лишь периферийные аспекты язы-
194); «Uber die Beziehungen der Phonetik zur Sprachwissenschaft» («Archiv
fur vergleichende Phonetik», II, 1938, S. 129—134); «The syllable as a
structural unit» (Proceedings of the Third international congress of
phonetic sciences, 1938, p. 266—272); «Forme et substance linguistique»
(«Bulletin du Cercle linguistique de Copenhague», IV, 1937—1938, pp. 3
и 4); «Essai d'une theorie des morphemes» (Actes du quatrieme congres
international de linguistes, 1938, pp. 14C—151); «Notes sur les
oppositions supprimables» (TCLP, VIII, 1939, p. 51—57). Ср. также
следующие две статьи Д. Г. Ульдалля: «The Phonematics of Danish»
(Proceedings of the Second I. C.r. 1935, p. 54—57) и «On the structural
interpretation of diphthongs» (Proceedings of the Third I. C, 1938, pp. 272—
276).
1 Copenhague, Ejnar Munksgaard, in 8°, p. 1—116.
440
ка — физиологический, психологический, логический или
социологический и, таким образом, от него ускользает
подлинный объект его исследования. Подлинную лингвистику,
а именно ее намеревается основать Ельмслев, интересует
в языке только то, что принадлежит собственно языку,
т. е. его своеобразная структура. Значение и ценность
вклада, которые вносит лингвистика в сокровищницу
человеческих знаний, от этого не только не уменьшатся, но
скорее, напротив, значительно возрастут.
Недоверие, с которым относятся в целом к
лингвистической теории, по-видимому, оправдано, если учесть тот
субъективный и априористический характер, который был
присущ подобным построениям до последнего времени.
Необходимо поставить новую лингвистическую теорию на
объективную и научную основу, ибо только в этом случае
она может внушить к себе доверие.
Первым и основным условием развития наук,
изучающих человека, является проверка гипотезы о том, что
всякой цепи соответствует система, через посредство которой
цепь можно подвергнуть анализу и свести к определенному
числу сочетающихся элементов. В лингвистике признание
существования фонетической, морфологической и
семантической систем, к которым можно свести элементы речевого
потока, отнюдь не ново; задача сейчас заключается в том,
чтобы сделать из этого утверждения все необходимые
выводы. Только при таком условии можно надеяться, что в
конце концов будет создана подлинная наука о языке.
В основу своей теории Ельмслев кладет три
методологических требования, которые он объединяет под общим
названием эмпирического принципа. Эти требования (по
порядку) следующие: непротиворечивость,
исчерпывающий характер и максимальная простота. Первое из этих
требований обусловливает второе, а второе — третье.
Было бы ошибкой полагать, что использование
термина «эмпиризм» повлечет за собой обращение к индуктивным
методам, то есть к методам, предполагающим постепенный
переход от частного к общему. Эти методы, при помощи
которых исследователь идет от изолированного звука к
фонеме, от частного факта к категории, уже давно и широко
применяются в языкознании. Основной недостаток их
заключается в том, что они приводят к выделению таких
понятий, как «родительный падеж», «сослагательное
наклонение», «страдательный залог», которым мы не можем, по
441
крайней мере в настоящее время, дать никакого общего
определения, потому что в разных языках им соответствуют
совершенно разные явления. Синтезу, с которым связано
применение индуктивных приемов, Ельмслев
противопоставляет анализ истинных данных опыта, то есть
(применительно к лингвистике) анализ текста в его целостности и
полноте. Этот анализ позволяет выделять в тексте все менее и
менее общие единицы, пока мы не подойдем наконец к
элементам, далее неразложимым. Для обозначения подобного
процесса анализа Ельмслев, не колеблясь, предлагает
название «дедукция», придав ему значение, существенно
отличающееся от общепринятого значения этого слова.
Термин «теория» не понимается Ельмслевом как
система гипотез, от которых следует отказаться в случае,
если окажется, что они не соответствуют данным опыта.
В концепции Ельмслева теория — нечто совершенно иное.
Сама по себе и с начала ее установления теория совершенно
независима от какого бы то ни было опыта; она не допускает
никакого постулата действительности и образует некую
замкнутую систему, которая при помощи чисто дедуктивной
операции позволяет исчислить возможности, исходя из
заранее заданных предпосылок. Впрочем, эти предпосылки
устанавливаются теоретиком на основе его собственного
предшествующего опыта, так что они отвечают условиям,
позволяющим применить теорию к некоторым фактам.
Теория, однако, произвольна в том смысле, что данные
опыта не могут ни подтвердить ее, ни опровергнуть. Из
имеющихся фактов берутся только те, к которым прило-
жима данная теория. С другой стороны, теория
приспособляется к своему объекту в том смысле, что выбор исходных
положений определяется в результате предварительного
анализа возможно большего числа фактов, что якобы и
обусловливает наиболее широкое применение теории.
Лингвистическая теория подразумевает анализ текстов
(если мы того хотим, в форме речевого потока). Она должна
выработать метод, позволяющий дать непротиворечивое и
исчерпывающее описание любого текста, понадобившегося
лингвисту. В свою очередь этот метод должен помочь вскрыть
систему, стоящую за последовательностью, которой
является изучаемый текст или любой другой текст из тех, какие
уже созданы или будут созданы на данном языке.
Для того чтобы лингвистическая теория была
универсальной, теоретик должен предвидеть и учесть при ее соз-
442
дании все мыслимые лингвистические возможности, в том
числе и такие, какие ему никогда не встречались или
никогда не были описаны. Таким образом, он определяет
черты, регулярно встречающиеся в явлении, которое
условились называть языком. На основе этих черт он
выводит определение языка и ограничивает тем самым область
своего исследования. Исходя из этого определения и с
помощью строго дедуктивного метода, он устанавливает
приемы анализа, которые дадут в его распоряжение материалы,
необходимые для описания имеющихся в его распоряжении
текстов и соответствующих языковых систем. Анализ
текстов и языковых систем не может ни подтвердить, ни
опровергнуть теорию. Она имеет силу во всех случаях, однако
при условии, если анализ остается непротиворечивым и
исчерпывающим.
Если в ходе анализа обнаружится, что существует
несколько различных приемов, ведущих к
непротиворечивому и исчерпывающему описанию текста или данной
системы, предпочтение следует оказать тому способу, который
дает (при прочих равных условиях) наиболее простое
описание. Если различные способы ведут к равно простым
результатам, следует выбрать способ, сам по себе наименее
сложный.
Из всех лингвистических теорий, которые можно
создать, исходя из этих принципов, лучшей явится та, которая
ближе всего подойдет к идеалу, сформулированному в виде
так называемого принципа эмпиризма.
Лингвистическая теория должна быть возможно менее
метафизичной, т. е. она должка содержать минимальное
количество исходных посылок. Всем понятиям, которыми
она пользуется, нужно дать определение, а эти
определения должны, насколько это возможно, включать только
понятия, уже получившие определение. Нужно избегать
«реальных» определений, которые пытаются исчерпать
сущность объекта, и стремиться к определениям «формальным»,
ставящим пелью определение какого-либо понятия
относительно других, уже получивших определение. Целью
данного метода является поэтому замена постулатов либо
определениями, либо теоремами, сформулированными
в виде условий (если..., то тогда...).
Поскольку анализ текста является основной целью
лингвистической теории, первая забота теоретика
заключается в том, чтобы найти принцип анализа. Изучение воз-
443
никающих при этом проблем сразу же показывает, что дело
здесь вовсе не сводится к членению объекта (в данном
случае — текста) на все меньшие части и т. д., но скорее
требуется установить отношения и взаимозависимости,
существующие между частями целого. Напрашивается вывод о
том, что представление о самостоятельном существовании
объектов (выступающих не только в качестве членов
отношений) — метафизическая гипотеза. В интересах
науки — отказаться от этой гипотезы как можно скорее и
рассматривать как точки пересечения пучков
взаимозависимостей и отношений то, что наивный реализм называет
объектами.
Теоретик определяет, таким образом, с самого начала
различные типы отношений — как отношения,
существующие в тексте, так и отношения в системе. Они бывают трех
типов: 1) двусторонние зависимости, или
взаимозависимости; 2) односторонние зависимости, в которых один член
предопределяет другой, но не наоборот — детерминации;
3) зависимости более свободные, члены которых не
исключают, не отталкивают и не предопределяют друг друга;
эти последние называются констелляциями. Приводим
примеры таких отношений в цепи (синтагматические
отношения): у имени существительного в латинском языке
отмечается взаимозависимость между морфемой падежа и
морфемой числа, поскольку в латинском существительном ни
одна из этих морфем не может существовать без другой;
детерминация наличествует между sine и аблативом,
потому что sine предполагает обязательное наличие в тексте
аблатива, в то время как аблатив не связан обязательно с
sine; возьмем в латинском языке какой-либо падеж,
например аккузатив, и какое-либо число, например
множественное; соотношение между ними соответствует констелляции,
поскольку они могут комбинироваться по-разному, не
предопределяя друг друга: аккузатив не обязательно
сочетается с множественным числом, а множественное число —
с аккузативом.
Мы не можем здесь полностью привести весь тот
обширный терминологический аппарат, который Ельмслев
намеревается использовать для осуществления своего анализа.
Каждый элемент получает у него формальное определение.
Мы находим в его теории несколько рядов терминов. Одни
из них применяются к отношениям и последовательным
подразделениям в тексте, другие — к отношениям и подразде-
444
лениям в системе, третьи — и к тексту и к системе.
Насыщенность изложения в книге Ельмслева настолько велика, что
для того, чтобы следовать за автором, нам пришлось бы
дать полный перевод его книги, сопроводив его в ряде
случаев комментариями, но от этого мы вынуждены были
отказаться. Оказалось невозможным дать всем терминам
Ельмслева точнее формальное определение, потому что
французские слова, которые мы использовали бы при этом,
не имеют специальных определений и не были бы поэтому
понятны большинству наших читателей. Так, например,
слово «функция» используется у Ельмслева в значении,
напоминающем значение, которое оно имеет в математике, но
не вполне совпадает с ним: функция — это отношение
между двумя членами, причем взаимозависимость — это
функция между двумя постоянными величинами, детерминация—
функция между постоянной и переменной величинами, а
констелляция — функция между двумя переменными
величинами. Члены функции называются функтивами.
Важным различием является различие,
устанавливаемое между функцией, называемой и— и, т. е. соединением,
допускающим сосуществование обоих функтивов, и
функцией или— или, т.е. разъединением, предполагающим
чередование обоих функтивов. Соединение характерно для
текста, в котором различные элементы сосуществуют.
Разъединение — принадлежность системы, где
действительно в каждом случае происходит выбор между тем или иным
элементом. За этими двумя типами функции автор
закрепляет в итоге термины реляция и корреляция.
Анализ текста, как мы видели выше, ведется
последовательными этапами: в тексте выделяются все менее и менее
общие единицы; текст, например, делится на периоды,
каждый период— на предложения, каждое предложение —
на слова, каждое слово — на слоги, каждый слог — на
части слога (фонемы). После каждого этапа анализа
следует составить инвентарь элементов, которые находятся в
аналогичных отношениях, иными словами — могут
занимать одно и то же место в цепи. Между элементами
существует функция особого типа. Можно заметить, что
количество инвентаризуемых элементов с каждым новым
этапом анализа уменьшается. Число периодов в каком-либо
живом языке, рассматриваемом как текст, безгранично;
то же можно сказать и о предложениях, затем о
словах; но при переходе от слова к слогу число инвентаризуе-
445
мых элементов уже более не бесконечно, а на следующей
ступени (ступени фонем) устанавливается очень небольшое,
обычно двузначное, число элементов.
Если мы обратимся теперь к понятию знака, каким его
представляют себе, когда говорят о языке как о системе
знаков, мы заметим, что существует ступень дедукции, на
которой мы переходим от элементов, являющихся знаками,
к элементам-незнакам.
В процессе анализа текста мы обнаруживаем, таким
образом, два рубежа: первый отделяет инвентари,
включающие неограниченное число элементов, от инвентарей,
включающих ограниченнее число элементов; второй отделяет
знаки от незнаков. Индуктивно можно заметить, что, как
только мы минуем границу между знаками и незнаками,
все перечни элементов оказываются конечными. Это легко
объяснить, если вспомнить основную задачу, стоящую
перед языком, в котором всегда можно образовать новые
знаки, новые слова и новые корни. Но, с другой стороны,
необходимо, чтобы язык было легко усвоить и применять, что
и влечет за собой образование знаков с помощью
ограниченного числа элементов, которые сами знаками не являются.
То, что знаки образуются с помощью ограниченного числа
незнаков,— Ельмслев называет их фигурами —
представляется ему одной из основных черт языковой структуры.
Следовательно, языки нельзя характеризовать как
простые системы знаков. Если учитывать только цель, которую
преследует язык, он действительно представляет собой в
первую очередь систему знаков, но, если исходить из его
внутренней структуры, он представляет собой, в сущности,
систему элементов, используемых для образования знаков.
Нужно ли рассматривать знак как знак чего-либо или,
напротив, вслед за де Соссюром считать, что знак — это
единство, образованное означающим и означаемым, или,
используя терминологию Ельмслева, выражением и
содержанием? Ельмслев подходит к рассмотрению этого вопроса,
отталкиваясь от значащей функции (отношение между
означающим и означаемым), существование которой он
устанавливает. Функтивы (члены отношения) этой функции —
выражение и содержание. Этим двум словам не следует
придавать какое бы то ни было «реальное» значение; они
представляют собой произвольные обозначения. Значащая
функция — это солидарность, — так Ельмслев обозначает
взаимозависимость в синтагматическом плане; выражение и
446
содержание находятся в отношении солидарности; одно не
существует без другого.
Для пояснения понятия «значащая функция» Ельмслев
приводит ряд иллюстраций. Возьмем, например, такие цепи:
нем. Ich weiss es nicht,
англ. I do not know,
франц. Je ne sais pas.
Всем им присуще нечто общее, а именно смысл1. В каждом
из приведенных языков этот смысл следует анализировать
по-разному, в силу того, что в каждом из них смысл
расчленяется и сфсрмляется по-особому. Мы не имеем сейчас в
виду своеобразия звучания каждой цепи, но в каком-то
смысле особенности грамматических расстановок. Можно
заметить, что каждый язык намечает свои собственные
членения бесформенного потока мыслей, подразделяя его по-
своему на отдельные составные части, своеобразно
располагая их и выделяя. Смысл напоминает жидкость, которая
принимает форму сосуда, ее содержащего, и которая имеет
существование лишь как субстанция этой формы. Таким
образом, у языкового содержания обнаруживается
определенная форма — форма содержания, которая не зависит от
смысла и находится с ним в произвольных отношениях.
Смысл, упорядоченный этой формой, превращается в
субстанцию содержания.
То, с чем мы встречаемся в тексте, вновь
обнаруживается в системе. Если рассмотреть систему выражения цвета в
различных языках, можно обнаружить, что субстанция,
представляющая собой некую бесформенную
непрерывность, в данном случае спектр, произвольно делится
каждым языком на определенное число отдельных областей —
синий, зеленый, желтый и т. д., которые в различных
языках далеко не совпадают. Так, в уэльсском языке зона glas
соответствует зоне нашего синего цвета, но вторгается и в
зону зеленого цвета, а также и в зону серого. То же можно
наблюдать, если обратиться, например, к различным
системам выражения времени или числа.
Все сказанное о содержании относится и к другому
члену данной функции — выражению. Существуют
субстанция выражения и форма выражения. Примером субстанции
1 Л. Ельмслев e место термина «смысл» употребляет термин
«материал».— Прим. ред.
АА7
может служить бесформенная непрерывность, которую
представляет собой разрез рта по средней линии. Эта
субстанция принимает в различных языках различные формы: в
одних языках здесь различаются, если ограничиться только
взрывными, три области: область k, область t и область р;
в других языках, как, например, в эскимосском,
представлены две различные области k; во многих языках Индии
обнаруживаются две отдельные области t и т. д. То же
самое можно сказать и о цепи, где одна и та же субстанция по-
разному упорядочивается различными языками 1.
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что оба
члена значащей функции — содержание и выражение —
ведут себя по отношению к этой функции одинаково. В обоих
случаях форма проецируется на субстанцию, подобно тени
от сети, падающей на какую-либо непрерывную
поверхность. В целом знак как таковой является знаком какой-
либо субстанции содержания и знаком какой-либо
субстанции выражения. Слово «знак» обозначает,
следовательно, единство, являющееся результатом значащей функции и
включающее форму содержания и форму выражения.
Как в тексте, так и в системе мы выделяем, таким
образом, с самого начала анализа план выражения и план
содержания. Ельмслев настаивает на том, что между этими
двумя планами существует полный параллелизм:
категории обоих планов определяются совершенно одинаково, и,
следовательно, с точки зрения науки они идентичны.
На различных этапах анализа в различных частях
текста нам неоднократно встречается одна и та же единица,
например одно и то же слово или один и тот же слог. Можно
сказать, что каждое слово или каждый слог встречаются в
нескольких образцах. Каждый из этих образцов
называется вариантом, а сущности, представителями
которой они являются,— инвариантами. Противопоставление
вариантов и инвариантов было установлено в плане
выражения пражскими фонологами, а также Дэниэлем Джоун-
зом и его учениками. Инварианты получили название
«фонем». Своим предшественникам Ельмслев ставит в упрек их
1 Примеры, которые приводит здесь Ельмслев, как нам
представляется, плохо иллюстрируют то, что он хочет сказать. Мы предлагаем
в качестве примера цепи tse, которая, будучи по существу
тождественной в русском и финском языках, принимает в этих двух
языках различную форму: в русском языке она членится на две
единицы, а в финском — на три.
448
индуктивные методы и их известную непоследовательность.
Но у пражцев есть преимущество перед Джоунзом в том,
что они основывали свою теорию на противопоставлениях
по различительным признакам. Когда какому-либо
различию в плане выражения соответствует какое-либо различие
в плане содержания,— перед нами различие инвариантов
(фонологи говорят — различие существенное —pertinente).
Это вытекает из параллелизма двух планов. Но, поскольку
между двумя планами существует взаимозависимость, а не
детерминация одного члена функции другим, есть все
основания, учитывая параллелизм планов, выделять варианты и
инварианты также и в плане содержания, а не только
выражения. Более того, следует считать, что методы,
применяемые для анализа наиболее простых и герасчленимых*
неделимых далее единиц выражения (фонем),
действительны также и для всех других единиц выражения. Нужно
научиться выделять в плане содержания, так же как это
делалось в плане выражения, единицы, меньшие, чем знак,
единицы, которые Ельмслев называет фигурами. Если на
каком-то этапе анализа можно зарегистрировать, например,
единицы jument «кобыла», etalon «жеребец», truie «свинья,
(самка)», verrat «боров», cheval «лошадь», porc «свинья»
femelle «самка», male «самец» и т. д., то единицы jument,
etalon, truie, verrat следует исключить из списка
элементов, потому что они соответственно тождественны: cheval
femelle «лошадь-самка» (= «кобыла»), cheval male «лошадь-
самец» (=«конь») и т. п. Метод, лежащий в основе этой
операции, идентичен тому, который позволяет в плане
выражения (в фонологии) выделить две единицы в значащей группе
pa (=pas «шаг») путем сопоставления с другими
существующими значащими группами po (= peau «кожа») и fa (- fa
«фа»). Заменим p словом cheval, а— словом femelle,
о—словом male и / — словом porc и будем понимать сочетание pa
как «cheval femelle». Поскольку существует «cheval male»
(po), а также «porc femelle» (fa), то «cheval femelle» (то есть
«jument») следует понимать как состоящее из двух
отдельных единиц. Продолжая анализ в указанном направлении,
можно и в плане содержания, точно так же как и в плане
выражения, обнаружить ограниченный перечень элементов.
Для того чтобы охарактеризовать тот или иной язык
по сравнению с другими языками, следует указать, какие
категории определяются посредством отношений и каково
число инвариантов, входящих в каждую из этих категорий.
29 Заказ № 116
449
Операция, позволяющая установить инварианты,
называется коммутацией. Именно при помощи коммутации
можно избежать широко распространенной ошибки,
которая заключается в том, что при описании одного языка
исходят из категорий, установленных для другого языка.
При изучении выражения или содержания следует
постоянно помнить о непрерывном взаимодействии этих двух
планов — иначе нельзя правильно понять структуру языка.
О сходстве и различии языков следует судить, исходя из
формы, а не из субстанции, принявшей эту форму. До того
как она «оформилась», субстанция, смысл, будучи сама по
себе аморфной массой, не поддается никакому анализу и
вообще непознаваема. С точки зрения науки она не имеет
существования. Описание языков не может, следовательно,
быть описанием субстанции. Субстанция может стать
объектом изучения только после того, как будет осуществлено
описание языковой формы. Попытки установить некие
универсальные системы звуков или понятий не имеют никакой
научной ценности. Итак, лингвистическое изучение
плана выражения не есть фонетика, или наука о звуках,
а изучение плана содержания не есть семантика, или наука
о значениях. Лингвистическая наука напоминает алгебру,
оперирующую произвольно обозначенными величинами.
Эта алгебра должна называться не «лингвистикой», ибо
данный термин скомпрометировал себя, а «глоссематикой».
Затем Ельмслев снова возвращается к вопросу о
вариантах, которые он подразделяет, как это делают в фонологии,
на варианты свободные (индивидуальные) и
варианты обусловленные (комбинаторные),
обозначая их соответственно терминами вариаты и
вариации. Подобное разграничение вариантов следует перенести
из плана выражения в план содержания. Анализ
инвариантов в их вариациях предшествует выделению вариатов.
Варианты — это разновидности, поддающиеся
статистическому, так называемому фонометрическому, изучению.
Под названием «синкретизма» автор исследует то, что в
плане выражения фонологи называют нейтрализацией.
Явление синкретизма Ельмслев обнаруживает, разумеется,
как в плане выражения, так и в плане содержания.
Примером синкретизма служат окончание слова в датском
языке, которое может произноситься двояко — и как p и
как b (ср. Top), — или совпадение форм номинатива и
аккузатива в словах среднего рода в латинском языке.
450
Прежде чем приступить к анализу текста, подлежащего
исследованию, лингвист должен осуществить одну
предварительную операцию. Анализ состоит, как нам уже
известно, в регистрации функций. Для того чтобы определить
ту или иную функцию, нужно установить ее члены —функ-
тивы. Может, однако, статься, что по той или иной причине
в тексте не представлен один из двух членов функций.
В этом случае, прежде чем продолжить анализ, необходимо
ввести недостающий член. Это дополнение текста носит
название катализа. Так, например, восклицания si
seulement! «если бы только!» или parce que! «потому что!»
могут стать объектом глоссематического анализа только
после того, как их подвергнут катализу, то есть после того,
как они будут дополнены. Следует, однако, соблюдать все
предосторожности и вводить в текст только то, что
действительно необходимо, а именно — недостающий функтив.
Так, например, в латинский текст, где в силу той или иной
случайности sine не сопровождается аблативом, нельзя
для отражения отсутствующего аблатива ввести
посредством катализа какое-то определенное имя существительное
определенного числа или рода, хотя морфема аблатива и
предполагает данное существительное, данное число и
данный род.
Поскольку тексты, лежащие в основе глоссематических
исследований, бывают значительных размеров — в
принципе они могут охватывать все явления, зафиксированные
в изучаемом языке,— лингвист не может, как он это делал
до сих пор, молчаливо исходить из того, что анализ был уже
ранее доведен до стадии фразы. И действительно,
лингвистика в лице глоссематики чудесным образом расширяет
свою сферу, поглощая как литературу, так и другие
области познания в той мере, в какой они находят выражение
в языке. С другой стороны, глоссематика позволяет вести
анализ гораздо дальше, чем это делалось до нее, причем не
только в плане содержания («jument» = «cheval femelle»), но
также и в плане выражения, где нам обещают разложить
фонему. Наконец, глоссематика упраздняет синтаксис,
который, по существу, растворяется в изучении вариатов
(обусловленных вариантов) и в учении о частях речи.
До сих пор Ельмслев намеренно ограничивался
исследованием звукового языка (слово «текст», которое он так
часто употребляет, не должно вводить читателя в
заблуждение на этот счет). Но если, как мы видели, рассматривае-
29*
451
мая теория прилагается к языку, определяемому с точки
зрения формы, а не субстанции, то следует предположить,
что она будет иметь силу для любой формы независимо от
субстанции, принявшей эту форму. Поскольку же
субстанция не имеет существенного значения, язык, в глазах
лингвиста, равно важен как в своей письменной форме, так и в
устной. Так как глоссематическая единица p во
французском языке определяется не своими материальными
особенностями (взрывным характером, билабиальностью,
отсутствием голоса), а функциями (в которые она вступает),
безразлично, будет ли она проявляться как буква p или как
звук р. Единицы языковой формы по своей природе алгеб-
раичны, их можно обозначать совершенно по-разному и
вполне произвольно.
Далее следует определение понятия «язык»,
определение, имеющее смысл, по-видимому, только в том случае,
если заранее известны определения всех терминов,
используемых здесь Ельмслевом. А как уже было сказано выше,
мы отказались от мысли воспроизвести в нашей статье все
эти определения. Поэтому, если мы и приводим перевод
указанного определения языка, то главным образом для
того, чтобы показать, как в нем устраняются
«реалистические» определения, а также для того, чтобы подготовить
читателя к тому широкому толкованию, которое Ельмслев
дает языку несколько дальше. Язык, пишет он,— это
иерархия, каждая часть которой допускает дальнейшее
членение на классы, определяемые посредством взаимных
отношений так, что каждый из классов поддается членению
на производные, определяемые посредством взаимной
мутации. Всякая структура, удовлетворяющая этому
определению, есть язык. Язык, каким мы его обычно понимаем в
нашей практике,— лишь частный случай. От других
«языков» его отличает то, что на нем можно все сказать. На
язык этого типа можно перевести не только любой другой
язык такого же типа, но и любую другую «лингвистическую»
структуру. Ельмслев задает вопрос, не является ли игра
(например, игра в шахматы) языком. И отвечает на этот
вопрос отрицательно, потому что, если мы попытаемся в игре
в шахматы обнаружить два плана (план содержания и план
выражения), то заметим, что между ними существует не
параллелизм, но полное совпадение — той или иной единице
содержания регулярно соответствует определенная единица
выражения (ср. шахматную фигуру). Следовательно, раз-
452
личение двух планов представляется здесь излишним
усложнением, в то время как для структур, определяемых как
языки, это — настоятельная необходимость.
До сих пор молчаливо предполагалось, что
анализируемый текст совершенно однороден. В действительности же,
как только берется текст, достаточно значительный по
величине — а иным не может быть текст, включающий все,
что написано или сказано, например по-французски, —
мы сразу же обнаруживаем, что этой однородности не
существует: отдельные части текста представляют собой прозу,
другие —стихи, одни —возвышенный язык, другие —
вульгарный, одни — письменный, другие — устный, третьи —
код и т. д. Различие между этими частями является
следствием различий, существующих как в содержании, так и в
выражении. Единство содержание + выражение
проявляется, таким образом, как выражение (в ельмслевском
смысле) различных типов стилей, которые сами по себе есть
также содержание. Структура, являющаяся результатом
сопоставления этого нового выражения и этого нового
содержания, образует то, что Ельмслев называет языком
созначений в отличие от обычной языковой структуры —
языка обозначений 1. Язык созначений, следовательно,—
это язык, план выражения которого сам по себе уже есть
язык. Существуют, с другой стороны, и такие
лингвистические структуры, у которых языком является план
содержания. Подобные структуры называются метаязыками. Это
языки, на которых говорят о языках (разумеется, в широком
смысле). Один из таких метаязыков — лингвистика.
Языком, образующим содержание, может выступать как
научный язык, то есть описание, осуществленное на основе
принципа эмпиризма, так и язык ненаучный. Семиология —
метаязык, содержанием которого является язык ненаучный.
Язык, содержанием которого является семиология,
называется метасемиологией. На практике метасемиология
смешивается с тем, что можно было бы назвать описанием
субстанции. Совершенно очевидно, что язык созначений может
стать содержанием того или иного метаязыка. Вследствие
такого широкого понимания лингвистики все то, что было
с самого начала исключено из нее как неязык, вливается в
конце концов в лингвистические структуры более высокого
1 Л. Ельмслев в этих случаях употребляет термины «коннотатив-
ная семиотика» и «денотативная семиотика».— Прим. ред.
453
порядка. Так лингвистическая теория подводит нас к
ключевой позиции, охватывающей все области науки.
Сосредоточив внимание на языке как таковом, а не на побочных
явлениях, мы приходим к пониманию не только
лингвистической системы в целом и в частностях, но также к
пониманию человека, общества, всей совокупности наук.
* * *
Можно опасаться, что данное нами сжатое изложение
теории Ельмслева не удовлетворит ни автора теории, ни
читателей. Автор, без сомнения, сочтет предательством его
идей тот факт, что мы пренебрегли стройной системой,
состоящей из ста пяти формальных определений, и
ограничились тем немногим, что вытекало из применения обычной
терминологии. С другой стороны, автор, вероятно,
останется недоволен нашей трактовкой отдельных частей его
теории, которые не были должным образом подчеркнуты.
Наконец, не исключена возможность, что мы неверно
поняли и вследствие этого неверно интерпретировали
некоторые его мысли. Что касается читателей, то они, несомненно,
обнаружат, что наше изложение остается весьма
абстрактным и что, желая сказать о многом на немногих
страницах, мы не осветили все затронутые вопросы с достаточной
ясностью. Некоторые выскажут пожелание, к которому
полностью присоединимся и мы, чтобы автор
продемонстрировал свой анализ на каком-либо конкретном тексте.
Следует, однако, вооружиться терпением. Не надо
забывать, что Ельмслев предложил пока нашему вниманию
только введение в глоссематику — общие принципы, лежащие
в основе предлагаемого им анализа, анализа, за которым
должен следовать синтез, осуществляемый отныне с
помощью подвергнутых проверке материалов. А поскольку
Ельмслев не дает нам исчерпывающего изложения самой
теории, слишком рано высказывать какие-либо
определенные суждения. В настоящее время мы можем лишь
попытаться критически рассмотреть основные принципы,
предложенные нашему вниманию.
Критика, которой Ельмслев подвергает лингвистику,
такую, какой она была до сих пор, несомненно, покажется
большинству несправедливой или по крайней мере слишком
преувеличенной. Вполне вероятно, что, исследуя природу
языковых изменений, целые поколения лингвистов делали
454
это несовершенно, небезукоризненно; они, конечно,
ошибались, полагая, что подходят таким образом к
единственной подлинно лингвистической проблеме. Но то, что они
изучали, имело прямое отношение к лингвистической
реальности, а не к области предыстории, физиологии или
социологии, даже если они и использовали эти дисциплины
для своих целей. Структуральная лингвистика последних
десятилетий, возможно, допускала ошибки в методе, но
ее конечной целью всегда было познание языка как
такового. Мы полностью согласны с Ельмслевом в том, что
лингвистика еще не встала окончательно на научную почву.
Совершенно очевидно, например, что обычно
употребляемая лингвистическая терминология вряд ли может
считаться вполне научной, и мы столкнулись бы с большими
трудностями, пытаясь дать точное определение столь
часто встречающимся словам, как «слово», «морфема» или
«родительный падеж». Не следует, однако, забывать, что
фонологами была сделана попытка (не доведенная еще, возможно,
до конца, но весьма благотворная) создания научной
терминологии.
Мы полностью солидарны с Ельмслевом также и
относительно необходимости лингвистической теории в
ельмслевском понимании этого термина. Нам нужен метод, который
позволил бы дать исчерпывающее описание любого языка.
Сравнение языков будет бесплодным до тех пор, пока не
будет создано описаний этих языков, построенных на
одинаковых принципах. Известна попытка фонологов
выработать подобный метод применительно к плану выражения.
Что касается принципа, столь необычно названного
Ельмслевом принципом эмпиризма, то мы признаем вместе с
Ельмслевом необходимость того, чтобы описание было
непротиворечивым и исчерпывающим. Но в связи с
требованием простоты возникает вопрос — разве не может в
некоторых случаях существовать двух одинаково простых
решений, когда вследствие этого трудно предпочесть то или.
иное? И наконец, всегда следует избегать постулатов,
особенно исходных, и заменять их там, где невозможно
точное определение, условными предложениями, вводимыми,
посредством «если».
Одно из наиболее решительных утверждений Ельмсле-
ва гласит, что, если мы хотим, чтобы лингвистика стала
наукой, мы должны признать «реальное» существование
объектов метафизической гипотезой и как можно скорее от нее
455
отказаться, поскольку объекты — это якобы не что иное,
как точки пересечения пучков отношений. Отсюда
вытекает и учение о форме и субстанции. Именно в этом вопросе
Ельмслев расходится со структуралистами предшествую
щих периодов. Хотя последние стремились оперировать
исключительно понятиями, установленными путем
противопоставлений, они не считали возможным, по крайней
мере в плане выражения (в фэнологии), обходиться без по
мощи субстанции при определении выделяемых ими
единиц. Полное устранение субстанции, разумеется,
придает лингвистике, выражаясь словами Ельмслева, гораздо
более «научный», «алгебраический» вид. Но с полным
правом мы можем спросить себя — подобает ли в
действительности лингвистике такая абстрактность, учитывая, что она
должна соответствовать объекту? Мы убеждены не только
в правомерности синхронической точки зрения в нашей
науке, но даже в необходимости вести все диахронические
исследования лишь на основе исчерпывающего изучения
различных состояний языка. Однако, придавая большое
значение синхронии, мы тем не менее не думаем, что эволюция
языка — проблема, недостойная внимания настоящего
лингвиста. Нельзя, чтобы на смену ограниченности диахро-
нистов пришла ограниченность синхронистов. Итак, если
обнаружится, что именно в субстанции, а не в форме
кроются зародыши развития языка, то установленные глоссема-
тиками «алгебраические» структуры очень плохо
подготовят нас к необходимому анализу диахронической
реальности. И даже не выходя за пределы синхронии и признавая
в высшей степени желательными возможно более
формальные описания изучаемых структур, можем ли мы быть
уверенными, что окажемся в состоянии убедительно
охарактеризовать все выделенные нами единицы, исходя единственно
из их взаимных отношений? Эли Фишер-Йоргенсен в
превосходной статье о книге Ельмслева 1 указала, например,
что в датском языке две единицы выражения p и k имеют
одинаковые «функции» и должны были бы, исходя из этого,
получить одинаковые определения. В бирманском языке,
согласно Трубецкому 2, положение было бы еще более
серьезным, так как там все согласные, как и все гласные,
получили бы одно и то же определение.
1 «Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme», N 4/5, 7, 1943, p. 81 f.;
ср. p. 92.
2 «Grundzuge der Phonologie», p. 220.
456
Существует еще один важный вопрос, который Ельмслев
обошел молчанием,— вопрос о тождестве в языке. Что
позволяет нам считать два слова или две фонемы,
встретившиеся на каком-то расстоянии друг от друга, одним и тем
же словом, одной и той же фонемой? Почему p в слове
prendre понимается как та же самая глоссематическая еди-
ница, что и p в pelle или p в cap? Эту проблему, проблему
несомненно центральную, Ельмслев в своей книге не
рассматривает. Вспоминая нашу частную беседу с Ельмсле-
вом (с тех пор, правда, прошло уже шесть лет), мы
приходим к выводу, что для оправдания отождествления тех или
иных единиц он прибегает к подстановке: если я заменю
p в pelle посредством p в prendre, все равно будет понятно,
что это pelle; следовательно, p в pelle и p в prendre
лингвистически тождественны. Даже если мы допустим, что при
помощи подобной уловки глоссематику удастся обойтись без
субстанции, мы твердо убеждены, что подстановка
неизбежно заведет его в тупик. Что произойдет, например,
если мы p в pelle заменим через p в cap? Трудно предсказать
результаты, которые будут получены, скажем, при подмене
вырезанных кусков пленки звукового фильма, но уверен ли
сам Ельмслев, что pelle с p из cap останется тождественным
самому себе? Более того, если в датском языке я заменю
гласную слова send «посылка» гласной слова ret «право»,
получится звучание, которое датчане поймут как sand
«песок». Й тем не менее нам известно, что Ельмслев, так же
как и фонологи, считает гласную в send и гласную в ret
одной и той же единицей. Отождествлять же гласную в ret
и гласную в sand значит слепо полагаться на субстанцию и в
результате не только оскорблять здравый смысл и
«языковое чувство» датчан, но, и это главное, отказываться от
всякой возможности осмыслить стройную систему гласных
данного языка. Таким образом, Ельмслев отнюдь не
убедил нас в том, что можно выделять единицы выражения,
ее прибегая до известной степени к звуковой субстанции.
Остается субстанция содержания, смысл, от которого
при построении своей системы Ельмслев также стремится
абстрагироваться. При анализе содержания можно было бы
попытаться использовать результаты, полученные для
плана выражения: слово будет признано тождественным
другому слову того же текста, если оба они содержат одни
и те же единицы выражения, одни и те же фонемы,
относящиеся к одной и той же категории. Возникают, однако,
457
трудности, связанные с существованием омонимов. Нам,
например, придется отождествить тогда cousin «комар» в
le co'isin est un diptere «комар — двукрылое насекомое» и
cousin «двоюродный брат» в mon cousin est arrive «мой
двоюродный брат приехал». Ельмслев не высказывает своего
взгляда на явление омонимии. Однако, поскольку он
утверждает, что в датском языке Trse «дерево» и Тгае «лес»
(как материал) следует рассматривать как два вариата
(комбинаторных варианта) одной и той же единицы, и
поскольку никакого перерыва постепенности между
полисемией типа Тгае и омонимией типа cousin, если оставить
в стороне этимологию, нет, мы можем предположить, что
он считал бы и слога cousin двумя вариатами одной и
той же единицы.
Верный своему методу, Ельмслев действительно и при
анализе плана содержания применяет только те приемы,
которые он рекламировал, когда занимался планом
выражения. Так, он широко прибегает к сочетаемости. Однака
в плане выражения сочетаемости оказалось недостаточна
для определения p и k в датском языке или различных
согласных в бирманском. Но в плане содержания
возможности сочетания гораздо более разнообразны, и именно
благодаря им Ельмслев мог, например, не учитывая
смысла различных корней, связывать аорист ????? с
настоящим временем ??????, а не с ???? или ???.
Отождествляя jument «кобыла» с cheval femelle «лошадь-самка»,
Ельмслев отнюдь не намеревается устанавливать какое-
либо материальное тождество; и следует, несомненно,
предположить, что он проделывает здесь операцию,
аналогичную той, которая позволила отождествить p в prendre
и p в pelle. Сознаемся, что научный характер подобной
операции вызывает у нас сомнение.
Одной из наиболее примечательных черт теории
Ельмслева, черт, которые воспринимаются как парадокс в книге,,
где и без того достаточно парадоксов, является
неоднократно высказываемое убеждение в абсолютной тождественности
структур содержания и выражения. Как только какая-
либо «функция» обнаружена в одном плане, автор
незамедлительно ищет и находит ее в другом. На определенном
этапе изложения Ельмслев указывает, что знак состоит из
элементов, называемых фигурами и характеризующихся тем,
что они уже больше не знаки и что их состав ограничен..
Сначала, по некоторой наивности, мы подумали, что эти
458
фигуры — не что иное, как фонемы или слоги, и что,
следовательно, они существуют только в плане выражения. Но
заблуждение наше длилось недолго: несколько ниже
говорится: «каждая... система... фигур... допускает одну
форму выражения и одну форму содержания». Далее
объясняется, что посредством анализа более мелких значимых
содержаний можно прийти к фигурам содержания. Еще
дальше автор изображает «сведение» jument к cheval femelle
как первую ступень операции, которая должна привести к
составлению перечня фигур содержания. Мы охотно
допускаем, что таким путем можно прийти к составлению
ограниченных перечней как в плане выражения, так и в плане
содержания, но весьма неясно представляем себе полученные
подобным образом единицы, являющиеся незнаками и,
следовательно, фигурами. В плане выражения,
действительно, мы сводим знак po (peau или pot) к
последовательности p+o, где p и o не являются больше знаками, потому
что у них нет содержания. В плане же содержания,
напротив, мы сводим знак jument к последовательности cheval
femelle, в которой cheval и femelle остаются знаками,
потому что они обладают не только содержанием, но также и
выражением ( aval, famsl). Автор, возможно, возразит нам,
что тогда как содержание «лошадь» и содержание «самка»
обнаруживаются в jument, выражение saval и выражение
famel там не представлены или, иными словами, что
содержание «лошадь», составляющее часть содержания «кобыла»,
не является знаком, поскольку у него нет выражения.
Неоспоримо, однако, что эти содержания, как только они
приводятся изолированно, всегда наделяются выражением,
в то время как единицы выражения p и o в аналогичных
условиях соединены с содержанием только в редких
случаях (о = еаи «вода» и т. д.). Исходя из всего сказанного
выше, мы не видим оснований для признания в этом
узловом вопросе параллелизма двух планов.
Что касается постоянного взаимодействия обоих планок,
то этот факт совершенно очевиден; и хотя термин
«коммутация» был введен Ельмслевом, фонологи практиковали
коммутацию задолго до него. Как бы то ни было, Ельмсле-
ву принадлежит заслуга, и немалая, ибо он убедительно
показал, что такие явления, как синкретизм в плане
содержания и нейтрализация в плане выражения, по своему
существу сходны; однако его гипотезу о том, что содержание и
выражение — две равноправные величины, еще нужно
459
доказать. Если бы автор, вместо того чтобы придавать слову
«функция» новый смысл, придерживался общепринятого
значения этого термина, он, возможно, обратил бы больше
внимания на то обстоятельство, что язык в силу своего
назначения представляет собой прежде всего систему знаков.
Система единиц, являющихся лишь единицами плана
выражения (а выражение, само по себе, разумеется, вполне
достойный объект изучения для лингвистов), имеет
единственную цель — обеспечить функционирование системы
знаков. Выражение — это лишь средство, а содержание —
суть, и так обстоит дело как в собственно лингвистической
области формы, так и в области субстанции, где весьма
ограниченная часть возможных звуков используется для
выражения всего, что только можно выразить.
В одной из частей своей работы Ельмслев совершенно
последовательно заявляет, что письменный текст столь же
ценен для лингвиста, как и устный, поскольку выбор
субстанции не имеет существенного значения. Он
отказывается даже допустить, что звуковая субстанция первична, а
субстанция начертательная производна. Он считает, по-
видимому, достаточным отметить лишь, что, за
исключением некоторых патологических случаев, все люди говорят,
тогда как только немногие умеют писать, или еще, что дети
начинают говорить задолго до того, как они научатся
писать. Не будем разбирать этот вопрос. Однако
сопоставление письма и речи настолько поучительно, что не
оставляет никаких сомнений относительно того, какая из двух
субстанций более важна для лингвистики. И ничего не
изменяет тот факт, что это обнаруживается более отчетливо в
плане диахронии, чем синхронии. Рассмотрим некоторые
примеры. Когда в печатном тексте буква i следует
непосредственно за f, она теряет точку. Буква i без точки является,
следовательно, комбинаторным вариантом (вариатом,
по терминологии Ельмслева) буквы (инварианта ) i. Когда
в русском языке фонеме и предшествует твердый
согласный, она приобретает бэлее задний оттенок и обозначается
как ы; ы является, следовательно, комбинаторным
вариантом фонемы и. С точки зрения Ельмслева, второе явление,
казалось бы, ничуть не более важно, чем первое. И тем не
менее большая часть изменений, происходящих в системе
формы выражения языков и часто, рикошетом, в системе
содержания этих языков, начинается с вариантности фонем.
Напротив, нельзя привести ни одного примера лингвисти-
460
ческого изменения, которое вело бы свое происхождение от
изменения в форме какой-либо буквы или вообще
письменных знаков. Подчеркнем еще раз, что, как бы ни была
важна синхрония, она не исчерпывает лингвистики, и это одна
из причин, почему мы не считаем возможным в наших
исследованиях полностью отказаться от звуковой субстанции.
Есть еще один вопрос, по которому многие лингвисты
взяли бы на себя смелость поспорить с Ельмслевом. Мы
имеем в виду операцию, предваряющую анализ, так
называемый катализ. По всей вероятности, еще слишком рано
высказывать окончательное мнение о необходимости и
правомерности этой операции. В данном вопросе, как и во
многих других, следует подождать, пока теория будет
применена на практике. Скажем сейчас только, что мы не
видим большой пользы от катализа в примере с
поврежденным латинским текстом, в котором за sine не следует
аблатив. Одно из двух: или нам уже хорошо известно, что sine
всегда сопровождается аблативом (в этом случае
поврежденный текст ничего нового не может добавить к нашим
знаниям, и мы обратимся к текстам неповрежденным, в
которых, слава богу, нет недостатка), или же мы еще не знаем»
что sine обязательно требует аблатива — в таком случае
мы вообще не в состоянии осуществить катализ.
Нельзя сказать, что Ельмслев совершенно неправ,
упрекая фонологов в известной непоследовательности и в
злоупотреблении индуктивными методами. Но ему
следовало бы отметить, что фонологи во многом учли
критические замечания, высказанные в их адрес глоссематиками
в ту эпоху, когда последние были еще только
«фонематистами». Мы охотно признаем, что можно быть научно
более точным, чем Трубецкой в «Grundzuge». Но для этого
совсем не обязательно отказываться от основ его теории.
Что касается «индуктивных методов», применявшихся
фонологами, то, если некоторые законы, сформулированные ими
с известной поспешностью, заменить несколько менее
категоричными формулировками, они представляются вполне
вероятными. Педагогические соображения, которые
Ельмслев, к нашему несчастью, по-видимому, не разделяет,
могли явиться причиной того, что в некоторых работах
авторы исходят из единиц, которые предполагаются уже
выделенными, вместо того чтобы начинать с изложения
метода анализа, позволившего их выделить. Так же как и
Ельмслев, но, конечно, не осознавая этого вполне ясно,
461
фонологи отталкивались от текста как целого, которое
надлежало членить на элементы. Позиция Ельмслева и
позиция фонологов различаются главным образом тем, в какой
мере используется субстанция: Ельмслев сознательно
устраняет ее целиком, фонологи же сохраняют из субстанции
все то, что имеет различительное значение и что они
признают необходимым для определения объекта своего
исследования.
Мы горячо рекомендуем книгу Ельмслева всем
лингвистам, читающим по-датски: она удивительно богата
содержанием, четко построена и хорошо написана, ясна и строга
по мысли. Чтение ее, конечно, весьма затруднительно
даже для тех, кто уже имеет некоторое представление о
глоссематике. Надо уметь жонглировать абстракциями, как
это делает автор, чтобы быть в состоянии сразу же усвоить
столько формальных определений и держать их постоянно
в памяти под страхом окончательно растеряться на
следующей странице или десятью параграфами ниже. Ельмслев,
потративший десять лет на создание своей теории,
безжалостен к читателям: он так давно привык думать о
лингвистических проблемах в своих собственных терминах и в
особом, им самим созданном аспекте, что совсем упускает из
виду, что для человека, не являющегося членом
сравнительно узкого круга его сотрудников и учеников, его образ
мысли и манера выражения кажутся необычными и даже
странными. Желательно было бы найти возможность без
ущерба для научной строгости изложения более четко
разъяснить некоторые нововведения глоссематики, дать больше
примеров, ввести их гораздо раньше, может быть даже
перед изложением самих абстрактных теоретических
положений, которые эти примеры должны иллюстрировать, придать
им сразу или постепенно более конкретный характер.
Некоторые попытки в этом направлении можно обнаружить в
рассматриваемом введении в глоссематическую теорию
Ельмслева. Мы считаем; что как в интересах лингвистики
в целом, так и в интересах своей собственной доктрины
автору в будущем следует умножить и расширить эти попытки.
Вклад, внесенный Ельмслевом в развитие нашей науки,
слишком велик. Именно поэтому мы хотели бы видеть его
теорию освобожденной от всяких следов изоляционизма.
ОГЛАВЛЕНИЕ
От редакции 5
метод глоттохронологии
В. А. Звегинцев, Лингвистическое датирование методом
глоттохронологии (лексикостатистики) 9
Моррис Сводеш, Лэксикостатистическое датирование
доисторических этнических контактов (На материале племен
эскимосов и североамериканских индейцев). Перевод с английского
И. П. Токмаковой 23
Моррис Сводеш, К вопросу о повышении точности в
лексикостатистическом датировании. Перевод с английского И.П.
Токмаковой 53
Гарри Хойер, Лексикостатистика (Критический разбор).
Перевод с английского И. П. Токмаковой 88
ГИПОТЕЗА СЕПИРА-УОРФА
В. А. Звегинцев, Теоретико-лингвистические предпосылки
гипотезы Сепира — Уорфа 111
Бенджамен Л. Уорф, Отношение норм поведения и
мышления к языку. Перевод с английского Л. И. Натан и Е. С.Тур-
ковой 135
Бенджамен Л. Уорф, Наука и языкознание (О двух
ошибочных воззрениях на речь и мышление, характеризующих
систему естественной логики,и о том, как слова и обычаи влияют
на мышление). Перевод с ангшйсксго Е. С. Кубряковой и
В. П. Мурат 169
Бенджамен Л. Уорф, Лингвистика и логика. Перевод с
английского Л. Н. Натан 183
Макс Блэк, Лингвистическая относительность
(Теоретические воззрения Бенджамена Л. Уорфа). Перевод с английского
/Г. С. Кубряковой и В. П. Мурат 199
ГЛОССЕМАТИКА
В. А. Звегинцев, Глоссематика и лингвистика 215
Эйнар Хауген, Направления в современном языкознании.
Перевод с английского С. А. Григорьевой 244
Луи Ельмслев, Пролегомены к теории языка. Перевод с
английского Ю. К. Лекощева 264
X. И. Ульдалль, Основы глоссематики (Исследование
методологии гуманитарных наук со специальным приложением к
лингвистике). Перевод с английского Вяч. Вс. Иванова . . 390
Андре Мартине,О книге «Основы лингвистической теории»
Луи Ельмслева. Перевод с французского В. П. Мурат . . 437
НОВОЕ В ЛИНГВИСТИКЕ
Вып. I
Редактора. А. ОБОРИНА
Художник JB. Л. Самсонов
Технические редакторы Б. И. Астафьев..
М. П. Грибова и Ф. X. Джатаева
Корректор F. Б. Марксон
Сдано в производство 29/1 I960 г.
Подписано к печати 3/VI I960 г.
Бумага 84 X 108V32 = 7,3 бум. л.
23,8 и:ч. л. Уч.-изд. л. 24,9. Изд. № 13/3943
Цена 17 р. С 1/1 1961 г. цена 1 р. 70 к.
Заказ № 116
издательство
иностранной литературы
Москва, 1-й Рижский пер., д. 2
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28
Отпечатано с набора в типо-литографии*
ВВИА им. проф. H. Е. Жуковского.
опечатки
Страница
11
59
78
82
280
344
Строка
11 снизу
12 »
1 сверху в 1-ой
колонке слева
7 сверху в 1-ой
колонке справа к слову
»лежать*
9 сверху
4 снизу
Напечатано
reidue
тони
alle
+
de acto
дар или b
Следует читать
residue
то ни
all
de facto
да ? или Ь