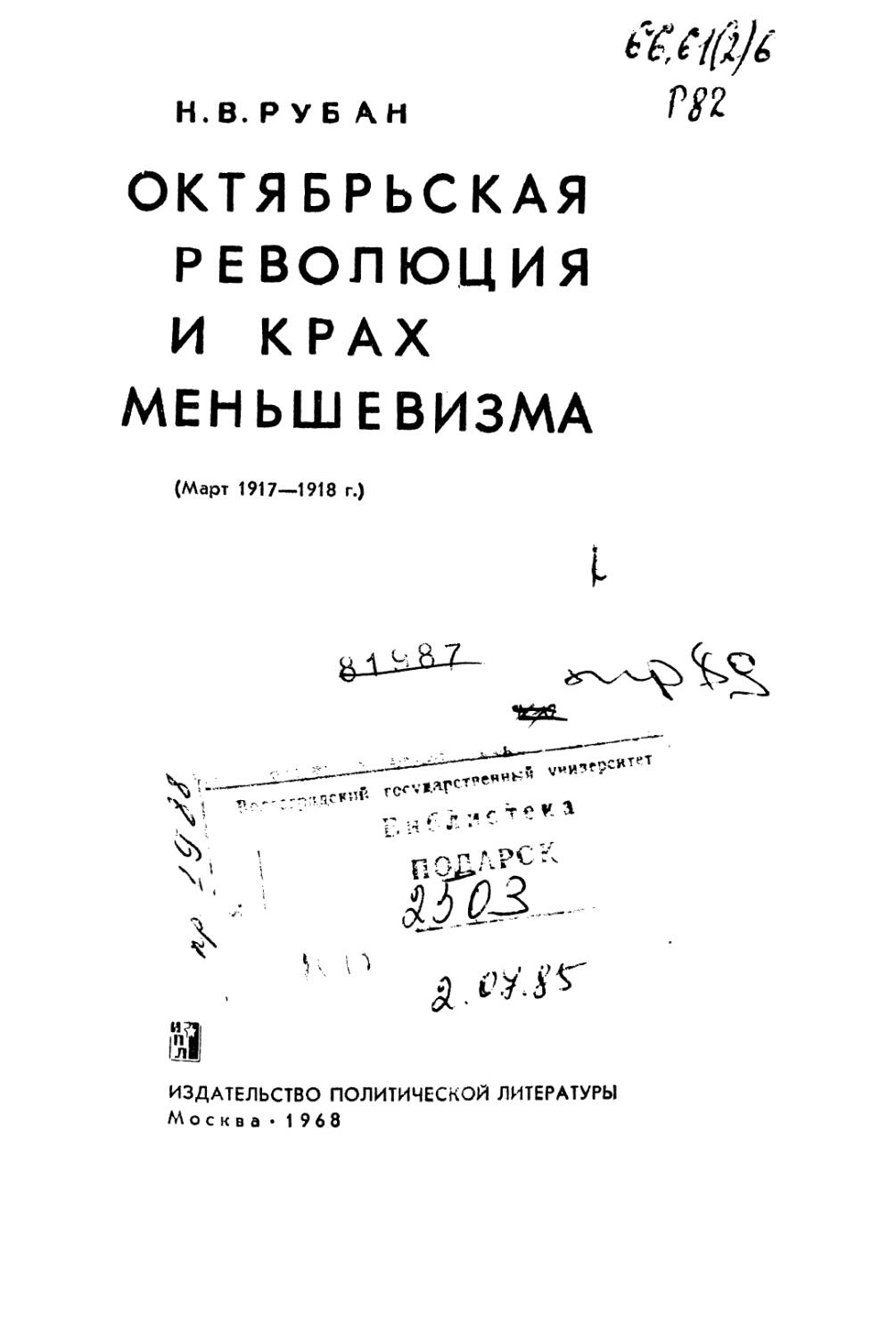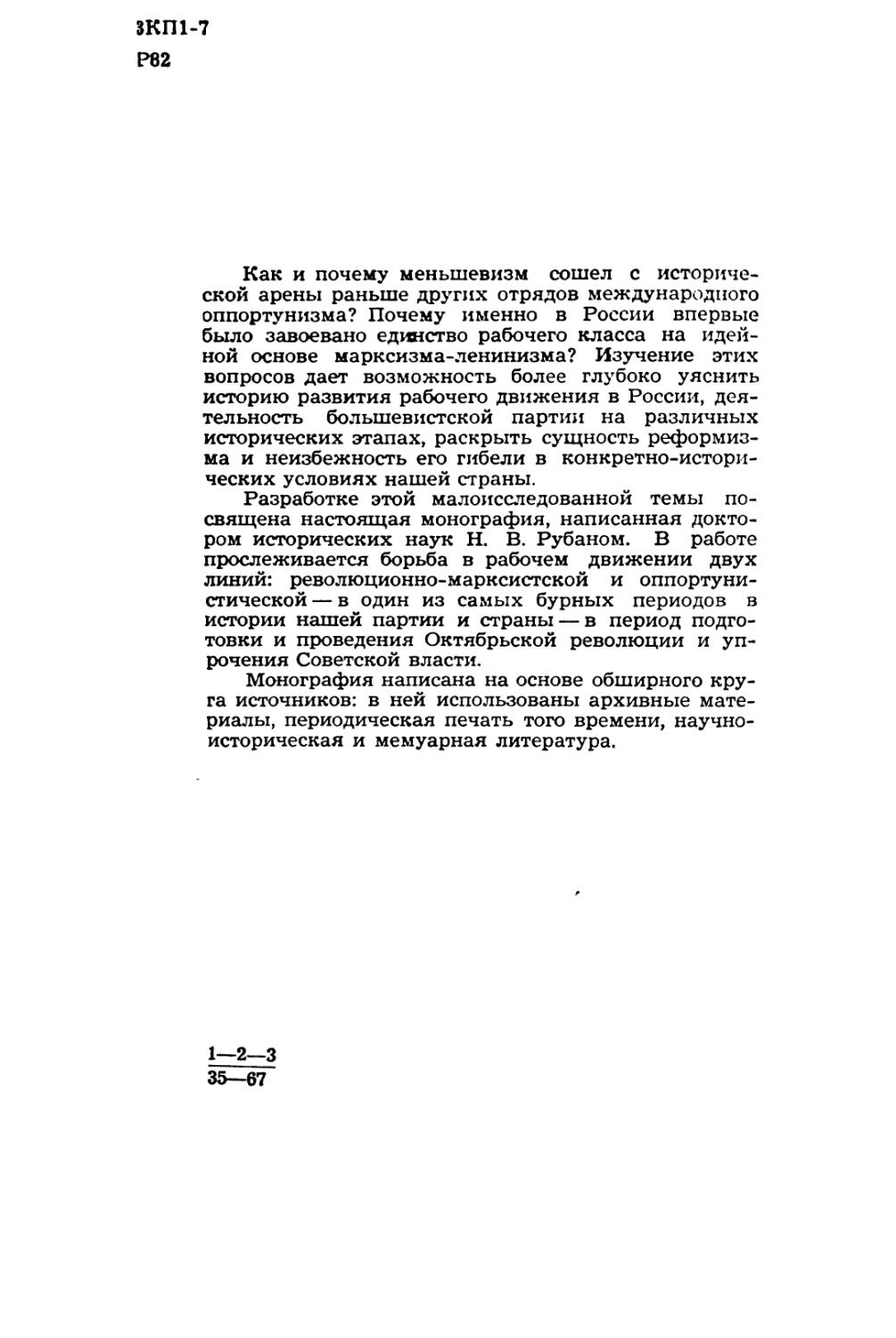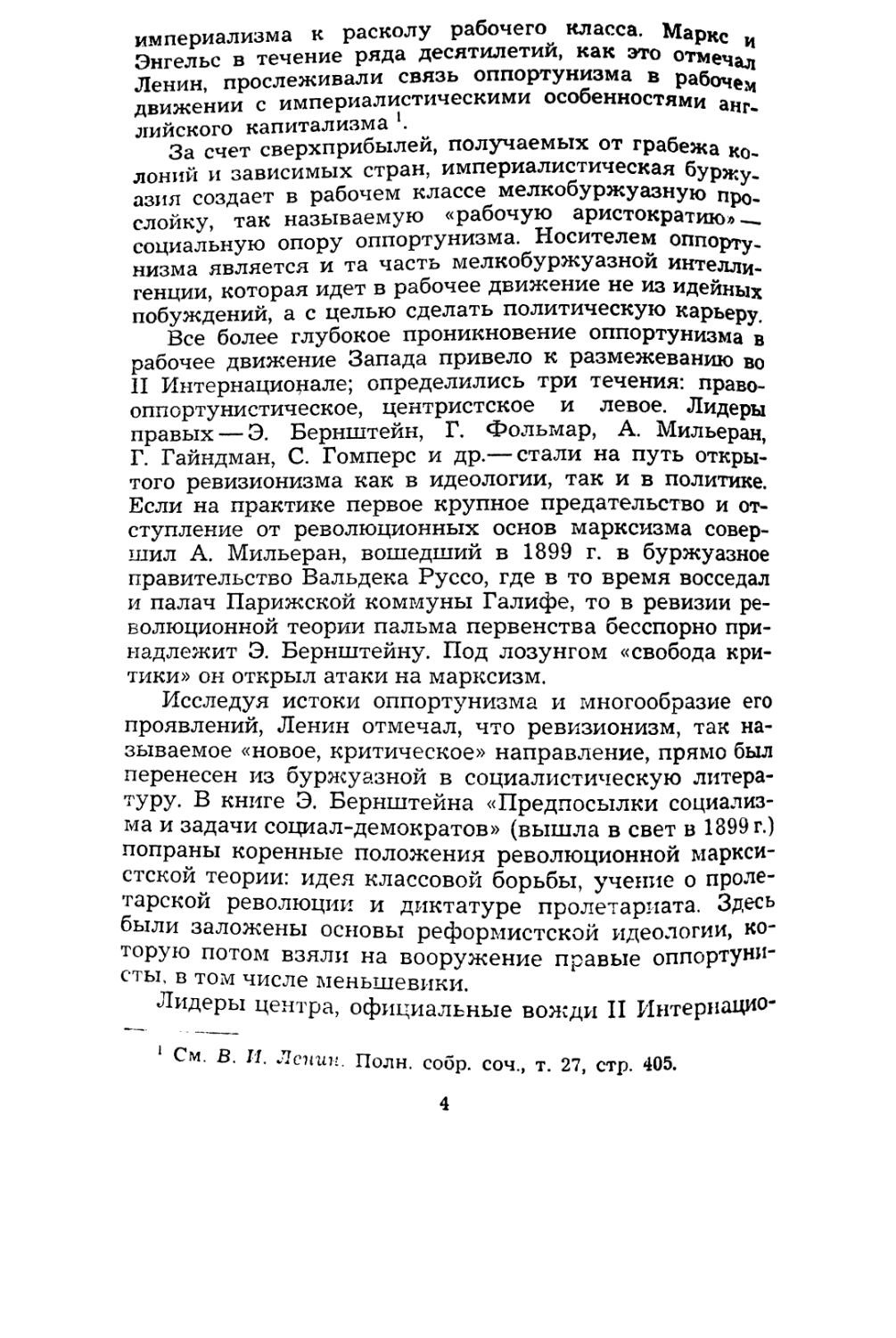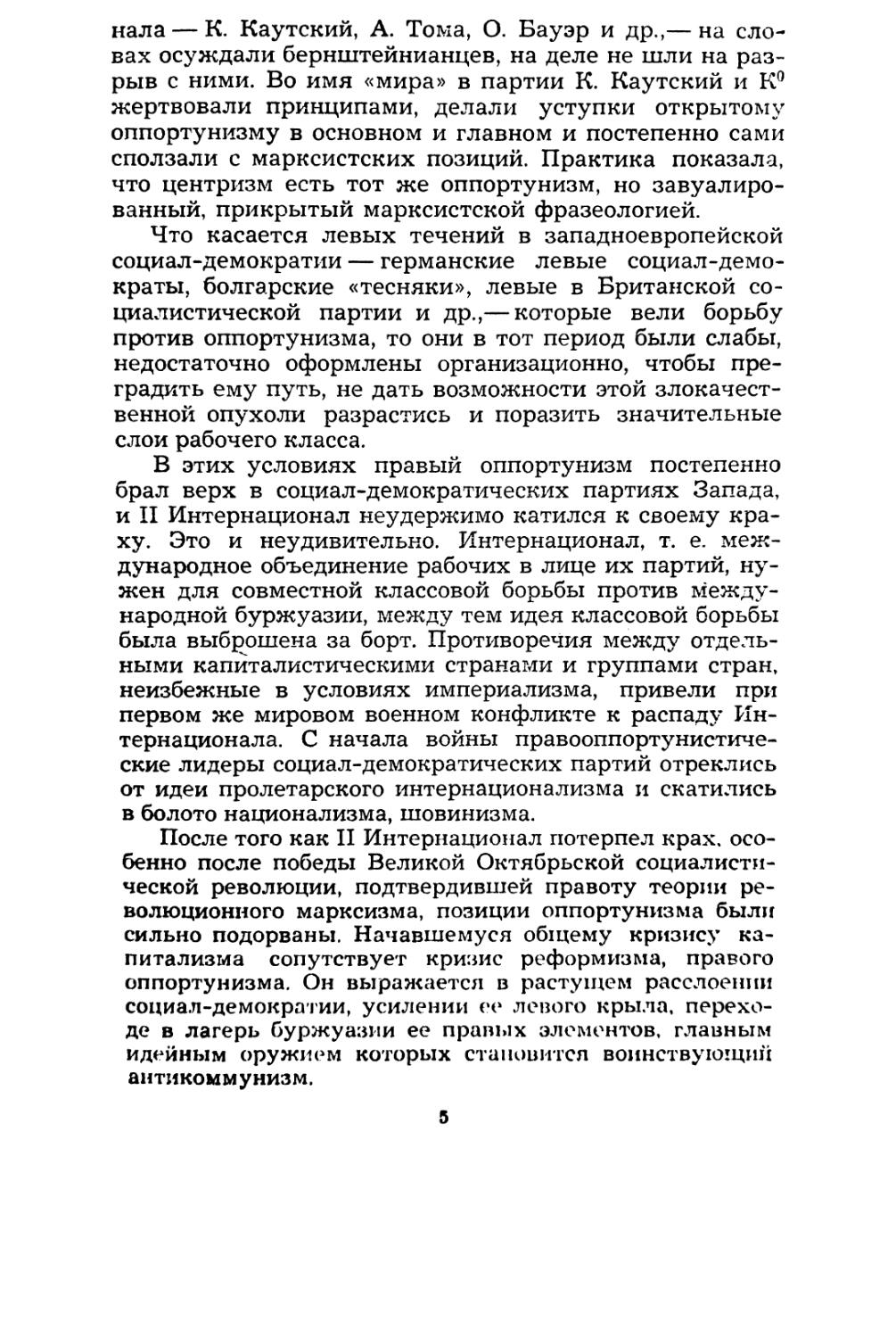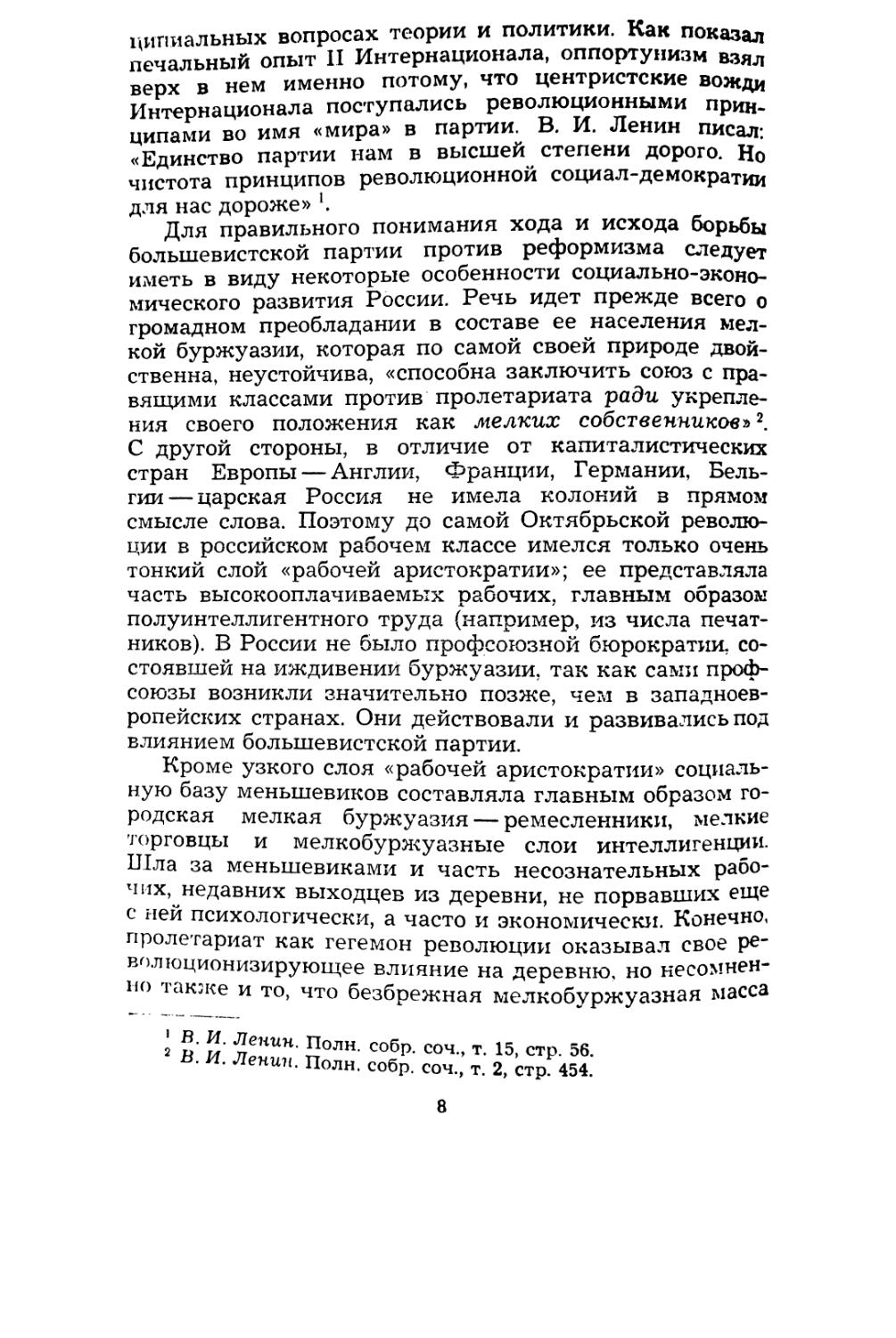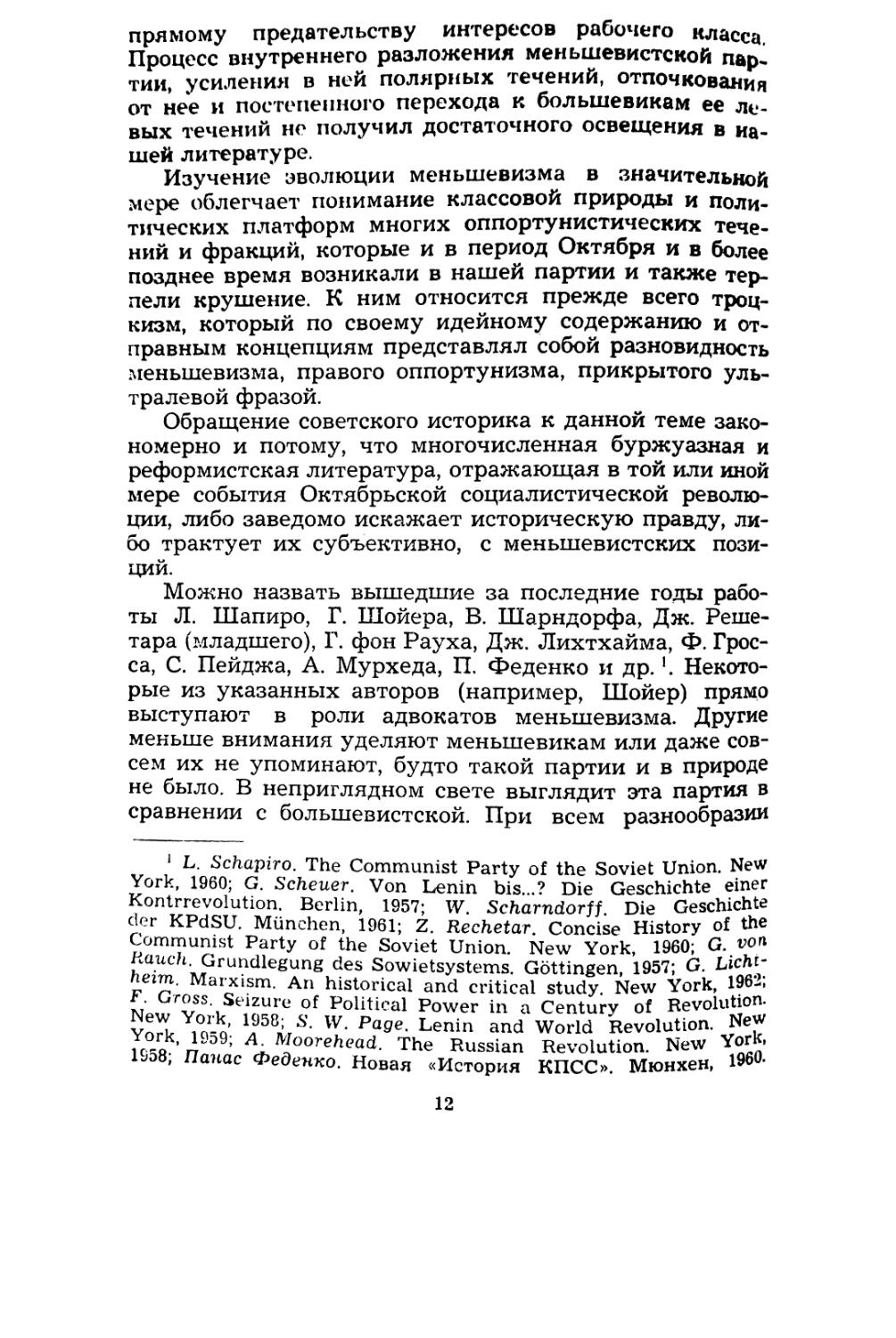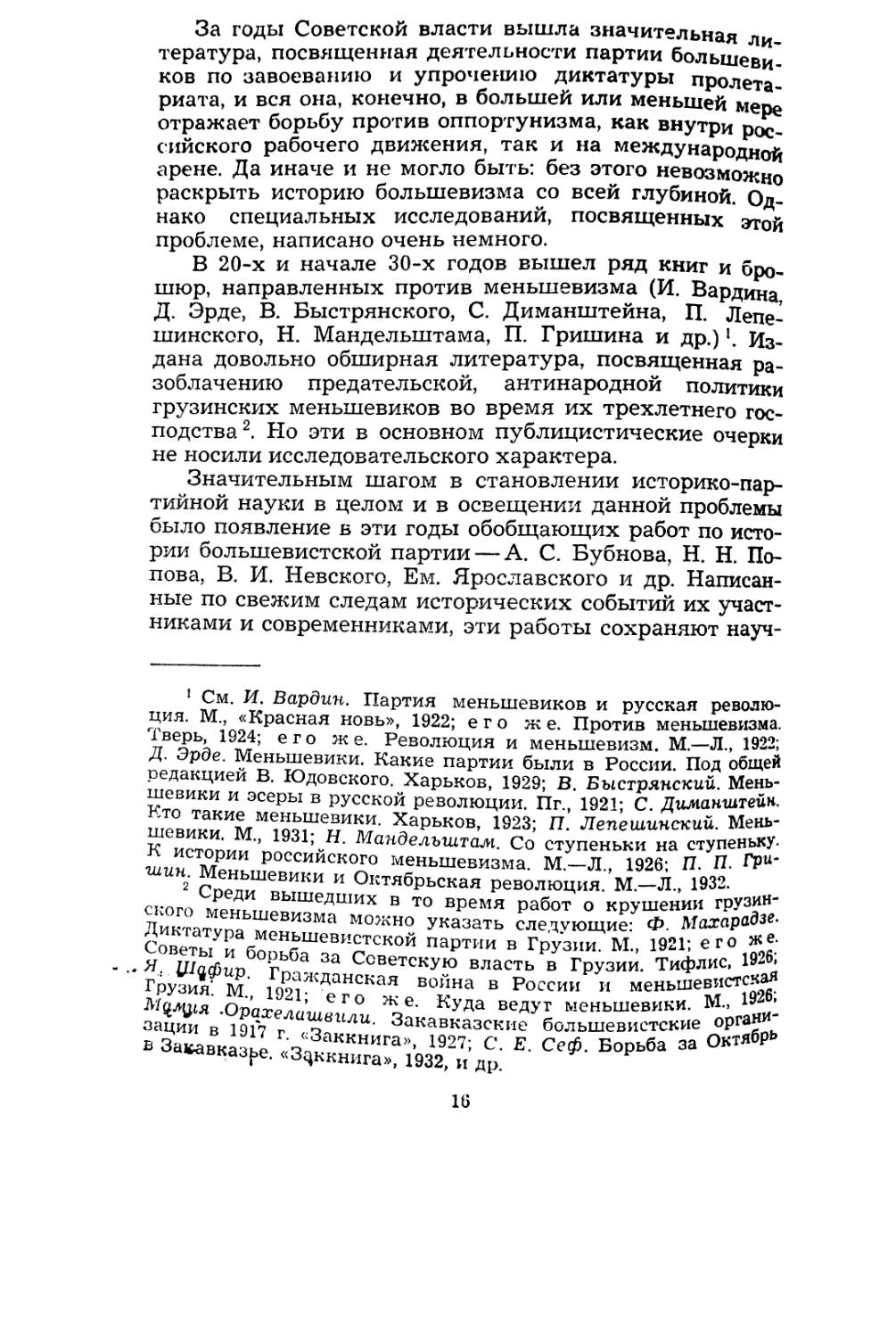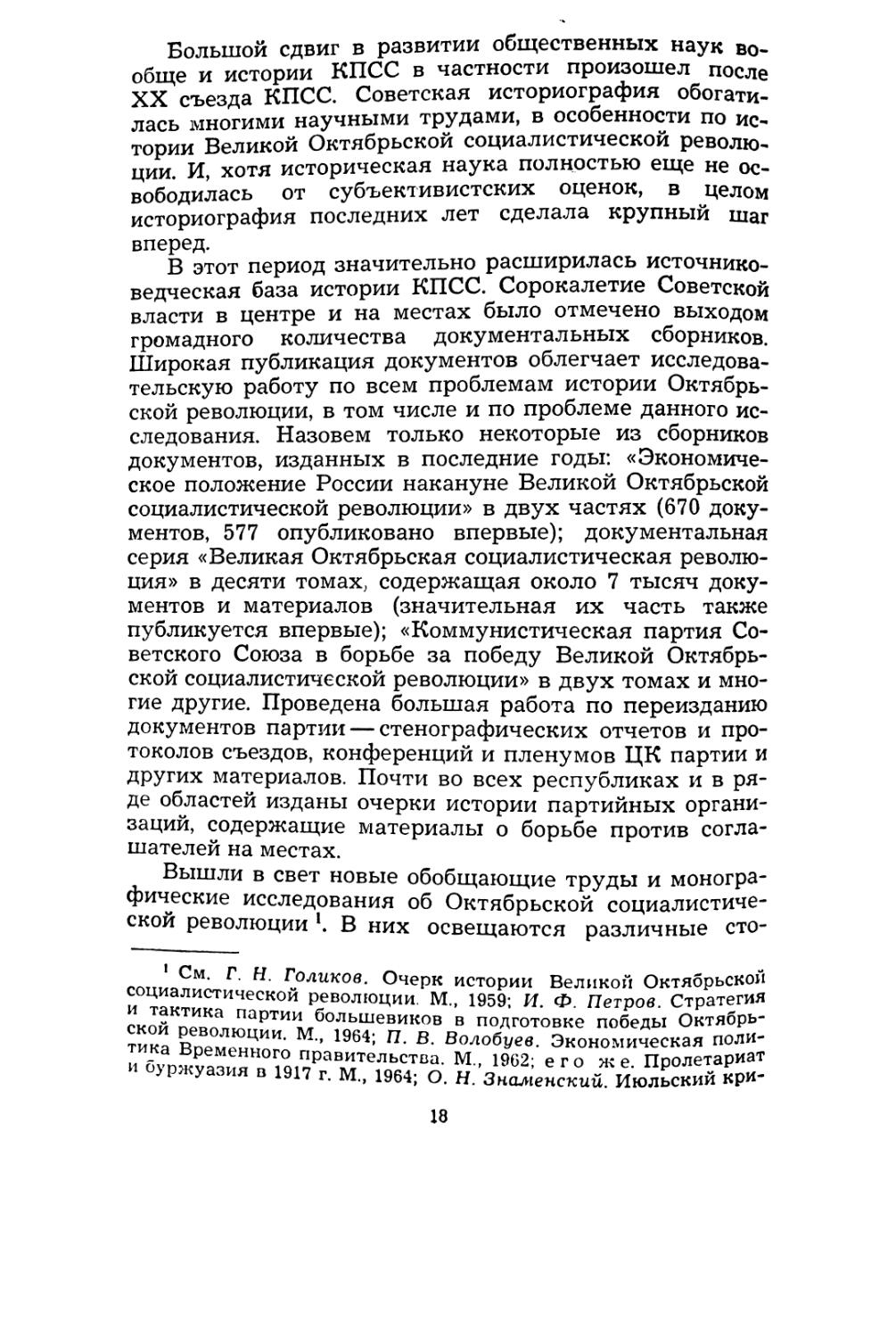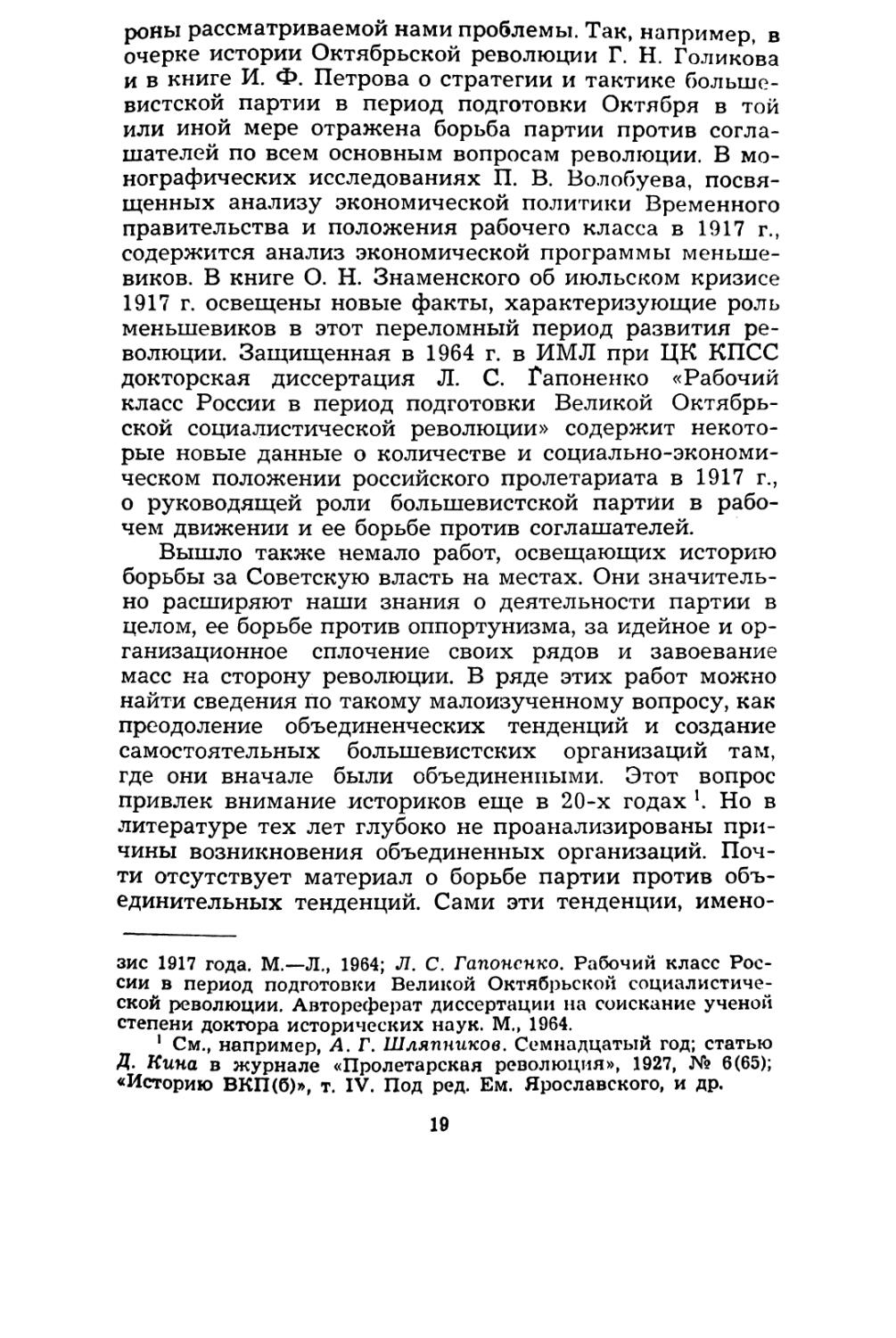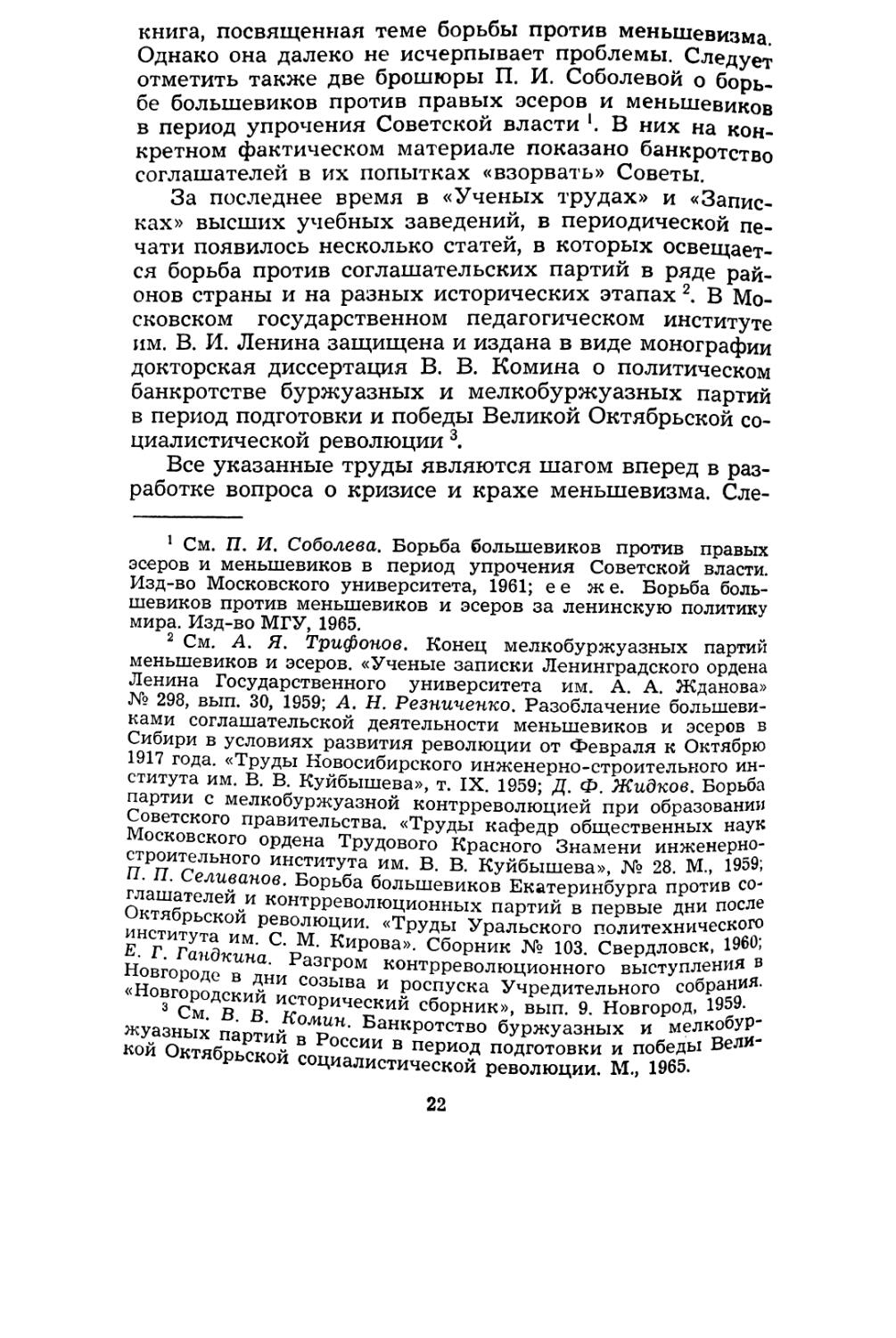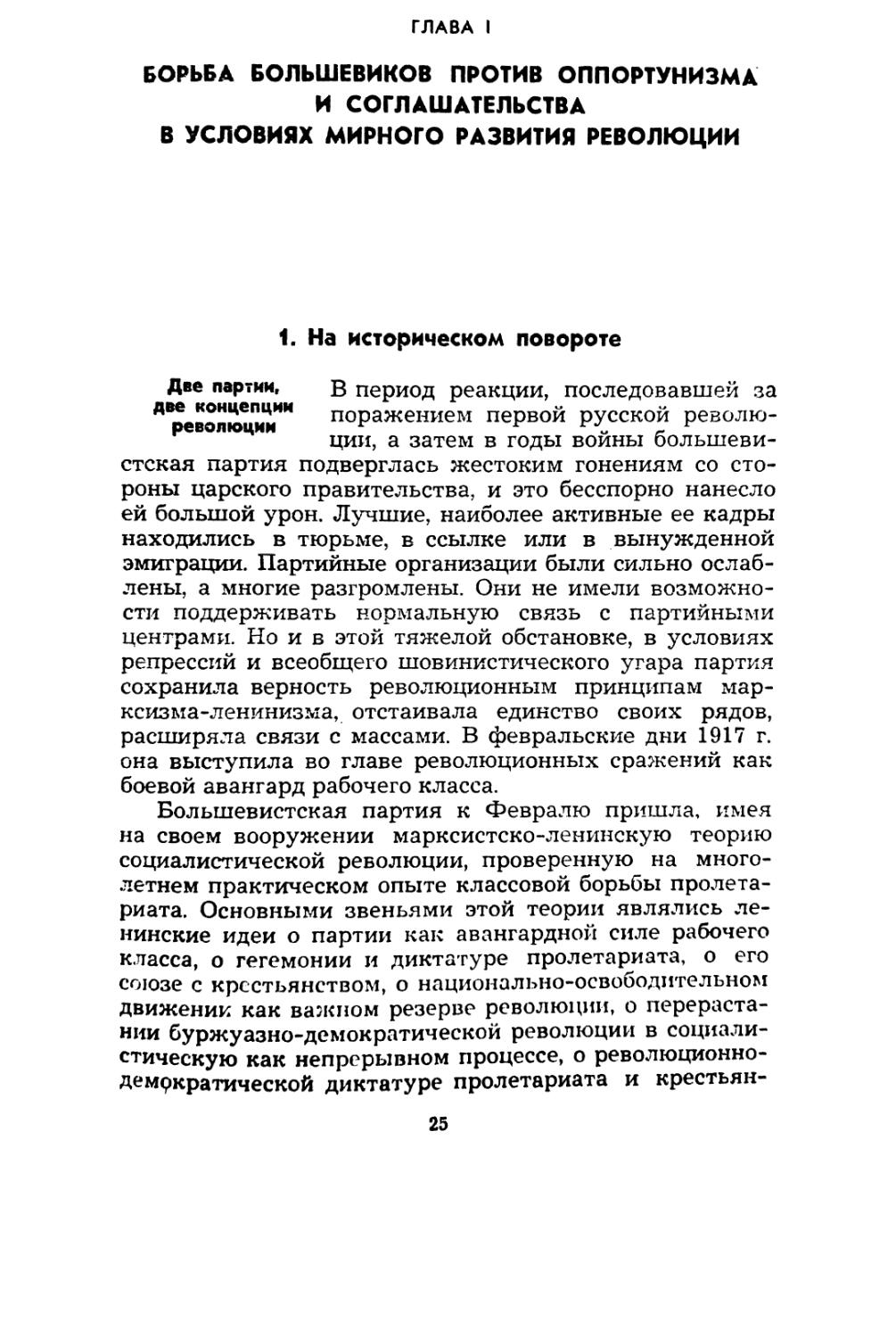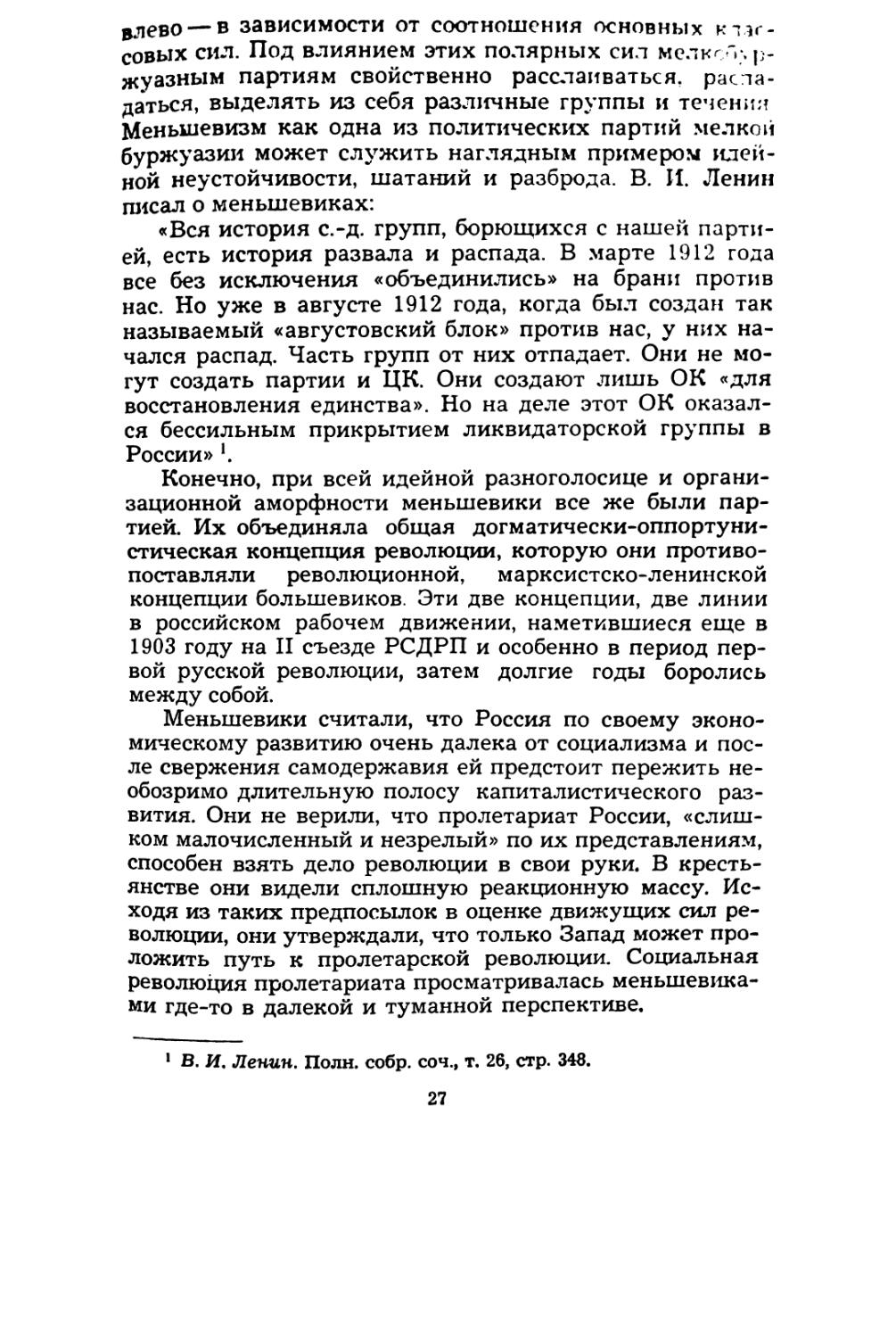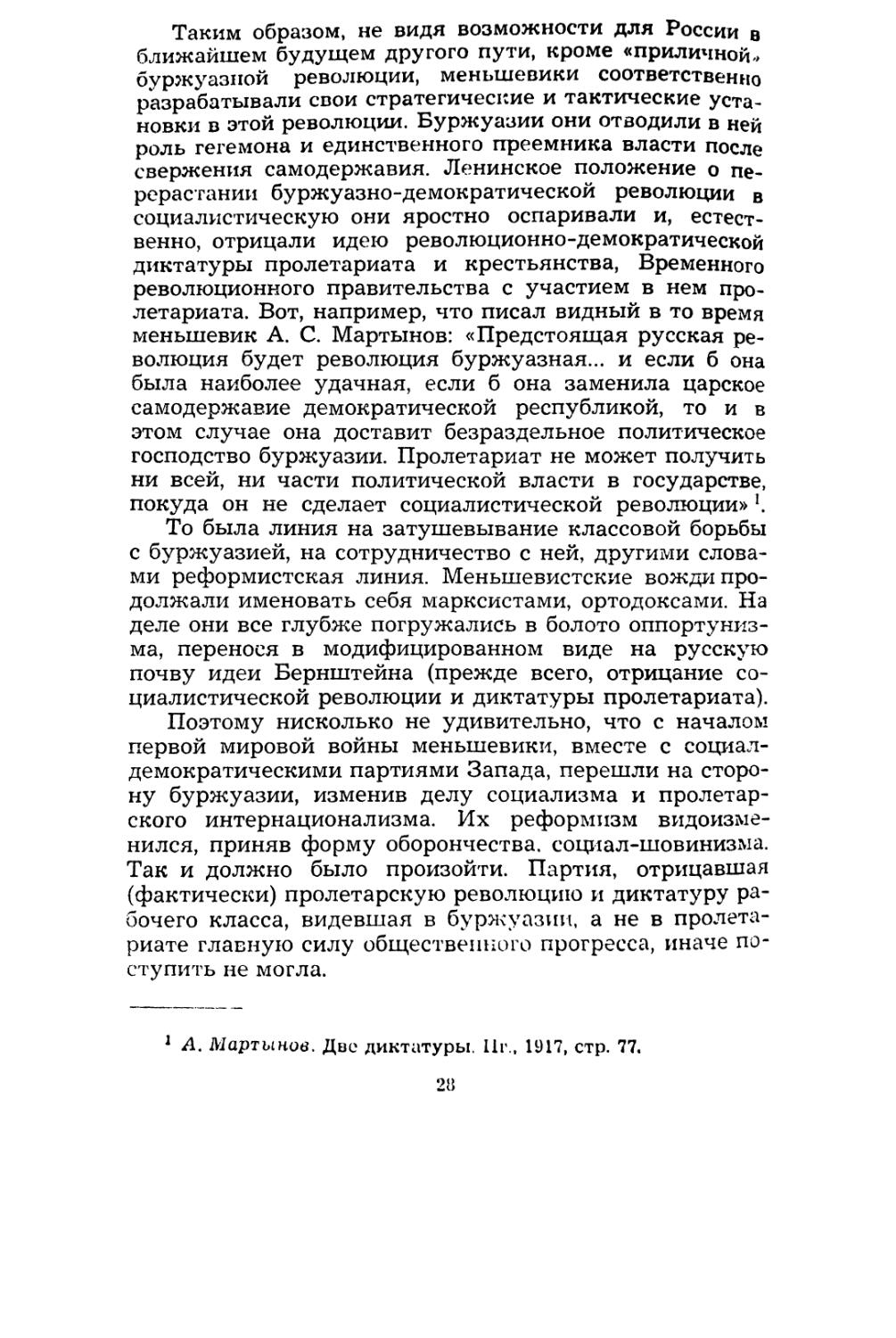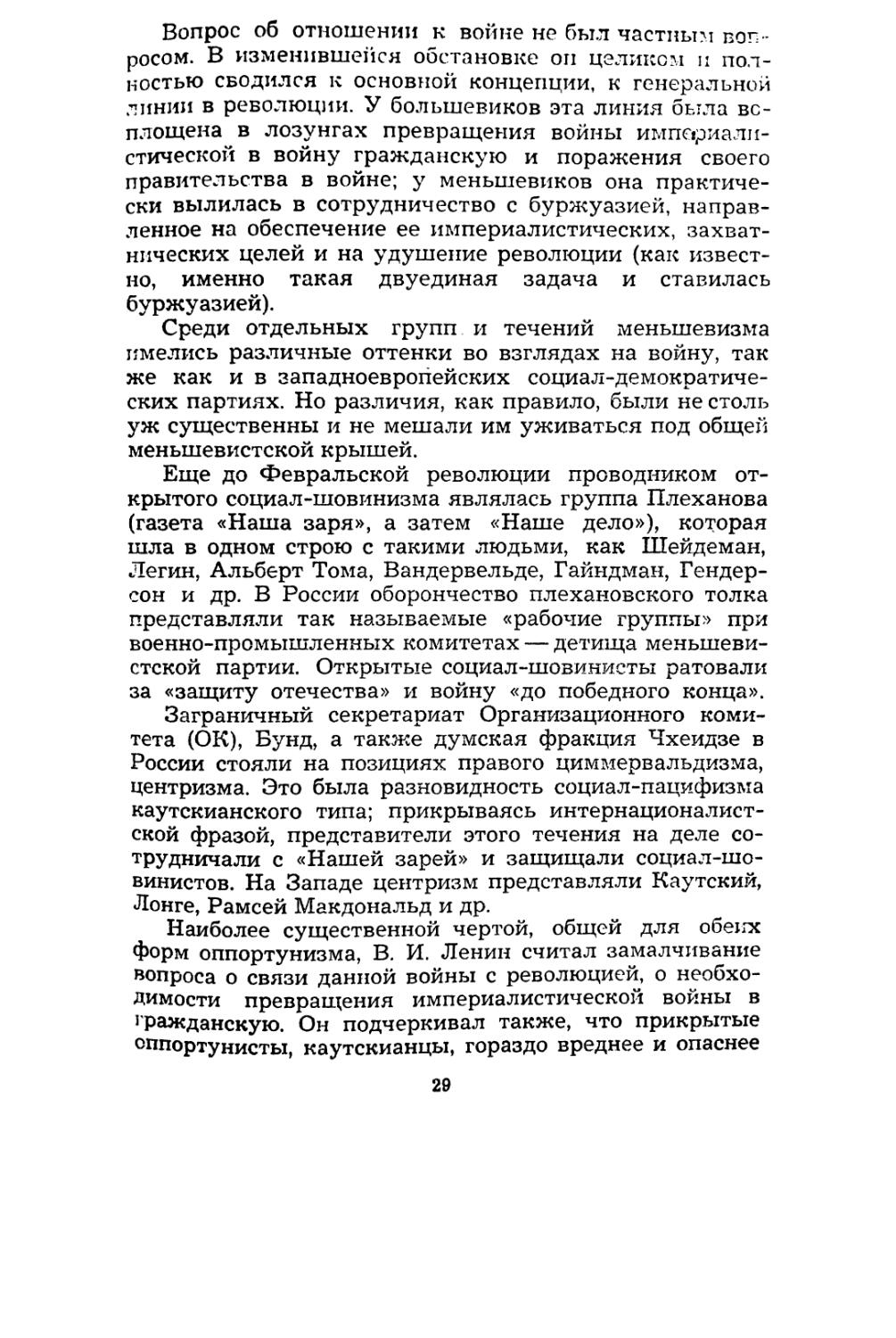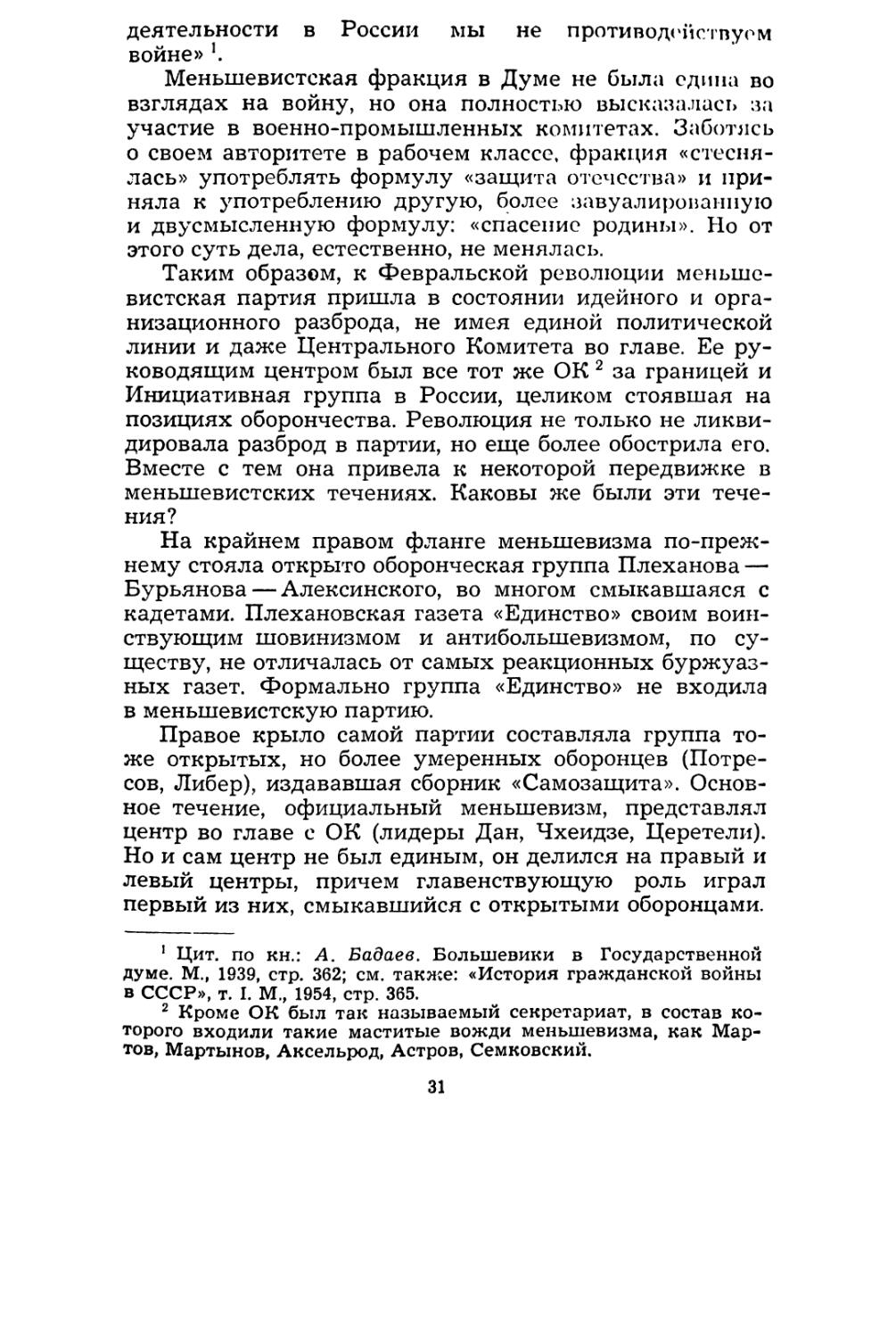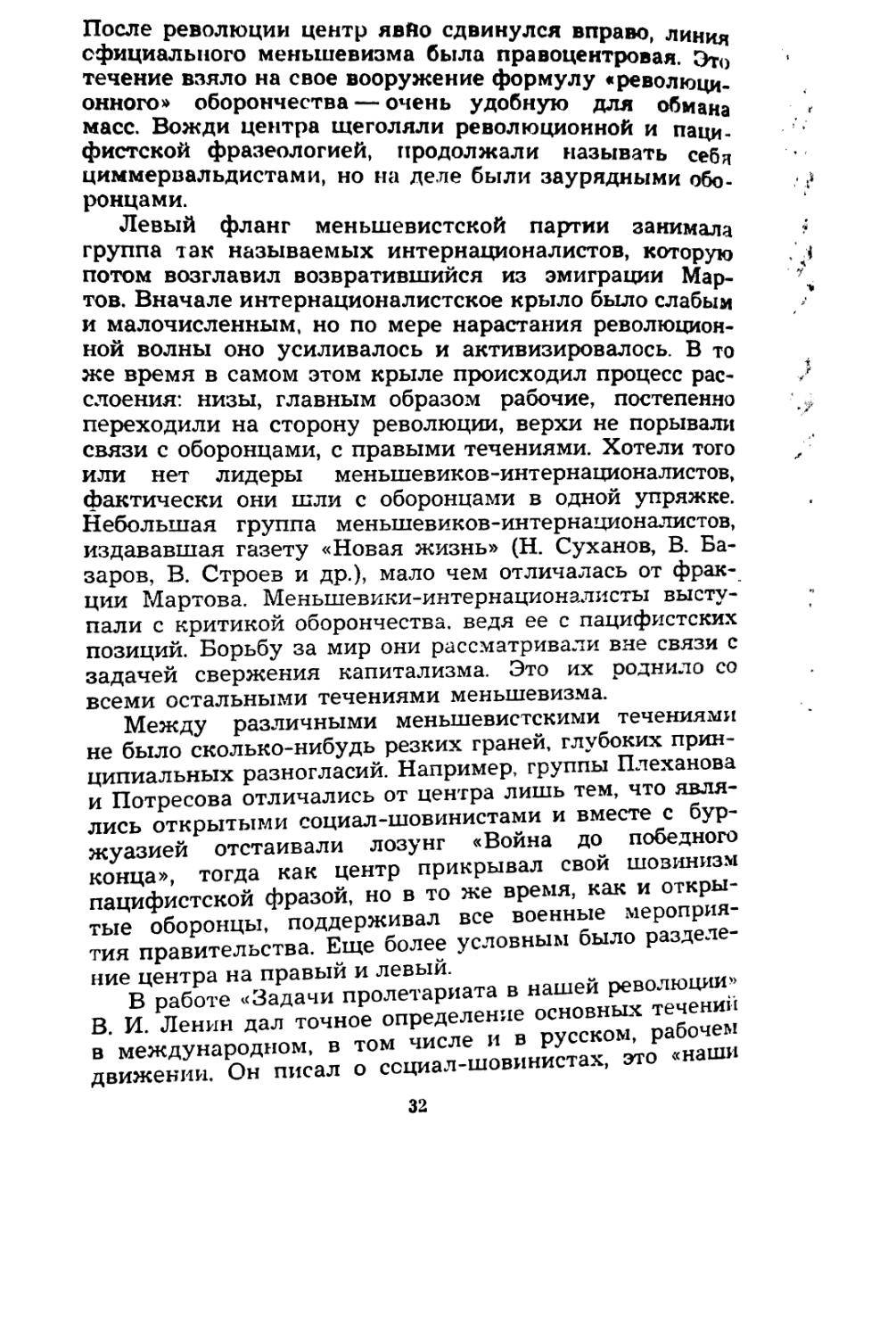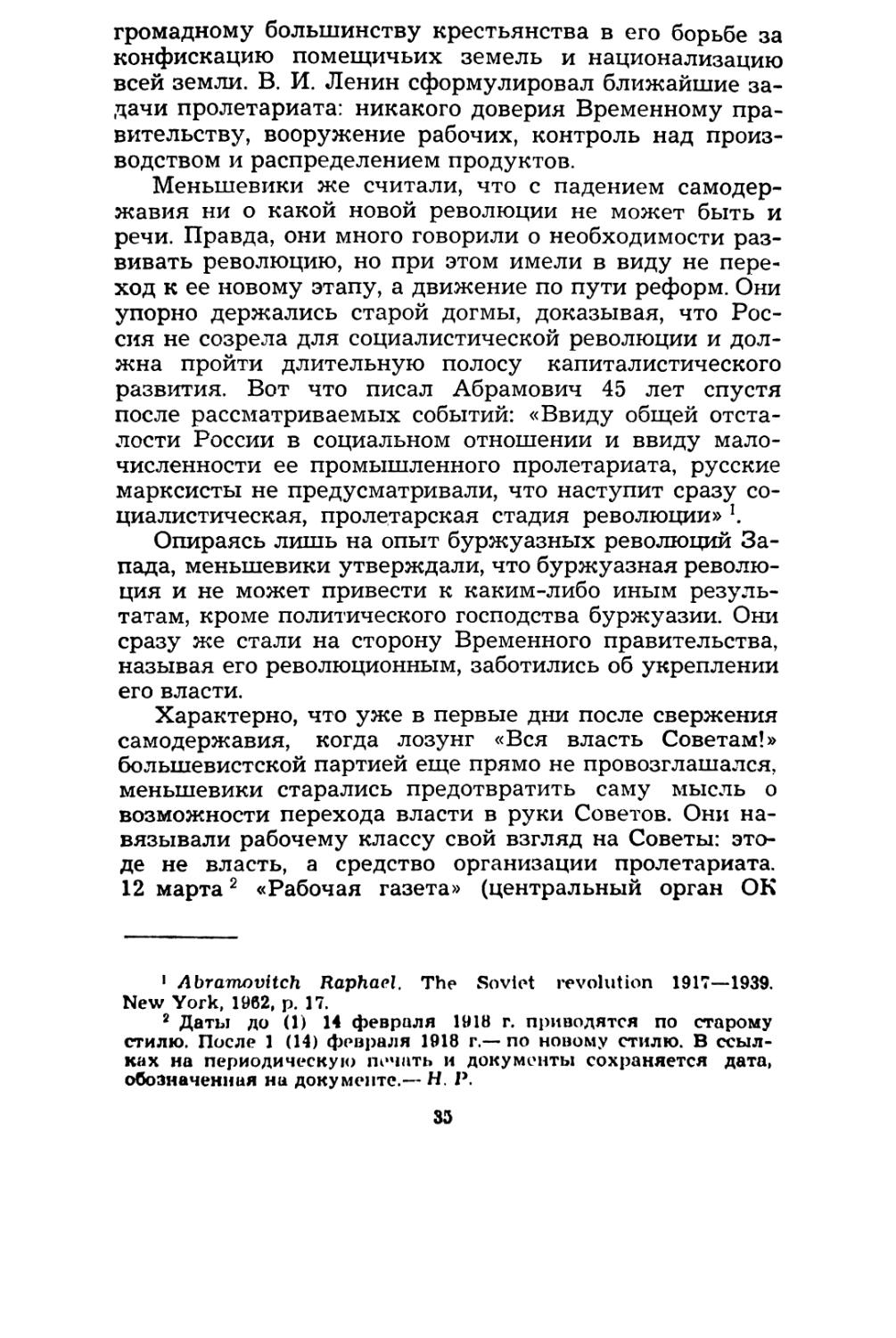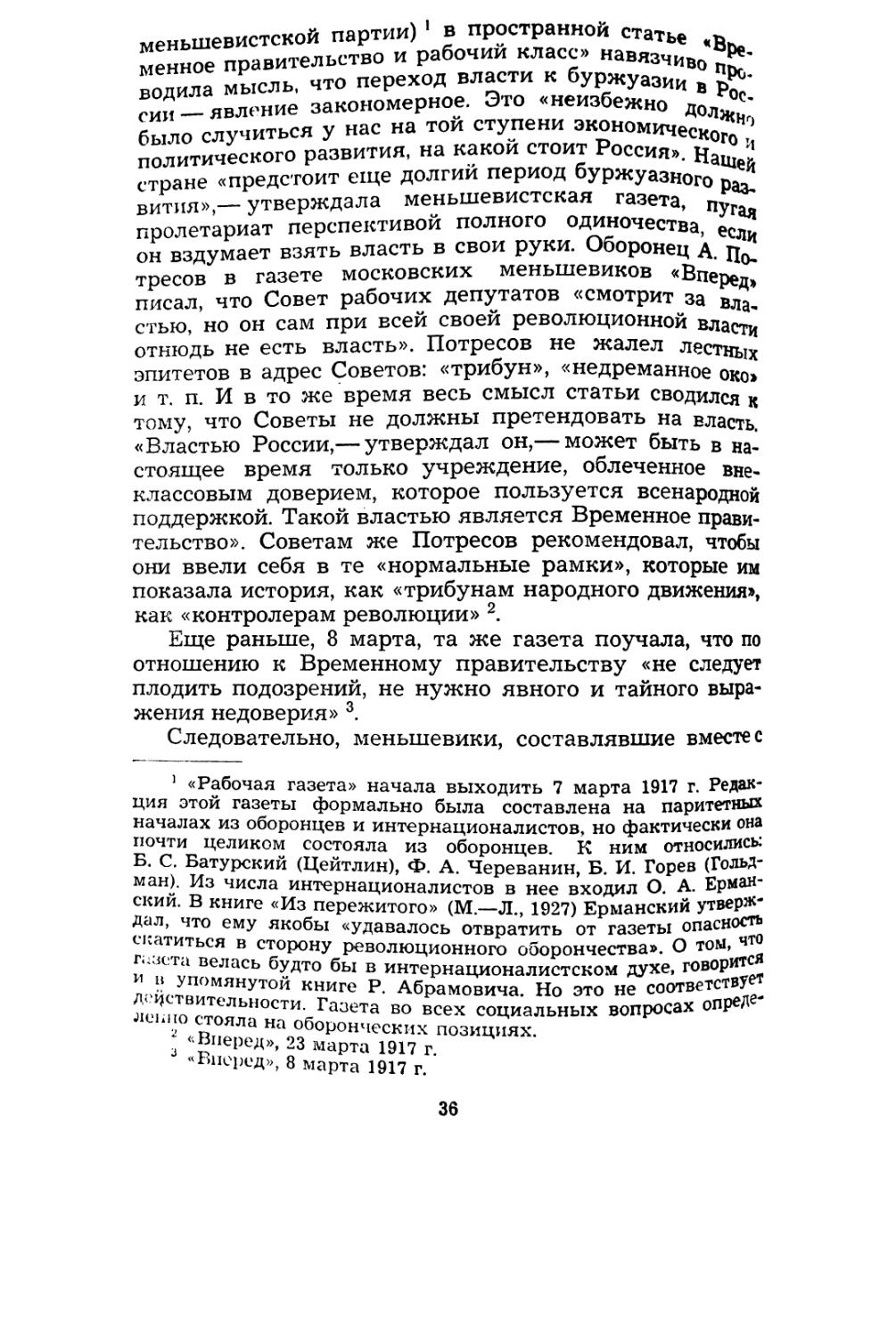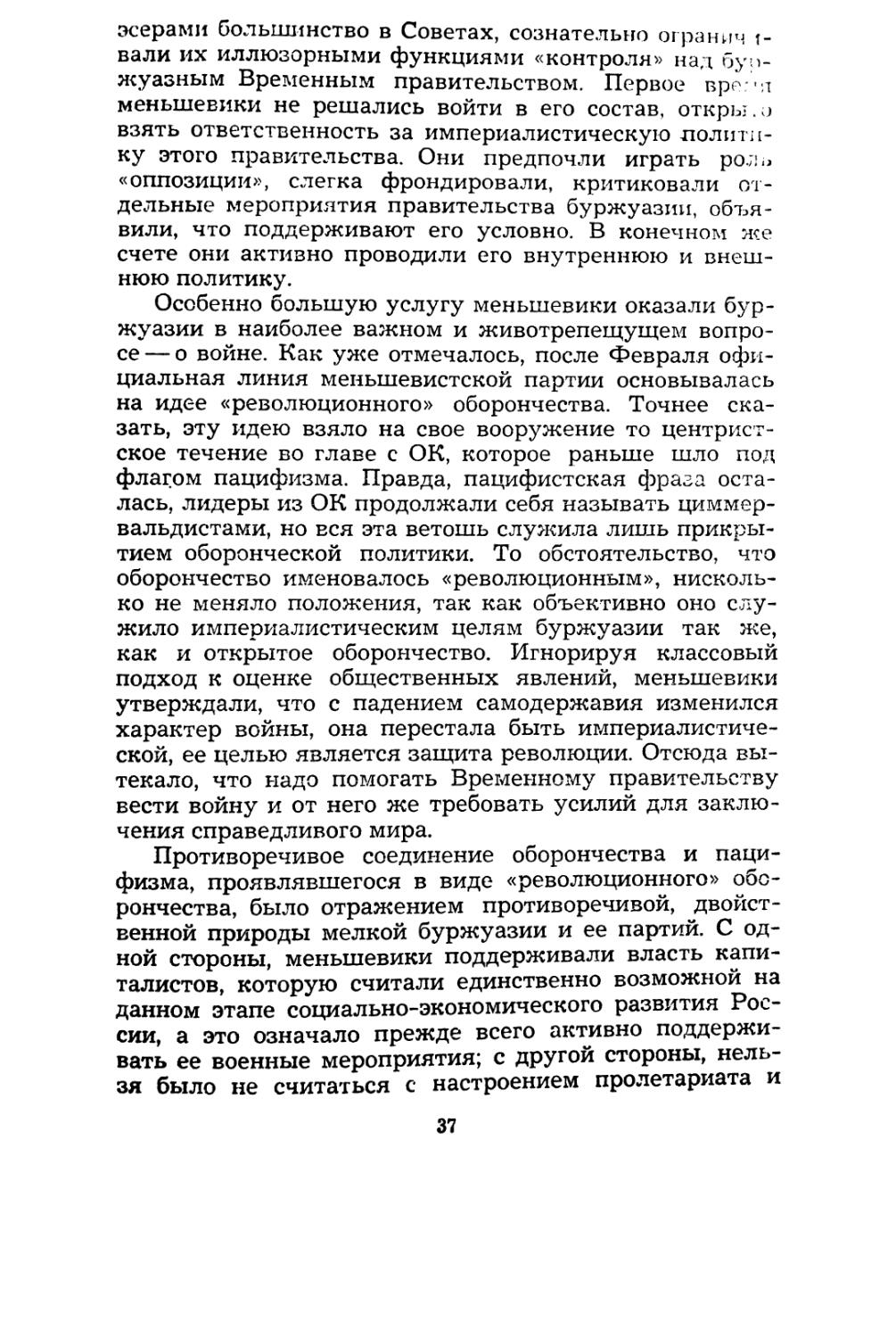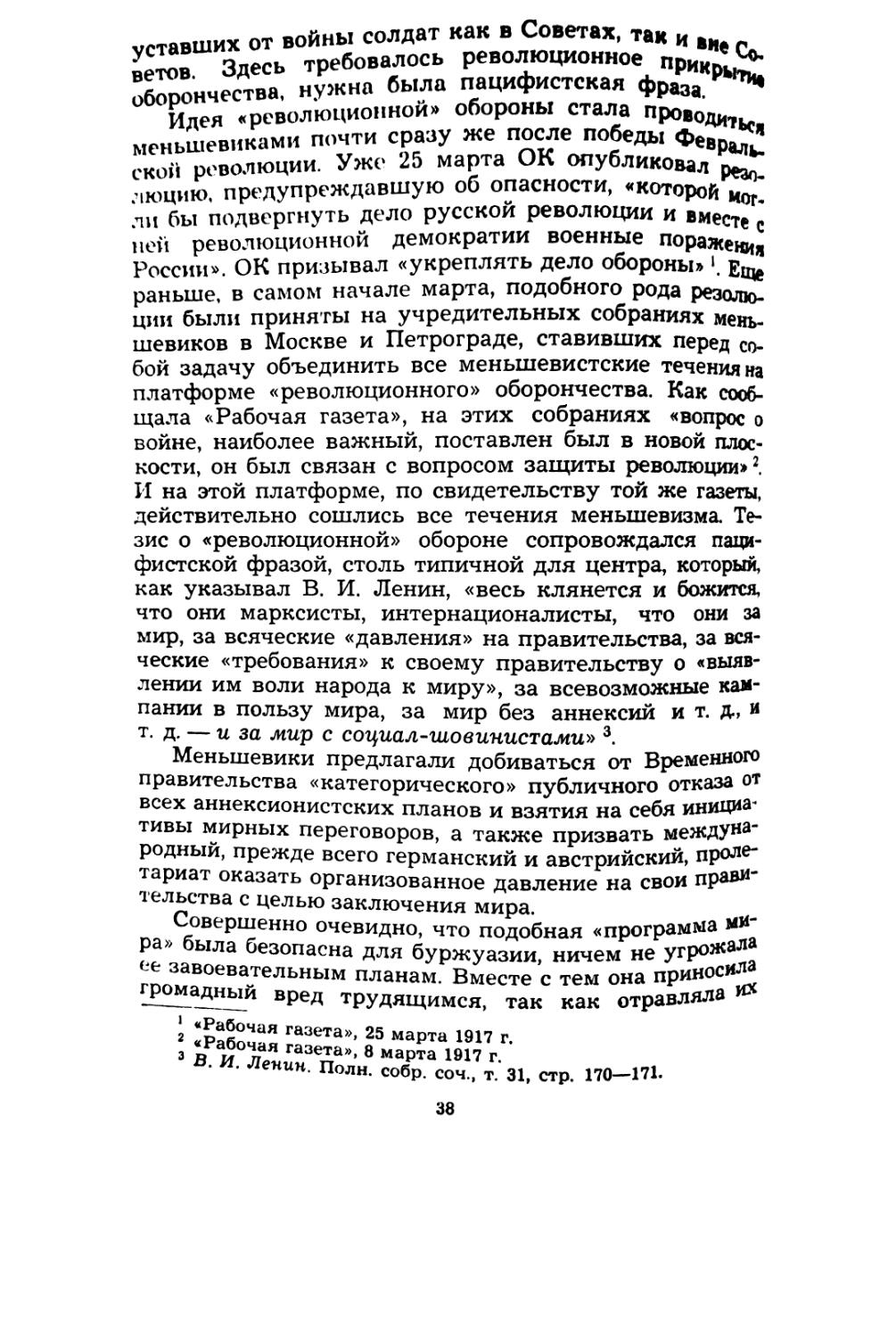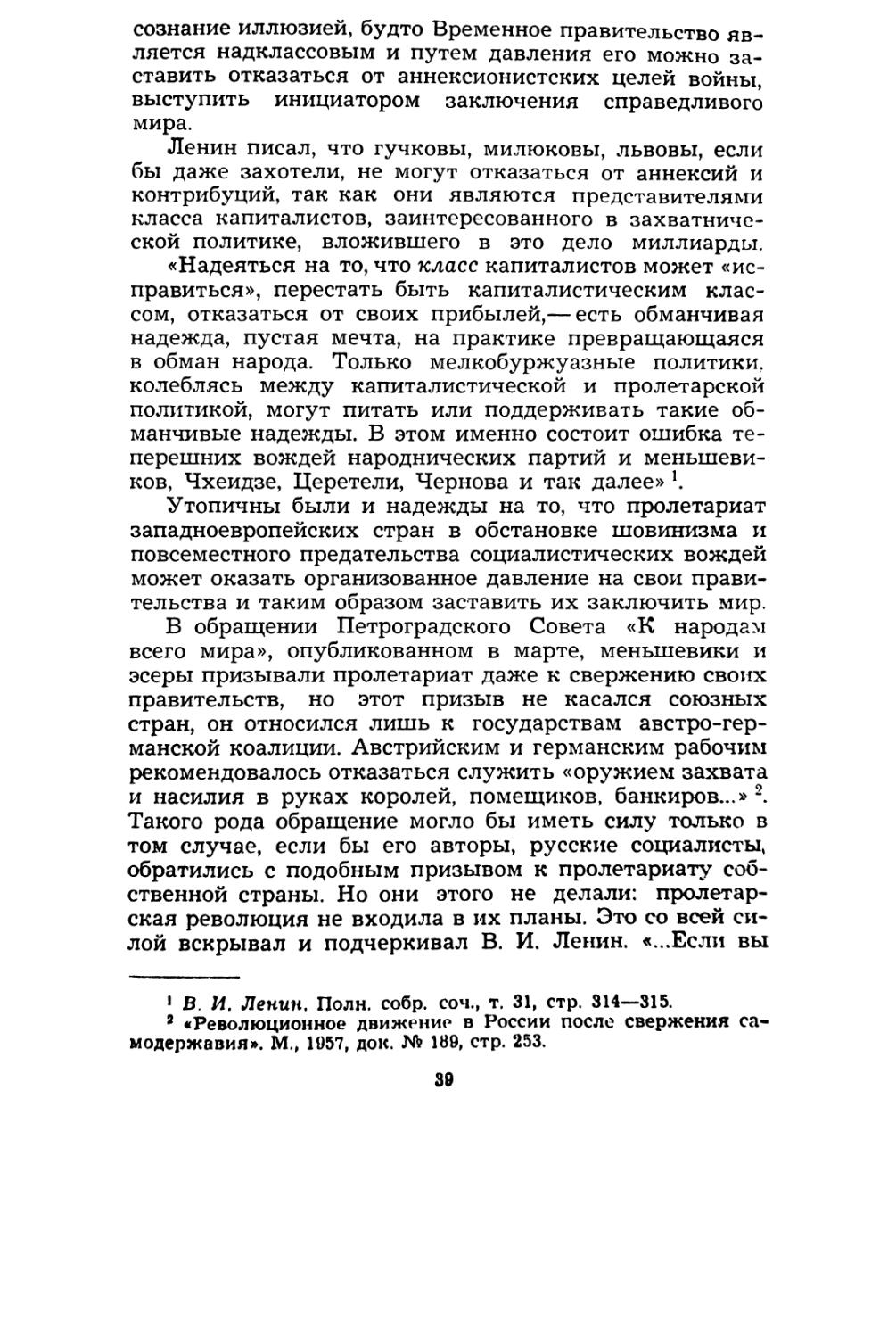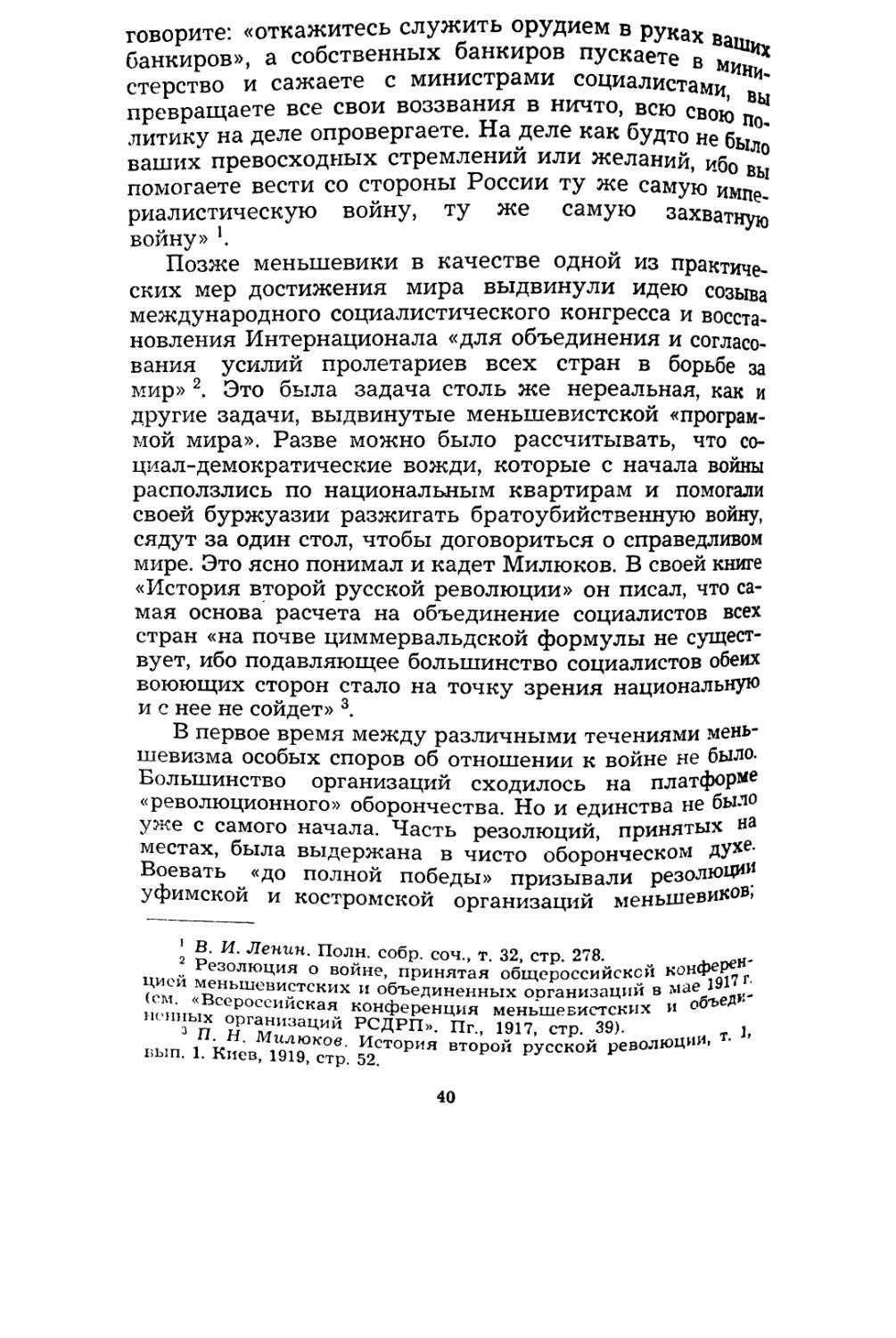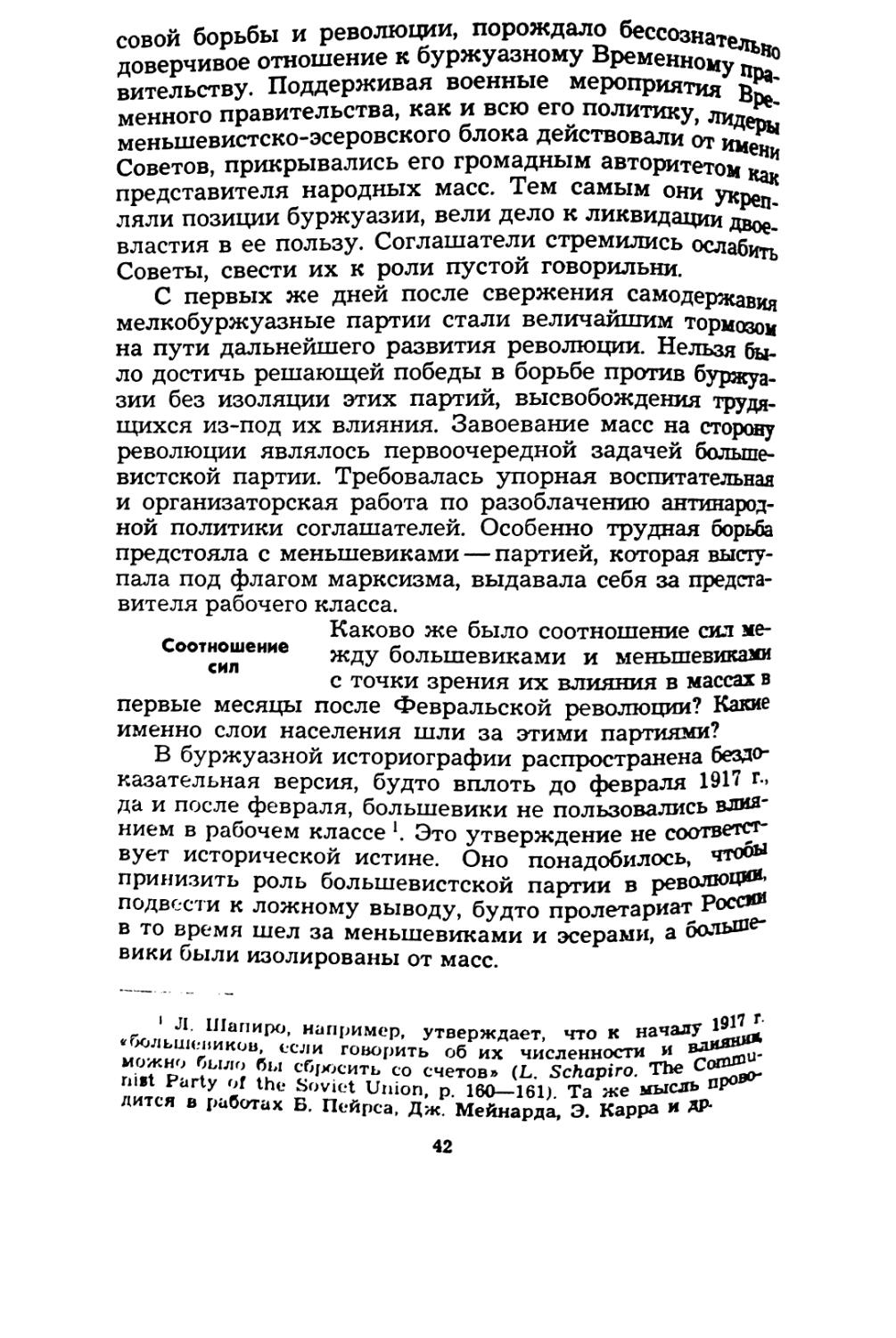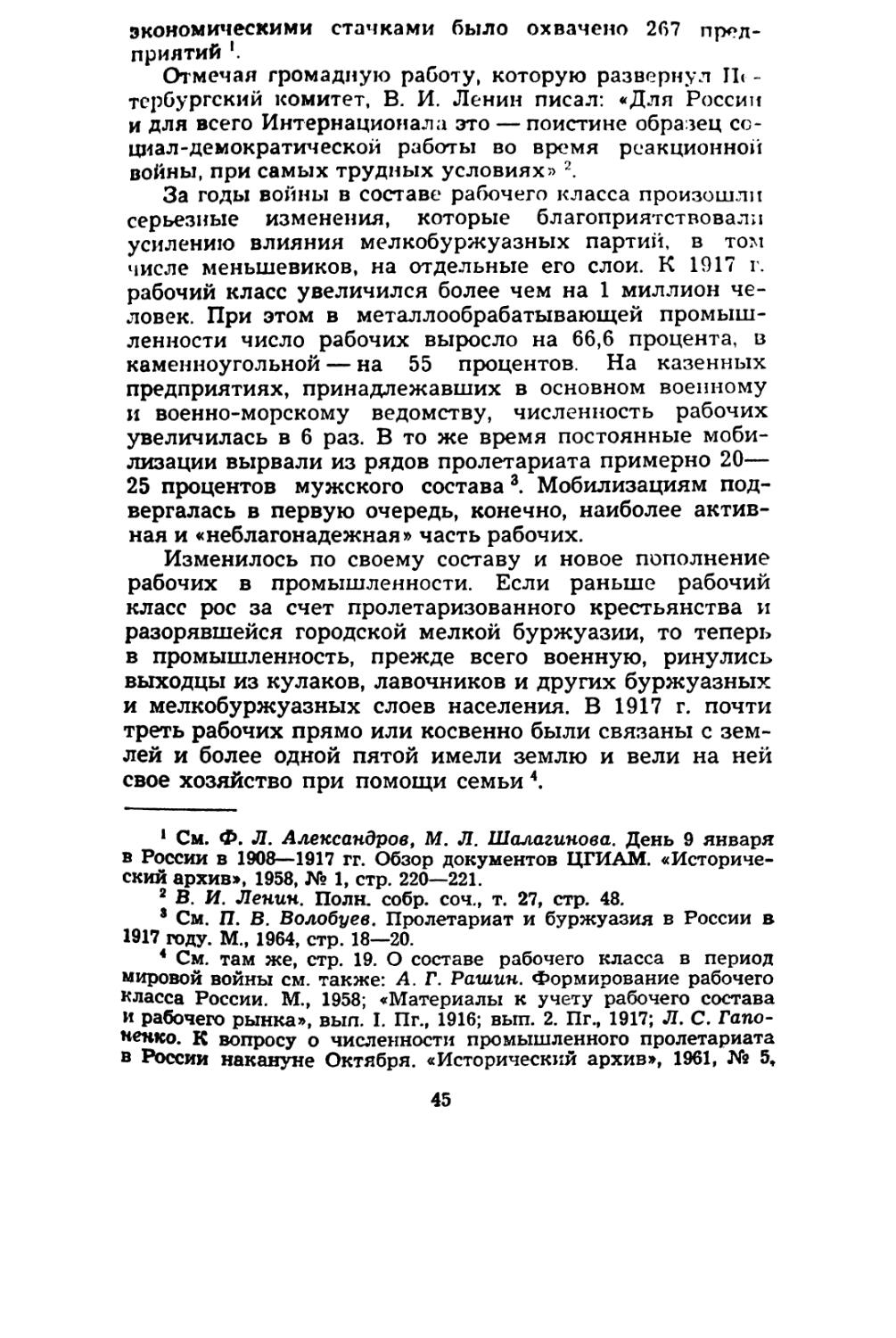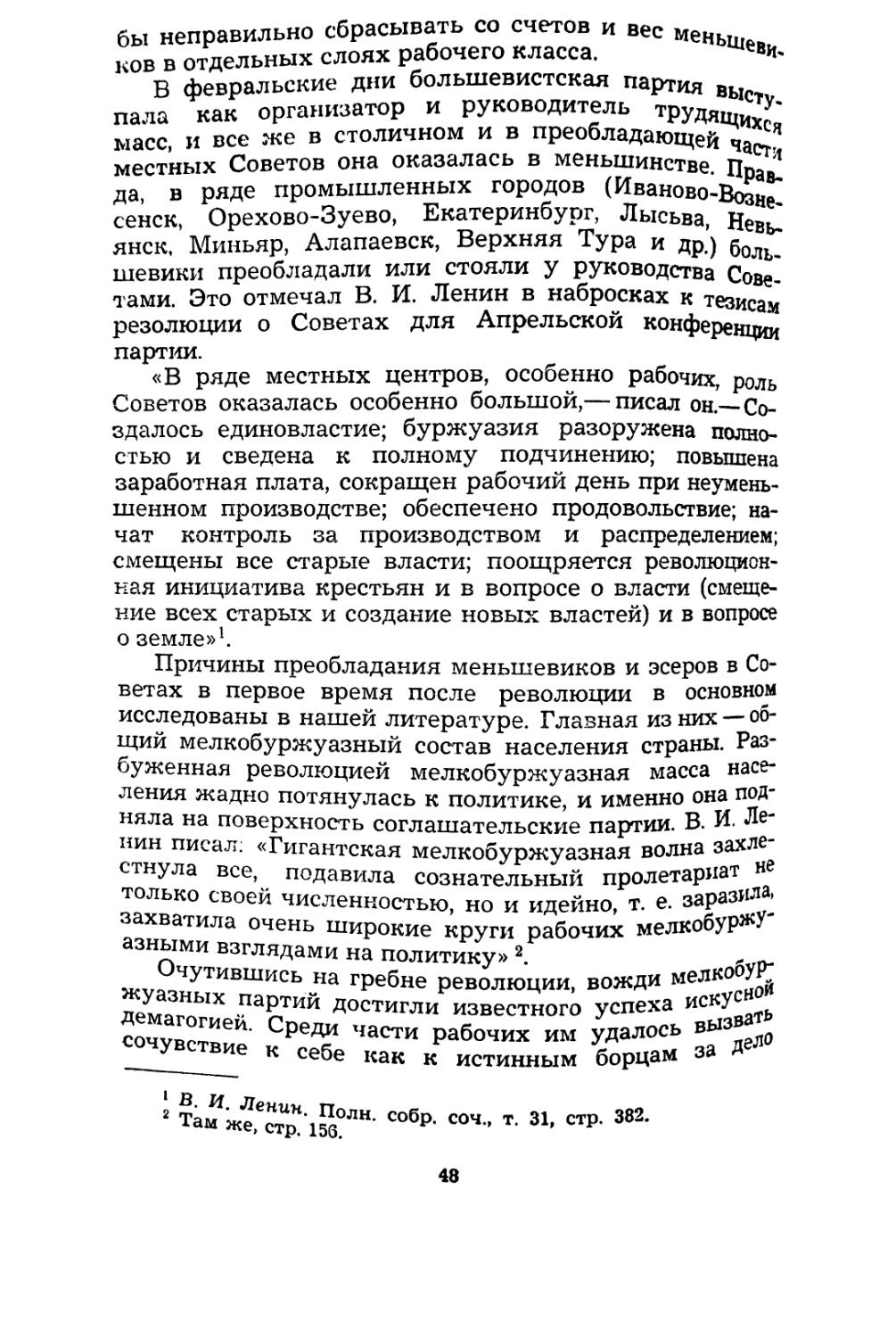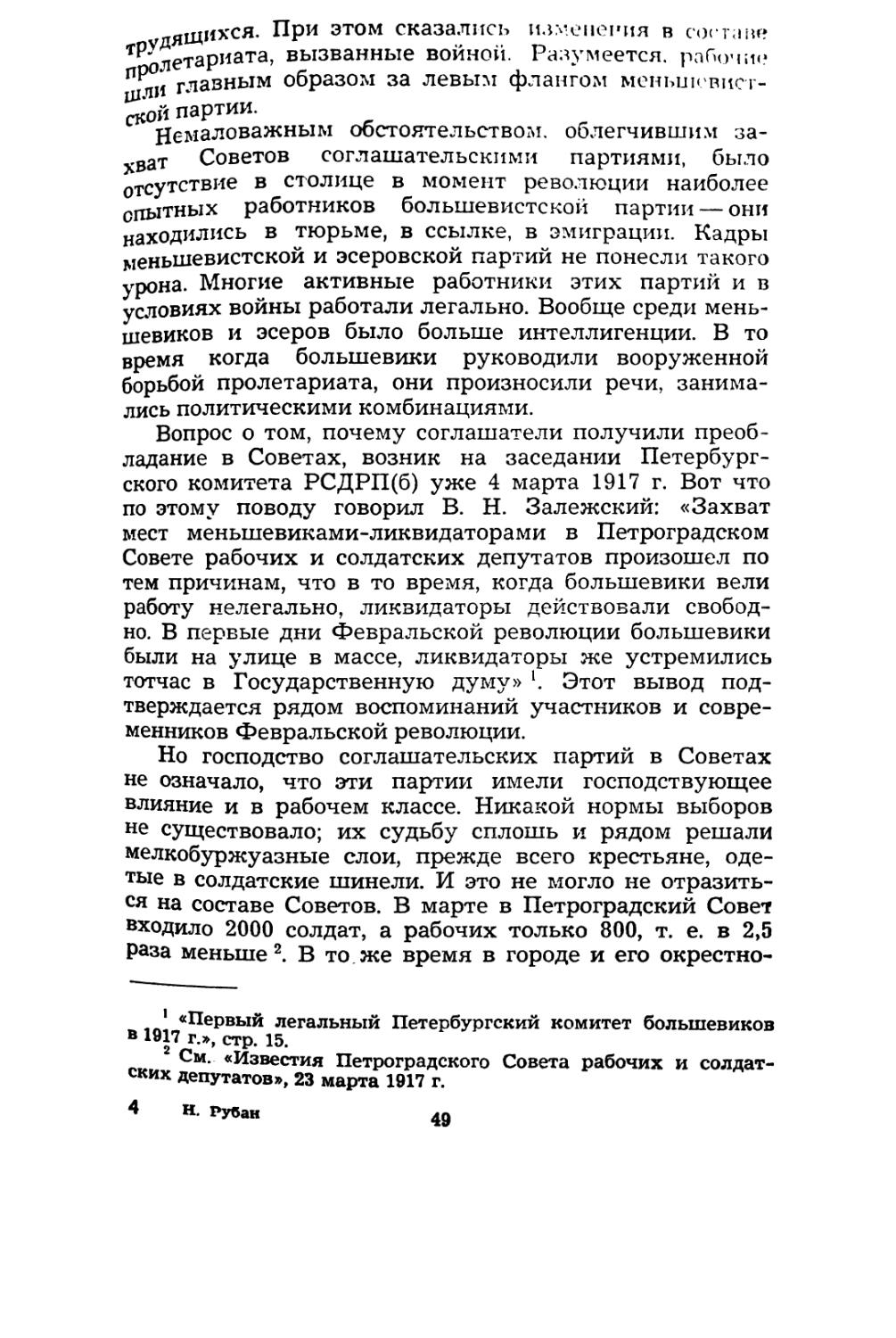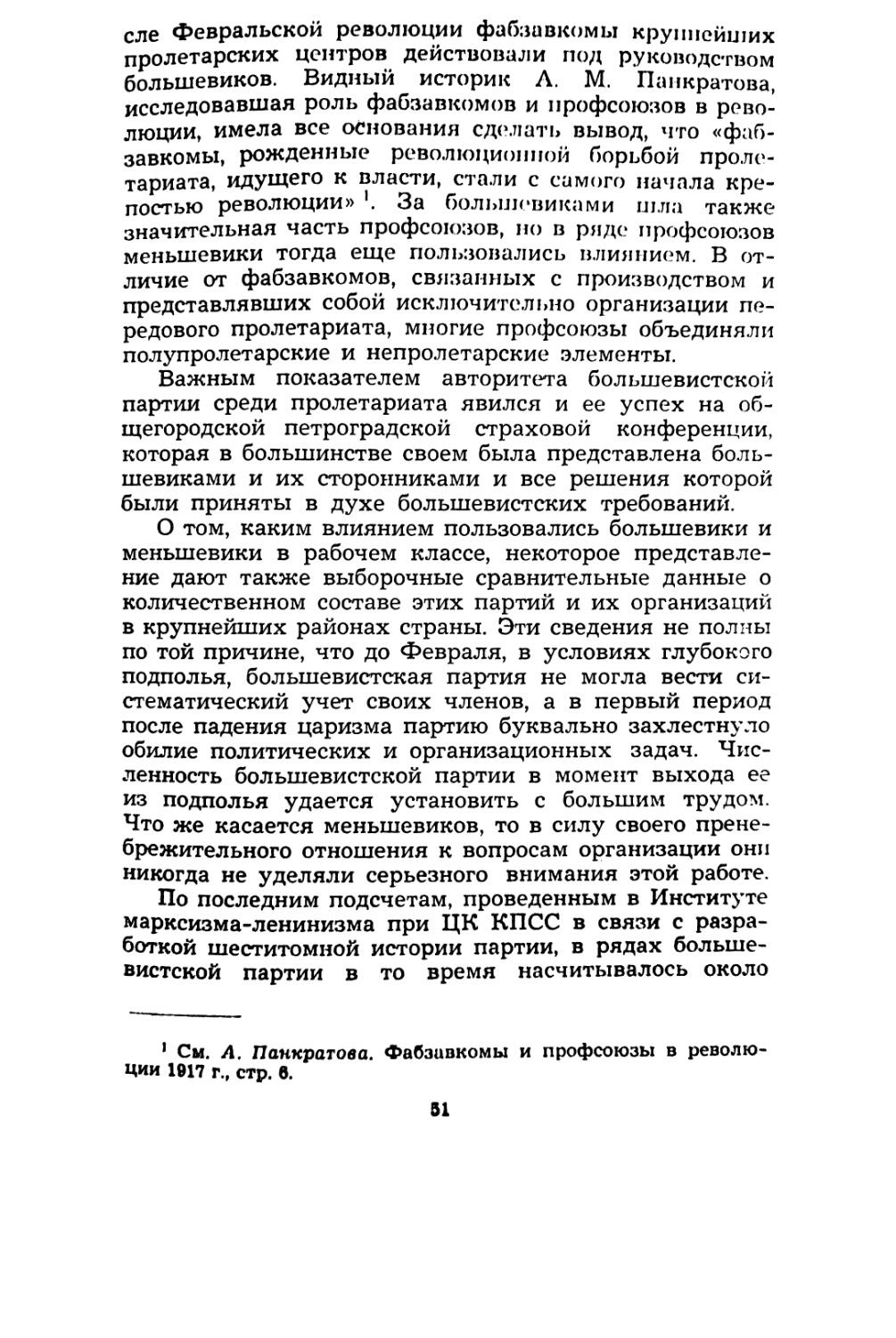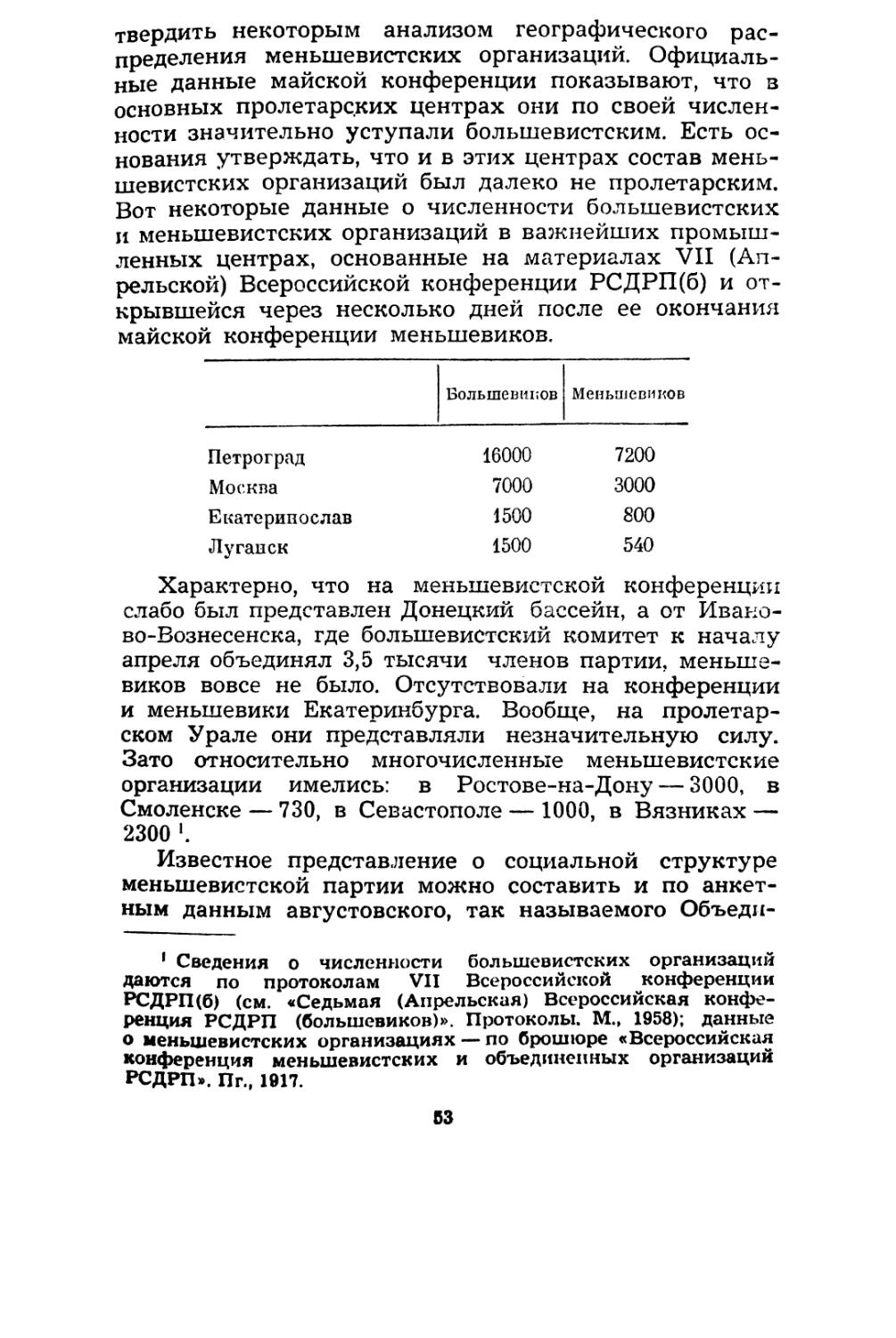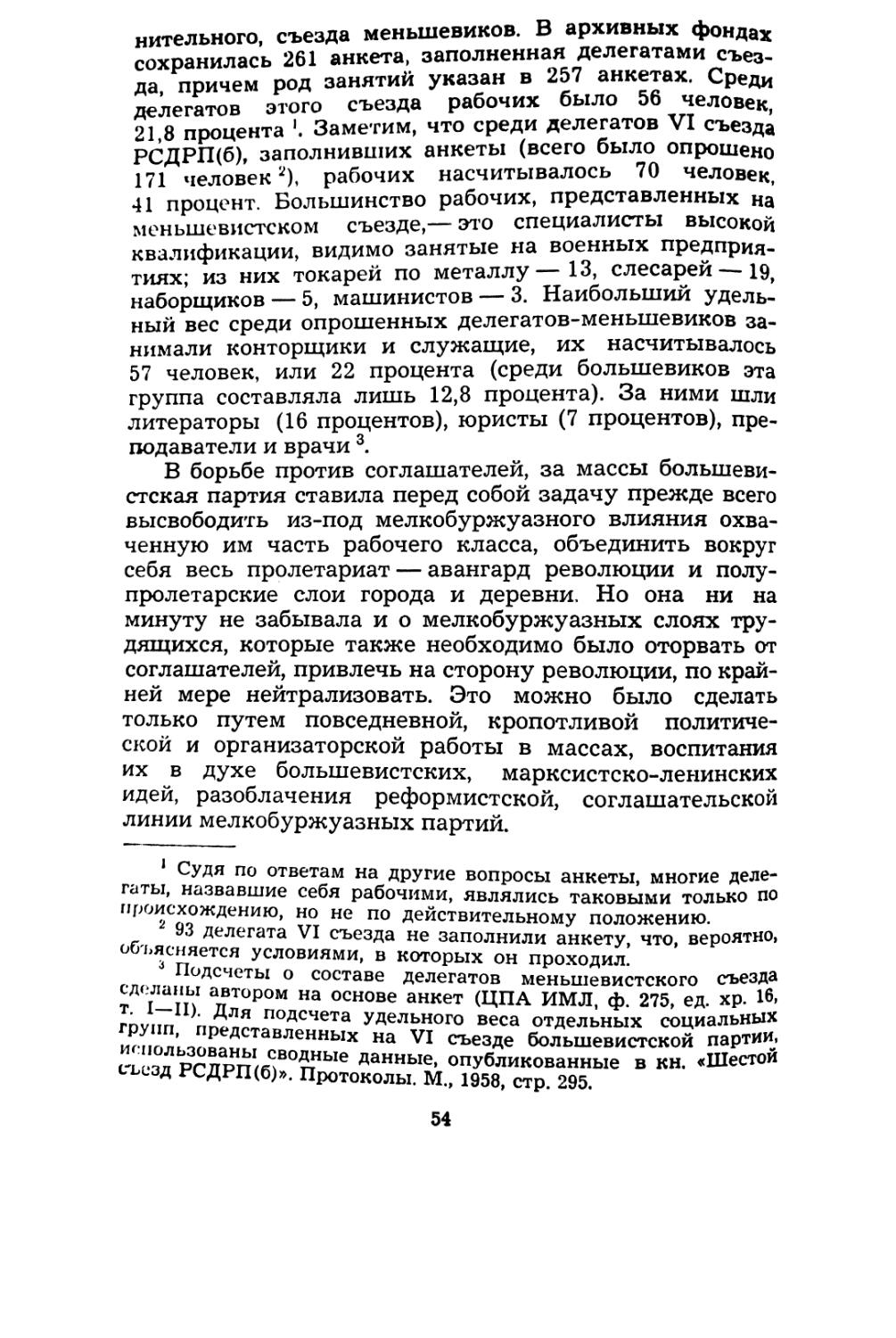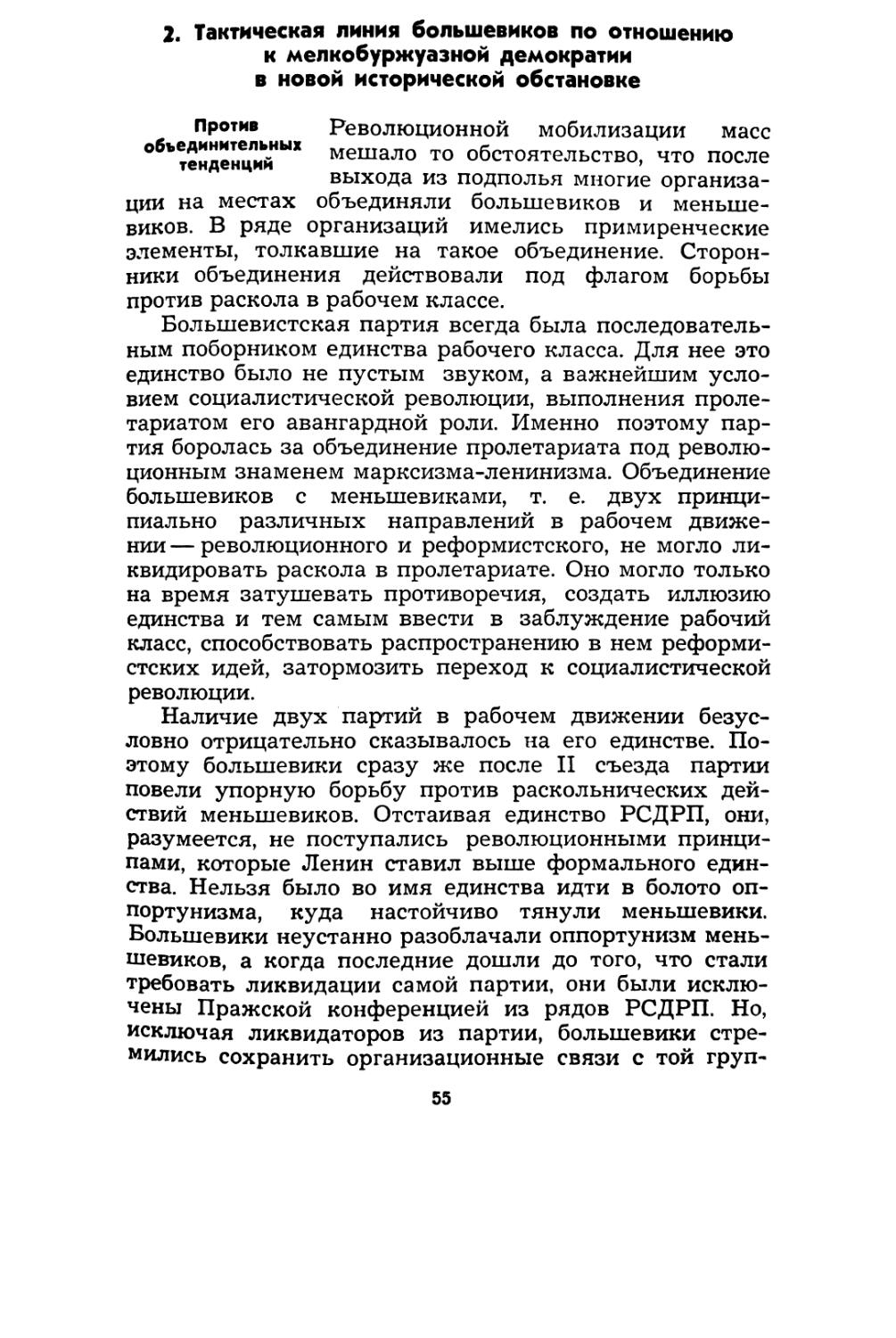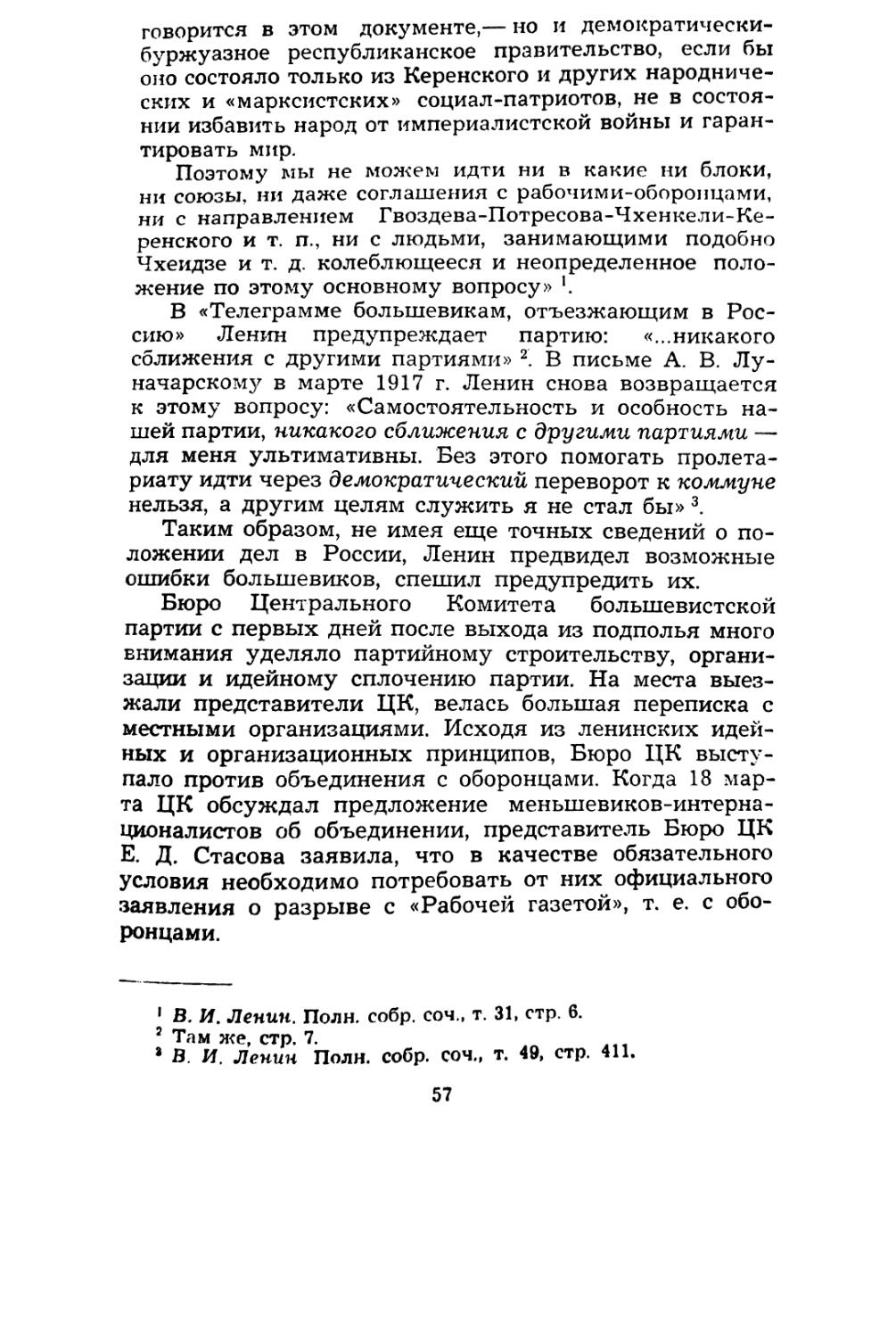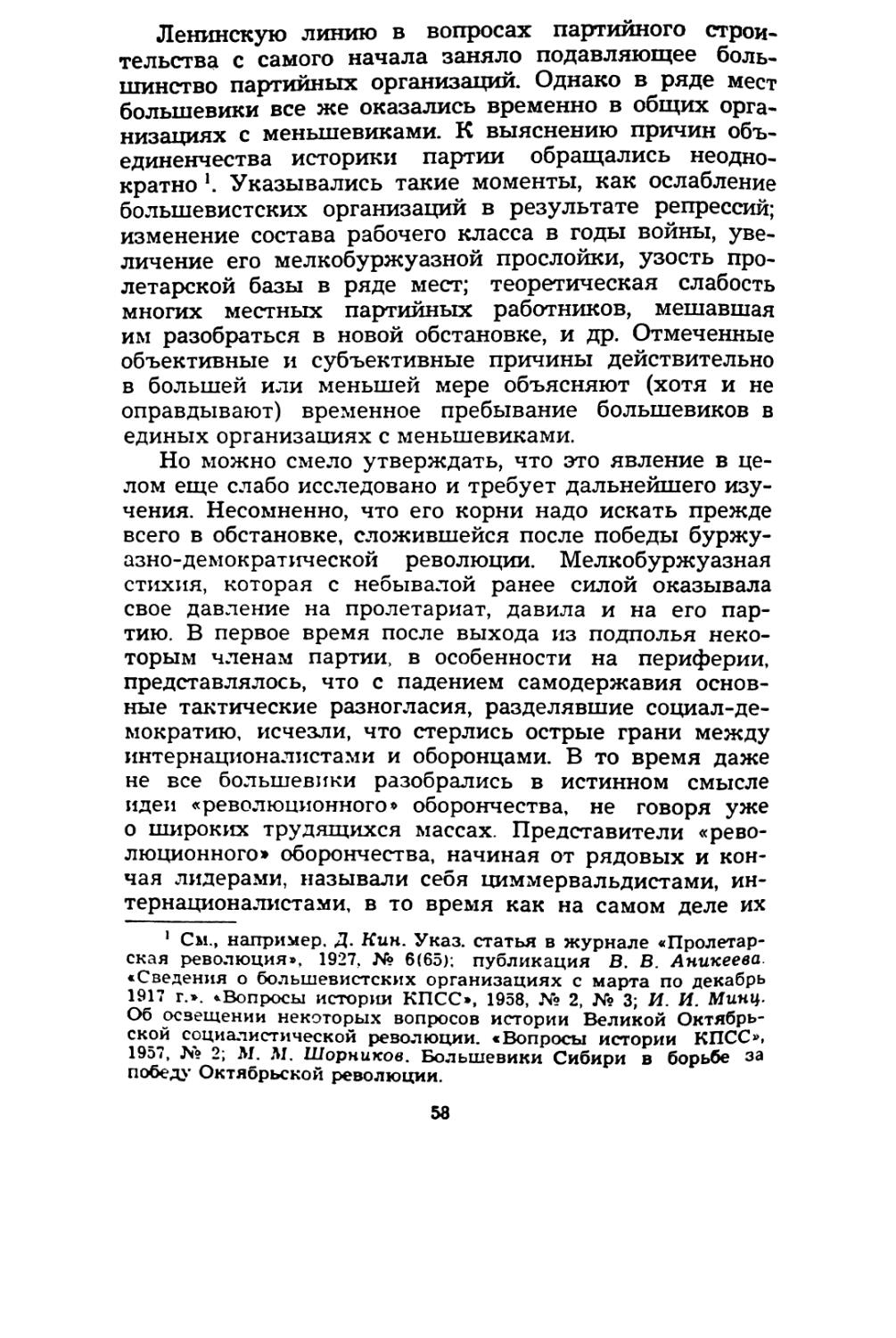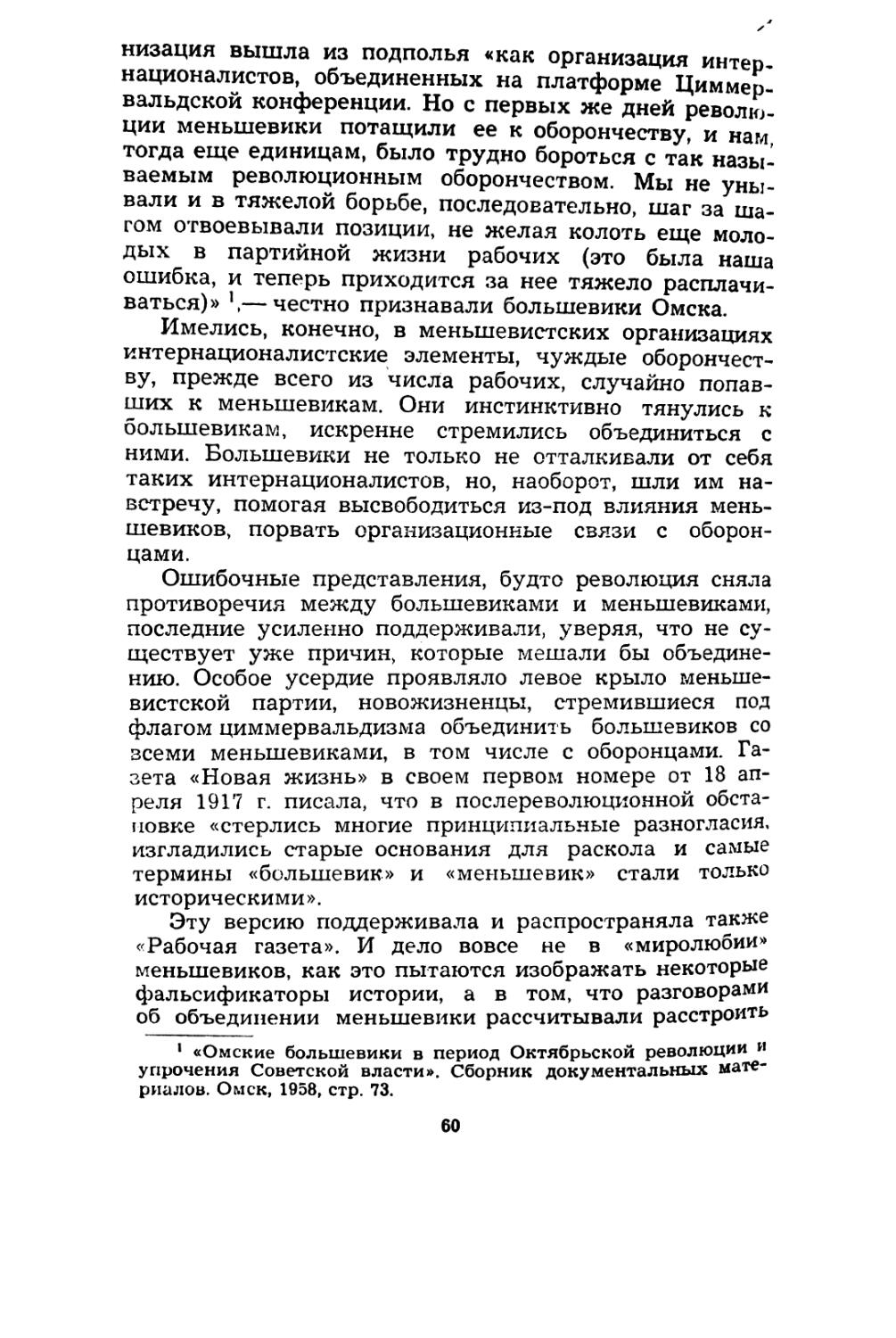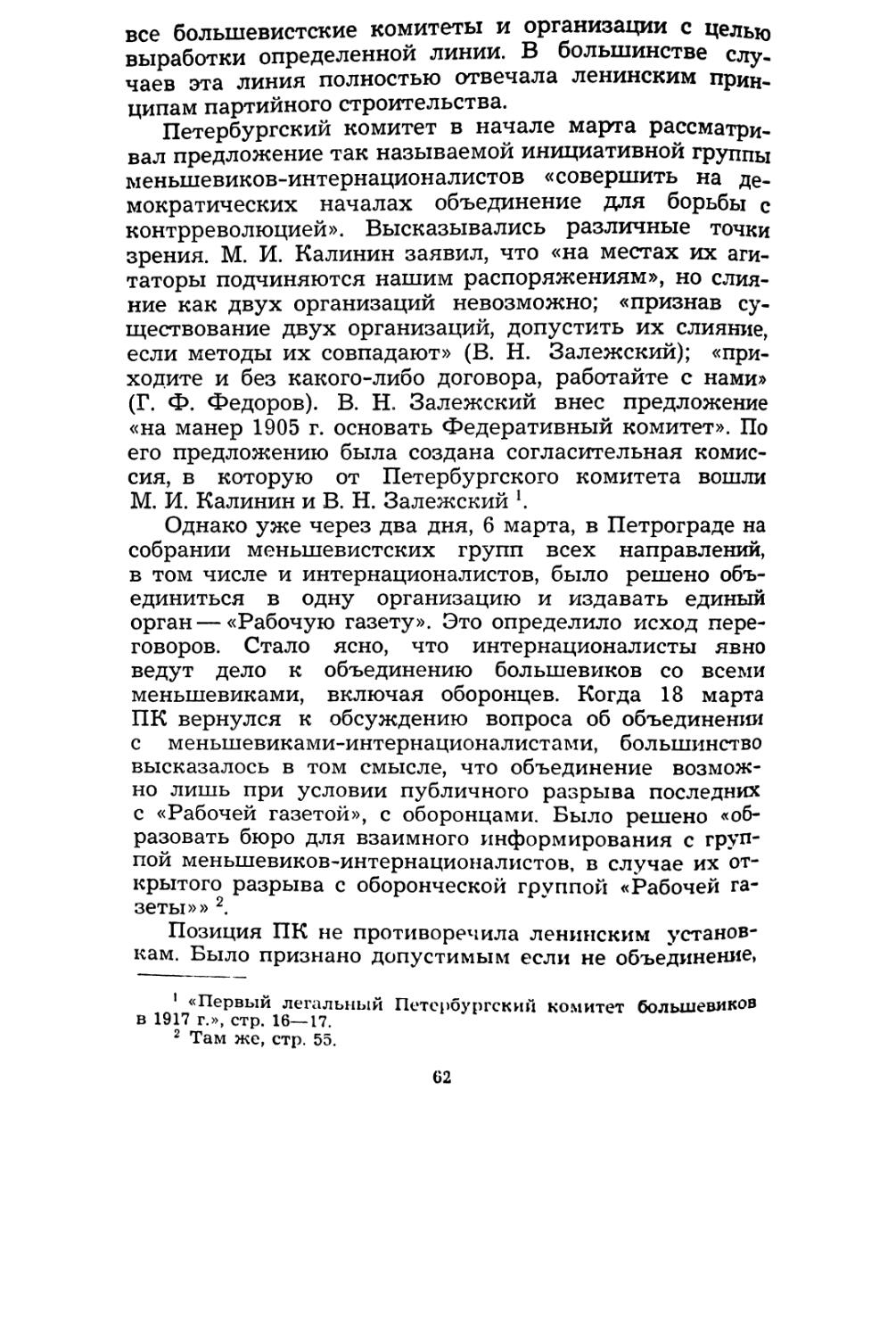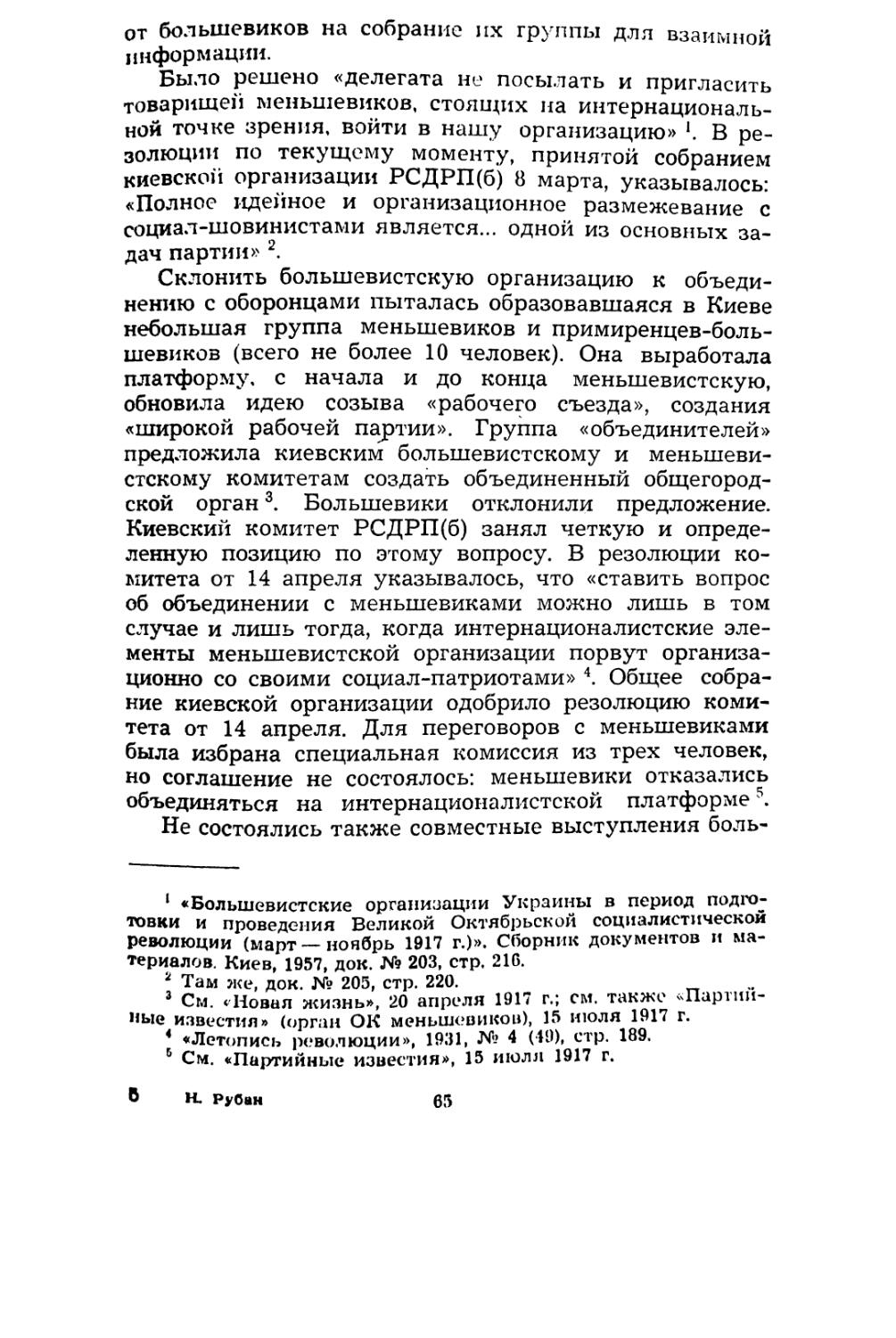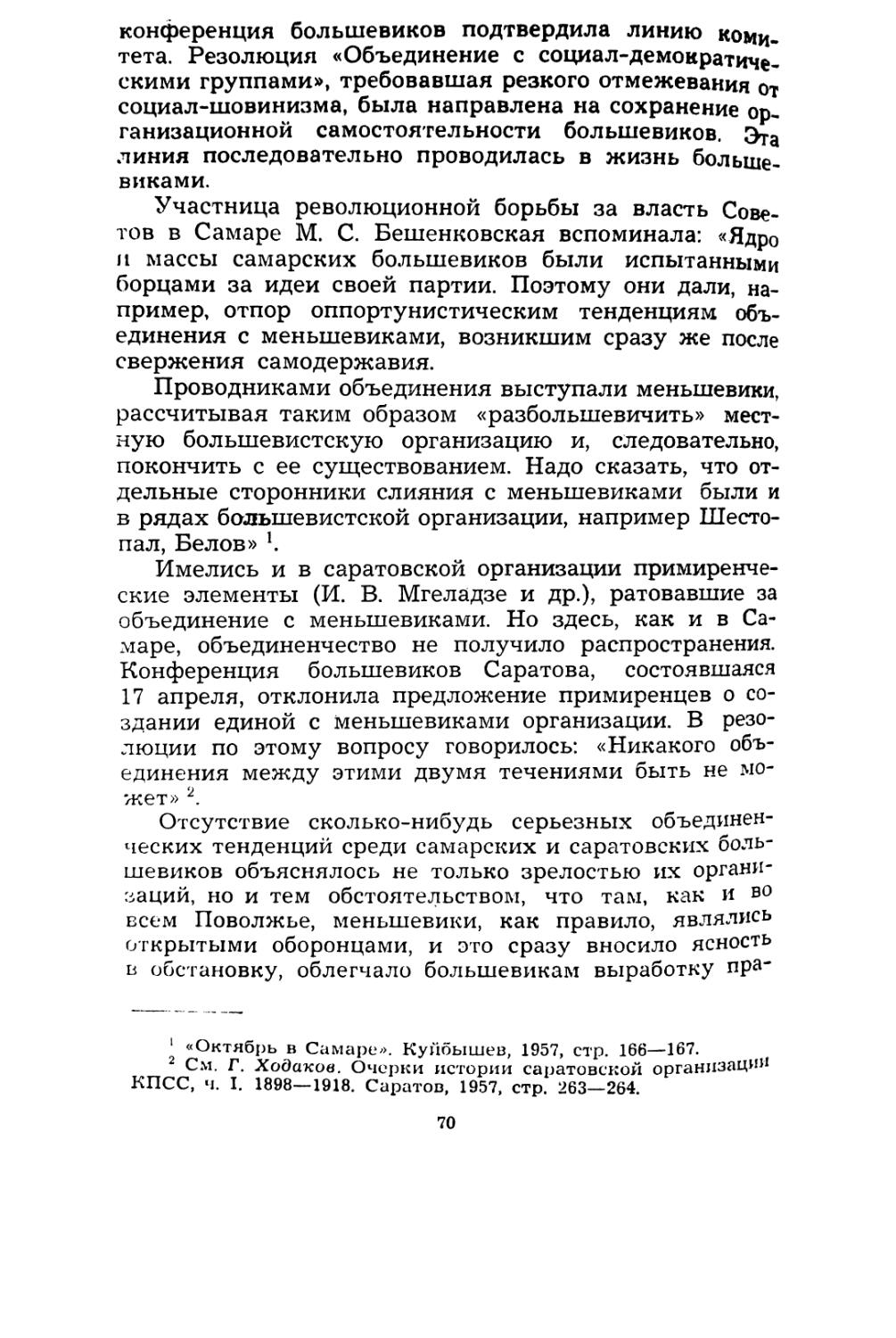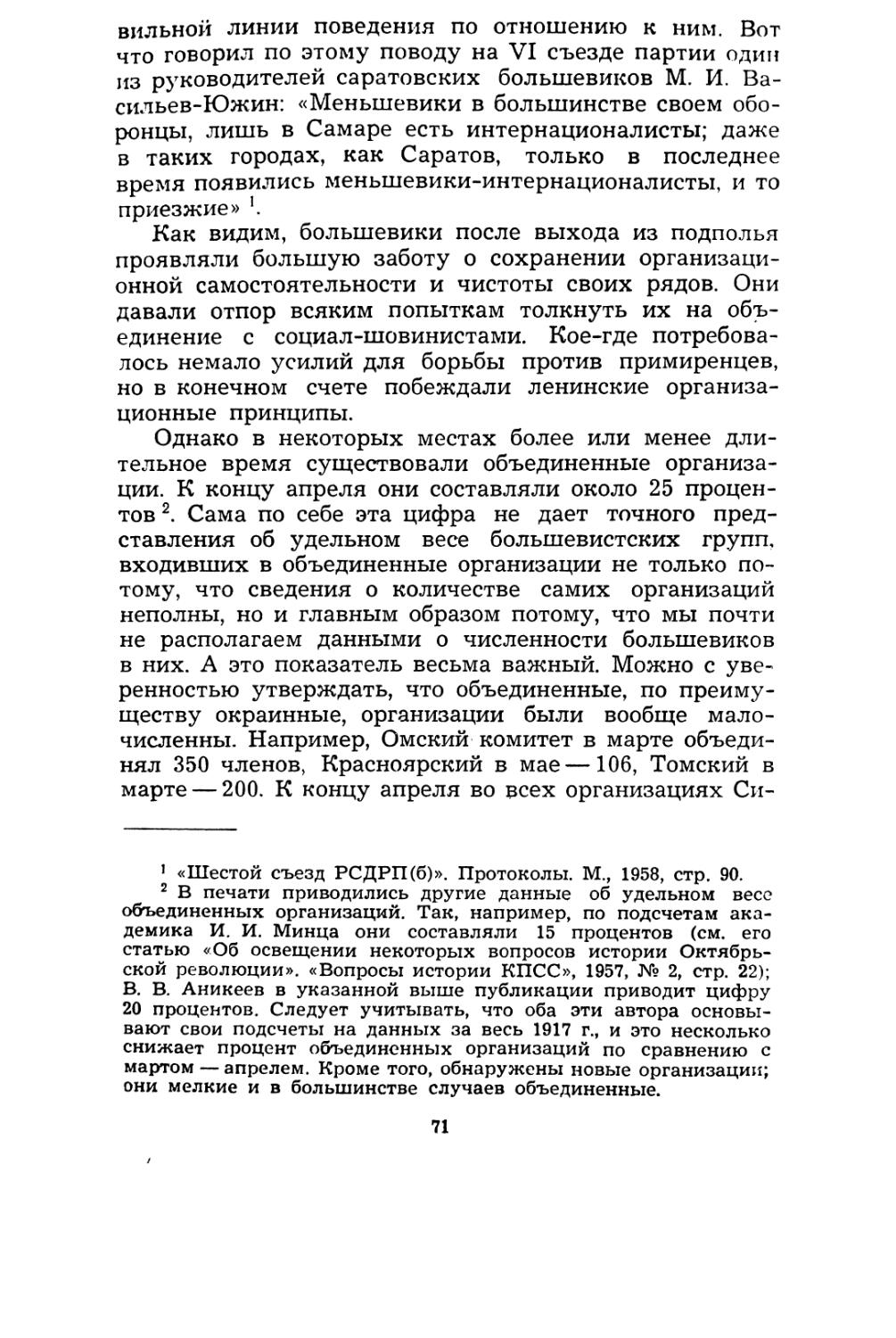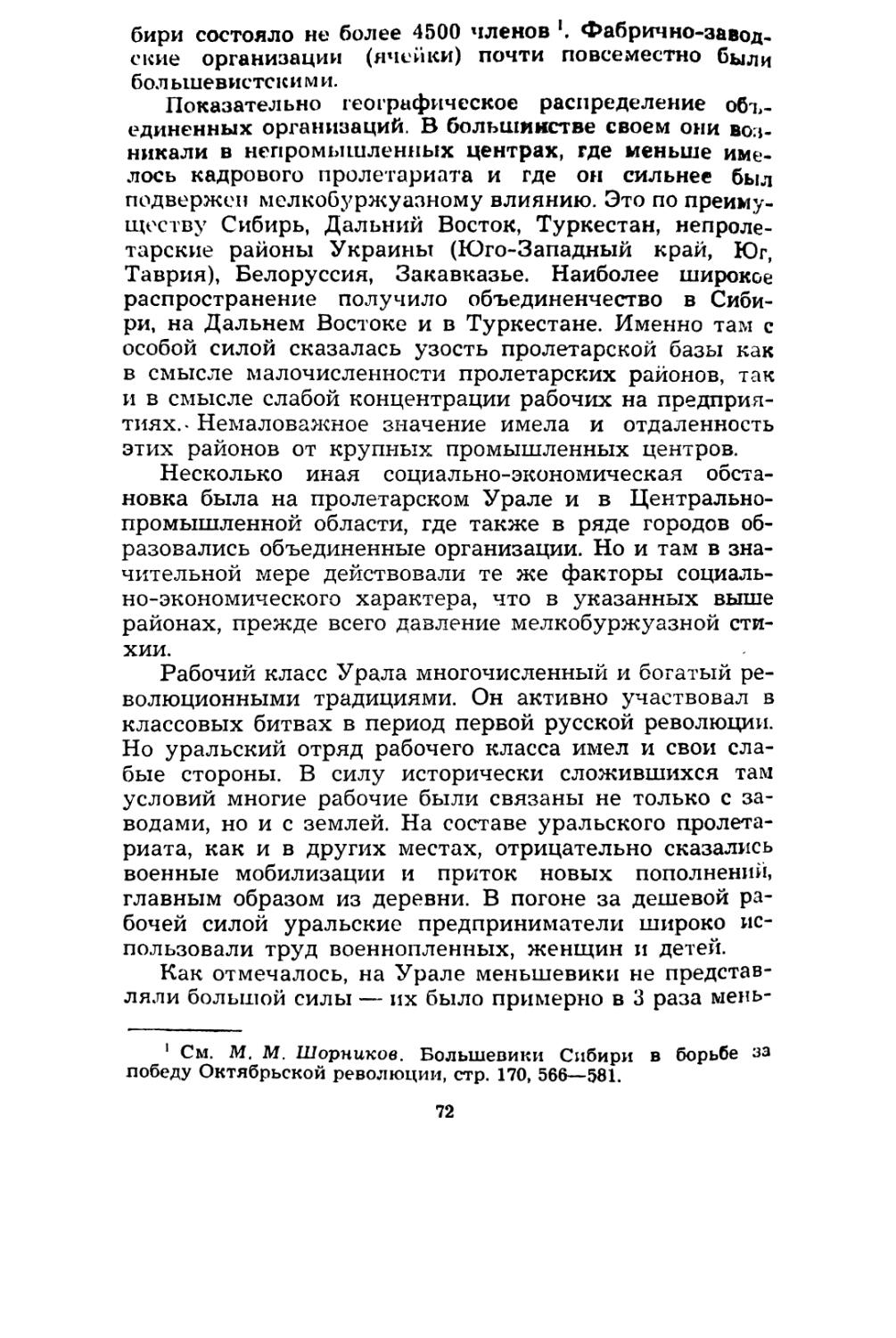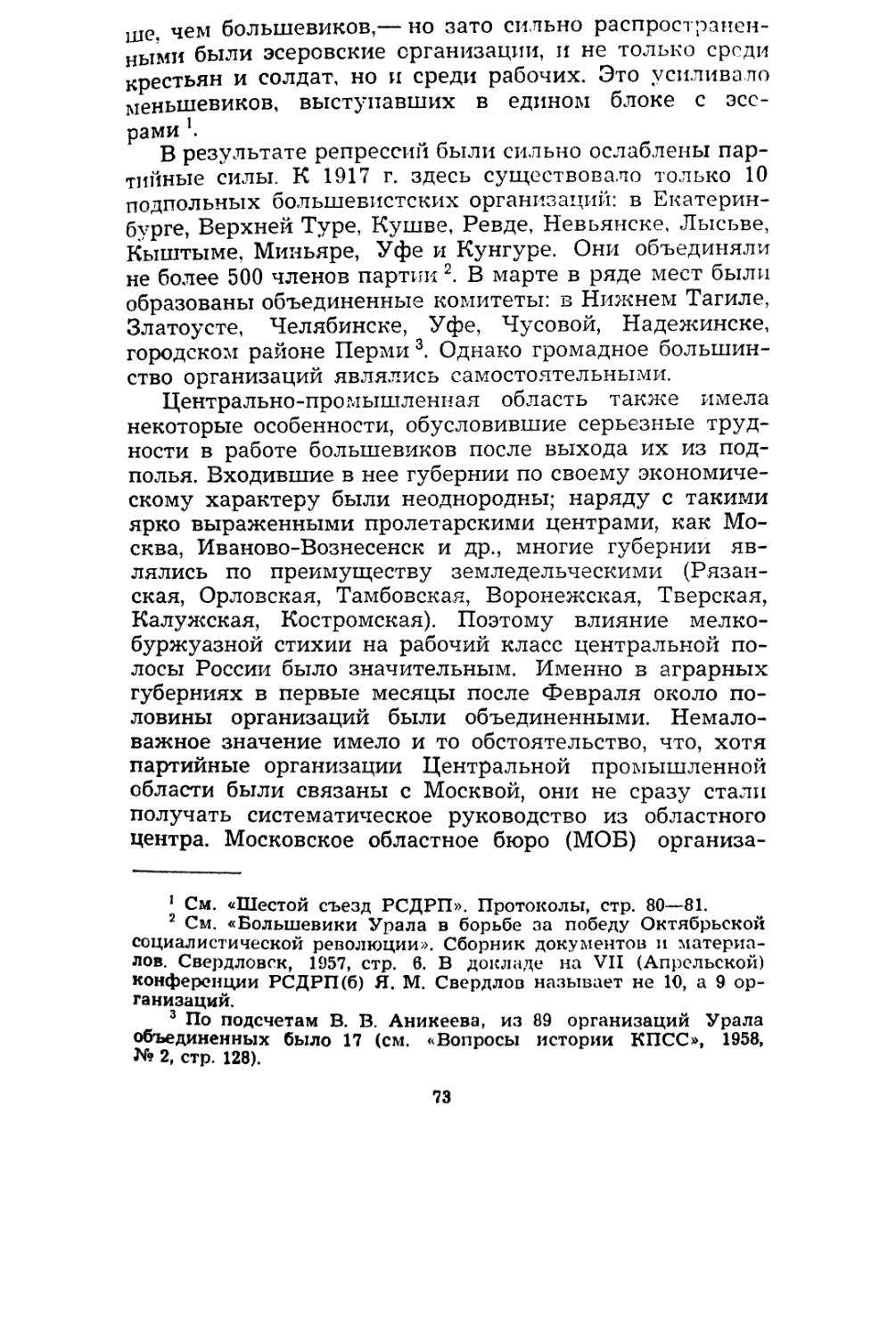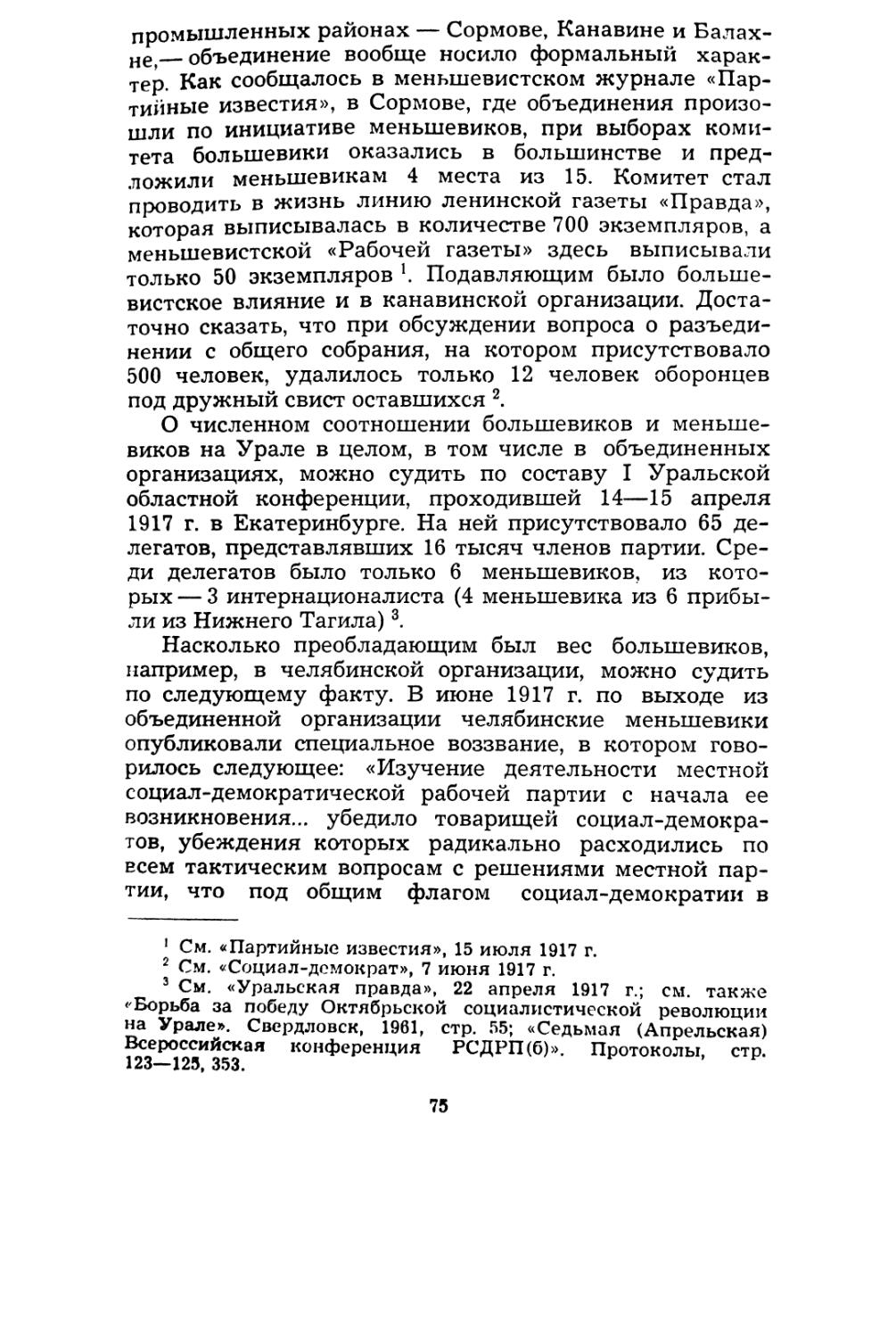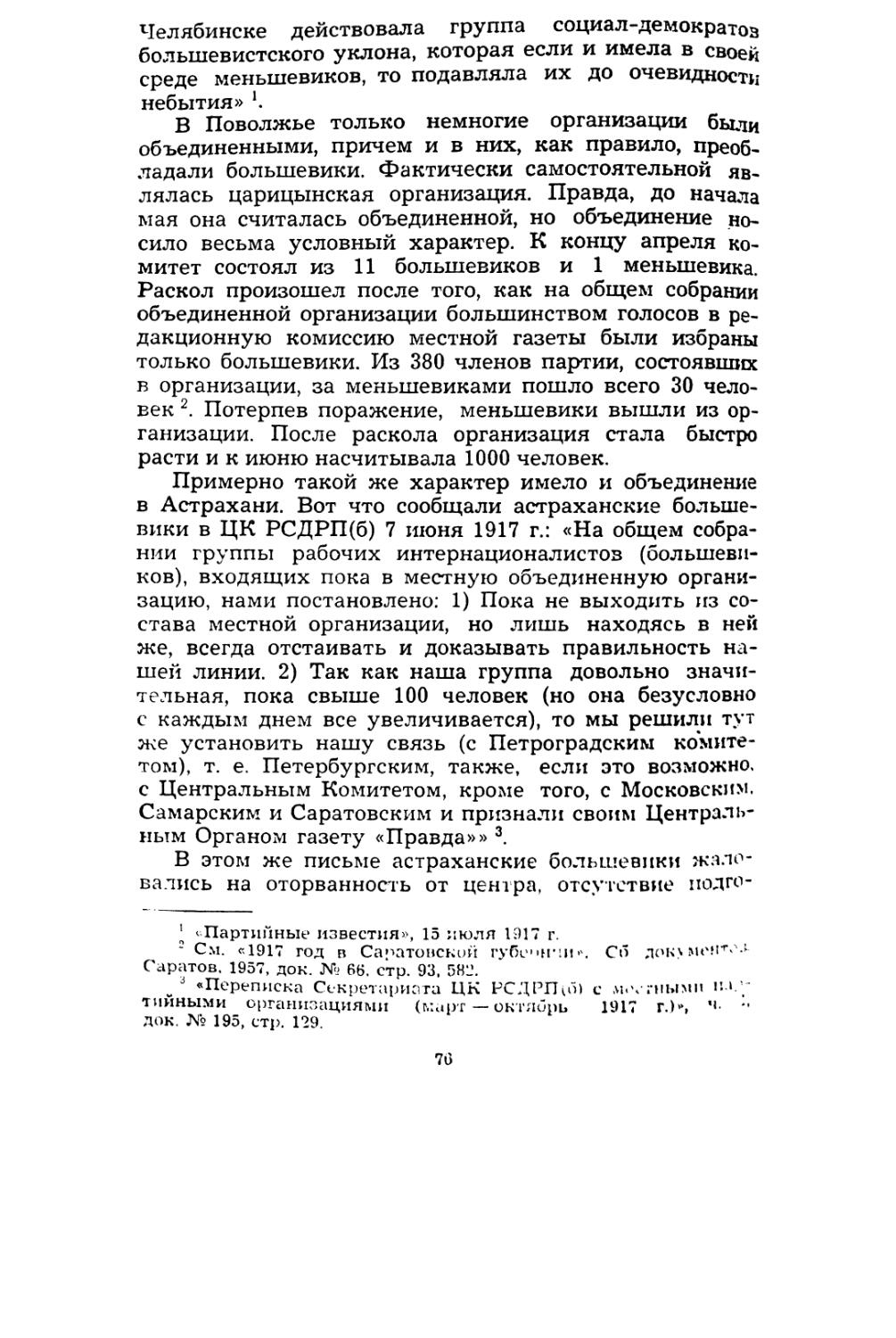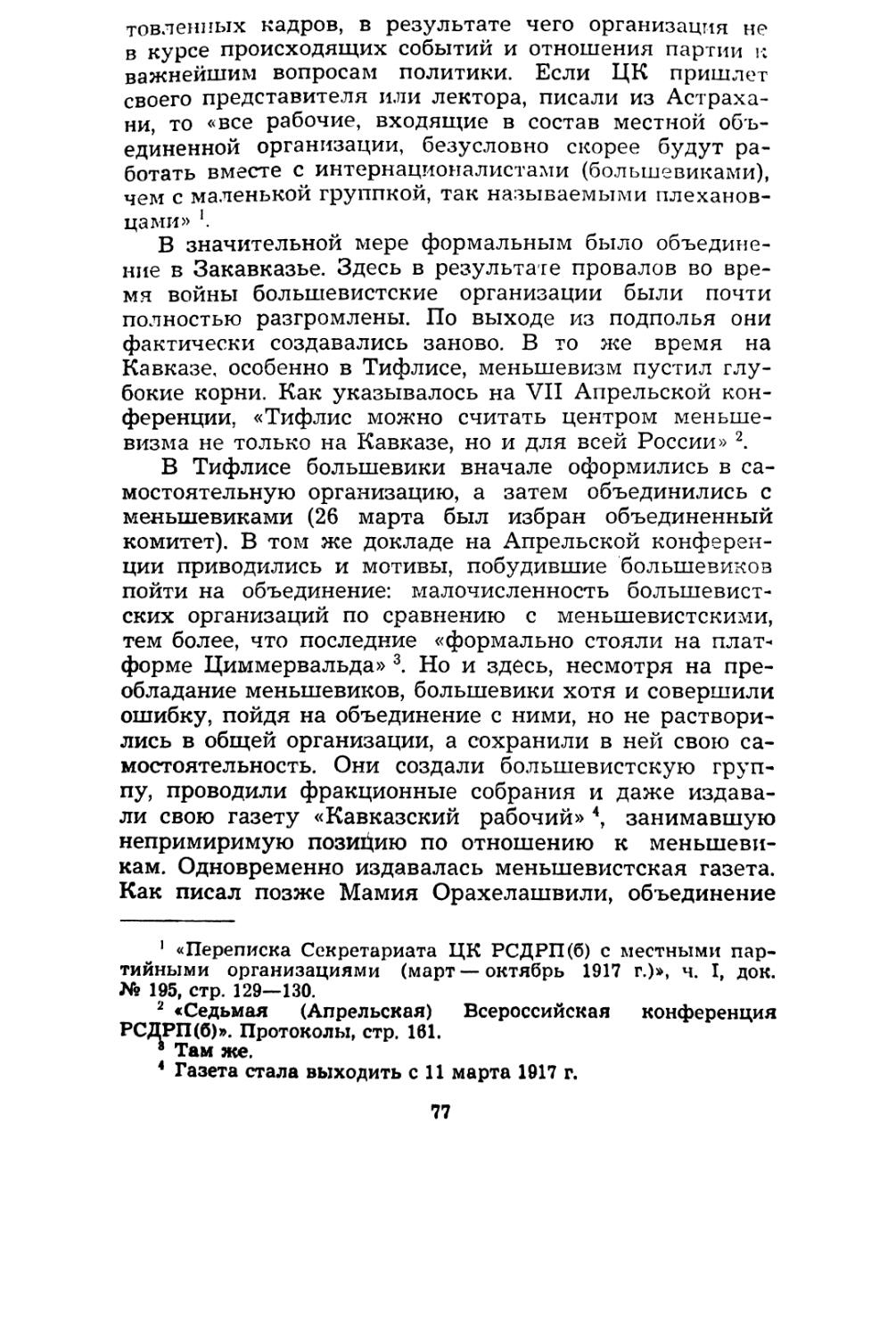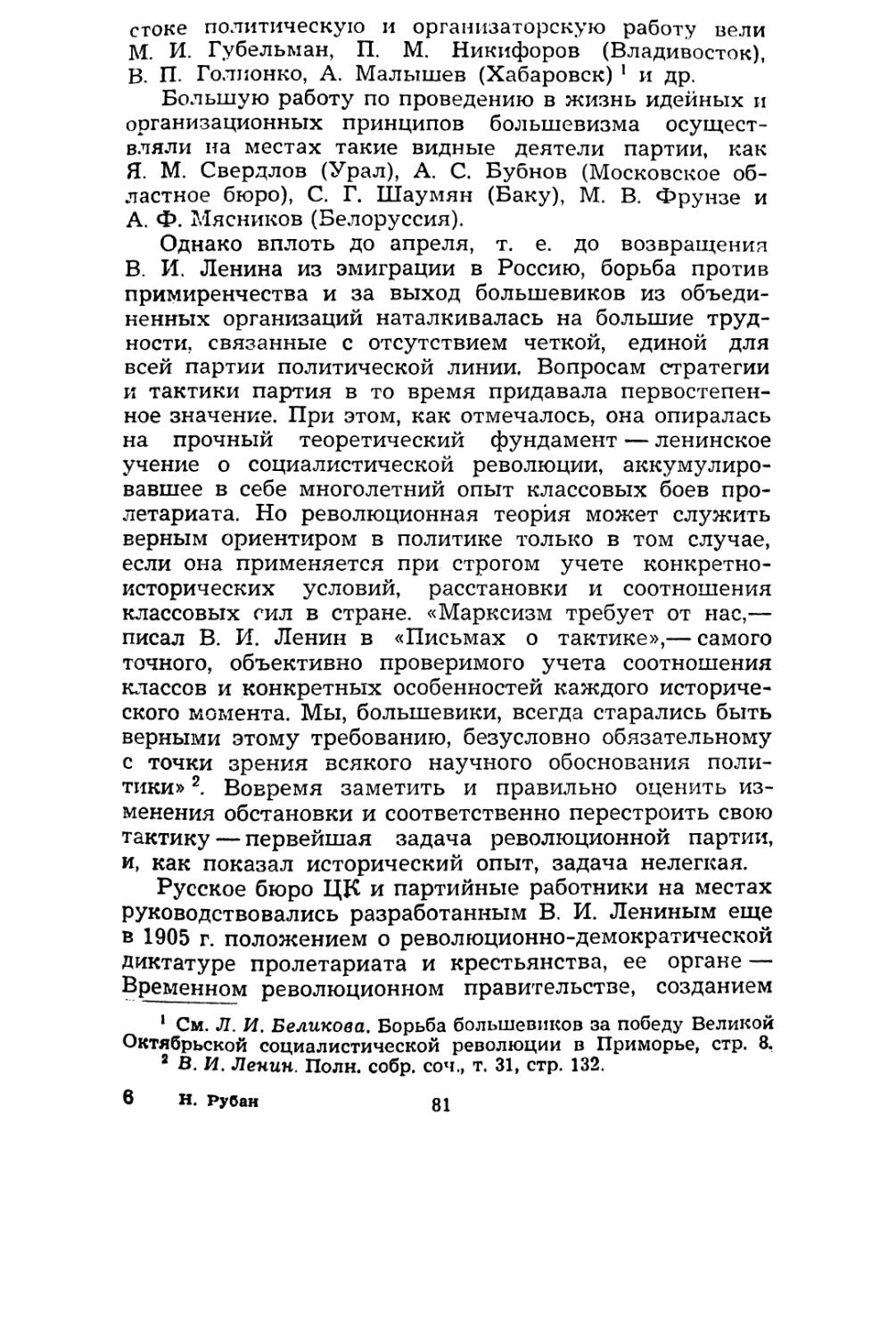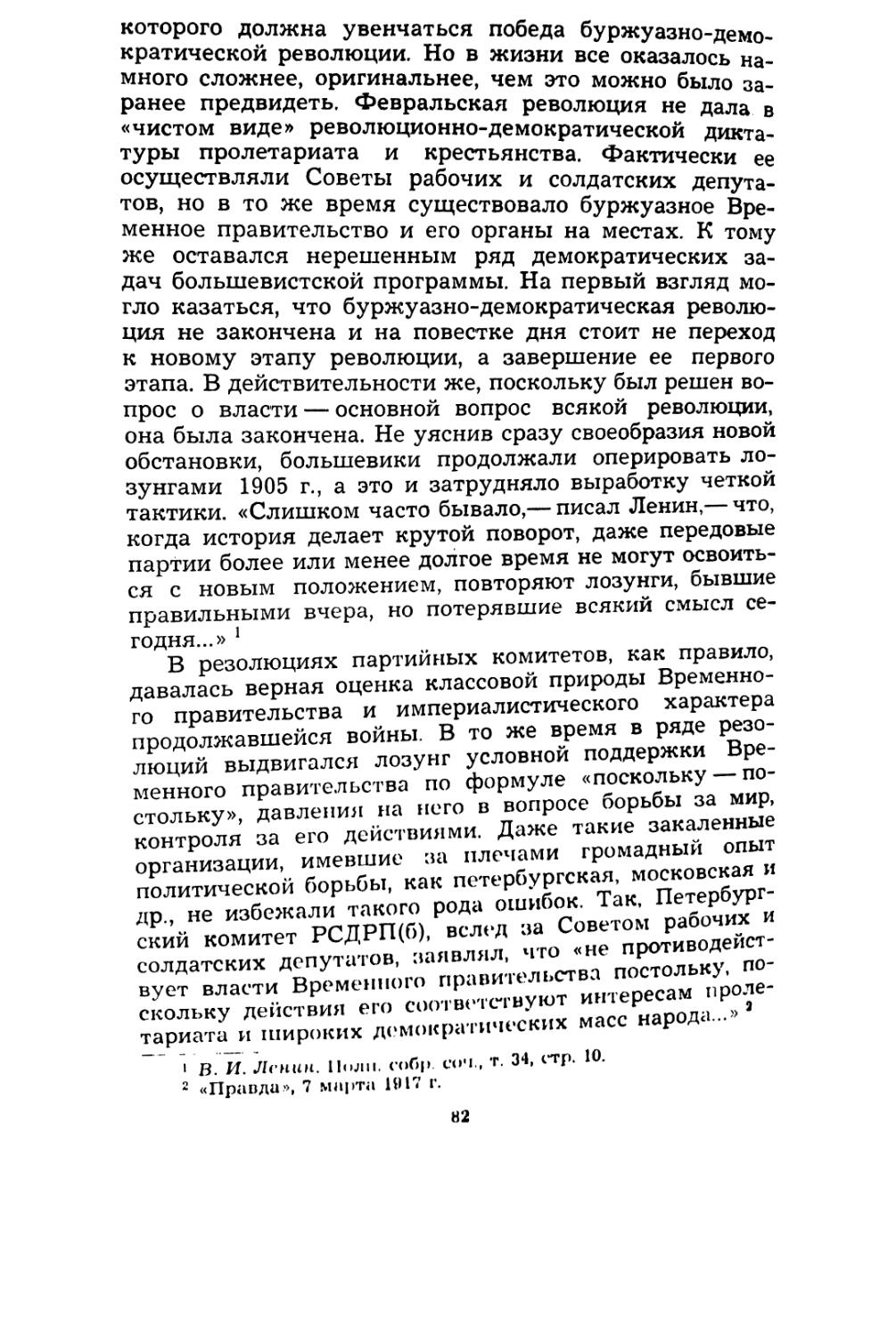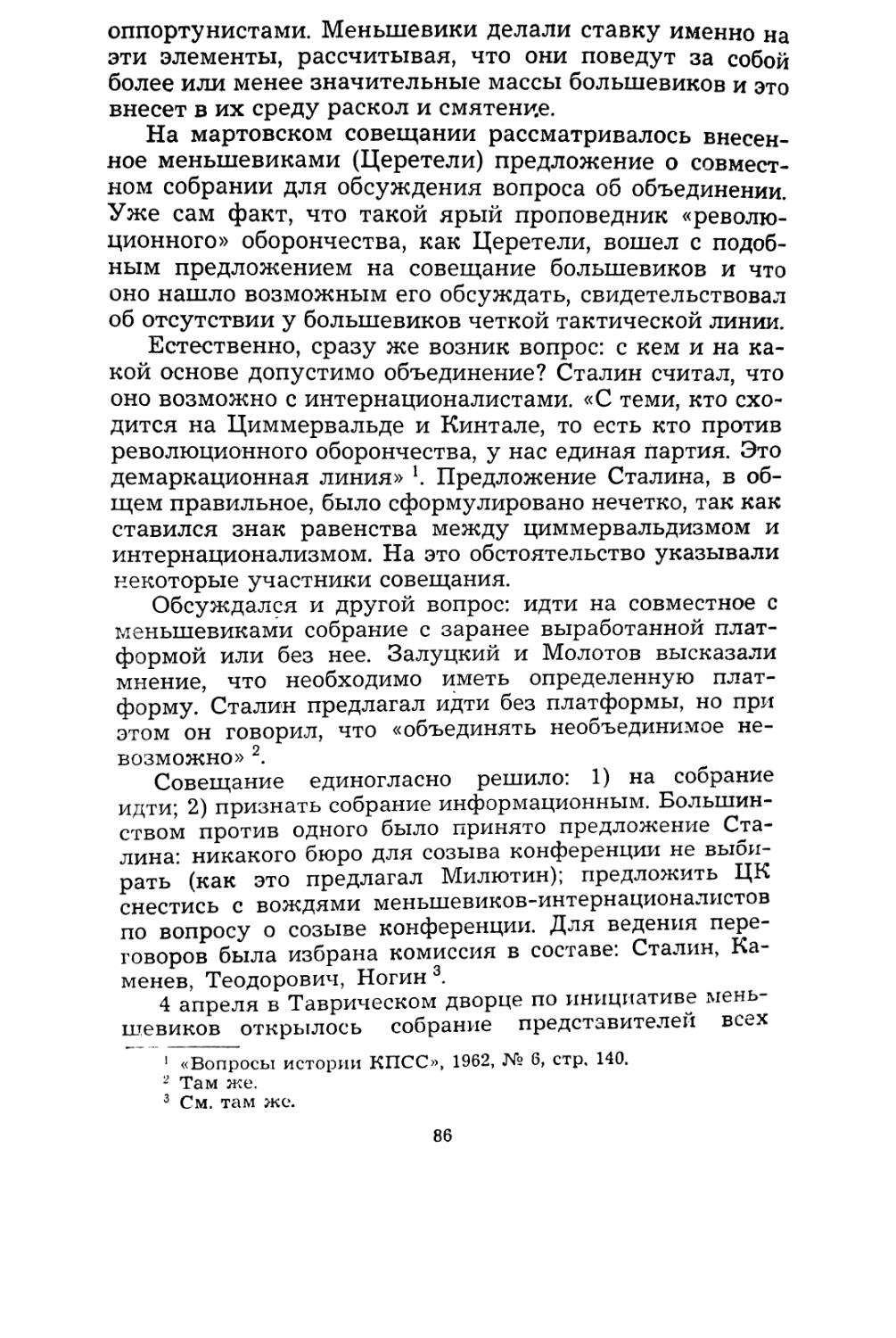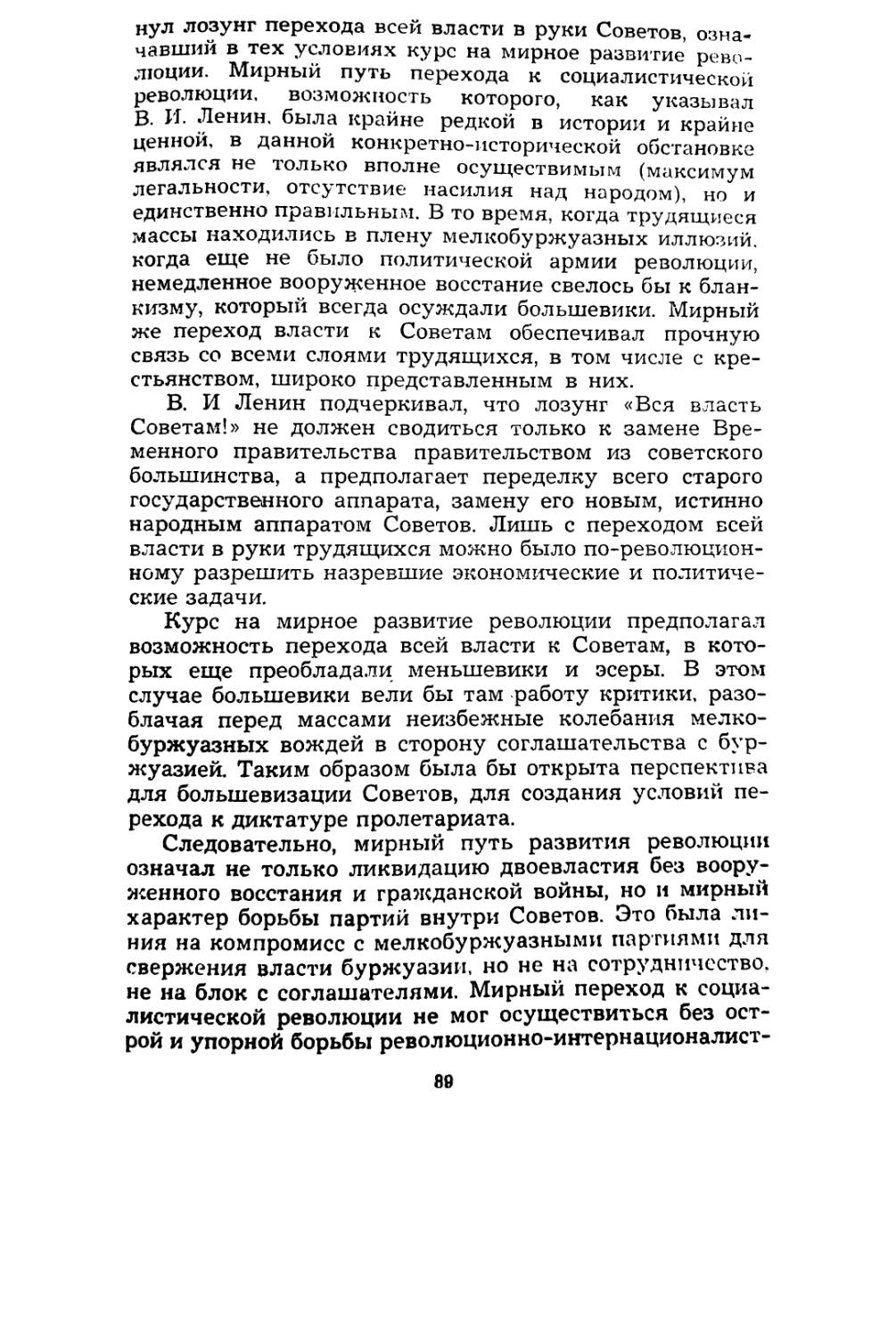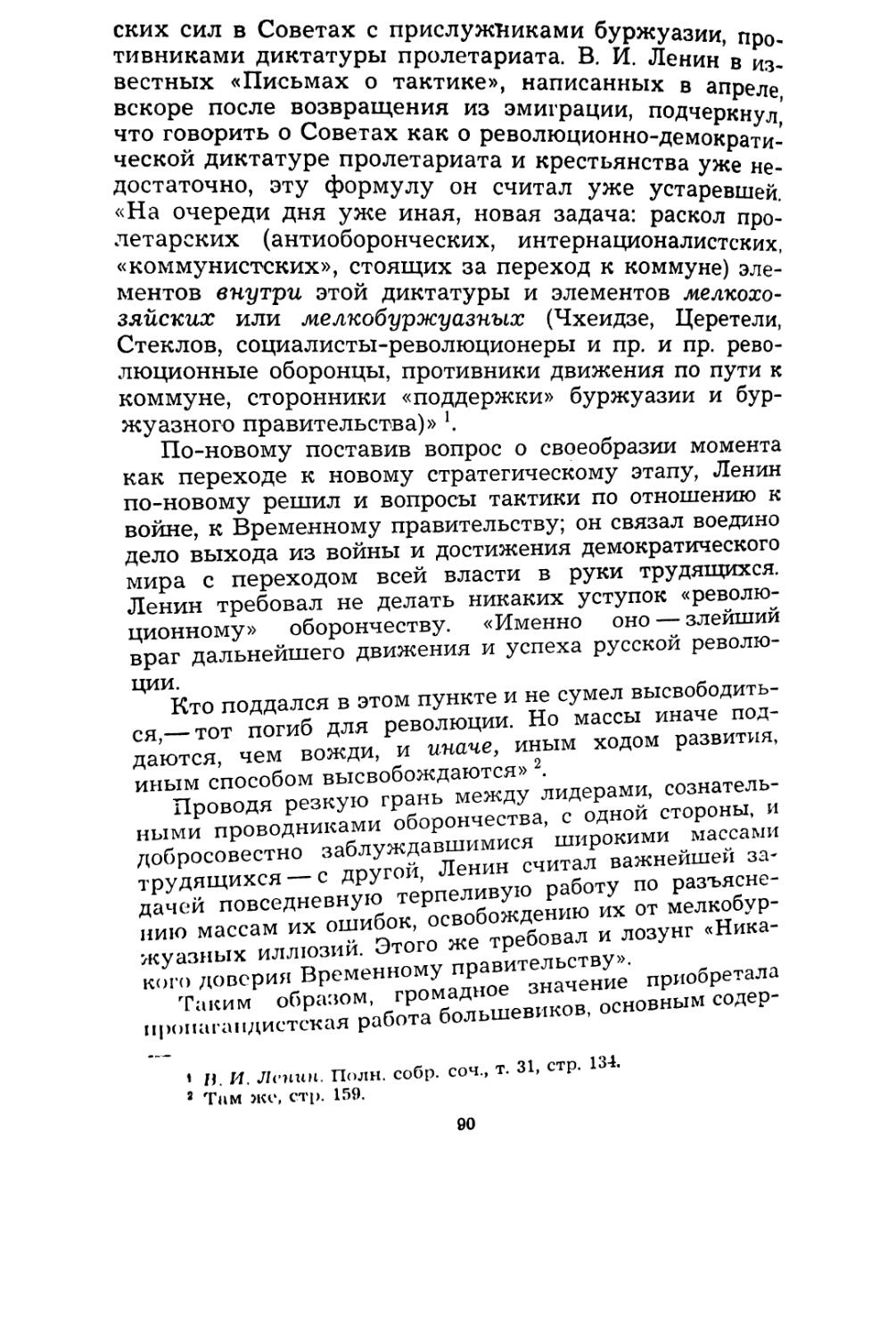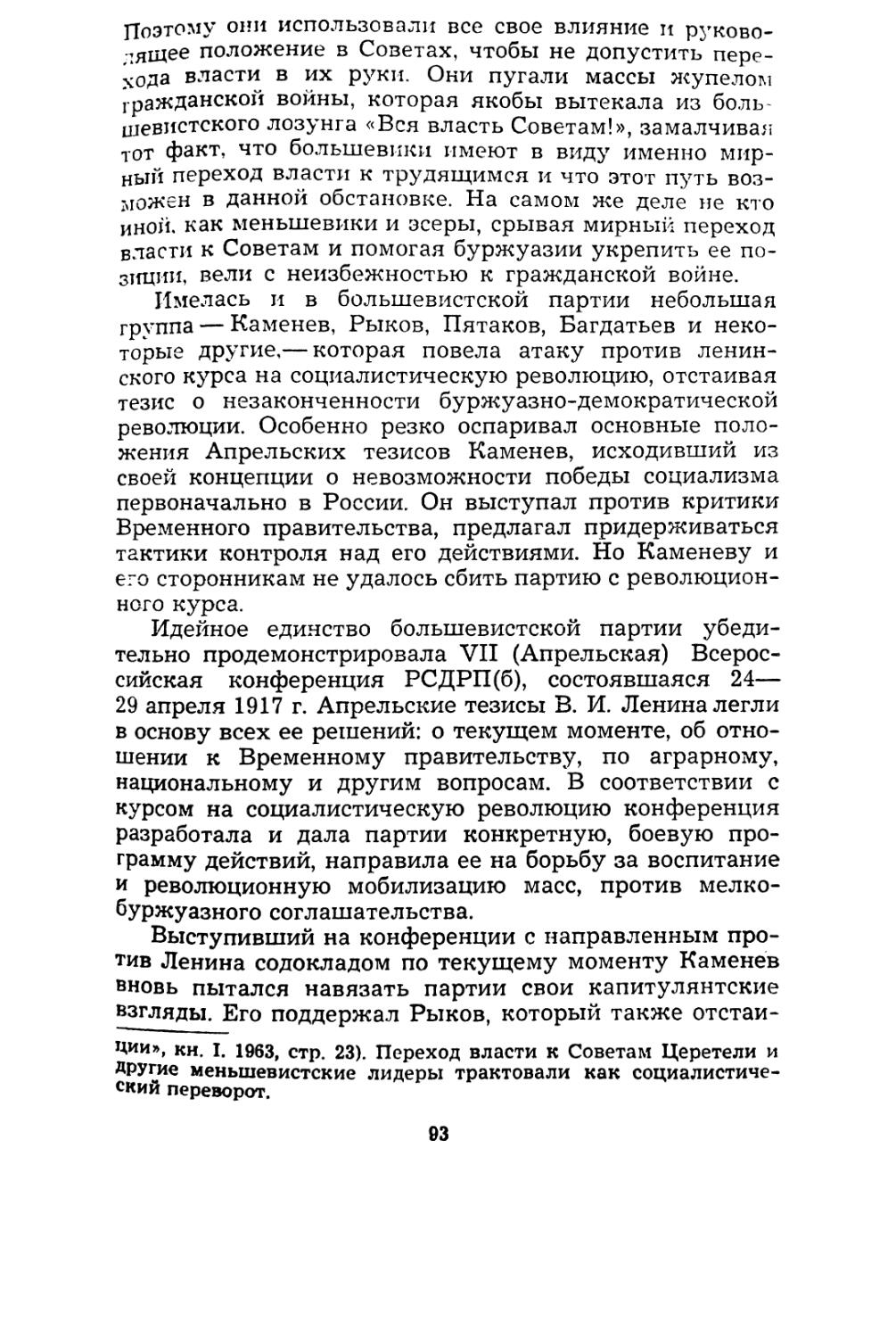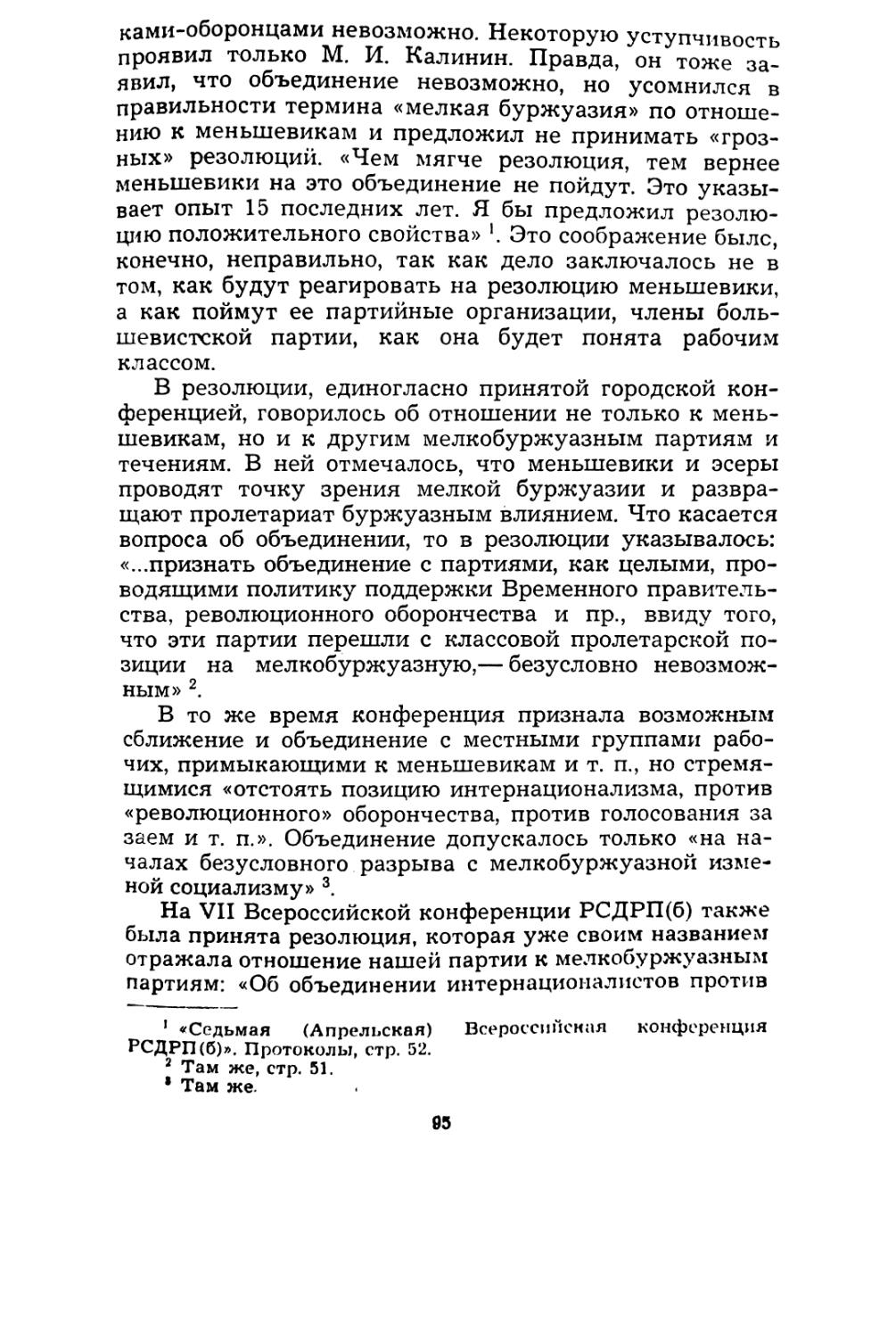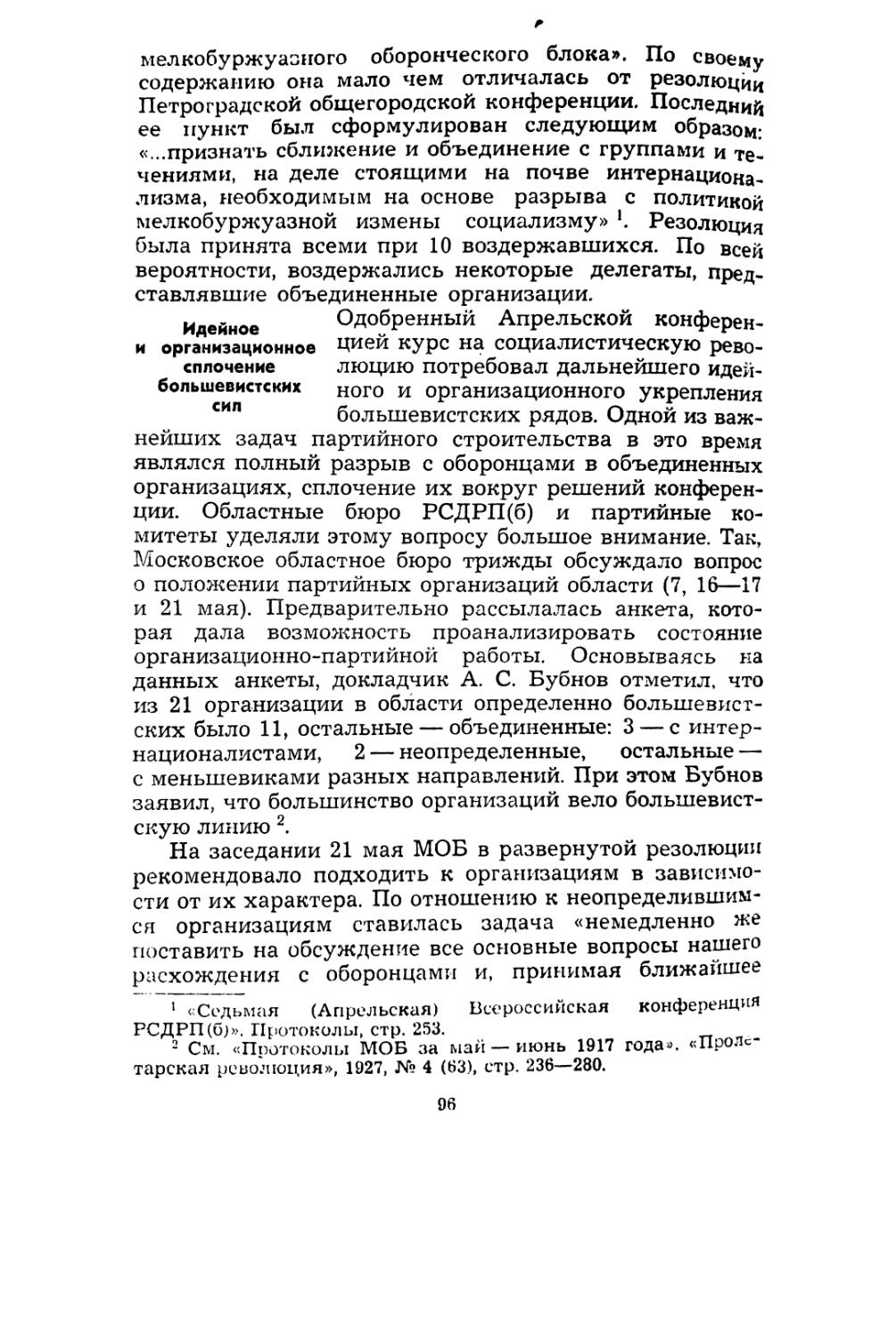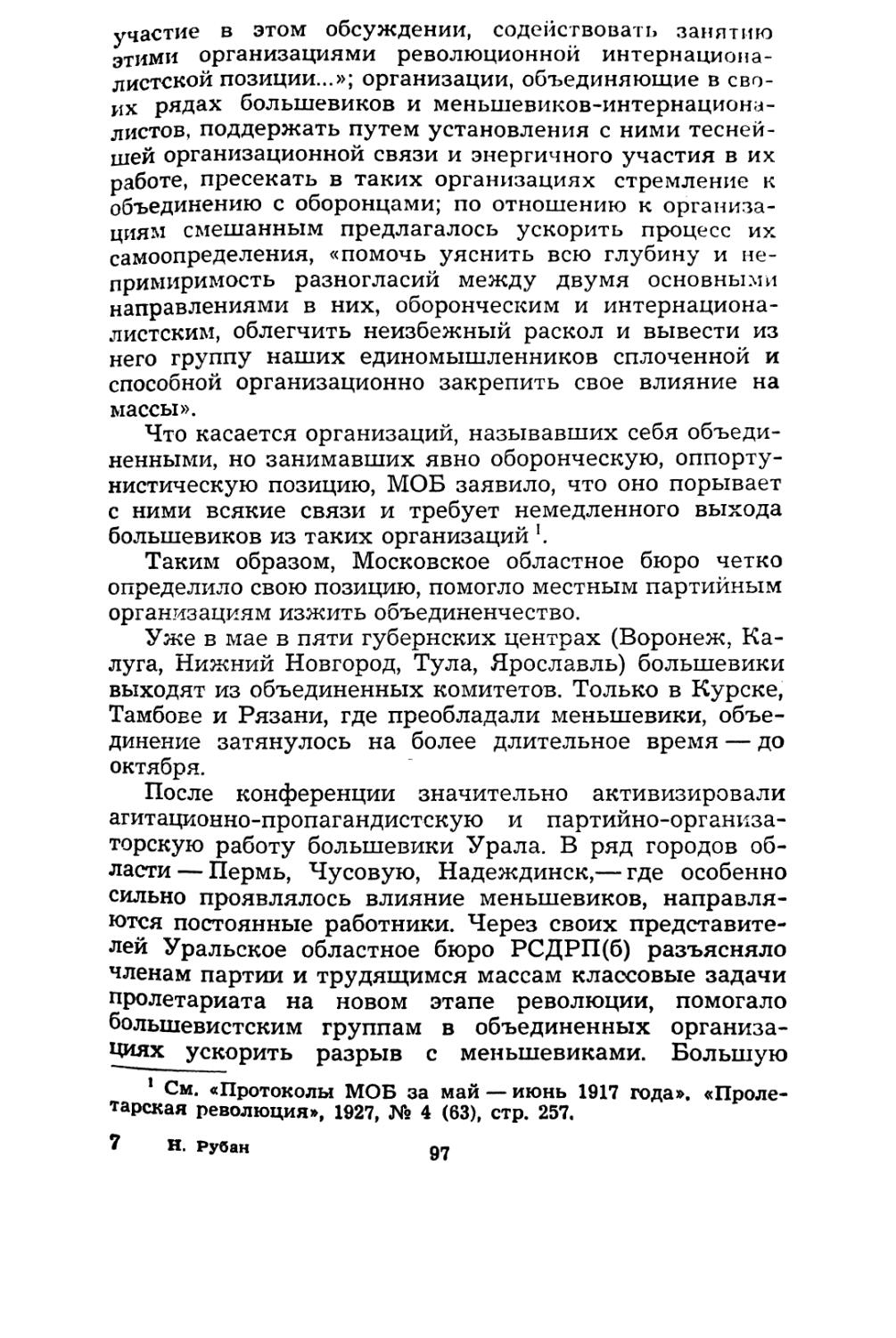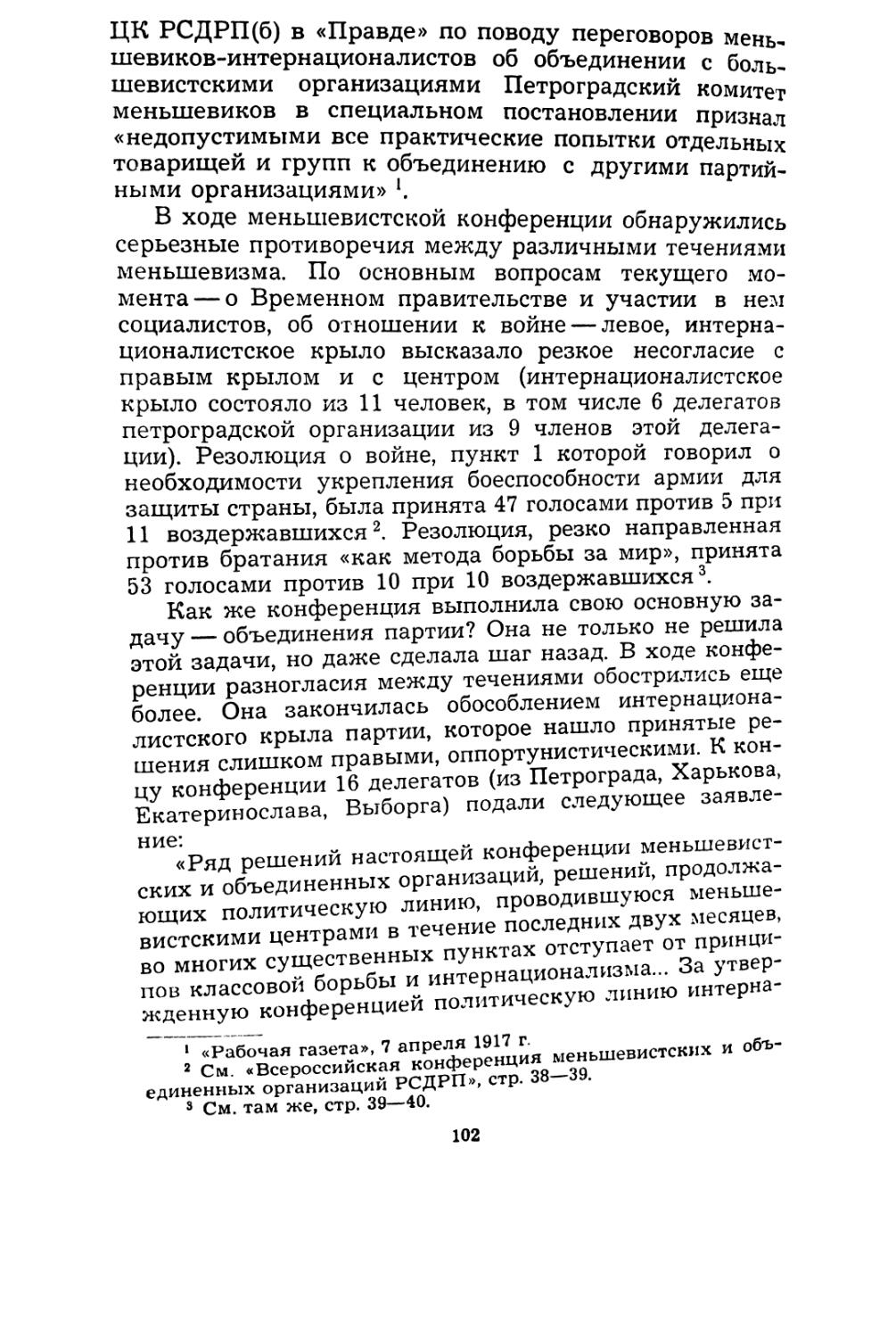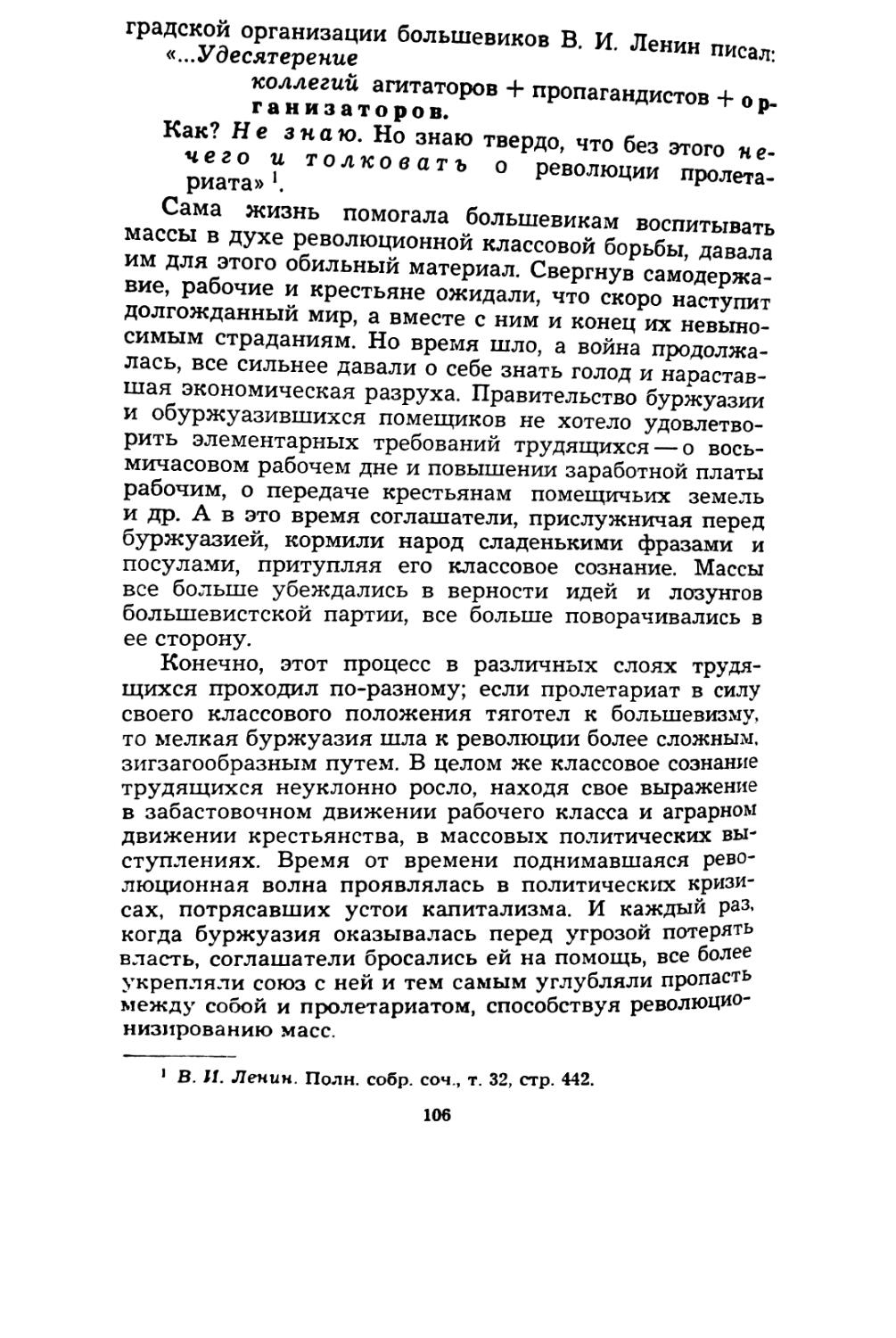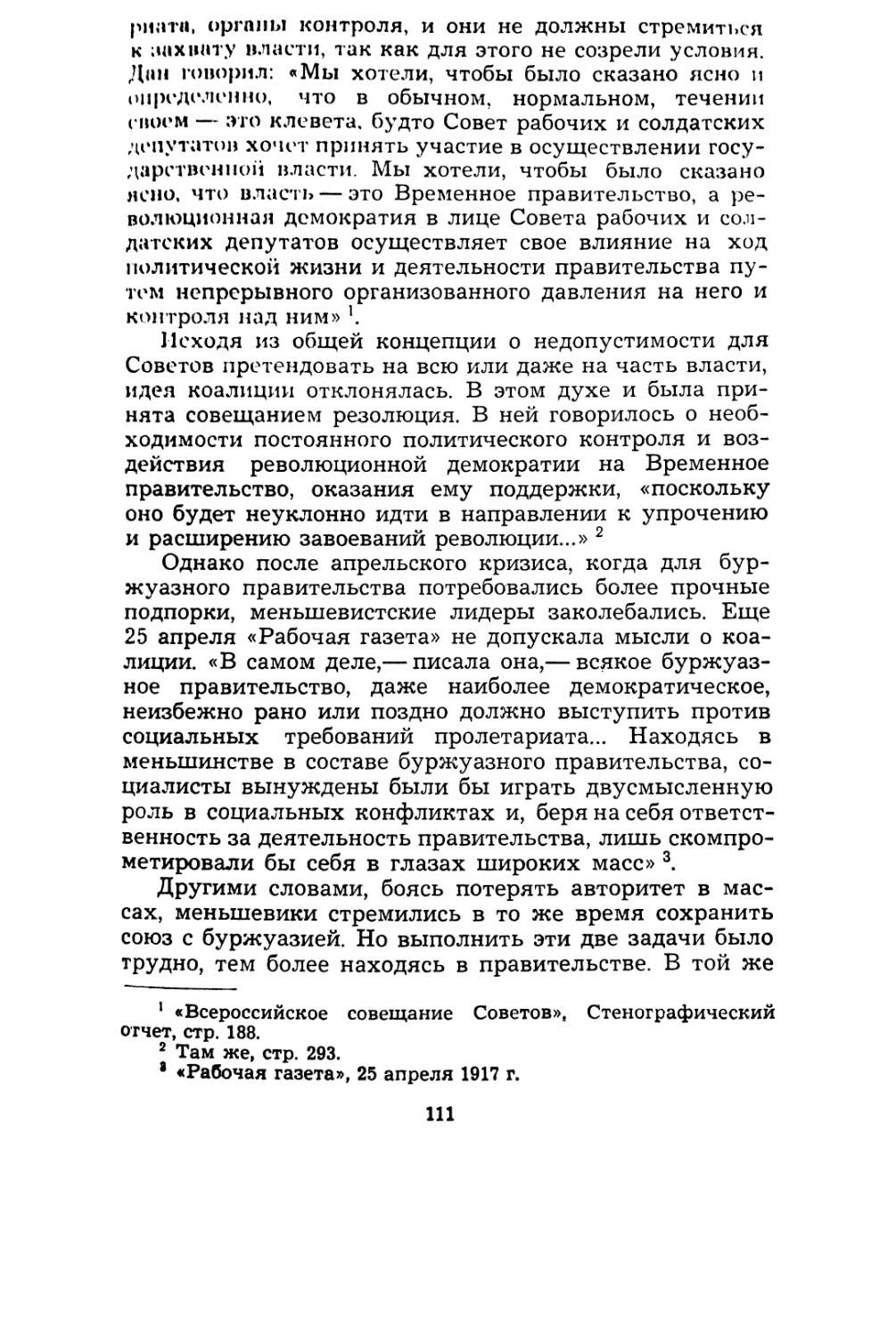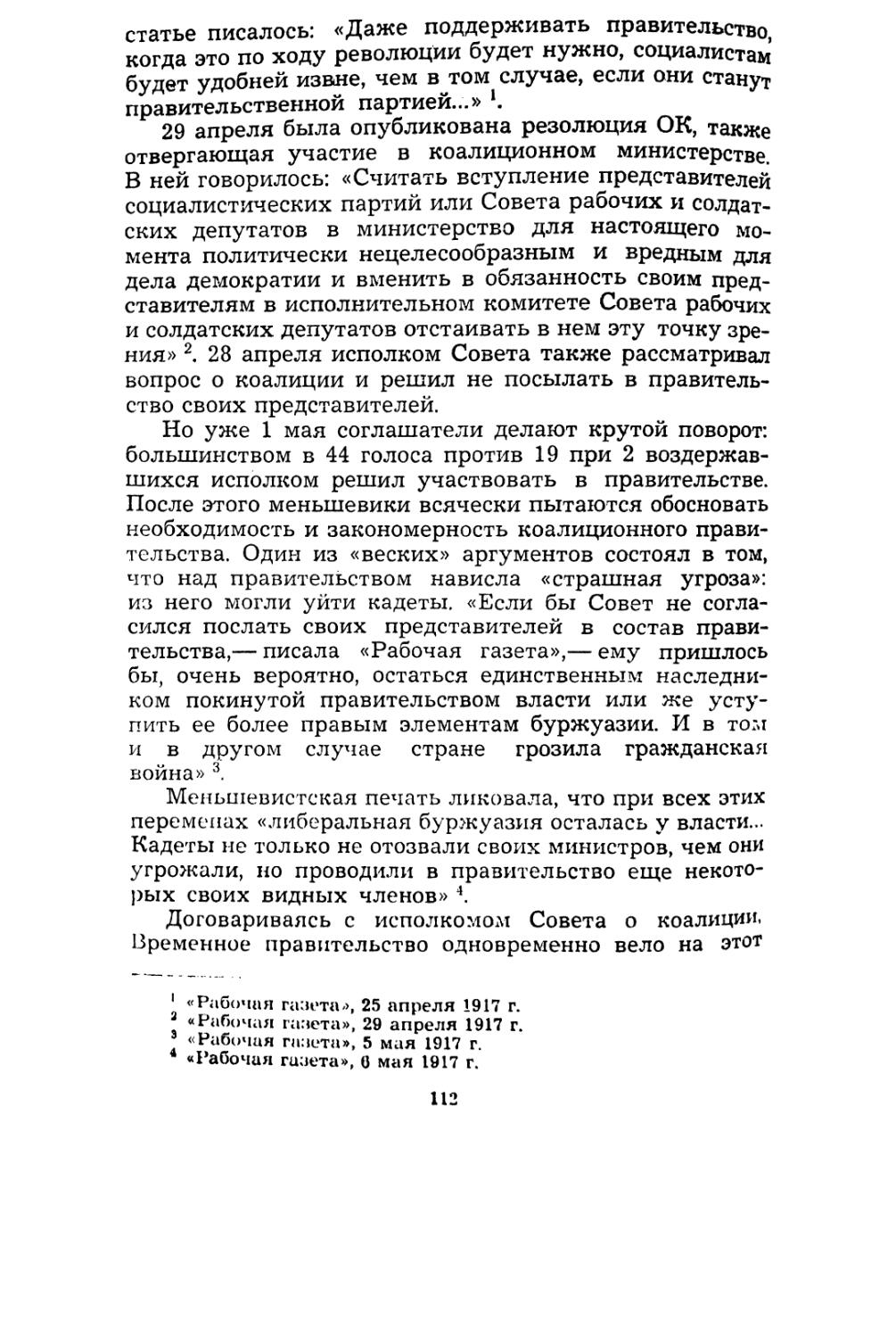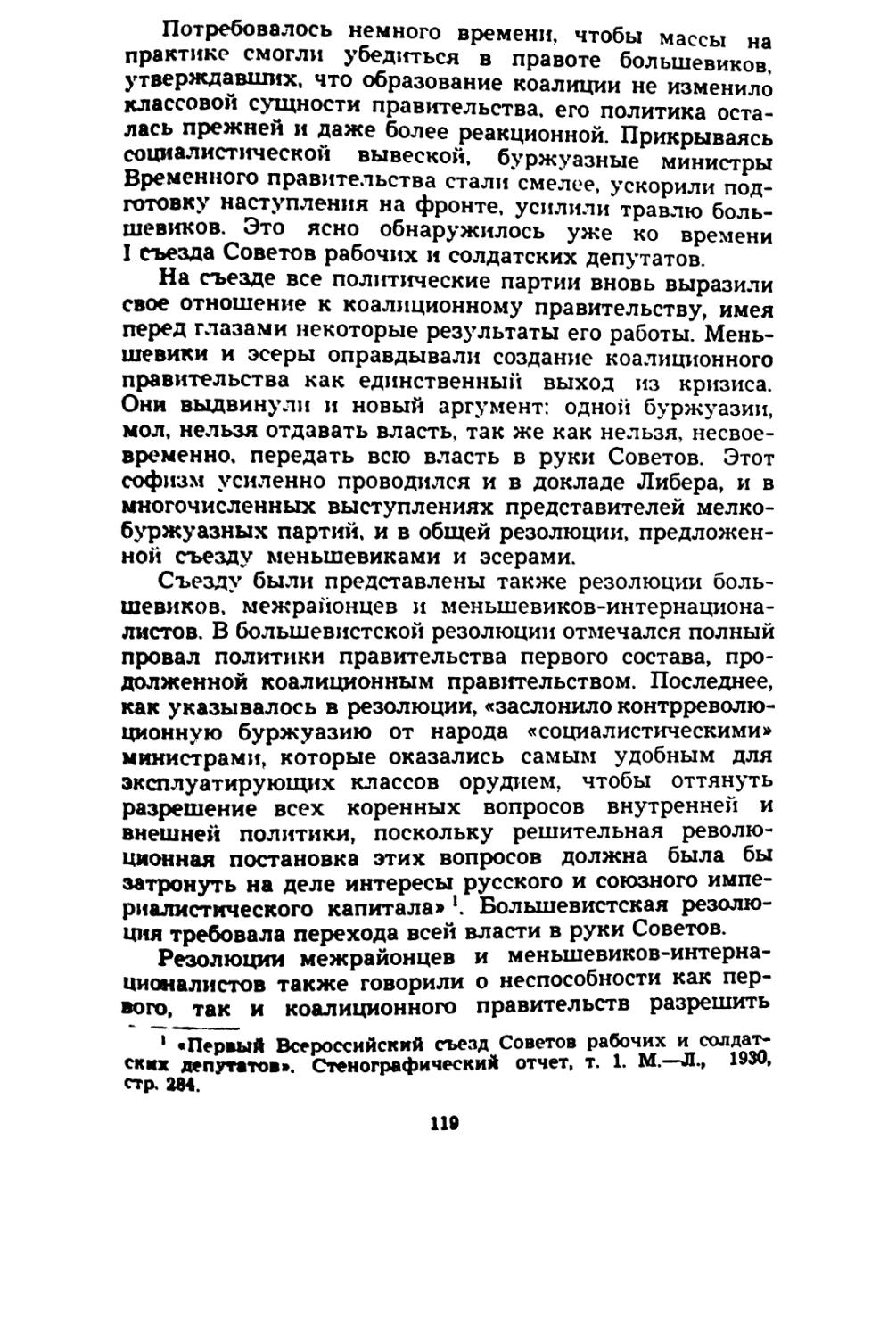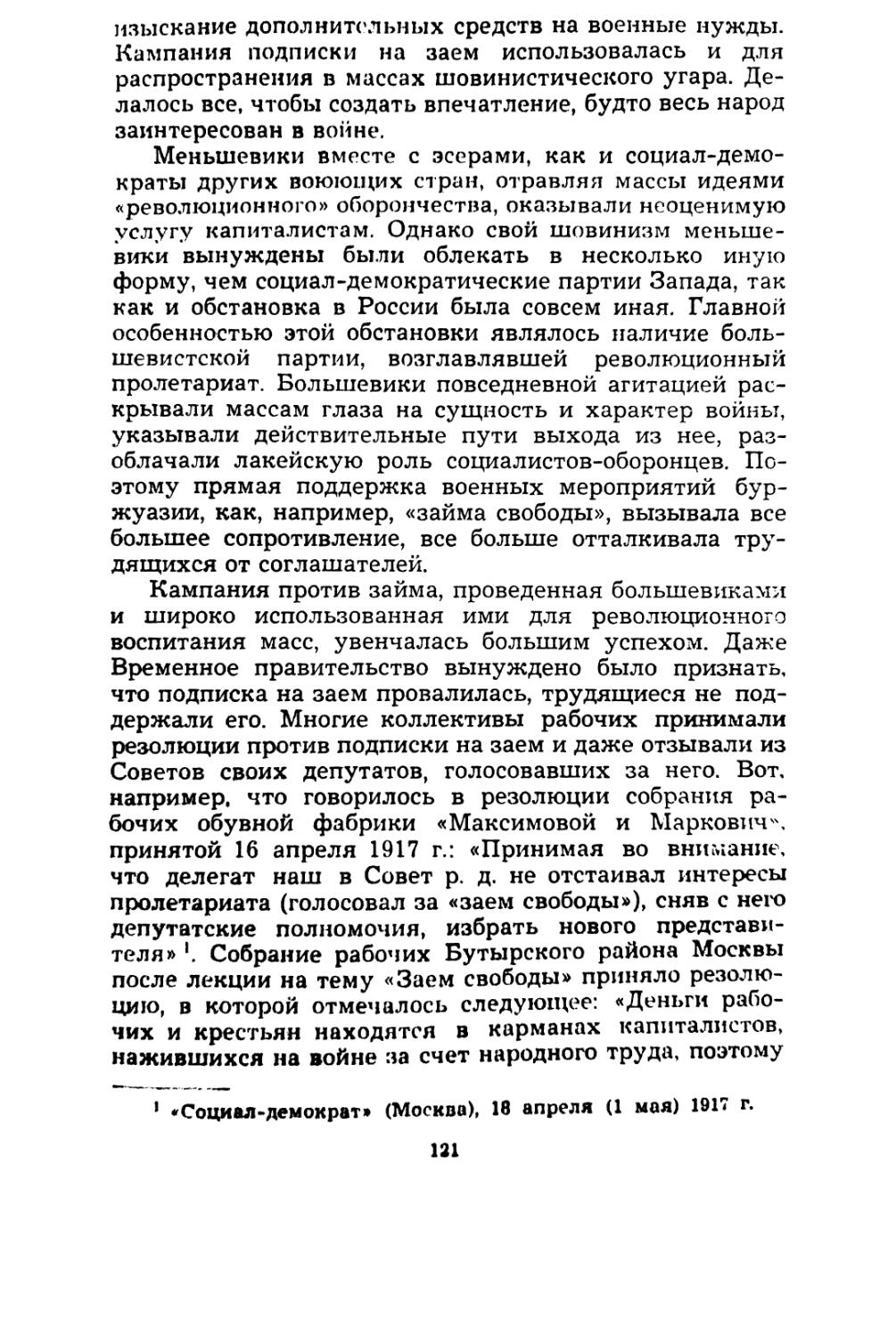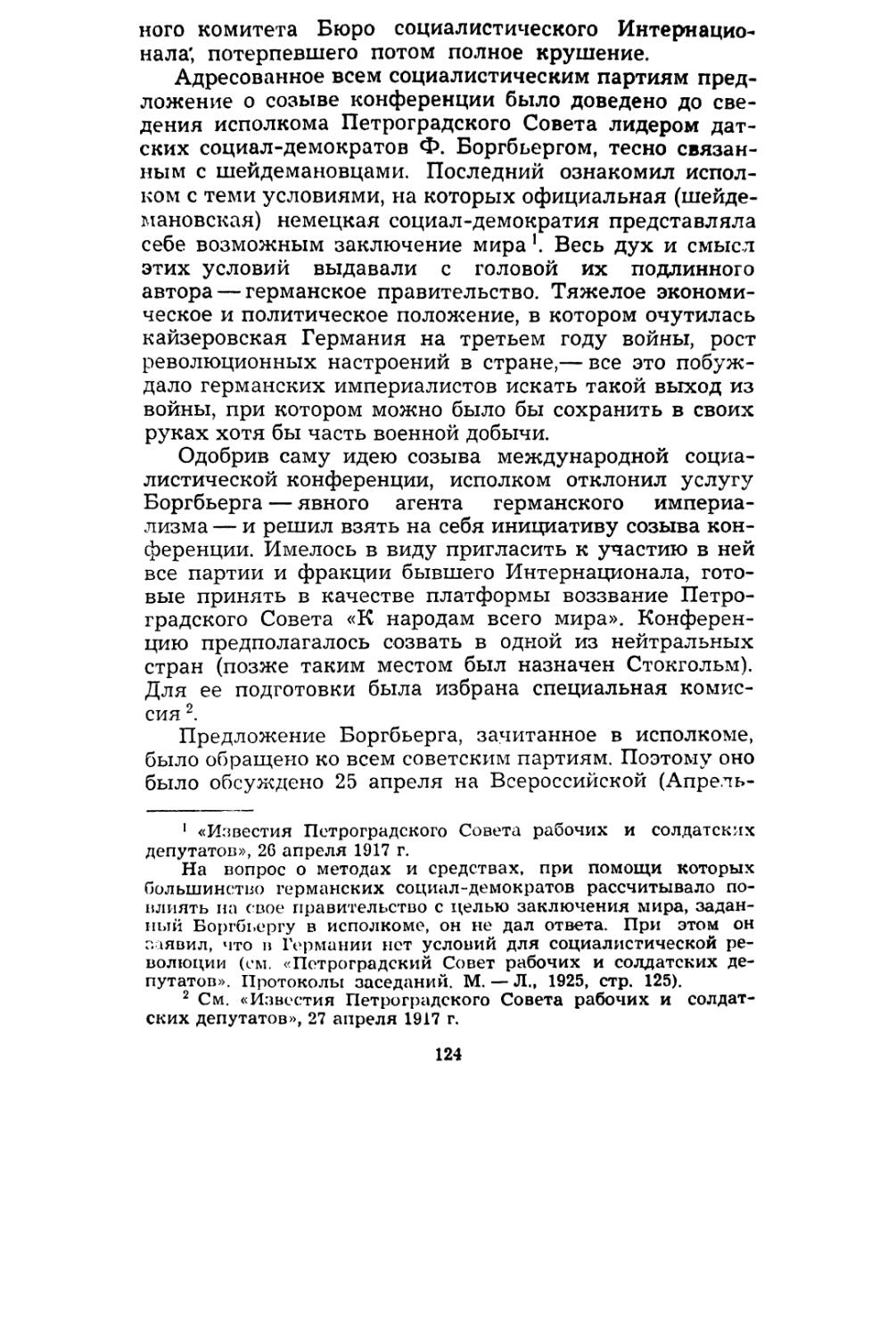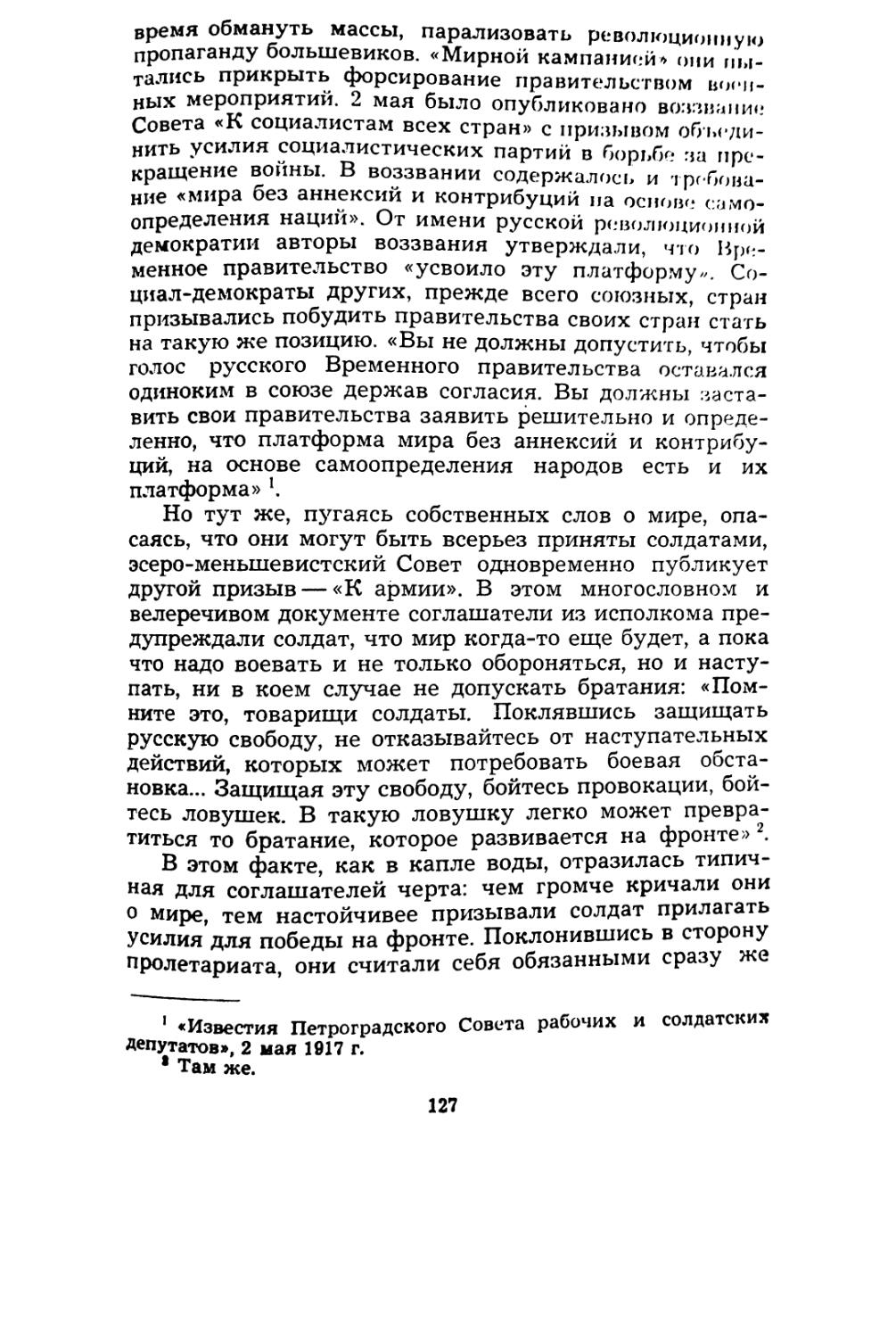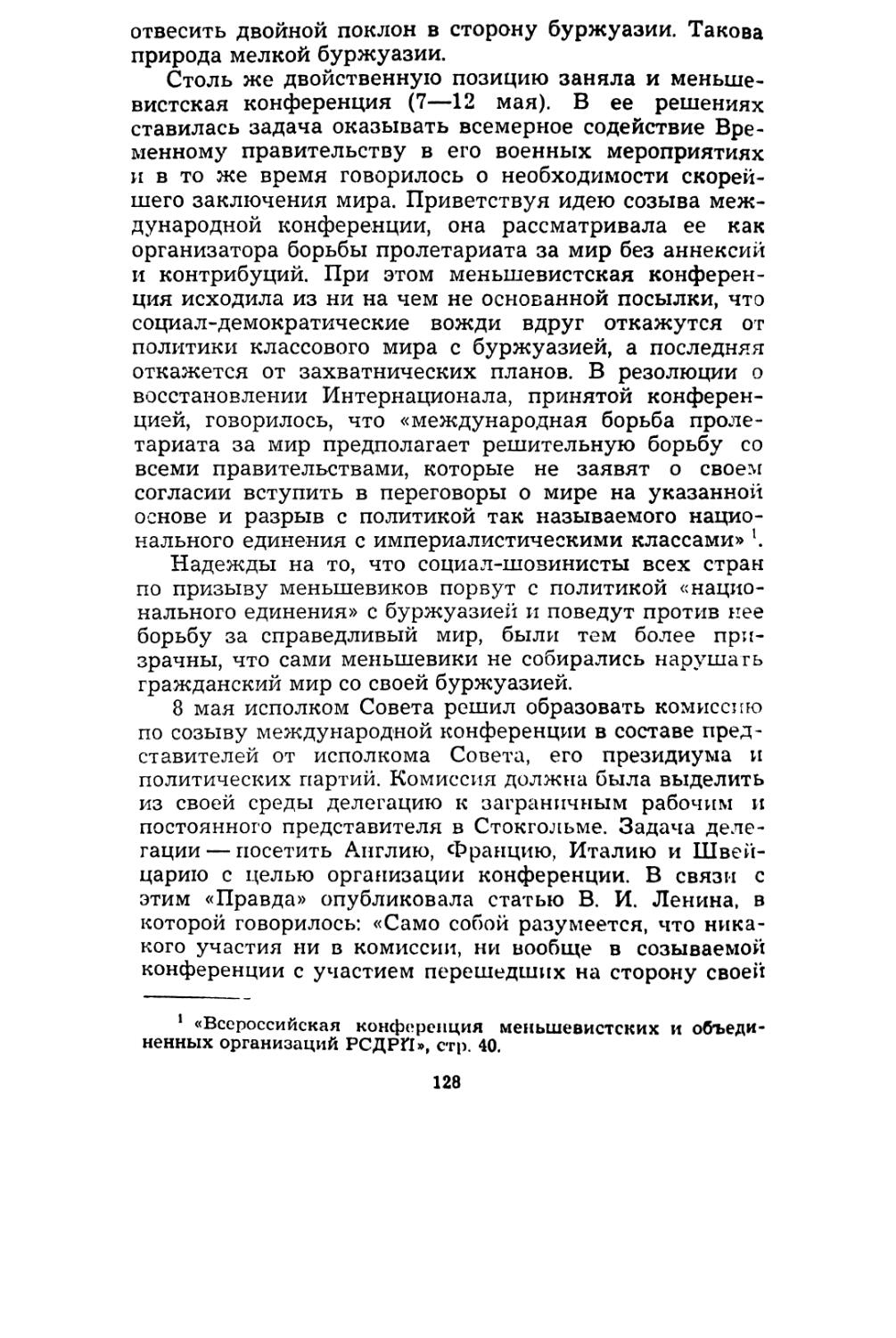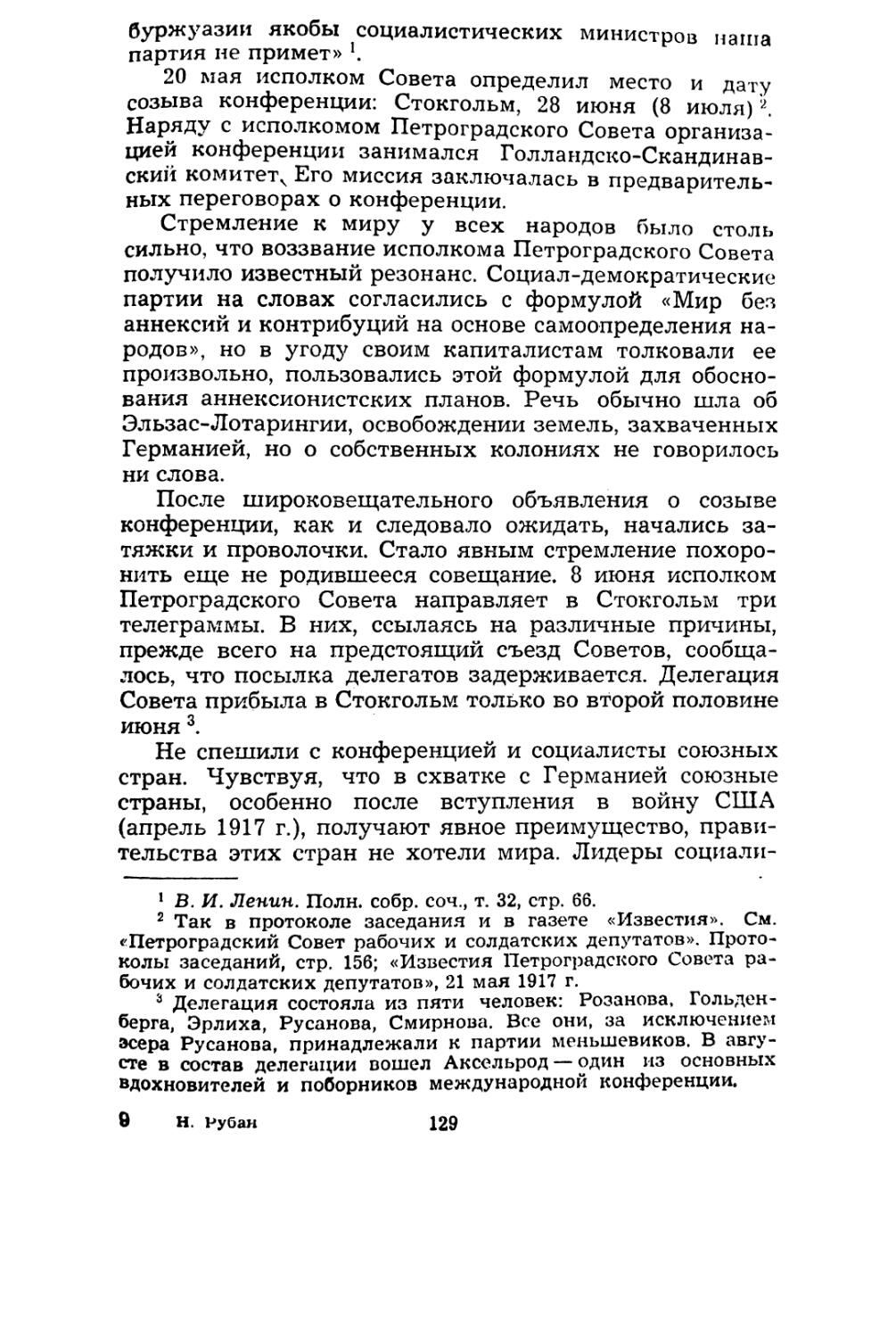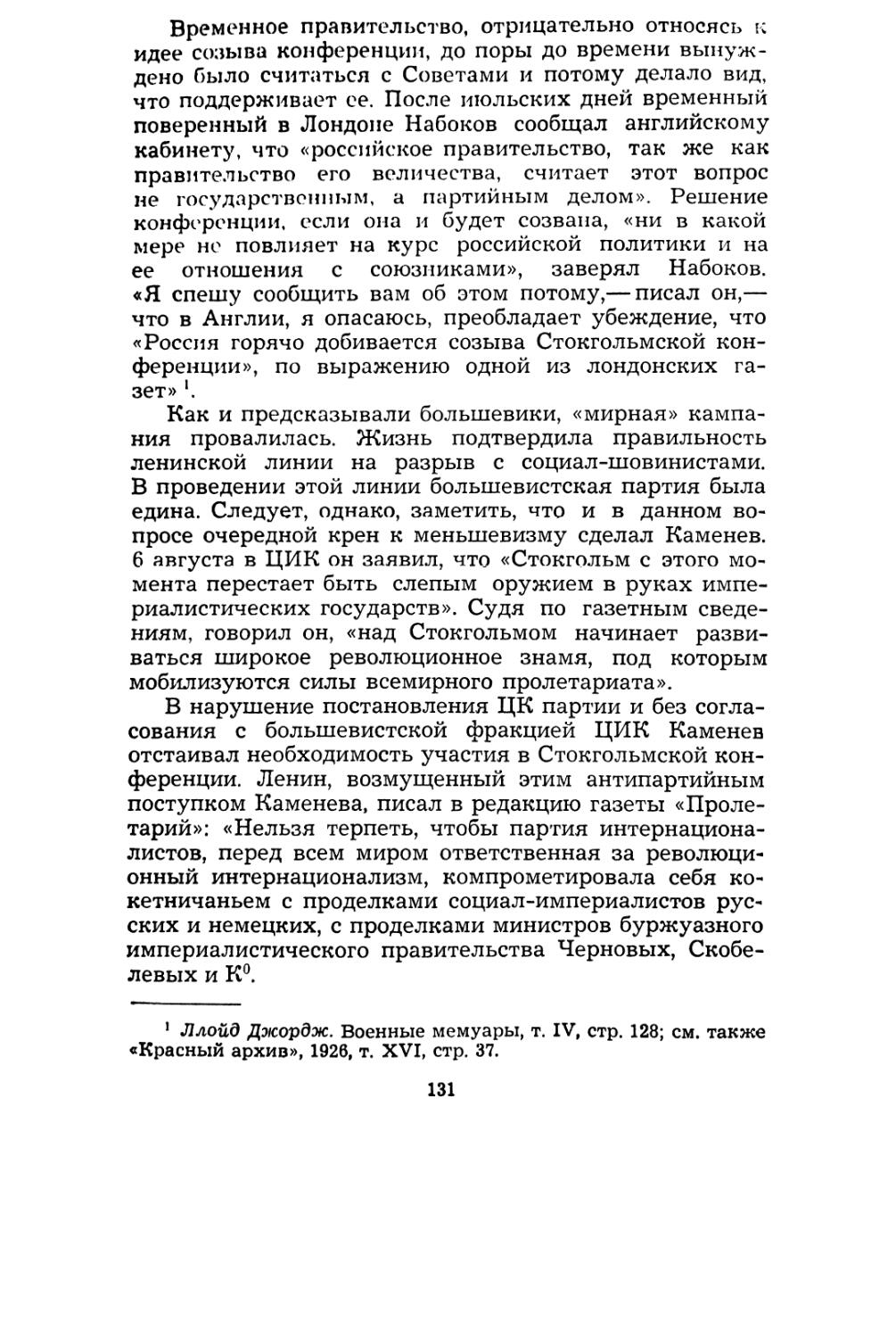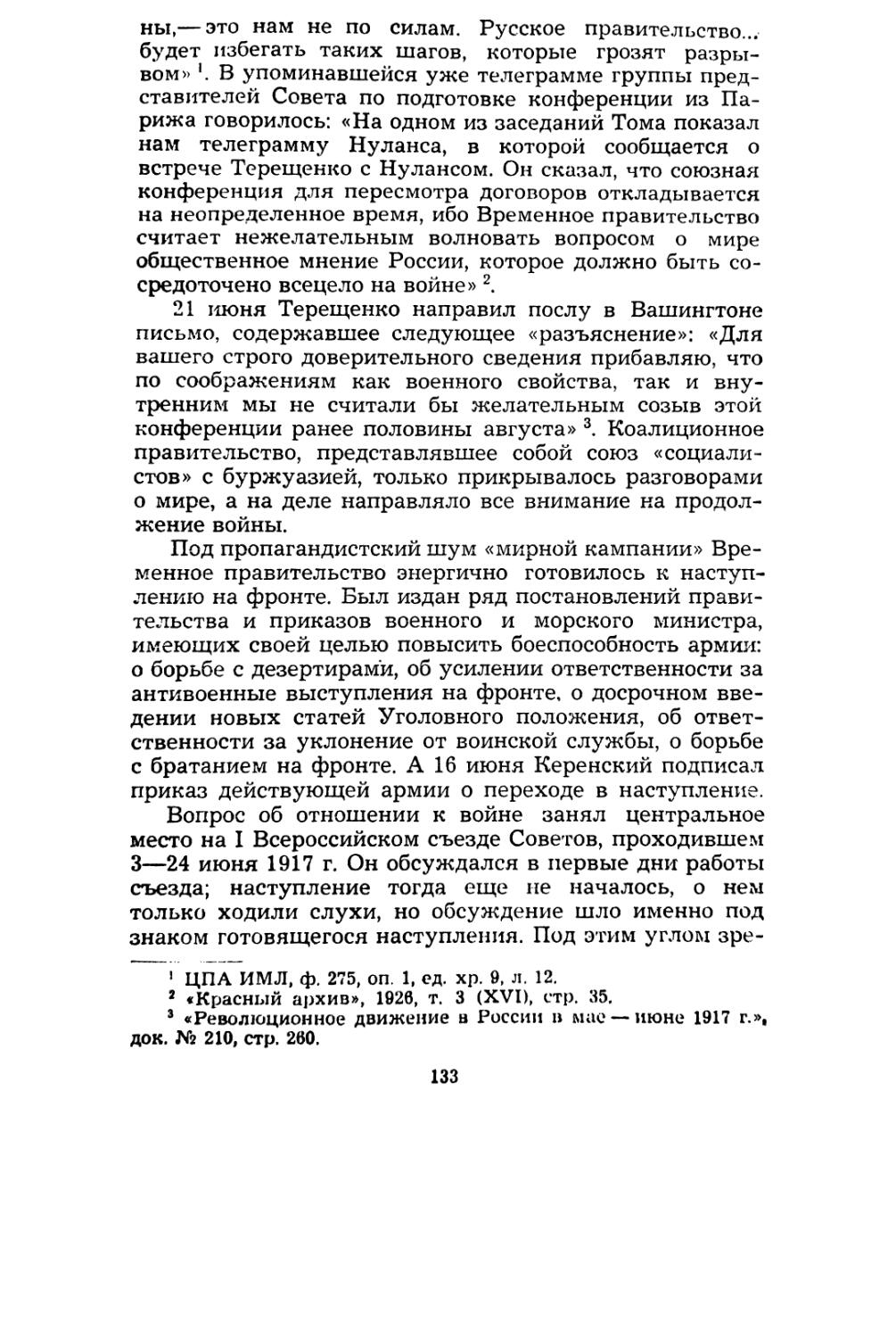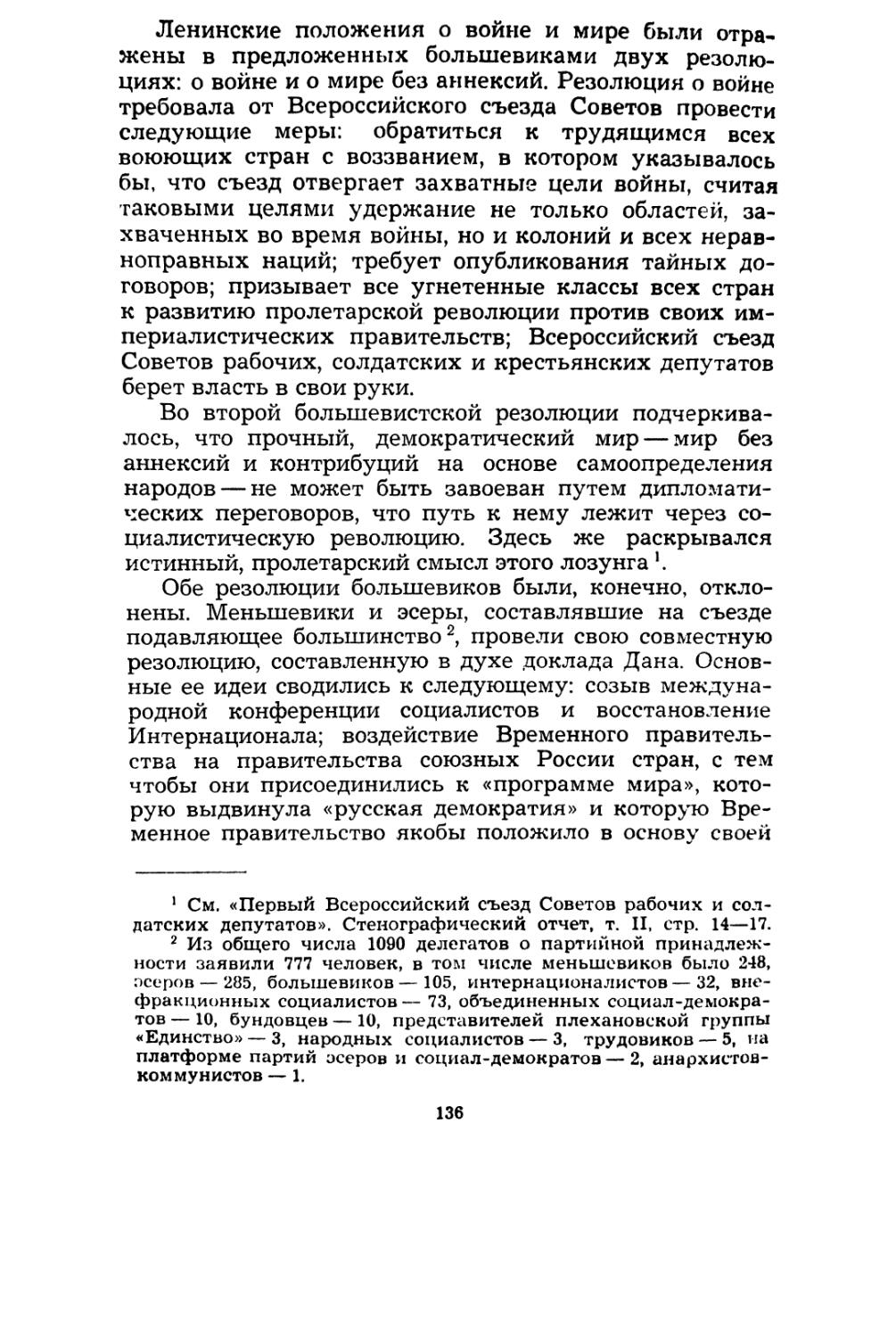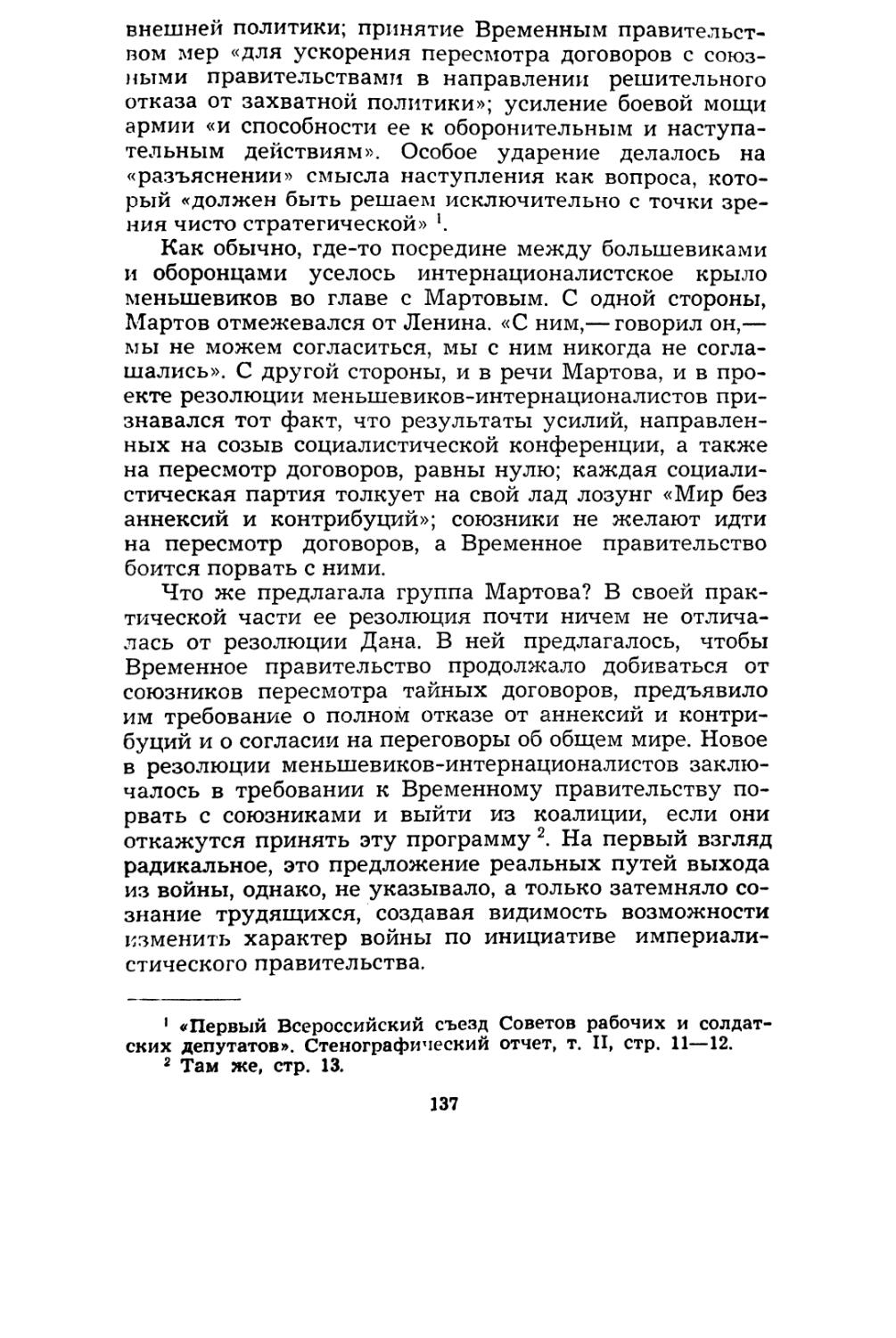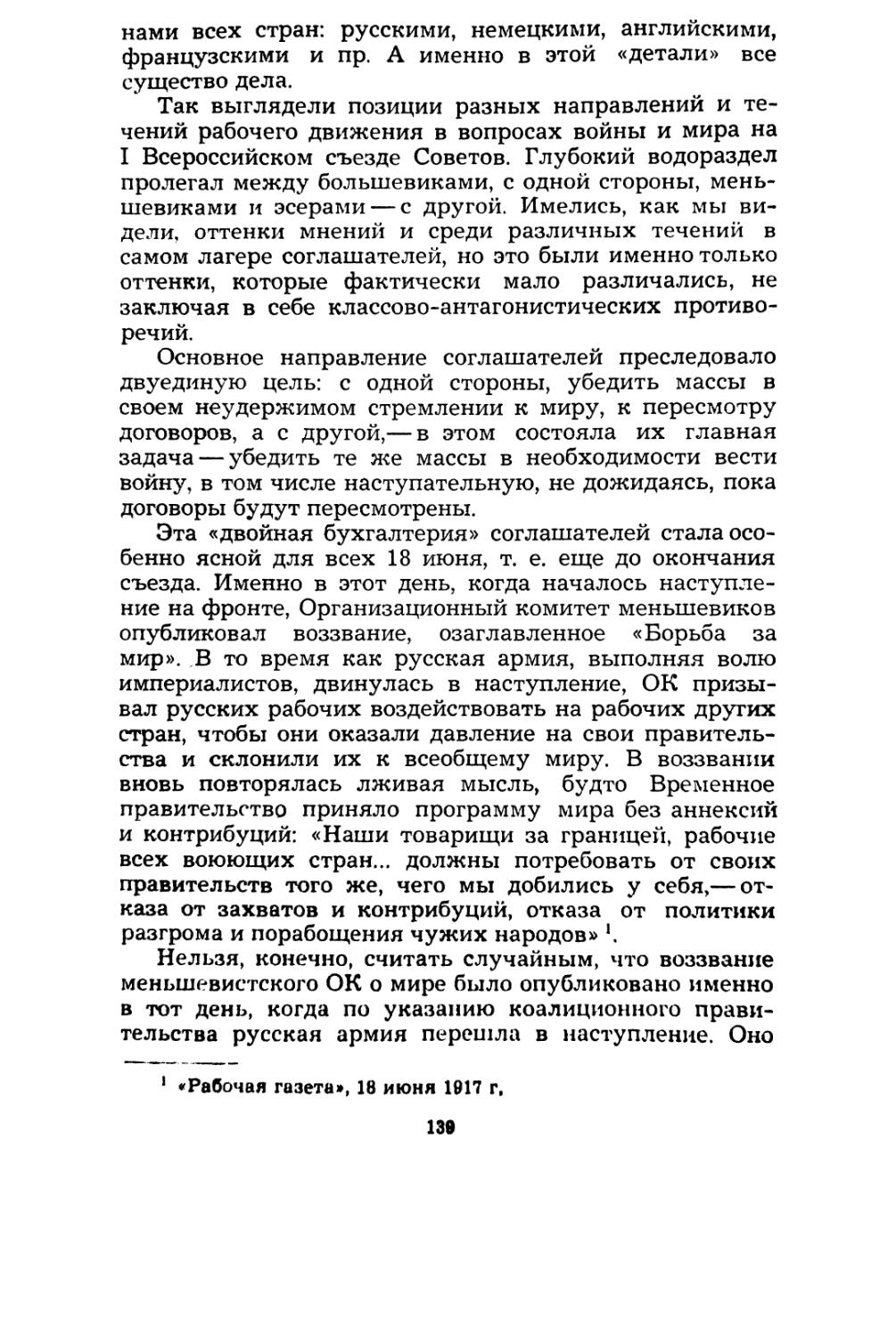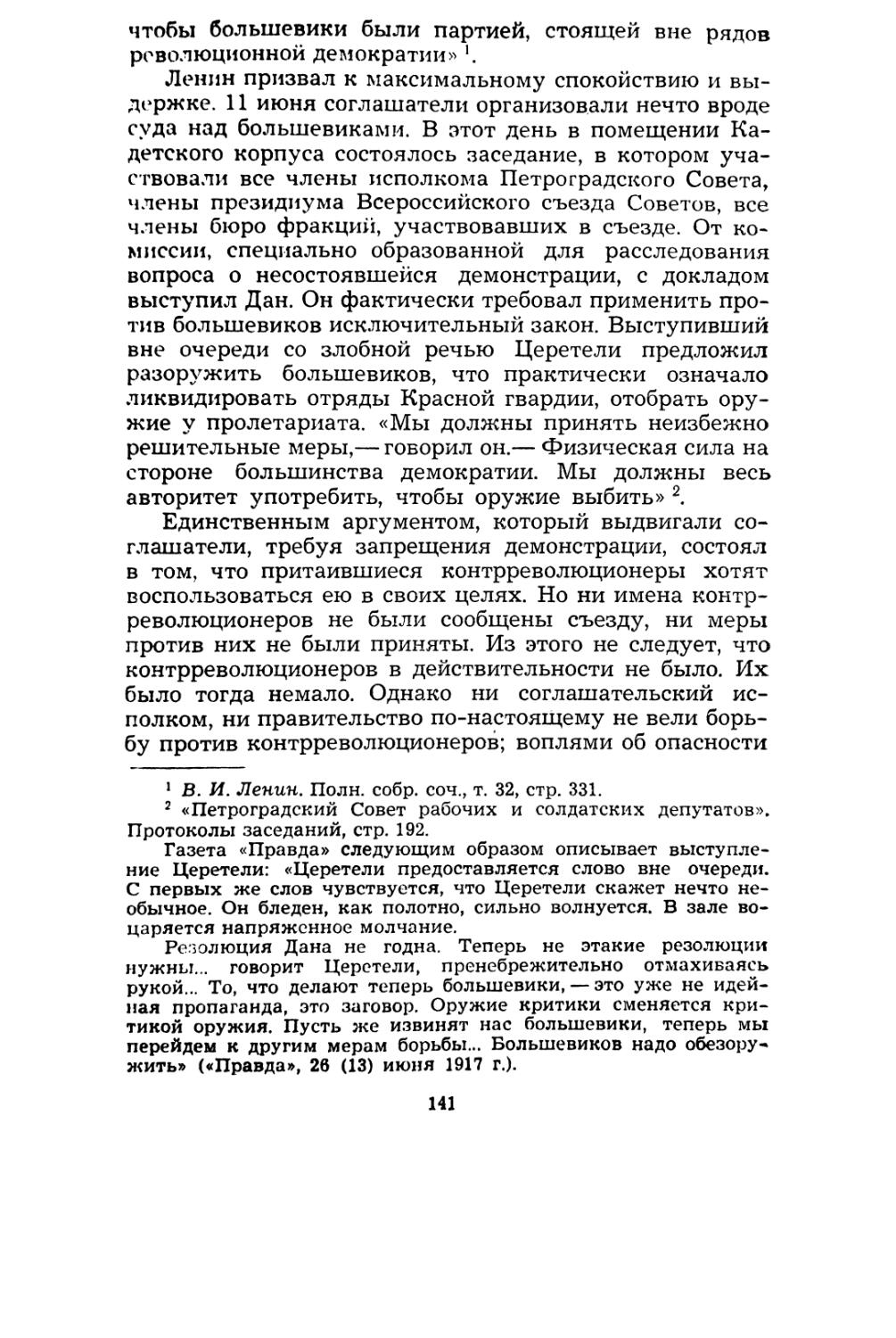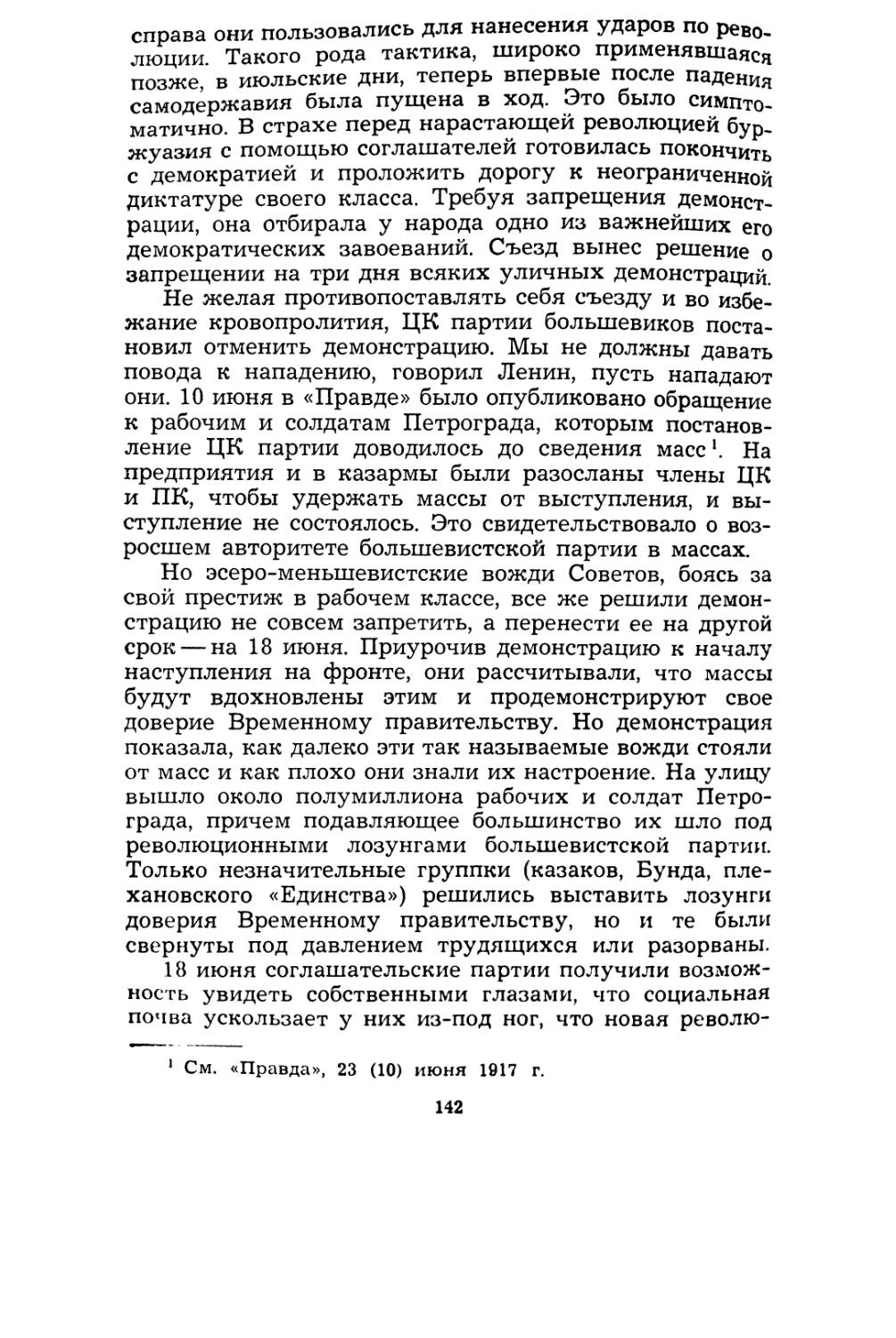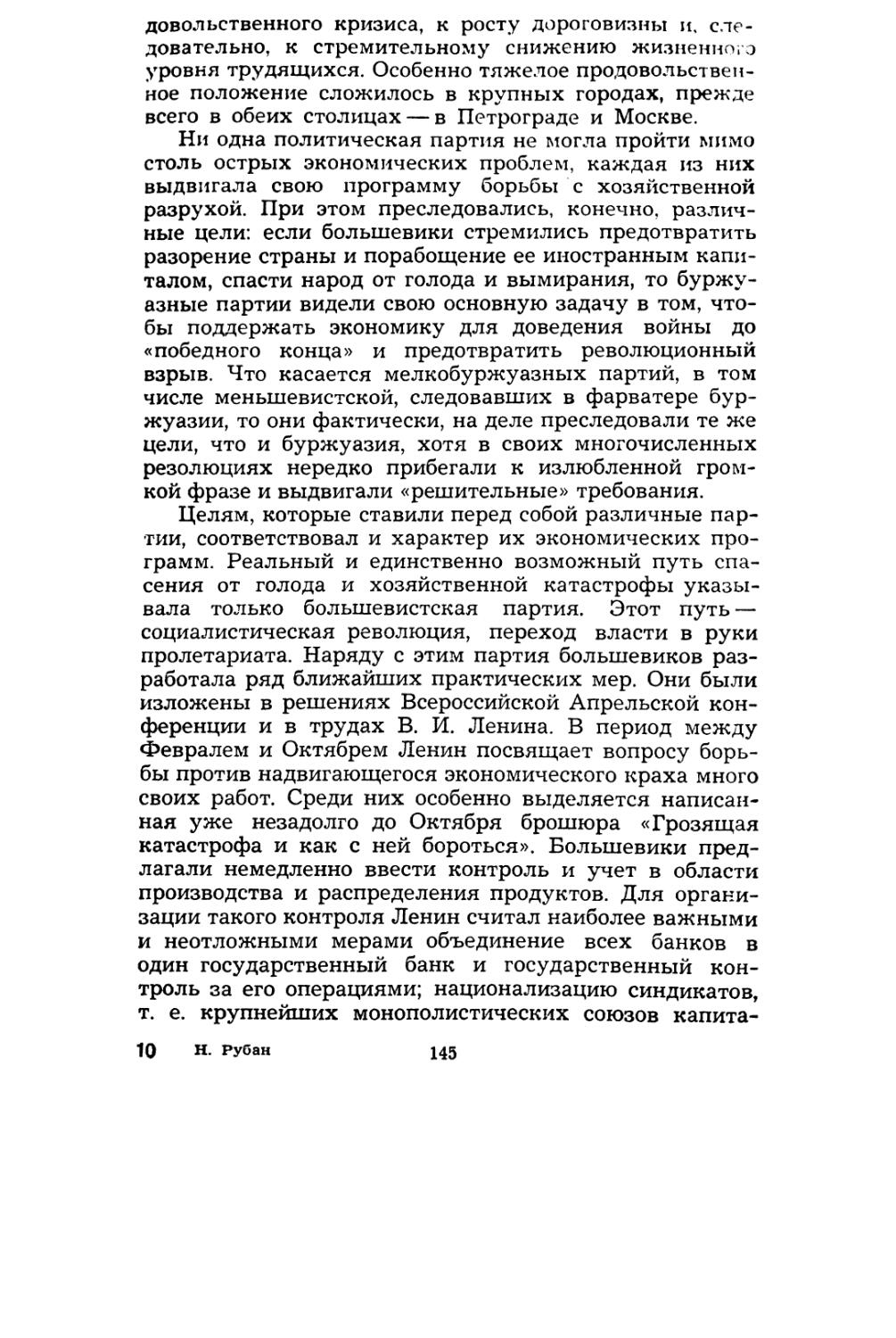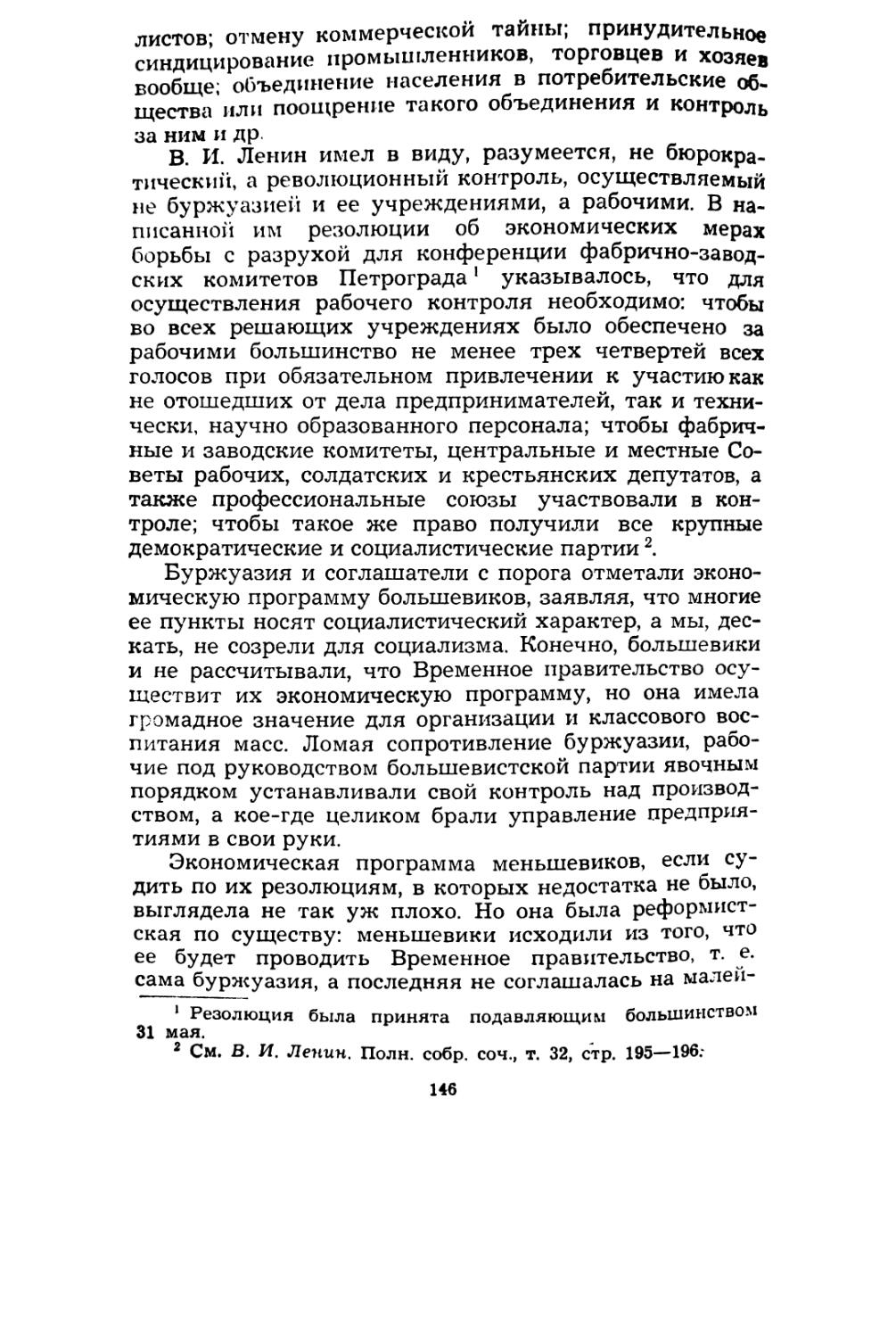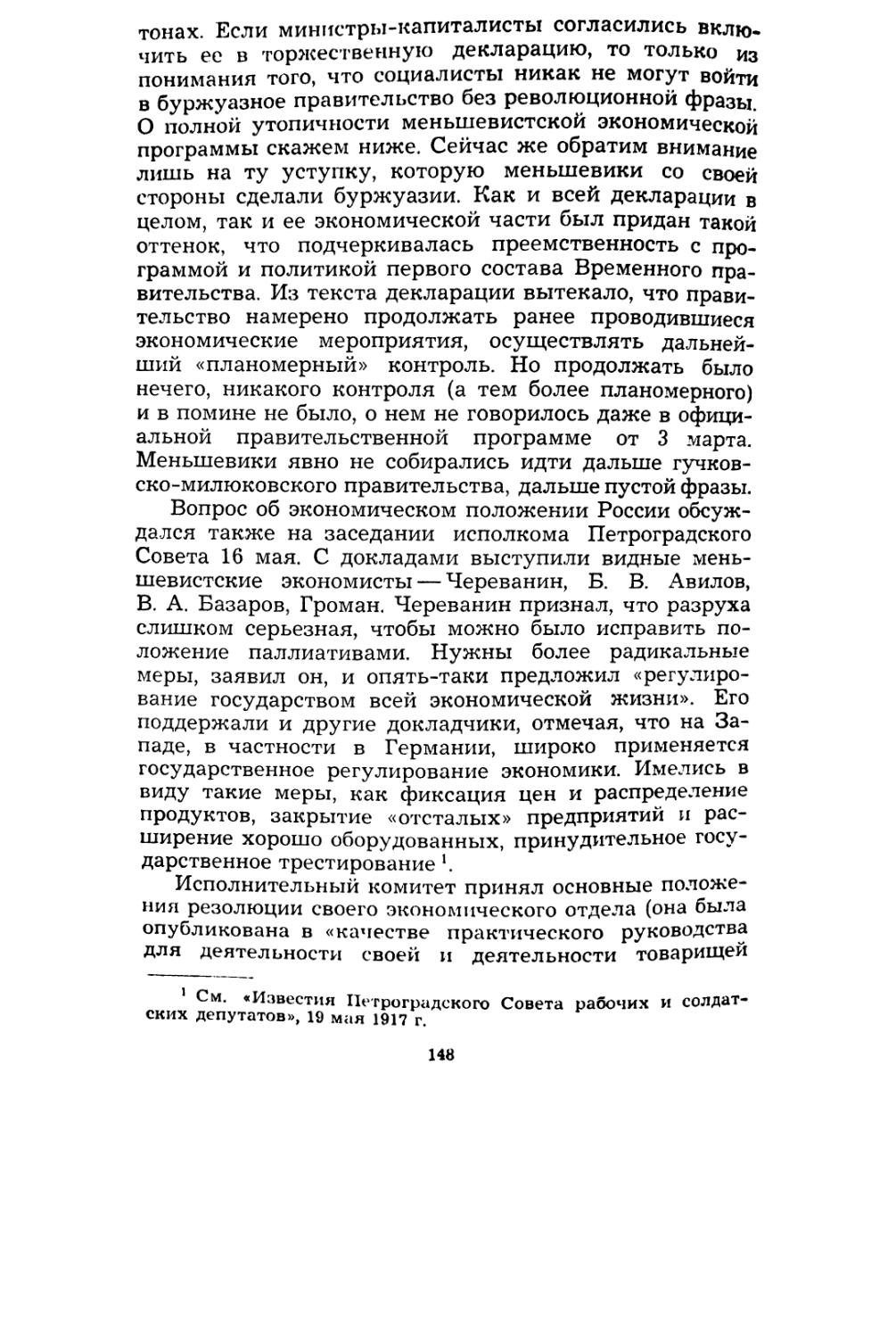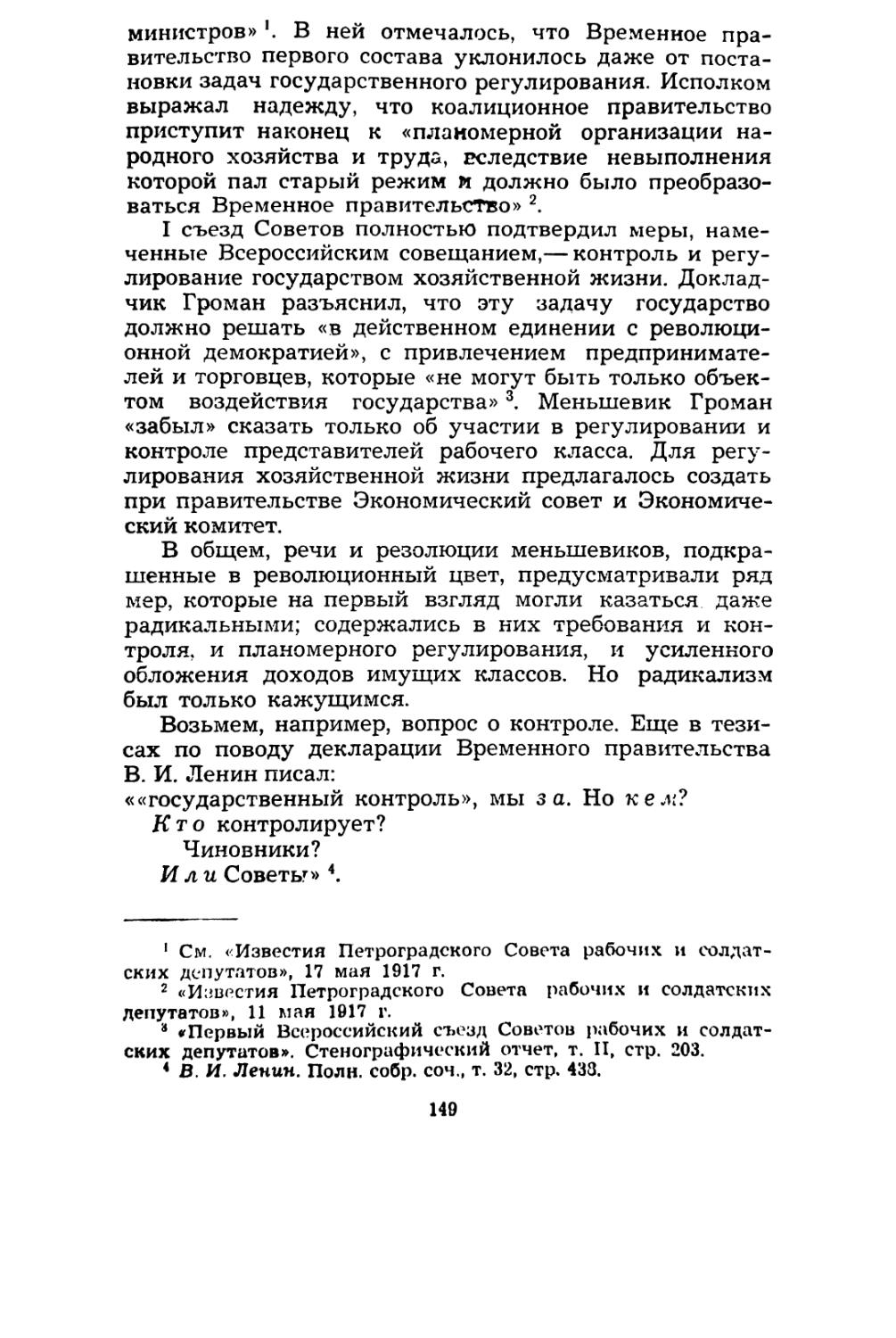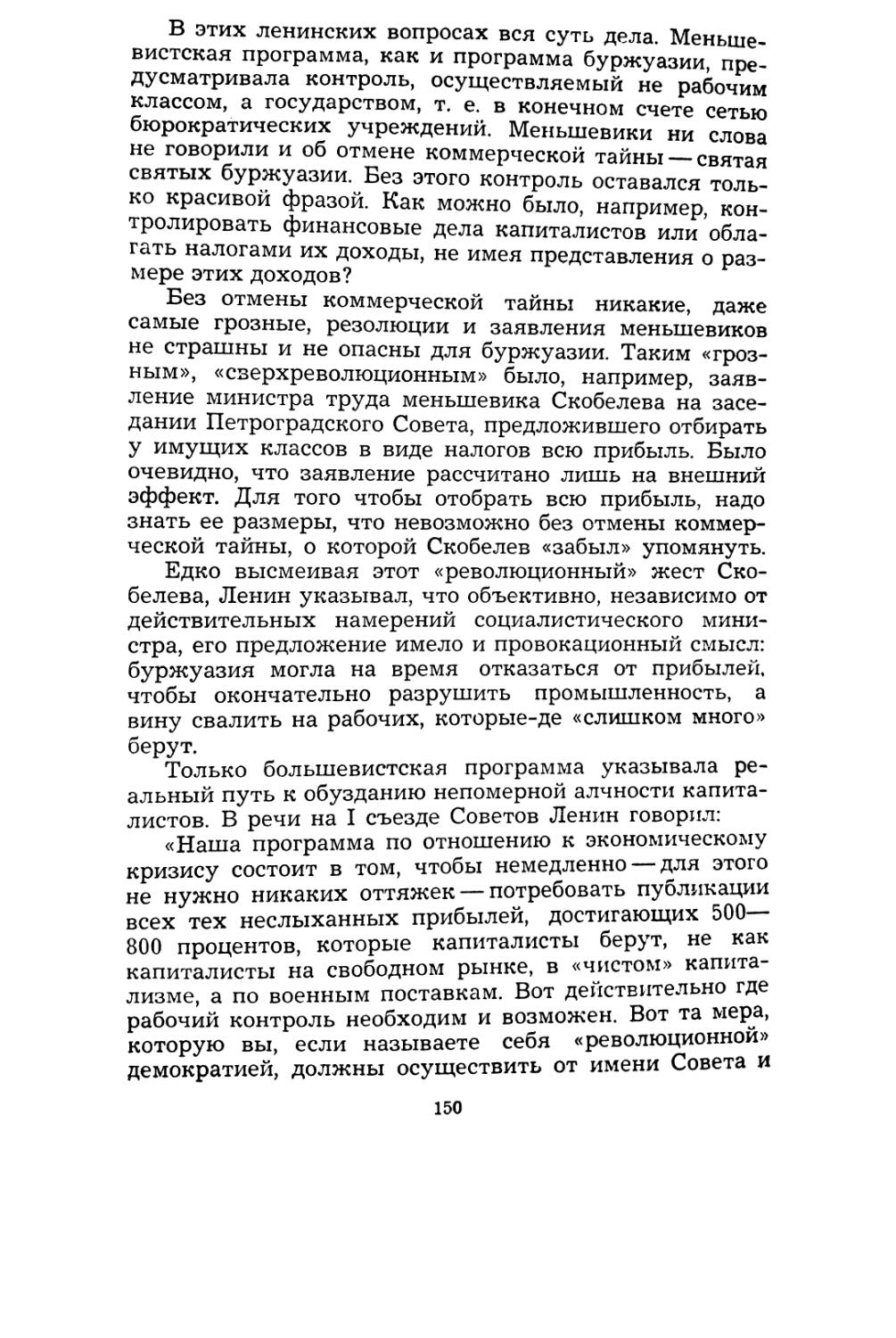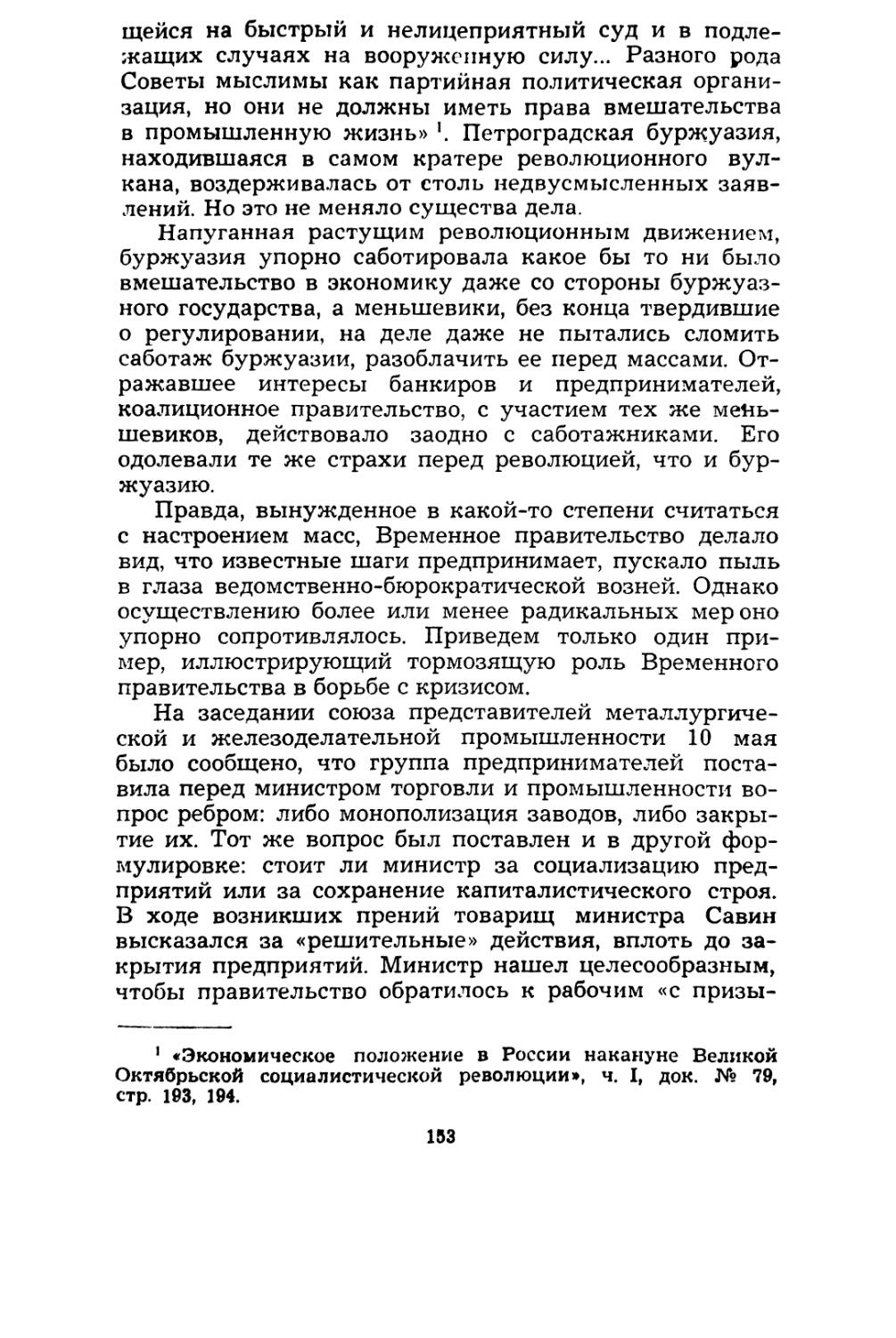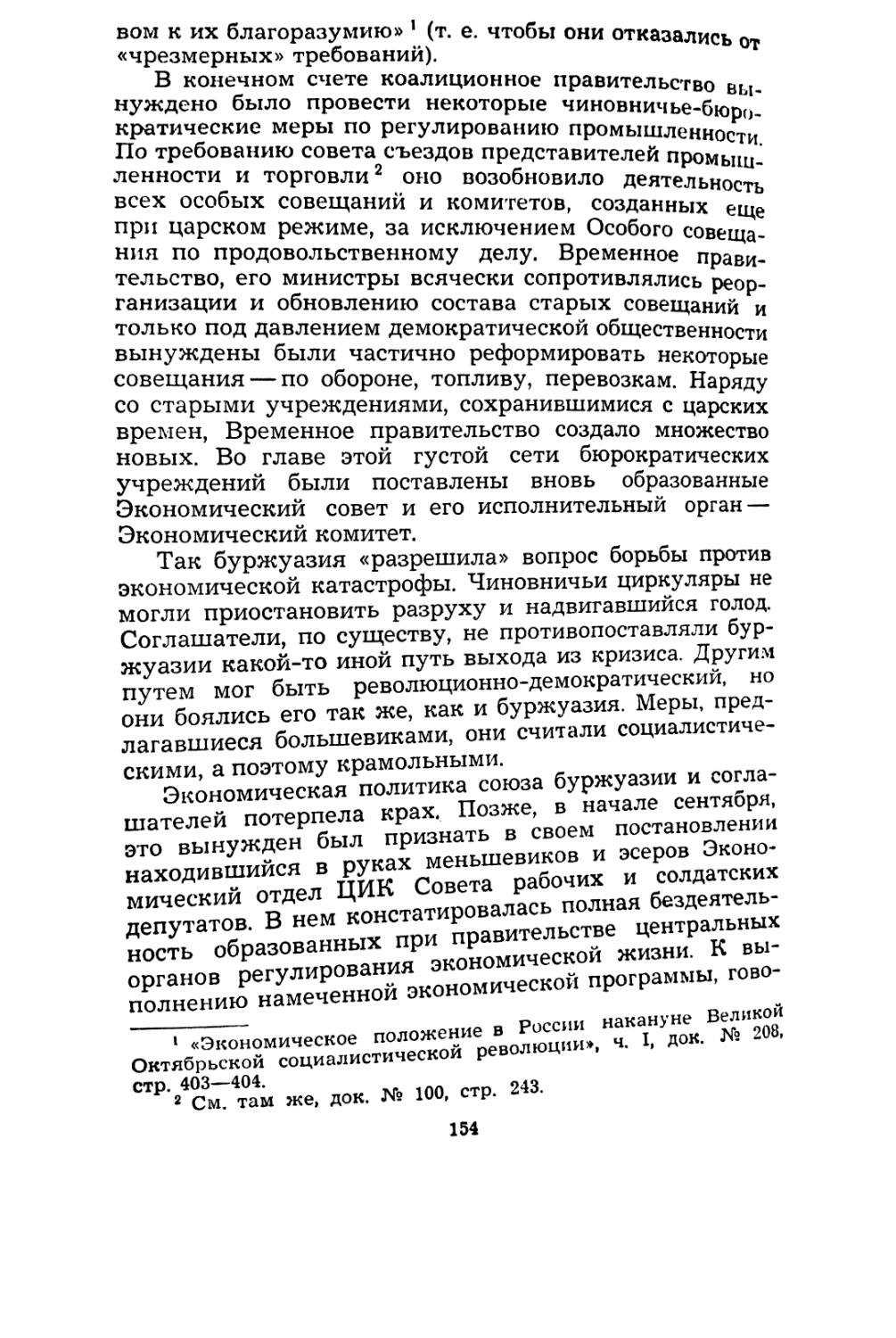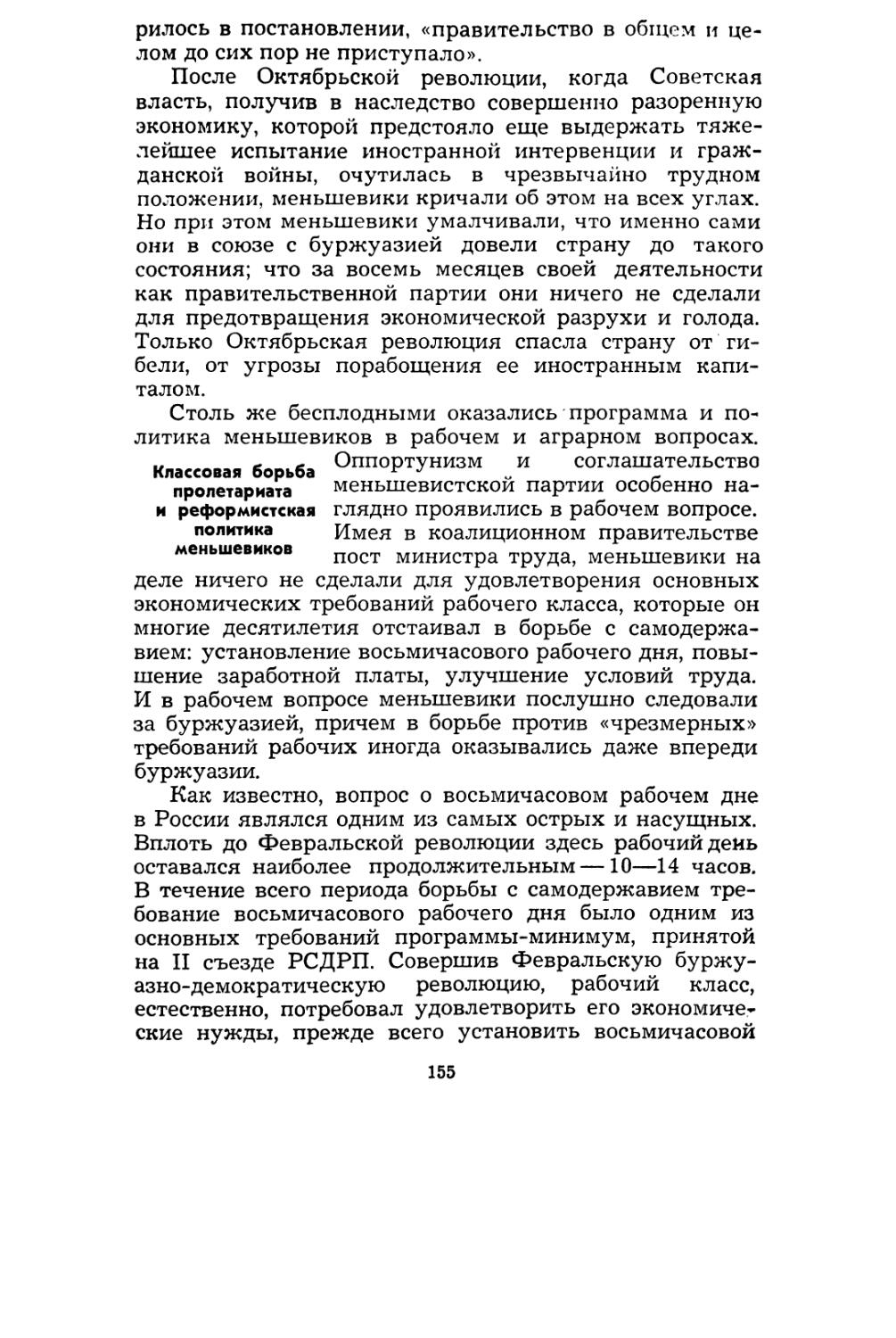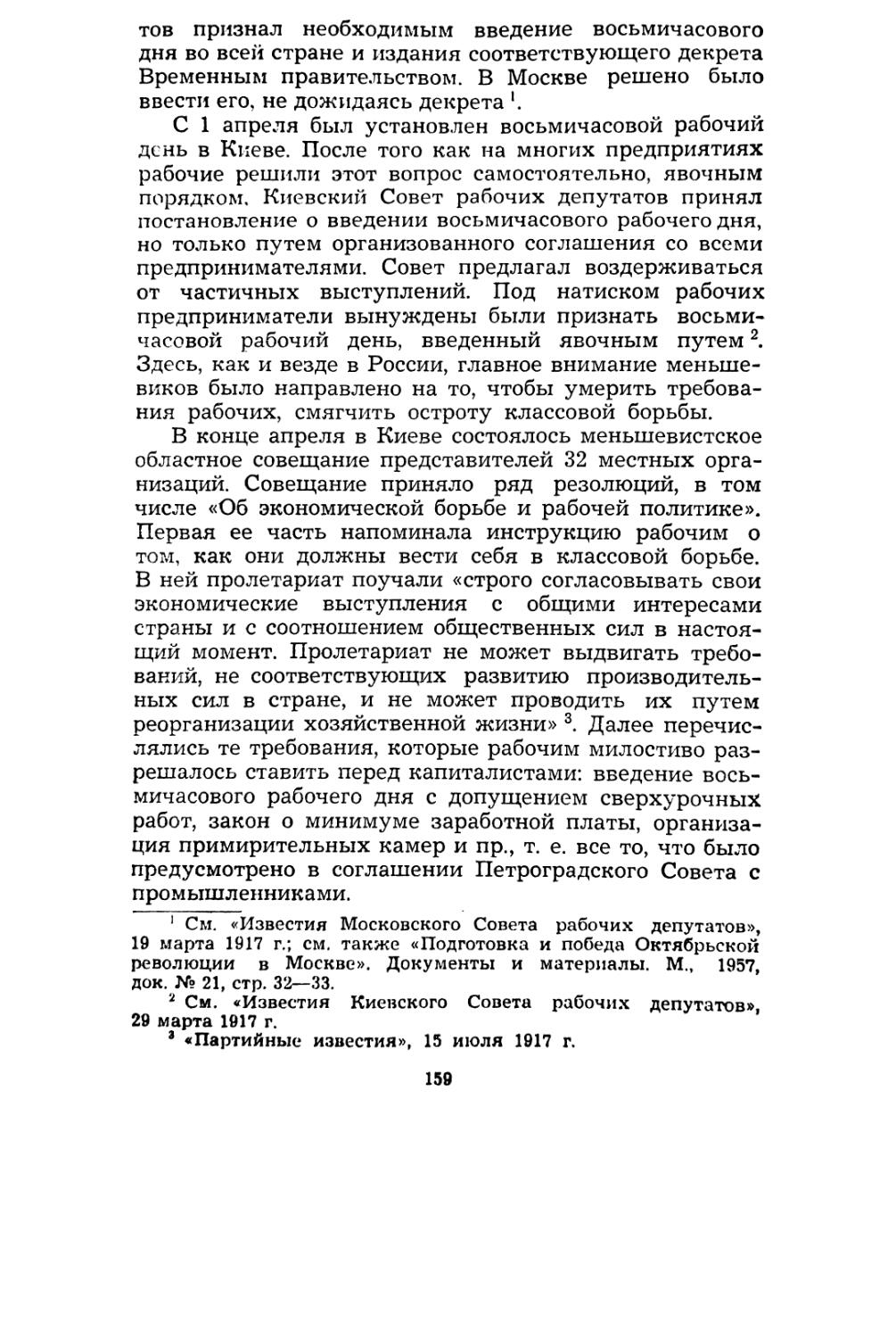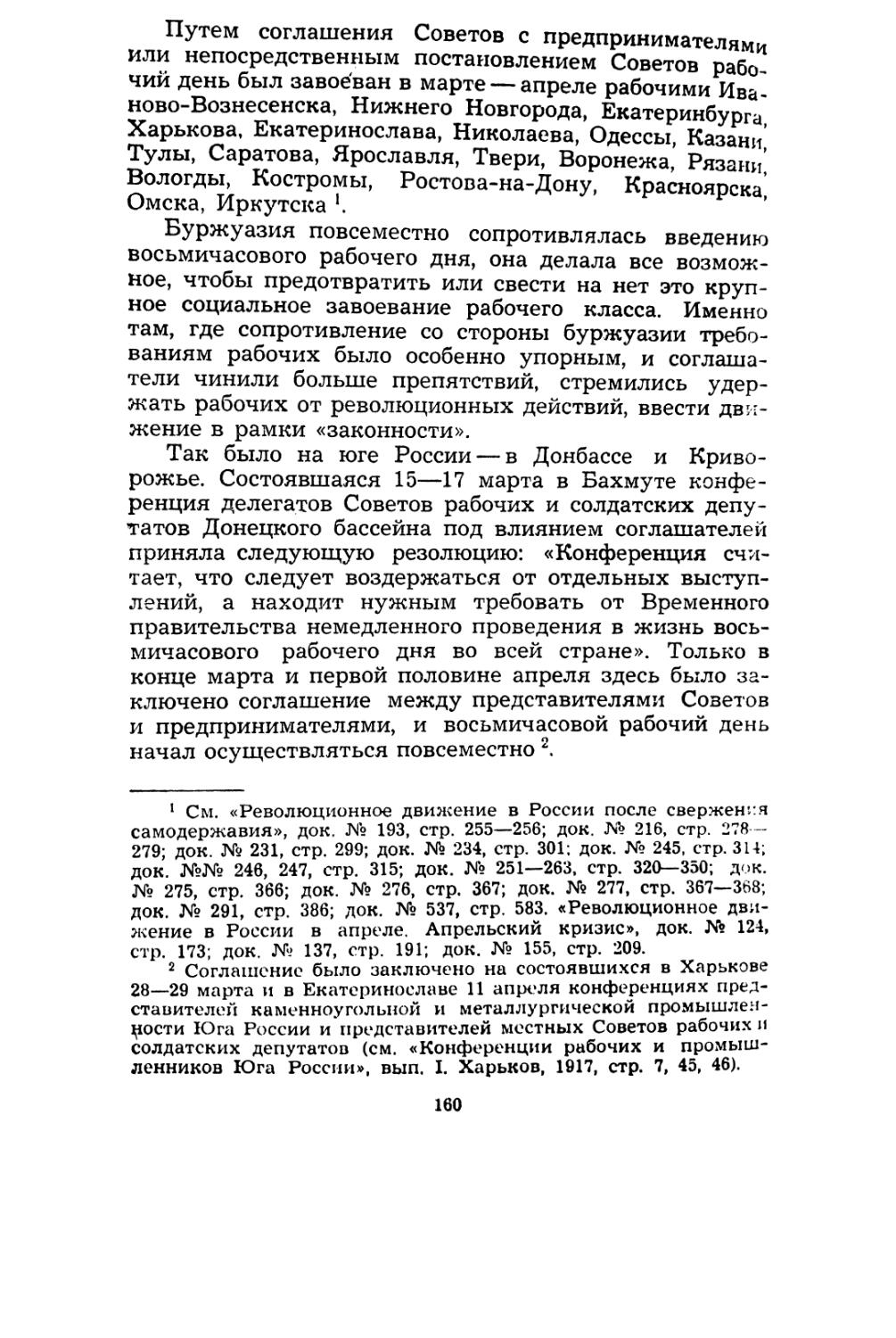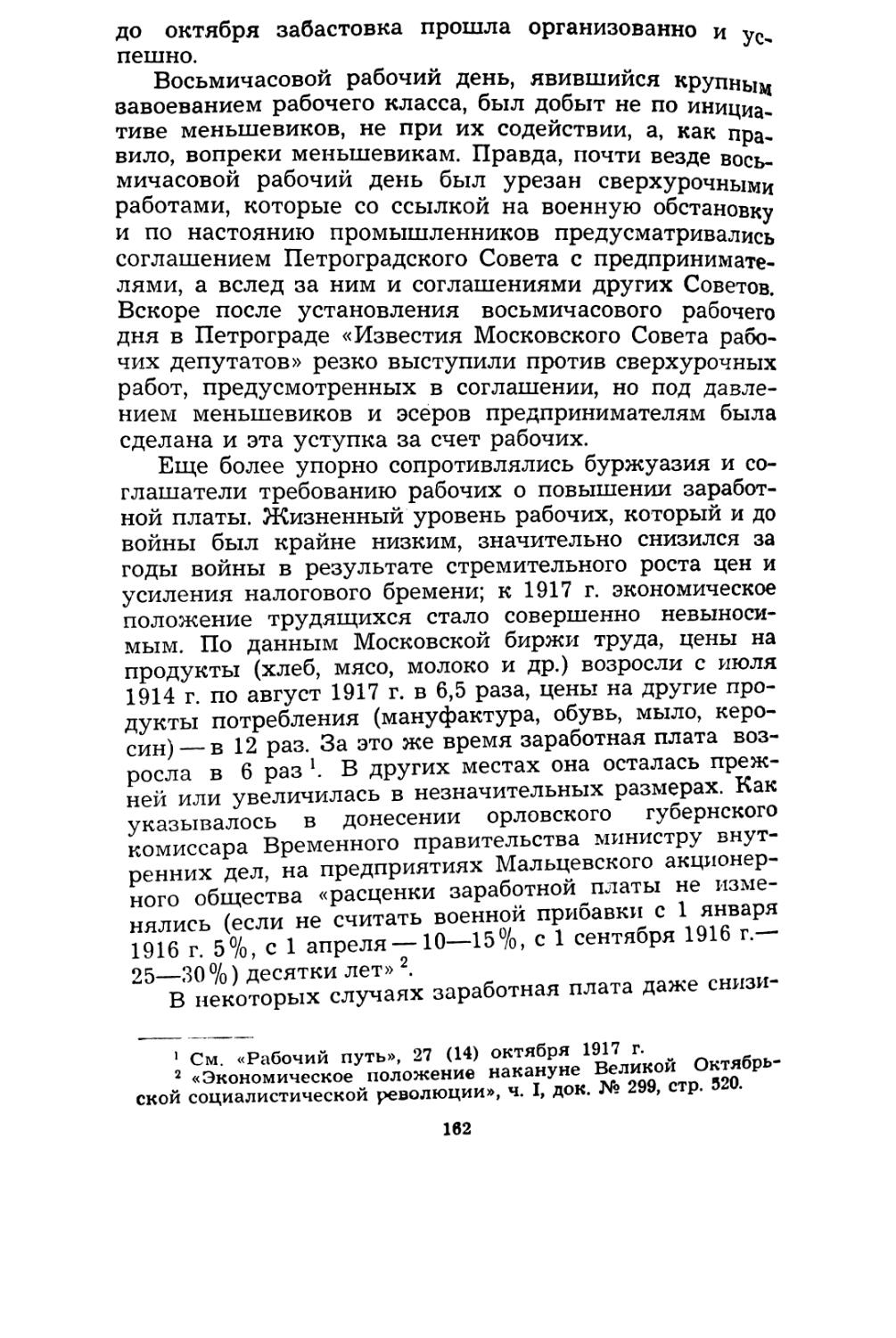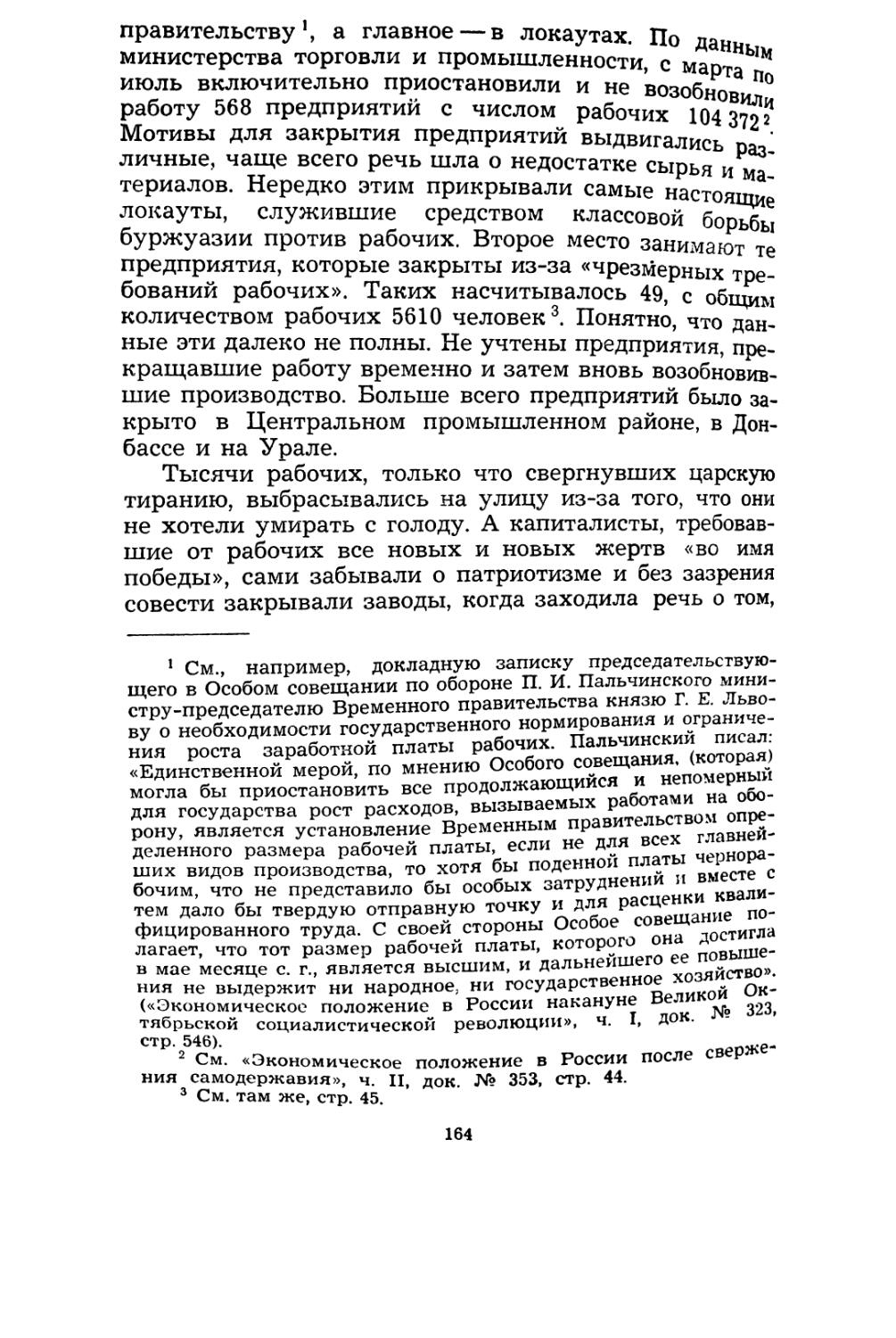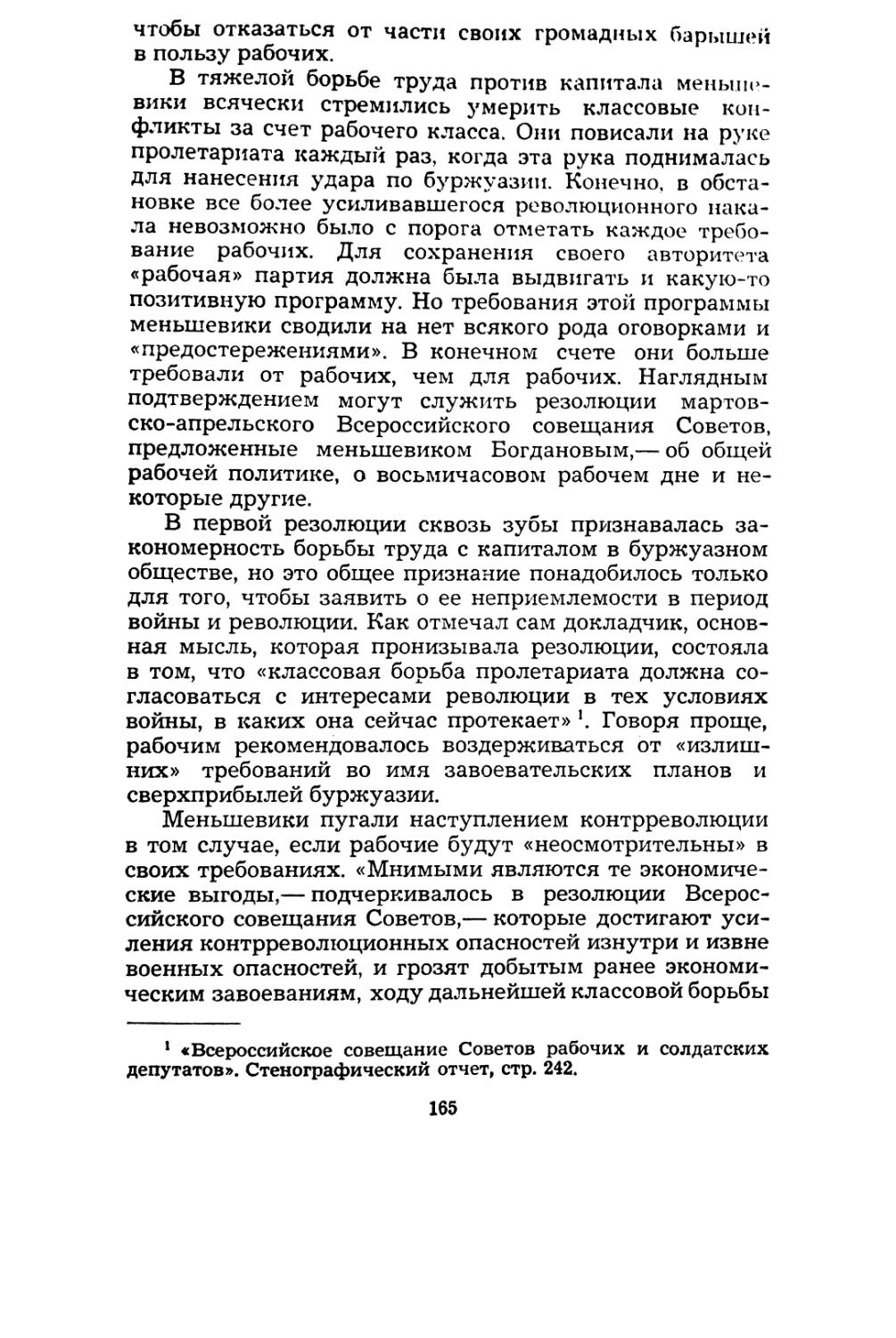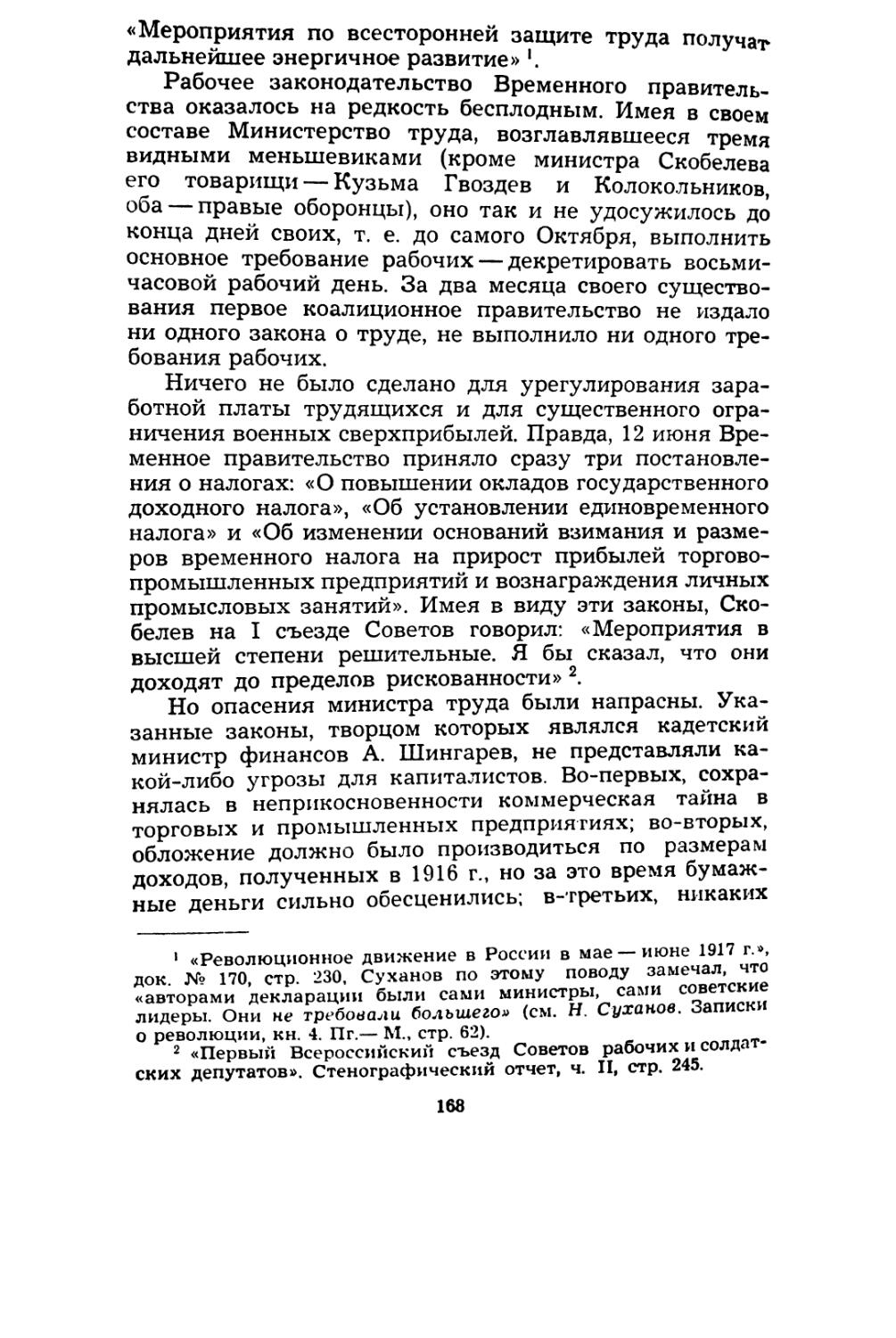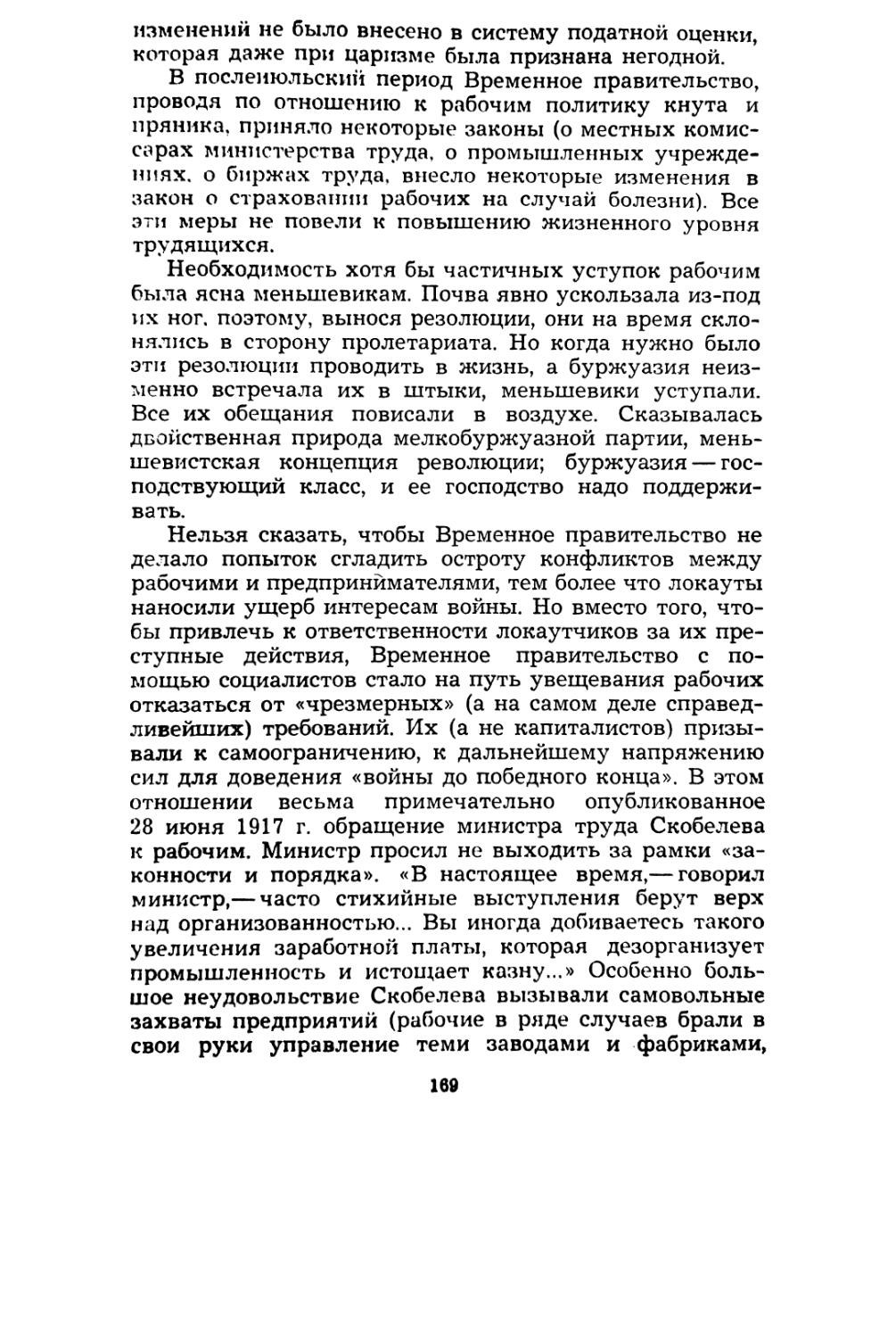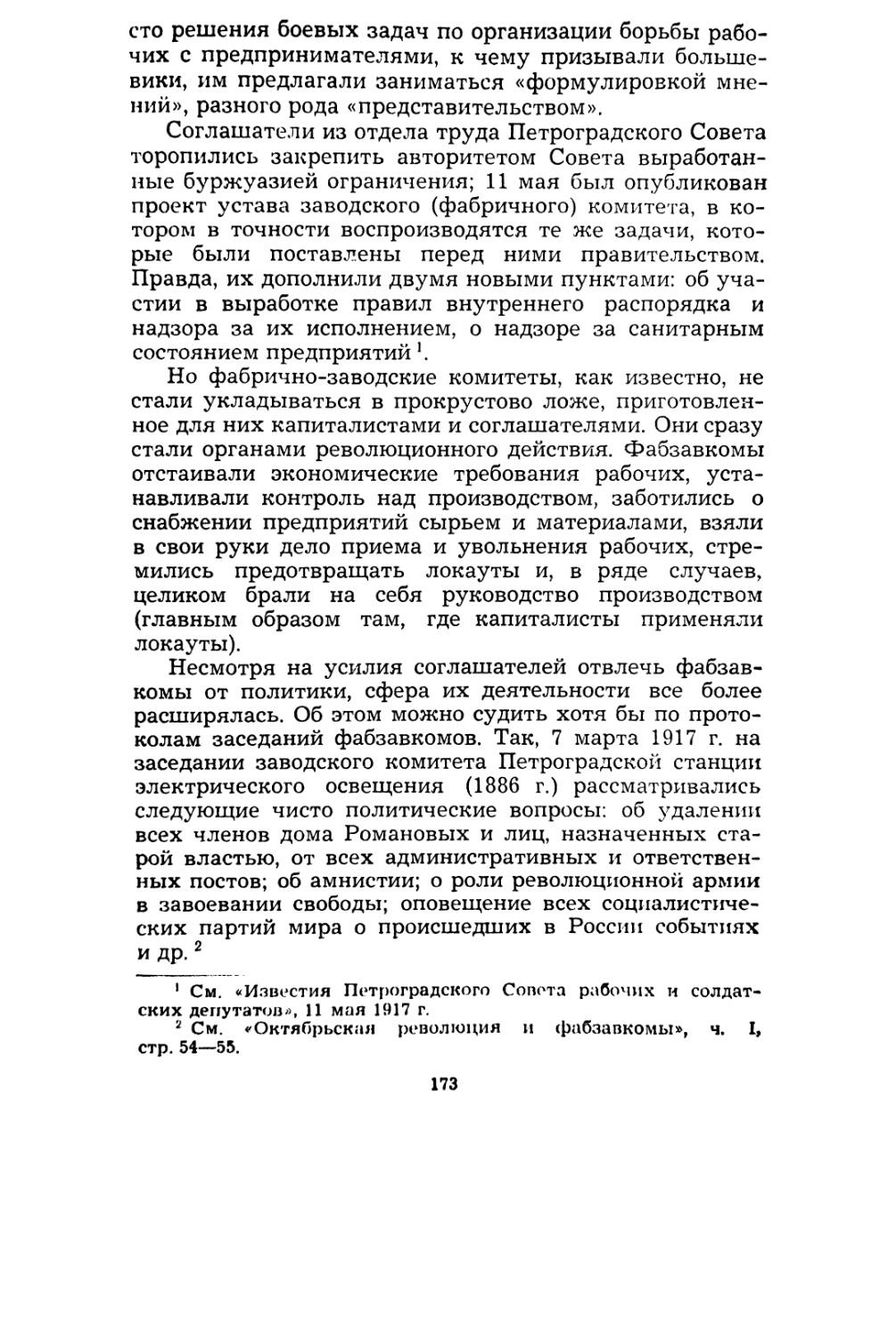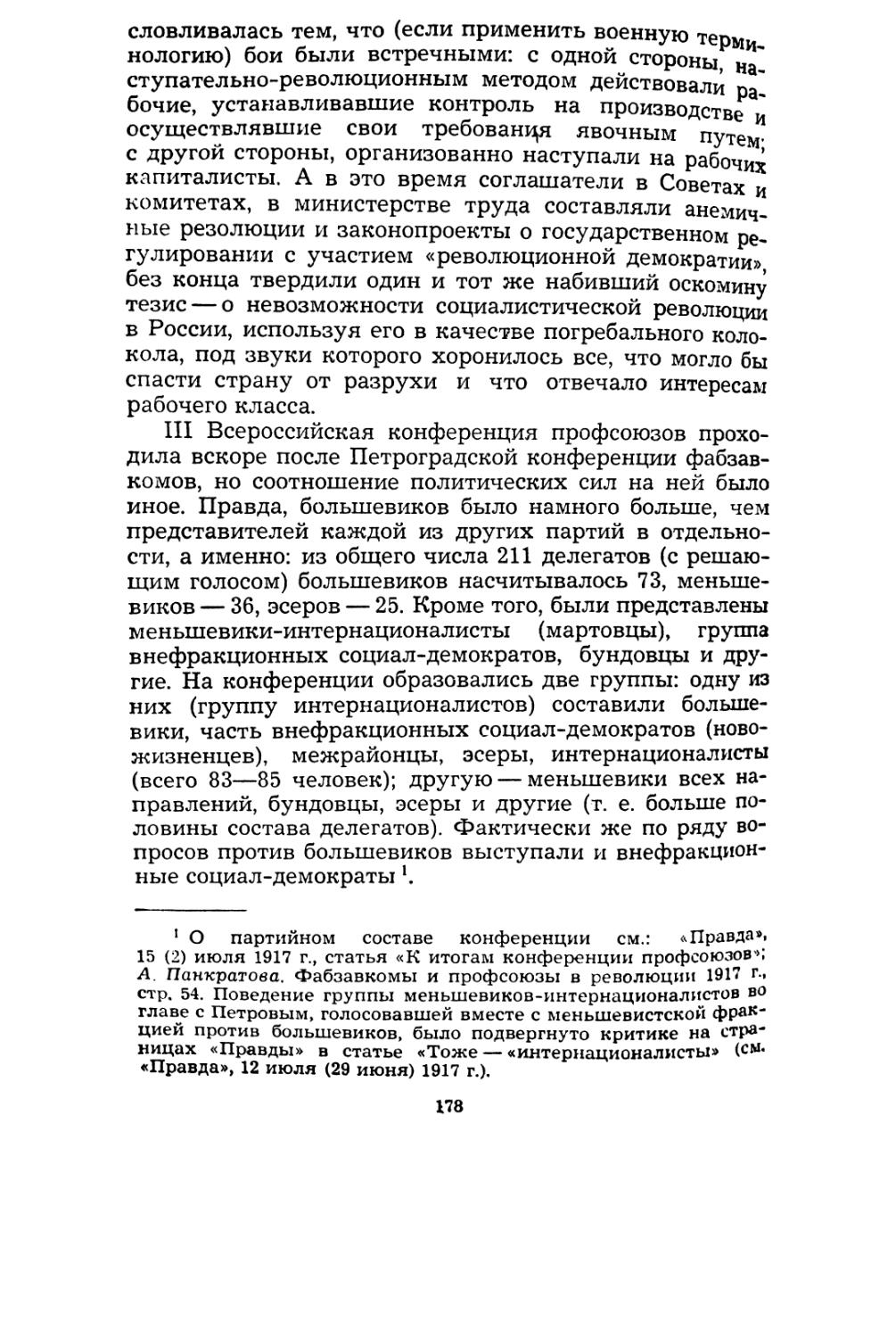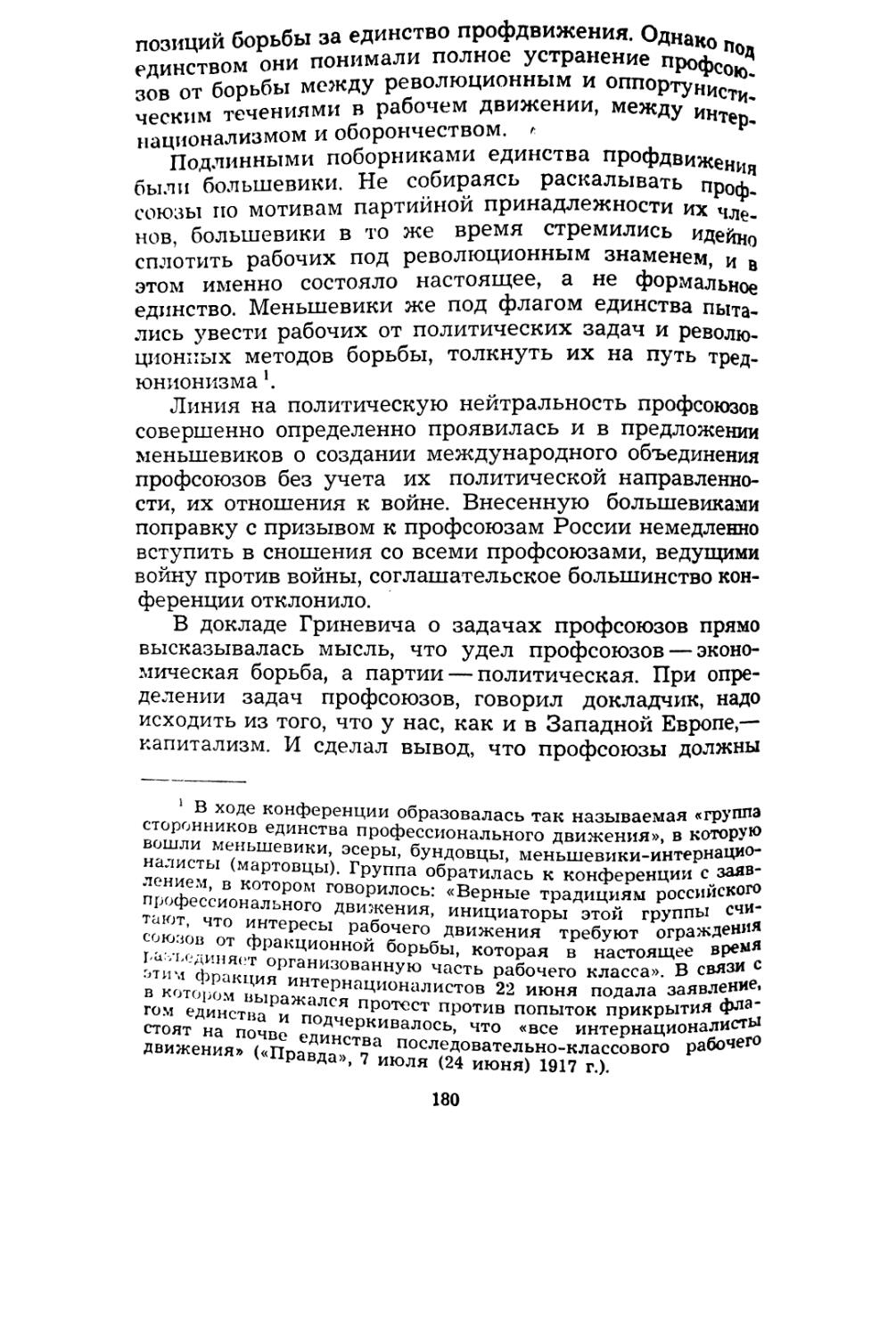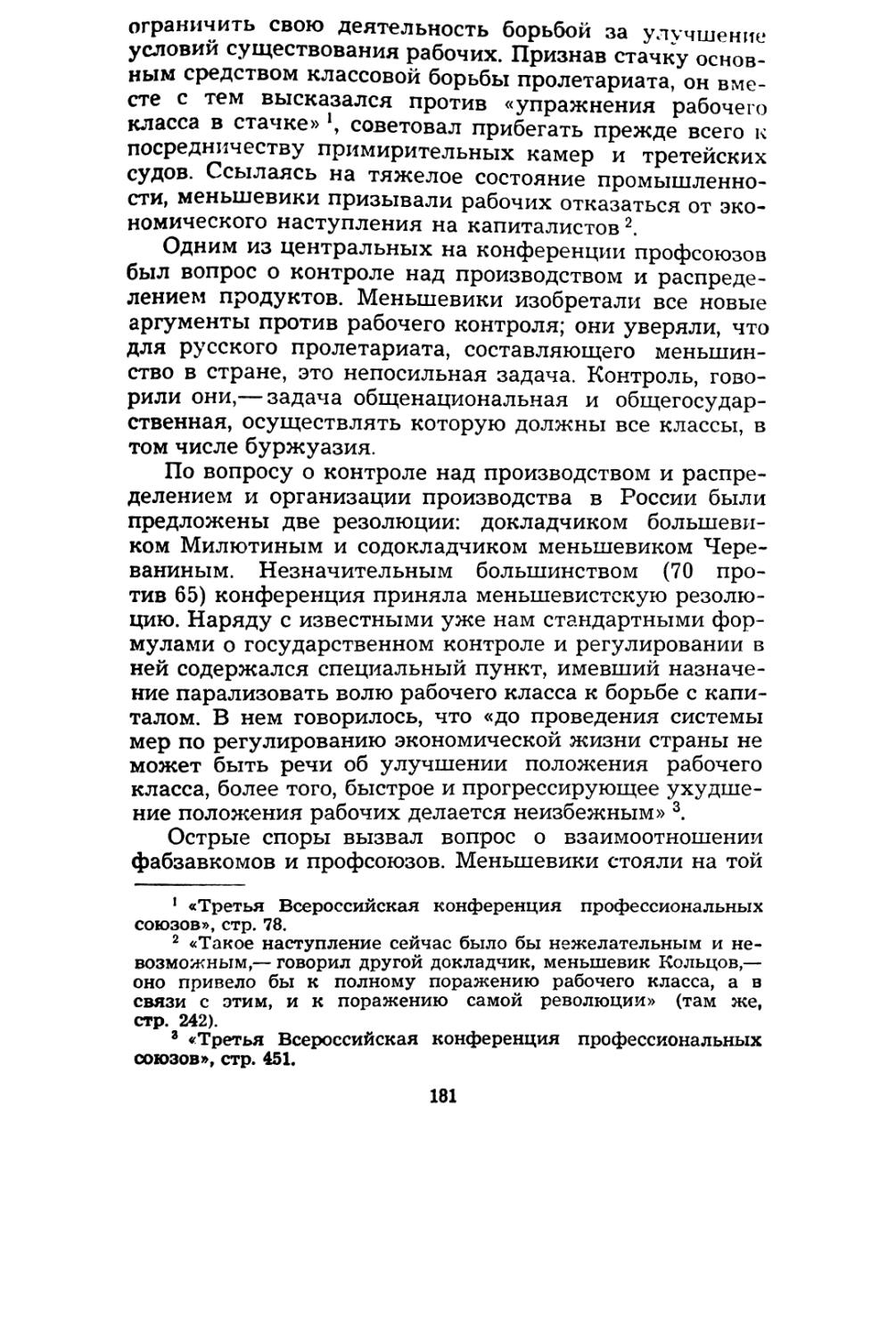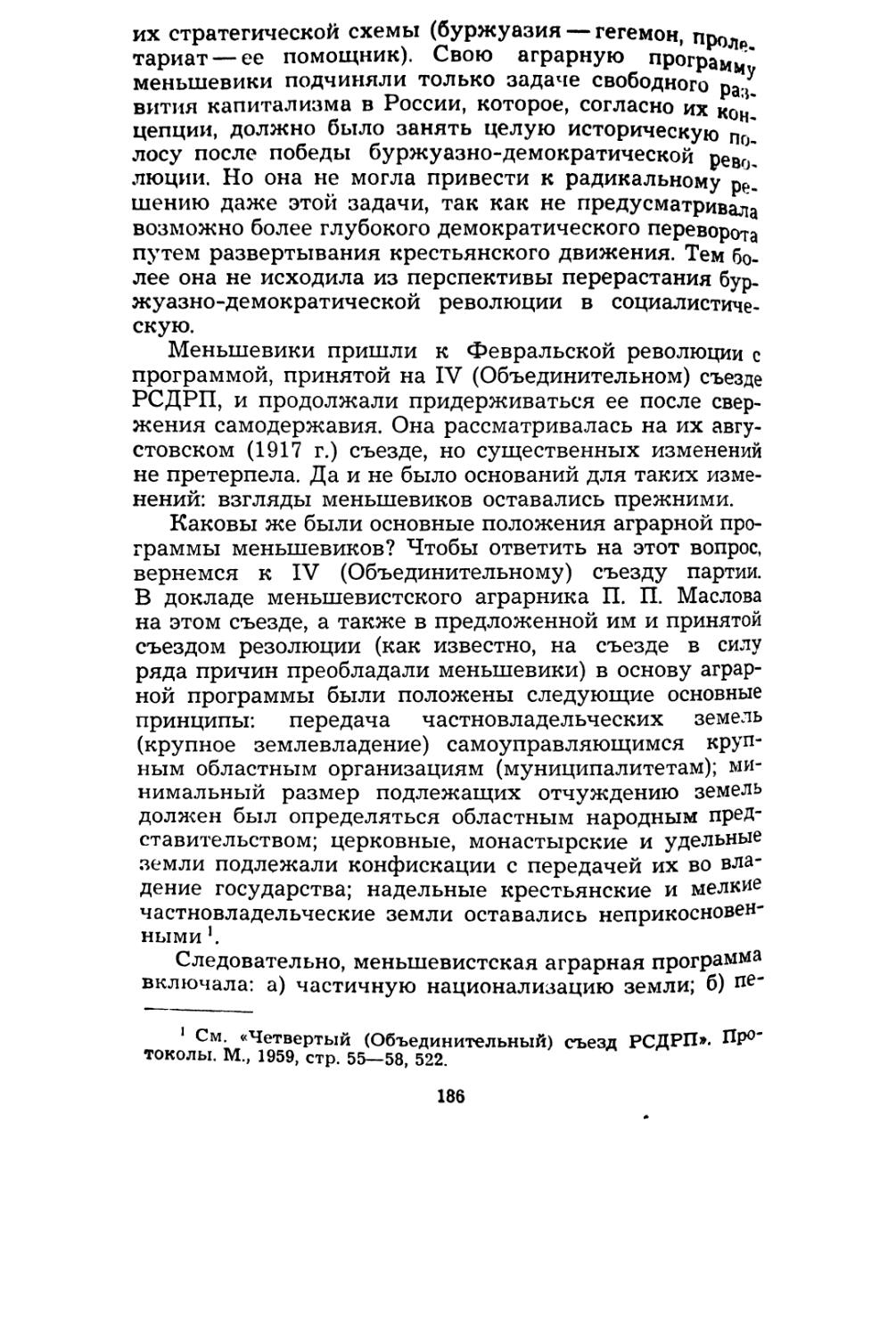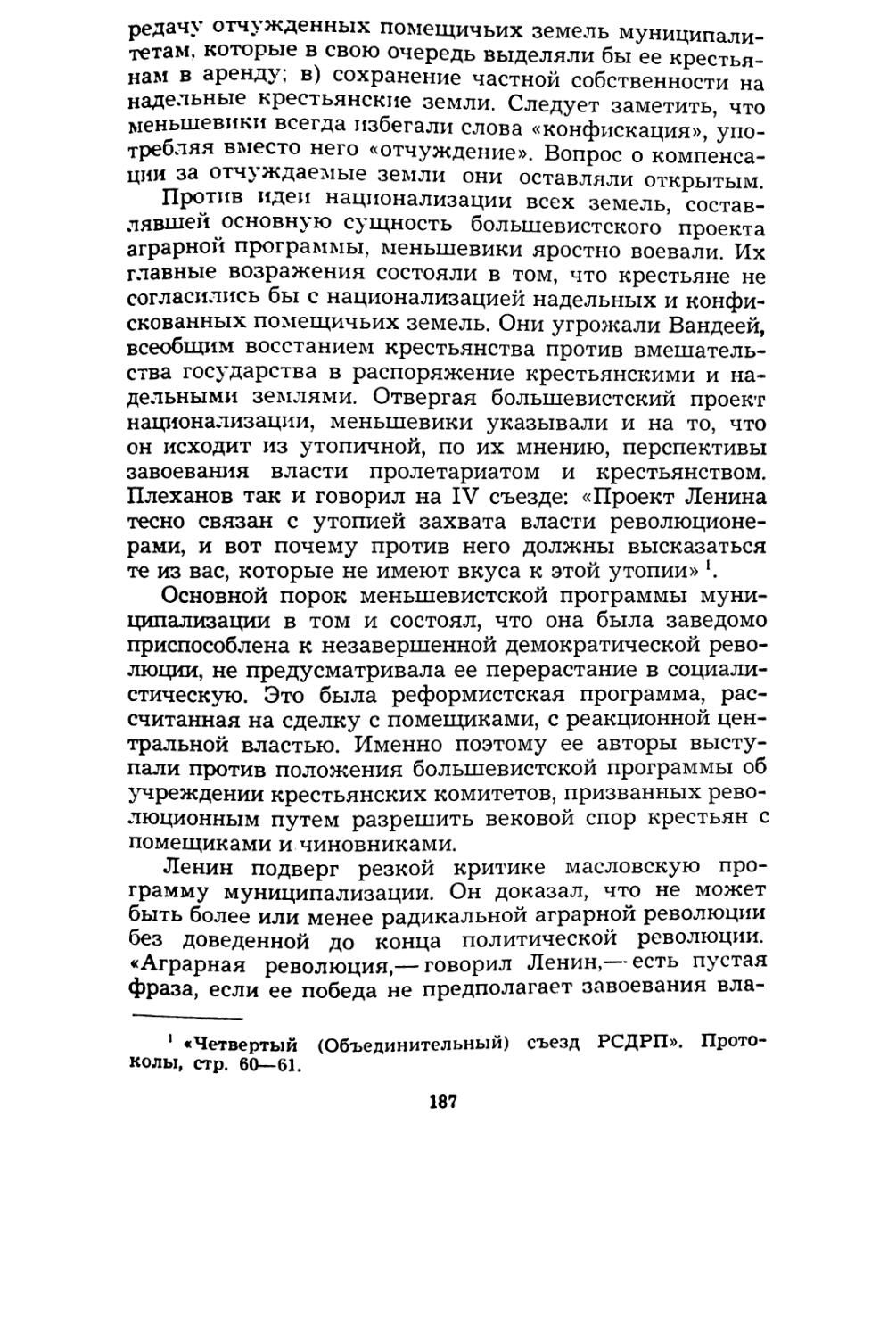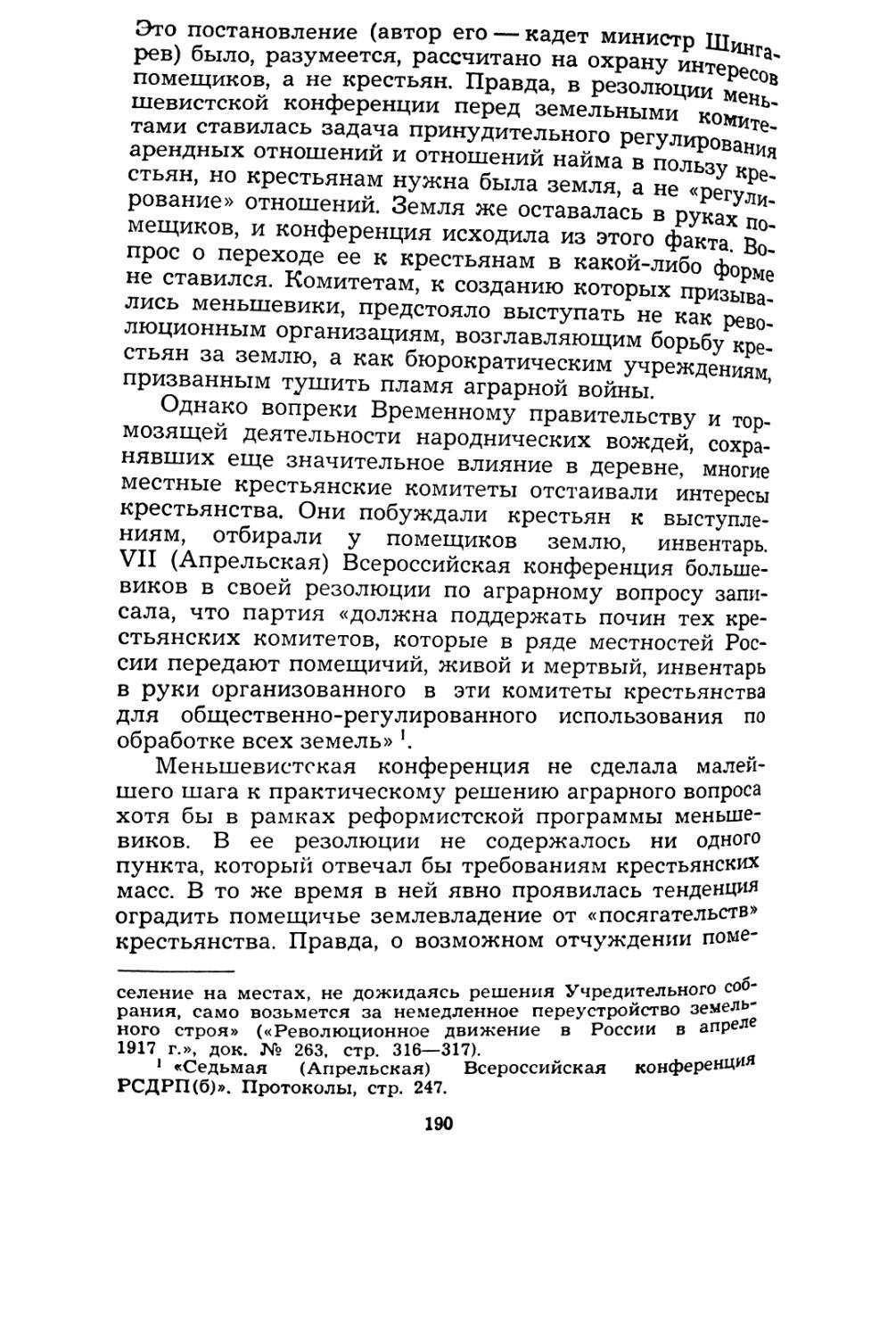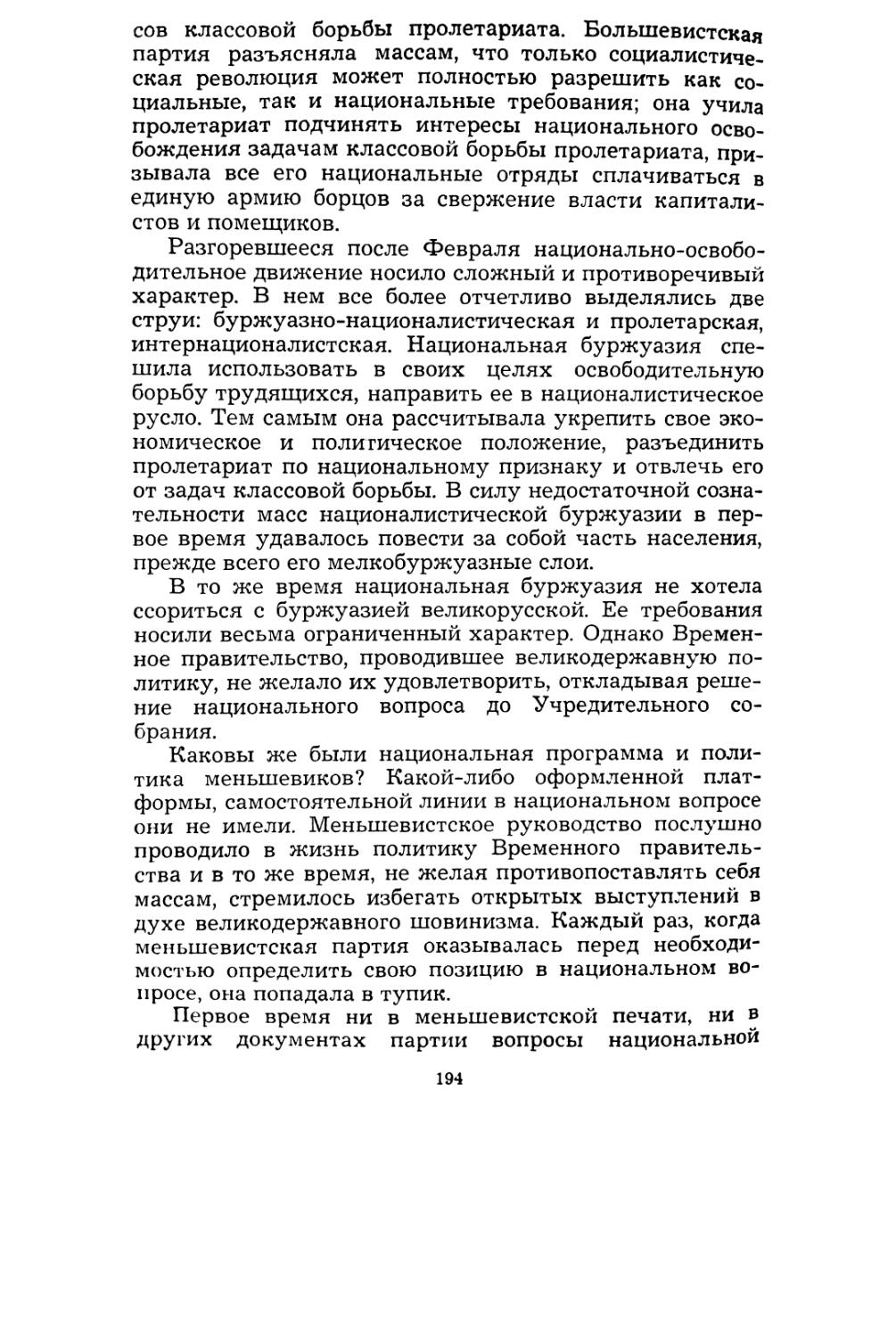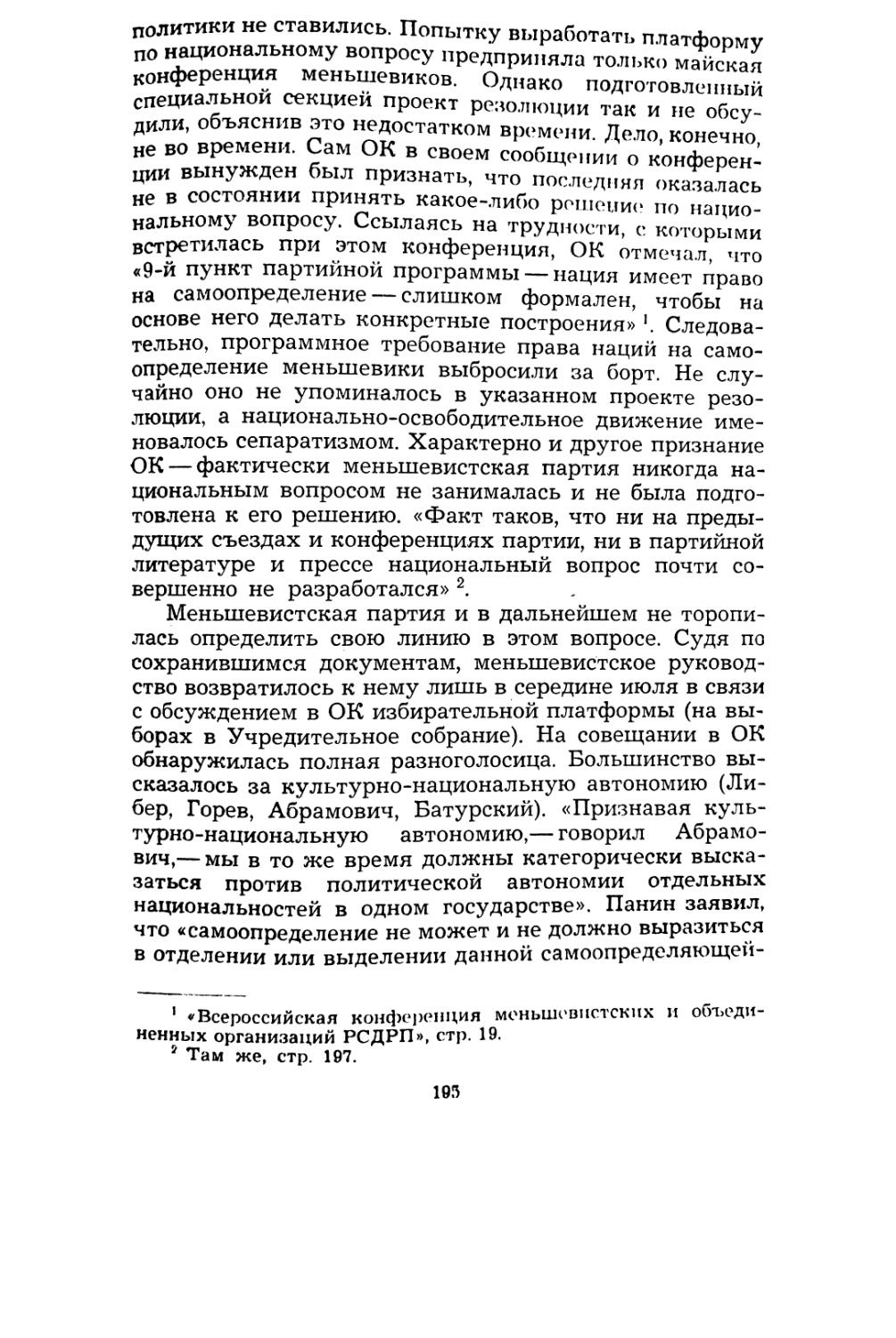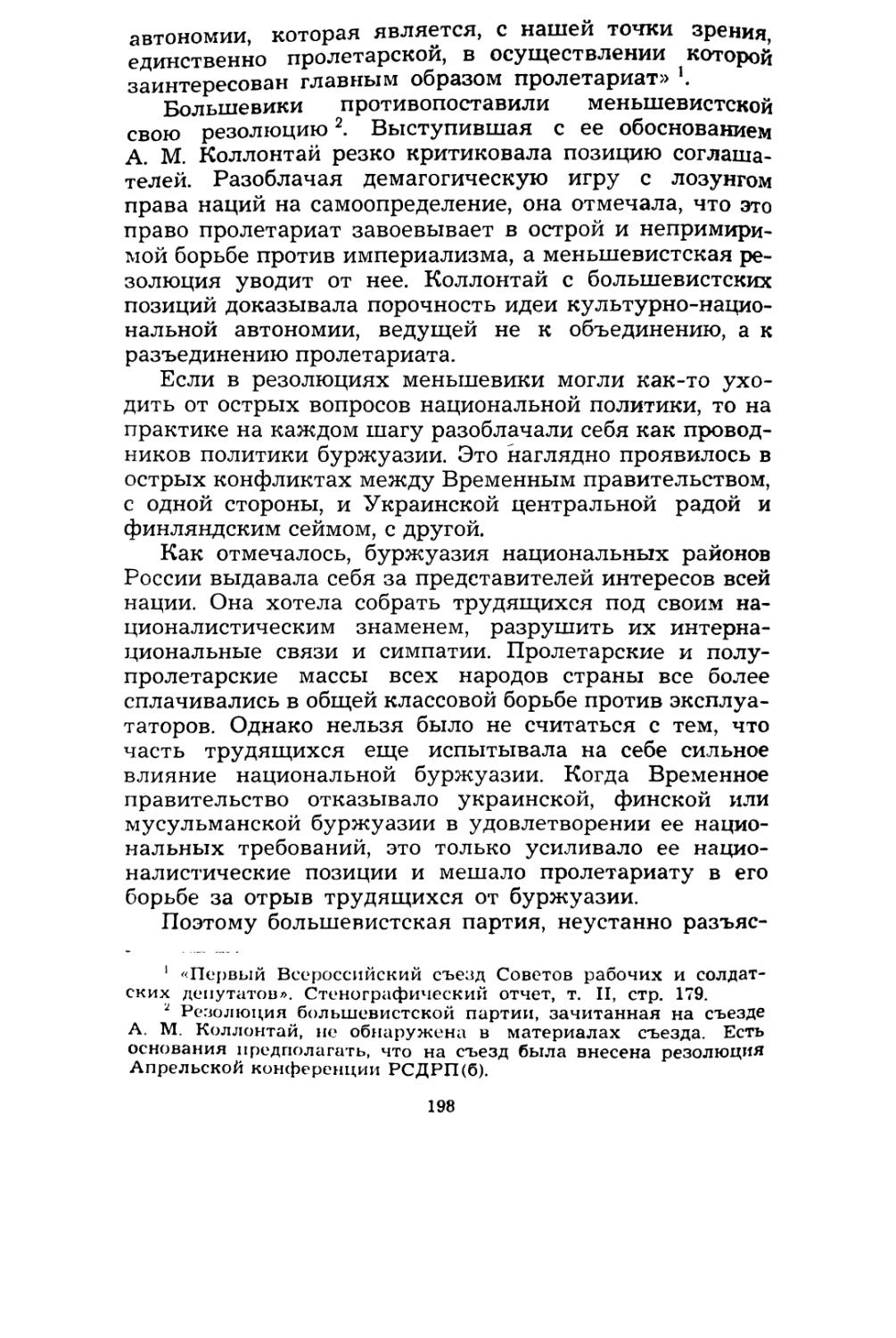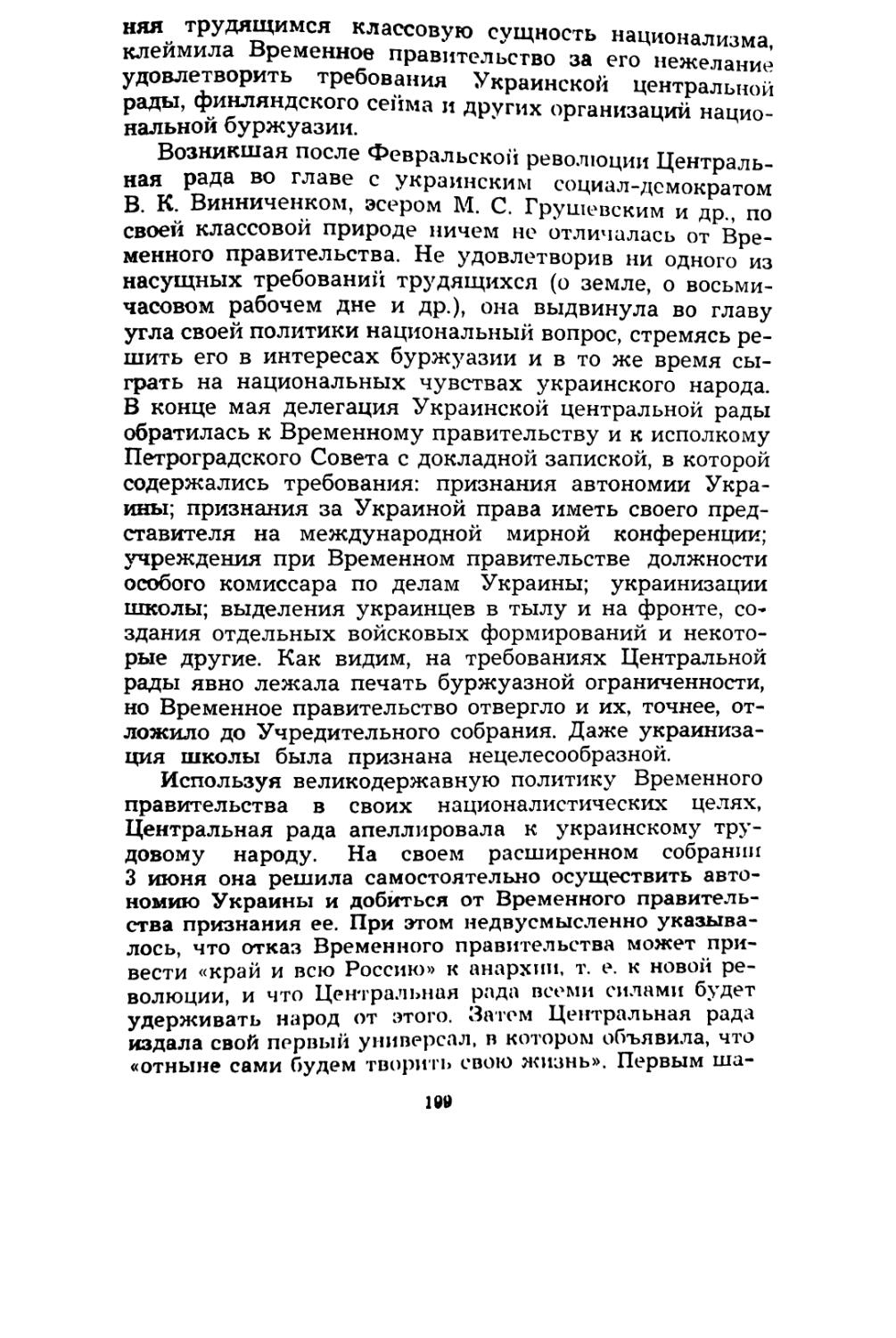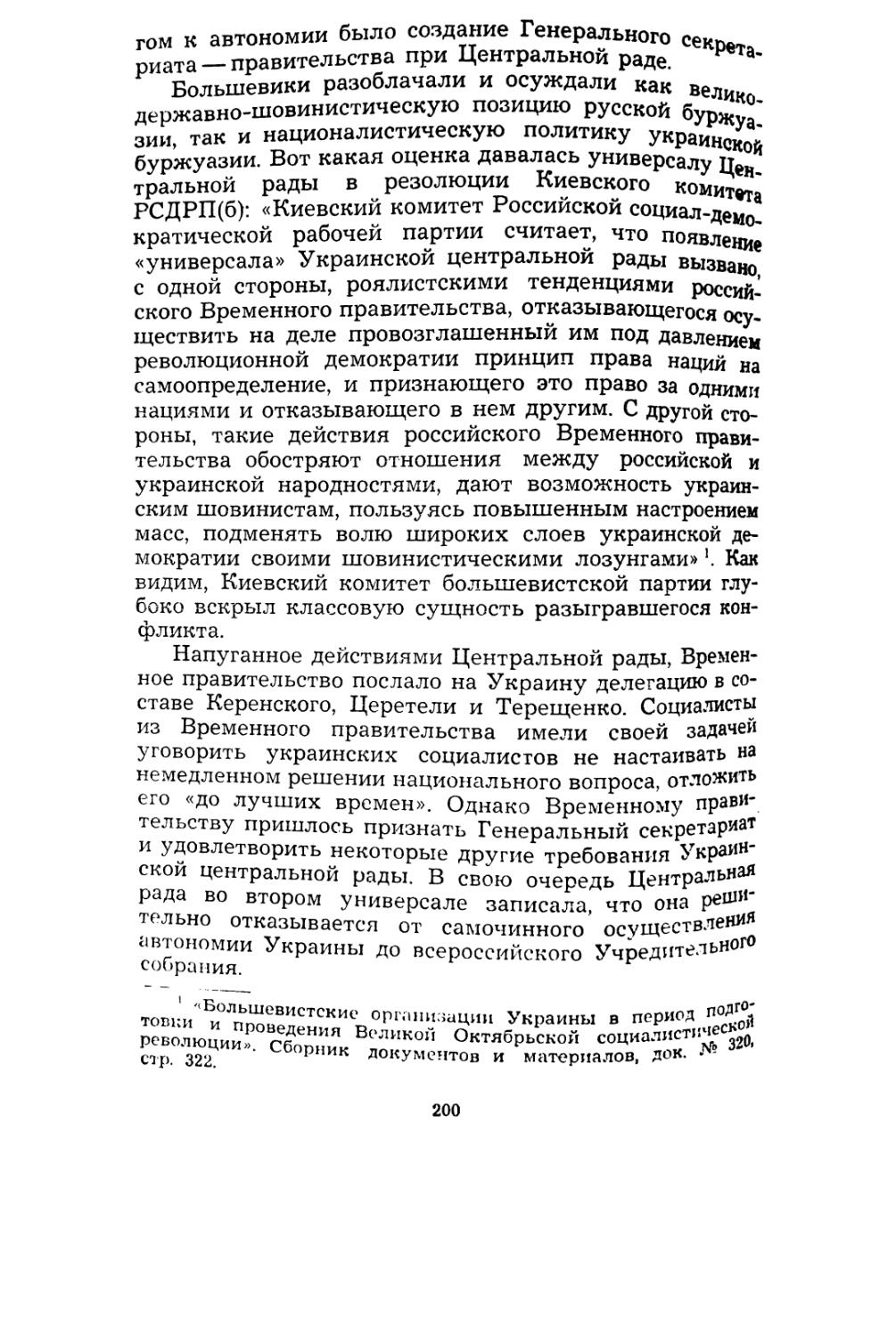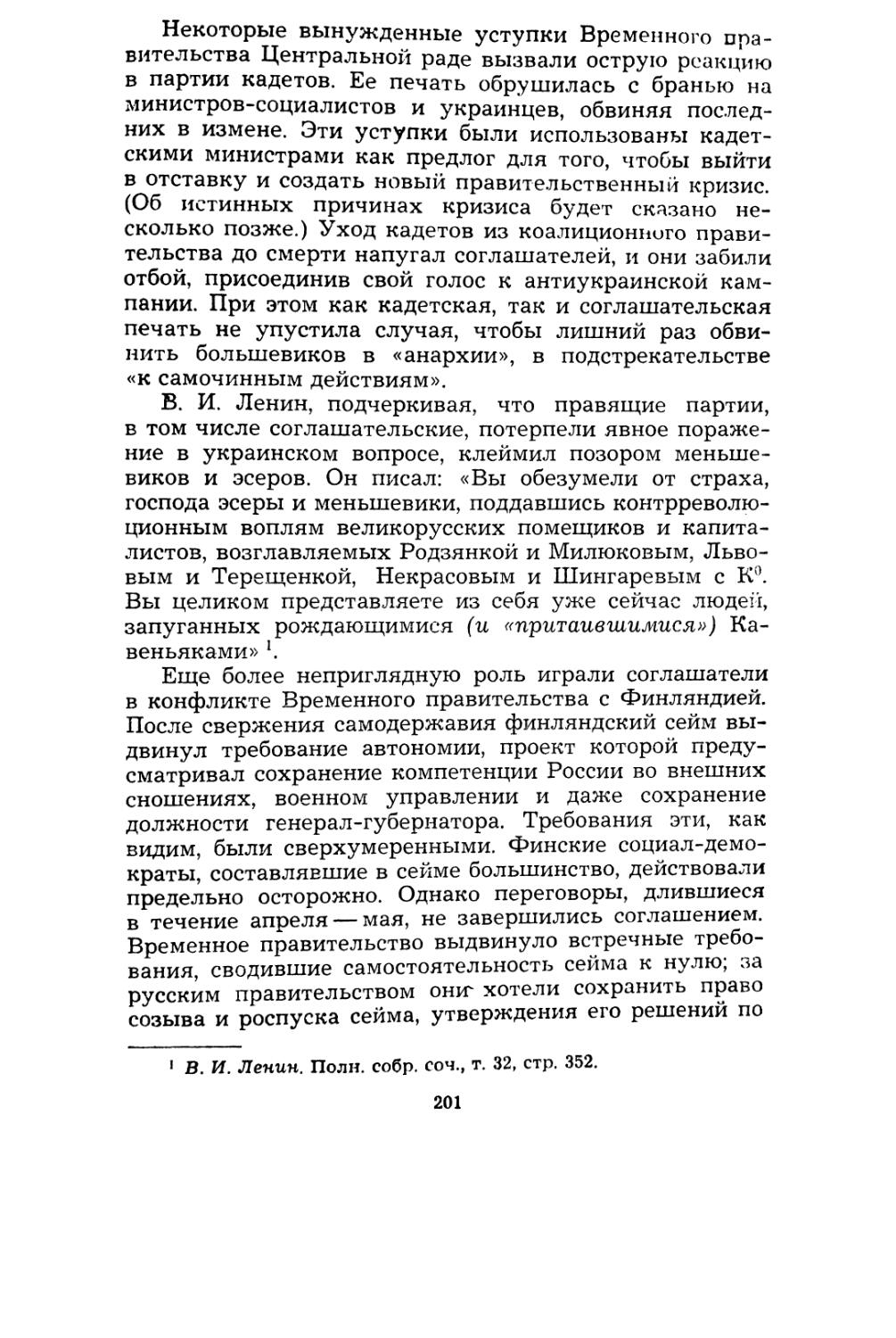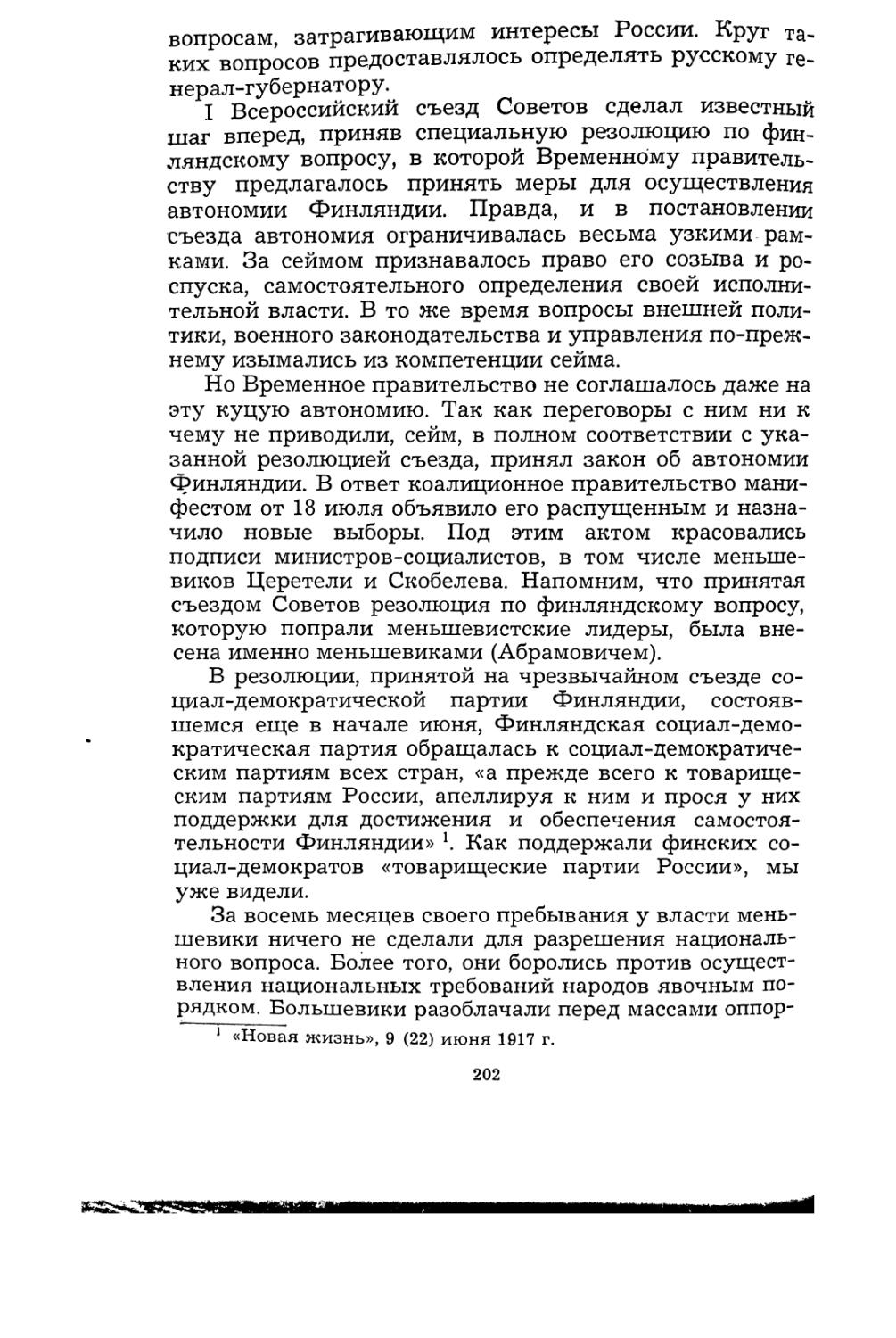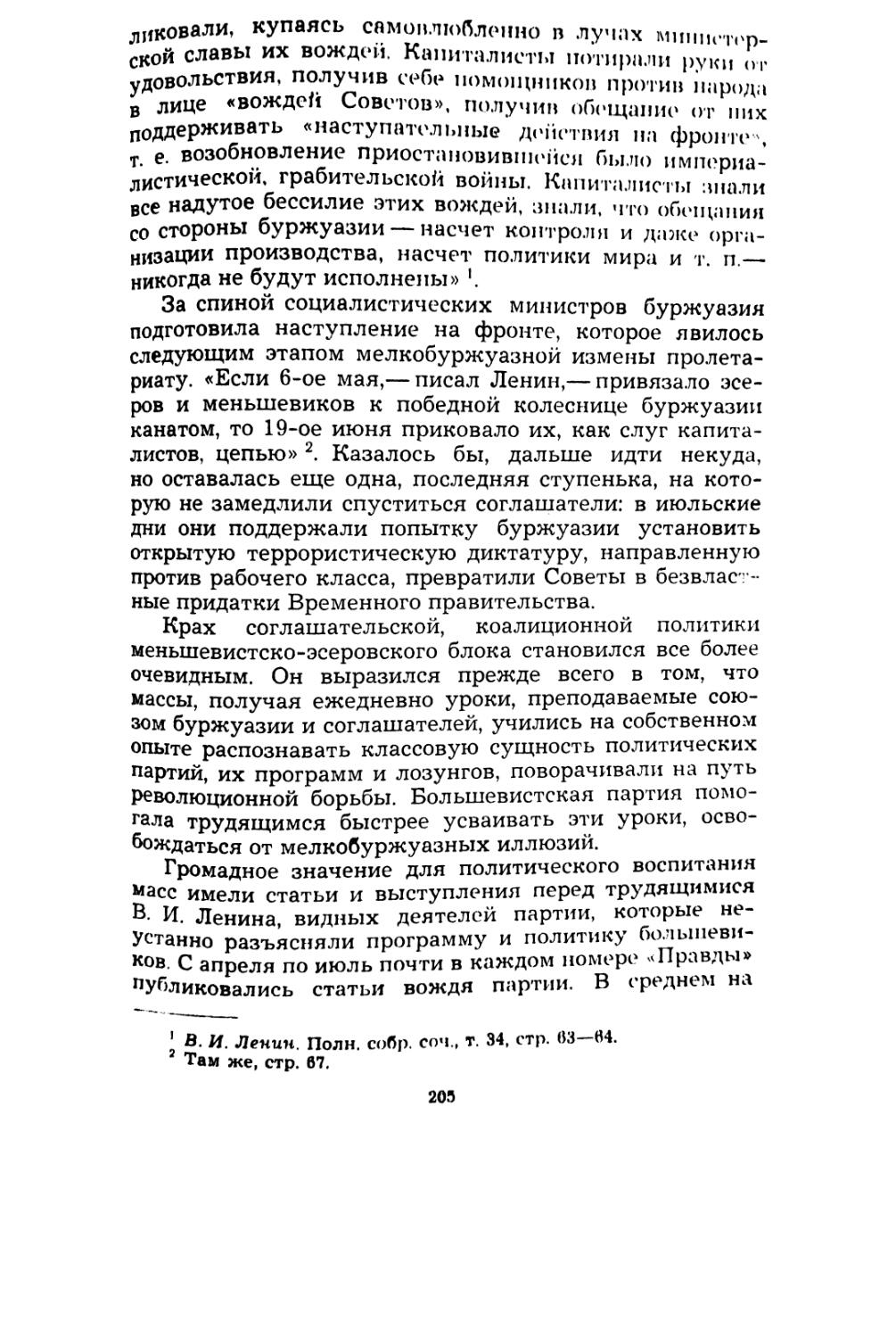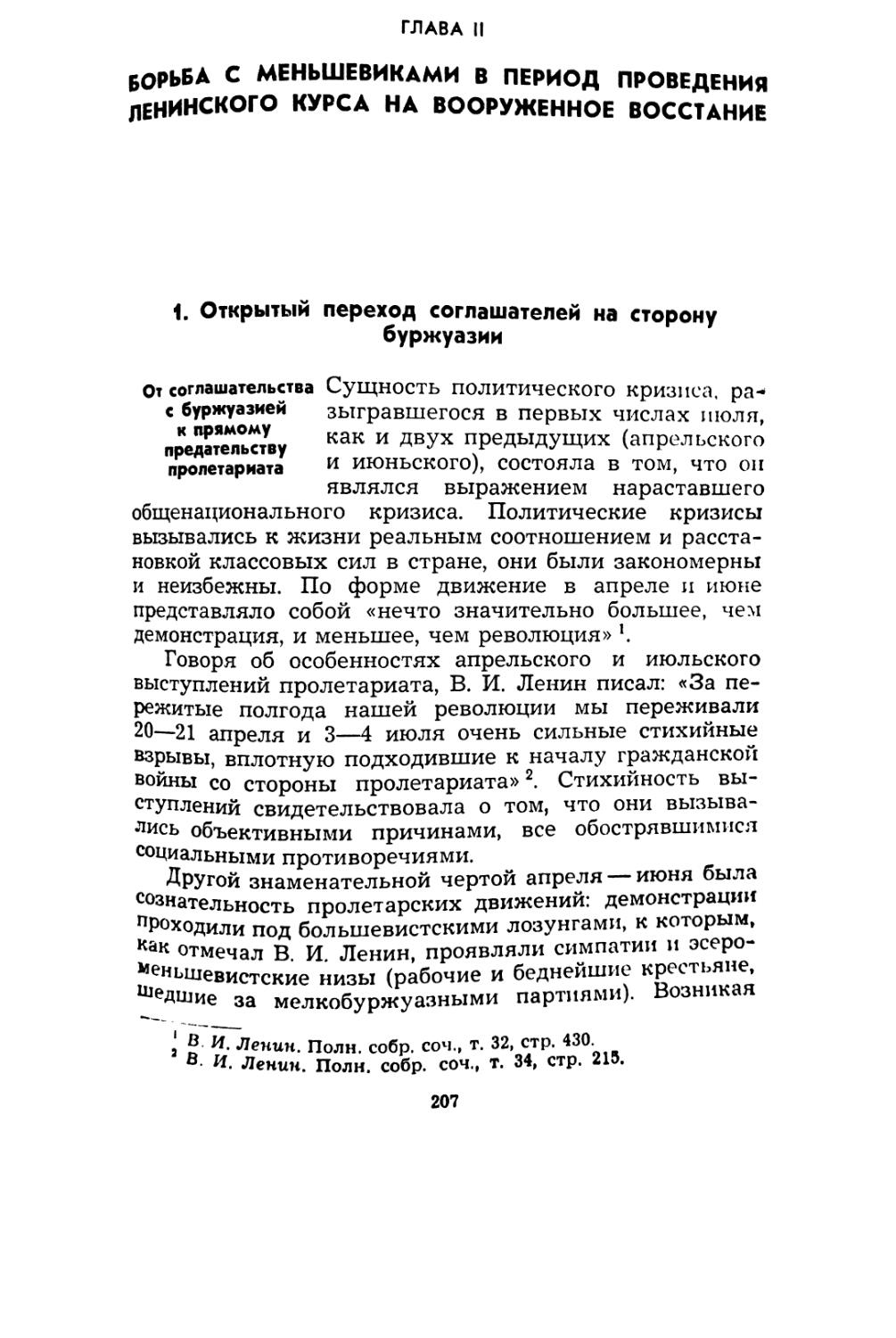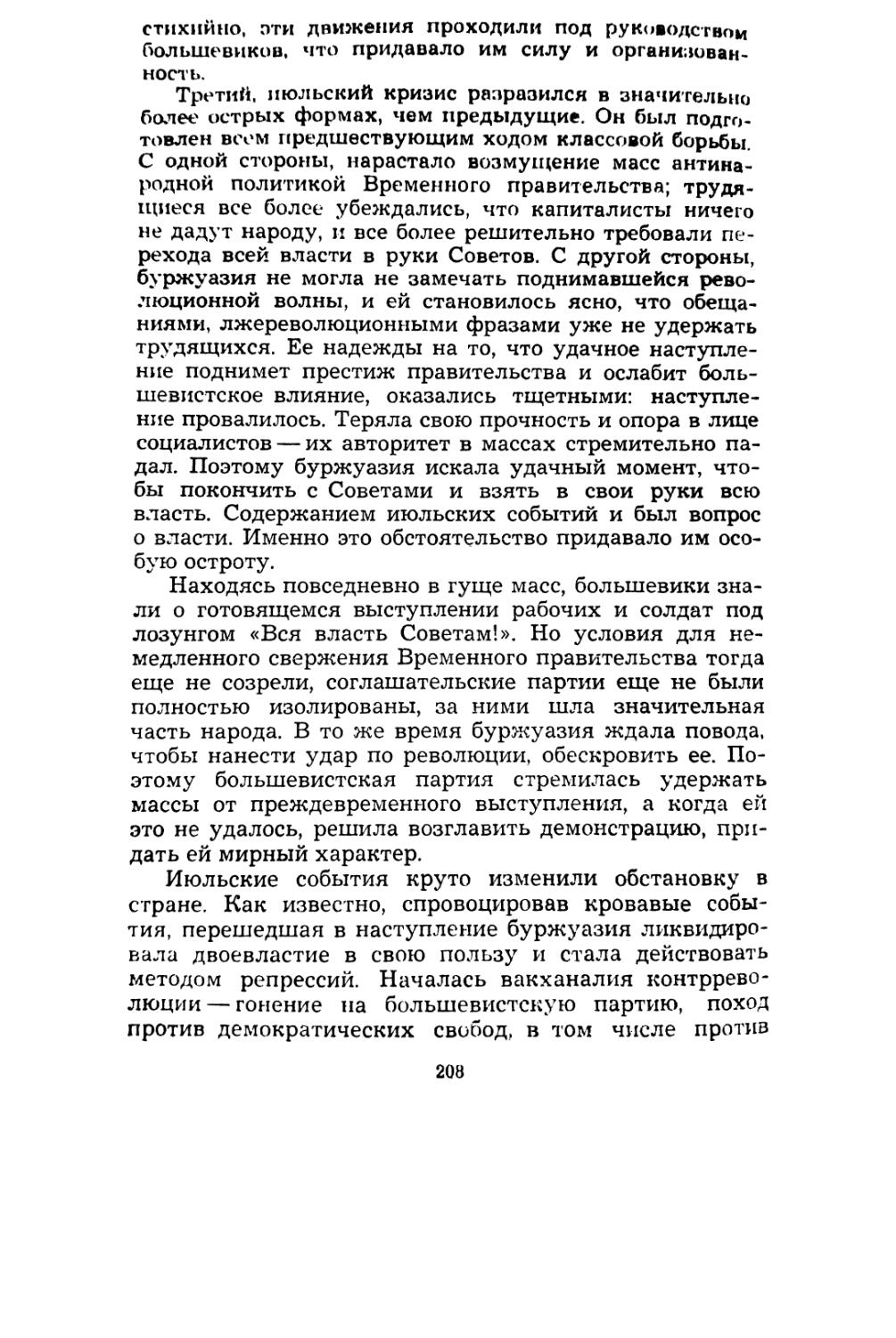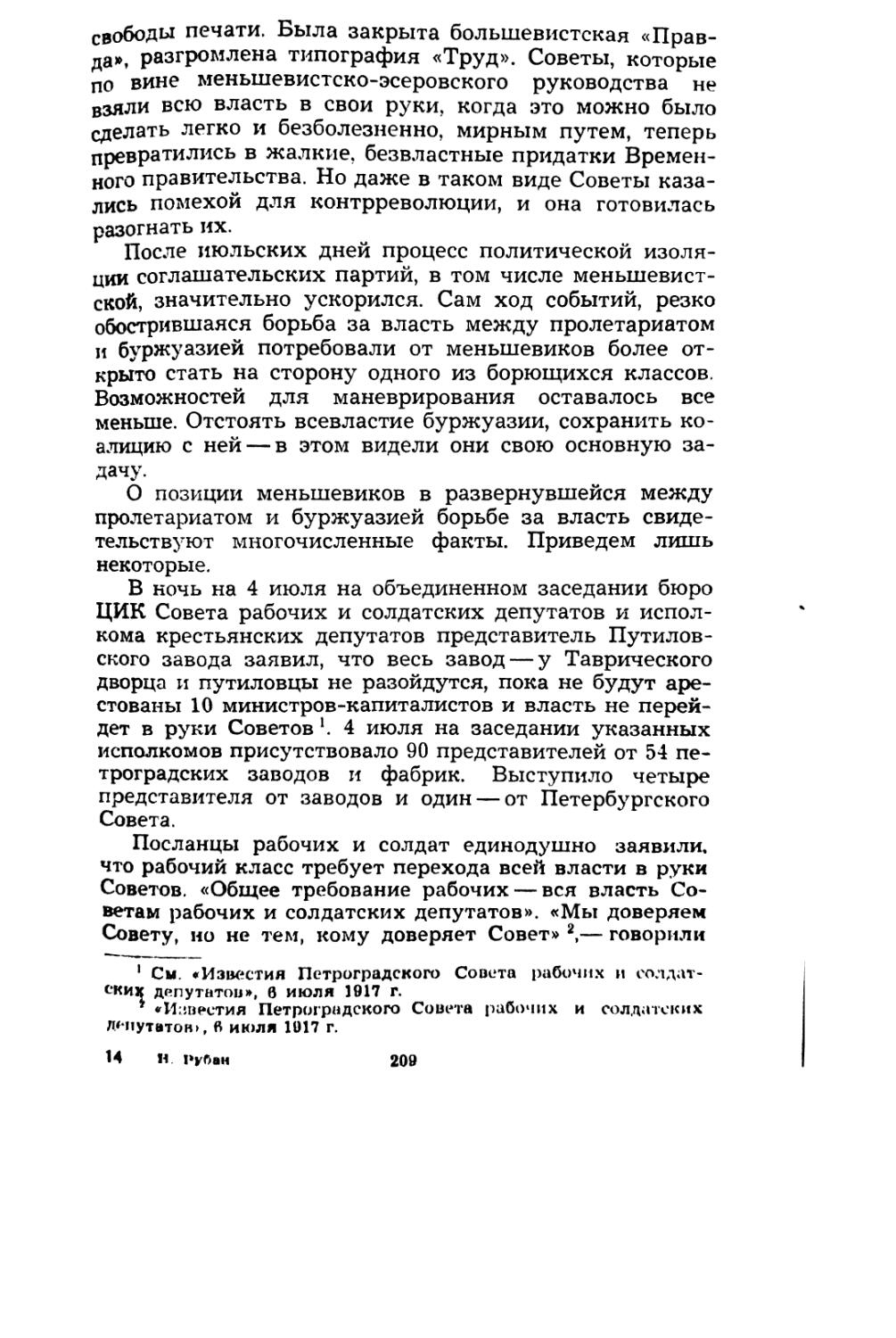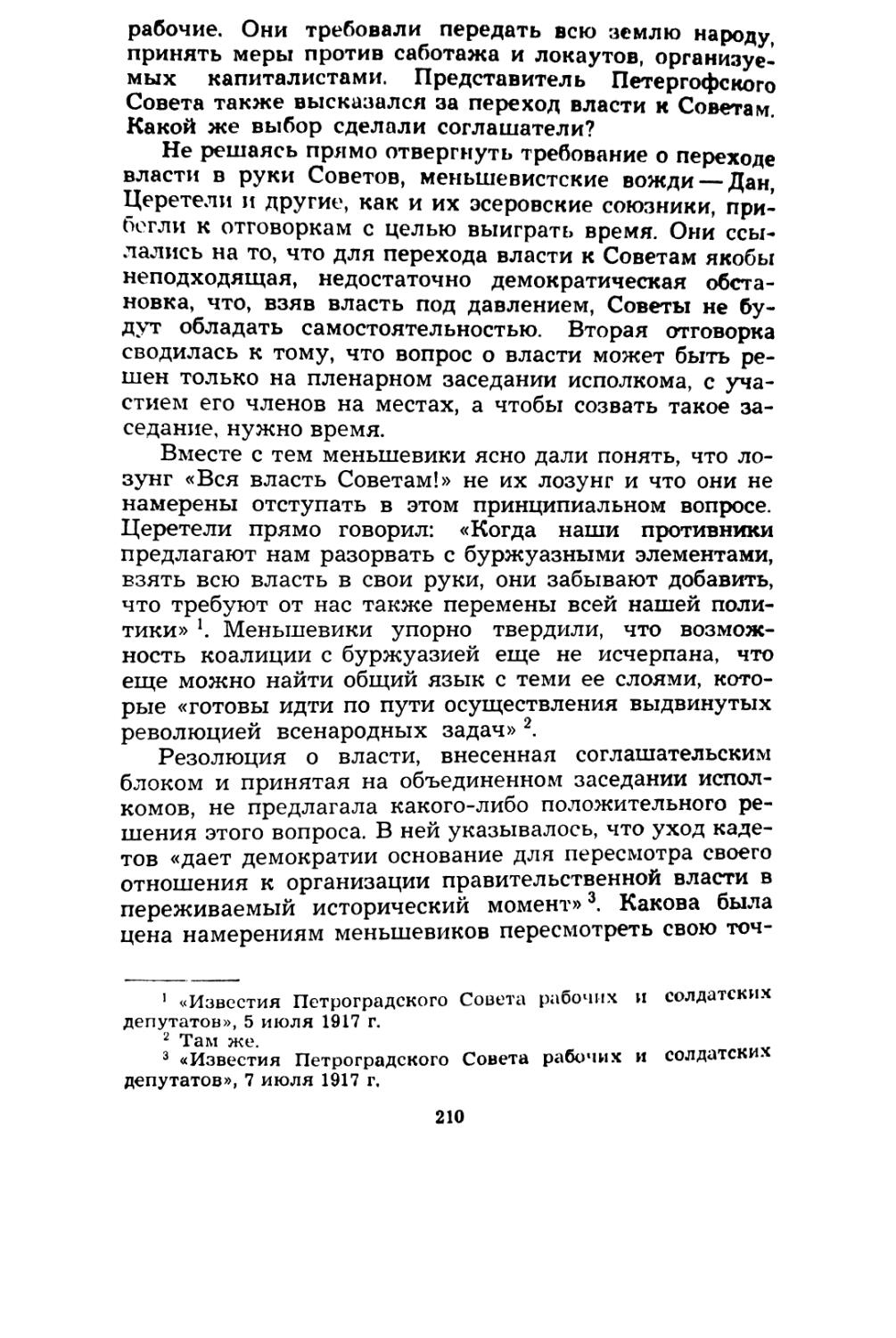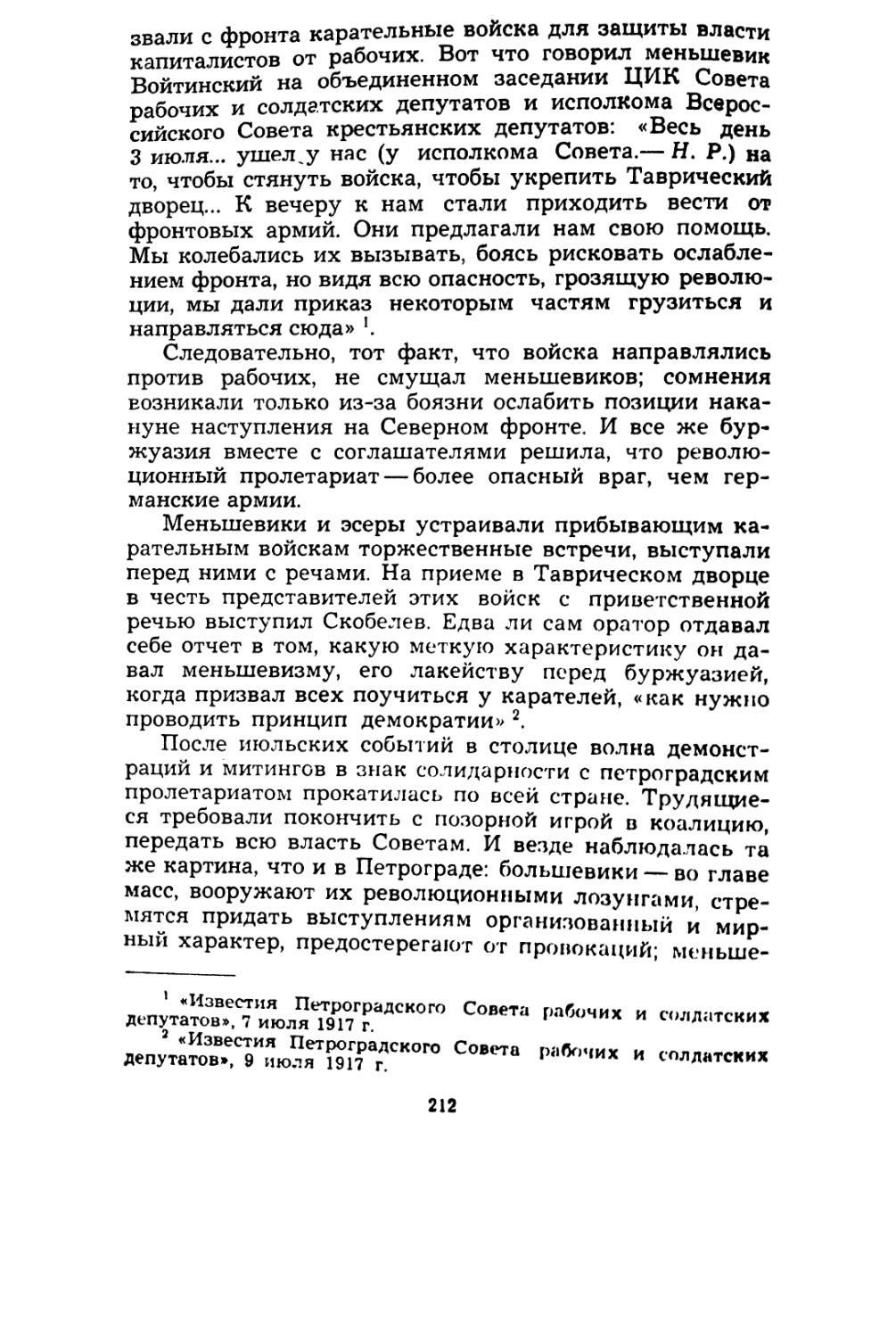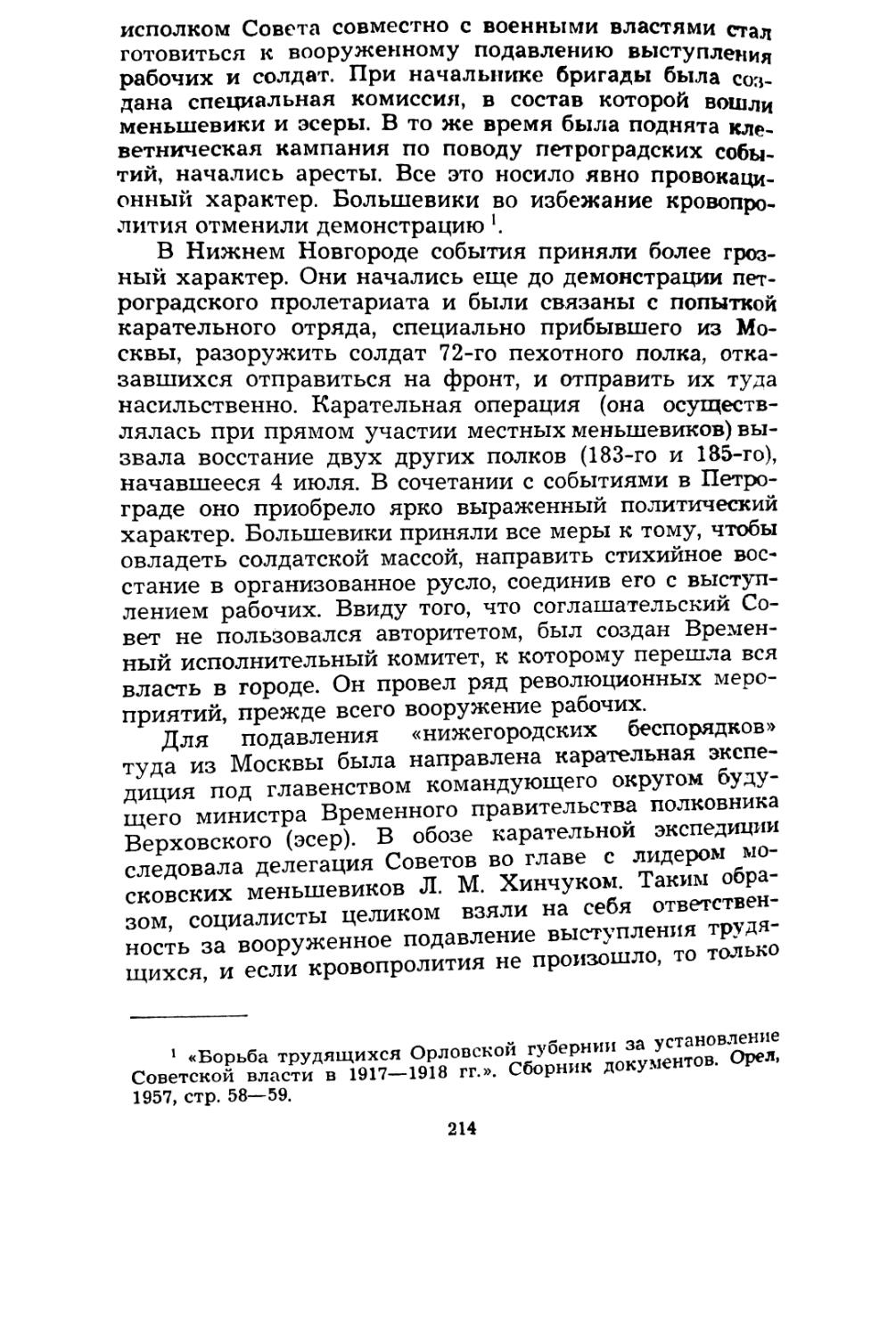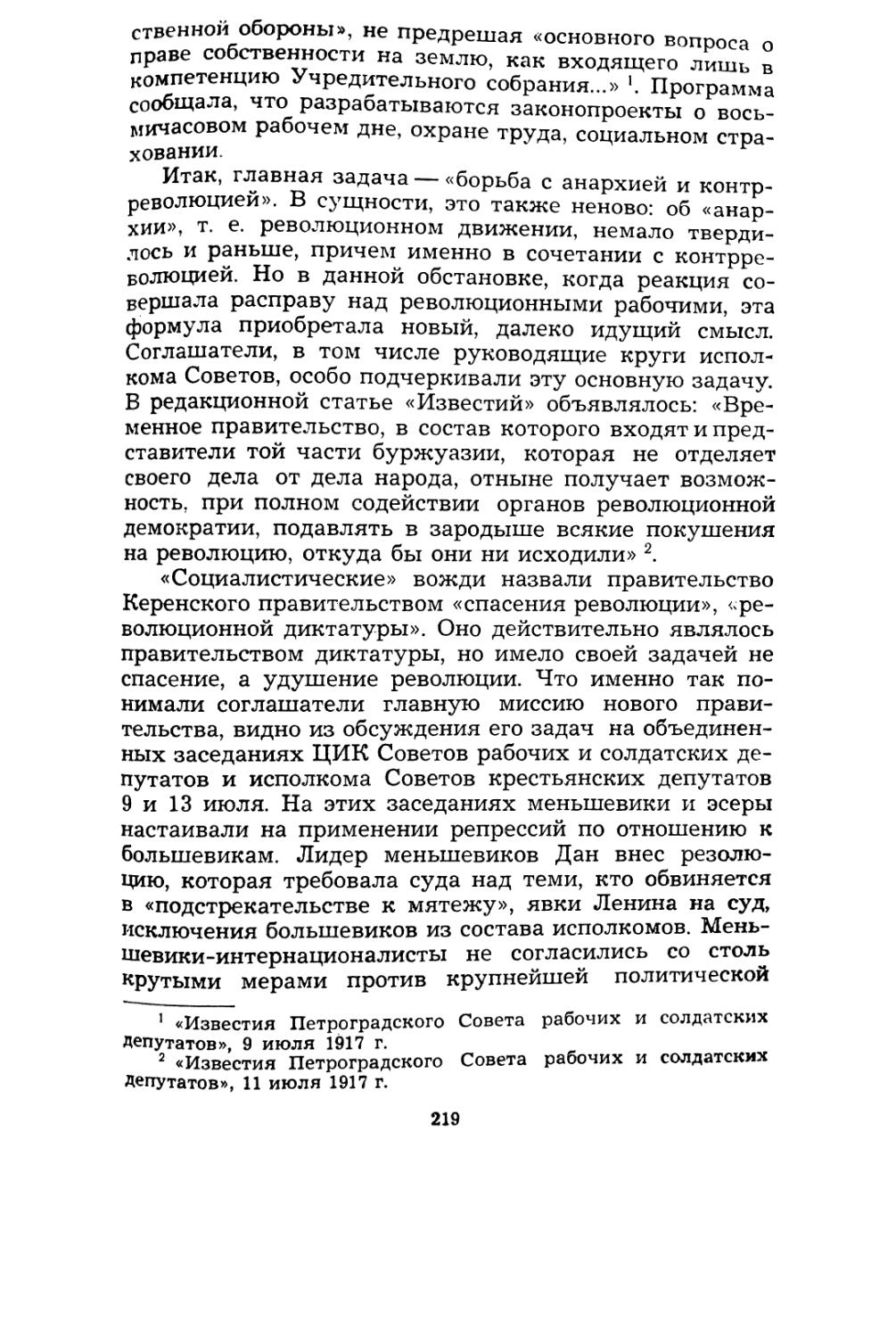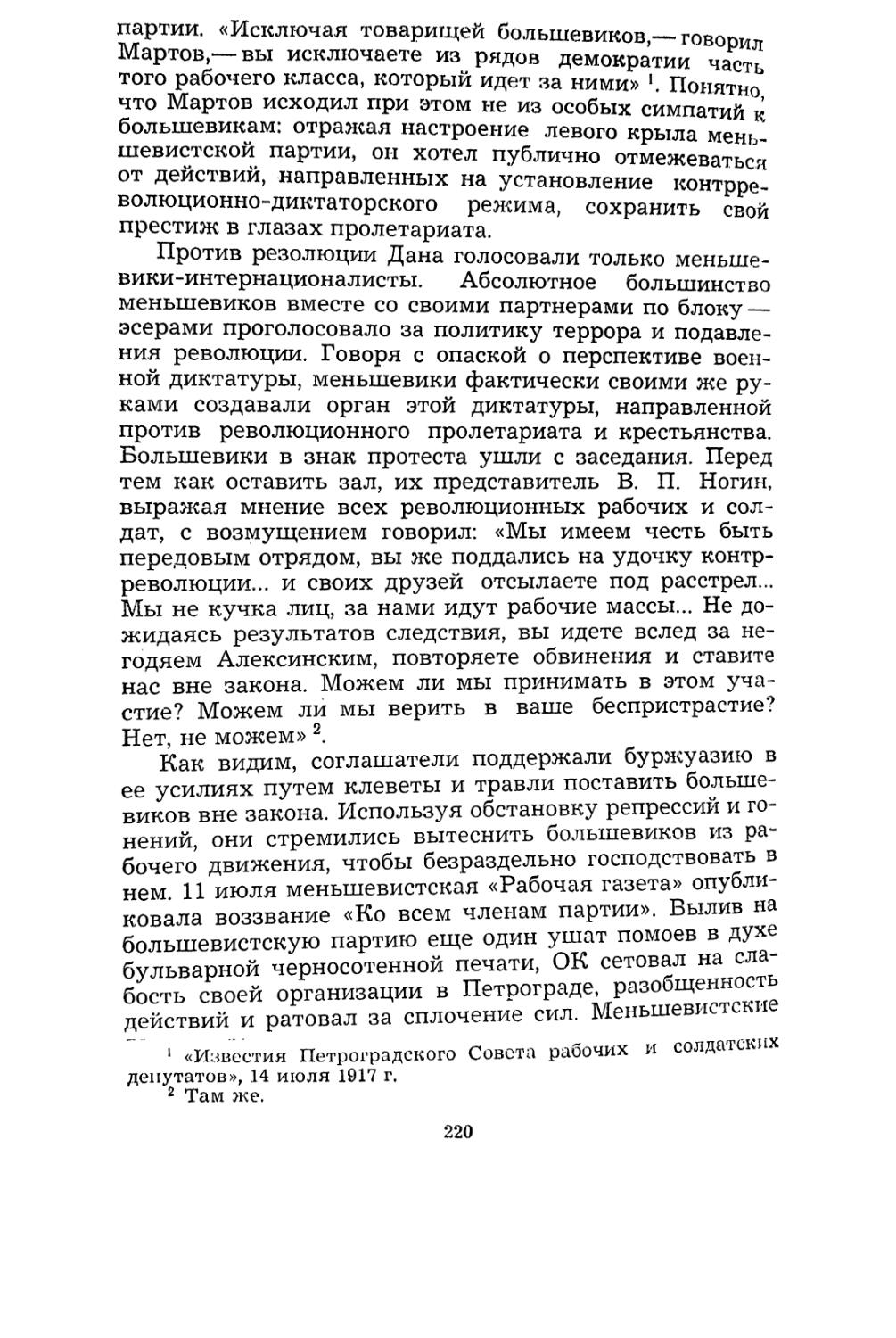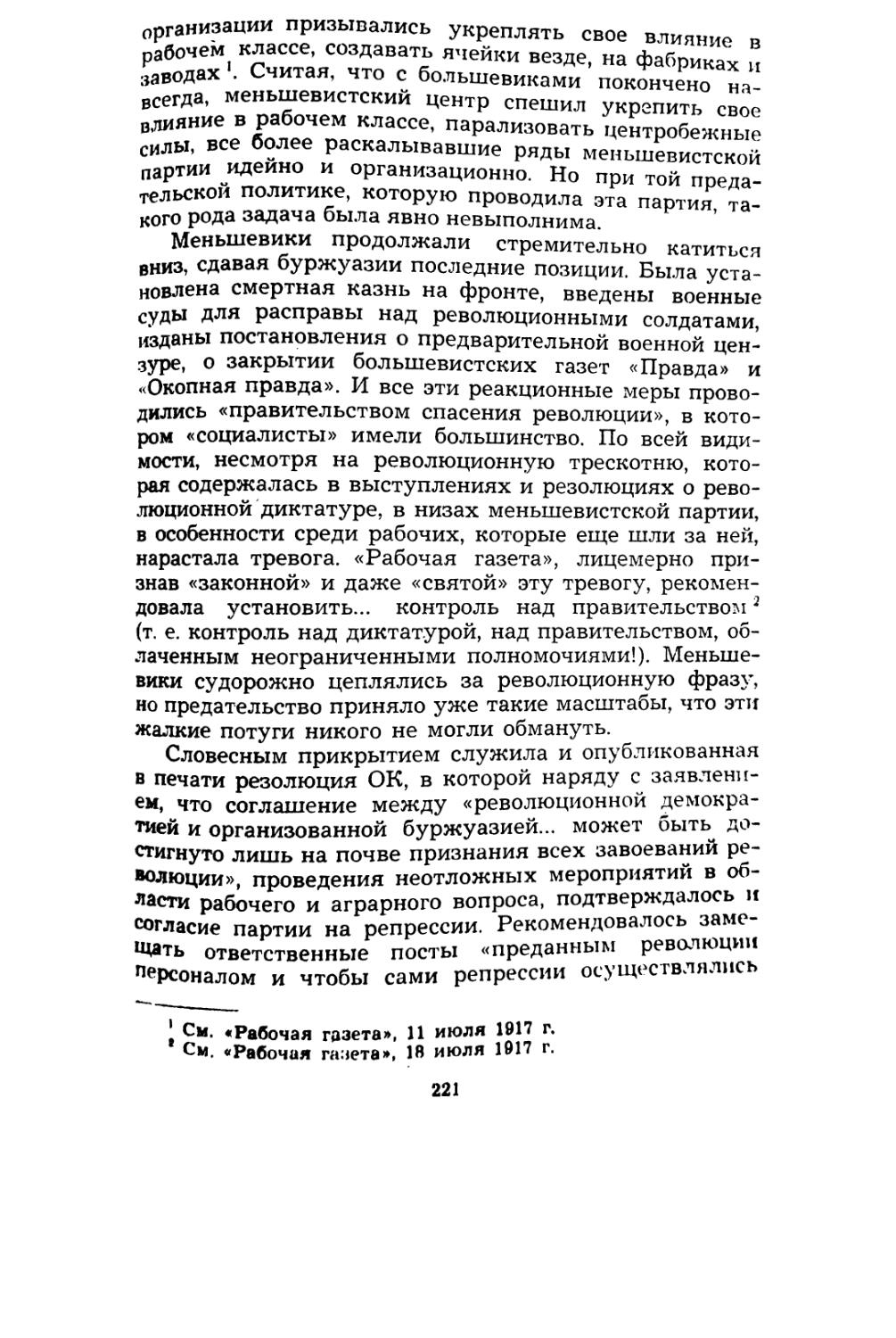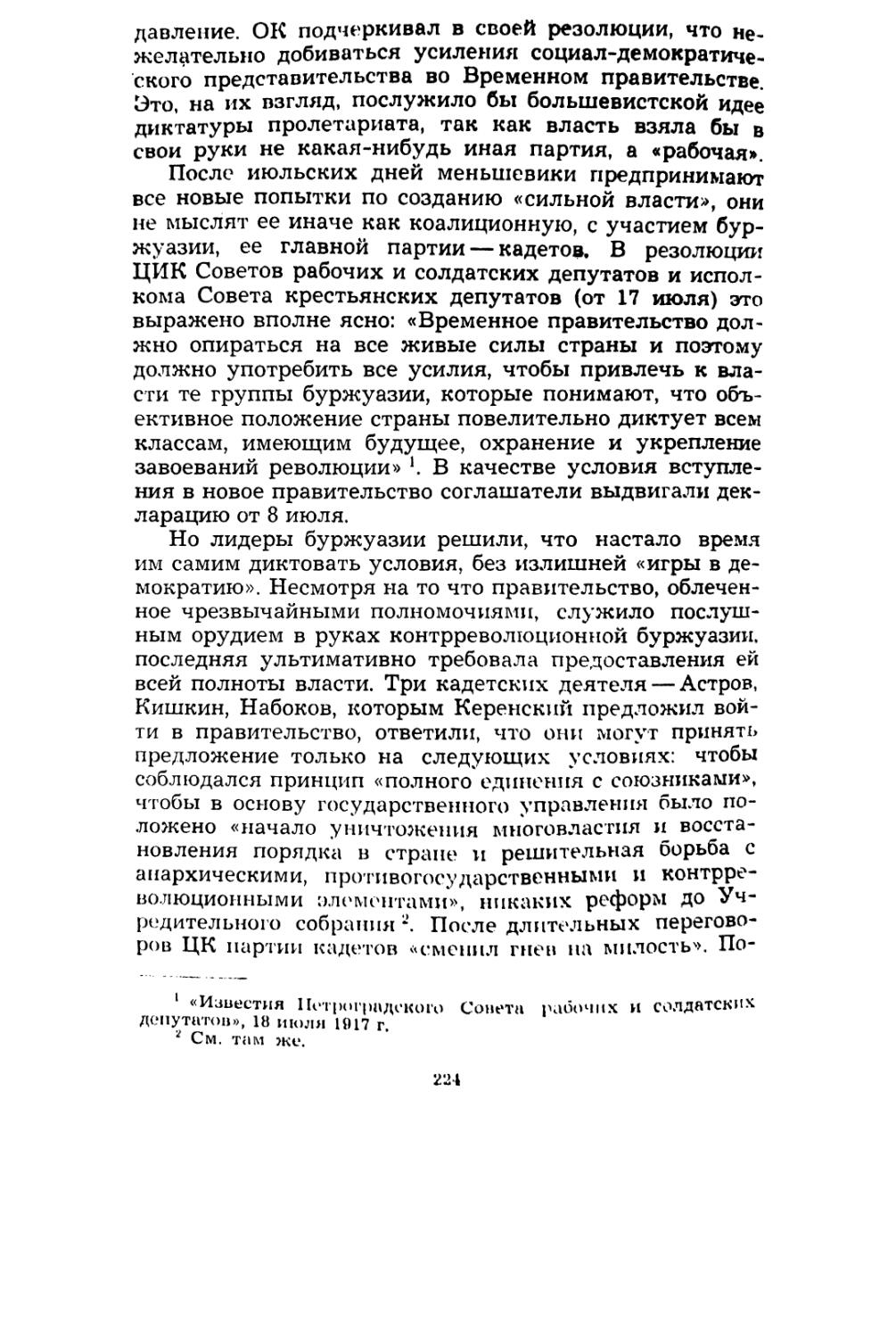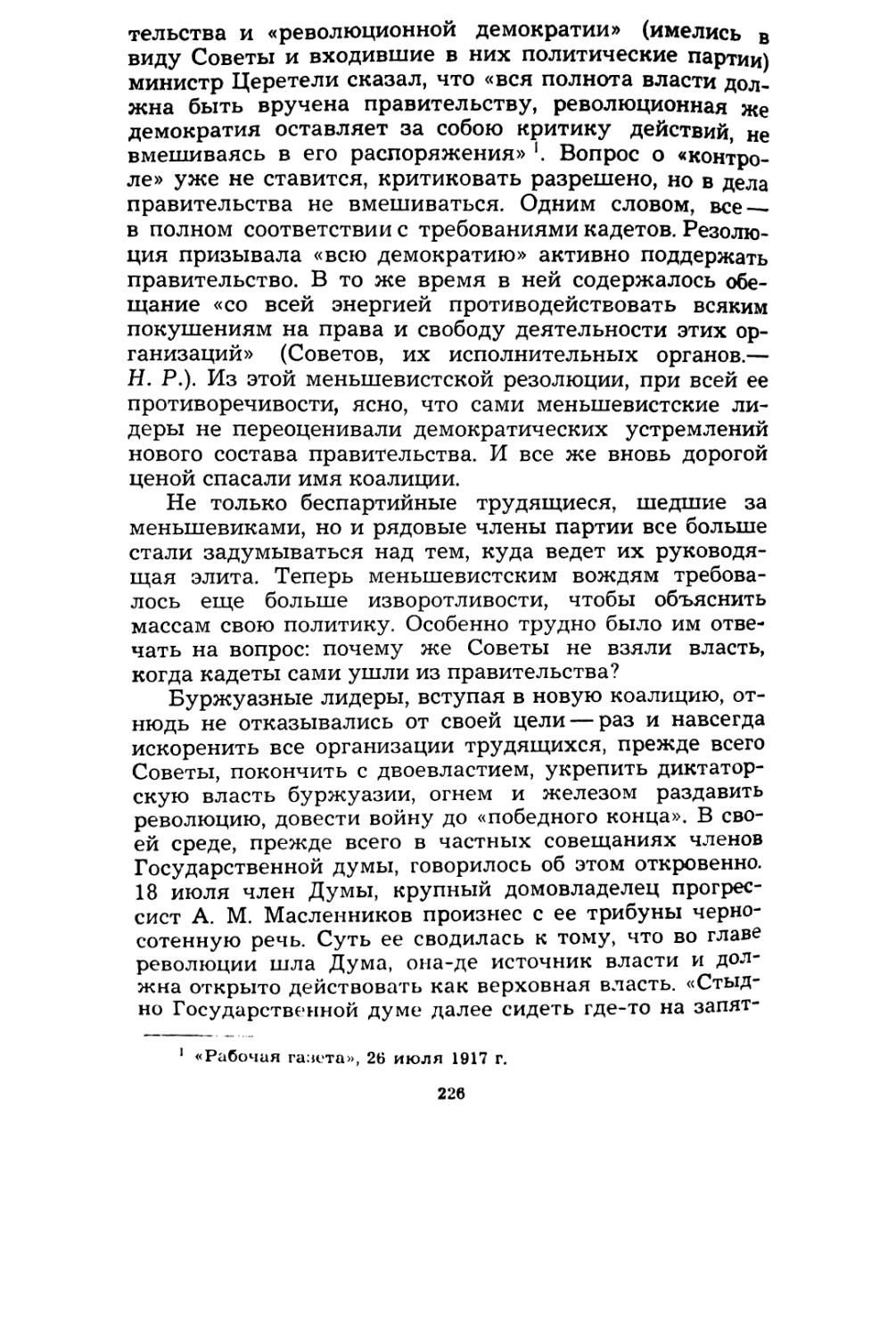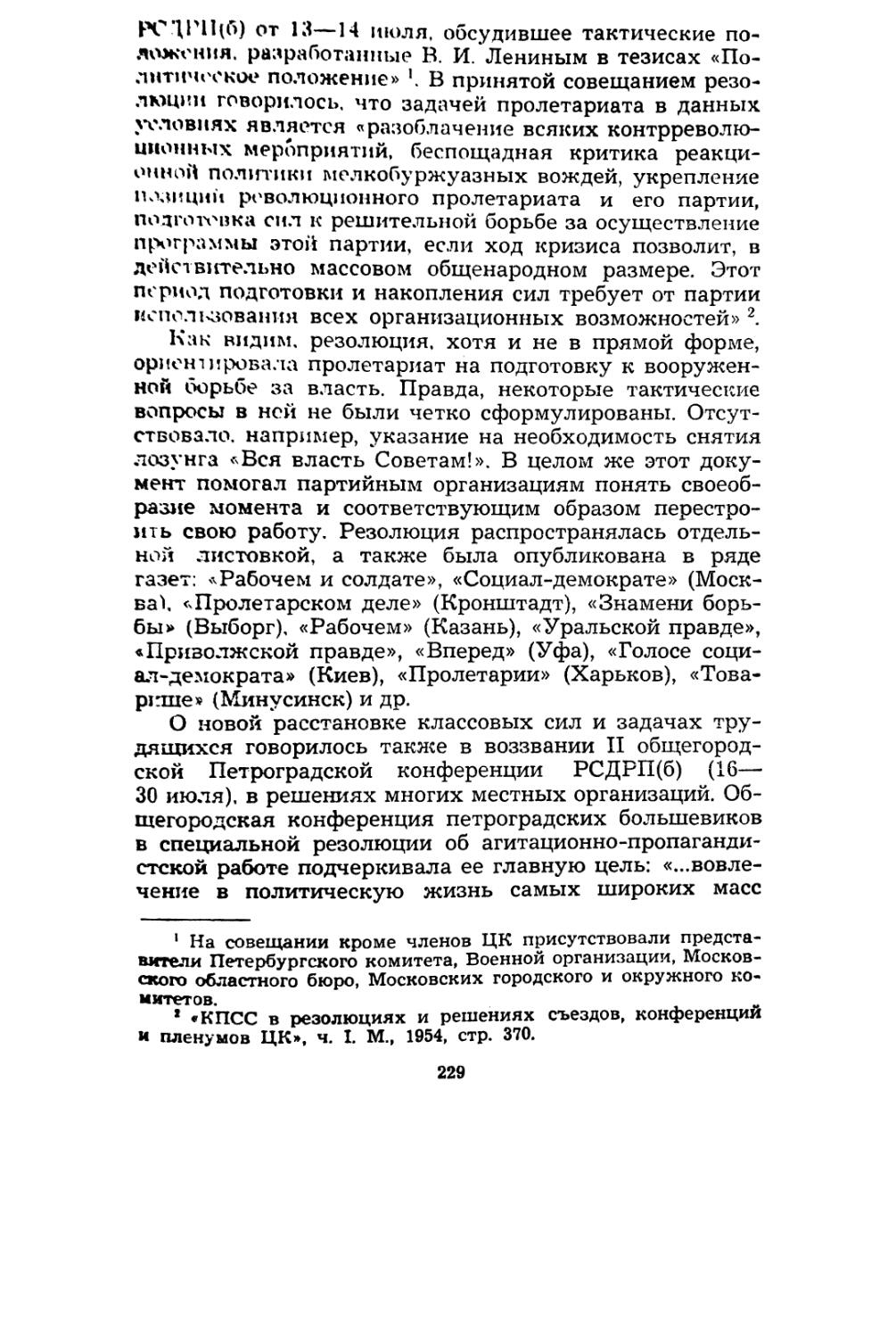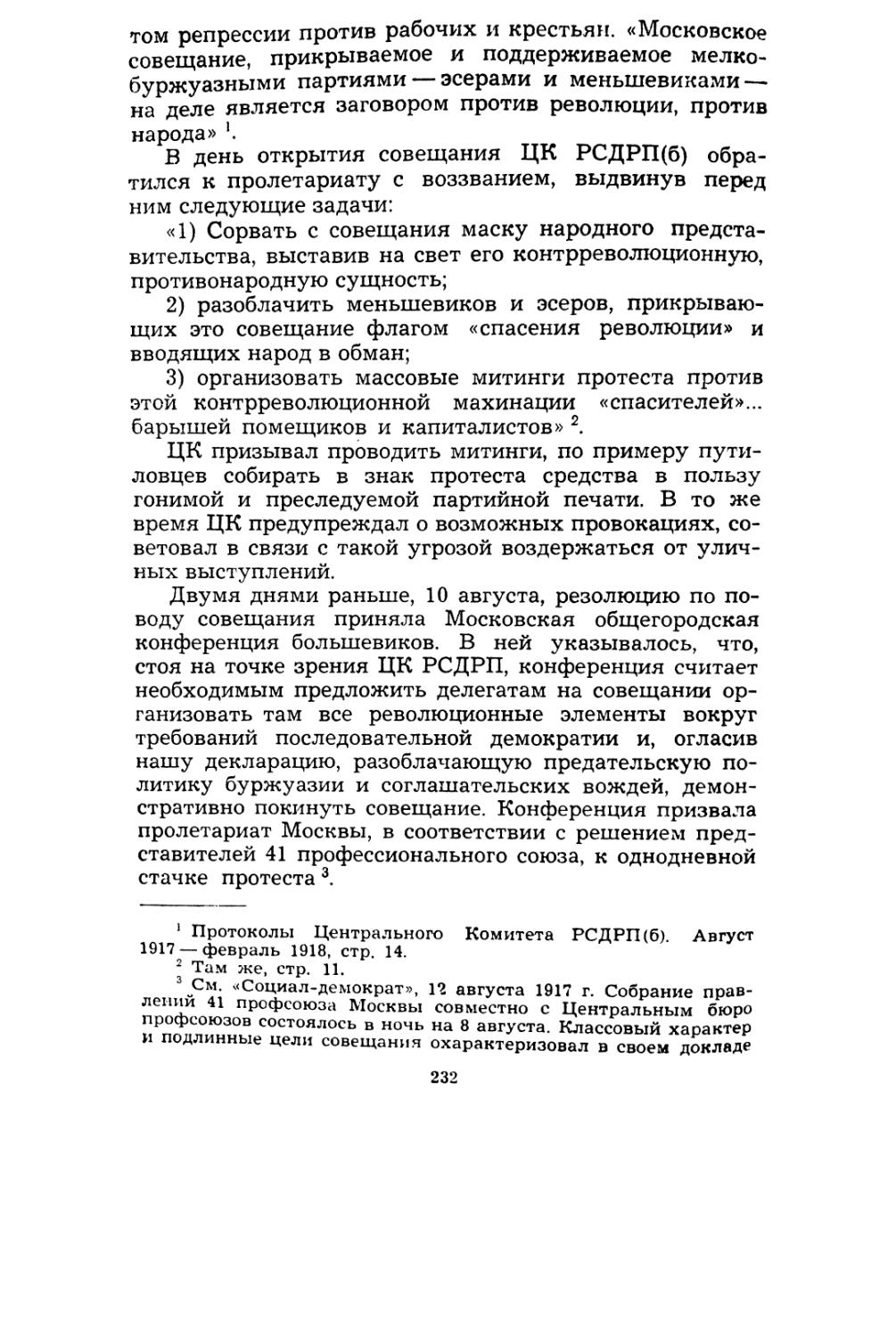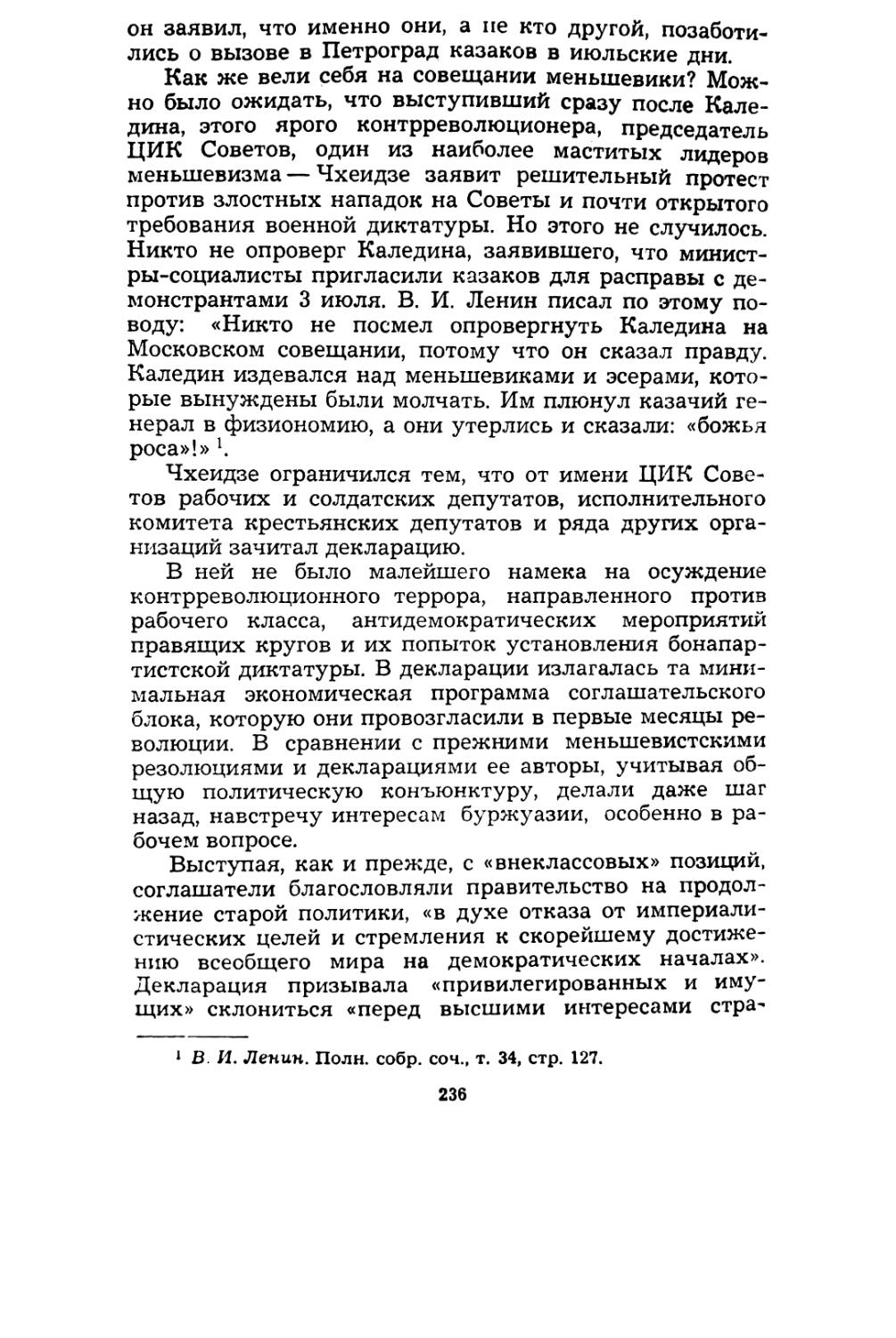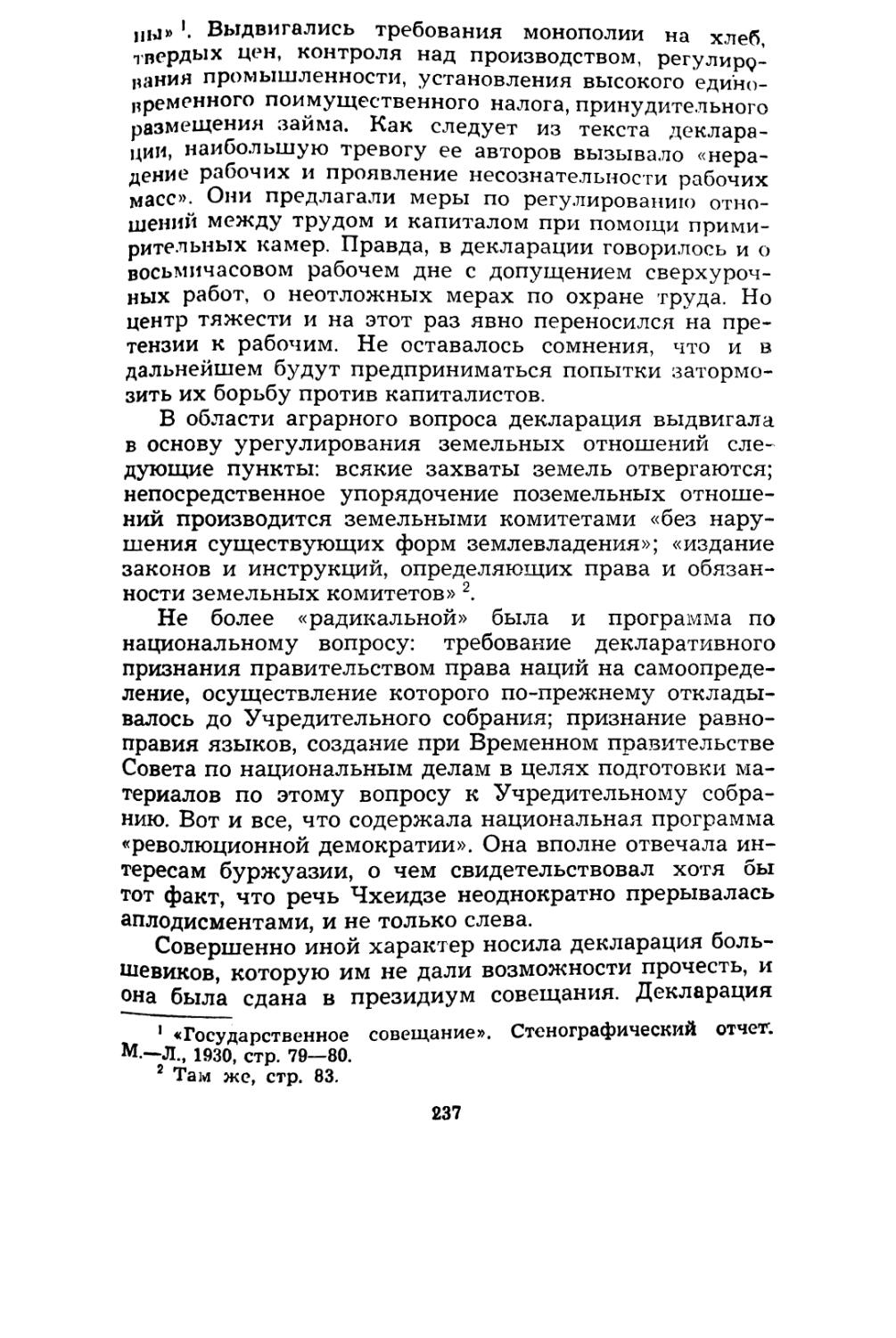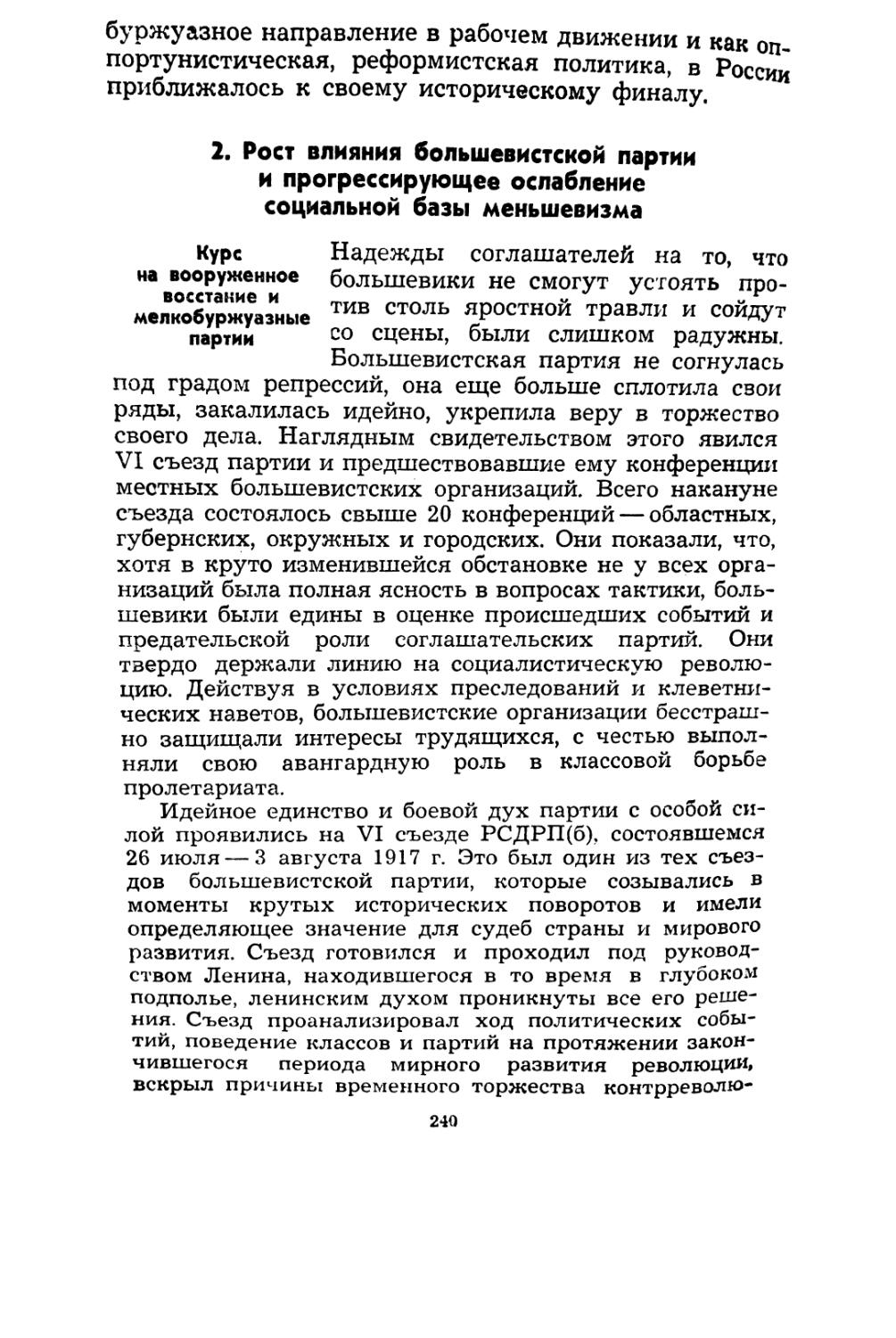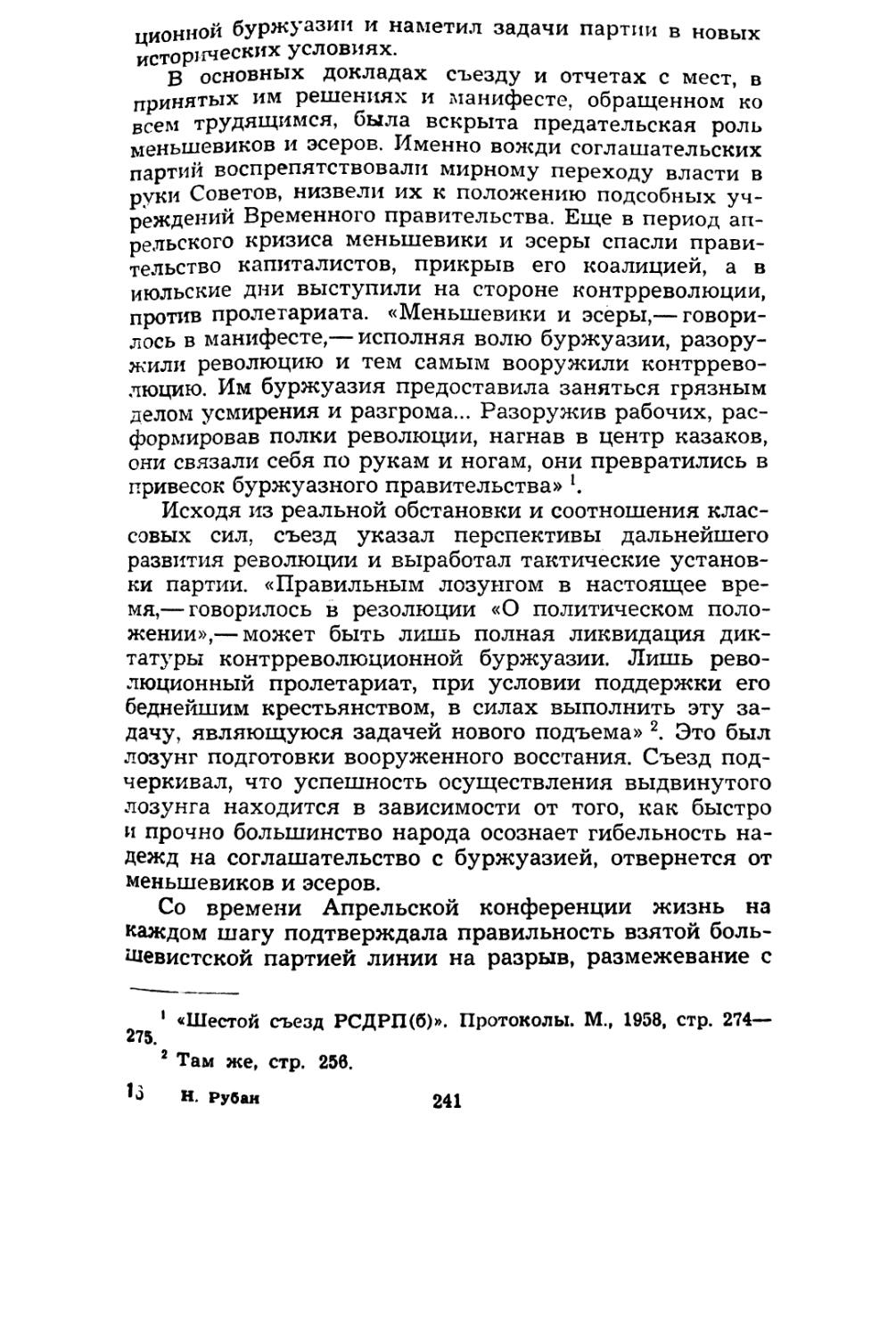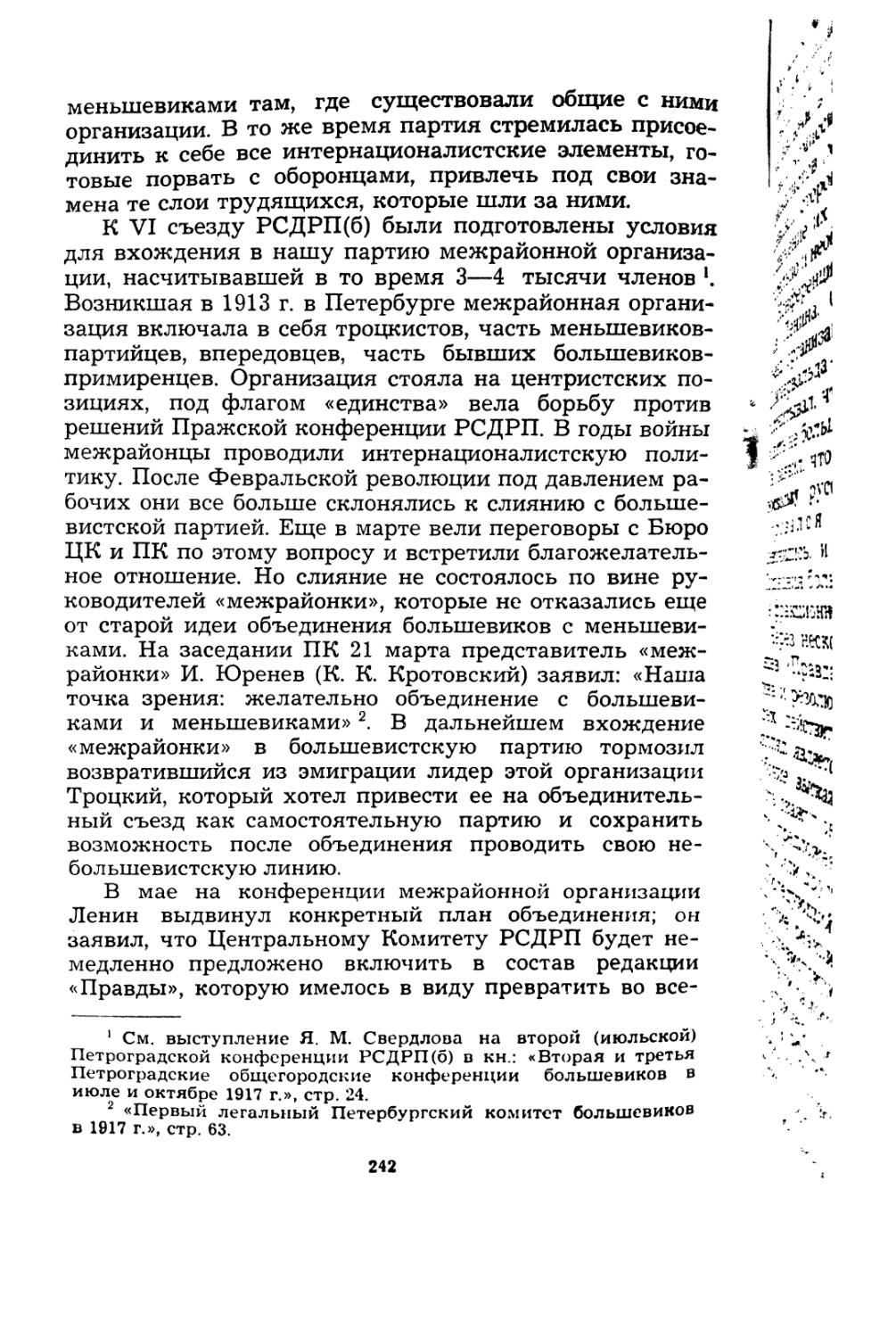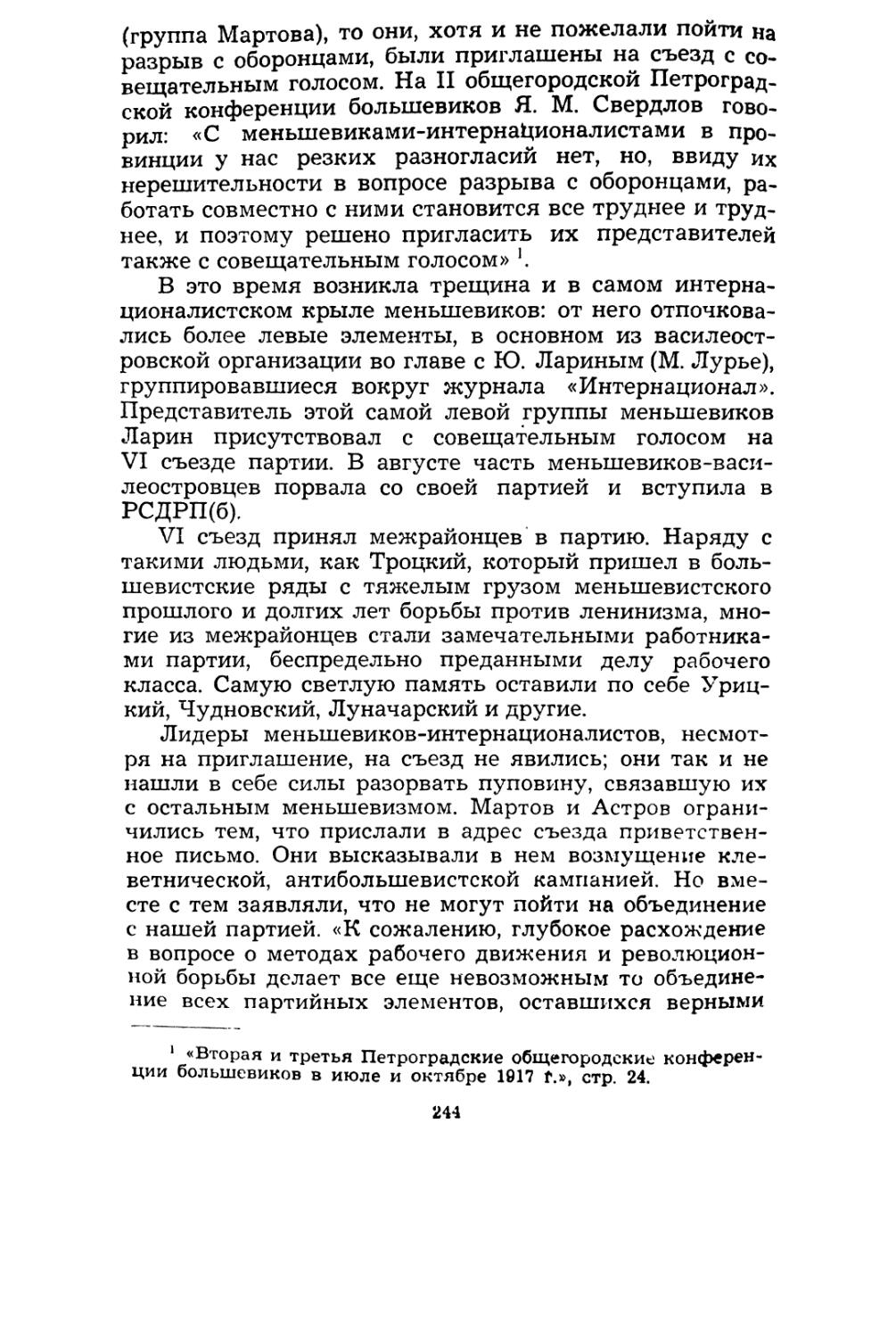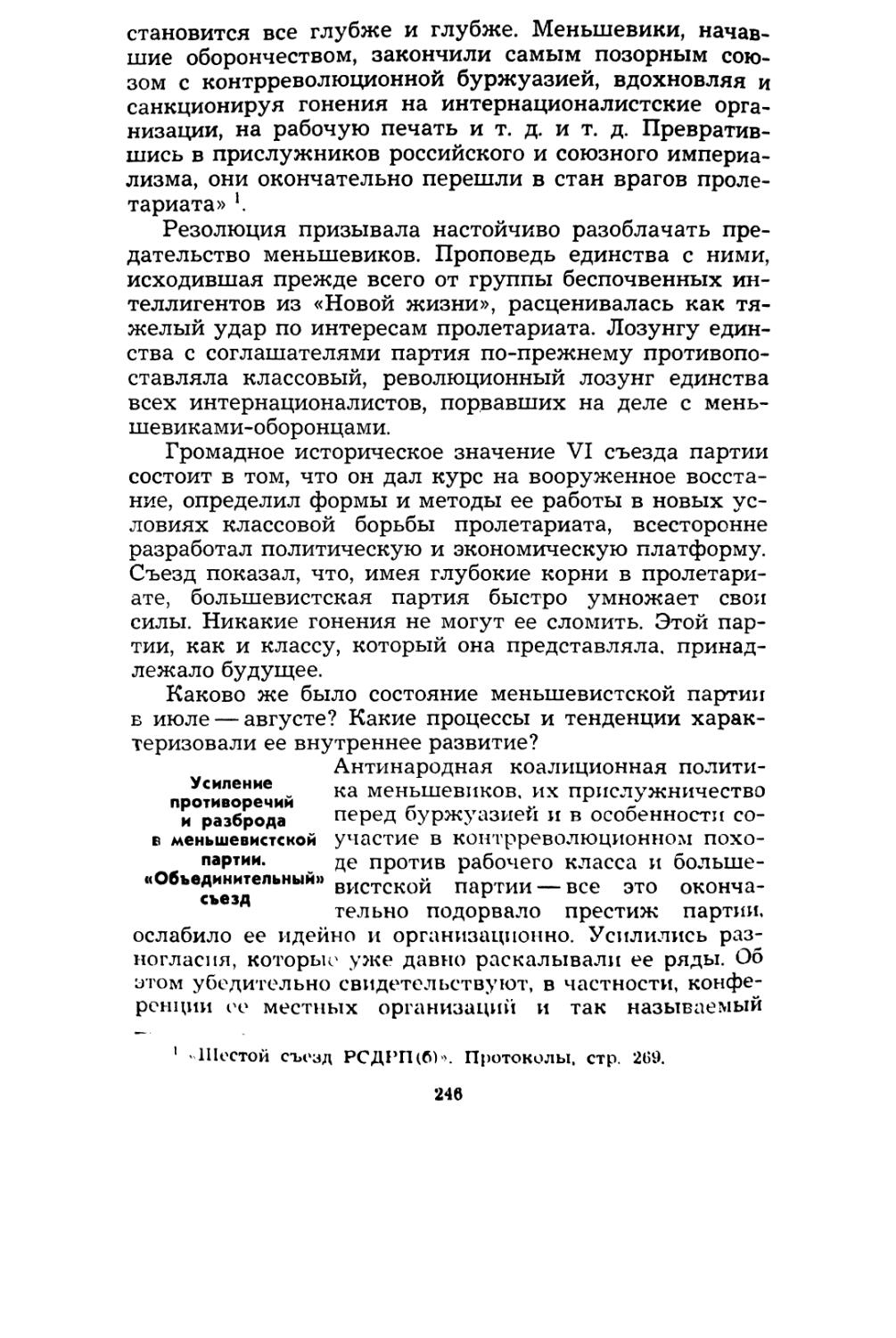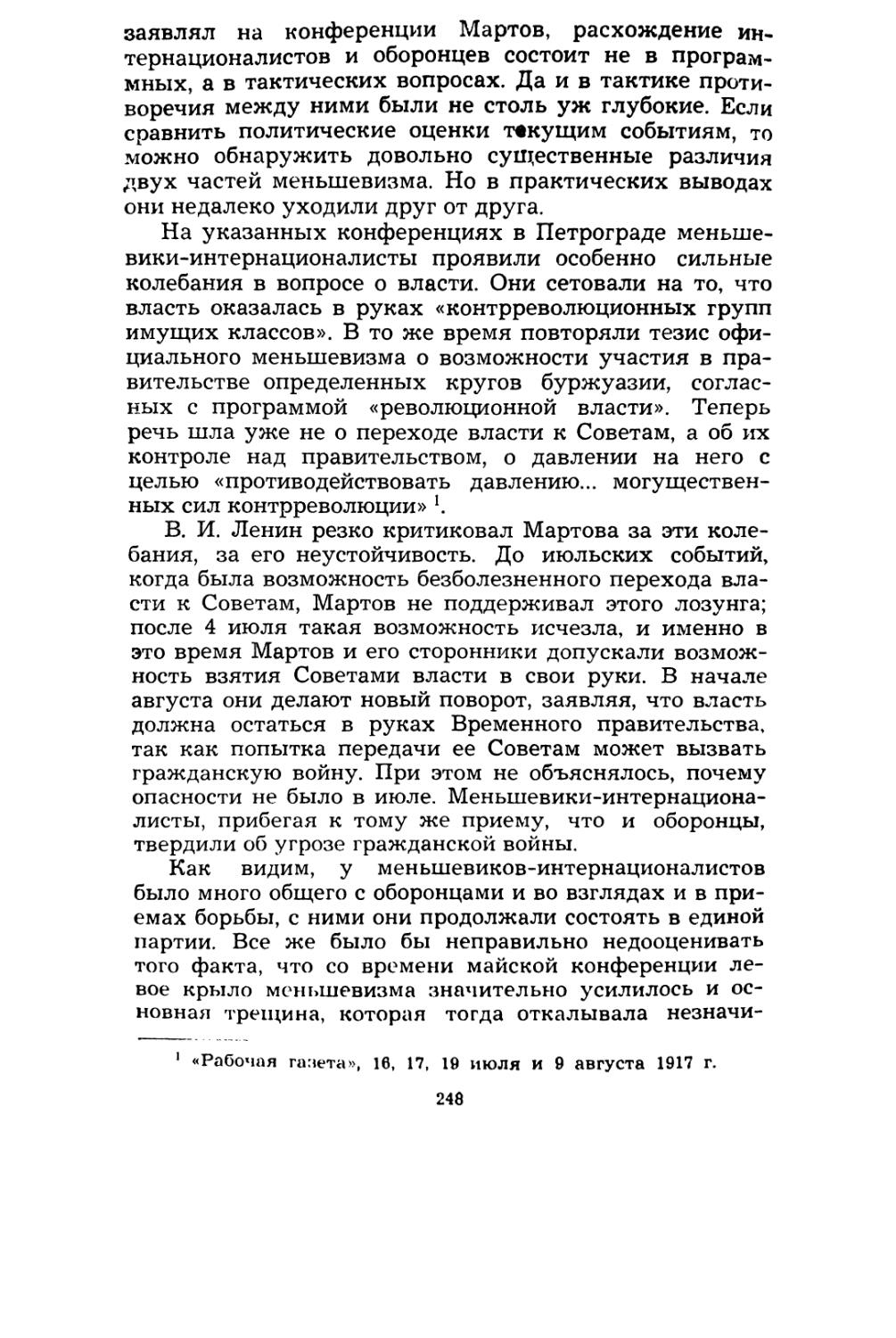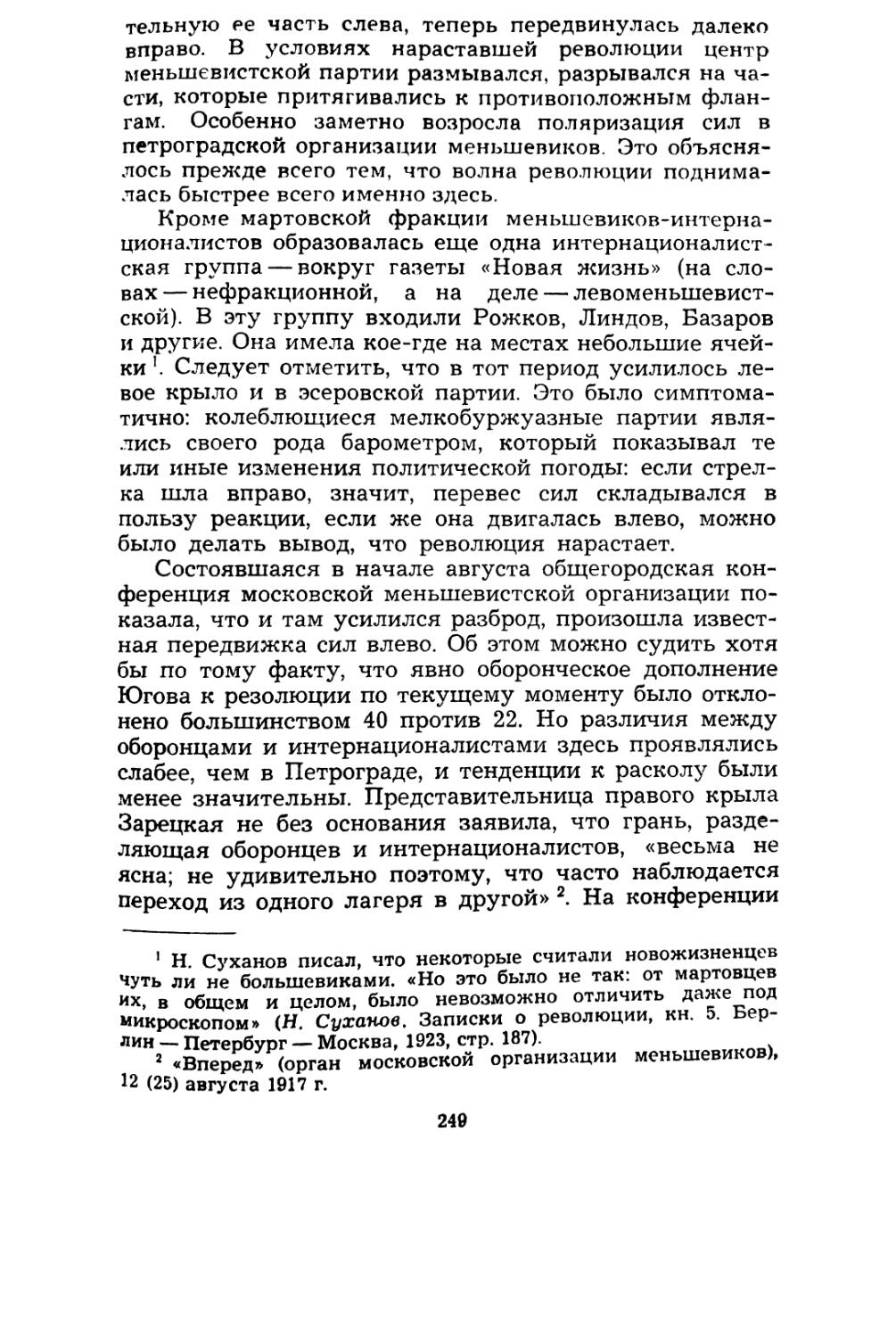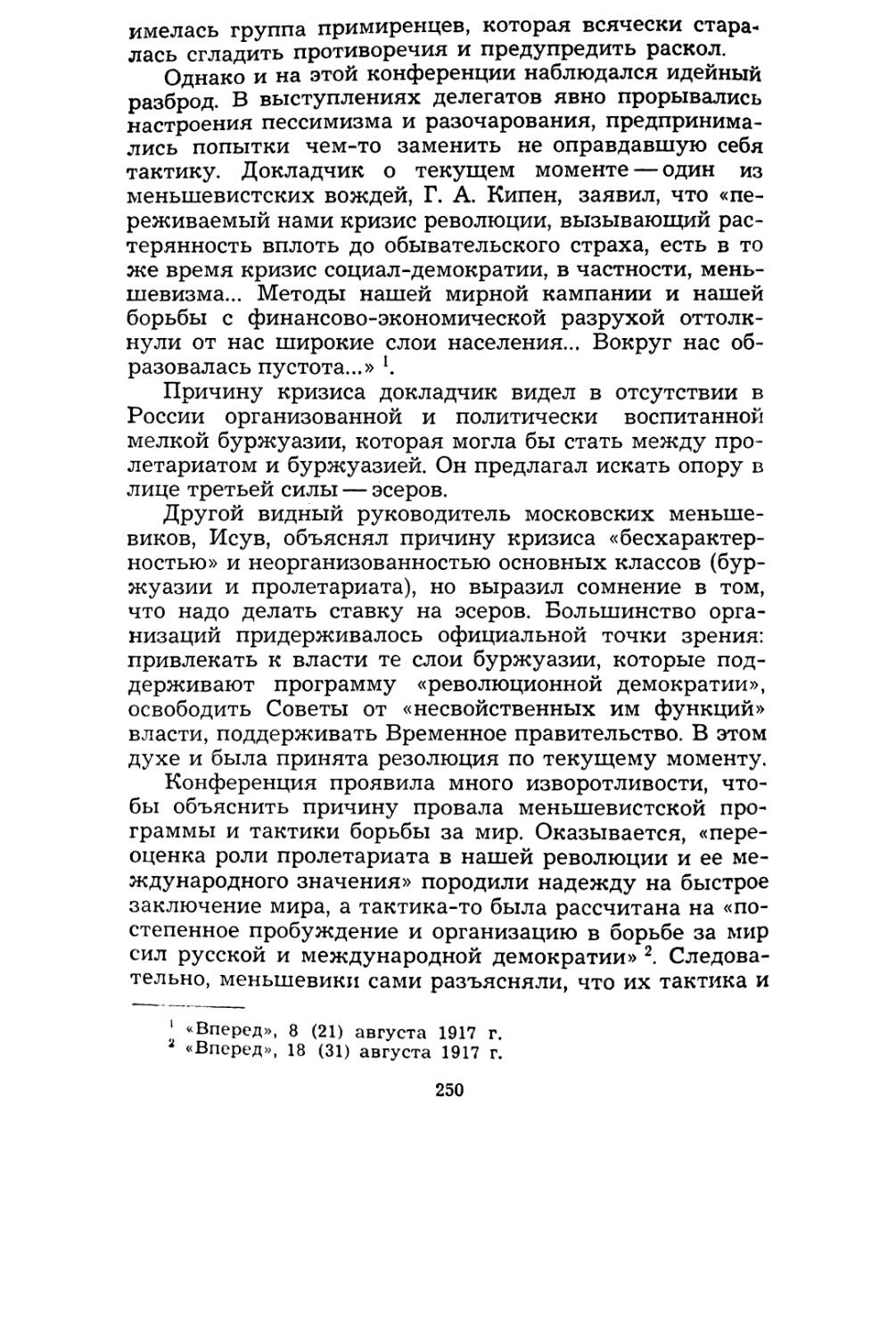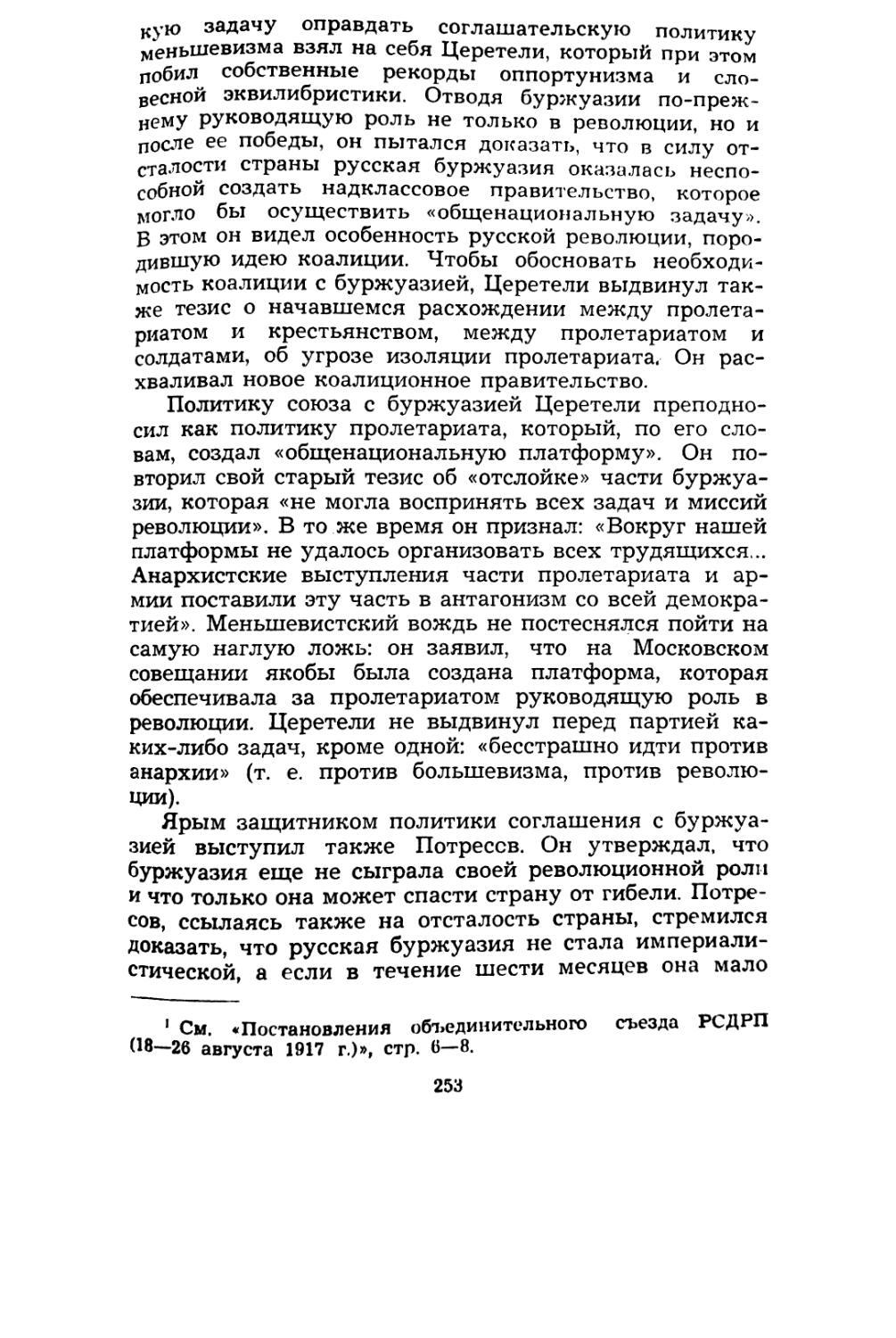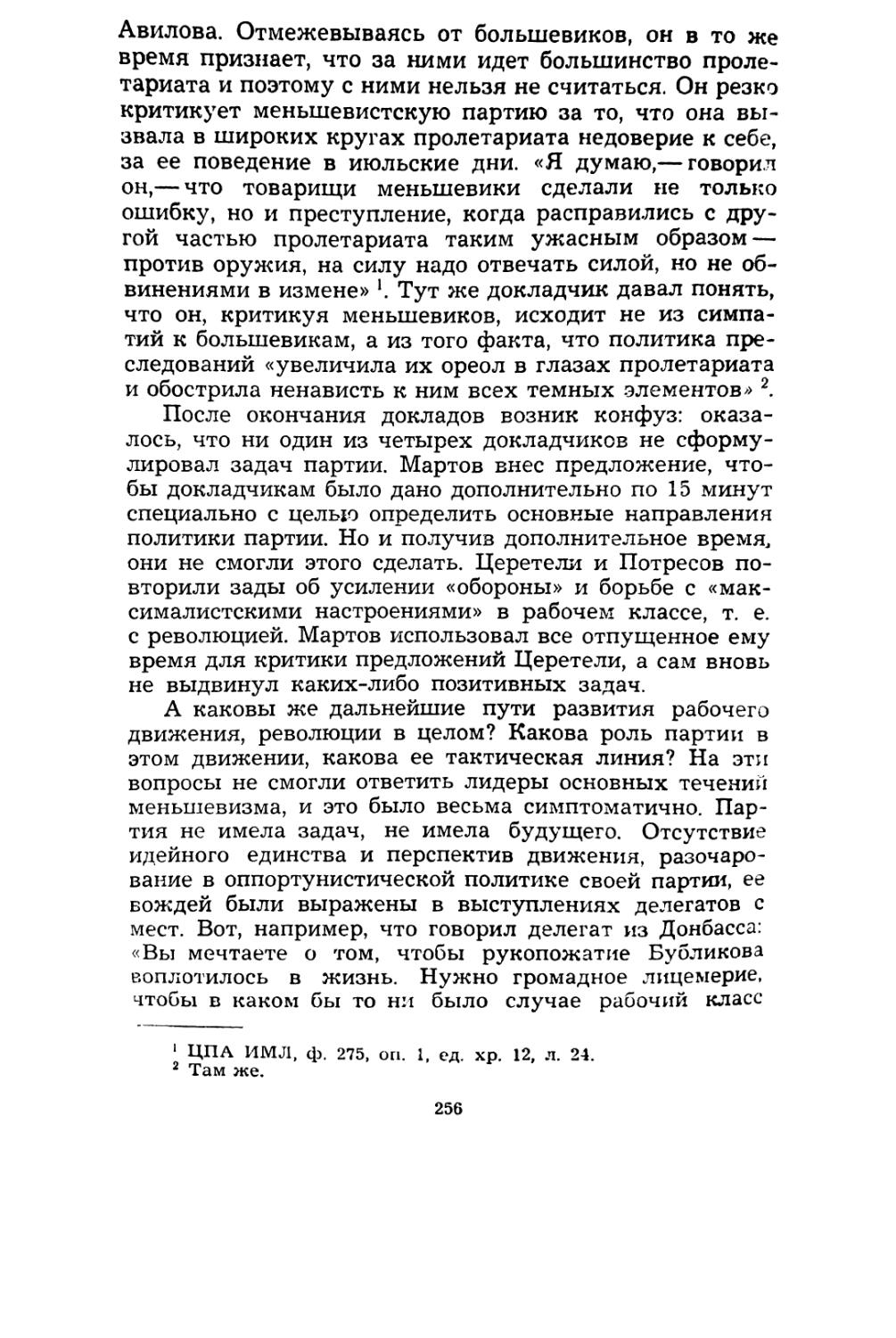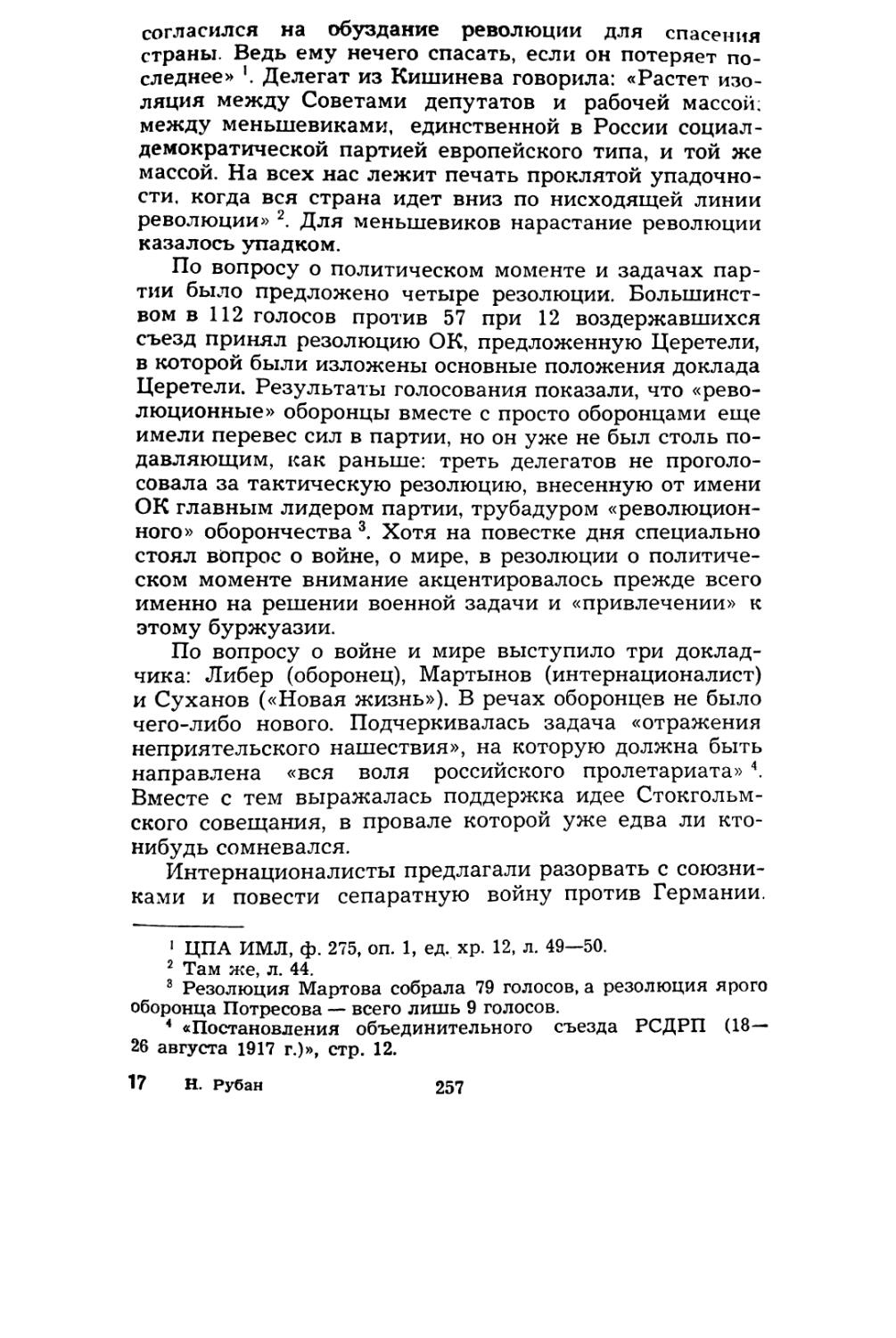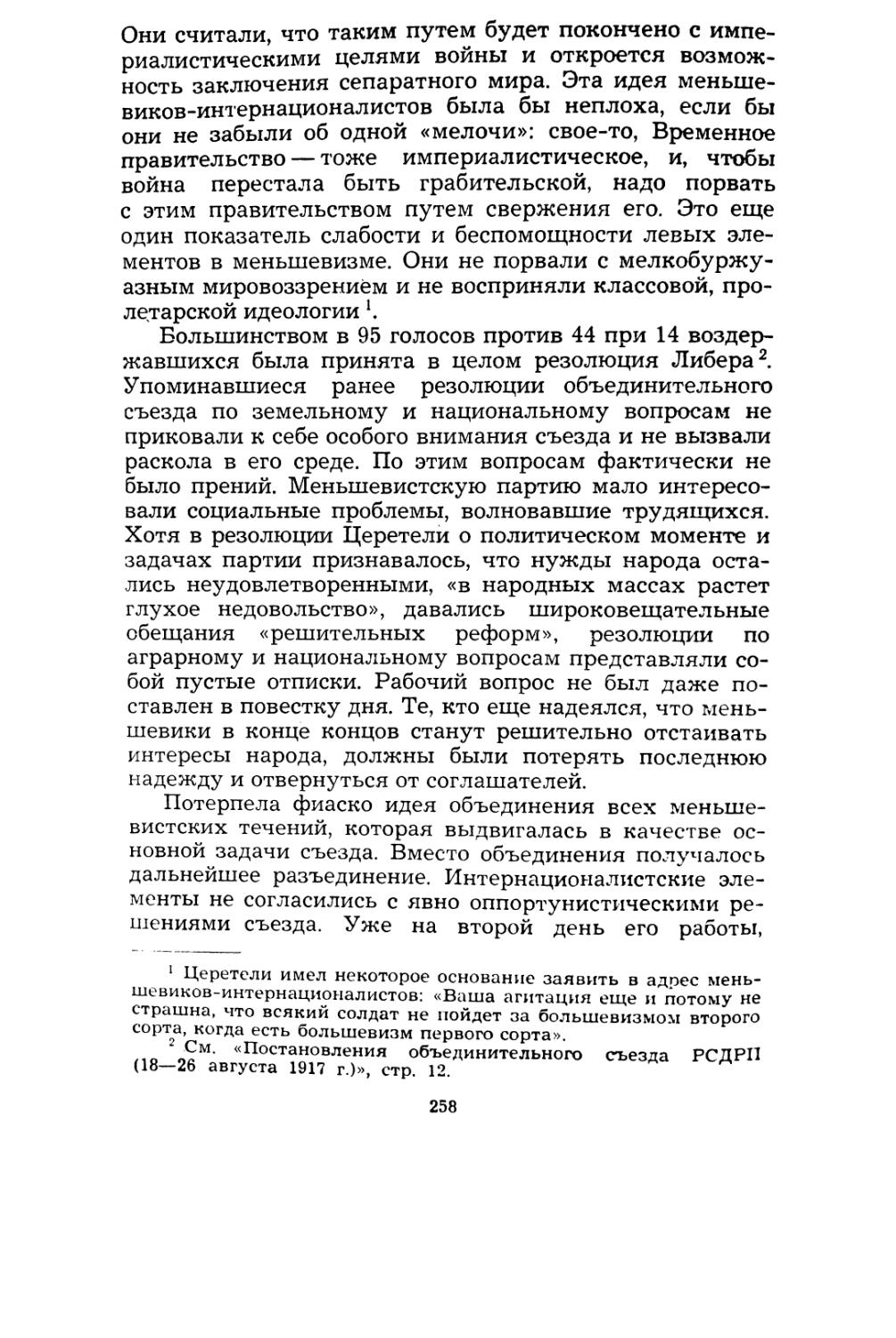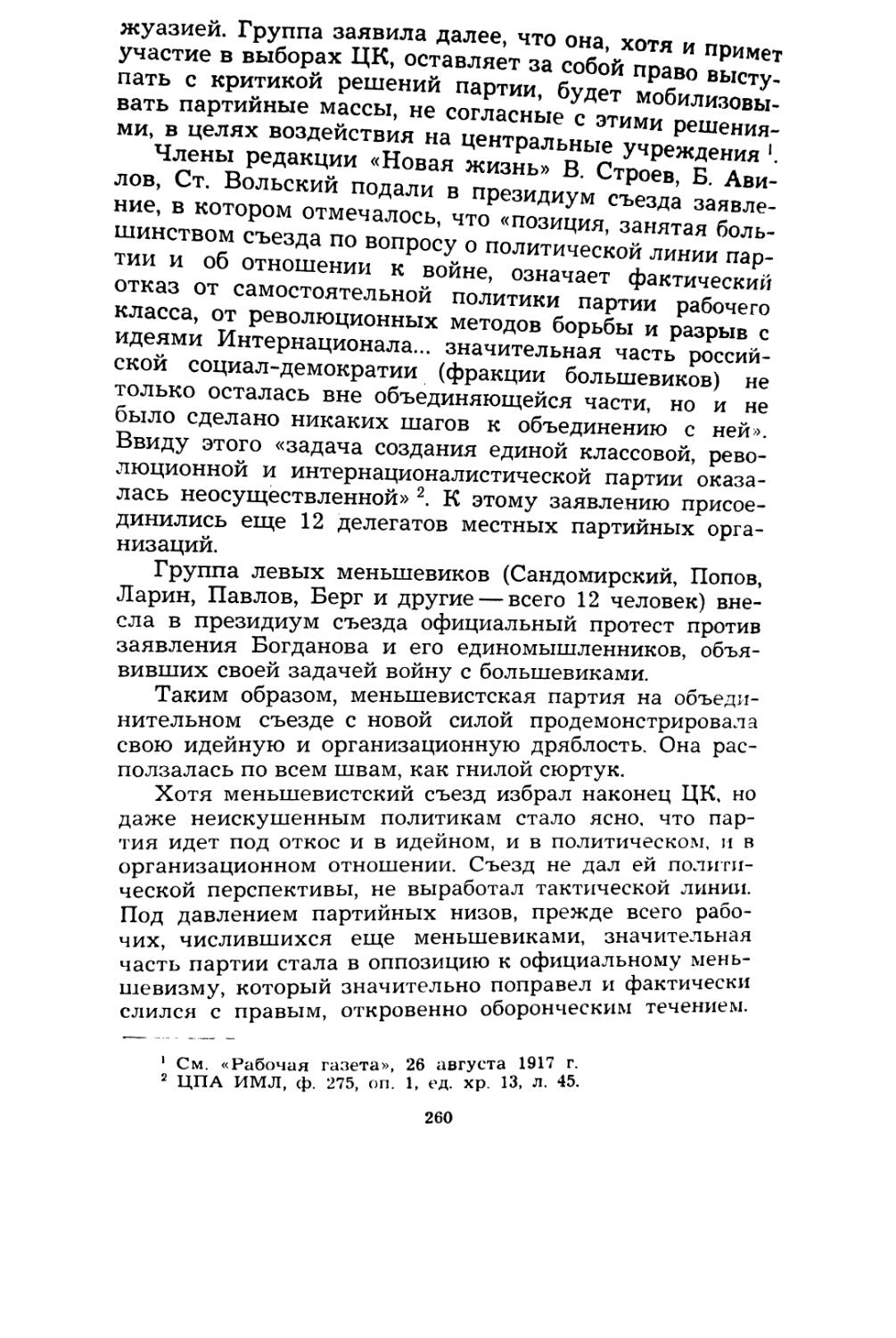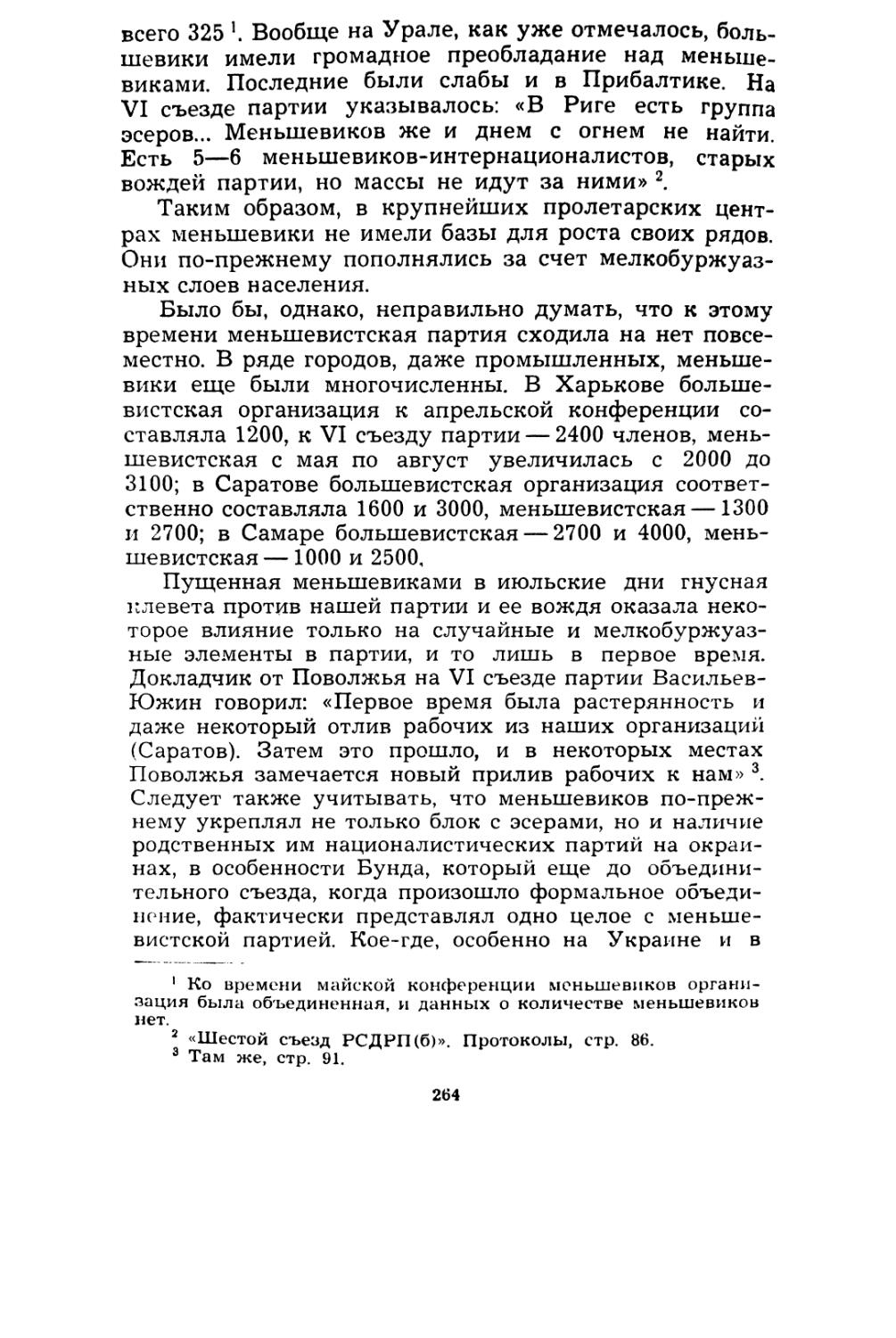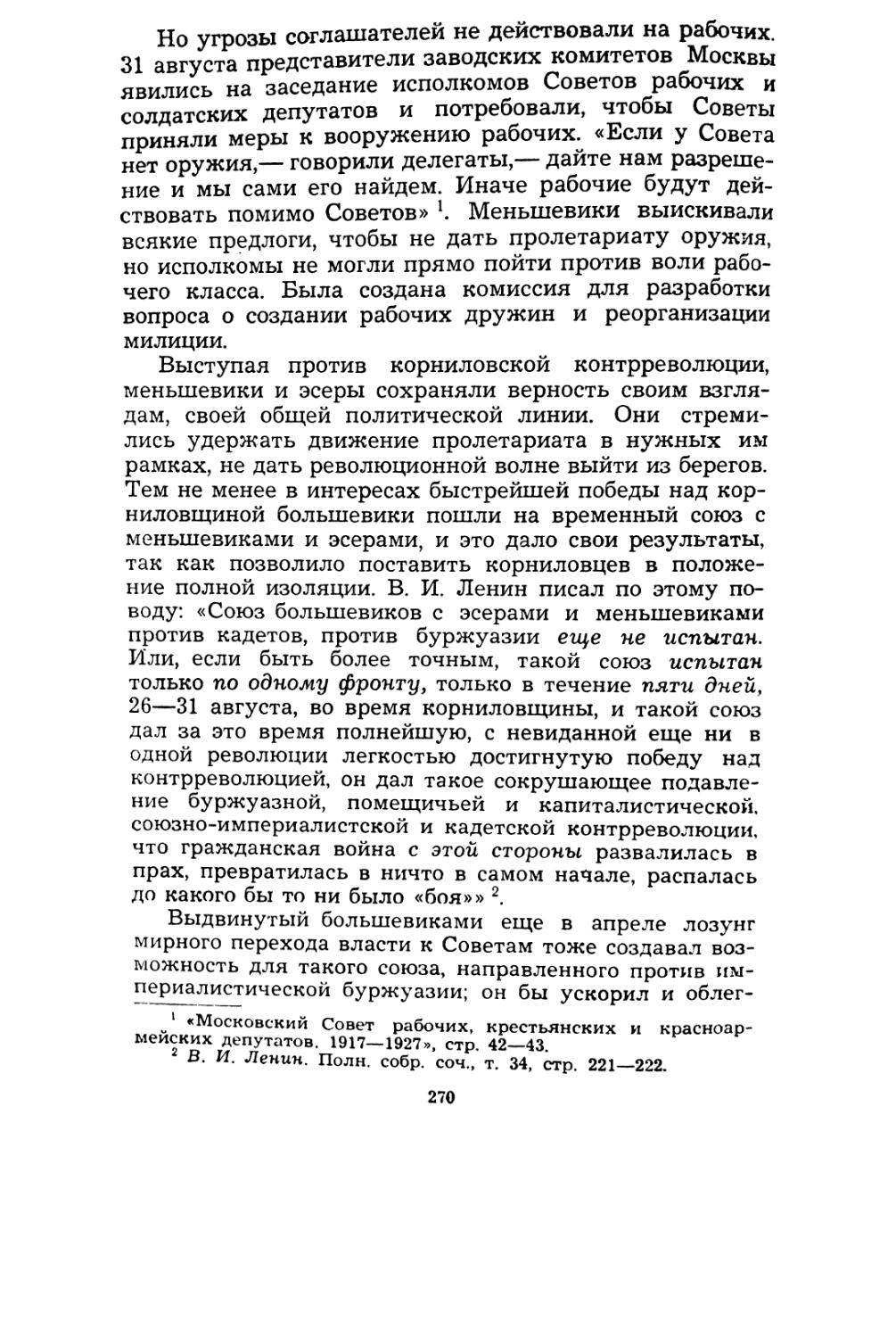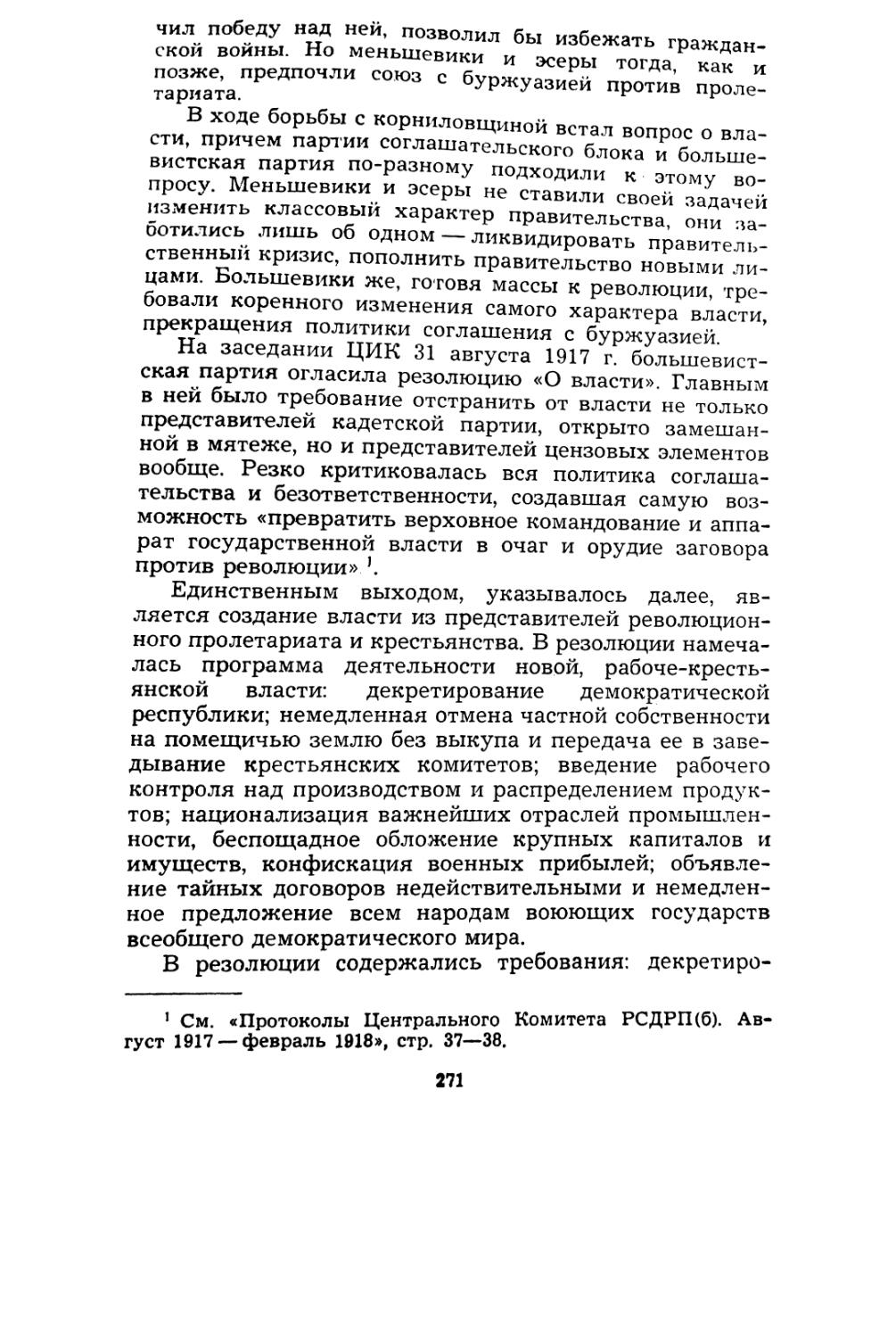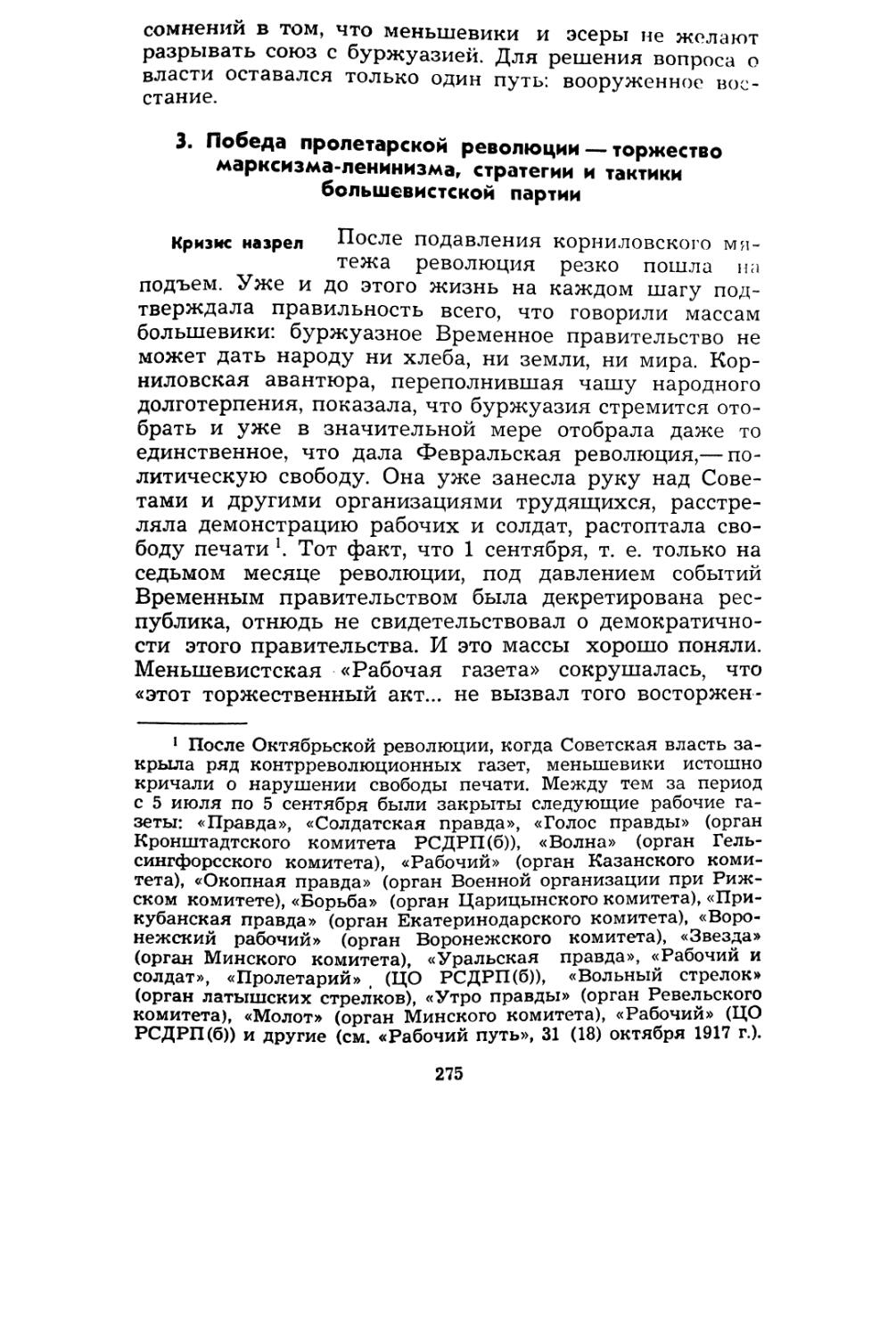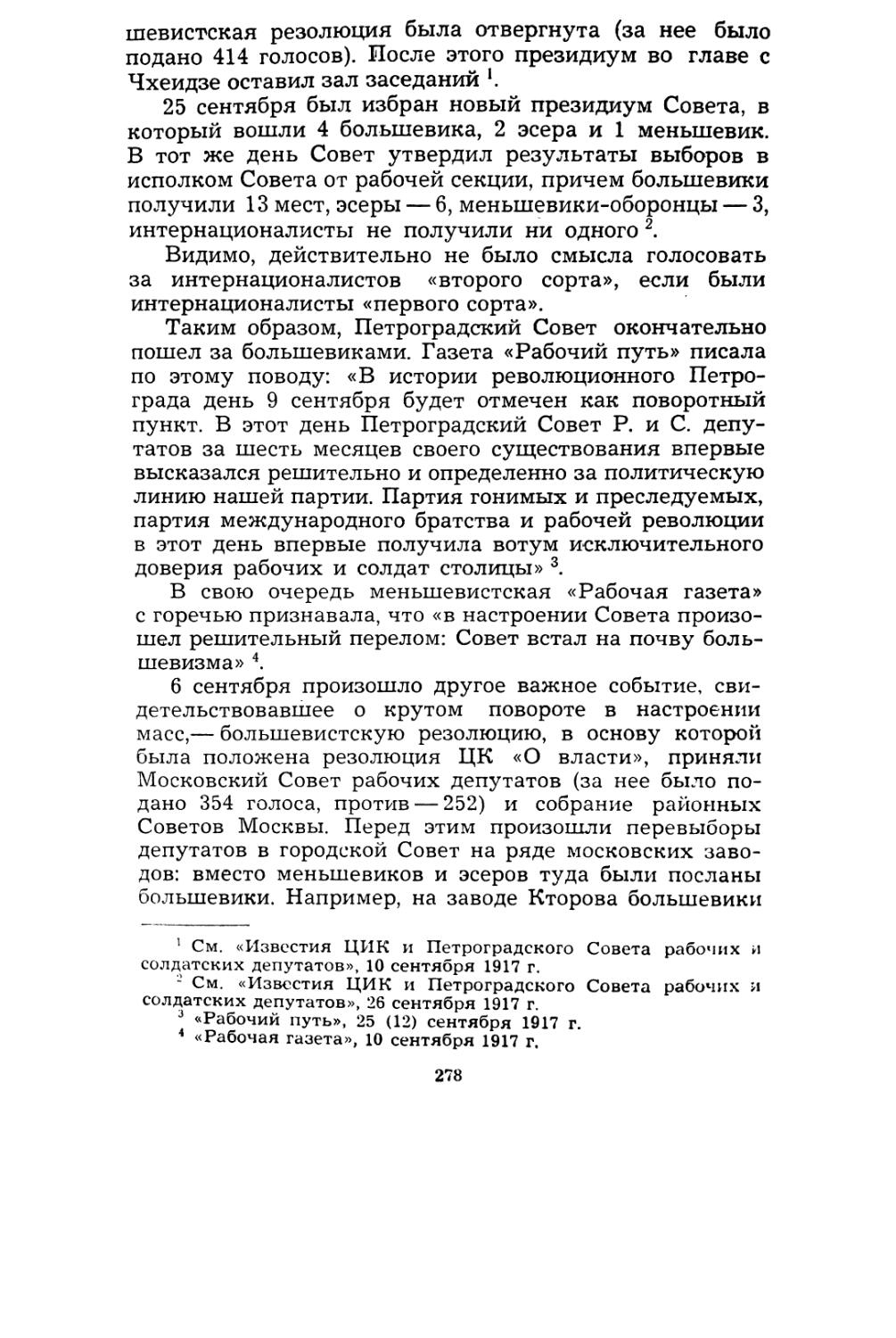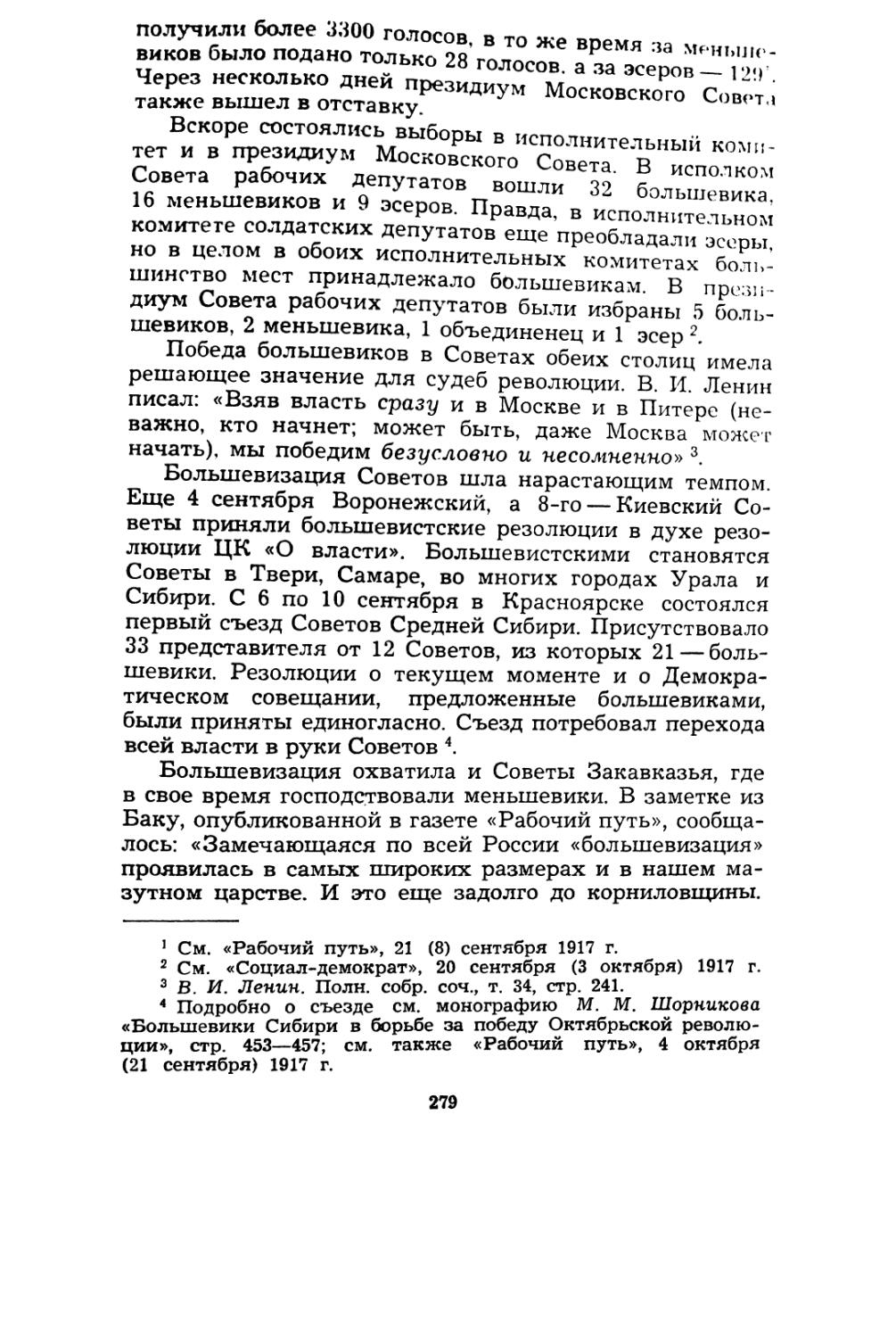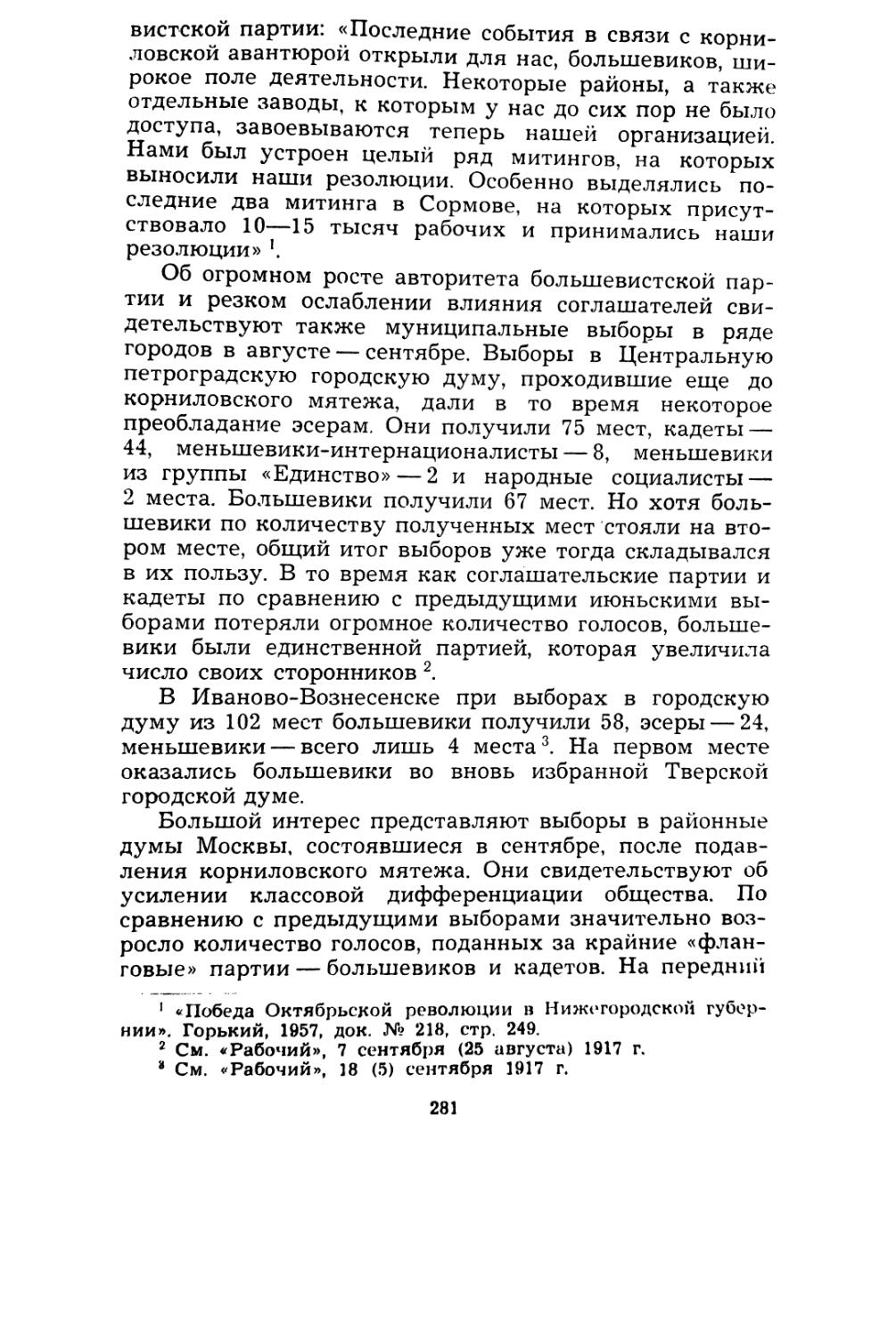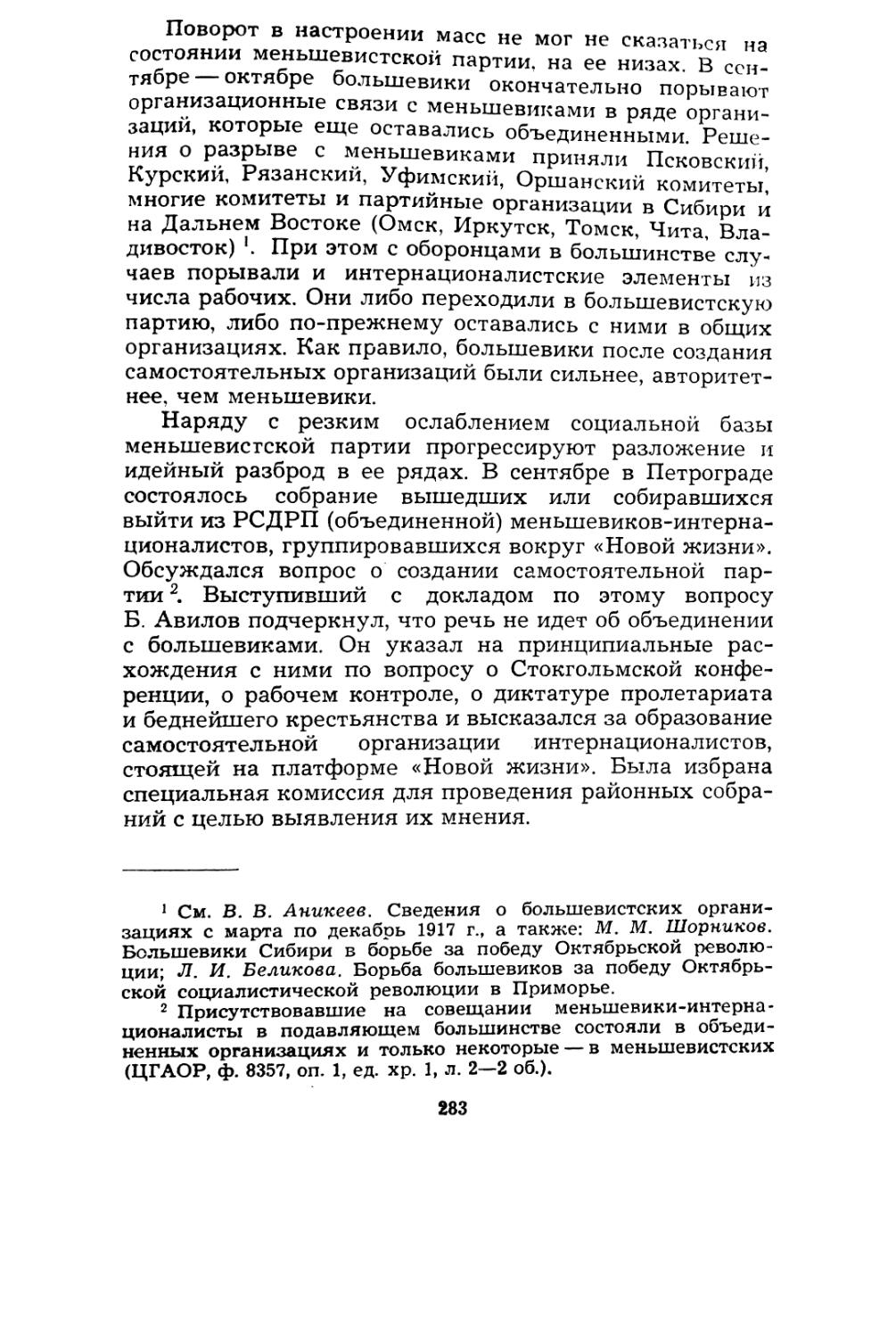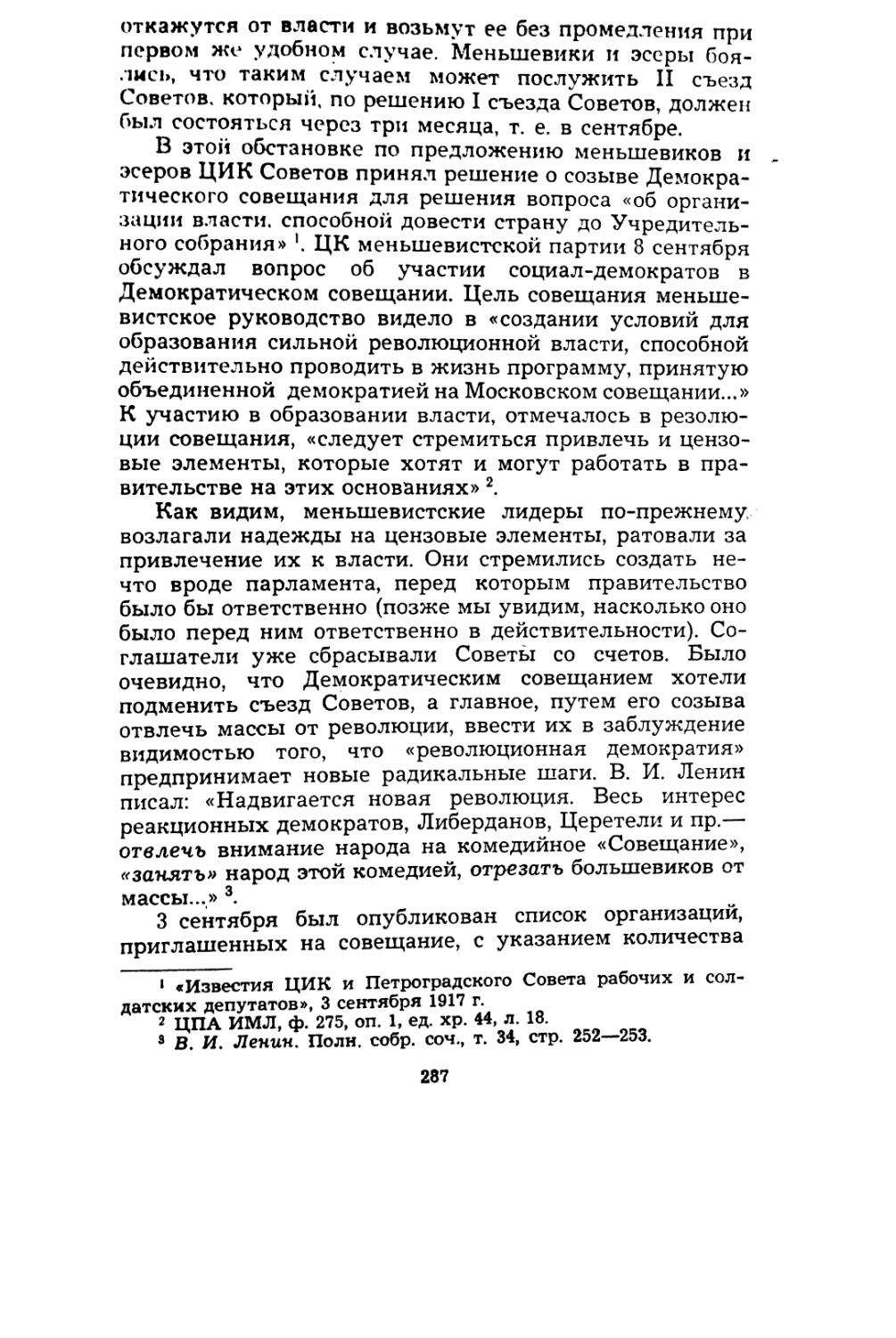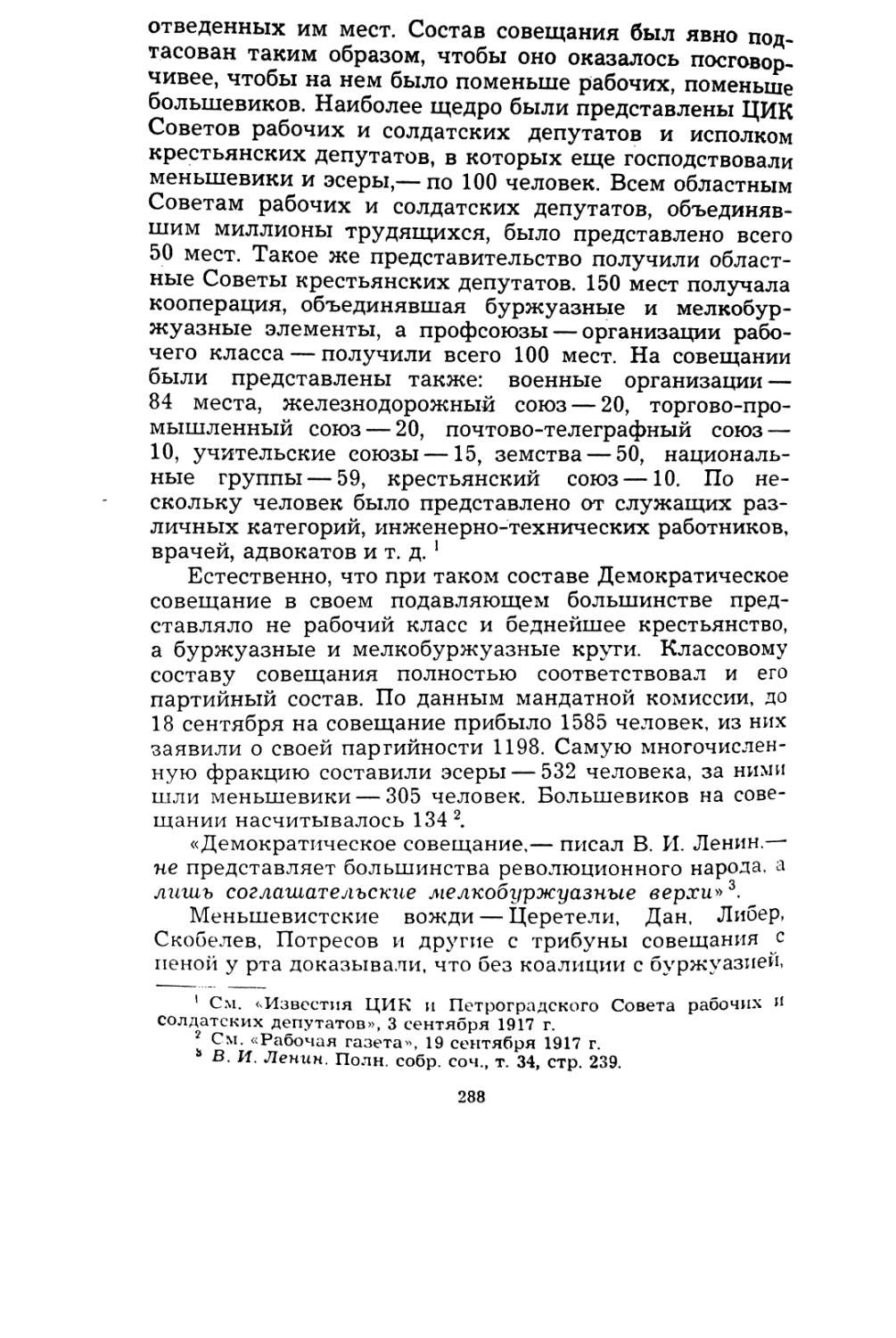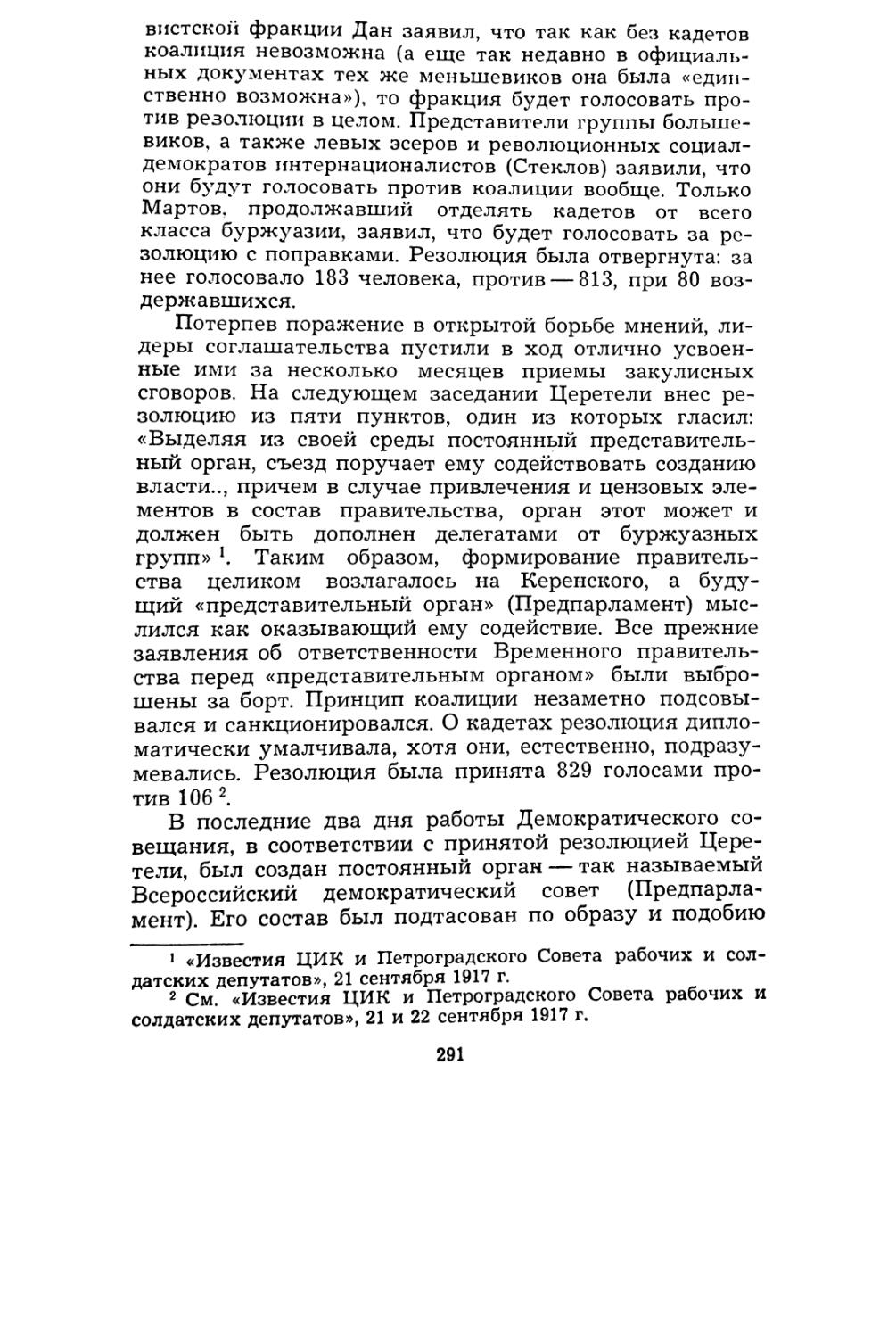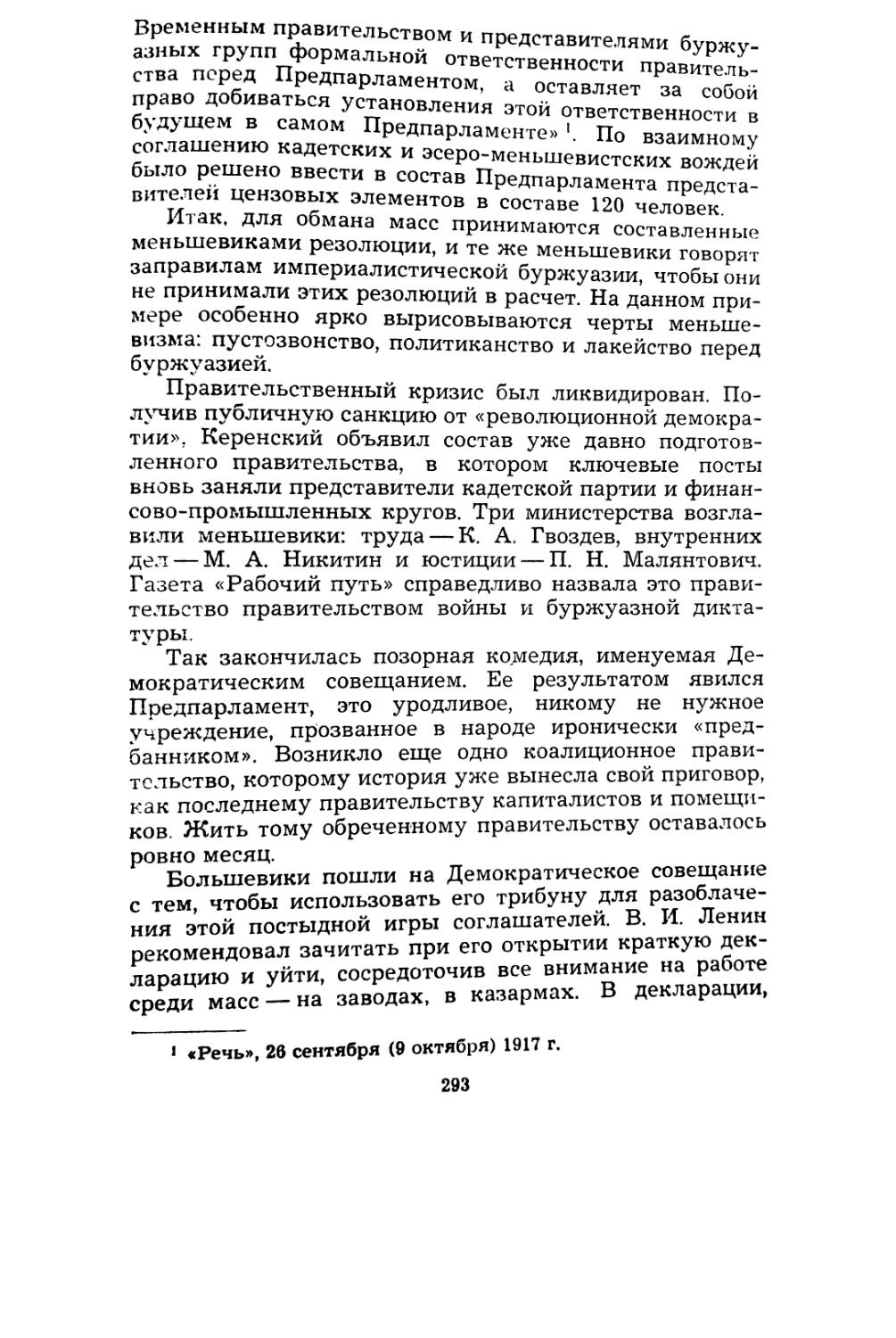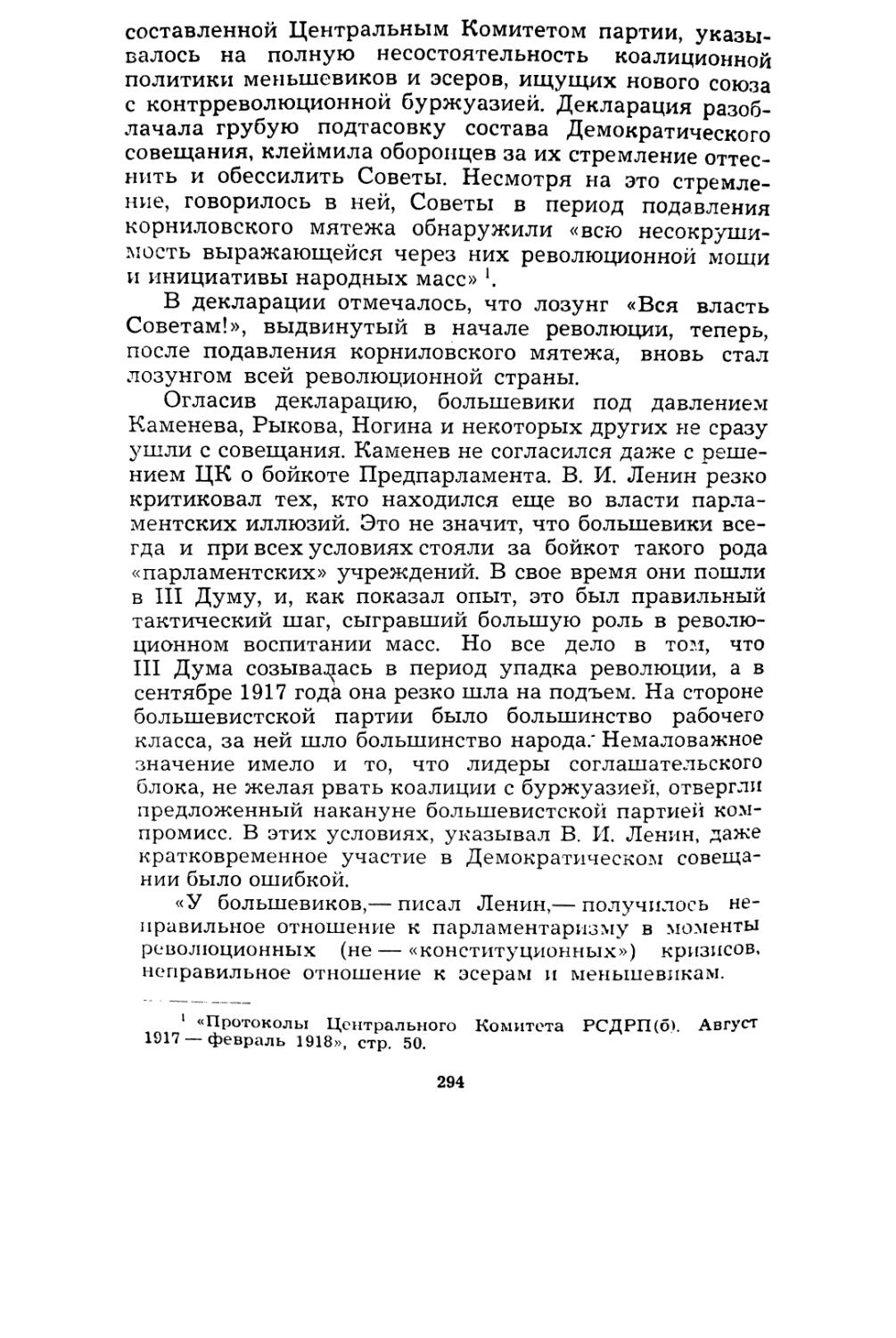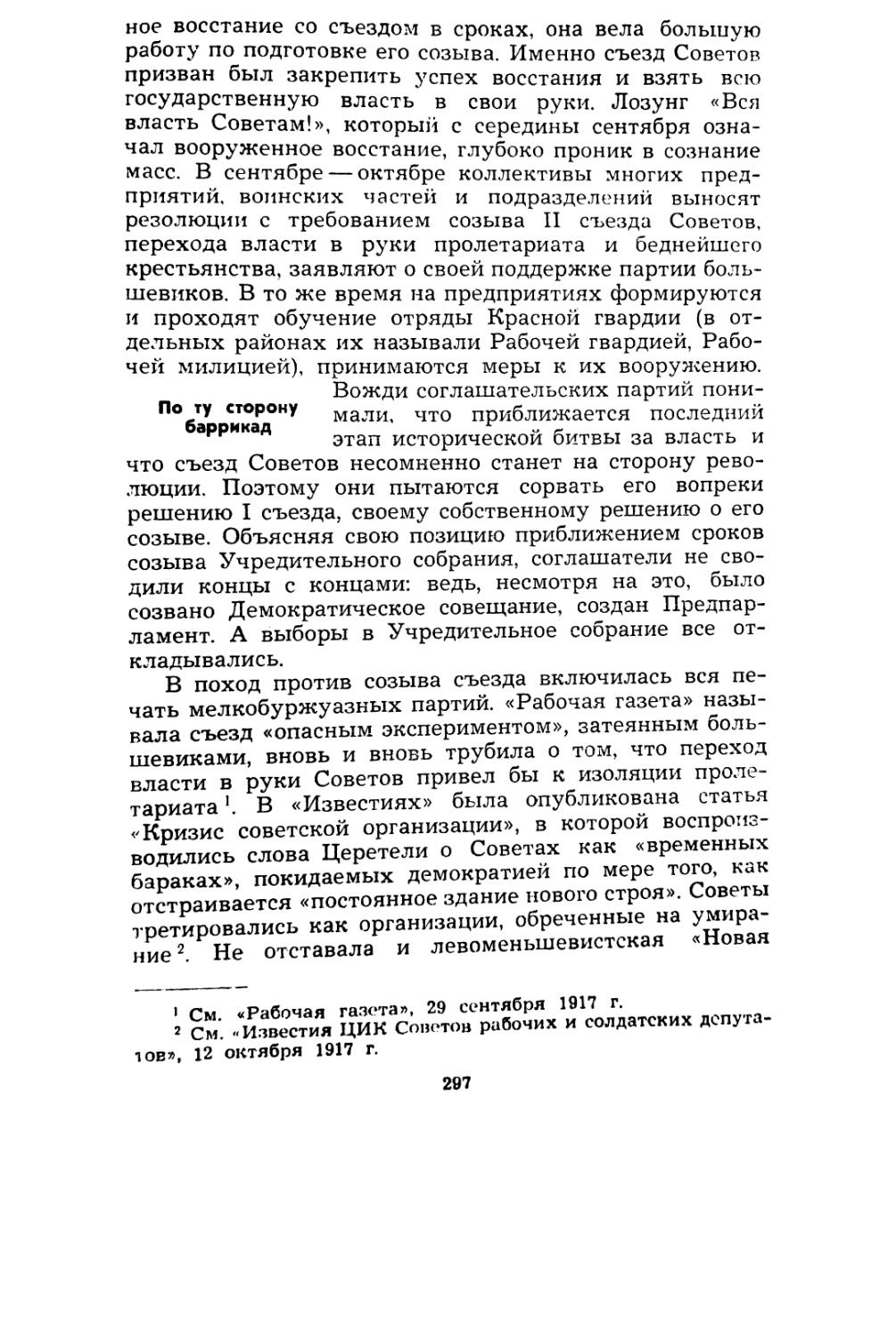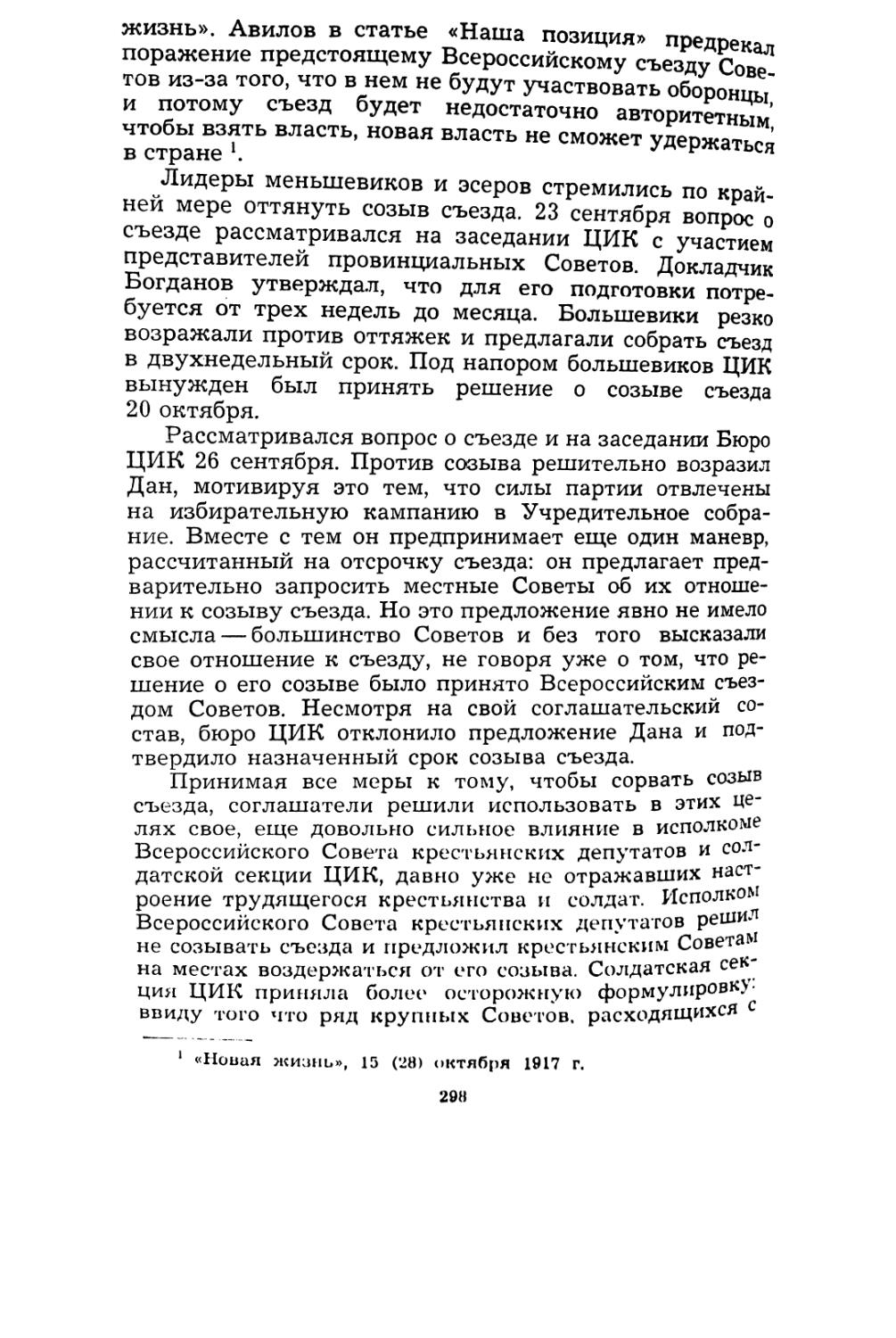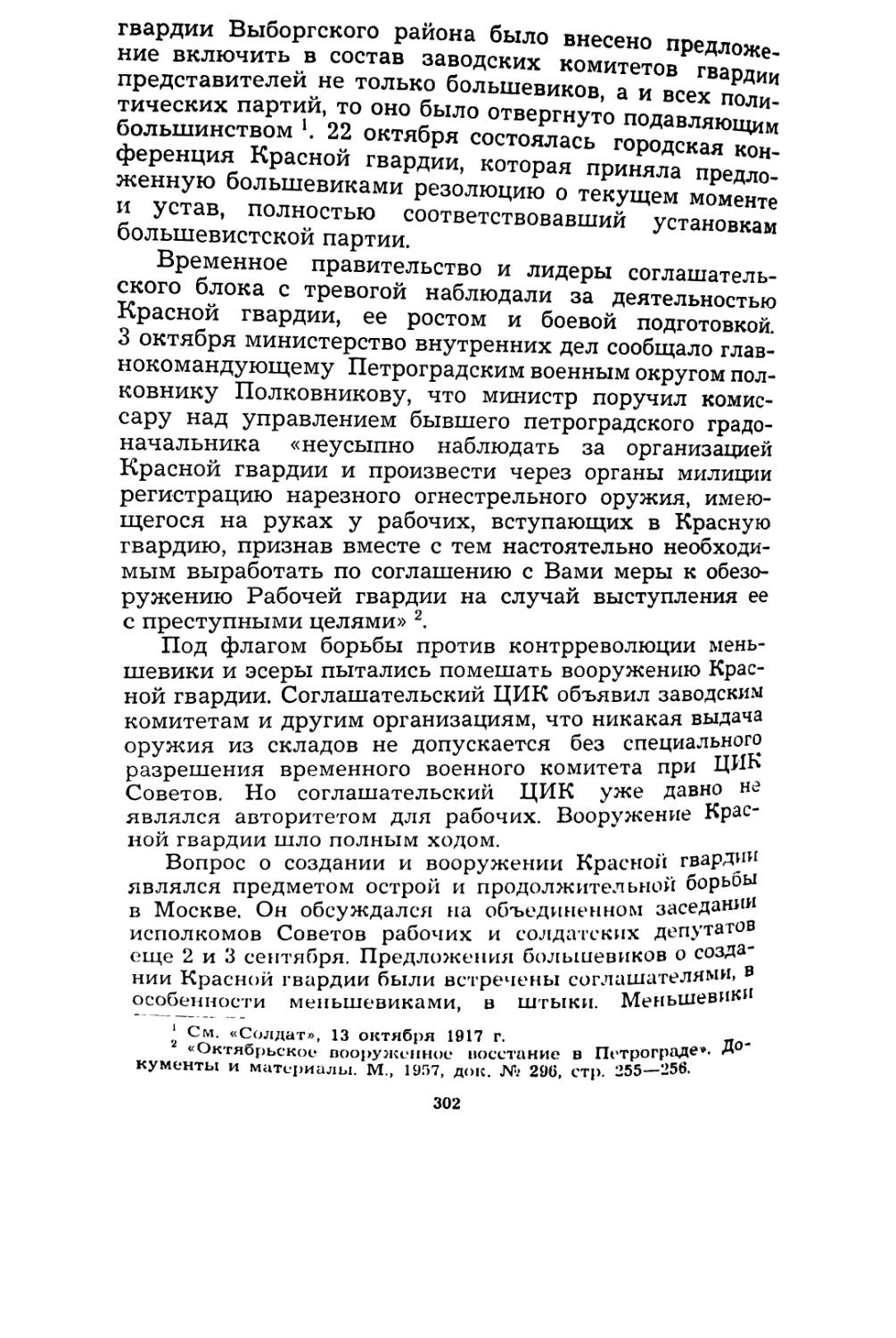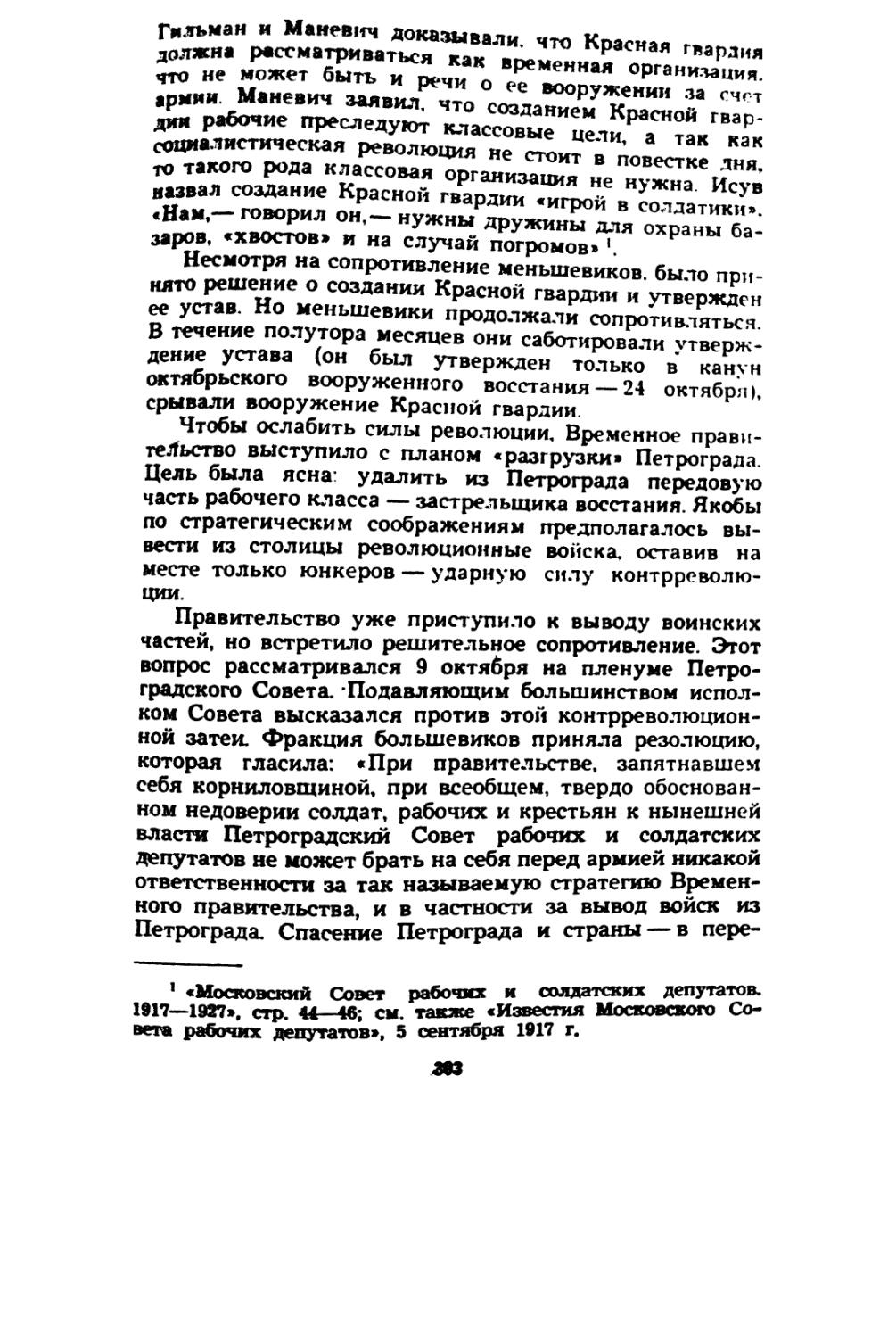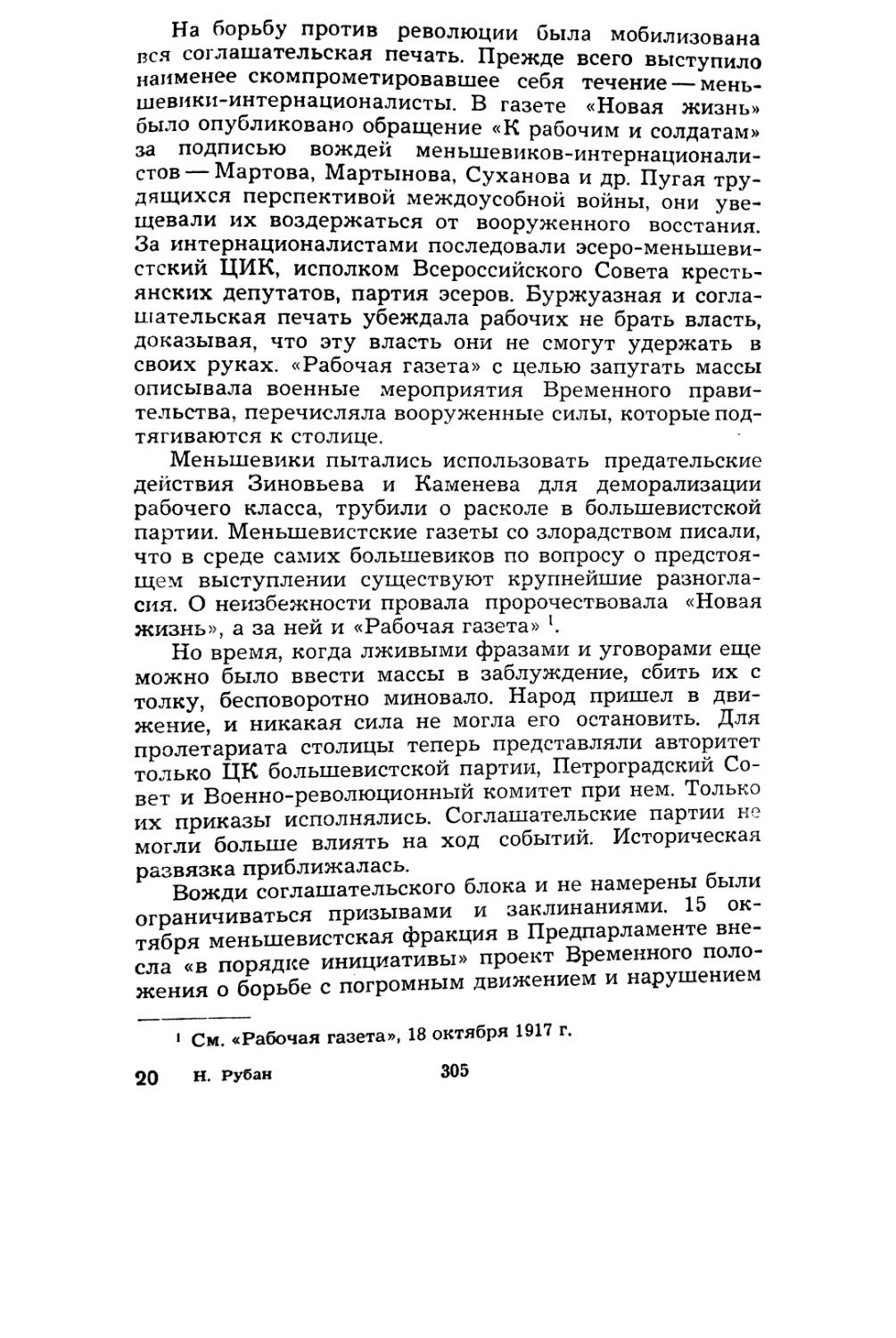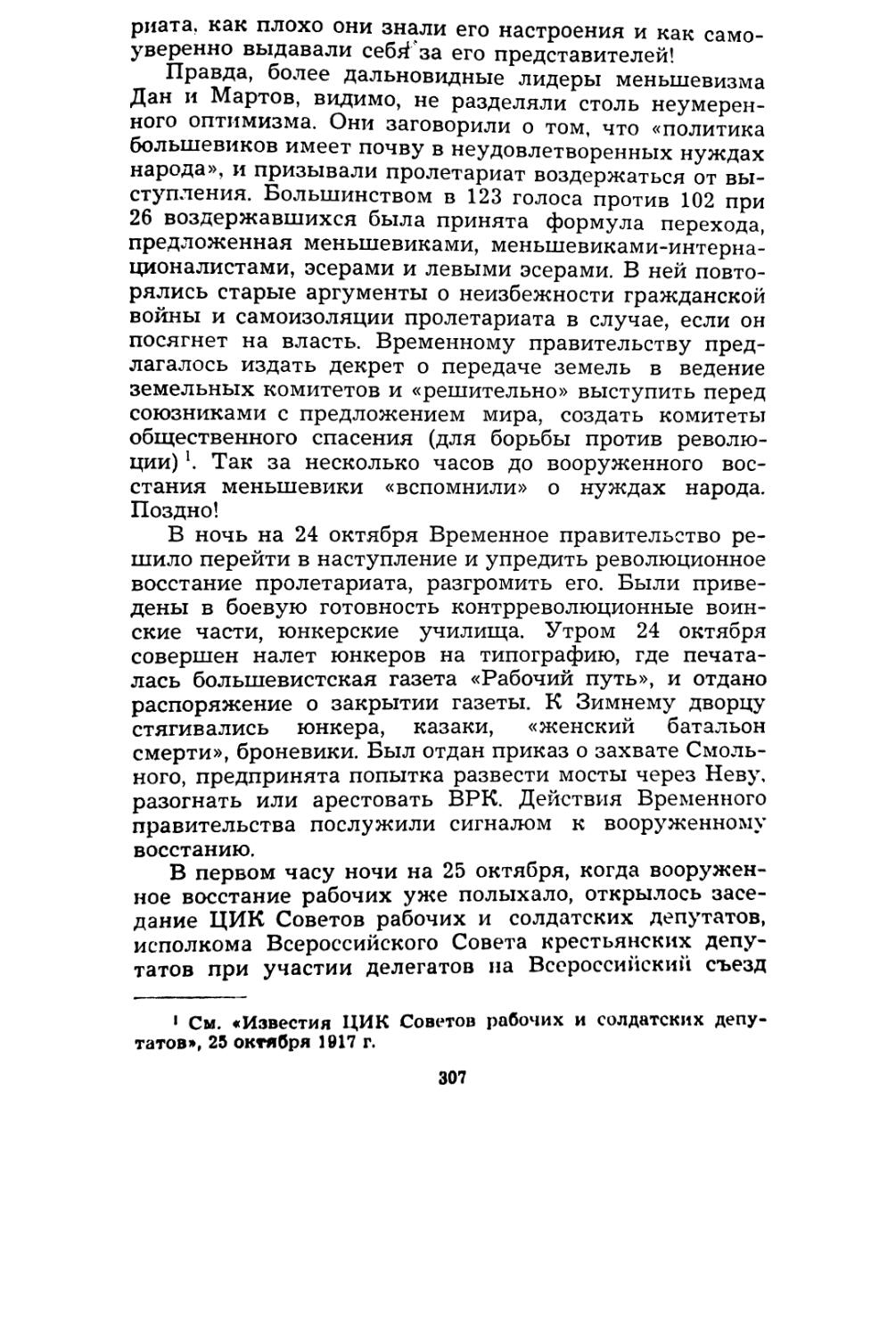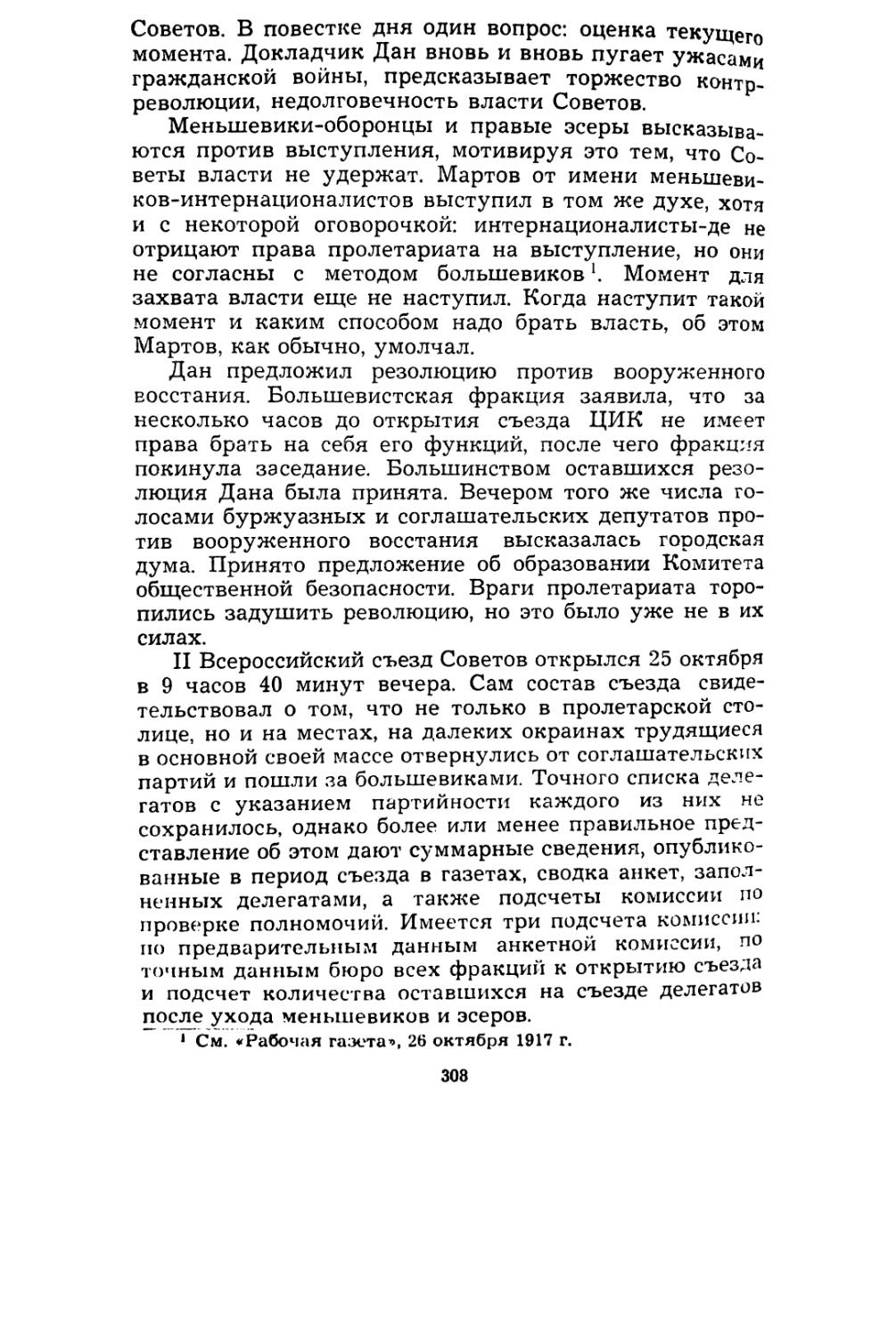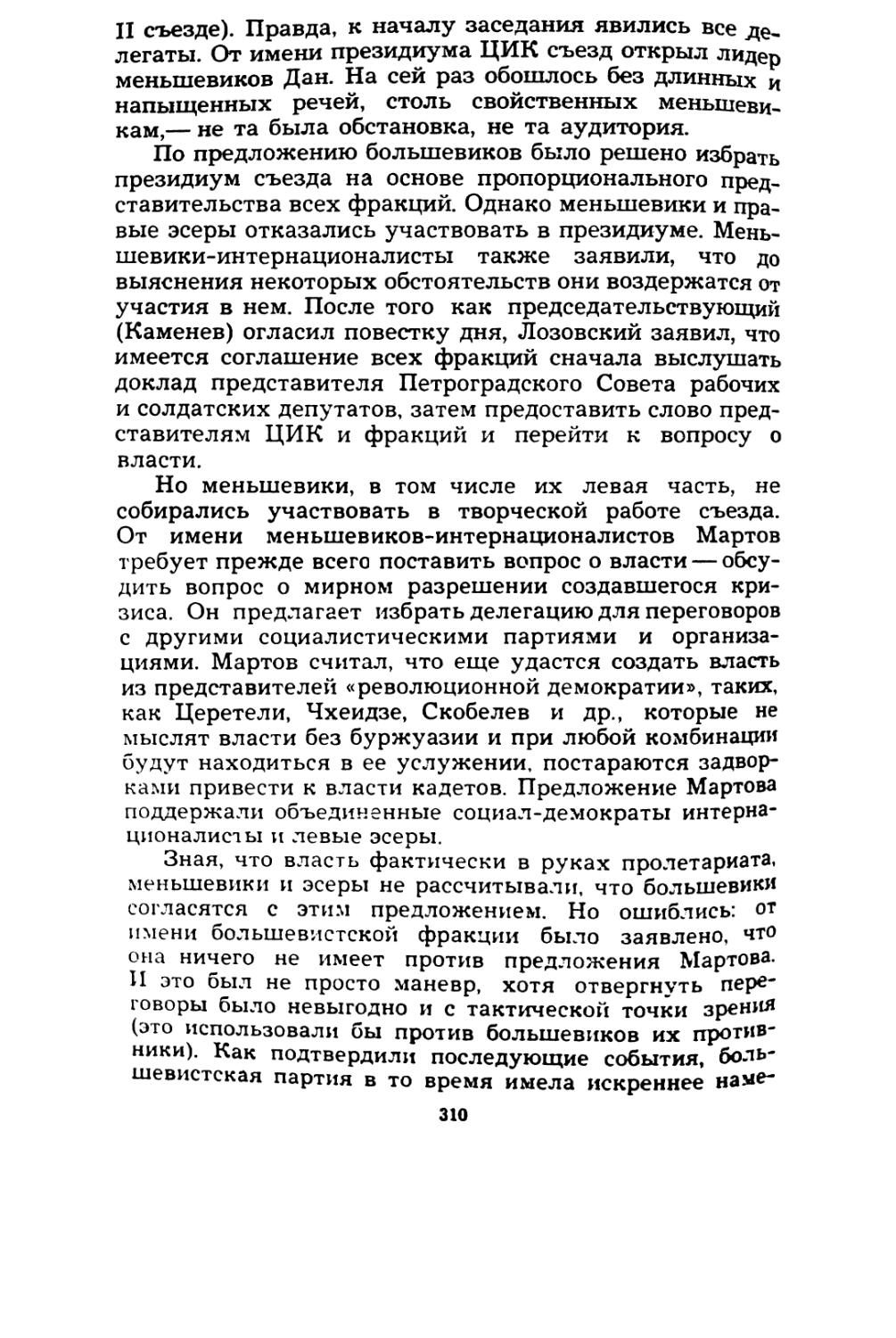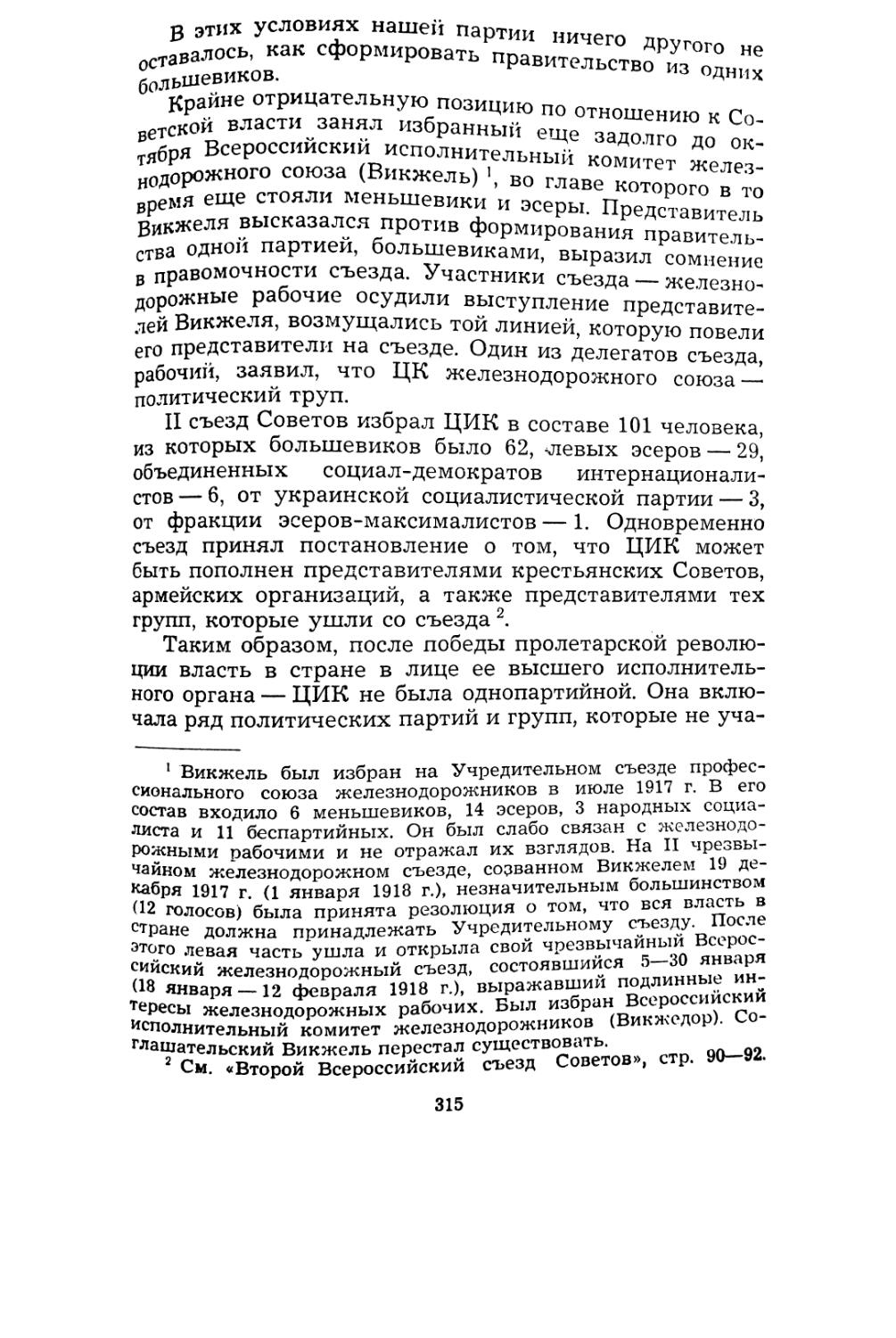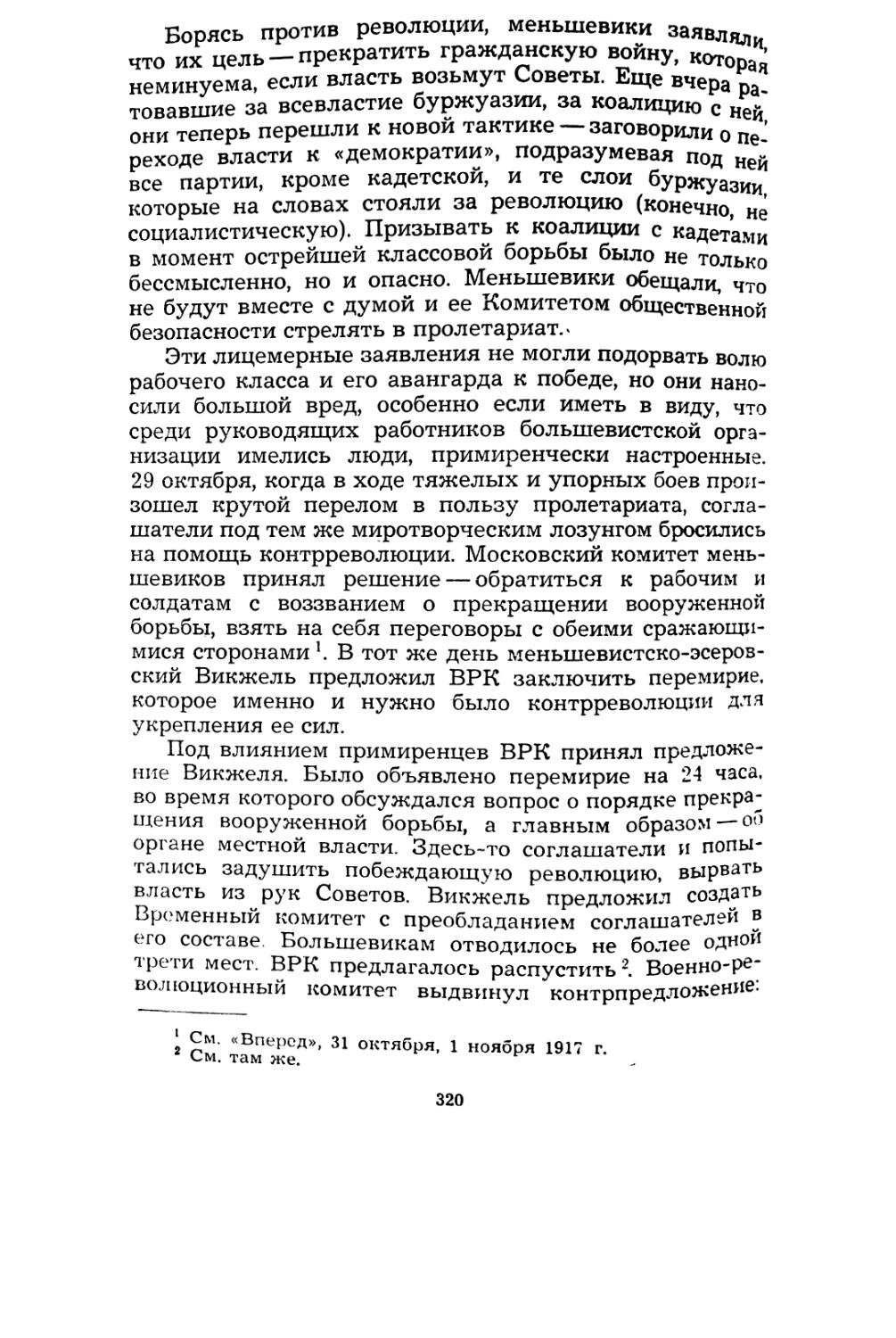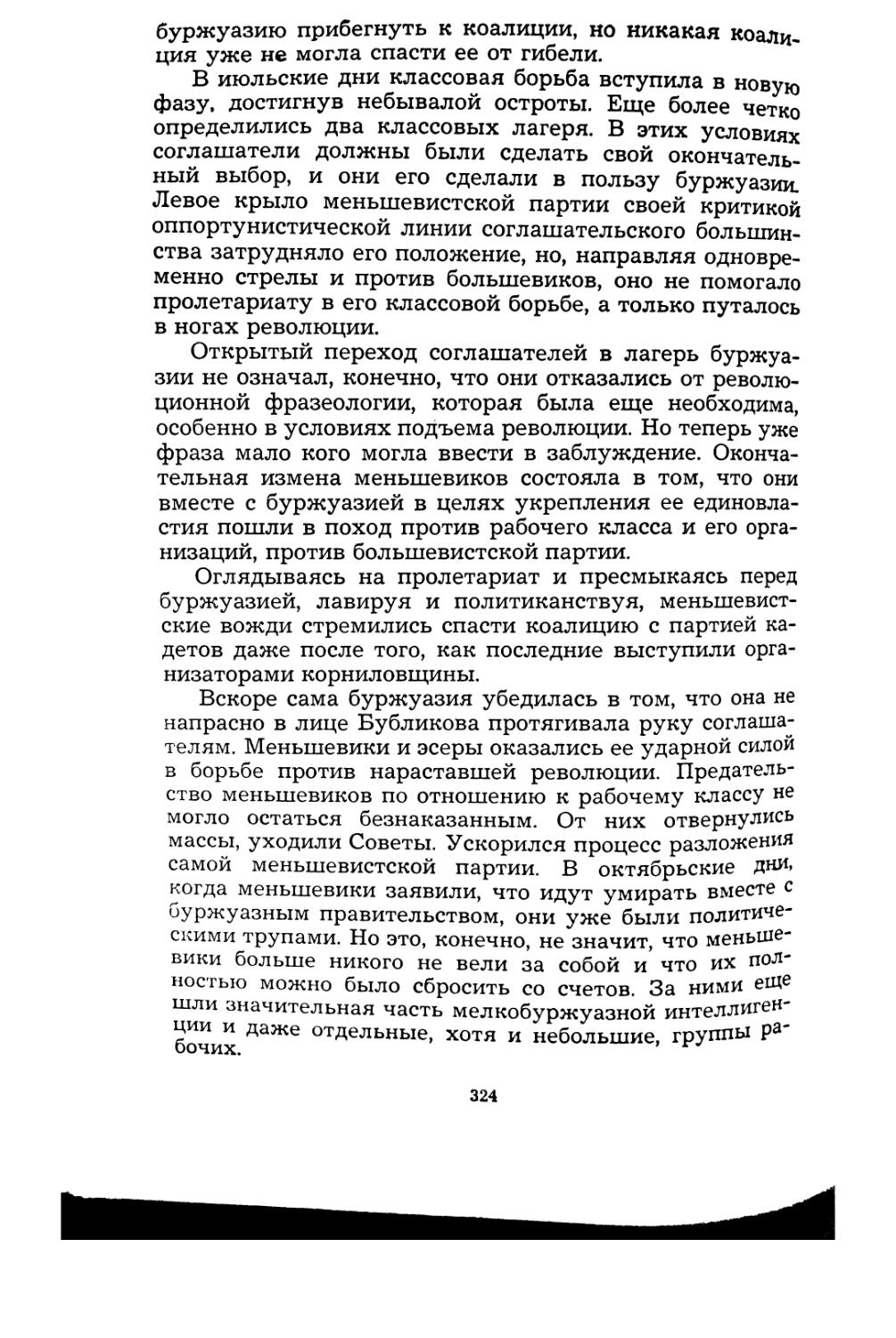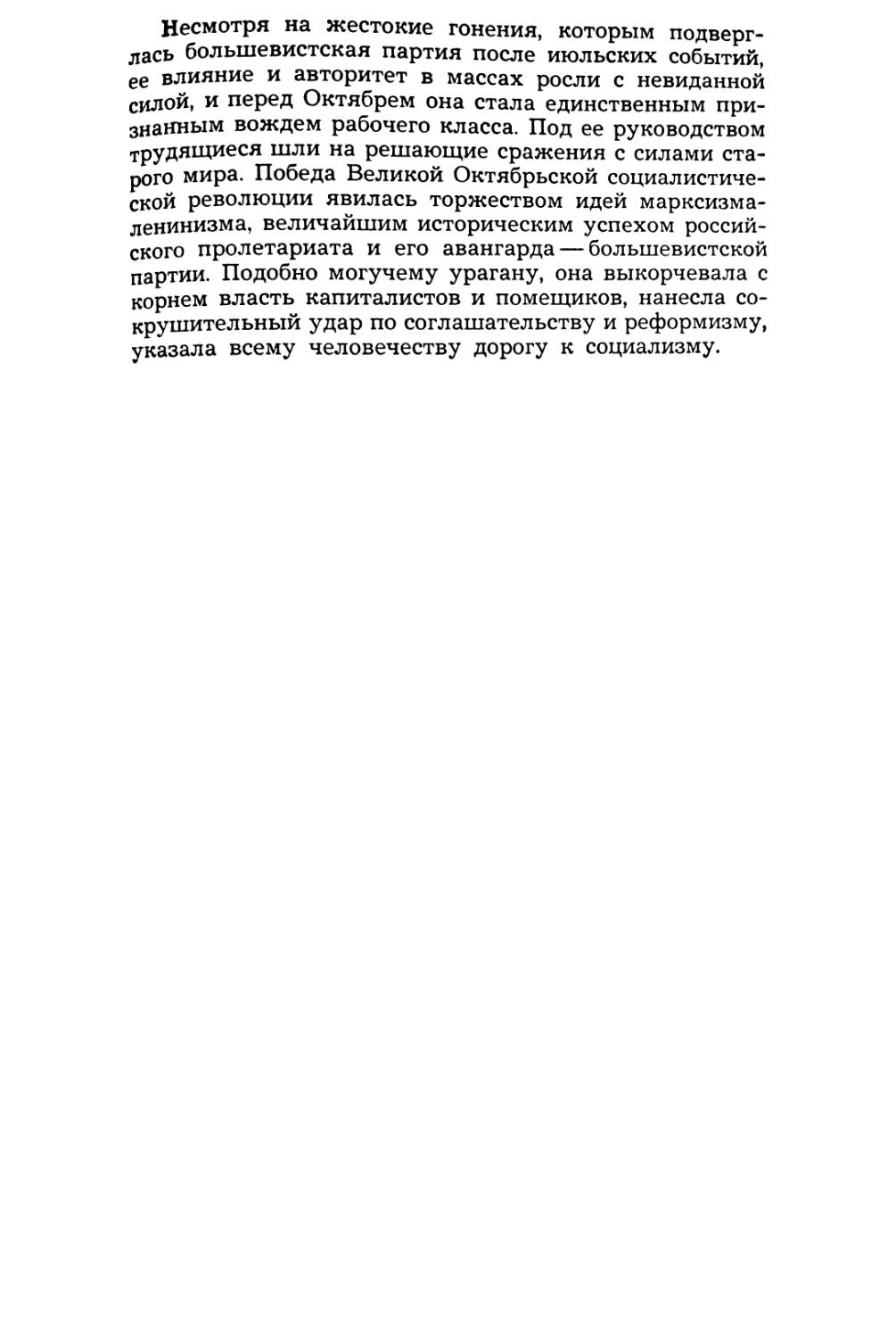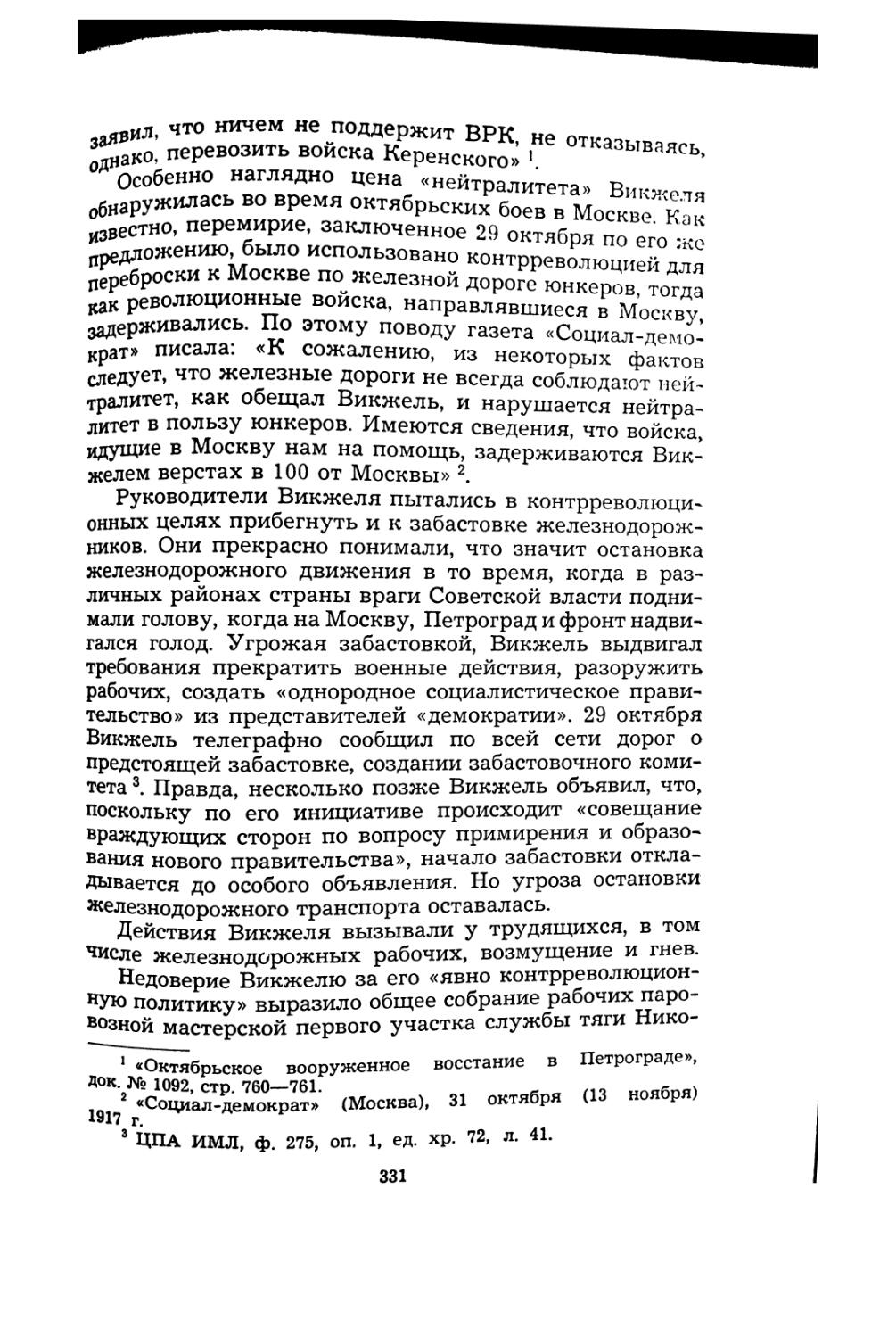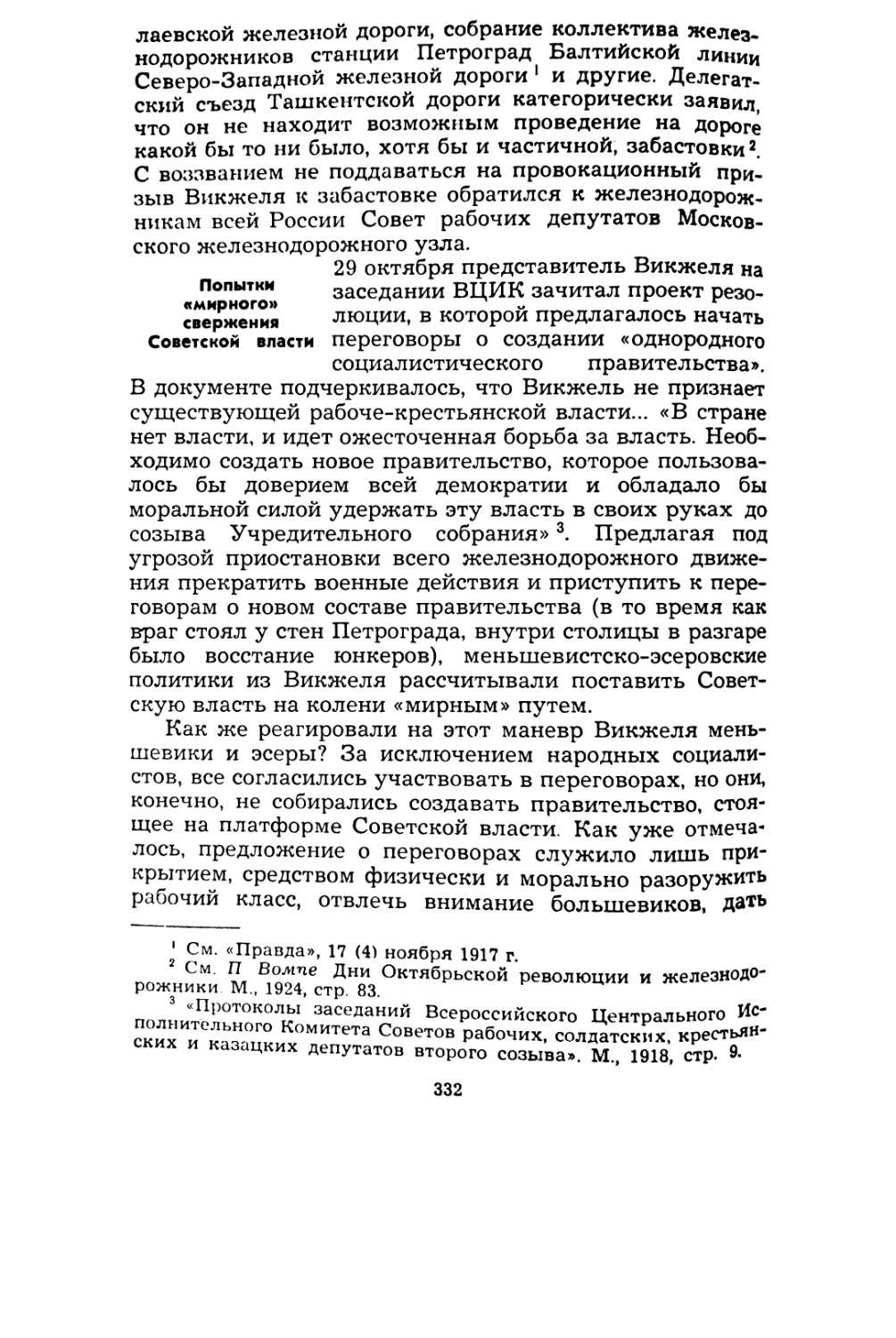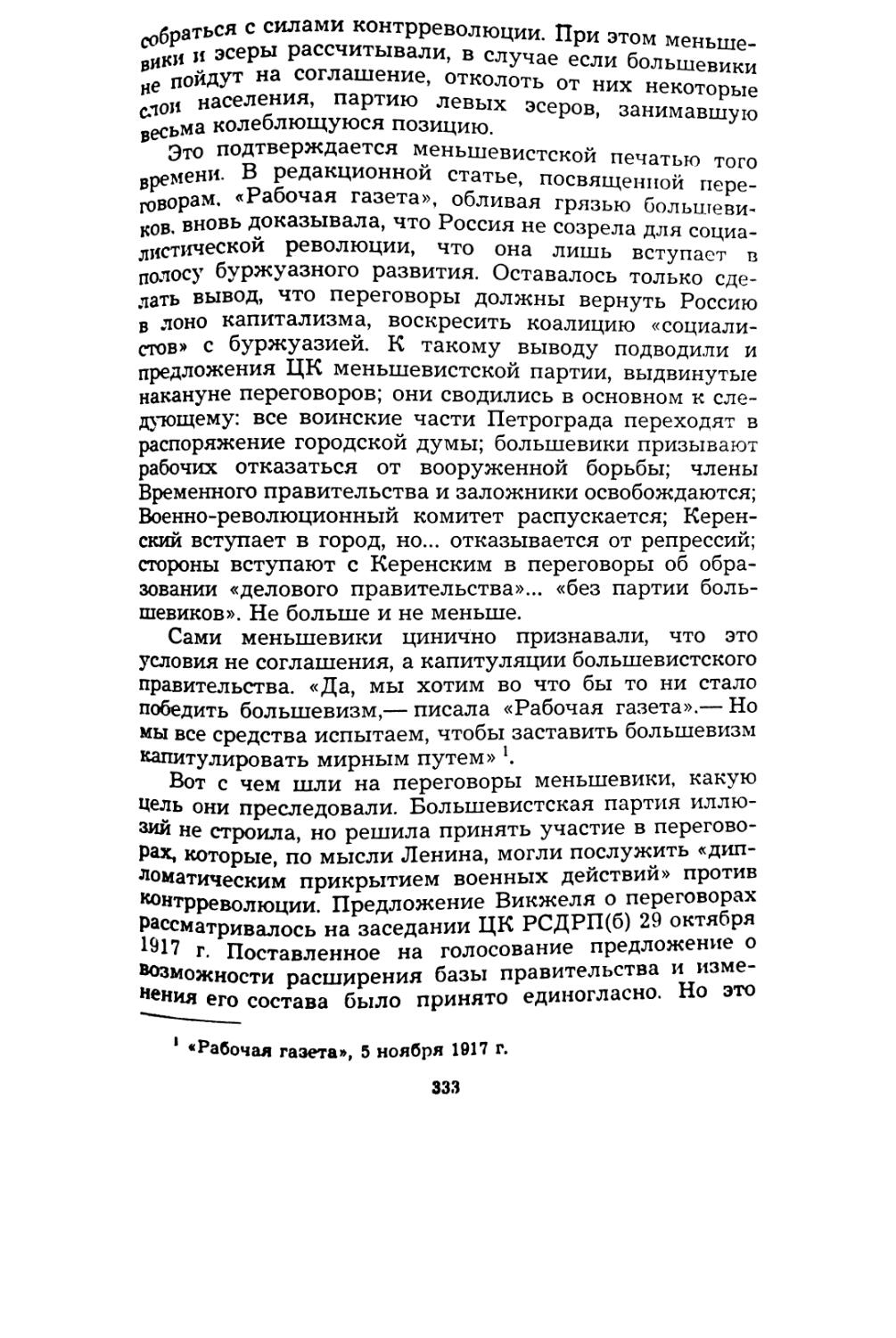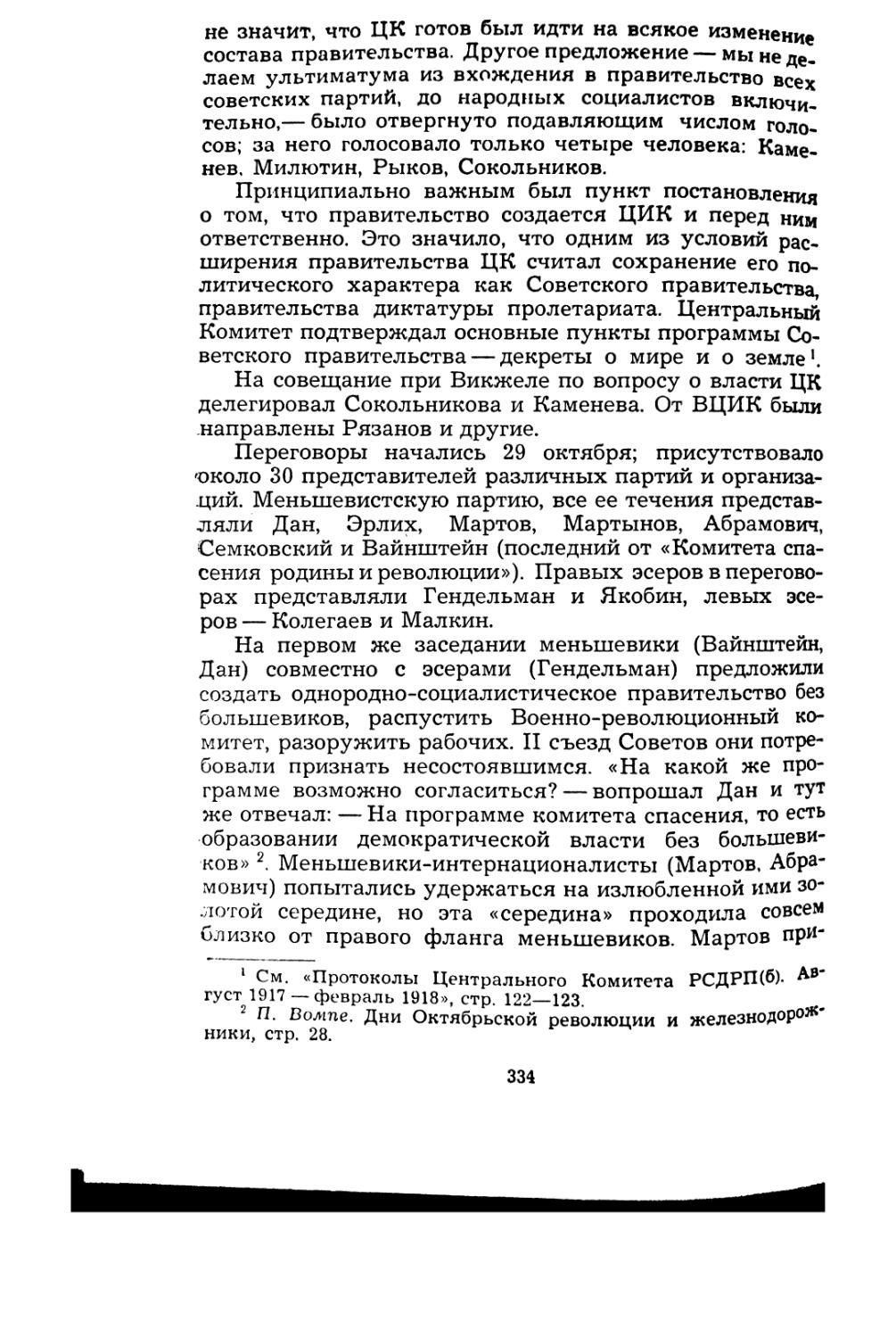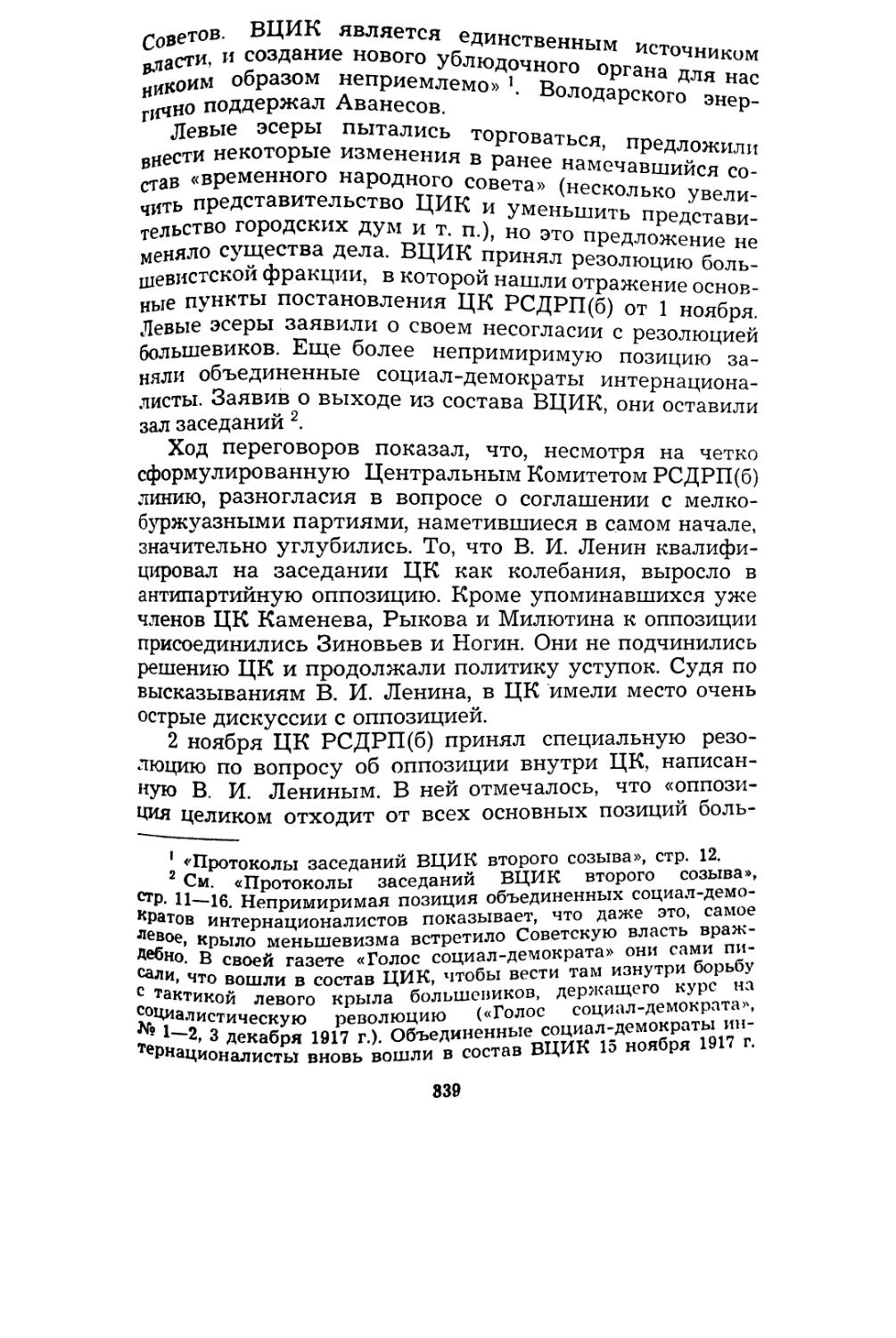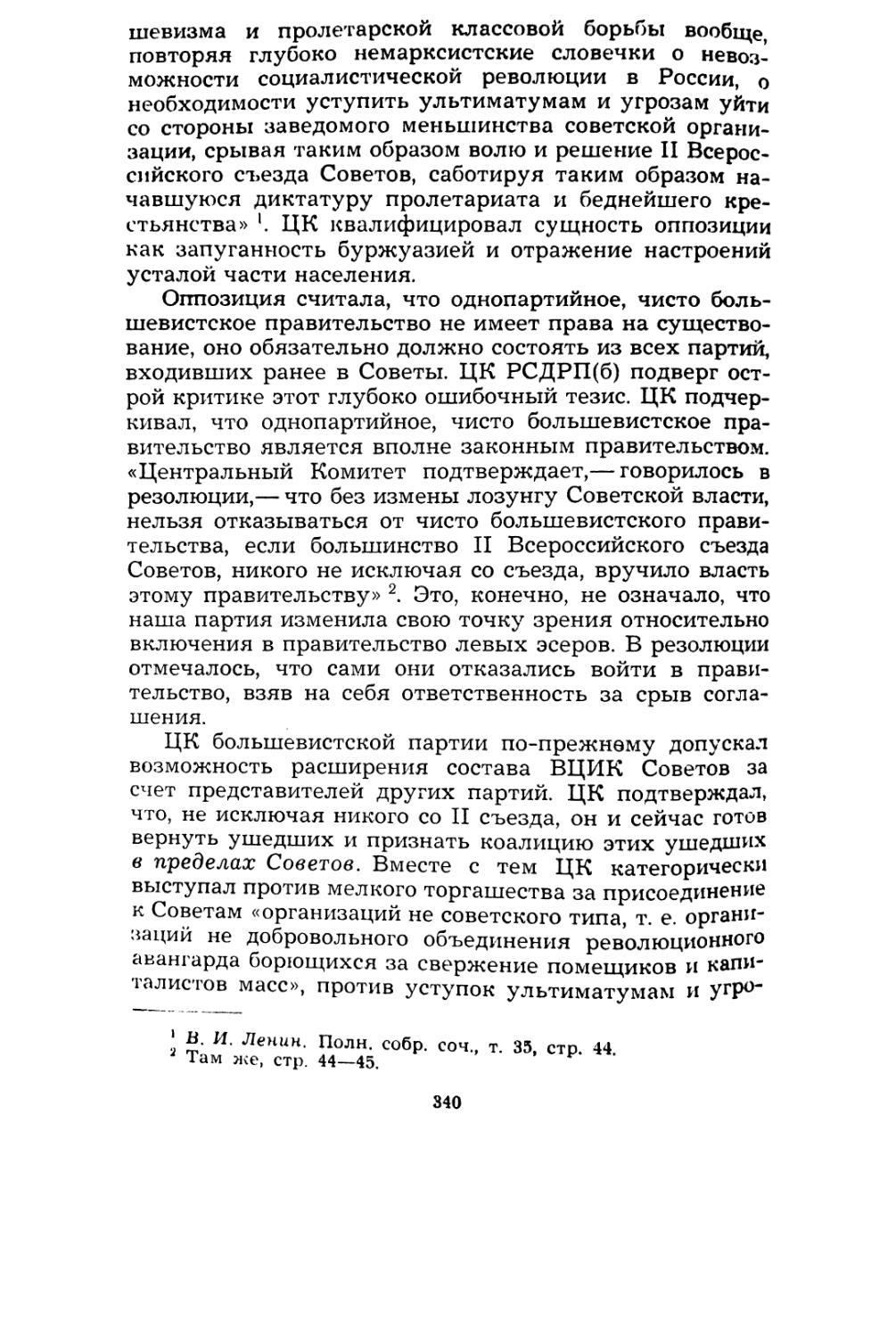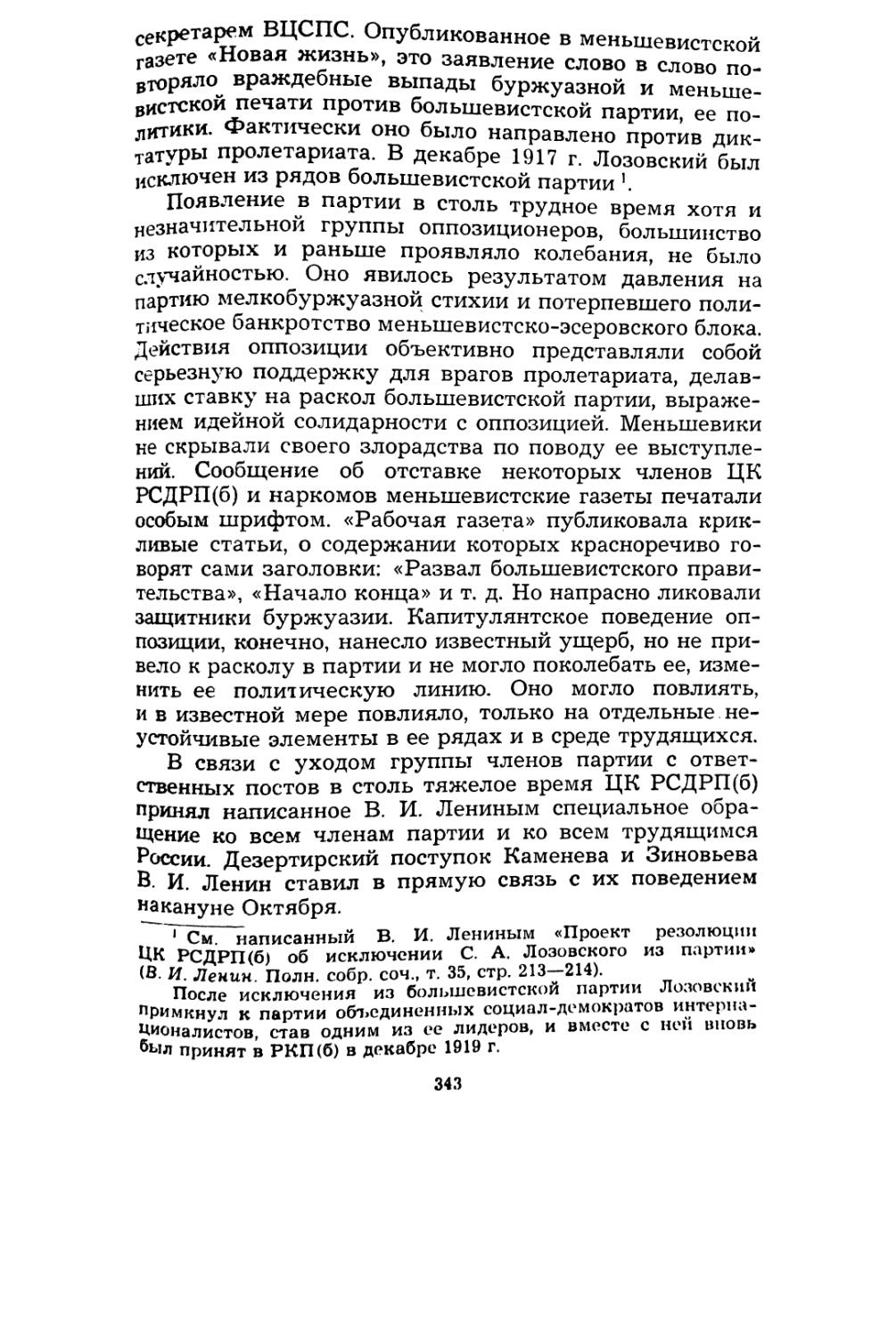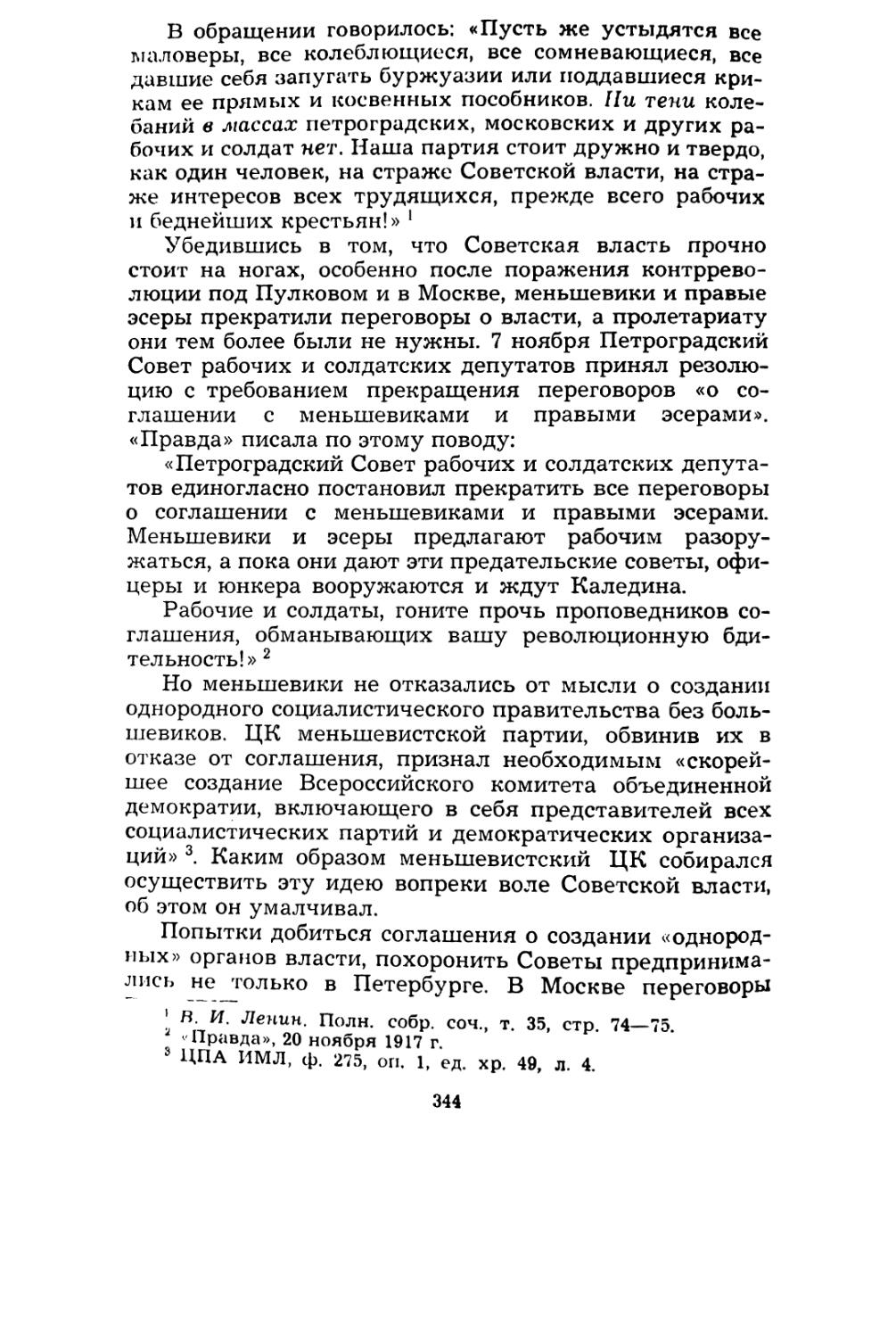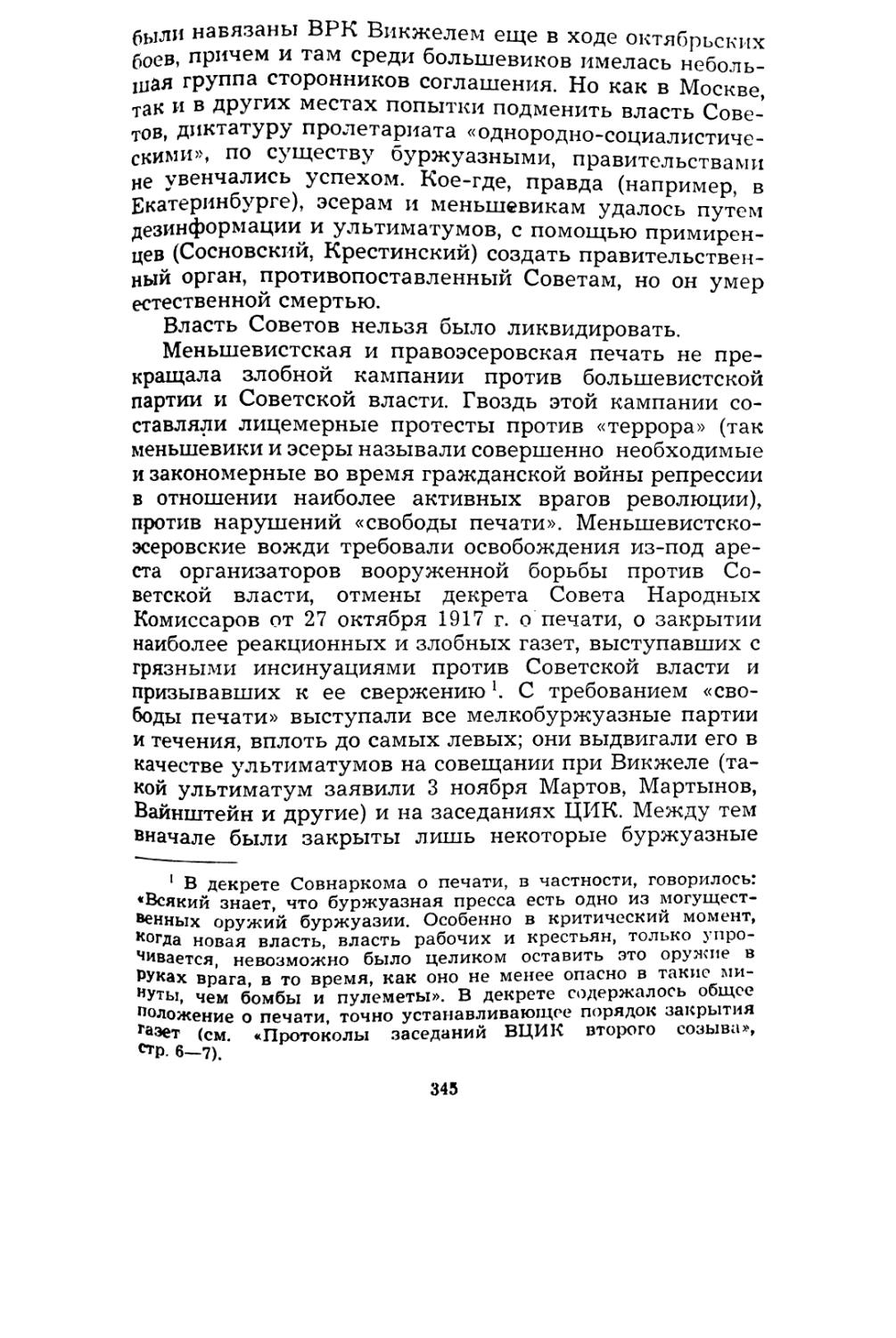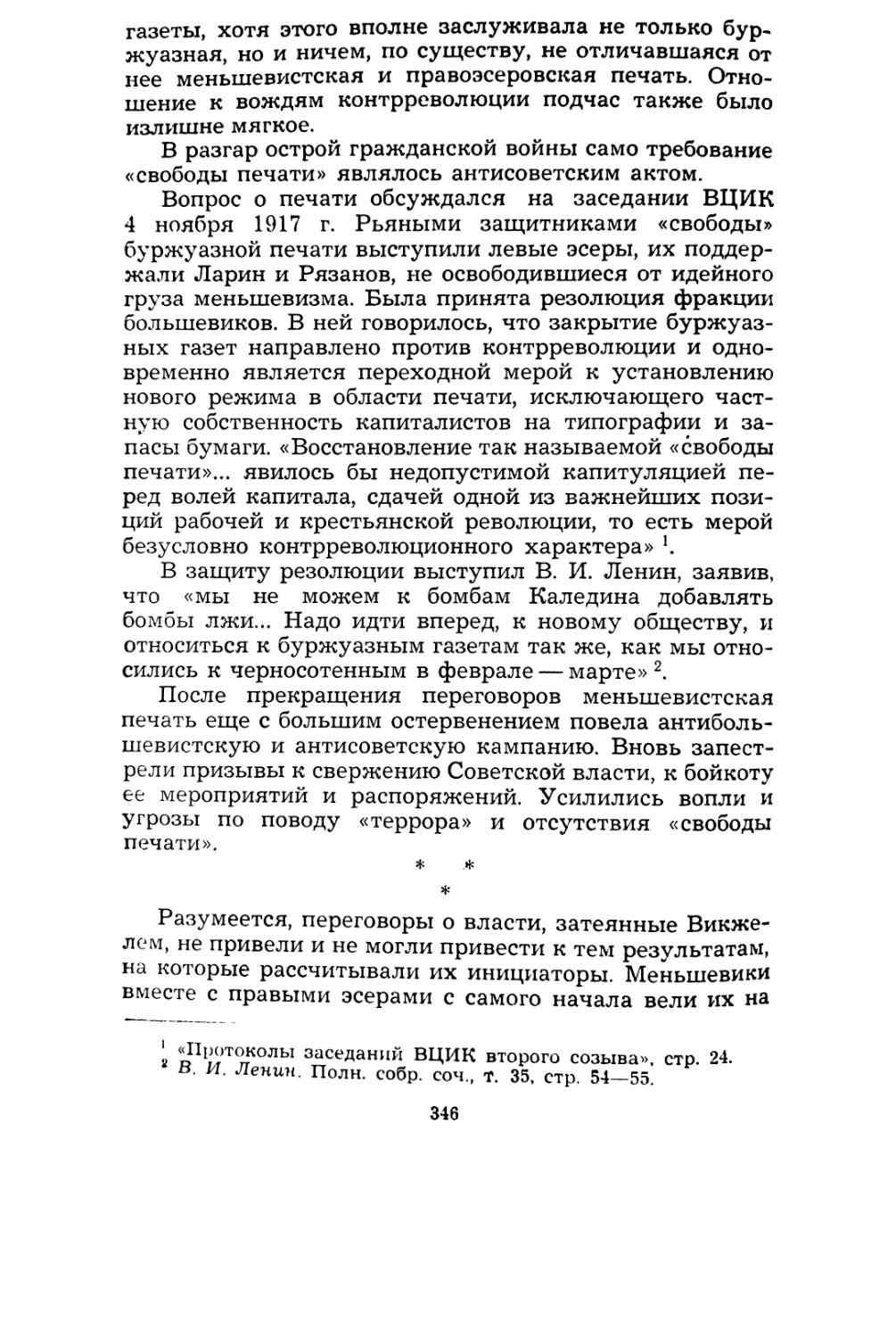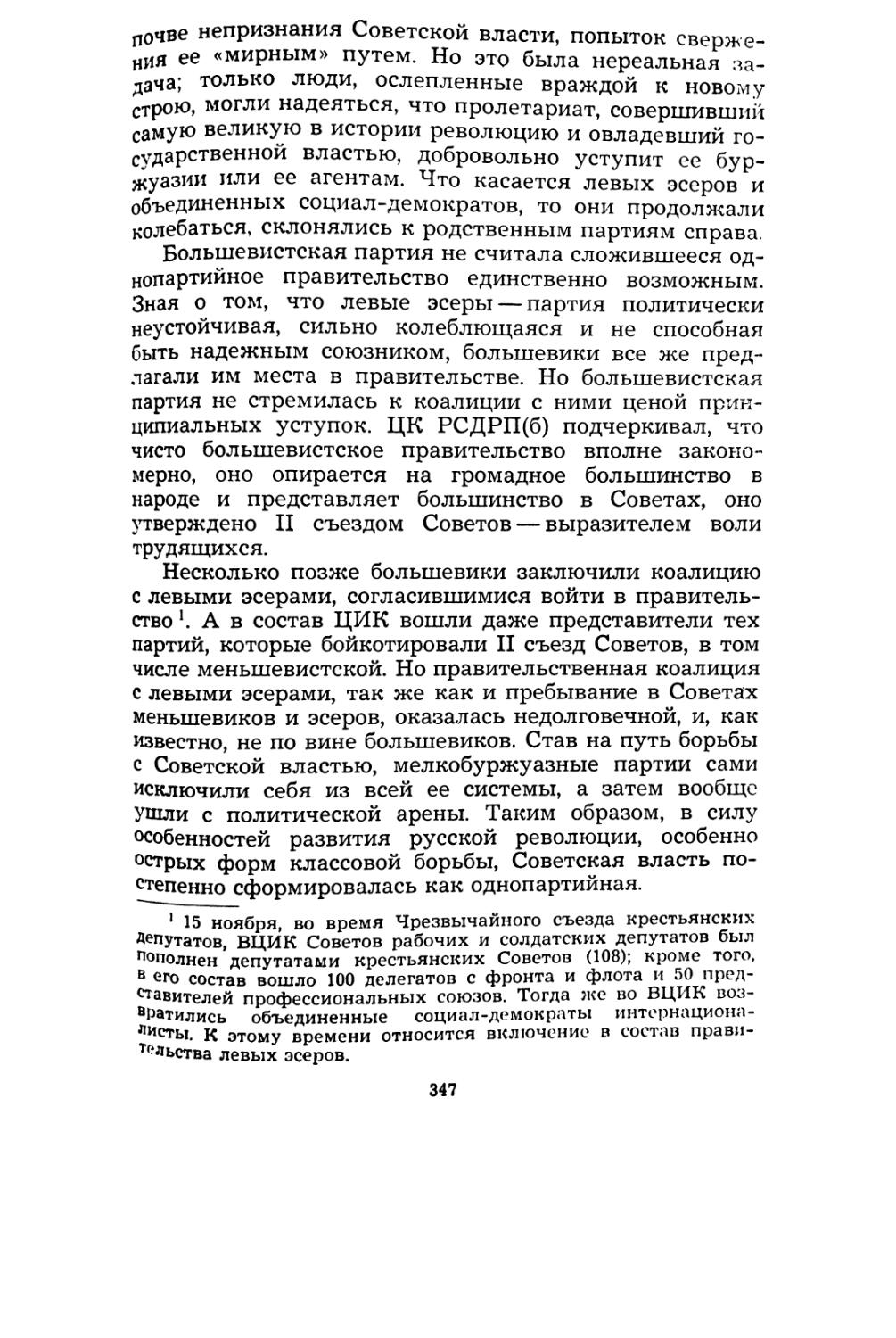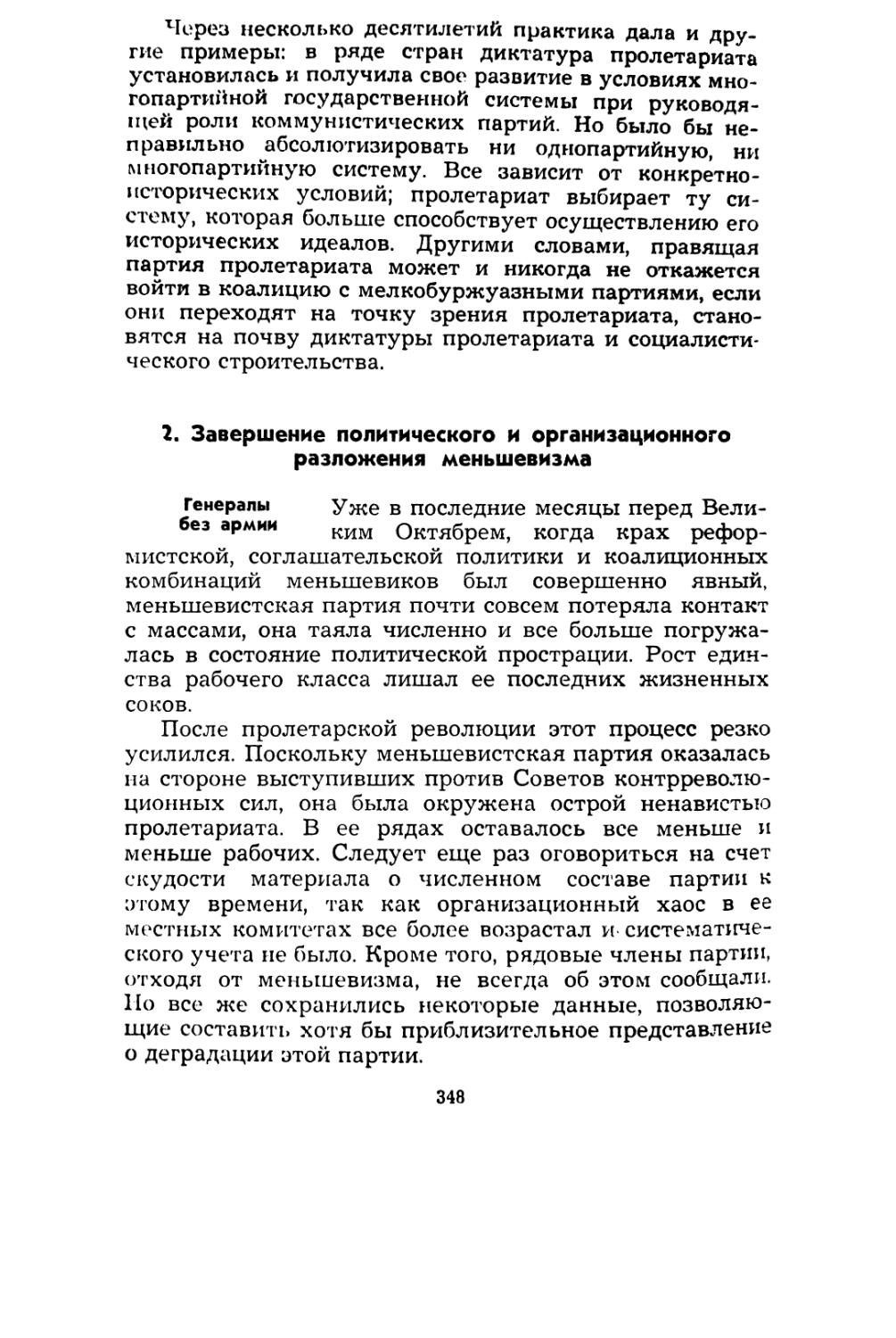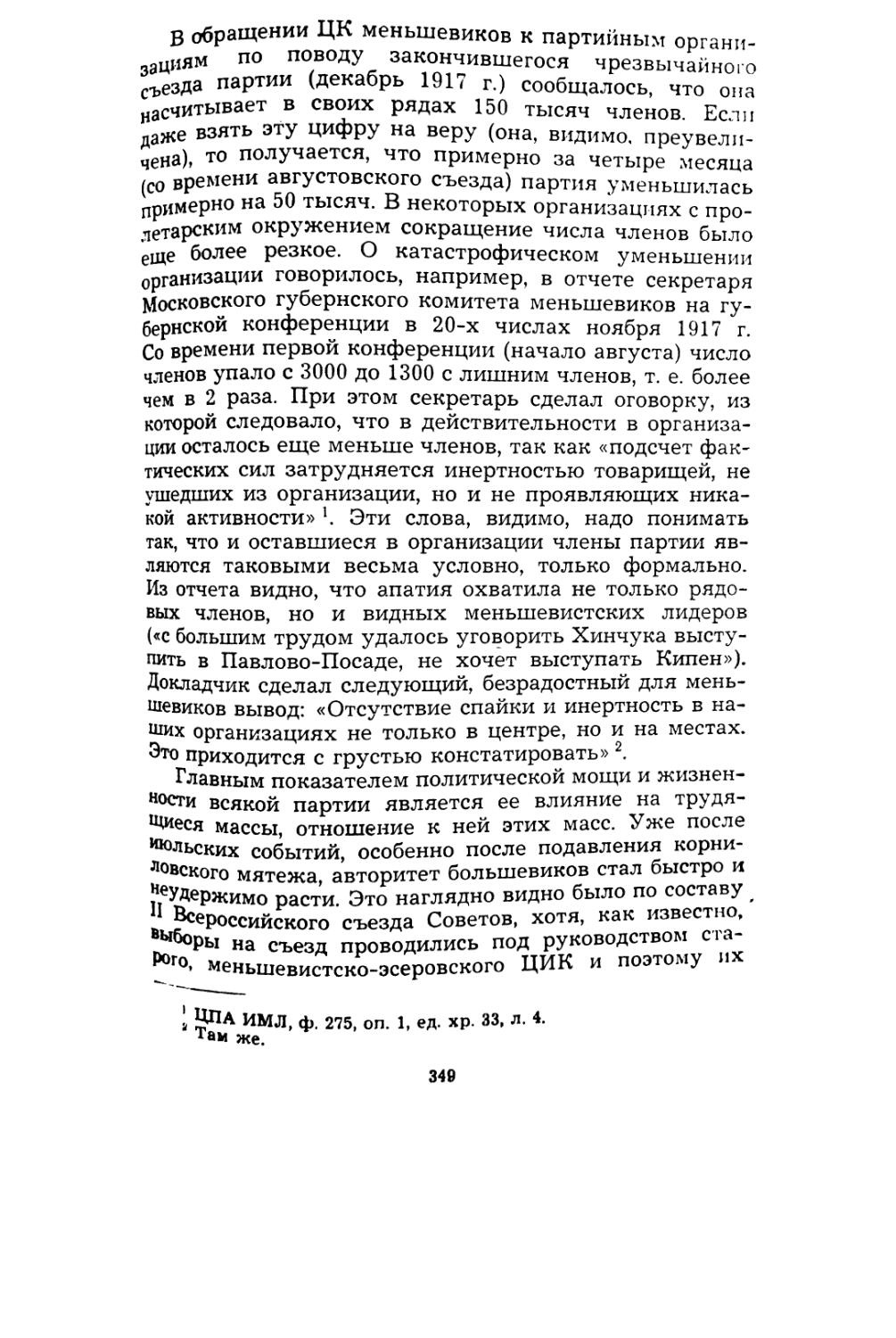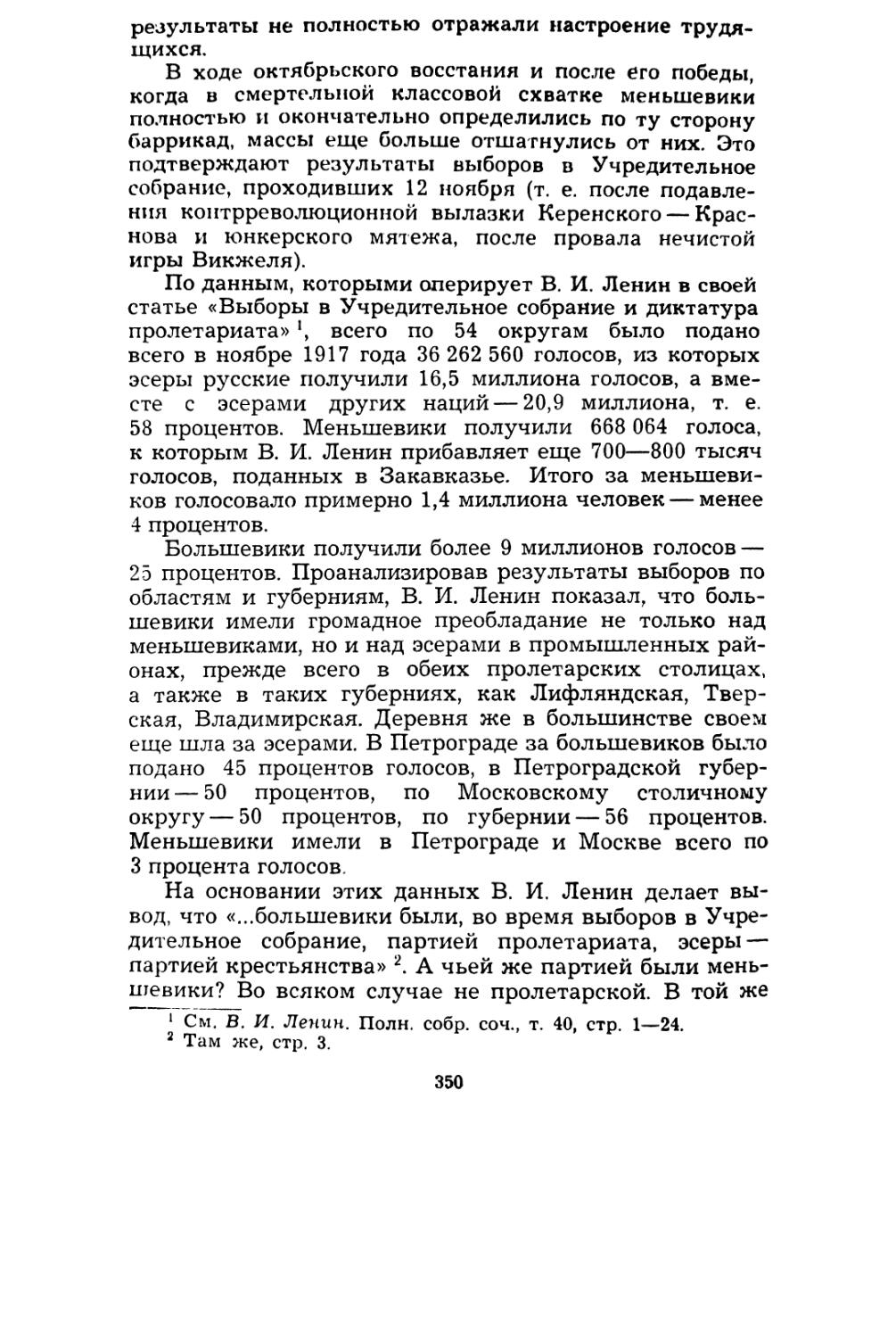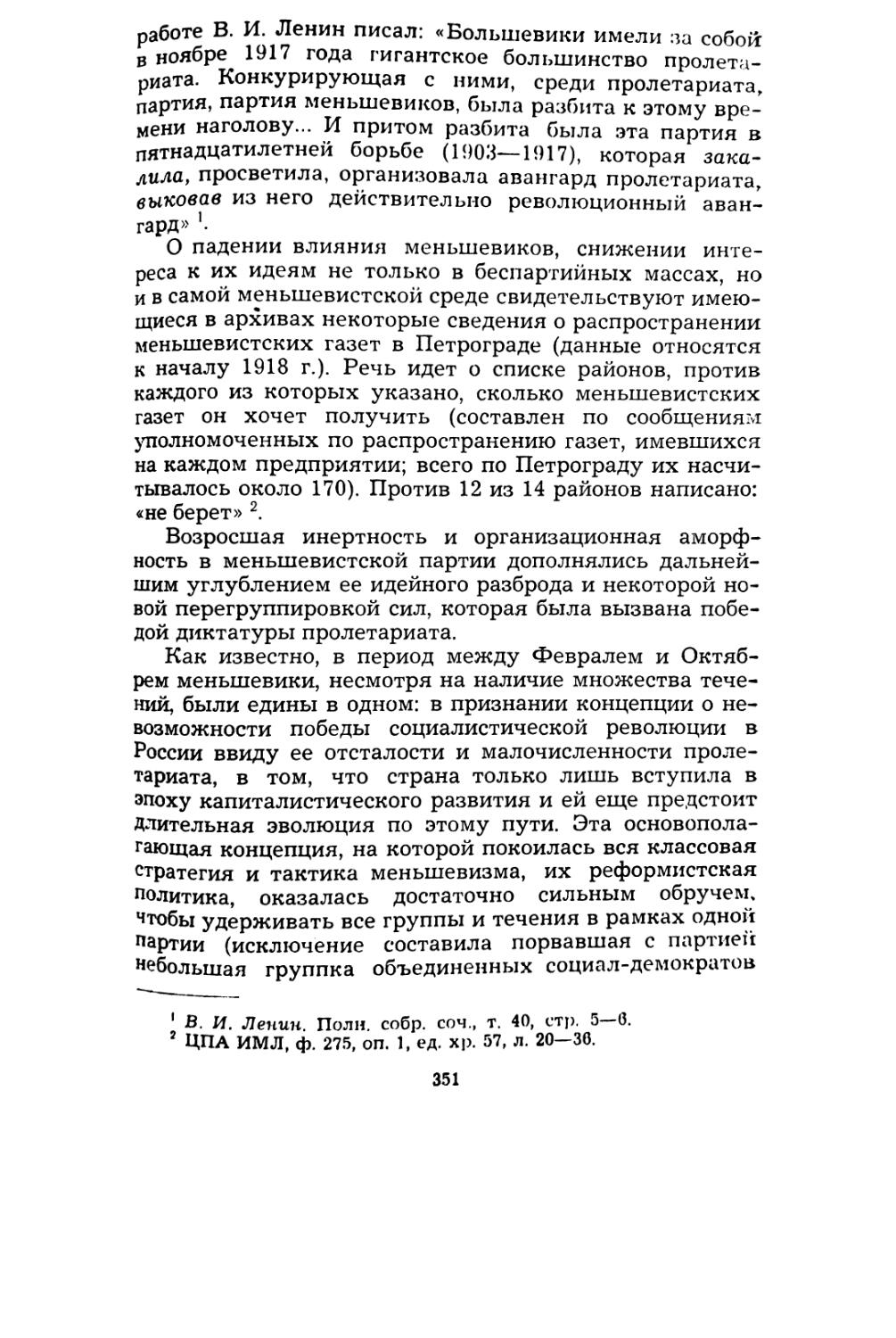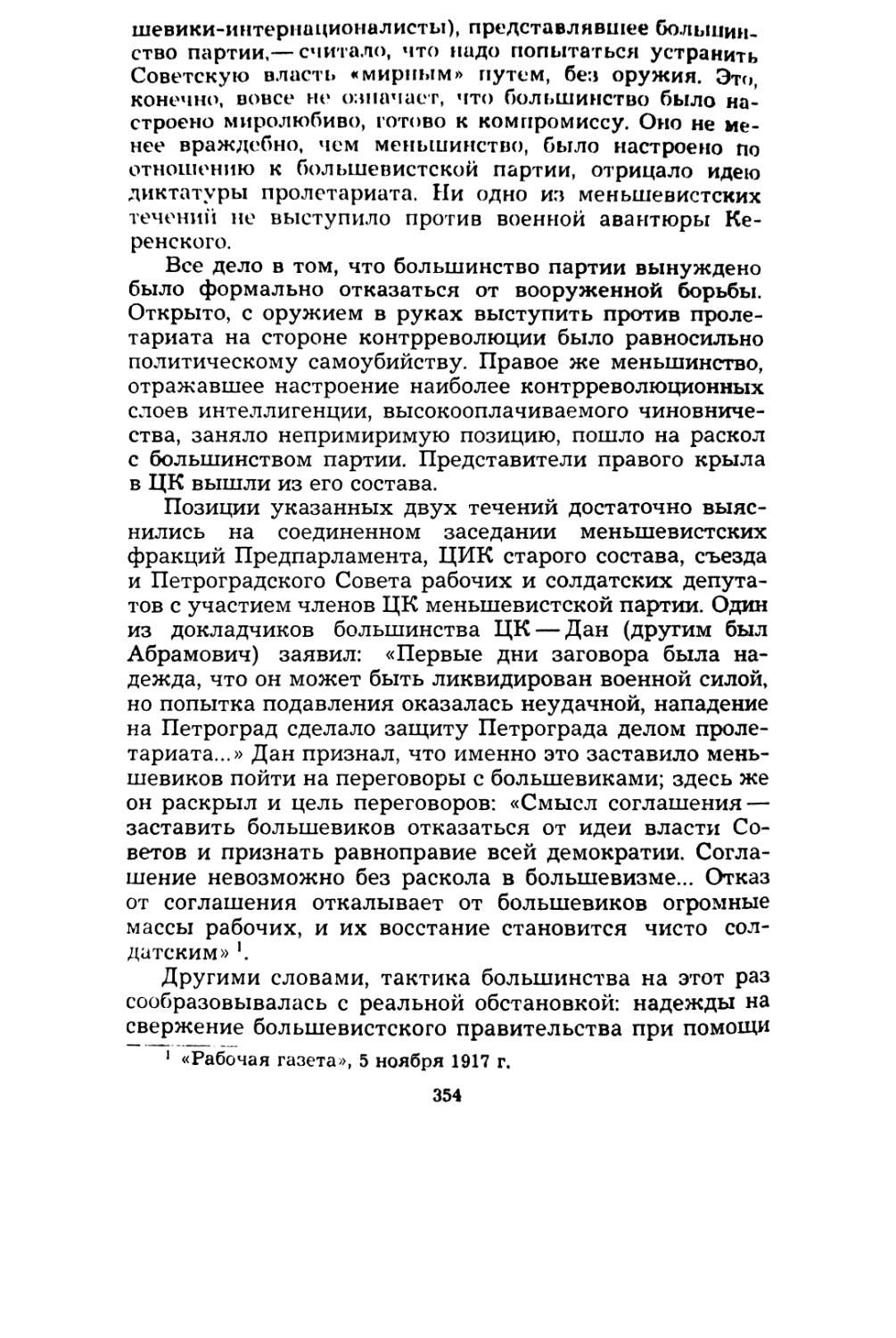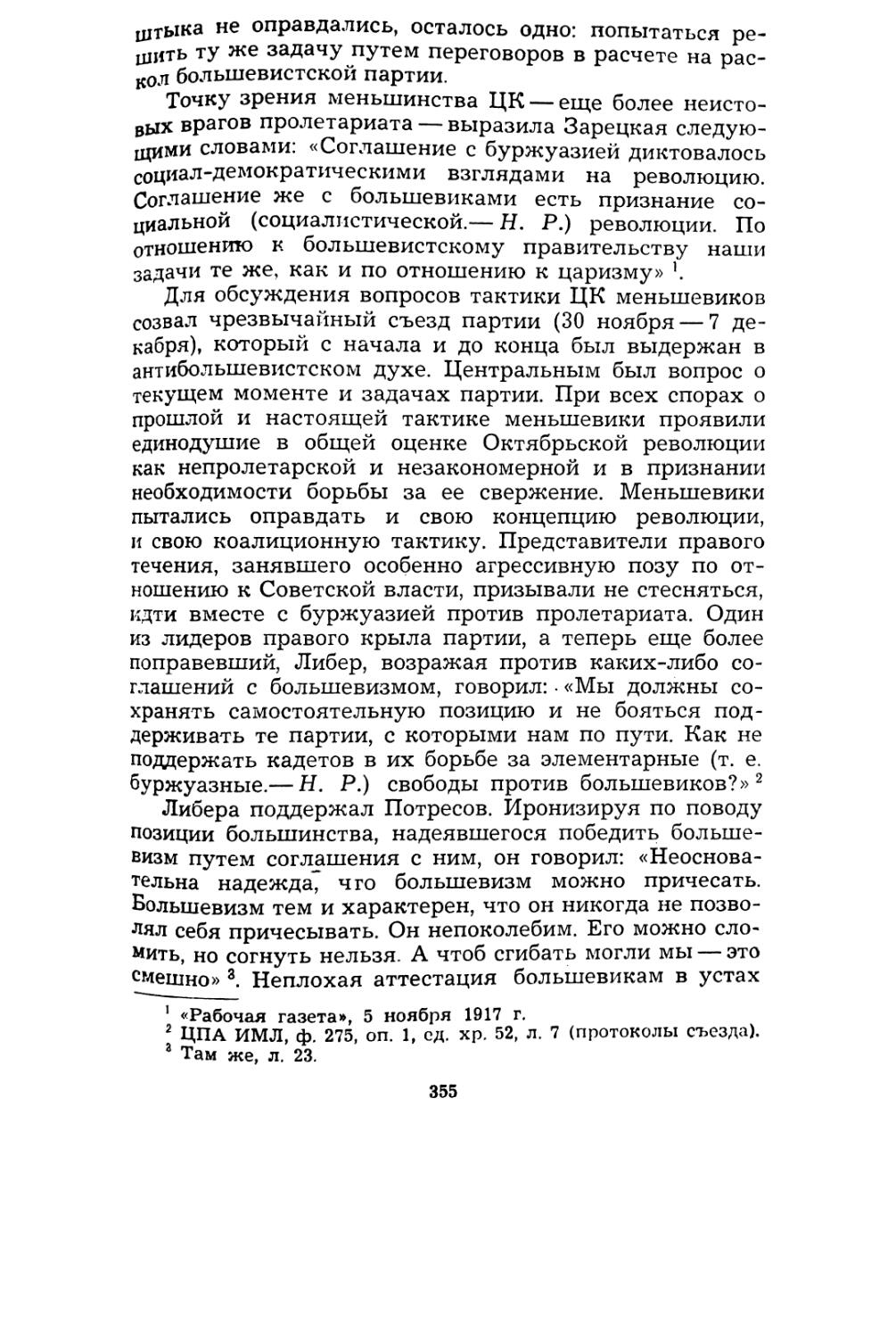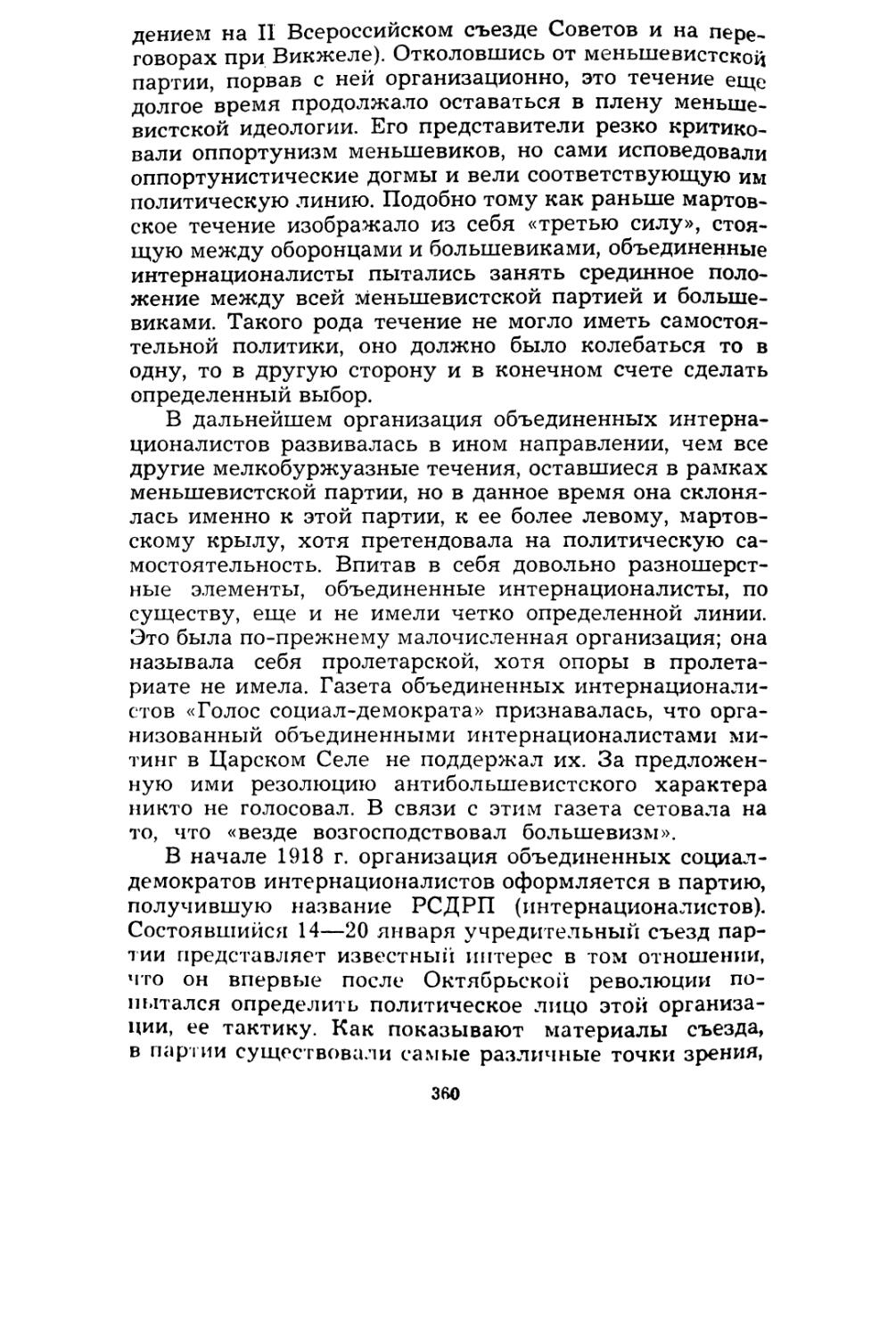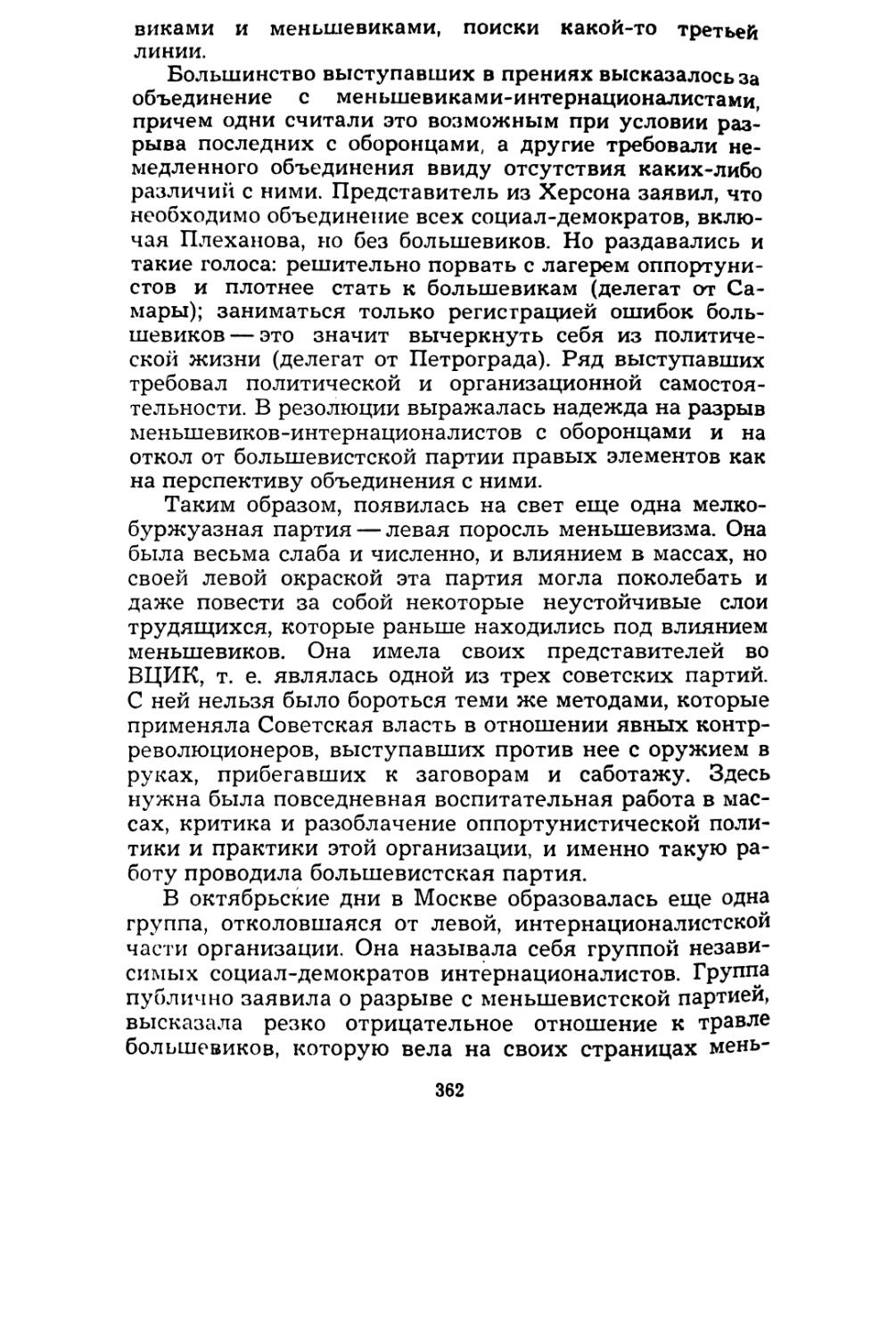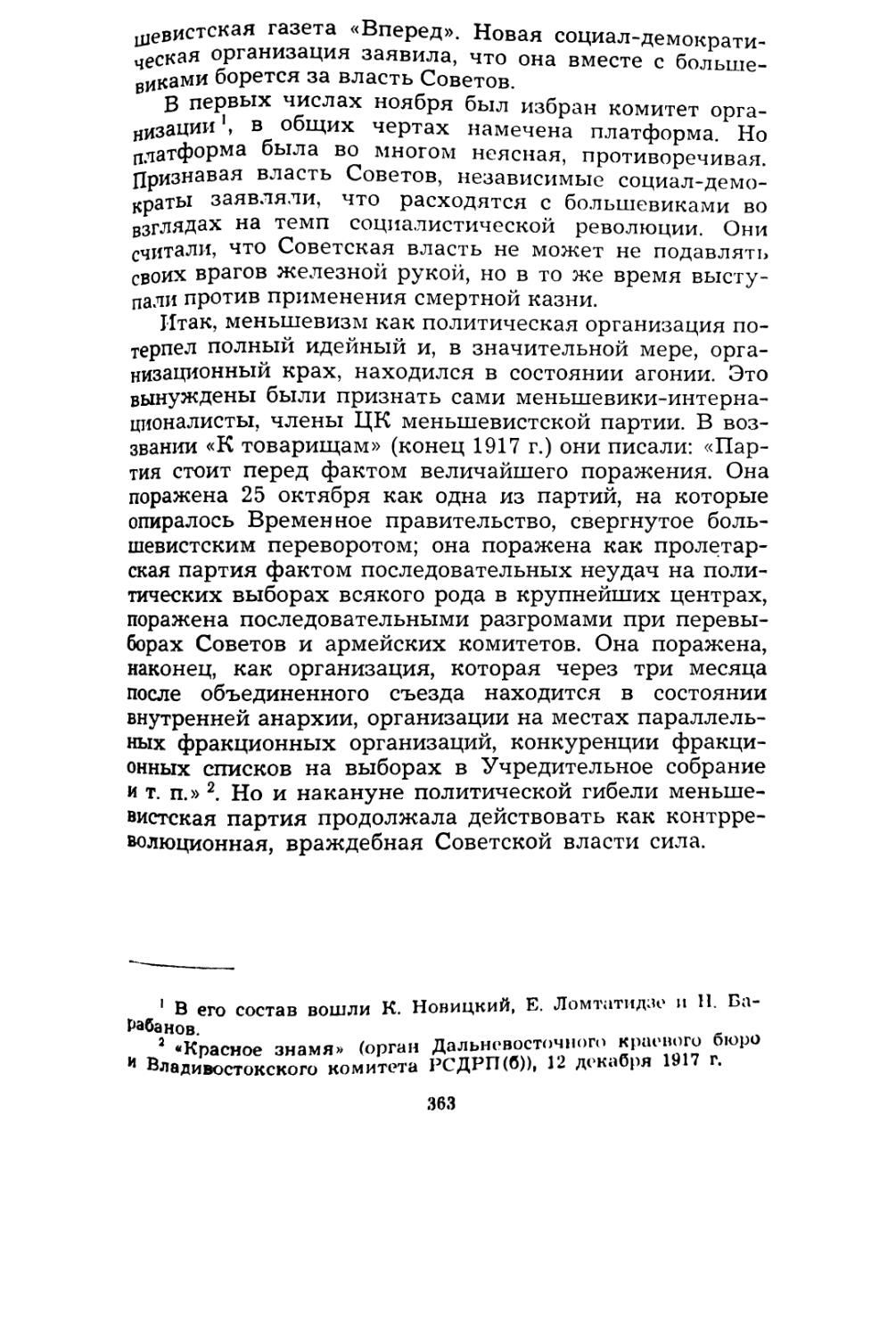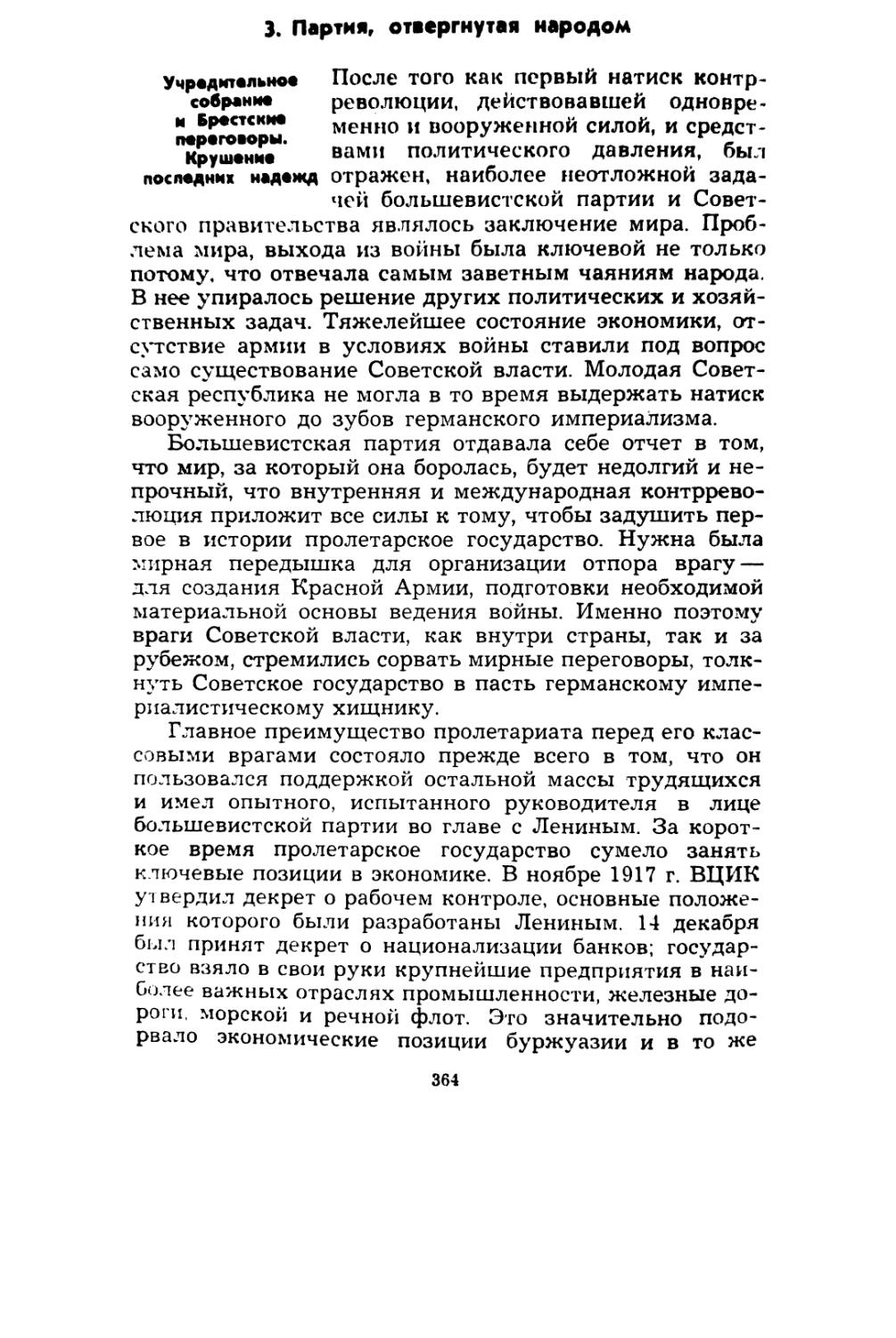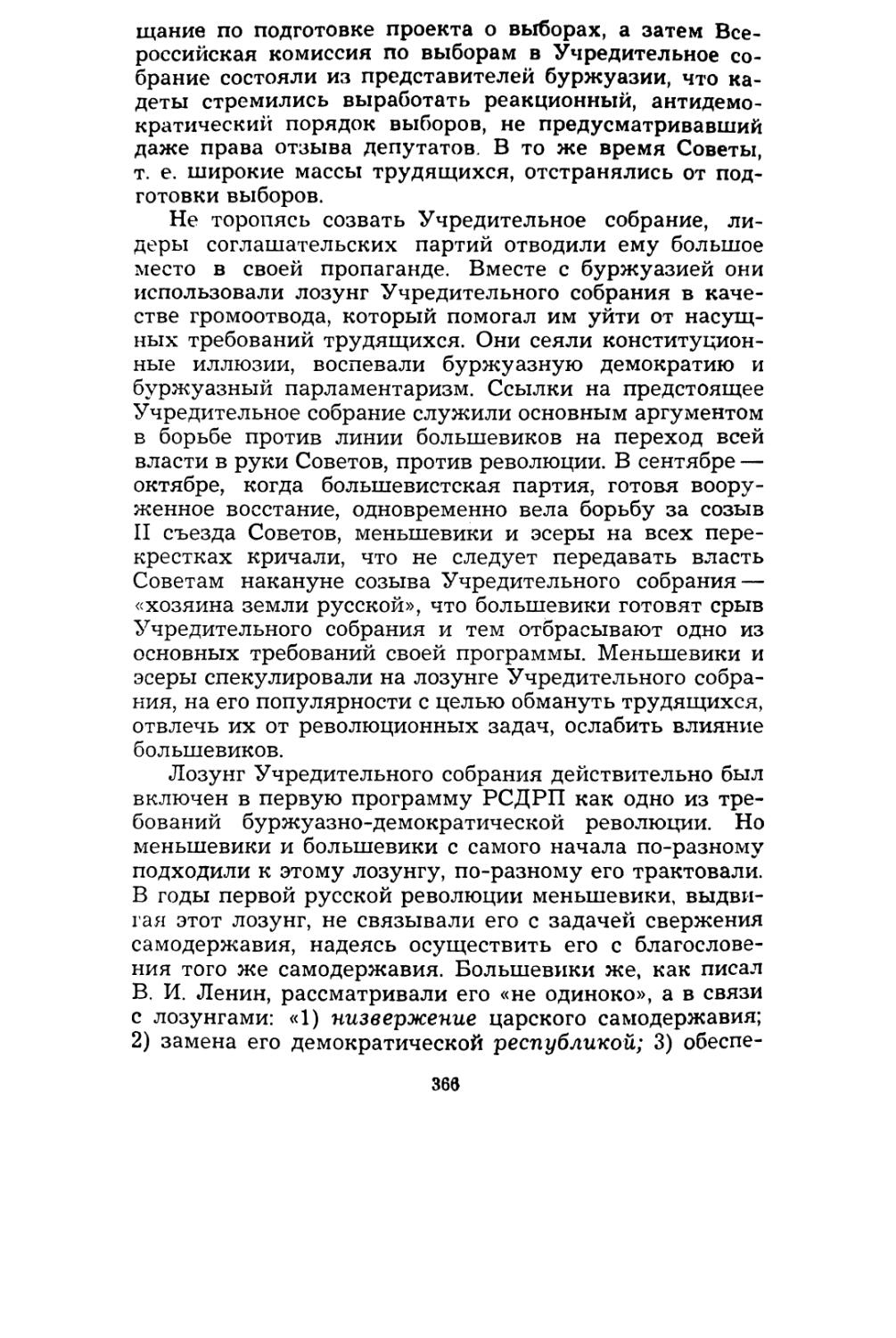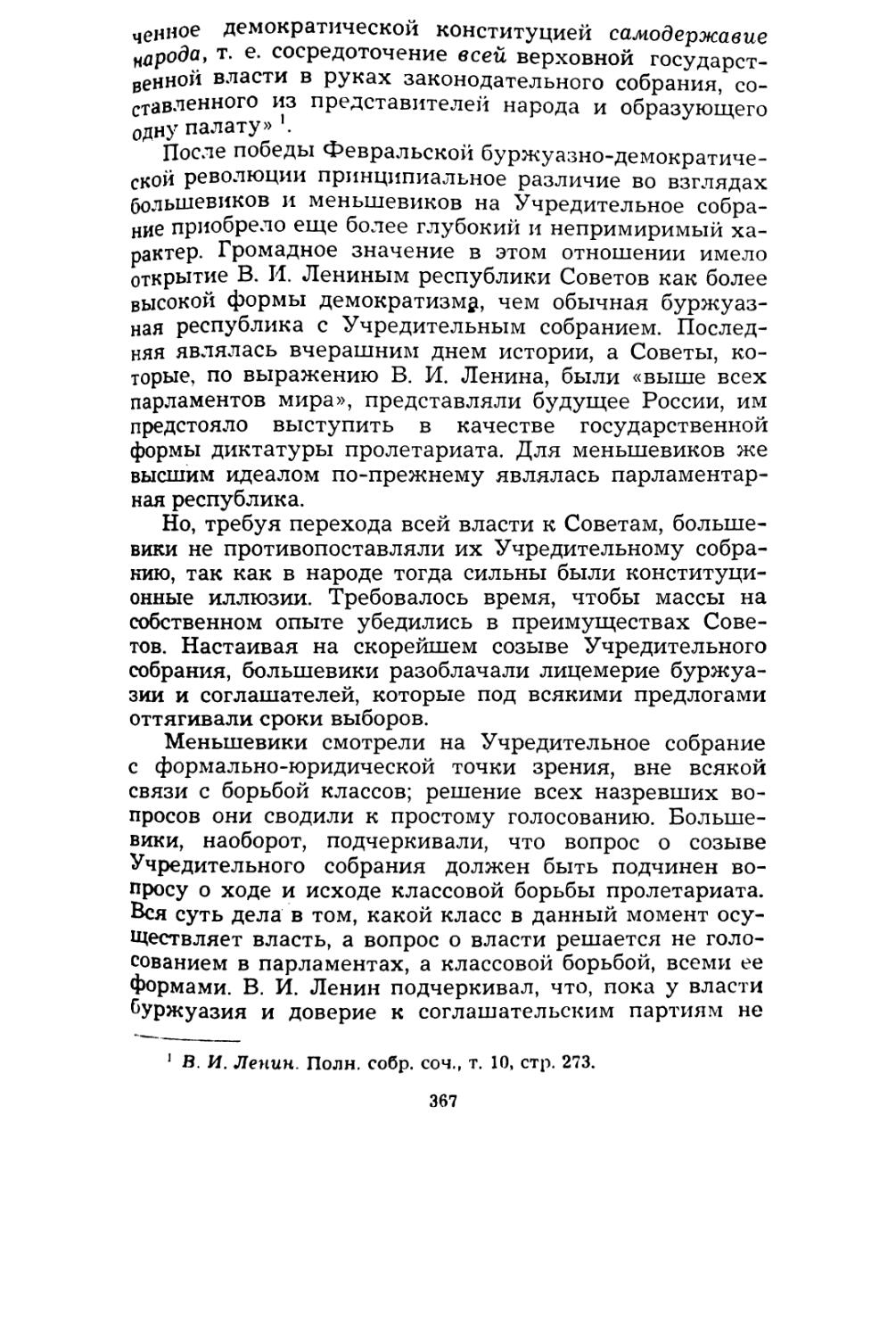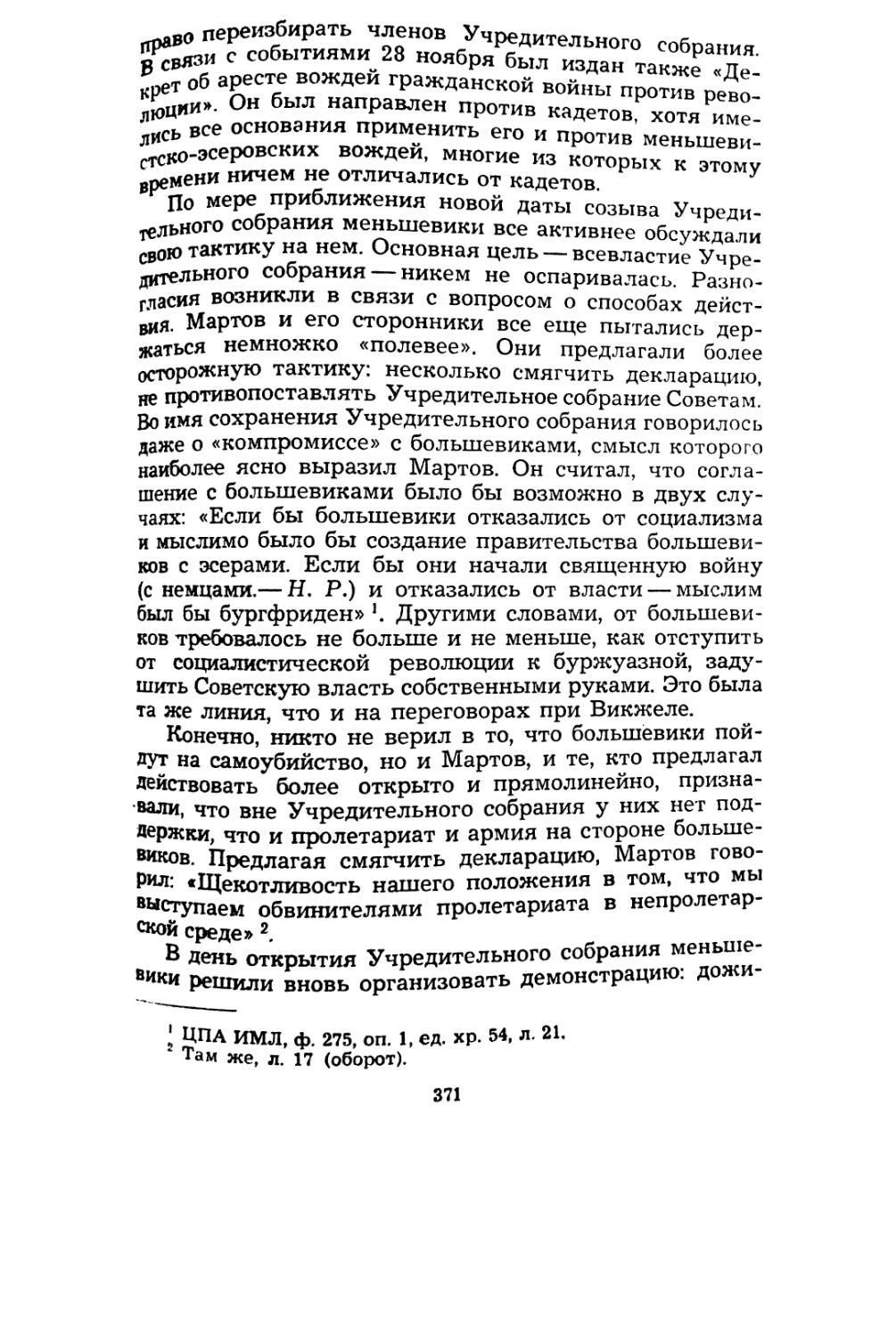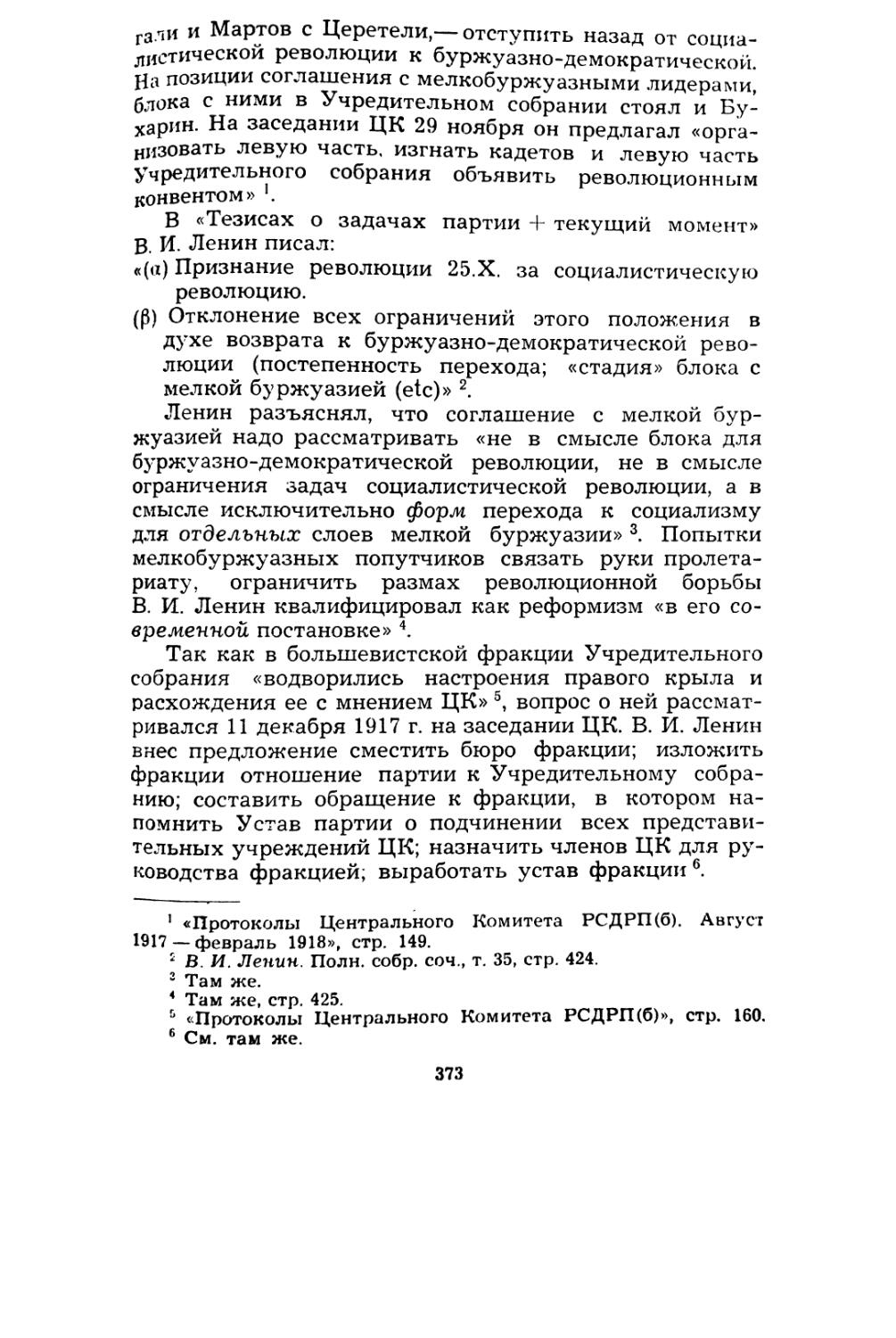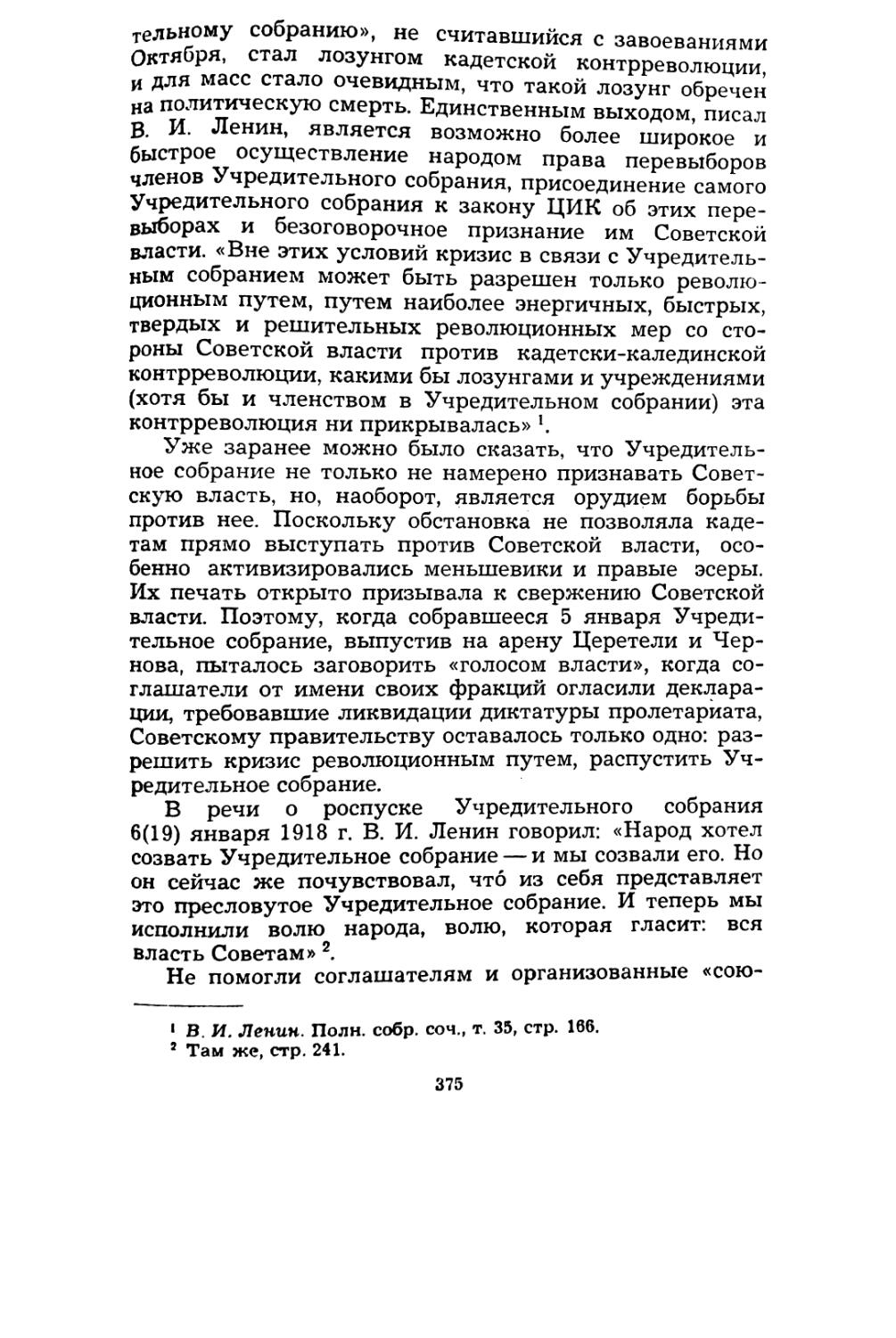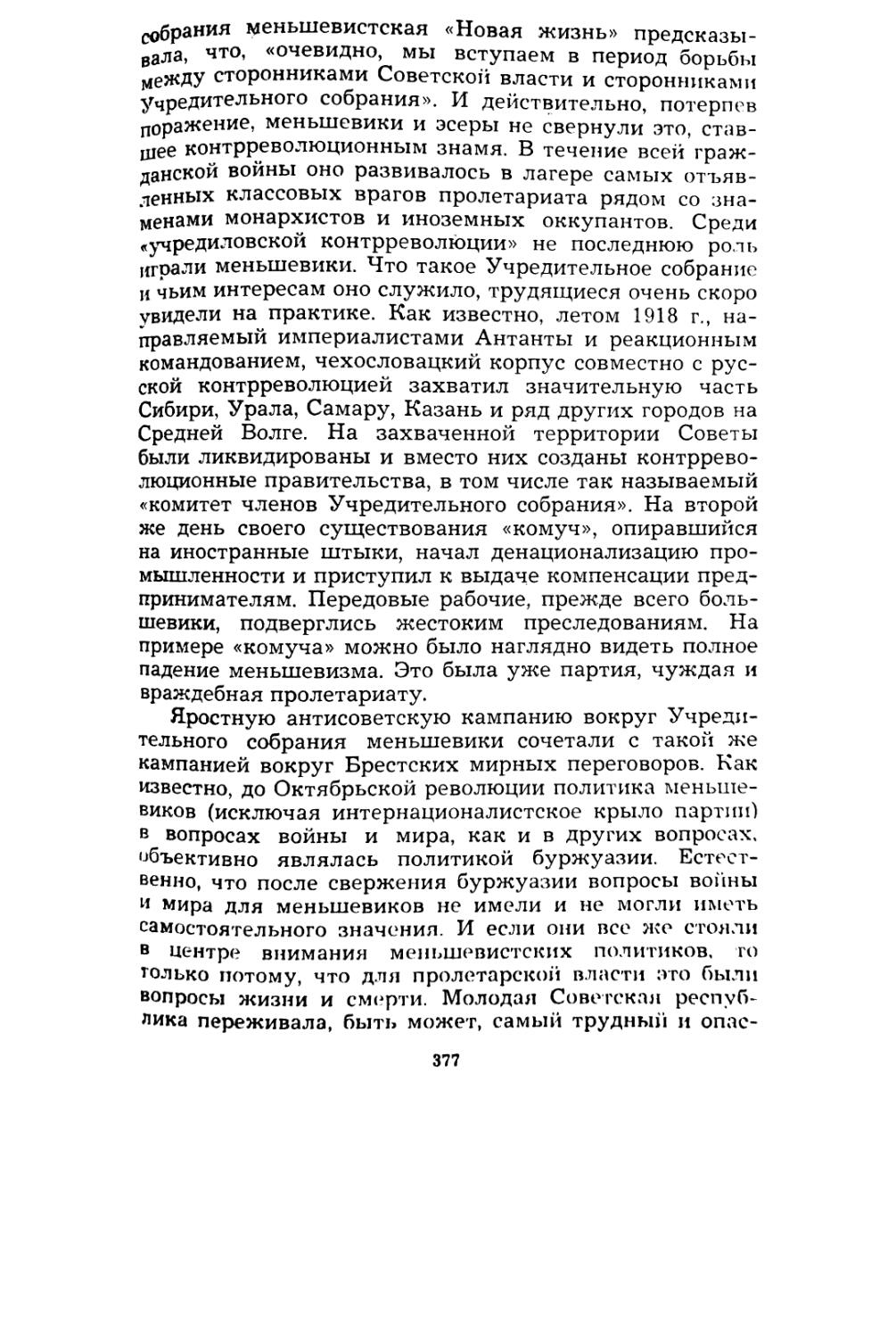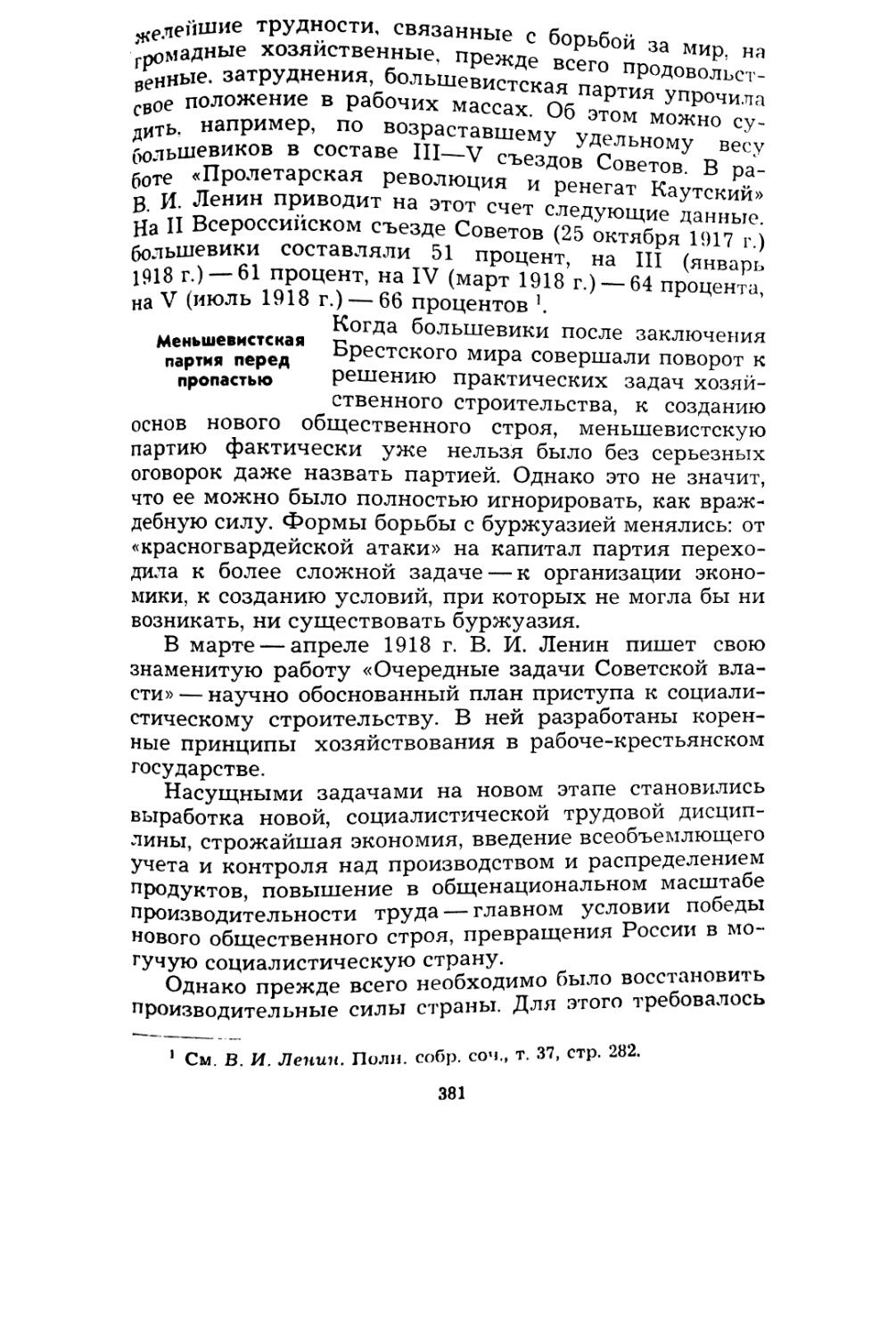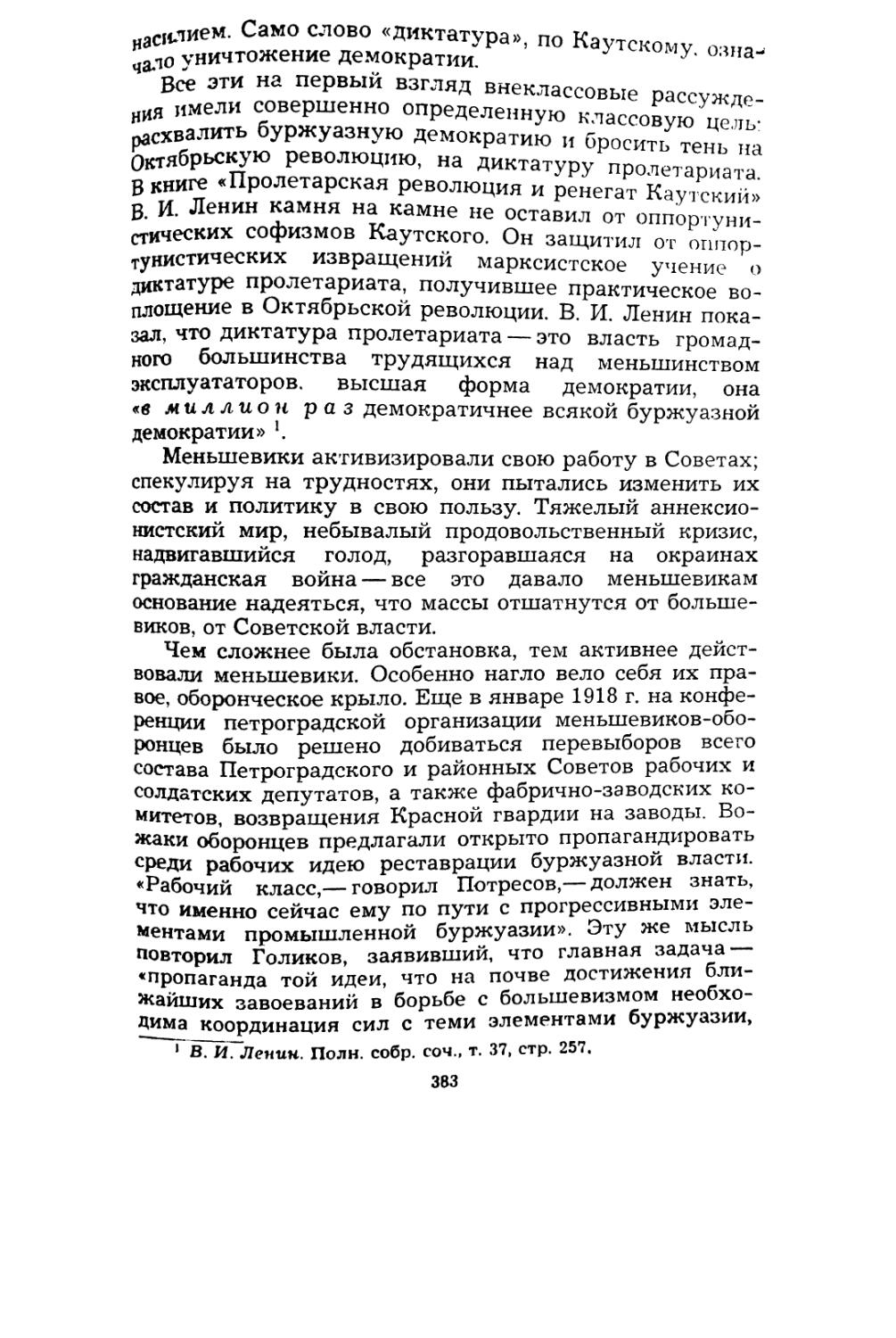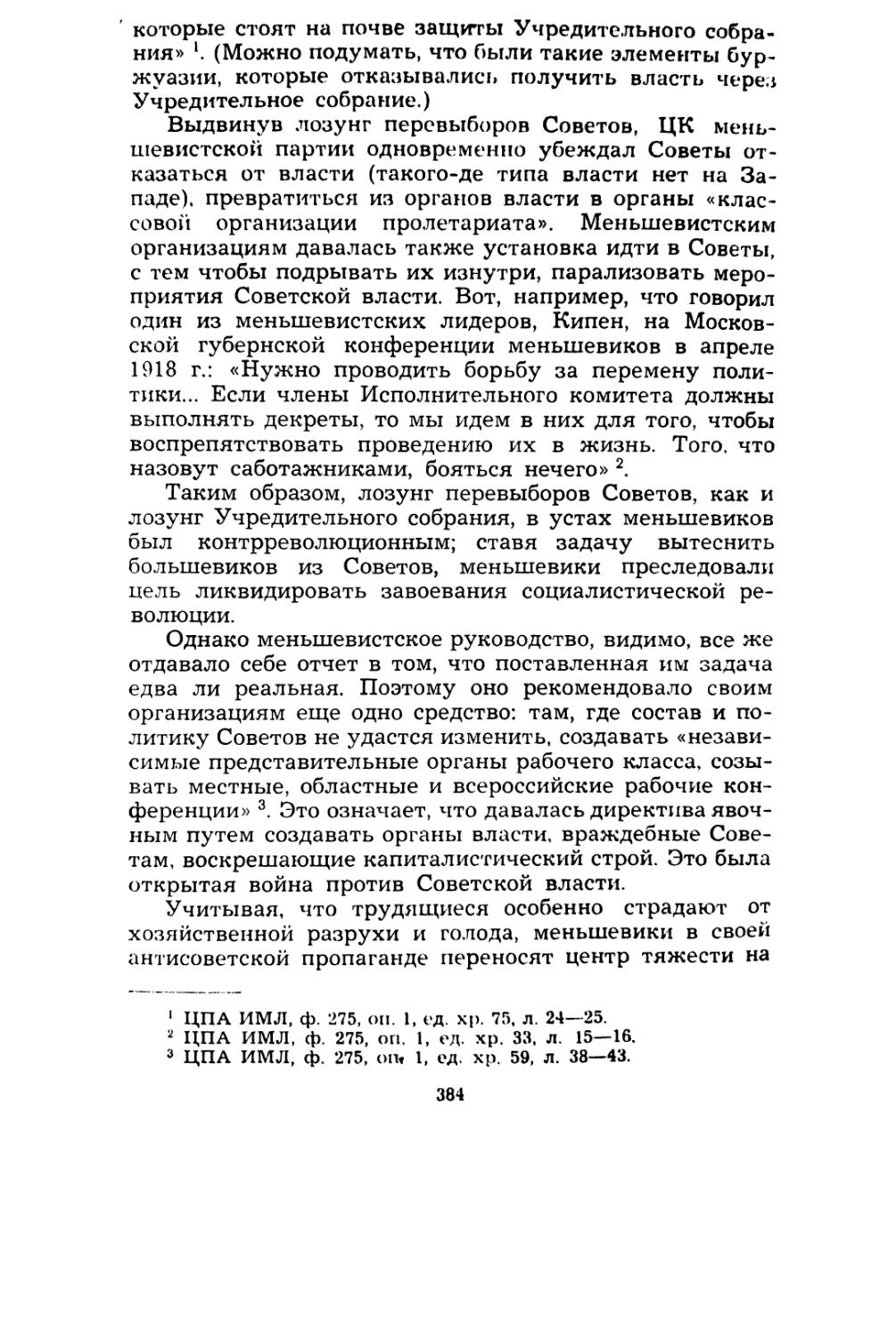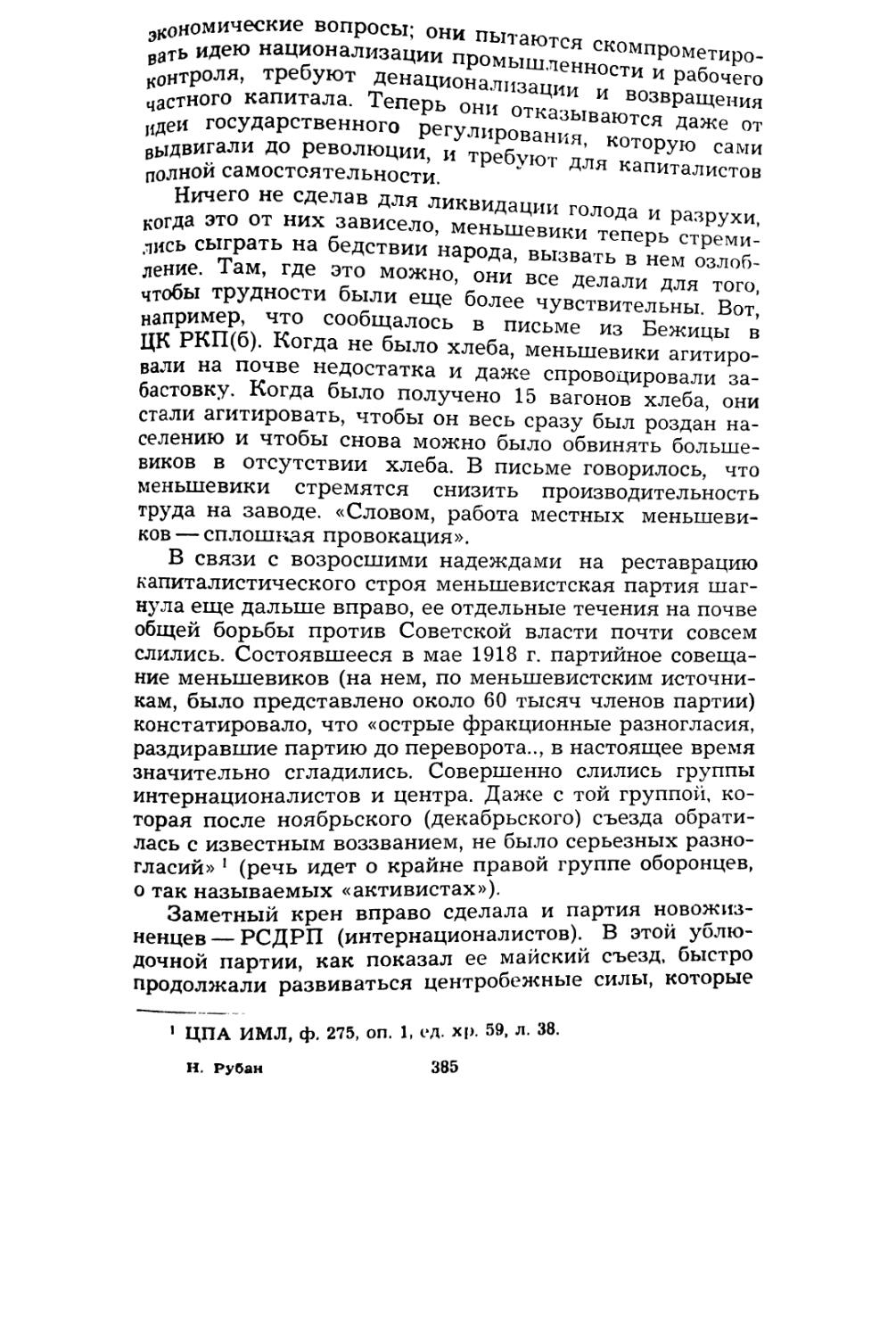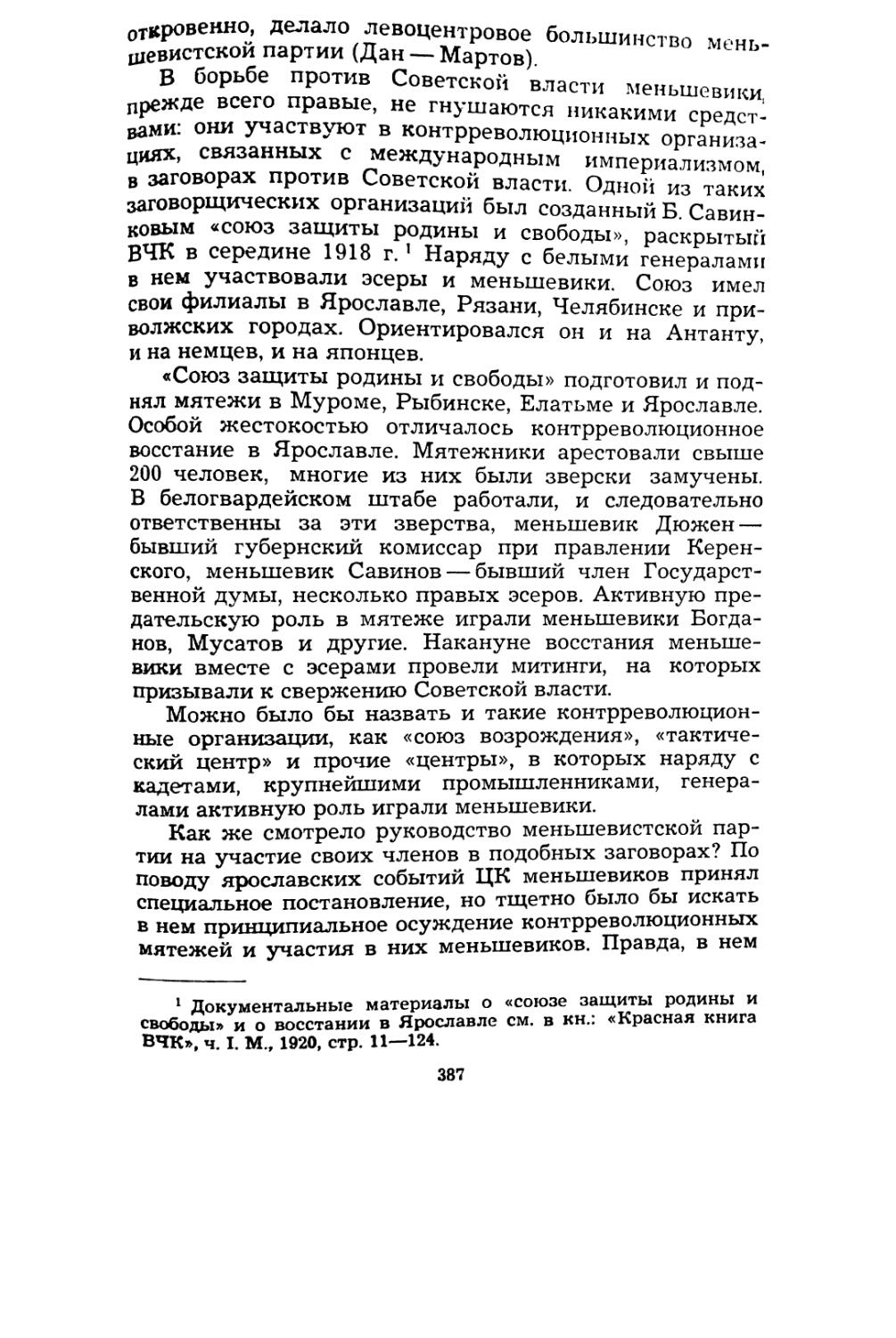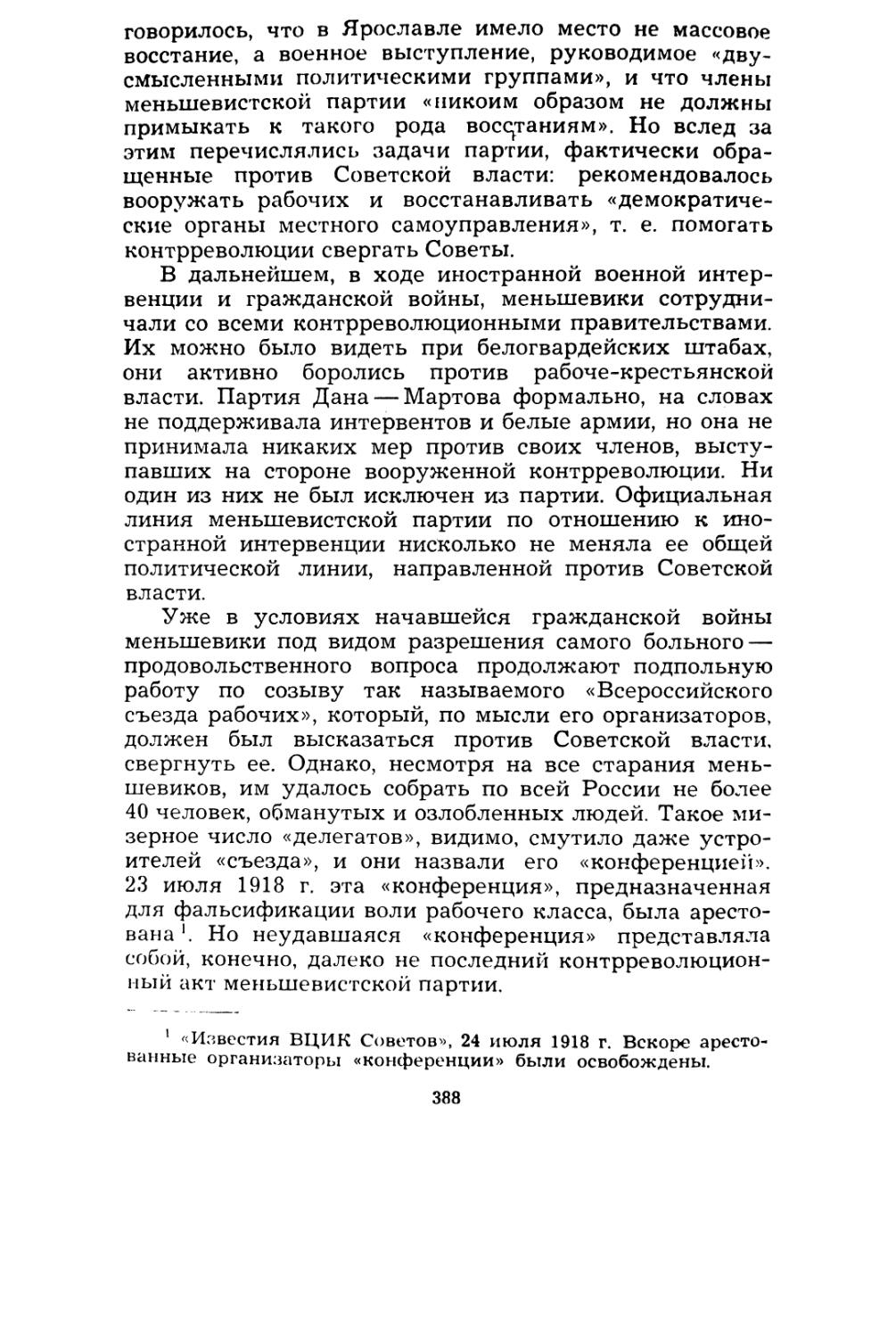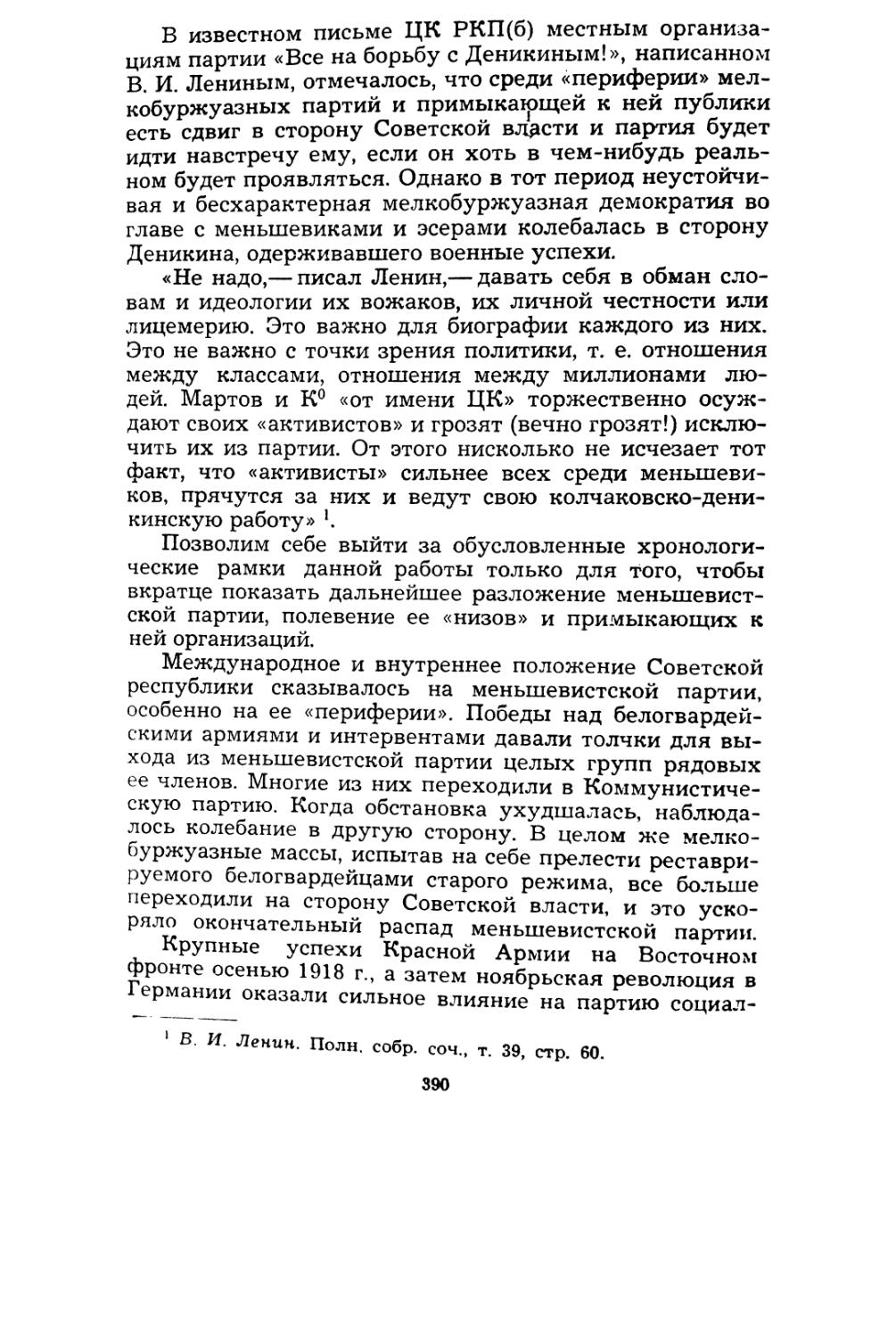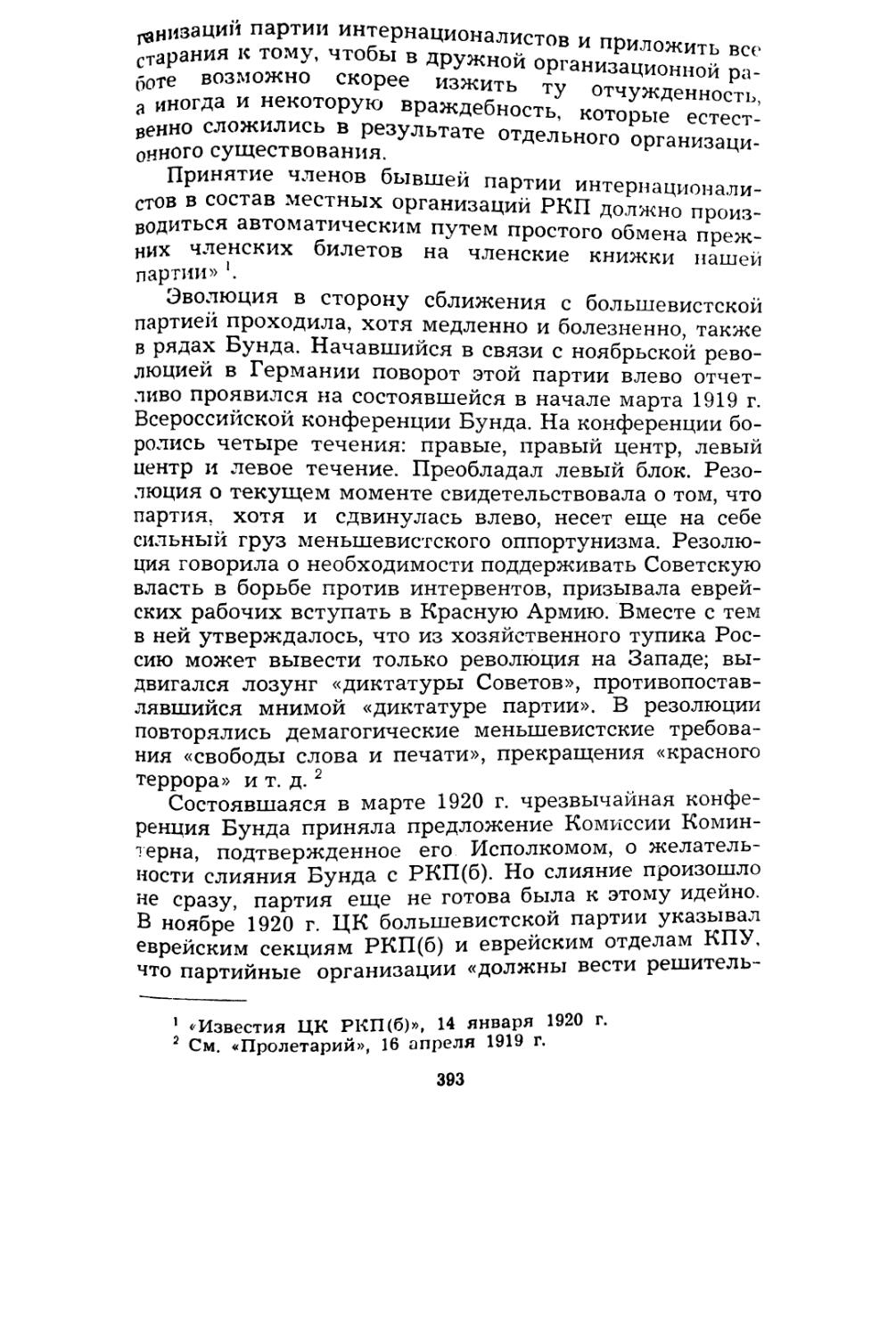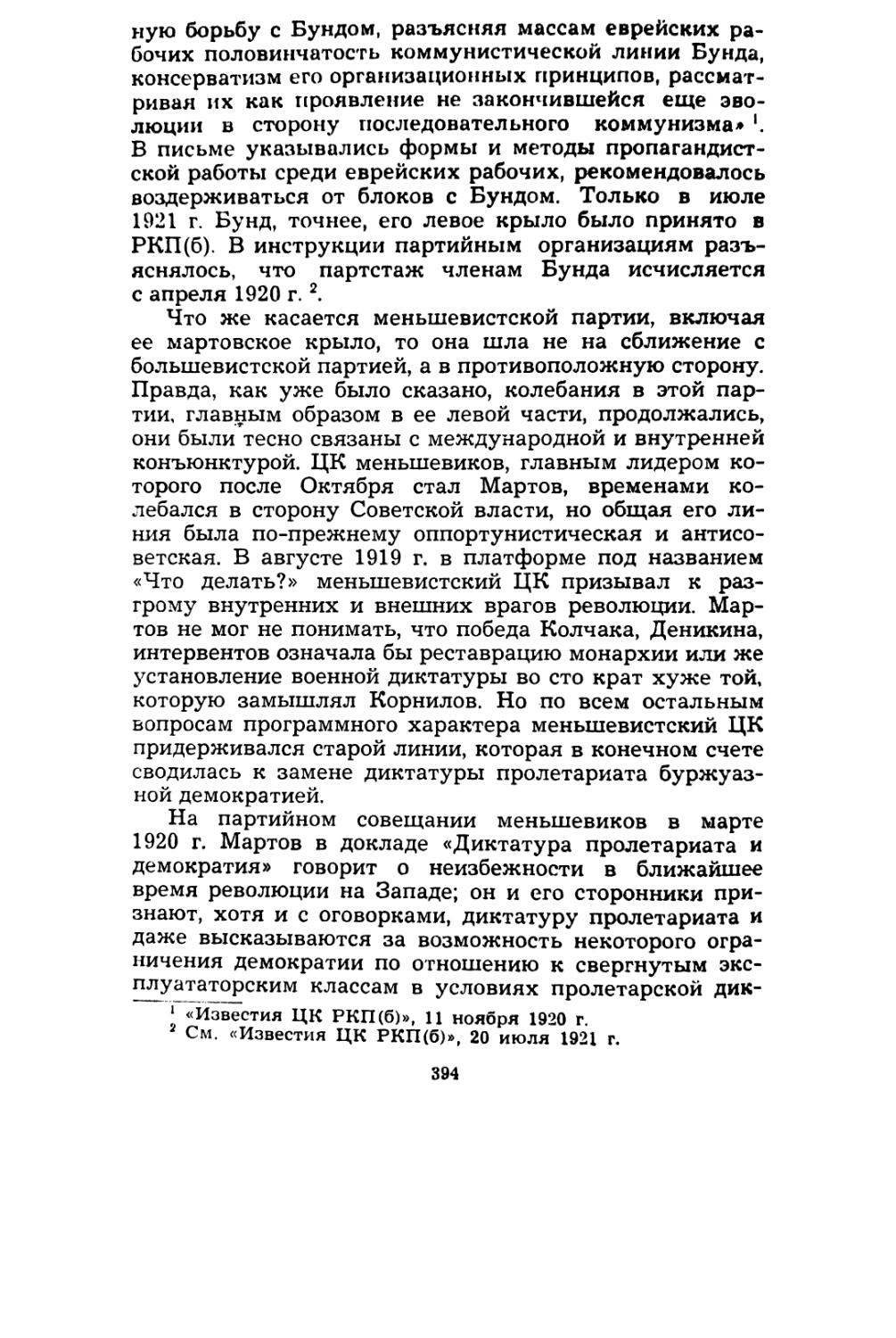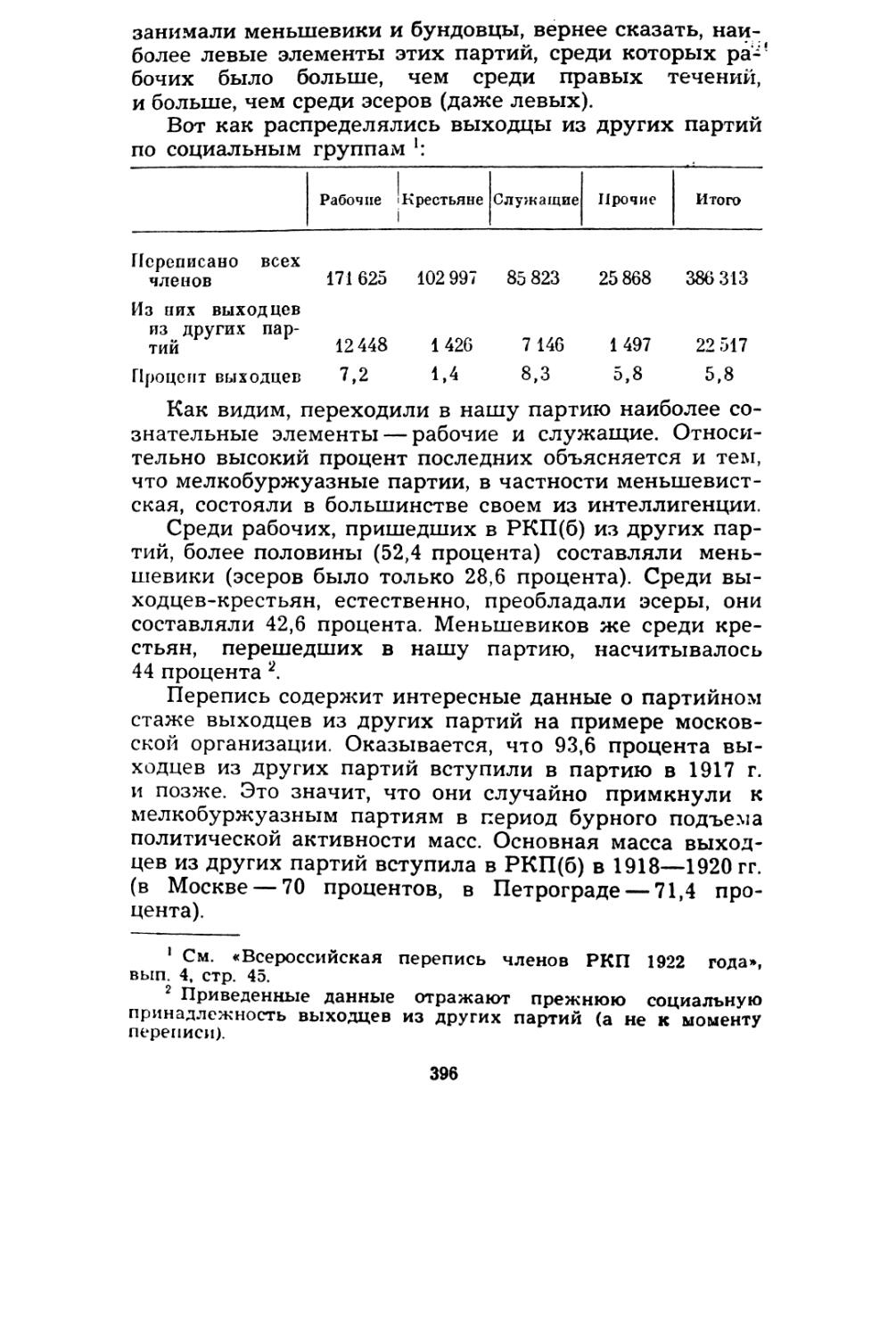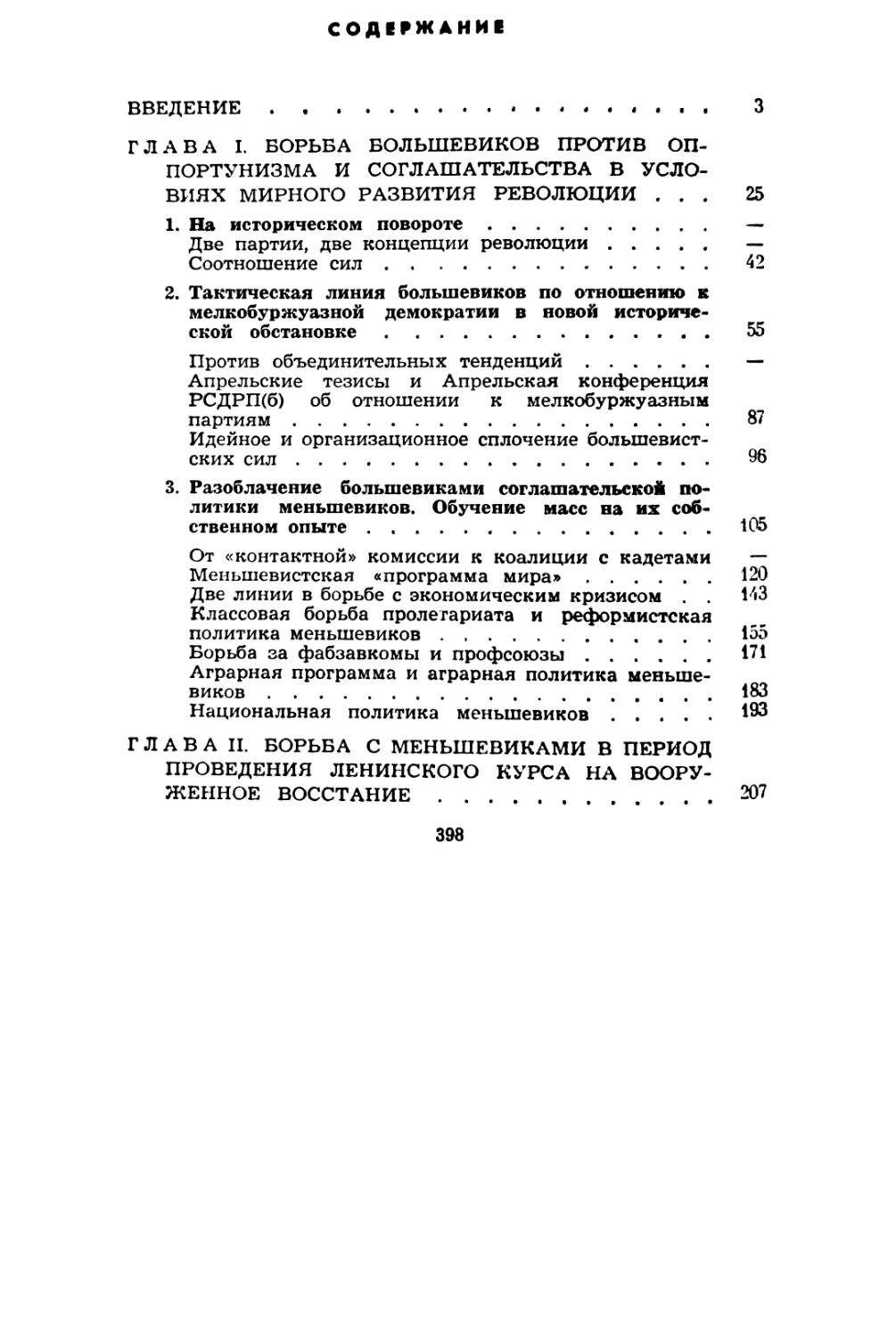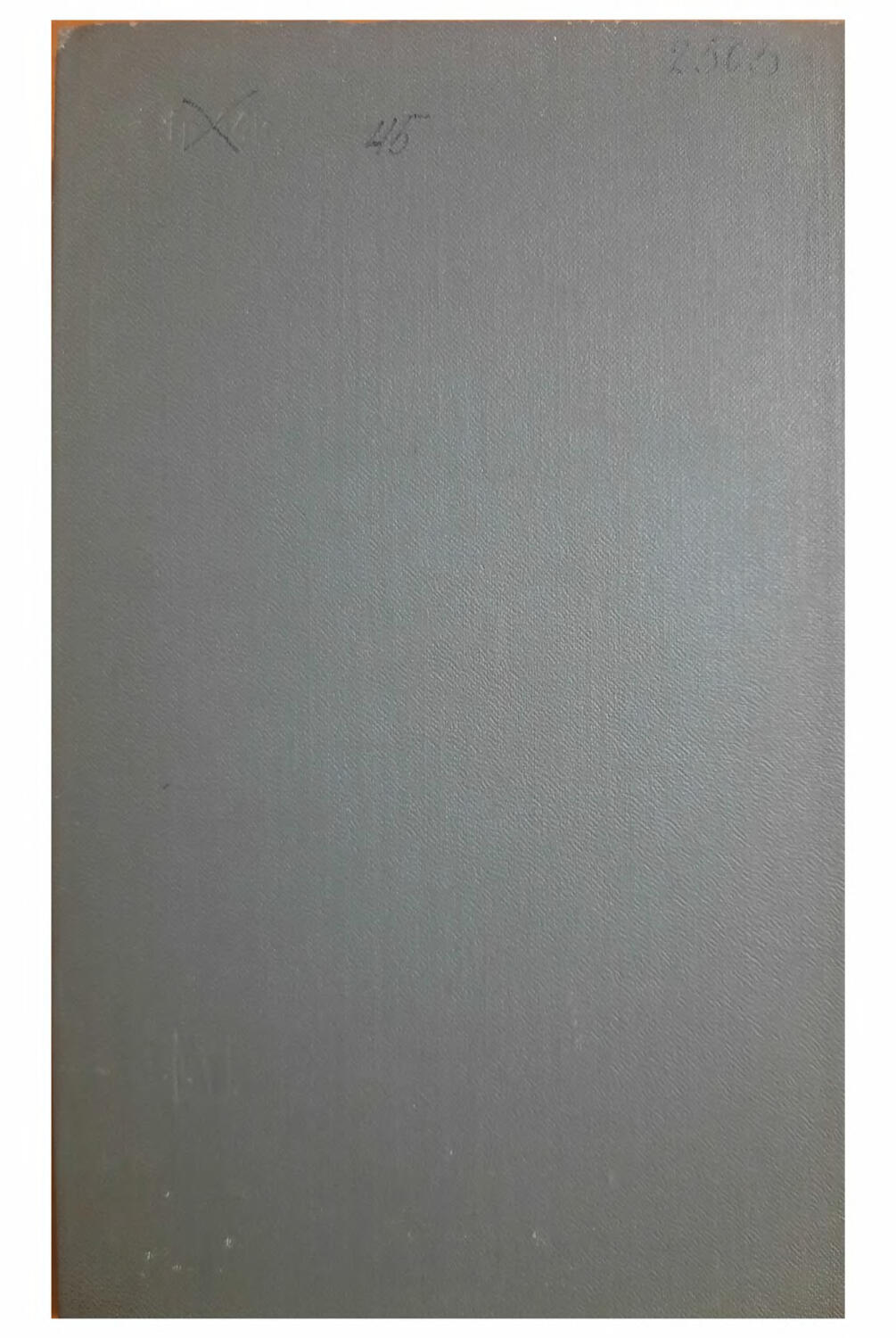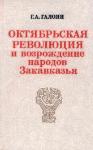Текст
КТЯБРЬСКАЯ
Н.В.РУБ АН
(tct(i)t т
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И КРАХ
МЕНЬШЕВИЗМА
(Март 1917—1918 г.)
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Москва•1968
5КП1-7
Р82
Как и почему меньшевизм сошел с исторической арены раньше других отрядов международного оппортунизма? Почему именно в России впервые было завоевано единство рабочего класса на идейной основе марксизма-ленинизма? Изучение этих вопросов дает возможность более глубоко уяснить историю развития рабочего движения в России, деятельность большевистской партии на различных исторических этапах, раскрыть сущность реформизма и неизбежность его гибели в конкретно-исторических условиях нашей страны.
Разработке этой малоисследованной темы посвящена настоящая монография, написанная доктором исторических наук Н. В. Рубаном. В работе прослеживается борьба в рабочем движении двух линий: революционно-марксистской и оппортунистической — в один из самых бурных периодов в истории нашей партии и страны — в период подготовки и проведения Октябрьской революции и упрочения Советской власти.
Монография написана на основе обширного круга источников: в ней использованы архивные материалы, периодическая печать того времени, научноисторическая и мемуарная литература.
1—2—3 35—67
ВВЕДЕНИЕ
Опыт мирового, в том числе российского, революционного движения показал, что в ходе классовых сражений пролетариату и его марксистско-ленинским партиям приходится одновременно вести упорную борьбу на два фронта внутри самого рабочего движения: против правого оппортунизма и против ультралевой революционности. На различных исторических этапах главную опасность для революции представляла то та, то другая разновидность оппортунизма, причем обе они наносили большой вред рабочему классу, расстраивая и ослабляя его ряды, действуя объективно на руку империалистам.
Имея родственную социальную основу (мелкая буржуазия). правый оппортунизм и ультралевые, анархиствующие течения нередко имели много общего и в лозунгах, и в тактике, по существу, сливались воедино. Появление ультралевых, анархиствующих течений В. И. Ленин объяснял своего рода реакцией на оппортунистические грехи рабочего движения. Одну из причин сравнительно слабого влияния анархизма в мелкобуржуазной России Ленин видел в том, что большевики вели непримиримую борьбу против правого оппортунизма. Он подчеркивал прямую связь оппортунизма в рабочем движении с империализмом, с захватом и грабежом колоний. Ленин убедительно показал это на примере Англии, имевшей уже в середине XIX века громадные колониальные владения и добивавшейся монопольного положения на всемирном рынке. В этой стране раньше, чем в других странах, наметилась тенденция
3
империализма к расколу рабочего класса. Маркс ц Энгельс в течение ряда десятилетий, как это отмечал Ленин, прослеживали связь оппортунизма в рабочем движении с империалистическими особенностями анг— лийского капитализма *.
За счет сверхприбылей, получаемых от грабежа колоний и зависимых стран, империалистическая бураку, азия создает в рабочем классе мелкобуржуазную прослойку, так называемую «рабочую аристократию»___
социальную опору оппортунизма. Носителем оппортунизма является и та часть мелкобуржуазной интеллигенции, которая идет в рабочее движение не из идейных побуждений, а с целью сделать политическую карьеру.
Все более глубокое проникновение оппортунизма в рабочее движение Запада привело к размежеванию во II Интернациоцале; определились три течения: правооппортунистическое, центристское и левое. Лидеры правых — Э. Бернштейн, Г. Фольмар, А. Мильеран, Г. Гайндман, С. Гомперс и др.— стали на путь открытого ревизионизма как в идеологии, так и в политике. Если на практике первое крупное предательство и отступление от революционных основ марксизма совершил А. Мильеран, вошедший в 1899 г. в буржуазное правительство Вальдека Руссо, где в то время восседал и палач Парижской коммуны Галифе, то в ревизии революционной теории пальма первенства бесспорно принадлежит Э. Бернштейну. Под лозунгом «свобода критики» он открыл атаки на марксизм.
Исследуя истоки оппортунизма и многообразие его проявлений, Ленин отмечал, что ревизионизм, так называемое «новое, критическое» направление, прямо был перенесен из буржуазной в социалистическую литературу. В книге Э. Бернштейна «Предпосылки социализма и задачи социал-демократов» (вышла в свет в 1899 г.) попраны коренные положения революционной марксистской ^теории: идея классовой борьбы, учение о пролетарской революции и диктатуре пролетариата. Здесь были заложены основы реформистской идеологии, которую потом взяли на вооружение правые оппортунисты, в тохм числе меньшевики.
Лидеры центра, официальные вожди II Интернацио-
1 См. В. И. Ленин. Поли. соор, соч., т. 27, стр. 405.
4
нала — К. Каутский, А. Тома, О. Бауэр и др.,— на словах осуждали бернштейнианцев, на деле не шли на разрыв с ними. Во имя «мира» в партии К. Каутский и К0 жертвовали принципами, делали уступки открытому оппортунизму в основном и главном и постепенно сами сползали с марксистских позиций. Практика показала, что центризм есть тот же оппортунизм, но завуалированный, прикрытый марксистской фразеологией.
Что касается левых течений в западноевропейской социал-демократии — германские левые социал-демократы, болгарские «тесняки», левые в Британской социалистической партии и др.,— которые вели борьбу против оппортунизма, то они в тот период были слабы, недостаточно оформлены организационно, чтобы преградить ему путь, не дать возможности этой злокачественной опухоли разрастись и поразить значительные слои рабочего класса.
В этих условиях правый оппортунизм постепенно брал верх в социал-демократических партиях Запада, и II Интернационал неудержимо катился к своему краху. Это и неудивительно. Интернационал, т. е. международное объединение рабочих в лице их партий, нужен для совместной классовой борьбы против международной буржуазии, между тем идея классовой борьбы была выброшена за борт. Противоречия между отдельными капиталистическими странами и группами стран, неизбежные в условиях империализма, привели при первом же мировом военном конфликте к распаду Интернационала. С начала войны правооппортунистические лидеры социал-демократических партий отреклись от идеи пролетарского интернационализма и скатились в болото национализма, шовинизма.
После того как II Интернационал потерпел крах, особенно после победы Великой Октябрьской социалистической революции, подтвердившей правоту теории революционного марксизма, позиции оппортунизма были сильно подорваны. Начавшемуся общему кризису капитализма сопутствует кризис реформизма, правого оппортунизма. Он выражается в растущем расслоении социал-демократии, усилении ее левого крыла, переходе в лагерь буржуазии ее правых элементов, главным идейным оружием которых становится воинствующий антикоммунизм.
5
Но раскол в рабочем движении капиталистических стран еще не преодолен, он продолжает висеть тяжелой гирей на ногах пролетариата, расслабляя ряды борцов против империализма, требуя от них лишних жертв. Единство международного рабочего движения, сплочение пролетариата под знаменем марксизма-ленинизма— Одна из важнейших проблем современности.
Опыт рабочего движения в России, ~ где полвека назад впервые потерпел полный идейно-политический крах оппортунизм и был преодолен раскол в рабочем движении, бесценен и в наши дни. Буржуазные и правосоциалистические пропагандисты немало извели чернил, пытаясь представить дело таким образом, будто меньшевики, а также и другие мелкобуржуазные партии были ликвидированы после Октябрьской революции при помощи... ЧК. Факты начисто отметают эту заведомую ложь. Меньшевики еще до Октября остались без масс, а для политической партии это и означает ее гибель. Именно то обстоятельство, что перед штурмом капитализма пролетариат был тесно сплочен вокруг партии большевиков, что за ним пошли широкие массы трудящихся, придало Октябрьской социалистической революции глубоко народный характер, явилось одним из решающих условий ее победы. «Социалистическая революция — не заговор, не верхушечный переворот, совершаемый группой «активных революционеров», а движение и борьба миллионов во главе с рабочим классом, руководимых марксистско-ленинской партией» *.
Как и почему меньшевизм потерпел банкротство и сошел с исторической арены раньше других отрядов международного оппортунизма?
Изучение этого вопроса дает возможность более глу-ооко и всесторонне уяснить историю развития рабочего движения в России, деятельность большевистской партии на различных исторических этапах, раскрыть сущность реформизма и неизбежность его гибели в конкрет-но-историчееких условиях нашей страны.
еныпевизм как реформистское течение в россия-
нин ®еликои Октябрьской социалистической револЮ'
м , 1967 стр 8ВЛеНИе Плен^1а ЦК КПСС. Тезисы ЦК КПСС».
6
ском рабочем движении возник и развивался в условиях, несколько отличных от тех, что сложились на Западе, в развитых капиталистических странах. Он зародился (вначале в виде «экономизма») в то время, когда центр мирового революционного движения перемещался в Россию, стоявшую накануне острых классовых битв. Тогда еще только складывалась марксистская пролетарская партия, но революционная социал-демократия во главе с В. И. Лениным уже представляла большую силу в рабочем движении, и она вела непримиримую борьбу против оппортунизма. Еще до II съезда РСДРП, положившего начало большевизму как политическому течению и как партии, между революционной социал-демократией и оппортунистами произошло идейное размежевание. Это облегчило борьбу против оппортунизма на самом съезде и после него, выработку последовательно революционной программы и организационных принципов.
Как известно, непосредственная причина раскола на съезде — разногласия в вопросах организационных, но на деле причины были более глубокими: речь шла о самом характере создаваемой партии. Могучим катализатором, ускорившим завершение раскола, явилась первая русская революция. Водораздел между революционной и оппортунистической частями партии прошел также в вопросах политической стратегии и программы партии. Уже в период III съезда РСДРП В. И. Ленин имел все основания говорить о наличии двух партий в рабочем движении. И именно то обстоятельство, что в России возникла марксистско-ленинская партия нового типа, которая сразу же повела массы по пути революционного действия, предопределило неизбежную гибель меньшевизма. Последовательная принципиальная борьба большевистской партии против оппортунизма несомненно была главным и решающим условием его поражения и завоевания единства рабочего класса. До 1912 г. большевики и меньшевики значительное время находились формально под общей крышей, в одной партии, но идейные противоречия и идейная борьба между ними никогда не прекращались. Прилагая все силы к достижению единства рабочего класса, большевики всегда исходили из того, что подлинное единство нельзя обеспечить путем уступок оппортунизму в прин-
7
пипиальных вопросах теории и политики. Как показал печальный опыт II Интернационала, оппортунизм взял верх в нем именно потому, что центристские вожди Интернационала поступались революционными принципами во имя «мира» в партии. В. И. Ленин писал*. «Единство партии нам в высшей степени дорого. Но чистота принципов революционной социал-демократии для нас дороже»
Для правильного понимания хода и исхода борьбы большевистской партии против реформизма следует иметь в виду некоторые особенности социально-экономического развития России. Речь идет прежде всего о громадном преобладании в составе ее населения мелкой буржуазии, которая по самой своей природе двойственна, неустойчива, «способна заключить союз с правящими классами против пролетариата ради укрепления своего положения как мелких собственников»2. С другой стороны, в отличие от капиталистических стран Европы — Англии, Франции, Германии, Бельгии— царская Россия не имела колоний в прямом смысле слова. Поэтому до самой Октябрьской революции в российском рабочем классе имелся только очень тонкий слой «рабочей аристократии»; ее представляла часть высокооплачиваемых рабочих, главным образом полуинтеллигентного труда (например, из числа печатников). В России не было профсоюзной бюрократии, состоявшей на иждивений буржуазии, так как сами профсоюзы возникли значительно позже, чем в западноевропейских странах. Они действовали и развивались под влиянием большевистской партии.
Кроме узкого слоя «рабочей аристократии» социальную базу меньшевиков составляла главным образом городская мелкая буржуазия — ремесленники, мелкие торговцы и мелкобуржуазные слои интеллигенции. Шла за меньшевиками и часть несознательных рабочих, недавних выходцев из деревни, не порвавших еще с ней психологически, а часто и экономически. Конечно, пролетариат как гегемон революции оказывал свое революционизирующее влияние на деревню, но несомненно хакже и то, что безбрежная мелкобуржуазная масса
2 В И Лр^Н' 2олн- собР- соч > т. 15, стр. 56. . . Ленин. Поли. собр. соч., т. 2, стр. 454.
8
деревни, постоянно разоряющаяся и пополняющая ряды рабочего класса, являлась источником мелкобуржуазного влияния на пролетариат.
Некоторым своеобразием отличалась и русская буржуазия. Сравнительно неопытная политически, она долгое время не умела использовать в своих целях соглашательство мелкобуржуазных партий, шарахалась в сторону от самого слова «социал-демократы», хотя этим словом называли себя не только настоящие революционеры, но и люди, выдвигавшие буржуазию на роль вождя революции и ратовавшие за капиталистическую Россию. Только во время первой мировой войны буржуазия, и то не вся и не до конца, поняла истинный смысл соглашательства, реформизма.
История крушения меньшевизма обнимает весь период борьбы большевистской партии против оппортунизма в российском рабочем движении, вплоть до победы Великой Октябрьской социалистической революции и полной гибели меньшевистской партии. Проследить все этапы этой борьбы трудно в рамках одной работы. Цель данного исследования — проанализировать борьбу большевиков против меньшевизма в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции и упрочения Советской власти (февраль 1917 г.— лето 1918 г.). При этом в данной работе рассматривается эволюция только общерусской меньшевистской партии, без родственных ей национальных (и в то же время националистических) партий, за исключением Бунда, который фактически являлся частью меньшевистской партии и действовал на общероссийской арене.
Еще задолго до Февраля меньшевики вошли в тесный блок с эсерами. Отражая взгляды и настроения хотя и разных, но родственных по своей классовой сущности слоев населения, меньшевики и эсеры сошлись на почве оборончества, а затем, после Февраля, вели общую соглашательскую линию и выступали единым фронтом с буржуазией против революции. Поэтому автор рассматривает соглашательство меньшевиков именно как политику мелкобуржуазного блока в целом, но выделяет при этом те стороны деятельности меньшевиков, которые характеризуют их как оппортунистическое направление в рабочем движении и объясняют причины их политической гибели.
8
История борьбы против меньшевизма в указанный сравнительно небольшой отрезок времени вызывает особый интерес. Именно в этот период, представлявший собой кульминационную точку классовой борьбы пролетариата, все политические партии показали себя в действии, обнаружили до конца классовую сущность своих идеологических воззрений, стратегии и тактики, организационных принципов. В течение восьми месяцев между Февралем и Октябрем меньшевики вместе с эсерами и кадетами фактически являлись правящей партией. За это короткое время они продемонстрировали, что такое реформизм и соглашательство на практике. Подстегиваемые революционными событиями, они так научились изворачиваться и обманывать, дошли до такой вершины оппортунизма и предательства, что во многом обогнали своих западноевропейских учителей. В. И. Ленин позже писал:
«Меньшевики и «социалисты-революционеры» в несколько недель великолепно усвоили себе все приемы и манеры, доводы и софизмы европейских героев II Интернационала, министериалистов и прочей оппортунистической швали. Все, что мы читаем теперь о Шейде-манах и Носке, Каутском и Гильфердинге, о Реннере и Аустерлице, Отто Бауэре и Фрице Адлере, о Турати и Лонге, о фабианцах и вождях Независимой рабочей партии в Англии, все это кажется нам (и на деле является) скучным повторением, перепевом знакомого и старого мотива. Все это у меньшевиков мы уже видали. История сыграла шутку и заставила оппортунистов отсталой страны предвосхитить оппортунистов ряда передовых стран» I
После Февраля партия меньшевиков, если можно так выразиться, была на вершине своего могущества, переживала «медовый месяц» своей истории. Вместе с эсерами она господствовала в подавляющем числе Советов, в городских самоуправлениях; в центре и на местах только в чисто меньшевистских организациях издавалось около 60 газет и журналов2. Кроме того, газеты меньшевистского направления выпускались многими объединенными организациями, соглашательски-
в. И. Ленин. Поли. собр. сон., т. 41, стр. 12. По подсчетам автора.
10
ми Советами. Меньшевистские вожди Церетели, Дан Чхеидзе выступали от имени революции, «делали политику». Пользуясь положением правящей партии, они спешили покончить со своим конкурентом в рабочем движении — с большевистской партией, предотвратить надвигавшуюся пролетарскую революцию. Действуя в союзе с кадетами и эсерами, они применяли для этого все возможные средства, начиная от клеветы на руководителей большевистской партии и кончая насилием, репрессиями. Но прошло всего несколько месяцев, и трудящиеся отвернулись от меньшевиков, а затем и вовсе выбросили их на свалку истории. Гонимая и преследуемая партия большевиков стала единственным вождем пролетариата, под ее знамя стали широкие массы трудящихся.
Попытки буржуазных историков объяснить этот факт какими-то особыми субъективными качествами большевиков и меньшевиков, отсталостью масс и склонностью их к «анархизму» 1 не выдерживают, конечно, никакой критики. Причины столь стремительного крушения меньшевизма коренились в самой классовой природе этой партии и в той социально-политической обстановке, которая возникла после Февраля.
В период между двумя революциями с необыкновенной наглядностью обнаружились органические пороки меньшевистской идеологии и вытекавшей из нее оппортунистической политики во всех основных областях общественной и государственной жизни. Вся деятельность меньшевистской партии, ее вождей в тот период, по крайней мере объективно, представляла собой непрерывную цепь измен рабочему классу.
В настоящей работе делается попытка проследить весь ход борьбы большевиков за массы, эволюцию партии меньшевиков от реформизма и соглашательства к
* Алек Ноув (Alec Nove) — лектор по социально-экономической истории России в Лондонской экономической школе — в своей рецензии на не так давно вышедшую книгу одного из лидеров меньшевизма, Р. Абрамовича, «Советская революция. 1917—1939» следующим образом объяснял причину крушения меньшевистской партии: «Безусловно, трагедия меньшевизма в том и заключается, что благородные и уважаемые люди, возглавлявшие его, не могли сделать ничего эффектного, и одной из причин было то, что они обладали такими качествами». Научная несостоятельность этого аргумента очевидна.
11
прямому предательству интересов рабочего класса. Процесс внутреннего разложения меньшевистской партии, усиления в ней полярных течений, отпочкования от нее и постепенного перехода к большевикам ее левых течений не получил достаточного освещения в нашей литературе.
Изучение эволюции меньшевизма в значительной мере облегчает понимание классовой природы и политических платформ многих оппортунистических течений и фракций, которые и в период Октября и в более позднее время возникали в нашей партии и также терпели крушение. К ним относится прежде всего троцкизм, который по своему идейному содержанию и отправным концепциям представлял собой разновидность меньшевизма, правого оппортунизма, прикрытого ультралевой фразой.
Обращение советского историка к данной теме закономерно и потому, что многочисленная буржуазная и реформистская литература, отражающая в той или иной мере события Октябрьской социалистической революции, либо заведомо искажает историческую правду, либо трактует их субъективно, с меньшевистских позиций.
Можно назвать вышедшие за последние годы работы Л. Шапиро, Г. Шойера, В. Шарндорфа, Дж. Реше-тара (младшего), Г. фон Рауха, Дж. Лихтхайма, Ф. Гросса, С. Пейджа, А. Мурхеда, П. Феденко и др. I Некоторые из указанных авторов (например, Шойер) прямо выступают в роли адвокатов меньшевизма. Другие меньше внимания уделяют меньшевикам или даже совсем их не упоминают, будто такой партии и в природе не было. В неприглядном свете выглядит эта партия в сравнении с большевистской. При всем разнообразии
1 L. Schapiro. The Communist Party of the Soviet Union. New York, 1960; G. Scheuer. Von Lenin bis...? Die Geschichte einer Kontrrevolution Berlin, 1957; W. Scharndorff. Die Geschichte Her KPdSU. Munchen, 1961; Z. Rechetar. Concise History of the Communist Party of the Soviet Union. New York, 1960; G. von Шск Grundlegung des Sowietsystems. Gottingen, 1957; G. Licht-
Marxism. An historical and critical study. New York, 1962, ы Gr°ss- Seizure of Political Power in a Century of Revolution. VnX Yi°g-o’. 1P58»’r‘S’- Page' Lenin and World Revolution. New 1 его.’ft °9’ M°orehead. The Russian Revolution. New York, 1jo8, Панас Феденко. Новая «История КПСС». Мюнхен, 1960-
12
приемов и различии в тенденциях перечисленные авто ры в своем стремлении представить историю пролетарской революции в черном свете повторяют зады меньшевистской «мудрости», их догмы и лживые измышления о большевистской партии, ее руководителях, вплоть до примитивной, изрядно набившей уже оскомину клеветы о 1 ермаских марках.
Особенно настойчиво повторяется меньшевистский тезис о незрелости России для социалистической революции. Отрицается социалистический характер происшедшей революции, вопреки правде истории утверждается, что Октябрьская революция совершена не пролетариатом в союзе с беднейшим крестьянством, а «ордами» деклассированных солдат, не хотевших воевать.
Меньшевистская эмиграция в 20-х годах наводнила книжный рынок антисоветской литературой, имеющей главной целью очернить большевистскую партию, реабилитировать меньшевизм. В ней извращены события 1917 г., оплевывается сама идея пролетарской революции и диктатуры пролетариата. В качестве источника фальсификации истории до сих пор используется основанный еще Мартовым за рубежом журнал «Социалистический вестник», вокруг которого группировались отвергнутые рабочими и крестьянами России эмигрировавшие вожди меньшевизма.
За последние годы вышли еще две работы мемуарного характера бывших крупных лидеров меньшевизма И. Г. Церетели и Р. Абрамовича первая из них целиком посвящена периоду между двумя революциями, конечно в меньшевистской интерпретации, вторая, в том же духе, трактует историю революции и Советского государства вплоть до 1939 г. Обе эти работы представляют собой еще одну попытку оправдать соглашательскую деятельность меньшевиков и бросить тень на большевистскую партию.
Методологической основой и важнейшим источником для исследования данной темы являются труды К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, а также партийные документы — постановления съездов, конференций
’ См. И. Г. Церетели. Воспоминания о Февральской революции, кн. 1—2. Paris, 1963; Abramovitch Raphael R. The Soviet Revolution 1917—1939. New York, 1962.
13
и пленумов ЦК, протоколы заседаний Центрального и местных комитетов партии.
Анализируя роль различных классов и их партии в революционных сражениях 1848—1849 гг. в Европе, Маркс и Энгельс в ряде своих произведений дали исчерпывающую характеристику мелкой буржуазии и демократических партий, предвосхитили их место в грядущей социалистической революции в Германии Они писали, что предательскую роль немецких либеральных буржуа в 1848 г. в будущем «возьмут на себя демократические мелкие буржуа...»2. Маркс и Энгельс предвидели, что участие мелкобуржуазной демократии в революции неизбежно закончится попыткой поскорее свернуть ее, в лучшем случае с проведением буржуазных требований. Задачей же пролетариата является двигать революцию вперед, сделать ее непрерывной вплоть до завоевания пролетариатом государственной власти 3. Прогноз вождей рабочего класса блестяще оправдался в ходе русской революции.
Глубокий анализ социальных корней, мелкобуржуазной природы оппортунизма в рабочем движении дан в многочисленных произведениях В. И. Ленина. В них как в зеркале отражена последовательная и упорная борьба большевистской партии против реформизма и соглашательства. Уже в годы «Искры» В. И. Ленин разоблачил «экономизм» — первое реформистское направление в российском рабочем движении. Начиная со II съезда В. И. Ленин со всей страстью революционера бичует меньшевиков за их оппортунизм в вопросах организации, а затем стратегии и тактики, теории и программы. В период столыпинской реакции многие ленинские труды посвящены борьбе за партию, против ликвидаторской политики меньшевиков. В годы первой мировой войны Ленин направляет удары против социал-шовинизма лидеров II Интернационала, в том числе
См., например, «Обращение Центрального Союзу коммунистов» (К. Маркс и Ф. Энгельс. 7^' м257~267)1 * Восемнадцатое брюмера Луи К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 8, стр. 115—917)’ „““ом к“““Униетов» (К- Маркс и Ф. Энгельс'.
“ СиМЛ И Ф' Э*?ельс- С04- Т- 7, стр. 259.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 261.
Комитета к Соч., т. 7, Бонапарта» «К истории Соч., т. 21,
14
русских меньшевиков, предавших интересы социализма, пролетарского интернационализма.
В условиях перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую, когда решающее значение приобретает борьба за массы, за их освобождение от мелкобуржуазных иллюзий и сплочение под знаменем большевистской партии, Ленин систематически, изо дня в день разоблачает прислужничество соглашателей перед буржуазией.
К основным документальным материалам, в которых отражены программные положения большевистской партии, ее стратегические и тактические установки на втором этапе революции, в том числе по отношению к мелкобуржуазным партиям, следует отнести прежде всего протоколы VII (Апрельской) Всероссийской конференции и VI съезда РСДРП (большевиков). Ценные сведения о политической и организаторской деятельности партии, ее борьбе против соглашательства содержатся в таких документальных изданиях, как «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК»; «Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б) (август 1917 — февраль 1918)»; «Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями» Сохранилось значительное количество протоколов и резолюций конференций и собраний местных партийных организаций, заседаний большевистских комитетов1 2. Эти материалы дают представление о борьбе с оборончеством и соглашательством в различных районах страны.
1 См. «Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями», ч. I (март — октябрь 1917 г.) и ч. II (ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.). М., 1957—1958.
2 Большой интерес представляют документы петроградской и московской партийных организаций в указанный период, среди них: «Вторая и третья Петроградские общегородские конференции большевиков в июле и октябре 1917 г.» М.—Л., 1927; «Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.» М.—Л., 1927; протоколы Московского областного бюро в разное время публиковались в журнале «Пролетарская революция» (№ Ю за 1922 г., № 4 (63) за 1927 г. и № 10 (81) за 1928 г.). Кроме того, в журнале «Вопросы истории КПСС» (1959, № 6) были опубликованы «Документальные материалы о деятельности Московского областного бюро РСДРП (б)—РКП (б) (март 1917 г.— февраль 1919 г.)».
15
За годы Советской власти вышла значительная ли тература, посвященная деятельности партии большевиков по завоеванию и упрочению диктатуры пролетариата, и вся она, конечно, в большей или меньшей мере отражает борьбу против оппортунизма, как внутри рос! сийского рабочего движения, так и на международной арене. Да иначе и не могло быть: без этого невозможно раскрыть историю большевизма со всей глубиной. Однако специальных исследований, посвященных этой проблеме, написано очень немного.
В 20-х и начале 30-х годов вышел ряд книг и брошюр, направленных против меньшевизма (И. Вардина Д. Эрде, В. Быстрянского, С. Диманштейна, П. Лепешинского, Н. Мандельштама, П. Гришина и др.) \ Издана довольно обширная литература, посвященная разоблачению предательской, антинародной политики грузинских меньшевиков во время их трехлетнего господства* 2 * * * * *. Но эти в основном публицистические очерки не носили исследовательского характера.
Значительным шагом в становлении историко-партийной науки в целом и в освещении данной проблемы было появление в эти годы обобщающих работ по истории большевистской партии — А. С. Бубнова, Н. Н. Попова, В. И. Невского, Ем. Ярославского и др. Написанные по свежим следам исторических событий их участниками и современниками, эти работы сохраняют науч-
Ция. М., «Красная новь& 1922- а1*ьшевиков и русская револю-£верь, 1924; его же РевопюЛ ° Ж е* Против меньшевизма. Д- Эрде. Меньшевики Каки° и меньшевизм. М.—Л., 1922; редакцией В. Юдовского S' ртии были в России. Под общей шевики и эсеры в русской пДЬК°В’ 1929’ В‘ БыстРянский. Мень-Ито такие меньшевики X революЧии. Пг., 1921; С. Диманштейн. шевики. М 1931; И Манде^03’ ^23; П. Лепешинский. Мень-к истории российского МЫ* Там- Со шпеньки на ступеньку, шин. Меньшевики и Октябпь^еВИЗМа' М~Л’ 1926: п- п-
2 Среди вышедших в тпС^аЯ рев0Л1°Ция. М.-Л., 1932.'
кого меньшевизма Morwn времл ра^от о крушении грузин-
Диктатура меньшевистской Указать следующие: Ф. Махарадзе. Я борьба за Советг^а₽ТИИ в Грузии- М., 1921; его же.
’* rnV^^wp- Гражданская власть в Грузии. Тифлис, 1926;
М.. 1921; Тго жрВТа В Р°есииРи меньшевистская з-шХ* '°Р(^Хелашвили ведуг меньшевики. М., 1926,
аации в 1917 г. «Заккниг? ?о^азские большевистские оргаяи-
в З^вказ^е. «Зцккнига>> 1932идр Е‘ Сеф' Борьба 33 °КТ* **
16
НЫЙ интерес, хотя они и не свободны от существенных недостатков, субъективных оценок и выводов. Отдельные из них, как, например, работа А. Г. Шляпникова «Семнадцатый год» ’, содержат серьезные ошибки методологического характера. Характеризуя состояние большевистской партии и ее деятельность после выхода из подполья, Шляпников акцентирует внимание на внутренних разногласиях в партии, явно преувеличивая их. Он утверждает, что в рядах большевиков боролись три течения — левое, центр и правое — и что партия в то время стояла перед угрозой раскола. Это утверждение противоречит историческим фактам. Конечно, в процессе выработки тактики в партии были споры, имелась в ее рядах и незначительная группа правых элементов, которые вскоре почти все переметнулись к меньшевикам. Но в целом большевистская партия, в отличие от мелкобуржуазных, была идейно и организационно единой.
Заметное место в историко-партийной литературе того времени занимала четырехтомная «История ВКП(б)», написанная коллективом авторов (Д. Кин, И. Минц, С. Пионтковский, Ем. Ярославский и др.) под общей редакцией Ем. Ярославского. В этом труде, в частности в четвертом томе2, посвященном деятельности партии в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции и в годы гражданской войны, значительное место отведено раскрытию классовой сущности и оппортунистических концепций меньшевизма.
Среди исторической литературы 30-х и 40-х годов, отразившей в той или иной мере борьбу против оппортунизма меньшевиков в исследуемый нами период, следует отметить первые два тома фундаментального труда «История гражданской войны в СССР» (первый том вышел в свет в 1935 г., второй — в 1942 г.). Эти книги (особенно второй том) носят отпечаток субъективизма, НО вместе с тем они содержат много нового фактического материала о деятельности большевистском партии, в том числе о ее борьбе против меньшевиков. __
Г- Шляпника
р 2 См- ‘ «История ВКПб)», т. IV. По/Б •еЯМЛн
‘ Ярославского. М,—Л., 1)29. I
2 и • 1
* н. Рубан i li 11
т.
Большой сдвиг в развитии общественных наук вообще и истории КПСС в частности произошел поело XX съезда КПСС. Советская историография обогатилась многими научными трудами, в особенности по истории Великой Октябрьской социалистической революции. И, хотя историческая наука полностью еще не освободилась от субъективистских оценок, в целом историография последних лет сделала крупный шаг вперед.
В этот период значительно расширилась источниковедческая база истории КПСС. Сорокалетие Советской власти в центре и на местах было отмечено выходом громадного количества документальных сборников. Широкая публикация документов облегчает исследовательскую работу по всем проблемам истории Октябрьской революции, в том числе и по проблеме данного исследования. Назовем только некоторые из сборников документов, изданных в последние годы: «Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции» в двух частях (670 документов, 577 опубликовано впервые); документальная серия «Великая Октябрьская социалистическая революция» в десяти томах, содержащая около 7 тысяч документов и материалов (значительная их часть также публикуется впервые); «Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции» в двух томах и многие другие. Проведена большая работа по переизданию документов партии — стенографических отчетов и протоколов съездов, конференций и пленумов ЦК партии и других материалов. Почти во всех республиках и в ряде областей изданы очерки истории партийных организаций, содержащие материалы о борьбе против соглашателей на местах.
Вышли в свет новые обобщающие труды и монографические исследования об Октябрьской социалистической революции В них освещаются различные сто-
Г' Н' Голиков- Очерк истории Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1959; И. Ф. Петров. Стратегия napTH>J большевиков в подготовке победы Октябрь-тика Впамр^ИИ’ М'’ 1964’ Волобуев. Экономическая поли-и бупяХ1зия n iQi^PaBn<TeJIbCTBa- М’ 1962; его же- Пролетариат 1917 г. М., 1964; О. Н. Знаменский. Июльский кри-
18
роны рассматриваемой нами проблемы. Так, например, в очерке истории Октябрьской революции Г. Н. Голикова и в книге И. Ф. Петрова о стратегии и тактике большевистской партии в период подготовки Октября в той или иной мере отражена борьба партии против соглашателей по всем основным вопросам революции. В монографических исследованиях П. В. Волобуева, посвященных анализу экономической политики Временного правительства и положения рабочего класса в 1917 г., содержится анализ экономической программы меньшевиков. В книге О. Н. Знаменского об июльском кризисе 1917 г. освещены новые факты, характеризующие роль меньшевиков в этот переломный период развития революции. Защищенная в 1964 г. в ИМ Л при ЦК КПСС докторская диссертация Л. С. Гапоненко «Рабочий класс России в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции» содержит некоторые новые данные о количестве и социально-экономическом положении российского пролетариата в 1917 г., о руководящей роли большевистской партии в рабочем движении и ее борьбе против соглашателей.
Вышло также немало работ, освещающих историю борьбы за Советскую власть на местах. Они значительно расширяют наши знания о деятельности партии в целом, ее борьбе против оппортунизма, за идейное и организационное сплочение своих рядов и завоевание масс на сторону революции. В ряде этих работ можно найти сведения по такому малоизученному вопросу, как преодоление объединенческих тенденций и создание самостоятельных большевистских организаций там, где они вначале были объединенными. Этот вопрос привлек внимание историков еще в 20-х годах \ Но в литературе тех лет глубоко не проанализированы причины возникновения объединенных организаций. Почти отсутствует материал о борьбе партии против объединительных тенденций. Сами эти тенденции, имено-
зис 1917 года. М.—Л., 1964; Л. С. Гапоненко. Рабочий класс России в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 1964.
1 См., например, А. Г. Шляпников. Семнадцатый год; статью Д. Кина в журнале «Пролетарская революция», 1927, № 6(65); «Историю ВКП(б)», т. IV. Под ред. Ем. Ярославского, и др.
19
вавшиеся «объединительным угаром», сильно преувеличивались. Особенно это проявилось в работах Шляпникова. Игнорируя тот факт, что со времени Пражской конференции в рабочем движении России не только по рутцрр'гвуг но и формально существовали уясе две партии, он писал о «стихийном тяготении к единству партии». которое якобы наблюдалось сразу после выхода из подполья L Об «объединительном угаре», «охватившем ряды большевиков, главным образом в провинции», говорилось и в IV томе «Истории ВКП(б)» под редакцией Ем. Ярославского2.
В последующие годы историки длительное время не обращались к данной проблеме. Только в середине 50-х годов она была затронута в статьях Э. Н. Бурджа-лова, посвященных тактике большевиков в марте — апреле 1917 г.3 В этих статьях, подвергшихся серьезной критике в научных кругах, повторялись и указанные выше ошибки в оценке объединительных тенденций. С другой стороны, многие историки недооценивали значение борьбы партии против объединенчества, замалчивали этот вопрос.
Среди историко-партийных работ последнего времени значительный интерес представляют опубликованные В. В. Аникеевым сведения о большевистских организациях с марта по декабрь 1917 г. 4 Эти данные еще далеко не исчерпывающие, но они наиболее полные из ранее опубликованных и позволяют, по крайней мере приблизительно, судить об удельном весе объединенных организаций, их географическом распределении, времени возникновения и продолжительности существования. Из работ по истории местных партийных организаций, в которых эта тема получила наиболее обстоятельное освещение, можно назвать монографии М. М. Шорникова, А. А. Рослякова, А. И. Крушанова, Л. И. Беликовой5.
См. А. Г. Шляпников. Семнадцатый гол, кн. 3, стр. 193.
«История ВКП(б)», т. IV. Под общей редакцией Ем. Ярославского, стр. 8.
йппйпСМ1п?; БУРджолов О тактике большевиков в марте — мяптр6 о 7 Г0Д?А его ж е< Еще о тактике большевиков в
Р^п<аПреЛе 1917 года- * Вопросы истории 4,, 1958, № 4,
5 р ОПР9СЬ1 ист°рии КПСС*, 1958, № 2, 3.
no6env Оифстк™ ^Р^ков. Большевики Сибири в борьбе за
пооеду Октябрьской революции. Новосибирск, 1963; А. А. Росля-
20
Таким образом, довольно обширная историко-партийная литература, вышедшая за годы Советской власти, содержит значительный материал о борьбе против оппортунизма меньшевиков, в том числе в указанный период. Однако специальных исследований по данной проблеме фактически не было издано. Тема эта стала привлекать к себе историков только совсем недавно и разработана еще крайне недостаточно. Укажем прежде всего на книгу М. В. Спиридонова «Политический крах меньшевиков и эсеров в профессиональном движении (1917—1920 гг.)» О реформистской деятельности меньшевиков в профсоюзном движении у нас имеется очень мало исследований. Как известно, еще в 20-х годах вышли в свет две книги А. М. Панкратовой о фабзавкомах и профсоюзах в 1917 г.* 1 2 Тогда же была издана книга П. Вомпе о профессиональном союзе железнодорожников в дни революции, содержавшая фактический материал о контрреволюционной деятельности меньшевистско-эсеровского Викжеля3. Затем длительное время вопросы профессионального движения в революции не находили освещения. Только в последние годы появились книги Ф. Романова и А. Г. Егоровой 4, опубликован ряд статей в «Ученых записках» различных институтов.
Среди указанной литературы выделяется работа М. В. Спиридонова. По существу, это единственная
ков. Большевики Туркменистана в борьбе за власть Советов (1917—1918). Ашхабад, 1961; А. И. Крушанов. Борьба за власть Советов на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Владивосток, 1961; Л. И. Беликова. Борьба большевистской партии за установление и упрочение Советской власти в Приморской области (март 1917 — сентябрь 1918). Владивосток, 1960.
1 Издана в Карельском книжном издательстве. Петрозаводск, 1965.
2 См. А. Панкратова. Фабзавкомы России в борьбе за социалистическую фабрику. Под ред. М. Н. Покровского. М., «Красная новь», 1923; ее же. Фабзавкомы и профсоюзы в революции 1917 г. М.—Л., 1927.
3 См. П. Вомпе. Дни Октябрьской революции и железнодорожники. Материалы к изучению истории профессионального движения на железнодорожном транспорте. М., 1924.
4 См. Ф. Романов. Профсоюзы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1953; А. Г. Егорова. Фабзавкомы и профсоюзы в борьбе за победу Октября. М., 1960.
21
книга, посвященная теме борьбы против меньшевизма. Однако она далеко не исчерпывает проблемы. Следует отметить также две брошюры П. И. Соболевой о борьбе большевиков против правых эсеров и меньшевиков в период упрочения Советской власти '. В них на конкретном фактическом материале показано банкротство соглашателей в их попытках «взорвать» Советы.
За последнее время в «Ученых трудах» и «Записках» высших учебных заведений, в периодической печати появилось несколько статей, в которых освещается борьба против соглашательских партий в ряде районов страны и на разных исторических этапах1 2. В Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина защищена и издана в виде монографии докторская диссертация В. В. Комина о политическом банкротстве буржуазных и мелкобуржуазных партий в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции 3 * * *.
Все указанные труды являются шагом вперед в разработке вопроса о кризисе и крахе меньшевизма. Сле
1 См. П. И. Соболева. Борьба большевиков против правых эсеров и меньшевиков в период упрочения Советской власти. Изд-во Московского университета, 1961; ее же. Борьба боль
шевиков против меньшевиков и эсеров за ленинскую политику мира. Изд-во МГУ, 1965.
2 См. А. Я. Трифонов. Конец мелкобуржуазных партий меньшевиков и эсеров. «Ученые записки Ленинградского ордена Ленина Государственного университета им. А. А. Жданова» № 298, вып. 30, 1959; А. Н. Резниченко. Разоблачение большеви
ками соглашательской деятельности меньшевиков и эсеров в Сибири в условиях развития революции от Февраля к Октябрю 1917 года. «Труды Новосибирского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева», т. IX. 1959; Д. Ф. Жидков. Борьба партии с мелкобуржуазной контрреволюцией при образовании Советского правительства. «Труды кафедр общественных наук осковского ордена Трудового Красного Знамени инженерностроительного института им. В. В. Куйбышева», № 28. М., 1959;
. Селиванов. Борьба большевиков Екатеринбурга против соглашателей и контрреволюционных партий в первые дни после Рьскои революции. «Труды Уральского политехнического института им. С. М. Кирова». Сборник № 103. Свердловск, I960; Нппглплп кина" Разгром контрреволюционного выступления в «Новгпплп^В ДНИ С03Ь1ва и роспуска Учредительного собрания.
3 См ДрКИр ^т°Рический сборник», вып. 9. Новгород, 1959.
жуачнкту гтогч * „ ол*?н- Банкротство буржуазных и мелкобур-
кой Октябпкп«И1“ В Р°ссии в период подготовки и победы Вели-
Р скои социалистической революции. М., 1965.
22
дует, однако, заметить, что многие аспекты этого вопроса все еще крайне мало или совсем не исследованы. Даже в работах, специально посвященных теме борьбы против соглашателей, речь идет одновременно о меньшевиках и эсерах, а в работе В. В. Комина рассматриваются все политические партии, действовавшие в то время, кроме большевистской.
Вполне закономерно и допустимо освещение в целом проблемы обо всех или нескольких партиях. Однако неизбежная в таких случаях многоплановость ис-следовашш лишает возможности обстоятельно и всесторонне проследить эволюцию каждой партии вплоть до их политической гибели. В работе В. В. Комина почти совсем не рассматривается вопрос об объединенных организациях; схематично представлена внутренняя и внешняя политика коалиционного правительства, входивших в него партий, в том числе меньшевистской. В частности, не получили глубокого раскрытия рабочий, аграрный и национальный вопросы, борьба за профсоюзы. Не нашли достаточного отражения два направления в рабочем движении: революционное и соглашательское, между тем только на фоне борьбы этих двух направлений, являвшейся в конечном счете борьбой за массы, можно проанализировать процесс и вскрыть объективные причины политического краха меньшевизма. В целом же монография В. В. Комина является серьезным и интересным исследованием.
* * *
При написании настоящего исследования автор опирался на всю ранее вышедшую историко-партийную литературу. Кроме опубликованных источников использованы также архивные материалы, в частности документы меньшевистской партии. Они сосредоточены главным образом в 275-м фонде Центрального партийного архива ИМЛ при ЦК КПСС. Это протоколы заседаний Организационного комитета (после августа — ЦК) меньшевиков, переписка с местными организациями. материалы майской конференции и августовского съезда меньшевистской партии. Указанные материалы неполные, разрозненные, но они дают все же возможность проанализировать внутреннюю эволюцию пар-
23
тии, ее политику и классовый характер. В Центральном государственном архиве Октябрьской революции имеются материалы об отколовшихся от меньшевистской партии течениях — документы Центрального бюро организации объединенных социал-демократов интернационалистов (затем ЦК РСДРП интернационалистов) и так называемой партии независимых социал-демократов (левых интернационалистов). Здесь же — документы петроградской организации меньшевиков-оборонцев, относящиеся к послеоктябрьскому периоду. Они характеризуют антисоветскую деятельность этого правого, наиболее контрреволюционного крыла меньшевизма.
Важным источником исследования данной проблемы является периодическая печать того времени. Живое представление о борьбе большевиков против соглашателей дает обширная мемуарная литература.
ГЛАВА I
БОРЬБА БОЛЬШЕВИКОВ ПРОТИВ ОППОРТУНИЗМА И СОГЛАШАТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ МИРНОГО РАЗВИТИЯ РЕВОЛЮЦИИ
1. На историческом повороте
Две партии, в период реакции, последовавшей за
две концепции революции
поражением первой русской революции, а затем в годы войны большеви
стская партия подверглась жестоким гонениям со стороны царского правительства, и это бесспорно нанесло ей большой урон. Лучшие, наиболее активные ее кадры находились в тюрьме, в ссылке или в вынужденной эмиграции. Партийные организации были сильно ослаблены, а многие разгромлены. Они не имели возможности поддерживать нормальную связь с партийными центрами. Но и в этой тяжелой обстановке, в условиях репрессий и всеобщего шовинистического угара партия сохранила верность революционным принципам марксизма-ленинизма, отстаивала единство своих рядов, расширяла связи с массами. В февральские дни 1917 г. она выступила во главе революционных сражений как боевой авангард рабочего класса.
Большевистская партия к Февралю пришла, имея на своем вооружении марксистско-ленинскую теорию социалистической революции, проверенную на многолетнем практическом опыте классовой борьбы пролетариата. Основными звеньями этой теории являлись ленинские идеи о партии как авангардной силе рабочего класса, о гегемонии и диктатуре пролетариата, о его союзе с крестьянством, о национально-освободительном движении как важном резерве революции, о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую как непрерывном процессе, о революционно-демркратической диктатуре пролетариата и крестьян
25
ства. Крупнейшим вкладом в теорию социалистически революции являлся сделанный Лениным в годы пепвой мировой войны вывод о возможности победы социализма первоначально в одной, отдельно взятой стране илм в нескольких странах и невозможности одновременной ее победы во всех странах.
Из всей сущности ленинского учения, основывавшегося на глубоком анализе социально-экономической об-становки и соотношения классовых сил в нашей стране и во всем мире, вытекало, что именно Россия является той страной, которой предстоит открыть тур пролетарских революций. Тем самым опрокидывалась оппортунистическая догма, согласно которой социалистическая революция возможна только в высокоразвитых странах, где пролетариат составляет большинство населения.
Большевистская партия, передовой отряд рабочего класса, в силу самой своей природы твердо стояла на почве пролетарского интернационализма, пронизывавшего ее идеологию, политику и организационные принципы. В годы войны она явилась единственной партией во всем Интернационале, которая не поддалась шовинистическому угару, сохранила верность революционным принципам, сумела связать воедино борьбу против империалистической войны с борьбой за свержение самодержавия и капитализма, за диктатуру пролетариата.
Именно потому, что большевистская партия имела прочную идейно-теоретическую основу и последовательно проводила революционную политическую линию, она смогла выстоять под ударами полицейских репрессий, сохранив при этом единство своих рядов, боевой революционный дух, верность рабочему классу.
В этом состояло коренное отличие нашей партии от мелкобуржуазных партий — меньшевиков, эсеров и др. Последние никогда не имели выдержанной пролетарской линии ни в теоретических воззрениях, ни в поли тике, ни в организационно-практической работе. Эти партии отражали двойственную, колеблющуюся приро ду мелкой буржуазии, на которую всегда действовали две противоположные силы со стороны основных ПР тивостоящих друг другу классов — буржуазии и ^Р0,7* тариата. Чем больше обостряется классовая борьба, т сильнее колебания мелкого хозяйчика то вправо,
26
влево — в зависимости от соотношения основных классовых сил. Под влиянием этих полярных сил мелксбч р-жуазным партиям свойственно расслаиваться, распадаться, выделять из себя различные группы и течения Меньшевизм как одна из политических партий мелкой буржуазии может служить наглядным примером идейной неустойчивости, шатаний и разброда. В. И. Ленин писал о меньшевиках:
«Вся история с.-д. групп, борющихся с нашей партией, есть история развала и распада. В марте 1912 года все без исключения «объединились» на брани против нас. Но уже в августе 1912 года, когда был создан так называемый «августовский блок» против нас, у них начался распад. Часть групп от них отпадает. Они не могут создать партии и ЦК Они создают лишь ОК «для восстановления единства». Но на деле этот ОК оказался бессильным прикрытием ликвидаторской группы в России» !.
Конечно, при всей идейной разноголосице и организационной аморфности меньшевики все же были партией. Их объединяла общая догматически-оппортуни-стическая концепция революции, которую они противопоставляли революционной, марксистско-ленинской концепции большевиков. Эти две концепции, две линии в российском рабочем движении, наметившиеся еще в 1903 году на II съезде РСДРП и особенно в период первой русской революции, затем долгие годы боролись между собой.
Меньшевики считали, что Россия по своему экономическому развитию очень далека от социализма и после свержения самодержавия ей предстоит пережить необозримо длительную полосу капиталистического развития. Они не верили, что пролетариат России, «слишком малочисленный и незрелый» по их представлениям, способен взять дело революции в свои руки. В крестьянстве они видели сплошную реакционную массу. Исходя из таких предпосылок в оценке движущих сил революции, они утверждали, что только Запад может проложить путь к пролетарской революции. Социальная революция пролетариата просматривалась меньшевиками где-то в далекой и туманной перспективе.
1 В. И, Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 348.
27
Таким образом, не видя возможности для России в ближайшем будущем другого пути, кроме «приличной> буржуазной революции, меньшевики соответственно разрабатывали свои стратегические и тактические установки в этой революции. Буржуазии они отводили в ней роль гегемона и единственного преемника власти после свержения самодержавия. Ленинское положение о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую они яростно оспаривали и, естественно, отрицали идею революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, Временного революционного правительства с участием в нем пролетариата. Вот, например, что писал видный в то время меньшевик А. С. Мартынов: «Предстоящая русская революция будет революция буржуазная... и если б она была наиболее удачная, если б она заменила царское самодержавие демократической республикой, то и в этом случае она доставит безраздельное политическое господство буржуазии. Пролетариат не может получить ни всей, ни части политической власти в государстве, покуда он не сделает социалистической революции»
То была линия на затушевывание классовой борьбы с буржуазией, на сотрудничество с ней, другими словами реформистская линия. Меньшевистские вожди продолжали именовать себя марксистами, ортодоксами. На деле они все глубже погружались в болото оппортунизма, перенося в модифицированном виде на русскую почву идеи Бернштейна (прежде всего, отрицание социалистической революции и диктатуры пролетариата).
Поэтому нисколько не удивительно, что с началом первой мировой войны меньшевики, вместе с социал-демократическими партиями Запада, перешли на сторону буржуазии, изменив делу социализма и пролетарского интернационализма. Их реформизм видоизменился, приняв форму оборончества, социал-шовинизма. Так и должно было произойти. Партия, отрицавшая (фактически) пролетарскую революцию и диктатуру рабочего класса, видевшая в буржуазии, а не в пролетариате главную силу общественного прогресса, иначе поступить не могла.
1 А. Мартынов. Две диктатуры, 11г., 1917, стр. 77.
28
Вопрос об отношении к войне не был частным воп росом. В изменившейся обстановке он целиком ц полностью сводился к основной концепции, к генеральной линии в революции. У большевиков эта линия была воплощена в лозунгах превращения войны империалистической в войну гражданскую и поражения своего правительства в войне; у меньшевиков она практически вылилась в сотрудничество с буржуазией, направленное на обеспечение ее империалистических, захватнических целей и на удушение революции (как известно, именно такая двуединая задача и ставилась буржуазией).
Среди отдельных групп и течений меньшевизма имелись различные оттенки во взглядах на войну, так же как и в западноевропейских социал-демократических партиях. Но различия, как правило, были не столь уж существенны и не мешали им уживаться под общей меньшевистской крышей.
Еще до Февральской революции проводником открытого социал-шовинизма являлась группа Плеханова (газета «Наша заря», а затем «Наше дело»), которая шла в одном строю с такими людьми, как Шейдеман, Легин, Альберт Тома, Вандервельде, Гайндман, Гендер-сон и др. В России оборончество плехановского толка представляли так называемые «рабочие группы» при военно-промышленных комитетах — детища меньшевистской партии. Открытые социал-шовинисты ратовали за «защиту отечества» и войну «до победного конца».
Заграничный секретариат Организационного комитета (ОК), Бунд, а также думская фракция Чхеидзе в России стояли на позициях правого циммервальдизма, центризма. Это была разновидность социал-пацифизма каутскианского типа; прикрываясь интернационалистской фразой, представители этого течения на деле сотрудничали с «Нашей зарей» и защищали социал-шовинистов. На Западе центризм представляли Каутский, Лонге, Рамсей Макдональд и др.
Наиболее существенной чертой, общей для обеих форм оппортунизма, В. И. Ленин считал замалчивание вопроса о связи данной войны с революцией, о необходимости превращения империалистической войны в гражданскую. Он подчеркивал также, что прикрытые оппортунисты, каутскианцы, гораздо вреднее и опаснее
29
для рабочего движения, потому что прячут свою защиту союза с открытыми шовинистами «при помощи благовидно звучащих тоже-«марксистских» словечек и пацифистских лозунгов» *.
Была в рядах меньшевизма еще одна небольшая группа во главе с Мартовым и Троцким, издававшая в Париже газету «Наше слово» (раньше — «Голос»). Она пыталась соединить платоническую защиту интернационализма с требованием единства большевистской партии со всеми течениями меньшевизма, вплоть до «Нашей зари». Но, поставив перед собой такую невыполнимую задачу, эта группа сама вскоре раскололась; одна ее часть потянулась к большевистской партии, другая — к меньшевистскому центру. Мартов закрепился в ОК в качестве одного из его секретарей.
Пацифистские фразы прикрытых шовинистов о необходимости справедливого мира без аннексий и контрибуций, оторванные от революционных лозунгов, были не только безвредны для буржуазии, но и выгодны ей, удобны для обмана масс. (Представители буржуазии сами охотно говорили об отказе от аннексий, имея в виду не себя, а противника.) Прикрытым оборонцам было свойственно изворачиваться, прибегать к софизмам. В этом отношении особенно характерно поведение меньшевистской фракции в Государственной думе во главе с Чхеидзе.
В начале войны меньшевики в Думе не голосовали за военный бюджет и вместе с большевиками выступили с совместной декларацией против войны. Но вскоре думские меньшевики поворачиваются лицом к оборонцам. Их позиция стала особенно ясной после того, как Вандервольде, один из лидеров II Интернационала, обратился к русским социалистам с предложением прекратить борьбу против царского правительства, способствовать его военным успехам. В ответ на это думская фракция меньшевиков сообщила Вандервельде, что, имея в виду активное участие социалистов в европейском конфликте', «дающее нам основание надеяться, что он (конфликт.— II. Р.) разрешится в интересах международного социализма, мы заявляем вам, что в своей
1 Ь. И. Лепин, Поли. собр. соч., т. 30, стр. 139.
30
деятельности в России мы не противодействуем войне» I
Меньшевистская фракция в Думе не была едина во взглядах на войну, но она полностью высказалась за участие в военно-промышленных комитетах. Заботясь о своем авторитете в рабочем классе, фракция «стеснялась» употреблять формулу «защита отечества» и приняла к употреблению другую, более завуалированную и двусмысленную формулу: «спасение родины». Но от этого суть дела, естественно, не менялась.
Таким образом, к Февральской революции меньшевистская партия пришла в состоянии идейного и организационного разброда, не имея единой политической линии и даже Центрального Комитета во главе. Ее руководящим центром был все тот же ОК1 2 за границей и Инициативная группа в России, целиком стоявшая на позициях оборончества. Революция не только не ликвидировала разброд в партии, но еще более обострила его. Вместе с тем она привела к некоторой передвижке в меньшевистских течениях. Каковы же были эти течения?
На крайнем правом фланге меньшевизма по-прежнему стояла открыто оборонческая группа Плеханова — Бурьянова — Алексинского, во многом смыкавшаяся с кадетами. Плехановская газета «Единство» своим воинствующим шовинизмом и антибольшевизмом, по существу, не отличалась от самых реакционных буржуазных газет. Формально группа «Единство» не входила в меньшевистскую партию.
Правое крыло самой партии составляла группа тоже открытых, но более умеренных оборонцев (Потре-сов, Либер), издававшая сборник «Самозащита». Основное течение, официальный меньшевизм, представлял центр во главе с ОК (лидеры Дан, Чхеидзе, Церетели). Но и сам центр не был единым, он делился на правый и левый центры, причем главенствующую роль играл первый из них, смыкавшийся с открытыми оборонцами.
1 Цит. по кн.: А. Бадаев. Большевики в Государственной думе. М., 1939, стр. 362; см. также: «История гражданской войны в СССР», т. I. М., 1954, стр. 365.
2 Кроме ОК был так называемый секретариат, в состав которого входили такие маститые вожди меньшевизма, как Мартов, Мартынов, Аксельрод, Астров, Семковский.
31
После революции центр явйо сдвинулся вправо, линия официального меньшевизма была правоцентровая. Это течение взяло на свое вооружение формулу «революционного» оборончества — очень удобную для обмана масс. Вожди центра щеголяли революционной и пацифистской фразеологией, продолжали называть себя циммервальдистами, но на деле были заурядными оборонцами.
Левый фланг меньшевистской партии занимала группа так называемых интернационалистов, которую потом возглавил возвратившийся из эмиграции Мартов. Вначале интернационалистское крыло было слабым и малочисленным, но по мере нарастания революционной волны оно усиливалось и активизировалось. В то же время в самом этом крыле происходил процесс расслоения: низы, главным образом рабочие, постепенно переходили на сторону революции, верхи не порывали связи с оборонцами, с правыми течениями. Хотели того или нет лидеры меньшевиков-интернационалистов, фактически они шли с оборонцами в одной упряжке. Небольшая группа меньшевиков-интернационалистов, издававшая газету «Новая жизнь» (Н. Суханов, В. Базаров, В. Строев и др.), мало чем отличалась от фракции Мартова. Меньшевики-интернационалисты выступали с критикой оборончества, ведя ее с пацифистских позиций. Борьбу за мир они рассматривали вне связи с задачей свержения капитализма. Это их роднило со всеми остальными течениями меньшевизма.
Между различными меньшевистскими течениями не было сколько-нибудь резких граней, глубоких принципиальных разногласий. Например, группы Плеханова и Потресова отличались от центра лишь тем, что являлись открытыми социал-шовинистами и вместе с буржуазией отстаивали лозунг «Война до победного конца», тогда как центр прикрывал свой шовинизм пацифистской фразой, но в то же время, как и открытые оборонцы, поддерживал все военные мероприятия правительства. Еще более условным было разделение центра на правый и левый. ~
В работе «Задачи пролетариата в нашей революции, В. И. Ленин дал точное определение основных в международном, в том числе и в русском, р движении. Он писал о социал-шовинистах, эт
32
классовые противники, буржуа среди рабочем о дни <•-ния. Они представляют слой, группы, прослойки pan о-чих, объективно подкупленных буржуазией (лучшая плата, почетные места и т. д.) и помогающих своей бур жуазии грабить и душить мелкие и слабые народы, бороться из-за дележа капиталистической добычи»
Центр В. И. Ленин характеризовал как «царство добренькой мелкобуржуазной фразы, интернационализма на словах, трусливого оппортунизма и угодничества перед социал-шовинистами на деле»1 2. Ленин бичевал представителей центра за нежелание вести массы на революцию. «Гвоздь вопроса в том,— писал он далее,— что «центр» не убежден в необходимости революции против своих правительств, не проповедует ее, не ведет беззаветной революционной борьбы, выдумывает самые пошлые — и архи-«марксистски» звучащие — отговорки от нее»3.
Подлинными интернационалистами, интернационалистами на деле, являлись только большевики в России и левые элементы в западноевропейских партиях.
Наиболее значительной из них была группа «Спартак» в Германии, основанная К. Либкнехтом, Р. Люксембург, К. Цеткин, Ф. Мерингом. Левые группы на Западе тогда еще были слабые, допускали серьезные ошибки. Но именно они сохранили верность революции и по праву назывались пролетарскими интернационалистами, ибо они вели борьбу против своих империалистических правительств.
«Таких людей мало,— писал В. И. Ленин,— но только в них — вся будущность социализма, только они — вожди масс, а не развратители масс» 4.
Меньшевики же, как и их многочисленные единомышленники на Западе, боролись не против своих империалистических правительств, а против революции. Несмотря на некоторые различия в отношении к войне, все они были едины во взглядах на пролетарскую революцию. В эту рамку вписывались все меньшевистские течения.
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 171.
2 Там же.
• Там же.
4 Там же, стр. 174—175.
3
Н. Рубан
33
После свержения самодержавия борьба двух линий в рабочем движении — большевистской и меньшевистской— передвинулась из области теоретического спора в область практического действия и стала особенно злободневной. Даже еще в марте, когда большевики в чрезвычайно сложной обстановке двоевластия допускали ряд ошибок, они вели революционную политику. Большевистская партия — Русское бюро ЦК и местные партийные организации с самого начала дали правильную оценку Временному правительству, как правительству империалистической буржуазии, правильно характеризовали войну как грабительскую, захватническую. Большевистская партия имела в своем теоретическом арсенале ленинское учение о перерастании буржуазнодемократической революции в социалистическую. Правда, не уяснив своеобразия обстановки и считая буржуазно-демократическую революцию незаконченной, партия до начала апреля, т. е. до возвращения В. И. Ленина в Россию, еще не ставила вопроса о переходе к социалистической революции в качестве непосредственной практической задачи, но вся ее политическая и организаторская работа была направлена на подготовку пролетариата к новым классовым битвам. Партия ставила вопрос о создании Красной гвардии и всеобщем вооружении народа.
Находившийся в далекой эмиграции вождь партии В. И. Ленин в первые же дни после свержения самодержавия пишет «Наброски тезисов» и знаменитые «Письма из далека», в которых дает точный анализ политического положения и соотношения классовых сил в России, разрабатывает важнейшие положения стратегии и тактики пролетариата, получившие потом дальнейшее развитие в его гениальных Апрельских тезисах. Своеобразие момента, писал Ленин, состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии, ко второму ее этапу, к социалистической революции, которая должна передать власть в руки пролетариата и беднейшего крестьянства, заменить Временное буржуазное правительство правительством Советов. Только такое правительство может привести страну к миру.
Социалистическая революция возможна при том условии, если пролетариат окажет всемерную поддержку
34
громадному большинству крестьянства в его борьбе за конфискацию помещичьих земель и национализацию всей земли. В. И. Ленин сформулировал ближайшие задачи пролетариата: никакого доверия Временному правительству, вооружение рабочих, контроль над производством и распределением продуктов.
Меньшевики же считали, что с падением самодержавия ни о какой новой революции не может быть и речи. Правда, они много говорили о необходимости развивать революцию, но при этом имели в виду не переход к ее новому этапу, а движение по пути реформ. Они упорно держались старой догмы, доказывая, что Россия не созрела для социалистической революции и должна пройти длительную полосу капиталистического развития. Вот что писал Абрамович 45 лет спустя после рассматриваемых событий: «Ввиду общей отсталости России в социальном отношении и ввиду малочисленности ее промышленного пролетариата, русские марксисты не предусматривали, что наступит сразу социалистическая, пролетарская стадия революции»
Опираясь лишь на опыт буржуазных революций Запада, меньшевики утверждали, что буржуазная революция и не может привести к каким-либо иным результатам, кроме политического господства буржуазии. Они сразу же стали на сторону Временного правительства, называя его революционным, заботились об укреплении его власти.
Характерно, что уже в первые дни после свержения самодержавия, когда лозунг «Вся власть Советам!» большевистской партией еще прямо не провозглашался, меньшевики старались предотвратить саму мысль о возможности перехода власти в руки Советов. Они навязывали рабочему классу свой взгляд на Советы: этоде не власть, а средство организации пролетариата. 12 марта1 2 «Рабочая газета» (центральный орган ОК
1 Abramovitch Raphael. The Soviet revolution 1917—1939. New York, 1962, p. 17.
2 Даты до (1) 14 февраля 1918 г. приводятся по старому стилю. После 1 (14) февраля 1918 г.— по новому стилю. В ссылках на периодическую печать и документы сохраняется дата, обозначенная на документе.— Н. Р.
35
меньшевистской партии) 1 в пространной статье ,в. менное правительство и рабочим класс» навязчиво “Реводила мысль, что переход власти к буржуазии в > сии-явление закономерное. Это «неизбежно добыло случиться у нас на той ступени экономического ? политического развития, на какой стоит Россия». Нащ.» стране «предстоит еще долгий период буржуазного п?” вития»,— утверждала меньшевистская газета, пугая пролетариат перспективой полного одиночества, если он вздумает взять власть в свои руки. Оборонец А. По-тресов в газете московских меньшевиков * Вперед» писал, что Совет рабочих депутатов «смотрит за властью, но он сам при всей своей революционной власти отнюдь не есть власть». Потресов не жалел лестных эпитетов в адрес Советов: «трибун», «недреманное око» и т. п. И в то же время весь смысл статьи сводился к тому, что Советы не должны претендовать на власть. «Властью России,— утверждал он,— может быть в настоящее время только учреждение, облеченное внеклассовым доверием, которое пользуется всенародной поддержкой. Такой властью является Временное правительство». Советам же Потресов рекомендовал, чтобы они ввели себя в те «нормальные рамки», которые им показала история, как «трибунам народного движения», как «контролерам революции» 1 2.
Еще раньше, 8 марта, та же газета поучала, что по отношению к Временному правительству «не следует плодить подозрений, не нужно явного и тайного выражения недоверия» 3.
Следовательно, меньшевики, составлявшие вместе с
1 «Рабочая газета» начала выходить 7 марта 1917 г. Редакция этой газеты формально была составлена на паритетных началах из оборонцев и интернационалистов, но фактически она почти целиком состояла из оборонцев. К ним относились: Б. С. Батурский (Цейтлин), Ф. А. Череванин, Б. И. Горев (Гольдман). Из числа интернационалистов в нее входил О. А. Ерман-скии. В книге «Из пережитого» (М.—Л., 1927) Ерманский утверждал, что ему якобы «удавалось отвратить от газеты опасность ' *атиться в сторону революционного оборончества». О том, чт® и и ^!ЛаСЬ бУДТ0 бы в интернационалистском духе, говорите Л('йствитДНУТ0И кь1иге р- Абрамовича. Но это не соответству лешю столпи °СТИкГазета во всех социальных вопросах опреД
стояла на оборонческих позициях.
з Рперед», 23 марта 1917 г.
«Вперед», 8 марта 1917 г.
36
меньшевистской партии) 1 в пространной статье «Вре„ менное правительство и рабочий класс» навязчиво проводила мысль, что переход власти к буржуазии в России — явление закономерное. Это «неизбежно должно было случиться у нас на той ступени экономического ц политического развития, на какой стоит Россия». Нашей стране «предстоит еще долгий период буржуазного развития»,— утверждала меньшевистская газета, пугая пролетариат перспективой полного одиночества, если он вздумает взять власть в свои руки. Оборонец А. По-тресов в газете московских меньшевиков «Вперед» писал, что Совет рабочих депутатов «смотрит за властью, но он сам при всей своей революционной власти отнюдь не есть власть». Потресов не жалел лестных эпитетов в адрес Советов: «трибун», «недреманное око» и т. п. И в то же время весь смысл статьи сводился к тому, что Советы не должны претендовать на власть. «Властью России,— утверждал он,— может быть в настоящее время только учреждение, облеченное внеклассовым доверием, которое пользуется всенародной поддержкой. Такой властью является Временное правительство». Советам же Потресов рекомендовал, чтобы они ввели себя в те «нормальные рамки», которые им показала история, как «трибунам народного движения», как «контролерам революции» 2.
Еще раньше, 8 марта, та же газета поучала, что по отношению к Временному правительству «не следует плодить подозрений, не нужно явного и тайного выражения недоверия» 3.
Следовательно, меньшевики, составлявшие вместе с
1 «Рабочая газета» начала выходить 7 марта 1917 г. Редакция этой газеты формально была составлена на паритетаь® началах из оборонцев и интернационалистов, но фактически она почти целиком состояла из оборонцев. К ним относились. Б. С. Батурский (Цейтлин), Ф. А. Череванин, Б. И. Горев (Гольдман). Из числа интернационалистов в нее входил О. А. Ерман-скии. В книге «Из пережитого» (М.—Л., 1927) Ерманский утверждал, что ему якобы «удавалось отвратить от газеты опасность скатиться в сторону революционного оборончества». О том, чт0 газета велась будто бы в интернационалистском духе, говорится и в упомянутой книге Р. Абрамовича. Но это не соответствует ^ВИТеЛЬН0СТИ- Газета во всех социальных вопросах определенно стояла на оборонческих позициях.
«Вперед», 23 марта 1917 г.
«Вперед», 8 марта 1917 г.
36
эсерами большинство в Советах, сознательно огранич т-вали их иллюзорными функциями «контроля» над буржуазным Временным правительством. Первое вре.-'я меньшевики не решались войти в его состав, откры. о взять ответственность за империалистическую полит; г-ку этого правительства. Они предпочли играть рол о «оппозиции», слегка фрондировали, критиковали отдельные мероприятия правительства буржуазии, объявили, что поддерживают его условно. В конечном же счете они активно проводили его внутреннюю и внешнюю политику.
Особенно большую услугу меньшевики оказали буржуазии в наиболее важном и животрепещущем вопросе— о войне. Как уже отмечалось, после Февраля официальная линия меньшевистской партии основывалась на идее «революционного» оборончества. Точнее сказать, эту идею взяло на свое вооружение то центристское течение во главе с ОК, которое раньше шло под флагом пацифизма. Правда, пацифистская фраза осталась, лидеры из ОК продолжали себя называть циммер-вальдистами, но вся эта ветошь служила лишь прикрытием оборонческой политики. То обстоятельство, что оборончество именовалось «революционным», нисколько не меняло положения, так как объективно оно служило империалистическим целям буржуазии так же, как и открытое оборончество. Игнорируя классовый подход к оценке общественных явлений, меньшевики утверждали, что с падением самодержавия изменился характер войны, она перестала быть империалистической, ее целью является защита революции. Отсюда вытекало, что надо помогать Временному правительству вести войну и от него же требовать усилий для заключения справедливого мира.
Противоречивое соединение оборончества и пацифизма, проявлявшегося в виде «революционного» оборончества, было отражением противоречивой, двойственной природы мелкой буржуазии и ее партий. С одной стороны, меньшевики поддерживали власть капиталистов, которую считали единственно возможной на данном этапе социально-экономического развития России, а это означало прежде всего активно поддерживать ее военные мероприятия; с другой стороны, нельзя было не считаться с настроением пролетариата и
37
-о»,ч« ОТ войны солдат как в Советах, так и Ви. г ветов Здесь требовалось революционное прикД^ «б^ончества, нужна была пацифистская фраз,.
Идея «революционной» обороны стала пров0Ди меньшевиками почти сразу же после победы Фев₽а£ ской революции. Уже 25 марта ОК опубликовал люцию, предупреждавшую об опасности, «которой мог-ли бы подвергнуть дело русской революции и вместе с ней революционной демократии военные поражевдц России». ОК призывал «укреплять дело обороны» Еще раныпе, в самом начале марта, подобного рода резолюции были приняты на учредительных собраниях меньшевиков в Москве и Петрограде, ставивших перед со-
бой задачу объединить все меньшевистские течения на платформе «революционного» оборончества. Как сообщала «Рабочая газета», на этих собраниях «вопрос о войне, наиболее важный, поставлен был в новой плоскости, он был связан с вопросом защиты революции»2. И на этой платформе, по свидетельству той же газеты, действительно сошлись все течения меньшевизма. Тезис о «революционной» обороне сопровождался пацифистской фразой, столь типичной для центра, который, как указывал В. И. Ленин, «весь клянется и божится,
что они марксисты, интернационалисты, что они за
мир, за всяческие «давления» на правительства, за всяческие «требования» к своему правительству о «выявлении им воли народа к миру», за всевозможные кампании в пользу мира, за мир без аннексий и т. д., и т. д. — и за мир с социал-шовинистами» 3.
Меньшевики предлагали добиваться от Временного правительства «категорического» публичного отказа от всех аннексионистских планов и взятия на себя инициэ' тивы мирных переговоров, а также призвать междУ113-родный, прежде всего германский и австрийский, проле-тариат оказать организованное давление на свои правительства с целью заключения мира.
Совершенно очевидно, что подобная «программа ми ра» ыла безопасна для буржуазии, ничем не угрожал се завоевательным планам. Вместе с тем она приносив вРеД трудящимся, так как отравляла
2 Газета>>’ 25 марта 1917 г.
3 в и п газета»’ 8 марта 1917 г.
. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 170—171.
38
сознание иллюзией, будто Временное правительство является надклассовым и путем давления его можно заставить отказаться от аннексионистских целей войны, выступить инициатором заключения справедливого мира.
Ленин писал, что гучковы, Милюковы, Львовы, если бы даже захотели, не могут отказаться от аннексий и контрибуций, так как они являются представителями класса капиталистов, заинтересованного в захватнической политике, вложившего в это дело миллиарды.
«Надеяться на то, что класс капиталистов может «исправиться», перестать быть капиталистическим классом, отказаться от своих прибылей,— есть обманчивая надежда, пустая мечта, на практике превращающаяся в обман народа. Только мелкобуржуазные политики, колеблясь между капиталистической и пролетарской политикой, могут питать или поддерживать такие обманчивые надежды. В этом именно состоит ошибка теперешних вождей народнических партий и меньшевиков, Чхеидзе, Церетели, Чернова и так далее»
Утопичны были и надежды на то, что пролетариат западноевропейских стран в обстановке шовинизма и повсеместного предательства социалистических вождей может оказать организованное давление на свои правительства и таким образом заставить их заключить мир.
В обращении Петроградского Совета «К народам всего мира», опубликованном в марте, меньшевики и эсеры призывали пролетариат даже к свержению своих правительств, но этот призыв не касался союзных стран, он относился лишь к государствам австро-германской коалиции. Австрийским и германским рабочим рекомендовалось отказаться служить «оружием захвата и насилия в руках королей, помещиков, банкиров...» 1 2. Такого рода обращение могло бы иметь силу только в том случае, если бы его авторы, русские социалисты, обратились с подобным призывом к пролетариату собственной страны. Но они этого не делали: пролетарская революция не входила в их планы. Это со всей силой вскрывал и подчеркивал В. И. Ленин. «...Если вы
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 314—315.
9 «Революционное движение в России после свержения самодержавия». М., 1957, док. № 189, стр. 253.
39
говорите: «откажитесь служить орудием в руках ваш банкиров», а собственных банкиров пускаете в стерство и сажаете с министрами социалистами превращаете все свои воззвания в ничто, всю свою литику на деле опровергаете. На деле как будто не было ваших превосходных стремлений или желаний, ибо вы помогаете вести со стороны России ту же самую империалистическую войну, ту же самую захватную войну»
Позже меньшевики в качестве одной из практических мер достижения мира выдвинули идею созыва международного социалистического конгресса и восстановления Интернационала «для объединения и согласования усилий пролетариев всех стран в борьбе за мир» 2. Это была задача столь же нереальная, как и другие задачи, выдвинутые меньшевистской «программой мира». Разве можно было рассчитывать, что социал-демократические вожди, которые с начала войны расползлись по национальным квартирам и помогали своей буржуазии разжигать братоубийственную войну, сядут за один стол, чтобы договориться о справедливом мире. Это ясно понимал и кадет Милюков. В своей книге «История второй русской революции» он писал, что самая основа расчета на объединение социалистов всех стран «на почве циммервальдской формулы не существует, ибо подавляющее большинство социалистов обеих воюющих сторон стало на точку зрения национальную и с нее не сойдет» 3 * * * *.
В первое время между различными течениями меньшевизма особых споров об отношении к войне не было. Большинство организаций сходилось на платформ® «революционного» оборончества. Но и единства не было уже с самого начала. Часть резолюций, принятых на местах, была выдержана в чисто оборонческом ДУхе' Воевать «до полной победы» призывали резолюции уфимской и костромской организаций меньшевиков.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 278. н.
Резолюция о войне, принятая общероссийской к0Н^иХг
Уем11 ^звшеви5тских и объединенных организаций в маеДрЯВ-
пенны* россииская конференция меньшевистских и °®
' П °рга™за^й РСДРП». Пг., 1917, стр. 39). т j,
вып. 1 Киев 19^ стр. ^СТОрия ВТОРОЙ русской революции,
40
воронежская организация требовала «организовать все силы для защиты русской свободы от посягательств австро-германской коалиции» В организации меньшевиков Василеостровского района Петрограда преобладала интернационалистское направление. Оборонческий пункт резолюции ОК, решительно предупреждавший и против всех действий, ведущих к дезорганизации дела обороны», был отвергнут. Тот факт, что только 12 человек из 250 поддержали предложение оборонца Голикова. акцентировавшее внимание на обороне страны, свидетельствовал о растущем влиянии революционного пролетариата Петрограда на мелкобуржуазные слои населения, в том числе на рядовых членов партии меньшевиков. Многие из них не разделяли оборонческих идей, хотя и не стали последовательными интернационалистами.
Таким образом, меньшевистские лидеры, оказавшись после Февраля вместе с представителями других соглашательских партий у руководства Советами, фактически направили всю свою деятельность на службу империалистической буржуазии. Правда, продолжая считать себя пролетарской партией, они обращались к рабочему классу, прибегали к революционной фразеологии, но именно это делало их особенно полезными для буржуазии. Через соглашателей она проводила в массы свои идеи, прежде всего идею доведения войны «до победного конца». Преобразованная меньшевиками в более удобную и приемлемую форму «революционного» оборончества, эта идея находила для себя благоприятную почву в многомиллионной и многоликой массе мелкой буржуазии.
Ленин отмечал, что «революционное» оборончество являлось, с одной стороны, результатом обмана трудящихся, в том числе части рабочих, с другой — выражением интересов мелкой буржуазии, которая до известной степени заинтересована в аннексиях и прибылях. Точку зрения мелкого хозяйчика именно и представляли соглашательские партии.
«Революционное» оборончество было особенно опасной разновидностью оппортунизма, так как несло с собой идею социального мира, уводило в сторону от клас-
1 «Рабочая газета», 29 и 30 марта 1917 г.
41
совой борьбы и революции, порождало бессознателк^ доверчивое отношение к буржуазному Временному Пп? вительству. Поддерживая военные мероприятия Впр, менного правительства, как и всю его политику, лиде^ меньшевистско-эсеровского блока действовали от имени Советов, прикрывались его громадным авторитетом как представителя народных масс. Тем самым они укреп-ляли позиции буржуазии, вели дело к ликвидации двоевластия в ее пользу. Соглашатели стремились ослабить Советы, свести их к роли пустой говорильни.
С первых же дней после свержения самодержавия мелкобуржуазные партии стали величайшим тормозом на пути дальнейшего развития революции. Нельзя было достичь решающей победы в борьбе против буржуазии без изоляции этих партий, высвобождения трудящихся из-под их влияния. Завоевание масс на сторону революции являлось первоочередной задачей большевистской партии. Требовалась упорная воспитательная и организаторская работа по разоблачению антинародной политики соглашателей. Особенно трудная борьба предстояла с меньшевиками — партией, которая выступала под флагом марксизма, выдавала себя за представителя рабочего класса.
Каково же было соотношение сил ме-
С°ОТсид,еИИв ЖДУ большевиками и меньшевиками с точки зрения их влияния в массах в первые месяцы после Февральской революции? Какие именно слои населения шли за этими партиями?
В буржуазной историографии распространена бездоказательная версия, будто вплоть до февраля 1917 г» да и после февраля, большевики не пользовались влиянием в рабочем классе Это утверждение не соответст вует исторической истине. Оно понадобилось, чтобь1 принизить роль большевистской партии в революции» подвести к ложному выводу, будто пролетариат России в то время шел за меньшевиками и эсерами, а больше* вики были изолированы от масс.
ггГ.г Л ^1апиР°» например, утверждает, что к началу мгпимг11<г,|ИКОВ« fcCJiM ГОЬОРИТЬ об их численности и “ р? ? i ?Л! с?росить со счетов» (L. Schapiro. The с°^>-nist Party of the Soviet Union, p. 160—161). Та же мысль DP° дится в работах Б. Пейрса, Дж. Мейнарда, Э. Карра и ДР-
42
Выяснению вопроса о влиянии большевиков и меньшевиков-ликвидаторов в рабочем классе В. И. Ленин посвятил ряд работ, написанных накануне и в начале первой мировой войны. Особенно наглядны и убедительны в этом отношении данные об отношении рабочих к большевистской и меньшевистской печати, о материальной поддержке ее и о тиражах газет.
С января 1912 г. по 13 мая 1914 г. насчитывалось 5674 рабочие группы, производившие взносы на газеты правдистского (большевистского) направления; на газеты меньшевистского, ликвидаторского направления— 1421 группа. Это значит, что меньшевикам сочувствовала только одна пятая рабочих. При этом влияние большевиков из года в год возрастало. В 1914 г. число правдистских групп увеличилось на 31,7 процента, а число ликвидаторских — на 1,5 процента.
Характерно, что из общего числа рабочих групп, сочувствовавших меньшевикам, на Петербург приходится 14 процентов, на Москву — 17, а на провинцию — 32 процента \
На основании анализа данных о рабочей печати В. И. Ленин доказал, что большевики к началу войны имели подавляющее влияние в рабочем классе. Особенно большим оно было в крупных пролетарских центрах. За меньшевиками же шла незначительная часть рабочих. Больше половины денежных средств они получали от буржуазии 1 2. Подводя итоги Дня рабочей печати, посвященного двухлетнему юбилею «Правды», В. И. Ленин писал (в июле 1914 г.): «Четыре пятых сознательных рабочих идут за правдизмом — этот факт, выведенный на основании цифр за все два года существования легальных газет, подтвержден и днем рабочей печати» 3.
Факт полного преобладания большевистского влияния В. И. Лениным был доказан также на основании данных о выборах в IV Государственную думу от рабочей курии и во всероссийское страховое учреждение, о ведущей роли большевиков в профсоюзах Петрограда и Москвы.
1 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 229.
2 См. там же, стр. 374.
8 Там же, стр. 420.
43
С началом войны работа большевистской партии ь массах значительно затруднилась. После многократных ударов со стороны царской полиции многие из on, ганизации совсем переставали существовать. Но тия восстанавливала свои организации. Уже к весне 1915 г. они существовали почти во всех крупнейших промышленных центрах. Не менее 60 большевистских организаций выпускали нелегальные листовки. По неполным данным, во время войны партийные органи-зации, группы и кружки работали более чем в 200 городах России 1.
Особенно активно действовала столичная организация большевиков, о чем имеются свидетельства даже врагов пролетариата. В докладной записке начальника Петроградского охранного отделения от 16 августа 1916 г. говорилось: «...Благодаря энергии членов Петербургского комитета Российской социал-демократической рабочей партии, деятельность большевиков все ширилась и принимала более определенные формы, средства и способы преступной пропаганды в России, и вообще она начала становиться весьма серьезной и опасной для общественного спокойствия и государственного порядка...» 2.
О том, что накануне Февральской революции сознательные рабочие шли за большевиками, свидетельствуют массовые забастовки, организованные большевиками в ознаменование событий 9 января. В январе 1916 г. бастовало 70 655 рабочих, из них 66 767 человек на 55 предприятиях Петрограда. По сведениям Департамента полиции, 9 января 1917 г. стачки происходили па 114 предприятиях столицы. В стачечную борьбу петроградского пролетариата были вовлечены 144 6'** рабочих. По данным Петербургского комитета больше вистской партии, число стачечников достигало 200 ты < яч человек. Громадные забастовки прошли в Москве. 1 уле и ряде других городов. В январе в Петрограду Москве, Баку и 16 губерниях России политическими
за» И,сЗ£Рия Коммунистической партии Советского
2. М.( 1966, стр. 546-547. я0Я
в России ^\^мЛ^КСандров> М- л' Шалагинова. День
д°кументов ЧГИАМ- ‘ИСТ0Р
44
экономическими стачками было охвачено 267 предприятий ’.
Отмечая громадную работу, которую развернул П< -тербургский комитет, В. И. Ленин писал: «Для России и для всего Интернационала это — поистине образец социал-демократической работы во время реакционной войны, при самых трудных условиях л 1 2.
За годы войны в составе рабочего класса произошли серьезные изменения, которые благоприятствовали усилению влияния мелкобуржуазных партий, в том числе меньшевиков, на отдельные его слои. К 1917 г. рабочий класс увеличился более чем на 1 миллион человек. При этом в металлообрабатывающей промышленности число рабочих выросло на 66,6 процента, в каменноугольной — на 55 процентов. На казенных предприятиях, принадлежавших в основном военному и военно-морскому ведомству, численность рабочих увеличилась в 6 раз. В то же время постоянные мобилизации вырвали из рядов пролетариата примерно 20— 25 процентов мужского состава3. Мобилизациям подвергалась в первую очередь, конечно, наиболее активная и «неблагонадежная» часть рабочих.
Изменилось по своему составу и новое пополнение рабочих в промышленности. Если раньше рабочий класс рос за счет пролетаризованного крестьянства и разорявшейся городской мелкой буржуазии, то теперь в промышленность, прежде всего военную, ринулись выходцы из кулаков, лавочников и других буржуазных и мелкобуржуазных слоев населения. В 1917 г. почти треть рабочих прямо или косвенно были связаны с землей и более одной пятой имели землю и вели на ней свое хозяйство при помощи семьи4.
1 См. Ф. Л. Александров, М. Л. Шалагинова. День 9 января в России в 1908—1917 гг. Обзор документов ЦГИАМ. «Исторический архив», 1958, № 1, стр. 220—221.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 27, стр. 48.
8 См. П. В. Волобуев. Пролетариат и буржуазия в России в 1917 году. М., 1964, стр. 18—20.
4 См. там же, стр. 19. О составе рабочего класса в период мировой войны см. также: А. Г. Рашин. Формирование рабочего класса России. М., 1958; «Материалы к учету рабочего состава и рабочего рынка», вып. I. Пг., 1916; вып. 2. Пг., 1917; Л. С. Гапоненко. К вопросу о численности промышленного пролетариата в России накануне Октября. «Исторический архив», 1961, № 5,
45
Вместе с тем буржуазия не могла оставить Пред, приятия, работавшие на войну, без квалифицирован, ных рабочих. Вследствие этого в крупных промыщЛен^ ных центрах, прежде всего в Петрограде и Москве, основное ядро кадровых рабочих — наиболее передовая и сознательная часть пролетариата — сохранилось.
Буржуазия пыталась внести раскол и разложение в пролетарскую среду, путем подкупа части рабочих относительно высокой заработной платой. Так, в начале 1916 г. в Петрограде при средней оплате труда 50—юо рублей в месяц, заработок небольшой группы рабочих достигал 240—300 рублей
Создание привилегированной верхушки рабочего класса проходило и по другой линии. Именно в эти годы появляется в рабочем классе России тот слой, хотя и очень немногочисленный, который можно без оговорок назвать «рабочей аристократией». К этому слою относились прежде всего служащие так называемых «рабочих групп» при военно-промышленных комитетах, подкармливаемые буржуазией. Типичными представителями «рабочих аристократов», изменивших своему классу, были, например, Кузьма Гвоздев — бывший рабочий завода «Эриксон», а затем председатель «рабочей группы» при Центральном военно-промышленном комитете; Брейдо — с завода «Новый Лес-снер», Кабцан и Булкин — в Самаре, Алферов —в Киеве и др.
Однако, как показали выборы в «рабочие группы» военно-промышленных комитетов, и в годы войны большая часть рабочих, прежде всего в крупных про* мышленных центрах, шла за большевиками, а не за меньшевиками. Не помогли меньшевикам ни демагогия, широко применявшаяся ими во время выборов, ни поддержка со стороны буржуазии.
В выборной кампании, начавшейся осенью 1915 г., большевики проводили тактику активного бойкота во енно-промышленных комитетов. Выборы они исполь^ зовали для пропаганды своих идей — принимали Уча^ стие в избрании выборщиков, а на общегородских с0 браниях выборщиков заявляли в своей резолюпи
1 См. И. П. Лейберов, О. И. Шкаратан. К вопросу о петроградских промышленных рабочих. «Вопросы истор 1961, № 1, стр. 55.
46
протест против войны и участия в военно-промышленных комитетах. Там, где удавалось провести предвыборные собрания рабочих они проходили в острых схватках большевиков и меньшевиков. Собрание 8 тысяч рабочих заводов «Новый Лесснер» и «Старый Лесснер» голосовало за большевистскую резолюцию, резко направленную против империалистической войны. Большевистские резолюции были приняты на Пути-ловском заводе, на заводе «Эриксон». Большевистский наказ приняли рабочие собрания заводов Ижорского, «Старый Лесснер», «Айваз», «Парвиайнен», «Феникс», «Скороход», Металлического завода Барановского «Франко-Русского», Семенова, «Вулкан», «Нобель», «Дюфлон» и др. На общегородском петроградском собрании выборщиков 27 сентября 1915 г. за резолюцию большевиков голосовало 90 выборщиков, за меньшевистскую — 811 2.
Даже там, где меньшевикам удавалось провести своих кандидатов в военно-промышленные комитеты и где принимались их наказы, их успех далеко не всегда свидетельствовал о подлинном настроении рабочих. Сплошь и рядом меньшевики достигали преимущества грубыми нарушениями правил голосования.
На 23 мая 1916 г. выборы в «рабочие группы» прошли лишь в 76 военно-промышленных комитетах (из общего числа 239). Создано было лишь 39 «рабочих групп» 3.
Материалы о выборах в «рабочие группы» особо ценны тем, что это был первый в годы войны случай, когда политические партии имели возможность открыто, перед массовыми собраниями рабочих изложить свои политические взгляды, а рабочие — выразить свое отношение к ним. Ход кампании по выборам в «рабочие группы» показал, что в крупных пролетарских центрах большевики имели прочную основу, хотя было
1 Такие собрания проводились не везде; правительство очень скоро увидело, что они проходят далеко не в «патриотическом» духе, и предпочло проводить их при помощи полиции.
2 См. С. П. Борисов. Борьба большевиков против военно-промышленных комитетов (1915—1916 гг.). М., 1948, стр. 37—38; В. С. Сайранян. Борьба большевиков против военно-промышленных комитетов. Ереван* 1961, стр. 65.
3 См. Б. С. Сайранян. Там же, стр. 85.
47
бы неправильно сбрасывать со счетов и вес меНЬЦ1е|1и ков в отдельных слоях рабочего класса. Шев«-
В февральские дни большевистская партия выст., пала как организатор и руководитель трудяц** масс, и все же в столичном и в преобладающей Ча~? местных Советов она оказалась в меньшинстве. Прав_ да, в ряде промышленных городов (Иваново-Возйе. сенск, Орехово-Зуево, Екатеринбург, Лысьва, Невьянск, Миньяр, Алапаевск, Верхняя Тура и др.) бОДь_ шевики преобладали или стояли у руководства Советами. Это отмечал В. И. Ленин в набросках к тезисам резолюции о Советах для Апрельской конференции партии.
«В ряде местных центров, особенно рабочих, роль Советов оказалась особенно большой,— писал он.—Создалось единовластие; буржуазия разоружена полностью и сведена к полному подчинению; повышена заработная плата, сокращен рабочий день при неумень-шенном производстве; обеспечено продовольствие; начат контроль за производством и распределением; смещены все старые власти; поощряется революционная инициатива крестьян и в вопросе о власти (смещение всех старых и создание новых властей) и в вопросе о земле»1.
Причины преобладания меньшевиков и эсеров в Советах в первое время после революции в основном исследованы в нашей литературе. Главная из них — общий мелкобуржуазный состав населения страны. Разбуженная революцией мелкобуржуазная масса населения жадно потянулась к политике, и именно она под-няла на поверхность соглашательские партии. В. И. Ле пин писал: «Гигантская мелкобуржуазная волна захле стнула все, подавила сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идейно, т. е. заразил» захватила очень широкие круги рабочих мелкобур^У азными взглядами на политику» 2.
Очутившись на гребне революции, вожди мелкооуг НЫХ УаРтий достигли известного успеха иску сочувет«еи’ Среда части рабочих им удалось выз
ие к себе как к истинным борцам за
’ Там 1?г0ЛН- соб₽- с°ч- т- 31’ стр- 382’
48
дЯщихся. При этом сказались изменения в составе Т летариата, вызванные войной. Разумеется, рабочие главным образом за левым флангом меньшевистской партии.
Немаловажным обстоятельством, облегчившим захват Советов соглашательскими партиями, было отсутствие в столице в момент революции наиболее опытных работников большевистской партии — они находились в тюрьме, в ссылке, в эмиграции. Кадры меньшевистской и эсеровской партий не понесли такого урона. Многие активные работники этих партий и в условиях войны работали легально. Вообще среди меньшевиков и эсеров было больше интеллигенции. В то время когда большевики руководили вооруженной борьбой пролетариата, они произносили речи, занимались политическими комбинациями.
Вопрос о том, почему соглашатели получили преобладание в Советах, возник на заседании Петербургского комитета РСДРП(б) уже 4 марта 1917 г. Вот что по этому поводу говорил В. Н. Залежский: «Захват мест меньшевиками-ликвидаторами в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов произошел по тем причинам, что в то время, когда большевики вели работу нелегально, ликвидаторы действовали свободно. В первые дни Февральской революции большевики были на улице в массе, ликвидаторы же устремились тотчас в Государственную думу» 1. Этот вывод подтверждается рядом воспоминаний участников и современников Февральской революции.
Но господство соглашательских партий в Советах не означало, что эти партии имели господствующее влияние и в рабочем классе. Никакой нормы выборов не существовало; их судьбу сплошь и рядом решали мелкобуржуазные слои, прежде всего крестьяне, одетые в солдатские шинели. И это не могло не отразиться на составе Советов. В марте в Петроградский Совет входило 2000 солдат, а рабочих только 800, т. е. в 2,5 раза меньше1 2 * 4. В то же время в городе и его окрестно-
1 «Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 15.
См. «Известия Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов», 23 марта 1917 г.
4 н. Рубан
сгях рабочих было раз в восемь больше, чем содд*, Не удивительно, что при выборах исполкома прайму, шество было отдано мелкобуржуазным партиям К концу марта партийный состав исполкома Петро, гоадского Совета выглядел следующим образом: боль-шевиков — 10. меньшевиков вместе с бундовцами и примыкавшими к ним внефракционными социал-демократами—17. эсеров, трудовиков и народных социалистов— 10, межрайонцев— I, беспартийных или с не-выясненной партийностью — 4 .
Преобладание мелкобуржуазных партий усиливалось тем, что все они выступали в едином блоке против большевиков. Это особенно наглядно видно на примере исполкома Московского Совета, в который было избрано (11 апреля) по 20 человек от каждой из основных партий (большевиков, меньшевиков и эсеров)* 2. Несмотря на паритетность представительства, соглашательский блок имел двойной перевес перед большевиками.
Таким образом, численное соотношение представителей различных партий в Советах, их руководящих органах не является показателем степени их влияния в рабочем классе. Есть все основания утверждать, что основное, наиболее сознательное ядро рабочего класса по-прежнему шло за большевистской партией. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что уже вскоре по-
1 Кроме указанных 42 членов исполкома в его состав входили с правом совещательного голоса члены социал-демократических фракций Государственной думы всех созывов, 5 представителей от солдатской комиссии, 2 представителя от Центрального бюро профессиональных союзов, редакционная комиссия «Известий» и представители от районных Советов. 16 человек с правом решающего голоса было введено Всероссийским совещанием Советов. Всего в составе исполнителыюго комитета Петроградского Совета насчитывалось около 115 человек, из них большевиков —14, меньшевиков (всех оттенков) —
2, эсеров 23, трудовиков, народных социалистов, внефракционных социал-демократов и межрайонцев —12. Партийная принадлежность 15 членов не выяснена (подсчитано автором р«»йПгСКу членов исполкома, приложенному к кн. «Петроград-м т тРа?2чих и С0ЛДаТских депутатов». Протоколы заседании м.—Л., 1925, стр. 361—362).
^°СКОВСКИ^ Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1917—1927». М., 1927, стр. 20.
50
еле Февральской революции фабзавкомы крупнейших пролетарских центров действовали под руководством большевиков. Видный историк А. М. Панкратова, исследовавшая роль фабзавкомов и профсоюзов в революции, имела все основания сделать вывод, что «фабзавкомы, рожденные революционной борьбой пролетариата, идущего к власти, стали с самого начала крепостью революции» За большевиками шла также значительная часть профсоюзов, но в ряде профсоюзов меньшевики тогда еще пользовались влиянием. В отличие от фабзавкомов, связанных с производством и представлявших собой исключительно организации передового пролетариата, многие профсоюзы объединяли полупролетарские и непролетарские элементы.
Важным показателем авторитета большевистской партии среди пролетариата явился и ее успех на общегородской петроградской страховой конференции, которая в большинстве своем была представлена большевиками и их сторонниками и все решения которой были приняты в духе большевистских требований.
О том, каким влиянием пользовались большевики и меньшевики в рабочем классе, некоторое представление дают также выборочные сравнительные данные о количественном составе этих партий и их организаций в крупнейших районах страны. Эти сведения не полны по той причине, что до Февраля, в условиях глубокого подполья, большевистская партия не могла вести систематический учет своих членов, а в первый период после падения царизма партию буквально захлестнуло обилие политических и организационных задач. Численность большевистской партии в момент выхода ее из подполья удается установить с большим трудом. Что же касается меньшевиков, то в силу своего пренебрежительного отношения к вопросам организации они никогда не уделяли серьезного внимания этой работе.
По последним подсчетам, проведенным в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в связи с разработкой шеститомной истории партии, в рядах большевистской партии в то время насчитывалось около
* См. А. Панкратова. Фабзавкомы и профсоюзы в револю ции 1917 г., стр. 6.
S1
24 тысяч членов ’. Но уже к Апрельской конференции число ее членов превышало 100 тысяч (на конференции было представлено 80 тысяч). Партия большевиков пополнялась главным образом за счет крупных пролетарских центров. Если в цеЛом партия выросла в 4 с лишним раза, то ее петроградская организация выросла в 8 раз (с 2 тысяч до 16 тысяч), московская — более чем в 10 раз (с 600 до 7 тысяч), екатеринослав-ская — в 5 раз (с 400 до 2 тысяч). Уже эти данные о количестве и темпах роста большевистских организаций четырех крупнейших промышленных центров показывают, что большевики были партией рабочего класса и их влияние в пролетариате стремительно росло.
О численности и росте партии меньшевиков у нас нет сведений вплоть до майской всероссийской конференции меньшевистских и объединенных организаций. На ней было представлено 58 организаций, из которых половина были чисто меньшевистские, остальные — объединенные. Общее количество представленных на конференции членов партии составляло 45 тысяч 3.
Нет также прямых данных о социальном составе меньшевистской партии в этот период. Но несомненно, что и после Февраля она росла главным образом за счет мелкобуржуазных слоев населения — мелких чиновников, офицеров, студентов, мещан. Как уже отмечалось, к меньшевикам шла и часть рабочих, прежде всего высокооплачиваемых и недавно вышедших из деревни, находившихся в плену мелкобуржуазной психологии, но они не определяли ее социальную физиономию как пролетарской партии. Это можно под
„ 1 Примерно такая же цифра, основанная на данных партийной переписи 1922 г., приводилась в нашей историко-партийной литературе до 1938 г. В «Кратком курсе истории ВКП(б)# была дана новая цифра — 40—45 тысяч. Подсчеты, проведенные в редакции третьего тома шеститомной истории КПСС, в основном совпадают с данными переписи 1922 г. (см. «Всероссийская перепись членов РКП 1922 года», вып. 4. 1923, стр. 92).
По подсчетам, проведенным в редакции третьего тома шеститомной истории КПСС.
В действительности численность партии была несколько На *?нФеРенции не были представлены объединенные rwaa м^ации Кавказа, Сибири (за исключением Тюмени), туль-ррнипп-гсД1ССКая организации. С учетом этих организаций чис-сЯЧ еньшевистскои партии составляла примерно 50 ты-
52
твердить некоторым анализом географического распределения меньшевистских организаций. Официальные данные майской конференции показывают, что в основных пролетарс.ких центрах они по своей численности значительно уступали большевистским. Есть основания утверждать, что и в этих центрах состав меньшевистских организаций был далеко не пролетарским. Вот некоторые данные о численности большевистских и меньшевистских организаций в важнейших промышленных центрах, основанные на материалах VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б) и открывшейся через несколько дней после ее окончания майской конференции меньшевиков.
Большевиков Меньшевиков
Петроград 16000 7200
Москва 7000 3000
Екатерииослав 1500 800
Луганск 1500 540
Характерно, что на меньшевистской конференции слабо был представлен Донецкий бассейн, а от Иваново-Вознесенска, где большевистский комитет к началу апреля объединял 3,5 тысячи членов партии, меньшевиков вовсе не было. Отсутствовали на конференции и меньшевики Екатеринбурга. Вообще, на пролетарском Урале они представляли незначительную силу. Зато относительно многочисленные меньшевистские организации имелись: в Ростове-на-Дону — 3000, в Смоленске — 730, в Севастополе — 1000, в Вязниках — 2300 ’.
Известное представление о социальной структуре меньшевистской партии можно составить и по анкетным данным августовского, так называемого Объеди-
1 Сведения о численности большевистских организаций даются по протоколам VII Всероссийской конференции РСДРП (б) (см. «Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (большевиков)». Протоколы. М., 1958); данные о меньшевистских организациях — по брошюре «Всероссийская конференция меньшевистских и объединенных организаций РСДРП». Пг., 1917.
63
нительного, съезда меньшевиков. В архивных фондах сохранилась 261 анкета, заполненная делегатами съезда причем род занятий указан в 257 анкетах. Среди делегатов этого съезда рабочих было 56 человек, 21,8 процента Заметим, что среди делегатов VI съезда РСДРП(б), заполнивших анкеты (всего было опрошено 171 человек2), рабочих насчитывалось 70 человек, 41 процент. Большинство рабочих, представленных на меньшевистском съезде, это специалисты высокой квалификации, видимо занятые на военных предприятиях; из них токарей по металлу 13, слесарей 19, наборщиков — 5, машинистов — 3. Наибольший удельный вес среди опрошенных делегатов-меньшевиков занимали конторщики и служащие, их насчитывалось 57 человек, или 22 процента (среди большевиков эта группа составляла лишь 12,8 процента). За ними шли литераторы (16 процентов), юристы (7 процентов), преподаватели и врачи 3.
В борьбе против соглашателей, за массы большевистская партия ставила перед собой задачу прежде всего высвободить из-под мелкобуржуазного влияния охваченную им часть рабочего класса, объединить вокруг себя весь пролетариат — авангард революции и полупролетарские слои города и деревни, Но она ни на минуту не забывала и о мелкобуржуазных слоях трудящихся, которые также необходимо было оторвать от соглашателей, привлечь на сторону революции, по крайней мере нейтрализовать. Это можно было сделать только путем повседневной, кропотливой политической и организаторской работы в массах, воспитания их в духе большевистских, марксистско-ленинских идей, разоблачения реформистской, соглашательской линии мелкобуржуазных партий.
Судя по ответам на другие вопросы анкеты, многие делегаты, назвавшие себя рабочими, являлись таковыми только по происхождению, но не по действительному положению.
“3 делегата VI съезда не заполнили анкету, что, вероятно, объясняется условиями, в которых он проходил.
одсчеты о составе делегатов меньшевистского съезда аатором на основе анкет (ЦПА ИМЛ, ф. 275, ед. хр. 16, rnvnn Подсчета УДельного веса отдельных социальных
игппл!плиаД тавленных на VI съезде большевистской партии, ™ рг 7TPm^BOffbIe данные« опубликованные в кн. «Шестой сьезд РСДРП(б)». Протоколы. М., 1958, стр. 295.
54
2. Тактическая линия большевиков по отношению к мелкобуржуазной демократии в новой исторической обстановке
Против Революционной мобилизации масс ОбЪтенденцийНЫХ мешал<> то обстоятельство, что после выхода из подполья многие организации на местах объединяли большевиков и меньшевиков. В ряде организаций имелись примиренческие элементы, толкавшие на такое объединение. Сторонники объединения действовали под флагом борьбы против раскола в рабочем классе.
Большевистская партия всегда была последовательным поборником единства рабочего класса. Для нее это единство было не пустым звуком, а важнейшим условием социалистической революции, выполнения пролетариатом его авангардной роли. Именно поэтому партия боролась за объединение пролетариата под революционным знаменем марксизма-ленинизма. Объединение большевиков с меньшевиками, т. е. двух принципиально различных направлений в рабочем движении— революционного и реформистского, не могло ликвидировать раскола в пролетариате. Оно могло только на время затушевать противоречия, создать иллюзию единства и тем самым ввести в заблуждение рабочий класс, способствовать распространению в нем реформистских идей, затормозить переход к социалистической революции.
Наличие двух партий в рабочем движении безусловно отрицательно сказывалось на его единстве. Поэтому большевики сразу же после II съезда партии повели упорную борьбу против раскольнических действий меньшевиков. Отстаивая единство РСДРП, они, разумеется, не поступались революционными принципами, которые Ленин ставил выше формального единства. Нельзя было во имя единства идти в болото оппортунизма, куда настойчиво тянули меньшевики. Большевики неустанно разоблачали оппортунизм меньшевиков, а когда последние дошли до того, что стали требовать ликвидации самой партии, они были исключены Пражской конференцией из рядов РСДРП. Но, исключая ликвидаторов из партии, большевики стремились сохранить организационные связи с той труп
55
пой меньшевиков во главе с Плехановым, которая оставалась на позициях партийности.
Правильность решения партийной конференции подтвердилась всем последующим ходом событий, особенно поведением меньшевиков в годы войны. Став на путь социал-шовинизма, они полностью порвали с коренными принципами марксизма, попрали идеи социализма. Политика соглашения с буржуазией, которую они повели после Февраля, прямо вытекала из их оппортунистической линии. В этих условиях борьба против объединительных тенденций, за разрыв с меньшевиками-оборонцами там, где существовали общие с ними организации, была жизненно необходима. К этому обязывали не только решения Всероссийской конференции РСДРП, но и вся обстановка, сложившаяся в России после Февраля, коренные задачи пролетариата в революции. Вместе с тем партия большевиков готова была принять в свои ряды имевшихся в меньшевистской партии интернационалистов, вступать с ними в блоки и соглашения при условии полного разрыва их с оборончеством.
В. И. Ленин еще до Февральской революции, в годы империалистической войны резко выступал против упорных попыток Троцкого, примиренцев из «Нашего слова» 1 объединить большевиков с оборонцами. В письме к Шляпникову в октябре 1916 г. Ленин писал: «Главным партийным вопросом в России был и ос-
тается вопрос о «единстве»... Примиренчество и объ-единенчество есть вреднейшая вещь для рабочей партии в России, не только идиотизм, но и гибель партии. Ибо на деле «объединение» (или примирение и т. п.) с Чхеидзе и Скобелевым (в них гвоздь, ибо они выдают себя за «интернационалистов») — есть «единство» с ОК, а через него с Потресовым и К0, т. е. на деле лакейство перед социал-шовинистами» 2.
При первых же известиях о революции в России В. И. Ленин в «Наброске тезисов 4 (17) марта 1917 года», излагая важнейшие задачи партии, пишет и о необходимости сохранения идейной и организационной ее самостоятельности. «Не только данное правительство,--
1!Ялисъ3тоопк^^ЙСЯ В ПаРиже журнал, вокруг которого объединялись троцкисты, впередовцы, часть левых меньшевиков.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 49, стр. 300-301.
56
говорится в этом документе,— но и демократически-буржуазное республиканское правительство, если бы оно состояло только из Керенского и других народнических и «марксистских» социал-патриотов, не в состоянии избавить народ от империалистской войны и гарантировать мир.
Поэтому мы не можем идти ни в какие ни блоки, ни союзы, ни даже соглашения с рабочими-оборонцами, ни с направлением Гвоздева-Потресова-Чхенкели-Ке-ренского и т. п., ни с людьми, занимающими подобно Чхеидзе и т. д. колеблющееся и неопределенное положение по этому основному вопросу» ’.
В «Телеграмме большевикам, отъезжающим в Россию» Ленин предупреждает партию: «...никакого сближения с другими партиями» 1 2. В письме А. В. Луначарскому в марте 1917 г. Ленин снова возвращается к этому вопросу: «Самостоятельность и особность нашей партии, никакого сближения с другими партиями — для меня ультимативны. Без этого помогать пролетариату идти через демократический переворот к коммуне нельзя, а другим целям служить я не стал бы» 3.
Таким образом, не имея еще точных сведений о положении дел в России, Ленин предвидел возможные ошибки большевиков, спешил предупредить их.
Бюро Центрального Комитета большевистской партии с первых дней после выхода из подполья много внимания уделяло партийному строительству, организации и идейному сплочению партии. На места выезжали представители ЦК, велась большая переписка с местными организациями. Исходя из ленинских идейных и организационных принципов, Бюро ЦК выступало против объединения с оборонцами. Когда 18 марта ЦК обсуждал предложение меньшевиков-интернационалистов об объединении, представитель Бюро ЦК Е. Д. Стасова заявила, что в качестве обязательного условия необходимо потребовать от них официального заявления о разрыве с «Рабочей газетой», т. е. с оборонцами.
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 6.
2 Там же, стр. 7.
* В. И. Ленин Поли. собр. соч., т. 49, стр. 411.
57
Ленинскую линию в вопросах партийного строительства с самого начала заняло подавляющее большинство партийных организаций. Однако в ряде мест большевики все же оказались временно в общих организациях с меньшевиками. К выяснению причин объ-единенчества историки партии обращались неоднократно ’. Указывались такие моменты, как ослабление большевистских организаций в результате репрессий; изменение состава рабочего класса в годы войны, увеличение его мелкобуржуазной прослойки, узость пролетарской базы в ряде мест; теоретическая слабость многих местных партийных работников, мешавшая им разобраться в новой обстановке, и др. Отмеченные объективные и субъективные причины действительно в большей или меньшей мере объясняют (хотя и не оправдывают) временное пребывание большевиков в единых организациях с меньшевиками.
Но можно смело утверждать, что это явление в целом еще слабо исследовано и требует дальнейшего изучения. Несомненно, что его корни надо искать прежде всего в обстановке, сложившейся после победы буржуазно-демократической революции. Мелкобуржуазная стихия, которая с небывалой ранее силой оказывала свое давление на пролетариат, давила и на его партию. В первое время после выхода из подполья некоторым членам партии, в особенности на периферии, представлялось, что с падением самодержавия основные тактические разногласия, разделявшие социал-демократию, исчезли, что стерлись острые грани между интернационалистами и оборонцами. В то время даже не все большевики разобрались в истинном смысле идеи «революционного» оборончества, не говоря уже о широких трудящихся массах. Представители «революционного» оборончества, начиная от рядовых и кончая лидерами, называли себя циммервальдистами, интернационалистами, в то время как на самом деле их
1 См., например, Д. Кин. Указ, статья в журнале «Пролетарская революция», 1927, № 6(65); публикация В. В. Аникеева. «Сведения о большевистских организациях с марта по декабрь 1917 г.». «Вопросы истории КПСС», 1958, № 2, № 3; И. И. Минц. Об освещении некоторых вопросов истории Великой Октябрьской социалистической революции. «Вопросы истории КПСС». 1957, J4® 2; М. Л1. Шорников. Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской революции.
58
политика ничего общего не имела с пролетарским интернационализмом. В. И. Ленин писал в тот период: «Интернационализмом не клянется в наши дни только ленивый, даже шовинисты-оборонцы, даже гг. Плеханов и Потресов, даже Керенский называет себя интернационалистом. Тем насущнее обязанность пролетарской партии противопоставить со всей ясностью, точностью, определенностью интернационализм на деле интернационализму на словах» *.
Много путаницы вносило понятие «циммерваль-дизм», которое большевики нередко отождествляли с интернационализмом. Между тем созданное в 1915 г. Циммервальдское объединение, ставившее целью сплотить интернационалистские силы на международной арене, не выполнило своей задачи. С самого начала в нем возобладали центристы, каутскианцы, не желавшие рвать с социал-шовинистами. Циммервальдская левая, объединявшая революционных марксистов, была слишком слаба, чтобы определять его политику. Тон в Циммервальде задавало правое большинство, которое и привело его к идейному банкротству. Не случайно, что и Церетели и Чхеидзе охотно причисляли себя к циммервальдистам. «У нас еще не знают, что циммервальдское большинство есть именно каутскианцы,— писал Ленин.— А между тем это основной факт, который нельзя не учитывать и который теперь в Западной Европе общеизвестен» 1 2.
Почти во всех случаях создания совместных с меньшевиками организаций большевики считали, что они объединяются с интернационалистами, но на деле нередко оказывалось, что то были фальшивые интернационалисты.
Вот, например, что писала газета московских большевиков «Социал-демократ» о характере объединения в Нижнем Новгороде и Сормове: «Объединение формально происходило на основе Циммервальда — Кин-таля; на деле меньшевики повели оборонческую политику самого скверного пошиба»3. В письме в ЦК РСДРП(б) омские большевики сообщали, что их орга
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 169.
2 Там же, стр. 176.
3 «Социал-демократ», 7(20) июня 1917 г.
59
низация вышла из подполья «как организация интер-националистов, объединенных на платформе Циммер-вальдской конференции. Но с первых же дней революции меньшевики потащили ее к оборончеству, и нам тогда еще единицам, было трудно бороться с так называемым революционным оборончеством. Мы не унывали и в тяжелой борьбе, последовательно, шаг за шагом отвоевывали позиции, не желая колоть еще молодых в партийной жизни рабочих (это была наша ошибка, и теперь приходится за нее тяжело расплачиваться)» \—честно признавали большевики Омска.
Имелись, конечно, в меньшевистских организациях интернационалистские элементы, чуждые оборончеству, прежде всего из числа рабочих, случайно попавших к меньшевикам. Они инстинктивно тянулись к большевикам, искренне стремились объединиться с ними. Большевики не только не отталкивали от себя таких интернационалистов, но, наоборот, шли им навстречу, помогая высвободиться из-под влияния меньшевиков, порвать организационные связи с оборонцами.
Ошибочные представления, будто революция сняла противоречия между большевиками и меньшевиками, последние усиленно поддерживали, уверяя, что не существует уже причин, которые мешали бы объединению. Особое усердие проявляло левое крыло меньшевистской партии, новожизненцы, стремившиеся под флагом циммервальдизма объединить большевиков со зсеми меньшевиками, в том числе с оборонцами. Газета «Новая жизнь» в своем первом номере от 18 апреля 1917 г. писала, что в послереволюционной обстановке «стерлись многие принципиальные разногласия, изгладились старые основания для раскола и самые термины «большевик» и «меньшевик» стали только историческими».
Эту версию поддерживала и распространяла также «Рабочая газета». И дело вовсе не в «миролюбии» меньшевиков, как это пытаются изображать некоторые фальсификаторы истории, а в том, что разговорами об объединении меньшевики рассчитывали расстроить
1 «Омские большевики в период Октябрьской революции и упрочения Советской власти». Сборник документальных материалов. Омск, 1958, стр. 73.
60
ряды большевистской партии, привлечь рабочий класс на свою сторону и тем самым заложить основы «классового мира». Нечто подобное было в Германии после буржуазной революции 1348 г. Маркс и Энгельс в «Обращении ЦК к Союзу коммунистов» (1850 г.) писали: «В настоящий момент, когда демократические мелкие буржуа повсюду угнетены, они вообще проповедуют пролетариату единение и примирение, они протягивают ему руку и стремятся к созданию одной большой оппозиционной партии, которая охватила бы все оттенки в демократической партии, т. е. они стремятся к тому, чтобы втянуть рабочих в партийную организацию, где господствуют общие социально-демократические фразы, за которыми скрываются их особые интересы, и где ради столь желанного мира не должны быть выставляемы особые требования пролетариата. Подобное объединение безусловно принесло бы вред пролетариату и было бы выгодно исключительно им... Значит, от такого объединения следует отказаться самым решительным образом» L
Вред разглагольствований меньшевиков об объединении заключался в том, что ими создавалась видимость борьбы за единство рабочего класса. Если учесть естественное стремление рабочих к единству, то этот чисто демагогический прием затруднял борьбу за подлинное сплочение пролетариата.
Как отмечалось, основная часть большевистских организаций с самого начала заняла правильную линию в партийном строительстве. К концу апреля более 440 организаций из 600 были полностью самостоятельными. Среди них — наиболее крупные, расположенные, как правило, в пролетарских центрах. Во многих из них вопросы объединения большевиками совсем не выдвигались, в других объединительные тенденции были быстро преодолены. Каких-либо тенденций к объединению не наблюдалось в большевистских организациях таких пролетарских центров, как Петроград, Москва, Иваново-Вознесенск, Киев, Харьков, Екатеринослав, во многих организациях Урала, Донбасса, Поволжья и других мест. Правда, поскольку вопрос объединения выдвигался меньшевиками везде, его обсуждали почти
1 К, Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 261—262.
61
все большевистские комитеты и организации с целью выработки определенной линии. В большинстве случаев эта линия полностью отвечала ленинским принципам партийного строительства.
Петербургский комитет в начале марта рассматривал предложение так называемой инициативной группы меньшевиков-интернационалистов «совершить на демократических началах объединение для борьбы с контрреволюцией». Высказывались различные точки зрения. М. И. Калинин заявил, что «на местах их агитаторы подчиняются нашим распоряжениям», но слияние как двух организаций невозможно; «признав существование двух организаций, допустить их слияние, если методы их совпадают» (В. Н. Залежский); «приходите и без какого-либо договора, работайте с нами» (Г. Ф. Федоров). В. Н. Залежский внес предложение «на манер 1905 г. основать Федеративный комитет». По его предложению была создана согласительная комиссия, в которую от Петербургского комитета вошли М. И. Калинин и В. Н. Залежский *.
Однако уже через два дня, 6 марта, в Петрограде на собрании меньшевистских групп всех направлений, в том числе и интернационалистов, было решено объединиться в одну организацию и издавать единый орган — «Рабочую газету». Это определило исход переговоров. Стало ясно, что интернационалисты явно ведут дело к объединению большевиков со всеми меньшевиками, включая оборонцев. Когда 18 марта ПК вернулся к обсуждению вопроса об объединении с меньшевиками-интернационалистами, большинство высказалось в том смысле, что объединение возможно лишь при условии публичного разрыва последних с «Рабочей газетой», с оборонцами. Было решено «образовать бюро для взаимного информирования с группой меньшевиков-интернационалистов, в случае их открытого разрыва с оборонческой группой «Рабочей газеты»» 1 2.
Позиция ПК не противоречила ленинским установкам. Было признано допустимым если не объединение,
1 «Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 16—17.
2 Там же, стр. 55.
62
то по крайней мере сотрудничество с меньшевиками-интернационалистами. Однако соглашение не состоялось.
С Петербургским комитетом полностью солидаризовалась во взглядах на объединение московская организация большевиков: никакого объединения с оборонцами, но оно возможно и желательно с интернационалистами. Точка зрения москвичей была изложена в редакционной статье «С кем объединяться», опубликованной в газете «Социал-демократ» 31 марта. Ссылаясь на уроки прошлого русской и западноевропейской социал-демократии, газета писала: «Вот почему мы должны признать безусловно правильными постановления Петербургского комитета и Московского областного бюро нашей партии, которые считают допустимым и приветствуют объединение только социал-демократов, которые стоят на почве Циммервальдской и Кинтальской конференций».
Вопрос об объединении обсуждался на общегородской конференции большевиков Москвы 3—4 апреля 1917 г. Абсолютное большинство высказалось за объединение с интернационалистами, несколько человек выступило против всякого объединения даже с интернационалистами и только два человека предлагали объединиться на широкой основе. Никакого решения конференция не приняла !.
На VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б) Р. С. Землячка говорила об этом обсуждении следующее: «Доклад вызвал прения, но не бурные, ибо этот вопрос в Москве не стоит остро, разве только в Хамовническом районе 1 2, где засилие интеллигенции, не связанной с пролетарской массой. Докладчик предлагал объединяться на платформе Циммервальда и Кинталя. Были предложены две резолюции, но ни одна не была принята... Существует, однако, мнение, что на почве революционного интернационализма можно объединяться с неорганизованными меньшевиками,
1 Партархив МК и МГК КПСС, ф. 3, on. 1, ед. хр. 46, л. 35.
2 Объединенные группы в Хамовническом, Лефортовском и Рогожском районах Москвы, возникшие в процессе образования районных организаций, просуществовали очень недолго. Уже в марте были созданы самостоятельные большевистские организации.
63
с организованными же меньшевиками не объединять^ ни в коем случае» *. я
Объединительные попытки в Москве длительное время предпринимала только небольшая интеллигент-ская группа, состоявшая из меньшевиков всех оттенков, вплоть до оборонцев, и небольшого числа бывших большевиков-примиренцев во главе с Н. А. Рожковым. Это были главным образом лекторы и литераторы из московской городской организации. Группа объединен-цев с конца апреля издавала свою газету «Пролетарий». Группа называла себя внефракционной, отказалась участвовать в меньшевистской конференции (майской), но фактически по всем основным вопросам революции стояла на меньшевистских позициях, поддерживала меньшевистскую идею объединительного съезда. Рожков опубликовал в меньшевистской газете «Вперед» специальное письмо в адрес Московской конференции РСДРП(б), в котором заявлял о своем разрыве с большевиками на почве несогласия с их взглядами на аграрный вопрос, Временное правительство, Советы и на ряд других вопросов1 2. Примиренцы на страницах меньшевистской печати повели клеветническую кампанию против большевистской газеты «Социал-демократ ».
Городской и областной комитеты партии строго осудили группу дезорганизаторов, порвавшую с большевизмом, предложив им «или прекратить свою дезорганизаторскую деятельность, или выйти из партийной организации»3. Объединенцы предпочли последнее. Никакой почвы в рабочем классе и никаких организаций на местах группа объединенцев не имела. Впоследствии, после июльских событий, от нее откололось левое крыло и пошло за большевистскими лозунгами.
В других большевистских организациях вопрос об отношении к меньшевикам решался примерно в таком же духе, как и в обеих столицах.
В киевской организации он всплыл уже на ее учредительном собрании 6 марта в связи с предложением меньшевиков-интернационалистов прислать делегата
1 «Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (большевиков)». Протоколы, стр. 152.
2 См. «Вперед», 8 апреля 1917 г.
8 «Социал-демократ», 1 апреля 1917 г.
64
ОТ большевиков на собрание их группы для взаимной информации.
Было решено «делегата не посылать и пригласить товарищей меньшевиков, стоящих на интернациональной точке зрения, войти в нашу организацию» *. В резолюции по текущему моменту, принятой собранием киевской организации РСДРП(б) 8 марта, указывалось: «Полное идейное и организационное размежевание с социал-шовинистами является... одной из основных задач партии» 1 2.
Склонить большевистскую организацию к объединению с оборонцами пыталась образовавшаяся в Киеве небольшая группа меньшевиков и примиренцев-большевиков (всего не более 10 человек). Она выработала платформу, с начала и до конца меньшевистскую, обновила идею созыва «рабочего съезда», создания «широкой рабочей партии». Группа «объединителей» предложила киевским большевистскому и меньшевистскому комитетам создать объединенный общегородской орган3. Большевики отклонили предложение. Киевский комитет РСДРП (б) занял четкую и определенную позицию по этому вопросу. В резолюции комитета от 14 апреля указывалось, что «ставить вопрос об объединении с меньшевиками можно лишь в том случае и лишь тогда, когда интернационалистские элементы меньшевистской организации порвут организационно со своими социал-патриотами» 4. Общее собрание киевской организации одобрило резолюцию комитета от 14 апреля. Для переговоров с меньшевиками была избрана специальная комиссия из трех человек, но соглашение не состоялось: меньшевики отказались объединяться на интернационалистской платформе5.
Не состоялись также совместные выступления боль-
1 «Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март —ноябрь 1917 г.)». Сборник документов и материалов. Киев, 1957, док. Хе 203, стр. 216.
2 Там же, док. X® 205, стр. 220.
3 См. «Новая жизнь», 20 апреля 1917 г.; см. также ^Партийные известия» (орган ОК меньшевиков), 15 июля 1917 г.
4 «Летопись революции», 1931, X? 4 (49), стр. 189.
6 См. «Партийные известия», 15 июля 1917 г.
В
И. Рубан
65
шевиков и меньшевиков в день рабочей печати. По поводу празднования этого дня комитет принял специальное постановление, в котором говорилось: «Считая, что «Голос социал-демократа» есть единственная газета, стоящая на точке зрения защиты интересов рабочего класса г. Киева, мы ни в какие соглашения с другими газетами по вопросу о праздновании дня печати не входим» *.
Сильный натиск со стороны меньшевиков и примиренцев выдержала харьковская организация РСДРП(б). В связи с предложением временного комитета меньшевиков об объединении Харьковский комитет РСДРП (б) 6 апреля 1917 г. постановил войти с ними в переговоры на основе решений Циммервальдской и Кинтальской конференций. Меньшевикам было предложено немедленно заявить о своем разрыве с социал-шовинистами типа Плеханова, Шейдемана, группы «Самозащита»2. Взгляды Харьковского комитета большевиков об условиях и принципах объединения были изложены в его органе газете «Пролетарий» 8 апреля 1917 г. Этот вопрос рассматривался 9 апреля на общем собрании харьковской организации РСДРП, на котором выступил с докладом М. К. Муранов (депутат в IV Государственной думе от харьковских рабочих). Он заявил, что «ЦК признал желательным объединение всех социал-демократов, стоящих на точке зрения резолюций Циммер-вальда и Кинталя, с условием полного разрыва их с революционными оборонцами»3. Собрание подтвердило решение комитета о переговорах с меньшевиками «на основе платформы, предложенной ЦК и высказанной в передовице «Пролетария» 8 апреля». Организационный комитет, избранный для переговоров об объединении, возглавлявшийся Лугановским (до Февральской революции был меньшевиком, занимал примиренческую позицию), вынес резолюцию, осуждающую «революционное» оборончество, но выработанный им практи-кский план объединения допускал в организацию и оооронцев, «если они входят в нее как отдельные
ст1). 254БОЛЬПКиИСТСКИе o’H'aiu,3aiV‘H Украины...», док. № 245,
‘ См. там же, док. 25, стр. 31
Там же, док. № 23, стр. 29.
66
члены, не составляющие организационной ячейки»: по этому плану предполагалось, что объединенный комитет будет создан на паритетных началах.
Заслушав доклад организационного комитета, 18 апреля 1917 г. Харьковский комитет РСДРП(б) после горячих прений принял следующую резолюцию: «'Считая, что ответ организационного комитета, переданный т. Лугановским, недостаточно выясняет позицию комитета, а также не разрешает вопроса о разрыве с социал-шовинистами и революционными оборонцами. Харьковский комитет находит невозможным перейти к конкретному осуществлению объединения до тех пор, пока организационным комитетом не будут выполнены основные положения, высказанные в резолюции общего собрания от 9 апреля и Харьковским комитетом РСДРП»
Все же большевики приняли участие в областной конференции, созванной местным организационным комитетом меньшевиков, на которой обсуждался вопрос об объединении. Меньшевики предложили объединиться на основе программы и устава партии, оставляя в стороне все острые политические вопросы, прежде всего вопросы, связанные с войной. Представители большевистского комитета изложили свою позицию (объединение с меньшевиками-интернационалистами на условиях разрыва с оборонцами), заявив после этого, что, имея императивный мандат, они не могут подчиняться постановлениям конференции и считают свое участие в конференции невозможным 1 2.
Следовательно, харьковские большевики, сохранив свою организационную самостоятельность, сумели, хотя и не сразу, выработать правильную линию по отношению к меньшевикам. Здесь не обошлось без некоторых ошибок и колебаний. Они имели место и позже, в частности во время коммунальных выборов. Первоначально Харьковский комитет РСДРП(б) принял решение об участии в социалистическом блоке на выборах и направил туда своих представителей. Но затем ошибка была исправлена, хотя при этом пришлось преодо
1 «Пролетарий», 22 апреля 1917 г.
2 См. «Пролетарий», 3 и 4 мая 1917 г.
67
леть сильное сопротивление примиренчески настроенных членов партии (Кин, Лугановский, Сурик).
Классово выдержанную линию по отношению к меньшевикам заняли екатеринославские большевики, во главе которых стояли такие опытные руководители, как Э. И. Квиринг, С. И. Гопнер и др. Сразу же после революции в Екатеринославе стала выходить большевистская газета «Звезда». Она повела решительную борьбу против оппортунизма, объединения с оборонцами.
Уже 5 марта на конференции екатеринославской организации РСДРП(б) с участием большевистских организаций Донецкого бассейна были приняты решения по основным вопросам революции, в том числе об отношении к мелкобуржуазным партиям. Конференция вскрыла классовую природу этих партий, выработала в целом правильную линию поведения, исключавшую беспринципное сотрудничество с ними. В резолюции просматривался опыт II Интернационала, потерпевшего крах «вследствие преобладания в его составе представителей с мелкобуржуазным мировоззрением >. Отношение к мелкобуржуазным партиям конференция формулировала следующим образом: «Общую деятельность под знаменем единой партии мы считаем возможной единственно при условии полного признания всех партийных постановлений и подчинения всем решениям партии. Вместе с тем мы не отказываемся от координирования своих действий, направленных на поддержку завоеваний демократии, вместе с мелкобуржуазными социалистическими организациями» 1.
В Екатеринославе, как и в других местах, меньшевики проповедовали свою старую идею «открытой рабочей партии» и призывали большевиков к объединению. В связи с этим большевистская «Звезда» писала: ««Борьба» призывает нас к объединению. С кем7 С людьми, которые только начинают строить партию? Быть может, с социал-патриотами типа Плеханова? Больше того, «Борьба» провозглашает «единение всех социалистических сил». Значит, и с эсерами? И с Керенским, только что лобызавшимся с генералом Алек-
1 «Большевистские организации Украины..,», док. № 1» стр. 5.
68
соевым? И с социал-шовинистами типа Р. под ;< j* Эрве?»
Примиренцы, сторонники объединения с мен;/1? -виками, имелись и среди екатеринославских болытл -виков. Таковыми были, например, Лебедь и Головки. Вернувшись со Всероссийского партийного совещания (мартовского), они поставили вопрос об объединении с меньшевиками, но поддержки не встретили.
Самарский комитет РСДРП(б) определил свое отношение к объединению с меньшевиками в резолюции, выработанной частным совещанием большевиков и принятой комитетом РСДРП (б) 20 марта 1917 г. В ней говорилось: «При установлении той платформы, на основе которой единственно возможно объединение с.-д. организаций, следует принять во внимание, что основным разногласием, могущим серьезно препятствовать слиянию различных организаций в единую с.-д. партию, является разногласие, возникшее в российской социал-демократии в связи с мировой войной. В настоящее время соглашение по этому вопросу... может быть достигнуто на основе признания основного принципа тактики революционного марксизма... При этом следует подчеркнуть, что течения, разорвавшие во время войны в той или иной степени с основным принципом революционной социал-демократии и оставшиеся на своих позициях до сих пор, должны быть поставлены вне этого объединения». В резолюции подчеркивалось, что одним из основных условий объединения является «резкое отмежевание от течений, в той или иной степени тяготеющих к социал-шовинизму» 1 2.
Позиция Самарского комитета была изложена также в редакционной статье газеты «Приволжская правда» 31 марта «Мы за объединение». В ней указывалось, что объединение возможно лишь с теми, «кто не на словах, а на деле признает основные принципы тактики революционной социал-демократии. Сохранение чистоты наших революционных принципов особенно необходимо в настоящее время».
Состоявшаяся 9 апреля Самарская общегородская
1 «Большевистские организации Украины...», док. № 89, стр. 97, 98.
2 «Приволжская правда», 25 марта 1917 г.
69
конференция большевиков подтвердила линию комитета. Резолюция «Объединение с социал-демократическими группами», требовавшая резкого отмежевания от социал-шовинизма, была направлена на сохранение организационной самостоятельности большевиков. Эта линия последовательно проводилась в жизнь большевиками.
Участница революционной борьбы за власть Советов в Самаре М. С. Бешенковская вспоминала: «Ядро и массы самарских большевиков были испытанными борцами за идеи своей партии. Поэтому они дали, например, отпор оппортунистическим тенденциям объединения с меньшевиками, возникшим сразу же после свержения самодержавия.
Проводниками объединения выступали меньшевики, рассчитывая таким образом «разболыпевичить» местную большевистскую организацию и, следовательно, покончить с ее существованием. Надо сказать, что отдельные сторонники слияния с меньшевиками были и в рядах большевистской организации, например Шестопал, Белов»
Имелись и в саратовской организации примиренческие элементы (И. В. Мгеладзе и др.), ратовавшие за объединение с меньшевиками. Но здесь, как и в Самаре, объединенчество не получило распространения. Конференция большевиков Саратова, состоявшаяся 17 апреля, отклонила предложение примиренцев о создании единой с меньшевиками организации. В резолюции по этому вопросу говорилось: «Никакого объединения между этими двумя течениями быть не может» 1 2.
Отсутствие сколько-нибудь серьезных объединен-ческих тенденций среди самарских и саратовских большевиков объяснялось не только зрелостью их организаций, но и тем обстоятельством, что там, как и во всем Поволжье, меньшевики, как правило, являлись открытыми оборонцами, и это сразу вносило ясность в обстановку, облегчало большевикам выработку пра
1 «Октябрь в Самаре». Куйбышев, 1957, стр. 166—167.
2 См. Г. Ходаков. Очерки истории саратовской организации КПСС, ч. I. 1898—1918. Саратов, 1957, стр. 263—264.
70
вильной линии поведения по отношению к ним. Вот что говорил по этому поводу на VI съезде партии один из руководителей саратовских большевиков М. И. Васильев-Южин: «Меньшевики в большинстве своем оборонцы, лишь в Самаре есть интернационалисты; даже в таких городах, как Саратов, только в последнее время появились меньшевики-интернационалисты, и то приезжие»
Как видим, большевики после выхода из подполья проявляли большую заботу о сохранении организационной самостоятельности и чистоты своих рядов. Они давали отпор всяким попыткам толкнуть их на объединение с социал-шовинистами. Кое-где потребовалось немало усилий для борьбы против примиренцев, но в конечном счете побеждали ленинские организационные принципы.
Однако в некоторых местах более или менее длительное время существовали объединенные организации. К концу апреля они составляли около 25 процентов 1 2. Сама по себе эта цифра не дает точного представления об удельном весе большевистских групп, входивших в объединенные организации не только потому, что сведения о количестве самих организаций неполны, но и главным образом потому, что мы почти не располагаем данными о численности большевиков в них. А это показатель весьма важный. Можно с уверенностью утверждать, что объединенные, по преимуществу окраинные, организации были вообще малочисленны. Например, Омский комитет в марте объединял 350 членов, Красноярский в мае—106, Томский в марте — 200. К концу апреля во всех организациях Си
1 «Шестой съезд РСДРП (б)». Протоколы. М., 1958, стр. 90.
2 В печати приводились другие данные об удельном весе объединенных организаций. Так, например, по подсчетам академика И. И. Минца они составляли 15 процентов (см. его статью «Об освещении некоторых вопросов истории Октябрьской революции». «Вопросы истории КПСС», 1957, № 2, стр. 22); В. В. Аникеев в указанной выше публикации приводит цифру 20 процентов. Следует учитывать, что оба эти автора основывают свои подсчеты на данных за весь 1917 г., и это несколько снижает процент объединенных организаций по сравнению с мартом — апрелем. Кроме того, обнаружены новые организации; они мелкие и в большинстве случаев объединенные.
71
бири состояло не более 4500 членов *. Фабрично-заводские организации (ячейки) почти повсеместно были бол ьшевистски м и.
Показательно географическое распределение объединенных организаций. В большинстве своем они возникали в непромышленных центрах, где меньше имелось кадрового пролетариата и где он сильнее был подвержен мелкобуржуазному влиянию. Это по преимуществу Сибирь, Дальний Восток, Туркестан, непролетарские районы Украины (Юго-Западный край, Юг, Таврия), Белоруссия, Закавказье. Наиболее широкое распространение получило объединенчество в Сибири, на Дальнем Востоке и в Туркестане. Именно там с особой силой сказалась узость пролетарской базы как в смысле малочисленности пролетарских районов, так и в смысле слабой концентрации рабочих на предприятиях.» Немаловажное значение имела и отдаленность этих районов от крупных промышленных центров.
Несколько иная социально-экономическая обстановка была на пролетарском Урале и в Центральнопромышленной области, где также в ряде городов образовались объединенные организации. Но и там в значительной мере действовали те же факторы социально-экономического характера, что в указанных выше районах, прежде всего давление мелкобуржуазной стихии.
Рабочий класс Урала многочисленный и богатый революционными традициями. Он активно участвовал в классовых битвах в период первой русской революции. Но уральский отряд рабочего класса имел и свои слабые стороны. В силу исторически сложившихся там условий многие рабочие были связаны не только с заводами, но и с землей. На составе уральского пролетариата, как и в других местах, отрицательно сказались военные мобилизации и приток новых пополнений, главным образом из деревни. В погоне за дешевой рабочей силой уральские предприниматели широко использовали труд военнопленных, женщин и детей.
Как отмечалось, на Урале меньшевики не представляли большой силы — их было примерно в 3 раза мень
1 См. М. М. Шорников. Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской революции, стр. 170, 566—581.
72
ше. чем большевиков,— но зато сильно распространенными были эсеровские организации, и не только среди крестьян и солдат, но и среди рабочих. Это усиливало меньшевиков, выступавших в едином блоке с эсерами
В результате репрессий были сильно ослаблены партийные силы. К 1917 г. здесь существовало только 10 подпольных большевистских организаций: в Екатеринбурге, Верхней Туре, Кушве, Ревде, Невьянске, Лысьве, Кыштыме, Миньяре, Уфе и Кунгуре. Они объединяли не более 500 членов партии1 2. В марте в ряде мест были образованы объединенные комитеты: в Нижнем Тагиле, Златоусте, Челябинске, Уфе, Чусовой, Надежинске, городском районе Перми3. Однако громадное большинство организаций являлись самостоятельными.
Центрально-промышленная область также имела некоторые особенности, обусловившие серьезные трудности в работе большевиков после выхода их из подполья. Входившие в нее губернии по своему экономическому характеру были неоднородны; наряду с такими ярко выраженными пролетарскими центрами, как Москва, Иваново-Вознесенск и др., многие губернии являлись по преимуществу земледельческими (Рязанская, Орловская, Тамбовская, Воронежская, Тверская, Калужская, Костромская). Поэтому влияние мелкобуржуазной стихии на рабочий класс центральной полосы России было значительным. Именно в аграрных губерниях в первые месяцы после Февраля около половины организаций были объединенными. Немаловажное значение имело и то обстоятельство, что, хотя партийные организации Центральной промышленной области были связаны с Москвой, они не сразу стали получать систематическое руководство из областного центра. Московское областное бюро (МОБ) организа-
1 См. «Шестой съезд РСДРП». Протоколы, стр. 80—81.
2 См. «Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции». Сборник документов и материалов. Свердловск, 1957, стр. 6. В докладе на VII (Апрельской) конференции РСДРП (б) Я. М. Свердлов называет не 10, а 9 организаций.
3 По подсчетам В. В. Аникеева, из 89 организаций Урала объединенных было 17 (см. «Вопросы истории КПСС», 1958, № 2, стр. 128).
73
„ионно полностью Оформилось и стало нормально Хнкционировать только с середины мая *
Говоря об объединенных организациях, было бы не-правильно подводить их под одну рубрику. Они разли-ил пись между собой и характером объединения (с кем и на какой основе оно произошло, каково было сорт-ношение сил большевиков и меньшевиков), и продолжительностью существования, и остротой борьбы большевиков и меньшевиков в общих организациях. При этом опять-таки важное значение имели численность и качественный состав рабочего класса, наличие рево-люцйонных традиций в том или ином районе. Во многих случаях большевики, хотя и вошли в совместные с меньшевиками организации, но сохраняли большую или меньшую степень самостоятельности, имели там свои обособленные группы. В ряде организаций большевики численно преобладали и проводили свою линию.
По далеко не полным данным, большевистские группы 13 городских объединенных организаций направляли в ЦК РСДРП (б) или в МОБ положенные по уставу денежные отчисления, представители большевиков от 30 объединенных организаций участвовали в мартовском совещании большевиков, от 17 организаций — на Апрельской конференции. В Центральной промышленной области большевики имели самостоятельные группы или преобладающий вес в организациях по крайней мере пяти губернских городов. Владимирский комитет уже с апреля направлял в ЦК 10 процентов отчислений от членских взносов и 15 процентов в МОБ. Воронежская, костромская, нижегородская, сормовская и ярославская организации были представлены на Апрельской конференции.
В ряде городов Центральной промышленной области, как, например, в Нижнем Новгороде и еГЭ
но после» RRTvnnf °бластн°е бюро существовало еще до Феврале Длительное rtipm?3 п°Дполья оно в результате недостатка сиг объединяло ?прп нах«дилось в процессе организации. ЫмБ скУюД КалужскуюУЮ^Ие Губернии: Владимирскую. Вороне^ Орловскую рД’ костромскую, Московскую. Нижегородок.' ** Тульскую“и Япог"СКУЮ’ Смоленскую, Тамбовскую. Тверскую 1917 г.»5 «Пролетап4СЛУЮ 'ПРОТОКО-1Ы МОБ за май —ИМ® Р тарская революция», 1927, № 4 (63), стр. -36К
74
промышленных районах — Сормове, Канавине и Балах-не>_объединение вообще носило формальный харак-
тер. Как сообщалось в меньшевистском журнале «Партийные известия», в Сормове, где объединения произошли по инициативе меньшевиков, при выборах комитета большевики оказались в большинстве и предложили меньшевикам 4 места из 15. Комитет стал проводить в жизнь линию ленинской газеты «Правда», которая выписывалась в количестве 700 экземпляров, а меньшевистской «Рабочей газеты» здесь выписывали только 50 экземпляров Подавляющим было большевистское влияние и в канавинской организации. Достаточно сказать, что при обсуждении вопроса о разъединении с общего собрания, на котором присутствовало 500 человек, удалилось только 12 человек оборонцев под дружный свист оставшихся 1 2
О численном соотношении большевиков и меньшевиков на Урале в целом, в том числе в объединенных организациях, можно судить по составу I Уральской областной конференции, проходившей 14—15 апреля 1917 г. в Екатеринбурге. На ней присутствовало 65 делегатов, представлявших 16 тысяч членов партии. Среди делегатов было только 6 меньшевиков, из которых— 3 интернационалиста (4 меньшевика из 6 прибыли из Нижнего Тагила)3.
Насколько преобладающим был вес большевиков, например, в челябинской организации, можно судить по следующему факту. В июне 1917 г. по выходе из объединенной организации челябинские меньшевики опубликовали специальное воззвание, в котором говорилось следующее: «Изучение деятельности местной социал-демократической рабочей партии с начала ее возникновения... убедило товарищей социал-демократов, убеждения которых радикально расходились по всем тактическим вопросам с решениями местной партии, что под общим флагом социал-демократии в
1 См. «Партийные известия», 15 июля 1917 г.
2 См. «Социал-демократ», 7 июня 1917 г.
3 См. «Уральская правда», 22 апреля 1917 г.; см. также «Борьба за победу Октябрьской социалистической революции на Урале». Свердловск, 1961, стр. 55; «Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (б)». Протоколы, стр. 123—125, 353.
75
Челябинске действовала группа социал-демократов большевистского уклона, которая если и имела в своей среде меньшевиков, то подавляла их до очевидности небытия» *.
В Поволжье только немногие организации были объединенными, причем и в них, как правило, преобладали большевики. Фактически самостоятельной являлась царицынская организация. Правда, до начала мая она считалась объединенной, но объединение носило весьма условный характер. К концу апреля комитет состоял из 11 большевиков и 1 меньшевика. Раскол произошел после того, как на общем собрании объединенной организации большинством голосов в редакционную комиссию местной газеты были избраны только большевики. Из 380 членов партии, состоявших в организации, за меньшевиками пошло всего 30 человек 2. Потерпев поражение, меньшевики вышли из организации. После раскола организация стала быстро расти и к июню насчитывала 1000 человек.
Примерно такой же характер имело и объединение в Астрахани. Вот что сообщали астраханские большевики в ЦК РСДРП(б) 7 июня 1917 г.: «На общем собрании группы рабочих интернационалистов (большевиков), входящих пока в местную объединенную организацию, нами постановлено: 1) Пока не выходить из состава местной организации, но лишь находясь в ней же, всегда отстаивать и доказывать правильность нашей линии. 2) Так как наша группа довольно значительная, пока свыше 100 человек (но она безусловно с каждым днем все увеличивается), то мы решили тут же установить нашу связь (с Петроградским комитетом), т. е. Петербургским, также, если это возможно, с Центральным Комитетом, кроме того, с Московским. Самарским и Саратовским и признали своим Центральным Органом газету «Правда»» 3.
В этом же письме астраханские большевики жаловались на оторванность от центра, отсутствие подго-
* «Партийные известия», 15 июля 1917 г.
2 См. «1917 год в Саратовский губснии». Со док> мент. Саратов. 1957, док. № 66. стр. 93, 582.
м 3 «Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными ’’.а. -тинными организациями (март—октябрь 1917 г.)», '*• * док. № 195, стр. 129.
76
товленных кадров, в результате чего организация не в курсе происходящих событий и отношения партии к важнейшим вопросам политики. Если ЦК пришлет своего представителя или лектора, писали из Астрахани, то «все рабочие, входящие в состав местной объединенной организации, безусловно скорее будут работать вместе с интернационалистами (большевиками), чем с маленькой группкой, так называемыми плеханов-цами»
В значительной мере формальным было объединение в Закавказье. Здесь в результате провалов во время войны большевистские организации были почти полностью разгромлены. По выходе из подполья они фактически создавались заново. В то же время на Кавказе, особенно в Тифлисе, меньшевизм пустил глубокие корни. Как указывалось на VII Апрельской конференции, «Тифлис можно считать центром меньшевизма не только на Кавказе, но и для всей России» 1 2.
В Тифлисе большевики вначале оформились в самостоятельную организацию, а затем объединились с меньшевиками (26 марта был избран объединенный комитет). В том же докладе на Апрельской конференции приводились и мотивы, побудившие большевиков пойти на объединение: малочисленность большевистских организаций по сравнению с меньшевистскими, тем более, что последние «формально стояли на платформе Циммервальда» 3. Но и здесь, несмотря на преобладание меньшевиков, большевики хотя и совершили ошибку, пойдя на объединение с ними, но не растворились в общей организации, а сохранили в ней свою самостоятельность. Они создали большевистскую группу, проводили фракционные собрания и даже издавали свою газету «Кавказский рабочий»4, занимавшую непримиримую позицию по отношению к меньшевикам. Одновременно издавалась меньшевистская газета. Как писал позже Мамия Орахелашвили, объединение
1 «Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями (март — октябрь 1917 г.)», ч. I, док. Хе 195, стр. 129—130.
2 «Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б)». Протоколы, стр. 161.
• Там же.
4 Газета стала выходить с И марта 1917 г.
77
в Тифлисе «было лишь кратким переходным этапом к полному, не только идейно-политическому, но и организационному, выделению большевиков в особую партию» ’.
Примерно такой же характер носила объединенная организация и в Баку, причем большевики составляли в ней большинство. Организация возникла в ходе революции стихийно, но большевики в ней обособились и повели против меньшевиков острую борьбу. Как и в Тифлисе, здесь издавалась большевистская газета «Бакинский рабочий».
В ряде городов Украины большевики либо преобладали в объединенных организациях (Николаев, Кременчуг, Чернигов), либо имели в них самостоятельные группы (Одесса).
Было бы, однако, неправильно игнорировать тот факт, что во многих объединенных организациях большевики очутились в очень тяжелой обстановке, их борьба за размежевание с меньшевиками потребовала много усилий и времени. Это относится прежде всего к Сибири, Дальнему Востоку и Туркестану.
В Сибири почти все организации, за исключением Ачинского, Енисейского комитетов, некоторых заводских и сельских организаций, являлись объединенными. Как отмечает в своем исследовании М. М. Шорников 1 2, в марте — апреле были избраны объединенные комитеты в Чите, Иркутске, Красноярске, Енисейске, Якутске, Томске, Анжерке, Судженке, Тайге, Мариин-ске, Барнауле, Бийске, Новониколаевске, Барабинске, Тюмени, Кургане и других местах. В них преобладали меньшевики-интернационалисты и меньшевики-оборонцы.
Как видим, даже в Красноярске, где имелся значительный отряд рабочего класса, организация вышла из подполья объединенной. Правда, здесь сразу образовалась группа правдистов, издававшая большевистскую газету «Сибирская правда». Именно красноярские большевики положили начало организационному размежеванию с меньшевиками в Сибири.
1 Мамия Орахелашвили. Закавказские большевистские организации в 1917 г., стр. 38.
2 См. М. М. Шорников. Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской революции, стр. 170.
78
О засилье меньшевиков в некоторых объединенных организациях Сибири говорит следующий пример На организационном собрании членов социал-демократической организации в Иркутске 5 марта присутствовало 300 человек, из них большевиков было только 32 Меньшевики преобладали и в организациях Приморья, за исключением владивостокской и сучанской 1 2.
В еще более трудной обстановке пришлось действовать большевикам Туркестана. Здесь после выхода из подполья большевистские силы были весьма малочисленны и разрозненны. Поэтому вначале не оформилось ни одной самостоятельной большевистской организации. В Ашхабаде с середцны апреля существовала объединенная организация, в Чарджуе и Красноводске,— по существу, меньшевистские, хотя в них входили отдельные большевики. Группа казанджикских рабочих создала свою организацию, именовавшуюся «партией революционных рабочих», которая примыкала к большевикам, но вошла в партию только к концу ноября. Однако под влиянием революционных событий силы большевиков Туркестана быстро росли. Вскоре большевики повели острую борьбу против меньшевиков и эсеров 3.
Если по своей численности объединенные организации занимали сравнительно небольшой удельный вес в сопоставлении с чисто большевистскими, то в территориальном отношении они получили довольно широкое распространение, и было бы неправильно недооценивать этот факт, сильно затруднявший работу партии. Борьба за полный организационный разрыв с меньшевиками в объединенных организациях в тех
1 См. А. Н. Резниченко. Разоблачение большевиками соглашательской деятельности меньшевиков и эсеров в Сибири в условиях развития революции от Февраля к Октябрю 1917 г. Труды Новосибирского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева. 1959, т. IX, стр. 121.
2 См. Л. И. Беликова. Борьба большевиков за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Приморье. Владивосток, 1960, стр. 9.
8 См. «Очерки Коммунистической партии Туркестана», ч. II. Ташкент, 1958, стр. 20; «Очерки Коммунистической партии Туркменистана». Ашхабад, 1961, стр. 57—62; А. А. Росляков, Большевики Туркменистана в борьбе за власть Советов (1917—1918), стр. 185.
79
условиях имела весьма важное значение. Она не своди лась только к вопросам партийно-организационного строительства, а имела ярко выраженный политический характер. Объединенчество тормозило воспитание и революционную мобилизацию масс.
Следует подчеркнуть, что внутри объединенных организаций большевики, даже там, где они составляли меньшинство, вели все более обострявшуюся борьбу против оборонцев, за революционные принципы. В конечном счете эта борьба завершалась оформлением большевиков в самостоятельные организации. В упоминавшемся уже письме в ЦК РСДРП(б) от Правобережного района омской организации говорилось: «В подполье мы объединились с меньшевиками-интернационалистами на платформе Циммервальда и работали довольно дружно. По выходе на свет уже в первые дни революции начались раздоры. Вопрос, который нас объединял в подполье,— война, стал вопросом, где особенно столкнулись наши точки зрения... Назрел раскол; мы ждали его с радостью, но не решались, надо сказать, быть зачинщиками» 1.
Борьбу за организационную самостоятельность и идейную сплоченность большевистских сил на местах направляло Русское бюро ЦК, а затем Центральный Комитет партии, Сибирское бюро ЦК РСДРП(б), Московское и Уральское областные бюро и партийные комитеты. Активную работу в этом направлении проводили большевистские группы из наиболее твердых и теоретически грамотных большевиков. Такие группы имелись в ряде мест Сибири: в Красноярске Б. 3. Шумяцкий, А. Г. Рогов, Е. Ф. Дымов, И. И. Белопольский, В. Н. Яковлев и др.; в Томске активную роль играли Н. Н. Яковлев и В. М. Косарев; в Новониколаевске—В. В. Романов, Ф. П. Серебренников, С. И. Якушев, А. И. Петухов; в Омске —3. И. Лобков и Я. Анисимов; в Иркутске —П. П. Постышев. Д. М. Трофимов, С. И. Лебедев и др. 2 На Дальнем ьо-
1 «Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями (март—октябрь 1917 г.)», ч. .
№ 239, стр. 174—175 Хппкбе за
2 См. М. М. Шорников. Большевики Сибири в пор» победу Октябрьской революции, стр. 181—196.
80
стоке политическую и организаторскую работу вели М. И. Губельман, П. М. Никифоров (Владивосток), В. П. Голионко, А. Малышев (Хабаровск) 1 и др.
Большую работу по проведению в жизнь идейных и организационных принципов большевизма осуществляли на местах такие видные деятели партии, как Я. М. Свердлов (Урал), А. С. Бубнов (Московское областное бюро), С. Г. Шаумян (Баку), М. В. Фрунзе и А. Ф. Мясников (Белоруссия).
Однако вплоть до апреля, т. е. до возвращения В. И. Ленина из эмиграции в Россию, борьба против примиренчества и за выход большевиков из объединенных организаций наталкивалась на большие трудности, связанные с отсутствием четкой, единой для всей партии политической линии. Вопросам стратегии и тактики партия в то время придавала первостепенное значение. При этом, как отмечалось, она опиралась на прочный теоретический фундамент — ленинское учение о социалистической революции, аккумулировавшее в себе многолетний опыт классовых боев пролетариата. Но революционная теория может служить верным ориентиром в политике только в том случае, если она применяется при строгом учете конкретноисторических условий, расстановки и соотношения классовых сил в стране. «Марксизм требует от нас,— писал В. И. Ленин в «Письмах о тактике»,— самого точного, объективно проверимого учета соотношения классов и конкретных особенностей каждого исторического момента. Мы, большевики, всегда старались быть верными этому требованию, безусловно обязательному с точки зрения всякого научного обоснования политики» 2. Вовремя заметить и правильно оценить изменения обстановки и соответственно перестроить свою тактику — первейшая задача революционной партии, и, как показал исторический опыт, задача нелегкая.
Русское бюро ЦК и партийные работники на местах руководствовались разработанным В. И. Лениным еще в 1905 г. положением о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства, ее органе — Временном революционном правительстве, созданием
1 См. Л. И. Беликова. Борьба большевиков за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Приморье, стр. 8,
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 132.
6
Н. Рубан
81
которого должна увенчаться победа буржуазно-демо кратической революции. Но в жизни все оказалось на много сложнее, оригинальнее, чем это можно было заранее предвидеть. Февральская революция не дала в «чистом виде» революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Фактически ее осуществляли Советы рабочих и солдатских депутатов, но в то же время существовало буржуазное Временное правительство и его органы на местах. К тому же оставался нерешенным ряд демократических задач большевистской программы. На первый взгляд могло казаться, что буржуазно-демократическая революция не закончена и на повестке дня стоит не переход к новому этапу революции, а завершение ее первого этапа. В действительности же, поскольку был решен вопрос о власти — основной вопрос всякой революции, она была закончена. Не уяснив сразу своеобразия новой обстановки, большевики продолжали оперировать лозунгами 1905 г., а это и затрудняло выработку четкой тактики. «Слишком часто бывало,— писал Ленин,— что,
когда история делает крутой поворот, даже передовые партии более или менее долгое время не могут освоиться с новым положением, повторяют лозунги, бывшие правильными вчера, но потерявшие всякий смысл сегодня...» 1
В резолюциях партийных комитетов, как правило, давалась верная оценка классовой природы Временного правительства и империалистического характера продолжавшейся войны. В то же время в ряде резолюций выдвигался лозунг условной поддержки Временного правительства по формуле «поскольку постольку», давления на него в вопросе борьбы за мир, контроля за его действиями. Даже такие закаленные организации, имевшие за плечами громадный опыт политической борьбы, как петербургская, московская и др не избежали такого рода ошибок. Так, Петер ур ский комитет РСДРП(б), вслед за Советом]?^дейст-солдатских депутатов, заявлял, чго «не п0_
вует власти Временного правительства п пполе-скольку действия его соответсгвуют интер » а
тариата и широких демократических масс нар 1 2
1 В. И. Ленин. Ноли. собр. соч., т. 34, стр. 10.
2 «Правда», 7 марта 1917 г.
82
В резолюции объединенного заседания Московского бюро ЦК и Московского комитета РСДРП(б) «Текущий момент и задачи пролетариата» Временное правительство характеризовалось как представитель классов, «отрицающих революционные методы борьбы, враждебных тем объективным задачам, которые в современном обществе только и могут быть выдвинуты революционными методами...» 1 Но здесь же выдвигалась идея контроля за ним. «Контролируя каждый шаг Временного правительства,— говорилось в резолюции,— пролетариат разоблачает всякую его попытку задавить в интересах господствующих классов дальнейшее развитие революции и подготовляет необходимые условия для перехода власти в руки революционной демокра-2
ТИИ» \
В таком же примерно духе высказала свое отношение к Временному правительству Самарская общегородская конференция РСДРП(б)1 2 3, общее собрание саратовской организации большевиков 4. Особенно крупные ошибки содержались в платформе Киевского комитета РСДРП (б), в основу которой была положена резолюция общего собрания киевской организации от 18 марта. Под влиянием Пятакова в платформу было включено противоречившее ленинским установкам положение об отсутствии в России необходимых условий для социалистической революции. В этом документе заявлялось, что «все шаги Временного правительства, осуществляющие ликвидацию царско-бюрократического строя, встретят нашу поддержку, и не на словах только, но и на деле» 5. Тактика давления на Временное правительство с целью достижения мира была отражена в резолюции I Уральской свободной конференции РСДРП6 и в решениях некоторых других организаций.
1 «Социал-демократ» (Москва), 25 марта 1917 г.
2 Там же.
8 См. «Приволжская правда», 13 апреля 1917 г.; см. также «Октябрь в Самаре», стр. 11.
4 «1917 год в Саратовской губернии». Сборник документов, док. № 25, стр. 54—55.
5 «Большевистские организации Украины...», док. № 232, стр. 240.
8 См. «Большевики Урала в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции», док. № 8, стр. 54—55.
83
Особенно трудно шел процесс выработки тактической линии в объединенных организациях, где постоян-но ощущалось давление со стороны меньшевиков.
Русское бюро ЦК стремилось помочь партийным организациям уяснить классовый смысл происходящих событий, задачи пролетариата в новой исторической обстановке. Оно выступало против доверчивого отношения к Временному правительству, разъясняло империалистический, захватнический характер продолжавшейся войны. Бюро ЦК резко осудило появившуюся в середине марта на страницах «Правды», по существу, оборонческую статью Каменева «Без тайной дипломатии». В ней высказывалась уверенность, что армия «будет стойко стоять на своем посту, на пулю отвечая пулей и на снаряд— снарядом» К Как показал дальнейший ход событий, эти ошибки Каменева были не случайны, а вытекали из его полуменыпевистской концепции о невозможности победы социализма первоначально в России ввиду ее экономической отсталости.
В течение марта Бюро ЦК прилагало много усилий к выработке тактической линии партии, но, исходя из неверной посылки о незаконченности буржуазно-демократической революции, не смогло этого сделать. По существу, оно допускало те же ошибки, что и многие местные организации. ,
Не справилось с этой задачей и созванное по решению Бюро ЦК частное совещание партийных работников (27 марта — 2 апреля). В нем приняло участие более 120 делегатов, представлявших около 70 партийных организаций. Уже сам факт, что первое после выхода из подполья довольно широкое совещание партийных работников почти целиком было посвящено вопросам тактики (о войне, об отношении к Временному правительству), свидетельствовал о том, что эти вопросы стояли в центре внимания партии. Высказывались различные точки зрения, но совещание по существу не продвинулось вперед в выработке тактической линии. В принятых резолюциях по-прежнему говорилось о не-обходимости бдительного контроля за действиями Вре менного правительства, о давлении на него по вопросу о мире.
* «Правда», 15 марта 1917 г.
84
На мартовском совещании обнаружилось, чю н n.ip-тии имеется, хотя и немногочисленная, группа правых элементов, сползавших на меньшевистские* позиции К ним относились В. С. Войтинский, П. Н. Севрук (Гомель) Ш. 3. Элиава (Вологда), Яхонтов (Минск) и некоторые другие. Войтинский утверждал, что ввиду буржуазного характера революции пролетариат но может взять власть в свои руки, он не в состоянии справиться с ней. Победивший народ, говорил он, добровольно уступил власть Временному правительству, которое.* является исполнителем его воли. Войтинский ратовал за полную поддержку Временного правительства.
На объединенном заседании большевиков и меньшевиков 30 марта1 2 правые возражали против того, чтобы представить Всероссийскому совещанию Советов, которое в то время проходило, самостоятельную резолюцию о войне, и предлагали поддержать резолюцию исполкома, составленную в духе «революционного» оборончества. После того как подавляющим большинством голосов было решено выступить с самостоятельной резолюцией и меньшевики ушли на фракционное совещание, Войтинский предложил большевикам, несогласным с этой резолюцией, удалиться и голосовать с меньшевиками-оборонцами3. 31 марта Всероссийское совещание партийных работников решило внести на совещание Советов особую резолюцию о Временном правительстве. По поручению большевиков ее зачитал Каменев, заявив при этом: «Мы снимаем отдельную резолюцию и будем голосовать за резолюцию Исполнительного Комитета» 4.
Правые элементы пытались тянуть партию на меньшевистские позиции, на сближение и объединение с
1 Вскоре после совещания оба перешли к меньшевикам.
2 Это совместное заседание состоялось после того, как в «Известиях» по личной инициативе Севрука было опубликовано специальное обращение к социал-демократам участникам совещания Советов с предложением провести такое заседание с целью выработки общей позиции в вопросе о войне. Председательствовал на совместном заседании лидер московских меньшевиков Хинчук.
3 В протокольных записях Ф. И. Драбкиной и Г. И. Бокия сказано, что ушло семь человек, но указаны фамилии только упомянутых (Войтинский, Севрук, Элиава, Яхонтов).
4 «Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских Депутатов». Стенографический отчет. М.—Л., Госиздат, 1927, стр. 187.
85
оппортунистами. Меньшевики делали ставку именно на эти элементы, рассчитывая, что они поведут за собой более или менее значительные массы большевиков и это внесет в их среду раскол и смятение.
На мартовском совещании рассматривалось внесенное меньшевиками (Церетели) предложение о совместном собрании для обсуждения вопроса об объединении. Уже сам факт, что такой ярый проповедник «революционного» оборончества, как Церетели, вошел с подобным предложением на совещание большевиков и что оно нашло возможным его обсуждать, свидетельствовал об отсутствии у большевиков четкой тактической линии.
Естественно, сразу же возник вопрос: с кем и на какой основе допустимо объединение? Сталин считал, что оно возможно с интернационалистами. «С теми, кто сходится на Циммервальде и Кинтале, то есть кто против революционного оборончества, у нас единая партия. Это демаркационная линия» Предложение Сталина, в общем правильное, было сформулировано нечетко, так как ставился знак равенства между циммервальдизмом и интернационализмом. На это обстоятельство указывали некоторые участники совещания.
Обсуждался и другой вопрос: идти на совместное с меньшевиками собрание с заранее выработанной платформой или без нее. Залуцкий и Молотов высказали мнение, что необходимо иметь определенную платформу. Сталин предлагал идти без платформы, но при этом он говорил, что «объединять необъединимое не-возможно» <
Совещание единогласно решило: 1) на собрание идти; 2) признать собрание информационным. Большинством против одного было принято предложение Сталина: никакого бюро для созыва конференции не выбирать (как это предлагал Милютин); предложить ЦК снестись с вождями меньшевиков-интернационалистов по вопросу о созыве конференции. Для ведения переговоров была избрана комиссия в составе: Сталин, Каменев, Теодорович, Ногин 3.
4 апреля в Таврическом дворце по инициативе меньшевиков открылось собрание представителен всех
1 «Вопросы истории КПСС», 1962, № 6, стр. 140.
2 Там же.
3 См. там же.
86
Апрельские тезисы и Апрельская конференция РСДРП(б) об отношении к мелкобуржуазным партиям
социал-демократических течений со следующей повесткой дня: 1) доклад инициативной группы; 2) желательность объединения и его объем; 3) способы и формы объединения; 4) практические шаги. На собрании, согласно решению мартовского совещания, присутствовали и большевики, с информационной целью. С докладом об объединении от инициативной группы выступил Голь-денберг. К объединению призывали также выступавшие в прениях Войтинский, Чхеидзе, Церетели. Но разговоры об объединении с самого начала были обречены на провал. Исход собрания окончательно решило происшедшее в это время величайшее событие в жизни России: в Петроград из эмиграции возвратился вождь большевистской партии В. И. Ленин.
4 апреля Ленин выступил с докладом о задачах революционного пролетариата перед большевиками — участниками Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов в Таврическом дворце. Он раскрыл и глубоко обосновал свои зна-
менитые Апрельские тезисы. В тот же день Ленин повторил свой доклад на объединенном собрании большевиков и меньшевиков. Этого выступления ожидали все, но с разным чувством: одни — с восторгом, другие — враждебно.
Ленин изложил собранию ясно и четко сформулированную в тезисах стратегическую линию на перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Ленинские Апрельские тезисы, развивавшие идеи, изложенные в «Письмах из далека», в первых телеграммах большевикам в России, проложили глубокую борозду между меньшевиками-оборонцами и большевиками, нанесли сокрушительный удар по объединен-ческим настроениям. «Я слышу,— говорил Ленин,— что в России идет объединительная тенденция, объединение с оборонцами. Это — предательство социализма» I
Меньшевики обрушились на Ленина с яростными, бранными речами, после чего большевики оставили собрание. Однако меньшевики решили продолжать работу по объединению прежде всего меньшевистских течений,
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 112.
87
формально не снимая вопроса об объединении с большевиками Они решили создать организационную комиссию для созыва объединительного съезда. Больше-вики отмежевались от этой затеи и отказались от участия в организационной комиссии. В опубликованном в «Правде» заявлении говорилось: «Сторонники «Правды» на собрании 4 апреля, посвященном вопросу об объединении социал-демократов, в голосовании не участвовали. От имени ЦК РСДРП было сделано заявление, что большевики никакого участия в этих попытках не принимают»
Апрельские тезисы В. И. Ленина, явившиеся дальнейшим творческим развитием марксизма, с предельной ясностью ответили на все животрепещущие вопросы тактики, по которым еще была неясность у большевиков. Ленинский тезис, гласивший, что своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции ко второму, социалистическому этапу, положил конец имевшей хождение среди большевиков ошибочной точке зрения о незаконченности буржуазнодемократической революции и тем самым закрыл ту щель, через которую могли проникнуть и проникали объединительные иллюзии.
Опираясь на опыт Парижской коммуны и двух русских буржуазно-демократических революций, В. И. Ленин выдвинул и обосновал идею республики Советов как новый, высший по сравнению с буржуазно-парламентарной республикой тип государства, как политическую форму диктатуры пролетариата. Он доказал, что именно государство типа Парижской коммуны и русских Советов необходимо для переходного периода от капиталистического общества к коммунистическому» В. И. Ленин критиковал мелкобуржуазных оппортунистов за то, что они фетишизируют буржуазную республику, считают ее высшим идеалом. «Марксизм,—писал он> отличается от мелкобуржуазного, оппортунистического «социал-демократизма» г. Плеханова, Каутского и К0 тем, что признает необходимость для указанных периодов не такого государства, как обычная парламентарная буржуазная республика, а такого, как Парижская
оммУна» . В Апрельских тезисах В. И. Ленин выдви-
Правда», 6 апреля 1917 г.
Ь. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 163.
88
нул лозунг перехода всей власти в руки Советов, означавший в тех условиях курс на мирное развитие революции. Мирный путь перехода к социалистической революции, возможность которого, как указывал В. И. Ленин, была крайне редкой в истории и крайне ценной, в данной конкретно-исторической обстановке являлся не только вполне осуществимым (максимум легальности, отсутствие насилия над народом), но и единственно правильным. В то время, когда трудящиеся массы находились в плену мелкобуржуазных иллюзий, когда еще не было политической армии революции, немедленное вооруженное восстание свелось бы к бланкизму, который всегда осуждали большевики. Мирный же переход власти к Советам обеспечивал прочную связь со всеми слоями трудящихся, в том числе с крестьянством, широко представленным в них.
В. И Ленин подчеркивал, что лозунг «Вся власть Советам!» не должен сводиться только к замене Временного правительства правительством из советского большинства, а предполагает переделку всего старого государственного аппарата, замену его новым, истинно народным аппаратом Советов. Лишь с переходом всей власти в руки трудящихся можно было по-революционному разрешить назревшие экономические и политические задачи.
Курс на мирное развитие революции предполагал возможность перехода всей власти к Советам, в которых еще преобладали меньшевики и эсеры. В этом случае большевики вели бы там работу критики, разоблачая перед массами неизбежные колебания мелкобуржуазных вождей в сторону соглашательства с буржуазией. Таким образом была бы открыта перспектива для большевизации Советов, для создания условий перехода к диктатуре пролетариата.
Следовательно, мирный путь развития революции означал не только ликвидацию двоевластия без вооруженного восстания и гражданской войны, но и мирный характер борьбы партий внутри Советов. Это была линия на компромисс с мелкобуржуазными партиями для свержения власти буржуазии, но не на сотрудничество, не на блок с соглашателями. Мирный переход к социалистической революции не мог осуществиться без острой и упорной борьбы революционно-интернационалист-
80
ских сил в Советах с прислужниками буржуазии поп тивниками диктатуры пролетариата. В. И. Ленин’в из' вестных «Письмах о тактике», написанных в апреле вскоре после возвращения из эмиграции, подчеркнул’ что говорить о Советах как о революционно-демокоати' ческой диктатуре пролетариата и крестьянства уже недостаточно, эту формулу он считал уже устаревшей «На очереди дня уже иная, новая задача: раскол пролетарских (антиоборонческих, интернационалистских «коммунистских», стоящих за переход к коммуне) элементов внутри этой диктатуры и элементов мелкохозяйских или мелкобуржуазных (Чхеидзе, Церетели, Стеклов, социалисты-революционеры и пр. и пр. революционные оборонцы, противники движения по пути к коммуне, сторонники «поддержки» буржуазии и буржуазного правительства)» I
По-новому поставив вопрос о своеобразии момента как переходе к новому стратегическому этапу, Ленин по-новому решил и вопросы тактики по отношению к войне, к Временному правительству; он связал воедино дело выхода из войны и достижения демократического мира с переходом всей власти в руки трудящихся. Ленин требовал не делать никаких уступок «революционному» оборончеству. «Именно оно — злейший враг дальнейшего движения и успеха русской революции. -
Кто поддался в этом пункте и не сумел высвободиться__Тот погиб для революции. Но массы иначе под-
даются, чем вожди, и иначе, иным ходом развития, иным способом высвобождаются» .
Проводя резкую грань между лидерами, сознател -ними проводниками оборончества, с одной стороны г добросовестно заблуждавшимися широкими массами тоудяшихся - С другой, Ленин считал важнейшей за-
жуазных иллюзии. Этого же ТР
КОП, доверия Временному правительству . ла
Таким образом, /Р0МДД"^еХв основам содер-пропагандистская работа боль
» Н. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 1о4.
3 Там же, стр. 159.
90
жанием которой являлось разоблачение империалистической сущности Временного правительства, оппортунистической, соглашательской политики меньшевиков и эсеров. Тем, кто говорил, что партия не может заниматься одной пропагандой, что нужна практическая работа, Ленин отвечал: «На деле это — самая практическая революционная работа, ибо нельзя двигать вперед революцию, которая остановилась, захлебнулась фразой, проделывает «шаг на месте» не из-за внешних помех, не из-за насилия со стороны буржуазии... а из-за доверчивой бессознательности масс» ’. Доверчивость же эту насаждали вожди мелкобуржуазных партий, проводники реформизма и соглашательства.
Ленин требовал полного отмежевания от оппортунистов даже в названии партии. Выдвигая тезис о переименовании партии, Ленин обосновывал его как необходимостью более точного в научном отношении названия, так и назревшей задачей «сбросить с себя грязную рубаху» и «надеть чистое белье». Старое название «социал-демократическая» облегчало обман масс, ибо позволяло реформистам выдавать себя за пролетарских революционеров, носить общее с ними название.
В Апрельских тезисах Ленин выдвинул идею создания III Интернационала, который должен сплотить все подлинно революционные интернационалистские силы на мировой арене, противопоставить их оппортунистам, социал-шовинистам — как открытым, так и прикрывавшимся революционной фразой. Циммервальдское объединение не смогло выполнить свою задачу и потерпело идейно-политический крах именно потому, что, заняв каутскианскую, центристскую позицию, оно проявило колебания в вопросе о полном разрыве с социал-шовинизмом, со старым, оппортунистическим Интернационалом.
«Нельзя терпеть далее циммервальдское болото.— писал Ленин.— Нельзя из-за циммервальдских «каутскианцев» оставаться дальше в полусвязи с шовинистским Интернационалом Плехановых и Шейдеманов» 1 2.
Разрыв с оппортунизмом на международной арене означал в первую очередь разрыв с оппортунистами и
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 157.
2 Там же, стр. 177.
91
соглашателями в собственной стране. Свое обоснование необходимости создания III Интернационала Ленин заключает следующими словами:
«О том, что об объединении социал-демократов в России не может быть и речи, не приходится тратить много слов после вышесказанного.
Лучше остаться вдвоем, как Либкнехт,— и это значит остаться с революционным пролетариатом,— чем допускать хотя бы на минуту мысль об объединении с партией ОК, с Чхеидзе и Церетели, которые терпят блок с Потресовым в «Рабочей Газете»... которые скатились к «оборончеству».
Пусть мертвые хоронят своих мертвецов» *.
Апрельские тезисы В. И. Ленина, определявшие курс на переход от буржуазно-демократической революции к социалистической, дали партии четкую, научно обоснованную стратегическую и тактическую линию. После широкого обсуждения партия приняла их на свое вооружение, быстро изжив ошибки, допускавшиеся в марте.
Меньшевики подняли злобный вой вокруг ленинских тезисов. Их печать не скупилась на ругательства и клеветнические измышления. Особенно неистовствовала плехановская газета «Единство». И это понятно: идеи Ленина, его стратегический план перехода к новому этапу революции наносили сокрушительный удар по реформизму и соглашательству, обнажали оппортунизм меньшевиков.
Меньшевистско-эсеровские лидеры направили свои стрелы прежде всего против ленинского лозунга «Вся власть Советам!». Они отдавали себе отчет, что в России в то время не было реальной силы, которая могла бы помешать Советам ликвидировать двоевластие, если бы последние проявили к этому волю: на их стороне были симпатии широких масс трудящихся и армии. Но это был кратчайший путь к диктатуре пролетариата, о которой соглашательские вожди и слышать не хотели2.
’ В. И. Лепин. Поля. собр. соч., т. 31, стр. 179.
2 Вот что писал об этом много лет спустя Церетели: «Опас-ность переоценки своих сил пролетариатом была велика, ибо попытка захвата социалистами власти и осуществления про-траммы-максимум не могла быть прямо подавлена никакой организованной силой» («Воспоминания о Февральской револю-
92
Поэтому они использовали все свое влияние и руководящее положение в Советах, чтобы не допустить перехода власти в их руки. Они пугали массы жупелом гражданской войны, которая якобы вытекала из боль щевистского лозунга «Вся власть Советам!», замалчивая тот факт, что большевики имеют в виду именно мирный переход власти к трудящимся и что этот путь возможен в данной обстановке. На самом же деле не кто иной, как меньшевики и эсеры, срывая мирный переход власти к Советам и помогая буржуазии укрепить ее позиции, вели с неизбежностью к гражданской войне.
Имелась и в большевистской партии небольшая группа — Каменев, Рыков, Пятаков, Багдатьев и некоторые другие,— которая повела атаку против ленинского курса на социалистическую революцию, отстаивая тезис о незаконченности буржуазно-демократической революции. Особенно резко оспаривал основные положения Апрельских тезисов Каменев, исходивший из своей концепции о невозможности победы социализма первоначально в России. Он выступал против критики Временного правительства, предлагал придерживаться тактики контроля над его действиями. Но Каменеву и его сторонникам не удалось сбить партию с революционного курса.
Идейное единство большевистской партии убедительно продемонстрировала VII (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (б), состоявшаяся 24— 29 апреля 1917 г. Апрельские тезисы В. И. Ленина легли в основу всех ее решений: о текущем моменте, об отношении к Временному правительству, по аграрному, национальному и другим вопросам. В соответствии с курсом на социалистическую революцию конференция разработала и дала партии конкретную, боевую программу действий, направила ее на борьбу за воспитание и революционную мобилизацию масс, против мелкобуржуазного соглашательства.
Выступивший на конференции с направленным против Ленина содокладом по текущему моменту Каменев вновь пытался навязать партии свои капитулянтские взгляды. Его поддержал Рыков, который также отстаи-Ции», кн. I. 1963, стр. 23). Переход власти к Советам Церетели и Другие меньшевистские лидеры трактовали как социалистический переворот.
93
вал тезис о невозможности победы социалистической революции в России. Он говорил:
«Рассчитывать на сочувствие масс социалистической революции невозможно, и потому, поскольку партия будет стоять на точке зрения социалистической революции, постольку она будет превращаться в пропагандистский кружок. Толчок к социальной революции должен быть дан с Запада» Утверждая, что Россия не должна выходить за рамки буржуазной революции, Каменев и Рыков предлагали действовать в блоке с мелкобуржуазными партиями.
Конференция дала решительный отпор оппортунистическим взглядам Каменева и его сторонников. Касаясь выступления Рыкова, В. И. Ленин говорил:
«Тов. Рыков говорит, что социализм должен прийти из других стран, с более развитой промышленностью. Но это не так. Нельзя сказать, кто начнет и кто кончит. Это не марксизм, а пародия на марксизм» 1 2.
В резолюции по текущему моменту конференция подтвердила ленинское положение о возможности победы социализма первоначально в одной стране, указав, что именно в России, несмотря на ее отсталость, имеются для этого все предпосылки. Она указала и ряд практических, назревших шагов к социализму: национализация земли, установление государственного контроля над банками с объединением их в единый центральный банк и др.
После Апрельских тезисов В. И. Ленина вопрос об отношении к меньшевикам, как и к другим мелкобуржуазным партиям, был настолько ясен, что почти не вызвал прений ни на Всероссийской конференции РСДРП(б), ни на состоявшейся ранее (14—22 апреля) Петроградской общегородской конференции большевиков. Но обе конференции приняли специальные решения, в которых четко было определено отношение к мелкобуржуазным партиям и сформулированы условия объединения с ними. При обсуждении вопроса «об отношении к меньшевикам различных течений» на Петроградской общегородской конференции все выступавшие были единодушны в том, что объединение с меньшеви-
1 «Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б)». Протоколы, стр. 106.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч, т. 31, стр. 363.
94
ками-оборонцами невозможно. Некоторую уступчивость проявил только М. И. Калинин. Правда, он тоже заявил, что объединение невозможно, но усомнился в правильности термина «мелкая буржуазия» по отношению к меньшевикам и предложил не принимать «грозных» резолюций. «Чем мягче резолюция, тем вернее меньшевики на это объединение не пойдут. Это указывает опыт 15 последних лет. Я бы предложил резолюцию положительного свойства» ’. Это соображение было, конечно, неправильно, так как дело заключалось не в том, как будут реагировать на резолюцию меньшевики, а как поймут ее партийные организации, члены большевистской партии, как она будет понята рабочим классом.
В резолюции, единогласно принятой городской конференцией, говорилось об отношении не только к меньшевикам, но и к другим мелкобуржуазным партиям и течениям. В ней отмечалось, что меньшевики и эсеры проводят точку зрения мелкой буржуазии и развращают пролетариат буржуазным влиянием. Что касается вопроса об объединении, то в резолюции указывалось: «...признать объединение с партиями, как целыми, проводящими политику поддержки Временного правительства, революционного оборончества и пр., ввиду того, что эти партии перешли с классовой пролетарской позиции на мелкобуржуазную,— безусловно невозможным» 1 2.
В то же время конференция признала возможным сближение и объединение с местными группами рабочих, примыкающими к меньшевикам и т. п., но стремящимися «отстоять позицию интернационализма, против «революционного» оборончества, против голосования за заем и т. п.». Объединение допускалось только «на началах безусловного разрыва с мелкобуржуазной изменой социализму» 3.
На VII Всероссийской конференции РСДРП(б) также была принята резолюция, которая уже своим названием отражала отношение нашей партии к мелкобуржуазным партиям: «Об объединении интернационалистов против
1 «Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (б)». Протоколы, стр. 52.
2 Там же, стр. 51.
* Там же.
95
Идейное и организационное сплочение большевистских сил
нейших задач i
мелкобуржуазного оборонческого блока». По своему содержанию она мало чем отличалась от резолюции Петроградской общегородской конференции. Последний ее пункт был сформулирован следующим образом: «...признать сближение и объединение с группами и течениями, на деле стоящими на почве интернационализма, необходимым на основе разрыва с политикой мелкобуржуазной измены социализму» L Резолюция была принята всеми при 10 воздержавшихся. По всей вероятности, воздержались некоторые делегаты, представлявшие объединенные организации.
Одобренный Апрельской конференцией курс на социалистическую революцию потребовал дальнейшего идейного и организационного укрепления большевистских рядов. Одной из важ-ртийного строительства в это время
являлся полный разрыв с оборонцами в объединенных организациях, сплочение их вокруг решений конференции. Областные бюро РСДРП (б) и партийные комитеты уделяли этому вопросу большое внимание. Так, Московское областное бюро трижды обсуждало вопрос о положении партийных организаций области (7, 16—17 и 21 мая). Предварительно рассылалась анкета, которая дала возможность проанализировать состояние организационно-партийной работы. Основываясь на данных анкеты, докладчик А. С. Бубнов отметил, что из 21 организации в области определенно большевистских было 11, остальные — объединенные: 3 — с интернационалистами, 2 — неопределенные, остальные — с меньшевиками разных направлений. При этом Бубнов заявил, что большинство организаций вело большевистскую линию 2.
На заседании 21 мая МОБ в развернутой резолюции рекомендовало подходить к организациям в зависимости от их характера. По отношению к неопределившим-ся организациям ставилась задача «немедленно же поставить на обсуждение все основные вопросы нашего расхождения с оборонцами и, принимая ближайшее
1 «Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (б)». Протоколы, стр. 253.
2 См. «Протоколы МОБ за май — июнь 1917 года». «Пролетарская революция», 1927, № 4 (63), стр. 236—280.
96
участие в этом обсуждении, содействовать занятию этими организациями революционной интернационалистской позиции...»; организации, объединяющие в своих рядах большевиков и меньшевиков-интернационалистов, поддержать путем установления с ними теснейшей организационной связи и энергичного участия в их работе, пресекать в таких организациях стремление к объединению с оборонцами; по отношению к организациям смешанным предлагалось ускорить процесс их самоопределения, «помочь уяснить всю глубину и непримиримость разногласий между двумя основными направлениями в них, оборонческим и интернационалистским, облегчить неизбежный раскол и вывести из него группу наших единомышленников сплоченной и способной организационно закрепить свое влияние на массы».
Что касается организаций, называвших себя объединенными, но занимавших явно оборонческую, оппортунистическую позицию, МОБ заявило, что оно порывает с ними всякие связи и требует немедленного выхода большевиков из таких организаций ’.
Таким образом, Московское областное бюро четко определило свою позицию, помогло местным партийным организациям изжить объединенчество.
Уже в мае в пяти губернских центрах (Воронеж, Калуга, Нижний Новгород, Тула, Ярославль) большевики выходят из объединенных комитетов. Только в Курске, Тамбове и Рязани, где преобладали меньшевики, объединение затянулось на более длительное время — до октября.
После конференции значительно активизировали агитационно-пропагандистскую и партийно-организаторскую работу большевики Урала. В ряд городов области— Пермь, Чусовую, Надеждинск,— где особенно сильно проявлялось влияние меньшевиков, направляются постоянные работники. Через своих представителей Уральское областное бюро РСДРП (б) разъясняло членам партии и трудящимся массам классовые задачи пролетариата на новом этапе революции, помогало большевистским группам в объединенных организациях ускорить разрыв с меньшевиками. Большую
1 См. «Протоколы МОБ за май — июнь 1917 года». «Пролетарская революция», 1927, № 4 (63), стр. 257.
7 Н. Рубан 07
роль в пропаганде решений Апрельской конференции РСДРП(б) и идейно-организационном укреплении партийных организаций сыграла газета «Уральская правда» К июлю почти по всему Уралу были чисто большевистские организации. Лишь Оренбургский и Уфимский комитеты оставались объединенными до осени
Сибирское бюро ЦК РСДРП(б) еще 10—13 апреля провело совещание большевистских групп Красноярска, Ачинска, Канска, Енисейска. Обсуждались вопросы о задачах момента, о Временном правительстве, о войне и мире и др. Резолюции совещания свидетельствуют о твердой большевистской линии Бюро и местных партийных организаций. В резолюции «О единстве» признавалась необходимость и возможность единства только с интернационалистами.
Сибирское бюро ЦК и его орган «Сибирская правда» вели большую работу по пропаганде решений Апрельской конференции, в том числе в области партийного строительства. 30 мая Бюро собрало большевиков Красноярска с целью создания самостоятельной большевистской организации. Накануне в «Сибирской правде» было напечатано обращение к большевикам, издана специальная листовка, в которой Бюро ЦК требовало немедленного разрыва с оборонцами. Собрание большевиков 30 мая положило начало существованию самостоятельной большевистской организации в Красноярске1 2.
В июне — июле с объединенчеством порывает целый ряд организаций в Сибири, однако там, как и на Дальнем Востоке, этот процесс оказался более затяжным, чем в других районах страны.
После Апрельской конференции полностью порывают организационные связи с меньшевиками большевики Закавказья. Большую роль в сплочении большевистских сил Грузии сыграли возвратившиеся с конференции Миха Цхакая и Филипп Махарадзе. Во второй половине мая собрание большевиков Тифлиса принимает решение о создании самостоятельной организации. Газета «Кавказский рабочий» писала об этом: «Наша партия в целях охраны пролетариата от всяких
1 Подробнее об этом см. в кн.: «Борьба за победу Октябрь ской социалистической революции на Урале», стр. 150 173L
2 См. М. М. Шорников. Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской революции, стр. 207—260.
98
чуждых ему влияний не может делать никаких уступок «революционному» оборончеству и решительно разрывает с ним. Ввиду этого собрание постановило: разорвать с меньшевистской организацией, стоящей на точке зрения «революционного» оборончества, отозвать оттуда всех наших единомышленников и создать отдельную социал-демократическую организацию, стоящую на точке зрения революционной социал-демократии» *.
28 мая «Бакинский рабочий» опубликовал обращение ко всем членам партии с призывом созвать партийную конференцию для выборов нового состава комитета, очищения организации от «сомнительных и нежелательных социал-демократов», т. е. от меньшевиков-оборонцев. «Основу социал-демократической организации должны составлять большевики и меньшевики-интернационалисты, которые остались верными революционному знамени марксизма»1 2,— говорилось в обращении.
25 июня решение о полном разрыве с меньшевиками-оборонцами было принято межрайонной делегатской конференцией бакинской организации РСДРП (большевиков) и меньшевиков-интернационалистов. В решении отмечались глубокие и непримиримые противоречия между большевиками и оборонцами по всем основным вопросам современной жизни, исключающие совместную работу в одной организации, приводились факты дезорганизаторской работы оборонцев, говорилось о фактическом отколе их от организации. Всеми голосами при одном воздержавшемся было принято следующее постановление: «Мы считаем необходимым создание организации, объединяющей всех революционных социал-демократов — социал-демократов большевиков и меньшевиков-интернационалистов, а с оборонцами нам не по пути» 3.
Несколько раньше Бакинский комитет РСДРП (б) обратился к членам партии с призывом готовить конференцию для выработки условий объединения с меньшевиками-интернационалистами.
После Тифлиса и Баку рвут всякие связи с меныпе-
1 «Кавказский рабочий», 6 июня 1917 г.
2 «Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане». Баку, 1957, док. № 28, стр. 28.
3 Там же, док. № 49, стр. 45.
99
виками большевики в других объединенных организациях Кавказа.
Самостоятельные комитеты создают большевики Минска, Одессы, Мариуполя, Юзовки и других городов страны. До VI съезда партии полный разрыв организационных связей с меньшевиками произошел в 58 организациях, а после съезда — в 90 организациях. Быстрее всего шел процесс распада объединенных организаций опять-таки в промышленных районах (Центральная промышленная область, Урал, Донбасс). К сентябрю — октябрю объединенных организаций остается немного (главным образом в Сибири, в Средней Азии, на Дальнем Востоке) В то же время повсеместно вновь создается много большевистских организаций. Усиливается борьба против меньшевиков и в самих объединенных организациях.
Идейное и организационное сплочение большевистской партии на основе решений Апрельской конференции, быстрый рост ее авторитета и влияния в массах вызывали тревогу и замешательство в лагере ее врагов, в том числе в рядах соглашателей. Лидеры меньшевиков понимали, что с этой мощной и целеустремленной силой, идущей во главе революции, бороться будет нелегко. Поэтому они делают попытку объединить собственную партию, находящуюся в состоянии идейного и организационного разброда.
Партия меньшевиков представляла собой конгломерат организаций и течений. Достаточно сказать, что до 13 апреля не существовало даже единой меньшевистской фракции в Петроградском Совете.
После того как меньшевистскому руководству удалось в начале марта кое-как сколотить столичные организации, оно поставило перед собой задачу проделать такую же работу во всероссийском масштабе, созвать партийный съезд. Было решено предварительно провести конференцию, выработать платформу объединения, выяснить настроения местных организации. При существовавшей в партии идейной разноголосице ОК не уверен был в том. что съезд пойдет в желаемом направлении. Как сообщалось в циркулярном письме ко всем
1 См. «Вопросы истории КПСС», 1958, № 2, стр. 126 193, 3, стр. 96—168.
100
партийным организациям, изданном специально в связи с предстоящей конференцией, последняя намечала наряду с другими рассмотреть также вопрос о возможности объединения с большевистской партией *.
Всероссийская меньшевистская конференция состоялась в Петрограде 6 мая, но ей предшествовало предварительное совещание, приуроченное к Всероссийскому совещанию Советов1 2. На предварительном совещании выявились противоречия в вопросе об объединении с большевиками. Часть делегатов с мест (главным образом представители объединенных организаций) возражали против созыва конференции, предлагали вопрос об объединении обсуждать на съезде, положив в основу объединения Программу партии. Другая часть делегатов, и прежде всего Организационный комитет, считала, что надо предварительно выработать платформу, в особенности по вопросам тактики.
Из этого со всей очевидностью следовало, что меньшевистский ОК и не собирался серьезно ставить вопрос об объединении, что это был лишь тактический маневр, рассчитанный на раскол большевистской партии. Не мог же ни один здравомыслящий человек из меньшевиков предположить, что большевистская партия пойдет на объединение на оборонческой платформе (ОК другую платформу не мог и не собирался предложить). Собственно, ОК и не скрывал своих замыслов внести раскол в большевистскую среду. В одном из его циркулярных писем партийным организациям, где сообщалось об итогах совещания меньшевиков, указывалось, что «с некоторыми элементами большевизма объединение, конечно, невозможно»3. Но ведь эти «некоторые» составляли всю партию, исключением была только жалкая кучка правых элементов, на которых делало ставку меньшевистское руководство. В то же время оно препятствовало объединению интернационалистских элементов своей партии с большевиками. В связи с заявлением
1 См. «Рабочая газета», 12 марта 1917 г.
2 Первоначально предполагалось созвать конференцию в середине апреля, но к этому сроку организовать ее созыв не удалось. Во время Всероссийского совещания Советов предусматривалось провести предварительную конференцию, но и это оказалось невозможным.
1 «Рабочая газета», 16 апреля 1917 г.
101
ЦК РСДРП(б) в «Правде» по поводу переговоров меня шевиков-интернационалистов об объединении с боль-шевистскими организациями Петроградский комитет меньшевиков в специальном постановлении признак «недопустимыми все практические попытки отдельных товарищей и групп к объединению с другими партийными организациями» I
В ходе меньшевистской конференции обнаружились серьезные противоречия между различными течениями меньшевизма. По основным вопросам текущего момента о Временном правительстве и участии в нем социалистов, об отношении к войне — левое, интернационалистское крыло высказало резкое несогласие с правым крылом и с центром (интернационалистское крыло состояло из 11 человек, в том числе 6 делегатов петроградской организации из 9 членов этой делегации). Резолюция о войне, пункт 1 которой говорил о необходимости укрепления боеспособности армии для защиты страны, была принята 47 голосами против 5 при 11 воздержавшихсяi 2. Резолюция, резко направленная против братания «как метода борьбы за мир», принята 53 голосами против 10 при 10 воздержавшихся3.
Как же конференция выполнила свою основную задачу — объединения партии? Она не только не решила этой задачи, но даже сделала шаг назад. В ходе конференции разногласия между течениями обострились еще более. Она закончилась обособлением интернационалистского крыла партии, которое нашло принятые ре-шения слишком правыми, оппортунистическими. К концу конференции 16 делегатов (из Петрограда, Харькова, Екатеринослава, Выборга) подали следующее заявле-НИе«Ряд решений настоящей конференции меньшевистских и объединенных организаций, решении, продолжающих политическую линию, проводившуюся меньше-"«я™ центра«,< В течение нослелнох двух »««»»• ” «“их существенных пунхеах отсту„т от при»™ нов классовой борьбы и интернационализма... За утвер жденную конференцией политическую линию ин р
i СРмаб°В?™и7ска7Хференция меньшевистских и объ-
единенных организаций РСДРП», стр. 3
3 См. там же, стр. 39—40.
102
ционалистская часть российских меньшевиков не может нести политической ответственности и не будет связывать себе руки в своей деятельности теми из решений конференции, которые будут сталкиваться с жизненными интересами пролетариата и революции» Еще до подачи настоящего заявления эта группа интернационалистов отказалась участвовать в выборах центрального органа партии.
Если не все меньшевики сошлись на платформе, выработанной конференцией, как явно оппортунистической, на что же могло рассчитывать меньшевистское руководство, ставя вопрос об объединении на этой платформе с большевиками? Нереальность предложения была столь очевидна, что конференция, видимо под влиянием представителей местных объединенных организаций, не поддержала ОК. Была принята резолюция, в которой предлагалось положить в основу объединения Программу и Устав партии. Но и эта резолюция не имела практического значения; политическая линия меньшевиков далеко отошла от официальной Программы РСДРП.
Меньшевики, в особенности их лидеры, понимали, конечно, что невозможно ни совместить, ни примирить две идеологии, две концепции революции. Они прекрасно знали точку зрения большевистской партии о невозможности такого объединения, ясно выраженную в ленинских Апрельских тезисах, в решениях Петроградской общегородской и Всероссийской конференций РСДРП (б). Однако ОК сильно был встревожен самим фактом принятия такого рода резолюции и «нетвердой», колеблющейся позицией периферийных организаций. И тут-то меньшевистское руководство еще раз раскрыло истинную свою позицию. Подводя итоги конференции, ОК писал своим организациям: «В интересах еще более широкого объединения можно отказаться от частностей, но не от основной политической и тактической линии. Между тем с этой тактической линией ничего общего не имеет то, что идет под знаком «ленинизма»» 1 2. Такова
1 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 7, л. 39; см. также «Всероссийская конференция меньшевистских и объединенных организаций РСДРП», стр. 20—22.
2 «Всероссийская конференция меньшевистских и объединенных организаций РСДРП», стр. 25.
103
подлинная цена «миролюбивым» по меньшевиков об объединении ₽азглагольствованиям
ОК обрушился также на' свое про.
крыло, отмежевавшееся от пешений aY маРт°вское нил его в раскольничестве Основания°“фер,енции- обви-действительно были. Бунт левой чягп™ беспокойс’’ва организационной, объединительной ™ жР™И уже на лялся симптоматичным. Однако то не бы'^пяси'"1^”8' товцы хотя и самоопределились в отдельную Znnv^ Даже начали издавать свой печатный орган — «Летучий листок» >, а затем газету «Искра»,- сохранилиУвер-ность» оппортунистическим традициям меньшевизма, на р зрыв организационных связей о оборонцами не пошли.
Уже в первых номерах «Летучего листка» меньшевики-интернационалисты изложили свои взгляды на войну и основные вопросы революции. Они вновь обвинили большинство меньшевистской партии в оппортунизме и заявили, что будут самостоятельно выступать перед массами, «для которых явно не приемлема политика компромисса с национализмом мелкобуржуазной демократии и политика капитуляции перед стихией анархизма». Интернационалисты на словах осудили и оборончество, но проявили поразительную непоследовательность и беспомощность при попытке сформулировать собственную политическую линию. В своих практических выводах о путях достижения справедливого демократического мира они не смогли предложить ничего нового по сравнению с тем, что говорили «революционные» оборонцы, ни на шаг не двинулись дальше пустого пацифизма. Мартовцы стремились занять_место где-то посередине между «революционными» ооорон-цами и большевиками; ругая первых, они с еще большей силой обрушились на большевиков, на Ленина.
Столь характерное для мелкой буржуазии стремление занять срединное положение особенно нагляд^ было выражено в статье Л. Мартова<<Ло.лУ власть Советам»». Он справедливо упрекал ков в том, что они, вместо того чтобы Укрепить в Р летариате сознание его особого положения в «с всю свою деятельность приспособили к эсеровски
• Издавался при участии Р. Абрамовича^ £ А<£рЛа. Г. Бинштока, И. Бэра, С. Далина, А-Ер^нск°г°. р. пинского, Ф. Митина, С. Семковского, Ю. Ларина
104
рии единого «трудового народа», что они сошли с классовых позиций. Слабость и безволие Советов Мартов объяснял тем, что их руководство «льнет к буржуазии вместо революционного давления на буржуазию». Но тут же он восстает против большевистского лозунга «Вся власть Советам», утверждая, что это «приведет вместо отделения мелкобуржуазной демократии от либерализма к теснейшему сплочению их против «противников слева»». Мартовцы, в унисон всем меньшевикам, яростно выступали против курса на перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую, пытаясь доказать, что Россия еще не готова к социалистической революции и вообще не может осуществить ее собственными силами, без революции на Западе. Таким образом, в основном и главном — в вопросе о перспективах социалистической революции в России — они остались на позиции общей с Плехановым, Даном и Церетели. Они оставались оппортунистами.
Тем не менее большевистская партия не отказалась от попыток привлечь меньшевиков-интернационалистов на сторону пролетариата, объединить с ними свои действия, требуя, конечно, в качестве непременного условия полного разрыва с оборонцами. Эта работа велась, прежде всего и главным образом в низах, среди рабочих, примыкавших к интернационалистскому крылу меньшевистской партии. Во многих случаях большевикам удавалось отрывать интернационалистские элементы от меньшевистской партии и вовлекать их на путь революционной борьбы. Однако основная часть интернационалистского крыла меньшевиков, состоявшая главным образом из интеллигенции, продолжала следовать за своими лидерами, которые не хотели рвать с оборонцами.
3. Разоблачение большевиками соглашательской политики меньшевиков. Обучение масс на их собственном опыте
От «контактной» Главной своей задачей большевист-комиссии ская партия считала работу по поли-к коалиции тическому воспитанию и организации с кадетами масс. В плане доклада об итогах Апрельской конференции РСДРП(б) на собрании петро-
105
градской организации большевиков В. И. Ленин пиеап.
«...Удесятерение <1Л-
коллегий агитаторов 4- пропагандистов + о п.
ганизаторов. F'
Как? Не знаю. Но знаю твердо, что без этого не-чего и толковать о революции пролетариата» *.
Сама жизнь помогала большевикам воспитывать массы в духе революционной классовой борьбы, давала им для этого обильный материал. Свергнув самодержавие, рабочие и крестьяне ожидали, что скоро наступит долгожданный мир, а вместе с ним и конец их невыносимым страданиям. Но время шло, а война продолжалась, все сильнее давали о себе знать голод и нараставшая экономическая разруха. Правительство буржуазии и обуржуазившихся помещиков не хотело удовлетворить элементарных требований трудящихся — о восьмичасовом рабочем дне и повышении заработной платы рабочим, о передаче крестьянам помещичьих земель и др. А в это время соглашатели, прислужничая перед буржуазией, кормили народ сладенькими фразами и посулами, притупляя его классовое сознание. Массы все больше убеждались в верности идей и лозунгов большевистской партии, все больше поворачивались в ее сторону.
Конечно, этот процесс в различных слоях трудящихся проходил по-разному; если пролетариат в силу своего классового положения тяготел к большевизму, то мелкая буржуазия шла к революции более сложным, зигзагообразным путем. В целом же классовое сознание трудящихся неуклонно росло, находя свое выражение в забастовочном движении рабочего класса и аграрном движении крестьянства, в массовых политических выступлениях. Время от времени поднимавшаяся революционная волна проявлялась в политических кризисах, потрясавших устои капитализма. И каждый раз, когда буржуазия оказывалась перед угрозой потерять власть, соглашатели бросались ей на помощь, все более укрепляли союз с ней и тем самым углубляли пропасть между собой и пролетариатом, способствуя революции визированию масс.
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 442.
106
Первый политический кризис разыгрался уже в апреле. Непосредственным поводом к нему, как известно, послужила нота Временного правительства («нота Милюкова») правительствам союзных государств от 18 апреля. Временное правительство дало понять союзникам, что его заявления об освободительном характере войны, о праве народов на самоопределение и пр. не следует принимать всерьез. Эти заявления, говорилось в ноте, «разумеется, не могут подать ни малейшего повода думать, что совершившийся переворот повлек за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе. Совершенно напротив, всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого» 1. Другими словами в ноте открыто выдвигался старый лозунг «Война до победного конца». Нота Милюкова вызвала в массах гнев и возмущение. В течение двух дней (20—21 апреля) в Петрограде, Москве и ряде других городов под руководством большевиков проходили стихийно начавшиеся мощные демонстрации рабочих и солдат под лозунгами «Долой войну!», «Вся власть Советам!». Почва под ногами буржуазного Временного правительства зашаталась.
В резолюции Центрального Комитета РСДРП(б), на-' писанной Лениным и принятой утром 22 апреля, говорилось: «Суть кризиса: мелкобуржуазная масса колеблется между старым, вековым доверием к капиталистам — и озтюблением против них, стремлением довериться революционному пролетариату» 2.
Этот кризис еще не означал, что мелкобуржуазная масса уже окончательно перешла на сторону пролетариата. Как указывалось в той же резолюции ЦК, она «колебнулась сначала от капиталистов, возмущенная ими, к рабочим; а через день она снова пошла за меньшевистскими и народническими вождями, проводящими «доверие» к капиталистам и «соглашательство» с ними» 3. Но вместе с тем апрельский кризис показал, что в настроении масс произошел серьезный сдвиг влево.
1 «Вестник Временного правительства», 20 апреля (3 мая) 1917 г.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 319.
• Там же.
107
Тот факт, что слепое доверие к буржуазии и к соглашателям стало постепенно рассеиваться, вынуждены были признать сами меньшевики. На заседании мень шевистской фракции Петроградского Совета после обсуждения вопроса о событиях 20 и 21 апреля была принята резолюция (по докладу Вайнштейна), в которой констатировался факт «ослабления идейного влия" ния меньшевизма среди пролетариата». Фракция Решила усилить антибольшевистскую агитацию, в которой предлагалось «резко отмежеваться от проповеди диктатуры пролетариата и крестьянства, противопоставляя этой проповеди наши взгляды на буржуазный характер настоящей революции» F
Политический кризис заставил меньшевиков открыть забрало и показать свое истинное лицо. На словах они протестовали против ноты: слишком велико было негодование народа, чтобы можно было хотя бы умолчать об этом акте правительства, не говоря уже о его поддержке. Но на деле принимались все меры к тому, чтобы уладить инцидент «по-семейному», без народа. 20 апреля исполнительный комитет Петроградского Совета, в котором преобладали соглашатели, обсудив вопрос о «ноте Милюкова», не нашел слов для осуждения правительства и не принял никакого решения. Члены Совета спешно разъехались в свои районы, «чтобы успокоить их и призвать к стойкости» 2. Исполком разослал телеграмму по всем воинским частям о запрещении солдатам устраивать уличные демонстрации, а также издал постановление о запрещении на два дня уличных митингов и демонстраций в Петрограде.
Чтобы спасти союз с буржуазией и в то же время успокоить массы, лидеры мелкобуржуазного блока во главе с Церетели добивались от правительства хотя бы какого-нибудь «разъяснения ноты». Они с восторгом встретили опубликованное правительством совершенно формальное и пустое «разъяснение», пытаясь убедить народ в необычайной значимости этого акта. В резолю ции Петроградского Совета от 21 апреля говорилось, что это «разъяснение» кладет конец возможности истолко
«Партийные известия», 15 июля 1917 г. иХ
«Известия Петроградского Совета рабочих и солдате депутатов», 21 апреля 1917 г.
108
вания ноты 18 апреля в духе, «противном интересам и требованиям революционной демократии». Сделанный Временным правительством шаг, заявлял Петроградский Совет, «должен быть признан крупным завоеванием демократии» \
Буржуазия и мелкобуржуазные вожди видели выход из положения в том, чтобы ввести в состав правительства социалистов в качестве представителей Совета рабочих и солдатских депутатов, создать коалицию. Расчет был простой: Советы брали на себя формально ответственность за политику Временного правительства, прикрывали его собой, своим авторитетом. Еще в начале кризиса Ленин предвидел, что правительство попытается разрешить его заменой некоторых министров. В резолюции ЦК от 18 апреля, написанной Лениным, подчеркивалось: «Всякие изменения личного состава данного правительства (отставка Милюкова, отзыв Керенского и т. п.) будут подражанием худшим приемам буржуазного парламентарного республиканизма, подменяющего борьбу классов соревнованием клик и личными перетасовками» 2. Ленинская резолюция еще и еще раз напоминала о том, что единственным спасением для трудящихся является переход всей власти в руки Советов.
Но перепуганные мелкобуржуазные вожди решили спасать не народ, а Временное правительство, пытаясь придать этому буржуазному правительству революционную окраску. Как известно, в период первой русской революции они выступали против участия социал-демократов во Временном революционном правительстве, а теперь решили вступить в буржуазное правительство, проводившее империалистическую политику. Беря на себя официальную ответственность за эту политику, соглашатели лишались возможности маневрировать и обманывать, а это неизбежно должно было ускорить их конфликт с пролетариатом. Кроме того, коалиция с буржуазией сводила к абсурду формулу «контроля» Совета рабочих и солдатских депутатов над Временным правительством; войдя в правительство, меньшевистские лидеры, выступавшие одновременно в
1 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 22 апреля 1917 г.
’ В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 291.
109
поли вождей Советов, должны были бы контролирован сами себя. Таким образом, разрушалась очень удобная схема, которой придавалась видимость власти Советов («контроль»), а правительству обеспечивалась фактическая власть. Но больше всего пугало меньшевиков то, что участие «представителей рабочего класса» в правительственной коалиции могло быть понято как разделение власти с Советами, а это не входило и в рамки меньшевистской стратегии: поскольку победила буржуазная революция, то и власть должна полностью принадлежать буржуазии. Как и в 1905 г., меньшевики опасались, как бы «не напугать» буржуазию своим участием в правительстве.
Идея коалиции выдвигалась некоторыми меньшевиками и эсерами еще на Всероссийском совещании Советов рабочих и солдатских депутатов (29 марта — 3 апреля), при обсуждении вопроса об отношении к Временному правительству. Эту идею защищали трудовик Брамсон Л. М. (Петроград), эсеры Пумпянский П. П. (Чита), Гендельман М. Я. (Москва), Титов Д. М. (Уфа), Усов П. П. (Бердичев), меньшевик Скачков А. Е. (12-я армия). Некоторые из них (например, Брамсон) исходили из того, что в стране нет двоевластия — вся власть принадлежит Временному правительству, выполняющему волю «революционной демократии». А раз так, то «революционная демократия» должна не контролировать правительство, а войти в его состав, взять на себя часть ответственности за его действия. Другие (например, меньшевик Скачков) утверждали, что власть уже принадлежит Советам, представляющим собой «палату депутатов», а Временное правительство «является ответственным министерством этой палаты». Из этого делался тот же вывод: «революционная демократия» должна войти в состав правительства, взять на себя часть ответственности за его действия.
Но меньшевистское руководство тогда возражало против коалиции. С обоснованием официальной линия ОК по отношению к Временному правительству на совещании выступили главные вожди меньшевизма Церетели и Дан. Они еще раз повторили свою догму ° том, что совершившаяся буржуазная революция не могла дать никакого иного правительства, кроме бур' жуазного, что Советы — органы сплочения пролета-
110
риатн, органы контроля, и они не должны стремиться к захвату власти, так как для этого не созрели условия. Дан говорил: «Мы хотели, чтобы было сказано ясно и определенно, что в обычном, нормальном, течении г воем — это клевета, будто Совет рабочих и солдатских депутатов хочет принять участие в осуществлении государственной власти. Мы хотели, чтобы было сказано ясно, что власть — это Временное правительство, а революционная демократия в лице Совета рабочих и солдатских депутатов осуществляет свое влияние на ход политической жизни и деятельности правительства путем непрерывного организованного давления на него и контроля над ним» L
Исходя из общей концепции о недопустимости для Советов претендовать на всю или даже на часть власти, идея коалиции отклонялась. В этом духе и была принята совещанием резолюция. В ней говорилось о необходимости постоянного политического контроля и воздействия революционной демократии на Временное правительство, оказания ему поддержки, «поскольку оно будет неуклонно идти в направлении к упрочению и расширению завоеваний революции...» 1 2
Однако после апрельского кризиса, когда для буржуазного правительства потребовались более прочные подпорки, меньшевистские лидеры заколебались. Еще 25 апреля «Рабочая газета» не допускала мысли о коалиции. «В самом деле,— писала она,— всякое буржуазное правительство, даже наиболее демократическое, неизбежно рано или поздно должно выступить против социальных требований пролетариата... Находясь в меньшинстве в составе буржуазного правительства, социалисты вынуждены были бы играть двусмысленную роль в социальных конфликтах и, беря на себя ответственность за деятельность правительства, лишь скомпрометировали бы себя в глазах широких масс» 3.
Другими словами, боясь потерять авторитет в массах, меньшевики стремились в то же время сохранить союз с буржуазией. Но выполнить эти две задачи было трудно, тем более находясь в правительстве. В той же
1 «Всероссийское совещание Советов», Стенографический отчет, стр. 188.
2 Там же, стр. 293.
8 «Рабочая газета», 25 апреля 1917 г.
111
статье писалось: «Даже поддерживать правительство, когда это по ходу революции будет нужно, социалистам будет удобней извне, чем в том случае, если они станут правительственной партией...»
29 апреля была опубликована резолюция ОК, также отвергающая участие в коалиционном министерстве. В ней говорилось: «Считать вступление представителей социалистических партий или Совета рабочих и солдатских депутатов в министерство для настоящего момента политически нецелесообразным и вредным для дела демократии и вменить в обязанность своим представителям в исполнительном комитете Совета рабочих и солдатских депутатов отстаивать в нем эту точку зрения» 2. 28 апреля исполком Совета также рассматривал вопрос о коалиции и решил не посылать в правительство своих представителей.
Но уже 1 мая соглашатели делают крутой поворот: большинством в 44 голоса против 19 при 2 воздержавшихся исполком решил участвовать в правительстве. После этого меньшевики всячески пытаются обосновать необходимость и закономерность коалиционного правительства. Один из «веских» аргументов состоял в том, что над правительством нависла «страшная угроза»: из него могли уйти кадеты. «Если бы Совет не согласился послать своих представителей в состав правительства,— писала «Рабочая газета»,— ему пришлось бы, очень вероятно, остаться единственным наследником покинутой правительством власти или же уступить ее более правым элементам буржуазии. И в том и в другом случае стране грозила гражданская война» 3.
Меньшевистская печать ликовала, что при всех этих переменах «либеральная буржуазия осталась у власти... Кадеты не только не отозвали своих министров, чем они угрожали, но проводили в правительство еще некоторых своих видных членов» 4.
Договариваясь с исполкомом Совета о коалиции. Временное правительство одновременно вело на этот
* «Рабочая газета», 25 апреля 1917 г. «Рабочая газета», 29 апреля 1917 г.
’ «Рабочая газета», 5 мая 1917 г.
«Рабочая газета», о мая 1917 г.
112
счет переговоры с Государственной думой и Централь-, ным комитетом кадетской партии.
В результате переговоров было сформировано новое, коалиционное правительство во главе с князем Г. Е. Львовым. В его состав вошло девять представителей крупной буржуазии, из них четыре члена кадетской партии, главной партии буржуазии, центра консолидации ее сил; из шести портфелей, полученных всякого рода «социалистами», два принадлежали меньшевикам (почт и телеграфов — И. Г. Церетели, труда — М. И. Скобелев). Ключевые посты в коалиционном правительстве заняли кадеты. «Социалистам» же достались либо второстепенные министерства, либо такие, где нужны были «увещеватели», где, только прикрываясь социалистическим знаменем, можно было заставить пролетариат служить интересам буржуазии.
Так мелкобуржуазные партии официально становятся правительственными партиями. Приняв посты министров, лидеры социалистов еще более ослабили Советы и в то же время укрепили позиции буржуазного Временного правительства, украсив его красным, социалистическим бантиком. Теперь иллюзорный «контроль» Советов извне был заменен еще более иллюзорным «контролем» изнутри. Не осталось никаких оснований и для демагогических разговоров об «условной» поддержке Временного правительства,— она официально стала полной и безусловной.
Еще до того, как решился вопрос о составе правительства, исполком Совета и Временное правительство выработали правительственную декларацию. В первом ее пункте, посвященном внешней политике, в общих словах заявлялось, что правительство будет стремиться к скорейшему достижению всеобщего мира «без аннексий и контрибуций, на началах самоопределения народов». Но второй пункт, о «революционной» обороне, сформулированный в более решительных тонах, фактически зачеркивал первый. «Временное правительство,— говорилось в нем,— твердо верит, что революционная армия России не допустит, чтобы германские войска разгромили наших союзников на западе и обрушились всей силой своего оружия на нас. Укрепление начал демократизации армии, организация и укрепление боевой силы ее, как в оборонительных, так и в
в н. Рубен 113
наступательных действиях, будут являться важнейшей задачей Временного правительства»
Итак, министры-социалисты вынуждены были вместе с министрами-капиталистами открыто заявить что главной целью правительства является доведение войны до победного конца. Плеханов выразил свое полное удовлетворение этим пунктом декларации, который, по его словам, сводился, «во-первых, к тому, что если мы хотим мира, то должны непременно вести войну, а во-вторых, к тому, что для успешного ведения войны нам необходимо перейти в наступление. Что правда, то правда! Война с переходом в наступление необходима теперь именно прежде всего в интересах мира» 2.
Чтобы у союзников не оставалось никаких сомнений на счет целей нового правительства, Терещенко направил 7 мая телеграмму министру иностранных дел Франции А. Рибо с заверениями о готовности Временного правительства продолжать войну. «Русская демократия,— говорилось в ней,— считает, что война эта необходима и неизбежна для защиты свободы нации. Всякое иное толкование уничтожило бы ее энтузиазм и не могло бы быть ею принято» 3.
Нельзя не обратить внимания на то, что в программе нового правительства, в состав которого вошли «социалисты», ничего не говорилось об удовлетворении неотложных нужд и требований народа, если не считать совершенно пустых отписок. Например, весь рабочий вопрос был сведен к следующей фразе: «Мероприятия по всесторонней защите труда получат дальнейшее энергичное развитие». В аграрной области правительство обещало принять «все необходимые меры, чтобы обеспечить наибольшее производство хлеба для нуждающейся в нем страны и чтобы регулировать землепользование в интересах народного хозяйства и трудящегося населения» 4. В то же время о конфискации помещичьих земель не сказано было ни слова. Обещание «обеспечить наибольшее производство хлеба в
1 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 6 мая 1917 г.
2 «Единство», 7 мая 1917 г.
3 «Революционное движение в России в мае июне 1917 г.», док. № 185, стр. 235.
4 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 6 мая 1917 г.
114
стране» явно имело в виду сохранение помещичьего землевладения. Не оставалось никакого сомнения в том, что правительство не собирается идти навстречу самым насущным нуждам народа. Вопрос о государственном устройстве России откладывался до Учредительного собрания.
Многозначительны заключительные слова декларации. Правительство заявляло, что оно примет «самые энергичные меры против всяких контрреволюционных попыток и против анархических, неправомерных и насильственных действий, дезорганизующих страну и создающих почву для контрреволюции» ’. Эти слова целиком были направлены против большевистской партии и революционного пролетариата. Термин «анархия» в буржуазной и мелкобуржуазной печати того периода употреблялся именно для травли большевиков. Контрреволюция упоминалась здесь только для приличия. Коалиция давала о себе знать: чисто буржуазное правительство, без «социалистов», в то время не осмелилось бы открыто угрожать революционным силам.
Было совершенно ясно, что новое правительство не хочет вносить каких-либо изменений в политический курс буржуазного правительства. Впрочем, преемственность внутренней и внешней политики подчеркивалась самой декларацией. Классовый характер правительства не изменился. Оно по-прежнему оставалось буржуазным, реакционным. Напрасно меньшевики и эсеры в своих восторженных речах по поводу коалиции хвастливо заявляли, что не они пленники буржуазии, а, наоборот, буржуазия идет у них на поводу.
«Министерство мелкобуржуазных иллюзий и мелкобуржуазного соглашательства»1 2 — так назвал Ленин коалиционное правительство. Отношение большевиков к нему было прежним: никакого доверия и никакой поддержки.
Кадетская партия смотрела на общую с «социалистами» декларацию только как на пропагандистский документ. В день ее опубликования Центральный Комитет партии кадетов обнародовал собственную декларацию, обусловив свое право отзывать из правительства
1 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских Депутатов», 6 мая 1917 г.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 438.
115
тех своих членов, которые не будут ее выполнять Зл все вопросы были поставлены ребром, без социали«СЬ ческого камуфляжа. В декларации подчеркивалось 7,И* внешняя политика должна быть «основана на тесном™ неразрывном единении с союзниками, направленном ** соблюдению обязательств и к ограждению прав доХ * пнства и жизненных интересов России». Что касае™' внутренней политики, то руководство кадетов считал” что первой задачей правительства должно быть упрочение его авторитета и укрепление его власти; все бе." исключения организации и группы должны отказаться «от присвоения себе права распоряжений, отменяющих либо изменяющих акты Временного правительства и вторгающихся в область законодательства или управления». По отношению к «анархическим элементам» ЦК партии кадетов требовал от правительства не останавливаться «перед применением всех находящихся в распоряжении государства мер принуждения»
Вопрос об отношении меньшевистской партии к коалиционному правительству вызвал оживленные прения на Всероссийской конференции меньшевиков (в мае). Представители правого крыла и центра, т. е. фактически вся меньшевистская партия, высказались за полную и безусловную поддержку нового правительства. Например, в тезисах Потресова говорилось, что конференция «призывает рабочий класс и партийные организации к планомерной и самой активной поддержке коалиционного правительства и всемерной работе над созданием и укреплением революционной власти». Примерно £> таком же духе были написаны тезисы, представленные Гольдманом1 2 3. /тт
Представители левого крыла меньшевиков ( ар . Ерманский) выступили с критикой коалиции. социалистов в правительстве, отмечалось в тез Ерманского, «чрезвычайно вредно с точки лаоя хранения и укрепления революции, так как л этому участию ослабляется сила Совета рабочих & датских депутатов как независимого и авторитет глазах масс органа революционной демократии»
1 «Речь», 6(19) мая 1917 г.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 7, л. 22, 10.
3 Там же, л. 21.
116
лом же левые меньшевики не очень далеко отошли от официальной линии партии. Особо возражая против участия социалистов как большинства в правительстве, они утверждали, что это «теперь было бы равносильно захвату власти пролетариатом и крестьянством, то есть их диктатуре, что не соответствовало бы нынешнему фазису развития России и грозило бы крахом революции» ’• Но именно такую точку зрения разделял и Церетели,— он тоже был против того, чтобы социалисты составляли большинство в правительстве. Так меньшевики всех направлений сходились в главном: они больше всего боялись, как бы власть не перешла к рабочим и крестьянам, как бы трудящимся не пришлось управлять самим, без буржуазии.
Меньшевистская конференция приняла за основу резолюции тезисы Гольдмана, отражавшего точку зрения центристского большинства меньшевиков. В ней подчеркивалось, что переход власти в руки Советов был бы преждевременным,— для этого «не созрели объективные условия» 1 2.
Только большевистская партия раскрыла перед трудящимися классовую сущность коалиции. Апрельская конференция РСДРП(б), проходившая как раз в тот период, когда образование такого министерства было поставлено в повестку дня буржуазией и соглашателями, заявила по этому поводу: «...Всякий, кто войдет в министерство, ведущее империалистическую войну, независимо от своих добрых желаний, станет соучастником империалистической политики капиталистов.
Партия пролетариата, на основании всего этого, высказывается самым решительным образом против посылки Советами рабочих и солдатских депутатов своих представителей в коалиционное министерство» 3.
Войдя в правительство, мелкобуржуазные партии сделали серьезный шаг по пути ликвидации двоевластия в пользу буржуазии. Но двоевластие еще сохранялось. Ленин писал: «Двоевластие остается. Правительство капиталистов остается правительством капитали-
— _ , _
1 ЦПА НМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 7, л. 21.
2 «Всероссийская конференция меньшевистских и объединенных организаций РСДРП», стр. 35.
_ * «Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция рСДРП(б)». Протоколы, стр. 251.
117
стов, несмотря на придаточек к нему в виде меньшинства народников и меньшевиков. Советы остаются организацией большинства. Народнические и меньшевистские вожди беспомощно мечутся, желая усесться между двух стульев» 1.
Хотя доверчивое отношение к буржуазному правительству еще не. было изжито массами, идея перехода всей власти в руки Советов, главным образом под давлением большевиков, постепенно вызревала в их сознании. Трудящиеся начинали, хотя еще и смутно, понимать, что Советы должны отобрать власть у буржуазии, а не подпирать ее своим авторитетом. В конце апреля и в начале мая резолюции с протестом против вхождения «социалистов» в буржуазное правительство и с требованием перехода всей власти в руки Советов приняли рабочие завода «Старый Парвиайнен» 1 2, собрания рабочих-железнодорожников Харькова 3, рабочих и служащих «Соединенных кабельных заводов» в Петрограде 4, рабочих и солдат Киева 5. Против коалиции высказались также областной Уральский съезд Советов, Московский и Екатеринославский Советы рабочих и солдатских депутатов, рабочие новомеханической мастерской Путиловского завода (в количестве 1250 человек) 6. В связи с созданием коалиционного министерства «Правда» писала: «Товарищи рабочие и солдаты! Теперь молчание невозможно. В министерство, охраняющее тайные договоры бывшего царя, вошли люди, выступающие от имени социализма. Мы признаем Советы рабочих и солдатских депутатов. Мы работаем в них и знаем, что, несмотря на ошибки «вождей», это—“единственные организации, к которым должна перейти вся власть в стране.
Но — критиковать ошибки, требовать перемены политики, высказываться против «соглашательства» с капиталистами не только наше право, но наш долг, наша обязанность» 7.
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 129.
2 См. «Революционное движение в России в апреле 1917 г. Апрельский кризис». М., 1958, док. № 900, стр. 833.
3 См. «Пролетарий» (Харьков), 18 (5) мая 1917 г.
4 См. «Правда», 18 (5) мая 1917 г.
5 См. «Голос социал-демократа» (Киев), 5 мая 1917 г.
6 См. «Правда», 23 (10) мая 1917 г.
7 Там же.
118
Потребовалось немного времени, чтобы массы на практике смогли убедиться в правоте большевиков, утверждавших. что образование коалиции не изменило классовой сущности правительства, его политика осталась прежней и даже более реакционной. Прикрываясь социалистической вывеской, буржуазные министры Временного правительства стали смелее, ускорили подготовку наступления на фронте, усилили травлю большевиков. Это ясно обнаружилось уже ко времени I съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.
На съезде все политические партии вновь выразили свое отношение к коалиционному правительству, имея перед глазами некоторые результаты его работы. Меньшевики и эсеры оправдывали создание коалиционного правительства как единственный выход из кризиса. Они выдвинули и новый аргумент: одной буржуазии, мол, нельзя отдавать власть, так же как нельзя, несвоевременно. передать всю власть в руки Советов. Этот софизм усиленно проводился и в докладе Либера, и в многочисленных выступлениях представителей мелкобуржуазных партий, и в общей резолюции, предложенной съезду меньшевиками и эсерами.
Съезду были представлены также резолюции большевиков, межрайонцев и меньшевиков-интернационалистов. В большевистской резолюции отмечался полный провал политики правительства первого состава, продолженной коалиционным правительством. Последнее, как указывалось в резолюции, «заслонило контрреволюционную буржуазию от народа «социалистическими» министрами, которые оказались самым удобным для эксплуатирующих классов орудием, чтобы оттянуть разрешение всех коренных вопросов внутренней и внешней политики, поскольку решительная революционная постановка этих вопросов должна была бы затронуть на деле интересы русского и союзного империалистического капитала» в. Большевистская резолюция требовала перехода всей власти в руки Советов.
Резолюции межрайонцев и меньшевиков-интернационалистов также говорили о неспособности как первого, так и коалиционного правительств разрешить
^Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов». Стенографический отчет, т. 1. М.~Л., isw» стр. 284.
119
задачи революции и вывести страну из войны. Меж-районцы требовали передачи всей власти в руки «трудовых классов народа в лице Исполнительного Комитета Всероссийского Союза Советов», но... «при контроле Временного революционного парламента, который избирает из своей среды Исполнительный Комитет и передает ему всю исполнительную власть в стране». Как видим, это предложение не содержало идеи перехода всей власти в руки Советов.
Резолюция меньшевиков-интернационалистов, как и все другие резолюции этой меньшевистской фракции, неплохая в своей критической части, была совершенно беспомощной и пустой в части практической. В ней выражалось добренькое пожелание, чтобы Временное правительство стало «действительным орудием воли пролетариата и революционной демократии к миру...» 1 А как это сделать, каким образом надо действовать, чтобы иметь такое правительство,— об этом резолюция мартовцев умалчивала.
Соглашательским большинством съезда была принята, конечно, резолюция меньшевиков и эсеров. Но это вовсе не означало, что она отражала точку зрения пролетариата, который все больше убеждался в том, что Временное правительство и подпиравшие его мелкобуржуазные партии служат интересам империалистической буржуазии, как русской, так и союзной.
В чем же конкретно выражалась внутренняя и внешняя политика меньшевиков в условиях коалиции с буржуазией? Какова была их линия в рабочем, крестьянском и национальном движениях?
Как мы уже видели, меньшевики и их
Меньшевистская партнеры по блоку — эсеры считали своей главной задачей помочь буржуазии довести войну до «победного конца», сохранить верность союзникам. В своих многочисленных резолюциях, в печати, в митинговых речах они призывали всемерно укреплять фронт, прикрывая эти призывы фальшивым лозунгом «защиты революции». Меньшевики пропагандировали и распространяли так называемый «заем свободы», выпущенный еще в марте Временным правительством. Целью займа было не только
1 «Первый Всероссийский ст*езл Советов рабочих и солдатских депутатов». Стенографический отчет, т. 1, стр. 286.
120
изыскание дополнительных средств на военные нужды. Кампания подписки на заем использовалась и для распространения в массах шовинистического угара. Делалось все, чтобы создать впечатление, будто весь народ заинтересован в войне.
Меньшевики вместе с эсерами, как и социал-демократы других воюющих стран, отравляя массы идеями «революционного» оборончества, оказывали неоценимую услугу капиталистам. Однако свой шовинизм меньшевики вынуждены были облекать в несколько иную форму, чем социал-демократические партии Запада, так как и обстановка в России была совсем иная. Главной особенностью этой обстановки являлось наличие большевистской партии, возглавлявшей революционный пролетариат. Большевики повседневной агитацией раскрывали массам глаза на сущность и характер войны, указывали действительные пути выхода из нее, разоблачали лакейскую роль социалистов-оборонцев. Поэтому прямая поддержка военных мероприятий буржуазии, как, например, «займа свободы», вызывала все большее сопротивление, все больше отталкивала трудящихся от соглашателей.
Кампания против займа, проведенная большевиками и широко использованная ими для революционного воспитания масс, увенчалась большим успехом. Даже Временное правительство вынуждено было признать, что подписка на заем провалилась, трудящиеся не поддержали его. Многие коллективы рабочих принимали резолюции против подписки на заем и даже отзывали из Советов своих депутатов, голосовавших за него. Вот, например, что говорилось в резолюции собрания рабочих обувной фабрики «Максимовой и Маркович', принятой 16 апреля 1917 г.: «Принимая во внимание, что делегат наш в Совет р. д. не отстаивал интересы пролетариата (голосовал за «заем свободы»), сняв с него депутатские полномочия, избрать нового представителя» ’. Собрание рабочих Бутырского района Москвы после лекции на тему «Заем свободы» приняло резолюцию, в которой отмечалось следующее: «Деньги рабочих и крестьян находятся в карманах капиталистов, нажившихся на войне за счет народного труда, поэтому
1 «Социал-демократ» (Москва), 18 апреля (1 мая) 1917 г.
121
мы требуем, чтобы эти прикарманенные капиталистами деньги были выложены на нужды страны» *.
Меньшевики не могли, подобно западноевропейским социал-патриотам, ограничиться призывами к укреплению фронта, свое оборончество они вынуждены были прикрывать разговорами о мире — самом остром вопросе, волновавшем весь народ. Жажда мира, особенно ярко выраженная трудящимися в связи с «нотой Милюкова», с одной стороны, и необходимость непосредственно проводить в жизнь военные мероприятия после создания коалиционного правительства, с другой, заставили меньшевиков вести двойственную политику: активизировать демагогическую пацифистскую пропаганду и в то же время приспосабливать ее к задачам «революционной» обороны, т. е. к задачам империалистической войны.
Как уже говорилось, «мирная программа» меньшевиков и эсеров была не опасна для буржуазии. Однако в правительственных кругах союзников она вызвала переполох. Правительства союзных стран направляют в Россию своих агентов — социал-демократических вождей с целью прозондировать почву и оказать влияние на советское большинство в России (на меньшевиков и эсеров). В Петроград один за другим прибывают Брантинг (Швеция), Боргбьерг (Дания), Мутэ, Лафон, Тома (Франция), Сандерс, ОТреди Уильтон, Гендерсон (Англия), Вандервельде (Бельгия) и др.
Вот как объяснял свою миссию в России Альбер Тома исполкому Петроградского Совета 29 апреля (цитирую по протокольной записи): «Цель его посещения — высказаться по ряду вопросов, которые волнуют не только русских, но и социалистов всего мира... Вопрос об обмене войсками, вопрос о выяснении условий, при которых война может продолжаться, входили в программу его посещения... Его интересует, как смотрит Совет на обязательство и договоры, прежде заклю-ченные между Россией и союзниками»1 2. Тома старался оправдать политику единения социалистов Франции с национальной буржуазией, обелить французских империалистов. Он говорил, что если начав война, объединившая всю страну в священный
1 «Социал-демократ» (Москва), 16 апреля 1917 г.
2 «Красный архив», 1926, т. 2 (XV), стр. 71.
122
«сплотила и крепко связала всех французских социалистов. то это объясняется лишь тем, что война Франции была навязана, что никаких захватных стремлений в ней Франция не преследует» ’.
Таков был смысл «нашествия» иностранных социалистов на Россию.
В ряде дискуссий с социал-патриотами союзных государств русские «революционные» оборонцы пытались провести какое-то различие между своей и их позицией, указывали на свои пацифистские лозунги. Но зарубежные оборонцы скоро поняли, что пацифистская фразеология меньшевиков не имеет практического значения и не мешает их взаимному пониманию 2.
В апреле меньшевики начинают кампанию за созыв международной социалистической конференции для восстановления Интернационала и организации «давления» пролетариата всех стран на свои правительства с целью заключения всеобщего мира «без аннексий и контрибуций». Это была явно утопическая задача, обреченная на провал. Независимо от личных побуждении меньшевиков возня вокруг конференции наносила трудящимся большой вред, так как создавала иллюзии подлинной борьбы за мир, порождала несбыточные надежды, будто социал-шовинисты могут выступить против империалистической войны. Тем самым меньшевики уводили пролетариат от революционной, классовой борьбы против империализма.
Предложения о созыве конференции исходили от так называемого Голландско-Скандинавского комитета, который являлся преемником довоенного Исполнитель-
’ «Красный архив», 1926, т. 2 (XV), стр. 71.
В своих воспоминаниях о Февральской революции Церетели рассказывает, что в одной из бесед с Тома последний «с вызывающей иронической улыбкой спросил: «А скажите мне, Чем политика русских социалистов отличается, на деле, а не на сл°вах, от нашей политики национального единения? Разве не верно, что вы, как и мы, поддерживаете национальное единств0» вы, как и мы, входите в буржуазное правительство, стремитесь укрепить оборону страны и усилить боеспособность Фронта? в чем же разница в действиях между русскими и с ^нцузскими социалистами?»» (И Г. Церетели. Воспоминания тп Вральской Революции, кн. I, стр. 195) Обращает внимание
’ в беседе с Церетели его французский единомышленник пл»Ленно подчеркивал различие между политикой на деле и Клитикой на словах.
123
ного комитета Бюро социалистического Интернационала; потерпевшего потом полное крушение.
Адресованное всем социалистическим партиям предложение о созыве конференции было доведено до сведения исполкома Петроградского Совета лидером датских социал-демократов Ф. Боргбьергом, тесно связанным с шейдемановцами. Последний ознакомил исполком с теми условиями, на которых официальная (шейде-мановская) немецкая социал-демократия представляла себе возможным заключение мира Весь дух и смысл этих условий выдавали с головой их подлинного автора — германское правительство. Тяжелое экономическое и политическое положение, в котором очутилась кайзеровская Германия на третьем году войны, рост революционных настроений в стране,— все это побуждало германских империалистов искать такой выход из войны, при котором можно было бы сохранить в своих руках хотя бы часть военной добычи.
Одобрив саму идею созыва международной социалистической конференции, исполком отклонил услугу Боргбьерга — явного агента германского империализма — и решил взять на себя инициативу созыва конференции. Имелось в виду пригласить к участию в ней все партии и фракции бывшего Интернационала, готовые принять в качестве платформы воззвание Петроградского Совета «К народам всего мира». Конференцию предполагалось созвать в одной из нейтральных стран (позже таким местом был назначен Стокгольм). Для ее подготовки была избрана специальная комиссия 1 2.
Предложение Боргбьерга, зачитанное в исполкоме, было обращено ко всем советским партиям. Поэтому оно было обсуждено 25 апреля на Всероссийской (Апрель
1 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 26 апреля 1917 г.
На вопрос о методах и средствах, при помощи которых большинство германских социал-демократов рассчитывало повлиять на свое правительство с целью заключения мира, заданный Боргбьергу в исполкоме, он не дал ответа. При этом он заявил, что в Германии нет условий для социалистической революции (см. «Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов». Протоколы заседаний. М. — Л., 1925, стр. 125).
2 См. «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 27 апреля 1917 г.
124
ской) конференции большевиков. Большевистская конференция определила свое отношение не только к предложению Боргбьерга, но и к самой идее созыва международной конференции социал-шовинистов, независимо от того, кем она будет организована. Докладчик по этому вопросу В. П. Ногин вскрыл истинную подоплеку дела, роль Боргбьерга как агента германских империалистов, стремившихся при помощи шейдемановиев разрешить вопрос о мире на возможно более выгодных для себя условиях. Ногин считал, что на конференцию социал-шовинистов мы идти не можем, но и игнорировать ее также нельзя; необходимо оказать влияние на ее решения путем одновременного проведения конференции циммервальдистов, в которой приняли бы участие и представители нашей партии.
В. И. Ленин выразил несогласие с мнением Ногина. Он предложил в связи с подготовкой конференции организовать энергичную политическую кампанию против русских и международных шовинистов, действовавших заодно со своими буржуазными правительствами. Ленин клеймил шейдемановцев, внесших предложение о конференции по указке германских империалистов, а также и англо-французских шовинистов, которые своим отказом участвовать в ней1 выражали волю своих империалистов, желавших затянуть войну.
Написанная Лениным резолюция предостерегала рабочих от доверия к конференции, которая «будет комедией, прикрывающей происходящие за ее спиной сделки дипломатов, обменивающих одни аннексии на другие...»2 В резолюции подчеркивалось, что большевики не пойдут на совещание с теми, кто изменил пролетарскому интернационализму и стал на службу своим империалистам. «Партия российского пролетариата,— говорилось в ней,— пойдет на совещание и вступит в братский союз только с такими рабочими партиями других стран, которые революционно борются и в своей стране за переход всей государственной власти в руки пролетариата» 3.
1 К этому времени стало известно, что английские и французские социалисты отказались участвовать в Стокгольмской конференции.
* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 373.
Там же, стр. 373.
125
К резолюции по поводу предложения Боргбьерга по своему содержанию примыкает другая, принятая Апрельской конференцией,— «Положение в Интернационале и задачи РСДРП(б)». В ней говорилось, что конференция решительно протестует против попыток Бернской международной социалистической комиссии (руководящего центра Циммервальдского объединения) войти в соглашение с организаторами Стокгольмской конференции социал-патриотами Трульстрой, Брантин-гом и др., «к которым социалистический пролетариат не может питать никакого политического доверия» L
Как указывал несколько позднее Ленин, международные каутскианцы, выступая с предложением о Стокгольмском совещании, проповедовали идею единства с социал-шовинистами вместо того, чтобы решительно и бесповоротно рвать с ними. ««Великим делом объединения международного пролетариата»,— писал Ленин,— вы называете мелкое, мизерное, в значительной степени интриганское, зависимое от империалистов одной из коалиций, дело объединения социал-шовинистов» 1 2.
Конференция решительно высказалась против попыток вождей оборонческих партий путем взаимной амнистии восстановить оппортунистический II Интернационал. Единодушно был принят ленинский тезис о необходимости создания III Интернационала из левых, революционных сил. Вместе с тем конференция большевистской партии приняла явно ошибочное решение, не пошла на разрыв с Циммервальдом, заявив в своей резолюции: «Наша партия остается в Циммер-вальдском блоке, ставя себе задачей отстаивать там тактику Циммервальдской левой...»3 Было решено участвовать в международной конференции циммер-вальдцев, назначенной на 18 мая. Это решение принято по настоянию Зиновьева, вопреки требованию Ленина немедленно рвать с циммервальдским «болотом».
Меньшевистские лидеры, создавая видимость активной борьбы против войны, рассчитывали на какое-то
1 «Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция 1 СДРП(б)». Протоколы, стр. 255.
' В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 105.
(Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (б)». Протоколы, стр. 255.
126
время обмануть массы, парализовать революционную пропаганду большевиков. «Мирной кампанией* они пытались прикрыть форсирование правительством военных мероприятий. 2 мая было опубликовано воззвание Совета «К социалистам всех стран» с призывом об ьеди-нить усилия социалистических партий в борт,бе за прекращение войны. В воззвании содержалось и требование «мира без аннексий и контрибуций на основе самоопределения наций». От имени русской революционной демократии авторы воззвания утверждали, что Временное правительство «усвоило эту платформу*. Социал-демократы других, прежде всего союзных, стран призывались побудить правительства своих стран стать на такую же позицию. «Вы не должны допустить, чтобы голос русского Временного правительства оставался одиноким в союзе держав согласия. Вы должны заставить свои правительства заявить решительно и определенно, что платформа мира без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов есть и их платформа» !.
Но тут же, пугаясь собственных слов о мире, опасаясь, что они могут быть всерьез приняты солдатами, эсеро-меньшевистский Совет одновременно публикует другой призыв — «К армии». В этом многословном и велеречивом документе соглашатели из исполкома предупреждали солдат, что мир когда-то еще будет, а пока что надо воевать и не только обороняться, но и наступать, ни в коем случае не допускать братания: «Помните это, товарищи солдаты. Поклявшись защищать русскую свободу, не отказывайтесь от наступательных действий, которых может потребовать боевая обстановка... Защитная эту свободу, бойтесь провокации, бойтесь ловушек. В такую ловушку легко может превратиться то братание, которое развивается на фронте» 1 2.
В этом факте, как в капле воды, отразилась типичная для соглашателей черта: чем громче кричали они о мире, тем настойчивее призывали солдат прилагать усилия для победы на фронте. Поклонившись в сторону пролетариата, они считали себя обязанными сразу же
1 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских Депутатов», 2 мая 1917 г.
’ Там же.
127
отвесить двойной поклон в сторону буржуазии. Такова природа мелкой буржуазии.
Столь же двойственную позицию заняла и меньшевистская конференция (7—12 мая). В ее решениях ставилась задача оказывать всемерное содействие Временному правительству в его военных мероприятиях и в то же время говорилось о необходимости скорейшего заключения мира. Приветствуя идею созыва международной конференции, она рассматривала ее как организатора борьбы пролетариата за мир без аннексий и контрибуций. При этом меньшевистская конференция исходила из ни на чем не основанной посылки, что социал-демократические вожди вдруг откажутся от политики классового мира с буржуазией, а последняя откажется от захватнических планов. В резолюции о восстановлении Интернационала, принятой конференцией, говорилось, что «международная борьба пролетариата за мир предполагает решительную борьбу со всеми правительствами, которые не заявят о своем согласии вступить в переговоры о мире на указанной основе и разрыв с политикой так называемого национального единения с империалистическими классами» 1.
Надежды на то, что социал-шовинисты всех стран по призыву меньшевиков порвут с политикой «национального единения» с буржуазией и поведут против нее борьбу за справедливый мир, были тем более призрачны, что сами меньшевики не собирались нарушать гражданский мир со своей буржуазией.
8 мая исполком Совета решил образовать комиссию по созыву международной конференции в составе представителей от исполкома Совета, его президиума и политических партий. Комиссия должна была выделить из своей среды делегацию к заграничным рабочим и постоянного представителя в Стокгольме. Задача делегации — посетить Англию, Францию, Италию и Швейцарию с целью организации конференции. В связи с этим «Правда» опубликовала статью В. И. Ленина, в которой говорилось: «Само собой разумеется, что никакого участия ни в комиссии, ни вообще в созываемой конференции с участием перешедших на сторону своей
1 «Всероссийская конференция меньшевистских и объединенных организаций РСДРП», стр. 40.
128
буржуазии якобы социалистических министров наша партия не примет» L
20 мая исполком Совета определил место и дату созыва конференции: Стокгольм, 28 июня (8 июля) X Наряду с исполкомом Петроградского Совета организацией конференции занимался Голландско-Скандинавский комитет^ Его миссия заключалась в предварительных переговорах о конференции.
Стремление к миру у всех народов было столь сильно, что воззвание исполкома Петроградского Совета получило известный резонанс. Социал-демократические партии на словах согласились с формулой «Мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов», но в угоду своим капиталистам толковали ее произвольно, пользовались этой формулой для обоснования аннексионистских планов. Речь обычно шла об Эльзас-Лотарингии, освобождении земель, захваченных Германией, но о собственных колониях не говорилось ни слова.
После широковещательного объявления о созыве конференции, как и следовало ожидать, начались затяжки и проволочки. Стало явным стремление похоронить еще не родившееся совещание. 8 июня исполком Петроградского Совета направляет в Стокгольм три телеграммы. В них, ссылаясь на различные причины, прежде всего на предстоящий съезд Советов, сообщалось, что посылка делегатов задерживается. Делегация Совета прибыла в Стокгольм только во второй половине июня3.
Не спешили с конференцией и социалисты союзных стран. Чувствуя, что в схватке с Германией союзные страны, особенно после вступления в войну США (апрель 1917 г.), получают явное преимущество, правительства этих стран не хотели мира. Лидеры социали
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 66.
2 Так в протоколе заседания и в газете «Известия». См. «Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов». Протоколы заседаний, стр. 156; «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 21 мая 1917 г.
3 Делегация состояла из пяти человек: Розанова, Гольден-берга, Эрлиха, Русанова, Смирнова. Все они, за исключением эсера Русанова, принадлежали к партии меньшевиков. В августе в состав делегации вошел Аксельрод — один из основных вдохновителей и поборников международной конференции.
0
Н. Рубан
129
стических партии полностью отражали точку зрения правящих кругов. Действуя заодно со своими правительствами, они изыскивали всякие предлоги для того чтобы как можно дальше отодвинуть сроки созыва конференции и в конечном счете похоронить ее. Весьма показательна в этом отношении позиция А. Гендерсо-на — секретаря лейбористской партии, входившего в состав военного кабинета. Публично он заявлял о своем положительном отношении к конференции, выезжал в Париж, где вместе с французскими социалистами и меньшевиками из Петроградского Совета участвовал в обсуждении вопросов, связанных с ее созывом, а на заседании военного кабинета открещивался от нее. В военных мемуарах Ллойд Джордж писал: «Я могу не только от своего имени, но и от имени всех этих восьми ответственных государственных деятелей утверждать, что г. Гендерсон на этом заседании признал невыполнимость стокгольмских проектов и соглашался с нами, что эти проекты надо отставить. Он даже выражал надежду, что лейбористская конференция провалит эти проекты «справедливым большинством голосов»» 1. Такую же двуличную позицию занимали и французские социалисты.
Меньшевики знали о маневрах своих собратьев на Западе, не подававших никаких надежд на созыв конференции, хотя и продолжали «мирную кампанию». Группа делегатов Петроградского Совета сообщала из Лондона 25 июля, что исполком Рабочей партии, обсудив вопрос о международной конференции, считает, что ей должны предшествовать конференция стран Согласия и британская национальная конференция. Кроме того, предстоял съезд тредъюнионов. Конференция была отодвинута на 2 января. Ни у кого не было уверенности, что и этот срок окончательный. Французское большинство также предложило отложить конференцию на неопределенный срок. Одновременно стало известно, что английское и французское правительства, которые вначале формально не возражали против конференции, не намерены выдавать паспорта делегатам. От участия в конференции с самого начала отказались бельгийские социалисты.
1 Ллойд Джордж. Военные мемуары, т. IV. М., 1935, стр. 127.
130
Временное правительство, отрицательно относясь к идее созыва конференции, до поры до времени вынуждено было считаться с Советами и потому делало вид, что поддерживает ее. После июльских дней временный поверенный в Лондоне Набоков сообщал английскому кабинету, что «российское правительство, так же как правительство его величества, считает этот вопрос не государственным, а партийным делом». Решение конференции, если она и будет созвана, «ни в какой мере не повлияет на курс российской политики и на ее отношения с союзниками», заверял Набоков. «Я спешу сообщить вам об этом потому,— писал он,— что в Англии, я опасаюсь, преобладает убеждение, что «Россия горячо добивается созыва Стокгольмской конференции», по выражению одной из лондонских газет» ’.
Как и предсказывали большевики, «мирная» кампания провалилась. Жизнь подтвердила правильность ленинской линии на разрыв с социал-шовинистами. В проведении этой линии большевистская партия была едина. Следует, однако, заметить, что и в данном вопросе очередной крен к меньшевизму сделал Каменев. 6 августа в ЦИК он заявил, что «Стокгольм с этого момента перестает быть слепым оружием в руках империалистических государств». Судя по газетным сведениям, говорил он, «над Стокгольмом начинает развиваться широкое революционное знамя, под которым мобилизуются силы всемирного пролетариата».
В нарушение постановления ЦК партии и без согласования с большевистской фракцией ЦИК Каменев отстаивал необходимость участия в Стокгольмской конференции. Ленин, возмущенный этим антипартийным поступком Каменева, писал в редакцию газеты «Пролетарий»: «Нельзя терпеть, чтобы партия интернационалистов, перед всем миром ответственная за революционный интернационализм, компрометировала себя кокетничаньем с проделками социал-империалистов русских и немецких, с проделками министров буржуазного империалистического правительства Черновых, Скобелевых и К0.
1 Ллойд Джордж. Военные мемуары, т. IV, стр. 128; см. также «Красный архив», 1926, т. XVI, стр. 37.
131
Мы решили строить III Интернационал. Мы должны осуществлять это вопреки всем трудностям. Ни шагу назад, к сделкам между социал-империалистами и перебежчиками социализма!» 1
«Выступление Каменева...— писал Ленин Заграничному бюро Центрального Комитета,— я считаю верхом глупости, если не подлости, и написал уже об этом в ЦК и для печати» 1 2.
Широко разрекламированная кампания вокруг Стокгольмской интернациональной конференции была превращена социалистами и их правительствами в фарс, в насмешку над народами, ожидавшими мира. Не отличалась от нее по существу и другая шумная кампания, затеянная в тот же период меньшевиками и эсерами. Под их «давлением» Временное правительство должно было взять на себя инициативу созыва союзнической конференции для пересмотра военных договоров. 3 июня Временное правительство опубликовало ноту правительствам союзных стран. В ней утверждалось, что Россия «не питает сама никаких завоевательных стремлений и решительно восстает против каких бы то ни было попыток в этом направлении». В ноте предлагалось созвать конференцию союзных держав «в ближайшее время, когда создадутся для этого благоприятные условия» 3. (Еще раньше в нотах французского и английского правительств о целях войны проводилась та же мысль: союзники не имели и не имеют завоевательных целей, стремятся лишь возвратить Эльзас-Лотарингию, добиться «освобождения народностей, угнетенных чужой тиранией», т. е. завоевания немецких колоний.)
Меньшевики в своей пропаганде подняли на щит «мирную инициативу» Временного правительства. Но в собственной среде их лидеры были более откровенны. 28 мая на заседании ОК Церетели в докладе о внешней политике Временного правительства заявлял: «Русское правительство не добивается того, чтобы дипломатическим путем заставить союзные державы решительно отказаться от первоначальных целей вой
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 72.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 49, стр. 447.
3 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 3 июня 1917 г.
132
ны,— это нам не по силам. Русское правительство... будет избегать таких шагов, которые грозят разрывом» I В упоминавшейся уже телеграмме группы представителей Совета по подготовке конференции из Парижа говорилось: «На одном из заседаний Тома показал нам телеграмму Нуланса, в которой сообщается о встрече Терещенко с Нулансом. Он сказал, что союзная конференция для пересмотра договоров откладывается на неопределенное время, ибо Временное правительство считает нежелательным волновать вопросом о мире общественное мнение России, которое должно быть сосредоточено всецело на войне» 1 2
21 июня Терещенко направил послу в Вашингтоне письмо, содержавшее следующее «разъяснение»: «Для вашего строго доверительного сведения прибавляю, что по соображениям как военного свойства, так и внутренним мы не считали бы желательным созыв этой конференции ранее половины августа» 3. Коалиционное правительство, представлявшее собой союз «социалистов» с буржуазией, только прикрывалось разговорами о мире, а на деле направляло все внимание на продолжение войны.
Под пропагандистский шум «мирной кампании» Временное правительство энергично готовилось к наступлению на фронте. Был издан ряд постановлений правительства и приказов военного и морского министра, имеющих своей целью повысить боеспособность армии: о борьбе с дезертирами, об усилении ответственности за антивоенные выступления на фронте, о досрочном введении новых статей Уголовного положения, об ответственности за уклонение от воинской службы, о борьбе с братанием на фронте. А 16 июня Керенский подписал приказ действующей армии о переходе в наступление.
Вопрос об отношении к войне занял центральное место на I Всероссийском съезде Советов, проходившем 3—24 июня 1917 г. Он обсуждался в первые дни работы съезда; наступление тогда еще не началось, о нем только ходили слухи, но обсуждение шло именно под знаком готовящегося наступления. Под этим углом зре
1 ЦПА НМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 9, л. 12.
2 «Красный архив», 1926, т. 3 (XVI), стр. 35.
3 «Революционное движение в России в мае — июне 1917 г.»| док. Кг 210, стр. 260.
133
НИЯ была построена вся аргументация докладчика — лидера меньшевиков Дана: стремясь к всеобщему миру мы вынуждены вести войну, а последняя состоит из обо ронительных и наступательных сражений; наступление — вопрос не политики, а стратегии. Этот последний аргумент — наступление является делом военного командования, делом стратегии, а не политики — был взят на вооружение всеми выступавшими затем меньшевиками и эсерами, всей соглашательской печатью.
Не оставалось сомнения, что обсуждение вопроса об отношении к войне имеет определенную цель: оправдать наступление, которое вот-вот должно начаться, подготовить к этому общественное мнение. Вместе с тем меньшевистские ораторы всячески превозносили внешнюю политику Временного правительства, якобы направленную на пересмотр договоров, шаги по созыву Стокгольмской конференции социалистов. Чтобы ослабить воздействие революционной линии большевистской партии на делегатов съезда, соглашатели бросали ей обвинение в стремлении к сепаратному миру с немцами.
Выступивший сразу же после Дана Ленин камня на камне не оставил от демагогической фразеологии и дипломатической игры соглашателей. Отвергая клеветнические измышления относительно планов сепаратного мира, которые якобы вынашивали большевики, и рассматривая этот вопрос с классовых позиций, вождь большевистской партии подчеркивал, что мы не хотим никакого сепаратного мира ни с какими капиталистами, в том числе с русскими. А у Временного правительства и у соглашателей есть сепаратный мир с русскими капиталистами, есть такой же мир с английскими и французскими капиталистами ’.
Англо-французские империалисты, говорил В. И. Ленин, особенно после вступления в войну США, не заинтересованы в мире и не пойдут на него, как не пойдут они, оставаясь империалистами, и на пересмотр договоров; мир «без аннексий и контрибуций», о котором так много говорили соглашатели и который они сводили к status qvo, т. е. к довоенному положению, есть сепарат ный мир с капиталистами, империалистический мир,
1 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 282—283, 287.
134
ибо он оставляет в силе колониальные захваты. Ленин разоблачил всю несостоятельность планов выхода из войны путем созыва конференции шовинистов и попыток восстановления II Интернационала; социалисты, перешедшие на сторону своих правительств, ушли от социализма целиком, и их Интернационал потерпел полный крах, его нельзя восстановить путем переговоров. Вождь большевиков еще раз указал самый радикальный путь выхода из империалистической бойни — путь социалистической революции.
Ленин вскрыл закулисные махинации соглашательских лидеров, пытавшихся завуалировать политическую сторону готовящегося наступления. «Вопрос,— говорил он,— стоит так: идти вперед или назад. Стоять в революционное время на одном и том же месте нельзя. Вот почему наступление есть перелом всей русской революции не в стратегическом значении наступления, а в политическом, экономическом. Наступление теперь есть продолжение империалистической бойни и гибели сотен тысяч, миллионов людей,— объективно, независимо от воли или сознания того или иного министра, из-за задушения Персии и прочих слабых народов» ’. Сущность перелома состояла в том, что наступление неизбежно должно было ускорить новый революционный взрыв.
Вскоре, однако, сами меньшевики заговорили о политических целях, связанных с наступлением. Сообщая съезду «радостную» весть о начавшемся наступлении, Церетели сам подчеркивал ту мысль, что наступление — переломный момент в революции, вкладывая, конечно, в это понятие совсем иное содержание, чем Ленин. Успешное наступление должно было доказать, что «новые идеалы, нами выдвинутые, воодушевляют граждан свободной России настолько, что и армия, и тыл являются несокрушимым оплотом свободы...»1 2 — в этом состоял основной смысл речи Церетели. Лидеры меньшевистско-эсеровского блока рассчитывали, что победным наступлением им удастся укрепить свои позиции и остановить развитие революции.
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 275.
2 «Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов». Стенографический отчет, т. II, стр. 84.
135
Ленинские положения о войне и мире были отражены в предложенных большевиками двух резолюциях: о войне и о мире без аннексий. Резолюция о войне требовала от Всероссийского съезда Советов провести следующие меры: обратиться к трудящимся всех воюющих стран с воззванием, в котором указывалось бы, что съезд отвергает захватные цели войны, считая таковыми целями удержание не только областей, захваченных во время войны, но и колоний и всех неравноправных наций; требует опубликования тайных договоров; призывает все угнетенные классы всех стран к развитию пролетарской революции против своих империалистических правительств; Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов берет власть в свои руки.
Во второй большевистской резолюции подчеркивалось, что прочный, демократический мир — мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов — не может быть завоеван путем дипломатических переговоров, что путь к нему лежит через социалистическую революцию. Здесь же раскрывался истинный, пролетарский смысл этого лозунга ’.
Обе резолюции большевиков были, конечно, отклонены. Меньшевики и эсеры, составлявшие на съезде подавляющее большинство1 2, провели свою совместную резолюцию, составленную в духе доклада Дана. Основные ее идеи сводились к следующему: созыв международной конференции социалистов и восстановление Интернационала; воздействие Временного правительства на правительства союзных России стран, с тем чтобы они присоединились к «программе мира», которую выдвинула «русская демократия» и которую Временное правительство якобы положило в основу своей
1 См. «Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов». Стенографический отчет, т. II, стр. 14—17.
2 Из общего числа 1090 делегатов о партийной принадлежности заявили 777 человек, в том числе меньшевиков было 248, эсеров — 285, большевиков—105, интернационалистов—32, внефракционных социалистов — 73, объединенных социал-демократов — 10, бундовцев — 10, представителей плехановской группы «Единство» — 3, народных социалистов — 3, трудовиков — 5, на платформе партий эсеров и социал-демократов — 2, анархистов-коммунистов — 1.
136
внешней политики; принятие Временным правительством мер «для ускорения пересмотра договоров с союзными правительствами в направлении решительного отказа от захватной политики»; усиление боевой мощи армии «и способности ее к оборонительным и наступательным действиям». Особое ударение делалось на «разъяснении» смысла наступления как вопроса, который «должен быть решаем исключительно с точки зрения чисто стратегической» L
Как обычно, где-то посредине между большевиками и оборонцами уселось интернационалистское крыло меньшевиков во главе с Мартовым. С одной стороны, Мартов отмежевался от Ленина. «С ним,— говорил он,— мы не можем согласиться, мы с ним никогда не соглашались». С другой стороны, и в речи Мартова, и в проекте резолюции меньшевиков-интернационалистов признавался тот факт, что результаты усилий, направленных на созыв социалистической конференции, а также на пересмотр договоров, равны нулю; каждая социалистическая партия толкует на свой лад лозунг «Мир без аннексий и контрибуций»; союзники не желают идти на пересмотр договоров, а Временное правительство боится порвать с ними.
Что же предлагала группа Мартова? В своей практической части ее резолюция почти ничем не отличалась от резолюции Дана. В ней предлагалось, чтобы Временное правительство продолжало добиваться от союзников пересмотра тайных договоров, предъявило им требование о полном отказе от аннексий и контрибуций и о согласии на переговоры об общем мире. Новое в резолюции меньшевиков-интернационалистов заключалось в требовании к Временному правительству порвать с союзниками и выйти из коалиции, если они откажутся принять эту программу1 2. На первый взгляд радикальное, это предложение реальных путей выхода из войны, однако, не указывало, а только затемняло сознание трудящихся, создавая видимость возможности изменить характер войны по инициативе империалистического правительства.
1 «Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов». Стенографический отчет, т. II, стр. 11—12.
2 Там же, стр. 13.
137
В выдвинутой Мартовым программе, как и в программе оборонцев, отсутствовал классовый подход к вопросам войны и мира, проявлялось стремление уйти от революции. Мартов игнорировал тот очевидный для всякого марксиста факт, что русские капиталисты были связаны с союзниками кабальной зависимостью и не могли пойти на разрыв с ними, а если бы даже этот разрыв и состоялся, то война не изменила бы своего империалистического характера и своих целей, пока власть в стране находилась в руках империалистической буржуазии.
Большевики допускали возможность сепаратной революционной войны, но только при том условии, что власть будет находиться в руках пролетариата. «Ни один революционный класс,— говорил В. И. Ленин на том же съезде Советов,— зарекаться от революционной войны не может, потому что иначе он осуждает себя на смешной пацифизм. Мы не толстовцы»
Позиция плехановской группы в вопросе о войне была изложена в речи самого Плеханова. Упирая на то, что социалистическая революция в России не созрела и что никакого иного строя, кроме буржуазного, не может быть, он требовал смириться и с таким его закономерным атрибутом, как война. Все мы стремимся к миру, говорил он, но путь к нему лежит лишь в победе над Германией. С союзниками нельзя рвать: это демократические страны, воюющие против деспотической Германии. Он высказался против Стокгольмской конференции, так как там «пришлось бы встретиться с людьми, несомненно, преследующими империалистические цели — с Шейдеманом и аггелами его» 1 2.
Это отрицательное отношение Плеханова к Стокгольмскому совещанию меньшевики в то время использовали для борьбы против большевиков, «уличая» последних в том, что их позиция якобы совпадала с позицией крайней оборонческой группы «Единство». При этом они «забывали» указывать на одну «деталь»: русский Шейдеман — Плеханов не хотел сидеть рядом с немецким Шейдеманом, в то время как большевики не желали находиться в одной компании с шейдема-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 288.
2 «Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов». Стенографический отчет, т. I, стр. 372.
138
нами всех стран: русскими, немецкими, английскими, французскими и пр. А именно в этой «детали» все существо дела.
Так выглядели позиции разных направлений и течений рабочего движения в вопросах войны и мира на I Всероссийском съезде Советов. Глубокий водораздел пролегал между большевиками, с одной стороны, меньшевиками и эсерами — с другой. Имелись, как мы видели, оттенки мнений и среди различных течений в самом лагере соглашателей, но это были именно только оттенки, которые фактически мало различались, не заключая в себе классово-антагонистических противоречий.
Основное направление соглашателей преследовало двуединую цель: с одной стороны, убедить массы в своем неудержимом стремлении к миру, к пересмотру договоров, а с другой,— в этом состояла их главная задача — убедить те же массы в необходимости вести войну, в том числе наступательную, не дожидаясь, пока договоры будут пересмотрены.
Эта «двойная бухгалтерия» соглашателей стала особенно ясной для всех 18 июня, т. е. еще до окончания съезда. Именно в этот день, когда началось наступление на фронте, Организационный комитет меньшевиков опубликовал воззвание, озаглавленное «Борьба за мир». В то время как русская армия, выполняя волю империалистов, двинулась в наступление, ОК призывал русских рабочих воздействовать на рабочих других стран, чтобы они оказали давление на свои правительства и склонили их к всеобщему миру. В воззвании вновь повторялась лживая мысль, будто Временное правительство приняло программу мира без аннексий и контрибуций: «Наши товарищи за границей, рабочие всех воюющих стран... должны потребовать от своих правительств того же, чего мы добились у себя,— отказа от захватов и контрибуций, отказа от политики разгрома и порабощения чужих народов»
Нельзя, конечно, считать случайным, что воззвание меньшевистского ОК о мире было опубликовано именно в тот день, когда по указанию коалиционного правительства русская армия перешла в наступление. Оно
1 «Рабочая газета», 18 июня 1917 г.
139
имело своей целью спасти престиж меньшевиков, имев-ших в правительстве своих представителей. Одновременно меньшевистская печать ринулась оправдывать наступление, пытаясь при этом затушевать его политический смысл. «Наступление,— писала «Рабочая газета»,— вопрос стратегический для нас, поскольку вся наша стратегия подчинена волею российской демократии двуединой политической задаче — борьбы за мир и обороны» 1.
23 июня ОК опубликовал специальную резолюцию о наступлении, в которой призывал «рабочий класс и всю революционную демократию всемерно поддерживать революционную армию, перешедшую в наступление и самоотверженно отстаивающую революцию на фронте» 1 2.
Но как бы ни старались меньшевики в союзе с эсерами прикрыть свое соглашательство и свое оборончество разговорами о мире, конфликт этих партий с массами все больше нарастал. Это убедительно показала демонстрация 18 июня — в день начала наступления. Она имеет свою историю, весьма неприглядную для меньшевиков.
Зная настроение рабочего класса, большевистская партия призвала массы к мирной демонстрации 10 июня под лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой войну!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Хлеба, мира, свободы!». Весть о готовящейся демонстрации привела меньшевиков и эсеров в ярость, они устроили на съезде истерическую кампанию против демонстрации, против большевиков. Гегечкори, Дан, Церетели и другие обрушились на них с бранью, грозили репрессивными мерами.
В речи по поводу отмены демонстрации на заседании ПК РСДРП(б) В. И. Ленин оценил случившееся на съезде как факт настораживающий. «Если понадобилось запрещение мирной демонстрации, то положение очень серьезное,— говорил он.
Церетели, явившийся на съезд из недр Временного правительства, выразил ясное желание обезоружить рабочих. Он проявил дикое бешенство, он требовал,
1 «Рабочая газета», 20 июня 1917 г.
2 «Рабочая газета», 23 июня 1917 г.
140
чтобы большевики были партией, стоящей вне рядов революционной демократии» ’.
Ленин призвал к максимальному спокойствию и выдержке. 11 июня соглашатели организовали нечто вроде суда над большевиками. В этот день в помещении Кадетского корпуса состоялось заседание, в котором участвовали все члены исполкома Петроградского Совета, члены президиума Всероссийского съезда Советов, все члены бюро фракций, участвовавших в съезде. От комиссии, специально образованной для расследования вопроса о несостоявшейся демонстрации, с докладом выступил Дан. Он фактически требовал применить против большевиков исключительный закон. Выступивший вне очереди со злобной речью Церетели предложил разоружить большевиков, что практически означало ликвидировать отряды Красной гвардии, отобрать оружие у пролетариата. «Мы должны принять неизбежно решительные меры,— говорил он.— Физическая сила на стороне большинства демократии. Мы должны весь авторитет употребить, чтобы оружие выбить» 1 2.
Единственным аргументом, который выдвигали соглашатели, требуя запрещения демонстрации, состоял в том, что притаившиеся контрреволюционеры хотят воспользоваться ею в своих целях. Но ни имена контрреволюционеров не были сообщены съезду, ни меры против них не были приняты. Из этого не следует, что контрреволюционеров в действительности не было. Их было тогда немало. Однако ни соглашательский исполком, ни правительство по-настоящему не вели борьбу против контрреволюционеров; воплями об опасности
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 331.
2 «Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов». Протоколы заседаний, стр. 192.
Газета «Правда» следующим образом описывает выступление Церетели: «Церетели предоставляется слово вне очереди. С первых же слов чувствуется, что Церетели скажет нечто необычное. Он бледен, как полотно, сильно волнуется. В зале воцаряется напряженное молчание.
Резолюция Дана не годна. Теперь не этакие резолюции нужны... говорит Церетели, пренебрежительно отмахиваясь рукой... То, что делают теперь большевики, — это уже не идейная пропаганда, это заговор. Оружие критики сменяется критикой оружия. Пусть же извинят нас большевики, теперь мы перейдем к другим мерам борьбы... Большевиков надо обезоружить» («Правда», 26 (13) июня 1917 г.).
141
справа они пользовались для нанесения ударов по рево-люции. Такого рода тактика, широко применявшаяся позже, в июльские дни, теперь впервые после падения самодержавия была пущена в ход. Это было симптоматично. В страхе перед нарастающей революцией бур. жуазия с помощью соглашателей готовилась покончить с демократией и проложить дорогу к неограниченной диктатуре своего класса. Требуя запрещения демонстрации, она отбирала у народа одно из важнейших его демократических завоеваний. Съезд вынес решение о запрещении на три дня всяких уличных демонстраций.
Не желая противопоставлять себя съезду и во избежание кровопролития, ЦК партии большевиков постановил отменить демонстрацию. Мы не должны давать повода к нападению, говорил Ленин, пусть нападают они. 10 июня в «Правде» было опубликовано обращение к рабочим и солдатам Петрограда, которым постановление ЦК партии доводилось до сведения масс I На предприятия и в казармы были разосланы члены ЦК и ПК, чтобы удержать массы от выступления, и выступление не состоялось. Это свидетельствовало о возросшем авторитете большевистской партии в массах.
Но эсеро-меньшевистские вожди Советов, боясь за свой престиж в рабочем классе, все же решили демонстрацию не совсем запретить, а перенести ее на другой срок — на 18 июня. Приурочив демонстрацию к началу наступления на фронте, они рассчитывали, что массы будут вдохновлены этим и продемонстрируют свое доверие Временному правительству. Но демонстрация показала, как далеко эти так называемые вожди стояли от масс и как плохо они знали их настроение. На улицу вышло около полумиллиона рабочих и солдат Петрограда, причем подавляющее большинство их шло под революционными лозунгами большевистской партии. Только незначительные группки (казаков, Бунда, плехановского «Единства») решились выставить лозунги доверия Временному правительству, но и те были свернуты под давлением трудящихся или разорваны.
18 июня соглашательские партии получили возможность увидеть собственными глазами, что социальная почва ускользает у них из-под ног, что новая револю-
1 См. «Правда», 23 (10) июня 1917 г.
142
ция не за горами, что массы решительно поворачивают в сторону большевиков. Это вынужден был с горечью признать один из видных меньшевиков-оборонцев, Н. Череванин, выступивший со статьей «Урок манифестации 18 июня». Он писал: «На знаменах, на очень многих знаменах 18 июня красовались лозунги, требовавшие удаления большинства министров из Вре
менного правительства и содержавшие осуждение политики Временного правительства. Лозунгов поддержки Временному правительству почти не было, были только лозунги, не противоречащие ленинским лозунгам» ’.
Июньский кризис заставил все политические партии сделать для себя соответствующие выводы. Было несомненно, что борьбу за массы выигрывают, и весьма успешно, большевики. Поэтому соглашатели усиливали травлю их, все больше и больше смыкаясь с контрреволюцией. Они стремились ослабить, подорвать возросший авторитет большевистской партии.
Те же две линии — революционная и оппортунистическая,— которые противоборствовали в политической об-
Две линии в борьбе с экономическим
кризисом ласти, находились в непримиримом противоречии и в области экономической. Политика и экономика всегда взаимосвязаны. В рассматриваемый период между ними вообще трудно было провести грань. Истощенная войной страна стояла перед неумолимо надвигавшейся катастрофой, рабочие
и крестьяне не получили удовлетворения самых насущных своих требований.
Экономические проблемы приобретали такую политическую остроту, что вместе с вопросом войны и мира имели решающее значение для судеб страны, всех общественных классов и партий. Только тот класс и его партия могли победить в борьбе за власть, которые способны были спасти Россию от грозившей ей катастрофы, обеспечить ее независимость.
Уже вскоре после начала войны для более дальновидных людей, даже из лагеря буржуазии, стало ясным, что экономика страны на грани катастрофы. К 1917 г. это видели уже все. С неимоверной быстротой
1 «Рабочая газета», 20 июня 1917 г.
143
увеличивалась разруха на транспорте, с каждым днем обострялся топливный кризис, не хватало продовольствия, безудержно росли цены. Производительные силы страны были окончательно подорваны. С января по апрель 1917 г. добыча угля в Донбассе сократилась почти на 20 процентов, резко уменьшился вывоз его по железным дорогам (в феврале только 53,6 процента нормы) ’. Из-за недостатка угля и нефти закрывались заводы. В феврале из 175 доменных печей на полную мощность работали только 67, с недогрузкой — 59, совсем остановились 33 домны 1 2. По сравнению с октябрем 1916 г. выплавка чугуна упала на 29 процентов. Почти столь же катастрофично падало производство стали 3.
Ни одна страна не несла столь тяжелого военного бремени. Для России каждый день войны обходился значительно дороже, чем для Франции, и примерно в такую же сумму, как для Англии. В то же время доход на душу населения в России был в 4—5 раз меньше, чем в этих двух союзных странах 4.
Для покрытия невиданных военных расходов Временное правительство прибегало главным образом к двум источникам: массовому выпуску бумажных денег и увеличению налогов на население. Но безудержная эмиссия денег еще больше подрывала экономику, приводила в полное расстройство финансы. Деньги катастрофически обесценивались, дороговизна стремительно росла. В первом полугодии 1917 г. денежных знаков было выпущено в 5 раз больше, чем в первом полугодии 1916 г., а цены за то же время возросли более чем в 7 раз.
Милитаризация промышленности, хозяйственная разруха в стране, недостаток транспорта — все это вело к резкому сокращению товарной массы, усилению про-
1 См. «Экономическое положение в России накануне Великой Октябрьской социалистической резолюции'». Документы и материалы. М. — Л., 1957, ч. II, док. № 366, стр. 74—79.
2 См. там же, док. № 378, стр. 109.
3 См. там же, стр. ПО, 115.
4 См. А. Л. Сидоров. Экономика России в период мировой войны 1914—1917 гг. В кн.: «Доклады и сообщения исторического факультета». М., 1945, стр. 27.
144
дово л ветвенного кризиса, к росту дороговизны и, следовательно, к стремительному снижению жизненного уровня трудящихся. Особенно тяжелое продовольственное положение сложилось в крупных городах, прежде всего в обеих столицах — в Петрограде и Москве.
Ни одна политическая партия не могла пройти мимо столь острых экономических проблем, каждая из них выдвигала свою программу борьбы с хозяйственной разрухой. При этом преследовались, конечно, различные цели: если большевики стремились предотвратить разорение страны и порабощение ее иностранным капиталом, спасти народ от голода и вымирания, то буржуазные партии видели свою основную задачу в том, чтобы поддержать экономику для доведения войны до «победного конца» и предотвратить революционный взрыв. Что касается мелкобуржуазных партий, в том числе меньшевистской, следовавших в фарватере буржуазии, то они фактически, на деле преследовали те же цели, что и буржуазия, хотя в своих многочисленных резолюциях нередко прибегали к излюбленной громкой фразе и выдвигали «решительные» требования.
Целям, которые ставили перед собой различные партии, соответствовал и характер их экономических программ. Реальный и единственно возможный путь спасения от голода и хозяйственной катастрофы указывала только большевистская партия. Этот путь — социалистическая революция, переход власти в руки пролетариата. Наряду с этим партия большевиков разработала ряд ближайших практических мер. Они были изложены в решениях Всероссийской Апрельской конференции и в трудах В. И. Ленина. В период между Февралем и Октябрем Ленин посвящает вопросу борьбы против надвигающегося экономического краха много своих работ. Среди них особенно выделяется написанная уже незадолго до Октября брошюра «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Большевики предлагали немедленно ввести контроль и учет в области производства и распределения продуктов. Для организации такого контроля Ленин считал наиболее важными и неотложными мерами объединение всех банков в один государственный банк и государственный контроль за его операциями; национализацию синдикатов, т. е. крупнейших монополистических союзов капита-
ю Н. Рубан
145
листов*, отмену коммерческой тайны, принудительное синдицирование промышленников, торговцев и хозяев вообще; объединение населения в потребительские общества или поощрение такого объединения и контроль за ним и др
В. И. Ленин имел в виду, разумеется, не бюрократический, а революционный контроль, осуществляемый не буржуазией и ее учреждениями, а рабочими. В написанной им резолюции об экономических мерах борьбы с разрухой для конференции фабрично-заводских комитетов Петрограда1 указывалось, что для осуществления рабочего контроля необходимо: чтобы во всех решающих учреждениях было обеспечено за рабочими большинство не менее трех четвертей всех голосов при обязательном привлечении к участию как не отошедших от дела предпринимателей, так и технически, научно образованного персонала; чтобы фабричные и заводские комитеты, центральные и местные Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а также профессиональные союзы участвовали в контроле; чтобы такое же право получили все крупные демократические и социалистические партии1 2
Буржуазия и соглашатели с порога отметали экономическую программу большевиков, заявляя, что многие ее пункты носят социалистический характер, а мы, дескать, не созрели для социализма. Конечно, большевики и не рассчитывали, что Временное правительство осуществит их экономическую программу, но она имела громадное значение для организации и классового воспитания масс. Ломая сопротивление буржуазии, рабочие под руководством большевистской партии явочным порядком устанавливали свой контроль над производством, а кое-где целиком брали управление предприятиями в свои руки.
Экономическая программа меньшевиков, если судить по их резолюциям, в которых недостатка не было, выглядела не так уж плохо. Но она была реформистская по существу: меньшевики исходили из того, что ее будет проводить Временное правительство, т. е. сама буржуазия, а последняя не соглашалась на малей-
1 Резолюция была принята подавляющим большинством 31 мая.
2 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 195—196;
146
illие уступки за счет ущемления своих экономических интересов. Боясь новой революции и не желая ссориться с буржуазией, меньшевики не могли сделать ни одного решительного шага для осуществления выдвигаемых ими мер, поэтому их программа носила декларативны й и демагогический характер, не имела никакого практического значения.
Состоявшееся в конце марта — начале апреля Всероссийское совещание Советов приняло две резолюции, разработанные меньшевиками: о продовольственном вопросе и о хозяйственном положении страны. Они были внесены экономистом-меньшевиком, председателем продовольственной комиссии исполкома Петроградского Совета Громаном. Основные задачи по оздоровлению экономики, которые выдвигались им, состояли в следующем: «1) Планомерно регулировать всю хозяйственную жизнь страны, организовав все производство, обмен, передвижение и потребление под непосредственным контролем государства. 2) Отчудить всю сверхприбыль в пользу нации и ограничить все виды капиталистического дохода строго определенными нормами. Рабочему же классу должны быть обеспечены достойные условия существования и труда, которые и дадут ему возможность проявить максимум напряженного и интенсивного труда для спасения страны» L
По настоянию меньшевиков выработанная ими экономическая программа почти дословно была изложена в декларации первого коалиционного правительства от 5 мая 1917 г. Временное правительство объявляло, что «будет неуклонно и решительно бороться с хозяйственной разрухой страны дальнейшим планомерным проведением государственного и общественного контроля над производством, транспортом, обменом и распределением продуктов, а в необходимых случаях прибегнет и к организации производства» 1 2. Правительство обещало приступить к усиленному обложению доходов имущих классов, в частности военных сверхприбылей.
Как видим, в обоих документах экономическая программа сформулирована в довольно решительных
1 ♦ Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов». Стенографический отчет, стр. 305—306.
2 * Революцией ное движение в России в мае — июне 1917 г.», док. № 180, стр. 230.
147
тонах. Если министры-капиталисты согласились включить се в торжественную декларацию, то только из понимания того, что социалисты никак не могут войти в буржуазное правительство без революционной фразы. О полной утопичности меньшевистской экономической программы скажем ниже. Сейчас же обратим внимание лишь на ту уступку, которую меньшевики со своей стороны сделали буржуазии. Как и всей декларации в целом, так и ее экономической части был придан такой оттенок, что подчеркивалась преемственность с программой и политикой первого состава Временного правительства. Из текста декларации вытекало, что правительство намерено продолжать ранее проводившиеся экономические мероприятия, осуществлять дальнейший «планомерный» контроль. Но продолжать было нечего, никакого контроля (а тем более планомерного) и в помине не было, о нем не говорилось даже в официальной правительственной программе от 3 марта. Меньшевики явно не собирались идти дальше гучков-ско-милюковского правительства, дальше пустой фразы.
Вопрос об экономическом положении России обсуждался также на заседании исполкома Петроградского Совета 16 мая. С докладами выступили видные меньшевистские экономисты — Череванин, Б. В. Авилов, В. А. Базаров, Громан. Череванин признал, что разруха слишком серьезная, чтобы можно было исправить положение паллиативами. Нужны более радикальные меры, заявил он, и опять-таки предложил «регулирование государством всей экономической жизни». Его поддержали и другие докладчики, отмечая, что на Западе, в частности в Германии, широко применяется государственное регулирование экономики. Имелись в виду такие меры, как фиксация цен и распределение продуктов, закрытие «отсталых» предприятий и расширение хорошо оборудованных, принудительное государственное трестирование 1.
Исполнительный комитет принял основные положения резолюции своего экономического отдела (она была опубликована в «качестве практического руководства для деятельности своей и деятельности товарищей
См. «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 19 мая 1917 г.
148
министров» ’. В ней отмечалось, что Временное правительство первого состава уклонилось даже от постановки задач государственного регулирования. Исполком выражал надежду, что коалиционное правительство приступит наконец к «планомерной организации народного хозяйства и труда, вследствие невыполнения которой пал старый режим и должно было преобразоваться Временное правительство» 1 2.
I съезд Советов полностью подтвердил меры, намеченные Всероссийским совещанием,— контроль и регулирование государством хозяйственной жизни. Докладчик Громан разъяснил, что эту задачу государство должно решать «в действенном единении с революционной демократией», с привлечением предпринимателей и торговцев, которые «не могут быть только объектом воздействия государства»3. Меньшевик Громан «забыл» сказать только об участии в регулировании и контроле представителей рабочего класса. Для регулирования хозяйственной жизни предлагалось создать при правительстве Экономический совет и Экономический комитет.
В общем, речи и резолюции меньшевиков, подкрашенные в революционный цвет, предусматривали ряд мер, которые на первый взгляд могли казаться даже радикальными; содержались в них требования и контроля, и планомерного регулирования, и усиленного обложения доходов имущих классов. Но радикализм был только кажущимся.
Возьмем, например, вопрос о контроле. Еще в тезисах по поводу декларации Временного правительства В. И. Ленин писал:
««государственный контроль», мы за. Но кем?
Кто контролирует?
Чиновники?
Или Советы» 4.
1 См. «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 17 мая 1917 г.
2 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 11 мая 1917 г.
* «Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов». Стенографический отчет, т. П, стр. 203.
4 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 438.
149
В этих ленинских вопросах вся суть дела. Меньшевистская программа, как и программа буржуазии, предусматривала контроль, осуществляемый не рабочим классом, а государством, т. е. в конечном счете сетью бюрократических учреждений. Меньшевики ни слова не говорили и об отмене коммерческой тайны — святая святых буржуазии. Без этого контроль оставался только красивой фразой. Как можно было, например, контролировать финансовые дела капиталистов или облагать налогами их доходы, не имея представления о размере этих доходов?
Без отмены коммерческой тайны никакие, даже самые грозные, резолюции и заявления меньшевиков не страшны и не опасны для буржуазии. Таким «грозным», «сверхреволюционным» было, например, заявление министра труда меньшевика Скобелева на заседании Петроградского Совета, предложившего отбирать у имущих классов в виде налогов всю прибыль. Было очевидно, что заявление рассчитано лишь на внешний эффект. Для того чтобы отобрать всю прибыль, надо знать ее размеры, что невозможно без отмены коммерческой тайны, о которой Скобелев «забыл» упомянуть.
Едко высмеивая этот «революционный» жест Скобелева, Ленин указывал, что объективно, независимо от действительных намерений социалистического министра, его предложение имело и провокационный смысл: буржуазия могла на время отказаться от прибылей, чтобы окончательно разрушить промышленность, а вину свалить на рабочих, которые-де «слишком много» берут.
Только большевистская программа указывала реальный путь к обузданию непомерной алчности капиталистов. В речи на I съезде Советов Ленин говорил:
«Наша программа по отношению к экономическому кризису состоит в том, чтобы немедленно для этого не нужно никаких оттяжек — потребовать публикации всех тех неслыханных прибылей, достигающих 500 800 процентов, которые капиталисты берут, не как капиталисты на свободном рынке, в «чистом» капитализме, а по военным поставкам. Вот действительно где рабочий контроль необходим и возможен. Вот та мера, которую вы, если называете себя «революционной» демократией, должны осуществить от имени Совета и
150
которая может быть осуществлена с сегодня на завтра» ’.
Выдвигавшиеся меньшевиками предложения о государственном регулировании промышленности не выходили за рамки буржуазного строя, не затрагивали основ частной собственности. В ряде стран Европы государственное регулирование применялось во время войны, и даже русская буржуазия не прочь была его осуществить в своих же интересах. Еще при царизме была признана необходимость государственного регулирования, и под конец царствования Романовых для этого созданы некоторые учреждения. Но по существу ничего не было сделано, разруха продолжала расти.
После Февраля российская буржуазия вновь ставит вопрос о регулировании, стремясь при помощи государственной власти оградить промышленность от вмешательства пролетариата, полностью сохранить свои экономические позиции. Все это откровенно было высказано на конференции торгово-промышленных организаций в начале июня. «При существующих условиях мирового хозяйства никакой иной экономический строй, кроме капиталистического, в России невозможен»,— черным по белому сказано в резолюции конференции. Ввиду этого «бесплодными и безусловно вредными» объявлялись всякие попытки хотя бы частично осуществить «социалистический принцип» на отдельных предприятиях1 2. Этот тезис настойчиво повторялся заправилами монополистического капитала и соглашателями.
Считая в принципе допустимым и даже желательным государственное вмешательство в экономику в целях успешного ведения войны и противодействия рабочему классу, буржуазия согласилась бы на него лишь при наличии сильной буржуазной власти, «своей» власти. В обстановке двоевластия, нарастания революционной волны она опасалась того, что в ближайшем будущем государство может круто изменить свой характер, и тогда его вмешательство в экономику может подорвать сами основы капиталистического строя,
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 267,
2 См. «Экономическое положение в России накануне Великой Октябрьской социалистической революции». Документы и материалы. М. — Л., 1957, ч. I, док. № 72, стр. 181.
151
повернуться против нее как класса. Апрельский, а затем июньский кризисы еще больше поколебали уверенность буржуазии в прочности ее политических позиций. Поэтому предприниматели и финансовые заправилы всячески саботировали государственное вмешательство в хозяйственную жизнь, требуя в то же время сильной власти и обуздания рабочего класса.
Особенно показательным документом в этом отношении является декларация конференции промышленников юга России Временному правительству от 27 мая. Сетуя на «анархию» (экономические требования рабочих), предприниматели предъявляли правительству требование «обеспечить исполнение законов решительным принятием соответствующих мер... озаботиться о незамедлительном судебном разбирательстве всех совершенных и совершаемых правонарушений» ’. Перед правительством ставился вопрос напрямик: собирается ли оно перестроить экономику «по социалистической программе» или сохранит существующий хозяйственный строй. Другими словами, капиталисты считали, что «государственное вмешательство, вообще столь необходимое в данное время, равно как и все меры финансово-экономического характера», может быть осуществлено только после соответствующих гарантий, прежде всего гарантии «сильной власти» 2.
Эта мысль весьма откровенно была сформулирована в докладной записке совета съезда горнопромышленников юга России министру торговли и промышленности о положении дел в Донецком бассейне. В записке содержалась известная формула, выдвинутая буржуазией,— «Дайте нам хорошую политику, и мы вам дадим хорошую экономику». Как же понимала буржуазия «хорошую политику»? В записке говорилось: «Совершенно необходимо, чтобы лозунг классовой борьбы был заменен другим лозунгом: согласование классовых интересов на благо как родины, так и отдельных классов... Совершенно необходимо осуществление на местах действительно крепкой власти правительства, опираю-
«Экономическое положение в России накануне Великой октябрьской социалистической революции», ч. I, док. № 70» стр. 178. * ’
2 См. там же, стр. 179.
152
щейся на быстрый и нелицеприятный суд и в подлежащих случаях на вооруженную силу... Разного рода Советы мыслимы как партийная политическая организация, но они не должны иметь права вмешательства в промышленную жизнь» Петроградская буржуазия, находившаяся в самом кратере революционного вулкана, воздерживалась от столь недвусмысленных заявлений. Но это не меняло существа дела.
Напуганная растущим революционным движением, буржуазия упорно саботировала какое бы то ни было вмешательство в экономику даже со стороны буржуазного государства, а меньшевики, без конца твердившие о регулировании, на деле даже не пытались сломить саботаж буржуазии, разоблачить ее перед массами. Отражавшее интересы банкиров и предпринимателей, коалиционное правительство, с участием тех же меньшевиков, действовало заодно с саботажниками. Его одолевали те же страхи перед революцией, что и буржуазию.
Правда, вынужденное в какой-то степени считаться с настроением масс, Временное правительство делало вид, что известные шаги предпринимает, пускало пыль в глаза ведомственно-бюрократической возней. Однако осуществлению более или менее радикальных мер оно упорно сопротивлялось. Приведем только один пример, иллюстрирующий тормозящую роль Временного правительства в борьбе с кризисом.
На заседании союза представителей металлургической и железоделательной промышленности 10 мая было сообщено, что группа предпринимателей поставила перед министром торговли и промышленности вопрос ребром: либо монополизация заводов, либо закрытие их. Тот же вопрос был поставлен и в другой формулировке: стоит ли министр за социализацию предприятий или за сохранение капиталистического строя. В ходе возникших прений товарищ министра Савин высказался за «решительные» действия, вплоть до закрытия предприятий. Министр нашел целесообразным, чтобы правительство обратилось к рабочим «с призы-
1 «Экономическое положение в России накануне Великой Октябрьской социалистической революции», ч. I, док. № 79, стр. 193, 194.
153
вом к их благоразумию» ’ (т. е. чтобы они отказались п «чрезмерных» требований). От
В конечном счете коалиционное правительство в нуждено было провести некоторые чиновничье-бюп кратические меры по регулированию промышленное™ По требованию совета съездов представителей промыт’ ленности и торговли2 оно возобновило деятельность всех особых совещаний и комитетов, созданных еше при царском режиме, за исключением Особого совещания по продовольственному делу. Временное правительство, его министры всячески сопротивлялись реорганизации и обновлению состава старых совещаний и только под давлением демократической общественности вынуждены были частично реформировать некоторые совещания — по обороне, топливу, перевозкам. Наряду со старыми учреждениями, сохранившимися с царских времен, Временное правительство создало множество новых. Во главе этой густой сети бюрократических учреждений были поставлены вновь образованные Экономический совет и его исполнительный орган — Экономический комитет.
Так буржуазия «разрешила» вопрос борьбы против экономической катастрофы. Чиновничьи циркуляры не могли приостановить разруху и надвигавшийся голод. Соглашатели, по существу, не противопоставляли буржуазии какой-то иной путь выхода из кризиса. Другим путем мог быть революционно-демократический, но они боялись его так же, как и буржуазия. Меры, предлагавшиеся большевиками, они считали социалистическими, а поэтому крамольными.
Экономическая политика союза буржуазии и согла-шателей потерпела крах. Позже, в начале сентября, это вынужден был признать в своем постановлении находившийся в руках меньшевиков и эсеров Экоио-SSSSSl отдел ЦИК Совет, раб»» " депутатов. В нем „остъ образованных "Р" "Р>”тельст. к
нанХ’ной экономической пр»тра»»ы. тоао-
стр. 403—404. «ло
Р 2 См. там же, док. № 100» стр. 243.
154
рилось в постановлении, «правительство в общем и целом до сих пор не приступало».
После Октябрьской революции, когда Советская власть, получив в наследство совершенно разоренную экономику, которой предстояло еще выдержать тяжелейшее испытание иностранной интервенции и гражданской войны, очутилась в чрезвычайно трудном положении, меньшевики кричали об этом на всех углах. Но при этом меньшевики умалчивали, что именно сами они в союзе с буржуазией довели страну до такого состояния; что за восемь месяцев своей деятельности как правительственной партии они ничего не сделали для предотвращения экономической разрухи и голода. Только Октябрьская революция спасла страну от гибели, от угрозы порабощения ее иностранным капиталом.
Столь же бесплодными оказались программа и политика меньшевиков в рабочем и аграрном вопросах.
Классовая борьба пролетариата
Оппортунизм и соглашательство меньшевистской партии особенно на-
и реформистская глядно проявились в рабочем вопросе.
политика меньшевиков
Имея в коалиционном правительстве пост министра труда, меньшевики на
деле ничего не сделали для удовлетворения основных экономических требований рабочего класса, которые он многие десятилетия отстаивал в борьбе с самодержавием: установление восьмичасового рабочего дня, повышение заработной платы, улучшение условий труда. И в рабочем вопросе меньшевики послушно следовали за буржуазией, причем в борьбе против «чрезмерных» требований рабочих иногда оказывались даже впереди буржуазии.
Как известно, вопрос о восьмичасовом рабочем дне в России являлся одним из самых острых и насущных. Вплоть до Февральской революции здесь рабочий день оставался наиболее продолжительным —10—14 часов. В течение всего периода борьбы с самодержавием требование восьмичасового рабочего дня было одним из основных требований программы-минимум, принятой на II съезде РСДРП. Совершив Февральскую буржуазно-демократическую революцию, рабочий класс, естественно, потребовал удовлетворить его экономические нужды, прежде всего установить восьмичасовой
155
рабочий день. Но предприниматели упорно сопротивлялись справедливым требованиям рабочих. Сформировавшаяся в условиях отсталой экономики и дешевой рабочей силы, русская буржуазия цепко держалась за устаревшие, консервативные формы организации производства, в том числе за изнуряюще продолжительный рабочий день. Во время войны упорство буржуазии в борьбе против требований пролетариата усилилось.
Временное правительство столкнулось с рабочим вопросом в первые же дни своей деятельности. Революция совершилась, но рабочие продолжали бастовать ожидая, когда их требования будут удовлетворены^ В то же время правительство, призывая к прекращению забастовки, умалчивало об этих требованиях или же кивало на Учредительное собрание, которое-де призвано решить все задачи. В декларации от 3 марта не было сказано ни слова о намерении правительства что-либо предпринять для удовлетворения требований рабочего класса. Ничего не говорилось об этом также в воззвании центрального комитета кадетской партии в связи с образованием правительства. Спрятались в кусты и меньшевистско-эсеровские соглашатели.
Рабочим не оставалось ничего иного как продолжать борьбу за свои права, и эту борьбу возглавила большевистская партия. Уже 7 марта Петербургский комитет РСДРП (б) принял резолюцию, в которой говорилось: «Обсудив вопрос о введении восьмичасового рабочего дня, ПК предлагает Исполнительному Комитету Совета рабочих и солдатских депутатов немедленно ввести декретом восьмичасовой рабочий день во всех областях наемного труда». Резолюция была опубликована в «Правде» *, а выписка из нее немедленно направлена в Исполком, но соглашательские вожди Совета ограничились тем, что решили резолюцию «принять к сведению» 2, т. е. положили ее под сукно.
Между тем рабочие, действуя под руководством большевистских организаций, не ожидали милости oi капиталистов, а повсеместно вводили восьмичасовой рабочий день явочным порядком, проявляя при этом
‘ См. «Правда», 8 марта 1917 г.
«Рабочее движение в 1917 году». Документы. М.— Л., к- • стр. 40.
156
такой натиск и такую решимость, что предприниматели вынуждены были идти на уступки.
Петроградский Совет имел реальную возможность ввести восьмичасовой рабочий день сразу же после революции, однако по вине меньшевистско-эсеровского большинства он не только не сделал этого, но и принял 5 марта постановление о возобновлении работ, т. е. о прекращении забастовки. В постановлении не говорилось, на каких условиях должны быть возобновлены работы, указывалось лишь, что эти условия «поручено составить Николаю Семеновичу Чхеидзе в соответствии с полученными в Исполнительном комитете директивами» Не удивительно, что рабочие, доверявшие еще тогда соглашательским Советам, остались недовольны этим постановлением. Они хотя и выполнили его, но продолжали настаивать на удовлетворении своих требований, в том числе на введении восьмичасового рабочего дня.
В Петрограде, где натиск рабочего класса был особенно мощным, предприниматели вынуждены были первыми пойти на некоторые уступки. 10 марта между обществом заводчиков и фабрикантов и Петроградским Советом было подписано соглашение о введении восьмичасового рабочего дня «впредь до издания закона о нормировке рабочего дня на всех фабриках и заводах...» 1 2
В борьбе труда против капитала меньшевики, хотя и в завуалированной форме, стали на сторону последнего. Вначале меньшевистская печать взяла на себя миссию отговаривать рабочих от борьбы за восьмичасовой рабочий день и в своем холопском усердии не заметила, как обогнала саму буржуазию в борьбе за ее интересы и попала в лужу. В тот самый день, когда петроградские промышленники пошли на заключение соглашения с Петроградским Советом, «Рабочая газета» выступила с редакционной статьей под названием «Не разбивайте сил». Меньшевистская газета поучала рабочих не рассеивать своего внимания между экономической и политической борьбой, а заняться «закреплением завоеванных политических позиций» (свободы).
1 «Революционное движение в России после свержения самодержавия», док. № 145, стр. 209.
’ Там же, док. № 178, стр. 243.
157
«Восставший народ занял важные политические пози-ции,— писала газета,—Как же быть дальше? ИнЫе подсказывают, перейти к борьбе за иное требование — восьмичасовой рабочий день на заводах и фабриках Что это значит? Это значит бросить занятую политическую позицию и перейти на новую — экономическую. Но разве так делают на войне? Нет, там завоевывают позицию, на ней хорошо окапываются, ее старательно укрепляют». Газета пугала рабочих тем, что, пока они будут вести экономическую борьбу, «политический враг может собраться с силами и нанести им урон»
Мы умышленно привели довольно большую цитату, так как она наглядно показывает, как приходилось меньшевикам изворачиваться и наивно, примитивно лгать, чтобы только оградить интересы буржуазии.
Классовые бои пролетариата разгорались по всей России. Вслед за Петербургом в марте — апреле восьмичасовой рабочий день был установлен в большинстве промышленных городов страны. В разных местах он вводился по-разному: явочным порядком, путем соглашения Советов с предпринимателями и просто постановлением Советов. Как правило, меньшевики стремились удержать рабочих от захватных действий и ввести их борьбу в «законное» русло.
В Москве восьмичасовой рабочий день был введен с 21 марта постановлением Совета рабочих депутатов, но это было сделано после упорной борьбы большевиков с соглашателями. На заседании Совета рабочих депутатов 18 марта при обсуждении этого вопроса с докладами выступили представители всех городских районов. Как выяснилось из докладов, на значительной части предприятий рабочие под руководством большевиков ввели восьмичасовой рабочий день, другая часть удерживается от этого шага громадным авторитетом Советов. В самих Советах не было единодушия. Д°‘ кладчики от некоторых районов (Бутырского, Хамовнического и др.) заявили, что у них вопрос этот предрешен, ждут лишь решения городского Совета и отрицательное решение выполняться не будет. Московскому Совету пришлось уступить революционной инициативе рабочих. В принятой резолюции Совет рабочих депута-
«Рабочая газета», 10 марта 1917 г.
158
тов признал необходимым введение восьмичасового дня во всей стране и издания соответствующего декрета Временным правительством. В Москве решено было ввести его, не дожидаясь декрета *.
С 1 апреля был установлен восьмичасовой рабочий день в Киеве. После того как на многих предприятиях рабочие решили этот вопрос самостоятельно, явочным порядком. Киевский Совет рабочих депутатов принял постановление о введении восьмичасового рабочего дня, но только путем организованного соглашения со всеми предпринимателями. Совет предлагал воздерживаться от частичных выступлений. Под натиском рабочих предприниматели вынуждены были признать восьмичасовой рабочий день, введенный явочным путем1 2. Здесь, как и везде в России, главное внимание меньшевиков было направлено на то, чтобы умерить требования рабочих, смягчить остроту классовой борьбы.
В конце апреля в Киеве состоялось меньшевистское областное совещание представителей 32 местных организаций. Совещание приняло ряд резолюций, в том числе «Об экономической борьбе и рабочей политике». Первая ее часть напоминала инструкцию рабочим о том, как они должны вести себя в классовой борьбе. В ней пролетариат поучали «строго согласовывать свои экономические выступления с общими интересами страны и с соотношением общественных сил в настоящий момент. Пролетариат не может выдвигать требований, не соответствующих развитию производительных сил в стране, и не может проводить их путем реорганизации хозяйственной жизни» 3. Далее перечислялись те требования, которые рабочим милостиво разрешалось ставить перед капиталистами: введение восьмичасового рабочего дня с допущением сверхурочных работ, закон о минимуме заработной платы, организация примирительных камер и пр., т. е. все то, что было предусмотрено в соглашении Петроградского Совета с промышленниками.
1 См. «Известия Московского Совета рабочих депутатов», 19 марта 1917 г.; см. также «Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве». Документы и материалы. М., 1957, док. № 21, стр. 32—33.
2 См. «Известия Киевского Совета рабочих депутатов», 29 марта 1917 г.
3 «Партийные известия», 15 июля 1917 г.
159
Путем соглашения Советов с предпринимателями или непосредственным постановлением Советов рабсь чий день был завоеван в марте — апреле рабочими Иваново-Вознесенска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга Харькова, Екатеринослава, Николаева, Одессы, Казани’ Тулы, Саратова, Ярославля, Твери, Воронежа, Рязани Вологды, Костромы, Ростова-на-Дону, Красноярска’ Омска, Иркутска
Буржуазия повсеместно сопротивлялась введению восьмичасового рабочего дня, она делала все возможное, чтобы предотвратить или свести на нет это крупное социальное завоевание рабочего класса. Именно там, где сопротивление со стороны буржуазии требованиям рабочих было особенно упорным, и соглашатели чинили больше препятствий, стремились удержать рабочих от революционных действий, ввести движение в рамки «законности».
Так было на юге России — в Донбассе и Криворожье. Состоявшаяся 15—17 марта в Бахмуте конференция делегатов Советов рабочих и солдатских депутатов Донецкого бассейна под влиянием соглашателей приняла следующую резолюцию: «Конференция считает, что следует воздержаться от отдельных выступлений, а находит нужным требовать от Временного правительства немедленного проведения в жизнь восьмичасового рабочего дня во всей стране». Только в конце марта и первой половине апреля здесь было заключено соглашение между представителями Советов и предпринимателями, и восьмичасовой рабочий день начал осуществляться повсеместно1 2.
1 См. «Революционное движение в России после свержения самодержавия», док. № 193, стр. 255—256; док. № 216, стр. 278-279; док. № 231, стр. 299; док. № 234, стр. 301; док. № 245, стр. 314; док. №№ 246, 247, стр. 315; док. № 251—263, стр. 320—350; док. № 275, стр. 366; док. № 276, стр. 367; док. № 277, стр. 367—368; док. № 291, стр. 386; док. № 537, стр. 583. «Революционное движение в России в апреле. Апрельский кризис», док. № 124, стр. 173; док. № 137, стр. 191; док. № 155, стр. 209.
2 Соглашение было заключено на состоявшихся в Харькове 28—29 марта и в Екатеринославе 11 апреля конференциях представителей каменноугольной и металлургической промышленности Юга России и представителей местных Советов рабочих и солдатских депутатов (см. «Конференции рабочих и промышленников Юга России», вып. I. Харьков, 1917, стр. 7, 45, 46).
160
А вот что писала «Солдатская правда» о положении с восьмичасовым рабочим днем в Екатеринославе: «Руководящую роль в создании Совета рабочих депутатов заняли ликвидаторские элементы, расцветшие махровым цветом при первой возможности легального существования. Не удивительно поэтому, что Совет с первых же дней своей деятельности стал проводить не рабочую, а либеральную политику, направленную всецело к соглашательству и мирному сотрудничеству с капиталистами. Восьмичасовой рабочий день был признан крайне опасным лозунгом, не отвечающим моменту, и только после угроз отдельных заводов провести его захватным путем, после того как была получена телеграмма Петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов о введении восьмичасового рабочего дня и местные заводчики и фабриканты сами выразили согласие начать переговоры по этому вопросу, Екатеринославский Совет рабочих депутатов приступил к введению восьмичасового рабочего дня» L
В Баку соглашение с промышленниками о введении восьмичасового рабочего дня было заключено только 15 апреля и введено в действие с 1 мая. До этого меньшевистско-эсеровское большинство Совета не решалось принять соответствующего постановления. В сообщении Бакинского Совета рабочих депутатов говорилось, что восьмичасовой рабочий день в Бакинском районе «вводится как принцип», т. е. в каждом отдельном случае промышленникам самим давалось право решать этот вопрос 1 2.
Сразу же после завоевания восьмичасового рабочего дня бакинский пролетариат под руководством большевиков повел борьбу за заключение коллективного договора, которая продолжалась полгода и закончилась всеобщей забастовкой. Меньшевики все силы приложили к тому, чтобы смягчить классовый конфликт, сорвать забастовку. Но даже приезд в Баку министра труда Скобелева не помог местным меньшевикам погасить разгоревшееся пламя революционной борьбы пролетариата за свои права. Продолжавшаяся вплоть
1 «Солдатская правда», 19 (6) мая 1917 г.
* См. «Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане». Документы и материалы, 1917— 1918 гг., док. № 6, стр. 11.
11 Н. Рубан
161
до октября забастовка прошла организованно и ус пешно. у '
Восьмичасовой рабочий день, явившийся крупным завоеванием рабочего класса, был добыт не по инициативе меньшевиков, не при их содействии, а, как правило, вопреки меньшевикам. Правда, почти везде восьмичасовой рабочий день был урезан сверхурочными работами, которые со ссылкой на военную обстановку и по настоянию промышленников предусматривались соглашением Петроградского Совета с предпринимателями, а вслед за ним и соглашениями других Советов. Вскоре после установления восьмичасового рабочего дня в Петрограде «Известия Московского Совета рабочих депутатов» резко выступили против сверхурочных работ, предусмотренных в соглашении, но под давлением меньшевиков и эсеров предпринимателям была сделана и эта уступка за счет рабочих.
Еще более упорно сопротивлялись буржуазия и соглашатели требованию рабочих о повышении заработной платы. Жизненный уровень рабочих, который и до войны был крайне низким, значительно снизился за годы войны в результате стремительного роста цен и усиления налогового бремени; к 1917 г. экономическое положение трудящихся стало совершенно невыносимым. По данным Московской биржи труда, цены на продукты (хлеб, мясо, молоко и др.) возросли с июля 1914 г. по август 1917 г. в 6,5 раза, цены на другие продукты потребления (мануфактура, обувь, мыло, керосин)— в 12 раз. За это же время заработная плата возросла в 6 раз I В других местах она осталась прежней или увеличилась в незначительных размерах. Как указывалось в донесении орловского губернского комиссара Временного правительства министру внутренних дел, на предприятиях Мальцевского акционерного общества «расценки заработной платы не изменялись (если не считать военной прибавки с 1 января 1916 г. 5%, с 1 апреля —10—15%, с 1 сентября 1916 г — 25—30 %) десятки лет» 1 2.
В некоторых случаях заработная плата даже снизи
1 См. «Рабочий путь», 27 (14) октября 1917 г. „ .-«««к.
2 «Экономическое положение накануне Великом Ок Р ской социалистической революции», ч. I, док. № 299, стр. 52и.
162
лась в результате вынужденных простоев, связанных с недостатком сырья. «Низкий уровень заработной платы и условия жизни и быта рабочих,— сообщал орловский губернский комиссар,— привели рабочее население к физическому истощению в буквальном смысле, что бросается в глаза даже при поверхностном наблюдении»
В результате упорной борьбы рабочим удавалось на ряде предприятий добиться некоторого повышения заработной платы, но в целом положение трудящихся изо дня в день ухудшалось. Даже частичные успехи рабочих отдельных предприятий в борьбе за повышение жизненного уровня вызывали яростное противодействие промышленников. Выполняя волю буржуазии и охраняя ее военные прибыли, правительство палец о палец не ударило, чтобы удовлетворить справедливые требования рабочих. Поэтому их борьба за повышение заработной платы с самого начала приняла острый характер и продолжалась вплоть до победы социалистической революции.
Статистика забастовочного движения показывает, что преобладающее число экономических стачек в этот период было связано с требованием повышения заработной платы. Так, например, на предприятиях, подчиненных надзору фабричной инспекции1 2, в марте произошло 152 забастовки, из них 27 носили экономический характер. В 24 экономических забастовках главнейшим требованием было повышение заработной платы. Среди текстильщиков, где заработная плата была особенно низкая, почти все экономические стачки были связаны с этим требованием (10 из 11).
В борьбе против пролетариата буржуазия не только оборонялась, но сплошь и рядом переходила в контрнаступление. Это выражалось, в частности, в требованиях об ограничении роста заработной платы рабочим, с которыми промышленники обращались к Временному
1 «Экономическое положение накануне Великой Октябрьской социалистической революции*, ч. I, док. № 299, стр. 521.
2 Приводятся данные по девяти губерниям; Владимирской, Вологодской, Костромской, Минской, Саратовской, Таврической, Тульской, Херсонской и Эстляндской (см. «Революционное движение в России после свержения самодержавия», док. № 548, стр. 592—593).
183
правительству1, а главное — в локаутах. По министерства торговли и промышленности, с мао ЫМ июль включительно приостановили и не возобн По работу 568 предприятий с числом рабочих lOOm Мотивы для закрытия предприятий выдвигались п ’ личные, чаще всего речь шла о недостатке сырья и**1 2 3’ териалов. Нередко этим прикрывали самые настоят^ локауты, служившие средством классовой бооьбк буржуазии против рабочих. Второе место занимают те предприятия, которые закрыты из-за «чрезмерных требований рабочих». Таких насчитывалось 49, с общим количеством рабочих 5610 человек3. Понятно, что данные эти далеко не полны. Не учтены предприятия, прекращавшие работу временно и затем вновь возобновившие производство. Больше всего предприятий было закрыто в Центральном промышленном районе, в Донбассе и на Урале.
Тысячи рабочих, только что свергнувших царскую тиранию, выбрасывались на улицу из-за того, что они не хотели умирать с голоду. А капиталисты, требовавшие от рабочих все новых и новых жертв «во имя победы», сами забывали о патриотизме и без зазрения совести закрывали заводы, когда заходила речь о том,
1 См., например, докладную записку председательствующего в Особом совещании по обороне П. И. Пальчинского министру-председателю Временного правительства князю Г. Е. Львову о необходимости государственного нормирования и ограничения роста заработной платы рабочих. Пальчинскииписал. «Единственной мерой, по мнению Особого совещани , (• Р й
могла бы приостановить все продолжающийся и не Р _ для государства рост расходов, вызываемых работам ппр_ рону, является установление Временным правительств . ре деленного размера рабочей платы, если не для всех г.' ‘ ших видов производства, то хотя бы поденной платы J бочим, что не представило бы особых затруднении и али_ тем дало бы твердую отправную точку и для расценки инфицированного труда. С своей стороны Особое совеща лагает, что тот размер рабочей платы, которого она Довьпие. в мае месяце с. г., является высшим, и дальнейшего ее пt . ния не выдержит ни народное, ни государственное х03 qk2
(«Экономическое положение в России накануне Велик 32З, тябрьской социалистической революции», ч. I, док. 9 ’
стр. 546).
2 См. «Экономическое положение в России после сверже ния самодержавия», ч. II, док. № 353, стр. 44.
3 См. там же, стр. 45.
164
чтобы отказаться от части своих громадных барышей в пользу рабочих.
В тяжелой борьбе труда против капитала меньшевики всячески стремились умерить классовые конфликты за счет рабочего класса. Они повисали на руке пролетариата каждый раз, когда эта рука поднималась для нанесения удара по буржуазии. Конечно, в обстановке все более усиливавшегося революционного накала невозможно было с порога отметать каждое требование рабочих. Для сохранения своего авторитета «рабочая» партия должна была выдвигать и какую-то позитивную программу. Но требования этой программы меньшевики сводили на нет всякого рода оговорками и «предостережениями». В конечном счете они больше требовали от рабочих, чем для рабочих. Наглядным подтверждением могут служить резолюции мартовско-апрельского Всероссийского совещания Советов, предложенные меньшевиком Богдановым,— об общей рабочей политике, о восьмичасовом рабочем дне и некоторые другие.
В первой резолюции сквозь зубы признавалась закономерность борьбы труда с капиталом в буржуазном обществе, но это общее признание понадобилось только для того, чтобы заявить о ее неприемлемости в период войны и революции. Как отмечал сам докладчик, основная мысль, которая пронизывала резолюции, состояла в том, что «классовая борьба пролетариата должна согласоваться с интересами революции в тех условиях войны, в каких она сейчас протекает» Говоря проще, рабочим рекомендовалось воздерживаться от «излишних» требований во имя завоевательских планов и сверхприбылей буржуазии.
Меньшевики пугали наступлением контрреволюции в том случае, если рабочие будут «неосмотрительны» в своих требованиях. «Мнимыми являются те экономические выгоды,— подчеркивалось в резолюции Всероссийского совещания Советов,— которые достигают усиления контрреволюционных опасностей изнутри и извне военных опасностей, и грозят добытым ранее экономическим завоеваниям, ходу дальнейшей классовой борьбы
1 «Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов». Стенографический отчет, стр. 242.
165
пролетариата и делу завершения демократизации России» !.
В резолюции о восьмичасовом рабочем дне Временному правительству предлагалось закрепить его законодательным актом. Но тут же следовала оговорка: в данных условиях такой акт имел бы лишь формальное значение. Восьмичасовой рабочий день возможен и желателен лишь в будущем, когда начнется демобилизация и появится угроза безработицы; на время войны декрет этот должен предусматривать возможность применения сверхурочных работ в предприятиях, работающих на оборону или изготовляющих предметы первой необходимости1 2.
Несмотря на сильно возросшую дороговизну и катастрофическое падение жизненного уровня трудящихся, меньшевики не выдвигали требования о повышении заработной платы для всех или основной массы рабочих. В принятой резолюции о минимуме заработной платы предусматривалось создание учреждений (опять учреждений!) для установления такого минимума только для наименее обеспеченных слоев. Приняты были также резолюции о свободе коалиций, о создании примирительных камер, о профессиональном строительстве.
Ничего нового не содержалось и в резолюции «по рабочей политике», принятой Всероссийской (майской) конференцией меньшевиков. Необходимость «широких социальных реформ» в будущем конференция признавала, но «для ближайшего времени» призывала «считаться с трудной и крайне сложной обстановкой войны и революции». Эта мысль красной нитью пронизала решения конференции. Меньшевики всячески сдерживали проявления классовой борьбы, запугивали пролетариат любыми абсурдными доводами. Например, они утверждали, будто «радикальная реформа в области рабочего законодательства» может быть использована «контрреволюционными силами в целях политической изоляции рабочего класса» 3.
Не удивительно, что резолюция меньшевистской
1 «Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов». Стенографический отчет, стр. 297.
2 См. там же, стр. 298.
3 «Всероссийская конференция меньшевистских и объединенных организаций РСДРП», стр. 47—48.
166
конференции не намечала конкретных мер по разрешению рабочего вопроса. Довольно большое место в ней занимал пункт о задачах в области профсоюзного движения. И это было естественно, если иметь в виду роль, которую отводили меньшевики профсоюзам и фабзав-комам, а именно умерять классовую борьбу, «учитывая соотношение сил труда и капитала и особенности момента» В резолюции подчеркивалось особое значение фабрично-заводских комитетов «в связи с начинающимися дезорганизацией и разложением промышленности и возникающими на этой почве попытками самовольного захвата рабочими фабрик и заводов, что идет вразрез с тактикой рабочего класса» 1 2 Вот как понимали меньшевики задачи фабрично-заводских комитетов— вести борьбу против рабочего контроля, а насчет борьбы против локаутов — ни слова.
Резолюцию по рабочему вопросу, авторами которой также были меньшевики, принял и I съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. И эта резолюция представляла собой простое повторение того, что выдвигалось на Всероссийском совещании^ Ни шагу вперед не было сделано. Правда, появились в ней и новые мотивы, а именно проведение «социальных реформ» возлагалось на министерство труда, которое характеризовалось как «государственный орган, выдвинутый рабочим классом».
Вообще, в резолюциях недостатка не было, причем они были похожи одна на другую, как близнецы, да и не было надобности их менять: время шло, а в области рабочего законодательства все оставалось по-прежнему. Временное правительство не обращало никакого внимания на резолюции. Может быть, оно имело какую-либо собственную позитивную программу в этом вопросе? Нет, не имело. В практике буржуазных государств всегда было обычным явлением, когда новые правительства давали щедрые обещания только для того, чтобы их не выполнять. Но коалиционное правительство поскупилось даже на обещания. В декларации от 5 мая относительно рабочей политики записана упоминавшаяся уже короткая и совершенно пустая фраза:
1 «Всероссийская конференция меньшевистских и объединенных организаций РСДРП», стр. 49.
2 Там же, стр. 50.
167
«Мероприятия по всесторонней защите труда получат дальнейшее энергичное развитие»
Рабочее законодательство Временного правительства оказалось на редкость бесплодным. Имея в своем составе Министерство труда, возглавлявшееся тремя видными меньшевиками (кроме министра Скобелева его товарищи — Кузьма Гвоздев и Колокол ьников, оба правые оборонцы), оно так и не удосужилось до конца дней своих, т. е. до самого Октября, выполнить основное требование рабочих — декретировать восьмичасовой рабочий день. За два месяца своего существования первое коалиционное правительство не издало ни одного закона о труде, не выполнило ни одного требования рабочих.
Ничего не было сделано для урегулирования заработной платы трудящихся и для существенного ограничения военных сверхприбылей. Правда, 12 июня Временное правительство приняло сразу три постановления о налогах: «О повышении окладов государственного доходного налога», «Об установлении единовременного налога» и «Об изменении оснований взимания и размеров временного налога на прирост прибылей торгово-промышленных предприятий и вознаграждения личных промысловых занятий». Имея в виду эти законы, Скобелев на I съезде Советов говорил: «Мероприятия в высшей степени решительные. Я бы сказал, что они доходят до пределов рискованности» 1 2.
Но опасения министра труда были напрасны. Указанные законы, творцом которых являлся кадетский министр финансов А. Шингарев, не представляли какой-либо угрозы для капиталистов. Во-первых, сохранялась в неприкосновенности коммерческая тайна в торговых и промышленных предприятиях; во-вторых, обложение должно было производиться по размерам доходов, полученных в 1916 г., но за это время бумажные деньги сильно обесценились; в-третьих, никаких
1 «Революционное движение в России в мае июне 1917 г.», док. № 170, стр. 230, Суханов по этому поводу замечал, что «авторами декларации были сами министры, сами советские лидеры. Они не требовали большею» (см. Н. Суханов, записк» о революции, кн. 4. Пг.— М.» стр. 62).
2 «Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солд< ских депутатов». Стенографический отчет, ч. II, стр. 245.
168
изменений не было внесено в систему податной оценки, которая даже при царизме была признана негодной.
В послеиюльский период Временное правительство, проводя по отношению к рабочим политику кнута и пряника, приняло некоторые законы (о местных комиссарах министерства труда, о промышленных учреждениях. о биржах труда, внесло некоторые изменения в закон о страховании рабочих на случай болезни). Все эти меры не повели к повышению жизненного уровня трудящихся.
Необходимость хотя бы частичных уступок рабочим была ясна меньшевикам. Почва явно ускользала из-под их ног. поэтому, вынося резолюции, они на время склонялись в сторону пролетариата. Но когда нужно было эти резолюции проводить в жизнь, а буржуазия неизменно встречала их в штыки, меньшевики уступали. Все их обещания повисали в воздухе. Сказывалась двойственная природа мелкобуржуазной партии, меньшевистская концепция революции; буржуазия — господствующий класс, и ее господство надо поддерживать.
Нельзя сказать, чтобы Временное правительство не делало попыток сгладить остроту конфликтов между рабочими и предпринимателями, тем более что локауты наносили ущерб интересам войны. Но вместо того, чтобы привлечь к ответственности локаутчиков за их преступные действия, Временное правительство с помощью социалистов стало на путь увещевания рабочих отказаться от «чрезмерных» (а на самом деле справедливейших) требований. Их (а не капиталистов) призывали к самоограничению, к дальнейшему напряжению сил для доведения «войны до победного конца». В этом отношении весьма примечательно опубликованное 28 июня 1917 г. обращение министра труда Скобелева к рабочим. Министр просил не выходить за рамки «законности и порядка». «В настоящее время,— говорил министр,— часто стихийные выступления берут верх над организованностью... Вы иногда добиваетесь такого увеличения заработной платы, которая дезорганизует промышленность и истощает казну...» Особенно большое неудовольствие Скобелева вызывали самовольные захваты предприятий (рабочие в ряде случаев брали в свои руки управление теми заводами и фабриками,
169
которые закрывались капиталистами). Рабочим напоминали об их «обязанностях» и о жертвах, которые они должны принести на алтарь отечества ’.
Немалый интерес представляет и другой документ — воззвание меньшевистского ОК от 9 июля. В то время, когда буржуазия, ликвидировав двоевластие в свою пользу, усилила наступление на рабочий класс меньшевистское руководство, со своей стороны, еще раз потребовало от пролетариата подтянуть ремни и отказаться от своих требований. В воззвании говорилось: «Мы должны тщательно взвешивать выставляемые требования и действовать не вразброд, а лишь по указанию своих профессиональных союзов, так, чтобы борьба с промышленниками не превратилась в разрушение промышленности...»1 2 Рабочим советовали сосредоточить свое внимание на общественной работе в профессиональных союзах, просветительных обществах, кооперативах и в особенности в меньшевистской партии, выдавая это участие за «лучший способ побороть темноту и бессознательность в нашей собственной среде», за «вернейшее средство обезвредить контрреволюцию» 3.
Таким образом, рабочим недвусмысленно намекали, что их «непомерные» требования в борьбе с капиталистами идут от темноты и несознательности и что это способствует усилению контрреволюции. В назойливых призывах к самоограничению, которыми полна была соглашательская печать в то время, как капиталисты пожинали громадные прибыли, наглядно проявился оппортунизм меньшевиков, их предательская роль в революции 4.
1 См. «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 28 июня 1917 г.
2 «Партийные известия», № 15, август 1917 г.
3 Там же.
4 Позорное поведение соглашателей в рабочем вопросе вынужден был признать даже меньшевик Суханов. Критикуя антирабочую политику меньшевистско-эсеровского большинства в Совете, он писал: «Не сделав ничего, ни шагу для ограничения чудовищных военных сверхприбылей, ни для действительного повышения жизненного уровня рабочих масс, Совет, в лице его большинства, ради удержания буржуазии в правительстве, в целях сохранения ее экономического господства, заменил неугодную ей программу ее собственным лозунгом: самоограничение рабочих! Лозунг становился хо-
170
Борьба Р°ЛЬ В классовых сражениях
за фабзавкомы Р тариата призваны были сыграть и профсоюзы фабзавкомы и профсоюзы. Большевистская партия с первых же дней после выхода из подполья проявляла большую заботу об организации пролетариата в профессиональные союзы. В марте — апреле только в Петрограде и Москве их насчитывалось 130, а в целом по России — около 2 тысяч Повсеместно возникали фабрично-заводские комитеты— невиданные еще в истории рабочего движения боевые организации пролетариата. Появившиеся в обстановке разрухи, голода и массовых увольнений рабочих, фабзавкомы имели своей задачей защитить интересы трудящихся, парализовать саботаж капиталистов, сохранить производство. Избирались они непосредственно на рабочих собраниях. Ядро первых фаб-завкомов на крупных предприятиях составляли делегаты в Советах от данного коллектива рабочих 2. Следовательно, уже с самого начала фабзавкомы были связаны не только с экономической, но и с политической борьбой пролетариата.
Профсоюзы и фабзавкомы вначале не были организационно взаимосвязаны. Существовали различия и в социальном составе этих организаций, и в условиях их
дячим. Советские ораторы, к восторгу всей «большой» и банковско-демократической прессы, не стыдились ходить с этим лозунгом к рабочим. Это было отвратительное зрелище» (Н. Суханов. Записки о революции, кн. 4, стр. 126).
Что касается такого меньшевистского лидера, как Церетели, то он в своих воспоминаниях продолжает оправдывать призывы к самоограничению рабочего класса. Он утверждает, что непомерные требования рабочих были чуть ли не главной помехой на пути к предотвращению катастрофы. «Поэтому существенной частью демократической экономической политики в период коалиционного правительства стала кампания за самоограничение рабочего класса, в пользу поднятия производительности труда и разрешения вопросов о заработной плате не путем постоянных стачек, а путем соглашения через примирительные камеры или органы министерства труда» (И. Г. Церетели. Воспоминания о Февральской революции, кн. I, стр. 442).
1 См. А. Панкратова. Фабзавкомы и профсоюзы в революции 1917 г., стр. 53.
2 См. там же, стр. 12; см. также «Октябрьская революция и фабзавкомы». Материалы по истории фабрично-заводских комитетов. М., 1927, ч. I, стр. 16.
171
работы. Как известно, в первое время профсоюзы стр0И-лись по профессиям, а не по производственному прин' ципу; многие из них объединяли кустарей, ремеслен-ников, домашнюю прислугу. Поэтому многие из них дальше, чем фабзавкомы, стояли от фабрично-заводской жизни, а некоторые и по своему составу не были в прямом смысле пролетарскими.
Профсоюзы и фабзавкомы явились ареной острой борьбы между большевиками и соглашателями. Решался вопрос о характере и задачах этих классовых организаций: будут ли они орудиями политического воспитания и революционной мобилизации масс или соглашателям удастся повернуть их на путь реформизма, тред-юнионизма. Стремясь навязать фабзавко-мам и профсоюзам свою оппортунистическую линию, меньшевики пытались, во-первых, отгородить их от политики, свести их роль к решению чисто экономических задач, во-вторых, ограничить и умерить размах экономической борьбы, ввести ее в рамки, приемлемые для буржуазии.
Первым формальным актом, узаконившим существование фабзавкомов, было известное уже нам соглашение Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и Петроградского общества фабрикантов и заводчиков о восьмичасовом рабочем дне. В этом документе, который целиком был положен в основу изданного вскоре Временным правительством постановления «О рабочих комитетах в промышленных заведениях», задачи фабзавкомов сводились к следующему: «а) представительство рабочих данного предприятия в их сношениях с правительственными и общественными учреждениями; б) формулировка мнений по вопросам общественно-экономической жизни рабочих данного предприятия; в) разрешение вопросов, касающихся внутренних взаимоотношений между самими рабочими предприятия; г) представительство от рабочих перед администрацией заводов и фабрик и владельцами предприятий по вопросам, касающимся взаимоотношении между ними и рабочими»
Таким образом, буржуазия и соглашатели с самого начала пытались сделать фабзавкомы «ручными»; вме-
1 «Революционное движение в России после свержения Самодержавия», док. № 178, стр. 242—243.
172
сто решения боевых задач по организации борьбы рабочих с предпринимателями, к чему призывали большевики, им предлагали заниматься «формулировкой мнений», разного рода «представительством».
Соглашатели из отдела труда Петроградского Совета торопились закрепить авторитетом Совета выработанные буржуазией ограничения; 11 мая был опубликован проект устава заводского (фабричного) комитета, в котором в точности воспроизводятся те же задачи, которые были поставлены перед ними правительством. Правда, их дополнили двумя новыми пунктами: об участии в выработке правил внутреннего распорядка и надзора за их исполнением, о надзоре за санитарным состоянием предприятий ’.
Но фабрично-заводские комитеты, как известно, не стали укладываться в прокрустово ложе, приготовленное для них капиталистами и соглашателями. Они сразу стали органами революционного действия. Фабзавкомы отстаивали экономические требования рабочих, устанавливали контроль над производством, заботились о снабжении предприятий сырьем и материалами, взяли в свои руки дело приема и увольнения рабочих, стремились предотвращать локауты и, в ряде случаев, целиком брали на себя руководство производством (главным образом там, где капиталисты применяли локауты).
Несмотря на усилия соглашателей отвлечь фабзавкомы от политики, сфера их деятельности все более расширялась. Об этом можно судить хотя бы по протоколам заседаний фабзавкомов. Так, 7 марта 1917 г. на заседании заводского комитета Петроградской станции электрического освещения (1886 г.) рассматривались следующие чисто политические вопросы: об удалении всех членов дома Романовых и лиц, назначенных старой властью, от всех административных и ответственных постов; об амнистии; о роли революционной армии в завоевании свободы; оповещение всех социалистических партий мира о происшедших в России событиях и др.* 2
’ См. «Известия Петроградского Сопота рабочих и солдатских депутатов», 11 мая 1917 г.
2 См. «Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. I, стр. 54—55.
173
В первые месяцы после Февральской революции соглашатели пользовались некоторым влиянием в фаб-завкомах, но оно быстро падало. Не увенчались успехом и попытки анархо-синдикалистских элементов подчинить себе эти пролетарские организации. Фабзавкомы пошли за большевиками еще в то время, когда соглашатели господствовали в Советах и других организациях.
На первой конференции фабрично-заводских комитетов Петрограда, состоявшейся 30 мая — 5 июня, обнаружилось, что фабзавкомы уже на три четверти большевистские. Точных данных о составе конференции с точки зрения партийной принадлежности делегатов не имеется, но анализ результатов голосования по основ
ным резолюциям не оставляет в этом сомнения. Так, резолюция о контроле над производством и распределением продуктов, предложенная большевиками, была принята большинством 297 голосов против 21 при 44 воздержавшихся. Кроме того, за резолюцию, близкую к большевистской, предложенную представителем Шлиссельбургского порохового завода, было подано 45 голосов, которые также могут быть причислены к голосам большевистской фракции \ Такое соотношение сил складывалось не во всех фабзавкомах. Большая часть делегатов конференции от заводских комитетов (261 из 499) представляла собой наиболее передовой и революционный отряд пролетариата, а именно металлистов * 2.
Меньшевики, находясь и в меньшинстве, пытались навязать конференции свою реформистскую линию. В выступлениях их видных представителей — министра Скобелева, Авилова, Череванина, Далина проводилась знакомая уже нам мысль, что регулирование и контроль в области промышленности не могут являться задачей рабочего класса, это-де дело всего государства. При этом они, конечно, умалчивали о классовом характере государства. Вместо действенного рабочего контроля предлагался призрачный контроль со стороны государственной власти. Далин заявлял. « р , рабочие должны брать управление производством
‘ См. <<Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. стр. 70.
2 См. там же, стр. 85.
174
себя, это, значит, говорить, что они должны брать в свои руки власть. А я протестую против того, чтобы на таких собраниях, как эта конференция заводских комитетов, поднимались какие-либо политические вопросы» Вот с какой решительностью отстаивали меньшевики аполитичность рабочих организаций.
Выступления против рабочего контроля встретили дружный отпор делегатов. Представители предприятий отмечали, что спор о том, быть или не быть рабочему контролю, беспредметен, контроль на деле уже проводится. Указывалось, что оторванность меньшевиков и эсеров от рабочей массы обрекает на полное бессилие всю их тактику (представитель завода «Новый Пар-виайнен» Наумов)1 2. Выступавшие рабочие связывали задачи фабзавкомов по осуществлению рабочего контроля с перспективой развития революции, говорили о необходимости брать в свои руки управление производством в целом. Внесенные меньшевиками (Авиловым, Череваниным) резолюции о мерах борьбы с экономической разрухой, лейтмотив которых состоял в отрицании рабочего контроля, были отклонены абсолютным большинством голосов.
Об отношении конференции к соглашателям красноречиво свидетельствует и следующий инцидент, происшедший в ходе ее. От имени фракции меньшевиков Далин заявил, что организационное бюро по созыву конференции не поручило ни одного доклада представителям его партии, и предлагал выставить одного докладчика от меньшевиков. Конференция большинством 230 голосов против 128 отклонила это предложение3.
Учитывая свое преобладание в Советах, меньшевики предлагали подчинить Советам фабзавкомы, сделать последние органами Советов и тем самым лишить самостоятельности. Но большевики разгадали этот замысел соглашателей и дали им дружный отпор. Избранный конференцией Центральный совет фабрично-заводских комитетов Петрограда, ставший, по существу, всероссийским центром фабзавкомов, возглавил их деятельность, направленную против капиталистов и соглашателей, в защиту интересов рабочего класса. Это усили-
1 «Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. I, стр. 100,
Там же, стр. 104.
3 См. там же, стр. 99.
175
вало их роль как важных форпостов назревавшей алистической революции.
Такой же боевой, революционный характер, как и Петрограде, фабзавкомы имели и в других пролетай8 ских центрах, например в Иваново-Вознесенске гл рабочие целиком шли за большевиками, в Харькове, р состоявшемся 3 июля заседании заводских комитетов Харькова была принята резолюция в большевистском духе, требовавшая введения рабочего контроля над производством и распределением продуктов. «Проведение в жизнь этой единственно спасительной меры,— го
ворилось в резолюции,— в настоящее время считаем возможным не комиссиями Временного правительства организуемыми на старых бюрократических началах с
людьми, входившими в эти позорно провалившиеся учреждения старого строя, а только действительно революционно-демократическими организациями, возглавляемыми Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» L
Судя по данным печати того времени, в мае — июне в некоторых районах Москвы (Басманном, Замоскворецком, Марьинско-Сущевском)1 2 фабзавкомы также принимали большевистские резолюции о контроле над производством, требовали перехода власти в руки Советов. Газета московских большевиков «Социал-демо
крат» сообщала, что начиная с мая в редакцию поступил ряд резолюций Советов рабочих и солдатских депутатов, районных совещаний заводских комитетов и собраний рабочих о введении контроля над производством, причем большинство из них требует, чтобы контроль был установлен не Временным правительством, а Советами 3.
Однако в целом Москва отставала от Петрограда в организованности и революционной боевитости фабзав-комов. Состоявшаяся в конце июля общегородская конференция фабзавкомов Москвы показала, что в них к тому времени еще значительным влиянием пользовались соглашатели. В резолюции по вопросу об экономическом состоянии промышленности Москвы говорилось
1 «Пролетарий» (Харьков), 5 июля 1917 г.
2 См. «Социал-демократ», 20 и 22 июня (3 и 5 1917 г.
3 См. «Социал-демократ», 20 июня (3 июля) 1917 г.
июля)
176
не о рабочем контроле над производством, а об «опга-низованном вмешательстве революционной демократии», необходимости «немедленного осуществления всех мероприятий, выработанных экономическими отделами Ц. С. Р. и Кр. Деп. >> К стачкам рекомендовалось прибегать только в крайнем случае. По всему этому легко узнаются взгляды меньшевиков. Когда большевики предложили обсудить вопрос о текущем моменте, меньшевики заявили, что это политический вопрос, и фабзавкомы не должны им заниматься. После этого соглашатели ушли с конференции, и указанный вопрос обсуждали только большевики вместе с беспартийными *.
Но, как указывалось, в ряде районов и на многих предприятиях Москвы рабочие под руководством фабзавкомов устанавливали свой контроль над производством, шли за большевистскими лозунгами.
После первой своей конференции петроградские фабзавкомы очень быстро совсем освобождаются ют соглашателей. II конференция фабрично-заводских комитетов Петрограда, его пригородов и ближайшей провинции, проходившая 7—12 августа, т. е. уже в иной политической обстановке, была почти полностью (примерно на90 процентов) большевистской. Это наглядно показывают, например, результаты голосования резолюции по такому животрепещущему вопросу, как текущий момент и рабочий контроль. За эту резолюцию голосовало большинство — 213 человек, против нее — 26, 22 человека воздержались2.
Борьба революционного и соглашательского направлений в рабочем движении, еще более упорная, чем на конференции фабзавкомов, развернулась на III Всероссийской конференции профессиональных союзов (20 28 июня 1917 г.)3. В ее работе, как в зеркале, отразились те острые столкновения между трудом и капиталом, которыми в то время характеризовалась вся политическая и экономическая жизнь страны. Усугублявшаяся хозяйственная разруха и катастрофическое понижение жизненного уровня трудящихся ускоряли нарастание революционной волны. Острота классовых боев обу-
• О Московской городской конференции, открывшейся 23 июля, см. отчеты в газете «Известия Московского Совета рабочих депутатов», 25—29 июля 1917 г.
2 См, «Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. I, стр. -15. 1 Первые две конференции состоялись в 1905 и 1906 гг.
12 Н. рубаи 177
словливалась тем, что (если применить военную терми нологию) бои были встречными: с одной стороны, на' ступательно-революционным методом действовали рабочие, устанавливавшие контроль на производстве и осуществлявшие свои требование явочным путем’ с другой стороны, организованно наступали на рабочих капиталисты. А в это время соглашатели в Советах и комитетах, в министерстве труда составляли анемичные резолюции и законопроекты о государственном регулировании с участием «революционной демократии» без конца твердили один и тот же набивший оскомину тезис — о невозможности социалистической революции в России, используя его в качестве погребального колокола, под звуки которого хоронилось все, что могло бы спасти страну от разрухи и что отвечало интересам рабочего класса.
Ш Всероссийская конференция профсоюзов проходила вскоре после Петроградской конференции фабзав-комов, но соотношение политических сил на ней было иное. Правда, большевиков было намного больше, чем представителей каждой из других партий в отдельности, а именно: из общего числа 211 делегатов (с решающим голосом) большевиков насчитывалось 73, меньшевиков — 36, эсеров — 25. Кроме того, были представлены меньшевики-интернационалисты (мартовцы), группа внефракционных социал-демократов, бундовцы и другие. На конференции образовались две группы: одну из них (группу интернационалистов) составили большевики, часть внефракционных социал-демократов (ново-жизненцев), межрайонцы, эсеры, интернационалисты (всего 83—85 человек); другую — меньшевики всех направлений, бундовцы, эсеры и другие (т. е. больше половины состава делегатов). Фактически же по ряду вопросов против большевиков выступали и внефракционные социал-демократы *.
1 О партийном составе конференции см.: «.Правда». 15 (2) июля 1917 г., статья «К итогам конференции профсоюзов »; Д. Панкратова. Фабзавкомы и профсоюзы в революции 1917 г., стр. 54. Поведение группы меньшевиков-интернационалистов во главе с Петровым, голосовавшей вместе с меньшевистской фракцией против большевиков, было подвергнуто критике на страницах «Правды» в статье «Тоже — «интернационалисты» (см-«Правда», 12 июля (29 июня) 1917 г.).
178
Соотношение партийных сил на конференции не давало точного представления о действительном положении дел на местах. Выборы на конференцию проводились не по пропорциональной системе. Как крупные, так и мелкие союзы и их объединения посылали одинаковое количество делегатов. Так, например, Киевское центральное бюро союзов, объединявшее 70 тысяч рабочих, и Тульское, с 25 тысячами членов союза, посылали по 2 делегата, а такие крупнейшие профсоюзные организации, как питерская (250 тысяч) и московская (150 тысяч), посылали по 5 человек. Следовательно, крупные союзы ставились в неравноправное положение с мелкими. Слабо был представлен крупнейший, богатый революционными традициями союз металлистов. Всего на конференции было представлено 1400 тысяч членов L Эта цифра показывает, что за каких-нибудь три месяца профсоюзное движение получило широкий размах, превратилось в важный фактор в революции. Профсоюзы становились ареной упорной и непримиримой борьбы за массы.
Преобладание соглашателей на III Всероссийской конференции профсоюзов выразилось, между прочим, и в том, что докладчиками по важнейшим пунктам повестки дня — задачи профессиональных союзов, руководство экономической борьбой, организационные вопросы профсоюзного движения и другие — выступали меньшевики. Располагая хотя и небольшим численным перевесом, соглашатели навязывали конференции свои реформистские резолюции, проникнутые духом классового примирения с буржуазией.
Одним из основных вопросов, по которым на конференции развертывалась острая борьба между большевиками и меньшевиками, являлся вопрос об исторической роли и характере профсоюзов, их взаимоотношении с политической партией пролетариата. Меньшевики ратовали за нейтральность профсоюзов, их полную самостоятельность. Отстаивая нейтральность профсоюзов, они прикрывали это демагогией, выступали якобы с
1 О представительстве на конференции см. «Правда», 15 (2) июля 1917 г., статья «К итогам конференции профсоюзов; «Третья Всероссийская конференция профессиональных союзов». М., 1927, стр. 22.
179
позиций борьбы за единство профдвижения. Однако Поя единством они понимали полное устранение профСо°ч зов от борьбы между революционным и оппортунист ческим течениями в рабочем движении, между ИНт национализмом и оборончеством. ,
Подлинными поборниками единства профдвижения были большевики. Не собираясь раскалывать проф-союзы по мотивам партийной принадлежности их членов, большевики в то же время стремились идейно сплотить рабочих под революционным знаменем, и в этом именно состояло настоящее, а не формальное единство. Меньшевики же под флагом единства пытались увести рабочих от политических задач и революционных методов борьбы, толкнуть их на путь тред-юнионизма ’.
Линия на политическую нейтральность профсоюзов совершенно определенно проявилась и в предложении меньшевиков о создании международного объединения профсоюзов без учета их политической направленности, их отношения к войне. Внесенную большевиками поправку с призывом к профсоюзам России немедленно вступить в сношения со всеми профсоюзами, ведущими войну против войны, соглашательское большинство конференции отклонило.
В докладе Гриневича о задачах профсоюзов прямо высказывалась мысль, что удел профсоюзов — экономическая борьба, а партии — политическая. При определении задач профсоюзов, говорил докладчик, надо исходить из того, что у нас, как и в Западной Европе,— капитализм. И сделал вывод, что профсоюзы должны
В ходе конференции образовалась так называемая «группа сторонников единства профессионального движения», в которую н^игИо-Л?1ЬШеВИКИ; э^еры’ бундовцы, меньшевики-интернацио-’трниом (маРтовЦы). Группа обратилась к конференции с заяв-пг г.гЕлгЛ В КОТОРОМ говорилось: «Верные традициям российского таю?еСГН1ЛЬН0Г° дви^ения’ инициаторы этой группы счи-союзоп пт 1нтересы рабочего движения требуют ограждения га'-тр"мпя<?РаКЦИОННОИ борьбы, которая в настоящее время этим'фпакпияР^аНИЗ°ВаННую часть Рабочего класса». В связи с в котором выпажппУяационалистов 22 июня подала заявление» го.м единствам П^СЯ протест против попыток прикрытия фла-стоят на почвп дчеРкивалось, что «все интернационалисты движения» («Правл?»СТ?а последовательно-классового рабочего правда», 7 июля (24 июня) 1917 г.).
180
ограничить свою деятельность борьбой за улучшение условий существования рабочих. Признав стачку основным средством классовой борьбы пролетариата, он вместе с тем высказался против «упражнения рабочего класса в стачке» советовал прибегать прежде всего к посредничеству примирительных камер и третейских судов. Ссылаясь на тяжелое состояние промышленности, меньшевики призывали рабочих отказаться от экономического наступления на капиталистов1 2.
Одним из центральных на конференции профсоюзов был вопрос о контроле над производством и распределением продуктов. Меньшевики изобретали все новые аргументы против рабочего контроля; они уверяли, что для русского пролетариата, составляющего меньшинство в стране, это непосильная задача. Контроль, говорили они,— задача общенациональная и общегосударственная, осуществлять которую должны все классы, в том числе буржуазия.
По вопросу о контроле над производством и распределением и организации производства в России были предложены две резолюции: докладчиком большевиком Милютиным и содокладчиком меньшевиком Чере-ваниным. Незначительным большинством (70 против 65) конференция приняла меньшевистскую резолюцию. Наряду с известными уже нам стандартными формулами о государственном контроле и регулировании в ней содержался специальный пункт, имевший назначение парализовать волю рабочего класса к борьбе с капиталом. В нем говорилось, что «до проведения системы мер по регулированию экономической жизни страны не может быть речи об улучшении положения рабочего класса, более того, быстрое и прогрессирующее ухудшение положения рабочих делается неизбежным» 3.
Острые споры вызвал вопрос о взаимоотношении фабзавкомов и профсоюзов. Меньшевики стояли на той
1 «Третья Всероссийская конференция профессиональных союзов», стр. 78.
2 «Такое наступление сейчас было бы нежелательным и невозможным,— говорил другой докладчик, меньшевик Кольцов,— оно привело бы к полному поражению рабочего класса, а в связи с этим, и к поражению самой революции» (там же, стр. 242).
8 «Третья Всероссийская конференция профессиональных союзов», стр. 451.
181
точке зрения, что задачей профсоюзов является участи в центральных и местных государственных органа» «планомерного» регулирования производства и кон троля над ним. Фабрично-заводские комитеты они рас" сматривали как опорные пункты профсоюзов на пред" приятиях, проводники их политики. Таким образом шла речь о подчинении фабзавкомов профсоюзам о замене рабочего контроля участием в бюрократическом контроле.
Докладчик большевик Глебов-Авилов, к сожалению, сам занял ошибочную позицию, предложив рассматривать фабзавкомы в качестве основной ячейки профсоюзов. Как отмечалось, в конкретно-исторической обстановке того времени, при сложившемся соотношении классовых сил подобная точка зрения была неверна потому, что влекла за собой растворение фабзавкомов — боевых революционных организаций рабочего класса — в профсоюзах, подверженных еще влиянию соглашателей. Большевистскую точку зрения выразил Н. А. Скрыпник. Он заявил, что надо идти к объединению профсоюзов с фабзавкомами, а не к подчинению одной организации другой.
Меньшевики и по этому вопросу навязали конференции свою волю.
Таким образом, на III Всероссийской конференции профсоюзов ясно обнаружились две линии в профессиональном движении: революционная и реформистская. Большевики видели в профсоюзах могучие массовые организации трудящихся, прочную опору партии в ее руководстве классовыми сражениями пролетариата. Большевистская партия считала, что профсоюзы должны связывать воедино экономические и политике-ские задачи. о ,
Меньшевики вели линию на нейтрализацию проф-союзов, пытались отгородить их от политики, следовательно от революционных задач. Не отрицая, что профсоюзы призваны отстаивать экономические треоования рабочих (этого невозможно было отрицать), меньшевики однако, настаивали, чтобы требования эти были «умеренные», методы борьбы-не слишком революционные. Рабочим внушали, что они бороться не против капиталистического строя, а в рам ках этого строя как единственно возможного в Poccui.
182
Это меньшевики и называли ортодоксальным марксизмом, а все, что шло дальше, левее, именовалось анархизмом.
Конференция показала, что в конце июня в профсоюзах еще преобладал соглашательский блок, но это преобладание уже было мизерное, неустойчивое.
Являясь и по существу, и формально правящими, соглашательские партии фактически ничего не предприняли для разрешения рабочего вопроса. Более того, они делали множество попыток парализовать борьбу рабочего класса за свои жизненные интересы. Все, чего добились в то время рабочие, было добыто их собственными руками, явочным, захватным, «незаконным» порядком, вопреки соглашателям. Преодолевая бешеное сопротивление буржуазии, им удалось сломить отдельные ее отряды. В целом же буржуазия как класс до самого Октября не шла на уступки, не решила в законодательном порядке ни одного из наиболее острых и насущных для пролетариата вопросов. Нет никакого сомнения, что буржуазия смогла устоять и организованно наступать на рабочий класс только благодаря поддержке соглашателей, которые использовали для этого все: и авторитет Советов, и свое, хотя и непрочное, влияние в профсоюзах, и власть коалиционного правительства.
Еще меньше сделали соглашательские партии, в том числе меньшевики, для разрешения аграрного вопроса. Между тем это был один из коренных вопросов Февральской буржуазно-де-революции. Ее задача состояла в том,
Аграрная программа и аграрная политика меньшевиков
мократической
чтобы покончить с пережитками крепостничества, сковывавшими экономическое развитие страны, и осуществить вековую мечту многомиллионной массы российского крестьянства о земле. Крестьянство не могло больше ждать; его нельзя было заставить ждать ни штыком, ни уговорами.
Однако Временное правительство направило свои усилия на уговоры. Оно стремилось заставить крестьян ждать Учредительное собрание, которое-де осуществит долгожданную земельную реформу. Но, когда и в каком виде она будет проведена, этого крестьянам не могли и не пытались объяснить ни буржуазия, ни соглаша-
183
тели. Об удовлетворении неотложных нужд крестьянства не было сказано ни слова ни в декларации правительства от 3 марта, ни в его обращении к населению 6 марта. Только 19 марта было принято постановление по земельному вопросу, в котором крестьянству разъяснялось, что земля — «заветная мечта многих поколений всего земледельческого населения страны», но... «земельный вопрос не может быть проведен в жизнь путем какого-либо захвата. Насилие и грабежи — самое дурное и самое опасное средство в области экономических отношений» ‘. Далее указывалось, что для принятия закона о земле нужна большая подготовительная работа, и правительство постановило такую работу вести. Так, Временное правительство обнадежило и «осчастливило» крестьян. Ничего определенного не было сказано о разрешении земельного вопроса и в декларации коалиционного правительства, в состав которого вошли социалисты. Дальше все той же пустой ссылки на Учредительное собрание оно не двинулось ни на шаг. Да и не могло Временное правительство удовлетворить требования крестьянства. Для этого нужно было бы пойти не только против помещиков, но и против буржуазии, теснейшим образом связанной с помещичьим хозяйством. Нельзя было бороться против помещиков, не нанося одновременно ударов по буржуазии. К тому же правительство представляло интересы не только буржуазии, но и помещиков, в первую очередь обуржуазившихся. В самом его составе были либо люди, связанные с помещиками, либо сами помещики (князь Львов, Терещенко).
Волна аграрного движения начиная с марта поднималась с невероятной силой. Если в марте им было охвачено 34 уезда, то в апреле — уже 174, в мае — 326, в июне — 280, в июле — 325 уездов 1 2. Понятно, что на характере аграрного движения не могло не отразиться бессознательно-доверчивое отношение крестьянства к Временному правительству и соглашателям. В первое время в этом движении преобладали не захватные формы, а мирное выживание помещиков из их усадеб
1 «Революционное движение в России после свержения самодержавия», док. № 345, стр. 439.
2 См. «Крестьянское движение в 1917 году». М.—Л., 1927, стр. III.
184
путем дезорганизации помещичьего хозяйства, прекращения уплаты арендных платежей, отказа в рабочей силе и т. п. Но из месяца в месяц увеличивалось число прямых захватов.
Революционная обстановка в стране и наличие Советов не позволили Временному правительству применить в массовом порядке метод подавления по отношению к революционному крестьянству. Временное правительство вынуждено было лавировать, хотя в ряде случаев, при молчаливом согласии меньшевиков и эсеров, на места посылались карательные отряды. Однако потушить пожар аграрного движения не удавалось никакими средствами. Усиливалась борьба и против кулачества.
Это означало, что имелись налицо условия для союза рабочего класса и беднейшего крестьянства — решающего условия победы социалистической революции, для завоевания основной массы крестьянства на сторону революции. Конечно, крестьянство, за исключением его полупролетарских и пролетарских слоев, еще не стремилось к социализму, но оно начинало понимать, что только вместе с пролетариатом сможет завладеть землей. Сама обстановка все больше толкала крестьян к тому, чтобы идти в бой за землю вместе с пролетариатом, под его руководством.
Проводя курс на социалистическую революцию, большевистская партия настойчиво и последовательно боролась за отрыв крестьянства, т. е. большинства народа, от буржуазии. Аграрная программа большевиков отвечала коренным интересам крестьянства, его вековым чаяниям, указывала единственно верный путь освобождения деревни от темноты, нищеты и бесправия. Она была рассчитана на очищение аграрных отношений от средневекового хлама, на развитие производительных сил деревни и, в дальнейшем, на перестройку сельского хозяйства на социалистических началах. Большевистская аграрная программа создавала условия для прочного союза пролетариата и крестьянства, исходила из перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую.
Совершенно иной характер имела меньшевистская аграрная программа. Меньшевики не считали крестьянство революционной силой, оно целиком выпадало из
185
их стратегической схемы (буржуазия — гегемон, проЛр тариат — ее помощник). Свою аграрную программ" меньшевики подчиняли только задаче свободного ра^ вития капитализма в России, которое, согласно их кон' цепции, должно было занять целую историческую полосу после победы буржуазно-демократической рево" люции. Но она не могла привести к радикальному шению даже этой задачи, так как не предусматривала возможно более глубокого демократического переворота путем развертывания крестьянского движения. Тем более она не исходила из перспективы перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую.
Меньшевики пришли к Февральской революции с программой, принятой на IV (Объединительном) съезде РСДРП, и продолжали придерживаться ее после свержения самодержавия. Она рассматривалась на их августовском (1917 г.) съезде, но существенных изменений не претерпела. Да и не было оснований для таких изменений: взгляды меньшевиков оставались прежними.
Каковы же были основные положения аграрной программы меньшевиков? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к IV (Объединительному) съезду партии. В докладе меньшевистского аграрника П. П. Маслова на этом съезде, а также в предложенной им и принятой съездом резолюции (как известно, на съезде в силу ряда причин преобладали меньшевики) в основу аграрной программы были положены следующие основные принципы: передача частновладельческих земель (крупное землевладение) самоуправляющимся крупным областным организациям (муниципалитетам); минимальный размер подлежащих отчуждению земель должен был определяться областным народным представительством; церковные, монастырские и удельные земли подлежали конфискации с передачей их во владение государства; надельные крестьянские и мелкие частновладельческие земли оставались неприкосновенными ’.
Следовательно, меньшевистская аграрная программа включала: а) частичную национализацию земли; б) пе-
1 См. «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП». Протоколы. М., 1959, стр. 55—58, 522.
186
редачу отчужденных помещичьих земель муниципалитетам. которые в свою очередь выделяли бы ее крестьянам в аренду; в) сохранение частной собственности на надельные крестьянские земли. Следует заметить, что меньшевики всегда избегали слова «конфискация», употребляя вместо него «отчуждение». Вопрос о компенсации за отчх ждаемые земли они оставляли открытым.
Против идеи национализации всех земель, составлявшей основную сущность большевистского проекта аграрной программы, меньшевики яростно воевали. Их главные возражения состояли в том, что крестьяне не согласились бы с национализацией надельных и конфискованных помещичьих земель. Они угрожали Вандеей, всеобщим восстанием крестьянства против вмешательства государства в распоряжение крестьянскими и надельными землями. Отвергая большевистский проект национализации, меньшевики указывали и на то, что он исходит из утопичной, по их мнению, перспективы завоевания власти пролетариатом и крестьянством. Плеханов так и говорил на IV съезде: «Проект Ленина тесно связан с утопией захвата власти революционерами, и вот почему против него должны высказаться те из вас, которые не имеют вкуса к этой утопии» !.
Основной порок меньшевистской программы муниципализации в том и состоял, что она была заведомо приспособлена к незавершенной демократической революции, не предусматривала ее перерастание в социалистическую. Это была реформистская программа, рассчитанная на сделку с помещиками, с реакционной центральной властью. Именно поэтому ее авторы выступали против положения большевистской программы об учреждении крестьянских комитетов, призванных революционным путем разрешить вековой спор крестьян с помещиками и чиновниками.
Ленин подверг резкой критике масловскую программу муниципализации. Он доказал, что не может быть более или менее радикальной аграрной революции без доведенной до конца политической революции. «Аграрная революция,— говорил Ленин,— есть пустая фраза, если ее победа не предполагает завоевания вла-
1 «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП». Протоколы, стр. 60—61.
187
СТИ революционным народом» . С другой стороны, По, Гый демократический переворот не ограничился бы £ ниципализацией, он потребовал бы более глубок аграрных преобразовании: конфискации помещ^? земли и национализации всех земель в стране. Только полным непониманием психологии крестьянства, отрЬ1. вом от него можно объяснить тот факт, что меньщо. вистские интеллигенты предрекали крестьянский бунт против национализации, в защиту частной собственности. Ленин говорил, что идея национализации давно уже зреет в крестьянских массах, и вся последующа история революции в России полностью подтвердила ленинские слова2. Большевики заявляли, что будут добиваться национализации при определенных условиях — при решительной победе демократической революции, которая «обеспечит полностью самодержавие народа»3.
Ленин отмечал, что аграрная программа пролетарской партии должна способствовать развитию революции. Она обязана призывать революционное крестьянство к решительному натиску на помещичье землевладение; указать дальнейший шаг, который должно сделать движение для закрепления крестьянских завоеваний и для перехода от демократической к социалистической революции; определить классовые, пролетарские задачи партии, «которые тем настойчивее требуют ясной постановки их, чем ближе победа крестьянского восстания».
Ни одну из этих целей меньшевики не ставили и не могли ставить в своей программе ввиду оппортунистического понимания ими революции, нигилистического отношения к крестьянству как революционной силе.
Казалось бы, после Февральской революции меньшевики, став одной из правительственных партий,
2 МотИ‘ Ленин- Полн- собР- соч., т. 12, стр. 366.
wn.^T Ционализации земли требовал, например, выдвину в 1 и IV Думах «Проект 104». Об этом свидетел
242 мпиа акже пРимерный наказ, составленный на ocHOB^l_ ский съезп ’ Д°пс1авленных с мест депутатами на I Все₽°с* в 1917 г Советов крестьянских депутатов в Петроград депутатов» «Известия Всероссийского Совета крестьян д °з п 5 п19 авгУста 1917 г.).
• • Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 269.
188
должны были по крайней мере попытаться осуществить свою программу муниципализации, провести в жизнь то, что с таким упорством отстаивали в теории. К немедленному решению аграрного вопроса их обязывало и развертывавшееся широким фронтом крестьянское движение, которое не могла игнорировать действительно революционная партия. Но меньшевики не являлись такой партией. Они отказались датке от своей реформистской программы, не проявив малейшего интереса к крестьянским нуждам. Правда, резолюции принимались и по аграрному вопросу, но к практическому осуществлению его они не подводили.
В резолюции меньшевистской конференции (май 1917 г.) по докладу того же Маслова заявлялось, что она остается на почве старой программы до пересмотра ее будущим съездом. Однако о практических шагах не говорилось ни слова. Меньшевики усиленно подчеркивали не то, что должно делать крестьянство для осуществления своих вековых чаяний, а то, чего оно не должно делать. Конференция призывала меньшевистские организации убеждать крестьян в невозможности провести земельную реформу без Учредительного собрания, «энергично бороться против анархических захватов земли и всяких других способов самочинного разрешения вопроса» L
Меньшевистским организациям рекомендовалось содействовать образованию губернских и уездных земельных комитетов. Последние учреждались постановлением Временного правительства от 21 апреля 1917 г.1 2
1 «Всероссийская конференция меньшевистских и объединенных организаций РСДРП», стр. 50—51.
2 Указанным постановлением Временного правительства учреждался Главный земельный комитет, который должен был опираться на местные губернские, уездные и волостные земельные комитеты. Постановлением Временного правительства на них возлагалось «собирание сведений о местных земельных порядках и земельных нуждах населения и в течение переходного времени, до проведения земельной реформы в Учредительном собрании, решение споров и недоразумений по земельным делам». Временное правительство ставило перед земельными комитетами задачу отвлечь крестьянские массы от революционной борьбы за землю и сохранить помещичье землевладение. Не случайно постановление было насыщено патетическими призывами к крестьянам «не трогать помещиков». «Большая беда грозит нашей родине,—устрашало это постановление,—если на-
189
Это постановление (автор его — кадет министр Шин рев) было, разумеется, рассчитано на охрану интерес3 * *' помещиков, а не крестьян. Правда, в резолюции Мен°в шевистской конференции перед земельными коми/' тами ставилась задача принудительного регулирован6' арендных отношений и отношений найма в пользу К/Я стьян, но крестьянам нужна была земля, а не «регул ' рование» отношений. Земля же оставалась в руках п мещиков, и конференция исходила из этого факта. Вопрос о переходе ее к крестьянам в какой-либо форме не ставился. Комитетам, к созданию которых призывались меньшевики, предстояло выступать не как революционным организациям, возглавляющим борьбу крестьян за землю, а как бюрократическим учреждениям, призванным тушить пламя аграрной войны.
Однако вопреки Временному правительству и тормозящей деятельности народнических вождей, сохранявших еще значительное влияние в деревне, многие местные крестьянские комитеты отстаивали интересы крестьянства. Они побуждали крестьян к выступлениям, отбирали у помещиков землю, инвентарь. VII (Апрельская) Всероссийская конференция большевиков в своей резолюции по аграрному вопросу записала, что партия «должна поддержать почин тех крестьянских комитетов, которые в ряде местностей России передают помещичий, живой и мертвый, инвентарь в руки организованного в эти комитеты крестьянства для общественно-регулированного использования по обработке всех земель» ’.
Меньшевистская конференция не сделала малейшего шага к практическому решению аграрного вопроса хотя бы в рамках реформистской программы меньшевиков. В ее резолюции не содержалось ни одного пункта, который отвечал бы требованиям крестьянских масс. В то же время в ней явно проявилась тенденция оградить помещичье землевладение от «посягательств» крестьянства. Правда, о возможном отчуждении поме-
селение на местах, не дожидаясь решения ^ГчРеди„тельн^^,5?ь-рания, само возьмется за немедленное переустройство * ле ного строя» («Революционное движение в России в и
1917 г.», док. № 263, стр. 316—317). пиЯ
1 «Седьмая (Апрельская) Всероссийская конфере
РСДРП (б)». Протоколы, стр. 247.
190
щичьих земель говорилось, но лишь в теоретическом плане. В условиях разгоравшейся крестьянской войны конференция не решилась открыто выступить с требованием компенсации помещикам за отчуждаемые земли. Но меньшевики неоднократно вопрос этот ставили. В частности, на совещании при ОК меньшевистской партии в связи с выработкой избирательной платформы по выборам в Учредительное собрание ряд его участников (Колокольников, Кипен и другие) высказались против безвозмездной конфискации на том основании, что она подорвет банки и нанесет удар многочисленным держателям бумаг. Для избирательной платформы такой пункт был бы невыгоден, и его отклонили, правда незначительным большинством (12 против 7) *.
Предложение о вознаграждении помещикам выдвигалось и на так называемом Объединительном съезде меньшевиков (в августе 1917 г.) при обсуждении аграрной программы. И на этот раз принять его официально меньшевики не решились, хотя такая точка зрения имела немало сторонников. Вообще, как уже отмечалось, меньшевистская программа, которую они собрались обсудить только через полгода после революции, оставалась почти неизменной вплоть до Октября, так же как политика меньшевиков в крестьянском вопросе.
Несмотря на наличие в меньшевистской партии всякого рода течений, аграрный вопрос не вызывал у них существенных разногласий. Особенно единодушными оказались они в борьбе против большевистской программы национализации всей земли, видя в ней социалистическую меру. На их Объединительном съезде Маслов говорил: «У нас на очереди не социализм, а капитализм. Когда революция кончится, у власти станут не социалисты, а может быть даже и не демократы. Поэтому сохраняют свою силу аргументы, приведенные против национализации на Стокгольмском съезде»1 2
Таким образом, меньшевики совершенно ничего не сделали для удовлетворения требований крестьянства. Более того, они всячески препятствовали самостоятельному решению крестьянами вопроса о земле, удержи
1 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. И, л. 10—11.
2 «Постановления Объединительного съезда РСДРП (18— 26 августа 1917 г.)». Рязань, 1917, стр. 19.
191
вали их от самочинных захватов помещичьих земель Меньшевистская печать в том же тоне, что и кадетска»' вела против большевиков злобную кампанию, обвинЛ их в организации крестьянского движения за захват помещичьих земель, именуя это движение не иначе как «беспорядками» и «анархией». Знаменательно что меньшевистско-эсеровском блоке никаких споров по крестьянскому вопросу не возникало, хотя аграрные программы этих двух партий существенно различались.
Сама жизнь превратила программу меньшевистской партии в пустую бумажку. Ее даже не пытались осуществить, хотя она ничем не угрожала капиталистическому строю.
Большевики были единственной партией, которая давала крестьянству аграрную программу, вполне реальную и отвечающую его жизненным интересам, давала программу революционного действия, а не свод теоретических рассуждений и пожеланий на неопределенное будущее. В резолюции Апрельской конференции большевиков со всей ясностью было сказано, что партия пролетариата требует национализации всех земель в государстве, что она стоит за немедленную и полную конфискацию помещичьих (а также удельных, церковных, кабинетских и прочих) земель в России, за переход их в руки крестьянства, организованного в Советы крестьянских депутатов или в другие демократически выбранные, независимые от помещиков органы местного самоуправления. В отличие от эсеров и меньшевиков, большевистская партия советовала крестьянам отбирать у помещиков землю, не ожидая Учредительного собрания, причем проводить^ это «организованно, отнюдь не допуская ни малейшей порчи имущества и заботясь об увеличении производства» . (Все же буржуазия и соглашательские вожди, делая вид, что им неизвестно это место большевистской резолюции, кри-чали на всеХ перекрестках о том, что большевики якобы
” р„р””Т« ”«
• «Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (б)». Протоколы, стр. 247.
192
низании сельскохозяйственною пролетариата — кик в виде Советов депутатов от сельскохозяйственных рабочих, так и в виде организации пролетарских групп ити фракций в общих Советах крестьянских депутатов, в органах местного и городского самоуправления. Такого пункта не могли, конечно, выдвинуть ни эсеры, ни меньшевики, выступавшие против социалистической революции. На протяжении всего периода от Февраля до Октября местные Советы крестьянских и батрацких депутатов даже не упоминаются в меньшевистских документах.
Требования аграрной программы большевиков способствовали изоляции мелкобуржуазных партий, завоеванию крестьянских масс на сторону пролетариата, в конечном счете—^юбеде социалистической революции.
Национальная политика меньшевиков
Большую остроту после Февральской революции приобрел и национальный вопрос. В силу ярко выраженного аграрного характера большинства национальных районов России он был неразрывно связан с аграрным вопросом, т. е. в конечном счете с вопросом о союзниках пролетариата. Поэтому отношение политических партий к разрешению национальной проблемы находилось в полном соответствии с их взглядами на революцию и с основными стратегическими установками.
В период между Февралем и Октябрем с особой силой столкнулись две противоположные линии в национальном вопросе: пролетарско-интернационалистская линия большевиков и великодержавно-шовинистическая линия буржуазных партий. Что касается соглашательских партий, то, несмотря на все колебания и оттенки мнений в их среде, они и в этом вопросе объективно являлись проводниками буржуазной политики.
Борясь против национального, как и всех других видов гнета, большевики пропагандировали и отстаивали лозунг права наций на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. При этом они подчеркивали, что право на свободное отделение непозволительно смешивать с вопросом о целесообразности отделения, который должен решаться в каждом отдельном случае самостоятельно с точки зрения интересов всего общественного развития и интере
13 Н. Рубан 193
сов классовой борьбы пролетариата. Большевистская партия разъясняла массам, что только социалистическая революция может полностью разрешить как социальные, так и национальные требования; она учила пролетариат подчинять интересы национального освобождения задачам классовой борьбы пролетариата, призывала все его национальные отряды сплачиваться в единую армию борцов за свержение власти капиталистов и помещиков.
Разгоревшееся после Февраля национально-освободительное движение носило сложный и противоречивый характер. В нем все более отчетливо выделялись две струи: буржуазно-националистическая и пролетарская, интернационалистская. Национальная буржуазия спешила использовать в своих целях освободительную борьбу трудящихся, направить ее в националистическое русло. Тем самым она рассчитывала укрепить свое экономическое и политическое положение, разъединить пролетариат по национальному признаку и отвлечь его от задач классовой борьбы. В силу недостаточной сознательности масс националистической буржуазии в первое время удавалось повести за собой часть населения, прежде всего его мелкобуржуазные слои.
В то же время национальная буржуазия не хотела ссориться с буржуазией великорусской. Ее требования носили весьма ограниченный характер. Однако Временное правительство, проводившее великодержавную политику, не желало их удовлетворить, откладывая решение национального вопроса до Учредительного собрания.
Каковы же были национальная программа и политика меньшевиков? Какой-либо оформленной платформы, самостоятельной линии в национальном вопросе они не имели. Меньшевистское руководство послушно проводило в жизнь политику Временного правительства и в то же время, не желая противопоставлять себя массам, стремилось избегать открытых выступлений в духе великодержавного шовинизма. Каждый раз, когда меньшевистская партия оказывалась перед необходимостью определить свою позицию в национальном вопросе, она попадала в тупик.
Первое время ни в меньшевистской печати, ни в других документах партии вопросы национальной
194
политики не ставились. Попытку выработать платформу по национальному вопросу предприняла только майская конференция меньшевиков. Однако подготовленный специальной секцией проект резолюции так и не обсудили, объяснив это недостатком времени. Дело, конечно не во времени. Сам ОК в своем сообщении о конференции вынужден был признать, что последняя оказалась не в состоянии принять какое-либо решение по национальному вопросу. Ссылаясь на трудности, с которыми встретилась при этом конференция, ОК отмечал, что «9-й пункт партийной программы — нация имеет право на самоопределение — слишком формален, чтобы на основе него делать конкретные построения» '. Следовательно, программное требование права наций на самоопределение меньшевики выбросили за борт. Не случайно оно не упоминалось в указанном проекте резолюции, а национально-освободительное движение именовалось сепаратизмом. Характерно и другое признание ОК — фактически меньшевистская партия никогда национальным вопросом не занималась и не была подготовлена к его решению. «Факт таков, что ни на предыдущих съездах и конференциях партии, ни в партийной литературе и прессе национальный вопрос почти совершенно не разработался» 1 2.
Меньшевистская партия и в дальнейшем не торопилась определить свою линию в этом вопросе. Судя по сохранившимся документам, меньшевистское руководство возвратилось к нему лишь в середине июля в связи с обсуждением в ОК избирательной платформы (на выборах в Учредительное собрание). На совещании в ОК обнаружилась полная разноголосица. Большинство высказалось за культурно-национальную автономию (Ли-бер, Горев, Абрамович, Батурский). «Признавая культурно-национальную автономию,— говорил Абрамович,— мы в то же время должны категорически высказаться против политической автономии отдельных национальностей в одном государстве». Панин заявил, что «самоопределение не может и не должно выразиться в отделении или выделении данной самоопределяющей-
1 «Всероссийская конференция меньшевистских и о ^единенных организаций РСДРП», стр. 19.
2 Там же, стр. 197.
105
ся национальности из государства национальностей » состав которого она входит». Батурский выступил ппп тив принципа федеративного устройства, за областное самоуправление, с признанием права меньшинств на культурно-национальную автономию.
Совещание так и не выработало общих для партии принципов национальной программы. Было решено декларировать лишь общие принципы: «Внести в платформу в той или иной форме отрицательное отношение к отделению; указать отрицательное отношение к насильственному удержанию; указать на необходимость отстаивания унитарной республики; решение вопроса о культурно-национальной автономии отложить до обсуждения его в ОК» 1.
Таким образом, были приняты противоречивые, ни к чему не обязывающие предложения. В проекте платформы по национальному вопросу, опубликованном только 29 июля, объявлялось о намерении меньшевиков добиваться областного самоуправления «вплоть до автономии». Особо подчеркивалось стремление отстаивать «целостность, неделимость, единство» России (что-то вроде реставрации монархического лозунга «единая и неделимая»). Выдвигался принцип культурно-национальной автономии 1 2.
В таком именно духе была принята резолюция и на объединительном съезде меньшевиков в августе; в ней провозглашались общие принципы. Окончательное решение национального вопроса откладывалось до Учредительного собрания.
Как же решался национальный вопрос эсеро-меньшевистским руководством Советов? И здесь преобладало настроение равнодушия к столь острой политической проблеме, проявилась неспособность эсеро-меньшевистского блока наметить верный путь к ее решению. Национальный вопрос вообще не был включен в повестку дня и не обсуждался Всероссийским совещанием Советов, которое имело своей целью определить отношение «революционной демократии» к основным задачам выдвинутым революцией. Исполком Петроградского Совета 1 июня принял тезисы по национальному
1 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 11,^л. 6, 7, 8.
2 См. «Рабочая газета», 29 июля 1917 г.
196
вопросу (по-видимому, в связи с предстоявшим съездом Советов). Продолжая доказывать, что в целом он может быть решен только Учредительным собранием, исполком сделал главное ударение на тезисе о нецелесообразности его решения явочным порядком *.
На I съезде Советов основным докладчиком по национальному вопросу был бундовец Либер. Выработанная секцией под его руководством резолюция имела в своей основе принцип культурно-национальной автономии. «Для обеспечения прав национальностей свободной России,—говорилось в резолюции,— революционная демократия будет добиваться в Учредительном собрании широкой политической автономии для областей, отличающихся этнографическими или социально-экономическими особенностями, с обеспечением прав национальных основными законами путем создания предварительных органов местного и общегосударственного характера» * 2.
На съезде, перед лицом широкой общественности, меньшевики нашли неудобным умолчать о требовании права наций на самоопределение. В представленной Ли-бером резолюции Временному правительству предлагалось декларировать это требование, но реального значения это предложение не имело, так как решение вопроса в целом откладывалось до Учредительного собрания. Что же касается практических мер на ближайшее время, то они были мизерны и ни в какой мере не могли удовлетворить народы России: Временному правительству предлагалось издать декрет о равноправии языков и образовать при правительстве совет по национальным делам.
Меньшевистская резолюция была поддержана эсерами и принята съездом. Подчеркивая, что основное в ней — требование культурно-национальной автономии, меньшевик Абрамович пытался доказать, что она отражает точку зрения пролетариата. «В этой формуле— говорил он,— строится та идея культурно-национальной
’ См. «Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов» Протоколы заседаний, стр. 177 —178.
2 -Первый Всероссийский съезд С оветов и ии/
ских депутатов». Стенографический oiuer, т. . . * »
стр. 168.
197
автономии, которая является, с нашей точки зрения, единственно пролетарской, в осуществлении которой заинтересован главным образом пролетариат^ .
Большевики противопоставили меньшевистской свою резолюцию1 2. Выступившая с ее обоснованием А. М. Коллонтай резко критиковала позицию соглашателей. Разоблачая демагогическую игру с лозунгом права наций на самоопределение, она отмечала, что это право пролетариат завоевывает в острой и непримиримой борьбе против империализма, а меньшевистская резолюция уводит от нее. Коллонтай с большевистских позиций доказывала порочность идеи культурно-национальной автономии, ведущей не к объединению, а к разъединению пролетариата.
Если в резолюциях меньшевики могли как-то уходить от острых вопросов национальной политики, то на практике на каждом шагу разоблачали себя как проводников политики буржуазии. Это наглядно проявилось в острых конфликтах между Временным правительством, с одной стороны, и Украинской центральной радой и финляндским сеймом, с другой.
Как отмечалось, буржуазия национальных районов России выдавала себя за представителей интересов всей нации. Она хотела собрать трудящихся под своим националистическим знаменем, разрушить их интернациональные связи и симпатии. Пролетарские и полупролетарские массы всех народов страны все более сплачивались в общей классовой борьбе против эксплуататоров. Однако нельзя было не считаться с тем, что часть трудящихся еще испытывала на себе сильное влияние национальной буржуазии. Когда Временное правительство отказывало украинской, финской или мусульманской буржуазии в удовлетворении ее национальных требований, это только усиливало ее националистические позиции и мешало пролетариату в его борьбе за отрыв трудящихся от буржуазии.
Поэтому большевистская партия, неустанно разъяс-
1 «Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов». Стенографический отчет, т. II, стр. 179.
2 Резолюция большевистской партии, зачитанная на съезде А. М. Коллонтай, не обнаружена в материалах съезда. Есть основания предполагать, что на съезд была внесена резолюция Апрельской конференции РСДРП (б).
198
няя трудящимся классовую сущность национализма клеимила Временное правительство за его нежелание удовлетворить требования Украинской центральной
V» л* сейма и других организации нацио-
нальной буржуазии.
Возникшая после Февральской революции Центральная рада во главе с украинским социал-демократом В. К. Винниченком, эсером М. С. Грушевским и др., по своей классовой природе ничем не отличалась от Временного правительства. Не удовлетворив ни одного из насущных требований трудящихся (о земле, о восьмичасовом рабочем дне и др.), она выдвинула во главу утла своей политики национальный вопрос, стремясь решить его в интересах буржуазии и в то же время сыграть на национальных чувствах украинского народа. В конце мая делегация Украинской центральной рады обратилась к Временному правительству и к исполкому Петроградского Совета с докладной запиской, в которой содержались требования: признания автономии Украины; признания за Украиной права иметь своего представителя на международной мирной конференции; учреждения при Временном правительстве должности особого комиссара по делам Украины; украинизации школы; выделения украинцев в тылу и на фронте, создания отдельных войсковых формирований и некоторые другие. Как видим, на требованиях Центральной рады явно лежала печать буржуазной ограниченности, но Временное правительство отвергло и их, точнее, отложило до Учредительного собрания. Даже украинизация школы была признана нецелесообразной.
Используя великодержавную политику Временного правительства в своих националистических целях, Центральная рада апеллировала к украинскому трудовому народу. На своем расширенном собрании 3 июня она решила самостоятельно осуществить автономию Украины и добиться от Временного правительства признания ее. При этом недвусмысленно указывалось, что отказ Временного правительства может привести «край и всю Россию» к анархии, т. е. к новой революции, и что Центральная рада всеми силами будет удерживать народ от этого. Затем Центральная рада издала свой первый универсал, в котором объявила, что «отныне сами будем творить свою жизнь». Первым ша-
199
гом к автономии было создание Генерального секрета риата — правительства при Центральной раде. Р а'
Большевики разоблачали и осуждали как велиип державно-шовинистическую позицию русской бурж°' зии, так и националистическую политику украинской буржуазии. Вот какая оценка давалась универсалу ц^, тральной рады в резолюции Киевского комитета РСДРП(б): «Киевский комитет Российской социал-демо, кратической рабочей партии считает, что появление «универсала» Украинской центральной рады вызвано с одной стороны, роялистскими тенденциями российского Временного правительства, отказывающегося осуществить на деле провозглашенный им под давлением революционной демократии принцип права наций на
самоопределение, и признающего это право за одними нациями и отказывающего в нем другим. С другой стороны, такие действия российского Временного правительства обостряют отношения между российской и украинской народностями, дают возможность украин
ским шовинистам, пользуясь повышенным настроением масс, подменять волю широких слоев украинской демократии своими шовинистическими лозунгами» Как видим, Киевский комитет большевистской партии глубоко вскрыл классовую сущность разыгравшегося конфликта.
Напуганное действиями Центральной рады, Временное правительство послало на Украину делегацию в составе Керенского, Церетели и Терещенко. Социалисты из Временного правительства имели своей задачей уговорить украинских социалистов не настаивать на немедленном решении национального вопроса, отложить его «до лучших времен». Однако Временному правительству пришлось признать Генеральный секретариат и удовлетворить некоторые другие требования Украинской центральной рады. В свою очередь Центральная рада во втором универсале записала, что она реши* тельно отказывается от самочинного осуществления автономии Украины до всероссийского Учредительно1,0 собрания.
товки БиТпеиВИСТСКИС организации Украины в период революции»? СборникВеликой Октябрьской социалист»^0 стр. 322 ‘ йорник Документов и материалов, док. М
200
Некоторые вынужденные уступки Временного правительства Центральной раде вызвали острую реакцию в партии кадетов. Ее печать обрушилась с бранью на министров-социалистов и украинцев, обвиняя последних в измене. Эти уступки были использованы кадетскими министрами как предлог для того, чтобы выйти в отставку и создать новый правительственный кризис. (Об истинных причинах кризиса будет сказано несколько позже.) Уход кадетов из коалиционного правительства до смерти напугал соглашателей, и они забили отбой, присоединив свой голос к антиукраинской кампании. При этом как кадетская, так и соглашательская печать не упустила случая, чтобы лишний раз обвинить большевиков в «анархии», в подстрекательстве «к самочинным действиям».
В. И. Ленин, подчеркивая, что правящие партии, в том числе соглашательские, потерпели явное поражение в украинском вопросе, клеймил позором меньшевиков и эсеров. Он писал: «Вы обезумели от страха, господа эсеры и меньшевики, поддавшись контрреволюционным воплям великорусских помещиков и капиталистов, возглавляемых Родзянкой и Милюковым, Львовым и Терещенкой, Некрасовым и Шингаревым с К0. Вы целиком представляете из себя уже сейчас людей, запуганных рождающимися (и «притаившимися») Ка-веньяками» 1.
Еще более неприглядную роль играли соглашатели в конфликте Временного правительства с Финляндией. После свержения самодержавия финляндский сейм выдвинул требование автономии, проект которой предусматривал сохранение компетенции России во внешних сношениях, военном управлении и даже сохранение должности генерал-губернатора. Требования эти, как видим, были сверхумеренными. Финские социал-демократы, составлявшие в сейме большинство, действовали предельно осторожно. Однако переговоры, длившиеся в течение апреля — мая, не завершились соглашением. Временное правительство выдвинуло встречные требования, сводившие самостоятельность сейма к нулю; за русским правительством онгг хотели сохранить право созыва и роспуска сейма, утверждения его решений по
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 32, стр. 352.
201
вопросам, затрагивающим интересы России. Круг та-ких вопросов предоставлялось определять русскому генерал-губернатору .
I Всероссийский съезд Советов сделал известный шаг вперед, приняв специальную резолюцию по финляндскому вопросу, в которой Временному правительству предлагалось принять меры для осуществления автономии Финляндии. Правда, и в постановлении съезда автономия ограничивалась весьма узкими рамками. За сеймом признавалось право его созыва и роспуска, самостоятельного определения своей исполнительной власти. В то же время вопросы внешней политики, военного законодательства и управления по-прежнему изымались из компетенции сейма.
Но Временное правительство не соглашалось даже на эту куцую автономию. Так как переговоры с ним ни к чему не приводили, сейм, в полном соответствии с указанной резолюцией съезда, принял закон об автономии Финляндии. В ответ коалиционное правительство манифестом от 18 июля объявило его распущенным и назначило новые выборы. Под этим актом красовались подписи министров-социалистов, в том числе меньшевиков Церетели и Скобелева. Напомним, что принятая съездом Советов резолюция по финляндскому вопросу, которую попрали меньшевистские лидеры, была внесена именно меньшевиками (Абрамовичем).
В резолюции, принятой на чрезвычайном съезде социал-демократической партии Финляндии, состоявшемся еще в начале июня, Финляндская социал-демократическая партия обращалась к социал-демократическим партиям всех стран, «а прежде всего к товарищеским партиям России, апеллируя к ним и прося у них поддержки для достижения и обеспечения самостоятельности Финляндии» Как поддержали финских социал-демократов «товарищеские партии России», мы уже видели.
За восемь месяцев своего пребывания у власти меньшевики ничего не сделали для разрешения национального вопроса. Более того, они боролись против осуществления национальных требований народов явочным порядком. Большевики разоблачали перед массами оппор-
1 «Новая жизнь», 9 (22) июня 1917 г.
202
тунистическую, реформистскую линию меньшевиков в j~ut лптгл енин говорил на I Вес-
российском съезде Советов, обращаясь к соглашателям: «Вы говорите о воине против аннексий и о мире без аннексии, а в оссии продолжаете внутри политику аннексии. Это есть нечто неслыханное. Вы и ваше правительство, ваши новые министры на деле продолжаете с Финляндией и Украиной политику аннексий» 1
Большевистская партия не только пропагандировала лозунг о праве наций на самоопределение, но и активно
боролась за предоставление народам такого права. 19 апреля ЦК РСДРП(б) обсудил заявление представителей Финляндской социал-демократической партии, обратившихся к нашей партии за советом и помощью 1 2. Выступая на этом заседании, В. И. Ленин говорил, что мы не только поддерживаем требование полной автономии Финляндии, но считаем, что ей должно быть пре-
доставлено право на отделение, при этом должны быть созданы такие условия, чтобы она сама не захотела
отделяться. Вскоре после этого в «Правде» была опубликована статья В. И. Ленина «Финляндия и Россия»,
направленная в защиту национальных требований Финляндии 3.
Воспитывая массы в духе пролетарского интернационализма, партия боролась против немарксистских взглядов на национальный вопрос в своих собственных рядах. Такого рода взгляды проповедовал, например, Пятаков, отрицавший право народов на отделение. В предложенном им проекте резолюции на Апрельской конференции говорилось, что ««право наций на самоопределение» есть просто фраза, без всякого определенного содержания». Позиция Пятакова в национальном вопросе была подвергнута на конференции острой критике. Принятая Апрельской конференцией большевистская программа по национальному вопросу являлась важным звеном в общем стратегическом плане осуществления социалистической революции, в орь за массы. Этим объясняется тот факт, что к октябрю боль-
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 32, стр. 28(L <qi7
2 См. «Революционное движение в России в апреле К17 г. ,
Док. № 75, стр. 107—109. __ . 7
’ См. В. И. Ленин. Пол. собр. соч., т. J2, стр. *
203
шевикам удалось превратить национально-освобопй
тельное Движение ™"авну"пХ?а °2^Г° реа^-
ЦИОННОГО ПГМЪ"
вленного
потока, руководимого пролетариатом и напп’ на свержение эксплуататорского строя. Ра’
* *
*
Так в течение нескольких месяцев полностью обнаружила классовый характер внутренняя и внешняя политика союза соглашателей и буржуазии. Рабочим уда» лось добиться восьмичасового рабочего дня (правда, урезанного сверхурочными работами), установления контроля над рядом предприятий, некоторого повышения заработной платы. Но все это было добыто рабочими или явочным путем, или в единоборстве с предпринимателями. Меньшевики же, имея своих представителей у власти, отреклись даже от своей куцей реформистской программы, До самого Октября Временное правительство, в котором участвовали меньшевики, не издало
ни одного закона, направленного на осуществление основных требований пролетариата. Крестьяне не получили земли, угнетенные народы России оставались бесправными. Банкротство коалиционной политики мелкобуржуазных партий с особой силой проявилось в их отношении к войне. Здесь наиболее наглядно обнаружился
разрыв соглашателей с самыми жгучими интересами широчайших масс трудящихся.
В статье «Уроки революции» (конец июля 1917 г.) В. И. Ленин шаг за шагом прослеживает эволюцию соглашательских партий в эти несколько месяцев после Февраля, показывает, как они постепенно скатывались к прямому предательству. Первоначальной формой их союза с буржуазией была «контактная комиссия», слу, жившая ширмой для прикрытия империалистической политики Временного правительства. Этот союз закрепляется и становится более явным с образованием коалиционного правительства. Русская буржуазия использо вала старый прием более опытной в делах классово юрь ы западноевропейской буржуазии, которая, вовл пРавительство социалистов, крепко привязыва-окпа п °’ 6 мая соглашатели спасли империалисти писал- р1менное правительство от краха. В. И.
«Дурачки эсеровской и меньшевистской пар
204
ликовали, купаясь самовлюбленно в лучах миннгтер-ской славы их вождей. Капиталисты потирали руки от удовольствия, получив себе помощников против народа в лице «вождей Советов», получив обещание от них поддерживать «наступательные действия на фронте , т. е. возобновление приостановившейся было империалистической, грабительской войны. Капиталисты знали все надутое бессилие этих вождей, знали, что обещания со стороны буржуазии — насчет контроля и даже организации производства, насчет политики мира и т. п.— никогда не будут исполнены»
За спиной социалистических министров буржуазия подготовила наступление на фронте, которое явилось следующим этапом мелкобуржуазной измены пролетариату. «Если 6-ое мая,— писал Ленин,— привязало эсеров и меньшевиков к победной колеснице буржуазии канатом, то 19-ое июня приковало их, как слуг капиталистов, цепью»2. Казалось бы, дальше идти некуда, но оставалась еще одна, последняя ступенька, на которую не замедлили спуститься соглашатели: в июльские дни они поддержали попытку буржуазии установить открытую террористическую диктатуру, направленную против рабочего класса, превратили Советы в безвластные придатки Временного правительства.
Крах соглашательской, коалиционной политики меньшевистско-эсеровского блока становился все более очевидным. Он выразился прежде всего в том, что массы, получая ежедневно уроки, преподаваемые союзом буржуазии и соглашателей, учились на собственном опыте распознавать классовую сущность политических партий, их программ и лозунгов, поворачивали на путь революционной борьбы. Большевистская партия помогала трудящимся быстрее усваивать эти уроки, освобождаться от мелкобуржуазных иллюзий.
Громадное значение для политического воспитания масс имели статьи и выступления перед трудящимися & И. Ленина, видных деятелей партии, которые неустанно разъясняли программу и политику большевиков. С апреля по июль почти в каждом номере «Правды» публиковались статьи вождя партии. В среднем на
’ В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 63 64.
Там же, стр. 67.
205
номер в этот период приходилось две-три ленинских статьи и заметки. Большевики на митингах вступали в открытые бои с соглашателями и выходили из них, как правило, победителями. Широкую пропагандистскую работу провели они в связи с муниципальными выборами (в районные думы), проходившими в конце мая.
Вся пропагандистская работа большевистской партии во время предвыборной кампании носила ярко выраженный политический характер, вскрывала причины развала экономики страны, разоблачала капиталистов, повинных в надвигавшейся экономической катастрофе, в братоубийственной войне. Показывая антинародную направленность внутренней и внешней политики, проводимой буржуазией совместно с соглашательским блоком, большевики всеми доступными им средствами убеждали массы, что лишь коренные, революционные преобразования могут спасти страну от гибели.
В профсоюзах^ фабзавкомах и в особенности в Советах большевики шаг за шагом завоевывали большинство. Во всех массовых организациях они выступали в защиту интересов трудящихся, обнажали сущность соглашательской политики меньшевиков и эсеров.
ГЛАВА II
БОРЬБА с меньшевиками в период проведения ЛЕНИНСКОГО КУРСА НА ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ
1. Открытый переход соглашателей на сторону буржуазии
От соглашательства с буржуазией к прямому предательству пролетариата
Сущность политического кризиса, ра-* зыгравшегося в первых числах июля, как и двух предыдущих (апрельского и июньского), состояла в том, что он являлся выражением нараставшего
общенационального кризиса. Политические кризисы вызывались к жизни реальным соотношением и расстановкой классовых сил в стране, они были закономерны и неизбежны. По форме движение в апреле и июне представляло собой «нечто значительно большее, чем демонстрация, и меньшее, чем революция»
Говоря об особенностях апрельского и июльского выступлений пролетариата, В. И. Ленин писал: «За пережитые полгода нашей революции мы переживали 20—21 апреля и 3—4 июля очень сильные стихийные взрывы, вплотную подходившие к началу гражданской войны со стороны пролетариата»2. Стихийность выступлений свидетельствовала о том, что они вызыва-•чись объективными причинами, все обострявшимися социальными противоречиями.
Другой знаменательной чертой апреля — июня была сознательность пролетарских движений: демонстрации проходили под большевистскими лозунгами, к которым, вак отмечал В. И. Ленин, проявляли симпатии и эсеро-Меньшевистские низы (рабочие и беднейшие крестьяне, еДШие за мелкобуржуазными партиями). Возникая । ——'
а в. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 32, стр. 430.
°- И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, стр. 215.
207
стихийно, эти движения проходили ПОД РУКОВОДСТВОМ большевиков, что придавало им силу и организованность.
Третий, июльский кризис разразился в значительно более острых формах, чем предыдущие. Он был подготовлен всем предшествующим ходом классовой борьбы. С одной стороны, нарастало возмущение масс антинародной политикой Временного правительства; трудящиеся все более убеждались, что капиталисты ничего не дадут народу, и все более решительно требовали перехода всей власти в руки Советов. С другой стороны, буржуазия не могла не замечать поднимавшейся революционной волны, и ей становилось ясно, что обещаниями, лжереволюционными фразами уже не удержать трудящихся. Ее надежды на то, что удачное наступление поднимет престиж правительства и ослабит большевистское влияние, оказались тщетными: наступление провалилось. Теряла свою прочность и опора в лице социалистов — их авторитет в массах стремительно падал. Поэтому буржуазия искала удачный момент, чтобы покончить с Советами и взять в свои руки всю власть. Содержанием июльских событий и был вопрос о власти. Именно это обстоятельство придавало им особую остроту.
Находясь повседневно в гуще масс, большевики знали о готовящемся выступлении рабочих и солдат под лозунгом «Вся власть Советам!». Но условия для немедленного свержения Временного правительства тогда еще не созрели, соглашательские партии еще не были полностью изолированы, за ними шла значительная часть народа. В то же время буржуазия ждала повода, чтобы нанести удар по революции, обескровить ее. Поэтому большевистская партия стремилась удержать массы от преждевременного выступления, а когда ей это не удалось, решила возглавить демонстрацию, придать ей мирный характер.
Июльские события круто изменили обстановку в стране. Как известно, спровоцировав кровавые события, перешедшая в наступление буржуазия ликвидировала двоевластие в свою пользу и стала действовать методом репрессий. Началась вакханалия контрреволюции — гонение на большевистскую партию, поход против демократических свобод, в том числе против
208
свободы печати. Была закрыта большевистская «Правда», разгромлена типография «Труд». Советы, которые по вине меньшевистско-эсеровского руководства не взяли всю власть в свои руки, когда это можно было сделать легко и безболезненно, мирным путем, теперь превратились в жалкие, безвластные придатки Временного правительства. Но даже в таком виде Советы казались помехой для контрреволюции, и она готовилась разогнать их.
После июльских дней процесс политической изоляции соглашательских партий, в том числе меньшевистской, значительно ускорился. Сам ход событий, резко обострившаяся борьба за власть между пролетариатом и буржуазией потребовали от меньшевиков более открыто стать на сторону одного из борющихся классов. Возможностей для маневрирования оставалось все меньше. Отстоять всевластие буржуазии, сохранить коалицию с ней — в этом видели они свою основную задачу.
О позиции меньшевиков в развернувшейся между пролетариатом и буржуазией борьбе за власть свидетельствуют многочисленные факты. Приведем лишь некоторые.
В ночь на 4 июля на объединенном заседании бюро ЦИК Совета рабочих и солдатских депутатов и исполкома крестьянских депутатов представитель Путилов-ского завода заявил, что весь завод — у Таврического дворца и путиловцы не разойдутся, пока не будут арестованы 10 министров-капиталистов и власть не перейдет в руки Советов *. 4 июля на заседании указанных исполкомов присутствовало 90 представителей от 54 петроградских заводов и фабрик. Выступило четыре представителя от заводов и один — от Петербургского Совета.
Посланцы рабочих и солдат единодушно заявили, что рабочий класс требует перехода всей власти в руки Советов. «Общее требование рабочих — вся власть Советам рабочих и солдатских депутатов». «Мы доверяем Совету, но не тем, кому доверяет Совет» 1 2,— говорили
1 См. «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», в июля 1917 г.
’ «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов), 6 июля 1917 г.
14 Н. Рубан 209
рабочие. Они требовали передать всю землю народу, принять меры против саботажа и локаутов, организуемых капиталистами. Представитель Петергофского Совета также высказался за переход власти к Советам. Какой же выбор сделали соглашатели?
Не решаясь прямо отвергнуть требование о переходе власти в руки Советов, меньшевистские вожди —Дан, Церетели и другие, как и их эсеровские союзники, прибегли к отговоркам с целью выигратв, время. Они ссылались на то, что для перехода власти к Советам якобы неподходящая, недостаточно демократическая обстановка, что, взяв власть под давлением, Советы не будут обладать самостоятельностью. Вторая отговорка сводилась к тому, что вопрос о власти может быть решен только на пленарном заседании исполкома, с участием его членов на местах, а чтобы созвать такое заседание, нужно время.
Вместе с тем меньшевики ясно дали понять, что лозунг «Вся власть Советам!» не их лозунг и что они не намерены отступать в этом принципиальном вопросе. Церетели прямо говорил: «Когда наши противники предлагают нам разорвать с буржуазными элементами, взять всю власть в свои руки, они забывают добавить, что требуют от нас также перемены всей нашей политики» L Меньшевики упорно твердили, что возможность коалиции с буржуазией еще не исчерпана, что еще можно найти общий язык с теми ее слоями, которые «готовы идти по пути осуществления выдвинутых революцией всенародных задач» 1 2
Резолюция о власти, внесенная соглашательским блоком и принятая на объединенном заседании исполкомов, не предлагала какого-либо положительного решения этого вопроса. В ней указывалось, что уход кадетов «дает демократии основание для пересмотра своего отношения к организации правительственной власти в переживаемый исторический момент»3. Какова была цена намерениям меньшевиков пересмотреть свою точ
1 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 5 июля 1917 г.
2 Там же.
3 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатски, депутатов», 7 июля 1917 г.
210
ку зрения на власть, мы увидим позже, но этот тезис сам по себе весьма примечателен; он свидетельствовал одновременно и о растерянности меньшевиков, и об их стремлении сманеврировать, оттянуть время, пока буржуазия расправится с пролетариатом и укрепит свою власть.
Представляет интерес и резолюция Мартова, хотя она и не была принята. Как же в этот критический момент подходили к вопросу о власти меньшевики-интернационалисты? В резолюции отмечалось, что с уходом кадетской партии из правительства русская буржуазия в целом окончательно переходит в наступление против крестьянской и рабочей демократии. «На это наступление, на этот вызов революционная демократия отвечает, беря в свои руки правительственную власть...» Днем раньше, на заседании ОК, примерно в таком же духе высказался Абрамович, выдвинувший даже предложение о переходе власти в руки Советов. Но эти разговоры не имели ничего общего с большевистским лозунгом «Вся власть Советам!». В резолюции, которую внесли меньшевики-интернационалисты на том же заседании исполкомов, говорилось, что ЦИК должен добиваться, чтобы «по крайней мере большинство Временного правительства было составлено из представителей Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов...» 1 Хотя бы большинство правительства должны составлять меньшевики и эсеры — вот на какой «революционный» шаг осмелились левые меньшевики, вот к чему сводилось их предложение о переходе власти к Советам.
Но меньшевики в это время не ограничивались резолюциями. Как только начался правительственный кризис, соглашатели обвинили в нем не кадетов, ушедших со своих постов, а большевиков, подняв против них злобную, клеветническую кампанию. Эта кампания стала приобретать еще большие размеры, сочетаясь с репрессиями, после мирной демонстрации рабочих и солдат, закончившейся ее расстрелом.
К расстрелу демонстрации меньшевики имели непосредственное отношение. Это они вместе с эсерами вы
1 ♦Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 7 июля 1917 г.
211
звали с фронта карательные войска для защиты власти капиталистов от рабочих. Вот что говорил меньшевик Войтинский на объединенном заседании ЦИК Совета рабочих и солдатских депутатов и исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов: «Весь день 3 июля... ушел'У нас (у исполкома Совета.— Н. Р.) на то, чтобы стянуть войска, чтобы укрепить Таврический дворец... К вечеру к нам стали приходить вести от фронтовых армий. Они предлагали нам свою помощь. Мы колебались их вызывать, боясь рисковать ослаблением фронта, но видя всю опасность, грозящую революции, мы дали приказ некоторым частям грузиться и направляться сюда» *.
Следовательно, тот факт, что войска направлялись против рабочих, не смущал меньшевиков; сомнения возникали только из-за боязни ослабить позиции накануне наступления на Северном фронте. И все же буржуазия вместе с соглашателями решила, что революционный пролетариат — более опасный враг, чем германские армии.
Меньшевики и эсеры устраивали прибывающим карательным войскам торжественные встречи, выступали перед ними с речами. На приеме в Таврическом дворце в честь представителей этих войск с приветственной речью выступил Скобелев. Едва ли сам оратор отдавал себе отчет в том, какую меткую характеристику он давал меньшевизму, его лакейству перед буржуазией, когда призвал всех поучиться у карателей, «как нужно проводить принцип демократии» * 2.
После июльских событий в столице волна демонстраций и митингов в знак солидарности с петроградским пролетариатом прокатилась по всей стране. Трудящиеся требовали покончить с позорной игрой в коалицию, передать всю власть Советам. И везде наблюдалась та же картина, что и в Петрограде: большевики — во главе масс, вооружают их революционными лозунгами, стремятся придать выступлениям организованный и мирный характер, предостерегают от провокаций; меньше
’ :ИзвеТ1Я ПетР°гРаДского Совета рабочих депутатов», 7 июля 1917 г. 1
2 «Известия Петроградского Совета рабочих депутатов», 9 июля 1917 г. 1 *
и солдатских
и солдатских
212
вики и эсеры — с буржуазией, против пролетариата» против перехода власти к Советам.
В Москве соглашатели мобилизовали все свои силы, чтобы сорвать мирную вооруженную демонстрацию рабочих и солдат, назначенную большевиками на 8 часов вечера 4 июля. Направив на фабрики, заводы и в казармы ораторов, они пытались представить демонстрацию в Петрограде как «контрреволюционное выступление», клеветали на большевиков, угрожали, что, если демонстрация состоится, она будет расстреляна. По предложению меньшевика Исува соглашательское большинство Совета рабочих и Совета солдатских депутатов приняло решение о запрещении манифестаций и митингов. Большевистская фракция в знак протеста против этого решения покинула зал заседания. Но, несмотря на все старания меньшевиков, демонстрация состоялась. Буржуазия и ее прихвостни пытались нападать на демонстрантов, осыпали их оскорблениями и руганью. Предпринимались попытки разгромить помещения газеты «Социал-демократ» и Московского комитета большевиков ’.
Вопреки меньшевикам и эсерам, мирные демонстрации и митинги прошли во многих городах России: в Иваново-Вознесенске, Шуе, Ростове, Гусь-Хрустальном, Екатеринодаре, Красноярске, Томске, Новониколаевске и др. Однако в ряде мест (в некоторых губерниях центральной полосы, в Сибири и на Дальнем Востоке, на юге страны) соглашатели еще пользовались довольно сильным влиянием и им удалось сорвать мирные выступления трудящихся.
Большевики приложили много сил, чтобы не дать контрреволюции повода для кровавой расправы над рабочими. Меньшевики же, наоборот, были вместе с буржуазией во всех случаях, когда она бралась за оружие. В этом отношении особенно показательны события в Брянске и Нижнем Новгороде.
После того как Брянский комитет РСДРП(б) принял постановление провести мирную демонстрацию под лозунгом «Вся власть Советам!», эсеро-меньшевистский
1 См. «Московский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», стр. 31—32; см. так же О. Н. Знаменский, Июльский кризис 1917 года. М.— Л., 1964, стр. 123—132.
213
исполком Совета совместно с военными властями стал готовиться к вооруженному подавлению выступления рабочих и солдат. При начальнике бригады была создана специальная комиссия, в состав которой вошли меньшевики и эсеры. В то же время была поднята кле~ ветническая кампания по поводу петроградских событий, начались аресты. Все это носило явно провокационный характер. Большевики во избежание кровопролития отменили демонстрацию !.
В Нижнем Новгороде события приняли более грозный характер. Они начались еще до демонстрации петроградского пролетариата и были связаны с попыткой карательного отряда, специально прибывшего из Москвы, разоружить солдат 72-го пехотного полка, отказавшихся отправиться на фронт, и отправить их туда насильственно. Карательная операция (она осуществлялась при прямом участии местных меньшевиков) вызвала восстание двух других полков (183-го и 185-го), начавшееся 4 июля. В сочетании с событиями в Петрограде оно приобрело ярко выраженный политический характер. Большевики приняли все меры к тому, чтобы овладеть солдатской массой, направить стихийное восстание в организованное русло, соединив его с выступлением рабочих. Ввиду того, что соглашательский Совет не пользовался авторитетом, был создан Временный исполнительный комитет, к которому перешла вся власть в городе. Он провел ряд революционных мероприятий, прежде всего вооружение рабочих.
Для подавления «нижегородских беспорядков» туда из Москвы была направлена карательная экспедиция под главенством командующего округом будущего министра Временного правительства полковника Верховского (эсер). В обозе карательной экспедиции следовала делегация Советов во главе с лидером московских меньшевиков Л. М. Хинчуком. Таким образом, социалисты целиком взяли на себя ответственность за вооруженное подавление выступления тр\дя-щихся, и если кровопролития не произошло, то тольк
1 «Борьба трудящихся Орловской губернии за Советской власти в 1917—1918 гг.». Сборник докуме 1957, стр. 58—59.
214
благодаря большевикам, которые удержали массы от вооруженного сопротивления карателям *.
Став соучастником похода контрреволюции против пролетариата во имя укрепления всевластия буржуазии, меньшевистские вожди не могли, конечно, не понимать, что они рубят сук, на котором сидят, и поэтому не жалели сил, чтобы оклеветать и убрать с пути подлинно пролетарскую, большевистскую партию. Большевиков они обвиняли в «анархии», в попытке захватить власть, отрицали стихийный характер выступления пролетариата. При этом дело изображалось таким образом, что будто бы большевики выступили против Советов, стремясь силой навязать им власть.
Неудача военного наступления и прорыв немцами русского фронта явились новым поводом для яростной антибольшевистской кампании. Как и предсказывали большевики, вину за военные поражения буржуазия и соглашатели переложили на нашу партию.
С особым остервенением нападала в те дни на большевиков плехановская газета «Единство». За ней не могла угнаться и буржуазная печать. Это был один из самых мутных истоков антибольшевистских инсинуаций. Подвизавшийся в этом болоте сподвижник Плеханова Алексинский являлся главным автором и распространителем клеветнических измышлений о «германских марках» 1 2. Да и сам Плеханов недалеко ушел от
1 Об июльских событиях в Нижнем Новгороде см.: «Победа Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии». Документы и материалы. Горький, 1957, док. № 172— 180, стр. 208—216; «Октябрь в Нижнем Новгороде и губернии». Сборник воспоминаний. Горький, 1957, стр. 59—87; О. Н. Знаменский. Июльский кризис 1917 года, стр. 40—41, 147—158.
2 Для клеветы на большевистскую партию Алексинский использовал бульварно-черносотенную газету «Живое слово». Отметая . с возмущением гнусную клевету на вождя партии, ЦК РСДРП (б) писал в своем воззвании к населению^ (не позже 7 июля): «Инициатор дела Алексинский, известный клеветник, обвинявший в подкупе немцами целый ряд лиц и уже осужденный за бесчестные поступки союзом русских, английских, итальянских и нейтральных журналистов во Франции и исключенный за злонамеренную клевету из всех демократических организаций Парижа и не допущенный в состав Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов». Центральный Комитет требовал от Временного правительства и ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов «немедленного и гласного рассле-
215
Алексинского; в той же газете «Единство» он призывал правительство к расправе с большевиками, называя их «агентами германских империалистов». Это была настолько злобная и бесстыдная травля, что она коробила даже некоторых меньшевиков из «Рабочей газеты». Но они не нашли в себе мужества выступить против этой реакционной волны.
Многие видные меньшевики, находившиеся в дни Февральской революции в эмиграции вместе с Лениным, прекрасно знали обстоятельства и условия, на которых группа большевиков вместе с Лениным переправлялась в Россию через Германию. Знали они и о том, что тем же путем в Россию возвратилась большая группа меньшевиков и эсеров, и среди них Мартов, Аксельрод, Мартынов. Однако меньшевики не только не дали отпора клеветникам, но и подпевали им. Те самые меньшевики, которые позднее, после победы Октябрьской революции, кричали на весь мир о «большевистском терроре» (так они называли вынужденные репрессии против активных врагов Советской власти), в июльские дни фактически дали свое согласие на аресты, в том числе на преследование вождя большевистской партии Ленина. В этом отношении представляет несомненный интерес резолюция меньшевистского центра от 7 июля. «По вопросу о репрессиях и арестах,— говорится в ней,— постановлено: допустимо по отношению к политическим деятелям лишь индивидуальное преследование за определенные преступления с соблюдением всех судебных гарантий»
Разумеется, о гарантиях упоминалось для приличия. Во всяком случае, сие от меньшевиков уже не зависело. Тем временем меньшевистская печать всячески подогревала атмосферу. В частности, «Рабочая газета» усердно выполняла роль разносчика грязных, клеветнических слухов против большевиков. Иногда это делалось под видом нейтральной информации, но цель при этом ставилась определенная — бросить тень.
Таким образом, стараниями соглашателей создава-дования всех обстоятельств подлого заговора погромщиков и наемных клеветников против чести и жизни вождей рабочего класса» («Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», док. № 121, стр. 148—149).
’ ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 9, л. 36.
216
лась благоприятная атмосфера для разгула контрреволюции. «Фактически,— писал В. И. Ленин,— основная государственная власть в России теперь есть военная диктатура; этот факт затемнен еще рядом революционных на словах, но бессильных на деле учреждений» L Дело явно шло к ликвидации того немногого, что еще оставалось от буржуазных свобод первых месяцев революции. Но занятые войной против «большевистской анархии», меньшевики этой перспективы не хотели видеть. Слово «контрреволюция» если и употреблялось на страницах меньшевистской печати, то под ним подразумевалась сравнительно ничтожная опасность со стороны сохранившихся кое-где осколков царского режима. Тот факт, что основную силу контрреволюции в это время представляла кадетская партия, усиленно прикрывался. О контрреволюции вспоминали и для того, чтобы обвинить большевиков в ее появлении. Разговорами о борьбе правительства против опасности справа и слева создавалась видимость его внеклассовости или надклассовости.
Между тем действия контрреволюции вскоре приобрели такие масштабы, что даже меньшевистские лидеры стали опасаться, как бы меч, занесенный над большевиками, не опустился на их соглашательские головы. И они заговорили об угрозе военной диктатуры. В резолюции ОК, принятой 7 июля, отмечалось, что меры, принятые правительством по «ликвидации вооруженного выступления 4—5 июля, создают почву для демагогической агитации контрреволюционных элементов... фактически прокладывающей дорогу для военной диктатуры» 1 2.
Однако главную опасность меньшевики по-прежнему видели не в кадетской контрреволюции, а в революционном пролетариате и его партии. Поэтому «спасать революцию» они поручали не Советам, не рабочему классу, а тому же Временному правительству, которое расстреляло мирную демонстрацию и обрушило репрессии против рабочих. В то время как буржуазия, отбросив всякую маскировку, наносила удары по рабочему классу, меньшевики делали вид, что крайне озабо
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, стр. 1.
2 «Партийные известия», 2, 15 августа 1917 г.
217
чены судьбами революции, а на самом деле находились в услужении контрреволюции.
Министры-социалисты, чтобы как-то оправдать себя перед массами за соучастие в разгроме мирной демонстрации и преследовании революционных сил, выдвинули на заседании Временного правительства программу «революционных» мер: провозглашение республиканского строя, осуществление аграрной программы, роспуск Государственной думы и Государственного совета. После объявления этой декларации заявил об отставке еще один его член из буржуазного лагеря — князь Львов. Это окончательно перепугало социалистов, и они поспешили отказаться от своей «радикальной» программы.
8 июля новое, преобразованное на паритетных началах Временное правительство утвердило Керенского министром-председателем, с сохранением за ним постов военного и морского министра. Церетели был назначен министром внутренних дел. Надо признать, что буржуазия поступила мудро: одного социалиста облекла диктаторскими полномочиями, а другому вручала как раз то министерство, в руках которого находился меч и которое должно было возглавить гонение на пролетариат и его партию.
Опубликованная в тот же день правительственная программа ничего общего не имела с опрометчиво объявленной «слишком революционной» программой от 7 июля. В ней заявлялось, что «своей первой основной задачей Временное правительство считает напряжение всех сил для борьбы с внешним врагом и для охраны нового государственного порядка от всяких анархических и контрреволюционных покушений, не останавливаясь перед самыми решительными мерами власти» *.
Правительственная программа основывалась на декларации от 6 мая. В ней имелись и прямые ссылки на эту декларацию. Во всяком случае, дальше декларации она не шла. Программа содержала все те же ничего не стоящие обещания: обеспечение в назначенный срок (17 сентября) выборов в Учредительное собрание, «упорядочение земельных отношений в интересах государ
1 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 9 июля 1917 г.
218
ственной обороны», не предрешая «основного вопроса о праве собственности на землю, как входящего лишь в компетенцию Учредительного собрания...» ’. Программа сообщала, что разрабатываются законопроекты о восьмичасовом рабочем дне, охране труда, социальном страховании.
Итак, главная задача — «борьба с анархией и контрреволюцией». В сущности, это также неново: об «анархии», т. е. революционном движении, немало твердилось и раньше, причем именно в сочетании с контрреволюцией. Но в данной обстановке, когда реакция совершала расправу над революционными рабочими, эта формула приобретала новый, далеко идущий смысл. Соглашатели, в том числе руководящие круги исполкома Советов, особо подчеркивали эту основную задачу. В редакционной статье «Известий» объявлялось: «Временное правительство, в состав которого входят и представители той части буржуазии, которая не отделяет своего дела от дела народа, отныне получает возможность, при полном содействии органов революционной демократии, подавлять в зародыше всякие покушения на революцию, откуда бы они ни исходили» 1 2.
«Социалистические» вожди назвали правительство Керенского правительством «спасения революции», «революционной диктатуры». Оно действительно являлось правительством диктатуры, но имело своей задачей не спасение, а удушение революции. Что именно так понимали соглашатели главную миссию нового правительства, видно из обсуждения его задач на объединенных заседаниях ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и исполкома Советов крестьянских депутатов 9 и 13 июля. На этих заседаниях меньшевики и эсеры настаивали на применении репрессий по отношению к большевикам. Лидер меньшевиков Дан внес резолюцию, которая требовала суда над теми, кто обвиняется в «подстрекательстве к мятежу», явки Ленина на суд, исключения большевиков из состава исполкомов. Меньшевики-интернационалисты не согласились со столь крутыми мерами против крупнейшей политической
1 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских Депутатов», 9 июля 1917 г.
2 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских Депутатов», 11 июля 1917 г.
219
партии. «Исключая товарищей большевиков — говопитт Мартов,—вы исключаете из рядов демократии часть того рабочего класса, который идет за ними» Понятно что Мартов исходил при этом не из особых симпатий г большевикам: отражая настроение левого крыла мент' шевистской партии, он хотел публично отмежеваться от действий, направленных на установление контрреволюционно-диктаторского режима, сохранить свой престиж в глазах пролетариата.
Против резолюции Дана голосовали только меньшевики-интернационалисты. Абсолютное большинство меньшевиков вместе со своими партнерами по блоку — эсерами проголосовало за политику террора и подавления революции. Говоря с опаской о перспективе военной диктатуры, меньшевики фактически своими же руками создавали орган этой диктатуры, направленной против революционного пролетариата и крестьянства. Большевики в знак протеста ушли с заседания. Перед тем как оставить зал, их представитель В. П. Ногин, выражая мнение всех революционных рабочих и солдат, с возмущением говорил: «Мы имеем честь быть передовым отрядом, вы же поддались на удочку контрреволюции... и своих друзей отсылаете под расстрел... Мы не кучка лиц, за нами идут рабочие массы... Не дожидаясь результатов следствия, вы идете вслед за негодяем Алексинским, повторяете обвинения и ставите нас вне закона. Можем ли мы принимать в этом участие? Можем ли мы верить в ваше беспристрастие? Нет, не можем» 2.
Как видим, соглашатели поддержали буржуазию в ее усилиях путем клеветы и травли поставить большевиков вне закона. Используя обстановку репрессий и гонений, они стремились вытеснить большевиков из рабочего движения, чтобы безраздельно господствовать в нем. 11 июля меньшевистская «Рабочая газета» опубликовала воззвание «Ко всем членам партии». Вылив на большевистскую партию еще один ушат помоев в ДУхе бульварной черносотенной печати, ОК сетовал на слабость своей организации в Петрограде, разобщенность действий и ратовал за сплочение сил. Меньшевистские
1 «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 14 июля 1917 г.
2 Там же.
220
организации призывались укреплять свое влияние в рабочем классе, создавать ячейки везде, на фабриках и заводах . Считая, что с большевиками покончено навсегда, меньшевистский центр спешил укрепить свое влияние в рабочем классе, парализовать центробежные силы, все более раскалывавшие ряды меньшевистской партии идейно и организационно. Но при той предательской политике, которую проводила эта партия, такого рода задача была явно невыполнима.
Меньшевики продолжали стремительно катиться вниз, сдавая буржуазии последние позиции. Была установлена смертная казнь на фронте, введены военные суды для расправы над революционными солдатами, изданы постановления о предварительной военной цензуре, о закрытии большевистских газет «Правда» и «Окопная правда». И все эти реакционные меры проводились «правительством спасения революции», в котором «социалисты» имели большинство. По всей видимости, несмотря на революционную трескотню, которая содержалась в выступлениях и резолюциях о революционной диктатуре, в низах меньшевистской партии, в особенности среди рабочих, которые еще шли за ней, нарастала тревога. «Рабочая газета», лицемерно признав «законной» и даже «святой» эту тревогу, рекомендовала установить... контроль над правительством2 (т. е. контроль над диктатурой, над правительством, облаченным неограниченными полномочиями!). Меньшевики судорожно цеплялись за революционную фразу, но предательство приняло уже такие масштабы, что эти жалкие потуги никого не могли обмануть.
Словесным прикрытием служила и опубликованная в печати резолюция ОК, в которой наряду с заявлением, что соглашение между «революционной демократией и организованной буржуазией... может быть достигнуто лить на почве признания всех завоеваний революции», проведения неотложных мероприятий в области рабочего и аграрного вопроса, подтверждалось и согласие партии на репрессии. Рекомендовалось замещать ответственные посты «преданным Ревс^п персоналом и чтобы сами репрессии осуществлялис
* См. «Рабочая газета», И июля 1917 г.
См. «Рабочая газета», 1В июля 1917 г.
221
при участии революционно-демократических организаций» L
Так политика соглашательства привела меньшевиков к прямому предательству, поставила их в один лагерь с контрреволюционной буржуазией, с новыми ка-веньяками, сделала соучастниками расправы над рабочим классом. В. И. Ленин писал по этому поводу: «Эсеры и меньшевики, как рабы буржуазии, прикованные господином, согласились на все: и на привод реакционных войск в Питер, и на восстановление смертной казни, и на разоружение рабочих и революционных войск, и на аресты, преследования, закрытие газет без суда. Власть, которую не могла взять целиком буржуазия в правительстве, которую не хотели взять Советы, власть скатилась в руки военной клики, бонапартистов, целиком поддержанной, разумеется, кадетами и черносотенцами, помещиками и капиталистами» 1 2.
Всячески способствуя укреплению единовластия буржуазии, меньшевики с первых дней правительственного кризиса были озабочены и решением другой задачи — спасением коалиции. Как уже отмечалось, поводом для создания кризиса послужили некоторые, по существу мизерные, уступки правительства в украинском вопросе. Действительная же причина ухода кадетских вождей из правительства заключалась в том, что они хотели развязать руки для установления военной диктатуры, запугать соглашателей и еще крепче привязать их к себе.
Меньшевики действительно были напуганы и обеспокоены правительственным кризисом и имели на то основание. С одной стороны, лозунг «Вся власть Советам!» все глубже внедрялся в сознание народа; с ДРУ^ гой, ведущая партия буржуазии, кадеты по собственной инициативе разорвали коалицию и ушли из правительства. Тем самым летела под откос меньшевистская концепция революции, рушилась вся их стратегическая схема. Правда, и после ухода кадетов в правительстве еще оставались представители буржуазии, но они были в меньшинстве — 5 от буржуазии и 6 от социалистов.
1 «Рабочая газета». 18 июля 1917 г.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 67—68.
222
Для меньшевиков уже такое соотношение сил в коалиции казалось катастрофой, оно противоречило их основному тезису: правительство по своему составу должно быть если Целиком, то по преимуществу—• буржуазным • Тем более немыслимой для них казалась замена ушедших из правительства кадетов социалистами.
Полнейшая растерянность меньшевиков проявилась на заседании ОК 3 июля (перед началом демонстрации). Обсуждался вопрос о министерском кризисе. Член ОК Ежов выдвинул новую идею — заменить кадетов в правительстве эсерами. Другие (Ермолаев, Либер) считали, что на этом строить тактику преждевременно, так как эсеры еще «не превратились в партию демократической буржуазии», такую эволюцию им-де лишь предстоит совершить в будущем. Кроме того, как заявил Либер, эсеры — «партия демагогическая, и поэтому их большинство в правительстве поведет к конфликту с массами» 1 2.
Чтобы как-то свести концы с концами, оправдать свое предательство, меньшевики выдвинули тезис о возможном расколе партии кадетов. Заявляя, будто да
леко не вся эта партия выражает интересы реакционной буржуазии, они готовили почву для совместного с кадетами участия в правительстве. В принятой ОК резолюции отмечалось, что задача момента — образование Временного правительства, по возможности с преобладанием в нем буржуазии, способного осуществить мероприятия, намеченные съездом Советов. В случае отказа буржуазии от участия в правительстве предусматривалось «передать его составление Центральным исполнительным комитетам Советов рабочих солдатских и Советов крестьянских депутатов»3. Это уже была попытка припугнуть буржуазию, оказать на нее
1 В воспоминаниях Церетели имеется следующее люоопыт ное признание: «Если бы мы воспользовались этим положение^ (правительственным кризисом.— Н. Р.), чтобы ввести на Ушедших кадетских министров представителей С°Ц остав-ских партий, это привело бы, конечно, к уходу в о* £ стпане шихся несоциалистических министров и к разру _ н ‘ |Я ^Недемократического фронта» (И. Г. Церетели.
° Февральской революции, кн. 2, стр. 260).
ЦПА НМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 9, л. 33.
3 Там же.
223
давление. ОК подчеркивал в своей резолюции, что нежелательно добиваться усиления социал-демократического представительства во Временном правительстве. Это, на их взгляд, послужило бы большевистской идее диктатуры пролетариата, так как власть взяла бы в свои руки не какая-нибудь иная партия, а «рабочая».
После июльских дней меньшевики предпринимают все новые попытки по созданию «сильной власти», они не мыслят ее иначе как коалиционную, с участием буржуазии, ее главной партии — кадетов, В резолюции ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и исполкома Совета крестьянских депутатов (от 17 июля) это выражено вполне ясно: «Временное правительство должно опираться на все живые силы страны и поэтому должно употребить все усилия, чтобы привлечь к власти те группы буржуазии, которые понимают, что объективное положение страны повелительно диктует всем классам, имеющим будущее, охранение и укрепление завоеваний революции» *. В качестве условия вступления в новое правительство соглашатели выдвигали декларацию от 8 июля.
Но лидеры буржуазии решили, что настало время им самим диктовать условия, без излишней «игры в демократию». Несмотря на то что правительство, облеченное чрезвычайными полномочиями, служило послушным орудием в руках контрреволюционной буржуазии, последняя ультимативно требовала предоставления ей всей полноты власти. Три кадетских деятеля — Астров, Кишкин, Набоков, которым Керенский предложил войти в правительство, ответили, что они могут принять предложение только на следующих условиях: чтобы соблюдался принцип «полного единения с союзниками», чтобы в основу государственного управления было положено «начало уничтожения многовластия и восстановления порядка в стране и решительная борьба с анархическими, противогосударственными и контрреволюционными элементами», никаких реформ до Учредительного собрания 1 2. После длительных переговоров ЦК партии кадетов «сменил гнев на милость». По-
1 «Известия Петроградского Сонета рабочих и солдатских депутатов», 18 июля 1917 г,
2 См. там же.
224
гылая своих представителей в правительство, руководство партии подчеркивало, что придерживается прежних условий, треоовало «положить в основу создания сильной власти сурова ю необходимость вести войну, поддерживать боеспособность армии и восстановить хозяйственную мощь государства» I
В новое правительство (его состав был объявлен 25 июля) вошло семь социалистов всех оттенков (среди них было два меньшевика: министр труда М. И. Скобелев и министр почт и телеграфов А. М. Никитин) и почти такое же число кадетов и примыкавших к ним. Политическая линия правительства с самого начала приняла ярко выраженный кадетский характер. Позднее это признавал и Милюков. «При небольшом номинальном перевесе социалистов,— писал он,— действительный перевес в кабинете безусловно принадлежал убежденным сторонникам буржуазной демократии»2. Итак, начав с игры в «контроль» и «контактные комиссии», меньшевики дошли до полной капитуляции перед буржуазией. Они помогли ей установить свое единовластие и теперь становились уже обузой.
Учитывая все это и пытаясь в то же время снять с партии ответственность за явно реакционный кадетский курс новой коалиции, ОК 23 июля принял решение: «Признавая необходимым, чтобы члены партии, которым будет сделано предложение войти в состав Временного правительства, образуемого Керенским, не отказались от этого предложения, ОК постановляет, что члены партии, которые войдут в состав Временного правительства, не будут являться официальными представителями партии в правительстве» 3.
На отношение меньшевиков к новому правительству и понимание ими своей роли в нем проливают свет выступления министров-социалистов на заседании исполнительных комитетов Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 24 июля. Церетели, в частности, заявил, что политика коалиции должна быть не классовой, а общенародной. О взаимоотношении прави-
’ «День», 25 июля 1917 г. м «„««.ми Т
р 2 п. Н. Милюков. История второй русской революции, т. 1, ЫП. III. София, 1922, стр. 44—45.
«Рабочая газета», 25 июля 1917 г.
н. Рубан 225
тельства и «революционной демократии» (имелись в виду Советы и входившие в них политические партии) министр Церетели сказал, что «вся полнота власти должна быть вручена правительству, революционная же демократия оставляет за собою критику действий, не вмешиваясь в его распоряжения» *. Вопрос о «контроле» уже не ставится, критиковать разрешено, но в дела правительства не вмешиваться. Одним словом, все — в полном соответствии с требованиями кадетов. Резолюция призывала «всю демократию» активно поддержать правительство. В то же время в ней содержалось обещание «со всей энергией противодействовать всяким покушениям на права и свободу деятельности этих организаций» (Советов, их исполнительных органов.— Н. Р.). Из этой меньшевистской резолюции, при всей ее противоречивости, ясно, что сами меньшевистские лидеры не переоценивали демократических устремлений нового состава правительства. И все же вновь дорогой ценой спасали имя коалиции.
Не только беспартийные трудящиеся, шедшие за меньшевиками, но и рядовые члены партии все больше стали задумываться над тем, куда ведет их руководящая элита. Теперь меньшевистским вождям требовалось еще больше изворотливости, чтобы объяснить массам свою политику. Особенно трудно было им отвечать на вопрос: почему же Советы не взяли власть, когда кадеты сами ушли из правительства?
Буржуазные лидеры, вступая в новую коалицию, отнюдь не отказывались от своей цели — раз и навсегда искоренить все организации трудящихся, прежде всего Советы, покончить с двоевластием, укрепить диктаторскую власть буржуазии, огнем и железом раздавить революцию, довести войну до «победного конца». В своей среде, прежде всего в частных совещаниях членов Государственной думы, говорилось об этом откровенно. 18 июля член Думы, крупный домовладелец прогрессист А. М. Масленников произнес с ее трибуны черносотенную речь. Суть ее сводилась к тому, что во главе революции шла Дума, она-де источник власти и должна открыто действовать как верховная власть. «Стыдно Государственной думе далее сидеть где-то на запят-
1 «Рабочая газета», 26 июля 1917 г.
226
аХ где-то в преисподней и бояться бог знает кого. Попа Государственной думе, которая возглавила революцию, нести и ответственность за нее» Советы же в изображении Масленникова элемент «случайный» для революции. Он заявлял, что в то время, как Дума руководила переворотом, «к революции примазалась кучка сумасшедших фанатиков, кучка проходимцев, кучка предателей, и эта кучка назвала себя «Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов» (голоса: «Правильно»)»2. Масленникову вторили Милюков. Пуришкевич, Годнее и другие.
Еще совсем недавно подобные речи даже в этом гнезде махровой контрреволюции были совершенно немыслимы. Теперь же буржуазия твердо уверовала в то, что она достаточно укрепилась при помощи соглашателей. Она уже не боялась плевать в лицо тем же соглашателям, называть их проходимцами, зная, что они бесповоротно привязали себя к буржуазной колеснице 3.
Сложившаяся после июльских дней обстановка потребовала от большевистской партии изменить политическую тактику, дать массам новые лозунги, обеспечивающие достижение главной цели — завоевание власти пролетариатом. Уже 10 июля Ленин пишет тезисы «Политическое положение», а в середине июля — статью «К лозунгам». Он глубоко вскрывает суть июльского кризиса, обосновывает новую тактику партии. Указав два основных момента: переход всей власти в руки буржуазии и окончательную измену соглашательских партий, Ленин сделал вывод: надежда на мирное развитие революции исчезла, следовательно, и лозунг «Вся власть Советам!» должен быть временно снят. Ленин подчеркивал, что снятие лозунга о переходе всей вла ста к Советам ни в коем случае не означает отказа от Советов вообще. Речь шла о данных Советах, которые из-за господства в них меньшевиков и эсеров потерпе
• «Буржуазия и помещу^"/ной ’ ДУ“Ы- М' Л" 1№' ных слврпаяний членов Госуд
СТ₽ !' Там же, стр. 196—191лидерам с0ГЛТ'1уемьк ^отда-т0
8 Вот какую оценку ДаВВ госудаРсТвеНН°\пьпистами — на' на том же заседании членов Госуд^ циммерв^ Церетели и Керенский назыв не назыв
Деюсь, что теперь они таковыми
®ия и помещики в 1917 году*» с
227
ли полный крах. «В данную минуту, писал он,—. Советы похожи на баранов, которые приведены на бой-ню поставлены под топор и жалобно мычат»
После июльских событий революция вступила в новую фазу своего развития, когда единственным путем к завоеванию власти пролетариатом являлся насильственный путь. В этой обстановке в громадной мере возрастало значение борьбы за завоевание масс на сторону пролетариата, за отрыв их от меньшевиков и эсеров. Имея в виду главную цель — социалистическую революцию, партия и раньше придавала этой задаче первостепенное значение. Но мирный переход власти к Советам мог осуществиться еще до того, как массы освободились от буржуазного и мелкобуржуазного влияния. Именно борьба классов и партий внутри Советов позволила бы трудящимся на практическом опыте быстрее изжить свои заблуждения и стать на сторону пролетариата.
Дело коренным образом изменилось, когда на повестку дня выдвинулся вопрос о насильственном свержении власти капиталистов и помещиков. Без завоевания масс и отрыва их от мелкобуржуазных партий, окончательно перешедших в лагерь контрреволюции, нечего было и думать о создании политической армии пролетарской революции. «Суть дела в том,—писал Ленин,— что победить этих новых обладателей государственной власти могут только революционные массы народа, условием движения которых является не только то, чтобы они были руководимы пролетариатом, но и то, чтобы они отвернулись от предавших дело революции партий эсеров и меньшевиков» 2.
Переход к новой тактике борьбы за социалистическую революцию Ленин неразрывно связывал с изживанием конституционных иллюзий. Нужна была повседневная ^работа— легальная и нелегальная—110 литической, а затем и технической подготовке воору женного восстания.
Важное значение для уяснения пролетариатом °с0 енностей новой обстановки и вытекающих из нее зада имело расширенное совещание Центрального Комитета
* "Г"’ С"бР' С°4 ’ Т- 3< еТР' 17,
228
PC Я Pl 1(6) от 13—14 июля, обсудившее тактические положения. разработанные В. И. Лениным в тезисах «Политическое положение» ’. В принятой совещанием резолюции говорилось, что задачей пролетариата в данных условиях является «разоблачение всяких контрреволюционных мероприятий, беспощадная критика реакционной политики мелкобуржуазных вождей, укрепление позиции революционного пролетариата и его партии, подготовка сил к решительной борьбе за осуществление программы этой партии, если ход кризиса позволит, в действительно массовом общенародном размере. Этот период подготовки и накопления сил требует от партии исполыювания всех организационных возможностей» 1 2.
Как видим, резолюция, хотя и не в прямой форме, ориентировала пролетариат на подготовку к вооруженной борьбе за власть. Правда, некоторые тактические вопросы в ней не были четко сформулированы. Отсутствовало. например, указание на необходимость снятия лозунга «Вся власть Советам!». В целом же этот документ помогал партийным организациям понять своеобразие момента и соответствующим образом перестроить свою работу. Резолюция распространялась отдельной листовкой, а также была опубликована в ряде газет: «Рабочем и солдате», «Социал-демократе» (Москва). «Пролетарском деле» (Кронштадт), «Знамени борьбы» (Выборг), «Рабочем» (Казань), «Уральской правде», «Приволжской правде», «Вперед» (Уфа), «Голосе социал-демократа» (Киев), «Пролетарии» (Харьков), «Това-ртгше» (Минусинск) и др.
О новой расстановке классовых сил и задачах трудящихся говорилось также в воззвании II общегородской Петроградской конференции РСДРП(б) (16— 30 июля), в решениях многих местных организаций. Общегородская конференция петроградских большевиков в специальной резолюции об агитационно-пропагандистской работе подчеркивала ее главную цель: «...вовлечение в политическую жизнь самых широких масс
1 На совещании кроме членов ЦК присутствовали представители Петербургского комитета, Военной организации, Московского областного бюро, Московских городского и окружного комитетов.
’ «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I. М., 1954, стр. 370.
229
рабочих и солдат... превращение несознательного, бунтарски настроенного рабочего и солдата в сознательного, стойкого, отдающего себе отчет во всей сложности стоящих перед нами социально-экономических и политических задач,— социал-демократа интернацио-
Партия использовала все возможности для разоблачения перед массами планов и замыслов контрреволюции, предательской деятельности меньшевиков и эсеров. Она систематически давала отпор клеветнической кампании против большевиков, вождя революции Ленина. На страницах большевистских газет «Рабочий и солдат», «Пролетарий», выходивших вместо закрытой «Правды», публиковались статьи, уличавшие лидеров меньшевистско-эсеровского блока в трусости и пресмыкательстве перед буржуазией, вскрывавшие контрреволюционный характер их политики. Большой разоблачительный материал, послуживший революционному воспитанию масс, дала поднятая в середине июля буржуазией и меньшевистско-эсеровским блоком шумная кампания вокруг так называемого Государственного
совещания и само совещание.
Символическое рукопожатие
буржуазия вынашивала мысль о военной, генеральской диктатуре, без всяких прикрытий, вроде коалицион-
ного правительства. В подготовке такой диктатуры важная роль отводилась так называемому Государственному совещанию, которое призвано было сплотить контрреволюционные силы России. Местом созыва совещания заправилы капиталистов избрали Москву. Революционная столица — Петроград — казалась им не подходящим местом для подобного форума.
Вновь прибегая к маскировке, ОК в резолюции от 14 июля заявлял: в стране «имеются достаточно широкие круги буржуазии, понимающие, что объективное положение страны повелительно диктует всем классам, имеющим будущее, охранение и укрепление завоевании революции» 1 2. В то время как буржуазия не скрывала
1 «Вторая и третья Петроградские общегородские конф® ренции большевиков в июле и октябре 1917 г.» Протоколы материалы. М., 1927, стр. 34—35.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 9, л. 41.
230
своего классового подхода к вопросу о власти, меньшевики продолжали пускать словесный туман о «надклассовом» правительстве. Главную задачу совещания они видели в том, чтобы на такой «надклассовой» основе сплотить все «живые силы» страны (прежде всего, конечно, буржуазию). «Рабочая газета» писала, что в Москве «впервые за время революции встретятся на нейтральной почве представители революционной демократии и организованной буржуазии. Встретятся — и открыто, всенародно вынуждены будут ответить на вопрос, готовы ли они подчинить свои групповые интересы общенародным, готовы ли они объединиться для закрепления завоеваний революции и для защиты страны»
Открыто, цинично меньшевики отрекались от самой идеи классовой борьбы. В капиталистическом государстве, где контрреволюционная буржуазия, жестоко расправившись с пролетариатом, укрепляла свое единовластие, соглашатели ратовали за правительство, способное представлять общенародные интересы.
Только большевики, несмотря на гонения и преследования, смело говорили правду о предстоящем Московском совещании, разоблачали его контрреволюционную сущность и позорное участие мелкобуржуазных партий в его подготовке. 6 августа ЦК РСДРП (б) в специальной резолюции о Московском совещании писал: «Государственная власть в России целиком переходит в настоящий момент в руки контрреволюционной империалистической буржуазии при явной поддержке мелкобуржуазными партиями эсеров и меньшевиков... Для закрепления своего влияния и своих позиций контрреволюционная буржуазия стремится создать сильный общероссийский центр, объединить свои силы и выступить во всеоружии против пролетариата, против демократии. Этой цели и призвано служить созываемое на 12 августа Московское совещание» 1 2. В резолюции говорилось далее, что совещание имеет своей задачей подделать общенародное мнение и ввести тем самым широкие народные массы в обман, санкционировать контрреволюционную политику, подкрепить своим авторите-
1 «Рабочая газета», 15 июля 1917 г.
2 Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 — февраль 1918, стр. 13, 14.
231
том репрессии против рабочих и крестьян. «Московское совещание, прикрываемое и поддерживаемое мелкобуржуазными партиями — эсерами и меньшевиками — на деле является заговором против революции, против народа»
В день открытия совещания ЦК РСДРП (б) обратился к пролетариату с воззванием, выдвинув перед ним следующие задачи:
«1) Сорвать с совещания маску народного представительства, выставив на свет его контрреволюционную, противонародную сущность;
2) разоблачить меньшевиков и эсеров, прикрывающих это совещание флагом «спасения революции» и вводящих народ в обман;
3) организовать массовые митинги протеста против этой контрреволюционной махинации «спасителей»... барышей помещиков и капиталистов» 1 2.
ЦК призывал проводить митинги, по примеру пути-ловцев собирать в знак протеста средства в пользу гонимой и преследуемой партийной печати. В то же время ЦК предупреждал о возможных провокациях, советовал в связи с такой угрозой воздержаться от уличных выступлений.
Двумя днями раньше, 10 августа, резолюцию по поводу совещания приняла Московская общегородская конференция большевиков. В ней указывалось, что, стоя на точке зрения ЦК РСДРП, конференция считает необходимым предложить делегатам на совещании организовать там все революционные элементы вокруг требований последовательной демократии и, огласив нашу декларацию, разоблачающую предательскую политику буржуазии и соглашательских вождей, демонстративно покинуть совещание. Конференция призвала пролетариат Москвы, в соответствии с решением представителей 41 профессионального союза, к однодневной стачке протеста 3.
1 Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 — февраль 1918, стр. 14.
2 Там же, стр. 11.
3 ~См. «Социал-демократ», 12 августа 1917 г. Собрание правлении 41 профсоюза Москвы совместно с Центральным бюро профсоюзов состоялось в ночь на 8 августа. Классовый характер и подлинные цели совещания охарактеризовал в своем докладе
232
10 августа ЦИК Советов принимает формальное решение об участии в совещании. Заседание ЦИК было бурным. Большевики требовали энергичного противодействия контрреволюционным силам, если уже нельзя сорвать совещание. О том, что «затевается дело контрреволюционное», говорил и Мартов, он также высказался против участия в совещании. Меньшевики Вайнштейн, Богданов, Либер доказывали необходимость участия. По предложению Богданова большевики и меньшевики-интернационалисты в состав делегации не были включены \ они покинули зал заседания.
Призывы большевистской партии нашли горячую поддержку в рабочем классе, в особенности среди московского пролетариата. Сохранилась стенографическая запись объединенного заседания Московских Советов рабочих и солдатских депутатов от 11 августа. Докладчики от Центрального бюро профессиональных союзов, союза работников почт и телеграфов, союза булочников, от районов Москвы единодушно осудили совещание, как сборище контрреволюции, и заявили о непреклонной воле трудящихся ответить на него забастовкой, митингами протеста. Они требовали от Московских Советов рабочих и солдатских депутатов принять решение в этом духе и возглавить забастовку. «Если вы этого не сделаете,— говорил представитель Центрального бюро профсоюзов Познанский,— вы этим заявите, что 300 тысяч организованных в профессиональные союзы рабочих являются бунтарями» * 1 2.
За забастовку и митинги протеста высказались представители Лефортовского, Рогожского, Москворецкого, Хамовнического, Сущевско-Марьинского, Дорогомиловского, Бутырского районов. Как правило, решения принимались общие с представителями профсоюзов и фаб-
И. И. Скворцов-Степанов. Меньшевики и эсеры, пытаясь отрицать контрреволюционную сущность совещания, призывали принять в нем участие. Собрание подавляющим большинством голосов приняло резолюцию, предложенную А. А. Андреевым, с протестом против совещания и с призывом к однодневной стачке протеста.
1 См. «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 11 августа 1917 г.
2 «Известия Московского Совета рабочих депутатов» 1 и И августа 1917 г. Приложение к № 158. Стенограмма соединенного заседания Советов рабочих и солдатских депутатов.
233
завкомов. Вот что сообщил представитель Москворецкого района о совместном совещании Совета рабочих депутатов и заводских комитетов: «Обсуждался вопрос о Московском совещании, о московском союзе мертвецов и была принята резолюция после долгих прений которая гласит о том, что наш район выражает протест и объявляет однодневную забастовку. Резолюция эта была принята 186 голосами против 45 меньшевиков»
После докладов с мест выступили докладчики от большевиков (Смидович), меньшевиков (Кибрик) и объ-единенцев. Кибрик применил все софизмы, бывшие в ходу у меньшевиков, чтобы убедить присутствующих в необходимости участия в совещании, предотвратить протесты. Смидович отстаивал позицию большевистской партии, решительно поддержал представителей трудящихся. Он заявил, что соглашатели еще могут расстроить выступление трудящихся. «Вы еще для этого достаточно сильны, но это будет ваш последний удар, и если вы это сделаете, ваше влияние в рабочих массах рухнет... а Советы погибнут позорной смертью» 1 2.
Заседание приняло меньшевистскую резолюцию, но когда Ногин от имени большевистской фракции внес поправку о необходимости массовых митингов и однодневной забастовки протеста, ее отклонили незначительным большинством — 28 голосами (за поправку было подано 284 голоса, против — 312) 3.
Сам ход заседания и результаты голосования показали, что закат меньшевиков не за горами. Острый, непримиримый конфликт с рабочим классом становился все очевиднее. Меньшевики были уже не в силах повлиять на ход событий, навязать трудящимся свою точку зрения. 12 августа пролетарская Москва забастовкой выразила решительный протест против совещания контрреволюционеров.
Сама обстановка, в которой началось совещание, как нельзя лучше отражала классовый смысл происходивших событий. Остановились фабрики и заводы, замер городской транспорт. Бастовало 400 тысяч московских
1 «Известия Московского Совета рабочих депутатов» 1 и И августа 1917 г. Приложение к № 158.
2 Там же.
3 См. «Известия Московского Совета рабочих депутатов»» 12 (25) августа 1917 г.
234
рабочих. Не сбылись надежды контрреволюционных лидеров буржуазии на то, что провинциальная Москва окажется для них более гостеприимной, чем столица России. Московский пролетариат, не испытавший столь тяжелых ударов июльской реакции, как питерский, от-* четливо выразил свою волю и продемонстрировал силу, сплоченность. В то же время он лишил провокаторов возможности организовать еще одну бойню 1. В обстановке того времени стачка была наиболее подходящей формой протеста.
Уже в первые дни Московского совещания полностью подтвердились оценки, которые давали ему большевики1 2. Начиная от царских почестей генералу Корнилову и кончая открыто черносотенными выступлениями, все обнажало антинародные замыслы контрреволюции. Сомнений не оставалось: речь шла об установлении военной диктатуры. Выступавшие генералы и вожди буржуазии — Каледин и Корнилов, Маклаков и Милюков и многие другие под одобрительный рев присутствовавших требовали запрещения митингов и собраний, упразднения Советов и комитетов, установления «сильной власти». Типичной в этом отношении была речь генерала Каледина, который по-солдатски прямо поставил точки над «и», требуя выбросить на свалку все демократические организации, прежде всего Советы. Явно глумясь над меньшевиками и эсерами,
1 О том, что такая бойня готовилась, свидетельствует следующий факт. 12 августа, т. е. в день начала совещания, соглашательский президиум Совета рабочих и солдатских депутатов принял специальное постановление о создании коллектива из представителей Советов и штаба, которому предоставлялись фактически неограниченные полномочия.
2 Об истинном характере и классовом облике совещания можно судить по его составу. Общее число участников составляло 2114 человек, из них от четырех Государственных дум — 488 человек, от Крестьянского союза —100, от Советов —100, от исполкома объединенных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов—129, от городов —147, от земского и городского союза —168, от торгово-промышленных организаций и банков — 150, от технических организаций — 99, от трудовой интеллигенции—83, от армии и флота — 117, от^ духовенства и Духовных организаций — 90, от сельскохозяйственных обществ — 51, от кооперативов — 313, от промышленных союзов — 176, комиссаров Временного правительства — 33, представителей военного ведомства — 216 и др.
235
он заявил, что именно они, а не кто другой, позаботились о вызове в Петроград казаков в июльские дни.
Как же вели себя на совещании меньшевики? Можно было ожидать, что выступивший сразу после Каледина, этого ярого контрреволюционера, председатель ЦИК Советов, один из наиболее маститых лидеров меньшевизма — Чхеидзе заявит решительный протест против злостных нападок на Советы и почти открытого требования военной диктатуры. Но этого не случилось. Никто не опроверг Каледина, заявившего, что министры-социалисты пригласили казаков для расправы с демонстрантами 3 июля. В. И. Ленин писал по этому поводу: «Никто не посмел опровергнуть Каледина на Московском совещании, потому что он сказал правду. Каледин издевался над меньшевиками и эсерами, которые вынуждены были молчать. Им плюнул казачий генерал в физиономию, а они утерлись и сказали: «божья роса»!» 1.
Чхеидзе ограничился тем, что от имени ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов, исполнительного комитета крестьянских депутатов и ряда других организаций зачитал декларацию.
В ней не было малейшего намека на осуждение контрреволюционного террора, направленного против рабочего класса, антидемократических мероприятий правящих кругов и их попыток установления бонапартистской диктатуры. В декларации излагалась та минимальная экономическая программа соглашательского блока, которую они провозгласили в первые месяцы революции. В сравнении с прежними меньшевистскими резолюциями и декларациями ее авторы, учитывая общую политическую конъюнктуру, делали даже шаг назад, навстречу интересам буржуазии, особенно в рабочем вопросе.
Выступая, как и прежде, с «внеклассовых» позиций, соглашатели благословляли правительство на продолжение старой политики, «в духе отказа от империалистических целей и стремления к скорейшему достижению всеобщего мира на демократических началах». Декларация призывала «привилегированных и имущих» склониться «перед высшими интересами стра-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 127.
236
пы» I Выдвигались требования монополии на хлеб твердых цен, контроля над производством, регулирования промышленности, установления высокого единовременного поимущественного налога, принудительного размещения займа. Как следует из текста декларации, наибольшую тревогу ее авторов вызывало «нерадение рабочих и проявление несознательности рабочих масс». Они предлагали меры по регулированию отношений между трудом и капиталом при помощи примирительных камер. Правда, в декларации говорилось и о восьмичасовом рабочем дне с допущением сверхурочных работ, о неотложных мерах по охране труда. Но центр тяжести и на этот раз явно переносился на претензии к рабочим. Не оставалось сомнения, что и в дальнейшем будут предприниматься попытки затормозить их борьбу против капиталистов.
В области аграрного вопроса декларация выдвигала в основу урегулирования земельных отношений следующие пункты: всякие захваты земель отвергаются; непосредственное упорядочение поземельных отношений производится земельными комитетами «без нарушения существующих форм землевладения»; «издание законов и инструкций, определяющих права и обязанности земельных комитетов» 1 2.
Не более «радикальной» была и программа по национальному вопросу: требование декларативного признания правительством права наций на самоопределение, осуществление которого по-прежнему откладывалось до Учредительного собрания; признание равноправия языков, создание при Временном правительстве Совета по национальным делам в целях подготовки материалов по этому вопросу к Учредительному собранию. Вот и все, что содержала национальная программа «революционной демократии». Она вполне отвечала интересам буржуазии, о чем свидетельствовал хотя бы тот факт, что речь Чхеидзе неоднократно прерывалась аплодисментами, и не только слева.
Совершенно иной характер носила декларация большевиков, которую им не дали возможности прочесть, и она была сдана в президиум совещания. Декларация
1 «Государственное совещание». Стенографический отчет. М.—Л., 1930, стр. 79—80.
2 Там же, стр. 83.
237
разоблачала подспудные цели совещания и неприглядную роль соглашателей в нем. Она заканчивалась следующими словами:
«Мы, члены революционной партии пролетариата, явились сюда не для того, чтобы вступать в переговоры с врагами революции, а для того, чтобы протестовать от имени рабочих и беднейших крестьян против созыва контрреволюционного сбора, чтобы разоблачить перед всей страной истинный его характер. Но нам решили закрыть рот, и это решение проведено при содействии эсеров и меньшевиков из советского большинства. Однако мы уверены, что наш голос и наш протест дойдут до народных масс, которые все более сплачиваются вокруг нас, вокруг революционной партии пролетариата. От имени его мы заявляем: пролетариат не допустит торжества буржуазных насильников. Пролетариат доведет революцию до конца, обеспечит крестьянам землю, народу — мир, хлеб и свободу» L
Таким образом, перед нами два совершенно противоположных документа; хотя обе партии, представившие их, называли себя рабочими и марксистскими, но уже по их декларациям на совещании можно безошибочно сказать, что одна из них подлинно революционная и подлинно марксистская, а вторая оппортунистическая.
На совещании выступал еще один вождь меньшевизма— Церетели. Он употребил свое красноречие главным образом на то, чтобы доказать, что революционная демократия не раз спасала «революцию» (т. е. власть буржуазии), в том числе в июльские дни, и что поэтому она не заслужила тех пинков, которые получила на совещании от лидеров буржуазии. Не возражая в принципе против ликвидации Советов, он считал, что это делать преждевременно. Вместе с тем он совершенно ясно выразил ту мысль, что Советы — учреждения вспомогательные и временные и что они обречены на отмирание. «Нельзя еще убирать эти леса,— заявил он,— когда здание свободной революционной России не достроено» 2. Оратор утверждал, что с созданием общественных самоуправлений Советы сами, добровольно
1 «Социал-демократ», 15 (28) августа 1917 г.
1 «Государственное совещание», стр. 122.
238
передадут им власть. Одним из центральных мотивов в речи Церетели была защита идеи союза «революционной демократии» с буржуазией. Он призывал к «честной», «реальной» коалиции.
Но буржуазия уже думала не о коалиции, для нее коалиция являлась пройденным этапом. Это дал понять выступавший вслед за Церетели кадетский вождь Милюков и другие представители капитала. Для них вопрос о военной диктатуре был предрешен. И все же в период совещания кандидат в новые Бонапарты и те, кто его поддерживал, не осмелились совершить переворот. Главная причина — организованный протест московского пролетариата, игнорировать который было невозможно. Обстановка, в которой проходило совещание. в значительной мере объясняет причину известного, позорного для меньшевиков публичного рукопожатия вождя «рабочей» партии (по крайней мере, она так себя именовала) и одного из крупнейших представителей торгово-промышленного мира — А. А. Бубликова ’. Преданность социалистов буржуазии была вполне доказана и раньше, на совещании же они вновь протянули руку выразителям ее интересов. Руку приняли. Союз буржуазии и соглашателей еще не исчерпал себя. «Эта рука, заявляю я от торгово-промышленного класса, не повиснет в воздухе!» — патетически воскликнул Бубликов.
Символическое рукопожатие Церетели и Бубликова отражало скорее прошлое коалиции соглашателей с буржуазией, чем будущее. Коалиция потерпела крах во всех областях внутренней и внешней политики. Ленин со всей ясностью видел это. Он писал, что власть уже у Калединых, которые получают ее повседневно по частям в виде уступок со стороны меньшевиков и эсеров (разгром большевистской печати, репрессии). Решительный поворот в политике, подчеркивал Ленин, если бы того даже захотели соглашатели, уже невозможен без революции. «Ибо власть уже в других руках, уже не у «революционной демократии», власть уже захвачена и укреплена»?. Соглашательство, как мелко-
1 А. А. Бубликов — прогрессист, член Государственной думы четвертого созыва, член Совета и Комитета съездов торговли и промышленности.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 129.
239
буржуазное направление в рабочем движении и как оп-портунистическая, реформистская политика, в России приближалось к своему историческому финалу.
2. Рост влияния большевистской партии и прогрессирующее ослабление социальной базы меньшевизма
Курс Надежды соглашателей на то, что на вооруженное большевики не смогут устоять ппо-восстание и ~
мелкобуржуазные тив столь яростной травли и сойдут партии со сцены, были слишком радужны.
Большевистская партия не согнулась под градом репрессий, она еще больше сплотила свои ряды, закалилась идейно, укрепила веру в торжество своего дела. Наглядным свидетельством этого явился VI съезд партии и предшествовавшие ему конференции местных большевистских организаций. Всего накануне съезда состоялось свыше 20 конференций — областных, губернских, окружных и городских. Они показали, что, хотя в круто изменившейся обстановке не у всех организаций была полная ясность в вопросах тактики, большевики были едины в оценке происшедших событий и предательской роли соглашательских партий. Они твердо держали линию на социалистическую революцию. Действуя в условиях преследований и клеветнических наветов, большевистские организации бесстрашно защищали интересы трудящихся, с честью выполняли свою авангардную роль в классовой борьбе пролетариата.
Идейное единство и боевой дух партии с особой силой проявились на VI съезде РСДРП(б), состоявшемся 26 июля — 3 августа 1917 г. Это был один из тех съездов большевистской партии, которые созывались в моменты крутых исторических поворотов и имели определяющее значение для судеб страны и мирового развития. Съезд готовился и проходил под руководством Ленина, находившегося в то время в глубоком подполье, ленинским духом проникнуты все его решения. Съезд проанализировал ход политических событий, поведение классов и партий на протяжении закончившегося периода мирного развития революции, вскрыл причины временного торжества контрреволю-
240
„ионной буржуазии и наметил задачи партии в новых исторических условиях.
В основных докладах съезду и отчетах с мест, в принятых им решениях и манифесте, обращенном ко всем трудящимся, была вскрыта предательская роль меньшевиков и эсеров. Именно вожди соглашательских партий воспрепятствовали мирному переходу власти в руки Советов, низвели их к положению подсобных учреждений Временного правительства. Еще в период апрельского кризиса меньшевики и эсеры спасли правительство капиталистов, прикрыв его коалицией, а в июльские дни выступили на стороне контрреволюции, против пролетариата. «Меньшевики и эсеры,— говорилось в манифесте,— исполняя волю буржуазии, разоружили революцию и тем самым вооружили контрреволюцию. Им буржуазия предоставила заняться грязным делом усмирения и разгрома... Разоружив рабочих, расформировав полки революции, нагнав в центр казаков, они связали себя по рукам и ногам, они превратились в привесок буржуазного правительства» 1.
Исходя из реальной обстановки и соотношения классовых сил, съезд указал перспективы дальнейшего развития революции и выработал тактические установки партии. «Правильным лозунгом в настоящее время,— говорилось в резолюции «О политическом положении»,— может быть лишь полная ликвидация диктатуры контрреволюционной буржуазии. Лишь революционный пролетариат, при условии поддержки его беднейшим крестьянством, в силах выполнить эту задачу, являющуюся задачей нового подъема» 2. Это был лозунг подготовки вооруженного восстания. Съезд подчеркивал, что успешность осуществления выдвинутого лозунга находится в зависимости от того, как быстро и прочно большинство народа осознает гибельность надежд на соглашательство с буржуазией, отвернется от меньшевиков и эсеров.
Со времени Апрельской конференции жизнь на каждом шагу подтверждала правильность взятой большевистской партией линии на разрыв, размежевание с
1 «Шестой съезд РСДРП(б)». Протоколы. М., 1958, стр. 274— 275.
2 Там же, стр. 256.
Н. рубаи 241
меньшевиками там, где существовали общие с ними организации В то же время партия стремилась присоединить к себе все интернационалистские элементы, готовые порвать с оборонцами, привлечь под свои знамена те слои трудящихся, которые шли за ними.
К VI съезду РСДРП (б) были подготовлены условия для вхождения в нашу партию межрайонной организации, насчитывавшей в то время 3—4 тысячи членов Возникшая в 1913 г. в Петербурге межрайонная организация включала в себя троцкистов, часть меньшевиков-партийцев, впередовцев, часть бывших большевиков-примиренцев. Организация стояла на центристских позициях, под флагом «единства» вела борьбу против решений Пражской конференции РСДРП. В годы войны межрайонцы проводили интернационалистскую политику. После Февральской революции под давлением рабочих они все больше склонялись к слиянию с большевистской партией. Еще в марте вели переговоры с Бюро ЦК и ПК по этому вопросу и встретили благожелательное отношение. Но слияние не состоялось по вине руководителей «межрайонки», которые не отказались еще от старой идеи объединения большевиков с меньшевиками. На заседании ПК 21 марта представитель «межрайонки» И. Юренев (К. К. Кротовский) заявил: «Наша точка зрения: желательно объединение с большевиками и меньшевиками»1 2. В дальнейшем вхождение «межрайонки» в большевистскую партию тормозил возвратившийся из эмиграции лидер этой организации Троцкий, который хотел привести ее на объединительный съезд как самостоятельную партию и сохранить возможность после объединения проводить свою небольшевистскую линию.
В мае на конференции межрайонной организации Ленин выдвинул конкретный план объединения; он заявил, что Центральному Комитету РСДРП будет немедленно предложено включить в состав редакции «Правды», которую имелось в виду превратить во все-
Ьз ’ад
1 См. выступление Я. М. Свердлова на второй (июльской) Петроградской конференции РСДРП (б) в кн.: «Вторая и третья Петроградские общегородские конференции большевиков в июле и октябре 1917 г.», стр. 24.
2 «Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 63.
242
российскую популярную газету, и в состав ЦО, который предполагалось создать в ближайшем будущем, по одному представителю межрайонцев. Предлагалось также включить двух представителей в состав организационной комиссии. Что касается меньшевиков-интернационалистов (мартовцев), то Ленин заявил: «Если меньшевики, сторонники Мартова, порвут с «оборонцами», включение их делегатов в названную комиссию — желательно и необходимо» 1.
Конференция межрайонцев не приняла предложения Ленина. Она предлагала созвать Всероссийский съезд организаций и групп, стоящих на точке зрения Циммервальда — Кинталя. Судя по всему, Троцкий рассчитывал, что после объединения партия будет проводить не большевистскую, а его, троцкистскую, линию. Он заявил, что согласен с большевиками «постольку, поскольку русский большевизм интернационализировался. Большевики,— говорил он,— разболь-шевичились, и я называться большевиком не могу... Признания большевизма требовать от нас нельзя... Старое фракционное наименование нежелательно...» 2.
Через несколько дней после конференции межрайонцев «Правда», опубликовав текст предложений Ленина и резолюцию конференции, писала: «Объединение всех действительных интернационалистов, на наш взгляд, является неотложным делом. Пусть товарищи рабочие выскажут свое мнение как можно скорее. Пусть скажут они, какой путь ближе и вернее ведет к цели: предложенный Центральным Комитетом нашей партии или другой» 3.
Последующий ход событий, особенно июльское наступление реакции, ускорил вхождение «межрайонки» в большевистскую партию. Отдельные ее члены все чаще стали самостоятельно переходить к большевикам. Так, например, поступил В. А. Антонов-Овсеенко, вступивший в РСДРП(б) еще в мае. Представитель «межрайонки» Чудновский был включен в состав Организационного бюро по созыву VI съезда партии.
Что касается меньшевиков-интернационалистов
1 Ленинский сборник IV. М.—Л., 1925, стр. 302.
* Там же, стр. 303.
8 «Правда», 2 июня (20 мая) 1917 г.
243
(группа Мартова), то они, хотя и не пожелали пойти на разрыв с оборонцами, были приглашены на съезд с совещательным голосом. На II общегородской Петроградской конференции большевиков Я. М. Свердлов говорил: «С меньшевиками-интернационалистами в провинции у нас резких разногласий нет, но, ввиду их нерешительности в вопросе разрыва с оборонцами, работать совместно с ними становится все труднее и труднее, и поэтому решено пригласить их представителей также с совещательным голосом»
В это время возникла трещина и в самом интернационалистском крыле меньшевиков: от него отпочковались более левые элементы, в основном из Василеостровской организации во главе с Ю. Лариным (М. Лурье), группировавшиеся вокруг журнала «Интернационал». Представитель этой самой левой группы меньшевиков Ларин присутствовал с совещательным голосом на VI съезде партии. В августе часть меньшевиков-васи-леостровцев порвала со своей партией и вступила в РСДРП(б).
VI съезд принял межрайонцев в партию. Наряду с такими людьми, как Троцкий, который пришел в большевистские ряды с тяжелым грузом меньшевистского прошлого и долгих лет борьбы против ленинизма, многие из межрайонцев стали замечательными работниками партии, беспредельно преданными делу рабочего класса. Самую светлую память оставили по себе Урицкий, Чудновский, Луначарский и другие.
Лидеры меньшевиков-интернационалистов, несмотря на приглашение, на съезд не явились; они так и не нашли в себе силы разорвать пуповину, связавшую их с остальным меньшевизмом. Мартов и Астров ограничились тем, что прислали в адрес съезда приветственное письмо. Они высказывали в нем возмущение клеветнической, антибольшевистской кампанией. Но вместе с тем заявляли, что не могут пойти на объединение с нашей партией. «К сожалению, глубокое расхождение в вопросе о методах рабочего движения и революционной борьбы делает все еще невозможным то объединение всех партийных элементов, оставшихся верными
1 «Вторая и третья Петроградские общегородские конференции большевиков в июле и октябре 1917 Г.», стр. 24.
244
знамени интернационализма, которое само по себе привело бы к удесятерению силы социалистического пролетариата России и влияния его на ход революции» ’.
Это заявление шло ,вразрез с той трескотней об объединении с большевиками, которая в июле вновь была поднята меньшевистской партией. Возобновившиеся разговоры об объединении были странными и нелепыми, тем более что адресовались партии, против которой сами меньшевики вели клеветническую кампанию.
В связи с предстоящим объединительным съездом меньшевиков ОК вступил в переговоры с ЦК РСДРП (б) о совместном созыве съезда для объединения партии. Этот шаг имел, конечно, чисто формальное значение, он был предпринят в соответствии с решением майской меньшевистской конференции. Меньшевистские вожди не могли сомневаться в том, что большевики на объединение не пойдут, и сами не собирались объединяться. Считая, что июльские события внесли смятение и растерянность в большевистскую партию, меньшевики решили еще раз попытаться расстроить ее ряды шумными разговорами об объединении. Особое усердие проявляла «Новая жизнь». Большевистская газета ответила на эту шумиху редакционной статьей «Объединительная нелепость», в которой писала: «Именно сейчас большевики и меньшевики находятся в совершенно противоположных условиях: большевизм как течение всесильно преследуется; меньшевизм как течение всемерно поощряется. Большевики сидят за двойной тюремной решеткой «Крестов», меньшевики торжественно заседают в совете министров. И вот в такой острый момент политически близорукие люди все-таки не могут расстаться со своей жалкой, нелепой, поистине утопической идеей объединения большевиков и меньшевиков в рамках одной политической партии» 2.
Резолюция VI съезда РСДРП(б) «Об объединении партии» не оставляла никаких сомнений относительно позиции, занятой большевистской партией. В ней говорилось: «Раскол между социал-патриотами и революционными интернационалистами в России — раскол, закрепленный и в мировом масштабе,— с каждым днем
’ «Шестой съезд РСДРП (б)». Протоколы, стр. 194.
«Рабочий и солдат», 3 (16) августа 1917 г.
245
становится все глубже и глубже. Меньшевики, начавшие оборончеством, закончили самым позорным союзом с контрреволюционной буржуазией, вдохновляя и санкционируя гонения на интернационалистские организации, на рабочую печать и т. д. и т. д. Превратившись в прислужников российского и союзного империализма, они окончательно перешли в стан врагов пролетариата» *.
Резолюция призывала настойчиво разоблачать предательство меньшевиков. Проповедь единства с ними, исходившая прежде всего от группы беспочвенных интеллигентов из «Новой жизни», расценивалась как тяжелый удар по интересам пролетариата. Лозунгу един
ства с соглашателями партия по-прежнему противопоставляла классовый, революционный лозунг единства
всех интернационалистов, порвавших на деле с меньшевиками-оборонцами.
Громадное историческое значение VI съезда партии
состоит в том, что он дал курс на вооруженное восстание, определил формы и методы ее работы в новых условиях классовой борьбы пролетариата, всесторонне разработал политическую и экономическую платформу. Съезд показал, что, имея глубокие корни в пролетариате, большевистская партия быстро умножает свои силы. Никакие гонения не могут ее сломить. Этой партии, как и классу, который она представляла, принадлежало будущее.
Каково же было состояние меньшевистской партии в июле — августе? Какие процессы и тенденции харак-
теризовали ее внутреннее развитие?
Усиление противоречий и разброда в меньшевистской партии. «Объединительный» съезд
Антинародная коалиционная политика меньшевиков, их прислужничество перед буржуазией и в особенности соучастие в контрреволюционном походе против рабочего класса и большевистской партии — все это окончательно подорвало престиж партии.
ослабило ее идейно и организационно. Усилились разногласия, которые уже давно раскалывали ее ряды. Об этом убедительно свидетельствуют, в частности, конференции ее местных организаций и так называемый
’ Шестой съезд РСДРП (6Ь>. Протоколы, стр. 269.
246
объединительный съезд меньшевистской партии, состоявшийся в августе.
15 июля открылась общегородская конференция меньшевистской организации Петрограда. Оказалось, что уже по первому вопросу, о кризисе власти, она раскололась на две равные части: на интернационалистов (мартовцев) и оборонцев. С докладами выступали Мартов и Дан. Поименное голосование тезисов, представленных докладчиками, дало следующие результаты: за резолюцию Мартова проголосовало 36 человек, за резолюцию ОК — 37 человек. Ввиду этого конференция не в состоянии была принять какое-либо решение, не смогла даже избрать руководящий орган. Предложение оборонцев о создании центрального комитета на паритетных началах отклонили интернационалисты. Надо полагать, что мартовцы видели неудержимое падение престижа оборонцев и ставили на них крест; что же касается их отношения к большевистской партии, то после июльских дней они, как и все меньшевики, считали, что ее уже можно не принимать во внимание как политическую силу !. В этих условиях меньшевики-интернационалисты надеялись занять доминирующее положение в рабочем движении.
В надежде на то, что быстротекущие события изменят политическую конъюнктуру и сложится другое соотношение сил, конференция была перенесена на 5 августа. Действительно, интернационалисты на этот раз имели некоторый, хотя и небольшой, перевес: 59 против 49. Они вновь не согласились следовать принципу пропорционального представительства, предлагали оборонцам только третью часть мест в комитете (7 из 21). Последние отказались принять эти условия, и комитет был избран из интернационалистов.
Так столичная организация меньшевиков раскололась на две почти равные части, с небольшим преобладанием на стороне интернационалистов. Конечно, между правым и левым крылом меньшевистской партии по-прежнему не было непроходимой пропасти. Как
J Видный меньшевик Астров заявил на конференции, что «сейчас условия для раскола благоприятны для нас, ибо главный наш противник слева, большевики, лежат на земле, а от об°ронцев рабочий класс уходит все дальше...» («Рабочая газе-та». 18 июля 1917 г.).
247
заявлял на конференции Мартов, расхождение интернационалистов и оборонцев состоит не в программных, а в тактических вопросах. Да и в тактике противоречия между ними были не столь уж глубокие. Если сравнить политические оценки текущим событиям, то можно обнаружить довольно существенные различия двух частей меньшевизма. Но в практических выводах они недалеко уходили друг от друга.
На указанных конференциях в Петрограде меньшевики-интернационалисты проявили особенно сильные колебания в вопросе о власти. Они сетовали на то, что власть оказалась в руках «контрреволюционных групп имущих классов». В то же время повторяли тезис официального меньшевизма о возможности участия в правительстве определенных кругов буржуазии, согласных с программой «революционной власти». Теперь речь шла уже не о переходе власти к Советам, а об их контроле над правительством, о давлении на него с целью «противодействовать давлению... могущественных сил контрреволюции»
В. И. Ленин резко критиковал Мартова за эти колебания, за его неустойчивость. До июльских событий, когда была возможность безболезненного перехода власти к Советам, Мартов не поддерживал этого лозунга; после 4 июля такая возможность исчезла, и именно в это время Мартов и его сторонники допускали возможность взятия Советами власти в свои руки. В начале августа они делают новый поворот, заявляя, что власть должна остаться в руках Временного правительства, так как попытка передачи ее Советам может вызвать гражданскую войну. При этом не объяснялось, почему опасности не было в июле. Меньшевики-интернационалисты, прибегая к тому же приему, что и оборонцы, твердили об угрозе гражданской войны.
Как видим, у меньшевиков-интернационалистов было много общего с оборонцами и во взглядах и в приемах борьбы, с ними они продолжали состоять в единой партии. Все же было бы неправильно недооценивать того факта, что со времени майской конференции левое крыло меньшевизма значительно усилилось и основная трещина, которая тогда откалывала незначи-
1 «Рабочая газета», 16, 17, 19 июля и 9 августа 1917 г.
248
тельную ее часть слева, теперь передвинулась далеко вправо. В условиях нараставшей революции центр меньшевистской партии размывался, разрывался на части, которые притягивались к противоположным флангам. Особенно заметно возросла поляризация сил в петроградской организации меньшевиков. Это объяснялось прежде всего тем, что волна революции поднималась быстрее всего именно здесь.
Кроме мартовской фракции меньшевиков-интернационалистов образовалась еще одна интернационалистская группа — вокруг газеты «Новая жизнь» (на словах — нефракционной, а на деле — левоменьшевистской). В эту группу входили Рожков, Линдов, Базаров и другие. Она имела кое-где на местах небольшие ячейки1. Следует отметить, что в тот период усилилось левое крыло и в эсеровской партии. Это было симптоматично: колеблющиеся мелкобуржуазные партии являлись своего рода барометром, который показывал те или иные изменения политической погоды: если стрелка шла вправо, значит, перевес сил складывался в пользу реакции, если же она двигалась влево, можно было делать вывод, что революция нарастает.
Состоявшаяся в начале августа общегородская конференция московской меньшевистской организации показала, что и там усилился разброд, произошла известная передвижка сил влево. Об этом можно судить хотя бы по тому факту, что явно оборонческое дополнение Югова к резолюции по текущему моменту было отклонено большинством 40 против 22. Но различия между оборонцами и интернационалистами здесь проявлялись слабее, чем в Петрограде, и тенденции к расколу были менее значительны. Представительница правого крыла Зарецкая не без основания заявила, что грань, разделяющая оборонцев и интернационалистов, «весьма не ясна; не удивительно поэтому, что часто наблюдается переход из одного лагеря в другой» 1 2. На конференции
1 Н. Суханов писал, что некоторые считали новожизненцев чуть ли не большевиками. «Но это было не так: от мартовцев их, в общем и целом, было невозможно отличить даже под микроскопом» (Н. Суханов. Записки о революции, кн. 5. Берлин — Петербург — Москва, 1923, стр. 187).
2 «Вперед» (орган московской организации меньшевиков), 12 (25) августа 1917 г.
249
имелась группа примиренцев, которая всячески стара* лась сгладить противоречия и предупредить раскол.
Однако и на этой конференции наблюдался идейный разброд. В выступлениях делегатов явно прорывались настроения пессимизма и разочарования, предпринимались попытки чем-то заменить не оправдавшую себя тактику. Докладчик о текущем моменте — один из меньшевистских вождей, Г. А. Кипен, заявил, что «переживаемый нами кризис революции, вызывающий растерянность вплоть до обывательского страха, есть в то же время кризис социал-демократии, в частности, меньшевизма... Методы нашей мирной кампании и нашей борьбы с финансово-экономической разрухой оттолкнули от нас широкие слои населения... Вокруг нас образовалась пустота...» L
Причину кризиса докладчик видел в отсутствии в России организованной и политически воспитанной мелкой буржуазии, которая могла бы стать между пролетариатом и буржуазией. Он предлагал искать опору в лице третьей силы — эсеров.
Другой видный руководитель московских меньшевиков, Исув, объяснял причину кризиса «бесхарактерностью» и неорганизованностью основных классов (буржуазии и пролетариата), но выразил сомнение в том, что надо делать ставку на эсеров. Большинство организаций придерживалось официальной точки зрения: привлекать к власти те слои буржуазии, которые поддерживают программу «революционной демократии», освободить Советы от «несвойственных им функций» власти, поддерживать Временное правительство. В этом духе и была принята резолюция по текущему моменту.
Конференция проявила много изворотливости, чтобы объяснить причину провала меньшевистской программы и тактики борьбы за мир. Оказывается, «переоценка роли пролетариата в нашей революции и ее международного значения» породили надежду на быстрое заключение мира, а тактика-то была рассчитана на «постепенное пробуждение и организацию в борьбе за мир сил русской и международной демократии» 2. Следовательно, меньшевики сами разъясняли, что их тактика и
' «Вперед», 8 (21) августа 1917 г.
2 «Вперед», 18 (31) августа 1917 г.
250
не была рассчитана на быстрое завоевание мира, пока что она имела в виду только «пробуждать и организовывать».
Представляют интерес и материалы о конференциях в периферийных организациях. Последние прошли вяло, бесцветно. Из докладов и выступлений видно, что на местах почти повсеместно царил организационный хаос, внутренние раздоры, организации стояли в стороне от рабочего движения. На многих конференциях указывалось, что рядовые члены партии потеряли интерес к политическим вопросам, усилилась пассивность и апатия. «В настоящее время интерес к политическим вопросам падает. Доклады на политическую тему рабочую массу не захватывают» (Витебская губернская конференция) *. «Собрания посещались плохо оттого, что политические вопросы не ставились» (Нижегородская губернская конференция)1 2. «Собрания проходят очень вяло, политические вопросы не обсуждаются» (уездная конференция в Купянске)3.
Хотя резолюции принимались, как правило, в духе официального меньшевизма, но чувствовалось полевение и на местах, голосования были недружные, кое-где со стороны интернационалистов раздавались требования прекратить репрессии против большевиков, распустить Государственную думу. Так, например, Витебская губернская конференция записала в резолюции, что она «находит крайне вредными и нежелательными действия правительства, направленные против части социал-демократов в лице большевиков» и что правительство «слишком мягко и снисходительно относится к слугам и сторонникам старого режима» 4.
В целом же тенденции к дальнейшему углублению внутренних противоречий в меньшевистских организациях и усиление левых элементов нисколько не уменьшали реформистского, оппортунистического характера меньшевистской партии. Меньшевики оставались меньшевиками.
Особенно ясная картина усилившегося идейного и организационного разброда раскрылась на объедини
1 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 18, л. 3.
2 Там же, л. 16.
3 Там же, л. 15.
4 Там же.
251
тельном съезде меньшевистской партии (16—29 августа). На съезде, имевшем своей целью объединить все меньшевистские течения, были представлены организации с общим числом членов 193 тысячи. Первое место по количеству членов занимала закавказская организация меньшевиков — почти 43 тысячи; столько же насчитывали вместе Московская и Северо-Западная области России, включая Москву и Петроград. На съезде участвовали с правом решающего голоса представители Бунда, объединявшие в то время 18 тысяч членов
В центре внимания съезда стоял вопрос: политическое положение страны и задачи рабочего класса. На обсуждение его ушло три дня — почти половина всех заседаний съезда. И не удивительно: после того как меньшевистская соглашательская тактика потерпела крах, руководящая верхушка партии приложила все силы к тому, чтобы обосновать правильность своей политики и тем самым спасти идеи и престиж меньшевизма. С другой стороны, были предприняты судорожные попытки выйти из политического тупика, в который зашла меньшевистская партия после шести месяцев пребывания у власти вместе с буржуазией. Задача эта была не только сложная, но прямо-таки невыполнимая. Существовавшие ранее в партии противоречия не только не сгладились на объединительном съезде, но, наоборот, обострились.
По первому вопросу выступало четыре докладчика: Церетели, Потресов, Мартов и Авилов, представлявшие основные меньшевистские течения, но полемика фактически шла между двумя лагерями: оборонцами (Церетели, Потресов, Либер, Богданов) и меньшевиками-интернационалистами (Мартов, Авилов, Абрамович, Пилецкий, Яхонтов и др.). В спорах меньшевистских лидеров о политической линии и задачах партии на первый план выдвинулся вопрос о роли буржуазии: является ли она после свержения самодержавия движущей силой общественного развития. В соответствии с этим решался вопрос о правильности всей меньшевистской политики, в частности линии на коалицию. Нелег
1 См. «Рабочая газета», 27 августа 1917 г.; «Постановления объединительного съезда РСДРП (18—28 августа 1917)». Рязань, 1917, стр. 3—4.
252
кую задачу оправдать соглашательскую политику меньшевизма взял на себя Церетели, который при этом побил собственные рекорды оппортунизма и словесной эквилибристики. Отводя буржуазии по-прежнему руководящую роль не только в революции, но и после ее победы, он пытался доказать, что в силу отсталости страны русская буржуазия оказалась неспособной создать надклассовое правительство, которое могло бы осуществить «общенациональную задачу». В этом он видел особенность русской революции, породившую идею коалиции. Чтобы обосновать необходимость коалиции с буржуазией, Церетели выдвинул также тезис о начавшемся расхождении между пролетариатом и крестьянством, между пролетариатом и солдатами, об угрозе изоляции пролетариата. Он расхваливал новое коалиционное правительство.
Политику союза с буржуазией Церетели преподносил как политику пролетариата, который, по его словам, создал «общенациональную платформу». Он повторил свой старый тезис об «отслойке» части буржуазии, которая «не могла воспринять всех задач и миссий революции». В то же время он признал: «Вокруг нашей платформы не удалось организовать всех трудящихся... Анархистские выступления части пролетариата и армии поставили эту часть в антагонизм со всей демократией». Меньшевистский вождь не постеснялся пойти на самую наглую ложь: он заявил, что на Московском совещании якобы была создана платформа, которая обеспечивала за пролетариатом руководящую роль в революции. Церетели не выдвинул перед партией каких-либо задач, кроме одной: «бесстрашно идти против анархии» (т. е. против большевизма, против революции).
Ярым защитником политики соглашения с буржуазией выступил также Потрессв. Он утверждал, что буржуазия еще не сыграла своей революционной роли и что только она может спасти страну от гибели. Потре-сов, ссылаясь также на отсталость страны, стремился доказать, что русская буржуазия не стала империалистической, а если в течение шести месяцев она мало
1 См. «Постановления объединительного съезда РСДРП (18—26 августа 1917 г.)», стр. 6—8.
253
сделала прогрессивного, то в этом виновата не буржуазия, а... пролетариат, который «не показал своего государственного лица», так как ему не хватало-де «западноевропейской выучки». «Вот почему самое страшное, что произошло в этой революции,— говорил он,— это то, что начиная с марта и апреля месяца буржуазия увидела, что именно государственного смысла, витающего над поверхностью общественной жизни, пролетарские слои не обнаружили» 1.
Даже в меньшевистской аудитории вызвало возгласы протеста заявление Потресова о том, что якобы пролетариат, как и буржуазия, действовал под лозунгом «Обогащайтесь!». Попало и союзнику пролетариата— крестьянству, о котором Потресов отозвался как о самом аморфном в мире. Другими словами, единственную движущую силу общественного развития Потресов находил в буржуазии. Социал-демократическая партия, по его мнению, «есть партия совершенного капиталистического развития, и именно эта партия должна взять на себя задачу поддержания этого развития...» 2 Вот какую задачу выдвигал Потресов перед своей партией, и это была точка зрения не только его одного, но и всего оборонческого большинства меньшевистской партии.
Что же противопоставило этой открыто оппортунистической, соглашательской философии интернационалистское крыло меньшевистской партии? Доклад его лидера — Мартова показал, что хотя в ряде вопросов левое крыло меньшевизма отошло от политической линии партии, но в целом группа Мартова оставалась на меньшевистских позициях, проявляла слабость и неустойчивость, политические колебания.
Мартов защищал основное стратегическое положение меньшевизма о роли буржуазии как движущей силы демократической революции, но, по его мнению, эта роль закончилась, как только революция победила. Вместе с тем он считал, что буржуазия еще полностью не исчерпала своих революционных возможностей. «Разумеется,— говорил он,— было бы смешно сказать, что имущие классы России отныне уже представляют
1 ЦПА ИМЛ, ф. 275, он. 1, од. хр. 12, л. 17,
,J Там же, л. 15.
254
по отношению к трудящимся классам сплошную реакционную массу... Нельзя сказать, что эти классы уже сейчас, на данной стадии революции, представляют собой контрреволюционные массы, с резким антагонизмом противоречий, противопоставленных демократическим массам, особенно пролетариату» ’.
Какая же общественная сила, по мнению Мартова, выдвигалась на первый план в качестве движущей силы революции после свержения самодержавия? Мартов повторил знакомый уже нам тезис о том, что такой силой является городская и сельская мелкая буржуазия. Для союза пролетариата и крестьянства, утверждал он, время еще не пришло. Вместе с тем Мартов правильно говорил о консолидации контрреволюционных сил после 3—5 июля, об их стремлении к власти; он отмечал, что коалиционное правительство уже есть «безмолвный блок с силами военными, контрреволюционными».
Мартов резко критиковал политическую линию официального меньшевизма. «Для нас,— говорил он,— та политическая линия, которую вело большинство меньшевистской партии до сих пор... представлялась от начала до конца политикой полного забвения и отрицания пролетарского марксизма, революционной стороны марксизма» * 2. Однако революционной стороны марксизма не постиг и сам Мартов, как и все шедшее за ним левое крыло меньшевиков. Именно поэтому Мартов, как и представители правого крыла, не смог выдвинуть каких-либо конкретных политических задач, за которые должны бороться его партия и рабочий класс. Справедливо критикуя настоящее, он не видел путей в будущее и не мог указать их пролетариату. Мартов был умнее Церетели и, может быть, остальных меньшевистских вождей, но он, как и вся возглавляемая им оппозиция, не мог вырваться из рамок мелкобуржуазной психологии и должен был разделить судьбу всего меньшевизма.
Свойственные левому крылу меньшевистской партии колебания, лавирование, отсутствие политической перспективы проявлялись и в докладе новожизненца
’ ЦП А НМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 12, л. 11.
2 Там же, л. 13, 14.
255
Авилова. Отмежевываясь от большевиков, он в то же время признает, что за ними идет большинство пролетариата и поэтому с ними нельзя не считаться. Он резко критикует меньшевистскую партию за то, что она вызвала в широких кругах пролетариата недоверие к себе, за ее поведение в июльские дни. «Я думаю,— говорил он,— что товарищи меньшевики сделали не только ошибку, но и преступление, когда расправились с другой частью пролетариата таким ужасным образом — против оружия, на силу надо отвечать силой, но не обвинениями в измене» *. Тут же докладчик давал понять, что он, критикуя меньшевиков, исходит не из симпатий к большевикам, а из того факта, что политика преследований «увеличила их ореол в глазах пролетариата и обострила ненависть к ним всех темных элементов» 1 2.
После окончания докладов возник конфуз: оказалось, что ни один из четырех докладчиков не сформулировал задач партии. Мартов внес предложение, чтобы докладчикам было дано дополнительно по 15 минут специально с целью определить основные направления политики партии. Но и получив дополнительное время, они не смогли этого сделать. Церетели и Потресов повторили зады об усилении «обороны» и борьбе с «максималистскими настроениями» в рабочем классе, т. е. с революцией. Мартов использовал все отпущенное ему время для критики предложений Церетели, а сам вновь не выдвинул каких-либо позитивных задач.
А каковы же дальнейшие пути развития рабочего движения, революции в целом? Какова роль партии в этом движении, какова ее тактическая линия? На эти вопросы не смогли ответить лидеры основных течений меньшевизма, и это было весьма симптоматично. Партия не имела задач, не имела будущего. Отсутствие идейного единства и перспектив движения, разочарование в оппортунистической политике своей партии, ее вождей были выражены в выступлениях делегатов с мест. Вот, например, что говорил делегат из Донбасса: «Вы мечтаете о том, чтобы рукопожатие Бубликова воплотилось в жизнь. Нужно громадное лицемерие, чтобы в каком бы то ни было случае рабочий класс
1 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 12, л. 24.
2 Там же.
256
согласился на обуздание революции для спасения страны. Ведь ему нечего спасать, если он потеряет последнее» ’. Делегат из Кишинева говорила: «Растет изоляция между Советами депутатов и рабочей массой: между меньшевиками, единственной в России социал-демократической партией европейского типа, и той же массой. На всех нас лежит печать проклятой упадочности, когда вся страна идет вниз по нисходящей линии революции» 1 2. Для меньшевиков нарастание революции казалось упадком.
По вопросу о политическом моменте и задачах партии было предложено четыре резолюции. Большинством в 112 голосов против 57 при 12 воздержавшихся съезд принял резолюцию ОК, предложенную Церетели, в которой были изложены основные положения доклада Церетели. Результаты голосования показали, что «революционные» оборонцы вместе с просто оборонцами еще имели перевес сил в партии, но он уже не был столь подавляющим, как раньше: треть делегатов не проголосовала за тактическую резолюцию, внесенную от имени ОК главным лидером партии, трубадуром «революционного» оборончества 3. Хотя на повестке дня специально стоял вопрос о войне, о мире, в резолюции о политическом моменте внимание акцентировалось прежде всего именно на решении военной задачи и «привлечении» к этому буржуазии.
По вопросу о войне и мире выступило три докладчика: Либер (оборонец), Мартынов (интернационалист) и Суханов («Новая жизнь»). В речах оборонцев не было чего-либо нового. Подчеркивалась задача «отражения неприятельского нашествия», на которую должна быть направлена «вся воля российского пролетариата» 4. Вместе с тем выражалась поддержка идее Стокгольмского совещания, в провале которой уже едва ли кто-нибудь сомневался.
Интернационалисты предлагали разорвать с союзниками и повести сепаратную войну против Германии.
1 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 12, л. 49—50.
2 Там же, л. 44.
3 Резолюция Мартова собрала 79 голосов, а резолюция ярого оборонца Потресова — всего лишь 9 голосов.
4 «Постановления объединительного съезда РСДРП (18— 26 августа 1917 г.)», стр. 12.
17 Н. Рубан 257
Они считали, что таким путем будет покончено с империалистическими целями воины и откроется возможность заключения сепаратного мира. Эта идея меньшевиков-интернационалистов была бы неплоха, если бы они не забыли об одной «мелочи»: свое-то, Временное правительство — тоже империалистическое, и, чтобы война перестала быть грабительской, надо порвать с этим правительством путем свержения его. Это еще один показатель слабости и беспомощности левых элементов в меньшевизме. Они не порвали с мелкобуржуазным мировоззрением и не восприняли классовой, пролетарской идеологии *.
Большинством в 95 голосов против 44 при 14 воздержавшихся была принята в целом резолюция Либера1 2. Упоминавшиеся ранее резолюции объединительного съезда по земельному и национальному вопросам не приковали к себе особого внимания съезда и не вызвали раскола в его среде. По этим вопросам фактически не было прений. Меньшевистскую партию мало интересовали социальные проблемы, волновавшие трудящихся. Хотя в резолюции Церетели о политическом моменте и задачах партии признавалось, что нужды народа остались неудовлетворенными, «в народных массах растет глухое недовольство», давались широковещательные обещания «решительных реформ», резолюции по аграрному и национальному вопросам представляли собой пустые отписки. Рабочий вопрос не был даже поставлен в повестку дня. Те, кто еще надеялся, что меньшевики в конце концов станут решительно отстаивать интересы народа, должны были потерять последнюю надежду и отвернуться от соглашателей.
Потерпела фиаско идея объединения всех меньшевистских течений, которая выдвигалась в качестве основной задачи съезда. Вместо объединения получалось дальнейшее разъединение. Интернационалистские элементы не согласились с явно оппортунистическими решениями съезда. Уже на второй день его работы,
1 Церетели имел некоторое основание заявить в адрес меньшевиков-интернационалистов: «Ваша агитация еще и потому не страшна, что всякий солдат не пойдет за большевизмом второго сорта, когда есть большевизм первого сорта».
Л9М- «Постановления объединительного съезда РСДРП (18—26 августа 1917 г.)», стр. 12.
258
22 августа, делегат от петровской группы РСДРП 3. Ширинский в записке президиуму съезда заявил, что приехал на съезд с императивным мандатом, организация. его пославшая, поручила ему поддерживать и проводить все социал-демократические решения. Но при создавшемся положении он не может выполнить возложенных на него задач и в работах съезда участвовать не будет. Съезд, писал он, является «фракционным съездом оппортунистических течений социал-демократии» ’.
Делегат Ново-Николаевской организации Коваленко внес резолюцию о текущем моменте, которая требовала передать власть в руки Советов. Интересно, что за нее все же было подано б голосов1 2. Во время выборов ЦК многие объединенные организации заявили, что не согласны с резолюциями, принятыми съездом, и потому не будут участвовать в выборах, переносят вопрос о присоединении к партии на обсуждение своих организаций.
Представители московской объединенной организации заявили, что, поскольку она примыкает к интернационалистическому течению, а принятые съездом постановления носят ярко оборонческий характер, вопрос о присоединении московской объединенной организации к меньшевикам будет ими перенесен на разрешение Московской городской конференции. Организация отказалась принять участие в выборах ЦК3.
Киевский делегат Шварцман сообщил, что он участие в выборах примет, но своей группе предоставляет право самой решать, в какой мере она сохраняет за собой свободу политических выступлений 4. То же самое говорили представители самарской, петрозаводской, славянской и некоторых других организаций.
Группа из 26 делегатов во главе с петроградской делегацией интернационалистов подала съезду заявление, в котором говорилось, что резолюции, принятые съездом, санкционируют практику сотрудничества с бур-
1 «Рабочий», 8 сентября (26 августа) 1917 г.
2 Так как меньшевистская печать не опубликовала эту резолюцию, она была напечатана в большевистской газете «Рабочий путь» 8 сентября (26 августа) 1917 г.
• ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 13, л. 39.
4 Там же, л. 57.
259
жуазиеи. Группа заявила далее, что она, хотя и примет участие в выборах ЦК, оставляет за собой право вые™ пать с критикой решений партии, будет мобилизовы' вать партийные массы, не согласные с этими решения ми, в целях воздействия на центральные учреждения '
Членьг редакции «Новая жизнь» В. Строев Б Тайлов, Ст. Вольский подали в президиум съезда заявление, в котором отмечалось, что «позиция, занятая большинством съезда по вопросу о политической линии партии и об отношении к войне, означает фактический отказ от самостоятельной политики партии рабочего класса, от революционных методов борьбы и разрыв с идеями Интернационала... значительная часть российской социал-демократии (фракции большевиков) не только осталась вне объединяющейся части, но и не было сделано никаких шагов к объединению с ней». Ввиду этого «задача создания единой классовой, революционной и интернационалистической партии оказалась неосуществленной» 2. К этому заявлению присоединились еще 12 делегатов местных партийных организаций.
Группа левых меньшевиков (Сандомирский, Попов, Ларин, Павлов, Берг и другие — всего 12 человек) внесла в президиум съезда официальный протест против заявления Богданова и его единомышленников, объявивших своей задачей войну с большевиками.
Таким образом, меньшевистская партия на объединительном съезде с новой силой продемонстрировала свою идейную и организационную дряблость. Она расползалась по всем швам, как гнилой сюртук.
Хотя меньшевистский съезд избрал наконец ЦК, но
даже неискушенным политикам стало ясно, что партия идет под откос и в идейном, и в политическом, и в организационном отношении. Съезд не дал ей поли ги-ческой перспективы, не выработал тактической линии. Под давлением партийных низов, прежде всего рабочих, числившихся еще меньшевиками, значительная часть партии стала в оппозицию к официальному меньшевизму, который значительно поправел и фактически слился с правым, откровенно оборонческим течением.
* См. «Рабочая газета», 26 августа 191 < г.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 13, л. 45.
260
Лидерам меньшевистской партии пришлось выслушать на съезде справедливые обвинения в оппортунизме, измене рабочему классу, в соглашательстве и реформизме.
Однако меньшевики-интернационалисты, хотя и обвиняли партию в оппортунизме, произносили почти «революционные» речи, по-прежнему оставались в партии Чхеидзе — Церетели. Они приняли участие в выборах ЦК и вошли в его состав (в ЦК было избрано 17 оборонцев и 8 интернационалистов, в том числе Мартов, Мартынов, Абрамович и другие видные представители этого течения). Вместе с тем меньшевики-интернационалисты избрали свой руководящий орган — Центральное бюро (временное центральное бюро существовало и до съезда, оно было создано после майской конференции). Они стали выпускать свой центральный орган — газету «Искра» I
В редакционной статье первого номера этой газеты мартовская фракция провозгласила свое политическое кредо: бороться на два фронта — против оппортунистической части меньшевистской партии и против большевиков, ставящих своей задачей установление диктатуры пролетариата. Мартов и его сторонники вообразили себя третьей силой внутри рабочего движения и попытались усесться между двух стульев. Тем самым они обрекли себя на политическую смерть. В тот момент, когда антагонистические классы и их ведущие партии выходят на последний, решающий бой, нельзя удержаться посредине. Усиление и дальнейшее организационное оформление левого, интернационалистского крыла партии явилось закономерной реакцией на прогрессировавший оппортунизм.
Многие рядовые меньшевики-интернационалисты уже требовали организационного отмежевания от оборонцев. Вопрос об отношении к РСДРП (объединенной) 1 2 обсуждался в конце сентября на собрании актива интернационалистов всех районов Петрограда. Ряд ораторов указывал на невозможность пребывания интернационалистов в одной партии с оборонцами. Однако
1 Выходила с сентября по декабрь 1917 г. Всего вышло 12 номеров.
2 Официальное название меньшевистской партии после объединительного съезда.
261
Массы пошли за большевиками. Борьба с корниловщиной и ее уроки
под давлением Мартова и Мартынова решение отложили до расширенного собрания \ а практически — навсегда.
Правда, на объединительном съезде еще преобладало правоцентровое большинство, голосами которого и были приняты пустые, анемичные резолюции, санкционировавшие явно провалившийся соглашательский, коалиционный курс партийного руководства. Но не оставалось никакого сомнения в том, что партия находилась в состоянии тяжелого кризиса. Об этом свидетельствовали многие факты: усиление идейного и организационного разброда, полная теоретическая беспомощность, проявившиеся на съезде при решении основных политических и экономических вопросов. История меньшевизма приближалась к финалу.
Мы располагаем весьма скудными сведениями о численном росте меньшевистской партии и об изменениях ее классового состава. Однако есть все основания утверждать, что и после
Февраля, находясь в положении правящей, она развивалась не как пролетарская и не только в идейном смысле, но и в отношении своего состава. За счет революционного пролетариата росла партия большевиков.
Немалый интерес представляют сравнительные данные о численности и динамике роста большевистских и меньшевистских организаций ряда городов после всероссийских конференций и вплоть до съезда каждой партии (в большевистской партии — апрель и июль, в меньшевистской — май и август). Расстояние между съездами и конференциями одинаковое — три месяца, и это дает известное основание для такого сравнения.
Каковы же эти данные?
К VI съезду РСДРП(б) большевистская партия насчитывала 240 тысяч, меньшевистская не намного меньше — около 200 тысяч. Но за счет кого росли эти партии? Возьмем прежде всего колыбель революции — Петроград. Со времени Апрельской конференции до VI съезда столичная организация большевиков выросла с 16 тысяч до 40 тысяч — в 2,5 раза. Меньшевистская организация со времени майской конференции до объ-
1 См. «Новая жизнь», 30 сентября (13 октября) 1917 г.
202
единительного августовского съезда увеличилась с /200 человек до 8600 человек — на 19 процентов *. Петроградская организация большевиков в численном отношении превосходила меньшевистскую почти в 5 раз. Володарский имел полное основание заявить на VI съезде: «Мы являемся идейными гегемонами громадной части питерского пролетариата» 1 2.
Бурный рост большевистских рядов и падение удельного веса меньшевистской партии наблюдались и в Москве. Здесь за указанное время большевистская организация также выросла более чем в 2 раза — с 7 тысяч до 15 тысяч, меньшевистская — с 3 тысяч до 5600. т. е. на 86 процентов. Меньшевиков в Москве было в 2,7 раза меньше, чем большевиков, причем влиянием в рабочем классе они почти не пользовались. Докладчик от московской организации Подбельский отмечал на VI съезде РСДРП(б): «Переходя к меньшевикам, надо прежде всего указать, что их организация по преимуществу оборонческая и интеллигентская по составу. В рабочих кварталах есть небольшое количество рабочих меньшевиков, но поведение меньшевистской думской фракции, умывшей руки по вопросу о введении смертной казни, вызвало протест со стороны рабочих-меньшевиков» 3.
В таком пролетарском центре, как Екатеринослав, большевистская организация за три месяца увеличилась с 1500 до 3500 членов, меньшевистская — с 800 до 2500. Здесь также большевики сохраняли за собой большой перевес над меньшевиками в городском пролетариате. В Перми (Мотовилихе) большевистская орга-низация с апреля по июль возросла с 1600 до 2600 членов. Меньшевиков же к августу в городе насчитывалось
1 Данные о численности большевистских организаций здесь и в последующем приведены по докладам с мест на Апрельской конференции и VI съезде партии, по анкетам, заполненным делегатами VI съезда. Использована также публикация В. В. Аникеева «Сведения о большевистских организациях с марта по декабрь 1917 г.» См. «Вопросы истории КПСС» X? 2, Ху 3, 1958. Данные о меньшевистской партии почерпнуты из анкет объединительного съезда (ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1. ед. хр. 14, 15, 17, а также «Партийные известия» № 5—6, 20Х— 1917 г.). Сравнительные подсчеты проведены автором.
2 «Шестой съезд РСДРП (б)». Протоколы, стр. 44.
1 Там же, стр. 56.
293
всего 325 Вообще на Урале, как уже отмечалось, большевики имели громадное преобладание над меньшевиками. Последние были слабы и в Прибалтике. На VI съезде партии указывалось: «В Риге есть группа эсеров... Меньшевиков же и днем с огнем не найти. Есть 5—б меньшевиков-интернационалистов, старых вождей партии, но массы не идут за ними» 1 2.
Таким образом, в крупнейших пролетарских центрах меньшевики не имели базы для роста своих рядов. Они по-прежнему пополнялись за счет мелкобуржуазных слоев населения.
Было бы, однако, неправильно думать, что к этому времени меньшевистская партия сходила на нет повсеместно. В ряде городов, даже промышленных, меньшевики еще были многочисленны. В Харькове большевистская организация к апрельской конференции составляла 1200, к VI съезду партии — 2400 членов, меньшевистская с мая по август увеличилась с 2000 до 3100; в Саратове большевистская организация соответственно составляла 1600 и 3000, меньшевистская —1300 и 2700; в Самаре большевистская — 2700 и 4000, меньшевистская—1000 и 2500,
Пущенная меньшевиками в июльские дни гнусная клевета против нашей партии и ее вождя оказала некоторое влияние только на случайные и мелкобуржуазные элементы в партии, и то лишь в первое время. Докладчик от Поволжья на VI съезде партии Васильев-Южин говорил: «Первое время была растерянность и даже некоторый отлив рабочих из наших организаций (Саратов). Затем это прошло, и в некоторых местах Поволжья замечается новый прилив рабочих к нам» 3. Следует также учитывать, что меньшевиков по-прежнему укреплял не только блок с эсерами, но и наличие родственных им националистических партий на окраинах, в особенности Бунда, который еще до объединительного съезда, когда произошло формальное объединение, фактически представлял одно целое с меньшевистской партией. Кое-где, особенно на Украине и в
1 Ко времени майской конференции меньшевиков организация былс1 объединенная, и данных о количестве меньшевиков нет.
2 «Шестой съезд РСДРП (б)». Протоколы, стр. 86.
3 Там же, стр. 91.
264
Белоруссии, организации Бунда были довольно многочисленны.
О неуклонном росте авторитета и влияния больше-вистскои партии в рабочих массах свидетельствовали и другие факты результаты полных или частичных выборов в Советы, выборов муниципальных органов и всякого рода общественных организаций, в которых рабочие все решительнее и определеннее становились на сторону большевиков. Еще в июле и августе (до корниловского мятежа) при перевыборах Астраханского, Выборгского, Ковровского, Дмитровского Советов, Совета матросских и офицерских депутатов Одесского порта и ряда других Советов преобладание получили большевики. На заводе «Треугольник» в Петрограде в Совет рабочих и солдатских депутатов было избрано 16 человек, 11 из них — большевики. В Выборгском районе большевики получили две трети всех голосов и завоевали 37 мест, в Петроградском районе — 23 места, в Василеостровском — 32 *. В докладе на VI съезде партии Володарский говорил, что если в Петроградском Совете мы не имели большинства, то только потому, что представительство рабочих и солдат в нем было неравномерное: 500 тысяч рабочих имели меньше представителей, чем 100 тысяч солдат1 2.
В Москве выборы в городскую думу проходили в условиях грязной клеветнической кампании, направленной против большевиков, но они дали не столь уж плохие результаты: большевики собрали 75 тысяч голосов и завоевали 23 места в Думе; меньшевики получили 24 места, объединенцы—12 мест, плехановская группа «Единство» не получила ни одного места, эсеры получили 106 мест3.
Как сообщала меньшевистская газета «Новая жизнь», последние выборы уполномоченных в больничную кассу заводов Нового и Старого Лесснера дали следующие результаты: из 100 уполномоченных было избрано 15 социалистов-революционеров, 5 меньшевиков
1 См. «Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов». Сборник документов. М.. 1957, док. № 188, стр 234; № 207, стр. 256; № 212, стр. 261-262; № 225, стр. 276—^277; № 232, стр. 284; № 263, стр. 321—322.
2 См. «Шестой съезд РСДРП (б)». Протоколы, стр. 45.
3 См. там же, стр. 57.
265
и 80 большевиков. До этого большевиков среди уполномоченных было менее половины. На заводе Эриксона из 60 уполномоченных избрано 7 меньшевиков, 14 эсеров и 39 большевиков. На заводе «Треугольник» из 100 уполномоченных — 65—70 большевиков. На Франко-Русском заводе при перевыборах вместо эсера и двух меньшевиков оказались избранными большевики. На заводе «Лангезиппен» вместо прежнего депутата был избран большевик Газета с горькой иронией отмечала, что, как и ожидали многие, после июльских дней в рабочем классе произошел перелом, но в противоположную сторону.
Рабочие коллективы посылали приветствия большевистской партии, выносили резолюции с требованием прекратить кампанию клеветы и преследований. Пути-ловцы, например, писали: «Мы, рабочие Путиловского завода, собравшиеся на общий митинг в количестве 6 тыс. человек... заявляем о том, что мы, как один, все становимся под знамя партии пролетариата (большевиков) для борьбы с контрреволюцией и изменнической политикой руководящих верхов и вождей оборонческих партий (социалистов-революционеров и меньшевиков) и все присоединяем свой пролетарский голос к приветствиям и резолюциям съезда по делу Ленина и других» 2.
Процесс высвобождения трудящихся масс, прежде всего пролетариата, из плена мелкобуржуазных иллюзий, преодоления доверчивости к соглашателям проходил нарастающим темпом. Июльские дни не ослабили, а усилили этот процесс. В то же время меньшевистская партия теряла массы, разлагалась идейно и организационно. Это особенно наглядно проявилось в те августовские дни, когда над страной нависла угроза военной диктатуры.
Не закрылся еще меньшевистский съезд, как в стране развернулись события, которые как бы подвели черту под коалиционной политикой соглашателей: начался мятеж генерала Корнилова. Сдав Ригу немцам, он двинул свои войска на Петроград. Пользуясь уступчивостью и поддержкой соглашателей, буржуазия во
2 с“ _<<Новая жизнь», 3 (16) августа 1917 г.
«Рабочий и солдат», 1 августа 1917 г.
266
главе с партией кадетов решила окончательно сосредоточить в своих руках всю полноту власти, установив в стране военную диктатуру, нанести смертельный удар по революции.
Историческое значение восстания Корнилова Ленин видел в том, что оно открыло массам глаза на ту истину, которая усиленно прикрывалась соглашательской фразой эсеров и меньшевиков. «...Помещики и буржуазия, с партией к.-д. во главе, и стоящие на их стороне генералы и офицеры сорганизовались,— писал Ленин,— они готовы совершить и совершают самые неслыханные преступления, отдать Ригу (а затем и Петроград) немцам, открыть им фронт, отдать под расстрел большевистские полки, начать мятеж, повести на столицу войска с «дикой дивизией» во главе и т. д.— все это ради того, чтобы захватить всю власть в руки буржуазии, чтобы укрепить власть помещиков в деревне, чтобы залить страну кровью рабочих и крестьян»
Выступление Корнилова было приурочено к полугодовщине Февральской революции. Вдохновители мятежа рассчитывали, что в этот день рабочие выйдут на улицу и захват власти можно будет начать с расстрела революции. Накануне мятежа предпринимались попытки спровоцировать выступление рабочих, распространялись слухи о готовящемся выступлении, но большевистская партия разгадала замысел контрреволюции и призвала трудящихся не поддаваться на провокацию, сохранять полную выдержку и спокойствие.
С началом корниловской авантюры разразился новый, самый глубокий кризис власти. Воспользовавшись формальным предлогом, представители кадетской партии в правительстве ушли в отставку, продемонстрировав тем самым свою непосредственную связь с мятежом. Один из кадетских министров, Ф. Ф. Кокошкин, недвусмысленно заявил: «Коалиционное правительство, по нашему мнению, сейчас существовать не может» * 2. Класс буржуазии через своих представителей разъяснял соглашателям, что в них больше нет нужды.
Выступать или не выступать против заговора Корнилова — для большевистской партии не существовало
* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 146.
2 «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 29 августа 1917 г.
267
такого вопроса. Именно она явилась организатором разгрома корниловщины, и массы шли за ней, а не за какой-либо иной партией. И мелкобуржуазные партии выступили против корниловщины. В стороне от событий в эти дни остаться не мог никто. В данной обстановке нельзя было перейти и в лагерь корниловцев, не противопоставляя себя народу. Своим участием в борьбе против контрреволюционного мятежа соглашатели хотели прикрыть тот факт, что корниловщина — порождение их коалиционной политики. Но здесь-то и обнаруживалось бессилие меньшевиков и эсеров. Вожди соглашательства, которые еще совсем недавно спешили похоронить большевистскую партию, теперь почувствовали, что только она может повести массы за собой, что без большевиков нельзя подавить контрреволюционный мятеж. Именно это заставило их не только ‘отказаться от репрессий против большевиков, но и пойти на создание единого с ними фронта демократических сил для борьбы против корниловщины. 27 августа на пленарном заседании ВЦИК и исполкома Совета крестьянских депутатов был образован «Комитет народной борьбы с контрреволюцией». В состав комитета вошли представители президиума ЦИК и исполнительного комитета крестьянских депутатов, политических партий, Всероссийского совета профессиональных союзов, Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и др. Подавляющее преобладание в комитете получили соглашатели, большевики вошли в него только с информационной целью, сохраняя полную самостоятельность политической линии ’. Подобные комитеты создавались и на местах (в Москве, Вятке, Царицыне, Н. Новгороде, в Полтаве и других городах). Это был временный союз для борьбы с контрреволюцией, но отнюдь не политический блок с оборонцами. В. И. Ленин решительно предупреждал, чтобы большевики под влиянием момента не допустили примиренчества и блокизма. Узнав,
1 На заседании ЦК РСДРП(б) был поднят вопрос о выходе из комитета в связи с тем, что многие большевики, подвергшиеся репрессии в июле, еще продолжали находиться в тюрьмах, вождь партии В И. Ленин не мог выйти из подполья. Но ЦК решил оставаться в комитете, указав, что это решение может быть принято лишь в общей связи с вопросами о вооружении рабочих и о власти» («Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 —февраль 1918». М., 1958, стр. 32).
268
что в Москве наметились подобные явления ', он был очень обеспокоен и требовал строжайшего расследования.
Хотя меньшевики выступали против корниловщины вместе с большевиками, но цели и тактические задачи были у них различные: меньшевистско-эсеровский блок спасал Временное правительство, которое продолжало оставаться буржуазным, антинародным; большевики же. выступая против мятежников, продолжали разоблачать это правительство, видоизменяя форму борьбы с ним применительно к новым условиям. На первый план выдвинулись задачи разоблачения этого правительства, усиления агитации за своего рода частичные требования: ареста наиболее реакционных лидеров буржуазии, вооружения рабочих, разгона Государственной думы и пр. Следовательно, и в борьбе с Корниловым большевики имели в виду свою основную цель — свержение власти капиталистов и помещиков. «Неверно было бы думать,— писал в те дни В. И. Ленин в ЦК партии,— что мы дальше отошли от задачи завоевания власти пролетариатом. Нет. Мы чрезвычайно приблизились к ней, но не прямо, а со стороны. И агитировать надо сию минуту не столько прямо против Керенского, сколько косвенно, против него же, но косвенно, именно: требуя активной и активнейшей, истинно революционной войны с Корниловым» 1 2.
Громадное значение имели принятые большевиками в ходе борьбы с Корниловым энергичные меры для вооружения рабочих. Соглашатели, боявшиеся революции, возражали, а затем всеми силами тормозили это дело. Так, на пленарном заседании ЦИК и исполнительного комитета крестьянских депутатов Скобелев призывал «не совершать опрометчивых шагов», не давать рабочим оружия, чтобы не поднялась из берегов «петроградская стихия». Он угрожал, что может прийти Каледин и отрезать хлеб от Москвы и Петрограда3.
1 Большевики вошли в «шестерку действия», в которой соглашатели составляли большинство, ничем не обусловив своего участия в ней, издали общее с меньшевиками и эсерами воззвание к населению.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 120—121.
3 См. «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 3 сентября 1917 г.; «Рабочий путь», 3 сентября 1917 г.
269
Но угрозы соглашателей не действовали на рабочих. 31 августа представители заводских комитетов Москвы явились на заседание исполкомов Советов рабочих и солдатских депутатов и потребовали, чтобы Советы приняли меры к вооружению рабочих^ «Если у Совета нет оружия,— говорили делегаты,— дайте нам разрешение и мы сами его найдем. Иначе рабочие будут действовать помимо Советов» L Меньшевики выискивали всякие предлоги, чтобы не дать пролетариату оружия, но исполкомы не могли прямо пойти против воли рабочего класса. Была создана комиссия для разработки вопроса о создании рабочих дружин и реорганизации милиции.
Выступая против корниловской контрреволюции, меньшевики и эсеры сохраняли верность своим взглядам, своей общей политической линии. Они стремились удержать движение пролетариата в нужных им рамках, не дать революционной волне выйти из берегов. Тем не менее в интересах быстрейшей победы над корниловщиной большевики пошли на временный союз с меньшевиками и эсерами, и это дало свои результаты, так как позволило поставить корниловцев в положение полной изоляции. В. И. Ленин писал по этому поводу: «Союз большевиков с эсерами и меньшевиками против кадетов, против буржуазии еще не испытан. Или, если быть более точным, такой союз испытан только по одному фронту, только в течение пяти дней, 26—31 августа, во время корниловщины, и такой союз дал за это время полнейшую, с невиданной еще ни в одной революции легкостью достигнутую победу над контрреволюцией, он дал такое сокрушающее подавление буржуазной, помещичьей и капиталистической, союзно-империалистской и кадетской контрреволюции, что гражданская война с этой стороны развалилась в прах, превратилась в ничто в самом начале, распалась до какого бы то ни было «боя»» 2.
Выдвинутый большевиками еще в апреле лозунг мирного перехода власти к Советам тоже создавал возможность для такого союза, направленного против империалистической буржуазии; он бы ускорил и облег-
„1 «Московский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1917—1927», стр. 42—43.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 221—222.
270
чил победу над ней, позволил бы избежать граждан-ской войны. Но меньшевики и эсеры тогда как и позже, предпочли союз с буржуазией против пролетариата.
В ходе борьбы с корниловщиной встал вопрос о власти, причем партии соглашательского блока и большевистская партия по-разному подходили к этому вопросу. Меньшевики и эсеры не ставили своей задачей изменить классовый характер правительства, они заботились лишь об одном — ликвидировать правительственный кризис, пополнить правительство новыми лицами. Большевики же, готовя массы к революции, требовали коренного изменения самого характера власти, прекращения политики соглашения с буржуазией.
На заседании ЦИК 31 августа 1917 г. большевистская партия огласила резолюцию «О власти». Главным в ней было требование отстранить от власти не только представителей кадетской партии, открыто замешанной в мятеже, но и представителей цензовых элементов вообще. Резко критиковалась вся политика соглашательства и безответственности, создавшая самую возможность «превратить верховное командование и аппарат государственной власти в очаг и орудие заговора против революции» ’.
Единственным выходом, указывалось далее, является создание власти из представителей революционного пролетариата и крестьянства. В резолюции намечалась программа деятельности новой, рабоче-крестьянской власти: декретирование демократической республики; немедленная отмена частной собственности на помещичью землю без выкупа и передача ее в заве-дывание крестьянских комитетов; введение рабочего контроля над производством и распределением продуктов; национализация важнейших отраслей промышленности, беспощадное обложение крупных капиталов и имуществ, конфискация военных прибылей; объявление тайных договоров недействительными и немедленное предложение всем народам воюющих государств всеобщего демократического мира.
В резолюции содержались требования: декретиро-
1 См. «Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 — февраль 1918», стр. 37—38.
271
вать прекращение всяких репрессий против рабочего класса и его организаций, немедленную отмену смертной казни на фронте, очищение армии от контрреволюционного командного состава; выборность комиссаров и других должностных лиц местными организациями; осуществление на деле права наций, живущих в России, на самоопределение, в первую очередь удовлетворение требований Финляндии и Украины; роспуск Государственного совета и Государственной думы, немедленный созыв Учредительного собрания; уничтожение всех преимуществ, полное равноправие граждан.
Большевистская резолюция «О власти» была в тот же день, т. е. 31 августа, принята на заседании Петроградского Совета (за нее голосовали 279 человек, против — 115, воздержалось — 51).
Какую же линию проводила меньшевистская партия в борьбе за ликвидацию правительственного кризиса? Какова была их точка зрения на классовый и партийный состав правительства, на окончательно провалившуюся и скомпрометировавшую себя идею коалиции?
На заседании ЦК меньшевиков 31 августа было принято решение о недопустимости участия во Временном правительстве «таких элементов, которые либо соучаствовали в контрреволюционном движении, либо способны парализовать борьбу с ним». В решении, в частности, указывалось, что «представители кадетской партии в состав Временного правительства в настоящее время ни в коем случае допущены быть не могут» !.
Как видим, относительно кадетов, которые не первый раз подводили соглашателей, было сделано довольно решительное заявление о разрыве коалиции с ними. Но очень скоро оказалось, что это пустые слова: порвать с кадетами меньшевики не желали. Впрочем, и н самом решении об этом говорилось как о временной мере. К тому же меньшевики не собирались разорвать коалицию с буржуазией вообще. На экстренном заседании ЦИК 27 августа соглашательский блок предложил Керенскому взамен ушедших кадетов привлечь демократические элементы, оставив кабинет в прежнем составе. В то же время они продолжали твердить о возможности коалиции, о привлечении на сторону рево-
1 ЦПА НМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 44, л. 4.
272
люции буржуазных элементов, «способных идти в ногу с революционной демократией» ’. Истинно сказано- гоо-батого могила исправит. н
Когда эсеро-меньшевистский блок и соглашательский ЦИК Советов, правда с оглядкой и с оговорками, высказались против участия кадетов в правительстве возникла вновь, на короткое время, возможность мирного развития революции. В. И. Ленин стремится не упустить этой возможности. 1 сентября он пишет свою известную статью «О компромиссах», в которой отмечает, что в сложившихся условиях наша партия может предложить мелкобуржуазно-демократическим партиям — эсерам и меньшевикам — добровольный компромисс. «Лишь как исключение, лишь в силу особого положения, которое, очевидно, продержится лишь самое короткое время, мы можем предложить компромисс этим партиям, и мы должны, мне кажется, сделать это» 1 2.
Компромиссом с нашей стороны, указывал Ленин, являлся бы возврат к доиюльскому требованию: вся власть Советам, ответственное перед Советами правительство из эсеров и меньшевиков. Большевики, не претендуя на участие в правительстве (так как оно не обеспечило бы условий для диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства), отказались бы от немедленного требования перехода власти к пролетариату и беднейшему крестьянству и от революционных методов борьбы за это требование. Единственное условие, которое ставили большевики, при такой ситуации состояло бы в том, чтобы власть в центре и на местах перешла в руки Советов, чтобы была обеспечена полная свобода агитации и созыв Учредительного собрания без новых оттяжек. Имея свободу агитации, большевики добивались бы изменения состава Советов и осуществления своих целей мирным путем.
«Из-за такой возможности,— писал В. И. Ленин,— в такое трудное время следовало бы пойти на компромисс с советским большинством нынешнего дня. Нам бояться, при действительной демократии, нечего, йбо
1 «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 31 августа 1917 г. Выступление Скобелева на пленарном заседании ЦИК и исполнительного комитета крестьянских депутатов.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 134.
18
Н. Рубан
273
жизнь за нас, и даже ход развития течении внутри враждебных нам партий эсеров и меньшевиков подтверждает нашу правоту» ’.
Но компромисс не состоялся. Не имея возможности сразу отправить статью в редакцию, В. И. Ленин уже 3 сентября делает приписку, что предложение, по-видимому, запоздало. «Пожалуй, те несколько дней, в течение которых мирное развитие было еще возможно, тоже прошли. Да, по всему видно, что они уже прошли» 2.
Что же произошло за эти несколько дней? Пока меньшевики и эсеры произносили речи о недопустимости участия кадетов в правительстве, Керенский в сговоре с теми же кадетами делал свое дело. 31 августа бывший министр Временного правительства Некрасов огласил предположительный список правительства с участием кадетов. В ночь с 1 на 2 сентября Временное правительство постановило образовать узкий кабинет (директорию) в составе министра-председателя Керенского, министра иностранных дел Терещенко, военного министра контр-адмирала Вердеревского и министра почт и телеграфов Никитина.
Фактически это было то же самое буржуазное правительство, что и раньше. Если не по форме, то по существу, по своей политической линии оно оставалось коалиционным. Участие в нем кадетов являлось только вопросом времени, но время пока было неподходящее для новых коалиционных комбинаций с контрреволюционной партией кадетов. Московский промышленник Бурышкин (один из кандидатов в министры) заявил, что «отсрочка в образовании коалиционного министерства произошла несомненно под натиском большевизма»; что, по мнению Керенского, «представители умеренных течений... не пойдут за большевиками, и их точка зрения восторжествует, но в данный момент натиск большевиков слишком силен, и из чисто политических соображений Керенский отложил на несколько дней образование кабинета» 3.
Следовательно, компромисс, предложенный большевиками, был, по существу, отвергнут соглашательскими партиями У трудящихся не оставалось больше
* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 136.
Там же, стр. 138—139.
3 «Рабочий путь», 18 (5) сентября 1917 г.
274
сомнений в том, что меньшевики и эсеры не желают разрывать союз с буржуазией. Для решения вопроса о власти оставался только один путь: вооруженное восстание.
3. Победа пролетарской революции — торжество марксизма-ленинизма, стратегии и тактики большевистской партии
Кризис назрел После подавления корниловского мятежа революция резко пошла на подъем. Уже и до этого жизнь на каждом шагу подтверждала правильность всего, что говорили массам большевики: буржуазное Временное правительство не может дать народу ни хлеба, ни земли, ни мира. Корниловская авантюра, переполнившая чашу народного долготерпения, показала, что буржуазия стремится отобрать и уже в значительной мере отобрала даже то единственное, что дала Февральская революция,— политическую свободу. Она уже занесла руку над Советами и другими организациями трудящихся, расстреляла демонстрацию рабочих и солдат, растоптала свободу печати 1. Тот факт, что 1 сентября, т. е. только на седьмом месяце революции, под давлением событий Временным правительством была декретирована республика, отнюдь не свидетельствовал о демократичности этого правительства. И это массы хорошо поняли. Меньшевистская «Рабочая газета» сокрушалась, что «этот торжественный акт... не вызвал того восторжен
1 После Октябрьской революции, когда Советская власть закрыла ряд контрреволюционных газет, меньшевики истошно кричали о нарушении свободы печати. Между тем за период с 5 июля по 5 сентября были закрыты следующие рабочие газеты: «Правда», «Солдатская правда», «Голос правды» (орган Кронштадтского комитета РСДРП(б)), «Волна» (орган Гельсингфорсского комитета), «Рабочий» (орган Казанского комитета), «Окопная правда» (орган Военной организации при Рижском комитете), «Борьба» (орган Царицынского комитета), «Прикубанская правда» (орган Екатеринодарского комитета), «Воронежский рабочий» (орган Воронежского комитета), «Звезда» (орган Минского комитета), «Уральская правда», «Рабочий и солдат», «Пролетарий» , (ЦО РСДРП(б)), «Вольный стрелок» (орган латышских стрелков), «Утро правды» (орган Ревельского комитета), «Молот» (орган Минского комитета), «Рабочий» (ЦО РСДРП (б)) и другие (см. «Рабочий путь», 31 (18) октября 1917 г.).
275
ного отношения, какое он вызвал бы несомненно в первые безоблачные дни победоносной революции»
Окончательно скомпрометировал себя эсеро-меньшевистский блок, который своей лакейской, соглашательской политикой помог буржуазии организовать экономическое и политическое наступление на рабочий класс, превратить Советы в безвольные придатки Временного правительства. Последние шаги соглашателей, направленные на создание нового союза с корниловцами, особенно наглядно подтвердили их измену рабочему классу.
В сентябре страна находилась в состоянии общенационального кризиса. Верхи больше не могли управлять по-старому, массы не хотели жить по-старому. Все явственнее слышались раскаты приближавшейся очистительной грозы — пролетарской социалистической революции. И решительные требования трудящихся положить конец соглашательской политике, передать всю власть Советам, и усиленное вооружение пролетариата, и новая волна забастовочного движения наряду с разгоравшейся крестьянской войной — все говорило о том, что история приближается к своему величайшему рубежу, за которым начинается новая эпоха.
Большевистская партия, аккумулировавшая в себе невиданную революционную энергию российского пролетариата, проводила повседневную кипучую организаторскую работу в массах, вооружала их ленинской теорией социалистической революции, продумывала в деталях план и техническую сторону вооруженного восстания, которое в данной обстановке являлось единственным средством осуществления лозунга «Вся власть Советам!». Работа большевиков облегчалась тем, что трудящиеся уже на собственном опыте испытали антинародную сущность политики Временного правительства и соглашательского блока.
Наиболее важным и решающим показателем крутого поворота в ходе революции явилось то обстоятельство, что массы пошли за большевиками. Начался быстрый процесс большевизации Советов, причем, как и следовало ожидать, полосу решительного перехода их на сторону большевиков открыл Совет революцион-
1 «Рабочая газета», 5 сентября 1917 г.
276
ной столицы России — Петрограда. Как уже отмечалось, 31 августа Петроградский Совет принял резолюцию Центрального Комитета большевистской партии «О власти», требовавшую передачи власти в руки революционного пролетариата и крестьянства *.
Для соглашателей это голосование за большевистскую резолюцию было громом среди ясного дня, оно повергло их в смятение. Меньшевистско-эсеровский президиум исполкома Совета (в него входили Чхеидзе (председатель), Анисимов, Гоц, Дан, Скобелев, Церетели и Чернов) заявил об отставке. Расчет был на то, что уход маститых деятелей заставит членов Совета «одуматься» и вернуться в лоно соглашательской политики. В связи с этим в печати было сообщено, что перевыборы президиума в ближайшем общем собрании Совета дадут возможность проверить, является ли принятая на последнем собрании Совета резолюция выражением случайного состава этого собрания или же в ней отражается изменившееся настроение действительного большинства всех членов Петроградского Совета. Чтобы сделать предстоящее голосование именно такой проверкой линии Петроградского Совета, весь состав старого президиума решил поставить на голосование свои кандидатуры.
Но надежды соглашателей на то, что Совет «одумается», оказались тщетными. Вопрос о перевыборах президиума был поставлен на заседании Петроградского Совета 9 сентября. Заседание было необычайно многолюдным, только в поименном голосовании приняло участие 1000 человек. Меньшевики внесли на голосование резолюцию, в которой предлагалось признать, что ранее принятая большевистская резолюция «О власти» не соответствует общей политической линии Петроградского Совета, и ставили вопрос о вотуме доверия президиуму прежнего состава (Чхеидзе, Церетели, Скобелев и др.). Совет 519 голосами принял внесенную Каменевым от имени фракции большевиков резолюцию о пропорциональном составе президиума 1 2, а эсеро-мень-
1 См. «Рабочий», 14 (1) сентября 1917 г.
2 В. И. Ленин считал ошибкой предложение о пропорциональном составе президиума; допускать в него меньшевиков и эсеров — «значит отнимать у себя возможность работы, значит губить советскую работу» (Поли. собр. соч., т. 34, стр. 254).
277
шевистская резолюция была отвергнута (за нее было подано 414 голосов). После этого президиум во главе с Чхеидзе оставил зал заседаний *.
25 сентября был избран новый президиум Совета, в который вошли 4 большевика, 2 эсера и 1 меньшевик. В тот же день Совет утвердил результаты выборов в исполком Совета от рабочей секции, причем большевики получили 13 мест, эсеры — 6, меньшевики-оборонцы — 3, интернационалисты не получили ни одного 1 2.
Видимо, действительно не было смысла голосовать за интернационалистов «второго сорта», если были интернационалисты «первого сорта».
Таким образом, Петроградский Совет окончательно пошел за большевиками. Газета «Рабочий путь» писала по этому поводу. «В истории революционного Петрограда день 9 сентября будет отмечен как поворотный пункт. В этот день Петроградский Совет Р. и С. депутатов за шесть месяцев своего существования впервые высказался решительно и определенно за политическую линию нашей партии. Партия гонимых и преследуемых, партия международного братства и рабочей революции в этот день впервые получила вотум исключительного доверия рабочих и солдат столицы» 3.
В свою очередь меньшевистская «Рабочая газета» с горечью признавала, что «в настроении Совета произошел решительный перелом: Совет встал на почву большевизма» 4.
6 сентября произошло другое важное событие, свидетельствовавшее о крутом повороте в настроении масс,— большевистскую резолюцию, в основу которой была положена резолюция ЦК «О власти», приняли Московский Совет рабочих депутатов (за нее было подано 354 голоса, против — 252) и собрание районных Советов Москвы. Перед этим произошли перевыборы депутатов в городской Совет на ряде московских заводов: вместо меньшевиков и эсеров туда были посланы большевики. Например, на заводе Кторова большевики
1 См. «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 10 сентября 1917 г.
См. «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 26 сентября 1917 г.
3 «Рабочий путь», 25 (12) сентября 1917 г.
4 «Рабочая газета», 10 сентября 1917 г.
278
получили более 3300 голосов, в то же время за меньшевиков было подано только 28 голосов, а за эсеров - 1" Через несколько дней президиум Московского Сов^'т < также вышел в отставку.
Вскоре состоялись выборы в исполнительный комитет и в президиум Московского Совета. В исполком Совета рабочих депутатов вошли 32 большевика. 16 меньшевиков и 9 эсеров. Правда, в исполнительном комитете солдатских депутатов еще преобладали эсеры, но в целом в обоих исполнительных комитетах большинство мест принадлежало большевикам. В президиум Совета рабочих депутатов были избраны 5 большевиков, 2 меньшевика, 1 объединенец и 1 эсер1 2.
Победа большевиков в Советах обеих столиц имела решающее значение для судеб революции. В. И. Ленин писал: «Взяв власть сразу и в Москве и в Питере (неважно, кто начнет; может быть, даже Москва может начать), мы победим безусловно и несомненно» 3.
Большевизация Советов шла нарастающим темпом. Бще 4 сентября Воронежский, а 8-го — Киевский Советы приняли большевистские резолюции в духе резолюции ЦК «О власти». Большевистскими становятся Советы в Твери, Самаре, во многих городах Урала и Сибири. С 6 по 10 сентября в Красноярске состоялся первый съезд Советов Средней Сибири. Присутствовало 33 представителя от 12 Советов, из которых 21 — большевики. Резолюции о текущем моменте и о Демократическом совещании, предложенные большевиками, были приняты единогласно. Съезд потребовал перехода всей власти в руки Советов 4.
Большевизация охватила и Советы Закавказья, где в свое время господствовали меньшевики. В заметке из Баку, опубликованной в газете «Рабочий путь», сообщалось: «Замечающаяся по всей России «большевизация» проявилась в самых широких размерах и в нашем мазутном царстве. И это еще задолго до корниловщины.
1 См. «Рабочий путь», 21 (8) сентября 1917 г.
2 См. «Социал-демократ», 20 сентября (3 октября) 1917 г.
3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 241.
4 Подробно о съезде см. монографию М. М. Шорникова «Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской революции», стр. 453—457; см. также «Рабочий путь», 4 октября (21 сентября) 1917 г.
279
Вчерашние хозяева положения — меньшевики не смеют показываться в рабочих районах... Меньшевики совершенно изолированы... В Совете рабочих депутатов уже назначены перевыборы, которые дадут громадное большинство большевикам и интернационалистам эсерам»
В сентябре и октябре с требованием созыва II съезда Советов и перехода в руки Советов власти в стране выступили Гельсингфорсский крестьянский военный Совет, Ревельский, Челябинский, Саратовский, Царицынский, Минский, Ковровский, Жиздринский и другие Советы рабочих и солдатских депутатов.
Большевистские лозунги, в том числе такие из них, как вооружение рабочих и создание Красной гвардии, начинают пользоваться необычайной популярностью в массах. Рабочие коллективы многих предприятий, профессиональные союзы, воинские части принимали, резолюции с резким протестом против коалиции с буржуазией, требовали созыва съезда Советов, передачи власти пролетариату и беднейшему крестьянству. Участились массовые забастовки, носившие ярко выраженный политический характер, руководимые большевиками. Только по заводам, подчиненным надзору заводской инспекции, в сентябре прошло 60 забастовок. В них участвовало около 4500 рабочих2. Одну из крупнейших забастовок осени 1917 г.— Всероссийскую забастовку железнодорожников всячески пытались сорвать меньшевики, но безуспешно.
Даже там, где ранее безраздельно господствовали мелкобуржуазные партии, теперь на авансцену вышли большевики. Так, в заметке, опубликованной в начале сентября в газете «Рабочий путь», рассказывалось о радикальном изменении настроения на Петроградском патронном заводе. По-видимому, в результате более высокой заработной платы рабочие этого завода длительное время шли за соглашателями. Большевиков на этом заводе не допускали к выступлениям. Теперь две трети рабочих голосовали за большевистскую резолюцию о власти, принятую Петроградским Советом.
А вот что сообщал Нижегородский окружной комитет РСДРП(б) Московскому областному бюро болыие-
1 «Рабочий путь», 27 (14) сентября 1917 г.
См. «Революционное движение в России в сентябре 1917 г.». М., 1961, док. № 320, стр. 350.
280
вистской партии: «Последние события в связи с корниловской авантюрой открыли для нас, большевиков, широкое поле деятельности. Некоторые районы, а также отдельные заводы, к которым у нас до сих пор не было доступа, завоевываются теперь нашей организацией. Нами был устроен целый ряд митингов, на которых выносили наши резолюции. Особенно выделялись последние два митинга в Сормове, на которых присутствовало 10—15 тысяч рабочих и принимались наши резолюции» ’.
Об огромном росте авторитета большевистской партии и резком ослаблении влияния соглашателей свидетельствуют также муниципальные выборы в ряде городов в августе — сентябре. Выборы в Центральную петроградскую городскую думу, проходившие еще до корниловского мятежа, дали в то время некоторое преобладание эсерам. Они получили 75 мест, кадеты — 44, меньшевики-интернационалисты — 8, меньшевики из группы «Единство» — 2 и народные социалисты — 2 места. Большевики получили 67 мест. Но хотя большевики по количеству полученных мест стояли на втором месте, общий итог выборов уже тогда складывался в их пользу. В то время как соглашательские партии и кадеты по сравнению с предыдущими июньскими выборами потеряли огромное количество голосов, большевики были единственной партией, которая увеличила число своих сторонников 1 2.
В Иваново-Вознесенске при выборах в городскую думу из 102 мест большевики получили 58, эсеры — 24, меньшевики — всего лишь 4 места3. На первом месте оказались большевики во вновь избранной Тверской городской думе.
Большой интерес представляют выборы в районные думы Москвы, состоявшиеся в сентябре, после подавления корниловского мятежа. Они свидетельствуют об усилении классовой дифференциации общества. По сравнению с предыдущими выборами значительно возросло количество голосов, поданных за крайние «фланговые» партии — большевиков и кадетов. На передний
1 «Победа Октябрьской революции в Нижегородской губернии». Горький, 1957, док. № 218, стр. 249.
2 См. «Рабочий», 7 сентября (25 августа) 1917 г.
* См. «Рабочий», 18 (5) сентября 1917 г.
281
план вышли большевики: за них был подан 51 процент всех голосов, против прежних 11 процентов. Социалисты-революционеры получили всего 14 процентов голосов. Между тем в июне, на выборах в Центральную думу, им принадлежало 60 процентов. Меньшевики собрали всего 4 процента голосов. Если эсеры еще имели поддержку среди мелкобуржуазных слоев, связанных с деревней, то меньшевики, претендовавшие на представительство рабочего класса, почти совсем потеряли социальную почву. Москва пошла за большевиками. В 11 районах из 17 они получили абсолютное число голосов ’.
Чрезвычайно важным является тот факт, что за большевиков голосовало 80 процентов солдат, большинство которых принадлежало к крестьянству, главным образом беднейшему1 2. Это значит, что партия большевиков сумела к тому времени выковать тот союз пролетариата с беднейшим крестьянством, который совершенно необходим для победы социалистической революции. На сторону революции переходила и мелкая буржуазия.
В. И. Ленин придавал громадное значение итогам выборов в районные думы Москвы. Он писал:
«Это голосование на выборах в районные думы в Москве является вообще одним из наиболее поразительных симптомов глубочайшего поворота в общенациональном настроении. Что Москва более Питера мелкобуржуазна, это общеизвестно. Что у московского пролетариата несравненно больше связей с деревней, деревенских симпатий, близости к деревенским крестьянским настроениям, это факт, много раз подтвержденный и неоспоримый.
И вот в Москве голоса эсеров и меньшевиков с 70 процентов в июне падают до 18 процентов. Мелкая буржуазия отвернулась от коалиции, народ отвернулся от нее, тут сомнения невозможны». Далее В. И. Ленин делает следующий вывод: «Что вместе с левыми эсерами мы имеем теперь большинство и в Советах, и в армии, и в стране, в этом ни тени сомнения быть не может» 3.
1 См. «Рабочий путь», 20 (7) октября 1917 г.
2 См. «Социал-демократ», 27 сентября (10 октября) 1917 г.
3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 278, 279.
282
Поворот в настроении масс не мог не сказаться на состоянии меньшевистской партии, на ее низах. В сентябре октябре большевики окончательно порывают организационные связи с меньшевиками в ряде организаций, которые еще оставались объединенными. Решения о разрыве с меньшевиками приняли Псковский Курский, Рязанский, Уфимский, Оршанский комитеты’ многие комитеты и партийные организации в Сибири и на Дальнем Востоке (Омск, Иркутск, Томск, Чита, Владивосток) ’. При этом с оборонцами в большинстве случаев порывали и интернационалистские элементы из числа рабочих. Они либо переходили в большевистскую партию, либо по-прежнему оставались с ними в общих организациях. Как правило, большевики после создания самостоятельных организаций были сильнее, авторитетнее, чем меньшевики.
Наряду с резким ослаблением социальной базы меньшевистской партии прогрессируют разложение и идейный разброд в ее рядах. В сентябре в Петрограде состоялось собрание вышедших или собиравшихся выйти из РСДРП (объединенной) меньшевиков-интернационалистов, группировавшихся вокруг «Новой жизни». Обсуждался вопрос о создании самостоятельной партии 1 2 Выступивший с докладом по этому вопросу Б. Авилов подчеркнул, что речь не идет об объединении с большевиками. Он указал на принципиальные расхождения с ними по вопросу о Стокгольмской конференции, о рабочем контроле, о диктатуре пролетариата и беднейшего крестьянства и высказался за образование самостоятельной организации интернационалистов, стоящей на платформе «Новой жизни». Была избрана специальная комиссия для проведения районных собраний с целью выявления их мнения.
1 См. В. В. Аникеев. Сведения о большевистских организациях с марта по декабрь 1917 г., а также: М. М. Шорников. Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской революции; Л. И. Беликова. Борьба большевиков за победу Октябрьской социалистической революции в Приморье.
2 Присутстводптир на совещании меньшевики-интернационалисты в подавляющем большинстве состояли в объединенных организациях и только некоторые — в меньшевистских (ЦГАОР, ф. 8357, on. 1, ед. хр. 1, л. 2—2 об.).
283
18—22 октября проходила Всероссийская конференция организации объединенных социал-демократов интернационалистов, созванная Центральным бюро этой организации. На конференции было представлено немногим более 4 тысяч человек ’. Конференция приняла политическую платформу. По вопросу об участии в избирательной кампании было решено везде выступать самостоятельно. Однако, в зависимости от местных условий, допускалось заключение избирательных блоков «исключительно с большевиками и меньшевиками-интернационалистами». Конференция постановила издавать центральный орган «Голос социал-демократа»; было избрано Центральное бюро организации объединенных интернационалистов 1 2.
Своей политической платформой новая организация (позже, в январе 1918 г., она оформилась в партию) почти ничем не отличалась от левоменьшевистской фракции Мартова (то же отрицание коалиции с буржуазией, созыв международной социалистической конференции для решения вопроса о мире, отрицание возможности социалистической революции в России).
Возникновение этой небольшой организации не являлось каким-то значительным событием и нисколько не влияло на развитие революции. Тем не менее было бы неправильно совершенно игнорировать сам факт организационного отделения от меньшевистской партии ее наиболее левого, интернационалистского течения. Эта организация еще не пришла к большевикам, но она уже ушла от меньшевиков.
Фракция Мартова продолжала оставаться в рамках меньшевизма, но и она сделала еще один шаг к расколу, порвав в Предпарламенте с единой меньшевистской фракцией и создав свою особую фракцию, потребо-
1 См. «Новая жизнь», 24 сентября 1917 г. Из отчета секретаря выяснилось, что организации и группы, примыкавшие к объединенным интернационалистам, имелись в Петрограде. Москве, Туле, Нижнем Новгороде, Самаре, Полтаве, Кишиневе. Пскове, Иркутске, Николаеве, Чите и других городах (см. «Новая жизнь», 20 октября (2 ноября) 1917 г.).
- В состав Центрального бюро вошли: Авилов, Базаров, Блюм, Волгин, Жилинский, Каттель, Кричевский, Линдов, Мамонтов, Прокофьев, Соловьев, Строев. О конференции см.: «Новая жизнь», 20, 21 и 22 октября 1917 г., а также «Голос социал-демократа» № 1—2, 3 декабря 1917 г.
284
пав выставления самостоятельных списков на выбопах в Учредительное собрание. Это вызвало в верхах партии замешательство и раздражение. На заседании ЦК меньшевистской партии 10 октября была принята резолюция ибера, в которой образование интернационалистами особой фракции в Совете республики расценивалось как акт «явного раскола».
В целях охраны партии от окончательного развала предла1алось выступать на выборах с едиными списками. Затем было решено признать фракцией, представляющей партию, только фракцию меньшевиков. У гроза раскола была столь явная, что на указанном заседании в целях давления на интернационалистов заявили об отставке сразу три члена ЦК: Дан, Ежов и Бройдо '.
В таком состоянии находилась меньшевистская партия накануне октябрьского вооруженного восстания. Дальнейшее разложение меньшевизма отражало те процессы, которые происходили не только в пролетариате, но и в мелкобуржуазных слоях населения,— они отвернулись от буржуазии и от тех, кто шел с нею в одной упряжке. Это особенно важно, если учесть, что такое же полевение происходило в эсеровской партии. В. И. Ленин писал в первой половине сентября:
«Растет оппозиция левых среди эсеров (Спиридонова и др.) и среди меньшевиков (Мартов и др.),— достигая уже до 40% «Совета» и «съезда» этих партий. А внизу, в пролетариате и крестьянстве, особенно беднейшем, большинство эсеров и меньшевиков «левые»...
Опыт масс, опыт угнетенных классов дал им за это время страшно много, и вожди эсеров и меньшевиков совсем разошлись с массами» 2.
Само меньшевистское руководство вынуждено было признать, что партия находится в состоянии неизлечимого и обостряющегося недуга. Вот что писалось об этом в редакционной статье меньшевистского журнала «Партийные известия»: «За семь месяцев открытого существования во время революции партия не изжила раздирающих ее разногласий и не вышла из состояния хронического кризиса, ослабляющего ее влияние, пара-
> ЦП А ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 44, л. 67—71.
2 В. И. Ленин. Поля. собр. соч., т. 34, стр. 230.
285
лизующего ее силы и деятельность» *. Еще более наглядную картину развала меньшевистской партии и падения ее престижа нарисовала газета «Новая жизнь». «Остается признать,— отмечалось в одной из ее заметок,— несомненный факт полного краха меньшевистского крыла социал-демократии, прихода его в политическое небытие. Кто знаком с положением в петроград
ской, крупнейшей организации меньшевиков, еще недавно насчитывавшей около 10 тыс. членов, тот знает, что она перестала фактически существовать. Районные собрания проходят при ничтожном количестве в 20— 25 человек. Членские взносы не поступают, тираж «Рабочей газеты» катастрофически падает»2. Большевистская газета «Рабочий путь» сообщала об участив-
шихся случаях перехода в нашу партию меньшевиков и
эсеров, которые прямо заявляли, что разочаровались в политике своих вождей, что попали к ним в первые дни революции по ошибке и что за ними больше .ни-
когда не пойдут.
Демократическое совещание.
Новые коалиционные потуги меньшевиков
В условиях все более обострявшегося общенационального кризиса меньшевистско-эсеровский блок прилагает все усилия к тому, чтобы, во-первых, спасти коалицию с кадетами, во-вто-
рых, подавить нарастающую революцию. После корниловского мятежа, явившегося детищем коалиционной
политики, после столь явных провалов этой политики соглашатели уже не могли прямо, без дымовой завесы идти на новую коалицию. Нужна была видимость одобрения такого шага со стороны какого-нибудь «демократического» форума, представительного учреждения. Такое прикрытие было тем более необходимо, что в сложившейся обстановке союз с кадетской партией должен был получить ярко выраженную контрреволюционную направленность.
Лидеры соглашательского блока метались в поисках выхода из того политического тупика, в который ставил их быстрый процесс большевизации Советов. Теперь не оставалось никаких сомнений в том, что Советы не
вая ’стат^^окч10 известия>> № 20 октября 1917 г. Передо-
2 «Новая ^м^еДИНопеЛЬНЫЙ СЪ€3Д и объединенная партия», «новая жизнь», 29 сентября 1917 г.
286
откажутся от власти и возьмут ее без промедления при первом же удобном случае. Меньшевики и эсеры боялись, что таким случаем может послужить II съезд Советов, который, по решению I съезда Советов, должен был состояться через три месяца, т. е. в сентябре.
В этой обстановке по предложению меньшевиков и эсеров ЦИК Советов принял решение о созыве Демократического совещания для решения вопроса «об организации власти, способной довести страну до Учредительного собрания» ’. ЦК меньшевистской партии 8 сентября обсуждал вопрос об участии социал-демократов в Демократическом совещании. Цель совещания меньшевистское руководство видело в «создании условий для образования сильной революционной власти, способной действительно проводить в жизнь программу, принятую объединенной демократией на Московском совещании...» К участию в образовании власти, отмечалось в резолюции совещания, «следует стремиться привлечь и цензовые элементы, которые хотят и могут работать в правительстве на этих основаниях» * 2.
Как видим, меньшевистские лидеры по-прежнему, возлагали надежды на цензовые элементы, ратовали за привлечение их к власти. Они стремились создать нечто вроде парламента, перед которым правительство было бы ответственно (позже мы увидим, насколько оно было перед ним ответственно в действительности). Соглашатели уже сбрасывали Советы со счетов. Было очевидно, что Демократическим совещанием хотели подменить съезд Советов, а главное, путем его созыва отвлечь массы от революции, ввести их в заблуждение видимостью того, что «революционная демократия» предпринимает новые радикальные шаги. В. И. Ленин писал: «Надвигается новая революция. Весь интерес реакционных демократов, Либерданов, Церетели и пр. отвлечь внимание народа на комедийное «Совещание», «занять» народ этой комедией, отрезать большевиков от массы...» 3.
3 сентября был опубликован список организации, приглашенных на совещание, с указанием количества
> «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 3 сентября 1917 г.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 44, л. 18.
8 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 252 253.
287
отведенных им мест. Состав совещания был явно подтасован таким образом, чтобы оно оказалось посговорчивее, чтобы на нем было поменьше рабочих, поменьше большевиков. Наиболее щедро были представлены ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и исполком крестьянских депутатов, в которых еще господствовали меньшевики и эсеры,— по 100 человек. Всем областным Советам рабочих и солдатских депутатов, объединявшим миллионы трудящихся, было представлено всего 50 мест. Такое же представительство получили областные Советы крестьянских депутатов. 150 мест получала кооперация, объединявшая буржуазные и мелкобуржуазные элементы, а профсоюзы — организации рабочего класса — получили всего 100 мест. На совещании были представлены также: военные организации — 84 места, железнодорожный союз — 20, торгово-промышленный союз — 20, почтово-телеграфный союз — 10, учительские союзы —15, земства — 50, национальные группы — 59, крестьянский союз —10. По нескольку человек было представлено от служащих различных категорий, инженерно-технических работников, врачей, адвокатов и т. д. 1
Естественно, что при таком составе Демократическое совещание в своем подавляющем большинстве представляло не рабочий класс и беднейшее крестьянство, а буржуазные и мелкобуржуазные круги. Классовому составу совещания полностью соответствовал и его партийный состав. По данным мандатной комиссии, до 18 сентября на совещание прибыло 1585 человек, из них заявили о своей партийности 1198. Самую многочисленную фракцию составили эсеры — 532 человека, за ними шли меньшевики — 305 человек. Большевиков на совещании насчитывалось 134 1 2.
«Демократическое совещание,— писал В. И. Ленин. • не представляет большинства революционного народа, а лишь соглашательские мелкобуржуазные верхи»3.
Меньшевистские вожди — Церетели, Дан, Либер, Скобелев, Потресов и другие с трибуны совещания с пеной у рта доказывали, что без коалиции с буржуазией,
1 См. «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 3 сентября 1917 г.
2 См. «Рабочая газета», 19 сентября 1917 г.
ь В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 239.
288
в том числе с кадетами, революция погибнет что не только для диктатуры пролетариата, но и для однород! нои демократической власти в стране нет условии Вновь и вновь пускались в ход старые аргументы об экономической и культурной отсталости России о реакционности крестьянства, о невозможности без цензовых элементов наладить хозяйственную жизнь страны. Меньшевики, ратуя за коалицию с кадетами после того как еще совсем недавно их ЦК принял решение о недо-пустимости такой коалиции, который раз демонстрировали свою крайнюю нестойкость, отсутствие самостоятельной линии. Коалицию отстаивали также центр и правое крыло эсеровской партии.
Но идея коалиции не нашла сочувствия у значительной части делегатов совещания. Против коалиции выступила делегация от Советов, которая наполовину состояла из большевиков. Отвергла идею коалиции и делегация от фабзавкомов, полностью большевистская.
Делегация профсоюзов, состав которой был менее однороден в социальном и партийном отношении, не столь единодушно, но также в большинстве своем высказа-
лась против коалиции. За коалицию с цензовыми элементами голосовало только 8 человек, против — 73, 53 человека потребовали передачи власти Советам, 20 человек высказались за организацию власти Демократическим совещанием. Председатель Всероссийского совета профессиональных союзов меньшевик Гриневич сложил с себя полномочия 1.
В вопросе о коалиции не были едины и сами меньшевики. Довольно значительную часть их на совещании представляли интернационалисты, которые выступали против коалиции и предлагали создать власть «однородно-демократическую» — из меньшевиков и эсеров. Другая часть предлагала создать коалиционное правительство без участия кадетов.
На заседании меньшевистской фракции принцип коалиции со всеми цензовыми элементами (включая кадетов) был отвергнут 73 голосами против 65. По этому поводу газета «Рабочий путь» писала; «Это была жалкая картина. Ряд ораторов занимался самобичеванием, резко
1 См. «Рабочий путь» 29 (16) сентября 1917 г.; В. Владимирова. Революция 1917 г. Хроника событий. Том IV, Л., 1924, стр. 216.
19 н. Рубан
289
набрасывался друг на друга и выискивал причины кпаха меньшевизма и мощного роста большевистских идей среди широких пролетарских и солдатских масс За метно было, что в этой непролетарской фракции не два и не три, а гораздо больше течений»
18 сентября на совещании группы представителей Советов рабочих и солдатских депутатов Демократического совещания обсуждался вопрос о передаче власти в руки Советов. При решении его не могла не сказаться подтасовка представительства, преобладание в нехМ соглашателей, которые целиком (включая левые, интернационалистские элементы) выступали против перехода власти к Советам. Тем не менее предложение о передаче власти Советам было отвергнуто незначительным большинством голосов (за — 86, против — 97)1 2.
19 сентября вопрос о коалиции был поставлен на пленарном заседании совещания. За коалицию с цензовыми элементами (вообще) проголосовало соглашательское большинство, которое оказалось не столь уж значительным: 766 против 688 3. Совершенно изменилась картина голосования после того, как были внесены две поправки. Первая: «за пределами коалиции остаются те элементы как кадетской, так и других партий, которые причастны к корниловскому заговору»; вторая: «За пределами остается партия народной свободы» (кадетская). Эти поправки делают резолюцию неприемлемой ни для правой части, ни для центра как меньшевистской, так и эсеровской партий. От имени меньше-
1 «Рабочий путь», 2 октября (19 сентября) 1917 г.
2 См. В. Владимирова. Революция 1917 года. Хроника событий. Том IV, стр. 238.
3 Вот каковы были результаты голосования по_ группам делегатов, представлявших организации: Советы раоочих и солдатских депутатов: за коалицию — 66, против — 192, воздержалось 4; Советы крестьянских депутатов за коалицию — 102, против— 70 воздержалось 12; городские самоуправления: за 114» против — 101, воздержалось 8; земства и губернские исполнительные комитеты: за — 98, против — 23. воздержалось 2; экономические организации: за—34, против - 1b, воздержалс . рабочие профессиональные союзы: за 32. прогни • . '
держалось 2; кооперация: за—140, протии 23 (исключите, делегаты рабочих кооперативов), воздержался 1; военные ор < * низации: за — 64, против—54, воздержалось 7; националы» t социалистические организации: за—15, против — 40; организации: за—84, против — О, воздержался 1 (См. «Рабочим путь», 3 октября (20 сентября) 1917 г.).
290
вистской фракции Дан заявил, что так как без кадетов коалиция невозможна (а еще так недавно в официальных документах тех же меньшевиков она была «единственно возможна»), то фракция будет голосовать против резолюции в целом. Представители группы большевиков, а также левых эсеров и революционных социал-демократов интернационалистов (Стеклов) заявили, что они будут голосовать против коалиции вообще. Только Мартов, продолжавший отделять кадетов от всего класса буржуазии, заявил, что будет голосовать за резолюцию с поправками. Резолюция была отвергнута: за нее голосовало 183 человека, против — 813, при 80 воздержавшихся.
Потерпев поражение в открытой борьбе мнений, лидеры соглашательства пустили в ход отлично усвоенные ими за несколько месяцев приемы закулисных сговоров. На следующем заседании Церетели внес резолюцию из пяти пунктов, один из которых гласил: «Выделяя из своей среды постоянный представительный орган, съезд поручает ему содействовать созданию власти.., причем в случае привлечения и цензовых элементов в состав правительства, орган этот может и должен быть дополнен делегатами от буржуазных групп» Таким образом, формирование правительства целиком возлагалось на Керенского, а будущий «представительный орган» (Предпарламент) мыслился как оказывающий ему содействие. Все прежние заявления об ответственности Временного правительства перед «представительным органом» были выброшены за борт. Принцип коалиции незаметно подсовывался и санкционировался. О кадетах резолюция дипломатически умалчивала, хотя они, естественно, подразумевались. Резолюция была принята 829 голосами против 106 * 2.
В последние два дня работы Демократического совещания, в соответствии с принятой резолюцией Церетели, был создан постоянный орган — так называемый Всероссийский демократический совет (Предпарламент). Его состав был подтасован по образу и подобию
« «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 21 сентября 1917 г.
2 См. «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 21 и 22 сентября 1917 г.
291
Демократического совещания, и поэтому он был далек от народа и чужд ему, слабый и безвластный I
Временное правительство и не принимало всерьез это вновь созданное учреждение. 22 сентября на заседании правительства с участием представителей Демократического совещания, московских промышленников и членов ЦК партии кадетов Керенский заявил, что правительство само созовет Предпарламент на условиях независимости правительства от этого органа. Он подчеркнул, что такой орган будет полезен лишь в том случае, если его пополнят представители цензовых элементов. Здесь же, за спиной Демократического совещания и Демократического совета, меньшевистско-эсеровские вожди заключили с кадетами соглашение о коалиции и о том, что правительство не будет ответственно перед Предпарламентом 1 2. Под нажимом кадетов они отказались даже от программы 14 августа, состоявшей из одних уступок. Так происходила очередная капитуляция «революционной демократии» перед буржуазией.
23 сентября Демократический совет принял предложенную меньшевистской фракцией резолюцию, в которой все же было признано необходимым установление формальной ответственности правительства перед Предпарламентом. Кадеты обвинили соглашателей в вероломстве. Объяснение, данное Церетели, заслуживает того, чтобы его привести. Он сказал: «Демократический совет, со своей стороны, является сторонником формальной ответственности правительства перед Предпарламентом, но не требует сейчас признания
1 Вот состав Всероссийского демократического совета: города — 45, земства — 45, Советы рабочих и солдатских депутатов — 38, Советы крестьянских депутатов — 38, кооперативы — 24, профессиональные союзы — 21, торгово-промышленные служащие — 5, железнодорожники — 5, почтово-телеграфные служащие — 2, действующая армия — 26, флот — 2, казаки — 6, национальные организации — 25, земельные комитеты — 7, экономи^ ческие организации — 3, крестьянский союз — 2, учительский союз — 2, адвокатура — 1, женские организации — 1, прочие организации—10. Итого — 308 (см. «Известия ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 22 сентября 1917 г.).
2 Меньшевистский ЦК постановлением от 25 сентября одобрил это соглашение, хотя признал «основы соглашения, заключенного между демократией и цензовыми элементами, не вполне удовлетворительными» (ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед хр. 44,
292
Временным правительством и представителями буржуазных групп формальной ответственности правительства перед Предпарламентом, а оставляет за собой право добиваться установления этой ответственности в будущем в самом Предпарламенте» '. По взаимному соглашению кадетских и эсеро-меньшевистских вождей было решено ввести в состав Предпарламента предста-вителеи цензовых элементов в составе 120 человек.
Итак, для обмана масс принимаются составленные меньшевиками резолюции, и те же меньшевики говорят заправилам империалистической буржуазии, чтобы они
не принимали этих резолюций в расчет. На данном примере особенно ярко вырисовываются черты меньшевизма*. пустозвонство, политиканство и лакейство перед буржуазией.
Правительственный кризис был ликвидирован. Получив публичную санкцию от «революционной демократии», Керенский объявил состав уже давно подготов
ленного правительства, в котором ключевые посты вновь заняли представители кадетской партии и финансово-промышленных кругов. Три министерства возглавили меньшевики: труда — К. А. Гвоздев, внутренних дел — М. А. Никитин и юстиции — П. Н. Малянтович. Газета «Рабочий путь» справедливо назвала это правительство правительством войны и буржуазной дикта
туры.
Так закончилась позорная комедия, именуемая Демократическим совещанием. Ее результатом явился Предпарламент, это уродливое, никому не нужное учреждение, прозванное в народе иронически «предбанником». Возникло еще одно коалиционное правительство, которому история уже вынесла свой приговор, как последнему правительству капиталистов и помещиков. Жить тому обреченному правительству оставалось
ровно месяц.
Большевики пошли на Демократическое совещание с тем, чтобы использовать его трибуну для Разоблачения этой постыдной игры соглашателей. В. И. Ленин рекомендовал зачитать при его открытии краткую декларацию и уйти, сосредоточив все внимание на рабате среди масс —на заводах, в казармах. В декларации,
1 «Речь», 26 сентября (9 октября) 1917 г.
293
составленной Центральным Комитетом партии, указывалось на полную несостоятельность коалиционной политики меньшевиков и эсеров, ищущих нового союза с контрреволюционной буржуазией. Декларация разоблачала грубую подтасовку состава Демократического совещания, клеймила оборонцев за их стремление оттеснить и обессилить Советы. Несмотря на это стремление, говорилось в ней, Советы в период подавления корниловского мятежа обнаружили «всю несокрушимость выражающейся через них революционной мощи и инициативы народных масс» *.
В декларации отмечалось, что лозунг «Вся власть Советам!», выдвинутый в начале революции, теперь, после подавления корниловского мятежа, вновь стал лозунгом всей революционной страны.
Огласив декларацию, большевики под давлением Каменева, Рыкова, Ногина и некоторых других не сразу ушли с совещания. Каменев не согласился даже с решением ЦК о бойкоте Предпарламента. В. И. Ленин резко критиковал тех, кто находился еще во власти парламентских иллюзий. Это не значит, что большевики всегда и при всех условиях стояли за бойкот такого рода «парламентских» учреждений. В свое время они пошли в III Думу, и, как показал опыт, это был правильный тактический шаг, сыгравший большую роль в революционном воспитании масс. Но все дело в том, что III Дума созывалась в период упадка революции, а в сентябре 1917 года она резко шла на подъем. На стороне большевистской партии было большинство рабочего класса, за ней шло большинство народа.' Немаловажное значение имело и то, что лидеры соглашательского блока, не желая рвать коалиции с буржуазией, отвергли предложенный накануне большевистской партией компромисс. В этих условиях, указывал В. И. Ленин, даже кратковременное участие в Демократическом совещании было ошибкой.
«У большевиков,— писал Ленин,— получилось неправильное отношение к парламентаризму в моменты революционных (не — «конституционных») кризисов, неправильное отношение к эсерам и меньшевикам.
1 «Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 — февраль 1918», стр. 50.
294
Понятно, как это получилось: история сделана с корниловщиной, очень крутой поворот. Партия отстала от невероятно быстрого темпа истории на этом повороте. Партия дала себя завлечь, на время, в ловушку презренной говорильни» '.
Вождь революции выражал уверенность, что ошибка будет исправлена большевиками. Борющейся партии, указывал Ленин, ошибки не страшны, страшно было бы упорствовать на них.
И действительно, большевистская партия, критикуя и исправляя на ходу свои ошибки, успешно выполняла главную историческую задачу: готовила массы к социалистической революции. Она разоблачала происки соглашателей, их маневры с Демократическим совещанием и новой коалицией, имевшими своей целью увести трудящихся от революции. Она принимала меры к вооружению пролетариата, созданию новых отрядов Красной гвардии. Работой партии по подготовке вооруженного восстания повседневно руководил из подполья В. И. Ленин, представлявший собой душу и мозг революции. Он напряженно трудился над дальнейшей разработкой теории социалистической революции и практического плана вооруженного восстания. Требуя относиться к восстанию как к искусству, Ленин развил марксистское учение по этому вопросу, сформулировал основные тактические правила боевых действий восставшего пролетариата.
Дальнейший рост идейной и организационной сплоченности партии, ее решимость провести в жизнь ленинский курс на вооруженное восстание показали проходившие в сентябре — октябре большевистские конференции: Северо-Западной области, организации РСДРП(б) Финляндии, Владимирская и Нижегородская губернские, III общегородская Петроградская и др. Всеобщее вооружение народа, отмечалось в резолюции конференции петроградских большевиков, есть непосредственная ближайшая практическая задача, которую ставит себе наша партия в настоящее время. 27—28 сентября состоялся пленум Московского областного бюро, который потребовал усилить руководство массовым
I В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 253.
205
стихийным движением, направив его в русло борьбы за г. пасть Советов. В резолюции пленума отмечалось, что «ЦК партии должен вести ясную и определенную линию на восстание» ’.
Подготовка вооруженного восстания, проходившая в острой борьбе с буржуазией и соглашателями, встречала сопротивление и со стороны отдельных элементов в рядах большевистской партии. Главными противниками ленинского курса на восстание были Зиновьев и Каменев. Не веря в силы рабочего класса, они противопоставляли партии свой полу меньшевистский курс на Учредительное собрание, толкали ее на путь буржуазного парламентаризма.
Как известно, при обсуждении в ЦК 15 сентября писем В. И. Ленина «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание» Каменев предложил отвергнуть содержавшиеся в них практические предложения и считать совершенно недопустимыми какие-либо выступления на улицу2. В самые решающие моменты подготовки социалистической революции — на исторических заседаниях ЦК 10 и 16 октября — Зиновьев и Каменев голосовали против резолюции о вооруженном восстании. А потерпев поражение в ЦК, они совершили прямое предательство, штрейкбрехерство по отношению к революции: Каменев от своего имени и от имени Зиновьева опубликовал в сухановской «Новой жизни» заявление о своем несогласии с решением ЦК. Тем самым Временное правительство, меньшевики и эсеры были поставлены в известность о готовящемся восстании. Против вооруженного восстания, хотя и в прикрытой форме, выступил Троцкий, предложивший приурочить восстание к открытию II съезда Советов. Это ставило восстание под угрозу срыва, так как лишало его элемента внезапности и давало врагу возможность для мобилизации сил. Ленин резко выступал против линии на отсрочку восстания, на ожидание съезда, квалифицировав ее как измену революции.
Это не значит, что большевистская партия была против созыва съезда. Наоборот, не связывая вооружение «Революционное движение в России в сентябре >, док. № <4, стр. 99.
т. . 2 «Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 февраль 1918», стр. 55.
296
ное восстание со съездом в сроках, она вела большую работу по подготовке его созыва. Именно съезд Советов призван был закрепить успех восстания и взять всю государственную власть в свои руки. Лозунг «Вся власть Советам!», который с середины сентября означал вооруженное восстание, глубоко проник в сознание масс. В сентябре октябре коллективы многих предприятий, воинских частей и подразделений выносят резолюции с требованием созыва II съезда Советов, перехода власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства, заявляют о своей поддержке партии большевиков. В то же время на предприятиях формируются и проходят обучение отряды Красной гвардии (в отдельных районах их называли Рабочей гвардией, Рабочей милицией), принимаются меры к их вооружению.
Вожди соглашательских партий понимали, что приближается последний этап исторической битвы за власть и
По ту сторону баррикад
что съезд Советов несомненно станет на сторону революции. Поэтому они пытаются сорвать его вопреки решению I съезда, своему собственному решению о его созыве. Объясняя свою позицию приближением сроков созыва Учредительного собрания, соглашатели не сводили концы с концами: ведь, несмотря на это, было созвано Демократическое совещание, создан Предпарламент. А выборы в Учредительное собрание все откладывались.
В поход против созыва съезда включилась вся печать мелкобуржуазных партий. «Рабочая газета» называла съезд «опасным экспериментом», затеянным большевиками, вновь и вновь трубила о том, что переход власти в руки Советов привел бы к изоляции пролетариата ’. В «Известиях» была опубликована статья «Кризис советской организации», в которой воспроизводились слова Церетели о Советах как «временных бараках», покидаемых демократией по мере того, как отстраивается «постоянное здание нового строя». Советы третировались как организации, обреченные на умирание1 2. Не отставала и левоменьшевистская «Новая
1 См. «Рабочая газета», 29 сентября 1917 г.
2 См. «Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов», 12 октября 1917 г.
297
жизнь». Авилов в статье «Наша позиция» предрек» поражение предстоящему Всероссийскому съезду Сов? тов из-за того, что в нем не будут участвовать оборонцы' и потому съезд будет недостаточно авторитетным’ чтобы взять власть, новая власть не сможет удержаться в стране *. п
Лидеры меньшевиков и эсеров стремились по крайней мере оттянуть созыв съезда. 23 сентября вопрос о съезде рассматривался на заседании ЦИК с участием представителей провинциальных Советов. Докладчик Богданов утверждал, что для его подготовки потребуется от трех недель до месяца. Большевики резко возражали против оттяжек и предлагали собрать съезд в двухнедельный срок. Под напором большевиков ЦИК вынужден был принять решение о созыве съезда 20 октября.
Рассматривался вопрос о съезде и на заседании Бюро ЦИК 26 сентября. Против созыва решительно возразил Дан, мотивируя это тем, что силы партии отвлечены на избирательную кампанию в Учредительное собрание. Вместе с тем он предпринимает еще один маневр, рассчитанный на отсрочку съезда: он предлагает предварительно запросить местные Советы об их отношении к созыву съезда. Но это предложение явно не имело смысла — большинство Советов и без того высказали свое отношение к съезду, не говоря уже о том, что решение о его созыве было принято Всероссийским съездом Советов. Несмотря на свой соглашательский состав, бюро ЦИК отклонило предложение Дана и подтвердило назначенный срок созыва съезда.
Принимая все меры к тому, чтобы сорвать созыв съезда, соглашатели решили использовать в этих целях свое, еще довольно сильное влияние в исполкоме Всероссийского Совета крестьянских депутатов и солдатской секции ЦИК, давно уже не отражавших настроение трудящегося крестьянства и солдат. Исполком Всероссийского Совета крестьянских депутатов реши, не созывать съезда и предложил крестьянским Совета* на местах воздержаться от его созыва. Солдатская сек ция ЦИК приняла более осторожную формулировку ввиду того что ряд крупных Советов, расходящихся
1 «Новая жизнь», 15 (28) октября 1917 г.
298
политикой ЦИК. настаивает на созыве съезда пешрнг запросить армейские комитеты об отношении “х к случайной;"а™ Х1тет1ГдавСнГнеКпепТеТабМ бЫЛа Не в большинстве своем были настроены нТв подачу рт-ВОЛЮЦИИ.
^0ХйШП^СрспарП7к?ТИЯ >?азоблачала маневры соглашателей. ЦК РСДРП(б) опубликовал обращение к рабо-ним, солдатам, матросам и крестьянам с призывом к борьбе за переход власти в руки Советов. В нем указывалось: «Съезд Советов, назначенный под давлением раоочих на 20 октября, может быть созван только вопреки соглашателям, которые в лице Дана и в лице официальных «Известий» начали уже открытую борьбу против его созыва» 1 2. ЦК РСДРП(б) призвал к отпору соглашателям, разоблачению коалиционного правительства и Предпарламента, к мобилизации своих сил и подготовке съезда Советов. В конце концов соглашатели поняли, что их борьба против созыва съезда таит в себе большую опасность. Стало ясно, что волю рабочего класса и крестьянства им не удастся сломить, съезд
все равно состоится, и на нем может не оказаться тех, кто ставил ему палки в колеса. Поэтому меньшевики делают некоторый вынужденный поворот. 2 октября ЦК меньшевистской партии большинством 9 человек против 6 признал «ненужным принятие резолюции о нежелательности созыва съезда Советов». Решено обратиться с письмом к местным организациям о необходимости принять активное участие в выборах на съезд Советов, причем в этом письме не должно быть указания на необходимость агитации за отсрочку съезда3. Сама эта витиеватая формулировка резолюции не оставляет сомнения в том, что взгляды меньшевистской партии на созыв съезда в принципе остались прежними, но ее политика в этом вопросе изменилась под давлением событий — она потерпела поражение.
Теперь меньшевистско-эсеровскому руководству потребовалось наверстать упущенное время, чтобы развернуть агитацию и обеспечить выборы на съезд как
1 См. «Известия ЦИК рабочих и солдатских депутатов»,
3 октября 1917 г.
2 «Рабочий путь», 13 октября (30 сентября) 1917 г,
3 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 44, л. 51—52.
299
можно большего числа своих сторонников. 17 октября Бюро ЦИК приняло постановление, в котором говорилось, что ввиду «выяснившейся невозможности собрать второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 20 октября... день пленарного заседания перенести на 25 октября, а на 23 и 24 — назначить собрание фракций». Бюро ЦИК постановило телеграфно оповестить все армейские и фронтовые комитеты и местные организации о необходимости принять участие в съезде; армейским комитетам предоставлено право самим организовать представительство армии, «если армейские съезды не были созваны» *.
Итак, выделять делегатов предоставлялось тем самым верхушечным комитетам, которые еще вчера саботировали созыв съезда: руководители ЦИК были уверены, что таким путем они получат угодное им представительство, которое не потребует передачи власти Советам. Повестку дня II съезда Бюро ЦИК ограничило тремя вопросами: текущий момент, подготовка к Учредительному собранию и выборы ЦИК.
Меньшевистские и эсеровские вожди вместе с буржуазией принимали все меры к тому, чтобы сорвать вооруженное восстание пролетариата, и прежде всего ослабить боевые силы революции — Красную гвардию и революционные части гарнизонов.
Соглашатели попытались взять под свое руководство отряды Рабочей милиции, возникшие еще в ходе борьбы против корниловщины, превратить их в придаток общегородской милиции. Так называемый Комитет народной борьбы с контрреволюцией при ЦИК Советов утвердил в начале сентября Положение о Рабочей милиции. В нем предусматривалось, что во главе Рабочей милиции будет стоять комитет из представителей исполкома Петроградского Совета, ЦИК, Центральных советов фабзавкомов и профсоюзов, Межрайонного совещания, штаба округа, городской думы, комиссара Временного правительства по делам петроградского бывшего градоначальства и Центрального бюро городской милиции. Численность Рабочей гвардии в Петрограде не должна была превышать 8 тысяч человек.
тября<<191?егТИЯ Рабочих и солдатских депутатов-, 19 ок-
300
Но рабочим класс ставил перед своей гвардией другую задачу и не намерен был отдавать ее в руки соглашателей. 13 сентября состоялось совещание комендантов Рабочей милиции, которое отвергло и Положение выработанное соглашателями, и предусмотренный им комитет. Совещание определило новый состав руководящего центра гвардии, без представителей ЦИК, штаба округа, комиссара Временного правительства и бюро городской милиции.
Буржуазия и соглашатели пытались при помощи административных мер изолировать Красную гвардию от рабочих организаций. В середине сентября министр внутренних дел меньшевик Никитин указал комиссару над петроградским градоначальством, что «если будет признана возможность образования Рабочей милиции, то, во всяком случае, не может быть допущено, чтобы милиция, как вспомогательный орган государственной власти, лишь переданной в ведение органов самоуправления, находилась в каком-либо подчинении иным лицам или учреждениям, кроме указанных в законе о милиции» \ Подобного рода циркуляры лишь демонстрировали бессилие правительства.
III Петроградская городская конференция РСДРП(б) приняла 10 октября проект резолюции о Красной гвардии, в которой четко формулировалась ее роль. Создание Красной гвардии,— говорилось в этом документе,— есть одно из средств, при помощи которого наша партия должна организовать не только вооруженные боевые кадры революции, но и может практически подойти к всеобщему вооружению народа1 2. Все дело организации и боевой подготовки Красной гвардии сосредоточил в своих руках Петроградский Совет; для этой цели при его исполкоме был учрежден специальный отдел.
Являясь организацией беспартийной, Красная гвардия имела в своем составе часть рабочих, примыкавших к мелкобуржуазным партиям, но преобладающее идейное влияние и политическое руководство принад-j ежало большевикам. В этой связи представляет инте-рес следующий факт. Когда на конференции Красной
1 «Новая жизнь», 15 428) сентября 1917 г.
2 См «'Вторая и третья общегородские конференции большевиков в июле и октябре 1917 г.». Протоколы и материалы. М.—Л., 1927, стр. 120.
301
гвардии Выборгского района было внесено предложи ние включить в состав заводских комитетов гваоХ представителей не только большевиков, а и всех по™ тических партий, то оно было отвергнуто подавляющи» большинством >. 22 октября состоялась городокая X ференция Красной гвардии, которая приняла предложенную большевиками резолюцию о текущем моменте и устав, полностью соответствовавший установкам большевистской партии.
Временное правительство и лидеры соглашательского блока с тревогой наблюдали за деятельностью Красной гвардии, ее ростом и боевой подготовкой. 3 октября министерство внутренних дел сообщало главнокомандующему Петроградским военным округом полковнику Полковникову, что министр поручил комиссару над управлением бывшего петроградского градоначальника «неусыпно наблюдать за организацией Красной гвардии и произвести через органы милиции
регистрацию нарезного огнестрельного оружия, имеющегося на руках у рабочих, вступающих в Красную гвардию, признав вместе с тем настоятельно необходимым выработать по соглашению с Вами меры к обезоружению Рабочей гвардии на случай выступления ее с преступными целями» 1 2.
Под флагом борьбы против контрреволюции меньшевики и эсеры пытались помешать вооружению Красной гвардии. Соглашательский ЦИК объявил заводским комитетам и другим организациям, что никакая выдача оружия из складов не допускается без специального разрешения временного военного комитета при ЦИ Советов. Но соглашательский ЦИК уже давно не являлся авторитетом для рабочих. Вооружение Красной гвардии шло полным ходом.
Вопрос о создании и вооружении Красной гвардии являлся предметом острой и продолжительной борьбы в Москве. Он обсуждался на объединенном заседании исполкомов Советов рабочих и солдатских депутатов еще 2 и 3 сентября. Предложения большевиков о созда^ нии Красной гвардии были встречены соглашателями, особенности меньшевиками, в штыки. Меньшевик
1 См. «Солдат», 13 октября 1917 г.
2 «Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде*- Д кументы и материалы. М., 1957, док. № 296, стр. 255—256.
302
Г «нГ^ма™«т^КаЗЫВаЛИ что КрЭСНая ™РЗия должн« рассматриваться как временная организация, что не может быть и речи о ее вооружении за счет *РМ"^Л,а"еЗаявил- что созданием Красной гвардии рабочие преследуют классовые цели, а так как социалистическая революция не стоит в повестке дня ТО такого рода классовая организация не нужна Ису в назвал создание Красной гвардии «игрой в солдатики». «Нам, говорил он, нужны дружины для охраны базаров, «хвостов» и на случай погромов» ’.
Несмотря на сопротивление меньшевиков, было принято решение о создании Красной гвардии и утвержден ее устав. Но меньшевики продолжали сопротивляться. В течение полутора месяцев они саботировали утверждение устава (он был утвержден только в кан\н октябрьского вооруженного восстания — 24 октября), срывали вооружение Красной гвардии.
Чтобы ослабить силы революции. Временное правительство выступило с планом «разгрузки» Петрограда. Цель была ясна: удалить из Петрограда передовую часть рабочего класса — застрельщика восстания. Якобы по стратегическим соображениям предполагалось вывести из столицы революционные войска, оставив на
месте только юнкеров — ударную силу контрреволюции.
Правительство уже приступило к выводу воинских частей, но встретило решительное сопротивление. Этот вопрос рассматривался 9 октября на пленуме Петроградского Совета. Подавляющим большинством исполком Совета высказался против этой контрреволюционной затеи. Фракция большевиков приняла резолюцию, которая гласила: «При правительстве, запятнавшем себя корниловщиной, при всеобщем, твердо обоснованном недоверии солдат, рабочих и крестьян к нынешней власти Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов не может брать на себя перед армией никакой ответственности за так называемую стратегию Временного правительства, и в частности за вывод войск из Петрограда. Спасение Петрограда и страны в пере
1 «Московский Совет рабочих и солдатских 1917—1927», стр. 44—46; см. также «Известия Московского совета рабочих депутатов», 5 сентября 1917 г.
363
ходе власти в руки Советов» Петроградский Совет призвал гарнизон Петрограда принять все меры к развитию и упрочению боевой готовности.
Пролетариат Петрограда, руководимый большевистской партией, не позволил контрреволюционной буржуазии и поддерживающим ее соглашателям вывести из столицы революционные части и тем задушить революцию в ее колыбели.
Всесторонняя деятельность большевистской партии по подготовке революционного штурма особенно усилилась после заседаний ЦК 10 и 16 октября, принявших решение о вооруженном восстании. Как известно, на первом из них было создано Политическое бюро, а на втором — Военно-революционный центр для руководства восстанием. Продолжая энергичную политическую работу по революционной мобилизации масс, партия в это время большое внимание уделяет практической, военно-организаторской стороне дела. 12 октября на закрытом заседании исполкома Петроградского Совета было принято положение о Военно-революционном комитете— боевом штабе восстания. Против положения голосовали только меньшевики. 20 октября ВРК окончательно сформировался и приступил к интенсивной работе.
Все более активизировались и силы контрреволюции, действовавшие в тесном контакте с лидерами соглашательских партий. Свою работу против революции они вели в двух направлениях: с одной стороны, пытались путем угроз и уговоров воздействовать на массы, а с другой — готовились нанести вооруженный удар по революции. 14 октября на совместном заседании ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов Дан в явно провокационных целях поставил перед большевиками вопрос, думают ли они выступать и когда. На этом же заседании была принята резолюция Дана, объявлявшая вооруженное восстание совершенно недопустимым и призывавшая рабочих и солдат не принимать в нем участия. За нее голосовали и меньшевики-интернационалисты 2.
’ См. «Рабочий путь», 23 (10) октября 1917 г.
2 См. «Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов», 15 октября 1917 г.
304
На борьбу против революции была мобилизована вся соглашательская печать. Прежде всего выступило наименее скомпрометировавшее себя течение — меньшевики-интернационалисты. В газете «Новая жизнь» было опубликовано обращение «К рабочим и солдатам» за подписью вождей меньшевиков-интернационалистов — Мартова, Мартынова, Суханова и др. Пугая трудящихся перспективой междоусобной войны, они увещевали их воздержаться от вооруженного восстания. За интернационалистами последовали эсеро-меньшевистский ЦИК, исполком Всероссийского Совета крестьянских депутатов, партия эсеров. Буржуазная и соглашательская печать убеждала рабочих не брать власть, доказывая, что эту власть они не смогут удержать в своих руках. «Рабочая газета» с целью запугать массы описывала военные мероприятия Временного правительства, перечисляла вооруженные силы, которые подтягиваются к столице.
Меньшевики пытались использовать предательские действия Зиновьева и Каменева для деморализации рабочего класса, трубили о расколе в большевистской партии. Меньшевистские газеты со злорадством писали, что в среде самих большевиков по вопросу о предстоящем выступлении существуют крупнейшие разногласия. О неизбежности провала пророчествовала «Новая жизнь», а за ней и «Рабочая газета» 1.
Но время, когда лживыми фразами и уговорами еще можно было ввести массы в заблуждение, сбить их с толку, бесповоротно миновало. Народ пришел в движение, и никакая сила не могла его остановить. Для пролетариата столицы теперь представляли авторитет только ЦК большевистской партии, Петроградский Совет и Военно-революционный комитет при нем. Только их приказы исполнялись. Соглашательские партии не могли больше влиять на ход событий. Историческая развязка приближалась.
Вожди соглашательского блока и не намерены были ограничиваться призывами и заклинаниями. 15 ок тября меньшевистская фракция в Предпарламенте внесла «в порядке инициативы» проект Временного положения о борьбе с погромным движением и нарушением
1 См. «Рабочая газета», 18 октября 1917 г.
20 Н. Рубан 305
революционного порядка. Проектом предусматривалось создание на местах «комитетов общественной безопасности», в состав которых должны были входить представители «общественных организаций», гражданских и военных властей, прокуратуры и местный комиссар Временного правительства. Комитеты облекались диктаторскими полномочиями, вплоть до применения военной силы 1. Представитель меньшевистской партии во Временном правительстве министр внутренних дел Никитин разослал правительственным комиссарам на местах телеграмму, в которой предлагалось создать такого рода комитеты для борьбы против революции.
Деятели буржуазии и блока соглашателей в паническом страхе перед революцией готовы были на все, вплоть до провокаций. Сохранилась черновая запись закрытого заседания Временного правительства от 17 октября, на котором меньшевики и эсеры вместе с представителями крупной буржуазии обсуждали, какими мерами можно сохранить капиталистический строй. Терещенко и меньшевик Малянтович предлагали вызвать преждевременное выступление и подавить его. Стоял вопрос о военной диктатуре, назывались различные кандидаты, вплоть до Пальчинского, но окончательный выбор так и не был сделан. На заседании царила атмосфера беспомощности и растерянности2.
Помогая буржуазии готовить штыки и пушки против пролетарской революции, меньшевики вновь и вновь прибегают к демагогии.
Характерным в этом отношении являлось заседание Предпарламента 24 октября. Министр Никитин призвал Предпарламент санкционировать применение вооруженной силы и репрессий для борьбы против «анархии». В унисон ему выступил с истерической речью Керенский, потребовав от Предпарламента поддержки для подавления «черни» (именно это слово употребил Керенский). Министр труда оборонец Кузьма Гвоздев «от имени рабочего класса» выступил с заявлением, что рабочий класс не будет участвовать в восстании. Как же далеко стояли меньшевистские вожди от пролета
1 См. «Известия ЦИК», 18 октября 1917 г.
См. «Исторический архив», 1980, № 5, стр. 83—85.
306
риата. как плохо они знали его настроения и как самоуверенно выдавали ce6d за его представителей!
Правда, более дальновидные лидеры меньшевизма Дан и Мартов, видимо, не разделяли столь неумеренного оптимизма. Они заговорили о том, что «политика большевиков имеет почву в неудовлетворенных нуждах народа», и призывали пролетариат воздержаться от выступления. Большинством в 123 голоса против 102 при 26 воздержавшихся была принята формула перехода, предложенная меньшевиками, меньшевиками-интернационалистами, эсерами и левыми эсерами. В ней повторялись старые аргументы о неизбежности гражданской войны и самоизоляции пролетариата в случае, если он посягнет на власть. Временному правительству предлагалось издать декрет о передаче земель в ведение земельных комитетов и «решительно» выступить перед союзниками с предложением мира, создать комитеты общественного спасения (для борьбы против революции) \ Так за несколько часов до вооруженного восстания меньшевики «вспомнили» о нуждах народа. Поздно!
В ночь на 24 октября Временное правительство решило перейти в наступление и упредить революционное восстание пролетариата, разгромить его. Были приведены в боевую готовность контрреволюционные воинские части, юнкерские училища. Утром 24 октября совершен налет юнкеров на типографию, где печаталась большевистская газета «Рабочий путь», и отдано распоряжение о закрытии газеты. К Зимнему дворцу стягивались юнкера, казаки, «женский батальон смерти», броневики. Был отдан приказ о захвате Смольного, предпринята попытка развести мосты через Неву, разогнать или арестовать ВРК. Действия Временного правительства послужили сигналом к вооруженному восстанию.
В первом часу ночи на 25 октября, когда вооруженное восстание рабочих уже полыхало, открылось заседание ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов, исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов при участии делегатов на Всероссийский съезд
1 См. «Известия ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов», 25 октября 1917 г.
307
Советов. В повестке дня один вопрос: оценка текущего момента. Докладчик Дан вновь и вновь пугает ужасами гражданской войны, предсказывает торжество контрреволюции, недолговечность власти Советов.
Меньшевики-оборонцы и правые эсеры высказываются против выступления, мотивируя это тем, что Советы власти не удержат. Мартов от имени меньшевиков-интернационалистов выступил в том же духе, хотя и с некоторой оговорочкой: интернационалисты-де не отрицают права пролетариата на выступление, но они не согласны с методом большевиков1. Момент для захвата власти еще не наступил. Когда наступит такой момент и каким способом надо брать власть, об этом Мартов, как обычно, умолчал.
Дан предложил резолюцию против вооруженного восстания. Большевистская фракция заявила, что за несколько часов до открытия съезда ЦИК не имеет права брать на себя его функций, после чего фракция покинула заседание. Большинством оставшихся резолюция Дана была принята. Вечером того же числа голосами буржуазных и соглашательских депутатов против вооруженного восстания высказалась городская дума. Принято предложение об образовании Комитета общественной безопасности. Враги пролетариата торопились задушить революцию, но это было уже не в их силах.
II Всероссийский съезд Советов открылся 25 октября в 9 часов 40 минут вечера. Сам состав съезда свидетельствовал о том, что не только в пролетарской столице, но и на местах, на далеких окраинах трудящиеся в основной своей массе отвернулись от соглашательских партий и пошли за большевиками. Точного списка делегатов с указанием партийности каждого из них не сохранилось, однако более или менее правильное представление об этом дают суммарные сведения, опубликованные в период съезда в газетах, сводка анкет, заполненных делегатами, а также подсчеты комиссии по проверке полномочий. Имеется три подсчета комиссии, по предварительным данным анкетной комиссии, по точным данным бюро всех фракций к открытию съезда и подсчет количества оставшихся на съезде делегатов после ухода меньшевиков и эсеров.
1 См. «Рабочая газета*, 26 октября 1917 г.
308
Сравнение партийного состава II съезда с составом I съезда показывает, что всего за каких-нибудь месяца произошли глубокие изменения в настроении масс, в их отношении к политическим партиям Как известно, на I съезде присутствовало 1090 делегатов о своей партийной принадлежности заявили 777 человек Среди них большевиков было 105 человек, меньшеви ков - 8 (с бундовцами — 258), эсеров — 285. Если взять за основу данные бюро фракций II съезда то большевиков на этом съезде было в 3,7 раза больше, чем на I съезде, меньшевиков же меньше в 3,4 раза, а эсеров вместе с левыми эсерами, составлявшими около половины общего их числа, меньше в 1,8 раза. Меньшевистская партия явно катилась в пропасть.
Интересно также сопоставить удельный вес большевистской партии на обоих съездах с двумя основными мелкобуржуазными партиями. На I съезде Советов большевики составляли лишь десятую часть общего количества делегатов, их было в 2,4 раза меньше, чем меньшевиков, и в 2,7 раза меньше, чем эсеров; на II съезде большевиков насчитывалось более половины состава делегатов, их было в 5,4 раза больше, чем меньшевиков, и в 2,4 раза больше, чем эсеров
Анализируя партийный состав II съезда Советов,
следует учитывать, что созывом его занимался эсероменьшевистский ЦИК, не согласившийся с предложением большевиков выделить для этого специальную комиссию. Несомненно, что ЦИК именно для того и взял на себя эту функцию, чтобы повлиять на состав съезда. Но историю вспять нельзя повернуть, былой гегемонии соглашательских партий пришел конец.
Видя абсолютное превосходство большевиков в белоколонном зале Смольного и разгоревшееся восстание пролетариата за его стенами, меньшевики и эсеры (правые) решили бойкотировать съезд, не участвовать в нем (следует заметить, что большевики участвовали в работе I съезда, занимая значительно меньший удельный вес в его составе, чем эсеро-меньшевистский блок на
1 Подсчеты автора на основе данных о * и II 2або-
дов Советов (см. «Первый Всероссийским съ • Д отчет т 1 чих и солдатских депутатов». Стенографическим отчет^т.1, стр. XXVII; «Второй Всероссийским съезд Советов». М. ., 1928, стр. 171).
309
И съезде). Правда, к началу заседания явились все делегаты. От имени президиума ЦИК съезд открыл лидер меньшевиков Дан. На сей раз обошлось без длинных и напыщенных речей, столь свойственных меньшевикам,— не та была обстановка, не та аудитория.
По предложению большевиков было решено избрать президиум съезда на основе пропорционального представительства всех фракций. Однако меньшевики и правые эсеры отказались участвовать в президиуме. Меньшевики-интернационалисты также заявили, что до выяснения некоторых обстоятельств они воздержатся от участия в нем. После того как председательствующий (Каменев) огласил повестку дня, Лозовский заявил, что имеется соглашение всех фракций сначала выслушать доклад представителя Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, затем предоставить слово представителям ЦИК и фракций и перейти к вопросу о власти.
Но меньшевики, в том числе их левая часть, не собирались участвовать в творческой работе съезда. От имени меньшевиков-интернационалистов Мартов требует прежде всего поставить вопрос о власти — обсудить вопрос о мирном разрешении создавшегося кризиса. Он предлагает избрать делегацию для переговоров с другими социалистическими партиями и организациями. Мартов считал, что еще удастся создать власть из представителей «революционной демократии», таких, как Церетели, Чхеидзе, Скобелев и др., которые не мыслят власти без буржуазии и при любой комбинации будут находиться в ее услужении, постараются задворками привести к власти кадетов. Предложение Мартова поддержали объединенные социал-демократы интернационалисты и левые эсеры.
Зная, что власть фактически в руках пролетариата, меньшевики и эсеры не рассчитывали, что большевики согласятся с этим предложением. Но ошиблись: от имени большевистской фракции было заявлено, что она ничего не имеет против предложения Мартова. II это был не просто маневр, хотя отвергнуть переговоры было невыгодно и с тактической точки зрения (это использовали бы против большевиков их противники). Как подтвердили последующие события, большевистская партия в то время имела искреннее наме-
310
рение приити к соглашению с левыми интернациона листскими течениями и партиями мелкой буржуазии об их участии в рабоче-крестьянском правительстве. Нет сомнения, что после победы социалистической революции большевики не собирались передавать власть Церетели, а через него Кишкиным — Бурышкиным. Это было бы преступлением перед пролетариатом 1
Но после того, как предложение Мартова было при-нято, правые группы устроили нечто вроде обструкции съезду. Делегат от комитета 12-й армии меньшевик-оборонец Харраш заявил, что меньшевики и эсеры «считают необходимым отмежеваться от всего, что здесь происходит, и собрать общественные силы, чтобы оказать упорное сопротивление попыткам захватить власть». С ним солидаризируется другой меньшевик-оборонец, Кучин. От имени фронтовой группы он говорит, что съезд «неправомочен, несвоевременен», и призывает солдат покинуть съезд. С такого рода внеочередными заявлениями выступают также Хинчук (от фракции меньшевиков), Гендельман (от фракции правых эсеров) и Абрамович (от Бунда)1 2. Вслед за этим фракции меньшевиков, правых эсеров и бундовцев покидают съезд. Абрамович трагическим тоном объявляет, что все меньшевики и эсеры, исполнительный комитет Всероссийского Совета крестьянских депутатов и гласные городской думы «решили погибнуть вместе с правительством, и потому все они направляются к Зимнему дворцу под обстрел». Как бы в ответ на это в зале появляются гласные городской думы от большевиков. Они оглашают заявление, что думская фракция большевиков пришла, победить или умереть вместе со Всероссийским съездом Советов.
Решение соглашателей об уходе со съезда было принято еще перед его открытием, на заседаниях фракций. Съезд заклеймил позором ушедших, как врагов революции. Представитель латышских стрелков большевик Петерсон рассказал съезду о действительном положении в 12-й армии, солдаты которой настаивают на пере
1 24 октября, когда конец Временного правительства уже был предрешен, меньшевистская фракция приняла решение о однородном социалистическом правительстве с одно р осуждением выступления большевиков.
2 См. «Второй Всероссийский съезд Советов», стр. 5, ь.
311
избрании Совета и исполнительного комитета. Харращ и Кучин армии не представляли. Большевистская фракция заявила, что уход соглашателей «не ослабляет Советы, а усиливает их, так как очищает от контрреволюционных примесей рабочую и крестьянскую революцию». Резолюция фракции заканчивалась лозунгами:
«Долой соглашателей!», «Долой прислужников буржуазии!», «Да здравствует победоносное восстание солдат, рабочих и крестьян!» 1.
На великом историческом переломе мелкобуржуазные партии, прежде всего их правая часть, окончательно самоопределились в лагере буржуазии, по ту сторону баррикад. Левая часть мелкобуржуазной демократии продолжала колебаться, причем меньшевиков-интернационалистов больше, чем левых эсеров, тянуло вправо, к соглашателям. И в эти решающие минуты они оказались не в силах порвать с партией Дана — Церетели — Чхеидзе. Меньшевики-интернационалисты заявили, что окончательно покидают съезд в связи с тем, что их предложение не встретило сочувствия.
Часть меньшевиков-интернационалистов осталась. На втором заседании. 26 октября, ушла и эта вторая группа. От ее имени Гутман мотивировал уход следующим образом: меньшевики-интернационалисты остались на съезде для того, чтобы «стремиться к организации власти, ответственной перед демократией, перед ее широкими слоями, а не перед Советами. Но так как съезд идет за большевиками, а тактика этой партии ведет к изоляции пролетариата, власть в руках Советского правительства неминуемо приведет к поражению революции» 1 2. Представитель другой группы меньшевиков-интернационалистов Розовский заявил, что эта группа осталась для того, чтобы голосовать против создания Советского правительства.
Так завершились колебания меньшевиков-интернационалистов. Как мы видели, дверь к объединению :i сотрудничеству с этой левой частью меньшевиков, при условии их разрыва с оборонцами, наша партия всегда держала открытой. Но, пытаясь занять срединное положение между реформистами-соглашателями и боль-
1 См. «Второй Всероссийский съезд Советов», стр. 7—8.
2 Там же, стр. 14.
312
шевиками, меньшевики-интернационалисты не наш пи в себе силы разорвать цепь, связывавшую их (и организационно и, главное, идейно) со всем меньшевизмом
На втором заседании съезда Советов, 26 октября были приняты ленинские декреты о мире и о земле’ Большевистская партия сразу пошла навстречу завета НЫМ чаяниям народа, чего не сделала за восемь месяцев ни одна из правительственных так называемых социалистических партий, не говоря уже о партиях буржуа-зии. Правда, меньшевики и эсеры устраивали мирные кампании, апеллировали даже к международному пролетариату, советуя ему оказать «организованное давление» на свои правительства с целью заставить их отказаться от захватнических целей. Но само Временное правительство, в котором они заседали вместе с буржуазией, являлось империалистическим и не могло быть иным.
Коренное отличие ленинского декрета от «мирных» резолюций и обращений соглашательских партий в том именно и состояло, что это был декрет рабоче-крестьянского правительства, которое не может преследовать захватнических целей по самой своей природе. С момента победы Октябрьской социалистической революции война со стороны России потеряла империалистический характер. И когда Советское правительство предложило воюющим народам и их правительствам немедленно приступить к переговорам о справедливом, демократическом мире, то это были не пустые слова. В отличие от расплывчатых, туманных деклараций и заявлений меньшевистско-эсеровского блока декрет Советского правительства был свободен от двусмысленностей и недоговоренностей. В нем раскрывались такие понятия, как справедливый, демократический мир, аннексия. Советское правительство заявляло, что оно отменяет тайную дипломатию, приступает к опубликованию тайных договоров и поведет переговоры открыто, перед всем миром. В декрете выражалась уверенность, что рабочие воюющих стран помогут «успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации».
За декрет о мире, принятый единогласно, голосовали и оставшиеся на стьлзде меньшевики-интернационалисты, и левые эсеры. *
Почти единогласно (против был подан только од голос, и восемь воздержалось) съезд утвердил дек Н о земле, которым без всякого выкупа отменялась пом*1 щичья собственность на землю. Декрет включал в cefT крестьянский наказ, составленный эсерами на осно * нии 242 местных крестьянских наказов и устанавлива ший уравнительное землепользование с объявление8' земли всенародным достоянием, провозглашением за каждым права на землю и воспрещением наемного труда. То были основные требования эсеровской аграрной программы. На данном этапе эти требования выражали волю большинства крестьян.
На втором заседании съезда было создано первое Советское рабоче-крестьянское правительство во главе с В. И. Лениным.
При обсуждении вопроса о власти оставшиеся на съезде левые течения мелкобуржуазной демократии — объединенные социал-демократы интернационалисты и левые эсеры вновь проявили колебания. Выступивший от имени объединенных социал-демократов интернационалистов Авилов заявил, что рабоче-крестьянское правительство не в состоянии будет справиться с разрухой, что его не признают союзные правительства и поэтому ему не удержаться у власти. Он внес резолю
цию о передаче власти демократии.
Учитывая, что за левыми эсерами шла значительная масса крестьянства, большевики предлагали им войти в состав формируемого правительства, но фракция левых эсеров потребовала создания правительства «в согласии с группами революционной демократии, ушедшими со съезда». На заседании съезда левые эсеры заявили, что в целом их устраивает программа Советской власти и они не будут голосовать против этой власти, но в правительство войти отказались под тем предлогом, что это могло бы «усугубить раскол революционной демократии». Не вошли в правительство и представители социал-демократов интернационалистов L
1 В газете объединенных социал-демократов интернационалистов («Голос социал-демократа» за 3 декаоря 1917 г.) соо щалось, что их представителям также предлагалось воити правительство по списку большевиков, но они отказались тем же мотивам, что и левые эсеры.
314
В этих условиях нашей партии ничего nnvm SX°HKOBKaK Сф0РМИр0Ва- пРавительство^з°одних ветХИНвлас?иЦзанял” избС°’ тября Всероссийский исполнительный комитет желез' „„дорожного союза (Викжель) во главе которого в то время еще стояли меньшевики и эсеры. Представитель Викжеля высказался против формирования правитель-ства одной партиен, большевиками, выразил сомнение в правомочности съезда. Участники съезда — железнодорожные рабочие осудили выступление представителей Викжеля, возмущались той линией, которую повели его представители на съезде. Один из делегатов съезда, рабочий, заявил, что ЦК железнодорожного союза — политический труп.
II съезд Советов избрал ЦИК в составе 101 человека, из которых большевиков было 62, *левых эсеров — 29, объединенных социал-демократов интернационалистов — 6, от украинской социалистической партии — 3, от фракции эсеров-максималистов — 1. Одновременно съезд принял постановление о том, что ЦИК может быть пополнен представителями крестьянских Советов, армейских организаций, а также представителями тех групп, которые ушли со съезда1 2.
Таким образом, после победы пролетарской революции власть в стране в лице ее высшего исполнительного органа — ЦИК не была однопартийной. Она включала ряд политических партий и групп, которые не уча
1 Викжель был избран на Учредительном съезде профессионального союза железнодорожников в июле 1917 г. В его состав входило 6 меньшевиков, 14 эсеров, 3 народных социалиста и 11 беспартийных. Он был слабо связан с железнодорожными рабочими и не отражал их взглядов. На II чрезвычайном железнодорожном съезде, созванном Викжелем 1 декабря 1917 г. (1 января 1918 г.), незначительным большинством (12 голосов) была принята резолюция о том, что вся власть в стране должна принадлежать Учредительному съезду.^ • этого левая часть ушла и открыла свой чрезвычайный сийский железнодорожный съезд, состоявшийся ‘ ‘
(18 января —12 февраля 1918 г.), выражавший подлинные тересы железнодорожных рабочих. Был избран р' .
исполнительный комитет железнодорожников ( 4
глашательский Викжель перестал существовать. __
2 См. «Второй Всероссийский съезд Сове >, Р«
315
ствовали в бойкоте II съезда Советов и не исключили себя сами из Советов. Более того, дверь осталась открытой для других, ушедших со съезда партий. Это начисто отметает домыслы фальсификаторов истории, будТо большевистская партия узурпировала и монолизиро-вала власть, отсекая все другие партии. Что касается первого Советского правительства, утвержденного II съездом Советов, то, как мы видели, ввиду отказа присутствовавших на съезде левых эсеров войти в него оно было сформировано как однопартийное.
В конкретной исторической обстановке, сложившейся к моменту социалистической революции в России, большевики являлись единственной партией в Советах, которая могла и должна была создать правительство диктатуры пролетариата. За исключением левых эсеров, отказавшихся войти в это правительство, к участию в нем больше некого было привлечь. Меньшевистская партия вся, включая ее левое, мартовское крыло, противопоставила себя Советской власти, как власти пролетариата и беднейшего крестьянства; она противоречила их политическим взглядам, их главной концепции революции, согласно которой Россия не созрела для социализма. Да и кого могли представлять в правительстве меньшевики? Рабочий класс, выразителями интересов которого они себя называли, в своей подавляющей массе отшатнулся от них; за ними продолжали следовать лишь незначительные группы рабочих, которые фактически не могли претендовать на особое представительство.
То же самое можно сказать о правых эсерах: они также были врагами Советской власти и не имели под собой социальной почвы.
Отрицая саму идею Советской власти и диктатуры пролетариата, обе эти партии могли войти в правительство только при условии коренного изменения его программы, его политического курса, восстановления коалиции с буржуазией. Но разве мог рабочий класс, совершивший революцию, согласиться на реставрацию старых порядков? Разве могло Советское правительство состоять из антисоветских партий? Вот почему II съезд Советов создал первое Советское правительство из одних большевиков. Только ленинская, большевистская партия могла осуществить ту историческую задачу^
316
которую ставил перед собой рабочий класс, идя щТурм капитализма. ИДЯ на
В едином лагере с буржуазией против пролетарской революции меньшевики выступали не только в столицё но и по всей стране. Чем яростнее сопротивлялась бур жуазия. тем сильнее, рельефнее проявлялось предательство меньшевиков по отношению к рабочему классу. Наглядным примером явилась Москва где октябрьские сражения приняли особенно упорный и кровопролитный характер.
Потеряв преобладание в Московском Совете рабочих депутатов, меньшевики считали своей главной задачей не допустить перехода всей власти в его руки, так как это означало бы революционный переворот, установление диктатуры пролетариата. В Москве прологом к решающей схватке послужила разгоревшаяся еще в первой половине октября острая экономическая борьба пролетариата против предпринимателей. Рабочие требовали прекращения политики локаутов, повышения заработной платы, признания прав фабзавкомов в вопросах найма и увольнения. Забастовали кожевники,
их дружно поддержали металлисты, текстильщики — весь московский отряд рабочего класса.
Новая волна классовой борьбы еще более обострила конфликт между пролетариатом и соглашателями. 18 октября на объединенном заседании исполкомов Советов меньшевики яростно выступили против предложенных большевистской фракцией проектов декретов об удовлетворении требований рабочих. Имея еще большинство в исполкоме Совета солдатских депутатов, они провели свою резолюцию, но уже на второй день, на пленарном заседании обоих Советов, громадным большинством голосов (332 против 207 при 13 воздержавшихся) была принята большевистская резолюция, в которой декретировались экономические требования рабочих. В резолюции содержался призыв к профессиональным союзам явочным порядком проводить в жизнь декреты Советов. Капиталисты предупреждались, что за саботаж производства будут аресто вываться Советами.
В последнем пункте резолюции объявлялось, что Советы «принимают самое активное участие в деле мо билипа ции масс и создания органов борьбы за переход
317
власти к революционной демократии» ’. Слова о пере ходе власти к революционной демократии при всей и* неопределенности не могли затемнить существо — при. зыв рабочего класса к революции.
Это было поистине историческое решение, так как означало принятие радикальных революционных мер' возможных только при переходе всей власти в руки Советов. Меньшевики бурно протестовали, утверждая, что у рабочих не хватит сил для борьбы с капиталистами. От имени меньшевистской фракции Кибрик внес резолюцию, в которой говорилось: «Декрет Совета об удовлетворении требований рабочих с угрозой ареста капиталистов, то есть отмена декретом Совета классовой борьбы (?), есть фактически захват власти в наиболее неразумной форме и фактически изолирует рабочий класс»1 2. Меньшевики употребили все усилия, чтобы парализовать последствия большевистской резолюции.
После 19 октября стало очевидным для всех, что вооруженное восстание пролетариата — вопрос ближайших дней. Активизирует свою работу как революция, так и контрреволюция. 24—25 октября московские большевики, хотя и с большим опозданием, принимают меры к созданию партийного центра по руководству восстанием и ВРК. Задержка с организацией технической стороны восстания, как и ряд ошибок в ходе его, явилась результатом колеблющейся, примиренческой позиции ряда руководящих деятелей московской организации большевиков (Бухарина, Рыкова, Ногина, Смидовича и др.). Эти колебания, естественно, были использованы соглашателями в контрреволюционных целях.
Серьезную ошибку допустил Московский комитет уже при создании Военно-революционного комитета: в состав этого боевого органа допускались соглашатели. Вопрос об избрании ВРК обсуждался 25 октября на заседании объединенного пленугла Московских Советов рабочих и солдатских депутатов. В резолюции, внесенной большевистской фракцией, отмечалось, что его задачей является «оказывать всемерную поддержку революционному комитету Петроградского Совета рабочих и
1 «Социал-демократ» (Москва), 21 октября (8 ноября) 19К г<
2 «Известия Московского Совета рабочих депутатов*» 20 (2 ноября) октября 1917 г.
318
солдатских депутатов» ’. Меньшевики выступили против вооруженного восстания и создания ВРК. Они голосовали против большевистской резолюции, предложив вместо ВРК создать «временный демократически-рево-людионныи орган», составленный из представителей Советов, городского и земского самоуправлений, Всероссийского железнодорожного и почтово-телеграфного союза и штаба Московского военного округа. Несомненно, что при таком составе это был бы не революционный, а контрреволюционный орган1 2.
Когда пленум Советов принял большевистскую резолюцию (394 голосами против 106 при 23 воздержавшихся), меньшевики решили войти в ВРК, чтобы вести в нем подрывную работу изнутри. Этой цели они и не скрывали, заявив, что входят в ВРК для того, «чтобы там бороться с тактикой большевиков» 3. Уже на второй день после образования ВРК, 26 октября, в меньшевистской печати было опубликовано постановление московской организации меньшевиков, в котором откровенно было сказано о намерении сопротивляться захвату власти Советами, вести борьбу внутри ВРК «за замену его общедемократическим органом». Московский комитет меньшевиков объявил, что он посылает своих представителей в «общедемократический орган», образование которого взяла на себя городская дума. Вошедшие в ВРК меньшевики в специальном обращении заявляли, что будут «добиваться ликвидации Военно-революционного комитета» 4.
Не достигнув этой цели, меньшевики пытались парализовать его работу, наложить вето на революционные мероприятия Военно-революционного комитета. Результатом острой борьбы был уход соглашателей из ВРК. Вслед за ними ушли и объединенцы. Что касается районных ВРК, то они состояли из одних большевиков, и это с самого начала сказалось на их решительных действиях и боевом революционном духе.
1 «Известия Московского Совета рабочих депутатов», 26 октября 1917 г.
2 См. там же. гтг
8 Там же. О создании ВРК см. также: А. Шлихтер. Памятные дни в Москве. В журнале «Пролетарская революция», 1922, № 10, стр. 185-—190; А. Я. Грунт. Победа пролетарской революции в Москве. М„ 1961, стр. 140—150.
4 «Вперед», 26 октября (8 ноября) 1917 г.
319
Борясь против революции, меньшевики заявляли что их цель —прекратить гражданскую войну, которая неминуема, если власть возьмут Советы. Еще вчера ра-товавшие за всевластие буржуазии, за коалицию с ней они теперь перешли к новой тактике — заговорили о переходе власти к «демократии», подразумевая под ней все партии, кроме кадетской, и те слои буржуазии которые на словах стояли за революцию (конечно, не социалистическую). Призывать к коалиции с кадетами в момент острейшей классовой борьбы было не только бессмысленно, но и опасно. Меньшевики обещали, что не будут вместе с думой и ее Комитетом общественной безопасности стрелять в пролетариат. *
Эти лицемерные заявления не могли подорвать волю рабочего класса и его авангарда к победе, но они наносили большой вред, особенно если иметь в виду, что среди руководящих работников большевистской организации имелись люди, примиренчески настроенные. 29 октября, когда в ходе тяжелых и упорных боев произошел крутой перелом в пользу пролетариата, соглашатели под тем же миротворческим лозунгом бросились на помощь контрреволюции. Московский комитет меньшевиков принял решение — обратиться к рабочим и солдатам с воззванием о прекращении вооруженной борьбы, взять на себя переговоры с обеими сражающимися сторонами \ В тот же день меньшевистско-эсеровский Викжель предложил ВРК заключить перемирие, которое именно и нужно было контрреволюции для укрепления ее сил.
Под влиянием примиренцев ВРК принял предложение Викжеля. Было объявлено перемирие на 24 часа, во время которого обсуждался вопрос о порядке прекращения вооруженной борьбы, а главным образом —об органе местной власти. Здесь-то соглашатели и попытались задушить побеждающую революцию, вырвать власть из рук Советов. Викжель предложил создать Временный комитет с преобладанием соглашателей в его составе. Большевикам отводилось не более одной трети мест. ВРК предлагалось распустить2. Военно-ре" волюционный комитет выдвинул контрпредложение.
2 £м <<ВпеРСД», 31 октября, 1 ноября 1917 г.
См. там же.
320
вся власть в Москве принадлежит Советам; ВРК сохоа-няется, но пополняется путем кооптации представителей других общественных организаций
Переговоры ни к чему не привели. Благодаря вмешательству партийного центра попытка примиренцев из ВРК продлить перемирие еще на 12 часов была отвергнута. По существу, контрреволюция и не соблюдала перемирия. ВРК в специальном обращении рассказал об обстоятельствах, приведших к разрыву перемирия, утром 30 октября на Брянский вокзал прибыло 155 солдат-ударников с офицерами. Их снабдили винтовками и отправили в Кремль. В ряде районов контрреволюционные силы укрепляли свои боевые позиции L
Такова была цена «миролюбию» меньшевиков, и такова их роль в решающей борьбе пролетариата за власть. Эту предательскую роль меньшевиков метко характеризовал участник революционных боев в Москве Б. Волин. Он писал: «Рабочие и солдаты дерутся, как львы, и умирают, как герои. А меньшевики стоят в стороне и ослабляют настроение революционеров. Один рабочий-меньшевик начал было работать у нас, но его немедленно партия меньшевиков отозвала. Как-то привели к нам в штаб несколько типов, которые по району разбрасывали меньшевистские прокламации, в которых они убеждали рабочих, что никогда не победить им буржуазию, что нечего зря проливать кровь. Какой гвалт подняла их партия за этот арест и за уничтожение этих прокламаций! И это в тот момент, когда красногвардейцы умирали в окопах, вырытых на улицах Москвы!»1 2
Показательно поведение меньшевиков на заседании городской думы 6 ноября, т. е сразу после победы Советской власти в Москве. Накануне, 5 ноября, на ночном заседании ВРК решил распустить это гнездо контрреволюции. «Признать необходимым,— говорилось в постановлении,— явиться на заседание городской думы, назначенное на 6-е ноября, предложить разойтись и, в
1 См. «Социал-демократ» (Москва), 31 октября (13 ноября) 1917 г.
’ «Великая Октябрьская социалистическая Сборник воспоминаний участников революции в Петрогр Д и Москве. М., 1957, стр. 420.
21 н. рубан 321
Случае неповиновения, разогнать думу вооруженной силой» ’.
На указанном заседании думы потерпевшая поражение буржуазия в едином хоре с соглашателями вырабатывала планы дальнейшей борьбы против диктатуры пролетариата. Здесь были представлены все течения меньшевизма, и все они выступали вместе с буржуазией. Только правые оборонцы (Кафенгауз, Грановский) открыто присоединились к злобному выступлению представителя капитала Астрова, призывавшего к вооруженной борьбе за свержение Советской власти. Другие (Романов, Сысоев), более реально учитывавшие соотношение сил, предлагали повести политическую борьбу, сопротивляться мероприятиям Советской власти i 2.
Революция шла по стране победным маршем, сметая власть буржуазии и соглашателей. В некоторых местах, где Советы еще находились в руках меньшевиков и эсеров, революция наталкивалась на их упорное сопротивление и задерживалась. Так бывало, например, в Туле, Орле, Тамбове, Курске, Калуге, Вятке, Нижнем Новгороде, Перми, в большинстве городов Сибири и на Дальнем Востоке. В центральных губерниях эта задержка была сравнительно небольшой, в Сибири и на Дальнем Востоке — более длительной (в Забайкалье и на Амуре этот процесс затянулся до марта — апреля 1918 г.). Но революцию уже нельзя было остановить. Под руководством большевистской партии трудящиеся переизбрали Советы, очищая их от меньшевиков и эсеров, и, опираясь на Советы, разгоняли контрреволюционные органы, выступавшие под различными демократическими и даже революционными вывесками (например, в Нижнем Новгороде еще в середине октября меньшевики и эсеры создали для борьбы против революции так называемый Временный ревком).
В ряде городов: в Воронеже, Смоленске, Казани, Са-раюве, Астрахани, Омске, Иркутске, так же как и в Москве, пролетариату пришлось преодолеть вооруженное- сопротивление контрреволюции, организаторами которого были органы Временного правительства, мень-
i ^рис“Ь1Й аРхив», 1927, т. 4 (XXIII), стр. 117.
скал лимпп гас,ли архив», 1928, т. 27, 28 («Московская городская дума после Октября»).
322
шеВистско-эсеровские «комитеты общественной а опасности» и подобные им организации имевХ личные названия. Особенно трудным м’ евшие Раз-„роцесс становления Советской власти в районах зачьеи контрреволюции - на Дону, Южном Урале (Каледин, Дутов). Мы не касаемся национальных районов страны, где борьба за власть Советов также бы СЛОЖНОЙ
районов
и затяжной, чем в центральных Губерния^ * *
*
После временного торжества контрреволюции значительно ускорилось назревание революционного кризиса. В сентябре это был уже общенациональный кризис. Противостоящие друг другу лагеря — пролетариат и буржуазия ведут большую работу по мобилизации своих сил: пролетариат под руководством большевистской партии — для совершения социалистической революции, буржуазия вместе с соглашателями — для ее подавления.
Перелом в развитии революции, начало которому положили июльские события, выразился и в глубоком кризисе соглашательской, коалиционной политики меньшевистско-эсеровского блока. Народ нельзя обманывать без конца. Уже к июлю стало ясно, что коалиция социалистов с буржуазией потерпела полный крах. Июльские события подтвердили эту истину. Трудящимся не только ничего не дали, но и в значительной мере отобрали у них единственное завоевание буржуазной революции — политическую свободу. Советы были превращены в безвольные придатки Временного правительства.
Кризис коалиции выразился не только в том, что массы, прежде всего пролетарские, при помощи большевистской партии прозрели и все больше отворачивались от соглашателей, но и в том, что сама буржуазия Уже не нуждалась в ней. Если раньше, в условиях двоевластия, ей еще нужно было социалистическое прикры тие, то теперь, установив при помощи тех же соглаша телей единовластие, она предпочитала методы прямого подавления своих классовых противников, револю Ционная фраза ей только мешала. Правда, круто под пившаяся революционная волна вновь заставила
323
буржуазию прибегнуть к коалиции, но никакая коалиция уже не могла спасти ее от гибели.
В июльские дни классовая борьба вступила в новую фазу, достигнув небывалой остроты. Еще более четко определились два классовых лагеря. В этих условиях соглашатели должны были сделать свой окончательный выбор, и они его сделали в пользу буржуазии. Левое крыло меньшевистской партии своей критикой оппортунистической линии соглашательского большинства затрудняло его положение, но, направляя одновременно стрелы и против большевиков, оно не помогало пролетариату в его классовой борьбе, а только путалось в ногах революции.
Открытый переход соглашателей в лагерь буржуазии не означал, конечно, что они отказались от революционной фразеологии, которая была еще необходима, особенно в условиях подъема революции. Но теперь уже фраза мало кого могла ввести в заблуждение. Окончательная измена меньшевиков состояла в том, что они вместе с буржуазией в целях укрепления ее единовластия пошли в поход против рабочего класса и его организаций, против большевистской партии.
Оглядываясь на пролетариат и пресмыкаясь перед буржуазией, лавируя и политиканствуя, меньшевистские вожди стремились спасти коалицию с партией кадетов даже после того, как последние выступили организаторами корниловщины.
Вскоре сама буржуазия убедилась в том, что она не напрасно в лице Бубликова протягивала руку соглашателям. Меньшевики и эсеры оказались ее ударной силой в борьбе против нараставшей революции. Предательство меньшевиков по отношению к рабочему классу не могло остаться безнаказанным. От них отвернулись массы, уходили Советы. Ускорился процесс разложения самой меньшевистской партии. В октябрьские дни, когда меньшевики заявили, что идут умирать вместе с буржуазным правительством, они уже были политическими трупами. Но это, конечно, не значит, что меньшевики больше никого не вели за собой и что их полностью можно было сбросить со счетов. За ними еШе шли значительная часть мелкобуржуазной интеллигенции и даже отдельные, хотя и небольшие, группы Ра" бочих.
324
Несмотря на жестокие гонения, которым подверглась большевистская партия после июльских событий, ее влияние и авторитет в массах росли с невиданной силой, и перед Октябрем она стала единственным признанным вождем рабочего класса. Под ее руководством трудящиеся шли на решающие сражения с силами старого мира. Победа Великой Октябрьской социалистической революции явилась торжеством идей марксизма-ленинизма, величайшим историческим успехом российского пролетариата и его авангарда — большевистской партии. Подобно могучему урагану, она выкорчевала с корнем власть капиталистов и помещиков, нанесла сокрушительный удар по соглашательству и реформизму, указала всему человечеству дорогу к социализму.
ГЛАВА III
УПРОЧЕНИЕ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ КРАХ МЕНЬШЕВИЗМА
1. Меньшевики в лагере антисоветской контрреволюции
С Керенским «В России мы сейчас должны заняться
и Красновым постройкой пролетарского социали-
против стического государства»1 — так сфор-
пролетариата
мулировал генеральную линию партии В. И. Ленин в докладе о задачах власти Советов на заседании Петроградского Совета 25 октября (7 ноября) 1917 г.
Самые неотложные задачи состояли в том, чтобы вывести страну из войны, сломать старый государственный аппарат и создать новую, пролетарскую государственность, укрепить и отстоять Советскую власть.
Не успел еще закончить свою работу II съезд Советов, как буржуазия начала лихорадочно собирать силы для свержения диктатуры пролетариата. С главным штабом контрреволюции — партией кадетов плечом к плечу выступали меньшевики и правые эсеры. В этой обстановке большевистская партия вынуждена была направить свои главные усилия на защиту и закрепление завоеваний социалистической революции. В редакционной статье «Рабочего пути» 26 октября 1917 г. партия призывала трудящихся «не почивать на лаврах», а соблюдать бдительность, вооружаться. Перед рабочими, крестьянами и солдатами были поставлены три задачи: охранять все подступы к Петрограду, разоружить и окончательно обезвредить контрреволюционные элементы в Петрограде, окончательно организовать революционную власть. Этому же была посвящена и инст
1 В. И. Ленин Полн. собр. соч., т. 35, стр. 3.
326
рукция, разработанная Московским областным бтопп £сДРП(б) и разосланная Центральным Комитетом партии местным партийным организациям. На фронт спешно отправлялись отряды Красной гвардии, солдаты петроградского и других тыловых гарнизонов, час гей Северного фронта, моряки Балтийского флота. На фабриках и заводах шла работа по вооружению рабочих
Контрреволюция уже имела свои руководящие центры. Главным организатором борьбы против Совет-ской власти являлся так называемый «Всероссийский комитет спасения родины и революции», созданный 26 октября. Он состоял из представителей городской думы, президиума Предпарламента, бывшего эсероменьшевистского ЦИК Советов, ЦК партий меньшевиков, эсеров, объединенцев, партии народных социалистов, плехановской группы «Единство», меньшевистской и эсеровской фракций съезда Советов, фронтовой группы съезда (ушедших с него), Викжеля и некоторых других Такого рода комитеты имелись также в Гельсингфорсе, Пскове, Режице и других городах.
В воззвании к населению «Комитет спасения родины и революции» призывал не признавать Советской власти, не исполнять ее распоряжений. Фактически он агитировал за свержение власти Советов: из воззвания следовало, что «Комитет спасения» хочет воссоздания «Временного правительства, которое, опираясь на силы демократии, доведет страну до Учредительного собрания» * 2.
Примерно такой же по составу была и другая антисоветская организация — «Комитет общественной безопасности». В нее входили меньшевистско-эсеровские представители старого ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов, Всероссийского Совета крестьянских Депутатов, мелкобуржуазных партий, Викжеля, учительского союза, штаба округа и др. Прикрываясь флагом нейтральности, этот комитет возглавлял антисоветский саботаж чиновников, проводил сбор средств в пользу арестованных юнкеров, оказывал всемерную по-мощь вооруженной контрреволюции.
’~СмГ"«Рабочая газета», 27 октября 1917 г. Мшыцевики-иитернационалисты в состав «Комитета спасши р Д Р волюции» формально не входили.
2 Там же.
327
Меньшевики вместе с другими партиями использовали самые различные способы борьбы против Советской власти. Неистовый пропагандистский поход начала прежде всего меньшевистская и правоэсеровская печать. Она публикует грязные инсинуации, имевшие своей задачей опорочить вооруженное восстание рабочих, его характер, бросить тень на большевистскую партию. Она систематически помещает призывы «Комитета спасения», Викжеля, Центральных Комитетов меньшевистской и эсеровской партий к неподчинению органам Советской власти и к свержению ее; публикует приказы и решения Керенского, возглавлявшего военный поход контрреволюции на Петроград, приказы командующего Петроградским округом Краснова, сообщения об «успехах» контрреволюционных войск. Меньшевики, которые в июльские дни спокойно взирали на разгром большевистской печати, теперь лицемерно причитали по поводу всякой черносотенной газеты, закрытой большевиками.
Меньшевики вместе с правыми эсерами принимали непосредственное участие в организации вооруженной борьбы против Советской власти, хотя лицемерно призывали прекратить гражданскую войну. Эти призывы молчаливо адресовались только рабочим; что касается вооруженных сил контрреволюции, то их наступательные действия всячески поощрялись и санкционировались. Старые, дореволюционные организации меньшевистско-эсеровского блока стремились облечь эти действия в форму законности. 27 октября на совместном заседании ЦИК Советов прежнего созыва, Всероссийского Совета крестьянских депутатов, членов Предпарламента, гласных городской думы и других организаций обанкротившегося режима с докладом выступил бывший меньшевистский министр Скобелев. Он патетически заявил: «...В той борьбе, которую нам придется вести, нам необходимо опираться на физическую силу»
Это было мнение не только Скобелева. 28 октября ЦК меньшевистской партии принял резолюцию. В ней, в частности, утверждалось: «Никакое соглашение с партией большевиков относительно совместной с ними организации власти совершенно недопустимо. Всерос-
1 «Рабочая газета», 28 октября 1917 г.
328
сийский комитет спасения родины и революции должен немедленно вступить в переговоры с Временньш правительством, Советом республики и рабочими органи-зациями о такой реконструкции Временного правительства, которая сделала бы его способным к осуществлению следующих задач...» 1 И далее перечислялись эти задачи. Среди них, на первом месте, быстрая ликвидация «большевистской авантюры методами, обеспечивающими интересы демократии» (т. е. любыми методами.— Н. Р.). «Комитету спасения» вменялось в обязанность немедленно обратиться к ВРК с предложением сложить оружие. Опять-таки надо было читать между строка не предложить, а заставить ВРК сложить оружие. Не настолько же легкомысленный был меньшевистский ЦК, чтобы мог думать, что ВРК можно словами заставить сложить оружие. Нет никакого сомнения, что меньшевистская партия в несколько завуалированной форме требовала вооруженного свержения
диктатуры пролетариата.
А как вели себя в это время меньшевики-интернационалисты? Они также требовали «от большевиков и других частей демократии» не допускать гражданской войны, призывали сплачиваться, но не вокруг Советской власти, а вокруг знамени «единой общедемократической власти».
Меньшевики играли далеко не второстепенную роль в «Комитете спасения родины и революции». Этот антисоветский центр, считавший себя преемником Временного правительства, развернул бурную деятельность по сплочению сил контрреволюции. Так, 30 октября совместно с Предпарламентом и ЦИК первого созыва «Комитет спасения» обратился к действующей армии с призывом немедленно прислать войска, «хотя по одному пехотному полку от ближайшей армии, и возможно срочно самыми действенными средствами, не останавливаясь ни перед чем, курьерскими поездами доставить эшелоны в Лугу и Гатчину» 2. Рядом с подписями Ке-Ренского, эсеровских вождей Авксентьева и Гоца на этом Документе стояла подпись меньшевика Воитинского комиссара Северного фронта.
’ «Рабочая газета», 29 октября 1917 г. «Красный архив», 1927, № 5 (24), стр. 82.
329
В то время, когда под Царским Селом отряды Красной гвардии, революционных солдат и матросов отражали натиск красновских войск, «Комитет спасения» подготовил удар в спину Советской власти. Объявив юнкерские училища (единственный вооруженный оплот контрреволюции в столице) «войсками спасения», комитет отдал им приказ о свержении Советской власти. В ночь на 29 октября был поднят мятеж. Комиссар Временного правительства В. Б. Станкевич в телеграмме «Всем, всем, всем» сообщал, что мятеж юнкеров теснейшим образом координировался с наступлением Керенского— Краснова *. Юнкерам удалось захватить городскую телефонную станцию, но этим и ограничился их военный успех. В тот же день мятеж был подавлен, а 30 октября под Царским Селом разгромлены контрреволюционные войска, двигавшиеся на цитадель революции — Петроград.
Учитывая громадное значение железных дорог во всякой войне, в том числе в гражданской, меньшевики и эсеры в борьбе против Советской власти опирались на Исполнительный комитет союза железнодорожников — Викжель. Его руководители, зная, что их взгляды расходятся с настроениями рядовых членов союза, предпочли действовать под флагом нейтралитета. Но это был весьма своеобразный нейтралитет: Викжель всеми силами помогал одной стороне, именно контрреволюции, и всячески тормозил военные мероприятия Советского правительства. Об этом свидетельствуют многочисленные факты, о которых сообщалось в большевистской печати. В то время, как враги Советской власти разжигали пламя гражданской войны, Военно-революционный комитет встречал препятствия со стороны Вик-желя при каждой попытке перебросить куда-либо военную часть. Из слов представителя Лужского Совета на заседании Петроградского ВРК 31 октября явствует, что войска Керенского шли по призыву ЦИК (первого созыва), Исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов и Викжеля. Этот же делегат говорил: «Войсковой председатель местного комитета Викжеля
См. «Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде** ументы и материалы, док. № 866, стр. 643.
330
,яявил, ЧТО ничем не поддержит ВРК, не откачу»,.., *£аКо, перевозить войска Керенского» Тказываясь>
Особенно наглядно цена «нейтралитета» Викжеля обнаружилась во время октябрьских боев в Москве Как известно, перемирие, заключенное 29 октября по его же предложению, ыло использовано контрреволюцией для переброски к Москве по железной дороге юнкеров тогда как революционные войска, направлявшиеся в Москву задерживались. По этому поводу газета «Социал-демократ» писала: «К сожалению, из некоторых фактов следует, что железные дороги не всегда соблюдают ней-тралитет, как обещал Викжель, и нарушается нейтралитет в пользу юнкеров. Имеются сведения, что войска, идущие в Москву нам на помощь, задерживаются Вик-желем верстах в 100 от Москвы» 1 2.
Руководители Викжеля пытались в контрреволюционных целях прибегнуть и к забастовке железнодорожников. Они прекрасно понимали, что значит остановка
железнодорожного движения в то время, когда в различных районах страны враги Советской власти поднимали голову, когда на Москву, Петроград и фронт надвигался голод. Угрожая забастовкой, Викжель выдвигал требования прекратить военные действия, разоружить рабочих, создать «однородное социалистическое правительство» из представителей «демократии». 29 октября Викжель телеграфно сообщил по всей сети дорог о предстоящей забастовке, создании забастовочного комитета 3. Правда, несколько позже Викжель объявил, что, поскольку по его инициативе происходит «совещание враждующих сторон по вопросу примирения и образования нового правительства», начало забастовки откладывается до особого объявления. Но угроза остановки железнодорожного транспорта оставалась.
Действия Викжеля вызывали у трудящихся, в том числе железнодорожных рабочих, возмущение и гнев.
Недоверие Викжелю за его «явно контрреволюционную политику» выразило общее собрание рабочих паровозной мастерской первого участка службы тяги ико
1 «Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде», Док № Ю92, стр. 760—761. - а нпябпя)
1 «Социал-демократ» (Москва), 31 октябр
3 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 72, л. 41.
331
Попытки «мирного» свержения Советской власти
лаевской железной дороги, собрание коллектива железнодорожников станции Петроград Балтийской линии Северо-Западной железной дороги 1 и другие. Делегатский съезд Ташкентской дороги категорически заявил, что он не находит возможным проведение на дороге какой бы то ни было, хотя бы и частичной, забастовки2. С воззванием не поддаваться на провокационный призыв Викжеля к забастовке обратился к железнодорожникам всей России Совет рабочих депутатов Московского железнодорожного узла.
29 октября представитель Викжеля на заседании ВЦИК зачитал проект резолюции, в которой предлагалось начать переговоры о создании «однородного социалистического правительства».
В документе подчеркивалось, что Викжель не признает существующей рабоче-крестьянской власти... «В стране нет власти, и идет ожесточенная борьба за власть. Необходимо создать новое правительство, которое пользовалось бы доверием всей демократии и обладало бы моральной силой удержать эту власть в своих руках до созыва Учредительного собрания»3. Предлагая под угрозой приостановки всего железнодорожного движения прекратить военные действия и приступить к переговорам о новом составе правительства (в то время как враг стоял у стен Петрограда, внутри столицы в разгаре было восстание юнкеров), меньшевистско-эсеровские политики из Викжеля рассчитывали поставить Советскую власть на колени «мирным» путем.
Как же реагировали на этот маневр Викжеля меньшевики и эсеры? За исключением народных социалистов, все согласились участвовать в переговорах, но они, конечно, не собирались создавать правительство, стоящее на платформе Советской власти. Как уже отмечалось, предложение о переговорах служило лишь прикрытием, средством физически и морально разоружить рабочий класс, отвлечь внимание большевиков, дать
2' См. «Правда», 17 (4) ноября 1917 г.
См. П Вомпе Дни Октябрьской революции и железнодорожники М„ 1924, стр. 83. М
ппл«МФЬР°,ГОКОЛ1?1 заседаний Всероссийского Центрального Ис-ских J К’Х°ТТ? Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казацких депутатов второго созыва». М 1918, стр. 9.
332
собраться с силами контрреволюции. При этом меньше Гики и эсеры рассчитывали, в случае если большевик' не пойдут на соглашение, отколоть от них некоторые
„ населения, партию левых эсеров, занимавшую весьма колеблющуюся позицию. у
Это подтверждается меньшевистской печатью того времени. В редакционной статье, посвященной переговорам. «Рабочая газета», обливая грязью большевиков. вновь доказывала, что Россия не созрела для социалистической революции, что она лишь вступает в полосу буржуазного развития. Оставалось только сделать вывод, что переговоры должны вернуть Россию в лоно капитализма, воскресить коалицию «социалистов» с буржуазией. К такому выводу подводили и предложения ЦК меньшевистской партии, выдвинутые накануне переговоров; они сводились в основном к сле
дующему: все воинские части Петрограда переходят в распоряжение городской думы; большевики призывают рабочих отказаться от вооруженной борьбы; члены Временного правительства и заложники освобождаются; Военно-революционный комитет распускается; Керенский вступает в город, но... отказывается от репрессий; стороны вступают с Керенским в переговоры об образовании «делового правительства»... «без партии большевиков». Не больше и не меньше.
Сами меньшевики цинично признавали, что это условия не соглашения, а капитуляции большевистского правительства. «Да, мы хотим во что бы то ни стало победить большевизм,— писала «Рабочая газета».— Но мы все средства испытаем, чтобы заставить большевизм капитулировать мирным путем»
Вот с чем тили на переговоры меньшевики, какую Цель они преследовали. Большевистская партия иллюзии не строила, но решила принять участие в переговорах, которые, по мысли Ленина, могли послужить «дипломатическим прикрытием военных действий» против контрреволюции. Предложение Викжеля о переговорах рассматривалось на заседании ЦК РСДРП(б) 29 октября 1917 г. Поставленное на голосование предложение о возможности расширения базы правительства и изме Кения его состава было принято единогласно. Но это
1 «Рабочая газета», 5 ноября 1917 г.
333
не значит, что ЦК готов был идти на всякое изменение состава правительства. Другое предложение — мы не делаем ультиматума из вхождения в правительство всех советских партий, до народных социалистов включительно,— было отвергнуто подавляющим числом голосов; за него голосовало только четыре человека: Каменев. Милютин, Рыков, Сокольников.
Принципиально важным был пункт постановления о том, что правительство создается ЦИК и перед ним ответственно. Это значило, что одним из условии расширения правительства ЦК считал сохранение его политического характера как Советского правительства, правительства диктатуры пролетариата. Центральный Комитет подтверждал основные пункты программы Советского правительства — декреты о мире и о земле1.
На совещание при Викжеле по вопросу о власти ЦК делегировал Сокольникова и Каменева. От ВЦИК были направлены Рязанов и другие.
Переговоры начались 29 октября; присутствовало 'около 30 представителей различных партий и организаций. Меньшевистскую партию, все ее течения представляли Дан, Эрлих, Мартов, Мартынов, Абрамович, Семковский и Вайнштейн (последний от «Комитета спасения родины и революции»). Правых эсеров в переговорах представляли Гендельман и Якобин, левых эсеров — Колегаев и Малкин.
На первом же заседании меньшевики (Вайнштейн, Дан) совместно с эсерами (Гендельман) предложили создать однородно-социалистическое правительство без большевиков, распустить Военно-революционный комитет, разоружить рабочих. II съезд Советов они потребовали признать несостоявшимся. «На какой же программе возможно согласиться? — вопрошал Дан и тут же отвечал: — На программе комитета спасения, то есть образовании демократической власти без большевиков» 1 2. Меньшевики-интернационалисты (Мартов, Абрамович) попытались удержаться на излюбленной ими золотой середине, но эта «середина» проходила совсем близко от правого фланга меньшевиков. Мартов при
1 См. «Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 —февраль 1918», стр. 122—123.
2 П. Волше. Дни Октябрьской революции и железнодор0314 ники, стр. 28.
334
знал, что «если большевики будут побеждены силой оружия, то победитель явится третьей силой, которая раздавит всех нас». Но и фракция Мартова фактически предлагала ликвидировать Советскую власть, создать однородно-социалистическое правительство (правда, не исключая большевиков) . Программа меньшевиков-интернационалистов в речи Абрамовича была сформулирована следующим образом: «Необходимо создание власти, которую бы санкционировало старое правительство' и которому бы передало власть новое правительство» й.
В последующие дни меньшевистско-эсеровские вожди продолжали торговаться о составе правительства и нового верховного органа, которому оно должно быть-подчинено.
Почти все представители меньшевистско-эсеровского лагеря нагло настаивали на том, чтобы вновь созданное правительство было без Ленина. Кандидатами: на пост министра-председателя назывались Авксентьев., Чернов. Все было так, как будто и не произошла пролетарская революция. 31 октября представитель Викжеля в Петрограде информировал представителя этого союза в Могилеве о результатах переговоров: «Соглашение достигнуто в общих чертах. Выработано соглашение о парламенте как органе, перед которым правительство ответственно, и намечается соглашение о составе правительства с партийной стороны. ЦК с.-р. против участия большевиков как партии, но не против персонального их участия в правительстве. ЦК с.-д. меньшевиков против и этого...» 3
Переговоры при Викжеле, как барометр, отражали ход вооруженной борьбы под Петроградом. 31 октября, когда стало ясно, что авантюра Керенского — Краснова потерпела крах, совещание приняло предложенную меньшевиками и эсерами резолюцию о немедленном перемирии и обращение «к обеим враждующим сторонам» с воззванием о прекращении военных действий (за нее' проголосовали также Каменев, Сокольников и Рязанов). ЦК меньптевиков, еще недавно принявший решение о* '^~Гп7~В^мпе. Дни Октябрьской революции и железнодорожники, стр. 30—31.
f Там же, стр. 32. _ .. -
«Бюллетени общеармейского комитета». Бюллетени JN?
J 6 за 1 и 2 ноября 1917 г. В кн.: Г. Лелеаич. Октябрь в Ставке. г°мель, 1922.
335
недопустимости какого-либо соглашения с большевц, ками, постановил «принять участие в попытке организовать однородную власть, включающую в себя социалистические партии от народных социалистов до большевиков» 1. Хотя это постановление вызвало раскол в ЦК. выход из него представителей правого крыла2, оно являлось чистейшим маневром. Меньшевики и эсеры внесли предложение о создании вместо ЦИК так называемого «народного совета», состав которого был намечен с таким расчетом, чтобы большевики имели в нем незначительное меньшинство. В «народный совет» предполагалось ввести: 100 представителей от Советов (точнее, от ЦИК старого и нового состава), 75 — от Советов крестьянских депутатов, 80 — от армейских комитетов, 100 — от Петроградской и Московской городских дум, 15 — от Викжеля, 20 — от Всероссийского профессионального союза, 5 — от союза почтово-телеграфных работников3.
Присутствовавшие на совещании Каменев, Рязанов, Сокольников не только не дали отпора зарвавшимся лидерам меньшевиков и эсеров, но фактически соглашались с их линией. Каменев говорил: «Итак — честная коалиция партий, входящих в Советы, ответственных перед соответствующими органами и проводящих определенною платформу,— вот что открывает возможность создания нового правительства»4. (Курсив мой.— Н. Р.) Каменев не говорил ни об ответственности создаваемого правительства перед Советами, ни об обязательности платформы Советов Это было прямое игнорирование директивы ЦК РСДРП(б), выраженной в решении от 29 октября. Представители от большевистской партии даже не сообщили совещанию об этом постановлении.
‘ ЦПА НМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 49, л. 2.
В знак протеста против указанной резолюции из состава Ц меньшевистской партии вышла вся его правооборонческая часть в количестве 13 человек (Гольдман-Либер. БатурскиИ, , ольдман, Юдин, Гвоздев, Смирнов. Гарви. Ермолаев, Зарецкая, \/;,1ок°льников» Скобелев, Голиков. Богданов). Эти так называе-гшиГл ивисть] являлись открытыми и наиболее злобными врагами Советской власти.
< £М- «Новая жизнь», 2 (15> ноября 1917 г.
ники, стр 37Ле ДНИ ОктябРьск°й революции и железнодор0
336
Поведение Каменева и других представителей ,,ч п , „еговорах обсуждалось 1 ноября на заседаний ЦК £сДРП(б) и было подвергнуто суровому осуждений Ф. э. Дзержинским заявил, что делегаты не выполнив роручения ЦК, и предложил выразить недоверие делегации, отозвать ее и послать других. Трижды выступал В и. Ленин. Он говорил, что политика Каменева должна быть прекращена немедленно, что единственно правильным решением было бы уничтожить колебания колеблющихся. С Викжелем, сказал Ленин, теперь не приходится разговаривать, он не входит в Советы, и его туда нельзя пускать. Советы — органы добровольные, а Викжель не имеет опоры в массах. Надо помочь Москве, и наша победа обеспечена, так как за нами большинство. Напомнив, что Викжель отказался послать революционные войска в Москву, Ленин выразил уверенность, что массы не поддерживают Викжель и сбросят его, призвал апеллировать к ним. На заседании ЦК Каменев, Рыков, Милютин и Рязанов отстаивали свою линию на соглашение с меньшевиками и эсерами. Это была, по существу, капитулянтская линия, выразившая их неверие в массы, в рабочий класс. Без соглашения, заявляли они, большевики не в состоянии будут удержать власть. Каменев пугал Викжелем, забастовкой, утверждая, что «бороться можно только с Викжелем, но не против него»
ЦК постановил переговоры продолжать, заявив, что для нас ультимативны следующие условия: программа (декреты о земле и о мире, рабочий контроль, продовольственный вопрос, беспощадная борьба с контрреволюцией), власть Советская, источник власти — ЦИК, который может быть пополнен. В принятой ЦК резолюции говорилось: «Считая на основании опыта предшествующих переговоров, что соглашательские партии ведут эти переговоры не с целью создания объединенной Советской власти, а с целью внесения раскола в среду рабочих и солдат, подрыва Советской вла-0111 и окончательного закрепления левых ®
политикой соглашательства с буржуазией, Ц новляет: разрешить членам нашей партии, ввидх .
. ' 'Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Авг\ст
февраль 1918», стр. 29.
22 н рубан 337
состоявшегося решения ЦИК, принять сегодня участие в последней попытке левых с.-р. создать так называемую однородную власть с целью последнего разоблачения несостоятельности этой попытки и окончательного прекращения дальнейших переговоров о коалиционной власти» *.
В тот же день, 1 ноября, вопрос о власти обсуждался на заседании ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов2. Представитель Викжеля Крушинский предложил немедленно прийти к соглашению всем социалистическим партиям по вопросу о создании однородного социалистического правительства, в которое кроме этих партий вошли бы также представители дум, Викжеля и прочие. Левые эсеры (Камков) и объединенные социал-демократы интернационалисты (Базаров) поддержали это предложение. Последний пугал большевиков неизбежностью крушения Советской власти, если соглашение не состоится, заявил, что власть должна быть ответственна перед всей демократией, а поэтому представительство от дум надо приветствовать. Базаров угрожал уходом объединенных интернационалистов из ЦИК, в случае если указанные условия не будут приняты.
Выступивший от имени фракции большевиков Володарский изложил и обосновал основные условия, принятые Центральным Комитетом большевистской партии. Касаясь предложения о некоем органе, предназначенном поглотить собой Советы, он говорил: «Нам предлагают создать временный народный совет — нечто вроде предпарламента. Хотят создать этот орган без всякого определенного принципа. Мы на создание нового ублюдочного органа ни в коем случае не согласимся. Мы возражаем против допущения представительства городских дум самым решительным образом... Восстание рабочих и солдат было совершено под лозунгом «Вся власть Советам!», и никаких уступок здесь не может быть. Допуская представительство городских дум, уничтожается самая сущность принципа власти
min «Протоколы Центрального Комитета Н* 2 февраль 1918», стр. 130.
г.™ <пР0токолы заседаний ВЦИК стр. 11—1ь
РСДРП (б). Август второго созыва*.
338
Советов. ВЦИК является единственным источим власти. и создание нового ублюдочного органа X никоим образом неприемлемо» ВололаосХ^ НаС
гично поддержал Аванесов. Володарского энер-
Левые эсеры пытались торговаться, предложили внести некоторые изменения в ранее намечавшийся со став «временного народного совета» (несколько^увеличить представительство ЦИК и уменьшить представ" тельство городских дум и т. п.), но это предложение не меняло существа дела. ВЦИК принял резолюцию боль-Шевистскои фракции, в которой нашли отражение основные пункты постановления ЦК РСДРП(б) от 1 ноября. Левые эсеры заявили о своем несогласии с резолюцией большевиков. Еще более непримиримую позицию заняли объединенные социал-демократы интернационалисты. Заявив о выходе из состава ВЦИК, они оставили зал заседаний 1 2.
Ход переговоров показал, что, несмотря на четко сформулированную Центральным Комитетом РСДРП (б) линию, разногласия в вопросе о соглашении с мелкобуржуазными партиями, наметившиеся в самом начале, значительно углубились. То, что В. И. Ленин квалифицировал на заседании ЦК как колебания, выросло в антипартийную оппозицию. Кроме упоминавшихся уже членов ЦК Каменева, Рыкова и Милютина к оппозиции присоединились Зиновьев и Ногин. Они не подчинились решению ЦК и продолжали политику уступок. Судя по высказываниям В. И. Ленина, в ЦК имели место очень острые дискуссии с оппозицией.
2 ноября ЦК РСДРП (б) принял специальную резолюцию по вопросу об оппозиции внутри ЦК, написанную В. И. Лениным. В ней отмечалось, что «оппозиция целиком отходит от всех основных позиций боль
1 «Протоколы заседаний ВЦИК второго созыва», стр. 12.
2 См. «Протоколы заседаний ВЦИК второго созыв;а», стр. 11—16. Непримиримая позиция объединенных социал-демо-кРатов интернационалистов показывает, что даже эт , л®вое, крыло меньшевизма встретило Советскую вл Дебно. В своей газете «Голос социал-демократа» ониi сам.
<^и, что вошли в состав ЦИК, чтобы вести
с тактикой левого крыла большевиков, держащего “коата» социалистическую революцию («Голос соц ‘ ‘ ин2
* 1-2, 3 декабря 1917 г.). Объединенные социал-демократы^ еРнационалисты вновь вошли в состав ВЦИК
839
шевизма и пролетарской классовой борьбы вообще, повторяя глубоко немарксистские словечки о невозможности социалистической революции в России, о необходимости уступить ультиматумам и угрозам уйти со стороны заведомого меньшинства советской организации, срывая таким образом волю и решение II Всероссийского съезда Советов, саботируя таким образом начавшуюся диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства» 1. ЦК квалифицировал сущность оппозиции как запуганность буржуазией и отражение настроений усталой части населения.
Оппозиция считала, что однопартийное, чисто большевистское правительство не имеет права на существование, оно обязательно должно состоять из всех партий, входивших ранее в Советы. ЦК РСДРП(б) подверг острой критике этот глубоко ошибочный тезис. ЦК подчеркивал, что однопартийное, чисто большевистское правительство является вполне законным правительством. «Центральный Комитет подтверждает,— говорилось в резолюции,— что без измены лозунгу Советской власти, нельзя отказываться от чисто большевистского правительства, если большинство II Всероссийского съезда Советов, никого не исключая со съезда, вручило власть этому правительству» 2. Это, конечно, не означало, что наша партия изменила свою точку зрения относительно включения в правительство левых эсеров. В резолюции отмечалось, что сами они отказались войти в правительство, взяв на себя ответственность за срыв соглашения.
ЦК большевистской партии по-прежнему допускал возможность расширения состава ВЦИК Советов за счет представителей других партий. ЦК подтверждал, что, не исключая никого со II съезда, он и сейчас готов вернуть ушедших и признать коалицию этих ушедших в пределах Советов. Вместе с тем ЦК категорически выступал против мелкого торгашества за присоединение к Советам «организаций не советского типа, т. е. организаций не добровольного объединения революционного авангарда борющихся за свержение помещиков и капиталистов масс», против уступок ультиматумам и угр°“
2 S’ Ленин- Полн. собр. соч., т. 35, стр. 44
1ам же, стр. 44—45.
340
м меньшинства Советов, ибо они «равносильны полному отречению не только от Советской власти, но X демократизма...»
д Постановление ЦК еще раз давало понять меньше-рикам и правым эсерам, что они должны оставить надежды на то, что большевики отступят от принципов и программы II съезда Советов и все их попытки подменить Советскую власть какими-либо политическими комбинациями обречены на провал.
На заседании ВЦИК 2 ноября Зиновьев огласил это постановление ЦК большевистской партии (за исключением первых трех пунктов, где говорилось о внутрипартийной оппозиции), но он фактически отмежевался
от него, заявив, что постановление еще не обсуждалось большевистской фракцией. Затем, после перерыва, объявленного по просьбе фракции, Каменев зачитал резолюцию, которая коренным образом расходилась с постановлением ЦК, не выражала его линии в этом вопросе.
В резолюции выдвигались следующие условия: правительство ответственно перед ЦИК, который расширяется до 150 человек. К этим 150 делегатам Советов рабочих и солдатских депутатов добавляется 75 делегатов от губернских крестьянских Советов, 80 — от войсковых частей и флота, 40 — от профессиональных союзов (25 — от всероссийских профессиональных объединений, 10 — от Викжеля, 5 — от почтово-телеграфных служащих) и 50 — от Петроградской городской думы.
В правительстве не менее половины мест должно быть предоставлено большевикам. За большевиками Должны быть оставлены министерства труда, внутренних дел и иностранных дел2.
Это была, конечно, капитуляция перед сторонниками «однородного» социалистического правительства, и эсеры проголосовали за предложенную резолюцию, потребовав при этом себе министерство земледелия. Для дальнейшего ведения переговоров была избрана комиссия из пяти лиц, в которую от большевиков во-Н1ли Каменев, Зиновьев и Рязанов 3.
Вероломное поведение кучки оппозиционеров яви
' В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 4о.
8 См. «Протоколы заседаний ВЦИК вюрого См. там же, стр. 22.
созыва»,
стр.
21.
341
лось вызовом Центральному Комитету партии, членами которого они состояли. Это был неслыханное нарушение постановления ЦК, его линии в основном вопросе революции — в вопросе о власти, фактический разрыв с большевизмом и переход на позиции меньшевизма. Именно в таком духе квалифицировалось поведение оппозиции в ультиматуме, написанном В. И. Лениным и предъявленном большинством ЦК РСДРП(б) меньшинству ’. В этом документе говорилось, что оппозиция ведет политику, «явно направленную против основной линии нашей партии и деморализующую наши собственные ряды, поселяя колебания в тот момент, когда необходима величайшая твердость и неуклонность»1 2. В ультиматуме отмечалось, что разногласия большевистской партии с оппозицией являются повторением ее разногласий с группами «Новой жизни» и Мартова.
ЦК в ультимативной форме предложил оппозиции дать письменное обязательство подчиниться партийной дисциплине и проводить в жизнь линию ЦК. Участникам оппозиции было заявлено, что в случае отрицательного или неопределенного ответа вопрос о них будет передан на рассмотрение ЦК, МК, партийного съезда.
В ответ на ультиматум ЦК оппозиционеры — Каменев, Рыков, Милютин, Зиновьев и Ногин — не только не прекратили своей антипартийной деятельности, но и заявили о выходе из ЦК. В это же время на заседании ВЦИК 4 ноября заявила об уходе из правительства группа народных комиссаров — нарком торговли и промышленности Ногин, нарком по внутренним делам Рыков, нарком земледелия Милютин, нарком по продовольствию Теодорович; к ним присоединились и ушли с государственных постов Рязанов, Дербышев, Арбузов, Юренев, Ларин. Народный комиссар труда Шляпников заявил, что он присоединяется к общей оценке политического момента в вопросе о необходимости соглашения, но считает недопустимым сложение с себя ответственности и обязанностей.
Глубокое возмущение членов нашей партии и всех трудящихся вызвало заявление в большевистскую фракцию ЦИК С. А. Лозовского, являвшегося в то время
1 См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 47—49,
2 Там же, стр. 47.
342
секретарем ВЦСПС. Опубликованное в меньшевистской газете «Новая жизнь», это заявление слово в слово повторяло^ враждебные выпады буржуазной и меньшевистской печати против большевистской партии, ее политики. Фактически оно было направлено против диктатуры пролетариата. В декабре 1917 г. Лозовский был исключен из рядов большевистской партии
Появление jb партии в столь трудное время хотя и незначительной группы оппозиционеров, большинство из которых и раньше проявляло колебания, не было случайностью. Оно явилось результатом давления на партию мелкобуржуазной стихии и потерпевшего политическое банкротство меньшевистско-эсеровского блока. Действия оппозиции объективно представляли собой серьезную поддержку для врагов пролетариата, делавших ставку на раскол большевистской партии, выражением идейной солидарности с оппозицией. Меньшевики не скрывали своего злорадства по поводу ее выступлений. Сообщение об отставке некоторых членов ЦК РСДРП (б) и наркомов меньшевистские газеты печатали особым шрифтом. «Рабочая газета» публиковала крикливые статьи, о содержании которых красноречиво говорят сами заголовки: «Развал большевистского правительства», «Начало конца» и т. д. Но напрасно ликовали защитники буржуазии. Капитулянтское поведение оппозиции, конечно, нанесло известный ущерб, но не привело к расколу в партии и не могло поколебать ее, изменить ее политическую линию. Оно могло повлиять, и в известной мере повлияло, только на отдельные неустойчивые элементы в ее рядах и в среде трудящихся.
В связи с уходом группы членов партии с ответственных постов в столь тяжелое время ЦК РСДРП (б) принял написанное В. И. Лениным специальное обращение ко всем членам партии и ко всем трудящимся России. Дезертирский поступок Каменева и Зиновьева В. И. Ленин ставил в прямую связь с их поведением накануне Октября.
1 См. написанный В. И. Лениным «Проект резолюции ЦК РСДРП(б) об исключении С. А. Лозовского из партии» (В- И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 213—214).
После исключения из большевистской партии Лозовским примкнул к партии объединенных социал-демократов интернационалистов, став одним из ее лидеров, и вместе с ней вновь был принят в РКП (б) в декабре 1919 г.
343
В обращении говорилось: «Пусть же устыдятся все маловеры, все колеблющиеся, все сомневающиеся, все давшие себя запугать буржуазии или поддавшиеся крикам ее прямых и косвенных пособников. Пи тени колебаний в массах петроградских, московских и других рабочих и солдат нет. Наша партия стоит дружно и твердо, как один человек, на страже Советской власти, на страже интересов всех трудящихся, прежде всего рабочих и беднейших крестьян!» 1
Убедившись в том, что Советская власть прочно стоит на ногах, особенно после поражения контрреволюции под Пулковом и в Москве, меньшевики и правые эсеры прекратили переговоры о власти, а пролетариату они тем более были не нужны. 7 ноября Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию с требованием прекращения переговоров «о соглашении с меньшевиками и правыми эсерами». «Правда» писала по этому поводу:
«Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов единогласно постановил прекратить все переговоры о соглашении с меньшевиками и правыми эсерами. Меньшевики и эсеры предлагают рабочим разоружаться, а пока они дают эти предательские советы, офицеры и юнкера вооружаются и ждут Каледина.
Рабочие и солдаты, гоните прочь проповедников соглашения, обманывающих вашу революционную бдительность! »2
Но меньшевики не отказались от мысли о создании однородного социалистического правительства без большевиков. ЦК меньшевистской партии, обвинив их в отказе от соглашения, признал необходимым «скорейшее создание Всероссийского комитета объединенной демократии, включающего в себя представителей всех социалистических партий и демократических организаций» 3. Каким образом меньшевистский ЦК собирался осуществить эту идею вопреки воле Советской власти, об этом он умалчивал.
Попытки добиться соглашения о создании «однородных» органов власти, похоронить Советы предпринимались! не только в Петербурге. В Москве переговоры
' В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 74—75.
Правда», 20 ноября 1917 г.
ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 49, л. 4.
344
были навязаны ВРК Викжелем еще в ходе октябрьских боев, причем и там среди большевиков имелась небольшая группа сторонников соглашения. Но как в Москве, так и в других местах попытки подменить власть Советов, диктатуру пролетариата «однородно-социалистическими», по существу буржуазными, правительствами Не увенчались успехом. Кое-где, правда (например, в Екатеринбурге), эсерам и меньшевикам удалось путем дезинформации и ультиматумов, с помощью примиренцев (Сосновский, Крестинский) создать правительственный орган, противопоставленный Советам, но он умер естественной смертью.
Власть Советов нельзя было ликвидировать.
Меньшевистская и правоэсеровская печать не прекращала злобной кампании против большевистской партии и Советской власти. Гвоздь этой кампании составляли лицемерные протесты против «террора» (так меньшевики и эсеры называли совершенно необходимые и закономерные во время гражданской войны репрессии в отношении наиболее активных врагов революции), против нарушений «свободы печати». Меньшевистско-эсеровские вожди требовали освобождения из-под ареста организаторов вооруженной борьбы против Советской власти, отмены декрета Совета Народных Комиссаров от 27 октября 1917 г. о печати, о закрытии наиболее реакционных и злобных газет, выступавших с грязными инсинуациями против Советской власти и призывавших к ее свержению L С требованием «свободы печати» выступали все мелкобуржуазные партии и течения, вплоть до самых левых; они выдвигали его в качестве ультиматумов на совещании при Викжеле (такой ультиматум заявили 3 ноября Мартов, Мартынов, Вайнштейн и другие) и на заседаниях ЦИК. Между тем вначале были закрыты лишь некоторые буржуазные
1 В декрете Совнаркома о печати, в частности, говорилось: «Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественных оружии буржуазии. Особенно в критический момент, когда новая власть, власть рабочих и крестьян, только упрочивается, невозможно было целиком оставить это оружие в Руках врага, в то время, как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулеметы». В декрете содержалось общее Положение о печати, точно устанавливающее порядок закрытия газет (см. «Протоколы заседаний ВЦИК второго созыва», ^Р. 6—7).
345
газеты, хотя этого вполне заслуживала не только буржуазная, но и ничем, по существу, не отличавшаяся от нее меньшевистская и правоэсеровская печать. Отношение к вождям контрреволюции подчас также было излишне мягкое.
В разгар острой гражданской войны само требование «свободы печати» являлось антисоветским актом.
Вопрос о печати обсуждался на заседании ВЦИК 4 ноября 1917 г. Рьяными защитниками «свободы» буржуазной печати выступили левые эсеры, их поддержали Ларин и Рязанов, не освободившиеся от идейного груза меньшевизма. Была принята резолюция фракции большевиков. В ней говорилось, что закрытие буржуазных газет направлено против контрреволюции и одновременно является переходной мерой к установлению нового режима в области печати, исключающего частную собственность капиталистов на типографии и запасы бумаги. «Восстановление так называемой «свободы печати»... явилось бы недопустимой капитуляцией перед волей капитала, сдачей одной из важнейших позиций рабочей и крестьянской революции, то есть мерой безусловно контрреволюционного характера» L
В защиту резолюции выступил В. И. Ленин, заявив, что «мы не можем к бомбам Каледина добавлять бомбы лжи... Надо идти вперед, к новому обществу, и относиться к буржуазным газетам так же, как мы относились к черносотенным в феврале — марте»2.
После прекращения переговоров меньшевистская печать еще с большим остервенением повела антибольшевистскую и антисоветскую кампанию. Вновь запестрели призывы к свержению Советской власти, к бойкоту ее мероприятий и распоряжений. Усилились вопли и угрозы по поводу «террора» и отсутствия «свободы печати».
* *
Разумеется, переговоры о власти, затеянные Викжелем, не привели и не могли привести к тем результатам, на которые рассчитывали их инициаторы. Меньшевики вместе с правыми эсерами с самого начала вели их на
2 ^Р5)Т<??ОЛЬ1 засеДаний ВЦИК второго созыва», стр. 24.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 54—55.
346
почве непризнания Советской власти, попыток свержения ее «мирным» путем. Но это была нереальная задача; только люди, ослепленные враждой к новому строю, могли надеяться, что пролетариат, совершивший самую великую в истории революцию и овладевший государственной властью, добровольно уступит ее буржуазии или ее агентам. Что касается левых эсеров и объединенных социал-демократов, то они продолжали колебаться, склонялись к родственным партиям справа.
Большевистская партия не считала сложившееся однопартийное правительство единственно возможным. Зная о том, что левые эсеры — партия политически неустойчивая, сильно колеблющаяся и не способная быть надежным союзником, большевики все же предлагали им места в правительстве. Но большевистская партия не стремилась к коалиции с ними ценой принципиальных уступок. ЦК РСДРП(б) подчеркивал, что чисто большевистское правительство вполне закономерно, оно опирается на громадное большинство в народе и представляет большинство в Советах, оно утверждено II съездом Советов — выразителем воли трудящихся.
Несколько позже большевики заключили коалицию с левыми эсерами, согласившимися войти в правительство I А в состав ЦИК вошли даже представители тех партий, которые бойкотировали II съезд Советов, в том числе меньшевистской. Но правительственная коалиция с левыми эсерами, так же как и пребывание в Советах меньшевиков и эсеров, оказалась недолговечной, и, как известно, не по вине большевиков. Став на путь борьбы с Советской властью, мелкобуржуазные партии сами исключили себя из всей ее системы, а затем вообще ушли с политической арены. Таким образом, в силу особенностей развития русской революции, особенно острых форм классовой борьбы, Советская власть постепенно сформировалась как однопартийная.
1 15 ноября, во время Чрезвычайного съезда крестьянских Депутатов, ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов был пополнен депутатами крестьянских Советов (108); кроме того, в его состав вошло 100 делегатов с фронта и флота и 50 представителей профессиональных союзов. Тогда же во ВЦИК возвратились объединенные социал-демократы интернационалисты. К этому времени относится включение в состав правительства левых эсеров.
347
Через несколько десятилетий практика дала и другие примеры: в ряде стран диктатура пролетариата установилась и получила свое развитие в условиях многопартийной государственной системы при руководящей роли коммунистических партий. Но было бы неправильно абсолютизировать ни однопартийную, ни многопартийную систему. Все зависит от конкретноисторических условий; пролетариат выбирает ту систему, которая больше способствует осуществлению его исторических идеалов. Другими словами, правящая партия пролетариата может и никогда не откажется войти в коалицию с мелкобуржуазными партиями, если они переходят на точку зрения пролетариата, становятся на почву диктатуры пролетариата и социалистического строительства.
2. Завершение политического и организационного разложения меньшевизма
Генералы Уже в последние месяцы перед Вели-без армии ким Октябрем, когда крах реформистской, соглашательской политики и коалиционных комбинаций меньшевиков был совершенно явный, меньшевистская партия почти совсем потеряла контакт с массами, она таяла численно и все больше погружалась в состояние политической прострации. Рост единства рабочего класса лишал ее последних жизненных соков.
После пролетарской революции этот процесс резко усилился. Поскольку меньшевистская партия оказалась на стороне выступивших против Советов контрреволюционных сил, она была окружена острой ненавистью пролетариата. В ее рядах оставалось все меньше и меньше рабочих. Следует еще раз оговориться на счет скудости материала о численном составе партии к этому времени, так как организационный хаос в ее местных комитетах все более возрастал и систематического учета не было. Кроме того, рядовые члены партии, отходя от меньшевизма, не всегда об этом сообщали. По все же сохранились некоторые данные, позволяющие составить хотя бы приблизительное представление о деградации этой партии.
348
В обращении ЦК меньшевиков к партийным организациям по поводу закончившегося чрезвычайного съезда партии (декабрь 1917 г.) сообщалось, что она насчитывает в своих рядах 150 тысяч членов. Если даже взять эту цифру на веру (она, видимо, преувеличена), то получается, что примерно за четыре месяца (со времени августовского съезда) партия уменьшилась примерно на 50 тысяч. В некоторых организациях с пролетарским окружением сокращение числа членов было еще более резкое. О катастрофическом уменьшении организации говорилось, например, в отчете секретаря Московского губернского комитета меньшевиков на губернской конференции в 20-х числах ноября 1917 г. Со времени первой конференции (начало августа) число членов упало с 3000 до 1300 с лишним членов, т. е. более чем в 2 раза. При этом секретарь сделал оговорку, из которой следовало, что в действительности в организации осталось еще меньше членов, так как «подсчет фактических сил затрудняется инертностью товарищей, не ушедших из организации, но и не проявляющих никакой активности» Эти слова, видимо, надо понимать так, что и оставшиеся в организации члены партии являются таковыми весьма условно, только формально. Из отчета видно, что апатия охватила не только рядовых членов, но и видных меньшевистских лидеров («с большим трудом удалось уговорить Хинчука выступить в Павлово-Посаде, не хочет выступать Кипен»). Докладчик сделал следующий, безрадостный для меньшевиков вывод: «Отсутствие спайки и инертность в наших организациях не только в центре, но и на местах. Это приходится с грустью констатировать» 2.
Главным показателем политической мощи и жизненности всякой партии является ее влияние на трудя-ншеся массы, отношение к ней этих масс. Уже после июльских событий, особенно после подавления корниловского мятежа, авторитет большевиков стал быстро и {^УДержимо расти. Это наглядно видно было по составу *1 Всероссийского съезда Советов, хотя, как известно, **оры на съезд проводились под руководством сга-меньшевистско-эсеровского ЦИК и поэтому и
S ВПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 33, л. 4.
же.
349
результаты не полностью отражали настроение трудящихся.
В ходе октябрьского восстания и после его победы, когда в смертельной классовой схватке меньшевики полностью и окончательно определились по ту сторону баррикад, массы еще больше отшатнулись от них. Это подтверждают результаты выборов в Учредительное собрание, проходивших 12 ноября (т. е. после подавления контрреволюционной вылазки Керенского — Краснова и юнкерского мятежа, после провала нечистой игры Викжеля).
По данным, которыми оперирует В. И. Ленин в своей статье «Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата» ’, всего по 54 округам было подано всего в ноябре 1917 года 36 262 560 голосов, из которых эсеры русские получили 16,5 миллиона голосов, а вместе с эсерами других наций — 20,9 миллиона, т. е. 58 процентов. Меньшевики получили 668 064 голоса, к которым В. И. Ленин прибавляет еще 700—800 тысяч голосов, поданных в Закавказье. Итого за меньшевиков голосовало примерно 1,4 миллиона человек — менее 4 процентов.
Большевики получили более 9 миллионов голосов — 25 процентов. Проанализировав результаты выборов по областям и губерниям, В. И. Ленин показал, что большевики имели громадное преобладание не только над меньшевиками, но и над эсерами в промышленных районах, прежде всего в обеих пролетарских столицах, а также в таких губерниях, как Лифляндская, Тверская, Владимирская. Деревня же в большинстве своем еще шла за эсерами. В Петрограде за большевиков было подано 45 процентов голосов, в Петроградской губернии — 50 процентов, по Московскому столичному округу — 50 процентов, по губернии — 56 процентов. Меньшевики имели в Петрограде и Москве всего по 3 процента голосов.
На основании этих данных В. И. Ленин делает вывод, что «...большевики были, во время выборов в Учредительное собрание, партией пролетариата, эсеры — партией крестьянства» 2. А чьей же партией были меньшевики? Во всяком случае не пролетарской. В той же
1 См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 40, стр. 1—24.
2 Там же, стр. 3.
350
работе В. И. Ленин писал: «Большевики имели за собой в ноябре 1917 года гигантское большинство пролетариата. Конкурирующая с ними, среди пролетариата, партия, партия меньшевиков, была разбита к этому времени наголову... И притом разбита была эта партия в пятнадцатилетней борьбе (1903—1917), которая закалила, просветила, организовала авангард пролетариата, выковав из него действительно революционный авангард»
О падении влияния меньшевиков, снижении интереса к их идеям не только в беспартийных массах, но и в самой меньшевистской среде свидетельствуют имеющиеся в архивах некоторые сведения о распространении меньшевистских газет в Петрограде (данные относятся к началу 1918 г.). Речь идет о списке районов, против каждого из которых указано, сколько меньшевистских газет он хочет получить (составлен по сообщениям уполномоченных по распространению газет, имевшихся на каждом предприятии; всего по Петрограду их насчитывалось около 170). Против 12 из 14 районов написано: «не берет» 1 2.
Возросшая инертность и организационная аморфность в меньшевистской партии дополнялись дальнейшим углублением ее идейного разброда и некоторой новой перегруппировкой сил, которая была вызвана победой диктатуры пролетариата.
Как известно, в период между Февралем и Октябрем меньшевики, несмотря на наличие множества течений, были едины в одном: в признании концепции о невозможности победы социалистической революции в России ввиду ее отсталости и малочисленности пролетариата, в том, что страна только лишь вступила в эпоху капиталистического развития и ей еще предстоит Длительная эволюция по этому пути. Эта основополагающая концепция, на которой покоилась вся классовая стратегия и тактика меньшевизма, их реформистская политика, оказалась достаточно сильным обручем, чтобы удерживать все группы и течения в рамках одной партии (исключение составила порвавшая с партией небольшая группка объединенных социал-демократов
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 40, стр. 5 б.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 57, л. 20—36.
351
интернационалистов). Источником расхождений между различными течениями являлись вопросы тактики, прежде всего в отношении войны и мира, и эти расхождения были довольно сильные. Правоцентровая, оборонческая часть меньшевизма, т. е. собственно меньшевистская партия, так глубоко погрязла в оппортунистическом соглашательском болоте, что это било в нос ее левому крылу, понуждало его выступать с критикой, подчас довольно резкой, почти по всем вопросам и практической политики.
Но, к сожалению, мелкобуржуазная, колеблющаяся природа меньшевиков-интернационалистов не позволяла им ни шагу сделать дальше критики. Ни в одном более или менее важном политическом вопросе они не имели серьезной позитивной программы, самостоятельной линии поведения. В политике они были беспомощны (иногда после блестящей, остроумной критики Мартов делал настолько далекие от жизни выводы, что они вызывали в зале смех). Пытаясь занять срединное положение между оппортунистическим и революционным течениями в рабочем движении, создать видимость борьбы на два фронта, мартовцы как бы попадали в состояние политической невесомости, превращались в ноль, хотя в конечном счете, когда речь шла о главном — о пролетарской революции, они следовали в фарватере оборонцев. В истории всегда так было с «третьей силой».
Но вот пролетарская, социалистическая революция, которой так боялись меньшевики, свершилась, и вся меньшевистская стратегия вместе с тактикой, вся их реформистская политика потерпели полное крушение. Что же дальше делать? Признать историческое поражение меньшевизма, а следовательно, и международного социал-демократизма? На это, как мы увидим позже, решилась только часть меньшевиков, ушедшая из партии группами и в одиночку. В целом же партия пошла по другому пути: объявив революцию незакономерной, она начала с ней борьбу не на жизнь, а на смерть, выступила соучастником авантюры Керенского — Краснова, организатором юнкерского мятежа, саботажа чиновников, бешеной пропагандистской кампании против большевиков, в которой использовались угрозы, клеветнические измышления, ультиматумы. И так же, как
392
раньше оппортунистическая концепция революции объединяла все меньшевистские течения, так теперь общей для всех оказалась вытекающая из этой концепции цель — подавить революцию.
Некоторые, более умные и дальновидные политики из меньшевиков понимали тщетность борьбы с Советской властью. Кстати, понимал это и Г. В. Плеханов. Вот что писал в своих воспоминаниях (в 1920 г.) один из его соратников. Иорданский:
«Когда 27 или 28 октября 1917 г. ночью казаки оставили после дневного боя местечко Александровское и освободили дорогу на Царское Село, я решил зайти к Георгию Валентиновичу, узнать его мнение о происходящих событиях и часов в 10 утра отправился из Александровского в Царское Село...
О перевороте он говорил мало, только заметил, что большевики взяли власть надолго и не только в районе Петрограда, но по всей России, что ни Керенский, ни кадеты, ни какая другая партия ничего не смогут сделать. В данный момент ни о каком серьезном сопротивлении большевикам не может быть и речи. На бои под Петроградом он смотрел лишь как на бесплодную авантюру казаков, обреченную на неудачу»
Но далеко не все меньшевики так думали. Отсутствие революции на Западе, а также неимоверные внутренние трудности, с которыми встречалась Советская власть,— развал экономики, полученный в наследство от старого строя, приближающийся голод, мобилизация сил контрреволюции во всех районах России — все это порождало у врагов пролетарской диктатуры надежду на ее гибель.
,, Будучи едины в отношении цели,
На распутье J J
r г меньшевики по-разному подходили к вопросу о тактике, о методах борьбы за свержение Советской власти. Одно течение, представлявшее наиболее правое крыло партии во главе с Потресовым, группу «Единство» и часть центра, предпочитало бороться при помощи штыка, вооруженной силы. Другое течение — часть центра во главе с Даном и «левое» 2 крыло (мень-
г* ЦПА ИМЛ, ф. 70, оп. 3, ед. хр. 574, л. 4.
2 Теперь понятия «левое» и «правое» для обозначения различных течений меньшевизма приобрели еще более относительный характер, чем до революции.
53 н. рубан 853
шевики-интернационалисты), представлявшее большинство партии,— считало, что надо попытаться устранить Советскую власть «мирным» путем, без оружия. Это, конечно, вовсе не означает, что большинство было настроено миролюбиво, готово к компромиссу. Оно не менее враждебно, чем меньшинство, было настроено по отношению к большевистской партии, отрицало идею диктатуры пролетариата. Ни одно из меньшевистских течений не выступило против военной авантюры Керенского.
Все дело в том, что большинство партии вынуждено было формально отказаться от вооруженной борьбы. Открыто, с оружием в руках выступить против пролетариата на стороне контрреволюции было равносильно политическому самоубийству. Правое же меньшинство, отражавшее настроение наиболее контрреволюционных слоев интеллигенции, высокооплачиваемого чиновничества, заняло непримиримую позицию, пошло на раскол с большинством партии. Представители правого крыла в ЦК вышли из его состава.
Позиции указанных двух течений достаточно выяснились на соединенном заседании меньшевистских фракций Предпарламента, ЦИК старого состава, съезда и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов с участием членов ЦК меньшевистской партии. Один из докладчиков большинства ЦК — Дан (другим был Абрамович) заявил: «Первые дни заговора была надежда, что он может быть ликвидирован военной силой, но попытка подавления оказалась неудачной, нападение на Петроград сделало защиту Петрограда делом пролетариата...» Дан признал, что именно это заставило меньшевиков пойти на переговоры с большевиками; здесь же он раскрыл и цель переговоров: «Смысл соглашения — заставить большевиков отказаться от идеи власти Советов и признать равноправие всей демократии. Соглашение невозможно без раскола в большевизме... Отказ от соглашения откалывает от большевиков огромные массы рабочих, и их восстание становится чисто солдатским» ’.
Другими словами, тактика большинства на этот раз сообразовывалась с реальной обстановкой: надежды на свержение большевистского правительства при помощи
1 «Рабочая газета», 5 ноября 1917 г.
354
штыка не оправдались, осталось одно: попытаться решить ту же задачу путем переговоров в расчете на раскол большевистской партии.
Точку зрения меньшинства ЦК — еще более неистовых врагов пролетариата — выразила Зарецкая следующими словами: «Соглашение с буржуазией диктовалось социал-демократическими взглядами на революцию. Соглашение же с большевиками есть признание социальной (социалистической.— Н. Р.) революции. По отношению к большевистскому правительству наши задачи те же, как и по отношению к царизму»
Для обсуждения вопросов тактики ЦК меньшевиков созвал чрезвычайный съезд партии (30 ноября — 7 декабря), который с начала и до конца был выдержан в антибольшевистском духе. Центральным был вопрос о текущем моменте и задачах партии. При всех спорах о прошлой и настоящей тактике меньшевики проявили единодушие в общей оценке Октябрьской революции как непролетарской и незакономерной и в признании необходимости борьбы за ее свержение. Меньшевики пытались оправдать и свою концепцию революции, и свою коалиционную тактику. Представители правого течения, занявшего особенно агрессивную позу по отношению к Советской власти, призывали не стесняться, идти вместе с буржуазией против пролетариата. Один из лидеров правого крыла партии, а теперь еще более поправевший, Либер, возражая против каких-либо соглашений с большевизмом, говорил: • «Мы должны сохранять самостоятельную позицию и не бояться поддерживать те партии, с которыми нам по пути. Как не поддержать кадетов в их борьбе за элементарные (т. е. буржуазные.— Н. Р.) свободы против большевиков?» 1 2
Либера поддержал Потресов. Иронизируя по поводу позиции большинства, надеявшегося победить большевизм путем соглашения с ним, он говорил: «Неосновательна надеждаТ чго большевизм можно причесать. Большевизм тем и характерен, что он никогда не позволял себя причесывать. Он непоколебим. Его можно сложить, но согнуть нельзя. А чтоб сгибать могли мы это смешно» 3. Неплохая аттестация большевикам в устах
1 «Рабочая газета», 5 ноября 1917 г.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 52, л. 7 (протоколы съезда).
3 Там же, л. 23.
355
врага. Потресов предложил выдвигать против большевиков те же лозунги, что и против самодержавия, призывать к их свержению. В это время с места задают вопрос: «Чем свергнуть ее?» Потресов: «Чем угодно». Впрочем, тут же он конкретизировал ответ: «Задача партии — это резкая борьба с большевизмом вплоть до оружия в руках и организация власти без большевиков» L
Еще более откровенный разговор состоялся на совещаниях меньшевиков-оборонцев, которые проходили параллельно со съездом. Здесь говорилось о необходимости «равняться направо» (Батурский); как и при царизме, «поддерживать буржуазию в ее прогрессивной борьбе против большевиков» (Вайнер); равняться не на Советы, а на местные самоуправления, которые, по замыслу оборонцев, должны были стать центром консолидации антибольшевистских сил 1 2.
Позицию большинства на съезде отстаивал Мартов. Говоря об идее соглашения с большевиками относительно создания однородного социалистического правительства без буржуазии, Мартов указал на Учредительное собрание, в рамках которого такое правительство могло бы быть создано. Он признал, что за большевиками идет большинство пролетариата. Полемизируя с теми, кто надеялся создать власть без большевиков, он не без основания заявил, что это означало бы возврат к коалиции с буржуазией, а последняя «возможна только на трупах раздавленного пролетарского движения».
Но это были только слова, в действительности Мартов, как и Потресов, считал, что с большевистской властью надо покончить. Он высказывался против вооруженной борьбы, надеясь, что Советскую власть можно будет свергнуть при помощи Учредительного собрания. Мартова уличил в неискренности Либер, давший понять, что большевиков обмануть не удастся. «Разве им не ясно, как и вам, что Учредительное собрание с ними покончит? Или разве можно нам отречься от
1 ЦП А НМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 18, л. 1 (из отчета о чрезвычайном съезде на собрании архангельской организации меньшевиков).
2 ЦПА НМЛ, ф. 275, ед. хр. 35, л. 11.
356
учредительного собрания? Это игра» Дан также высказался за создание однородного правительства от народных социалистов до большевиков, но здесь же оговорился, чт0 центр понимает невозможность заставить большевиков воити в новое правительство и рассчитывает на «правых» большевиков типа Каменева. Следовательно, коалиция представлялась маловероятной, но нужен был лозунг, чтобы отколоть колеблющихся, «тех, которые шли за большевиками, а теперь начинают уклоняться от безропотного пути» 2.
Хотя на поверку разница между течениями была не столь велика, съезд отдал предпочтение более осторожной и более тонкой линии Мартова, оставлявшей надежду сохранить за собой хотя бы часть пролетариата. Предложенная Мартовым резолюция, главным пунктом которой было требование однородного социалистического правительства от народных социалистов до большевиков, созданного Учредительным собранием, была принята большинством голосов 3.
Итак, меньшевистский съезд поставил задачу свержения Советов. Различие в тактическом подходе к решению этой задачи не меняло ее существа. Но чтобы привлечь на свою сторону хотя бы часть народа, надо было ему предложить какую-то программу. Нельзя же после декретов Советской власти идти к массам со старой, меньшевистской программой. Были обсуждены вопросы о мире и перемирии, о рабочем контроле, аграрный, национальный и... все было оставлено по-старому, только теперь все рассматривалось в связи с задачей свержения Советской власти. После взаимных обвинений относительно прежней тактики в вопросах войны и мира, которыми обменялись оборонцы и интернационалисты, съезд сошелся на том, что мир может быть заключен только после свержения Советской власти через Учредительное собрание, так как только с ним союзники могут вести переговоры. А в остальном
' ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 52, л. 20.
ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 18, л. 1 м<’ныие-
«»ином съезде на собрании архангельской opia
®иков). .10
д * Резолюция Мартова собрала 50 голосов, Iloipicci Либ*Ра-13, Дана-26.
357
то же, что и раньше: конференция союзников, международная социалистическая конференция, а если ничего не получится — возложить всю вину на большевиков. Потресов высказался в том смысле, что Учредительное собрание должно предпочесть войну похабному миру, если бы даже было ясно, что эта война закончится катастрофой. «Пусть это грозило бы гибелью, но честь революции была бы спасена» ’. Это высказывание ультраправого меньшевика интересно тем, что оно совпадало с высказыванием ультралевого» коммуниста Бухарина.
После большевистского декрета о земле, после Декларации прав народов России каким затхлым анахронизмом звучали рассуждения этих политических мертвецов о муниципализации и ограничении земельной площади, подлежащей национализации, о культурнонациональной автономии и государственном централизме!
Вопрос об отношении к рабочему контролю рассматривался в связи с несуществующей перспективой капиталистического развития России. Одни предлагали идти в органы контроля для того, чтобы разваливать их изнутри; другие считали, что надо бойкотировать их, так как влияние меньшевиков на массы слишком ничтожно, чтобы можно было проникнуть в эти органы. Такие же две точки зрения выявились и в отношении Советов* 2.
Ввиду обострившихся разногласий и идейного разброда на съезде был поставлен вопрос о единстве партии. Но ни большинство, ни меньшинство не проявили стремления к единству. Особенно непримиримую позицию заняло оборонческое крыло. Представитель его Голиков закончил свою речь возгласом: «Да здравствует раскол!» Правые (10 человек) отказались войти в ЦК. Либер от имени оборонцев заявил, что принятая резолюция толкает партию к гибели, а потому оборонцы, оставаясь в партии, поведут внутри нее беспощадную
’ ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 52, л. 34.
2 Ерманский предлагал войти во ВЦИК с тем, чтобы вместе с эсерами составить противовес большевикам, но большинство выступило против этого. Даже Мартов заявил, что сейчас в ВЦИК входить не надо, но при изменившихся обстоятельствах ЦК надо дать возможность пересмотреть этот вопрос.
358
борьбу с интернационалистами При выборах ЦК группа оборонцев (31 человек) заявила, что воздержится при голосовании * 2.
На совещании оборонцев разгорелись острые споры о том, каково должно быть дальнейшее отношение к партии: немедленное отмежевание путем выхода из нее или создание организационной автономии в ее рамках при сохранении формального единства? Победила компромиссная точка зрения. Было решено отмежеваться от резолюции съезда путем издания декларации, воздержания от голосования и использования всех средств на завоевание партии. Ввиду того, что ряд организаций откололся еще раньше (в Петрограде, Харькове и других городах), совещание постановило допустить существование параллельных партийных организаций. Было избрано Временное бюро оборонцев 3.
Таким образом, съезд показал, что, кроме вражды к большевикам, партию ничто не объединяет. Ничему не научившись в прошлом, она судорожно цеплялась за старые догмы, старые методы, старую программу. Тем не менее верхи партии, хотя и признавали ее ничтоже-ч ство как политической организации, объявили войну Советской власти. Одни готовы были идти против пролетариата с любым союзником и с оружием в руках, другие (составлявшие большинство) решили для этого привлечь на свою сторону отсталые и колеблющиеся элементы среди трудящихся. Процесс идейного и организационного разложения партии усилился, хотя формальное единство партии для борьбы против Советской власти было сохранено.
Для полноты картины следует также подробнее остановиться на характеристике политической платформы, которую выдвинули в первые месяцы после Октября так называемые объединенные демократы-интернационалисты (некоторое представление об этой платформе мы уже имеем, ознакомившись с их пове
* См. «Новая жизнь», 8 (21) декабря 1917 г.
2 См. «Новый луч», 16 декабря 1917 г.
3 ЦПА НМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 35, л. 15—17. В Петрограде Организация оборонцев обособилась значительно раньше. 8 апреля 1917 г. было избрано Временное бюро в составе 5 лиц, которому было поручено обратиться к Плеханову с предложением о совместной работе (таМ же, л. 4 7).
359
дением на II Всероссийском съезде Советов и на переговорах при Викжеле). Отколовшись от меньшевистской партии, порвав с ней организационно, это течение еще долгое время продолжало оставаться в плену меньшевистской идеологии. Его представители резко критиковали оппортунизм меньшевиков, но сами исповедовали оппортунистические догмы и вели соответствующую им политическую линию. Подобно тому как раньше мартовское течение изображало из себя «третью силу», стоящую между оборонцами и большевиками, объединенные интернационалисты пытались занять срединное положение между всей меньшевистской партией и большевиками. Такого рода течение не могло иметь самостоятельной политики, оно должно было колебаться то в одну, то в другую сторону и в конечном счете сделать определенный выбор.
В дальнейшем организация объединенных интернационалистов развивалась в ином направлении, чем все другие мелкобуржуазные течения, оставшиеся в рамках меньшевистской партии, но в данное время она склонялась именно к этой партии, к ее более левому, мартовскому крылу, хотя претендовала на политическую самостоятельность. Впитав в себя довольно разношерстные элементы, объединенные интернационалисты, по существу, еще и не имели четко определенной линии. Это была по-прежнему малочисленная организация; она называла себя пролетарской, хотя опоры в пролетариате не имела. Газета объединенных интернационалистов «Голос социал-демократа» признавалась, что организованный объединенными интернационалистами митинг в Царском Селе не поддержал их. За предложенную ими резолюцию антибольшевистского характера никто не голосовал. В связи с этим газета сетовала на то, что «везде возгосподствовал большевизм».
В начале 1918 г. организация объединенных социал-демократов интернационалистов оформляется в партию, получившую название РСДРП (интернационалистов). Состоявшийся 14—20 января учредительный съезд партии представляет известный интерес в том отношении, что он впервые после Октябрьской революции попытался определить политическое лицо этой организации, ее тактику. Как показывают материалы съезда, в партии существовали самые различные точки зрения,
360
но в целом преобладало меньшевистское, оппортунистическое направление.
В докладе Авилова — одного из ведущих деятелей партии по вопросу о текущем моменте и о власти а также в принятой резолюции, которая почти полностью совпадала с докладом, повторялись старые, меньшевистские тезисы о том, что в России нет ни объективных, ни субъективных предпосылок для социалистической революции и что вообще социализм мыслим только в международном масштабе. Из этого делался вывод, что ликвидировать разруху и развивать производство можно только силами всей демократии, при участии капиталистов и на капиталистической основе; рабочий контроль над производством отрицался. Ставилась задача вытеснять большевиков из всех организаций, в том числе из Советов, путем их перевыборов. Однако вооруженная борьба против Советской власти отвергалась на том основании, что это могло бы привести к торжеству контрреволюции. Съезд высказался за созыв Учредительного собрания и создание однородной демократической власти, за созыв международного социалистического конгресса для решения вопроса о мире.
Хотя резолюция по этому основному вопросу была принята почти единогласно, но при обсуждении другого вопроса — об отношении к другим социалистическим партиям — обнаружились путаница и противоречия во взглядах отдельных лиц, а также принципиальные различия между ними. Докладчик Линдов охарактеризовал меньшевиков как мелкобуржуазную часть рабочего класса, большевиков — как партию пролетарскую... «до известных пределов». «Мы оппозиция большевизму, но мы работаем с ними, поскольку они пролетарская партия. Поскольку идет борьба за социализм, мы не с меньшевиками и не с большевиками, мы идем самостоятельно. В данный момент власть может быть только общедемократической. В этой идейной борьбе мы с меньшевиками и эсерами, но мы против вооруженной борьбы с большевиками» *. В этой путанице понятий находят выражения идейные колебания между больше-
1 «Голос социал-демократа» № 5—6, февраль 1918 г.
361
виками и меньшевиками, поиски какой-то третьей линии.
Большинство выступавших в прениях высказалось за объединение с меньшевиками-интернационалистами, причем одни считали это возможным при условии разрыва последних с оборонцами, а другие требовали немедленного объединения ввиду отсутствия каких-либо различий с ними. Представитель из Херсона заявил, что необходимо объединение всех социал-демократов, включая Плеханова, но без большевиков. Но раздавались и такие голоса: решительно порвать с лагерем оппортунистов и плотнее стать к большевикам (делегат от Самары); заниматься только регистрацией ошибок большевиков— это значит вычеркнуть себя из политической жизни (делегат от Петрограда). Ряд выступавших требовал политической и организационной самостоятельности. В резолюции выражалась надежда на разрыв меньшевиков-интернационалистов с оборонцами и на откол от большевистской партии правых элементов как на перспективу объединения с ними.
Таким образом, появилась на свет еще одна мелкобуржуазная партия — левая поросль меньшевизма. Она была весьма слаба и численно, и влиянием в массах, но своей левой окраской эта партия могла поколебать и даже повести за собой некоторые неустойчивые слои трудящихся, которые раньше находились под влиянием меньшевиков. Она имела своих представителей во ВЦИК, т. е. являлась одной из трех советских партий. С ней нельзя было бороться теми же методами, которые применяла Советская власть в отношении явных контрреволюционеров, выступавших против нее с оружием в руках, прибегавших к заговорам и саботажу. Здесь нужна была повседневная воспитательная работа в массах, критика и разоблачение оппортунистической политики и практики этой организации, и именно такую работу проводила большевистская партия.
В октябрьские дни в Москве образовалась еще одна группа, отколовшаяся от левой, интернационалистской части организации. Она называла себя группой независимых социал-демократов интернационалистов. Группа публично заявила о разрыве с меньшевистской партией, высказала резко отрицательное отношение к травле большевиков, которую вела на своих страницах мень-
362
щевистская газета «Вперед». Новая социал-демократическая организация заявила, что она вместе с большевиками борется за власть Советов.
3 первых числах ноября был избран комитет организации в общих чертах намечена платформа. Но платформа была во многом неясная, противоречивая. Признавая власть Советов, независимые социал-демократы заявляли, что расходятся с большевиками во взглядах на темп социалистической революции. Они считали, что Советская власть не может не подавлять своих врагов железной рукой, но в то же время выступали против применения смертной казни.
Итак, меньшевизм как политическая организация потерпел полный идейный и, в значительной мере, организационный крах, находился в состоянии агонии. Это вынуждены были признать сами меньшевики-интернационалисты, члены ЦК меньшевистской партии. В воззвании «К товарищам» (конец 1917 г.) они писали: «Партия стоит перед фактом величайшего поражения. Она поражена 25 октября как одна из партий, на которые опиралось Временное правительство, свергнутое большевистским переворотом; она поражена как пролетарская партия фактом последовательных неудач на политических выборах всякого рода в крупнейших центрах, поражена последовательными разгромами при перевыборах Советов и армейских комитетов. Она поражена, наконец, как организация, которая через три месяца после объединенного съезда находится в состоянии внутренней анархии, организации на местах параллельных фракционных организаций, конкуренции фракционных списков на выборах в Учредительное собрание и т. п.» * 2. Но и накануне политической гибели меньшевистская партия продолжала действовать как контрреволюционная, враждебная Советской власти сила.
1 В его состав вошли К. Новицкий, Е. Ломтатидзе и Н. Ба
Раба нов.
2 «Красное знамя» (орган и Владивостокского комитета
Дальневосточного краевого бюро РСДРП (б)), 12 декабря 1917 г.
363
3. Партия, отвергнутая народом
Учредительное После того как первый натиск контрсобрание революции, действовавшей одновре-* Врестсиие менно и вооруженной силой, и средст-^рушение1 вами политического давления, был последних надежд отражен, наиболее неотложной задачей большевистской партии и Советского правительства являлось заключение мира. Проблема мира, выхода из войны была ключевой не только потому, что отвечала самым заветным чаяниям народа. В нее упиралось решение других политических и хозяйственных задач. Тяжелейшее состояние экономики, отсутствие армии в условиях войны ставили под вопрос само существование Советской власти. Молодая Советская республика не могла в то время выдержать натиск вооруженного до зубов германского империализма.
Большевистская партия отдавала себе отчет в том, что мир, за который она боролась, будет недолгий и непрочный, что внутренняя и международная контрреволюция приложит все силы к тому, чтобы задушить первое в истории пролетарское государство. Нужна была мирная передышка для организации отпора врагу — для создания Красной Армии, подготовки необходимой материальной основы ведения войны. Именно поэтому враги Советской власти, как внутри страны, так и за рубежом, стремились сорвать мирные переговоры, толкнуть Советское государство в пасть германскому империалистическому хищнику.
Главное преимущество пролетариата перед его классовыми врагами состояло прежде всего в том, что он пользовался поддержкой остальной массы трудящихся и имел опытного, испытанного руководителя в лице большевистской партии во главе с Лениным. За короткое время пролетарское государство сумело занять ключевые позиции в экономике. В ноябре 1917 г. ВЦИК утвердил декрет о рабочем контроле, основные положения которого были разработаны Лениным. 14 декабря был принят декрет о национализации банков; государство взяло в свои руки крупнейшие предприятия в наиболее важных отраслях промышленности, железные дороги. морской и речной флот. Это значительно подорвало экономические позиции буржуазии и в то же
364
время еще более озлобило ее. Но буржуазия еще располагала значительными материальными ресурсами, на ее стороне были знания и опыт в организации хозяйства и ведении войны, ее усиливало наличие в стране мелкобуржуазной стихии.
Потерпев неудачи в первых атаках против Советской власти, буржуазия не отказалась от новых попыток реставрации старого режима. При этом в лагере контрреволюции произошло своеобразное «разделение трудакадеты, для которых путь к массам теперь был совершенно закрыт, занимались главным образом организацией вооруженных сил для борьбы против диктатуры пролетариата; меньшевики и эсеры, не отказываясь от вооруженной борьбы, пытались еще апеллировать к трудящимся, разлагать их идейно.
Спекулируя на трудностях, которые переживала страна, они искали поддержку в борьбе против Советской власти среди отдельных слоев мелкой буржуазии и даже пролетариата. При этом главные надежды возлагались на Учредительное собрание и на срыв брестских переговоров о мире. Учредительное собрание они рассматривали как свое знамя и как орудие борьбы за реставрацию буржуазного строя.
В период между Февралем и Октябрем отношение меньшевиков к Учредительному собранию соответствовало их общей соглашательской политике. В этом вопросе, как и во всех других, они послушно следовали за буржуазией. Буржуазия же, заботясь об укреплении своей власти, вела явную и скрытую борьбу против Учредительного собрания, что выразилось, в частности, в оттяжке сроков его созыва (сначала выборы были назначены на 17 сентября, а затем перенесены на 12 ноября, но и после этого раздавались голоса о дальнейшей его отсрочке). Лидеры буржуазии надеялись, что им Удастся если не совсем похоронить, то по крайней мере отодвинуть Учредительное собрание до окончания войны, а тем временем упрочить свое господство, покончить с большевиками.
Соглашатели не возражали против оттяжек, санкционировал их и меньшевистско-эсеровский ЦИК, хотя и оговаривался, что в дальнейшем отсрочек допускать нельзя *. Не вызвало возражений и то, что особое сове-
’ См. *Рабочая газета», В августа 1917 г.
365
щание по подготовке проекта о выборах, а затем Всероссийская комиссия по выборам в Учредительное собрание состояли из представителей буржуазии, что кадеты стремились выработать реакционный, антидемократический порядок выборов, не предусматривавший даже права отзыва депутатов. В то же время Советы, т. е. широкие массы трудящихся, отстранялись от подготовки выборов.
Не торопясь созвать Учредительное собрание, лидеры соглашательских партий отводили ему большое место в своей пропаганде. Вместе с буржуазией они использовали лозунг Учредительного собрания в качестве громоотвода, который помогал им уйти от насущных требований трудящихся. Они сеяли конституционные иллюзии, воспевали буржуазную демократию и буржуазный парламентаризм. Ссылки на предстоящее Учредительное собрание служили основным аргументом в борьбе против линии большевиков на переход всей власти в руки Советов, против революции. В сентябре — октябре, когда большевистская партия, готовя вооруженное восстание, одновременно вела борьбу за созыв II съезда Советов, меньшевики и эсеры на всех перекрестках кричали, что не следует передавать власть Советам накануне созыва Учредительного собрания — «хозяина земли русской», что большевики готовят срыв Учредительного собрания и тем отбрасывают одно из основных требований своей программы. Меньшевики и эсеры спекулировали на лозунге Учредительного собрания, на его популярности с целью обмануть трудящихся, отвлечь их от революционных задач, ослабить влияние большевиков.
Лозунг Учредительного собрания действительно был включен в первую программу РСДРП как одно из требований буржуазно-демократической революции. Но меньшевики и большевики с самого начала по-разному подходили к этому лозунгу, по-разному его трактовали. В годы первой русской революции меньшевики, выдвигая этот лозунг, не связывали его с задачей свержения самодержавия, надеясь осуществить его с благословения того же самодержавия. Большевики же, как писал В. И. Ленин, рассматривали его «не одиноко», а в связи с лозунгами: «1) низвержение царского самодержавия; 2) замена его демократической республикой; 3) обеспе
366
ченное демократической конституцией самодержавие народа, т. е. сосредоточение всей верховной государственной власти в руках законодательного собрания, составленного из представителей народа и образующего одну палату»
После победы Февральской буржуазно-демократиче-ской революции принципиальное различие во взглядах большевиков и меньшевиков на Учредительное собрание приобрело еще более глубокий и непримиримый характер. Громадное значение в этом отношении имело открытие В. И. Лениным республики Советов как более высокой формы демократизму, чем обычная буржуазная республика с Учредительным собранием. Последняя являлась вчерашним днем истории, а Советы, которые, по выражению В. И. Ленина, были «выше всех парламентов мира», представляли будущее России, им предстояло выступить в качестве государственной формы диктатуры пролетариата. Для меньшевиков же высшим идеалом по-прежнему являлась парламентарная республика.
Но, требуя перехода всей власти к Советам, большевики не противопоставляли их Учредительному собранию, так как в народе тогда сильны были конституционные иллюзии. Требовалось время, чтобы массы на собственном опыте убедились в преимуществах Советов. Настаивая на скорейшем созыве Учредительного собрания, большевики разоблачали лицемерие буржуазии и соглашателей, которые под всякими предлогами оттягивали сроки выборов.
Меньшевики смотрели на Учредительное собрание с формально-юридической точки зрения, вне всякой связи с борьбой классов; решение всех назревших вопросов они сводили к простому голосованию. Большевики, наоборот, подчеркивали, что вопрос о созыве Учредительного собрания должен быть подчинен вопросу о ходе и исходе классовой борьбы пролетариата. Вся суть дела в том, какой класс в данный момент осуществляет власть, а вопрос о власти решается не голосованием в парламентах, а классовой борьбой, всеми ее формами. В. И. Ленин подчеркивал, что, пока у власти буржуазия и доверие к соглашательским партиям не
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 10, стр. 273.
367
изжито, «Учредительное собрание либо не будет собрано вовсе, либо будет... бессильным, никчемным собранием мелких буржуа, до смерти запуганных войной и перспективой «бойкота власти» буржуазией, беспомощно мечущихся между потугами править без буржуазии и боязнью обойтись без буржуазии»
Оно не стало бы таким при условии решительного подавления контрреволюции, а это в состоянии сделать только пролетариат, поддержанный городской и сельской мелкой буржуазией при условии перехода всей власти в руки Советов. Как известно, соглашатели сорвали мирный переход власти к Советам, а коалиционное Временное правительство так и не удосужилось провести выборы в Учредительное собрание.
После Октября меньшевики и правые эсеры подняли на щит Учредительное собрание, сделали его оселком своей пропаганды против большевиков, утверждая, что большевики не созовут его.
Разумеется, после того как республика Советов стала государственной формой диктатуры пролетариата, большевистская партия не намерена была возвращаться к буржуазно-парламентской республике, атрибутом которой являлось Учредительное собрание. Но отказаться от созыва Учредительного собрания партия не могла: конституционные иллюзии в массах мелкой буржуазии далеко еще не были преодолены. Трудящиеся должны были на практике увидеть, что собой представляет это Учредительное собрание. Уже 27 октября Совет Народных Комиссаров издал декрет о производстве выборов в назначенный срок, т. е. 12 ноября, и они действительно были проведены в этот срок.
Но, несмотря на это, буржуазия при активнейшей поддержке меньшевиков и правых эсеров с каждым днем усиливала антисоветскую кампанию под знаком защиты Учредительного собрания. Кампанию вокруг Учредительного собрания развернула меньшевистская и правоэсеровская печать, которая щедро субсидировалась буржуазией, в том числе иностранной 2 *. Был создан
2 11 Поли. собр. соч., т. 34, стр. 37.
сооби^ала «Правда» от 28 июня 1918 г., газета «Нова* полмиллими4^? “Т банкира Груббе через Сибирский банк
вал газеты «ЭхпбЛеИЧя°ЮЗНЬ1Й т0РГ013Ь1й атташе Лич субсидирр* ты «Эхо» и «Москва» (см. В. Владимирова. Год службы
368
к называемый «союз защиты Учредительного собрания». в который вошли меньшевики, эсеры, трудовики, кооператоры и т. п. Этот контрреволюционный союз ^азвил активную деятельность: выпускал листовки и ^оззвания, пытался устраивать митинги. Антисоветскую позицию заняла и комиссия по выборам в Учредительное собрание, учрежденная еще до революции. Она не признавала Советского правительства, вела против него чобную агитацию. После выборов эта комиссия была ^спущена. Правительство назначило Урицкого комиссаром по делам Учредительного собрания, возложив на него созыв собрания.
Пропагандистская кампания меньшевиков и правых эсеров вокруг Учредительного собрания имела своей целью дезориентировать массы, противопоставить их Советской власти, большевистской партии. Эти цели и не скрывались. В ноябре газета «Рабочий и солдат» сообщала о выступлении на одном из митингов Церетели с докладом на тему «Вся власть — Учредительному собранию». На вопрос «Возможна ли в Учредительном собрании совместная работа с большевиками» Церетели ответил отрицательно, заявив, что в Учредительном собрании задача демократии должна будет заключаться в сплочении широкого фронта всех демократических элементов против большевиков I
Меньшевики и правые эсеры пользовались тем обстоятельством, что Советская власть имела еще слишком мало времени, чтобы преодолеть колебания мелкой буржуазии. Первые декреты Советской власти — о мире, о земле — имели в этом отношении громадное значение, но большинство трудящихся еще не могло во всем объеме понять значение Октябрьской социалистической революции, предвидеть ее экономические и политические результаты. Конечно, трудящиеся не фетишизировали Учредительное собрание и не собирались отказываться от Советов в его пользу. Многие из них особенно крестьяне, по инерции продолжали ждать
социалистов» капиталистам. М.—Л 1927 стп т?
суммы из-за границы, в частности мч Р' 85)* КРУпные
издания газет правые эсеры ?см R Америки, получали Для Факты И итоги четырех лет 1 ' И' .Игнатьев- Некоторые
М., 1922). Р х Лет гражданской войны (1917—1921).
1 См. «Рабочий и солдат», 26 ноября (9 декабря) 1917 г
24 НРуба" 369
Учредительное собрание. Они не поняли того, чтф борьба вокруг Учредительного собрания есть классовая борьба и что само оно есть орудие гражданской войны свергнутых классов против трудящихся. Революционное бытие далеко опередило сознание людей.
Созыв Учредительного собрания первоначально намечался на 28 ноября. Кадетская и меньшевистско-эсеровская контрреволюция готовилась в этот день дать бой Советской власти, вырвать у нее власть. Несмотря на то что не съехалось даже половины состава Учредительного собрания и что поэтому оно даже формально было неправомочно, делегаты прорвались в Таврический дворец и попытались открыть собрание явочным порядком. По декрету Совнаркома открыть собрание могло лицо, специально уполномоченное на то Советским правительством, при наличии необходимого кворума. Чтобы создать видимость всенародной поддержки Учредительного собрания, «союз защиты» организовал 28 ноября демонстрации в Петрограде и ряде других городов. Однако демонстрациям не удалось придать антисоветской направленности. Уфимская большевистская газета «Вперед» сообщала, что кроме лозунгов «Да здравствует Учредительное собрание» демонстранты несли также лозунги «Да здравствует Совет Народных Комиссаров» L Из Тулы сообщалось, что в манифестации приняло участие главным образом чиновничество. Рабочих (так же как и в Уфе) было незначительное количество. Солдаты совсем отсутствовали2.
Уже первая попытка созыва Учредительного собрания показала, что оно является орудием контрреволюции. Однако и на этот раз Советская власть не отменила, а только перенесла его открытие на 5 января. Вместе с тем она сделала определенные выводы. Было ясно, что кадеты и соглашатели не откажутся от своей цели — убить Советскую власть Учредительным собранием, и поэтому большевистская партия и правительство приняли соответствующие меры. Важное значение имел декрет об отзыве, находившийся в полном соответствии с демократическими принципами, дающий
2 «Впе₽еД» (уФа), 28 ноября (Ц декабря) 1917 г См. «Социал-демократ», 3 (16) декабря 1917 г.
370
„раво переизбирать членов Учредительного собпания р связи с событиями^ 28 ноября был издан также «Декрет об аресте вождей гражданской войны против революции». Он был направлен против кадетов хотя имелись все основания применить его и против меньшевичко-эсеровских вождей, многие из которых к этому времени ничем не отличались от кадетов.
По мере приближения новой даты созыва Учредительного собрания меньшевики все активнее обсуждали свою тактику на нем. Основная цель — всевластие Учредительного собрания — никем не оспаривалась. Разногласия возникли в связи с вопросом о способах действия. Мартов и его сторонники все еще пытались держаться немножко «полевее». Они предлагали более осторожную тактику: несколько смягчить декларацию, не противопоставлять Учредительное собрание Советам. Во имя сохранения Учредительного собрания говорилось даже о «компромиссе» с большевиками, смысл которого наиболее ясно выразил Мартов. Он считал, что соглашение с большевиками было бы возможно в двух случаях: «Если бы большевики отказались от социализма и мыслимо было бы создание правительства большевиков с эсерами. Если бы они начали священную войну (с немцами.— Н. Р.) и отказались от власти — мыслим был бы бургфриден» Ч Другими словами, от большевиков требовалось не больше и не меньше, как отступить от социалистической революции к буржуазной, задушить Советскую власть собственными руками. Это была та же линия, что и на переговорах при Викжеле.
Конечно, никто не верил в то, что большевики пойдут на самоубийство, но и Мартов, и те, кто предлагал действовать более открыто и прямолинейно, признавали, что вне Учредительного собрания у них не г поддержки, что и пролетариат и армия на стороне большевиков. Предлагая смягчить декларацию, Мартов гово рил: «Щекотливость нашего положения в том, что мы выступаем обвинителями пролетариата в непролетар-скои среде»
В день открытия Учредительного вики решили вновь организовать демонстр Ц
J ЦП А ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 54, л. 21.
‘ Там же, л. 17 (оборот).
371
вающий последние недели меньшевистско-эсеровский ЦИК незаконно ассигновал на ее организацию 10 тысяч рублей.
Обсуждался вопрос о том, какая должна быть эта демонстрация: мирная или вооруженная. Сама постановка этого вопроса вызывалась тем, что были большие сомнения — найдутся ли силы, прежде всего в армии, которые стали бы на путь вооруженного выступления против Советской власти. Дан говорил, что спасти положение может «только резкий перелом в настроении штыков, который может произойти со срывом мира (курсив мой.— Н. Р.). Без этого Учредительное собрание безнадежно» Вот какие надежды возлагали соглашатели на срыв Брестского мира! Недаром они так старались его сорвать. Однако Дан не отказался и от идеи вооруженного восстания, поставив его в зависимость от обстановки. Примерно такую же позицию занял Церетели; с одной стороны, ввиду отсутствия сил он говорил о мирной демонстрации, а с другой — призывал «готовиться к борьбе внутри Учредительного собрания без всякого компромисса, до применения силы» 2.
Следовательно, меньшевики готовились к бою. Они разослали своих агитаторов на ряд предприятий и в воинские части, пытаясь создать себе хоть какую-нибудь опору вне Учредительного собрания.
Борьба против «учредиловской контрреволюции» затруднялась тем, что правые элементы в большевистской партии и в этом вопросе сползали на позиции социал-демократизма. Против линии ЦК выступило временное бюро большевистской фракции в Учредительном собрании (Каменев, Рыков, Рязанов, Милютин, Ларин и другие). Они считали, что революция должна увенчаться Учредительным собранием, требовали, чтобы ЦК партии и правительство отказались от какого-либо контроля или вмешательства в подготовку созыва Учредительного собрания. Бюро фракции вынесло решение потребовать созыва партийного съезда или конференции для обсуждения вопроса об отношении к Учредительному собранию. Это была явная уступка меньшевикам и эсерам и на деле означала то же, что предла-
' ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 54, л. 20.
‘ Там же.
372
гали и Мартов с Церетели,— отступить назад от социалистической революции к буржуазно-демократической. На позиции соглашения с мелкобуржуазными лидерами, блока с ними в Учредительном собрании стоял и Бухарин. На заседании ЦК 29 ноября он предлагал «организовать левую часть, изгнать кадетов и левую часть Учредительного собрания объявить революционным конвентом» !.
В «Тезисах о задачах партии 4- текущий момент» В. И. Ленин писал:
«(а) Признание революции 25.X. за социалистическую революцию.
(Р) Отклонение всех ограничений этого положения в духе возврата к буржуазно-демократической революции (постепенность перехода; «стадия» блока с мелкой буржуазией (etc)» 1 2.
Ленин разъяснял, что соглашение с мелкой буржуазией надо рассматривать «не в смысле блока для буржуазно-демократической революции, не в смысле ограничения задач социалистической революции, а в смысле исключительно форм перехода к социализму для отдельных слоев мелкой буржуазии» 3. Попытки мелкобуржуазных попутчиков связать руки пролетариату, ограничить размах революционной борьбы В. И. Ленин квалифицировал как реформизм «в его современной постановке» 4.
Так как в большевистской фракции Учредительного собрания «водворились настроения правого крыла и расхождения ее с мнением ЦК»5, вопрос о ней рассматривался 11 декабря 1917 г. на заседании ЦК. В. И. Ленин внес предложение сместить бюро фракции; изложить фракции отношение партии к Учредительному собранию; составить обращение к фракции, в котором напомнить Устав партии о подчинении всех представительных учреждений ЦК; назначить членов ЦК для руководства фракцией; выработать устав фракции 6.
1 «Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 — февраль 1918», стр. 149.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 424.
2 Там же.
4 Там же, стр. 425.
5 «Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б)», стр. 160.
6 См. там же.
373
В написанном Лениным «Проекте резолюции о временном бюро фракции большевиков в Учредительном собрании» говорилось, что бюро не выработало принципиальную резолюцию об отношении нашей партии к Учредительному собранию и что большинство членов бюро обнаружило «буржуазно-демократическую точку зрения на Учредительное собрание вне учета реальных условий классовой борьбы и гражданской войны...» 1.
По поручению ЦИК В. И. Ленин написал «Тезисы об Учредительном собрании», в которых глубоко обосновал тактику партии по отношению к этому учреждению. В них вновь подчеркивалось, что республика Советов — более высокая форма демократизма в сравнении с обычной буржуазной республикой, что только она может обеспечить наиболее безболезненный переход к социализму. Кроме того, указывалось на ряд обстоятельств, которые свидетельствовали, что созыв Учредительного собрания по спискам, предъявленным партиями еще до революции, исключал возможность правильного выражения воли народа вообще и трудящихся масс в особенности. Во-первых, партия эсеров, давшая единые списки кандидатов, потом, после выборов, раскололась, и поэтому отсутствовало даже формальное соответствие между волей трудящихся и составом избранных. Во-вторых, и это особенно важно, выборы прошли в то время, когда большинство народа еще не могло знать всего объема и значения Октябрьской революции. Трудящиеся еще не увидели на практике революционную борьбу Советской власти за мир.
К моменту созыва Учредительного собрания еще не закончилось мощное революционное движение солдатских и крестьянских масс за смещение и перевыборы старых верхушечных организаций, выражавших пройденный, буржуазный, а не пролетарский этап революции (армейские комитеты, губернские крестьянские ко-?.1итеты, ЦИК Всероссийского Совета крестьянских депутатов). В тезисах отмечалось, что начатая каледин-нами гражданская война окончательно обострила классовую борьбу и отняла всякую возможность решать формально-бюрократическим путем острейшие вопросы, ведавшие перед страной. Лозунг «Вся власть Учреди
1 В И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 161.
374
тельному собранию», не считавшийся с завоеваниями Октября, стал лозунгом кадетской контрреволюции, и для масс стало очевидным, что такой лозунг обречен на политическую смерть. Единственным выходом, писал В. И. Ленин, является возможно более широкое и быстрое осуществление народом права перевыборов членов Учредительного собрания, присоединение самого Учредительного собрания к закону ЦИК об этих перевыборах и безоговорочное признание им Советской власти. «Вне этих условий кризис в связи с Учредительным собранием может быть разрешен только революционным путем, путем наиболее энергичных, быстрых, твердых и решительных революционных мер со стороны Советской власти против кадетски-калединской контрреволюции, какими бы лозунгами и учреждениями (хотя бы и членством в Учредительном собрании) эта контрреволюция ни прикрывалась» !.
Уже заранее можно было сказать, что Учредительное собрание не только не намерено признавать Советскую власть, но, наоборот, является орудием борьбы против нее. Поскольку обстановка не позволяла кадетам прямо выступать против Советской власти, особенно активизировались меньшевики и правые эсеры. Их печать открыто призывала к свержению Советской власти. Поэтому, когда собравшееся 5 января Учредительное собрание, выпустив на арену Церетели и Чернова, пыталось заговорить «голосом власти», когда соглашатели от имени своих фракций огласили декларации, требовавшие ликвидации диктатуры пролетариата, Советскому правительству оставалось только одно: разрешить кризис революционным путем, распустить Учредительное собрание.
В речи о роспуске Учредительного собрания 6(19) января 1918 г. В. И. Ленин говорил: «Народ хотел созвать Учредительное собрание — и мы созвали его. Но он сейчас же почувствовал, что из себя представляет это пресловутое Учредительное собрание. И теперь мы исполнили волю народа, волю, которая гласит: вся власть Советам» * 2.
Не помогли соглашателям и организованные «сою
• В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 166.
2 Там же, стр. 241.
375
зом защиты Учредительного собрания» так называемые манифестации, а в сущности уличные беспорядки. Даже меньшевистская «Новая жизнь» признавала, что в этих манифестациях рабочие и солдаты фактически не участвовали. В результате провокаций, устроенных меньшевиками и эсерами, были жертвы.
«Правда» писала по поводу так называемой манифестации 5 января: «Манифестация, на которую звали контрреволюционеры свой «народ», провалилась самым постыдным образом... На улицах, где контрреволюционные погромщики из среды бывших социалистов готовились дать бой Советской власти, дело ограничилось лишь небольшими стычками, где были раненые и убитые с обеих сторон. Никакого массового выступления не было. В общей сложности пара тысяч буржуазных демонстрантов, толпы саботажников при полном отсутствии рабочих и солдат — таков итог «выступления» кадетов, правых эсеров и так называемой интеллигенции вообще»
Контрреволюция пыталась дать бой Советской власти не только в Петрограде, но и в других городах, причем кое-где она строила более широкие планы, чем устройство манифестаций погромщиков. Так, например, в Новгороде был подготовлен мятеж, организаторами которого были меньшевики и эсеры, местный «союз защиты Учредительного собрания». Основную военную силу составляли ударники — офицеры и солдаты расформированного ударного батальона. Активное участие в мятеже приняла буржуазная интеллигенция и духовенство. Центром контрреволюционных сил являлся Антониевский монастырь. Командовал мятежниками эсер, а после его ареста — меньшевик Вольпе. «Союз защиты Учредительного собрания» обратился к населению с призывом свергнуть Советскую власть. На помощь пришел революционный Петроград; создав внушительный перевес сил над мятежниками, большевики предупредили крупное кровопролитие 1 2.
Уже на второй день после разгона Учредительного
1 «Правда», 20 (7) января 1918 г.
2 Подробнее об этом см.: Е. Г. Гандкина. Разгром контрреволюционного выступления в Новгороде в дни созыва и роспуска Учредительного собрания. В сб. «Новгородский исторический сборник», вып. 9, Новгород, 1959.
376
собрания меньшевистская «Новая жизнь» предсказывала, что, «очевидно, мы вступаем в период борьбы между сторонниками Советской власти и сторонниками учредительного собрания». И действительно, потерпев поражение, меньшевики и эсеры не свернули это, ставшее контрреволюционным знамя. В течение всей гражданской войны оно развивалось в лагере самых отъявленных классовых врагов пролетариата рядом со знаменами монархистов и иноземных оккупантов. Среди «учреди л овской контрреволюции» не последнюю роль играли меньшевики. Что такое Учредительное собрание и чьим интересам оно служило, трудящиеся очень скоро увидели на практике. Как известно, летом 1918 г., направляемый империалистами Антанты и реакционным командованием, чехословацкий корпус совместно с русской контрреволюцией захватил значительную часть Сибири, Урала, Самару, Казань и ряд других городов на Средней Волге. На захваченной территории Советы были ликвидированы и вместо них созданы контрреволюционные правительства, в том числе так называемый «комитет членов Учредительного собрания». На второй же день своего существования «комуч», опиравшийся на иностранные штыки, начал денационализацию промышленности и приступил к выдаче компенсации предпринимателям. Передовые рабочие, прежде всего большевики, подверглись жестоким преследованиям. На примере «комуча» можно было наглядно видеть полное падение меньшевизма. Это была уже партия, чуждая и враждебная пролетариату.
Яростную антисоветскую кампанию вокруг Учредительного собрания меньшевики сочетали с такой же кампанией вокруг Брестских мирных переговоров. Как известно, до Октябрьской революции политика меньшевиков (исключая интернационалистское крыло партии) в вопросах войны и мира, как и в других вопросах, объективно являлась политикой буржуазии. Естественно, что после свержения буржуазии вопросы войны и мира для меньшевиков не имели и не могли иметь самостоятельного значения. И если они все же стояли в центре внимания меньшевистских политиков, го только потому, что для пролетарской власти это были вопросы жизни и смерти. Молодая Советская республика переживала, быть может, самый трудный и опас-
377
ный период в своей истории. Германские империалисты, зная о катастрофическом состоянии экономики и почти полном отсутствии организованной армии в Советской России, вели на переговорах политику угроз и ультиматумов. Между тем в рядах самой правящей партии шла напряженная борьба, навязанная «левокоммунистической» оппозицией. «Левые коммунисты» во главе с Бухариным выступали против заключения мира, требовали революционной войны. К «левокоммунистической» оппозиции фактически примыкал и Троцкий со своей формулой «ни войны, ни мира».
Союзниками «левых коммунистов» в борьбе против ленинской линии в вопросе о мире, как это ни странно, выступили меньшевики и эсеры. Это был тот не единичный в истории случай, когда правый оппортунизм смыкается с ультралевым, создает с ним единый фронт. В основном совпадал даже лозунг борьбы: меньшевики, как и «левые коммунисты», требовали «революционной войны» против германского империализма. Это не значит, что позиции тех и других в вопросах Брестского мира не различались между собой, но в конечном счете различие было не столь уж существенно. Как известно, «левые коммунисты» заявляли, что они готовы идти даже на утрату Советской власти «во имя мировой революции»; меньшевики, используя Брестские переговоры, прямо и открыто выдвигали задачу свержения Советской власти. Именно к этому призывали они в своей печати, в листовках и на митингах.
В период Бреста меньшевики попытались сколотить в Петрограде антисоветскую организацию под претенциозным названием: «совещание фабрично-заводских представителей» — с филиалом в Москве и других городах; они развернули работу по созыву так называемых беспартийных рабочих конференций. Цель всего этого была ясна: еще более затруднить положение Советской власти, создать хотя бы видимость оппозиции рабочего класса по отношению к ней, а главное — внести смуту и раскол в пролетарскую среду. Конференции состоялись в Петрограде и его районах, а также в ряде других городов. Используя голод и безработицу, меньшевики и правые эсеры прибегли к демагогии, стремились увлечь за собой рабочих. Но успех этой затеи был весьма мизерный. Даже подтасованные ими конференции в боль-
378
щиястве своем шли за большевиками. Так, конференция района Петрограда уясе на второй день работы переизбрала председательствовавшего на ней меньшевика-интернационалиста Горина и приняла большевистские резолюции
Для организации антисоветской кампании меньшевики располагали солидными средствами, которые пере давали им сохранившиеся еще или находившиеся г. процессе ликвидации учреждения старого режима Только из фонда ЦИК первого созыва ЦК меньшевикоп получил «в порядке займа» около 25 тысяч рублей; ему же передал, надо полагать, немалые фонды ликвидированный «комитет по обороне» 1 2.
Чтобы еще больше осложнить экономическую и политическую обстановку в стране, меньшевики организуют саботаж чиновников в различных учреждениях и ведомствах. Еще недавно они отговаривали рабочих от забастовок против капиталистов, а теперь сами стали призывать их к забастовкам против Советской власти.
И все же меньшевистским вождям казалось, что они действуют недостаточно энергично. Они принимают решение развернуть широкую политическую кампанию против сепаратного мира. 27 февраля на заседании ЦК меньшевистской партии «левый» Абрамович требует более активного выступления против Брестских переговоров и даже высказывается за восстание, в случае если мир будет подписан, и за то, чтобы именно меньшевики возглавили борьбу против мира3. В дни Брестских переговоров ЦК меньшевиков распространял прокламацию, в которой требовалось мира не подписывать, делегацию из Бреста отозвать, вести «революционнооборонительную войну», создать вместо Советской власти правительство «революционной обороны» (конечно, из меньшевиков и эсеров). Чтобы сорвать переговоры о мире, меньшевики при поддержке западно
1 См. «Новая жизнь», 26 (13) марта 1918 г.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 44, л. 105. Общая сумма денег, которую незаконно сохранял в своих руках старый ЦИК, равнялась 250 тысячам рублей, не считая ценных бумаг. Эти Деньги использовались для борьбы против Советской власти, в том числе на организацию саботажа и антисоветской пропаганды (см. В. Владимирова. Год службы «социалистов» капиталистам, стр. 79).
3 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 44, л. 98, 107.
379
европейских социал-демократов вновь воскресили идею созыва международной социалистической конференции с участием шейдеманов всех стран.
Большевики против созыва международной конференции не возражали. Более того, ЦИК Советов принял решение, в котором предлагалось левым интернационалистским партиям такую конференцию созвать. Но предполагалось участие в ней лишь тех групп и партий, которые стоят на революционных позициях, ведут борьбу против своих правительств, поддерживают завоевания Октябрьской социалистической революции. Отношение к Советской власти в России становилось пробным камнем, на котором проверялся подлинный интернационализм и пролетарский характер партий.
Последнюю попытку сорвать Брестский мир меньшевики вместе с другими соглашательскими партиями и течениями предприняли на IV чрезвычайном съезде Советов (15—16 марта 1918 г.), собравшемся для ратификации мирного договора. Главный оратор от меньшевиков Мартов, выдвигая всякого рода формальные мотивы, старался убедить съезд не ратифицировать договор. Закончил он тем, что выдвинул главное требование меньшевистской партии: создать новую власть, «которая могла бы найти за собой достаточно сил и возможности, чтобы сорвать этот мир» *. В таком же духе были внесены и резолюции от имени меньшевистской и эсеровской партий. Короче говоря, съезду Советов предлагали, чтобы он подписал смертный приговор Советской власти.
Съезд отверг предложения меньшевиков и эсеров. Подавляющим большинством голосов была принята резолюция Российской Коммунистической партии большевиков (за нее было подано 784 голоса, против — 261, воздержалось 115, не принимало участия в голосовании 84)2.
Меньшевики явно переоценивали свои силы, точнее — не поняли громадной силы Советской власти. Им не удалось сорвать мир, свергнуть или хотя бы поколебать диктатуру пролетариата. Для этого у них была слишком мизерная социальная опора. Несмотря на тя-
1 «Стенографический отчет 4-го чрезвычайного съезда Советов рабочих, солдатских и казачьих депутатов». М., 1920, стр. 33.
2 См. там же, стр. 04.
ЗНО
^елейшие трудности, связанные с бопьбптА громадные хозяйственные, прежде всего пиолпМИР’ венные, затруднения, большевистская пап^Р Д Льст’ гвОе положение в рабочих массах Ок ар ия упрочила J,, „.пример, „о „пер. =>'-
Мп.ше.пкпв в ш_у , “У в«Т
боте «Пролетарская революция и ренегат кЛ, Р-в. И. Ленин приводит на этот счет еле^М hZ’ На II Всероссийском съезде Советов (25 октября “ j большевики составляли 51 процент, -- '
1918 г.) — 61 процент, на IV (март 1918г.)~ на V (июль 1918 г.) — 66 процентов
Меньшевистская партия перед пропастью
на III (январь ' 64 процента, Когда большевики после заключения Брестского мира совершали поворот к решению практических задач хозяй-
ственного строительства, к созданию основ нового общественного строя, меньшевистскую партию фактически уже нельзя было без серьезных оговорок даже назвать партией. Однако это не значит, что ее можно было полностью игнорировать, как враждебную силу. Формы борьбы с буржуазией менялись: от «красногвардейской атаки» на капитал партия переходила к более сложной задаче — к организации экономики, к созданию условий, при которых не могла бы ни возникать, ни существовать буржуазия.
В марте — апреле 1918 г. В. И. Ленин пишет свою знаменитую работу «Очередные задачи Советской власти» — научно обоснованный план приступа к социалистическому строительству. В ней разработаны коренные принципы хозяйствования в рабоче-крестьянском
государстве.
Насущными задачами на новом этапе становились выработка новой, социалистической трудовой дисциплины, строжайшая экономия, введение всеобъемлющего учета и контроля над производством и распределением продуктов, повышение в общенациональном масштабе производительности труда — главном условии по еды нового общественного строя, превращения России в мо гучую социалистическую страну.
Однако прежде всего необходимо было восстановит производительные силы страны. Для этого тре овалось
1 См. В. И. Ленин. Поли.
собр. соч., т. 37, стр. 282.
381
колоссальное напряжение сил рабочих и крестьян. Широкие массы рабочего класса только начинали осознавать себя господствующим классом. Должен был произойти крутой перелом в сознании масс. От экспроприации экспроприаторов, от митингования предстоял поворот к дисциплине труда, к подчинению воле руководителя, представителя Советского государства на производстве. Укрепления трудовой дисциплины, нового отношения к труду нельзя было добиться только мерами воспитания, пропагандой и агитацией. В борьбе против сил и традиций старого общества — мелкособственнических тенденций, рвачества, воровства, спекуляции и т. п.— требовались и меры принуждения в интересах всего народа. Естественно, что такой поворот не мог не вызвать колебаний в мелкобуржуазных слоях населения, а это, в свою очередь, приводило к усилению антисоветской работы со стороны буржуазии и ее меньшевистско-эсеровских защитников, пытавшихся использовать в своих целях трудности и неудачи Советской власти в этом новом для нее деле. В данных условиях громадное значение приобретала задача укрепления диктатуры пролетариата, ее государственной формы — Советов.
Именно против диктатуры пролетариата, против Советов направила свой главный удар меньшевистская контрреволюция. Меньшевики пытались скомпрометировать саму идею диктатуры пролетариата, изображали ее только как насилие, не связывая его с борьбой классов. Диктатуру пролетариата они противопоставляли демократии, причем опять-таки оба эти понятия толковали как неклассовые, преподносили их в «чистом» виде. Меньшевиков активно поддерживали западноевропейские оппортунисты, в том числе главный теоретик II Интернационала Карл Каутский. Последний особенно много стараний приложил для опошления марксистского учения о диктатуре пролетариата. В брошюре «Диктатура пролетариата», вышедшей в свет в 1918 г., он, вслед за меньшевиками, по-либеральному рассуждал о демократии вообще и диктатуре вообще, лишая эти понятия всякого классового смысла. Он прибегал ко всякого рода софизмам, чтобы доказать, будто К. Маркс говорил о диктатуре пролетариата не как о форме правления, а только как о «состоянии» и не связывал ее с
382
насилием. Само слово «диктатура», по Каутскому очня qa.no уничтожение демократии. '-"•ому. о.ша-
Все эти на первый взгляд внеклассовые рассужле нйЯ имели совершенно определенную классовую це Гь-расхвалить буржуазную демократию и бросить тень на Октябрьскую революцию, на Диктатуру пролетариата В книге «Пролетарская революция и ренегат Каупски^ В. И. Ленин камня на камне не оставил от оппортунистических софизмов Каутского. Он защитил от огшор-тунистических извращений марксистское учение о диктатуре пролетариата, получившее практическое воплощение в Октябрьской революции. В. И. Ленин пока-
что диктатура пролетариата — это власть громад-лого большинства трудящихся над меньшинством эксплуататоров. высшая форма демократии, она «в миллион раз демократичнее всякой буржуазной демократии» *.
Меньшевики активизировали свою работу в Советах;
спекулируя на трудностях, они пытались изменить их состав и политику в свою пользу. Тяжелый аннексионистский мир, небывалый продовольственный кризис, надвигавшийся голод, разгоравшаяся на окраинах гражданская война — все это давало меньшевикам основание надеяться, что массы отшатнутся от большевиков, от Советской власти.
Чем сложнее была обстановка, тем активнее действовали меньшевики. Особенно нагло вело себя их правое, оборонческое крыло. Еще в январе 1918 г. на конференции петроградской организации меньшевиков-оборонцев было решено добиваться перевыборов всего состава Петроградского и районных Советов рабочих и солдатских депутатов, а также фабрично-заводских комитетов, возвращения Красной гвардии на заводы. Вожаки оборонцев предлагали открыто пропагандировать среди рабочих идею реставрации буржуазной власти. «Рабочий класс,— говорил Потресов, должен знать, что именно сейчас ему по пути с прогрессивными элементами промышленной буржуазии». Эту же мысль повторил Голиков, заявивший, что главная задача «пропаганда той идеи, что на почве достижения ближайших завоеваний в борьбе с большевизмом необходима координация сил с теми элементами буржуазии,
* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 257.
383
которые стоят на почве защиты Учредительного собрания» 1. (Можно подумать, что были такие элементы буржуазии, которые отказывались получить власть через Учредительное собрание.)
Выдвинув лозунг перевыборов Советов, ЦК меньшевистской партии одновременно убеждал Советы отказаться от власти (такого-де типа власти нет на Западе). превратиться из органов власти в органы «классовой организации пролетариата». Меньшевистским организациям давалась также установка идти в Советы, с тем чтобы подрывать их изнутри, парализовать мероприятия Советской власти. Вот, например, что говорил один из меньшевистских лидеров, Кипен, на Московской губернской конференции меньшевиков в апреле 1918 г.: «Нужно проводить борьбу за перемену политики... Если члены Исполнительного комитета должны выполнять декреты, то мы идем в них для того, чтобы воспрепятствовать проведению их в жизнь. Того, что назовут саботажниками, бояться нечего» 1 2.
Таким образом, лозунг перевыборов Советов, как и лозунг Учредительного собрания, в устах меньшевиков был контрреволюционным; ставя задачу вытеснить большевиков из Советов, меньшевики преследовали цель ликвидировать завоевания социалистической революции.
Однако меньшевистское руководство, видимо, все же отдавало себе отчет в том, что поставленная им задача едва ли реальная. Поэтому оно рекомендовало своим организациям еще одно средство: там, где состав и политику Советов не удастся изменить, создавать «независимые представительные органы рабочего класса, созывать местные, областные и всероссийские рабочие конференции» 3. Это означает, что давалась директива явочным путем создавать органы власти, враждебные Советам, воскрешающие капиталистический строй. Это была открытая война против Советской власти.
Учитывая, что трудящиеся особенно страдают от хозяйственной разрухи и голода, меньшевики в своей антисоветской пропаганде переносят центр тяжести на
1 ЦПА ИМЛ, ф. 275, он. 1, ед. хр. 75, л. 24—25.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 33, л. 15—16.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 275, on, 1, ед. хр. 59, л. 38—43.
384
экономические вопросы; они пытаются
вать идею национализации промышленноСтиПипаГИР0' оНтроля, требуют Денационализации „ ™ Рабочего частного капитала. Теперь они откЯ 1 возвРаЩения идеи государственного регулирования котопую^ °Т выдвигали до революции, и требуют для к/ш и полной самостоятельности. Р >ЮГ Для капиталистов
Ничего не сделав для ликвидации голода и разрухи когда это от них зависело, меньшевики теперь стремились сыграть на бедствии народа, вызвать в нем озлобление. Там, где это можно, они все делали для того чтобы трудности были еще более чувствительны. Вот например, что сообщалось в письме из Бежицы в ЦК РКП(б). Когда не было хлеба, меньшевики агитировали на почве недостатка и даже спровоцировали забастовку. Когда было получено 15 вагонов хлеба, они стали агитировать, чтобы он весь сразу был роздан населению и чтобы снова можно было обвинять большевиков в отсутствии хлеба. В письме говорилось, что меньшевики стремятся снизить производительность труда на заводе. «Словом, работа местных меньшевиков— сплошная провокация».
В связи с возросшими надеждами на реставрацию
капиталистического строя меньшевистская партия шагнула еще дальше вправо, ее отдельные течения на почве общей борьбы против Советской власти почти совсем слились. Состоявшееся в мае 1918 г. партийное совещание меньшевиков (на нем, по меньшевистским источникам, было представлено около 60 тысяч членов партии) констатировало, что «острые фракционные разногласия, раздиравшие партию до переворота.., в настоящее время значительно сгладились. Совершенно слились группы интернационалистов и центра. Даже с той группой, которая после ноябрьского (декабрьского) съезда обратилась с известным воззванием, не было серьезных разногласий» 1 (речь идет о крайне правой группе оборонцев, о так называемых «активистах»).
Заметный крен вправо сделала и партия новожиз-ненцев —РСДРП (интернационалистов). В этой уолю-дочной партии, как показал ее майский съезд, быстро продолжали развиваться центробежные силы, которые
’ ЦПА ИМЛ, ф. 275, on. 1, ед. хр. 59, л. 38.
Н. Рубан
385
она унаследовала еще при своем рождении и которые разрывали ее на части. В знак несогласия с официаль- 1 ной линией партии из ее ЦК вышли представители правой группы — Авилов, Базаров? Блюм, Григорьев, Строев. Как и в официальной меньшевистской партии, правые элементы были более активными.
Правда, им не удалось повести за собой съезд, но свое влияние они на него оказали. Вновь и вновь повторялся старый меньшевистский тезис о незрелости России для социалистической революции, о невозможности победы социализма без революции на Западе. Что касается Советов, то они были признаны наиболее целесообразной формой в данной обстановке, но в них вкладывалось не социалистическое, а буржуазно-демократическое содержание. Высказывались возражения против классового состава Красной Армии, предлагалось привлекать в нее и имущие классы ’.
Таким образом, хотя партия интернационалистов организационно отмежевалась от меньшевиков и обвиняла их в оппортунизме, она продолжала плыть в фарватере меньшевизма и вместе с ним повернула вправо, примыкая, однако, к его левому флангу.
Несмотря на то что меньшевики, даже их левые течения, уже почти полностью утратили социальную почву, они в целом по своему мировоззрению оставались мелкобуржуазной партией. Неустойчивая и аморфная вообще, мелкобуржуазная масса проявляла особенно сильные колебания в это трудное и опасное время. От ультралевого вспышкопускательства до кадетской контрреволюции — такова была амплитуда колебаний мелкой буржуазии, и она наложила свой отпечаток на состояние меньшевистской партии. Если левые, отколовшиеся от нее организации в известной мере отражали настроения тех слоев мелкой буржуазии, которые стояли где-то посредине между пролетариатом и буржуазией, то за правым, оборонческим крылом меньшевиков следовала узкая прослойка интеллигенции, колебнувшейся в сторону контрреволюции. Оборонцы открыто защищали интересы буржуазии, стояли на стороне контрреволюции. То же самое, хотя и не столь
1 См, «Пролетарий» (орган ЦК РСДРП (интернационалист он)), № 1, 5 июля 1918 г.
386
откровенно, Делало левоцентровое большинство меньшевистской партии (Дан — Мартов)
В борьбе против Советской власти меньшевики прежде всего правые, не гнушаются никакими средствами: они участвуют в контрреволюционных организациях, связанных с международным империализмом в заговорах против Советской власти. Одной из таких заговорщических организаций был созданный Б Савинковым «союз защиты родины и свободы», раскрытый ВЧК в середине 1918 г.1 Наряду с белыми генералами в нем участвовали эсеры и меньшевики. Союз имел свои филиалы в Ярославле, Рязани, Челябинске и приволжских городах. Ориентировался он и на Антанту, и на немцев, и на японцев.
«Союз защиты родины и свободы» подготовил и поднял мятежи в Муроме, Рыбинске, Елатьме и Ярославле. Особой жестокостью отличалось контрреволюционное восстание в Ярославле. Мятежники арестовали свыше 200 человек, многие из них были зверски замучены. В белогвардейском штабе работали, и следовательно
ответственны за эти зверства, меньшевик Дюжен — бывший губернский комиссар при правлении Керенского, меньшевик Савинов — бывший член Государственной думы, несколько правых эсеров. Активную предательскую роль в мятеже играли меньшевики Богданов, Мусатов и другие. Накануне восстания меньше
вики вместе с эсерами провели митинги, на которых призывали к свержению Советской власти.
Можно было бы назвать и такие контрреволюцион-
ные организации, как «союз возрождения», «тактический центр» и прочие «центры», в которых наряду с кадетами, крупнейшими промышленниками, генералами активную роль играли меньшевики.
Как же смотрело руководство меньшевистской партии на участие своих членов в подобных заговорах? По поводу ярославских событий ЦК меньшевиков принял специальное постановление, но тщетно было бы искать в нем принципиальное осуждение контрреволюционных мятежей и участия в них меньшевиков. Правда, в нем
1 Документальные материалы о «союзе защиты родины и свободы» и о восстании в Ярославле см. в кн.: «Красная книга ВЧК», ч. I. М., 1920, стр. 11—124.
387
говорилось, что в Ярославле имело место не массовое восстание, а военное выступление, руководимое «двусмысленными политическими группами», и что члены меньшевистской партии «никоим образом не должны примыкать к такого рода восстаниям». Но вслед за этим перечислялись задачи партии, фактически обращенные против Советской власти: рекомендовалось вооружать рабочих и восстанавливать «демократические органы местного самоуправления», т. е. помогать контрреволюции свергать Советы.
В дальнейшем, в ходе иностранной военной интервенции и гражданской войны, меньшевики сотрудничали со всеми контрреволюционными правительствами. Их можно было видеть при белогвардейских штабах, они активно боролись против рабоче-крестьянской власти. Партия Дана — Мартова формально, на словах не поддерживала интервентов и белые армии, но она не принимала никаких мер против своих членов, выступавших на стороне вооруженной контрреволюции. Ни один из них не был исключен из партии. Официальная линия меньшевистской партии по отношению к иностранной интервенции нисколько не меняла ее общей политической линии, направленной против Советской власти.
Уже в условиях начавшейся гражданской войны меньшевики под видом разрешения самого больного — продовольственного вопроса продолжают подпольную работу по созыву так называемого «Всероссийского съезда рабочих», который, по мысли его организаторов, должен был высказаться против Советской власти, свергнуть ее. Однако, несмотря на все старания меньшевиков, им удалось собрать по всей России не более 40 человек, обманутых и озлобленных людей. Такое мизерное число «делегатов», видимо, смутило даже устроителей «съезда», и они назвали его «конференцией». 23 июля 1918 г. эта «конференция», предназначенная для фальсификации воли рабочего класса, была арестована ’. Но неудавшаяся «конференция» представляла собой, конечно, далеко не последний контрреволюционный акт меньшевистской партии.
1 «Известия ВЦИК Советов», 24 июля 1918 г. Вскоре арестованные организаторы «конференции» были освобождены.
388
Небольшой по времени период между октябрем 1917 г. и летом 1918 г,-всего каких-нибудь восемь ме сяиев~ был заполнен невероятно тяжелой борьбой трудящихся во главе с большевистской партией за сохпа нение и развитие завоеваний социалистической рево-люции.
Буржуазно-помещичья контрреволюция напрягала все силы, чтобы свергнуть Советскую власть. Верным союзником буржуазии в борьбе против пролетариата выступали меньшевики и правые эсеры.
Меньшевистская партия после Октября окончательно определилась в лагере контрреволюции. Фактически это уже была не партия; она полностью лишилась социальной базы, раскололась на части, сошла на нет в численном отношении, но продолжала бороться против пролетариата.
Если, однако, в сравнительно мирное время Советское правительство могло еще ограничиваться идейной борьбой со своими ярыми противниками (хотя и сохранявшими ярлык социалистов), прибегая к репрессиям только в крайних случаях, терпеть их даже в Советах и в государственном аппарате, то с началом войны обстановка резко изменилась и потребовала новых форм борьбы.
В условиях гражданской войны благодушие к врагам Советской власти было недопустимо, если даже эти враги называли себя социалистами. Уже 14 июня 1918 г., т. е. с самого начала иностранной интервенции и усиления гражданской войны, ВЦИК принимает постановление об исключении из своего состава, а также из состава местных Советов представителей контрреволюционных партий — социалистов-революционеров (правых и центра) и партии меньшевиков, всех ее течений: от Потресова до Мартова. В исключительно трудный момент, который переживала Советская власть, присутствие в советских организациях представителей партий, явно стремящихся дискредитировать и низвергнуть власть Советов, ВЦИК признал совершенно недопустимым ’.
1 См. «Известия ВЦИК Советов», 18 июня 1918 г.
389
В известном письме ЦК РКП (б) местным организа-циям партии «Все на борьбу с Деникиным!», написанном В. И. Лениным, отмечалось, что среди «периферии» мелкобуржуазных партий и примыкающей к ней публики есть сдвиг в сторону Советской влдсти и партия будет идти навстречу ему, если он хоть в чем-нибудь реальном будет проявляться. Однако в тот период неустойчивая и бесхарактерная мелкобуржуазная демократия во главе с меньшевиками и эсерами колебалась в сторону Деникина, одерживавшего военные успехи.
«Не надо,— писал Ленин,— давать себя в обман словам и идеологии их вожаков, их личной честности или лицемерию. Это важно для биографии каждого из них. Это не важно с точки зрения политики, т. е. отношения между классами, отношения между миллионами людей. Мартов и К0 «от имени ЦК» торжественно осуждают своих «активистов» и грозят (вечно грозят!) исключить их из партии. От этого нисколько не исчезает тот факт, что «активисты» сильнее всех среди меньшевиков, прячутся за них и ведут свою колчаковско-деникинскую работу» 1.
Позволим себе выйти за обусловленные хронологические рамки данной работы только для того, чтобы вкратце показать дальнейшее разложение меньшевистской партии, полевение ее «низов» и примыкающих к ней организаций.
Международное и внутреннее положение Советской республики сказывалось на меньшевистской партии, особенно на ее «периферии». Победы над белогвардейскими армиями и интервентами давали толчки для выхода из меньшевистской партии целых групп рядовых ее членов. Многие из них переходили в Коммунистическую партию. Когда обстановка ухудшалась, наблюдалось колебание в другую сторону. В целом же мелкобуржуазные массы, испытав на себе прелести реставрируемого белогвардейцами старого режима, все больше переходили на сторону Советской власти, и это ускоряло окончательный распад меньшевистской партии.
Крупные успехи Красной Армии на Восточном фронте осенью 1918 г., а затем ноябрьская революция в ермании оказали сильное влияние на партию социал-
s. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 60.
390
демократов интернационалистов, как и на левых эсеоов Всероссийская конференция этой партии в ноябре 1918 г., в особенности доклады с мест, показала что на местах произошел серьезный сдвиг влево. В своей известной работе «Ценные признания Питирима Сорокина» В. И. Ленин Писал об этом сдвиге: «Факты — упрямая вещь, говорит английская пословица. А нам пришлось за последние месяцы пережить такие факты, которые означают величайший перелом всей мировой истории. Эти факты заставляют мелкобуржуазных демократов России, несмотря на их ненависть к большевизму, воспитанную историей нашей внутрипартийной борьбы, повернуть от враждебности к большевизму сначала к нейтральности, потом к поддержке его. Миновали те объективные условия, которые особенно резко оттолкнули от нас таких демократов-патриотов. Наступили такие мировые объективные условия, которые заставляют их повернуть в нашу сторону. Поворот Питирима Сорокина отнюдь не случайность, а проявление неизбежного поворота целого класса, всей мелкобуржуазной демократии. Тот не марксист, тот плохой социалист, кто не сумеет учесть и использовать этого» *.
Здесь идет речь о левых элементах мелкобуржуазных партий, подобных новожизненцам, партии Лозовского. На ноябрьской конференции РСДРП (интернационалистов) докладчик из Самары отмечал, что после оккупации организация не перешла к большевикам только в ожидании конференции. Аналогичные настроения были в Пятигорске, Петрозаводске, Нижнем Новгороде. Говорилось о сепаратных переходах к большевикам. На конференции указывалось, что основные противоречия, имевшиеся у социал-демократов интернационалистов с большевиками (о характере Октябрьской революции, о Брестском мире), исчезли. «Разногласия настолько стерлись,— отмечал в докладе о текущем моменте Лозовский,— что может даже дебатироваться вопрос о слиянии с коммунистами» 2.
Вопрос был поставлен на январской (1919 г.) конференции партии. Но несмотря на то, что конференция признала вопрос о слиянии назревшим и что каких-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 191—192.
1 «Пролетарий» № 3—4, декабрь 1918 г.
391
либо принципиальных противоречий с большевиками нет, решение о слиянии не было принято. Правое крыло, ратовавшее за самостоятельность партии, оказалось еще довольно сильным. Вопрос о слиянии с РКП(б) вновь стоял в центре внимания съезда социал-демократов интернационалистов всех течений, состоявшегося 15— 19 апреля 1919 г. Съезд стал на точку зрения январской конференции, т. е. признал слияние преждевременным. На этом съезде произошло слияние двух партий — РСДРП (интернационалистов) и независимых левых интернационалистов в одну партию, получившую наименование Российской Социалистической рабочей партии интернационалистов ’. Только в декабре 1919 г. съезд РСДРП (интернационалистов) постановил ликвидировать самостоятельное существование партии и слиться с РКП (б).
30 декабря 1919 г. ЦК РКП(б) принял интернационалистов в большевистскую партию. В письме ЦК «Всем губкомам РКП» говорилось: «Приветствуя это постановление (постановление съезда интернационалистов.— Н. Р.), Центральный Комитет предлагает всем местным организациям Российской Коммунистической партии немедленно принять в свой состав членов местных ор-
1 См. «Резолюции и постановления съезда с.-д. интернационалистов всех течений (Москва, 15—19 апреля 1919 г.)». М., 1919.
В архивных материалах интернационалистских партий нет данных об их численности. Представляют интерес опубликованные в указанной брошюре данные о составе съезда интернационалистов всех течений. Вот некоторые из них. Всего присутствовало на съезде 35 делегатов, из них 22 — с правом решающего голоса. Заполнили анкеты 27 делегатов. Приводим сведения по двум рубрикам: о социальном составе делегатов и об их партийном прошлом (из каких партий вышли). Среди 27 делегатов рабочих физического труда было 7 (25,9 процента), низших служащих — 3 (11,1 процента), лиц интеллигентного труда — 16 (59,3 процента), неизвестной профессии — 1. До вступления в ряды интернационалистов были: меньшевиками (включая меньшевиков-интернационалистов) и бундовцами — 9 (33 процента); объединениями — 3 (11,1 процента), членами РСДРП (без указания фракций) — 4 (около 15 процентов). В материалах имеется подразделение на бывших большевиков (1 человек) и коммунистов (1 человек); если сложить эти данные вместе, то бывшие большевики составят 22,2 процента; 3 человека до вступления в организации интернационалистов были беспартийными, партийная принадлежность одного не выяснена. Уже сам состав делегатов, отражавший в известной мере состав партии, объясняет причину ее сильных колебаний.
392
рзнизаций партии интернационалистов и приложи „ старания к тому, чтобы в дружной организационной пТ' бете возможно скорее изжить ту отчужденно Р\ а иногда и некоторую враждебность, которые естест: венн0 сложились в результате отдельного организаци-онного существования. н мци
Принятие членов бывшей партии интернационалистов в состав местных организаций РКП должно производиться автоматическим путем простого обмена прежних членских билетов на членские книжки нашей партии»
Эволюция в сторону сближения с большевистской партией проходила, хотя медленно и болезненно, также в рядах Бунда. Начавшийся в связи с ноябрьской революцией в Германии поворот этой партии влево отчетливо проявился на состоявшейся в начале марта 1919 г. Всероссийской конференции Бунда. На конференции боролись четыре течения: правые, правый центр, левый центр и левое течение. Преобладал левый блок. Резо
люция о текущем моменте свидетельствовала о том, что партия, хотя и сдвинулась влево, несет еще на себе сильный груз меньшевистского оппортунизма. Резолюция говорила о необходимости поддерживать Советскую власть в борьбе против интервентов, призывала еврейских рабочих вступать в Красную Армию. Вместе с тем в ней утверждалось, что из хозяйственного тупика Россию может вывести только революция на Западе; выдвигался лозунг «диктатуры Советов», противопоставлявшийся мнимой «диктатуре партии». В резолюции повторялись демагогические меньшевистские требования «свободы слова и печати», прекращения «красного террора» и т. д. 1 2
Состоявшаяся в марте 1920 г. чрезвычайная конференция Бунда приняла предложение Комиссии Коминтерна, подтвержденное его Исполкомом, о желательности слияния Бунда с РКП(б). Но слияние произошло не сразу, партия еще не готова была к этому идейно. В ноябре 1920 г. ЦК большевистской партии указывал еврейским секциям РКП(б) и еврейским отделам КПУ, что партийные организации «должны вести решитель
1 «Известия ЦК РКП(б)», 14 января 1920 г.
2 См. «Пролетарий», 16 апреля 1919 г.
393
ную борьбу с Бундом, разъясняя массам еврейских рабочих половинчатость коммунистической линии Бунда, консерватизм его организационных принципов, рассматривая их как проявление не закончившейся еще эволюции в сторону последовательного коммунизма* ’. В письме указывались формы и методы пропагандистской работы среди еврейских рабочих, рекомендовалось воздерживаться от блоков с Бундом. Только в июле 1921 г. Бунд, точнее, его левое крыло было принято в РКП(б). В инструкции партийным организациям разъяснялось, что партстаж членам Бунда исчисляется с апреля 1920 г. 2.
Что же касается меньшевистской партии, включая ее мартовское крыло, то она шла не на сближение с большевистской партией, а в противоположную сторону. Правда, как уже было сказано, колебания в этой партии, главным образом в ее левой части, продолжались, они были тесно связаны с международной и внутренней конъюнктурой. ЦК меньшевиков, главным лидером которого после Октября стал Мартов, временами колебался в сторону Советской власти, но общая его линия была по-прежнему оппортунистическая и антисоветская. В августе 1919 г. в платформе под названием «Что делать?» меньшевистский ЦК призывал к разгрому внутренних и внешних врагов революции. Мартов не мог не понимать, что победа Колчака, Деникина, интервентов означала бы реставрацию монархии или же установление военной диктатуры во сто крат хуже той, которую замышлял Корнилов. Но по всем остальным вопросам программного характера меньшевистский ЦК придерживался старой линии, которая в конечном счете сводилась к замене диктатуры пролетариата буржуазной демократией.
На партийном совещании меньшевиков в марте 1920 г. Мартов в докладе «Диктатура пролетариата и демократия» говорит о неизбежности в ближайшее время революции на Западе; он и его сторонники признают, хотя и с оговорками, диктатуру пролетариата и даже высказываются за возможность некоторого ограничения демократии по отношению к свергнутым эксплуататорским классам в условиях пролетарской дик-
1 «Известия ЦК РКП (б)», 11 ноября 1920 г.
2 См. «Известия ЦК РКП(б)», 20 июля 1921 г.
394
татуры. Но уже в октябре того же
яа съезде немецких независимцев в °И ВЫстУпает антисоветской речью, после кп™™- ' со злоР>чой
тился в Россию. За границей образова л/*0 в,)звра-ская эмиграция, выпускавшая“махппип меньшевист-
онный «Социалистический вестник», аТ^ссии"’во/ никло меньшевистское подполье. История меньше™X подошла к своему логическому финалу. Но если в лом меньшевистская партия не пошла на сближение с таяли в течение вс< й гражданской воины.
Не только рядовые члены, но и некоторые видные ее деятели все более убеждались, что массы совсем ушли от них, что трудящиеся видят в них своих врагов . Многие меньшевики уходили из партии, а часть из них вступала в большевистскую партию (в то время к большевикам перешли такие крупные фигуры, как, например, Мартынов, Хинчук и другие). Процессы, совершавшиеся в меньшевизме, были свойственны и эсеровской партии, а также отпочковавшимся от нее организациям. В сентябре — октябре 1920 г. в РКП(б) были приняты борьбисты (левые эсеры на Украине) и так называемая партия революционных коммунистов2.
Всероссийская партийная перепись 1922 г. показала, что в рядах РКП(б) насчитывалось выходцев из других партий 22 517 человек. По отношению к общему числу членов партии это составляло 5,8 процента. Первое место среди выходцев — 49,43 общего их числа 4—
* Вышедший из меньшевистской партии один из лидеров ее левого крыла, Ерманский, писал позже, что выступления меньшевиков на митингах в то время оставляли неприятный осадок: «Определенно видно было, что нам сочувствуют, так сказать, с другого конца. Словом, мы видели, что находим поддержку главным образом в среде мещанства и ' '
оголтелоозлобленных рабочих. Это ™Р£Хтле-
образом. Мне пришлось поделиться с Мартовымэтим впечат^ ю£м - оказалось, что и он испытывает такое Ч>В1ТВО (О. А Ерманский. Из пережитого. М —Л., 1927, стр. J aw.
5 См «Известия ЦК РКП(б)», 4 сентября и 12 октября 192О3ГСМ. «Всероссийская перепись членов РКП 1922 года», вып. 4. М., 1923, стр. 44—45. ппавые — 12,5 и левые —
4 На втором месте стоя™ „подставлены они были почти 12,7 процента. Интересно, что пред поровну.
395
занимали меньшевики и бундовцы, вернее сказать, наиболее левые элементы этих партий, среди которых ра-' бочих было больше, чем среди правых течений, и больше, чем среди эсеров (даже левых).
Вот как распределялись выходцы из других партий по социальным группам
Рабочие I Крестьяне i Служащие Прочие Итого
Переписано всех членов 171 625 102 997 85 823 25868 386 313
Из них выходцев из других партий 12448 1426 7 146 1497 22 517
Процент выходцев 7,2 1,4 8,3 5,8 5,8
Как видим, переходили в нашу партию наиболее сознательные элементы — рабочие и служащие. Относительно высокий процент последних объясняется и тем, что мелкобуржуазные партии, в частности меньшевистская, состояли в большинстве своем из интеллигенции.
Среди рабочих, пришедших в РКП(б) из других партий, более половины (52,4 процента) составляли меньшевики (эсеров было только 28,6 процента). Среди выходцев-крестьян, естественно, преобладали эсеры, они составляли 42,6 процента. Меньшевиков же среди крестьян, перешедших в нашу партию, насчитывалось 44 процента 1 2.
Перепись содержит интересные данные о партийном стаже выходцев из других партий на примере московской организации. Оказывается, что 93,6 процента выходцев из других партий вступили в партию в 1917 г. и позже. Это значит, что они случайно примкнули к мелкобуржуазным партиям в период бурного подъема политической активности масс. Основная масса выходцев из других партий вступила в РКП(б) в 1918—1920 гг. (в Москве — 70 процентов, в Петрограде — 71,4 процента).
1 См. «Всероссийская перепись членов РКП 1922 года», вып. 4, стр. 45.
2 Приведенные данные отражают прежнюю социальную принадлежность выходцев из других партий (а не к моменту переписи).
396
Многие выходцы из других партий, в том числе бывшие меньшевики, вступили в большевистскую партию с честными намерениями — включиться в активную борьбу за социализм — и действительно стали хорошими коммунистами. Но известная часть «бывших» так и не сумела избавиться от реформистского, оппортунистического мировоззрения. Впоследствии она представляла собой питательную почву для троцкизма, являвшегося социал-демократическим уклоном в нашей партии.
Так закончила свой путь мелкобуржуазная, реформистская партия Плеханова — Дана — Мартова.
содержание
ВВЕДЕНИЕ.......................... ........... 3
ГЛАВА I. БОРЬБА БОЛЬШЕВИКОВ ПРОТИВ ОППОРТУНИЗМА И СОГЛАШАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ МИРНОГО РАЗВИТИЯ РЕВОЛЮЦИИ ... 25
1. На историческом повороте.................. —
Две партии, две концепции революции......... —
Соотношение сил............................ 42
2. Тактическая линия большевиков по отношению к мелкобуржуазной демократии в новой исторической обстановке............................. 55
Против объединительных тенденций............
Апрельские тезисы и Апрельская конференция РСДРП(б) об отношении к мелкобуржуазным
партиям..................................... 87
Идейное и организационное сплочение большевистских сил.................................... 96
3. Разоблачение большевиками соглашательской политики меньшевиков. Обучение масс на их собственном опыте................................105
От «контактной» комиссии к коалиции с кадетами — Меньшевистская «программа мира».............120
Две линии в борьбе с экономическим кризисом . . 143
Классовая борьба пролетариата и реформистская политика меньшевиков........................155
Борьба за фабзавкомы и профсоюзы............171
Аграрная программа и аграрная политика меньшевиков ......................................183
Национальная политика меньшевиков..........193
ГЛАВА II. БОРЬБА С МЕНЬШЕВИКАМИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО КУРСА НА ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ......................... , , 207
398
207
1. Открытый переход соглашателей на буржуазии ....
От соглашательства с буржуазией к прямому предательству пролетариата
Символическое рукопожатие.............. . 230
2. Рост влияния большевистской партии и прогрессирующее ослабление социальной базы меньшевизма 240 Курс на вооруженное восстание и мелкобуржуазные партии . ................................. .....
Усиление противоречий и разброда в меньшевистской партии. «Объединительный» съезд...........246
Массы пошли за большевиками. Борьба с корниловщиной и ее уроки........................... 262
3. Победа пролетарской революции — торжество марксизма-ленинизма, стратегии и тактики большевистской партии..................................275
Кризис назрел................................... —
Демократическое совещание. Новые коалиционные потуги меньшевиков.............................286
По ту сторону баррикад..........................297
ГЛАВА III. УПРОЧЕНИЕ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ КРАХ МЕНЬШЕВИЗМА ........................................326
1. Меньшевики в лагере антисоветской контрреволюции .........................................
С Керенским и Красновым против пролетариата . —
Попытки «мирного» свержения Советской власти . 332
2. Завершение политического и организационного разложения меньшевизма............................348
Генералы без армии.......................... ~
На распутье.................................
3. Партия, отвергнутая народом....................36 j
Учредительное собрание и брестские переговоры. _ Крушение последних надежд.......................
Меньшевистская партия перед пропастью .... °*-
Рубан Николай Васильевич. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И КРАХ МЕНЬШЕВИЗМА (март 1917—1918 г.). М.» Политиздат, 1968.
399 с.
ЗКП1-7
Редактор Н. Мазэ Художник Н. Дворников Художественный редактор Н. Симагин Технический редактор О. Семенова Сдано в набор 22 июня 1967 г. Подписано в печать 14 ноября 1967 г. Формат 84х 1O8‘/j2- Физ. печ. л. 12Va. Услови. йеч. л. 21,0. Учетно-изд. л. 20,83. Тираж 30 тыс. экз. А 11875. Заказ № 534. Бумага № 2. Цена 1 р. 44 к.
Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 1. Типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 15.
400