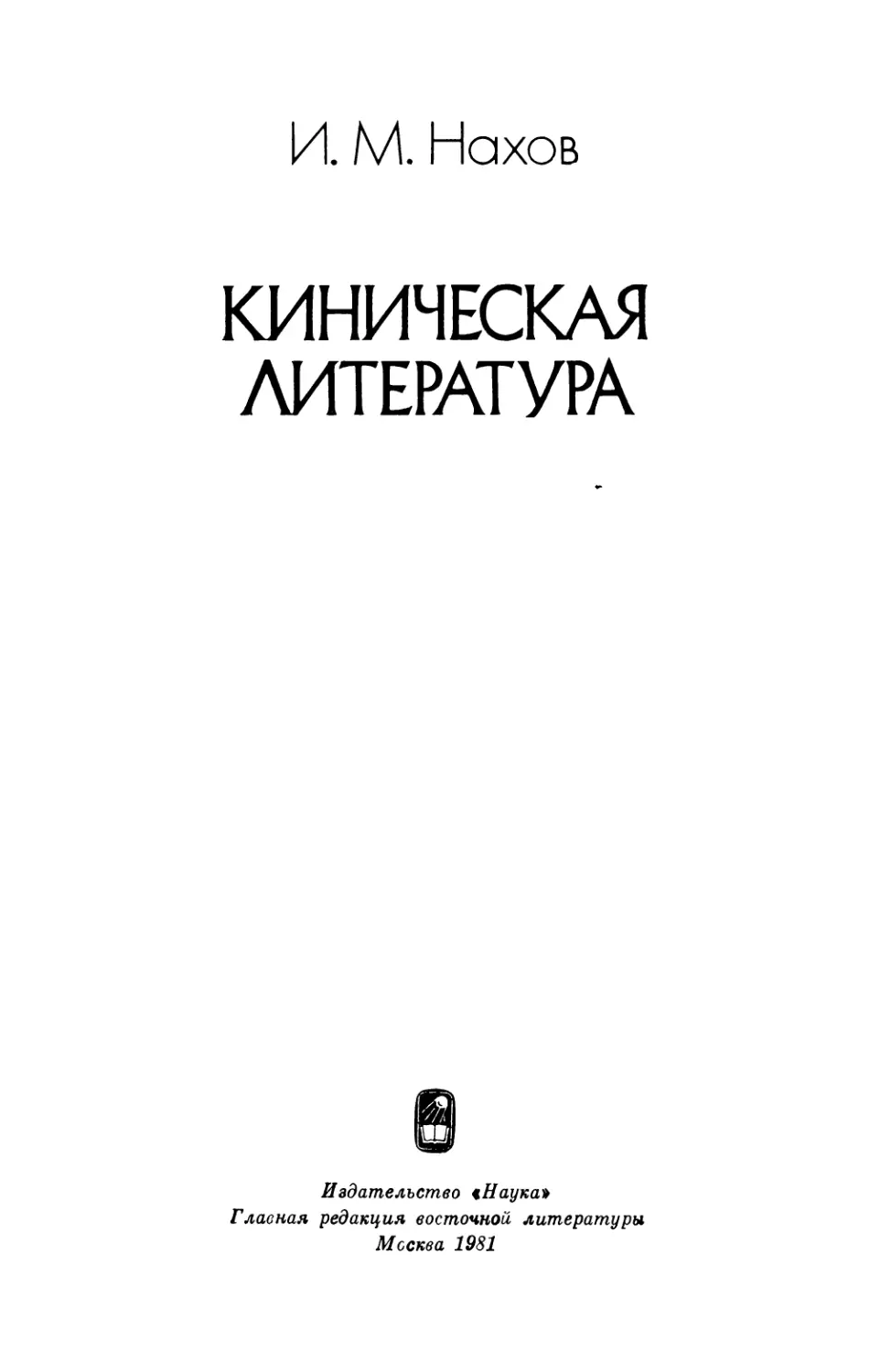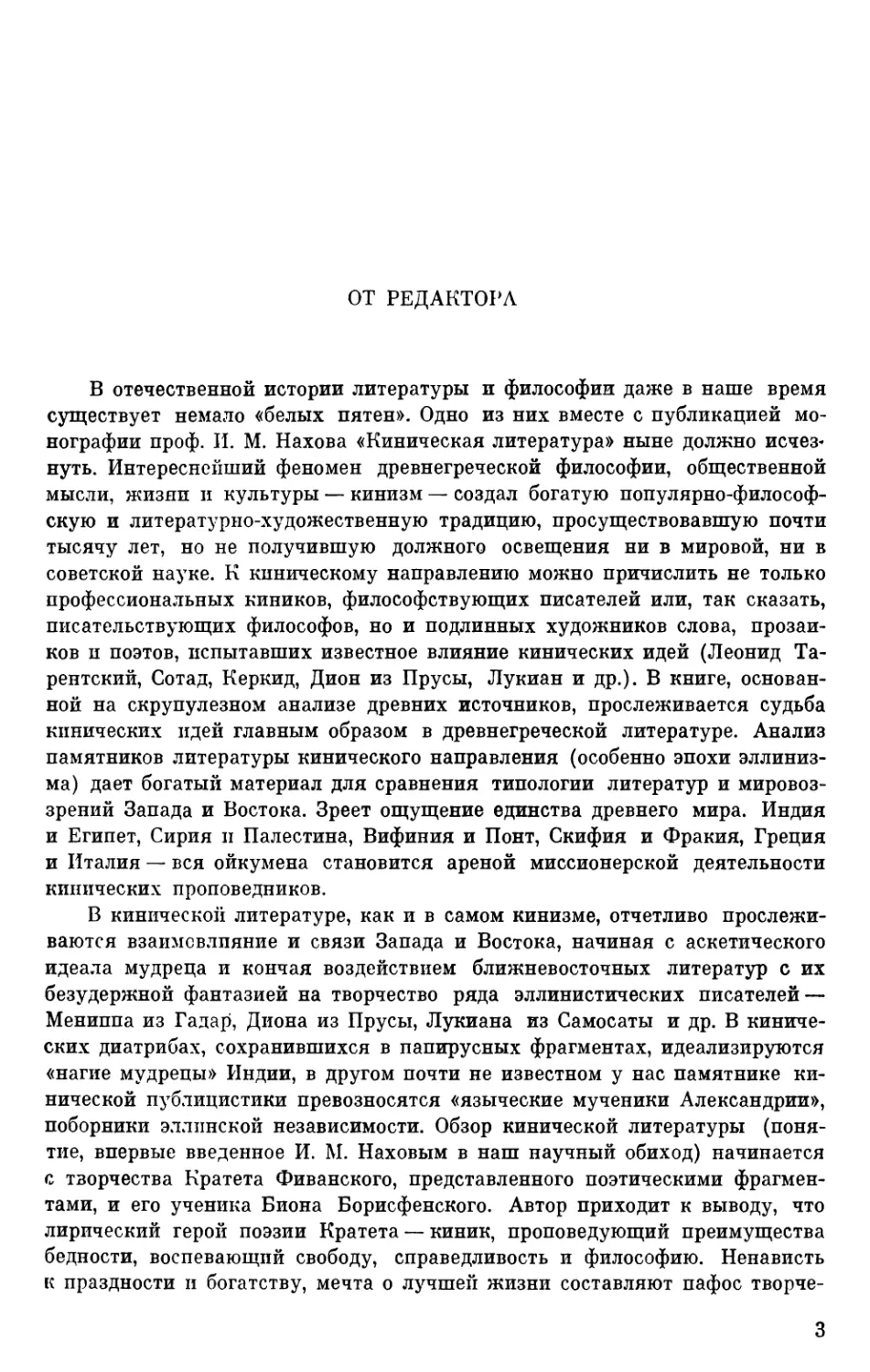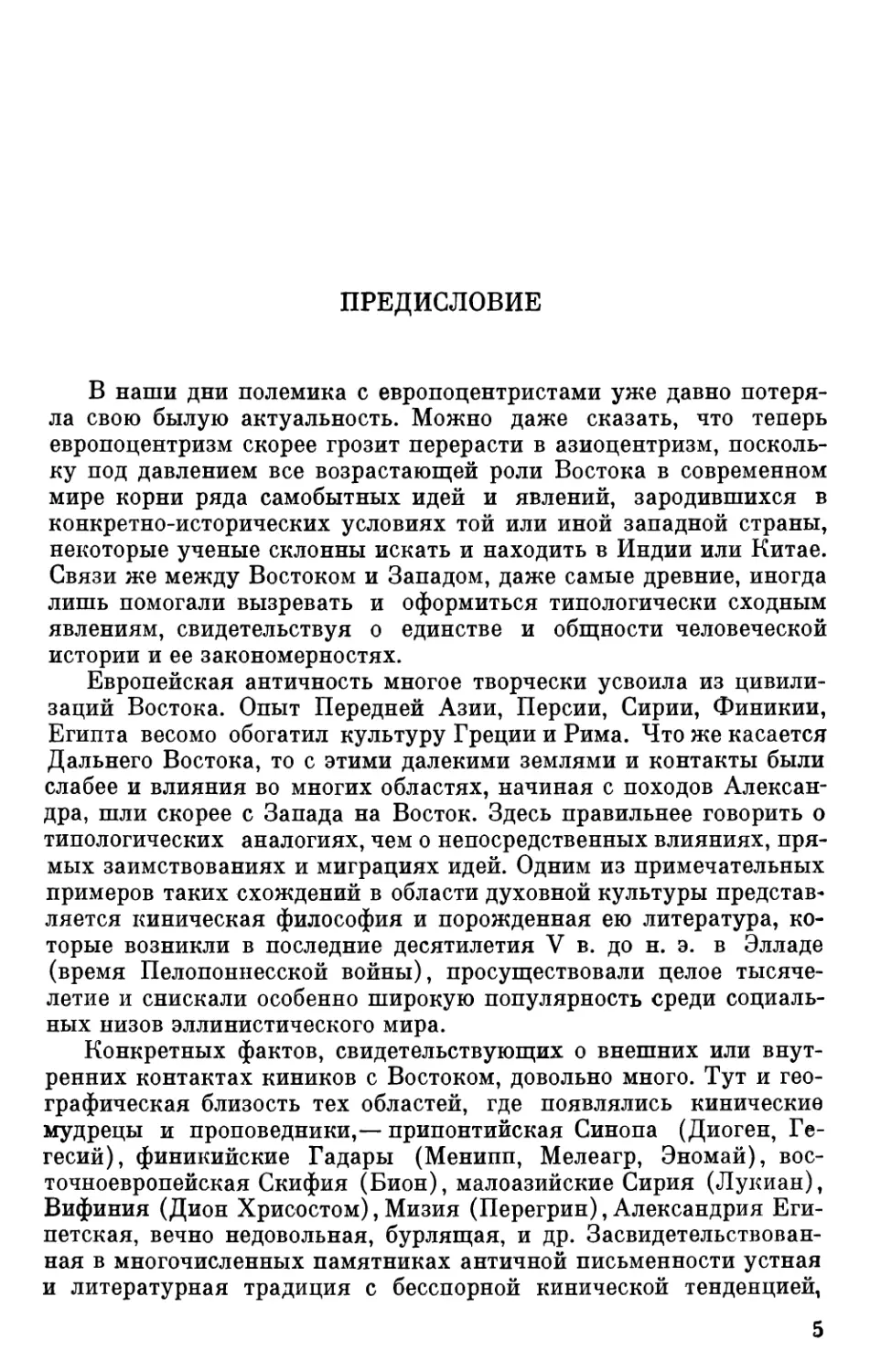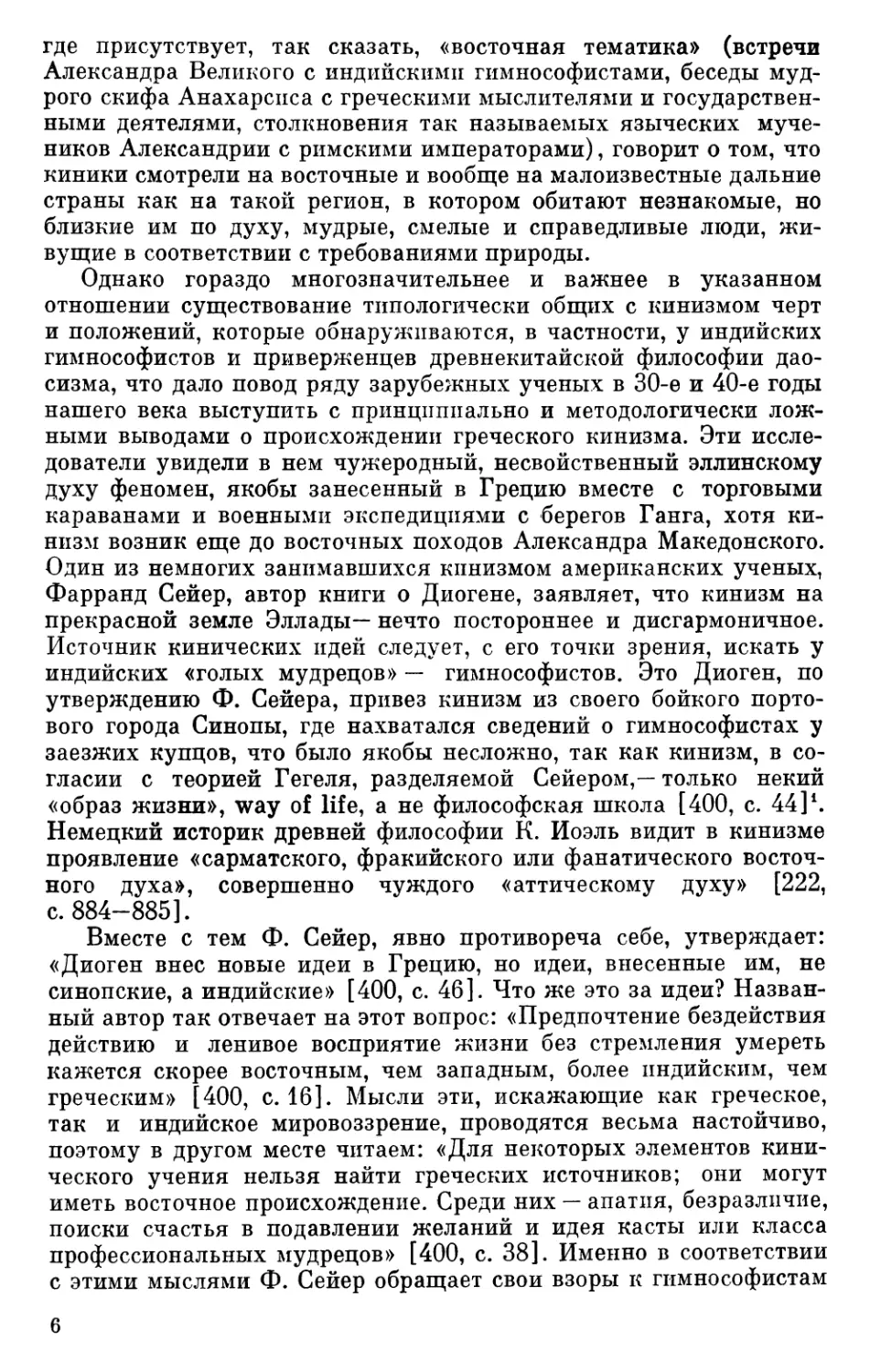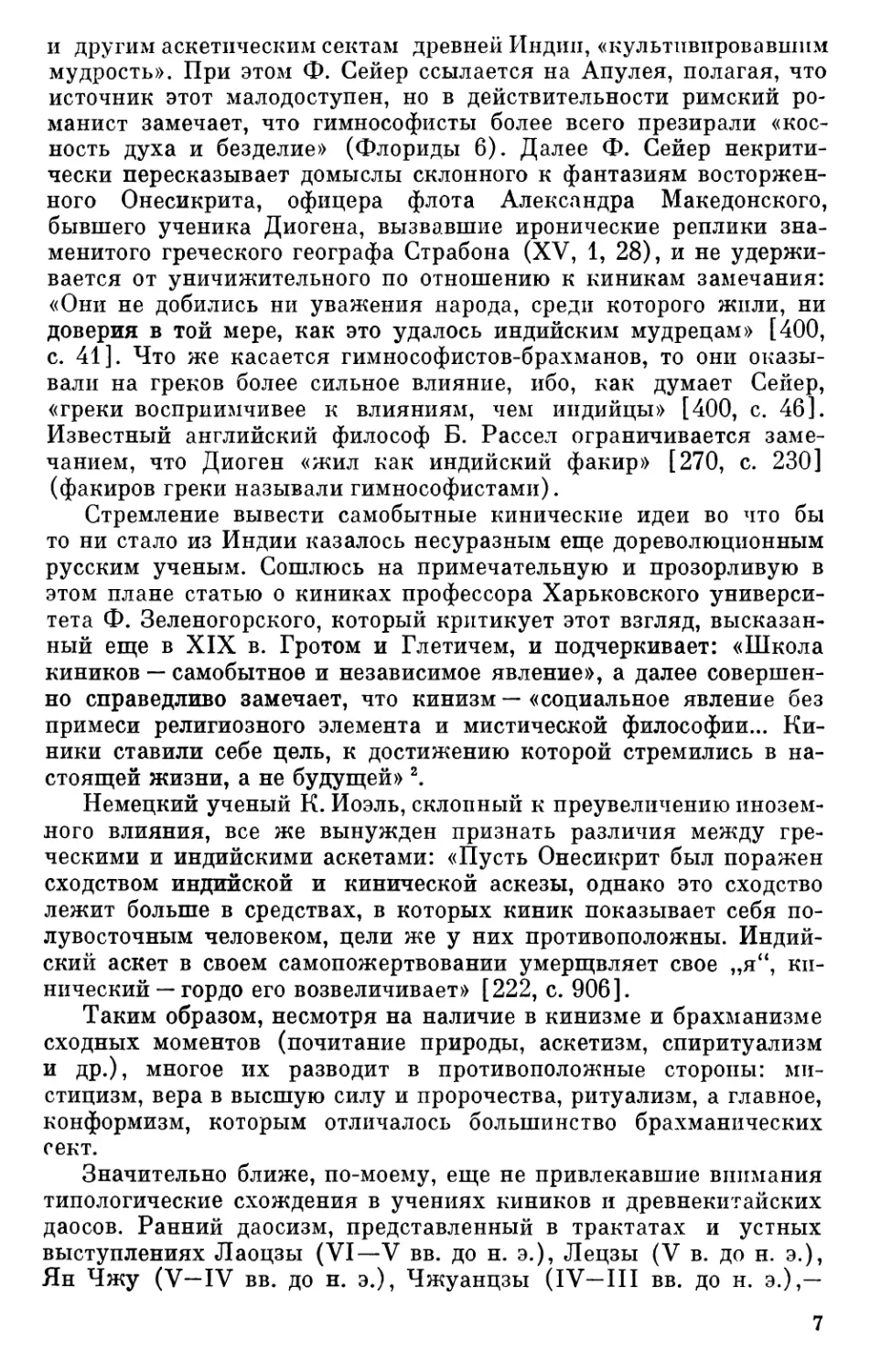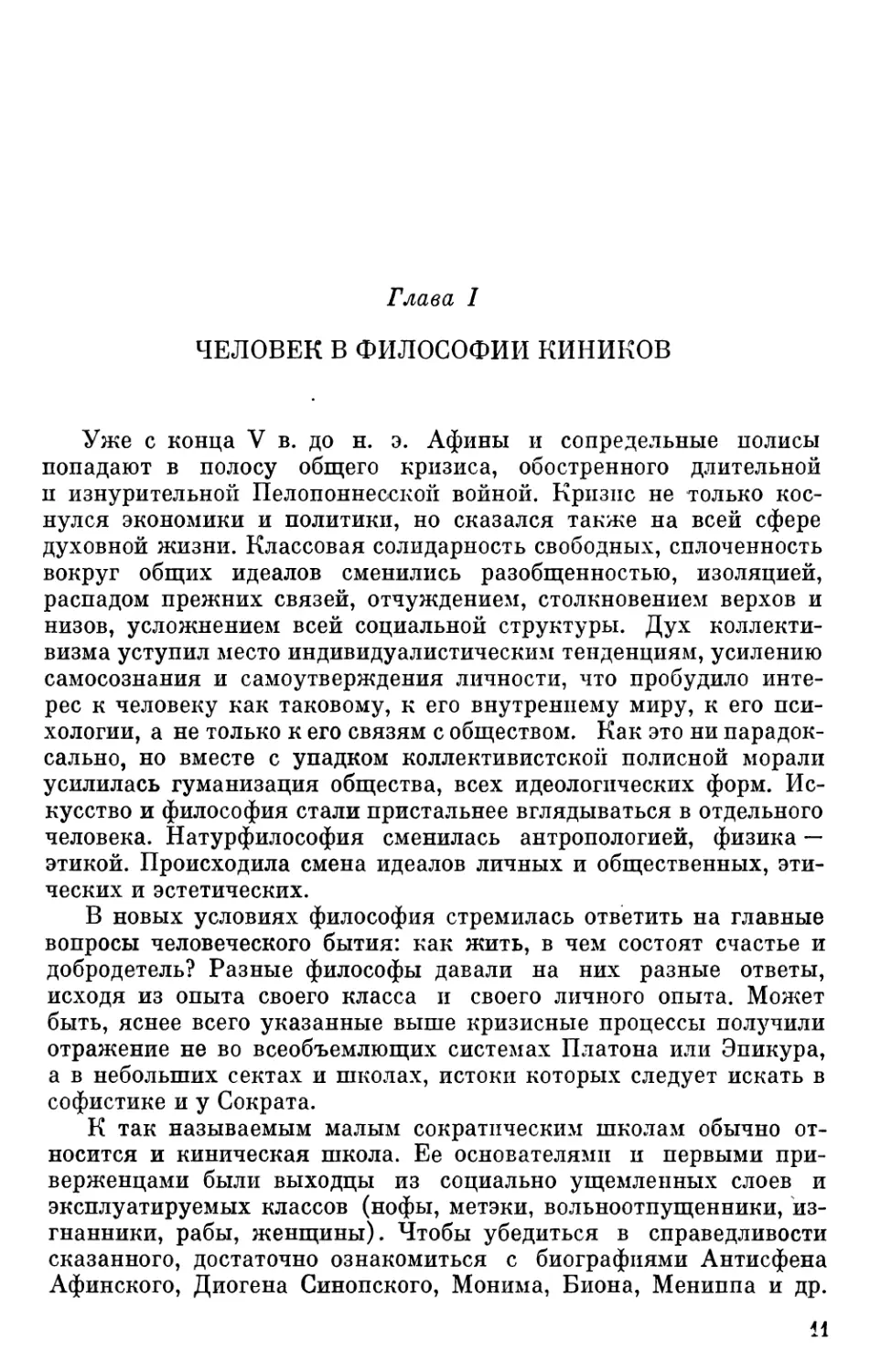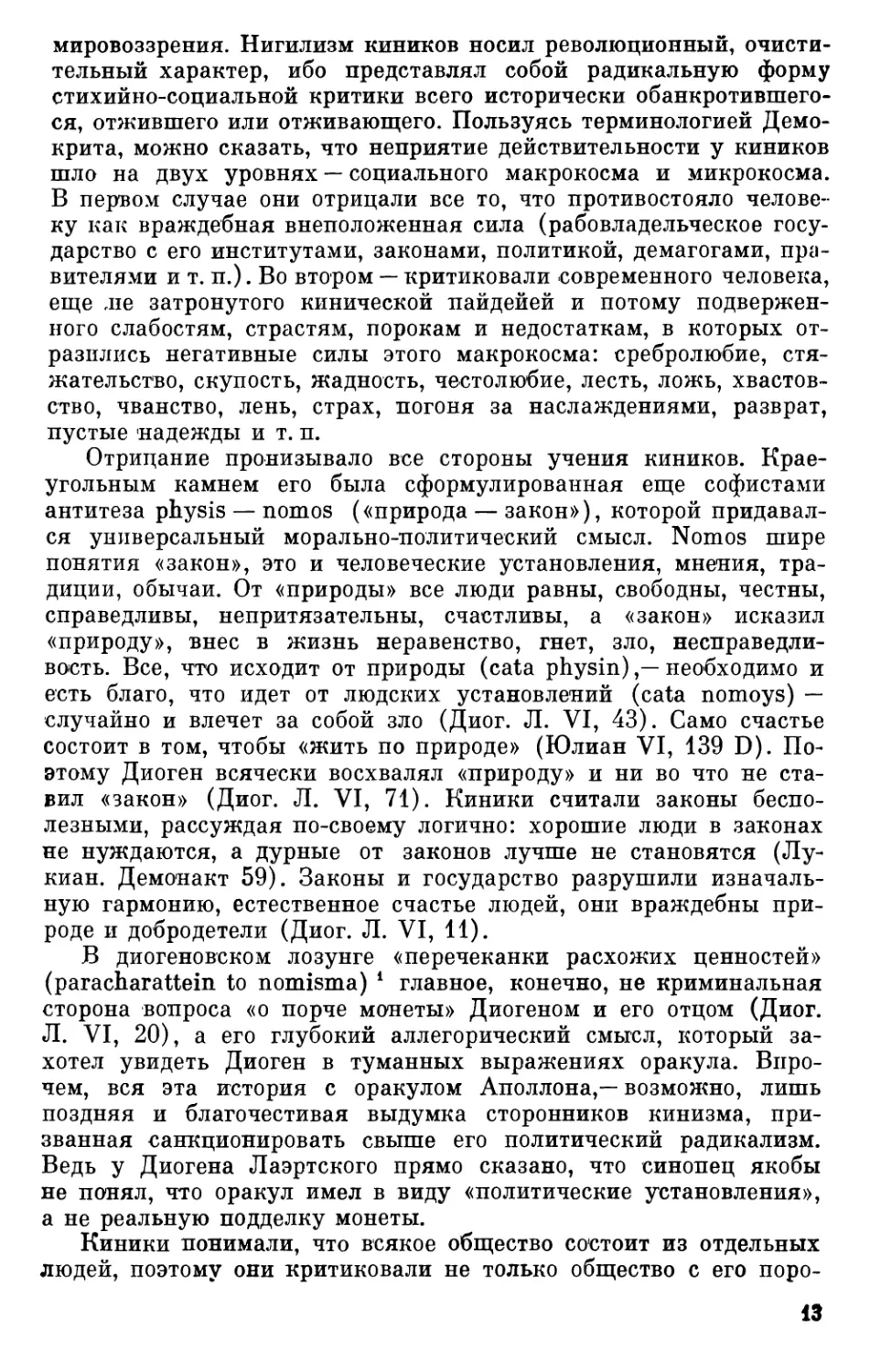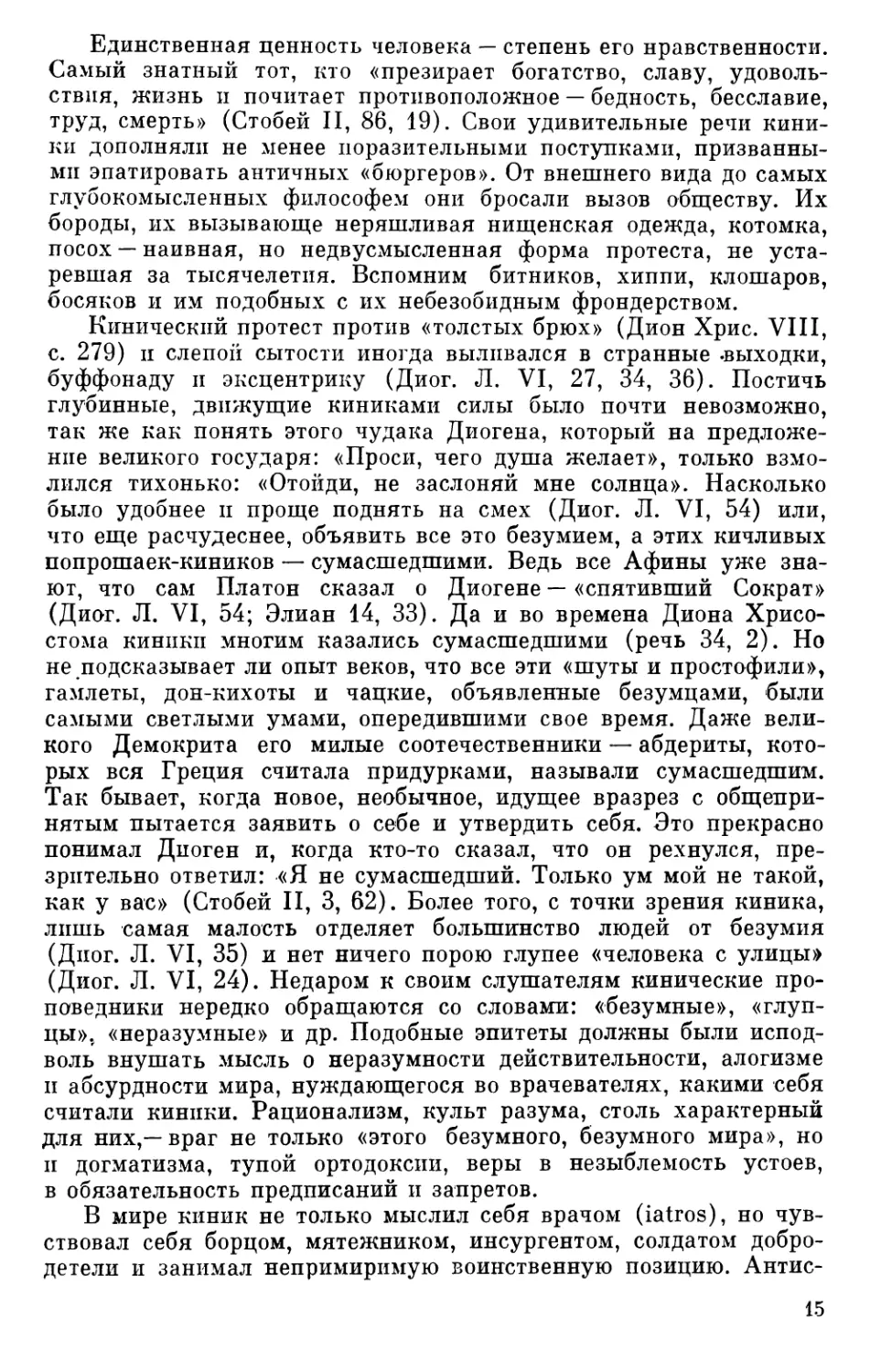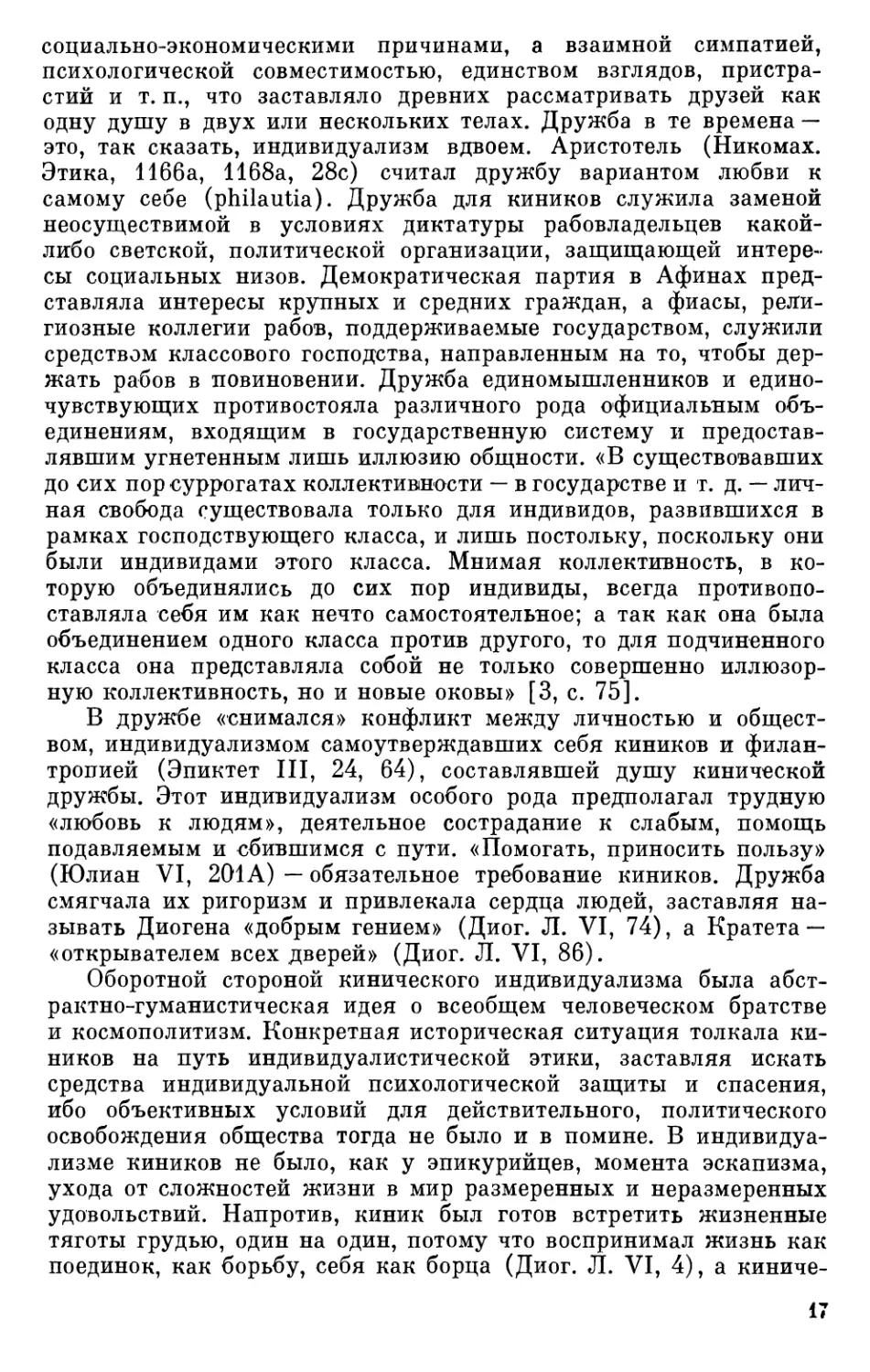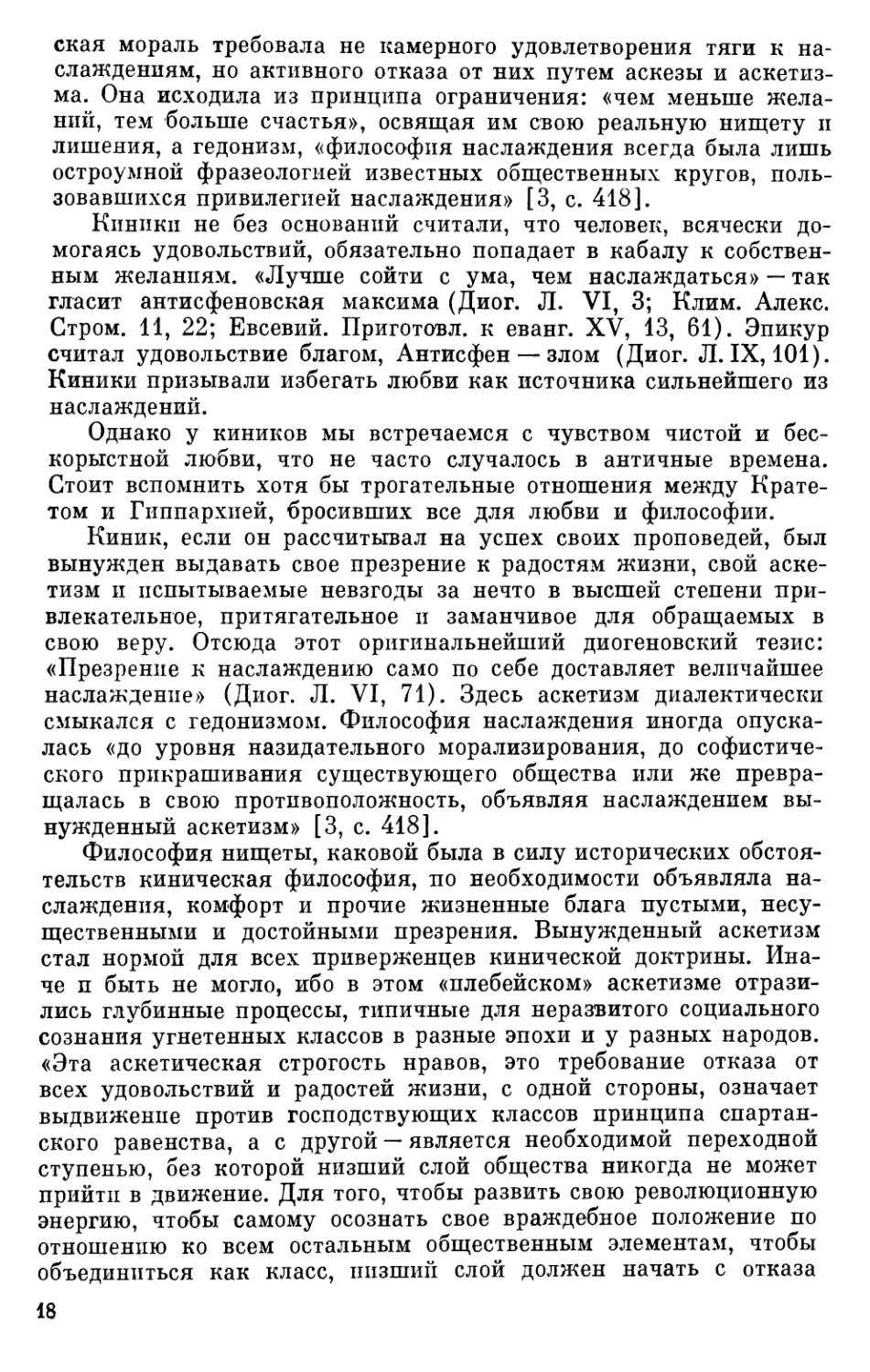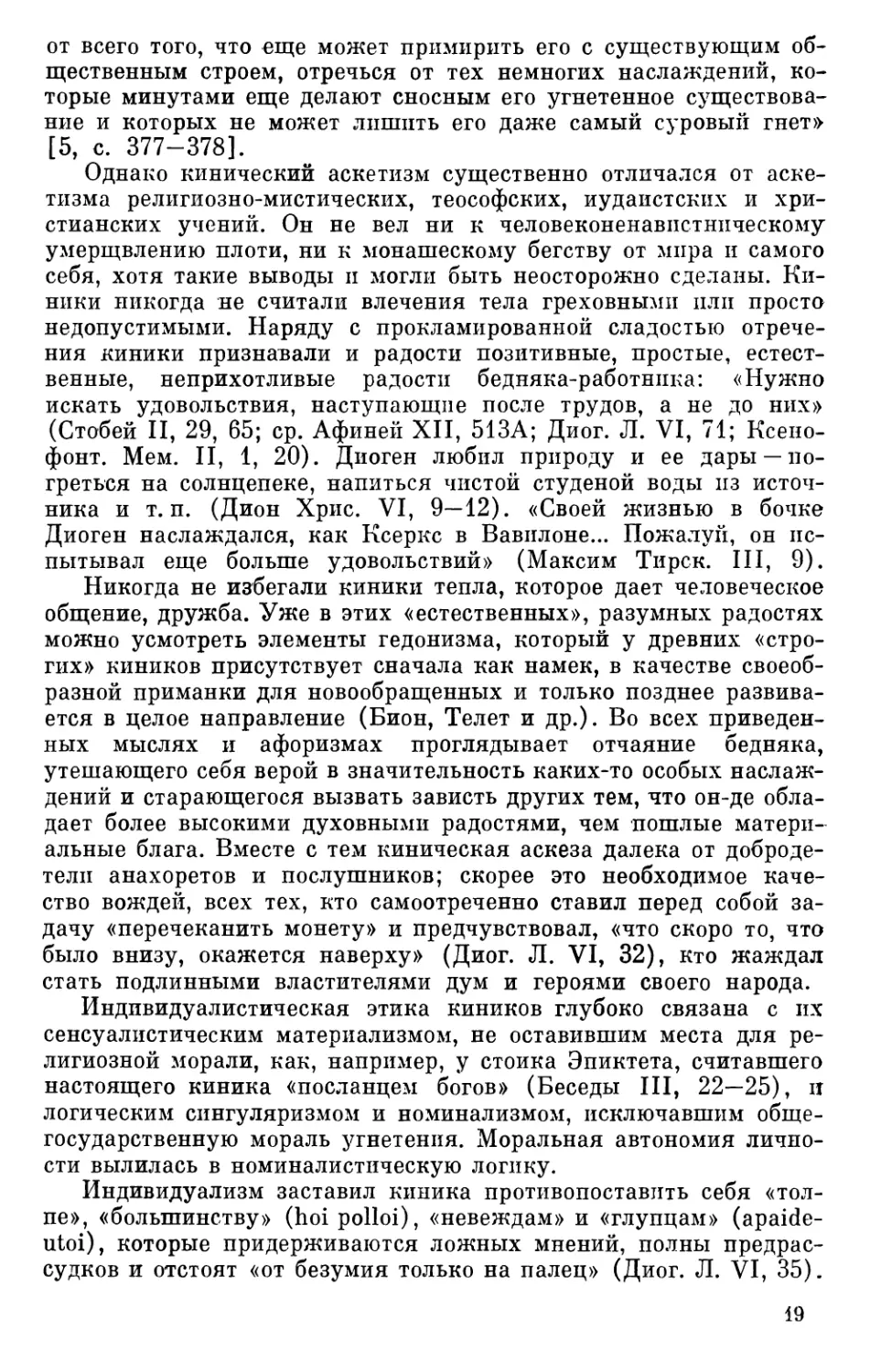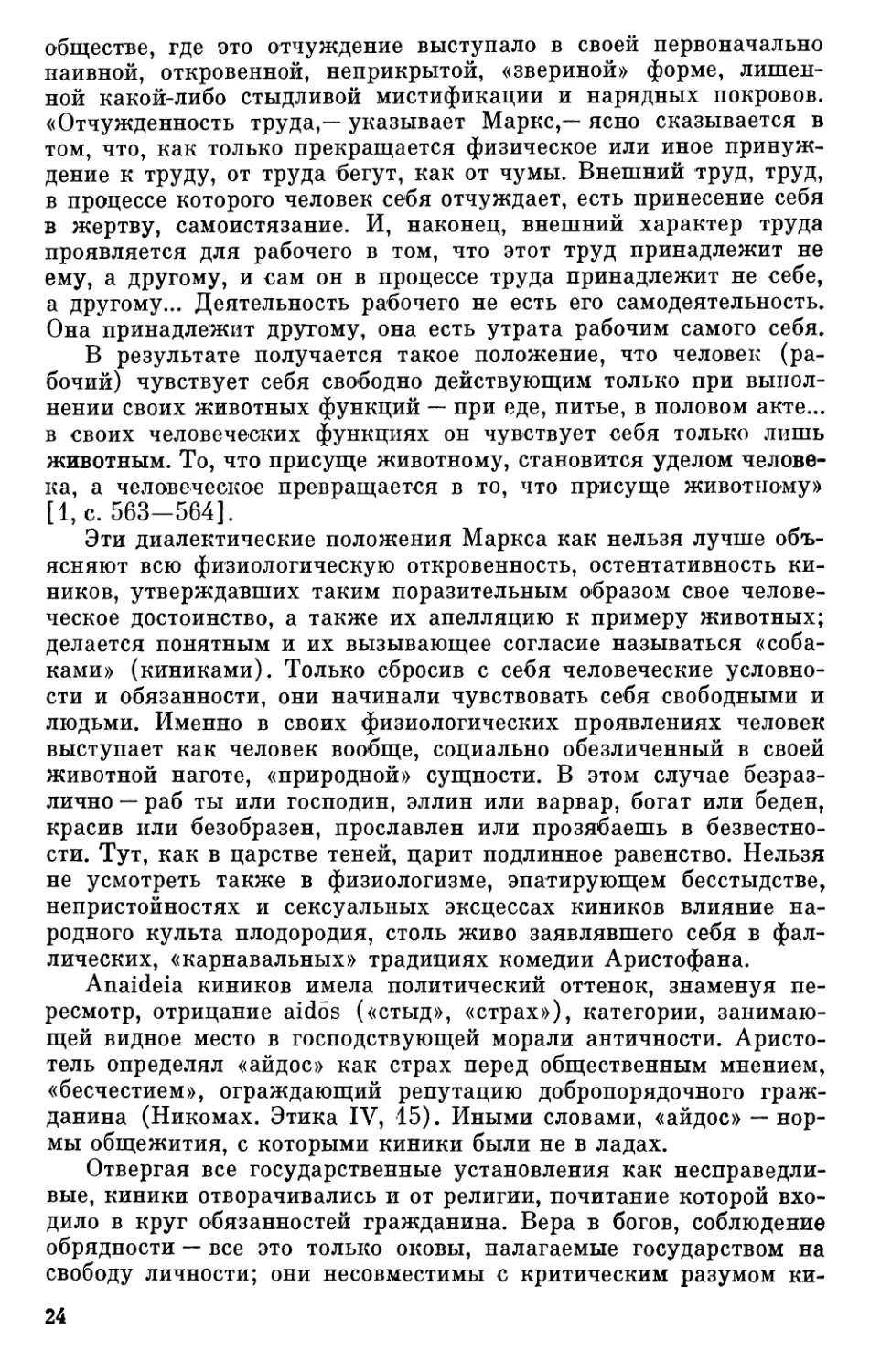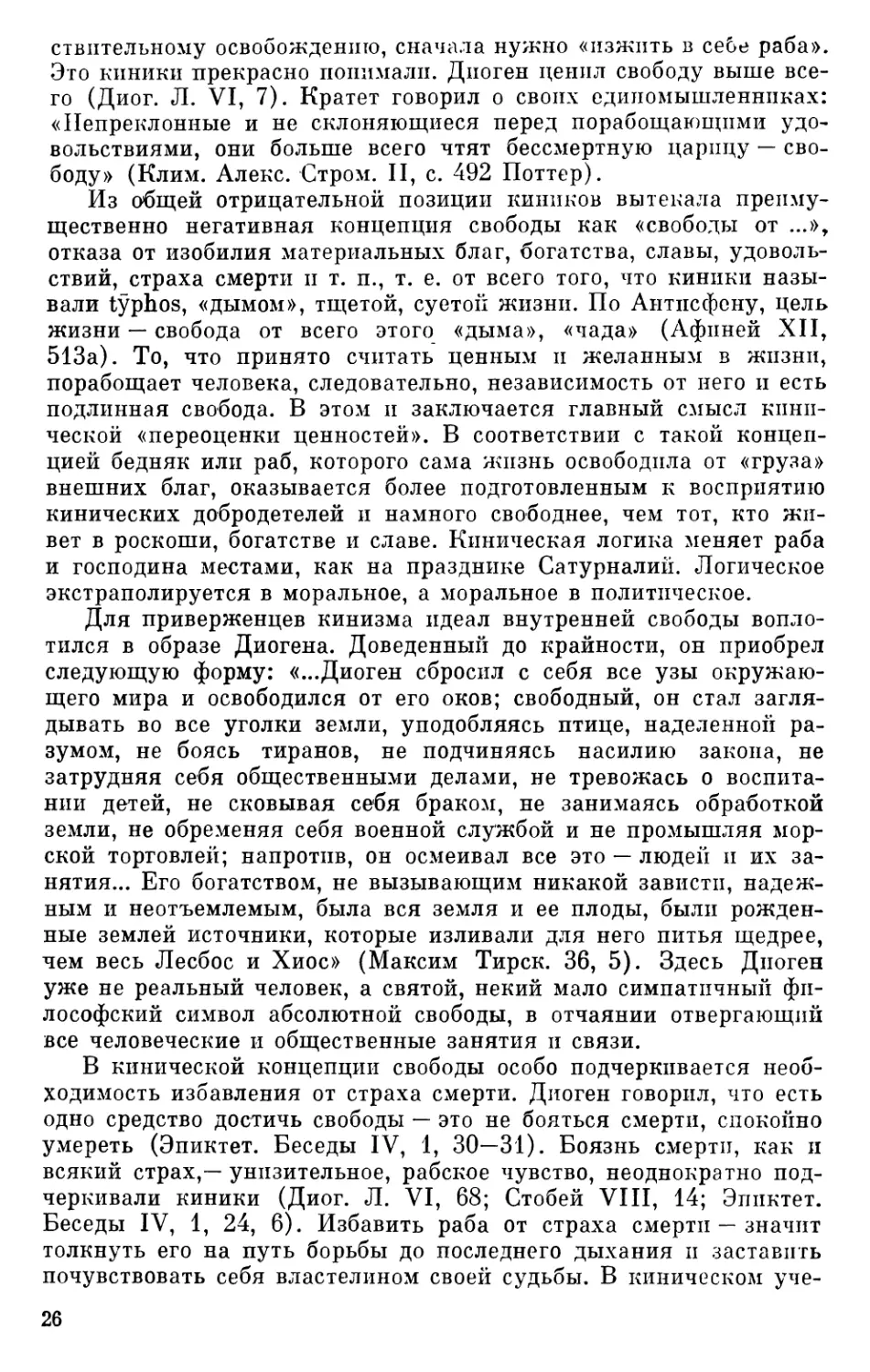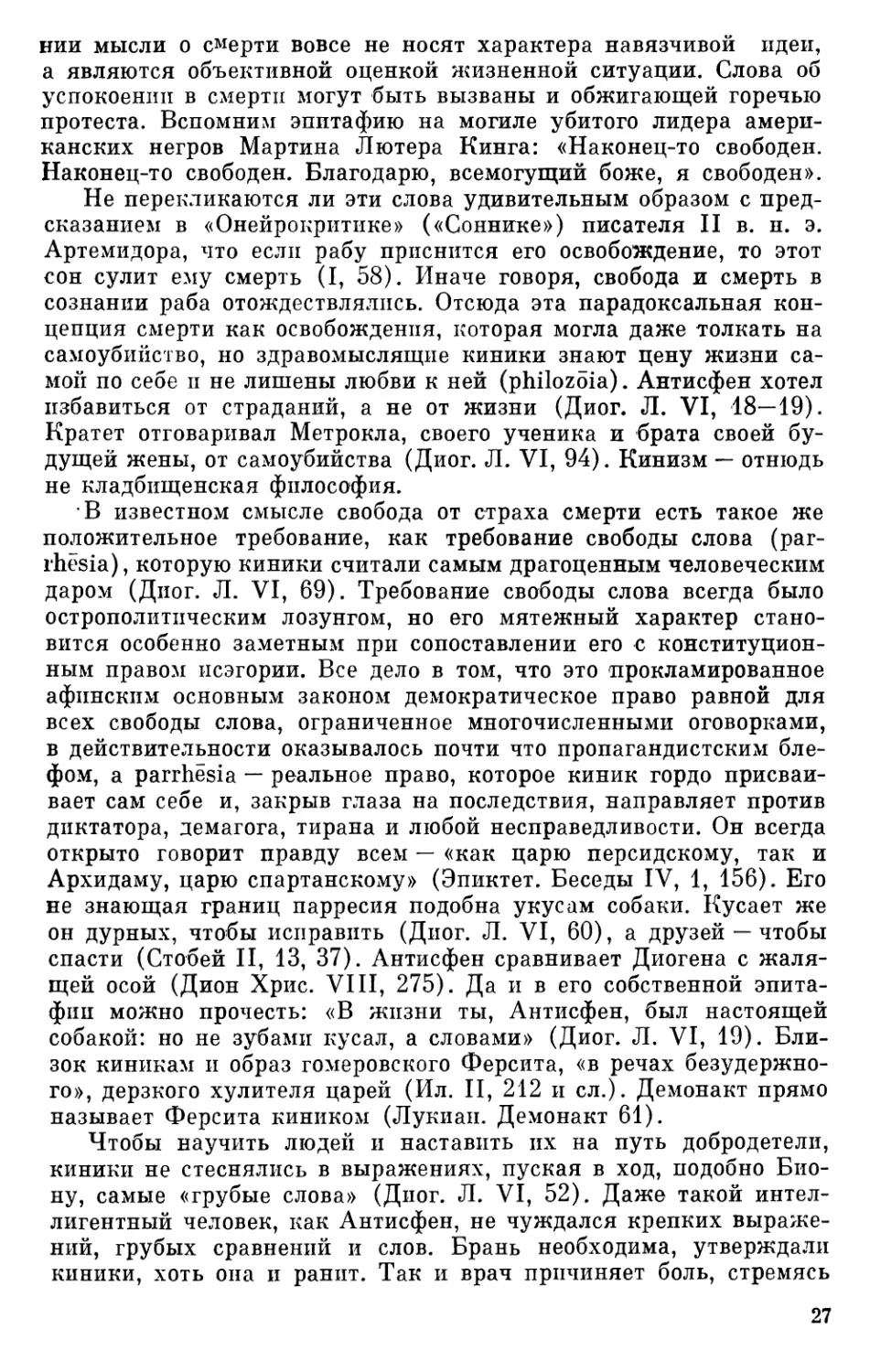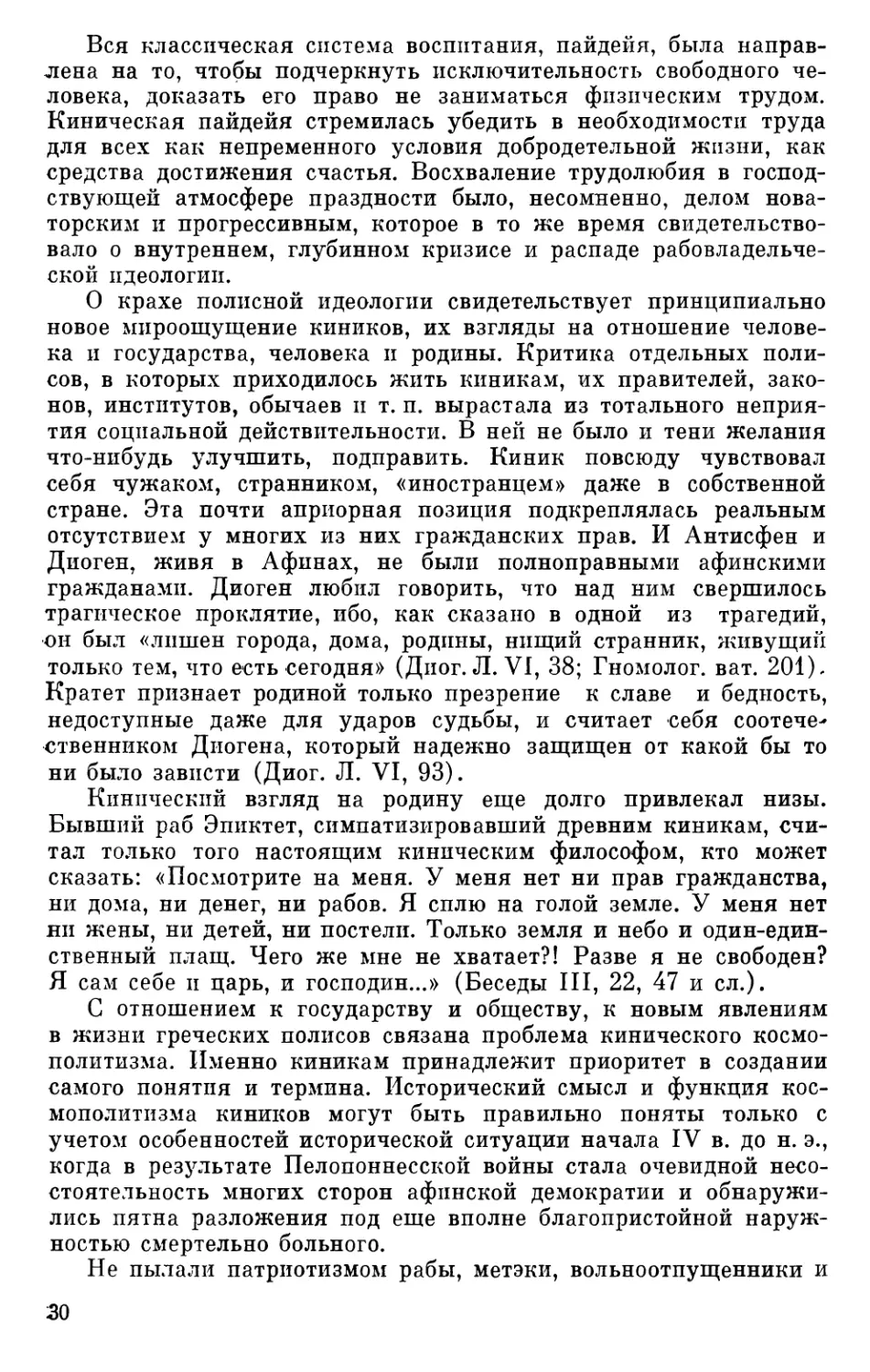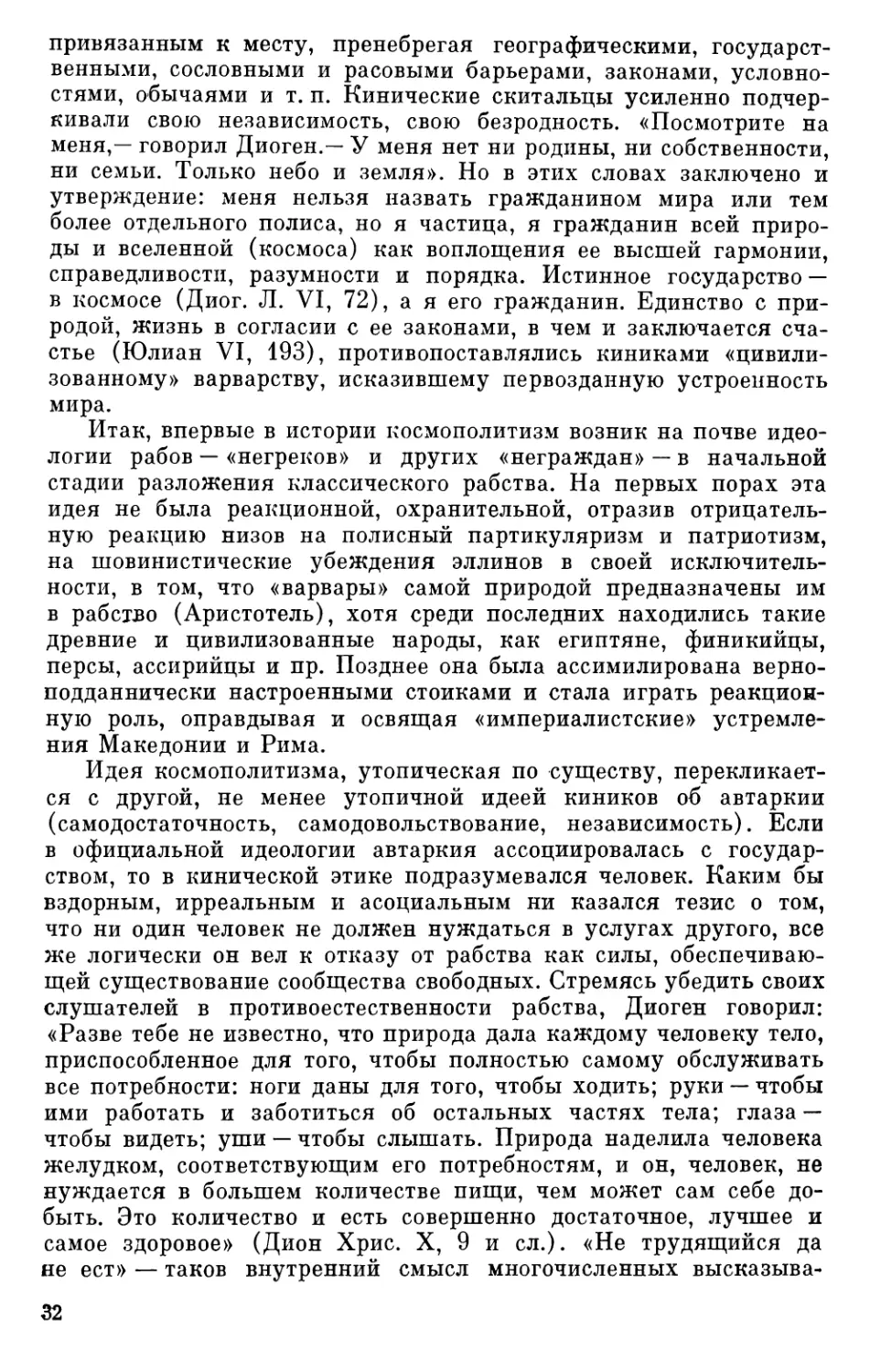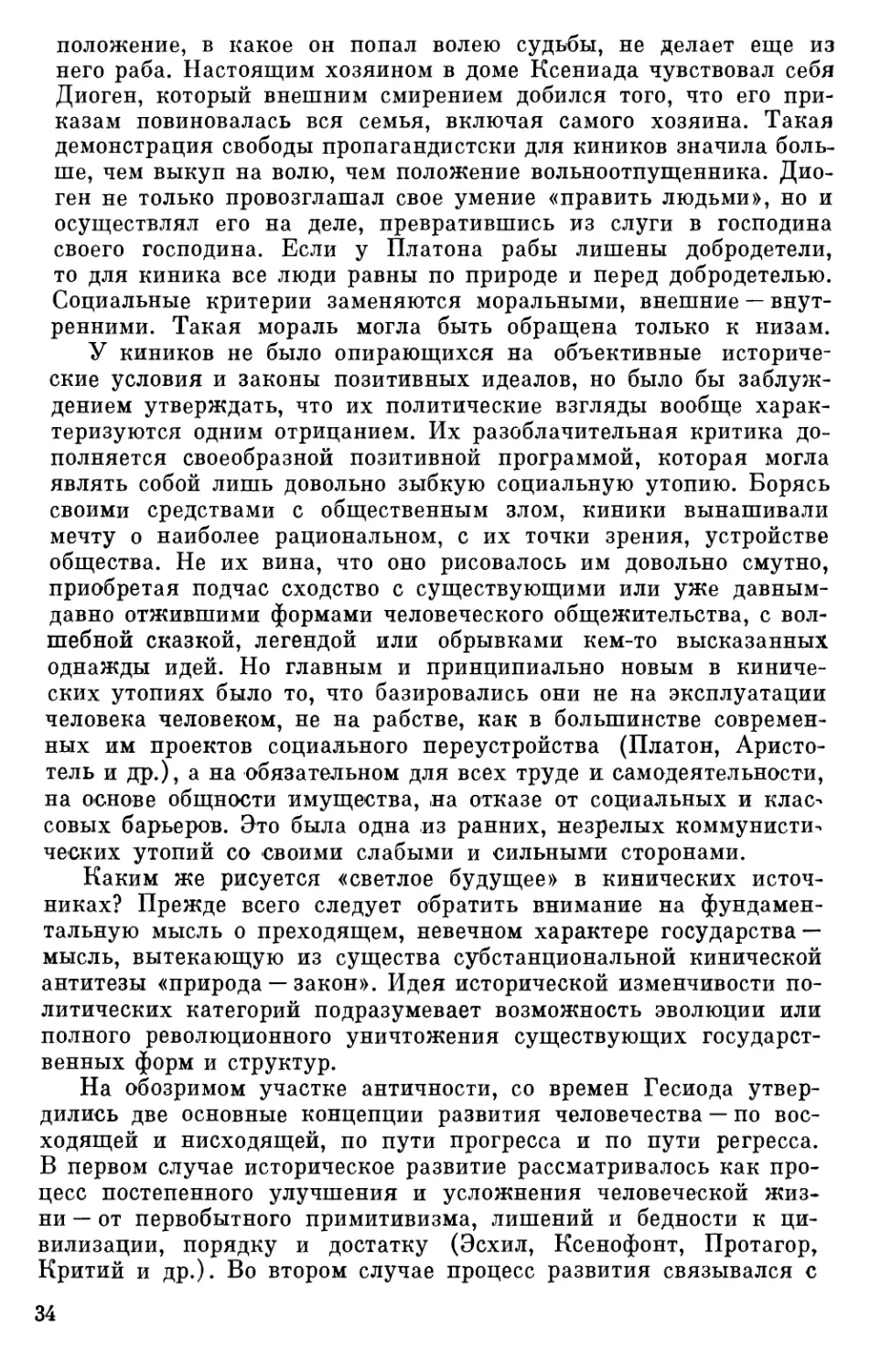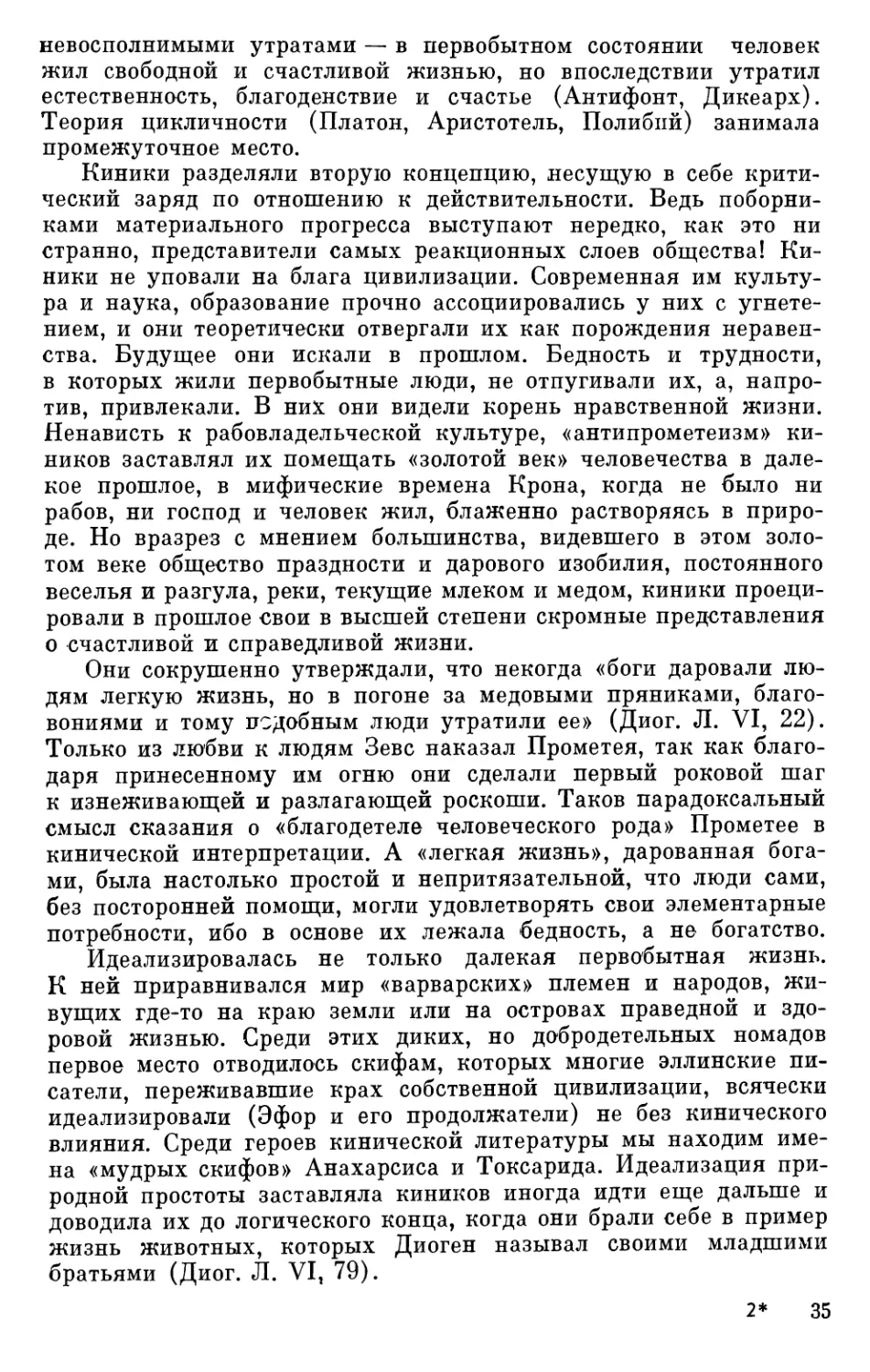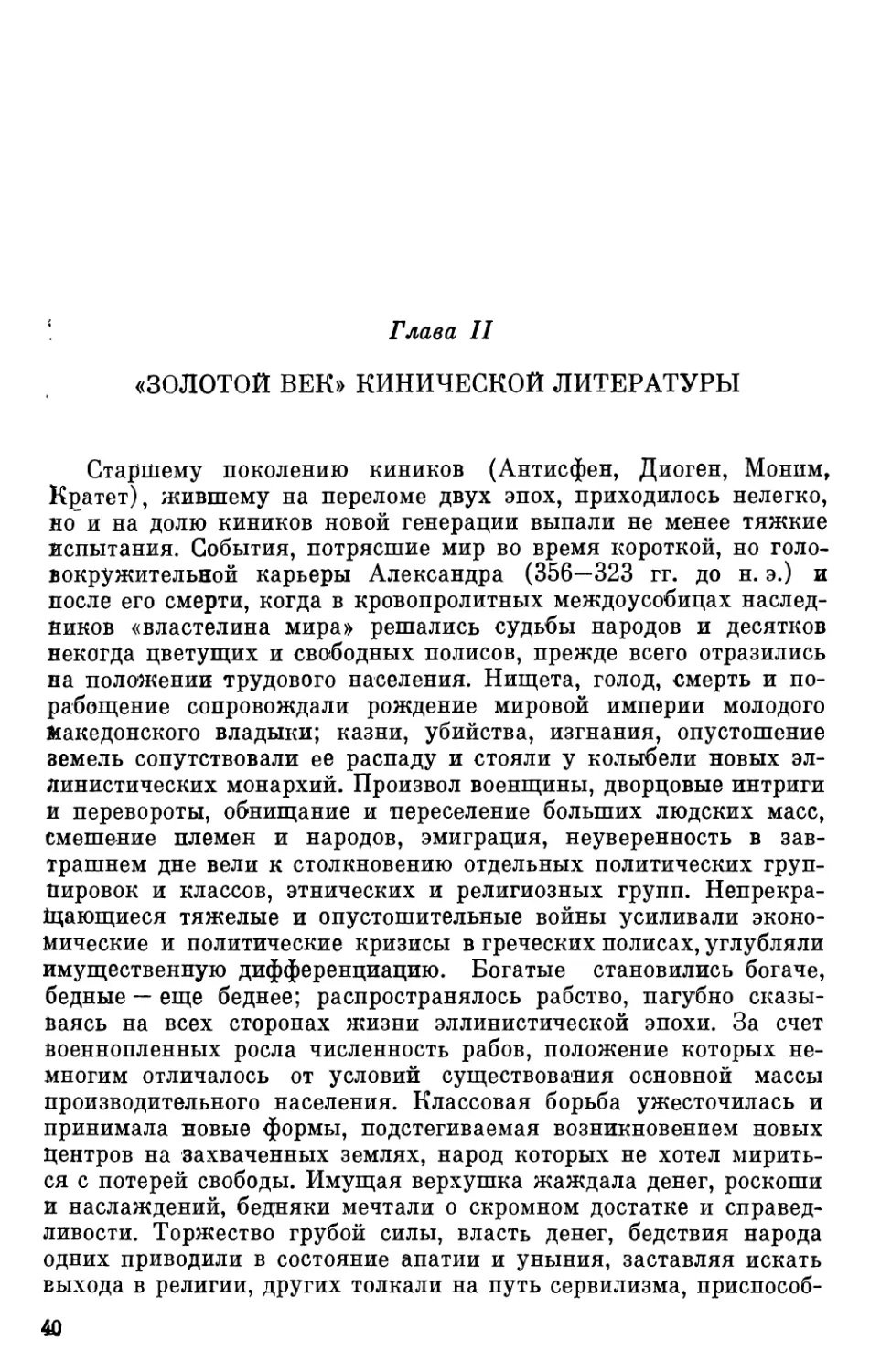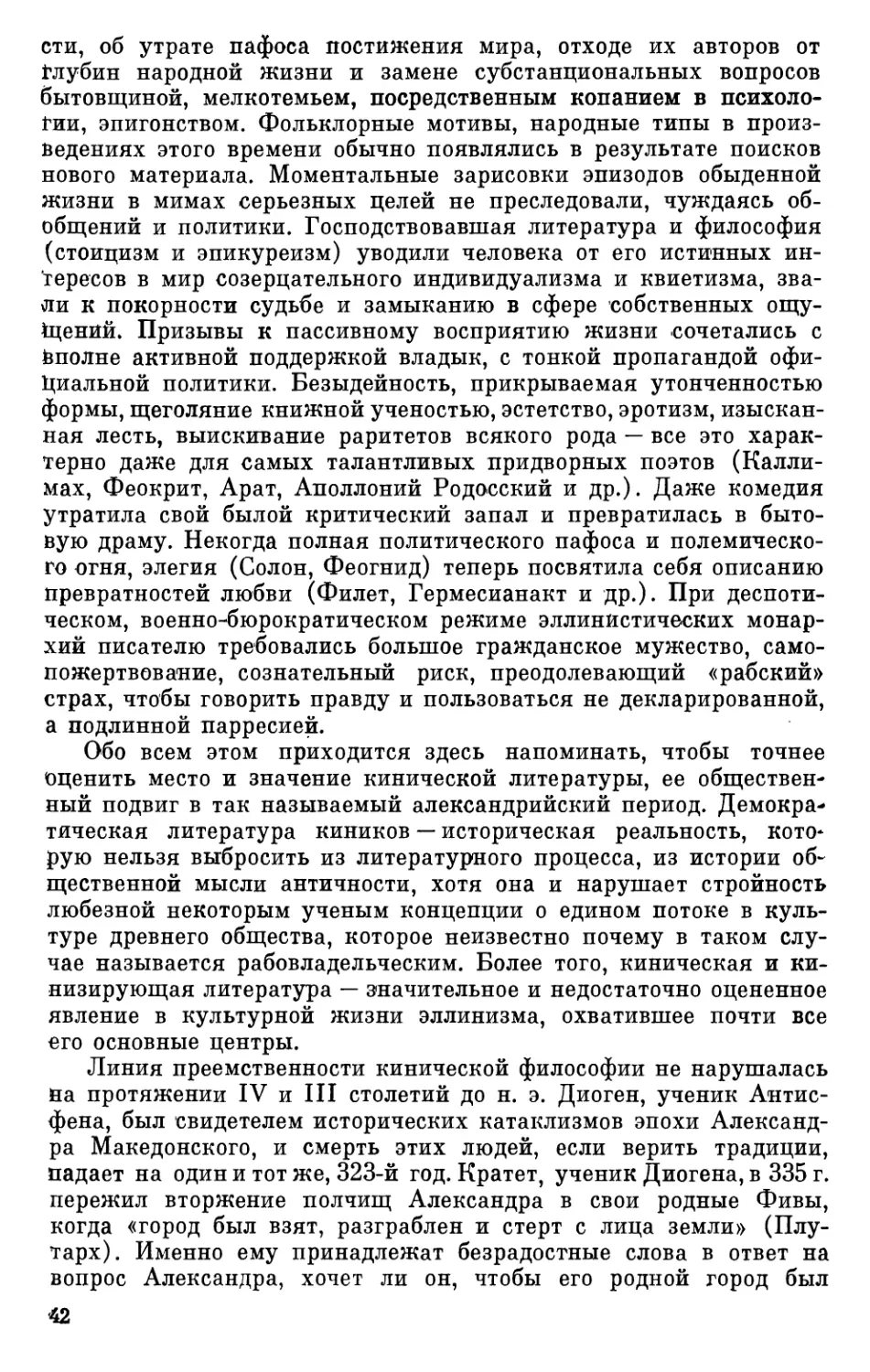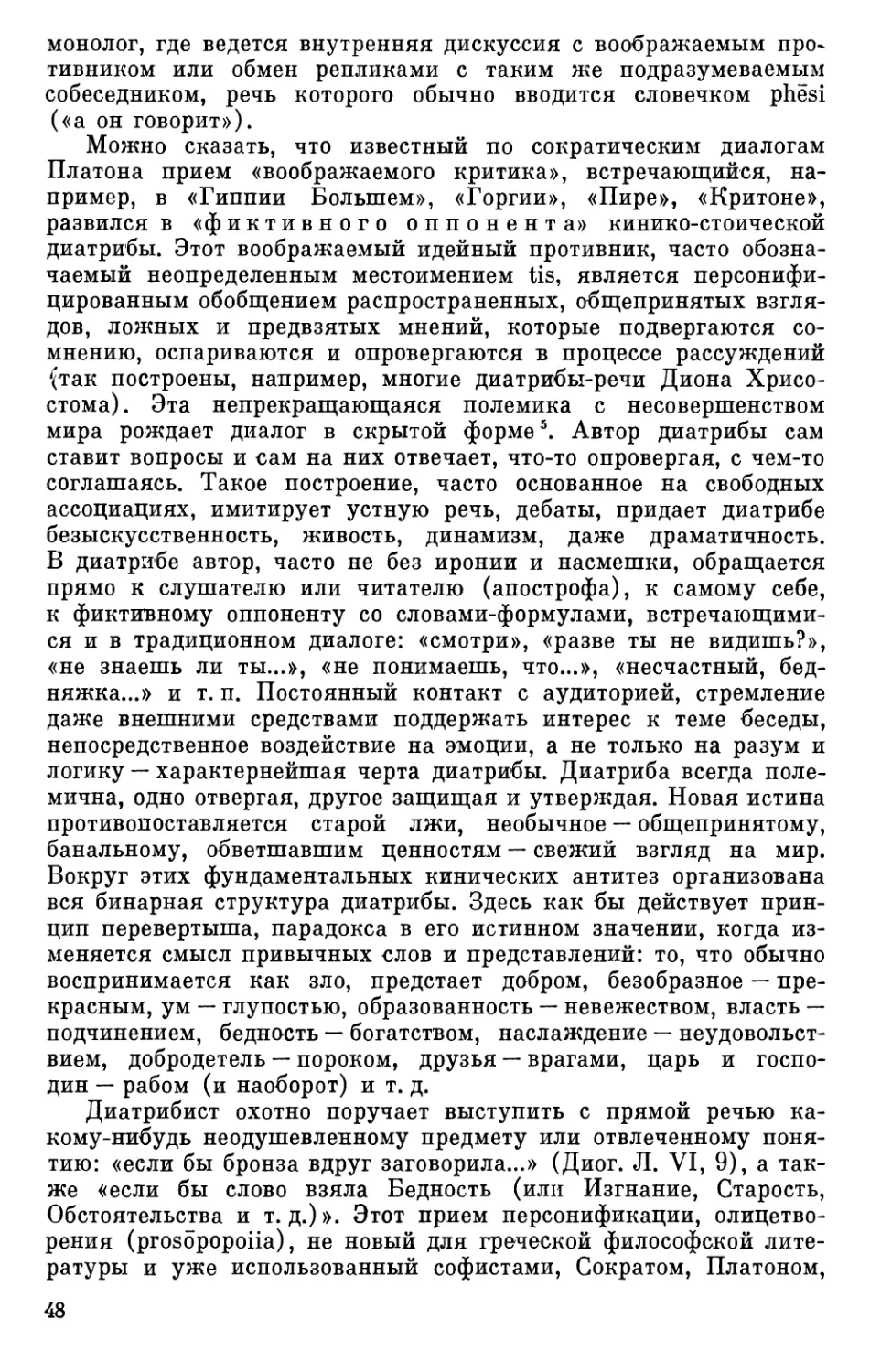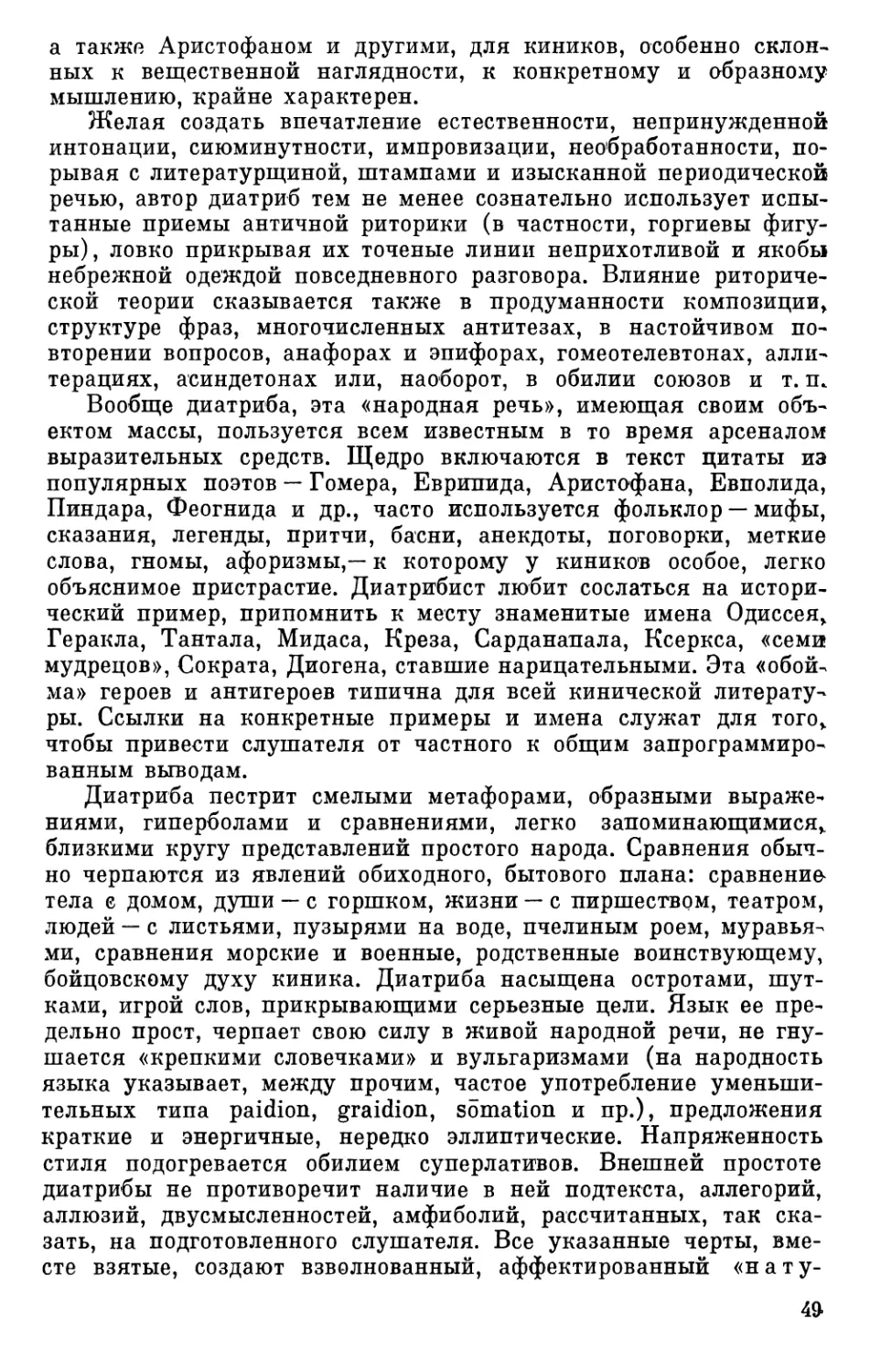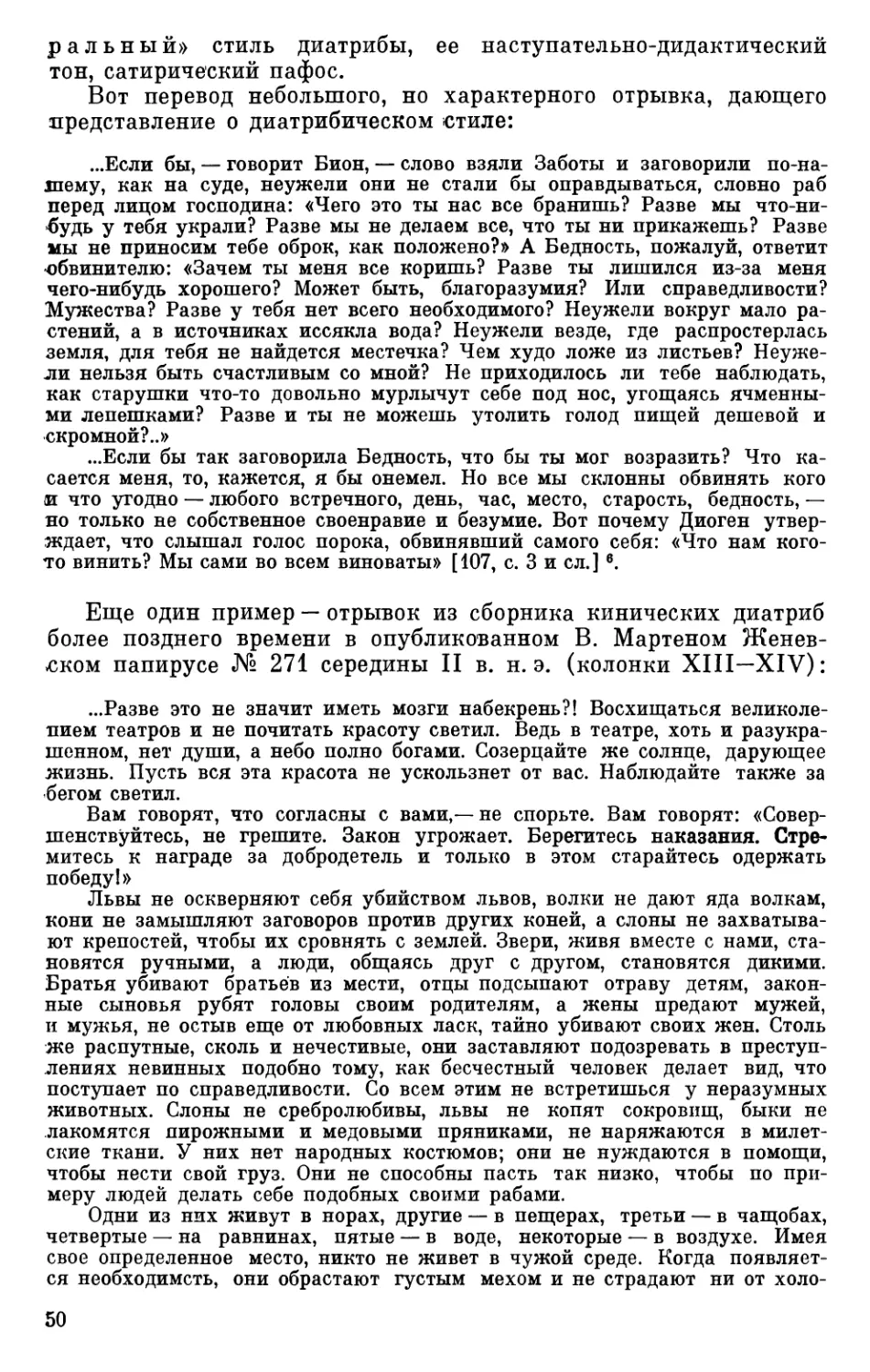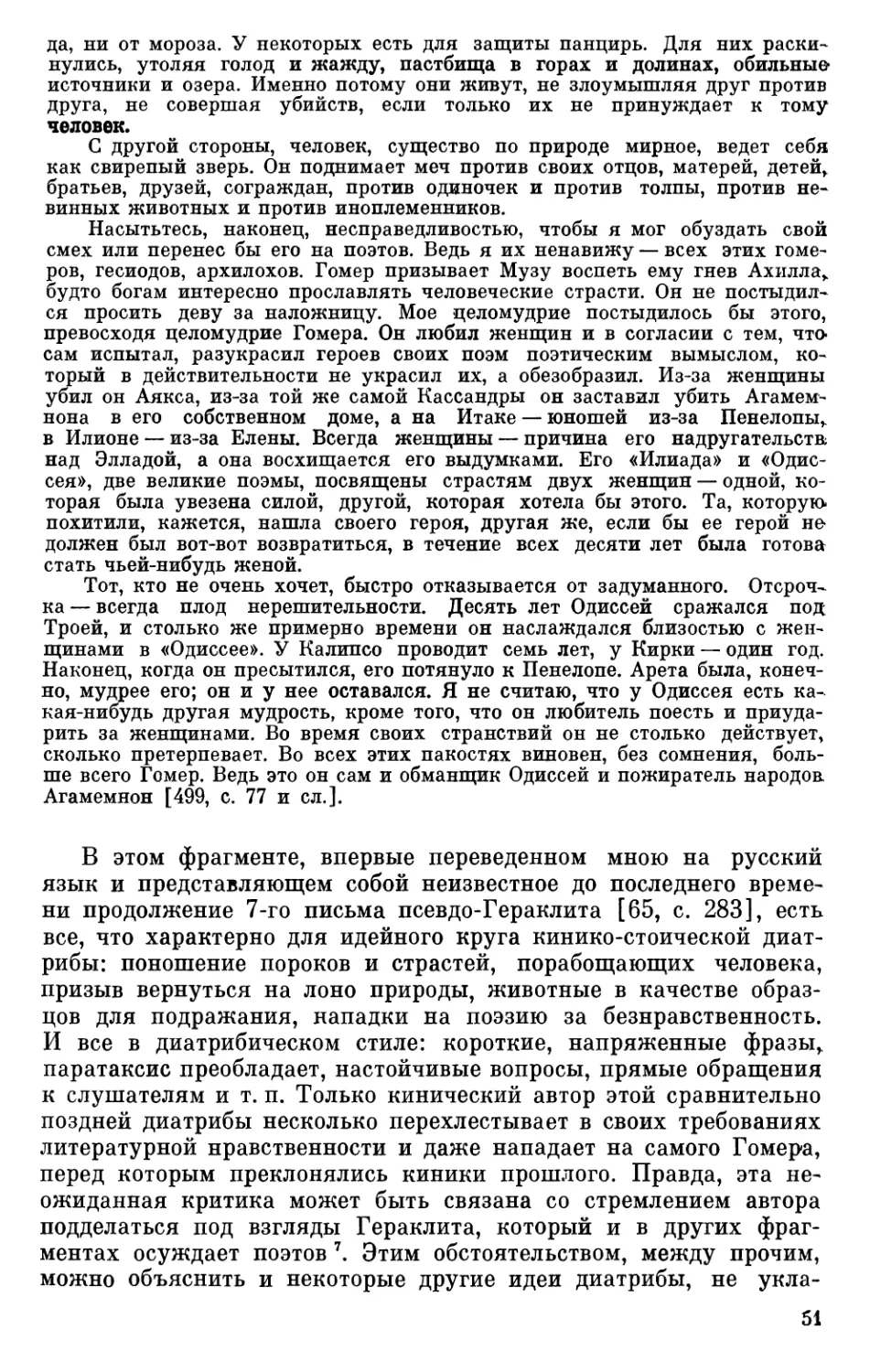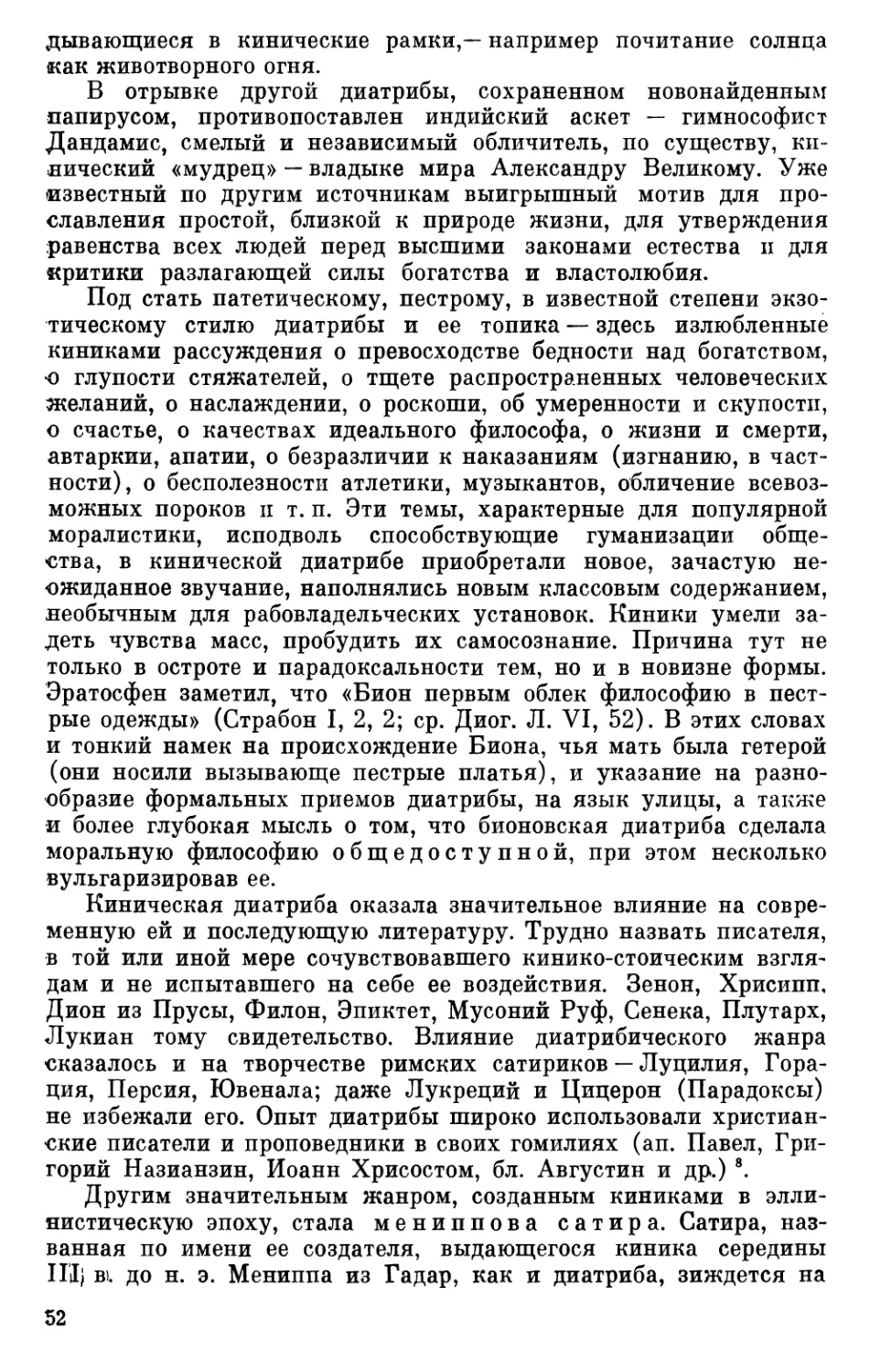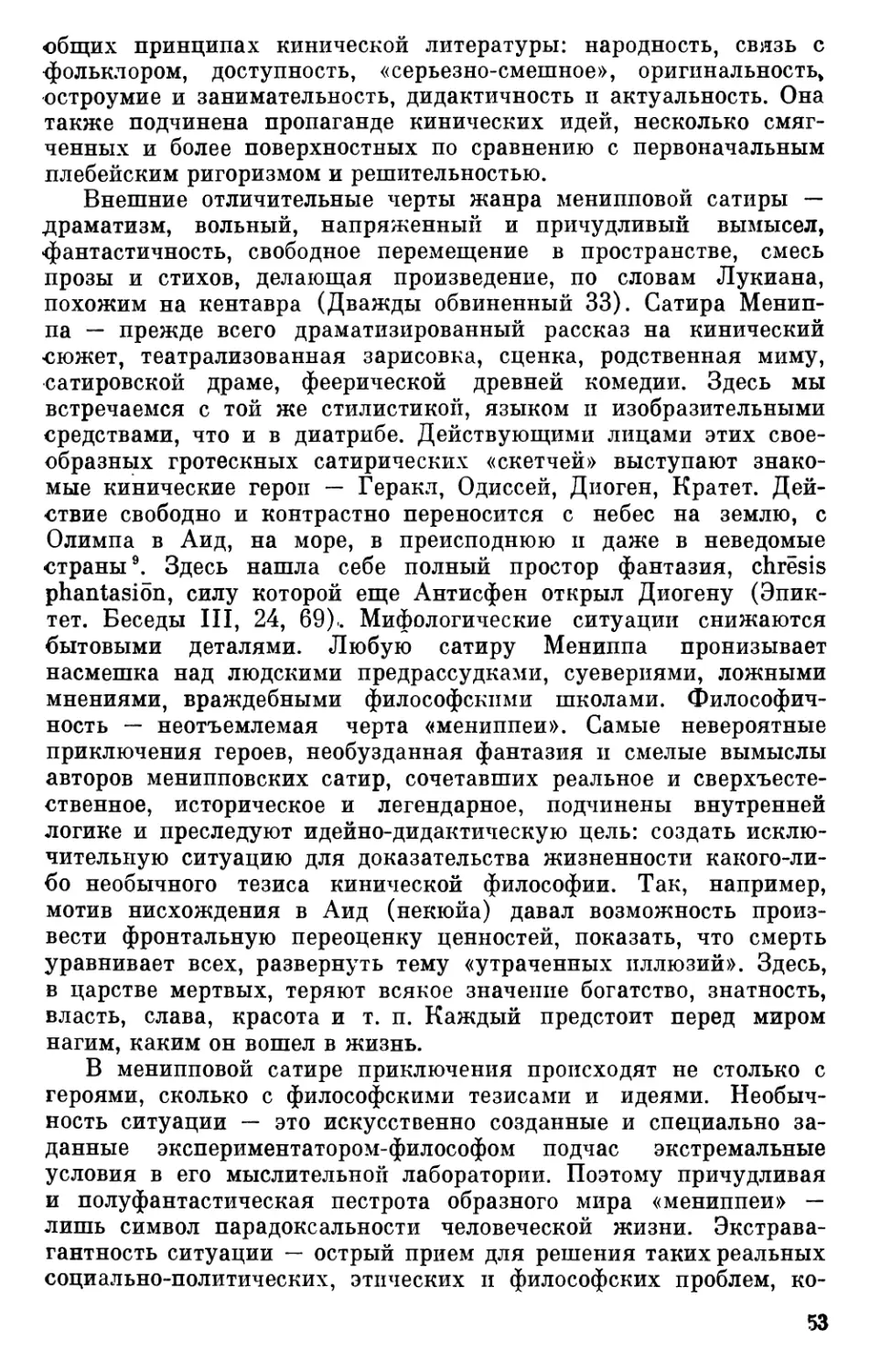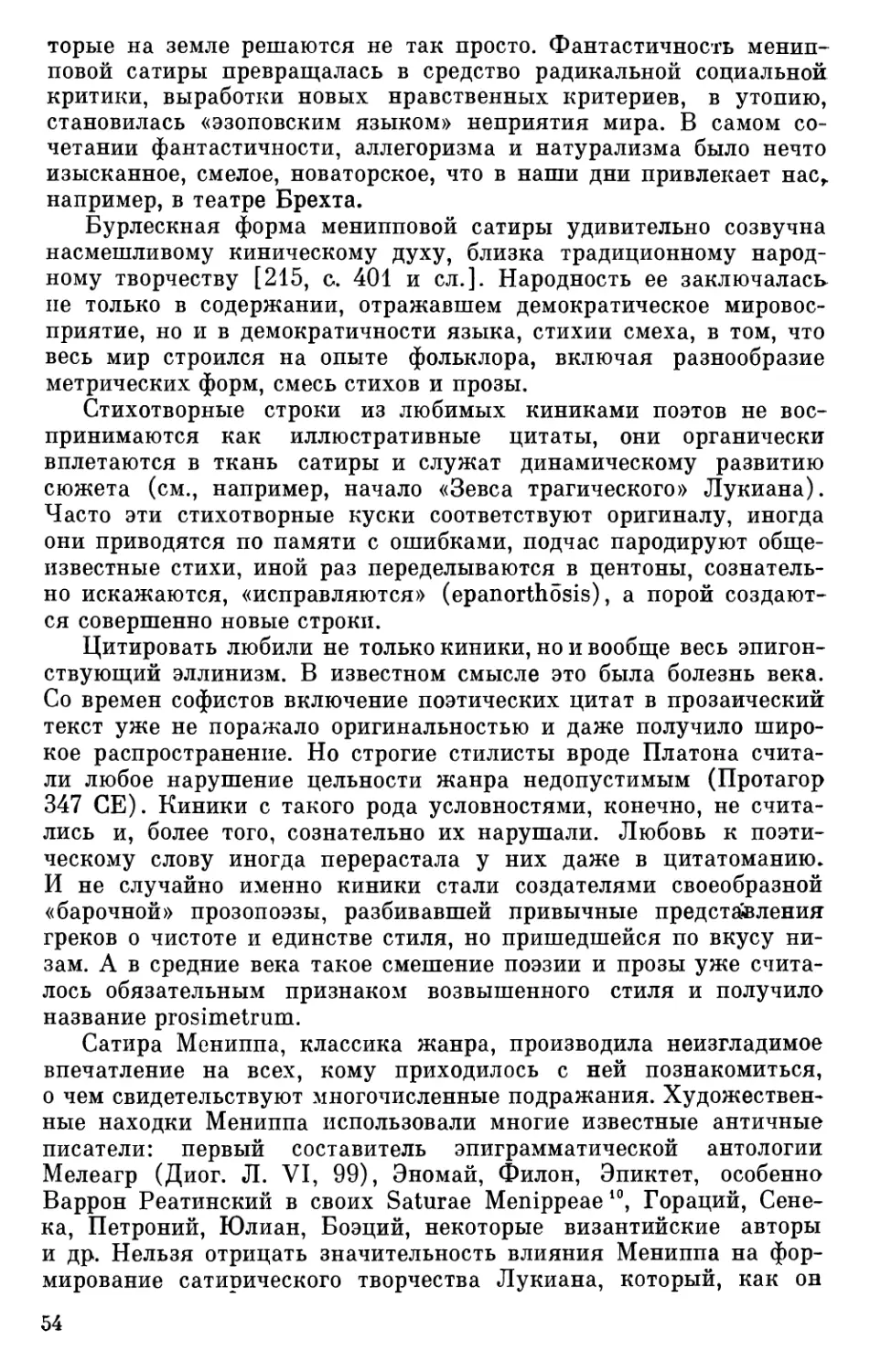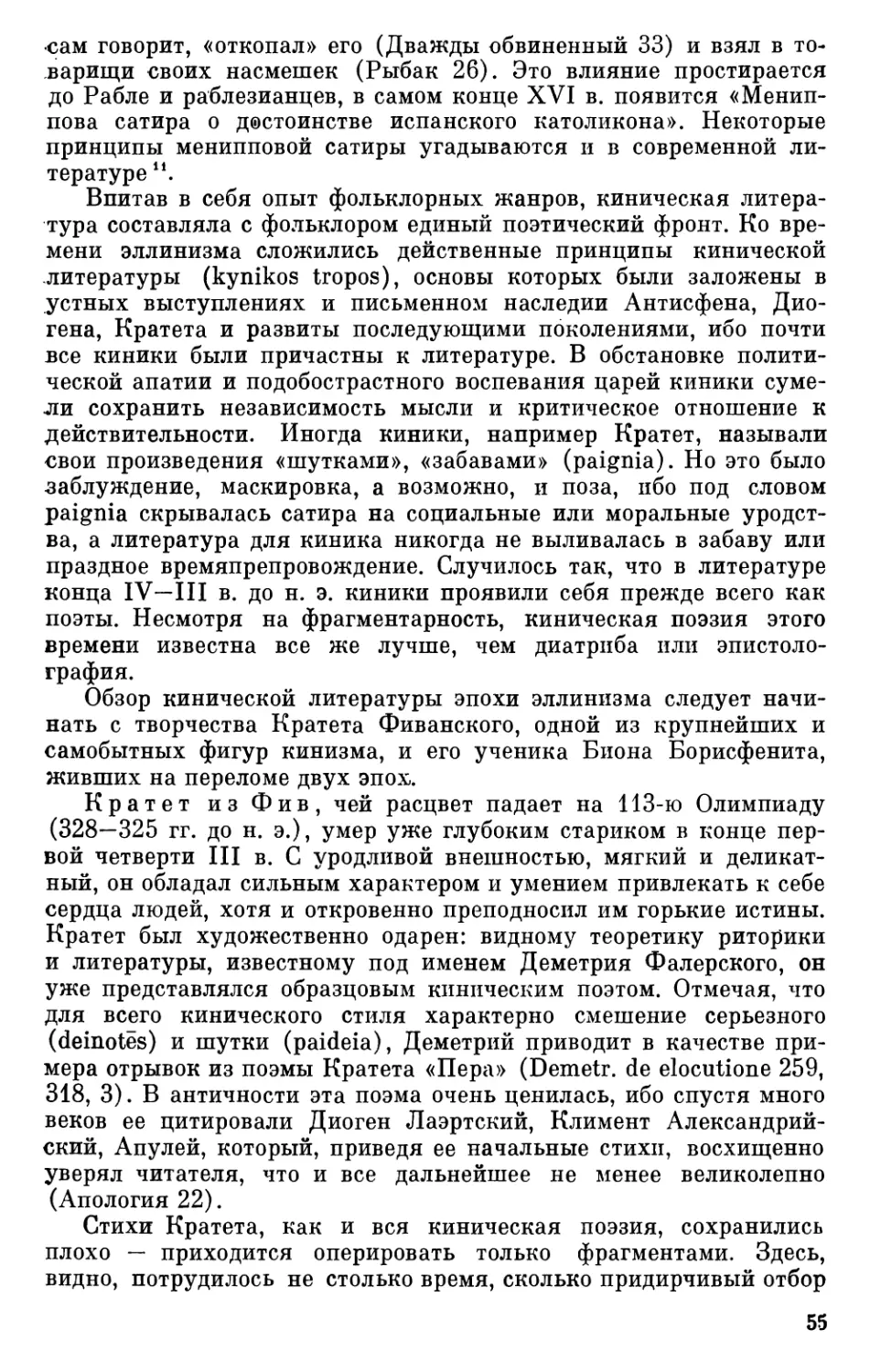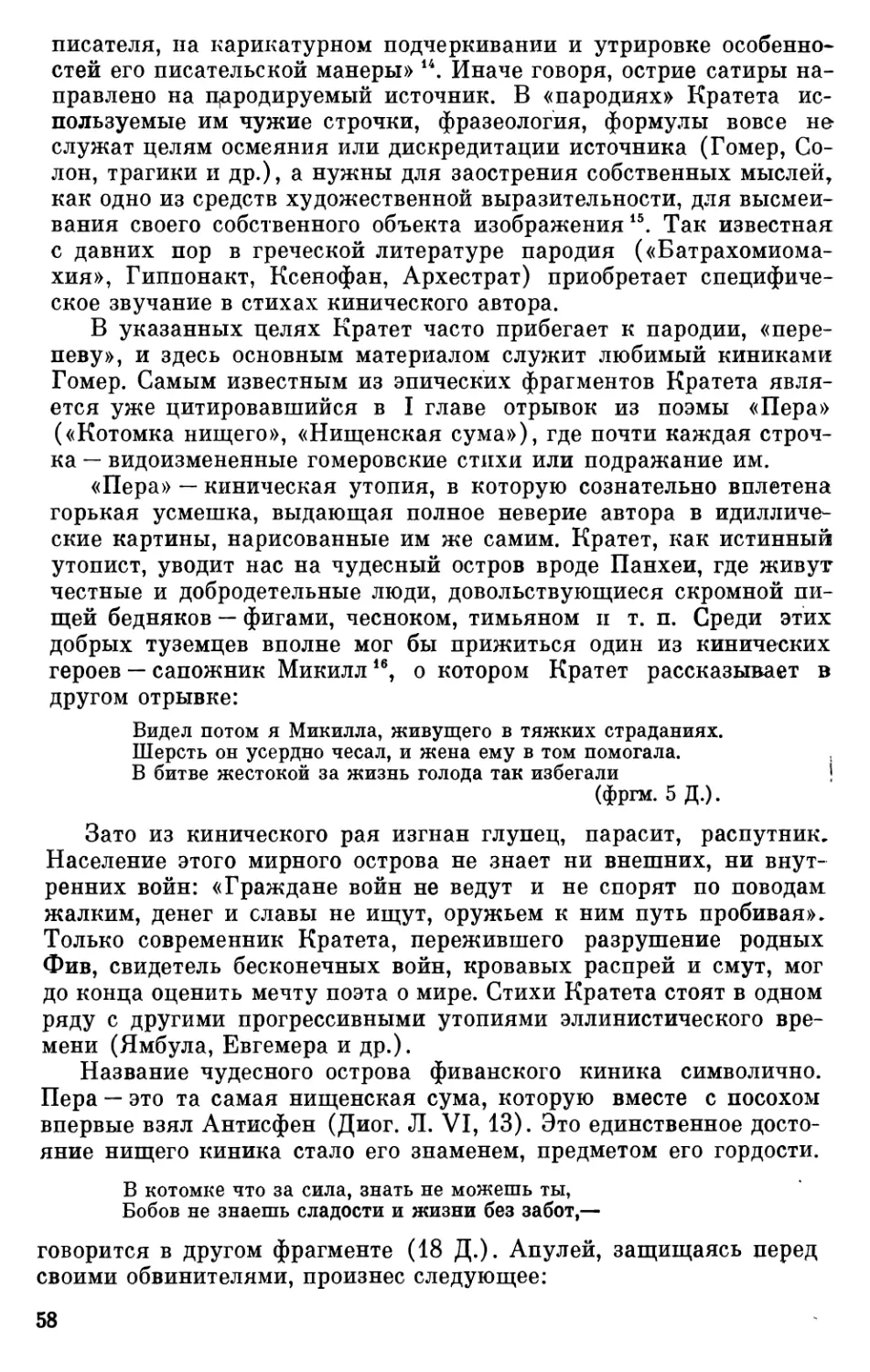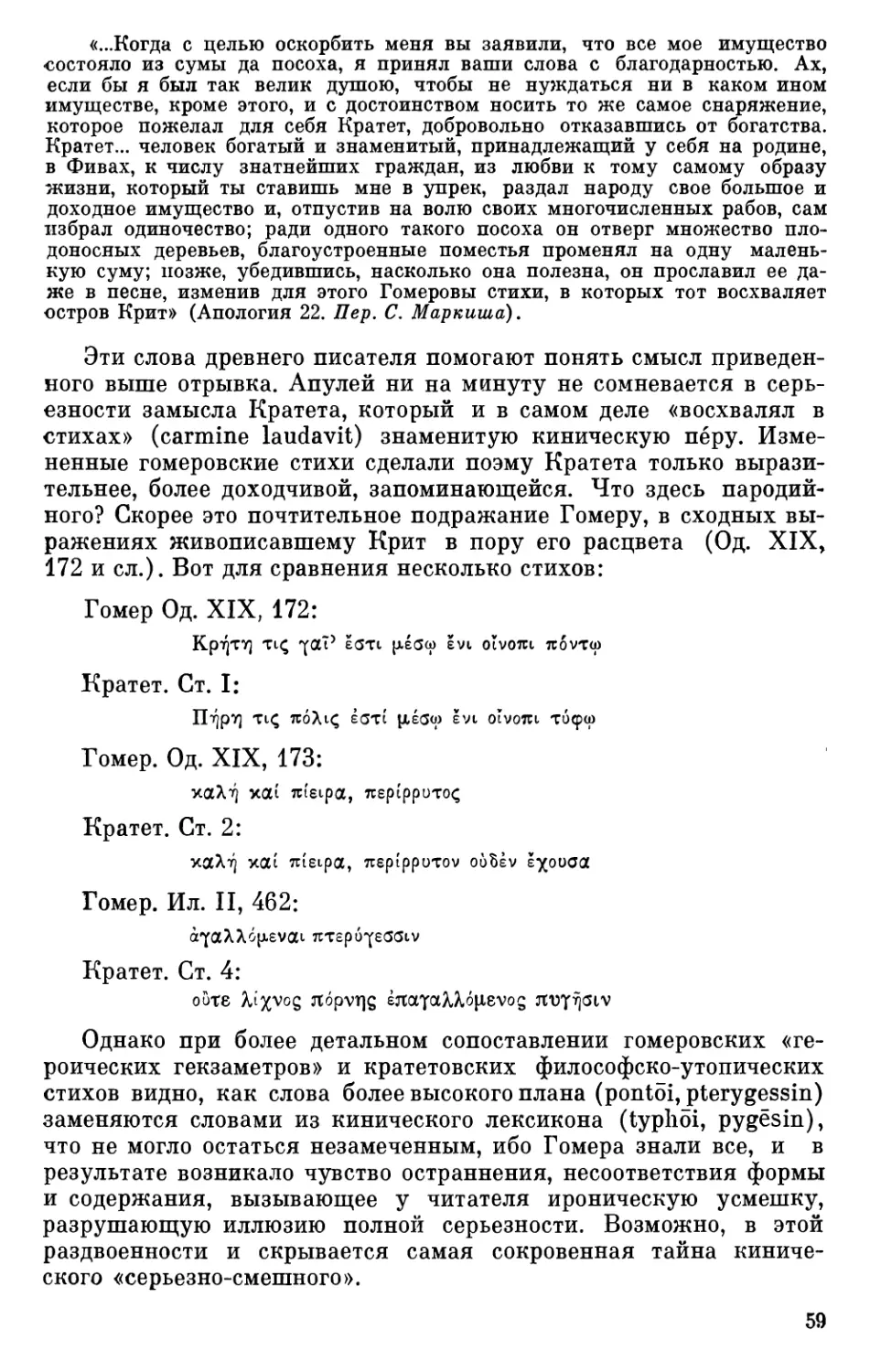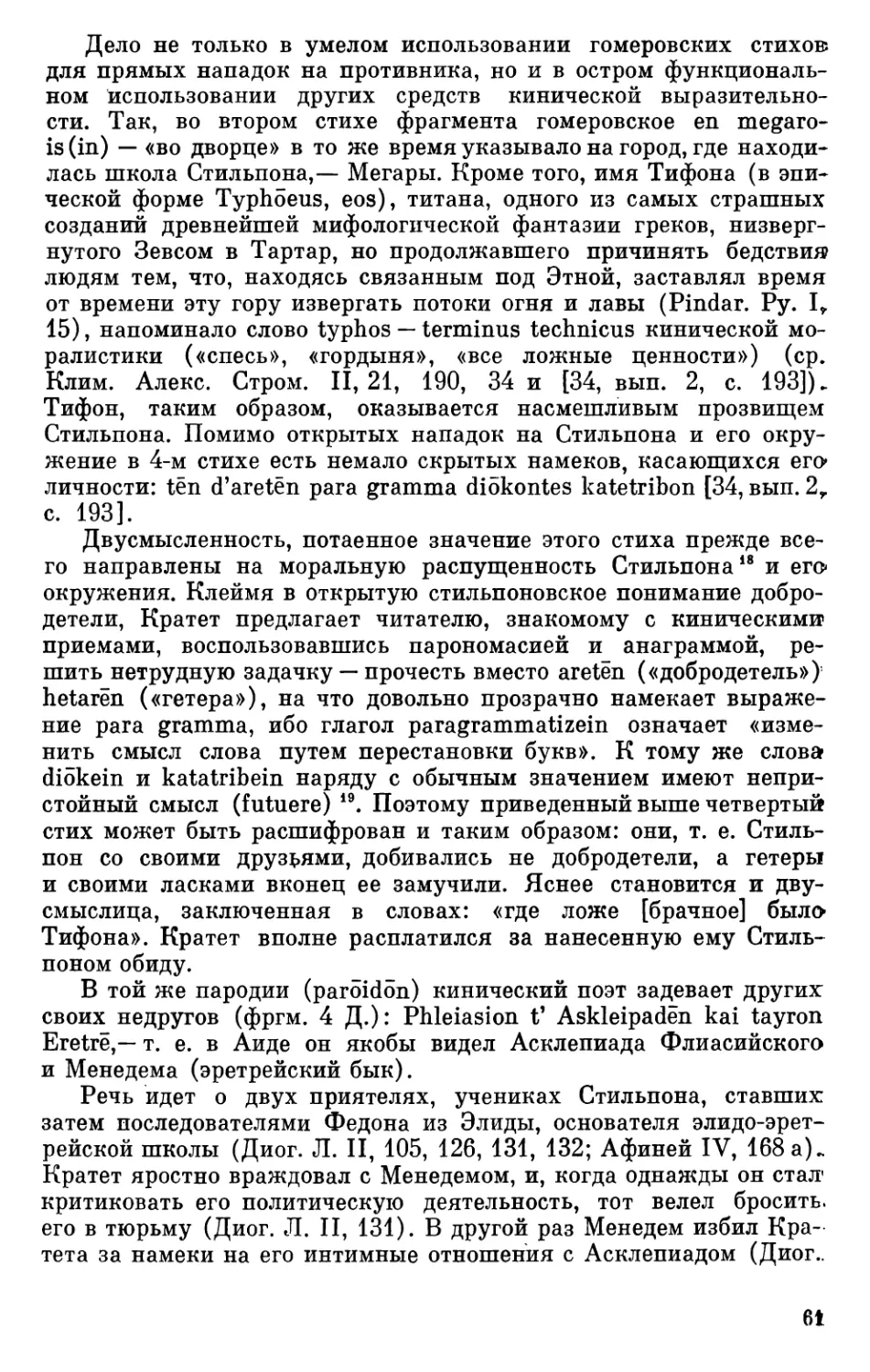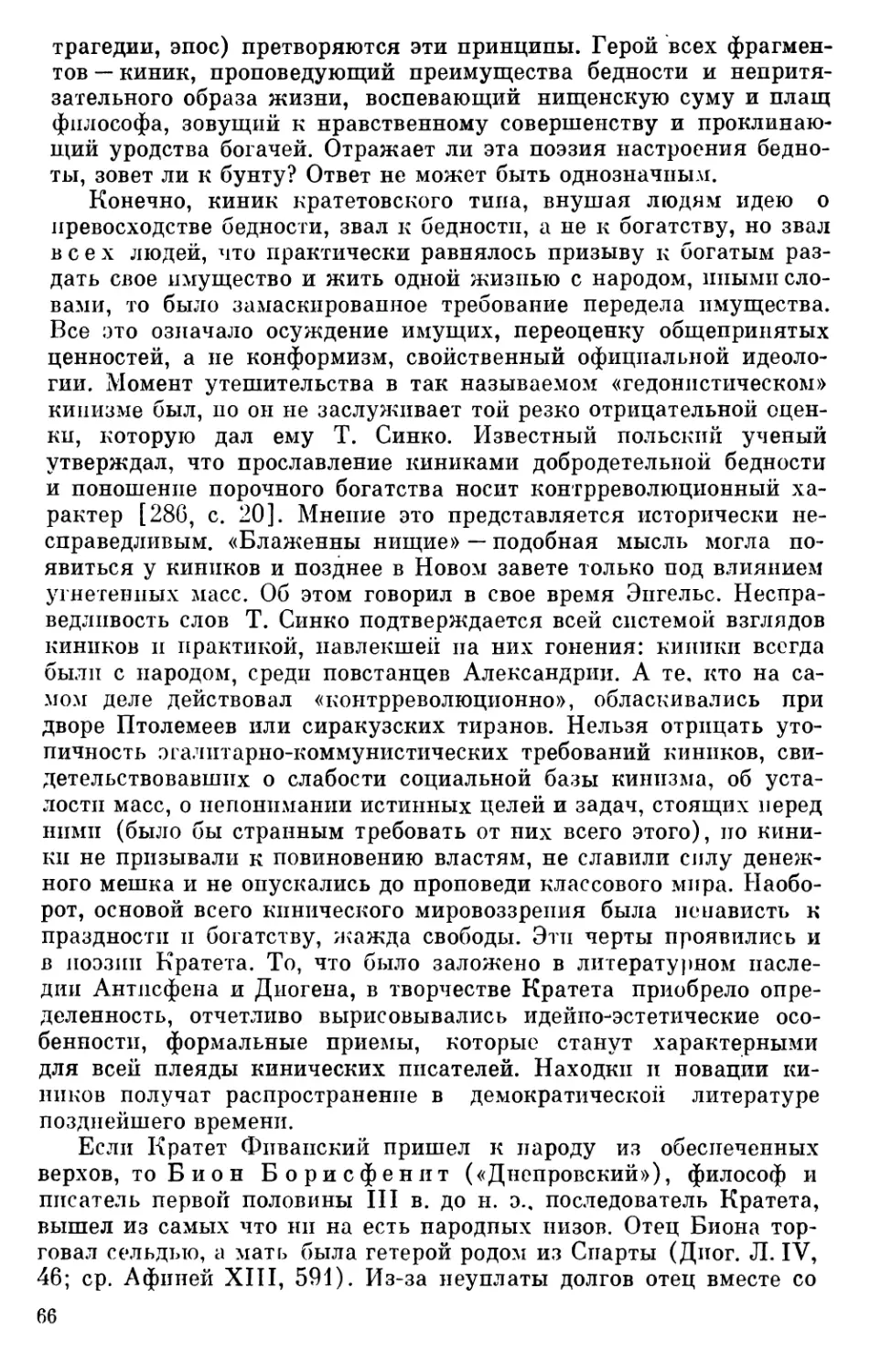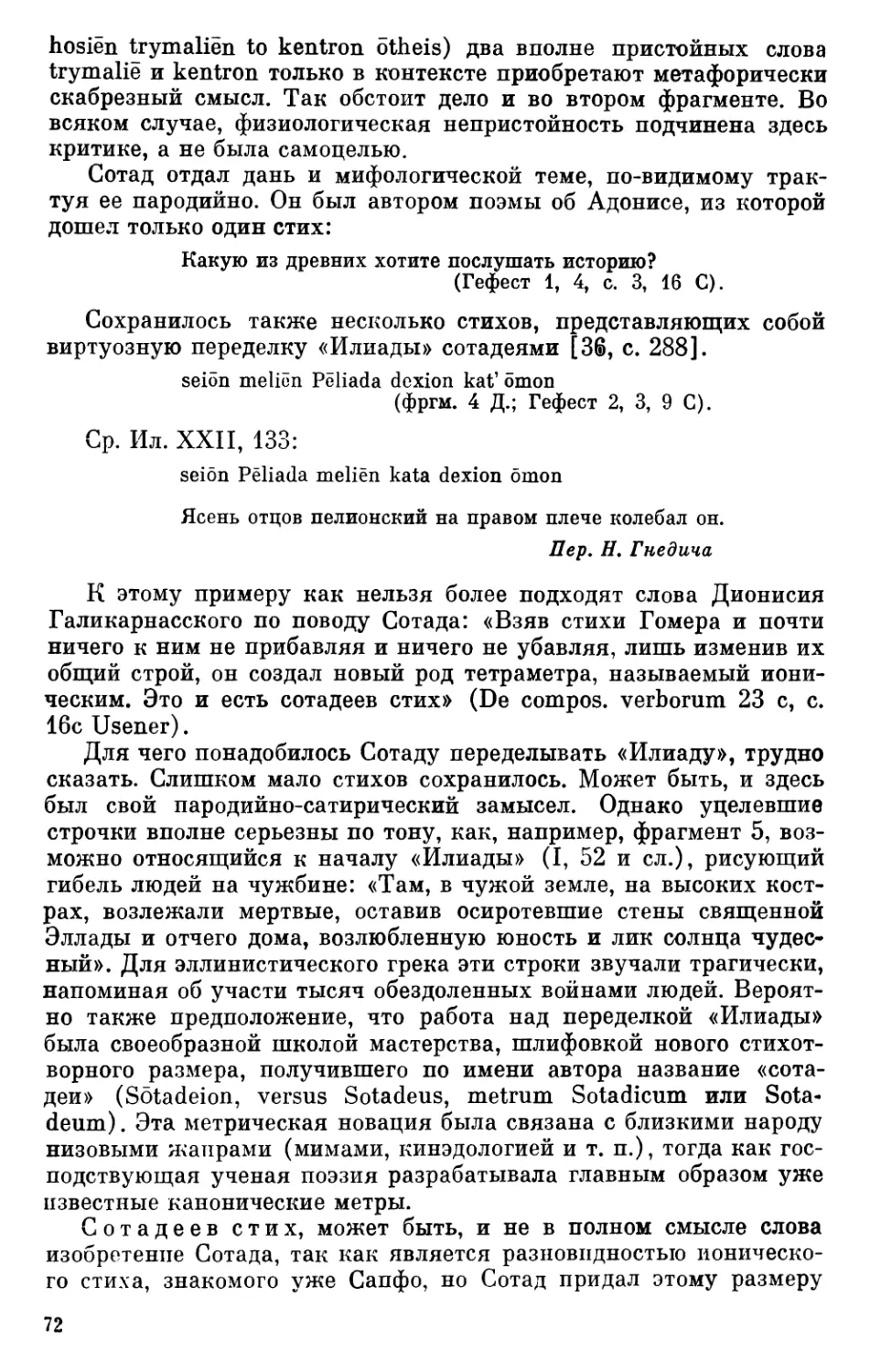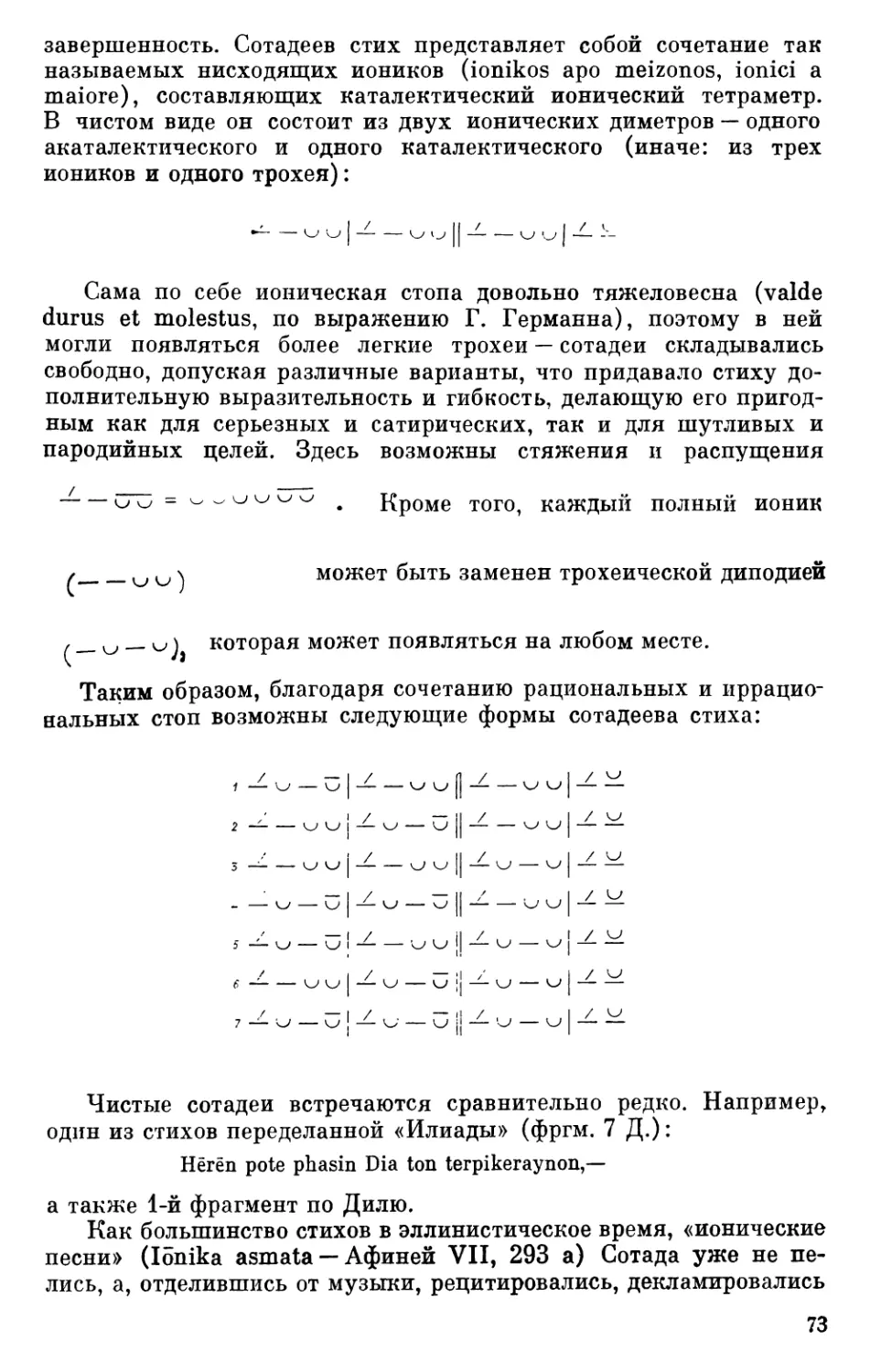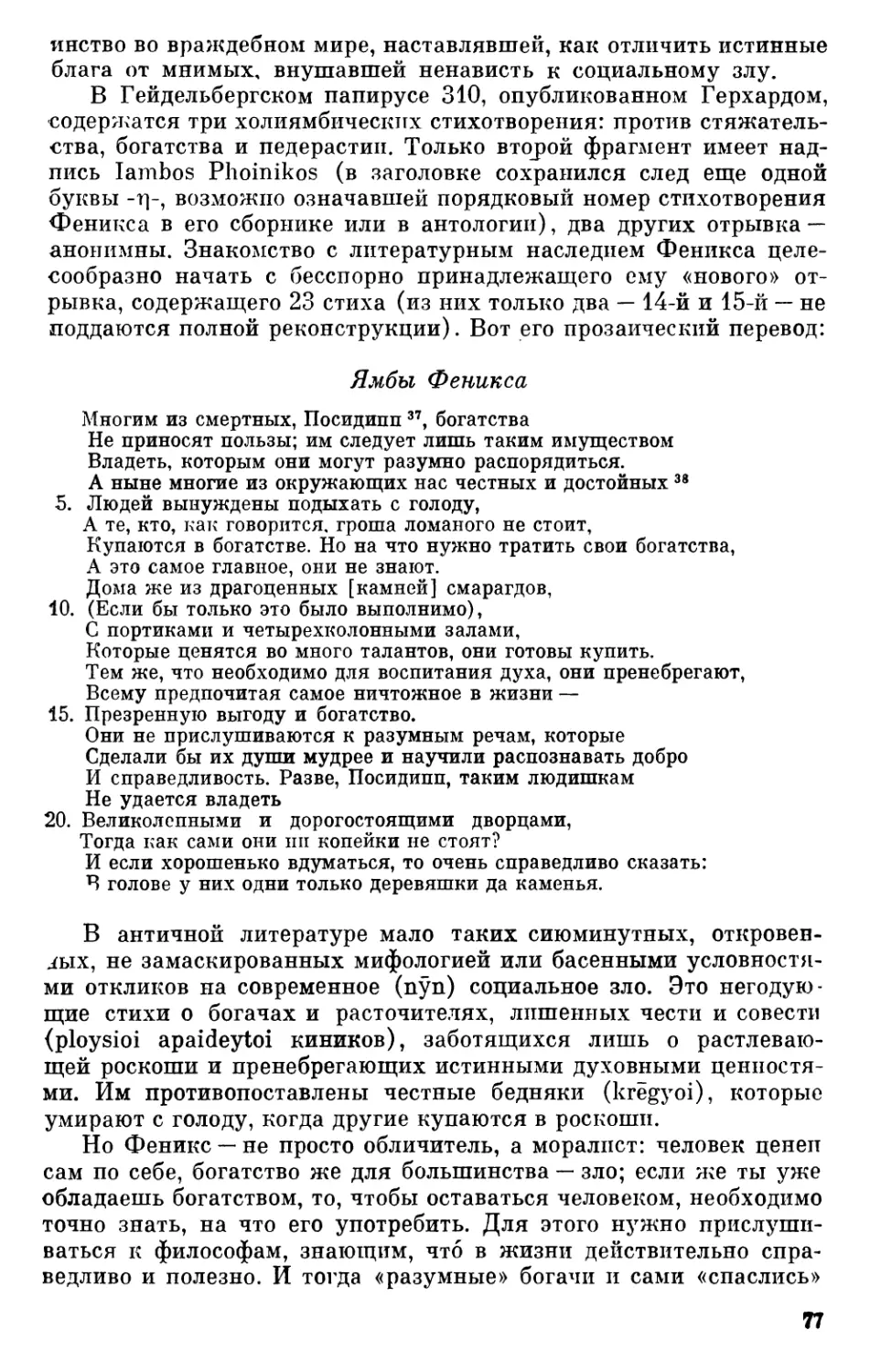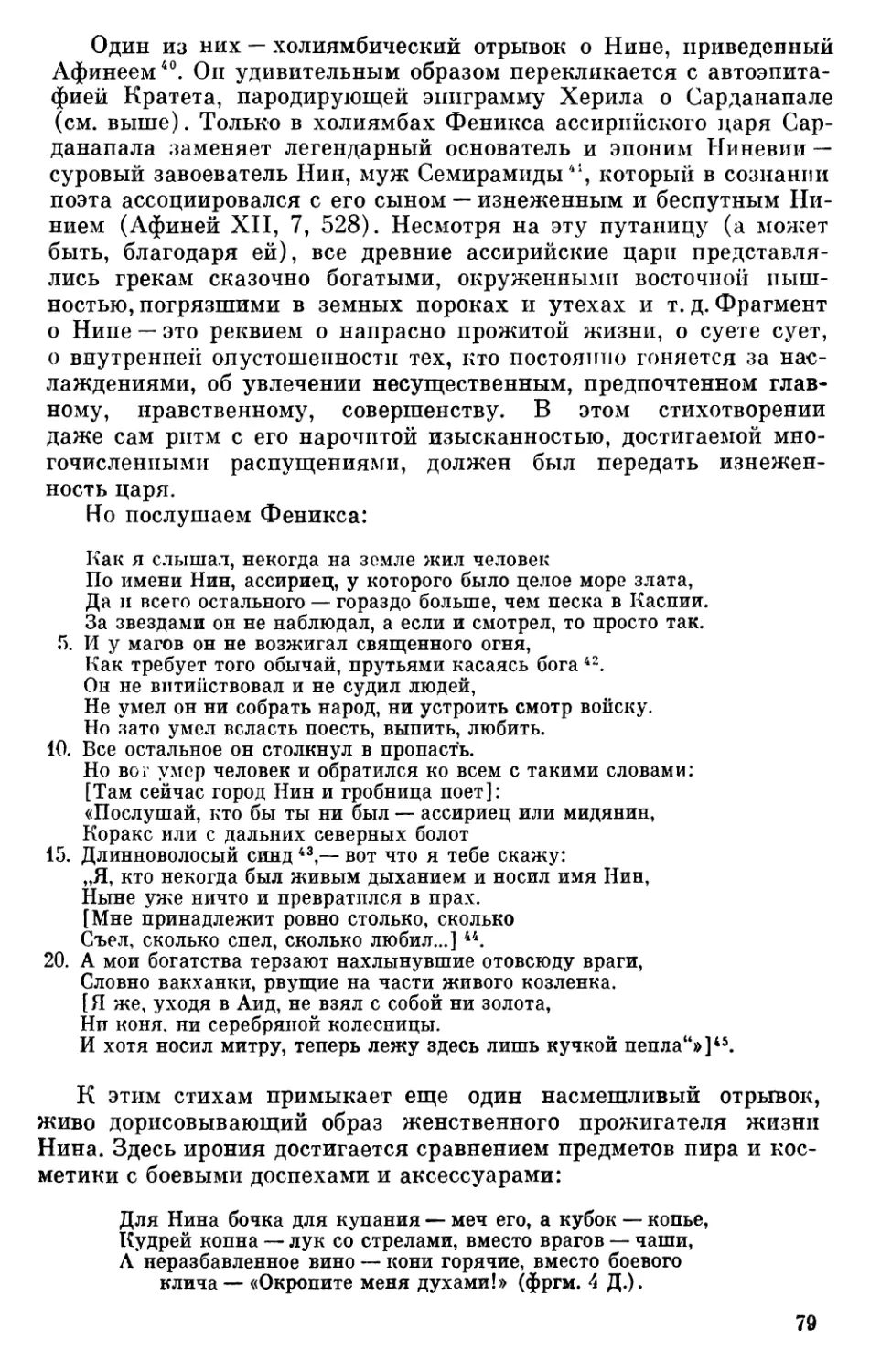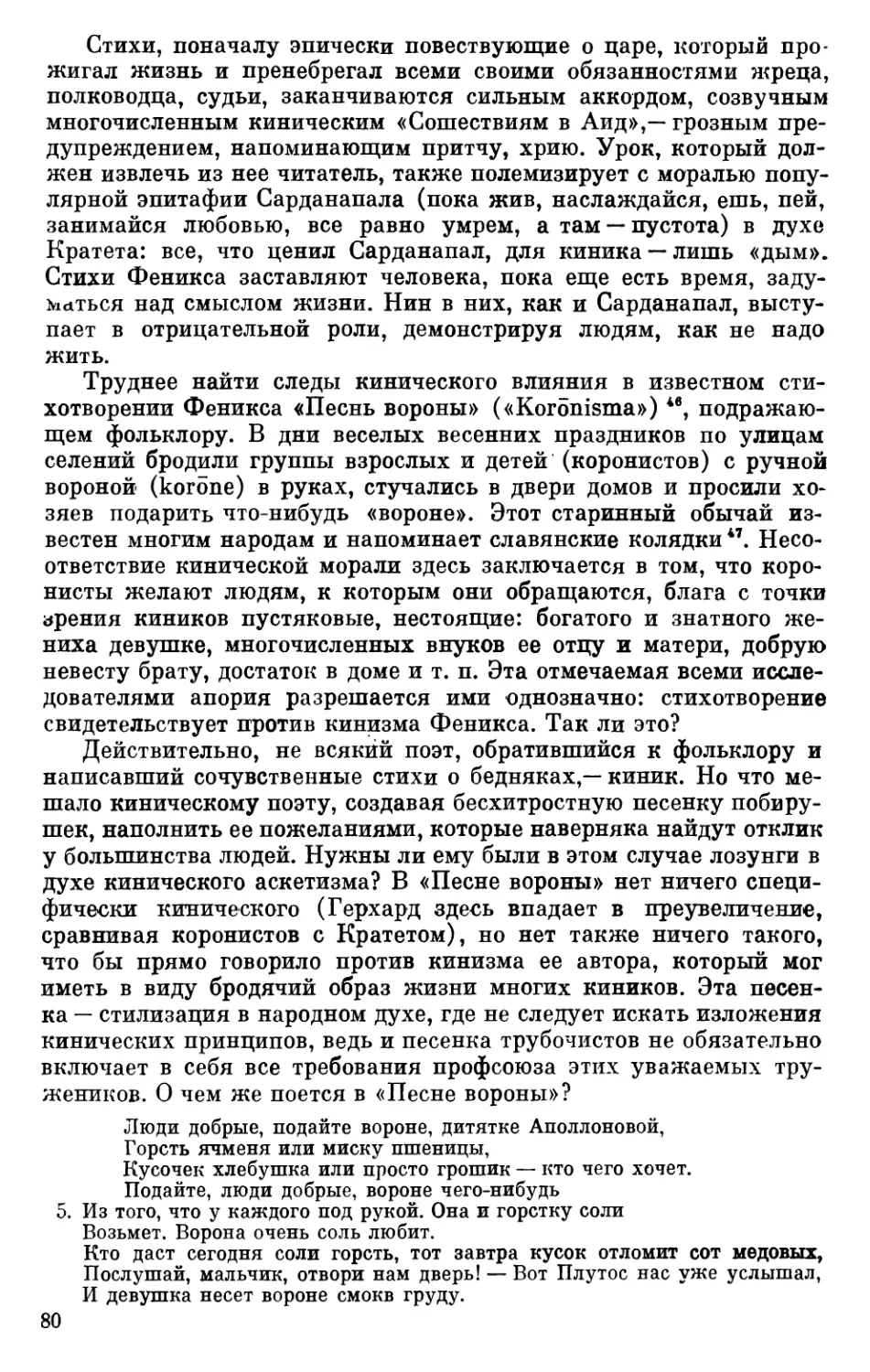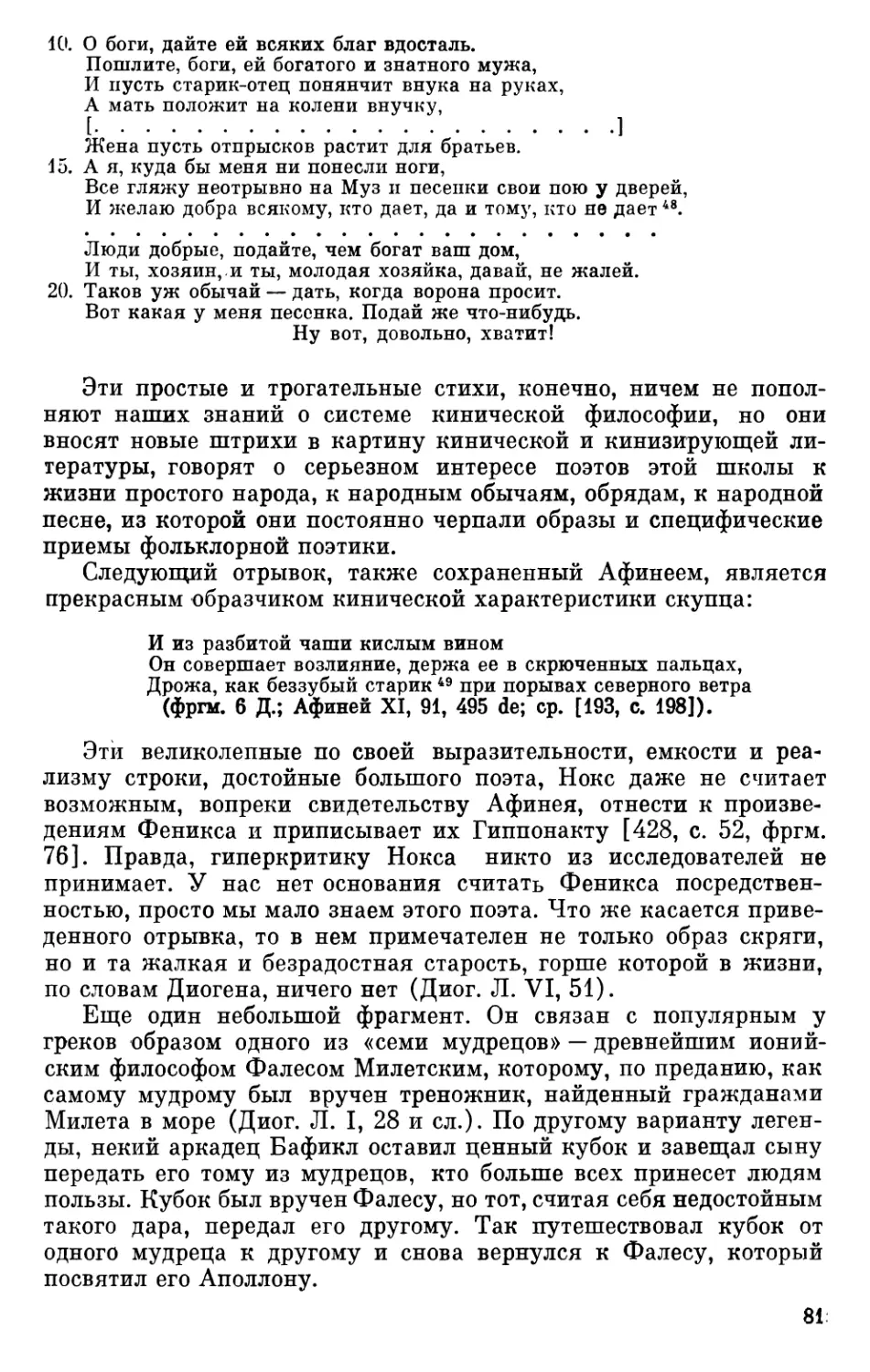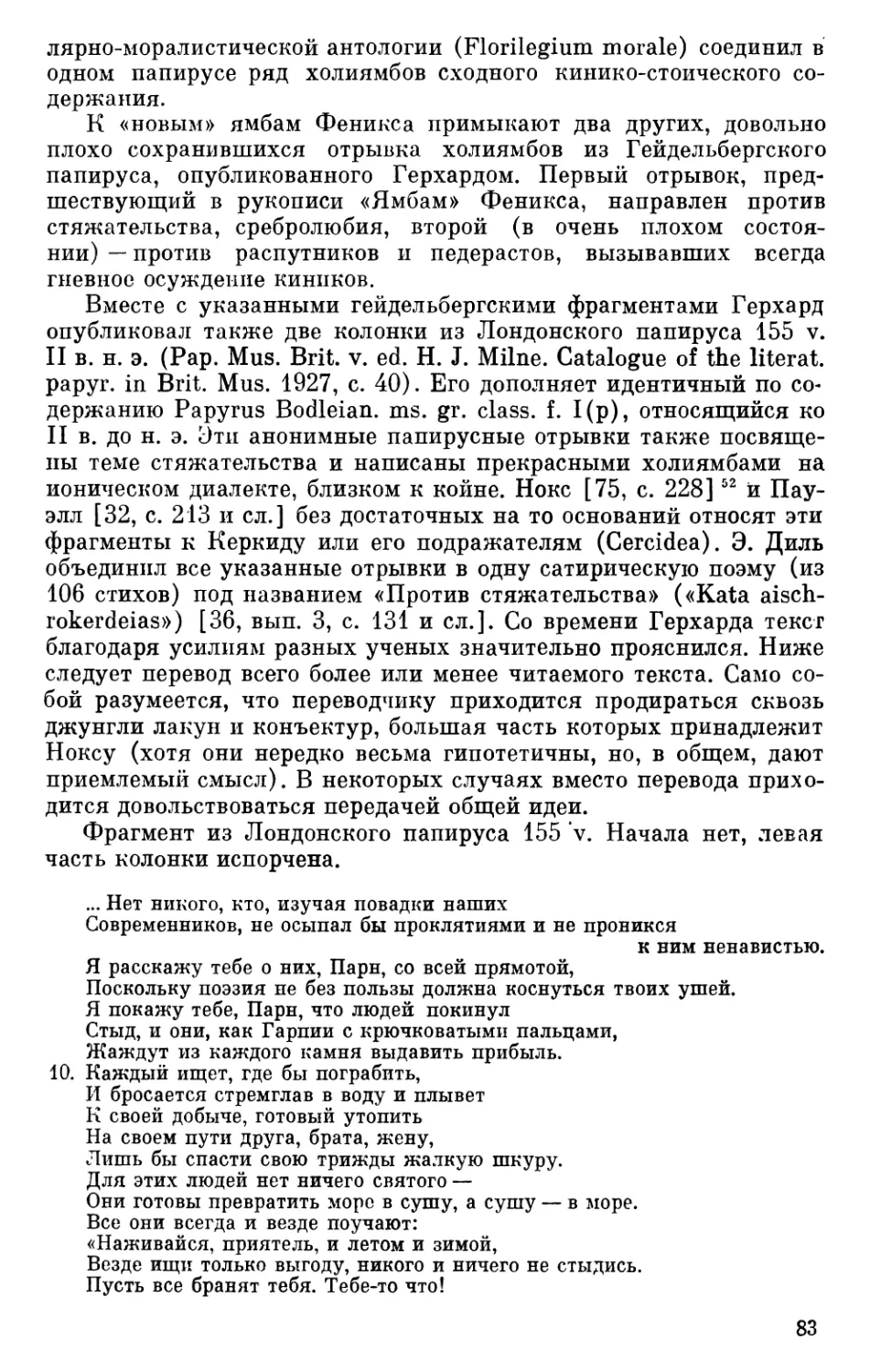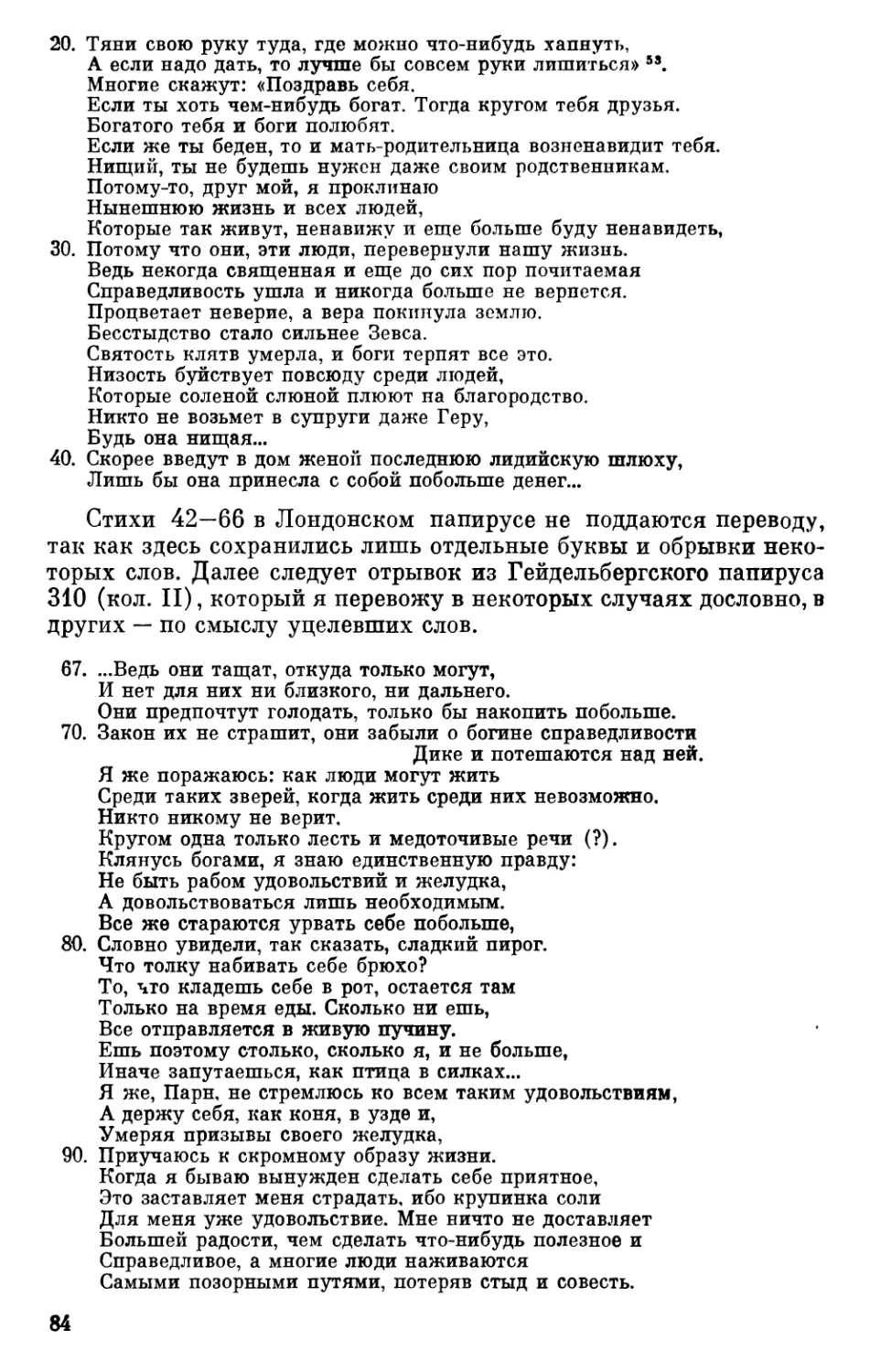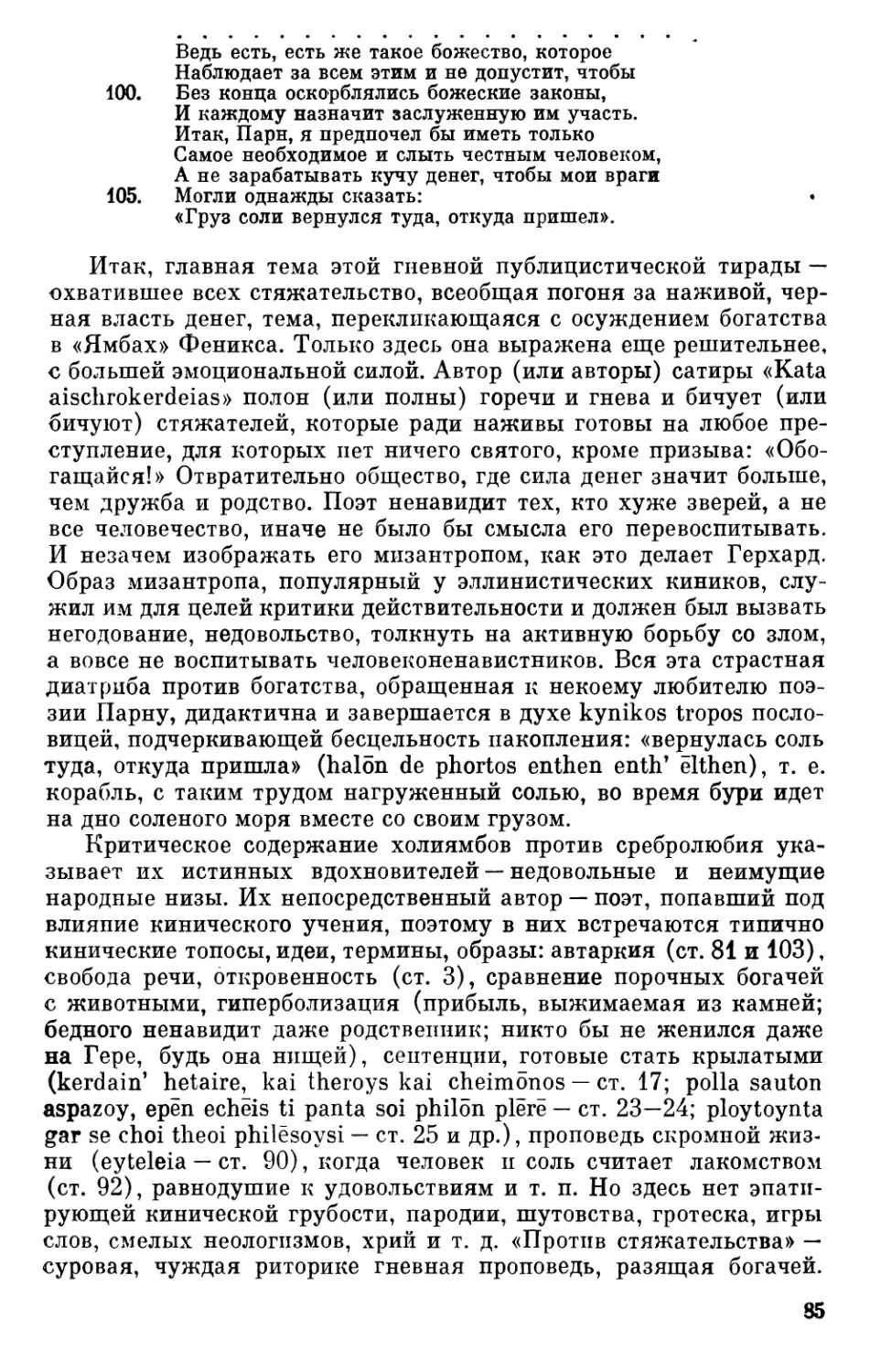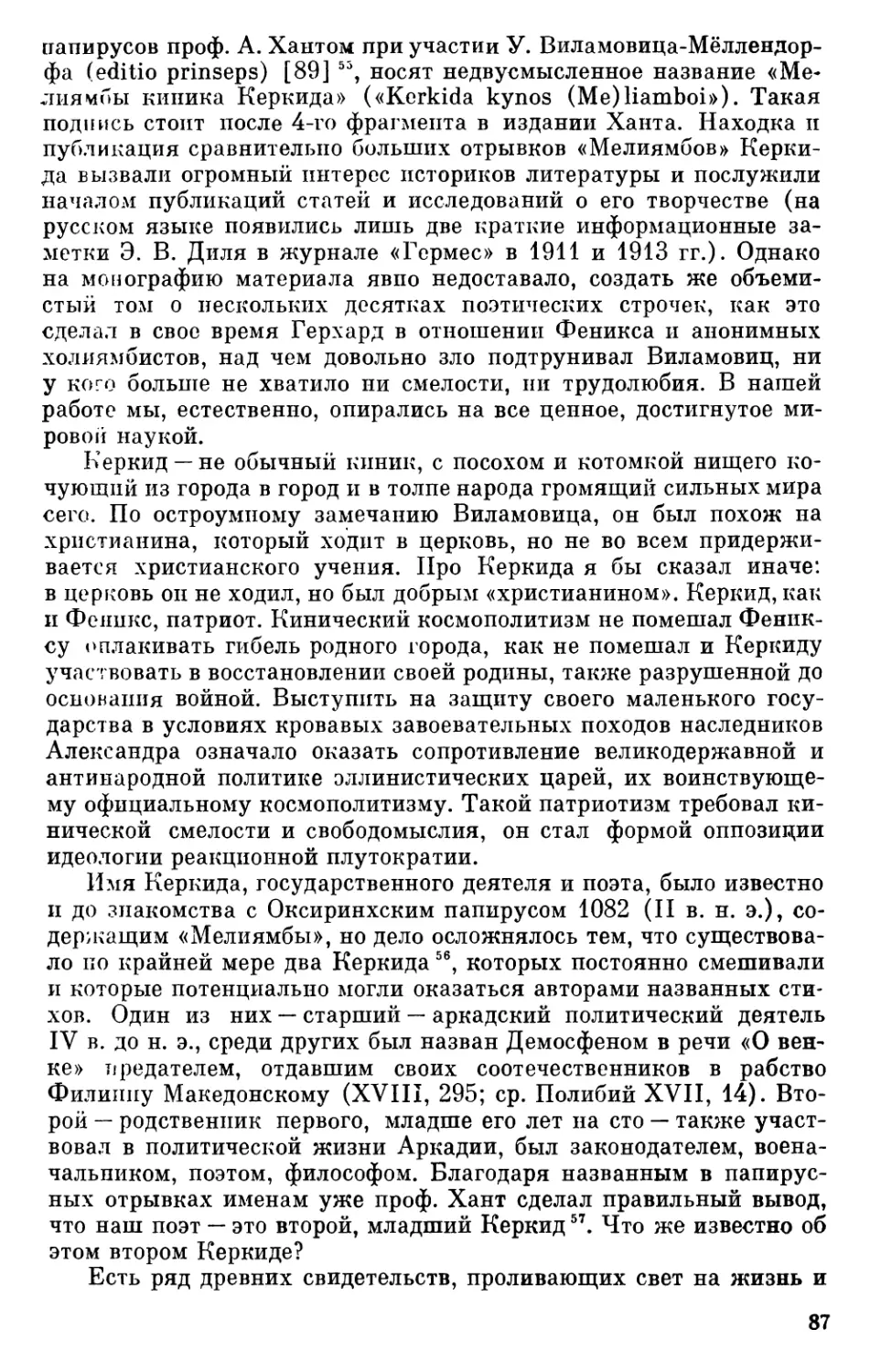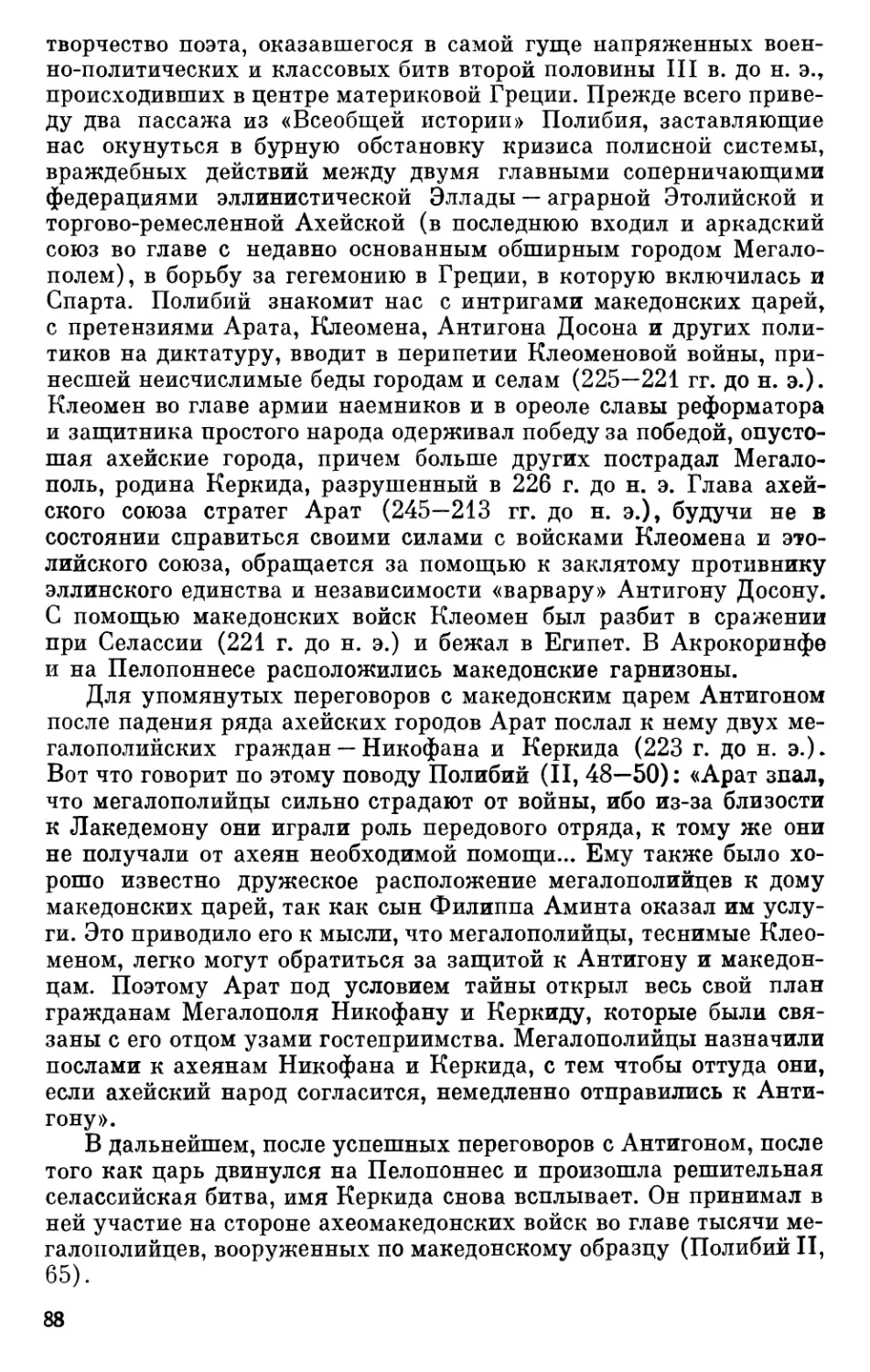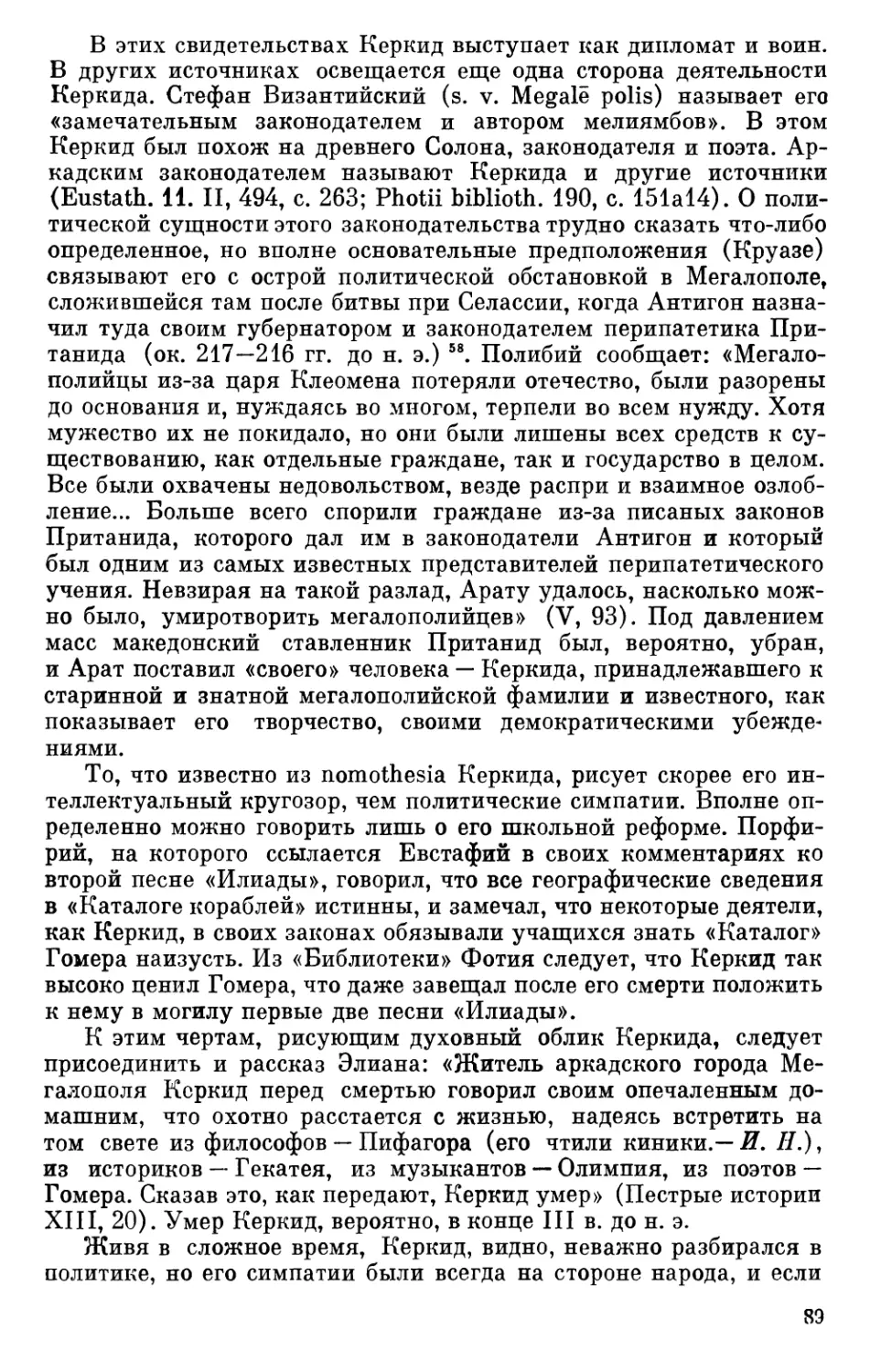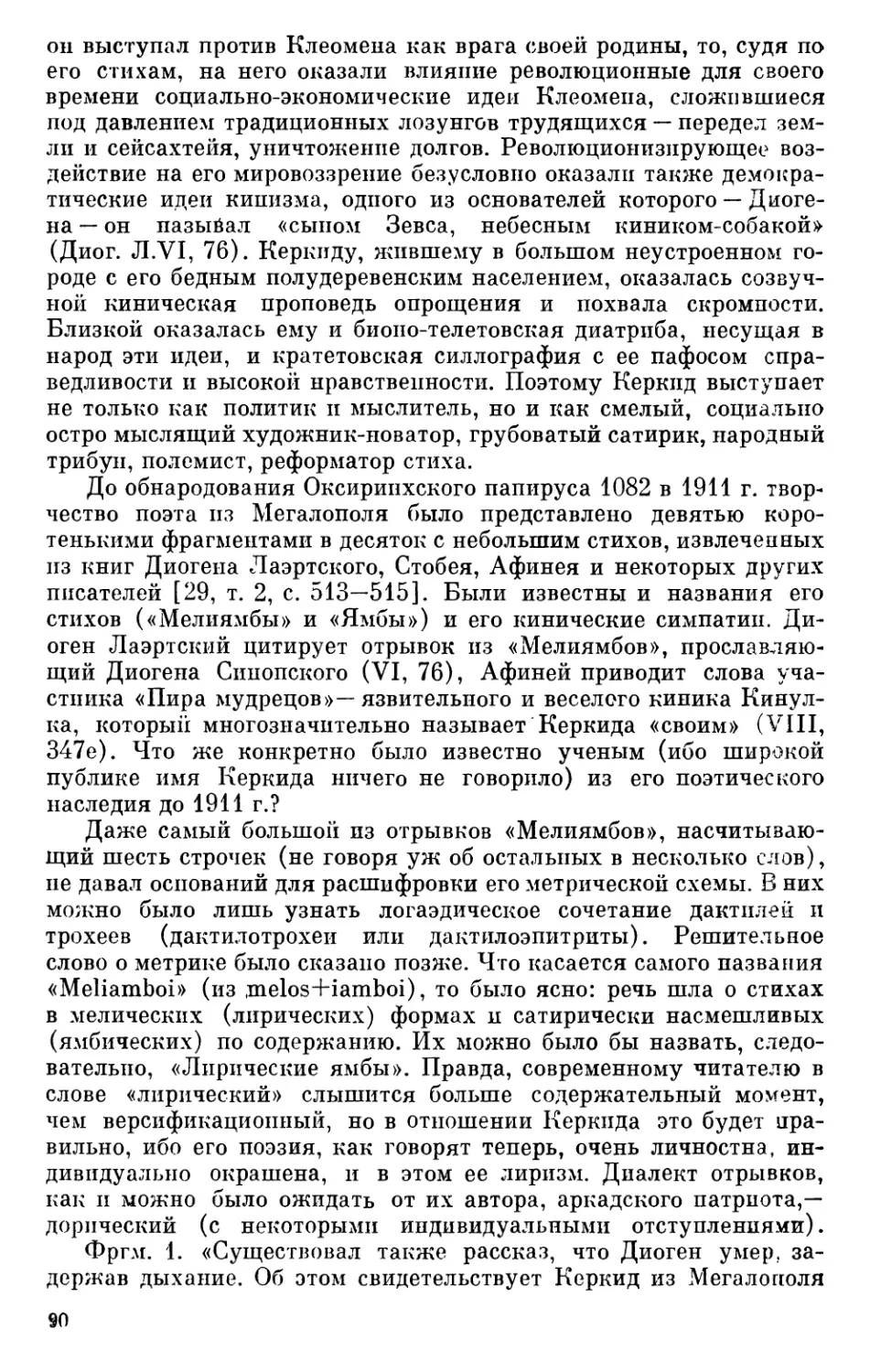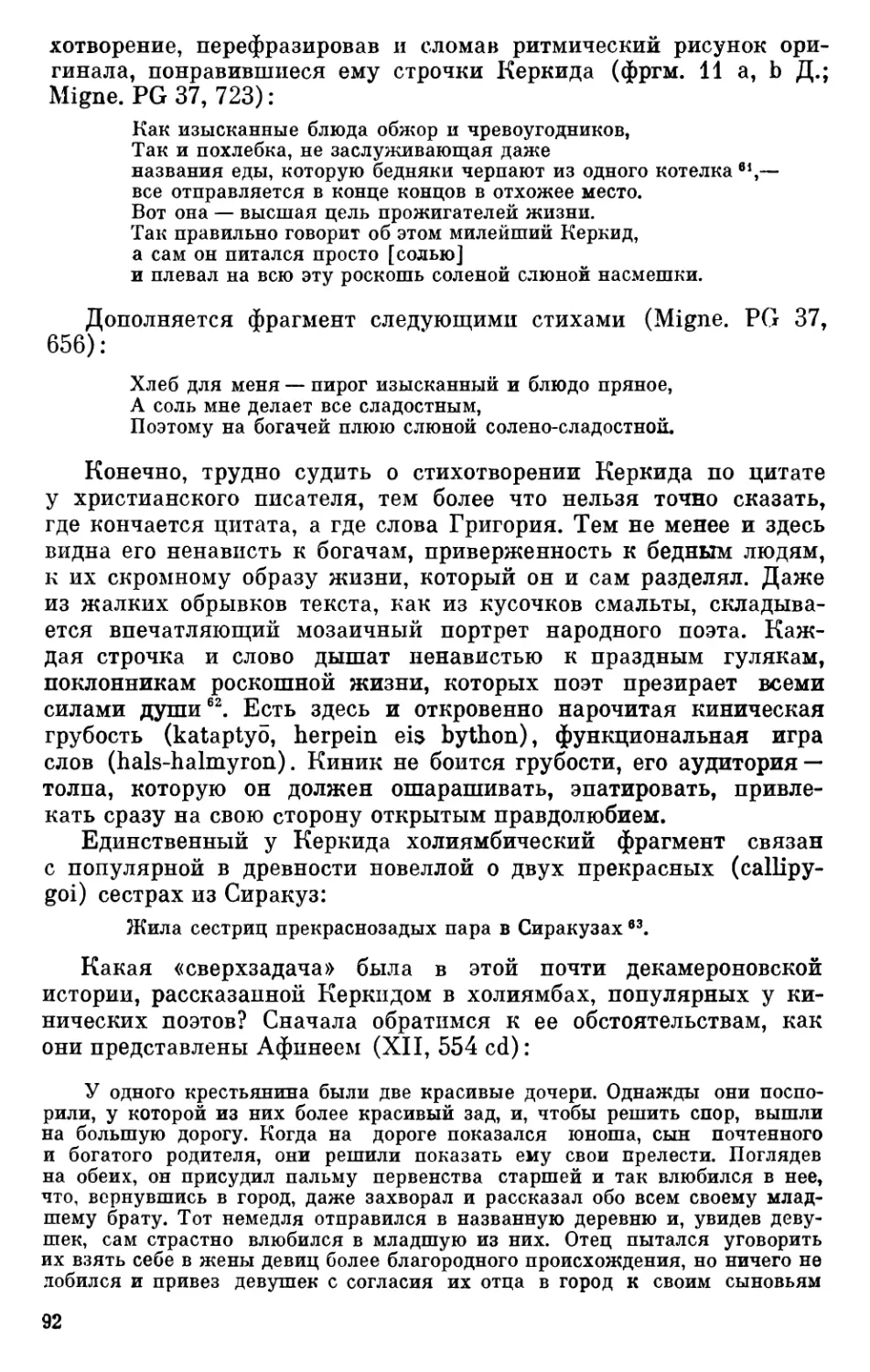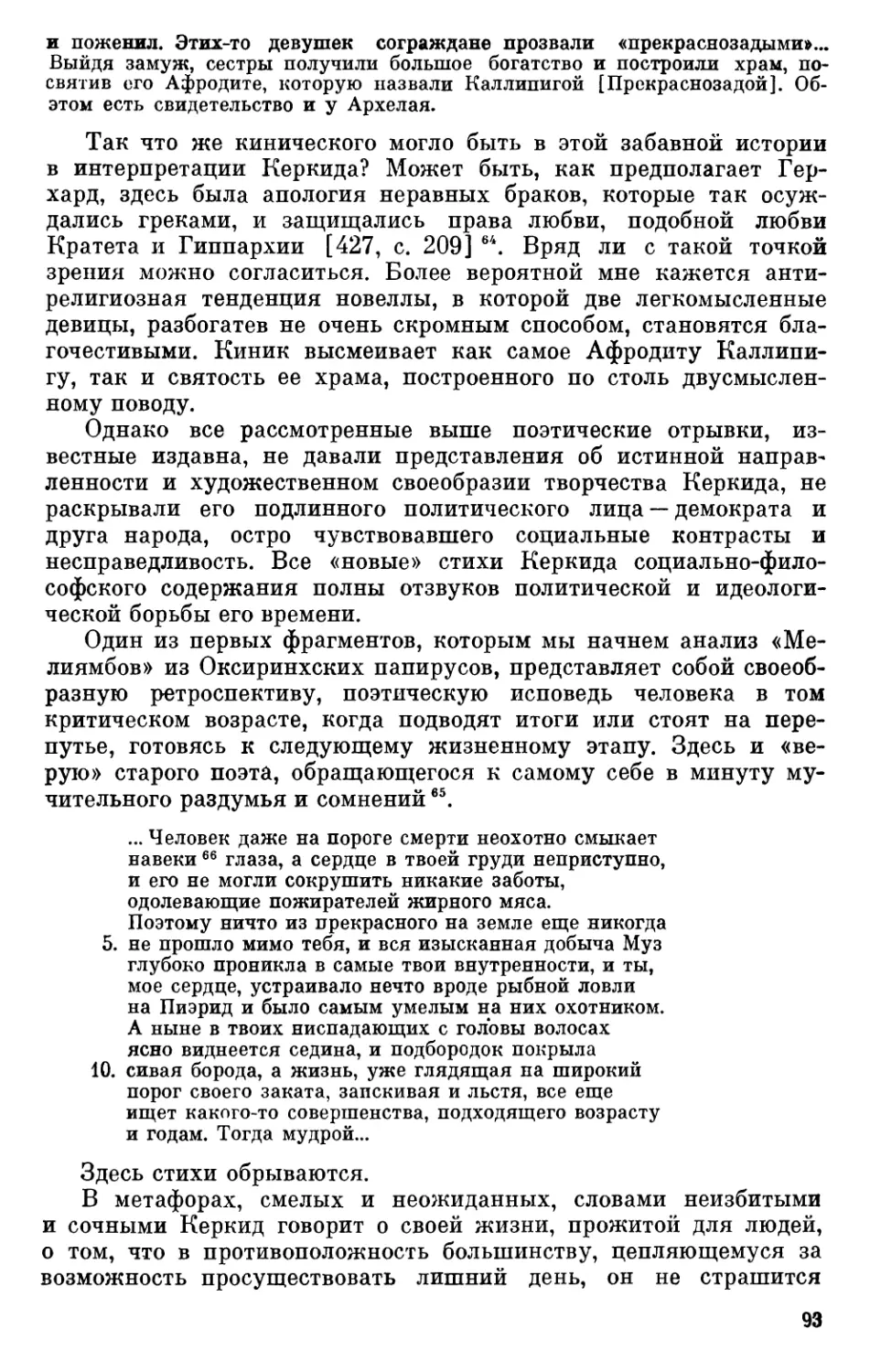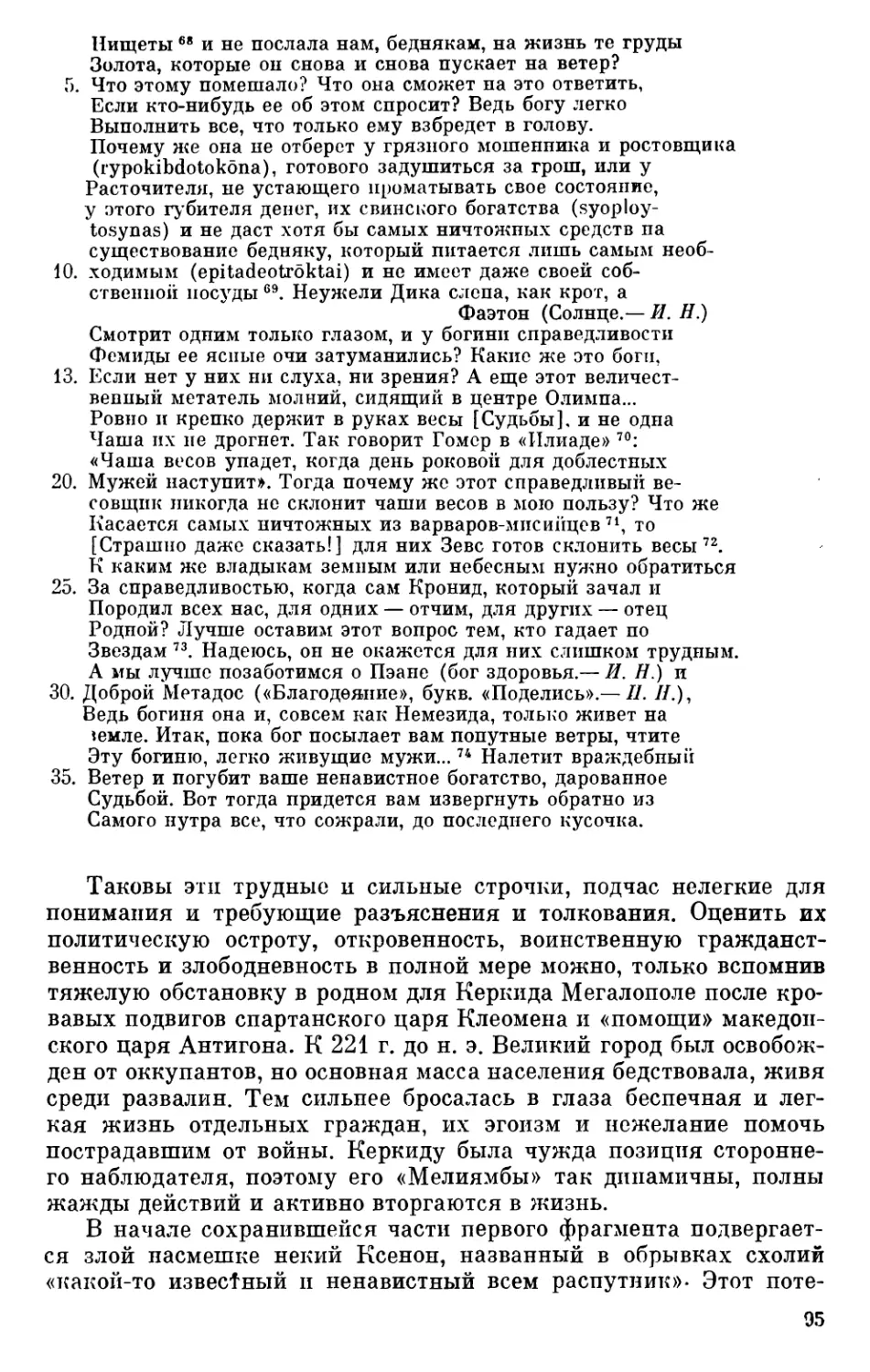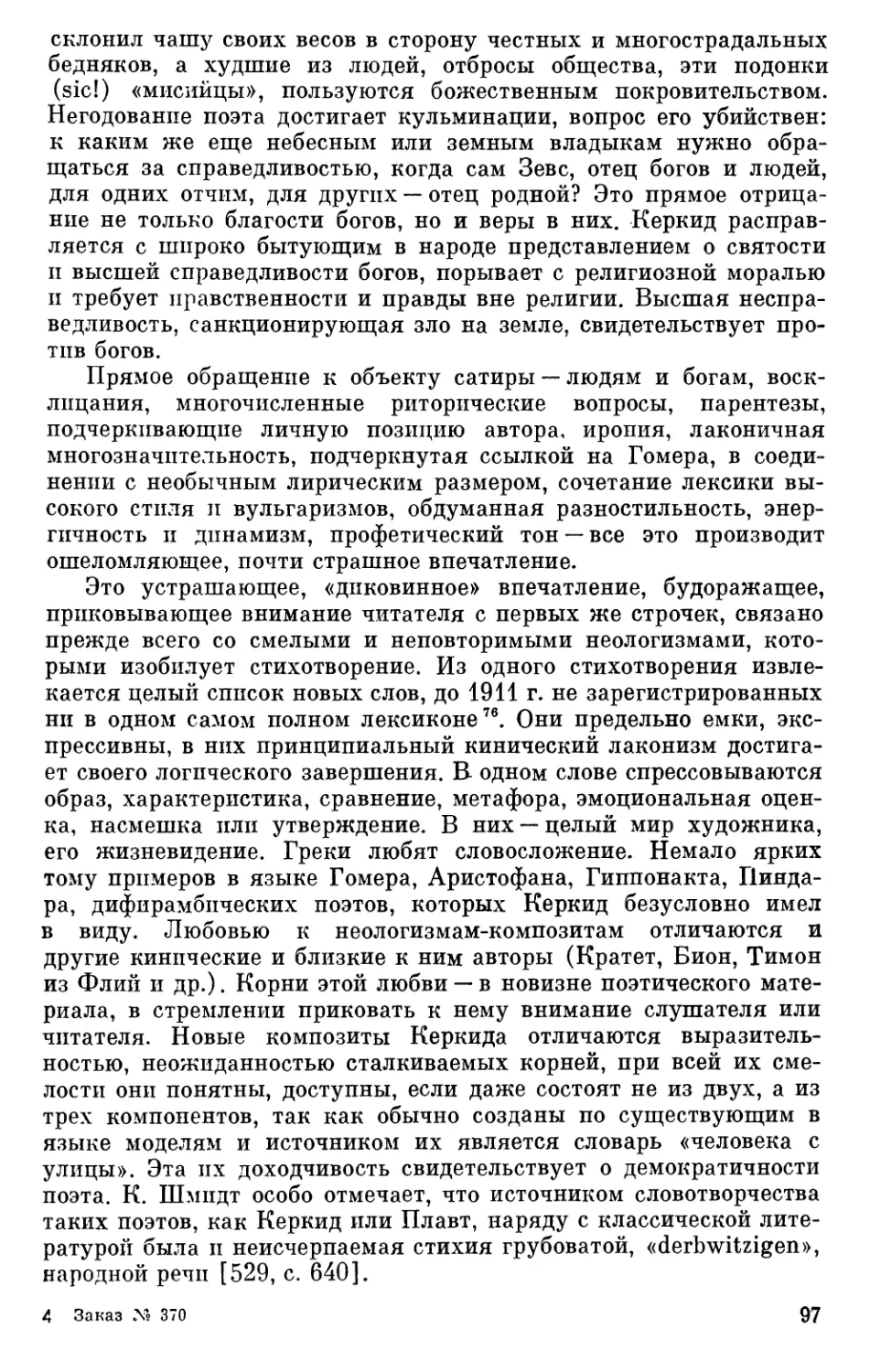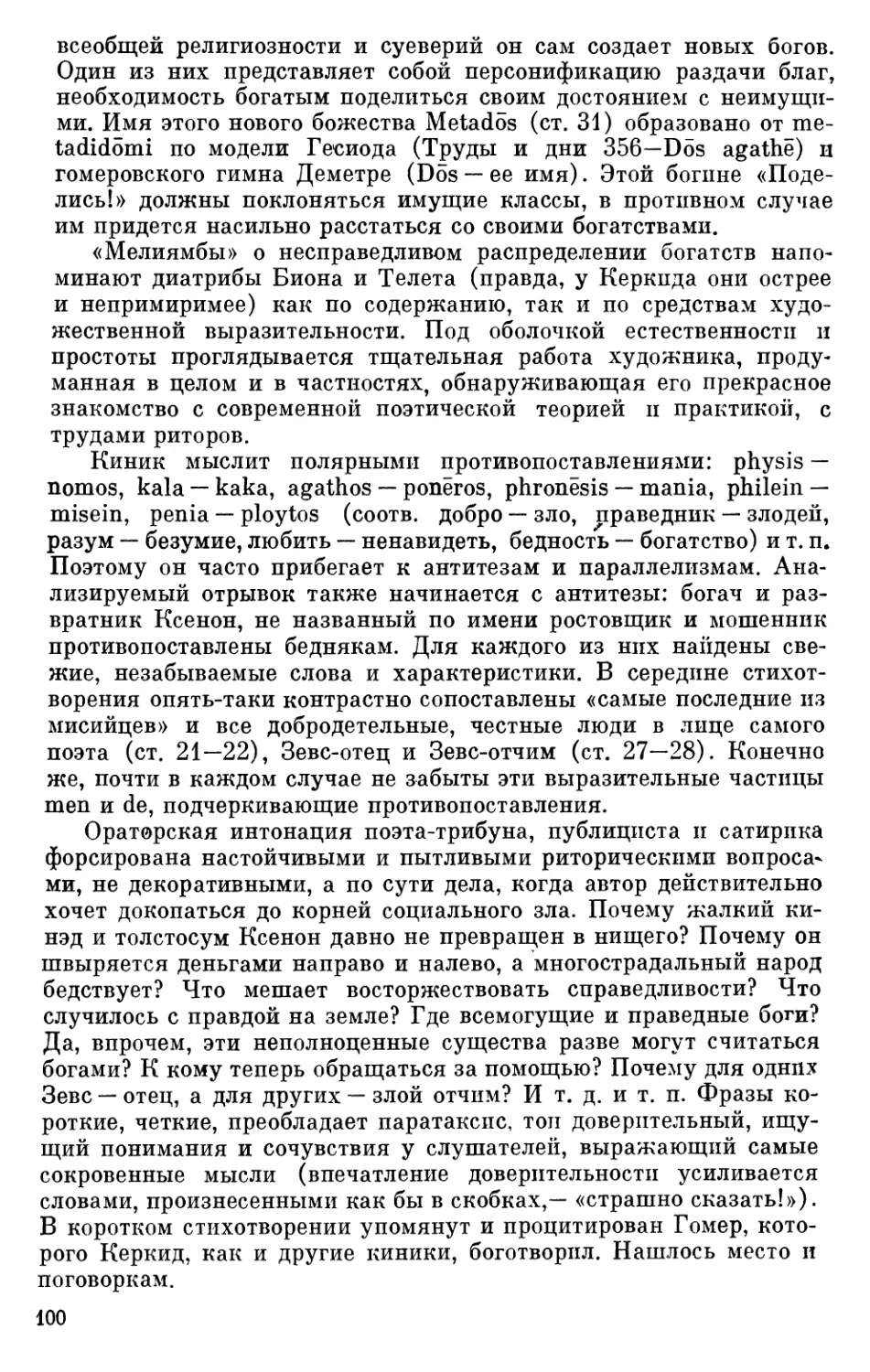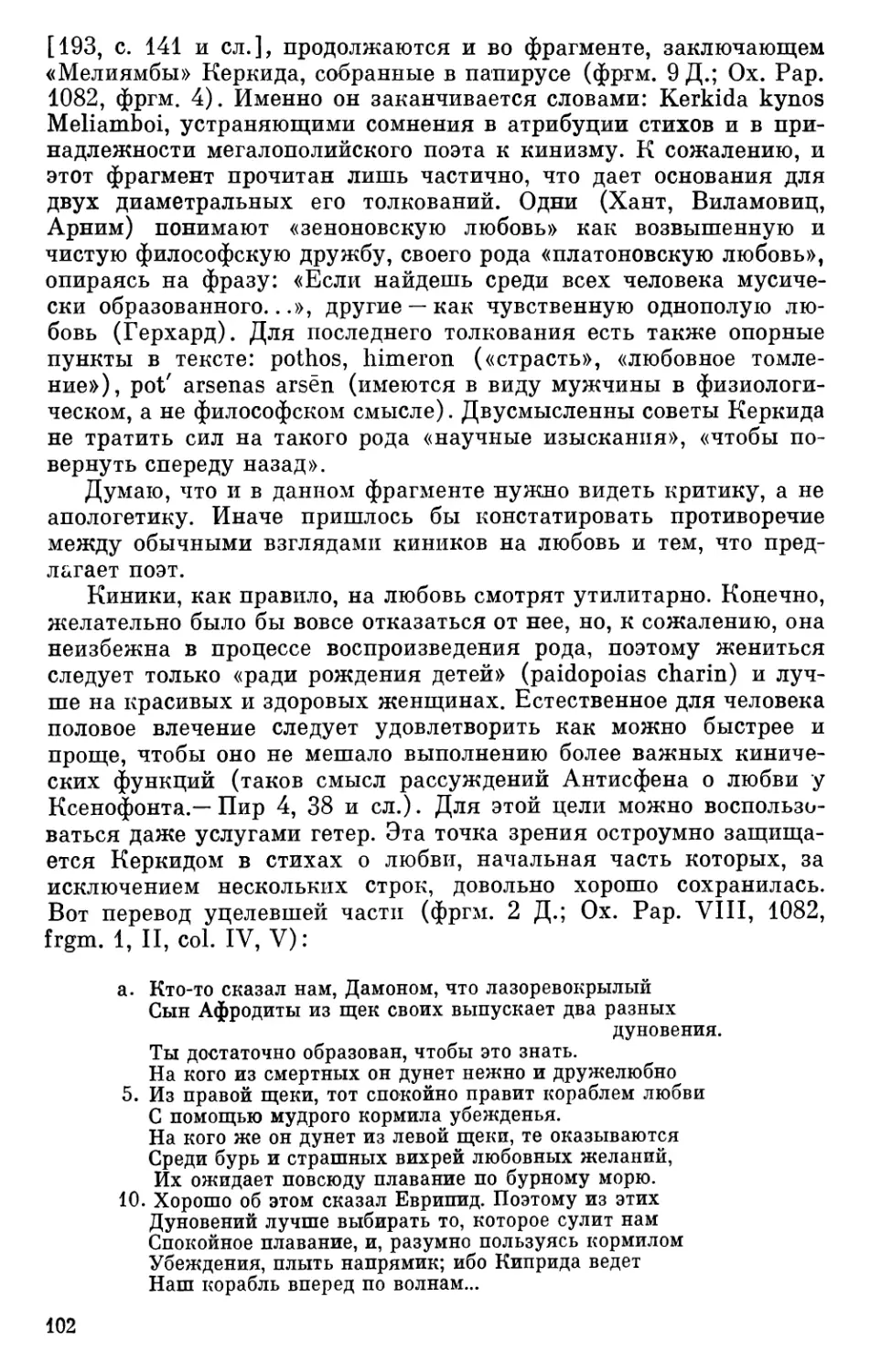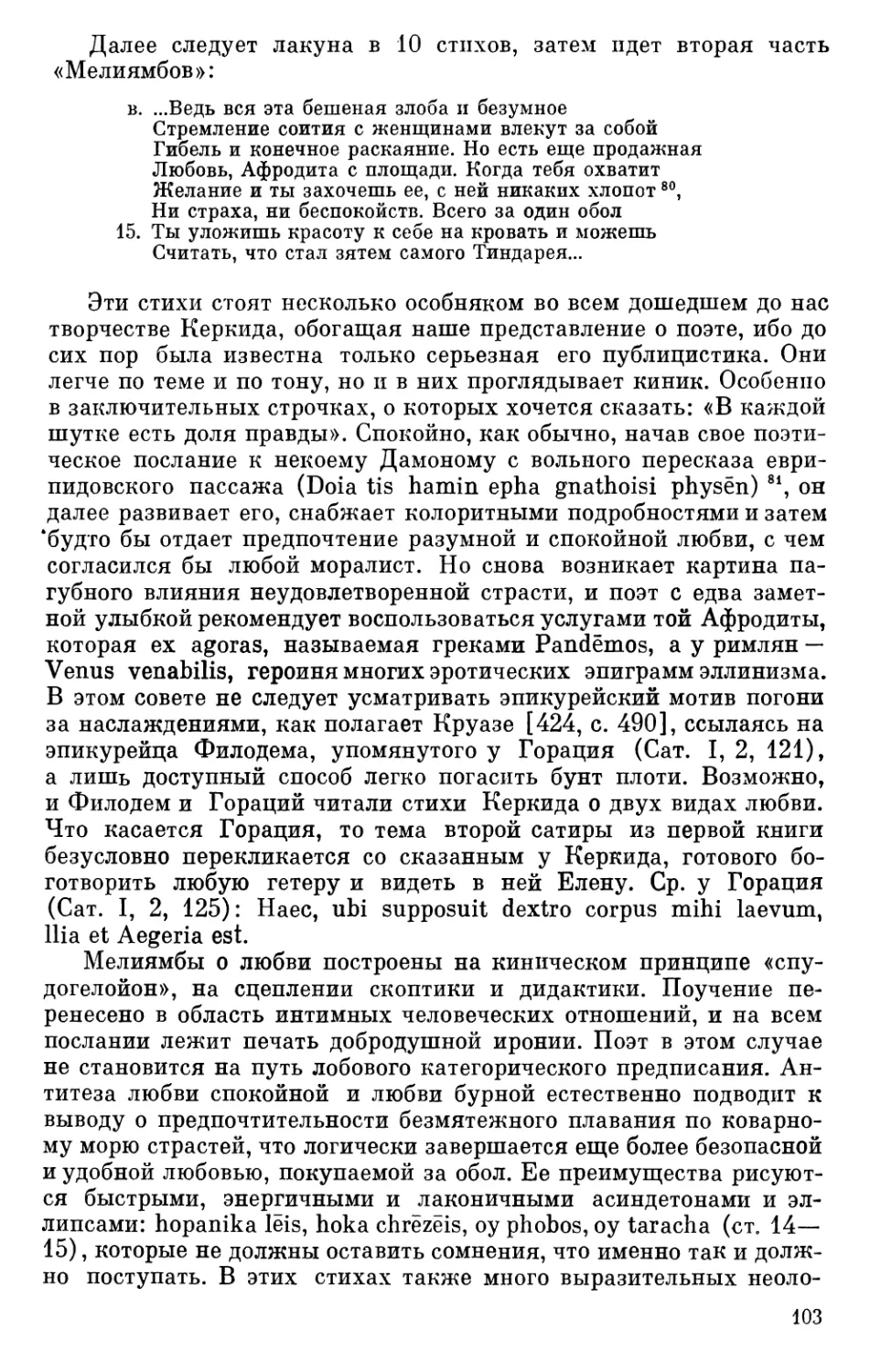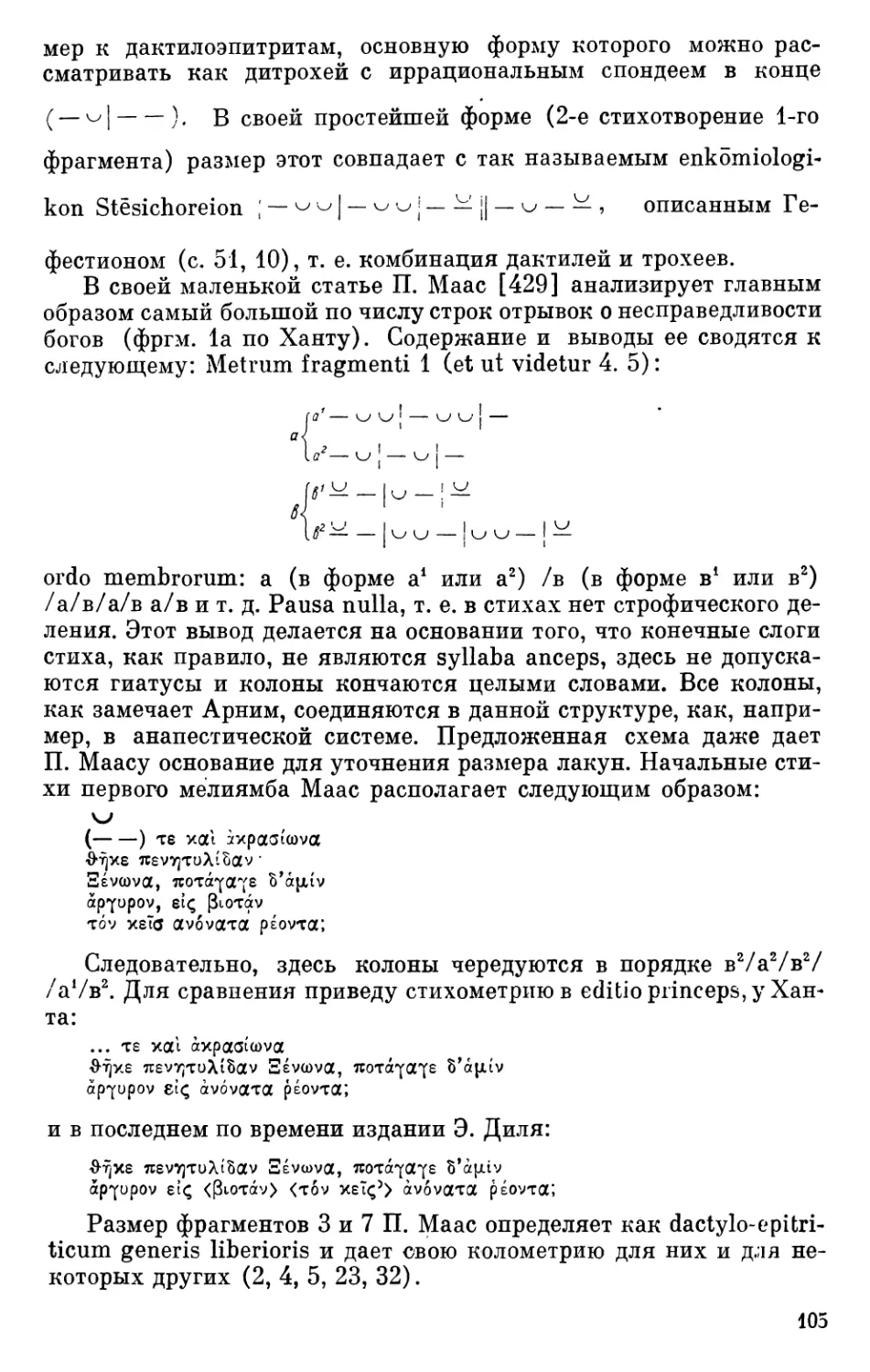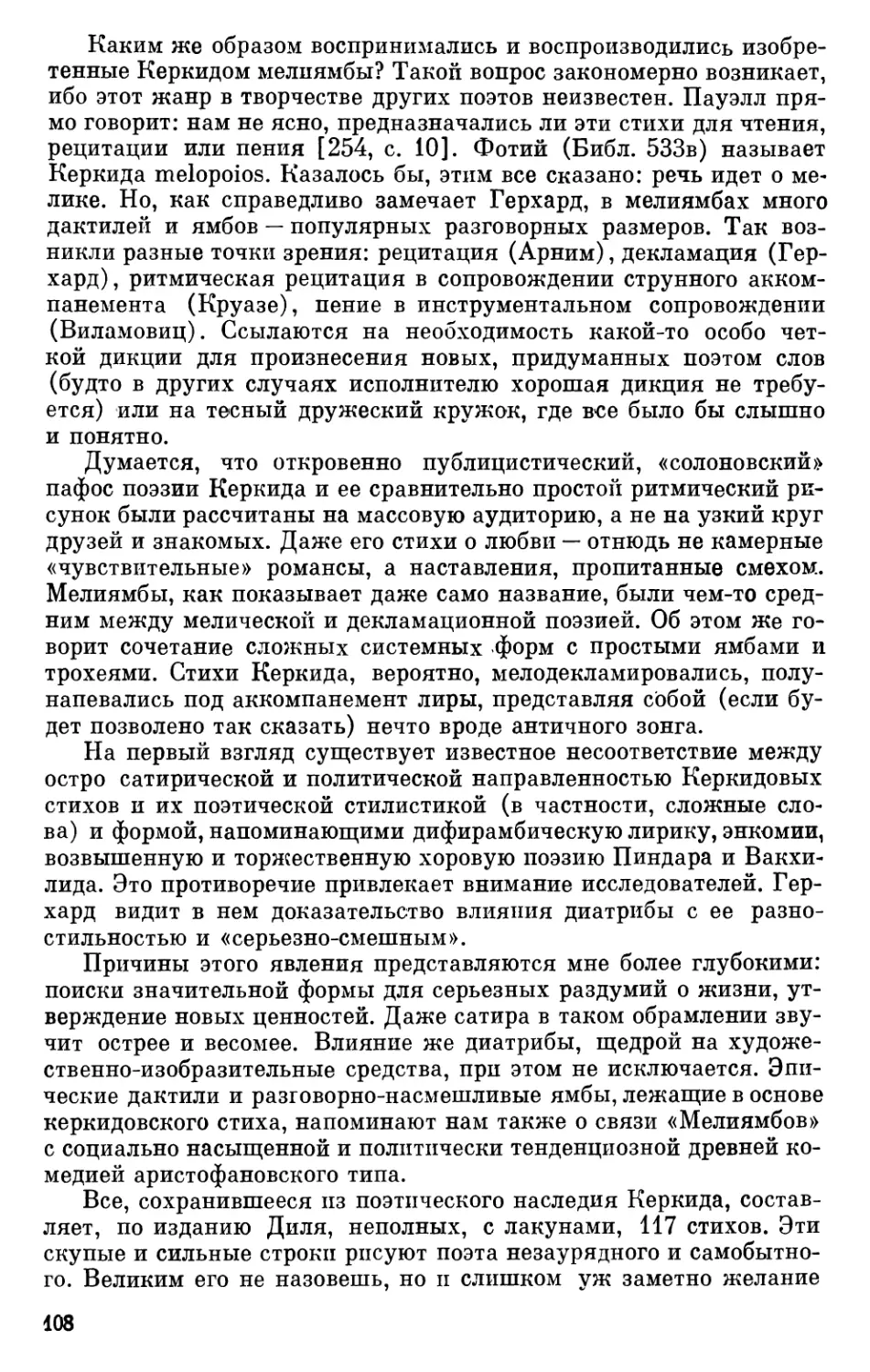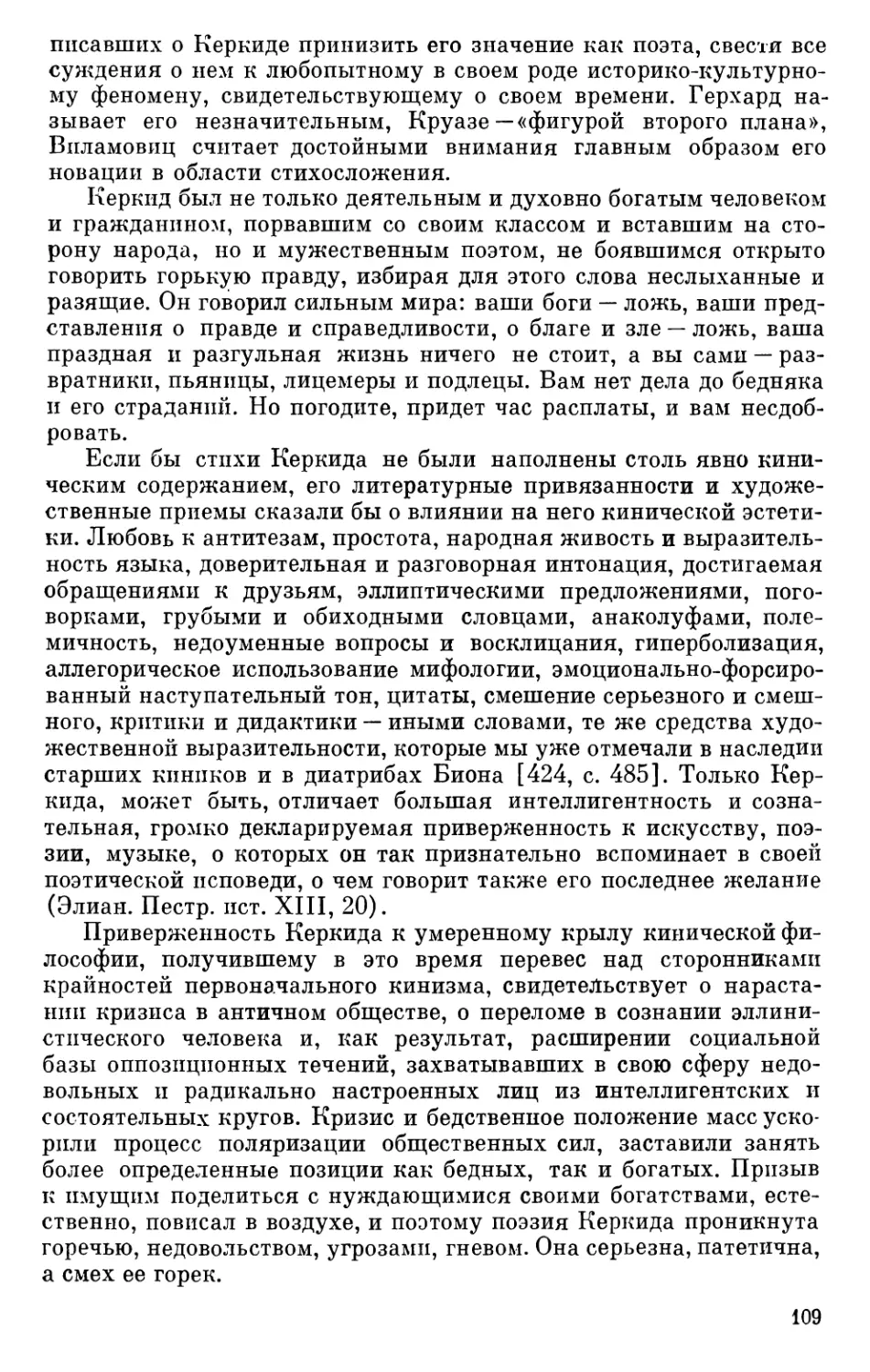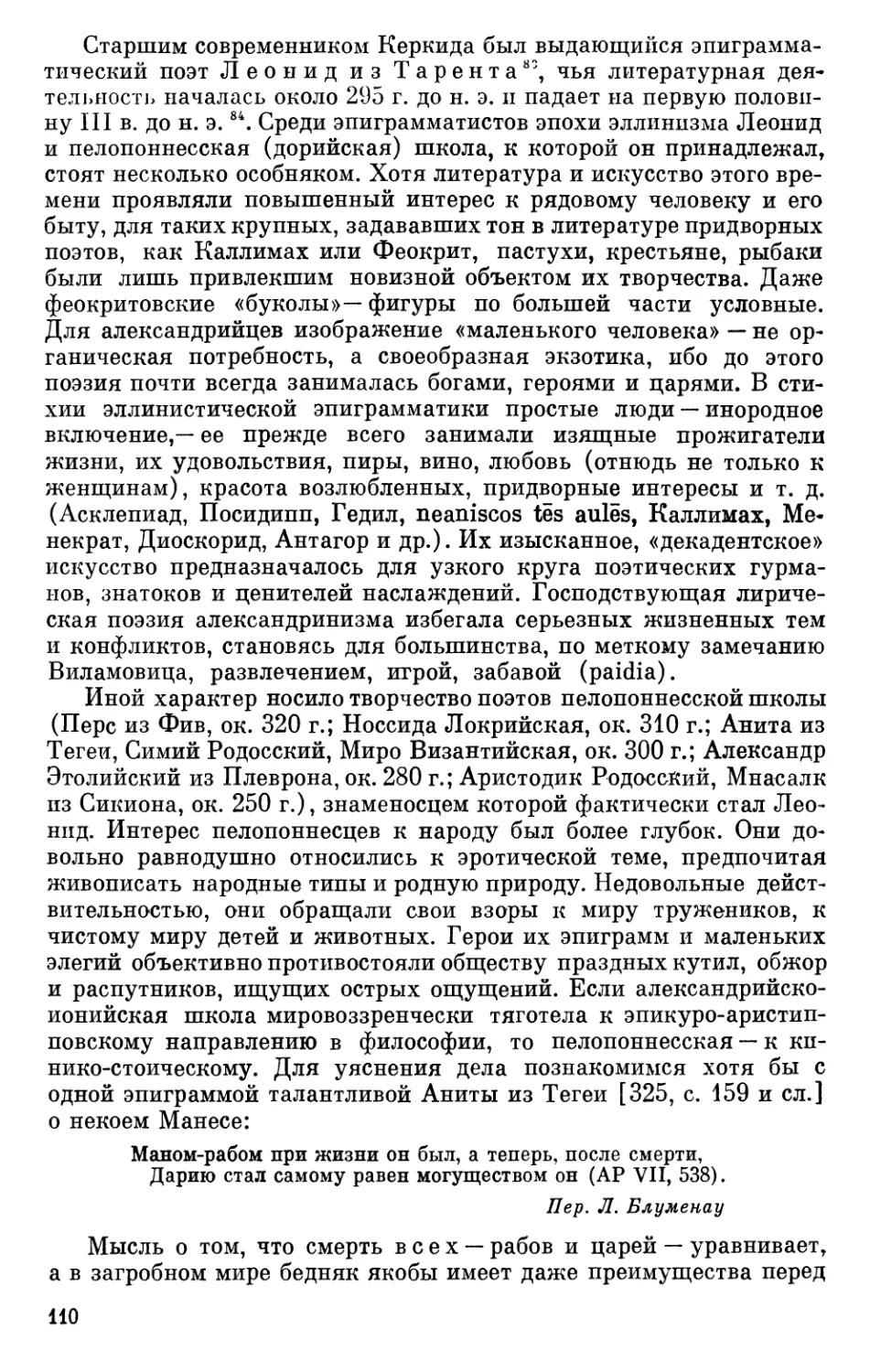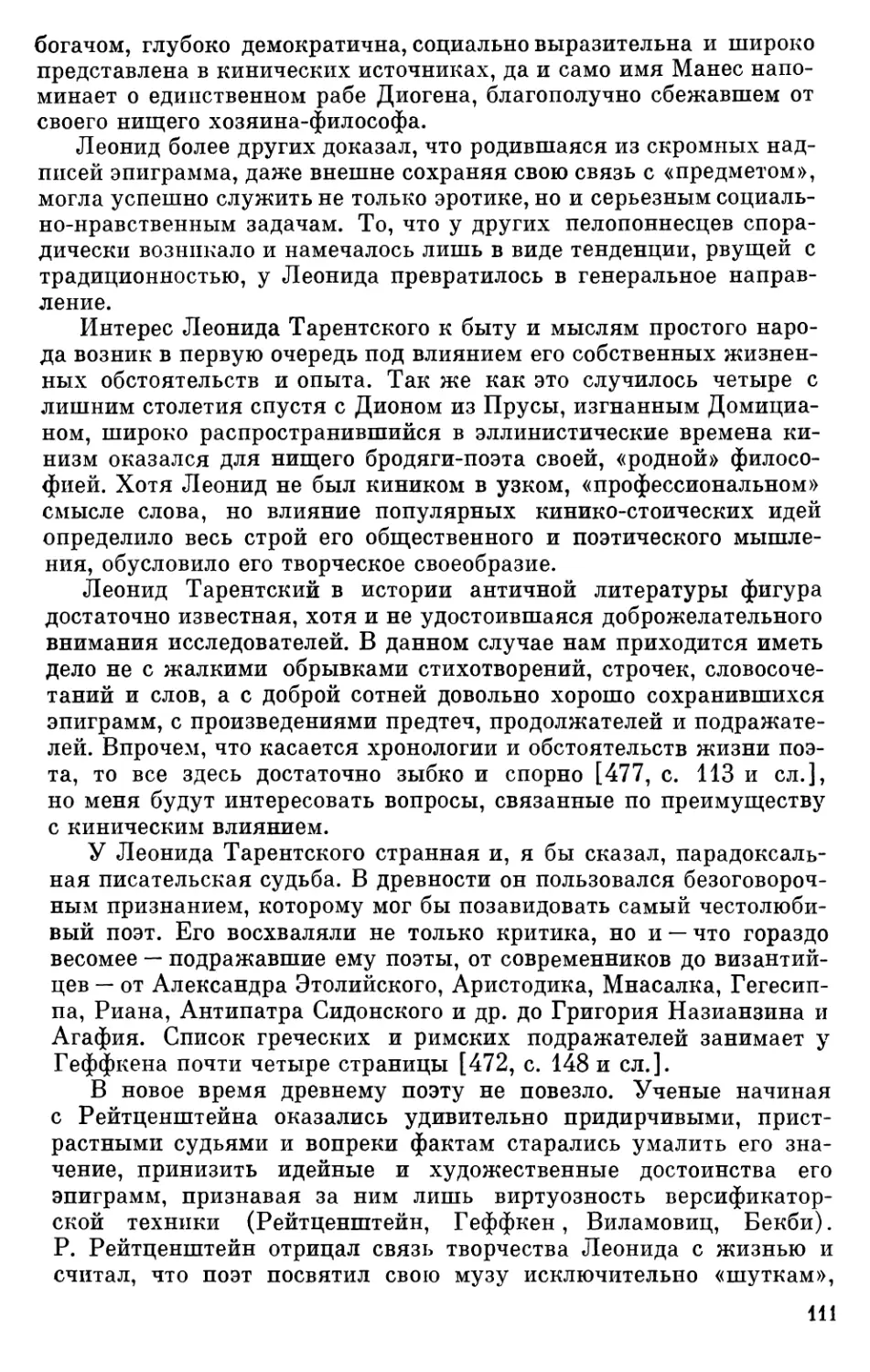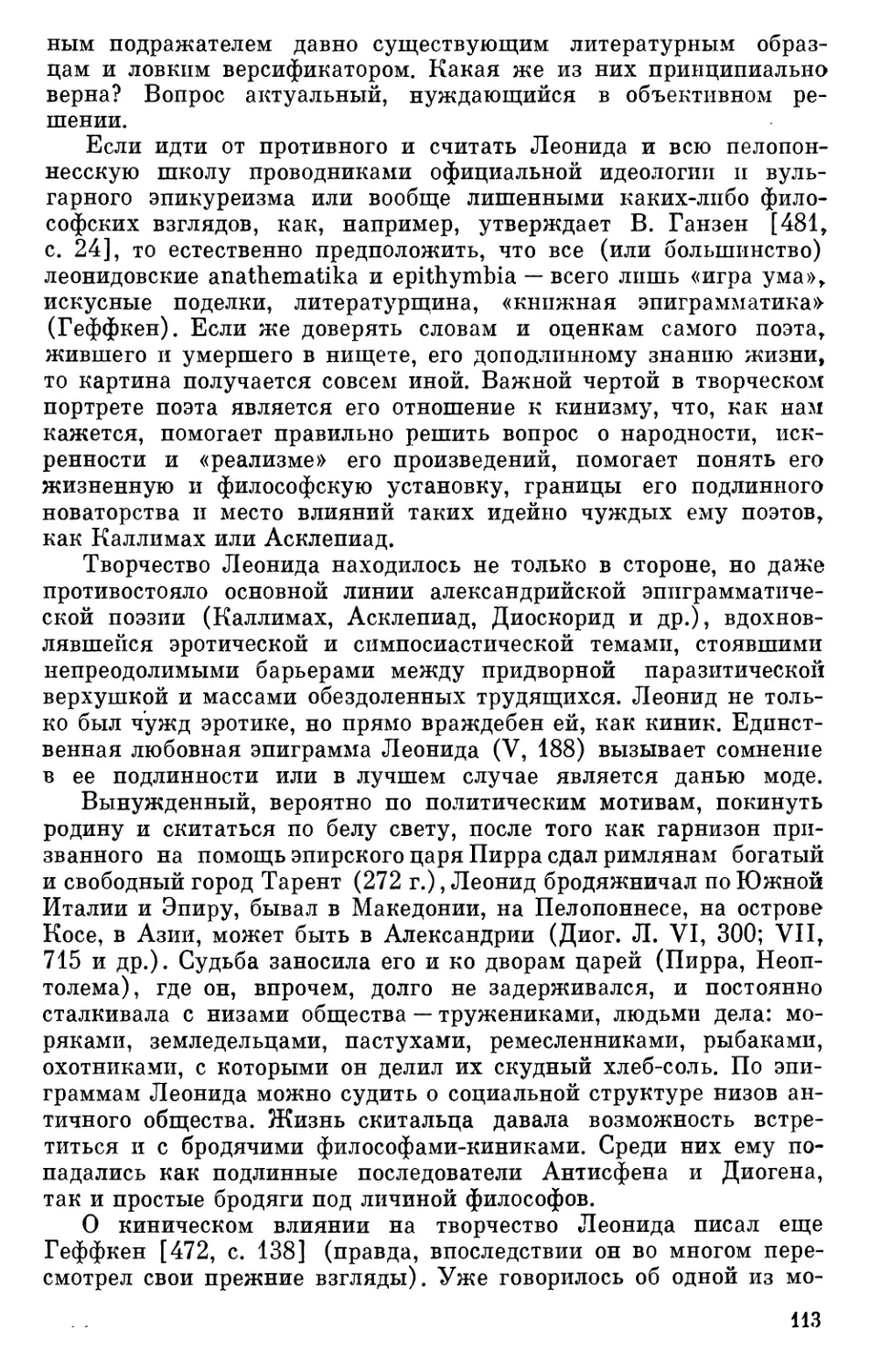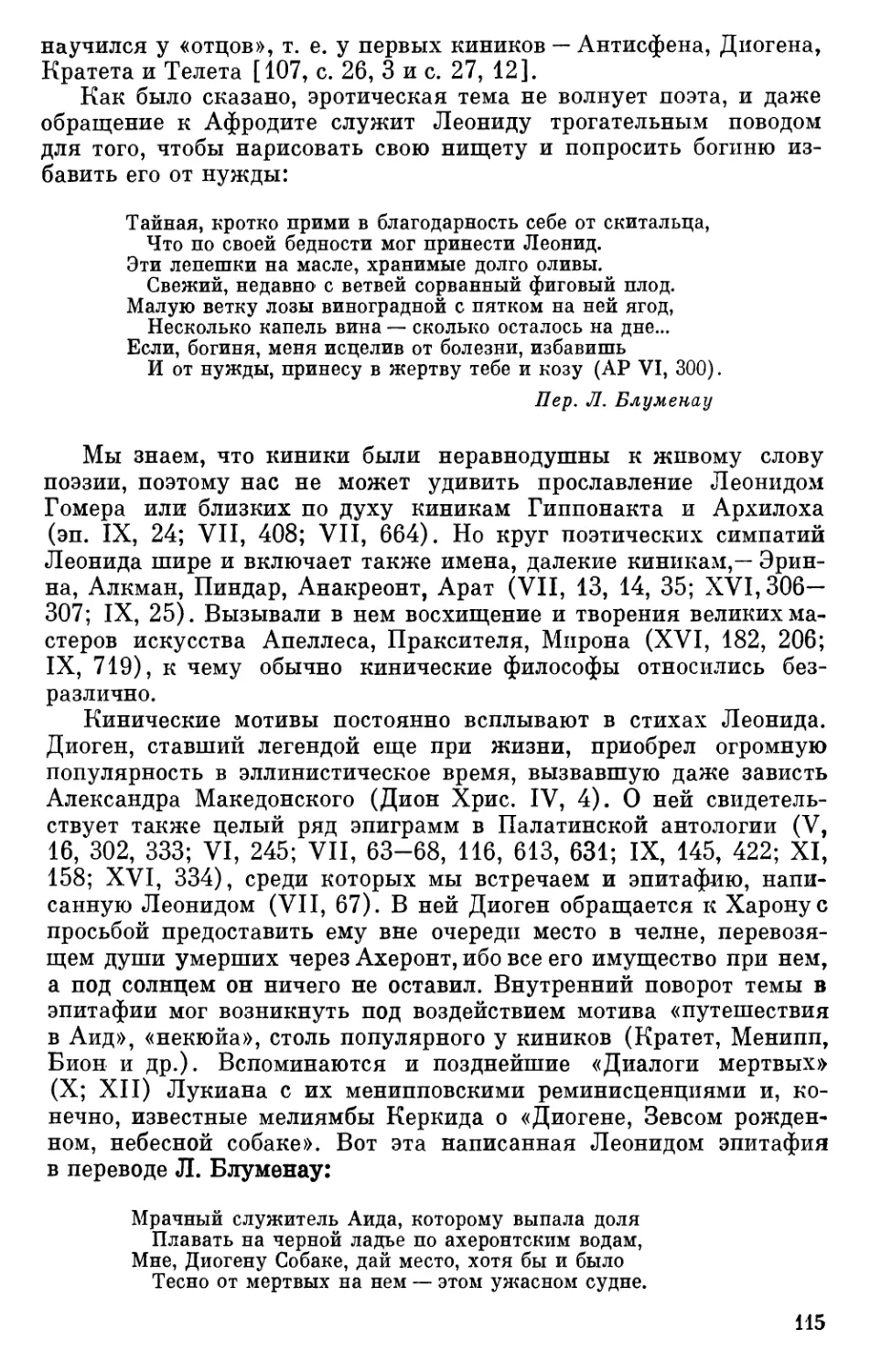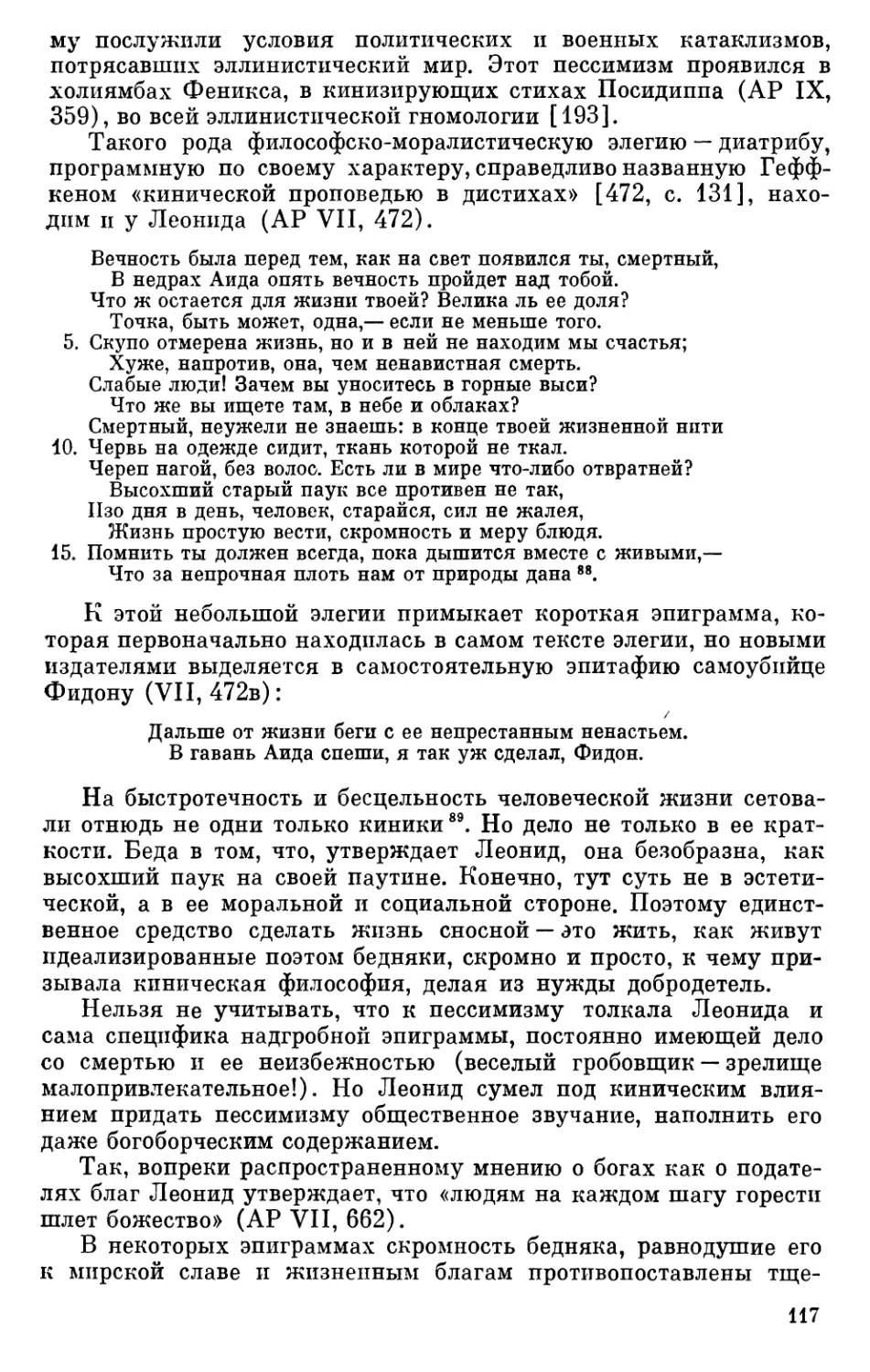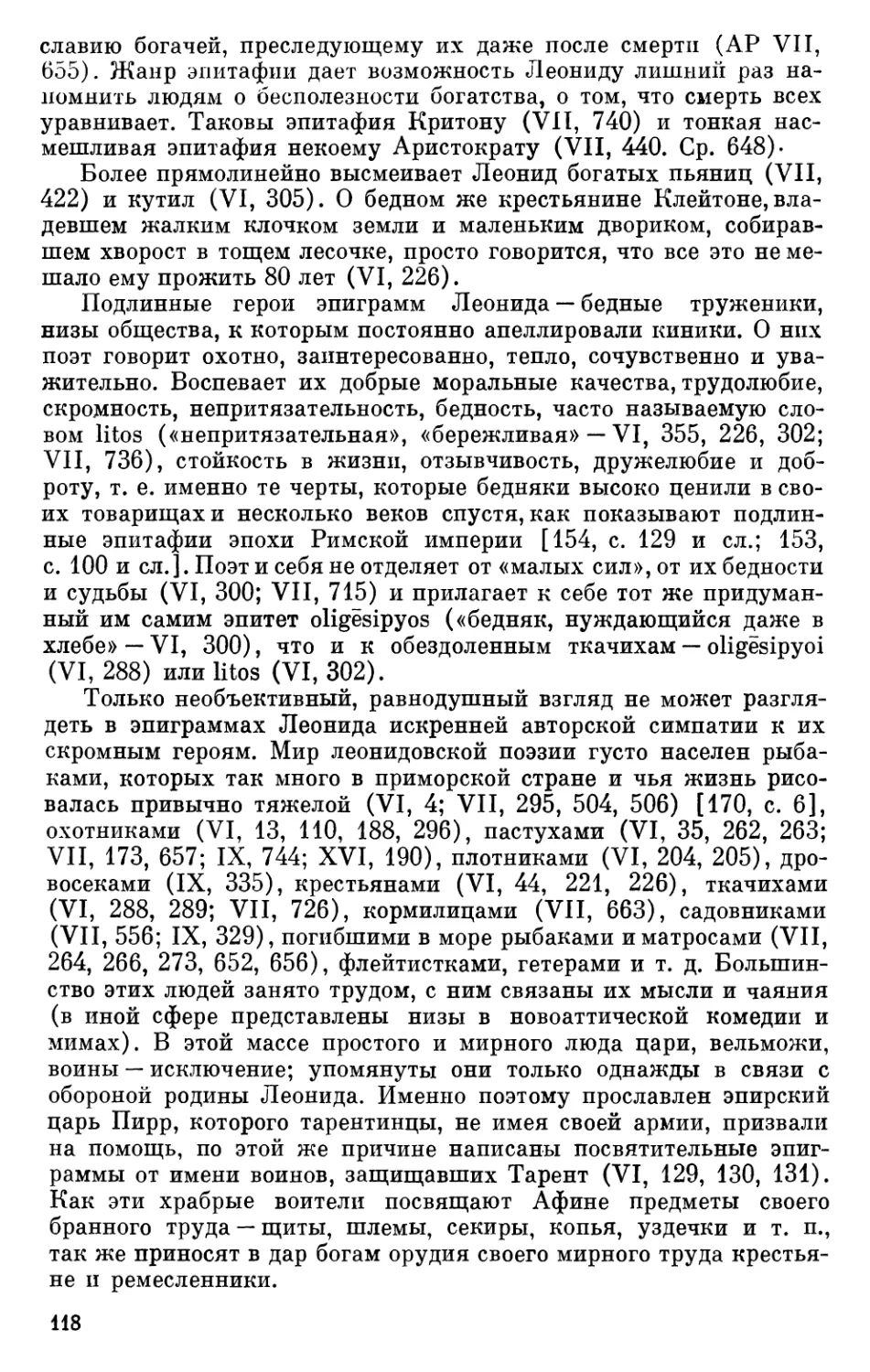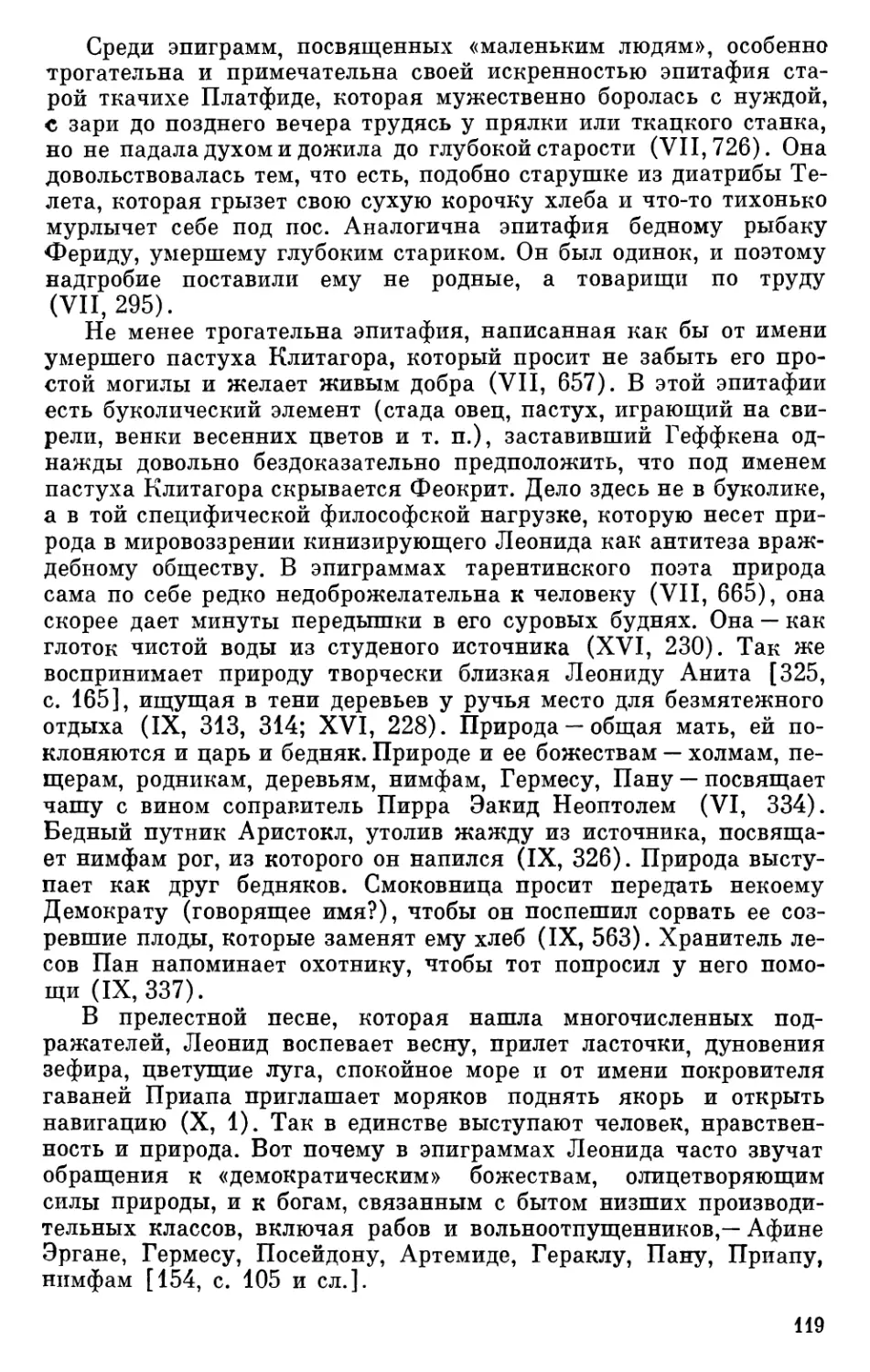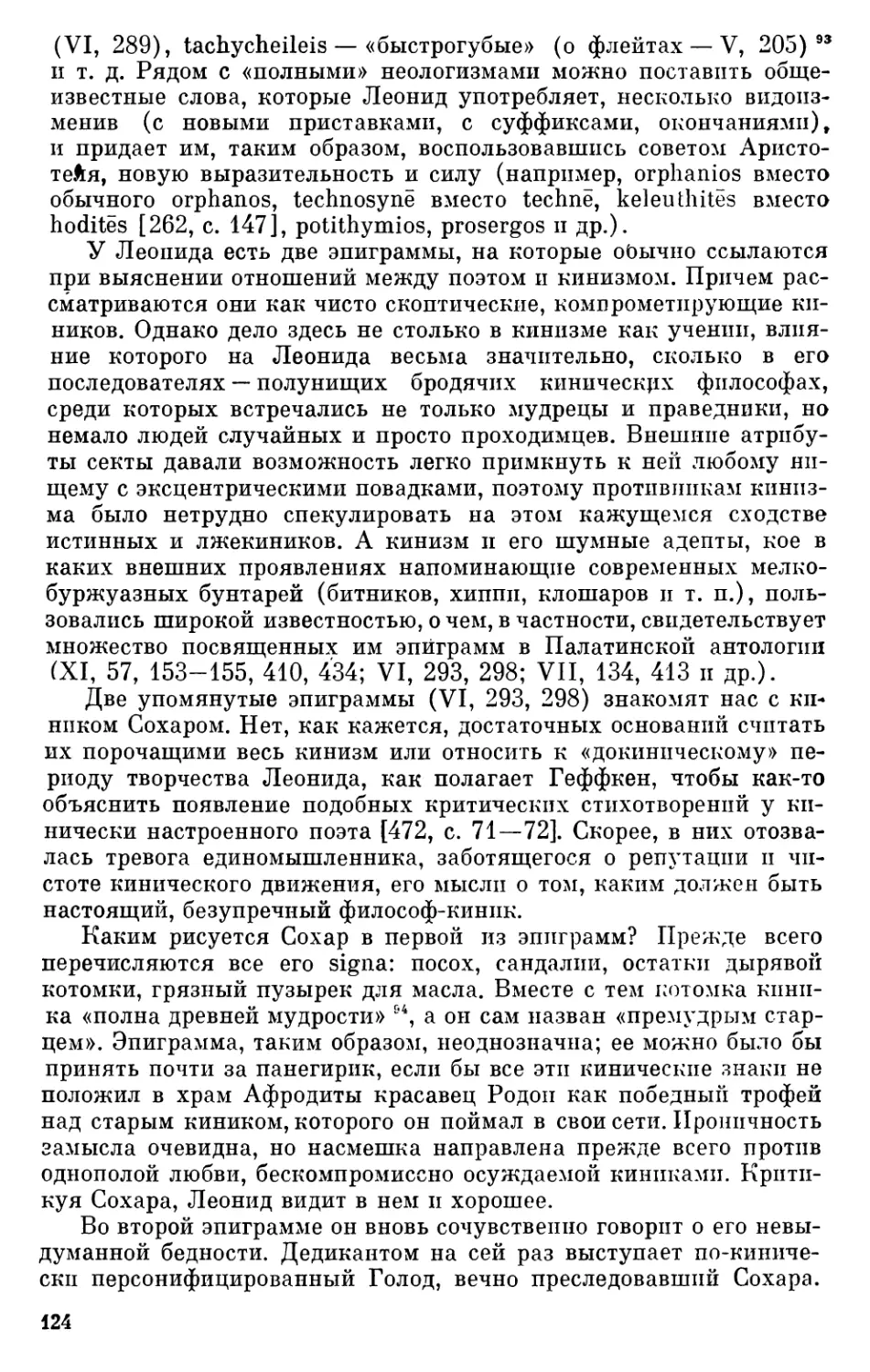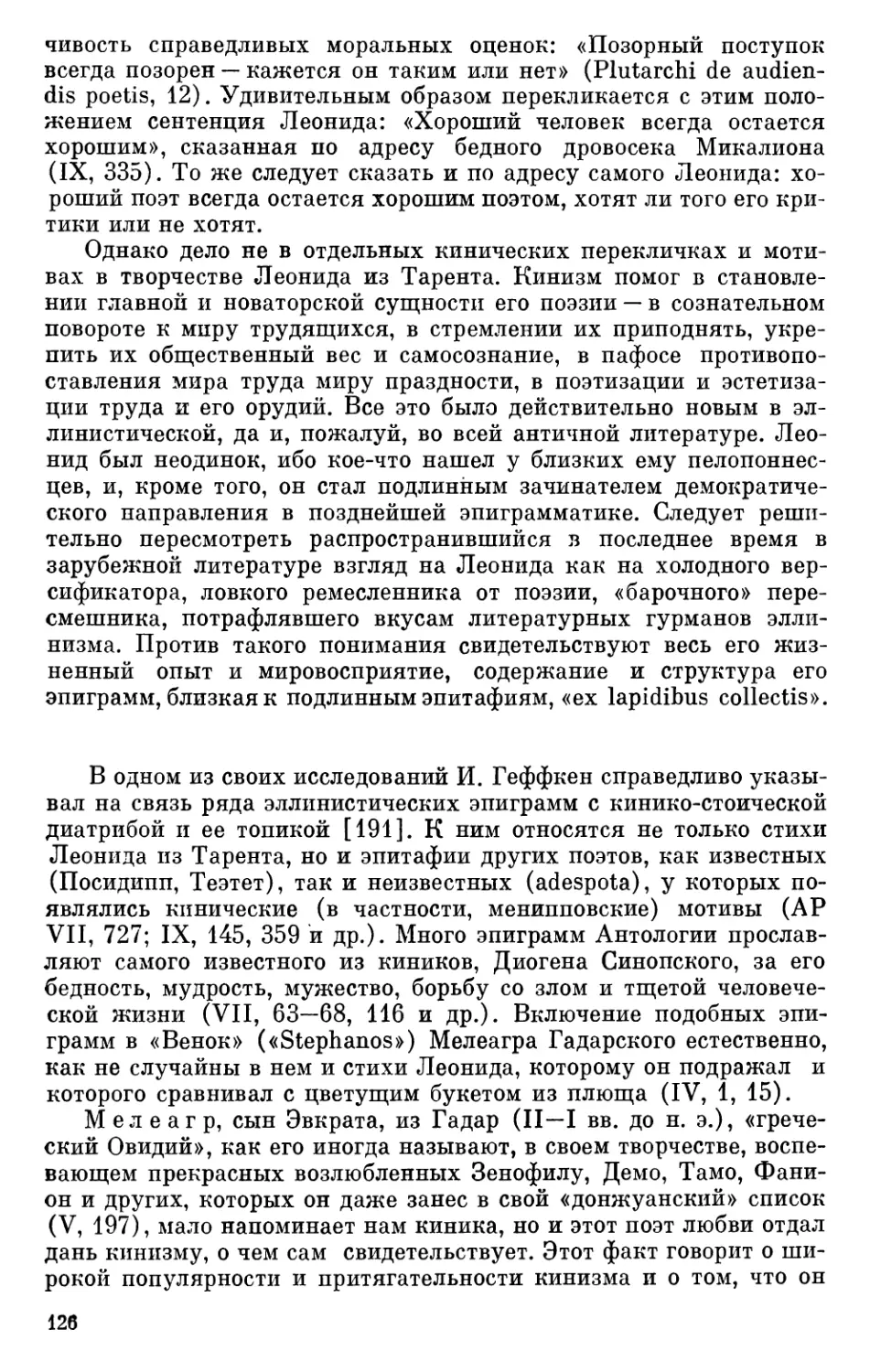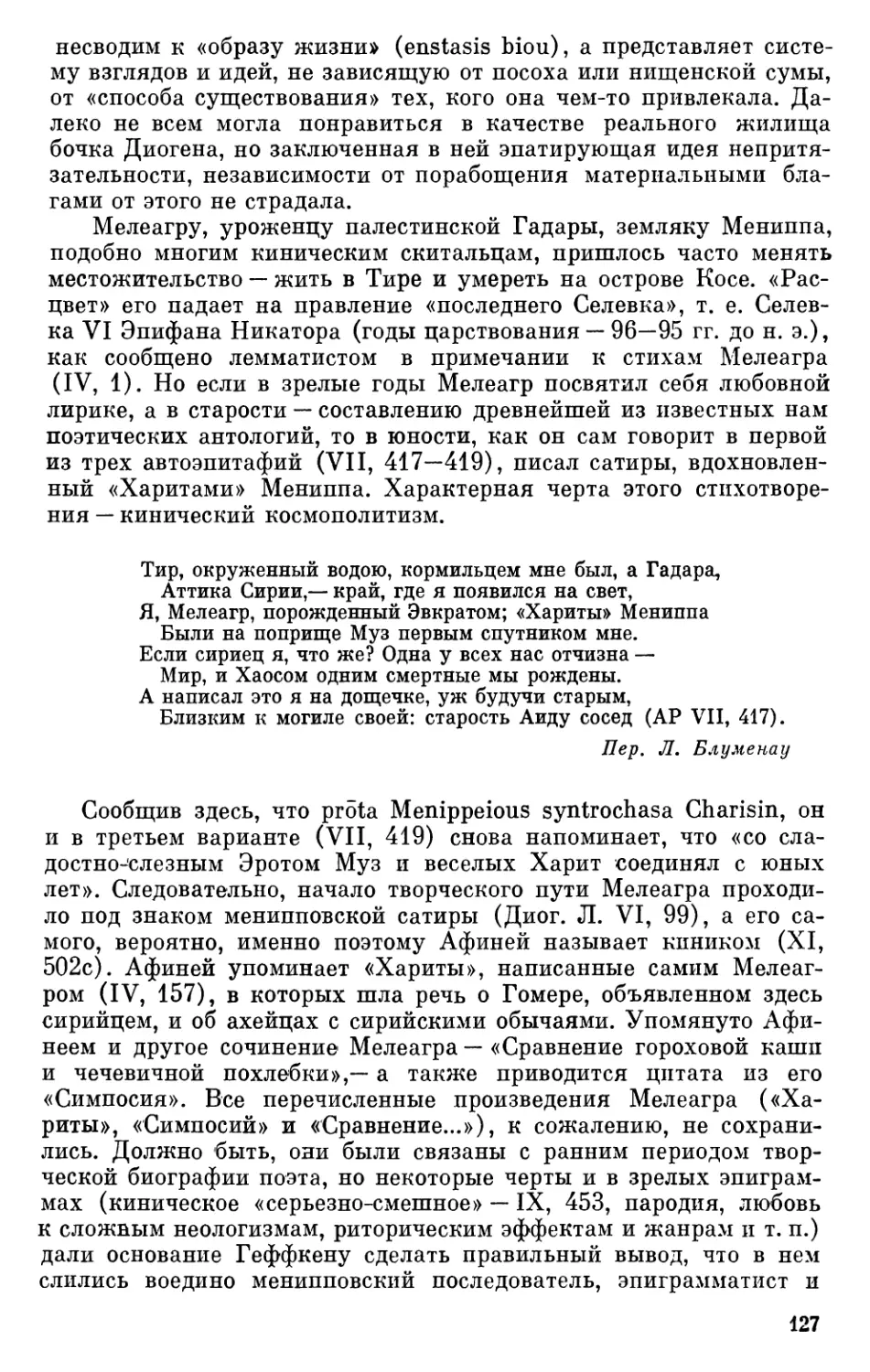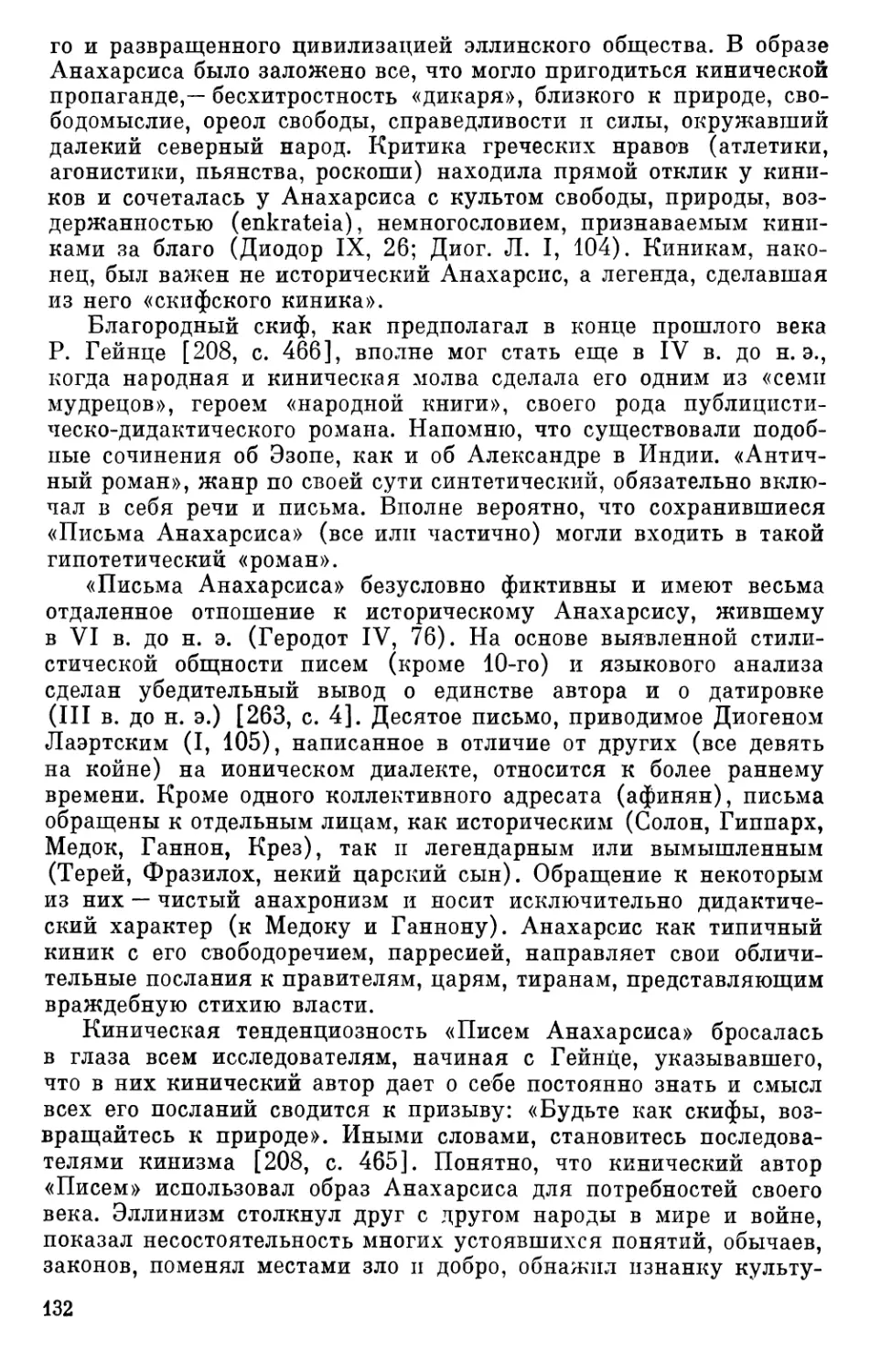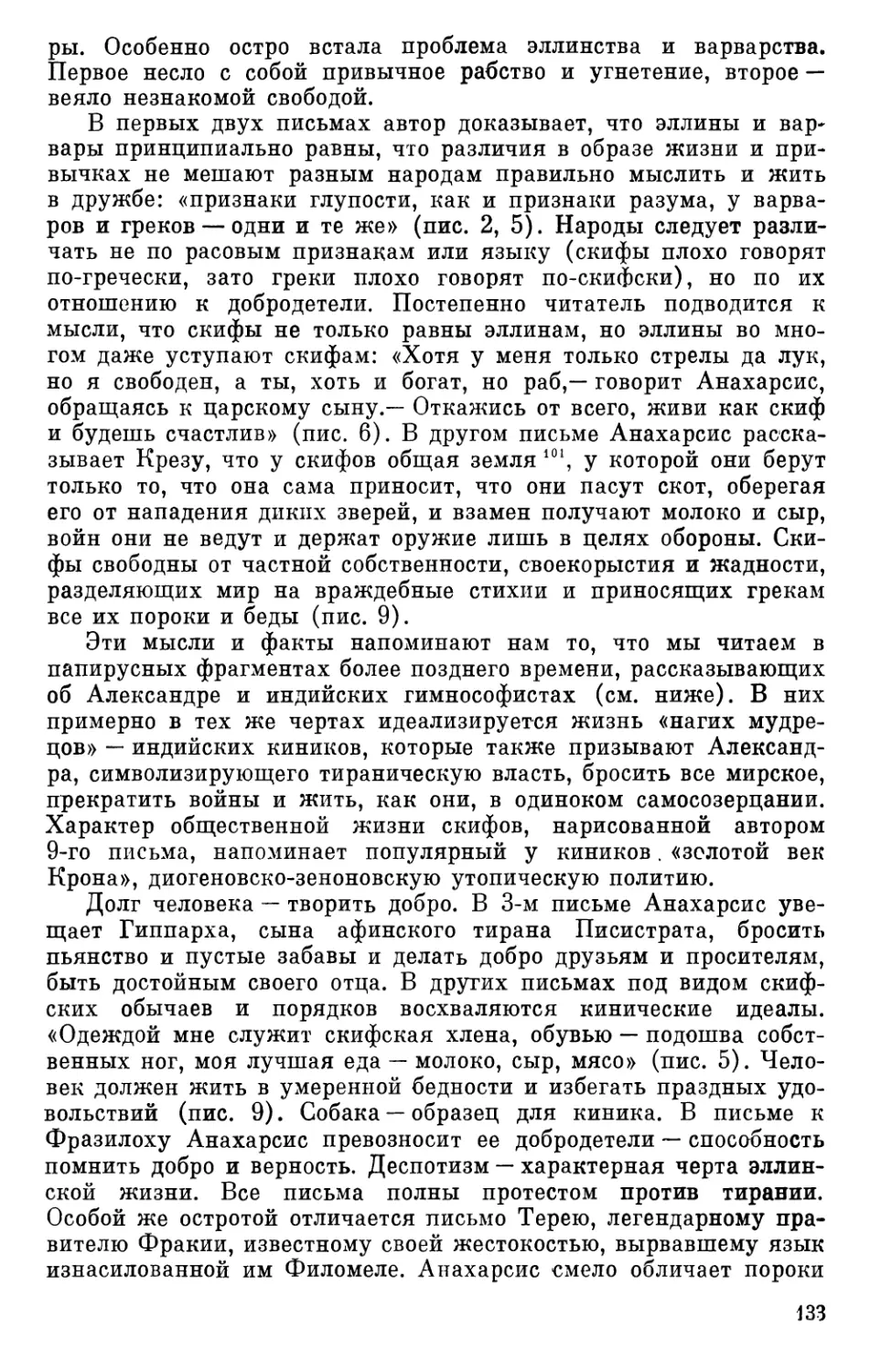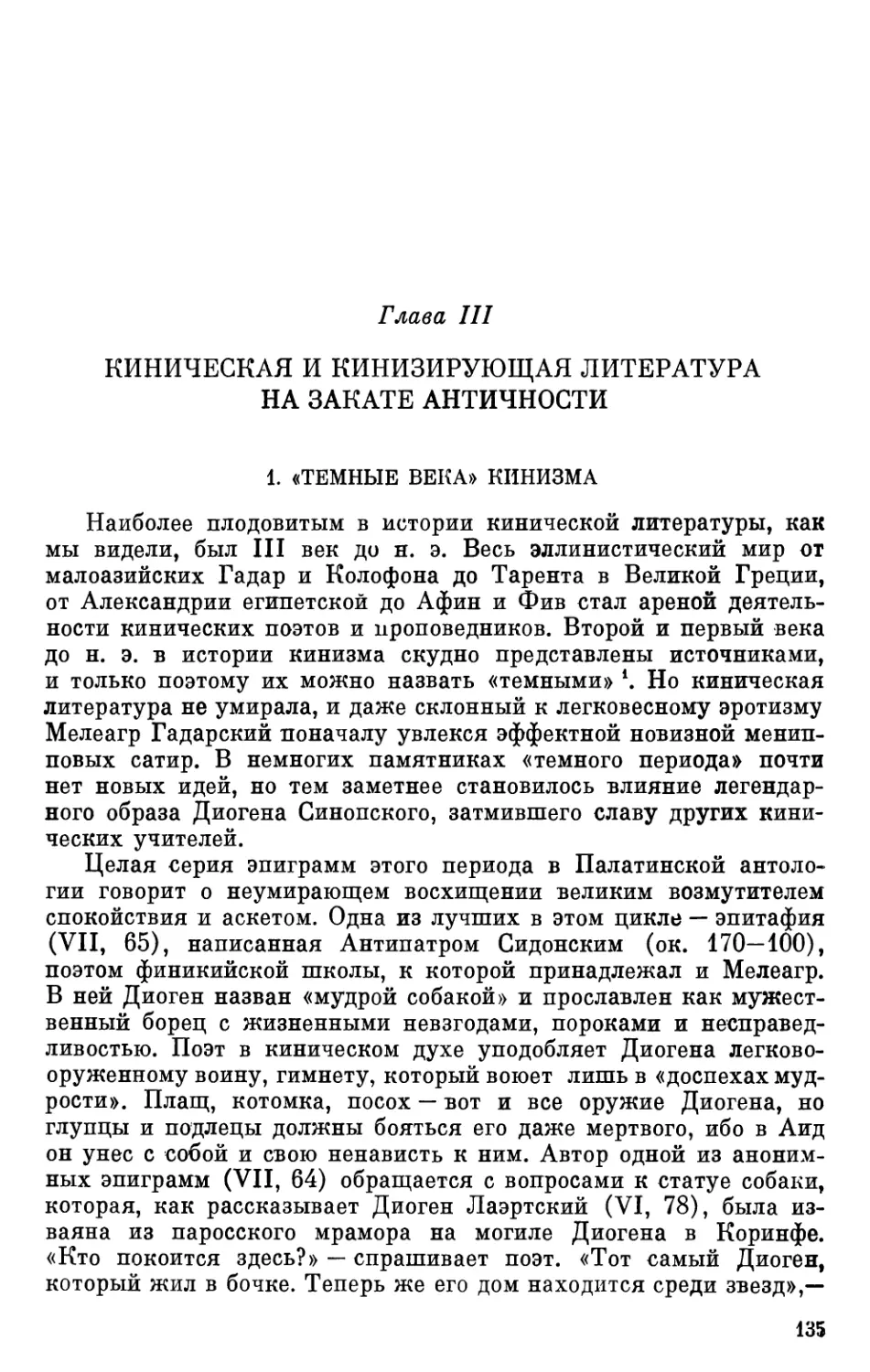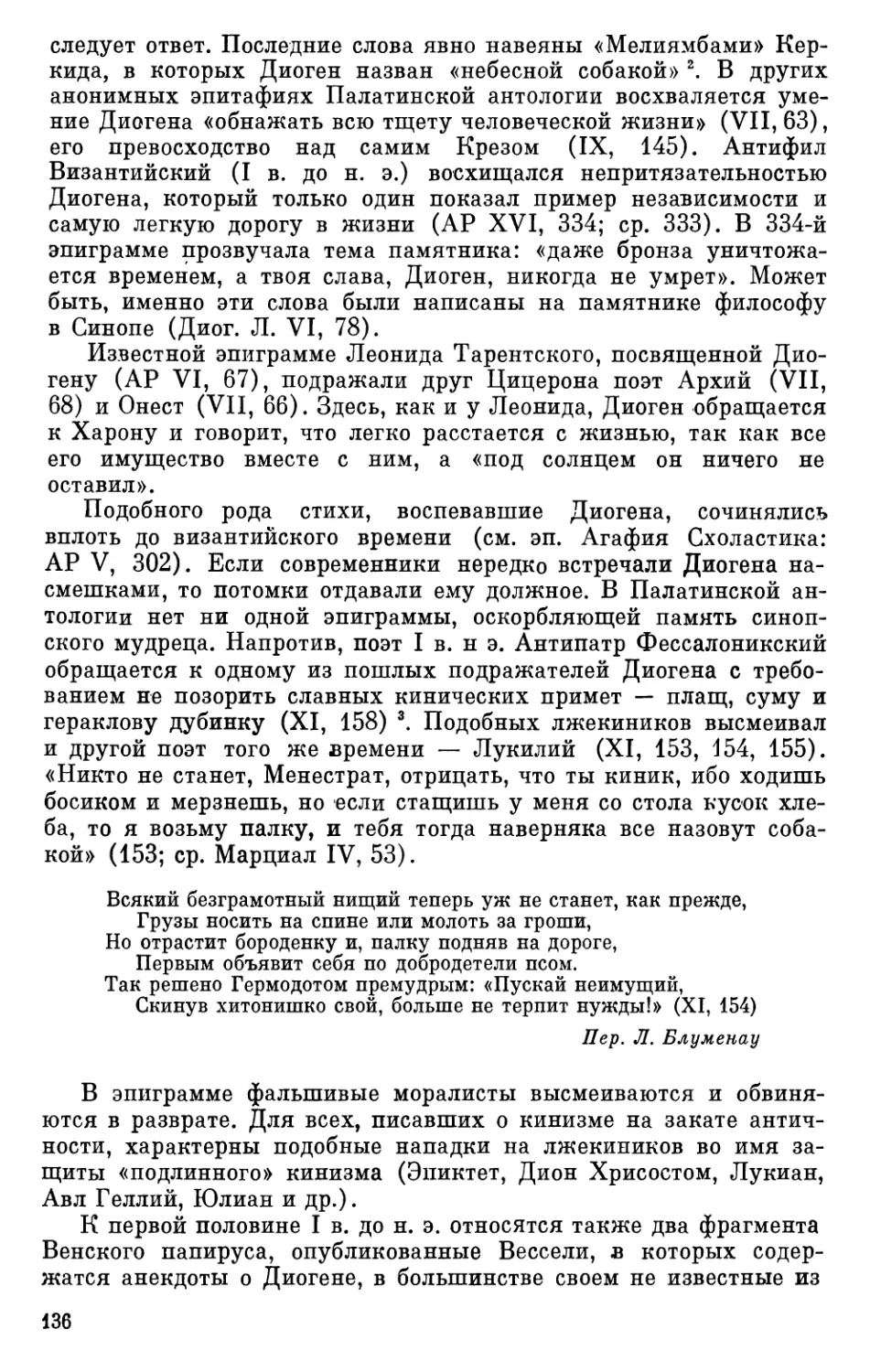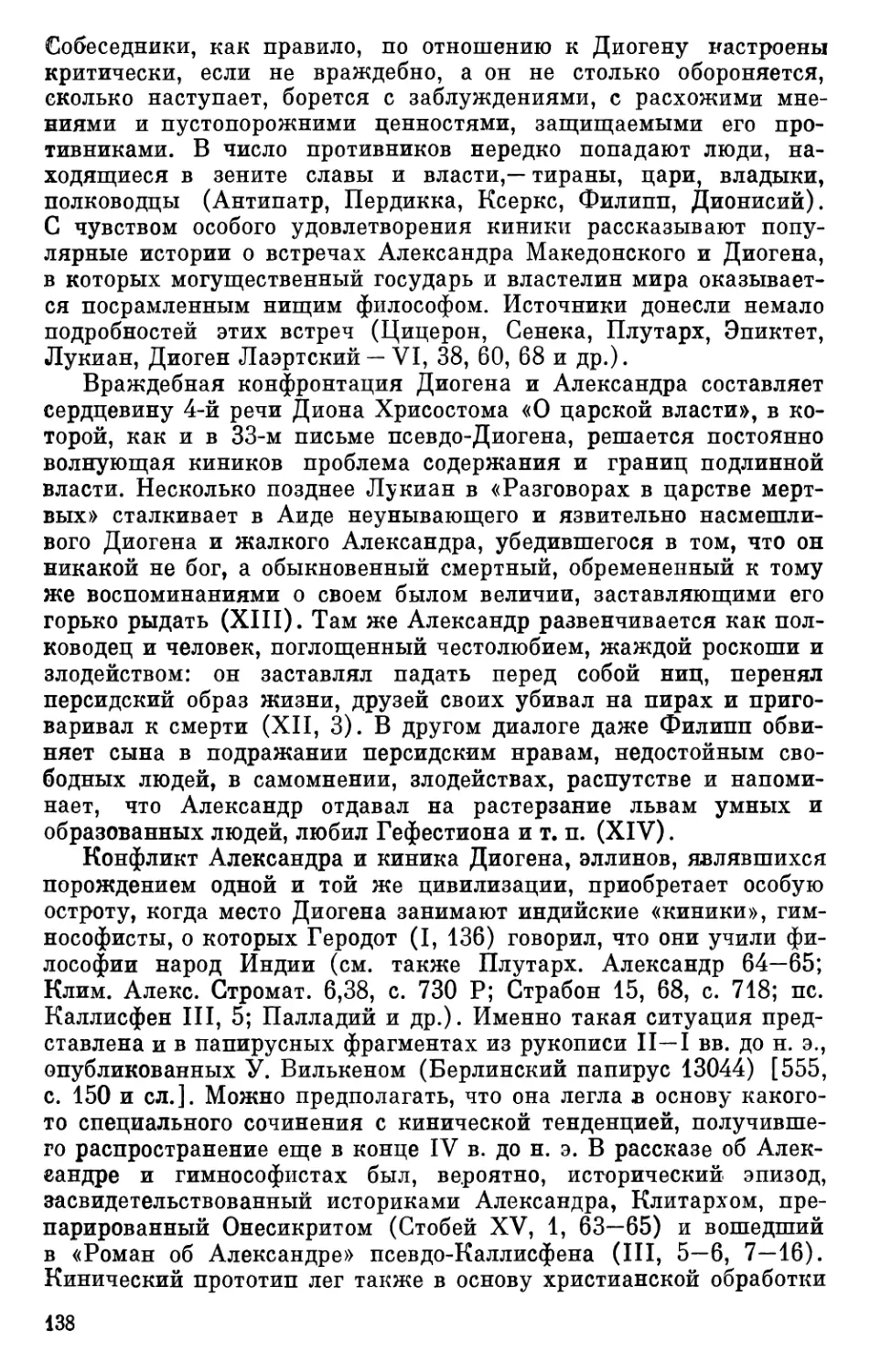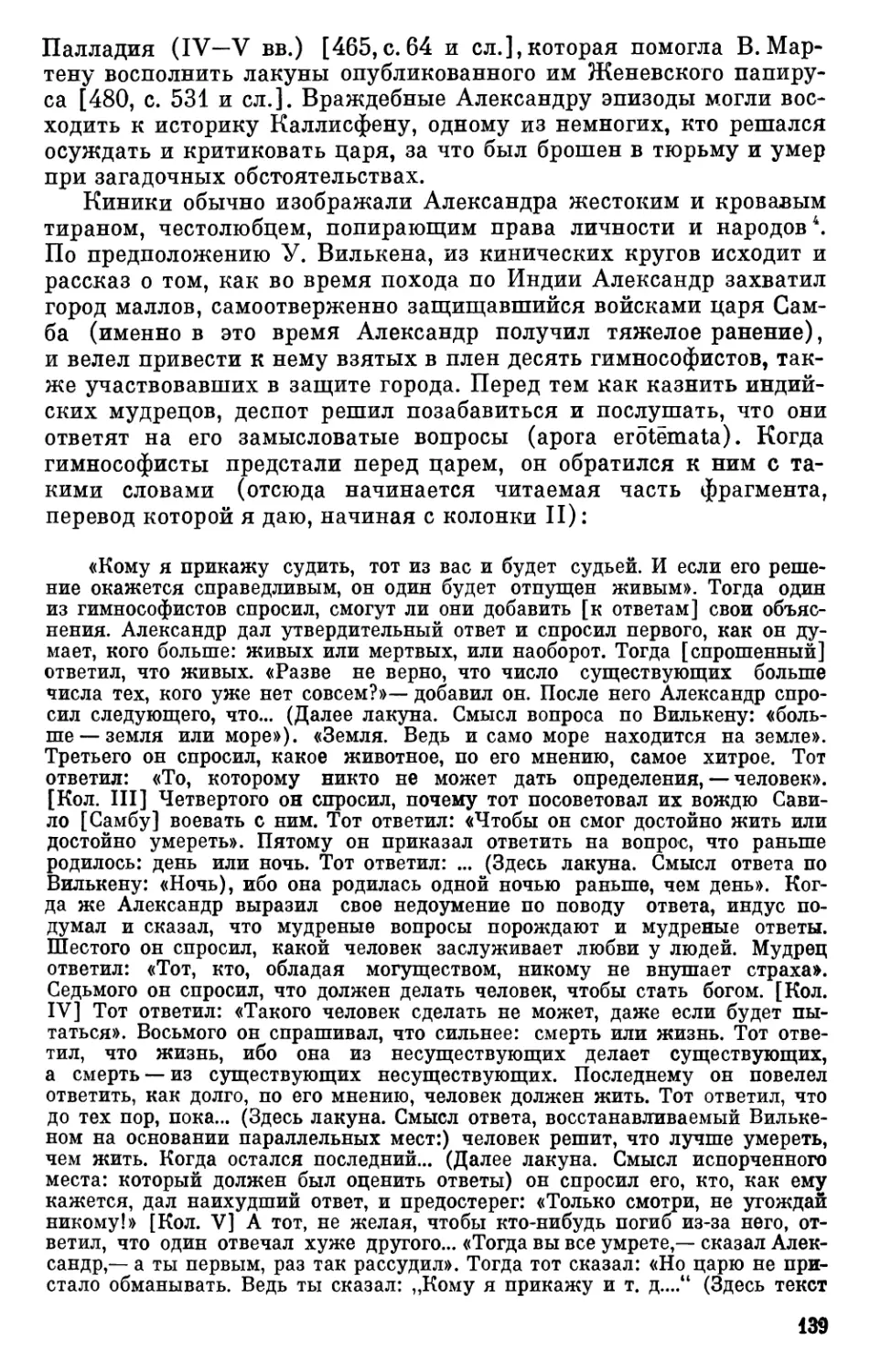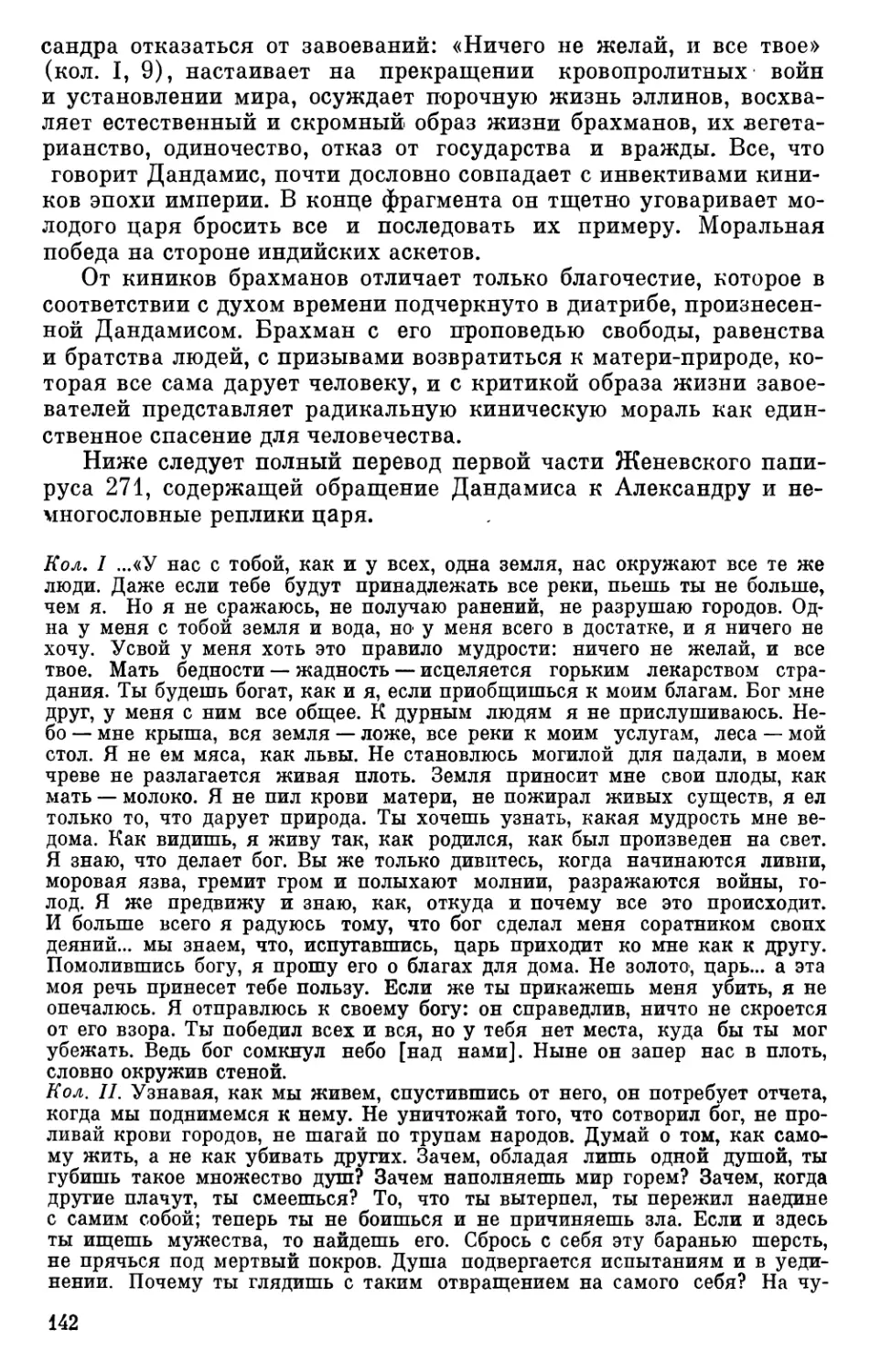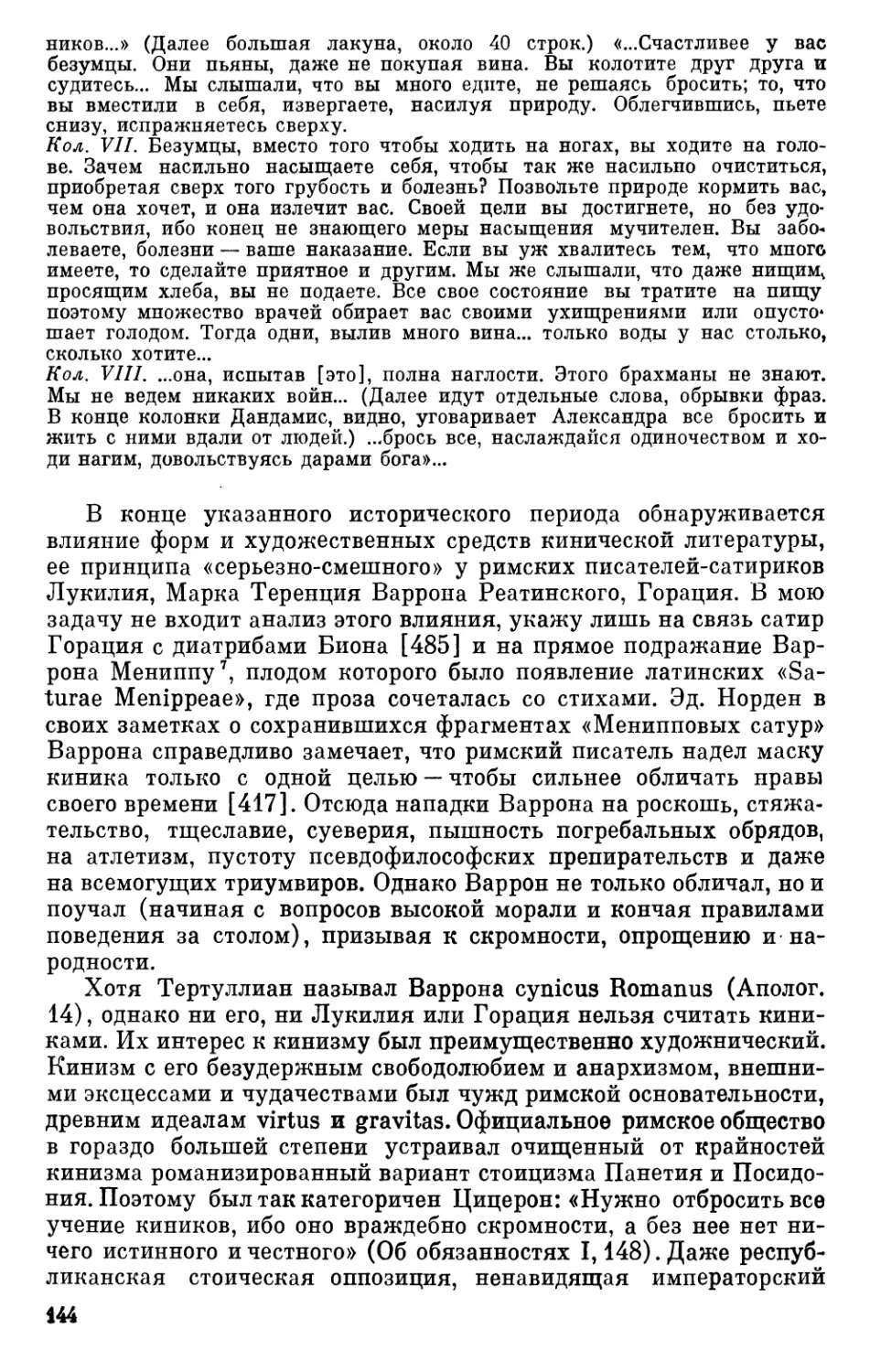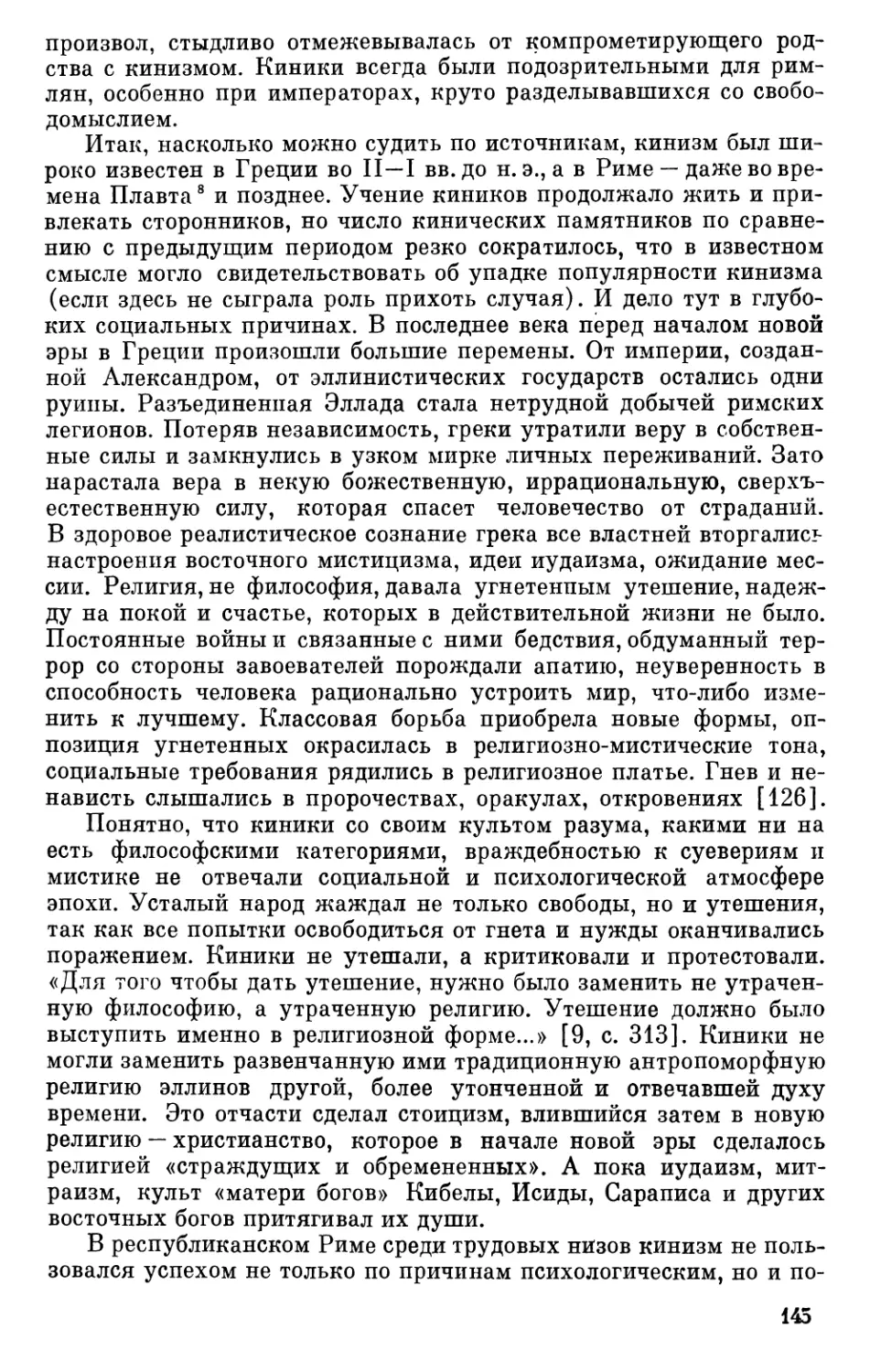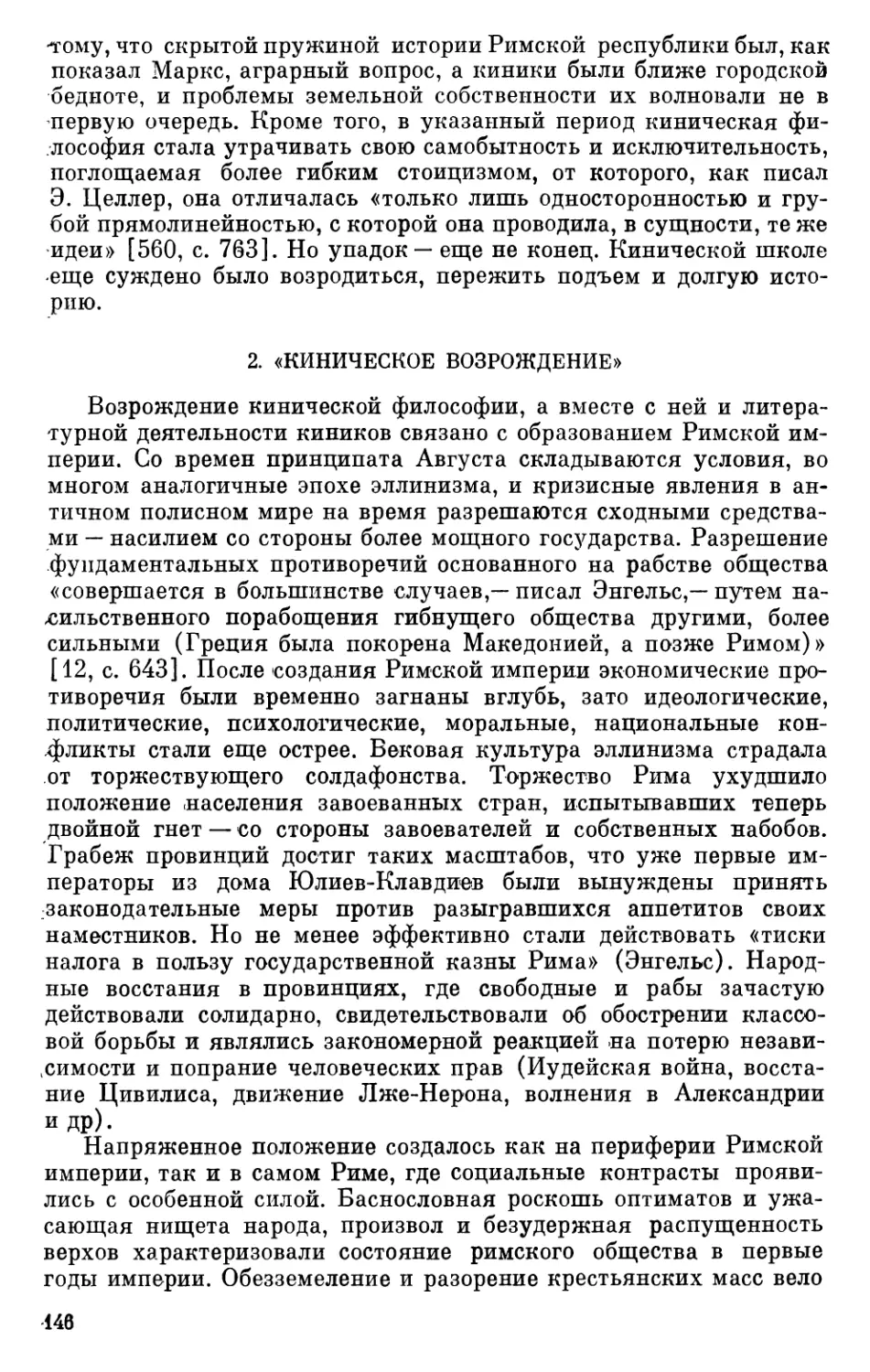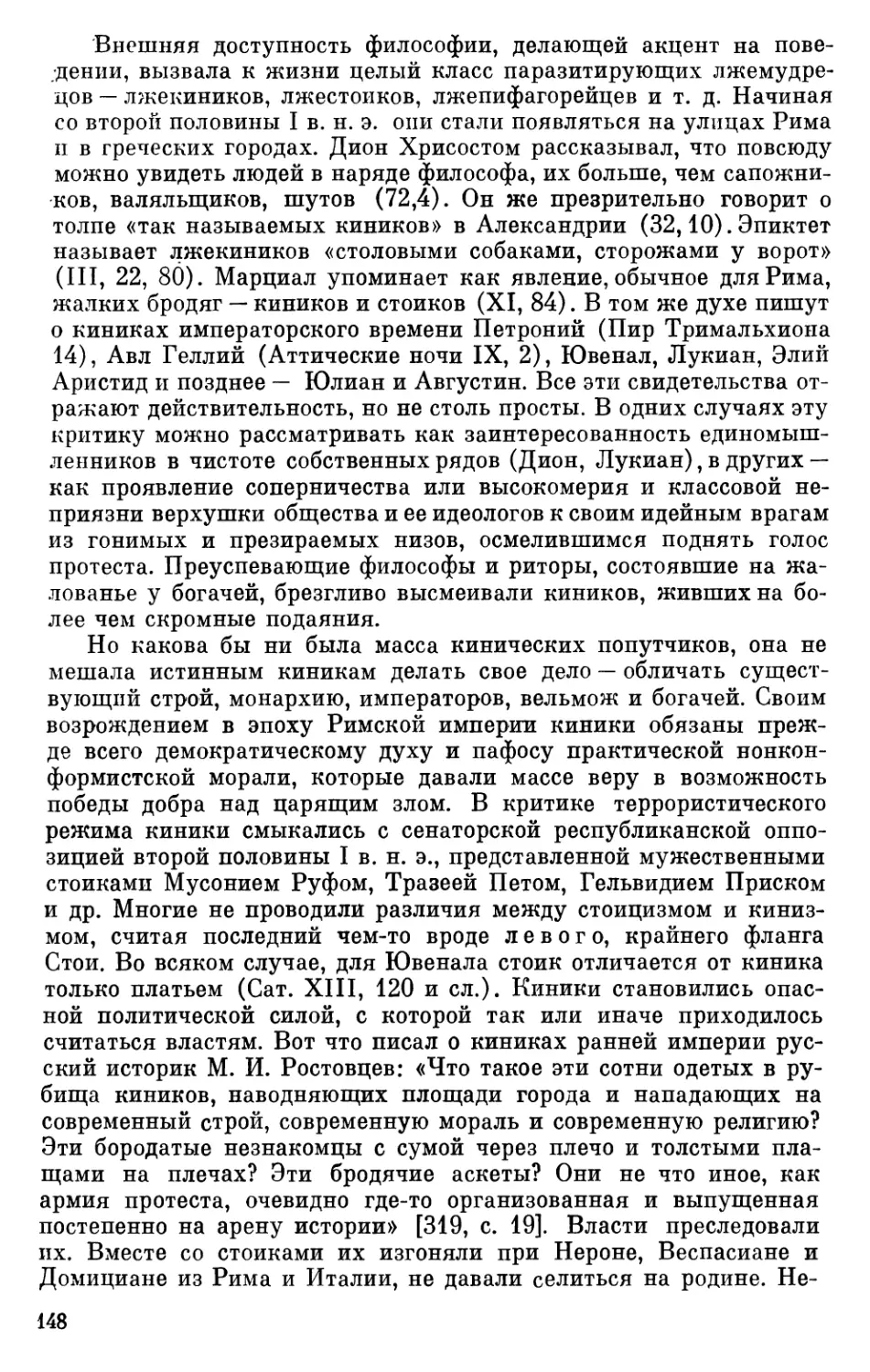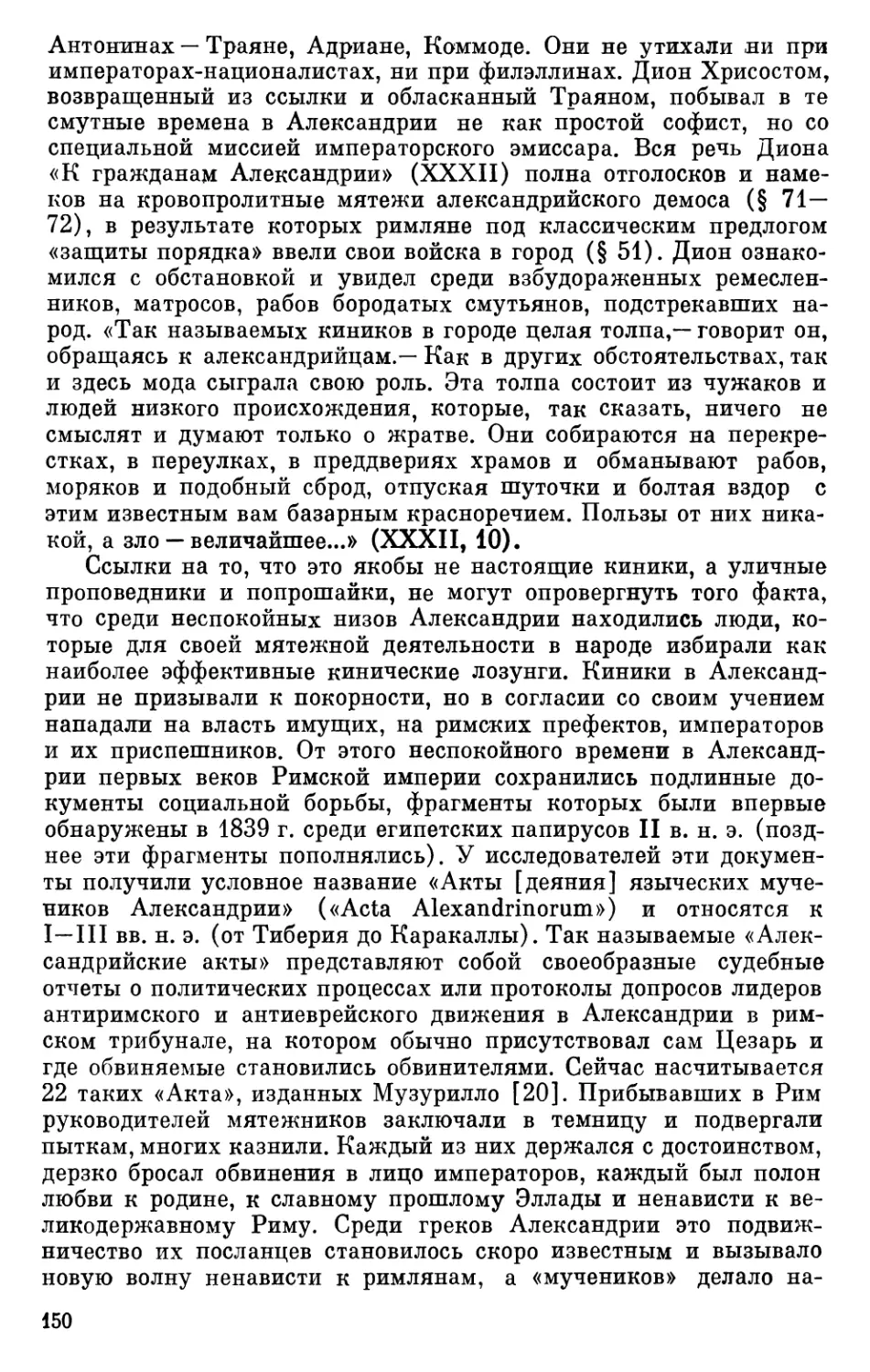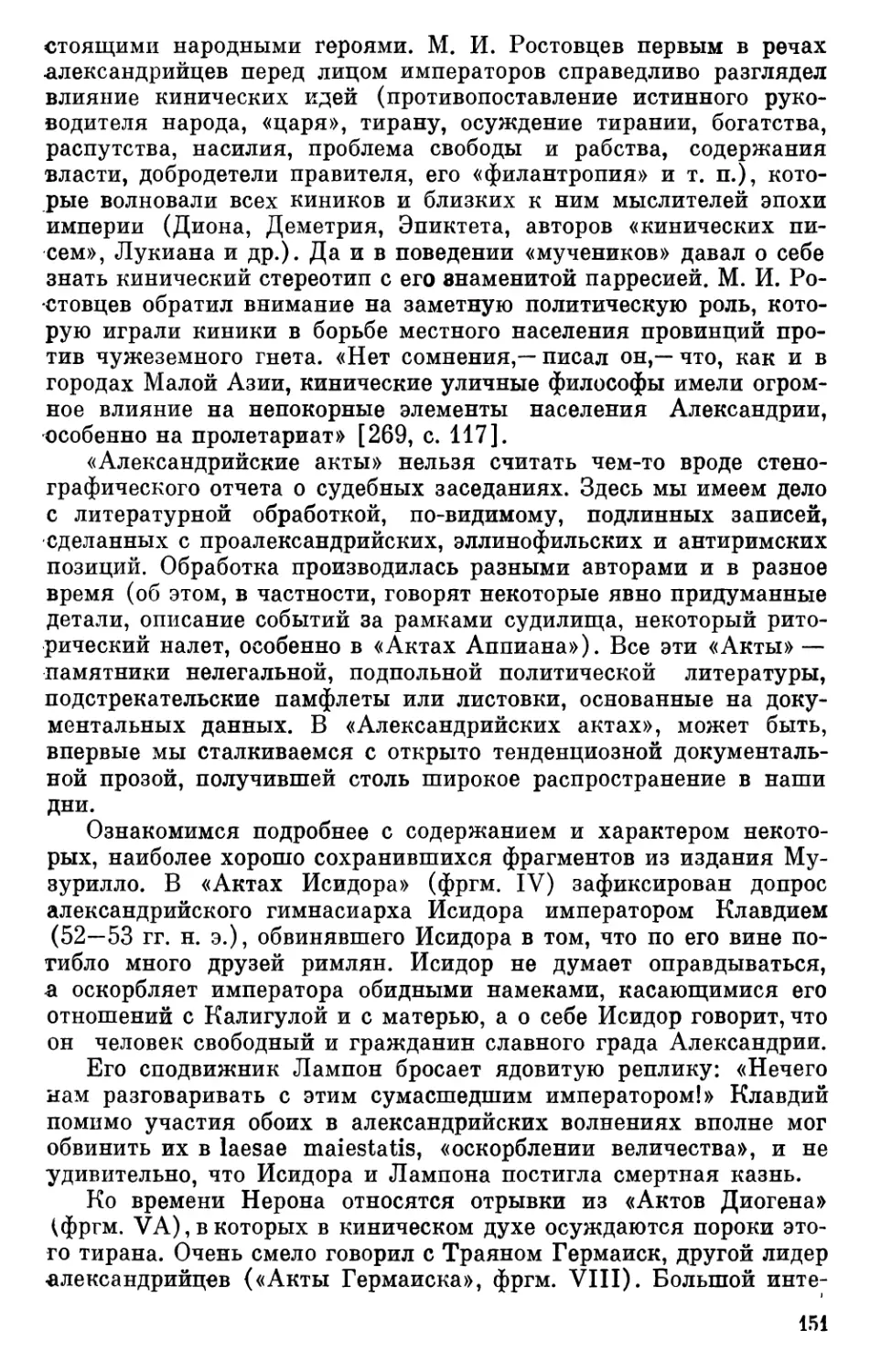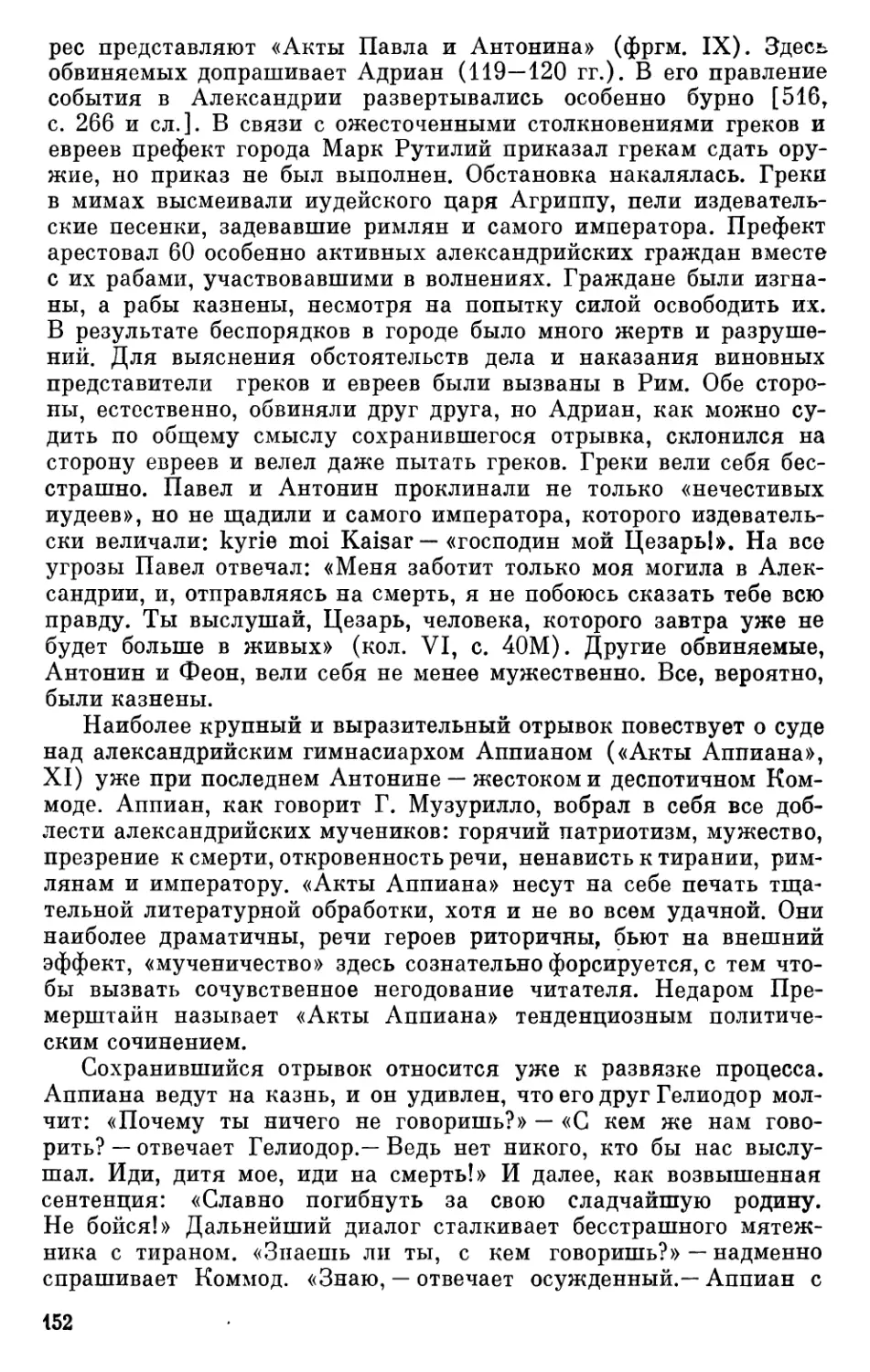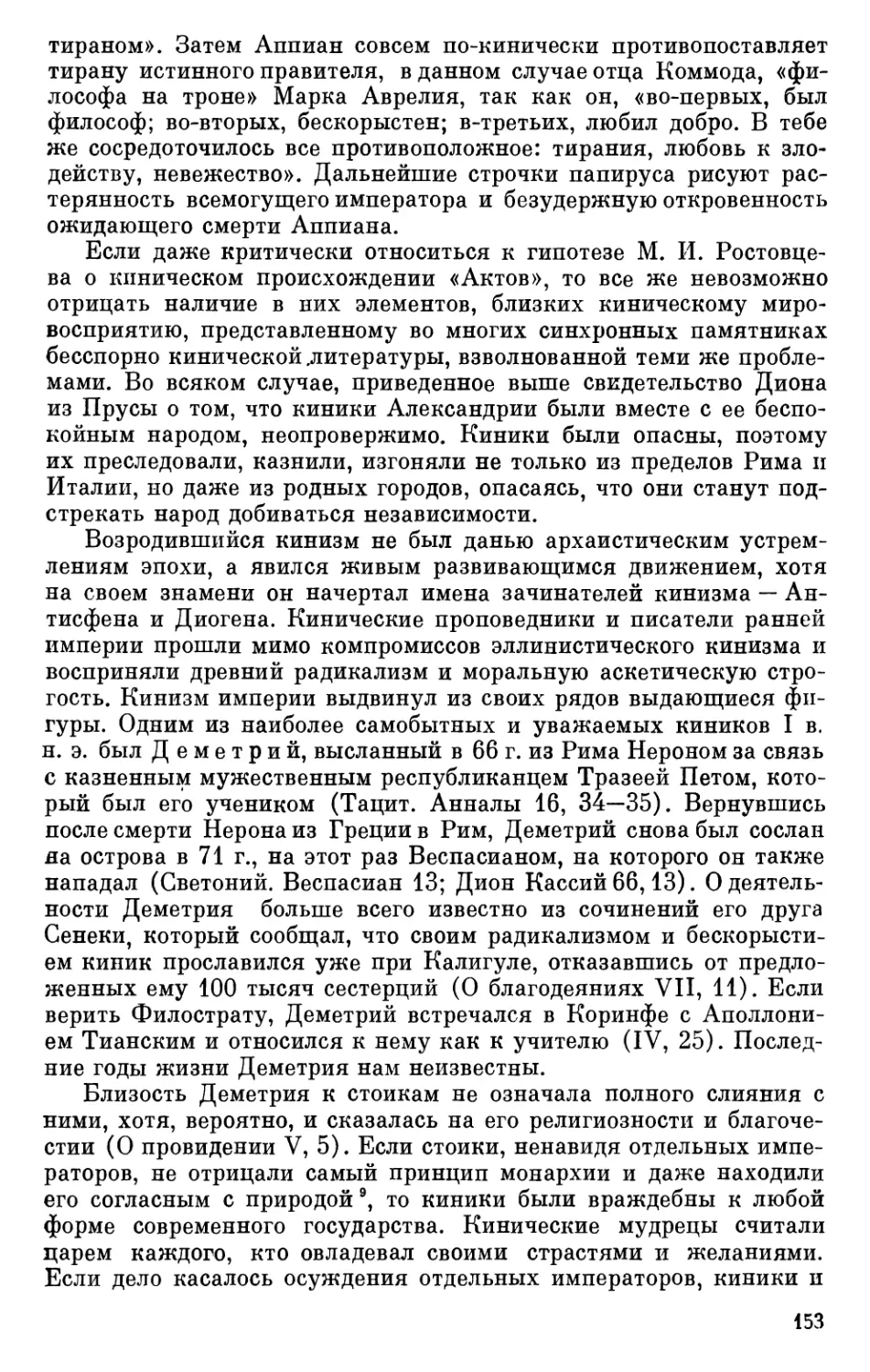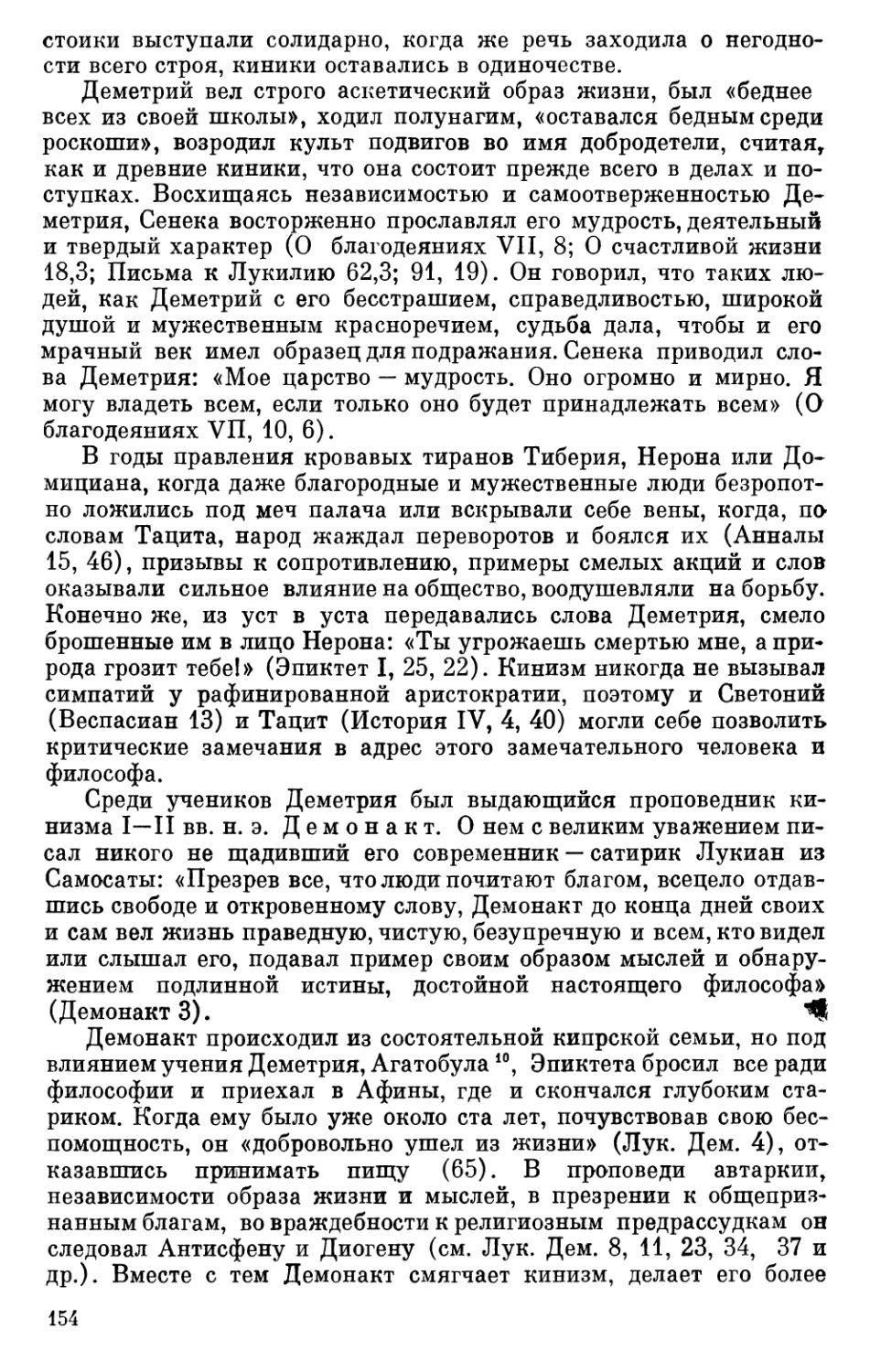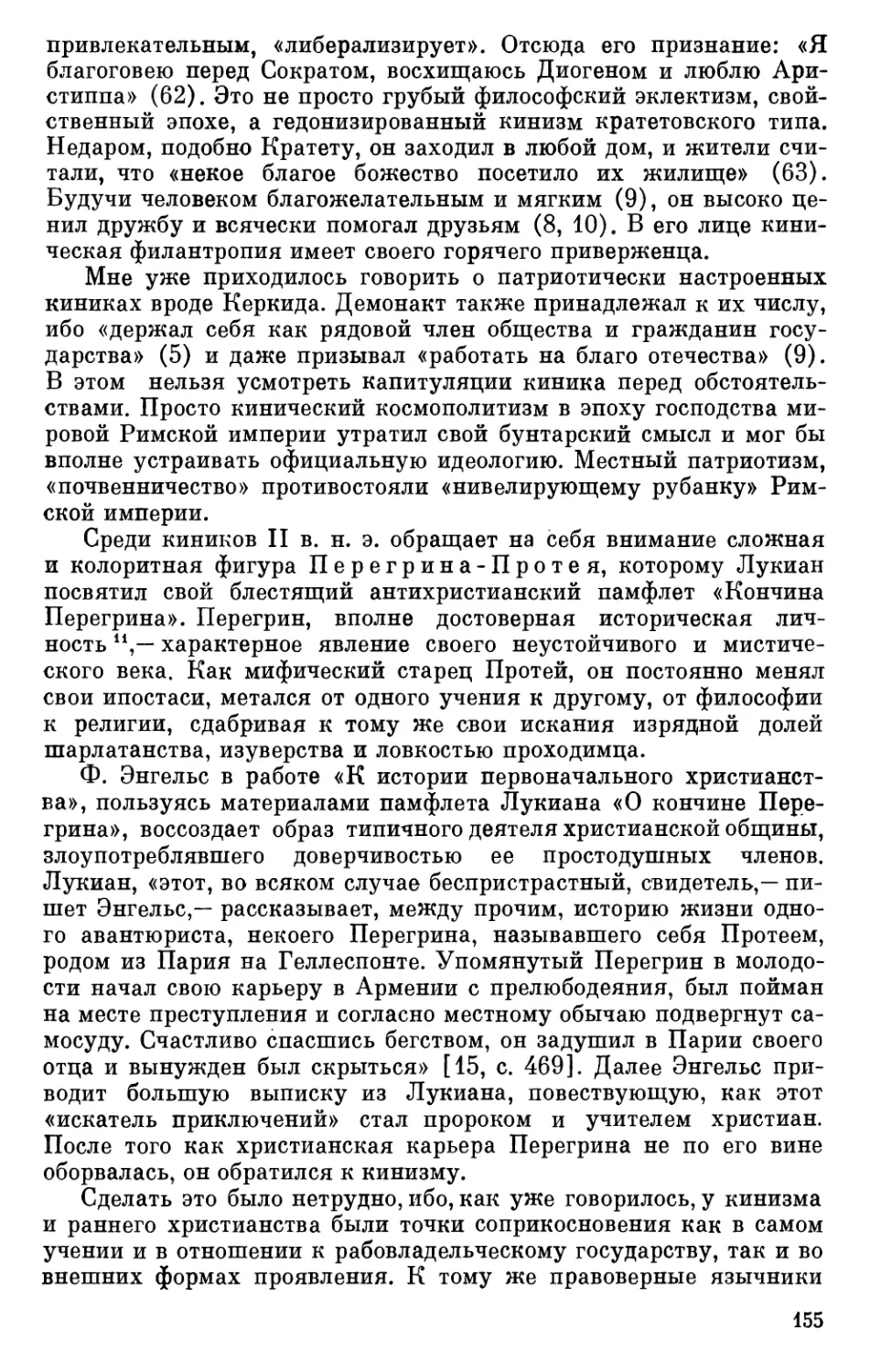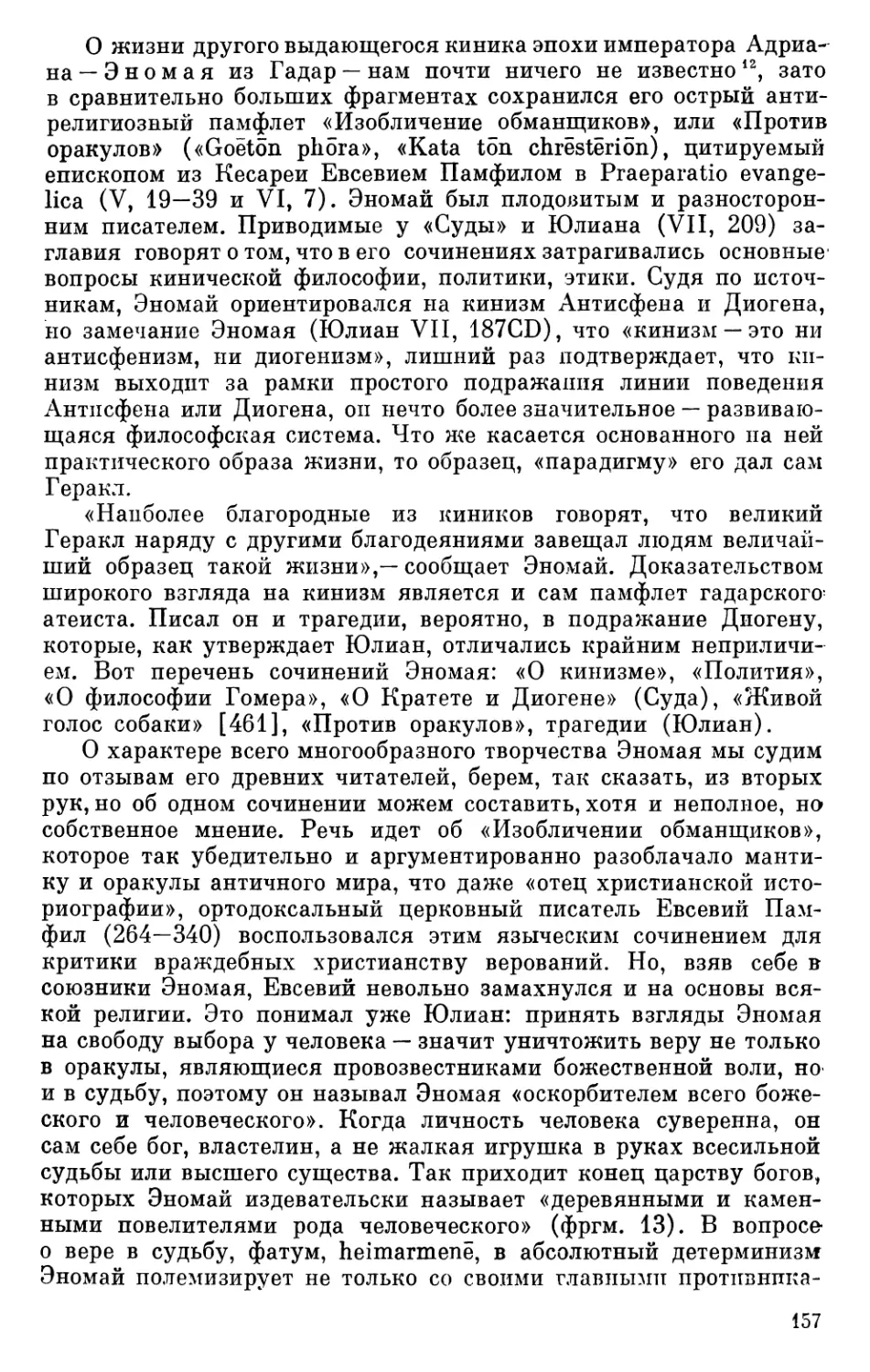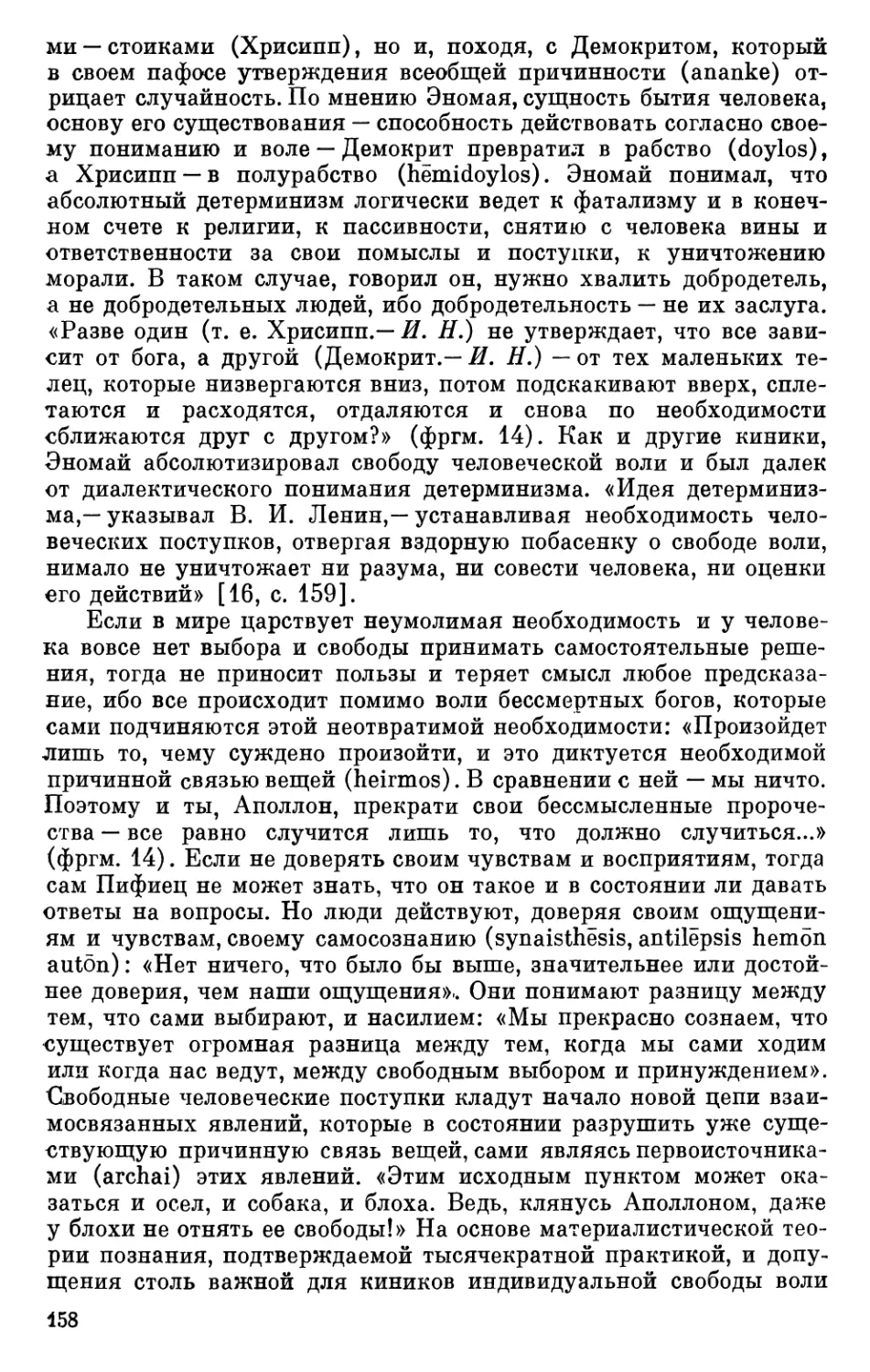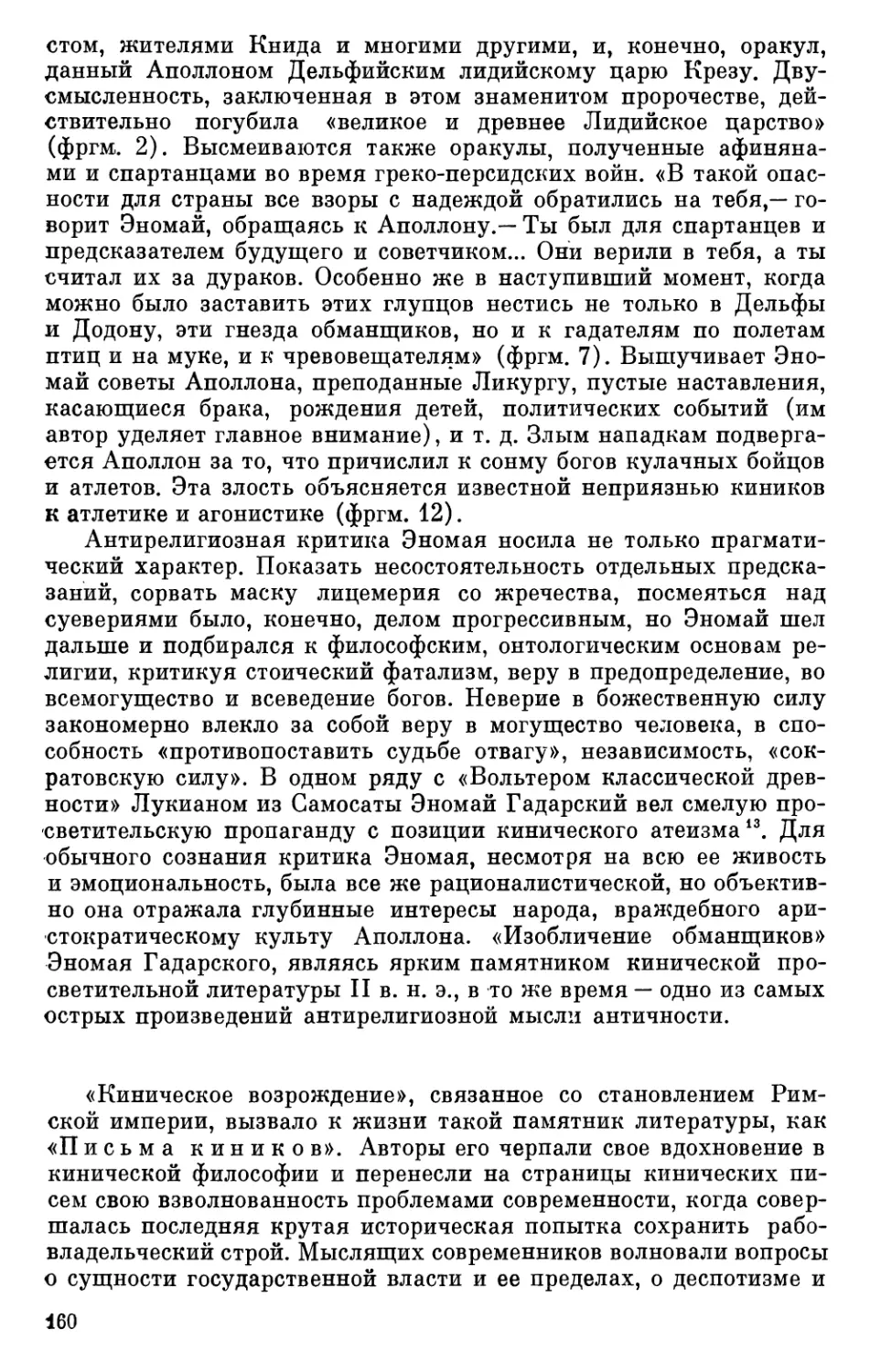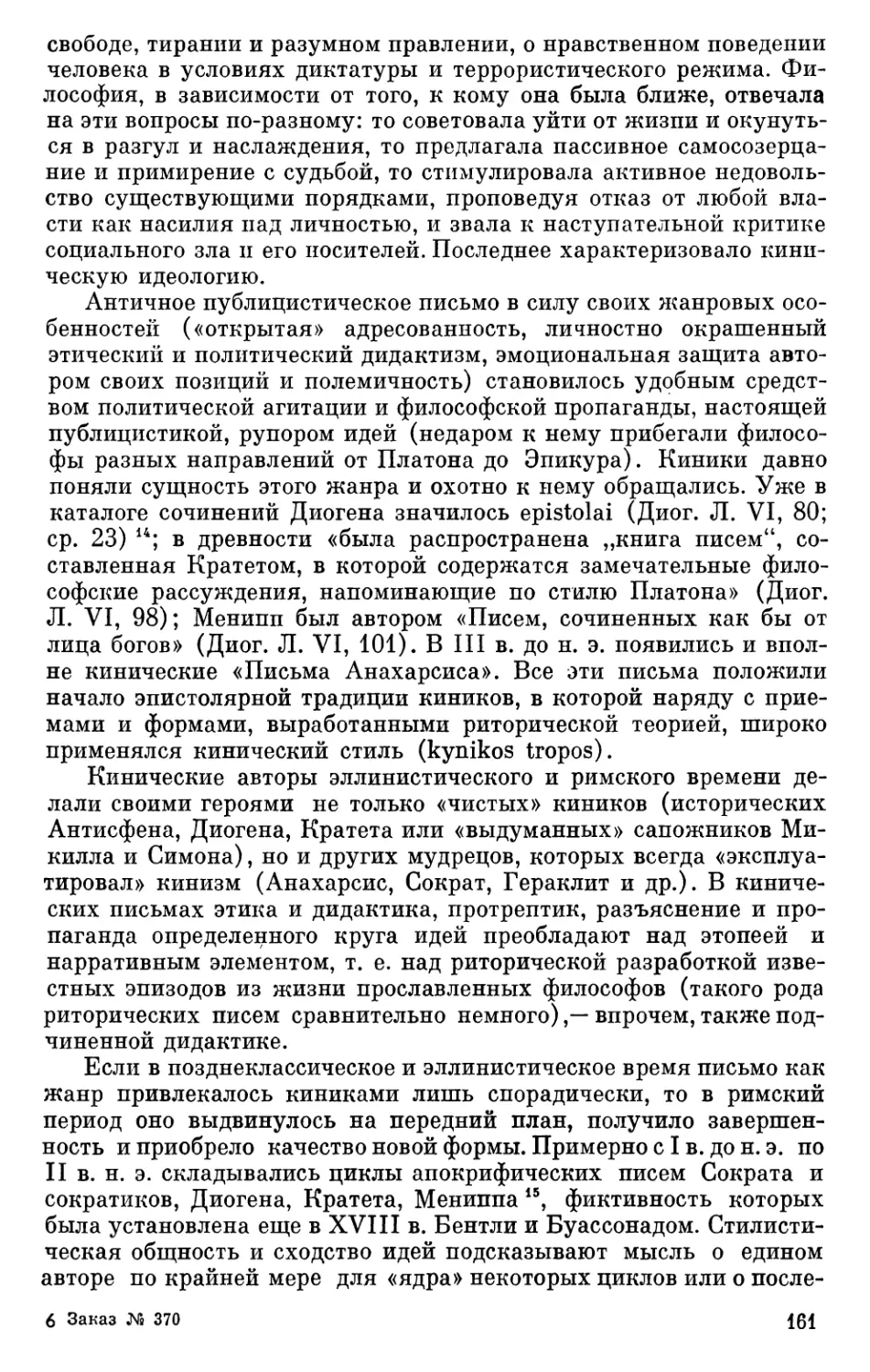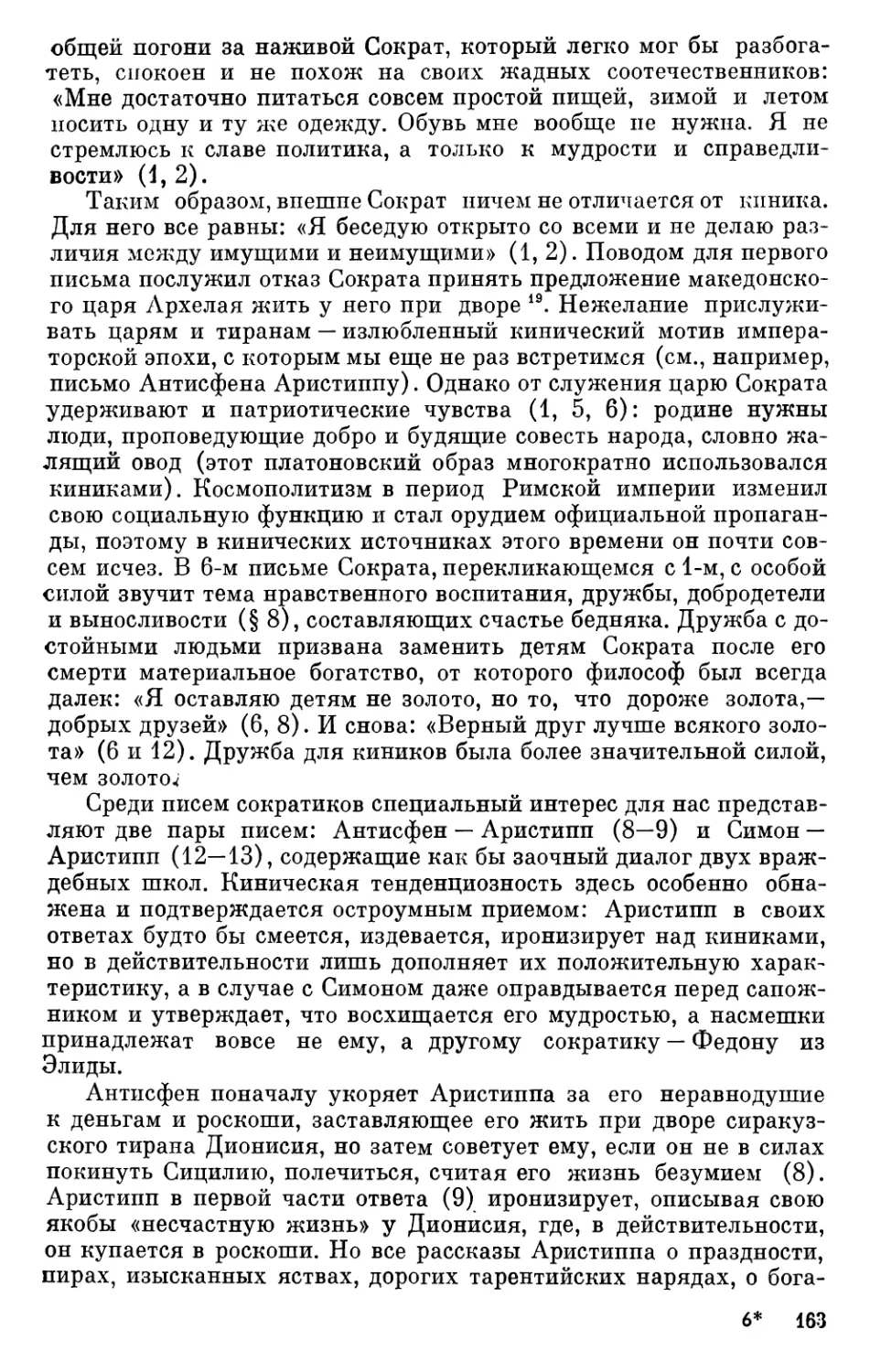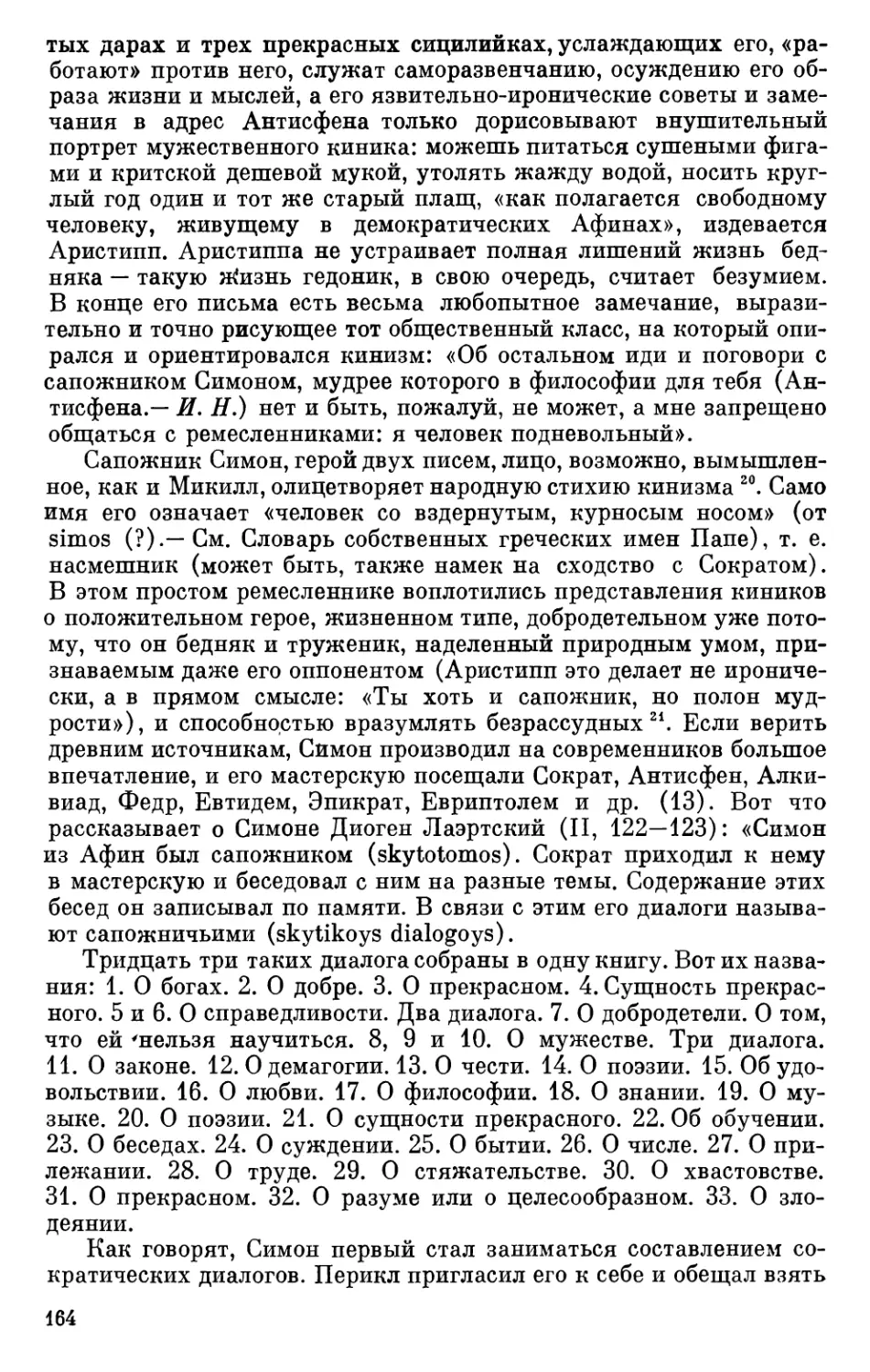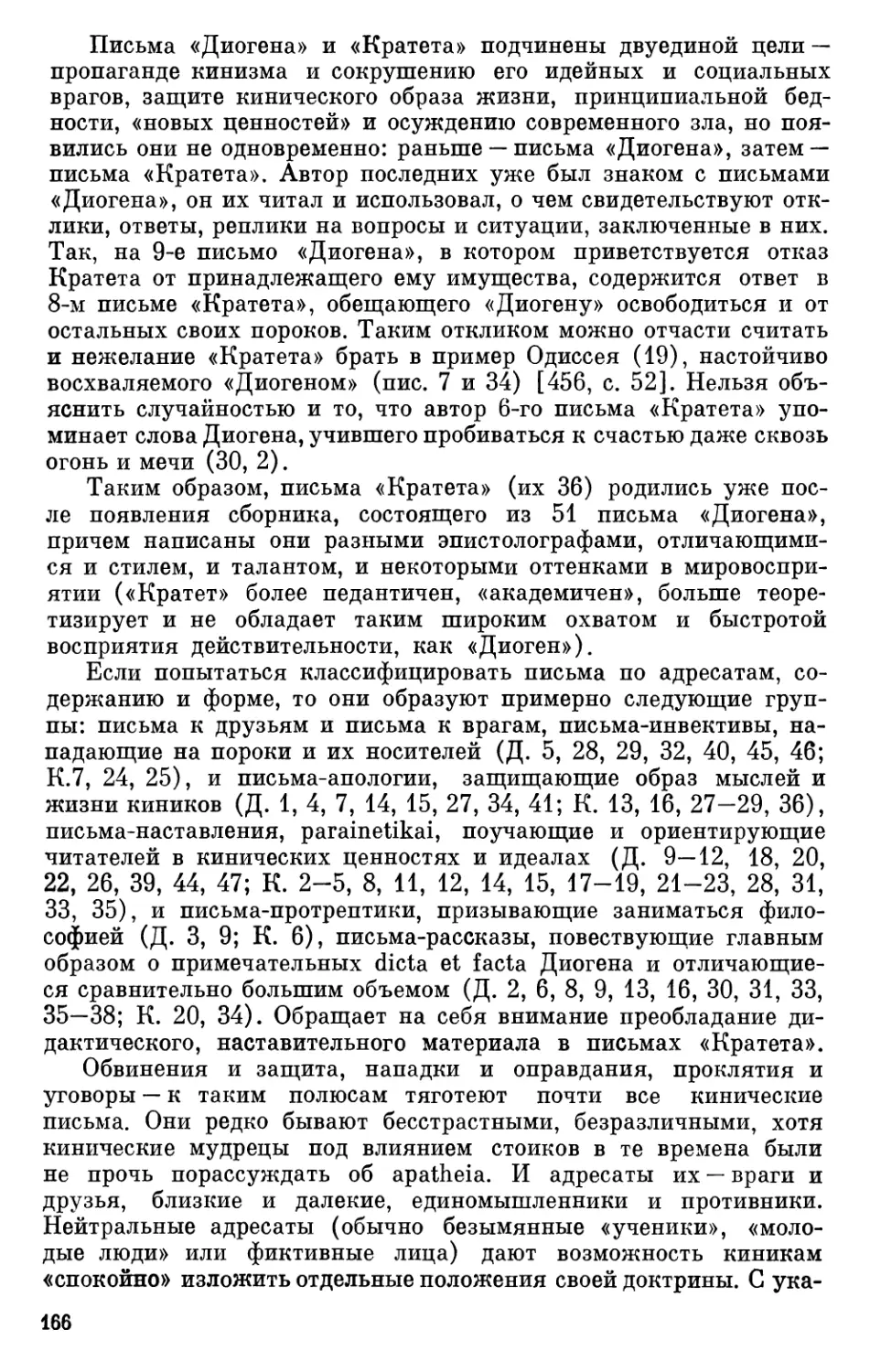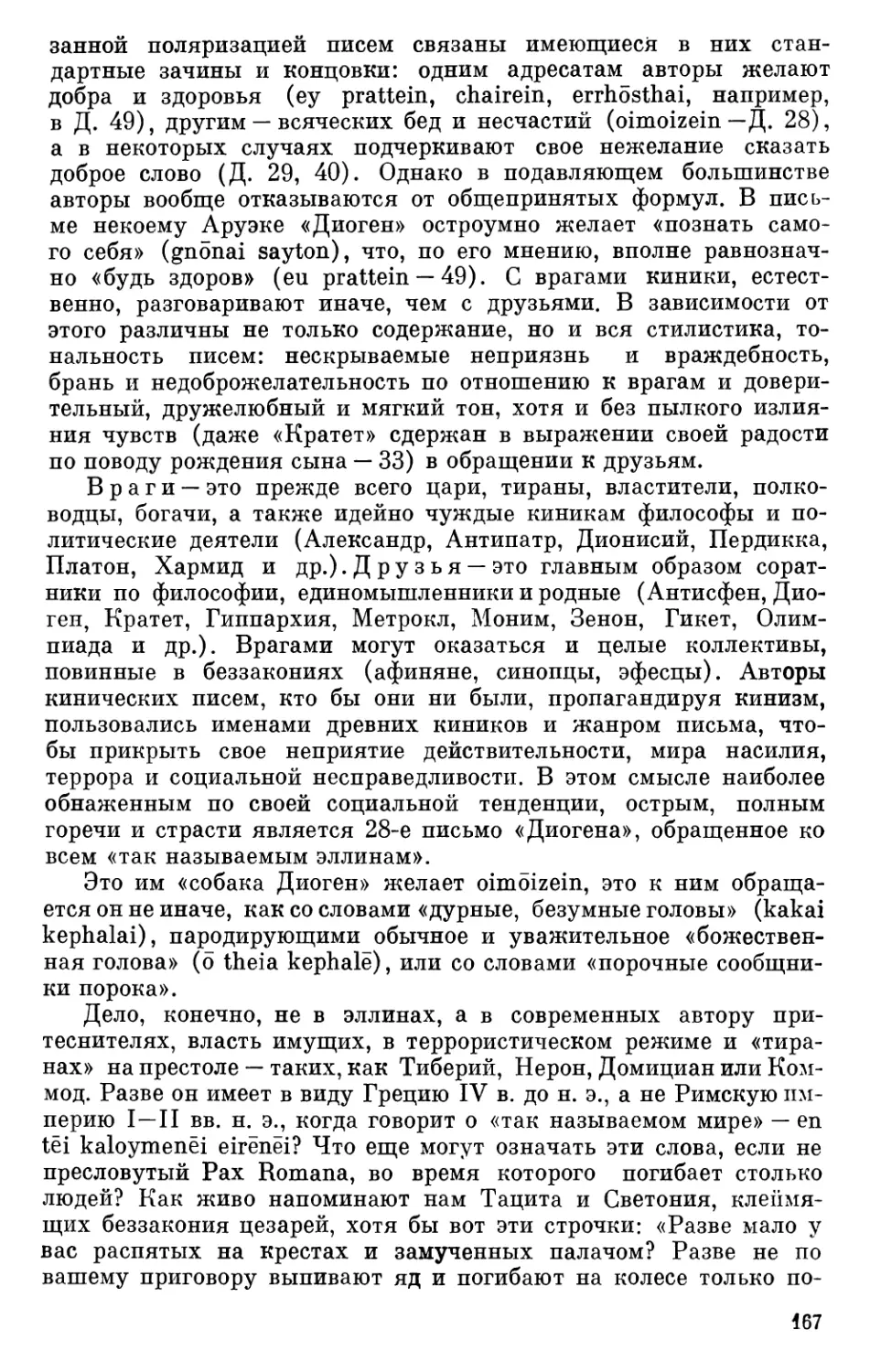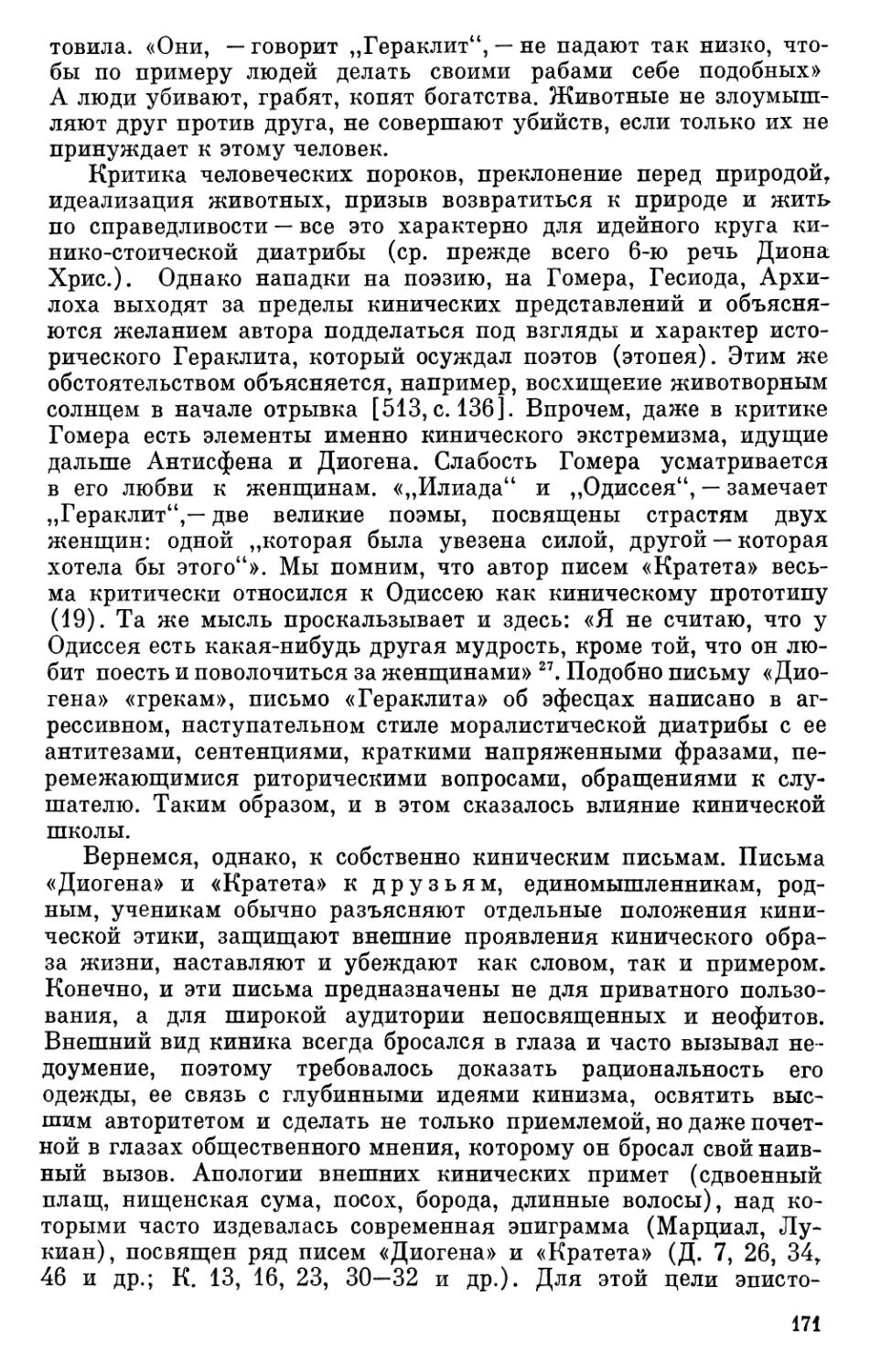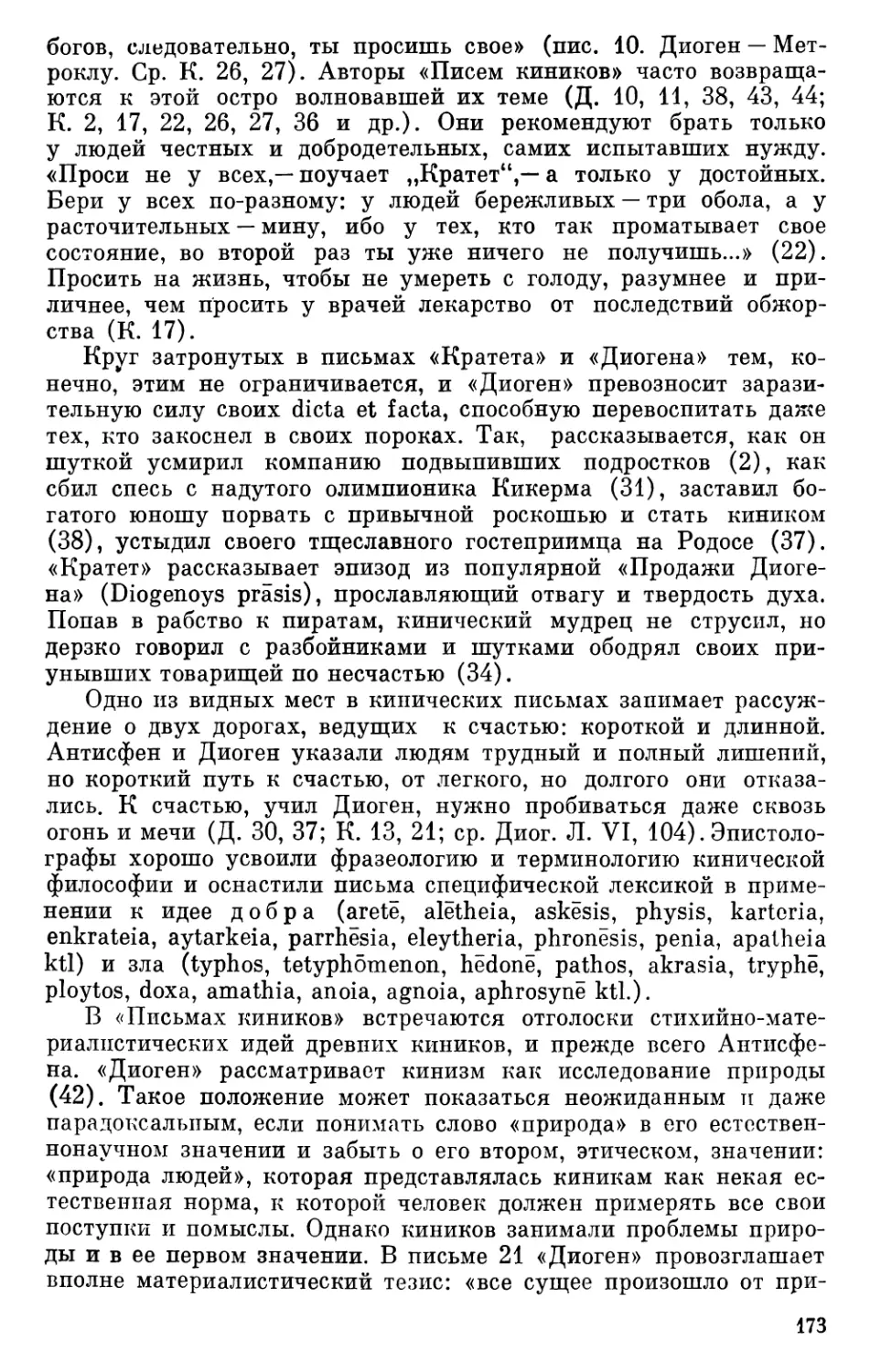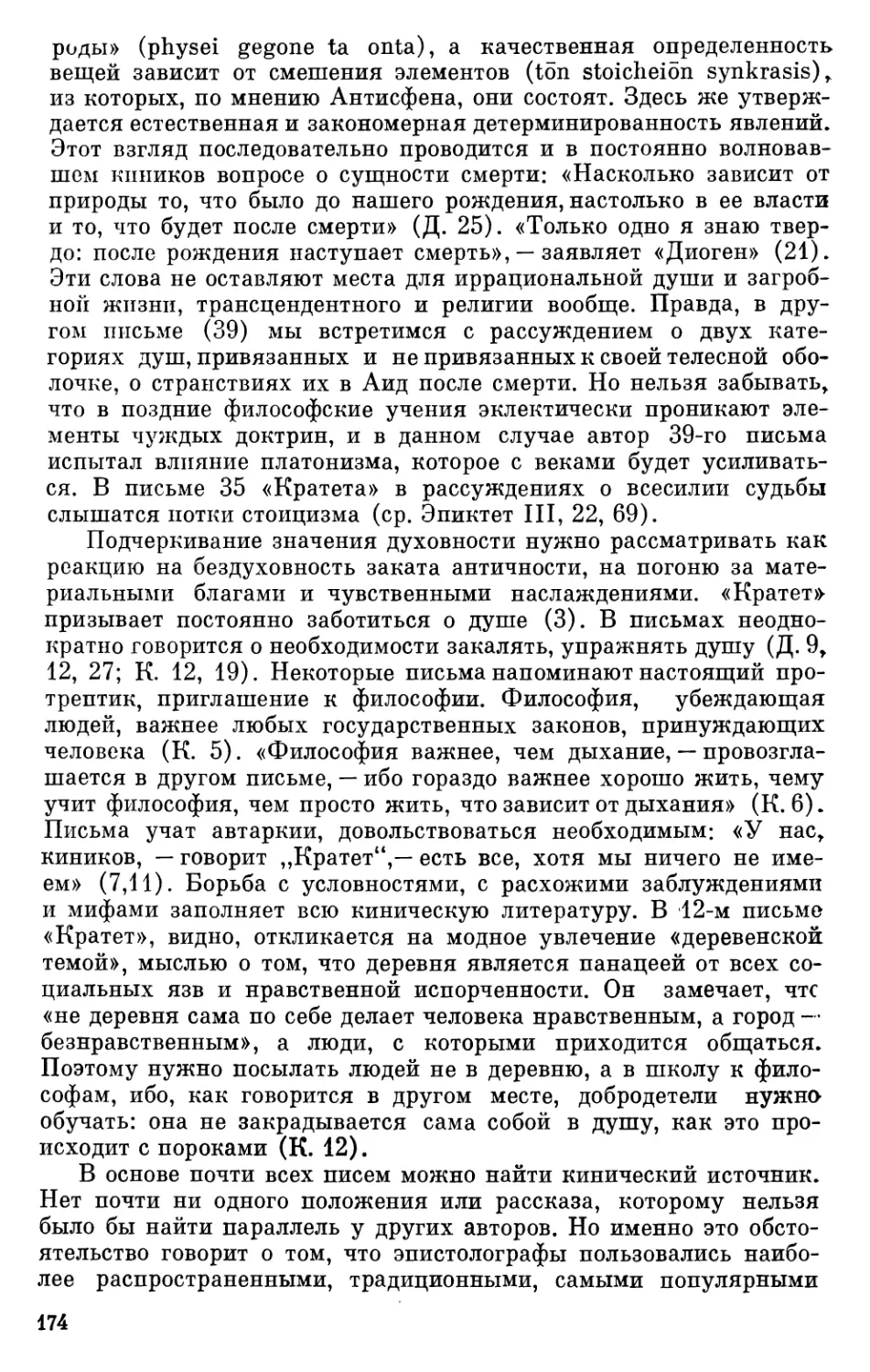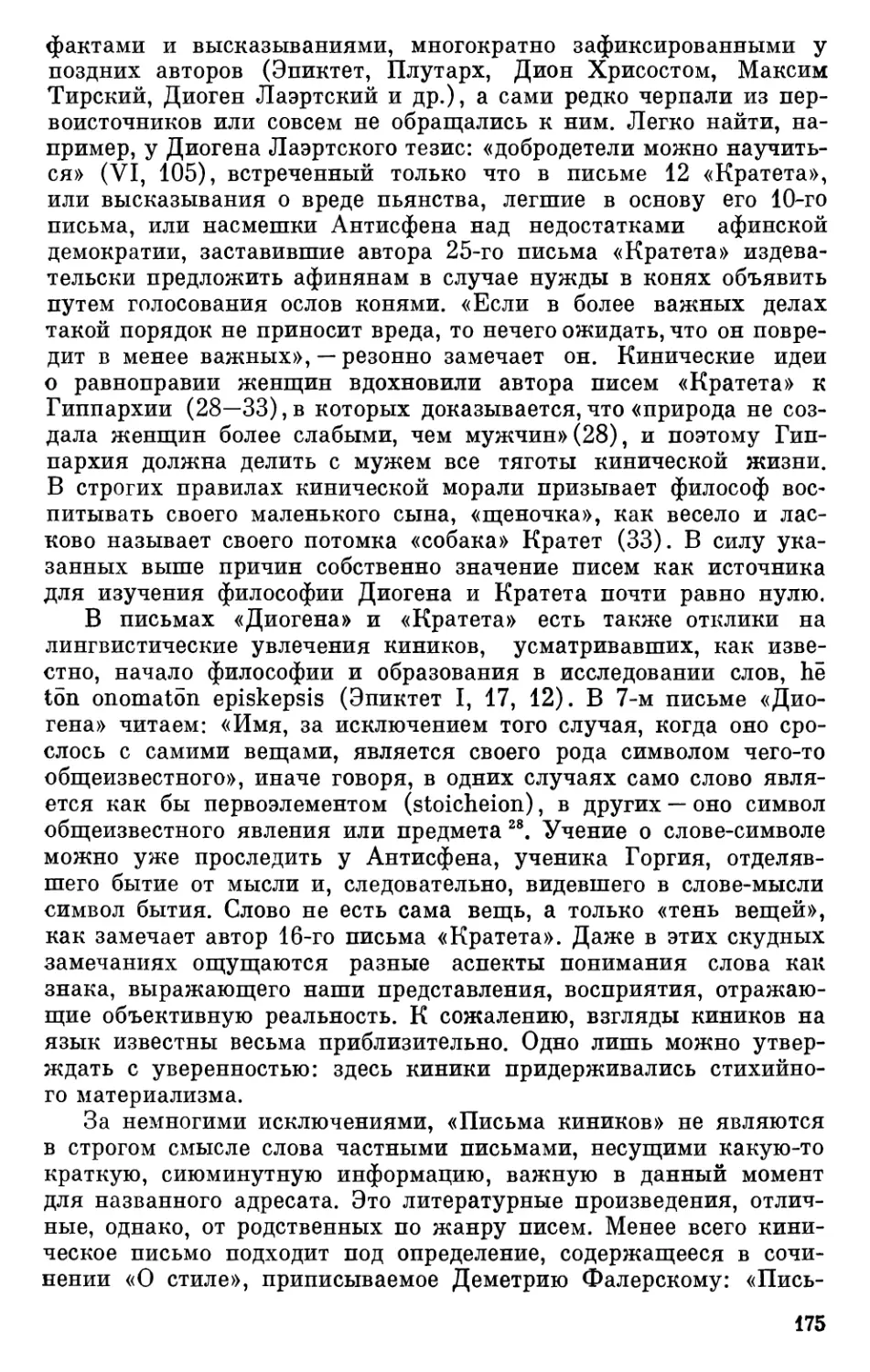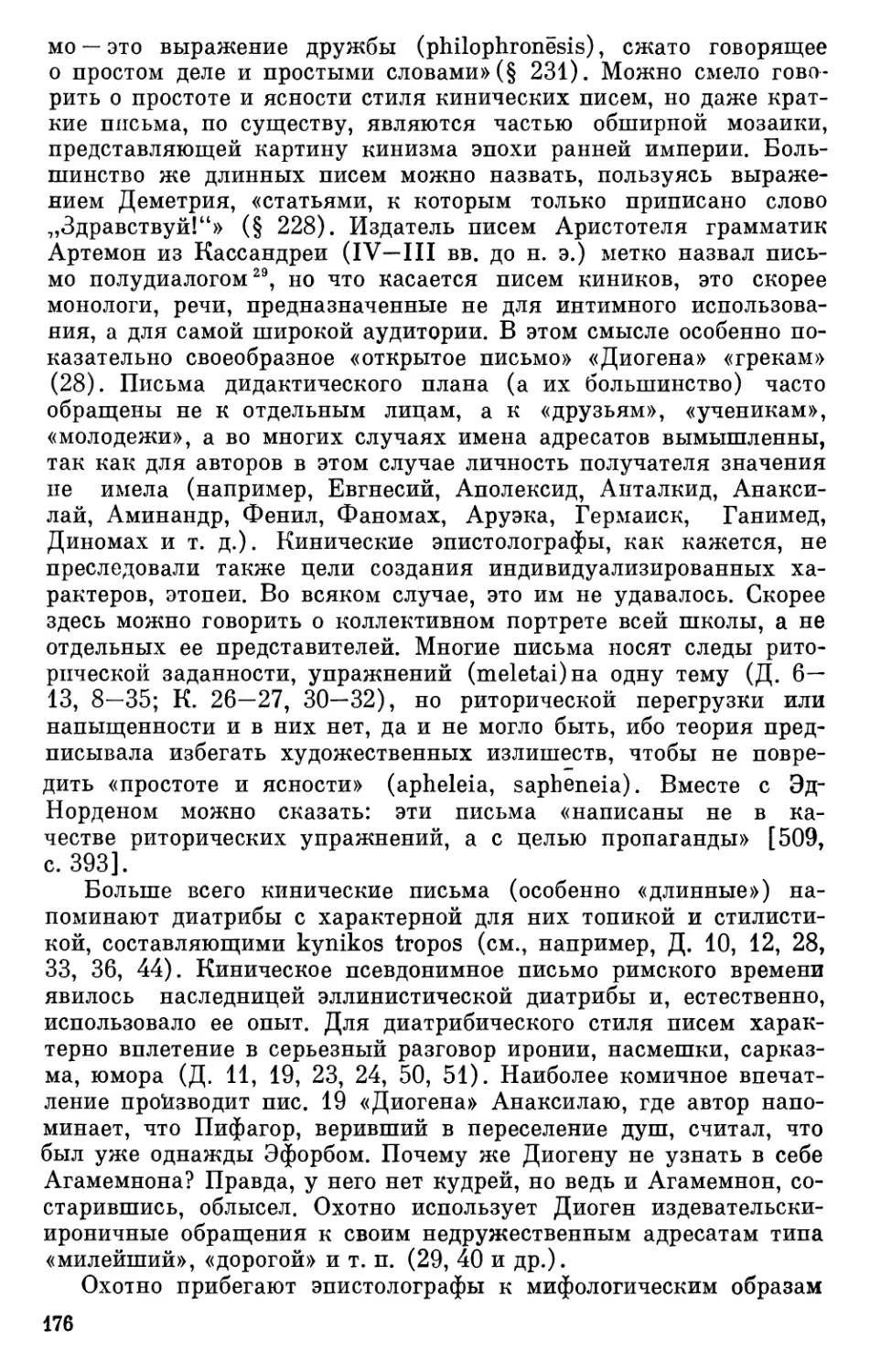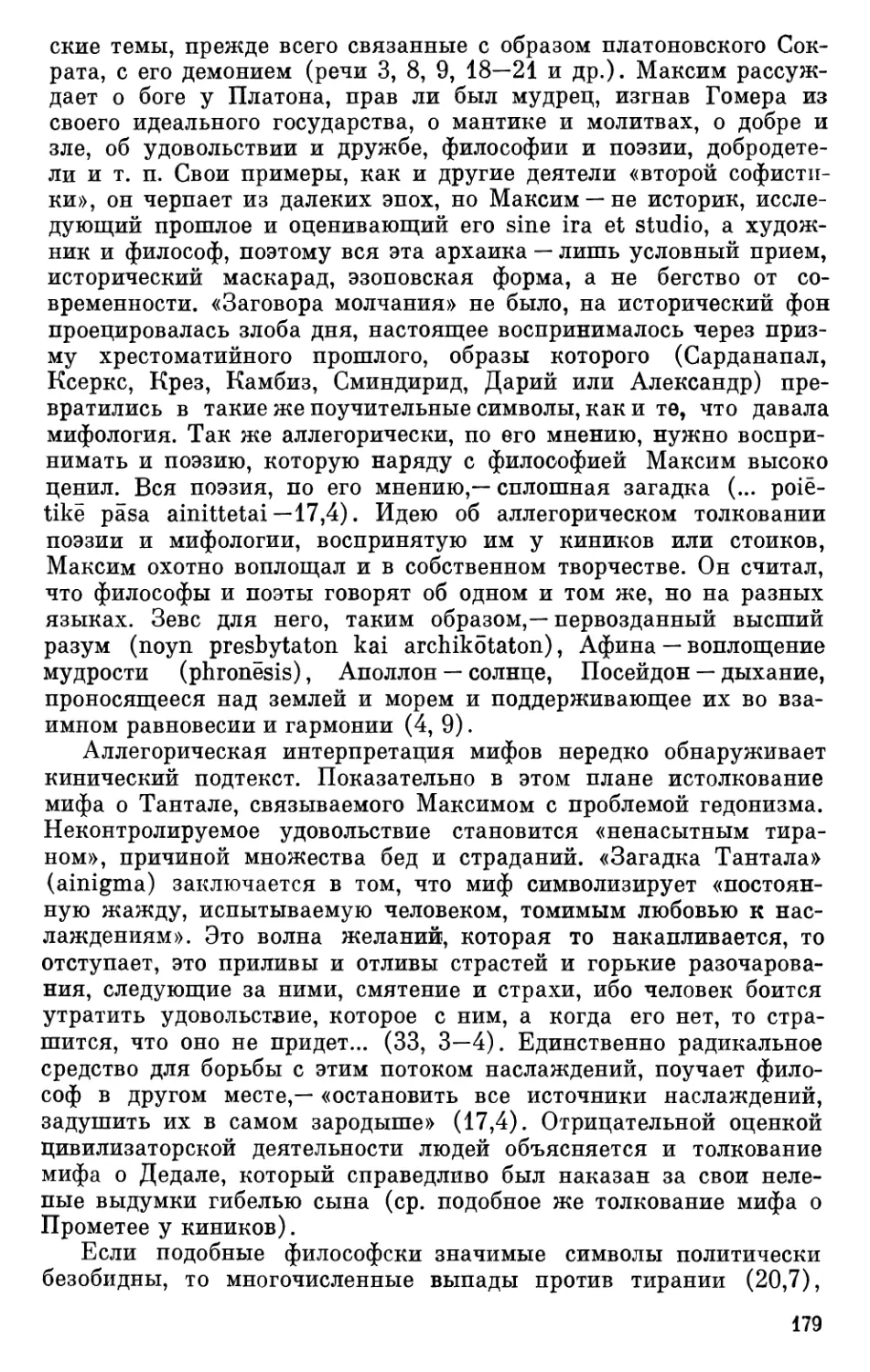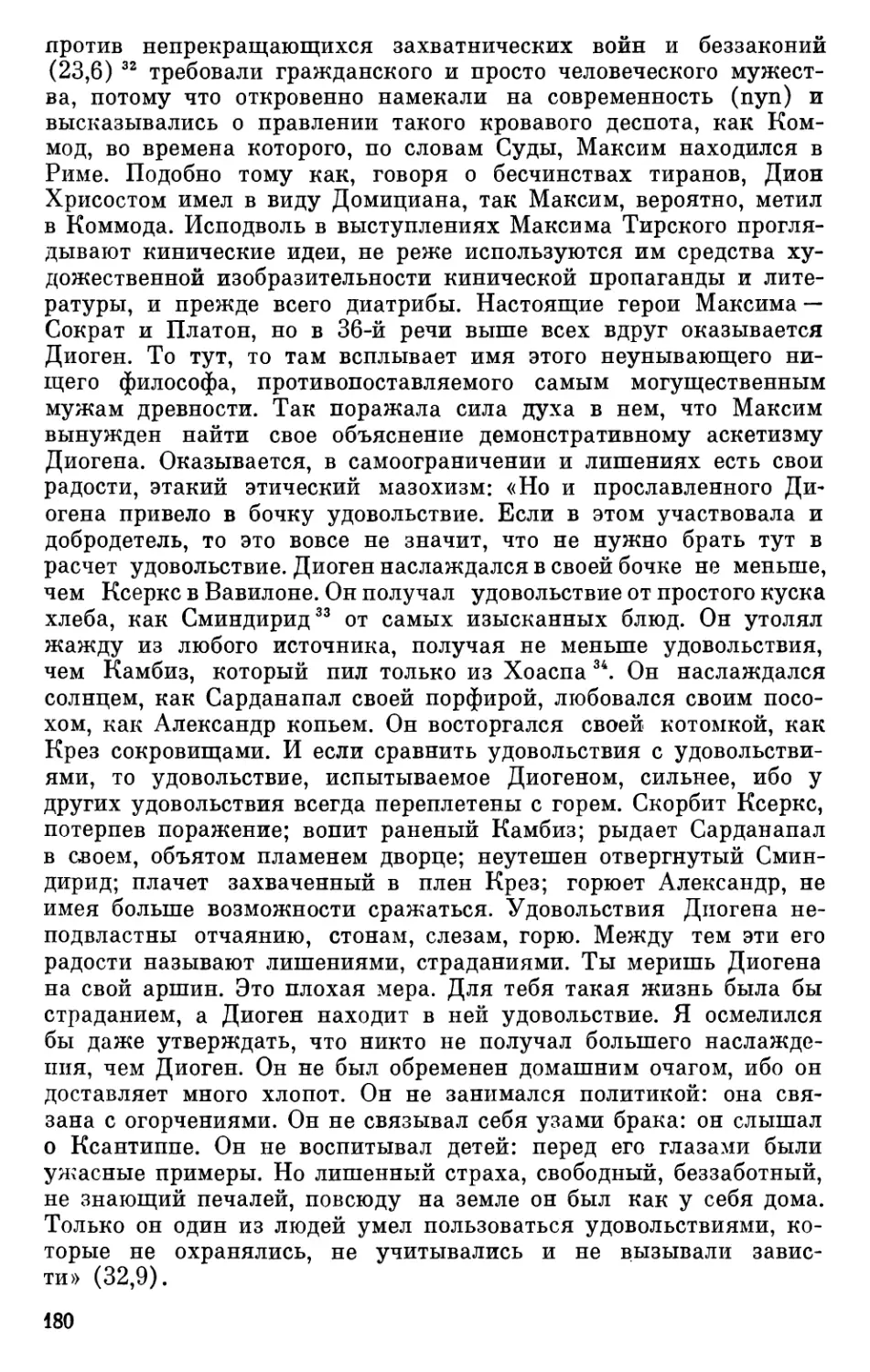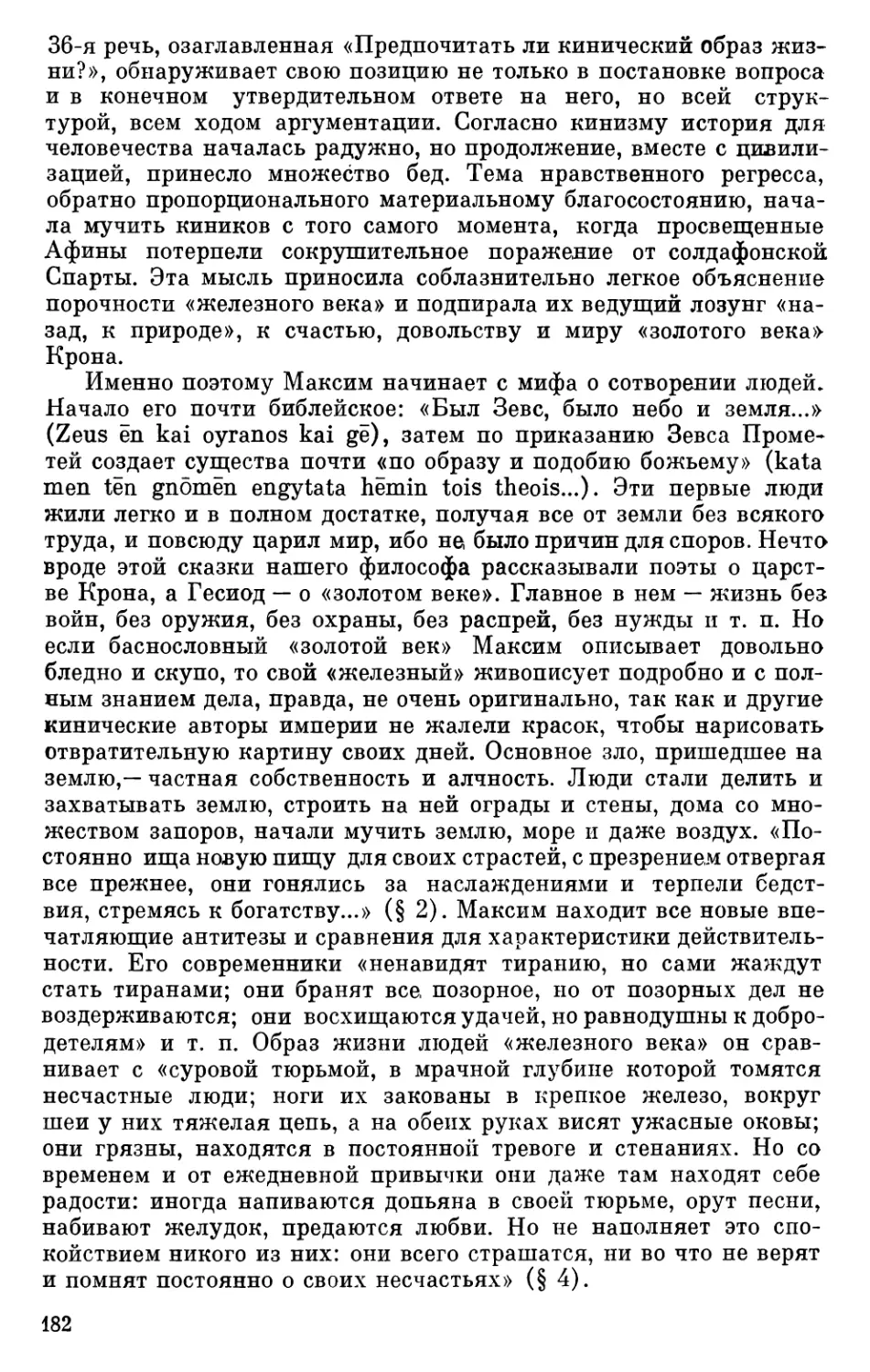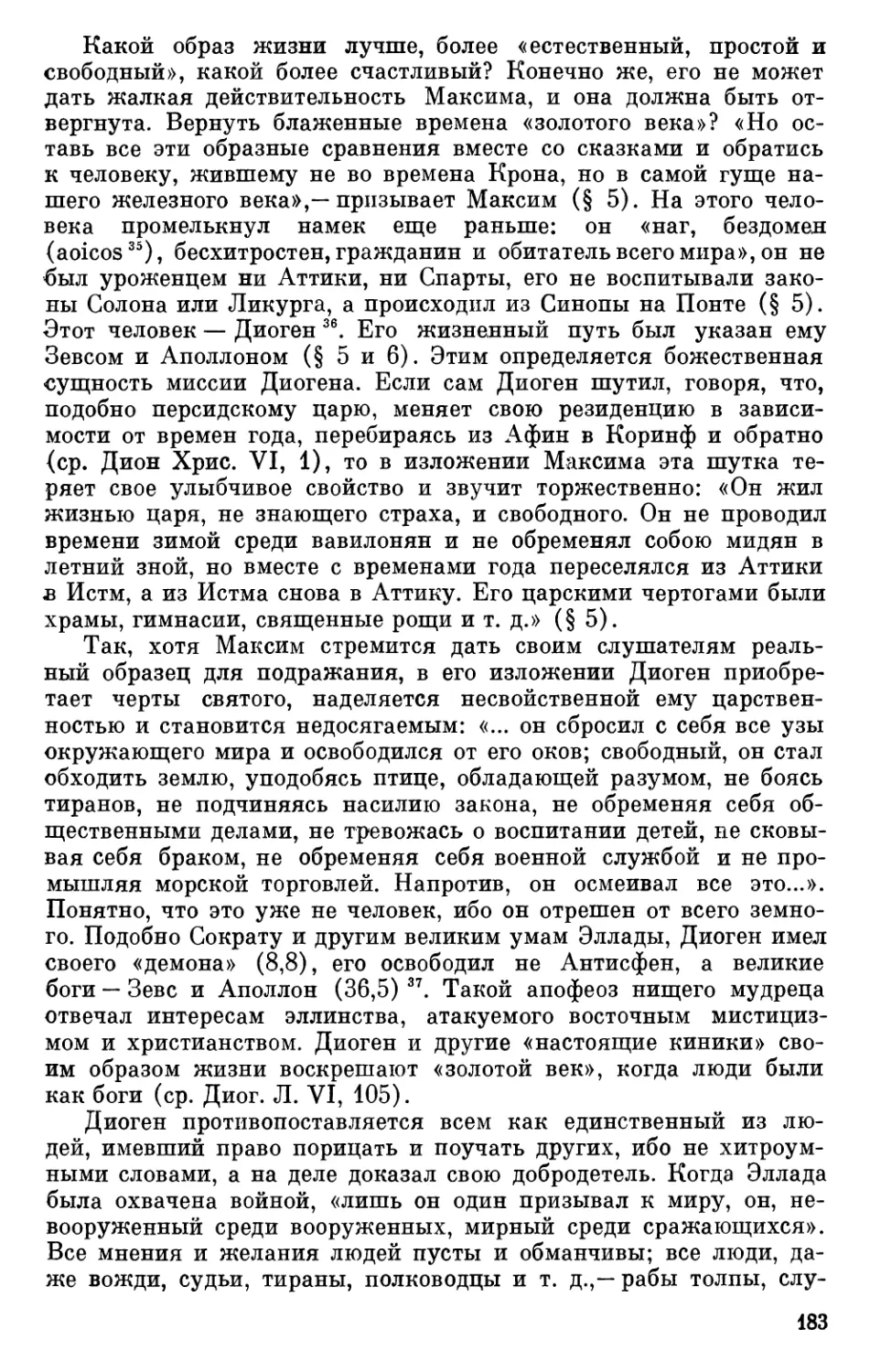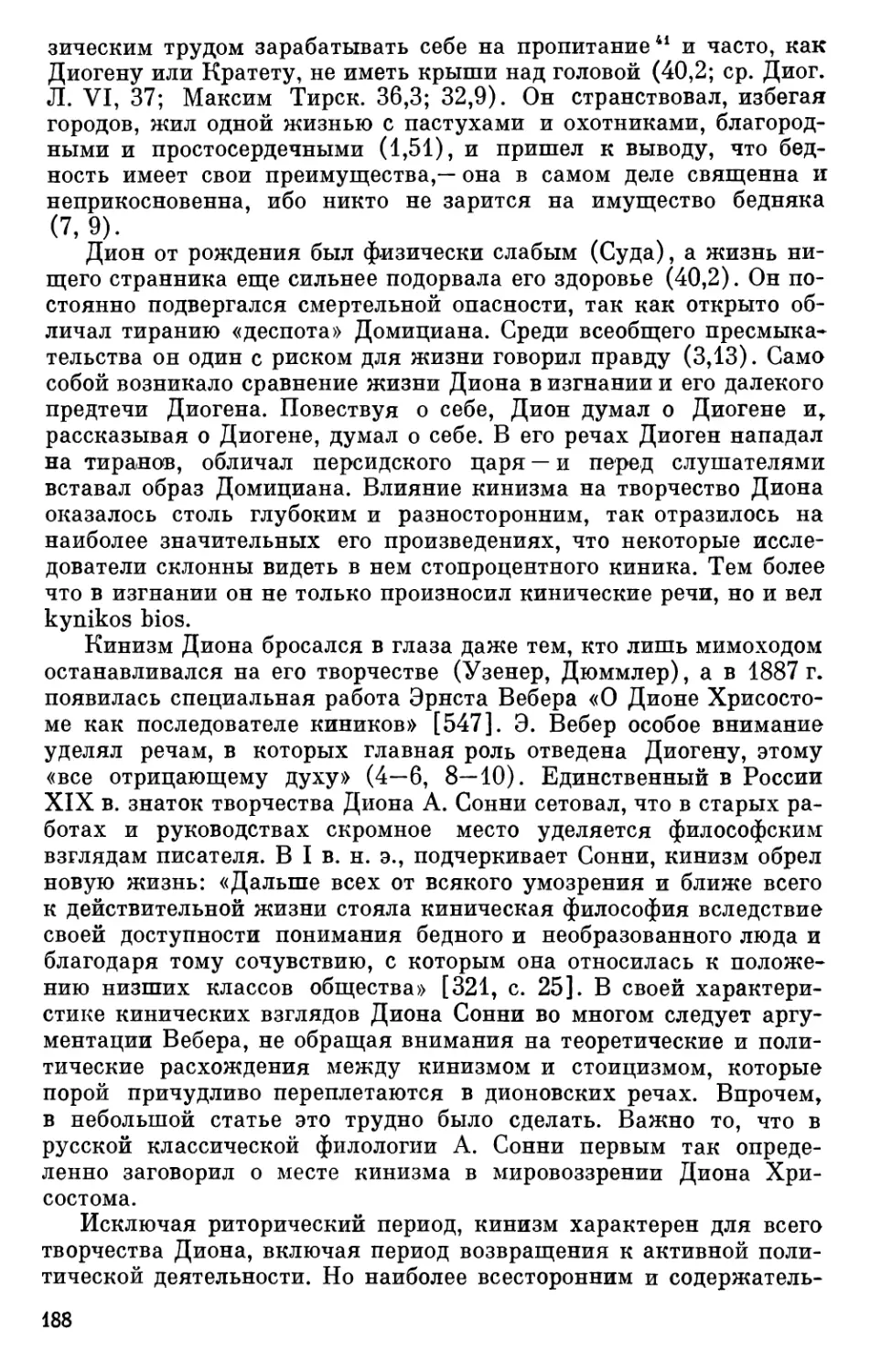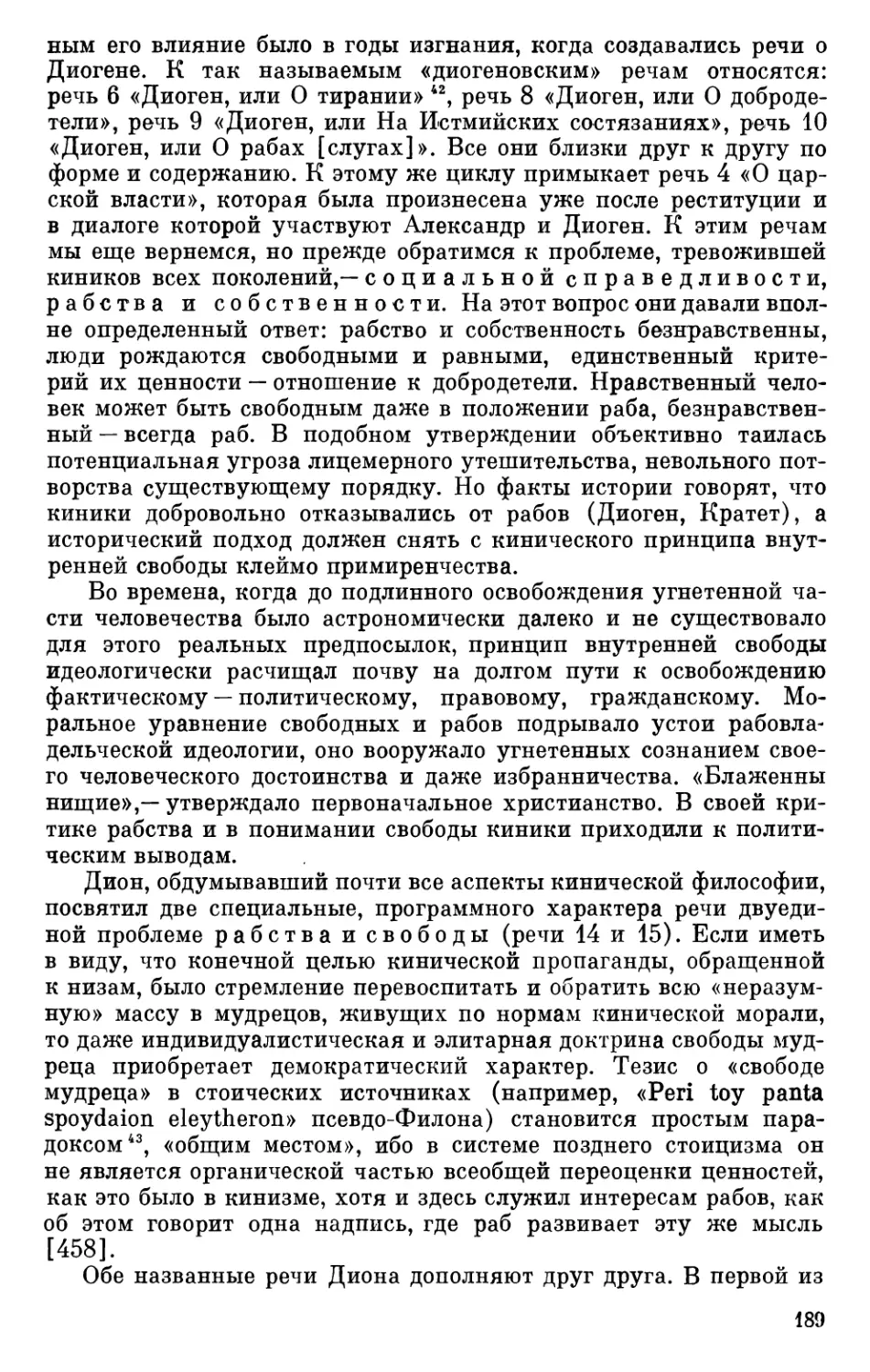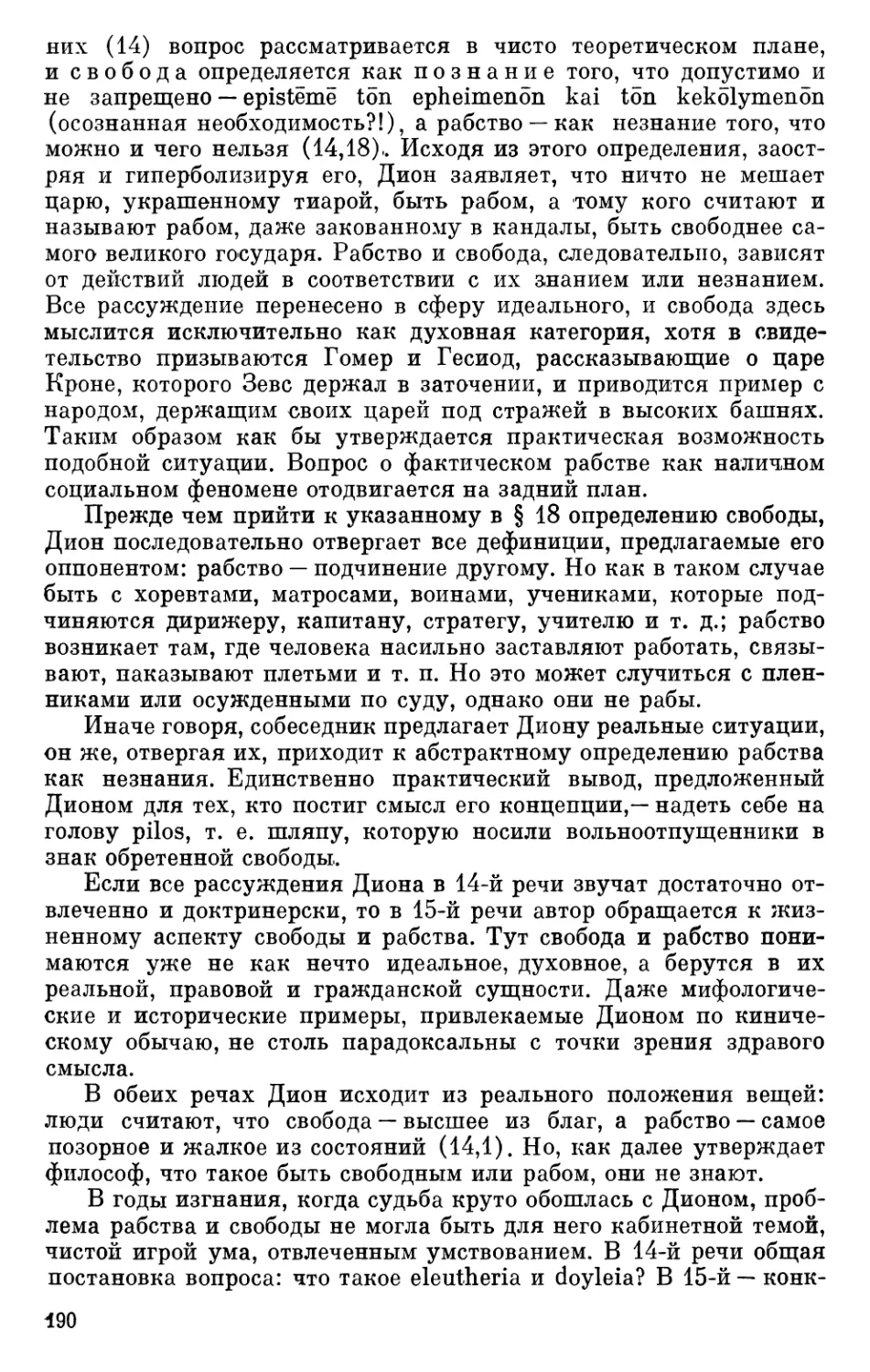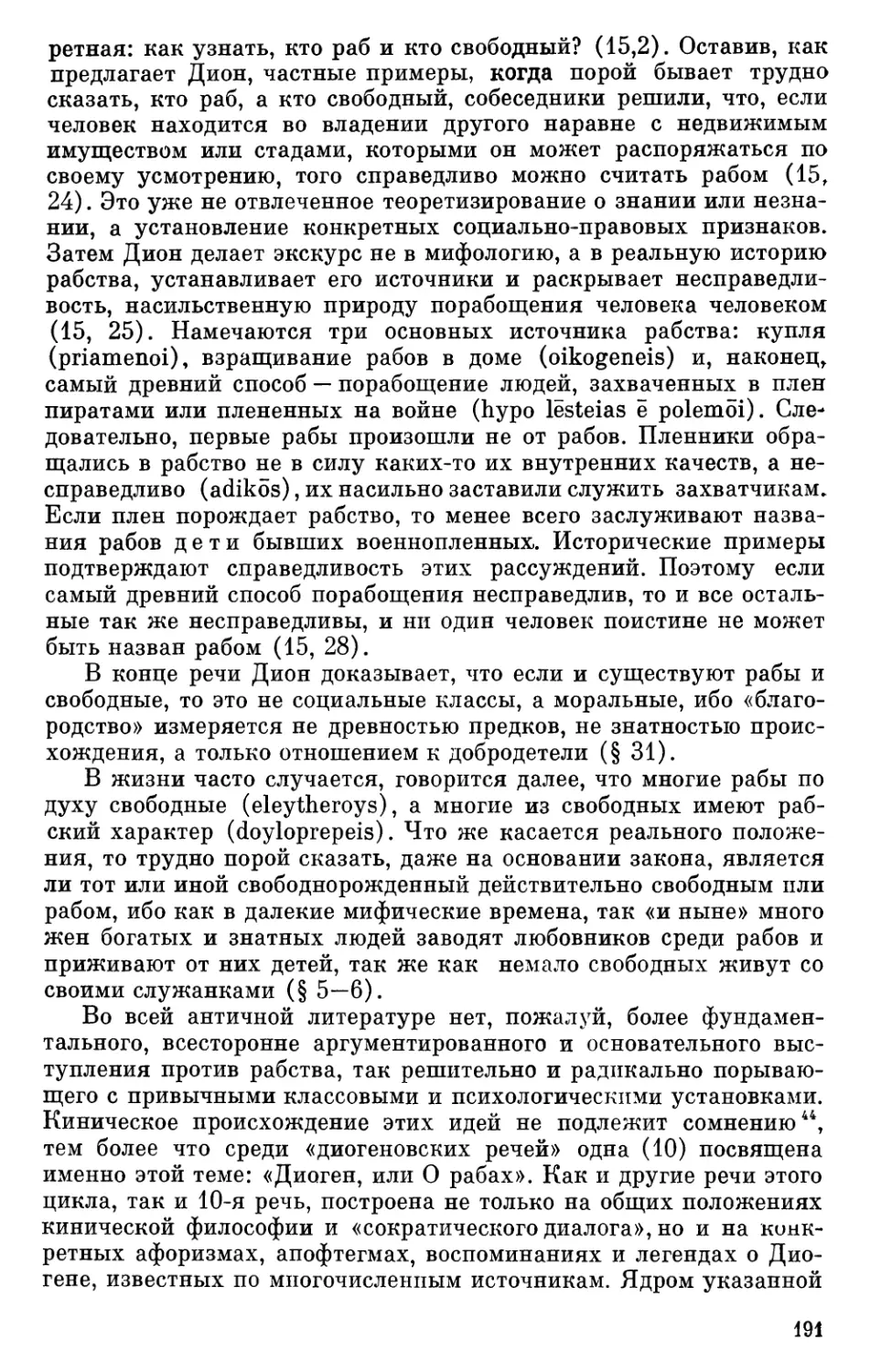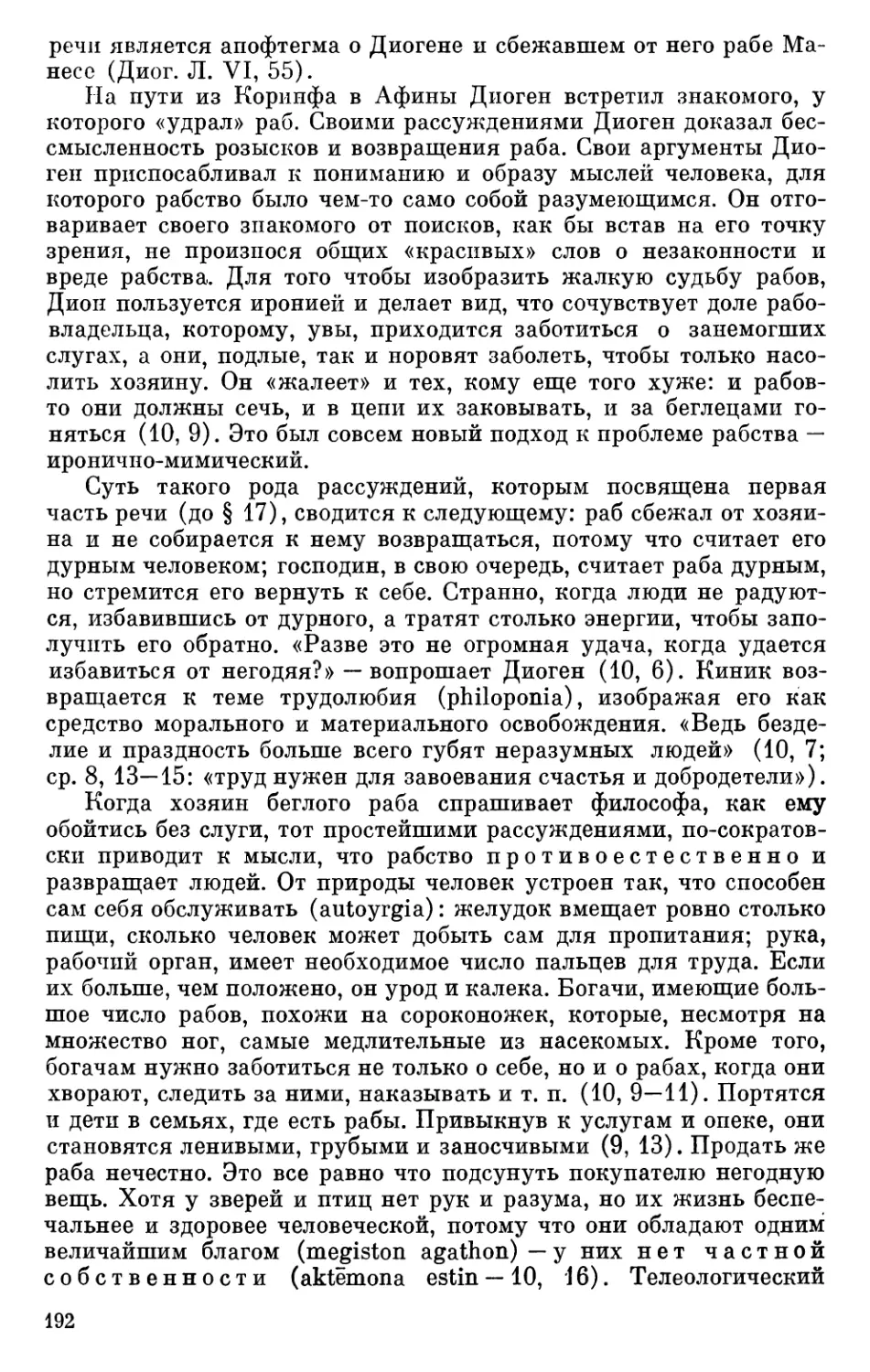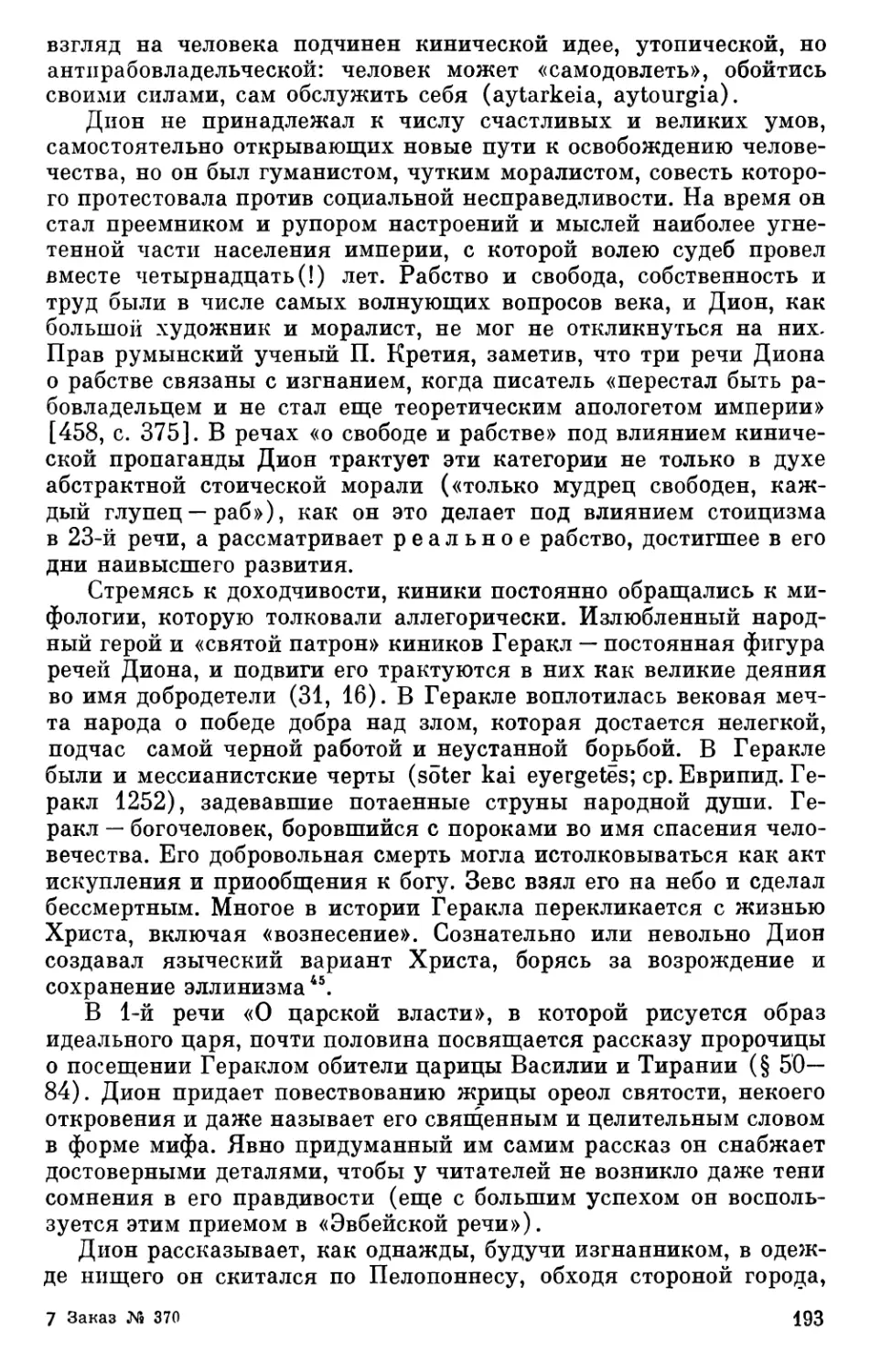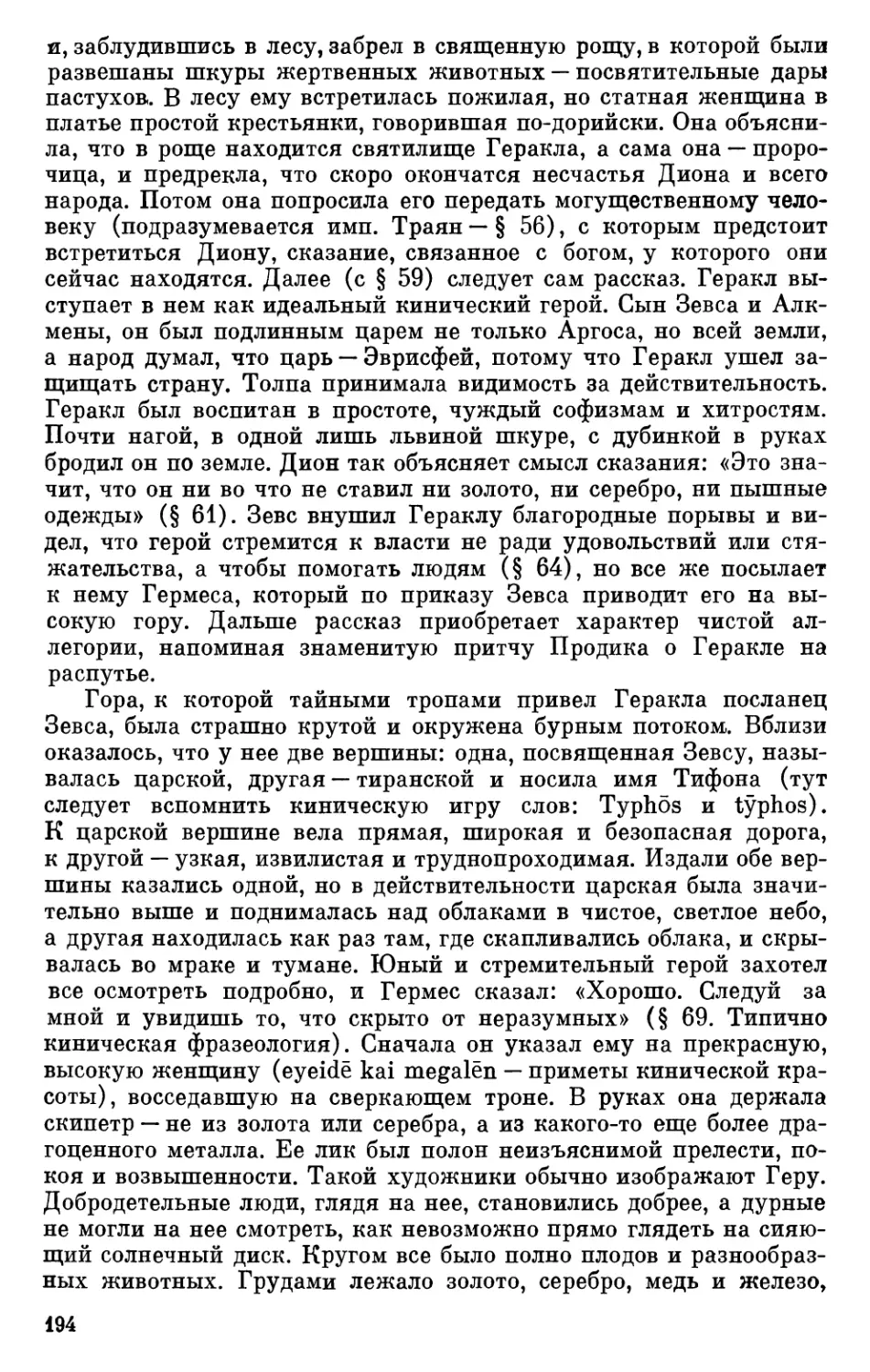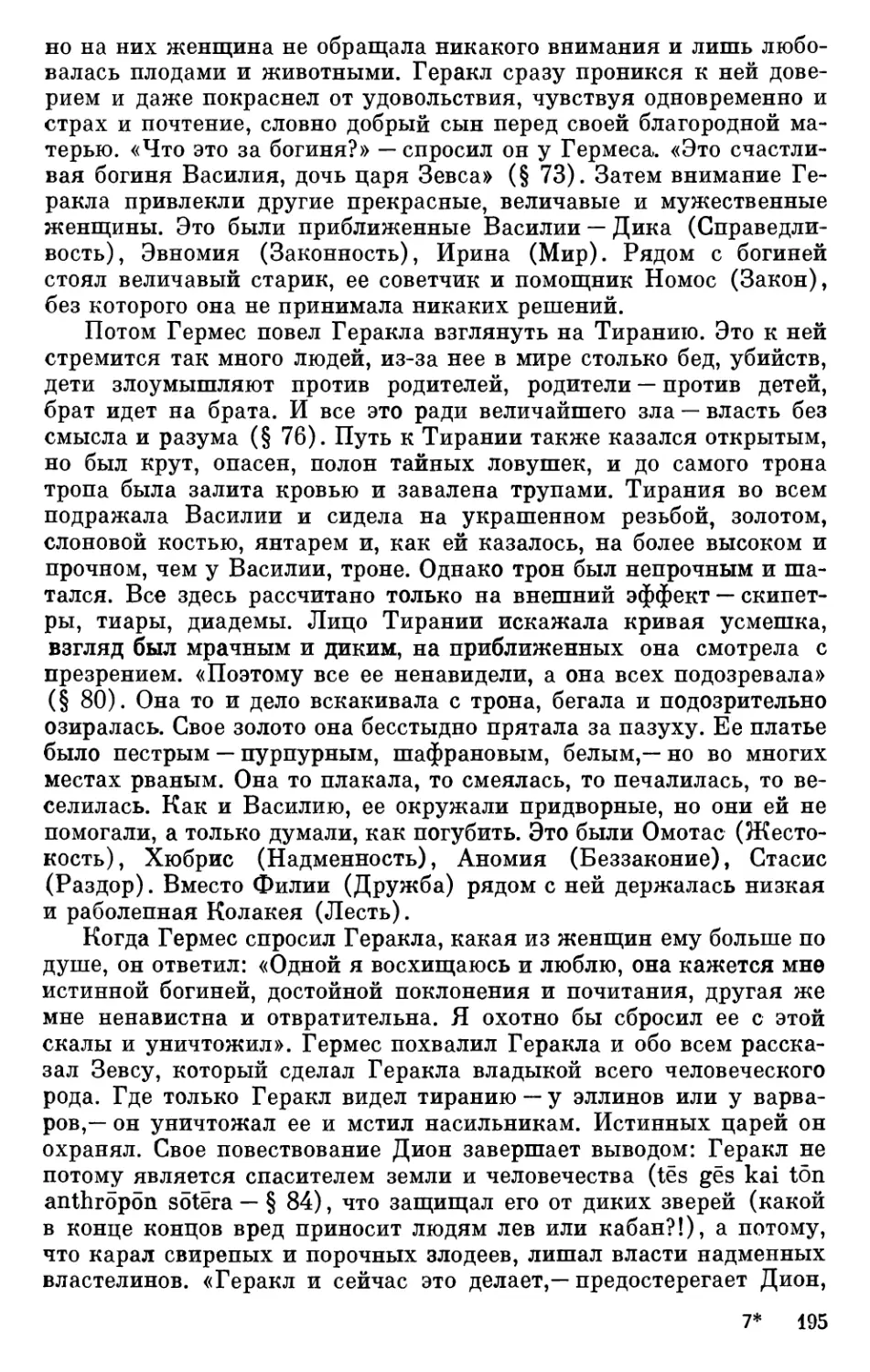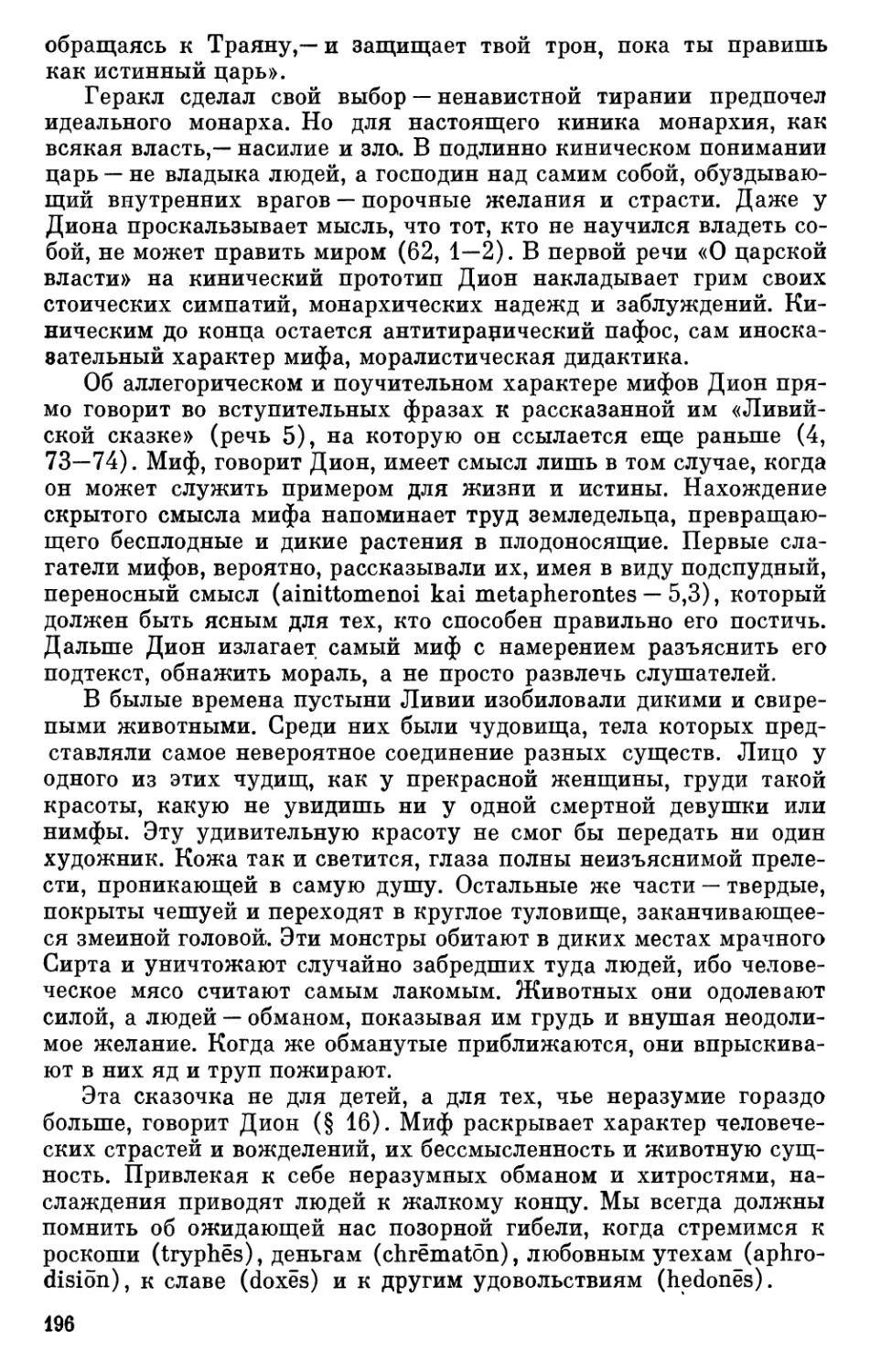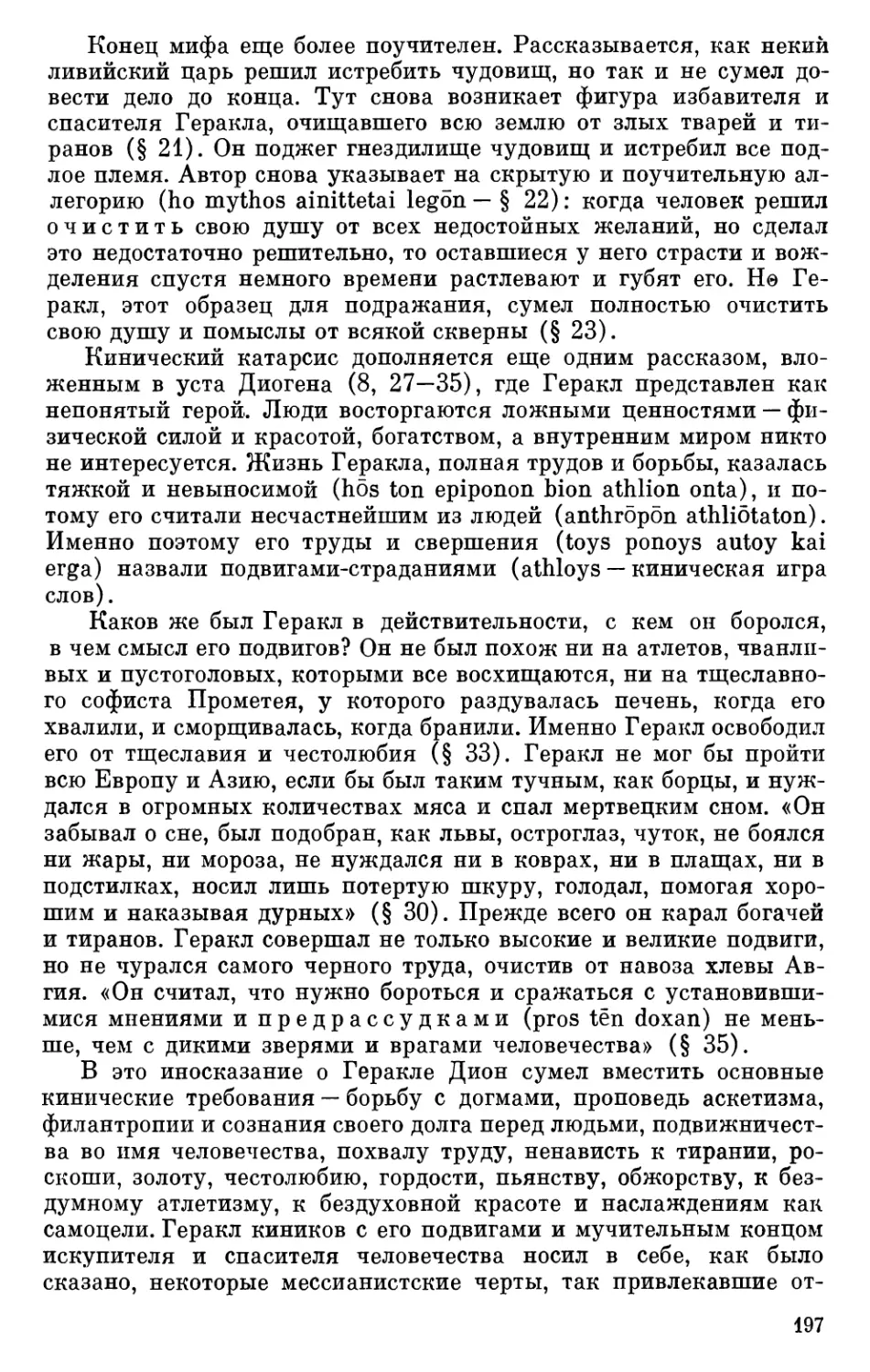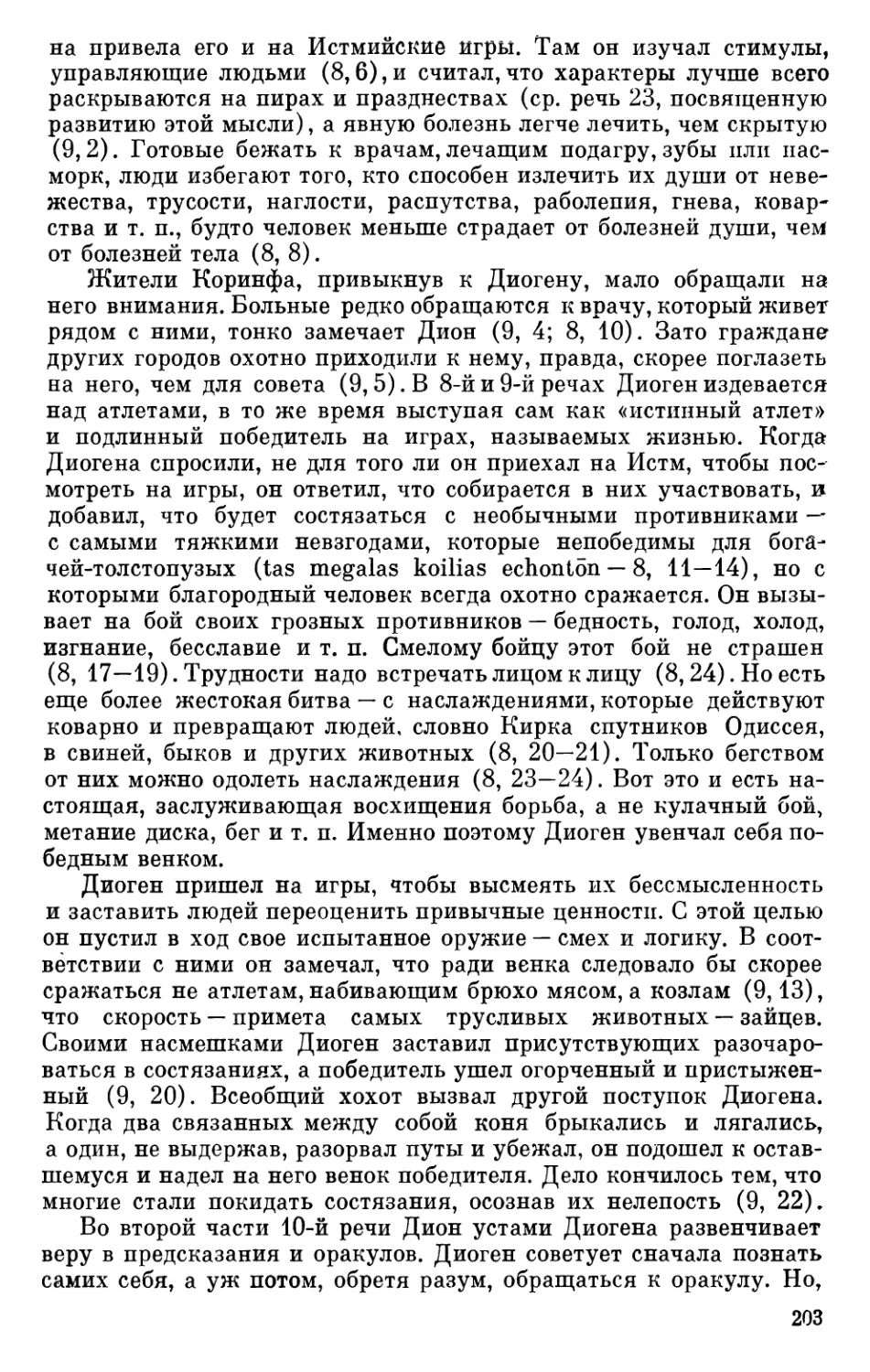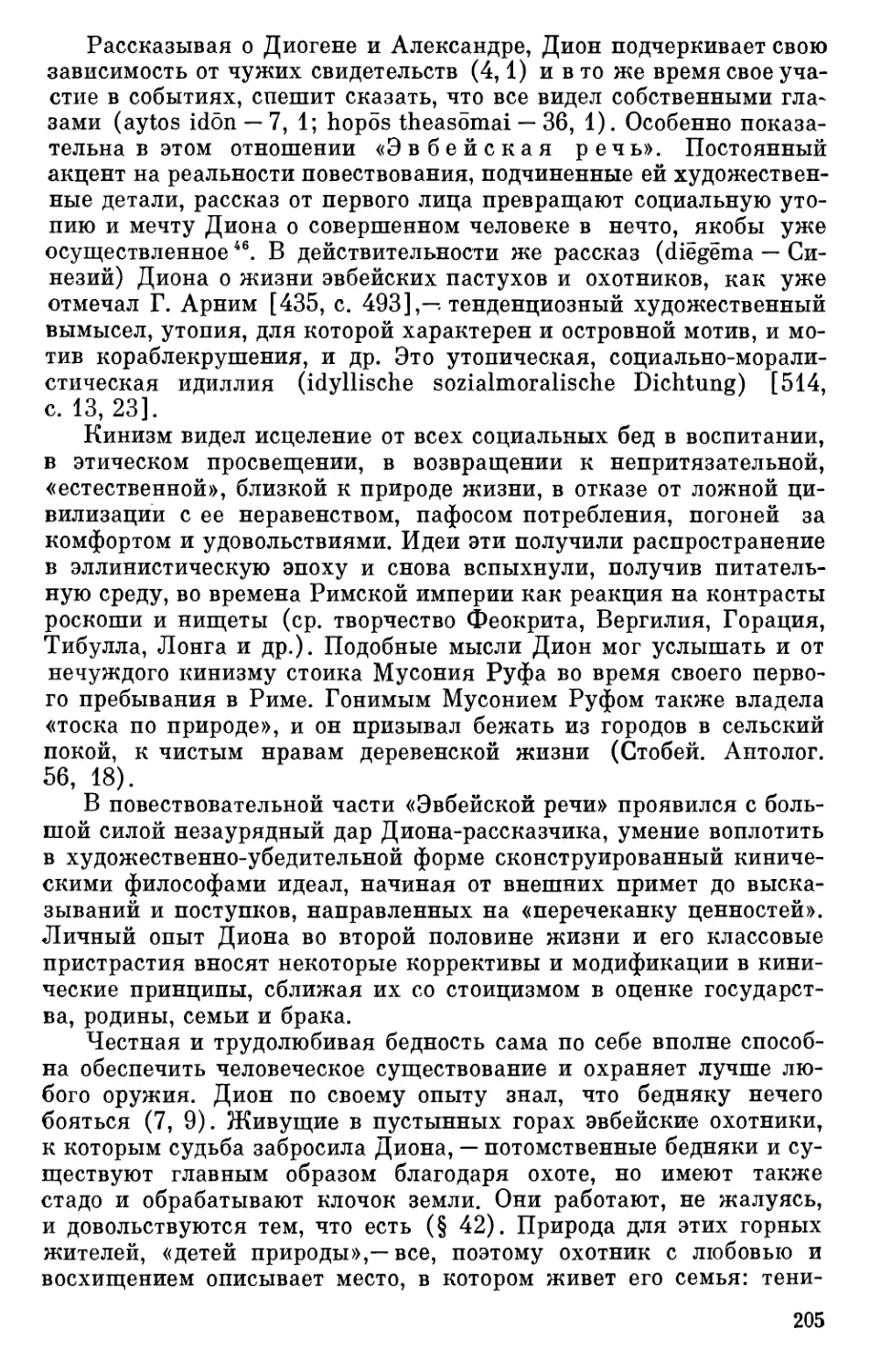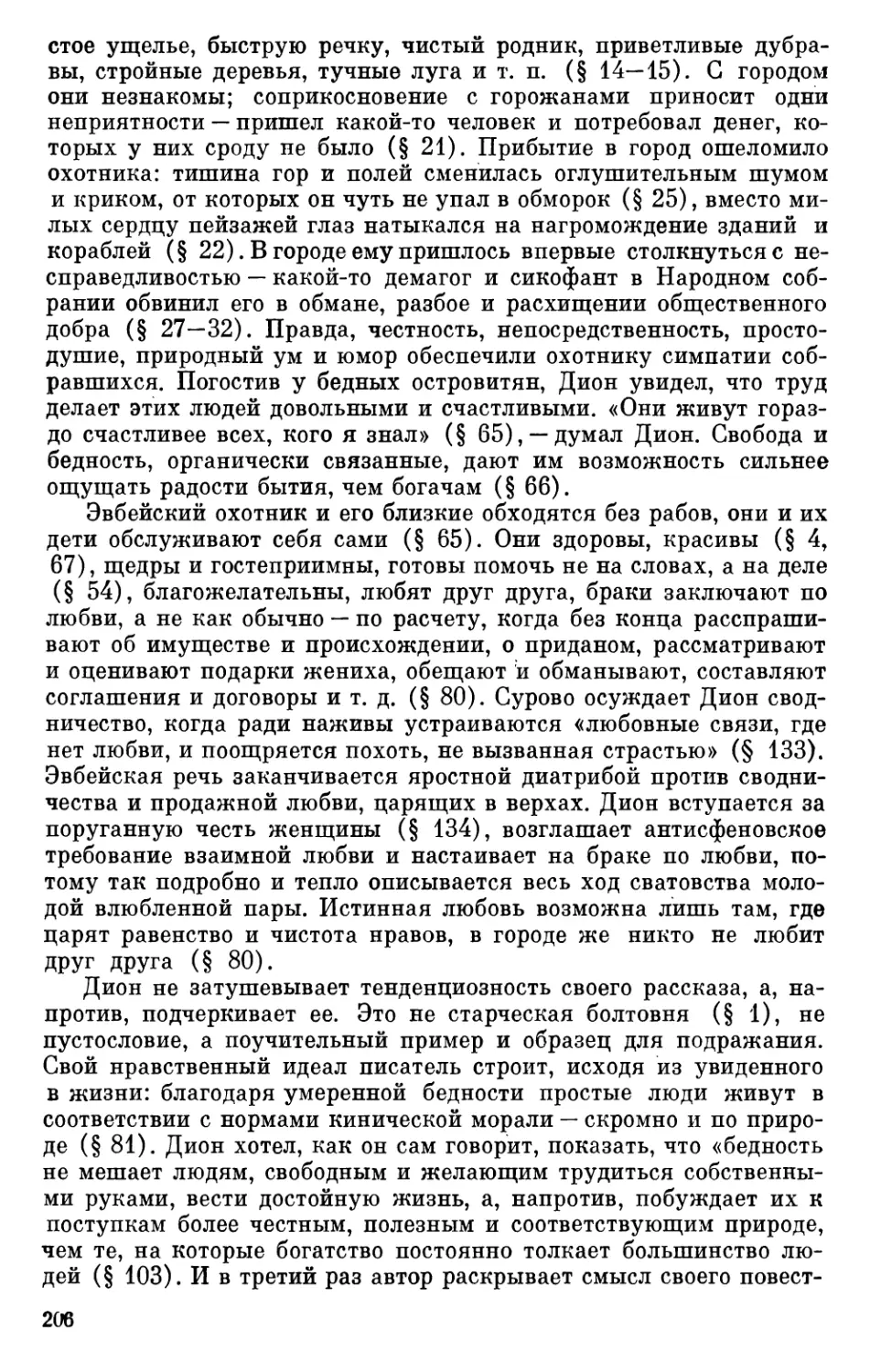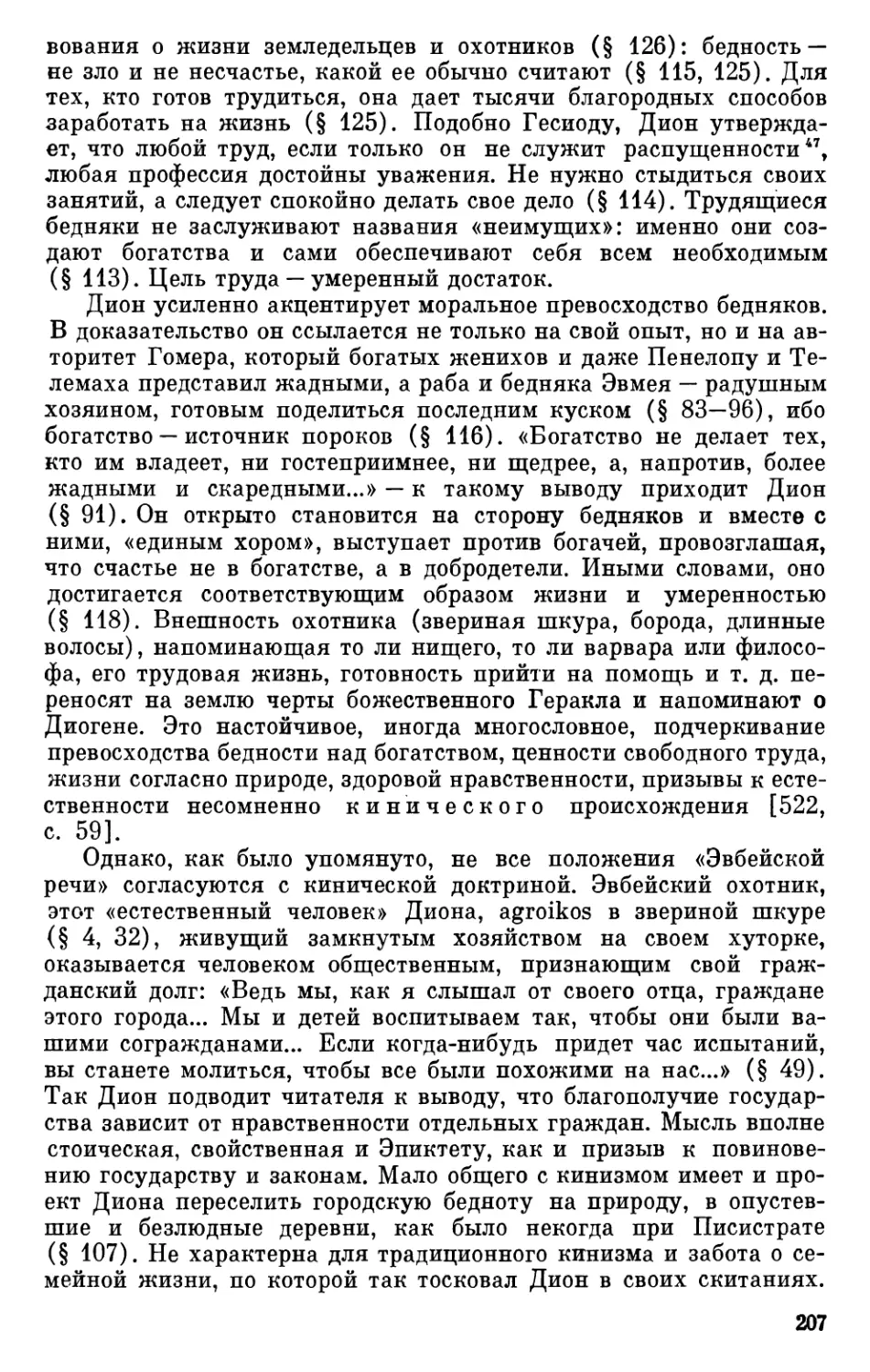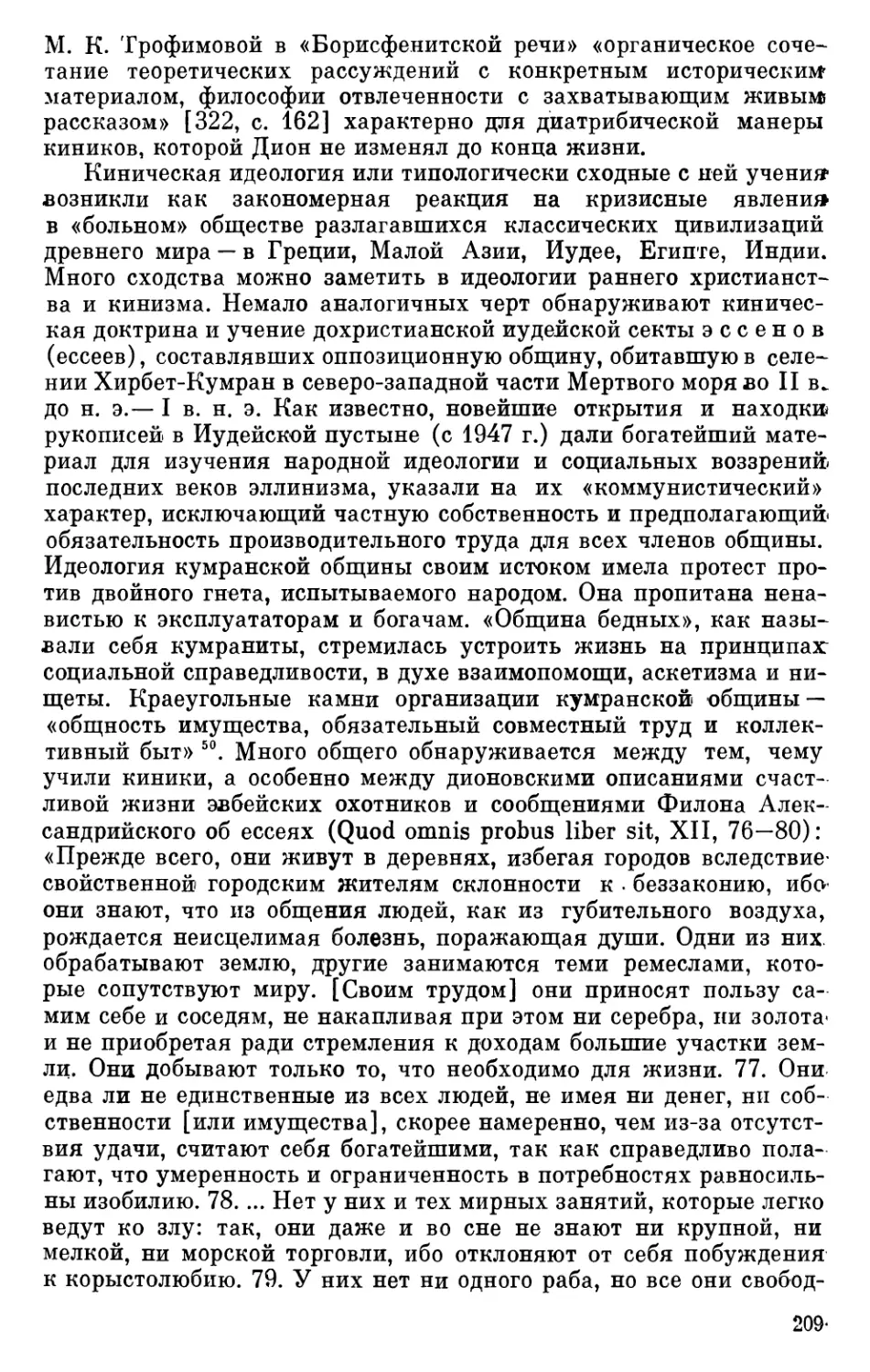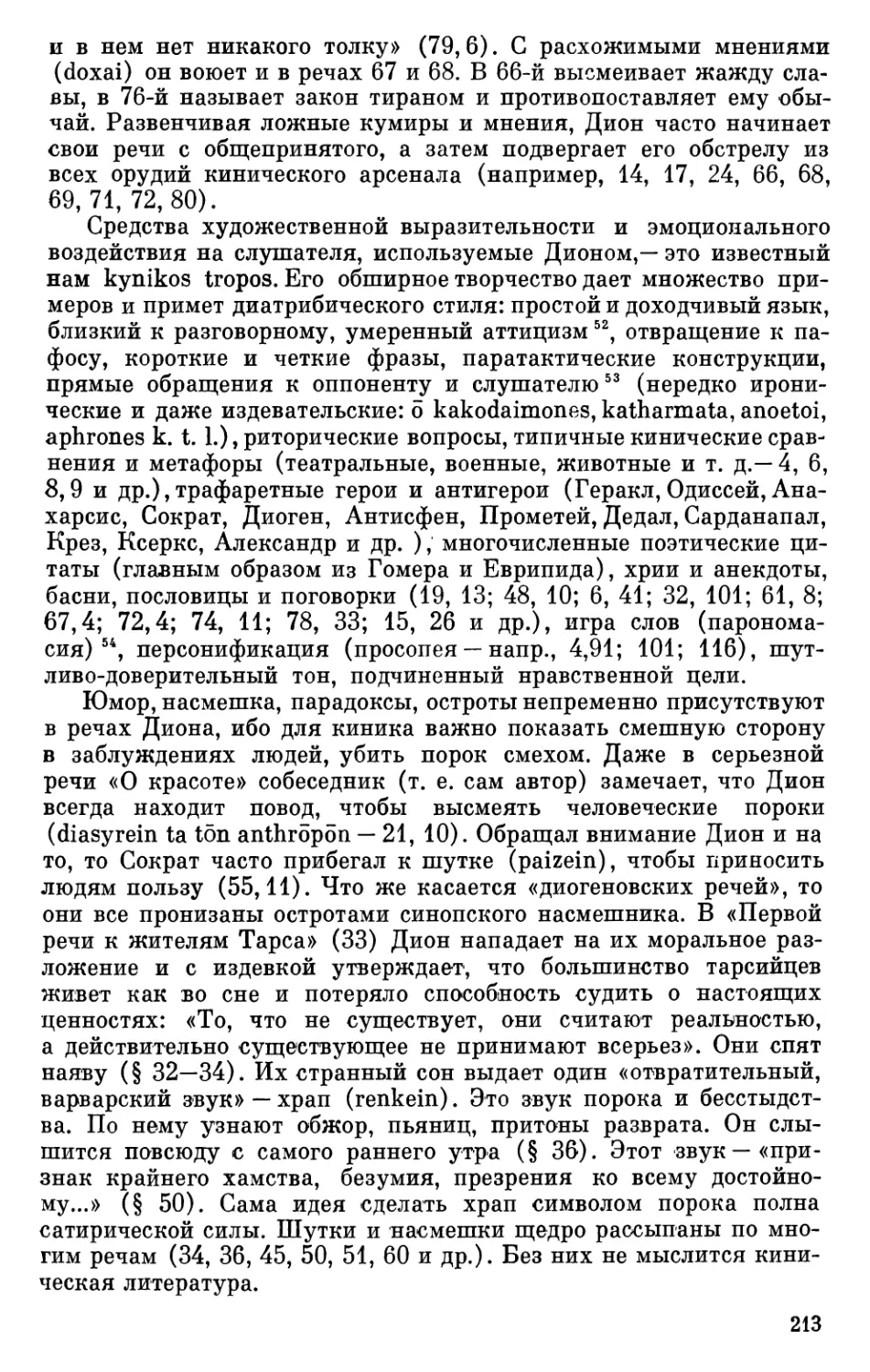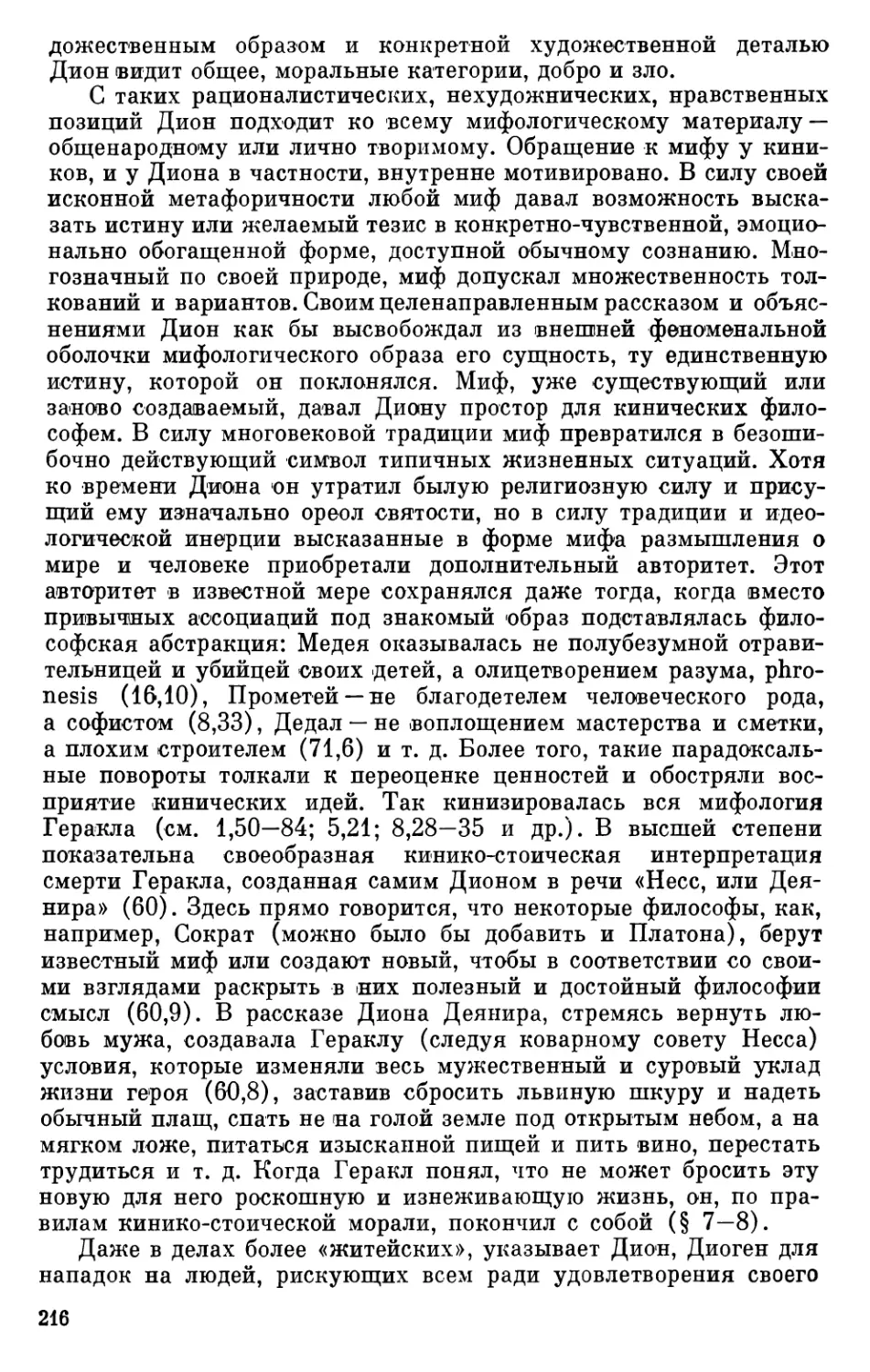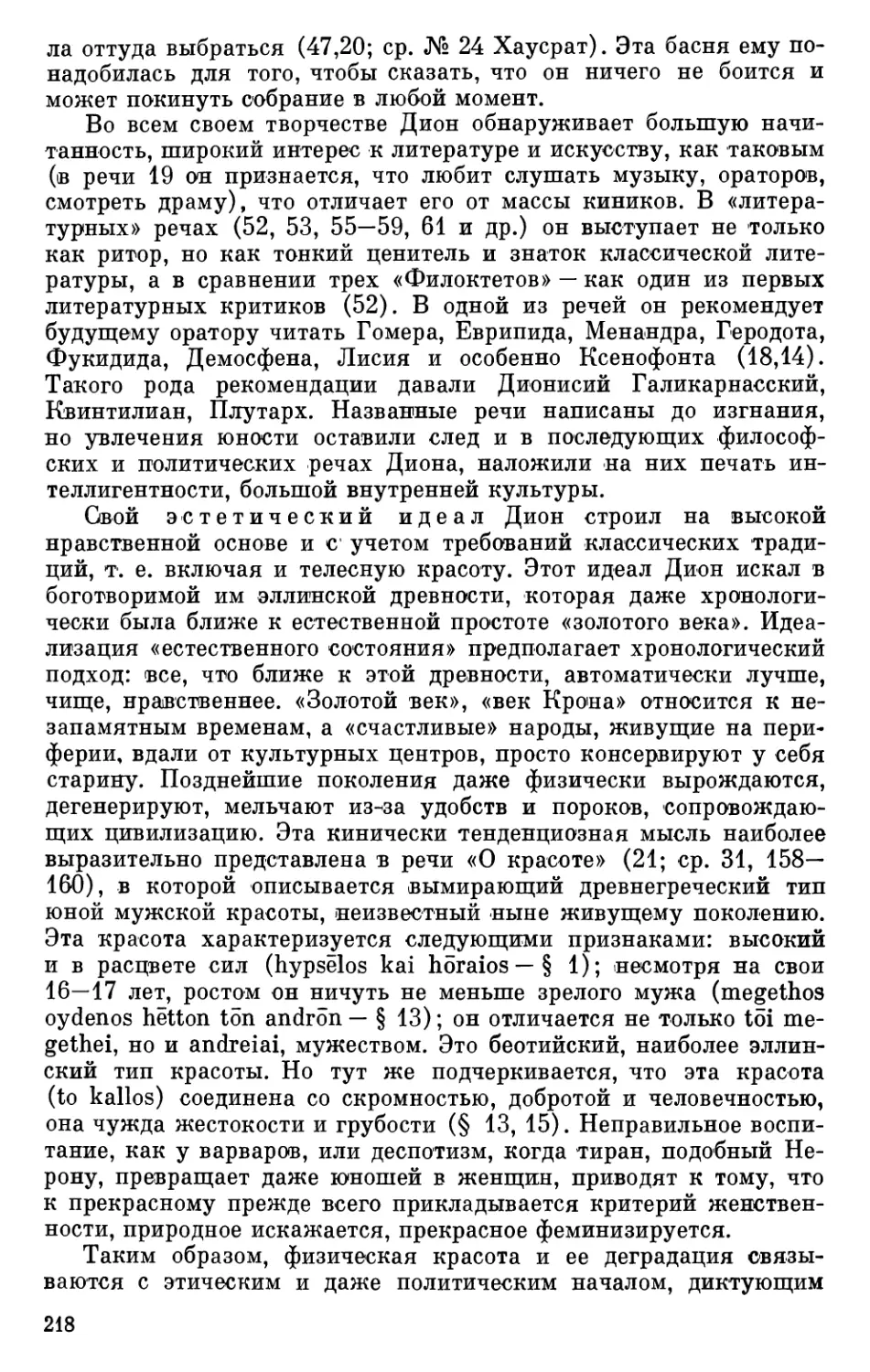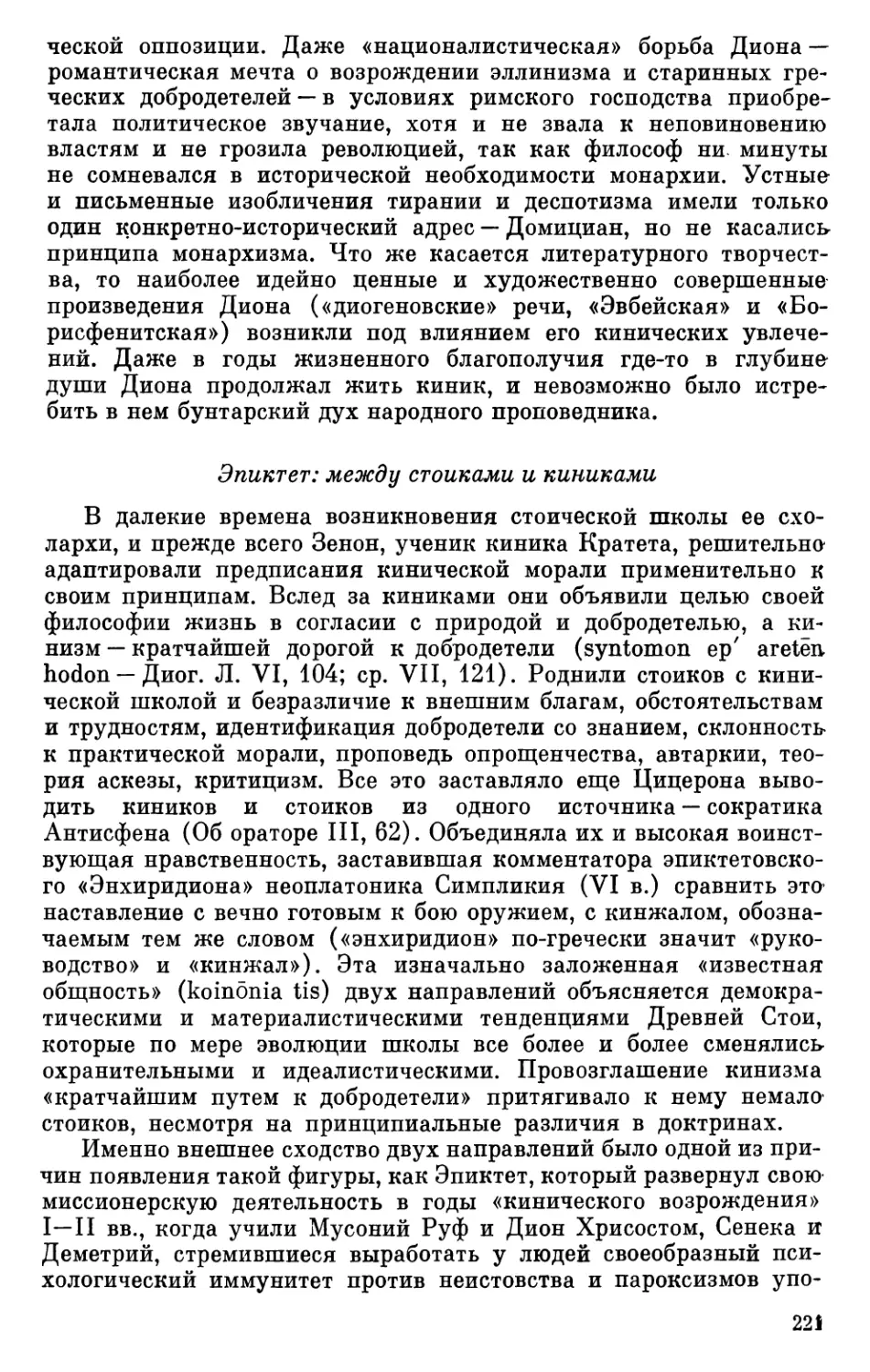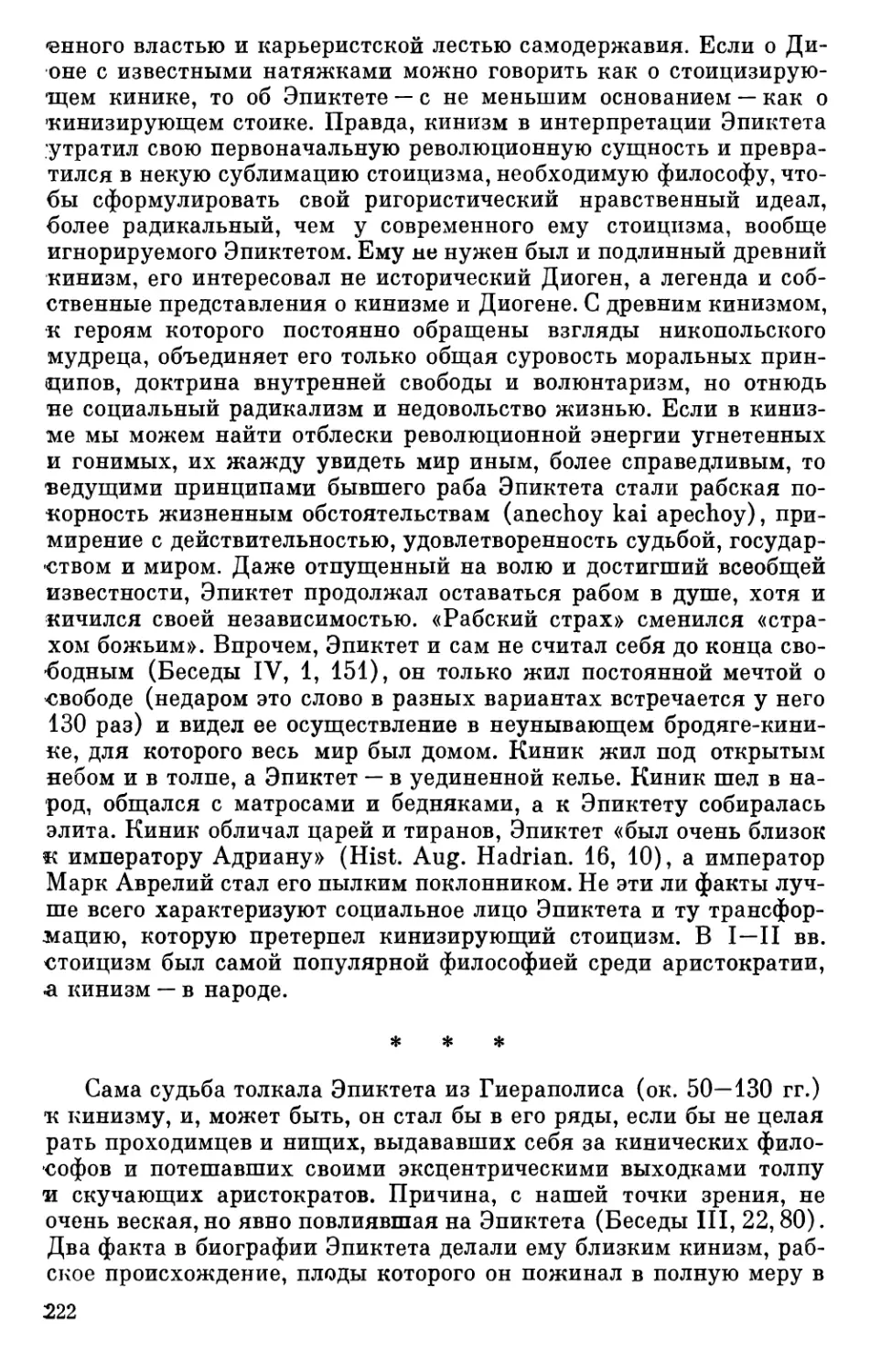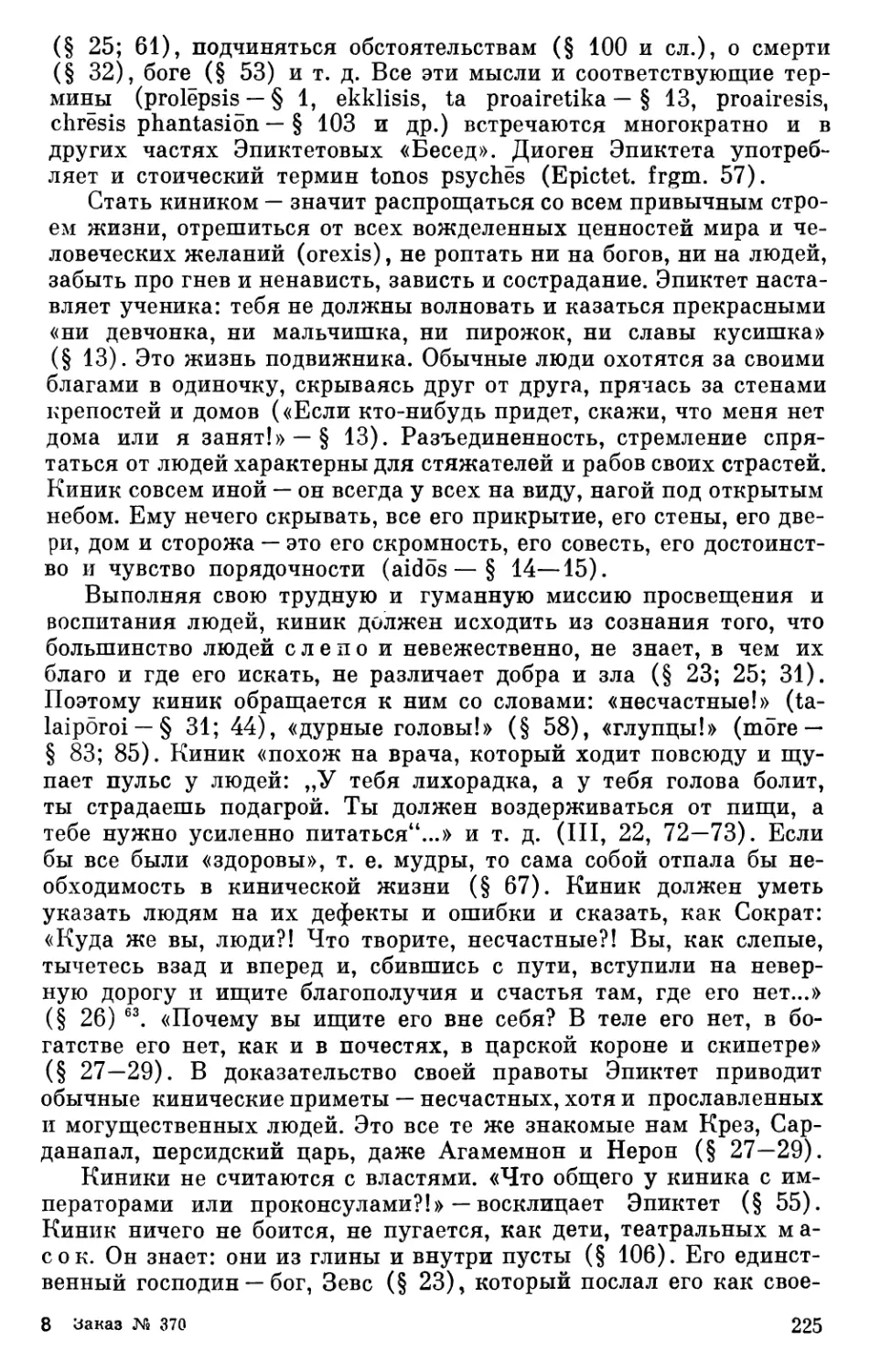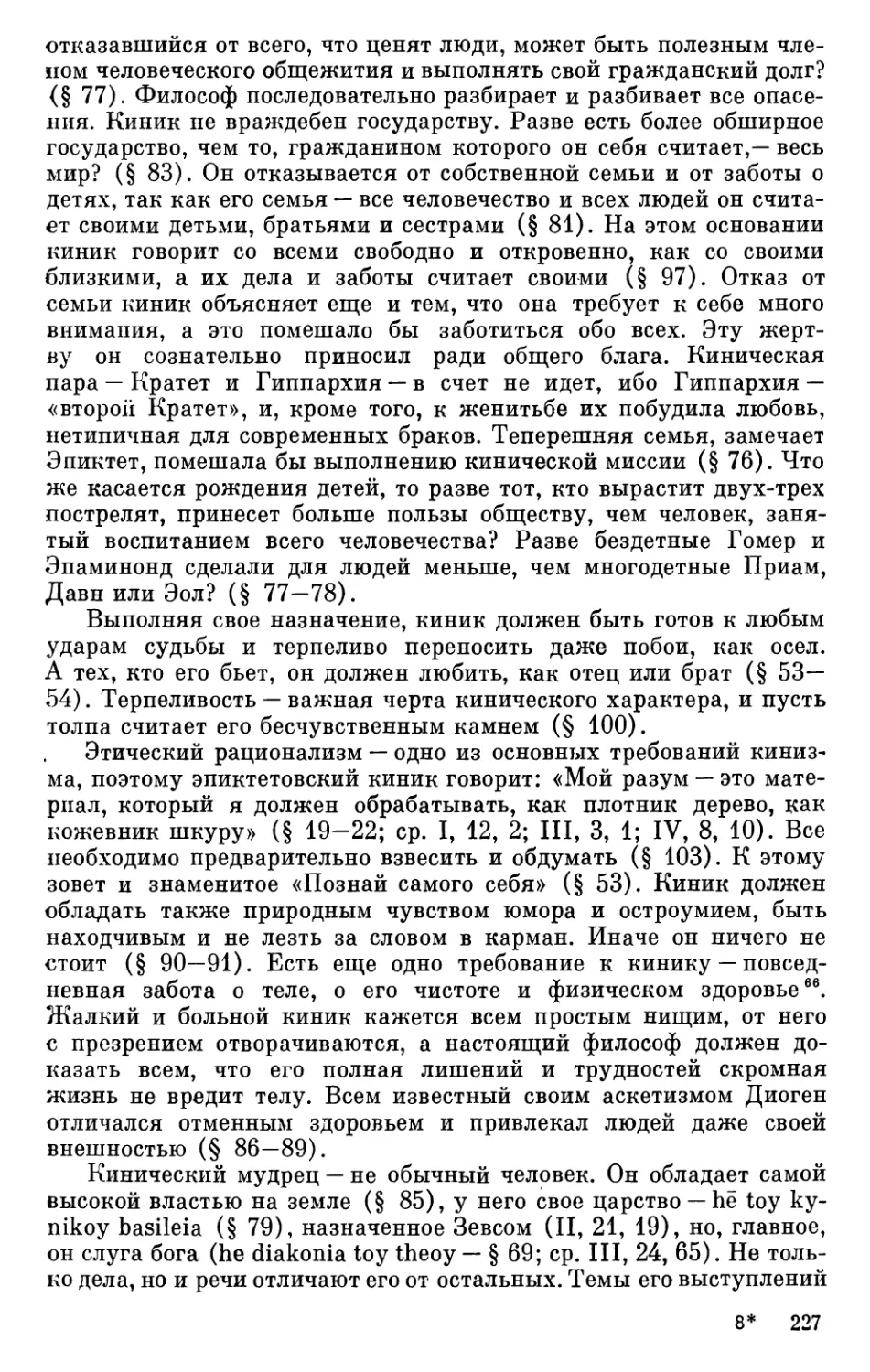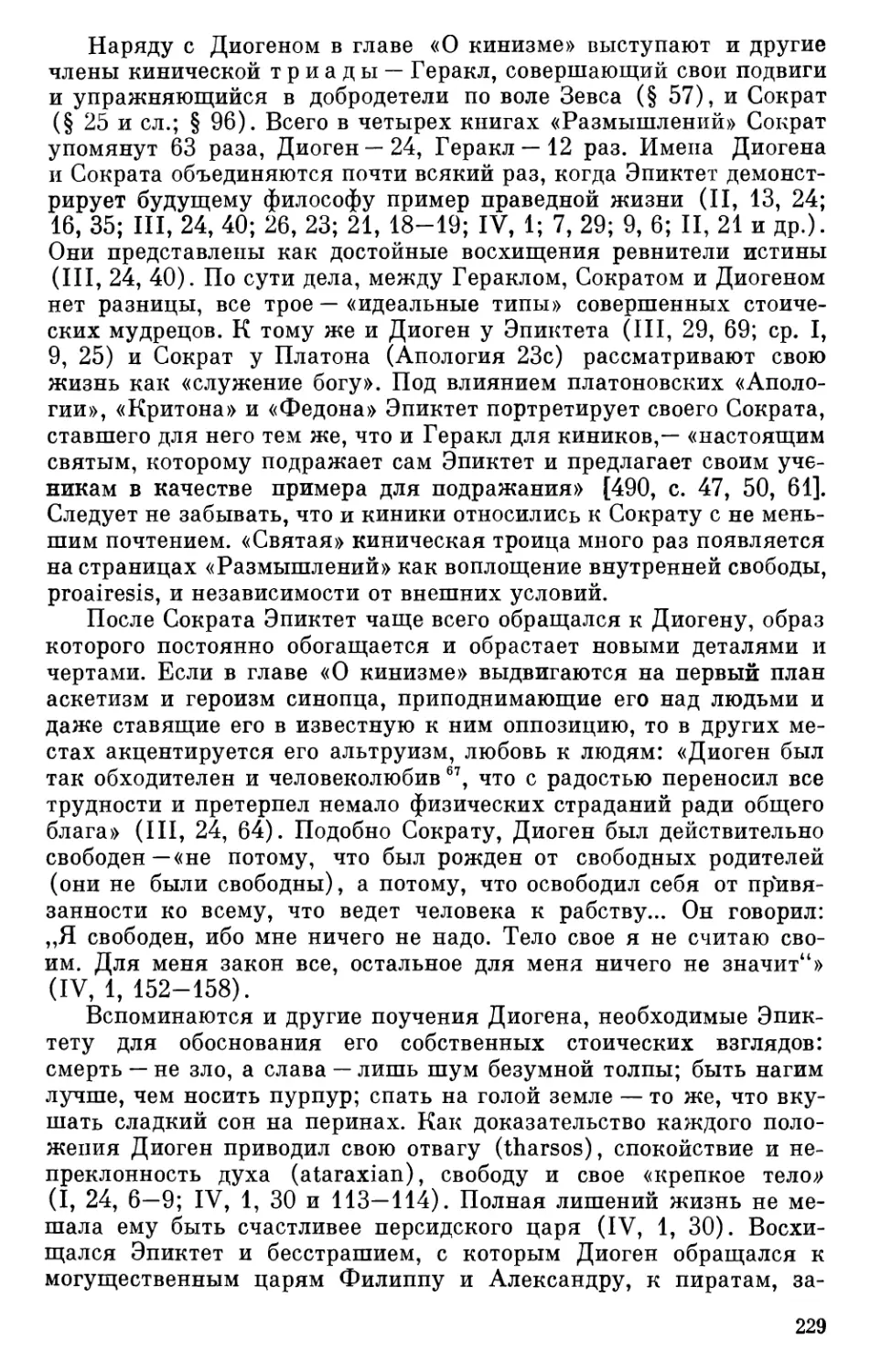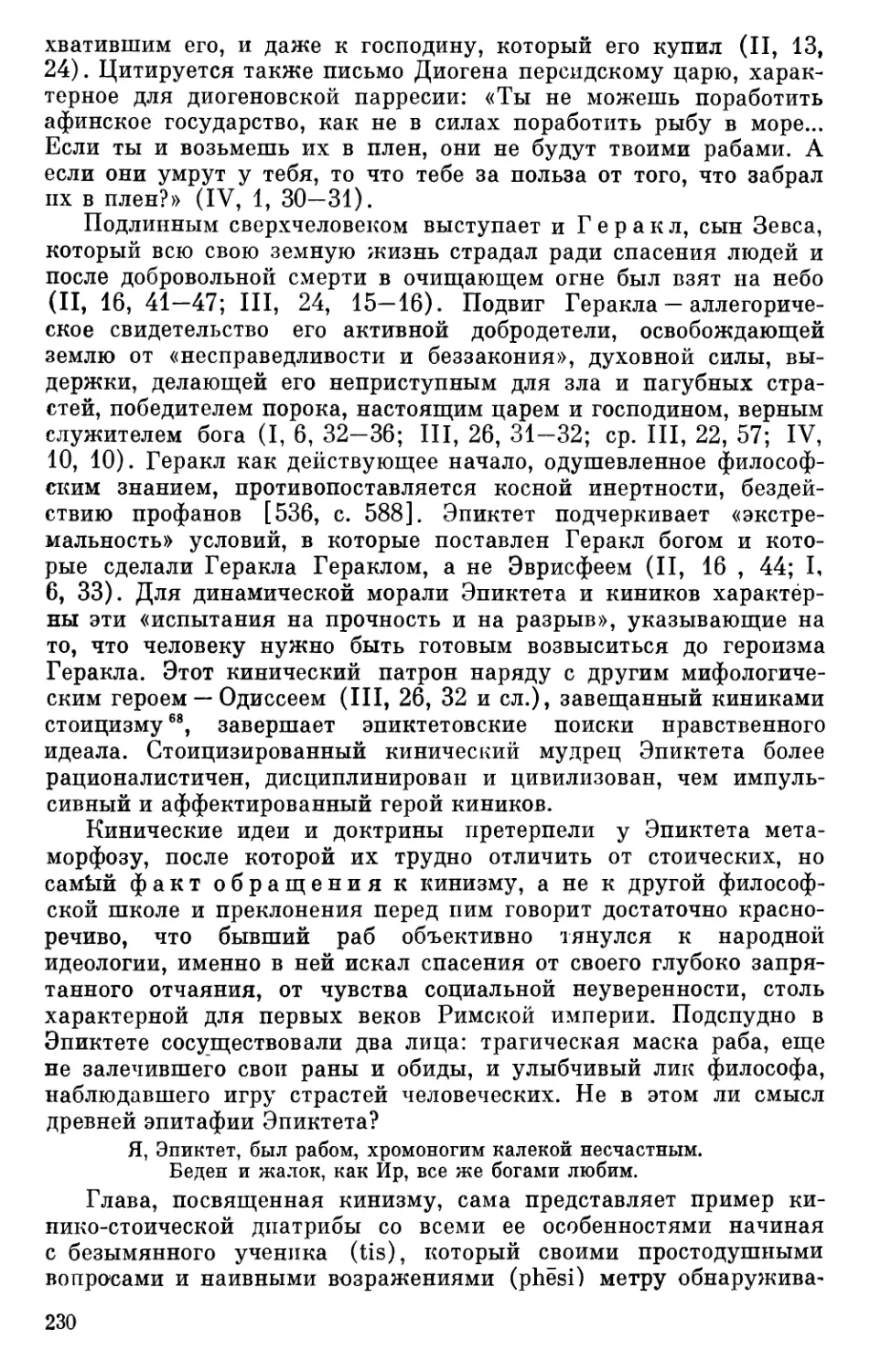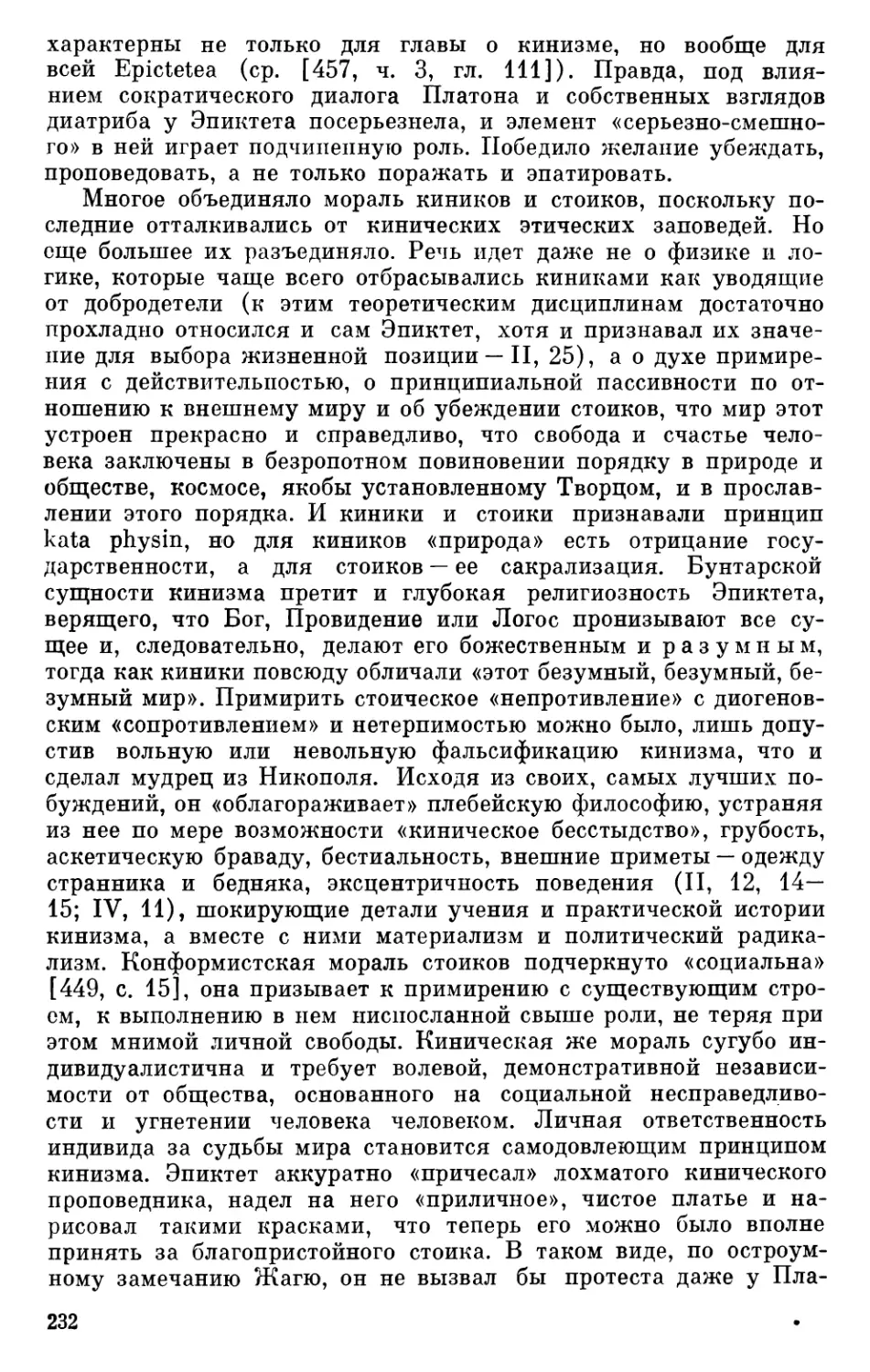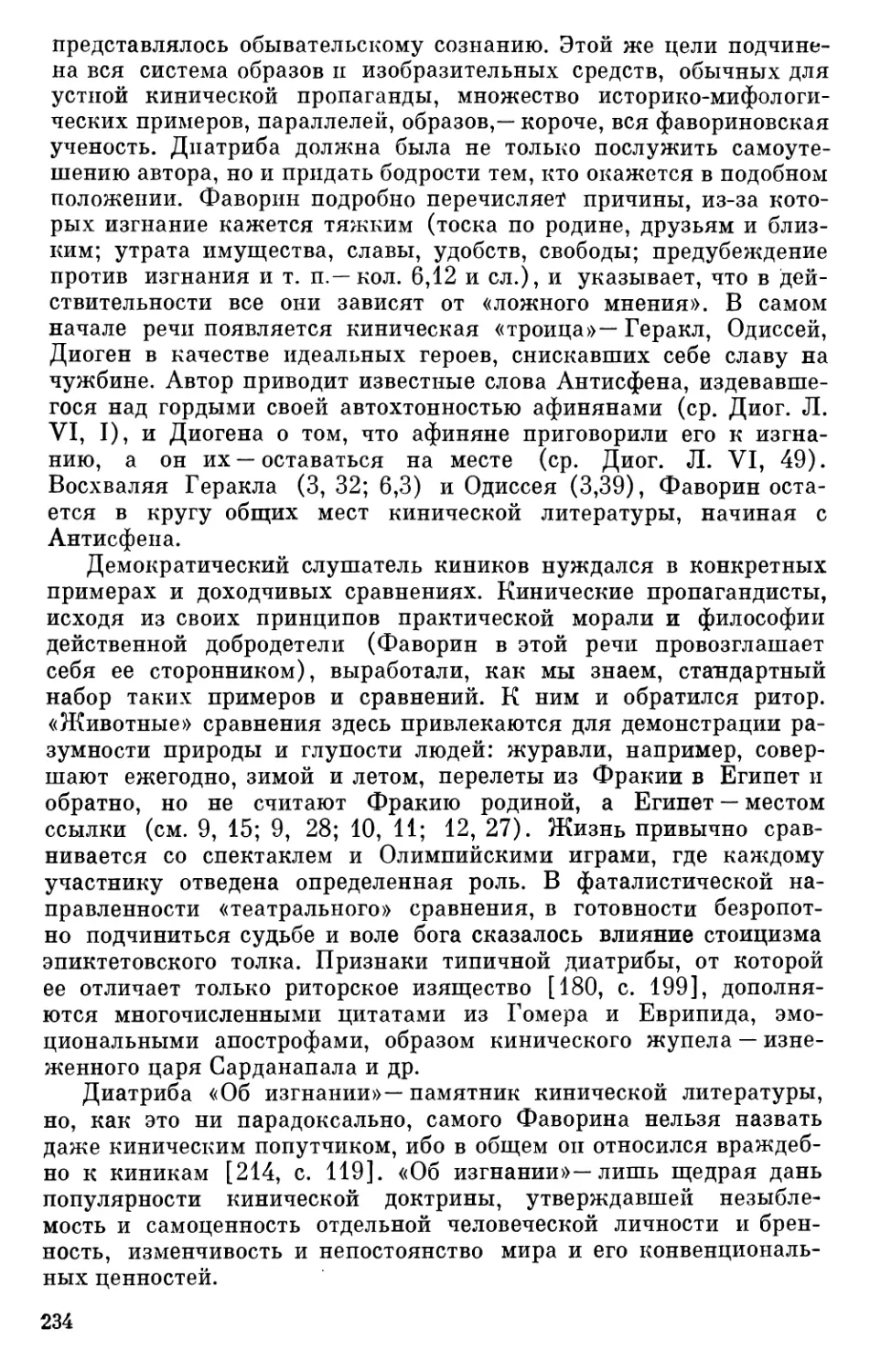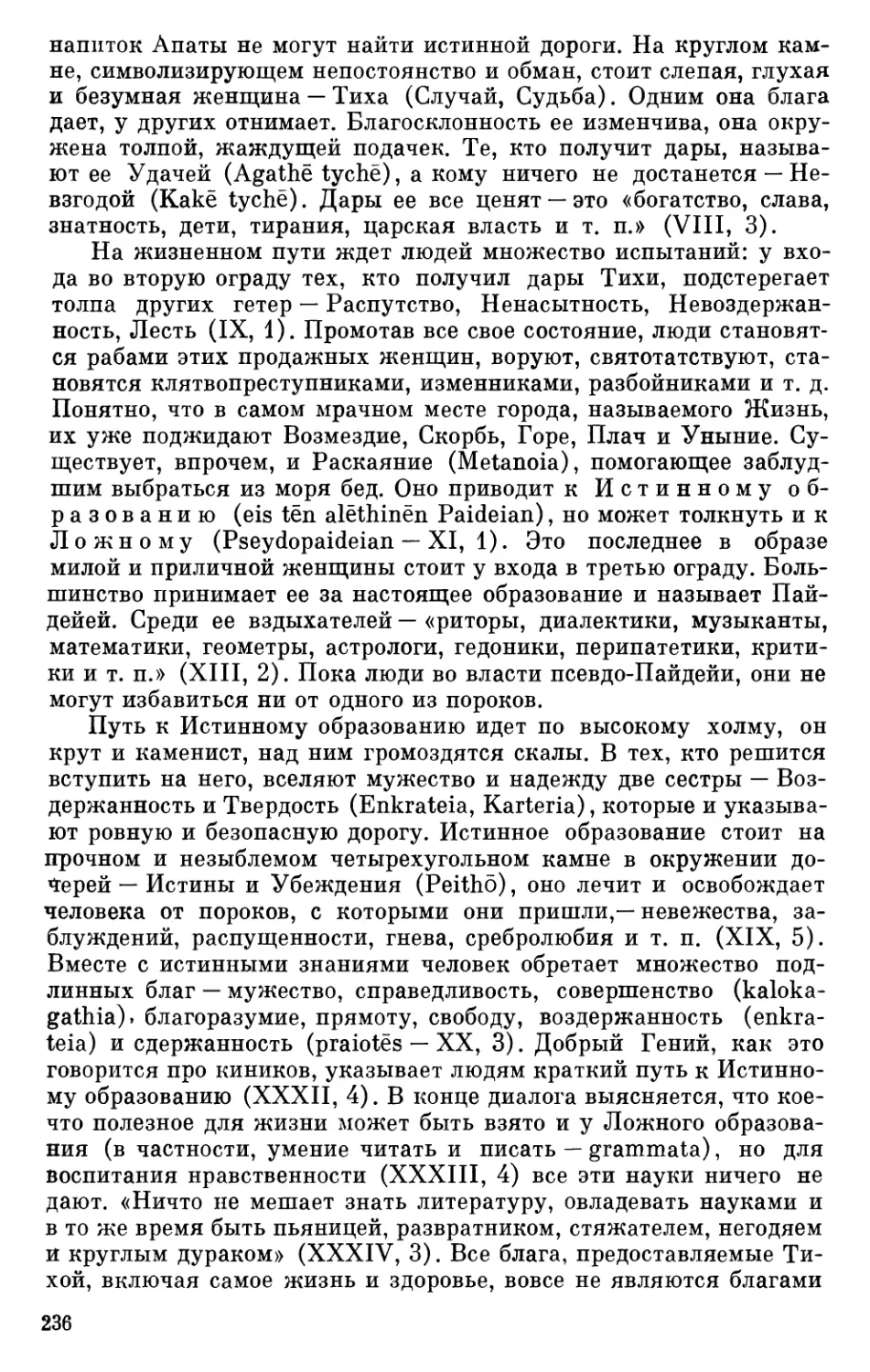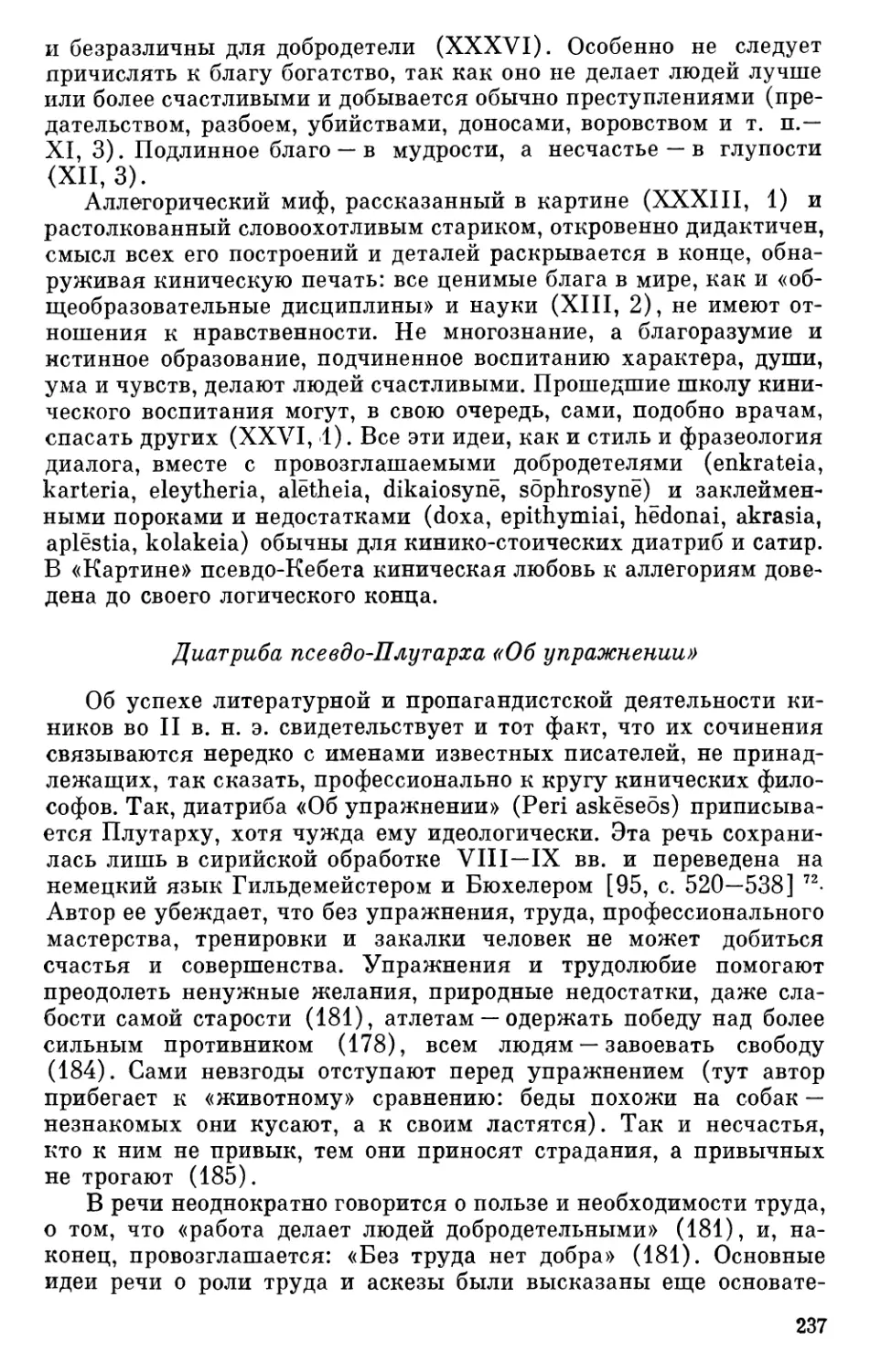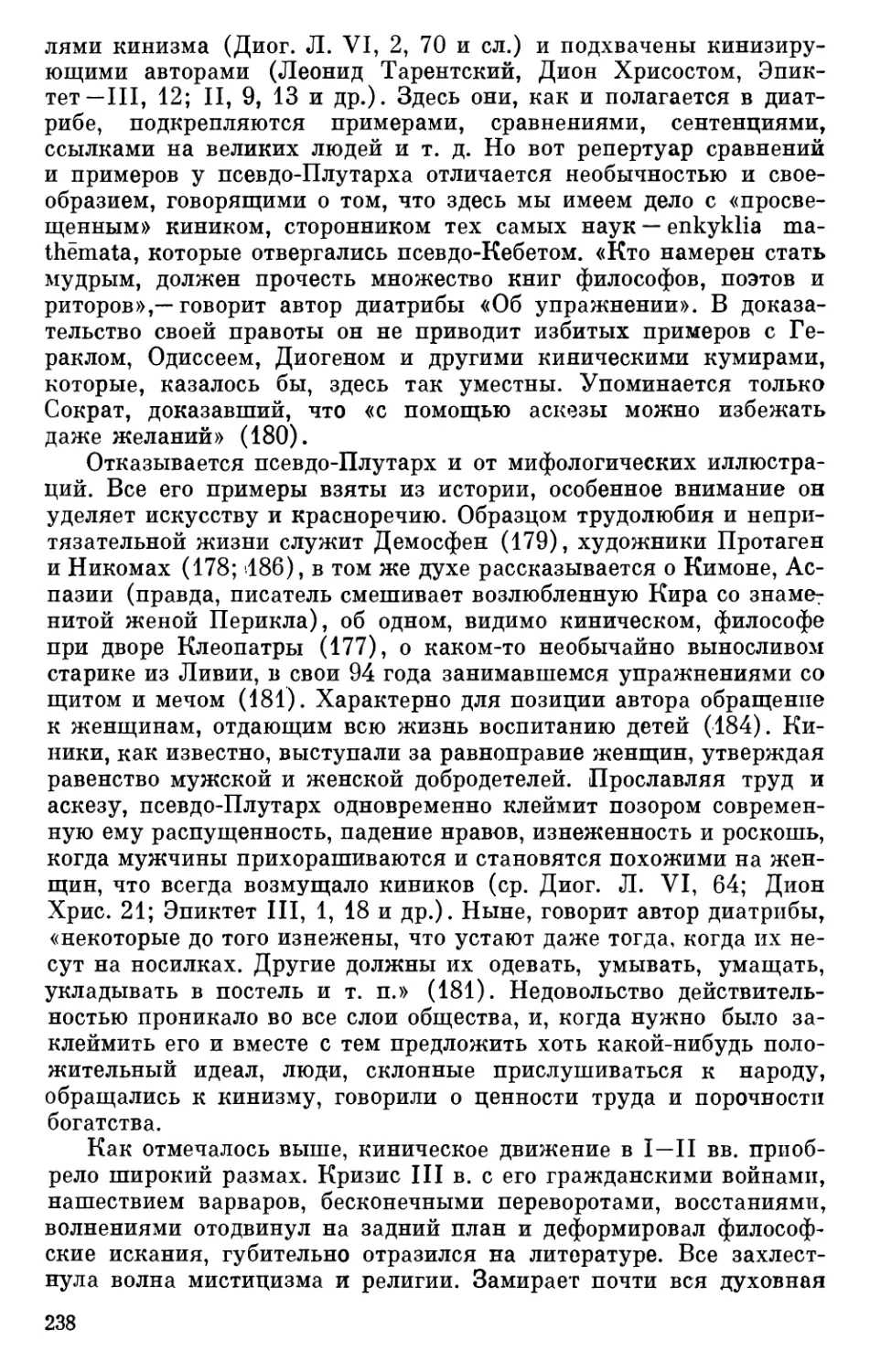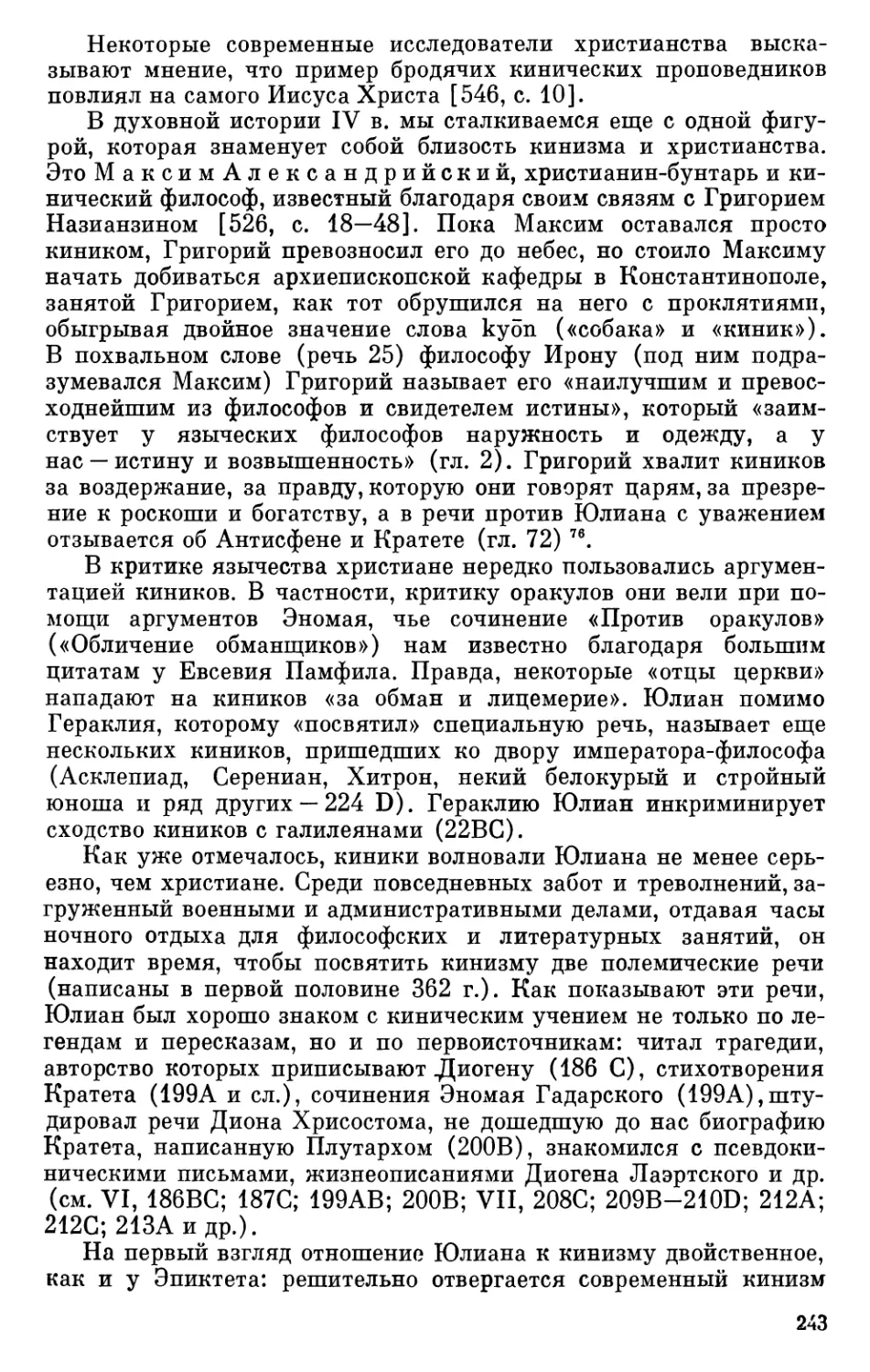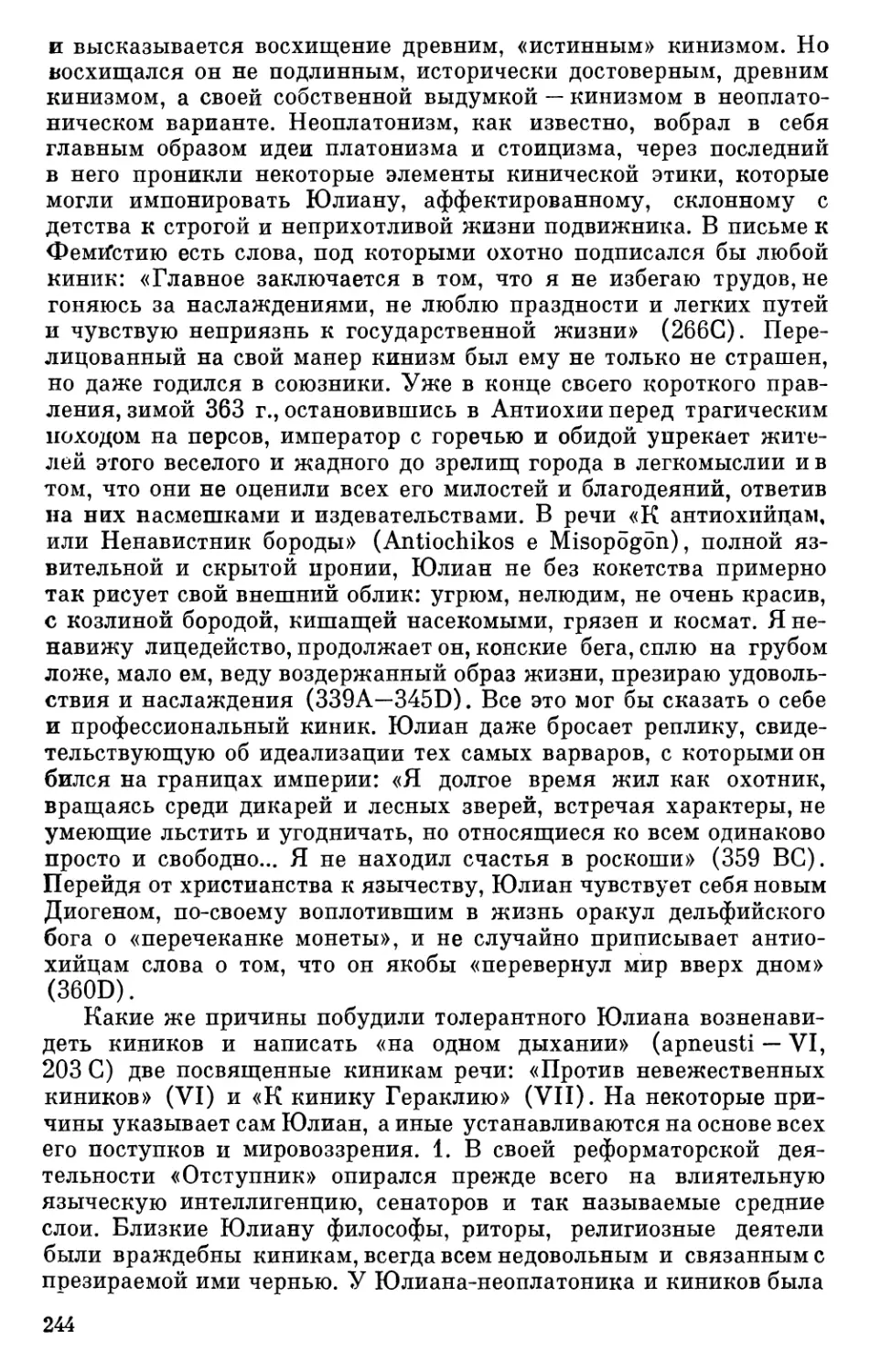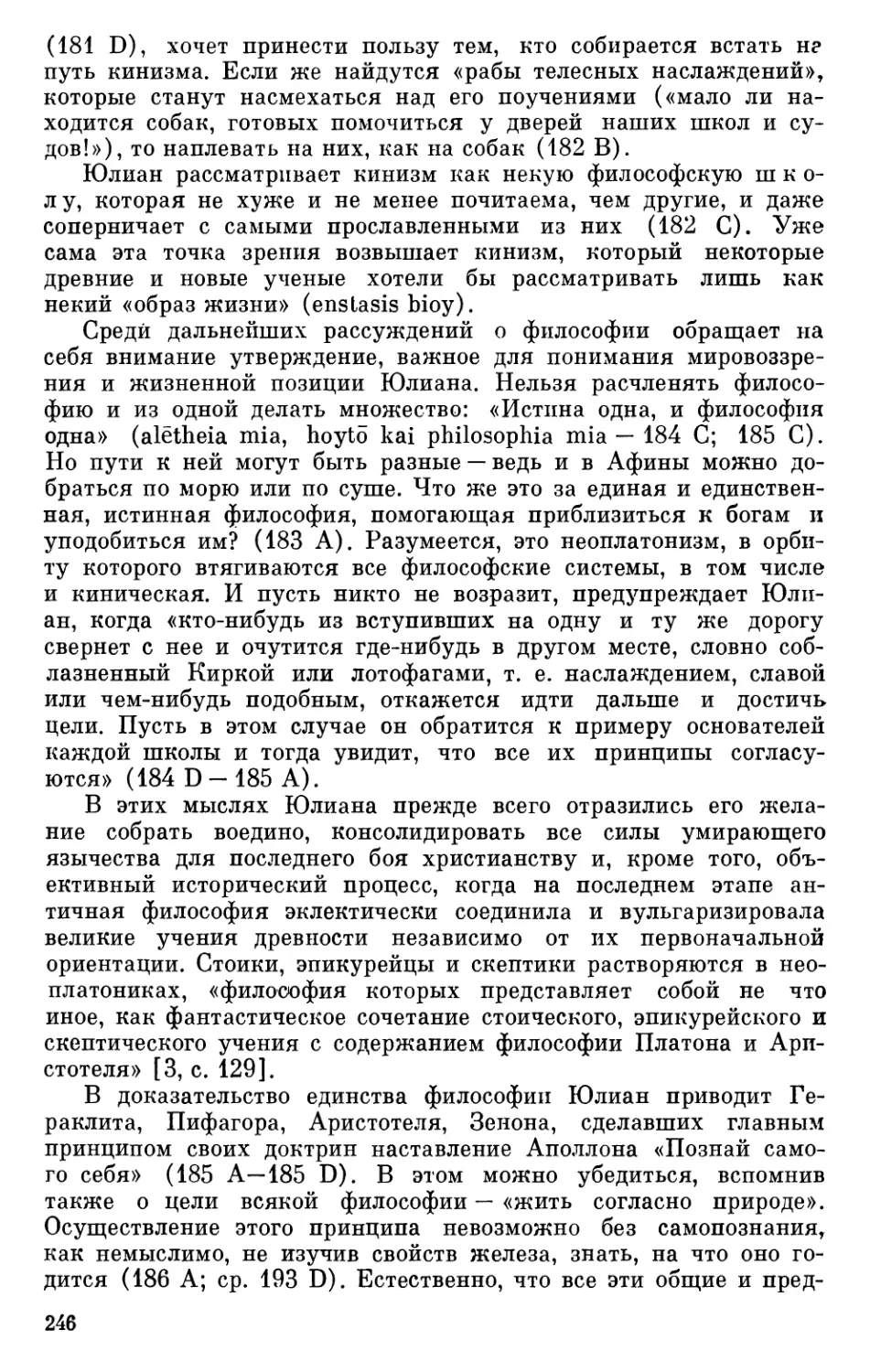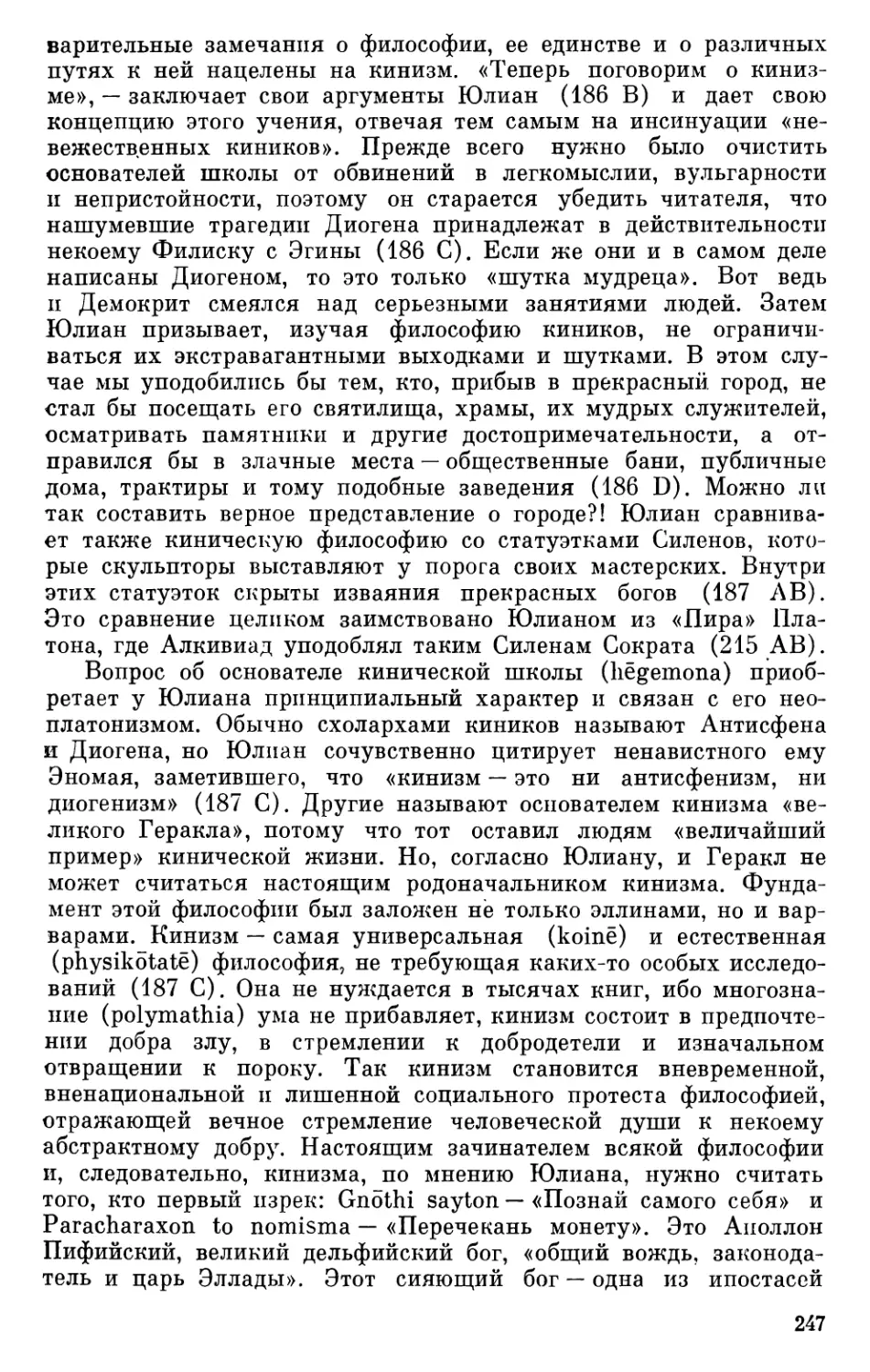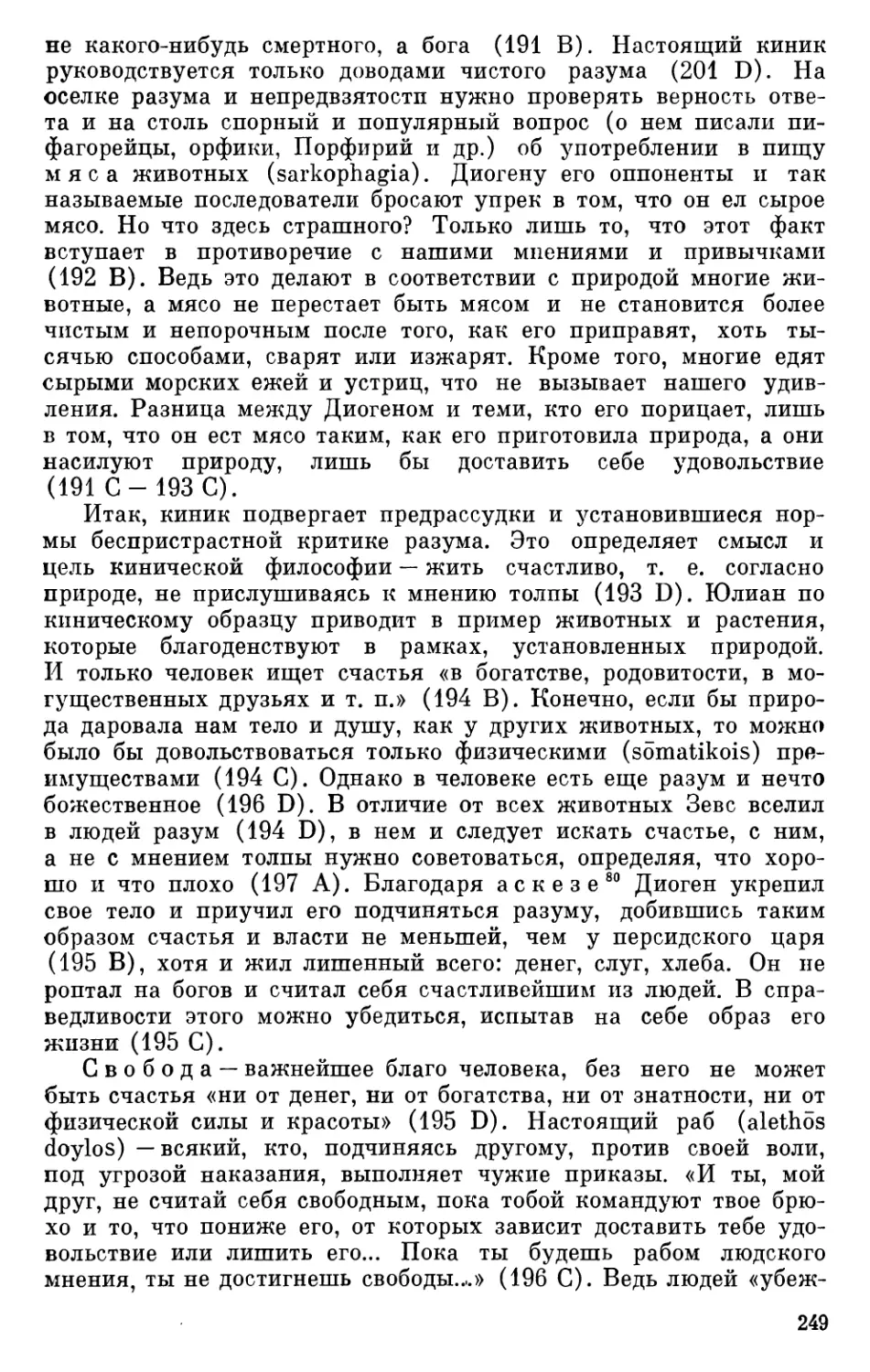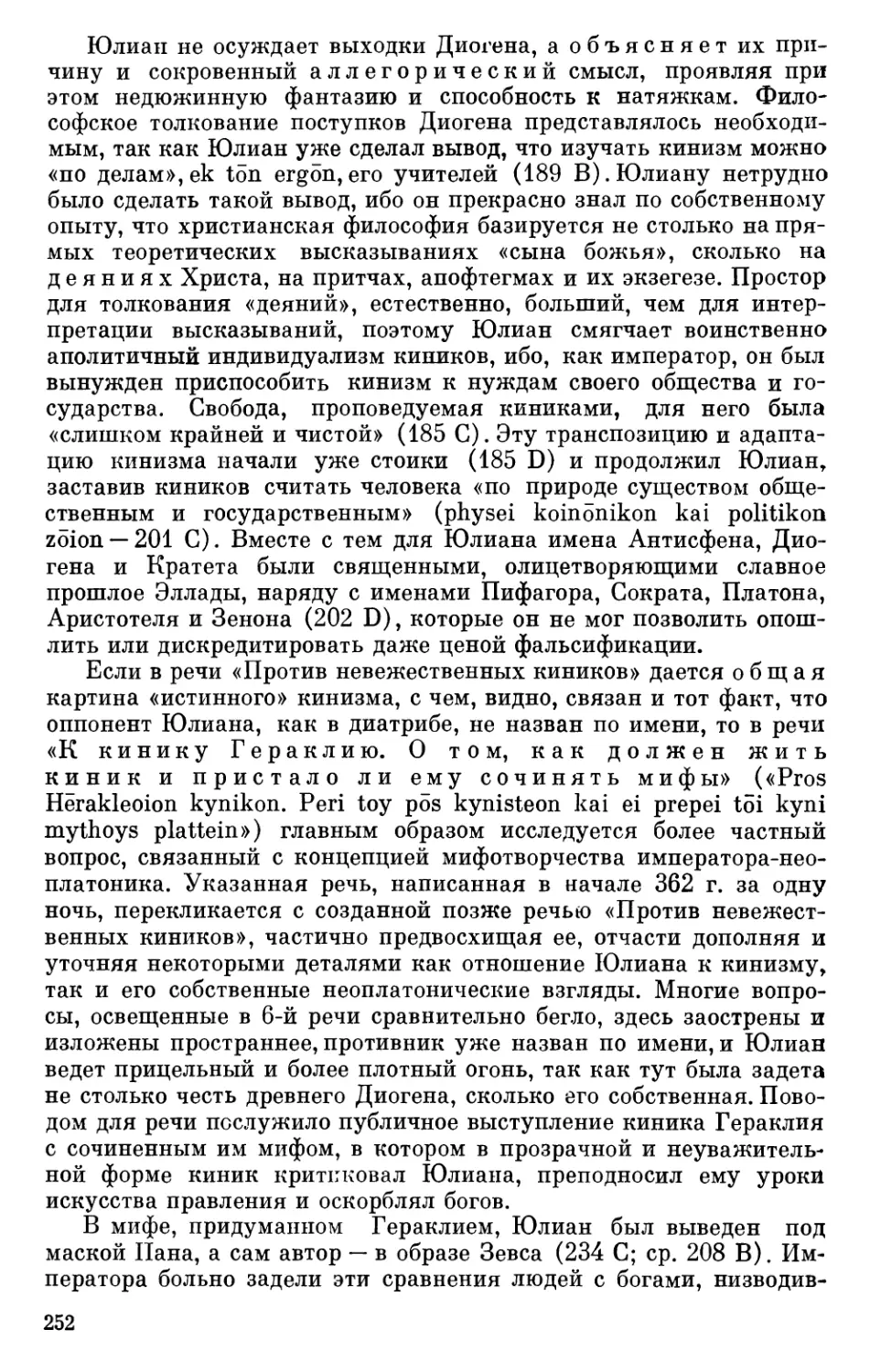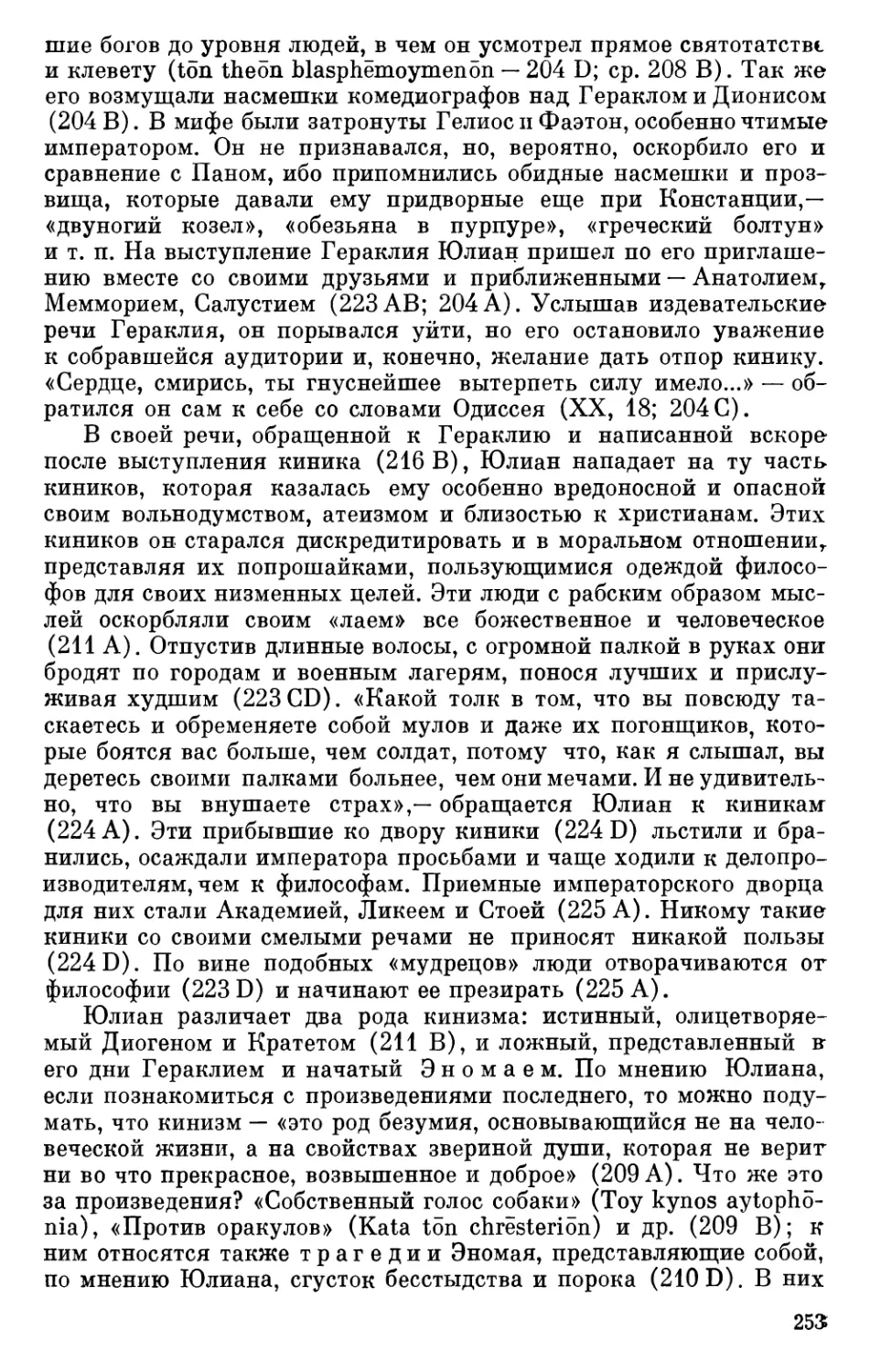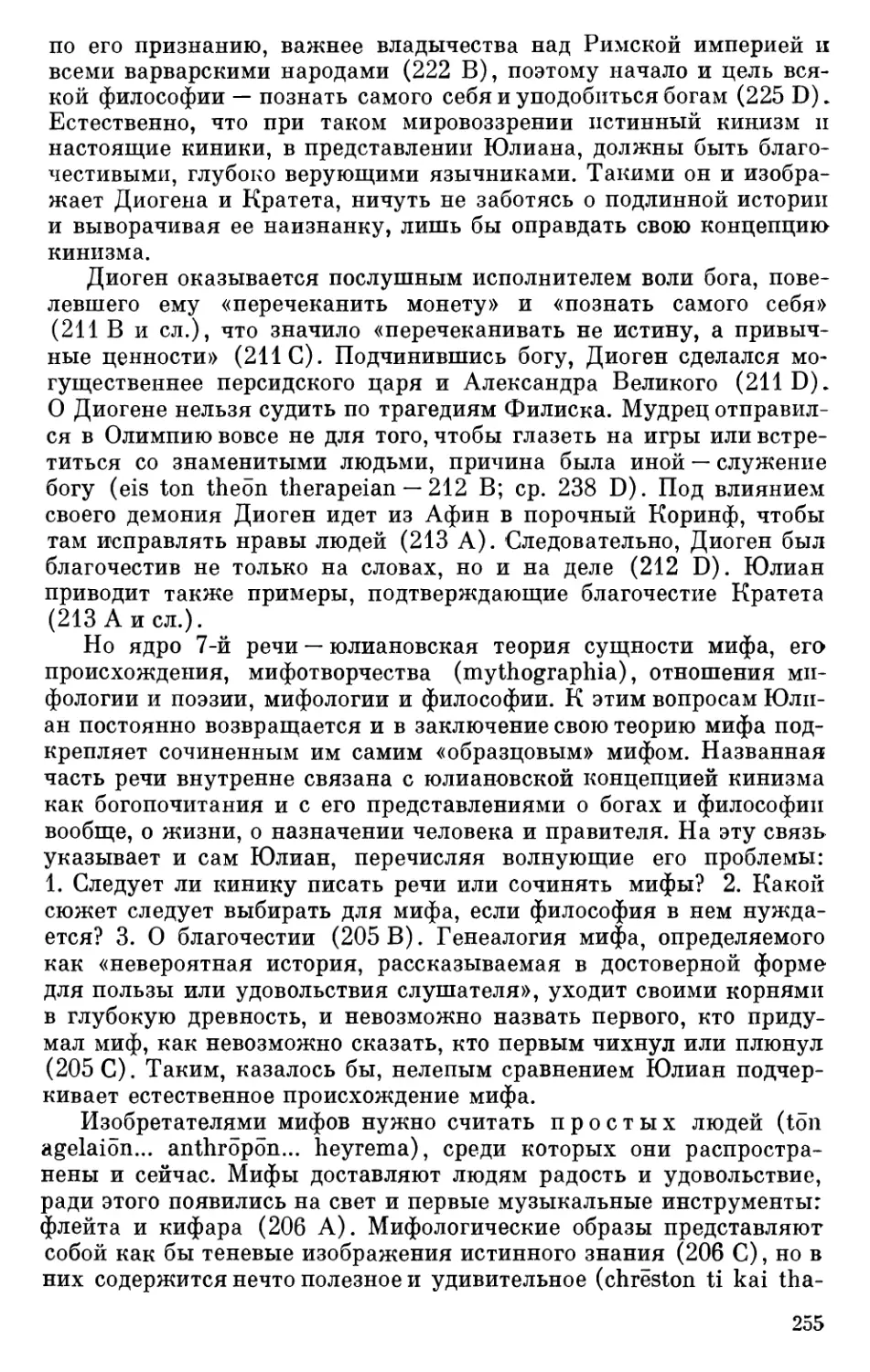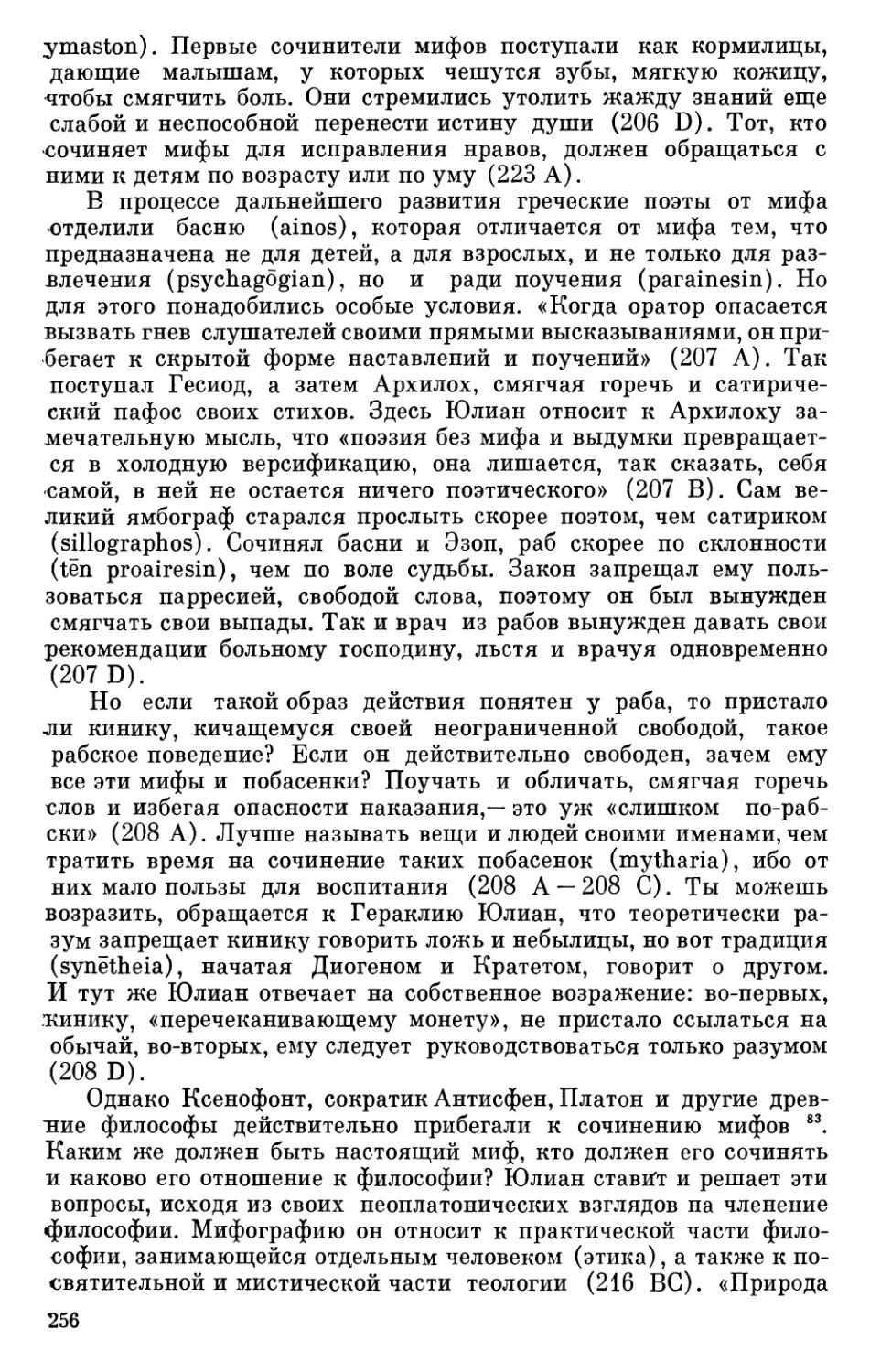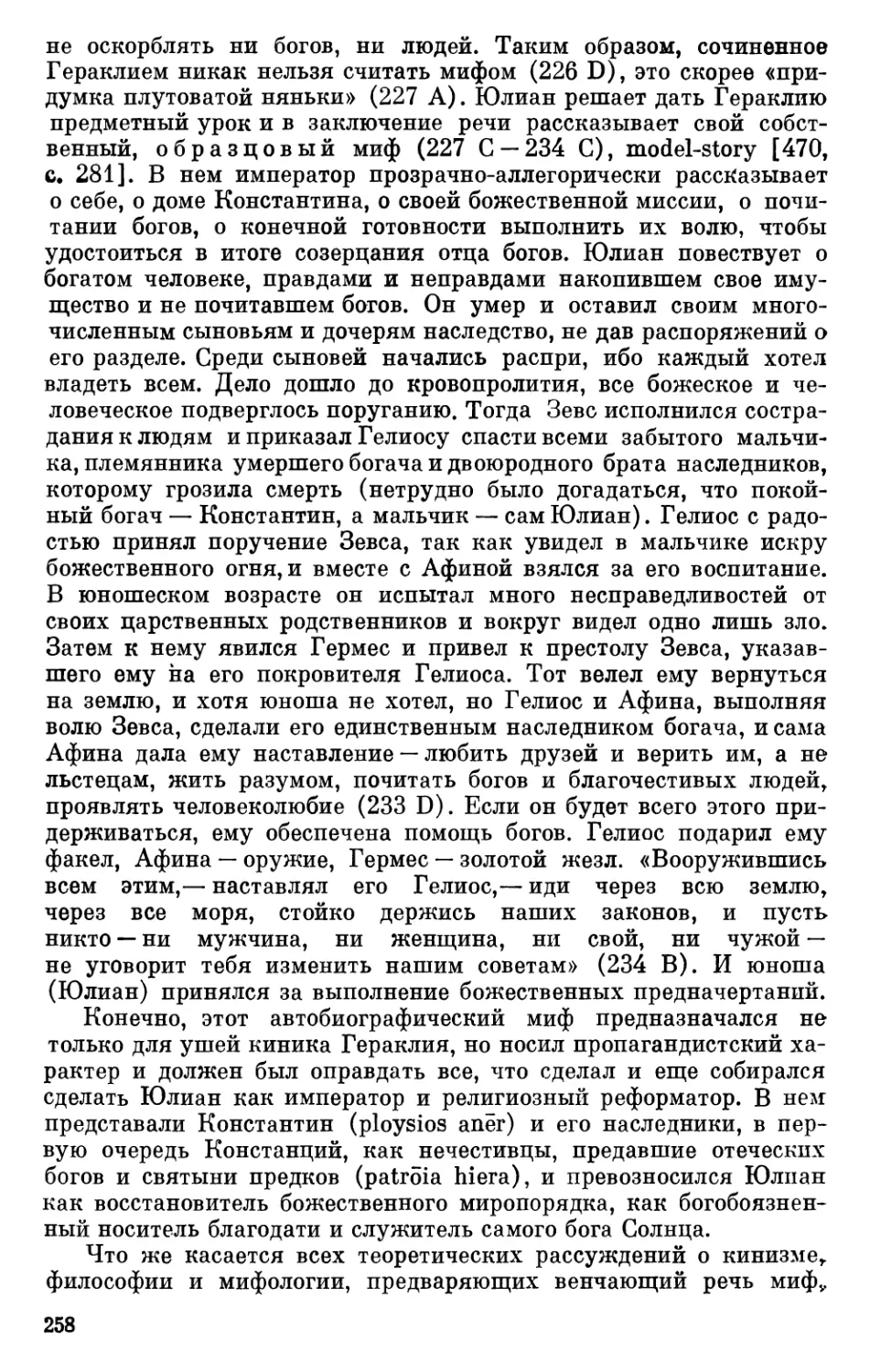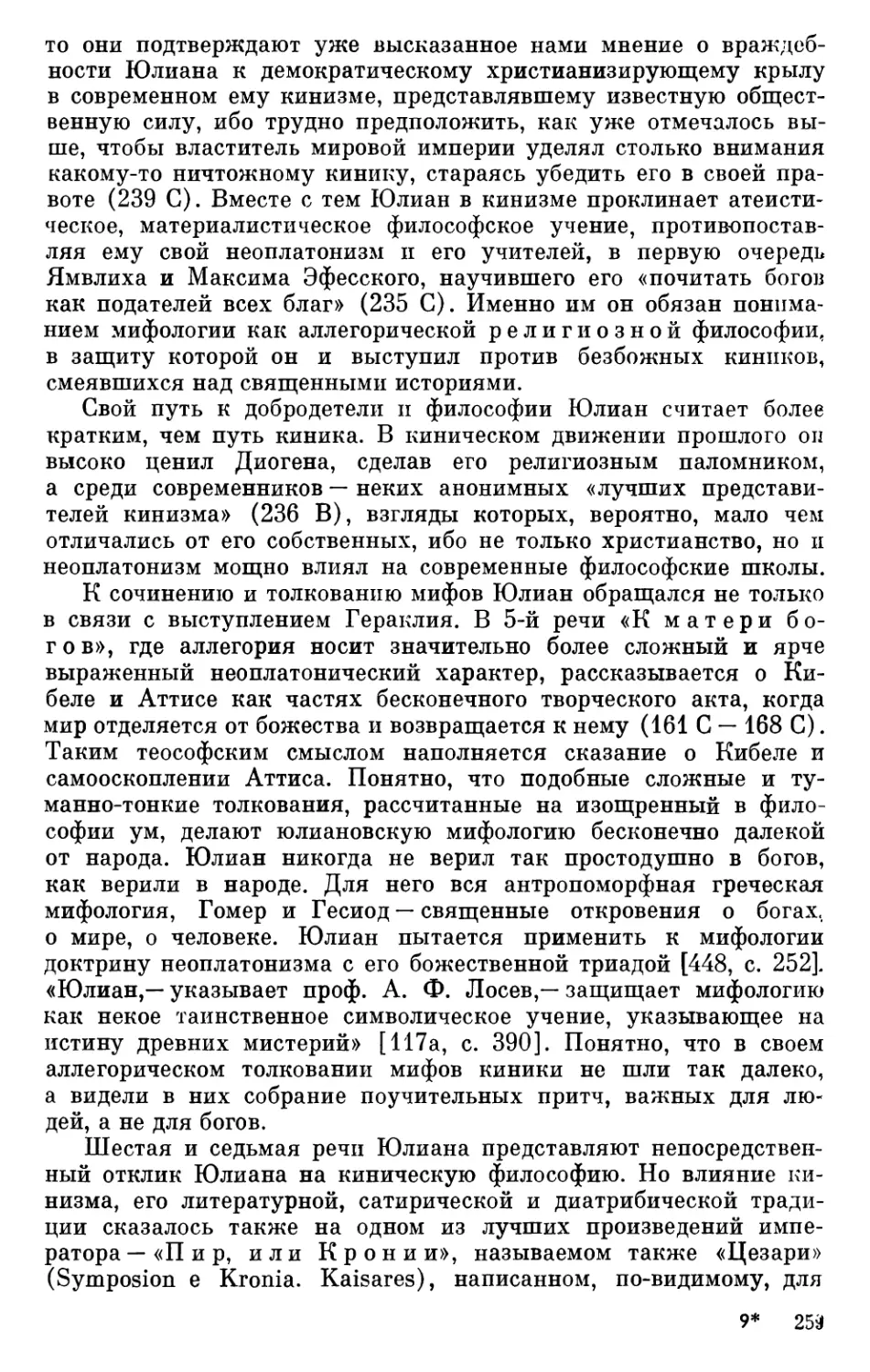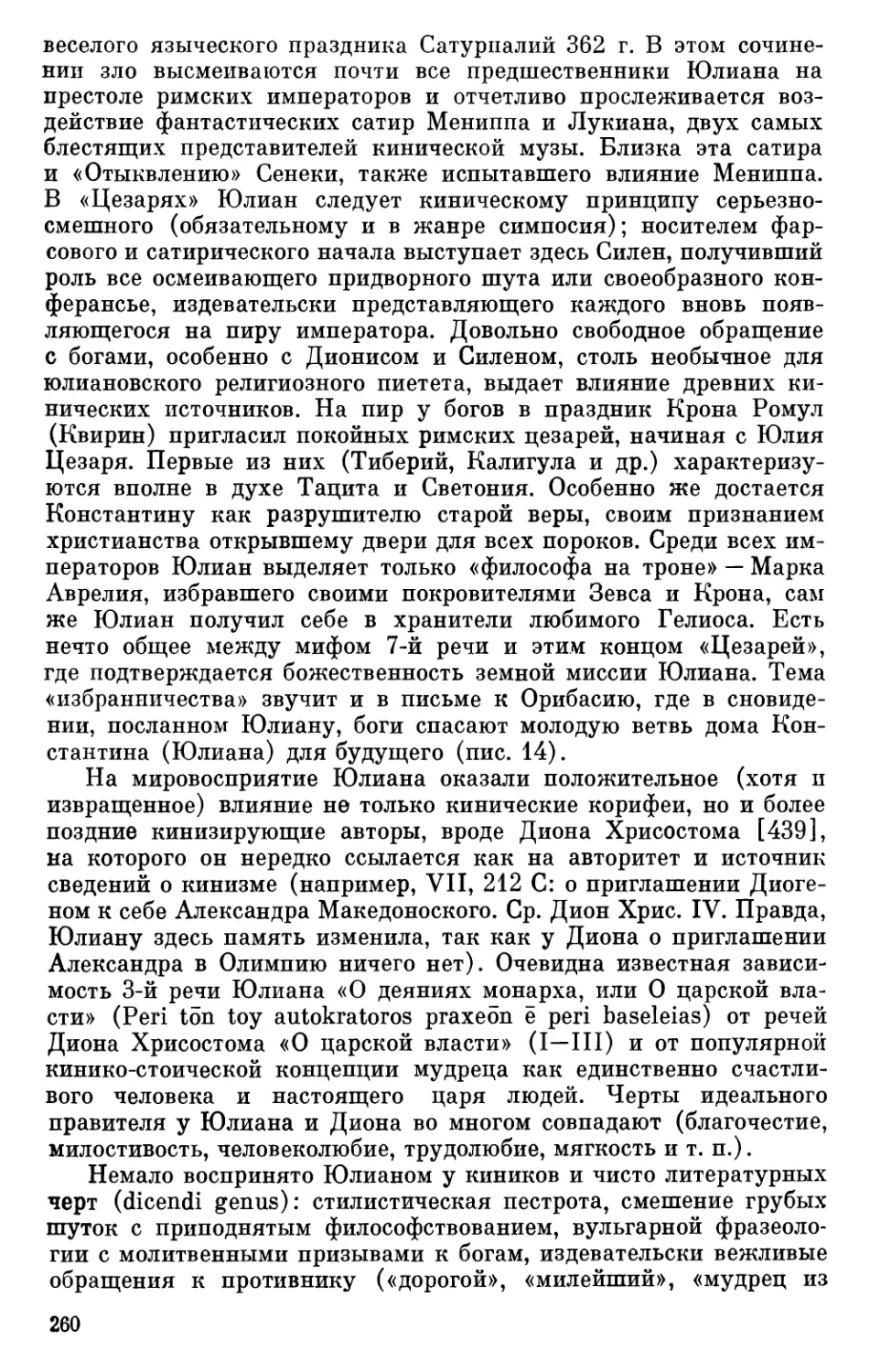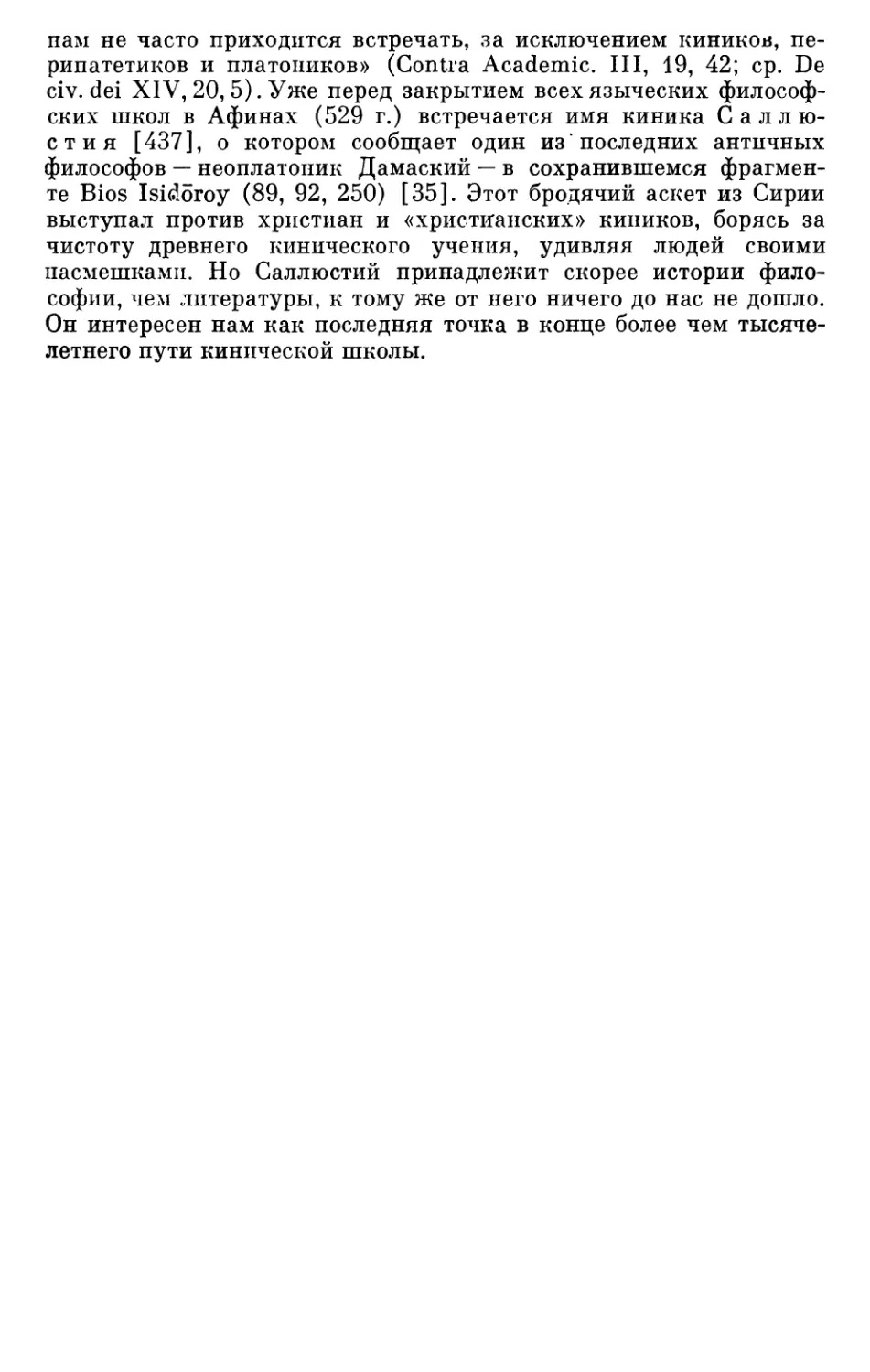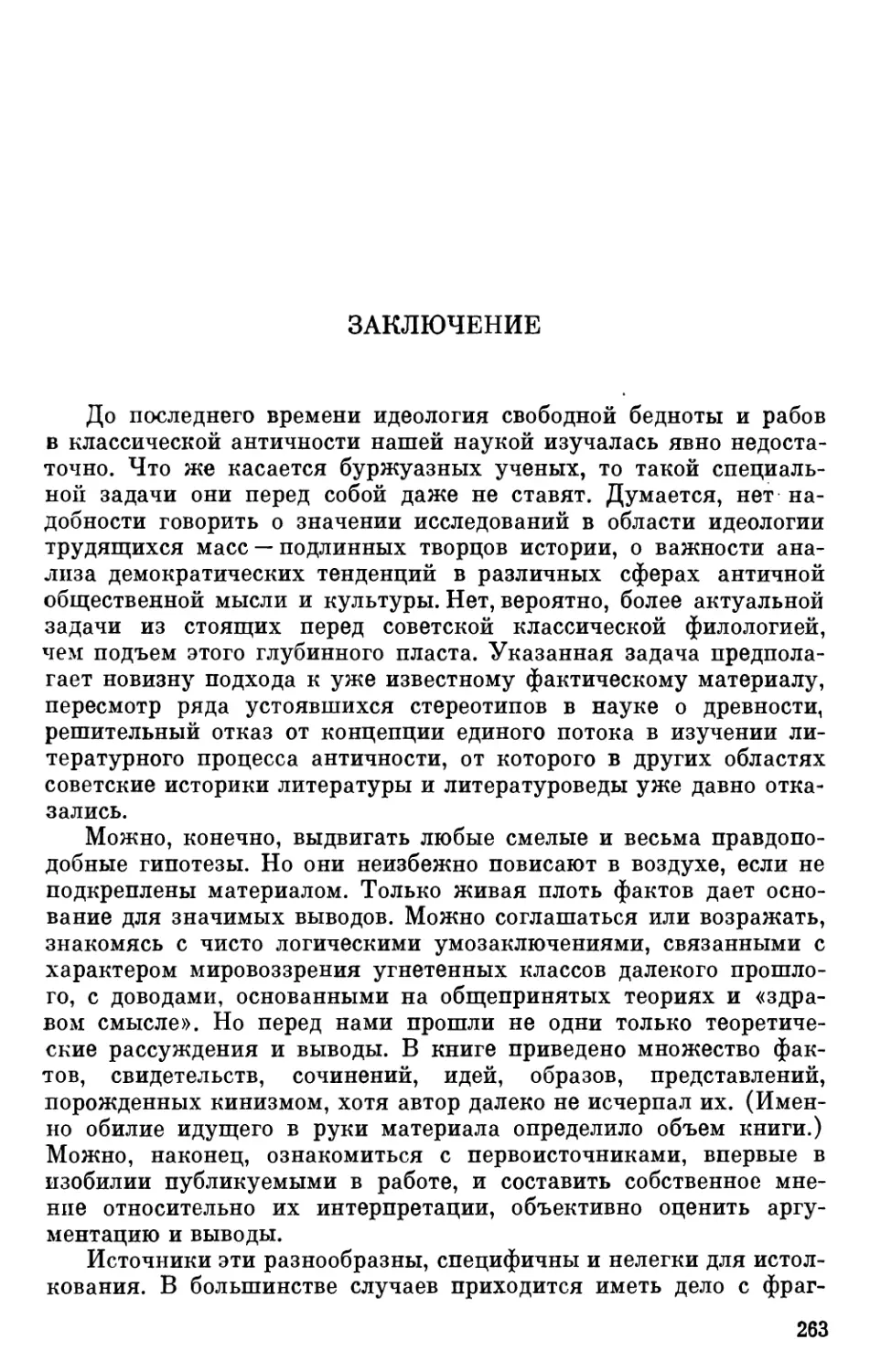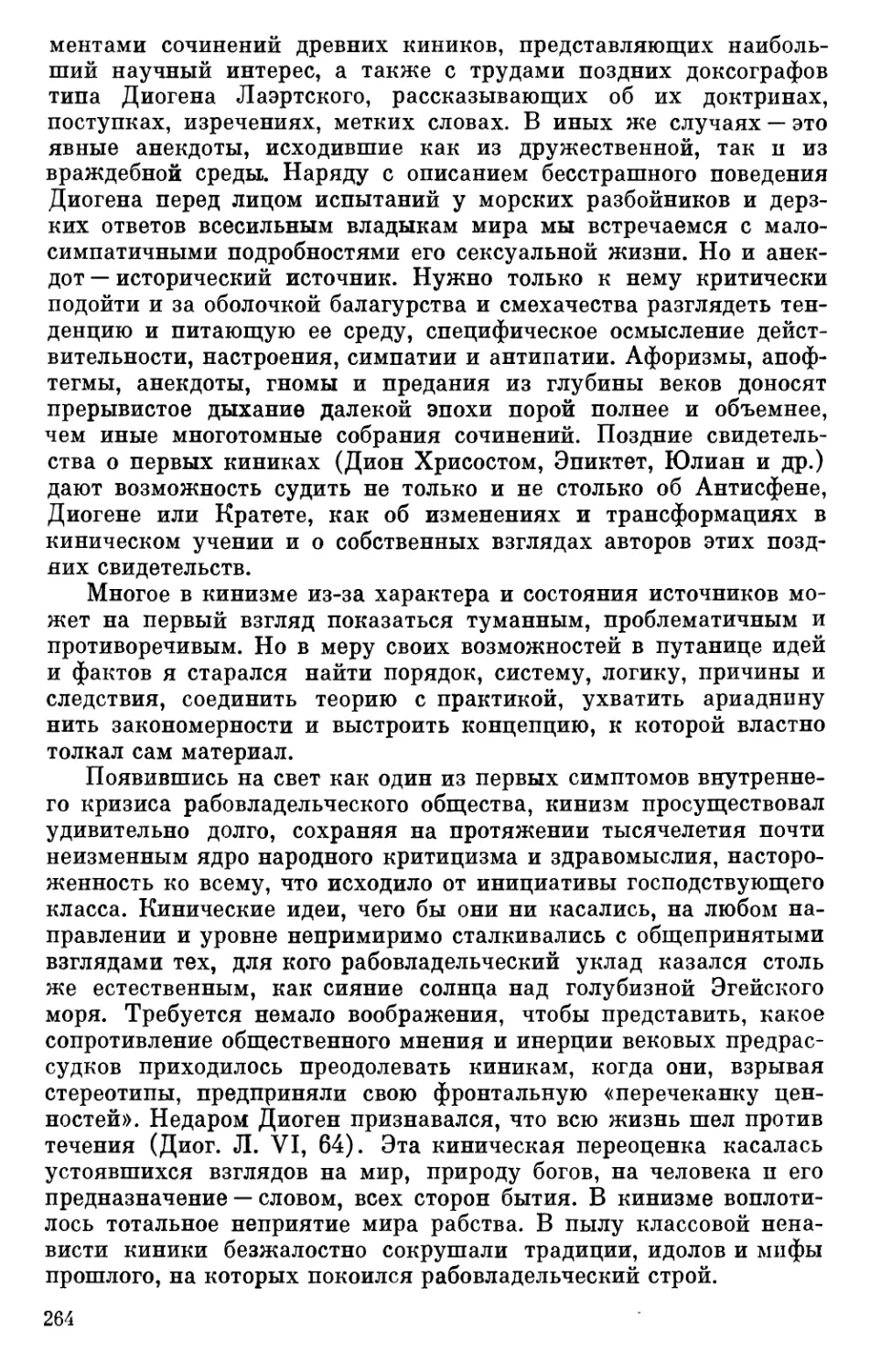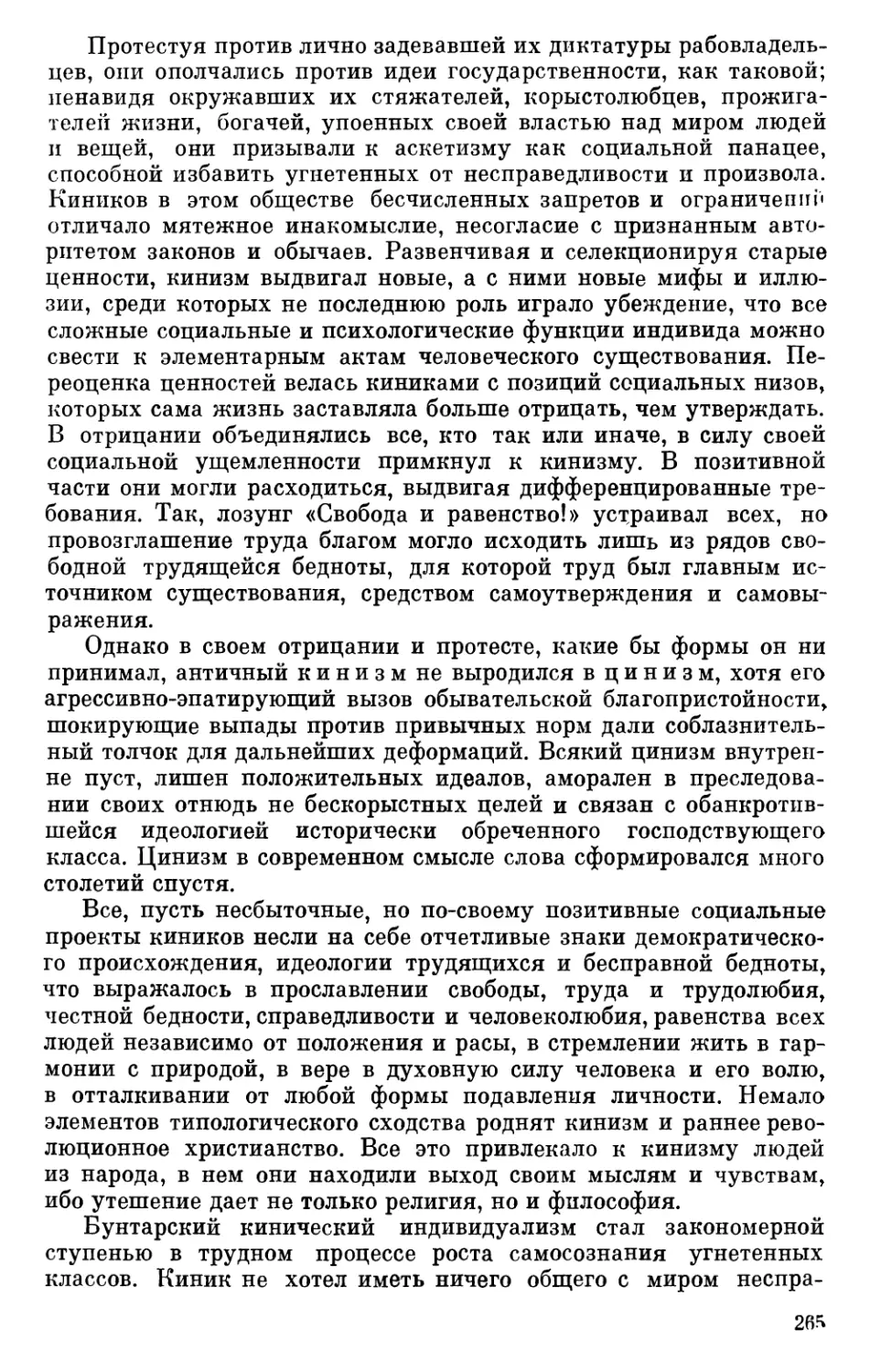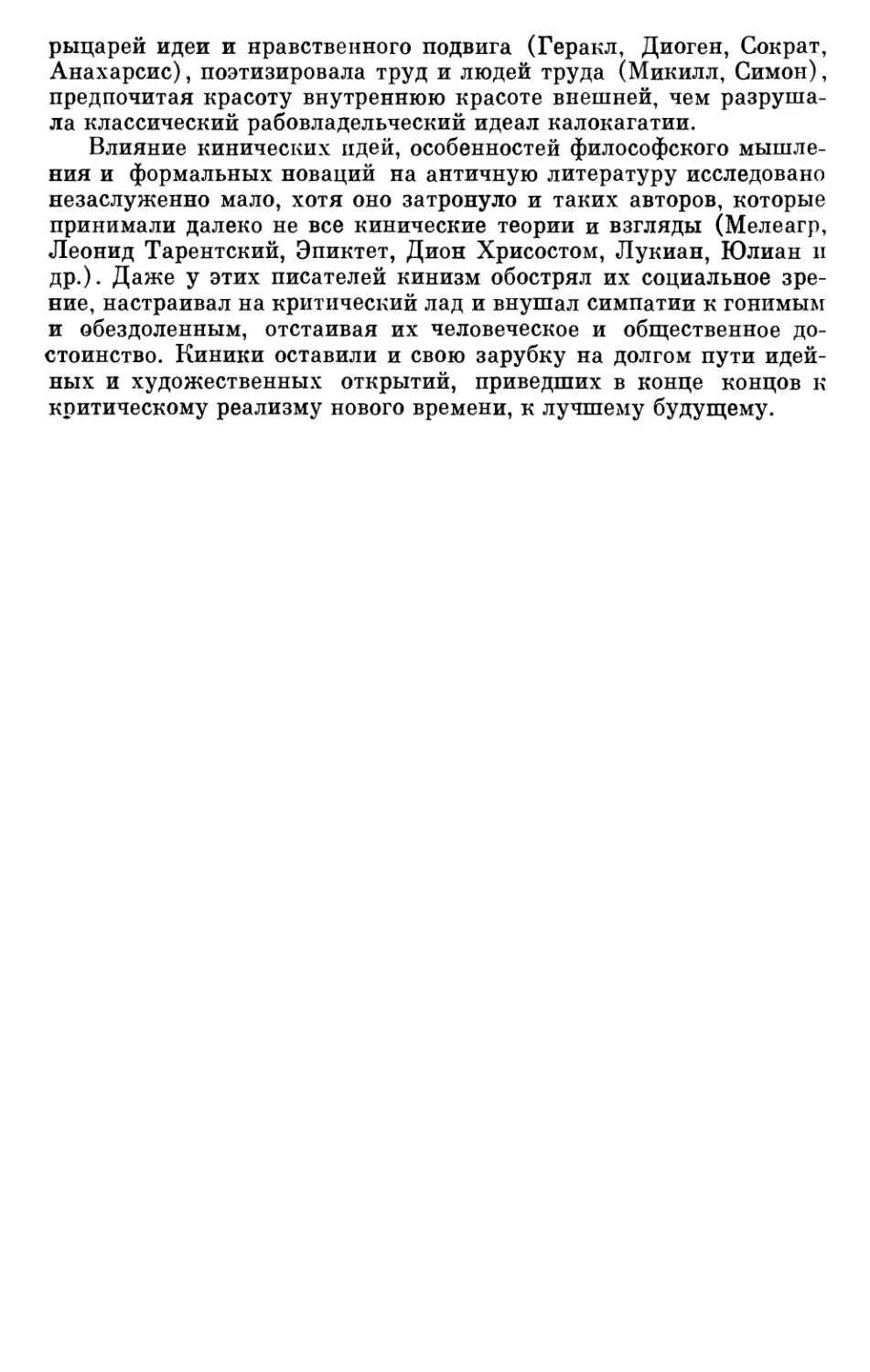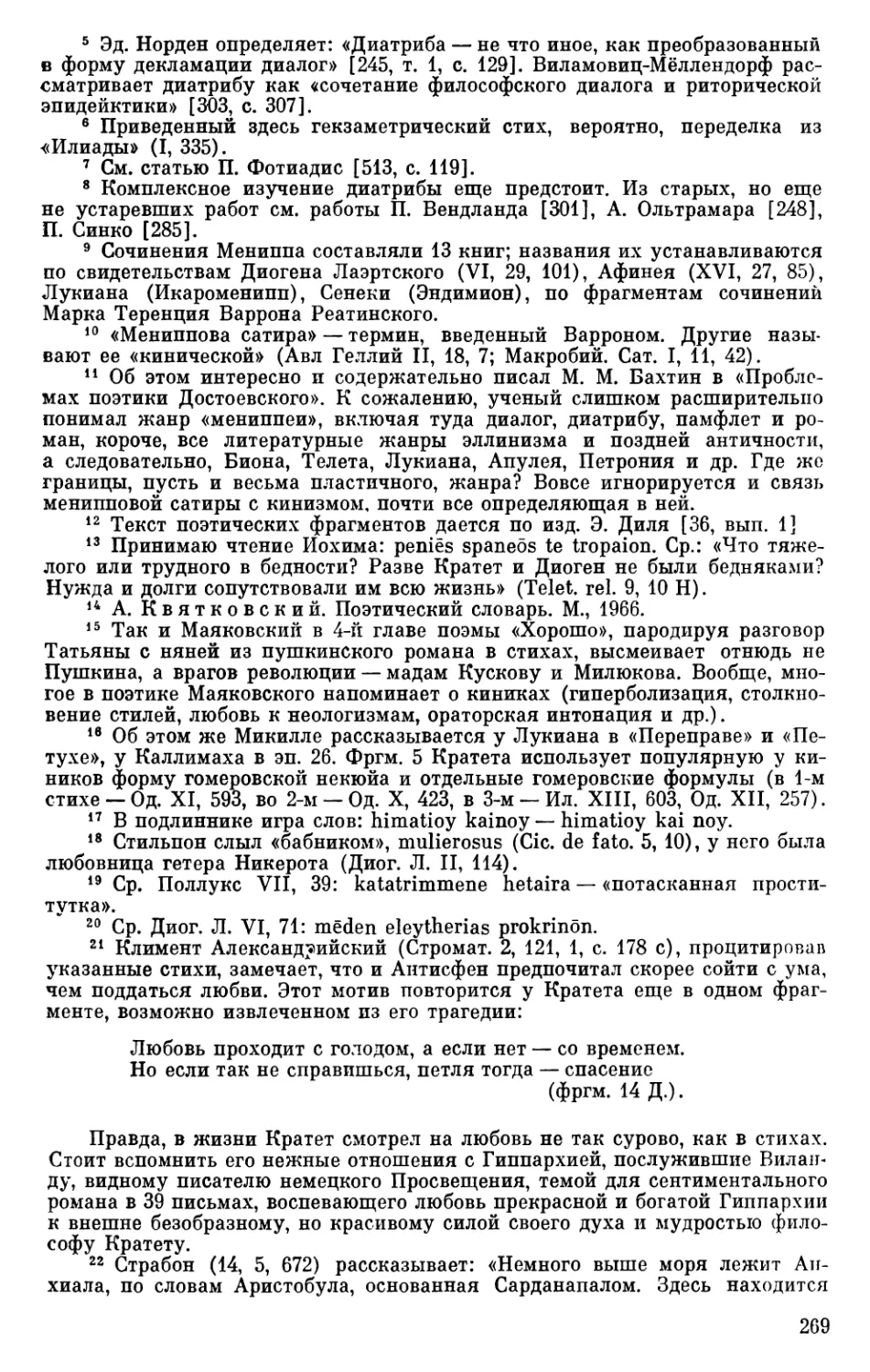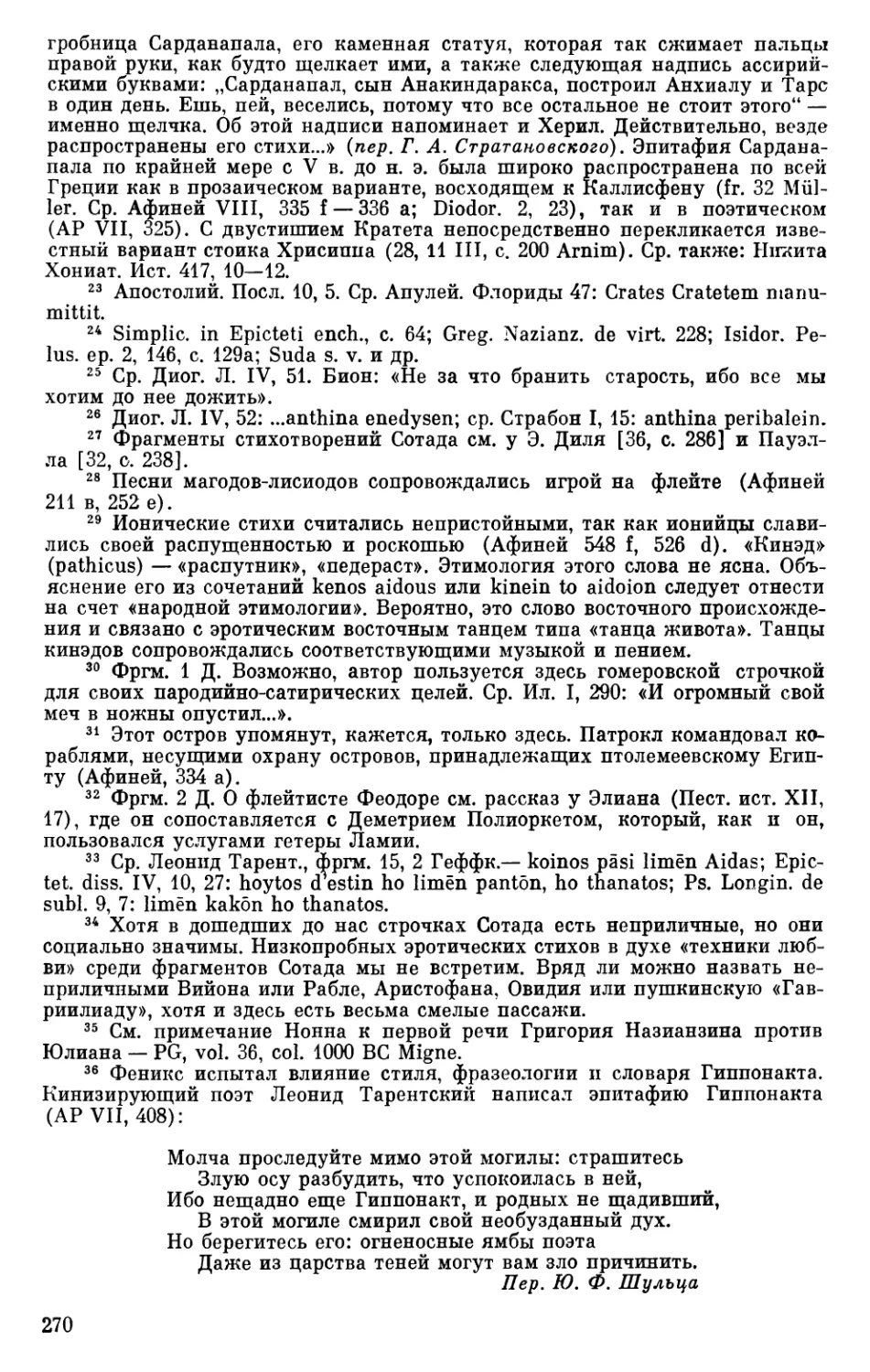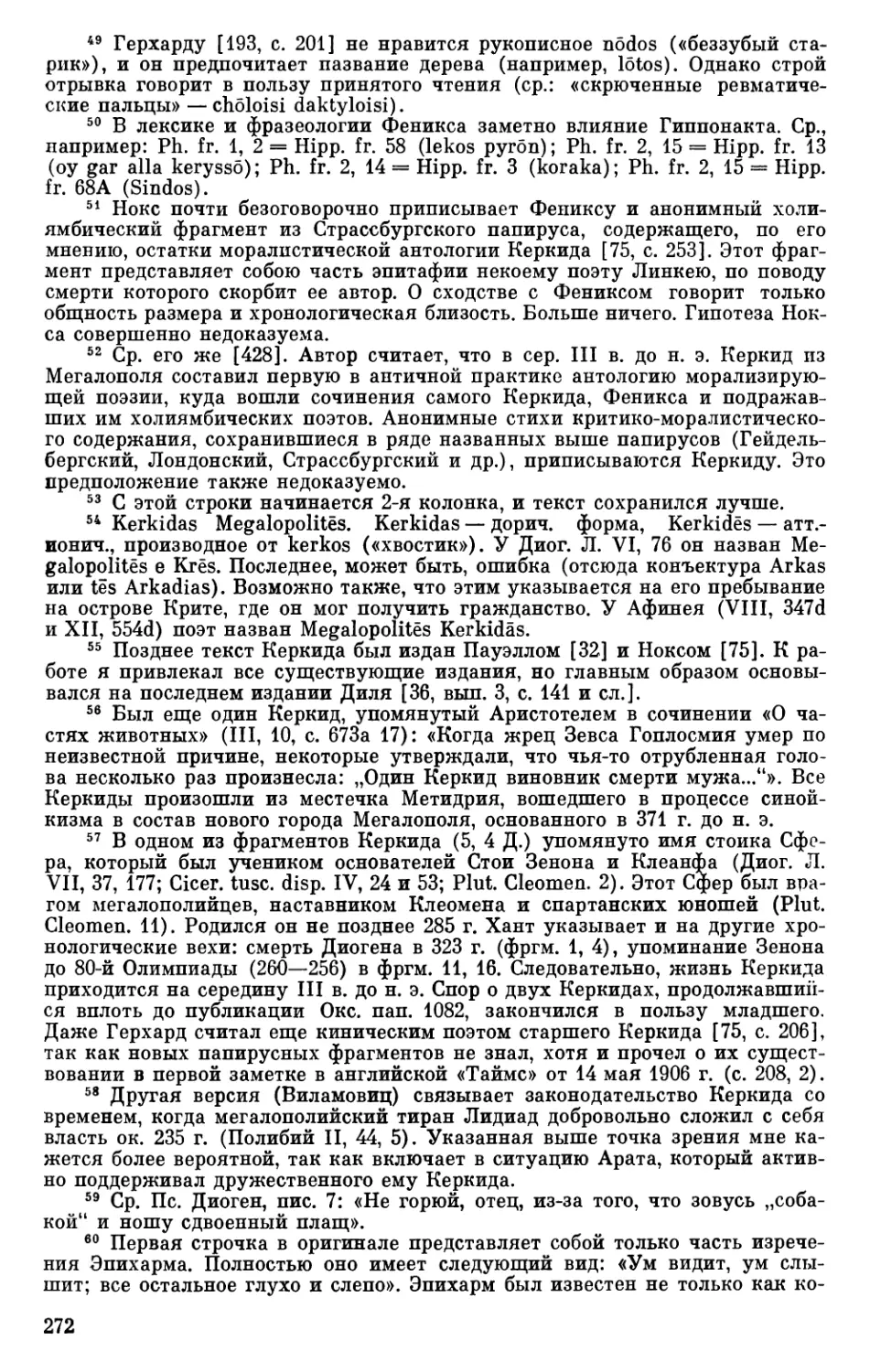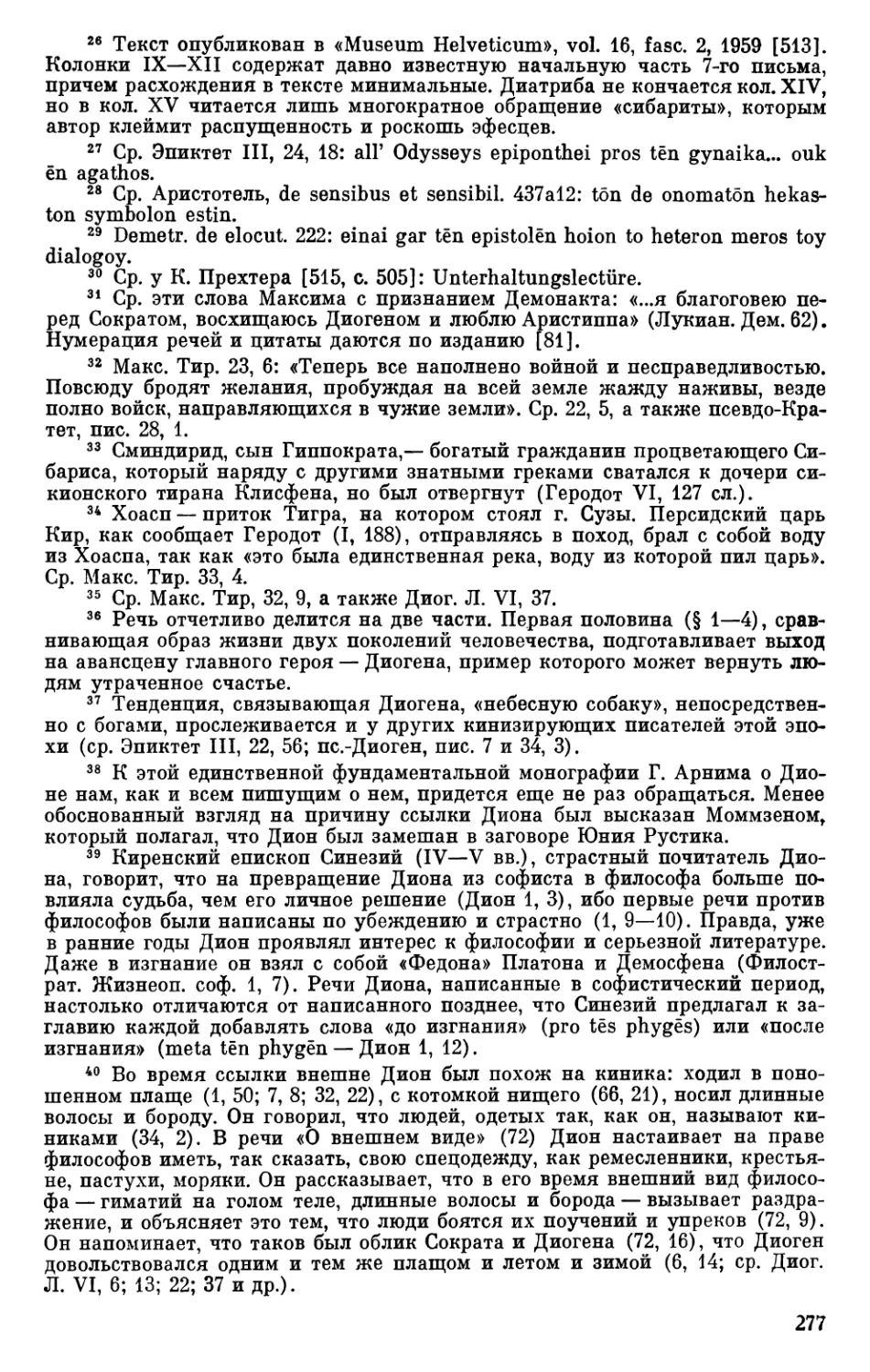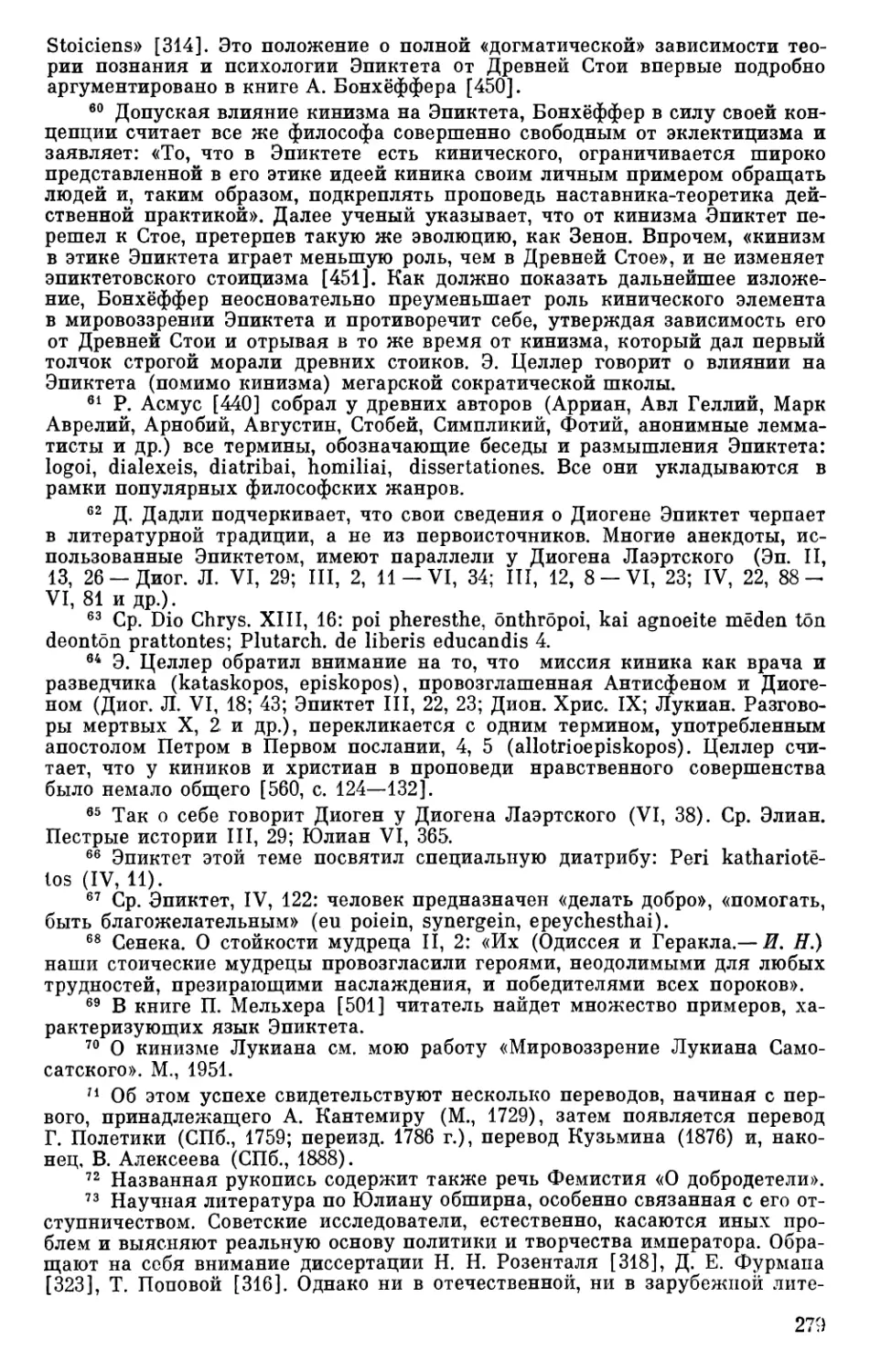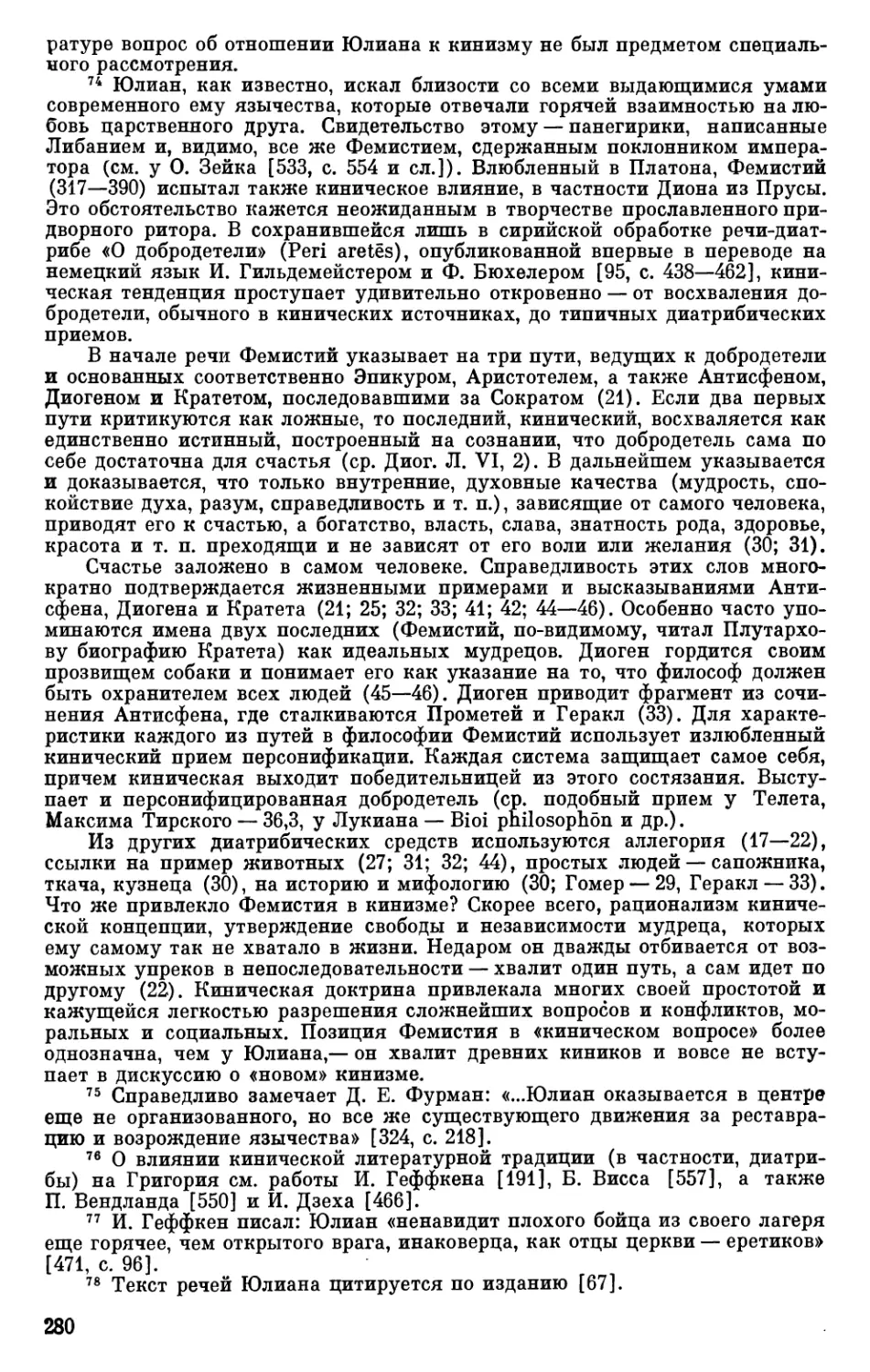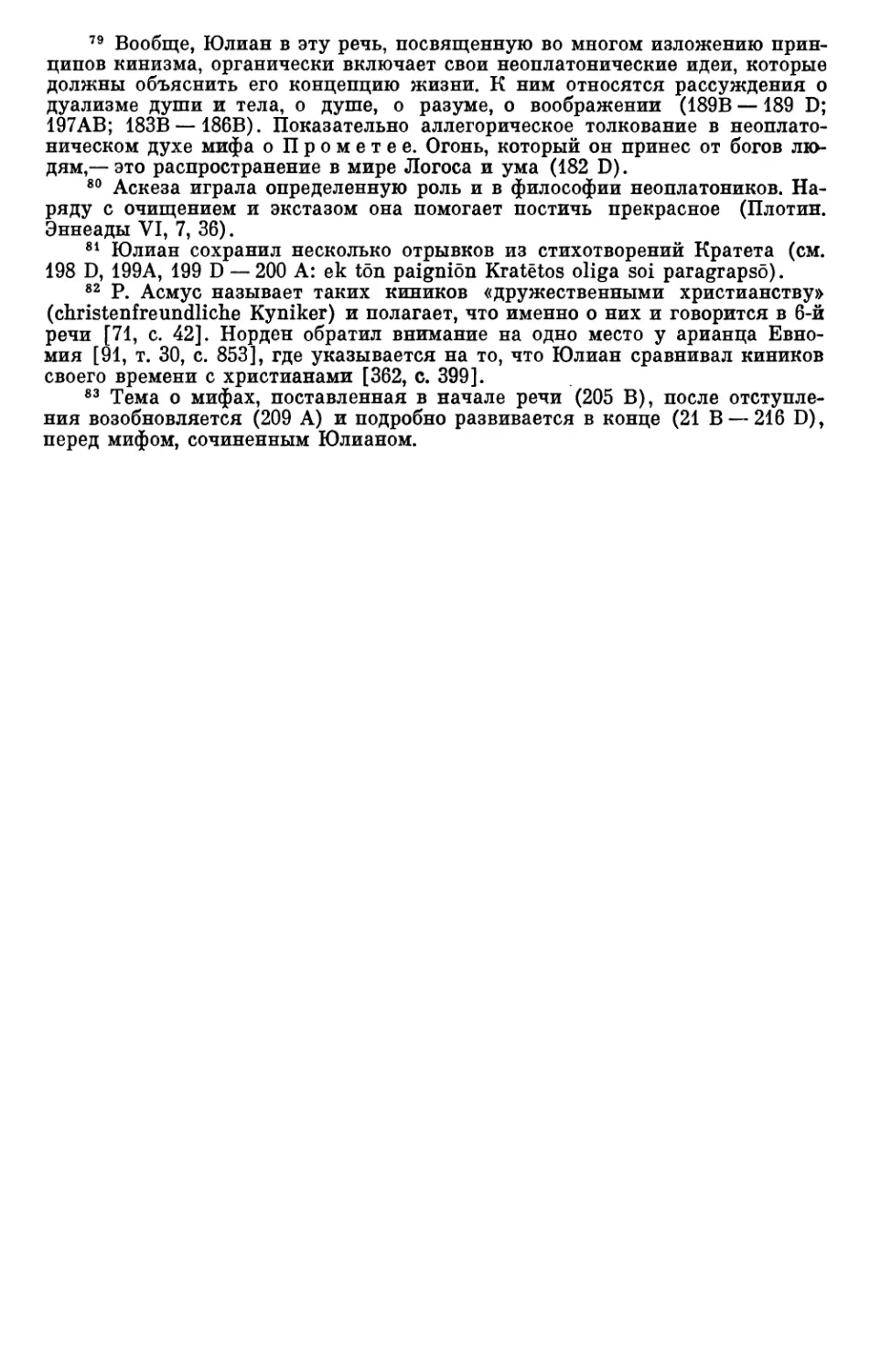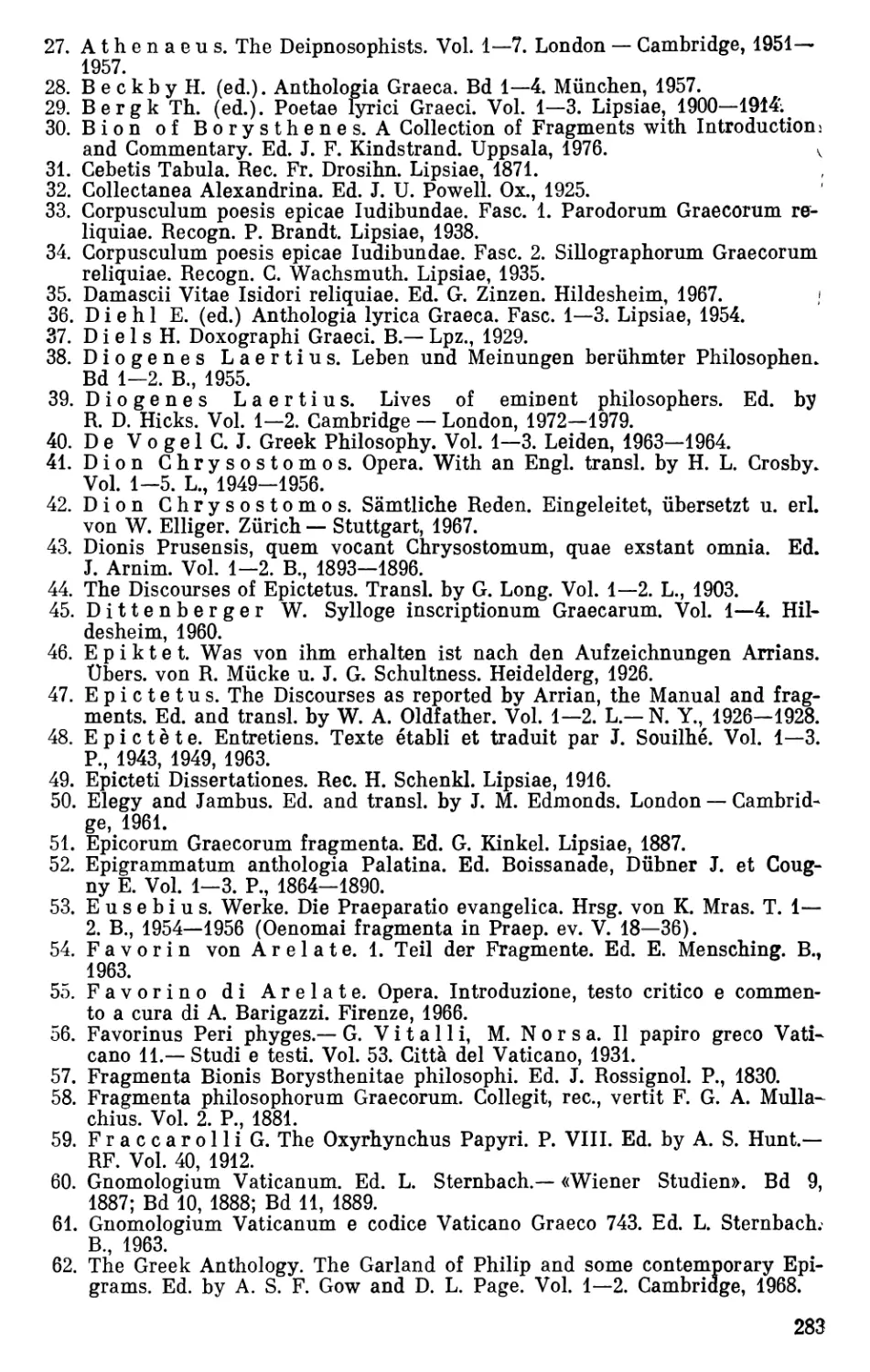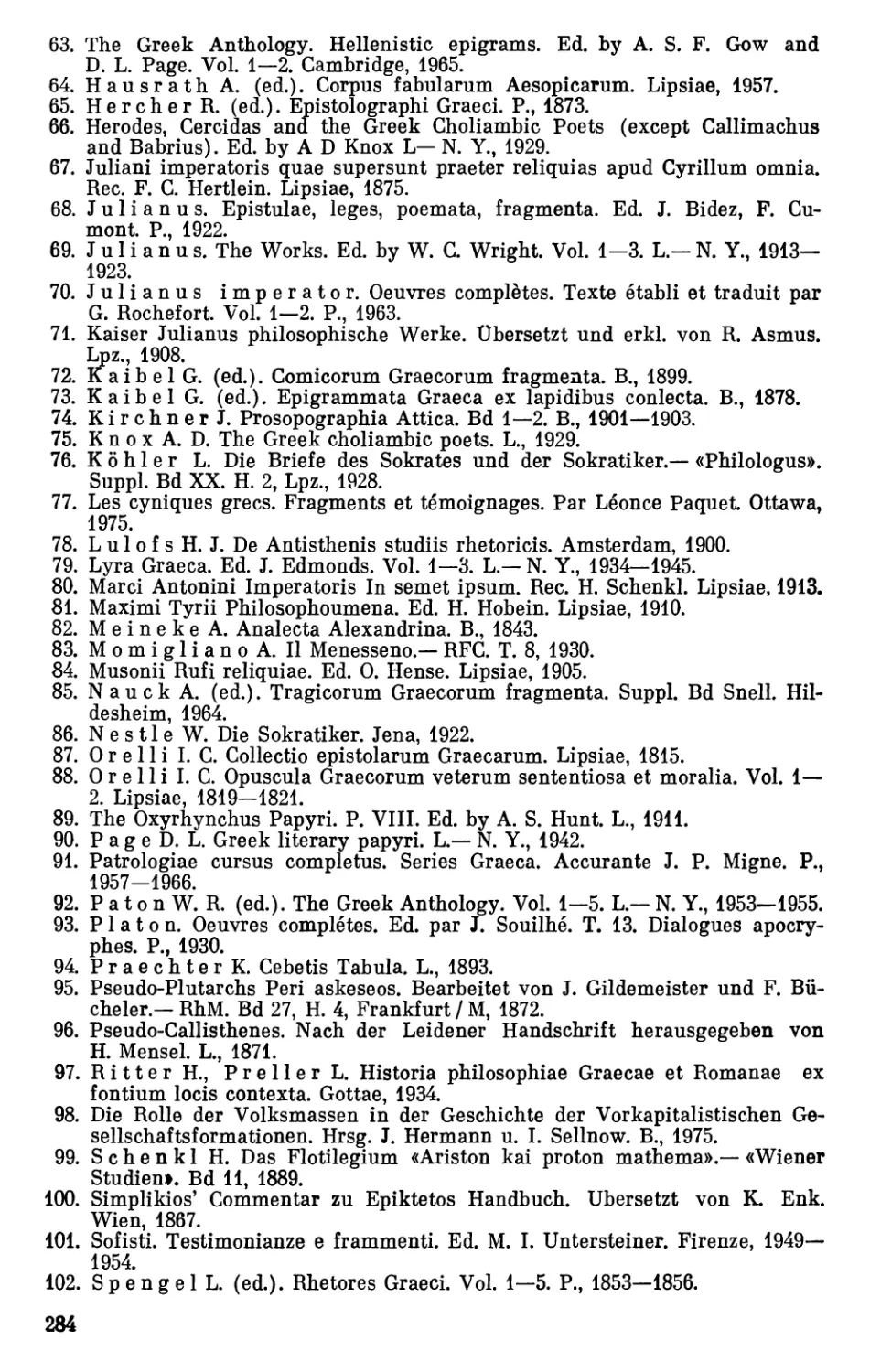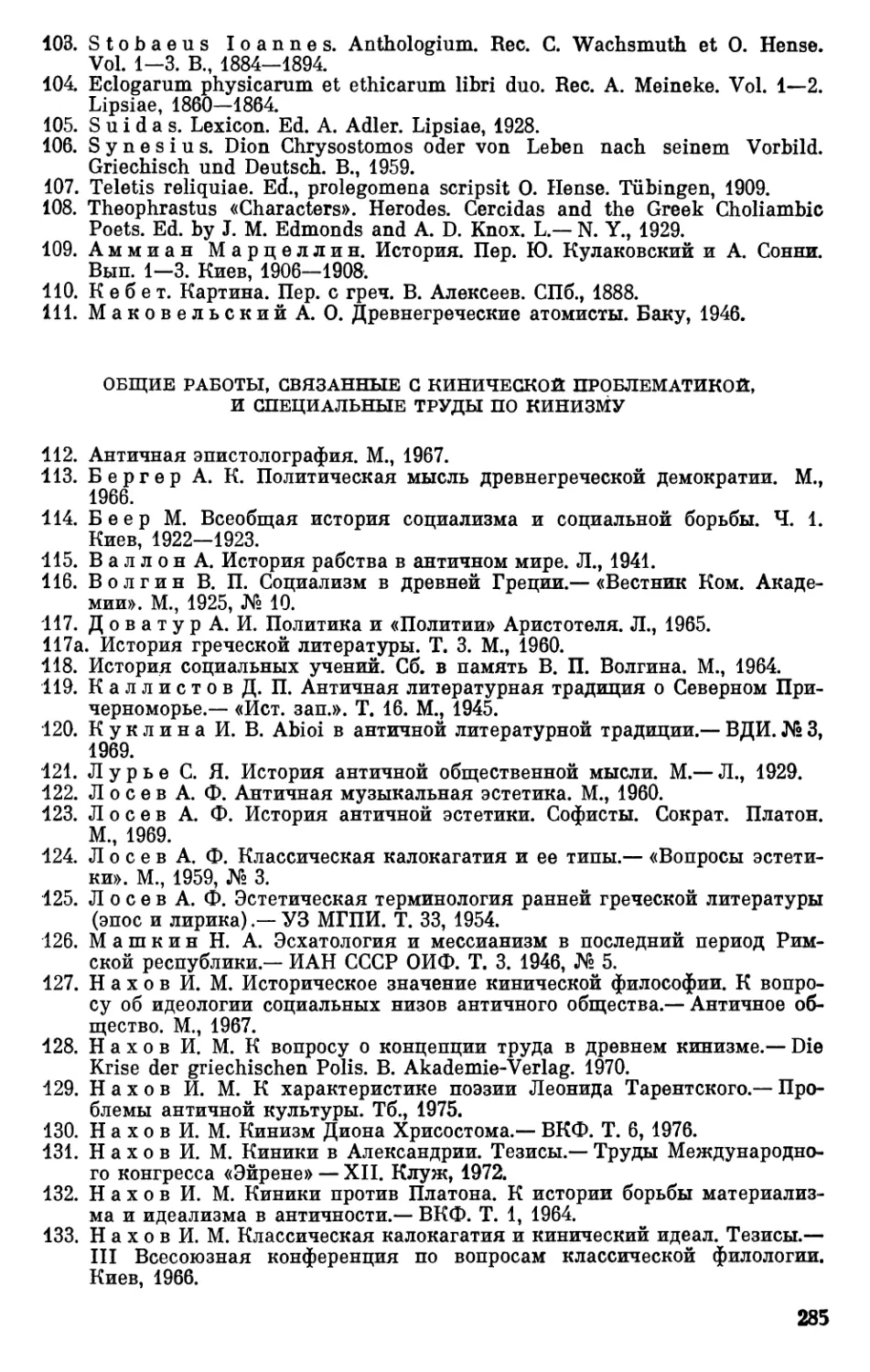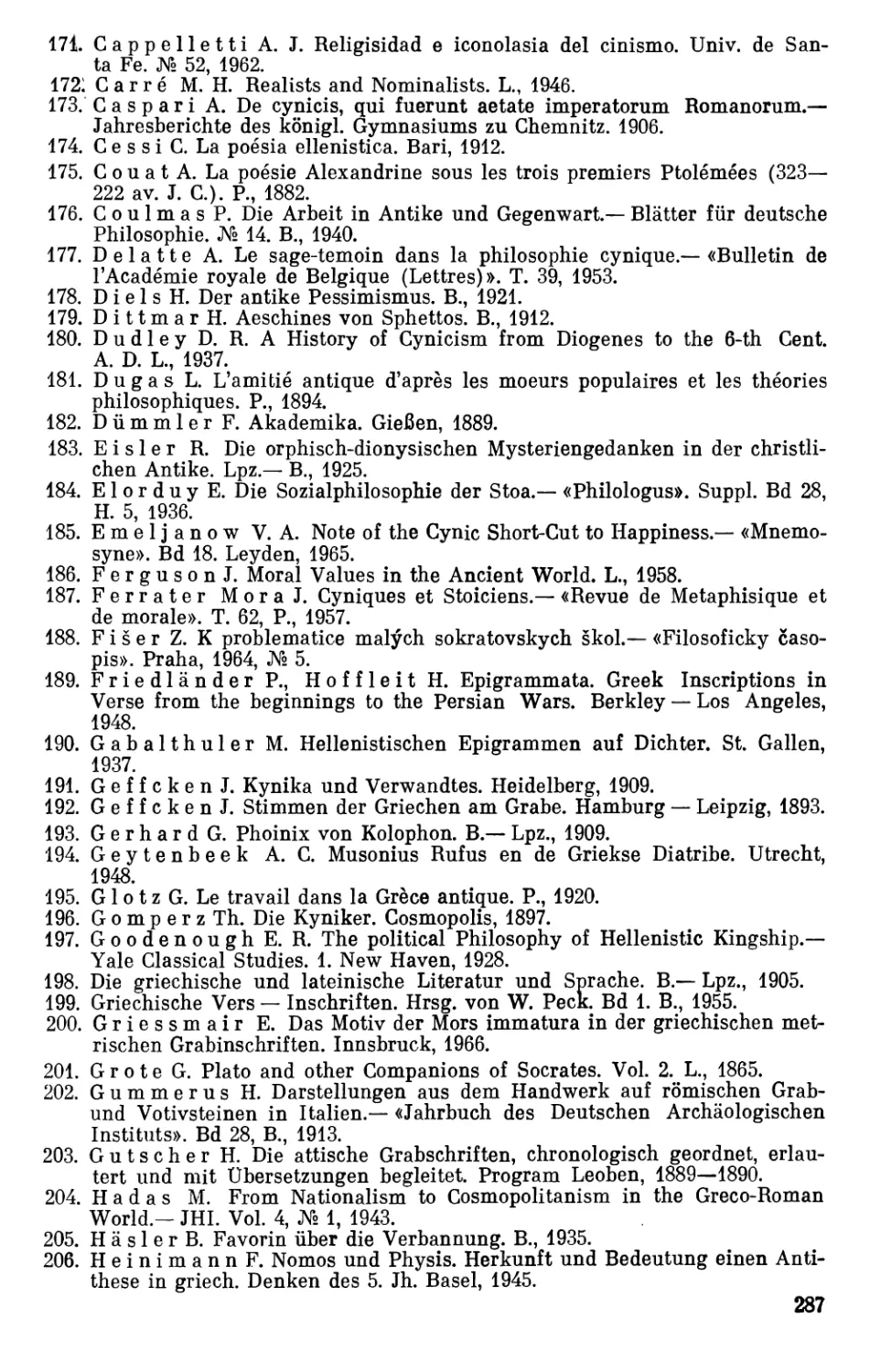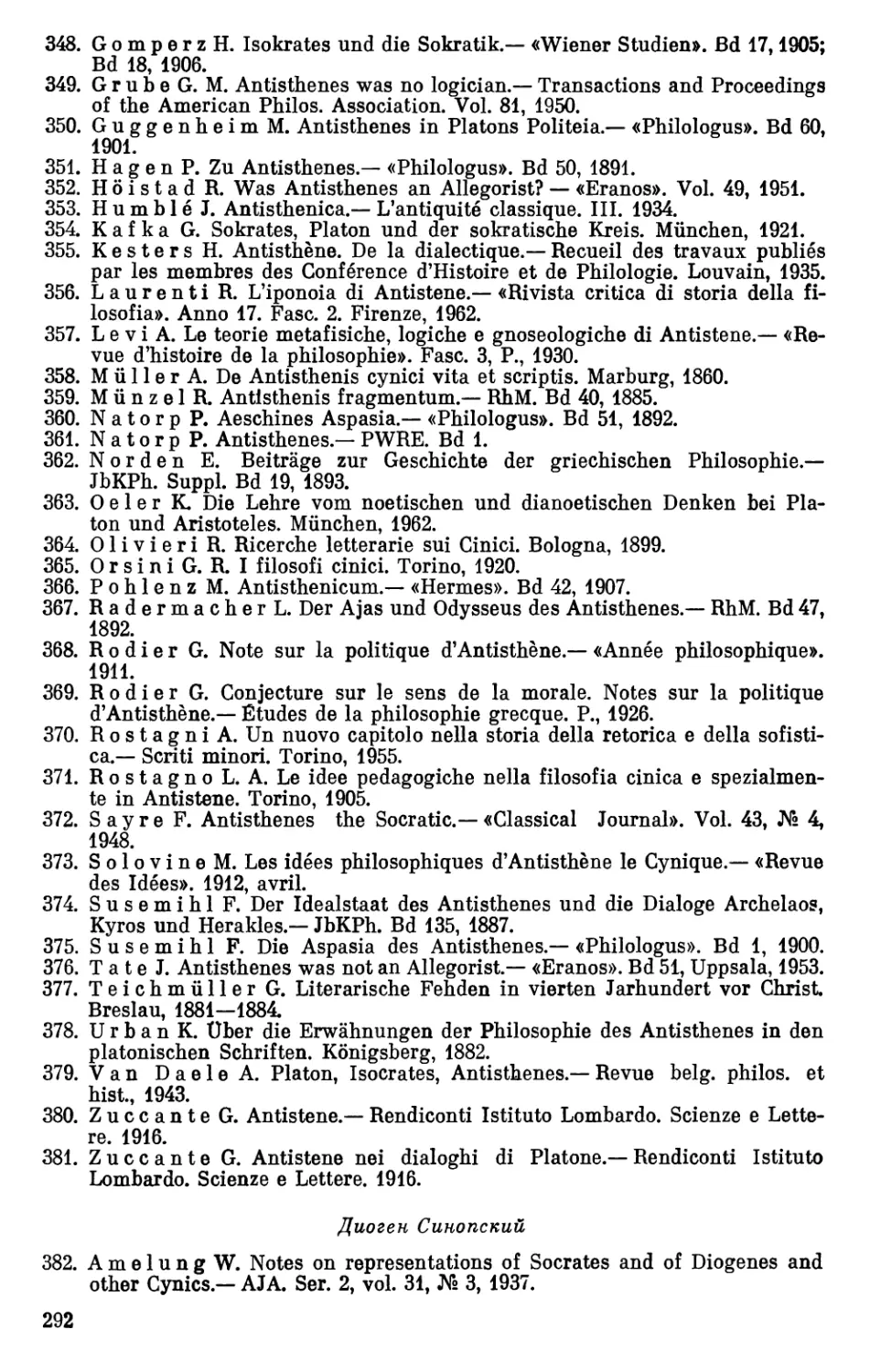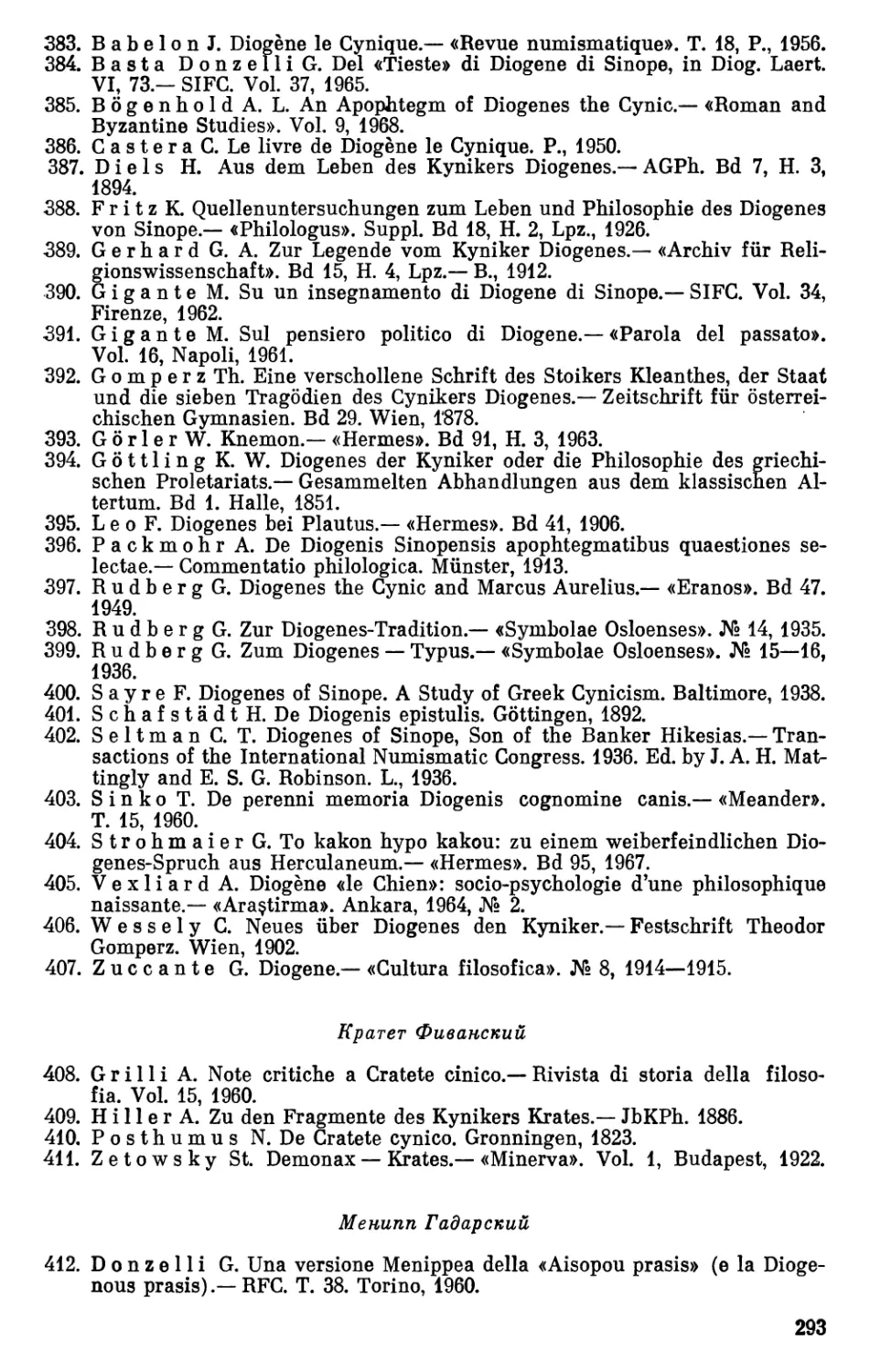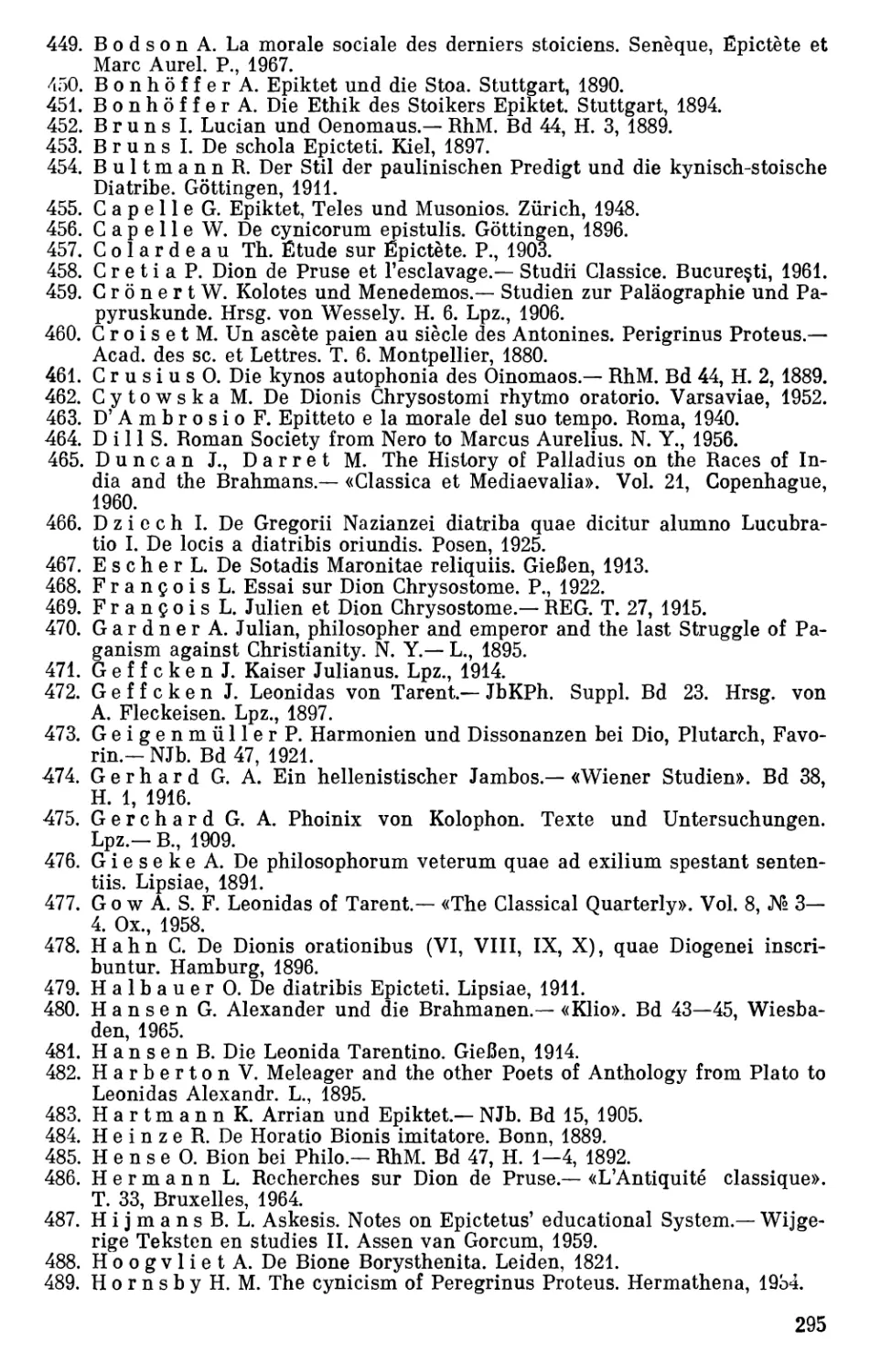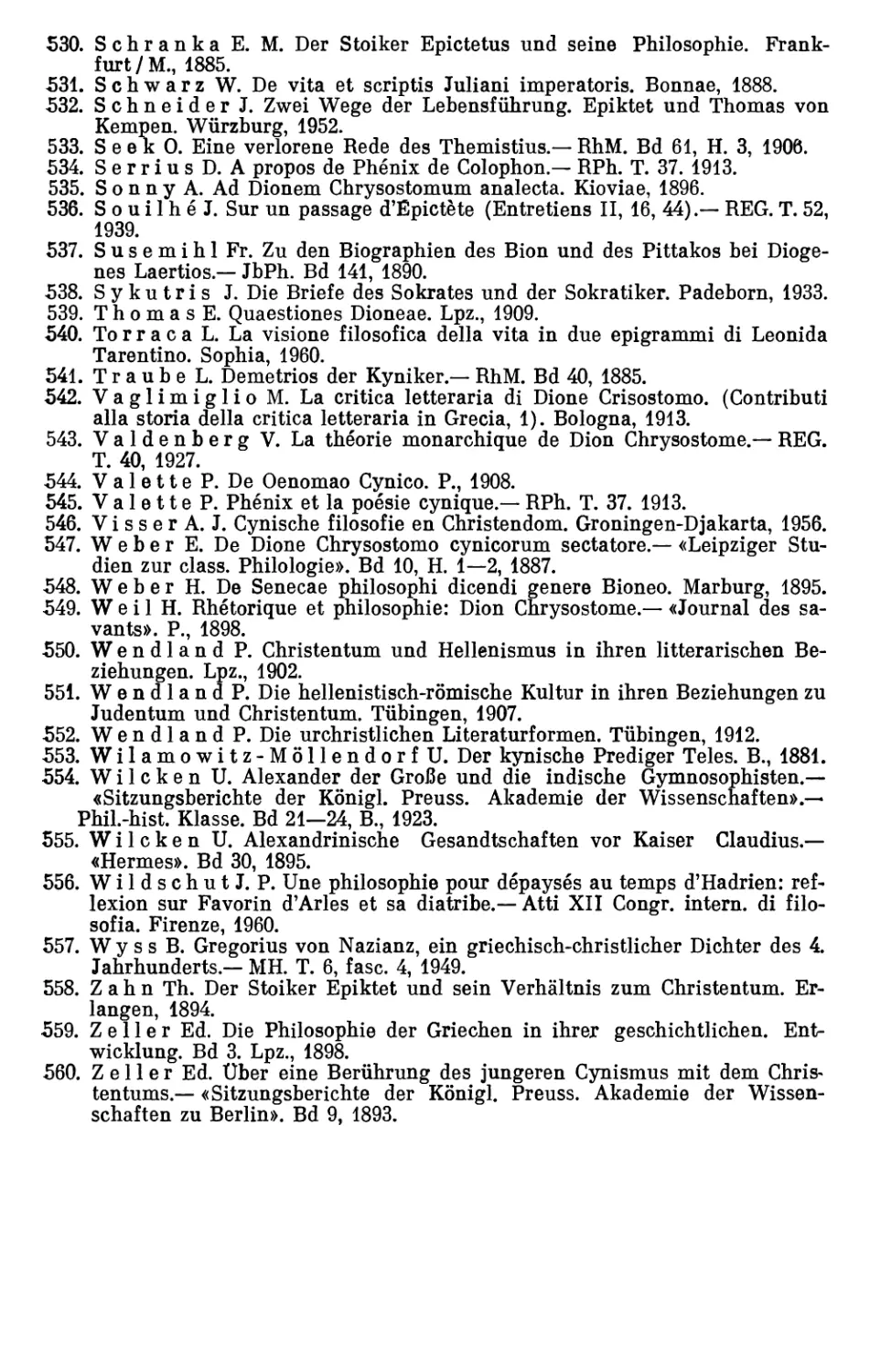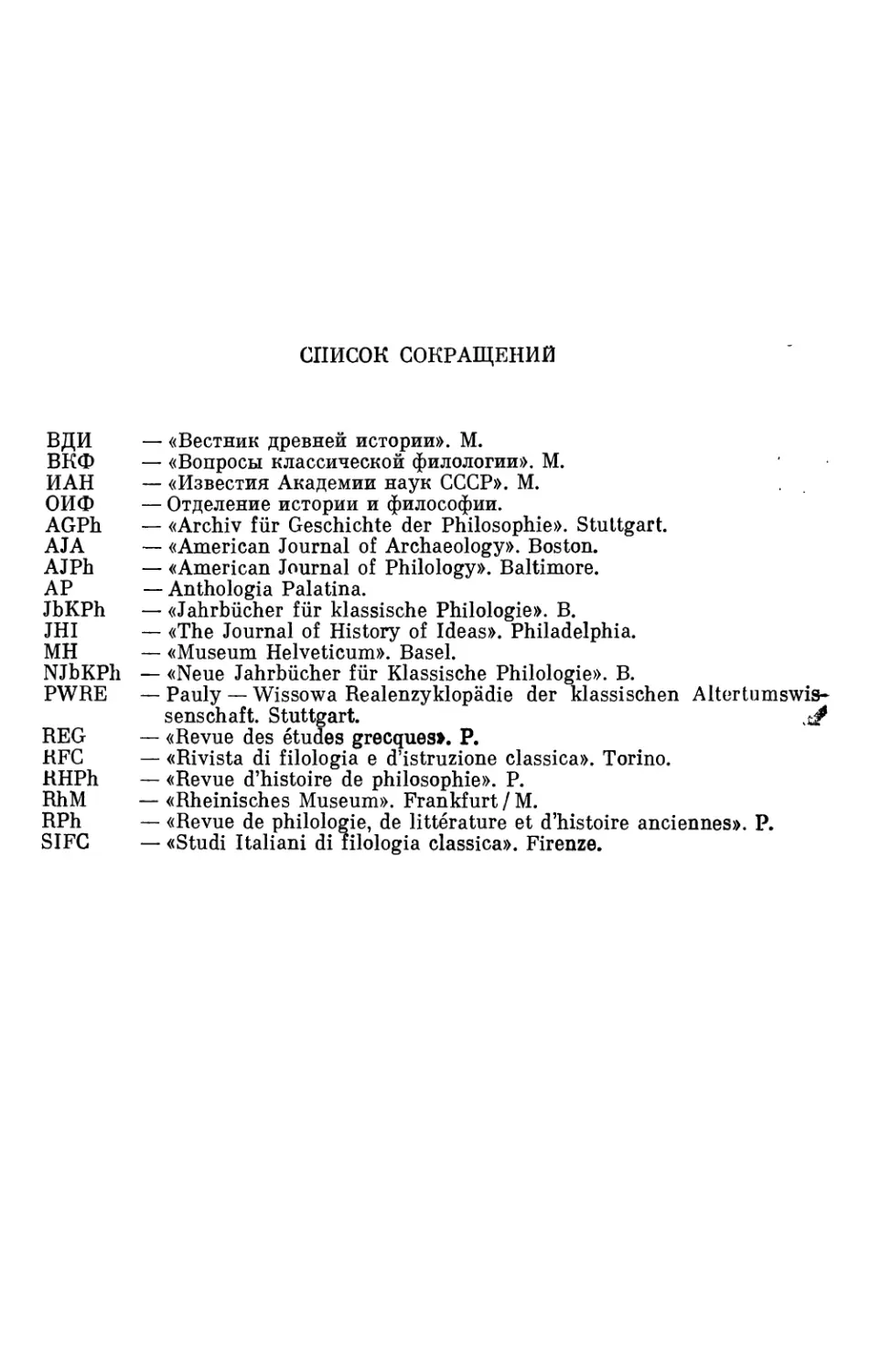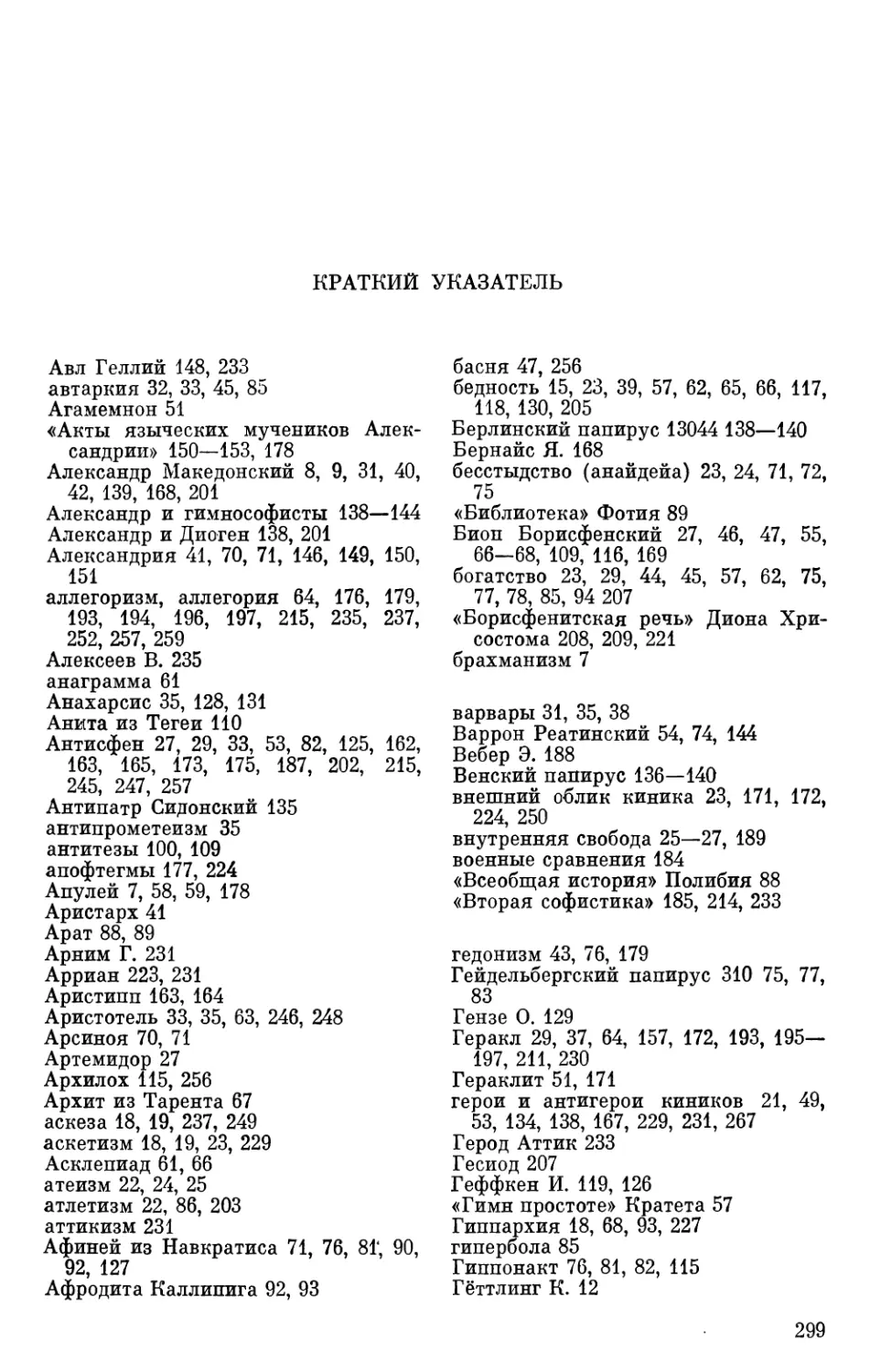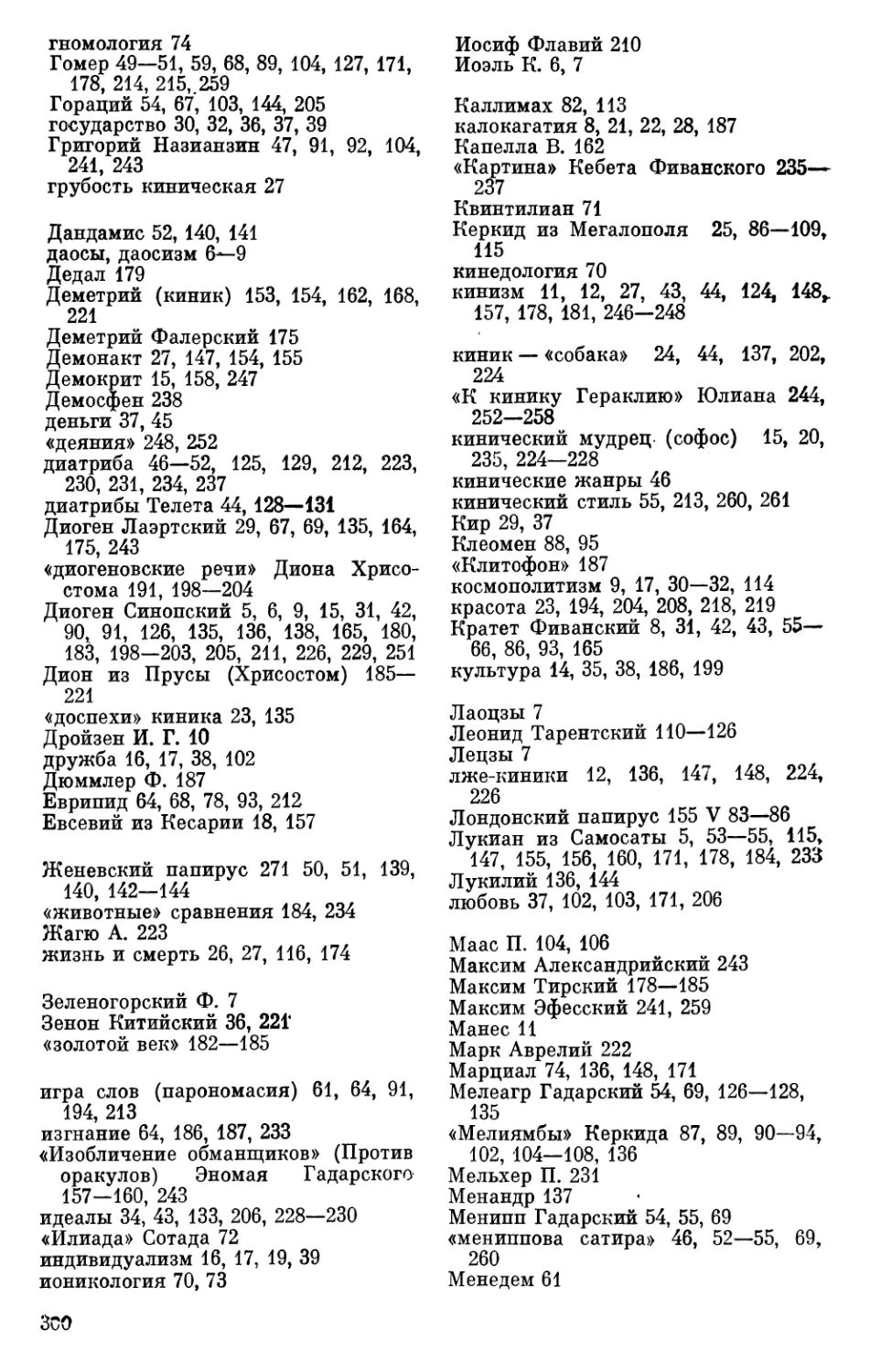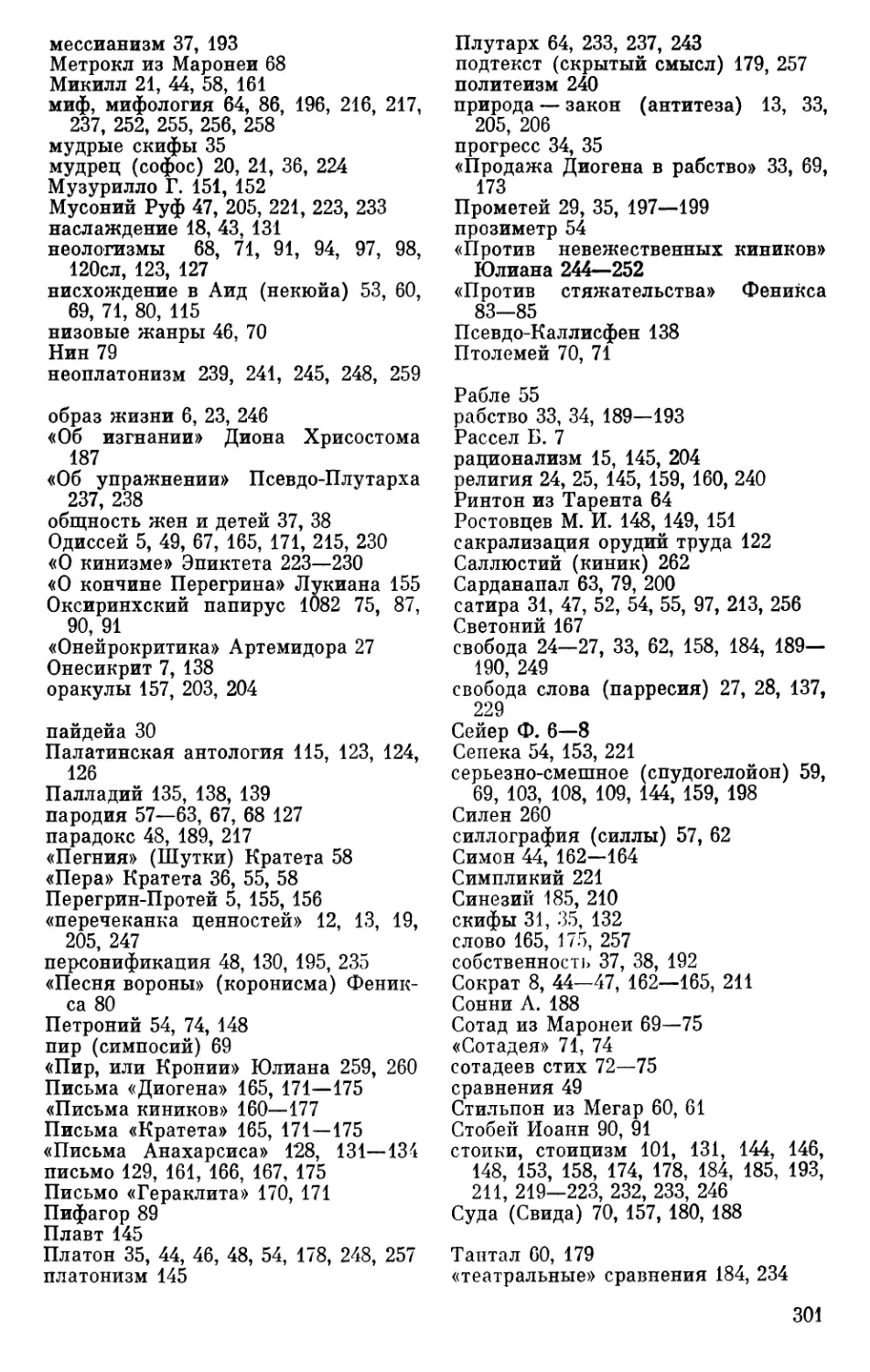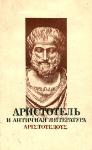Текст
И. M. Нахов
КИНИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Издательство *Наука»
Гласная редакция восточной литературы
Москва 1981
( )тветственный редактор
проф. А. Ф. ЛОСЕВ
Нахов И. М.
Киническая литература. Вступл. А. Ф. Лосева.
М., Главная редакция восточной литературы изд-ва
«Наука», 1981.
303 с.
В работе впервые в нашей науке вводится понятие кинической
литературы, отразившей мироощущение демократических слоев общества,
и прослеживается история ее развития от истоков (конеп V—IV в.
до н.э.) до заката античности. Читатель познакомится с творчеством
таких замечательных кинических поэтов и писателей, как Сотад, Кратет,
Керкид, с сочинениями Антисфена, характером трагедий Диогена, с
жанром менипповой сатиры и диатрибами Биона, с кинизирующими
философами и прозаиками Дионом Хрисостомом, Эпиктетом и др.
© Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука», 1981.
ОТ РЕДАКТОРА
В отечественной истории литературы и философии даже в наше время
существует немало «белых пятен». Одно из них вместе с публикацией
монографии проф. И. М. Нахова «Киническая литература» ныне должно
исчезнуть. Интереснейший феномен древнегреческой философии, общественной
мысли, жизни и культуры — кинизм — создал богатую
популярно-философскую и литературно-художественную традицию, просуществовавшую почти
тысячу лет, но не получившую должного освещения ни в мировой, ни в
советской науке. К кпническому направлению можно причислить не только
профессиональных киников, философствующих писателей или, так сказать,
писательствующих философов, но и подлинных художников слова,
прозаиков п поэтов, испытавших известное влияние кинических идей (Леонид Та-
рентский, Сотад, Керкид, Дион из Прусы, Лукиан и др.). В книге,
основанной на скрупулезном анализе древних источников, прослеживается судьба
кинических идей главным образом в древнегреческой литературе. Анализ
памятников литературы кинического направления (особенно эпохи
эллинизма) дает богатый материал для сравнения типологии литератур и
мировоззрений Запада и Востока. Зреет ощущение единства древнего мира. Индия
и Египет, Сирия и Палестина, Вифиния и Понт, Скифия и Фракия, Греция
и Италия — вся ойкумена становится ареной миссионерской деятельности
кинических проповедников.
В кинической литературе, как и в самом кинизме, отчетливо
прослеживаются взаимовлияние и связи Запада и Востока, начиная с аскетического
идеала мудреца и кончая воздействием ближневосточных литератур с их
безудержной фантазией на творчество ряда эллинистических писателей —
Мениппа из Гадар, Диона из Прусы, Лукиана из Самосаты и др. В
кинических диатрибах, сохранившихся в папирусных фрагментах, идеализируются
«нагие мудрецы» Индии, в другом почти не известном у нас памятнике
кинической публицистики превозносятся «языческие мученики Александрии»,
поборники эллинской независимости. Обзор кинической литературы
(понятие, впервые введенное И. М. Наховым в наш научный обиход) начинается
с творчества Кратета Фиванского, представленного поэтическими
фрагментами, и его ученика Биона Борисфенского. Автор приходит к выводу, что
лирический герой поэзии Кратета — киник, проповедующий преимущества
бедности, воспевающий свободу, справедливость и философию. Ненависть
к праздности и богатству, мечта о лучшей жизни составляют пафос творче-
3
ства Кратета. Кинизм обогатил античную литературу (а значит, и
европейскую) жанрами, получившими широкое распространение,— мениппова
сатира, диатриба, сатирический диалог. И. М. Нахову принадлежит
превосходная характеристика этих жанров и всего «кинического стиля». Обилие
привлеченных первоисточников, многие из которых впервые отлично
переведены на русский язык автором книги и в стихах, и в прозе, тонкий
филологический анализ, живое и ясное изложение дают отчетливое представление об
исследуемом предмете.
Предлагая серию связанных между собой очерков о писателях, в той
или иной степени находившихся под влиянием кинической философии,
автор прослеживает то общее в идейном содержании и художественной
форме, что их роднит: демократизм, пропагандистский и публицистический
пафос, связь с народным творчеством. Привлекают внимание анализ
метрических структур и наблюдения стилистического характера. Книга читается с
большим интересом не только из-за новизны материала и аспекта, в
котором он подается; она написана убедительно, с любовью к делу, отличается
иной раз блестящим характером, и предлагаемые здесь портреты кипиков
приобретают особую красочность. Выводы автора убедительны, серьезно
аргументированы. Нельзя не подчеркнуть, что книга о кинической
литературе знакомит современного читателя с умонастроениями демократических
и угнетенных слоев античного общества, обычно остающимися в тени при
рассмотрении древней литературы и философии.
Анализ художественной практики кинических и кинизирующих
писателей, проведенный И. М. Наховым, можно рассматривать как серьезный
вклад не только в историю античной литературы, но и в литературоведение,
поскольку в работе поставлено немало теоретических проблем, связанных с
низовой литературой, культурой, философией. Написанная не скучно в
старом академическом смысле слова, не сухо и не формалистично, но с
воодушевлением, книга, я надеюсь, будет с интересом прочитана как
специалистами, так и широким читателем, для которого небезразличны истоки и
судьбы нашей современной культуры.
Проф. А. Ф. Лосев
ПРЕДИСЛОВИЕ
В наши дни полемика с европоцентристами уже давно
потеряла свою былую актуальность. Можно даже сказать, что теперь
европоцентризм скорее грозит перерасти в азиоцентризм,
поскольку под давлением все возрастающей роли Востока в современном
мире корни ряда самобытных идей и явлений, зародившихся в
конкретно-исторических условиях той или иной западной страны,
некоторые ученые склонны искать и находить в Индии или Китае.
Связи же между Востоком и Западом, даже самые древние, иногда
лишь помогали вызревать и оформиться типологически сходным
явлениям, свидетельствуя о единстве и общности человеческой
истории и ее закономерностях.
Европейская античность многое творчески усвоила из
цивилизаций Востока. Опыт Передней Азии, Персии, Сирии, Финикии,
Египта весомо обогатил культуру Греции и Рима. Что же касается
Дальнего Востока, то с этими далекими землями и контакты были
слабее и влияния во многих областях, начиная с походов
Александра, шли скорее с Запада на Восток. Здесь правильнее говорить о
типологических аналогиях, чем о непосредственных влияниях,
прямых заимствованиях и миграциях идей. Одним из примечательных
примеров таких схождений в области духовной культуры
представляется киническая философия и порожденная ею литература,
которые возникли в последние десятилетия V в. до н. э. в Элладе
(время Пелопоннесской войны), просуществовали целое
тысячелетие и снискали особенно широкую популярность среди
социальных низов эллинистического мира.
Конкретных фактов, свидетельствующих о внешних или
внутренних контактах киников с Востоком, довольно много. Тут и
географическая близость тех областей, где появлялись кинические
мудрецы и проповедники,— припонтийская Синопа (Диоген, Ге-
гесий), финикийские Гадары (Менипп, Мелеагр, Эномай),
восточноевропейская Скифия (Бион), малоазийские Сирия (Лукиан),
Вифиния (Дион Хрисостом), Мизия (Перегрин), Александрия
Египетская, вечно недовольная, бурлящая, и др.
Засвидетельствованная в многочисленных памятниках античной письменности устная
и литературная традиция с бесспорной кинической тенденцией,
5
где присутствует, так сказать, «восточная тематика» (встречи
Александра Великого с индийскими гимнософистами, беседы
мудрого скифа Анахарсиса с греческими мыслителями и
государственными деятелями, столкновения так называемых языческих
мучеников Александрии с римскими императорами), говорит о том, что
киники смотрели на восточные и вообще на малоизвестные дальние
страны как на такой регион, в котором обитают незнакомые, но
близкрге им по духу, мудрые, смелые и справедливые люди,
живущие в соответствии с требованиями природы.
Однако гораздо многозначительнее и важнее в указанном
отношении существование типологически общих с кинизмом черт
и положений, которые обнаруживаются, в частности, у индийских
гимнософистов и приверженцев древнекитайской философии
даосизма, что дало повод ряду зарубежных ученых в 30-е и 40-е годы
нашего века выступить с принципиально и методологически
ложными выводами о происхождении греческого кинизма. Эти
исследователи увидели в нем чужеродный, несвойственный эллинскому
духу феномен, якобы занесенный в Грецию вместе с торговыми
караванами и военными экспедициями с берегов Ганга, хотя ки-
низм возник еще до восточных походов Александра Македонского.
Один из немногих занимавшихся кинизмом американских ученых,
Фарранд Сейер, автор книги о Диогене, заявляет, что кинизм на
прекрасной земле Эллады— нечто постороннее и дисгармоничное.
Источник кинических идей следует, с его точки зрения, искать у
индийских «голых мудрецов» — гимнософистов. Это Диоген, по
утверждению Ф. Сейера, привез кинизм из своего бойкого
портового города Синопы, где нахватался сведений о гимнософистах у
заезжих купцов, что было якобы несложно, так как кинизм, в
согласии с теорией Гегеля, разделяемой Сейером,— только некий
«образ жизни», way of life, а не философская школа [400, с. 44]1.
Немецкий историк древней философии К. Иоэль видит в кинизме
проявление «сарматского, фракийского или фанатического
восточного духа», совершенно чуждого «аттическому духу» [222,
с. 884-885].
Вместе с тем Ф. Сейер, явно противореча себе, утверждает:
«Диоген внес новые идеи в Грецию, но идеи, внесенные им, не
синопские, а индийские» [400, с. 46]. Что же это за идеи?
Названный автор так отвечает на этот вопрос: «Предпочтение бездействия
действию и ленивое восприятие жизни без стремления умереть
кажется скорее восточным, чем западным, более индийским, чем
греческим» [400, с. 16]. Мысли эти, искажающие как греческое,
так и индийское мировоззрение, проводятся весьма настойчиво,
поэтому в другом месте читаем: «Для некоторых элементов кини-
ческого учения нельзя найти греческих источников; они могут
иметь восточное происхождение. Среди них — апатия, безразличие,
поиски счастья в подавлении желаний и идея касты или класса
профессиональных мудрецов» [400, с. 38]. Именно в соответствии
с этими мыслями Ф. Сейер обращает свои взоры к гимнософистам
6
и другим аскетическим сектам древней Индии, «культивировавшим
мудрость». При этом Ф. Сейер ссылается на Апулея, полагая, что
источник этот малодоступен, но в действительности римский
романист замечает, что гимнософисты более всего презирали
«косность духа и безделие» (Флориды 6). Далее Ф. Сейер
некритически пересказывает домыслы склонного к фантазиям
восторженного Онесикрита, офицера флота Александра Македонского,
бывшего ученика Диогена, вызвавшие иронические реплики
знаменитого греческого географа Страбона (XV, 1, 28), и не
удерживается от уничижительного по отношению к киникам замечания:
«Они не добились ни уважения народа, среди которого жили, ни
доверия в той мере, как это удалось индийским мудрецам» [400,
с. 41]. Что же касается гимнософистов-брахманов, то они
оказывали на греков более сильное влршние, ибо, как думает Сейер,
«греки восприимчивее к влияниям, чем индийцы» [400, с. 46].
Известный английский философ Б. Рассел ограничивается
замечанием, что Диоген «жил как индийский факир» [270, с. 230]
(факиров греки называли гимнософистами).
Стремление вывести самобытные кинические идеи во что бы
то ни стало из Индии казалось несуразным еще дореволюционным
русским ученым. Сошлюсь на примечательную и прозорливую в
этом плане статью о киниках профессора Харьковского
университета Ф. Зеленогорского, который критикует этот взгляд,
высказанный еще в XIX в. Гротом и Глетичем, и подчеркивает: «Школа
киников — самобытное и независимое явление», а далее
совершенно справедливо замечает, что кинизм—«социальное явление без
примеси религиозного элемента и мистической философии...
Киники ставили себе цель, к достижению которой стремились в
настоящей жизни, а не будущей» 2.
Немецкий ученый К. Иоэль, склонный к преувеличению
иноземного влияния, все же вынужден признать различия между
греческими и индийскими аскетами: «Пусть Онесикрит был поражен
сходством индийской и кинической аскезы, однако это сходство
лежит больше в средствах, в которых киник показывает себя
полувосточным человеком, цели же у них противоположны.
Индийский аскет в своем самопожертвовании умерщвляет свое „я", кн-
нический — гордо его возвеличивает» [222, с. 906].
Таким образом, несмотря на наличие в кинизме и брахманизме
сходных моментов (почитание природы, аскетизм, спиритуализм
и др.), многое их разводит в противоположные стороны:
мистицизм, вера в высшую силу и пророчества, ритуализм, а главное,
конформизм, которым отличалось большинство брахманических
сект.
Значительно ближе, по-моему, еще не привлекавшие внимания
типологические схождения в учениях киников и древнекитайских
даосов. Ранний даосизм, представленный в трактатах и устных
выступлениях Лаоцзы (VI—V вв. до н. э.), Лецзы (V в. до н. э.),
Ян Чжу (V—IV вв. до н. э.), Чжуанцзы (IV—III вв. до н. э.),—
7
вольнодумно-оппозиционное, аытиконфуцианское течение,
выражавшее идеологию и чаяния разорившихся крестьян, неимущих
социальных низов. Приверженцы даосской секты — бедняки и
бунтари, вливавшиеся в народные восстания (Лецзы, Чжуанцзы),
смело пересматривали привычные этические и эстетические нормы
и ценности. У даосов и киников одинакова ненависть к богачам и
власть имущим, к рабству, стяжательству и корыстолюбию. Мы
найдем у даосов, как и у киников, призывы жить в согласии
с природой, изначально зовущей к простоте, добру и
справедливости, одну и ту же идеализацию первобытной общины, где желания
людей были скромны, а жизнь проста и безыскусственна, где
царили равенство и свобода. Цари и аристократы
противопоставляются бедным мудрецам, которые всегда, в любых спорах и
столкновениях, одерживают верх над своими могущественными
оппонентами.
В этом отношении рассказы о Чжуанцзы удивительно
напоминают предание о встречах Александра и Диогена3. И даосам
и киникам свойственны также материалистические и
атеистические тенденции, презрение к обрядности и культам, например
культу мертвых, освящавшему господство аристократии.
О народных истоках идеологии даосизма и кинизма
свидетельствует также педалированное противопоставление духовной
красоты красоте телесной. И даосы и киники выступали против
господствующего аристократического идеала, называемого греками
калокагатией («доброе и прекрасное»), а китайцами — цзюнь-цзы
(«благородный муж»). Этот морально^эстетический идеал,
провозглашавший в обязательном порядке как благо телесную,
физическую красоту, кинизм и даосизм отвергают, представляя интересы
обездоленных и угнетенных, которых не украшали ни тяжкий
подневольный труд, ни побои и другие жестокие наказания,
обрушивавшиеся на них за малейшие провинности и деформировавшие
их природный облик. Киники и даосы полагали, что внешняя
красота и внутренние, духовные достоинства не обязательно связаны
между собой и совпадают — чаще бывает наоборот. Уродливый,
похожий на Силена Сократ и горбун Кратет наделяются всеми
возможными добродетелями и мудростью, а красавцы-атлеты и цари
представлены в. кинических сочинениях глупыми обжорами,
охотниками до наслаждений и клеймятся позором. К
положительным народным героям даосы причисляют калек, увечных и
внешне безобразных людей — безногих, беспалых, горбатых и т. п. (Урод
Шу, Урод То и др.), у которых под безобразной внешностью
скрываются прекрасное и благородное сердце, необычайные способности
к тонкому и полезному труду и благородным поступкам. Таким
образом прокладывался путь к «эстетике безобразного»,
свойственной средневековью и позднейшему романтизму. Этот новый
эстетический идеал не просто отрицал общепринятые нормы, но
провозглашал благом, более высоким, чем телесное совершенство и
красота, благородство духа, мыслей, сердца, деяний.
8
Аналогичны у киников и даосов некоторые принципы
литературной деятельности, средства художественной образности и
выразительности. Для них характерны использование
изобразительных приемов фольклора и привлечение мифологии. Кинические и
даосские авторы, живя в мире социальных конфликтов и кричащих
контрастов, охотно прибегают к антитезам, гиперболам; не
уверенные в собственных силах, желая сделать свою речь и аргументы
более убедительными и образными, они цитируют классиков,
ссылаются на авторитеты, подкрепляя новые, дерзкие мысли
весомостью общепризнанного. Устная, ораторская и письменная
пропаганда кинизма и даосизма, обращенная к народу, пропитана
воинственностью, наступательным духом; в поисках примеров,
достойных подражания или, напротив, презрения, она выработала
целую галерею героев и антигероев.
Немало типологически сходного можно обнаружить и в более
поздние времена в идеологии отдельных гонимых иудейских (эс-
сеи) и бунтарских раннехристианских сект, зародившихся на
Ближнем Востоке, а также в средневековых религиозных
еретических течениях, проповедовавших всеобщее уравнение в
бедности и аскетизм.
Предлагаемая книга посвящена системному анализу киниче-
ской и кинизирующей литературы, охватывающей последние
столетия античной истории. Если учесть, что среди кинических и
кинизирующих писателей мы встретим имена таких крупных
мастеров слова, как Кратет, Бион, Менипп, Керкид, Мелеагр,
Сотад, Дион Хрисостом, Лукиан и др., или напомнить, что им
принадлежит «открытие» таких жанров, как диатриба и мениппо-
ва сатира, то станет ясным, что эта струя в широком потоке
античной литературы безусловно недооценивалась. Расцвет кини-
ческой литературы, ее золотой век падает на эпоху эллинизма,
одной из отличительных черт которой, как уже давно отмечено,
является падение преград между Западом и Востоком, синкретизм
локальных культур древнего мира. Лишь после создания мировой
империи Александра Македонского и первых диадохов,
открывших период крупных и мощных эллинистических монархий,
впервые в столь грандиозных масштабах вступили в духовное
взаимодействие Запад и Восток от Индии до Македонии, от
песков и гор Бактрии до африканских пустынь.
В многочисленных, основанных Александром городах
смешивались различные традиции и обычаи, народы сливались в
странный конгломерат. Люди впервые начали всерьез чувствовать свою
вселенскую общность, принадлежность к большому миру, а не
только к «малой родине» — городу, местечку, полису,
переживавшему крушение своей независимости и мнимой самообеспеченной
замкнутости. Недаром Диоген, один из основателей кинизма,
человек эллинистической эпохи, первый провозгласил себя
«гражданином мира», космополитом. Вместе с войсками, торговцами
и гражданской администрацией на Восток проникали греческий
*
язык и цивилизация, вместе с ними же на Запад устремились
посланцы восточной культуры.
Это небольшое предисловие мне хотелось бы закончить
цитатой из старого, но не устаревшего фундаментального труда
И. Г. Дройзена, который ввел в науку самый термин «эллинизм».
Она напоминает еще раз, что пути вечно развивающейся
человеческой культуры перекрещивались еще с незапамятных времен
самым прихотливым образом, обогащая друг друга животворным
опытом: «Родственники и земляки встречались всюду до
поселений на берегах Инда и Яксарта; торговец у башни Серов скупал
товары для рынков Путеол и Массилии, а смелый этолянин
пускался искать счастья на берегах Ганга и Мероэ. Люди науки
изучали дальние края, минувшие века, чудеса природы; они
подвергали рациональному исследованию истекшие тысячелетия,
движения светил, наречия и литературы чужих народов, которых
гордая Греция презирала прежде как варваров, на древние
памятники которых она смотрела с удивлением, не постигая их. Наука
в неподвижных светочах звездного неба впервые обрела мерило
для земли, проверила на ней расстояния, привела в стройный
вид ее объемистые формы. Она пыталась связать и привести в
порядок незапамятные предания вавилонян, египтян, индусов с
тем, чтобы, сравнив их между собой, добиться новых выводов.
Все эти разрозненные, частью иссякшие, частью в безбрежном
русле пробиравшиеся по пустыне потоки народной культуры
слились в эту эпоху в обширном водоеме эллинистической
цивилизации и науки и сохранились в памяти навсегда» 4.
Возможно, предлагаемая работа даст материал не только для
размышлений о судьбах столь разноречивой античной
литературы и общественной мысли, в которых воплотились думы и чаяния
народных низов, но и о закономерностях, управляющих мировым
литературным процессом, о справедливости ленинской теории
двух культур, приложимой к самым давним периодам развития
классового общества в разных географических точках земного
шара.
Глава I
ЧЕЛОВЕК В ФИЛОСОФИИ КИНИКОВ
Уже с конца V в. до н. э. Афины и сопредельные полисы
попадают в полосу общего кризиса, обостренного длительной
п изнурительной Пелопоннесской войной. Кризис не только
коснулся экономики и политики, но сказался также на всей сфере
духовной жизни. Классовая солидарность свободных, сплоченность
вокруг общих идеалов сменились разобщенностью, изоляцией,
распадом прежних связей, отчуждением, столкновением верхов и
низов, усложнением всей социальной структуры. Дух
коллективизма уступил место индивидуалистическим тенденциям, усилению
самосознания и самоутверждения личности, что пробудило
интерес к человеку как таковому, к его внутреннему миру, к его
психологии, а не только к его связям с обществом. Как это ни
парадоксально, но вместе с упадком коллективистской полисной морали
усилилась гуманизация общества, всех идеологических форм.
Искусство и философия стали пристальнее вглядываться в отдельного
человека. Натурфилософия сменилась антропологией, физика —
этикой. Происходила смена идеалов личных и общественных,
этических и эстетических.
В новых условиях философия стремилась ответить на главные
вопросы человеческого бытия: как жить, в чем состоят счастье и
добродетель? Разные философы давали на них разные ответы,
исходя из опыта своего класса и своего личного опыта. Может
быть, яснее всего указанные выше кризисные процессы получили
отражение не во всеобъемлющих системах Платона или Эпикура,
а в небольших сектах и школах, истоки которых следует искать в
софистике и у Сократа.
К так называемым малым сократическим школам обычно
относится и киническая школа. Ее основателями и первыми
приверженцами были выходцы из социально ущемленных слоев и
эксплуатируемых классов (нофы, метэки, вольноотпущенники,
изгнанники, рабы, женщины). Чтобы убедиться в справедливости
сказанного, достаточно ознакомиться с биографиями Антисфена
Афинского, Диогена Синопского, Монима, Биона, Мениппа и др.
11
Были среди них и люди, порвавшие со своим классом и ставшие
на сторону бедняков (Кратет, Гиппархия, Метрокл, Керкид и др.).
Социальная база кинизма росла по мере разорения среднего и
мелкого свободного собственника и труженика, основы полисной
устойчивости.
Непреходящее значение кинизма заключается в том, что на
протяжении своего тысячелетнего существования он представлял
левое воинствующее плебейско-демократическое и
материалистическое крыло в античной философии, знаменовавшее стихийный
протест народных низов против устоев рабовладельческого
общества, угнетения и охраняющей их идеологии. Даже старая
буржуазная наука подчас определяла кинизм как «философию
греческого пролетариата» (Гёттлинг).
Не следует, однако, изображать кинизм, хотя он и
представляет собой вполне определенное направление в философии, как
некую организационно оформленную школу со своим уставом,
регламентом и строгим списочным составом. Кинизм, вобрав и
своеобразно осмыслив негативизм социальных низов, конечно же
далеко не единых, оставлял открытыми двери для всех
«страждущих и обремененных». Отсюда пестрота и даже противоречивость,
изменчивость иных положений этой философии. Но свойственные
ей неприятие действительности и радикальный критицизм,
оставаясь завидно стабильными, обладали притягательной силой для
всех оппозиционно и враждебно настроенных к существующим
порядкам. Поэтому среди киников можно встретить раба и
вольноотпущенника, деклассированного аристократа и бедного
ремесленника, мудрого законодателя и нищего проповедника, коренного
афинянина и бесправного чужака, атеиста и верующего,
космополита и защитника отечества. Он мог носить имя Антисфена или
Диогена, Кратета, Гиппархии, Сотада или Леонида Тарентского,
Феникса или Мелеагра.
Что же касается «грязной пены» попутничества,
«примазавшихся» или «примкнувших» и т. п., то здесь мы имеем дело скорее
с социальным феноменом, чем с собственно философской мыслью.
Лжефилософы вообще, как и лжекиники в частности,— фигуры для
эпохи упадка обычные. Деление на философов истинных и
фальшивых — не досужая придумка, но исторический факт,
засвидетельствованный и заклейменный такими авторами, как Гораций и
Ювенал, Петроний и Эпиктет, Лукиан и Авл Геллий, Дион Хрисо-
стом, Юлиан и др. Только от самого лжемудреца зависело, кем
он хотел прослыть, так как его устраивала любая фразеология и
терминология, лишь бы за них побольше платили (см., например,
«О философах, состоящих на жаловании» Лукиана).
Киники создавали новый человеческий, этический, эстетический
и общественный идеал, отталкиваясь от привычных, сложившихся
взглядов и норм, характерных для расцвета рабовладельческой
демократии. Негативизм, отказ от традиций, «переоценка
конвенциональных ценностей» —существеннейшая черта кинического
12
мировоззрения. Нигилизм киников носил революционный,
очистительный характер, ибо представлял собой радикальную форму
стихийно-социальной критики всего исторически
обанкротившегося, отжившего или отживающего. Пользуясь терминологией
Демокрита, можно сказать, что неприятие действительности у киников
шло на двух уровнях — социального макрокосма и микрокосма.
В первом случае они отрицали все то, что противостояло
человеку как враждебная внеположенная сила (рабовладельческое
государство с его институтами, законами, политикой, демагогами,
правителями и т. п.). Во втором — критиковали современного человека,
еще ле затронутого кинической пайдейей и потому
подверженного слабостям, страстям, порокам и недостаткам, в которых
отразились негативные силы этого макрокосма: сребролюбие,
стяжательство, скупость, жадность, честолюбие, лесть, ложь,
хвастовство, чванство, лень, страх, погоня за наслаждениями, разврат,
пустые надежды и т. п.
Отрицание пронизывало все стороны учения киников.
Краеугольным камнем его была сформулированная еще софистами
антитеза physis — nomos («природа — закон»), которой
придавался универсальный морально-политический смысл. Nomos шире
понятия «закон», это и человеческие установления, мнения,
традиции, обычаи. От «природы» все люди равны, свободны, честны,
справедливы, непритязательны, счастливы, а «закон» исказил
«природу», внес в жизнь неравенство, гнет, зло,
несправедливость. Все, что исходит от природы (cata physin),—необходимо и
есть благо, что идет от людских установлений (cata nomoys) —
случайно и влечет за собой зло (Диог. Л. VI, 43). Само счастье
состоит в том, чтобы «жить по природе» (Юлиан VI, 139 D).
Поэтому Диоген всячески восхвалял «природу» и ни во что не
ставил «закон» (Диог. Л. VI, 71). Киники считали законы
бесполезными, рассуждая по-своему логично: хорошие люди в законах
не нуждаются, а дурные от законов лучше не становятся (Лу-
киан. Демонакт 59). Законы и государство разрушили
изначальную гармонию, естественное счастье людей, они враждебны
природе и добродетели (Диог. Л. VI, 11).
В диогеновском лозунге «перечеканки расхожих ценностей»
(paracharattein to nomisma) 1 главное, конечно, не криминальная
сторона вопроса «о порче монеты» Диогеном и его отцом (Диог.
Л. VI, 20), а его глубокий аллегорический смысл, который
захотел увидеть Диоген в туманных выражениях оракула.
Впрочем, вся эта история с оракулом Аполлона,— возможно, лишь
поздняя и благочестивая выдумка сторонников кинизма,
призванная санкционировать свыше его политический радикализм.
Ведь у Диогена Лаэртского прямо сказано, что синопец якобы
не понял, что оракул имел в виду «политические установления»,
а не реальную подделку монеты.
Киники понимали, что всякое общество состоит из отдельных
людей, поэтому они критиковали не только общество с его поро-
13
ками в целом, безлично, абстрактно, но и его членов,' попавших
под влияние пороков: не только богатство, но и богачей, не
только законы, но и законодателей, не корыстолюбие само по себе,
но скупцов и стяжателей, пе одну демагогию, а демагогов, не
только тиранию, но и тиранов и т. д. Чтобы вылечить общество,
полагали они, надо сначала взяться за лечение отдельных людей,
из которых оно состоит. Неприятие мира на уровне макрокосма
дополняется критикой на уровне микрокосма.
Человеческие черты, вызывавшие у киников резкое
осуждение, по их мнению, не прирожденные отрицательные свойства
человеческой натуры (злодеями не рождаются), а возникают,
вместе с пороками общественного строя. Такая позиция отрицает
биологическое предопределение, фаталистический подход к
порочности человеческого рода, предполагая возможность его
исправления и тем самым «спасения» без сверхъестественных
искупительных жертв. В конечном итоге она внушает
оптимистическую веру в моральные возможности людей.
Поле деятельности для кинических учителей было огромным:
затяжная и потому потерявшая видимый смысл война,
постоянная междоусобица породили многочисленные, почти не
разрешимые проблемы, привели к всеобщему нравственному упадку,
неуверенности и смешению всяческих критериев. В этом смысл
столь знаменитой фразы Диогена, брошенной им вечности, когда
среди бела дня он бродил по улицам с зажженным фонарем:
«Человека ищу» (Диог. Л. VI, 41). Еще яснее та же мысль
выражена в следующих словах: «Когда я вижу кормчих, врачей
или философов, занятых своим делом, я думаю, что из всех
живых существ нет разумнее человека. Но когда мне встречаются
толкователи снов, гадатели и те, кто им верит, или люди,
чванящиеся своей славой или богатством, мне думается, что нет на
свете ничего глупее человека» (Диог. Л. VI, 24).
Почему же так разочарован Диоген и нигде в Элладе не
видит «добродетельных мужей» (Диог. Л. VI, 27)? Потому что
большинство живет в рабстве у своих страстей и вожделений
(Диог. Л. VI, 66). Эти «избыточные», неоправданные потребности
появились давно — вместе с отходом от непритязательности,
неиспорченности и простоты «естественной», близкой к природе
жизни, с ростом культуры, а следовательно, и неравенства,
угнетения, несправедливости. У киников культура воспринимается
обязательно как «господская», а цивилизация прежде всего
ассоциируется с торжеством эксплуататоров, иначе говоря,
осознается как оружие угнетения и порабощения [136]. Но люди не
беспомощны — нужно только «жить по природе», трудиться и
учиться ограничивать себя.
Примеры критики моральной порочности, преследующей цели
нравственного обновления человечества, рассыпаны по всем ки-
ническим источникам, она стала постоянной топикой множества
диатриб2.
14
Единственная ценность человека — степень его нравственности.
Самый знатный тот, кто «презирает богатство, славу,
удовольствия, жизнь и почитает противоположное — бедность, бесславие,
труд, смерть» (Стобей II, 86, 19). Свои удивительные речи
киники дополняли не менее поразительными поступками,
призванными эпатировать античных «бюргеров». От внешнего вида до самых
глубокомысленных философем они бросали вызов обществу. Их
бороды, их вызывающе неряшливая нищенская одежда, котомка,
посох — наивная, но недвусмысленная форма протеста, не
устаревшая за тысячелетия. Вспомним битников, хиппи, клошаров,
босяков и им подобных с их небезобидным фрондерством.
Кинический протест против «толстых брюх» (Дион Хрис. VIII,
с. 279) и слепой сытости иногда выливался в странные .выходки,
буффонаду и эксцентрику (Диог. Л. VI, 27, 34, 36). Постичь
глубинные, движущие киниками силы было почти невозможно,
так же как понять этого чудака Диогена, который на
предложение великого государя: «Проси, чего душа желает», только
взмолился тихонько: «Отойди, не заслоняй мне солнца». Насколько
было удобнее и проще поднять на смех (Диог. Л. VI, 54) или,
что еще расчудеснее, объявить все это безумием, а этих кичливых
попрошаек-киников — сумасшедшими. Ведь все Афины уже
знают, что сам Платон сказал о Диогене — «спятивший Сократ»
(Диог. Л. VI, 54; Элиан 14, 33). Да и во времена Диона Хрисо-
стома киники многим казались сумасшедшими (речь 34, 2). Но
не подсказывает ли опыт веков, что все эти «шуты и простофили»,
гамлеты, дон-кихоты и чацкие, объявленные безумцами, были
самыми светлыми умами, опередившими свое время. Даже
великого Демокрита его милые соотечественники — абдериты,
которых вся Греция считала придурками, называли сумасшедшим.
Так бывает, когда новое, необычное, идущее вразрез с
общепринятым пытается заявить о себе и утвердить себя. Это прекрасно
понимал Диоген и, когда кто-то сказал, что он рехнулся,
презрительно ответил: «Я не сумасшедший. Только ум мой не такой,
как у вас» (Стобей II, 3, 62). Более того, с точки зрения киника,
лишь самая малость отделяет большинство людей от безумия
(Диог. Л. VI, 35) и нет ничего порою глупее «человека с улицы»
(Диог. Л. VI, 24). Недаром к своим слушателям кинические
проповедники нередко обращаются со словами: «безумные»,
«глупцы», «неразумные» и др. Подобные эпитеты должны были
исподволь внушать мысль о неразумности действительности, алогизме
и абсурдности мира, нуждающегося во врачевателях, какими себя
считали киники. Рационализм, культ разума, столь характерный
для них,—враг не только «этого безумного, безумного мира», но
и догматизма, тупой ортодоксии, веры в незыблемость устоев,
в обязательность предписаний и запретов.
В мире киник не только мыслил себя врачом (iatros), но
чувствовал себя борцом, мятежником, инсургентом, солдатом
добродетели и занимал непримиримую воинственную позицию. Антис-
15
фен говорил о себе: «Я борец» (Диог. Л. VI, 4). Оп призывал
в друзья и соратники по борьбе (symmachous) людей
«мужественных и справедливых» (Диог. Л. VI, 12). «Лучше с кучкой
честных людей сражаться против всех дурных, чем со всеми
дурными против горстки честных»,—говорил он.
Если киники себя считали борцами, то свою добродетель —
оружием, которое нельзя у них отнять. Именно поэтому в их
сочинениях так много метафор и сравнений из военной сферы и
агонистики. Воинствующая гражданственность, темперамент
борцов побеждают в киниках их логический индивидуализм и
отрешенность погруженного в медитацию мудреца.
К киническому индивидуализму, как и к любой социальной
категории, нужно подходить конкретно-исторически.
Индивидуализм возникает как реакция на пренебрежение к интересам
отдельной личности. Кинический индивидуализм, символ которого
«Диоген в бочке», явился реакцией обездоленных и лишенных
самостоятельности низов на самодовольно-официальную
солидарность коллектива рабовладельцев, каждый из которых чувствовал
себя полноценной личностью и частицей всесильного
государственного организма, реакцией на коллективистскую полисную
мораль. Индивидуализм киников был направлен не против
общества, как такового, а против враждебного государства и
отстаивал права и самоценность обездоленной личности, требуя ее
освобождения от гнета направленных против нее законов, долга,
обычаев, предрассудков, от жестокой кастовой регламентации,
от диктата религиозного культа, традиций и других жизненных
мифов. Человеку из hl зов нужно было самому, почти в одиночку
бороться за свое место под солнцем. В индивидуализме киников
выразилась их вера в нравственную силу человека, убежденность,
что и один что-то значит, что-то может. Во всех их рассуждениях
в противовес общественному началу выдвигается личность, а
недосягаемому благу всех противопоставляется индивидуальное
счастье. Таким образом, индивидуализм киников носил не
только этический, но и политический характер.
В классическом полисе свободные воспринимали себя как
коллектив, как политическое сообщество граждан (coinönia tön ро-
litön), совместно эксплуатирующих рабов и всех неполноправных.
Этому «единству граждан» противостояли угнетенные слои, еще
слабо сознававшие себя как коллективная сила, но в которых
зрело сознание духовной ценности каждого индивида
независимо от его социального положения или даже вопреки ему. Рабы
не осознавали себя как класс, поэтому свой конфликт с
обществом воспринимали как личный и противостояли обществу
свободных не в качестве коллектива, а индивида. На этой стадии
классового самосознания угнетенных их чувство коллективизма могло
вылиться и выливалось лишь в свою изначальную и наиболее
эмоционально-психологически детерминированную форму —
дружбу, которая в первую очередь диктовалась (хотя бы внешне) не
16
социально-экономическими причинами, а взаимной симпатией,
психологической совместимостью, единством взглядов,
пристрастий и т. п., что заставляло древних рассматривать друзей как
одну душу в двух или нескольких телах. Дружба в те времена —
это, так сказать, индивидуализм вдвоем. Аристотель (Никомах.
Этика, 1166а, 1168а, 28с) считал дружбу вариантом любви к
самому себе (philautia). Дружба для киников служила заменой
неосуществимой в условиях диктатуры рабовладельцев какой-
либо светской, политической организации, защищающей
интересы социальных низов. Демократическая партия в Афинах
представляла интересы крупных и средних граждан, а фиасы,
религиозные коллегии рабов, поддерживаемые государством, служили
средством классового господства, направленным на то, чтобы
держать рабов в повиновении. Дружба единомышленников и едино-
чувствующих противостояла различного рода официальным
объединениям, входящим в государственную систему и
предоставлявшим угнетенным лишь иллюзию общности. «В существовавших
до сих пор суррогатах коллективности — в государстве и т. д. —
личная свобода существовала только для индивидов, развившихся в
рамках господствующего класса, и лишь постольку, поскольку они
были индивидами этого класса. Мнимая коллективность, в
которую объединялись до сих пор индивиды, всегда
противопоставляла себя им как нечто самостоятельное; а так как она была
объединением одного класса против другого, то для подчиненного
класса она представляла собой не только совершенно
иллюзорную коллективность, но и новые оковы» [3, с. 75].
В дружбе «снимался» конфликт между личностью и
обществом, индивидуализмом самоутверждавших себя киников и
филантропией (Эпиктет III, 24, 64), составлявшей душу кинической
дружбы. Этот индивидуализм особого рода предполагал трудную
«любовь к людям», деятельное сострадание к слабым, помощь
подавляемым и сбившимся с пути. «Помогать, приносить пользу»
(Юлиан VI, 201А) — обязательное требование киников. Дружба
смягчала их ригоризм и привлекала сердца людей, заставляя
называть Диогена «добрым гением» (Диог. Л. VI, 74), а Кратета —
«открывателем всех дверей» (Диог. Л. VI, 86).
Оборотной стороной кинического индивидуализма была
абстрактно-гуманистическая идея о всеобщем человеческом братстве
и космополитизм. Конкретная историческая ситуация толкала
киников на путь индивидуалистической этики, заставляя искать
средства индивидуальной психологической защиты и спасения,
ибо объективных условий для действительного, политического
освобождения общества тогда не было и в помине. В
индивидуализме киников не было, как у эпикурийцев, момента эскапизма,
ухода от сложностей жизни в мир размеренных и неразмеренных
удовольствий. Напротив, киник был готов встретить жизненные
тяготы грудью, один на один, потому что воспринимал жизнь как
поединок, как борьбу, себя как борца (Диог. Л. VI, 4), а киниче-
17
екая мораль требовала не камерного удовлетворения тяги к
наслаждениям, но активного отказа от них путем аскезы и
аскетизма. Она исходила из принципа ограничения: «чем меньше
желаний, тем больше счастья», освящая им свою реальную нищету и
лишения, а гедонизм, «философия наслаждения всегда была лишь
остроумной фразеологией известных общественных кругов,
пользовавшихся привилегией наслаждения» [3, с. 418].
Киники не без оснований считали, что человек, всячески
домогаясь удовольствий, обязательно попадает в кабалу к
собственным желаниям. «Лучше сойти с ума, чем наслаждаться» — так
гласит антисфеновская максима (Диог. Л. VI, 3; Клим. Алекс.
Стром. 11, 22; Евсевий. Приготовл. к еванг. XV, 13, 61). Эпикур
считал удовольствие благом, Антисфен — злом (Диог. Л. IX, 101).
Киники призывали избегать любви как источника сильнейшего из
наслаждений.
Однако у киников мы встречаемся с чувством чистой и
бескорыстной любви, что не часто случалось в античные времена.
Стоит вспомнить хотя бы трогательные отношения между Крате-
том и Гиппархией, бросивших все для любви и философии.
Киник, если он рассчитывал на успех своих проповедей, был
вынужден выдавать свое презрение к радостям жизни, свой
аскетизм и испытываемые невзгоды за нечто в высшей степени
привлекательное, притягательное и заманчивое для обращаемых в
свою веру. Отсюда этот оригинальнейший диогеновский тезис:
«Презрение к наслаждению само по себе доставляет величайшее
наслаждение» (Диог. Л. VI, 71). Здесь аскетизм диалектически
смыкался с гедонизмом. Философия наслаждения иногда
опускалась «до уровня назидательного морализирования, до
софистического прикрашивания существующего общества или же
превращалась в свою противоположность, объявляя наслаждением
вынужденный аскетизм» [3, с. 418].
Философия нищеты, каковой была в силу исторических
обстоятельств киническая философия, по необходимости объявляла
наслаждения, комфорт и прочие жизненные блага пустыми,
несущественными и достойными презрения. Вынужденный аскетизм
стал нормой для всех приверженцев кинической доктрины.
Иначе п быть не могло, ибо в этом «плебейском» аскетизме
отразились глубинные процессы, типичные для неразвитого социального
сознания угнетенных классов в разные эпохи и у разных народов.
«Эта аскетическая строгость нравов, это требование отказа от
всех удовольствий и радостей жизни, с одной стороны, означает
выдвижение против господствующих классов принципа
спартанского равенства, а с другой — является необходимой переходной
ступенью, без которой низший слой общества никогда не может
прийти в движение. Для того, чтобы развить свою революционную
энергию, чтобы самому осознать свое враждебное положение по
отношению ко всем остальным общественным элементам, чтобы
объединиться как класс, низший слой должен начать с отказа
18
от всего того, что еще может примирить его с существующим
общественным строем, отречься от тех немногих наслаждений,
которые минутами еще делают сносным его угнетенное
существование и которых не может лишить его даже самый суровый гнет»
[5, с. 377-378].
Однако кинический аскетизм существенно отличался от
аскетизма религиозно-мистических, теософских, иудаистских и
христианских учений. Он не вел ни к человеконенавистническому
умерщвлению плоти, ни к монашескому бегству от мира и самого
себя, хотя такие выводы и могли быть неосторожно сделаны.
Киники никогда не считали влечения тела греховными или проста
недопустимыми. Наряду с прокламированной сладостью
отречения киники признавали и радости позитивные, простые,
естественные, неприхотливые радости бедняка-работника: «Нужно
искать удовольствия, наступающие после трудов, а не до них»
(Стобей II, 29, 65; ср. Афиней XII, 513А; Диог. Л. VI, 71; Ксено-
фонт. Мем. II, 1, 20). Диоген любил природу и ее дары
—погреться на солнцепеке, напиться чистой студеной воды из
источника и т.п. (Дион Хрис. VI, 9—12). «Своей жизнью в бочке
Диоген наслаждался, как Ксеркс в Вавилоне... Пожалуй, он
испытывал еще больше удовольствий» (Максим Тирск. III, 9).
Никогда не избегали киники тепла, которое дает человеческое
общение, дружба. Уже в этих «естественных», разумных радостях
можно усмотреть элементы гедонизма, который у древних
«строгих» киников присутствует сначала как намек, в качестве
своеобразной приманки для новообращенных и только позднее
развивается в целое направление (Бион, Телет и др.). Во всех
приведенных мыслях и афоризмах проглядывает отчаяние бедняка,
утешающего себя верой в значительность каких-то особых
наслаждений и старающегося вызвать зависть других тем, что он-де
обладает более высокими духовными радостями, чем пошлые
материальные блага. Вместе с тем киническая аскеза далека от
добродетели анахоретов и послушников; скорее это необходимое
качество вождей, всех тех, кто самоотреченно ставил перед собой
задачу «перечеканить монету» и предчувствовал, «что скоро то, что
было внизу, окажется наверху» (Диог. Л. VI, 32), кто жаждал
стать подлинными властителями дум и героями своего народа.
Индивидуалистическая этика киников глубоко связана с их
сенсуалистическим материализмом, не оставившим места для
религиозной морали, как, например, у стоика Эпиктета, считавшего
настоящего киника «посланцем богов» (Беседы III, 22—25), и
логическим сингуляризмом и номинализмом, исключавшим
общегосударственную мораль угнетения. Моральная автономия
личности вылилась в номиналистическую логику.
Индивидуализм заставил киника противопоставить себя
«толпе», «большинству» (hoi polloi), «невеждам» и «глупцам» (apaide-
utoi), которые придерживаются ложных мнений, полны
предрассудков и отстоят «от безумия только на палец» (Диог. Л. VI, 35).
19
Но это не конфронтация высокомерного «аристократа духа»,
интеллектуальной элиты и подлой «черни». Нет, и здесь действует
принцип кинического «перевертыша», «переоценки ценностей».
Киническая «толпа» — это не реальный народ, массы, голытьба,
а «светская чернь», рабы страстей и богатства. Им-то и противостоит
кинический мудрец (софос), выступающий как конкретный
носитель своего учения, как живой эталон (Стобей II, 31, 76).
Идеальное представление о мудреце, появившееся у киников,
ведет свое начало, пожалуй, от самых истоков греческой
философии. «...Sophos есть первый образ, в котором предстает пред нами
греческий philosophos; он выступает мифологически в семи
мудрецах, практически — в Сократе и как идеал — у стоиков,
эпикурейцев, ново-академиков и скептиков. Каждая из этих школ имеет,
конечно, своего собственного sophos...» [3, с. 124].
Киники не только использовали образы героев, услужливо
уготованных мифологией, легендами и историей, но и
конструировали свой собственный идеал мудреца, создавали мифологический
стереотип, который пластически реализовался в лице некоторых
исторически существовавших философов, чье жизненное
поведение давало повод для идеализации. Для древней философии, куда
бы она ни склонялась — к теории или практике,— моделирование
индивидуализированного образа мудреца как живого воплощения
системы значило не меньше, чем сама система. Социальные низы
более, чем кто-либо, нуждались в герое, похожем на них, но
который все же был бы лучше, смелее, чем они, бросал бы слова
правды в лицо тиранам и всей своей жизнью доказывал, что
богатство — зло, а бедность — добродетель, что свободу можно
обрести даже в их жалком положении. Угнетенным нужен был
пример мужества и отваги, хотя бы придуманный, ибо в жизни таких
примеров было немного. Действительность способствовала
измельчанию интересов, располагала к обывательщине, замыканию в
себе. Созданный же философами тип идеального мудреца одиноко
возвышается над массой и в известном смысле даже
противостоит ей.
Но здесь нет принципиального антагонизма. Подобная мысль
о греческих «мудрецах» ясно высказана Марксом, который,
отмечая их «исключительность по отношению к polloi» (толпе.—
И. #.), говорит, однако, что. «они являются, с другой стороны,—
подобно изваяниям богов на площадях, со свойственным им
блаженным самоуглублением,— в то же время и подлинным
украшением народа и возвращаются к нему в своей индивидуальности»
[1, с. 134].
В представлении киников о «мудреце» воплотился их
нравственный идеал. Кинический мудрец, сводя свои потребности до
минимума, почта ни в чем не нуждается, уподобляясь богам
(Диог. Л. VI, 37, 51, 72), и в то же время ему принадлежит все.
Мудрец — наглядный пример кинической автаркии (Диог. Л. VI,
И). Обладая подлинной властью над собой и над другими (как
20
неформальный лидер), мудрец живет не по существующим
законам государства, а по законам добродетели, поэтому он
«гражданин мира», космополит (Диог. Л. VI, 63). Как человека его
отличают исключительная сила воли, выдержка, твердость
характера (encrateia, carteria, energeia, ischys — Диог. Л. VI, 11, 15
и др.). Такими носителями кинической мудрости, прежде всего,
являлись Сократ, Диоген, Геракл, Одиссей и другие герои (Антис-
фен, Кратет, Микилл, Симон, Анахарсис). Подобно тому как
критическая позиция киников повлияла на сатирический склад их
литературы, так и система данных героев и антигероев
(богачи, стяжатели, тираны, обжоры, сластолюбы, развратники, атлеты,
риторы — Сарданапал, Ксеркс, Дионисий, Крез, Александр и др.)
сказалась на всем ее образном строе. Обращает на себя внимание,
что здесь мы имеем дело не просто с психологическими типами,
но с социальными характерами.
В образе мудреца сконцентрировались основные противоречия
кинической этики, главным из которых является антитеза личного
и общественного, индивидуализма и коллективизма, эгоизма и
гуманности. Киники запутались в этих противоречиях — не столько
на деле, сколько на словах. Киническое благо, с одной стороны,
глубоко индивидуалистично, ибо добродетель заключена в самом
человеке, в его автаркии, в его воле и действиях, она альфа и
омега всех начинаний киника, провозгласившего автономию
личности, стремящегося сбросить с себя «путы общества», а
философия учит его довольствоваться общением с самим собой (Диог.
Л. VI, 6). Но весь этот такой явный индивидуализм сочетается
с прославленным киническим гуманизмом (philanthröpia), с
самоотверженной любовью к себе подобным (philos te homoiois —
Антисф. фргм. 15, 2; ср. Диог. Л. VI, 38, 105), с культом дружбы
(Диог. Л. VI, 6, 12, 29, 36, 37, 42, 46, 68), внутренне связанным
с умением киника-собаки различать «своих» и «чужих», с одним
дружить, с другим вступать в схватку как с врагом (Антисф.
фргм. 9, 47, 6, 62, 64, 35, 43; Стобей XIII, 27; Гномолог. ват. 194).
Кинические представления об идеальном человеке и
«мудреце» шли вразрез с господствующим идеалом калокагатии. Киники
разрушали этот универсальный социально-эстетический идеал
классической античности, ибо калокагатия была исторически и
классово детерминированным представлением о единстве
нравственного совершенства и физической красоты, гармонии
внутреннего и внешнего, сублимацией господствующих взглядов о
внешних и внутренних достоинствах образцового гражданина
рабовладельческого полиса. Социально-политический смысл калокагатии
в ее различных проявлениях и типах, по сути дела, оставался
неизменным — прославление «добрых» граждан, аристократов и
демократов, плутократов или олигархов, процветающих
рабовладельцев, далеких от производительного труда, полных сил и
здоровья, пользующихся богатством и властью, почетом и славой,
жизнерадостных, не знаюших сомнений цельных личностей, ве-
21
рящих в незыблемость установленного порядка. Понятно, что calos
cagathos — этот образцовый социальный характер, порожденный
прежде всего неравенством и самомнением афинской
аристократии, был глубоко чужд плебейской идеологии киников, их
жизненному опыту.
Государству, законам, установленному порядку, «мещанской»
добропорядочности ж ретроградным семейным устоям киник, не
видя добра в формах существующего строя, противопоставлял
анархизм, воинствующий индивидуализм, «самоуправление»
попранной личности, для которой все жизненные блага «чужды» (al-
lotria) или «безразличны» (adiaphora), а роскошь, слава, почести,
знатность, удача — пустое, «дым, чад» (typhos), «прикрасы
порока» (Диог. Л. VI, 105, 83, 72; Эпиктет. Беседы I, 24, 6).
Особо следует сказать о телесном совершенстве, основой
которого были физическое воспитание и спорт. В системе воспитания
полноценного гражданина и воина гимнастика являлась одним
из важнейших компонентов. Атлетизм, участие в общегреческих
играх и состязаниях считалось почетным для всякого свободного
юноши, непременным условием его калокагатии. Киники
выступали против того типичного в греческой жизни явления, которое
один немецкий исследователь остроумно назвал «спортивным
идиотизмом», против однобокого физического развития,
доступного к тому же лишь состоятельным верхам. Гимнастика,
атлетизм, спортивные соревнования, борьба за награды были
постоянной мишенью кинических насмешников. Причем их критика
смыкалась с народным предубеждением против атлетизма (ср. басни,
поговорки, сатировские драмы и др.). Спорт, агонистика и
атлетический идеал греков, как уже давно отмечено наукой, носили
резко выраженный классовый, аристократический характер и не
могли, естественно, вызвать особого энтузиазма у низших слоев
общества, самими условиями жизни отлученных от участия в
совершенствовании физической культурой. Киников возмущало то
обстоятельство, что люди, посвящая себя спорту и затрачивая на
него массу энергии, нисколько не заботятся о душе и добродетели
(Диог. Л. VI, 27, 70). Они тупоумны, они сделаны из мяса свиней
и быков,— издевался над атлетами Диоген (Диог. Л. VI, 49;
ср. Евсевий. Приготовл. к еванг. V, 34, 16). Преследовал он
насмешками и победителей на Истмийских играх (Дион Хрис.
IX, 14 и ел.).
Когда у киников заходила речь о совершенном «калокагатий-
ном» человеке, то мысль о телесном, внешнем даже не возникала.
«Спрошенный кем-то, что нужно делать, чтобы стать
совершенным человеком, он (Антисфен.—17. Н.) ответил: „Научиться у
• людей сведущих, как избавиться от того зла, которое сидит в
тебе14» (Диог. Л. VI, 8). Противоречие между внутренним и
внешним снимается здесь простым отсечением всего внешнего. Калока-
гатия понимается исключительно как духовная красота,
богатство души. Недаром Антисфен говорил: «Богатство и бедность че-
22
ловека заключаются не в доме, а в душе» (Ксенофонт. Пир 4, 34;
ср. 3, 8, 4). И красота и добродетель растворяются в духовном,
в морали. Физическое несовершенство и даже уродство не
мешают человеку быть прекрасным. Красота и добродетель — не такие
уж друзья-неразлучники: они связаны между собой не
необходимо, а случайно. Внешность и сущность нередко расходятся.
Сократ — calos cagathos, несмотря на то что внешне безобразен и
похож на Силена. Кинический мудрец все свои достоинства носит
внутри, всем своим внешним видом подчеркивая свое безразличие
ко всяким условностям и приличиям.
Уже внешний облик (to schema) киника, начиная с
нестриженых волос и бородатого лица до босых ног, был глубоко
знаменателен и символичен. Кинические приметы — нищенская
котомка (рёга), посох (bactron), единственный на все сезоны
поношенный плащ, который носил рабочий люд (tribön). Это жалкое
платье бедняка, которое первым стал подчеркнуто носить Антис-
фен (Диог. Л. VI, 13, 104), не оставляло сомнений в классовой
принадлежности киника, оно ее выставляло напоказ. Таков был
образ жизни киника (cynicos bios), который не имел своего дома,
в любое время и в любую погоду бродил по дорогам и улицам,
ел что попало, спал где придется — в преддвериях храмов, в
банях и т. п., проводил свои дни в толпе, на площадях, в местах
сборищ людей, на играх, в гимнасиях, в портах, обличая и поучая
(Диог. Л. VI, 22, 76, 96, 104; Дион Хрис. IV, 13).
Глубокие корни такой нарочито грубой формы протеста
следует искать в вещественном характере отношений между людьми,
в натуральном строе античной экономики. Как указывал Маркс,
основная часть прибавочного продукта у состоятельных
рабовладельцев шла на непроизводительные затраты, на предметы
роскоши, религиозного культа, на произведения художеств, на одежду,
украшения, строительство жилищ и т. п. Расточительству богатых
киники противопоставляли аскетическую бедность, символам
роскоши — символы нищеты, жизненным наслаждениям — лишения и
невзгоды. Внешние проявления кинизма выдавали его коренную
связь с античными низами. Из нужды они делали добродетель,
выставляя в качестве идеала не изобилие, а недостаток. Образ
жизни и поведения киника, его каждодневная практика, обладая
преимуществами наглядности, привлекали массу, если, конечно,
кинический философ подтверждал свои рассуждения о
добродетели примерами добродетельной и нравственной жизни, а не
фиглярничал в нищенском наряде, вызывая насмешки и презрение толпы.
В своем отрицании полисной морали, ложных мнений и
обветшалых истин киники порой заходили очень далеко, допуская
немало преувеличений, оскорбляя чувства приличия и
стыдливости. Истинная причина всех брутальностей, поражающих нас
бесстыдством выходок, всей этой эпатации норм общежития, всех
«пощечин общественному вкусу» заключена в конечном счете в
отчужденном характере подневольного труда в рабовладельческом
23
обществе, где это отчуждение выступало в своей первоначально
паивной, откровенной, неприкрытой, «звериной» форме,
лишенной какой-либо стыдливой мистификации и нарядных покровов.
«Отчужденность труда,— указывает Маркс,— ясно сказывается в
том, что, как только прекращается физическое или иное
принуждение к труду, от труда бегут, как от чумы. Внешний труд, труд,
в процессе которого человек себя отчуждает, есть принесение себя
в жертву, самоистязание. И, наконец, внешний характер труда
проявляется для рабочего в том, что этот труд принадлежит не
ему, а другому, и сам он в процессе труда принадлежит не себе,
а другому... Деятельность рабочего не есть его самодеятельность.
Она принадлежит другому, она есть утрата рабочим самого себя.
В результате получается такое положение, что человек
(рабочий) чувствует себя свободно действующим только при
выполнении своих животных функций — при еде, питье, в половом акте...
в своих человеческих функциях он чувствует себя только лишь
животным. То, что присуще животному, становится уделом
человека, а человеческое превращается в то, что присуще животному»
[1, с. 563-564].
Эти диалектические положения Маркса как нельзя лучше
объясняют всю физиологическую откровенность, остентативность
киников, утверждавших таким поразительным образом свое
человеческое достоинство, а также их апелляцию к примеру животных;
делается понятным и их вызывающее согласие называться
«собаками» (киниками). Только сбросив с себя человеческие
условности и обязанности, они начинали чувствовать себя свободными и
людьми. Именно в своих физиологических проявлениях человек
выступает как человек вообще, социально обезличенный в своей
животной наготе, «природной» сущности. В этом случае
безразлично — раб ты или господин, эллин или варвар, богат или беден,
красив или безобразен, прославлен или прозябаешь в
безвестности. Тут, как в царстве теней, царит подлинное равенство. Нельзя
не усмотреть также в физиологизме, эпатирующем бесстыдстве,
непристойностях и сексуальных эксцессах киников влияние
народного культа плодородия, столь живо заявлявшего себя в
фаллических, «карнавальных» традициях комедии Аристофана.
Anaideia киников имела политический оттенок, знаменуя
пересмотр, отрицание aidös («стыд», «страх»), категории,
занимающей видное место в господствующей морали античности.
Аристотель определял «айдос» как страх перед общественным мнением,
«бесчестием», ограждающий репутацию добропорядочного
гражданина (Никомах. Этика IV, 15). Иными словами, «айдос»
—нормы общежития, с которыми киники были не в ладах.
Отвергая все государственные установления как
несправедливые, киники отворачивались и от религии, почитание которой
входило в круг обязанностей гражданина. Вера в богов, соблюдение
обрядности — все это только оковы, налагаемые государством на
свободу личности; они несовместимы с критическим разумом ки-
24
ника и его стихийным материализмом. Антисфен и Диоген
активно выступали против официальной политеистической и
антропоморфной религии, против суеверий, жертвоприношений, молитв,
оракулов и т. п. В антисфеновском «едином боге», который ни на
что не похож, мы имеем основание видеть наивное обожествление
мира, природы, своеобразный философский пантеизм или деизм,
который в античности, как и позднее, прикрывал
материалистические и атеистические воззрения. Антирелигиозная позиция
характерна не только для древнего кинизма, но и для киников эллини-
стическо-римской эпохи. Наивысшего взлета кинический, да и,
пожалуй, античный атеизм в целом достигает в «Мелиямбах»
Керкида (III в. до н. э.) и «Уличении шарлатанов» Эномая Га-
дарского (II в. н. э.). Признавая полную моральную автономию
человека и его свободную волю, киники тем самым полностью
исключали способность богов каким-либо образом вмешиваться в
его судьбу, влиять на его поведение и отрицали самое их
существование.
Отрицание киниками рабовладельческих святынь заключало в
себе одновременно извечно популярный в народе призыв к
свободе. Но на этот раз подразумевалась не только свобода
свободных, которые, рассуждая о свободе, понимали ее прежде всего как
государственную независимость, как свободу от иноземного
владычества. Бесперспективный в данный исторический момент
общий лозунг угнетенных «Да здравствует свобода!» имел
специфическое содержание, предполагая в первую очередь личность и ее
свободу, но не реальную, политическую, а внутреннюю, духовную,
значение которой, как представляется, далеко не всегда
правильно оценивается. Действительное и повсеместное освобождение
рабов еще не было поставлено историей в повестку дня — оно
осуществилось лишь много веков спустя, а рабские восстания
кончались внутренним крахом и внешним разгромом. Поэтому
провозглашение индивидуального духовного освобождения, сознание
своего человеческого равноправия или даже превосходства над
господами должно было приподнимать раба в собственных и
чужих глазах и расчищать путь к реальной совокупной
политической свободе угнетенных, объективные условия которой
исподволь и медленно вызревали.
Духовная свобода неотделима от гражданской и тем более от
истинной сущности неотчужденной человеческой личности.
Внутренняя свобода, какой бы иллюзорной она ни была, давала
ощущение равенства и сверх того внушала убеждение в превосходстве
низших, обладающих благодатью добродетели, над теми, кто
находится в рабстве у своих страстей, желаний, удовольствий,
житейских благ. Киники делали благородное и гуманное дело,
избавляя свою паству от чувства неполноценности, приниженности,
подчиненности и страха, которые постоянно внушались ей
«сильными мира» при помощи всемогущей палки, кнута и
соответствующей идеологической обработки. Чтобы проделать путь к дей-
25
ствительному освобождению, сначала нужно «изжить в себе раба».
Это киники прекрасно понимали. Диоген ценил свободу выше
всего (Диог. Л. VI, 7). Кратет говорил о своих единомышленниках:
«Непреклонные и не склоняющиеся перед порабощающими удо-
вольствиями, они больше всего чтят бессмертную царицу —
свободу» (Клим. Алекс. Стром. II, с. 492 Поттер).
Из общей отрицательной позиции киников вытекала
преимущественно негативная концепция свободы как «свободы от ...»,
отказа от изобилия материальных благ, богатства, славы,
удовольствий, страха смерти и т. п., т. е. от всего того, что киники
называли typhos, «дымом», тщетой, суетой жизни. По Антнсфену, цель
жизни — свобода от всего этого «дыма», «чада» (Афиней XII,
513а). То, что принято считать ценным и желанным в жизни,
порабощает человека, следовательно, независимость от него и есть
подлинная свобода. В этом и заключается главный смысл кннн-
ческой «переоценки ценностей». В соответствии с такой
концепцией бедняк или раб, которого сама жизнь освободила от «груза»
внешних благ, оказывается более подготовленным к восприятию
кинических добродетелей и намного свободнее, чем тот, кто
живет в роскоши, богатстве и славе. Киническая логика меняет раба
и господина местами, как на празднике Сатурналий. Логическое
экстраполируется в моральное, а моральное в политическое.
Для приверженцев кинизма идеал внутренней свободы
воплотился в образе Диогена. Доведенный до крайности, он приобрел
следующую форму: «...Диоген сбросил с себя все узы
окружающего мира и освободился от его оков; свободный, он стал
заглядывать во все уголки земли, уподобляясь птице, наделенной
разумом, не боясь тиранов, не подчиняясь насилию закона, не
затрудняя себя общественными делами, не тревожась о
воспитании детей, не сковывая себя браком, не занимаясь обработкой
земли, не обременяя себя военной службой и не промышляя
морской торговлей; напротив, он осмеивал все это — людей и их
занятия... Его богатством, не вызывающим никакой зависти,
надежным и неотъемлемым, была вся земля и ее плоды, были
рожденные землей источники, которые изливали для него питья щедрее,
чем весь Лесбос и Хиос» (Максим Тирск. 36, 5). Здесь Диоген
уже не реальный человек, а святой, некий мало симпатичный
философский символ абсолютной свободы, в отчаянии отвергающий
все человеческие и общественные занятия и связи.
В кинической концепции свободы особо подчеркивается
необходимость избавления от страха смерти. Диоген говорил, что есть
одно средство достичь свободы — это не бояться смерти, спокойно
умереть (Эпиктет. Беседы IV, 1, 30—31). Боязнь смерти, как и
всякий страх,— унизительное, рабское чувство, неоднократно
подчеркивали киники (Диог. Л. VI, 68; Стобей VIII, 14; Эпиктет.
Беседы IV, 1, 24, 6). Избавить раба от страха смерти — значит
толкнуть его на путь борьбы до последнего дыхания и заставить
почувствовать себя властелином своей судьбы. В киническом уче-
26
нии мысли о смерти вовсе не носят характера навязчивой идеи,
а являются объективной оценкой жизненной ситуации. Слова об
успокоении в смерти могут быть вызваны и обжигающей горечью
протеста. Вспомним эпитафию на могиле убитого лидера
американских негров Мартина Лютера Кинга: «Наконец-то свободен.
Наконец-то свободен. Благодарю, всемогущий боже, я свободен».
Не перекликаются ли эти слова удивительным образом с
предсказанием в «Онейрокритике» («Соннике») писателя II в. н. э.
Артемидора, что если рабу приснится его освобождение, то этот
сон сулит ему смерть (I, 58). Иначе говоря, свобода и смерть в
сознании раба отождествлялись. Отсюда эта парадоксальная
концепция смерти как освобождения, которая могла даже толкать на
самоубийство, но здравомыслящие киники знают цену жизни
самой по себе и не лишены любви к ней (philozöia). Антисфен хотел
избавиться от страданий, а не от жизни (Диог. Л. VI, 18—19).
Кратет отговаривал Метрокла, своего ученика и брата своей
будущей жены, от самоубийства (Диог. Л. VI, 94). Кинизм — отнюдь
не кладбищенская философия.
В известном смысле свобода от страха смерти есть такое же
положительное требование, как требование свободы слова (раг-
rhësia), которую киники считали самым драгоценным человеческим
даром (Диог. Л. VI, 69). Требование свободы слова всегда было
острополитическим лозунгом, но его мятежный характер
становится особенно заметным при сопоставлении его с
конституционным правом исэгории. Все дело в том, что это прокламированное
афинским основным законом демократическое право равной для
всех свободы слова, ограниченное многочисленными оговорками,
в действительности оказывалось почти что пропагандистским
блефом, a parrhësia — реальное право, которое киник гордо
присваивает сам себе и, закрыв глаза на последствия, направляет против
диктатора, демагога, тирана и любой несправедливости. Он всегда
открыто говорит правду всем — «как царю персидскому, так и
Архидаму, царю спартанскому» (Эпиктет. Беседы IV, 1, 156). Его
не знающая границ парресия подобна укусам собаки. Кусает же
он дурных, чтобы исправить (Диог. Л. VI, 60), а друзей — чтобы
спасти (Стобей II, 13, 37). Антисфен сравнивает Диогена с
жалящей осой (Дион Хрис. VIII, 275). Да и в его собственной
эпитафии можно прочесть: «В жизни ты, Антисфен, был настоящей
собакой: но не зубами кусал, а словами» (Диог. Л. VI, 19).
Близок киникам и образ гомеровского Ферсита, «в речах
безудержного», дерзкого хулителя царей (Ил. II, 212 и ел.). Демонакт прямо
называет Ферсита киником (Лукиан. Демонакт 61).
Чтобы научить людей и наставить их на путь добродетели,
киники не стеснялись в выражениях, пуская в ход, подобно Био-
ну, самые «грубые слова» (Диог. Л. VI, 52). Даже такой
интеллигентный человек, как Антисфен, не чуждался крепких
выражений, грубых сравнений и слов. Брань необходима, утверждали
киники, хоть она и ранит. Так и врач причиняет боль, стремясь
27
исцелить недуг (Диог. Л. VI, 4). Кратет, например, в целях
исправления грубо поносит проституток (Диог. Л. VI, 90). «Долг
мудреца подобен миссии врача — он должен идти туда, где
страдают, где большинство неразумно; идти, чтобы разоблачить это
неразумие и выставить его на позор» (Дион Хрис. VIII, 5, 276R).
Идейный враг киников перипатетик Феофраст, явно намекая на
них, завершает свой портрет «Злоречивого»: «Свое злословие он
называет свободой слова, демократией и независимостью и видит
в нем высшее наслаждение» (Характеры 28, 6).
Хотя благо, которое проповедует киник, индивидуально, но
проповедь его никогда не обращена к самому себе. Свою правду
он всегда готов высказать людям, речь его проста и доходчива
(Ксенофонт. Пир VI, 34). Голос его громок, как голос уличного
витии или шумного глашатая: он хочет быть услышанным,
привлечь внимание, поэтому не говорит, а «кричит» (boäi), чтобы
доказать свою ценность, свое равенство с «лучшими», ему надо
«кричать» и не бояться показаться смешным. «Крик» киника на
площадях и дорогах — не только желание быть услышанным, не
только вопль протеста, но и жест отчаяния: услышит ли кто?
Но, во всяком случае, вольное слово киника, в какую бы форму
оно ни выливалось, было главным оружием пропаганды его
учения, идейной борьбы, единственным средством общения с
массами. А для этого сильная народная речь, пропитанная солеными
шутками, притчами, поговорками и т. п., действеннее любой
утонченной и «литературной» манеры выражаться. Стиль
выступлений киников наступательный, боевой, полный внутреннего
накала, подкупающий своей убежденностью. Кинический философ
не только убеждает своего собеседника, но и настаивает на своих
взглядах, напоминает о его долге в духе категорического
императива: «Ты должен!», «Ты обязан!» — или допрашивает с
пристрастием: «Тебе не стыдно?» Кинические философы видели свое
призвание в том, чтобы быть наставниками, воспитателями,
учителями народа.
Среди идей, обращенных непосредственно к народу, было и
киническое учение о труде. В понимание человеческой личности,
ее нравственных достоинств и общественной роли оно внесло
принципиально новую для античности струю, ибо общественный идеал
классической эпохи — калокагатия — решительно отвергал труд
как атрибут свободного человека. Труд не только не входит в
этический кодекс гражданина, но и противопоказан ему, ибо его
цель —досуг, scholë (Аристотель), его идеал — «общество досуга
и праздности», общество неограниченного и безвозмездного
потребления. Для рабовладельческой идеологии, тон которой
задавали аристократы, особенно в эпоху ее кризиса, характерно
третирование всех форм физического и непосредственно
производительного труда, как и всех тех, кто был занят в сфере
материального производства. Господствовало убеждение, что «труд —
удел рабов и низших слоев» (Афиней XII, 5, 512в).
28
Но из этих низших, трудящихся слоев исходила оппозиция
к распространившемуся в обществе
реакционно-аристократическому высокомерному отношению к физической работе, именно
отсюда, из глубины народной, раздавались голоса, восхвалявшие
труд. Народ видел в нем не только наказание за древние «грехи»
Прометея, но и воспринимал как благо. Лишь трудящиеся могли
искренне воспевать трудолюбие и самый труд (ponos), стихийно
чувствовать его освободительную и культурническую роль; среди
них вызревала мысль о труде как первостепенной жизненной
необходимости, о труде, который в конечном счете определяет
истинную ценность человека и становится, таким образом, одним
из главных моральных критериев, принципов этической оценки
личности.
В нашем основном доксографическом источнике
«Жизнеописаниях знаменитых философов» Диогена Лаэртского уже в
начале очерка о киниках указывается, что основоположник школы
Антисфен «показал, что труд благо, на примере великого
Геракла и Кира, взяв одного из эллинов, другого — из варваров» (VI, 2).
Самыми благородными из людей Диоген-киник считал тех, кто
наряду с другими киническими добродетелями превыше всего
почитает труд (Стобей II, 86, 19). Ксенофонтовский Сократ в «Ме-
морабилиях» под влиянием кинического учения высказывает
сходную мысль: «Работать — хорошо, бездельничать — скверно. Люди,
делающие что-нибудь доброе,—хорошие работники» (I, 2, 57).
Это была необычная и даже парадоксальная для
рабовладельческого общества точка зрения.
Обращение Антисфена к фигурам Геракла и Кира Старшего
не было случайным. Великому труженику и народному герою,
признанному покровителю киников Гераклу Антисфен посвятил
три сочинения, а четыре — Киру, которого как образцового
правителя киники, идеализируя, противопоставляли современным им
олигархам и демагогам (Диог. Л. VI, 16, 18). Сопоставление
эллина и варвара, бессмертного героя и человека говорило о том,
что Антисфен хотел придать своему тезису, так сказать,
«всемирно-историческое», интернациональное значение. Возвеличивая
Геракла и Кира как моральных преобразователей мира, этим
самым он возвеличивал всех тружеников.
Презирая деньги и утверждая, что истинное богатство
заключается в душе, Антисфен говорил: «Если бы у меня отняли и то,
что у меня сейчас есть, ни одна работа, как мне думается, не
казалась бы настолько ничтожной, чтобы не могла меня
прокормить» (Ксенофонт. Пир 4, 40).
Снова и снова звучит у киников гесиодовское: «Труд никакой
не позорен, позорна лишь праздность» (ср. Эпиктет. Беседы I, 16,
16; II, 6, 7; VI, 2, 2). Вероятно, впервые в истории европейской
мысли ими была высказана глубоко прогрессивная идея о
радостях, доставляемых трудом, взятым на себя человеком добровольно
и сознательно.
29
Вся классическая система воспитания, пайдейя, была
направлена на то, чтобы подчеркнуть исключительность свободного
человека, доказать его право не заниматься физическим трудом.
Киническая пайдейя стремилась убедить в необходимости труда
для всех как непременного условия добродетельной жизни, как
средства достижения счастья. Восхваление трудолюбия в
господствующей атмосфере праздности было, несомненно, делом
новаторским и прогрессивным, которое в то же время
свидетельствовало о внутреннем, глубинном кризисе и распаде
рабовладельческой идеологии.
О крахе полисной идеологии свидетельствует принципиально
новое мироощущение киников, их взгляды на отношение
человека и государства, человека и родины. Критика отдельных
полисов, в которых приходилось жить киникам, их правителей,
законов, институтов, обычаев и т. п. вырастала из тотального
неприятия социальной действительности. В ней не было и тени желания
что-нибудь улучшить, подправить. Киник повсюду чувствовал
себя чужаком, странником, «иностранцем» даже в собственной
стране. Эта почти априорная позиция подкреплялась реальным
отсутствием у многих из них гражданских прав. И Антисфен и
Диоген, живя в Афинах, не были полноправными афинскими
гражданами. Диоген любил говорить, что над ним свершилось
трагическое проклятие, ибо, как сказано в одной из трагедий,
он был «лишен города, дома, родины, нищий странник, живущий
только тем, что есть сегодня» (Диог. Л. VI, 38; Гномолог. ват. 201).
Кратет признает родиной только презрение к славе и бедность,
недоступные даже для ударов судьбы, и считает себя
соотечественником Диогена, который надежно защищен от какой бы то
ни было зависти (Диог. Л. VI, 93).
Кинический взгляд на родину еще долго привлекал низы.
Бывший раб Эпиктет, симпатизировавший древним киникам,
считал только того настоящим киническим философом, кто может
сказать: «Посмотрите на меня. У меня нет ни прав гражданства,
ни дома, ни денег, ни рабов. Я сплю на голой земле. У меня нет
ни жены, ни детей, ни постели. Только земля и небо и
один-единственный плащ. Чего же мне не хватает?! Разве я не свободен?
Я сам себе и царь, и господин...» (Беседы III, 22, 47 и ел.).
С отношением к государству и обществу, к новым явлениям
в жизни греческих полисов связана проблема кинического
космополитизма. Именно киникам принадлежит приоритет в создании
самого понятия и термина. Исторический смысл и функция
космополитизма киников могут быть правильно поняты только с
учетом особенностей исторической ситуации начала IV в. до н. э.,
когда в результате Пелопоннесской войны стала очевидной
несостоятельность многих сторон афинской демократии и
обнаружились пятна разложения под еще вполне благопристойной
наружностью смертельно больного.
Не пылали патриотизмом рабы, метэки, вольноотпущенники и
30
беднейшие из граждан, терпевшие голод, болезни, искавшие
пристанища и пищи. Ущемленные в элементарных человеческих и
гражданских нравах, они смотрели на мир как на юдоль печали,,
как на арену борьбы за жизнь, где их удел — тяжкий труд и
страдания. И, право, им было не очень важно, откуда отправиться к
праотцам. Отражая настроение этих слоев, киники со
свойственным им радикализмом отказывались от гражданских прав в
любом греческом полисе, который был для них родиной-мачехой или
вовсе ничем. Кинизм отвергал существующее государство под
любой оболочкой — демократической, олигархической,
аристократической или тиранической.
Знаменитый александрийский ученый Эратосфен, ученик
полукиника-полустоика Аристона, под влиянием популярной киниче-
ской пропаганды доказывал несостоятельность традиционной для
греческого мировоззрения дихотомии «эллины — варвары» 3,
которые, с его точки зрения, равны «по природе». Более того,
варварские народы, из которых в основном рекрутировалось рабское
население Греции, имели даже преимущество по сравнению с
цивилизованными эллинами — они жили «естественной» жизнью
первобытных народов в единении и гармонии с природой. «Мудрый
скиф» — один из излюбленных героев кинической
пропагандистской литературы (см., например, «Письма Анахарсиса»).
Космополитизм является частью кинического учения о
государстве, в котором сплавились бунтарские идеи отчаявшихся
низов античного общества. Связанный с мыслями Антисфена о
мировой миссии мудреца (Диог. Л. VI, 2) космополитизм впервые
фигурирует в доксографических материалах о Диогене. Он
первый в истории назвал себя «космополитом», «гражданином
вселенной» (или—«мира»). Диоген, «спрошенный, откуда он
явился, ответил: „Я — гражданин мира4'» (Диог. Л. VI, 63; ср. там
же, 72). «Откуда, милейший, ты прибыл, скажи мне прежде
всего.— Отовсюду.— Что это значит? — Ты видишь перед собой
гражданина мира» (Лукиан. Продажа жизней 8) 4.
Кратет, как сообщает Диоген Лаэртский, в одной из своих
трагедий писал:
Отечество мое — не только дом родимый,
Но всей земли селенья, хижина любая,
Готовые принять меня в свои объятия (VI, 98).
Какой же смысл вкладывали киники в изобретенное ими
слово «космополит»? В нем в соответствии с киническим
негативизмом не утверждение идеи всемирного гражданства, не претензии
считаться гражданином мировой «многонациональной» державы,
наподобие империи Александра Македонского, созданной из
покоренных народов, а, наоборот, отказ от всех существующих
государственных форм как орудия эксплуатации. Киник — анархист.
Космополитизм в его понимании — это приобретенная внутренне
свободным киническим мудрецом возможность жить повсюду, не
3t
привязанным к месту, пренебрегая географическими,
государственными, сословными и расовыми барьерами, законами,
условностями, обычаями и т. п. Кинические скитальцы усиленно
подчеркивали свою независимость, свою безродность. «Посмотрите на
меня,— говорил Диоген.— У меня нет ни родины, ни собственности,
ни семьи. Только небо и земля». Но в этих словах заключено и
утверждение: меня нельзя назвать гражданином мира или тем
более отдельного полиса, но я частица, я гражданин всей
природы и вселенной (космоса) как воплощения ее высшей гармонии,
справедливости, разумности и порядка. Истинное государство —
в космосе (Диог. Л. VI, 72), а я его гражданин. Единство с
природой, жизнь в согласии с ее законами, в чем и заключается
счастье (Юлиан VI, 193), противопоставлялись киниками
«цивилизованному» варварству, исказившему первозданную устроенность
мира.
Итак, впервые в истории космополитизм возник на почве
идеологии рабов — «негреков» и других «неграждан» — в начальной
стадии разложения классического рабства. На первых порах эта
идея не была реакционной, охранительной, отразив
отрицательную реакцию низов на полисный партикуляризм и патриотизм,
на шовинистические убеждения эллинов в своей
исключительности, в том, что «варвары» самой природой предназначены им
в рабсцво (Аристотель), хотя среди последних находились такие
древние и цивилизованные народы, как египтяне, финикийцы,
персы, ассирийцы и пр. Позднее она была ассимилирована верно-
подданнически настроенными стоиками и стала играть
реакционную роль, оправдывая и освящая «империалистские»
устремления Македонии и Рима.
Идея космополитизма, утопическая по существу,
перекликается с другой, не менее утопичной идеей киников об автаркии
(самодостаточность, самодовольствование, независимость). Если
в официальной идеологии автаркия ассоциировалась с
государством, то в кинической этике подразумевался человек. Каким бы
вздорным, ирреальным и асоциальным ни казался тезис о том,
что ни один человек не должен нуждаться в услугах другого, все
же логически он вел к отказу от рабства как силы,
обеспечивающей существование сообщества свободных. Стремясь убедить своих
слушателей в противоестественности рабства, Диоген говорил:
«Разве тебе не известно, что природа дала каждому человеку тело,
приспособленное для того, чтобы полностью самому обслуживать
все потребности: ноги даны для того, чтобы ходить; руки — чтобы
ими работать и заботиться об остальных частях тела; глаза —
чтобы видеть; уши — чтобы слышать. Природа наделила человека
желудком, соответствующим его потребностям, и он, человек, не
нуждается в большем количестве пищи, чем может сам себе
добыть. Это количество и есть совершенно достаточное, лучшее и
самое здоровое» (Дион Хрис. X, 9 и ел.). «Не трудящийся да
не ест» — таков внутренний смысл многочисленных высказыва-
32
ний киников об автаркии (Диог. Л. VI, 6, 11, 104), которые
убедительно поддерживаются мыслями киников о труде и
упражнении.
В кинической автаркии нельзя видеть только простое
ограничение потребностей или отказ от материальных благ. Автаркия —
замаскированное требование свободы и равноправия для всех без
исключения, отказ от рабского труда и принципиальное
утверждение возможности жить без него.
Вообще, отношение киников к самому острому и больному
вопросу своего времени — свобода и рабство — отличалось
наибольшей революционностью. Именно в этом открыто проявились их
антирабовладельческие настроения. Интерес киников к проблеме
рабства диктовался их жизненной позицией, собственной судьбой,
личной заинтересованностью и не был для них вопросом
праздным, отвлеченным, чисто теоретическим. Исходя из антитезы
«природа —закон», киники провозгласили естественное равенство
всех людей без исключения, невзирая на их социальное
положение, национальность, расу. В древнем обществе, пропитанном
кастовым духом и множеством религиозных, сословных,
шовинистических и прочих условностей и регламентации, подобная
постановка вопроса уже сама по себе требовала коренной ломки
общественных устоев и психологических установок.
В своих выступлениях киники опровергали все общепринятые
критерии рабского состояния: послушание, подчинение, страх,
подверженность наказаниям, продажа в рабство, подневольный
труд, особое воспитание, пища, образ жизни, происхождение
и т. п. Наиболее развернутую и уничтожительную критику
рабовладельческого общества дал Антисфен в трактате «О свободе и
рабстве». Об этом можно судить по двум речам (14 и 15) Диона
Хрисостома, в которых он, по-видимому, использует названное
сочинение5. В них доказывается, что внешние признаки рабства
не имеют значения — ни послушание, ни побои (речь 14), ни
происхождение, ни прислужничество (речь 15), оспариваются
правовые основы рабства и сама его необходимость. Можно
предположить, что Аристотель, критикуя противников
естественно-правового обоснования рабства, имел в виду киников (Политика I,
2, 3). К. Иоэль имел поэтому полное право заметить, что «киники
являются первыми противниками рабства не только потому, что
они выпустили острые стрелы слов по этому институту, но
потому, что эта враждебность имеет у них принципиальную
глубину и практическую основу, постоянно поддерживаемые
внутренними и внешними побуждениями. Она, эта враждебность, была
не простой данью гуманности...» [222, с. 569].
Богатый материал для суждения о киническом отношении к
рабству дает рассказ о пленении Диогена и продаже его
богатому коринфянину Ксениаду, ставший темой сочинений Мениппа,
Евбула и др. (Диог. Л. VI, 29, 30). Киническим авторам
«Продажи Диогена» нужно было показать, что и раб —человек и что
2 Заказ JSI» 370
33
положение, в какое он попал волею судьбы, не делает еще из
него раба. Настоящим хозяином в доме Ксениада чувствовал себя
Диоген, который внешним смирением добился того, что его
приказам повиновалась вся семья, включая самого хозяина. Такая
демонстрация свободы пропагандистски для киников значила
больше, чем выкуп на волю, чем положение вольноотпущенника.
Диоген не только провозглашал свое умение «править людьми», но и
осуществлял его на деле, превратившись из слуги в господина
своего господина. Если у Платона рабы лишены добродетели,
то для киника все люди равны по природе и перед добродетелью.
Социальные критерии заменяются моральными, внешние —
внутренними. Такая мораль могла быть обращена только к низам.
У киников не было опирающихся на объективные
исторические условия и законы позитивных идеалов, но было бы
заблуждением утверждать, что их политические взгляды вообще
характеризуются одним отрицанием. Их разоблачительная критика
дополняется своеобразной позитивной программой, которая могла
являть собой лишь довольно зыбкую социальную утопию. Борясь
своими средствами с общественным злом, киники вынашивали
мечту о наиболее рациональном, с их точки зрения, устройстве
общества. Не их вина, что оно рисовалось им довольно смутно,
приобретая подчас сходство с существующими или уже давным-
давно отжившими формами человеческого общежительства, с
волшебной сказкой, легендой или обрывками кем-то высказанных
однажды идей. Но главным и принципиально новым в киниче-
ских утопиях было то, что базировались они не на эксплуатации
человека человеком, не на рабстве, как в большинстве
современных им проектов социального переустройства (Платон,
Аристотель и др.), а на обязательном для всех труде и самодеятельности,
на основе общности имущества, на отказе от социальных и
классовых барьеров. Это была одна из ранних, незрелых
коммунистических утопий со своими слабыми и сильными сторонами.
Каким же рисуется «светлое будущее» в кинических
источниках? Прежде всего следует обратить внимание на
фундаментальную мысль о преходящем, невечном характере государства —
мысль, вытекающую из существа субстанциональной кинической
антитезы «природа — закон». Идея исторической изменчивости
политических категорий подразумевает возможность эволюции или
полного революционного уничтожения существующих
государственных форм и структур.
На обозримом участке античности, со времен Гесиода
утвердились две основные концепции развития человечества — по
восходящей и нисходящей, по пути прогресса и по пути регресса.
В первом случае историческое развитие рассматривалось как
процесс постепенного улучшения и усложнения человеческой
жизни — от первобытного примитивизма, лишений и бедности к
цивилизации, порядку и достатку (Эсхил, Ксенофонт, Протагор,
Критий и др.). Во втором случае процесс развития связывался с
34
невосполнимыми утратами — в первобытном состоянии человек
жил свободной и счастливой жизнью, но впоследствии утратил
естественность, благоденствие и счастье (Антифонт, Дикеарх).
Теория цикличности (Платон, Аристотель, Полибий) занимала
промежуточное место.
Киники разделяли вторую концепцию, несущую в себе
критический заряд по отношению к действительности. Ведь
поборниками материального прогресса выступают нередко, как это ни
странно, представители самых реакционных слоев общества!
Киники не уповали на блага цивилизации. Современная им
культура и наука, образование прочно ассоциировались у них с
угнетением, и они теоретически отвергали их как порождения
неравенства. Будущее они искали в прошлом. Бедность и трудности,
в которых жили первобытные люди, не отпугивали их, а,
напротив, привлекали. В них они видели корень нравственной жизни.
Ненависть к рабовладельческой культуре, «антипрометеизм»
киников заставлял их помещать «золотой век» человечества в
далекое прошлое, в мифические времена Крона, когда не было ни
рабов, ни господ и человек жил, блаженно растворяясь в
природе. Но вразрез с мнением большинства, видевшего в этом
золотом веке общество праздности и дарового изобилия, постоянного
веселья и разгула, реки, текущие млеком и медом, киники
проецировали в прошлое свои в высшей степени скромные представления
о счастливой и справедливой жизни.
Они сокрушенно утверждали, что некогда «боги даровали
людям легкую жизнь, но в погоне за медовыми пряниками,
благовониями и тому подобным люди утратили ее» (Диог. Л. VI, 22).
Только из любви к людям Зевс наказал Прометея, так как
благодаря принесенному им огню они сделали первый роковой шаг
к изнеживающей и разлагающей роскоши. Таков парадоксальный
смысл сказания о «благодетеле человеческого рода» Прометее в
кинической интерпретации. А «легкая жизнь», дарованная
богами, была настолько простой и непритязательной, что люди сами,
без посторонней помощи, могли удовлетворять свои элементарные
потребности, ибо в основе их лежала бедность, а не богатство.
Идеализировалась не только далекая первобытная жизнь.
К ней приравнивался мир «варварских» племен и народов,
живущих где-то на краю земли или на островах праведной и
здоровой жизнью. Среди этих диких, но добродетельных номадов
первое место отводилось скифам, которых многие эллинские
писатели, переживавшие крах собственной цивилизации, всячески
идеализировали (Эфор и его продолжатели) не без кинического
влияния. Среди героев кинической литературы мы находим
имена «мудрых скифов» Анахарсиса и Токсарида. Идеализация
природной простоты заставляла киников иногда идти еще дальше и
доводила их до логического конца, когда они брали себе в пример
жизнь животных, которых Диоген называл своими младшими
братьями (Диог. Л. VI, 79).
2* 35
Если сумхмировать принцип автаркии, требование равной для
всех бедности, отрицание частной собственности и рабства,
а также признание труда благом и призывы к трудолюбию,
то становится предельно ясным, что здесь мы встретились с
принципиально новой социальной утопией, непохожей на другие
современные ей проекты: ни на идеальное государство Фалея Хал-
кедонского, Аристотеля или Платона с его подчеркнутой
кастовостью и классовой иерархией, ни на охранительную, по сути
дела, утопию Демокрита, ни на люмпен-пролетарские
потребительские мечтания Праксагоры, высмеянные Аристофаном, ни на его
собственную «крестьянскую» утопию, основанную на
незыблемости рабства (см. «Женщины в народном собрании» и
«Богатство»).
Поэтически обобщенную картину кинической утопии дает Кра-
тет в поэме, названной именем единственного достояния киника
«Пера» («Нищенская сума»). Вот сохранившийся отрывок:
Остров есть Пера среди виноцветного моря порока.
Дивен и тучен сей остров. Владений окрест не имеет.
Дурень набитый и трутень, как и развратник негодный,
Жадный до толстого зада, в пределы его не допущен.
Смоквы, чеснок и тимьян в изобильи тот остров рождает.
Граждане войн не ведут и не спорят по поводам жалким, 1
Денег и славы не ищут, оружьем к ним путь пробивая
! (Диог. Л. VI, 85) 6.
В кинических мечтах об идеальном общественном устройстве
как бы сплелись фольклорные легенды о «золотом веке»,
«блаженных островах», «дальних народах и землях» и некоторые
современные политические и философские теории, адаптированные
киниками («о естественном состоянии», «естественном праве»,
примате «природы», идеализация древних Афин и ликурговской
Спарты, древней Персии и др.). В свою очередь, утопические
идеи киников оказали влияние на других, особенно на стоиков.
Современники шутили, говоря, что Зенон написал свою
«Политик)» на «хвосте собаки», т. е. по диогеновскому образцу (Диог.
Л. VII, 4).
Во всех кинических спекуляциях главная роль отводится
личности мудреца-философа, который живет «не по законам
государства, а по законам добродетели» (Диог. Л. VI, 11). Только
он знает истинную ценность вещей и не боится критики (Диог.
Л. VI, 7; Эпиктет IV, 5), поэтому имеет естественное право
«управлять людьми» (Диог. Л. VI, 29). С этим же связано
убеждение, что «умом мужей ко благу государства управляются» (Диог.
Л. VI, 104). В этих словах, заставляющих вспомнить о Платоне,
нельзя не увидеть простую и справедливую мысль, что во главе
управления обществом должны стоять умные, талантливые и
знающие люди — философы, по терминологии древних. Пластично
предстают образы идеальных кинических правителей — Геракла,
36
который обходит весь мир, «карая несправедливых и жадных
тиранов», и персидского царя Кира Старшего.
Что касается Геракла, «борца и спасителя», то его
демократическая сущность как святого патрона киников не вызывает
сомнения. Сложнее обстоит дело с персидским царем Киром, так
как его идеализация может внушить ложные представления о
монархических или проперсидских симпатиях киников. Но у них
Кир выступает как абстрактный носитель качеств идеального
правителя, а не монархической «белой» идеи, а его персидское
происхождение — лишь форма остраннения и противопоставления
греческой действительности. Идеальный правитель, «царь», даже
в позднекиническом варианте,— прежде всего лучший из людей,
неподвластный пагубным страстям, самый мужественный и чело^
веколюбивый (Дион Хрис. IV, 24). Восхваляя Кира, киники
превозносят не монарха и монархию, а Человека в роли «великого
царя», сумевшего сохранить свои лучшие моральные качества,.
Идея «благодетеля», как справедливо замечает Хейстад,
является non-political и подразумевает euergetein tous philous, а не tën
polin («благодетельствовать друзей,а не государство») [216, с.79].
Помимо того Геракл и Кир несут в себе в эмбриональном
состоянии идею мессианизма, «спасительства», которого так жаж-
дала отчаявшаяся часть человечества. Вообще, идеальный вла-
ститель в понимании киников — не реальный монарх, правящий
народом, а индивид, осуществляющий власть прежде всего над
собой.
В «правильном», т. е. идеальном, государстве киников нет
места собственности, ибо «все принадлежит мудрецам» (Диог. Л.
VI, 11, 37). Даже денежные знаки, монеты следует заменить
игральными костями^бабками (Афиней IV, 158В, 159С). С
исчезновением денег и собственности в мире исчезнут зло и порок,
жажда наживы, обман, воровство и т. п. Исходя из отрицания
современной ему практики брачных отношений, Диоген выдвигал
требование общности жен и как следствие этого — общности
детей (Диог. Л. VI, 72). Несмотря на эпатирующую видимость
этого лозунга, здесь подразумевалась не вульгарная общность
женщин, не «свободная любовь», а заявка на свободу выбора
для обеих сторон, на обоюдную и равноправную любовь, столь
редкую в официальном браке. Здесь не могло быть и речи о
превращении женщины во всеобщий, доступный и послушный
инструмент для наслаждения. Это противоречило бы
принципиальному аскетизму киников, их отвращению к чувственности,
а также представлению о равенстве полов перед лицом
добродетели (Диог. Л. VI, 12).
Общность жен и детей была призвана устранить из жизни
киника многие неудобства, мешавшие его миссионерству,—
заботы по воспитанию, содержанию семьи, привязанности, но эта же
общность создала бы подлинное братство, единство и дружбу.
Все люди оказывались родственниками — братьями, сестрами, от-
37
цами, матерями и т. д. Разрушая семью и не закрепляя брачных
отношений, киники, с одной стороны, устраняли экономическую
основу угнетения, причины раздоров и преступлений. С другой
стороны, они пытались ввести на равных в общечеловеческую
семью рабов, реально лишенных права на брак, семью, личную
собственность. Конечно, все эти построения существовали лишь
в идеальной сфере гипотез.
Кинизм, как мы видели, своеобразно отрицает частную
собственность, провозглашает личную свободу для всех, «всеобщее
распространение бедности», общность жен и детей, идеализирует
«естественное состояние и право». Если к этим положениям
присовокупить едкую критику действительности и враждебность к
господствующей культуре, то получится система,
обнаруживающая поразительное типологическое сходство с примитивным
утопическим уравнительным коммунизмом, возникавшим в
критические для антагонистических формаций периоды под влиянием
резкого недовольства низов при неразвитой и маломощной
экономике, неспособной создать изобилие продуктов для всех.
У киников мы встретились с парадоксальным на первый взгляд
Комплексом идей, который, казалось бы, не вяжется с
представлением о развитом рабовладельческом обществе. Однако все эти
положения становятся понятными, если рассматривать кинизм
как антирабовладельческое движение, испытавшее на себе
влияние социальной психологии и идеологии рабов. Они отражают
стихийный протест рабов, мечтавших о возврате к первобытной
нерасчлененности общества или в мир свободных «варварских»
народов, к которым они когда-то принадлежали, о реставрации
«счастливой» полуживотной дикости. В общеисторическом плане
Эти идеи были утопическими и реакционными (за небольшим
исключением), но иными они быть не могли, так как у рабов
как класса не было будущего, но именно они усиливали
критический пафос кинизма, который в политическом смысле
представлял, прежде всего, первобытнообщинную реакцию на
усиление рабовладельческих тенденций, на ухудшение положения
разорявшейся в ходе Пелопоннесской войны свободной трудящейся
бедноты.
Киники хотели совершить невозможное — освободить людей от
оков государства, законов и от общества, в котором жили. Тем
самым они пытались как бы извлечь из оболочки исторически
возникших институтов и условностей подлинную человеческую
сущность, представить ее в незамутненной, природной
естественности. Эта естественность, абсурдно звавшая человечество
начинать все с нуля, напоминала обнаженность дикаря или
животного. Но «животное» это было невольно общественным, стадным и
наивно добрым, неиспорченным в духе «руссоистских» исканий,
готовым прийти на помощь (öphelein) ближнему в качестве
«врача», «воспитателя», «кормчего», «разведчика», «освободителя» или
«друга». «Дружба», по мнению киников, призвана заменить все
38
остальные формы человеческого общения. До понимания
человека как сгустка всяческих человеческих связей киники еще не
доросли.
Подвижнический индивидуализм киников был направлен не
на развитие человеческих потенций и выявление всех сторон
личности с ее потребностями, а на их ограничение. Киник ищет
выхода из своего внешнего бессилия в самом бессилии — во
внутренней свободе, в самоуглублении, в аскетической робинзонаде —
автаркии, в нигилизме, но терпит крах, потому что даже в его
аморфных представлениях о дискретном человеческом
сообществе, где каждый сам себе хозяин и руководствуется лишь
принципами кинической морали, возникают образы естественной
согласованности, субординации и целесообразности. Он ищет их и
находит в природе, в мире животных. Может быть, это «государство
пчел или муравьев» (Ксенофонт. Киропедия VI, 24; Платон.
Государство VII, 520В) или просто первобытное человеческое стадо
(Платон. Политик 267 С, 272А).
Киники безжалостно разделались с красивым мифом о
целостной и гармоничной человеческой личности. На смену
«прекрасному и благородному» герою высокой классики пришел человек,
познавший горечь жизненных невзгод, раздираемый сомнениями,
разочарованный во всех привычных ценностях, неуемный
правдоискатель, одинокий борец, вечно сражающийся с социальной
несправедливостью, соблазнами мира и с самим собой. Этот человек
со своим богатым и сложным, развитым и противоречивым
внутренним миром ближе и понятнее Новому времени, чем герои
Эсхила или Софокла. На первом плане у него не удовлетворение
физических потребностей, а духовность и добродетель, которые
рельефнее выступали на аскетическом фоне «честной бедности»,
чем в окружении богатства и славы. Но реальный жизненный фон
роскоши и нищеты, угнетения и рабства еще сильнее
подчеркивал абстрактность кинических представлений о человеке и его
свободе. Многое сближает кинизм с философией раннего
революционного христианства — ненависть к сытости и роскоши,
проповедь бедности и труда, иллюзии всеобщего братства, стихийные
примитивно-коммунистические мечтания.
Глава II
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» КИНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Старшему поколению киников (Антисфен, Диоген, Моним,
Кратет), жившему на переломе двух эпох, приходилось нелегко,
но и на долю киников новой генерации выпали не менее тяжкие
испытания. События, потрясшие мир во время короткой, но
головокружительной карьеры Александра (356—323 гг. до н. э.) и
после его смерти, когда в кровопролитных междоусобицах
наследников «властелина мира» решались судьбы народов и десятков
некогда цветущих и свободных полисов, прежде всего отразились
на положении трудового населения. Нищета, голод, смерть и
порабощение сопровождали рождение мировой империи молодого
Македонского владыки; казни, убийства, изгнания, опустошение
земель сопутствовали ее распаду и стояли у колыбели новых
эллинистических монархий. Произвол военщины, дворцовые интриги
и перевороты, обнищание и переселение больших людских масс,
смешение племен и народов, эмиграция, неуверенность в
завтрашнем дне вели к столкновению отдельных политических
группировок и классов, этнических и религиозных групп.
Непрекращающиеся тяжелые и опустошительные войны усиливали
экономические и политические кризисы в греческих полисах, углубляли
имущественную дифференциацию. Богатые становились богаче,
бедные — еще беднее; распространялось рабство, пагубно
сказываясь на всех сторонах жизни эллинистической эпохи. За счет
военнопленных росла численность рабов, положение которых
немногим отличалось от условий существования основной массы
производительного населения. Классовая борьба ужесточилась и
принимала новые формы, подстегиваемая возникновением новых
Центров на захваченных землях, народ которых не хотел
мириться с потерей свободы. Имущая верхушка жаждала денег, роскоши
и наслаждений, бедняки мечтали о скромном достатке и
справедливости. Торжество грубой силы, власть денег, бедствия народа
одних приводили в состояние апатии и уныния, заставляя искать
выхода в религии, других толкали на путь сервилизма, приспособ-
40
ленчества и устройства своей личной судьбы, третьих — на путь
бесплодной в конечном счете, но утверждавшей высокие идеалы
и цели борьбы.
Искусство, литература, философия этого времени, как и весь
эллинистический мир, представляли собой удивительно пеструю
картину, сочетавшую древнее и новое, эллинское и варварское,
западное и восточное, передовое и ретроградное, традиционное и
новаторское, верноподданническое и бунтарское,
натуралистически грубое и утонченно изысканное, экзотерическое и эсотерича-
ское, «реализм» и «романтизм», миниатюрное и монументальное,
просвещенный материализм и мистику, светлые утопии и
реакционнейшие учения и т. д. За этим длинным перечнем антитез
скрываются невыдуманные противоречия действительности,
атмосфера неустойчивости, распада старых полисных порядков, сцеп--
сиса, неверия в способность человека бороться с всесильной судь-
бой. Если «маленький человек» нередко пребывал в
растерянности, то настоящие «хозяева жизни» хорошо знали, чего хотели.
Укрепляя свою власть, цари стремились придать ей божественный
ореол, немало заимствуя в этой области из опыта восточных
деспотий. Они не гнушались никакими средствами — от мелких
интриг и политических убийств до идеологической обработки мрсс
и прямого подкупа творческой интеллигенции, создания
послушной придворной элиты. Меценатство, фаворитизм по отношению
к искусству и наукам стали составной частью большой политики
эллинистических монархов, являя «достойный» пример потомкам.
Культурные центры переместились из древних городов Эллады
в новые столицы — Александрию, Пергам, Антиохию, где
основывались государственные библиотеки и академии. Цари хорошо
платили «мастерам культуры», но и требовали от них
соответствующих песен. В этом отношении политика Птолемеев, Селевки-
дов, Атталидов, Антигонидов была одинаковой. В Александрии
в начале III в. до н. э. Птолемей II Филадельф рядом с царским
дворцом строит Музей и Библиотеку, во главе которых ставят
«своих людей» и с их помощью направляет и контролирует
деятельность писателей, ученых, художников. Зенодот Эфесский,
Аполлоний Родосский, Эратосфен, Аристарх, последовательно
сменявшие друг друга на посту директоров Библиотеки, были
одновременно воспитателями и наставниками царей. Если поначалу
главный библиотекарь должен был быть не только царедворцем,
но и крупным поэтом или ученым, то впоследствии эта должность
приобрела чисто политическое значение (Страбон XVII, 8, 793-^-
794). Благодаря заботам Птолемеев александрийцы, как отмечали
древние авторы, стали «учителями всех греков и варваров», когда
вся система образования пришла в упадок из-за постоянных
беспорядков и волнений, происходивших в эпоху диадохов (Афиней
IV, 184 в).
Основные памятники литературы начала эллинистической
эпохи (III в. до н. э.) говорят о резком снижении гражданственно^
41
сти, об утрате пафоса постижения мира, отходе их авторов от
глубин народной жизни и замене субстанциональных вопросов
бытовщиной, мелкотемьем, посредственным копанием в
психологии, эпигонством. Фольклорные мотивы, народные типы в
произведениях этого времени обычно появлялись в результате поисков
нового материала. Моментальные зарисовки эпизодов обыденной
жизни в мимах серьезных целей не преследовали, чуждаясь
обобщений и политики. Господствовавшая литература и философия
(стоицизм и эпикуреизм) уводили человека от его истинных
интересов в мир созерцательного индивидуализма и квиетизма,
звали к покорности судьбе и замыканию в сфере собственных
ощущений. Призывы к пассивному восприятию жизни сочетались с
ёполне активной поддержкой владык, с тонкой пропагандой
официальной политики. Безыдейность, прикрываемая утонченностью
формы, щеголяние книжной ученостью, эстетство, эротизм,
изысканная лесть, выискивание раритетов всякого рода — все это
характерно даже для самых талантливых придворных поэтов (Калли-
мах, Феокрит, Арат, Аполлоний Родосский и др.). Даже комедия
утратила свой былой критический запал и превратилась в
бытовую драму. Некогда полная политического пафоса и
полемического огня, элегия (Солон, Феогнид) теперь посвятила себя описанию
превратностей любви (Филет, Гермесианакт и др.)- При
деспотическом, военно-бюрократическом режиме эллинистических
монархий писателю требовались большое гражданское мужество,
самопожертвование, сознательный риск, преодолевающий «рабский»
страх, чтобы говорить правду и пользоваться не декларированной,
а подлинной парресией.
Обо всем этом приходится здесь напоминать, чтобы точнее
оценить место и значение кинической литературы, ее
общественный подвиг в так называемый александрийский период.
Демократическая литература киников — историческая реальность, кото*
рую нельзя выбросить из литературного процесса, из истории
общественной мысли античности, хотя она и нарушает стройность
любезной некоторым ученым концепции о едином потоке в
культуре древнего общества, которое неизвестно почему в таком
случае называется рабовладельческим. Более того, киническая и ки-
низирующая литература — значительное и недостаточно оцененное
явление в культурной жизни эллинизма, охватившее почти все
его основные центры.
Линия преемственности кинической философии не нарушалась
йа протяжении IV и III столетий до н. э. Диоген, ученик Антис-
фена, был свидетелем исторических катаклизмов эпохи
Александра Македонского, и смерть этих людей, если верить традиции,
падает на один и тот же, 323-й год. Кратет, ученик Диогена, в 335 г.
пережил вторжение полчищ Александра в свои родные Фивы,
когда «город был взят, разграблен и стерт с лица земли»
(Плутарх). Именно ему принадлежат безрадостные слова в ответ на
вопрос Александра, хочет ли он, чтобы его родной город был
42
восстановлен. «Зачем? — сказал Кратет.— Придет новый
Александр и снова разрушит его» (Диог. Л. VI, 93). Кратет, Метрокл,
Гиппархия, Менедем, Меншга, Бион, Керкид уже целиком
принадлежат эпохе эллинизма, но не порывают с пафосом раннего
кинизма, сохраняя его непримиримость ко всем мерзостям
рабовладельческого строя.
Всеобщий кризис, войны, бедственное положение масс
оттеснили на задний план противоречия между отдельными слоями
угнетенных и заставили их сильнее почувствовать общность ин*-
тересов, классовую солидарность. Семена кинического учения упа«-
ли на благодатную почву, взрыхленную несчастьями людей. Та$
возникла основа того, что к III в. до н. э. кинизм становится
наиболее радикальным общедемократическим учением, к
которому примыкают выходцы из различных, даже имущих,
классов. «Презрение к общепринятым стандартам цивилизо~
ванной жизни, критика общества, восхищение перед бедными
и угнетенными — идеи, которые киники первыми ввели в
греческую литературу, в эту эпоху стали лозунгами любого демократа«
который был против существующего строя и имел склонность к
сатире» [254, с. 1]. Киники не витали в облаках. Их
интересовали насущные вопросы: «Как жить? Что делать? Как относиться
к тому или иному человеку и событиям?» На все это они давали
ответы достаточно вразумительные, простые и внешне
практичные, чтобы привлечь тех, кто нуждался в нравственной опоре,
утешении или жаждал бороться. Многие из обездоленных,
конечно, обращались к религии, надеясь на приход спасителя, другие
бунтовали и ждали войска Клеомена, но по земле еще бродили
нищие мудрецы, готовые наставлять, обличать, морально утешить,
звать на борьбу. Эти философы хотели быть руководителями
народа, а не воспитателями наследников престола. Для этого они,
как Кратет, бросали свои дома, имущество и удобства оседлой
жизни и «шли в народ», неся ему слова кинической правды.
Не поступаясь главным — своими принципами,— киники эпохи
эллинизма несколько смягчили требования древнего этического
ригоризма, рассчитанные на постоянное самоотречение, нередко
превосходившие человеческие возможности. Сам по себе'аскетизм
мало привлекателен. Как отмечал В. И. Ленин, человеку нужен
идеал, но человеческий, соответствующий природе, а не
сверхъестественный. Эллинистический кратето-бионовский вариант
кинизма развил некоторые черты естественного гедонизма, имевшие^
ся и раньше в кинической доктрине (приятие элементарных «ра*
достей жизни» — лакомых кусочков, теплых лучей солнца, про*
хлады и т. п.), почему его и называют обычно «гедонистическим»,
Однако это название можно принять лишь условно, ибо в отшь
шении к удовольствиям не было принципиальных теоретических
расхождений между Антисфеном, грозившимся убить Афродиту,
и Кратетом, утверждавшим, что лучше надеть петлю на шею, чем
влюбиться.
43
С расширением социальной базы кинизма в него проникали
и нотки компромисса, призывы приспособляться, ставить паруса
по ветру (см., напр., у Муллаха, Кратет, фргм. 45 или диатрибы
Телета). Но кинизм не выродился в примиренчество, никогда он
не оправдывал мир насилия и несправедливости. Кинизм стал
кягче, более гуманным, снисходительным, он перестал воздвигать
«китайскую стену» между идеальным мудрецом типа Диогена и
рядовым тружеником — бедняком Микиллом или Симоном.
Достаточно было внушать ненависть беднякам к богатеям, рабам к
господам, но незачем было подчеркивать противоречия между
бедными и бедными, угнетенными и угнетенными. Филантропизм,
сделавший Кратета «открывателем всех дверей» (Plutarch, adul.
ab amico; Апулей. Флориды 22), добрым демоном простых людей
(Юлиан VI, 200 Ь), привлек к нему не только народ, но и
сочувствующих народу просвещенных и дальновидных
интеллигентов. В идеальном киническом мудреце потенциально заключалась
Также идея правителя — благодетеля человеческого рода,
народного лидера, которая могла привлечь такого демократического
политика, военного деятеля и законодателя, как Керкид. Киник —
народный вития, насмешник, уличный агитатор, подстрекатель в
толпе бунтовщиков, обличитель и врачеватель людских пороков —
становится также поэтом-трибуном, клеймящим позором богачей
и угнетателей, зовущим к свободе, защитником бедных.
Как связующее и переходное звено между древним кинизмом
и эллинистическим в известном смысле можно рассматривать
диалог «Эриксий [или О богатстве]», сохранившийся в корпусе
платоновских творений, но уже в древности относимый всеми к числу
подложных (Диог. Л. III, 62). Диалог написан, вероятно, в
сравнительно близкое к Платону время (III в. до н. э.) неизвестным
сократиком. Героем «Эриксия» и одновременно рассказчиком
является Сократ, сократической же является тема о связи
богатства с добродетелью, как и выяснение вопроса: богатство — добро
или зло? Как в стиле, так и в содержании автор диалога
стремился подражать Платону \ Но в осуждении богатства он пошел
дальше Сократа и Платона, не исключающих безоговорочно
богатство из числа благ (Законы 631С, 870В; Федр. 279С;
Эвтидем 279АВ) и не идеализировавших бедность (Гор-
гий 477В). Данное обстоятельство выводит нас за пределы
сократовского или платоновского круга и заставляет думать об
Антисфене и его последователях. Никто другой из сократиков (ни
мегарики, ни киренаики) не мог дать такой сокрушительной
критики богатства и представить богача средоточием одних пороков.
Осуждение богатства, как известно, одна из наиболее ходовых
тем кинических диатриб.
Сократ нередко фигурировал среди кинических героев, и его
более чем скромный образ жизни давал ему законное основание
произнести диатрибу против богатства. Обычно в диатрибе
теневая фигура фиктивного оппонента воплощает соображения и
44
представления среднего, рядового человека. В нашем диалоге
расхожее мнение о богатстве высказывают Эриксий (богатство —
благо — 395Е) и Эрасистрат. Эриксий замечает, что он не
сошел с ума, чтобы думать иначе (395Е), и наивно считает, что
быть богатым — значит просто иметь много денег (399Е). С Эрик-
сием и Эрасистратом полемизирует Сократ и терпеливо
разъясняет им свою (т. е. киническую) точку зрения.
Встреча с Эрасистратом, прибывшим из враждебных Сиракуз
и рассказавшим об одном из сицилийских послов, находившемся
в Афинах, дала повод Сократу начать разговор о сущности
богатства (зло оно или благо — 399D). Посол слыл среди
соотечественников и всех италиков самым богатым, ибо владел огромным
количеством земли, рабами, конями, золотом и деньгами (392D).
И насколько он был богат, настолько же зол и порочен. Так с
самого начала устанавливается обратная зависимость
нравственности от богатства и других материальных благ, намечается
обычная для киников перечеканка, пересмотр ходовых ценностей,
внешние блага объявляются adiaphoron, «безразличными».
Сократ разъясняет и доказывает на примерах, что богачу
легче совершить аморальные поступки и быть невоздержанным, чем
тому, у кого нет денег (396Е). Поэтому человеку выгоднее,
пожалуй, не быть богатым (397). Даже если человек делает добро
на свои деньги, то и в этом случае богатство не становится
праведным, так как для добрых дел приобретенное злом (а богатство
только так и добывается) не годится (404Е). Порок не может
быть полезен для добродетели (405).
Деньги по своей природе — слуги порока, ибо предназначены
«для удовлетворения нужд и желаний тела» (410Е). Трудно
доказать, что деньги (crëmata) полезны (chrësima — 405С), а
истинное богатство связано с пользой. Вообще, деньги — вещь условная;
то. что для одних представляет ценность, для других ничего не
значит (о разных видах денег у скифов, карфагенян, спартанцев —
399Е —400Е). Когда бы люди довольствовались малым,
обходясь самым необходимым (автаркия), или могли бы жить без
пищи и питья, то деньги вообще потеряли бы смысл (401Е). Чем
меньше желаний, тем лучше .(406)- Эта мысль перекликается со
словами Диогена о том, что ни в чем не нуждаться свойственно
богам (Диог. Л. VI, 105). Все богачи — игрушки в руках
необузданных страстей, игроки, пьяницы, обжоры (405Е). Богатство
рождает желания и дает возможность их удовлетворения, поэтому
самые богатые одновременно и самые порочные (406В). Иначе
говоря, богатство безнравственно по своей природе и не может
быть целью жизни. К такому выводу подводит читателя автор
диалога. Истинное же богатство и счастье людей заключается в
мудрости (395В), которая и есть самое ценное имущество (394).
Эта мысль, высказанная однажды Сократом (Платон. Федр 297С),
постоянно варьируется как киниками, так и стоиками (Cic.
Acad. Рг. II, 136).
45
Кинический радикализм всех рассуждений о богатстве (psogos
ployt.oy) соединяется в «Эриксии» с другими типичными для
киников идеями и даже фразеологией: осуждаются удовольствия и
страсти (405Е), бесцельность молитв (398Е — 399). В качестве
положительного примера появляются скифы с их презрением к
богатству (400Е), мудрые кормчие и врачи (394Е), строители
(403Е). В киническом же духе шутка Сократа с собственным
именем (395С) или же его заявление, что легче сварить камень,
чем убедить Крития, участвовавшего в беседе.
Ученые обнаруживают в «Эриксии» влияние Платона,
софистов, стоиков, скептиков, но все же вынуждены признать, что
основная тенденция, связанная с темой диалога (Peri ploytoy —
О богатстве),—киническая [93, с. 86, 87]. Это ли не
свидетельство широкой популярности кинических идей?
Официальная литература верой и правдой служит своим
хозяевам, оппозиционная — черпает свое вдохновение в народе и,
как может, помогает ему. Народное творчество, народные формы
поэзии и драмы, насколько мы можем судить, не только
развлекали, но и несли с собой взрывчатый заряд насмешки над богачами
и властями, противопоставляя им добродетели бедняков.
Недовольство существующими порядками, неприязнь к власть имущим
выплескивались наружу в непритязательных, нередко
третируемых низовых жанрах — магодии, мимах, ионикологии-кинедологии,
народных песнях, анекдотах, апофтегмах, афоризмах,
пословицах и поговорках, в оракулах сивилл, а также в орфических
гимнах, в эсхатологических пророчествах2 и т. п.
Поначалу киники использовали для пропаганды своих
взглядов уже существовавшие литературные формы, постепенно их
приспосабливая и трансформируя. Когда же рамки старых
жанров стали тесными, они легко разделывались с ними, высмеивая
их в своих сатирах и пародиях, и находили новые формы,
наиболее точно соответствующие их столь необычной для своего
времени философии.
Однако подлинным открытием явились не пародии, не
сравнительно мелкие жанры (басни, хрии, апофтегмы), часто игравшие
служебную роль, не адаптация старых форм, а создание новых,
ориентированных на социальные низы, для которых улица
играла роль и школы и дома. Эти открытия основателей кинизма
получили свое логическое завершение в эпоху эллинизма, когда
киническая философия завоевала себе еще большую популярность,
несколько смягчив первоначальный сектантский ригоризм. В
новых жанрах нашли отражение эти сдвиги в учении киников.
Такими новыми формами стали диатриба и мениппова
сатира.
В конце прошлого века благодаря трудам Виламовица-Мёл-
лендорфа, Узенера, Вендланда в научный обиход вошло понятие
диатрибы, впервые связанной с именем киника Биона Борисфе-
нита (Диог. Л. И, 77). Но не прошло и десятка лет, как вокруг
46
концепции диатрибы и самого термина возникли дискуссии, ибо
приметы диатрибы стали находить у слишком большого числа
древних авторов (и не только кинико-стоического круга), а сами
границы жанра казались размытыми, так как всякое
непринужденное рассуждение на популярно^философскую моральную тему
представлялось диатрибой, будь его автором Филон, Сенека или
Плутарх3. Между тем у диатрибы есть своя излюбленная топика
и стилистика, которые при всей емкости, синтетичности и
вариативности жанра невозможно игнорировать. Границы диатрибы и в
самом деле эластичны, модификации ее разнообразны, но они
все же существуют и легко уловимы у Биона и Телета, у Эпик-
тета и Мусония Руфа вплоть до Григория Назианзина. Несмотря
на все сомнения, диатриба с ее вполне четкими различительными
признаками объективно существовала и развивалась, мощно влияя
на родственные жанры (диалог, сатира, литературное письмо
и др.). Именно поэтому современная наука не отбрасывает
понятия диатрибы как устаревшее или не подтвержденное фактами.
С термином «диатриба» мы встретимся в новейших курсах
истории древнегреческой литературы (А. Леши [231 а]), и в
авторитетных справочных изданиях (Der kleine Pauly. Bd 2, 1967), и в
специальных статьях (свою публикацию папирусных фрагментов
кинического содержания В. Мартен назвал «Сборник кинических
диатриб» [499]).
Диатриба впитала в себя все наиболее характерные для
кинического стиля черты, специфические приемы изобразительности и
идеи, уже встречавшиеся раньше, но перевоплотившиеся в новое
качество. В диатрибе растворились и диалог, и хрия, и
воспоминания, и послания, гномология и басня, мифологические
реминисценции, серьезное и смешное, сатира и юмор. Обычно как
сложившийся жанр диатрибу связывают с именем Биона (первая
половина III в. до н.э.), который первый, по словам Эратосфена,
нарядил философию в пестрое платье гетеры (Диог. Л. IV, 52).
Но начало ее следует искать еще раньше — в устных
выступлениях софистов, философов из окружения Сократа, в среде
древних киников, ее нельзя отделить от имен Антисфена и Диогена
(Афиней IX, 508с). Стобей трижды ссылается на «диатрибы
Диогена». Хотя памятников подлинной кинической диатрибы
сохранилось не так уж много (Бион, Телет) 4, однако вместе с
творчеством эллинистическо-римских подражателей они дают
достаточное представление о жанре.
Первоначально термин diatribe обозначал беседу, разговор на
философскую тему, своеобразную устную проповедь. Сократ
заявлял, что его осудили афиняне, не переносившие его
выступлений и бесед (tas emas diatribas), его правдивых речей (Платон.
Апология 37С). Гермоген определяет диатрибу как «этическое
изложение некоего краткого сюжета или темы» (Rhetores Graeci.
Vol. Ill, 406). С формальной стороны диатриба — речь или
проповедь, с которой философ обращается к аудитории, прозаический
47
монолог, где ведется внутренняя дискуссия с воображаемым
противником или обмен репликами с таким же подразумеваемым
собеседником, речь которого обычно вводится словечком phësi
(«а он говорит»).
Можно сказать, что известный по сократическим диалогам
Платона прием «воображаемого критика», встречающийся,
например, в «Гиппии Большем», «Горгии», «Пире», «Критоне»,
развился в «фиктивного оппонента» кинико-стоической
диатрибы. Этот воображаемый идейный противник, часто
обозначаемый неопределенным местоимением tis, является
персонифицированным обобщением распространенных, общепринятых
взглядов, ложных и предвзятых мнений, которые подвергаются
сомнению, оспариваются и опровергаются в процессе рассуждений
{так построены, например, многие диатрибы-речи Диона Хрисо-
стома). Эта непрекращающаяся полемика с несовершенством
мира рождает диалог в скрытой форме5. Автор диатрибы сам
ставит вопросы и сам на них отвечает, что-то опровергая, с чем-то
соглашаясь. Такое построение, часто основанное на свободных
ассоциациях, имитирует устную речь, дебаты, придает диатрибе
безыскусственность, живость, динамизм, даже драматичность.
В диатрибе автор, часто не без иронии и насмешки, обращается
прямо к слушателю или читателю (апострофа), к самому себе,
к фиктивному оппоненту со словами-формулами,
встречающимися и в традиционном диалоге: «смотри», «разве ты не видишь?»,
«не знаешь ли ты...», «не понимаешь, что...», «несчастный,
бедняжка...» и т. п. Постоянный контакт с аудиторией, стремление
даже внешними средствами поддержать интерес к теме беседы,
непосредственное воздействие на эмоции, а не только на разум и
логику — характернейшая черта диатрибы. Диатриба всегда
полемична, одно отвергая, другое защищая и утверждая. Новая истина
противопоставляется старой лжи, необычное — общепринятому,
банальному, обветшавшим ценностям — свежий взгляд на мир.
Вокруг этих фундаментальных кинических антитез организована
вся бинарная структура диатрибы. Здесь как бы действует
принцип перевертыша, парадокса в его истинном значении, когда
изменяется смысл привычных слов и представлений: то, что обычно
воспринимается как зло, предстает добром, безобразное —
прекрасным, ум — глупостью, образованность — невежеством, власть —
подчинением, бедность — богатством, наслаждение —
неудовольствием, добродетель — пороком, друзья — врагами, царь и
господин — рабом (и наоборот) и т. д.
Диатрибист охотно поручает выступить с прямой речью
какому-нибудь неодушевленному предмету или отвлеченному
понятию: «если бы бронза вдруг заговорила...» (Диог. Л. VI, 9), а
также «если бы слово взяла Бедность (или Изгнание, Старость,
Обстоятельства и т.д.)». Этот прием персонификации,
олицетворения (prosöpopoiia), не новый для греческой философской
литературы и уже использованный софистами, Сократом, Платоном,
48
а также Аристофаном и другими, для киников, особенно
склонных к вещественной наглядности, к конкретному и образному
мышлению, крайне характерен.
Желая создать впечатление естественности, непринужденной
интонации, сиюминутности, импровизации, необработанности,
порывая с литературщиной, штампами и изысканной периодической
речью, автор диатриб тем не менее сознательно использует
испытанные приемы античной риторики (в частности, горгиевы
фигуры), ловко прикрывая их точеные линии неприхотливой и якобы
небрежной одеждой повседневного разговора. Влияние
риторической теории сказывается также в продуманности композиции^
структуре фраз, многочисленных антитезах, в настойчивом
повторении вопросов, анафорах и эпифорах, гомеотелевтонах,
аллитерациях, асиндетонах или, наоборот, в обилии союзов и т. п.
Вообще диатриба, эта «народная речь», имеющая своим
объектом массы, пользуется всем известным в то время арсеналом
выразительных средств. Щедро включаются в текст цитаты иэ
популярных поэтов — Гомера, Евритгида, Аристофана, Евполида,
Пиндара, Феогнида и др., часто используется фольклор — мифы,
сказания, легенды, притчи, басни, анекдоты, поговорки, меткие
слова, гномы, афоризмы,— к которому у киников особое, легко
объяснимое пристрастие. Диатрибист любит сослаться на
исторический пример, припомнить к месту знаменитые имена Одиссея,.
Геракла, Тантала, Мидаса, Креза, Сарданапала, Ксеркса, «семи
мудрецов», Сократа, Диогена, ставшие нарицательными. Эта
«обойма» героев и антигероев типична для всей кинической
литературы. Ссылки на конкретные примеры и имена служат для того>
чтобы привести слушателя от частного к общим
запрограммированным выводам.
Диатриба пестрит смелыми метафорами, образными
выражениями, гиперболами и сравнениями, легко запоминающимися^
близкими кругу представлений простого народа. Сравнения
обычно черпаются из явлений обиходного, бытового плана: сравнение
тела с домом, души — с горшком, жизни — с пиршеством, театром,
людей — с листьями, пузырями на воде, пчелиным роем,
муравьями, сравнения морские и военные, родственные воинствующему,
бойцовскому духу киника. Диатриба насыщена остротами,
шутками, игрой слов, прикрывающими серьезные цели. Язык ее
предельно прост, черпает свою силу в живой народной речи, не
гнушается «крепкими словечками» и вульгаризмами (на народность
языка указывает, между прочим, частое употребление
уменьшительных типа paidion, graidion, sömation и пр.), предложения
краткие и энергичные, нередко эллиптические. Напряженность
стиля подогревается обилием суперлативов. Внешней простоте
диатрибы не противоречит наличие в ней подтекста, аллегорий,
аллюзий, двусмысленностей, амфиболии, рассчитанных, так
сказать, на подготовленного слушателя. Все указанные черты,
вместе взятые, создают взволнованный, аффектированный «нату-
4&
ральный» стиль диатрибы, ее наступательно-дидактический
тон, сатирический пафос.
Вот перевод небольшого, но характерного отрывка, дающего
представление о диатрибическом стиле:
...Если бы, — говорит Бион, — слово взяли Заботы и заговорили
по-нашему, как на суде, неужели они не стали бы оправдываться, словно раб
перед лицом господина: «Чего это ты нас все бранишь? Разве мы что-ни-
•будь у тебя украли? Разве мы не делаем все, что ты ни прикажешь? Разве
мы не приносим тебе оброк, как положено?» А Бедность, пожалуй, ответит
-обвинителю: «Зачем ты меня все коришь? Разве ты лишился из-за меня
чего-нибудь хорошего? Может быть, благоразумия? Или справедливости?
Мужества? Разве у тебя нет всего необходимого? Неужели вокруг мало
растений, а в источниках иссякла вода? Неужели везде, где распростерлась
земля, для тебя не найдется местечка? Чем худо ложе из листьев?
Неужели нельзя быть счастливым со мной? Не приходилось ли тебе наблюдать,
как старушки что-то довольно мурлычут себе под нос, угощаясь
ячменными лепешками? Разве и ты не можешь утолить голод пищей дешевой и
скромной?..»
...Если бы так заговорила Бедность, что бы ты мог возразить? Что
касается меня, то, кажется, я бы онемел. Но все мы склонны обвинять кого
я что угодно — любого встречного, день, час, место, старость, бедность, —
но только не собственное своенравие и безумие. Вот почему Диоген
утверждает, что слышал голос порока, обвинявший самого себя: «Что нам кого-
то винить? Мы сами во всем виноваты» [107, с. 3 и ел.] 6.
Еще один пример — отрывок из сборника кинических диатриб
более позднего времени в опубликованном В. Мартеном
Женевском папирусе № 271 середины II в. н.э. (колонки XIII—XIV):
...Разве это не значит иметь мозги набекрень?! Восхищаться
великолепием театров и не почитать красоту светил. Ведь в театре, хоть и
разукрашенном, нет души, а небо полно богами. Созерцайте же солнце, дарующее
жизнь. Пусть вся эта красота не ускользнет от вас. Наблюдайте также за
бегом светил.
Вам говорят, что согласны с вами,— не спорьте. Вам говорят:
«Совершенствуйтесь, не грешите. Закон угрожает. Берегитесь наказания.
Стремитесь к награде за добродетель и только в этом старайтесь одержать
победу!»
Львы не оскверняют себя убийством львов, волки не дают яда волкам,
кони не замышляют заговоров против других коней, а слоны не
захватывают крепостей, чтобы их сровнять с землей. Звери, живя вместе с нами,
становятся ручными, а люди, общаясь друг с другом, становятся дикими.
Братья убивают братьев из мести, отцы подсыпают отраву детям,
законные сыновья рубят головы своим родителям, а жены предают мужей,
и мужья, не остыв еще от любовных ласк, тайно убивают своих жен. Столь
же распутные, сколь и нечестивые, они заставляют подозревать в
преступлениях невинных подобно тому, как бесчестный человек делает вид, что
поступает по справедливости. Со всем этим не встретишься у неразумных
животных. Слоны не сребролюбивы, львы не копят сокровищ, быки не
лакомятся пирожными и медовыми пряниками, не наряжаются в
милетские ткани. У них нет народных костюмов; они не нуждаются в помощи,
чтобы нести свой груз. Они не способны пасть так низко, чтобы по
примеру людей делать себе подобных своими рабами.
Одни из них живут в норах, другие — в пещерах, третьи — в чащобах,
четвертые — на равнинах, пятые — в воде, некоторые — в воздухе. Имея
свое определенное место, никто не живет в чужой среде. Когда
появляется необходимсть, они обрастают густым мехом и не страдают ни от холо-
50
да, ни от мороза. У некоторых есть для защиты панцирь. Для них
раскинулись, утоляя голод и жажду, пастбища в горах и долинах, обильные
источники и озера. Именно потому они живут, не злоумышляя друг против
друга, не совершая убийств, если только их не принуждает к тому
человек.
С другой стороны, человек, существо по природе мирное, ведет себя
как свирепый зверь. Он поднимает меч против своих отцов, матерей, детей,
братьев, друзей, сограждан, против одиночек и против толпы, против
невинных животных и против иноплеменников.
Насытьтесь, наконец, несправедливостью, чтобы я мог обуздать свой
смех или перенес бы его на поэтов. Ведь я их ненавижу — всех этих
гомеров, гесиодов, архилохов. Гомер призывает Музу воспеть ему гнев Ахилла*
будто богам интересно прославлять человеческие страсти. Он не
постыдился просить деву за наложницу. Мое целомудрие постыдилось бы этого,
превосходя целомудрие Гомера. Он любил женщин и в согласии с тем, что-
сам испытал, разукрасил героев своих поэм поэтическим вымыслом,
который в действительности не украсил их, а обезобразил. Из-за женщины
убил он Аякса, из-за той же самой Кассандры он заставил убить
Агамемнона в его собственном доме, а на Итаке — юношей из-за Пенелопы,,
в Илионе — из-за Елены. Всегда женщины — причина его надругательств
над Элладой, а она восхищается его выдумками. Его «Илиада» и
«Одиссея», две великие поэмы, посвящены страстям двух женщин — одной,
которая была увезена силой, другой, которая хотела бы этого. Та, которую
похитили, кажется, нашла своего героя, другая же, если бы ее герой не*
должен был вот-вот возвратиться, в течение всех десяти лет была готова
стать чьей-нибудь женой.
Тот, кто не очень хочет, быстро отказывается от задуманного.
Отсрочка — всегда плод нерешительности. Десять лет Одиссей сражался под
Троей, и столько же примерно времени он наслаждался близостью с
женщинами в «Одиссее». У Калипсо проводит семь лет, у Кирки — один год.
Наконец, когда он пресытился, его потянуло к Пенелопе. Арета была,
конечно, мудрее его; он и у нее оставался. Я не считаю, что у Одиссея есть
какая-нибудь другая мудрость, кроме того, что он любитель поесть и
приударить за женщинами. Во время своих странствий он не столько действует,
сколько претерпевает. Во всех этих пакостях виновен, без сомнения,
больше всего Гомер. Ведь это он сам и обманщик Одиссей и пожиратель народов
Агамемнон [499, с. 77 и ел.].
В этом фрагменте, впервые переведенном мною на русский
язык и представляющем собой неизвестное до последнего време-
ни продолжение 7-го письма псевдо-Гераклита [65, с. 283], есть
все, что характерно для идейного круга кинико-стоической
диатрибы: поношение пороков и страстей, порабощающих человека,
призыв вернуться на лоно природы, животные в качестве
образцов для подражания, нападки на поэзию за безнравственность.
И все в диатрибическом стиле: короткие, напряженные фразы,,
паратаксис преобладает, настойчивые вопросы, прямые обращения
к слушателям и т. п. Только кинический автор этой сравнительно
поздней диатрибы несколько перехлестывает в своих требованиях
литературной нравственности и даже нападает на самого Гомера,
перед которым преклонялись киники прошлого. Правда, эта
неожиданная критика может быть связана со стремлением автора
подделаться под взгляды Гераклита, который и в других
фрагментах осуждает поэтов 7. Этим обстоятельством, между прочим,
можно объяснить и некоторые другие идеи диатрибы, не укла-
51
дывающиеся в кинические рамки,— например почитание солнца
как животворного огня.
В отрывке другой диатрибы, сохраненном новонайденным
папирусом, противопоставлен индийский аскет — гимнософист
Дандамис, смелый и независимый обличитель, по существу, ки-
нический «мудрец» — владыке мира Александру Великому. Уже
известный по другим источникам выигрышный мотив для
прославления простой, близкой к природе жизни, для утверждения
равенства всех людей перед высшими законами естества и для
критики разлагающей силы богатства и властолюбия.
Под стать патетическому, пестрому, в известной степени
экзотическому стилю диатрибы и ее топика — здесь излюбленные
киниками рассуждения о превосходстве бедности над богатством,
о глупости стяжателей, о тщете распространенных человеческих
желаний, о наслаждении, о роскоши, об умеренности и скупости,
о счастье, о качествах идеального философа, о жизни и смерти,
автаркии, апатии, о безразличии к наказаниям (изгнанию, в
частности), о бесполезности атлетики, музыкантов, обличение
всевозможных пороков и т. п. Эти темы, характерные для популярной
моралистики, исподволь способствующие гуманизации
общества, в кинической диатрибе приобретали новое, зачастую
неожиданное звучание, наполнялись новым классовым содержанием,
необычным для рабовладельческих установок. Киники умели
задеть чувства масс, пробудить их самосознание. Причина тут не
только в остроте и парадоксальности тем, но и в новизне формы.
Эратосфен заметил, что «Бион первым облек философию в
пестрые одежды» (Страбон I, 2, 2; ср. Диог. Л. VI, 52). В этих словах
и тонкий намек на происхождение Биона, чья мать была гетерой
(они носили вызывающе пестрые платья), и указание на
разнообразие формальных приемов диатрибы, на язык улицы, а также
и более глубокая мысль о том, что бионовская диатриба сделала
моральную философию общедоступной, при этом несколько
вульгаризировав ее.
Киническая диатриба оказала значительное влияние на
современную ей и последующую литературу. Трудно назвать писателя,
в той или иной мере сочувствовавшего кинико-стоическим
взглядам и не испытавшего на себе ее воздействия. Зенон, Хрисипп,
Дион из Прусы, Филон, Эпиктет, Мусоний Руф, Сенека, Плутарх,
Лукиан тому свидетельство. Влияние диатрибического жанра
сказалось и на творчестве римских сатириков — Луцилия,
Горация, Персия, Ювенала; даже Лукреций и Цицерон (Парадоксы)
не избежали его. Опыт диатрибы широко использовали
христианские писатели и проповедники в своих гомилиях (ап. Павел,
Григорий Назианзин, Иоанн Хрисостом, бл. Августин и др.) 8.
Другим значительным жанром, созданным киниками в
эллинистическую эпоху, стала мениппова сатира. Сатира,
названная по имени ее создателя, выдающегося киника середины
Ш) в), до н. э. Мениппа из Гадар, как и диатриба, зиждется на
52
общих принципах кинической литературы: народность, связь с
фольклором, доступность, «серьезно-смешное», оригинальность*
остроумие и занимательность, дидактичность и актуальность. Она
также подчинена пропаганде кинических идей, несколько
смягченных и более поверхностных по сравнению с первоначальным
плебейским ригоризмом и решительностью.
Внешние отличительные черты жанра менипповой сатиры —
драматизм, вольный, напряженный и причудливый вымысел,
•фантастичность, свободное перемещение в пространстве, смесь
прозы и стихов, делающая произведение, по словам Лукиана,
похожим на кентавра (Дважды обвиненный 33). Сатира Менип-
па — прежде всего драматизированный рассказ на кинический
-сюжет, театрализованная зарисовка, сценка, родственная миму,
сатировской драме, феерической древней комедии. Здесь мы
встречаемся с той же стилистикой, языком и изобразительными
средствами, что и в диатрибе. Действующими лицами этих
своеобразных гротескных сатирических «скетчей» выступают
знакомые кинические герои — Геракл, Одиссей, Диоген, Кратет.
Действие свободно и контрастно переносится с небес на землю, с
Олимпа в Аид, на море, в преисподнюю и даже в неведомые
страны9. Здесь нашла себе полный простор фантазия, chrësis
phantasiön, силу которой еще Антисфен открыл Диогену (Эпик-
тет. Беседы III, 24, 69).. Мифологические ситуации снижаются
бытовыми деталями. Любую сатиру Мениппа пронизывает
насмешка над людскими предрассудками, суевериями, ложными
мнениями, враждебными философскими школами.
Философичность — неотъемлемая черта «мениппеи». Самые невероятные
приключения героев, необузданная фантазия и смелые вымыслы
авторов менипповских сатир, сочетавших реальное и
сверхъестественное, историческое и легендарное, подчинены внутренней
логике и преследуют идейно-дидактическую цель: создать
исключительную ситуацию для доказательства жизненности
какого-либо необычного тезиса кинической философии. Так, например,
мотив нисхождения в Аид (некюйа) давал возможность
произвести фронтальную переоценку ценностей, показать, что смерть
уравнивает всех, развернуть тему «утраченных иллюзий». Здесь,
в царстве мертвых, теряют всякое значение богатство, знатность,
власть, слава, красота и т. п. Каждый предстоит перед миром
нагим, каким он вошел в жизнь.
В менипповой сатире приключения происходят не столько с
героями, сколько с философскими тезисами и идеями.
Необычность ситуации — это искусственно созданные и специально
заданные экспериментатором-философом подчас экстремальные
условия в его мыслительной лаборатории. Поэтому причудливая
и полуфантастическая пестрота образного мира «мениппеи» —
лишь символ парадоксальности человеческой жизни.
Экстравагантность ситуации — острый прием для решения таких реальных
социально-политических, этических н философских проблем, ко-
53
торые на земле решаются не так просто. Фантастичность менип-
повой сатиры превращалась в средство радикальной социальной
критики, выработки новых нравственных критериев, в утопию,
становилась «эзоповским языком» неприятия мира. В самом
сочетании фантастичности, аллегоризма и натурализма было нечто
изысканное, смелое, новаторское, что в наши дни привлекает нас,,
например, в театре Брехта.
Бурлескная форма менипповой сатиры удивительно созвучна
насмешливому киническому духу, близка традиционному
народному творчеству [215, с. 401 и ел.]. Народность ее заключалась
не только в содержании, отражавшем демократическое
мировосприятие, но и в демократичности языка, стихии смеха, в том, что
весь мир строился на опыте фольклора, включая разнообразие
метрических форм, смесь стихов и прозы.
Стихотворные строки из любимых киниками поэтов не
воспринимаются как иллюстративные цитаты, они органически
вплетаются в ткань сатиры и служат динамическому развитию
сюжета (см., например, начало «Зевса трагического» Лукиана).
Часто эти стихотворные куски соответствуют оригиналу, иногда
они приводятся по памяти с ошибками, подчас пародируют
общеизвестные стихи, иной раз переделываются в центоны,
сознательно искажаются, «исправляются» (epanorthôsis), а порой создают«
ся совершенно новые строки.
Цитировать любили не только киники, но и вообще весь
эпигонствующий эллинизм. В известном смысле это была болезнь века.
Со времен софистов включение поэтических цитат в прозаический
текст уже не поражало оригинальностью и даже получило
широкое распространение. Но строгие стилисты вроде Платона
считали любое нарушение цельности жанра недопустимым (Протагор
347 СЕ). Киники с такого рода условностями, конечно, не
считались и, более того, сознательно их нарушали. Любовь к
поэтическому слову иногда перерастала у них даже в цитатоманию.
И не случайно именно киники стали создателями своеобразной
«барочной» прозопоэзы, разбивавшей привычные представления
греков о чистоте и единстве стиля, но пришедшейся по вкусу
низам. А в средние века такое смешение поэзии и прозы уже
считалось обязательным признаком возвышенного стиля и получило
название prosimetrum.
Сатира Мениппа, классика жанра, производила неизгладимое
впечатление на всех, кому приходилось с ней познакомиться,
о чем свидетельствуют многочисленные подражания.
Художественные находки Мениппа использовали многие известные античные
писатели: первый составитель эпиграмматической антологии
Мелеагр (Диог. Л. VI, 99), Эномай, Филон, Эпиктет, особенно
Варрон Реатинский в своих Saturae Menippeae 10, Гораций,
Сенека, Петроний, Юлиан, Боэций, некоторые византийские авторы
и др. Нельзя отрицать значительность влияния Мениппа на
формирование сатирического творчества Лукиана, который, как он
54
сам говорит, «откопал» его (Дважды обвиненный 33) и взял в
товарищи своих насмешек (Рыбак 26). Это влияние простирается
до Рабле и раблезианцев, в самом конце XVI в. появится «Менип-
пова сатира о достоинстве испанского католикона». Некоторые
принципы менипповой сатиры угадываются и в современной
литературе и.
Впитав в себя опыт фольклорных жанров, киническая
литература составляла с фольклором единый поэтический фронт. Ко
времени эллинизма сложились действенные принципы кинической
литературы (kynikos tropos), основы которых были заложены в
устных выступлениях и письменном наследии Антисфена,
Диогена, Кратета и развиты последующими поколениями, ибо почти
все киники были причастны к литературе. В обстановке
политической апатии и подобострастного воспевания царей киники
сумели сохранить независимость мысли и критическое отношение к
действительности. Иногда киники, например Кратет, называли
свои произведения «шутками», «забавами» (paignia). Но это было
«заблуждение, маскировка, а возможно, и поза, ибо под словом
paignia скрывалась сатира на социальные или моральные
уродства, а литература для киника никогда не выливалась в забаву или
праздное времяпрепровождение. Случилось так, что в литературе
конца IV—III в. до н. э. киники проявили себя прежде всего как
поэты. Несмотря на фрагментарность, киническая поэзия этого
времени известна все же лучше, чем диатриба или эпистоло-
графия.
Обзор кинической литературы эпохи эллинизма следует
начинать с творчества Кратета Фиванского, одной из крупнейших и
самобытных фигур кинизма, и его ученика Биона Борисфенита,
живших на переломе двух эпох.
Кратет из Фив, чей расцвет падает на 113-ю Олимпиаду
(328—325 гг. до н. э.), умер уже глубоким стариком в конце
первой четверти III в. С уродливой внешностью, мягкий и
деликатный, он обладал сильным характером и умением привлекать к себе
сердца людей, хотя и откровенно преподносил им горькие истины.
Кратет был художественно одарен: видному теоретику риторики
и литературы, известному под именем Деметрия Фалерского, он
уже представлялся образцовым киническим поэтом. Отмечая, что
для всего кинического стиля характерно смешение серьезного
(demotes) и шутки (paideia), Деметрий приводит в качестве
примера отрывок из поэмы Кратета «Пера» (Demetr. de elocutione 259,
318, 3). В античности эта поэма очень ценилась, ибо спустя много
веков ее цитировали Диоген Лаэртский, Климент
Александрийский, Апулей, который, приведя ее начальные стихи, восхищенно
уверял читателя, что и все дальнейшее не менее великолепно
(Апология 22).
Стихи Кратета, как и вся киническая поэзия, сохранились
плохо — приходится оперировать только фрагментами. Здесь,
видно, потрудилось не столько время, сколько придирчивый отбор
55
классово враждебной «цензуры». Вольнодумные, ядовитые стихи
кинических поэтов распространялись главным образом устно и.
переписывались мало.
В наше время можно подчас услышать рассуждения о
безразличии формы стиха к содержанию. И в самом деле, ямбы,
например, одинаково годны для высокой трагедии и веселой шутки.
В классической античности диалект и размер диктовали в
известном смысле характер содержания. Кратет использует
традиционные формы и жанры, но нарушает все жанровые устои, пародируя
и подчас взрывая изнутри сложившиеся формы, полемизируя как
с древними, так и с новыми, современными ему поэтами. Издатели
поэтических фрагментов Кратета (Бергк, Диль) с небольшими
расхождениями располагают их по жанровому признаку: элегииг
эпические поэмы, трагедии, ямбы.
Во всех сохранившихся стихах Кратета царит дух насмешки,
иронии, словесного маскарада, откровенной пародийности, когда
даже неискушенный читатель мог узнать характерные приемы,,
обороты, фразеологию и целые строчки Гомера, Солона, трагиков,
выступающие в новой роли. Но и шутовской тон не снимал
серьезности раздумий и идей, владевших киническим поэтом.
Среди элегий Кратета были стихи, носившие название «Пег-
ния» (Paignia — «Шутки»). Следующие строчки,
представляющие собой обращение к музам, вероятно, стояли в начале
стихотворения:
Славные дочери Зевса-владыки и Мнемосины,
Музы Пиэрии, к вам слово молитвы моей.
Пищу пошлите вы мне — не могу голодать постоянно.
Только без рабства: оно делает жалкою жизнь.
Быть полезным друзьям, льстить только им не учите.
Деньги же грех собирать, копить скарабею богатство.
Быть не хочу муравьем — только себе и себе.
Хочется праведным стать и такое добыть уж богатство,
Чтобы к добру привело, делая лучше людей.
Этого только б достичь, Гермесу и Музам пречистым
Жертв дорогих не свершу, делом святым отплачу
[36, с. 120 и ел.] 12.
На первый взгляд в этих «Играх Муз» нет ничего
шуточного—в них кредо поэта. Раздав все свое имущество и
столкнувшись с прозой жизни, Кратет просит своих любимых муз
обеспечить ему «прожиточный минимум» и дать возможность
выполнять свою киническую миссию: быть полезным (ophëlimon)
друзьям, служить добру и делать людей лучше. Но при этом не
заставлять его рабски прислуживать кому бы то ни было.
Значительность этой мысли особенно очевидна, если вспомнить
действительное положение даже известных поэтов в начале III в.т
зависевших от милостей царей и тиранов. Она подчеркивается
следующими затем словами о лести и льстецах, расточающих
своим покровителям «сладостные речи» (glykeron). Богатство ему
56
как кинику, естественно, ненавистно, так как с ним
связываются все пороки и зло в жизни. Единственно признаваемое им
богатство, добываемое праведным путем, — духовное богатство,
творчество, нравственная сила, приводящие людей к
добродетели (timion eis aretën). Об этом же говорит и другой
фрагмент, оценивающий прожитое (10 Д):
То, что узнал и продумал, что мудрые Музы внушили,—
Это богатство мое; все прочее — дым и ничтожность.
Киническая мораль требует от человека не слов, а дел,
поэтому Кратет обещает музам воздать им за их благосклонность и
помощь добрыми поступками, aretais hosiais.
Таким образом, мысли, заключенные в первом фрагменте,
вполне основательные и серьезные, рисующие их автора
человеком скромным, преданным своим убеждениям и долгу,
желающим делать добро людям, враждебным льстецам, стяжателям и
болтунам.
В то же время читатель мог улыбнуться, припомнив начало
известной элегии Солона (фргм. 1 Д), которая начинается
обращением к музам, слово в слово переписанным Кратетом:
Mnemosynës kai Zênos Olympioy aglaa tekna.
Mousai Piérides, klyte moi eychomenôi.
Далее Солон просит для себя богатства, счастья и славы (olbon,
chremata, ploutoy), т. е. именно то, от чего «открещивались»
Кратет и все киники. Вот эта внутренняя полемика составляет нерв
кратетовской элегии, ее сатирическую направленность, которая
заставила Апулея переводить Paignia словом Satirae
(Флориды 20).
В форме элегии написан и «Гимн Простоте» (es Eytelien),
начало которого также сохранилось (фргм. 2 Д.) :
Здравствуй, богиня моя, мужей добродетельных радость,
Скромность имя тебе, Мудрости славной дитя.
Благость твою почитает, кто справедливости предан.
Прославление бедности как пути к свободе и справедливости —
общее место кинической моралистики, поэтому Кратет
возвращается к нему снова и снова (фргм. 9 Д.).
Друг, собирай и бобы и моллюсков. Тогда ты поставишь
Легкой победы трофей над бедностью и нищетою 13.
Уже в двух первых из приведенных отрывков Кратет
пользуется приемами пародии. Они настолько характерны для поэта, что
его даже зачисляют в силлографы (Ваксмут), использовавшие
в пародийных целях гомеровские стихи. Однако пародия у Крате-
та особого свойства. В наше время пародией называют «жанр кри-
тико-сатирической литературы, основанный на комическом
воспроизведении и высмеивании стилистических приемов какого-либо
57
писателя, на карикатурном подчеркивании и утрировке
особенностей его писательской манеры» 14. Иначе говоря, острие сатиры
направлено на пародируемый источник. В «пародиях» Кратета
используемые им чужие строчки, фразеология, формулы вовсе
неслужат целям осмеяния или дискредитации источника (Гомер,
Солон, трагики и др.)» а нужны для заострения собственных мыслей,
как одно из средств художественной выразительности, для
высмеивания своего собственного объекта изображения15. Так известная
с давних пор в греческой литературе пародия («Батрахомиома-
хия», Гиппонакт, Ксенофан, Архестрат) приобретает
специфическое звучание в стихах кинического автора.
В указанных целях Кратет часто прибегает к пародии,
«перепеву», и здесь основным материалом служит любимый киниками
Гомер. Самым известным из эпических фрагментов Кратета
является уже цитировавшийся в I главе отрывок из поэмы «Пера»
(«Котомка нищего», «Нищенская сума»), где почти каждая
строчка — видоизмененные гомеровские стихи или подражание им.
«Пера» — киническая утопия, в которую сознательно вплетена
горькая усмешка, выдающая полное неверие автора в идилличе^-
ские картины, нарисованные им же самим. Кратет, как истинный
утопист, уводит нас на чудесный остров вроде Панхеи, где живут
честные и добродетельные люди, довольствующиеся скромной
пищей бедняков — фигами, чесноком, тимьяном и т. п. Среди этих
добрых туземцев вполне мог бы прижиться один из кинических
героев — сапожник Микилл16, о котором Кратет рассказывает в
другом отрывке:
Видел потом я Микилла, живущего в тяжких страданиях.
Шерсть он усердно чесал, и жена ему в том помогала.
В битве жестокой за жизнь голода так избегали |
(фргм. 5 Д.).
Зато из кинического рая изгнан глупец, парасит, распутник.
Население этого мирного острова не знает ни внешних, ни
внутренних войн: «Граждане войн не ведут и не спорят по поводам
жалким, денег и славы не ищут, оружьем к ним путь пробивая».
Только современник Кратета, пережившего разрушение родных
Фив, свидетель бесконечных войн, кровавых распрей и смут, мог
до конца оценить мечту поэта о мире. Стихи Кратета стоят в одном
ряду с другими прогрессивными утопиями эллинистического
времени (Ямбула, Евгемера и др.).
Название чудесного острова фиванского киника символично.
Пера — это та самая нищенская сума, которую вместе с посохом
впервые взял Антисфен (Диог. Л. VI, 13). Это единственное
достояние нищего киника стало его знаменем, предметом его гордости.
В котомке что за сила, знать не можешь ты,
Бобов не знаешь сладости и жизни без забот,—
говорится в другом фрагменте (18 Д.). Апулей, защищаясь перед
своими обвинителями, произнес следующее:
58
«...Когда с целью оскорбить меня вы заявили, что все мое имущество
«состояло из сумы да посоха, я принял ваши слова с благодарностью. Ах,
если бы я был так велик душою, чтобы не нуждаться ни в каком ином
имуществе, кроме этого, и с достоинством носить то же самое снаряжение,
которое пожелал для себя Кратет, добровольно отказавшись от богатства.
Кратет... человек богатый и знаменитый, принадлежащий у себя на родине,
в Фивах, к числу знатнейших граждан, из любви к тому самому образу
жизни, который ты ставишь мне в упрек, раздал народу свое большое и
доходное имущество и, отпустив на волю своих многочисленных рабов, сам
избрал одиночество; ради одного такого посоха он отверг множество
плодоносных деревьев, благоустроенные поместья променял на одну
маленькую суму; позже, убедившись, насколько она полезна, он прославил ее
даже в песне, изменив для этого Гомеровы стихи, в которых тот восхваляет
остров Крит» (Апология 22. Пер. С. Маркиша).
Эти слова древнего писателя помогают понять смысл
приведенного выше отрывка. Апулей ни на минуту не сомневается в
серьезности замысла Кратета, который и в самом деле «восхвалял в
стихах» (carmine laudavit) знаменитую киническую перу.
Измененные гомеровские стихи сделали поэму Кратета только
выразительнее, более доходчивой, запоминающейся. Что здесь
пародийного? Скорее это почтительное подражание Гомеру, в сходных
выражениях живописавшему Крит в пору его расцвета (Од. XIX,
172 и ел.). Вот для сравнения несколько стихов:
Гомер Од. XIX, 172:
Κρήτη τις γαΡ έατι μέσω ενι οϊνοπι πόντω
Кратет. Ст. I:
Πήρη τις πόλις εστί μέαω ενι οϊνοπι τύφω
Гомер. Од. XIX, 173:
καλή καί πίειρα, περίρρυτος
Кратет. Ст. 2:
καλή καί πίειρα, περίρρυτον obbkv έχουσα
Гомер. Ил. Π, 462:
άγαλλόμεναι πτερύγεσσιν
Кратет. Ст. 4:
ούτε λίχνος πόρνης έπαγαλλόμενος πυγήσιν
Однако при более детальном сопоставлении гомеровских
«героических гекзаметров» и кратетовских философско-утопических
стихов видно, как слова более высокого плана (pontöi, pterygessin)
заменяются словами из кинического лексикона (typhôi, pygêsin),
что не могло остаться незамеченным, ибо Гомера знали все, и в
результате возникало чувство остраннения, несоответствия формы
и содержания, вызывающее у читателя ироническую усмешку,
разрушающую иллюзию полной серьезности. Возможно, в этой
раздвоенности и скрывается самая сокровенная тайна
кинического «серьезно-смешного».
59
В ином ключе написаны пародийные стихи, направленные
против врагов кинического поэта. Вот тут пародия перестает быть
благожелательно улыбчивой и ироничной, а наливается злой
сатирической силой. Для одной из них Кратет выбирает популярную
у киников и близких к ним поэтов форму гомеровской некюйа
(Од. XI). «Нисхождение в Аид» для этих писателей (Менипп,
Тимон из Флиунта, Сотад, Лукиан) оказалось в высшей степени
удобным для сатирических, полемических и этических целей. Эта
форма позволяла не только устроить встречу с уже умершими
философами, но поместить в Аид и живущих и, сбросив с них
ложную маску, показать всю призрачность низких земных желаний,
истинную цену человека, как такового, и общепринятых
ценностей (богатство, власть, слава, знатность и т. п.), которые перед
лицом всех и вся уравнивающей смерти смешны и ничтожны.
Диоген Лаэртский так рассказывает о возникновении едких
строчек, в которых обычно спокойный и выдержанный Кратет,
прибегнув к оружию пародии, излил свой гнев на Стильпона из
Мегар, одного из видных философов мегарской школы (ок. 320 г.
до н. э.) :
Однажды зимой Стильпон увидел Кратета, окоченевшего от холода,
и обратился к нему: «Кратет, тебе явно нужен новый плащ» 17 (эти слова
могли означать также — «ты нуждаешься не только в новом плаще, но и в
здравом рассудке».— И. #.). Кратет рассердился и написал на него такую
пародию:
Стильпона там я узрел, казнимого страшною казнью,
В городе, где, говорят, лежбище было Тифона.
В Мегарах споры он вел с неисчетными окрест друзьями.
Спорили долго они, добродетели имя пороча
(Диог. Л. II, 118).
В каждом стихе этого отрывка скрыта мина замедленного
действия, которая взрывается, если повнимательнее вглядеться
в него.
Гомер. Од. XI, 582 (ср. 593) :
και μήν Τάνταλον είσεΤΒον χαλεπ' αλγε* έχοντα
Кратет в ст. 1 фрагмента заменяет только имя мифического
Тантала на имя Стильпон, остальное оставляя в
неприкосновенности.
Гомер. Од. II, 783:
είν Άρίμοις, δθα φασί Τυφωέος εμμεναι εύνάς
Кратет. Ст. 2:
έν Μεγάροισ', δθα φασί Τυφωέος εμμεναι εύνάς
Гомер. Ил. VIII, 537:
...πολέες δ'άμφ' αυτόν εταίροι
Кратет. Ст. 3:
εν&'έτ'έρίζεσκεν, πολλοί Β'άμφ'αύτόν εταίροι
60
Дело не только в умелом использовании гомеровских стихов
для прямых нападок на противника, но и в остром
функциональном использовании других средств кинической
выразительности. Так, во втором стихе фрагмента гомеровское en megaro-
is(in) — «во дворце» в то же время указывало на город, где
находилась школа Стильпона,— Мегары. Кроме того, имя Тифона (в
эпической форме Typhöeus, eos), титана, одного из самых страшных
созданий древнейшей мифологической фантазии греков,
низвергнутого Зевсом в Тартар, но продолжавшего причинять бедствия
людям тем, что, находясь связанным под Этной, заставлял время
от времени эту гору извергать потоки огня и лавы (Pindar. Ру. I,
15), напоминало слово typhös — terminus technicus кинической
моралистики («спесь», «гордыня», «все ложные ценности») (ср.
Клим. Алекс. Стром. 11,21, 190, 34 и [34, вып. 2, с. 193]).
Тифон, таким образом, оказывается насмешливым прозвищем
Стильпона. Помимо открытых нападок на Стильпона и его
окружение в 4-м стихе есть немало скрытых намеков, касающихся его*
личности: tën d'aretën para gramma diôkontes katetribon [34, вып. 2T
с. 193].
Двусмысленность, потаенное значение этого стиха прежде
всего направлены на моральную распущенность Стильпона18 и егч>
окружения. Клеймя в открытую стильпоновское понимание
добродетели, Кратет предлагает читателю, знакомому с киническими
приемами, воспользовавшись парономасией и анаграммой,
решить нетрудную задачку — прочесть вместо aretën («добродетель»)
hetarën («гетера»), на что довольно прозрачно намекает
выражение para gramma, ибо глагол paragrammatizein означает
«изменить смысл слова путем перестановки букв». К тому же слова
diökein и katatribein наряду с обычным значением имеют
непристойный смысл (futuere) 19. Поэтому приведенный выше четвертый
стих может быть расшифрован и таким образом: они, т. е. Стиль-
пон со своими друзьями, добивались не добродетели, а гетеры
и своими ласками вконец ее замучили. Яснее становится и
двусмыслица, заключенная в словах: «где ложе [брачное] было
Тифона». Кратет вполне расплатился за нанесенную ему Стиль-
поном обиду.
В той же пародии (paröidön) кинический поэт задевает других
своих недругов (фргм. 4 Д.): Phleiasion t' Askleipadên kai tayron
Eretrë,— т. е. в Аиде он якобы видел Асклепиада Флиасийского
и Менедема (эретрейский бык).
Речь идет о двух приятелях, учениках Стильпона, ставших
затем последователями Федона из Элиды, основателя элидо-эрет-
рейской школы (Диог. Л. II, 105, 126, 131, 132; Афиней IV, 168 а) „
Кратет яростно враждовал с Менедемом, и, когда однажды он стал1
критиковать его политическую деятельность, тот велел бросить,
его в тюрьму (Диог. Л. II, 131). В другой раз Менедем избил Кра-
тета за намеки на его интимные отношения с Асклепиадом (Диог..
61
Л. VI, 91). Процитированный стих имел, вероятно, в виду именно
это обстоятельство.
С этим же эпизодом связан пародийно использованный Крате-
том стих из «Илиады». Когда его волочили по земле (Диог. Л. VI,
90), он прокричал: «Влек он, за ногу схватив, и низвергнул с
небесного прага» (helke podos tetagön dia bëloy thespesioio.—
Ср. у Гомера, Ил. I, 591: ripse podos tetagön аро bëloy
thespesioio).
В достаточно комической ситуации чуть измененный и к месту
помянутый стих Гомера должен был вызвать громкий смех, но
объектом его был отнюдь не Гомер. Проанализированные
фрагменты вполне могут быть отнесены к так называемым с и л л а м,
в которых последователь Кратета Тимон «всех поносит и
высмеивает в своих пародиях всякого рода догматиков» (Диог. Л. IX, 111).
Кинический философ умел не только шутить и высмеивать. Он
знал, кого любить и ненавидеть, что воспевать и что отвергать.
Как истинный киник он обращается к Свободе:
Все побеждай, не сдавайся, гордая духом и силой.
Золоту ты неподвластна и все сожигающей страсти.
Правда, большая любовь не может быть спутницей подлых.
Те, кто не сломлен совсем жалким рабством у радостей жизни,
Чтут лишь царство одно — бессмертное царство свободы
(фргм. 7 Д.) 20.
Бессмертное царство свободы (athanatos basileia)
противопоставлено власти денег и погоне за чувственными наслаждениями,
порабощающими человека (oyth' hypo chryseiön doulomenë oyth'
hyp* Erötön texipothön). Для ненавистных страстей и желаний
у поэта находятся свои, незатасканные, экспрессивные
определения, многоговорящие неологизмы: tëxipothos—tëko+pothos, т. е.
«изнуряющий вожделениями», или philybris—phil+hybris— «спесе-
любие», «склонность к гордыне» (оба слова — гапакс эйременон) 21.
Кратет был достаточно умен, чтобы понимать, что
имущественное неравенство в конечном счете ведет к классовым
конфликтам. Об этом недвусмысленно писал еще Плутарх (Plutarch, de
san. 7, 125): «Понимая, что из-за роскоши и расгэчительности
в государстве нередко вспыхивают мятежи и устанавливается
тирания (tas staseis kai turannidas), Кратет в связи с этим как бы
шутя (meta paidiäs) предупреждал [богача]:
... Миску большую не ставь перед нами:
Лучше похлебки налей. Восставать нас иначе заставишь
(фргм. 8 Д.).
Прославляя высоконравственную бедность и осуждая
богатство, Кратет мог с полным правом заявить, что самое главное в его
жизни — это его философия, сокровища его духа, его поэзия. Все
остальное — «дым», «чад», «тюфос», что уносится ветрами време-
62
ни и бесследно исчезает. Сохранился небольшой отрывок из его
автоэпитафии, сознательно подражающей и пародирующей
популярную у греков эпитафию ассирийского царя Сарданапала,
ставшего в кинической литературе символом сластолюбия и полной
наслаждениями роскошной жизни.
Все, что узнал и продумал, что мудрые Музы внушили,—
Это богатство мое; все прочее — дым и ничтожность
(фргм. 10 Д.).
Вот часть текста эпитафии Сарданапала, принадлежащей
поэту V в. до н. э. Херилу:
В прах обратился и я, Ниневии великий властитель,
Только с собой и унес я, что выпил и съел и что взято
Мной от любви; вся же роскошь моя и богатство остались
(АР XVI, 27)
Пер. Л. Блуменау 22.
Истинным ценностям киника противопоставлены мнимые
блага, желанные людям, сталкиваются две жизненные концепции:
духовности и культа животной сытости.
По свидетельству Цицерона, жизненный идеал Сарданапала
высмеял и Аристотель, остроумно заметив, что совет царя
потомкам: «ешь, пей, случайся» — скорее подобает могиле быка, чем
человека (Тускуланы V, 35, 101). Кратетовская перифраза
известных вариантов эпитафии Сарданапала воспринимается не как
пародия, но как подлинная автоэпитафия кинического философа.
Обращены к самому себе и печальные строки другого фрагмента;
...Милый горбун, вот уже ты в дороге.
Старец, согбенный годами, спешишь ты в обитель Аида
(фргм. И Д.).
Здесь опять есть точки соприкосновения с гомеровскими
оборотами, словосочетаниями, речениями и т. п. (ср. Од. X, 175, 564;:
II, 16), которые вообще пропитывают поэзию Кратета, сливаясь
с ней, не производя впечатления грубого центона или пародии..
Заимствуя фразы, формулы, обороты, лексику известных поэтовг
что в древности не считалось плагиатом, Кратет органически
сращивает их с собственными строчками, создавая нечто новое,
далекое от оригинала по мысли и вовсе не направленное на его
осмеяние.
К началу III в. до н. э. трагедия как живой жанр умерла.
Пьесы великих поэтов не сходили со сцены, но новые трагедии,,
достойные этого названия, не появлялись, характер трагического-
творчества изменился. Трагедии порой носили чисто философский,
характер, порой — пародийный, но в том и другом случае вряд ли
предназначались для сценического воплощения. Кратет тоже
сочинял трагедии, имевшие, как сообщает Диоген Лаэртский (VI,
63
98), «самый возвышенный философский характер». В этом он
показал себя последователем «философа на сцене» Еврипида, у
которого есть с киниками известные точки соприкосновения. Судя
по уже знакомым нам образчикам кинической поэзии Кратета,
следует ожидать и в его трагедиях элементы пародии, сочетания
«серьезного и смешного», использования в аллегорических целях
мифологии, ее образов (в частности, образа Геракла) и т. д.
Сохранившиеся фрагменты в ямбических триметрах дают
достаточное основание для подобных предположений. Примером
возвышенной трагической поэзии Кратета могут служить следующие
«стихи:
Отечество мое — не только дом родимый,
Но всей земли селенья, хижина любая,
Готовые принять меня в свои объятия
(фргм. 15 Д.).
Эти характерные для кинического космополитизма слова
произносит, по-видимому, кинический герой Геракл. Возможно, ему
-же принадлежит и следующая реплика:
В котомке что за сила, знать не можешь ты.
Бобов не знаешь сладости и жизни без забот
(фргм. 18 Д.).
Здесь также рисуется образ непритязательного странника и
бедняка, находившего чистые радости в общении с природой.
В других трагедиях Кратета, возможно, высмеивалась
мифология, выводились в травестированном виде ее герои, как в гила-
ротрагедиях сына горшечника Ринтона из Тарента. Эти пьесы
могли напоминать «серьезные гилародии», пародирующие
трагедии (Афиней XI, 621 cd). Этот популярный в народной среде
жанр мог быть использован Кратетом, у которого, как и у Ринто-
яа, были пьесы о Геракле (Афиней XI, 500 f).
Во фрагментах ямбических триметров Кратета сильно
чувствуется личный момент, рассказывается о его жизни и настроениях,
очерчивается круг его интересов. В этом плане, может быть,
наиболее показательны строчки, повествующие, как Кратет, раздав
свое имущество, почувствовал себя наконец совсем свободным,
ибо он, подобно Диогену, по словам Плутарха, «изгнание из
родного города и утрату состояния сделал средством для занятия
философией» (Inimic. utilit. 2). Во многих источниках с
небольшими вариантами приводятся следующие слова Кратета, не
преминувшего воспользоваться любимой киниками игрой слов: «Kratës,
apolyei ta Kratëtos, hina më ta Kratëtos kratësëi ton Kratëta» —
«Кратет освобождает Кратета от его имущества, чтобы оно не
овладело Кратетом». Кратет Фиванский, полный желания стать киыиче-
<жим философом, раздал все свое состояние народу и произнес
эти, похожие на пословицу слова (paroimiôdë toyton logon23). На
Ы
основании нескольких свидетельств24 восстанавливается
следующее четверостишие:
Кратет Кратета денег вовсе всех лишил.
Освободил Кратет Кратета, что из Фив.
Легко, о Тиха, всяких благ наставница,
Меня надеть короткий плащ заставила
(фргм. 16 Д.).
К теме честной и добродетельной бедности поэт возвращается
снова и снова. «Часто, глядя на множество выставленных для
продажи товаров, он (Кратет.—Я. Я.) говорил, обращаясь к самому
себе: ,,Во всем этом я не нуждаюсь",— и при этом произносил
вслух следующие ямбы:
Из серебра сосуды, порфира на плечах
В трагедии уместны, в жизни — ни к чему»
(фргм. 20 Д.).
Если тема бедности и богатства имела общезначимый и
острополитический смысл, то тема подкравшейся старости звучала ка-
мернее, лиричнее. Она, видимо, сильно волновала поэта, и к ней
он не раз обращается:
Меня согнуло время, мудрый чародей.
Всех делает оно больными и слабей
(фргм. 17 Д.).
Следующая «Похвала старости» могла находиться в одной из
трагедий Кратета:
Бранил, я слышал, старость ты: «Большое зло!»
Какое ж зло?! Замена ей одна лишь смерть.
Мы все стремимся к старости: когда ж придет,
Печалимся. Природы мы не ценим дар.
Никто ведь так не жаждет жить, как в старости
(фргм. 21 Д.) 25.
Из известной трагедии Кратета «Эфемерида» («Дневник»)
сохранился такой шутливый совет:
Дай десять мин ты повару и драхму лишь — врачу.
Тому, кто льстит,— талантов пять и шиш — советчику.
А девке дать не жаль талант, философу — гроши
(фргм. 13 Д.).
И еще один совет (в устах Кратета он звучал не очень
серьезно, хотя и согласовывался с теоретической позицией киников):
Любовь проходит с голодом, а если нет — со временем,
Но если так не справишься, петля тогда — спасение
(фргм. 14 Д.).
Поэзия Кратета, как бы ни были скудны ее остатки,
многогранна, и, в какие бы виды и жанры она ни выливалась, ее ки-
нические идейно-эстетические принципы остаются незыблемыми.
Уже в самой многогранности, разнообразии жанров (элегии, ямбы,
3 Заказ № 370 65
трагедии, эпос) претворяются эти принципы. Герой всех
фрагментов — киник, проповедующий преимущества бедности и
непритязательного образа жизни, воспевающий нищенскую суму и плащ
философа, зовущий к нравственному совершенству и
проклинающий уродства богачей. Отражает ли эта поэзия настроения
бедноты, зовет ли к бунту? Ответ не может быть однозначным.
Конечно, киник кратетовского типа, внушая людям идею о
превосходстве бедности, звал к бедности, а не к богатству, но звал
всех людей, что практически равнялось призыву к богатым
раздать свое имущество и жить одной жизнью с народом, иными
словами, то было замаскированное требование передела имущества.
Все это означало осуждение имущих, переоценку общепринятых
ценностей, а не конформизм, свойственный официальной
идеологии. Момент утешительства в так называемом «гедонистическом»
кипизме был, по он не заслуживает той резко отрицательной
оценки, которую дал ему Т. Синко. Известный польский ученый
утверждал, что прославление киниками добродетельной бедности
и поношение порочного богатства носит контрреволюционный
характер [286, с. 20]. Мнение это представляется исторически
несправедливым. «Блаженны нищие»—подобная мысль могла
появиться у киников и позднее в Новом завете только под влиянием
угнетенных масс. Об этом говорил в свое время Энгельс.
Несправедливость слов Т. Синко подтверждается всей системой взглядов
киников и практикой, навлекшей на них гонения: киники всегда
были с народом, среди повстанцев Александрии. А те, кто на
самом деле действовал «контрреволюционно», обласкивались при
дворе Птолемеев или сиракузских тиранов. Нельзя отрицать
утопичность эгалитарно-коммунистических требований киников,
свидетельствовавших о слабости социальной базы кинизма, об
усталости масс, о непонимании истинных целей и задач, стоящих перед
ними (было бы странным требовать от них всего этого), но
киники не призывали к повиновению властям, не славили силу
денежного мешка и не опускались до проповеди классового мира.
Наоборот, основой всего кинического мировоззрения была ненависть к
праздности и богатству, жажда свободы. Эти черты проявились и
в поэзии Кратета. То, что было заложено в литературном
наследии Антлсфена и Диогена, в творчестве Кратета приобрело
определенность, отчетливо вырисовывались идейно-эстетические
особенности, формальные приемы, которые станут характерными
для всей плеяды кинических писателей. Находки и новации
киников получат распространение в демократической литературе
позднейшего времени.
Если Кратет Фиваиский пришел к народу из обеспеченных
верхов, то Б и о н Борисфенит («Днепровский»), философ и
писатель первой половины III в. до ы. э., последователь Кратета,
вышел из самых что ни на есть пародпых низов. Отец Биоыа
торговал сельдью, а мать была гетерой родом из Спарты (Диог. Л. IV,
46; ср. Афиней XIII, 591). Из-за неуплаты долгов отец вместе со
66
всем семейством был продан в рабство. Юношу купил какой-то
ритор, оставивший будущему философу все свое состояние и,
должно быть, давший ему первоначальное образование. Обо всем
этом рассказал сам Бион в ответ на выпады и клевету своих
врагов — стоиков Персея и Филонида, живших при дворе Антигона
Доната (Диог. Л. IV, 46 и ел.). В связи с этим следует заметить,
что многие детали, порочащие Биона как человека, о которых
рассказывает Бион у Диогена Лаэртского, попали туда из враждебных
писателю источников.
Бион прошел основательную философскую школу — учился в
Афшкжой академии (вероятно, у Ксенократа), у киренаика Фео-
дора Атеиста, у перипатетика Феофраста и у киников (Диоген).
Понятно, что такое обилие первоклассных учителей различных
направлений придало его взглядам известную эклектичность. Но
ближе всего была ему доктрина киников (Диог. Л. IV, 51),
которой он, как и Кратет, придал новую окраску, смягчив не без
влияния гедоника Феодора резкости первоначального кинизма.
При всем критическом отношении к источникам нельзя, думается,
делать из Биона идеального человека. Он был и себялюбив и
тщеславен, противоречив в словах и делах, не избегал удовольствий
(Диог. Л. IV, 47, 53, 54). Под рубищем нищего скрывалось
крепкое, сильное тело. Словно женихи, увидевшие Одиссея,
сбросившего с себя одежду нищего, люди с удивлением восклицали:
«Какие мышцы у Биона под рубищем!» (Страбон I, 2, 2; ср. Гомер. Од.
XVIII, 74). Впрочем, может быть, эти слова относились как-то
и к его произведениям.
Нас прежде всего интересует литературная деятельность бори-
сфенитского философа. О нем как о создателе диатрибы (Диог. Л.
II, 77) и его последователе Телете уже упоминалось. Несмотря
на известную спорность вопроса о происхождении и сущности
диатрибы, мы не имеем права отнять у Биона эту его главную
заслугу перед историей литературы. Во всяком случае, нельзя так
просто отмахнуться от свидетельства Горация, который сам
говорит о влиянии на его творчество бионовских диатриб — Bioneis ser-
monibus et sale nigro (ер. II, 2, 60) [484]. Подобно Кратету, Бион
писал также стихотворные пародии.
О характере всего его творчества Диоген Лаэртский (IV, 52)
говорит следующее: «Он отличался способностью высмеивать,
называя вещи своими, нередко грубыми именами. Как говорят,
в связи с тем что он умел ввести в свою речь любой стиль, Эрато-
сфен сказал, что Бион первый обрядил философию в пестрое
платье гетеры26. Он был также талантливым пародистом (euphy-
ës... paröidesai). Вот единственный образчик его поэтического
творчества:
Милый Архит, порожденье музыки, в тщеславье блаженный,
В споре о крайней струпе из мужей ты самый искусный».
Здесь объект критики — пифагореец Архит из Тарента,
занимавшийся теорией музыки, на которую нападали все киники,
3* 67
и Бион в том числе. В других случаях нападкам подвергались
прорицатели, жрецы и сами боги.
Как и Кратет, Бион строил свои пародии на включении в них
гомеровских поэтизмов, оборотов и т. п. или созданных по
гомеровским моделям собственных слов и речений. В процитированных
выше стихах сохранено гомеровское обращение 5 рероп (Ил. VI,
55), созданы неологизмы, пародирующие гомеровские композиты:
moiregenes, olbiodaimon (Ил. Ill, 182) — phallëgenes, olbiotyphe
(Бион). Ср. также бионовские pantön empeirotat'andrön и у
Гомера— pantön ekpaglotat' andrön (Ил. I, 146). Все это не могло не
произвести комического эффекта. Ради «красного словца» Бион
не щадил даже самого Гомера, которого на родине Биона, по
свидетельству Диона Хрисостома (36, 9—10), почитали как бога. Как
говорит схолиаст (см. Horat ер. II, 2, 60), Бион своими жалящими
словами всех задевал, не щадя даже Гомера.
Чужие поэтпческие строчки Бион готов пустить в ход,
высказываясь даже по серьезным поводам, что придавало им несколько
шутливую окраску, но смысл выявлялся только острее. Однажды
Бион сказал, что низкое происхождение потому препятствует
свободе слова, что оно способно поработить даже самого смелого
человека. Для этого он воспользовался чуть измененными словами
Еврипида (Иппол. 424): doyloi gar andra, kan thrasysplanchos tis
ëi. В другой раз на вопрос, существуют ли боги, Бион тотчас же
ответил строчкой из кинического поэта: «Не отгонишь ли прежде
от меня толпу, несчастный старик?» (Диог. Л. II, 117).
Для нападок на враждебных философов Бион использовал также
игру слов, любимый прием кинической насмешки (см. о выпаде
против стоика Персея из Кития, ученика Зенона, у Афинея — IV,
162d).
Таким образом, в творчестве Кратета и Биона окончательно
сформировались отличительные черты кинической литературы как
в области содержания, так и выразительных средств — антикон-
венциалистская морализация, осуждение богатства, персональная
сатира, острая и откровенная полемика с противниками, пародия,
смелое словотворчество, игра слов, народная (нередко грубая
речь, перелицовка традиционных приемов и форм, жанровое
разнообразие, нарушение канонов и т. п. Все это в полной мере
проявится и у других кинических писателей и поэтов эпохи
эллинизма.
Ученик Кратета Метрокл из Маронеи, родной брат его жены
Гиппархии, судя по сохранившимся отрывкам, также писал
пародийные стихи, используя Гомера (Диог. Л. VI, 95).
По-видимому, он первый стал сочинять и собирать «Хрии» кинического
содержания.
Из круга Метрокла вышел один из самых выдающихся и
самобытных писателей эллинистического времени — сатирик (Стра-
бон XV, 759) МениппизГадар (сер. III в. до н. э.), выходец
из социальных низов, бывший раб. Известен он прежде всего как
68
создатель кинической, или менипповой сатиры (см. выше, с. 52).
Диоген Лаэртский замечает, что сочинения его были «полны
насмешек и острот» (VI, 99). «Серьезно-смешным» (spoydogeloios)
называют его Страбон (XVI, 2, 29, с. 759) и Филон (у Стефана
Византийского s. v. Gadara). О соединении прозы и сатиры в
менипповой сатире говорит Проб (Verg. eel. VI, v. 31).
Менипп свел воедино прозаическую диатрибу и поэзию
киников; в поэтических частях наряду с оригинальными стихами он
использовал целые пассажи из Гомера, Еврипида и др. Судить о
творчестве Мениппа можно, к сожалению, только на основании
античных свидетельств и подражаний (Варрон, Лукиан) [415],
фрагментов его собственных сочинений почти не сохранилось.
Краткие цитаты у Афинея приводятся только для объяснения
редких слов (I, 32 е; XIV 664 е); одно из них — halmopotis, которым
названо солоноватое миндское вино, так как оно настаивалось на
морской воде, отражает любовь киников к сложным
словообразованиям. Помимо этого Диоген Лаэртский своими словами кратко
пересказывает эпизод из «Продажи Диогена в рабство» Мениппа
(VI, 29). Менипп, как свидетельствуют источники, охотно
прибегал к форме «путешествия в подземное царство», известной еще
по Кратету, пира-симпосия («Аркесилай» — Афиней XIV, 629 f),
где, между прочим, высмеивалась стоическая kosmoy ekpyrösis
(«воспламенение вселенной»), к составлению фиктивных писем,
написанных как бы от имени богов, к фантастическим сюжетам и
полемике. Среди объектов его сатиры — противники кинической
доктрины и аскетизма (стоики и эпикурейцы), физики,
математики, грамматики (Диог. Л. VI, 101). Менипп оказал большое
влияние на своего земляка киника Мелеагра из Гадар, с которым
у него было немало общего (Диог. Л. VI, 99. Ср. Афиней XI, 502 с;
IV, 157).
Возможно, что к школе Метрокла принадлежал также весьма
своеобразный и широко известный кинический поэт эпохи
эллинизма, его земляк Сотад из Мароне и, живший во времена
Птолемея II Филадельфа (первая половина III в. до н. э.).
Творчество этого поэта, против которого накопилось немало
предубеждений, известно очень плохо (фрагменты насчитывают всего 13
строк) 27. Его постигла обычная участь кинических писателей:
имена их упоминаются довольно часто, ибо писатели эти играли
заметную роль в жизни античного общества, а произведения
почти не дошли до нас, так как авторов репрессировали, а их
сочинения теми или иными способами уничтожали. Поэтому в интересах
объективной и адекватной реконструкции литературного процесса
классической древности таким писателям из «другой» античности
следует уделять больше внимания, чем это обычно делается.
Сотад был близок к тому направлению в эллинистической
поэзии, которое смыкалось с веселым и фривольным, полным
сатирических выпадов творчеством низов: с фольклорными
дорическими бурлескными сценками — флиаками, не щадившими ни бо-
09
гов, ни людей, с мимами, смелыми стихами на ионическом
диалекте (ионикологией), непристойной кинэдологией, гилародией, маго-
дией, лисодией, симодией, этологией и т. п. Приведу целиком
место, где Афиней рассказывает об этой низовой и популярной среди
масс поэзии:
Перед нами постоянно выступали так называемые гилароды (веселые
певцы.— //. //.), которых некоторые современные авторы называют си-
модами, потому что, как говорит Аристокл в первой книге своего
сочинения «О хорах», в этого рода веселой поэзии больше всех прославился Сим
из Магнезии. Упомянутый Аристокл в сочинении «О музыке» перечисляет
и других поэтов28 такого же рода: «магод — то же самое, что и лисиод».
Однако Аристоксен утверждает, что магодами называются актеры,
играющие мужские и женские роли, а актер, исполняющий женскую роль, но в
мужском костюме, называется лисиодрм (т. е. женские роли в мужских
масках И. #.). Они поют одни и те же песни, и в остальном они
также похожи. Иониколог — это тот. что декламирует стихи, называемые
ионическими, сочипепные Сот адом и его предшественниками Александром
Этолийским, Пиретом, Алексом и другими подобными же поэтами. Иначе
его называют еще кнпэдологом 29. 13 этом роде поэзии отличался Сотад из
Маронеи, как утверждает Каристий Пергамский в посвященном ему
сочинении, а также сын Сотада Аполлоний, который также написал трактат о
поэзии отца. На основании этого труда можно сделать вывод о бестактных
выпадах Сотада против царя Лисимаха во время его пребывания в
Александрии, затем против Филадельфа в присутствии Лисимаха, а также
против других царей в других государствах. В связи с этим он понес
заслуженную кару. Как сообщает Гегесандр в своих «Очерках», когда Сотад покидал
Александрию на корабле и, казалось, уже избежал опасности (а она была
велика, ибо среди прочей брани по адресу царя Птолемея он нападал на
него также за то, что тот женился на своей сестре Арсиное: «Ты в
нечестивую дыру вонзаешь свой бодец» 30), как вдруг Патрокл, стратег
Птолемея, схватил его на острове Кавне 31, заключил в свинцовый сосуд, завез
в море и утопил. Вот еще образчик поэзии Сотада, в котором он нападает
на Филина, отца флейтиста Феодора:
«... А он отверз дыру в заду,
Через ущелье свое, заросшее лесом, пустил раскаты
Грома, как старый бык, когда он пашет поле» 32
(Афиней XIV, 620(1 — 621Ь).
Страбон называет Сотада «первым, кто написал разговоры
кинэдов (kinadologein), за ним последовал Александр Этолийский.
Но они писали прозой (psilöi logöi), а Лисис и еще раньше него
Сим —в расчете на музыкальное сопровождение...» (Страбон
XIV, 41, с. 648).
Еще одно свидетельство: «Сотад из Маронеи, одержимый
безумием (daimonistheis) ямбограф, написал флиаки или
непристойные кипэдологические стихи на ионическом диалекте, поэтому они
назывались ионикологами. В этом поэтическом жанре выступали
также Александр Этолийский, Пирр Милетский, Феодорид, Тимо-
харид и Ксенарх. Сотад был автором многих сочинений, таких, как
„Нисхождение в Аид", „Приап", „Против Белестихи", „Амазонка"
и др.» (Суда, s. v. Sôtades Marôneitës).
Итак, Сотад — иониколог, кипэдолог (кинэды, кстати,
считались острыми на язык), автор непристойных стихов — такова его
репутация у позднейших поколений, распространяемая главным
70
образом составителями всякого рода примечаний и кратких
справок, взятых, как правило, из десятых рук. Между тем анализ
немногочисленных бесспорных фрагментов, сохраненных Афинеем и
Гефестионом, а также морально-дидактических подражаний (So-
tadea), собранных Стобеем, говорит о том, что такая
характеристика односторонне искажает облик поэта и далеко не
исчерпывает его творчества. Здесь нет смысла искать оправдания грубостям
и непристойностям, которых было, видимо, немало в стихах Сота-
да (впрочем, «неприличными» словами античного читателя не
удивишь), но дело в том, что их «бесстыдная» откровенность не
преследовала порнографических эффектов или эротизма, а была
действенным средством сатиры, имела точный социальный адрес —
царская фамилия и ее окружение, прославляемые придворными
поэтами (Каллимах, Феокрит, Арат и др.). Киническая parrësia
и anaideia, заставившие Квинтилиана (Inst, orat, II, 8, 6)
исключить Сотада из школьных программ, для поэта не были средством
позабавиться самому или развлечь других. Они означали для него
тюрьму и гонения. Даже если не верить несколько сказочной
версии о потоплении его в свинцовом ящике по приказу Птолемея,
то заслуживает доверия сообщение Плутарха, что до этого Сотад
долгое время провел в тюрьме за свои дерзкие стихи по поводу
второго кровосмесительного брака (ок. 266 г.) Птолемея Фила-
дельфа со своей родной сестрой (и по отцу и по матери) Арсиноей,
которая к тому же была намного старше его. Этот брак вызвал
негодование греков (Павсаний I, 6, 11; Геродиан I, 3), хотя в
практике египетских фараонов такая женитьба не была чем-то
исключительным. Плутарх отмечает также «неуместную и дерзкую
болтовню» (tes akairoy laliäs) Сотада и сетует: «Чтобы другим
дать возможность посмеяться, он сам долгое время провел в
оковах» (Plut, de libris educand. 14, с. Ha).
Сотад был из тех, кто, пренебрегая опасностью, говорит
горькую правду в глаза. Свои обличительные стихи он сочинял не в
безопасном далеке, а в самой Александрии, в непосредственной
близости к царским палатам. Он подвергает злым насмешкам не
только жену-сестру Птолемея, тогда как другие ее прославляли
(Каллимах, Посидипп и др.), но и его любовницу Белестиху.
Стихи Сотада могли своей грубостью оттолкнуть какого-нибудь
эстета и сноба, но не может не вызывать уважение гражданское
мужество поэта, сознательно ради своих высоких принципов
идущего на «оскорбление величества», сознавая последствия этого.
Было у Сотада и «Нисхождение в Аид» — форма, которая так
хорошо подходила для кинической критики. Проявлял Сотад обычное
для киников пристрастие к экспрессивным неологизмам, о чем
говорил Евстафий (II, 1069, 10).
Думается, что стихи Сотада, где все обсцениые понятия
выражаются эвфемистически, были менее вульгарны и
неприличны, чем шокирующие факты, обличаемые поэтом. Так, в
известном стихе на кровосмесительную женитьбу Птолемея (Eis oych
71
hosiën trymaliën to kentron ôtheis) два вполне пристойных слова
trymaliê и kentron только в контексте приобретают метафорически
скабрезный смысл. Так обстоит дело и во втором фрагменте. Во
всяком случае, физиологическая непристойность подчинена здесь
критике, а не была самоцелью.
Сотад отдал дань и мифологической теме, по-видимому
трактуя ее пародийно. Он был автором поэмы об Адонисе, из которой
дошел только один стих:
Какую из древних хотите послушать историю?
(Гефест 1, 4, с. 3, 16 С).
Сохранилось также несколько стихов, представляющих собой
виртуозную переделку «Илиады» сотадеями [36, с. 288].
seiôn melicn Pêliada dexion kat' ömon
(фргм. 4 Д.; Гефест 2, 3, 9 С).
Ср. Ил. XXII, 133:
seiôn Pêliada meliên kata dexion ôrnon
Ясень отцов пелионский на правом плече колебал он.
Пер. Н. Гнедича
К этому примеру как нельзя более подходят слова Дионисия
Галикарнасского по поводу Сотада: «Взяв стихи Гомера и почти
ничего к ним не прибавляя и ничего не убавляя, лишь изменив их
общий строй, он создал новый род тетраметра, называемый
ионическим. Это и есть сотадеев стих» (De compos, verborum 23 с, с.
16с Usener).
Для чего понадобилось Сотаду переделывать «Илиаду», трудно
сказать. Слишком мало стихов сохранилось. Может быть, и здесь
был свой пародийно-сатирический замысел. Однако уцелевшие
строчки вполне серьезны по тону, как, например, фрагмент 5,
возможно относящийся к началу «Илиады» (I, 52 и ел.), рисующий
гибель людей на чужбине: «Там, в чужой земле, на высоких
кострах, возлежали мертвые, оставив осиротевшие стены священной
Эллады и отчего дома, возлюбленную юность и лик солнца чудес*
ный». Для эллинистического грека эти строки звучали трагически,
напоминая об участи тысяч обездоленных войнами людей.
Вероятно также предположение, что работа над переделкой «Илиады»
была своеобразной школой мастерства, шлифовкой нового
стихотворного размера, получившего по имени автора название «сота-
деи» (Sötadeion, versus Sotadeus, metrum Sotadicum или Sota-
deum). Эта метрическая новация была связана с близкими народу
низовыми жанрами (мимами, кинэдологией и т. п.), тогда как
господствующая ученая поэзия разрабатывала главным образом уже
известные канонические метры.
Сотадеев стих, может быть, и не в полном смысле слова
изобретение Сотада, так как является разновидностью
ионического стиха, знакомого уже Сапфо, но Сотад придал этому размеру
72
завершенность. Сотадеев стих представляет собой сочетание так
называемых нисходящих иоников (ionikos аро meizonos, ionici а
maiore), составляющих каталектический ионический тетраметр.
В чистом виде он состоит из двух ионических диметров — одного
акаталектического и одного каталектического (иначе: из трех
иоников и одного трохея) :
Сама по себе ионическая стопа довольно тяжеловесна (valde
durus et molestus, по выражению Г. Германна), поэтому в ней
могли появляться более легкие трохеи — сотадеи складывались
свободно, допуская различные варианты, что придавало стиху
дополнительную выразительность и гибкость, делающую его
пригодным как для серьезных и сатирических, так и для шутливых и
пародийных целей. Здесь возможны стяжения и распущения
Кроме того, каждый полный ионик
может быть заменен трохеической диподией
которая может появляться на любом месте.
Таким образом, благодаря сочетанию рациональных и
иррациональных стоп возможны следующие формы сотадеева стиха:
Чистые сотадеи встречаются сравнительно редко. Например,
один из стихов переделанной «Илиады» (фргм. 7 Д.):
Нёгёп pote phasin Dia ton terpikeraynon,—
a также 1-й фрагмент по Дилю.
Как большинство стихов в эллинистическое время, «ионические
песни» (Iônika asmata — Афиней VII, 293 а) Сотада уже не
пелись, а, отделившись от музыки, рецитировались, декламировались
73
или читались, но сопровождались танцами, мимической игрой
и жестикуляцией — meta peplasmenës hypokriseös (Aristid. Quint.
I, 13, с. 32; ср. Plin. ер. IX, 17).
Сотадеи понравились современникам, ими пользовались уже
Александр Этолийский, Пирет, Тимон из Флий, который сочинял
не только силлы, но и кинэды (Диог. Л. IX, 11), и др. В римское
время в сотадеях сочиняли стихи Энний (Sota), Акций, Марк Те-
ренций Варрон, Петроний, Марциал (III, 29). Сотаду подражали
даже в поздней античности.
Под именем Сотада в антологиях Стобея сохранились стихи
(Sotadea), явно не принадлежащие эллинистическому поэту,
появившиеся позже (должно быть, уже в римскую эпоху) и
отличающиеся от подлинного Сотада по содержанию, стилистике,
диалекту (койне). По остроумному замечанию Виламовица-Мёллендор-
фа, эти стихи имеют такое же отношение к Сотаду, как афоризмы
Эпихарма к Эпихарму [305, т. 1, с. 81, 168]. Такого же мнения
придерживаются и другие ученые (Мейнеке, Зуземиль, Зоммер-
бродт, Герхард). Противоположная точка зрения (Эшер)
недоказуема. Тем не менее эти подражания Сотаду (более 60 стихов)
дополняют наше представление о киническом насмешнике,
который помимо грубых сатирических инвектив писал, как видно, еще
и философские, морально-дидактические, гномические стихи в
духе «просвещенного» кинизма. В ином случае, чему же
подражали авторы позднейших сотадеев?
Один из фрагментов (Стобей II, 3, 1, 67) представляет
отрывок в 10 моностихов-гном, составленных в алфавитном порядке по
первой букве стиха:
Lype se makran propheyxetai agatha phronoynta,
Mimoy to kalon kai meneis en brotois aristos.
Nomos esti theos; touton aei pantote tima.
Xenos opheleis einai ton oy kalos phronoynton.
И т. д. (фргм. 17 Д.).
Здесь мы встретим как нейтрально-банальные морализующие
поучения вроде «Подражай прекрасному и пребудешь среди людей
наилучшим», так и обращение к богу и закону, которых киники
не признавали («Закон есть бог. Его всегда и всячески ты
почитай»). Проповедь умеренности, соглашательства, примирения с
обстоятельствами («Не желай того, чего у тебя нет», «Умеренная
и средняя жизнь — самая справедливая», «Выбирай цель по себе» —
фргм. 12 Д.; Стобей II, 4, 34, 9) согласуется скорее со стоической,
чем с кинической доктриной. Советы же посвятить себя добру,
освободиться от печали, стремление к спокойствию духа (ст. 1 и 9
фргм. 17 Д.) с грехом пополам могли бы сойти за кипические
лозунги. Но есть среди сентенций «причесанного» Сотада и более
смелые мысли, осуждающие зло на земле и несправедливость
судьбы, преследующей тех мудрейших из людей, которые
стремятся делать людям благо (Сократа, Диогена, Эсхила и даже Гомера),
74
ибо зло наполняет мир:
Kai gar kata gaian ta ge kaka pephyken aei
(фргм. И Д.).
Таким же безрадостным настроением проникнут и фрагмент 12:
Ничто в этом мире не радует, все окружены завистью и злобой.
Прожить один лишь день без забот — уже великое счастье.
Среди сентенций псевдосотадеев можно найти обычный для
киников psogos ploytoy — противопоставление человечности бедных
завистливости и жадности богачей (фргм. 13 Д.), сентенции
крайнего кинико-стоического толка о смерти как освобождении от всех
жизненных невзгод (фргм. 15 Д.) 33.
Моралистика псевдо-Сотада в остальном довольно банальна и
не носит явственной кинической окраски, указывая на некий
средний уровень прописных этических истин, под которыми мог
бы подписаться представитель почти любой из философских школ
эллинизма. Важно отметить, что в этих подражаниях Сотаду нет
и намека на кинэдологическую распущенность и словесную
грубость, которые обычно приписываются поэту. Видно, пришла пора
решительно реабилитировать Сотада в глазах потомков, освободив
его от клейма порнографического сочинителя, и не ограничиваться
при упоминании его стихов эпитетами «грубые и грязные»
(Susemihl. I, 245) 3\ Все, что известно о Сотаде, говорит о его
близости к кинизму. Поздняя традиция считает Сотада киником и
даже сочиняет историю, где он приведен в столкновение с
Птолемеем, как в свое время Диоген с Александром35. Однако прямого
эпитета «киник» в ранних источниках нет.
Нет прямого указания на киническую принадлежность и
другого эллинистического поэта, жившего в III в. до н. э., в одно
время с Мениппом, Телетом, Бионом, Сотадом, Керкидом, Каллима-
хом, Аполлонием Родосским, Феокритом и другими, хотя стихи
его обнаруживают сильное влияние кинизма. Речь идет о
Фениксе из Колофона, поэте, имя которого было известно давно, но
особое внимание исследователей привлекло лишь после
публикации Г. Герхардом в 1909 г. [193] сравнительно большого отрывка
холиямбов Феникса (Iambos Phoinikos) из Гейдельбергского
папируса 310 (III—II вв. до н. э.). Текст этого и некоторых других
фрагментов Герхард сопроводил подробным комментарием и
большим исследованием о Фениксе, холиямбической и гномологической
поэзии древности. Несмотря на ряд критических замечаний
(например, со стороны Виламовица), книга Герхарда и в наше время
не утратила своего значения. Вместе со стихами Феникса Герхард
опубликовал и другие холиямбы сходного
популярно-моралистического и обличительного содержания, а вскоре (1911 г.) в
очередном томе Оксиринхских папирусов проф. Хант обнародовал
замечательные фрагменты кинического поэта Керкида. Собранные
вместе избранные стихи Феникса, Керкида и их подражателей,
75
возможно, составляли своего рода антологию низовой поэтической
моралистики эпохи эллинизма (Нокс). Наличие целой плеяды ки-
нических и кинизирующих поэтов и писателей, недавние находки
новых отрывков кинической поэзии и диатриб говорят о
популярности демократической поэзии социального протеста, значение
которой недооценивается и в нашей научной литературе.
Ямбический поэт Феникс из Колофона, по сообщению Павса-
ния, в своих стихах оплакивал (thrënësai) разрушение войсками
Лисимаха родного города (1, 9, 7), которое произошло между
287 и 281 гг. до н. э. Из Афинея известно, что у Феникса было не
менее двух книг «Ямбов» (XII, 40, 530е). В родовое понятие
«ямбы» включались и так называемые хромые ямбы (холиямбы, или
скадзон), которыми писал Феникс, названный у Павсания iambön
poiëtës. Почти через три столетия Феникс обратился к размеру
(а следовательно, и жанру), создателем которого был великий
плебейский сатирик и ямбограф Гиппонакт из Эфеса (сер. VI в. до
н. э.), высоко почитаемый киниками и другими моралистами как
их предтеча36. Как и простые ямбы, холиямбы были близки к
разговорной речи, связаны с изображением повседневной жизни
(Геронд) и сатирическим содержанием. В чистой форме холиямбы
представляют собой ямбический триметр, у которого последняя
стопа заменена трохеем, создающим неожиданный и острый
перебой ритма:
Как и в других размерах, здесь допускались стяжения и рас-
пущеиия, а также другие метрические вольности. Феникс,
возродивший Гиппонактовы холиямбы, пользовался ими с
исключительным умением, но без трюкачества формалиста-версификатора.
В древних свидетельствах, как было сказано, Феникс не
обозначен словом «киник», да и в ряде фрагментов (кроме отрывка из
Гейдельбергского папируса) нет типичных кинических «общих
мест». Однако даже строгие критики Герхарда (как, например,
Валетт [545, с. 173]), безоговорочно относящего Феникса к
киникам, не могут отрицать кинической окрашенности холиямбов
Феникса. Некоторые несоответствия с киническим учением,
которые находят в его стихах, объясняются приверженностью поэта
к смягченному, «второму» кинизму кратето-бионовского толка,
а также эволюцией его творчества.
Нет сомнения, что в массе эллинистической поэзии стихи
Феникса отличались своей демократической направленностью,
симпатией к беднякам и ненавистью к сильным мира. В этой
связи понятен «плач» Феникса по родному городу, погибшему от
полчищ захватчиков. Космополитические идеи, враждебные
национализму, никогда не мешали киникам в трудные для родины минуты
выступать патриотически. Близка поэзия Феникса популярной
кинической диатрибе, учившей людей сохранять свободу и досто-
76
янство во враждебном мире, наставлявшей, как отличить истинные
блага от мнимых, внушавшей ненависть к социальному злу.
В Гейдельбергском папирусе 310, опубликованном Герхардом,
содержатся три холиямбическпх стихотворения: против
стяжательства, богатства и педерастии. Только вто_рой фрагмент имеет
надпись Iambos Phoinikos (в заголовке сохранился след еще одной
буквы -г|-, возможно означавшей порядковый номер стихотворения
Феникса в его сборнике или в антологии), два других отрывка —
анонимны. Знакомство с литературным наследием Феникса
целесообразно начать с бесспорно принадлежащего ему «нового»
отрывка, содержащего 23 стиха (из них только два — 14-й и 15-й — не
поддаются полной реконструкции). Вот его прозаический перевод:
Ямбы Феникса
Многим из смертных, Посидипп 37, богатства
Не приносят пользы; им следует лишь таким имуществом
Владеть, которым они могут разумно распорядиться.
А ныне многие из окружающих нас честных и достойных 38
5. Людей вынуждены подыхать с голоду,
А те, кто, как говорится, гроша ломаного не стоит,
Купаются в богатстве. Но на что нужно тратить свои богатства,
А это самое главное, они не знают.
Дома же из драгоценных [камней] смарагдов,
10. (Если бы только это было выполнимо),
С портиками и четырехколонными залами,
Которые ценятся во много талантов, они готовы купить.
Тем же, что необходимо для воспитания духа, они пренебрегают,
Всему предпочитая самое ничтожное в жизни —
15. Презренную выгоду и богатство.
Они не прислушиваются к разумным речам, которые
Сделали бы их души мудрее и научили распознавать добро
И справедливость. Разве, Посидипп, таким людишкам
Не удается владеть
20. Великолепными и дорогостоящими дворцами,
Тогда как сами они ни копейки не стоят?
И если хорошенько вдуматься, то очень справедливо сказать:
Ц голове у них одни только деревяшки да каменья.
В античной литературе мало таких сиюминутных,
откровенных, не замаскированных мифологией или басенными
условностями откликов на современное (пуп) социальное зло. Это
негодующие стихи о богачах и расточителях, лишенных чести и совести
{ploysioi apaideytoi киников), заботящихся лишь о
растлевающей роскоши и пренебрегающих истинными духовными
ценностями. Им противопоставлены честные бедняки (krëgyoi), которые
умирают с голоду, когда другие купаются в роскоши.
Но Феникс — не просто обличитель, а моралист: человек ценен
сам по себе, богатство же для большинства — зло; если же ты уже
обладаешь богатством, то, чтобы оставаться человеком, необходимо
точно знать, на что его употребить. Для этого нужно
прислушиваться к философам, знающим, что в жизни действительно
справедливо и полезно. И тогда «разумные» богачи и сами «спаслись»
77
бы и окружающим стало бы легче. Поэт не уточняет, что именно
следует делать богатым,— может быть, раздать все свое имущество
согражданам, как это сделал Кратет, или выделить часть его для
бедных, как советовал Керкид и позднее Лукиан? Феникс,
вероятно, чувствовал утопичность подобных проектов, но другого выхода
не видел. Мысль о том, чтобы богачи поделились своим добром с
бедняками, была своеобразным вариантом старинного
народного требования «переделки земли» и «кассации долгов»,
актуального во все периоды греческой истории и вновь прозвучавшего в
лозунгах Агиса и Клеомена.
Противопоставление бедности и богатства, истинных и
ложных, внутренних и внешних ценностей — тема, обычная для кини-
ко-стоических проповедей (Дион Хрис. X, 300 R; Диог. Л. VI, 102
и др.). Феникс, сознательно или невольно, пользовался
аргументами п стилистикой диатриб. «Ямбы» написаны удивительно
простым языком. Они начинаются с обращения к Посидинпу, который
здесь выступает как оппонент, adversarius, непременный участник
диатрибы. Вначале же выдвигается общее положение, тезис39,
который затем разъясняется. Есть и другие диатрибические черты —
образная конкретность наряду с гиперболизацией (о
сознательности приема говорит замечание в скобках: ei pôs anyston esti toytT
aytois prëssein —ст. 10): дома [богачей] из драгоценных [камней]
смарагдов и с портиками; поговорки: hoi d'oyte syka, phasin out'
erina eyntes (ст. 6), axioys triön chalkön (ст. 21), monön xylön
gaz lithön phrontizousin (ст. 23); риторические вопросы: «Разве...
таким людишкам не у<:ается владеть великолепными дворцами?..»
(ст. 19-20).
Есть в нашем отрывке и эпатирующая, экспрессивная киииче-
ская брутальность: «а из...честных людей многим приходится
подыхать с голоду» (р >llën apheideös hê(s)tiên ereygontai — букв,
«обильно выблевывают, давятся голодом»—ст. 5). Очень
выразительны и полны актуального смысла антитезы: hoi men krëgyoi
(ст. 4) и hoi d'oyte syka... heyntes (ст. 6), oikias men kektësthai и
autoys de...axioy triön chalkön (ст. 19,21),где
противопоставляются внешние, «чуждые» человеку блага и его внутренняя духовная
ценность. В конце холиямбов вновь возникает образ богачей,
которые только думают о «каменьях и дереве» и сами им
уподобляются,— выражение lithoi kai xyla, обычно употребляемое для
бездушного косного материала в противоположность одухотворенному
человеку [193, с. 139—140]. Наконец, свойственное кинической
поэзии использование в своих целях формул и выражений
классических поэтов — «Ямбы» начинаются еврипидовским polloi g(*
thnetön (Eurip. f. 416 Nauck), есть и другие реминисценции (см.
аппарат в изд. Диля).
Анализ «Ямбов» Феникса обнаруживает несомненную их
принадлежность к обличительному киническому направлению в
литературе эллинизма, к которому относятся также два других холи-
ямбических фрагмента.
78
Один из них — холиямбический отрывок о Нине, приведенный
Афинеем40. Он удивительным образом перекликается с
автоэпитафией Кратета, пародирующей эпиграмму Херила о Сарданапале
(см. выше). Только в холиямбах Феникса ассирийского царя Сар-
данапала заменяет легендарный основатель и эпоним Ниневии —
суровый завоеватель Нин, муж Семирамиды41, который в сознании
поэта ассоциировался с его сыном — изнеженным и беспутным Ни-
нием (Афиней XII, 7, 528). Несмотря на эту путаницу (а может
быть, благодаря ей), все древние ассирийские цари
представлялись грекам сказочно богатыми, окруженными восточной
пышностью, погрязшими в земных пороках и утехах и т. д. Фрагмент
о Нине — это реквием о напрасно прожитой жизни, о суете сует,
о внутренней опустошенности тех, кто постоянно гоняется за
наслаждениями, об увлечении несущественным, предпочтенном
главному, нравственному, совершенству. В этом стихотворении
даже сам ритм с его нарочитой изысканностью, достигаемой
многочисленными распущениями, должен был передать
изнеженность царя.
Но послушаем Феникса:
Как я слышал, некогда на земле жил человек
По имени Нин, ассириец, у которого было целое море злата,
Да и всего остального — гораздо больше, чем песка в Каспии.
За звездами он не наблюдал, а если и смотрел, то просто так.
5. И у магов он не возжигал священного огня,
Как требует того обычай, прутьями касаясь бога 42.
Он не витийствовал и не судил людей,
Не умел он ни собрать народ, ни устроить смотр войску.
Но зато умел всласть поесть, выпить, любить.
10. Все остальное он столкнул в пропасть.
Но во г умер человек и обратился ко всем с такими словами:
[Там сейчас город Нин и гробница поет]:
«Послушай, кто бы ты ни был — ассириец или мидянин,
Коракс или с дальних северных болот
15. Длинноволосый синд43,— вот что я тебе скажу:
„Я, кто некогда был живым дыханием и носил имя Нин,
Ныне уже ничто и превратился в прах.
[Мне принадлежит ровно столько, сколько
Съел, сколько спел, сколько любил...] 44.
20. А мои богатства терзают нахлынувшие отовсюду враги,
Словно вакханки, рвущие на части живого козленка.
[Я же, уходя в Аид, не взял с собой ни золота,
Ни коня, пи серебряной колесницы.
И хотя носил митру, теперь лежу здесь лишь кучкой пепла"»]45.
К этим стихам примыкает еще один насмешливый отрывок,
живо дорисовывающий образ женственного прожигателя жизни
Нина. Здесь ирония достигается сравнением предметов пира и
косметики с боевыми доспехами и аксессуарами:
Для Нина бочка для купания — меч его, а кубок — копье,
Кудрей копна — лук со стрелами, вместо врагов — чаши,
А неразбавленное вино — кони горячие, вместо боевого
клича — «Окропите меня духами!» (фргм. 4 Д.).
79
Стихи, поначалу эпически повествующие о царе, который
прожигал жизнь и пренебрегал всеми своими обязанностями жреца,
полководца, судьи, заканчиваются сильным аккордом, созвучным
многочисленным киническим «Сошествиям в Аид»,—грозным
предупреждением, напоминающим притчу, хрию. Урок, который
должен извлечь из нее читатель, также полемизирует с моралью
популярной эпитафии Сарданапала (пока жив, наслаждайся, ешь, пей,
занимайся любовью, все равно умрем, а там — пустота) в духе
Кратета: все, что ценил Сарданапал, для киника —лишь «дым».
Стихи Феникса заставляют человека, пока еще есть время,
задуматься над смыслом жизни. Нин в них, как и Сарданапал,
выступает в отрицательной роли, демонстрируя людям, как не надо
жить.
Труднее найти следы кинического влияния в известном
стихотворении Феникса «Песнь вороны» («Korônisma») 46,
подражающем фольклору. В дни веселых весенних праздников по улицам
селений бродили группы взрослых и детей (коронистов) с ручной
вороной (koröne) в руках, стучались в двери домов и просили
хозяев подарить что-нибудь «вороне». Этот старинный обычай
известен многим народам и напоминает славянские колядки47.
Несоответствие кинической морали здесь заключается в том, что коро-
нисты желают людям, к которым они обращаются, блага с точки
зрения киников пустяковые, нестоящие: богатого и знатного
жениха девушке, многочисленных внуков ее отцу и матери, добрую
невесту брату, достаток в доме и т. п. Эта отмечаемая всеми
исследователями апория разрешается ими однозначно: стихотворение
свидетельствует против кинизма Феникса. Так ли это?
Действительно, не всякий поэт, обратившийся к фольклору и
написавший сочувственные стихи о бедняках,— киник. Но что
мешало киническому поэту, создавая бесхитростную песенку
побирушек, наполнить ее пожеланиями, которые наверняка найдут отклик
у большинства людей. Нужны ли ему были в этом случае лозунги в
духе кинического аскетизма? В «Песне вороны» нет ничего
специфически кинического (Герхард здесь впадает в преувеличение,
сравнивая коронистов с Кратетом), но нет также ничего такого,
что бы прямо говорило против кинизма ее автора, который мог
иметь в виду бродячий образ жизни многих киников. Эта
песенка — стилизация в народном духе, где не следует искать изложения
кинических принципов, ведь и песенка трубочистов не обязательно
включает в себя все требования профсоюза этих уважаемых
тружеников. О чем же поется в «Песне вороны»?
Люди добрые, подайте вороне, дитятке Аполлоновой,
Горсть ячменя или миску пшеницы,
Кусочек хлебушка или просто грошик — кто чего хочет.
Подайте, люди добрые, вороне чего-нибудь
5. Из того, что у каждого под рукой. Она и горстку соли
Возьмет. Ворона очень соль любит.
Кто даст сегодня соли горсть, тот завтра кусок отломит сот медовых,
Послушай, мальчик, отвори нам дверь! — Вот Плутос нас уже услышал,
И девушка несет вороне смокв груду.
80
10. О боги, дайте ей всяких благ вдосталь.
Пошлите, боги, ей богатого и знатного мужа,
И пусть старик-отец понянчит внука на руках,
А мать положит на колени внучку,
Жена пусть отпрысков растит для братьев.
15. А я, куда бы меня ни понесли ноги,
Все гляжу неотрывно на Муз и песенки свои пою у дверей,
И желаю добра всякому, кто дает, да и тому, кто не дает48.
Люди добрые, подайте, чем богат ваш дом,
И ты, хозяин, и ты, молодая хозяйка, давай, не жалей.
20. Таков уж обычай — дать, когда ворона просит.
Вот какая у меня песенка. Подай же что-нибудь.
Ну вот, довольно, хватит!
Эти простые и трогательные стихи, конечно, ничем не
пополняют наших знаний о системе кинической философии, но они
вносят новые штрихи в картину кинической и кинизирующей
литературы, говорят о серьезном интересе поэтов этой школы к
жизни простого народа, к народным обычаям, обрядам, к народной
песне, из которой они постоянно черпали образы и специфические
приемы фольклорной поэтики.
Следующий отрывок, также сохраненный Афинеем, является
прекрасным образчиком кинической характеристики скупца:
И из разбитой чаши кислым вином
Он совершает возлияние, держа ее в скрюченных пальцах,
Дрожа, как беззубый старик49 при порывах северного ветра
(фргм. 6 Д.; Афиней XI, 91, 495 de; ср. [193, с. 198]).
Эти великолепные по своей выразительности, емкости и
реализму строки, достойные большого поэта, Нокс даже не считает
возможным, вопреки свидетельству Афинея, отнести к
произведениям Феникса и приписывает их Гиппонакту [428, с. 52, фргм.
76]. Правда, гиперкритику Нокса никто из исследователей не
принимает. У нас нет основания считать Феникса
посредственностью, просто мы мало знаем этого поэта. Что же касается
приведенного отрывка, то в нем примечателен не только образ скряги,
но и та жалкая и безрадостная старость, горше которой в жизни,
по словам Диогена, ничего нет (Диог. Л. VI, 51).
Еще один небольшой фрагмент. Он связан с популярным у
греков образом одного из «семи мудрецов» — древнейшим
ионийским философом Фалесом Милетским, которому, по преданию, как
самому мудрому был вручен треножник, найденный гражданами
Милета в море (Диог. Л. I, 28 и ел.). По другому варианту
легенды, некий аркадец Бафикл оставил ценный кубок и завещал сыну
передать его тому из мудрецов, кто больше всех принесет людям
пользы. Кубок был вручен Фалесу, но тот, считая себя недостойным
такого дара, передал его другому. Так путешествовал кубок от
одного мудреца к другому и снова вернулся к Фалесу, который
посвятил его Аполлону.
81:
Из этих двух версий Каллимах (фргм. 191, 52с; Ох. Рар. VII,
31) и Фспикс (фргм. 5 Д.; Афиней XI, 91, 495 de) выбрали
последнюю и создали на ее основе холиямбические стихи. Для кубка
(phialë) Феникс, как и Гиппонакт, выбирает слово pellis50.
Фалес, который благодаря своим знаниям звезд был самым
полезным для людей
и, как говорят, намного превосходил всех своих
современников, получил золотой кубок.
Догадки остаются догадками, но и эти стихи могли служить
кинической пропаганде, могли составлять часть морализирующей
поэтической диатрибы, где обычным был такого рода
исторический пример или притча (тем более что тема «семи мудрецов»
была расхожей в кинической практике). Поэт противопоставлял
современному ему обществу, где царил дух наживы,
стяжательства, грубого утилитаризма, человека бескорыстного и скромного,
увлеченного своим делом (пусть оно и не одобрялось киниками),
стремящегося быть полезным не себе, а людям. Фалес здесь
представлен как лучший (aristos) из идеализируемого прошлого и
поставлен в пример испорченности нового поколения. Там, где
Феникс видел образец высокой нравственности, Каллимах —лишь
материал для демонстрации своей учености.
Нокс, отобрав у Феникса фрагмент «О скупце» и решительно
приписав его Гиппонакту, отнимает, в свою очередь, у последнего
фрагмент об обжоре, сначала сожравшем свое состояние, а потом
превратившемся в раба (Hipp. fr. 39 Д.; Афиней VII, 304 Ь),
и отдает его Фениксу, считая его слишком уж морализирующим
для Гиппонакта [428, с. 262]. Но в данном случае кинической
моралью, как говорится, и не пахнет. Не выдерживает критики и
соображение лексического плана. Нокс считает, что слово rydën
характерно для поздней холиямбической поэзии. Однако оно
встречается не только в упомянутом, но и в новом папирусном
фрагменте Гиппонакта (см. Рар. Ох. XVIII, пг 2174=fr. IX, И Д.). Однако
сама по себе эта попытка показательна, ибо свидетельствует о
единстве и преемственности линии: Гиппонакт — киники51.
В эпоху эллинизма кинические идеи упали на благодарную
почву, чем и объясняется их популярность. На массу оказывало
влияние не эсотерическое учение киников, теоретические проблемы
логики и онтологии, волновавшие Антисфена, но лозунги их
популярной этической пропаганды, несколько умерившей свой
ригористический тон. Умеренный кинизм дает себя отчетливо
почувствовать в творчестве Феникса — от легкого размера его общедоступных
стихов до нападок на благоденствующих собственников, не знаю*
щих, как правильно использовать свои богатства. Подобная
критика идеологии и психологии верхов, потребительской морали,
неприятие действительности содержатся также в стихах других χ о -
лиямбических поэтов, современников Феникса, имена
которых не сохранились. Должно быть, некий составитель попу-
82
лярно-моралистической антологии (Florilegium morale) соединил в
одном папирусе ряд холиямбов сходного кинико-стоического
содержания.
К «новым» ямбам Феникса примыкают два других, довольно
плохо сохранившихся отрывка холиямбов из Гейдельбергского
папируса, опубликованного Герхардом. Первый отрывок,
предшествующий в рукописи «Ямбам» Феникса, направлен против
стяжательства, сребролюбия, второй (в очень плохом
состоянии) — против распутников и педерастов, вызывавших всегда
гневное осуждение киников.
Вместе с указанными гейдельбергскими фрагментами Герхард
опубликовал также две колонки из Лондонского папируса 155 v.
II в. н. э. (Рар. Mus. Brit. ν. ed. H. J. Milne. Catalogue of the literat.
papyr. in Brit. Mus. 1927, с. 40). Его дополняет идентичный по
содержанию Papyrus Bodleian, ms. gr. class, f. Ι (ρ), относящийся ко
II в. до н. э. Эти анонимные папирусные отрывки также
посвящены теме стяжательства и написаны прекрасными холиямбами на
ионическом диалекте, близком к койне. Нокс [75, с. 228]52 и Пау-
элл [32, с. 213 и ел.] без достаточных на то оснований относят эти
фрагменты к Керкиду или его подражателям (Cercidea). Э. Диль
объединил все указанные отрывки в одну сатирическую поэму (из
106 стихов) под названием «Против стяжательства» («Kata aisch-
rokerdeias») [36, вып. 3, с. 131 и ел.]. Со времени Герхарда текст
благодаря усилиям разных ученых значительно прояснился. Ниже
следует перевод всего более или менее читаемого текста. Само
собой разумеется, что переводчику приходится продираться сквозь
джунгли лакун и конъектур, большая часть которых принадлежит
Ноксу (хотя они нередко весьма гипотетичны, но, в общем, дают
приемлемый смысл). В некоторых случаях вместо перевода
приходится довольствоваться передачей общей идеи.
Фрагмент из Лондонского папируса 155 V. Начала нет, левая
часть колонки испорчена.
... Нет никого, кто, изучая повадки наших
Современников, не осыпал бы проклятиями и не проникся
к ним ненавистью.
Я расскажу тебе о них, Парн, со всей прямотой,
Поскольку поэзия не без пользы должна коснуться твоих ушей.
Я покажу тебе, Парн, что людей покинул
Стыд, и они, как Гарпии с крючковатыми пальцами,
Жаждут из каждого камня выдавить прибыль.
10. Каждый ищет, где бы пограбить,
И бросается стремглав в воду и плывет
К своей добыче, готовый утопить
На своем пути друга, брата, жену,
Лишь бы спасти свою трижды жалкую шкуру.
Для этих людей нет ничего святого —
Они готовы превратить море в сушу, а сушу — в море.
Все они всегда и везде поучают:
«Наживайся, приятель, и летом и зимой,
Везде ищи только выгоду, никого и ничего не стыдись.
Пусть все бранят тебя. Тебе-то что!
83
20. Тяни свою руку туда, где можно что-нибудь хапнуть,
А если надо дать, то лучше бы совсем руки лишиться» 5S.
Многие скажут: «Поздравь себя.
Если ты хоть чем-нибудь богат. Тогда кругом тебя друзья.
Богатого тебя и боги полюбят.
Если же ты беден, то и мать-родительница возненавидит тебя.
Нищий, ты не будешь нужен даже своим родственникам.
Потому-то, друг мой, я проклинаю
Нынешнюю жизнь и всех людей,
Которые так живут, ненавижу и еще больше буду ненавидеть,
30. Потому что они, эти люди, перевернули нашу жизнь.
Ведь некогда священная и еще до сих пор почитаемая
Справедливость ушла и никогда больше не вернется.
Процветает неверие, а вера покинула землю.
Бесстыдство стало сильнее Зевса.
Святость клятв умерла, и боги терпят все это.
Низость буйствует повсюду среди людей,
Которые соленой слюной плюют на благородство.
Никто не возьмет в супруги даже Геру,
Будь она нищая...
40. Скорее введут в дом женой последнюю лидийскую шлюху,
Лишь бы она принесла с собой побольше денег...
Стихи 42—66 в Лондонском папирусе не поддаются переводу,
так как здесь сохранились лишь отдельные буквы и обрывки
некоторых слов. Далее следует отрывок из Гейдельбергского папируса
310 (кол. II), который я перевожу в некоторых случаях дословно, в
других — по смыслу уцелевших слов.
67. ...Ведь они тащат, откуда только могут,
И нет для них ни близкого, ни дальнего.
Они предпочтут голодать, только бы накопить побольше.
70. Закон их не страшит, они забыли о богине справедливости
Дике и потешаются над ней.
Я же поражаюсь: как люди могут жить
Среди таких зверей, когда жить среди них невозможно.
Никто никому не верит.
Кругом одна только лесть и медоточивые речи (?).
Клянусь богами, я знаю единственную правду:
Не быть рабом удовольствий и желудка,
А довольствоваться лишь необходимым.
Все же стараются урвать себе побольше,
80. Словно увидели, так сказать, сладкий пирог.
Что толку набивать себе брюхо?
То, что кладешь себе в рот, остается там
Только на время еды. Сколько ни ешь,
Все отправляется в живую пучину.
Ешь поэтому столько, сколько я, и не больше,
Иначе запутаешься, как птица в силках...
Я же, Парн, не стремлюсь ко всем таким удовольствиям,
А держу себя, как коня, в узде и,
Умеряя призывы своего желудка,
90. Приучаюсь к скромному образу жизни.
Когда я бываю вынужден сделать себе приятное,
Это заставляет меня страдать, ибо крупинка соли
Для меня уже удовольствие. Мне ничто не доставляет
Большей радости, чем сделать что-нибудь полезное и
Справедливое, а многие люди наживаются
Самыми позорными путями, потеряв стыд и совесть.
84
Ведь есть, есть же такое божество, которое
Наблюдает за всем этим и не допустит, чтобы
100. Без конца оскорблялись божеские законы,
И каждому назначит заслуженную им участь.
Итак, Парн, я предпочел бы иметь только
Самое необходимое и слыть честным человеком,
А не зарабатывать кучу денег, чтобы мои враги
105. Могли однажды сказать:
«Груз соли вернулся туда, откуда пришел».
Итак, главная тема этой гневной публицистической тирады —
охватившее всех стяжательство, всеобщая погоня за наживой,
черная власть денег, тема, перекликающаяся с осуждением богатства
в «Ямбах» Феникса. Только здесь она выражена еще решительнее,
с большей эмоциональной силой. Автор (или авторы) сатиры «Kata
aischrokerdeias» полон (или полны) горечи и гнева и бичует (или
бичуют) стяжателей, которые ради наживы готовы на любое
преступление, для которых нет ничего святого, кроме призыва:
«Обогащайся!» Отвратительно общество, где сила денег значит больше,
чем дружба и родство. Поэт ненавидит тех, кто хуже зверей, а не
все человечество, иначе не было бы смысла его перевоспитывать.
И незачем изображать его мизантропом, как это делает Герхард.
Образ мизантропа, популярный у эллинистических киников,
служил им для целей критики действительности и должен был вызвать
негодование, недовольство, толкнуть на активную борьбу со злом,
а вовсе не воспитывать человеконенавистников. Вся эта страстная
диатриба против богатства, обращенная к некоему любителю
поэзии Парну, дидактична и завершается в духе kynikos tropos
пословицей, подчеркивающей бесцельность накопления: «вернулась соль
туда, откуда пришла» (halön de phortos enthen enth' ëlthen), т. е.
корабль, с таким трудом нагруженный солью, во время бури идет
на дно соленого моря вместе со своим грузом.
Критическое содержание холиямбов против сребролюбия
указывает их истинных вдохновителей — недовольные и неимущие
народные низы. Их непосредственный автор — поэт, попавший под
влияпие кинического учения, поэтому в них встречаются типично
кинические топосы, идеи, термины, образы: автаркия (ст. 81 и 103),
свобода речи, откровенность (ст. 3), сравнение порочных богачей
с животными, гиперболизация (прибыль, выжимаемая из камней;
бедного ненавидит даже родственник; никто бы не женился даже
на Гере, будь она нищей), сентенции, готовые стать крылатыми
(kerdain' hetaire, kai theroys kai cheimönos — ст. 17; polla sauton
aspazoy, epën echêis ti panta soi philön plërê — ст. 23—24; ploytoynta
gar se choi theoi philësoysi — ст. 25 и др.), проповедь скромной
жизни (eyteleia — ст. 90), когда человек и соль считает лакомством
(ст. 92), равнодушие к удовольствиям и т. п. Но здесь нет
эпатирующей кинической грубости, пародии, шутовства, гротеска, игры
слов, смелых неологизмов, хрий и т. д. «Против стяжательства» —
суровая, чуждая риторике гневная проповедь, разящая богачей.
85
Поэт верит в силу своего слова (ст. 4) и выступает в роли
обличителя, поэтому spoydaion здесь преобладает над geloion.
Стало быть, киническая литература знала и такую форму
выражения. Высокому нравственному пафосу соответствуют обращение
к богине справедливости и упоминание о карающем божестве.
Конечно, это не антропоморфные боги древности, а лишь способ
нагнетания высокой моральной ответственности человека. Зная
психологию массы, поэт готов воздействовать на нее и «страхом божьим».
Киники всех направлений в своих этико-дидактических и
политических целях часто использовали весь образно-художественный
арсенал греческой мифологии и религии. Призывы к богам типа
syn theois eipein (ст. 76) говорят о религиозности поэта столько
же, как наше «ей-богу». Однако эти упоминания богов очень
смущают некоторых исследователей (Валлетта, например), так как
это, по их мнению, трудно согласуется с атеизмом киников. Но
реальная поэтическая практика оказывается богаче Л сложнее
наших априорных представлений. Что же касается сетований на
распространение неверия (apistië — ст. 74), то оно может быть
отнесено не на счет богов, а людей, переставших верить друг другу,
коварно нарушающих клятвы и лицемерно льстящих (ст. 36 и 75).
Холиямбы Феникса и анонимных поэтов III в. до н. э., как мы
видели, имеют много общего: острое ощущение социальной
несправедливости, моралистический пафос, публицистичность,
активный, наступательный тон, неприятие существующих
общественных условий, обостренное кинической пропагандой, использование
эстетических предписаний и художественных средств киников.
Необходимо отметить у этих поэтов элементы компромисса, при-
норавливания к общепринятым нормам и стереотипам, смягчение
древнего ригоризма, характерные для всего эллинистического ки-
низма.
В кинической поэзии этого времени есть еще одно имя,
заслуживающее занять в ней одно из центральных мест, хотя и здесь
приходится довольствоваться только фрагментами. Это новое имя
свидетельствует о том, что кинизм выражал думы и чаяния не
только низших социальных слоев, но задел также какие-то глубинные
чувства прогрессивных людей из состоятельных классов, заставив
их встать на сторону народа, на защиту угнетенных. Это вовсе не
какие-нибудь «недовольные всем деклассированные интеллигенты»,
а крупные политические деятели и мыслители. В истории раннего
кинизма уже был такой пример — Кратет. В эллинистическую
эпоху встречается в этом смысле еще более яркая и оригинальная
фигура — Керкид из Мегалополя54, личность давно
известная в истории Греции, но всесторонне оцененпая только в XX в. с
его сенсационными находками древнегреческих рукописей в
щедрых песках египетских оазисов. Если, как мы помним, древние
источники прямо не называют Феникса и его анонимных
последователей киниками, то стихи Керкида, найденные в Египте в 1906 г.
и впервые опубликованные в 1911 г. в восьмом томе Оксиринхских
86
[гапирусов проф. А. Хантом при участии У. Виламовица-Мёллендор-
фа (editio prinseps) [89] 53, носят недвусмысленное название «Me-
лиямоы киника Керкида» («Kerkida kynos (Me)liamboi»). Такая
подпись стоит после 4-го фрагмента в издании Ханта. Находка и
публикация сравнительно больших отрывков «Мелиямбов»
Керкида вызвали огромный интерес историков литературы и послужили
началом публикаций статей и исследований о его творчестве (на
русском языке появились лишь две краткие информационные
заметки Э. В. Диля в журнале «Гермес» в 1911 и 1913 гг.). Однако
на монографию материала явно недоставало, создать же
объемистый том о нескольких десятках поэтических строчек, как это
сделал в свое время Герхард в отношении Феникса и анонимных
холиямбистов, над чем довольно зло подтрунивал Виламовиц, ни
у кого больше не хватило ни смелости, ни трудолюбия. В нашей
работе мы, естественно, опирались на все ценное, достигнутое
мировой наукой.
Керкид — не обычный киник, с посохом и котомкой нищего
кочующий из города в город и в толпе народа громящий сильных мира
сего. По остроумному замечанию Виламовица, он был похож на
христианина, который ходит в церковь, но не во всем
придерживается христианского учения. Про Керкида я бы сказал иначе:
в церковь он не ходил, но был добрым «христианином». Керкид, как
и Феникс, патриот. Кинический космополитизм не помешал
Фениксу оплакивать гибель родного города, как не помешал и Керкиду
участвовать в восстановлении своей родины, также разрушенной до
основания войной. Выступить на защиту своего маленького
государства в условиях кровавых завоевательных походов наследников
Александра означало оказать сопротивление великодержавной и
антинародной политике эллинистических царей, их
воинствующему официальному космополитизму. Такой патриотизм требовал ки-
нической смелости и свободомыслия, он стал формой оппозиции
идеологии реакционной плутократии.
Имя Керкида, государственного деятеля и поэта, было известно
и до знакомства с Оксиринхским папирусом 1082 (II в. н. э.),
содержащим «Мелиямбы», но дело осложнялось тем, что
существовало по крайней мере два Керкида56, которых постоянно смешивали
и которые потенциально могли оказаться авторами названных
стихов. Один из них — старший — аркадский политический деятель
IV в. до н. э., среди других был назван Демосфеном в речи «О
венке» предателем, отдавшим своих соотечественников в рабство
Филиппу Македонскому (XVIII, 295; ср. Полибий XVII, 14).
Второй — родственник первого, младше его лет на сто — также
участвовал в политической жизни Аркадии, был законодателем,
военачальником, поэтом, философом. Благодаря названным в
папирусных отрывках именам уже проф. Хант сделал правильный вывод,
что наш поэт — это второй, младший Керкид57. Что же известно об
этом втором Керкиде?
Есть ряд древних свидетельств, проливающих свет на жизнь и
87
творчество поэта, оказавшегося в самой гуще напряженных
военно-политических и классовых битв второй половины III в. до н. э.,
происходивших в центре материковой Греции. Прежде всего
приведу два пассажа из «Всеобщей истории» Полибия, заставляющие
нас окунуться в бурную обстановку кризиса полисной системы,
враждебных действий между двумя главными соперничающими
федерациями эллинистической Эллады — аграрной Этолийской и
торгово-ремесленной Ахейской (в последнюю входил и аркадский
союз во главе с недавно основанным обширным городом Мегало-
полем), в борьбу за гегемонию в Греции, в которую включилась и
Спарта. Полибий знакомит нас с интригами македонских царей,
с претензиями Арата, Клеомена, Антигона Досона и других
политиков на диктатуру, вводит в перипетии Клеоменовой войны,
принесшей неисчислимые беды городам и селам (225—221 гг. до н. э.).
Клеомен во главе армии наемников и в ореоле славы реформатора
и защитника простого народа одерживал победу за победой,
опустошая ахейские города, причем больше других пострадал Мегало-
поль, родина Керкида, разрушенный в 226 г. до н. э. Глава
ахейского союза стратег Арат (245—213 гг. до н. э.), будучи не в
состоянии справиться своими силами с войсками Клеомена и это-
лийского союза, обращается за помощью к заклятому противнику
эллинского единства и независимости «варвару» Антигону Досону.
С помощью македонских войск Клеомен был разбит в сражении
при Селассии (221 г. до н. э.) и бежал в Египет. В Акрокоринфе
и на Пелопоннесе расположились македонские гарнизоны.
Для упомянутых переговоров с македонским царем Антигоном
после падения ряда ахейских городов Арат послал к нему двух ме-
галополийских граждан — Никофана и Керкида (223 г. до н. э.).
Вот что говорит по этому поводу Полибий (II, 48—50): «Арат зпал,
что мегалополийцы сильно страдают от войны, ибо из-за близости
к Лакедемону они играли роль передового отряда, к тому же они
не получали от ахеян необходимой помощи... Ему также было
хорошо известно дружеское расположение мегалополийцев к дому
македонских царей, так как сын Филиппа Аминта оказал им
услуги. Это приводило его к мысли, что мегалополийцы, теснимые Клео-
меном, легко могут обратиться за защитой к Антигону и
македонцам. Поэтому Арат под условием тайны открыл весь свой план
гражданам Мегалополя Никофану и Керкиду, которые были
связаны с его отцом узами гостеприимства. Мегалополийцы назначили
послами к ахеянам Никофана и Керкида, с тем чтобы оттуда они,
если ахейский народ согласится, немедленно отправились к
Антигону».
В дальнейшем, после успешных переговоров с Антигоном, после
того как царь двинулся на Пелопоннес и произошла решительная
селассийская битва, имя Керкида снова всплывает. Он принимал в
ней участие на стороне ахеомакедонских войск во главе тысячи
мегалополийцев, вооруженных по македонскому образцу (Полибий II,
65).
88
В этих свидетельствах Керкид выступает как дипломат и воин.
В других источниках освещается еще одна сторона деятельности
Керкида. Стефан Византийский (s. ν. Megalë polis) называет его
«замечательным законодателем и автором мелиямбов». В этом
Керкид был похож на древнего Солона, законодателя и поэта.
Аркадским законодателем называют Керкида и другие источники
(Eustath. 11. II, 494, с. 263; Photii biblioth. 190, с. 151а14). О
политической сущности этого законодательства трудно сказать что-либо
определенное, но вполне основательные предположения (Круазе)
связывают его с острой политической обстановкой в Мегалополе,
сложившейся там после битвы при Селассии, когда Антигон
назначил туда своим губернатором и законодателем перипатетика При-
танида (ок. 217—216 гг. до н. э.) 58. Полибий сообщает: «Мегало-
полийцы из-за царя Клеомена потеряли отечество, были разорены
до основания и, нуждаясь во многом, терпели во всем нужду. Хотя
мужество их не покидало, но они были лишены всех средств к
существованию, как отдельные граждане, так и государство в целом.
Все были охвачены недовольством, везде распри и взаимное
озлобление... Больше всего спорили граждане из-за писаных законов
Пританида, которого дал им в законодатели Антигон и который
был одним из самых известных представителей перипатетического
учения. Невзирая на такой разлад, Арату удалось, насколько
можно было, умиротворить мегалополийцев» (V, 93). Под давлением
масс македонский ставленник Пританид был, вероятно, убран,
и Арат поставил «своего» человека — Керкида, принадлежавшего к
старинной и знатной мегалополийской фамилии и известного, как
показывает его творчество, своими демократическими
убеждениями.
То, что известно из nomothesia Керкида, рисует скорее его
интеллектуальный кругозор, чем политические симпатии. Вполне
определенно можно говорить лишь о его школьной реформе. Порфи-
рий, на которого ссылается Евстафий в своих комментариях ко
второй песне «Илиады», говорил, что все географические сведения
в «Каталоге кораблей» истинны, и замечал, что некоторые деятели,
как Керкид, в своих законах обязывали учащихся знать «Каталог»
Гомера наизусть. Из «Библиотеки» Фотия следует, что Керкид так
высоко ценил Гомера, что даже завещал после его смерти положить
к нему в могилу первые две песни «Илиады».
К этим чертам, рисующим духовный облик Керкида, следует
присоединить и рассказ Элиана: «Житель аркадского города Ме-
галополя Керкид перед смертью говорил своим опечаленным
домашним, что охотно расстается с жизнью, надеясь встретить на
том свете из философов — Пифагора (его чтили киники.— И. #.),
из историков — Гекатея, из музыкантов — Олимпия, из поэтов —
Гомера. Сказав это, как передают, Керкид умер» (Пестрые истории
XIII, 20). Умер Керкид, вероятно, в конце III в. до н. э.
Живя в сложное время, Керкид, видно, неважно разбирался в
политике, но его симпатии были всегда на стороне народа, и если
89
он выступал против Клеомеиа как врага своей родины, то, судя по
его стихам, на него оказали влияние революционные для своего
времени социально-экономические идеи Клеомеиа, сложившиеся
под давлением традиционных лозунгов трудящихся — передел
земли и сейсахтейя, уничтожение долгов. Революционизирующее
воздействие на его мировоззрение безусловно оказали также
демократические идеи кипизма, одного из основателей которого —
Диогена — он пазыЕал «сыном Зевса, небесным киником-собакой»
(Диог. Л.VI, 76). Керкиду, жившему в большом неустроенном
городе с его бедным полудеревенским населением, оказалась
созвучной киническая проповедь опрощения и похвала скромности.
Близкой оказалась ему и бионо-телетовская диатриба, несущая в
народ эти идеи, и кратетовская силлография с ее пафосом
справедливости и высокой нравственности. Поэтому Керкид выступает
не только как политик и мыслитель, но и как смелый, социально
остро мыслящий художник-новатор, грубоватый сатирик, народный
трибун, полемист, реформатор стиха.
До обнародования Оксириихского папируса 1082 в 1911 г.
творчество поэта из Мегалополя было представлено девятью
коротенькими фрагментами в десяток с небольшим стихов, извлеченных
из книг Диогена Лаэртского, Стобея, Афинея и некоторых других
писателей [29, т. 2, с. 513—515]. Были известны и названия его
стихов («Мелиямбы» и «Ямбы») и его кинические симпатии.
Диоген Лаэртский цитирует отрывок из «Мелиямбов»,
прославляющий Диогена Синопского (VI, 76), Афиней приводит слова
участника «Пира мудрецов»—язвительного и веселого киника Кинул-
ка, который многозначительно называет Керкида «своим» (VIII,
347е). Что же конкретно было известно ученым (ибо широкой
публике имя Керкида ничего не говорило) из его поэтического
наследия до 1911 г.?
Даже самый большой из отрывков «Мелиямбов»,
насчитывающий шесть строчек (не говоря уж об остальных в несколько слов),
не давал оснований для расшифровки его метрической схемы. В них
можно было лишь узнать логаэдическое сочетание дактилей и
трохеев (дактилотрохеи или дактилоэпитриты). Решительное
слово о метрике было сказано позже. Что касается самого названия
«Meliamboi» (из .melos+iamboi), то было ясно: речь шла о стихах
в мелических (лирических) формах и сатирически насмешливых
(ямбических) по содержанию. Их можно было бы назвать,
следовательно, «Лирические ямбы». Правда, современному читателю в
слове «лирический» слышится больше содержательный момент,
чем версификациоиный, но в отношении Керкида это будет
правильно, ибо его поэзия, как говорят теперь, очень личностна,
индивидуально окрашена, и в этом ее лиризм. Диалект отрывков,
как и можно было ожидать от их автора, аркадского патриота,—
дорический (с некоторыми индивидуальными отступлениями).
Фргм. 1. «Существовал также рассказ, что Диоген умер.,
задержав дыхание. Об этом свидетельствует Керкид из Мегалополя
90
(или с Крита) в своих „Мелиямбах":
... Не такой уж, как прежде, этот знамепитый Синопец,
Который ходил с посохом, складывал вдвое свой плащ,
Жил под открытым небом.
Он поднялся на небо, крепко стиснув зубы,
Чтобы остановить дыхание.
Этот человек был в полном смысле слова Диоген,
Зевсом рожденный, небесный киник-собака» (фргм. 6 Д.) 59.
В немногих строчках здесь заключены панегирик и краткая
характеристика «главного киника», намечены специфические
черты поэзии Керкида — любовь к новым и сложным словам, которая
так нас поразит в папирусных фрагментах (baktrophoros, dip-
loeimatos, aitheriboskas), этимологическая игра слов (Diogenês-
Zanos gonos). Керкид прославляет добровольную смерть
Диогена и явно хотел бы увидеть на небосводе новое созвездие Пса —
Диогена. Вероятно, с образом Диогена связаны и уцелевшие
в Оксиринхском папирусе 1082 frgm. 7 H. (фргм. δ Д.) строки,
совпадающие с цитатой из Керкида у Стобея (4, 16, 7, с. 395
Hense) :
Ь^ I to I tas riknäs chelônas
I mnamon | ey' oikos | gar aristos alatheos | kai philos
В них воздается хвала, как можно думать, знаменитой бочке
Диогена, сравниваемой с панцирем черепахи, который всегда
при ней, или с не менее прославленным трибоном, «поистине
самым лучшим и дорогим домом» философа.
Фргм. 2. В этом отрывке (фргм. 7 Д.; Стобей 3, 4, 41, с. 229Н)
Керкид с позиции кинического морализма и интеллектуализма,
несколько иронически используя для этого афоризм знаменитого
дорического комедиографа Эпихарма (фргм. 249 Kaib) 60,
обращает свой гнев на безнравственных современников, жалких пьяниц:
...Разум зрит и разум слышит...
Но как могут увидеть и узнать
Мудрость, даже стоящую рядом с ними, люди,
Душа [сердце] которых полна грязи
И несмываемыми пятнами дешевого кислого вина?!
Возможно, Керкид имел в виду каких-то определенных
идейных и политических врагов, с которыми он полемизировал,
отстаивая свои позиции.
Фргм. 3. Один из самых видных «отцов церкви», Григорий
Назианзин (IV в. н. э.), был поклонником Керкида и даже
называл его «милейшим». В этом нет ничего удивительного, так как
у киников и ранних христиан было немало точек
соприкосновения. Высокий моральный пафос, аскетизм, служение
добродетели, осуждение богатства, чревоугодия, распутства, вера в
«блаженство нищих», в духовную силу человека и т. п. объединяли
в известной степени неверующих киников и богобоязненных
христиан. Григорий Назианзин включил в свое собственное сти-
91
хотворение, перефразировав и сломав ритмический рисунок
оригинала, понравившиеся ему строчки Керкида (фргм. 11 a, b Д.;
Migne. PG 37, 723):
Как изысканные блюда обжор и чревоугодников,
Так и похлебка, не заслуживающая даже
названия еды, которую бедняки черпают из одного котелка β1,—
все отправляется в конце концов в отхожее место.
Вот она — высшая цель прожигателей жизни.
Так правильно говорит об этом милейший Керкид,
а сам он питался просто [солью]
и плевал на всю эту роскошь соленой слюной насмешки.
Дополняется фрагмент следующими стихами (Migne. PG 37,
656):
Хлеб для меня — пирог изысканный и блюдо пряное,
А соль мне делает все сладостным,
Поэтому на богачей плюю слюной солено-сладостной.
Конечно, трудно судить о стихотворении Керкида по цитате
у христианского писателя, тем более что нельзя точно сказать,
где кончается цитата, а где слова Григория. Тем не менее и здесь
видна его ненависть к богачам, приверженность к бедным людям,
к их скромному образу жизни, который он и сам разделял. Даже
из жалких обрывков текста, как из кусочков смальты,
складывается впечатляющий мозаичный портрет народного поэта.
Каждая строчка и слово дышат ненавистью к праздным гулякам,
поклонникам роскошной жизни, которых поэт презирает всеми
силами души62. Есть здесь и откровенно нарочитая киническая
грубость (kataptyö, herpein eis bython), функциональная игра
слов (hals-halmyron). Киник не боится грубости, его аудитория —
толпа, которую он должен ошарашивать, эпатировать,
привлекать сразу на свою сторону открытым правдолюбием.
Единственный у Керкида холиямбический фрагмент связан
с популярной в древности новеллой о двух прекрасных (callipy-
goi) сестрах из Сиракуз:
Жила сестриц прекраснозадых пара в Сиракузахб3.
Какая «сверхзадача» была в этой почти декамероновской
истории, рассказанной Керкпдом в холиямбах, популярных у ки-
нических поэтов? Сначала обратимся к ее обстоятельствам, как
они представлены Афинеем (XII, 554 cd) :
У одного крестьянина были две красивые дочери. Однажды они
поспорили, у которой из них более красивый зад, и, чтобы решить спор, вышли
на большую дорогу. Когда на дороге показался юноша, сын почтенного
и богатого родителя, они решили показать ему свои прелести. Поглядев
на обеих, он присудил пальму первенства старшей и так влюбился в нее,
что, вернувшись в город, даже захворал и рассказал обо всем своему
младшему брату. Тот немедля отправился в названную деревню и, увидев
девушек, сам страстно влюбился в младшую из них. Отец пытался уговорить
их взять себе в жены девиц более благородного происхождения, но ничего не
добился и привез девушек с согласия их отца в город к своим сыновьям
92
и поженил. Этих-то девушек сограждане прозвали «прекраснозадыми»...
Выйдя замуж, сестры получили большое богатство и построили храм,
посвятив ого Афродите, которую назвали Каллипигой [Прекраснозадой]. 06-
этом есть свидетельство и у Архелая.
Так что же кинического могло быть в этой забавной истории
в интерпретации Керкида? Может быть, как предполагает Гер-
хард, здесь была апология неравных браков, которые так
осуждались греками, и защищались права любви, подобной любви
Кратета и Гиппархии [427, с. 209] 6\ Вряд ли с такой точкой
зрения можно согласиться. Более вероятной мне кажется
антирелигиозная тенденция новеллы, в которой две легкомысленные
девицы, разбогатев не очень скромным способом, становятся
благочестивыми. Киник высмеивает как самое Афродиту Каллипи-
гу, так и святость ее храма, построенного по столь
двусмысленному поводу.
Однако все рассмотренные выше поэтические отрывки,
известные издавна, не давали представления об истинной
направленности и художественном своеобразии творчества Керкида, не
раскрывали его подлинного политического лица — демократа и
друга народа, остро чувствовавшего социальные контрасты и
несправедливость. Все «новые» стихи Керкида
социально-философского содержания полны отзвуков политической и
идеологической борьбы его времени.
Один из первых фрагментов, которым мы начнем анализ «Ме-
лиямбов» из Оксиринхских папирусов, представляет собой
своеобразную ретроспективу, поэтическую исповедь человека в том
критическом возрасте, когда подводят итоги или стоят на
перепутье, готовясь к следующему жизненному этапу. Здесь и
«верую» старого поэта, обращающегося к самому себе в минуту
мучительного раздумья и сомненийв5.
... Человек даже на пороге смерти неохотно смыкает
навеки66 глаза, а сердце в твоей груди неприступно,
и его не могли сокрушить никакие заботы,
одолевающие пожирателей жирного мяса.
Поэтому ничто из прекрасного на земле еще никогда
5. не прошло мимо тебя, и вся изысканная добыча Муз
глубоко проникла в самые твои внутренности, и ты,
мое сердце, устраивало нечто вроде рыбной ловли
на Пиэрид и было самым умелым на них охотником.
А ныне в твоих ниспадающих с головы волосах
ясно виднеется седина, и подбородок покрыла
10. сивая борода, а жизнь, уже глядящая на широкий
порог своего заката, запскивая и льстя, все еще
ищет какого-то совершенства, подходящего возрасту
и годам. Тогда мудрой...
Здесь стихи обрываются.
В метафорах, смелых и неожиданных, словами неизбитыми
и сочными Керкид говорит о своей жизни, прожитой для людей,
о том, что в противоположность большинству, цепляющемуся за
возможность просуществовать лишний день, он не страшится
93
смерти, потому что всегда твердо и мужественно боролся против
мира «пожирателей жирного мяса» (pimelosarkophagön — вот
один из множества удивительных и неповторимых неологизмов
Керкида!). В этой борьбе оружием были и его стихи,
захватившие поэта до самых «внутренностей» (hypo sp(l)anchnois (in)
esk (en)liabra Moys (ä)n knödala — читаю по Ноксу). Как
опытный рыбак и охотник, он преследовал Муз по пятам, но теперь,
когда жизнь склоняется к закату, может быть, пора оставить
стихи, политическую борьбу и заняться чем-нибудь более
серьезным и подходящим старости, посвятив себя целиком
философии? Perhaps it is his farewell to poesy? (Hunt). Но это не
ламентации и не раскаяние об, упущенном и попусту растраченном
времени, скорее, гордое и немного самодовольное подведение
итогов, созвучное кратетовскому:
Все, что узнал и продумал, что мудрые Музы внушили,—
Это богатство мое, все прочее — дым и ничтожность.
Поэзия, по верному замечанию М. Круазе, выступает здесь
как «практическая форма добродетели» [424, с. 486], ибо
благодаря ей ничто прекрасное не проходило мимо поэта, он научился
острее чувствовать и стал способен на добрые поступки. Поэзия
представляется Керкиду, как и вообще искусство у киников,
большой моральной силой, преобразующей человека.
Некоторым исследователям не нравится образная система
Керкида, его тропы, новообразования. Они считают их
неестественными и безвкусными, слишком, типичными для кинического
реализма [254, с. 9]. В качестве примеров приводятся habra Mou-
sän knödala (букв, «дикие животные, добыча Муз») или Pieridön
th' halieytas и ichneytas aristos («рыбак и искусный охотник,
выслеживающий Пиэрид») и т. п. Но как тут каждая строчка
приковывает к себе внимание и прямо-таки восстает против
приятной, «зализанной» гладкописи, полемизируя с ученой и утонченной
поэзией века! Кроме всем известных муз или распространенной
у поэтов начиная с Гомера (Ил. XXII, 60) метафоры «порог
старости» (gëraos oydôi) G7, мы не встречаем раритетов из области
мифологии или утонченных реминисценций. Таковы все стихи
аркадского поэта, пишущего для масс, а не для узкого круга
знатоков.
Но центральным из сохранившихся «Мелиямбов»
справедливо можно считать сравнительно большой отрывок (более 35
стихов) фргм. 1 Д.; Рар. Ох. 1082, фргм. 1 Hunt), бичующий
богатство, полный гнева и ненависти к уродствам современного
общества. В нем наиболее полно отразились как мироощущение
Керкида, так и его художественно-эстетические принципы.
Начало фрагмента утрачено, в сохранившемся тексте имеются
лакуны, поэтому в некоторых местах перевод гипотетичен.
...[Почему богиня судьбы Тиха (или Зевс)] не превратило
Этот денежный меток, обжору и развратника Ксенона в сына
94
Нищеты 68 и не послала нам, беднякам, на жизнь те груды
Золота, которые ou снова и снова пускает на ветер?
Г>. Что этому помешало? Что она сможет па это ответить,
Если кто-нибудь ее об этом спросит? Ведь богу легко
Выполнить все, что только ему взбредет в голову.
Почему же она не отберет у грязного мошенника и ростовщика
(rypokibdotoköna), готового задушиться за грош, или у
Расточителя, не устающего проматывать свое состояние,
у этого губителя денег, их свинского богатства (syoploy-
tosynas) и не даст хотя бы самых ничтожных средств па
существование бедняку, который питается лишь самым необ-
10. ходимым (epitadeotröktai) и не имеет даже своей
собственной посуды 69. Неужели Дика слепа, как крот, а
Фаэтон (Солнце.— И. Н.)
Смотрит одним только глазом, и у богини справедливости
Фемиды ее ясные очи затуманились? Какие же это боги,
13. Если нет у них ни слуха, ни зрения? А еще этот
величественный метатель молний, сидящий в центре Олимпа...
Ровно и крепко держит в руках весы [Судьбы], и не одна
Чаша их не дрогнет. Так говорит Гомер в «Илиаде» 70:
«Чаша весов упадет, когда день роковой для доблестных
20. Мужей наступит». Тогда почему же этот справедливый
весовщик никогда не склонит чаши весов в мою пользу? Что же
Касается самых ничтожных из варваров-мисинцев 71, то
[Страшно даже сказать!] для них Зевс готов склонить весы72.
К каким же владыкам земным или небесным нужно обратиться
25. За справедливостью, когда сам Кронид, который зачал и
Породил всех нас, для одних — отчим, для других — отец
Родной? Лучше оставим этот вопрос тем, кто гадает по
Звездам 73. Надеюсь, он не окажется для них слишком трудным.
А мы лучше позаботимся о Пэане (бог здоровья.— И. Я.) и
30. Доброй Метадос («Благодеяние», букв. «Поделись».— //. //.),
Ведь богиня она и, совсем как Немезида, только живет на
*емле. Итак, пока бог посылает вам попутные ветры, чтите
Эту богиню, легко живущие мужи...74 Налетит враждебный
35. Ветер и погубит ваше ненавистное богатство, дарованное
Судьбой. Вот тогда придется вам извергнуть обратно из
Самого нутра все, что сожрали, до последнего кусочка.
Таковы эти трудные и сильные строчки, подчас нелегкие для
понимания и требующие разъяснения и толкования. Оценить их
политическую остроту, откровенность, воинственную
гражданственность и злободневность в полной мере можно, только вспомнив
тяжелую обстановку в родном для Керкида Мегалополе после
кровавых подвигов спартанского царя Клеомена и «помощи»
македонского царя Антигона. К 221 г. до н. э. Великий город был
освобожден от оккупантов, но основная масса населения бедствовала, живя
среди развалин. Тем сильнее бросалась в глаза беспечная и
легкая жизнь отдельных граждан, их эгоизм и нежелание помочь
пострадавшим от войны. Керкиду была чужда позиция
стороннего наблюдателя, поэтому его «Мелиямбы» так динамичны, полны
жажды действий и активно вторгаются в жизнь.
В начале сохранившейся части первого фрагмента
подвергается злой пасмешке некий Ксенон, названный в обрывках схолий
«какой-то известный и ненавистный всем распутник». Этот поте-
05
рявший совесть «денежный мешок» (olbothylakos), обжора,
развратник и мот (laroii te kai akrosiöna) на виду у всех вел
разгульную жизнь, когда народ вокруг был «лишен всяких средств к
существованию» (Полибий). Чтобы окончательно заклеймить
его и вызвать возмущение, поэт назвал его по имени. Ксенон был
расточителем (palinekchymenitan), «пагубой для богатств» (tön
kteanön olethron). Керкид пригвождает к позорному столбу и
другой, не менее ненавистный народу тип угнетателя —
скрягу-ростовщика, выжигу, готового задушиться ради наживы (rypokibdotoköna
kai tethnakochalkidan). Если есть справедливость на земле,
восклицает поэт, то боги должны отнять (kenösai) у них все их
«свинское богатство» (tas syoploytosynas), превратить их в таких же
бедняков (penêtylidan), как те люди, от имени которых говорит
поэт, должны заставить их питаться только самым необходимым
(epitadeotröktai) 75 и даже лишить их собственной посудины для
варки пищи, чтобы пользовались они общей с соседями (koinokra-
teroskyphôi), такими же бедняками.
Конец стихотворения звучит угрожающе, поэт предупреждает
богатеев: если они не поделятся с неимущими, оставив без
внимания богиню Метадос (Metadôs — букв. «Поделись!»), то ветры
судьбы начнут дуть им в лицо, а ранее благосклонная богиня станет
для них роковой, превратившись в Немезиду, богиню мщения,
воздающую всем по заслугам (Nemesis<nemô). Вот тогда-то
придется им извергнуть из самых потаенных глубин (neiothen exemesai —
букв, «выблевать из самого нутра») все награбленное у народа
«ненавистное богатство» (misêton olbon). Несколько
завуалированно, но достаточно прозрачно здесь выставлены требования,
увлекавшие массы еще с солоновских времен и вновь выдвинутые
спартанскими реформаторами (chreön apokopê, gês anadasmos).
Но Керкид был достаточно трезв, чтобы не верить в благоразумие
и филантропизм богатых людей: он не рассчитывал и на помощь
богов. Можно было только возлагать надежды на собственные
силы и пригрозить богачам расправой.
Сильное социальное звучание приобретают в этом контексте
нападки на традиционных богов (и прежде всего на владыку
Зевса), которые могли восприниматься как прямое богохульство и
понадобились Керкиду для придания эмоциональной окраски всем
стихам. Разве могут считаться богами жалкие существа, которые
слепы и глухи к людскому горю, потворствуют злу? — негодует
поэт. Какими только уничижительными сравнениями и эпитетами
не награждает он небожителей: глаза Дики слепы, как у крота
(apespalakôtai), Фаэтон — окривел (monadi glënai paraygei),
сверкающая Фемида скрылась в чаду и тумане (katachlyötai).
Негодования и злой иронии полны строчки, посвященные богам, и
особенно Зевсу, который, по словам Гомера, справедливо взвешивает на
золотых весах участь людей. Будто бы в благочестивом трепете
(hazomai de then legein) поэт высказывает притворное удивление,
что этот «справедливый весовщик» (orthos zygostatas) ни разу не
96
склонил чашу своих весов в сторону честных и многострадальных
бедняков, а худшие из людей, отбросы общества, эти подонки
(sic!) «мисийцы», пользуются божественным покровительством.
Негодование поэта достигает кульминации, вопрос его убийствен:
к каким же еще небесным или земным владыкам нужно
обращаться за справедливостью, когда сам Зевс, отец богов и людей,
для одних отчим, для других — отец родной? Это прямое
отрицание не только благости богов, но и веры в них. Керкид
расправляется с широко бытующим в народе представлением о святости
и высшей справедливости богов, порывает с религиозной моралью
и требует нравственности и правды вне религии. Высшая
несправедливость, санкционирующая зло на земле, свидетельствует
против богов.
Прямое обращение к объекту сатиры — людям и богам,
восклицания, многочисленные риторические вопросы, парентезы,
подчеркивающие личную позицию автора, иропия, лаконичная
многозначительность, подчеркнутая ссылкой на Гомера, в
соединении с необычным лирическим размером, сочетание лексики
высокого стиля и вульгаризмов, обдуманная разностильность,
энергичность и динамизм, профетический тон — все это производит
ошеломляющее, почти страшное впечатление.
Это устрашающее, «диковинное» впечатление, будоражащее,
приковывающее внимание читателя с первых же строчек, связано
прежде всего со смелыми и неповторимыми неологизмами,
которыми изобилует стихотворение. Из одного стихотворения
извлекается целый список новых слов, до 1911 г. не зарегистрированных
ни в одном самом полном лексиконе76. Они предельно емки,
экспрессивны, в них принципиальный кинический лаконизм
достигает своего логического завершения. В- одном слове спрессовываются
образ, характеристика, сравнение, метафора, эмоциональная
оценка, насмешка или утверждение. В них —целый мир художника,
его жизневидение. Греки любят словосложение. Немало ярких
тому примеров в языке Гомера, Аристофана, Гиппонакта, Пияда-
ра, дифирамбических поэтов, которых Керкид безусловно имел
в виду. Любовью к неологизмам-композитам отличаются и
другие киннческие и близкие к ним авторы (Кратет, Бион, Тимон
из Флий и др.). Корни этой любви — в новизне поэтического
материала, в стремлении приковать к нему внимание слушателя или
читателя. Новые композиты Керкида отличаются
выразительностью, неожиданностью сталкиваемых корней, при всей их
смелости они понятны, доступны, если даже состоят не из двух, а из
трех компонентов, так как обычно созданы по существующим в
языке моделям и источником их является словарь «человека с
улицы». Эта их доходчивость свидетельствует о демократичности
поэта. К. Шмидт особо отмечает, что источником словотворчества
таких поэтов, как Керкид или Плавт, наряду с классической
литературой была и неисчерпаемая стихия грубоватой, «derbwitzigen»,
народной речи [529, с. 640].
4 Заказ Л* 370
97
Вплоть до нашего времени греческие поэты создают сложные
эпитеты по моделям, которые они встречают в народной поэзии.
Керкид вряд ли претендовал на то, чтобы его языковые находки
вошли в общенародный словарь, но для своих конкретных
художественных целей он не переставал выдумывать и искать.
Неологизмы Керкида, внутренне основательные и серьезные, никогда не
противоречившие законам словообразования родного языка,
безусловно обогатили образные ресурсы греческой поэзии.
Рассмотрим наиболее характерные из них, взяв их только из
приведенного выше фрагмента.
Ст. 2. Olbothylakos («денежный мешок», «мешок с золотом») —
слово образовано из olbos («богатство») и thylakos («мешок»).
Столь знакомая современным людям, насмешливая в духе комедии
метафора впервые зафиксирована у Керкида. Это сказано о богаче
Ксеноне. Другое керкидовское новообразование, meteörokopos, т. е.
astrologos, звучит еще более по-аристофановски, напоминая его
meteörosophistai и подобные же образования в «Облаках».
Ст. 3. Penëtylidas («сын, потомок бедняка», «отпрыск
нищеты») — новообразование на -idas (-idës) от penês («бедняк»), как
заметил Виламовиц, похоже на патронимик (ср. Oyranidas, Kro-
nidas), указывает на высшую степень бедности: сам бедняк и сын
бедняка, бедняк по наследству. Подобного рода образования
встречаются также в комедии.
Ст. 8. Tethnakochalkidas (букв, «сын мертвых денег» или «сын
умирающего за деньги») образовано из двух значащих
компонентов: tethnakös (дорич. форма -tethnëkôs от thenësko— «мертвый»,
«умерший») и chalkos (в значении «деньги»). Это эпитет
ростовщика. Принципиально возможны два его толкования. Смысл
одного из них, предложенного Виламовицем [435, с. 1153],
экономический: у ростовщика деньги в его сундуках лежат мертвым грузом,
они как бы умирают. Почти так же толкует и Арним: ho tethnëko-
ta ton chalkon echôn. Другое объяснение более эмоционально:
человек, готовый за деньги, за их самую малость отправиться на тот
свет. Последнее, как мне кажется, выразительнее, активнее и
сильнее обличает ненавистного ростовщика, так как относится не к
его деньгам, а к нему самому. Ведь в ст. 7 он назван грязным
обманщиком и мошенником — rypokibdotokön, словом, состоящим из
трех элементов: гура («грязь», «нечистоты»), kibdalos («лживый»,
«хитрый», «нечестный»), tokos («проценты»).
В силу того что, по моему мнению, в начале «Мелиямбов» речь
идет о двух разновидностях толстосумов — скряге и моте, то га-
пакс эйременон в ст. 8 palinekchymenitas (букв, «один из тех, кто
постоянно, опять и опять, бросается деньгами») относится к
расточителю. Неологизм образован от palin («снова», «опять») и ekcheö
(«вылить», «выплеснуть». Ср. эпич. аорист — chynto).
Ст. 10. Необычным словом с привычным суффиксом -syna/sunë
названо богатство — syoploytosyna, произведенным от sys, os
(«свинья») и ploytos («богатство»), т. е. «свинское, грязное богат-
98
ство», приобретенное нечистыми, неразборчивыми средствами.
Ср. аристофановское hyomousia — «вкус, как у свиньи» (Всадн.
986).
В ст. 10 Керкид придумал новое слово также для бедняков:
epitadeotröktas — дорич. форма от epitadeia («необходимая пища»)
и trögö (прост, «кушать», «кормиться»). Ср. плавтовские имена
параситов — Artotrögos, Mykkotrögos, т. е. тот, кто питается
только самым необходимым, чтобы утолить голод и поддержать жизнь,
в противоположность palinekchymenitas и pimelosarkophagos
(фргм. 4 Д. ст. 4).
В ст. 11 другой неологизм — koinokrateroskyphos (букв, «общая
посуда»), составленный из трех компонентов: koinos («общий»),
kratër («сосуд») и skyphos («чашка», «кружка»),—допускает
несколько толкований: 1. Сосуд, который служит для приготовления
любой пищи и для смешивания вина, иначе говоря, одна кастрюля
на все. 2. Сосуд, которым пользуются сообща, по очереди
несколько бедных семейств [89, с. 21]. 3. Сосуд, из которого черпают вино
кружками все вместе; общий кратер, из которого наполняют
кубки на дружеской пирушке в складчину· Эту точку зрения
разделяют М. Круазе, Нокс, Арним. Последний разъясняет, что речь идет о
человеке, у которого нет собственного кратера и он объединяется
с другими в своеобразную общину, куда делает небольшой взнос.
«Это простой человек из бедных слоев, которому Керкид как
киник и демократический политик желает добра» [424, с. 13]. Есть
еще одно объяснение. Бедняк может получить свою чашу вина,
когда на празднествах все свободно пьют из выставленных
общиной сосудов [526, с. 635].
Каждое из объяснений, несмотря на различия, рисует один и
тот же образ нуждающегося, но второе из них, на мой взгляд, дает
более рельефную и точную картину повседневной бедности, чем
представление о редких праздничных выпивках. Цель поэта —
показать не праздники, а будни. Всеми возможными средствами
Керкид приподнимает простого человека, показывает его духовную
щедрость, превосходство над жадным богатством, готовность
поделиться с товарищами последними крохами.
Выразительны и глаголы, придуманные Керкидом.
Ст. 12. Apospalakoö — со значением «быть слепым, как крот».
Образован от spalax, объясняемого в схолиях как «животное, у
которого есть место для глаз, а глаз у него нет, оно ничего не
видит» (речь идет о кроте). Непочтительный по своей сути, глагол
связывается с богиней справедливости Дикой.
Так же пренебрежительно говорится о других богах.
Ст. 13. Paraygeö (от aygë —«свет»)—смотреть одним
глазом», «быть кривым»;
Ст. 14. Katachlyomai — «быть покрытым мглой, туманом,
затуманиться» (от achlys— «тьма», «мгла», «туман»; в схолиях дается
синоним: epescotistai).
Боги для Керкида только удобная условность. В обстановке
4* 99
всеобщей религиозности и суеверий он сам создает новых богов.
Один из них представляет собой персонификацию раздачи благ,
необходимость богатым поделиться своим достоянием с
неимущими. Имя этого нового божества Metadös (ст. 31) образовано от те-
tadidömi по модели Гесиода (Труды и дни 356—Dos agathë) и
гомеровского гимна Деметре (Dos — ее имя). Этой богине
«Поделись!» должны поклоняться имущие классы, в противном случае
им придется насильно расстаться со своими богатствами.
«Мелиямбы» о несправедливом распределении богатств
напоминают диатрибы Биона и Телета (правда, у Керкпда они острее
и непримиримее) как по содержанию, так и по средствам
художественной выразительности. Под оболочкой естественности и
простоты проглядывается тщательная работа художника,
продуманная в целом и в частностях, обнаруживающая его прекрасное
знакомство с современной поэтической теорией π практикой, с
трудами риторов.
Киник мыслит полярными противопоставлениями: physis —
nomos, kala — kaka, agathos — ponëros, phronësis — mania, philein —
misein, penia — ploytos (соотв. добро — зло, праведник — злодей,
разум — безумие, любить — ненавидеть, бедность — богатство) и т. п.
Поэтому он часто прибегает к антитезам и параллелизмам.
Анализируемый отрывок также начинается с антитезы: богач и
развратник Ксенон, не названный по имени ростовщик и мошенник
противопоставлены беднякам. Для каждого из них найдены
свежие, незабываемые слова и характеристики. В середине
стихотворения опять-таки контрастно сопоставлены «самые последние из
мисийцев» и все добродетельные, честные люди в лице самого
поэта (ст. 21—22), Зевс-отец и Зевс-отчим (ст. 27—28). Конечно
же, почти в каждом случае не забыты эти выразительные частицы
men и de, подчеркивающие противопоставления.
Ораторская интонация поэта-трибуна, публициста и сатирика
форсирована настойчивыми и пытливыми риторическими
вопросами, не декоративными, а по сути дела, когда автор действительно
хочет докопаться до корней социального зла. Почему жалкий ки-
нэд и толстосум Ксенон давно не превращен в нищего? Почему он
швыряется деньгами направо и налево, а многострадальный народ
бедствует? Что мешает восторжествовать справедливости? Что
случилось с правдой на земле? Где всемогущие и праведные боги?
Да, впрочем, эти неполноценные существа разве могут считаться
богами? К кому теперь обращаться за помощью? Почему для одних
Зевс — отец, а для других — злой отчим? И т. д. и т. п. Фразы
короткие, четкие, преобладает паратаксис, той доверительный,
ищущий понимания и сочувствия у слушателей, выражающий самые
сокровенные мысли (впечатление доверительности усиливается
словами, произнесенными как бы в скобках,— «страшно сказать!»).
В коротком стихотворении упомянут и процитирован Гомер,
которого Керкид, как и другие киники, боготворил. Нашлось место и
поговоркам.
100
Критика бездумных прожигателей жизни, праздности,
обжорства (в обстановке всеобщего недоедания), разврата и, как
следствие, проповедь автаркии и скромности — постоянная тема поэта,
что подтверждается еще одним фрагментом (фргм. 3 Д.; Ох. Рар.
VIII, 1082, frgm. 2), правда очень плохо сохранившимся.
Поскольку текст изобилует лакунами, новые слова вне контекста еще
более затрудняют его понимание, хотя именно они наталкивают
на общую идею отрывка. Даже гипотетически восстановленный
трудами ряда ученых текст имеет вид, отнюдь не
благоприятствующий дефинитивной расшифровке:
.Ού (...) νη^πυ (...) ουτ(ως· άλλ') ακάρδιον
(...) φρίκαν τ' (Ά) πολ (λων) (συΤ) κροτνριγόμφιον
(νέμει /α) τά καιρόν έκάίτω, π (άντα) #εΐ κηλαύνεται 77
7^Ρ (·.·) τα φευξιπόνων αν (α γάν)
5. φυλά σκιόι9-ρεπτ' ακ (ηρ)ως έγχεσίμωρος
ά bov(o)n(\) άκτων βροτών
καί μ(ά)Λ' επισταμένως
ωπασα.. 3ε (.) -χ., α 7άΡ (·) ψ (·)· Ρ*7 (0L) ζ
πι (...) αν ώλεσίκαρπον (...) υγα φυσαλέαν
10. Λυδάν (τ' ) ή νεΰρα δέ και κρα (Βαλα)
(δι') ώτ* έλελι-νμα (υ ) с εύπαλ (αμός τε νύρα)
Понятно, что при таком состоянии текста дать хоть
какой-нибудь связный перевод невозможно, и могут быть
прокомментированы лишь отдельные слова и выражения. В неясной роли здесь
выступает Аполлон, как один из тех, кто, распределяя
удовольствия, вместе с тем для людей, которые им предаются, уготавливает
страх, заставляющий скрежетать зубами (phrikan... synkratësi-
gomphion), делает их бессердечными (akardion). Поэт рисует
психологическое состояние людей, живущих в тени (phyla skiothrep-
ta), избегающих трудов (pheyxiponön),— они получают удары от
наслаждений (hadonoplakton brotön), к которым так стремятся;
становятся жертвами жирной пищи (pimelan ölesikarpon),
делающей их к тому же неспособными к воспроизведению рода78.
Следующий отрывок (фргм. За Д.; Ох. Рар. VIII, 1082,
фргм. 5, 6), также сильно испорченный временем, изъеденный
червями, ценен особенно тем, что окончательно уточнил датировку
и решил, таким образом, вопрос о личности Керкида, ибо именно
в нем упомянуты имена стоика Сфера (Sphairos — Диог. Л. VII, 6),
советника Клеомена (Plutarch. Cleomen. 11) и почитателя
македонцев — стоика Каллимедона79. Несмотря на известное сходство
моральных установок киников и стоиков, первых все же не
устраивал «философско-религиозный компромисс Стой» (Нестле), и
вообще они представляли разные лагери в философии, поэтому
против стоиков в это время выступали и Бион и Менипп.
Полемику Керкида со стоиками обостряли еще и политические мотивы.
Нападки на стоическую «болтовню» — mophlyakën, как говорит
Керкид, и специально на «зеноновскую любовь» (так иронически
именуется педерастия) — erös Zanönikos,— обычные для киников
101
[193, с. 141 и ел.], продолжаются и во фрагменте, заключающем
«Мелиямбы» Керкида, собранные в папирусе (фргм. 9 Д.; Ох. Рар.
1082, фргм. 4). Именно он заканчивается словами: Kerkida kynos
Meliamboi, устраняющими сомнения в атрибуции стихов и в
принадлежности мегалополийского поэта к кинизму. К сожалению, и
этот фрагмент прочитан лишь частично, что дает основания для
двух диаметральных его толкований. Одни (Хант, Виламовиц,
Арним) понимают «зеноновскую любовь» как возвышенную и
чистую философскую дружбу, своего рода «платоновскую любовь»,
опираясь на фразу: «Если найдешь среди всех человека мусиче-
ски образованного...», другие — как чувственную однополую
любовь (Герхард). Для последнего толкования есть также опорные
пункты в тексте: pothos, himeron («страсть», «любовное
томление»), pot' arsenas arsën (имеются в виду мужчины в
физиологическом, а не философском смысле). Двусмысленны советы Керкида
не тратить сил на такого рода «научные изыскания», «чтобы
повернуть спереду назад».
Думаю, что и в данном фрагменте нужно видеть критику, а не
апологетику. Иначе пришлось бы констатировать противоречие
между обычными взглядами киников на любовь и тем, что
предлагает поэт.
Киники, как правило, на любовь смотрят утилитарно. Конечно,
желательно было бы вовсе отказаться от нее, но, к сожалению, она
неизбежна в процессе воспроизведения рода, поэтому жениться
следует только «ради рождения детей» (paidopoias charin) и
лучше на красивых и здоровых женщинах. Естественное для человека
половое влечение следует удовлетворить как можно быстрее и
проще, чтобы оно не мешало выполнению более важных киниче-
ских функций (таков смысл рассуждений Антисфена о любви у
Ксенофонта.—Пир 4, 38 и ел.). Для этой цели можно
воспользоваться даже услугами гетер. Эта точка зрения остроумно
защищается Керкидом в стихах о любви, начальная часть которых, за
исключением нескольких строк, довольно хорошо сохранилась.
Вот перевод уцелевшей части (фргм. 2 Д.; Ох. Рар. VIII, 1082,
frgm. 1, II, col. IV, V):
а. Кто-то сказал нам, Дамоном, что лазоревокрылый
Сын Афродиты из щек своих выпускает два разных
дуновения.
Ты достаточно образован, чтобы это знать.
На кого из смертных он дунет нежно и дружелюбно
5. Из правой щеки, тот спокойно правит кораблем любви
С помощью мудрого кормила убежденья.
На кого же он дунет из левой щеки, те оказываются
Среди бурь и страшных вихрей любовных желаний,
Их ожидает повсюду плавание по бурному морю.
10. Хорошо об этом сказал Еврипид. Поэтому из этих
Дуновений лучше выбирать то, которое сулит нам
Спокойное плавание, и, разумно пользуясь кормилом
Убеждения, плыть напрямик; ибо Киприда ведет
Наш корабль вперед по волнам...
102
Далее следует лакуна в 10 стихов, затем идет вторая часть
«Мелиямбов»:
в. ...Ведь вся эта бешеная злоба и безумное
Стремление соития с женщинами влекут за собой
Гибель и конечное раскаяние. Но есть еще продажная
Любовь, Афродита с площади. Когда тебя охватит
Желание и ты захочешь ее, с ней никаких хлопот80,
Ни страха, ни беспокойств. Всего за один обол
15. Ты уложишь красоту к себе на кровать и можешь
Считать, что стал зятем самого Тиндарея...
Эти стихи стоят несколько особняком во всем дошедшем до нас
творчестве Керкида, обогащая наше представление о поэте, ибо до
сих пор была известна только серьезная его публицистика. Они
легче по теме и по тону, но и в них проглядывает киник. Особенно
в заключительных строчках, о которых хочется сказать: «В каждой
шутке есть доля правды». Спокойно, как обычно, начав свое
поэтическое послание к некоему Дамоному с вольного пересказа еври-
пидовского пассажа (Doia tis hamin epha gnathoisi physën) 81, он
далее развивает его, снабжает колоритными подробностями и затем
'будто бы отдает предпочтение разумной и спокойной любви, с чем
согласился бы любой моралист. Но снова возникает картина
пагубного влияния неудовлетворенной страсти, и поэт с едва
заметной улыбкой рекомендует воспользоваться услугами той Афродиты,
которая ex agoras, называемая греками Pandëmos, а у римлян —
Venus venabilis, героиня многих эротических эпиграмм эллинизма.
В этом совете не следует усматривать эпикурейский мотив погони
за наслаждениями, как полагает Круазе [424, с. 490], ссылаясь на
эпикурейца Филодема, упомянутого у Горация (Сат. I, 2, 121),
а лишь доступный способ легко погасить бунт плоти. Возможно,
и Филодем и Гораций читали стихи Керкида о двух видах любви.
Что касается Горация, то тема второй сатиры из первой книги
безусловно перекликается со сказанным у Керкида, готового
боготворить любую гетеру и видеть в ней Елену. Ср. у Горация
(Сат. I, 2, 125): Наес, ubi supposuit dextro corpus mihi laevum,
Ilia et Aegeria est.
Мелиямбы о любви построены на киническом принципе «спу-
догелойон», на сцеплении скоптики и дидактики. Поучение
перенесено в область интимных человеческих отношений, и на всем
послании лежит печать добродушной иронии. Поэт в этом случае
не становится на путь лобового категорического предписания.
Антитеза любви спокойной и любви бурной естественно подводит к
выводу о предпочтительности безмятежного плавания по
коварному морю страстей, что логически завершается еще более безопасной
и удобной любовью, покупаемой за обол. Ее преимущества
рисуются быстрыми, энергичными и лаконичными асиндетонами и
эллипсами: hopanika lëis, hoka chrëzëis, oy phobos, oy taracha (ст. 14—
15), которые не должны оставить сомнения, что именно так и
должно поступать. В этих стихах также много выразительных неоло-
103
гизмов (biaioponëron, prokothêlymanes, tanablapsiteleian, metamel-
lodyna).
Как нам известно, Керкид был патриотом и прежде всего писал
для своих сограждан, жителей дорического Мегалополя, но,
несмотря на это, он не остался «областническим», периферийным
литератором, которого читали только жители его округи и вскоре
забыли. Хотя судьба созданного им жанра нам неизвестна, но он и
сам не замыкался в рамки своей Аркадии, творчески воспринимая
Гомера, Еврипида, Эпихарма, и другими не был забыт: даже спустя
много столетий его читают и цитируют Гален, Поллукс, Элиан,
Диоген Лаэртский, Стобей, Афиней, Стефан Византийский,
Григорий Назианзин и др. Да и папирус из Оксиринха с его избранными
стихами относится ко II в. н. э., т. е. почти через пять столетий
нашлись горячие поклонники таланта Керкида.
Керкид писал на повсеместно понятном дорическом койне без
специфических, как указывает Виламовиц, аркадизмов. В фонетике
керкидовского диалекта господствует дорический вокализм, когда
а, соответствующий аттическо-ионическому ё, пронизывает почти
все слова и формы (alatheös, amar, halikia, hadonoplax, blaba, opa,
mnamoneya, skeptosyna, syoploytosyna, tan, epha и др.). В
существительных с основой па -о часто Gen. Sing -δ (palö, obolö, chronö),
Acc. PI. на -5s (kanthös), иногда, под влиянием Гомера, эпич. фор·
мы на -oio, как и Dat. PI. на -oisi. В глаголах обычна форма
инфинитива на -ёп и -mën (echën, physën, eimen или ётеп, dornen,
methemen и τ. д.), встречается ëis в значении 3 л. ед. ч., lëis (от
дор. 1ёп). Широко используются дорические частицы, предлоги,
местоимения, формы артикля, союзы: ha, tan, hamin, hame, hemin,
tin, tënos, man, thën, ga, ai, oca, occa, роса, hopanica и др.
Дорический субстрат литературного языка Керкида не вызывает сомнения,
и это обстоятельство лишний раз говорит о близости поэта к
народу, в то время как его знаменитые современники независимо от
языковой среды писали на искусственных архаических диалектах,
подражая старинным образцам.
Если смысл термина «мелиямбы» в общих чертах был понятен
сразу же, когда впервые с ним столкнулись: ямбическая
насмешливость в мелических размерах,— то для установления метрических
закономерностей пришлось проанализировать все дошедшие до нас
тексты, как старые, так и новые. Решающее слово в этой области,
по общему признанию, удалось сказать П. Маасу, который вскоре
после опубликования Оксиринхского папируса 1082 (в авг. 1911г.)
первый указал на принцип метрической структуры «Мелиямбов»
Керкида. Дальнейшие уточнения были сделаны Арнимом и Вила-
мовицем-Мёллендорфом. Насколько вопрос о колонах,
составляющих основу стихометрии Керкида, оказался сложным и
дискуссионным, свидетельствует хотя бы тот факт, что начиная с Ханта
издатели (Пауэлл, Нокс, Диль) предлагают разное деление
дошедшего текста на стихи (в папирусе текст сплошной, как в
прозаических сочинениях). Хант, первый издатель Керкида, относитраз-
104
мер к дактилоэпитритам, основную форму которого можно
рассматривать как дитрохей с иррациональным спондеем в конце
( —H ). В своей простейшей форме (2-е стихотворение 1-го
фрагмента) размер этот совпадает с так называемым enkömiologi-
kon Stësichoreion ; — ^ ^ | — ^ ^ j — — j| — ^ — — ? описанным Ге-
фестионом (с. 51, 10), т. е. комбинация дактилей и трохеев.
В своей маленькой статье П. Маас [429] анализирует главным
образом самый большой по числу строк отрывок о несправедливости
богов (фргм. 1а по Ханту). Содержание и выводы ее сводятся к
следующему: Metrum fragmenti 1 (et ut videtur 4. 5) :
|V—kj\j\ — kj ^j j —
la2— w| — ^j —
Si '
ordo membrorum: a (в форме a1 или a2) /в (в форме в1 или в2)
/а/в/а/в а/в и т. д. Pausa nulla, т. е. в стихах нет строфического
деления. Этот вывод делается на основании того, что конечные слоги
стиха, как правило, не являются syllaba anceps, здесь не
допускаются гиатусы и колоны кончаются целыми словами. Все колоны,
как замечает Арним, соединяются в данной структуре, как,
например, в анапестической системе. Предложенная схема даже дает
П. Маасу основание для уточнения размера лакун. Начальные
стихи первого мелиямба Маас располагает следующим образом:
( ) те και r/ρασίωνα
Φήκε πενητυλίδαν '
Ξένωνα, ποτάγαγε δ'άμίν
άργυρον, εις βιοτάν
τόν κεΤσ ανδνατα ρέοντα;
Следовательно, здесь колоны чередуются в порядке в2/а2/в2/
/а7в2. Для сравнения приведу стихометрию в editioprinceps, у
Хаита:
... τε και άκρασίωνα
-9-ήκε πενητυλίδαν Ξένωνα, ποτάγαγε δ'άμίν
άργυρον εις άνόνατα ρέοντα;
и в последнем по времени издании Э. Диля:
-9-ήκε πενητυλίδαν Ξένωνα, ποτάγαγε δ'άμίν
άργυρον εις <βΐοτάν> <τδν κεΐς>> άνόνατα ρέοντα;
Размер фрагментов 3 и 7 П. Маас определяет как dactylo- е pi tri-
ticum generis libérions и дает свою колометрию для них и для
некоторых других (2, 4, 5, 23, 32).
105
Вскоре, в начале 1912 г., появляется работа Г. Арнима [421],
которая начинается с уточнения теории Мааса. Арним видит в ме-
лиямбах не отдельные стихи, идущие без паузы, а находит
закономерность в их сочетании, продиктованную законченностью
смысловых кусков (строф) и симметрией, отмечает любовь
поэта к концентрическо-симметрическому построению периодов.
На основе колонов Мааса он строит несколько иную схему. Колоны
эти (aVaVßVB2/), разделенные цезурой, соединяет в
периоды-стихи, причем одна из половин рассматривается как часть
ямбического триметра (в1 и а2), другая (а1 и в2) — как versus heroicus
(дактили):
W
\J
w
б1
— И:
j
■ \J — - \J
а1 б2
Отмечается, что члены типа «а» начинаются и кончаются
долгими слогами (т. е. «закрыты»), а члены типа «в» опоясаны
краткими слогами («открыты»).
Метрикой Керкида занимался Виламовиц-Мёллендорф [435],
также использовавший открытие П. Мааса и сделавший свои
дополнения. Основным размером Керкида он считает энкомиологик,
который применяли в отдельных стихотворениях Алкей и
Анакреонт, и указывает на его сходство с метрикой «Пира» (ок. 350 г. до
н. э.), приписываемого дифирамбическому поэту Филоксену [29,
т. 3, с. 601]. Отмечается также большое сходство с метрикой Пин-
дара и Вакхилида. Каждый стих, по мнению Виламовица, состоит
из двух членов, разделенных цезурой. Члены могут представлять
собой часть дактилического гекзаметра (— w w — ^ ^ —)f или ям-
бического триметра '-и— w ) или трохеического диметра
— ^ — w — ^ — ; ц ВЫСТупать в различных сочетаниях. Диль в
своем издании в основном придерживается указаний Виламовица.
Справедливость требует вновь указать на заслуги первого
издателя, Ханта, высказавшего многое из того, что позже
подтвердилось.
Подводя итоги, можно сказать, что ведущий принцип
метрической структуры мелиямбов — дактилоэпитриты, построенные по
стихам, а не по системам и строфам, хотя внутри стихов можно
выделить члены, образующие диколоны, объединяемые в
законченные смысловые куски. Часто встречается энкомиологик (например,
в 1-м фргм.), представляющий собой pentapodia Iogaedica descen-
dens acatalecta cum tribus dactylis prioribus pleno ditrochaeo inse-
quente 82, т. е. в простейшей форме 3 дактиля + 2 трохея
106
/_ w w I _ w ^ I _ Il _ j _ w I _ ±^ c 5_ пли 7-половинной цезурой.
Учитывая возможность стяжений и распущений, стихи могут
приобретать разнообразную форму. Как нам кажется,
стремление подогнать их под единообразную схему неосновательно, ибо
написанные, как правило, ad hoc, на актуальную,
взволновавшую поэта тему, они отличались лирическим многообразием. Вот
некоторые примеры:
Энкомиологик:
Πώς έτι δαίμονες ουν τοι μήτ'άκουάν (фргм. 1,15 Д.)
— v^w I — ww| — || —I — к^\
Τοΐς μετεωροκόποις* τούτους γάρ'εργον (фргм. 1,29)
-- ч^ч^|— yw|—H— |— v^| — w
τόν κυανοπτέρυγον παιδ5 \Αφροδίτας (фргм. 2а, 2)
— w^l-^wHI - I -w|
Καί μετά σωφρο^ύνας οΐακι Πειθούς (фргм. 2а, 13)
— w W| —^w|—И—|—^1
Разновидности его:
θήκε πενητυλίδαν Ξενώνα, ποτάγαγε δ' άμίν (фргм. 1,3)
— ч-А-^| —^w|—||w — |wu- |w^ — |—
των δε «έφανε πατήρ; Λώον μεθέμεν περί τούτων (фргм. 1,28)
— W w|—ч_/ ^j\— Il |ww— | ^J^> —| —
τήνος ό βακτροφόρας, διπλοείματος, αίθεριβόσκας (фргм. 6,2—3)
—wvj |— ww|— 11^^— |uu-l^w— |—
άλλ'άνέβα χηλός ποτ'όδόντας έρείσας
—ww| |— ΙΜ^— I ww—I —
Здесь, во второй половине стиха, после дактилей идут анапесты,
которые могут следовать и после трохеев, заместивших в первой
части дактили. Например:
ορθός ών ζυγοστάτας, τά δ'έσχατα Βρύγια Μυσών (фргм. 1,22)
— w| — ^|—w| — IM — I KJ kj — |^ν_Λ-1—
Μή ποθούν ο τϊς Δίκας όφθ-αλμός άπεσπαλάκωται (фргм. 1,12)
— w| — w|— w|—И |uu- I kj\^—|—
Трохеи и ямбы:
Πάντας άμε καί τέκων, τών μέν πατρώος (фргм. 1,27)
- ^ 1-Ч-Н - ιι - τίγΗ^
ευ Λέγων Εύριπίδας* ούκοΰν Ы' όντων (фргм. 2,11)
-^ | Ι-4-ΙΙ 1 ^-1 -
Дактили и ямбы:
Καί θέμιςάΛιπαρά καταχλύωται; (фргм. 1,14)
— ν^^|—ww|—1| w—\kj— |—
В эллинистическую эпоху мелика, стихи для пения, постепенно
вытеснялись формами, предназначенными для рецитации и чтения.
Новых размеров создавалось мало, ученые поэты основывались на
уже хорошо знакомых образцах. Новая, революционная по
содержанию поэзия Керкида требовала новых форм — тревожащих и
торжественных одновременно. Скоптический скадзон, традиционный для
киников, хотя и применялся им, но, как видно, не удовлетворял.
107
Каким же образом воспринимались и воспроизводились
изобретенные Керкидом мелиямбьг? Такой вопрос закономерно возникает,
ибо этот жанр в творчестве других поэтов неизвестен. Пауэлл
прямо говорит: нам не ясно, предназначались ли эти стихи для чтения,
рецитации или пения [254, с. 10]. Фотий (Библ. 533в) называет
Керкида melopoios. Казалось бы, этим все сказано: речь идет о ме-
лике. Но, как справедливо замечает Герхард, в мелиямбах много
дактилей и ямбов — популярных разговорных размеров. Так
возникли разные точки зрения: рецитация (Арним), декламация
(Герхард) , ритмическая рецитация в сопровождении струнного
аккомпанемента (Круазе), пение в инструментальном сопровождении
(Виламовиц). Ссылаются на необходимость какой-то особо
четкой дикции для произнесения новых, придуманных поэтом слов
(будто в других случаях исполнителю хорошая дикция не
требуется) или на тесный дружеский кружок, где все было бы слышно
и понятно.
Думается, что откровенно публицистический, «солоновский»
пафос поэзии Керкида и ее сравнительно простой ритмический
рисунок были рассчитаны на массовую аудиторию, а не на узкий круг
друзей и знакомых. Даже его стихи о любви — отнюдь не камерные
«чувствительные» романсы, а наставления, пропитанные смехом.
Мелиямбы, как показывает даже само название, были чем-то
средним между мелической и декламационной поэзией. Об этом же
говорит сочетание сложных системных форм с простыми ямбами и
трохеями. Стихи Керкида, вероятно, мелодекламировались,
полунапевались под аккомпанемент лиры, представляя собой (если
будет позволено так сказать) нечто вроде античного зонга.
На первый взгляд существует известное несоответствие между
остро сатирической и политической направленностью Керкидовых
стихов и их поэтической стилистикой (в частности, сложные
слова) и формой, напоминающими дифирамбическую лирику, энкомии,
возвышенную и торжественную хоровую поэзию Пиндара и Вакхи-
лида. Это противоречие привлекает внимание исследователей.
Герхард видит в нем доказательство влияния диатрибы с ее разно-
стильностью и «серьезно-смешным».
Причины этого явления представляются мне более глубокими:
поиски значительной формы для серьезных раздумий о жизни,
утверждение новых ценностей. Даже сатира в таком обрамлении
звучит острее и весомее. Влияние же диатрибы, щедрой на
художественно-изобразительные средства, при этом не исключается.
Эпические дактили и разговорно-насмешливые ямбы, лежащие в основе
керкидовского стиха, напоминают нам также о связи «Мелиямбов»
с социально насыщенной и политически тенденциозной древней
комедией аристофановского типа.
Все, сохранившееся из поэтического наследия Керкида,
составляет, по изданию Диля, неполных, с лакунами, 117 стихов. Эти
скупые и сильные строки рисуют поэта незаурядного и
самобытного. Великим его не назовешь, но и слишком уж заметно желание
108
писавших о Керкиде принизить его значение как поэта, свести все
суждения о нем к любопытному в своем роде
историко-культурному феномену, свидетельствующему о своем времени. Герхард
называет его незначительным, Круазе—«фигурой второго плана»,
Виламовиц считает достойными внимания главным образом его
новации в области стихосложения.
Керкид был не только деятельным и духовно богатым человеком
и гражданином, порвавшим со своим классом и вставшим на
сторону народа, но и мужественным поэтом, не боявшимся открыто
говорить горькую правду, избирая для этого слова неслыханные и
разящие. Он говорил сильным мира: ваши боги — ложь, ваши
представления о правде и справедливости, о благе и зле — ложь, ваша
праздная и разгульная жизнь ничего не стоит, а вы сами —
развратники, пьяницы, лицемеры и подлецы. Вам нет дела до бедняка
и его страданий. Но погодите, придет час расплаты, и вам
несдобровать.
Если бы стихи Керкида не были наполнены столь явно кини-
ческим содержанием, его литературные привязанности и
художественные приемы сказали бы о влиянии на него кинической
эстетики. Любовь к антитезам, простота, народная живость и
выразительность языка, доверительная и разговорная интонация, достигаемая
обращениями к друзьям, эллиптическими предложениями,
поговорками, грубыми и обиходными словцами, анаколуфами,
полемичность, недоуменные вопросы и восклицания, гиперболизация,
аллегорическое использование мифологии,
эмоционально-форсированный наступательный тон, цитаты, смешение серьезного и
смешного, критики и дидактики — иными словами, те же средства
художественной выразительности, которые мы уже отмечали в наследии
старших киников и в диатрибах Биона [424, с. 485]. Только
Керкида, может быть, отличает большая интеллигентность и
сознательная, громко декларируемая приверженность к искусству,
поэзии, музыке, о которых он так признательно вспоминает в своей
поэтической исповеди, о чем говорит также его последнее желание
(Элиан. Пестр, ист. XIII, 20).
Приверженность Керкида к умеренному крылу кинической
философии, получившему в это время перевес над сторонниками
крайностей первоначального кинизма, свидетельствует о
нарастании кризиса в античном обществе, о переломе в сознании
эллинистического человека и, как результат, расширении социальной
базы оппозиционных течений, захватывавших в свою сферу
недовольных и радикально настроенных лиц из интеллигентских и
состоятельных кругов. Кризис и бедственное положение масс
ускорили процесс поляризации общественных сил, заставили занять
более определенные позиции как бедных, так и богатых. Призыв
к имущим поделиться с нуждающимися своими богатствами,
естественно, повисал в воздухе, и поэтому поэзия Керкида проникнута
горечью, недовольством, угрозами, гневом. Она серьезна, патетична,
а смех ее горек.
109
Старшим современником Керкида был выдающийся
эпиграмматический поэт Леонид из Тарента8", чья литературная
деятельность началась около 295 г. до н. э. и падает на первую
половину III в. до н. э. 84. Среди эпиграмматистов эпохи эллинизма Леонид
и пелопоннесская (дорийская) школа, к которой он принадлежал,
стоят несколько особняком. Хотя литература и искусство этого
времени проявляли повышенный интерес к рядовому человеку и его
быту, для таких крупных, задававших тон в литературе придворных
поэтов, как Каллимах или Феокрит, пастухи, крестьяне, рыбаки
были лишь привлекшим новизной объектом их творчества. Даже
феокритовские «буколы»— фигуры по большей части условные.
Для александрийцев изображение «маленького человека» — не
органическая потребность, а своеобразная экзотика, ибо до этого
поэзия почти всегда занималась богами, героями и царями. В
стихии эллинистической эпиграмматики простые люди — инородное
включение,— ее прежде всего занимали изящные прожигатели
жизни, их удовольствия, пиры, вино, любовь (отнюдь не только к
женщинам), красота возлюбленных, придворные интересы и т. д.
(Асклепиад, Посидипп, Гедил, neaniscos tes aulës, Каллимах, Me·
некрат, Диоскорид, Антагор и др.). Их изысканное, «декадентское»
искусство предназначалось для узкого круга поэтических
гурманов, знатоков и ценителей наслаждений. Господствующая
лирическая поэзия александринизма избегала серьезных жизненных тем
и конфликтов, становясь для большинства, по меткому замечанию
Виламовица, развлечением, игрой, забавой (paidia).
Иной характер носило творчество поэтов пелопоннесской школы
(Перс из Фив, ок. 320 г.; Носсида Локрийская, ок. 310 г.; Анита из
Тегеи, Симий Родосский, Миро Византийская, ок. 300 г.; Александр
Этолийский из Плеврона, ок. 280 г.; Аристодик Родосский, Мнасалк
из Сикиона, ок. 250 г.), знаменосцем которой фактически стал
Леонид. Интерес пелопоннесцев к народу был более глубок. Они
довольно равнодушно относились к эротической теме, предпочитая
живописать народные типы и родную природу. Недовольные
действительностью, они обращали свои взоры к миру тружеников, к
чистому миру детей и животных. Герои их эпиграмм и маленьких
элегий объективно противостояли обществу праздных кутил, обжор
и распутников, ищущих острых ощущений. Если александрийско-
ионийская школа мировоззренчески тяготела к эпикуро-аристип-
повскому направлению в философии, то пелопоннесская — к кн-
нико-стоическому. Для уяснения дела познакомимся хотя бы с
одной эпиграммой талантливой Аниты из Тегеи [325, с. 159 и ел.]
о некоем Манесе:
Маном-рабом при жизни он был, а теперь, после смерти,
Дарию стал самому равен могуществом он (АР VII, 538).
Пер. Л. Блуменау
Мысль о том, что смерть всех — рабов и царей — уравнивает,
а в загробном мире бедняк якобы имеет даже преимущества перед
110
богачом, глубоко демократична, социально выразительна и широко
представлена в кинических источниках, да и само имя Манес
напоминает о единственном рабе Диогена, благополучно сбежавшем от
своего нищего хозяина-философа.
Леонид более других доказал, что родившаяся из скромных
надписей эпиграмма, даже внешне сохраняя свою связь с «предметом»,
могла успешно служить не только эротике, но и серьезным
социально-нравственным задачам. То, что у других пелопоннесцев
спорадически возникало и намечалось лишь в виде тенденции, рвущей с
традиционностью, у Леонида превратилось в генеральное
направление.
Интерес Леонида Тарентского к быту и мыслям простого
народа возник в первую очередь под влиянием его собственных
жизненных обстоятельств и опыта. Так же как это случилось четыре с
лишним столетия спустя с Дионом из Прусы, изгнанным
Домицианом, широко распространившийся в эллинистические времена ки-
низм оказался для нищего бродяги-поэта своей, «родной»
философией. Хотя Леонид не был киником в узком, «профессиональном»
смысле слова, но влияние популярных кинико-стоических идей
определило весь строй его общественного и поэтического
мышления, обусловило его творческое своеобразие.
Леонид Тарентский в истории античной литературы фигура
достаточно известная, хотя и не удостоившаяся доброжелательного
внимания исследователей. В данном случае нам приходится иметь
дело не с жалкими обрывками стихотворений, строчек,
словосочетаний и слов, а с доброй сотней довольно хорошо сохранившихся
эпиграмм, с произведениями предтеч, продолжателей и
подражателей. Впрочем, что касается хронологии и обстоятельств жизни
поэта, то все здесь достаточно зыбко и спорно [477, с. 113 и ел.],
но меня будут интересовать вопросы, связанные по преимуществу
с киническим влиянием.
У Леонида Тарентского странная и, я бы сказал,
парадоксальная писательская судьба. В древности он пользовался
безоговорочным признанием, которому мог бы позавидовать самый
честолюбивый поэт. Его восхваляли не только критика, но и — что гораздо
весомее — подражавшие ему поэты, от современников до
византийцев — от Александра Этолийского, Аристодика, Мнасалка, Гегесип-
па, Риана, Антипатра Сидонского и др. до Григория Назианзина и
Агафия. Список греческих и римских подражателей занимает у
Геффкена почти четыре страницы [472, с. 148 и ел.].
В новое время древнему поэту не повезло. Ученые начиная
с Рейтценштейна оказались удивительно придирчивыми,
пристрастными судьями и вопреки фактам старались умалить его
значение, принизить идейные и художественные достоинства его
эпиграмм, признавая за ним лишь виртуозность
версификаторской техники (Рейтценштейн, Геффкен, Виламовиц, Бекби).
Р. Рейтценштейн отрицал связь творчества Леонида с жизнью и
считал, что поэт посвятил свою музу исключительно «шуткам»,
111
которыми потешал участников симпосиев [262, с. 149]. Р. Рейт-
ценштейн, а за ним и другие утверждали, что большинство
эпиграмм фиктивно, что это оторванное от жизни «книжное»
сочинительство.
И. Геффкен вообще отказывает Леониду в праве называться
поэтом и упрекает его в посредственности, манерности и
безвкусице [472, с. 139—140]. Если в своей ранней работе (1897 г.) он
еще допускал, что некоторые эпиграммы написаны по заказу
реальных людей, то в более поздней (статья в энциклопедии
Паули-Виссова, 1925 г.) называет эти стихи «чистой
литературщиной», фикцией, о чем еще раньше говорили Рейтценштейн
и Виламовиц [262, с. 143]. Последний признает за Леонидом
«только формальный талант» и не считает его «поэтом или
художником слова» [305, т. I, с. 139—143]. Нередко можно
услышать и другое обвинение в адрес поэта — отсутствие
оригинальности, подражательность (обычно тут называют имена Каллима-
ха, Аниты, Асклепиада). Но даже в тех случаях, когда следы
чужих влияний можно обнаружить, они незначительны и
относятся к второстепенным мотивам творчества Леонида
(буколическим элементам, к стихам о потерпевших кораблекрушение).
В своей же ведущей теме труда и тружеников он оставался
вполне самостоятельным.
Один из новейших издателей греческой антологии, Г. Бекби,
напоминает, что в свое время Леонид Тарентский слыл звездой
первой величины, а ныне, по его мнению, это «весьма
нерадостное явление на поэтическом небосклоне Эллады» [28, т. 1, с. 24].
Современная эстетическая критика находит поэта скучным
[477, с. ИЗ].
Упоминание о времени более счастливом для тарентийского
эпиграмматиста уводит нас во вторую половину XIX в., когда
Леонид считался большим и оригинальным поэтом, певцом
«маленьких людей», вращавшимся в сфере «низкой» жизни и т. д.
(ср. [262, с. 145]). Ныне у зарубежных историков литературы
такая характеристика считается недостаточной и ошибочной.
Авторы современных советских руководств по истории
античной литературы в своих коротких заметках о Леониде
придерживаются «старой», но не устаревшей, на наш взгляд, точки зрения.
С. И. Радциг писал: «Эпиграммы Леонида имеют реалистический
характер и показывают в нем защитника интересов бедноты и
трудящихся масс» [147, с. 482]. Примерно такого же мнения
придерживается знаток античной эпиграммы Ф. А. Петровский [117а,
с. 127]. И. М. Тройский, подчеркивая близость Леонида Тарент-
ского к киникам, указывает, что этот поэт-бедняк «создает в своих
надгробных и -посвятительных стихотворениях образы трудового
люда... и их полной лишений жизни» [150, с. 226].
Итак, сложились две различные характеристики поэта:
реальная, признающая Леонида подлинным художником и искренним
другом простого народа, и формальная, рисующая его бездуш-
112
ным подражателем давно существующим литературным
образцам и ловким версификатором. Какая же из них принципиально
верна? Вопрос актуальный, нуждающийся в объективном
решении.
Если идти от противного и считать Леонида и всю
пелопоннесскую школу проводниками официальной идеологии и
вульгарного эпикуреизма или вообще лишенными каких-либо
философских взглядов, как, например, утверждает В. Ганзен [481,
с. 24], то естественно предположить, что все (или большинство)
леонидовские anathematika и epithymbia — всего лишь «игра ума»,
искусные поделки, литературщина, «книжная эпиграмматика»
(Геффкен). Если же доверять словам и оценкам самого поэта,
жившего и умершего в нищете, его доподлинному знанию жизни,
то картина получается совсем иной. Важной чертой в творческом
портрете поэта является его отношение к кинизму, что, как нам
кажется, помогает правильно решить вопрос о народности,
искренности и «реализме» его произведений, помогает понять его
жизненную и философскую установку, границы его подлинного
новаторства и место влияний таких идейно чуждых ему поэтов,
как Каллимах или Асклепиад.
Творчество Леонида находилось не только в стороне, но даже
противостояло основной линии александрийской
эпиграмматической поэзии (Каллимах, Асклепиад, Диоскорид и др.),
вдохновлявшейся эротической и симпосиастической темами, стоявшими
непреодолимыми барьерами между придворной паразитической
верхушкой и массами обездоленных трудящихся. Леонид не
только был чужд эротике, но прямо враждебен ей, как киник.
Единственная любовная эпиграмма Леонида (V, 188) вызывает сомнение
в ее подлинности или в лучшем случае является данью моде.
Вынужденный, вероятно по политическим мотивам, покинуть
родину и скитаться по белу свету, после того как гарнизон
призванного на помощь эпирского царя Пирра сдал римлянам богатый
и свободный город Тарент (272 г.), Леонид бродяжничал по Южной
Италии и Эпиру, бывал в Македонии, на Пелопоннесе, на острове
Косе, в Азии, может быть в Александрии (Диог. Л. VI, 300; VIIr
715 и др.). Судьба заносила его и ко дворам царей (Пирра, Неоп-
толема), где он, впрочем, долго не задерживался, и постоянно
сталкивала с низами общества — тружениками, людьми дела:
моряками, земледельцами, пастухами, ремесленниками, рыбаками,
охотниками, с которыми он делил их скудный хлеб-соль. По
эпиграммам Леонида можно судить о социальной структуре низов
античного общества. Жизнь скитальца давала возможность
встретиться и с бродячими философами-киниками. Среди них ему
попадались как подлинные последователи Антисфена и Диогена,
так и простые бродяги под личиной философов.
О киническом влиянии на творчество Леонида писал еще
Геффкен [472, с. 138] (правда, впоследствии он во многом
пересмотрел свои прежние взгляды). Уже говорилось об одной из мо-
113
дификаций эллинистического кинизма, представленной, в
частности, Керкидом, который увязывал патриотическую деятельность
в Мегалополе с кинической критикой действительности. Именно
к такого рода умеренному кинизму примыкал и Леонид. Начиная
с Александра Македонского космополитизм становится одной из
официальных догм, морально разоружавших завоеванные народы.
Кинический космополитизм, направленный против
рабовладельческого полиса и местнических интересов, в конкретных условиях
посягательств на свободу и независимость отдельных
демократических республик Греции сменялся патриотизмом, который
становился, таким образом, средством борьбы с официальной
идеологией. Именно поэтому нельзя противопоставлять антиполисный
космополитизм Диогена местному патриотизму Керкида или
Леонида.
Кинизм Леонида особого свойства. Лишенный ряда атрибутов
раннего воинствующего сектантства, он был ближе и понятнее
массам. Бродяжничество поэта не носило демонстративного
характера, но было вынужденным, нищета на склоне лет не казалась
ему, как, впрочем, и Диогену (Диог. Л. VI, 51), желанной, а
изгнание — безразличным. Поэтому в автоэпитафии он сетует на
утрату родины, считая жизнь скитальца тяжкой и горше смерти:
От Италийской земли и родного Тарента далеко
Здесь я лежу, и судьба горше мне эта, чем смерть.
Жизнь безотрадна скитальцам... (АР VII, 715) 85
Пер. Л. Блуменау
Другая маленькая элегия прямо направлена против невзгод
бродячей жизни и вместе с тем соединена с проповедью простой
и скромной жизни бедняка (euteleia) :
Не подвергай себя, смертный, невзгодам скитальческой жизни,
Вечно один за другим переменяя края.
Не подвергайся невзгодам скитанья, хотя бы и пусто
Было жилище твое, скуп на тепло твой очаг,
Хотя бы и скуден был хлеб твой ячменный, мука не из важных,
Тесто месилось рукой в камне долбленом, хотя б
К хлебу за трапезой бедной приправой единственной были
Тмин да порей у тебя, да горьковатая соль (АР VII, 736).
Пер. Л. Блуменау
Горькую усмешку заключает в себе эпиграмма, навеянная
популярным рассказом о Диогене и мышке (Диог. Л. VI, 40;
Plutarch, quomodo quisque suis in virt. sent. prof. 77e; Aelian. Var.
hist. XIII, 26) [472, с 126 и ел.]. Но если в этом предании мышь,
подбиравшая крошки, упавшие со стола Диогена, утешила
голодного философа, то у Леонида в аналогичной ситуации появилось
желание прогнать мышей, посоветовав им найти себе дом
побогаче (АР VI, 302). В эпиграмме примечательна прямая ссылка
старого Леонида на свою скромную жизнь, ка автаркию, которой он
114
научился у «отцов», т. е. у первых киников — Антисфена, Диогена,
Кратета и Телета [107, с. 26, 3 и с. 27, 12].
Как было сказано, эротическая тема не волнует поэта, и даже
обращение к Афродите служит Леониду трогательным поводом
для того, чтобы нарисовать свою нищету и попросить богиню
избавить его от нужды:
Тайная, кротко прими в благодарность себе от скитальца,
Что по своей бедности мог принести Леонид.
Эти лепешки на масле, хранимые долго оливы.
Свежий, недавно с ветвей сорванный фиговый плод.
Малую ветку лозы виноградной с пятком на ней ягод,
Несколько капель вина — сколько осталось на дне...
Если, богиня, меня исцелив от болезни, избавишь
И от нужды, принесу в жертву тебе и козу (АР VI, 300).
Пер. Л. Блуменау
Мы знаем, что киники были неравнодушны к жпвому слову
поэзии, поэтому нас не может удивить прославление Леонидом
Гомера или близких по духу киникам Гиппонакта и Архилоха
(эп. IX, 24; VII, 408; VII, 664). Но круг поэтических симпатий
Леонида шире и включает также имена, далекие киникам,— Эрин-
на, Алкман, Пиндар, Анакреонт, Арат (VII, 13, 14, 35; XVI, 306—
307; IX, 25). Вызывали в нем восхищение и творения великих
мастеров искусства Апеллеса, Праксителя, Мирона (XVI, 182, 206;
IX, 719), к чему обычно кинические философы относились
безразлично.
Кинические мотивы постоянно всплывают в стихах Леонида.
Диоген, ставший легендой еще при жизни, приобрел огромную
популярность в эллинистическое время, вызвавшую даже зависть
Александра Македонского (Дион Хрис. IV, 4). О ней
свидетельствует также целый ряд эпиграмм в Палатинской антологии (V,
16, 302, 333; VI, 245; VII, 63-68, 116, 613, 631; IX, 145, 422; XI,
158; XVI, 334), среди которых мы встречаем и эпитафию,
написанную Леонидом (VII, 67). В ней Диоген обращается к Харонус
просьбой предоставить ему вне очереди место в челне,
перевозящем души умерших через Ахеронт, ибо все его имущество при нем,
а под солнцем он ничего не оставил. Внутренний поворот темы в
эпитафии мог возникнуть под воздействием мотива «путешествия
в Аид», «некюйа», столь популярного у киников (Кратет, Менипп,
Бион и др.)· Вспоминаются и позднейшие «Диалоги мертвых»
(X; XII) Лукиана с их менипповскими реминисценциями и,
конечно, известные мелиямбы Керкида о «Диогене, Зевсом
рожденном, небесной собаке». Вот эта написанная Леонидом эпитафия
в переводе Л. Блуменау:
Мрачный служитель Аида, которому выпала доля
Плавать на черной ладье по ахеронтским водам,
Мне, Диогену Собаке, дай место, хотя бы и было
Тесно от мертвых на нем — этом ужасном судне.
115
Вся моя кладь — это сумка да фляжка, да ветхое платье;
Есть и обол — за провоз плата умерших тебе.
Все приношу я в Аид, чем при жизни своей обладал я,—
После себя ничего не оставил живым86.
Эпитафия написана от воображаемого «я» Диогена, и было бы
странным, если бы она содержала прямое самовосхваление, но
апологетический ее тон не вызывает сомнения. Тем не менее Б. Ган-
зен находит возможность заметить, что здесь Леонид ни единым
словом не восхваляет киника [481, с. 21]. Явная передержка,
продиктованная предвзятостью исследователя.
Жизнь и смерть. Эта «вечная тема» у киников приобретала
особую остроту, ибо в условиях кризиса полиса и девальвации
общепринятых ценностей, бессилия угнетенных в борьбе с социальным
злом и несправедливостью рождалась пессимистическая оценка
бытия, появлялись различные формы эскапизма, и в том числе
призывы к уходу из жизни, этой юдоли зла и печали, мотивы
избавления и освобождения в смерти, которые нередко возникали в
психологии порабощенных масс в разные периоды человеческой
истории. Так создавались легенды о безразличии старших киников
к жизни, об их равнодушии к смерти или даже добровольном
уходе в царство Аида. Эти настроения отчетливо звучат в
приведенной выше эпитафии «Диогена», еще сильнее —в ямбической
эпиграмме Леонида:
Дорогой, что в Аид ведет, спокойно ты
Иди! Не тяжела она для путника
II не извилиста, ничуть не сбивчива,
А так пряма, ровна и так полога вся,
Что, и закрыв глаза, легко пройдешь по ней
(App. IV, 39 = Stob, florileg. 120, 9) 87.
Геффкен и другие ученые указывают на многоговорящую
параллель к этой эпиграмме в словах Биона о том, что дорога в Аид
широка и удобна: eykolon ephaske tën eis Hadoy hodon. katamyon-
tos goyn apienai (Диог. Л. IV, 49; ср. [107, с. LIX]). У Леонида об
этой дороге сказано: оу gar esti dysbatos oyde skalënos oyd'
enipleios... Еще до Биона прибегнуть к веревке в определенных
жизненных ситуациях советовал Кратет. Пессимизмом
проникнуты некоторые диатрибы Телета (например, «О том, что
удовольствия не являются целью жизни»). Безрадостной казалась жизнь
и безразличными все внешние блага близкому по мировосприятию
киникам Гегесию из Кирены, прозванному ho peisithanatos, т. е.
«адвокат смерти», за то, что своими проповедями многих привел
к самоубийству (Диог. Л. II, 86). Как известно, Птолемей I даже
запретил ему учить в Александрии. Социальный пессимизм
киников был составной частью их переоценки ценностей, реакцией на
казенный оптимизм и аристократическую философию
наслаждения; он удивительным образом уживался с революционными для
своего времени лозунгами кинизма. Благодатной почвой это-
116
му послужили условия политических и военных катаклизмов,
потрясавших эллинистический мир. Этот пессимизм проявился в
холиямбах Феникса, в кинизирующих стихах Посидиппа (АР IX,
359), во всей эллинистической гномологии [193].
Такого рода философско-моралистическую элегию — диатрибу,
программную по своему характеру, справедливо названную Гефф-
кеном «кинической проповедью в дистихах» [472, с. 131],
находим и у Леонида (АР VII, 472).
Вечность была перед тем, как на свет появился ты, смертный,
В недрах Аида опять вечность пройдет над тобой.
Что ж остается для жизни твоей? Велика ль ее доля?
Точка, быть может, одна,— если не меньше того.
5. Скупо отмерена жизнь, но и в ней не находим мы счастья;
Хуже, напротив, она, чем ненавистная смерть.
Слабые люди! Зачем вы уноситесь в горные выси?
Что же вы ищете там, в небе и облаках?
Смертный, неужели не знаешь: в конце твоей жизненной нити
10. Червь на одежде сидит, ткань которой не ткал.
Череп нагой, без волос. Есть ли в мире что-либо отвратней?
Высохший старый паук все противен не так,
Изо дня в день, человек, старайся, сил не жалея,
Жизнь простую вести, скромность и меру блюдя.
15. Помнить ты должен всегда, пока дышится вместе с живыми,—
Что за непрочная плоть нам от природы дана 88.
К этой небольшой элегии примыкает короткая эпиграмма,
которая первоначально находилась в самом тексте элегии, но новыми
издателями выделяется в самостоятельную эпитафию самоубийце
Фидону (VII, 472в):
Дальше от жизни беги с ее непрестанным ненастьем.
В гавань Аида спеши, я так уж сделал, Фидон.
На быстротечность и бесцельность человеческой жизни
сетовали отнюдь не одни только киники89. Но дело не только в ее
краткости. Беда в том, что, утверждает Леонид, она безобразна, как
высохший паук на своей паутине. Конечно, тут суть не в
эстетической, а в ее моральной и социальной стороне. Поэтому
единственное средство сделать жизнь сносной — это жить, как живут
идеализированные поэтом бедняки, скромно и просто, к чему
призывала киническая философия, делая из нужды добродетель.
Нельзя не учитывать, что к пессимизму толкала Леонида и
сама специфика надгробной эпиграммы, постоянно имеющей дело
со смертью и ее неизбежностью (веселый гробовщик — зрелище
малопривлекательное!). Но Леонид сумел под киническим
влиянием придать пессимизму общественное звучание, наполнить его
даже богоборческим содержанием.
Так, вопреки распространенному мнению о богах как о
подателях благ Леонид утверждает, что «людям на каждом шагу горести
шлет божество» (АР VII, 662).
В некоторых эпиграммах скромность бедняка, равнодушие его
к мирской славе и жизненным благам противопоставлены тще-
117
славию богачей, преследующему их даже после смерти (АР VII,
655). Жанр эпитафии дает возможность Леониду лишний раз
напомнить людям о бесполезности богатства, о том, что смерть всех
уравнивает. Таковы эпитафия Критону (VII, 740) и тонкая
насмешливая эпитафия некоему Аристократу (VII, 440. Ср. 648)·
Более прямолинейно высмеивает Леонид богатых пьяниц (VII,
422) и кутил (VI, 305). О бедном же крестьянине Клейтоне,
владевшем жалким клочком земли и маленьким двориком,
собиравшем хворост в тощем лесочке, просто говорится, что все это не
мешало ему прожить 80 лет (VI, 226).
Подлинные герои эпиграмм Леонида — бедные труженики,
низы общества, к которым постоянно апеллировали киники. О них
поэт говорит охотно, заинтересованно, тепло, сочувственно и
уважительно. Воспевает их добрые моральные качества, трудолюбие,
скромность, непритязательность, бедность, часто называемую
словом litos («непритязательная», «бережливая» — VI, 355, 226, 302;
VII, 736), стойкость в жизни, отзывчивость, дружелюбие и
доброту, т. е. именно те черты, которые бедняки высоко ценили в
своих товарищах и несколько веков спустя, как показывают
подлинные эпитафии эпохи Римской империи [154, с. 129 и ел.; 153,
с. 100 и ел.]. Поэт и себя не отделяет от «малых сил», от их бедности
и судьбы (VI, 300; VII, 715) и прилагает к себе тот же
придуманный им самим эпитет oligësipyos («бедняк, нуждающийся даже в
хлебе» —VI, 300), что и к обездоленным ткачихам — oligësipyoi
(VI, 288) или litos (VI, 302).
Только необъективный, равнодушный взгляд не может
разглядеть в эпиграммах Леонида искренней авторской симпатии к их
скромным героям. Мир леонидовской поэзии густо населен
рыбаками, которых так много в приморской стране и чья жизнь
рисовалась привычно тяжелой (VI, 4; VII, 295, 504, 506) [170, с. 6],
охотниками (VI, 13, 110, 188, 296), пастухами (VI, 35, 262, 263;
VII, 173, 657; IX, 744; XVI, 190), плотниками (VI, 204, 205),
дровосеками (IX, 335), крестьянами (VI, 44, 221, 226), ткачихами
(VI, 288, 289; VII, 726), кормилицами (VII, 663), садовниками
(VII, 556; IX, 329), погибшими в море рыбаками и матросами (VII,
264, 266, 273, 652, 656), флейтистками, гетерами и т. д.
Большинство этих людей занято трудом, с ним связаны их мысли и чаяния
(в иной сфере представлены низы в новоаттической комедии и
мимах). В этой массе простого и мирного люда цари, вельможи,
воины — исключение; упомянуты они только однажды в связи с
обороной родины Леонида. Именно поэтому прославлен эпирский
царь Пирр, которого тарентинцы, не имея своей армии, призвали
на помощь, по этой же причине написаны посвятительные
эпиграммы от имени воинов, защищавших Тарент (VI, 129, 130, 131).
Как эти храбрые воители посвящают Афине предметы своего
бранного труда — щиты, шлемы, секиры, копья, уздечки и т. п.,
так же приносят в дар богам орудия своего мирного труда
крестьяне и ремесленники.
118
Среди эпиграмм, посвященных «маленьким людям», особенно
трогательна и примечательна своей искренностью эпитафия
старой ткачихе Платфиде, которая мужественно боролась с нуждой,
с зари до позднего вечера трудясь у прялки или ткацкого станка,
но не падала духом и дожила до глубокой старости (VII, 726). Она
довольствовалась тем, что есть, подобно старушке из диатрибы Те-
лета, которая грызет свою сухую корочку хлеба и что-то тихонько
мурлычет себе под нос. Аналогична эпитафия бедному рыбаку
Фериду, умершему глубоким стариком. Он был одинок, и поэтому
надгробие поставили ему не родные, а товарищи по труду
(VII, 295).
Не менее трогательна эпитафия, написанная как бы от имени
умершего пастуха Клитагора, который просит не забыть его
простой могилы и желает живым добра (VII, 657). В этой эпитафии
есть буколический элемент (стада овец, пастух, играющий на
свирели, венки весенних цветов и т. п.), заставивший Геффкена
однажды довольно бездоказательно предположить, что под именем
пастуха Клитагора скрывается Феокрит. Дело здесь не в буколике,
а в той специфической философской нагрузке, которую несет
природа в мировоззрении кинизирующего Леонида как антитеза
враждебному обществу. В эпиграммах тарентинского поэта природа
сама по себе редко недоброжелательна к человеку (VII, 665), она
скорее дает минуты передышки в его суровых буднях. Она — как
глоток чистой воды из студеного источника (XVI, 230). Так же
воспринимает природу творчески близкая Леониду Анита [325,
с. 165], ищущая в тени деревьев у ручья место для безмятежного
отдыха (IX, 313, 314; XVI, 228). Природа — общая мать, ей
поклоняются и царь и бедняк. Природе и ее божествам — холмам,
пещерам, родникам, деревьям, нимфам, Гермесу, Пану — посвящает
чашу с вином соправитель Пирра Эакид Неоптолем (VI, 334).
Бедный путник Аристокл, утолив жажду из источника,
посвящает нимфам рог, из которого он напился (IX, 326). Природа
выступает как друг бедняков. Смоковница просит передать некоему
Демократу (говорящее имя?), чтобы он поспешил сорвать ее
созревшие плодь1, которые заменят ему хлеб (IX, 563). Хранитель
лесов Пан напоминает охотнику, чтобы тот попросил у него
помощи (IX, 337).
В прелестной песне, которая нашла многочисленных
подражателей, Леонид воспевает весну, прилет ласточки, дуновения
зефира, цветущие луга, спокойное море и от имени покровителя
гаваней Приапа приглашает моряков поднять якорь и открыть
навигацию (X, 1). Так в единстве выступают человек,
нравственность и природа. Вот почему в эпиграммах Леонида часто звучат
обращения к «демократическим» божествам, олицетворяющим
силы природы, и к богам, связанным с бытом низших
производительных классов, включая рабов и вольноотпущенников,— Афине
Эргане, Гермесу, Посейдону, Артемиде, Гераклу, Пану, Приапу,
нимфам [154, с. 105 и ел.].
119
К теме природы примыкают анималистические эпитафии,
воспевающие скромных, близких человеку животных полей, лесов и
садов (VII, 190, 198; IX, 99).
Любовь к людям труда нашла свое выражение не только в
том, что Леонид, посвятив им большинство своих эпиграмм,
восхваляет их добродетели. Новое заключается и в эстетизации
орудий труда, профессионального инструментария, без которого
немыслима жизнь рабочего человека. Старая посвятительная
эпиграмма обычно носила возвышенный, героический характер, ибо
Фебу, Аресу или Зевсу посвящались алтари, памятники, оружие
в знак ратных подвигов и побед. Такими же были эпитафии на
могилах воинов. Леонид Тарентский заменяет боевое оружие и
предметы культа прозаическими рыболовными снастями, сетями,
крючками, пилами, буравами, топорами, рубанками, кухонной
утварью и т. п. Редкая в античной лирической поэзии лексика,
связанная с обиходным рабочим инструментом и введенная Леонидом
в контекст посвящений и эпитафий, получает у него поэтическое
звучание, автор ею как бы любуется, превращая в новый
эстетический объект. Эти «рабочие» слова и термины оснащаются к тому
же сложными и редкими своеобразными «украшающими
эпитетами». Обращает на себя внимание преимущественное
употребление Леонидом в качестве эпитетов неологизмов, носящих
оценочный характер, которые в его эпиграммах становятся главным
средством художественной выразительности, ибо без них перечень
посвящаемых предметов превратился бы в голый инвентарный
список, деловой каталог, лишенный эмоциональной окраски.
Так, рыбак Диофант (VI, 4) по обычаю посвящает Посейдону,
владыке своего ремесла, «красиво изогнутую острогу» (eukampes
kentron), «длинные удилища» (doyrata doylichoenta), корзинки для
рыбы (ichthydokoys spoyridas) и др.; пастух Телесон (VI, 35)
посвящает Пану посох из крепкоствольного дерева (eystorthynga ko-
rynën), три брата-охотника — сети (VI, 13), плотник-умелец (da-
idalocheir) Ферид (VI, 204) принес в дар Палладе свои
инструменты: негнущуюся линейку в локоть длиной (pëchyn akampë),
упругую, с выгнутой спинкой пилу (tetanon nötöi kamptomenon priona),
топор (pelëkyn), проворный (сверкающий?) рубанок (rykanan
eyagea), извивающийся бурав (periages trypanon). На закате лет,
отойдя от дел, плотник Леонтих по греческому обычаю приносит
в дар Афине, творящей красивые вещи (chariergöi), целый набор
своих инструментов (VI, 205): hai te charaktai rïnai —
«зазубренные рашпили», kalön hoi tachinoi borees — «стремительно летящие,
быстро пожирающие дерево [рубанки]», stathmai — «плотничьи
шнурки-отвесы», milteia — «сосуды для красной краски (или:
шнурки, натертые красной краской для нанесения линий)»,
amphiplëges sphyrai— «двойные молотки», miltöi phyromenoi kano-
nes — «намазанные красной краской правила», arides —
«плотницкие сверла-буравы», xyster—«скребок (цикля)», embrithës pele-
kys, technas ho prytanis — «тяжелый топор», любовно и уважитель-
120
но названный здесь «владыкой ремесла», ôkëenta teretra —
«быстрые сверла», trypana eydinëta — «легко вращающиеся буравы»90,
gomphön pisyres torées — «четыре сверла для колышков (гвоздей) »,
amphixoyn skeparnori — «[обоюдоострый] топор», «инструмент
(струг, скобель) для обтесывания с двух сторон».
Четыре ткачихи — Афино, Мелития, Финто и Гленис — очень
трудолюбивые дочери Ликомеда (VI, 288), живущие в крайней
нужде, посвящают Афине Эргане «десятину» от своих скромных
доходов, представляющую для них большое богатство: все орудия
своей профессии (для Афины — приятный дар) : prosergon atrak-
ton — «неутомимое веретено», kerkida istön molpatida — «поющий
челнок ткацкого станка», trochaia pania — «быстро бегущие
челноки», ergastas potirropeas — «работающие грузила», spathas eybrit-
heis — «нагруженное тонкой пряжей бердо (часть ткацкого станка
в виде гребня для уплотнения ткани) » и т. п.
Подобный же коллективный дар Афине-Пряхе принесли три
сестры, уходящие на покой жительницы острова Крита (VI, 289) :
mitoergon aeidinëton atrakton — «вечно вращающееся, прядущее
нить веретено», orphnitan eirokomon talaron— «корзинка с шерстью
для ночного прядения», tan peplön eyatrion ergatin, istön kerkida,
tan lecheön Penelopas phylaka — «ткацкий челнок, труженик,
искусно ткущий ткань для платья, страж брачного союза Пенелопы».
Новые для поэзии «рабочие» и другие милые сердцу слова
Леонид повторяет, ставит в разные формы, изменяет на все лады, как
бы заставляя работать, примеряя их к различному окружению,
смакуя и с явным удовольствием прислушиваясь к их необычному
звучанию: kapon, kapeus, kapön (IX, 329), prosergon atrakton
(IV, 288), synerithon atrakton (VII, 726), mitoergon aeidinëton
atrakton (VI, 289), periages trypanon (VI, 204), trypana t'eudinëta
(VI, 205), pelekyn (VI, 204), pelekys (VI, 205) и т. д. Этим же
стремлением освоить новый материал объясняется, как мне
кажется, появление ряда вариантов эпиграмм на одну и ту же тему.
В посвящениях живые и неодушевленные предметы труда,
изделия, природа наделяются сложными эпитетами, начинающимися
с eu- (хорошо, прекрасно, сильно, ладно, быстро и т. п.). Эти
эпитеты-композиты говорят о положительных качествах и
совершенстве описываемых предметов, ибо поэту они кажутся особенно
красивыми, привлекательными, ладными, полезными. Многие из этих
слов придуманы самим поэтом и больше нигде не встречаются (га-
пакс эйременон). Отсюда эти многочисленные прилагательные —
eyalphitos — «из хорошей муки» (VII, 736), eythëlëmôn — «с умело
раздоенным выменем» (VI, 263), eykylikos— «с добрыми кубками
для вина» (VII, 440), eymarathos — «изобилующий сладким
укропом» (IX, 318), eyskandix — «изобилующий съедобной травой»
(IX, 318), eypiön — «полный жира» (VII, 654), eypremnos — «с
добрым основанием» (VI, 221), eythysanon — «с красивой бахромой»
(VI, 202), eybrithës — «из тонкой пряжи» (VI, 288), eypoikilos —
«с приятной для глаза пестротой» (VI, 154), eysipyos eykampes,
121
eystortynga, eyagea и т. д. Разве не выразительно: eychalkötort
eygnampton te kreagrori — «красиво сделанная и изящно изогнутая
вилка из меди» (VI, 305)?
Леонид персонифицирует орудия, инструменты, полезные для
человека предметы и наделяет их человеческими именами,
придает им активный, действенный характер: топор — притан, владыка
плотничьего искусства, челнок — работник, страж брака
Пенелопы (VI, 289), он поет (VI, 288), рубанок стремительно летит (VI,
205), он стремительный пожиратель дерева (kalön hoi tachinoi
borées—VI, 205), весла —гребцы (eretas —VI, 4), самшитовый
гребень, приносимый в дар Афродите,— «рыбак волос» (trichön sagê-
neytëra, pyxinon ktena — VI, 211) и др.
Таким образом, мы, вероятно, впервые в античной поэзии
встречаемся с культом орудий труда, характерным для
народной идеологии: трудящийся человек с уважением и любовью
относится к своему рабочему инструменту и к делу рук своих,
которое его кормит. Известно, что в эллинистическое и римское
время на надгробиях простых людей наряду со словами похвалы
добродетелям покойного нередко изображались орудия труда, служив-
щие не просто символом его профессии, но и освящавшими ее
[202, с. 68—137]. Некоторые надгробные камни и вотивные
предметы словно иллюстрации к эпиграммам Леонида. Одновременно
с сакрализацией орудий труда внушалась мысль, что труд
людей заслуживает вечной памяти и благодарности, признания и
посмертной награды. Так религиозное смыкалось с
социально-этическим.
Этим желанием возвеличить труд и труженика объясняется,
по-видимому, и бросающееся в глаза несоответствие «простого»
содержания и высокого, дифирамбического стиля, которое критики
обычно приписывают «безвкусице» поэта, «вычурности»,
искусственности стиля91. Но дело здесь, конечно, не в отсутствии
таланта или вкуса, а в том, что поиски новых средств выразительности
не всегда и не сразу приносят желанный результат и общее
признание. На этом пути возможны потери и неудачи, чему история
искусства дает сотни примеров.
Упрекают Леонида и в том, что он якобы выбирал для своих
эпиграмм надуманные, нереальные, сенсационные ситуации и
сюжеты. Приводится в пример эпитафия моряку, который
спустился под воду, чтобы освободить зацепившийся якорь, но попался в
зубы акуле. Хищница оторвала тело ныряльщика до пояса,
останки же подобрали товарищи и похоронили (VII, 506). В другой
эпитафии описывается рыбак, задушенный пойманной им рыбой
(VII, 504). Есть эпиграмма пастуху, погибшему от удара молнии
(VII, 173). В одной из эпиграмм повествуется о том, как гонимый
холодом и голодом лев забрел в отдаленное горное селение,
переночевал в хижине пастуха, никого не тронул и ушел (VI, 221).
Случаи, что и говорить, редкие, но тем не менее вероятные.
Подлинные надгробные надписи, приведенные у Кайбеля и в дру-
122
гих изданиях, дают примеры не менее удивительных смертей:
гибель от падения с лошади, от удара молнии, от укуса скорпиона,
при землетрясении, во время спортивной борьбы. Кого-то
переехала телега, кто-то утонул в колодце, упал в пропасть, подавился
едой и т. п. [228, с. 144—145]. Охотно описывали редкие причины
смерти авторы стихов Палатинской антологии (VII, 294; IX, 223,
410 и др.)? причем по сравнению с ними происшествия в
эпитафиях Леонида кажутся весьма ординарными. Независимо от того,
описывался ли действительный случай или фиктивный, Леонид
черпал материал из жизни или подражал подлинным эпитафиям.
«Сенсационный материал» нужен был поэту для того, чтобы
привлечь внимание или на крайний случай возбудить любопытство и
сочувствие читателя к непривычным, новым героям, заставить его
задуматься над их трудной и полной опасностей жизнью.
Новый материал требует новых выразительных средств,
особенно если стремишься привлечь к нему внимание и придать своему
творчеству острый публицистический и наставительный смысл.
Так было с Керкидом. То же случилось и с Леонидом Тарентским,
для которого словотворчество было естественной потребностью,
целенаправленной страстью. Не исключается возможность, что ряд
леонидовских неологизмов может оказаться заимствованным из
древнего гипотетического додорийского языка, а не собственной
выдумкой поэта. Но редкими и необычно звучащими они все же были
в эллинистическое время. Что же касается обвинений в
«искусственности», то они сами собой отпадут. Несмотря на смелость в
словообразованиях, большинство сложных неологизмов Леонида
доходчивы, легко понимаются и связаны с главной темой его
творчества — труд и жизнь простых людей. Бедняков он называет
oligesipyoi (oligos+sipyë),T. е. «люди,у которых почти пуста
хлебная корзинка» (VI, 288, 300), бедность — dysbiotos, т. е.
мучительной, трудной для жизни (VII, 648), бедняка крестьянина — oliga-
ylax (oligos+aylax), т. е. столь малоземельным, что ему негде
провести борозду (VI, 226. Ср. объяснение у Суды — he mikra cho-
га), рыбака — ichthyboros — «питающийся рыбой» (VII, 652), труд
ткачих — triponëtos — «трижды мучительный и связанный с
тройной работой» (VI, 286) 92, ремесленника — daidalocheir (daidaleos+
cheir), т. е. «умелые руки» (VI, 204). Поэт придумывает
прозрачное слово, даже не воспринимаемое как неологизм, synergatinës —
«сотрудник», «сотоварищ» (VII, 295). Много новых слов связано
с кругом деятельности пастухов, крестьян, рыбаков, охотников
и др.: chimararchos — «предводитель коз» (IX, 744), aigibotês — «ко-
зопас» (VI, 334. Ср. aigibosis в IX, 318), glagopëx — «ведро для
створоживания молока» (VI, 35), leykoopöros — «приносящая
белые плоды», т. е. смоковница (IX, 563), lachanëlogos —
«собирающий овощи» (IX, 318), delearpax — об окуне, хватающем приманку
(VII, 504), logöobolon — «палка для зайцев» (VI, 296), diktybolos —
«забрасывающий сеть» (VI, 4), linostasiê — «расстановка
звероловных сетей» (VII, 448), mitoergon — о веретене, прядущем нить
123
(VI, 289), tachycheileis — «быстрогубые» (о флейтах — V, 205) 9Э
и т. д. Рядом с «полными» неологизмами можно поставить
общеизвестные слова, которые Леонид употребляет, несколько
видоизменив (с новыми приставками, с суффиксами, окончаниями) t
и придает им, таким образом, воспользовавшись советом Аристо-
теАя, новую выразительность и силу (например, orphanios вместо
обычного orphanos, technosynë вместо technë, keleutîntes вместо
hoditës [262, с. 147], potithymios, prosergos и др.)·
У Леонида есть две эпиграммы, на которые ооычно ссылаются
при выяснении отношений между поэтом и кинизмом. Причем
рассматриваются они как чисто скоптические, комврометирующие
киников. Однако дело здесь не столько в кинизме как учении,
влияние которого на Леонида весьма значительно, сколько в его
последователях — полунищих бродячих кинических философах,
среди которых встречались не только мудрецы и праведники, но
немало людей случайных и просто проходимцев. Внешние
атрибуты секты давали возможность легко примкнуть к ней любому
нищему с эксцентрическими повадками, поэтому противникам киниз-
ма было нетрудно спекулировать на этом кажущемся сходстве
истинных и лжекиников. А кинизм и его шумные адепты, кое в
каких внешних проявлениях напоминающие современных
мелкобуржуазных бунтарей (битников, хиппи, клошаров и т. п.),
пользовались широкой известностью, о чем, в частности, свидетельствует
множество посвященных им эпиграмм в Палатинской антологии
(XI, 57, 153-155, 410, 434; VI, 293, 298; VII, 134, 413 и др.).
Две упомянутые эпиграммы (VI, 293, 298) знакомят нас с
киником Сохаром. Нет, как кажется, достаточных оснований считать
их порочащими весь кинизм или относить к «докиническому»
периоду творчества Леонида, как полагает Геффкен, чтобы как-то
объяснить появление подобных критических стихотворений у ки-
нически настроенного поэта [472, с. 71—72]. Скорее, в них
отозвалась тревога единомышленника, заботящегося о репутации и
чистоте кинического движения, его мысли о том, каким должен быть
настоящий, безупречный философ-киник.
Каким рисуется Сохар в первой из эпиграмм? Прежде всего
перечисляются все его signa: посох, сандалии, остатки дырявой
котомки, грязный пузырек для масла. Вместе с тем котомка
киника «полна древней мудрости» &4, а он сам назван «премудрым
старцем». Эпиграмма, таким образом, неоднозначна; ее можно было бы
принять почти за панегирик, если бы все эти кинические знаки не
положил в храм Афродиты красавец Родоп как победный трофей
над старым киником, которого он поймал в свои сети. Ироничность
замысла очевидна, но насмешка направлена прежде всего против
однополой любви, бескомпромиссно осуждаемой киниками.
Критикуя Сохара, Леонид видит в нем и хорошее.
Во второй эпиграмме он вновь сочувственно говорит о его
невыдуманной бедности. Дедикантом на сей раз выступает по-киниче-
ски персонифицированный Голод, вечно преследовавший Сохара.
124
Все, что он смог повесить на куст тамариска,— это нищенская сума,
задубелая старая козья шкура, фляжка, пустой кошелек и жалкая
шапка, некогда прикрывавшая лысую голову. Киник Сохар в
посвященных ему эпиграммах — вовсе не воплощение зла, а живой
человек со слабостями. Но поэт не может простить близким ему
киникам даже малого нравственного пятнышка, не говоря о
большем. В эпиграммах представлен конкретный человек, реальная
личность, а не типизированный, негативно обобщенный киниче-
ский характер. В пользу такого толкования говорит и то
обстоятельство, что Сохар— имя редкое [249, с. 1478] 9\ а сандалии,
которые он носил, для киника нетипичны, ибо обычно они ходили
босиком.
Есть в эпиграммах Леонида и другие следы, ведущие к кинн-
ческому образу мыслей их автора. Такова резкая нападка на
астрологов (IX, 80), напоминающая о словах Диогена (Диог. Л. VI,
28) и Биона (Стобей II, 80, 3) о том, что эти шарлатаны глазеют
на небо, хотя не видят даже того, что у них под ногами. Леонид
называет таких «ученых» лживыми учителями пустой мудрости
(eikaiës pseydologoi sophiës) и гонит прочь от себя. Глупость
(aphrosynë) — их повивальная бабка, наглость (tolma) —
родительница. Потому-то они не сознают собственного бесчестья (idiën ak-
leiën). В похожей на диатрибу эпиграмме (VII, 648) ставится
столь волновавший киников вопрос о браке и семье96. Поэт
признает необходимость иметь детей, но предпочел бы при этом
обойтись без женщин, ибо знает их порочность (alitophrosynë).
Заметно внимание кинизирующего Леонида к физиогномике (VII, 66),
к которой, как отмечал ряд авторов (например, Герхард [193,
с. 146 и ел.]), киники испытывали живой интерес (ср. сочинение
Антисфена «Peri tön sophistön physiognömikos»). Кинический
принцип «серьезно-смешного» делал для Леонида привлекательной
всю сатирическую поэзию и ее зачинателей—Архилоха (VII, 664)
и Гиппонакта (VII, 408). Привлек его симпатию и какой-то автор
смешных песен Теллен, умевший geloiomelein (еще одно
словечко, придуманное Леонидом —VII, 719).
Весь образный строй и стиль эпиграмм Леонида Тареытского,
испытавший влияние кинико-стоической диатрибы, их
естественно-элементарная структура07, функционально близкая подлинным
надписям, язык, насыщенный реалиями повседневной жизни,
разговорными формами, диалект, идущий от дорической родины
Qft ou
поэта , а не просто традиционная дань искусственной жанровои
прикрепленности,— все было рассчитано на массового читателя,
далекого от узкого круга «ценителей изящной словесности».
Своим творчеством Леонид объективно всегда утверждал
социальную справедливость, народные представления о добре и был
чужд софизмам. Должно быть, ему были известны логические
постулаты Антисфена [А=А] и популярный рассказ о его реплике,
брошенной в театре по поводу одного из еврипидовских пассажей,
где зло представлено относительным. Антисфен утверждал устои-
125
чивость справедливых моральных оценок: «Позорный поступок
всегда позорен — кажется он таким или нет» (Plutarchi de audien-
dis poetis, 12). Удивительным образом перекликается с этим
положением сентенция Леонида: «Хороший человек всегда остается
хорошим», сказанная но адресу бедного дровосека Микалиона
(IX, 335). То же следует сказать и по адресу самого Леонида:
хороший поэт всегда остается хорошим поэтом, хотят ли того его
критики или не хотят.
Однако дело не в отдельных кинических перекличках и
мотивах в творчестве Леонида из Тарента. Кинизм помог в
становлении главной и новаторской сущности его поэзии — в сознательном
повороте к мпру трудящихся, в стремлении их приподнять,
укрепить их общественный вес и самосознание, в пафосе
противопоставления мира труда миру праздности, в поэтизации и
эстетизации труда и его орудий. Все это было действительно новым в
эллинистической, да и, пожалуй, во всей античной литературе.
Леонид был неодинок, ибо кое-что нашел у близких ему пелопоннес-
цев, и, кроме того, он стал подлинным зачинателем
демократического направления в позднейшей эпиграмматике. Следует
решительно пересмотреть распространившийся в последнее время в
зарубежной литературе взгляд на Леонида как на холодного
версификатора, ловкого ремесленника от поэзии, «барочного»
пересмешника, потрафлявшего вкусам литературных гурманов
эллинизма. Против такого понимания свидетельствуют весь его
жизненный опыт и мировосприятие, содержание и структура его
эпиграмм, близкая к подлинным эпитафиям, «ex lapidibus collectis».
В одном из своих исследований И. Геффкен справедливо
указывал на связь ряда эллинистических эпиграмм с кинико-стоической
диатрибой и ее топикой [191]. К ним относятся не только стихи
Леонида из Тарента, но и эпитафии других поэтов, как известных
(Посидипп, Теэтет), так и неизвестных (adespota), у которых
появлялись кинические (в частности, менипповские) мотивы (АР
VII, 727; IX, 145, 359 и др.). Много эпиграмм Антологии
прославляют самого известного из киников, Диогена Синопского, за его
бедность, мудрость, мужество, борьбу со злом и тщетой
человеческой жизни (VII, 63—68, 116 и др.). Включение подобных
эпиграмм в «Венок» («Stephanos») Мелеагра Гадарского естественно,
как не случайны в нем и стихи Леонида, которому он подражал и
которого сравнивал с цветущим букетом из плюща (IV, 1, 15).
Мелеагр, сын Эвкрата, из Гадар (II—I вв. до н. э.),
«греческий Овидий», как его иногда называют, в своем творчестве,
воспевающем прекрасных возлюбленных Зенофилу, Демо, Тамо, Фани-
он и других, которых он даже занес в свой «донжуанский» список
(V, 197), мало напоминает нам киника, но и этот поэт любви отдал
дань кинизму, о чем сам свидетельствует. Этот факт говорит о
широкой популярности и притягательности кинизма и о том, что он
126
несводим к «образу жизни» (enstasis biou), а представляет
систему взглядов и идей, не зависящую от посоха или нищенской сумы,
от «способа существования» тех, кого она чем-то привлекала.
Далеко не всем могла понравиться в качестве реального жилища
бочка Диогена, но заключенная в ней эпатирующая идея
непритязательности, независимости от порабощения материальными
благами от этого не страдала.
Мелеагру, уроженцу палестинской Гадары, земляку Мениппа,
подобно многим киническим скитальцам, пришлось часто менять
местожительство — жить в Тире и умереть на острове Косе.
«Расцвет» его падает на правление «последнего Селевка», т. е. Селев-
ка VI Эпифана Никатора (годы царствования — 96—95 гг. до н. э.),
как сообщено лемматистом в примечании к стихам Мелеагра
(IV, 1). Но если в зрелые годы Мелеагр посвятил себя любовной
лирике, а в старости — составлению древнейшей из известных нам
поэтических антологий, то в юности, как он сам говорит в первой
из трех автоэпитафий (VII, 417—419), писал сатиры,
вдохновленный «Харитами» Мениппа. Характерная черта этого
стихотворения — кинический космополитизм.
Тир, окруженный водою, кормильцем мне был, а Гадара,
Аттика Сирии,— край, где я появился на свет,
Я, Мелеагр, порожденный Эвкратом; «Хариты» Мениппа
Были на поприще Муз первым спутником мне.
Если сириец я, что же? Одна у всех нас отчизна —
Мир, и Хаосом одним смертные мы рождены.
А написал это я на дощечке, уж будучи старым,
Близким к могиле своей: старость Аиду сосед (АР VII, 417).
Пер. Л. Б лу мена у
Сообщив здесь, что pröta Menippeious syntrochasa Charisin, он
и в третьем варианте (VII, 419) снова напоминает, что «со
сладостно-слезным Эротом Муз и веселых Харит соединял с юных
лет». Следовательно, начало творческого пути Мелеагра
проходило под знаком менипповской сатиры (Диог. Л. VI, 99), а его
самого, вероятно, именно поэтому Афиней называет киником (XI,
502с). Афиней упоминает «Хариты», написанные самим
Мелеагром (IV, 157), в которых шла речь о Гомере, объявленном здесь
сирийцем, и об ахейцах с сирийскими обычаями. Упомянуто Афи-
неем и другое сочинение Мелеагра—«Сравнение гороховой каши
и чечевичной похлебки»,— а также приводится цитата из его
«Симпосия». Все перечисленные произведения Мелеагра
(«Хариты», «Симпосий» и «Сравнение...»), к сожалению, не
сохранились. Должно быть, они были связаны с ранним периодом
творческой биографии поэта, но некоторые черты и в зрелых
эпиграммах (киническое «серьезно-смешное» — IX, 453, пародия, любовь
к сложным неологизмам, риторическим эффектам и жанрам и т. п.)
дали основание Геффкену сделать правильный вывод, что в нем
слились воедино менипповский последователь, эпиграмматист и
127
ритор (PWRE, π/τ 29, кол. 484). Однако дальнейшее
утверждение ученого об отсутствии эволюции во взглядах поэта
представляется неосновательным, ибо не мог один и тот же человек,
каким бы беспринципным его ни представлять, в одно и то же
время писать кинические сатиры, проповедующие аскетизм и
нравственную чистоту, и эротические стихи о любви к мальчикам
или о страданиях от неудовлетворенной страсти. Отход Мелеагра
от первоначальной близости к киникам говорит лишь о том, что
любовь иногда побеждает не только смерть, но и мудрость
(АР XII, 101).
Эта глава может быть названа «Поэзия протеста и гнева».
Добавим—«...и любви». Таков был настрой всей кинической
литературы, яростно осуждавшей пороки богачей, но прославлявшей
бедность и труд, нападавшей на власть имущих, но
идеализировавшей «естественное состояние» простых людей,
противопоставлявшей рафинированности высших классов грубую правду
народа. В поэтических диатрибах и сатирах киников и полукиников
достаточно горечи и насмешливой иронии, но протест в них
нередко пассивен, порой в нем слышатся нотки безнадежности. Эта
пессимистическая окрашенность обусловлена исторической
бесперспективностью борьбы, заставлявшей искать идеалы в
прошлом, в нетронутой природе, в мире животных или даже
проповедовать уход из жизни, когда она становится невыносимой. В этом
киники парадоксально смыкались с киренаиками. Но каким бы
свидетельством слабости и отчаяния этот пессимизм ни был, он
нес в себе эмоциональный заряд, вызывавший взрыв негодования
и возмущения против мрачной действительности, доводящей
людей до неверия в собственные силы, в способность человека
сопротивляться обстоятельствам.
В кинизме мы могли наблюдать различные оттенки, но
демократический характер его поэзии, черпавшей свои идеи, образы,
лексику в народе, является определяющим. Новаторство этой
поэзии не только в гуманном демократизме (демократичной была и
трагедия), а в решительном повороте к низам, к человеку труда
и его представлениям, к отказу от мифологических ситуаций в
пользу интересов сегодняшнего дня, в жажде социальной
справедливости, в стихийном протесте против угнетения. Проповедь
новых ценностей требовала и новых форм художественной
выразительности, новых слов, новых способов идейно-эмоционального
воздействия на массы.
Говоря о кинической поэзии III в. до н. э., необходимо
остановиться на двух прозаических памятниках этого времени —
диатрибах Телета и так называемых «Письмах Анахарсиса» ".
Прозаические жанры, как свидетельствуют источники, были у
киников не менее популярны, чем поэтические, но сохранилась вся
эта оппозиционная публицистика значительно хуже. О жанрах
кинической прозы уже говорилось выше, здесь же хотелось лишь
128
обратить внимание на внутреннюю близость, как содержательную,
так и формальную, двух представленных в упомянутых
памятниках жанров — диатрибы и письма. Оба жанра откровенно
дидактичны, поставлены на службу кинической пропаганде и полемике
с инакомыслящими. Фиктивный оппонент диатрибы б письме
заменяется адресатом, который, как правило, идейно и социально
чужд отправителю. Поэтика послания, этой диатрибы в
письменной форме, и диатрибы, этого устного послания, очень близка,
если не идентична.
Τ е л е т, сам называвший себя paidagögos, школьным
воспитателем («Об изгнании», с. 16, 13 Hense), жил в Мегарах во
второй половине III в. до н. э. Как в жизни, так и в творчестве он
остался только школьным учителем, повторяющим для других в
упрощенном и несколько облегченном виде то, что уже было
высказано однажды истинно творческими умами. Отсюда его любовь
к длинным цитатам. По этой же причине о собственном стиле
Телета, о композиции и прочих художественных особенностях его
диатриб судить трудно (не следует также забывать, что
дошедший до нас текст фрагментарен и эпитомизирован). Проповеди
Телета — своего рода среднее арифметическое из кинических
диатриб эпохи эллинизма. Но как всякое среднее арифметическое,
они дают представление о расхожих идеях и наиболее типичных
формальных приемах.
Под именем Телета сохранилось восемь диатриб: «Быть и
казаться», «О независимости [автаркии]», «Об изгнании», две
диатрибы «О бедности и богатстве», «О том, что удовольствие не
является целью жизни», «О превратностях судьбы» и «Об
апатии». Как показывают сами названия, диатрибы разрабатывают
обычную киническую топику, рассматривают нравственные
проблемы, волновавшие целые поколения кинических проповедников.
О кинической принадлежности Телета впервые заявил Виламо-
виц [553]. Телет помимо любимого им Биона приводит
высказывания Кратета, Диогена, Сократа, Ксенофонта и Стильпона. В них
звучит смягченная киническая мораль с ее нотками усталости,
разочарования и беспомощности. Бион призывает человека хорошо
сыграть роль, назначенную ему судьбой, довольствоваться
настоящим и применяться к обстоятельствам. В пример он приводит
Сократа, Диогена и Кратета. Эту вполне стоическую мысль он
повторяет неоднократно («О независимости», первая речь «О
бедности и богатстве», «О превратностях судьбы») и подкрепляет
сравнениями из жизни: как моряки ставят паруса в зависимости
от направления и силы ветра, так и человек должен поступать
при перемене жизненных обстоятельств: держать паруса по
ветру (фргм. 2 и 6). Бионовский вариант кинизма определил
тональность всех диатриб Телета, который, по выражению О. Гензе,
totus addictus est Bioni. Вместе с тем Телет полемизирует с
гедонизмом, философией наслаждения аристиппо-эпикуровского
толка («О том, что удовольствие не является целью жизни»).
5 Заказ № 370
129
Одна из наиболее характерных диатриб посвящена проповеди
кинической независимости и самообладания, похвале умеренной
бедности. Здесь сконцентрированы приметы диатрибического, ки-
нического'стиля: диалог ведут персонифицированные Бедность и
Порок, рассказывается незатейливая притча о Диогене,
пародируется Гомер, вводятся поэтические цитаты (излюбленные поэты
Телета —Гомер и Еврипид), типичные сравнения (театральное и
морское), будоражащие совесть риторические вопросы и,
конечно, обращение ко Второму лицу, в котором слилось все
«неразумное», «невоспитанное» человечество, нуждающееся в исправлении
и наставлениях.
Две диатрибы «О бедности и богатстве» посвящены постоянно
волнующей киников проблеме социального неравенства. В самом
начале каждой из речей выдвигается тезис, который затем
подробно опровергается. В одном случае оппонент утверждает:
богатство — добро, ибо избавляет от нужды, но в дальнейшем
автор, привлекая Гомера, Еврипида, мифологию, авторитет Кра-
тета и Биона и т. д., доказывает, что богач никогда не бывает
доволен, а, напротив, вечно нуждается и морально порочен,
ненасытен и скуп. В другом случае сначала утверждается:
богатство помогает, а бедность мешает заниматься философией, но все
последующие рассуждения, подкрепляемые ссылками на Феог-
нида, Софокла и Еврипида и примерами из жизни, должны
убедить слушателя, что бедность — благо и сама научает философии.
Тут же рассказывается, что однажды Кратет, сидя в мастерской
сапожника Филиска (сапожник— постоянный положительный
герой киников), читал ему вслух во время работы «Протрептик»
Аристотеля и, видя, как он внимательно слушает, сказал: «У тебя
больше возможностей для занятия философией, чем у царя,
которому посвятил свой труд Аристотель». В этих диатрибах
дважды упоминаются hoi archaioi, под которыми справедливо видят
древних киников — Антисфена и Диогена.
Диатриба «Об изгнании» («Peri phyges»), не менее
традиционная по теме, доказывает, что изгнание ни с каких точек зрения
нельзя считать несчастьем. В изгнании люди становились даже
правителями целых стран, как это было, например, с сыном Аге-
силая Гиппомедоном, изгнанным из Спарты за участие в
движении Агиса и назначенным Птолемеем Эвергетом (в 241 г. до н. э.)
«стратегом Геллеспонта и Фракии». Речь peri apatheias
проповедует стойкость в перенесении жизненных невзгод, умение
бесстрашно смотреть смерти в глаза и не печалиться, когда она
приходит.
К нравственной стойкости и силе призывает и первая,
наиболее самостоятельная телетовская диатриба: лучше быть
счастливым, честным, добрым, здоровым, умелым, отважным и т. п.,
чем только казаться таким (peri toy dokein kai toy einai) 100. Эта
речь, как и другие выступления киников, должна была срывать
маски с тех, кто притворялся, «диссимулировал» добродетель,
130
и убеждать в преимуществах истины перед ложью. В области
искусства этот тезис означал требование верности жизни,
естественности, отказ от холодных ухищрений ремесленничества
(недаром диатриба начинается с призыва к актерам хорошо играть
и кончается выпадом против риторов, которых киники всегда
презирали).
Телет, как и все киники, сторонник деятельной добродетели
(отсюда частые ссылки на пример спартанцев, у которых слова
не расходятся с делом), но вместе с тем, следуя за Бионом и
Кратетом, он не был такой страстный боец, как Антисфен или
Диоген. Полемизирующая с гедониками диатриба «О том, что
удовольствие не является целью жизни» («Peri toy mê einai telos
hëdonën») проникнута пессимизмом, мягкий, примирительный тон
соседствует в ней с безрадостным взглядом на жизнь
человеческую, с малых лет наполненную неприятностями, невзгодами и
страданиями. Все возрастные периоды человеческой жизни имеют
свои недостатки, но вот «проходит расцвет, и наступает старость.
Теперь с тобой снова обращаются как с дитятей, а ты с тоской
вспоминаешь о юности:
Юность мила мне всегда, а старость
Этны тяжеле...»
В диатрибе «О превратностях судьбы» («Peri peristaseön»)
«кинический проповедник» советует безропотно принимать жизнь,
какой она есть, в ином случае — отправиться в царство Аида.
Еще резче выражена эта мысль в диатрибе «Об апатии». Когда
настанет время, человек должен «легко уйти из жизни, как
уходят с праздника», и для вящей убедительности приводятся слова
Биона: «Я не собираюсь задерживаться в мире, а уйду, словно
с пира, ничуть не расстраиваясь, из жизни, когда пробьет мой час,
и мне скажут: „Взойди на корабль!"».
В идейном отношении сохранившиеся диатрибы Телета дают
представление, конечно, не о всем кинизме, а только об одной
из его ветвей, близкой к стоицизму, частично отражавшей
настроения уставшей от борьбы за существование и постоянных войн
массы простого народа, но именно народа, а не верхушечных
слоев, которым не на что было жаловаться.
Другой памятник кинической прозы, «Письма Анахар-
сиса», содержит больше критического материала и
наступательнее, чем современные ему диатрибы Телета. Эти «Письма»
примыкают к давней традиции, идеализирующей «варварские» народы
и наполненной острым социальным смыслом прежде всего под
влиянием кинизма (см. выше). Мудрый скиф Анахарсис — один
из наиболее ярких героев этой традиции. Этот «естественный
человек», прибывший в Элладу из дикой степной глуши в
образовательных целях, скоро дает всем понять, что не ему нужно
учиться у греков, а грекам у него. Его трезвый, не скованный
условностями и предрассудками ум обнажает язвы испорченно-
5* 131
го и развращенного цивилизацией эллинского общества. В образе
Анахарсиса было заложено все, что могло пригодиться кинической
пропаганде,—бесхитростность «дикаря», близкого к природе,
свободомыслие, ореол свободы, справедливости и силы, окружавший
далекий северный народ. Критика греческих нравов (атлетики,
агонистики, пьянства, роскоши) находила прямой отклик у
киников и сочеталась у Анахарсиса с культом свободы, природы,
воздержанностью (enkrateia), немногословием, признаваемым
киниками за благо (Диодор IX, 26; Диог. Л. I, 104). Киникам,
наконец, был важен не исторический Анахарсис, а легенда, сделавшая
из него «скифского киника».
Благородный скиф, как предполагал в конце прошлого века
Р. Гейнце [208, с. 466], вполне мог стать еще в IV в. до н.э.,
когда народная и киническая молва сделала его одним из «семи
мудрецов», героем «народной книги», своего рода публицисти-
ческо-дидактического романа. Напомню, что существовали
подобные сочинения об Эзопе, как и об Александре в Индии.
«Античный роман», жанр по своей сути синтетический, обязательно
включал в себя речи и письма. Вполне вероятно, что сохранившиеся
«Письма Анахарсиса» (все или частично) могли входить в такой
гипотетический «роман».
«Письма Анахарсиса» безусловно фиктивны и имеют весьма
отдаленное отпошение к историческому Анахарсису, жившему
в VI в. до н. э. (Геродот IV, 76). На основе выявленной
стилистической общности писем (кроме 10-го) и языкового анализа
сделан убедительный вывод о единстве автора и о датировке
(III в. до н. э.) [263, с. 4]. Десятое письмо, приводимое Диогеном
Лаэртским (I, 105), написанное в отличие от других (все девять
на койне) на ионическом диалекте, относится к более раннему
времени. Кроме одного коллективного адресата (афинян), письма
обращены к отдельным лицам, как историческим (Солон, Гиппарх,
Медок, Ганнон, Крез), так и легендарным или вымышленным
(Терей, Фразилох, некий царский сын). Обращение к некоторым
из них — чистый анахронизм и носит исключительно
дидактический характер (к Медоку и Ганнону). Анахарсис как типичный
киник с его свободоречием, парресией, направляет свои
обличительные послания к правителям, царям, тиранам, представляющим
враждебную стихию власти.
Киническая тенденциозность «Писем Анахарсиса» бросалась
в глаза всем исследователям, начиная с Гейнце, указывавшего,
что в них кинический автор дает о себе постоянно знать и смысл
всех его посланий сводится к призыву: «Будьте как скифы,
возвращайтесь к природе». Иными словами, становитесь
последователями кинизма [208, с. 465]. Понятно, что кинический автор
«Писем» использовал образ Анахарсиса для потребностей своего
века. Эллинизм столкнул друг с другом народы в мире и войне,
показал несостоятельность многих устоявшихся понятий, обычаев,
законов, поменял местами зло и добро, обнажил изнанку культу-
132
ры. Особенно остро встала проблема эллинства и варварства.
Первое несло с собой привычное рабство и угнетение, второе —
веяло незнакомой свободой.
В первых двух письмах автор доказывает, что эллины и
варвары принципиально равны, что различия в образе жизни и
привычках не мешают разным народам правильно мыслить и жить
в дружбе: «признаки глупости, как и признаки разума, у
варваров и греков —одни и те же» (пис. 2, 5). Народы следует
различать не по расовым признакам или языку (скифы плохо говорят
по-гречески, зато греки плохо говорят по-скифски), но по их
отношению к добродетели. Постепенно читатель подводится к
мысли, что скифы не только равны эллинам, но эллины во
многом даже уступают скифам: «Хотя у меня только стрелы да лук,
но я свободен, а ты, хоть и богат, но раб,— говорит Анахарсис,
обращаясь к царскому сыну.— Откажись от всего, живи как скиф
и будешь счастлив» (пис. 6). В другом письме Анахарсис
рассказывает Крезу, что у скифов общая земля 101, у которой они берут
только то, что она сама приносит, что они пасут скот, оберегая
его от нападения диких зверей, и взамен получают молоко и сыр,
войн они не ведут и держат оружие лишь в целях обороны.
Скифы свободны от частной собственности, своекорыстия и жадности,
разделяющих мир на враждебные стихии и приносящих грекам
все их пороки и беды (пис. 9).
Эти мысли и факты напоминают нам то, что мы читаем в
папирусных фрагментах более позднего времени, рассказывающих
об Александре и индийских гимнософистах (см. ниже). В них
примерно в тех же чертах идеализируется жизнь «нагих
мудрецов» — индийских киников, которые также призывают
Александра, символизирующего тираническую власть, бросить все мирское,
прекратить войны и жить, как они, в одиноком самосозерцании.
Характер общественной жизни скифов, нарисованной автором
9-го письма, напоминает популярный у киников. «золотой век
Крона», диогеновско-зеноновскую утопическую политию.
Долг человека — творить добро. В 3-м письме Анахарсис
увещает Гиппарха, сына афинского тирана Писистрата, бросить
пьянство и пустые забавы и делать добро друзьям и просителям,
быть достойным своего отца. В других письмах под видом
скифских обычаев и порядков восхваляются кинические идеалы.
«Одеждой мне служит скифская хлена, обувью — подошва
собственных ног, моя лучшая еда — молоко, сыр, мясо» (пис. 5).
Человек должен жить в умеренной бедности и избегать праздных
удовольствий (пис. 9). Собака — образец для киника. В письме к
Фразилоху Анахарсис превозносит ее добродетели — способность
помнить добро и верность. Деспотизм — характерная черта
эллинской жизни. Все письма полны протестом против тирании.
Особой же остротой отличается письмо Терею, легендарному
правителю Фракии, известному своей жестокостью, вырвавшему язык
изнасилованной им Филомеле. Анахарсис смело обличает пороки
133
Терея, доведшего страну до полного разорения, указывает на
глупость правителя, который, желая получить пользу от своих
подданных, грабит их до нитки, и грозит тирану солдатским
бунтом. Так в «Письмах Анахарсиса» сталкиваются кинический
герой и антигерой (Крез, Медок, Терей, Гиппарх и др.).
В художественном отношении письма непритязательны и
просты, лаконичны и обычно развивают одну мысль,
противопоставляя злу добро. В самом большом, 9-м письме автор пользуется
излюбленными киническими приемами (аллегорическое
толкование мифологии, ссылки на поэтов, антитезы, сентенции) и
рассказывает притчу о купеческом корабле и пиратах для того,
чтобы показать, как богачи, отбирая чужое имущество, в конце
концов сами гибнут вместе с ним. Чужое добро, как, впрочем, и свое,
впрок не идет. Естественность и простота формы у киников
теоретически обосновываются. Есть такое обоснование и здесь:
«Обращайте внимание на смысл слов; только так вы извлечете пользу»
(пис. 1), т. е. главное не в форме, а в содержании. В «Письмах
Анахарсиса» кинический автор меньше всего стремился создать
достоверный человеческий характер (этопея), его цель —правда
идей, а не правда характеров.
«Письма Анахарсиса» — не столь яркий образец кинической
литературы, как современная им поэзия, но и они исправно
выполняли свою функцию, пропагандируя кинические идеи в
массах. Письма писали все киники. Так, несколько позднее (вероятно,
во II в. до н. э.) получили распространение «Письма Диогена»,
правда, не дошедшие до наших дней [456, с. 58]. Сравнительно
большой сборник кинических писем (Диогена, Кратета) и
испытавших киническое влияние писем Сократа, сократиков,
Гераклита и др. относится уже к императорскому времени. Эти письма
резче, их тон более агрессивен, в них возрождается дух древнего
радикального кинизма.
Близкие и дальние потомки Антисфена, Диогена, Кратета,
увлеченные разными сторонами кинического учения, снова и
снова возвращались к их заветам и творчеству, по-своему
осмысливая и отбирая это наследие, привлеченные прежде всего самим
образом непритязательного, неподкупного и смелого мудреца,
учителя народа и обличителя зла. На закате античности помимо
христианства была только одна значительная духовная сила, открыто
противодействующая официальной идеологии,— кинизм.
Глава HI
КИНИЧЕСКАЯ И КИНИЗИРУЮЩАЯ ЛИТЕРАТУРА
НА ЗАКАТЕ АНТИЧНОСТИ
1. «ТЕМНЫЕ ВЕКА» КИНИЗМА
Наиболее плодовитым в истории кинической литературы, как
мы видели, был III век до н. э. Весь эллинистический мир от
малоазийских Гадар и Колофона до Тарента в Великой Греции,
от Александрии египетской до Афин и Фив стал ареной
деятельности кинических поэтов и проповедников. Второй и первый века
до н. э. в истории кинизма скудно представлены источниками,
и только поэтому их можно назвать «темными» *. Но киническая
литература не умирала, и даже склонный к легковесному эротизму
Мелеагр Гадарский поначалу увлекся эффектной новизной менип-
повых сатир. В немногих памятниках «темного периода» почти
нет новых идей, но тем заметнее становилось влияние
легендарного образа Диогена Синопского, затмившего славу других
кинических учителей.
Целая серия эпиграмм этого периода в Палатинской
антологии говорит о неумирающем восхищении великим возмутителем
спокойствия и аскетом. Одна из лучших в этом цикле — эпитафия
(VII, 65), написанная Антипатром Сидонским (ок. 170—100),
поэтом финикийской школы, к которой принадлежал и Мелеагр.
В ней Диоген назван «мудрой собакой» и прославлен как
мужественный борец с жизненными невзгодами, пороками и
несправедливостью. Поэт в киническом духе уподобляет Диогена
легковооруженному воину, гимнету, который воюет лишь в «доспехах
мудрости». Плащ, котомка, посох — вот и все оружие Диогена, но
глупцы и подлецы должны бояться его даже мертвого, ибо в Аид
он унес с собой и свою ненависть к ним. Автор одной из
анонимных эпиграмм (VII, 64) обращается с вопросами к статуе собаки,
которая, как рассказывает Диоген Лаэртский (VI, 78), была
изваяна из паросского мрамора на могиле Диогена в Коринфе.
«Кто покоится здесь?» — спрашивает поэт. «Тот самый Диоген,
который жил в бочке. Теперь же его дом находится среди звезд»,—
135
следует ответ. Последние слова явно навеяны «Мелиямбами» Кер-
кида, в которых Диоген назван «небесной собакой» 2. В других
анонимных эпитафиях Палатинской антологии восхваляется
умение Диогена «обнажать всю тщету человеческой жизни» (VII, 63),
его превосходство над самим Крезом (IX, 145). Антифил
Византийский (I в. до н. э.) восхищался непритязательностью
Диогена, который только один показал пример независимости и
самую легкую дорогу в жизни (АР XVI, 334; ср. 333). В 334-й
эпиграмме прозвучала тема памятника: «даже бронза
уничтожается временем, а твоя слава, Диоген, никогда не умрет». Может
быть, именно эти слова были написаны на памятнике философу
в Синопе (Диог. Л. VI, 78).
Известной эпиграмме Леонида Тарентского, посвященной
Диогену (АР VI, 67), подражали друг Цицерона поэт Архий (VII,
68) и Онест (VII, 66). Здесь, как и у Леонида, Диоген обращается
к Харону и говорит, что легко расстается с жизнью, так как все
его имущество вместе с ним, а «под солнцем он ничего не
оставил».
Подобного рода стихи, воспевавшие Диогена, сочинялись
вплоть до византийского времени (см. эп. Агафия Схоластика:
АР V, 302). Если современники нередко встречали Диогена
насмешками, то потомки отдавали ему должное. В Палатинской
антологии нет ни одной эпиграммы, оскорбляющей память синоп-
ского мудреца. Напротив, поэт I в. н э. Антипатр Фессалоникский
обращается к одному из пошлых подражателей Диогена с
требованием не позорить славных кинических примет — плащ, суму и
гераклову дубинку (XI, 158) 3. Подобных лжекиников высмеивал
и другой поэт того же времени — Лукилий (XI, 153, 154, 155).
«Никто не станет, Менестрат, отрицать, что ты киник, ибо ходишь
босиком и мерзнешь, но если стащишь у меня со стола кусок
хлеба, то я возьму палку, и тебя тогда наверняка все назовут
собакой» (153; ср. Марциал IV, 53).
Всякий безграмотный нищий теперь уж не станет, как прежде,
Грузы носить на спине или молоть за гроши,
Но отрастит бороденку и, палку подняв на дороге,
Первым объявит себя по добродетели псом.
Так решено Гермодотом премудрым: «Пускай неимущий,
Скинув хитонишко свой, больше не терпит нужды!» (XI, 154)
Пер. Л. Блуменау
В эпиграмме фальшивые моралисты высмеиваются и
обвиняются в разврате. Для всех, писавших о кинизме на закате
античности, характерны подобные нападки на лжекиников во имя
защиты «подлинного» кинизма (Эпиктет, Дион Хрисостом, Лукиан,
Авл Геллий, Юлиан и др.).
К первой половине I в. до н. э. относятся также два фрагмента
Венского папируса, опубликованные Вессели, в которых
содержатся анекдоты о Диогене, в большинстве своем не известные из
136
прежних источников [406, с. 67—74; 455, с. 50 и ел.]. Во всех
восьми частично сохранившихся анекдотах-хриях этого
папируса Диоген предстает в своей обычной маске насмешника и
обличителя. Прежде всего, он горд своей славой киника-собаки и, отвечая
на вопросы «ты кто?» и «откуда?», охотно шутит по этому поводу
и, прибегая к излюбленной игре слов, называет себя не мелитской
(мальтийской) комнатной собачкой (melitaios), как у Диогена
Лаэртского (VI, 55), а амелитской (amelitaios), т. е. беззаботной
[, когда сыт]. В папирусном варианте этого анекдота (впрочем, как
и у Диогена Лаэртского) обращает на себя внимание смысловая
неувязка, возникающая при самосравнениях Диогена с
различными породами собак (peinö — Marönikos, ean de më peinö —
Amelitaios, otan de emplesthö — Molottikos). Нетрудно понять, что
сытая собака беззаботна; некормленная — маронейская, т. е.
послушная, вышколенная охотничья собака. Но почему собака
«сытая по горло», «пресыщенная» — молосская, т. е. особенно
свирепая и злая, кажется непонятным. К. Фритц, исследовавший
источники к биографии и философии Диогена, предполагает здесь
неловкую контаминацию нескольких анекдотов [388, с. 61 и ел.].
Но обязательно ли тут видеть бессмыслицу? В действительности
киник никогда не бывал «сыт по горло», ведь обжорство — удел
ненавистных «толстых брюх». Поэтому Диогена можно понять и
так: если я уж допустил слабость и объелся, то зол, как все богачи,
и лучше ко мне не подходить — я злющая молосская собака.
Учитывая психологию киника, такое объяснение правдоподобно.
В другом анекдоте этого же папируса Диоген заявляет, что
хочет быть, а не казаться собакой (кол., V, 10—18). Кинизм
здесь идет в наступление.
В разговоре с сицилийским тираном Дионисием (кол. IV, 25—
V, 9) Диоген в который раз демонстрирует свою парресию и
презрение к «сильным мира». Не отвечает он и на вопросы посланных
к нему стратегами стражников. Ему не страшны обвинения в
пренебрежении к государству и его законам, для него важнее
высмеять человеческую тупость этих стражей порядка (кол. II—III, 2).
В другом эпизоде (кол. III, 25—IV, 24) Диоген зло иронизирует
над знатными афинянами, устроившими в лавке цирюльника нечто
вроде светского клуба. В апофтегме (кол. III, 3—4) кинический
философ высмеивает никчемность современного образования,
неспособного уберечь людей даже от страха перед побоями. В
отрывке из другого анекдота (кол. V, 7 и ел.) Диоген, как видно,
упрекает Менандра, озабоченного приобретательством.
Хотя собранные в Венском папирусе анекдоты внешне ничем
не объединены, в них все же заметна тенденция сделать
Диогена — даже спустя несколько столетий после смерти — символом
политической фронды. Во всех этих хриях, апофтегмах и
анекдотах Диоген вступает в напряженный, атакующий внутренний
диалог со всеми, кого приходится опровергать, высмеивать,
убеждать, наставлять, кому нужно отвечать на упреки и насмешки.
137
Собеседники, как правило, по отношению к Диогену настроены
критически, если не враждебно, а он не столько обороняется,
сколько наступает, борется с заблуждениями, с расхожими
мнениями и пустопорожними ценностями, защищаемыми его
противниками. В число противников нередко попадают люди,
находящиеся в зените славы и власти,— тираны, цари, владыки,
полководцы (Антипатр, Пердикка, Ксеркс, Филипп, Дионисий).
С чувством особого удовлетворения киники рассказывают
популярные истории о встречах Александра Македонского и Диогена,
в которых могущественный государь и властелин мира
оказывается посрамленным нищим философом. Источники донесли немало
подробностей этих встреч (Цицерон, Сенека, Плутарх, Эпиктет,
Лукиан, Диоген Лаэртский — VI, 38, 60, 68 и др.).
Враждебная конфронтация Диогена и Александра составляет
сердцевину 4-й речи Диона Хрисостома «О царской власти», в
которой, как и в 33-м письме псевдо-Диогена, решается постоянно
волнующая киников проблема содержания и границ подлинной
власти. Несколько позднее Лукиан в «Разговорах в царстве
мертвых» сталкивает в Аиде неунывающего и язвительно
насмешливого Диогена и жалкого Александра, убедившегося в том, что он
никакой не бог, а обыкновенный смертный, обремененный к тому
же воспоминаниями о своем былом величии, заставляющими его
горько рыдать (XIII). Там же Александр развенчивается как
полководец и человек, поглощенный честолюбием, жаждой роскоши и
злодейством: он заставлял падать перед собой ниц, перенял
персидский образ жизни, друзей своих убивал на пирах и
приговаривал к смерти (XII, 3). В другом диалоге даже Филипп
обвиняет сына в подражании персидским нравам, недостойным
свободных людей, в самомнении, злодействах, распутстве и
напоминает, что Александр отдавал на растерзание львам умных и
образованных людей, любил Гефестиона и т. п. (XIV).
Конфликт Александра и киника Диогена, эллинов, являвшихся
порождением одной и той же цивилизации, приобретает особую
остроту, когда место Диогена занимают индийские «киники», гим-
нософисты, о которых Геродот (I, 136) говорил, что они учили
философии народ Индии (см. также Плутарх. Александр 64—65;
Клим. Алекс. Стромат. 6,38, с. 730 Р; Страбон 15, 68, с. 718; пс.
Каллисфен III, 5; Палладий и др.). Именно такая ситуация
представлена и в папирусных фрагментах из рукописи II—I вв. до н. э.,
опубликованных У. Вилькеном (Берлинский папирус 13044) [555,
с. 150 и ел.]. Можно предполагать, что она легла в основу какого-
то специального сочинения с кинической тенденцией,
получившего распространение еще в конце IV в. до н. э. В рассказе об
Александре и гимнософистах был, вероятно, исторический эпизод,
засвидетельствованный историками Александра, Клитархом,
препарированный Онесикритом (Стобей XV, 1, 63—65) и вошедший
в «Роман об Александре» псевдо-Каллисфена (III, 5—6, 7—16).
Кинический прототип лег также в основу христианской обработки
138
Палладия (IV—V вв.) [465, с. 64 и ел.], которая помогла
В.Мартену восполнить лакуны опубликованного им Женевского
папируса [480, с. 531 и ел.]. Враждебные Александру эпизоды могли
восходить к историку Каллисфену, одному из немногих, кто решался
осуждать и критиковать царя, за что был брошен в тюрьму и умер
при загадочных обстоятельствах.
Киники обычно изображали Александра жестоким и кровавым
тираном, честолюбцем, попирающим права личности и народов4.
По предположению У. Вилькена, из кинических кругов исходит и
рассказ о том, как во время похода по Индии Александр захватил
город маллов, самоотверженно защищавшийся войсками царя
Самба (именно в это время Александр получил тяжелое ранение),
и велел привести к нему взятых в плен десять гимнософистов,
также участвовавших в защите города. Перед тем как казнить
индийских мудрецов, деспот решил позабавиться и послушать, что они
ответят на его замысловатые вопросы (apora erötemata). Когда
гимнософисты предстали перед царем, он обратился к ним с
такими словами (отсюда начинается читаемая часть фрагмента,
перевод которой я даю, начиная с колонки II):
«Кому я прикажу судить, тот из вас и будет судьей. И если его
решение окажется справедливым, он один будет отпущен живым». Тогда один
из гимнософистов спросил, смогут ли они добавить [к ответам] свои
объяснения. Александр дал утвердительный ответ и спросил первого, как он
думает, кого больше: живых или мертвых, или наоборот. Тогда [спрошенный]
ответил, что живых. «Разве не верно, что число существующих больше
числа тех, кого уже нет совсем?»— добавил он. После него Александр
спросил следующего, что... (Далее лакуна. Смысл вопроса по Вилькену:
«больше— земля или море»). «Земля. Ведь и само море находится на земле».
Третьего он спросил, какое животное, по его мнению, самое хитрое. Тот
ответил: «То, которому никто не может дать определения, — человек».
[Кол. III] Четвертого он спросил, почему тот посоветовал их вождю Сави-
ло [Самбу] воевать с ним. Тот ответил: «Чтобы он смог достойно жить или
достойно умереть». Пятому он приказал ответить на вопрос, что раньше
родилось: день или ночь. Тот ответил: ... (Здесь лакуна. Смысл ответа по
Вилькену: «Ночь), ибо она родилась одной ночью раньше, чем день».
Когда же Александр выразил свое недоумение по поводу ответа, индус
подумал и сказал, что мудреные вопросы порождают и мудреные ответы.
Шестого он спросил, какой человек заслуживает любви у людей. Мудрец
ответил: «Тот, кто, обладая могуществом, никому не внушает страха».
Седьмого он спросил, что должен делать человек, чтобы стать богом. [Кол.
IV] Тот ответил: «Такого человек сделать не может, даже если будет
пытаться». Восьмого он спрашивал, что сильнее: смерть или жизнь. Тот
ответил, что жизнь, ибо она из несуществующих делает существующих,
а смерть — из существующих несуществующих. Последнему он повелел
ответить, как долго, по его мнению, человек должен жить. Тот ответил, что
до тех пор, пока... (Здесь лакуна. Смысл ответа, восстанавливаемый Вильке-
ном на основании параллельных мест:) человек решит, что лучше умереть,
чем жить. Когда остался последний... (Далее лакуна. Смысл испорченного
места: который должен был оценить ответы) он спросил его, кто, как ему
кажется, дал наихудший ответ, и предостерег: «Только смотри, не угождай
никому!» [Кол. V] А тот, не желая, чтобы кто-нибудь погиб из-за него,
ответил, что один отвечал хуже другого... «Тогда вы все умрете,— сказал
Александр,— а ты первым, раз так рассудил». Тогда тот сказал: «Но царю не
пристало обманывать. Ведь ты сказал: „Кому я прикажу и т. д...." (Здесь текст
139
обрывается. Смысл пропущенного: «Так как, по моему мнению,— сказал
гимнософист,— ни один мудрец не ответил хуже всех, то никто не может
быть казнен первым. Иными словами, никто из нас не должен умереть: я не
могу умереть, ибо правильно рассудил, а остальных нельзя казнить вообще,
раз никого из них нельзя казнить первым». Ср. [552, с. 173])... [Кол. VI] ...
Это ты, а не мы, должен побеспокоиться, чтобы нас не казнили
несправедливо». Александр выслушал его и решил, что все они мудрые люди, и приказал
дать им одежду и всех отпустить.
Как видно из отрывка Берлинского папируса, гордый и
всесильный владыка мира терпит моральное поражение от находящихся
в плену беспомощных «голых мудрецов». И не благородство царя,
а сила духа и ума пленников заставила его сохранить всем им
жизнь и даже наградить их, несмотря на смелые и
оскорбительные для тщеславного, мнящего себя богом Александра намеки в
ответах шестого и седьмого из мудрецов. Один из них советовал
царю не запугивать людей, другой — не пытаться тягаться с
богами. Вопросы Александра менее всего свидетельствуют о
пытливости человека, по-настоящему интересующегося философскими
проблемами. Это скорее загадки (Какое животное самое хитрое?
Что больше: земля или море? и т. п.). Да и весь эпизод
напоминает ситуацию народной сказки, когда благородный герой должен
дать ответы на вопросы-загадки представителя враждебных сил
(чудовища, сфинкса, царя). Разгадка — необходимое условие,
чтобы герой уцелел, достиг успеха и победил зло. С разгадкой силы
зла теряют все свое могущество. В данном случае зло
персонифицировано Александром, добро — гимнософистами.
Напрасно У. Вилькен пытается найти в ответах десяти гим-
нософистов лишь реплики кинического учения ( филантропия,
прославление геракловых доблестей и др.). Приведенный
фрагмент—литературное свидетельство живучести кинической
традиции. Противопоставление внешне бессильных мудрецов и
всесильного тирана, смелость, независимость и находчивость философов
достаточно ясно говорят о кинической тенденции отрывка,
возможно, представляющего собой часть диатрибы. Кажется также
спорным утверждение исследователя, что киник Онесикрит, командир
флота Александра, не мог якобы в своих записках воспроизвести
подобной, неблагоприятной для македонского царя ситуации.
Однако такой компромиссный исход конфликта («счастливый
конец»), несмотря на всю свою неорганичность, вполне мог устроить
даже проалександровски настроенного Онесикрита.
В первой части опубликованных в 1959 г. В. Мартеном
папирусных фрагментов из сборника кинических диатриб
(Женевский папирус 271) [499; 513] 5 содержится воображаемый диалог
между главой индийских гимнософистов брахманом Дандамисом
и Александром. Хотя Женевский папирус датируется серединой
II в. н. э., версия, изложенная в нем, примыкает к традиции,
начало которой было положено еще в эллинистическое время, и, по
мнению В. Мартена, ближе к эллинистическому оригиналу, чем
вариант псевдо-Каллисфена. Вариант ситуации «Александр —
140
гимнософисты» Женевского папируса отличается от варианта
Берлинского папируса, хотя в обоих случаях имеет место кинически
тенденциозное столкновение двух жизненных концепций. В свое
время У. Вилькен указал на различия в изложении указанной
ситуации, когда в одном случае гимнософистов силой приводят к
Александру, в другом — царь посылает для ознакомления с их
учением своего приближенного Онесикрита (Onesikritosgespräch),
в третьем — сам с этой же целью беседует с индийскими мудрецами
(Alexandergespräch). В одном случае он тиран, в другом
—человек, якобы преклоняющийся перед философией и жаждущий
познания. У. Вилькен полагает, что последняя интерпретация
исходит от Онесикрита, восхищавшегося Александром, а первая —
безусловно из кинического источника. Хотя вариант Женевского
папируса ближе к «онесикритовской» редакции6, но, на мой
взгляд, он остается по-кинически острым, непримиримым к тирану.
В обоих случаях Александр и гимнософисты остаются лицом к
лицу друг с другом и с истиной, которая всегда на стороне
гимнософистов (киников).
В источниках, рассказывающих об отношениях между
Александром и гимнософистами (брахманами), намечены следующие
четыре ситуации: «Александр — гимнософисты» (Берлинский
папирус 13044; Плутарх. Алекс. 64—65; пс.-Каллисфен III, 5—6),
«Онесикрит (посланец Александра) — гимнософисты» (Страбон
15, 68, с. 718), «Александр — Дандамис (Манданис)» (Женевский
папирус 271; пс.-Каллисфен III, 7—16; Палладий и др.)»
«Александр— Калан» (Страбон; Плутарх; Женевский пап.). Во всех
перечисленных ситуациях Александр — слабая и неправая сторона,
даже когда он сам или через Онесикрита пытается приобщиться
к мудрости индийских аскетов. Не могут быть нейтрализованы
или опровергнуты жестокие и справедливые речи Даядамиса из
Женевского папируса жалкими словами царя о своем почитании
философии и «бесполезными и вредящими душе дарами»,
которыми он признает свое поражение и которые к тому же брахман
отвергает вежливо, но твердо. Царь, как и ожидал Дандамис, не
признав учения гимнософистов, удаляется посрамленным, чтобы
продолжать свои кровавые злодеяния. «Перековка» не удалась —
Александр позволил себе не рассердиться, но «не извлек никакой
пользы для себя». Все остается на своих местах —тиран тираном,
мудрецы мудрецами. Что же касается Калана, то в его образе
заклеймен предатель, покинувший ряды гимнософистов и
попытавшийся усвоить чужой (греческий) образ жизни, но в раскаянии
и под влиянием угрызений совести предавший себя самосожжению.
Хотя Дандамис принимает от Александра елей и сжигает его
дотла, однако этот жест вежливости не идет ни в какое сравнение
с его гневными инвективами и угрозами высшего суда («Не
проливай крови городов, не шагай по трупам народов» и т. д.—кол. II).
В своей речи, которой начинается папирусный отрывок, Дандамис
излагает теорию кинической аскезы и автаркии, требует от Алек-
141
сандра отказаться от завоеваний: «Ничего не желай, и все твое»
(кол. I, 9), настаивает на прекращении кровопролитных войн
и установлении мира, осуждает порочную жизнь эллинов,
восхваляет естественный и скромный образ жизни брахманов, их
вегетарианство, одиночество, отказ от государства и вражды. Все, что
говорит Дандамис, почти дословно совпадает с инвективами
киников эпохи империи. В конце фрагмента он тщетно уговаривает
молодого царя бросить все и последовать их примеру. Моральная
победа на стороне индийских аскетов.
От киников брахманов отличает только благочестие, которое в
соответствии с духом времени подчеркнуто в диатрибе,
произнесенной Дандамисом. Брахман с его проповедью свободы, равенства
и братства людей, с призывами возвратиться к матери-природе,
которая все сама дарует человеку, и с критикой образа жизни
завоевателей представляет радикальную киническую мораль как
единственное спасение для человечества.
Ниже следует полный перевод первой части Женевского
папируса 271, содержащей обращение Дандамиса к Александру и
немногословные реплики царя.
Кол. I ...«У нас с тобой, как и у всех, одна земля, нас окружают все те же
люди. Даже если тебе будут принадлежать все реки, пьешь ты не больше,
чем я. Но я не сражаюсь, не получаю ранений, не разрушаю городов.
Одна у меня с тобой земля и вода, но· у меня всего в достатке, и я ничего не
хочу. Усвой у меня хоть это правило мудрости: ничего не желай, и все
твое. Мать бедности — жадность — исцеляется горьким лекарством
страдания. Ты будешь богат, как и я, если приобщишься к моим благам. Бог мне
ДРУГ> У меня с ним все общее. К дурным людям я не прислушиваюсь.
Небо — мне крыша, вся земля — ложе, все реки к моим услугам, леса — мой
стол. Я не ем мяса, как львы. Не становлюсь могилой для падали, в моем
чреве не разлагается живая плоть. Земля приносит мне свои плоды, как
мать — молоко. Я не пил крови матери, не пожирал живых существ, я ел
только то, что дарует природа. Ты хочешь узнать, какая мудрость мне
ведома. Как видишь, я живу так, как родился, как был произведен на свет.
Я знаю, что делает бог. Вы же только дивитесь, когда начинаются ливни,
моровая язва, гремит гром и полыхают молнии, разражаются войны,
голод. Я же предвижу и знаю, как, откуда и почему все это происходит.
И больше всего я радуюсь тому, что бог сделал меня соратником своих
деяний... мы знаем, что, испугавшись, царь приходит ко мне как к другу.
Помолившись богу, я прошу его о благах для дома. Не золото, царь... а эта
моя речь принесет тебе пользу. Если же ты прикажешь меня убить, я не
опечалюсь. Я отправлюсь к своему богу: он справедлив, ничто не скроется
от его взора. Ты победил всех и вся, но у тебя нет места, куда бы ты мог
убежать. Ведь бог сомкнул небо [над нами]. Ныне он запер нас в плоть,
словно окружив стеной.
Кол. II. Узнавая, как мы живем, спустившись от него, он потребует отчета,
когда мы поднимемся к нему. Не уничтожай того, что сотворил бог, не
проливай крови городов, не шагай по трупам народов. Думай о том, как
самому жить, а не как убивать других. Зачем, обладая лишь одной душой, ты
губишь такое множество душ? Зачем наполняешь мир горем? Зачем, когда
другие плачут, ты смеешься? То, что ты вытерпел, ты пережил наедине
с самим собой; теперь ты не боишься и не причиняешь зла. Если и здесь
ты ищешь мужества, то найдешь его. Сбрось с себя эту баранью шерсть,
не прячься под мертвый покров. Душа подвергается испытаниям и в
уединении. Почему ты глядишь с таким отвращением на самого себя? На чу-
142
жую шерсть ты смотришь с большим удовольствием, чем па собственное
тело. Я знаю, тебе не избрать нашей жизни, ты не настолько счастлив.
Македонцы с тобой, чтобы грабить города. Сегодня они горюют, [узнав], что
спасен народ. Они воины собственной ненасытности, а ты для них —
только предлог. Когда от богов ты получишь другую жизнь, чтобы пожить
наконец на собственный счет? Теперь-то ты живешь за счет грабежей и
убийств. Одно у тебя есть, будешь добиваться другого... каким я увижу
тебя на небе? Я напомню тебе о своих словах, когда тебя больше не будут
сопровождать ни кони, ни дары. Ты будешь оплакивать свою жизнь,
загубленную на убийства и страх. Ты обратишься ко мне, когда уже у тебя
ничего не будет, кроме воспоминаний о содеянном зле: „Ты был добрым
советчиком, Дандамис. Теперь я знаю, что ожидает людей у богов44». Не
сумев извлечь для себя никакой пользы и не почувствовав угрызений
совести, Александр все это благосклонно выслушал и не рассердился. Была и
в нем частица божественного дыхания [пневмы], но по вине дурного
эллинского племени он и ее обратил во зло. Он сказал: «Блаженный
Дандамис, я знаю, что все сказанное тобой — истина. Но бог произвел тебя на
свет там, где можно быть счастливым,
Кол. III. никого не бояться и быть богатым. Я же живу в постоянном
страхе и треволнениях. Я больше боюсь тех, кто меня охраняет, чем тех, кто со
мной воюет. Мои друзья, ежедневно злоумышляющие против меня, хуже
врагов. Я без них не могу жить, но и с ними не чувствую себя в
безопасности. Они охраняют меня... (Далее большая лакуна, около 11 строк.) ты
доставил мне удовольствие своими словами и смягчил меня, [огрубевшего]
от войн. Но ты не унизил меня. Более того, почитая мудрость, я получил
от тебя добрую услугу». С этими словами он дал знак слугам. Они принесли
к нему золото и в слитках, и в монетах и... пироги... (Лакуна около 4 строк.)
«Я не принимаю ничего бесполезного или вредящего душе и теперь не
собираюсь опутывать оковами свою свободную от забот душу. Я ничего не
покупаю на рынке и живу в одиночестве. Все бог дает мне даром, ибо
ничего не продает за деньги, желая добра, и когда думают, что он берет,
дает. Я одет в тот самый плащ, который получил, когда меня мать рожала.
Вскормленный под открытым небом, я с удовольствием смотрю на себя.
Мое тело свободно от оков [одежды]. Жажда делает для меня речную воду
слаще меда. Все возрастающая со временем, она становится служанкой
наслаждения. Если хлеб был кормильцем, зачем ты поджигал его? Объедки
огня
Кол. IV. я не ем... пусть огонь, вкусивший это, истребит до конца. Чтобы
уважить человека, почитающего философию, я принимаю елей»...
возжегши огонь, он стал лить [на него] елей и петь благодарственный гимн богу,
пока все не истребил. Увидев это, Александр в изумлении удалился, веля
унести с собой принесенные дары. Дандамис сказал: «Все мы таковы.
А Калан появился у нас и совсем недолго подражал нашему образу жизни,
но не стал другом бога и сбежал к эллинам и по обычаю индусов предал
себя бессмертному огню... (Лакуна около 13 строк.) мы радуемся
одиночеству, скрываясь в гуще деревьев. Наши мысли мы обращаем к богу, чтобы
душа наша, общаясь с людьми, не отвращала взгляды от бога... блажен тот,
кто ни в чем не нуждается. И тот, кто намерен удовлетворять [свои
желания],— негодный раб. У единомышленников одинаковые взгляды. Мы не
нуждаемся в государстве, которое представляет собой сборище
злокозненных людей. Вместо домов бог создал для нас горы и леса...»
Кол. V. Фрагмент А. «...если вы хотите носить плащи, то нужно
пользоваться разными — для пастуха, для ткача, для валяльщика». «Об этом можешь
мне не говорить. Я не ношу мягких плащей. Для индуса это то же самое, что
рабство. Кто испытывает желание иметь хоть немного денег, захочет
награбить побольше»...
Фрагмент В. «...вы нищие и готовы восторгаться ничтожным». «Вы
убиваете живые существа, детей земли, рабов...»
Кол. VI. Фрагмент В. «...мы не пьем, не испытывая желания напиться.
Когда же появляется жажда, утоляем ее только водой из природных источ-
143
ников...» (Далее большая лакуна, около 40 строк.) «...Счастливее у вас
безумцы. Они пьяны, даже не покупая вина. Вы колотите друг друга и
судитесь... Мы слышали, что вы много едите, не решаясь бросить; то, что
вы вместили в себя, извергаете, насилуя природу. Облегчившись, пьете
снизу, испражняетесь сверху.
Кол. VIL Безумцы, вместо того чтобы ходить на ногах, вы ходите на
голове. Зачем насильно насыщаете себя, чтобы так же насильпо очиститься,
приобретая сверх того грубость и болезнь? Позвольте природе кормить вас,
чем она хочет, и она излечит вас. Своей цели вы достигнете, но без
удовольствия, ибо конец не знающего меры насыщения мучителен. Вы
заболеваете, болезни — ваше наказание. Если вы уж хвалитесь тем, что много
имеете, то сделайте приятное и другим. Мы же слышали, что даже нищим,
просящим хлеба, вы не подаете. Все свое состояние вы тратите на пищу
поэтому множество врачей обирает вас своими ухищрениями или опусто*
шает голодом. Тогда одни, вылив много вина... только воды у нас столько,
сколько хотите...
Кол. VIII. ...она, испытав [это], полна наглости. Этого брахманы не знают.
Мы не ведем никаких войн... (Далее идут отдельные слова, обрывки фраз.
В конце колонки Дандамис, видно, уговаривает Александра все бросить и
жить с ними вдали от людей.) ...брось все, наслаждайся одиночеством и
ходи нагим, довольствуясь дарами бога»...
В конце указанного исторического периода обнаруживается
влияние форм и художественных средств кинической литературы,
ее принципа «серьезно-смешного» у римских писателей-сатириков
Лукилия, Марка Теренция Варрона Реатинского, Горация. В мою
задачу не входит анализ этого влияния, укажу лишь на связь сатир
Горация с диатрибами Биона [485] и на прямое подражание
Варрона Мениппу7, плодом которого было появление латинских «Sa-
turae Menippeae», где проза сочеталась со стихами. Эд. Норден в
своих заметках о сохранившихся фрагментах «Менипповых сатур»
Варрона справедливо замечает, что римский писатель надел маску
киника только с одной целью — чтобы сильнее обличать нравы
своего времени [417]. Отсюда нападки Варрона на роскошь,
стяжательство, тщеславие, суеверия, пышность погребальных обрядов,
на атлетизм, пустоту псевдофилософских препирательств и даже
на всемогущих триумвиров. Однако Варрон не только обличал, но и
поучал (начиная с вопросов высокой морали и кончая правилами
поведения за столом), призывая к скромности, опрощению и
народности.
Хотя Тертуллиан называл Варрона cynicus Romanus (Аполог.
14), однако ни его, ни Лукилия или Горация нельзя считать
киниками. Их интерес к кинизму был преимущественно художнический.
Кинизм с его безудержным свободолюбием и анархизмом,
внешними эксцессами и чудачествами был чужд римской основательности,
древним идеалам virtus и gravitas. Официальное римское общество
в гораздо большей степени устраивал очищенный от крайностей
кинизма романизированный вариант стоицизма Панетия и Посидо-
ния. Поэтому был так категоричен Цицерон: «Нужно отбросить все
учение киников, ибо оно враждебно скромности, а без нее нет
ничего истинного и честного» (Об обязанностях 1,148). Даже
республиканская стоическая оппозиция, ненавидящая императорский
144
произвол, стыдливо отмежевывалась от компрометирующего
родства с кинизмом. Киники всегда были подозрительными для
римлян, особенно при императорах, круто разделывавшихся со
свободомыслием.
Итак, насколько можно судить по источникам, кинизм был
широко известен в Греции во II—I вв. до н.э., а в Риме — даже во
времена Плавта8 и позднее. Учение киников продолжало жить и
привлекать сторонников, но число кинических памятников по
сравнению с предыдущим периодом резко сократилось, что в известном
смысле могло свидетельствовать об упадке популярности кинизма
(если здесь не сыграла роль прихоть случая). И дело тут в
глубоких социальных причинах. В последнее века перед началом новой
эры в Греции произошли большие перемены. От империи,
созданной Александром, от эллинистических государств остались одни
руины. Разъединенная Эллада стала нетрудной добычей римских
легионов. Потеряв независимость, греки утратили веру в
собственные силы и замкнулись в узком мирке личных переживаний. Зато
нарастала вера в некую божественную, иррациональную,
сверхъестественную силу, которая спасет человечество от страданий.
В здоровое реалистическое сознание грека все властней вторгались
настроения восточного мистицизма, идеи иудаизма, ожидание
мессии. Религия, не философия, давала угнетенным утешение,
надежду на покой и счастье, которых в действительной жизни не было.
Постоянные войны и связанные с ними бедствия, обдуманный
террор со стороны завоевателей порождали апатию, неуверенность в
способность человека рационально устроить мир, что-либо
изменить к лучшему. Классовая борьба приобрела новые формы,
оппозиция угнетенных окрасилась в религиозно-мистические тона,
социальные требования рядились в религиозное платье. Гнев и
ненависть слышались в пророчествах, оракулах, откровениях [126].
Понятно, что киники со своим культом разума, какими ни на
есть философскими категориями, враждебностью к суевериям и
мистике не отвечали социальной и психологической атмосфере
эпохи. Усталый народ жаждал не только свободы, но и утешения,
так как все попытки освободиться от гнета и нужды оканчивались
поражением. Киники не утешали, а критиковали и протестовали.
«Для того чтобы дать утешение, нужно было заменить не
утраченную философию, а утраченную религию. Утешение должно было
выступить именно в религиозной форме...» [9, с. 313]. Киники не
могли заменить развенчанную ими традиционную антропоморфную
религию эллинов другой, более утонченной и отвечавшей духу
времени. Это отчасти сделал стоицизм, влившийся затем в новую
религию — христианство, которое в начале новой эры сделалось
религией «страждущих и обремененных». А пока иудаизм, мит-
раизм, культ «матери богов» Кибелы, Исиды, Сараписа и других
восточных богов притягивал их души.
В республиканском Риме среди трудовых низов кинизм не
пользовался успехом не только по причинам психологическим, но и по-
145
-тому, что скрытой пружиной истории Римской республики был, как
показал Маркс, аграрный вопрос, а киники были ближе городской
бедноте, и проблемы земельной собственности их волновали не в
первую очередь. Кроме того, в указанный период киническая
философия стала утрачивать свою самобытность и исключительность,
поглощаемая более гибким стоицизмом, от которого, как писал
Э. Целлер, она отличалась «только лишь односторонностью и
грубой прямолинейностью, с которой она проводила, в сущности, те же
идеи» [560, с. 763]. Но упадок — еще не конец. Кинической школе
-еще суждено было возродиться, пережить подъем и долгую
историю.
2. «КИНИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Возрождение кинической философии, а вместе с ней и
литературной деятельности киников связано с образованием Римской
империи. Со времен принципата Августа складываются условия, во
многом аналогичные эпохе эллинизма, и кризисные явления в
античном полисном мире на время разрешаются сходными
средствами — насилием со стороны более мощного государства. Разрешение
фундаментальных противоречий основанного на рабстве общества
«совершается в большинстве случаев,—писал Энгельс,—путем
насильственного порабощения гибнущего общества другими, более
сильными (Греция была покорена Македонией, а позже Римом)»
[12, с. 643]. После создания Римской империи экономические
противоречия были временно загнаны вглубь, зато идеологические,
политические, психологические, моральные, национальные
конфликты стали еще острее. Вековая культура эллинизма страдала
от торжествующего солдафонства. Торжество Рима ухудшило
положение -населения завоеванных стран, испытывавших теперь
двойной гнет — со стороны завоевателей и собственных набобов.
Грабеж провинций достиг таких масштабов, что уже первые
императоры из дома Юлиев-Клавдиев были вынуждены принять
законодательные меры против разыгравшихся аппетитов своих
наместников. Но не менее эффективно стали действовать «тиски
налога в пользу государственной казны Рима» (Энгельс).
Народные восстания в провинциях, где свободные и рабы зачастую
действовали солидарно, свидетельствовали об обострении
классовой борьбы и являлись закономерной реакцией на потерю
независимости и попрание человеческих прав (Иудейская война,
восстание Цивилиса, движение Лже-Нерона, волнения в Александрии
идр).
Напряженное положение создалось как на периферии Римской
империи, так и в самом Риме, где социальные контрасты
проявились с особенной силой. Баснословная роскошь оптиматов и
ужасающая нищета народа, произвол и безудержная распущенность
верхов характеризовали состояние римского общества в первые
годы империи. Обезземеление и разорение крестьянских масс вело
146
к пополнению рядов люмпен-пролетариата и фактических рабов.
Протест против усилившегося гнета и несправедливостей
выливался в открытые социальные выступления, в сфере же идеологии —
в возникновение и распространение христианства в религии, а в
философии —в подъем кинизма, который нес в себе много
типологического сходства с новым христианским учением (обращение к
низам, проповедь бедности и аскетизма, ненависть к угнетателям и
их культуре, космополитический универсализм, даже зачатки
монотеизма и т. п.). И кинизм и раннее христианство опирались на
угнетенные массы, идеологию которых оба учения отражали с
разных позиций. Формирование раннего христианского
мировоззрения и возрождение кинизма в конечном счете имели общие
причины, великолепно проанализированные Ф. Энгельсом. Мир
снова нуждался в мучениках идеи, фанатиках, мятежниках,
страстных обличителях и апостолах справедливости. Как и кинизм>
«новая философия религии переворачивает прежний порядок
вещей, вербуя своих последователей среди бедняков, несчастных,
рабов и отверженных, и презирая богатых, могущественных,
привилегированных...» [9, с. 308]. Возникнув «как религия рабов и
вольноотпущенников, бедняков и бесправных, покоренных или
рассеянных Римом народов» [15, с. 467], христианство благодаря
своей доступности, учению о загробном воздаянии,
соответствующему «всеобщей апатии и деморализации» (Энгельс), обрело
больший успех в массах, чем рационалистический кинизм с его
светским, «языческим» характером и неприятием всякого рода
религиозного дурмана, хотя и в кинизме этого времени было
течение с религиозными элементами (Деметрий, Дион и др.).
Было еще одно обстоятельство, которое могло дискредитировать
киников, как и других философов, в глазах масс. Философия для
многих стала доходной статьей, средством легко добывать хлеб
насущный. Из философских систем в угоду римским властям
изгонялись последние следы вольнодумства, исчезали свежесть и
новизна мысли, широта охвата жизненных явлений. Зато царствовали
эклектизм, эпигонство, плоская морализация. «Философы были или
просто зарабатывающими на жизнь школьными учителями, или
же шутами на жалованье у богатых кутил» [9, с. 311]. Каждый,
надевший на себя потрепанный плащ, отпустивший волосы и
бороду, взявший в руки суковатую палку и котомку, мог выдавать себя
за философа — стоика или киника. «Сколько палок, плащей и
сумок!—восклицает Лукиан, рассказывая о философах II в. н. э.—
Везде длинные бороды и свертки книг в левой руке. Все
философствуют... портики полны людей, которые шагают друг другу
навстречу взводами, рядами, и нет никого, кто не захотел бы
казаться питомцем добродетели. Многие, оставив прежнее ремесло,
обратились к котомке и плащу и... превратились из кожевников или
плотников в самодельных философов и ходят повсюду, восхваляя
правду и добродетель» (Дважды обвиненный 6; ср. Демонакт 19,
48; Продажа жизней; Рыбак 45; Беглые рабы 12—22).
147
Внешняя доступность философии, делающей акцент на
поведении, вызвала к жизни целый класс паразитирующих
лжемудрецов — лжекиников, лжестоиков, лжепифагорейцев и т. д. Начиная
со второй половины I в. н. э. они стали появляться на улицах Рима
и в греческих городах. Дион Хрисостом рассказывал, что повсюду
можно увидеть людей в наряде философа, их больше, чем
сапожников, валяльщиков, шутов (72,4). Он же презрительно говорит о
толпе «так называемых киников» в Александрии (32,10). Эпиктет
называет лжекиников «столовыми собаками, сторожами у ворот»
(III, 22, 80). Марциал упоминает как явление, обычное для Рима,
жалких бродяг — киников и стоиков (XI, 84). В том же духе пишут
о киниках императорского времени Петроний (Пир Тримальхиона
14), Авл Геллий (Аттические ночи IX, 2), Ювенал, Лукиан, Элий
Аристид и позднее — Юлиан и Августин. Все эти свидетельства
отражают действительность, но не столь просты. В одних случаях эту
критику можно рассматривать как заинтересованность
единомышленников в чистоте собственных рядов (Дион, Лукиан), в других —
как проявление соперничества или высокомерия и классовой
неприязни верхушки общества и ее идеологов к своим идейным врагам
из гонимых и презираемых низов, осмелившимся поднять голос
протеста. Преуспевающие философы и риторы, состоявшие на
жалованье у богачей, брезгливо высмеивали киников, живших на
более чем скромные подаяния.
Но какова бы ни была масса кинических попутчиков, она не
мешала истинным киникам делать свое дело — обличать
существующий строй, монархию, императоров, вельмож и богачей. Своим
возрождением в эпоху Римской империи киники обязаны
прежде всего демократическому духу и пафосу практической
нонконформистской морали, которые давали массе веру в возможность
победы добра над царящим злом. В критике террористического
режима киники смыкались с сенаторской республиканской
оппозицией второй половины I в. н. э., представленной мужественными
стоиками Мусонием Руфом, Тразеей Петом, Гельвидием Приском
и др. Многие не проводили различия между стоицизмом и киниз-
мом, считая последний чем-то вроде левого, крайнего фланга
Стой. Во всяком случае, для Ювенала стоик отличается от киника
только платьем (Сат. XIII, 120 и ел.). Киники становились
опасной политической силой, с которой так или иначе приходилось
считаться властям. Вот что писал о киниках ранней империи
русский историк М. И. Ростовцев: «Что такое эти сотни одетых в
рубища киников, наводняющих площади города и нападающих на
современный строй, современную мораль и современную религию?
Эти бородатые незнакомцы с сумой через плечо и толстыми
плащами на плечах? Эти бродячие аскеты? Они не что иное, как
армия протеста, очевидно где-то организованная и выпущенная
постепенно на арену истории» [319, с. 19]. Власти преследовали
их. Вместе со стоиками их изгоняли при Нероне, Веспасиане и
Домициане из Рима и Италии, не давали селиться на родине. Не-
148
рон изгнал киника Исидора [523, с. 53—54] будто бы только за
то, что он «громко крикнул ему при всех, что о бедствиях Нав-
плия он поет хорошо, а со своими справляется плохо» (Светоний.
Нерон 39). Подверглись жестоким репрессиям киники Диоген и
Герас, открыто высмеивавшие брак Тита и Береники (Дион
Кассий 66, 13—16). Но киники шли еще дальше, активно участвуя в
антиримских и антирабовладельческих движениях в
провинциальных городах Греции, Малой Азии и Египта. Перегрин призывал
греков поднять оружие против римлян (Лукиан. О смерти
Перегрина 19).
Александрия — крупнейший культурный и экономический центр
эллинизма на Средиземноморье — с птолемеевских времен
представляла для римлян постоянную опасность своим вечно
клокочущим недовольством, своим местным патриотизмом, стремлением
к независимости, волнениями низов, ненавидевших своих
собственных и иноземных угнетателей, римских префектов,
императорскую власть. Накал политических страстей усугублялся
сложными взаимоотношениями народов, населявших этот «мировой
город» (в частности, острая враждебность александрийских греков
и египтян к местной иудейской общине, экономически
независимой, расово и религиозно отчужденной), на которых играли
римская администрация и местная греческая знать и плутократия,
кичившиеся своим происхождением от македонских владык.
Центральные римские власти и губернаторы-префекты то
поддерживали греков против евреев, то евреев против греков, действуя
по своему безотказному правилу: «разделяй и властвуй». В этой
политике главную роль играл, разумеется, не римский
национализм или эллинофильство, как полагает М. И. Ростовцев, а твердое
желание римлян любыми политическими, военными,
экономическими и идеологическими акциями удержать в подчинении такую
богатую и стратегически важную колонию, как Египет. Опыт
истории показывает, что национальная рознь всегда играла на руку
правящим верхам, отвлекая народ от действительных задач.
Римляне воспользовались еврейскими «погромами» в Александрии,
чтобы репрессировать влиятельную греческую верхушку Египта,
жаждавшую восстановить в своих корыстных целях былую
независимость страны и господство в Средиземноморье. Народ видел
только одну сторону событий: желание этих благородных греков
освободить родину от ненавистных захватчиков, выкачивавших
ее богатства, унижавших достоинство свободолюбивых
александрийцев. Киники использовали ситуацию в своих целях.
Со времени восшествия в 37 г. на престол Гая Калигулы
конфликты между греко-египетским и еврейским населением
Александрии обостряются, переплетаясь с антиримскими
выступлениями, в которых принимали участие как свободные, так и рабы,
преследовавшие свои собственные цели. Возглавили
антиеврейскую и антиримскую борьбу в это время греки гимнасиарх Исидор
и некий Лампон. Не утихали смуты, беспорядки, волнения и при
149
Антонинах — Траяне, Адриане, Коммоде. Они не утихали ни при
императорах-националистах, ни при филэллинах. Дион Хрисостом,
возвращенный из ссылки и обласканный Траяном, побывал в те
смутные времена в Александрии не как простой софист, но со
специальной миссией императорского эмиссара. Вся речь Диона
«К гражданам Александрии» (XXXII) полна отголосков и
намеков на кровопролитные мятежи александрийского демоса (§ 71—
72), в результате которых римляне под классическим предлогом
«защиты порядка» ввели свои войска в город (§ 51). Дион
ознакомился с обстановкой и увидел среди взбудораженных
ремесленников, матросов, рабов бородатых смутьянов, подстрекавших
народ. «Так называемых киников в городе целая толпа,— говорит он,
обращаясь к александрийцам.— Как в других обстоятельствах, так
и здесь мода сыграла свою роль. Эта толпа состоит из чужаков и
людей низкого происхождения, которые, так сказать, ничего не
смыслят и думают только о жратве. Они собираются на
перекрестках, в переулках, в преддвериях храмов и обманывают рабов,
моряков и подобный сброд, отпуская шуточки и болтая вздор с
этим известным вам базарным красноречием. Пользы от них
никакой, а зло — величайшее...» (XXXII, 10).
Ссылки на то, что это якобы не настоящие киники, а уличные
проповедники и попрошайки, не могут опровергнуть того факта,
что среди неспокойных низов Александрии находились люди,
которые для своей мятежной деятельности в народе избирали как
наиболее эффективные кинические лозунги. Киники в
Александрии не призывали к покорности, но в согласии со своим учением
нападали на власть имущих, на римских префектов, императоров
и их приспешников. От этого неспокойного времени в
Александрии первых веков Римской империи сохранились подлинные
документы социальной борьбы, фрагменты которых были впервые
обнаружены в 1839 г. среди египетских папирусов II в. н. э.
(позднее эти фрагменты пополнялись). У исследователей эти
документы получили условное название «Акты [деяния] языческих
мучеников Александрии» («Acta Alexandrinorum») и относятся к
I—III вв. н. э. (от Тиберия до Каракаллы). Так называемые
«Александрийские акты» представляют собой своеобразные судебные
отчеты о политических процессах или протоколы допросов лидеров
антиримского и антиеврейского движения в Александрии в
римском трибунале, на котором обычно присутствовал сам Цезарь и
где обвиняемые становились обвинителями. Сейчас насчитывается
22 таких «Акта», изданных Музурилло [20]. Прибывавших в Рим
руководителей мятежников заключали в темницу и подвергали
пыткам, многих казнили. Каждый из них держался с достоинством,
дерзко бросал обвинения в лицо императоров, каждый был полон
любви к родине, к славному прошлому Эллады и ненависти к
великодержавному Риму. Среди греков Александрии это
подвижничество их посланцев становилось скоро известным и вызывало
новую волну ненависти к римлянам, а «мучеников» делало на-
150
стоящими народными героями. М. И. Ростовцев первым в речах
александрийцев перед лицом императоров справедливо разглядел
влияние кинических идей (противопоставление истинного
руководителя народа, «царя», тирану, осуждение тирании, богатства,
распутства, насилия, проблема свободы и рабства, содержания
власти, добродетели правителя, его «филантропия» и т. п.),
которые волновали всех киников и близких к ним мыслителей эпохи
империи (Диона, Деметрия, Эпиктета, авторов «кинических
писем», Лукиана и др.). Да и в поведении «мучеников» давал о себе
знать кинический стереотип с его внаменитой парресией. М. И.
Ростовцев обратил внимание на заметную политическую роль,
которую играли киники в борьбе местного населения провинций
против чужеземного гнета. «Нет сомнения,— писал он,— что, как и в
городах Малой Азии, кинические уличные философы имели
огромное влияние на непокорные элементы населения Александрии,
особенно на пролетариат» [269, с. 117].
«Александрийские акты» нельзя считать чем-то вроде
стенографического отчета о судебных заседаниях. Здесь мы имеем дело
с литературной обработкой, по-видимому, подлинных записей,
сделанных с проалександрийских, эллинофильских и антиримских
позиций. Обработка производилась разными авторами и в разное
время (об этом, в частности, говорят некоторые явно придуманные
детали, описание событий за рамками судилища, некоторый
риторический налет, особенно в «Актах Аппиана»). Все эти «Акты» —
памятники нелегальной, подпольной политической литературы,
подстрекательские памфлеты или листовки, основанные на
документальных данных. В «Александрийских актах», может быть,
впервые мы сталкиваемся с открыто тенденциозной
документальной прозой, получившей столь широкое распространение в наши
дни.
Ознакомимся подробнее с содержанием и характером
некоторых, наиболее хорошо сохранившихся фрагментов из издания Му-
зурилло. В «Актах Исидора» (фргм. IV) зафиксирован допрос
александрийского гимнасиарха Исидора императором Клавдием
(52—53 гг. н. э.), обвинявшего Исидора в том, что по его вине по-
тибло много друзей римлян. Исидор не думает оправдываться,
а оскорбляет императора обидными намеками, касающимися его
отношений с Калигулой и с матерью, а о себе Исидор говорит, что
он человек свободный и гражданин славного града Александрии.
Его сподвижник Лампон бросает ядовитую реплику: «Нечего
нам разговаривать с этим сумасшедшим императором!» Клавдий
помимо участия обоих в александрийских волнениях вполне мог
обвинить их в laesae maiestatis, «оскорблении величества», и не
удивительно, что Исидора и Лампона постигла смертная казнь.
Ко времени Нерона относятся отрывки из «Актов Диогена»
^фргм. VA), в которых в киническом духе осуждаются пороки
этого тирана. Очень смело говорил с Траяном Гермаиск, другой лидер
александрийцев («Акты Гермаиска», фргм. VIII). Большой инте-
151
pec представляют «Акты Павла и Антонина» (фргм. IX). Здесь
обвиняемых допрашивает Адриан (119—120 гг.). В его правление
события в Александрии развертывались особенно бурно [516г
с. 266 и ел.]. В связи с ожесточенными столкновениями греков и
евреев префект города Марк Рутилий приказал грекам сдать
оружие, но приказ не был выполнен. Обстановка накалялась. Греки
в мимах высмеивали иудейского царя Агриппу, пели
издевательские песенки, задевавшие римлян и самого императора. Префект
арестовал 60 особенно активных александрийских граждан вместе
с их рабами, участвовавшими в волнениях. Граждане были
изгнаны, а рабы казнены, несмотря на попытку силой освободить их.
В результате беспорядков в городе было много жертв и
разрушений. Для выяснения обстоятельств дела и наказания виновных
представители греков и евреев были вызваны в Рим. Обе
стороны, естественно, обвиняли друг друга, но Адриан, как можно
судить по общему смыслу сохранившегося отрывка, склонился на
сторону евреев и велел даже пытать греков. Греки вели себя
бесстрашно. Павел и Антонин проклинали не только «нечестивых
иудеев», но не щадили и самого императора, которого
издевательски величали: kyrie moi Kaisar— «господин мой Цезарь!». На все
угрозы Павел отвечал: «Меня заботит только моя могила в
Александрии, и, отправляясь на смерть, я не побоюсь сказать тебе всю
правду. Ты выслушай, Цезарь, человека, которого завтра уже не
будет больше в живых» (кол. VI, с. 40М). Другие обвиняемые,
Антонин и Феон, вели себя не менее мужественно. Все, вероятно,
были казнены.
Наиболее крупный и выразительный отрывок повествует о суде
над александрийским гимнасиархом Аппианом («Акты Аппиана»,
XI) уже при последнем Антонине — жестоком и деспотичном Ком-
моде. Аппиан, как говорит Г. Музурилло, вобрал в себя все
доблести александрийских мучеников: горячий патриотизм, мужество,
презрение к смерти, откровенность речи, ненависть к тирании,
римлянам и императору. «Акты Аппиана» несут на себе печать
тщательной литературной обработки, хотя и не во всем удачной. Они
наиболее драматичны, речи героев риторичны, бьют на внешний
эффект, «мученичество» здесь сознательно форсируется, с тем
чтобы вызвать сочувственное негодование читателя. Недаром Пре-
мерштайн называет «Акты Аппиана» тенденциозным
политическим сочинением.
Сохранившийся отрывок относится уже к развязке процесса.
Аппиана ведут на казнь, и он удивлен, что его друг Гелиодор
молчит: «Почему ты ничего не говоришь?» — «С кем же нам
говорить? — отвечает Гелиодор.— Ведь нет никого, кто бы нас
выслушал. Иди, дитя мое, иди на смерть!» И далее, как возвышенная
сентенция: «Славно погибнуть за свою сладчайшую родину.
Не бойся!» Дальнейший диалог сталкивает бесстрашного
мятежника с тираном. «Знаешь ли ты, с кем говоришь?» — надменно
спрашивает Коммод. «Знаю, — отвечает осужденный,—Аппиан с
152
тираном». Затем Аппиан совсем по-кинически противопоставляет
тирану истинного правителя, в данном случае отца Коммода,
«философа на троне» Марка Аврелия, так как он, «во-первых, был
философ; во-вторых, бескорыстен; в-третьих, любил добро. В тебе
же сосредоточилось все противоположное: тирания, любовь к
злодейству, невежество». Дальнейшие строчки папируса рисуют
растерянность всемогущего императора и безудержную откровенность
ожидающего смерти Аппиана.
Если даже критически относиться к гипотезе М. И.
Ростовцева о киническом происхождении «Актов», то все же невозможно
отрицать наличие в них элементов, близких киническому
мировосприятию, представленному во многих синхронных памятниках
бесспорно кинической .литературы, взволнованной теми же
проблемами. Во всяком случае, приведенное выше свидетельство Диона
из Прусы о том, что киники Александрии были вместе с ее
беспокойным народом, неопровержимо. Киники были опасны, поэтому
их преследовали, казнили, изгоняли не только из пределов Рима и
Италии, по даже из родных городов, опасаясь, что они станут
подстрекать народ добиваться независимости.
Возродившийся кинизм не был данью архаистическим
устремлениям эпохи, а явился живым развивающимся движением, хотя
на своем знамени он начертал имена зачинателей кинизма — Ан-
тисфена и Диогена. Кинические проповедники и писатели ранней
империи прошли мимо компромиссов эллинистического кинизма и
восприняли древний радикализм и моральную аскетическую
строгость. Кинизм империи выдвинул из своих рядов выдающиеся
фигуры. Одним из наиболее самобытных и уважаемых киников I в.
н. э. был Деметрий, высланный в 66 г. из Рима Нероном за связь
с казненным мужественным республиканцем Тразеей Петом,
который был его учеником (Тацит. Анналы 16, 34—35). Вернувшись
после смерти Нерона из Греции в Рим, Деметрий снова был сослан
яа острова в 71 г., на этот раз Веспасианом, на которого он также
нападал (Светоний. Веспасиан 13; Дион Кассий 66,13). О
деятельности Деметрия больше всего известно из сочинений его друга
Сенеки, который сообщал, что своим радикализмом и
бескорыстием киник прославился уже при Калигуле, отказавшись от
предложенных ему 100 тысяч сестерций (О благодеяниях VII, 11). Если
верить Филострату, Деметрий встречался в Коринфе с
Аполлонием Тианским и относился к нему как к учителю (IV, 25).
Последние годы жизни Деметрия нам неизвестны.
Близость Деметрия к стоикам не означала полного слияния с
ними, хотя, вероятно, и сказалась на его религиозности и
благочестии (О провидении V, 5). Если стоики, ненавидя отдельных
императоров, не отрицали самый принцип монархии и даже находили
его согласным с природой9, то киники были враждебны к любой
форме современного государства. Кинические мудрецы считали
царем каждого, кто овладевал своими страстями и желаниями.
Если дело касалось осуждения отдельных императоров, киники и
153
стоики выступали солидарно, когда же речь заходила о
негодности всего строя, киники оставались в одиночестве.
Деметрий вел строго аскетический образ жизни, был «беднее
всех из своей школы», ходил полунагим, «оставался бедным среди
роскоши», возродил культ подвигов во имя добродетели, считая,
как и древние киники, что она состоит прежде всего в делах и
поступках. Восхищаясь независимостью и самоотверженностью Де-
метрия, Сенека восторженно прославлял его мудрость, деятельный
и твердый характер (О благодеяниях VII, 8; О счастливой жизни
18,3; Письма к Лукилию 62,3; 91, 19). Он говорил, что таких
людей, как Деметрий с его бесстрашием, справедливостью, широкой
душой и мужественным красноречием, судьба дала, чтобы и его
мрачный век имел образец для подражания. Сенека приводил
слова Деметрия: «Мое царство — мудрость. Оно огромно и мирно. Я
могу владеть всем, если только оно будет принадлежать всем» (О
благодеяниях VII, 10, 6).
В годы правления кровавых тиранов Тиберия, Нерона или
Домициана, когда даже благородные и мужественные люди
безропотно ложились под меч палача или вскрывали себе вены, когда, по
словам Тацита, народ жаждал переворотов и боялся их (Анналы
15, 46), призывы к сопротивлению, примеры смелых акций и слов
оказывали сильное влияние на общество, воодушевляли на борьбу.
Конечно же, из уст в уста передавались слова Деметрия, смело
брошенные им в лицо Нерона: «Ты угрожаешь смертью мне, а
природа грозит тебе!» (Эпиктет I, 25, 22). Кинизм никогда не вызывал
симпатий у рафинированной аристократии, поэтому и Светоний
(Веспасиан 13) и Тацит (История IV, 4, 40) могли себе позволить
критические замечания в адрес этого замечательного человека и
философа.
Среди учеников Деметрия был выдающийся проповедник ки-
низма I—II вв. н. э. Д е м о н а к т. О нем с великим уважением
писал никого не щадивший его современник — сатирик Лукиан из
Самосаты: «Презрев все, что люди почитают благом, всецело
отдавшись свободе и откровенному слову, Демонакт до конца дней своих
и сам вел жизнь праведную, чистую, безупречную и всем, кто видел
или слышал его, подавал пример своим образом мыслей и
обнаружением подлинной истины, достойной настоящего философа»
(Демонакт 3). Щ
Демонакт происходил из состоятельной кипрской семьи, но под
влиянием учения Деметрия, Агатобула10, Эпиктета бросил все ради
философии и приехал в Афины, где и скончался глубоким
стариком. Когда ему было уже около ста лет, почувствовав свою
беспомощность, он «добровольно ушел из жизни» (Лук. Дем. 4),
отказавшись принимать пищу (65). В проповеди автаркии,
независимости образа жизни и мыслей, в презрении к
общепризнанным благам, во враждебности к религиозным предрассудкам он
следовал Антисфену и Диогену (см. Лук. Дем. 8, И, 23, 34, 37 и
др.). Вместе с тем Демонакт смягчает кинизм, делает его более
154
привлекательным, «либерализирует». Отсюда его признание: «Я
благоговею перед Сократом, восхищаюсь Диогеном и люблю Ари-
стиппа» (62). Это не просто грубый философский эклектизм,
свойственный эпохе, а гедонизированный кинизм кратетовского типа.
Недаром, подобно Кратету, он заходил в любой дом, и жители
считали, что «некое благое божество посетило их жилище» (63).
Будучи человеком благожелательным и мягким (9), он высоко
ценил дружбу и всячески помогал друзьям (8, 10). В его лице кини-
ческая филантропия имеет своего горячего приверженца.
Мне уже приходилось говорить о патриотически настроенных
киниках вроде Керкида. Демонакт также принадлежал к их числу,
ибо «держал себя как рядовой член общества и гражданин
государства» (5) и даже призывал «работать на благо отечества» (9).
В этом нельзя усмотреть капитуляции киника перед
обстоятельствами. Просто кинический космополитизм в эпоху господства
мировой Римской империи утратил свой бунтарский смысл и мог бы
вполне устраивать официальную идеологию. Местный патриотизм,
«почвенничество» противостояли «нивелирующему рубанку»
Римской империи.
Среди киников II в. н. э. обращает на себя внимание сложная
и колоритная фигура Перегрина-Протея, которому Лукиан
посвятил свой блестящий антихристианский памфлет «Кончина
Перегрина». Перегрин, вполне достоверная историческая
личность и,— характерное явление своего неустойчивого и
мистического века. Как мифический старец Протей, он постоянно менял
свои ипостаси, метался от одного учения к другому, от философии
к религии, сдабривая к тому же свои искания изрядной долей
шарлатанства, изуверства и ловкостью проходимца.
Ф. Энгельс в работе «К истории первоначального
христианства», пользуясь материалами памфлета Лукиана «О кончине
Перегрина», воссоздает образ типичного деятеля христианской общины,
злоупотреблявшего доверчивостью ее простодушных членов.
Лукиан, «этот, во всяком случае беспристрастный, свидетель,—
пишет Энгельс,— рассказывает, между прочим, историю жизни
одного авантюриста, некоего Перегрина, называвшего себя Протеем,
родом из Пария на Геллеспонте. Упомянутый Перегрин в
молодости начал свою карьеру в Армении с прелюбодеяния, был пойман
на месте преступления и согласно местному обычаю подвергнут
самосуду. Счастливо спасшись бегством, он задушил в Парии своего
отца и вынужден был скрыться» [15, с. 469]. Далее Энгельс
приводит большую выписку из Лукиана, повествующую, как этот
«искатель приключений» стал пророком и учителем христиан.
После того как христианская карьера Перегрина не по его вине
оборвалась, он обратился к кинизму.
Сделать это было нетрудно, ибо, как уже говорилось, у кинизма
и раннего христианства были точки соприкосновения как в самом
учении и в отношении к рабовладельческому государству, так и во
внешних формах проявления. К тому же правоверные язычники
155
(вроде Элия Аристида) и киников и христиан одинаково
причисляли к безбожникам. Перегрин, главными чертами характера
которого были тщеславие и фанатизм, как видно, хорошо справлялся
со всеми своими ролями: и у христиан добился признания, и как
киник действовал вполне в духе школы, зная, что таким образом
добьется популярности в народе. Именно поэтому, полагает Луки-
ан, попав в Рим, Перегрин обрушился с нападками на императора
(это мог быть Антонин Пий или Марк Аврелий), за что префект
изгнал его из города. Изгнание только прибавило славы Протею:
«У всех на устах было имя философа, изгнанного за свободоречие
и беззаветную правдивость. В этом отношении Перегрина
сопоставляли с Мусонием, Дионом и Эпиктетом» (Перегрин 18).
Прибыв в Грецию, Перегрин убеждал эллинов поднять оружие
против римских захватчиков, нападал он и на знаменитого богача
и софиста Герода Аттика (19). Вжившегося в роль последователя
кинизма Перегрина застал в Афинах Авл Геллий, который писал
о нем: «В бытность свою в Афинах я познакомился с философом по
имени Перегрин, получившим впоследствии прозвище Протея. Это
был человек серьезный и положительный, который вел свои беседы
в какой-то хижине за чертой города. Я его часто там посещал и
слышал от пего, клянусь Геркулесом, много полезного и
правдивого» (Аттические ночи XII, 11).
Таким образом, в Перегрине было нечто, вызывавшее глубокое
уважение, и мнение Лукиана в каком-то отношении могло быть
необъективным. Но вместе с тем приводимые им факты сексуальных
эксцессов показывают другую сторону Протея, которая никак не
может вызвать симпатий,-— «он сек тростью нижние части тела
у других и сам подставлял для сечения свои», «обрил половину
головы, мазал лицо грязью», мастурбировал на виду у толпы и т. п.
(17). Наконец, достойным завершением всей этой трагически
противоречивой и непутевой жизни было театральное самосожжение
по примеру Геракла в Олимпии при огромном стечении народа в
165 г. н. э., на котором присутствовал и Лукиан. Что преследовал
Перегрин этим отчаянным актом фанатизма — только ли жажду
прославиться, как об этом пишет Лукиан (22), или в нем был
элемент социального протеста,— трудно решить, хотя последнее не
исключено. Кинические принципы, как мы знаем, давали повод
для самых крайних выводов и уродливых проявлений, что нередко
зависело от склонностей и характера приверженцев кинизма. Во
всяком случае, находились такие люди, которые восторгались
Перегрином (45). Среди них могли быть только те, кого собирали
под свои знамена киники или христиане — простой и угнетенный
народ.
От литературной деятельности Демонакта и Перегрина до нас
ничего не дошло, но сами они стали героями (положительным и
отрицательным) двух биографических сочинений Лукиана,
которому мы обязаны нашими главными сведениями об этих киниче-
ских проповедниках.
156
О жизни другого выдающегося киника эпохи императора
Адриана—Эномая из Гадар — нам почти ничего не известно12, зато
в сравнительно больших фрагментах сохранился его острый
антирелигиозный памфлет «Изобличение обманщиков», или «Против
оракулов» («Goetön phöra», «Kata tön chrëstëriôn), цитируемый
епископом из Кесарей Евсевием Памфилом в Praeparatio evange-
lica (V, 19—39 и VI, 7). Эномай был плодовитым и
разносторонним писателем. Приводимые у «Суды» и Юлиана (VII, 209)
заглавия говорят о том, что в его сочинениях затрагивались основные
вопросы кинической философии, политики, этики. Судя по
источникам, Эномай ориентировался на кинизм Антисфена и Диогена,
но замечание Эномая (Юлиан VII, 187CD), что «кинизм —это ни
антисфенизм, ни диогенизм», лишний раз подтверждает, что
кинизм выходит за рамки простого подражания линии поведения
Антисфена или Диогена, он нечто более значительное —
развивающаяся философская система. Что же касается основанного на ней
практического образа жизни, то образец, «парадигму» его дал сам
Геракл.
«Наиболее благородные из киников говорят, что великий
Геракл наряду с другими благодеяниями завещал людям
величайший образец такой жизни»,—сообщает Эномай. Доказательством
широкого взгляда на кинизм является и сам памфлет гадарского:
атеиста. Писал он и трагедии, вероятно, в подражание Диогену,
которые, как утверждает Юлиан, отличались крайним
неприличием. Вот перечень сочинений Эномая: «О кинизме», «Полития»,
«О философии Гомера», «О Кратете и Диогене» (Суда), «Живой
голос собаки» [461], «Против оракулов», трагедии (Юлиан).
О характере всего многообразного творчества Эномая мы судим
по отзывам его древних читателей, берем, так сказать, из вторых
рук, но об одном сочинении можем составить, хотя и неполное, но
собственное мнение. Речь идет об «Изобличении обманщиков»,
которое так убедительно и аргументированно разоблачало манти-
ку и оракулы античного мира, что даже «отец христианской
историографии», ортодоксальный церковный писатель Евсевий Пам-
фил (264—340) воспользовался этим языческим сочинением для
критики враждебных христианству верований. Но, взяв себе в
союзники Эномая, Евсевий невольно замахнулся и на основы
всякой религии. Это понимал уже Юлиан: принять взгляды Эномая
на свободу выбора у человека — значит уничтожить веру не только
в оракулы, являющиеся провозвестниками божественной воли, но
и в судьбу, поэтому он называл Эномая «оскорбителем всего
божеского и человеческого». Когда личность человека суверенна, он
сам себе бог, властелин, а не жалкая игрушка в руках всесильной
судьбы или высшего существа. Так приходит конец царству богов,
которых Эномай издевательски называет «деревянными и
каменными повелителями рода человеческого» (фргм. 13). В вопросе·
о вере в судьбу, фатум, heimarmenë, в абсолютный детерминизм
Эномай полемизирует не только со своими главными противника-
157
ми — стоиками (Хрисипп), но и, походя, с Демокритом, который
в своем пафосе утверждения всеобщей причинности (ananke)
отрицает случайность. По мнению Эномая, сущность бытия человека,
основу его существования — способность действовать согласно
своему пониманию и воле — Демокрит превратил в рабство (doylos),
а Хрисипп —в полурабство (hëmidoylos). Эномай понимал, что
абсолютный детерминизм логически ведет к фатализму и в
конечном счете к религии, к пассивности, снятию с человека вины и
ответственности за свои помыслы и поступки, к уничтожению
морали. В таком случае, говорил он, нужно хвалить добродетель,
а не добродетельных людей, ибо добродетельность — не их заслуга.
«Разве один (т. е. Хрисипп.—if. H.) не утверждает, что все
зависит от бога, а другой (Демокрит.—Я. Я.) —от тех маленьких
телец, которые низвергаются вниз, потом подскакивают вверх,
сплетаются и расходятся, отдаляются и снова по необходимости
сближаются друг с другом?» (фргм. 14). Как и другие киники,
Эномай абсолютизировал свободу человеческой воли и был далек
от диалектического понимания детерминизма. «Идея
детерминизма,—указывал В. И. Ленин,—устанавливая необходимость
человеческих поступков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли,
нимало не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки
его действий» [16, с. 159].
Если в мире царствует неумолимая необходимость и у
человека вовсе нет выбора и свободы принимать самостоятельные
решения, тогда не приносит пользы и теряет смысл любое
предсказание, ибо все происходит помимо воли бессмертных богов, которые
сами подчиняются этой неотвратимой необходимости: «Произойдет
лишь то, чему суждено произойти, и это диктуется необходимой
причинной связью вещей (heirmos). В сравнении с ней — мы ничто.
Поэтому и ты, Аполлон, прекрати свои бессмысленные
пророчества — все равно случится лишь то, что должно случиться...»
(фргм. 14). Если не доверять своим чувствам и восприятиям, тогда
сам Пифиец не может знать, что он такое и в состоянии ли давать
ответы на вопросы. Но люди действуют, доверяя своим
ощущениям и чувствам, своему самосознанию (synaisthësis, antilëpsis hemön
autön) : «Нет ничего, что было бы выше, значительнее или
достойнее доверия, чем наши ощущения».. Они понимают разницу между
тем, что сами выбирают, и насилием: «Мы прекрасно сознаем, что
существует огромная разница между тем, когда мы сами ходим
или когда нас ведут, между свободным выбором и принуждением».
Свободные человеческие поступки кладут начало новой цепи
взаимосвязанных явлений, которые в состоянии разрушить уже
существующую причинную связь вещей, сами являясь
первоисточниками (archai) этих явлений. «Этим исходным пунктом может
оказаться и осел, и собака, и блоха. Ведь, клянусь Аполлоном, даже
у блохи не отнять ее свободы!» На основе материалистической
теории познания, подтверждаемой тысячекратной практикой, и
допущения столь важной для киников индивидуальной свободы воли
158
разрушаются все основы предестинации. В пример приводится
судьба рода Лайя. Если бы мудрый бог имел представление о роли
свободной воли, как мог он серьезно предсказывать будущее,
когда еще не родился сын Лайя, от руки которого он должен будет
пасть, ибо с его рождением в мире появилась еще одна новая воля.
Эпомай подробно показывает, как любая случайность и перемена
одного решения могли привести к изменению всей ситуации.
Эномай смело вторгается в самые чтимые святыни античной
религии в то самое время, когда всякого рода суеверия и религиозные
чувства были особенно обострены. Он нападает на
олимпийских богов — на самого Зевса и прежде всего на Аполлона, к
которому адресуются все его издевательские рассуждения и
аргументы. Сколько желчи, иронии, насмешки, убийственной логики, «ки-
нической язвительности», по выражению Евсевия (фргм. 4), в его
обличительных речах! Как только Эномай не называет Аполлона —
лжец, обманщик, хитрец, софист, шарлатан и т. д. и т. п. Как
уничижительно-ироничны его обращения: «О удивительный бог!
О мудрейший из богов! О помощь великого бога! О, что за
божественные поучения и советы! Ради них не жаль отправиться не та
что из Пелопоннеса в Дельфы, но даже на край света — к самым
гиперборейцам...». Есть и прямое богохульство: «Бессовестный,
презренный, бесстыднейший из пророков!» Сатирик
персонифицирует бога, превращая небожителя в жалкого и беспомощного
оппонента диатрибы, забрасываемого неотразимыми вопросами,
а сам превращается в типичного кинического обличителя (elen-
chön, goetos apelenktës).
Шаг за шагом, методично анализирует Эномай отдельные
виды оракулов и советы бога, разоблачает его неведение,
несправедливость, двусмыслицу предсказаний, заведомый обман,
злонамеренные хитрости (agnoia, adikia, amphibolia, ethelokakia),
которыми пользуются жрецы, чтобы ввести в заблуждение
невежественную и доверчивую толпу. Он приводит примеры подлинных
оракулов из древней истории (ср. Геродот I, 47, 53, 55, 65, 174; Vr
92; VII, 140, 143, 148, 220), а также из близкой ему римской
действительности, ссылается для вящей убедительности на свой
собственный опыт, когда он, философ, получил одинаковый ответ с
каким-то понтийским купцом. Его возмущает, что дельфийские
жрецы заискивают перед самыми жестокими тиранами вроде Фа-
ларида, что за деньги они готовы передушить друг друга, что
вместо проповеди мира и согласия они натравливают один народ
против другого (мессенцев против спартанцев и спартанцев
против мессенцев). Главное оружие Эномая в борьбе с
божественным обманом — ирония и здравый смысл, насмешка, пародия и
серьезные доводы, вместе образующие spoydogeloion, «серьезно-
смешное» — душу кинического стиля.
В доказательство своего основного тезиса (свобода воли делает
принципиально невозможными пророчества) Эномай приводит
оракулы, полученные Аристомахом, Теменом, Телесиклом, Кари-
15а
стом, жителями Книда и многими другими, и, конечно, оракул,
данный Аполлоном Дельфийским лидийскому царю Крезу.
Двусмысленность, заключенная в этом знаменитом пророчестве,
действительно погубила «великое и древнее Лидийское царство»
(фргм. 2). Высмеиваются также оракулы, полученные
афинянами и спартанцами во время греко-персидских войн. «В такой
опасности для страны все взоры с надеждой обратились на тебя,—
говорит Эномай, обращаясь к Аполлону.— Ты был для спартанцев и
предсказателем будущего и советчиком... Они верили в тебя, а ты
считал их за дураков. Особенно же в наступивший момент, когда
можно было заставить этих глупцов нестись не только в Дельфы
и Додону, эти гнезда обманщиков, но и к гадателям по полетам
птиц и на муке, и к чревовещателям» (фргм. 7). Вышучивает
Эномай советы Аполлона, преподанные Ликургу, пустые наставления,
касающиеся брака, рождения детей, политических событий (им
автор уделяет главное внимание), и т. д. Злым нападкам
подвергается Аполлон за то, что причислил к сонму богов кулачных бойцов
и атлетов. Эта злость объясняется известной неприязнью киников
к атлетике и агонистике (фргм. 12).
Антирелигиозная критика Эномая носила не только
прагматический характер. Показать несостоятельность отдельных
предсказаний, сорвать маску лицемерия со жречества, посмеяться над
суевериями было, конечно, делом прогрессивным, но Эномай шел
дальше и подбирался к философским, онтологическим основам
религии, критикуя стоический фатализм, веру в предопределение, во
всемогущество и всеведение богов. Неверие в божественную силу
закономерно влекло за собой веру в могущество человека, в
способность «противопоставить судьбе отвагу», независимость,
«сократовскую силу». В одном ряду с «Вольтером классической
древности» Лукианом из Самосаты Эномай Гадарский вел смелую
просветительскую пропаганду с позиции кинического атеизма13. Для
обычного сознания критика Эномая, несмотря на всю ее живость
и эмоциональность, была все же рационалистической, но
объективно она отражала глубинные интересы народа, враждебного
аристократическому культу Аполлона. «Изобличение обманщиков»
Эномая Гадарского, являясь ярким памятником кинической
просветительной литературы II в. н. э., в то же время — одно из самых
острых произведений антирелигиозной мысли античности.
«Киническое возрождение», связанное со становлением
Римской империи, вызвало к жизни такой памятник литературы, как
«Письма киников». Авторы его черпали свое вдохновение в
кинической философии и перенесли на страницы кинических
писем свою взволнованность проблемами современности, когда
совершалась последняя крутая историческая попытка сохранить
рабовладельческий строй. Мыслящих современников волновали вопросы
о сущности государственной власти и ее пределах, о деспотизме и
160
свободе, тирании и разумном правлении, о нравственном поведении
человека в условиях диктатуры и террористического режима.
Философия, в зависимости от того, к кому она была ближе, отвечала
на эти вопросы по-разному: то советовала уйти от жизни и
окунуться в разгул и наслаждения, то предлагала пассивное
самосозерцание и примирение с судьбой, то стимулировала активное
недовольство существующими порядками, проповедуя отказ от любой
власти как насилия над личностью, и звала к наступательной критике
социального зла и его носителей. Последнее характеризовало
готическую идеологию.
Античное публицистическое письмо в силу своих жанровых
особенностей («открытая» адресованность, личностно окрашенный
этический и политический дидактизм, эмоциональная защита
автором своих позиций и полемичность) становилось удобным
средством политической агитации и философской пропаганды, настоящей
публицистикой, рупором идей (недаром к нему прибегали
философы разных направлений от Платона до Эпикура). Киники давно
поняли сущность этого жанра и охотно к нему обращались. Уже в
каталоге сочинений Диогена значилось epistolai (Диог. Л. VI, 80;
ср. 23) 14; в древности «была распространена „книга писем",
составленная Кратетом, в которой содержатся замечательные
философские рассуждения, напоминающие по стилю Платона» (Диог.
Л. VI, 98); Менипп был автором «Писем, сочиненных как бы от
лица богов» (Диог. Л. VI, 101). В III в. до н. э. появились и
вполне готические «Письма Анахарсиса». Все эти письма положили
начало эпистолярной традиции киников, в которой наряду с
приемами и формами, выработанными риторической теорией, широко
применялся кинический стиль (kynikos tropos).
Кинические авторы эллинистического и римского времени
делали своими героями не только «чистых» киников (исторических
Антисфена, Диогена, Кратета или «выдуманных» сапожников Ми-
килла и Симона), но и других мудрецов, которых всегда
«эксплуатировал» кинизм (Анахарсис, Сократ, Гераклит и др.). В
готических письмах этика и дидактика, протрептик, разъяснение и
пропаганда определенного круга идей преобладают над этопеей и
нарративным элементом, т. е. над риторической разработкой
известных эпизодов из жизни прославленных философов (такого рода
риторических писем сравнительно немного),— впрочем, также
подчиненной дидактике.
Если в позднеклассическое и эллинистическое время письмо как
жанр привлекалось киниками лишь спорадически, то в римский
период оно выдвинулось на передний план, получило
завершенность и приобрело качество новой формы. Примерно с I в. до н. э. по
II в. н. э. складывались циклы апокрифических писем Сократа и
сократиков, Диогена, Кратета, Мениппа 15, фиктивность которых
была установлена еще в XVIII в. Бентли и Буассонадом.
Стилистическая общность и сходство идей подсказывают мысль о едином
авторе по крайней мере для «ядра» некоторых циклов или о после-
6 Заказ JSß 370
161
дующей единовременной обработке их одним дотошным
редактором. Но, как это доказано в отношении писем «Диогена» и «Крате-
та» В. Капеллой, авторов было больше, что говорит о популярности
жанра [456, с. 17]. Не исключена возможность появления
отдельных писем уже в позднюю эллинистическую эпоху. Философская
направленность подавляющего числа собственно кинических
писем не вызывает сомнения (влияние Платона можно проследить
только в самых поздних из них), но и так называемые письма
Сократа и сократиков, как отмечалось исследователями, находились
под определяющим киническим влиянием16. В основе
рассматриваемого эпистолографического наследия лежат отчасти
подлинные письма и сочинения его номинальных авторов, но в большей
степени — позднейшие доксографические сочинения, сборники
популярных хрий и апофтегм, воспоминания, биографические очерки
типа сочинения Диогена Лаэрция. Поэтому письма немного дают
для знакомства с подлинными взглядами тех философов, чьими
именами они маркированы17. Однако, вместе взятые, хотя к ним
приложили руку риторы, они прекрасно характеризуют
направление кинической мысли первых веков Римской империи,
пропаганде которой объективно и субъективно они служили 18.
Эпистолографы целеустремленно разрабатывали комплексы
идей кинической этики, выдвигая на передний план те из них,
которые могли ответить на запросы времени, научить, как действовать
в сложившихся условиях. Поэтому так настойчиво подчеркиваются
независимость мудреца, его стойкость и мужество, свободомыслие
и откровенность, ненависть к тиранам и их прихлебателям,
осуждается стремление к власти и богатству, восхваляются дружба и
бескорыстие, бедность и разум, ставится вопрос о ценности родины и
изгнания. Возродившийся кинизм империи реставрирует древний
радикализм и обращается к образам нравственно сильных людей —
к Сократу и прежде всего Диогену. Кинизм всегда тяготел к делу
и ощущал недоверие к словопрениям. Действенный протест — в
форме антиправительственных подстрекательств или практики
эпатирующего аскетизма — заставлял Перегрина призывать греков
к восстанию против римлян, Деметрия — грозить смертью Нерону,
а Сократа — стать «воспитательным примером» (paradeigma pai-
deyseös — 6, 6), теоретиков же движения — столкнуть две
антагонистические жизненные концепции: аскетическую и
гедонистическую, два начала: дух и плоть. Сократ, Антисфен, Диоген,
Симон-сапожник представляют первую из них, Аристипп и
тираны — вторую.
В письмах «Сократа» (1—7) нарисован не исторический мудрец,
а демократический кинический герой (особенно в 1-м и 6-м
письмах, в которых киническое влияние заметнее всего). Эпистолограф
не оставляет сомнения в своих социальных симпатиях. Сократ,
прежде всего, бедняк, который не только не тяготится, но даже
гордится своим положением: «Я рад своей бедности» (6). Богачей же
ценят за их деньги, а не за личные достоинства. В обстановке все-
162
общей погони за наживой Сократ, который легко мог бы
разбогатеть, спокоен и не похож на своих жадных соотечественников:
«Мне достаточно питаться совсем простой пищей, зимой и летом
носить одну и ту же одежду. Обувь мне вообще не нужна. Я не
стремлюсь к славе политика, а только к мудрости и
справедливости» (1, 2).
Таким образом, впешпе Сократ ничем не отличается от киника.
Для него все равны: «Я беседую открыто со всеми и не делаю
различия между имущими и неимущими» (1, 2). Поводом для первого
письма послужил отказ Сократа принять предложение
македонского царя Лрхелая жить у него при дворе 19. Нежелание
прислуживать царям и тиранам — излюбленный кинический мотив
императорской эпохи, с которым мы еще не раз встретимся (см., например,
письмо Антисфена Аристиппу). Однако от служения царю Сократа
удерживают и патриотические чувства (1, 5, 6): родине нужны
люди, проповедующие добро и будящие совесть народа, словно
жалящий овод (этот платоновский образ многократно использовался
киниками). Космополитизм в период Римской империи изменил
свою социальную функцию и стал орудием официальной
пропаганды, поэтому в кинических источниках этого времени он почти
совсем исчез. В 6-м письме Сократа, перекликающемся с 1-м, с особой
силой звучит тема нравственного воспитания, дружбы, добродетели
и выносливости (§8), составляющих счастье бедняка. Дружба с
достойными людьми призвана заменить детям Сократа после его
смерти материальное богатство, от которого философ был всегда
далек: «Я оставляю детям не золото, но то, что дороже золота,—
добрых друзей» (6, 8). И снова: «Верный друг лучше всякого
золота» (6 и 12). Дружба для киников была более значительной силой,
чем золотой
Среди писем сократиков специальный интерес для нас
представляют две пары писем: Антисфен — Аристипп (8—9) и Симон —
Аристипп (12—13), содержащие как бы заочный диалог двух
враждебных школ. Киническая тенденциозность здесь особенно
обнажена и подтверждается остроумным приемом: Аристипп в своих
ответах будто бы смеется, издевается, иронизирует над киниками,
но в действительности лишь дополняет их положительную
характеристику, а в случае с Симоном даже оправдывается перед
сапожником и утверждает, что восхищается его мудростью, а насмешки
принадлежат вовсе не ему, а другому сократику — Федону из
Элиды.
Антисфен поначалу укоряет Аристиппа за его неравнодушие
к деньгам и роскоши, заставляющее его жить при дворе сиракуз-
ского тирана Дионисия, но затем советует ему, если он не в силах
покинуть Сицилию, полечиться, считая его жизнь безумием (8).
Аристипп в первой части ответа (9) иронизирует, описывая свою
якобы «несчастную жизнь» у Дионисия, где, в действительности,
он купается в роскоши. Но все рассказы Аристиппа о праздности,
пирах, изысканных яствах, дорогих тарентийских нарядах, о бога-
6* 163
тых дарах и трех прекрасных сицилийках, услаждающих его,
«работают» против него, служат саморазвенчанию, осуждению его
образа жизни и мыслей, а его язвительно-иронические советы и
замечания в адрес Антисфена только дорисовывают внушительный
портрет мужественного киника: можешь питаться сушеными
фигами и критской дешевой мукой, утолять жажду водой, носить
круглый год один и тот же старый плащ, «как полагается свободному
человеку, живущему в демократических Афинах», издевается
Аристипп. Аристиппа не устраивает полная лишений жизнь
бедняка — такую я^изнь гедоник, в свою очередь, считает безумием.
В конце его письма есть весьма любопытное замечание,
выразительно и точно рисующее тот общественный класс, на который
опирался и ориентировался кинизм: «Об остальном иди и поговори с
сапожником Симоном, мудрее которого в философии для тебя
(Антисфена.— И. Н.) нет и быть, пожалуй, не может, а мне запрещено
общаться с ремесленниками: я человек подневольный».
Сапожник Симон, герой двух писем, лицо, возможно,
вымышленное, как и Микилл, олицетворяет народную стихию кинизма 20. Само
имя его означает «человек со вздернутым, курносым носом» (от
simos (?).— См. Словарь собственных греческих имен Папе), т. е.
насмешник (может быть, также намек на сходство с Сократом).
В этом простом ремесленнике воплотились представления киников
о положительном герое, жизненном типе, добродетельном уже
потому, что он бедняк и труженик, наделенный природным умом,
признаваемым даже его оппонентом (Аристипп это делает не
иронически, а в прямом смысле: «Ты хоть и сапожник, но полон
мудрости»), и способностью вразумлять безрассудных21. Если верить
древним источникам, Симон производил на современников большое
впечатление, и его мастерскую посещали Сократ, Антисфен, Алки-
виад, Федр, Евтидем, Эпикрат, Евриптолем и др. (13). Вот что
рассказывает о Симоне Диоген Лаэртский (II, 122—123): «Симон
из Афин был сапожником (skytotomos). Сократ приходил к нему
в мастерскую и беседовал с ним на разные темы. Содержание этих
бесед он записывал по памяти. В связи с этим его диалоги
называют сапожничьими (skytikoys dialogoys).
Тридцать три таких диалога собраны в одну книгу. Вот их
названия: 1. О богах. 2. О добре. 3. О прекрасном. 4. Сущность
прекрасного. 5 и 6. О справедливости. Два диалога. 7. О добродетели. О том,
что ей 'нельзя научиться. 8, 9 и 10. О мужестве. Три диалога.
11. О законе. 12. О демагогии. 13. О чести. 14. О поэзии. 15. Об
удовольствии. 16. О любви. 17. О философии. 18. О знании. 19. О
музыке. 20. О поэзии. 21. О сущности прекрасного. 22. Об обучении.
23. О беседах. 24. О суждении. 25. О бытии. 26. О числе. 27. О
прилежании. 28. О труде. 29. О стяжательстве. 30. О хвастовстве.
31. О прекрасном. 32. О разуме или о целесообразном. 33. О
злодеянии.
Как говорят, Симон первый стал заниматься составлением
сократических диалогов. Перикл пригласил его к себе и обещал взять
164
на содержание, но Симон отказался, объясняя, что не хочет из-за
денег расставаться со «свободной речи».
В полных внутреннего достоинства словах Симона, гордого
своим ремеслом, мы слышим осуждение Аристиппа за то, что тот
высмеивал философию киника при дворе сиракузского владыки (12).
Ответ Аристиппа (13) — сплошное оправдание: смеялся вовсе не
он, а Федон, что же касается его самого, то он восхищен Симоном.
А далее следуют дешевая софистика и беспомощные рассуждения
на счет того, что босоногий Антисфен не может снабдить работой
сапожника, а вот он, любитель комфорта, может быть в этом смысле
полезен Симону. Аристипп не выдерживает тона
благожелательного советчика и в заключение срывается на брань по адресу
«вшивых киников». Все это его окончательно разоблачает.
Кинические положения встречаются не только в письмах
Сократа, Антисфена и Симона, но и у других сократиков, где снова
превозносится дружба, выдержка, благоразумие и т. п. (см. письма
20—22, 26, 29, 32, 34). Значительно шире представлена киническая
идеология в собственно кинических письмах —«Диогена» и
«Кратета». Подлинный герой этих эпистолярных циклов —
Диоген, который «свободен от заблуждений и довольствуется малым»
(пс.-Диоген, пис. 7). Хотя кинические письма, как и весь кинизм
ранней империи, ориентированы на древность, но Антисфен здесь
оттеснен на второй план — его радикализм был недостаточен для
кинического экстремизма первых веков новой эры,
представленного в этих фиктивных письмах, а логика их авторов не
интересовала. «Диоген» не забывает подчеркнуть свою зависимость от
Антисфена (28, 37), однако замечает, что свой внешний вид воспринял
не от него, а у богов и героев и при этом неоднократно ссылается
на пример Геракла, Телефа и, конечно, Одиссея, который
возвращался из-под Трои домой в рваном и грязном плаще, в образе
нищего старца (34). Он прямо говорит: «И имя, которым
называют меня, и одежда, которую я ношу,—все от богов» (7).
Если «Диоген» апеллирует к богам, то «Кратет» — к Диогену.
«Кратет» почти не упоминает Антисфена (лишь однажды, в
пис. 6), для него: «киническая философия — детище Диогена» (16),
а к Одиссею он относится скептически. С его точки зрения, Лаэр-
тид слишком любил «сладкую жизнь» (ср. схолии к «Одиссее»,
IX, 5). В сознании «Кратета» Антисфен и Одиссей связаны, ибо,
как известно из схолий к «Одиссее» (I, 5 и ел.; X, 329), Антисфен
всячески защищает героя и подчеркивает его мудрость. «Считай
отцом кинизма Диогена, который не пускал пыль в глаза, а всю
жизнь трудился и презирал наслаждения...»— поучает Кратет
(19). Диоген для него — единственный истинный учитель
кинизма, он постоянно его вспоминает и приводит в качестве образца
для подражания (пис. 1, 6—8, 13, 19, 20, 23, 30, 34, 35). В письме
35 рядом с этим именем появляется однажды имя Сократа, но не
вразрез с концепцией «сильной, волевой личности», способной
влиять на ход событий, а, скорее, для подкрепления ее.
165
Письма «Диогена» и «Кратета» подчинены двуединой цели —
пропаганде кинизма и сокрушению его идейных и социальных
врагов, защите кинического образа жизни, принципиальной
бедности, «новых ценностей» и осуждению современного зла, но
появились они не одновременно: раньше — письма «Диогена», затем —
письма «Кратета». Автор последних уже был знаком с письмами
«Диогена», он их читал и использовал, о чем свидетельствуют
отклики, ответы, реплики на вопросы и ситуации, заключенные в них.
Так, на 9-е письмо «Диогена», в котором приветствуется отказ
Кратета от принадлежащего ему имущества, содержится ответ в
8-м письме «Кратета», обещающего «Диогену» освободиться и от
остальных своих пороков. Таким откликом можно отчасти считать
и нежелание «Кратета» брать в пример Одиссея (19), настойчиво
восхваляемого «Диогеном» (пис. 7 и 34) [456, с. 52]. Нельзя
объяснить случайностью и то, что автор 6-го письма «Кратета»
упоминает слова Диогена, учившего пробиваться к счастью даже сквозь
огонь и мечи (30, 2).
Таким образом, письма «Кратета» (их 36) родились уже
после появления сборника, состоящего из 51 письма «Диогена»,
причем написаны они разными эпистолографами,
отличающимися и стилем, и талантом, и некоторыми оттенками в
мировосприятии («Кратет» более педантичен, «академичен», больше
теоретизирует и не обладает таким широким охватом и быстротой
восприятия действительности, как «Диоген»).
Если попытаться классифицировать письма по адресатам,
содержанию и форме, то они образуют примерно следующие
группы: письма к друзьям и письма к врагам, письма-инвективы,
нападающие на пороки и их носителей (Д. 5, 28, 29, 32, 40, 45, 46;
К.7, 24, 25), и письма-апологии, защищающие образ мыслей и
жизни киников (Д. 1, 4, 7, 14, 15, 27, 34, 41; К. 13, 16, 27-29, 36),
письма-наставления, parainetikai, поучающие и ориентирующие
читателей в кинических ценностях и идеалах (Д. 9—12, 18, 20,
22, 26, 39, 44, 47; К. 2-5, 8, 11, 12, 14, 15, 17-19, 21-23, 28, 31,
33, 35), и письма-протрептики, призывающие заниматься
философией (Д. 3, 9; К. 6), письма-рассказы, повествующие главным
образом о примечательных dicta et facta Диогена и
отличающиеся сравнительно большим объемом (Д. 2, 6, 8, 9, 13, 16, 30, 31, 33,
35—38; К. 20, 34). Обращает на себя внимание преобладание
дидактического, наставительного материала в письмах «Кратета».
Обвинения и защита, нападки и оправдания, проклятия и
уговоры — к таким полюсам тяготеют почти все кинические
письма. Они редко бывают бесстрастными, безразличными, хотя
кинические мудрецы под влиянием стоиков в те времена были
не прочь порассуждать об apatheia. И адресаты их — враги и
друзья, близкие и далекие, единомышленники и противники.
Нейтральные адресаты (обычно безымянные «ученики»,
«молодые люди» или фиктивные лица) дают возможность киникам
«спокойно» изложить отдельные положения своей доктрины. С ука-
166
занной поляризацией писем связаны имеющиеся в них
стандартные зачины и концовки: одним адресатам авторы желают
добра и здоровья (еу prattein, chairein, errhösthai, например,
в Д. 49), другим — всяческих бед и несчастий (oimoizein — Д. 28),
а в некоторых случаях подчеркивают свое нежелание сказать
доброе слово (Д. 29, 40). Однако в подавляющем большинстве
авторы вообще отказываются от общепринятых формул. В
письме некоему Аруэке «Диоген» остроумно желает «познать
самого себя» (gnönai sayton), что, по его мнению, вполне
равнозначно «будь здоров» (eu prattein — 49). С врагами киники,
естественно, разговаривают иначе, чем с друзьями. В зависимости от
этого различны не только содержание, но и вся стилистика,
тональность писем: нескрываемые неприязнь и враждебность,
брань и недоброжелательность по отношению к врагам и
доверительный, дружелюбный и мягкий тон, хотя и без пылкого
излияния чувств (даже «Кратет» сдержан в выражении своей радости
по поводу рождения сына — 33) в обращении к друзьям.
В ρ а г и — это прежде всего цари, тираны, властители,
полководцы, богачи, а также идейно чуждые киникам философы и
политические деятели (Александр, Антипатр, Дионисий, Пердикка,
Платон, Хармид и др.). Друзья —это главным образом
соратники по философии, единомышленники и родные ( Антисфен,
Диоген, Кратет, Гиппархия, Метрокл, Моним, Зенон, Гикет,
Олимпиада и др.). Врагами могут оказаться и целые коллективы,
повинные в беззакониях (афиняне, синопцы, эфесцы). Авторы
кинических писем, кто бы они ни были, пропагандируя кинизм,
пользовались именами древних киников и жанром письма,
чтобы прикрыть свое неприятие действительности, мира насилия,
террора и социальной несправедливости. В этом смысле наиболее
обнаженным по своей социальной тенденции, острым, полным
горечи и страсти является 28-е письмо «Диогена», обращенное ко
всем «так называемым эллинам».
Это им «собака Диоген» желает oimoizein, это к ним
обращается он не иначе, как со словами «дурные, безумные головы» (kakai
kephalai), пародирующими обычное и уважительное
«божественная голова» (о theia kephalë), или со словами «порочные
сообщники порока».
Дело, конечно, не в эллинах, а в современных автору
притеснителях, власть имущих, в террористическом режиме и
«тиранах» на престоле — таких, как Тиберий, Нерон, Домициан или Ком-
мод. Разве он имеет в виду Грецию IV в. до н. э., а не Римскую
империю I—II вв. н. э., когда говорит о «так называемом мире» — en
tëi kaloymenëi eirënëi? Что еще могут означать эти слова, если не
пресловутый Pax Romana, во время которого погибает столько
людей? Как живо напоминают нам Тацита и Светония,
клеймящих беззакония цезарей, хотя бы вот эти строчки: «Разве мало у
вас распятых на крестах и замученных палачом? Разве не по
вашему приговору выпивают яд и погибают на колесе только по-
467
тому, что показались вам виновными? О безумные головы, что
выгоднее — учить или убить?.. Почему вы не перевоспитываете
дурных, чтобы потом воспользоваться ими, когда появится нужда
в честных людях, так же как вы нуждаетесь в головорезах,
захватывая чужой город или лагерь?.. Вы обжираетесь и опиваетесь,
пьянствуете, развратничаете, играя роль женщин. Вы еще больше
кощунствуете, совершая все это как тайно, так и явно...».
Киническая принадлежность этого письма, написанного
«кровью сердца», не вызывает сомнения, хотя некоторые авторы
(Якоб Бернайс, Курт Фритц [445, с. 36, 96-98; 388, с. 68]) 22
хотели бы приписать его какому-нибудь христианину. Эпистоло-
граф-киник ссылается на своего учителя Антисфена и
подчеркивает, что только киники живут по законам справедливости.
Демонстративная бедность киников, их безразличие к
материальным благам в атмосфере всеобщей погони за богатством открыто
говорили о их социальных симпатиях. Слова «Диогена» о том, что
он обличает пороки словами, а природа наказывает делом —
смертью (§ 5), напоминают переданную Эпиктетом реплику Деметрия,
обращенную к Нерону: «Ты угрожаешь смертью мне, а природа —
тебе» 23. Нападки на роскошь и наслаждения, идеализация
варваров в конце письма — все это также относится к излюбленным
киническим мотивам. О варварах, в частности, сказано: «Так
называемые эллины ведут войну против варваров, а варвары
считают своим долгом защищать родную землю...» (§ 8). Не говоря уже
о презрительном и таящем намек «так называемые», что
позволяет подставить под эллинов римлян, сам смысл фразы нацелен
на захватнические войны римлян и отстаивает право «варваров»
на самостоятельность и независимость. Осуждение постоянных
войн, которые киникам представляются всегда безумием (Д. 40),
звучит и в этом письме: «Вы состарились, проводя свою жизнь в
войнах, и никогда не вкушаете мира, порочные сообщники
порока» (§ 1).
Подобным нападкам подвергается и Александр, под
которым можно разуметь не только знаменитого македонского
завоевателя, но и любого царя и тирана типа Тиберия или Нерона, тем
более что в императорском Риме всегда был культ македонца.
В кинической интерпретации Александр почти всегда, а в
письмах особенно, наделен всеми отрицательными чертами носителя
неразумной власти и тиранического начала — жестокостью,
несправедливостью, развращенностью, порочностью, ненасытностью
и т. п. (Д. 23, 24, 33, 40). Тирания выступает не только как
социальное зло, но и как безумие, «священная болезнь» (Д. 29) 2\
Такому «киническому» Александру, жаждущему мирового
господства и славы, противопоставлен мудрый и автаркичный
Диоген, истинный властитель человеческих душ. Для кинически
тенденциозного столкновения «великого государя» и «собаки-киника»
историческая достоверность встреч Александра и Диогена не
имеет ровно никакого значения, как и вероятность переписки Дио-
168
гена и Пердикки. Более того, именно благодаря этому
обстоятельству тенденция и «эзоповский» смысл становятся еще более обна
женными и разительными. Эпистолографу было важно лишь
обыграть крылатые слова Диогена («Не загораживай мне солнца»)
и Александра («Если бы я не был Александром, то был бы
Диогеном»), хорошо известные и по другим источникам (Д. 33. Ср.
Диог. Л. VI, 32, 38; Плутарх, Алекс. 14).
В письмах «Диогена» Александру, могущественному
македонскому полководцу Антипатру (4, 14, 15) и Пердикке (5, 45), си-
ракузскому тирану Дионисию (29) ставится вопрос о зависимости
философа, художника от «сильных мира», о свободе и
неподкупности мыслителя, об интеллектуальном холопстве и лакействе.
В обстановке открытого террора и «завербованности» философов
и писателей господствующей верхушкой этот вопрос приобретал
особую политическую остроту, так как в I и II вв. н. э. изгнания,
ссылки, репрессии неугодных философов следуют непрерывной
чередой. «Диоген» решительно отказывается продать свою
независимость за деньги и внешнее благополучие. «...Соль в Афинах,—
говорит он Антипатру, — мне дороже, чем пиры в Македонии»
(4) 25. Он не хочет идти в услужение к Пердикке, чтобы не
уподобиться таким образом мифической Эрифиле, предавшей за
драгоценности своего мужа. Его не пугают никакие угрозы (45).
«Диоген» просит передать Александру, что он свободен и
неподвластен никаким царям (23). Истинно свободный человек не
боится даже самых могущественных властелинов (34). «Синопский
философ» презирает Аристиппа (32) и Платона (46) за их
продажность, за то, что они променяли свою свободу на пышные
пиры и развлечения у тиранов. Особенно яростным нападкам
подвергается гедоник Аристипп. «Диоген» старается разбудить его
дремлющую совесть напоминанием о преступлениях его
покровителей: «Они избивают людей плетьми, сажают на кол,
гонят в каменоломни; у одних вырывают из объятий жен, у
других—детей, отнимают рабов, чтобы надругаться над всеми ними».
Лучше терпеть бедность, чем прислужничать (32). Для того чтобы
выступить с подобными заявлениями, в первых веках новой эры
требовалось для писателя, философа, ритора большое
гражданское мужество.
Насколько бедность в лице Диогена и Кратета находит себе
защитников, настолько богатство и роскошь вызывают у авторов
писем раздражение и ненависть. «Диоген» издевается над
богатым юнцом и плюет ему в лицо, простодушно замечая, что не
нашел другого, более подходящего места в его пышном жилище
(38). Он зло высмеивает богатого родосца, который сначала не
замечал его, а потом задал в его честь, роскошный пир (37). Кра-
тет шлет проклятия богачам за то, что, обладая всем, они
продолжают бесчинствовать на земле (7). Все эти темы типичны для
кинической диатрибы и были представлены ранее не только у
Биона и Телета, но под их влиянием и позднее — у Филона (осу-
169
ждение роскошных жилищ, утвари, одежды, изысканной и
обильной пищи и т. п.) [301].
По духу к этим письмам-памфлетам примыкает 7-е письмо
«Гераклита», адресованное его другу Гермадору, изгнанному
из Эфеса [65, с. 283]. Образ «плачущего» философа был близок
"киникам не его «темной» диалектикой или аристократическими
предрассудками, а непримиримостью к людским порокам,
ненавистью к чувственным наслаждениям, богатству и роскоши, с
которыми эти пороки связываются. В одном из фиктивных писем (2)
«Гераклит» отвергает приглашение ко двору персидского царя с
той же непреклонностью и чувством собственного достоинства,
как отказываются от подобной «чести» Диоген или Кратет. В 7-м
письме «Гераклит» гневно обличает порочность эфесцев, ничуть
не уступая в язвительности самым крайним киникам.
Страстность тона, патетический стиль, лексика и фразеология, идейный
настрой писем «Гераклита» позволяют их отнести к тому же
направлению, что и письма киников. «Гераклит» настойчиво
объясняет своим согражданам, почему он никогда не смеется и якобы
враждебен к людям. Смысл его объяснений сводится к
утверждению: я ненавижу не людей, а их пороки (§ 2), порочность же не
может вызывать смех: «Разве я могу смеяться, видя, как жена
отравителя держит в объятиях ребенка, как у детей отнимают их
состояние, как муж лишается его в браке, как насилуют ночью
девушку, как гетера, еще не ставшая женщиной, отдается
мужчине, как бесстыдный мальчишка, один, становится любовником
всего города» и т. п. (§ 5). Автор нагнетает атмосферу, замечая,
что всюду царят разврат, измены, прелюбодеяния, грабежи,
убийства, насилия, святотатство, отравления, пьянство, погоня за
наживой, кровавые распри, войны и т. п. (§ 3—9). Звери и те лучше,
ибо никогда не доходят до такого скотства, как люди (§7).
Поэтому «Гераклит» чувствует себя одиноким, изгнанником на
собственной родине: «Кругом враги, друзей —ни одного» (§ 9).
«Законы, которым более всего пристало быть символом
справедливости, становятся символом произвола» (§ 10).
В этом письме не только его общий дух и направленность, но и
отдельные аргументы (например, апелляция к животным)
типичны для кинической пропаганды. Этот вывод нашел новое
подтверждение в опубликованном в 1958 г. В. Мартеном большом
папирусном фрагменте, содержащем продолжение ранее
известного 7-го письма Гераклита (кол. XIII—XIV). Этот Женевский
папирус 271, датируемый серединой II в. н. э., познакомил нас
также еще с одним отрывком кинической диатрибы о встрече
Александра с брахманами (см. выше) 2в. Эпистолограф,
выступающий под именем Гераклита, хотя и направил письмо его другу
Гермадору, но, видно, совершенно забыл об этом и продолжает
обличать развращенность и беззакония эфесцев. Снова идет
большой кусок текста с сопоставлением животных и людей. Первые
живут в согласии с природой, довольствуясь тем, что она им уго-
170
товила. «Они, — говорит „Гераклит", — не падают так низко,
чтобы по примеру людей делать своими рабами себе подобных»
А люди убивают, грабят, копят богатства. Животные не
злоумышляют друг против друга, не совершают убийств, если только их не
принуждает к этому человек.
Критика человеческих пороков, преклонение перед природой,
идеализация животных, призыв возвратиться к природе и жить
по справедливости — все это характерно для идейного круга ки-
нико-стоической диатрибы (ср. прежде всего 6-ю речь Диона
Хрис). Однако нападки на поэзию, на Гомера, Гесиода,
Архилоха выходят за пределы кинических представлений и
объясняются желанием автора подделаться под взгляды и характер
исторического Гераклита, который осуждал поэтов (этопея). Этим же
обстоятельством объясняется, например, восхищение животворным
солнцем в начале отрывка [513, с. 136]. Впрочем, даже в критике
Гомера есть элементы именно кинического экстремизма, идущие
дальше Антисфена и Диогена. Слабость Гомера усматривается
в его любви к женщинам. «„Илиада44 и „Одиссея44, — замечает
„Гераклит44,— две великие поэмы, посвящены страстям двух
женщин: одной „которая была увезена силой, другой — которая
хотела бы этого44». Мы помним, что автор писем «Кратета»
весьма критически относился к Одиссею как киническому прототипу
(19). Та же мысль проскальзывает и здесь: «Я не считаю, что у
Одиссея есть какая-нибудь другая мудрость, кроме той, что он
любит поесть и поволочиться за женщинами» 27. Подобно письму
«Диогена» «грекам», письмо «Гераклита» об эфесцах написано в
агрессивном, наступательном стиле моралистической диатрибы с ее
антитезами, сентенциями, краткими напряженными фразами,
перемежающимися риторическими вопросами, обращениями к
слушателю. Таким образом, и в этом сказалось влияние кинической
школы.
Вернемся, однако, к собственно киническим письмам. Письма
«Диогена» и «Кратета» к друзьям, единомышленникам,
родным, ученикам обычно разъясняют отдельные положения
кинической этики, защищают внешние проявления кинического
образа жизни, наставляют и убеждают как словом, так и примером.
Конечно, и эти письма предназначены не для приватного
пользования, а для широкой аудитории непосвященных и неофитов.
Внешний вид киника всегда бросался в глаза и часто вызывал
недоумение, поэтому требовалось доказать рациональность его
одежды, ее связь с глубинными идеями кинизма, освятить
высшим авторитетом и сделать не только приемлемой, но даже
почетной в глазах общественного мнения, которому он бросал свой
наивный вызов. Апологии внешних кинических примет (сдвоенный
плащ, нищенская сума, посох, борода, длинные волосы), над
которыми часто издевалась современная эпиграмма (Марциал, Лу-
киан), посвящен ряд писем «Диогена» и «Кратета» (Д. 7, 26, 34г
46 и др.; К. 13, 16, 23, 30—32 и др.). Для этой цели эписто-
171
лограф выбрал в качестве адресатов отца и мать Диогена, которым
сын объясняет свой выбор жизненного пути как единственно
правильный; трибон, котомка и посох, унаследованные от богов и
героев, свидетельствуют о его скромности, а прозвище «собака» —
о том, что живет он «не по ложным мнениям людей, а согласно
природе» (7). В укор Платону «Диоген» разъясняет, что ноша
бедняка для него не тяжела, ибо она соединена с добродетелью
(46). В другом письме он убеждает: «Считай свой старый плащ
львиной шкурой, котомку — землей и морем, кормящим тебя...»
(26). «Кратет» называет плащ и котомку оружием богов (16).
Конечно, для борьбы с социальными язвами котомка и плащ
были малоэффективным оружием, но и народные восстания
не давали ощутимых результатов. Вопрос об одежде был поднят
киниками «на принципиальную высоту», поэтому Кратет
дважды отказывается принять от Гиппархии подарок — сотканный и
сшитый ею для мужа теплый плащ, ибо не следует «облачаться
в такую одежду человеку, воспитывающему в себе стойкость и
выносливость» (30 и 32). Платье «Диогена» хотя и незавидное,
но прочнее и надежнее карфагенских нарядов, а жизнь его хоть
и бедна, но свободнее, чем у Сарданапала (К. 13). Вообще,
«доспехи Диогена» помогают кинику бороться с его извечными
врагами — славой и роскошью (К. 23). Защищая свой внешний
вид, Диоген ссылается на пример Одиссея, Геракла и Телефа
(7 и 34).
К внешним проявлениям страннической жизни киников
относилось и «попрошайничество», которым их часто попрекали.
Вопрос этот для киников был мучительным и внешне самым
уязвивым. Речь шла между тем о хлебе насущном, о
прожиточном минимуме, об удовлетворении, пусть даже самых скромных,
материальных потребностей. Философ-киник, бродяга и
полунищий, ничего не производил, но призывал к труду и не хотел
прослыть паразитом и бездельником. За свои беседы и поучения
в отличие от софистов денег не брал. Но высоко ценя свой труд,
считая философию искусством, ремеслом, профессией — technë,
как любую другую специальность, полезную для людей, а самого
себя знатоком своего дела — technitës, episkopos, kataskopos, чей
долг надзирать за человеческими душами, он претендовал
получить от общества хотя бы на пропитание. Некоторые философы
зарабатывали себе на жизнь, становясь советчиками царей и
правителей. Киники же учили народ. И они выработали целую
систему оправданий «попрошайничества», смысл которой
сводится к тому, что эти философы имеют заслуги перед обществом,
воспитывая его и спасая своими поучениями и примером.
Мудрец не просит (aitei), а требует вернуть (apaitei)
принадлежащую ему по праву часть общественного дохода. При этом
делается ссылка на следующий силлогизм, приписываемый здесь
Сократу, а Диогеном Лаэртским (VI, 72, ср. 11) —Диогену:
«Богам принадлежит все, а у друзей все общее, мудрец же — друг
172
богов, следовательно, ты просишь свое» (пис. 10. Диоген — Мет-
роклу. Ср. К. 26, 27). Авторы «Писем киников» часто
возвращаются к этой остро волновавшей их теме (Д. 10, 11, 38, 43, 44;
К. 2, 17, 22, 26, 27, 36 и др.). Они рекомендуют брать только
у людей честных и добродетельных, самих испытавших нужду.
«Проси не у всех,— поучает „Кратет",— а только у достойных.
Бери у всех по-разному: у людей бережливых — три обола, а у
расточительных — мину, ибо у тех, кто так проматывает свое
состояние, во второй раз ты уже ничего не получишь...» (22).
Просить на жизнь, чтобы не умереть с голоду, разумнее и
приличнее, чем просить у врачей лекарство от последствий
обжорства (К. 17).
Круг затронутых в письмах «Кратета» и «Диогена» тем,
конечно, этим не ограничивается, и «Диоген» превозносит
заразительную силу своих dicta et facta, способную перевоспитать даже
тех, кто закоснел в своих пороках. Так, рассказывается, как он
шуткой усмирил компанию подвыпивших подростков (2), как
сбил спесь с надутого олимпионика Кикерма (31), заставил
богатого юношу порвать с привычной роскошью и стать киником
(38), устыдил своего тщеславного гостеприимца на Родосе (37).
«Кратет» рассказывает эпизод из популярной «Продажи
Диогена» (Diogenoys präsis), прославляющий отвагу и твердость духа.
Попав в рабство к пиратам, кинический мудрец не струсил, но
дерзко говорил с разбойниками и шутками ободрял своих
приунывших товарищей по несчастью (34).
Одно из видных мест в кинических письмах занимает
рассуждение о двух дорогах, ведущих к счастью: короткой и длинной.
Антисфен и Диоген указали людям трудный и полный лишений,
но короткий путь к счастью, от легкого, но долгого они
отказались. К счастью, учил Диоген, нужно пробиваться даже сквозь
огонь и мечи (Д. 30, 37; К. 13, 21; ср. Диог. Л. VI, 104). Эпистоло-
графы хорошо усвоили фразеологию и терминологию кинической
философии и оснастили письма специфической лексикой в
применении к идее добра (aretë, alëtheia, askësis, physis, karteria,
enkrateia, aytarkeia, parrhësia, eleytheria, phronësis, penia, apatheia
ktl) и зла (typhos, tetyphömenon, hëdonë, pathos, akrasia, tryphë,
ploytos, doxa, amathia, anoia, agnoia, aphrosynë ktl.).
В «Письмах киников» встречаются отголоски
стихийно-материалистических идей древних киников, и прежде всего Антисфе-
на. «Диоген» рассматривает кинизм как исследование природы
(42). Такое положение может показаться неожиданным и даже
парадоксальным, если понимать слово «природа» в его
естественнонаучном значении и забыть о его втором, этическом, значении:
«природа людей», которая представлялась киникам как некая
естественная норма, к которой человек должен примерять все свои
поступки и помыслы. Однако киников занимали проблемы
природы и в ее первом значении. В письме 21 «Диоген» провозглашает
вполне материалистический тезис: «все сущее произошло от при-
173
роды» (physei gegone ta onta), а качественная определенность
вещей зависит от смешения элементов (tön stoicheiön synkrasis)r
из которых, по мнению Антисфена, они состоят. Здесь же
утверждается естественная и закономерная детерминированность явлений·
Этот взгляд последовательно проводится и в постоянно
волновавшем киников вопросе о сущности смерти: «Насколько зависит от
природы то, что было до нашего рождения, настолько в ее власти
и то, что будет после смерти» (Д. 25). «Только одно я знаю
твердо: после рождения наступает смерть», — заявляет «Диоген» (21).
Эти слова не оставляют места для иррациональной души и
загробной жизни, трансцендентного и религии вообще. Правда, в
другом письме (39) мы встретимся с рассуждением о двух
категориях душ, привязанных и не привязанных к своей телесной
оболочке, о странствиях их в Аид после смерти. Но нельзя забывать,,
что в поздние философские учения эклектически проникают
элементы чуждых доктрин, и в данном случае автор 39-го письма
испытал влияние платонизма, которое с веками будет
усиливаться. В письме 35 «Кратета» в рассуждениях о всесилии судьбы
слышатся нотки стоицизма (ср. Эпиктет III, 22, 69).
Подчеркивание значения духовности нужно рассматривать как
реакцию на бездуховность заката античности, на погоню за
материальными благами и чувственными наслаждениями. «Кратет»
призывает постоянно заботиться о душе (3). В письмах
неоднократно говорится о необходимости закалять, упражнять душу (Д. 9>
12, 27; К. 12, 19). Некоторые письма напоминают настоящий про-
трептик, приглашение к философии. Философия, убеждающая
людей, важнее любых государственных законов, принуждающих
человека (К. 5). «Философия важнее, чем дыхание, —
провозглашается в другом письме, — ибо гораздо важнее хорошо жить, чему
учит философия, чем просто жить, что зависит от дыхания» (К. 6).
Письма учат автаркии, довольствоваться необходимым: «У нас,
киников, — говорит „Кратет",— есть все, хотя мы ничего не
имеем» (7,11). Борьба с условностями, с расхожими заблуждениями
и мифами заполняет всю киническую литературу. В 12-м письме
«Кратет», видно, откликается на модное увлечение «деревенской
темой», мыслью о том, что деревня является панацеей от всех
социальных язв и нравственной испорченности. Он замечает, чтс
«не деревня сама по себе делает человека нравственным, а город —·
безнравственным», а люди, с которыми приходится общаться·
Поэтому нужно посылать людей не в деревню, а в школу к
философам, ибо, как говорится в другом месте, добродетели нужна
обучать: она не закрадывается сама собой в душу, как это
происходит с пороками (К. 12).
В основе почти всех писем можно найти кинический источник.
Нет почти ни одного положения или рассказа, которому нельзя
было бы найти параллель у других авторов. Но именно это
обстоятельство говорит о том, что эпистолографы пользовались
наиболее распространенными, традиционными, самыми популярными
174
фактами и высказываниями, многократно зафиксированными у
поздних авторов (Эпиктет, Плутарх, Дион Хрисостом, Максим
Тирский, Диоген Лаэртский и др.), а сами редко черпали из
первоисточников или совсем не обращались к ним. Легко найти,
например, у Диогена Лаэртского тезис: «добродетели можно
научиться» (VI, 105), встреченный только что в письме 12 «Кратета»,
или высказывания о вреде пьянства, легшие в основу его 10-го
письма, или насмешки Антисфена над недостатками афинской
демократии, заставившие автора 25-го письма «Кратета»
издевательски предложить афинянам в случае нужды в конях объявить
путем голосования ослов конями. «Если в более важных делах
такой порядок не приносит вреда, то нечего ожидать, что он
повредит в менее важных»,— резонно замечает он. Кинические идеи
о равноправии женщин вдохновили автора писем «Кратета» к
Гиппархии (28—33), в которых доказывается, что «природа не
создала женщин более слабыми, чем мужчин» (28), и поэтому Гип-
пархия должна делить с мужем все тяготы кинической жизни.
В строгих правилах кинической морали призывает философ
воспитывать своего маленького сына, «щеночка», как весело и
ласково называет своего потомка «собака» Кратет (33). В силу
указанных выше причин собственно значение писем как источника
для изучения философии Диогена и Кратета почти равно нулю.
В письмах «Диогена» и «Кратета» есть также отклики на
лингвистические увлечения киников, усматривавших, как
известно, начало философии и образования в исследовании слов, hë
tön onomatön episkepsis (Эпиктет I, 17, 12). В 7-м письме
«Диогена» читаем: «Имя, за исключением того случая, когда оно
срослось с самими вещами, является своего рода символом чего-то
общеизвестного», иначе говоря, в одних случаях само слово
является как бы первоэлементом (stoicheion), в других — оно символ
общеизвестного явления или предмета 28. Учение о слове-символе
можно уже проследить у Антисфена, ученика Горгия,
отделявшего бытие от мысли и, следовательно, видевшего в слове-мысли
символ бытия. Слово не есть сама вещь, а только «тень вещей»,
как замечает автор 16-го письма «Кратета». Даже в этих скудных
замечаниях ощущаются разные аспекты понимания слова как
знака, выражающего наши представления, восприятия,
отражающие объективную реальность. К сожалению, взгляды киников на
язык известны весьма приблизительно. Одно лишь можно
утверждать с уверенностью: здесь киники придерживались
стихийного материализма.
За немногими исключениями, «Письма киников» не являются
в строгом смысле слова частными письмами, несущими какую-то
краткую, сиюминутную информацию, важную в данный момент
для названного адресата. Это литературные произведения,
отличные, однако, от родственных по жанру писем. Менее всего кини-
ческое письмо подходит под определение, содержащееся в
сочинении «О стиле», приписываемое Деметрию Фалерскому: «Пись-
175
мо —это выражение дружбы (philophronësis), сжато говорящее
о простом деле и простыми словами» (§ 231). Можно смело
говорить о простоте и ясности стиля кинических писем, но даже
краткие письма, по существу, являются частью обширной мозаики,
представляющей картину кинизма эпохи ранней империи.
Большинство же длинных писем можно назвать, пользуясь
выражением Деметрия, «статьями, к которым только приписано слово
„Здравствуй!44» (§ 228). Издатель писем Аристотеля грамматик
Артемон из Кассандреи (IV—III вв. до н. э.) метко назвал
письмо полудиалогом29, но что касается писем киников, это скорее
монологи, речи, предназначенные не для интимного
использования, а для самой широкой аудитории. В этом смысле особенно
показательно своеобразное «открытое письмо» «Диогена» «грекам»
(28). Письма дидактического плана (а их большинство) часто
обращены не к отдельным лицам, а к «друзьям», «ученикам»,
«молодежи», а во многих случаях имена адресатов вымышленны,
так как для авторов в этом случае личность получателя значения
не имела (например, Евгнесий, Аполексид, Анталкид, Анакси-
лай, Аминандр, Фенил, Фаномах, Аруэка, Гермаиск, Ганимед,
Диномах и т. д.). Кинические эпистолографы, как кажется, не
преследовали также цели создания индивидуализированных
характеров, этопеи. Во всяком случае, это им не удавалось. Скорее
здесь можно говорить о коллективном портрете всей школы, а не
отдельных ее представителей. Многие письма носят следы
риторической заданности, упражнений (meletai)Ha одну тему (Д. 6—
13, 8—35; К. 26—27, 30—32), но риторической перегрузки или
напыщенности и в них нет, да и не могло быть, ибо теория
предписывала избегать художественных излишеств, чтобы не
повредить «простоте и ясности» (apheleia, sapheneia). Вместе с Эд-
Норденом можно сказать: эти письма «написаны не в
качестве риторических упражнений, а с целью пропаганды» [509,
с. 393].
Больше всего кинические письма (особенно «длинные»)
напоминают диатрибы с характерной для них топикой и
стилистикой, составляющими kynikos tropos (см., например, Д. 10, 12, 28,
33, 36, 44). Киническое псевдонимное письмо римского времени
явилось наследницей эллинистической диатрибы и, естественно,
использовало ее опыт. Для диатрибического стиля писем
характерно вплетение в серьезный разговор иронии, насмешки,
сарказма, юмора (Д. И, 19, 23, 24, 50, 51). Наиболее комичное
впечатление производит пис. 19 «Диогена» Анаксилаю, где автор
напоминает, что Пифагор, веривший в переселение душ, считал, что
был уже однажды Эфорбом. Почему же Диогену не узнать в себе
Агамемнона? Правда, у него нет кудрей, но ведь и Агамемнон,
состарившись, облысел. Охотно использует Диоген издевательски-
ироничные обращения к своим недружественным адресатам типа
«милейший», «дорогой» и т. п. (29, 40 и др.).
Охотно прибегают эпистолографы к мифологическим образам
176
и их аллегорическому толкованию, к функциональному
использованию имен Геракла, Одиссея и др. (Д. 6, 10, 17, 26, 34, 35),
к поэтическим цитатам (Д. 37; К. 34), к аллегории в чистом виде,
которой является, например, рассказ о двух путях к счастью
(Д. 30, 37, 12; К. 13), использованный впервые Гесиодом (Труды
и дни, 286 и ел.). Встречаем мы и привычные образы антигероев —
Сарданапала и персидского царя (Д. 13), животные сравнения
(Д. 28, 40), риторические вопросы (Д. 27, 46), персонификацию,
антитезы. Воображаемым оппонентом диатрибы нередко
выступает гипотетический адресат, нуждающийся в опровержении и
убеждении (Д. 4, 5, 9, 14, 15, 23, 24, 33, 40 и др.).
Повествовательные, нарративные письма призваны
иллюстрировать наглядными примерами практическую сторону кинической
морали. С этой целью рассказываются, так сказать, «боевые
эпизоды», обычно из жизни Диогена (встреча с пьяными
подростками, разговор с Дионисием, Александром, рабство у пиратов и др.).
Большинство таких писем (Д. 2, 6, 8, 9, 13, 30, 35, 38; К. 34)
построено по принципу распространенной апофтегмы,
когда за основу берутся известные афоризмы или поступки героя
и включаются в новый контекст, детализируются, обрастают
новыми придуманными подробностями и описаниями, короче, бел-
летризируются. По этому принципу, например, созданы письма,
использующие ситуацию столкновения Диогена и Александра.
Для того чтобы сообщить читателю давно известное «Не
загораживай мне солнца!», автор помещает Диогена в театр, заставляет его
заниматься там (?) тонкой работой — склеиванием порванных
книжных листов и т. п. (Д. 33). Этот же принцип лег в основу
более талантливых «диогеновских» речей Диона Хрисостома,
которые вообще обнаруживают немало сходства с киническими
письмами (ср. пис. пс-Диогена 10 — Дион Хрис. I, 62, 65, 68; пис.
12-Дион Хрис. VIII; пис. 44-Дион Хрис. VI, 17-20 и др.)
[455, с 45—46]. Обращает на себя внимание использование в
письмах форм и приемов сократического диалога, особенно
выразительно проявившееся в 31-м и 36-м письмах «Диогена» (ср.
также пис. 33 и 35). Так, в пис. 31 Диоген своими настойчивыми
вопросами заставляет олимпийского победителя панкратиаста Кикер-
ма признать в конце концов, что он вовсе не победитель, бросить
пальмовую ветвь и сорвать с головы почетный венок.
Основная масса «Писем киников» имеет ясно выраженную
идейную и воспитательную направленность, защищая и
пропагандируя кинизм. Поэтому никак нельзя согласиться с К. Фритцем,
который относит этот памятник к «развлекательной литературе»
(Unterhaltungsliteratur) [388, с. 68]30. Не говоря уже о
несправедливости этого утверждения по существу, следует напомнить,
что риторские школы, где могли возникнуть письма, — это высшие
школы древности, своеобразные вузы, в которых встречались
люди различных убеждений, в том числе и враждебно настроенные
к киникам. Это сказалось на содержании некоторых писем, педа-
177
лирующих без внутренней необходимости «бесстыдство» киников,
сильно преувеличенное их противниками (Д. 35, 42, 44).
Эпистолография I—II вв. н. э. попала под сильное влияние
кинической идеологии, о чем свидетельствуют не только письма
сократиков и киников, но и ряд писем Гераклита, Пифагора,
Гиппократа и др. В свою очередь, они стали разносчиками кинико-
стоической морали, образы старинных кинических героев
помогали им разоблачать современное социальное зло. Смысл всей этой
эпистолярной деятельности не в модной архаизации, не в
решении чисто художнических или риторических задач, а в связях
с жизнью, с идейной и политической борьбой, с умственными
течениями эпохи, которые становятся яснее в контексте с
мужественными выступлениями бродячих кинических проповедников
типа Исидора или Гераса, с такими политическими памфлетами,
как «Акты языческих мучеников Александрии», с творчеством
таких разных писателей и мыслителей, как Эпиктет и Лукиан,
Дион Хрисостом и Фаворин, Максим Тирский и Эномай. Кини-
ческая доктрина оказалась притягательной не только для
бедноты и неудачников, но и для многих признанных философов и
софистов. Киники убеждали, что их учение — хоть и трудный, но
кратчайший путь к добродетели, а значит, и к счастью. Убеждали
и убедили. Прежде всего стоиков. Аполлодор в своей «Этике»
(Диог. Л. VII, 121) утверждал, что «мудрец должен жить как
киник, так как кинизм (философия Антисфена и его
учеников)—прямой путь к добродетели». Эпиктет увидел в истинном
кинике свой идеал (III, 22). Увлекся кинизмом даже такой
рационалист и скептик, любитель парадоксов, как Лукиан из Са-
мосаты, этот античный Бернард Шоу. Несмотря на
принципиальную враждебность платонизма и кинизма, философ-платоник и
софист Максим Тирский поставил перед собой вопрос: «Не
является ли самой предпочтительной из всех жизнь киника?»—и дал
на него положительный ответ. Это признание идейного врага,
пожалуй, убедительнее всего свидетельствует о силе и
популярности кинической идеи.
Максим Тирский (ок. 125—185). Остановимся на этой
фигуре, которую в последнее время не очень балуют вниманием.
Максим Тирский как по своему образу жизни, так и по взглядам
был далек от кинизма. Этот с успехом гастролировавший по
крупным городам империи «философствующий ритор» или
«риторствующий философ» отдал дань почти всем духовным
увлечениям века, но более всего тяготел к платонизму в его мистико-тео-
логическом варианте, характерном для fin de siècle, и к
демонологии в духе Апулея. Он сам себя считал платоником; platoni-
kos philosophos — так назван он в средневековой рукописи. «Я
восхищаюсь Гомером, верю в Платона и жалею Эпикура»,—говорил
Максим (41,2. Ср. 10,4) 31. Эпикур, вообще,— постоянный объект
его нападок. В своих речах (dialexeis) со своеобразным блеском
и эрудицией он разрабатывает популярные в то время философ-
178
ские темы, прежде всего связанные с образом платоновского
Сократа, с его демонием (речи 3, 8, 9, 18—21 и др.). Максим
рассуждает о боге у Платона, прав ли был мудрец, изгнав Гомера из
своего идеального государства, о мантике и молитвах, о добре и
зле, об удовольствии и дружбе, философии и поэзии,
добродетели и т. п. Свои примеры, как и другие деятели «второй
софистики», он черпает из далеких эпох, но Максим —не историк,
исследующий прошлое и оценивающий его sine ira et studio, a
художник и философ, поэтому вся эта архаика — лишь условный прием,
исторический маскарад, эзоповская форма, а не бегство от
современности. «Заговора молчания» не было, на исторический фон
проецировалась злоба дня, настоящее воспринималось через
призму хрестоматийного прошлого, образы которого (Сарданапал,
Ксеркс, Крез, Камбиз, Сминдирид, Дарий или Александр)
превратились в такие же поучительные символы, как и те, что давала
мифология. Так же аллегорически, по его мнению, нужно
воспринимать и поэзию, которую наряду с философией Максим высоко
ценил. Вся поэзия, по его мнению,— сплошная загадка (... poië-
tikë päsa ainittetai—17,4). Идею об аллегорическом толковании
поэзии и мифологии, воспринятую им у киников или стоиков,
Максим охотно воплощал и в собственном творчестве. Он считал,
что философы и поэты говорят об одном и том же, но на разных
языках. Зевс для него, таким образом,—первозданный высший
разум (noyn presbytaton kai archikötaton), Афина — воплощение
мудрости (phronësis), Аполлон — солнце, Посейдон — дыхание,
проносящееся над землей и морем и поддерживающее их во
взаимном равновесии и гармонии (4, 9).
Аллегорическая интерпретация мифов нередко обнаруживает
кинический подтекст. Показательно в этом плане истолкование
мифа о Тантале, связываемого Максимом с проблемой гедонизма.
Неконтролируемое удовольствие становится «ненасытным
тираном», причиной множества бед и страданий. «Загадка Тантала»
(ainigma) заключается в том, что миф символизирует
«постоянную жажду, испытываемую человеком, томимым любовью к
наслаждениям». Это волна желаний, которая то накапливается, то
отступает, это приливы и отливы страстей и горькие
разочарования, следующие за ними, смятение и страхи, ибо человек боится
утратить удовольствие, которое с ним, а когда его нет, то
страшится, что оно не придет... (33, 3—4). Единственно радикальное
средство для борьбы с этим потоком наслаждений, поучает
философ в другом месте,— «остановить все источники наслаждений,
задушить их в самом зародыше» (17,4). Отрицательной оценкой
цивилизаторской деятельности людей объясняется и толкование
мифа о Дедале, который справедливо был наказан за свои
нелепые выдумки гибелью сына (ср. подобное же толкование мифа о
Прометее у киников).
Если подобные философски значимые символы политически
безобидны, то многочисленные выпады против тирании (20,7),
179
против непрекращающихся захватнических войн и беззаконий
(23,6) 32 требовали гражданского и просто человеческого
мужества, потому что откровенно намекали на современность (пуп) и
высказывались о правлении такого кровавого деспота, как Ком-
мод, во времена которого, по словам Суды, Максим находился в
Риме. Подобно тому как, говоря о бесчинствах тиранов, Дион
Хрисостом имел в виду Домициана, так Максим, вероятно, метил
в Коммода. Исподволь в выступлениях Максима Тирского
проглядывают кинические идеи, не реже используются им средства
художественной изобразительности кинической пропаганды и
литературы, и прежде всего диатрибы. Настоящие герои Максима —
Сократ и Платон, но в 36-й речи выше всех вдруг оказывается
Диоген. То тут, то там всплывает имя этого неунывающего
нищего философа, противопоставляемого самым могущественным
мужам древности. Так поражала сила духа в нем, что Максим
вынужден найти свое объяснение демонстративному аскетизму
Диогена. Оказывается, в самоограничении и лишениях есть свои
радости, этакий этический мазохизм: «Но и прославленного
Диогена привело в бочку удовольствие. Если в этом участвовала и
добродетель, то это вовсе не значит, что не нужно брать тут в
расчет удовольствие. Диоген наслаждался в своей бочке не меньше,
чем Ксеркс в Вавилоне. Он получал удовольствие от простого куска
хлеба, как Сминдирид33 от самых изысканных блюд. Он утолял
жажду из любого источника, получая не меньше удовольствия,
чем Камбиз, который пил только из Хоаспа34. Он наслаждался
солнцем, как Сарданапал своей порфирой, любовался своим
посохом, как Александр копьем. Он восторгался своей котомкой, как
Крез сокровищами. И если сравнить удовольствия с
удовольствиями, то удовольствие, испытываемое Диогеном, сильнее, ибо у
других удовольствия всегда переплетены с горем. Скорбит Ксеркс,
потерпев поражение; вопит раненый Камбиз; рыдает Сарданапал
в своем, объятом пламенем дворце; неутешен отвергнутый
Сминдирид; плачет захваченный в плен Крез; горюет Александр, не
имея больше возможности сражаться. Удовольствия Диогена
неподвластны отчаянию, стонам, слезам, горю. Между тем эти его
радости называют лишениями, страданиями. Ты меришь Диогена
на свой аршин. Это плохая мера. Для тебя такая жизнь была бы
страданием, а Диоген находит в ней удовольствие. Я осмелился
бы даже утверждать, что никто не получал большего
наслаждения, чем Диоген. Он не был обременен домашним очагом, ибо он
доставляет много хлопот. Он не занимался политикой: она
связана с огорчениями. Он не связывал себя узами брака: он слышал
о Ксантиппе. Он не воспитывал детей: перед его глазами были
ужасные примеры. Но лишенный страха, свободный, беззаботный,
не знающий печалей, повсюду на земле он был как у себя дома.
Только он один из людей умел пользоваться удовольствиями,
которые не охранялись, не учитывались и не вызывали
зависти» (32,9).
180
Возникает законный вопрос: как это состоятельный человек,
изысканный ритор и верующий платоник, в лексиконе которого
самым популярным было слово theos —«бог», далекий от грубого
материализма и народной стихии, в которой, как говорится,
«купались» киники, мог проявить столь явный интерес к их
учению? Объяснить просто: беспринципный эклектик — и много и
мало. «Философствующая риторика», конечно, охотно подбирала
любые идеи, не очень заботясь об их истинном и первоначальном
смысле,— лишь бы потрафить вкусам своих жадных до
парадоксов и эффектных сопоставлений слушателей. Но здесь причины
глубже. Максим Тирский — не рядовой софист. Мыслящих людей
II в. н. э., подобных Диону Хрисостому, Эпиктету, Лукиану или
Максиму, не удовлетворяла действительность; они искали,
каждый в меру своих склонностей и жизненного опыта, выхода из
гнетущей атмосферы тотального насилия, испытанного на самих
себе. Одни находили выход в религии, другие — в философии,
третьи — в религии и философии одновременно, но все жаждали
убедительных примеров, образцов для подражания, у которых их
внутренняя духовная сила обеспечивала бы победу над
враждебными внешними обстоятельствами. Такие примеры давали во
множестве киники. Вспомним хотя бы Деметрия или Демонакта.
Каждый философ в это время старался хоть немного походить
на Диогена, воплощавшего действенную добродетель. Максим,
кроме того, стремился приобщить к философии как можно больше
людей. Для этого нужны были сильные средства воздействия на
массы, и тут он не мог пройти мимо многовекового опыта кини-
ческой пропаганды. Киники хорошо изучили и проверили на
практике все эти средства, вырабатывая свой стиль — kynikos
tropos. Все, вместе взятое, создало своеобразный кинический
«второй план» в творчестве Максима, который В. Кролль удачно
назвал «солонным кинизмом» (Solonkynismus — PWRE, HBd. 28,
2561 31).
Нет смысла пытаться реконструировать по Максиму подлинные
взгляды Диогена или других древних киников. Он создает свою
концепцию кинизма, идеи которого препарируются в духе его
собственного практического и демонологического платонизма. Тем не
менее они говорят о проникновении даже в верхи общества
демократических настроений. С наибольшей выразительностью кини-
ческое влияние проявилось в 36-й речи. Здесь, на основе «общих
истин» кинизма, Максим Тирский создает свой идеальный вариант
его, как это сделали Эпиктет, Лукиан, Дион, Юлиан. В этом
несколько напыщенном панегирике кинизму и Диогену
сконцентрировались все зрелое мастерство софиста и умелого рассказчика,
приемы, усвоенные из кинических источников, но это все же не
равнодушно-ловкая декламация на избитую философскую тему:
кинизм — слабость Максима, и с самого начала он заявляет о своей
личной заинтересованности в предмете, ведя весь разговор от
первого лица, прерывая рассуждения обращениями к слушателю.
181
36-я речь, озаглавленная «Предпочитать ли кинический образ
жизни?», обнаруживает свою позицию не только в постановке вопроса
и в конечном утвердительном ответе на него, но всей
структурой, всем ходом аргументации. Согласно кинизму история для
человечества началась радужно, но продолжение, вместе с
цивилизацией, принесло множество бед. Тема нравственного регресса,
обратно пропорционального материальному благосостоянию,
начала мучить киников с того самого момента, когда просвещенные
Афины потерпели сокрушительное поражение от солдафонской
Спарты. Эта мысль приносила соблазнительно легкое объяснение
порочности «железного века» и подпирала их ведущий лозунг
«назад, к природе», к счастью, довольству и миру «золотого века»
Крона.
Именно поэтому Максим начинает с мифа о сотворении людей.
Начало его почти библейское: «Был Зевс, было небо и земля...»
(Zeus en kai oyranos kai gë), затем по приказанию Зевса
Прометей создает существа почти «по образу и подобию божьему» (kata
men tën gnômën engytata hëmin tois theois...). Эти первые люди
жили легко и в полном достатке, получая все от земли без всякого
труда, и повсюду царил мир, ибо иъ было причин для споров. Нечто
вроде этой сказки нашего философа рассказывали поэты о
царстве Крона, а Гесиод — о «золотом веке». Главное в нем — жизнь без
войн, без оружия, без охраны, без распрей, без нужды и т. п. Но
если баснословный «золотой век» Максим описывает довольно
бледно и скупо, то свой «железный» живописует подробно и с
полным знанием дела, правда, не очень оригинально, так как и другие
кинические авторы империи не жалели красок, чтобы нарисовать
отвратительную картину своих дней. Основное зло, пришедшее на
землю,— частная собственность и алчность. Люди стали делить и
захватывать землю, строить на ней ограды и стены, дома со
множеством запоров, начали мучить землю, море и даже воздух.
«Постоянно ища новую пищу для своих страстей, с презрением отвергая
все прежнее, они гонялись за наслаждениями и терпели
бедствия, стремясь к богатству...» (§ 2). Максим находит все новые
впечатляющие антитезы и сравнения для характеристики
действительности. Его современники «ненавидят тиранию, но сами жаждут
стать тиранами; они бранят все позорное, но от позорных дел не
воздерживаются; они восхищаются удачей, но равнодушны к
добродетелям» и т. п. Образ жизни людей «железного века» он
сравнивает с «суровой тюрьмой, в мрачной глубине которой томятся
несчастные люди; ноги их закованы в крепкое железо, вокруг
шеи у них тяжелая цепь, а на обеих руках висят ужасные оковы;
они грязны, находятся в постоянной тревоге и стенаниях. Но со
временем и от ежедневной привычки они даже там находят себе
радости: иногда напиваются допьяна в своей тюрьме, орут песни,
набивают желудок, предаются любви. Но не наполняет это
спокойствием никого из них: они всего страшатся, ни во что не верят
и помнят постоянно о своих несчастьях» (§ 4).
182
Какой образ жизни лучше, более «естественный, простой и
свободный», какой более счастливый? Конечно же, его не может
дать жалкая действительность Максима, и она должна быть
отвергнута. Вернуть блаженные времена «золотого века»? «Но
оставь все эти образные сравнения вместе со сказками и обратись
к человеку, жившему не во времена Крона, но в самой гуще
нашего железного века»,—призывает Максим (§ 5). На этого
человека промелькнул намек еще раньше: он «наг, бездомен
(aoicos35), бесхитростен, гражданин и обитатель всего мира», он не
был уроженцем ни Аттики, ни Спарты, его не воспитывали
законы Солона или Ликурга, а происходил из Синопы на Понте (§5).
Этот человек — Диоген 36. Его жизненный путь был указан ему
Зевсом и Аполлоном (§ 5 и 6). Этим определяется божественная
сущность миссии Диогена. Если сам Диоген шутил, говоря, что,
подобно персидскому царю, меняет свою резиденцию в
зависимости от времен года, перебираясь из Афин в Коринф и обратно
(ср. Дион Хрис. VI, 1), то в изложении Максима эта шутка
теряет свое улыбчивое свойство и звучит торжественно: «Он жил
жизнью царя, не знающего страха, и свободного. Он не проводил
времени зимой среди вавилонян и не обременял собою мидян в
летний зной, но вместе с временами года переселялся из Аттики
в Истм, а из Истма снова в Аттику. Его царскими чертогами были
храмы, гимнасии, священные рощи и т. д.» (§ 5).
Так, хотя Максим стремится дать своим слушателям
реальный образец для подражания, в его изложении Диоген
приобретает черты святого, наделяется несвойственной ему
царственностью и становится недосягаемым: «... он сбросил с себя все узы
окружающего мира и освободился от его оков; свободный, он стал
обходить землю, уподобясь птице, обладающей разумом, не боясь
тиранов, не подчиняясь насилию закона, не обременяя себя
общественными делами, не тревожась о воспитании детей, ne
сковывая себя браком, не обременяя себя военной службой и не
промышляя морской торговлей. Напротив, он осмеивал все это...».
Понятно, что это уже не человек, ибо он отрешен от всего
земного. Подобно Сократу и другим великим умам Эллады, Диоген имел
своего «демона» (8,8), его освободил не Антисфен, а великие
боги — Зевс и Аполлон (36,5) 37. Такой апофеоз нищего мудреца
отвечал интересам эллинства, атакуемого восточным
мистицизмом и христианством. Диоген и другие «настоящие киники»
своим образом жизни воскрешают «золотой век», когда люди были
как боги (ср. Диог. Л. VI, 105).
Диоген противопоставляется всем как единственный из
людей, имевший право порицать и поучать других, ибо не
хитроумными словами, а на деле доказал свою добродетель. Когда Эллада
была охвачена войной, «лишь он один призывал к миру, он,
невооруженный среди вооруженных, мирный среди сражающихся».
Все мнения и желания людей пусты и обманчивы; все люди,
даже вожди, судьи, тираны, полководцы и т. д.,—рабы толпы, слу-
183
чая, наслаждений, законов и т. д. Только Диоген по-настоящему
свободен, даже Сократа нельзя считать до конца свободным, ибо
он подчинился закону, закону человеческому, а не
божественному. Благодаря своему образу жизни и привычке Диоген стал
недоступен никаким несчастьям и случайностям, поэтому он выше
Ликурга, Солона, Артаксеркса и Александра. Он стал свободнее
даже самого Сократа. Таков конечный вывод кинической речи
Максима Тирского.
Несмотря на риторичность, в речи отчетливо
просматриваются приемы диатрибы, к которой вообще близок жанр dialexis:
басня (mythos), рассказываемая в начале по примеру Эзопа,
аллегорическое толкование поэтов, которые, «повествуют в сокровенной
форме о жизни» (ainittomenoi bion — § 1), цитаты из Гомера (их
особенно любит Максим — всего гомеровские поэмы процитированы
им около 140 раз!), антитезы, которыми буквально кишит речь,
сравнения с животными (Диоген уподобляется льву),
персонификация образов жизни, риторические вопросы, обращения к
слушателю, исторические примеры (Солон, Артаксеркс, Александр
и др.). Тяготея к образной речи [500, с. 13 и ел.], Максим охотно
прибегает к типичным киническим сравнениям — театральным
(философ — актер, играющий то роль царя, то нищего на сцене
жизни,—1,9, 10; жизнь —драма—1,1), военным (жизнь — поход —
13,4, добродетель — щит—3,7), из мира животных (Камбиз и
Ксеркс — свирепые волки—6,7) и др. На страницах его речей
мелькают имена из обоймы кинических антигероев: Сарданапал,
Камбиз, Ксеркс, Крез и др. Положительные герои у него тоже ки-
нические. Прежде всего, Геракл, олицетворяющий деятельную
добродетель, побеждающую жизненные соблазны и трудности
(38,7; 34,8; 14,2), Сократ, Диоген, Анахарсис (17,4).
Максим внес свою каплю меда в тот идеальный образ
Диогена, который создавался коллективными усилиями не одних только
киников, но и философов других направлений (стоиков,
платоников). В этом образе внешняя форма играла второстепенную роль.
Можно носить суму и посох Диогена, говорил Максим, но быть
все же несчастнее Сарданапала (1,9). Все дело во внутренней
силе, демонии, которая обеспечивает человеку подлинную свободу
и счастье. Если образ Диогена Максим окрасил в платонические
тона, то концепция происхождения и культурного развития
человеческого рода, изложенная им в 36-й речи, в главных чертах
совпадает с тем, что писали по этому поводу его старшие и младшие
кинические современники. Дион Хрисостом в 6-й, «диогеновской»,
речи более скупыми, но сходными штрихами рисует жизнь
«первобытных людей», хотя и не знавших огня, домов и одежды, но
получавших от земли питание без усилий со своей стороны,
«автоматически», а для современности Дион находит еще более
мрачные краски, чем Максим (VI, 28 и ел.). Разительную параллель
представляет также описание у Лукиана счастливого «века
Крона», современной ему «свинцовой» действительности (Переписка
184
с Кроном, 20), идеализируется век Крона и автором 32-го
письма— псевдо-Диогеном. Трудно сказать, кто от кого зависел: это
была общекиническая идея, получившая новую жизнь в условиях
упадка античности, и Дион вкладывает рассказ об утраченном
блаженстве «золотого века» в уста Диогена.
Кинические симпатии Максима Тирского не вызывают
сомнений. Несмотря на свою преданность платонизму, он все же
чувствовал его слабость — умозрительность, оторванность от
конкретного бытия и невольно скорректировал платонизм
некоторой долей популярных кинических идей. Этим объясняется
появление у него киника Диогена, которому он навязал
платонизм, подобно тому как кинизирующий Лукиан придал
кинические черты платонику Нигрину. Здесь не нужно усматривать
злой умысел, «идеологическую диверсию», сознательное
извращение кинической доктрины. Мыслящие люди искренне пытались
найти выход из исторически безвыходного положения. Каждый
искал и находил в кинизме, что мог и хотел. Одни, как
здравомыслящий демократ Лукиан, вдохновлялись его критической и
сатирической силой, пафосом разрушения, отрицания «вечных
ценностей» отживающего прошлого, другие, подобно
восторженному Максиму,— духовностью, приподнимавшей человека над
обыденщиной и над миром, потрясенным перманентными кризисами.
Подчеркнутый Лукианом демократизм киников у Максима не
играл заметной роли. Так или иначе, в кинизме видели силу,
способную что-то изменить, приоткрыть завесу будущего,
внушить уверенность в человеческие возможности, утешить, наконец.
У истоков «кинического возрождения» ранней империи стоял
Дион из Прусы, на творчество которого могли опираться как
Лукиан, так и Максим Тирский. «Вторая софистика» — самое
крупное литературное и умственное движение эпохи, не было
однородным ни социально, ни идейно. Если на правом его крыле
стояли Герод Аттик и Элий Аристид, то на левом — Дион и Лукиан,
принявшие киническое крещение.
Дион Хрисостом
Дион появился в Риме, вероятно, в конце 70-х годов I в. н. э.
Этот безвестный юноша из далекой провинциальной Прусы,
отпрыск богатой и знатной вифинской фамилии, привлек внимание
римских ценителей греческой изящной словесности своими
риторскими талантами. Избалованная вниманием верноподданная
«вторая софистика» была воинственно настроена против
философии, она ненавидела этих умников — киников и стоиков,
проповедовавших аскетизм, отказ от роскоши и удовольствий,
громивших монархию и тиранию, выдвинувших из своих рядов таких
стойких республиканцев, как Тразея Пет и Гельвидий Приск.
Взаимная неприязнь риторов и философов, возникшая еще при
Платоне и Исократе, и в это время достаточно хорошо известна.
185
Дион, будущий философ, жестоко, по словам Синезия, нападал
на философов и философию. Но эксцессы домициановской
реакции сделали свое дело: выступать с «похвалой шевелюре»,
комару или попугаю, бросать камни в мужественных философов,,
когда гибли лучшие люди, было стыдно и подло. Складывались
связи с фрондирующей аристократией, с оппозиционным «левым
стоицизмом», состоялось знакомство с Мусонием Руфом. Одно из
таких знакомств стало для Диона роковым, определив его
судьбу. Он сблизился с Титом Флавием Сабином, мужем Юлии,
дочери бывшего императора Тита, и стал его другом и советником
(13, 2). Немецкий биограф и издатель Диона Ганс Арним
предполагает, что Домициан сам зарился на Юлию [436, с. 230]38. Так
или иначе, Сабин был обвинен в заговоре против императора и
казнен в 82 г. Для Диона это опасное знакомство, а также,
вероятно, его антимонархические высказывания окончились на
столь трагически, но достаточно тяжело — сенаторским указом
он был навсегда изгнан из Рима, Италии и Вифинии (1,50). В их
пределы и даже в родную Прусу, где остались жена и дети, путь
ему был заказан. Изгнание длилось более 14 лет. Окончилось
оно лишь в 96 г. в связи с убийством Домициана и восшествием
на престол Нервы, с которым Дион был знаком еще по Риму.
Начавшись как большое личное горе, объективно изгнание
обернулось для Диона своей удивительной стороной — оно
выбило его из круга привычных представлений, незамечаемого
достатка, придворных интриг, из внешне блестящей, но затхлой
атмосферы безыдейной софистики, открыло большой мир людей,,
занятых честным трудом и творчеством, познакомило с беднотой,,
низами общества, убедило в моральном превосходстве простого
народа над богачами и знатью, внушило сочувствие к
угнетенным. Он еще больше начал любить свою порабощенную родину,,
ее славное прошлое и проклял то, чему раньше поклонялся.
С особой яростью он стал нападать на своих бывших кумиров —
риторов и софистов (речи 4, 8 и др.). Изгнание изменило весь
строй жизни Диона и сделало его, как некогда Диогена (Диог. Л.
VI, 49), философом, проповедником нравственного совершенства.
Впервые Дион столкнулся с действительной, а не с
позолоченной жизнью, с настоящими радостями и бедами, с массой
обездоленных. Философия не только давала ему утешение и силы
для борьбы с тяготами изгнания39, но помогала также понять
мысли и чаяния народа, в гуще которого он так внезапно
оказался. Во времена Диона, кроме кинизма [436, с. 245], не было
иного учения (не считая зарождавшегося христианства, чуждого
образу мыслей такого убежденного эллина-язычника, как Дион),
которое так бы отвечало ситуации и умонастроению изгнанника,
познавшего горечь жизни, его желанию наставлять людей. Весь
критический пыл Диона, его ненависть к тирании и монархии, к
«сильным мира», к развращающему влиянию «новой» культуры,
зародившаяся любовь к бесхитростным людям труда продиктованы
186
его близостью к народу и кинизмом, к которому его толкнул
личный опыт. Однако, как только кончились контакты Диона с
низами, влияние кинической идеологии ослабевает, кинический
радикализм сменяется у него стоической либеральной фразеологией, не
конфликтующей с существующим строем. Антимонархические
взгляды периода изгнания под ласковым воздействием Нервы и
Траяна сменяются лояльным монархизмом, который Дион,
правда, старается «улучшить» своими темпераментными проповедями
(речи «О царской власти»). Исторически он, может быть, был и
прав, так как рабовладельческая демократия себя изжила, а
народная республика была невозможна. Таким образом, кинизм был
лично выстрадан Дионом, и потому у него никогда не пропадал
интерес к этому учению, даже на вершине успеха и славы.
О причинах изгнания, о своих переживаниях и настроениях
той поры Дион рассказывает в 13-й речи «Об изгнании,
произнесенной в Афинах». Он вспоминает свои
первоначальные нерадостные размышления о тысячах людей, страдавших
вдали от родины, и в том числе о судьбе Одиссея, тосковавшего по
дыму отечества. Он задавал себе вопрос: является ли изгнание
тяжким несчастьем? Вспоминал он и о том, как постепенно постиг
истинную цену изгнания и становился философом, помогая людям
понять, где добро и где зло, размышляя о месте человека в жизни,
о долге и самоусовершенствовании. Наблюдения и размышления
привели его к выводу, что большинство людей неразумно и ведет
порочный образ жизни, помышляя лишь о деньгах, славе и
чувственных удовольствиях. Они не могут освободиться от всего этого
и вырваться из тисков порока, словно попав в водоворот (13, 14).
Дион начал проповедовать, беседуя (dialegesthai — 13, 29) с
небольшими группами и целыми толпами, убеждая обратиться к
философии, если каждый действительно хочет стать
совершенным во всех отношениях человеком — kalos kai agathos (13, 28).
Он призывал избрать себе в наставники «врача, умеющего
исцелять болезни человеческой души», поучающего не за деньги или
подарки, а по убеждению или из дружбы (13, 32). Хотя Дион
предупредил, что излагает не свои мысли, а раздумья Сократа,
который делился своими идеями со всеми и повсюду — в палестрах,
эргастериях, на агоре,— эти мысли, напоминающие о
псевдоплатоновском «Клитофоне» (см. 13, 14—28), несут на себе печать ки-
нического происхождения, что дает основание предполагать для
«Клитофона» и дионовского протрептика общий источник — про-
трептик Антисфена (Дюммлер, Арним).
В изгнании Дион испытал на себе все лишения, выпадающие
на долю бедняков. Придя к выводу, что изгнание — не беда, он
надел на себя платье простолюдина, ничем не отличавшееся от
наряда киника40, ограничил себя во всем и начал странствовать по
белу свету (13, 10), как нищий (1, 9; 12, 16), как «никто
ниоткуда» (oydeis oydamothen —15, 22), забредая то к эллинам, то к
варварам (1,50). Ему пришлось собственными руками, тяжелым фи-
187
зическим трудом зарабатывать себе на пропитание41 и часто, как
Диогену или Кратету, не иметь крыши над головой (40,2; ср. Диог.
Л. VI, 37; Максим Тирск. 36,3; 32,9). Он странствовал, избегая
городов, жил одной жизнью с пастухами и охотниками,
благородными и простосердечными (1,51), и пришел к выводу, что
бедность имеет свои преимущества,— она в самом деле священна и
неприкосновенна, ибо никто не зарится на имущество бедняка
(7,9).
Дион от рождения был физически слабым (Суда), а жизнь
нищего странника еще сильнее подорвала его здоровье (40,2). Он
постоянно подвергался смертельной опасности, так как открыто
обличал тиранию «деспота» Домициана. Среди всеобщего
пресмыкательства он один с риском для жизни говорил правду (3,13). Само
собой возникало сравнение жизни Диона в изгнании и его далекого
предтечи Диогена. Повествуя о себе, Дион думал о Диогене иг
рассказывая о Диогене, думал о себе. В его речах Диоген нападал
на тиранов, обличал персидского царя — и перед слушателями
вставал образ Домициана. Влияние кинизма на творчество Диона
оказалось столь глубоким и разносторонним, так отразилось на
наиболее значительных его произведениях, что некоторые
исследователи склонны видеть в нем стопроцентного киника. Тем более
что в изгнании он не только произносил кинические речи, но и вел
kynikos bios.
Кинизм Диона бросался в глаза даже тем, кто лишь мимоходом
останавливался на его творчестве (Узенер, Дюммлер), а в 1887 г.
появилась специальная работа Эрнста Вебера «О Дионе Хрисосто-
ме как последователе киников» [547]. Э. Вебер особое внимание
уделял речам, в которых главная роль отведена Диогену, этому
«все отрицающему духу» (4—6, 8—10). Единственный в России
XIX в. знаток творчества Диона А. Сонни сетовал, что в старых
работах и руководствах скромное место уделяется философским
взглядам писателя. В I в. н. э., подчеркивает Сонни, кинизм обрел
новую жизнь: «Дальше всех от всякого умозрения и ближе всего
к действительной жизни стояла киническая философия вследствие
своей доступности понимания бедного и необразованного люда и
благодаря тому сочувствию, с которым она относилась к
положению низших классов общества» [321, с. 25]. В своей
характеристике кинических взглядов Диона Сонни во многом следует
аргументации Вебера, не обращая внимания на теоретические и
политические расхождения между кинизмом и стоицизмом, которые
порой причудливо переплетаются в дионовских речах. Впрочем,
в небольшой статье это трудно было сделать. Важно то, что в
русской классической филологии А. Сонни первым так
определенно заговорил о месте кинизма в мировоззрении Диона Хри-
состома.
Исключая риторический период, кинизм характерен для всего
творчества Диона, включая период возвращения к активной
политической деятельности. Но наиболее всесторонним и содержатель-
188
ным его влияние было в годы изгнания, когда создавались речи о
Диогене. К так называемым «диогеновским» речам относятся:
речь 6 «Диоген, или О тирании» 42, речь 8 «Диоген, или О
добродетели», речь 9 «Диоген, или На Истмийских состязаниях», речь 10
«Диоген, или О рабах [слугах]». Все они близки друг к другу по
форме и содержанию. К этому же циклу примыкает речь 4 «О
царской власти», которая была произнесена уже после реституции и
в диалоге которой участвуют Александр и Диоген. К этим речам
мы еще вернемся, но прежде обратимся к проблеме, тревожившей
киников всех поколений,— социальной справедливости,
рабства и собственности. На этот вопрос они давали
вполне определенный ответ: рабство и собственность безнравственны,
люди рождаются свободными и равными, единственный
критерий их ценности — отношение к добродетели. Нравственный
человек может быть свободным даже в положении раба,
безнравственный — всегда раб. В подобном утверждении объективно таилась
потенциальная угроза лицемерного утешительства, невольного
потворства существующему порядку. Но факты истории говорят, что
киники добровольно отказывались от рабов (Диоген, Кратет), а
исторический подход должен снять с кинического принципа
внутренней свободы клеймо примиренчества.
Во времена, когда до подлинного освобождения угнетенной
части человечества было астрономически далеко и не существовало
для этого реальных предпосылок, принцип внутренней свободы
идеологически расчищал почву на долгом пути к освобождению
фактическому — политическому, правовому, гражданскому.
Моральное уравнение свободных и рабов подрывало устои
рабовладельческой идеологии, оно вооружало угнетенных сознанием
своего человеческого достоинства и даже избранничества. «Блаженны
нищие»,—утверждало первоначальное христианство. В своей
критике рабства и в понимании свободы киники приходили к
политическим выводам.
Дион, обдумывавший почти все аспекты кинической философии,
посвятил две специальные, программного характера речи
двуединой проблеме рабства и свободы (речи 14 и 15). Если иметь
в виду, что конечной целью кинической пропаганды, обращенной
к низам, было стремление перевоспитать и обратить всю
«неразумную» массу в мудрецов, живущих по нормам кинической морали,
то даже индивидуалистическая и элитарная доктрина свободы
мудреца приобретает демократический характер. Тезис о «свободе
мудреца» в стоических источниках (например, «Peri toy panta
spoydaion eleytheron» псевдо-Филона) становится простым
парадоксом43, «общим местом», ибо в системе позднего стоицизма он
не является органической частью всеобщей переоценки ценностей,
как это было в кинизме, хотя и здесь служил интересам рабов, как
об этом говорит одна надпись, где раб развивает эту же мысль
[458].
Обе названные речи Диона дополняют друг друга. В первой из
189
них (14) вопрос рассматривается в чисто теоретическом плане,
и свобода определяется как познание того, что допустимо и
не запрещено — epistëmë tön epheimenön kai tön kekölymenön
(осознанная необходимость?!), а рабство —как незнание того, что
можно и чего нельзя (14,18).. Исходя из этого определения,
заостряя и гиперболизируя его, Дион заявляет, что ничто не мешает
царю, украшенному тиарой, быть рабом, а тому кого считают и
называют рабом, даже закованному в кандалы, быть свободнее
самого великого государя. Рабство и свобода, следовательно, зависят
от действий людей в соответствии с их знанием или незнанием.
Все рассуждение перенесено в сферу идеального, и свобода здесь
мыслится исключительно как духовная категория, хотя в
свидетельство призываются Гомер и Гесиод, рассказывающие о царе
Кроне, которого Зевс держал в заточении, и приводится пример с
народом, держащим своих царей под стражей в высоких башнях.
Таким образом как бы утверждается практическая возможность
подобной ситуации. Вопрос о фактическом рабстве как наличном
социальном феномене отодвигается на задний план.
Прежде чем прийти к указанному в § 18 определению свободы,
Дион последовательно отвергает все дефиниции, предлагаемые его
оппонентом: рабство — подчинение другому. Но как в таком случае
быть с хоревтами, матросами, воинами, учениками, которые
подчиняются дирижеру, капитану, стратегу, учителю и т. д.; рабство
возникает там, где человека насильно заставляют работать,
связывают, наказывают плетьми и т. п. Но это может случиться с
пленниками или осужденными по суду, однако они не рабы.
Иначе говоря, собеседник предлагает Диону реальные ситуации,
он же, отвергая их, приходит к абстрактному определению рабства
как незнания. Единственно практический вывод, предложенный
Дионом для тех, кто постиг смысл его концепции,— надеть себе на
голову pilos, т. е. шляпу, которую носили вольноотпущенники в
знак обретенной свободы.
Если все рассуждения Диона в 14-й речи звучат достаточно
отвлеченно и доктринерски, то в 15-й речи автор обращается к
жизненному аспекту свободы и рабства. Тут свобода и рабство
понимаются уже не как нечто идеальное, духовное, а берутся в их
реальной, правовой и гражданской сущности. Даже
мифологические и исторические примеры, привлекаемые Дионом по киниче-
скому обычаю, не столь парадоксальны с точки зрения здравого
смысла.
В обеих речах Дион исходит из реального положения вещей:
люди считают, что свобода — высшее из благ, а рабство — самое
позорное и жалкое из состояний (14,1). Но, как далее утверждает
философ, что такое быть свободным или рабом, они не знают.
В годы изгнания, когда судьба круто обошлась с Дионом,
проблема рабства и свободы не могла быть для него кабинетной темой,
чистой игрой ума, отвлеченным умствованием. В 14-й речи общая
постановка вопроса: что такое eleutheria и doyleia? В 15-й — конк-
190
ретная: как узнать, кто раб и кто свободный? (15,2). Оставив, как
предлагает Дион, частные примеры, когда порой бывает трудно
сказать, кто раб, а кто свободный, собеседники решили, что, если
человек находится во владении другого наравне с недвижимым
имуществом или стадами, которыми он может распоряжаться по
своему усмотрению, того справедливо можно считать рабом (15,
24). Это уже не отвлеченное теоретизирование о знании или
незнании, а установление конкретных социально-правовых признаков.
Затем Дион делает экскурс не в мифологию, а в реальную историю
рабства, устанавливает его источники и раскрывает
несправедливость, насильственную природу порабощения человека человеком
(15, 25). Намечаются три основных источника рабства: купля
(priamenoi), взращивание рабов в доме (oikogeneis) и, наконец,
самый древний способ — порабощение людей, захваченных в плен
пиратами или плененных на войне (hypo lësteias ё polemöi).
Следовательно, первые рабы произошли не от рабов. Пленники
обращались в рабство не в силу каких-то их внутренних качеств, а
несправедливо (adikös), их насильно заставили служить захватчикам.
Если плен порождает рабство, то менее всего заслуживают
названия рабов дети бывших военнопленных. Исторические примеры
подтверждают справедливость этих рассуждений. Поэтому если
самый древний способ порабощения несправедлив, то и все
остальные так же несправедливы, и ни один человек поистине не может
быть назван рабом (15, 28).
В конце речи Дион доказывает, что если и существуют рабы и
свободные, то это не социальные классы, а моральные, ибо
«благородство» измеряется не древностью предков, не знатностью
происхождения, а только отношением к добродетели (§ 31).
В жизни часто случается, говорится далее, что многие рабы по
духу свободные (eleytheroys), а многие из свободных имеют
рабский характер (doyloprepeis). Что же касается реального
положения, то трудно порой сказать, даже на основании закона, является
ли тот или иной свободнорожденный действительно свободным или
рабом, ибо как в далекие мифические времена, так «и ныне» много
жен богатых и знатных людей заводят любовников среди рабов и
приживают от них детей, так же как немало свободных живут со
своими служанками (§ 5—6).
Во всей античной литературе нет, пожалуй, более
фундаментального, всесторонне аргументированного и основательного
выступления против рабства, так решительно и радикально
порывающего с привычными классовыми и психологическими установками.
Киническое происхождение этих идей не подлежит сомнению44,
тем более что среди «диогеновских речей» одна (10) посвящена
именно этой теме: «Диоген, или О рабах». Как и другие речи этого
цикла, так и 10-я речь, построена не только на общих положениях
кинической философии и «сократического диалога», но и на
конкретных афоризмах, апофтегмах, воспоминаниях и легендах о
Диогене, известных по многочисленным источникам. Ядром указанной
191
речи является апофтегма о Диогене и сбежавшем от него рабе Ма-
несе (Диог. Л. VI, 55).
На пути из Коринфа в Афины Диоген встретил знакомого, у
которого «удрал» раб. Своими рассуждениями Диоген доказал
бессмысленность розысков и возвращения раба. Свои аргументы
Диоген приспосабливал к пониманию и образу мыслей человека, для
которого рабство было чем-то само собой разумеющимся. Он
отговаривает своего знакомого от поисков, как бы встав на его точку
зрения, не произнося общих «красивых» слов о незаконности и
вреде рабства. Для того чтобы изобразить жалкую судьбу рабов,
Дион пользуется иронией и делает вид, что сочувствует доле
рабовладельца, которому, увы, приходится заботиться о занемогших
слугах, а они, подлые, так и норовят заболеть, чтобы только
насолить хозяину. Он «жалеет» и тех, кому еще того хуже: и рабов-
то они должны сечь, и в цепи их заковывать, и за беглецами
гоняться (10, 9). Это был совсем новый подход к проблеме рабства —
иронично-мимический.
Суть такого рода рассуждений, которым посвящена первая
часть речи (до § 17), сводится к следующему: раб сбежал от
хозяина и не собирается к нему возвращаться, потому что считает его
дурным человеком; господин, в свою очередь, считает раба дурным,
но стремится его вернуть к себе. Странно, когда люди не
радуются, избавившись от дурного, а тратят столько энергии, чтобы
заполучить его обратно. «Разве это не огромная удача, когда удается
избавиться от негодяя?» — вопрошает Диоген (10, 6). Киник
возвращается к теме трудолюбия (philoponia), изображая его как
средство морального и материального освобождения. «Ведь безде-
лие и праздность больше всего губят неразумных людей» (10, 7;
ср. 8, 13—15: «труд нужен для завоевания счастья и добродетели»).
Когда хозяин беглого раба спрашивает философа, как ему
обойтись без слуги, тот простейшими рассуждениями,
по-сократовски приводит к мысли, что рабство противоестественно и
развращает людей. От природы человек устроен так, что способен
сам себя обслуживать (autoyrgia) : желудок вмещает ровно столько
пищи, сколько человек может добыть сам для пропитания; рука,
рабочий орган, имеет необходимое число пальцев для труда. Если
их больше, чем положено, он урод и калека. Богачи, имеющие
большое число рабов, похожи на сороконожек, которые, несмотря на
множество ног, самые медлительные из насекомых. Кроме того,
богачам нужно заботиться не только о себе, но и о рабах, когда они
хворают, следить за ними, наказывать и т. п. (10, 9—11). Портятся
и дети в семьях, где есть рабы. Привыкнув к услугам и опеке, они
становятся ленивыми, грубыми и заносчивыми (9, 13). Продать же
раба нечестно. Это все равно что подсунуть покупателю негодную
вещь. Хотя у зверей и птиц нет рук и разума, но их жизнь
беспечальнее и здоровее человеческой, потому что они обладают одним
величайшим благом (megiston agathon) — у них нет частной
собственности (aktêmona estin — 10, 16). Телеологический
192
взгляд на человека подчинен кинической идее, утопической, но
антирабовладельческой: человек может «самодовлеть», обойтись
своими силами, сам обслужить себя (aytarkeia, aytourgia).
Дион не принадлежал к числу счастливых и великих умов,
самостоятельно открывающих новые пути к освобождению
человечества, но он был гуманистом, чутким моралистом, совесть
которого протестовала против социальной несправедливости. На время он
стал преемником и рупором настроений и мыслей наиболее
угнетенной части населения империи, с которой волею судеб провел
вместе четырнадцать (!) лет. Рабство и свобода, собственность и
труд были в числе самых волнующих вопросов века, и Дион, как
большой художник и моралист, не мог не откликнуться на них.
Прав румынский ученый П. Кретия, заметив, что три речи Диона
о рабстве связаны с изгнанием, когда писатель «перестал быть
рабовладельцем и не стал еще теоретическим апологетом империи»
[458, с. 375]. В речах «о свободе и рабстве» под влиянием
кинической пропаганды Дион трактует эти категории не только в духе
абстрактной стоической морали («только мудрец свободен,
каждый глупец —раб»), как он это делает под влиянием стоицизма
в 23-й речи, а рассматривает реальное рабство, достигшее в его
дни наивысшего развития.
Стремясь к доходчивости, киники постоянно обращались к
мифологии, которую толковали аллегорически. Излюбленный
народный герой и «святой патрон» киников Геракл — постоянная фигура
речей Диона, и подвиги его трактуются в них как великие деяния
во имя добродетели (31, 16). В Геракле воплотилась вековая
мечта народа о победе добра над злом, которая достается нелегкой,
подчас самой черной работой и неустанной борьбой. В Геракле
были и мессианистские черты (sôter kai eyergetës; ср. Еврипид.
Геракл 1252), задевавшие потаенные струны народной души.
Геракл — богочеловек, боровшийся с пороками во имя спасения
человечества. Его добровольная смерть могла истолковываться как акт
искупления и приообщения к богу. Зевс взял его на небо и сделал
бессмертным. Многое в истории Геракла перекликается с жизнью
Христа, включая «вознесение». Сознательно или невольно Дион
создавал языческий вариант Христа, борясь за возрождение и
сохранение эллинизма45.
В 1-й речи «О царской власти», в которой рисуется образ
идеального царя, почти половина посвящается рассказу пророчицы
о посещении Гераклом обители царицы Василии и Тирании (§ 50—
84). Дион придает повествованию жрицы ореол святости, некоего
откровения и даже называет его священным и целительным словом
в форме мифа. Явно придуманный им самим рассказ он снабжает
достоверными деталями, чтобы у читателей не возникло даже тени
сомнения в его правдивости (еще с большим успехом он
воспользуется этим приемом в «Эвбейской речи»).
Дион рассказывает, как однажды, будучи изгнанником, в
одежде нищего он скитался по Пелопоннесу, обходя стороной города,
7 Заказ № 370
193
я, заблудившись в лесу, забрел в священную рощу, в которой были
развешаны шкуры жертвенных животных — посвятительные дары
пастухов. В лесу ему встретилась пожилая, но статная женщина в
платье простой крестьянки, говорившая по-дорийски. Она
объяснила, что в роще находится святилище Геракла, а сама она —
пророчица, и предрекла, что скоро окончатся несчастья Диона и всего
народа. Потом она попросила его передать могущественному
человеку (подразумевается имп. Траян — § 56), с которым предстоит
встретиться Диону, сказание, связанное с богом, у которого они
сейчас находятся. Далее (с § 59) следует сам рассказ. Геракл
выступает в нем как идеальный кинический герой. Сын Зевса и
Алкмены, он был подлинным царем не только Аргоса, но всей земли,
а народ думал, что царь — Эврисфей, потому что Геракл ушел
защищать страну. Толпа принимала видимость за действительность.
Геракл был воспитан в простоте, чуждый софизмам и хитростям.
Почти нагой, в одной лишь львиной шкуре, с дубинкой в руках
бродил он по земле. Дион так объясняет смысл сказания: «Это
значит, что он ни во что не ставил ни золото, ни серебро, ни пышные
одежды» (§ 61). Зевс внушил Гераклу благородные порывы и
видел, что герой стремится к власти не ради удовольствий или
стяжательства, а чтобы помогать людям (§ 64), но все же посылает
к нему Гермеса, который по приказу Зевса приводит его на
высокую гору. Дальше рассказ приобретает характер чистой
аллегории, напоминая знаменитую притчу Продика о Геракле на
распутье.
Гора, к которой тайными тропами привел Геракла посланец
Зевса, была страшно крутой и окружена бурным потоком. Вблизи
оказалось, что у нее две вершины: одна, посвященная Зевсу,
называлась царской, другая — тиранской и носила имя Тифона (тут
следует вспомнить киническую игру слов: Typhös и typhos).
К царской вершине вела прямая, широкая и безопасная дорога,
к другой — узкая, извилистая и труднопроходимая. Издали обе
вершины казались одной, но в действительности царская была
значительно выше и поднималась над облаками в чистое, светлое небо,
а другая находилась как раз там, где скапливались облака, и
скрывалась во мраке и тумане. Юный и стремительный герой захотел
все осмотреть подробно, и Гермес сказал: «Хорошо. Следуй за
мной и увидишь то, что скрыто от неразумных» (§ 69. Типично
киническая фразеология). Сначала он указал ему на прекрасную,
высокую женщину (eyeidë kai megalën — приметы кинической
красоты), восседавшую на сверкающем троне. В руках она держала
скипетр — не из золота или серебра, а из какого-то еще более
драгоценного металла. Ее лик был полон неизъяснимой прелести,
покоя и возвышенности. Такой художники обычно изображают Геру.
Добродетельные люди, глядя на нее, становились добрее, а дурные
не могли на нее смотреть, как невозможно прямо глядеть на
сияющий солнечный диск. Кругом все было полно плодов и
разнообразных животных. Грудами лежало золото, серебро, медь и железо,
194
но на них женщина не обращала никакого внимания и лишь
любовалась плодами и животными. Геракл сразу проникся к ней
доверием и даже покраснел от удовольствия, чувствуя одновременно и
страх и почтение, словно добрый сын перед своей благородной
матерью. «Что это за богиня?» —спросил он у Гермеса. «Это
счастливая богиня Василия, дочь царя Зевса» (§ 73). Затем внимание
Геракла привлекли другие прекрасные, величавые и мужественные
женщины. Это были приближенные Василии — Дика
(Справедливость), Эвномия (Законность), Ирина (Мир). Рядом с богиней
стоял величавый старик, ее советчик и помощник Номос (Закон),
без которого она не принимала никаких решений.
Потом Гермес повел Геракла взглянуть на Тиранию. Это к ней
стремится так много людей, из-за нее в мире столько бед, убийств,
дети злоумышляют против родителей, родители — против детей,
брат идет на брата. И все это ради величайшего зла — власть без
смысла и разума (§ 76). Путь к Тирании также казался открытым,
но был крут, опасен, полон тайных ловушек, и до самого трона
тропа была залита кровью и завалена трупами. Тирания во всем
подражала Василии и сидела на украшенном резьбой, золотом,
слоновой костью, янтарем и, как ей казалось, на более высоком и
прочном, чем у Василии, троне. Однако трон был непрочным и
шатался. Все здесь рассчитано только на внешний эффект —
скипетры, тиары, диадемы. Лицо Тирании искажала кривая усмешка,
взгляд был мрачным и диким, на приближенных она смотрела с
презрением. «Поэтому все ее ненавидели, а она всех подозревала»
(§ 80). Она то и дело вскакивала с трона, бегала и подозрительно
озиралась. Свое золото она бесстыдно прятала за пазуху. Ее платье
было пестрым — пурпурным, шафрановым, белым,— но во многих
местах рваным. Она то плакала, то смеялась, то печалилась, то
веселилась. Как и Василию, ее окружали придворные, но они ей не
помогали, а только думали, как погубить. Это были Омотас
(Жестокость), Хюбрис (Надменность), Аномия (Беззаконие), Стасис
(Раздор). Вместо Филии (Дружба) рядом с ней держалась низкая
и раболепная Колакея (Лесть).
Когда Гермес спросил Геракла, какая из женщин ему больше по
душе, он ответил: «Одной я восхищаюсь и люблю, она кажется мне
истинной богиней, достойной поклонения и почитания, другая же
мне ненавистна и отвратительна. Я охотно бы сбросил ее с этой
скалы и уничтожил». Гермес похвалил Геракла и обо всем
рассказал Зевсу, который сделал Геракла владыкой всего человеческого
рода. Где только Геракл видел тиранию — у эллинов или у
варваров,— он уничтожал ее и мстил насильникам. Истинных царей он
охранял. Свое повествование Дион завершает выводом: Геракл не
потому является спасителем земли и человечества (tes gês kai tön
anthröpön sôtëra — § 84), что защищал его от диких зверей (какой
в конце концов вред приносит людям лев или кабан?!), а потому,
что карал свирепых и порочных злодеев, лишал власти надменных
властелинов. «Геракл и сейчас это делает,— предостерегает Дион,
7* 195
обращаясь к Траяну,— и защищает твой трон, пока ты правишь
как истинный царь».
Геракл сделал свой выбор — ненавистной тирании предпочел
идеального монарха. Но для настоящего киника монархия, как
всякая власть,— насилие и зла. В подлинно киническом понимании
царь — не владыка людей, а господин над самим собой,
обуздывающий внутренних врагов — порочные желания и страсти. Даже у
Диона проскальзывает мысль, что тот, кто не научился владеть
собой, не может править миром (62, 1—2). В первой речи «О царской
власти» на кинический прототип Дион накладывает грим своих
стоических симпатий, монархических надежд и заблуждений. Ки-
ническим до конца остается антитиранический пафос, сам
иносказательный характер мифа, моралистическая дидактика.
Об аллегорическом и поучительном характере мифов Дион
прямо говорит во вступительных фразах к рассказанной им
«Ливийской сказке» (речь 5), на которую он ссылается еще раньше (4,
73—74). Миф, говорит Дион, имеет смысл лишь в том случае, когда
он может служить примером для жизни и истины. Нахождение
скрытого смысла мифа напоминает труд земледельца,
превращающего бесплодные и дикие растения в плодоносящие. Первые
слагатели мифов, вероятно, рассказывали их, имея в виду подспудный,
переносный смысл (ainittomenoi kai metapherontes — 5,3), который
должен быть ясным для тех, кто способен правильно его постичь.
Дальше Дион излагает самый миф с намерением разъяснить его
подтекст, обнажить мораль, а не просто развлечь слушателей.
В былые времена пустыни Ливии изобиловали дикими и
свирепыми животными. Среди них были чудовища, тела которых
представляли самое невероятное соединение разных существ. Лицо у
одного из этих чудищ, как у прекрасной женщины, груди такой
красоты, какую не увидишь ни у одной смертной девушки или
нимфы. Эту удивительную красоту не смог бы передать ни один
художник. Кожа так и светится, глаза полны неизъяснимой
прелести, проникающей в самую душу. Остальные же части — твердые,
покрыты чешуей и переходят в круглое туловище,
заканчивающееся змеиной головой. Эти монстры обитают в диких местах мрачного
Сирта и уничтожают случайно забредших туда людей, ибо
человеческое мясо считают самым лакомым. Животных они одолевают
силой, а людей — обманом, показывая им грудь и внушая
неодолимое желание. Когда же обманутые приближаются, они
впрыскивают в них яд и труп пожирают.
Эта сказочка не для детей, а для тех, чье неразумие гораздо
больше, говорит Дион (§ 16). Миф раскрывает характер
человеческих страстей и вожделений, их бессмысленность и животную
сущность. Привлекая к себе неразумных обманом и хитростями,
наслаждения приводят людей к жалкому концу. Мы всегда должны
помнить об ожидающей нас позорной гибели, когда стремимся к
роскоши (tryphës), деньгам (chrëmatôn), любовным утехам_(арЬго-
disiön), к славе (doxês) и к другим удовольствиям (hedonës).
196
Конец мифа еще более поучителен. Рассказывается, как некий
ливийский царь решил истребить чудовищ, но так и не сумел
довести дело до конца. Тут снова возникает фигура избавителя и
спасителя Геракла, очищавшего всю землю от злых тварей и
тиранов (§ 21). Он поджег гнездилище чудовищ и истребил все
подлое племя. Автор снова указывает на скрытую и поучительную
аллегорию (ho mythos ainittetai legön — § 22) : когда человек решил
очистить свою душу от всех недостойных желаний, но сделал
это недостаточно решительно, то оставшиеся у него страсти и
вожделения спустя немного времени растлевают и губят его. Ηθ
Геракл, этот образец для подражания, сумел полностью очистить
свою душу и помыслы от всякой скверны (§ 23).
Кинический катарсис дополняется еще одним рассказом,
вложенным в уста Диогена (8, 27—35), где Геракл представлен как
непонятый герой. Люди восторгаются ложными ценностями —
физической силой и красотой, богатством, а внутренним миром никто
не интересуется. Жизнь Геракла, полная трудов и борьбы, казалась
тяжкой и невыносимой (hös ton epiponon bion athlion onta), и
потому его считали несчастнейшим из людей (anthröpön athliötaton).
Именно поэтому его труды и свершения (toys ponoys autoy kai
erga) назвали подвигами-страданиями (athloys — киническая игра
слов).
Каков же был Геракл в действительности, с кем он боролся,
в чем смысл его подвигов? Он не был похож ни на атлетов,
чванливых и пустоголовых, которыми все восхищаются, ни на
тщеславного софиста Прометея, у которого раздувалась печень, когда его
хвалили, и сморщивалась, когда бранили. Именно Геракл освободил
его от тщеславия и честолюбия (§ 33). Геракл не мог бы пройти
всю Европу и Азию, если бы был таким тучным, как борцы, и
нуждался в огромных количествах мяса и спал мертвецким сном. «Он
забывал о сне, был подобран, как львы, остроглаз, чуток, не боялся
ни жары, ни мороза, не нуждался ни в коврах, ни в плащах, ни в
подстилках, носил лишь потертую шкуру, голодал, помогая
хорошим и наказывая дурных» (§ 30). Прежде всего он карал богачей
и тиранов. Геракл совершал не только высокие и великие подвиги,
но не чурался самого черного труда, очистив от навоза хлевы
Авгия. «Он считал, что нужно бороться и сражаться с
установившимися мнениями и предрассудками (pros tên doxan) не
меньше, чем с дикими зверями и врагами человечества» (§ 35).
В это иносказание о Геракле Дион сумел вместить основные
кинические требования — борьбу с догмами, проповедь аскетизма,
филантропии и сознания своего долга перед людьми,
подвижничества во имя человечества, похвалу труду, ненависть к тирании,
роскоши, золоту, честолюбию, гордости, пьянству, обжорству, к
бездумному атлетизму, к бездуховной красоте и наслаждениям как
самоцели. Геракл киников с его подвигами и мучительным концом
искупителя и спасителя человечества носил в себе, как было
сказано, некоторые мессианистские черты, так привлекавшие от-
197
чаявшиеся низы, чем отчасти объясняется его популярность в
народе. «Один за всех» —это было так удобно и обнадеживающе.
Другого кинического героя — Диогена — Дион сделал
протагонистом трех речей. Первая «диогеновская» речь — «Диоген, или
О тирании» (6), но название далеко не исчерпывает ее содержания:
первая часть (до § 35) посвящена пропаганде кинической аскезы и
автаркии, проповеди умеренности, противопоставленной культу
потребления, распущенности богачей и неразумности большинства
людей, которых он считает ослепленными блеском ложных
ценностей (§ 21). Это постоянное подчеркивание неразумия людей у
киников вовсе не вело к гордыне, к противопоставлению одиночек
и толпы, к презрительному отношению к ней, а усиливало желание
учить, исправить, наставить (noythetein) и помочь тем, кто этого
заслуживает.
Людей губит их невоздержанность и порочность (§ 23).
Поступки их алогичны: «собравшись в городе для защиты от внешних
врагов, они, позабыв об этом, наносят друг другу обиды и
причиняют зло, будто объединились именно для этой цели» (§ 25). Диоген
видит, что только он один свободен от пустых забот и треволнений,
заполняющих человеческую жизнь: все дни свои люди проводят
в тревоге, устраивают друг другу пакости, никогда не
успокаиваются, даже на праздниках, и т. д. Они и детям стараются оставить
побольше денег, иначе говоря, обрекают их на такую же
бессмысленную жизнь (§ 34). Как всегда у киников, слушателю
предлагается в качестве примера естественная жизнь животных (§ 22,
27, 32—33), ибо «из-за изнеженности люди несчастнее животных»
(§21).
Все строгие поучения Диогена пронизаны кинической
усмешкой (eiöthei men legein paizön— § 6; ср. § 17, 20). Дион сразу же
сообщает, что изгнанный из Синопы Диоген прибыл в Грецию и один
сезон проводил в Афинах, а другой — в Коринфе. В этом, шутил
Диоген, он подражал персидскому царю, который зимой жил в
теплых Вавилонах и Сузах, а летом— в прохладных Экбатанах. Своими
шутками Диоген хотел показать, что богатство и так называемое
счастье персидского царя ничего не стоят и любому бедняку
доступны простые человеческие радости.
Строгий режим и лишения не расшатали, а укрепили здоровье
Диогена. Солнце и скромная пища доставляли ему больше
удовольствия, чем тем, кто жаждал необычных ощущений, потому что
он ел и пил, когда возникала потребность, а половую потребность
удовлетворял самым неприхотливым образом (§ 18). У него
повсюду находилось жилище — храмы и гимнасии, он довольствовался
одним плащом летом и зимой, ходил босиком, и ноги были
приучены к холоду, как лицо или глаза. Человеческие потребности
должны удовлетворяться легко и без хлопот (§ 30). То, из-за чего люди
так страдают, из-за чего гибнет столько городов и народов, он
получал легко и без затрат (aponötaton kai adapanötaton — § 16).
В этом он уподоблялся богам (§ 31).
198
В этой же речи пропагандируется концепция постепенной
деградации человечества, критикуется культура, несущая беднякам
лишь новые тяготы. Пересказывая известный миф, Дион
утверждает, что, карая Прометея, Зевс не испытывал ненависти к людям
и не завидовал их благу, а поступил правильно, потому что своими
изобретениями и огнем Прометей положил начало изнеженности и
роскоши (§ 25). Ни одно живое существо не рождается в такой
среде, в которой оно не может жить. Ведь первобытные люди жилиг
не имея огня, домов, одежды и никакой другой пищи, кроме той,
которую они получали готовой от природы. Все позднейшие
новшества и выдумки принесли людям только зло, ибо они
«пользовались своей мудростью не для мужества или справедливости, а для
наслаждения». Короче, наказание Прометея было актом
справедливости (§ 28—29). От первобытных людей мысль киника
естественно переходит к животным — существам, еще более
непритязательным, чем дикари (§ 32—33). Утраченный рай лежал позади,
в свое же время Дион находил счастливых людей только вдали от
цивилизации — в глуши Эвбеи (речь 7) или вовсе на краю света —
в далекой фактории на Днепре (речь 36). Знает он еще одну
счастливую страну, но эта почти сказочная страна — Индия (35, 18 и
ел.), где «реки текут не, как у нас, водой, а молоком и вином,
а иные — медом и маслом». Сама природа в этой земле
благосклонна к человеку, ибо люди не подвергают ее истязаниям культурой.
Природа выступает у киников как антитеза культуре. Отсюда был
всего один шаг до полного отрицания культуры, потому что в ней
киники видели предпосылку порабощения человека человеком,
обществом или вещами.
Во второй части речи Дион наконец касается заглавной темы —
тирании и единовластия, темы, которая в годы изгнания и
становления империи особенно волновала автора. В это время
ему были одинаково ненавистны слова «тиран» и «монарх»
(примирившись с монархией, последнее слово он даже перестал
употреблять) [436, с. 267]. Когда Диоген говорил о персидском царе,
всем было понятно, что это Дион обличает Домициана. Из всех
людей персидский царь самый несчастный (§ 35): утопая в
роскоши, он страшится бедности; боится болезней и смерти, уверен, что
все в заговоре против него, включая собственных детей и братьев.
Он никому не может довериться и хоть день прожить без страхов и
опасений. Но как ни тягостно бремя монархии, он не хочет и не
может с ним расстаться (§ 39). У всех несчастных есть надежда,
только не у тирана. Со временем его несчастья умножаются, ибо
растет число его жертв и потенциальных мстителей. При жизни
тирану приходится вытерпеть все то, что Танталу угрожало после
смерти (§ 55). Он лишен драгоценнейшего дара — любви и
дружбы. Скорее укротители полюбят свирепых львов, чем слуги и
близкие — тиранов. Живя среди черных пороков, тиран, однако,
считает себя самым счастливым (§ 45). Так древний художник точно
обрисовал психологию тирана, заклеймив деспотизм навеки.
199
Разве может это жалкое прозябание тирана сравниться с
жизнью нищего философа Диогена? «Я, совсем один, иду, куда
хочу, ночью и днем, по лагерю без охраны или в толпе
разбойников»,—говорит Диоген. «У меня нет врагов, мне нельзя причинить
ущерб, потому что у меня ничего нет: ни золота, ни серебра, ни
меди. Даже если все дома погибнут от землетрясения, падет весь
скот, вспыхнет голод, мне не будет хуже или труднее. Могу ли я
стать еще более нагим или еще более бездомным, чем сейчас?» —
спрашивает Диоген (§ 61). Он далеко заходит в своей гордой
нетребовательности, своей воинствующей автаркии и
индивидуализме, полагая, что в бедности и растворении в природе — спасение, но
крайности своевластия, подминающего и изничтожающего
достоинство человека, вызывают защитную реакцию, сопряженную с
другими полемическими перехлестами, продиктованными кинической
философией, идущей на все, чтобы приподнять достоинство
обездоленных. Хоть как-нибудь надо было показать свое превосходство,
и рождалась легенда о великом аскете, презирающем все золото
мира и удобства, о борце с тиранией и несправедливостью. Это мог
быть Геракл или Диоген, но каждый должен был быть приподнят
над уровнем обыденности.
Тема тирании, как уже отмечалось, была для Диона очень
личной. Он, павший жертвой деспотизма Домициана, снова и снова
обращается к ней — в годы изгнания и даже в период благоденствия
при первых Антонинах. Его мучил вопрос, в чем суть тирании, где
ее корни и т. п. Этой теме посвящаются отдельные взволнованные
пассажи (3, 25; 32, 26; 47, 23 и др.) и целые диатрибы, но пафос
везде один — непримиримость к деспотизму и диктатуре,
праздности и роскоши. Одновременно, под влиянием смены
обстоятельств, конструируется образ идеального правителя,
благочестивого царя-благодетеля, отца своих подданных, справедливого защи!-
ника родины. Шестьдесят вторая речь «О царской власти и
тирании» написана после реституции и обращена к «доброму
владыке» (agathos archön—§ 3) Траяну. Здесь звучат поучения
императору, похожие на те, что и в «царских речах» (ее даже
принимают за раздел 3-й речи «О царской власти»; ср. 3,10 и 62,3),
указывается на то, что царь должен владеть собой, быть
рассудительным и справедливым (enkrateia, phronësis, dikaion). Только
тогда он может претендовать на власть над другими. Если уж
нельзя обойтись без царя, то пусть он будет похож на киническо-
го философа,— таков смысл рассуждений Диона. Кинический
арсенал услужливо подкидывал Диону подходящие примеры, и у
него появляется отрицательно-нарицательный Сарданапал (62,5),
который все свое время проводил среди роскоши, наслаждаясь с
наложницами, изнеженный, как женщина. В таком же качестве
выступает этот царь и в речи 4 (§ 135), где приводится
знаменитая в древности эпитафия Сарданапала (toss' echo, hoss' ephagon
и т. д.), неоднократно использованная киниками.
Образ идеального монарха, противопоставленного тирану, чаще
200
всего идентифицируемого с персидским царем, моделируется Дио-
ном главным образом в четырех речах «О царской власти». Во
второй из них встречаются Филипп Македонский и его сын, причем
Александр явно идеализируется, но в 4-й речи царь Александр
выступает как носитель тиранического начала и противопоставлен
истинному властителю человеческих душ — Диогену. Дион
использует ту часть легенды о Диогене, где тенденциозно сталкиваются
владыка мира и лишенный всего философ-изгнанник (4,1). Далее
следует киническая в целом характеристика Александра как
самого честолюбивого и жадного до славы человека (4,4). Александр не
только честолюбив, но и мечтает стать властелином мира,
господином Европы, Азии, Ливии (4, 49). Если Ахилл готов был
превратиться в последнего поденщика на земле, лишь бы жить, то
Александр, наоборот, предпочел бы умереть, лишь бы остаться царем
(4, 51). Александр — раб славы (4,60), он весь во власти ложных
ценностей и мнений (4, 77), любит лесть, вспыльчив и даже
завидует известности Диогена, но вместе с тем справедлив, отважен и
отходчив. Александр предстает как воплощение высшей
государственной силы и власти, а Диоген — честной бедности, бескорыстия и
мудрости (4,2). Диогена характеризуют мужество, независимость,
выдержка, самоконтроль, отвага и самообладание, бесстрашие,
позволяющие говорить кому угодно правду в глаза и не льстить.
Диоген не имеет своего дома и очага (4,12), но он называл своим домом
всю землю, «общий очаг и кормилицу человечества» (4, 13).
Ничего не имея, Диоген считал свою жизнь самой счастливой (4, 10).
Он горд сознанием своего превосходства над другими людьми: «все
не так честны и свободны, как я» (4, 59). На протяжении всей
довольно длинной речи Диоген сбивает спесь с Александра (§ 51)
и поучает, как стать подлинным царем в духе гомеровского
«пастыря народов»: «самым лучшим из людей, самым мужественным,
самым справедливым, самым человеколюбивым, неподвластным
никаким трудностям и страстям» (4, 24). Он призывает молодого
царя не быть тираном, не убивать, а охранять и спасать своих
подданных, как это делает пастух со своими овцами, познать себя
и побороть в себе дурного демона и стать свободным.
Хотя Александр и Диоген представлены по кинической
традиции как два антагониста, но в 4-й речи, произнесенной Дионом
уже после возвращения из ссылки (103 г.) перед Траяном,
восхищавшимся Александром, македонский царь изображен не одним
черным цветом, и Дион даже хвалит его за то, что он не
погнушался снизойти до беседы с нищим философом (4,1), отмечает его
смелость и другие положительные качества (4,15). Диоген хоть
и смотрит на Александра грозно, как лев, и велит ему не
загораживать солнца (4,14), однако сумел ввернуть комплимент
относительно его божественности так, что царь, во всяком случае, не
почувствовал иронии. И здесь и в «диогеновских» речах старый боец,
бунтарь и ниспровергатель порастерял свою непримиримость и
революционный пыл.
201
Все собственно «диогеновские» речи содержат «мотив дороги»,
момент скитаний. Шестая и восьмая речи начинаются почти
одинаково—указанием на изгнание Диогена из Синопы: ... hôte ephy-
gen ek Sinopës (6, 1); ... ekpeson ek tes patridos (8, 1). Начало 9-й
и 10-й речей также рисует ситуацию пути — Диоген отправляется
из Коринфа на Истм (9, 1) или в Афины (10, 1). Эта деталь
указывает не только на положение самого Диогена, но и на
существенную черту кинического учения, для которого стабильность
внешнего состояния человека, его постоянное место в обществе
ничего не значили.
Речи «Диоген, или О добродетели» (8) и «Диоген, или На Ист-
мийских состязаниях» (9) близко соприкасаются. В обеих речах
довольно детально разработан характер Диогена и сообщаются
некоторые подробности его биографии. Появившись в Афинах,
синопский беглец встретил там учеников Сократа — Платона, Ари-
стиппа, Эсхина, Евклида, но никто не привлек его внимания, кроме
Антисфена, речи которого пришлись Диогену по душе, и только
их считал он истинными, способными принести пользу людям
(8, 1).Но самого Антисфена он считал недостаточно
последовательным, слишком мягким (poly malakôteron) и называл трубой,
которая хоть и громко трубит, но себя не слышит (8, 2). Антисфен,
напротив, восхищался характером Диогена и, в свою очередь,
сравнивал его с осой — шум от нее небольшой, а жалит жестоко.
Нравилась ему и откровенность Диогена. Антисфен умел обращаться
со своими учениками, настраивая на нужный лад, как струну, то
подтягивая, то отпуская (8, 3—4). Диоген же славился своим
умением порицать, указывать на недостатки и легко и находчиво
отвечать на вопросы (9, 6). Его упреков боялись, и поэтому он сам
себя сравнивал с лаконскими собаками, которых хочется
погладить, но к ним не решаются даже притронуться (8, 10—11).
Многие не выдерживали его обличений и спешили поскорее убраться
(9, 7). Шутки и остроты (eskôpten kai epaizen) Диогена
выслушивали с удовольствием, а его прямую и откровенную речь выносили
с трудом. Иначе говоря, обычная манера киника — соединять
шутку и серьезные мысли (spoydogeloion) — многим приходилась не
по вкусу, и не из-за шуток, а из-за этих серьезных и колючих
идей. Тех, кто просто болтал вздор, Диоген не принимал всерьез,
но того, кто кичился своим богатством, происхождением или
влиянием и привилегиями, высмеивал и бранил беспощадно. «Один
восторгался им как мудрейшим из людей, другие считали его
сумасшедшим, большинство же презирало его* как нищего и
никчемного человека» (9, 8). Но нищий Диоген казался настоящим
царем, владея собой и исцеляя людей от их пороков.
С самого начала киник считал себя целителем и врачом
человеческих слабостей и пороков. Именно поэтому Диоген
поселился в многонаселенном Коринфе. Разумный человек, как
хороший врач, должен направляться туда, где множество неразумных
нуждается в помощи — обличении их неразумия (8,5). Эта причи-
202
на привела его и на Истмийские игры. Там он изучал стимулы,
управляющие людьми (8,6),и считал,что характеры лучше всего
раскрываются на пирах и празднествах (ср. речь 23, посвященную
развитию этой мысли), а явную болезнь легче лечить, чем скрытую
(9,2). Готовые бежать к врачам, лечащим подагру, зубы или
насморк, люди избегают того, кто способен излечить их души от
невежества, трусости, наглости, распутства, раболепия, гнева,
коварства и т. п., будто человек меньше страдает от болезней души, чем
от болезней тела (8, 8).
Жители Коринфа, привыкнув к Диогену, мало обращали на
него внимания. Больные редко обращаются к врачу, который живет
рядом с ними, тонко замечает Дион (9, 4; 8, 10). Зато граждане
других городов охотно приходили к нему, правда, скорее поглазеть
на него, чем для совета (9,5). В 8-й и 9-й речах Диоген издевается
над атлетами, в то же время выступая сам как «истинный атлет»
и подлинный победитель на играх, называемых жизнью. Когда
Диогена спросили, не для того ли он приехал на Истм, чтобы
посмотреть на игры, он ответил, что собирается в них участвовать, »
добавил, что будет состязаться с необычными противниками —
с самыми тяжкими невзгодами, которые непобедимы для бога-
чей-толстопузых (tas megalas koilias echontön — 8, 11—14), но с
которыми благородный человек всегда охотно сражается. Он
вызывает на бой своих грозных противников — бедность, голод, холод,
изгнание, бесславие и т. п. Смелому бойцу этот бой не страшен
(8, 17—19). Трудности надо встречать лицом к лицу (8,24). Но есть
еще более жестокая битва — с наслаждениями, которые действуют
коварно и превращают людей, словно Кирка спутников Одиссея,
в свиней, быков и других животных (8, 20—21). Только бегством
от них можно одолеть наслаждения (8, 23—24). Вот это и есть
настоящая, заслуживающая восхищения борьба, а не кулачный бой,
метание диска, бег и т. п. Именно поэтому Диоген увенчал себя
победным венком.
Диоген пришел на игры, чтобы высмеять их бессмысленность
и заставить людей переоценить привычные ценности. С этой целью
он пустил в ход свое испытанное оружие — смех и логику. В
соответствии с ними он замечал, что ради венка следовало бы скорее
сражаться не атлетам, набивающим брюхо мясом, а козлам (9,13),
что скорость — примета самых трусливых животных — зайцев.
Своими насмешками Диоген заставил присутствующих
разочароваться в состязаниях, а победитель ушел огорченный и
пристыженный (9, 20). Всеобщий хохот вызвал другой поступок Диогена.
Когда два связанных между собой коня брыкались и лягались,
а один, не выдержав, разорвал путы и убежал, он подошел к
оставшемуся и надел на него венок победителя. Дело кончилось тем, что
многие стали покидать состязания, осознав их нелепость (9, 22).
Во второй части 10-й речи Дион устами Диогена развенчивает
веру в предсказания и оракулов. Диоген советует сначала познать
самих себя, а уж потом, обретя разум, обращаться к оракулу. Но,
203
обретя разум, нет смысла прибегать к оракулам и заниматься
гаданиями и мантикой (10, 28). Кинический рационализм
заставляет даже склонного к религии Диона нападать не только на
оракулы, но и на самих богов. Насмешка над прорицателями всегда была
темой кинических выступлений, особенно в период
распространения стоического фатализма (Эномай Гадарский, Лукиан из Само-
саты и др.). Здесь Диоген напоминает о двусмысленности
предсказаний, которые уже многих подвели (10,23),ибо люди и боги
говорят на разных языках. В доказательство приводится гибель Лая и
всего его дома только из-за того, что он не смог понять оракул
Аполлона, оракулы, данные Крезу и Оресту (§ 24—27).
Критикуя современность, Дион, как киник, посягал на святая
святых — рабовладение и собственность. Постоянно апеллируя к
великим примерам древности и классикам, он внушал мысль о
несовершенстве действительности. Говоря о доблести предков,
сожалел об утрате ее современниками, которых часто называл
неразумными, anoëtoi, aphrones, а общество считал больным,
нуждающимся во врачевателях и мудрых советчиках. Дион не
перестает сомневаться в разумности мира, в котором живет, и потому
стремится всем «вложить ум», noytethein. Можно постоянно говорить
о «глупом», «неразумном», «бедном» человечестве, вовсе не
презирая, а любя его, исходя из кинической philanthröpia, которая
разлита по всем страницам сочинений Диона. Нынешнее поколение,
утверждал он, измельчало духовно и физически. Хотя мы все носим
платье Сократа и Диогена, но бесконечно далеки от них. Мы и сами
не отличаемся умом и окружены докучными глупцами (72, 16).
Теперь не встретишь таких мужественных, прекрасных, высоких
и сильных людей, которые могли служить моделями для великих
ваятелей прошлого. Нынешнее поколение изнеженно и
женоподобно (речь 21).
Дион гордится своей откровенностью и прямотой (3, 12—24).
«Вам хорошо известно, что я не привык расточать любезности или
льстить — ни народу, ни Совету, ни сатрапу, ни государю, ни
тирану...» — напоминает Дион (50, 6). Он недоволен действительностью,
находя в ней больше недостатков, чем положительного. Но уже в
критике, вдохновленной киническим радикализмом, проглядывали
позитивные элементы — труд и аскеза, автаркия и деятельная
добродетель, филантропия и дружба, независимость и свобода, при*
знание духовной ценности автономной человеческой личности,
приоритет разума. Изложению положительной программы,
обрисовке социально-нравственного идеала Дион посвятил две свои
лучшие речи — «Эвбейскую» (7) и «Борисфенитскую» (36),
сложившиеся под влиянием кинической философии. Первая из них
нашла своих героев в центре Эллады (7,1), вторая — на краю
ойкумены, в земле скифов. Одна обращена в настоящее, другая — в
прошлое, хотя и повествует о современности. Обе речи —
воспоминания о скитальческих годах, но произнесены уже в последний
период жизни.
204
Рассказывая о Диогене и Александре, Дион подчеркивает свою
зависимость от чужих свидетельств (4,1) и в то же время свое
участие в событиях, спешит сказать, что все видел собственными
глазами (aytos idön — 7, 1; hopôs theasömai — 36, 1). Особенно
показательна в этом отношении «Э в бе иска я речь». Постоянный
акцент на реальности повествования, подчиненные ей
художественные детали, рассказ от первого лица превращают социальную
утопию и мечту Диона о совершенном человеке в нечто, якобы уже
осуществленное46. В действительности же рассказ (diëgëma — Си-
незий) Диона о жизни эвбейских пастухов и охотников, как уже
отмечал Г. Арним [435, с. 493],—тенденциозный художественный
вымысел, утопия, для которой характерен и островной мотив, и
мотив кораблекрушения, и др. Это утопическая,
социально-моралистическая идиллия (idyllische sozialmoralische Dichtung) [514,
с. 13,23].
Кинизм видел исцеление от всех социальных бед в воспитании,
в этическом просвещении, в возвращении к непритязательной,
«естественной», близкой к природе жизни, в отказе от ложной
цивилизации с ее неравенством, пафосом потребления, погоней за
комфортом и удовольствиями. Идеи эти получили распространение
в эллинистическую эпоху и снова вспыхнули, получив
питательную среду, во времена Римской империи как реакция на контрасты
роскоши и нищеты (ср. творчество Феокрита, Вергилия, Горация,
Тибулла, Лонга и др.). Подобные мысли Дион мог услышать и от
нечуждого кинизму стоика Мусония Руфа во время своего
первого пребывания в Риме. Гонимым Мусонием Руфом также владела
«тоска по природе», и он призывал бежать из городов в сельский
покой, к чистым нравам деревенской жизни (Стобей. Аптолог.
56, 18).
В повествовательной части «Эвбейской речи» проявился с
большой силой незаурядный дар Диона-рассказчика, умение воплотить
в художественно-убедительной форме сконструированный киниче-
скими философами идеал, начиная от внешних примет до
высказываний и поступков, направленных на «перечеканку ценностей».
Личный опыт Диона во второй половине жизни и его классовые
пристрастия вносят некоторые коррективы и модификации в кини-
ческие принципы, сближая их со стоицизмом в оценке
государства, родины, семьи и брака.
Честная и трудолюбивая бедность сама по себе вполне
способна обеспечить человеческое существование и охраняет лучше
любого оружия. Дион по своему опыту знал, что бедняку нечего
бояться (7, 9). Живущие в пустынных горах эвбейские охотники,
к которым судьба забросила Диона, — потомственные бедняки и
существуют главным образом благодаря охоте, но имеют также
стадо и обрабатывают клочок земли. Они работают, не жалуясь,
и довольствуются тем, что есть (§ 42). Природа для этих горных
жителей, «детей природы»,—все, поэтому охотник с любовью и
восхищением описывает место, в котором живет его семья: тени-
205
стое ущелье, быструю речку, чистый родник, приветливые
дубравы, стройные деревья, тучные луга и т. п. (§ 14—15). С городом
они незнакомы; соприкосновение с горожанами приносит одни
неприятности — пришел какой-то человек и потребовал денег,
которых у них сроду не было (§ 21). Прибытие в город ошеломило
охотника: тишина гор и полей сменилась оглушительным шумом
и криком, от которых он чуть не упал в обморок (§ 25), вместо
милых сердцу пейзажей глаз натыкался на нагромождение зданий и
кораблей (§ 22). В городе ему пришлось впервые столкнуться с
несправедливостью — какой-то демагог и сикофант в Народном
собрании обвинил его в обмане, разбое и расхищении общественного
добра (§ 27—32). Правда, честность, непосредственность,
простодушие, природный ум и юмор обеспечили охотнику симпатии
собравшихся. Погостив у бедных островитян, Дион увидел, что труд
делает этих людей довольными и счастливыми. «Они живут
гораздо счастливее всех, кого я знал» (§ 65), —думал Дион. Свобода и
бедность, органически связанные, дают им возможность сильнее
ощущать радости бытия, чем богачам (§ 66).
Эвбейский охотник и его близкие обходятся без рабов, они и их
дети обслуживают себя сами (§ 65). Они здоровы, красивы (§ 4,
67), щедры и гостеприимны, готовы помочь не на словах, а на деле
(§ 54), благожелательны, любят друг друга, браки заключают по
любви, а не как обычно — по расчету, когда без конца
расспрашивают об имуществе и происхождении, о приданом, рассматривают
и оценивают подарки жениха, обещают и обманывают, составляют
соглашения и договоры и т. д. (§ 80). Сурово осуждает Дион
сводничество, когда ради наживы устраиваются «любовные связи, где
нет любви, и поощряется похоть, не вызванная страстью» (§ 133).
Эвбейская речь заканчивается яростной диатрибой против
сводничества и продажной любви, царящих в верхах. Дион вступается за
поруганную честь женщины (§ 134), возглашает антисфеновское
требование взаимной любви и настаивает на браке по любви,
потому так подробно и тепло описывается весь ход сватовства
молодой влюбленной пары. Истинная любовь возможна лишь там, где
царят равенство и чистота нравов, в городе же никто не любит
ДРУГ друга (§ 80).
Дион не затушевывает тенденциозность своего рассказа, а,
напротив, подчеркивает ее. Это не старческая болтовня (§ 1), не
пустословие, а поучительный пример и образец для подражания.
Свой нравственный идеал писатель строит, исходя из увиденного
в жизни: благодаря умеренной бедности простые люди живут в
соответствии с нормами кинической морали — скромно и по
природе (§ 81). Дион хотел, как он сам говорит, показать, что «бедность
не мешает людям, свободным и желающим трудиться
собственными руками, вести достойную жизнь, а, напротив, побуждает их к
поступкам более честным, полезным и соответствующим природе,
чем те, на которые богатство постоянно толкает большинство
людей (§ 103). И в третий раз автор раскрывает смысл своего повест-
206
вования о жизни земледельцев и охотников (§ 126): бедность —
не зло и не несчастье, какой ее обычно считают (§ 115, 125). Для
тех, кто готов трудиться, она дает тысячи благородных способов
заработать на жизнь (§ 125). Подобно Гесиоду, Дион
утверждает, что любой труд, если только он не служит распущенности47,
любая профессия достойны уважения. Не нужно стыдиться своих
занятий, а следует спокойно делать свое дело (§ 114). Трудящиеся
бедняки не заслуживают названия «неимущих»: именно они
создают богатства и сами обеспечивают себя всем необходимым
(§ 113). Цель труда — умеренный достаток.
Дион усиленно акцентирует моральное превосходство бедняков.
В доказательство он ссылается не только на свой опыт, но и на
авторитет Гомера, который богатых женихов и даже Пенелопу и
Телемаха представил жадными, а раба и бедняка Эвмея — радушным
хозяином, готовым поделиться последним куском (§ 83—96), ибо
богатство — источник пороков (§ 116). «Богатство не делает тех,
кто им владеет, ни гостеприимнее, ни щедрее, а, напротив, более
жадными и скаредными...» — к такому выводу приходит Дион
(§ 91). Он открыто становится на сторону бедняков и вместе с
ними, «единым хором», выступает против богачей, провозглашая,
что счастье не в богатстве, а в добродетели. Иными словами, оно
достигается соответствующим образом жизни и умеренностью
(§ 118). Внешность охотника (звериная шкура, борода, длинные
волосы), напоминающая то ли нищего, то ли варвара или
философа, его трудовая жизнь, готовность прийти на помощь и т. д.
переносят на землю черты божественного Геракла и напоминают о
Диогене. Это настойчивое, иногда многословное, подчеркивание
превосходства бедности над богатством, ценности свободного труда,
жизни согласно природе, здоровой нравственности, призывы к
естественности несомненно кинического происхождения [522,
с. 59].
Однако, как было упомянуто, не все положения «Эвбейской
речи» согласуются с кинической доктриной. Эвбейский охотник,
этот «естественный человек» Диона, agroikos в звериной шкуре
(§4, 32), живущий замкнутым хозяйством на своем хуторке,
оказывается человеком общественным, признающим свой
гражданский долг: «Ведь мы, как я слышал от своего отца, граждане
этого города... Мы и детей воспитываем так, чтобы они были
вашими согражданами... Если когда-нибудь придет час испытаний,
вы станете молиться, чтобы все были похожими на нас...» (§ 49).
Так Дион подводит читателя к выводу, что благополучие
государства зависит от нравственности отдельных граждан. Мысль вполне
стоическая, свойственная и Эпиктету, как и призыв к
повиновению государству и законам. Мало общего с кинизмом имеет и
проект Диона переселить городскую бедноту на природу, в
опустевшие и безлюдные деревни, как было некогда при Писистрате
(§ 107). Не характерна для традиционного кинизма и забота о
семейной жизни, по которой так тосковал Дион в своих скитаниях.
207
Чужд древнему кинизму и налет благочестия, появившийся в
мировоззрении Диона на склоне лет (§ 138). Основная же тенденция
остается кинической, как и стремление соединить философию с
жизнью, теорию с практикой. Внимание Диона к «маленькому
человеку» нельзя, разумеется, объяснять исключительно влиянием
кинической философии, но вместе с тем не следует забывать, что
в философских кругах поздней античности это внимание исходило
исключительно из кинико-стоического круга.
«Борисфенитская речь» (36), хотя и обнаруживает
сильное влияние стоицизма48, продолжает линию кинической
идеализации человека, не испорченного цивилизацией. Среди жителей
Борисфена, заброшенных «в самую гущу варварских племен» (36,
4), Дион снова увидел своих героев, правда на сей раз не в
сельской глуши Эвбеи, а в тесном городе, отдаленном от
космополитических центров империи. В этом заброшенном городке люди
поклонялись Гомеру и жадно тянулись к заезжему философу, они
и сами были похожи на гомеровских греков — со своими длинными
гривами волос и бородами (§ 17). Один из них — юный Каллист-
рат — был воплощением древней красоты, какой она виделась
Диону (см. речь 21 «О красоте») и еще раньше Антисфену,—рапу
kalos kai megas; poly echön Ionikon toy eidoys (36, 8). Красота
Каллистрата (говорящее имя!) не только внешняя — он идеальный
гражданин, доблестный воин, поклонник Гомера и философии.
Значит, можно жить среди варваров, носить одинаковое с ними
платье, как это делает Каллистрат (§ 7), но не быть варваром по
духу и почитать подлинные ценности. Вероятно, той же
тенденцией была проникнута и несохранившаяся «История гетов»,
использованная Иорданом49.
Хотя Нерва и Траян примирили Диона с монархией и
римлянами, однако своих героев он ищет в эллинской старине, среди
«естественных людей», первобытных народов. В поздней «Борис-
фенитской речи» Дион пытается соединить киническо-стоическую
традицию идеализации «естественного человека» со ставшей
близкой ему националистической идеей превосходства старинного эл-
линства и древнего полиса. Для Диона Борисфен (Ольвия) — один
из уцелевших очагов этого древнего эллинства (§ 18), который
вынужден постоянно обороняться от наседающих на него варваров.
К ним автор не испытывает особой симпатии, впрочем, как и к
греческим купцам, прибывающим в этот далекий форпост эллинизма
(§ 24—25). Вторая часть речи излагает учение Диона о
государстве, обнаруживающее стоическое происхождение (кинический же,
эпатирующий анархизм проявился лишь в речах периода изгнания
с участием Диогена [308, с. 968]). И в «Эвбейской» и в «Борисфе-
нитской» речах, в их теоретических пассажах, Дион довольно
последовательно проводил стоическую мысль, высказанную им в
другом месте: «Следует почитать и выше всего ценить родину, а
трудиться на общее благо и участвовать в жизни государства человеку
свойственно от природы» (47, 2). Справедливо отмеченное
208
M. К. Трофимовой в «Борисфенитской речи» «органическое
сочетание теоретических рассуждений с конкретным историческим
материалом, философии отвлеченности с захватывающим живым
рассказом» [322, с. 162] характерно для диатрибической манеры
киников, которой Дион не изменял до конца жизни.
Киническая идеология или типологически сходные с ней учения·
возникли как закономерная реакция на кризисные явления
в «больном» обществе разлагавшихся классических цивилизаций
древнего мира — в Греции, Малой Азии, Иудее, Египте, Индии.
Много сходства можно заметить в идеологии раннего
христианства и кинизма. Немало аналогичных черт обнаруживают
киническая доктрина и учение дохристианской иудейской секты э с с е н о в
(ессеев), составлявших оппозиционную общину, обитавшую в
селении Хирбет-Кумран в северо-западной части Мертвого моря во II в.
до н. э.— I в. н. э. Как известно, новейшие открытия и находки»
рукописей в Иудейской пустыне (с 1947 г.) дали богатейший
материал для изучения народной идеологии и социальных воззрений/
последних веков эллинизма, указали на их «коммунистический»
характер, исключающий частную собственность и предполагающий*
обязательность производительного труда для всех членов общины.
Идеология кумранской общины своим истоком имела протест
против двойного гнета, испытываемого народом. Она пропитана
ненавистью к эксплуататорам и богачам. «Община бедных», как
называли себя кумраниты, стремилась устроить жизнь на принципах:
социальной справедливости, в духе взаимопомощи, аскетизма и
нищеты. Краеугольные камни организации кумранской общины —
«общность имущества, обязательный совместный труд и
коллективный быт» 50. Много общего обнаруживается между тем, чему
учили киники, а особенно между дионовскими описаниями
счастливой жизни эвбейских охотников и сообщениями Филона
Александрийского об ессеях (Quod omnis probus liber sit, XII, 76—80):
«Прежде всего, они живут в деревнях, избегая городов вследствие-
свойственной городским жителям склонности к . беззаконию, ибо
они знают, что из общения людей, как из губительного воздуха,
рождается неисцелимая болезнь, поражающая души. Одни из них
обрабатывают землю, другие занимаются теми ремеслами,
которые сопутствуют миру. [Своим трудом] они приносят пользу
самим себе и соседям, не накапливая при этом ни серебра, ни золота«
и не приобретая ради стремления к доходам большие участки
земли. Они добывают только то, что необходимо для жизни. 77. Они
едва ли не единственные из всех людей, не имея ни денег, ни
собственности [или имущества], скорее намеренно, чем из-за
отсутствия удачи, считают себя богатейшими, так как справедливо
полагают, что умеренность и ограниченность в потребностях
равносильны изобилию. 78. ... Нет у них и тех мирных занятий, которые легко
ведут ко злу: так, они даже и во сне не знают ни крупной, ни
мелкой, ни морской торговли, ибо отклоняют от себя побуждения
к корыстолюбию. 79. У них нет ни одного раба, но все они свобод-
209«
ны, взаимно оказывая друг другу услуги. Они осуждают господ,
[владеющим рабами], не только как [людей] несправедливых,
оскверняющих равенство, но и как нечестивцев, нарушающих закон
и установления природы, которая, подобно матери, всех
породив и выкормив равным образом, сделала людей законными
братьями не только по названию, но и в действительности. Их коварная
и чрезмерно возрастающая жадность расшатала это родство, вместо
родства создала отчужденность и вместо дружбы — вражду. 80.
Что касается философии, то логику, как не необходимую для
приобретения добродетели, они оставили охотящимся за словом, а
физику, поскольку она выходит за пределы природы человека,—тем,
кто витает в небесах, за исключением того в ней, что относится к
бытию бога и происхождению всего сущего. Зато изучению
морали (этик е,) они уделяют очень большое внимание,
руководствуясь отцовскими законами, которые человеческое сознание [душа]
не смогло бы выдумать без вдохновения свыше» 51.
Подчас diëgëma — повествования — из «Эвбейской речи» о
сельской общине охотников кажутся художественной иллюстрацией
к этим словам Филона и другим сообщениям античных писателей
об эссенах (Иосиф Флавий, Плиний Старший), если только
исключить специфический иудаизм, естественно неприемлемый для
Диона, а также строго регламентированный образ жизни ессеев в
замкнутой общине, непохожей на широкий мир киника. Наше
предположение не должно казаться риторическим преувеличением
в свете слов Синезия, характеризующего «Эвбейскую речь», в
которой Дион, по его мнению, дает «образец счастливой жизни» для
бедняков (2,2), а несколько ниже указывается, что эта жизнь
«справедливая, благочестивая, трудовая, человеколюбивая». И тут
же Синезий переходит, как к явлениям одного порядка, к другому,
к сожалению, не, сохранившемуся сочинению или сообщению
Диона об ессеях: «Еще где-то он (Дион.— И. Н.) с похвалой
отзывается об эссенах, образующих целую счастливую общину,
расположенную у Мертвого моря в центре Палестины, в районе самого
Содома» (3,2). Таким образом, согласно Синезию, Дион хорошо знал
об эссеях и восхищался их образом жизни. Диону не могло не
броситься в глаза сходство между идеалами киников и тем, что удалось
на практике воплотить удивительной иудейской секте. Это сходство
замечали и менее прозорливые современники. Так, Элий Аристид
говорил, что киники «напоминают своими обычаями секты неверных
в Палестине» (т. II, с. 402 Диндорф. Дидо). Возможно, Дион имел в
виду конкретную общину, которую теперь условно называют кум-
ранской, ибо сравнительно точно указывает ее месторасположение,
в то время как Иосиф Флавий утверждает, что «у эссенов нет
своего особого города, но в каждом городе живут многие из них»
(Иудейская война II, 8, 4), а Плиний Старший также указывает на
район Мертвого моря (Ест. история 5, 17, 73).
210
* * *
Как мы видели, в годы наибольшего увлечения кинизмом ки-
нические идеалы Диона воплотились в образе Диогена. Именно
этот легендарный аскет, а не теоретизирующий Антисфен, стал
героем радикальных кинических моралистов эпохи ранней
империи, о чем свидетельствовали «Письма киников» и диатрибы
Максима Тирского. Представителем кинизма выступает Диоген и в
«Продаже жизней» Лукиана. Дион широко пользуется
теоретическим наследием Антисфена, но символом кинизма, настоящей
«собакой» (9,12) для него является Диоген, на нем сфокусирована
внимание писателя. Даже Антисфена он заставил восхищаться
силой духа Диогена (8, 1—2). Дион делает своего Диогена народным
типом, сознательно огрубляет, подчеркивая его прямолинейную
резкость в суждениях, свободу слова, аскетизм, выносливость,
нетребовательность и даже бесстыдство — anaideia (6, 17—20).
В соответствии с древней стоической традицией, к которой
присоединились поздние киники, Дион акцентирует связь кинической
школы с Сократом, напоминая о цепочке «Сократ —
Диоген— Зенон» и связывая вместе имена Сократа и Диогена (72,11).
Дион, восхищавшийся Сократом (55,1), прежде всего берет его себе
в учителя и обращается к своей «непросвещенной» аудитории с
моральной проповедью, для которой использует обличительную
«древнюю речь» Сократа (13, 14—29). В специальной речи, посвященной
этому мудрецу, он рисует его киническими красками: Сократ —
бедный человек из народа, он доступен и человеколюбив, проводит
время на агоре, на трапезах и в палестрах. Многие из влиятельных
лиц (tön dynatôn) и риторов избегали его, боясь критики, но он
сам нападал на них (54, 2—4). В другой речи указывается, что его·
мир — это сапожники и горшечники (55,9; ср. 61, 10). Из всех
мудрецов прошлого именно Сократ как жизненный и социальный
тип ближе всего стоял к кинизму. И ксенофонтовский и дионовский
Сократ восходят к этому общему источнику.
Сгусток кинических доблестей представлен в образе Геракла,
который упоминается Дионом чаще других богов. Он знаком нам
уже по 1-й и 5-й речам (см. выше), в 8-й речи Диоген набрасывает
портрет кинического Геракла, борца с фальшивыми ценностями
и деспотизмом (§ 28—35), в 31-й он совершает «великие подвиги» во
имя добродетели (§ 16), в 4-й — это образец просвещенного
монарха, в 60-й — смерть его предстает почти как искупление не только
собственных слабостей, но и грехов всего человечества (§8) и т. п.
Таким образом, кинизм персонифицируется в трех ипостасях:
Геракл — Сократ — Диоген, и киники как бы получают
«божественную» санкцию; через обожествление кинического Геракла, чья
«арете» делает его сыном Зевса (2,71),сакрализуется и их учение.
Спустя двести лет Юлиан вспоминает слова «благороднейших из
киников», утверждавших, что «великий Геракл оставил людям
величайший образец кинической жизни» (VI, 187ВС). В лице кини-
211
зирующего Сократа кинизм (и стоицизм) получает всеми
почитаемого духовного отца, а Диоген наделяется чертами легендарного
народного героя. Геракл — мифологическая модель, а Сократ и
Диоген — живые модели кинического мудреца. Эта киническая
троица, к которой изредка присоединяется Антисфен, является
той высшей меркой, которой измеряется достоинство человека.
В ней, как и в истории, он черпает сбою нравственную силу. Это
тот непогрешимый моральный камертон, по которому строится
вся моральная пропаганда Диона.
Влияние кинизма на творчество Диона сказалось не только на
цикле речей, так или иначе связанных с периодом ссылки. И
позднее, во времена, отдаленные от периода изгнания, в речах meta
tën phygën, киническая идеология и стилистика то и дело дают
о себе знать, хотя они уже утратили свежесть и цельность
молодости. Как проповедник и моралист Дион обращался ко многим
популярным и порядком избитым философским темам, которые тем
не менее продолжали волновать его современников, живущих
в сложном и неустойчивом мире: о счастье, о печали, о судьбе,
о добродетели, о славе и репутации, о богатстве и наживе,
о доверии и недоверии, о зависти, о рабстве и свободе и т. п.
Подобно Диогену (8,5), он хочет быть врачом человеческих душ,
высмеивать их недостатки и наставлять. Дион даже внешне, не
изменяет киникам, хотя знает, что многие смеются над ними и считают
сумасшедшими (34, 2). Он и на Олимпийские игры явился в платье
бедного философа (12, 9) и перед александрийцами выступал в
«дрянном трибоне» (32, 22). Что же касается речей на темы
практической морали, то они образуют целую группу, по форме и
содержанию родственную киническим диатрибам (речи 16,24,27, 63—69,
72—75, 77—79 и др.). Конечно, dialexeis Диона по сравнению с
первыми диатрибами Биона-Телета — жанр, более устоявшийся и
художественно совершенный (Kunstdiatribe), но в нем сохранились
все те же компоненты, что и в древности. Почти не изменились
как объекты критики, так и положительные идеи.
В 27-й речи проводится мысль о том, сколь неразумны люди,
обращающие больше внимания на тело, чем на душу, и только
тогда прибегающие к советам философов, когда их постигает
горе. В другой диатрибе Дион выступает против стяжательства
(peri pleonexias —17) как одного из самых распространенных
пороков своего времени, чреватого «величайшими несчастьями».
Для доказательства этой, в общем очевидной истины
привлекается весь арсенал диатрибических средств: поучительные примеры
из древности и более новых времен, из поэтов и мифологии (§ 15),
цитируется любимый киниками и Дионом Еврипид (Финикиянки
531—540), осуждающий честолюбие, приравниваемое к
стяжательству. В диатрибе «О богатстве» он не только нападает на роскошь,
но и делает вывод о необходимости критически подходить к
общепринятым ценностям, потому что «все, к чему стремится
большинство людей и чем восхищаются у имущих, гроша ломаного не стоит
212
и в нем нет никакого толку» (79,6). С расхожимыми мнениями
(doxai) он воюет и в речах 67 и 68. В 66-й высмеивает жажду
славы, в 76-й называет закон тираном и противопоставляет ему
обычай. Развенчивая ложные кумиры и мнения, Дион часто начинает
свои речи с общепринятого, а затем подвергает его обстрелу из
всех орудий кинического арсенала (например, 14, 17, 24, 66, 68,
69,71, 72,80).
Средства художественной выразительности и эмоционального
воздействия на слушателя, используемые Дионом,— это известный
нам kynikos tropos. Его обширное творчество дает множество
примеров и примет диатрибического стиля: простой и доходчивый язык,
близкий к разговорному, умеренный аттицизм52, отвращение к
пафосу, короткие и четкие фразы, паратактические конструкции,
прямые обращения к оппоненту и слушателю 53 (нередко
иронические и даже издевательские: 5 kakodaimones, katharmata, anoetoi,
aphrones k. t. L), риторические вопросы, типичные кинические
сравнения и метафоры (театральные, военные, животные и т. д.—4, 6,
8,9 и др.), трафаретные герои и антигерои (Геракл, Одиссей, Ана-
харсис, Сократ, Диоген, Антисфен, Прометей, Дедал, Сарданапал,
Крез, Ксеркс, Александр и др. ), многочисленные поэтические
цитаты (главным образом из Гомера и Еврипида), хрии и анекдоты,
басни, пословицы и поговорки (19, 13; 48, 10; 6, 41; 32, 101; 61, 8;
67,4; 72,4; 74, 11; 78, 33; 15, 26 и др.), игра слов (паронома-
сия) 54, персонификация (просопея — напр., 4,91; 101; 116),
шутливо-доверительный тон, подчиненный нравственной цели.
Юмор, насмешка, парадоксы, остроты непременно присутствуют
в речах Диона, ибо для киника важно показать смешную сторону
в заблуждениях людей, убить порок смехом. Даже в серьезной
речи «О красоте» собеседник (т. е. сам автор) замечает, что Дион
всегда находит повод, чтобы высмеять человеческие пороки
(diasyrein ta tön anthröpön — 21, 10). Обращал внимание Дион и на
то, то Сократ часто прибегал к шутке (paizein), чтобы приносить
людям пользу (55,11). Что же касается «диогеновских речей», то
они все пронизаны остротами синопского насмешника. В «Первой
речи к жителям Тарса» (33) Дион нападает на их моральное
разложение и с издевкой утверждает, что большинство тарсийцев
живет как во сне и потеряло способность судить о настоящих
ценностях: «То, что не существует, они считают реальностью,
а действительно существующее не принимают всерьез». Они спят
наяву (§ 32—34). Их странный сон выдает один «отвратительный,
варварский звук» —храп (renkein). Это звук порока и
бесстыдства. По нему узнают обжор, пьяниц, притоны разврата. Он
слышится повсюду с самого раннего утра (§ 36). Этот
звук—«признак крайнего хамства, безумия, презрения ко всему
достойному...» (§ 50). Сама идея сделать храп символом порока полна
сатирической силы. Шутки и насмешки щедро рассыпаны по
многим речам (34, 36, 45, 50, 51, 60 и др.). Без них не мыслится кини-
ческая литература.
213
Художественная практика и эстетические взгляды Диона
дополняют друг друга. Вслед за киниками он признавал примат
содержания в искусстве. В его «Олимпийской речи» (12) устами
великого Фидия провозглашается первостепенное значение
идейности, ибо все усилия ваятеля, воплотившего в мраморе образ
Зевса, были подчинены одному — созданию таких пластичных
форм, которые передавали бы «образ подателя дыхания, жизни и
всех благ, спасителя и хранителя всех людей», образ верховного
божества, соответствующий всем именам и эпитетам, которыми
его наделяют верующие (12, 74—75). Фидий выступает как
«истолкователь и учитель истины» (§ 56). Эти мысли Диона
объективно противостояли формализму наиболее признанных
риторов и писателей эпохи «второй софистики» с ее культом ат-
тицизма и внешне эффектных приемов риторики. Дион и в других
произведениях пользовался любым случаем, чтобы больнее задеть
и высмеять риторов и софистов (4, 28, 33, 35, 36; 10, 32; 11,6; 14;
19,3; 35,8; 6,21; 12,5; 55,7 и др.) 55.
В согласии с киническими принципами Дион прежде всего
подчеркивал служебную, педагогическую функцию искусства, его
подчиненность делу воспитания людей, формированию личности.
Гомер, само воплощение поэзии и мудрости, своими «мифами и
историями стремился воспитывать народ» (55,11). То же для
пользы людей делал Сократ. Поэзия может учить философов
(Сократ — ученик Гомера — 55,3), но поэзия — служанка философии:
и Гомер и Сократ (один —в поэтической форме, а другой —в
прозаической) «с большой серьезностью рассуждали и говорили об
одном и том же: только о добродетелях и пороках людей, об их
слабостях и сильных сторонах, об истине и лжи, о том, что
представляется большинству, и о том, что твердо знают мудрые люди.
При этом оба были в высшей степени наделены способностью
сравнивать и создавать образы (eikasai kai parabalein) » (55,9)·
Иными словами, и у поэзии и у философии один объект
исследования и отображения — мир людей.
Дион приводит мнение Антисфена и Зенона о том, что поэзия
соединяет два начала: внешнюю сторону явлений, общепринятое,
но поверхностное мнение и сущность явлений, их истинное
содержание. Смешение их порождает противоречия у поэтов. «Зенон,—
писал Дион,— ничего из написанного Гомером не порицает,
одновременно объясняя и поучая, что одно поэт написал в
соответствии с общепринятым мнением (ta men kata doxan), а другое —
в соответствии с истиной (ta de kata alëtheian), и пусть не
кажется, что он противоречит сам себе там, где представляется, что он
и впрямь впал в противоречие. Теория о том, что поэт одно
говорит в соответствии с расхожим мнением, а другое — в согласии с
истиной, была еще раньше выдвинута Антисфеном. Однако он
высказал ее в общей форме, а Зенон разработал детально. Об этом
же писал ученик Зенона Персей и др.» 56. Познавательная сторона
искусства, определяемая истиной, представлялась киникам наибо-
214
лее важной. Но истина, по их мнению, доступна только философу,
масса же придерживается ложных взглядов (67, 1—3), поэтому
философы должны находить и обнаруживать для всех истину в
творениях поэтов, которых «люди считают своими пророками и
единомышленниками» (7,101). «Мы цитируем поэтов,—говорит
Дион,— полагая, что найдем у них выраженными настроения масс,
их мысли о богатстве и прочих предметах, которыми они
восхищаются...» (7,98). Народ любит и восхваляет поэтов и считает
мудрыми провозвестниками истины, веря, что поэзия выражает
чувства и мнения большинства (7,99—101). Но большинство
(конкретно-историческая «толпа», hoi polloi) часто ошибается,
принимая ложное за истину. Художник знает истину, но ее
нужно извлечь из поэтической оболочки. Из этого сплава единичного
и общего, выражаясь современным языком, Дион извлекает общее,
но это общее особого рода — оно отвечает только кинической
правде. При таком понимании роли поэзии выдвигается требование
уметь разглядеть сквозь оболочку явлений, изображенных поэтом,
истину, усмотреть в них аллегорический смысл, подтекст (hypo-
noiai), извлечь поучение, ибо в художественном произведении все
это дается иносказательно, намеками (ainittetai — 5,3; 22), и более
того, поэт даже ложь может выдать за истину. Дион убежден, что
«те, кто стремится познать истину, совсем не нуждаются в стихах.
Им достаточно услышать голую правду. Поэзия же побуждает
слушать ложь...» (11,42—43).
Как мы уже могли неоднократно убедиться, повсюду: в поэзии,
мифологии, в сказках, в баснях и т. п.— Дион ищет полезное для
жизни,_из всего извлекает моральный урок (öphelima panta
kai chrësima — 53,11), a образы героев и их поступки
воспринимает как символы идей, понятий, теоретических положений. Легче
всего проследить этот кинически утилитарный подход к искусству
на примере использования и толкования Гомера. Напомню
только, что Гомером усиленно занимались все киники: Антисфен
изучал его язык, строя различные догадки на основе своих
этимологии, аллегорически интерпретировал его поэмы, гомеровскими
штудиями в морализирующем плане занимались Диоген и Кратет.
Дион не отступил от этой традиции и цитирует Гомера около
130 раз. Сам Гомер напоминает Диону кинического героя: он
беден, странствует по белу свету, зарабатывая пропитание своим
поэтическим трудом (53,9). В своих суждениях о жизни Дион
опирается на авторитет Гомера, свой образ идеального монарха
он строит на основе представлений Гомера (53,11—12),
высказывая положение: «богатство не делает тех, кто им владеет, ни
гостеприимнее, ни добрее» (7,91), он снова обращается за
подтверждением к Гомеру и ссылается на пример Эвмея, который хоть был
рабом и бедняком, но принимал Одиссея радушнее, чем Пенелопа
и Телемах (7,84—87). Дион считает, что у Гомера нет ни одной
строчки, сказанной без большого внутреннего смысла, без
воспитательной пели (55,22). За каждым индивидуализированным ху-
215
дожественным образом и конкретной художественной деталью
Дион видит общее, моральные категории, добро и зло.
С таких рационалистических, нехудожнических, нравственных
позиций Дион подходит ко всему мифологическому материалу —
общенародному или лично творимому. Обращение к мифу у
киников, и у Диона в частности, внутренне мотивировано. В силу своей
исконной метафоричности любой миф давал возможность
высказать истину или желаемый тезис в конкретно-чувственной,
эмоционально обогащенной форме, доступной обычному сознанию.
Многозначный по своей природе, миф допускал множественность
толкований и вариантов. Своим целенаправленным рассказом и
объяснениями Дион как бы высвобождал из внешней феноменальной
оболочки мифологического образа его сущность, ту единственную
истину, которой он поклонялся. Миф, уже существующий или
заново создаваемый, давал Диону простор для кинических
философем. В силу многовековой традиции миф превратился в
безошибочно действующий символ типичных жизненных ситуаций. Хотя
ко времени Диана он утратил былую религиозную силу и
присущий ему изначально ореол святости, но в силу традиции и
идеологической инерции высказанные в форме мифа размышления о
мире и человеке приобретали дополнительный авторитет. Этот
авторитет в известной мере сохранялся даже тогда, когда вместо
привычных ассоциаций под знакомый образ подставлялась
философская абстракция: Медея оказывалась не полубезумной
отравительницей и убийцей своих детей, а олицетворением разума, phro-
nesis (16,10), Прометей —не благодетелем человеческого рода,
а софистом (8,33), Дедал — не воплощением мастерства и сметки,
а плохим строителем (71,6) и т. д. Более того, такие
парадоксальные повороты толкали к переоценке ценностей и обостряли
восприятие кинических идей. Так кинизировалась вся мифология
Геракла (см. 1,50—84; 5,21; 8,28—35 и др.). В высшей степени
показательна своеобразная кинико-стоическая интерпретация
смерти Геракла, созданная самим Дионом в речи «Несс, или Дея-
нира» (60). Здесь прямо говорится, что некоторые философы, как,
например, Сократ (можно было бы добавить и Платона), берут
известный миф или создают новый, чтобы в соответствии со
своими взглядами раскрыть в них полезный и достойный философии
смысл (60,9). В рассказе Диона Деянира, стремясь вернуть
любовь мужа, создавала Гераклу (следуя коварному совету Несса)
условия, которые изменяли весь мужественный и суровый уклад
жизни героя (60,8), заставив сбросить львиную шкуру и надеть
обычный плащ, спать не на голой земле под открытым небом, а на
мягком ложе, питаться изысканной пищей и пить вино, перестать
трудиться и т. д. Когда Геракл понял, что не может бросить эту
новую для него роскошную и изнеживающую жизнь, он, по
правилам кинико-стоической морали, покончил с собой (§ 7—8).
Даже в делах более «житейских», указывает Дион, Диоген для
нападок на людей, рискующих всем ради удовлетворения своего
216
сладострастия, и для оправдания своего собственного способа
удовлетворения полового чувства прибегает к помощи мифологии.
Диоген, правда, шутя (paizôn), говорил, что этот способ
удовлетворения пошел от богов,— он является «изобретением» Пана,
которое подсказал ему отец — Гермес, сжалившись над неудачной
любовью сына к гнимфе Эхо. С тех пор, говорил Диоген, он
избавился от больших неудобств (6,20). И, действительно, «Афродита у
него всегда под рукой». В некоторых случаях миф становится
совершенно идентичным притче, апологу. Из всей истории Париса,
его желания обладать самой прекрасной женщиной на свете и из
чяжких последствий этой мечты Дион извлекает нетрафаретный,
социально значимый вывод: если мечты и даже непродуманные
поступки простых людей и частных лиц (Парис-пастух) не
влекут за собой тяжких последствий для общества, то, когда это
делают «монархи, богачи или другие власть имущие»
(Парис-царевич), последствия бывают «тяжелые и страшные» (20,19—24).
Большинство дионовских интерпретаций мифов для
слушателей было неожиданным. Эта парадоксальность диктовалась
его киническими взглядами. Когда философ вступает в конфликт
с общепринятыми нормами и воззрениями, он, естественно,
прибегает к парадоксам, говорит нечто противоположное ходячим
представлениям (para doxan). Нетривиальное, аллегорическое
толкование мифа неизбежно превращается в разновидность
парадокса, в форму переоценки ценностей.
Понятно, что, стремясь извлечь моральное поучение из любого
рассказа, Дион не мог не прийти к Эзопу и всему басенному
творчеству, к которому были так близки киники, вообще
тяготевшие к животной символике. «Есть люди,—говорил он,—которые
причисляют Эзопа к такого рода людям (семи мудрецам.— И. Н.)
и считают его мудрым и рассудительным, а также талантливым
баснописцем, от творений которого они получали большое
удовольствие. И, может быть, они были правы, так как Эзоп,
действительно, хотел наставить людей и указать на их ошибки. Он
думал, что они его скорее станут слушать, если будут получать
радость от его шуток и басен, как маленькие дети, которые
веселятся, слушая сказки своих кормилиц» (72,13). Дион утверждает,
что своими средствами Эзоп делал то же, что Сократ и Диоген
(72, 13), и далее (72, 14—15) рассказывает басню Эзопа о сове и
птицах, к которой обращается еще раз в «Олимпийской речи»
(12, 7—8), чтобы показать, что истинная мудрость не нуждается
в украшениях. Причем себя он сравнивает из-за своего
неказистого вида с совой (12,9). Говоря о задачах философа-моралиста,
Дион рассказывает обличаемым жителям города Тарса эзоповскую
басню «Глаза и Рот» (33,16), предупреждая тем самым, чтобы они
не ждали от него ласковых речей. Обличая кифаредов, к которым
имели слабость александрийцы, он вспоминает басню «Собаки-
музыканты» (32,66). Упоминает Дион и басню о лисе, которая
залезла в дупло и, наевшись там мяса, раздулась так, что не смог-
21?
ла оттуда выбраться (47,20; ср. № 24 Хаусрат). Эта басня ему
понадобилась для того, чтобы сказать, что он ничего не боится и
может покинуть собрание в любой момент.
Во всем своем творчестве Дион обнаруживает большую
начитанность, широкий интерес к литературе и искусству, как таковым
(üb речи 19 οή признается, что любит слушать музыку, ораторов,
смотреть драму), что отличает его от массы киников. В
«литературных» речах (52, 53, 55—59, 61 и др.) он выступает не только
как ритор, но как тонкий ценитель и знаток классической
литературы, а в сравнении трех «Филоктетов» — как один из первых
литературных критиков (52). В одной из речей он рекомендует
будущему оратору читать Гомера, Еврипида, Менандра, Геродота,
Фукидида, Демосфена, Лисия и особенно Ксенофонта (18,14).
Такого рода рекомендации давали Дионисий Галикарнасский,
Квинтилиан, Плутарх. Названные речи написаны до изгнания,
но увлечения юности оставили след и в последующих
философских и политических речах Диона, наложили на них печать
интеллигентности, большой внутренней культуры.
ивой эстетический идеал Дион строил на высокой
нравственной основе и с учетом требований классических
традиций, т. е. включая и телесную красоту. Этот идеал Дион искал в
боготворимой им эллинской древности, которая даже
хронологически была ближе к естественной простоте «золотого века».
Идеализация «естественного состояния» предполагает хронологический
подход: все, что ближе к этой древности, автоматически лучше,
чище, нравственнее. «Золотой век», «век Крона» относится к
незапамятным временам, а «счастливые» народы, живущие на
периферии, вдали от культурных центров, просто консервируют у себя
старину. Позднейшие поколения даже физически вырождаются,
дегенерируют, мельчают из-^за удобств и пороков,
сопровождающих цивилизацию. Эта кинически тенденциозная мысль наиболее
выразительно представлена в речи «О красоте» (21; ср. 31, 158—
160), в которой описывается вымирающий древнегреческий тип
юной мужской красоты, неизвестный ныне живущему поколению.
Эта красота характеризуется следующими признаками: высокий
и в расцвете сил (hypsëlos kai höraios—§ 1); несмотря на свои
16—17 лет, ростом он ничуть не меньше зрелого мужа (megethos
oydenos hëtton tön andrön— § 13); он отличается не только töi me-
gethei, но и andreiai, мужеством. Это беотийский, наиболее
эллинский тип красоты. Но тут же подчеркивается, что эта красота
(to kailos) соединена со скромностью, добротой и человечностью,
она чужда жестокости и грубости (§ 13, 15). Неправильное
воспитание, как у варваров, или деспотизм, когда тиран, подобный
Нерону, превращает даже юношей в женщин, приводят к тому, что
к прекрасному прежде всего прикладывается критерий
женственности, природное искажается, прекрасное феминизируется.
Таким образом, физическая красота и ее деградация
связываются с этическим и даже политическим началом, диктующим
218
новые идеалы. Дисш в своих рассуждениях намечает исторически
изменчивые и национальные (§ 16) типы красоты. Сходные мысли
о человеческой красоте проводятся и в «Борисфенитской речи»
(36). Здесь в качестве идеала представлен восемнадцатилетний
юноша Каллистрат. Если в 21-й речи воспевается беотийский тип
красоты (§ 15), то Каллистрат, также «очень красивый и
высокий» (рапу kalos kai megas), наделен чертами ионийского типа,
к тому же он любитель Гомера, философии и красноречия (36,8).
В этой далекой глуши сохранился идеальный древний образ.
Собравшиеся на площади Ольвии люди были очень похожи на
описываемых Гомером греков — такие же бородатые и
длинноволосые. Только один был брит (здесь Дион не утерпел и сделал
выпад против римлян). Этот бритый был ненавистным для всех
римским подхалимом (36,17). Так снова переплетается внешнее
и внутреннее, физическое и этическое, психологическое и
политическое. Нельзя не заметить, что представления Диона о красоте
напоминают народный идеал Антисфена, его восхищение
естественной и здоровой красотой человека, которую он ценил
как в мужчинах, так и женщинах.
Хотя свой идеал Дион перенес в далекое прошлое и сожалеет
об упадке Греции («Только камни и руины зданий
свидетельствуют о былой пышности и величии Эллады» — 31,160), однако все
его помыслы были устремлены в современность. Отсюда его
скептическое отношение к древней трагедии, которая всегда
любовалась аристократическими героями и меньше всего заботилась о
правдоподобии, о внешней «реалистичности». «Я знаю,—говорит
Дион,—что не подобает в трагедиях выводить современников
(toys nyn ontas), но нужно обращаться к древнему материалу,
и не очень достоверному» (21,11). Но для древних авторов эти
герои были современниками, рассуждает Дион, поэтому и он
прибегает к примеру из недавнего прошлого — к Нерону и его
окружению. Древняя трагедия не нравится ему еще и тем, что имеет
дело только с царями — Атреями, Агамемнонами, Эдипами, а не с
простыми людьми — бедняками и необразованными (13,20—21) 57.
Прошлое интересовало Диона не само по себе, а только в
сопоставлении, в контрасте с настоящим, к которому он относился весьма
критически, как, впрочем, и к себе. Хотя мы все, говорил Дион,
носим платье Сократа и Диогена, но далеки от их образа мыслей
и жизни. Мы сами глупы и окружены глупцами (72,16).
Этические взгляды и образ жизни Диона, исключая ранний
риторический период, были близки или даже смыкались с киниз-
мом, особенно в области практической морали (большинство речей
периода изгнания), но в вопросах онтологии, космологии,
теологии и в других теоретических областях, как в политике и
практической деятельности зрелого периода, он проявляет себя как
ортодоксальный стоик. Во всяком случае, его взгляды на
государство, законы, семью, общественный долг и служение богу
несовместимы с кинизмом. Его политико-дипломатическая деятельность
219
«миротворца», улаживающего споры между городами («вифин-
ские речи», «городские речи»), скорее укладывалась в рамки
проводника императорской политики, чем кинического моралиста.
Мало вяжется с обычным представлением о кинике и его
активное участие б строительстве Прусы, осложненное к тому же
какими-то нечистоплотными финансовыми махинациями. Об идейной
эволюции Диона можно говорить лишь схематично, в грубом
приближении: сначала ритор не без интереса к философии, затем
киник, напоследок — стоик. Но немало фактов спорят с этой схемой.
Даже на первый взгляд правильное и соблазнительно легкое
решение: стоик в теории, киник в практике [156, с. 118; ср. 42, с.
XXXI] —не соответствует действительности, ибо именно в своей
практике (усилия по консолидации Римской империи по
поручению Траяна, участие в администрации и т. п.), в стремлении
играть роль государственного человека Дион далеко ушел от
кинического отталкивания от порочного уклада современной жизни,
а в теории он нередко придерживался самых радикальных теорий
древ'него кинизма с его лозунгами автаркии, перечеканки
ценностей, «назад к природе» и т. д. («диогеновские» речи, «Эвбейская»
и др.).
Философскую позицию Диона трудно определить однозначно.
Ясно одно: без кинизма ее не понять. Для мировоззрения Диона
характерны колебания между двумя ведущими учениями
эпохи — кинизмом и стоицизмом. Эти колебания отразили его
внутреннюю половинчатость, двойственность и сложность жизненного
пути: временную близость деклассированного «барина» к народным
низам, когда он идеализировал людей труда, живя с ними одной
трудной жизнью, и проникся демократическим и критическим
духом кинизма, и головокружительный взлет, сделавший его своим
человеком при дворе римских императоров Нервы и Траяна, когда
уже отпала необходимость в обличении тирании и в образе жизни
бродячего проповедника, когда можно было, выполняя
правительственную миссию, позволить себе появиться перед
представительной аудиторией Александрии или Тарса в скромном костюме
философа и не прослыть неучтивым или чудаком.
Подлинный кинизм заходил в своих социальных требованиях
(пусть утопичных и наивных) значительно дальше, чем это мог
себе позволить Дион. Вместе с тем в кинизме были объективно
слабые положения, вытекавшие из его анархического
индивидуализма, к которым критически относился Дион, и пробелы в теории
(физика, теология). Их философ заполнял стоическими
доктринами, которые, как он видел, разделяли лучшие умы его времени
(Мусоний Руф, Сенека, Эпиктет и др.). Стоицизирующий киник,—
пожалуй, лучшее определение места Диона в философии. Однако
в наиболее социально значимых и острых вопросах своего времени
(рабство и свобода, труд и праздность, бедность и богатство и др.)
Дион благодаря кинизму сумел преодолеть ограниченность и
предрассудки своего класса и касты и пойти дальше общих мест стои-
220
ческой оппозиции. Даже «националистическая» борьба Диона —
романтическая мечта о возрождении эллинизма и старинных
греческих добродетелей — в условиях римского господства
приобретала политическое звучание, хотя и не звала к неповиновению
властям и не грозила революцией, так как философ ни минуты
не сомневался в исторической необходимости монархии. Устные
и письменные изобличения тирании и деспотизма имели только
один конкретно-исторический адрес — Домициан, но не касались
принципа монархизма. Что же касается литературного
творчества, то наиболее идейно ценные и художественно совершенные
произведения Диона («диогеновские» речи, «Эвбейская» и «Бо-
рисфенитская») возникли под влиянием его кинических
увлечений. Даже в годы жизненного благополучия где-то в глубина
души Диона продолжал жить киник, и невозможно было
истребить в нем бунтарский дух народного проповедника.
Эпиктет: между стоиками и киниками
В далекие времена возникновения стоической школы ее схо-
лархи, и прежде всего Зенон, ученик киника Кратета, решительна
адаптировали предписания кинической морали применительно к
своим принципам. Вслед за киниками они объявили целью своей
философии жизнь в согласии с природой и добродетелью, а ки-
низм — кратчайшей дорогой к добродетели (syntomon ер' aretêiv
hodon —Диог. Л. VI, 104; ср. VII, 121). Роднили стоиков с
кинической школой и безразличие к внешним благам, обстоятельствам
и трудностям, идентификация добродетели со знанием, склонность
к практической морали, проповедь опрощенчества, автаркии,
теория аскезы, критицизм. Все это заставляло еще Цицерона
выводить киников и стоиков из одного источника — сократика
Антисфена (Об ораторе III, 62). Объединяла их и высокая
воинствующая нравственность, заставившая комментатора эпиктетовско-
го «Энхиридиона» неоплатоника Симпликия (VI в.) сравнить эта
наставление с вечно готовым к бою оружием, с кинжалом,
обозначаемым тем же словом («энхиридион» по-гречески значит
«руководство» и «кинжал»). Эта изначально заложенная «известная
общность» (koinönia tis) двух направлений объясняется
демократическими и материалистическими тенденциями Древней Стой,
которые по мере эволюции школы все более и более сменялись
охранительными и идеалистическими. Провозглашение кинизма
«кратчайшим путем к добродетели» притягивало к нему немало
стоиков, несмотря на принципиальные различия в доктринах.
Именно внешнее сходство двух направлений было одной из
причин появления такой фигуры, как Эпиктет, который развернул свою
миссионерскую деятельность в годы «кинического возрождения»
I—II вв., когда учили Мусоний Руф и Дион Хрисостом, Сенека и
Деметрий, стремившиеся выработать у людей своеобразный
психологический иммунитет против неистовства и пароксизмов упо-
221
энного властью и карьеристской лестью самодержавия. Если о Ди-
оне с известными натяжками можно говорить как о стоицизирую-
тцем кинике, то об Эпиктете — с не меньшим основанием — как о
кинизирующем стоике. Правда, кинизм в интерпретации Эпиктета
утратил свою первоначальную революционную сущность и
превратился в некую сублимацию стоицизма, необходимую философу,
чтобы сформулировать свой ригористический нравственный идеал,
более радикальный, чем у современного ему стоицизма, вообще
игнорируемого Эпиктетом. Ему не нужен был и подлинный древний
кинизм, его интересовал не исторический Диоген, а легенда и
собственные представления о кинизме и Диогене. С древним кинизмом,
к героям которого постоянно обращены взгляды никопольского
мудреца, объединяет его только общая суровость моральных
принципов, доктрина внутренней свободы и волюнтаризм, но отнюдь
не социальный радикализм и недовольство жизнью. Если в
кинизме мы можем найти отблески революционной энергии угнетенных
и гонимых, их жажду увидеть мир иным, более справедливым, то
«едущими принципами бывшего раба Эпиктета стали рабская
покорность жизненным обстоятельствам (anechoy kai apechoy),
примирение с действительностью, удовлетворенность судьбой,
государством и миром. Даже отпущенный на волю и достигший всеобщей
известности, Эпиктет продолжал оставаться рабом в душе, хотя и
кичился своей независимостью. «Рабский страх» сменился
«страхом божьим». Впрочем, Эпиктет и сам не считал себя до конца
свободным (Беседы IV, 1, 151), он только жил постоянной мечтой о
свободе (недаром это слово в разных вариантах встречается у него
130 раз) и видел ее осуществление в неунывающем
бродяге-кинике, для которого весь мир был домом. Киник жил под открытым
небом и в толпе, а Эпиктет — в уединенной келье. Киник шел в
народ, общался с матросами и бедняками, а к Эпиктету собиралась
элита. Киник обличал царей и тиранов, Эпиктет «был очень близок
к императору Адриану» (Hist. Aug. Hadrian. 16, 10), а император
Марк Аврелий стал его пылким поклонником. Не эти ли факты
лучше всего характеризуют социальное лицо Эпиктета и ту
трансформацию, которую претерпел кинизирующий стоицизм. В I—II вв.
стоицизм был самой популярной философией среди аристократии,
а кинизм — в народе.
* * *
Сама судьба толкала Эпиктета из Гиераполиса (ок. 50—130 гг.)
к кинизму, и, может быть, он стал бы в его ряды, если бы не целая
рать проходимцев и нищих, выдававших себя за кинических
философов и потешавших своими эксцентрическими выходками толпу
и скучающих аристократов. Причина, с нашей точки зрения, не
очень веская, но явно повлиявшая на Эпиктета (Беседы III, 22,80).
Два факта в биографии Эпиктета делали ему близким кинизм,
рабское происхождение, плоды которого он пожинал в полную меру в
222
бытность свою рабом у нероновского приближенного Эпафродита,
если верить рассказу Оригена (Adv. Cels. Ill, с. 732), и изгнание
из Рима и Италии (иными словами, политическая ссылка),
которому он подвергся в 89 или 93 г. Уже эти обстоятельства должны
были заставить его тянуться к философии «античного пролетариата»,
и не лишено оснований предположение Гирцеля и Бонхёффера, что
первым наставником Эпиктета был киник [214, с. 245; 451, с. IV].
Во всяком случае, Эпиктет прозрачно намекает, что, прежде чем
стать стоиком, он был иным (II, 12, 24—25). Впрочем, с кинически
ми идеями он мог познакомиться и позже у своего признанного
учителя Мусония Руфа, популярнейшего стоического философа,
восхищавшегося киниками и даже подражавшего им (Стобей 1,84;
XVII, 43; XVIII, 38; LXXXV, 20), мысли которого часто
обнаруживают сходство с их моральным ригоризмом (особенно в так
называемых «ликиновских фрагментах» — I — IV, VI — XXI, Hense
[84]) 58. Изгнанник обосновался в Никополе, оживленном городе
Северной Греции (Эпир), основанном императором Августом в
ознаменование победы при Акциуме, и открыл там философскую
школу, куда со всего света съезжались ученики и почитатели,
среди которых было немало людей состоятельных и знатных. Одним
из них был будущий известный историк, сенатор и консул в Риме,,
наместник в Каппадокии Флавий Арриан. Именно ему мы обязаны
всем, что знаем о философии Эпиктета.
В своих беседах и лекциях Эпиктет ориентировался на
ригористическую этику Древней Стой и ссылался только на авторитет ее
основателей, главным образом Хрисиппа. «Вместе с Эпиктетом,—
говорит французский исследователь А. Жагю,— мы возвращаемся!
к героическому веку стоической школы. Догматизм и
ортодоксальность Эпиктета абсолютны» [490, с. 15]59. Что же касается Средней
и Новой Стой, то для Эпиктета они будто и вовсе не существовали.
Имена Панетия и Посидония даже не упоминаются. Современные-
философы, по словам его ученика Фаворина, Эпиктета не
удовлетворяли, потому что большинство из них были «философы лишь на
словах, а не на деле» (Авл Геллий. Аттич. ночи XVII, 19).
Древние же стоики были ближе к кинизму в теории и на практике, чем
все последующие. Эпиктет стремится создать некий сплав кинизма
и стоицизма60 и потому скрепляет их в своих рассуждениях уже
знакомой нам цепью преемственности: Сократ — Антисфен —
Диоген — Кратет — Зенон.
Наиболее значительная часть сохраненного Аррианом
теоретического наследия Эпиктета (не считая краткого «Руководства») —
четыре уцелевшие книги «Бесед», или «Рассуждений»
(«Размышлений») — Arrianoy tön Epiktëtou Diatribön biblia сГ, Dissertationes 61..
Уже самим жанром своих выступлений он вошел в одну из областей,
кинической философской литературы, зачинателем которой был
Бион. В «Беседах» Эпиктета, как и в dialexeis Диона, используется
одна и та же традиция кинико-стоической диатрибы. Одну из них
он специально посвящает кинизму—«О кинизме» (кн. III, гл. 22).
223
В этой главе на основе направленного отбора нескольких
типично кинических идей, источников и апофтегм62 об Антисфене и
Диогене (IV, 6, 20; I, 30; I, 154; II, 13, 24; III, 2, И; 22, 24; 58; 91; 92
и др.), соответствующих его идеалам и представлениям, Эпиктет
«создает свою концепцию кинизма, идеальную киническую
модель стоического «софос», мудреца-философа, истинно свободного,
■бесстрастного, стойкого, духовно богатого, глубоко верующего,
подражая которому можно скорее всего достичь добродетели, а
значит, и счастья. Этот образ отличается как от карикатуры на
киника в современной эпиграмматике и сатирической литературе
(например, у Лукиана), так и от традиционного образа
острослова, насмешника, попиравшего все нормы приличия, безбожника и
-смутьяна. Эпиктет восхищался истинными киниками, и у него даже
не вставал вопрос, как у Максима Тирского: «Предпочитать ли
кинический образ жизни?» Он создал себе кумир, к которому
можно было только бесконечно стремиться.
Прежде всего, Эпиктет отмежевывается от внешних примет
кинизма, легче всего усваиваемых недобросовестными
подражателями, спекулирующими на популярности кинического учения в
народе. Ученика, обратившегося к нему с просьбой раскрыть
сущность настоящего кинизма, он предупреждает, чтобы тот не
предоставлял себе киника по избитому стандарту: «Я буду носить старый
ллащ, спать на голой земле, бродить с сумой и палкой и
попрошайничать, говорить грубости любому встречному и ругать каждого,
у кого бритый подбородок, завитые волосы и пурпурные башмаки»
(III, 22, 9—10; ср. § 50; 88; 89). С негодованием и омерзением
говорит он о современных ему лжекиниках, этих «сторожевых псах,
которые вертятся у столов в ожидании подачки и подражают
древним лишь в одном — в громком выпускании ветров из живота» (III,
22, 80). Быть настоящим киником (§ 23) — тяжелейшая и сложная
задача, не всякому она по силам, и ее не решить без бога, без его
помощи и помимо его воли (§ 2, 12; 53), ибо небесный владыка
каждому определил место в мире — льву, быку, Агамемнону,
Ахиллу, Гектору и т. д. Каждому установлено место, и если Ферсит
посягнет на верховную власть, он покажется смешным и жалким
<§ 3-8).
Далее, Эпиктет говорит о назначении киника в этом мире,
передает его мысли и речи, рисует характер (epibolê, phönai,
Charakter — § 50). В разделе, посвященном кинизму, в
концентрированной форме излагается, собственно, вся аскетическая этика Эпик-
тета — сугубо стоическая под маской кинизма. Здесь в слова о
кинизме вплетаются автором его излюбленные стоические думы:
о необходимости различать то, что находится во власти человека,
от того, что ему чуждо и не зависит от его воли (allotrion — § 31;
32), о месте, предназначенном человеку судьбой (§ 3; 95), о
дуализме духа и тела, о внутренней и внешней свободе (§ 28; 39—
42), о силе духа, об использовании воображения (§ 102; 104), о
разуме (§ 19—22; 103), об умении разбираться в представлениях
224
(§ 25; 61), подчиняться обстоятельствам (§ 100 и ел.), о смерти
(§ 32), боге (§ 53) и т. д. Все эти мысли и соответствующие
термины (prolëpsis —§ 1, ekklisis, ta proairetika — § 13, proairesis,
chrësis phantasiôn — § 103 и др.) встречаются многократно и в
других частях Эпиктетовых «Бесед». Диоген Эпиктета
употребляет и стоический термин tonos psyches (Epictet. frgm. 57).
Стать киником — значит распрощаться со всем привычным
строем жизни, отрешиться от всех вожделенных ценностей мира и
человеческих желаний (orexis), не роптать ни на богов, ни на людей,
забыть про гнев и ненависть, зависть и сострадание. Эпиктет
наставляет ученика: тебя не должны волновать и казаться прекрасными
«ни девчонка, ни мальчишка, ни пирожок, ни славы кусишка»
(§ 13). Это жизнь подвижника. Обычные люди охотятся за своими
благами в одиночку, скрываясь друг от друга, прячась за стенами
крепостей и домов («Если кто-нибудь придет, скажи, что меня нет
дома или я занят!» —§ 13). Разъединенность, стремление
спрятаться от людей характерны для стяжателей и рабов своих страстей.
Киник совсем иной — он всегда у всех на виду, нагой под открытым
небом. Ему нечего скрывать, все его прикрытие, его стены, его
двери, дом и сторожа — это его скромность, его совесть, его
достоинство и чувство порядочности (aidös— § 14—15).
Выполняя свою трудную и гуманную миссию просвещения и
воспитания людей, киник должен исходить из сознания того, что
большинство людей слепо и невежественно, не знает, в чем их
благо и где его искать, не различает добра и зла (§ 23; 25; 31).
Поэтому киник обращается к ним со словами: «несчастные!» (ta-
laipöroi —§ 31; 44), «дурные головы!» (§ 58), «глупцы!» (more —
§ 83; 85). Киник «похож на врача, который ходит повсюду и
щупает пульс у людей: „У тебя лихорадка, а у тебя голова болит,
ты страдаешь подагрой. Ты должен воздерживаться от пищи, а
тебе нужно усиленно питаться"...» и т. д. (III, 22, 72—73). Если
бы все были «здоровы», т. е. мудры, то сама собой отпала бы
необходимость в кинической жизни (§ 67). Киник должен уметь
указать людям на их дефекты и ошибки и сказать, как Сократ:
«Куда же вы, люди?! Что творите, несчастные?! Вы, как слепые,
тычетесь взад и вперед и, сбившись с пути, вступили на
неверную дорогу и ищите благополучия и счастья там, где его нет...»
(§ 26) 63. «Почему вы ищите его вне себя? В теле его нет, в
богатстве его нет, как и в почестях, в царской короне и скипетре»
(§ 27—29). В доказательство своей правоты Эпиктет приводит
обычные кинические приметы — несчастных, хотя и прославленных
и могущественных людей. Это все те же знакомые нам Крез, Сар-
данапал, персидский царь, даже Агамемнон и Нерон (§ 27—29).
Киники не считаются с властями. «Что общего у киника с
императорами или проконсулами?!»—восклицает Эпиктет (§ 55).
Киник ничего не боится, не пугается, как дети, театральных м а-
сок. Он знает: они из глины и внутри пусты (§ 106). Его
единственный господин — бог, Зевс (§ 23), который послал его как свое-
8 Уаказ № 370
225
го разведчика 6\ чтобы выяснить, что человеку дружественно и
что враждебно (§ 24; 38; ср. I, 24, 6).
Киник должен быть стойким, сильным и не сворачивать с
однажды избранного пути (§ 23). Именно это обстоятельство делает
его самого царем, господином, командиром (§ 49; 97). Казалось бы,
все это человеку не под силу, но людям был послан богом «живо й
пример», ton deikonta ergöi (§ 46), показавший, что можно
быть счастливым, «живя голым, без дома, палимым зноем, без слуг
и без гражданства» (gymnon, anestion, auchmonta, adoylon, apo-
lin — § 47) 65. Таким примером был Диоген, все величие которого
нам мешает оценить то, что на него невольно переносится
предвзятость из-за нынешних лжекиников (§ 80). «Посмотрите на
меня,— говорит настоящий киник,— у меня нет ни родины, ни
дома, ни богатства, ни рабов. Я сплю на голой земле, у меня нет
жены, детей, даже маленькой палатки. Только земля и небо, да
единственный плащ. Чего мне не хватает? Разве меня одолевают
печаль или страх? Разве я не свободен?.. Кто и когда видел меня
недовольным?» (§ 47—48).
Эпиктет постоянно возвращается к образу Диогена и приводит
несколько апофтегм, характеризующих его смелость, скромность,
остроумие, выносливость. Диоген Эпиктета удивляется: люди
совершают долгий путь в Олимпию, чтобы посмотреть, как борцы
ломают друг другу шеи, а на его борьбу с изнурительным недугом
никто не обращает внимания (§ 58). Эпиктет напоминает эпизод,
когда после битвы при Херонее Диогена привели к Филиппу как
вражеского лазутчика, а он отвечал, что разведывает людские
прегрешения (§ 24), иными словами, проникает как посланец и
разведчик богов во враждебную страну порока. В другом месте
приводится его утверждение, что он счастливее персидского царя (§ 60).
Находчивость Диогена иллюстрируется случаем, когда он,
полусонный, подхватил цитируемые Александром Македонским стихи
Гомера (§ 92), его ответом относительно существования богов (§ 91;
ср. Диог. Л. VI, 42; II, 102). Ставится в пример опрятность Диогена
и телесное здоровье (§ 88). Чтобы поучать и порицать других
на это нужно иметь моральное право, т. е. киник сам должен быть
безупречным, а совесть его чистой, как солнце (§ 93), чтобы он мог
о себе сказать: ради человечества я ночей не спал и работал без
устали (§ 94—95).
Таким образом, Диоген окончательно становится каноном,
равняясь на который человек должен формировать свою личность,
корректировать свое поведение. Диоген эпиктетовских «Диатриб» —
персонифицированный философский миф, сотворенный стоической
фантазией их автора.
Итак, киник пренебрегает государством, браком, семьей, детьми,
жизненными удобствами, домом и т. п. (§ 68 и ел.) ; он равнодушен
к изгнанию («Изгнание. Но куда? Разве может кто-нибудь
исторгнуть тебя из мира? Не может...»), даже к самой смерти (§ 22; 33).
И тут Эпиктет ставит остро волнующий его вопрос: как человек,
226
отказавшийся от всего, что ценят люди, может быть полезным
членом человеческого общежития и выполнять свой гражданский долг?
(§ 77). Философ последовательно разбирает и разбивает все
опасения. Киник не враждебен государству. Разве есть более обширное
государство, чем то, гражданином которого он себя считает,— весь
мир? (§ 83). Он отказывается от собственной семьи и от заботы о
детях, так как его семья — все человечество и всех людей он
считает своими детьми, братьями и сестрами (§ 81). На этом основании
киник говорит со всеми свободно и откровенно, как со своими
близкими, а их дела и заботы считает своими (§ 97). Отказ от
семьи киник объясняет еще и тем, что она требует к себе много
внимания, а это помешало бы заботиться обо всех. Эту
жертву он сознательно приносил ради общего блага. Киническая
пара — Кратет и Гиппархия — в счет не идет, ибо Гиппархия —
«второй Кратет», и, кроме того, к женитьбе их побудила любовь,
нетипичная для современных браков. Теперешняя семья, замечает
Эпиктет, помешала бы выполнению кинической миссии (§ 76). Что
же касается рождения детей, то разве тот, кто вырастит двух-трех
пострелят, принесет больше пользы обществу, чем человек,
занятый воспитанием всего человечества? Разве бездетные Гомер и
Эпаминонд сделали для людей меньше, чем многодетные Приам,
Давн или Эол? (§ 77-78).
Выполняя свое назначение, киник должен быть готов к любым
ударам судьбы и терпеливо переносить даже побои, как осел.
А тех, кто его бьет, он должен любить, как отец или брат (§ 53—
54). Терпеливость — важная черта кинического характера, и пусть
толпа считает его бесчувственным камнем (§ 100).
Этический рационализм — одно из основных требований киниз-
ма, поэтому эпиктетовский киник говорит: «Мой разум — это
материал, который я должен обрабатывать, как плотник дерево, как
кожевник шкуру» (§ 19-22; ср. I, 12, 2; III, 3, 1; IV, 8, 10). Все
необходимо предварительно взвесить и обдумать (§ 103). К этому
зовет и знаменитое «Познай самого себя» (§ 53). Киник должен
обладать также природным чувством юмора и остроумием, быть
находчивым и не лезть за словом в карман. Иначе он ничего не
стоит (§ 90—91). Есть еще одно требование к кинику —
повседневная забота о теле, о его чистоте и физическом здоровье66.
Жалкий и больной киник кажется всем простым нищим, от него
с презрением отворачиваются, а настоящий философ должен
доказать всем, что его полная лишений и трудностей скромная
жизнь не вредит телу. Всем известный своим аскетизмом Диоген
отличался отменным здоровьем и привлекал людей даже своей
внешностью (§ 86—89).
Кинический мудрец — не обычный человек. Он обладает самой
высокой властью на земле (§ 85), у него свое царство —he toy ky-
nikoy basileia (§ 79), назначенное Зевсом (Π, 21, 19), но, главное,
он слуга бога (he diakonia toy theoy — § 69; ср. Ill, 24, 65). He
только дела, но и речи отличают его от остальных. Темы его выступлений
8* 227
волнуют всех: счастье и несчастье, удача и неудача, рабство и
свобода (§ 84), труд, удовольствия, бедность (I, 24, 7). Эпиктет
усиленно подчеркивает царственность своего героя (§ 72), его
избранничество и непосредственную связь с богом: киник — посланец и
служитель Зевса, вестник, глашатай, помощник и разведчик богов,
их друг и соправитель (angellos аро toy Dios — § 23, ton angellon
kai kataskopon kai kêryka tön theön — § 69, hös hyperetës, hos me-
techön tes arches toy Dios- § 38; 47; 56; 58; 82; 83; 95; III, 21, И
и др.). Сам бог указывает человеку его место. Диогену он
предназначил трудную и царственную должность порицателя (III, 21, 19).
Спиритуализм, исключительная, почти «средневековая»
религиозность и благочестие Эпиктета, выделяющие его из всех стоиков,
древних и поздних, наложили свою печать и на его концепцию ки-
низма, сделали киника сродни христианским апостолам [48,
с. LXV]. Киник в Эпиктетовой интерпретации напоминает
евангельских святых и праведников: ради людей он готов перенести все
испытания, даже смерть и изгнание (22; ср. I, 19; II, 1; IV, I); он
всем отец и брат и призван любить того, кто его ударит (§ 53—
54) ; он должен отказаться от семьи и личного счастья ради
служения своему богу (ср. Первое послание ап. Павла к
коринфянам, гл. 7, 32—33). Трудно освободиться от мысли, что Эпиктет
был хорошо знаком с учением христиан, которых он, как и
Юлиан, называл галилеянами (IV, 7, 6), настолько дух его
рассуждений и набожность близки к ним. «В первых веках новой эры
границы, отделяющие греческую, особенно киническую, философию
от христианских 'идей, выступают не очень
отчетливо»,—подчеркивал Эд. Норден [326, с. 404]. Ш. Монтескье в «Духе законов»
замечал, что, если бы не было христианства, его бы заменил
стоицизм (XXVII, 10). Философия Эпиктета, из которой он старался
сделать религию,—лучший аргумент, ибо ей отдавали должное
и Августин, и Ориген, и другие христианские писатели.
Эпиктет настойчиво предлагает людям модель поведения,
которая выше средних человеческих возможностей, ибо
самоотречение и повседневный героизм не каждому по плечу. К тому же
идеал выступает у него как некое уподобление богу, что совсем
отрывает его от реальной жизни. «Человеку нужен идеал, но
человеческий, соответствующий природе, а не
сверхъестественный»,—указывал В. И. Ленин [18, с. 56].
В предложенной Эпиктетом линии поведения есть и другие
слабые места, свидетельствующие о его рабской покорности и
бессилии перед теми самыми обстоятельствами, о которых он всегда с
такой бравадой говорил. Так, он не советует вступать в
состязание (агон) с тем, кто сильнее, и рекомендует покориться болеь
сильному, думать только о добродетели, а к остальному
относиться равнодушно (§ 100; 101; 103). Черты, что и говорить,
малосимпатичные и не соответствующие истинно киническому
характеру, потому что киник всегда рвался в бой и выступал против
«сильных мира».
228
Наряду с Диогеном в главе «О кинизме» выступают и другие
члены кинической триады — Геракл, совершающий свои подвиги
и упражняющийся в добродетели по воле Зевса (§ 57), и Сократ
(§ 25 и ел.; § 96). Всего в четырех книгах «Размышлений» Сократ
упомянут 63 раза, Диоген—24, Геракл —12 раз. Имена Диогена
и Сократа объединяются почти всякий раз, когда Эпиктет
демонстрирует будущему философу пример праведной жизни (II, 13, 24;
16, 35; III, 24, 40; 26, 23; 21, 18-19; IV, 1; 7, 29; 9, 6; И, 21 и др.).
Они представлены как достойные восхищения ревнители истины
(III, 24, 40). По сути дела, между Гераклом, Сократом и Диогеном
нет разницы, все трое — «идеальные типы» совершенных
стоических мудрецов. К тому же и Диоген у Эпиктета (III, 29, 69; ср. I,
9, 25) и Сократ у Платона (Апология 23с) рассматривают свою
жизнь как «служение богу». Под влиянием платоновских
«Апологии», «Критона» и «Федона» Эпиктет портретирует своего Сократа,
ставшего для него тем же, что и Геракл для киников,— «настоящим
святым, которому подражает сам Эпиктет и предлагает своим
ученикам в качестве примера для подражания» [490, с. 47, 50, 61].
Следует не забывать, что и киники относились к Сократу с не
меньшим почтением. «Святая» киническая троица много раз появляется
на страницах «Размышлений» как воплощение внутренней свободы,
proairesis, и независимости от внешних условий.
После Сократа Эпиктет чаще всего обращался к Диогену, образ
которого постоянно обогащается и обрастает новыми деталями и
чертами. Если в главе «О кинизме» выдвигаются на первый план
аскетизм и героизм синопца, приподнимающие его над людьми и
даже ставящие его в известную к ним оппозицию, то в других
местах акцентируется его альтруизм, любовь к людям: «Диоген был
так обходителен и человеколюбив 67, что с радостью переносил все
трудности и претерпел немало физических страданий ради общего
блага» (III, 24, 64). Подобно Сократу, Диоген был действительно
свободен—«не потому, что был рожден от свободных родителей
(они не были свободны), а потому, что освободил себя от
привязанности ко всему, что ведет человека к рабству... Он говорил:
,,Я свободен, ибо мне ничего не надо. Тело свое я не считаю
своим. Для меня закон все, остальное для меня ничего не значит"»
(IV, 1, 152-158).
Вспоминаются и другие поучения Диогена, необходимые Эпик-
тету для обоснования его собственных стоических взглядов:
смерть — не зло, а слава — лишь шум безумной толпы; быть нагим
лучше, чем носить пурпур; спать на голой земле — то же, что
вкушать сладкий сон на перинах. Как доказательство каждого
положения Диоген приводил свою отвагу (tharsos), спокойствие и
непреклонность духа (ataraxian), свободу и свое «крепкое тело»
(I, 24, 6—9; IV, 1, 30 и 113—114). Полная лишений жизнь не
мешала ему быть счастливее персидского царя (IV, 1, 30).
Восхищался Эпиктет и бесстрашием, с которым Диоген обращался к
могущественным царям Филиппу и Александру, к пиратам, за-
229
хватившим его, и даже к господину, который его купил (II, 13,
24). Цитируется также письмо Диогена персидскому царю,
характерное для диогеновской парресии: «Ты не можешь поработить
афинское государство, как не в силах поработить рыбу в море...
Если ты и возьмешь их в плен, они не будут твоими рабами. А
если они умрут у тебя, то что тебе за польза от того, что забрал
их в плен?» (IV, 1, 30-31).
Подлинным сверхчеловеком выступает и Геракл, сын Зевса,
который всю свою земную жизнь страдал ради спасения людей и
после добровольной смерти в очищающем огне был взят на небо
(II, 16, 41—47; III, 24, 15—16). Подвиг Геракла —
аллегорическое свидетельство его активной добродетели, освобождающей
землю от «несправедливости и беззакония», духовной силы,
выдержки, делающей его неприступным для зла и пагубных
страстей, победителем порока, настоящим царем и господином, верным
служителем бога (I, 6, 32-36; III, 26, 31-32; ср. III, 22, 57; IV,
10, 10). Геракл как действующее начало, одушевленное
философским знанием, противопоставляется косной инертности,
бездействию профанов [536, с. 588]. Эпиктет подчеркивает
«экстремальность» условий, в которые поставлен Геракл богом и
которые сделали Геракла Гераклом, а не Эврисфеем (II, 16 , 44; I,
6, 33). Для динамической морали Эпиктета и киников
характерны эти «испытания на прочность и на разрыв», указывающие на
то, что человеку нужно быть готовым возвыситься до героизма
Геракла. Этот кинический патрон наряду с другим
мифологическим героем — Одиссеем (III, 26, 32 и ел.), завещанный киниками
стоицизму68, завершает эпиктетовские поиски нравственного
идеала. Стоицизированный кинический мудрец Эпиктета более
рационалистичен, дисциплинирован и цивилизован, чем
импульсивный и аффектированный герой киников.
Кинические идеи и доктрины претерпели у Эпиктета
метаморфозу, после которой их трудно отличить от стоических, но
самый факт обращения к кинизму, а не к другой
философской школе и преклонения перед ним говорит достаточно
красноречиво, что бывший раб объективно тянулся к народной
идеологии, именно в ней искал спасения от своего глубоко
запрятанного отчаяния, от чувства социальной неуверенности, столь
характерной для первых веков Римской империи. Подспудно в
Эпиктете сосуществовали два лица: трагическая маска раба, еще
не залечившего свои раны и обиды, и улыбчивый лик философа,
наблюдавшего игру страстей человеческих. Не в этом ли смысл
древней эпитафии Эпиктета?
Я, Эпиктет, был рабом, хромоногим калекой несчастным.
Беден и жалок, как Ир, все же богами любим.
Глава, посвященная кинизму, сама представляет пример ки-
пико-стоической диатрибы со всеми ее особенностями начиная
с безымянного ученика (tis), который своими простодушными
вопросами и наивными возражениями (phësi) метру обнаруживав
230
ет свои заблуждения, непонимание сути дела, что дает автору
повод развернуть верную, с его точки зрения, картину киниче-
ской философии. «Быстрая смена коротких вопросов и ответов
придает стилю Эпиктета отпечаток неутолимого беспокойства,
которое должно пробудить слушателя от его моральной спячки»,—
замечает Г. Арним (PWRE, HBd И, кол. 129). Гомеровские
цитаты (§ 30; 71; 92; 107), типичные антигерои (Сарданапал,
Крез и др.—§ 27; 29), исторические и мифологические
примеры и реминисценции (§ 36; 77; 78), стандартные кинические
сравнения, нередко взятые из обыденной жизни (§ 97; 19—22;
ср. И, 21, 22; 22, 31; 24, 16-18; III, 24, 63 и др.), анекдоты
и апофтегмы (ср. I, 1, 26-27; 28-30; 2, 12-14; 19-21, 25; 7,
32-33; 9, 29-30; 10, 1-6; 19, 19-23 и др.), связанные с
именами Сократа и Диогена, даже словесная грубость и
вульгарность (§ 80; ср. I, 2, 8; II, 4, 4-5; 10, 10; III, 22, 77 и др.)-
все это говорит о сознательном подражании киническим
образцам и источникам. К этому нужно еще добавить простой
разговорный язык, койне, на котором объяснялся народ всей Греции
и который предназначался для устной пропаганды, а не для
смакующего чтения про себя.
В годы, когда в греческой литературе процветал
архаизирующий аттикизм, Эпиктет вел свои беседы на языке, далеком от
изящества, изысканной простоты и строгой регламентированности
классической аттической прозы. В этом проявились расчет на
простонародную аудиторию, на эпатаж элиты и убежденность в
выразительной силе, красочности и откровенности народного
языка, «полного солекизмами и варваризмами» (III, 9, 14).
«Народный характер его языка объясняется рабским происхождением
Эпиктета»,—утверждает П. Мельхер. Он подробно исследовал и
описал все важнейшие отклонения языка Эпиктета от аттической
нормы69: обилие латинизмов и варваризмов, композитов,
неологизмов, диминутивов, характерных для народного языка,
употребление наречий, не встречающихся в аттическом диалекте,
смешение отрицаний те и ou, предлогов en и eis, ex и hypo, hyper и
peri, нестабильное использование частиц, смешение наклонений,
нарушение правил классического синтаксиса сложного
предложения, любовь к паратаксису, антитезам и т. п. Несмотря на то что
сам Эпиктет, как и Сократ, ничего не писал, однако можно
полагать, что это особенности именно его языка, так как нет основания
не верить Арриану, который в письме, предваряющем «Диатрибы»,
уверяет, что приложил максимум усилий для точной передачи
стиля, мысли и откровенности речи своего учителя: «Что
слышал от него, я, насколько было возможно, сохраняя его
выражения, записывал, чтобы оставить потомкам память о его образе
мыслей и смелости речи». Слова Арриана заслуживают полного
доверия, ибо сам он, выходец из интеллигентной среды,
говорил и писал на чистом литературном языке своего времени.
Типичные диатрибические темы, идеи, аргументы, язык и стиль
231
характерны не только для главы о кинизме, но вообще для
всей Epictetea (ср. [457, ч. 3, гл. 111]). Правда, под
влиянием сократического диалога Платона и собственных взглядов
диатриба у Эпиктета посерьезнела, и элемент
«серьезно-смешного» в ней играет подчиненную роль. Победило желание убеждать,
проповедовать, а не только поражать и эпатировать.
Многое объединяло мораль киников и стоиков, поскольку
последние отталкивались от кинических этических заповедей. Но
еще большее их разъединяло. Речь идет даже не о физике и
логике, которые чаще всего отбрасывались киниками как уводящие
от добродетели (к этим теоретическим дисциплинам достаточно
прохладно относился и сам Эпиктет, хотя и признавал их
значение для выбора жизненной позиции —II, 25), а о духе
примирения с действительностью, о принципиальной пассивности по
отношению к внешнему миру и об убеждении стоиков, что мир этот
устроен прекрасно и справедливо, что свобода и счастье
человека заключены в безропотном повиновении порядку в природе и
обществе, космосе, якобы установленному Творцом, и в
прославлении этого порядка. И киники и стоики признавали принцип
kata physin, но для киников «природа» есть отрицание
государственности, а для стоиков — ее сакрализация. Бунтарской
сущности кинизма претит и глубокая религиозность Эпиктета,
верящего, что Бог, Провидение или Логос пронизывают все
сущее и, следовательно, делают его божественным и разумны м,
тогда как киники повсюду обличали «этот безумный, безумный,
безумный мир». Примирить стоическое «непротивление» с диогенов-
ским «сопротивлением» и нетерпимостью можно было, лишь
допустив вольную или невольную фальсификацию кинизма, что и
сделал мудрец из Никополя. Исходя из своих, самых лучших
побуждений, он «облагораживает» плебейскую философию, устраняя
из нее по мере возможности «киническое бесстыдство», грубость,
аскетическую браваду, бестиальность, внешние приметы — одежду
странника и бедняка, эксцентричность поведения (II, 12, 14—
15; IV, 11), шокирующие детали учения и практической истории
кинизма, а вместе с ними материализм и политический
радикализм. Конформистская мораль стоиков подчеркнуто «социальна»
[449, с. 15], она призывает к примирению с существующим
строем, к выполнению в нем ниспосланной свыше роли, не теряя при
этом мнимой личной свободы. Киническая же мораль сугубо
индивидуалистична и требует волевой, демонстративной
независимости от общества, основанного на социальной
несправедливости и угнетении человека человеком. Личная ответственность
индивида за судьбы мира становится самодовлеющим принципом
кинизма. Эпиктет аккуратно «причесал» лохматого кинического
проповедника, надел на него «приличное», чистое платье и
нарисовал такими красками, что теперь его можно было вполне
принять за благопристойного стоика. В таком виде, по
остроумному замечанию Жагю, он не вызвал бы протеста даже у Пла-
232
тона, оказавшего заметное влияние на Эпиктета [490, с. 145;
ср. 155]. Но в этом киники уже не виноваты. Правда, под
воздействием кинизма и сам стоицизм Эпиктета несколько погрубел,
опростился, стал более практичным, отодвинув на задний план
физику и логику.
. Фаворин из Арелаты
I и II века н. э. полны следов и свидетельств бурной
активности киников. После Диона Хрисостома и Эпиктета во весь свой
исполинский рост поднимается фигура крупнейшего сатирика
античности Лукиана Самосатского, унаследовавшего из кинического
учения все лучшее и отбросившего его крайности и гримасы70.
Тут и там в древних источниках всплывают имена известных в
свое время (II—III вв.) киников — Феагена, Агатобула, Сострата и
др., но сведения о них скудны, а в истории литературы сами они
следов не оставили. В первой половине II в. есть еще
имена, говорящие о том, что в орбиту кинического влияния
втягивались писатели, далекие и чуждые кинизму, но волею судеб
испытавшие гонения и прочие жизненные невзгоды.
Обстоятельства иногда вынуждали их прислушиваться к народу, понимать его
нужды и тревоги, признавать справедливость его взглядов, и
бывшие составители панегириков властелинам начинали говорить
жалкие слова о недолговечности земных благ, о презрении к славе
и богатству, воспевать достоинства бедности и скромной жизни.
В этом смысле символична судьба Диона Хрисостома, у которого
оказалось немало последователей.
В корпусе сочинений Диона сохранились две речи — 37-я
(«Коринфская») и 64-я («О судьбе»),—в действительности
принадлежащие, как теперь считают, его ученику Фаворину из
Арелаты (ок. 80—135 гг.), другу виднейших деятелей «второй
софистики» — Герода Аттика, Фронтона, Плутарха, Авла Геллия и др.
Этот весьма известный и преуспевающий выходец из Галлии —
ритор, философ-скептик и ученый-энциклопедист — в конце
правления императора Адриана попал в немилость и был сослан на
остров Хиос. Изгнание не было тяжким, но для избалованного славой
и комфортом человека это вынужденное уединение показалось
нелегким испытанием, и тут-то он заговорил по-кинически. Третья
из его речей, написанная на Хиосе, по-видимому, вскоре после
131 г., была обнаружена на одном египетском папирусе приличной
сохранности (не хватает самого начала и конца речи) и впервые
опубликована в 1931 г. итальянскими исследователями Вителли
и Норса [56]. Эта речь, получившая от издателей название «Об
изгнании» (Péri phygës), связана со ссылкой Фаворина (кол. 14,
40). Тема изгнания, одиночества в толпе всегда волновала
киников, бродяг и космополитов, бедняков и непонятых изгнанников в
собственном отечестве (Телет, Мусоний Руф, Дион, Эпиктет и др.).
В диатрибах на эту тему вся аргументация направлялась на то,
чтобы доказать, что изгнание — не зло и не столь страшно, как оно
233
представлялось обывательскому сознанию. Этой же цели
подчинена вся система образов и изобразительных средств, обычных для
устной кинической пропаганды, множество историко-мифологи-
ческих примеров, параллелей, образов,— короче, вся фавориновская
ученость. Диатриба должна была не только послужить
самоутешению автора, но и придать бодрости тем, кто окажется в подобном
положении. Фаворин подробно перечисляет) причины, из-за
которых изгнание кажется тяжким (тоска по родине, друзьям и
близким; утрата имущества, славы, удобств, свободы; предубеждение
против изгнания и т. п.—кол. 6,12 и ел.), и указывает, что в
действительности все они зависят от «ложного мнения». В самом
начале речи появляется киническая «троица»—Геракл, Одиссей,
Диоген в качестве идеальных героев, снискавших себе славу на
чужбине. Автор приводит известные слова Антисфена,
издевавшегося над гордыми своей автохтонностью афинянами (ср. Диог. Л.
VI, I), и Диогена о том, что афиняне приговорили его к
изгнанию, а он их — оставаться на месте (ср. Диог. Л. VI, 49).
Восхваляя Геракла (3, 32; 6,3) и Одиссея (3,39), Фаворин
остается в кругу общих мест кинической литературы, начиная с
Антисфена.
Демократический слушатель киников нуждался в конкретных
примерах и доходчивых сравнениях. Кинические пропагандисты,
исходя из своих принципов практической морали и философии
действенной добродетели (Фаворин в этой речи провозглашает
себя ее сторонником), выработали, как мы знаем, статздартный
набор таких примеров и сравнений. К ним и обратился ритор.
«Животные» сравнения здесь привлекаются для демонстрации
разумности природы и глупости людей: журавли, например,
совершают ежегодно, зимой и летом, перелеты из Фракии в Египет и
обратно, но не считают Фракию родиной, а Египет — местом
ссылки (см. 9, 15; 9, 28; 10, 11; 12, 27). Жизнь привычно
сравнивается со спектаклем и Олимпийскими играми, где каждому
участнику отведена определенная роль. В фаталистической
направленности «театрального» сравнения, в готовности
безропотно подчиниться судьбе и воле бога сказалось влияние стоицизма
эпиктетовского толка. Признаки типичной диатрибы, от которой
ее отличает только риторское изящество [180, с. 199],
дополняются многочисленными цитатами из Гомера и Еврипида,
эмоциональными апострофами, образом кинического жупела —
изнеженного царя Сарданапала и др.
Диатриба «Об изгнании»—памятник кинической литературы,
но, как это ни парадоксально, самого Фаворина нельзя назвать
даже киническим попутчиком, ибо в общем он относился
враждебно к киникам [214, с. 119]. «Об изгнании»—лишь щедрая дань
популярности кинической доктрины, утверждавшей
незыблемость и самоценность отдельной человеческой личности и
бренность, изменчивость и непостоянство мира и его
конвенциональных ценностей.
234
Кебет Фиванский
Приблизительно к той же эпохе, что и речи и диатриба Фа-
ворина, относится небольшой, но весьма любопытный памятник —
«Картина», приписанный ученику Сократа Кебету Фиванскому
(Kebëtos Pinax) и пользовавшийся удивительным успехом в
древности и в новое время, и в частности у русского читателя71.
Хотя автором картины, описанной в диалоге, назван некий
мудрый чужестранец, последователь Пифагора и Парменида (II, 2),
однако и картина и диалог обнаруживают неоспоримую кинико-
стоическую тенденцию. Издатель греческого оригинала
придерживается мнения, что «Кебет был ритором, приверженцем
стоической или кинической школы (stoicorum vel cynicorum sectae ab-
dictum) и жил после Диона Хрисостома и до Лукиана» [315
с. 111]. «Картина»—аллегорическое описание ложного и
истинного образования, в пей противопоставляются два пути в жизни,
каждый из которых персонифицируется в киническом духе (ср.
Дион Хрис. I, 59—84). Русский переводчик диалога В. Алексеев
пишет в своем «Введении»: «По глубине нравственных идей,
лежащих в его основе, сочинение Кебета — одно из прекраснейших
произведений древнегреческой литературы, имеющее себе мало
равных».
Оценка показательная, но явно завышенная для сочинения,
в котором преобладают несколько навязчивая рационалистическая
дидактика и прямолинейная аллегористическая нравоучительность.
... У храма Кроноса выставлена посвященная богу картина с
загадочным сюжетом. На ней изображен то ли город, то ли лагерь,
окруженный стеной, внутри которого еще две ограды с проходами.
У ворот первой ограды теснится большая толпа, а за ней —
множество женщин. У входа стоит какой-то старец со свитком в руках.
Содержание картины не могут понять посетившие храм
чужестранцы. Его берется растолковать некий старик, местный житель,
слышавший в молодости объяснения от самого художника: «Если
вы поймете смысл картины, то обретете мудрость и счастье. Если
же нет, останетесь глупцами несчастными. Жизнь ваша пройдет в
горечи, невежестве и пороках. Само толкование мое похоже на
загадку Сфинкса... Кто разгадывал ее, спасался, кто нет, того Сфинкс
пожирал... Глупость (Aphrosynê) и есть для людей Сфинкс. Он
загадывает, что в жизни добро, что зло, а что ни то, ни другое. Кто
это не в состоянии постичь, тот гибнет» (III, 1—3).
Объяснение картины сводилось к следующему: огражденное
место — жизнь, толпа у ворот — те, кто собирается вступить в нее.
Старец со свитком — добрый Гений (Daimön), указывающий
правильный путь в жизни. У входа расположен трон, на котором
восседает женщина —Ложь (Apatë). Она опаивает всех своими
напитками — заблуждением и невежеством. Людей, уже
вступивших в жизнь, за оградой поджидают гетеры: Ложные мнения.
Желания, Наслаждения (Doxai, Epithymiai, Hëdonai). Отведавшие
235
напиток Апаты не могут найти истинной дороги. На круглом
камне, символизирующем непостоянство и обман, стоит слепая, глухая
и безумная женщина — Тиха (Случай, Судьба). Одним она блага
дает, у других отнимает. Благосклонность ее изменчива, она
окружена толпой, жаждущей подачек. Те, кто получит дары,
называют ее Удачей (Agathe tychë), а кому ничего не достанется —
Невзгодой (Kakê tychë). Дары ее все ценят —это «богатство, слава,
знатность, дети, тирания, царская власть и т. п.» (VIII, 3).
На жизненном пути ждет людей множество испытаний: у
входа во вторую ограду тех, кто получил дары Тихи, подстерегает
толпа других гетер — Распутство, Ненасытность,
Невоздержанность, Лесть (IX, 1). Промотав все свое состояние, люди
становятся рабами этих продажных женщин, воруют, святотатствуют,
становятся клятвопреступниками, изменниками, разбойниками и т. д.
Понятно, что в самом мрачном месте города, называемого Жизнь,
их уже поджидают Возмездие, Скорбь, Горе, Плач и Уныние.
Существует, впрочем, и Раскаяние (Metanoia), помогающее
заблудшим выбраться из моря бед. Оно приводит к Истинному
образованию (eis tën alëthinën Paideian), но может толкнуть и к
Ложному (Pseydopaideian — XI, 1). Это последнее в образе
милой и приличной женщины стоит у входа в третью ограду.
Большинство принимает ее за настоящее образование и называет Пай-
дейей. Среди ее вздыхателей — «риторы, диалектики, музыканты,
математики, геометры, астрологи, гедоники, перипатетики,
критики и т. п.» (XIII, 2). Пока люди во власти псевдо-Пайдейи, они не
могут избавиться ни от одного из пороков.
Путь к Истинному образованию идет по высокому холму, он
крут и каменист, над ним громоздятся скалы. В тех, кто решится
вступить на него, вселяют мужество и надежду две сестры —
Воздержанность и Твердость (Enkrateia, Karteria), которые и
указывают ровную и безопасную дорогу. Истинное образование стоит на
прочном и незыблемом четырехугольном камне в окружении
дочерей — Истины и Убеждения (Peithö), оно лечит и освобождает
человека от пороков, с которыми они пришли,— невежества,
заблуждений, распущенности, гнева, сребролюбия и т. п. (XIX, 5).
Вместе с истинными знаниями человек обретает множество
подлинных благ — мужество, справедливость, совершенство (kaloka-
gathia). благоразумие, прямоту, свободу, воздержанность
(enkrateia) и сдержанность (praiotës — XX, 3). Добрый Гений, как это
говорится про киников, указывает людям краткий путь к
Истинному образованию (XXXII, 4). В конце диалога выясняется, что кое-
что полезное для жизни может быть взято и у Ложного
образования (в частности, умение читать и писать — grammata), но для
воспитания нравственности (XXXIII, 4) все эти науки ничего не
дают. «Ничто не мешает знать литературу, овладевать науками и
в то же время быть пьяницей, развратником, стяжателем, негодяем
и круглым дураком» (XXXIV, 3). Все блага, предоставляемые
Тихой, включая самое жизнь и здоровье, вовсе не являются благами
236
и безразличны для добродетели (XXXVI). Особенно не следует
причислять к благу богатство, так как оно не делает людей лучше
или более счастливыми и добывается обычно преступлениями
(предательством, разбоем, убийствами, доносами, воровством и т. п.—
XI, 3). Подлинное благо — в мудрости, а несчастье — в глупости
(XII, 3).
Аллегорический миф, рассказанный в картине (XXXIII, 1) и
растолкованный словоохотливым стариком, откровенно дидактичен,
смысл всех его построений и деталей раскрывается в конце,
обнаруживая киническую печать: все ценимые блага в мире, как и
«общеобразовательные дисциплины» и науки (XIII, 2), не имеют
отношения к нравственности. Не многознание, а благоразумие и
истинное образование, подчиненное воспитанию характера, души,
ума и чувств, делают людей счастливыми. Прошедшие школу кини-
ческого воспитания могут, в свою очередь, сами, подобно врачам,
спасать других (XXVI, 1). Все эти идеи, как и стиль и фразеология
диалога, вместе с провозглашаемыми добродетелями (enkrateia,
karteria, eleytheria, alëtheia, dikaiosynë, sophrosynë) и
заклейменными пороками и недостатками (doxa, epithymiai, hëdonai, akrasia,
aplëstia, kolakeia) обычны для кинико-стоических диатриб и сатир.
В «Картине» псевдо-Кебета киническая любовь к аллегориям
доведена до своего логического конца.
Диатриба псевдо-Плутарха «Об упражнении»
Об успехе литературной и пропагандистской деятельности
киников во II в. н. э. свидетельствует и тот факт, что их сочинения
связываются нередко с именами известных писателей, не
принадлежащих, так сказать, профессионально к кругу кинических
философов. Так, диатриба «Об упражнении» (Peri askeseös)
приписывается Плутарху, хотя чужда ему идеологически. Эта речь
сохранилась лишь в сирийской обработке VIII—IX вв. и переведена на
немецкий язык Гильдемейстером и Бюхелером [95, с. 520—538] 72·
Автор ее убеждает, что без упражнения, труда, профессионального
мастерства, тренировки и закалки человек не может добиться
счастья и совершенства. Упражнения и трудолюбие помогают
преодолеть ненужные желания, природные недостатки, даже
слабости самой старости (181), атлетам — одержать победу над более
сильным противником (178), всем людям — завоевать свободу
(184). Сами невзгоды отступают перед упражнением (тут автор
прибегает к «животному» сравнению: беды похожи на собак —
незнакомых они кусают, а к своим ластятся). Так и несчастья,
кто к ним не привык, тем они приносят страдания, а привычных
не трогают (185).
В речи неоднократно говорится о пользе и необходимости труда,
о том, что «работа делает людей добродетельными» (181), и,
наконец, провозглашается: «Без труда нет добра» (181). Основные
идеи речи о роли труда и аскезы были высказаны еще основате-
237
лями кинизма (Диог. Л. VI, 2, 70 и ел.) и подхвачены кинизиру-
ющими авторами (Леонид Тарентский, Дион Хрисостом, Эпик-
тет—III, 12; II, 9, 13 и др.). Здесь они, как и полагается в
диатрибе, подкрепляются примерами, сравнениями, сентенциями,
ссылками на великих людей и т. д. Но вот репертуар сравнений
и примеров у псевдо-Плутарха отличается необычностью и
своеобразием, говорящими о том, что здесь мы имеем дело с
«просвещенным» киником, сторонником тех самых наук — enkyklia ma-
thêmata, которые отвергались псевдо-Кебетом. «Кто намерен стать
мудрым, должен прочесть множество книг философов, поэтов и
риторов»,—говорит автор диатрибы «Об упражнении». В
доказательство своей правоты он не приводит избитых примеров с
Гераклом, Одиссеем, Диогеном и другими киническими кумирами,
которые, казалось бы, здесь так уместны. Упоминается только
Сократ, доказавший, что «с помощью аскезы можно избежать
даже желаний» (180).
Отказывается псевдо-Плутарх и от мифологических
иллюстраций. Все его примеры взяты из истории, особенное внимание он
уделяет искусству и красноречию. Образцом трудолюбия и
непритязательной жизни служит Демосфен (179), художники Протаген
и Никомах (178; 186), в том же духе рассказывается о Кимоне, Ас-
пазии (правда, писатель смешивает возлюбленную Кира со знамег
нитой женой Перикла), об одном, видимо киническом, философе
при дворе Клеопатры (177), о каком-то необычайно выносливом
старике из Ливии, в свои 94 года занимавшемся упражнениями со
щитом и мечом (181). Характерно для позиции автора обращение
к женщинам, отдающим всю жизнь воспитанию детей (184).
Киники, как известно, выступали за равноправие женщин, утверждая
равенство мужской и женской добродетелей. Прославляя труд и
аскезу, псевдо-Плутарх одновременно клеймит позором
современную ему распущенность, падение нравов, изнеженность и роскошь,
когда мужчины прихорашиваются и становятся похожими на
женщин, что всегда возмущало киников (ср. Диог. Л. VI, 64; Дион
Хрис. 21; Эпиктет III, 1, 18 и др.). Ныне, говорит автор диатрибы,
«некоторые до того изнежены, что устают даже тогда, когда их
несут на носилках. Другие должны их одевать, умывать, умащать,
укладывать в постель и т. п.» (181). Недовольство
действительностью проникало во все слои общества, и, когда нужно было
заклеймить его и вместе с тем предложить хоть какой-нибудь
положительный идеал, люди, склонные прислушиваться к народу,
обращались к кинизму, говорили о ценности труда и порочности
богатства.
Как отмечалось выше, киническое движение в I—II вв.
приобрело широкий размах. Кризис III в. с его гражданскими войнами,
нашествием варваров, бесконечными переворотами, восстаниями,
волнениями отодвинул на задний план и деформировал
философские искания, губительно отразился на литературе. Все
захлестнула волна мистицизма и религии. Замирает почти вся духовная
238
жизнь, и лишь зарождение неоплатонизма (Плотин, Порфирий)
свидетельствует о том, что античность еще не окончательно
исчерпала свои творческие возможности. Распространение
христианства и неоплатонизма заслоняет учения других школ,
впитывавших новые веяния. Кинизм оттеснен и загнан, но он живет
в самой гуще народной. Лишь в IV в., при кратковременной
реставрации языческого эллинизма, мы снова встречаемся с
крупной исторической личностью, которая по-своему отозвалась на
кинические идеи. Это был император Юлиан, прозванный
отступником.
Император Юлиан и «невежественные киники»
Агония древнего мира была бурной и длительной. Эллинизм и
вся система античного способа производства и миросозерцания,
переживая свой последний кризис, с боем сдавали позиции:
отступали, вновь переходили в атаку, терпели поражения и одерживали
частичные победы. При взгляде с близкого расстояния было даже
нелепо подумать, что история все-таки развивается по спирали.
Классическая цивилизация была обречена, но не признавалась в
этом ни себе, ни другим. Случилось так, что жгучие социальные
проблемы заката античности сфокусировались в одной точке — в
религии, в борьбе язычества и христианства, в соперничестве
языческих культов между собой, в ожесточенном споре
ортодоксальной церкви и ересей, арианцев и никейцев. Нелегко представить
в наш рационалистический век озлобление и страстность,
сопровождавшие споры о троице или о других символах веры, распри
всех этих гомоусиев и гомойусиев, аномеев и гомеев, задевавшие
реальные интересы людей, ибо всякая религиозная оппозиция в
те далекие времена имела своей подоплекой социальные мотивы.
«Если эта классовая борьба протекала тогда под знаком религии,
если интересы, нужды и требования отдельных классов
скрывались под религиозной оболочкой, то это нисколько не меняет дела
и легко объясняется условиями времени» [5, с. 360]. Эти условия
были порождены всеобщей апатией и деморализацией, когда
выход из социального и морального тупика виделся только в
иррациональном, в религии [9, с. 311 и ел.].
К началу IV в. христианство утратило свою первоначальную
демократичность и революционность, перестало быть бедным и
третируемым родственником при языческих культах и захватило
ключевые позиции в политической жизни Римской империи.
Стараниями Константина, почувствовавшего, что сильная церковь
поможет ему держать в узде народы мировой державы и сохранить
власть, христианство из гонимой религии становится официальной
опорой домината, опорой рабовладения. Миланский эдикт 313 г.
был проникнут не столько веротерпимостью, сколько желанием
идеологически подчинить себе массы. Наряду с укреплением
церковных позиций при дворе возрастала роль высшего духовенства,
клира, происходили дальнейшая бюрократизация власти и сращи-
239
вание светской и духовной администрации. Получает развитие
крупное землевладение, сопровождавшееся обнищанием масс,
куриалов, расслоением и разложением мелкого и среднего
крестьянства, укреплением колонатных отношений.
Император Констанций, двоюродный брат Юлиана,
захвативший престол в результате кровавых междоусобиц, продолжал
начатую Константином христианизацию империи и преследование
язычников, среди которых помимо жречества и старой
интеллигенции было немало мелких и средних крестьян и даже свободных
горожан. Все эти факты достаточно известны, но без напоминания о
них не понять ни смысла, ни форм решительной борьбы, которую
пришлось вести Юлиану73, с неожиданной легкостью ставшему
римским императором (361—363). Юлиан объективно был
реакционным романтиком, когда пытался реставрировать отживший
языческий политеизм, опираясь в первую очередь на языческую
интеллигенцию, на старую сенаторскую знать, преданные ему
легионы и некоторые круги разлагавшихся средних слоев
римского общества середины IV в. «Вдохновленный призрачными
отжившими идеалами, Юлиан вел борьбу против очень реального зла,
от которого жестоко страдала значительная часть его
современников» [318, с. 390]. Добавлю, что эта борьба оказалась довольно
бесплодной.
Языческий политеизм явно пережил себя, ибо вдохновлялся
полисной сепаративностью, но не идеями мировой империи.
Именно поэтому приходилось репрессировать первых христиан и в то
же время искать новых путей для укрепления, модернизации и
трансформации древних верований, объединяя философию и
религию, потихоньку заимствовать кое-что у христиан, насаждать мит-
раизм, культ Великой матери богов или бога Солнца, который
широко вводил уже Аврелиан (270—275). Богоискатель и
богостроитель Юлиан, учитывая опыт христианства, пытался создать новую,
усовершенствованную на неоплатонической основе философскую
религию, дополнив ее высоконравственной жреческой
организацией. Но его реформация «сверху» могла вызвать энтузиазм
только у части населения, ущемленной христианами, и то лишь на
первых порах в силу психологической инерции и живучести
многовековых традиций. Сочувственный отклик и симпатию вызывали
в народе не столько неоплатонические восторги молодого
императора, его поклонение Гелиосу, мистицизм и суеверия, сколько
удачливость в войнах с варварами и социальные реформы,
направленные на подъем «курий, городов и земледельцев» (Либаний).
Впрочем, и здесь его не до конца поняли. Дело Юлиана с самого
начала было обречено на провал. Если неоплатоники пытались
сохранить старую религию, утратившую уже свою
социально-экономическую базу, то христианские богословы и апологеты III—IV вв.
были глашатаями идущей к власти новой, не помнящей родства
провинциальной земельной и чиновной знати» [148, с. 125].
Языческая реакция, «отступничество» Юлиана коренились как
240
в объективных условиях недовольства некоторых классов и
сословий, так и в его личной судьбе, и в свойствах его характера, и в.
особенностях окружения — воспитателей и друзей, приверженных
к идеологии древнего эллинства, не давших Констанцию
осуществить свой замысел и сделать из Юлиана верного христианина,
chrëstianos bebaios (Евнапий. Жизнеописание софистов 47).
Юлиан встал под знамена антихристианской борьбы, которую уже до
него вели неоплатоники (Плотин, Порфирий и др.)· Неоплатонизм
устраивал его не только своей мистической теологией, но и
принципиальным монархизмом. К счастью или к несчастью, учителями
и доброжелателями Юлиана оказались высокообразованные
язычники — евнух скиф Мардоний, пергамский неоплатоник Эдесий,
знаменитый ритор Либаний, неоплатонический философ, маг и
чудотворец, тавматург, Максим Эфесский, врач Орибасий, философ и
софист Фемистий74 и др.75. Еще в годы учения в Афинах Юлиан
столкнулся с известнейшим христианским писателем Григорием
Назианзином (Богословом), который стал его заклятым врагом.
Христиане были личными врагами Юлиана: они убили его отца,
брата, а самого держали долгое время в фактическом заточении,
высылали, заставляли лгать и лицемерить. Среди язычников он
видел внимательных, тонких и просвещенных друзей,
распахнувших перед ним мир древней поэзии, красоты и культуры,
таинственный и заманчивый мир богов и героев, отвечавших
мистическому настрою его натуры. В христианах, которых называл
галилеянами, он видел лишь ненавистную политическую силу,,
торжествующее невежество и безбожие, ибо монотеизм отрицал
весь древний пантеон. Все черные силы, все плебейство,
невежество и порок олицетворялись в глазах Юлиана христианством. С
восшествием на престол Юлиана христианство лишилось
официальной поддержки и свободного влияния на массы, оно отдалилось
от государства.
Вместе с тем Юлиан отличался удивительной для своего
времени веротерпимостью и не пытался уничтожить своих идейных
противников физически, истребить «огнем и мечом», он хотел их
переубедить. Будучи неоплатоником, он не преследовал сторонников
других философских и религиозных направлений и, напротив,
старался их примирить, объединить и создать единый языческий
фронт против христианских адептов. Но среди старых философских
школ, чье начало восходило еще к Сократу, одна вызывала у него
гнев и ненависть, и с ней он был готов разделаться гораздо круче,
чем с христианами, считая, что ее представителей нужно
не убеждать, а учить ударами, как диких зверей (VII, 237 CD).
Этой школой был кинизм, казавшийся ему более опасным, чем
христианство, так как он хоть и не был заодно с христианами, но
представлял враждебную силу внутри лагеря Юлиана, не
разделявшую его безудержного эллинофильства и грозившую
изнутри разложить создаваемый им единый фронт эллинизма. О киниз-
ме IV в. известно мало, но, судя даже по скудным и враждебным
2ΊΪ
источникам, он был достаточно популярен в народе (иначе стоило
ли Юлиану с такой энергией копья ломать, чтобы разоблачить
каких-то жалких сектантов!), ибо сохранил свои древние
демократические и свободолюбивые принципы, критический пафос
неприятия действительности, отвращение к религии, мистике и всякой
метафизике. В то время как все древние школы изменили свои
доктрины настолько, что превратились в неоплатонизм,
неостоицизм (Новая Стоя), неопифагореизм и т. д., кинизм, по словам
Геффкена, «ничему не научился и ничего не забыл» [471, с. 94].
Киники не изменили своей главной традиции — обличать сильных
мира сего: они были консервативны в своей исходной
революционности, в необычности провозглашаемых ценностей.
Юлиан рассказывает об одном своем сверстнике из
состоятельной семьи, по имени Ификл, который бросил все и стал нищим
киником — «с длинными грязными волосами, с растерзанной
грудью, ходившим в одном рваном плаще в разгар зимы» (198 А).
Этот Ификл уже при императоре Валентиниане отважно выступил
против одного из его могущественных и жестоких вельмож —
префекта претория Проба,— обличая его беззакония и произвол
(Аммиан Марцеллин XXX, 5, 8 и ел.). Такой человек и ему
подобные не могли не пользоваться уважением и поддержкой в
народе. Внешние проявления кинизма позволяли всяким
проходимцам с легкостью надевать маску философа-киника и давали
тем самым дешевый повод для острот и поношений, рикошетом
задевавших и серьезных киников. Но в данном случае дело
глубже, и «невежественные киники» Юлиана — не просто фигляры
и шуты, отбросы общества, а явление интеллектуальной и
общественной жизни эпохи, противостоящее разгулу мистицизма и
суеверий всех мастей.
В социальной функции кинизма и первоначального
христианства было немало точек соприкосновения, что побуждало
некоторых киников и христиан высказывать друг другу взаимные
симпатии. Филантропизм, готовность к самопожертвованию,
аскетизм, похвала бедности, презрение к мирским благам, обличение
несправедливости, равнодушие к спекулятивным наукам,
критика языческих культов, религии, мистерий и оракулов, простота
образа жизни и формы народной проповеди привлекли к кинизму
внимание христиан и дали известный толчок к возникновению
монашества. Василий Кесарийский (Великий), однокашник
Юлиана, считал Диогена образцом для монашества. В надгробном
слове, посвященном памяти Василия (речь 45), патриарх
Константинопольский Григорий Назианзин описывает аскетический
образ жизни своего друга, его облик философа, «воздержание,
довольство малым, нестяжательность, жизнь скудную и не
терпящую излишеств» — и перед глазами христианского иерея
встает образ язычника Диогена. Поэтому он вынужден добавить,
отгоняя от себя этот навязчивый образ: Василий «старался быть,
а не казаться совершенным, жил не в бочке и не среди торжища...».
242
Некоторые современные исследователи христианства
высказывают мнение, что пример бродячих кинических проповедников
повлиял на самого Иисуса Христа [546, с. 10].
В духовной истории IV в. мы сталкиваемся еще с одной
фигурой, которая знаменует собой близость кинизма и христианства.
Это МаксимАлександрийский, христианин-бунтарь и ки-
нический философ, известный благодаря своим связям с Григорием
Назианзином [526, с. 18—48]. Пока Максим оставался просто
киником, Григорий превозносил его до небес, но стоило Максиму
начать добиваться архиепископской кафедры в Константинополе,
занятой Григорием, как тот обрушился на него с проклятиями,
обыгрывая двойное значение слова kyön («собака» и «киник»).
В похвальном слове (речь 25) философу Ирону (под ним
подразумевался Максим) Григорий называет его «наилучшим и
превосходнейшим из философов и свидетелем истины», который
«заимствует у языческих философов наружность и одежду, а у
нас —истину и возвышенность» (гл. 2). Григорий хвалит киников
за воздержание, за правду, которую они говорят царям, за
презрение к роскоши и богатству, а в речи против Юлиана с уважением
отзывается об Антисфене и Кратете (гл. 72) 76.
В критике язычества христиане нередко пользовались
аргументацией киников. В частности, критику оракулов они вели при
помощи аргументов Эномая, чье сочинение «Против оракулов»
(«Обличение обманщиков») нам известно благодаря большим
цитатам у Евсевия Памфила. Правда, некоторые «отцы церкви»
нападают на киников «за обман и лицемерие». Юлиан помимо
Гераклия, которому «посвятил» специальную речь, называет еще
нескольких киников, пришедших ко двору императора-философа
(Асклепиад, Серениан, Хитрон, некий белокурый и стройный
юноша и ряд других —224 D). Гераклию Юлиан инкриминирует
сходство киников с галилеянами (22ВС).
Как уже отмечалось, киники волновали Юлиана не менее
серьезно, чем христиане. Среди повседневных забот и треволнений,
загруженный военными и административными делами, отдавая часы
ночного отдыха для философских и литературных занятий, он
находит время, чтобы посвятить кинизму две полемические речи
(написаны в первой половине 362 г.). Как показывают эти речи,
Юлиан был хорошо знаком с киническим учением не только по
легендам и пересказам, но и по первоисточникам: читал трагедии,
авторство которых приписывают Диогену (186 С), стихотворения
Кратета (199А и ел.), сочинения Эномая Гадарского
(199А),штудировал речи Диона Хрисостома, не дошедшую до нас биографию
Кратета, написанную Плутархом (200В), знакомился с псевдоки-
ническими письмами, жизнеописаниями Диогена Лаэртского и др.
(см. VI, 186ВС; 187С; 199АВ; 200В; VII, 208С; 209B-210D; 212А;
212С;213Аидр.).
На первый взгляд отношение Юлиана к кинизму двойственное,
как и у Эпиктета: решительно отвергается современный кинизм
243
и высказывается восхищение древним, «истинным» кинизмом. Но
восхищался он не подлинным, исторически достоверным, древним
кинизмом, а своей собственной выдумкой — кинизмом в
неоплатоническом варианте. Неоплатонизм, как известно, вобрал в себя
главным образом идеи платонизма и стоицизма, через последний
в него проникли некоторые элементы кинической этики, которые
могли импонировать Юлиану, аффектированному, склонному с
детства к строгой и неприхотливой жизни подвижника. В письме к
Фемйстию есть слова, под которыми охотно подписался бы любой
киник: «Главное заключается в том, что я не избегаю трудов, не
гоняюсь за наслаждениями, не люблю праздности и легких путей
и чувствую неприязнь к государственной жизни» (266С).
Перелицованный на свой манер кинизм был ему не только не страшен,
но даже годился в союзники. Уже в конце своего короткого
правления, зимой 363 г., остановившись в Антиохии перед трагическим
походом на персов, император с горечью и обидой упрекает
жителей этого веселого и жадного до зрелищ города в легкомыслии и в
том, что они не оценили всех его милостей и благодеяний, ответив
на них насмешками и издевательствами. В речи «К антиохийцам,
или Ненавистник бороды» (Antiochikos е Misopögön), полной
язвительной и скрытой иронии, Юлиан не без кокетства примерно
так рисует свой внешний облик: угрюм, нелюдим, не очень красив,
с козлиной бородой, кишащей насекомыми, грязен и космат. Я
ненавижу лицедейство, продолжает он, конские бега, сплю на грубом
ложе, мало ем, веду воздержанный образ жизни, презираю
удовольствия и наслаждения (339А—345D). Все это мог бы сказать о себе
и профессиональный киник. Юлиан даже бросает реплику,
свидетельствующую об идеализации тех самых варваров, с которыми он
бился на границах империи: «Я долгое время жил как охотник,
вращаясь среди дикарей и лесных зверей, встречая характеры, не
умеющие льстить и угодничать, но относящиеся ко всем одинаково
просто и свободно... Я не находил счастья в роскоши» (359 ВС).
Перейдя от христианства к язычеству, Юлиан чувствует себя новым
Диогеном, по-своему воплотившим в жизнь оракул дельфийского
бога о «перечеканке монеты», и не случайно приписывает антио-
хийцам слова о том, что он якобы «перевернул мир вверх дном»
(360D).
Какие же причины побудили толерантного Юлиана
возненавидеть киников и написать «на одном дыхании» (apneusti — VI,
203 С) две посвященные киникам речи: «Против невежественных
киников» (VI) и «К кинику Гераклию» (VII). На некоторые
причины указывает сам Юлиан, а иные устанавливаются на основе всех
его поступков и мировоззрения. 1. В своей реформаторской
деятельности «Отступник» опирался прежде всего на влиятельную
языческую интеллигенцию, сенаторов и так называемые средние
слои. Близкие Юлиану философы, риторы, религиозные деятели
были враждебны киникам, всегда всем недовольным и связанным с
презираемой ими чернью. У Юлиана-неоплатоника и киников была
244
разная социальная база. Киники оставались оппозиционной
существующему режиму силой, неоплатоники — охранительной, т. е.
Юлиан выступает не просто против идейно чуждой ему
философской школы, но против политической оппозиции, грозившей
разрушить все дело его жизни. 2. Киники с их деструктивными
принципами смеялись и надругались над всем, чему поклонялся Юлиан,
сделавший объектом религиозного преклонения всю древнюю
культуру, эллинизм, олимпийских богов, оракулы, мистерии и т. п. Ки-
ническое «невежество» претило царственному интеллектуалу с его
мистико-теоретическим складом ума. 3. Кинические безбожники
идентифицировались Юлианом с его заклятыми врагами —
христианами (VI, 192 D; VII, 224 А). Речь шла о «христианских
киниках», имевших успех в народных низах и вдвойне ненавистных
Юлиану. 4. Новые киники, по мнению Юлиана, своими речами и
поведением дискредитировали и уважаемых основателей киниз-
ма и вообще всю философию, эллинство и его славное прошлое
(VII, 223 D; 225 А). 5. Юлиан занимался собиранием всех сил
язычества, стремясь противопоставить их мировому христианству,
а киники были чем-то вроде троянского коня, находившегося в
языческом лагере, грозя его обороноспособности77.
Как видим, и объективных и субъективных причин для
выступления Юлиана против современного ему кинизма было
предостаточно, не говоря уже о более мелких поводах для недовольства
последователями этого учения (нападки на него самого,
теоретические расхождения в вопросе толкования сущности мифологии
и др.).
Речь императора Юлиана «Против невежественных киников»
(Eis toys apaideutas kynas) 78 была написана за две ночи (203 С)
в мае или июне 362 г. в Константинополе и дает представление о
его взглядах на новый и древний кинизм и на философию в целом.
Все сочинения Юлиана написаны «по поводу», ибо времени на
вынашивание планов у него не было. Толчком для написания данной
речи был приезд из Египта какого-то не названного по имени
киника, «не имеющего отношения к жрецам, а из тех, кто ест все»
(192 D), боявшегося в разгар лета мыться холодной водой, дабы
не простудиться (180 D). И этот изнеженный человек осмелился
критиковать известного своим аскетизмом и мудростью Диогена —
он обвинял его в тщеславии, гордыне, пустозвонстве, бесстыдстве
и прочих грехах (180 D, 181 А), считал, что он заслуженно
поплатился за свое тщеславие смертью, съев сырой полип. Киник
хвастался своей проницательностью: он познал, что смерть — зло,
а от Диогена эта истина ускользнула, ибо он не считал ее ни
страшной, ни мучительной, подав больному Антисфену кинжал со
словами: «На случай, если тебе понадобится помощь друга...»
(181 В). Обвинял он Диогена и в том, что тот ел сырое мясо и
оскорблял чувство приличия (190 С и др.). Выступая против
египетского киника, Юлиан претендует на защиту «истинного
кинизма» и своим рассказом о нем, услышанным от своих учителей
245
(181 D), хочет принести пользу тем, кто собирается встать нг
путь кинизма. Если же найдутся «рабы телесных наслаждений»,
которые станут насмехаться над его поучениями («мало ли
находится собак, готовых помочиться у дверей наших школ и
судов!»), то наплевать на них, как на собак (182 В).
Юлиан рассматривает кинизм как некую философскую
школу, которая не хуже и не менее почитаема, чем другие, и даже
соперничает с самыми прославленными из них (182 С). Уже
сама эта точка зрения возвышает кинизм, который некоторые
древние и новые ученые хотели бы рассматривать лишь как
некий «образ жизни» (enstasis bioy).
Среди дальнейших рассуждений о философии обращает на
себя внимание утверждение, важное для понимания
мировоззрения и жизненной позиции Юлиана. Нельзя расчленять
философию и из одной делать множество: «Истина одна, и философия
одна» (alêtheia mia, hoytö kai philosophia mia — 184 C; 185 C).
Но пути к ней могут быть разные — ведь и в Афины можно
добраться по морю или по суше. Что же это за единая и
единственная, истинная философия, помогающая приблизиться к богам и
уподобиться им? (183 А). Разумеется, это неоплатонизм, в
орбиту которого втягиваются все философские системы, в том числе
и киническая. И пусть никто не возразит, предупреждает
Юлиан, когда «кто-нибудь из вступивших на одну и ту же дорогу
свернет с нее и очутится где-нибудь в другом месте, словно
соблазненный Киркой или лотофагами, т. е. наслаждением, славой
или чем-нибудь подобным, откажется идти дальше и достичь
цели. Пусть в этом случае он обратится к примеру основателей
каждой школы и тогда увидит, что все их принципы
согласуются» (184 D- 185 А).
В этих мыслях Юлиана прежде всего отразились его
желание собрать воедино, консолидировать все силы умирающего
язычества для последнего боя христианству и, кроме того,
объективный исторический процесс, когда на последнем этапе
античная философия эклектически соединила и вульгаризировала
великие учения древности независимо от их первоначальной
ориентации. Стоики, эпикурейцы и скептики растворяются в
неоплатониках, «философия которых представляет собой не что
иное, как фантастическое сочетание стоического, эпикурейского и
скептического учения с содержанием философии Платона и
Аристотеля» [3, с. 129].
В доказательство единства философии Юлиан приводит
Гераклита, Пифагора, Аристотеля, Зенона, сделавших главным
принципом своих доктрин наставление Аполлона «Познай
самого себя» (185 А—185 D). В этом можно убедиться, вспомнив
также о цели всякой философии — «жить согласно природе».
Осуществление этого принципа невозможно без самопознания,
как немыслимо, не изучив свойств железа, знать, на что оно
годится (186 А; ср. 193 D). Естественно, что все эти общие и пред-
246
верительные замечания о философии, ее единстве и о различных
путях к ней нацелены на кинизм. «Теперь поговорим о киниз-
ме», — заключает свои аргументы Юлиан (186 В) и дает свою
концепцию этого учения, отвечая тем самым на инсинуации
«невежественных киников». Прежде всего нужно было очистить
основателей школы от обвинений в легкомыслии, вульгарности
il непристойности, поэтому он старается убедить читателя, что
нашумевшие трагедии Диогена принадлежат в действительности
некоему Филиску с Эгины (186 С). Если же они и в самом деле
написаны Диогеном, то это только «шутка мудреца». Вот ведь
и Демокрит смеялся над серьезными занятиями людей. Затем
Юлиан призывает, изучая философию киников, не
ограничиваться их экстравагантными выходками и шутками. В этом
случае мы уподобились бы тем, кто, прибыв в прекрасный город, не
стал бы посещать его святилища, храмы, их мудрых служителей,
осматривать памятники и другие достопримечательности, а
отправился бы в злачные места — общественные бани, публичные
дома, трактиры и тому подобные заведения (186 D). Можно ли
так составить верное представление о городе?! Юлиан
сравнивает также киническую философию со статуэтками Силенов,
которые скульпторы выставляют у порога своих мастерских. Внутри
этих статуэток скрыты изваяния прекрасных богов (187 AB).
Это сравнение целиком заимствовано Юлианом из «Пира»
Платона, где Алкивиад уподоблял таким Силенам Сократа (215 AB).
Вопрос об основателе кинической школы (hëgemona)
приобретает у Юлиана принципиальный характер и связан с его
неоплатонизмом. Обычно схолархами киников называют Антисфена
и Диогена, но Юлиан сочувственно цитирует ненавистного ему
Эномая, заметившего, что «кинизм — это ни антисфенизм, ни
диогенизм» (187 С). Другие называют основателем кинизма
«великого Геракла», потому что тот оставил людям «величайший
пример» кинической жизни. Но, согласно Юлиану, и Геракл не
может считаться настоящим родоначальником кинизма.
Фундамент этой философии был заложен не только эллинами, но и
варварами. Кинизм — самая универсальная (koinê) и естественная
(physikôtatë) философия, не требующая каких-то особых
исследований (187 С). Она не нуждается в тысячах книг, ибо многозна-
ние (polymathia) ума не прибавляет, кинизм состоит в
предпочтении добра злу, в стремлении к добродетели и изначальном
отвращении к пороку. Так кинизм становится вневременной,
вненациональной и лишенной социального протеста философией,
отражающей вечное стремление человеческой души к некоему
абстрактному добру. Настоящим зачинателем всякой философии
и, следовательно, кинизма, по мнению Юлиана, нужно считать
того, кто первый изрек: Gnöthi sayton — «Познай самого себя» и
Paracharaxon to nomisma — «Перечекань монету». Это Аполлон
Пифийский, великий дельфийский бог, «общий вождь,
законодатель и царь Эллады». Этот сияющий бог — одна из ипостасей
247
Солнца, которому поклонялся Юлиан. От него ничто не может
скрыться, поэтому он познал и характер Диогена и не
ограничился общими изречениями, но дал специально для Диогена
аллегорическое (symbolikös) наставление в двух словах:
«Перечекань монету!» Мысль об Аполлоне как о родоначальнике, архе-
гете, кинической философии, по замечанию Юлиана, высказал
где-то «блаженный Ямвлих» (188 В).
Кинизм, таким образом, приобретает теософский характер,
а киники становятся служителями бога. Корифеями и апостолами
такой философии следует считать Антисфена, Диогена и Крате-
та, цель жизни которых, согласно Юлиану,— познать самих себя,
не придавать значения пустым мнениям и найти высшее из
благ — истину. Этой триединой задаче отдали все силы и другие
философы: Платон, Пифагор, Сократ, Аристотель и Зенон
(188 С). Так настойчиво проводит Юлиан идею единства
философии и неоплатонизирует кинизм 79.
Удивительное дело! Если Эпиктет соединял вместе лишь
имена Сократа и Диогена, то Юлиан объединяет вообще всех
великих философов и специально подчеркивает, что Платон (!) и
Диоген придерживались не разных взглядов, а одних и тех же
(188 С). У нас нет оснований, продолжает Юлиан, отрывать
этих мужей друг от друга, ибо их «объединяет любовь к истине,
презрение к пустым мнениям и исключительная преданность
добродетели». То, чему Платон учил в своих теоретических
сочинениях, Диоген воплощал на практике (189 А). Следовательно
(тут Юлиан делает важный методологический вывод), кинизм
можно изучать не только по лозунгам, но и по деяниям
Диогена (ek tön ergon — 189 В). Эпиктет считал Диогена служителем
некоего верховного стоического божества, а Юлиан делает его
«самым преданным слугой и помощником пифийца» (192 D),
который назначил его «как стратега, чтобы уничтожить любую
монету, то есть общепринятые нормы, и судить о всех предметах
на основании разума и истины» (192 С).
В соответствии с неоплатонизмом Юлиан разделяет и киниче-
скую философию на теоретическую и практическую, так как от
природы человеку одинаково свойственно как познание (epistê-
mê), так и действование (praxis— 190 А; ср. VII, 215 С). Сократ
и некоторые другие философы занимались теорией только ради
практики, подчиняя свое тело душе и воспитывая в себе
добродетели — выдержку, скромность, свободу, изгоняя зависть,
трусость, суеверия. Сократ был настолько равнодушен к жизни, что
даже определял философию как «упражнение в смерти» (mele-
tên thanatoy—190 С). Некоторые поступки Диогена поражали
людей, в частности его попытки есть сырое мясо. Юлиан дает
свое объяснение этим удивительным фактам: Диоген понял
обращенный к нему оракул Аполлона как приказ все испытать
самому, на собственном опыте и не доверять мнению других
людей и даже философов, ибо зачинателем философии он считал
248
не какого-нибудь смертного, а бога (191 В). Настоящий киник
руководствуется только доводами чистого разума (201 D). На
оселке разума и непредвзятости нужно проверять верность
ответа и на столь спорный и популярный вопрос (о нем писали
пифагорейцы, орфики, Порфирий и др.) об употреблении в пищу
мяса животных (sarkophagia). Диогену его оппоненты и так
называемые последователи бросают упрек в том, что он ел сырое
мясо. Но что здесь страшного? Только лишь то, что этот факт
вступает в противоречие с нашими мнениями и привычками
(192 В). Ведь это делают в соответствии с природой многие
животные, а мясо не перестает быть мясом и не становится более
чистым и непорочным после того, как его приправят, хоть
тысячью способами, сварят или изжарят. Кроме того, многие едят
сырыми морских ежей и устриц, что не вызывает нашего
удивления. Разница между Диогеном и теми, кто его порицает, лишь
в том, что он ест мясо таким, как его приготовила природа, а они
насилуют природу, лишь бы доставить себе удовольствие
(191 С-193 С).
Итак, киник подвергает предрассудки и установившиеся
нормы беспристрастной критике разума. Это определяет смысл и
цель кинической философии — жить счастливо, т. е. согласно
природе, не прислушиваясь к мнению толпы (193 D). Юлиан по
киническому образцу приводит в пример животных и растения,
которые благоденствуют в рамках, установленных природой.
И только человек ищет счастья «в богатстве, родовитости, в
могущественных друзьях и т. п.» (194 В). Конечно, если бы
природа даровала нам тело и душу, как у других животных, то можно
было бы довольствоваться только физическими (sömatikois)
преимуществами (194 С). Однако в человеке есть еще разум и нечто
божественное (196 D). В отличие от всех животных Зевс вселил
в людей разум (194 D), в нем и следует искать счастье, с ним,
а не с мнением толпы нужно советоваться, определяя, что
хорошо и что плохо (197 А). Благодаря аскезе80 Диоген укрепил
свое тело и приучил его подчиняться разуму, добившись таким
образом счастья и власти не меньшей, чем у персидского царя
(195 В), хотя и жил лишенный всего: денег, слуг, хлеба. Он не
роптал на богов и считал себя счастливейшим из людей. В
справедливости этого можно убедиться, испытав на себе образ его
жизни (195 С).
Свобода — важнейшее благо человека, без него не может
быть счастья «ни от денег, ни от богатства, ни от знатности, ни от
физической силы и красоты» (195 D). Настоящий раб (alethös
doylos) — всякий, кто, подчиняясь другому, против своей воли,
под угрозой наказания, выполняет чужие приказы. «И ты, мой
друг, не считай себя свободным, пока тобой командуют твое
брюхо и то, что пониже его, от которых зависит доставить тебе
удовольствие или лишить его... Пока ты будешь рабом людского
мнения, ты не достигнешь свободы....» (196 С). Ведь людей «убеж-
249
дают любить богатство, ненавидеть бедность, угождать желудку,
терпеть ради тела любые испытания и ублажать это узилище
души, предпочитать роскошный стол и спать не только ночью...»
(198 ВС). Подобные иронические советы нередко встречались в
обращенной к массам философии, и Юлиана не пугал их внешний
радикализм, потому что те, кто добровольно придерживался
противоположных принципов, исчислялись единицами.
Пример истинно добродетельной жизни дали кинические
корифеи Диоген и Кратет, хотя многим их поведение и слова
казались странными и неприемлемыми. Над Диогеном толпа
готова смеяться, а Юлиан считает его святейшим (197 С). Диоген и
Кратет не только прославляли скромную жизнь в своих
произведениях81 и речах, но и сами ее вели (198 D — 200 В) и других
учили. Когда какой-то молодец позволил себе при людях в
присутствии Диогена нескромное действие (apeparden), философ
ударил его палкой и прибавил, что право на оскорбление
приличий надо завоевать, сделавшись предварительно господином
своих страстей (197 С). «Начинающий киник, прежде всего,
должен строго отнестись к своим собственным недостаткам и
судить их без малейшего снисхождения. Он должен с
пристрастием спросить себя, нет ли у него склонности к роскошной пище,
не любит ли он понежиться в мягкой постели, нет ли у него
слабости к почестям и славе и т. п.» (200 С). Киник не тот, кто
присваивает се бе внешние приметы школы — плащ, суму,
посох и длинные волосы, но тот, кто вместо палки вооружается
разумом, вместо нищенской котомки — твердостью духа, говорит со
всеми свободно и откровенно, как Диоген, издевавшийся над
захватившими его пиратами, или Кратет, потешавшийся над
собственными физическими недостатками. Эти мудрецы стремились
«„принести" пользу согражданам не только своими примерами,
но и речами» (201 С). Юлиан перечисляет качества истинных
киников: «понятливость, проницательность, свобода, автаркия,
справедливость, мудрость, благочестие, остроумие,
внимательность, не позволяющая делать что-нибудь бесполезное или
необдуманное» (202 А).
Диоген позволял себе, по утверждению некоторых, совершать
на виду у толпы то, что обычно делают скрытно. Но в этих
действиях, разъясняет Юлиан, заключался определенный смысл:
Диоген, демонстративно оправляющийся посреди агоры,
эпатировал тех, кто в центре города среди бела дня творил гораздо более
страшные беззакония и насилия, грабил, занимался
вымогательствами и доносами, затевал неправедный суд, клеветал и т. п.
(202 В). Он заставлял понять, что подобные противозакония во
много раз постыднее его естественных отправлений (202 С).
Диоген своими примитивными и наивными средствами
демонстрировал алогичность мира, где царят насилие и аморализм, где
бедность воспринимается как порок, а богатство априори
ассоциируется с порядочностью. Ведь не бедность, а богатство и рос-
250
кошь ведут к тирании. «Тираны рождаются не среди тех, кто
питается коркой хлеба, а из обжор и гурманов»,—приводит Юлиан
слова Диогена (198 D — 199 А). Все эллины после Сократа и
Пифагора восхищались Диогеном, современником Платона и
Аристотеля, учителем Зенона. Они преклонялись перед его
стойкостью, царственным величием души и трудолюбием (karteria,
basilikë megalopsychia, philoponia — 203 A).
В речи «Против невежественных киников» критический
элемент незначителен и выливается в скупые, но яростные нападки
на анонимного хулителя Диогена и его недостойных
последователей, заимствовавших у философа лишь его внешние повадки, а не
сущность его учения (202 С). Эти люди готовы на любые
преступления, они хуже диких зверей (197 В). Как следует из
характеристики киника из Египта, страны, наводненной христианскими
монахами (192 D), и намека на его знакомство с Библией (Кн.
Бытия 9, 3) и почитание Христа (230 С), а также из нападок на
Диогена, речь идет о христианских киниках IV в.82, более
ненавистных Юлиану, чем откровенные христиане, ибо сближение
эллинской философии с христианством императору-отступнику
казалось предательством, опасным для его реформаторских планов.
Кроме того, эта разновидность новых киников беспардонно
разделывалась с древним учением Антисфена и Диогена. Христианские
киники рассматривались Юлианом как «ревизионисты», с
которыми следует вести беспощадную и бескомпромиссную борьбу. В лице
Юлиана неоплатоническая версия кинизма дает бой
христианизирующему кинизму, а не реальной философии
Антисфена и Диогена.
В основном же речь посвящена защите, изложению и
пропаганде презираемого толпой невежд (198 В) кинического учения в
юлиановской интерпретации. Юлиан хочет принести пользу тем,
кто избрал путь кинизма, и преподать им урок истинной
философии (181 D и ел.). Он надеется, что речь его принесет пользу,
kerdos (203 С). Какой же кинизм защищал Юлиан? Юлиановский
Диоген мало похож на исторического мудреца из Синопы с его
парадоксами и безбожием. Благочестивый Юлиан, пытавшийся
создать новую религию, в первую очередь превращает Диогена в
богобоязненного служителя и апостола Аполлона и доказывает, что
обвинять его в атеизме несправедливо, ибо он всю жизнь
повиновался наставлениям пифийца. А то, что он не посещал храмы и не
приближался к статуям и алтарям богов для молитвы, объясняется
просто бедностью Диогена, лишенного возможности купить все
необходимое для возлияний, воскурений и жертвоприношений.
Достаточно было того, что он праведно думал о богах, почитал их
всей душой и посвятил им всю жизнь (199 С). Юлиан
предупреждает кинических прозелитов, чтобы они не были такими, каким
изображает Диогена нечестивый Эномай: «бесстыдным и
пренебрегающим всем божеским и человеческим». Киник должен быть
«полон священного трепета перед богами, как Диоген» (199 А).
251
Юлиан не осуждает выходки Диогена, а объясняет их
причину и сокровенный аллегорический смысл, проявляя при
этом недюжинную фантазию и способность к натяжкам.
Философское толкование поступков Диогена представлялось
необходимым, так как Юлиан уже сделал вывод, что изучать кинизм можно
«по делам», ek tön ergön,его учителей (189 В). Юлиану нетрудно
было сделать такой вывод, ибо он прекрасно знал по собственному
опыту, что христианская философия базируется не столько на
прямых теоретических высказываниях «сына божья», сколько на
деяниях Христа, на притчах, апофтегмах и их экзегезе. Простор
для толкования «деяний», естественно, больший, чем для
интерпретации высказываний, поэтому Юлиан смягчает воинственно
аполитичный индивидуализм киников, ибо, как император, он был
вынужден приспособить кинизм к нуждам своего общества и
государства. Свобода, проповедуемая киниками, для него была
«слишком крайней и чистой» (185 С). Эту транспозицию и
адаптацию кинизма начали уже стоики (185 D) и продолжил Юлиант
заставив киников считать человека «по природе существом
общественным и государственным» (physei koinönikon kai politikon
zöion —201 С). Вместе с тем для Юлиана имена Антисфена,
Диогена и Кратета были священными, олицетворяющими славное
прошлое Эллады, наряду с именами Пифагора, Сократа, Платона,
Аристотеля и Зенона (202 D), которые он не мог позволить
опошлить или дискредитировать даже ценой фальсификации.
Если в речи «Против невежественных киников» дается общая
картина «истинного» кинизма, с чем, видно, связан и тот факт, что
оппонент Юлиана, как в диатрибе, не назван по имени, то в речи
«К кинику Гераклию. О том, как должен жить
киник и пристало ли ему сочинять мифы» («Pros
Hërakleoion kynikon. Peri toy pös kynisteon kai ei prepei toi kyni
mythoys plattein») главным образом исследуется более частный
вопрос, связанный с концепцией мифотворчества
императора-неоплатоника. Указанная речь, написанная в начале 362 г. за одну
ночь, перекликается с созданной позже речью «Против
невежественных киников», частично предвосхищая ее, отчасти дополняя и
уточняя некоторыми деталями как отношение Юлиана к кинизму,
так и его собственные неоплатонические взгляды. Многие
вопросы, освещенные в 6-й речи сравнительно бегло, здесь заострены и
изложены пространнее, противник уже назван по имени, и Юлиан
ведет прицельный и более плотный огонь, так как тут была задета
не столько честь древнего Диогена, сколько его собственная.
Поводом для речи послужило публичное выступление киника Гераклия
с сочиненным им мифом, в котором в прозрачной и
неуважительной форме киник критиковал Юлиана, преподносил ему уроки
искусства правления и оскорблял богов.
В мифе, придуманном Гераклием, Юлиан был выведен под
маской Пана, а сам автор — в образе Зевса (234 С; ср. 208 В).
Императора больно задели эти сравнения людей с богами, низводив-
252
шие богов до уровня людей, в чем он усмотрел прямое святотатстве
и клевету (tön theön blasphemoymenön — 204 D; ср. 208 В). Так же
его возмущали насмешки комедиографов над Гераклом и Дионисом
(204 В). В мифе были затронуты Гелиос и Фаэтон, особенно чтимые
императором. Он не признавался, но, вероятно, оскорбило его и
сравнение с Паном, ибо припомнились обидные насмешки и
прозвища, которые давали ему придворные еще при Констанции,—
«двуногий козел», «обезьяна в пурпуре», «греческий болтун»
и т. п. На выступление Гераклия Юлиан пришел по его
приглашению вместе со своими друзьями и приближенными — Анатолиемг
Мемморием, Салустием (223AB; 204А). Услышав издевательские
речи Гераклия, он порывался уйти, но его остановило уважение
к собравшейся аудитории и, конечно, желание дать отпор кинику.
«Сердце, смирись, ты гнуснейшее вытерпеть силу имело...» —
обратился он сам к себе со словами Одиссея (XX, 18; 204С).
В своей речи, обращенной к Гераклию и написанной вскоре
после выступления киника (216 В), Юлиан нападает на ту часть
киников, которая казалась ему особенно вредоносной и опасной
своим вольнодумством, атеизмом и близостью к христианам. Этих
киников он старался дискредитировать и в моральном отношении,,
представляя их попрошайками, пользующимися одеждой
философов для своих низменных целей. Эти люди с рабским образом
мыслей оскорбляли своим «лаем» все божественное и человеческое
(211 А). Отпустив длинные волосы, с огромной палкой в руках они
бродят по городам и военным лагерям, понося лучших и
прислуживая худшим (223CD). «Какой толк в том, что вы повсюду
таскаетесь и обременяете собой мулов и даже их погонщиков,
которые боятся вас больше, чем солдат, потому что, как я слышал, вы
деретесь своими палками больнее, чем они мечами. И не
удивительно, что вы внушаете страх»,— обращается Юлиан к киникам
(224 А). Эти прибывшие ко двору киники (224 D) льстили и
бранились, осаждали императора просьбами и чаще ходили к
делопроизводителям, чем к философам. Приемные императорского дворца
для них стали Академией, Ликеем и Стоей (225 А). Никому такие
киники со своими смелыми речами не приносят никакой пользы
(224 D). По вине подобных «мудрецов» люди отворачиваются ог
философии (223 D) и начинают ее презирать (225 А).
Юлиан различает два рода кинизма: истинный,
олицетворяемый Диогеном и Кратетом (211 В), и ложный, представленный к
его дни Гераклием и начатый Э н о м а е м. По мнению Юлиана,
если познакомиться с произведениями последнего, то можно
подумать, что кинизм — «это род безумия, основывающийся не на
человеческой жизни, а на свойствах звериной души, которая не вериг
ни во что прекрасное, возвышенное и доброе» (209 А). Что же это
за произведения? «Собственный голос собаки» (Toy kynos aytophô-
nia), «Против оракулов» (Kata tön chrësteriôn) и др. (209 В); к
ним относятся также трагедии Эномая, представляющие собой,
по мнению Юлиана, сгусток бесстыдства и порока (210 D). В них
253
сосредоточены отрицательные качества всех трагедий, комедий,
сатировских драм и мимов (211 А). Ложное представление о ки-
низме создают и трагедии, приписываемые Диогену, бесстыдство
которых, с точки зрения критика, не превзойдут и гетеры. Юлиан
сообщает, что ученые спорят, созданы ли они самим Диогеном или
его учеником Филиском (210 CD). И если здесь он высказывает
сомнение в атрибуции, то в 6-й речи прямо объявляет автором
трагедий Филиска.
Таким образом, внешние приметы и отрицательные качества
своих кинических современников (палка, трибон, длинные волосы,
невежество, наглость, дерзость и т. п.— 225 ВС) Юлиан возводит к
предшествующим поколениям.
Чтобы окончательно заклеймить киников, Юлиан делает
последний шаг и сближает их с христианами. Он говорит, что уже
давно придумал киникам имя, но теперь намерен увековечить его
письменно (224А). «Нечестивые галилеяне называют известный
сорт людей „апотактистами", еретиками. Большинство из них,
оставив свое небольшое состояние, добывают всеми правдами и
неправдами гораздо большее богатство. К тому же апотактисты
стараются окружить себя уважением — и за ними идут ученики и
стараются им угодить. Таковы и вы, за исключением, может быть,
умения наживаться. Но это не по вашей вине, а по нашей, так как
мы поумнее тех дураков-христиан, а также потому, что у вас нет
предлога заставить платить вам налог, какой платят им и почему-
то называют его „милостыней". Во всем остальном вы очень
похожи. Вы, как и они, покидаете свою родину, скитаетесь повсюду и
досаждаете своим присутствием императору и его двору. Впрочем,
вы еще наглее, ибо их зовут, а вас гонят прочь» (224 А—С).
Киники, таким образом, напоминают Юлиану бродячих
нищенствующих монахов, но они даже зловреднее этих христианских
скитальцев, так как появляются в толпе, чтобы надругаться над
законами и обычаями людей, а не для того, чтобы улучшить и
очистить нравы (210 С). Их цель — уничтожить всякое уважение к
богам, к человеческому разуму и не только к законам красоты и
справедливости, но и к тем законам, благодаря которым от
природы мы верим в божественное и стремимся к нему душой.
Нарушившие этот священный закон достойны смерти наравне с
отравителями, пиратами, разбойниками. Их следует сбрасывать в пропасть и
закидывать камнями (209 В — 210 AB). Таких жестоких мер
Юлиан никогда не требовал даже против христиан!
Юлиан-мистик бесконечно религиозен и набожен, он боится
оскорбить богов и постоянно подчеркивает свой священный
трепет перед ними. «Я боюсь богов, я их люблю,— говорит он,— чту и
преклоняюсь, короче, испытываю перед ними все те чувства,
которые нужно питать к добрым господам, наставникам, отцам,
опекунам и всем подобным людям» (212 ВС). Вот потому богохульство
Гераклия и вывело его из себя. Священный трепет перед богами
(eylabeia — 236 D), познание богов (ton theôn gnôsis) для Юлиана,
254
по его признанию, важнее владычества над Римской империей и
всеми варварскими народами (222 В), поэтому начало и цель
всякой философии — познать самого себя и уподобиться богам (225 D).
Естественно, что при таком мировоззрении истинный кинизм и
настоящие киники, в представлении Юлиана, должны быть
благочестивыми, глубоко верующими язычниками. Такими он и
изображает Диогена и Кратета, ничуть не заботясь о подлинной истории
и выворачивая ее наизнанку, лишь бы оправдать свою концепцию
кинизма.
Диоген оказывается послушным исполнителем воли бога,
повелевшего ему «перечеканить монету» и «познать самого себя»
(211 В и ел.), что значило «перечеканивать не истину, а
привычные ценности» (211 С). Подчинившись богу, Диоген сделался
могущественнее персидского царя и Александра Великого (211 D).
О Диогене нельзя судить по трагедиям Филиска. Мудрец
отправился в Олимпию вовсе не для того, чтобы глазеть на игры или
встретиться со знаменитыми людьми, причина была иной — служение
богу (eis ton theön therapeian — 212 В; ср. 238 D). Под влиянием
своего демония Диоген идет из Афин в порочный Коринф, чтобы
там исправлять нравы людей (213 А). Следовательно, Диоген был
благочестив не только на словах, но и на деле (212 D). Юлиан
приводит также примеры, подтверждающие благочестие Кратета
(213 А и ел.).
Но ядро 7-й речи — юлиановская теория сущности мифа, его
происхождения, мифотворчества (mythographia), отношения
мифологии и поэзии, мифологии и философии. К этим вопросам
Юлиан постоянно возвращается и в заключение свою теорию мифа
подкрепляет сочиненным им самим «образцовым» мифом. Названная
часть речи внутренне связана с юлиановской концепцией кинизма
как богопочитания и с его представлениями о богах и философии
вообще, о жизни, о назначении человека и правителя. На эту связь
указывает и сам Юлиан, перечисляя волнующие его проблемы:
1. Следует ли кинику писать речи или сочинять мифы? 2. Какой
сюжет следует выбирать для мифа, если философия в нем
нуждается? 3. О благочестии (205 В). Генеалогия мифа, определяемого
как «невероятная история, рассказываемая в достоверной форме
для пользы или удовольствия слушателя», уходит своими корнями
в глубокую древность, и невозможно назвать первого, кто
придумал миф, как невозможно сказать, кто первым чихнул или плюнул
(205 С). Таким, казалось бы, нелепым сравнением Юлиан
подчеркивает естественное происхождение мифа.
Изобретателями мифов нужно считать простых людей (tön
agelaiön... anthröpön... heyrema), среди которых они
распространены и сейчас. Мифы доставляют людям радость и удовольствие,
ради этого появились на свет и первые музыкальные инструменты:
флейта и кифара (206 А). Мифологические образы представляют
собой как бы теневые изображения истинного знания (206 С), но в
них содержится нечто полезное и удивительное (chrêston ti kai tha-
255
ymaston). Первые сочинители мифов поступали как кормилицы,
дающие малышам, у которых чешутся зубы, мягкую кожицу,
чтобы смягчить боль. Они стремились утолить жажду знаний еще
слабой и неспособной перенести истину души (206 D). Тот, кто
сочиняет мифы для исправления нравов, должен обращаться с
ними к детям по возрасту или по уму (223 А).
В процессе дальнейшего развития греческие поэты от мифа
отделили басню (ainos), которая отличается от мифа тем, что
предназначена не для детей, а для взрослых, и не только для
развлечения (psychagôgian), но и ради поучения (parainesin). Но
для этого понадобились особые условия. «Когда оратор опасается
вызвать гнев слушателей своими прямыми высказываниями, он
прибегает к скрытой форме наставлений и поучений» (207 А). Так
поступал Гесиод, а затем Архилох, смягчая горечь и
сатирический пафос своих стихов. Здесь Юлиан относит к Архилоху
замечательную мысль, что «поэзия без мифа и выдумки
превращается в холодную версификацию, она лишается, так сказать, себя
•самой, в ней не остается ничего поэтического» (207 В). Сам
великий ямбограф старался прослыть скорее поэтом, чем сатириком
(sillographos). Сочинял басни и Эзоп, раб скорее по склонности
(tën proairesin), чем по воле судьбы. Закон запрещал ему
пользоваться парресией, свободой слова, поэтому он был вынужден
смягчать свои выпады. Так и врач из рабов вынужден давать свои
рекомендации больному господину, льстя и врачуя одновременно
(207 D).
Но если такой образ действия понятен у раба, то пристало
ли кинику, кичащемуся своей неограниченной свободой, такое
рабское поведение? Если он действительно свободен, зачем ему
все эти мифы и побасенки? Поучать и обличать, смягчая горечь
слов и избегая опасности наказания,— это уж «слишком
по-рабски» (208 А). Лучше называть вещи и людей своими именами, чем
тратить время на сочинение таких побасенок (mytharia), ибо от
них мало пользы для воспитания (208 А — 208 С). Ты можешь
возразить, обращается к Гераклию Юлиан, что теоретически
разум запрещает кинику говорить ложь и небылицы, но вот традиция
(synêtheia), начатая Диогеном и Кратетом, говорит о другом.
И тут же Юлиан отвечает на собственное возражение: во-первых,
.'кинику, «перечеканивающему монету», не пристало ссылаться на
обычай, во-вторых, ему следует руководствоваться только разумом
(208 D).
Однако Ксенофонт, сократик Антисфен, Платон и другие древ-
ΉΗβ философы действительно прибегали к сочинению мифов 83.
Каким же должен быть настоящий миф, кто должен его сочинять
и каково его отношение к философии? Юлиан ставит и решает эти
вопросы, исходя из своих неоплатонических взглядов на членение
философии. Мифографию он относит к практической части
философии, занимающейся отдельным человеком (этика), а также к
посвятительной и мистической части теологии (216 ВС). «Природа
256
яюбит прятаться»,—замечает Юлиан, и скрытая сущность
божественной субстанции не может быть донесена «голыми словами»
(gymnois rëmasin) до ушей непосвященных. Мифы приносят
пользу, когда в души большинства, неспособные воспринимать
божественное (ta theia) в чистом виде, оно вливается в форме загадок
(dï ainigmatön — 216 CD). В качестве примера приводится
Платон, который в своих теоретических рассуждениях об Аиде
широко пользовался мифами, а также Орфей, Антисфен и Ксено-
фонт (217 А). Юлиан призывал Гераклия подражать именно
таким образцам и придавать своим сочинениям «антисфеновский
характер» (Antistheneion typon), т. е. призывал, вероятно, создавать
мифы в духе «Геракла», «Одиссея», «Протея», «Кирки», «Амфиа-
рая» и других творений Антисфена с аллегорическим значением.
Человеческая речь, продолжает Юлиан, состоит из слов
(форма) и содержания (pas logos... ek te lexeös kai dianoias syn-
keitai), a так как миф — это своего рода речь, то и он состоит из
указанных двух элементов. В каждой речи скрыт простой смысл
или сложный. Простой не допускает разнообразия в плане
выражения, а сложный может быть выражен по-разному. В вымыслах
о божественном слова должны быть торжественными, серьезными,
возвышенными, прекрасными и достойными богов, в них ничего не
должно быть ругательного, грубого или пошлого, способного
возбудить в толпе наглость и безбожие (218 CD). В мифах могут
быть противоречия, парадоксальные и невероятные положения.
Противоречия в мифах, по мнению боготворимого Юлианом
«блаженного» Ямвлиха (222В), «прокладывают дорогу к истине».Чем
парадоксальнее, чем загадочнее и удивительнее миф, тем глубже в
нем скрыта тайна (ta lelëthota) и тем скорее следует искать
в нем скрытый смысл (217 ВС). К этой понравившейся ему мысли
Юлиан возвращается снова и снова (219 А, 221 С, 222 С), ибо
«для многих эта загадка непонятна» (219 В). «Когда кажется,
что мифы о божественном противоречат разуму, это значит, что
они как бы кричат и свидетельствуют о необходимости не просто
верить им, а искать и исследовать скрытый смысл (to lelëthos
skopein)» (222 С). Так, например, исследующие истинную
сущность бога Диониса облекли свои поиски в форму мифа, говоря в
загадочных выражениях о сущности бога, о пребывании
беременного им отца в интеллигибельном мире (en tois noëtois) и о
рождении Диониса в космосе, которое не было рождением... (221 С).
Юлиан приводит еще несколько примеров аллегорического
толкования мифов о Геракле, Пенфее и др. в неоплатоническом духе.
Даже простые слова в приложении к этим мифам нужно
рассматривать в их двойном значении и понимать их не в буквальном,
прямом, а в переносном смысле (tropon allon), как это делали
Платон, Плотин, Порфирий и Ямвлих (222 В). Понятнее и детальнее
Юлиан выражаться сознательно не хочет, дабы не раскрыть
священных тайн непосвященным (221 D).
Истинный миф, прежде всего, должен быть благочестивым и
9 Заказ Kt 370
257
не оскорблять ни богов, ни людей. Таким образом, сочиненное
Гераклием никак нельзя считать мифом (226 D), это скорее
«придумка плутоватой няньки» (227 А). Юлиан решает дать Гераклию
предметный урок и в заключение речи рассказывает свой
собственный, образцовый миф (227 С —234 С), model-story [470,
с. 281]. В нем император прозрачно-аллегорически рассказывает
о себе, о доме Константина, о своей божественной миссии, о
почитании богов, о конечной готовности выполнить их волю, чтобы
удостоиться в итоге созерцания отца богов. Юлиан повествует о
богатом человеке, правдами и неправдами накопившем свое
имущество и не почитавшем богов. Он умер и оставил своим
многочисленным сыновьям и дочерям наследство, не дав распоряжений о
его разделе. Среди сыновей начались распри, ибо каждый хотел
владеть всем. Дело дошло до кровопролития, все божеское и
человеческое подверглось поруганию. Тогда Зевс исполнился
сострадания к людям и приказал Гелиосу спасти всеми забытого
мальчика, племянника умершего богача и двоюродного брата наследников,
которому грозила смерть (нетрудно было догадаться, что
покойный богач — Константин, а мальчик — сам Юлиан). Гелиос с
радостью принял поручение Зевса, так как увидел в мальчике искру
божественного огня, и вместе с Афиной взялся за его воспитание.
В юношеском возрасте он испытал много несправедливостей от
своих царственных родственников и вокруг видел одно лишь зло.
Затем к нему явился Гермес и привел к престолу Зевса,
указавшего ему на его покровителя Гелиоса. Тот велел ему вернуться
на землю, и хотя юноша не хотел, но Гелиос и Афина, выполняя
волю Зевса, сделали его единственным наследником богача, и сама
Афина дала ему наставление — любить друзей и верить им, а не
льстецам, жить разумом, почитать богов и благочестивых людей,
проявлять человеколюбие (233 D). Если он будет всего этого
придерживаться, ему обеспечена помощь богов. Гелиос подарил ему
факел, Афина — оружие, Гермес — золотой жезл. «Вооружившись
всем этим,— наставлял его Гелиос,— иди через всю землю,
через все моря, стойко держись наших законов, и пусть
никто — ни мужчина, ни женщина, ни свой, ни чужой —
не уговорит тебя изменить нашим советам» (234 В). И юноша
(Юлиан) принялся за выполнение божественных предначертаний.
Конечно, этот автобиографический миф предназначался не
только для ушей киника Гераклия, но носил пропагандистский
характер и должен был оправдать все, что сделал и еще собирался
сделать Юлиан как император и религиозный реформатор. В нем
представали Константин (ploysios anêr) и его наследники, в
первую очередь Констанций, как нечестивцы, предавшие отеческих
богов и святыни предков (patrôia hiera), и превозносился Юлиан
как восстановитель божественного миропорядка, как
богобоязненный носитель благодати и служитель самого бога Солнца.
Что же касается всех теоретических рассуждений о кинизмег
философии и мифологии, предваряющих венчающий речь мифу
258
то они подтверждают уже высказанное нами мнение о
враждебности Юлиана к демократическому христианизирующему крылу
в современном ему кинизме, представлявшему известную
общественную силу, ибо трудно предположить, как уже отмечалось
выше, чтобы властитель мировой империи уделял столько внимания
какому-то ничтожному кинику, стараясь убедить его в своей
правоте (239 С). Вместе с тем Юлиан в кинизме проклинает
атеистическое, материалистическое философское учение,
противопоставляя ему свой неоплатонизм и его учителей, в первую очередь
Ямвлиха и Максима Эфесского, научившего его «почитать богов
как подателей всех благ» (235 С). Именно им он обязан
пониманием мифологии как аллегорической религиозной философии,
в защиту которой он и выступил против безбожных киников,
смеявшихся над священными историями.
Свой путь к добродетели и философии Юлиан считает более
кратким, чем путь киника. В киническом движении прошлого он
высоко ценил Диогена, сделав его религиозным паломником,
а среди современников — неких анонимных «лучших
представителей кинизма» (236 В), взгляды которых, вероятно, мало чем
отличались от его собственных, ибо не только христианство, но и
неоплатонизм мощно влиял на современные философские школы.
К сочинению и толкованию мифов Юлиан обращался не только
в связи с выступлением Гераклия. В 5-й речи «К матери
богов», где аллегория носит значительно более сложный и ярче
выраженный неоплатонический характер, рассказывается о Ки-
беле и Аттисе как частях бесконечного творческого акта, когда
мир отделяется от божества и возвращается к нему (161 С — 168 С).
Таким теософским смыслом наполняется сказание о Кибеле и
самооскоплении Аттиса. Понятно, что подобные сложные и
туманно-тонкие толкования, рассчитанные на изощренный в
философии ум, делают юлиановскую мифологию бесконечно далекой
от народа. Юлиан никогда не верил так простодушно в богов,
как верили в народе. Для него вся антропоморфная греческая
мифология, Гомер и Гесиод — священные откровения о богах,
о мире, о человеке. Юлиан пытается применить к мифологии
доктрину неоплатонизма с его божественной триадой [448, с. 252].
«Юлиан,— указывает проф. А. Ф. Лосев,— защищает мифологию
как некое таинственное символическое учение, указывающее на
истину древних мистерий» [117а, с. 390]. Понятно, что в своем
аллегорическом толковании мифов киники не шли так далеко,
а видели в них собрание поучительных притч, важных для
людей, а не для богов.
Шестая и седьмая речи Юлиана представляют
непосредственный отклик Юлиана на киническую философию. Но влияние
кинизма, его литературной, сатирической и диатрибической
традиции сказалось также на одном из лучших произведений
императора—«Пир, или Крон и и», называемом также «Цезари»
(Symposion е Kronia. Kaisares), написанном, по-видимому, для
9* 253
веселого языческого праздника Сатурналий 362 г. В этом
сочинении зло высмеиваются почти все предшественники Юлиана на
престоле римских императоров и отчетливо прослеживается
воздействие фантастических сатир Мениппа и Лукиана, двух самых
блестящих представителей кинической музы. Близка эта сатира
и «Отыквлению» Сенеки, также испытавшего влияние Мениппа.
В «Цезарях» Юлиан следует киническому принципу серьезно-
смешного (обязательному и в жанре симпосия); носителем
фарсового и сатирического начала выступает здесь Силен, получивший
роль все осмеивающего придворного шута или своеобразного
конферансье, издевательски представляющего каждого вновь
появляющегося на пиру императора. Довольно свободное обращение
с богами, особенно с Дионисом и Силеном, столь необычное для
юлиановского религиозного пиетета, выдает влияние древних ки-
нических источников. На пир у богов в праздник Крона Ромул
(Квирин) пригласил покойных римских цезарей, начиная с Юлия
Цезаря. Первые из них (Тиберий, Калигула и др.)
характеризуются вполне в духе Тацита и Светония. Особенно же достается
Константину как разрушителю старой веры, своим признанием
христианства открывшему двери для всех пороков. Среди всех
императоров Юлиан выделяет только «философа на троне» — Марка
Аврелия, избравшего своими покровителями Зевса и Крона, сам
же Юлиан получил себе в хранители любимого Гелиоса. Есть
нечто общее между мифом 7-й речи и этим концом «Цезарей»,
где подтверждается божественность земной миссии Юлиана. Тема
«избранничества» звучит и в письме к Орибасию, где в
сновидении, посланном Юлиану, боги спасают молодую ветвь дома
Константина (Юлиана) для будущего (пис. 14).
На мировосприятие Юлиана оказали положительное (хотя и
извращенное) влияние не только кинические корифеи, но и более
поздние кинизирующие авторы, вроде Диона Хрисостома [439],
на которого он нередко ссылается как на авторитет и источник
сведений о кинизме (например, VII, 212 С: о приглашении
Диогеном к себе Александра Македоноского. Ср. Дион Хрис. IV. Правда,
Юлиану здесь память изменила, так как у Диона о приглашении
Александра в Олимпию ничего нет). Очевидна известная
зависимость 3-й речи Юлиана «О деяниях монарха, или О царской
власти» (Peri tön toy autokratoros praxeôn ë peri baseleias) от речей
Диона Хрисостома «О царской власти» (I—III) и от популярной
кинико-стоической концепции мудреца как единственно
счастливого человека и настоящего царя людей. Черты идеального
правителя у Юлиана и Диона во многом совпадают (благочестие,
милостивость, человеколюбие, трудолюбие, мягкость и т. п.).
Немало воспринято Юлианом у киников и чисто литературных
черт (dicendi genus): стилистическая пестрота, смешение грубых
шуток с приподнятым философствованием, вульгарной
фразеологии с молитвенными призывами к богам, издевательски вежливые
обращения к противнику («дорогой», «милейший», «мудрец из
260
мудрецов») (ö phile, beltiste, philosophötate и т. п.), грубые
сравнения (182 В, 197 С и др.), риторические вопросы,
многочисленные цитаты из Гомера и Еврипида, поговорки, крылатые
слова, афоризмы, которыми пестрят обе «кинические» речи. Но все
эти элементы не составляют цельного и единого органического
кинического стиля, а стихийно усвоены в процессе знакомства с
кинической литературой и представляют отдельные формальные
включения. «Настоящий» Юлиан со своим неровным и нервным
стилем, приподнятым и искренним, — в письмах, панегириках,
в гимне Солнцу, в речи «К матери богов».
Но все же кинизм для Юлиана — не просто объект нападок.
Речи «Против невежественных киников» и «К кинику Гераклию»
нельзя назвать антикиническими, субъективно они написаны с
апологетической целью защитить «истинный», т. е. юлиановский,
кинизм. Но Юлиан кинизма не понял, для него он представлял,
с одной стороны, общеэтическое учение, неотличимое от
неоплатонизма, с другой же стороны, ненавистное ему движение нищих
попрошаек, которых он не отличал от не менее ненавистных
галилеян — христиан, как и само движение — от стоицизма. Ему было
некогда вдаваться в тонкости всех этих систем, в чем, впрочем,
нельзя видеть одну лишь злокозненность или поверхностность
Юлиана. В его сочинениях стихийно отразился объективный
процесс, характерный для позднегреческой идеологии, — сближение и
слияние школ, стертость границ между ними: со времени
«кинического ренессанса» I—II вв. кинизм вобрал в себя родственные
ему идеи стоицизма, христианства и даже неоплатонизма.
Неизменными остались лишь формы проявления, в своих крайностях
вызывавшие нарекания как со стороны язычников, так и христиан,
все отрицающий дух, der Geist, der stets verneint, и здоровый
реализм.
Кинизм не сдавался. На все нападки сверху он отвечал не
только проникновением в народ, подстраиваясь к характеру и
уровню его сознания, но и призывал к неповиновению,
свободомыслию. Кинизм выступал также с апологией своей философии и
образа жизни. Примерно во времена Юлиана появился диалог
«Киник», обычно публикуемый в корпусе сочинений Лукиана
лз Самосаты, чье творчество находилось под сильным киническим
влиянием (не исключена действительная принадлежность
«Киника» Лукиану). В этом диалоге сократического типа,
происходящем между Ликином (такова греческая форма имени Лукиан в
некоторых его диалогах) и неким Киником, дается развернутая
защита кинизма, внешнего вида киника, его простой, честной и
нетребовательной жизни, выражен протест против роскоши и
порочности богатства, против угнетения человека человеком,
извращения природных установлений. Как творчество Юлиана, так и
«Киник» Лукиана — последнее весомое свидетельство
эволюции и живучести кинизма, предсмертного взлета эллинизма.
В дальнейшем, в начале VI в., как сообщает Августин, «философов
261
пам не часто приходится встречать, за исключением киникол,
перипатетиков и платоников» (Contra Academic. Ill, 19, 42; ср. De
civ. dei XIV, 20, 5). Уже перед закрытием всех языческих
философских школ в Афинах (529 г.) встречается имя киника С а л л
гостия [437], о котором сообщает один из последних античных
философов — неоплатоник Дамаский — в сохранившемся
фрагменте Bios Isidöroy (89, 92, 250) [35]. Этот бродячий аскет из Сирии
выступал против христиан и «христианских» киников, борясь за
чистоту древнего киннческого учения, удивляя людей своими
насмешками. Но Саллюстий принадлежит скорее истории
философии, чем литературы, к тому же от него ничего до нас не дошло.
Он интересен нам как последняя точка в конце более чем
тысячелетнего пути кинической школы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
До последнего времени идеология свободной бедноты и рабов
в классической античности нашей наукой изучалась явно
недостаточно. Что же касается буржуазных ученых, то такой
специальной задачи они перед собой даже не ставят. Думается, нет
надобности говорить о значении исследований в области идеологии
трудящихся масс — подлинных творцов истории, о важности
анализа демократических тенденций в различных сферах античной
общественной мысли и культуры. Нет, вероятно, более актуальной
задачи из стоящих перед советской классической филологией,
чем подъем этого глубинного пласта. Указанная задача
предполагает новизну подхода к уже известному фактическому материалу,
пересмотр ряда устоявшихся стереотипов в науке о древности,
решительный отказ от концепции единого потока в изучении
литературного процесса античности, от которого в других областях
советские историки литературы и литературоведы уже давно
отказались.
Можно, конечно, выдвигать любые смелые и весьма
правдоподобные гипотезы. Но они неизбежно повисают в воздухе, если не
подкреплены материалом. Только живая плоть фактов дает
основание для значимых выводов. Можно соглашаться или возражать,
знакомясь с чисто логическими умозаключениями, связанными с
характером мировоззрения угнетенных классов далекого
прошлого, с доводами, основанными на общепринятых теориях и
«здравом смысле». Но перед нами прошли не одни только
теоретические рассуждения и выводы. В книге приведено множество
фактов, свидетельств, сочинений, идей, образов, представлений,
порожденных кинизмом, хотя автор далеко не исчерпал их.
(Именно обилие идущего в руки материала определило объем книги.)
Можно, наконец, ознакомиться с первоисточниками, впервые в
изобилии публикуемыми в работе, и составить собственное
мнение относительно их интерпретации, объективно оценить
аргументацию и выводы.
Источники эти разнообразны, специфичны и нелегки для
истолкования. В большинстве случаев приходится иметь дело с фраг-
263
ментами сочинений древних киников, представляющих
наибольший научный интерес, а также с трудами поздних доксографов
типа Диогена Лаэртского, рассказывающих об их доктринах,
поступках, изречениях, метких словах. В иных же случаях — это
явные анекдоты, исходившие как из дружественной, так и из
враждебной среды. Наряду с описанием бесстрашного поведения
Диогена перед лицом испытаний у морских разбойников и
дерзких ответов всесильным владыкам мира мы встречаемся с
малосимпатичными подробностями его сексуальной жизни. Но и
анекдот — исторический источник. Нужно только к нему критически
подойти и за оболочкой балагурства и смехачества разглядеть
тенденцию и питающую ее среду, специфическое осмысление
действительности, настроения, симпатии и антипатии. Афоризмы, апоф-
тегмы, анекдоты, гномы и предания из глубины веков доносят
прерывистое дыхание далекой эпохи порой полнее и объемнее,
чем иные многотомные собрания сочинений. Поздние
свидетельства о первых киниках (Дион Хрисостом, Эпиктет, Юлиан и др.)
дают возможность судить не только и не столько об Антисфене,
Диогене или Кратете, как об изменениях и трансформациях в
киническом учении и о собственных взглядах авторов этих
поздних свидетельств.
Многое в кинизме из-за характера и состояния источников
может на первый взгляд показаться туманным, проблематичным и
противоречивым. Но в меру своих возможностей в путанице идей
и фактов я старался найти порядок, систему, логику, причины и
следствия, соединить теорию с практикой, ухватить ариаднину
нить закономерности и выстроить концепцию, к которой властно
толкал сам материал.
Появившись на свет как один из первых симптомов
внутреннего кризиса рабовладельческого общества, кинизм просуществовал
удивительно долго, сохраняя на протяжении тысячелетия почти
неизменным ядро народного критицизма и здравомыслия,
настороженность ко всему, что исходило от инициативы господствующего
класса. Кинические идеи, чего бы они ни касались, на любом
направлении и уровне непримиримо сталкивались с общепринятыми
взглядами тех, для кого рабовладельческий уклад казался столь
же естественным, как сияние солнца над голубизной Эгейского
моря. Требуется немало воображения, чтобы представить, какое
сопротивление общественного мнения и инерции вековых
предрассудков приходилось преодолевать киникам, когда они, взрывая
стереотипы, предприняли свою фронтальную «перечеканку
ценностей». Недаром Диоген признавался, что всю жизнь шел против
течения (Диог. Л. VI, 64). Эта киническая переоценка касалась
устоявшихся взглядов на мир, природу богов, на человека и его
предназначение — словом, всех сторон бытия. В кинизме
воплотилось тотальное неприятие мира рабства. В пылу классовой
ненависти киники безжалостно сокрушали традиции, идолов и мифы
прошлого, на которых покоился рабовладельческий строй.
264
Протестуя против лично задевавшей их диктатуры
рабовладельцев, они ополчались против идеи государственности, как таковой;
ненавидя окружавших их стяжателей, корыстолюбцев,
прожигателей жизни, богачей, упоенных своей властью над миром людей
и вещей, они призывали к аскетизму как социальной панацее,
способной избавить угнетенных от несправедливости и произвола.
Киников в этом обществе бесчисленных запретов и ограничении
отличало мятежное инакомыслие, несогласие с признанным
авторитетом законов и обычаев. Развенчивая и селекционируя старые
ценности, кинизм выдвигал новые, а с ними новые мифы и
иллюзии, среди которых не последнюю роль играло убеждение, что все
сложные социальные и психологические функции индивида можно
свести к элементарным актам человеческого существования.
Переоценка ценностей велась киниками с позиций социальных низов,
которых сама жизнь заставляла больше отрицать, чем утверждать.
В отрицании объединялись все, кто так или иначе, в силу своей
социальной ущемленности примкнул к кинизму. В позитивной
части они могли расходиться, выдвигая дифференцированные
требования. Так, лозунг «Свобода и равенство!» устраивал всех, но
провозглашение труда благом могло исходить лишь из рядов
свободной трудящейся бедноты, для которой труд был главным
источником существования, средством самоутверждения и
самовыражения.
Однако в своем отрицании и протесте, какие бы формы он ни
принимал, античный кинизм не выродился в цинизм, хотя его
агрессивно-эпатирующий вызов обывательской благопристойности,
шокирующие выпады против привычных норм дали
соблазнительный толчок для дальнейших деформаций. Всякий цинизм
внутренне пуст, лишен положительных идеалов, аморален в
преследовании своих отнюдь не бескорыстных целей и связан с
обанкротившейся идеологией исторически обреченного господствующего
класса. Цинизм в современном смысле слова сформировался много
столетий спустя.
Все, пусть несбыточные, но по-своему позитивные социальные
проекты киников несли на себе отчетливые знаки
демократического происхождения, идеологии трудящихся и бесправной бедноты,
что выражалось в прославлении свободы, труда и трудолюбия,
честной бедности, справедливости и человеколюбия, равенства всех
людей независимо от положения и расы, в стремлении жить в
гармонии с природой, в вере в духовную силу человека и его волю,
в отталкивании от любой формы подавления личности. Немало
элементов типологического сходства роднят кинизм и раннее
революционное христианство. Все это привлекало к кинизму людей
из народа, в нем они находили выход своим мыслям и чувствам,
ибо утешение дает не только религия, но и философия.
Бунтарский кинический индивидуализм стал закономерной
ступенью в трудном процессе роста самосознания угнетенных
классов. Киник не хотел иметь ничего общего с миром неспра-
26*
ведливости и зла, поэтому он стремился к моральной автономии,
для которой у него нашлось даже чисто философское выражение —
«номиналистическая логика». Вместе с тем естественная тяга к
общению с себе подобными и к солидарности вылилась в культ
дружбы и парадоксальные планы обобществления жен и детей.
Некоторые идеи (идеализация первобытного состояния,
космополитизм, примат духовности, идеал внутренней свободы,
предпочтение высокоморального раба испорченному господину и др.)
отвечали психологическому настрою рабов. Объективно киники
расширили социальное понятие народности, выведя его за пределы одной
лишь привилегированной, гражданской, части населения. С точки
зрения «природы» грань между свободным и рабом стиралась.
Был ли кинизм как исторический феномен прогрессивен или
реакционен? На этот вопрос ответить однозначно невозможно.
В постоянном обращении за положительными примерами к
примитивному прошлому, нетронутой естественности дикарей, в
отрицании благ культуры и цивилизации было немало объективно
реакционного. Однако объяснить это можно стихийностью
протеста низов против пороков перезрелого рабовладельческого
общества, благородными порывами добрых, но политически наивных
сердец и умов, неспособных увидеть истинные пути освобождения
человечества. Но в конфликте угнетателей и угнетенных
историческая правда была на стороне последних и их идеологов, даже
такими бесперспективными средствами расшатывавших фундамент
старого мира. Не следует также забывать, что заблуждения
подобного рода в далекой античности находили немало оснований, а в
последующие века их разделяли не только реакционные
романтики, но и такие глубокие и мятежные умы, как Руссо и его
многочисленные последователи. С явлениями своеобразного неокинизма
мы сталкиваемся и в наши дни, знакомясь с так называемыми
левыми движениями молодежи на капиталистическом Западе, по-
своему протестующей против буржуазного уклада жизни. К идее,
что истина заключена в нетронутой природе, постоянно
возвращается страждущее человечество.
На протяжении всей работы я придерживался мысли, что
культура античности не была безмятежно единой и эксплуатируемые
классы выдвинули не только свою специфическую идеологию, но и
обладали своей достаточно богатой литературой. К ней относится
и киническая литература, отличавшаяся неоспоримым
демократизмом, публицистическим пафосом, открыто пропагандистским,
моралистическим и учительным характером, аллегоризмом, связью
с народным творчеством (мифология, басня, апофтегмы и др.),
создавшая свои художественные принципы серьезно-смешного,
смешения прозы и поэзии, свои формы и жанры (мениппова
сатира, диатриба), выдвинувшая своих классиков (Антисфен, Диоген,
Кратет, Бион, Менипп, Керкид, Сотад, Леонид и др.), некоторые
нз которых заслуживают более высокой оценки, чем это принято
(Леонид, Сотад). Киническая литература создала своих героев —
266
рыцарей идеи и нравственного подвига (Геракл, Диоген, Сократ,
Анахарсис), поэтизировала труд и людей труда (Микилл, Симон),
предпочитая красоту внутреннюю красоте внешней, чем
разрушала классический рабовладельческий идеал калокагатии.
Влияние кинических идей, особенностей философского
мышления и формальных новаций на античную литературу исследовано
незаслуженно мало, хотя оно затронуло и таких авторов, которые
принимали далеко не все кинические теории и взгляды (Мелеагр,
Леонид Тарентский, Эпиктет, Дион Хрисостом, Лукиан, Юлиан и
др.). Даже у этих писателей кинизм обострял их социальное
зрение, настраивал на критический лад и внушал симпатии к гонимым
и обездоленным, отстаивая их человеческое и общественное
достоинство. Киники оставили и свою зарубку на долгом пути
идейных и художественных открытий, приведших в конце концов к
критическому реализму нового времени, к лучшему будущему.
ПРИМЕЧАНИЯ
Предисловие
1 Здесь и далее в квадратных скобках первая цифра обозначает номер
работы, включенной в Библиографию. Далее следует номер страницы.
Разные работы отделяются точкой с запятой.
2 Ф. Зеленогорский. Циники (психологический, моральный и
социальный этюд).— «Вера и разум». Харьков, 1891, № 3, с. 118.
3 В. Б. Никитина, Е. В. Π а е в с к а я, Л. Д. Позднееваидр.
Литература древнего Востока. Изд-во «МГУ». М., 1962, с. 34.
4 И. Г. Дройзен. История эллинизма. Т. III. M., 1893, с. 319—320.
Глава I
1 Букв, «перечеканка монеты»; но nomisma имеет смысл и слова nomos,
поэтому перевод может быть и такой: «переоценка общепринятых обычаев
и порядков».
2 Все эти сюжеты стали обычными для популярных кинико-стоическлх
диатриб. Ср. A. Oltramare [248].
3 Ср. Гиппократ. Об атмосфере, воде, местности; Антифонт, фргм. *^fi4
(Оксиринхск. папир. XI).
4 Ср. Палатинская антология VII, 417, 6 (Мелеагр).
5 Обращение к Диону Хрисостому как источнику для реконструкции
радикального классического кинизма вполне правомерно. См. [388, с. 71—90].
8 Все переводы, при которых не указано имя переводчика, принадлежат
автору книги.
Глава 11
1 Обычно говорят о влиянии «Хармида», указывается также на «Эвти-
дема» и «Менона» (Брунс, Шроль, Суйе), я обратил бы также внимание на
одно место из «Законов», осуждающее богатство, перекликающееся с
основной мыслью «Эриксия»: «Быть одновременно чрезвычайно хорошим и
чрезвычайно богатым невозможно» (V, 12, 743).
2 Например, известное «пророчество горшечника» эпохи Птолемея III
см.: А. Б. Ρ а н о в и ч. Эллинизм и его историческая роль. М., 1950, с. 212.
3 В существо проблематики, связанной с пониманием жанра диатрибы,
вводит статья Э. Шмидта [278, с. 507 и ел.].
4 Извлечения из диатриб Телета, киника второй половины III в. до н. э..
который находился под сильным влиянием Биона и обильно цитирует его,
сохранил Стобей [107]. Существенно дополняет наше знакомство с киниче-
ской диатрибой большой отрывок в сравнительно недавно найденном
папирусе (1950), датируемом серединой II в. н. э. и опубликованном Виктором
Мартеном, знаменитым издателем «Дискола» Менандра, в 1959 г. [499,
с. 76-115].
268
5 Эд. Норден определяет: «Диатриба — не что иное, как преобразованный
в форму декламации диалог» [245, т. 1, с. 129]. Виламовиц-Мёллендорф
рассматривает диатрибу как «сочетание философского диалога и риторической
эпидейктики» [303, с. 307].
6 Приведенный здесь гекзаметрический стих, вероятно, переделка из
«Илиады» (I, 335).
7 См. статью П. Фотиадис [513, с. 119].
8 Комплексное изучение диатрибы еще предстоит. Из старых, но еще
не устаревших работ см. работы П. Вендланда [301], А. Ольтрамара [248],
П. Синко [285].
9 Сочинения Мениппа составляли 13 книг; названия их устанавливаются
по свидетельствам Диогена Лаэртского (VI, 29, 101), Афинея (XVI, 27, 85),
Лукиана (Икароменипп), Сенеки (Эндимион), по фрагментам сочинении
Марка Теренция Варрона Реатинского.
10 «Мениппова сатира» — термин, введенный Варроном. Другие
называют ее «кинической» (Авл Геллий И, 18, 7; Макробий. Сат. I, 11, 42).
11 Об этом интересно и содержательно писал M. М. Бахтин в
«Проблемах поэтики Достоевского». К сожалению, ученый слишком расширительно
понимал жанр «мениппеи», включая туда диалог, диатрибу, памфлет и
роман, короче, все литературные жанры эллинизма и поздней античности,
а следовательно, Биона, Телета, Лукиана, Апулея, Петрония и др. Где же
границы, пусть и весьма пластичного, жанра? Вовсе игнорируется и связь
менипповой сатиры с кинизмом, почти все определяющая в ней.
12 Текст поэтических фрагментов дается по изд. Э. Диля [36, вып. 1]
13 Принимаю чтение Р1охима: peniës spaneös te tropaion. Ср.: «Что
тяжелого или трудного в бедности? Разве Кратет и Диоген не были бедняками?
Нужда и долги сопутствовали им всю жизнь» (Telet. rel. 9, 10 H).
14 А. Квятковский. Поэтический словарь. M., 1966.
15 Так и Маяковский в 4-й главе поэмы «Хорошо», пародируя разговор
Татьяны с няней из пушкинского романа в стихах, высмеивает отнюдь не
Пушкина, а врагов революции — мадам Кускову и Милюкова. Вообще,
многое в поэтике Маяковского напоминает о киниках (гиперболизация,
столкновение стилей, любовь к неологизмам, ораторская интонация и др.).
18 Об этом же Микилле рассказывается у Лукиана в «Переправе» и
«Петухе», у Каллимаха в эп. 26. Фргм. 5 Кратета использует популярную у
киников форму гомеровской некюйа и отдельные гомеровские формулы (в 1-м
стихе —Од. XI, 593, во 2-м —Од. X, 423, в 3-м —Ил. XIII, 603, Од. XII, 257).
17 В подлиннике игра слов: himatioy kainoy — himatioy kai noy.
18 Стильпон слыл «бабником», mulierosus (Cic. de fato. 5, 10), у него была
любовница гетера Никерота (Диог. Л. И, 114).
19 Ср. Поллукс VII, 39: katatrimmene hetaira — «потасканная
проститутка».
20 Ср. Диог. Л. VI, 71: mëden eleytherias prokrinön.
21 Климент Александрийский (Стромат. 2, 121, 1, с. 178 с), процитировав
указанные стихи, замечает, что и Антисфен предпочитал скорее сойти с ума,
чем поддаться любви. Этот мотив повторится у Кратета еще в одном
фрагменте, возможно извлеченном из его трагедии:
Любовь проходит с голодом, а если нет — со временем.
Но если так не справишься, петля тогда — спасение
(фргм. 14 Д.).
Правда, в жизни Кратет смотрел на любовь не так сурово, как в стихах.
Стоит вспомнить его нежные отношения с Гиппархией, послужившие Вилан-
ду, видному писателю немецкого Просвещения, темой для сентиментального
романа в 39 письмах, воспевающего любовь прекрасной и богатой Гиппархии
к внешне безобразному, но красивому силой своего духа и мудростью
философу Кратету.
22 Страбон (14, 5, 672) рассказывает: «Немного выше моря лежит Атг-
хиала, по словам Аристобула, основанная Сарданапалом. Здесь находится
269
гробница Сарданапала, его каменная статуя, которая так сжимает пальцы
правой руки, как будто щелкает ими, а также следующая надпись
ассирийскими буквами: „Сарданапал, сын Анакиндаракса, построил Анхиалу и Таре
в один день. Ешь, пей, веселись, потому что все остальное не стоит этого" —
именно щелчка. Об этой надписи напоминает и Херил. Действительно, везде
распространены его стихи...» (пер. Г. А. Стратановского). Эпитафия
Сарданапала по крайней мере с V в. до н. э. была широко распространена по всей
Греции как в прозаическом варианте, восходящем к Каллисфену (fr. 32
Müller. Ср. Афиней VIII, 335 f — 336 a; Diodor. 2, 23), так и в поэтическом
(АР VII, 325). С двустишием Кратета непосредственно перекликается
известный вариант стоика Хрисиппа (28, 11 III, с. 200 Arnim). Ср. также: Никита
Хониат. Ист. 417, 10—12.
23 Апостолий. Поел. 10, 5. Ср. Апулей. Флориды 47: Crates Cratetem marm-
mittit.
24 Simplic. in Epicteti ench., с 64; Greg. Nazianz. de virt. 228; Isidor. Pe-
lus. ep. 2, 146, с 129a; Suda s. v. и др.
25 Ср. Диог. Л. IV, 51. Бион: «Не за что бранить старость, ибо все мы
хотим до нее дожить».
26 Диог. Л. IV, 52: ...anthina enedysen; ср. Страбон I, 15: anthina peribalein.
27 Фрагменты стихотворений Сотада см. у Э. Диля [36, с. 286] и Пауэл-
ла [32, о. 238].
28 Песни магодов-лисиодов сопровождались игрой на флейте (Афиней
211 в, 252 е).
29 Ионические стихи считались непристойными, так как ионийцы
славились своей распущенностью и роскошью (Афиней 548 f, 526 d). «Кинэд»
(pathicus) — «распутник», «педераст». Этимология этого слова не ясна.
Объяснение его из сочетаний kenos aidous или kinein to aidoion следует отнести
на счет «народной этимологии». Вероятно, это слово восточного
происхождения и связано с эротическим восточным танцем типа «танца живота». Танцы
кинэдов сопровождались соответствующими музыкой и пением.
30 Фргм. 1 Д. Возможно, автор пользуется здесь гомеровской строчкой
для своих пародийно-сатирических целей. Ср. Ил. I, 290: «И огромный свой
меч в ножны опустил...».
31 Этот остров упомянут, кажется, только здесь. Патрокл командовал
кораблями, несущими охрану островов, принадлежащих птолемеевскому
Египту (Афиней, 334 а).
32 Фргм. 2 Д. О флейтисте Феодоре см. рассказ у Элиана (Пест. ист. XII,
17), где он сопоставляется с Деметрием Полиоркетом, который, как и он,
пользовался услугами гетеры Ламии.
33 Ср. Леонид Тарент., фргм. 15, 2 Геффк.— koinos pâsi limën Aidas; Epic-
tet. diss. IV, 10, 27: hoytos d estin ho limën pantôn, ho thanatos; Ps. Longin. de
subi. 9, 7: limën kakôn ho thanatos.
34 Хотя в дошедших до нас строчках Сотада есть неприличные, но они
социально значимы. Низкопробных эротических стихов в духе «техники
любви» среди фрагментов Сотада мы не встретим. Вряд ли можно назвать
неприличными Вийона или Рабле, Аристофана, Овидия или пушкинскую «Гав-
риилиаду», хотя и здесь есть весьма смелые пассажи.
35 См. примечание Нонна к первой речи Григория Назианзина против
Юлиана — PG, vol. 36, col. 1000 ВС Migne.
36 Феникс испытал влияние стиля, фразеологии и словаря Гиппонакта.
Кинизирующий поэт Леонид Тарентский написал эпитафию Гиппонакта
(АР VII, 408):
Молча проследуйте мимо этой могилы: страшитесь
Злую осу разбудить, что успокоилась в ней,
Ибо нещадно еще Гиппонакт, и родных не щадивший,
В этой могиле смирил свой необузданный дух.
Но берегитесь его: огненосные ямбы поэта
Даже из царства теней могут вам зло причинить.
Пер. Ю. Ф. Шульца
270
37 Стихи обращены к одному из самых значительных эпиграмматиков
III в. до н. э.— Посидиппу из Александрии, а не одноименному комическому
поэту из Касандрии. В 275 г. он учился в Афинах у Зенона и Клеанфа. Не
без влияния кинико-стоических идей им написана знаменитая
пессимистическая эпиграмма о выборе жизненных путей. Жизнь человеческая
представляется поэту полной трудов, нелепостей, разочарований и т. п. Поэтому
вывод его безрадостен: «Иль не родиться совсем, или скорей умереть»
(АР IX, 359). Стихотворение Феникса как бы подтверждение и иллюстрация
печальных наблюдений Посидиппа.
38 Странно, что Герхард слово krëgyoi (tüchtig) понимает иронически
[193, с. 108]. При таком толковании пропадает имеющаяся здесь острая
антитеза. Что же касается образа «изрыгает голод», смущающего ученого, та
он вполне в киническом духе (ср. Керкида).
39 Ср. положение Метрокла: ton ployton blaberon, ti më tis axios... (Диог.
Л. VI, 95).
40 Фргм. 3 Д. Афиней XII, 530с: «Поэт Феникс из Колофона в первой
книге своих „Ямбов" говорит о Нине следующее...». Далее приводятся
стихи (1—24).
41 Об этом Нине см. у Геродота I, 7; Ктесий у Диодора Сиц. II, 1. Нину
посвящены фрагменты так называемого «Романа о Нине», что говорит о его
популярности у греков.
42 Имеется в виду огонь. Персы поклонялись огню. См. Страбон 15, 3>
733: «На жертвеннике маги поддерживают неугасимый огонь... Маги...
произносят заклинания, держа перед огнем связку прутьев».
43 Кораксы принадлежали к племени колхов, синды — скифское племя.
Северные болота — возможно, Азовское море. См.: Аполлоний Род. IV, 322
(и схолии); Плиний. Ест. ист. VI, 5 и 15; Стефан Византийский, под ел. sin-
doi и Гесихий (sindis).
44 Ср. эпитафию Сарданапала. Возможно, интерполяция, первоначально
написанная на полях (Герхард).
45 Г. Герхард сопоставляет с этим стихотворением кинизирующие ямбы
эллинистического времени (где наряду с темой ubi sunt, qui ante nos?
упоминаются лидийский царь Крез и персидский Ксеркс), процитированные
псевдо-Плутархом в «Утешительной речи к Аполлонию» (15, HO DE):
«Где пышность древняя и где великий царь
Из Лидии, где Ксеркс, который обуздал
У Геллеспонта шею непокорную?
В Аиде все цари и в Лету канули» [474, с. 35].
46 Фргм. 2 Д.; Афиней VIII, 359е. Далее Афиней рассказывает (ЗбОв):
«Люди, собирающие подаяние для вороны, назывались коронистами (korö-
nistai), как говорит Памфил Александрийский в трактате „Об именах", а
песни, которые они пели, называются „Коронисмы" (korönismata), как сообщает
Агнокл Родосский... У жителей Родоса существует другой обычай собирать
милостыню, называемый словом chelidonizein („петь ласточку"). Об этом
сообщает Феогнид во второй книге „Родосских праздников". Он пишет
следующее: „Существует обычай собирать милостыню, который родосцы называют
chelidonizein1'. Эти сборы происходят в месяце Боэдромий (сентябрь —
октябрь.—if. #.). Это слово происходит от обычая петь такой припев:
„Прилетела, прилетела ласточка (chelidön) и принесла с собой прекрасную погоду,
прекрасное время года. У нее белая грудка и черная спинка. Эй, тащи сюда
сушеные фрукты из полной кладовой, чашу вина и головку сыра. Не
откажется ласточка ни от пшеничного пирога, ни от хлеба из бобов. Нам уйти
или самим взять?.. Мы не старики, а дети"».
47 См. в словаре В. Даля: колядование — «обряд хождения по домам в
Рождество и Новый год с поздравлением, песнями... для сбора денег и
пищи...». Колядовать — «ходить о святках с песнями, собирая подачки».
48 Стих испорчен, приходится переводить по смыслу. Далее лакуна.
Афиней (VIII, 359е): «В конце „Ямбов" Феникс говорит:...».
271
49 Герхарду [193, с. 201] не нравится рукописное nödos («беззубый
старик»), и он предпочитает пазвание дерева (например, lötos). Однако строй
отрывка говорит в пользу принятого чтения (ср.: «скрюченные
ревматические пальцы» — chöloisi daktyloisi).
50 В лексике и фразеологии Феникса заметно влияние Гиппонакта. Ср.,
например: Ph. fr. 1, 2 = Hipp. fr. 58 (lekos pyrön); Ph. fr. 2, 15 = Hipp. fr. 13
(oy gar alla keryssö); Ph. fr. 2, 14 = Hipp. fr. 3 (koraka); Ph. fr. 2, 15 = Hipp.
fr. 68A (Sindos).
51 Нокс почти безоговорочно приписывает Фениксу и анонимный холи-
ямбический фрагмент из Страссбургского папируса, содержащего, по его
мнению, остатки моралистической антологии Керкида [75, с. 253]. Этот
фрагмент представляет собою часть эпитафии некоему поэту Линкею, по поводу
смерти которого скорбит ее автор. О сходстве с Фениксом говорит только
общность размера и хронологическая близость. Больше ничего. Гипотеза Нок-
са совершенно недоказуема.
52 Ср. его же [428]. Автор считает, что в сер. III в. до н. э. Керкид из
Мегалополя составил первую в античной практике антологию
морализирующей поэзии, куда вошли сочинения самого Керкида, Феникса и
подражавших им холиямбических поэтов. Анонимные стихи критико-моралистическо-
го содержания, сохранившиеся в ряде названных выше папирусов (Гейдель-
бергский, Лондонский, Страссбургский и др.), приписываются Керкиду. Это
предположение также недоказуемо.
53 С этой строки начинается 2-я колонка, и текст сохранился лучше.
54 Kerkidas Megalopolitës. Kerkidas — дорич. форма, Kerkidës — атт.-
ионич., производное от kerkos («хвостик»). У Диог. Л. VI, 76 он назван
Megalopolitës е Krës. Последнее, может быть, ошибка (отсюда конъектура Arkas
или tes Arkadias). Возможно также, что этим указывается на его пребывание
на острове Крите, где он мог получить гражданство. У Афинея (VIII, 347d
и XII, 554d) поэт назван Megalopolitës Kerkidas.
55 Позднее текст Керкида был издан Пауэллом [32] и Ноксом [75]. К
работе я привлекал все существующие издания, но главным образом
основывался на последнем издании Диля [36, вып. 3, с. 141 и ел.].
56 Был еще один Керкид, упомянутый Аристотелем в сочинении «О
частях животных» (III, 10, с. 673а 17): «Когда жрец Зевса Гоплосмия умер по
неизвестной причине, некоторые утверждали, что чья-то отрубленная
голова несколько раз произнесла: „Один Керкид виновник смерти мужа..."». Все
Керкиды произошли из местечка Метидрия, вошедшего в процессе синой-
кизма в состав нового города Мегалополя, основанного в 371 г. до н. э.
57 В одном из фрагментов Керкида (5, 4 Д.) упомянуто имя стоика
Сфера, который был учеником основателей Стой Зенона и Клеанфа (Диог. Л.
VII, 37, 177; Cicer. tusc. disp. IV, 24 и 53; Plut. Cleomen. 2). Этот Сфер был
врагом мегалополийцев, наставником Клеомена и спартанских юношей (Plut.
Cleomen. И). Родился он не позднее 285 г. Хант указывает и на другие
хронологические вехи: смерть Диогена в 323 г. (фргм. 1, 4), упоминание Зенона
до 80-й Олимпиады (260—256) в фргм. И, 16. Следовательно, жизнь Керкида
приходится на середину III в. до н. э. Спор о двух Керкидах,
продолжавшийся вплоть до публикации Оке. пап. 1082, закончился в пользу младшего.
Даже Герхард считал еще киническим поэтом старшего Керкида [75, с. 206],
так как новых папирусных фрагментов не знал, хотя и прочел о их
существовании в первой заметке в английской «Тайме» от 14 мая 1906 г. (с. 208, 2).
58 Другая версия (Виламовиц) связывает законодательство Керкида со
временем, когда мегалополийский тиран Лидиад добровольно сложил с себя
власть ок. 235 г. (Полибий II, 44, 5). Указанная выше точка зрения мне
кажется более вероятной, так как включает в ситуацию Арата, который
активно поддерживал дружественного ему Керкида.
59 Ср. Пс. Диоген, пис. 7: «Не горюй, отец, из-за того, что зовусь
„собакой" и ношу сдвоенный плащ».
60 Первая строчка в оригинале представляет собой только часть
изречения Эпихарма. Полностью оно имеет следующий вид: «Ум видит, ум
слышит; все остальное глухо и слепо». Эпихарм был известен не только как ко-
272
медиограф, но и как автор популярных афоризмов. Многие строки из его
комедий стали крылатыми. Опубликованный в 1906 г. так называемый Ei-
bekpapyrus птолемеевского времени, III в., дал немало нового в этом
отношении. Во вступлении к папирусу сообщается, что «здесь много разных
изречений для употребления с пользой» (см. [423, с. 402]). Эпихарм привлек
Керкида не только родственным ему доризмом, но и тем, что его мудрые и
краткие гномы были широко известны в народе. Любовь киников к гномо-
логии соответствовала их эстетическим установкам. Керкид обратился к
афоризмам Эпихарма еще раз в фргм. 3 Д. (см. [425]).
61 Фргм. 11а, 3: lebêtos ex henos. Ср. фргм. 1, 11: koinokrateroskyphöi а
у Афинея XII, 347 е — lebêtocharôn.
62 Ср. этот стих с анонимными холиямбами против стяжателей 136.
вып. 3, с. 13] halmyron kateptystai.
63 Фргм. 10 Д.; Афиней XII, 554d: Megapolitês Kerkidäs en tois Iambois,
64 В статье о Керкиде в энц. Паули-Виссова (21-й полутом) тот же автор
выдвигает новое предположение: поэт критиковал любовь гетер. Но как
тогда это согласуется с тем, что проповедовал Керкид в фргм. 2в? Третью точку
зрения Герхард выдвигает в статье «Cercidea» [427, cl], утверждая, что ки-
нический поэт здесь выступает против hedypatheia рафинированной
культуры эллинизма.
65 Фргм. 4 Д. Плохая сохранность текстов Керкида, спорность чтений,
острая актуальность намеков и ассоциаций, не всегда нам понятных,
сложная образная структура, множество неологизмов и т. п. создают
значительные трудности для переводчика. В угоду возможной точности впервые
переводимых фрагментов приходится отказаться даже от мысли передать
прихотливый ритмический рисунок мелиямбов. Не говоря уже о дискуссионном
характере этого рисунка (см. ниже). В некоторых (оговоренных) случаях
точный перевод невозможен. Приходится полагаться на общий смысл места
и интуицию. Номера стихов, иногда не совпадающие точно с нумерацией
оригинала, даются для ориентировки в тексте. В основу работы, как было
сказано, положено издание Э. Диля [36].
66 Г. Фраккаролли [59, с. 129], ссылаясь на Круазе, считает, что речь
тут идет о сне, а не о смерти. Толкование маловразумительное.
67 Cf. Quint. Smyrn. Χ, 1426: oydos biotoy; Semon. 29, 12 и др.
68 Penetylidan — как патронимик, подобно тому как далее Oyranidas, Кго-
nidas и т. п.
69 Koinokrateroskyphöi.
70 Ср. Ил. VIII, 69 и ел. и XXII, 209. У Гомера дело представлено иначе,
чем у Керкида. Когда Зевс бросает на золотые весы два жребия: жизни и
смерти, и одна из чаш опускается, это значит, что для героев наступил
роковой день (aisimon êmar), сулящий им гибель. Здесь смысл обратный.
71 Здесь разночтения: phrygia в тексте, brygia на полях. Арним
предлагает brytia. У Афинея (II, 56d) —brytea (ta ekpesmata tes staphylës). У Ге-
сихия — bryttia, деминутив от bryton (ср. Афиней X, 447в). У Платона (Теэ-
тет 209в) поговорка о самых последних из людей: Myson ho eschatos.
72 В оригинале анаколуф, передающий смятение, недоумение поэта.
Конструкция начинается с им. п. мн. ч. (ta d'eschata Brygia Mousön) и
продолжается par'aytois.
73 В тексте: meteorokopois. Глосса: astrologois.
74 Обращение к богачам. Далее текст испорчен, сохранились лишь
отдельные слова. Переведено по смыслу контекста.
75 В составе слова -trögö («есть», «кушать») — народный дублет esthiö.
76 Новых слов, придуманных Керкид ом, около 30. См. у К. Шмидта [529,
с. 639].
77 Цитата из Эпихарма у Кайбеля: πάντα θεΐ κηλαύνεται [73, фргм. 216].
78 У Гомера (Од. X, 510) прилагательное «губящая плоды», «теряющая
плоды» употреблено по отношению к ивам. Как считает А. Платт, это
объяснение эпитета ölesikarpos, связанное с Гомером, недостаточно.
Дополнительно он привлекает то место из Аристотеля (О происхождении животных I,
XVIII, 59, 726а 3), где указывается на бесплодие тучных людей, которые едят
ЮЗаказ Ni 370
273
сверх меры. Таким образом, pimelan ölesikarpon Керкида означает
«бесплодный жир» [432].
79 Callimedon — orator, fautor et helluo ab Alexide et Timocle castigatus.—
PWRE, X, 1647 f. Виламовиц ошибочно относит имя Каллимедона к Сферу,
считая, что это имя является нарицательным для параситов, т. е. Сфер,
таким образом, назван стоическим параситом. Объяснение представляется мне
довольно надуманным и сводит всю полемику киников против стоиков к
личной неприязни [435, с. 1140].
80 Ср. Кратет, фргм. 18, 2 Д.: kai to mëdenos melein.
81 Перифраза Еврипида идет до 10-го стиха. Благодаря этому
фрагменту Керкида стала возможной атрибуция стихов Еврипида из неизвестной его
трагедии, которыераныпе значились как анонимные. См. [85, с. 187]: dissa
pneumata pneis Eros. Ср. Пиндар. Нем. 8.
82 А. К о 1 a f. De ге metrica poetarum Graecorum et Romanorum. Pragae,
1947, с 259 и ел.
83 Впервые полностью творчество Леонида было представлено в 1897 г.
в издании И. Геффкена [472]. Последующие издания (А. Веньеро, А. Оливье-
ри) основываются на работе И. Геффкена. Новейшее издание
эллинистических эпиграмм, включающее, естественно, и стихи Леонида, принадлежит
А. Гоу и Д. Пейджу [62]. В своей работе я учитывал также издания
Антологии И. Дюбнера и Е. Куни (Parisiis, 1884—1890), Г. Бекби [27] (1957),
Э. Диля и Штадтмюллера.
84 Хронологические выкладки делаются на основе ряда эпиграмм: VI,
334, где упоминается Эакид Неоптолем, убитый Пирром; VI, 129, 131 с
упоминанием луканов и IX, 29, посвященной Арату.
85 На смерть на чужбине жалуется и сиракузянин Ортон (АР VII, 660).
Погибнуть на чужбине для привязанного к своему полису грека — горе (ср.
ер. 23 Kaibel).
86 В последних двух строчках явная полемика с широко известной в
древности эпитафией Сарданапала.
87 Ср. АР VII, 452. Сентенция Леонида: koinos päsi limên Aides.
88 В этой эпиграмме первые шесть строк переведены Л. Блуменау,
остальные десять — мной.
89 Подобного рода сентенциями изобилуют трагедия, лирическая поэзия;
очень близок по мысли началу элегии фрагмент Семонида, сохраненный
Плутархом (Consolatio ad Apol. Ill с). Человеческая жизнь и здесь по сравнению
с вечностью уподобляется точке.
90 Гомеровские термины см.: Од. V, 246; XXIII, 198; IX, 385.
91 Виламовиц определяет стиль Леонида древним словом kakozelos
(«безвкусный») и добавляет, что пышность и высокопарность не подходит к
эпиграммам. Объяснение здесь одно — отсутствие вкуса, но оно
малоубедительно, так как у Леонида есть и очень простые эпиграммы. Геффкен [472,
с. 132] определяет стиль Леонида как «крайне искусственный», А. Лески
также говорит о несоответствии формы и содержания в эпиграммах
Леонида: «При скромности и реализме мотивов в Леониде поражает резкое и
искусственное противоречие между ними и барочно напыщенным языком»
[231а, с. 791].
92 Такое понимание представляется мне более естественным, чем
предложенное Дюбнером и Куни: trini laboris certamen (cf. an object made by three
people working in rivalry. Page-Gow. V. 2, с 350). Cf. trigeronta (VII, 295).
93 Вызывает удивление, почему Геффкен считает это слово непонятным,
искусственным и гротескным [472, с. 107]. Речь идет о флейтах, для
извлечения разных звуков из которых нужно быстро передвигать губы от одного
отверстия к другому. Образ предельно ясный.
94 Ср. слова Александра, обращенные к Диогену: pithos mestos phrenön.
95 Помимо Леонида это имя упомянуто в надписях и других памятниках
еще всего три раза.
96 Здесь стоит лишь напомнить, что Антисфен был автором трактата
«О любви: о рождении детей и браке» (Диог. Л. VI, 15).
274
97 Композиция посвятительных эпиграмм обследована Ганзеном [481,
с. 30 и ел.], который подчеркивает, что в них сразу видно, что хочет сказать
поэт: сначала идет invocatio, затем dedicatio; иногда до dedicatio идет
подробное enumeratio гегшп (или соединено с ней) и заканчивается supplicium
(например, VI, 334; IX, 326; VI, 286, 289, 188, 355). Добавлю, что эти завершающие
просьбы связаны всегда с насущными потребностями: охотник просит Пана
сделать удачливой охоту (VI, 13), крестьянин — у Вакха, Пана и пимф воду,
молоко и вино (VI, 154), садовник Тимокл просит нимф орошать его сад
(IX, 329), моряк — попутного ветра (VII, 264) и т. д.
98 Леонид писал на дорическом диалекте, в который включаются
ионические и эолические формы, гомеровские образования, попятные любому
грамотному человеку (ср. у Геффкена [472, с. 142 и ел.]). Поэзия па живом
языке должна быть диалектной, говорил Виламовиц-Мёллендорф [305, т. 1,
с. 93].
99 Благодаря извлечениям Стобея из эпитом некоего Феодора
сохранившиеся отрывки диатриб Телета собраны в книге О. Гензе [107]. «Письма
Анахарсиса» помимо известного издания В. Герхера [65] опубликованы
в 1963 г. в книге Ф. Ройтерс [263].
100 О популярности проблемы dokein и einai («казаться» и «быть») у
киников говорит, между прочим, тот факт, что в так называемом «Диогенов-
ском папирусе» I в. до н. э., опубликовапном К. Воссели, в одном из
анекдотов Диоген заявляет: «Я хочу быть, а не казаться собакой (киником)» («ou
boulomai dokein, all'einai kyön»).
101 Страбон VII, 303: koinönia здесь выступает в специфически кипиче-
ском смысле. Ср. у К. Иоэля [220, т. 2, с. 927].
Глава III
1 Историк древнегреческой философии Эд. Целлер считал, что в
середине III в. до н. э. кинизм вымер и возродился только в начале новой эры [559,
с. 286]. Уже в начале нынешнего века от этой концепции стали понемногу
отказываться. Правда, отголоски ее слышатся еще у Дадли [180].
2 Подобно эп. АР VII, 64 построена эпитафия 28 (31) Авзония.
3 Ср. Л у к и а н. О смерти Перегрина 36.
4 Кипическая традиция, развенчивающая Александра как человека и
правителя, оказала влияние на позднейших стоицизирующих историков
Александра (Квинт Курций Руф).
5 Критический анализ текста см. в статье И. Ф. Какридис [493, с. 34
и ел.].
6 Высказанное У. Вилькеном положение Б. Л. Галеркина распространяет
на Женевский папирус, полагая, что «папирус представляет Александра
властелином, полным желания постичь мудрость философов Индии. Царь
II в. н. э. обладает мягкостью, проходит мимо резких высказываний
руководителя гимнософистов — Дандамиса — во имя познания истины и внутреннего
освобождения от содеянного им в силу предначертанного зла» (см. «IV
конференция по классической филологии. Тезисы докладов». Тбилиси, 1969,
с. 17).
7 М. Т. Cicero: «Menippum imitatus, non interpretatus est» (Acad. post. I,
2, 8). Ср. Aul. Gell. 11, 18, 17.
8 Вряд ли плебейскому поэту имело смысл ссылаться на нищету и
аскетизм киников, если бы они были совсем незнакомы римскому зрителю (см.
Плавт. Перс. 120 и ел.; Стих 704).
9 Сенека, например, считал, что сама природа содержит идею монархии
(О милосердии I, 19). Такого же взгляда придерживался Эпиктет (I, 23, 10).
10 Учитель Демонакта и Перегрина-Протея Агатобул, о котором
сообщают Лукиан и Евсевий, жил и учил в Александрии, где пользовался
большой известностью и уважением как суровый кинический проповедник.
11 О нем помимо Лукиана находим сведения в следующих источниках:
Aul Gell. Noct. Att. VIII, 3; XII, 11'; Tatian. or. ad Graec. 25; Philostrat. v.
10* 275
soph. XIII, 563; Ammian. Marceil. rerum gest. XXIX, 1, 38; Tertullian. ad
martyr. 4; Euseb. chronic. I, 2; Athenagor. Suppl. pro christ. 26.
12 Некоторые сведения об Эномае сохранились у Юлиана, Евсевия, Ге-
зихия Милетского. Последний в своем «Ономатологе», фрагментарно
цитируемом Судой, сообщает, что родиной Эномая были Гадары, перечисляет его
сочинения и называет киником. Небольшая монография 1908 г. П. Валетта
[544], как и работа 1887 г. Т. Саарманна [525], к сожалению, остались мне
недоступны.
13 Как предполагает Иво Брунс, в основе обличительных речей киника
в сатире Лукиана «Зевс уличаемый» и эпикурейца в «Зевсе трагическом»
лежит аргументация Эномая, направленная против стоической теологии
[452].
14 О письмах Диогена сообщают также Эпиктет (IV, 1·, 29—31, 156) и
Юлиан (VII, 212 d).
15 В своей диссертации, посвященной главным образом хронологии,
И. Маркс [498], продолжая идеи Буассонада, неопровержимо установил
датировку некоторых писем, ставшую общепризнанной. Письмо 19 относится
к эпохе Августа, ибо оно адресовано пифагорейцу Анаксилаю, изгнанному
Августом из Италии в 28 г. до н. э. В письме 31 упоминается панкратий для
детей, установленный в Олимпии лишь около 200 г. до н. э. Следовательно,
письмо относится к более поздней эпохе. Большая часть писем составлена
в I или II в. н. э., хронологии писем Сократа и сократиков посвящена работа
Г. Обенса [510]. В связи с тем что письма созданы разными авторами на
протяжении десятков (если не сотен) лет, трудно говорить о
композиционном единстве или целенаправленной структуре дошедших до нас сборников.
Подбор писем, скорее всего, случаен.
16 L. Köhler. Die Briefe des Sokrates und der Sokratiker.—«Philologus»,
Supplbd XX, H. 2. Lpz., 1928, с 5. Ср. О. Шеринг [528, с. 32]: «Verisimile esse
puto nonnullas epistulas conscriptas esse in schola rhetorica, ut propagaretur
cynismus».
17 Вопросу об источниках писем киников посвящены главы в
сочинении В. Капеллы [456] и в книге К. Фритца [388].
18 Эту мысль в общей форме уже высказал И. Маркс [498],
конкретизировал О. Шеринг [528, с. 32—34], хотя некоторые письма воспринимаются
как риторические «мелеты» (см. ниже).
19 Об этом факте сообщает Аристотель (Риторика II, 23, с. 1398). Диалог
под названием «Архелай» был среди сочинений Антисфена (Диог. Л. VI, 18).
20 Виламовиц [305а, с. 187] считал Симона безусловной фикцией, однако
некоторые данные говорят против этой точки зрения. Помимо упоминаний
в письмах (9; 12; 13; 18) Симон был героем одноименного диалога Федона
(Диог. Л. II, 105), ему посвящена приводимая ниже маленькая главка у
Диогена Лаэртского, упоминается он и у Суды (под словами «Сократ» и «Федон»).
21 В очерке Т. Миллер, посвященном псевдоисторической эпистологра-
фии, дается иное толкование этого письма. Автор полагает, что в конфликте
двух образов жизни побеждает гедонизм Аристиппа, а Симон изображается
якобы только как сапожник. Подтверждения этой точке зрения в тексте
письма мы не находим. См. [112, с. 215—216].
22 Сходство тона кинических диатриб и ранних христианских
проповедей объясняется временной близостью их социальных позиций. Нельзя не
согласиться с мнением Капеллы [456, с. 28], что автор 28-го письма fuit ve-
rus et sincerus cynicus. Тщательно аргументирована эта точка зрения в
работе Э. Нордена [509, с. 398 и ел.].
23 Ср. выше. Думаю, что это совпадение, не попадавшее в поле зрения
исследователей, может служить еще одной базисной точкой для датировки.
24 У кинизирующего Лукиана в «Разговорах в царстве мертвых» (XIII,
6) Диоген хотел бы дать Александру чемерицу, известное средство против
безумия.
25 Эти слова удивительно напоминают мысли Демокрита: «Бедность в
демократии настолько же предпочтительнее так называемого благополучия
граждан при царях, насколько свобода лучше рабства» (Стобей IV, 1, 43).
276
26 Текст опубликован в «Museum Helveticum», vol. 16, fasc. 2, 1959 [513].
Колонки IX—XII содержат давно известную начальную часть 7-го письма,
причем расхождения в тексте минимальные. Диатриба не кончается кол. XIV,
но в кол. XV читается лишь многократное обращение «сибариты», которым
автор клеймит распущенность и роскошь эфесцев.
27 Ср. Эпиктет III, 24, 18: all' Odysseys epiponthei pros ten gynaika... ouk
en agathos.
28 Ср. Аристотель, de sensibus et sensibil. 437al2: tön de onomatôn hekas-
ton symbolon estin.
29 Demetr. de elocut. 222: einai gar tën epistolën hoion to heteron meros toy
dialogoy.
30 Ср. y К. Прехтера [515, с. 505]: Unterhaltungslectüre.
31 Ср. эти слова Максима с признанием Демонакта: «...я благоговею
перед Сократом, восхищаюсь Диогеном и люблю Аристиппа» (Лукиан. Дем. 62).
Нумерация речей и цитаты даются по изданию [81].
32 Макс. Тир. 23, 6: «Теперь все наполнено войной и несправедливостью.
Повсюду бродят желания, пробуждая на всей земле жажду наживы, везде
полно войск, направляющихся в чужие земли». Ср. 22, 5, а также псевдо-Кра-
тет, пис. 28, 1.
33 Сминдирид, сын Гиппократа,— богатый гражданин процветающего Си-
бариса, который наряду с другими знатными греками сватался к дочери си-
кионского тирана Клисфена, но был отвергнут (Геродот VI, 127 ел.).
34 Хоасп — приток Тигра, на котором стоял г. Сузы. Персидский царь
Кир, как сообщает Геродот (I, 188), отправляясь в поход, брал с собой воду
из Хоаспа, так как «это была единственная река, воду из которой пил царь».
Ср. Макс. Тир. 33, 4.
35 Ср. Макс. Тир, 32, 9, а также Диог. Л. VI, 37.
36 Речь отчетливо делится на две части. Первая половина (§ 1—4),
сравнивающая образ жизни двух поколений человечества, подготавливает выход
на авансцену главного героя — Диогена, пример которого может вернуть
людям утраченное счастье.
37 Тенденция, связывающая Диогена, «небесную собаку»,
непосредственно с богами, прослеживается и у других кинизирующих писателей этой
эпохи (ср. Эпиктет III, 22, 56; пс.-Диоген, пис. 7 и 34, 3).
38 К этой единственной фундаментальной монографии Г. Арнима о Дио-
не нам, как и всем пишущим о нем, придется еще не раз обращаться. Менее
обоснованный взгляд на причину ссылки Диона был высказан Моммзеномг
который полагал, что Дион был замешан в заговоре Юния Рустика.
39 Киренский епископ Синезий (IV—V вв.), страстный почитатель
Диона, говорит, что на превращение Диона из софиста в философа больше
повлияла судьба, чем его личное решение (Дион 1, 3), ибо первые речи против
философов были написаны по убеждению и страстно (1, 9—10). Правда, уже
в ранние годы Дион проявлял интерес к философии и серьезной литературе.
Даже в изгнание он взял с собой «Федона» Платона и Демосфена (Филост-
рат. Жизнеоп. соф. 1, 7). Речи Диона, написанные в софистический период,
настолько отличаются от написанного позднее, что Синезий предлагал к
заглавию каждой добавлять слова «до изгнания» (pro tes phygës) или «после
изгнания» (meta tën phygën — Дион 1, 12).
40 Во время ссылки внешне Дион был похож на киника: ходил в
поношенном плаще (1, 50; 7, 8; 32, 22), с котомкой нищего (66, 21), носил длинные
волосы и бороду. Он говорил, что людей, одетых так, как он, называют
киниками (34, 2). В речи «О внешнем виде» (72) Дион настаивает на праве
философов иметь, так сказать, свою спецодежду, как ремесленники,
крестьяне, пастухи, моряки. Он рассказывает, что в его время внешний вид
философа — гиматий на голом теле, длинные волосы и борода — вызывает
раздражение, и объясняет это тем, что люди боятся их поучений и упреков (72, 9).
Он напоминает, что таков был облик Сократа и Диогена (72, 16), что Диоген
довольствовался одним и тем же плащом и летом и зимой (6, 14; ср. Диог.
Л. VI, 6; 13; 22; 37 и др.).
277
41 Филострат сообщает, что в годы изгнания Дион общался с простыми
людьми, занимался крестьянским трудом, «участвуя в посадках, вскапывая
и поливая землю, зарабатывал себе на хлеб (hyper trophês ergazomenos) в
банях и садах» (Жизнеопис. софистов 1, 7).
42 Следует помнить, что названия речей у Диона не отвечают в полной
мере их содержанию, и в речи «О тирании» затрагиваются и другие
проблемы.
43 Ciceronis Paradoxa Stoicorum; ср. Эпиктет IV, 1.
44 Ср. мысли Антисфена (Диог. Л. II, 31; VI, 1, 4, 15 и др.). Главным
источником 14-й речи, по предположению О. Гензе, могло быть сочинение Био-
на «О рабстве» [485, с. 219].
45 М. Mühl. Des Herakles Himmelsfahrt.— RM, Bd 101, H. 2. 1958, с. 133.
*б Эта сторона речи хорошо освещена в диссертации Д. Ройтера [522].
47 Ср. 7, 110; «Существуют ремесла, которые оказываются совершенно
бесполезными из-за распущенности и роскоши, царящих в городах».
48 Г. Арним [436, с. 476] указывает на стоическую теологию Диона.
Идеальный полис, в представлении Диона,— сколок с божественного космоса.
49 Среди гетов Диону довелось жить перед возвращением в Рим,
вероятно, в 96 г.
50 И. Д. А м у с и н. Находки у Мертвого моря. М., 1964, с. 31.
51 Цит. по: «Хрестоматия по истории древней Греции». М., 1964, с. 616—
617. Пер. И. Д. Амусина.
52 Ритор Менандр сопоставлял простоту стиля Диона с прославленной
ясностью и прозрачностью сочинений Ксенофонта. Язык и стиль Диона
исследованы довольно подробно в известной работе В. Шмида [276, с. 72—190].
Автор делает вывод, что Дион не был педантичным аттицистом (с. 82).
53 Приведу только один характерный пример такого стиля из 74-й речи
(§ 21), толкующей о том, что опасно всем доверять (речь относится к
периоду изгнания) : oyde gar ho adelphos oyde ho syngenës oyde ho xenos pephyken
adikein, all'ho mochthëros anthropos* toyto de mikroy dein en pasin estin, all'ei
noyn echeis, pantas eulaboy. xenos, eulabou. metrios einai phësi* mallon eula-
boy. toyto akinêton hyparchetö.
54 Примеры собраны в книгах В. Шмида [276, с. 172] и Э. Вебера [547,
с. 208].
55 Борьба риторики и философии началась еще со времен Платона и Исо-
крата. Оборонялись от наскоков риторов, представлявших, как правило, гос-
подствующую идеологию, и нападали на них в первую очередь киники. Ср.
у В. Шмида [276, с. 72].
56 В переводе этого важнейшего для эстетики киников места новейший
немецкий ученый В. Эллигер допускает, на мой взгляд, принципиальную
ошибку. Слово doxa, имеющее у философов значение «ложные мнения»,
«расхожие представления» (ср. словарь В. Папе, т. 1, с. 657),
противопоставляемые истине, переводится им как Phantasie, a «alêtheia» — Wirklichkeit.
Таким образом, получается, что поэт одно «сочиняет» по воображению, а
другое списывает с действительности. В этой формулировке остается в стороне
вопрос о проникновении художника в глубь явлений, но, как показывают
параллельные места (см. ниже), смысл высказывания киников в том, что
художник, как и философ, стремится пробиться сквозь оболочку явлений
(doxa от dokeo) к сущности.
57 «Хотя каждый год на празднествах Дионисий вы смотрите трагедии
и сострадаете несчастным людям, выведенным в них, однако вы никогда не
задумываетесь над тем, что все беды постигают не тех, кто не умеет читать,
петь или бороться, и еще никто не написал трагедии, где героем был бы
какой-нибудь бедняк. Напротив, все эти трагедии посвящены Атреям,
Агамемнонам, Эдипам, у которых горы золота и серебра, тьма земли и скота».
58 Эпиктет охотно вспоминает и цитирует мысли и высказывания своего
учителя —I, 1, 26—27; 7, 32; 9, 29. III, 6, 10; 15, 14; 23, 29 и др. Вот
примерные темы диатриб Мусония Руфа: «Об аскезе», «О пище», «Об одежде»,
«О дружбе», «О том, что изгнание — не беда», «Мешает ли брак философии».
69 Ср. у К. Марта: «Epictète — le plus rigoureux et le plus consequent des
278
Stoïciens» [314]. Это положение о полной «догматической» зависимости
теории познания и психологии Эпиктета от Древней Стой впервые подробно
аргументировано в книге А. Бонхёффера [450].
60 Допуская влияние кинизма на Эпиктета, Бонхёффер в силу своей
концепции считает все же философа совершенно свободным от эклектицизма и
заявляет: «То, что в Эпиктете есть кинического, ограничивается широко
представленной в его этике идеей киника своим личным примером обращать
людей и, таким образом, подкреплять проповедь наставника-теоретика
действенной практикой». Далее ученый указывает, что от кинизма Эпиктет
перешел к Стое, претерпев такую же эволюцию, как Зенон. Впрочем, «кинизм
в этике Эпиктета играет меньшую роль, чем в Древней Стое», и не изменяет
эпиктетовского стоицизма [451]. Как должно показать дальнейшее
изложение, Бонхёффер неосновательно преуменьшает роль кинического элемента
в мировоззрении Эпиктета и противоречит себе, утверждая зависимость его
от Древней Стой и отрывая в то же время от кинизма, который дал первый
толчок строгой морали древних стоиков. Э. Целлер говорит о влиянии на
Эпиктета (помимо кинизма) мегарской сократической школы.
61 Р. Асмус [440] собрал у древних авторов (Арриан, Авл Геллий, Марк
Аврелий, Арнобий, Августин, Стобей, Симпликий, Фотий, анонимные лемма-
тисты и др.) все термины, обозначающие беседы и размышления Эпиктета:
logoi, dialexeis, diatribai, homiliai, dissertationes. Все они укладываются в
рамки популярных философских жанров.
62 Д. Дадли подчеркивает, что свои сведения о Диогене Эпиктет черпает
в литературной традиции, а не из первоисточников. Многие анекдоты,
использованные Эпиктетом, имеют параллели у Диогена Лаэртского (Эп. II,
13, 26 —Диог. Л. VI, 29; III, 2, И —VI, 34; III, 12, 8 — VI, 23; IV, 22, 88-
VI, 81 и др.).
63 Ср. Dio Chrys. XIII, 16: poi pheresthe, onthropoi, kai agnoeite mëden ton
deontön prattontes; Plutarch, de liberis educandis 4.
64 Э. Целлер обратил внимание на то, что миссия киника как врача и
разведчика (kataskopos, episkopos), провозглашенная Антисфеном и
Диогеном (Диог. Л. VI, 18; 43; Эпиктет III, 22, 23; Дион. Хрис. IX; Лукиан.
Разговоры мертвых X, 2 и др.), перекликается с одним термином, употребленным
апостолом Петром в Первом послании, 4, 5 (allotrioepiskopos). Целлер
считает, что у киников и христиан в проповеди нравственного совершенства
было немало общего [560, с. 124—132].
65 Так о себе говорит Диоген у Диогена Лаэртского (VI, 38). Ср. Элиан.
Пестрые истории III, 29; Юлиан VI, 365.
66 Эпиктет этой теме посвятил специальную диатрибу: Péri kathariotë-
tos (IV, И).
67 Ср. Эпиктет, IV, 122: человек предназначен «делать добро», «помогать,
быть благожелательным» (eu poiein, synergein, epeychesthai).
68 Сенека. О стойкости мудреца II, 2: «Их (Одиссея и Геракла.— И. Н.)
наши стоические мудрецы провозгласили героями, неодолимыми для любых
трудностей, презирающими наслаждения, и победителями всех пороков».
69 В книге П. Мельхера [501] читатель найдет множество примеров,
характеризующих язык Эпиктета.
70 О кинизме Лукиана см. мою работу «Мировоззрение Лукиана Само-
сатского». М., 1951.
71 Об этом успехе свидетельствуют несколько переводов, начиная с
первого, принадлежащего А. Кантемиру (М., 1729), затем появляется перевод
Г. Полетики (СПб., 1759; переизд. 1786 г.), перевод Кузьмина (1876) и,
наконец, В. Алексеева (СПб., 1888).
72 Названная рукопись содержит также речь Фемистия «О добродетели».
73 Научная литература по Юлиану обширна, особенно связанная с его
отступничеством. Советские исследователи, естественно, касаются иных
проблем и выясняют реальную основу политики и творчества императора.
Обращают на себя внимание диссертации Н. Н. Розенталя [318], Д. Е. Фурмана
[323], Т. Поповой [316]. Однако ни в отечественной, ни в зарубежной лите-
279
ратуре вопрос об отношении Юлиана к кинизму не был предметом
специального рассмотрения.
74 Юлиан, как известно, искал близости со всеми выдающимися умами
современного ему язычества, которые отвечали горячей взаимностью на
любовь царственного друга. Свидетельство этому — панегирики, написанные
Либанием и, видимо, все же Фемистием, сдержанным поклонником
императора (см. у О. Зейка [533, с. 554 и ел.]). Влюбленный в Платона, Фемистий
(317—390) испытал также киническое влияние, в частности Диона из Прусы.
Это обстоятельство кажется неожиданным в творчестве прославленного
придворного ритора. В сохранившейся лишь в сирийской обработке
речи-диатрибе «О добродетели» (Peri aretes), опубликованной впервые в переводе на
немецкий язык И. Гильдемейстером и Ф. Бюхелером [95, с. 438—462], кини-
ческая тенденция проступает удивительно откровенно — от восхваления
добродетели, обычного в кинических источниках, до типичных диатрибических
приемов.
В начале речи Фемистий указывает на три пути, ведущих к добродетели
и основанных соответственно Эпикуром, Аристотелем, а также Антисфеном,
Диогеном и Кратетом, последовавшими за Сократом (21). Если два первых
пути критикуются как ложные, то последний, кинический, восхваляется как
единственно истинный, построенный на сознании, что добродетель сама по
себе достаточна для счастья (ср. Диог. Л. VI, 2). В дальнейшем указывается
и доказывается, что только внутренние, духовные качества (мудрость,
спокойствие духа, разум, справедливость и т. п.), зависящие от самого человека,
приводят его к счастью, а богатство, власть, слава, знатность рода, здоровье,
красота и т. п. преходящи и не зависят от его воли или желания (30; 31).
Счастье заложено в самом человеке. Справедливость этих слов
многократно подтверждается жизненными примерами и высказываниями Анти-
сфена, Диогена и Кратета (21; 25; 32; 33; 41; 42; 44—46). Особенно часто
упоминаются имена двух последних (Фемистий, по-видимому, читал Плутархо-
ву биографию Кратета) как идеальных мудрецов. Диоген гордится своим
прозвищем собаки и понимает его как указание на то, что философ должен
быть охранителем всех людей (45—46). Диоген приводит фрагмент из
сочинения Антисфена, где сталкиваются Прометей и Геракл (33). Для
характеристики каждого из путей в философии Фемистий использует излюбленный
кинический прием персонификации. Каждая система защищает самое себя,
причем киническая выходит победительницей из этого состязания.
Выступает и персонифицированная добродетель (ср. подобный прием у Телета,
Максима Тирского — 36,3, у Лукиана — Bioi pnilosophön и др.).
Из других диатрибических средств используются аллегория (17—22),
ссылки на пример животных (27; 31; 32; 44), простых людей — сапожника,
ткача, кузнеца (30), на историю и мифологию (30; Гомер — 29, Геракл — 33).
Что же привлекло Фемистия в кинизме? Скорее всего, рационализм киниче-
ской концепции, утверждение свободы и независимости мудреца, которых
ему самому так не хватало в жизни. Недаром он дважды отбивается от
возможных упреков в непоследовательности — хвалит один путь, а сам идет по
другому (22). Киническая доктрина привлекала многих своей простотой и
кажущейся легкостью разрешения сложнейших вопросов и конфликтов,
моральных и социальных. Позиция Фемистия в «киническом вопросе» более
однозначна, чем у Юлиана,— он хвалит древних киников и вовсе не
вступает в дискуссию о «новом» кинизме.
75 Справедливо замечает Д. Е. Фурман: «...Юлиан оказывается в центре
еще не организованного, но все же существующего движения за
реставрацию и возрождение язычества» [324, с. 218].
76 О влиянии кинической литературной традиции (в частности,
диатрибы) на Григория см. работы И. Геффкена [191], Б. Висса [557], а также
П. Вендланда [550] и И. Дзеха [466].
77 И. Геффкен писал: Юлиан «ненавидит плохого бойца из своего лагеря
еще горячее, чем открытого врага, инаковерца, как отцы церкви — еретиков»
[471, с. 96].
78 Текст речей Юлиана цитируется по изданию [67].
280
79 Вообще, Юлиан в эту речь, посвященную во многом изложению
принципов кинизма, органически включает свои неоплатонические идеи, которые
должны объяснить его концепцию жизни. К ним относятся рассуждения о
дуализме души и тела, о душе, о разуме, о воображении (189В —189 D;
197АВ; 183В — 186В). Показательно аллегорическое толкование в
неоплатоническом духе мифа о Прометее. Огонь, который он принес от богов
людям,— это распространение в мире Логоса и ума (182 D).
80 Аскеза играла определенную роль и в философии неоплатоников.
Наряду с очищением и экстазом она помогает постичь прекрасное (Плотин.
Эннеады VI, 7, 36).
81 Юлиан сохранил несколько отрывков из стихотворений Кратета (см.
198 D, 199А, 199 D — 200 A: ek tön paigniön Kratëtos oliga soi paragrapsö).
82 P. Асмус называет таких киников «дружественными христианству»
(christenfreundliche Kyniker) и полагает, что именно о них и говорится в 6-й
речи [71, с. 42]. Норден обратил внимание на одно место у арианца Евно-
мия [91, т. 30, с. 853], где указывается на то, что Юлиан сравнивал киников
своего времени с христианами [362, с. 399].
83 Тема о мифах, поставленная в начале речи (205 В), после
отступления возобновляется (209 А) и подробно развивается в конце (21 В — 216 D),
перед мифом, сочиненным Юлианом.
БИБЛИОГРАФИЯ
КЛАССИКИ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА *
1. M а ρ к с К. и Э н г е л ь с Ф. Из ранних произведений. М., 1956.
2. Маркс К. и Энгельс Ф. «Святое семейство».— Т. 2.
3. Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология.— Т. 3.
4. Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии.— Т.4.
5. Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии.— Т. 7.
6. Маркс К. Будущие результаты британского владычества в Индии.—
Т. 9.
7. Маркс К. Введение (Из экономических рукописей 1857—1858 годов).—
Т. 12.
8. M а ρ к с К. Капитал. Т. I.— Т. 23.
9. Энгельс Ф. Бруно Бауэр и первоначальное христианство.— Т. 19.
10. Энгельс Ф. Анти-Дюринг.— Т. 20.
И. Энгельс Ф. Диалектика природы.— Т. 20.
1Ζ. Энгельс Ф. Из подготовительных работ к «Анти-Дюрингу».— Т. 20.
13. Энгельс Ф. Предисловие к третьему немецкому изданию работы
К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта».— Т. 21.
14. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и
государства.— Т. 21.
15. Энгельс Ф. К истории первоначального христианства.— Т. 22.
16. Ленин В. И. Что такое «друзья народа», и как они воюют против
социал-демократов? — Т. 1.
17. Л е н и н В. И. Что делать? — Т. 6.
18. Ленин В. И. Конспект книги Фейербаха «Лекции о существе
религии».— Т. 29.
19. Л е н и н В. И. О государстве.— Т. 39.
ДРЕВНИЕ ТЕКСТЫ, ФРАГМЕНТЫ,
СВИДЕТЕЛЬСТВА, ПЕРЕВОДЫ
20. Acta Alexandrinorum. Ed. H. Musurillo. Lipsiae, 1961.
21. A η a с h a г s i s. Die Briefe des Anacharsis. Griechisch und deutsch von
F. H. Reuters. В., 1963.
22. Antiphon. Orationes et fragmenta. Ed. F. Blass. Lpz., 1881.
23. Antisthenis fragmenta. Collegit A. G. Winckelmann. Turici, 1842.
24. Antisthenis fragmenta. Collegit F. D. Caizzi (Testi e documenti per lo
studio dell'antichitâ, 13). Milano, 1966.
25. Artemidori Daldiani Oniricriticon libri V. Ex rec. R. Hercheri. Lipsiae, 1894.
26. Artium scriptores. Hrsg. von L. Radermacher. Wien, 1951.
* Работы К. Маркса и Φ. Энгельса даны по 2-му изданию Сочинений,
работы В. И. Ленина — по Полному собранию сочинений.
282
27. A t h e η a e u s. The Deipnosophists. Vol. 1—7. London — Cambridge, 1951—
1957.
28. Beckby H. (ed.). Anthologia Graeca. Bd 1—4. München, 1957.
29. В erg к Th. (ed.). Poetae lyrici Graeci. Vol. 1—3. Lipsiae, 1900—1914;
30. Bion of Borysthenes. A Collection of Fragments with Introductionî
and Commentary. Ed. J. F. Kindstrand. Uppsala, 1976. ν
31. Cebetis Tabula. Rec. Fr. Drosihn. Lipsiae, 1871.
32. Collectanea Alexandrina. Ed. J. U. Powell. Ox., 1925.
33. Corpusculum poesis epicae Iudibundae. Fasc. 1. Parodorum Graecorum
reliquiae. Recogn. P. Brandt. Lipsiae, 1938.
34. Corpusculum poesis epicae Iudibundae. Fasc. 2. Sillographorum Graecorum
reliquiae. Recogn. С Wachsmuth. Lipsiae, 1935.
35. Damascii Vitae Isidori reliquiae. Ed. G. Zinzen. Hildesheim, 1967. \
36. D i e h 1 Ε. (ed.) Anthologia lyrica Graeca. Fasc. 1—3. Lipsiae, 1954.
37. D i e 1 s H. Doxographi Graeci. В.— Lpz., 1929.
38. Diogenes Laertius. Leben und Meinungen berühmter Philosophen.
Bd 1—2. B, 1955.
39. Diogenes Laertius. Lives of eminent philosophers. Ed. by
R. D. Hicks. Vol. 1—2. Cambridge — London, 1972—1979.
40. De Vo gel С. J. Greek Philosophy. Vol. 1—3. Leiden, 1963—1964.
41. Dion Chrysostomos. Opera. With an Engl. transi, by H. L. Crosby.
Vol. 1-5. L., 1949—1956.
42. Dion Chrysostomos. Sämtliche Reden. Eingeleitet, übersetzt u. erl.
von W. Elliger. Zürich — Stuttgart, 1967.
43. Dionis Prusensis, quem vocant Chrysostomum, quae exstant omnia. Ed.
J. Arnim. Vol. 1—2. В., 1893—1896.
44. The Discourses of Epictetus. Transi, by G. Long. Vol. 1—2. L., 1903.
45. Dittenberger W. Sylloge inscriptionum Graecarum. Vol. 1—4.
Hildesheim, 1960.
46. Epiktet. Was von ihm erhalten ist nach den Aufzeichnungen Arrians.
Übers, von R. Mücke u. J. G. Schultness. Heideiderg, 1926.
47. Epictetus. The Discourses as reported by Arrian, the Manual and
fragments. Ed. and transi, by W. A. Oldfather. Vol. 1—2. L.—Ν. Y., 1926—1928.
48. Ε ρ i с t è t e. Entretiens. Texte établi et traduit par J. Souilhé. Vol. 1—3.
P., 1943, 1949, 1963.
49. Epicteti Dissertationes. Rec. H. Schenkl. Lipsiae, 1916.
50. Elegy and Jambus. Ed. and transi, by J. M. Edmonds. London —
Cambridge, 1961.
51. Epicorum Graecorum fragmenta. Ed. G. Kinkel. Lipsiae, 1887.
52. Epigrammatum anthologia Palatina. Ed. Boissanade, Dübner J. et Coug-
ny E. Vol. 1—3. P., 1864—1890.
53. E u s e b i u s. Werke. Die Praeparatio evangelica. Hrsg. von K. Mras. T. 1—
2. В., 1954—1956 (Oenomai fragmenta in Praep. ev. V. 18—36).
54. F a ν о г i η von À г e 1 a t e. 1. Teil der Fragmente. Ed. E. Mensching. В.,
1963.
55. Favorino di Arelate. Opera. Introduzione, testo critico e commen-
to a cura di A. Barigazzi. Firenze, 1966.
56. Favorinus Péri phyges.— G. V i t a 11 i, M. N о г s a. Il papiro greco Vati-
cano 11.—Studi e testi. Vol. 53. Città del Vaticano, 1931.
57. Fragmenta Bionis Borysthenitae philosophi. Ed. J. Rossignol. P., 1830.
58. Fragmenta philosophorum Graecorum. Collegit, rec, vertit F. G. A. Mulla-
chius. Vol. 2. P., 1881.
59. F г a с с a г о 11 i G. The Oxyrhynchus Papyri. P. VIII. Ed. by A. S. Hunt.—
RF. Vol. 40, 1912.
60. Gnomologium Vaticanum. Ed. L. Sternbach.— «Wiener Studien». Bd 9,
1887; Bd 10, 1888; Bd 11, 1889.
61. Gnomologium Vaticanum e codice Vaticano Graeco 743. Ed. L. Sternbach.
В, 1963.
62. The Greek Anthology. The Garland of Philip and some contemporary
Epigrams. Ed. by A. S. F. Gow and D. L. Page. Vol. 1—2. Cambridge, 1968.
283
63. The Greek Anthology. Hellenistic epigrams. Ed. by A. S. F. Gow and
D. L. Page. Vol. 1—2. Cambridge, 1965.
64. Hausrath A. (ed.). Corpus fabularum Aesopicarum. Lipsiae, 1957.
65. Hercher R. (ed.). Epistolographi Graeci. P., 1873.
66. Herodes, Cercidas and the Greek Choliambic Poets (except Callimachus
and Babrius). Ed. by A D Knox L— N. Y., 1929.
67. Juliani imperatoris quae supersunt praeter reliquias apud Cyrillum omnia.
Rec. F. С Hertlein. Lipsiae, 1875.
68. J u 1 i a η u s. Epistulae, leges, poemata, fragmenta. Ed. J. Bidez, F. Cu-
mont. P., 1922.
69. J u 1 i a η u s. The Works. Ed. by W. С Wright. Vol. 1—3. L.— N. Y., 1913—
1923.
70. Julianus imperator. Oeuvres complètes. Texte établi et traduit par
G. Rochefort. Vol. 1—2. P., 1963.
71. Kaiser Julianus philosophische Werke. Übersetzt und erkl. von R. Asmus.
Lpz., 1908.
72. Kaibel G. (ed.). Comicorum Graecorum fragmenta. В., 1899.
73. Kaibel G. (ed.). Epigrammata Graeca ex lapidibus conlecta. В., 1878.
74. Kirchner J. Prosopographia Attica. Bd 1—2. В., 1901—1903.
75. Κ η ο χ A. D. The Greek choliambic poets. L., 1929.
76. К ö h 1 e г L. Die Briefe des Sokrates und der Sokratiker.— «Philologue».
Suppl. Bd XX. H. 2, Lpz., 1928.
77. Les cyniques grecs. Fragments et témoignages. Par Léonce Paquet. Ottawa,
1975.
78. L u 1 о f s H. J. De Antisthenis studiis rhetoricis. Amsterdam, 1900.
79. Lyra Graeca. Ed. J. Edmonds. Vol. 1—3. L.— N. Y., 1934—1945.
80. Marci Antonini Imperatoris In semet ipsum. Rec. H. Schenkl. Lipsiae, 1913.
81. Maximi Tyrii Philosophoumena. Ed. H. Hobein. Lipsiae, 1910.
82. M e i η e к e A. Analecta Alexandrina. В., 1843.
83. M о m i g 1 i a η о A. Il Menesseno — RFC. T. 8, 1930.
84. Musonii Rufi reliquiae. Ed. O. Hense. Lipsiae, 1905.
85. N au с к A. (ed.). Tragicorum Graecorum fragmenta. Suppl. Bd Snell.
Hildesheim, 1964.
86. N e s tl e W. Die Sokratiker. Jena, 1922.
87. О г e 11 i I. С. Collectio epistolarum Graecarum. Lipsiae, 1815.
88. О г e 11 i I. C. Opuscula Graecorum veterum sententiosa et moralia. Vol. 1—
2. Lipsiae, 1819—1821.
89. The Oxyrhynchus Papyri. P. VIII. Ed. by A. S. Hunt. L., 1911.
90. Ρ a g e D. L. Greek literary papyri. L.— Ν. Y., 1942.
91. Patrologiae cursus completus. Series Graeca. Accurante J. P. Migne. P.,
1957-1966.
92. Ρ a t ο η W. R. (ed.). The Greek Anthology. Vol. 1—5. L.— Ν. Y., 1953—1955.
93. Platon. Oeuvres complètes. Ed. par J. Souilhé. T. 13. Dialogues
apocryphes. P., 1930.
94. Ρ г a e с h t e г К. Cebetis Tabula. L., 1893.
95. Pseudo-Plutarchs Péri askeseos. Bearbeitet von J. Gildemeister und F.
Bücheier.—RhM. Bd 27, H. 4, Frankfurt/M, 1872.
96. Pseudo-Callisthenes. Nach der Leidener Handschrift herausgegeben von
H. Mensel. L., 1871.
97. R i 11 e г Η., Ρ г e 11 e г L. Historia philosophiae Graecae et Romanae ex
fontium locis contexta. Gottae, 1934.
98. Die Rolle der Volksmassen in der Geschichte der Vorkapitalistischen
Gesellschaftsformationen. Hrsg. J. Hermann u. I. Sellnow. В., 1975.
99. Schenkl H. Das Flotilegium «Ariston kai proton mathema».— «Wiener
Studien». Bd 11, 1889.
100. Simplikios' Commentar zu Epiktetos Handbuch. Übersetzt von K. Enk.
Wien, 1867.
101. Sofisti. Testimonianze e frammenti. Ed. M. I. Untersteiner. Firenze, 1949—
1954.
102. Spengel L. (ed.). Rhetores Graeci. Vol. 1—5. P., 1853—1856.
284
103. Stobaeus Ioannes. Anthologium. Rec. С Wachsmuth et О. Hense.
Vol. 1—3. В., 1884—1894.
104. Eclogarum physicarum et ethicarum libri duo. Rec. A. Meineke. Vol. 1—2.
Lipsiae, 1860—1864.
105. Suidas. Lexicon. Ed. A. Adler. Lipsiae, 1928.
106. S y η e s i u s. Dion Chrysostomos oder von Leben nach seinem Vorbild.
Griechisch und Deutsch. В., 1959.
107. Teletis reliquiae. EdM prolegomena scripsit O. Hense. Tübingen, 1909.
108. Theophrastus «Characters». Herodes. Cercidas and the Greek Choliambic
Poets. Ed. by J. M. Edmonds and A. D. Knox. L — N. Y., 1929.
109. Аммиан Марцеллин. История. Пер. Ю. Кулаковский и А. Сонни.
Вып. 1—3. Киев, 1906—1908.
110. К е б е т. Картина. Пер. с греч. В. Алексеев. СПб., 1888.
111. МаковельскийА. О. Древнегреческие атомисты. Баку, 1946.
ОБЩИЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ G КИНИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКОЙ,
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРУДЫ ПО КИНИЗМУ
112. Античная эпистолография. М., 1967.
113. Бергер А. К. Политическая мысль древнегреческой демократии. М.,
1966.
114. Бе ер М. Всеобщая история социализма и социальной борьбы. Ч. 1.
Киев, 1922—1923.
115. В а л л о н А. История рабства в античном мире. Л., 1941.
116. Волгин В. П. Социализм в древней Греции.— «Вестник Ком.
Академии». М., 1925, № 10.
117. Д о в а τ у ρ А. И. Политика и «Политии» Аристотеля. Л., 1965.
117а. История греческой литературы. Т. 3. М., 1960.
118. История социальных учений. Сб. в память В. П. Волгина. М., 1964.
119. К а л л и с τ о в Д. П. Античная литературная традиция о Северном
Причерноморье.— «Ист. зап.». Т. 16. М., 1945.
120. Куклина И. В. Abioi в античной литературной традиции.— ВДИ.№3,
1969.
121. Лурье С. Я. История античной общественной мысли. М.— Л., 1929.
122. Л о с е в А. Ф. Античная музыкальная эстетика. М., 1960.
123. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон.
М., 1969.
124. Лосев А. Ф. Классическая калокагатия и ее типы.— «Вопросы
эстетики». М., 1959, № 3.
125. Л о с е в А. Ф. Эстетическая терминология ранней греческой литературы
(эпос и лирика).— УЗ МГПИ. Т. 33, 1954.
126. M а ш к и н Н. А. Эсхатология и мессианизм в последний период
Римской республики — ИАН СССР ОИФ. Т. 3. 1946, № 5.
127. H а χ о в И. М. Историческое значение кинической философии. К
вопросу об идеологии социальных низов античного общества.— Античное
общество. М., 1967.
128. H а χ о в И. М. К вопросу о концепции труда в древнем кинизме.— Die
Krise der griechischen Polis. В. Akademie-Verlag. 1970.
129. H а χ о в И. М. К характеристике поэзии Леонида Тарентского.—
Проблемы античной культуры. Тб., 1975.
130. H а χ о в И. М. Кинизм Диона Хрисостома.— ВКФ. Т. 6, 1976.
131. H а χ о в И. М. Киники в Александрии. Тезисы.— Труды
Международного конгресса «Эйрене» — XII. Клуж, 1972.
132. H а χ о в И. М. Киники против Платона. К истории борьбы
материализма и идеализма в античности.— ВКФ. Т. 1, 1964.
133. H а χ о в И. М. Классическая калокагатия и кинический идеал. Тезисы.—
III Всесоюзная конференция по вопросам классической филологии.
Киев, 1966.
285
134. H a χ о в И. M. Лукиан из Самосаты. Очерк жизни и творчества.—
Избранные сочинения Лукиана. М., 1962.
135. H а χ о в И. М. «Письма Анахарсиса» как свидетельство единства цозд-
иеантичного мира. Тезисы.— XV Международный конгресс «Эйрене».
София, 1978.
136. H а χ о в И. М. Наука и религия в идеологии кинизма.— Вопросы
античной литературы и классической филологии. М., 1966.
137. H а χ о в И. М. «Письма киников» в истории идейной борьбы в эпоху
ранней Римской империи. Тезисы.— Труды Международного
конгресса «Эйрене»— XIII. Скопле, 1974.
138. H а χ о в И. М. Политические взгляды киников.— ВКФ. Т. 3—4, 1971.
139. H а χ о в И. М. Поэзия протеста и гнева (Сотад, Феникс, Керкид).— ВКФ.
Т. 5, 1973.
140. H а χ о в И. М. Проблема труда в философии кинизма.— ВКФ. Т. 3—4,
1971.
141. H а χ о в И. М. Традиции аллегоризма и «Картина» Кебета Фиванского.—
Традиция в истории культуры. М., 1978.
142. H а χ о в И. М. Три кинических диатрибы.— Античность и
современность. М., 1972.
143. H а χ о в И. М. Эниктет и кинизм — Образ и слово. М., 1980.
144. H а χ о в И. М. Эстетические и литературные взгляды киников.— ВКФ.
Т. 2, 1969.
145. II а χ о в И. М. Юлиан и «невежественные киники».— Образ и слово. М.,
1980.
146. Π ё л ь м а н Р. История античного коммунизма и социализма. СПб., 1910.
147. Ρ а д ц и г С. И. История древнегреческой литературы. М., 1977.
148. Ρ а н о в и ч А. Античные критики христианства. М., 1935.
149. Ростовцев М. И. Скифия и Боспор. Л., 1925.
150. Тронский И. М. История античной литературы. Л., 1951.
151. Τ ю м е н е в А. И. История труда. Л., 1927.
152. Φ о ρ л е н д с ρ К. История социалистических идей. Л., 1925.
153. Ш τ a θ ρ м а н Ε. M. Кризис рабовладельческого строя в западных
провинциях Римской империи. М., 1957.
154. ΠΙ τ а с ρ м а н Ε. М. Мораль и религия угнетенных классов Римской
империи. М., 1961.
155. A m е 1 u η g W. Notes on Representations of Socrates and Diogenes and
other Cynics.— AJA. Ser. 2, vol. 31, № 3, 1927.
156. А г η о 1 d Ε. V. Roman Stoicism. L., 1958.
157. В а с h о f e η J. J. Versuch über die Grabersymbolik der Alten. Werke.
Bd 4. Basel, 1954.
158. В а у ο η a s A. La philosophie politique des cyniques. Athènes, 1970.
159. Benz Ε. Das Todesproblem in der stoischen Philosophie. Stuttgart, 1929.
160. В e ν a η Ed. Stoics and Sceptics. Ox., 1913.
161. Bickel E. Diatribe in Senecae philosophicis fragmentis. Lpz., 1915.
162. В i 1 i ή s k i B. L'agonistica sportiva nella Grecia antica. Roma, 1961.
163. В i 1 i ή s k i В. Anticzni kryticy anticznego sportu.— «Meander». 1956,
№ 9—11.
164. В i 1 i ή s k i В. О heziodejski aspect starozytnosci. I Praca w starozytnej
Grecji.— «Archeologia» II. Krakow, 1948.
165. В 1 a s s F. Die attische Beredsamkeit. Bd 1—2. Lpz., 1892.
166. Brandt P. Schaffende Arbeit und bildende Kunst im Altertum und
Mittelalter. Lpz., 1927.
167. В г e 1 i с h A. Aspetti délia morte nelle iscrizioni sepolcrali dell'impero ro-
mano. Budapest, 1964.
168. Brinkmann W. Der Begriff der Freundschaft in Senecas Briefe. Köln,
1963.
169. Bultmann R. Der Stil der paulinischen Predigt und die kynisch-stoi-
sche Diatribe. Göttingen, 1910.
170. Bunsmann J. De piscatorum in Graecorum atque Romanorum litteris
usu. Monasterii Guestfalorum, 1910.
286
17t Cappelletti A. J. Religisidad e iconolasia del cinismo. Univ. de
Santa Fe. № 52, 1962.
172: Carré M. H. Realists and Nominalists. L., 1946.
173. Cas pari A. De cynicis, qui fuerunt aetate imperatorum Romanorum.—
Jahresberichte des königl. Gymnasiums zu Chemnitz. 1906.
174. С e s s i C. La poésia ellenistica. Bari, 1912.
175. С о u a t A. La poésie Alexandrine sous les trois premiers Ptolémées (323—
222 av. J. C). P., 1882.
176. С о u 1 m a s P. Die Arbeit in Antike und Gegenwart— Blätter für deutsche
Philosophie. № 14. В., 1940.
177. D e 1 a 11 e A. Le sage-temoin dans la philosophie cynique.— «Bulletin de
l'Académie royale de Belgique (Lettres)». T. 39, 1953.
178. D i e 1 s H. Der antike Pessimismus. В., 1921.
179. D i 11 m а г H. Aeschines von Sphettos. В., 1912.
180. Dudley D. R. A History of Cynicism from Diogenes to the 6-th Cent.
A. D. L., 1937.
181. D u g a s L. L'amitié antique d'après les moeurs populaires et les théories
philosophiques. P., 1894.
182. D ü m m 1 e г F. Akademika. Gießen, 1889.
183. E i s 1 e r R. Die orphisch-dionysischen Mysteriengedanken in der
christlichen Antike. Lpz.— В., 1925.
184. Ε1 о г d u y E. Die Sozialphilosophie der Stoa.— «Philologue». Suppl. Bd 28,
H. 5, 1936.
185. Emeljanow V. A. Note of the Cynic Short-Cut to Happiness.—
«Mnemosyne». Bd 18. Leyden, 1965.
186. Ferguson J. Moral Values in the Ancient World. L., 1958.
187. Ferrater MoraJ. Cyniques et Stoïciens.— «Revue de Metaphisique et
de morale». T. 62, P., 1957.
188. F i s e r Ζ. К problematice malych sokratovskych skol.— «Filosoficky caso-
pis». Praha, 1964, № 5.
189. Friedländer P., Hoffleit H. Epigrammata. Greek Inscriptions in
Verse from the beginnings to the Persian Wars. Berkley — Los Angeles,
1948.
190. Gabalthuler M. Hellenistischen Epigrammen auf Dichter. St. Gallen,
1937.
191. G e f f с к e η J. Kynika und Verwandtes. Heidelberg, 1909.
192. GeffckenJ. Stimmen der Griechen am Grabe. Hamburg — Leipzig, 1893.
193. GerhardG. Phoinix von Kolophon. В.— Lpz., 1909.
194. G e у t e η b e e к А. С. Musonius Ruf us en de Griekse Diatribe. Utrecht,
1948.
195. G1 о t ζ G. Le travail dans la Grèce antique. P., 1920.
196. G о m ρ e r ζ Th. Die Kyniker. Cosmopolis, 1897.
197. G о о d e η о u g h E. R. The political Philosophy of Hellenistic Kingship.—
Yale Classical Studies. 1. New Haven, 1928.
198. Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. В.— Lpz., 1905.
199. Griechische Vers — Inschriften. Hrsg. von W. Peck Bd 1. В., 1955.
200. Griessmair E. Das Motiv der Mors immatura in der griechischen
metrischen Grabinschriften. Innsbruck, 1966.
201. G г о t e G. Plato and other Companions of Socrates. Vol. 2. L., 1865.
202. Gummerus H. Darstellungen aus dem Handwerk auf römischen Grab-
und Votivsteinen in Italien.— «Jahrbuch des Deutschen Archäologischen
Instituts». Bd 28, В., 1913.
203. Guts cher H. Die attische Grabschriften, chronologisch geordnet,
erläutert und mit Übersetzungen begleitet. Program Leoben, 1889—1890.
204. H a d a s M. From Nationalism to Cosmopolitanism in the Greco-Roman
World.- JHI. Vol. 4, № 1, 1943.
205. H ä s 1 e r В. Favorin über die Verbannung. В., 1935.
206. Heinimann F. Nomos und Physis. Herkunft und Bedeutung einen
Antithese in griech. Denken des 5. Jh. Basel, 1945.
287
207. Heinrich К. Antike Zynismus in der Gegenwart.— «Das Argument». В.,
1966, № 8.
208. H e i η ζ e R. Anacharsis.— «Philologus». Bd 50, H. 3, Göttingen, 1891.
209. H e 1 m R. Kynismus.— PWRE. HBd 23. Stuttgart, 1914.
210. H e η r i ο η L. La conception de la nature et du rôle de la femme chez les
philosophes cyniques et stoïciens. Liège, 1943.
211. Hermann К. F. Die philosophische Stellung der älteren Sokratiker und
ihren Schulen.— Gesammelte Abhandlungen und Beiträge zur klassischen
Literatur- und Altertumskunde. Göttingen, 1849.
212. H e г г 1 i η g e г G. Totenklage um Tiere in der antiken Dichtung. Stuttgart,
1930.
213. H i η с к s R. Myth and Allegory in ancient Art. L., 1939.
214. H i г ζ e 1 R. Der Dialog. Bd 1—2. Lpz., 1895.
215. Η о m m e 1 H. Das hellenistische Ideal vom einfachen Leben.— «Studium
Generale». Bd И. В., 1958.
216. H ö i s t a d R. Cynic Hero and cynic King. Studies in the cynic
Conception of Man. Uppsala, 1948.
217. I m m i s с h О. Über eine volkstümliche Darstellungsform in der antiken
Literatur.—NJbKPh. Bd 47, 1921.
218. Ι η g а 11 s D. H. Cynics and Pasupatas: the Seeking of Dishonor.—
«Harvard Theological Review». Vol. 55, 1962.
219. Jaeger W. Paideia. Die Formung des griechischen Menschen. Bd 1—3.
В.- Lpz., 1936-1947.
220. Jahn O. Darstellungen antiken Reliefs, welche sich auf Handwerk und
Handelsverkehr beziehen.— Berichte der phil.-hist. Klasse der königl.
sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Dresden, 1861.
221. J о e 1 K. Die Auffassung der kynischen Sokratik.— AGPh. Bd 20. Neue
Folge: Bd 13, H. 1, 1906; Bd 13, H. 2, 1907.
222. Joel К. Geschichte der antiken Philosophie. Tübingen, 1921.
223. К a h 1 о G. Der Demokrat Herkules.— «2iva antika». Skopje, 1967.
224. Der kleine Pauly. Lexikon der Antike. Bd 1—5. Stuttgart, 1964—1968.
225. Körte A. Die hellenistische Dichtung. Stuttgart, 1960.
226. Kühnert F. Zur antiken Einteilung in sogenannte freie Künste und in
handwerkmässige Künste.— Античное общество. M., 1967.
227. La Ρ e η η a A. La morale délia favola esopica corne morale délie classi
subalterne nell' antichitâ.— «Societâ». Vol. 17, Milano, 1961.
228. Lattimore R. Themes in Greek and Latin Epitaphs. Urbana, 1962.
229. Leal R. Cinicos e estoicos heracletianos.— Acto. 1. Lisboa, 1951.
230. L e g г a η d Ph. E. La poésie Alexandrine. P., 1924.
231. L e i ρ о 1 d t J. Griechische Philosophie und frühchristliche Askese. В., 1961.
231а. L e s к y A. Geschichte der griechischen Literatur. Bern — München, 1971.
232. Lier В. Topica carminum sepulcralium Latinorum.— «Philologus». Lpz.
Bd 62, 1903; Bd 63, 1904.
233. L ο ν e j о i Α. О., В о a s G. Primitivism and Related Ideas in Antiquity.
Vol. 1. Baltimore, 1935.
234. MacKunn J. The Cynics.—«International Journal of Ethics». Vol. 1,
Chicago, 1904.
235. M a i u r i A. Silloge epigrafica di Rodi e Cos. Firenze, 1925.
236. Mann W. Beitrag zur Kenntnis der sozial- und staatphilosophischen
Anschauungen der Hauptvertreter der neueren Stoa. Halle, 1937
237. M e w a 1 d t J. Das Weltbürgertum in der Antike.— «Die Antike». Bd 2,
1926.
238. Mondolfo R. Tecnica e scienza nel pensiero antico.— «Athenaeum». Pa-
via, 1965.
239. Μ о s s é С. Le travail en Grèce et Rome. P., 1966.
240. M ü 11 e r H. De Teletis elocutione. Freiburg, 1891.
241. Müller К. Allegorische Dichtererklärung.— PWRE. Suppl. Bd 4, 1924.
241a. Nachov I. M. Die Anacharsis-Briefe und das Problem der Einheit der
antiken Welt.— «Miszellen zur Wissenschaftsgeschichte der
Altertumskunde». Halle (Saale), 1980.
288
242. Nachow Is. Koncepcija rozwojou spolecznego w filosofii cynikow.—
«Meander». Warszawa, 1972, № 3.
243. Nachow Is. Der Mensch in der Philosophie der Kyniker.— Der Mensch
als Maß der Dinge. B. Akademie-Verlag, 1976.
244. N a t о г ρ P. Forschungen zur Geschichte des Erkenntnisproblem in
Altertum. В., 1884.
245. Norden E. Die antike Kunstrpose. Bd 1—2. Lpz., 1909.
246. Oakeley H. Greek Ethical Thought from Homer to the Stoics. L., 1925.
247. Oilier F. Le mirage Spartiate. IL Étude sur l'idéalisation de Sparte dans
l'Antiquité grecque du début de l'école cynique jusqu'à la fin de la cité.—
Annales de l'Université de Lion. Fasc. 3, P., 1943.
248. Oltramare A. Les origines de la diatribe romaine. Genève, 1926.
249. Pape K. Wörterbuch der griechischen Eigennamen. Braunschweig, 1889.
250. Pearson L. I. L. Popular Ethics in ancient Greece. Stanford, 1962.
251. Ρ e e к B. Griechische Grabgedichte. В., 1960.
252. Pohlenz M. Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung. Bd 1—2.
Göttingen, 1964.
253. Pohlenz M. Zenon und Chrysipp. Göttingen, 1938.
254. Powell J. U. and Barber Ε. A. New Chapters in the History of Greek
Literature. Ox., 1921.
255. Praechter K. Zur kynischen Polemik gegen die Bräuche bei
Totenbestattung und Totenklage.— «Philologus». Bd 57, 1898.
256. Pritwitz-Gaffron E. Das Sprichwort im griechischen Epigramm.
Gießen, 1911.
257. Puelma-Piwonka M. Lucilius und Kallimachos. Frankfurt/M.,
1949.
258. Raffo MagnascoB. R. La filosofia morale en el Cinismo.— Sapientia.
13. Buenos Aires, 1958.
259. R a h η Η. Die Frömmigkeit der Kyniker.— «Paideuma». Bd 7.
Frankfurt/M., 1960.
260. R e i с h H. Der Mimus. В., 1903.
261. R e i t h e г W. H. The Origims of the Cyrenaic and Cynic Movements —
Perspectives in Philosophy. Ohio State University, 1953.
262. Reitzenstein R. Epigramm und Skolion. Gießen, 1893.
263. R e u t e г s F. H. De Anacharsidis epistulis. Bonn, 1957.
264. R i b b e с к O. Kolax. В., 1883.
265. R i с h Α. N. M. The Cynic Conception of autarkeia.— «Mnemosyne». Bd 9.
Leyden, 1956.
266. R о b i η L. La morale antique. P., 1938.
267. RostagniA. Poeti alessandrini. Milano, 1916.
268. Rostovtzeff M. The social and economic History of the Hellenistic
World. Ox., 1941.
269. Rostovtzeff M. The social and economic History of Roman Empire.
Ox. 1957.
270. R us s θ ί В. A. A History of Western Philosophy. N. Y., 1945.
271. R u s s e w P. Zur Widerspiegelung der Sklavenhaltergesellschaft in der
antiken Philosophie.— «Das Altertum». Bd 15, H. 3. В., 1969.
272. S а у г e F. Greek Cynicism — JHI. Vol. 6, № 1, 1945.
273. S а у г e F. Greek Cynicism and Sources of Cynicism. Baltimore, 1948.
274. S а у г e F. The Greek Cynics. Baltimore, 1948.
275. Schilling K. Geschichte der sozialen Ideen. Individuum, Gemeinschaft,
Gesellschaft. Stuttgart, 1957.
276. S с h m i d W. Der Atticismus in seinen Hauptvertretern. Bd 1—4.
Stuttgart, 1887.
277. S с h m i d W. und S t ä h 1 i η О. Geschichte der griechischen Literatur.
Bd 1—5. München, 1929-1948.
278. Schmidt E. G. Diatribe und Satire.— Wissenschaftliche Zeitschrift der
Universität Rostock. Bd 15, 1966.
279. Schneider С Geistesgeschichte des antiken Christentums. München,
1954.
289
280. Scholz H. Der Hund in der griechisch-römischen Magie und Religion. В.,
1937.
281. Schubring K. Epigraphisches aus kampanischen Städten.— «Hermes»,
Bd 90, 1962.
282. Schwartz Ε. Charakterköpfe aus der Antike. Lpz., 1950.
283. Schwartz E. Ethik der Griechen. Stuttgart, 1951.
284. S i η с 1 a i г T. A. A History of greek political Thought. L., 1951.
285. S i η к о Т. О tak zwanei diatribie cyniczno-stoickej.— «Eos». T. 21, Lwow,
1916.
286. S i η к о T. Zarys historii literatury greckiej. T. 1—2. Warszawa, 1959.
287. S t a η к a R. Geschichte der politischen Philosophie. Bd 1. Wien, 1951.
288. Stewart Ζ. Democritus and the Cynics.— «Harvard Studies in Classical
Philology». Vol. 63, 1958.
289. S ü ρ f 1 e G. Zur Geschichte der kynischen Sekte.— AGPh. Bd IV, 1891.
290. S u s e m i h 1 Fr. Geschichte der griechischen Literatur in der
Alexandrinerzeit. Bd 1—2. Lpz., 1891—1892.
291. Tarn W. W. Alexander, Cynics and Stoics.— «American Journal of
Philology». Vol. 60, 1939.
292. Τ а г η W. W. Alexander the Great and the Brotherhood of Man.—
«Proceedings of the British Academy». Vol. 19, 1932.
293. Tarn W. W. Alexander the Great and Unity of Mankind.— «Proceedings
of the British Academy». Vol. 20, 1939.
294. Taylor A. E. Plato, the Man and his Work. N. Y., 1937.
295. Terzaghi N. Per la storia délia satura. Torino, 1944.
296. Τ h i e 1 e G. Phaedrus — Studien — «Hermes». Bd 41, 1906.
297. V о s s В. R. Die Keule der Kyniker— «Hermes». Bd 95, 1967.
298. W a η к e 1 H. Kalos kai agathos. Frankfurt/M., 1961.
299. Wartesleben G. Begriff der griechischen Chreia. Heidelberg, 1901.
300. Wendland P. Die philosophische Propaganda und die Diatribe.— Die
hellenistisch-römische Kultur. Tübingen, 1912.
301. Wendland P. Philo und die kynisch-stoische Diatribe. В., 1895.
302. Wipprecht F. Zur Entwicklung der rationalistischen Mythendeutung
bei den Griechen. Bd 1—2. Tübingen, 1912.
303. Wilamowitz-Möllendorf U. Der kynische Prediger Teles.—
Philologische Untersuchungen. Bd 4. В., 1881.
304. Wilamowitz-Möllendorf U. Euripides Herakles. Bd 1—3. В., 1959.
305. Wilamowitz-Möllendorf U. Hellenistische Dichtung in der Zeit
des Kallimachos. Bd 1—2. В., 1924.
305a. Wilamowitz-Möllendorf U. Phaidon von Elis.— «Hermes». Bd 14,
H. 2, 1879.
306. W г i g h t F. A. A History of a Later Greek Literature. L., 1932.
ОТДЕЛЬНЫЕ КИНИЧЕСКИЕ И КИНИЗИРУЮЩИЕ АВТОРЫ
307. Алфионов Я. Император Юлиан Отступник и его отношение к
христианству. М., 1880.
308. Вальденберг В. Е. Политическая философия Диона Хризостома.—
ИАН АН СССР. 1926, № 10-14.
309. Вальденберг В. Е. Учение Диона Хризостома о рабстве.— Сборник
в честь С. А. Жебелева. Л., 1926.
310. Вишняков А. Император Юлиан Отступник и литературная
полемика с ним св. Кирилла, архиепископа Александрийского. Симбирск,, 1908.
311. Д ил ь Э. В. Мелиамбы Керкида.— «Гермес». Т. 13, № 11—12, СПб., 1913.
312. Диль Э. В. Новые литературные тексты в VIII т. папирусов из Окси-
ринха.— «Гермес». Т. 8, № 20, СПб., 1911.
313. Кац А. Д. Идеологическая борьба в Римской империи в конце
IV в. н. э. Канд. дис. М., 1953.
314. Марта К. Философы и поэты-моралисты во времена Римской
империи. М., 1880.
290
315. Минцлов Р. И. Дион Хризостом в Ольвии.— «Записки Ими.
Археологического общества». Т. 5, СПб., 1853.
316. Попова Т. В. Литературная деятельность Флавия Клавдия Юлиана.
Канд. дис. М., 1969.
317. Розенталь H. Н. Социальные основы языческой реакции
императора Юлиана.— ИАН СССР. Сер. ист. и филос. Т. 2, № 5, 1945.
318. Розенталь H. Н. Социальные основы языческой реакции имп.
Юлиана. Докт. дис. Байрам-Али, 1943.
319. Ростовцев М. Мученики греческой культуры I—II вв.— «Мир
божий». СПб., 1901, № 5.
320. Смирнов И. Правительственная и литературная борьба Юлиана
против христианства. М., 1871.
321'. С о н н и А. К характеристике Диона Хризостома.— «Филологическое
обозрение». Т. XIV, кн. 1. М., 1898.
322. Трофимова М. К. О некоторых источниковедческих проблемах
XXXIV (Борисфепитской) речи Диона Хрисостома.— ВДИ. 1959, № 3.
323. Фурман Д. Е. Внутренняя политика императора Юлиана (361—363).
Канд. дис. М., 1969.
324. Фурман Д. Е. Император Юлиан и его письма.—ВДИ. 1970, № 1.
325. Чистякова Н. А. Ранняя эллинистическая эпиграмма (Поэзия Ани*
ты Тегейской).— ВДИ. 1970, № 3.
Лнтисфен
326. А11 w е g W. Der Aias und Odysseus des Antisthnes,— Juvenes dum sumus.
Basel, 1907.
327. Bachmann A. Ajax et Ulixes declamationes utrum iure tribuuntur An-
tistheni necne. Münster, 1911.
328. В a rien К. Antisthenes und Platon. Neuwied, 1881.
329. В i d e ζ J. Fragments d'un philosophe ou d'un rhéteur grec inconu (le
Cyrus d'Antisthenes).— RPh. T. 1, P., 1906.
330. В i г t Th. Zu Antisthenes und Xenophon — RhM. Vol. 51, 1896.
331. В о г e 11 i P. Contributti alla storia délia filosofia: Antistene. Alessandria,
1937.
332. Gaizzi Decleva F. Antistene.— «Studi Urbinati di Storia, Filosofia
e Letteratura». Vol. 38, 1964.
333. G h a ρ ρ u i s Gh. Antisthene. P., 1854.
334. D a h m e η J. Questiones xenophonteae et antisthenicae. Marburg, 1897.
335. De S try ck er H. Antisthene ou Thémislius? — AGPh. Bd 12, N 3,
Stuttgart, 1936.
336. D ü m m 1 e г F. Akademika. Beiträge zur Literaturgeschichte der
soldatischen Schulen. Gießen, 1889.
337. D ü m m 1 e г F. Antisthenica. Halle, 1882.
338. Dumm 1er F. De Antisthenis logica.—Kleine Schriften. Lpz., 1901.
339. D ü m m 1 e г F. Zum Herakles des Antisthenes.— «Philologus». Bd 50, 1891.
340. D u г i с M. Die politischen Anschauungen des Antisthenes.— «Ziva antica».
Skopje, 1955.
341. Ε г s t e i η G. Studien zur Geschichte und Kritik der Sokratiker. В., 1901.
342. Festugière A. J. Antisthenica.— «Revue des sciences philosophiques et
théologiques». T. 21, P., 1932.
343. F г i t ζ К. Antistene e Diogene.— SIFC. 5, 1927.
344. Fritz K. Antisthenes und Sokrates in Xenophons Symposion.— RhM.
Bd 84, 1935.
345. Fritz K. Zur antisthenischen Erkenntnistheorie und Logik.— «Hermes».
Bd 62, H. 4, 1927.
346. G i g ο η О. Sokrates, sein Bild in Dichtung und Geschichte. Bern, 1947.
347. G i 11 e s ρ i e С. M. The Logik of Antisthenes — AGPh. Bd 26, 1913; Bd 27,
1914.
291
348. GomperzH. Isokrates und die Sokratik.— «Wiener Studien», ßd 17,1905;
Bd 18, 1906.
349. GrubeG. M. Antisthenes was no logician.— Transactions and Proceedings
of the American Philos. Association. Vol. 81, 1950.
350. Guggenheim M. Antisthenes in Platons Politeia.— «Philologus». Bd 60,
1901.
351. HagenP. Zu Antisthenes.— «Philologus». Bd 50, 1891.
352. H ö i s t a d R. Was Antisthenes an Allegorist? — «Eranos». Vol. 49, 1951.
353. Humble J. Antisthenica.—L'antiquité classique. III. 1934.
354. Kafka G. Sokrates, Platon und der sokratische Kreis. München, 1921.
355. Kesters H. Antisthène. De la dialectique.—Recueil des travaux publiés
par les membres des Conférence d'Histoire et de Philologie. Louvain, 1935.
356. Laurenti R. L'iponoia di Antistene.— «Rivista critica di storia délia f i-
losofia». Anno 17. Fase. 2. Firenze, 1962.
357. L e ν i A. Le teorie metafisiche, logiche e gnoseologiche di Antistene,—
«Revue d'histoire de la philosophie». Fasc. 3, P., 1930.
358. M ü 11 e г A. De Antisthenis cynici vita et scriptis. Marburg, 1860.
359. M ü η ζ e 1 R. Antisthenis fragmentum — RhM. Bd 40, 1885.
360. N a t о r ρ P. Aeschines Aspasia.— «Philologus». Bd 51, 1892.
361. N a t о г ρ P. Antisthenes.— PWRE. Bd 1.
362. Norden E. Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie.—
JbKPh. Suppl. Bd 19, 1893.
363. О e 1 e г К Die Lehre vom noetischen und dianoetischen Denken bei
Piaton und Aristoteles. München, 1962.
364. 01 i ν i e г i R. Ricerche letterarie sui Cinici. Bologna, 1899.
365. О r s i η i G. R. I filosofi cinici. Torino, 1920.
366. Ρ о h 1 e η ζ M. Antisthenicum.— «Hermes». Bd 42, 1907.
367. Radermacher L. Der Ajas und Odysseus des Antisthenes.— RhM. Bd47,
1892.
368. R о d i e r G. Note sur la politique d'Antisthène.— «Année philosophique».
1911.
369. Rodier G. Conjecture sur le sens de la morale. Notes sur la politique
d'Antisthène.— Études de la philosophie grecque. P., 1926.
370. Rostagni A. Un nuovo capitolo nella storia délia retorica e délia sofisti-
ca.— Scriti minori. Torino, 1955.
371. R о s t a g η о L. A. Le idee pedagogiche nella filosofia cinica e spezialmen-
te in Antistene. Torino, 1905.
372. S a y r e F. Antisthenes the Socratic— «Classical Journal». Vol. 43, № 4,
1948.
373. S о 1 ο ν i η e M. Les idées philosophiques d'Antisthène le Cynique.— «Revue
des Idées». 1912, avril.
374. S u s e m i h 1 F. Der Idealstaat des Antisthenes und die Dialoge Archelaos,
Kyros und Herakles.— JbKPh. Bd 135, 1887.
375. S u s e m i h 1 F. Die Aspasia des Antisthenes.— «Philologus». Bd 1, 1900.
376. Täte J. Antisthenes was not an Allegorist.— «Eranos». Bd 51, Uppsala, 1953.
377. Teichmüller G. Literarische Fehden in vierten Jarhundert vor Christ
Breslau, 1881—1884.
378. Urban К. Über die Erwähnungen der Philosophie des Antisthenes in den
platonischen Schriften. Königsberg, 1882.
379. Van DaeleA. Piaton, Isocrates, Antisthenes.— Revue belg. philos, et
hist, 1943.
380. Zuccante G. Antistene.— Rendiconti Istituto Lombardo. Scienze e
Lottere. 1916.
381. Zuccante G. Antistene nei dialoghi di Piatone.— Rendiconti Istituto
Lombardo. Scienze e Lettere. 1916.
Диоген Синопский
382. Amelung W. Notes on representations of Socrates and of Diogenes and
other Cynics.— AJA. Ser. 2, vol. 31, № 3, 1937.
292
383. В a b e 1 ο η J. Diogène le Cynique.— «Revue numismatique». T. 18, P., 1956.
384. Basta DonzelliG. Del «Tieste» di Diogene di Sinope, in Diog. Laert.
VI, 73.— SIFC. Vol. 37, 1965.
385. В ö g e η h о 1 d A. L. An Apophtegm of Diogenes the Cynic— «Roman and
Byzantine Studies». Vol. 9, 1968.
386. CasteraC. Le livre de Diogène le Cynique. P., 1950.
387. Diels H. Aus dem Leben des Kynikers Diogenes.— AGPh. Bd 7, H. 3,
1894.
388. Fritz К. Quellenuntersuchungen zum Leben und Philosophie des Diogenes
von Sinope.— «Philologus». Suppl. Bd 18, H. 2, Lpz., 1926.
389. Gerhard G. A. Zur Legende vom Kyniker Diogenes.— «Archiv für
Religionswissenschaft». Bd 15, H. 4, Lpz.— В., 1912.
390. G i g a η t e M. Su un insegnamento di Diogene di Sinope.— SIFC. Vol. 34,
Firenze, 1962.
391. Gig an te M. Sul pensiero politico di Diogene.— «Parola del passato».
Vol. 16, Napoli, 1961.
392. Gomperz Th. Eine verschollene Schrift des Stoikers Kleanthes, der Staat
und die sieben Tragödien des Cynikers Diogenes.— Zeitschrift für
österreichischen Gymnasien. Bd 29. Wien, 1878.
393. G ö г 1 e г W. Knemon.— «Hermes». Bd 91, H. 3, 1963.
394. Göttling K. W. Diogenes der Kyniker oder die Philosophie des
griechischen Proletariats.— Gesammelten Abhandlungen aus dem klassischen
Altertum. Bd 1. Halle, 1851.
395. L e о F. Diogenes bei Plautus.— «Hermes». Bd 41, 1906.
396. Packmohr A. De Diogenis Sinopensis apophtegmatibus quaestiones se-
lectae.— Commentatio philologica. Münster, 1913.
397. Rudberg G. Diogenes the Cynic and Marcus Aurelius.— «Eranos». Bd 47.
1949.
398. Rudberg G. Zur Diogenes-Tradition.— «Symbolae Osloenses». № 14, 1935.
399. Rudberg G. Zum Diogenes — Typus,— «Symbolae Osloenses». № 15—16,
1936.
400. S а у г е F. Diogenes of Sinope. A Study of Greek Cynicism. Baltimore, 1938.
401. S с h a f s t ä d t H. De Diogenis epistulis. Göttingen, 1892.
402. Seltman С T. Diogenes of Sinope, Son of the Banker Hikesias.—
Transactions of the International Numismatic Congress. 1936. Ed. by J. A. H. Mat-
tingly and E. S. G. Robinson. L., 1936.
403. S i η к о T. De perenni memoria Diogenis cognomine canis.— «Meander».
T. 15, 1960.
404. Strohmaier G. To kakon hypo какой: zu einem weiberfeindlichen
Diogenes-Spruch aus Herculaneum.— «Hermes». Bd 95, 1967.
405. Vexliard A. Diogène «le Chien»: socio-psychologie d'une philosophique
naissante.— «Arasürma». Ankara, 1964, № 2.
406. W e s s e 1 y С Neues über Diogenes den Kyniker.— Festschrift Theodor
Gomperz. Wien, 1902.
407. Zuccante G. Diogene.— «Cultura filosofica». № 8, 1914—1915.
Кратет Фиванский
408. G r i 11 i A. Note critiche a Cratete cinico.— Rivista di storia délia filoso-
fia. Vol. 15, 1960.
409. H i 11 e r A. Zu den Fragmente des Kynikers Krates.— JbKPh. 1886.
410. Posthumus N. De Cratete cynico. Gronningen, 1823.
411. Zetowsky St. Demonax — Krates.—«Minerva». Vol. 1, Budapest, 1922.
Менипп Гадарский
412. D ο η ζ e 11 i G. Una versione Menippea della «Aisopou prasis» (e la Dioge-
nous prasis).—RFC. T. 38. Torino, 1960.
293
413. F г i t ζ s с h e F. V. De scriptoribus satiricis specimen. P. 3—5. Rostock,
1885-1866.
414. Fritzsche Th. Menipp und Horaz. Güstrow, 1871.
415. Helm R. Lucian und Menipp. Hildesheim, 1967.
416. Ley F. De vita scriptisque Menippi Cynici et de saturis M. Terenti Varro-
nis. Coloniae, 1843.
417. Norden E. In Varronis saturas Menippeas observationes selectae.—
JbCPh. Suppl. Bd 18, H. 1, 1891—1892.
418. Ρ i о t H. Ménippe. Rennes, 1914.
419. R i e s e A. M. Terenti Varronis saturae Menippeae. Lipsiae, 1865.
420. WildenowE.De Menippo cynico. Halle, 1881.
Керкид из Мегалополя
421. Arnim H. Zu den Gedichten des Kerkidas.— «Wiener Studien». Bd 34r
1912.
422. С г ö η e г t W. Cercidae fragmentum — RhM. Bd 62, 1907.
423. GrönertW. Die Sprüche des Epicharm.— «Hermes». Bd 47, 1912.
424. С г о i s e t M. Kerkidas de Megalopolis.— «Journal des savants». Vol. 9, P.,
1911.
425. DeubnerL. Kerkidas und Epicharm.— «Hermes». Bd 47, 1912.
426. G e г h a г d G. A. Kerkidas.- PWRE. HBd 21. 1921.
427. Gerhard G. A. Cercidea.— «Wiener Studien». Bd 37, H. 1, 1915.
428. Κ η ο χ A. D. The first Greek Anthologist, with Note on some Choliambic
Fragments (and the Text of a Fragment by Cercidas). Cambridge
University Press, 1923.
429. Maas P. Cercidae cynici meliambi nuper inventi kolometria instructi.—
«Berliner Philologische Wochenscrift». № 32, 1911.
430. M e i η e к e A. Kerkidas, der Dichter und Gesetzgeber von Megalopolis.—
Abhandl. Berl. Akademie. Hist.-philolog. Klasse В., 1834.
431. Pennacini A. Cercida e il secondo cinismo.— «Atti délia Academia
délie scienze morale, storiche e filolog. di Torino». T. 90, 1955—1956.
432. Platt Α. Cercidas, frag. 2, 11, 12 — «The Classical Quarterly». Vol. VI,
№ 1, Ox., 1912.
433. Sitz 1er J. «Kerkidas 7». Zu den griechischen Iambographon.— JKPh.
Bd 125, 1882.
434. S ü ρ f 1 e G. Ist Kerkidas aus Megalopolis ein Kyniker? — AGPh. Bd 4, 1891.
435. Wilamowitz-Möllendorf U. Kerkidas.— «Sitzungberichte der
preussischen Akademie der Wissenschaften. Kl. phil.-hist». Bd. 41, В., 1918.
ОСТАЛЬНЫЕ КИНИЧЕСКИЕ И КИНИЗИРУЮЩИЕ АВТОРЫ
436. А г η i m H. F. A. Leben und Werke des Dio von Prusa. В., 1898.
437. A s m u s R. Der Kyniker Sallustios bei Damascios.— NjbKPh. Bd 25, 1910.
438. A s m u s R. Gregor von Nazianz und sein Verhältnis zum Kynismus.—
«Theologische Studien». Bd 67, Hamburg, 1894.
439. Asmus R. Julian und Dion Chrysostomos. Tauberbischofsheim, 1895.
440. Asmus R. Quaestiones epicteteae. Friburgi Brisigavorum, 1888.
441. A s m u s R. Synesius und Dion Chrysostomos.— «Byzantinische Zeitschrift».
Bd 9, Lpz.— В., 1900.
442. BarigazziA. Favorino, Opère. 1966.
443. BarigazziA. Note al «De exilio» di Telete e di Musonio.— SIFC. Vol. 34,
1962.
444. Bauer A. Heidnische Märtyrerakten.— «Archiv für Papyrusforschung».
Bd 1, В., 1901.
445. BernaysJ. Lucian und die Kyniker. В., 1879.
446. В e ν an Ε. The poems of Leonidas of Tarent. Ox., 1931.
447. В i с k e 1 E. Diatriba in Senecae philosophicis fragmentis. Lpz., 1915.
448. В i d e ζ J. La vie de l'empereur Julien. P., 1930.
294
449. В о d s ο η A. La morale sociale des derniers stoïciens. Senèque, Ëpictète et
Marc Aurel. P., 1967.
450. BonhöfferA. Epiktet und die Stoa. Stuttgart, 1890.
451. Β ο η h ö f f e г A. Die Ethik des Stoikers Epiktet. Stuttgart, 1894.
452. В г u η s I. Lucian und Oenomaus.— RhM. Bd 44, H. 3, 1889.
453. В г u η s I. De schola Epicteti. Kiel, 1897.
454. BultmannR. Der Stil der paulinischen Predigt und die kynisch-stoische
Diatribe. Göttingen, 1911.
455. С a ρ e 11 e G. Epiktet, Teles und Musonios. Zürich, 1948.
456. С a ρ e 11 e W. De cynicorum epistulis. Göttingen, 1896.
457. Colardeau Th. Étude sur Ëpictète. P., 1903.
458. G г e t i a P. Dion de Pruse et l'esclavage.— Studii Glassice. Bucureçti, 1961.
459. CrönertW. Kolotes und Menedemos.— Studien zur Paläographie und
Papyruskunde. Hrsg. von Wessely. H. 6. Lpz., 1906.
460. С г о i s e t M. Un ascète païen au siècle des Antonines. Perigrinus Proteus.—
Acad. des se. et Lettres. T. 6. Montpellier, 1880.
461. G г u s i u s O. Die kynos autophonia des Oinomaos.— RhM. Bd 44, H. 2, 1889.
462. Cytowska M. De Dionis Chrysostomi rhytmo oratorio. Varsaviae, 1952.
463. D'Ambrosio F. Epitteto e la morale del suo tempo. Roma, 1940.
464. D i 11 S. Roman Society from Nero to Marcus Aurelius. Ν. Y., 1956.
465. Duncan J., Darret M. The History of Palladius on the Races of
India and the Brahmans.— «Classica et Mediaevalia». Vol. 21, Copenhague,
1960.
466. D ζ i e с h I. De Gregorii Nazianzei diatriba quae dicitur alumno Lucubra-
tio I. De locis a diatribis oriundis. Posen, 1925.
467. E s с h е г L. De Sotadis Maronitae reliquiis. Gießen, 1913.
468. François L. Essai sur Dion Chrysostome. P., 1922.
469. François L. Julien et Dion Chrysostome.— REG. T. 27, 1915.
470. Gardner A. Julian, philosopher and emperor and the last Struggle of
Paganism against Christianity. N. Y.— L., 1895.
471. GeffckenJ. Kaiser Julianus. Lpz., 1914.
472. G e f f с к e η J. Leonidas von Tarent— JbKPh. Suppl. Bd 23. Hrsg. von
A. Fleckeisen. Lpz., 1897.
473. Geigenmüller P. Harmonien und Dissonanzen bei Dio, Plutarch, Favo-
rin.— NJb. Bd 47, 1921.
474. Gerhard G. A. Ein hellenistischer Jambos.—«Wiener Studien». Bd 38,
H. 1, 1916.
475. Gerchard G. A. Phoinix von Kolophon. Texte und Untersuchungen.
Lpz.— В., 1909.
476. G i e s e к e A. De philosophorum veterum quae ad exilium spestant senten-
tiis. Lipsiae, 1891.
477. Go w A. S. F. Leonidas of Tarent— «The Classical Quarterly». Vol. 8, № 3—
4. Ox., 1958.
478. Hahn С. De Dionis orationibus (VI, VIII, IX, X), quae Diogenei inscri-
buntur. Hamburg, 1896.
479. Haibauer O. De diatribis Epicteti. Lipsiae, 1911.
480. Hansen G. Alexander und die Brahmanen.— «Klio». Bd 43—45,
Wiesbaden, 1965.
481. H a η s e η В. Die Leonida Tarentino. Gießen, 1914.
482. Harberton V. Meleager and the other Poets of Anthology from Plato to
Leonidas Alexandr. L., 1895.
483. Hartmann К. Arrian und Epiktet.— NJb. Bd 15, 1905.
484. H e i η ζ e R. De Horatio Bionis imitatore. Bonn, 1889.
485. H e η s e О. Bion bei Philo.— RhM. Bd 47, H. 1—4, 1892.
486. Hermann L. Recherches sur Dion de Pruse.— «L'Antiquité classique».
T. 33, Bruxelles, 1964.
487. H i j m a η s В. L. Askesis. Notes on Epictetus' educational System.— Wijge-
rige Teksten en studies IL Assen van Gorcum, 1959.
488. HoogvlietA. De Bione Borysthenita. Leiden, 1821.
489. Hornsby H. M. The cynicism of Peregrinus Proteus. Hermathena, 19Ь4.
295
490. JaguA. Épictète et Platon. P., 1946.
491. J olivet R. Essai sur les rapports entre la pensée grecque et la pensée
chrétienne. P., 1955.
492. К a с h 1 a к T. Leonidas ζ Tarentu — «Meander», 1962, № 10.
493. К a кг i dis J. Th. Zum Kynikerpapyrus (Pap. Genev. inv. 271).—MH.
Vol. 17, Fasc. 1, 1960.
494. Kroll W., Ho be in H. Maximos von Tyros.— PWRE, HBd 28, 1930.
495. L e i ρ о 1 d t J. Der römische Kaiser Julian in der Religionsgeschichte. B.t
1964.
496. Lemarchand L. Dion de Pruse. Les oeuvres d'avant l'exil. P., 1926.
497. Makowsky J. De collatione Alexandri Magni et Dindimi. Breslau, 1919;
498. Ma г с к s J. Fr. Symbola critica ad epistolographos Graecos. Bonn, 1883.
499. M a г t i η V. Un recueil de diatribes cyniques. Pap. Genev. inv. 271.— MEL
Vol. 16, fasc. 2. 1959.
500. M e i s e г К. Studien zu Maximos Tyrios. München, 1909.
501. M e 1 с h e г P. De sermone Epicteteo quibus rebus ab attica régula discedat.
Hallis, 1906.
502. Mensching E. Favorin von Arelate. Texte und Kommentare. В., 1963.
503. Moling J. Dio von Prusa und die klassische Dichter. Innsbruck, 1959.
504. Montgomery W. A. Dion Chrysostomos as a Homeric Critic. Baltimore,
1901.
505. M u s u г i 11 о H. The Acts of the Pagan Martyrs: Acta Alexandrinorum. Ox.t
1954.
506. M ü с к e J. F. A. Flavius Claudius Julianus. Gotha, 1869.
507. N a ν i 11 e H. A. Julian l'Apostat et la philosophie du polythéisme. P., 1887.
508. Niedermeyer H. Über antike Protokolliteratur. Göttingen, 1918.
509. Norden Ed. Zu den Briefen des Heraklit und der Kyniker.— JbKPh.
Suppl. Bd 19, 1893.
510. Ob en s G. Qua aetate Socratis et Socraticorum quae dicuntur epistulae
scriptae sint. Monasterii, 1912.
511. Oldfather W. A. Contributions towards a bibliography of Epictetus.
Urbana, 1952.
512. О u ν г é H. Méléagre de Gadare. Thèse. P., 1894.
513. Photiadés P. Les diatribes cyniques du papyrus de Genève 271.— MH.
Vol. 16, fasc. 2, 1959.
514. Pica vet F. Nos vieux maîtres: Phavorine d'Arles, prédécesseur de
J. J. Rousseau.— «Revue Internationale de l'Enseignement». 15 mars 1901.
515. PrächterK. Dion Chrysostomos als Quelle Julians.— AGPh. Bd 5, 1892.
516. PremersteinA. Alexandrinische und judische Gesandte vor Kaiser
Hadrian.— «Hermes». Bd 57, H. 2, 1922.
517. PremersteinA. Zu den sogenannten alexandrinischen Märtyrerakten.—
«Philologus». Suppl. Bd 16, H. 2, 1923.
518. Radinger K. Meleagros von Gadara. Innsbruck, 1895.
519. Radinger K. Der Stephanos des Meleagros von Gadara,— «Philologus».
Bd 54, 1895.
520. R e η d a 11 G. H. The Emperor Julian. Paganism and Christianity. L., 1879.
521. R e η η e r R. Zu Epiktets Diatriben. Amberg, 1904.
522. R e u t e r D. Untersuchungen zum Euboikos des Dion von Prusa. Lpz., 1932.
523. Rogers R. S. Isidorus the Cynic and Nero.— «The Classical Weekly».
Pittsburgh, 1946, vol. 39, № 7.
524. Rühl Fr. Varia.—RhM. Bd 67, H. 2, 1912.
525. Saarmann T. De Oenomao Gadareno. Bonn, 1887.
526. S a j d a к J. Quae ratio inter Gregorium Nazianzeum et Maximum Cynicum
intercédât.— «Eos». T. 15, 1909.
527. SchafstädtH. De Diogenis epistolis. Göttingen, 1892.
528. Schering О. Symbola ad Socratis et Socraticorum epistulas explicandas.
Gryphiae, 1917.
529. Schmidt K. F. W. A. S. Hunt. The Oxyrhynchus papyri. Part VIII —
Göttingische gelehrte Anzeigen. 174. Jahrg. № И, 1912.
296
530. Schranka Ε. M. Der Stoiker Epictetus und seine Philosophie.
Frankfurt/M., 1885.
531. Schwarz W. De vita et scriptis Juliani imperatoris. Bonnae, 1888.
532. Schneider J. Zwei Wege der Lebensführung. Epiktet und Thomas von
Kempen. Würzburg, 1952.
533. S e e к 0. Eine verlorene Rede des Themistius.— RhM. Bd 61, H. 3, 1906.
534. SerriusD. A propos de Phénix de Colophon.— RPh. T. 37. 1913.
535. S ο η η y A. Ad Dionem Chrysostomum analecta. Kioviae, 1896.
536. S о u i 1 h é J. Sur un passage d'Épictète (Entretiens II, 16, 44).— REG. T. 52,
1939.
537. S u s e m i h 1 Fr. Zu den Biographien des Bion und des Pittakos bei
Diogenes Laertios — JbPh. Bd 141, 1890.
538. Sykutris J. Die Briefe des Sokrates und der Sokratiker. Padeborn, 1933.
539. Τ h о m a s E. Quaestiones Dioneae. Lpz., 1909.
540. То г г a с a L. La visione filosofica délia vita in due epigrammi di Leonida
Tarentino. Sophia, 1960.
541. Τ г a u b e L. Demetrios der Kyniker.— RhM. Bd 40, 1885.
542. Vaglimiglio M. La critica letteraria di Dione Crisostomo. (Contributi
alla storia délia critica letteraria in Grecia, 1). Bologna, 1913.
543. Valdenberg V. La théorie monarchique de Dion Chrysostome.— REG.
T. 40, 1927.
544. V a 1 e 11 e P. De Oenomao Cynico. P., 1908.
545. V a 1 θ 11 e P. Phénix et la poésie cynique.— RPh. T. 37. 1913.
546. V i s s e г A. J. Cynische filosofie en Christendom. Groningen-DJakarta, 1956.
547. Weber E. De Dione Chrysostomo cynicorum sectatore.— «Leipziger
Studien zur class. Philologie». Bd 10, H. 1—2, 1887.
548. Weber H. De Senecae philosophi dicendi genere Bioneo. Marburg, 1895.
549. Weil H. Rhétorique et philosophie: Dion Chrysostome.— «Journal des
savants». P., 1898.
550. Wendland P. Christentum und Hellenismus in ihren litterarischen
Beziehungen. Lpz., 1902.
551. Wendland P. Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu
Judentum und Christentum. Tübingen, 1907.
552. Wendland P. Die urchristlichen Literaturformen. Tübingen, 1912.
553. Wilamowitz-MöllendorfU. Der kynische Prediger Teles. В., 1881.
554. W i 1 с к e η U. Alexander der Große und die indische Gymnosophisten.—
«Sitzungsberichte der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften»,—
Phil.-hist. Klasse. Bd 21—24, В., 1923.
555. W i 1 с к e η U. Alexandrinische Gesandtschaften vor Kaiser Claudius.—
«Hermes». Bd 30, 1895.
556. WildschutJ. P. Une philosophie pour dépaysés au temps d'Hadrien:
reflexion sur Favorin d'Arles et sa diatribe.—Atti XII Congr. intern, di filo-
sofia. Firenze, 1960.
557. W y s s B. Gregorius von Nazianz, ein griechisch-christlicher Dichter des 4.
Jahrhunderts.— ΜΗ. T. 6, fasc. 4, 1949.
558. Zahn Th. Der Stoiker Epiktet und sein Verhältnis zum Christentum.
Erlangen, 1894.
559. Ζ eil er Ed. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen.
Entwicklung. Bd 3. Lpz., 1898.
560. Ζ e 11 e r Ed. Über eine Berührung des jüngeren Cynismus mit dem
Christentums.— «Sitzungsberichte der Königl. Preuss. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin». Bd 9, 1893.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВДИ — «Вестник древней истории». М.
ВКФ — «Вопросы классической филологии». М.
ИАН — «Известия Академии наук СССР». М.
ОИФ — Отделение истории и философии.
AGPh — «Archiv für Geschichte der Philosophie». Stuttgart.
AJA — «American Journal of Archaeology». Boston.
AJPh — «American Journal of Philology». Baltimore.
AP — Anthologia Palatina.
JbKPh — «Jahrbücher für klassische Philologie». B.
JHI — «The Journal of History of Ideas». Philadelphia.
ΜΗ — «Museum Helveticum». Basel.
NJbKPh — «Neue Jahrbücher für Klassische Philologie». В.
PWRE — Pauly — Wissowa Realenzyklopädie der klassischen
Altertumswissenschaft. Stuttgart. stf
REG — «Revue des études grecques». P.
RFC — «Rivista di filologia e d'istruzione classica». Torino.
RHPh — «Revue d'histoire de philosophie». P.
RhM —«Rheinisches Museum». Frankfurt/M.
RPh — «Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes». P.
SIFC — «Studi Italiani di tilologia classica». Firenze.
КРАТКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Авл Геллий 148, 233
автаркия 32, 33, 45, 85
Агамемнон 51
«Акты языческих мучеников
Александрии» 150—153, 178
Александр Македонский 8, 9, 31, 40,
42, 139, 168, 201
Александр и гимнософисты 138—144
Александр и Диоген 138, 201
Александрия 41, 70, 71, 146, 149, 150,
151
аллегоризм, аллегория 64, 176, 179,
193, 194, 196, 197, 215, 235, 237,
252, 257, 259
Алексеев В. 235
анаграмма 61
Анахарсис 35, 128, 131
Анита из Тегеи 110
Антисфен 27, 29, 33, 53, 82, 125, 162,
163, 165, 173, 175, 187, 202, 215,
245, 247, 257
Антипатр Сидонский 135
антипрометеизм 35
антитезы 100, 109
апофтегмы 177, 224
Апулей 7, 58, 59, 178
Аристарх 41
Арат 88, 89
Арним Г. 231
Арриан 223, 231
Аристипп 163, 164
Аристотель 33, 35, 63, 246, 248
Арсиноя 70, 71
Артемидор 27
Архилох 115, 256
Архит из Тарента 67
аскеза 18, 19, 237, 249
аскетизм 18, 19, 23, 229
Асклепиад 61, 66
атеизм 22, 24, 25
атлетизм 22, 86, 203
аттикизм 231
Афиней из Навкратиса 71, 76, 81; 90,
92, 127
Афродита Каллшгига 92, 93
басня 47, 256
бедность 15, 23, 39, 57, 62, 65, 66, 117,
118, 130, 205
Берлинский папирус 13044 138—140
Бернайс Я. 168
бесстыдство (анайдейа) 23, 24, 71, 72,
75
«Библиотека» Фотия 89
Биоп Борисфенский 27, 46, 47, 55,
66-68, 109, 116, 169
богатство 23, 29, 44, 45, 57, 62, 75,
77, 78, 85, 94 207
«Борисфенитская речь» Диона Хри-
состома 208, 209, 221
брахманизм 7
варвары 31, 35, 38
Варрон Реатинский 54, 74, 144
Вебер Э. 188
Венский папирус 136—140
внешний облик киника 23, 171, 172,
224, 250
внутренняя свобода 25—27, 189
военные сравнения 184
«Всеобщая история» Полибия 88
«Вторая софистика» 185, 214, 233
гедонизм 43, 76, 179
Гейдельбергский папирус 310 75, 77,
83
Гензе О. 129
Геракл 29, 37, 64, 157, 172, 193, 195—
197, 211, 230
Гераклит 51, 171
герои и антигерои киников 21, 49,
53, 134, 138, 167, 229, 231, 267
Герод Аттик 233
Гесиод 207
Геффкен И. 119, 126
«Гимн простоте» Кратета 57
Гиппархия 18, 68, 93, 227
гипербола 85
Гиппонакт 76, 81, 82, 115
Гёттлинг К. 12
299
гномология 74
Гомер 49—51, 59, 68, 89, 104, 127, 171,
178, 214, 215, 259
Гораций 54, 67, 103, 144, 205
государство 30, 32, 36, 37, 39
Григорий Назианзин 47, 91, 92, 104,
241, 243
грубость киническая 27
Дандамис 52, 140, 141
даосы, даосизм 6—9
Дедал 179
Деметрий (киник) 153, 154, 162, 168,
221
Деметрий Фалерский 175
Демонакт 27, 147, 154, 155
Демокрит 15, 158, 247
Демосфен 238
деньги 37, 45
«деяния» 248, 252
диатриба 46—52, 125, 129, 212, 223,
230, 231, 234, 237
диатрибы Телета 44, 128—131
Диоген Лаэртский 29, 67, 69, 135, 164,
175, 243
«диогеновские речи» Диона Хрисо-
стома 191, 198—204
Диоген Синопский 5, 6, 9, 15, 31, 42,
90, 91, 126, 135, 136, 138, 165, 180,
183, 198-203, 205, 211, 226, 229, 251
Дион из Прусы (Хрисостом) 185—
221
«доспехи» киника 23, 135
Дройзен И. Г. 10
дружба 16, 17, 38, 102
Дюммлер Ф. 187
Еврипид 64, 68, 78, 93, 212
Евсевий из Кесарии 18, 157
Женевский папирус 271 50, 51, 139,
140, 142—144
«животные» сравнения 184, 234
Жагю А. 223
жизнь и смерть 26, 27, 116, 174
Зеленогорский Ф. 7
Зенон Китийский 36, 221
«золотой век» 182—185
игра слов (парономасия) 61, 64, 91,
194, 213
изгнание 64, 186, 187, 233
«Изобличение обманщиков» (Против
оракулов) Эномая Гадарского
157-160, 243
идеалы 34, 43, 133, 206, 228—230
«Илиада» Сотада 72
индивидуализм 16, 17, 19, 39
ионикология 70, 73
Иосиф Флавий 210
Иоэль К. 6, 7
Каллимах 82, ИЗ
калокагатия 8, 21, 22, 28, 187
Капелла В. 162
«Картина» Кебета Фиванского 235—
237
Квинтилиан 71
Керкид из Мегалополя 25, 86—109,
115
кинедология 70
кинизм И, 12, 27, 43, 44, 124, 148,.
157, 178, 181, 246—248
киник — «собака» 24, 44, 137, 202,
224
«К кинику Гераклию» Юлиана 244,
252—258
кинический мудрец (софос) 15, 20,
235, 224—228
кинические жанры 46
кинический стиль 55, 213, 260, 261
Кир 29, 37
Клеомен 88, 95
«Клитофон» 187
космополитизм 9, 17, 30—32, 114
красота 23, 194, 204, 208, 218, 219
Кратет Фиванский 8, 31, 42, 43, 55—
66, 86, 93, 165
культура 14, 35, 38, 186, 199
Лаоцзы 7
Леонид Тарентский 110—126
Лецзы 7
лже-киники 12, 136, 147, 148, 224,
226
Лондонский папирус 155 V 83—86
Лукиан из Самосаты 5, 53—55, 115,
147, 155, 156, 160, 171, 178, 184, 233
Лукилий 136, 144
любовь 37, 102, 103, 171, 206
Маас П. 104, 106
Максим Александрийский 243
Максим Тирский 178—185
Максим Эфесский 241, 259
Манес И
Марк Аврелий 222
Марциал 74, 136, 148, 171
Мелеагр Гадарский 54, 69, 126—128,
135
«Мелиямбы» Керкида 87, 89, 90—94,
102, 104—108, 136
Мельхер П. 231
Менандр 137
Менипп Гадарский 54, 55, 69
«мениппова сатира» 46, 52—55, 69,
260
Менедем 61
зсо
мессианизм 37, 193
Метрокл из Маронеи 68
Микилл 21, 44, 58, 161
миф, мифология 64, 86, 196, 216, 217,
237, 252, 255, 256, 258
мудрые скифы 35
мудрец (софос) 20, 21, 36, 224
Музурилло Г. 151, 152
Мусоний Руф 47, 205, 221, 223, 233
наслаждение 18, 43, 131
неологизмы 68, 71, 91, 94, 97, 98,
120сл, 123, 127
нисхождение в Аид (некюйа) 53, 60,
69, 71, 80, 115
низовые жанры 46, 70
Нин 79
неоплатонизм 239, 241, 245, 248, 259
образ жизни 6, 23, 246
«Об изгнании» Диона Хрисостома
187
«Об упражнении» Псевдо-Плутарха
237, 238
общность жен и детей 37, 38
Одиссей 5, 49, 67, 165, 171, 215, 230
«О кинизме» Эпиктета 223—230
«О кончине Перегрина» Лукиана 155
Оксиринхский папирус 1082 75, 87,
90, 91
«Онейрокритика» Артемидора 27
Онесикрит 7, 138
оракулы 157, 203, 204
пайдейа 30
Палатинская антология 115, 123, 124,
126
Палладий 135, 138, 139
пародия 57—63, 67, 68 127
парадокс 48, 189, 217
«Пегния» (Шутки) Кратета 58
«Пера» Кратета 36, 55, 58
Перегрин-Протей 5, 155, 156
«перечеканка ценностей» 12, 13, 19,
205, 247
персонификация 48, 130, 195, 235
«Песня вороны» (коронисма)
Феникса 80
Петроний 54, 74, 148
пир (симпосий) 69
«Пир, или Кронии» Юлиана 259, 260
Письма «Диогена» 165, 171—175
«Письма киников» 160—177
Письма «Кратета» 165, 171—175
«Письма Анахарсиса» 128, 131—134
письмо 129, 161, 166, 167, 175
Письмо «Гераклита» 170, 171
Пифагор 89
Плавт 145
Платон 35, 44, 46, 48, 54, 178, 248, 257
платонизм 145
Плутарх 64, 233, 237, 243
подтекст (скрытый смысл) 179, 257
политеизм 240
природа — закон (антитеза) 13, 33,
205, 206
прогресс 34, 35
«Продажа Диогена в рабство» 33, 69,
173
Прометей 29, 35, 197—199
прозиметр 54
«Против невежественных киников»
Юлиана 244—252
«Против стяжательства» Феникса
83—85
Псевдо-Каллисфен 138
Птолемей 70, 71
ΡЯПТТР ι j
рабство 33, 34, 189—193
Рассел Б. 7
рационализм 15, 145, 204
религия 24, 25, 145, 159, 160, 240
Ринтон из Тарента 64
Ростовцев М. И. 148, 149, 151
сакрализация орудий труда 122
Саллюстий (киник) 262
Сарданапал 63, 79, 200
сатира 31, 47, 52, 54, 55, 97, 213, 256
Светоний 167
свобода 24—27, 33, 62, 158, 184, 189—
190, 249
свобода слова (парресия) 27, 28, 137,
229
Сейер Ф. 6—8
Сенека 54, 153, 221
серьезно-смешное (спудогелойон) 59,
69, 103, 108, 109, 144, 159, 198
Силен 260
силлография (силлы) 57, 62
Симон 44, 162-164
Симпликий 221
Синезий 185, 210
скифы 31, 35, 132
слово 165, 175, 257
собственность 37, 38, 192
Сократ 8, 44-47, 162—165, 211
Сонни А. 188
Сотад из Маронеи 69—75
«Сотадея» 71, 74
сотадеев стих 72—75
сравнения 49
Стильпон из Мегар 60, 61
Стобей Иоанн 90, 91
стоики, стоицизм 101, 131, 144, 146,
148, 153, 158, 174, 178, 184, 185, 193,
211, 219—223, 232, 233, 246
Суда (Свида) 70, 157, 180, 188
Тантал 60, 179
«театральные» сравнения 184, 234
301
Толст 47, 67, 119, 128—131
тирания 31, 138, 139, 195-201
Тертуллиан 144
Токсарид 35
трагедия 63—65, 157, 219, 243, 247,
253—255
Трофимова М. К. 209
труд 24, 28, 29, 120, 122, 197, 207, 237
утопия 34, 36—38, 58, 205
Фаворин из Арелаты 233, 234
Фалес Милетский 81
фантазия 53
Фемистий 244, 280
Федон из Элиды 61
Феникс из Колофона 75—86
Феодор Атеист 67
Феофраст 28
Ферсит 27
физиогпомиак 125
фиктивный оппонент 44, 48, 129
филантропия 21, 44, 201, 229
Филиск с Эгины 247, 254, 255
Филон из Александрии 47, 54, 169,
189, 210
филопония (любовь к труду) 29, 192,
251
флиаки 69
ольклор 36, 49, 54—56, 69, 80
орма и содержание 134
Фритц К. 137, 168, 177
Фронтон 233
христиапство, Христос 145, 147, 155,
157, 180, 193, 209, 228, 239, 243,
251, 254, 265
холиямбы (хромые ямбы, скадзон)
75, 76, 82, 92, 107, 188
центон 63
цивилизация 35, 182, 199, 205
цитата 49, 54, 234
Цицерон 136, 144, 221
цинизм 265
Чжуанцзы 7, 8
«Эвбейская речь» Диона 193, 205—
208, 210
Эвмей 215
Эзоп 132, 217, 218
Элиан Клавдий 89
эллинизм 10, 40—43, 146, 239
эллинство 183, 193
элины — варвары 31, 35, 133, 187
Энний 74
Эномай Гадарский 25, 157—160, 253
Эпиктет 30, 47, 221—223
Эпикур 18, 178
Эратосфен 31, 47, 52, 67
Эпихарм 91, 272, 273
«Эриксий (или О богатстве)» 44—46
Эфор 35
эссены 209, 210
эстетика 214—216, 218
Юлиан, имп. 54, 211, 239—261
Хант А. 87
Херил 63, 79
Ямвлих 259
Янчжу 7
СОДЕРЖАНИЕ
От редактора. Проф. А, Ф. Лосев 'λ
Предисловие 5
Глава I. Человек в философии киников 11
Киники в социокультурном контексте эпохи. Критика общества
на всех уровнях. Главное — добродетель. Вынужденный
аскетизм. Герои и антигерои. «Свобода от...». Труд—благо. Киниче-
ский космополитизм, учение о государстве. Автаркия. Господа и
рабы. Киническая утопия. «Назад к природе!»
Глава II. «Золотой век» кинической литературы 40
«Эриксий». Кратет. Бион. Менипп. Сотад. Феникс. Кинические
холиямбисты. Керкид из Мегалополя. Леонид из Тарента.
Мелеагр из Гадар. Телет. «Письма Анахарсиса»
Глава III. Киническая и кинизирующая литература на закате
античности 135
1. «Темные века» кинизма 135
Эпиграммы Палатинской антологии. Берлинский папирус.
Женевский папирус. Киники в Риме
2. «Киническое возрождение» 146
«Акты мучеников Александрии». Деметрий. Демонакт.
Перегрин. Эномай из Гадар. «Письма киников». Максим Тирский. Дион
Хрисостом. Эпиктет. Фаворин. Кебет. Псевдо-Плутарх. Юлиан.
Псевдо-Лукиан. Саллюстий
Заключение 263
Примечания 268
Библиография 282
Список сокращений , 298
Краткий указатель 299
Исай Михайлович Нахов
КИНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА